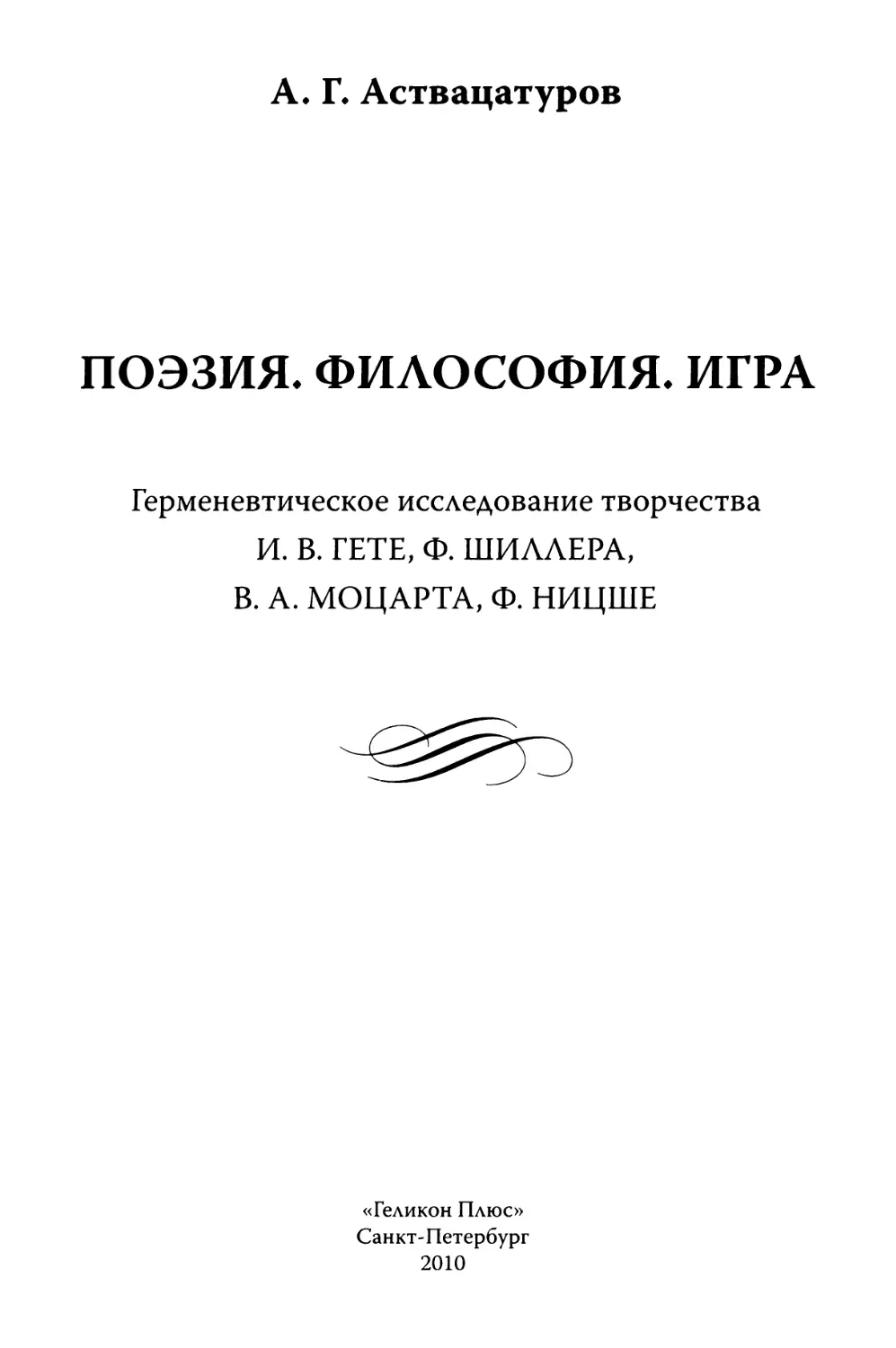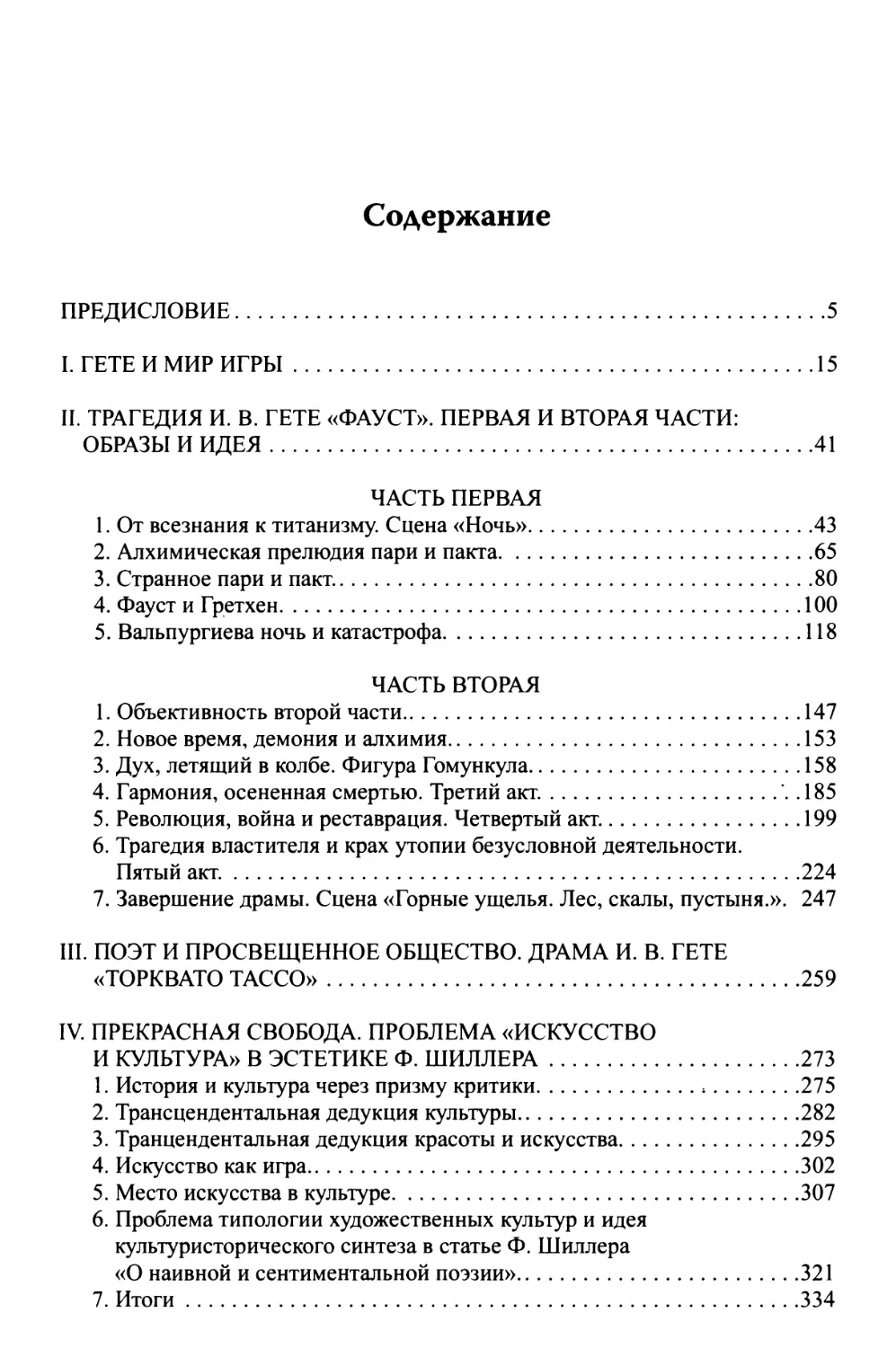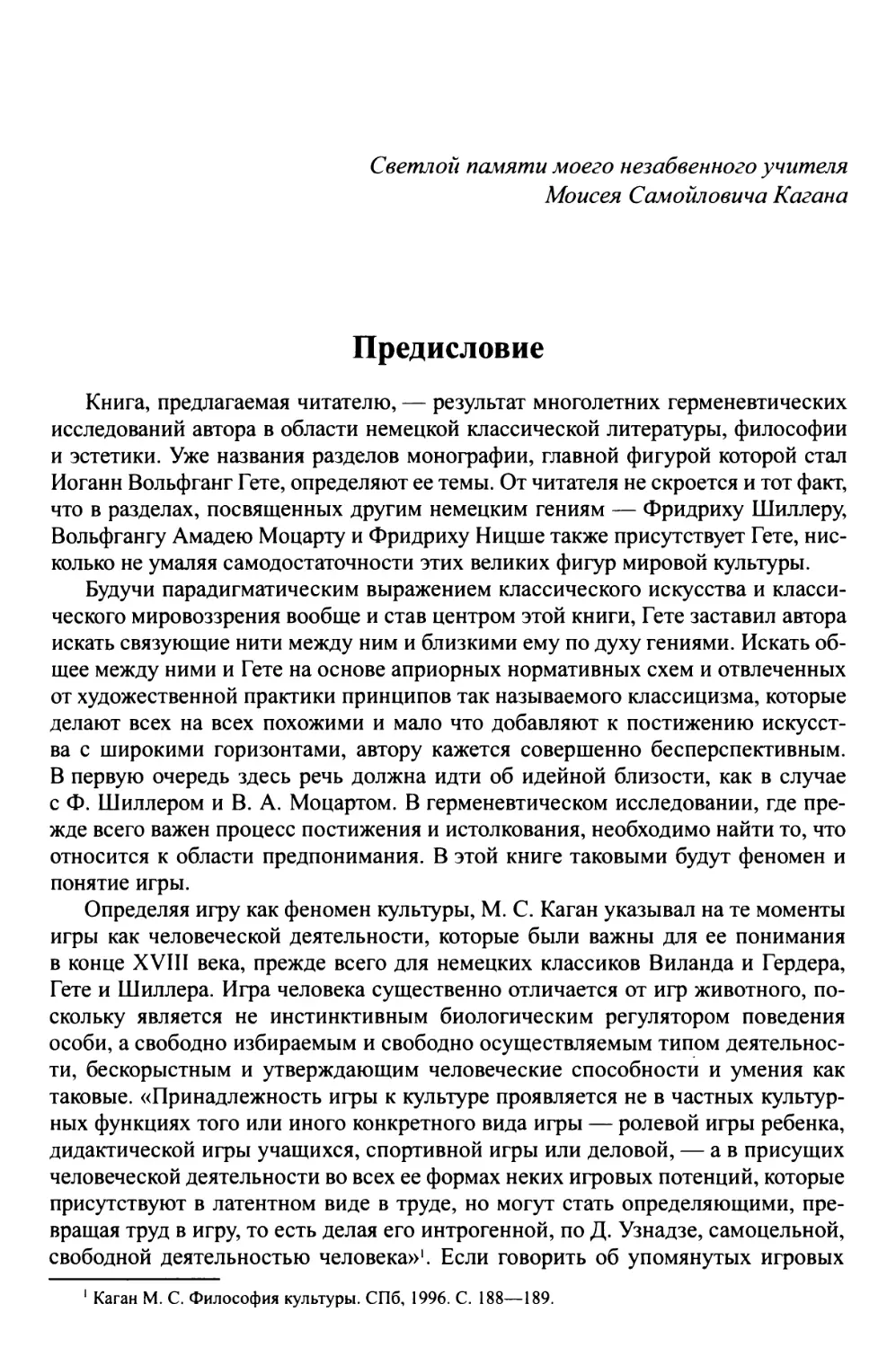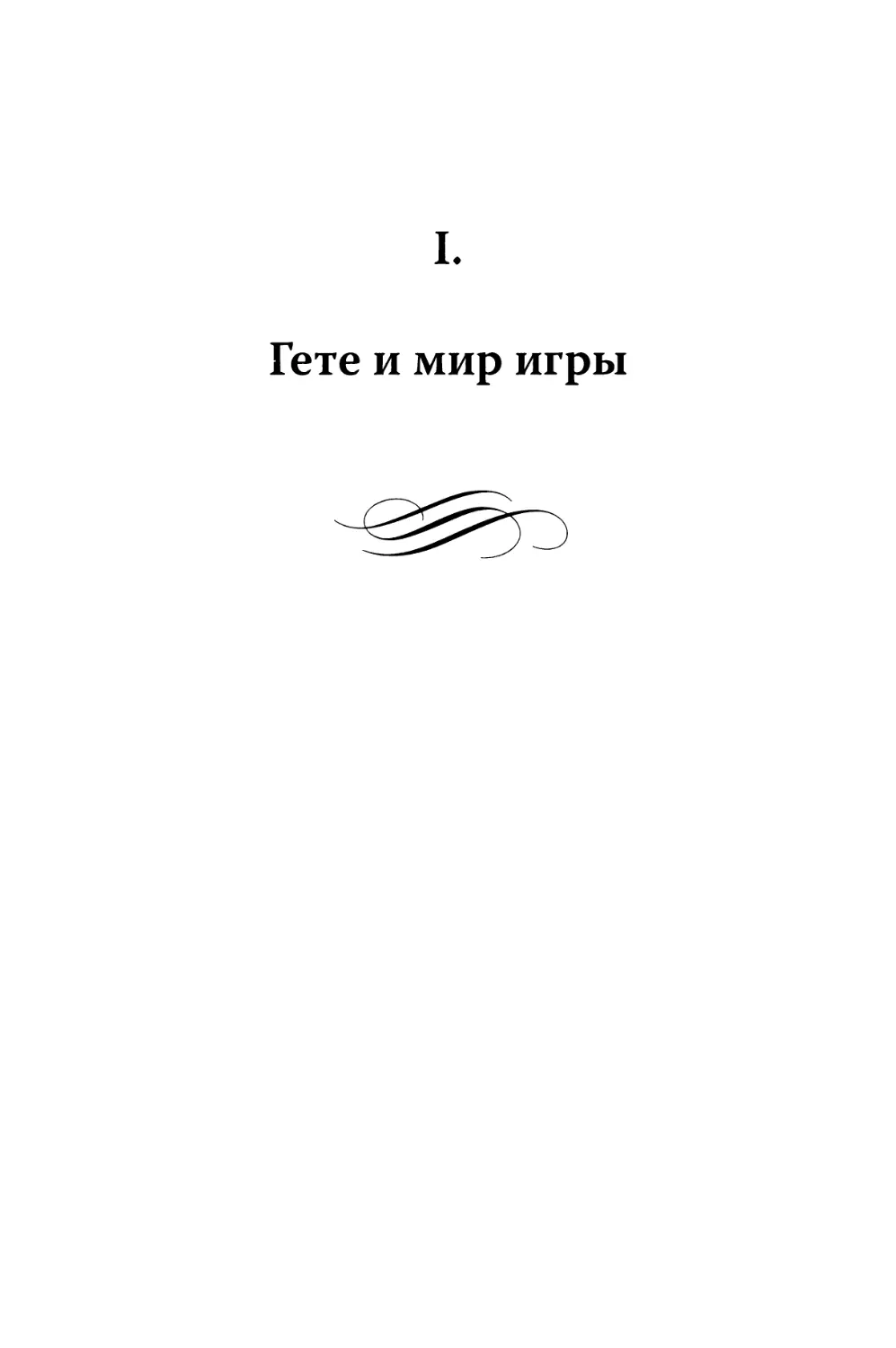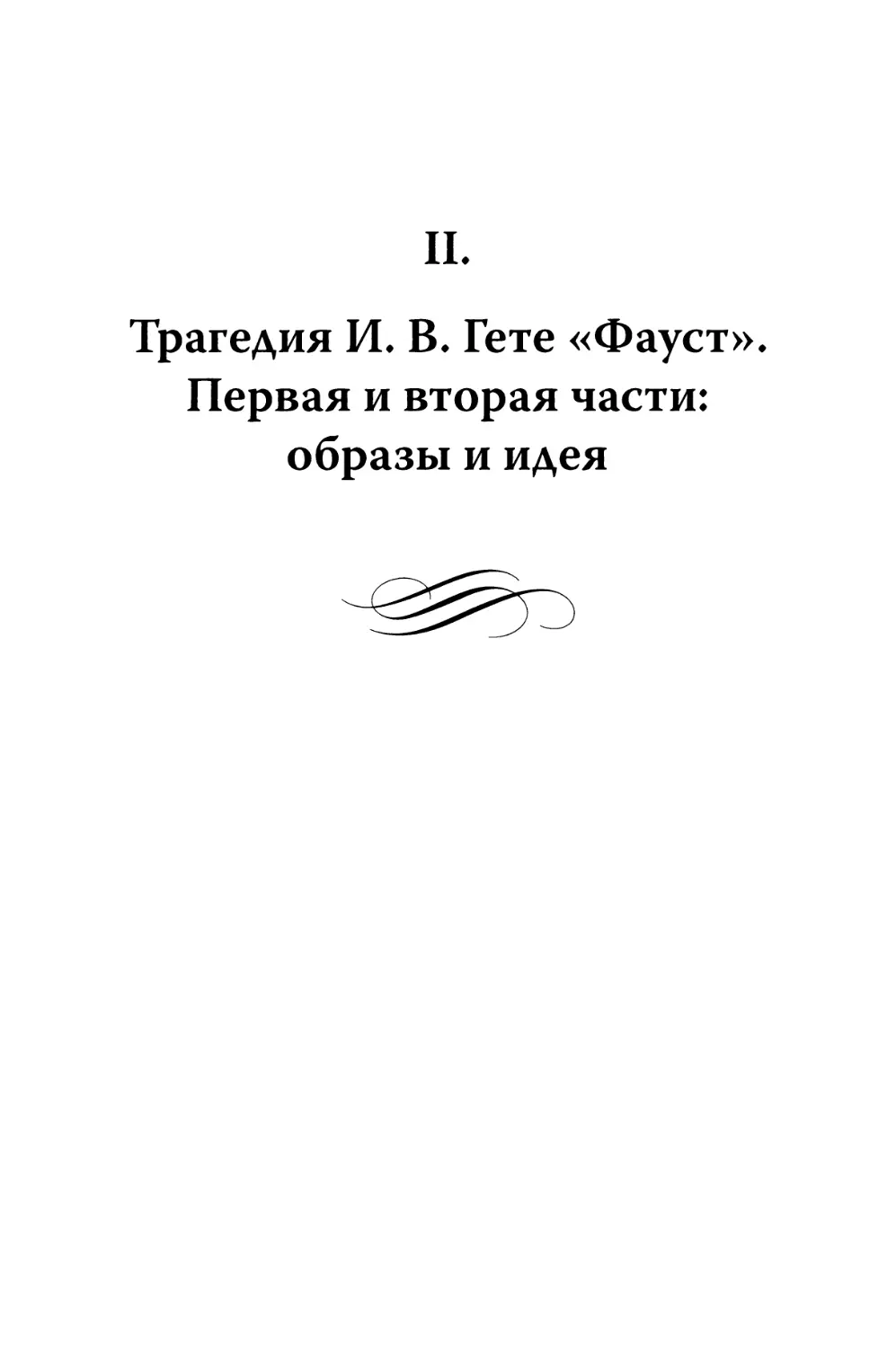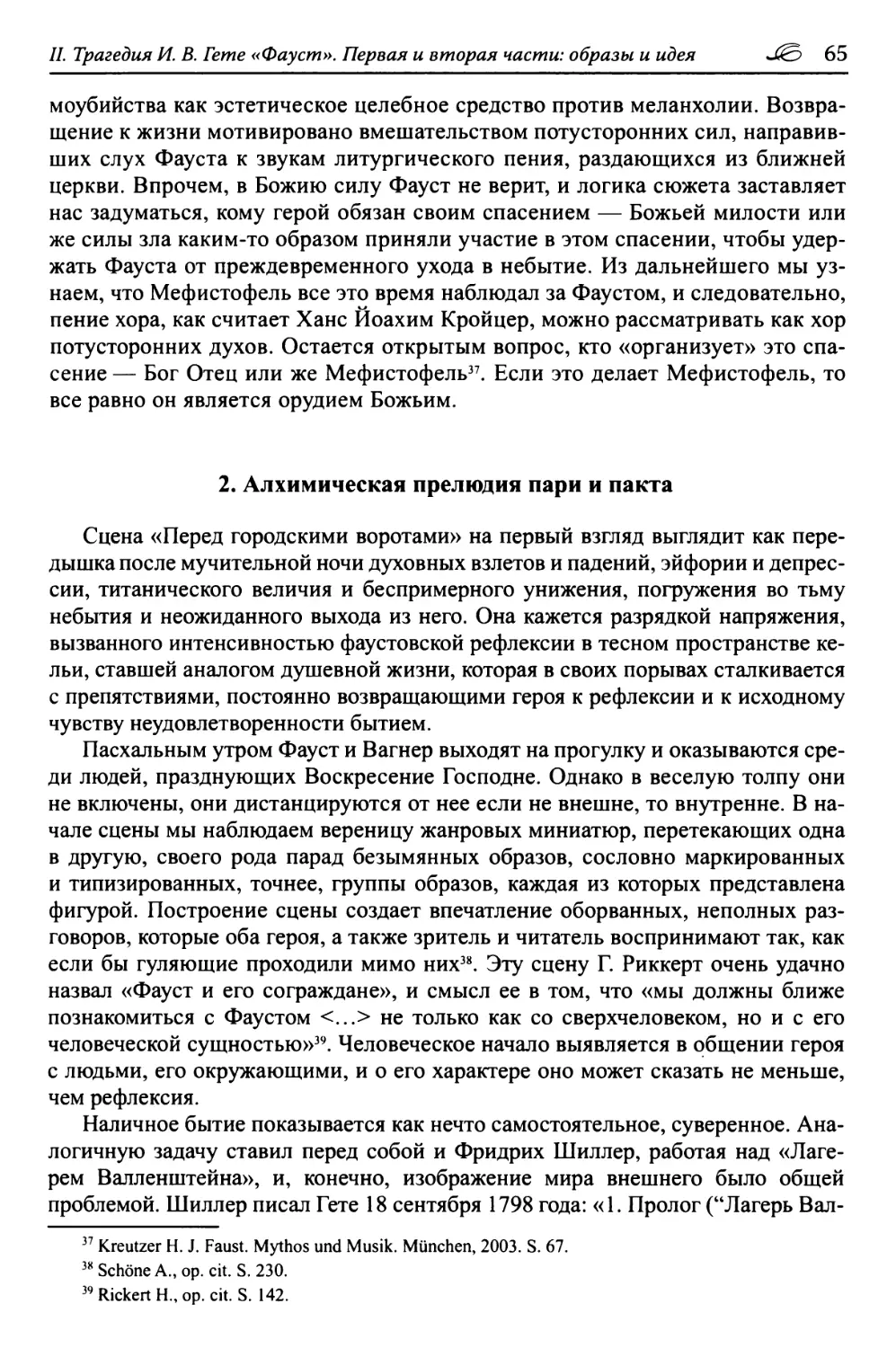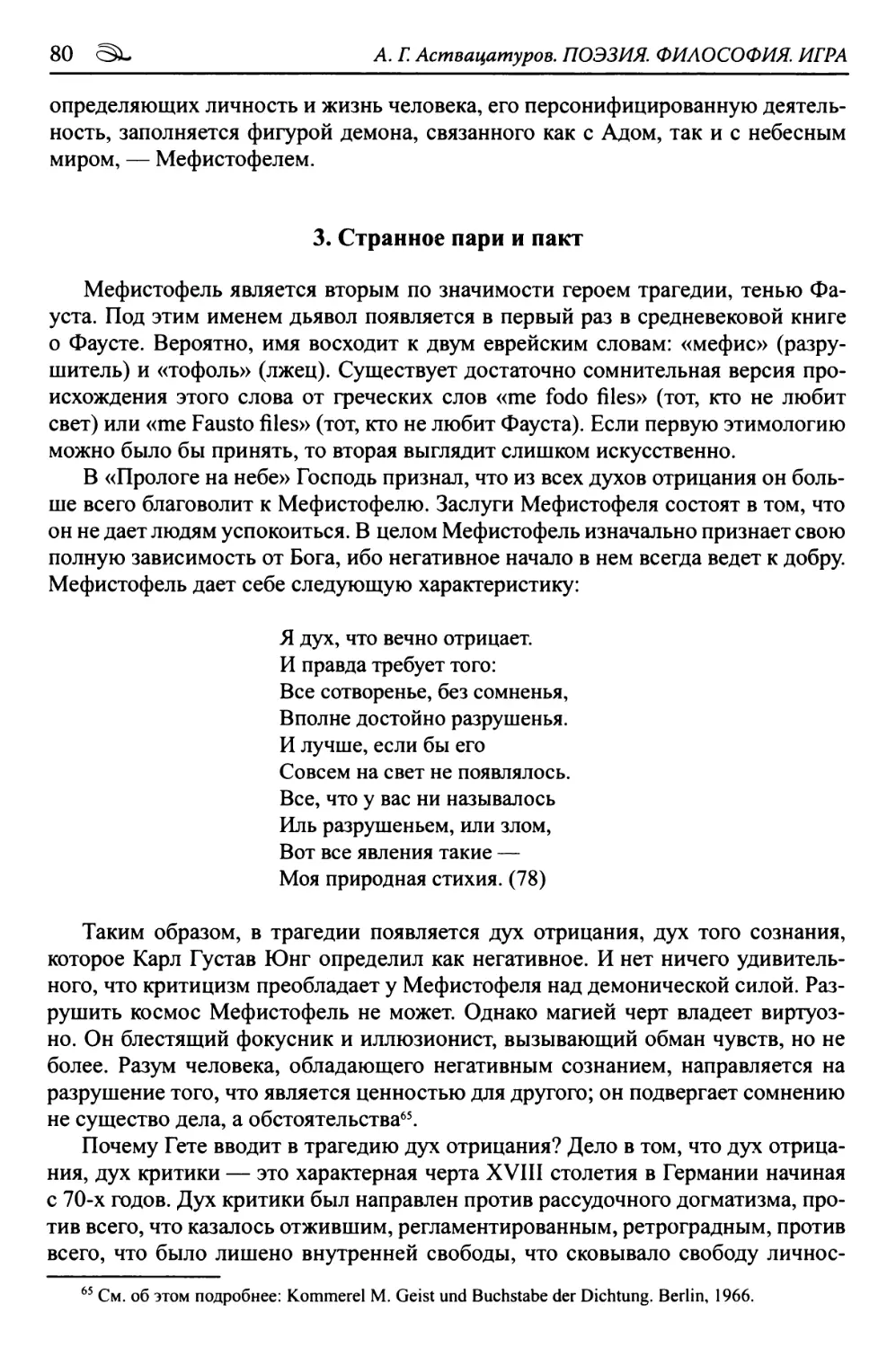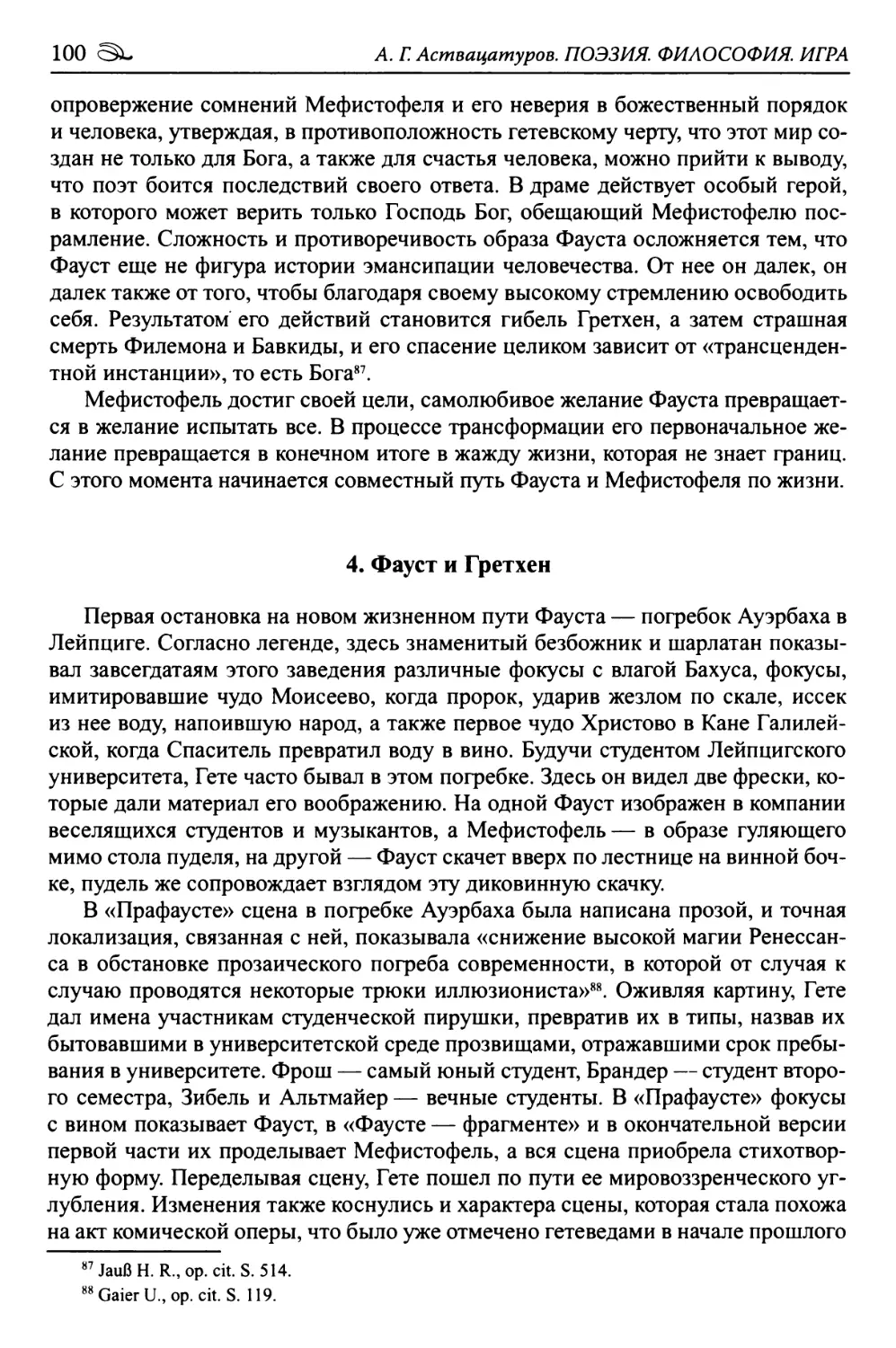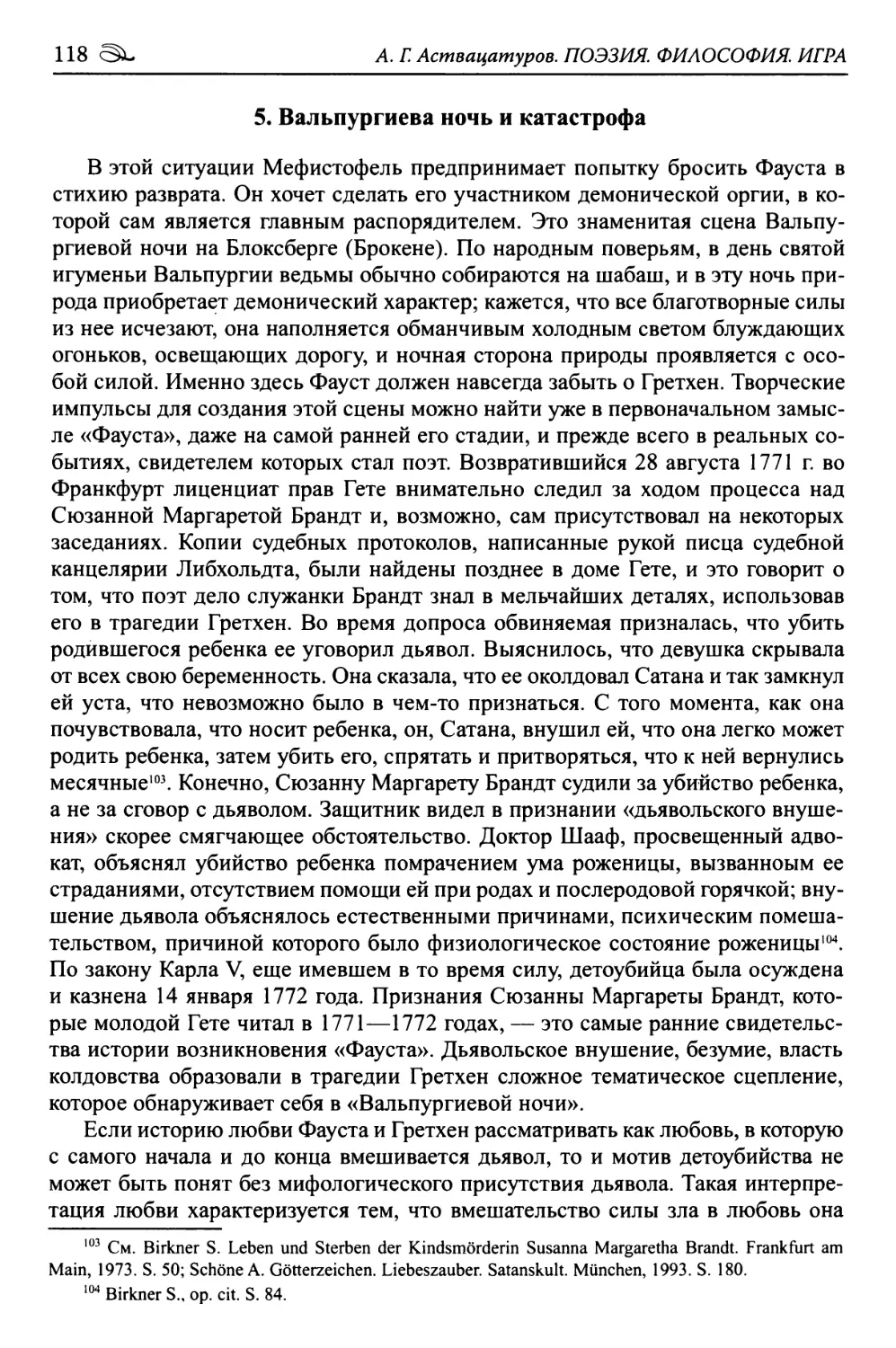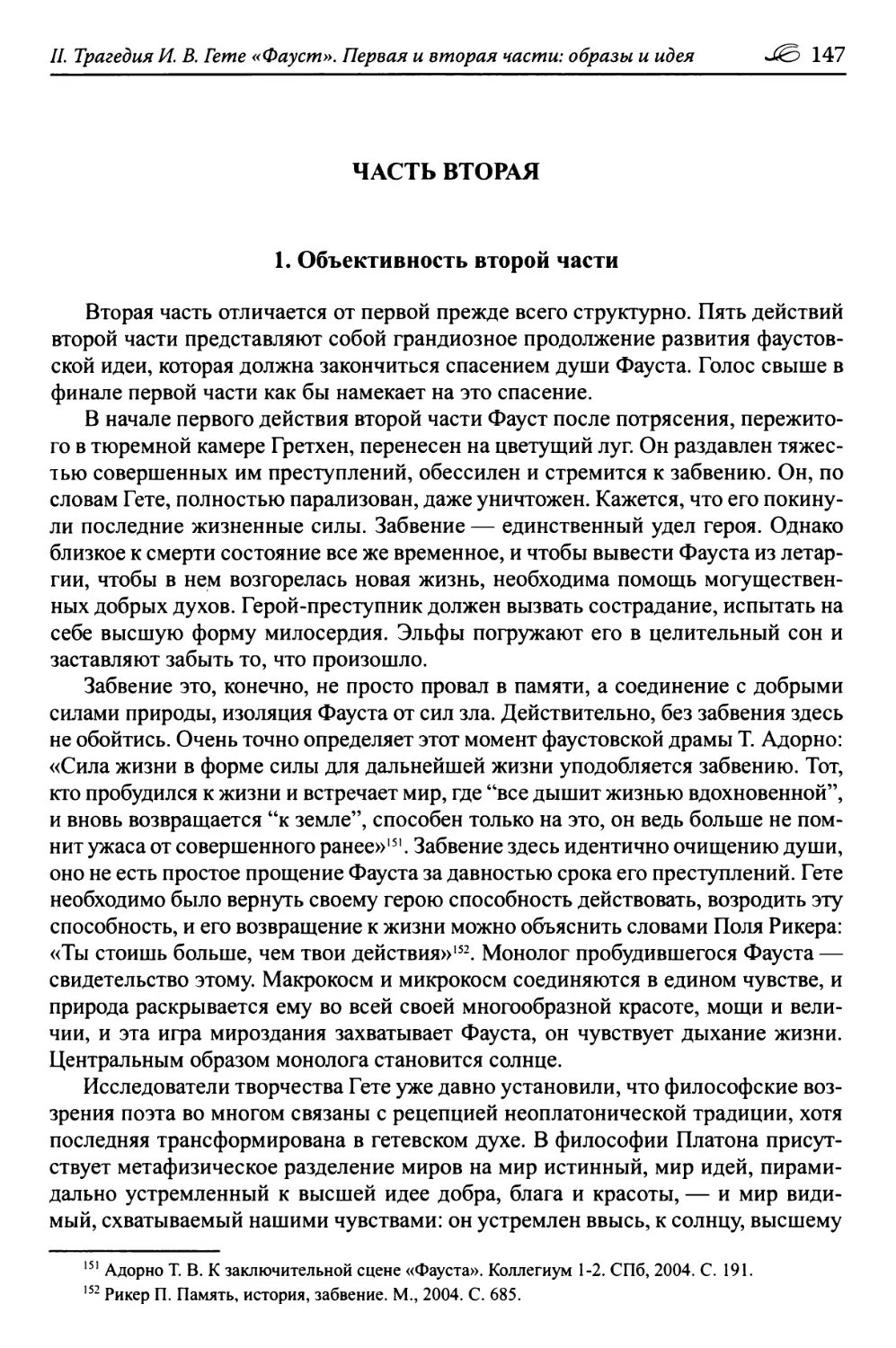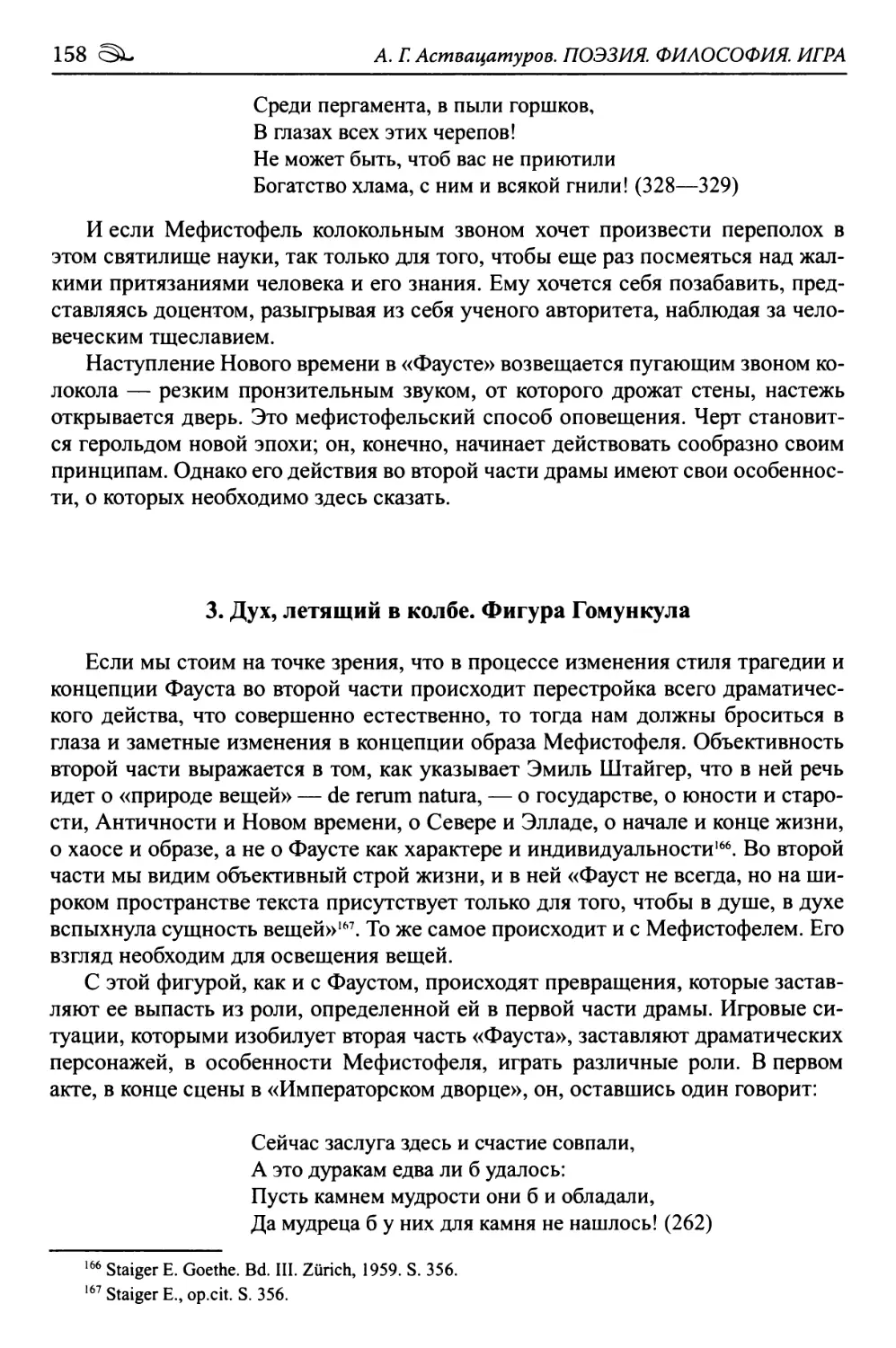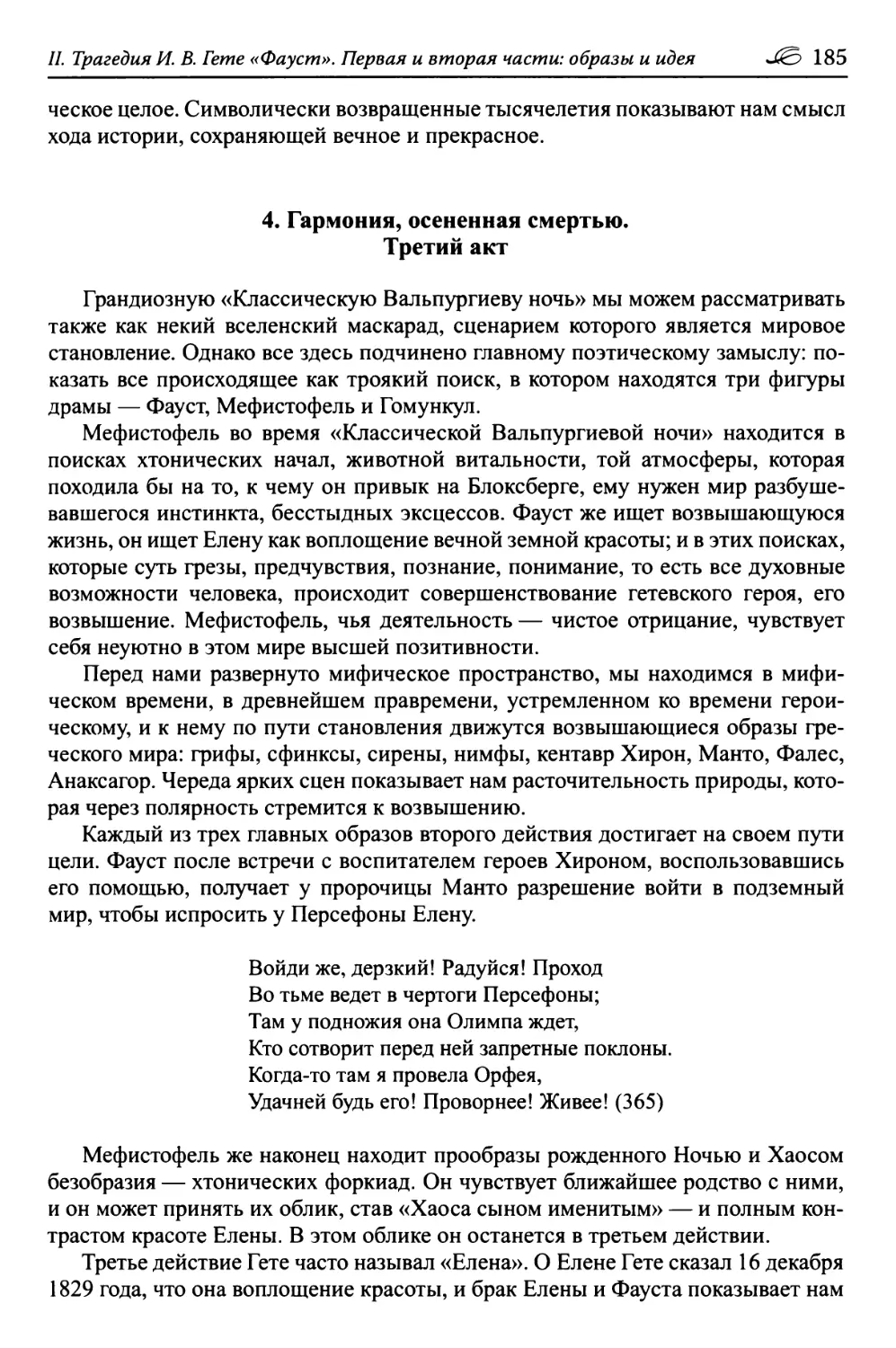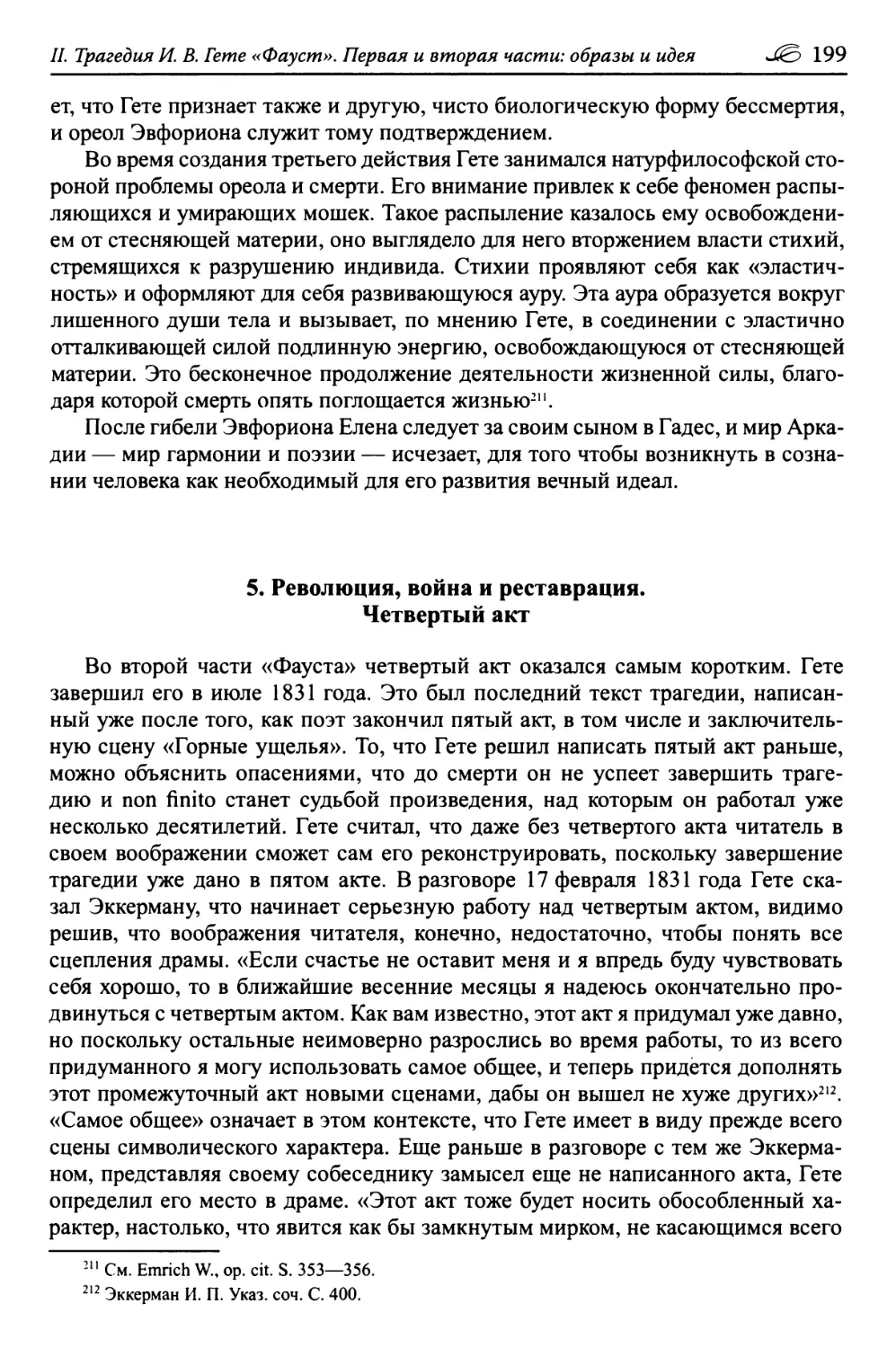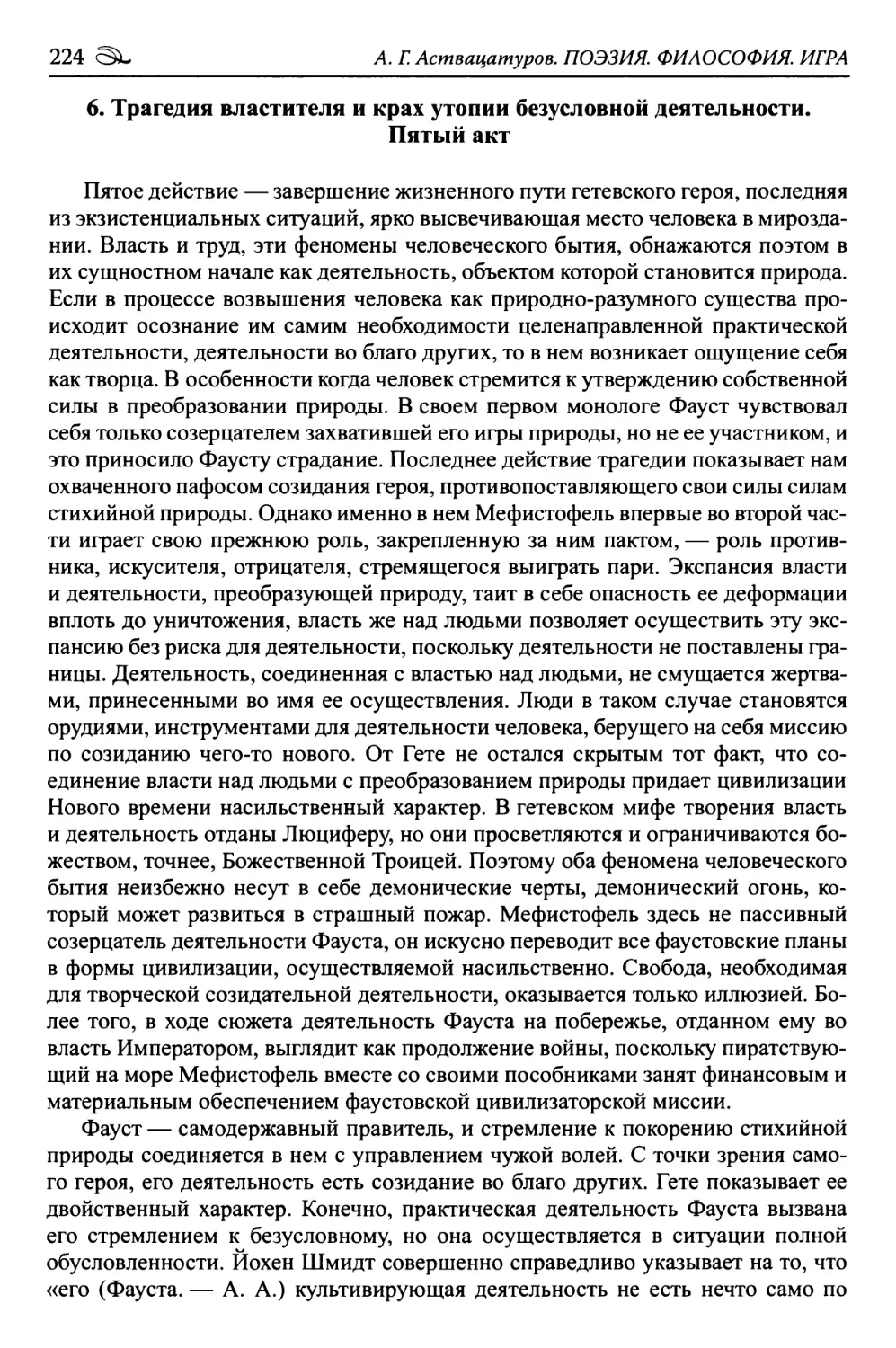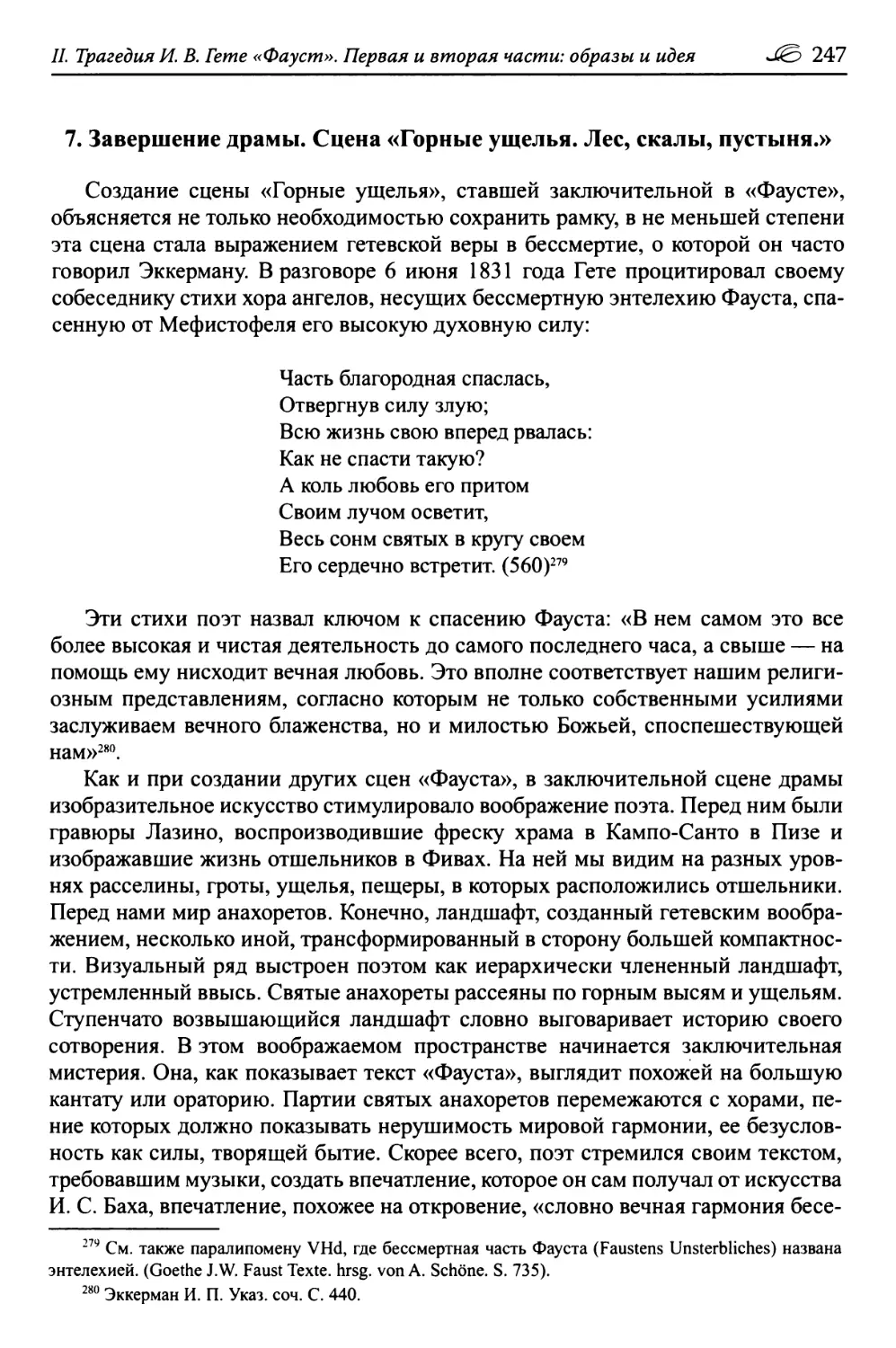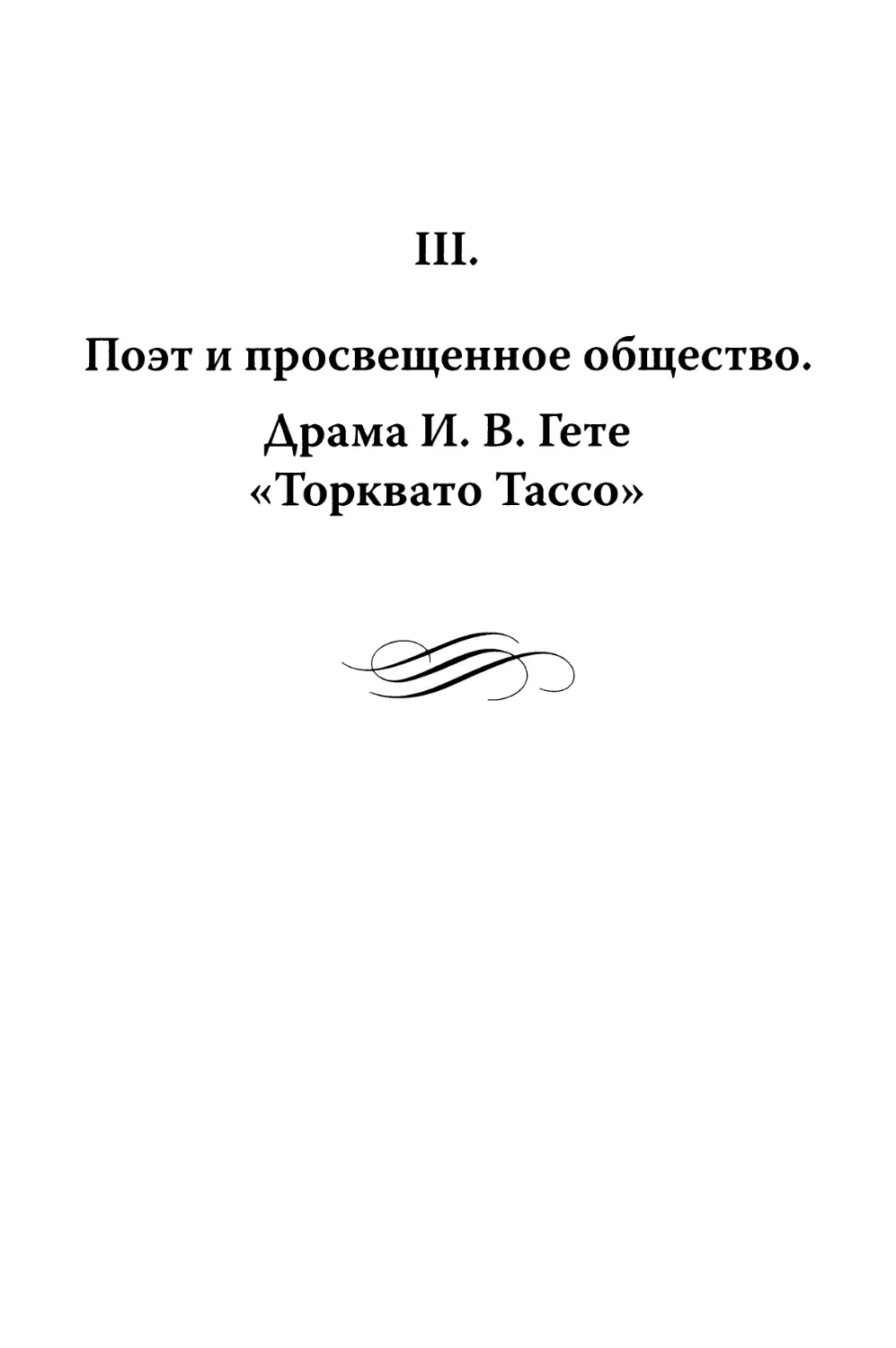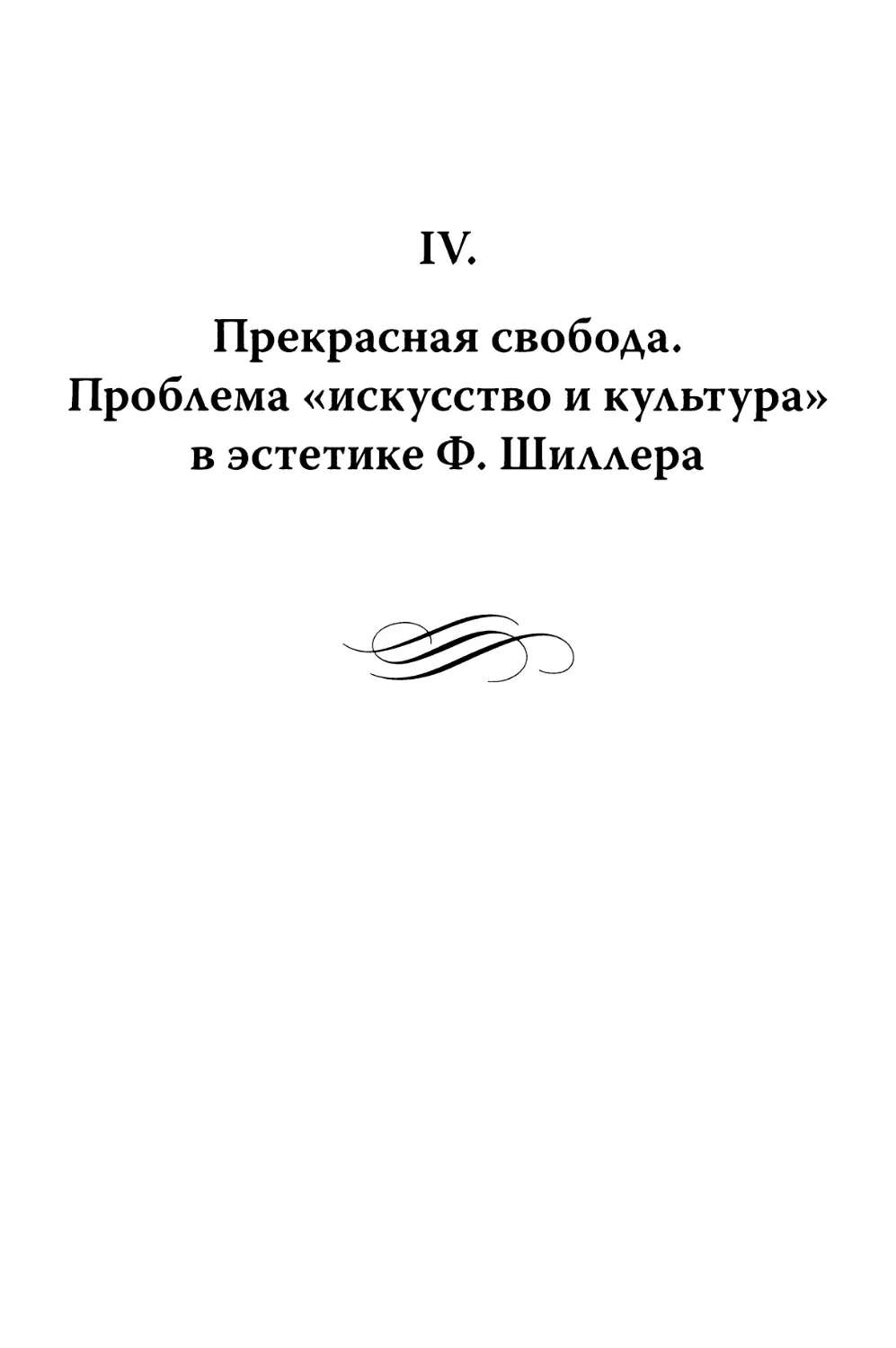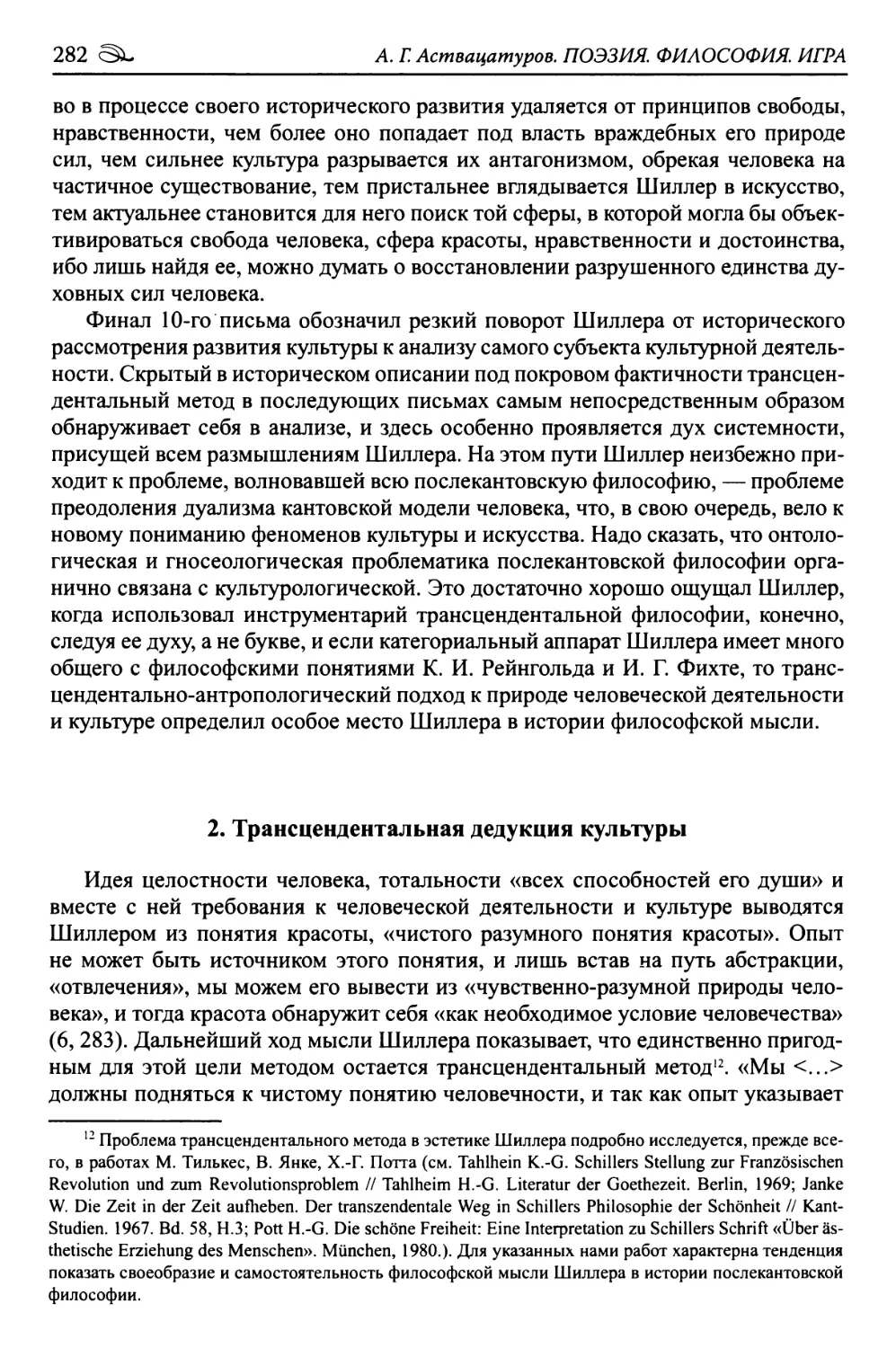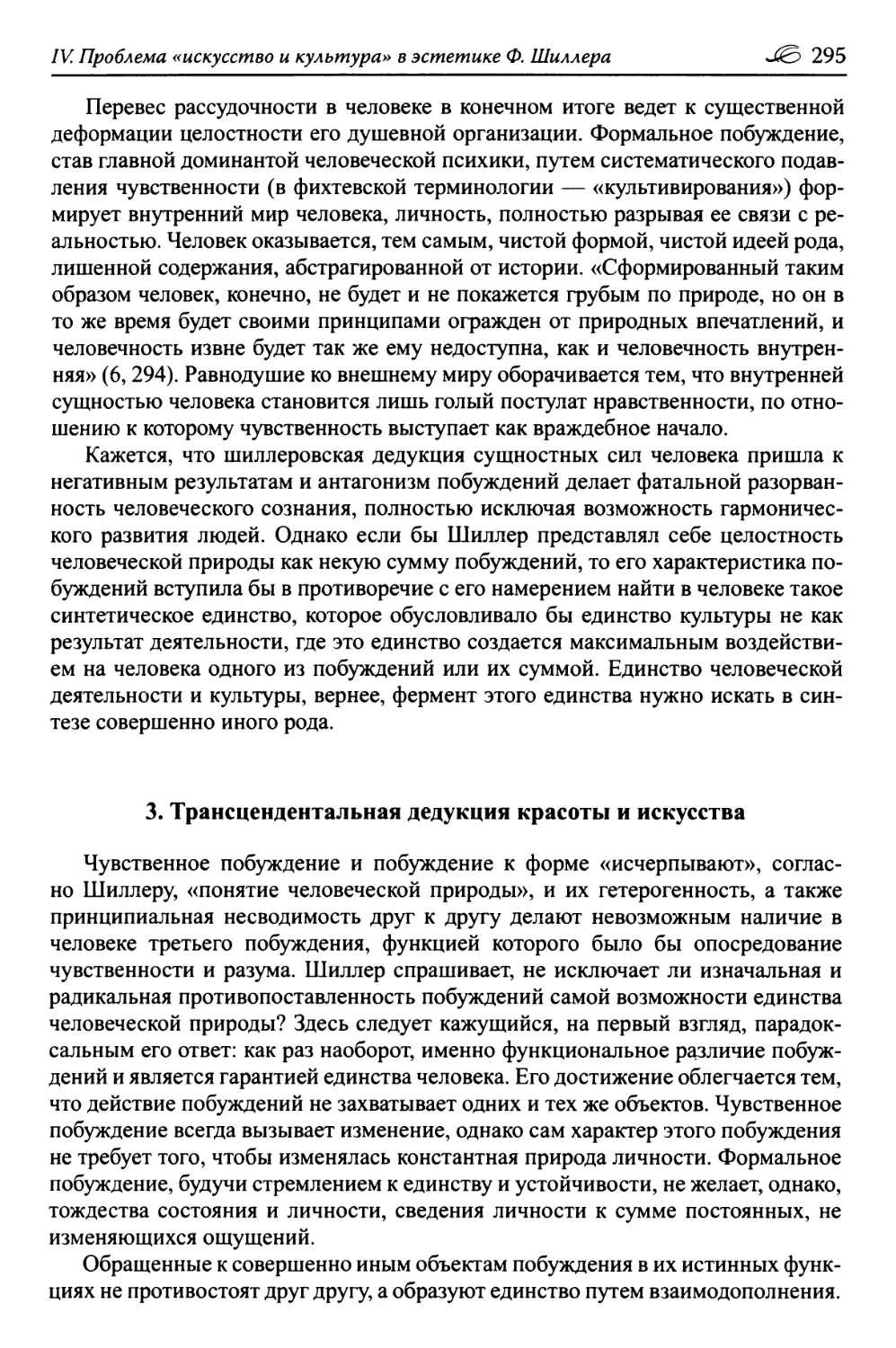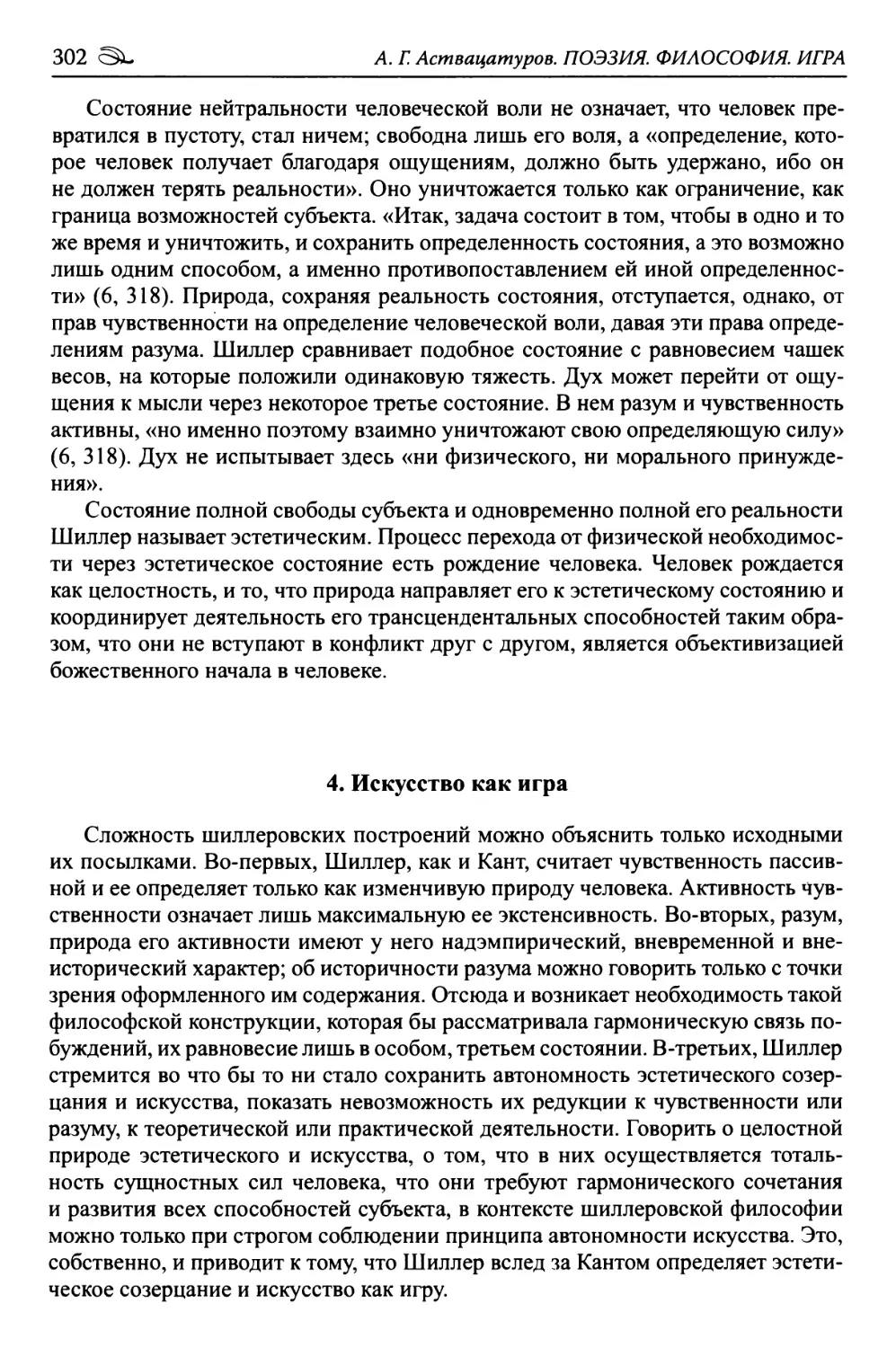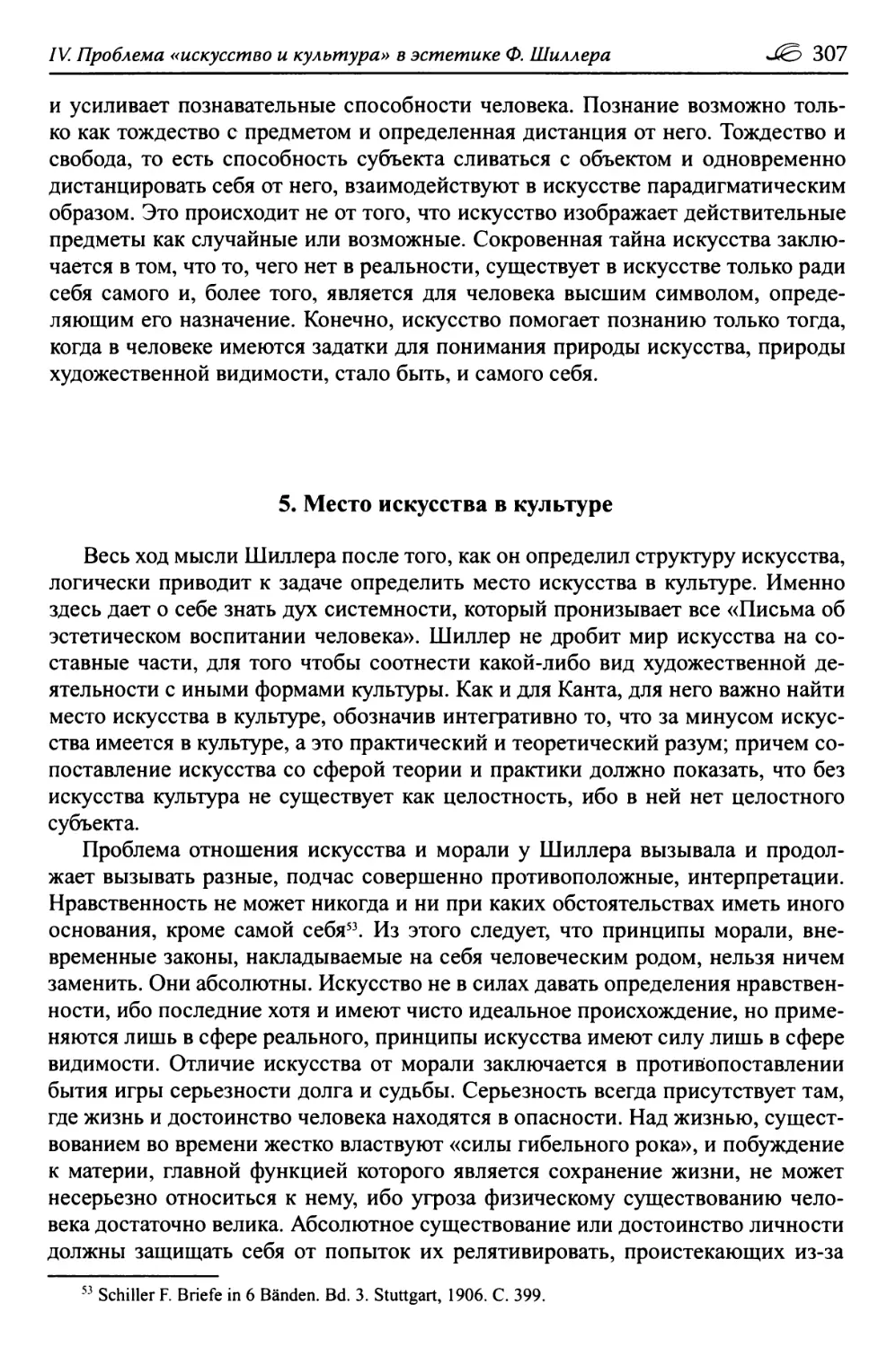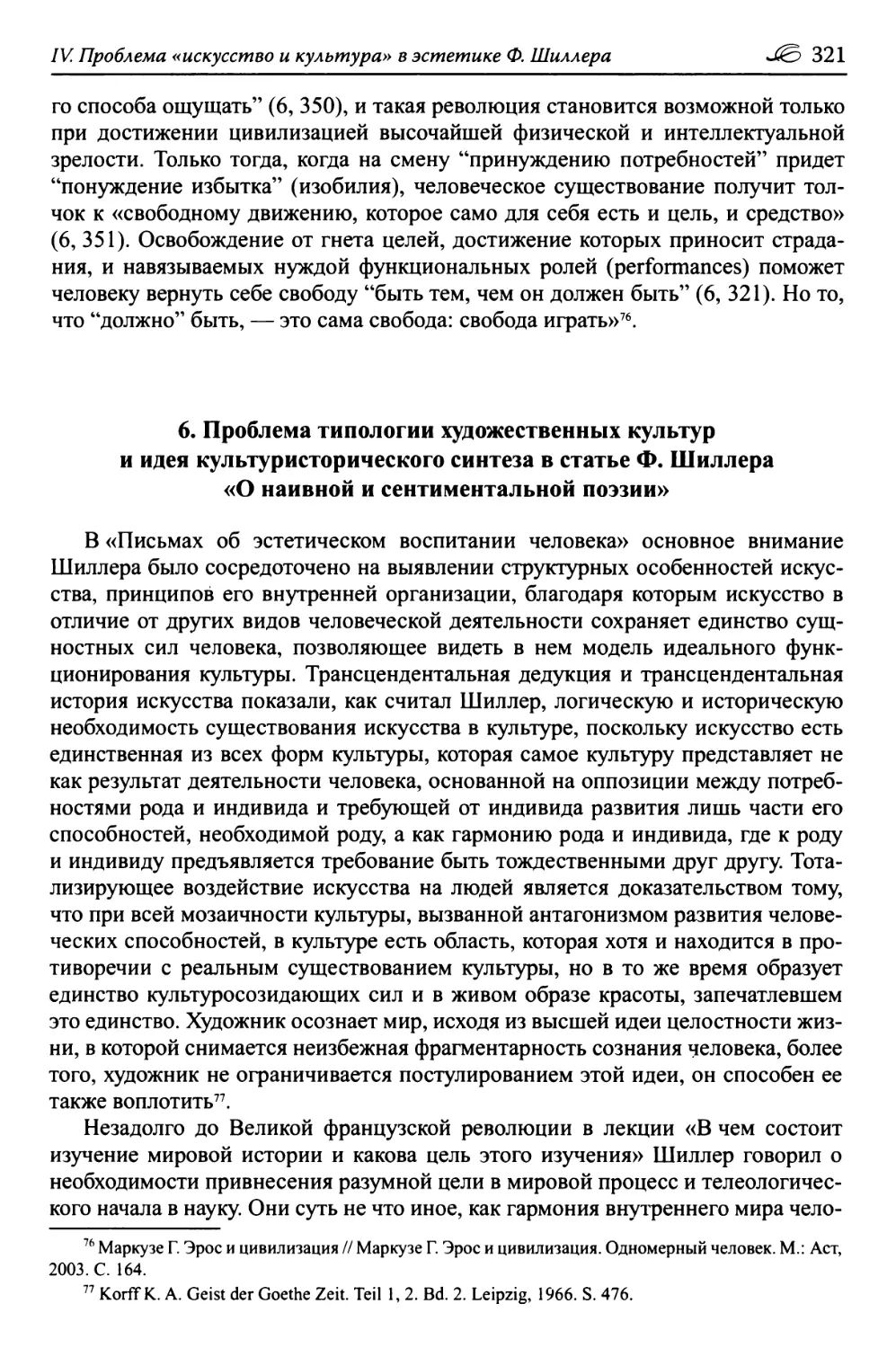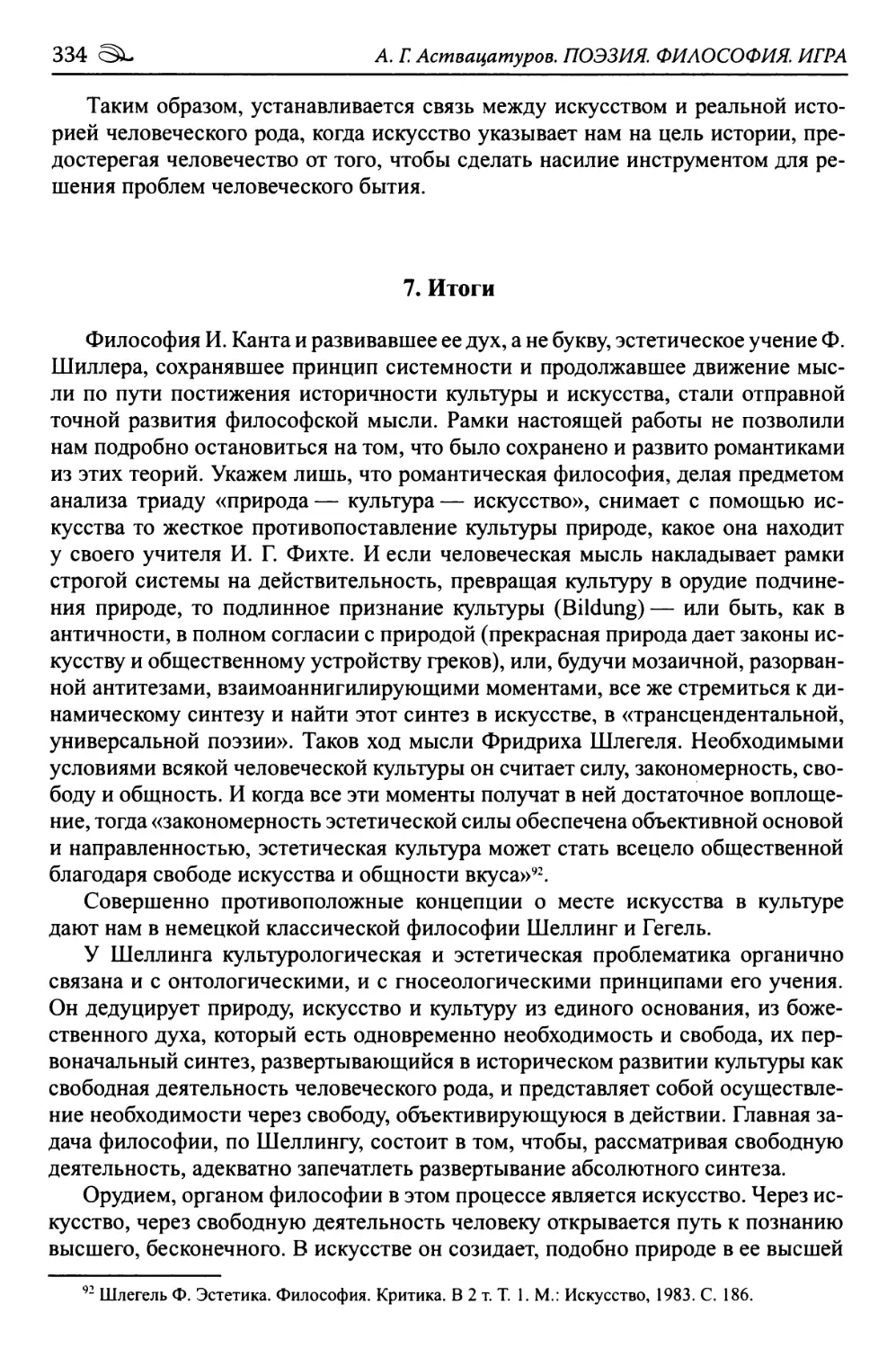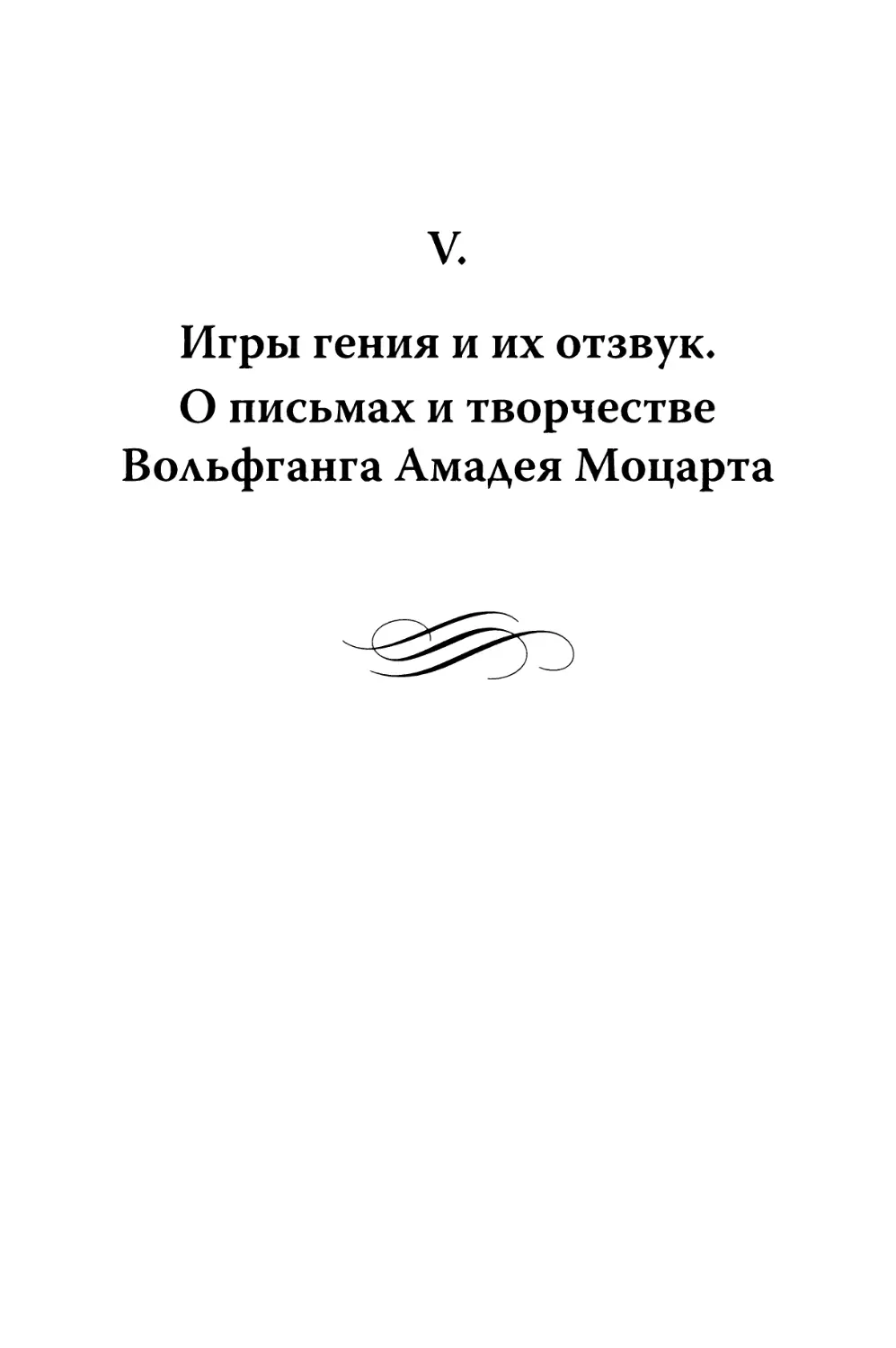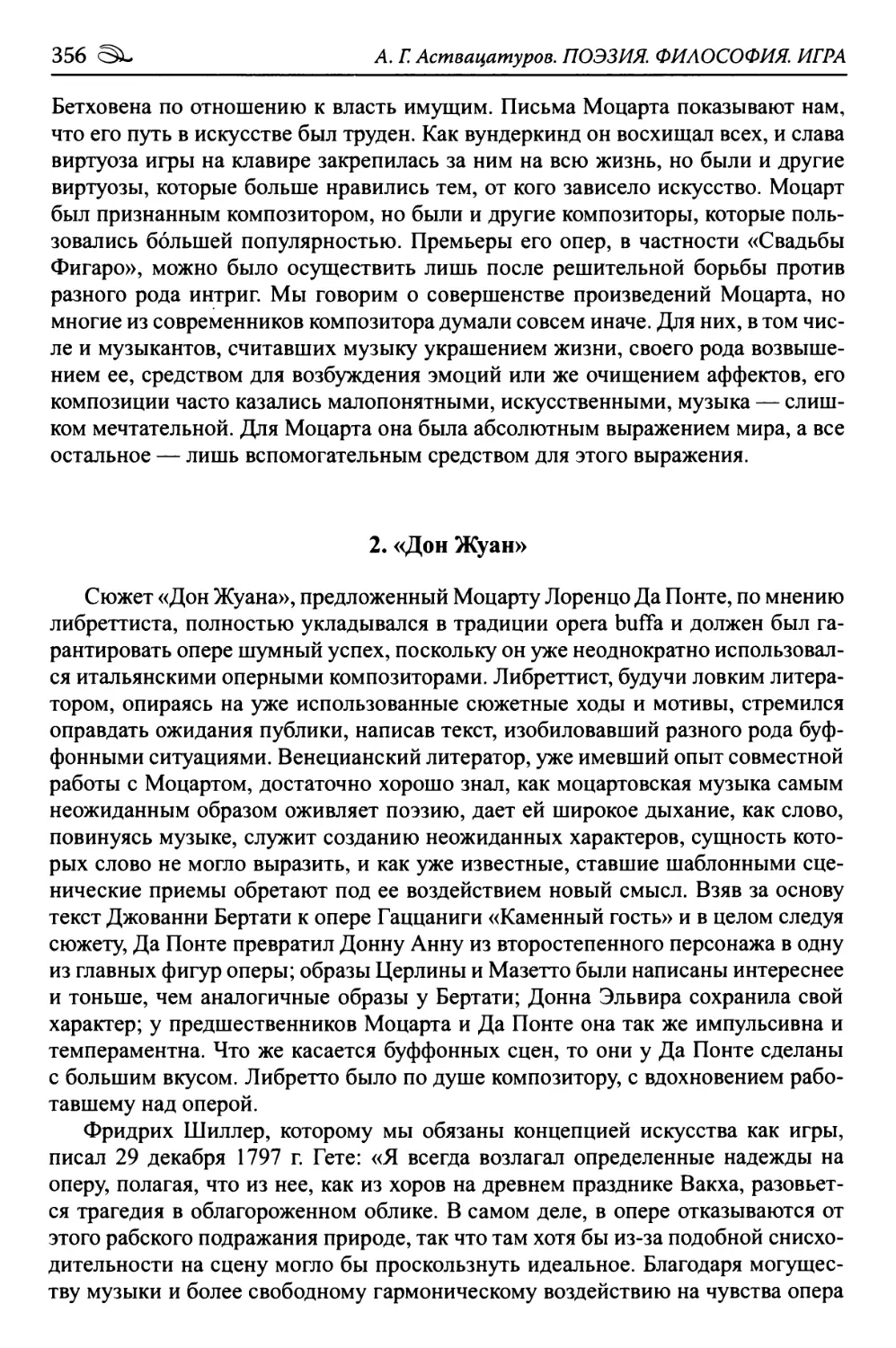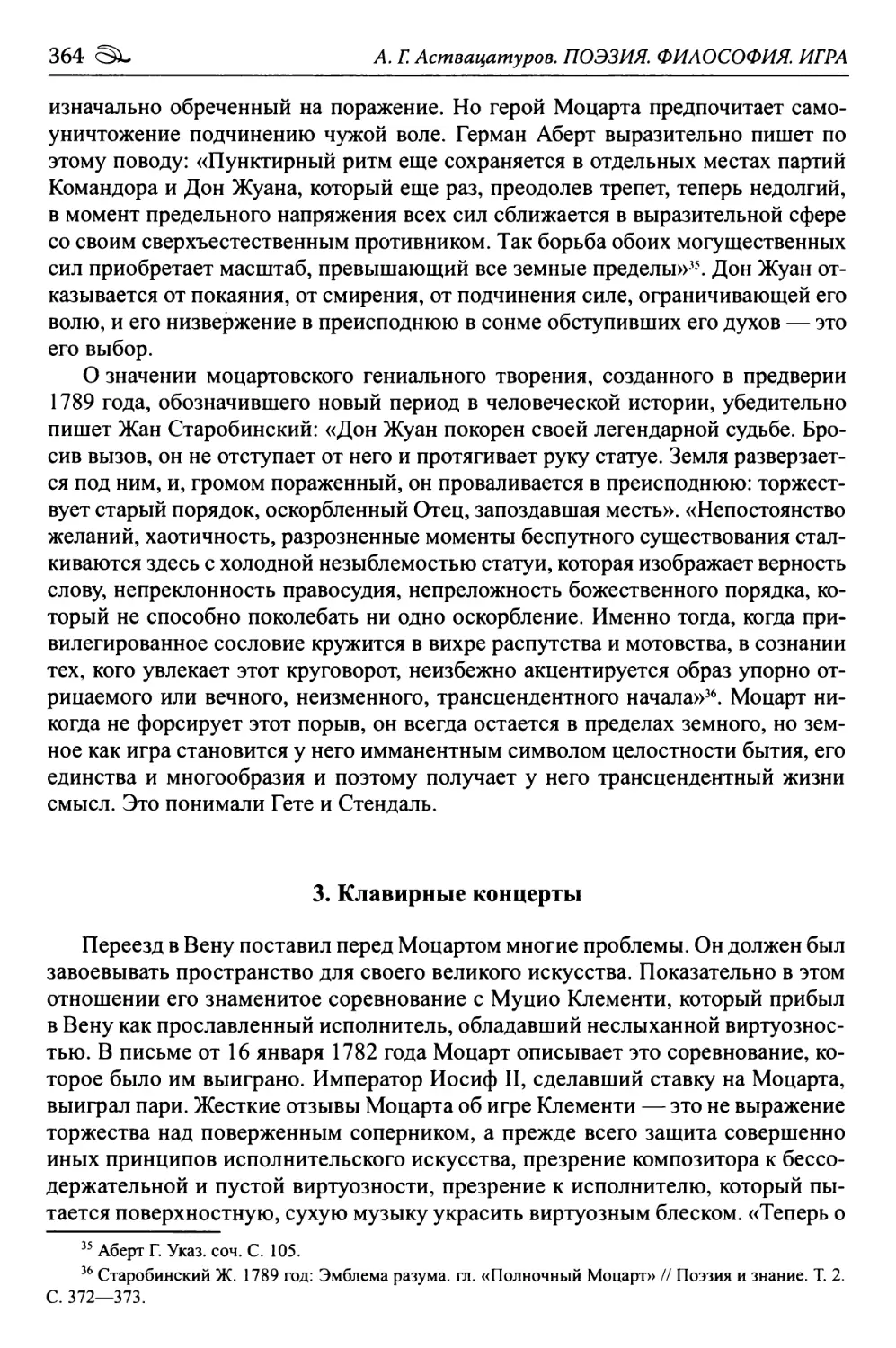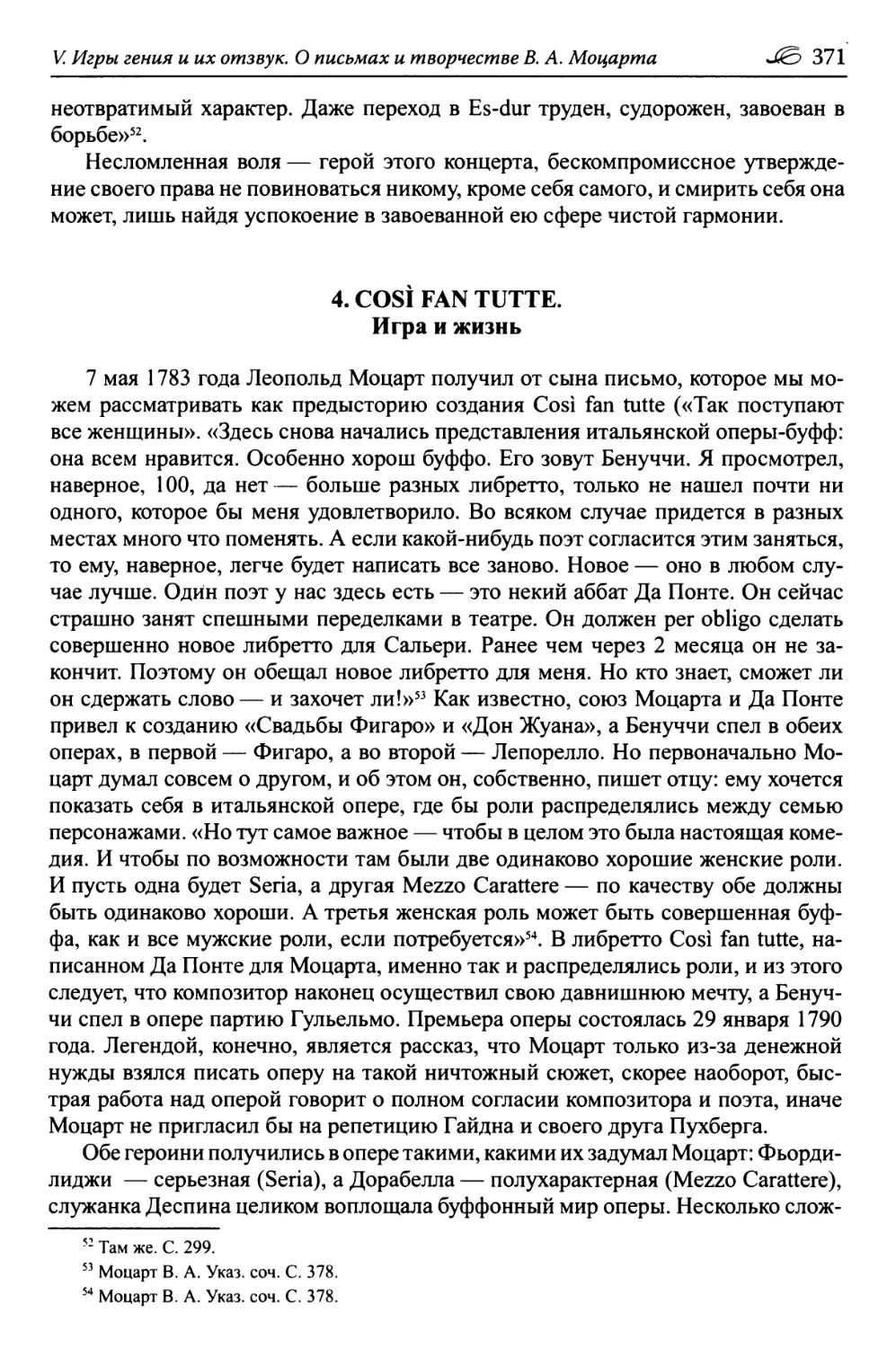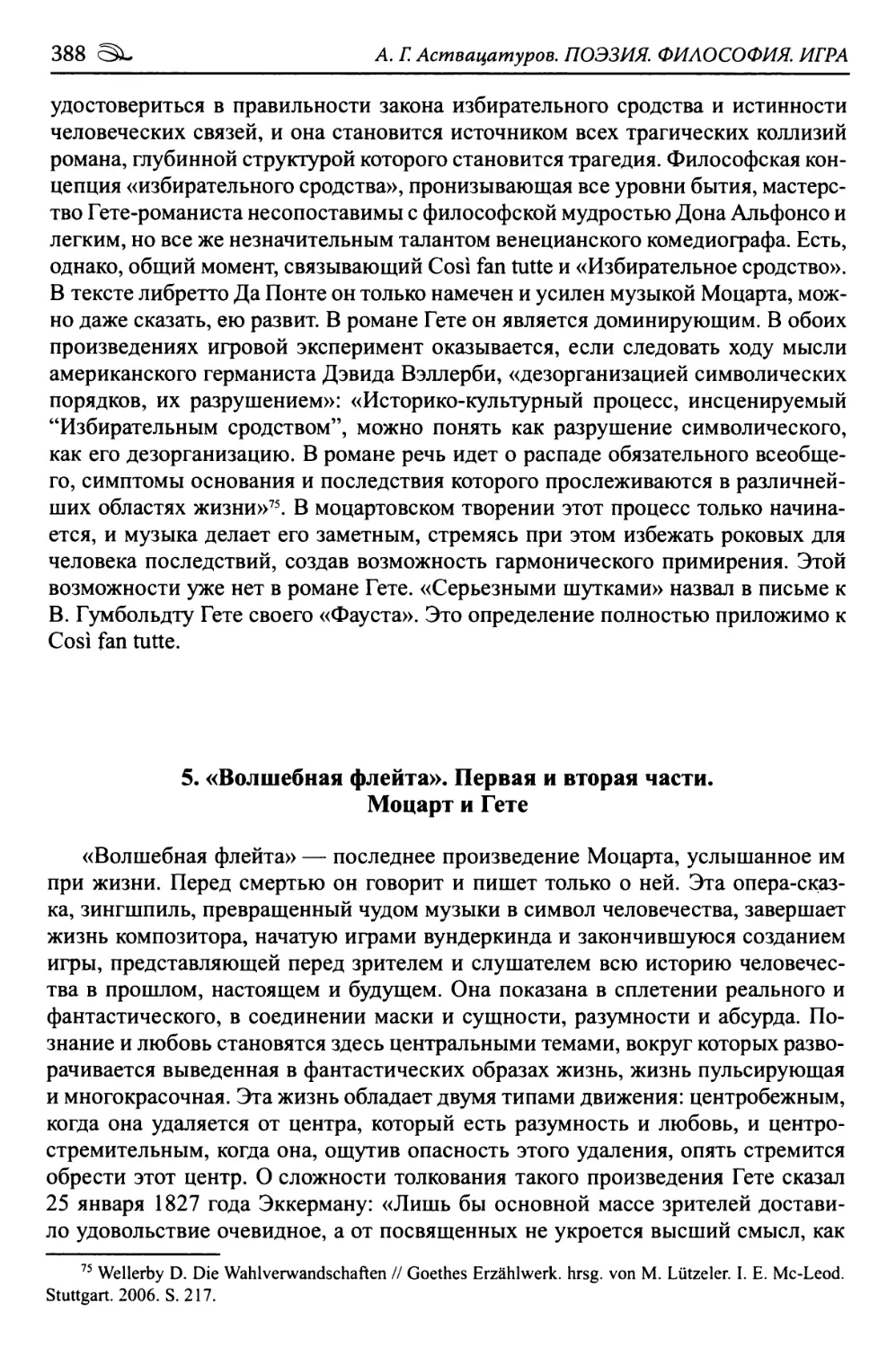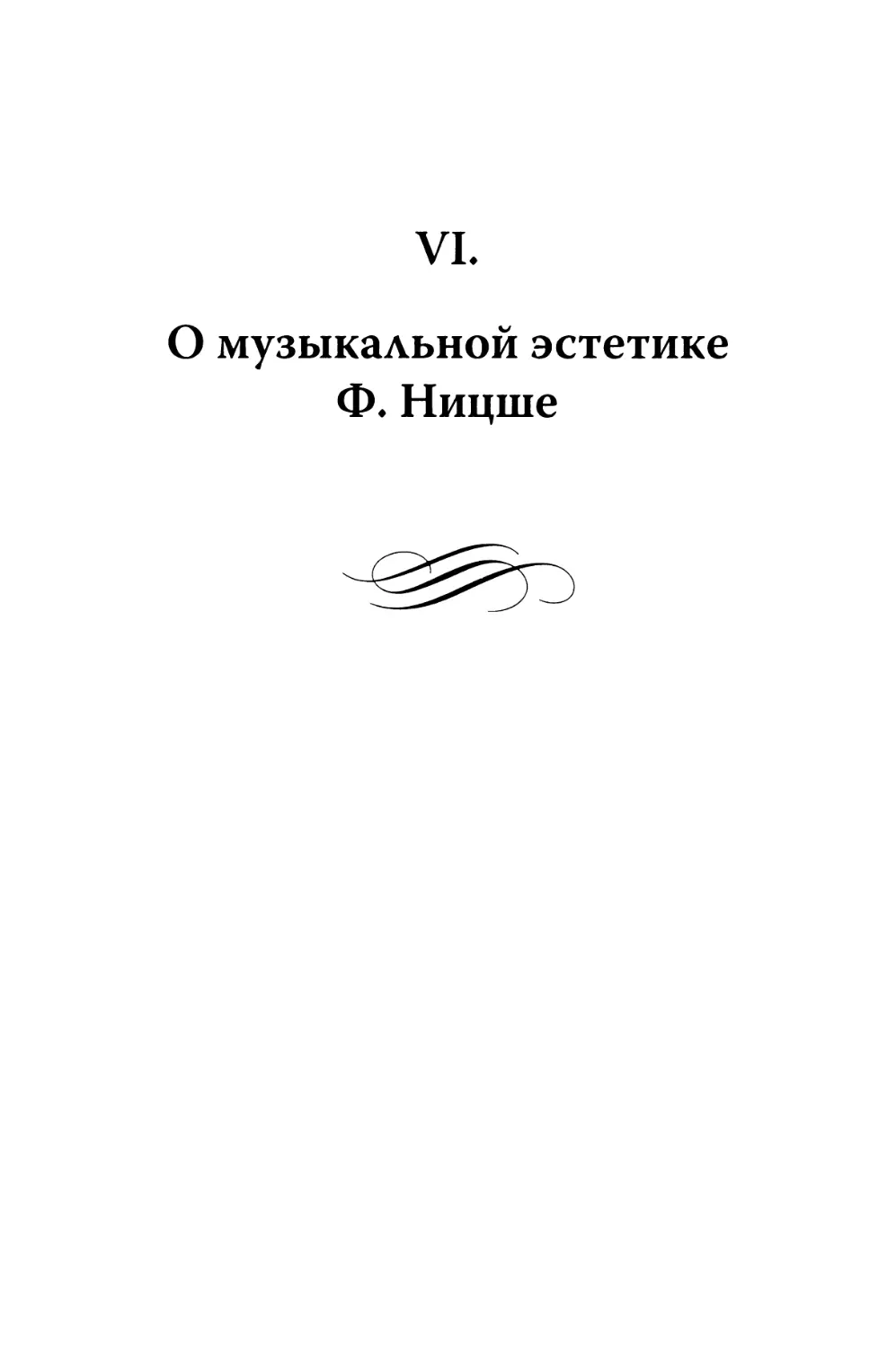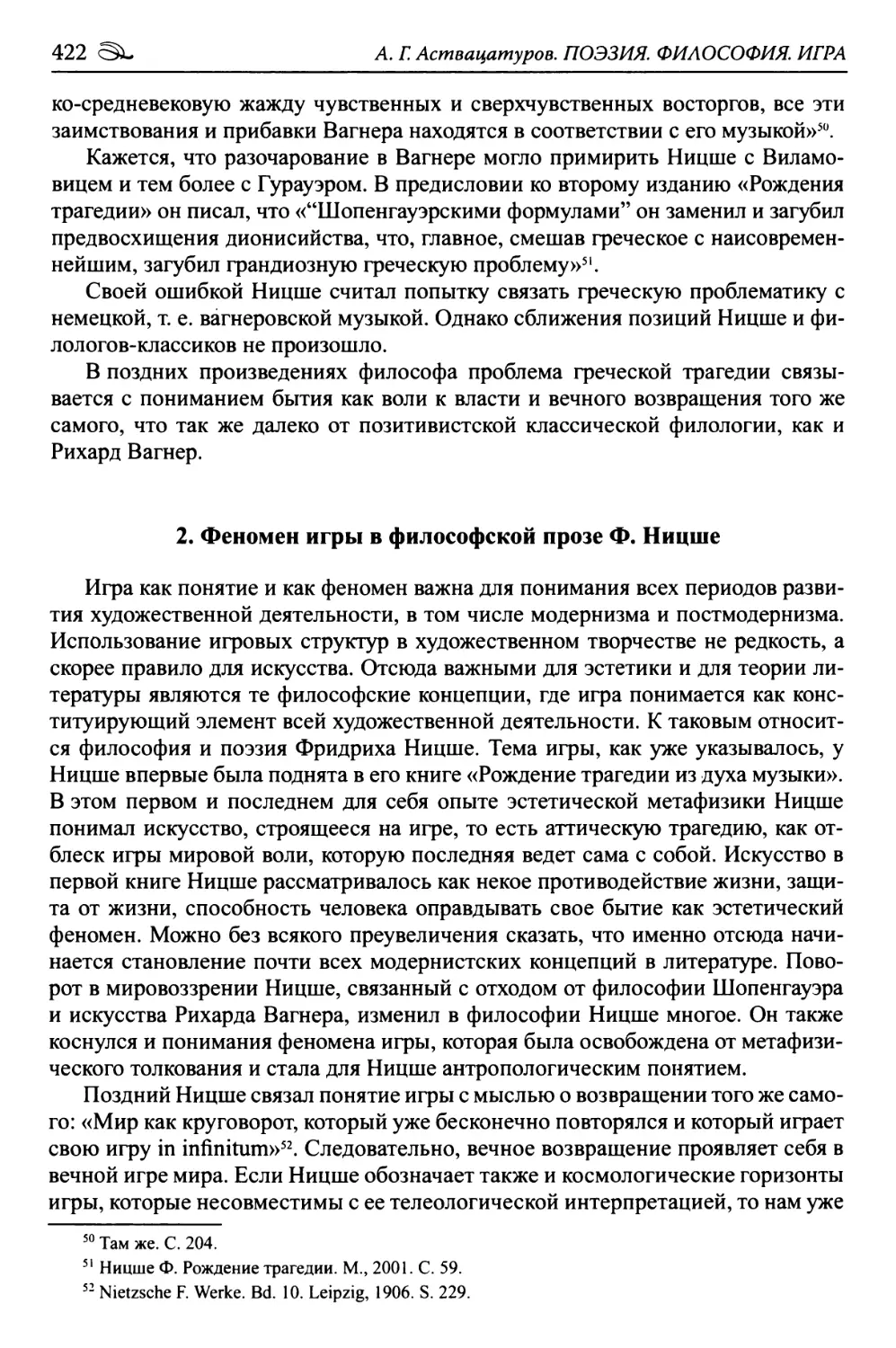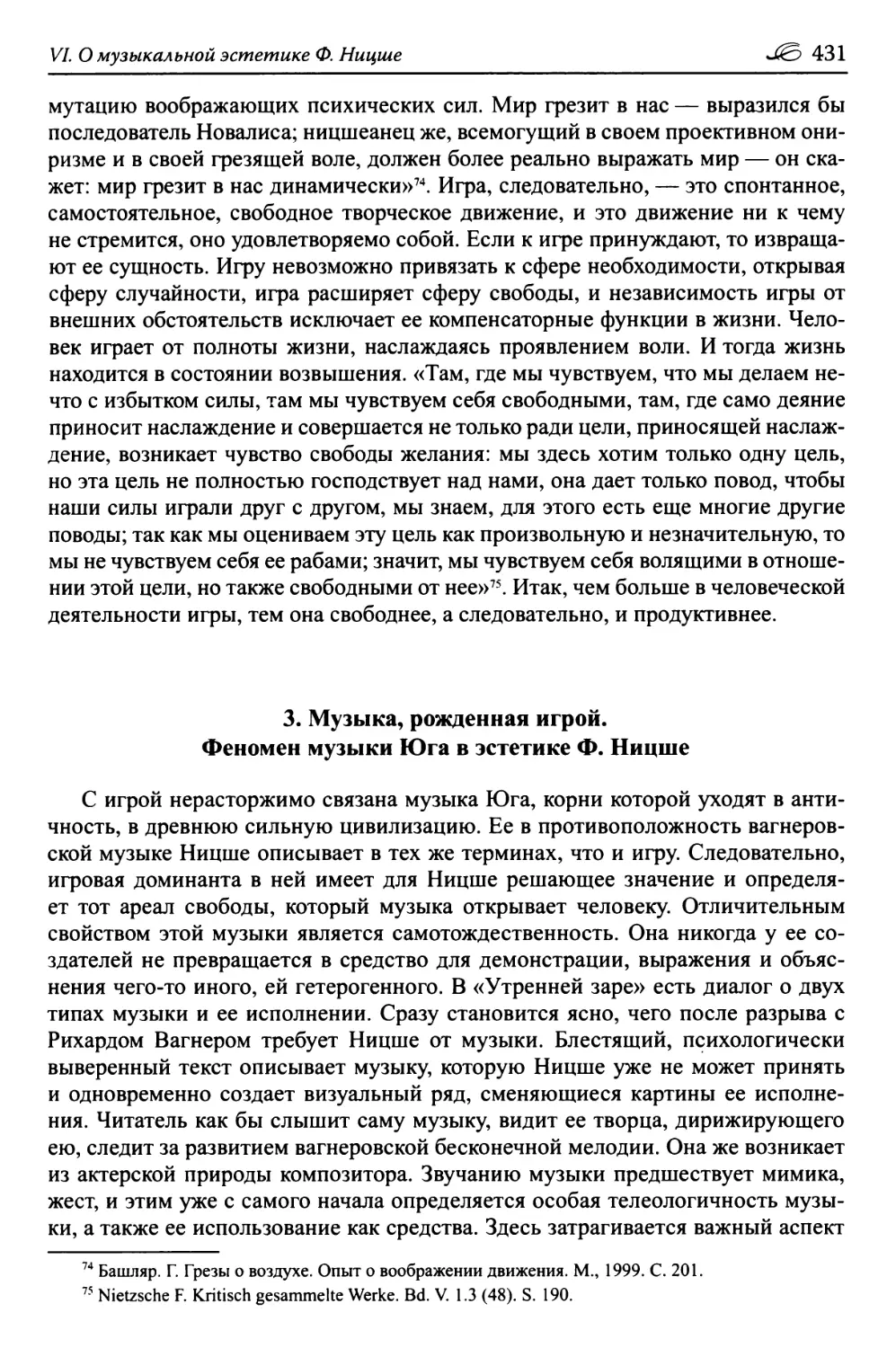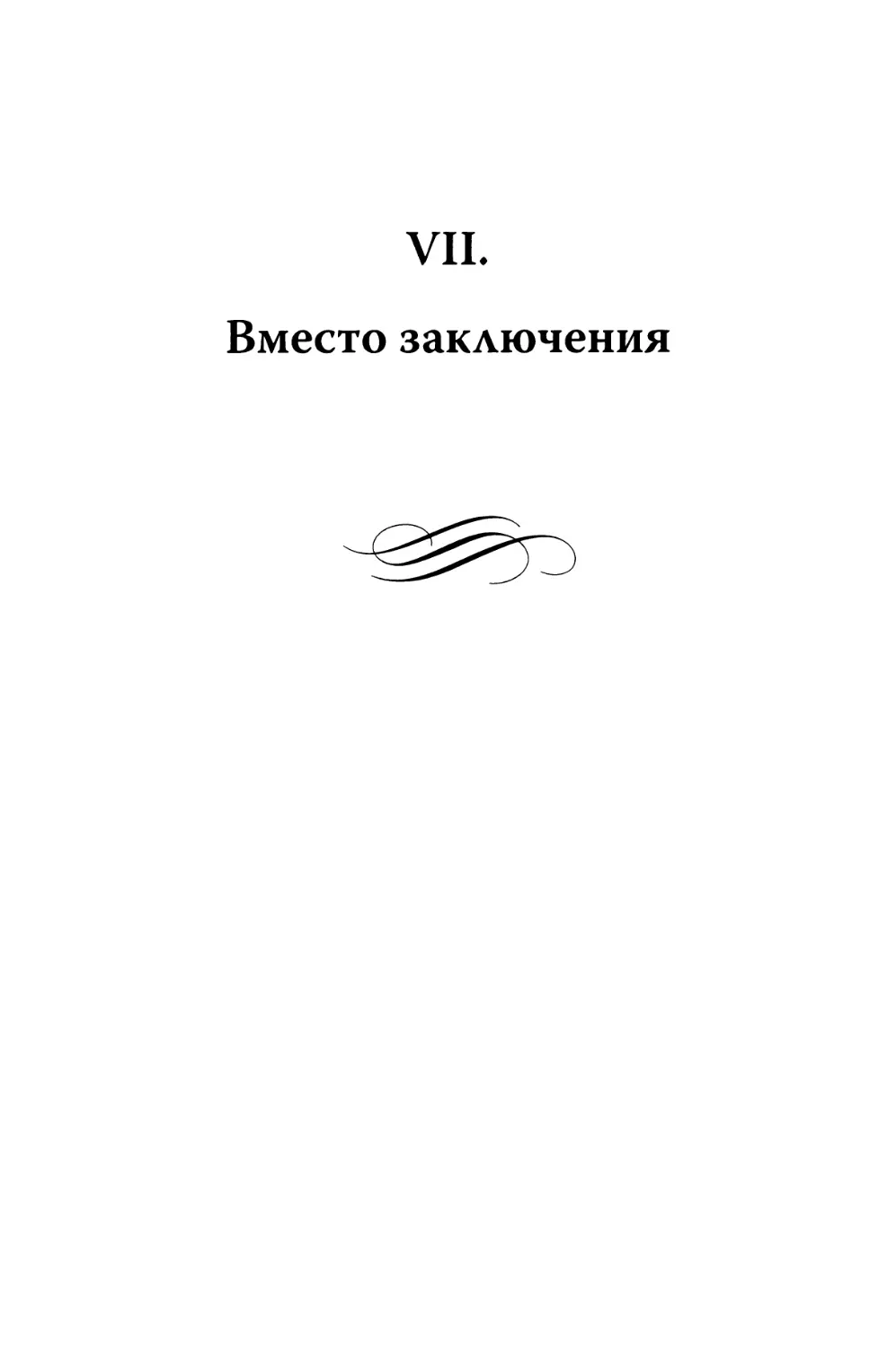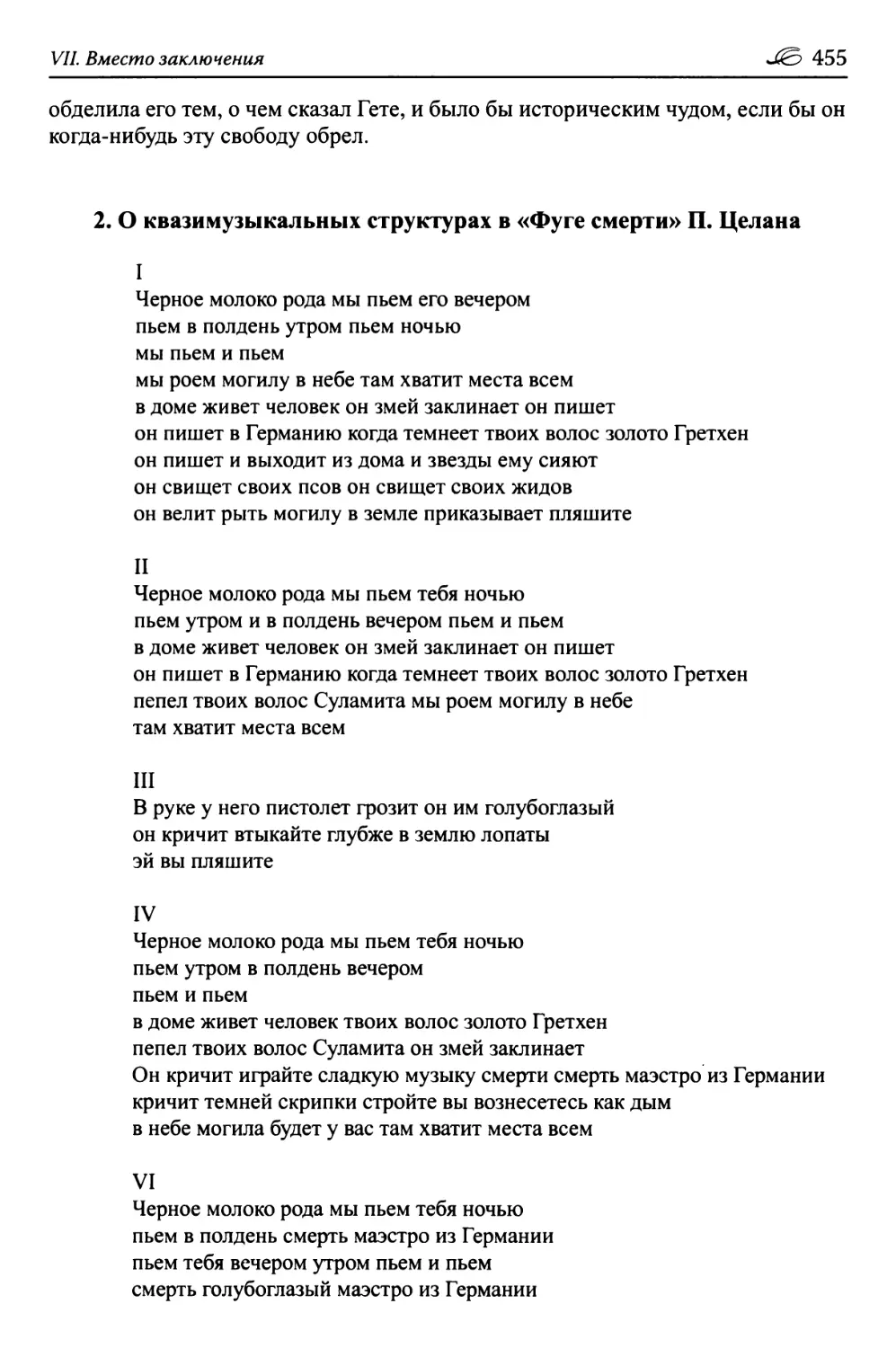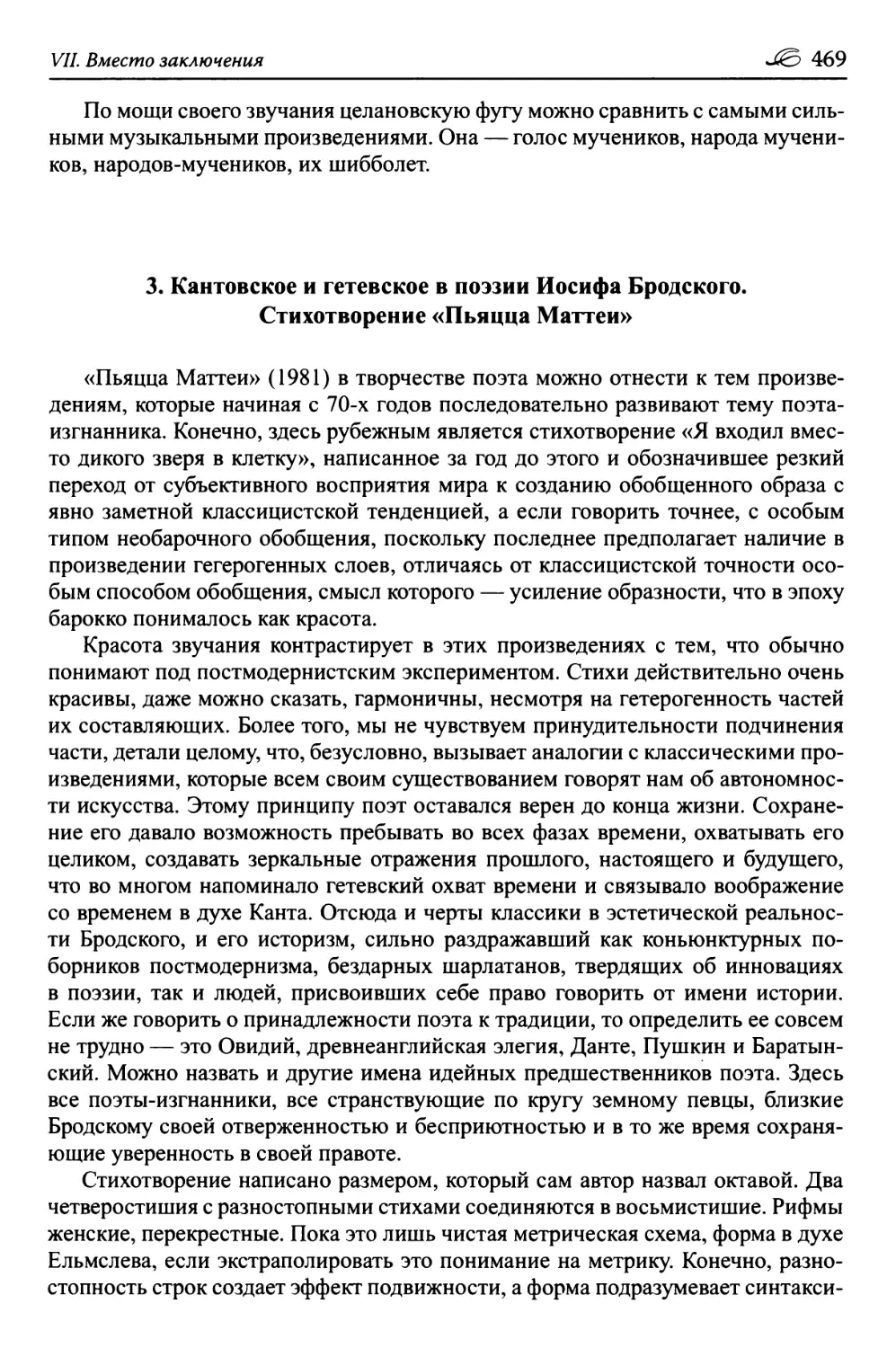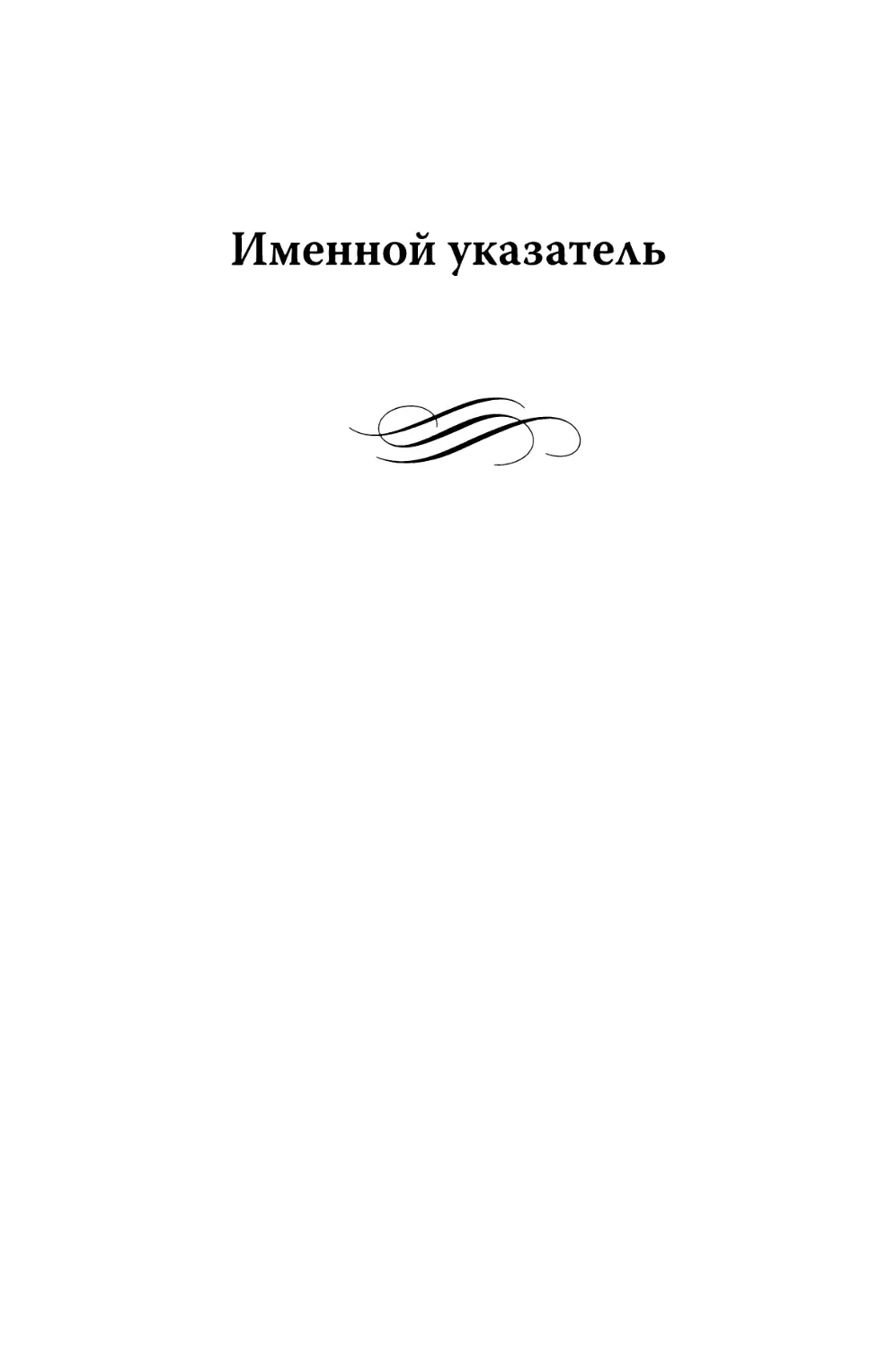Автор: Аствацатуров А.Г.
Теги: язык языкознание лингвистика литература монография философский трактат исследования творчества герменевтический анализ немецкая классика
ISBN: 978-5-93682-704-4
Год: 2010
А. Г. Аствацатуров
ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Герменевтическое исследование творчества
И. В. ГЕТЕ, Ф. ШИАЛЕРА,
В. А. МОЦАРТА, Ф. НИЦШЕ
«Геликон Плюс»
Санкт-Петербург
2010
УДК 882
ББК83.3(2Рос=Рус)1
А91
Аствацатуров А. Г.
А 91 Поэзия. Философия. Игра. : Герменевтическое исследование творчества
И. В. Гете, Ф. Шиллера, В. А. Моцарта, Ф. Ницше. — Санкт-Петербург,
«Геликон Плюс», 2010. — 496 с.
ISBN 978-5-93682-704-4
Настоящая монография — осуществленный в русле философского литературоведения
герменевтический анализ произведений немецкой классики, в котором принципом
герменевтического предпонимания стали понятие и феномен эстетической игры. В ней
анализируются великое творение И. В. Гете трагедия «Фауст», вершинное теоретическое
произведение всей немецкой классики — философский трактат Ф. Шиллера «Письма об эстетическом
воспитании человека». В очерках, посвященных творчеству В. А. Моцарта и музыкальной
эстетике Ф. Ницше, рассматривается развитие классического дискурса в оперном искусстве
Моцарта и в философии музыки Ницше. Заключительный раздел книги — интерпретация
отзвуков классики в творчестве Д. Мережковского, П. Целана, И. Бродского. Книга
предназначена филологам, философам, историкам культуры, аспирантам, магистрам и студентам
филологической и философской специализаций, а также всем интересующимся немецкой
классической литературой, философией и музыкой.
Книга издана по решению и при финансовой поддержке
редакционно-издателъского совета Института иностранных языков.
Научный редактор:
Д-р.филол.н. проф. А. И. Жеребин
Рецензенты:
Д-р.филол.н. проф. Т. В. Соколова
Д-р.филол.н. доц. А. Л. Вольский
ISBN 978-5-93682-704-4 ® АстваиатУР0В А· г- текст> 2010
О «Геликон Плюс», оформление, 2010
Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ 5
I. ГЕТЕ И МИР ИГРЫ 15
И. ТРАГЕДИЯ И. В. ГЕТЕ «ФАУСТ». ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ЧАСТИ:
ОБРАЗЫ И ИДЕЯ 41
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1. От всезнания к титанизму. Сцена «Ночь» 43
2. Алхимическая прелюдия пари и пакта 65
3. Странное пари и пакт. 80
4. Фауст и Гретхен 100
5. Вальпургиева ночь и катастрофа 118
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1. Объективность второй части 147
2. Новое время, демония и алхимия 153
3. Дух, летящий в колбе. Фигура Гомункула 158
4. Гармония, осененная смертью. Третий акт. '. . 185
5. Революция, война и реставрация. Четвертый акт. 199
6. Трагедия властителя и крах утопии безусловной деятельности.
Пятый акт. 224
7. Завершение драмы. Сцена «Горные ущелья. Лес, скалы, пустыня.». 247
III. ПОЭТ И ПРОСВЕЩЕННОЕ ОБЩЕСТВО. ДРАМА И. В. ГЕТЕ
«ТОРКВАТО ТАССО» 259
IV. ПРЕКРАСНАЯ СВОБОДА. ПРОБЛЕМА «ИСКУССТВО
И КУЛЬТУРА» В ЭСТЕТИКЕ Ф. ШИЛЛЕРА 273
1. История и культура через призму критики -. 275
2. Трансцендентальная дедукция культуры 282
3. Транцендентальная дедукция красоты и искусства 295
4. Искусство как игра 302
5. Место искусства в культуре 307
6. Проблема типологии художественных культур и идея
культуристорического синтеза в статье Ф. Шиллера
«О наивной и сентиментальной поэзии» 321
7. Итоги 334
4 Sîl
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
V. ИГРЫ ГЕНИЯ И ИХ ОТЗВУК. О ПИСЬМАХ И ТВОРЧЕСТВЕ
В. А. МОЦАРТА 339
1. Играющий гений и серьезность творчества 341
2. «Дон Жуан» 356
3. Клавирные концерты 364
4. «Cosi fan tutte». Игра и жизнь 371
5. «Волшебная флейта». Первая и вторая части. Моцарт и Гете 388
VI. О МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКЕ Ф. НИЦШЕ 401
1. Музыка и слово. Вагнеровская тема в «Рождении трагедии из духа
музыки.» 403
2. Феномен игры в философской прозе Ф. Ницше 422
3. Музыка, рожденная игрой. Феномен музыки Юга
в эстетике Ф. Ницше 433
VII. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 447
1. Фаустовский код Петербурга 449
2. О квазимузыкальных структурах в «Фуге смерти» П. Целана 455
3. Кантовское и гетевское в поэзии И. Бродского. Стихотворение
«Пьяцца Маттеи» 469
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
477
Светлой памяти моего незабвенного учителя
Моисея Самойловича Кагана
Предисловие
Книга, предлагаемая читателю, — результат многолетних герменевтических
исследований автора в области немецкой классической литературы, философии
и эстетики. Уже названия разделов монографии, главной фигурой которой стал
Иоганн Вольфганг Гете, определяют ее темы. От читателя не скроется и тот факт,
что в разделах, посвященных другим немецким гениям — Фридриху Шиллеру,
Вольфгангу Амадею Моцарту и Фридриху Ницше также присутствует Гете,
нисколько не умаляя самодостаточности этих великих фигур мировой культуры.
Будучи парадигматическим выражением классического искусства и
классического мировоззрения вообще и став центром этой книги, Гете заставил автора
искать связующие нити между ним и близкими ему по духу гениями. Искать
общее между ними и Гете на основе априорных нормативных схем и отвлеченных
от художественной практики принципов так называемого классицизма, которые
делают всех на всех похожими и мало что добавляют к постижению
искусства с широкими горизонтами, автору кажется совершенно бесперспективным.
В первую очередь здесь речь должна идти об идейной близости, как в случае
с Ф. Шиллером и В. А. Моцартом. В герменевтическом исследовании, где
прежде всего важен процесс постижения и истолкования, необходимо найти то, что
относится к области предпонимания. В этой книге таковыми будут феномен и
понятие игры.
Определяя игру как феномен культуры, М. С. Каган указывал на те моменты
игры как человеческой деятельности, которые были важны для ее понимания
в конце XVIII века, прежде всего для немецких классиков Виланда и Гердера,
Гете и Шиллера. Игра человека существенно отличается от игр животного,
поскольку является не инстинктивным биологическим регулятором поведения
особи, а свободно избираемым и свободно осуществляемым типом
деятельности, бескорыстным и утверждающим человеческие способности и умения как
таковые. «Принадлежность игры к культуре проявляется не в частных
культурных функциях того или иного конкретного вида игры — ролевой игры ребенка,
дидактической игры учащихся, спортивной игры или деловой, — а в присущих
человеческой деятельности во всех ее формах неких игровых потенций, которые
присутствуют в латентном виде в труде, но могут стать определяющими,
превращая труд в игру, то есть делая его интрогенной, по Д. Узнадзе, самоцельной,
свободной деятельностью человека»1. Если говорить об упомянутых игровых
1 Каган М. С. Философия культуры. СПб, 1996. С. 188—189.
6 ®L·
Л. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
потенциях, важных для Канта, Гете и Шиллера, то у них речь шла прежде всего
о свободе, имманентной игре как деятельности, которая не ограничивала бы
человека как внешними, так и внутренними принуждениями, но не была бы
произволом, эту свободу уничтожавшим.
Для классического философского и эстетического дискурсов характерен в
первую очередь антропологический, философский интерес к игре и поиск
чистой игры, в кантовском смысле трансцендентальной, своего рода метадеятель-
ности, энергия которой сродни спонтанности божественного творчества, точнее,
такая спонтанность является для этой энергии мерилом. Игра создает в сознании
человека именно такую аналогию, которая и без метафизических обобщений
удовлетворяет человека естественным образом, делая пространство игры, по
выражению Ойгена Финка, «оазисом счастья». Для Гете деятельность, в
которой он не находил игрового начала, теряла всякий смысл, тогда как наличие его
сразу же побуждало поэта к обобщениям самого широкого плана. «Все, что мы
называем изобретением, открытием в высшем смысле, есть из ряда вон
выходящее проявление, осуществление оригинального чувства истины, которое, давно
развившись в тиши, неожиданно с быстротой молнии ведет к плодотворному
познанию. Это — на внешних вещах развивающееся откровение, которое дает
человеку предчувствие его богоподобности. Это — синтез мира и духа, дающий
самую блаженную уверенность в вечной гармонии бытия»2. Гете здесь говорит,
собственно, об остановившемся мгновении, о переживании этого
неотменяемого мгновения, в котором жизнь отказывала его Фаусту и возможность которого
Фауст для себя отрицал. Когда Гете говорит об игре, он имеет в виду чистую
деятельность, гармонически входящую в соприкосновение с миром. Игра для
него входит в конституцию субъекта; будучи своего рода подъемом и
парением в нем, она создает изменяющиеся установки сознания, способствующие его
возвышению. Гете подчеркивает в игре один особенно важный для него момент:
воображение манифестирует себя как игру, как речь дискурса о воображаемом.
Поскольку в этой книге речь идет об эпохе, когда античное искусство и
античная мысль высоко стояли в цене, то для прояснения гетевского понимания
игры важно вспомнить, какое значение имели сам феномен и понятие игры в
античной философии, так как последние на протяжении всей ее истории
претерпевали эволюцию.
В своей монументальной «Истории античной эстетики» А. Ф. Лосев
проследил метаморфозы понятия игры начиная от ранней классики до
неоплатонизма, от Гераклита до Плотина и Прокла. Касаясь образа играющего младенца у
Гераклита, Лосев указывает, что он имеет у греческого философа переносный,
сигнификативный смысл: «Гераклитовский ребенок — это не только метафора,
но вполне буквальная характеристика космоса»3.
Антропоморфная характеристика космоса находит свое выражение в
картине младенческой игры, свойство которой — «стихийность и
безответственность», что, собственно и составляет сущность понятия гераклитовского станов-
2 Лихтенштадт В. О. Гете. Борьба за реалистическое мировоззрение. Петроград, 1920. С. 340.
3 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Книга II. М., 1994.
С.152.
Предисловие
JB 7
ления. Неслучайно именно этот символ оказался близким и Фридриху Ницше.
А. Ф. Лосев предостерегает от недооценки этого образа, считая, что «вся
сущность или, вернее сказать, сам стиль античной философской эстетики в том и
заключается, что космос характеризуется не просто онтологически, но еще и
игровым образом»4.
Действующее в космической жизни игровое начало, игровая энергия,
вызывающая движение, выглядит для грека проявлением судьбы, это начало
пребывает в игре с самим собой; поэтому оформленный космос понимается как
универсальная игра, игрушка в руках судьбы. Описывая философию и эстетику
Платона, А. Ф. Лосев детальнейшим образом останавливается на
разнообразных модификациях понятия игры в метафизическом платоновском дискурсе,
как если бы игра имела космогонические функции, которые совершенно
естественно распространяются на человеческий мир: «Жизнь людей есть игрушка в
руках богов, причем это мнение он (Платон) считал необходимым для
установления правильной людской морали»5.
Отождествление античными философами сценического искусства и игры
приводит в большинстве случаев к экстраполяции игры на все мироздание.
Причина этого была прекрасно схвачена и понята Гете, который в «Учении о
цвете» писал: «Если в постановке научных изысканий, как они велись греками,
мы нашли немало недостатков, то рассматривая их искусство мы вступаем в
совершенный круг, который хотя и замыкаясь в самом себе, в то же время входит в
качестве звена в научную работу и там, где знание оказывается недостаточным,
удовлетворяет нас действием. Людям искусство вообще более по плечу, чем
наука. Первое принадлежит больше чем наполовину им самим, вторая больше чем
наполовину ·— миру. Развитие первого можно представить себе в чистой
последовательности, развитие второй немыслимо без бесконечного накопления. Но
преимущественно определяет разницу между ними то, что искусство
завершается в своих единичных созданиях, наука же представляется нам бесконечной»6.
Эти мысли поэта объясняют нам, насколько широко была распространена в
античной ментальное™ парадигма искусства — игры. Многочисленные примеры
указанной нами экстраполяции Гете мог также найти у Плотина, которого поэт
внимательно читал и переводил. При этом у античных философов аналогии
чаще всего возникали при сравнении процессов, происходящих в мироздании,
со сценической игрой, проводимой в строгой последовательности,
определенной драматургом.
А. Ф. Лосев указывает, что «среди различных представлений древних
греков о жизни космической и человеческой можно определенно выделить одно,
возводя его к модели игры с несколькими ее модификациями. Во-первых, это
стихийная, неразумная игра вселенских сил, изливающая переизбыток своей
энергии на человеческую жизнь, входящую в общий природный круговорот
мировой материи. Во-вторых, жизнь универсума и человека есть не что иное,
4 Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 154.
5 Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 154.
6 Goethe J. W. Materialien zur Geschichte der Farbenlehre // Goethe J.W. Werke. Hamburger Ausgabe.
München, 1989. Bd. XIV. S. 40.
8 SL
Α. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
как сценическая игра, строжайше продуманная и целесообразно
осуществляемая высшим разумом. Обе эти тенденции не исключают одна другую, а
существуют вместе, коррегируя друг друга, часто нерасторжимы и даже
тождественны»7. Описание трансформации такого рода моделей в поэзии Нового времени
читатель найдет в этой книге. Гетевский «Фауст» здесь самый лучший объект
анализа.
Стремление находить связь между игрой и искусством, а иногда и их
отождествлять — достаточно распространенная тенденция в истории культуры, и
«игровая редукция» искусства, точнее поиск изоморфизма игровых и
художественных структур, начавшийся в конце XVIII века, демонстрировала
стремление видеть в искусстве автономную, внутренне свободную, самодостаточную
деятельность. Вклад Гете и Шиллера в эту проблему трудно переоценить.
Причину поиска изоморфности игры и искусства М. С. Каган в своей последней
книге объяснял тем, «что искусство и игра сходным способом моделирует
реальное бытие человека в мире — представляя бытие в формах небытия, то есть
создавая некие разновидности инобытия: искусство творит иллюзорную
"художественную реальность", воспринимаемую и переживаемую как квази-бытие,
а игра конституирует условную "игровую реальность", которая точно так же
воспринимается и переживается (и игроками, и зрителями) не как подлинная
борьба, кровавая схватка, чьей целью является если не физическое уничтожение
проигравшего, то его подчинение, порабощение, ограбление, а как
соревнование в силе, уменье, ловкости, изобретательности, сохраняющее дружбу игроков
в их реальном, подлинном бытии (понятно, что игры гладиаторов или "русская
рулетка" — патологические формы игры). Таким образом, и в искусстве, и в
игре подлинное бытие действующего лица сменяется на время его
ситуативным "бытием" (персонажа спектакля, фильма или игрока)»8. М. С. Каган также
отмечает в самом понятии игры наличие ценностного параметра, который был
очень важен для немецкой классики и фиксировал требование рассматривать
художественное творчество в контексте свободы как внешней, так и внутренней.
В этом случае подобная «деятельность-игра» означает свободу от принуждения
и способность возбуждать чувство бескорыстной радости («эстетического
удовольствия») от того, как делается то, что делается, то есть от мастерства,
искусности созидательного процесса. Это положение может быть только исходным
для понимания гетевской концепции игры.
Проблему сходства и различия искусства и игры затрагивает также Ю. М. Лот-
ман, рассматривая оба вида человеческой активности в семиотическом аспекте.
«Игра — "как бы деятельность", а искусство — "как бы жизнь". Из этого
следует, что соблюдение правил в игре является целью. Целью искусства является
истина, выраженная на языке условных правил. Поэтому игра не может быть
средством хранения информации и выработки новых знаний (она лишь путь к
овладению уже забытыми навыками). Между тем это составляет сущность
искусства.
7 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итог тысячелетнего развития. Книга II. С. 501—502.
8 Каган М. С. Метаморфозы бытия и небытия. Онтология в системно-синергетическом
осмыслении. СПб, 2006. С. 240.
Предисловие
JB 9
Гетевская концепция человеческой деятельности, конечно, включает в себя
описание различий между ее видами9, однако ее суть заключается не в
проведении разграничительных линий между ними, а в поиске возможного их синтеза.
Наука и искусство у Гете, как будет показано в этой книге, не могут обойтись без
игры. И эту интенцию гетевского и шиллеровского мышления подтверждает ин-
тециональный объект. «Игра весьма далека по сути от искусства. И если
сопоставление его с игрой позволяет раскрыть некоторые стороны художественных
моделей, то противопоставление дает не менее важные результаты. Научные
модели представляют собой средство познания, организуя определенным
образом интеллект человека. Игровые модели, организуя поведение, являются
школой деятельности. В связи с этим понятно, насколько безосновательна мысль о
том, что тезис о наличии в искусстве игрового элемента противостоит
представлению об общеизвестной деятельности, — на самом деле имеет место прямо
противоположное: игра есть один из путей превращения отвлеченной идеи в
поведение, деятельность»10.
Наличие игрового элемента в поэзии для Гете было ее существенным
обогащением, и введение его в искусство означало для него трансформацию,
изменение, преобразование привычных форм мимесиса, вырождавшихся с течением
времени в натуралистическое подражание и бессмысленное копирование.
Поэтому искусство Гете-классика, а также его теоретические построения мы можем
назвать экспериментальными. И таким грандиозным экспериментом были его
«Фауст», драмы веймарского периода и все романы.
Нет ничего более ошибочного, чем представление об искусстве
Гете-классика как о неком нерушимом, грандиозном классицистском монументе, о который
разбиваются смелые яркие романтические искания, якобы более подвижные
художественные дискурсы. Эластичное, подвижное искусство Гете как раз
поэтому и выдержало испытание времени, что оно благодаря большому
коэффициенту игры и интертекстуальности оказалось динамичным и многозначным и, что
самое важное, требующим для своего понимания представления об искусстве
как о процессе. К игровым элементам гетевского искусства мы, бесспорно,
можем отнести все, что связано с его интермедиальностью, которая подтверждает
синтетичность творчества поэта. Они уже давно стали предметом пристального
изучения11.
Раздел книги «Гете и мир игры» был задуман как введение, в котором
сосредоточены лейтмотивы, разрабатываемые в других разделах книги. В этом
отношении все разделы книги без исключения связаны с введением.
9 См. об этом разделы «Гете и мир игры», а также «Поэт и просвещенное общество. Драма Гете
"Торквато Тассо"».
10 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 91.
11 Из многочисленных работ, посвященных этой теме, укажем на те, которые важны для
настоящего исследования: Hartmann T. Goethes Musiktheater. Singspiele-Oper-Festspiele-Faust. Tübingen,
2003; Holtbernd B. Die dramatische Funktionen der Musik in den Schauspielen Goethes. «Alles auf
Bedürfnis der lyrischen Bühne gerechnet». Frankfurt am Main, 1992; Oesterle G. Das Faszinosum der
Arabeske // Goethe und das Zeitalter der Romantik, hrsg. von W. Hinderer. Würzburg, 2002. S. 51—70;
Witte B. Das Opfer der Schlange. Zur Auseinandersetzung Goethes mit Schiller in den Unterhaltungen
deutscher Ausgewanderter und im «Märchen» // Goethes und Schillers Literaturpolitik, hrsg. von W. Barner.
Stuttgart, 1984. S. 461—484.
10 SîL·
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Такой объект исследования, как «Фауст» Гете, будучи произведением
многоплановым, многослойным, интермедиальным, интертекстуальным, требует
от исследователя, который отваживается начать его герменевтический анализ,
использования сразу же нескольких призм, способных представить «Фауст»
как единое целое, не упуская из виду многоуровневую структуру трагедии Гете.
Поэтому последовательный герменевтический анализ должен считаться здесь с
системным подходом. Последний особенно важен для понимания образа Фауста
как человека модерна. Такой подход демонстрируют системные исследования
М. С. Кагана, Сильвио Вьетты, Дирка Кемпера, открывающие
культурологические перспективы, а также возможность трансцендентально-типологического
подхода к тексту12.
Восхищение моцартовскими операми, постоянно высказываемое Гете в
разговорах своим собеседникам, объясняется сходством художественной
эволюции, близостью устремлений, которые поэт, зная дух своего времени,
должен был ощущать. В трех великих операх, сочиненных на либретто Лоренцо
Да Понте — «Свадьбе Фигаро», «Дон Жуане» и «Так поступают все
женщины», — этический момент не был центральным, хотя в первых двух он все
же достаточно ясно акцентирован. В «Волшебной флейте», над продолжением
которой Гете работал, этическая проблематика была, так же как и у Моцарта,
выдвинута на передний план. Жан Старобинский, приводя в пример
«Волшебную флейту», а затем симфонии Бетховена, отмечает, что и развитие XVIII
столетия привело от субъективности чувства к субъективности воли. Это путь,
который проделал гетевский Фауст. «Образовывается брешь, благодаря
которой наконец в социальном мире силы находят себе применение в конкретной
действительности, в пространстве, которое можно завоевать и в котором
можно господствовать»13. Поэт, который был выразителем субъективности
чувства, видит в сказочной игре, созданной Моцартом, идейное художественное
произведение, где все фигуры группируются вокруг солнца,
олицетворяющего добродетель и справедливость, хотя, как мы увидим, путь к победе
разума у Гете будет сложнее. Объяснять это сходством масонских устремлений и
приверженностью к подобной символике тем, что Моцарт, Шиканедер и Гете
были масонами и их увлекала масонская эзотерика, забыв о том, что за
фантастическими, экзотическими мотивами и масонскими символами стоят
глубокие и гуманистические идеи, которые затем развились у Гете в его романах
и «Фаусте», было бы совершенно поверхностным занятием. Если «Фауст» —
вершинное художественное творение веймарской классики, то шиллеровские
«Письма об эстетическом воспитании человека» — это целостный охват ее
12 Каган М. С. Философия культуры. СПб, 1996; Введение в историю мировой культуры в 2 кн.
СПб., 2003; Эстетика как философская наука. СПб, 1997; Метаморфозы бытия и небытия.
Онтология в системно-синергетическом осмыслении. СПб., 2006; Кемпер Д. Гете и проблема
индивидуальности в культуре эпохи модерна; Vietta S. Ästhetik der Moderne. Literatur und Bild. München, 2001;
Europäische Kulturgeschichte. Einfuhrung. Stuttgart, 2007. О трансцендентальной типологии текстов
см. подробнее: Жеребин А. И. К проблеме внежанровой классификации текстов в немецком
литературоведении (Сильвио Вьетта) // Русская германистика Т. V. Типология текстов Нового времени. М.,
2009. С.33-^2.
13 Starobinski J. L'invention de la liberté, Genf, 1964. p. 207.
Предисловие
JB 11
мировоззренческой проблематики, это ее философский портрет, написанный
на фоне общего кризиса культуры, находящиеся под угрозой взрыва. Трагедия
Гете дает нам образ человека модерна, эволюционирующего от субъективизма
чувства к субъективизму воли. Шиллер в своем философском трактате
показывает нам культуру модерна, культуру, где во всем ощущается диктат пользы,
выгоды. Культура модерна очень серьезна, она всеми силами стремится
уменьшить удельный вес игры и даже использовать игру для серьезных целей.
Культура модерна не желает играть. Она не находит никакого смысла в прекрасной
бесцельности. Шиллер описывает ее как замкнутую систему рациональности
цели, когда разум становится инструментальным, общественной машиной, а
польза — идолом времени. Игра есть освобождение от подобного идола, ибо
понятие игры — это свобода от принуждения, противоположность чисто
полезной деятельности, точнее, противоположность деятельности, которая
видит свою цель не в себе, а вне себя.
Читателя не должно удивлять присутствие в этой книге раздела о философии
и эстетике игры Фридриха Ницше. Ошибочным является представление о Ницше
как о мыслителе и художнике, враждебном всему классическому в философии
и искусстве. При внимательном, добросовестном и непредвзятом анализе его
текстов подобное представление не выдерживает никакой критики. Неоспорим
тот факт, что ницшевская дихотомия аполлинийского и дионисийского уходит
своими корнями в типологические построения Гете, Шиллера и Гельдерлина и
бесспорно является их развитием. Не произведения, показывающие
непостижимость и иррациональность бытия, господство бессознательного в психике
человека, не говоря уже о произведениях, выражавших мистическое чувство,
были любимы Ницше, а «Новелла» и вторая часть «Фауста», которую он ставил
выше первой и видел в ней образец аполлинийской поэзии как торжества
победы формы над хаосом. На многое, что видел Ницше в Италии — архитектуру,
скульптуру, живопись, — он смотрел глазами Гете, находя в себе подтверждение
того, что он читал в «Путешествии по Италии»14. Если говорить об
интертекстуальной составляющей философской прозы Ницше, то доля Гете в ней самая
большая. Здесь речь идет не об обильном цитировании произведений Гете, а об
огромном количестве скрытых и трансформированных цитат, которые созвучны
мыслям философа.
Как поэт и прозаик Ницше всегда восхищался Гете и никогда не прекращал у
него учиться. Как историк он был един с Гете в отрицании притязаний
профессиональных историков на обладание истиной, когда из прошлого как необходимость
рисуется перспектива для настоящего, а историцизм становится препятствием
для жизни. Как философ Ницше считал, что нашел уязвимый момент в гетев-
ской интерпретации греческого мира, а именно — непонимание и недооценку
феномена дионисийского и отказ считать его творческим импульсом15. Как кри-
14 О воздействии Гете на поэзию Ф. Ницше и его мировосприятие см. подробнее анализы в
кн. Лейбель Е. Ницше: образы и мифотворчество. СПб, 2008. С. 41—47; 72—74; 108—110; 194—
196.
15 См. раздел «Чем я обязан древним» в «Сумерках кумиров» // Ницше Ф. Собр. соч. Т. 4. М, 2001.
С. 182—183.
12 3*-
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ ФИАОСОФИЯ. ИГРА
тик культуры он чувствовал себя полноправным наследником Гете, особенно в
отношении к Германии и христианству. Мысли Ницше постоянно скрещивались
и фокусировались на Гете. Гете был почти единственным образом немецкого
прошлого, который он никогда не подвергал переоценке и на который не
распространялся его генеалогический метод. Можно сказать, что жизнь Гете воплощала
для Ницше самое ценное, что было для него в европейской культуре16.
Гете-классик был особенно близок Ницше. Признавая огромное лирическое
дарование молодого, довеймарского Гете, Ницше считал, что поэт находился
тогда под сильным влиянием религии природы, проповедуемой Руссо, что
определило его реактивное, типичное для XVIII века отношение к миру. Однако
позитивность творческой натуры и гениальность, которые гармонически сочетались
у Гете во всех проявлениях, превращались у него в «стремление к тотальности, к
целостности, которая мыслится не как сущая неподвижность, не как
неподвижное бытие, а как охват личностью древнейшей антитетики между становлением
и бытием, между деятельностью и бытием, как поклонение природе, ее тайной
деятельности, с помощью которой она создает и питает жизнь»17. Этот охват
целостности мира, всей совокупности знаний о мире позволил Гете создать
искусство, которое по мощи сотворенных им образов соответствует принципам
возвышающейся жизни, преодолевающей стихийность с помощью игры
своими возможностями; результатом этой игры становится видимость, отражающая
эту возвышающую творческую жизнь. В «Рождении трагедии» Ницше видит в
Фаусте человека модерна: «Как непонятен был бы истинному греку понятный
нам всем Фауст, тот современный человек, плод культуры, которому штурм всех
факультетов не приносит удовлетворения, который, мучаясь от жажды знаний,
предается магии и союзу с чертом и которого мы здесь упоминаем ради
сравнения с Сократом, чтобы понять, что человек нашей эпохи начинает чувствовать
пределы сократовской тяги из бескрайнего пустынного моря знания на
спасительный берег»18.
Фауст, каким его видит Ницше, как человек модерна находится в
безвыходной ситуации, на которую его обрекает распад культуры на ученую
(александрийскую) и варварскую (дионисийскую) со всеми мрачными для человека
последствиями. Гетевское искусство, противостоящее этому распаду, показывает
жизнь во всех ее широких горизонтах и перспективах, воссоздавая игру жизни
во всем спектре ее возможностей. Творческий гений Гете утверждает себя в
игре, которая противостоит всем миметическим формам, слепо отражающим
декадентские процессы в культуре и натуралистически фиксирующие слабую
жизнь, стремящуюся в небытие, в ничто. Враждебное всему утопическому и
революционному, говорящее «Да» жизни и возвышающее ее, гетевское
искусство-игра концентрирует в себе воплощенные в искусстве возможности игры как
16 Leppmann W. Goethe und die Deutschen. Der Nachruhm eines Dichters im Wandel der Zeit und
Weltanschauungen. Stuttgart, 1982. S. 132.
17 Аствацатуров А. Г. Три великих книги Фридриха Ницше // Ницше Ф. Стихотворения.
Философская проза. СПб, 1983. С. 58.
18 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза.
СПб, 1993. С. 214.
Предисловие
J& 13
деятельности. Искусство Гете собирает в себе все, что кажется давно
устаревшим, отжившим, забытым, и мощной энергией гения оживляет все, мимо чего
прошло человечество, возвращая ему связь времен. Игровой мир Гете вбирает
в себя всю мощь преобразования действительности, бесстрашного
эксперимента над ней, и сила этого эксперимента в том, что последний не стал насилием
над духом жизни. «Не личности, а более или менее идеальные маски; не
действительность, а аллегорические обобщения; характеры эпохи, местные
краски, ослабленные почти до невидимости и превращенные в мифы; современные
чувства и проблемы современного общества, сведенные к их простейшим
формам, лишенные своих привлекательных, интересных патологических качеств
и сделанные бесплодными во всех смыслах, кроме артистического, никаких
новых тем и характеров, а лишь постоянно новое одушевление и
преобразование старых, давно привычных характеров — таково искусство, как его позднее
понимал Гете и как его осуществляли греки, а также и французы»19. Нельзя не
согласиться со словами Вольфганга Леппманна: «Если бы Ницше в тему Гете
не внес ничего другого, кроме этой классической дефиниции классического
поэта, то только этим он гарантировал бы себе место в развитии немецкого образа
Гете»20. Добавим от себя: также и в современном понимании творчества Гете,
его исторических перспектив и художественной ценности.
В разделе, посвященном эстетике Ф. Ницше, мы рассматриваем его
философию игры как продолжение тех тенденций в искусстве и эстетике, которые
обозначились и развивались у Гете. Цитируя заключительные строки
стихотворения Гете «Жених»: «Что б ни было, жизнь все же хороша», Ницше
считает, что в них отразился тысячелетний опыт искусства, учившего «с интересом
и радостью смотреть на жизнь во всякой ее форме». Антидекадентская
концепция искусства рождалась у Ницше благодаря постижению
художественного и эстетического опыта Гете. «Это учение искусства — получать радость от
бытия и рассматривать человеческую жизнь как часть природы без слишком
бурного участия в ней, как предмет закономерного развития, — это учение
вросло в нас, оно теперь снова проявляется в нас как всемогущая потребность
познания»21.
Гетевское в прозе и поэзии Ф. Ницше — это многочисленные россыпи
драгоценных камней, сияние которых не может скрыть никакой опыт
деконструкции наследия философа-поэта. Без гетевского начала Ницше невозможен. По
мере освобождения от влияния метафизики Шопенгауэра и романтизма Вагнера
это начало обретает у Ницше все большую мощь.
Заключительный раздел книги, названный «Вместо заключения», состоит из
трех герменевтических этюдов, показывающих трансформацию гетевских
образов в исторической перспективе.
Автор считает долгом выразить признательность и искреннюю благодарность
своим друзьям и коллегам, поддержка, помощь и советы которых ободряли его
19 Ницше Ф. Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 355—356.
20 Leppmann W., op. cit. S. 136.
21 Ницше Φ. Соч. в 2 τ. T. 1. M., 1990. С. 356.
14 Зь
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
в работе: научному редактору книги д-ру филол. наук, проф. А. И. Жеребину,
рецензентам д-ру филол. наук проф. Т. В. Соколовой и д-ру филол. наук доц.
А. Л. Вольскому.
Автор глубоко признателен канд. филол. наук, проф. ИИЯ И. С. Алексеевой
за предоставленную ему возможность участвовать в руководимых ею проектах
по изданию «Фауста» И. В. Гете и «Полного собрания писем» В. А. Моцарта,
работа над которыми впоследствии легла в основу разделов этой книги. Во время
работы над ней автор постоянно ощущал поддержку своих учениц,
оказывавших ему помощь, канд. филол. наук доц. Е. В. Бурмистровой и канд. филол. наук
доц. Е. В. Лейбель.
Особую благодарность автор выражает Елене Викторовне Тузенко, своей
ученице, без бескорыстной помощи и самоотверженного труда которой эта
книга никогда не увидела бы свет.
I.
Гете и мир игры
/. Гете и мир игры
J& 17
Принято исключать игру — в ее обыденном толковании — из прочных, давно
устоявшихся структур нашего серьезного бытия, выводить ее из его
сущностного центра. Даже признавая тот факт, что игра обладает магической властью над
человеком, который может отдать ей все свои силы, целиком в нее погрузиться
и наслаждаться ею, мы видим в ней нечто дополнительное, наполняющее собой
наше свободное время, дающее нам разрядку от всего, что своим напряжением
или же монотонностью и однообразием утомляет нас. Действительно,
человеческая жизнь, жизнь конечного существа, в своей большей части нацелена на
будущее, она выглядит выполнением какой-то задачи, своего рода
проектированием будущего; и это все сфера серьезности. Даже игру, игровое действие,
«которому присущи лишь имманентные цели», мы склонны рассматривать как
достижение какой-то иной цели; мы и играем ради закалки тела, ради здоровья,
в игре обучаемся военным навыкам, мы играем иногда, чтобы «избавиться от
скуки и провести пустое, бессмысленное время»1.
Лишь детям разрешаем мы полностью отдаваться игре, но даже тогда мы
стремимся сделать игру средством подготовки ребенка к «взрослой жизни», к
чему-то серьезному, своего рода пробой человеческих сил для освоения бытия.
Мы навязываем игре детей, и не только детей, гетерогенные, чуждые ей цели,
внешние цели. Мы лишаем мир игры присущей ему свободы, тормозим
творческое порождение особого игрового мира. Давая ребенку фабричное изделие,
называемое нами игрушкой, мы забываем, что только в игре, т. е. в смысловом
контексте игрового мира, это изделие становится игрушкой. Гете писал в
романе «Годы учения Вильгельма Мейстера»: «Играя, дети умеют делать все из
всего: палка превращается в ружье, щепка — в меч, комочек тряпья — в куклу,
любой уголок — в хижину»2. Преобразовывая в своей фантазии
действительность, предметный мир, дети вступают в недействительный мир игры, в сферу
видимости, погружаются в нее, играют в ней свою роль, имея перед собой
партнеров, у которых тоже своя роль. Трансформированная в игре реальность, ее
структуры превращаются в правила, условия игры; реальность в чистом виде
покинута, она оставила игре лишь свои возможности, которые стали
реальностью игры. Эти возможности, отношения, структуры создают бесконечное
разнообразие игрового мира, дают человеку оазис свободы и счастья, в котором он
может играть и наслаждаться всеми возможностями бытия.
Мы знаем, что со времен Аристотеля феномен игры привлекал к себе
внимание многих мыслителей. Сейчас это тема философии, философской
антропологии, психологии, культурологии, педагогики; реже к ней обращается
литературовед. Очень редко проблема игры поднималась в связи с творчеством
И. В. Гете. Мы имеем прекрасную работу Вольфганга Кайзера «Гете и игра»,
но написана она давно и, конечно, нуждается в серьезных дополнениях, необ-
1 Финк О. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной философии.
М., 1988. С. 365.
2 Гете И. В. Собр. соч. в 10 т. Т. 7. М., 1978. С. 25.
18 SL
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
ходимость которых подсказана самой творческой мыслью этого выдающегося
литературоведа, когда мы ей следуем3.
Для нас правомерность такой проблемы не подлежит сомнению по
нескольким причинам. Многочисленные тексты поэта, как художественные, так и
научные, его высказывания дают нам примеры метафор, компонентом которых
является игра, слово игра (Spiel). Здесь уже есть проблема гетевского понимания
и гетевской оценки игры, поскольку многочисленное применение этого слова
в метафорике обладает, как пишет Х.-Г. Гадамер, методическим
преимуществом: «Если слово переносится в область применения, к которой оно изначально
не принадлежит, то собственно первоначальное значение предстает снятым и
язык предлагает нам абстракцию, которая сама по себе подлежит понятийному
анализу»4. Возьмем хотя бы письмо Вертера от 20 января: «Я словно нахожусь
в кукольном театре, смотрю, как движутся передо мной человечки и лошадки,
и часто думаю, не оптический ли это обман. Я тоже играю на этом театре,
вернее, мною играют, как марионеткой, порой хватаю соседа за деревянную руку
и отшатываюсь в ужасе»5. Если принять во внимание, что в оригинале Вертер
сравнивает себя с человеком, находящимся перед Raritenenkasten, т. е.
Guckkasten, перед панорамой, ярмарочным аттракционом — там обозреваются всякого
рода забавные предметы, на которые надо смотреть через линзу, создающую
оптический обман, — то мы видим, что гетевский герой ставит под сомнение
реальность людей, действующих сообразно предписанному образцу. Вертер
вынужден играть, вернее он сам ощущает себя игрушкой, марионеткой: «Ich werde
gespielt». Уже пассивный предикат, отнесенный к человеческому субъекту,
обладает метафорической характеристикой, которая становится очевидной в эпитете
holzern (деревянный).
Здесь уже метонимически задается реальное свойство марионетки, ибо
таковой выглядит сосед с его «деревянной рукой». Герой Гете поставлен в ситуацию
марионеточного бытия, ритуализованного поведения придворного общества,
которое пытается сделать его игрушкой.
Гете никогда не соглашался принять в каком-либо виде платоновского
понимания человека как куклы, марионетки, которую тянут за нити боги, ему была
чужда и игра, смысл которой люди не понимают. Это относилось не только ко
внешним детерминантам, но и к человеческой субъективности, рассудочным
понятиям, науке, выполнявшей функцию платоновского божества,
умозрительным концепциям «форсированных талантов» и т. д. Нигде он не хотел быть
игрушкой, он хотел играть сам.
Анализируя многочисленные произведения Гете, мы находим в них
массу игровых моделей, которые открывают нам путь к его пониманию игры.
Это — зингшпили, оперы, тексты к маскарадам, романы, новеллы, «Фауст»,
драмы и научные труды. Не можем мы обойти и его многочисленные
высказывания, связанные с этой проблемой.
3 Kayser. W. Goethe und das Spiel // Kayser W. Kunst und Spiel. Fünf Goethe-Studien. Göttingen, 1961.
S. 30-^6.
4 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. M., 1988. С. 149.
5 Гете И. В. Собр. соч. в 10 т. Т. 6. М., 1988. С. 55.
/. Гете и мир игры
JB 19
Гете — носитель всех лучших игровых качеств культуры XVIII века, о
которой писал Йохан Хейзинга: «На каждой странице культурной жизни XVIII
века мы встречаемся с наивным духом честолюбивого соперничества, создания
клубов и таинственности, который проявляет себя в организации литературных
обществ, обществ рисования, в страстном коллекционировании раритетов,
гербариев, минералов и т. д., в склонности к тайным союзам, к разным кружкам и
религиозным сектам, — ив подоплеке этого всего лежит игровое поведение.
Это не значит, что все названное не имеет никакой ценности; напротив, именно
увлеченность игрой и не умеряемая никакими сомнениями самозабвенность
делают их исключительно плодотворными для развития культуры»6.
Думается, что без коллекций раритетов и минералов, гербариев, без
созерцания всего, что давала Гете природа, не было бы его открытий в области
ботаники, морфологии животных, физиологии цвета и геологии. Без клубов и
таинственности были бы иными страницы его романов.
Одним из первых, кто попытался подойти к проблеме игры у Гете, был
Георг Зиммель. Говоря о том, что поэт не придавал особого значения признанию,
так как последнее всегда связано с завершенным, окончательно оформленным
и отданным на суд людей произведением, Зиммель отмечает, что «награду Гете
обретал в самом творчестве, а не творении»7.
Если попытаться найти «чистейший феномен этой жизненной интенции», то
следует обратить внимание, как считает Зиммель, на ту выразительную
характеристику, которую сам Гете дал своему творчеству в разговоре с Римером и
которая, видимо, не была до конца понята его собеседником. «Только не видеть в
своих занятиях профессию! Это мне претит. Все, что я могу, я хочу делать играя,
как мне придется, и пока я испытываю от этого удовольствие. Так я
бессознательно играл в молодости, так я хочу сознательно действовать всю остальную
жизнь»8. Сказанное, кажется, противоречит всему, что мы знаем о жизни Гете.
Действительно, как замечает Зиммель, «ничто не может казаться более
парадоксальным, чем эта установка на любительство и игру того человека, который со
страстной ненавистью преследовал дилетантизм и постоянно подчеркивал, как
он всю жизнь не щадил себя, работал, когда каждому дозволялось отдыхать, как,
например, в течение пятидесяти лет его геогностических исследований для него
не существовало горы слишком высокой, шахты слишком глубокой, штольни
слишком низкой»9.
Если оставить без внимания не совсем точную характеристику отношения
Гете к дилетантам10, то все, о чем здесь пишет Зиммель, выглядит парадоксом,
противоречием. Гете внушает Римеру мысль ясную и однозначную: все, к чему
мы имеем призвание, все, что побуждает нас действовать, мы должны совершать
6 Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 210—211.
7 Зиммель Г. Избранное: В 2 т. Т. 1. М., 1996. С. 162—163.
8 Там же. С. 163.
9 Там же. С. 163.
10 Koopmann H. Dilettantismus. Bemerkungen zu einem Phänomen der Goethezeit // Studien zur
Goethezeit. Festschrift fur Lieselotte Blümenthai. Weimar, 1968. S. 178—208. (об отношении Гете к
дилетантам см. С. 202—203).
20 3^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
играя. Сознательно играя, мы действуем свободно, и эта свобода нашей
деятельности находит свое выражение в том, что от самой деятельности мы получаем
удовольствие; и поскольку игра есть не обыденная жизнь, а нечто, вырывающее
нас из сферы повседневности, то, следовательно, и наша деятельность должна
выходить за рамки последней, получая собственные, имманентные ей самой
законы и правила, как это имеет место в игре.
Возникает вопрос, что, собственно, Гете понимает под игрой, считая ее
истинной формой осуществления всех видов деятельности. Во всяком случае, мы
приближаемся к той области, где можно искать ответ на вопрос, какой смысл
Гете вкладывал в слово игра, постоянно называя играми свои
естественнонаучные занятия, долгую и напряженную работу над «Учением о цвете», занятия
ботаникой, минералогией, геогнезией и т. д., то есть все то, что для других было
объектом исключительно профессиональной деятельности, деятельности
специалиста, причем лишь малой частью того, что составляло содержание
деятельности Гете как ученого.
Оппозиция «серьезность — игра», на основе которой в сознании
людей XVIII века проходило отделение практической, научной, нравственной
и религиозной жизни от сферы так называемого досуга, свободного
времяпрепровождения, куда, естественно, относилась игра со времен Аристотеля,
определяла границы между «серьезными» видами деятельности,
ставшими профессиями, и тем, что можно рассматривать как отдых после трудов
праведных, забаву, временное освобождение от серьезности11. Отсюда и
вытекало жесткое требование к любому таланту, «выделившемуся на
известном поприще» и пользующемуся признанием публики, не «покидать своего
привычного круга, а тем более не перебрасываться в отдаленный»12. Для Гете
такое требование было противоестественным, ибо «живой человек
чувствует, что он существует ради самого себя, а не для публики, он не желает
изводиться и стачиваться на чем-то однообразном, он ищет отдыха в других
занятиях. К тому же каждый энергичный талант обладает универсальностью,
он всюду заглядывает и по желанию проявляет свою деятельность то тут то
там»13. Замкнутость в профессии Гете оценивает резко негативно. Она
приводит к тому, что однообразными становятся способы познания и действия, все
сводится к стереотипам. Наука и искусство «обрабатывают» лишь маленький
фрагмент опыта, найдя успокоение в своих методах, давно уже ставших
проблематичными; исчезает способность видеть объекты, вещи в их целостности
и взаимосвязях. Закапсулированные понятия сужают своим схематизмом для
каждой науки сферу опыта, вместо того чтобы расширить ее. Превращение
деятельности в профессию означает для Гете ее изоляцию, разрыв с другими
11 Гете И. В. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957. С. 80. Здесь мы читаем: «Уже
много лет нам до отвращения повторяют вечную истину, что человеческая жизнь состоит из
серьезного и игры и что лишь тот достоин называться мудрейшим и счастливейшим, кто умеет в своем
движении сохранять равновесие между тем и другим, ибо каждый, даже непроизвольно, ищет своей
противоположности, чтобы прийти к целому».
12 Там же. С. 80.
13 Там же. С. 80.
/. Гете и мир игры
J& 21
видами деятельности: «наука и искусство, ведение дел, ремесло и все. Что
угодно, каждое двигалось в замкнутом круге. Занятия каждого всерьез
(курсив наш. — А. А.) брались только для себя и по-своему, сосед оставался ему
совершенно чуждым, и оба чуждались друг друга. Искусство и поэзия едва
соприкасались, о живом взаимодействии нельзя было и думать; поэзия и
наука казались в величайшем противоречии»14.
На протяжении всей его жизни у Гете оставалось резко отрицательное
отношение к цеховой науке, которая не в состоянии освободиться от школьных
мнений, педантичного следования традиции, от схематизирующих понятий, за
которыми не стоит реальный опыт, науки, потерявшей способность создавать
теории, продуцировать идеи и оказавшейся в конечном итоге беспомощной в
познании природы. «Даже малейшее дуновение теории уже вызывало страх,
ибо более столетия бежали ее, как привидения, и при любом фрагментарном
опыте в конце концов бросались в объятия самым пошлым представлениям.
Никто не хотел признать, что в основе наблюдения может лежать идея, понятие,
способность стимулировать опыт и даже помогать обретению и изобретению»15.
Закоснелой, недвижной, оторванной от природы и доктринерской выглядит у
Гете наука, ставшая «серьезностью», мнимой серьезностью, от которой еще и
надлежит отдыхать в игре.
Становится ясно, что играть для Гете означает свободу двоякого рода:
свободу от давления повседневности и освобождение от детерминаций,
навязанных устоявшимися формами и принципами самой деятельности, которые
эту деятельность ограничивают. Последнее доказывает гениальный набросок
«Опыт всеобщего сравнительного учения». В нем дана критика мышления,
приписывающего природе внешние цели, критика телеологических
представлений, приводящих нас в конце концов к антропоморфизации и мифологизации
природы. Такой тип мышления связан с использованием природы с точки
зрения ее пользы и вреда для человека. Грубо меркантильное отношение к
природе — источник такого телеологизма. Набросок завершается призывом играть
природу ради нее самой, видеть в ней единство многообразнейших форм,
«рассматривать отношения и зависимости не как назначения и цели». Гете считает,
что «только благодаря этому» мы «уйдем вперед в познании того, как творящая
природа обнаруживается со всех сторон и во все стороны»16. Изменив свое
отношение к природе, мы также изменим свой взгляд на науку, ее постигающую.
Она станет бескомпромиссным и бескорыстным исканием истины, которое
наконец обретет внутреннюю и внешнюю свободу, и мы на опыте убедимся, «как
уже доказал поступательный ход науки, что самая реальная и широкая польза
для людей является результатом великих и бескорыстных стараний, которые не
могут претендовать на оплату, как труд поденщика, в конце недели, но зато не
обязаны предъявить полезный для человечества результат ни в конце года, ни
десятилетия, ни столетия»17.
14 Там же. С. 505.
15 Там же. С. 505.
16 Там же. С. 113.
17 Там же. С. ИЗ.
22 Sb
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
На фоне немецкой философской и эстетической мысли конца XVIII—начала
XIX века гетевское внимание к феномену игры и его осмыслению не выглядит
чем-то особенным. Об игре писали К.-М. Виланд, И. Кант, Ф. Шиллер,
философ-фихтеанец Вайсхун, романтики, в частности А. В. Шлегель. Уже названные
имена дают нам представление о том, что игра как форма человеческой
активности стала предметом серьезного анализа. Гете не оставался в стороне от
эстетических и философских теорий, которые затрагивали этот феномен. Для Гете —
поэта и ученого, человека играющего (он себя считал таковым) — игра была
не только объектом теоретического рассмотрения, но и формой деятельности.
Выявить специфику гетевского понимания игры и сущность его игр можно
путем сопоставления их с наиболее разработанными и яркими теориями игры того
времени. Такими для нас являются теории И. Канта и Ф. Шиллера. Именно
тогда для нас откроется творческий, продуктивный характер игры у Гете.
Если к «Критике чистого разума» Гете отнесся без особого интереса, так как
она никак не затрагивала его, а трансцендентальная аналитика представлялась
ему атомизацией бытия, то «Критика способности суждения» стала радостной
эпохой его жизни. «Здесь я увидел самые разные занятия мои, поставленные
рядом, произведения искусства и природы, трактованные сходным образом,
эстетическая и телеологическая способности суждения взаимно освещали друг
друга. Если мой способ представления и не везде мог совпасть с мнением автора, то
великие основные мысли произведения представляли полную аналогию с моим
прежним творчеством, деятельностью и мышлением; внутренняя жизнь
искусства, как и природы, деятельность обоих изнутри наружу была ясно высказана
в книге. Создания этих двух бесконечных миров объявлялись существующими
ради самих себя, и стоящее рядом друг с другом было правда друг для друга, а
не нарочно ради друг друга»18.
Идя вслед за Гете, сжато попытаемся проанализировать, что понимал под
игрой Кант. Наше суждение о прекрасном предмете, эстетическое суждение
свободно, по Канту, от всякого интереса к нему, бескорыстно в своей основе.
Это необходимо для того, чтобы наша оценка такого предмета, т. е. рефлексии
субъекта, возникала как следствие эстетической коммуникации, оставалась в
рамках эстетического суждения, субъективного и априорного. Именно здесь она
получала бы всеобщую сообщаемость, но не в качестве логического суждения,
а суждения вкуса. Свобода от всякого интереса гарантирует прекрасному его
существование. Она становится у Канта принципом, который структурирует
отношение наших сил представления, рассудка и воображения. Свобода определяет,
таким образом, душевное состояние субъектов и дает им возможность выносить
суждение о предмете как о прекрасном, делая это суждение одновременно
всеобщим.
Кант последовательно проводит принцип автономности эстетического
суждения, согласно которому «эстетический опыт является автономным, если в
нем выражается нечто, что может быть доступно субъекту исключительно на
пути самого эстетического опыта»19. Здесь у Гете возникал вопрос, только ли
18 Там же. С. 379.
19 Кант И. Указ. соч. С. 322.
/. Гете и мир игры
J& 23
эстетический опыт может быть автономным. Для Канта, последовательно
проводившего принцип трансцендентальной систематики, это возможно только на
мосту между теоретическим и практическим разумом и лишь в случае особого
соотношения познавательных сил в процессе эстетической деятельности.
Деятельность познавательных способностей в эстетическом созерцании и
художественное творчество Кант называет свободной игрой, в которой участвуют
воображение и рассудок. «Так, субъективная всеобщая сообщаемость способа
представления о суждении вкуса должна иметь место без наличия понятия, она
может быть душевным состоянием в свободной игре рассудка и воображения
(поскольку они согласуются между собой, как это вообще требуется для
познания)»20.
В эстетической деятельности мы имеем дело с саморефлексией, которую
невозможно выразить понятийно. Предметом такой саморефлексии является
чувство удовольствия от прекрасного, а результатом — возникающее отношение сил
представления друг к другу и отношение представления к познанию. Мысль
об особом характере эстетического суждения, понимание этого суждения как
суждения из свободы и принцип незаинтересованности объединены особой
ситуацией, состоянием «чувства свободной игры при данном представлении для
познания вообще»21. Х.-Г. Гадамер пишет по этому поводу: «В рамках вкуса
ничего не познается, но и не протекает простая субъективная реакция того типа,
которую вызывает реакция на чувственно приятное»22. Мы имеем дело с
созерцанием, которое остается чувственным и не отдано во власть рассудку. Игра у
Канта — это обнаружение возможностей трансцендентальной свободы, так как
свобода не прикована, не привязана к какому-либо действию. Здесь можно
играть всеми возможностями, как возможностями эстетического предмета, так и
собственными, т. е. субъекта.
Свободная игра познавательных способностей устанавливает прежде всего
равноправие воображения и рассудка и тем самым никак их не ограничивает.
Фантазия знает, что она не может парить над безбрежным морем впечатлений,
и поэтому нуждается в рассудке как в объективном советчике. Рассудок же, в
свою очередь, сознает, что только воображение дает ему материал для
познания, и цель рассудка в этой игре — не останавливаться на каком-либо
окончательном познании. В результате свободной игры возникает гармония
познавательных способностей; в основе такой гармонии может лежать лишь сродство
природы и свободы, и это сродство непосредственно осознается в свободной
игре всех душевных сил человека. Только в ней человек, который, по Канту,
точка пересечения миров природы и свободы, может достичь единства с самим
собой, и если бы ее не было, то природа и свобода были бы абсолютно
разъединенными, а чувственность и рассудок — чужды друг другу. Отсюда можно
сделать вывод, что природа в искусстве есть не только явление, феномен, она
также обладает и ноуменальным бытием. В искусстве в~себе совсем не то, что
в-себе в теории, где вещь в себе — не что иное, как граница познания, ведь,
20 Там же. С. 220.
21 Там же. С. 220.
22 Гадамер. Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. С. 86.
24 SL
Л. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ ИГРА
по Канту, мы можем познавать только явления. Полная, безусловная свобода в
искусстве соответствует для себя бытию природы, а бесконечные возможности
природы и свободы находят свои воплощения в творчестве гения, через
которого природа дает искусству правила23. Когда мы говорим о природе в
искусстве, мы имеем в виду не природу как чувственный феномен, а природу в ее
абсолютных возможностях, которые одновременно являются и абсолютными
возможностями свободы.
Так понимал природу Гете, еще не читая «Критики способности суждения»,
но понимал ее, не ограничивая сферой искусства. Она такова для него и в науке.
Кант лишь терминологически прояснил ему его собственный метод познания
живой природы, его естественнонаучные игры; однако в кантовской системе
если и находилось для Гете место, то только место гения, а последний
возможен только в искусстве, в науке играть нельзя; здесь любой опыт должен быть
жестко преобразован рассудком в логически непротиворечивое понятие. Но был
еще один принципиально важный момент, который сближал Гете с Кантом. Это
связь искусства с игрой, хотя Кант не в игре видит последнюю цель искусства.
Установке на специфическое состояние способностей представления в
человеке, на которых зиждется сообщаемость и общезначимость эстетического
суждения, сопутствуют три понятия: свобода, игра и видимость. При этом понятия
игры и свободы как бы перетекают друг в друга, они описывают
непринудительность, недетерминированность и форму прекрасного и искусства. Хотя понятия
игры и видимости в кантовском анализе имеют главным образом описательные,
характеризующие функции, однако нам становится совершенно ясно, что игра
есть особая форма свободы. Игра и свобода не редуцируются к чему-то иному,
они могут быть только описаны. Свобода и игра зависят от закона или правила,
ими же самими установленного. Они постоянно творят и репродуцируют
имманентный им порядок. И этот порядок, эти принципы не имеют силы в
повседневной жизни, однако в ней они имеют свою собственную сферу. Поэтому игра для
Канта — это реальная форма свободы.
Естественно, такой ход мысли кенигсбергского философа был близок Гете,
однако Кантова концепция игры в содержательном отношении оказалась для
него слишком бедной, а в отношении онтологической характеристики
человека— просто неприемлемой24. Кант описывал игру на основе
трансцендентальных предпосылок, лежащих в основе познания, которые мыслились как
возможности трансцендентального субъекта, а последнее есть не что иное,
как особое сверхиндивидуальное Я, существующее вне времени и
пространства. Это сверхэмпирическое Я доступно лишь «изнутри», со стороны
индивидуального сознания, и трансцендентальный субъект по существу представляет
собой глубинный слой этого сознания25. Отсюда и проистекали расхождения
Гете с Кантом, когда речь заходила о природе, о бытии, понятом как природа.
Дело в том, что природа, согласно Канту, может быть определена только в от-
23 Кант И. Указ. соч. С. 322.
24 Достаточно вспомнить, какое разочарование вызвало у Гете описание человеческих игр в
«Антропологии» Канта.
25 См. Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. М., 1980. С. 282—283.
/. Гете и мир игры
JB 25
ношении к трансцендентальному субъекту, не иначе. Она не есть вещь в себе,
она — совокупность всех явлений, закономерно между собой связанных. Мир
явлений, упорядоченный категориями рассудка и априорными формами
чувственности — пространством и временем, составляет для Канта мир опыта,
который он называет природой. «Законы существуют не в явлениях, а только в
отношении к субъекту, которому законы присущи, поскольку он обладает рассудком,
точно так же как явления существуют не сами по себе, а только в отношении к
тому же существу, поскольку оно имеет чувства»26.
Отсюда логически вытекает, что если взять бытие природы в целом, то оно
лишь относительно; природа не обладает бытием безотносительно к
трансцендентальному субъекту. Природа теряет у Канта статус субстанции, она не имеет
для научного познания никакого самостоятельного бытия. Наука, которая
руководствуется принципами разума, устанавливает законы природы, «принуждает
ее к ответу», не довольствуясь тем, что ей «подсовывает сама природа»27.
Гете очень точно определил главный пафос философии Канта, его критики
разума, «высоко поднимающего субъекта при кажущемся ограничении его»28 .
Но возвышение субъекта делает опыт бедным. Критическая философия «никогда
не доходит до объекта; это мы должны признать вместе с обыденным
человеческим рассудком, чтобы в неизменном отношении к этому объекту наслаждаться
радостью жизни»29. За объект критическая философия принимает
«субъективную возможность познания». Это ведет прежде всего к тому, что, вместо того
чтобы становиться между природой и субъектом, наука пытается стать на место
природы и делается столь же непонятной, как последняя»30. Замещая природу,
наука с помощью рассудка, осуществляющего категориальный синтез,
избавляется от явлений и посему «подсовывает на их места образы, понятия, часто
даже одни слова»31. Опыт отрывается от самих вещей; наука в лучшем случае
фиксирует данность, в худшем — уже просто вращается в сфере своих же за-
капсулированных понятий. Жизнь природы протекает сама по себе, а наука
спокойно чувствует себя в непреодолимой фатальности своего собственного языка.
Она теряет из виду жизнь природы. «Природа, — писал Гете в 1823 году, — не
имеет системы, она сама жизнь от неизвестного центра к непознаваемому
пределу. Рассмотрение природы поэтому бесконечно, будь то в рамках деления на
частности либо в целом ввысь и вширь»32.
Для Гете природа* имеет собственное бытие, она объективна, она жизнь,
беспрестанное становление, движение многообразнейших форм, сложнейшим
образом связанных друг с другом, в ней «господствуют движение и дело»33;
26 Кант И. Указ. соч. Т. 3. М, 1966. С. 213.
27 Кант И. Там же. С. 85—86. «Мы apriori познаем в вещах лишь то, что вложено в них нами
самими» (там же, с. 88).
28 Гете И. В. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957. С. 96.
2g Briefwechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schulz. Leipzig, 1853. S. 385.
30 Goethe J. W. Werke. Weimar 1887—1919. Abt. 4. Bd. 36. S. 162.
31 Гете И. В. Избранные философские сочинения. М., 1964. С. 338.
32 Там же. С. 281.
33 Там же. С. 359.
26 ®L·
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
многоликая, находящаяся в постоянном процессе метаморфоза, в состоянии
полярности и повышения, живая природа «обладает свойством разделяться,
соединяться, расплываться в общем, задерживаться на частном, превращаться,
специфицироваться, проявляться, как свойственно всему живому, под тысячью
условий, выступать и исчезать, затвердевать и растворяться, застывать и
растекаться, расширяться и сокращаться»34. Все эти процессы происходят
одномоментно, проявляют себя в одно и то же время, все протекает во взаимодействии.
Деятельность природы такова, что «даже самое частное явление выступает
всегда как образ и подобие самого общего»35.
Так выглядит природа, когда ее созерцает мыслящий человек, не ставящий
под сомнение ее многообразие и одновременно единство. Человек не может
быть противопоставлен природе, он единороден с ней, он включен в ее жизнь
наряду с другими ее творениями, более того, он есть высшее творение и в
известной мере голос ее бытия. Человеческая мысль природна, как природны и
объекты мыслительной деятельности человека. Она — «поворот природы на самое
себя в целях самопознания и дальнейшего развития»36. Природа и мир не могут
быть превращены в схему предпосланной абстракции категориального синтеза,
мысль не может и не должна постигать свое же отражение вместо мира,
становясь Нарциссом пустых мыслительных форм, абстракции, предписывая своему
же отражению мнимую объективность. Гете требует от науки всегда задавать
вопрос: «Кто высказывается здесь, предмет или ты сам?»37. Такого рода
установка позволяет нам зорко контролировать процесс перехода от опыта к
суждению. Познание должно быть свободным от исходящей от трансцендентальных
предпосылок угрозы преждевременного синтеза, поспешного суждения, можно
даже сказать, что трансцендентальная схема рассудка отбрасывается, к
явлениям ничего не примешивается, им самим дается возможность обнаружить себя.
Этот метатрансцендентальный подход к познанию означает перенесение игры
из сферы эстетического созерцания в науку. Но субъектом игры у Гете является
не играющий, а сама игра, от которой зависит познающий. Речь идет об игровой
деконструкции не объекта, а субъекта, т. е. познавательной схемы. Субъект не
конструирует объект, а дает ему выход в его для себя бытии. Понятия
рассудка теряют силу, определения с их мнимой непротиворечивостью и аподиктич-
ностью устраняются, суждения лишаются однозначности. Мы получаем чистый
опыт, для себя сущий объект. Это возможно для Гете, потому что восприятие для
него не только субъективно, но и объективно. Достаточно вспомнить знаменитое
место из «Учения о цвете»: «Глаз обязан своим существованием свету. Из
безличных вспомогательных органов животного свет вызывает к жизни орган,
который должен стать ему подобным; так как глаз образуется на свету для света, дабы
внутренний свет выступал навстречу внешнему»38. Гете целиком и полностью
схватывает факт глубокой связи между организмом и окружающим миром, видя
34 Там же. С. 357.
35 Там же. С. 357.
36 Свасьян К. А. Иоганн Вольфганг Гете. М., 1989. С. 99.
37 Гете И. В. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957. С. 439-440.
38 Там же. С. 269.
/. Гете и мир игры
J& 27
динамику природных процессов и их взаимосвязь и взаимообусловленность.
Гете видит, что эта связь есть сама жизнь, которая все создает.
Здесь речь идет не о том, что предустановленная гармония — причина того,
что внутренний свет выступает навстречу внешнему, ибо божество, которым мы
восхищаемся (так как в нас живет «собственная сила Бога»), есть прежде всего
продуктивность и активность природы и включенного в нее человека,
которому природа дает возможность возвыситься до сверхчувственного. Восприятие,
как его понимает Гете, насыщено неизмеримо большим содержанием, нежели
у Канта. Именно предельно возможное насыщение восприятия содержанием и
дает нам выход к объекту, который чистая субъективность превращает в вещь в
себе.
В области естествознания Гете предостерегал от опасности
преждевременного синтеза, в искусстве он крайне враждебно относился к «удобному
мистицизму» и «субъективизму манеры». Эмпирическому опыту в
естествознании соответствует спокойная отдача отдельному феномену. Согласно Гете, когда
мы полностью доверяем чувствам и созерцанию, сами чувства выводят нас за
свои пределы, ибо природа может сама себя выражать, обнаруживая себя через
наши познавательные способности. Сам предмет должен вывести нас из
чувственного, но только если восприятие соответствует предметам. Аналитический
разум всегда идет по пути расчленения целого, но если рефлексия принимает
расчлененность как изначально данное, первичное условие, то части никогда
не соберутся в целое, не соберутся воедино. Торжество анализа ведет к тому,
что мысль и созерцание распадаются на рассудочное дискурсивное понятие и
чувственный опыт. Мысль перестает схватывать органические связи, не
замечает переходов, и на месте органики воцаряется механика. Неправильное
использование анализа начинается тогда, когда аналитический разум притязает на
то, чтобы быть основой опыта. «Аналитику грозит большая опасность, когда
он применяет свой метод, где в основе нет никакого синтеза. Тогда его работа
полностью уподобляется усилиям Данаид»39. Опыт должен полностью
обуславливать анализ в стадии познания; тогда через рассудок, через искусственное
расчленение потока восприятий мы можем обнаружить его закономерности. Здесь
уже не рассудок, т. е. субъект, приписывает природе законы, а наоборот,
рассудок — та среда, через которую природа говорит нам о своих закономерностях
и показывает правила своей игры. Отсюда понятна мысль Гете: «То, что
называется идеей, всегда обнаруживается в явлении и выступает как закон всякого
явления»40. Тем самым мы созерцаем, видим структуру и закон. Их мы можем
созерцать с помощью фантазии.
Наряду с чувственностью, рассудком и разумом фантазия — «четвертая
главная сила нашего духовного существа», и если философия забывает о ней,
то получается «неисправимый пробел». Согласно Гете, фантазия изначально
прочно укоренена в сознании, «дополняя чувственность в форме памяти», и
тогда она выступает в качестве силы, трансформирующей интериоризированный
опыт, представляя собой, по словам К. Г. Юнга, «воображающую деятельность».
39 Гете И. В. Избранные философские сочинения. С. 306.
40 Там же. С. 306.
28 Зь
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Фантазия доставляет рассудку, дискурсивному мышлению «миросозерцание в
форме опыта»41. Именно фантазия аккумулирует в себе всю энергию
деятельности духовных сил; ее активность аналогична деятельности самой природы.
Гете понимает фантазию как процесс, у которого есть присущие ему
закономерности, закономерности самой фантазии. Имея в себе свой собственный закон,
«которым не может и не должен руководствоваться рассудок»42, она вторгается
в сознание, сопротивляется рассудку, тормозит его деятельность, когда
последний пытается действовать на опережение, и предотвращает преждевременный
категориальный синтез.
Деятельность фантазии универсальна, ибо она, протекая по собственным
законам, представляет собой медиальный процесс, который вовлекает в игру
чувственность, рассудок и разум. С каждой из способностей человека она
связывается по-своему. «Чувственность предлагает ей резко очерченные,
определенные образы», насыщая ее чувственным материалом; рассудок же призван
упорядочивать ее «продуктивную силу»43, т. е. согласовывать ее с объективным
процессом, вводя ее в область смысла того, что совершается в природе. Связь
фантазии с разумом гарантирует ей уверенность в том, что она не сводится к
игре грезами, а основана на идеях. Для нее существуют две точки
притяжения: чувственность и разум. Она «витает над чувственностью и притягивается
ею»; к разуму она примыкает, «как к высшему руководителю». Приближение
фантазии к чувственности рождает «истинную поэзию», приближение ее к
разуму «дает подлинную философию»44. Без фантазии нет творчества. Фантазия
должна пронизывать все виды деятельности, если они хотят быть творческими.
Однако собственное ее прибежище, ее «дом» — это прежде всего игра, которая
так или иначе сопровождает человека на всем его жизненном пути, открывая
сферу возможностей, которые суть возможности природы и его самого как
части природы.
В искусстве и науке необходима деятельность всех главных сил «нашего
духовного существа». Проблема для Гете состоит в том, правильно ли мы их
используем, правильным ли является соотношение человеческих способностей
в том или ином виде деятельности. Но при всех обстоятельствах человек
должен действовать как целостность, использовать все, чем его наделила природа,
поскольку все в природе взаимосвязано. «Мы и предметы, свет и тьма, тело и
душа, две души, тело и материя, мысль и протяжение, идеальное и реальное,
чувственность и разум, фантазия и рассудок, бытие и стремление — все это две
половины тела, правое и левое, дыхание»45.
Как в игре играющему, чтобы добиться выигрыша, необходима полная
отдача сил игре — кто не хочет всерьез играть, портит игру, — так и в науке мы
должны привести в действие все свои силы для использования природы. О
своих метеорологических работах Гете пишет графу Рейнгардту: «Метеорология
41 Там же. С. 220.
42 Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1981. С. 241.
43 Гете И. В. Избранные философские сочинения. С. 220.
44 Там же. С. 221.
45 Там же. С. 235.
/. Гете и мир игры
J& 29
<...> занимает меня как шахматная игра; я выступаю со своими фигурами
против природы и пытаюсь выманить ее из таинственной засады на открытое поле
битвы»46.
В XVIII веке распространенным методом в исследовании органического
мира, в частности в сравнительной анатомии, был метод аналогии. Гете
объяснял это тем, что «аналогия имеет то преимущество, что она не замыкается
в себе и, собственно, не желает последнего»47. Требуя от естествоиспытателя
тщательно рассматривать явление как само по себе, так и во всех взаимосвязях с
другими явлениями, Гете тем самым предлагает ему включиться в жизнь
природы. Такое включение напоминает игру, так как игра для Гете — способ избежать
преждевременного вмешательства рассудка, избежать активности
дискурсивного мышления, поскольку рефлектирующая способность суждения атомизирует
созерцание. Игра, как ее понимал Гете, есть характерная черта созерцания в
широком смысле, созерцания, обусловленного включенностью как игрока, так и
свидетеля игры. Созерцатель включается в игру, следит за ней, игра захватывает
его, и он способен идентифицировать себя с игроками имагинативным образом.
«На высших ступенях нельзя ничего знать, подобно как в игре мало помогает
знание, а все сводится к осуществлению»48. Но поскольку в природе нет ничего
изолированного, а «любое существующее есть аналог всего существующего»49,
то исследуемый объект же провоцирует аналогию с другим, сама природа как бы
намекает на единство плана, по которому она действует. На начальных стадиях
анализа природы аналогия становится способом мыслительного приближения к
принципу деятельности природы.
В «Лекциях по первым трем главам наброска общего введения в
сравнительную анатомию, исходя из остеологии» Гете подробно рассказывает о
вдохновенных импровизациях амстердамского анатома Петера Кампера, которые
заключали в себе смелые сравнительно-анатомические идеи. В 1778 году Кампер прочел
в Академии рисунка в Амстердаме две лекции под названием «Об аналогии,
существующей между строением четвероногих, птиц и рыб». Наблюдения и
сравнительно-анатомический анализ позволил Камперу говорить об «удивительной
аналогии, которая существует между строением тела человека и тела
четвероногих, птиц и рыб»50. Он предложил и легкий метод их точного изображения.
«Я закончу тем, — продолжал Кампер, — что покажу, как, подобно Протею,
можно, пользуясь несколькими штрихами, превращать корову в лошадь, собаку
в аиста, аиста в карпа или в другой вид рыб»51. Гете писал: «Кампер, охваченный
этой идеей (идеей аналогии. — Α. Α.), отваживался превратить мелом на черной
доске собаку в лошадь, лошадь в человека, корову и птицу. Он настаивал на том,
что в мозге рыбы можно увидеть мозг человека, и достиг этими остроумными,
46 Лихтенштадт В. О. Гете. Борьба за реалистическое мировоззрение. Гос. изд. «Петербург», 1920.
С. 468.
47 Гете И. В. Избранные философские сочинения. С. 354.
48 Там же. С. 371.
49 Там же. С. 325.
50 Цит. по: Бляхер Л. Я. Проблемы морфологии животных. М., 1976. С. 139.
51 Там же. С. 139.
30 SL
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФМАОСОФИЯ. ИГРА
скачкообразными сравнениями своей цели раскрыть внутреннее чувство
наблюдателя»52.
Аналогия в данном случае становится у Гете способом познания,
пробуждающим в ученом фантазию, обладающим определенной степенью точности, так
как, будучи воображающей, активной фантазией, аналогия связана с разумом.
Речь, конечно, идет не о том, чтобы заменить науку искусством. «Ни
мифологии, ни легенд нельзя терпеть в науке. Предоставим их поэтам, которые
призваны обрабатывать их на пользу и радость мира»53. Гете считает, что
фантазия необходима исследователю прежде всего потому, что она дает
раскрыться внутреннему миру исследователя, как он говорит, «внутреннему чувству»,
которое выводит его за сферу непосредственного представления и создает в его
воображении картину процессов, недоступных внешним чувствам; последняя,
однако, не будет ни грезой, ни галлюцинацией, а покажет ему то, что
существует в природе, но скрыто от исследователя. Человек не должен ставить никаких
границ своему познанию, «ибо хотя природа и обладает преимуществом перед
человеком и, по-видимому, многое скрывает от него, но и он обладает, в свою
очередь, тем преимуществом над ней, что может своею мыслью если и не
проникнуть сквозь нее, то возвыситься над ней»54. Это возвышение не означает,
что человек стесняет природу категориями рассудка, наоборот, природа в своем
вечном движении, в смене форм, показывая ему сложную взаимосвязь
феноменов, ведет за собой познание и дает человеческому мышлению продуцировать
то, что на некоторое время, кажется, останавливает движущееся бытие
природы, но остановка, фиксация феномена необходима для того, чтобы показать
более широкие горизонты деятельности природы. «Представьте себе ветку,
которая, отдавшись спокойно струящемуся ручью, следует своему пути в такой
же степени по принуждению, в какой и добровольно, останавливаясь на время
в какой-нибудь излучине, но затем, несомая живою волною, все время остается
в движении»55.
Схватить это движение, познать его закономерности и в то же самое
время не дать явлению исчезнуть, а, наоборот, выявить его структуру и функцию
способна лишь фантазия, действующая по определенным правилам игры.
Такую фантазию Гете не мыслит вне отношения мира к человеку; правилом игры
служит здесь это отношение, так как фантазия укоренена в природе: «Фантазия
много ближе к природе, чем чувственность; последняя имеется в природе,
первая парит над ней. Фантазия выросла из природы, чувственность в ее власти»56.
Поэтому фантазия расширяет наш опыт, изменяет его, делает опыт новым. Она
преобразовывает его, чтобы он отвечал сущности явления и воспроизводил его
связь с другими явлениями не механически, а органически. Образ фантазии не
есть природа извне, его создает «человек (природа изнутри)»57, т. е. «точная чувст-
52 Гете И. В. Избранные сочинения по естествознанию. С. 192.
53 Гете И. В. Избранные философские сочинения. С. 325—326.
54 Там же. С. 355.
55 Там же. С. 285.
56 Там же. С. 345.
57 Там же. С. 341.
/. Гете и мир игры
J& 31
венная фантазия»58, как ее называет Гете; она дает возможность природе через
человека воспроизводить самое себя, обнажая свою структуру в виде
смыслового целого. Воображение создает образ, скажем образ цветка, но этот цветок не
застывает ни на одно мгновение, цветок раскрывается, и изнутри его вырастают
все новые и новые цветы. Это уже не цветы, созданные природой, а
фантастические цветы; в них есть закономерность и правильность, как в скульптурном
орнаменте. Мысль, не видя роста, последовательно воспроизводит его в своих
образах.
Гете писал Гердеру из Неаполя 17 мая 1789 года: «Прарастение будет
самым необыкновенным творением на свете, из-за которого мне позавидует сама
природа. С этой моделью и ключом к ней можно потом до бесконечности
изобретать растения, вполне последовательные, то есть такие, которые могли бы
существовать и не являются какими-нибудь художественными или
поэтическими тенями и призраками, но обладают внутренней правдой и
необходимостью»39. Такой прафеномен порожден точной, верной природе фантазией,
показывающей нам незримые, бесконечные возможности природы.
Искусство для Гете — сфера приложения многообразнейших игровых
возможностей человека, и, конечно, шиллеровская теория игры не могла не
затронуть Гете.
В «Письмах об эстетическом воспитании человека» Шиллер сделал
«побуждение к игре» (Spieltrieb) изначальной формой тотальности всех сущностных
сил человека, сравнив побуждение к игре с равновесием чашек весов, на которые
положили одинаковую тяжесть. В этом состоянии разум и чувственность
активны, «но именно поэтому взаимно уничтожают свою определяющую силу»60. Дух
не испытывает здесь «ни физического, ни морального принуждения».
Состояние полной свободы субъекта и одновременно полной его реальности Шиллер
называет эстетическим. Процесс перехода из физической необходимости через
игру, через эстетическое состояние есть рождение человека. Человек рождается
как целостность, и то, что природа направляет его к эстетическому состоянию и
координирует деятельность его трансцендентальных побуждений, когда они не
вступают в конфликт друг с другом, стало для него объективацией
божественного начала в человеке. Игра, по Шиллеру, — это деятельность, в основе которой
лежит самоопределение человека — как индивида, так и рода. В 15-м письме
мы читаем: «<...> человек играет только тогда, когда он в полном значении
человек, и он бывает человеком лишь тогда, когда играет»61.
С помощью философской дедукции понятий Шиллер создал модель
идеального произведения искусства. Трансцендентальная дедукция побуждений,
побуждения к материи, форме и игре, исходным принципом которой была идея
целостности человека, гармонии всех его сущностных сил, привела его к
известной формуле. Гете соглашался с ней, но это еще не означало, что он был
полностью согласен с тем, как она была выведена. Зная о его осторожном, даже
58 Там же. С. 286.
59 Гете И. В. Собрание соч. в 13 т. Т. 11. М., 1935. С. 343.
60 Шиллер Ф. Собрание соч. в 7 т. Т. 6. М., 1955—1957. С. 318.
61 Там же. С. 302.
32 Sîl
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
скептическом отношении ко всем умозрительным построениям, мы должны
понимать, какой смысл он в эту формулу вкладывал. В игровом характере
искусства, в том, что игра — корень искусства, Гете никогда не сомневался. Однако
сразу же возникает вопрос: что шиллеровская формула могла для него означать?
Он влечет за собой другие вопросы: в чем заключается имманентная игре цель,
для чего человек играет? Положение эстетики Шиллера о том, что все
материальное, действительное, природное должно быть в искусстве
трансформировано и уничтожено, дабы открылся путь к истине, Гете принять никак не мог.
Со времени итальянского путешествия Гете понимал природу и искусство как
разделенные области бытия, бесспорным для него было и то, что искусство
подчиняется своим собственным законам и правилам. Последнее было одним из
фундаментальных убеждений Гете, и именно это и сблизило его с Шиллером в
1794 году, определив их совместные усилия в постижении имманентных
искусству законов. Но Гете никогда не разделял враждебного отношения Шиллера к
природной действительности, не оказывался «неблагодарным в отношении
своей великой матери»62.
Трепетное отношение к природе, которая понимается как «нечто
самостоятельное» и которая в «живом творчестве производит все от низшего до
высшего», не позволяло ему считать, что предмет, ставший объектом художественной
деятельности, уже не принадлежит природе. Поэтому понимание искусства и
поэзии как игры, как справедливо считал В. Кайзер, «получает у Гете
совершенно новый и несравнимо более глубокий смысл, чем у Шиллера»63.
Разрушая перегородки, пограничные столбы, возведенные системным мышлением
трансцендентальных идеалистов, Гете выводит истину из созданного для нее
храма серьезности; у него игра охватывает всю человеческую жизнь,
понимаемую как разнообразные формы творчества, овладевает ею и, говоря словами
О. Финка, «существенным образом определяет бытийный склад человека»64.
У Гете игра проникает в другие основные феномены человеческого бытия,
неразрывно соединяется с ними. Она присутствует не только в искусстве, Гете
ищет и находит ее в других областях жизни, использует игровые модели в своем
творчестве, в теоретических размышлениях, побуждает других к игре.
Искусство и поэзия у Гете — самостоятельная область бытия, где феномен
игры проявляет себя с особой силой. Подлинный поэт, «подлинно поэтическая
натура» творит играя. Гете называл «форсированными талантами»65 поэтов,
которые пытались заполнить пропасть между объектом и завершающим
техническим воплощением с помощью изначально навязанной содержанию идеи
по принципу: была бы идея, остальное — дело поэтической техники, выучки
художника. Необходимость в поэзии содержания Гете никогда не отрицал, идея
всегда должна присутствовать в произведении, однако это еще не означает, что
рассудок может вмешиваться «в изобретательность», замещая собой — игру и
рефлексией — фантазию. Гете сожалеет, что «даже Шиллер, обладавший под-
62 Гете И. В. Избранные сочинения по естествознанию. С. 96.
63KayserW. Op. cit. S. 37.
64 Финк О. Указ. соч. С. 387.
65 Гете И. В. Собр. соч. в 10 т. Т. 10. М, 1980. С. 133.
/. Гете и мир игры
JB 33
линно поэтической натурой, дух которого сильно склонялся к рефлексии и
который многое, что должно бессознательно и свободно возникать у поэта, покорял
мощью своих размышлений, — увлек за собой множество молодых людей»66.
Форсированный талант не может играть, у него рефлексия предшествует
художественному опыту, и последний порабощен идеей, у форсированного таланта
все преднамеренно. Игра у Гете не противопоставлена серьезному, игра —
противоположность всему преднамеренному, умозрительному в искусстве,
механическому подведению образа под идею. Игру в искусстве Гете понимает как
свободу от «слишком действительного».
Общеизвестно отрицательное отношение Гете к любым формам
натурализма, который есть для него слепое подражание природе, копирование
действительности без проникновения во внутреннюю жизнь природы. Подражатель
лишь удваивает объект, ничего к нему не прибавляя. Художник-подражатель
«замыкает нас в кругу единичного и в высшей степени ограниченного
существования»67. Искусство неразрывно связано с природой, художник ее созерцает,
берет у нее материал для искусства, но искусство — это сфера приложения
усилий человека, и поскольку искусство — самостоятельная область бытия,
то художник «вовсе не должен быть верен природе, он должен быть верен
искусству»68. Самое точное подражание природе, как считает Гете, не создает
художественного произведения, а является ее жалкой копией, ибо
подражатель, копиист не выводит нас за пределы ограниченного опыта и не допускает
игру в искусство. Когда Гете, говоря о себе, сомневается в том, сможет ли
он создать подлинную трагедию, то это не проявление страха перед глубиной
трагического, страха упасть в его бездну, робости при восприятии
трагического во всей его глубине. У Гете речь идет о другом: сможет ли он выдержать
натиск трагического, сохранив при этом свободу игры69. Как игра ученого, так
и игра истинного художника свободна от навязанной ей цели,
художественное произведение имеет цель только в самом себе. В заметках к своей книге
«Западно-восточный диван», которая вся пронизана поэтической игрой,
причем на всех уровнях поэтического воплощения, Гете противопоставляет
поэзию риторике. Риторика есть искусство, основанное «на ясной, умеренно
возбужденной речи». Она преследует свои цели. «Поэзия, — пишет Гете, — если
рассматривать ее в чистоте и подлинности, — не речь и не искусство; не речь,
потому что для своей полноты она нуждается в такте, пении,
телодвижениях; не искусство, потому что все основано в ней на природном даре,
который хотя и необходимо упорядочивать, но нельзя смущать узостью правил;
помимо того поэзия навсегда остается правдивым выражение взволнованного
духа, без целей и задач»70. Дух поэзии — это концентрация духа всех
возможных человеческих игр. Гете уходит от шиллеровского понятия игры, которое
66 Там же. С. 305.
67 Там же. С. 106.
68 Там же. С. 133.
м Kayser W. Op. cit. S. 40.
70 Гете И. В. Статьи и примечания к лучшему уразумению «Западно-восточного дивана» //
Гете И. В. Западно-восточный диван. М, 1988. С. 227.
34 SL
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
включает в себя требование редуцировать правду природы к эстетическому,
чтобы тем самым способствовать победе серьезности истины. В эпистолярной
новелле об искусстве «Коллекционер и его близкие» Гете пишет о шести типах
художников, которые отличаются соотношением серьезности и игры в своем
творчестве. Под первую у него попадают подражатели, характеристы и
художники малых форм. Под рубрикой игры объединены фантомисты, ундулисты и
эскизники. Только в соединении антитез, из внутреннего слияния серьезности
и игры в изобразительном искусстве можно достичь совершенства. Нельзя не
заметить, что об игре в искусстве у Гете говорит очаровательная Юлия, с
жаром защищающая свою точку зрения: «Я спросила их, разве ж гений не
проявляется главным образом в изобретательности и разве можно оспаривать это
у фантазеров»71.
В первые годы дружбы с Шиллером гетевским ответом на слишком
ригористические требования его друга к искусству стала «Сказка». Это, пожалуй,
самое нелогичное и запутанное произведение литературы того времени,
творение брызжущей через край фантазии, которое не поддается однозначным
коннотациям. Оно подтверждает все, что Гете говорит о фантазии и воображении
в искусстве: «Воображение, если оно создает художественное произведение,
должно только, как музыка, воздействовать на нас». Жанр сказки для Гете — это
жанр чистой игры. Новалис нашел прекрасное определение «Сказки»:
«рассказанная опера», а Гуго фон Гофмансталь назвал ее «внутренней оперой».
Пристрастие к сказке проходит через всю жизнь Гете. И когда Гете в «Заметках к
дивану» пишет о восточных сказках, то мы находим там мысли, которые
характеризуют всю поэзию: «Эти игры легкомысленного воображения, вольно
снующие между реальностью и немыслимым, излагающие невероятное словно
истину и несомненность, в высшей степени отвечали восточной
чувственности — изнеженному покою и безделию. Легкие, колышащиеся, воздушные
создания, стоящие на неверной почве, числом своим достигали во времена Сасанидов
бесконечности — примером служат сказки "Тысячи и одной ночи", нанизанные
на непрочную нить. Своеобразие их характера в том, чтобы не иметь какой-либо
нравственной цели, а потому не обращать человека внутрь его души, в некие
просторы безусловности и свободы»72.
В другом месте он говорит, что «поэзия является самоплетением сказки над
историческим местом и временем». Даже драмы Шекспира Гете называл «очень
интересными сказками», считая, что творчество Шекспира далеко выходит за
рамки чисто драматической поэзии, художественному замыслу Шекспира
служит весь мир и вся вселенная73.
В изобразительном искусстве функциональным соответствием сказки, как
думает Гете, является арабеска. Осмыслив ее, Гете расширял границы эстетики,
которая до этого занималась только прекрасным и возвышенным. Об арабеске
Гете написал в 1789 году статью. В ней отразились впечатления, полученные
от созерцания настенной живописи в Помпеях, ее сохранившихся фрагмен-
71 Гете И. В. Собр. соч. в Ют. Т. 10. М., 1980. С. 107—108.
72 Гете И. В. Западно-восточный диван. С. 167.
73 Гете И. В. Собр. соч. в Ют. Т. 10. М., 1980. С. 315.
/. Гете и мир игры
JB 35
тов в термах Тита в Риме и лоджий Рафаэля в Ватикане. В арабеске Гете видит
«не расточительство, а экономию искусства». Арабеска, кажется, изобрела
веселость, легкомыслие, радость украшать»74, — пишет Гете об античных
арабесках. Гете одним из первых показал функциональную необходимость арабески в
настенной живописи, стремился определить принцип ее внутренней
организации. Ему казалось, что именно здесь в человеческом духе инстинктивно
проявляет себя идея метаморфозы, ставшая аналогом метаморфозы в природе. Только
через игру эта идея находит здесь выход для себя. Такую же внутреннюю
организацию, когда целое хочет остаться неразложимым для рассудка, имела его
«Сказка». Здесь для нас открывается новый аспект гетевского понимания игры
в поэзии. Играющее начало в поэте, фантазию и воображение нельзя понимать
как нечто произвольное, в спонтанности поэтического духа есть имманентная
ему закономерность. Поэт творит согласно скрытым законам. Законы искусства
так же истинны в природе творящего гения, как истинна деятельность
природы с ее вечно действующими органическими законами. И только поэтический
гений владеет высшей внутренней формой. Апофеозом игры Гете считал
оперу, и таким апофеозом он хотел сделать вторую часть «Волшебной флейты».
Опера показывала Гете полное тождество законов искусства в сфере
видимости, полную бесперспективность их редукции к законам природы, она была для
него воплощением принципа автономности искусства в культуре. Самим
фактом своего существования опера доказывала его незыблемость и абсурдность
сведения искусства к нехудожественной сфере и полную неприспособленность
нехудожественной призмы для рассмотрения такого искусства, как опера, где
очень велик коэффициент условности и игровой момент. В фиктивном диалоге
«О правде и правдоподобии в искусстве» поэт резко выступил против
прямолинейного просветительского понимания принципа мимесиса, которое угрожало
сведением искусства к подражанию и натурализму, с чем поэт смириться никак
не мог. Суть его размышлений заключается в том, что понятие правдивости
совершенно не работает, когда речь заходит об опере. «А когда эти милые люди
там на подмостках, встречаясь, приветствуют друг друга пением, поют письма,
которые получают, пением выражают свою любовь, свою ненависть, все свои
страсти, с пением дерутся и с пением умирают, можете ли вы сказать, что весь
спектакль или хотя бы часть его кажется вам правдивой? Или, позволю себе
сказать, обладает хотя бы видимостью правдивости?»75 В сфере видимости царят
свои законы, отличные от законов естественных, которые никак не могут быть
критериями для оперы, где властвуют иные правила, правила игры,
возвышающие надземный маленький мирок искусства над природой. Музыка — главный
элемент синтетического целого оперы, она не сводима к денотату, и поэтому
она априорно в большей мере эстетична, чем искусство слова, поскольку не так
прямо, как искусство слова, связана с природой. Модель оперы приводит Гете
в восхищение; музыка как таковая расширяет эстетическую сферу, сферу
видимости и тем самым оказывает влияние на литературу. Влияние модели либретто
зингшпилей и опер объяснимо самим жанром, в котором работал поэт. Модель
74 Goethe J. W. Berliner Ausgabe. Bd. 19. Berlin, 1973. S. 85.
75 Гете И. В. Об искусстве. М., 1975. С. 142—143.
36 Зь
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ ФИАОСОФИЯ. ИГРА
оперы как парадигма присутствует в «Пандоре», «Палеофроне и Неотерпе»,
«Пробуждении Эпименида» и, конечно, в обеих частях «Фауста». Поэтому
можно только согласиться с точкой зрения Тины Хартман, что «Фауст» —
кульминационный пункт обращения Гете к музыкальному театру: «Ни в одном из его
поэтических произведений Гете не обращался в таком объеме, с такой точностью
использования исторического образа и вместе с ним эксплицитной
драматургической функции к традиционным формам музыкального театра»76. Гете
сохранил действующих персонажей из либретто Шиканедера, поскольку они были
известны публике, слышавшей известную оперу Моцарта. Гете замыслил свое
либретто как сказочную и игровую параллель ко второй части «Фауста». Макс
Моррис считал, что группа образов гетевской «Волшебной флейты» — Тами-
но, Памина и ребенок Гений — соответствуют Фаусту, Елене и Эвфориону
второй части трагедии. Сказочные и игровые моменты в неоконченном либретто
доминируют. «Все это, — пишет Гуго фон Гофмансталь, — с распростертыми
объятиями зовет к себе одухотворенную и возвышенную музыку; музыка
Моцарта, Глюка и даже Бетховена излилась бы в своей красоте и свободе в русла,
прорытые для нее самой чистой и скромной поэзией»77. Но композитор Вра-
ницкий при всем своем таланте не был Моцартом. И после того как Шиканедер
и композитор Винтер с невиданной помпой и обилием театральных эффектов
поставили в Берлине вторую часть своей «Волшебной флейты» (10 августа 1803
года), Тете прекратил работу над оперой. Даже тогда, когда друг Гете Цельтер
выразил желание написать музыку к опере, все ограничилось вежливым,
шутливым обещанием: «Я хочу обратить мои мысли к "Волшебной флейте", может
быть, весенний эфир их оживит»78.
«Сознательно» Гете начал играть после своего путешествия в Италию.
Италия была той страной, где он нашел не только радость чистого созерцания
прекрасных форм искусства и природы, но и мир игры, который ему,
стремившемуся схватывать, постигать явления объективно, не говорить о вещах, а давать
вещам говорить, раскрылся во всем своем многообразии.
Жизнь итальянцев не знает противопоставления серьезности игре.
Итальянец даже труд хочет превратить в отдых, в игру, сняв с него всю тяжесть
реального, сделать внеигровые феномены легкими, как игра, соединить их с
воображаемым. Причем все прекрасно осведомлены о правилах игры — как
участники, так и созерцатели. Гете описывает, как проходил судебный процесс в
Венеции, на котором ответчиком была жена дожа. Рутинное течение судебного
разбирательства превращается у итальянцев в игру, когда начинаются шуточные
импровизации адвоката, основанные на эффекте внезапности. «Искусный
адвокат умеет разогнать скуку шутками, публика наслаждается его остротами,
разражаясь неумеренным хохотом»79. Итальянский театр, каким его нам изображает
Гете, своими импровизациями в масках стирает различие между актерами и
зрителями. Это по сути дела коллективное игровое действо, где «народ — та база,
76 Hartmann T. Goethes Musiktheater. Singspiele-Oper-Festspiele-Faust. Tübingen, 2003. S. 283.
77 HofTmannsthal H. Reden und Aufsätze I, 1891—1913. Frankfurt am Main, 1979. S. 445.
7S Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter. Berlin, 1833. Erster Teil. S. 74.
79 Гете И. В. Собр. соч. в 13 т. T. 11. С. 88.
/. Гете и мир игры
J& Ъ1
на которой все держится: зрители принимают участие в игре и масса сливается
в одно со сценой». Игра выглядит у Гете прямо-таки антропологическим
свойством итальянцев, и эта беззаветность жизни, превращенной в игру, не несет в
себе ничего негативного, она аутентична, подлинна, она не имеет ничего
общего с неразумностью и несвободой рабского филистерского сознания. Comme-
dia dell'arte с ее постоянными масками — это правда жизни, показанная в игре.
«Целый день напролет на берегу и на площади, на гондолах и во дворце
продавец и покупатель, нищий, моряк, соседка, адвокат и его противник — все живет,
и движется, и о чем-то хлопочет, говорит и божится, кричит и предлагает, поет и
играет, сквернословит и шумит. А вечером они идут в театр, где видят и слышат
свою дневную жизнь, искусно вгруппированную, изящно принаряженную,
переплетенную со сказкой, отодвинутую от действительности благодаря маскам и
безликую в бытовом отношении. Этому они по-детски радуются, снова кричат,
хлопают и шумят. Правда, мне не случалось видеть более естественной игры,
чем у этих масок; это достигается только долгими упражнениями при
исключительных природных способностях»*0.
Мы видим, что Гете рассматривает итальянский театр не как обособленный
феномен, а в его неразрывной связи с жизнью и ее постоянным движением.
В круговороте жизни перед нашим взором мелькают многообразные
красочные образы; они то появляются, то исчезают, для того чтобы возвратиться и
вновь исчезнуть. Единственное, что объемлет театр и жизнь, — это игра, в
которой играющие саморепрезентируют себя, и в то же время здесь мы
имеем саморепрезентацию жизни-игры, разрушающую преграду между жизнью
и сценой. Размышляя еще до итальянского путешествия о немецком театре,
Гете думал, как разрушить эту преграду, которую воздвиг педантичный ум
Готшеда, изгнавшего с немецкой сцены буффонаду, фарс, импровизацию,
Гансвурста и Арлекина, что по сути дела означало уничтожение игры в театре.
Готшед предельно ограничил инициативу актера строгими правилами своей
классицистской доктрины, превратив его в куклу, марионетку рассудочного
поэта. Возвращение жизни на сцену возможно лишь тогда, когда театр вновь
соединится с породившей его стихией игры, когда на сцене появятся маски
и актеру будет возвращена свобода импровизации. «Тогда дело не сводилось
бы к тому, чтобы, выучив наизусть роль, вообразить, что можешь ее играть; в
каждом движении должна была бы явственно проявляться мысль, живое
воображение, мастерство, знание театрального дела, находчивость; актер поневоле
был бы вынужден осваиваться с ним, чувствовал бы себя на сцене как рыба в
воде, и поэт, который обладал бы даром использовать эти средства, произвел
бы огромное впечатление на публику»81 — так говорит в романе «Театральное
призвание Вильгельма Мейстера» мадам де Ретти, прототипом которой была
выдающаяся немецкая актриса Каролина Нойбер. Вся сущность театра
заключается у Гете в игре.
Гете мы обязаны феноменологией карнавала, обнаружением его чистого
феномена, т. е. игры. Впервые он увидел карнавал в Риме в феврале 1787 года,
80 Там же. С. 89.
81 Гете И. В. Театральное призвание Вильгельма Мейстера. М., 1981. С. 100.
38 Зь
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
увидел глазами незаинтересованного, почти раздраженного зрителя. Тогда
карнавал оттолкнул его. Он вписывался, как ему показалось поначалу, в
бесконечные формы лицедейства, неестественности, помпезной праздничности, которые
в целом порабощают внутреннюю свободу. Включаться в веселящуюся или
исполненную религиозным благоговением толпу Гете не хотел. Гете писал 3
февраля 1787 года герцогу Карлу Августу из Рима: «Театр и церковные церемонии
производят на меня достаточно удручающее впечатление, актеры прилагают
много стараний, чтобы доставить радость, попы — чтобы возбудить
набожность; но и те и другие действуют на определенную категорию людей, к
которой я не принадлежу; оба эти искусства втравились в безумное великолепие»82.
Ясно, что здесь речь идет не о том, что стихия игры вообще чужда Гете. Гете
пишет герцогу об усложненной структуре действа, замутняющей прозрачную
структуры игры. Бутафория не может быть субстанцией игры. Он против того,
чтобы воображаемый характер игрового мира исчезал из-за гипнотизирующего
или суггестивного воздействия. Он не хочет вторжения в игру всего, что по сути
дела извращает ее сущность, превращает ее в принудительность. Радость нельзя
навязывать, нельзя внушать и религиозный трепет. Однако год спустя, после
усиленного изучения природы, искусства и общества, Гете видит карнавал
другими глазами. Он выделяет его из других празднеств, к которым он так и остался
равнодушен. Его зоркий глаз, мыслящее зрение открывает в карнавале то, что
было в нем скрыто. Он не только захвачен снующей на Корсо беспорядочной
толпой. В хаотической игре масок, череде маскарадных образов, когда «большая
масса чувственных предметов должна непосредственно двигаться перед
глазами, чтобы каждый мог на свой лад созерцать и воспринимать ее», Гете видит
уже нечто закономерное, символ жизни. Гете включается в имманентное
настоящее игрового мира, он сам играет, схватывая при этом целостность феномена
игры, который упорно сопротивляется любой рефлексии и может быть описан
только феноменологически. Гениальное определение римского карнавала как
праздника, «который, собственно, не дается народу, но который народ дает сам
себе», обнажает подлинную сущность игры.
Игре здесь не навязывается постороннего смысла, здесь игра не средство,
не орудие для выражения смысла. Игра осмыслена через себя, более того, сами
правила карнавала создают свободу для индивидуальной импровизации, и эти
правила выводят в игре стихию жизни. «Это не праздник, ослепляющий зрителя
наподобие многих церковных праздников Рима; здесь нет фейерверка, из окон
Сан-Анджело составляющего неповторимое зрелище; здесь нет иллюминации
собора и купола Святого Петра, восхищающей и привлекающей чужеземцев из
разных стран; нет блистательной процессии, при приближении которой
положено молиться и изумляться, — здесь только подан знак, что каждый может
сумасбродствовать и беситься сколько вздумается и что, кроме драк и поножовщины,
дозволено почти все»83.
То многообразие форм, увиденное Гете в природе, где нет различия
между высшим и низшим, а есть постоянные переходы, Гете находит в карнавале.
82 Гете И. В. Собр. соч. в 13 т. Т. 12. С. 315.
83 Там же. С. 511.
/. Гете и мир игры
J& 39
В нем также стерто различие между высшим и низшим, на мгновение оно
кажется снятым. Все охвачено «суматошной и бесконечной радостью» этого оазиса
счастья. Карнавал только представляет, он вне логики понятия, он феноменален.
Но в нем, однако, виден изоморфизм между жизнью в целом и игрой. Этот
изоморфизм обладает особым смыслом, который вне всяких понятийных рубрик и
дискурсивного мышления, ибо «жизнь в целом, подобно римскому карнавалу,
остается необозримой, неподатливой, даже сомнительной, и пусть эта
бесконечная толпа масок каждому из нас напомнит о важности любого мгновения
наслаждения жизнью, часто кажущегося нам ничтожным»84.
В поэзии и прозе Гете можно найти сотни примеров игры и использования
игровых моделей. Мы найдем здесь изображение целого ряда игр, о чем
писал И. Хейзинга, найдем игровые метафоры в их субститутивной и
концептуальной функциях. Анализ их мог бы стать предметом целой монографии.
Действительно, без гетевской концепции игры невозможно понять те серьезные и
несерьезные игры, которые ведут герои его романа «Избирательное сродство»:
рационалистическую игру Шарлотты и Капитана с природой, пустые игры и
забавы Люцианы, эгоистические игры Эдуарда, создавшие трагические коллизии
романа. И все это на фоне непостижимой для человека игры природы, в которой
скрыто все случайное и необходимое.
Наше понимание «Фауста» будет ущербным, если мы исключим из него
научные игры, обозначившие целые направления морфологии животных,
палеонтологии, геологии и космологии («Классическая Вальпургиева ночь»).
Гетевские сценарии маскарадов и тексты к ним, которые даже выдающиеся
литературоведы (Ф. Гундольф, Э. Штайгер и др.) рассматривали как
обязанность придворного поэта, откроют нам генезис маскарада в первом действии
второй части «Фауста». Без этимологических игр Гете, которыми он вместе
с Морицем занимался в Италии, стремясь найти в словах различных языков
внутреннее чувство народов, внутреннюю форму языка — Гете сравнивал их
с шахматной игрой, — трудно представить себе смысл этимологических
изысканий Мефистофеля. Наконец, даже карточная игра не выпала из поля зрения
Гете. Правила виста и ломбера, которые обусловливают поведение игрока в
зависимости от выпавших ему карт, т. е. структура игры, используются им
для описания более сложных структур античной и современной ему поэзии.
У него даже природа удваивает ставки в своей вечной игре. Множественная
значимость игровых моделей соответствовала его мировоззрению и способу
постижения мира. Игра спасала его от парализующей творческие силы
саморефлексии, от «самопознания», которое «сводится только к самоистязанию и
самоуничтожению, не давая в результате ни малейшей выгоды в практической
жизни»85; она позволяла ему всегда идти вперед, не застывая в какой-либо
одной форме деятельности.
Современники Гете понимали игровое начало в нем лучше нас. Их
удивляло, а некоторых даже раздражало это постоянное стремление выходить за
пределы своего Д искать для него все новые и новые возможности и формы
84 Там же. С. 542.
85 Гете И. В. Избранные философские сочинения. С. 374.
40 Sx-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
его воплощения, характер Протея. А. Шопенгауэр писал, что Гердер и
близкие к нему люди говорили, что Гете всю жизнь остается ребенком. Они видели
детскость в его деятельности и полагали, что поэту давно пора было бы стать
взрослым. Шопенгауэр добавляет: говорить об этом они могли, но упрекать его
не имели права, ведь речь шла о детскости гения. Нашей задачей здесь было
приближение к уникальным играм, в которых раскрылась, пожалуй, ни с чем не
сопоставимая мощь творческой личности Гете.
IL
Трагедия И. В. Гете «Фауст»·
Первая и вторая части:
образы и идея
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J£b 43
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1. От всезнания к титанизму. Сцена «Ночь»
«Фауст» Гете принадлежит к тем созданиям человеческого гения, которые
стали вечными спутниками нашей истории. И таким, видимо, останется на все
времена. Для самого создателя трагедии «Фауст» был делом всей его долгой
жизни. Поэтому мы можем с полным правом согласиться с убеждением, что
если эту трагедию рассматривать в связи с остальными произведениями Гете, то
она ничего не потеряет от своего величия как высокохудожественная поэзия, но
лишь в «Фаусте» в полной мере раскрывается величие его создателя1.
«Фауст» создавался на протяжении 60 лет, то есть в течение почти всей
творческой жизни поэта. Три редакции «Фауста», так называемый франкфуртский
«Фауст», или «Прафауст» (1773—1775), «Фауст-фрагмент» (1790) и, наконец,
«Фауст, 1-я часть» (1808) показывают нам сложнейший путь эволюции
фаустовской идеи, которая затем потребовала огромного напряжения сил при создании
второй части, завершенной незадолго до смерти поэта.
История создания «Фауста», изданий текста и комментария к нему давно уже
стала предметом пристального внимания германистов. Поэтому на протяжении
двух столетий, начиная с выхода в свет первой части трагедии, как описание
текста, текстологическая работа издателей, так и позднее комментарии каждый раз
с новым обращением к гетевскому тексту становились важной филологической
проблемой понимания и интерпретации одного из самых сложных
произведений мировой литературы. Это, бесспорно, тема самостоятельного,
подробного исследования. Укажем только на труды, без обращения к которым не может
обойтись ни один гетевед.2
1 См.: Trunz Ε. Anmerkungen. Faust. Hamburg, 1999, S. 503.
2 См.: Жирмунский В. M. Творческая история «Фауста» Гете // Жирмунский В. М. Очерки по
истории классической немецкой литературы. Ленинград. 1972. С. 466—479. Из немецких
комментированных изданий «Фауста» наиболее полными и авторитетными являются следующие: Goethes Faust, hrsg.
von Georg Witkowski. 2 Bde. Leipzig, 1906. Это издание многократно перерабатывалось и
переиздавалось. Оно содержит комментарий и толкование, литературу, словарь к «Фаусту». Traumann Ε. Goethes
«Faust». Nach Entstehung und Inhalt erklärt. 2 Bde. München, 1913—1914. Trendelenburg A. Goethes Faust,
erklärt von A. Trendelenburg. Die Tragödie zweiter Teil. Berlin u. Leipzig, 1922. Arens H. Kommentar zu
Goethes Faust II. Heidelberg, 1989. Необходимо особенно выделить ставшие образцовыми издания
Эриха Трунца, Ульриха Гайера и Альбрехта Шене, где комментарий представляет собой многоуровневую
интерпретацию текста. Goethe. Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil. Urfaust. hrsg. und kommentiert
von E. Trunz. Hamburg, 1999. J. W. Goethe: Faust-Dichtungen. Stuttgart, 1999. Bd. 1. Texte, hrsg. Ulrich
Gaier. Bd. 2: Kommentar I. von Ulrich Gaier. Bd. 3: Kommentar II. von Ulrich Gaier. Goethe Faust Texte,
hrsg. von Albrecht Schöne. Frankfurt am Main, 2008. Goethe Faust. Kommentare von Albrecht Schöne.
Frankfurt am Main, 2008.
44 Зь
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Философский смысл трагедии находится в нерасторжимом единстве с его
художественным воплощением; композиция произведения, нарративные
структуры, сложнейшая символика, разнообразие художественных метров и ритмов
делают «Фауст» поистине неисчерпаемым произведением, создавая эффект
космичности художественного целого, эффект многоуровневой информации,
получаемой от текста. Действительно, трагедия захватывает нас с самого
начала, когда мы слышим голос героя, его исповедальную речь, в которой он,
закончивший четыре факультета, ставший магистром, а затем доктором, говорит
нам о тщетности всех человеческих усилий в раскрытии тайны мироздания.
И сразу становится понятно, что перед нами человек восемнадцатого столетия,
надевший на себя маску средневекового ученого, человек ищущий и
страдающий, стоящий лицом к лицу с проблемами своей эпохи, ставшими, после того
как он заговорил, проблемами вечными. Мы начинаем понимать, что такого
рода исповедь стала результатом духовной революции, которая произошла в
Германии в 70-е годы XVIII века и привела к возникновению мощного
литературного течения, вошедшего в историю под названием «Буря и натиск».
Если к фаустовской проблематике подойти социологически, хотя этот
подход зафиксирует только внешнюю сторону, то речь здесь пойдет о бюргерском
индивиде, утверждающем свое право на свободу деятельности, не зависящей
от религиозных и сословных регламентации. Лишь такой индивид оказывался
открытым миру и продуцировал этот мир из себя, и при этом он обнаруживал
в себе творческие силы, аналогичные силам, творящим мироздание; лишь ему
было отдано право переходить границы сферы социальных ролей, отведенных
ему обществом, а следовательно, и притязать на право быть личностью
общечеловеческой, для которой сословные ограничения оказываются совершенно
бессильными. Лишь он мог благодаря своей деятельности завоевать право стать
гражданином как природного, так и сверхчувственного миров. Мы бы очень
сузили великий замысел Гете, если бы свели все содержание «Фауста» к
демонстрации социальных ролей, к которым общество принуждает человека и
которые заставляет его играть. Человек — не сумма общественных отношений, не
зеркало их, он созидатель и творец собственного жизненного мира, и его прорыв
за границы социальной обусловленности означает вечное творение его
жизненного мира. Социальные роли — это поверхностный слой грандиозной
проблемы Гете и его поколения, которую уже тогда невозможно было свести только к
выбору ролей.
Европейская литература XVII—XVIII веков имела достаточный опыт в
осмыслении так называемых ролевых игр (испанский плутовской роман, романы
эпохи Просвещения). Но никто до Гете не ставил проблему жизненного мира
человека. Возможности выбора искались Гете в соединении человека с природой,
гарантировавшем человеку возможности реализации его сущностных сил.
Внутренняя природа, обращение к духу творения превращала человека в существо,
притязавшее на право быть подлинным субъектом деятельности, выходящей за
пределы отведенных ему ролей, правом играть эти роли не как актер-лицедей, а
схватывать их глубинную сущность, проецировать в них всю мощь своей души.
Постижение всей игры природы превращалось в условие становления человека
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J£b 45
как личности, а включение в эту игру определяло его судьбу. Драматизм этого
постижения и включения показан в «Фаусте». Мотив народной книги и
кукольной комедии XVI века поднят на высоту драмы, для создания которой
потребовалась вся жизнь поэта.
Когда мы стремимся в осмыслении творчества Гете, и прежде всего
«Фауста», использовать социологические понятия ролей и ролевых игр — а к
этому располагает игровой характер его искусства, — мы надеемся, что эти якобы
точные понятия, до конца прояснят нам гетевские тексты как социологически,
так и культурологически. Однако сразу же следует заметить, что именно эти
понятия, будучи первоначально эстетическими и художественными феноменами,
и в социологии, и в социологическом литературоведении выглядят сведенными
до узких рамок отдельных понятий. Роль и игра, сцена и зритель, как и многие
эстетические категории, имеют герменевтическое преимущество в том, что они
одновременно тематизируют выводимый из них образ действия и делают это
так, что их функции определяются не только из скрытых интенций автора, но
и из картины мира, на которую автор опирается. Для описания и понимания
сцены социального действия театральная метафорика является даже явной
необходимостью, и эта ролевая метафорика показывает большую широту
эстетического, художественного значения, нежели редукция последнего к феноменам
социальной жизни. То, что называется «Фаустом», — это текст, написанный для
театрального действа, которое по своему характеру и форме, хотя и называется
трагедией, очень сильно отличается от того, что понималось под трагедией в
конце XVIII и первой трети XIX века. Если говорить о главной эстетической
метаморфозе бытия в его соприкосновении с небытием или с более высоким,
трансцендентным бытием, то в этой метаморфозе возникает теоцентрическая
парадигма. Бог стал творцом, люди — участниками игры или марионетками,
космос превратился в сцену, а привилегированная группа (ангелы, святые и,
наконец, сам Бог) стала зрителями, смотрящими спектакль. Эта парадигма
мирового театра (theatrum mundi) дает возможность представить исторический
жизненный мир. Гете, использовав в качестве источников как народную книгу,
так и кукольную комедию, примкнул к этой традиции. Сцена мирового театра,
пригодная для воплощения теоцентрической модели мира, была превращена у
Гете в пространство, где действует человек модерна — конкурент Творца всего
сущего, превращающийся из созерцателя игры мировых сил в преобразователя
природы и жизненного мира. Как мы увидим, уже само начало фаустовских
метаморфоз трагическое. Трагическим оно будет до самого конца.
С историко-литературной точки зрения «Фауст» — произведение уникальное
не только в художественном отношении. В нем отразилась творческая эволюция
его создателя: от бурного «гения» через веймарскую классику к глубинному
синтезу искусства, науки и практической деятельности в 20-е годы XIX века. Образ,
созданный Гете в его драме, — это первое в мировой литературе
художественное исследование человека модерна, исследование его сознания и
возможностей его деятельности, притязаний и иллюзий. Для младших современников Гете,
романтиков, Фауст был квинтэссенцией всех проблем, которые история Нового
времени поставила перед человеком. Он нес в себе дух времени, имманентным
46 Sîl
A. L Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
свойством которого было разочарование в себе и в результатах своей
деятельности. В романе «Исповедь сына века» Альфред де Мюссе заставляет своего
героя Октава ощущать себя наследником Вертера и Фауста, ведя от них свою
родословную. «Гете, патриарх новой литературы, нарисовав в "Вертере" страсть,
доводящую до самоубийства, создал в "Фаусте" самый мрачный из всех
человеческих образов, когда-либо олицетворявших зло и несчастье. Его сочинения как
раз начинали тогда проникать из Германии во Францию. Сидя в своем кабинете
среди картин и статуй, богатый, счастливый и спокойный, он с отеческой
любовью наблюдал за тем, как идет к нам его творение — творение мрака»3.
Умный, рефлексирующий Октав находит в себе фаустовские черты, видит
тьму, охватывающую его сознание, и свое бессилие от нее избавиться. Октав
понимает, что создатель образа Фауста дистанцировался от своего героя, но
вселить надежду на просветление современного человека не хочет. «Но скажи мне
ты, благородный Гете, разве ничей утешительный голос не слышался больше
в благоговейном шепоте дремучих лесов твоей Германии? Прекрасная поэзия
была для тебя родной сестрой науки — так разве не могли они, эти сестры,
найти в бессмертной природе какую-нибудь целебную траву для сердца своего
любимца? Ты был пантеистом, античным певцом Греции, страстным поклонником
священных форм — так разве не мог ты влить каплю меда в прекрасные сосуды,
которые ты умел создавать? Ведь тебе стоило лишь улыбнуться, и сразу пчелы
слетались бы на твои уста»4. Как сильно отличается понимание образа
Фауста и его творца младшим современником Гете от позитивистских и прогрес-
систских трактовок великой драмы человека модерна. Мюссе видит в «Фаусте»
изображение духовной катастрофы, которую переживает человек его времени, и
в «Исповеди сына века» мифология зла имеет фаустовское происхождение, тень
зла, закрывающая перспективу сознания героя, создает новую вариацию образа,
созданного Гете. В эпоху революций и войн Фауст приобретает для Мюссе
актуальность, «ибо выражать общие идеи — значит превращать селитру в порох, а
гигантский мозг великого Гете вобрал в себя, как реторта, весь сок запрещенного
плода. Те, которые не читали его тогда, думали, что остались в стороне. Жалкие
создания! Взрыв унес и их, словно песчинки, в бездну всеобщего сомнения»5.
Выше уже сказано, что Фауст закончил четыре факультета средневекового
университета и на этих факультетах ему была присуждена степень доктора.
Конечно, самым престижным был теологический. Разуверившись во всей
мировой премудрости, Фауст предпринимает попытки магического познания мира.
И прежде чем показать магические действия Фауста, его попытку связаться с
миром природы магическим путем, Гете дает возможность своему герою
высказать свою тоску по природе, свое внутреннее томление в ожидании встречи
с природой, в ожидании такого слияния с ней, где его силы, подобно силам
природы, получили бы подлинную мощь, способность творить и Фауст сам стал бы
частью природы в ее вечной созидательной деятельности. До этого Фауст
смотрел на нее издали, лишь свет луны проникал в его мрачную келью; погружен-
3 Мюссе А. де. Исповедь сына века. Новеллы. Ленинград, 1970. С. 25.
4 Там же. С. 25.
5 Там же. С. 25.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 47
ный в книги, он видел звездное небо только через мрачную атмосферу своего
печального кабинета. Это изгнание в мир книг еще больше усиливает желание
Фауста прорваться к горним высям, освободиться от Wissensqual, от дыма, чада
учености. Мир, в котором живет герой Гете, — мрачная тюрьма. Фауст
ненавидит простирающиеся до потолка и покрытые пылью горы книг. Он ненавидит
свитки пергамента, почерневшие от дыма. Ему противен вид коптящей лампы,
стоящих в комнате реторт и колб, весь экспериментальный и духовный
инструментарий науки теперь вызывает у него ненависть. Все эти приспособления
помогают получить лишь призрачное знание, оторванное от жизни; это знание,
рождающееся в темном пространстве, мудрость науки теперь кажется Фаусту
пустой, никому не нужной, и это вызывает у героя чувство абсолютной
обреченности. Созерцая только свою келью, Фауст видит мир во всей его
ограниченности и с горечью восклицает: «И здесь твой мир? И жить ты должен в нем?!» (43)6.
Стремление к оторванному от жизни знанию, к познанию всех хитросплетений
схоластики, погружение в книжную науку привело ученого к полному
разочарованию в ней. Картина мира оказалась мертвой, она стала подобной той мрачной
келье, в которой он провел многие часы над книгами; через знания он прорвался
не к живой природе, а к умозрительным, безжизненным схемам книжной науки.
В поисках истинного знания Фауст вступает на сомнительный и опасный путь
магического познания.
Сам Гете в юные годы под влиянием герметизма пережил увлечение
алхимией и магией. Многие его современники считали, что посредством магии можно
постичь движущую силу мироздания, а алхимические опыты позволят понять
сущность взаимосвязей между всеми явлениями во вселенной. Традиционная
религия никогда не приветствовала увлечение магией, и герметические, и
магические учения всегда отвергались ортодоксальным христианством. Обращение
к магии можно рассматривать как первую фазу соперничества Фауста с Богом,
правда, не вполне им осознанного. Магический путь к познанию соединяется с
идеей об излучении, о свете божества через все сущее; познавая суть природы,
входя в самую ее сердцевину, схватывая этот свет, делая его внутренним,
человек связывается с духами. Магический путь познания, на который стремится
встать Фауст, связан с надеждами преодолеть ограниченность человеческого
сознания, конечность человеческого бытия с помощью прорыва к бесконечному и
получить знание божественное, то есть знание, творящее мироздание:
И стал я магии служить,
Чтоб силой духа предо мной
Открылись тайны, мир иной,
Чтоб, не томясь пустым трудом,
Мне перестать учить о том,
Чего не ведаю и сам.
Чтобы открыть своим очам
6 В этой книге везде «Фауст» Гете цитируется в переводе Константина Иванова по изданию:
Гете И. В. Фауст. Впервые в переводе Константина Иванова. СПб, 2005. Номера страниц даются в тексте
в скобках.
48 β^
Α. Г. Аствсщатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Все тайны, семена живые,
И позабыть слова пустые... (42)
Отвернувшись от книжного знания, от школьной науки, замыкающей
человека в сфере конечного, Фауст ищет знания тайного, сокрытого и надеется
получить его при поддержке демонических сил, но при этом, как указывает Ульрих
Гайер, уставший от схоластики Фауст не знает универсальной науки магии,
которая, согласно Агриппе Неттесгеймскому требует не только знания, но и силы
веры, твердости в ней при каждом магическом эксперименте. Эта твердость
достигается молитвой и аскезой, чего мы не видим у гетевского героя, который
«полагается на волю случая и каждый раз терпит неудачу». Фауст оказывается
плохим магом. Вызывая духов, он больше уже не может избавиться от них
(Мефистофель будет сопровождать Фауста всю жизнь), и его ошибки и легкомыслие
как мага делают его зависимым от демонических сил7.
Фауст открывает книгу пророчеств знаменитого французского врача и
астронома Мишеля Нострадамуса. Этот известный французский астролог
опубликовал в 1555 году в Лионе свое сочинение «Астрологическое обоснование
пророчеств», которое вызывало огромный интерес во времена Гете. Упоминая
эту книгу в «Фаусте», Гете как бы отсылает читателя, своего современника, к
книге мистических пророчеств, окунает его в магическое мировоззрение. На
самом деле речь идет о модернизированном Нострадамусе. Гете имеет в виду
не самого Нострадамуса, а другого мистика, не менее известного в XVIII
столетии, — Эммануэля Сведенборга. В 70-е годы XVIII века в среде философов и
мыслящих людей произведения этого мистика были чрезвычайно популярны.
Открыв книгу Нострадамуса, Фауст видит в ней знак макрокосма, находит
геометрические рисунки, которые, по воззрениям алхимиков отражали отношения
между человеком и Вселенной. С геометрической структурой алхимиков, где
куб обозначает землю, пирамида — огонь, а восьмиугольник — воду, Гете
познакомился еще в юные годы, когда заинтересовался магическими учениями, в
книге Георга фон Веллинга, деятеля позднего барокко (1652—1727).
Созерцание знака макрокосма наводит Фауста на мысль о гармонии
мироздания. И в этой гармонии все силы находятся в состоянии динамического
взаимодействия. «Wie alles sich zum Ganzen webt, eins in dem andern wirkt und
lebt» — «Какая связь видна кругом, как все живет одно в другом!» (44). Здесь
перед нами раскрывается динамическая картина природы, взаимодействие всех
мировых сил превращается в цепь творения, это осуществление божественного
промысла, божественного провидения. В одном из своих писем Гете написал:
«Die ganze Natur ist eine Melodie, in der eine tiefe Harmonie verborgen ist» — «Вся
природа — это мелодия, в которой скрыта глубокая гармония». И
действительно, перед Фаустом — восхитительное зрелище, зрелище мировой гармонии, и
оно представляется Фаусту спектаклем, Schauspiel, но Фауст только пассивный
созерцатель движения мировой жизни. Он видит прекрасное сплетение живой
ткани мироздания, но это еще не познание — скорее мечта, греза. Поэтому она
и остается для Фауста только игрой. Фауст приходит к мысли, что необходима
7 Gaier U. J. W. Goethe. Faust. Der Tragödie Erster Teil. Stuttgart, 2005. S. 52.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J£5 49
другая форма познания мира, новая ступень встречи с природой. Фауст
стремится к своей конечной цели, он хочет охватить истоки всей жизни, заглянуть
в сердце, в сердцевину бесконечной природы. И самое главное — он стремится
пережить познание как действие. Это означает, что он ощущает в себе
божественность, силу Бога, у которого действие и познание совпадают друг с другом.
Стремясь к достижению своей цели, Фауст вызывает Духа Земли.
Мифология Духа Земли — одна из интереснейших проблем, с которой
сталкивается каждый исследователь «Фауста». Скорее всего, главным источником
для Гете, как полагает Альбрехт Шене, служил многократно использованный
поэтом мифологический лексикон Беньямина Хедериха, в котором он нашел
статью о Демогоргоне, «Духе Земли»8. Демогоргон должен называться не
иначе как «дух Земли» (Erdgeist) и пониматься как первая и исконная сущность
всех вещей, породившая тройственный мир, а именно Землю, Небо и Море, и
все, что в них существует. Он, собственно, есть то, имя которого нельзя было
называть <...> жил в глубинах Земли и имел своими спутниками вечность и
хаос. <...>. Сама по себе эта главная сущность была не чем иным, как тем, что
называют природой9.
Демиургические действия Демогоргона носят демонический характер, и с
этим демоническим духом природы ждет встречи Фауст, вызвав его в
состоянии дионисийской экзальтации, наполнившей его чувствами, представлениями,
мыслями о своей близости к божеству:
Ты Дух Земли, доступный для меня!
Явилась бодрости волна,
И я горю, как от вина.
Я чувствую стремленье в свет умчаться,
Земным печалям, радостям отдаться,
С могучей бурею сражаться
И в корабле разбитом не пугаться. (44)
Дух Земли понимается им как Welt- und Tatengenius, то есть как гений мира,
действия, поступка10. Согласно алхимическому воззрению, каждое созвездие,
каждая планета, и в том числе Земля, подчинены определенному духу. И этот
дух определяет сущность того или иного космического тела, той или иной
планеты. В мистическом учении Парацельса говорится о существовании некоего
архетипа Земли, ее начала. Джордано Бруно в своих трудах приходит к
заключению, что у Земли, как и у всего сущего, есть душа. Сведенборг пишет о Земле и
планетарных духах, а Георг фон Веллинг вводит в мистические учения понятие
«мирового духа». И этим мировым духом, согласно Сведенборгу, является воз-
8 В XVIII веке было три издания этой книги. Hederich В. Gründliches mythologisches Lexikon,
bearbeitet von Joh. Joachim Schwabe. Leipzig, 1770. Это третье издание было в библиотеке Гете. Поэт также
пользовался и первым изданием 1724 года.
9 Hederich В., op. cit. Leipzig, 1770. S. 858. см также: Schöne Α.. J. W. Goethe Faust. Kommentare.
Frankfurt am Main. S. 216.
10 См.: Goethe J. W. Faust. Texte hrsg. von Α. Schöne., Frankfurt am Main 2008. S. 576.
50 S^
А. Г. Аствацатуров, ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
дух. В алхимической книге Фауст находит знак Духа Земли, и этот Дух является
ему в его комнате.
Мы видим прекрасную поэтическую картину — могучий образ Духа
Земли в сиянии лучей света, свет является его началом. Дух Земли представляется
Фаусту и рассказывает о себе. В первой части «Фауста» это одно из важнейших
мест, выражающее динамическое мировоззрение молодого Гете, для которого
бытие представляет собой безостановочное становление, постоянное изменение
всех природных форм.
На море житейском, среди суеты,
Я плаваю взад и вперед.
И всюду рука моя ткет!
И смерть, и рожденье
Мое появленье
Везде застает,
Все то же волненье,
Все то же движенье
Мне время несет.
И так я, свершая свой путь неизменный,
Тку ризу для Бога, Владыки вселенной. (46)
Представление о Духе Земли восходит к эпохе Возрождения, и в этом
смысле Фауст обрисован как ренессансная личность, каковым, собственно,
и был исторический Фауст. Но слово Erdgeist (Дух Земли) до Гете в
литературе, как указывает Эрих Трунц, не встречается. Однако И. Кеплер говорит
о «душе Земли» (anima terrae). В своей «мировой гармонии» Кеплер
утверждает, что Земля реагирует на воздействие Солнца, Луны и планет особым
образом, который невозможно объяснить с точки зрения физики, и это дает
возможность думать, что Земля имеет душу. Также Джордано Бруно в
своих натурфилософских сочинениях пишет об anima terrae. В алхимической и
пансофской традиции, с которой Гете был прекрасно знаком, идущей от Па-
рацельса через Базилия Валентина вплоть до Георга Веллинга,
использовались выражения «anima terrae», «archeus» или «archaeus», что
соответствовало греческому слову «archaios» и означало «первоначальный», «исконный».
Речь, конечно, шла о неуничтожимой, вечно живой субстанции, первоначале.
В лексиконе алхимии Мартина Руланда (1612) мы находим: «Archaeus —
разделитель элементов, он упорядочивает и правит каждым на своем месте,
полом и сущностью. <...> Вездесущий невидимый Дух, который себя
обособляет и поднимается из тела, — художник и врачеватель природы, сокровенная
сила и добродетель природы»м. Другая особенность Духа Земли, которой
Веллинг наделяет его, объясняет нам, почему именно этот Дух так
притягивает к себе Фауста. Этот Дух стихии, как и другие духи, похож на человека.
«Мудрецы говорят, что они имеют сходство с людьми по форме и фигуре,
11 Цит. по комментарию Эриха Трунца: Goethe J. W. Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil. Ur-
faust. hrsg. und kommentiert von E. Trunz. München, 1999. S. 521.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 51
они не так субтильны, как ангелы, но также и не такой грубой композиции,
сходной с той, какая у тела человека»12. Появление Духа Земли
воспринимается Фаустом как видение: «Вспыхивает красноватое пламя. В пламени
является Дух» (45). Образ Духа Земли у Гете сознательно обрисован нечетко
и выдержан как некая всеобщая сила. Мы имеем дело с динамической
метафорой жизненной силы Земли, о которой уже было сказано в «Прологе на
небе» архангелом Гавриилом:
С невыразимой быстротою
Кружится дивная Земля,
Где за ночною темнотою
Блистает райская заря.
Там море пенится и бьется
У мощных рек, у скал крутых,
И море, скалы — все несется
В сопровожденьи сфер иных. (34)
«Пролог на небе», написанный в 1800 году, то есть почти на три
десятилетия позже, чем сцена с Духом Земли, в окончательной концепции, естественно,
проясняет и углубляет смысл этой сцены. Поскольку в «Прологе» уже действует
Мефистофель, слышащий слова архангела Гавриила, то фаустовское видение
Духа Земли особым образом связано и с появлением Мефистофеля перед
Фаустом, о чем необходимо будет сказать несколько позднее. Из слов Духа Земли
становится ясно, что он собой представляет. Это высшая деятельность, вечное
творчество, которое включает в себя начало и конец всех единичных явлений.
И в то же самое время деятельность Духа Земли охватывает единичные
движения и явления принципом неисчерпаемого обновлении. Это бесконечное
порождение чего-то нового. Мир у Гете находится в вечном становлении, а природа
в процессе постоянного самовозвышения— Steigerung. Если в космическом
видении показана созерцательная сторона поведения Фауста, то в его желании
быть Духом Земли видна его практическая, активная сторона, желание
воплотить в деятельность свои жизненные силы. Его порыв к Духу Земли — это
неудержимый порыв к действительной, реальной жизни. Личность хочет
расширять себя до бесконечности. Параллелизмы текста оригинала Ein ewiges Meer /
Ein wechslend Weben / Ein glühend Leben показывают мировоззрение молодого
Гете-штюрмера, в основе которого лежит всеединство пантеистически понятой
жизни, постоянное динамическое ее осуществление в мироздании. Генрих Рик-
керт заметил, что «в этой вседеятельности земной жизни, в которую Фауст хочет
включиться, исчезает все индивидуальное»13. Сейчас, с появлением Духа Земли,
Фауст сталкивается с тем, что ему не мог дать знак макрокосма. В жизни Духа
Земли, которой он желает, жизни, связанной со сверхиндивидуальным
существованием, царит не гармония созерцательного покоя, а «здесь воплощено, даже
возведено на высшую ступень то, к чему стремится Фауст со стороны своей
12TrunzE., op. cit. S. 521.
13 Rickert H. Goethes Faust. Die dramatische Einheit der Dichtung. Tübingen, 1932. S. 127.
52 SL
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
двойственной нетеоретической природы, отвернувшийся от знания как
активный, деятельный человек»14.
Еще один важный момент должен попасть в поле зрения исследователя. Это
характеристика Духа Земли как пламенеющей жизни (Ein glühend Leben). Образ
огня, пламени проходит через всю трагедию и вспыхивает в ее кульминационных
местах, и Йохен Шмидт достаточно убедительно связывает его с гераклитовым
огнем, космическим огнем, понятым как первоначало, постоянно порождающим
полярность мира. Этот вечно живой огонь выглядит как душа мира, источник
становления и исчезновения, созидания и разрушения. Конечно, акцент делается
на творческой, созидательной деятельности15. С другой стороны, нельзя пройти
мимо амбивалентной природы Духа Земли, который показан у Гете как
космогонический эрос. Если рассмотреть образы речи Духа Земли, то бросается в глаза,
что она содержит миф о первоначале, о соединении женского и мужского начал:
«женские» потоки жизни (водная стихия чаще всего ассоциируется с женским
началом) соединяются с «мужской» бурей деяний (Tatensturm), и эти начала Дух
Земли содержит в себе, являясь космическим андрогином. Конвульсивное,
ритмическое движение соединения мужского и женского начал изображает празача-
тие, длящееся бесконечно (ewiges Meer), рождение и смерть (Geburt und Grab),
и мы имеем здесь хтонические формулировки молодого Гете. Принцип
порождения из себя, характеризующий мифический образ Земли, распространен на
длительность, на время и указывает на последовательность живых образов. Эта
хтоническая сила Духа Земли создает «живое одеяние божества» во всем
многообразии жизни, она содержит в себе две исконные силы: Эрос и Танатос, то есть
в ней продолжение того празачатия, которое порождает и разрушает16.
Но Дух Земли отталкивает от себя Фауста. В ужасе Фауст слышит, что он
подобен не Духу Земли, а Духу, который он сам постигает: «Du gleichst dem
Geist, den du begreifst, / Nicht mir!». Видимо, Дух Земли в провиденциальном
смысле намекает Фаусту на Мефистофеля, хотя для героя этот намек остается
туманным и непонятым. Здесь происходит первая катастрофа — несмотря на
титанический порыв, несмотря на героическую решимость, Фауст не достигает
той ступени, к которой так стремился, ступени единства творчества и познания.
Отказ от схоластики и книжной премудрости не дает ему возможности стать
подобным творящему духу природного самосозидания. В столкновении Фауста
и Духа Земли особенно ярко проявляется вся трагедийность образа Фауста и
фаустовского символа вообще.
Фауст — символ титанизма человеческого духа. И в этом он разделяет
судьбу всех героев гетевского Sturm und Drang. Чувство творца связывает его с
Прометеем, а неприятие мира роднит с Гецем и Вертером. И все же фаустовский
титанизм шире, он имеет более глубокие, более сильные побуждения. Это нена-
14 Rickert H., op. cit. S. 117.
15 Schmidt J. Goethes Faust. Erster und Zweiter Teil. München, 1999. S. 87.
16 Эта сторона Духа Земли, выводящая этот образ за сферу чисто философского символа и
связывающая его с древнейшими мифическими представлениями, особенно подчеркивается в книге:
Engelhardt M. von. Der plutonische Faust. Eine motivgeschichtliche Studie zur Arbeit am Mythos in der
Faust-Tradition. S. 332.
//. Трагедия К В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея Jή 53
сытность жизнью, стремление охватить всю полноту жизни, бытия, стремление
утвердить себя и силу своей жизни. Формами и знаком этого опыта, этой
нехватки мощных жизненных сил является чувство неудовлетворенности,
возникающее из борьбы между нашими жизненными формами, которые ограничены
временем17. Мир пространства и времени для Фауста узок, для него важен именно
прорыв за пределы этого мира. И трагизм Фауста прежде всего в его стремлении
расширить себя до вселенной. Это уже новая сторона в титанической
экспансии гетевского поколения. «Прафауст» не был завершен по той причине, что
штюрмерским героям не хватало масштабности и всеохватности страстей, мир
штюрмерских героев был узок для такого героя, как Фауст. Поэтому Гете
отложил «Фауста», и продолжение его последовало только во время итальянского
путешествия18. Некоторые части «Фауста» были написаны уже в 1800 году, Гете
совершенно спокойно входил в XIX век, принимая его проблематику.
В 1826 году, в разгар работы уже над второй частью трагедии, Гете писал:
«Характер Фауста на той высоте, куда его из старой, необработанной народной
сказки подняло новое развитие, представляет человека, который во всеобщих
земных границах, чувствуя нетерпение и неудобство, считает недостижимым
обладание высшим знанием и наслаждение высшими благами, а свои
желания — удовлетворенными в самой малой степени, дух, который, стремясь во все
стороны, возвращается еще более несчастным. Этот образ мыслей так
аналогичен современной сущности, что многие умные головы чувствовали себя
вынужденными взяться за решение подобной задачи»19.
Фауст — современный несчастный человек, и все несчастья современного
характера проистекают из-за имманентного этому характеру титанизма.
Конечно, из гетевских слов не вытекает, что поэт восхищается этим характером, его
безусловностью. Вместо восхищения мы читаем о нетерпении, бесприютности,
неудовлетворенности знанием и наслаждением, везде неудовлетворенная тоска,
несчастное сознание, которое было описано Гегелем в «Феноменологии духа».
Стремление к преодолению границ и постоянное разочарование, возникающее,
когда сознание, считающее себя безусловным, видит свою ограниченность,
перерастает в вечную неудовлетворенность временем как источником всех своих
несчастий. Таким предстает Фауст уже в первых сценах трагедии, т. е.
человеком модерна.
Трагедия Фауста — специфическая трагедия человека, это трагедия
создателя формы. Ее Гете выражает восклицанием, вырвавшимся из уст его героя, когда
он говорит с Духом Земли: «Ich Ebenbild der Gottheit und nicht einmal dir!» —
«Я — образ Божий, и не похож я на тебя», а Дух Земли иронически называет его
словом, которое много позже вошло в обиход XIX и XX веков, — Übermensch,
сверхчеловек. Во времена Реформации католики называли так лютеран, а в
эпоху Гете слово обозначало героизм, героическое.
17 О титаническом начале в гетевском «Фаусте» см.: Gundolf F. Goethe. Berlin, 1920. S. 106—150.
18 Strich Fr. Zu Faust 1. Deutsche Dramen von Gryphius bis Brecht. Frankfurt am Main und Hamburg,
1965. S. 76—101.
19 Goethe J. W. Helena, Zwischenspiel zu Faust. Ankündigung // Goethe J. W. Faust. Texte, hrsg. von
A. Schöne, 2008. S. 636.
54 3*-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Из текста становится ясно, что встреча с Духом Земли стала поражением
Фауста, говоря точнее, его полным унижением. Фауст не выдержал испытания. Он
отвернулся во время появления Духа Земли, воплощающего созидающее
время. Вызванный Фаустом Дух действует как субъект времени, и Фауст поставлен
в положение чистого объекта, он — всего лишь человек, тварь. Белая магия,
которую использовал Фауст, показала невозможность для конечного существа,
каковым является гетевский герой, слиться с бесконечным, она отказала ему в
способности сравнивать себя с Духом деятельности. Ситуация оказалась
безвыходной. Созерцание знака макрокосма не смогло удовлетворить Фауста.
Стихийная сила Земли со всеми ее созидательными и хтоническими
возможностями, иронически назвавшая Фауста «сверхчеловеком», отвергает его20.
Дух Земли покидает Фауста, и в его комнату входит Вагнер, Это
ученый-педант, человек, с усердием собирающий в своей голове сокровища знаний,
кропотливо суммирующий и регистрирующий данные человеческого опыта. Гете
не создает здесь сатирический образ бездарного и бескрылого ученого.
Систематизатор Вагнер — воплощение строгого научного знания. Он жаждет
подлинного знания так же, как и Фауст. Для Вагнера анализ и синтез, классификации
и системы — это путь к истинному знанию. Он прежде всего теоретик и, более
того, энтузиаст науки.
Но есть отрада для людей
В дух времени былого погружаться;
И как приятно наконец добраться.
Как думал древний мудрый человек,
И как над ним возвысился наш век! (49)
Вагнер относится к Фаусту с большим пиететом, он ценит духовное
богатство Фауста. Но фаустовский ученик уже самостоятелен и в спорах с учителем
всегда бескомпромиссно отстаивает свою позицию. Вагнер зашел в неурочный
час в кабинет Фауста не случайно, ему показалось, что его учитель декламирует
греческую трагедию. Эта маленькая деталь свидетельствует о большой культуре
Вагнера, о его преклонении перед античностью. Гетевский Вагнер — человек с
тонким вкусом, здесь мы видим направленность учености фаустовского
ученика и адепта. Эрих Трунц определяет Вагнера как гуманиста. Вагнер — ренес-
сансный гуманист в узком смысле слова, то есть ученый, ориентированный на
изучение античных памятников. И наибольший интерес для него представляют
риторика и грамматика21. Конечно, он в какой-то степени карикатура на
Фауста, когда-то верившего во всесилие науки, в превосходство научного разума над
природой. Он также стремится ко всезнанию, считая единственно возможным
путем к нему только накопление научного опыта. Спор Фауста и Вагнера имеет
принципиальный характер. Фауст обращается к непосредственному изучению
природы. Мы знаем, что Фауст прошел все университетские факультеты и, ко-
20 См. об этом подробнее: Keller W. Faust. Eine Tragödie // Goethes Dramen, hrsg. von W. Hinderer.
Stuttgart, 2005. S. 283—284.
21 Trunz E. Anmerkungen. Goethe J. W. München, 1999. S. 522—523.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 55
нечно, прекрасно знает античность и риторику. Из беседы Фауста и Вагнера
можно понять, что Вагнеру представляется важным овладеть всеми
формальными законами риторики, он ученый-энциклопедист. Фауст же риторику не
признает, он не признает искусственного оформления речи, языка:
Ужель пергамент — ключ святой,
Навеки жажду утоляет?
Искать отрады — труд пустой,
Когда она не истекает
Из родника души твоей. (48—49)
Здесь на спор двух направлений, имеющих своим истоком два вектора ре-
нессансной мысли, накладываются и противоречия, свойственные эпохе Гете.
С одной стороны, культурологически он может быть понят как полемика
между филологически ориентированными гуманистами и натурфилософами
Возрождения; с другой — это отображение борьбы деятелей «Бури и натиска» с
рассудочным Просвещением, с классицистскими догматами школы Готшеда.
Расходятся Фауст и Вагнер и в своем отношении к наследию прошлого.
Вагнера прошлое привлекает больше всего, а Фауст считает изучение прошлого
занятием абсолютно бесплодным. Фауст призывает различать истинный труд
прошлого, живой и бессмертный труд — и картину прошлого, которая создана
в головах ученых мужей:
Прошедшее для нас есть свиток тайный
С семью печатями, а то, что духом века
Ты называешь, — то есть дух случайный.
То дух того, другого человека.
А в этом духе — века отраженье.
Оно ворон — ужасное виденье.
Ты отбежишь, лишь только кинешь взор.
Порой — сосуд, где собран всякий сор.
Порою — камера, набитая тряпьем. (49)
Дух ученого, направленный только в прошлое, лишен устремленности в
будущее. Вагнер убежден, что человеческое развитие находится на той стадии,
когда человек может ответить на все вопросы, его знание становится всеобщим
достоянием. Фауст полемизирует с Вагнером в картезианском духе,
придерживаясь мнения Декарта, что на истину скорее натолкнется один человек, нежели
целый народ. И это знание и прозрение никогда не будут встречены с
радостью, каждому великому ученому уготована роль мученика познания. Бенедетто
Кроче отмечал неоднородность фигуры Вагнера, которая на фоне фаустовских
терзаний выглядит весьма прозаично. Его сознание и понимание науки далеки
от метафизических интенций. В разговоре Фауста и Вагнера мы найдем
контрастное противопоставление чистой теории жизни, противопоставление
безоговорочной веры в ее силу полному разочарованию в ней, непоколебимого
56 S^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
упорства в защите ее идеалов их развенчанию. Антитеза здесь налицо. Кроче
очень точно описывает психологическую ситуацию в сцене. «Вагнер — можно
представить — поневоле раздражает находящегося в ином душевном настрое.
Так спокойный и удовлетворенный лик святости невыносим страдающему
нервным расстройством, в зрелище прозаического счастья — тому, в ком бушуют
ураганы страстей. Со всей этой невыносимостью он возвращается к Фаусту, в
такие моменты его пугает лицо и голос учителя. Фауст обращается к Вагнеру
не иначе как с нетерпением, раздражением, сарказмом. Разговоры, в которых
нет понимания со стороны ни Вагнера, ни Фауста, трудно назвать диалогами»22.
Действительно, это не диалоги, а упорное, бескомпромиссное отстаивание
своих позиций, где невозможно найти точки соприкосновения. При этом поведение
Вагнера отличается особенностью, на которую необходимо обратить внимание.
Он терпеливо сносит нескрываемое презрение Фауста, его сарказм и
пренебрежение и объясняет это прежде всего дурным расположение духа любимого
учителя. Его собственный научный идеал служит ему защитой от фаустовского
скептицизма в отношении к человеческому знанию, принявшему форму науки,
имеющей многовековую традицию, и эта форма остается для него незыблемой.
Изоляция науки от жизни и профанного знания, неприкосновенность границ
науки и правил расширения ее области придают Вагнеру уверенность в его
правоте. Поэтому совершенно прав Кроче, отвечая на вопрос: «кто прав — Фауст или
Вагнер?» «Культ науки иссушает источники жизни и самой науки, части жизни,
но разве отчаянный порыв разом исчерпать критику и жизнь, науку и мир
наслаждений еще не безумнее?»23 В контексте трагедии становится ясно, что ни
риторическая культура, ни рационалистическая логика, ни чистый эмпиризм,
ни научные программы идеалистических систем не соответствуют притязаниям
субъективизма, возвышающего себя до сверхчеловеческой индивидуальности.
С одной стороны, тотальность этих притязаний на богоравность не может быть
удовлетворена как самой наукой, остающейся в сфере человеческого, так и
картиной мира, ею созданной, и тогда ученый будет выглядеть как ограниченный
адепт обветшалого знания, с другой — фаустовская экспансия грозит полным
уничтожением как научных заблуждений, так и науки вообще.
После беседы с Вагнером у Фауста начинается глубокая душевная депрессия.
В отчаянии от мысли, что сын земли ограничен конечностью своего
существования, Фауст предпринимает последнюю попытку вырваться из навязанной ему
формы жизни, ему нужно во что бы то ни стало разорвать формы пространства
и времени. Иными словами, выйти за пределы априорных, субъективных форм
чувственности, пространства и времени, если говорить языком Канта. Для этого
Фауст должен сбросить с себя ограничение собственной телесности, ему нужна
свободная смерть, он должен взмыть к новым сферам чистой деятельности,
вырваться из мира пространства и времени, с которым он связан телесно. Только
освободившись от телесной оболочки, его дух обретет спонтанность, будет
неудержим. В предвкушении такой чистой деятельности Фауст хочет оставить бы-
22 Кроче Б. Гете. Педант Вагнер // Кроче Б. Антология сочинений по философии. Перевод,
составление и послесловие С. А. Мальцевой. СПб, 2008. С. 338.
23 Кроче Б. Указ. соч. С. 343.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 57
тие червя, копошащегося в одной из борозд мироздания. Он хочет быть
свободным от страха смерти, от страха перед жизнью. Он хочет доказать, что человек
достоин взойти на божественные высоты. Но эти желания после встречи с
Духом Земли — форма отчаяния, вызванного крушением попытки
самообожествления, и отчаяние — расплата за самонадеянность, гордыню, за стремление
вырваться за пределы человеческой формы и сущности, возвыситься над ними.
Бытие человека выглядит для Фауста как отчаяние, и оно присуще всему, что
составляет жизнь ограниченного, конечного существа, каковым является человек.
Отчаяние и страдание идут рука об руку. Страдание всегда препятствие
наслаждению бытием, и его причиной является сам человек, навсегда укорененный в
своей временной сущности, постоянно находящейся в состоянии перехода от
бытия к небытию. Поэтому само бытие рассматривается им как исчезновение,
как мечта, иллюзия, мираж. Неизбывным остается ощущение грядущего
разрушения всех надежд, в будущем — только небытие.
Поступки наши могут, как страданья,
Ход нашей жизни замедлять.
К прекрасному, что только может быть,
Всегда прибавится совсем ему чужое,
Когда удастся нам и благ мирских добыть,
Мы лучшее зовем обманом и мечтою.
И чувства лучшие, что нас одушевляют,
Среди земных сует тепло свое теряют.
Когда фантазия на чудных крыльях вольно
Стремится к вечному, надеждою полна,
И малого пространства ей довольно.
Коль счастье так течет, как за волной волна,
Себе гнездо в сердечной глубине
Забота сразу же свивает
И боли тайные на сердце налагает. (51)
Что бы человек ни предпринимал, куда бы он ни прилагал свои силы, с
каким бы размахом ни действовало его воображение, творя самые смелые
проекты, везде его ждет разочарование, везде несбывшиеся надежды, и последним
будет только отчаяние. Деятельность человека возможна лишь в границах его
собственных сил, которые непреодолимы. Отсюда все блага, полученные в дар
от природы, действующей широко и расточительно, в деятельности человека
превращаются в уничтожение этих благ.
В тонком и глубоко содержательном анализе этой сцены Йохен Шмидт
характеризует душевное состояние гетевского героя как меланхолию, видя
в ней предпосылку для заключения пакта с чертом, и признаком охватившей
Фауста меланхолии считает поселившуюся в сознании Фауста заботу (Sorge).
Заботу приносит отчаяние. Свив себе гнездо в сердце человека, забота про-
58 Sîl
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
должает разрушительную деятельность несчастного сознания, изматывая его
непрекращающейся рефлексией, обостряя недовольство собой и миром, и в
этом состоянии несчастное сознание стремится убедить себя в собственной
правоте.
Она вся движется, подобная волне,
И маски разные на лик свой надевает:
То кажется имуществом твоим,
Не то дитятею, женою,
Не то у ней огонь, она грозится им,
Кинжалом, ядом и водою...
И ты, бедняк, трепещешь пред бедою,
Которой нет, и слезы льешь всегда
О том, что не теряешь никогда. (51 )
Враждебная жизни и миру, препятствующая спонтанности Духа власть
заботы становится для Фауста аргументом возмущения против человеческой участи.
Для описания душевного состояния Фауста Й. Шмидт привлекает обширный
материал, который он находит в трактатах о меланхолии начиная с Марсилио
Фичино, а также гравюры, в том числе и знаменитые дюреровские
«Меланхолии». В трактате Роберта Бартона «Анатомия меланхолии» (1621) развивается
мысль, что гений и ученый обладают особой склонностью к меланхолии, и это
обстоятельство, т. е. традиционная типология подобного состояния ума,
позволяет изобразить Фауста меланхоликом. Кроме того, под рукой Гете был богатый
иконографический материал с типичными атрибутами изображения
меланхолии: сумерки и летучие мыши как символы помрачения жизненного настроения
и тоски. Естественно, полного погружения сознания Фауста в депрессивное
состояние меланхолии у Гете нет. Фауст всегда осознает источник своей
меланхолии — неудовлетворенность бытием, противопоставляя «тяжелые сумерки»
антиномично разорванного сознания «легкому дню» желаемой духовной
спонтанности духа:
Als daß dein Hirn, wie meines, erst verwirret,
Den leichten Tag gesucht und in der Dämmrung schwer,
Mit Lust nach Wahrheit, jammerlich geirret. (665-667)
Сумерки (Dämmerung) указывают на невозможность овладеть всей
полнотой знания и высветить внутренним светом истину. Поэтому в состоянии
погруженности во внутренние сумерки разум Фауста возобновляет страстную
критику науки, ее инструментария, критику как экспериментального, так и
теоретического знания, поскольку последние — лишь доказательство человеческой
ограниченности, а следовательно, полной беспомощности. Теория навязывает
природе умозрительные схемы, а эксперимент, согласно этой схеме, вырывает
природные феномены из целостной жизни мироздания, обрывая естественные
связи. Количественное накопление знаний бессмысленно, оно несет с собой
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J£d 59
одно лишь разочарование. Фауст возвращается к тому, что он сказал в самом
начале трагедии.
Все эти стены, эти лоскутки,
Все это — пыль. Здесь все меня стесняет,
Здесь — царство моли, здесь моей тоски
Ничто с души унылой не сгоняет;
И здесь ли мне искать, чего недостает,
К чему душа моя стремится?
Нет, пусть сотни книг прочесть случится,
А все одно мой бедный дух найдет,
Что людям предстоят мученья
И что счастливцы — только исключенья. (51—52)
Конечно, возобновление фаустовских жалоб связано с несбывшимися
надеждами расширить границы человеческого, однако нельзя упускать из виду,
что сейчас ощущение роковой привязанности человеческого бытия к конечному
обусловлено прежде всего заботой, к образу которой Фауст свел человеческую
жизнь. И если жизненный итог выглядит плачевным, то все попытки человека
вырваться за границы, определенные ему формой его бытия, будут выглядеть
только как увеличение страданий.
Все духовное навечно привязано к материальному, его затемняющему.
Забота следует за заботой, приобретая самые разные формы, надевая различные
маски, страх перед возможным омрачает настоящее, погружая его в неизвестное
будущее, откуда исходит угроза разочарования, и поэтому бесперспективным
кажется любое деяние, ибо оно лишний раз докажет человеческую
беспомощность. Все же, несмотря на заботу, в этом состоянии глубокой меланхолии и
разочарования сверхчеловеческое в Фаусте снова поднимает свой голос, и Фауст
сейчас еще более далек от смирения, чем ранее.
Поражение во время встречи с Духом Земли вовсе не убило в Фаусте
сверхчеловеческое, наоборот, интенсивность фаустовского стремления оборачивается
героической экспансией самотрансцендирующего духа, и проклятие, презрение
к своему человеческому бытию неизбежно все больше усиливает
сверхчеловеческое в Фаусте. Генрих Риккерт был совершенно прав, когда указывал, что
стремление к самотрансцендентности, самообожествлению, попытки прорвать
границы конечного и припасть к вечному сейчас еще сильнее, чем до начала
магических экспериментов24.
Драматическое развитие третьей попытки Фауста соединиться с
целостностью вечного бытия и сбросить с себя оковы индивидуации происходит, как уже
было сказано, в русле меланхолии, и это решение убить себя, самоубийство,
которое, в представлении Фауста, есть переход из изоляции во Вселенную природы25.
Кажется совершенно необъяснимым поворот сознания гетевского героя от
отчаяния и чувства полной обреченности на прозябание в конечных формах бытия
24 См. об этом подробнее: Rickert H., op. cit. S. 134—135.
25 Keller W., op. cit. S. 284.
60 s*-
А. Г. Аствсщатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
к желанию действовать вопреки природной необходимости, выйти за ее сферы.
Объяснение этому, согласно Й. Шмидту, кроется в самом понимании феномена
меланхолии, которое поэт унаследовал от предшествующей традиции, и сильно
отличающемся от представления о меланхолии как об охватившем человека
чувстве уныния, печали, безысходности, парализующем его деятельные силы. Такого
рода понимание было характерно для рационалистического Просвещения и было
признаком помешательства и начинающегося безумия, симптомами которого
являлись представления индивида о своей исключительности, чрезмерная
гордыня и необоснованные метафизические притязания. Меланхолия — начальная
стадия помешательства, которая может перейти в безумие и погасить в человеке
свет разума26. Эта одномерная концепция меланхолии была отказом от идеи,
которая приписывалась Аристотелю, гласящей, что меланхолия представляет собой
состояние, имеющее амбивалентную природу. Как писал Цицерон, Аристотель
утверждал, что «все гениальные — меланхолики». Поэтому «уже это единство
меланхолии и гениальности содержит полярное напряжение, поскольку оно
соединяет меланхолическое состояние депрессии, в узком смысле, парализующее
и блокирующее, с расположенностью к усиленной творческой деятельности, а
именно с гениальностью27. Фауст — человек творческий, охваченный порывами,
которые сродни порывам демиурга, и этим объясняется эйфория, охватившая его,
экзальтация, показывающая решительное сопротивление творческих сил,
заложенных природой, чувствам, желающим их погасить. Гениальное, творческое в
человеке всегда действует вопреки тому, что его сдерживает. Оно всегда
преобразование, а не приспособление: смириться с участью червя оно не может.
Фаустовская решимость покинуть земную жизнь не означает прекращение
жизни вообще, это — стремление к обновленной, иной жизни, желание
освобождения.
Сцена несостоявшегося самоубийства показывает нам, что «героическое
желание» и сверхчеловеческая энергия Фауста в сущности имеют ярко
выраженный компенсаторный характер. В сцене, как точно заметил Ханс-Юрген Шингс,
случайность и произвол идут «рука об руку»28. Случайно взгляд Фауста падает
на флакон с отравой.
Но что мой взгляд упорно привлекает?
Иль тот флакон — магнит моих очей?
И почему в душе как будто бы светает?
Как лунный свет пробился средь ветвей? (52)
Возникает совершенно парадоксальная ситуация. Фауст, объявивший до
этого весь инструментарий, находящийся в его келье, бесполезным, начинает
26 О становлении концепции меланхолии в Новом времени см. у Мишеля Фуко // Фуко М. История
безумия в классическую эпоху. СПб, 1997, в особенности главу «Мания и меланхолия». С. 268—293.
Из текстов Фуко видно, насколько Гете далек от натуралистических и вполне механистических
представлений о духовной деятельности.
27 Schmidt J., op. cit. S. 100.
28 Schings H-J. Faust's Verzweiflung // Goethe-Jahrbuch. Bd. 115, 1998. Weimar, 1999. S. 108.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 61
прославлять флакон с ядом; с особым благоговением он приветствует то, что
мгновенно может прервать человеческую жизнь:
Приветствую тебя, предмет мне дорогой,
С благоговением внимаю!
В тебе находчивость и ум людской,
Искусство их я почитаю! (52)
Состояние эйфории преображает привычные образы смерти в им
совершенно противоположное. Эти новые образы рождает фаустовское воображение,
которое разворачивает картину преображенной, динамичной жизни, где нет
смерти. Перед нами удивительный самоубийца, который через смерть хочет
получить бессмертие. В его сознании возникает образ огненной колесницы,
уносящей его на новые пути, откуда он проникнет в эфирные дали, «в новые
сферы чистой деятельности». Изображается дерзкий прорыв в сферу, недоступную
человеку, и поэтому устремленность как к горним высям, так и к бездне — это,
бесспорно, притязание на божественность, на «сверхчеловеческое», которому
тесно в земном бытии. Г. Риккерт понимает эту сцену как высшую точку
фаустовского титанизма. «Все, что его (Фауста. — А. А.) могло бы удовлетворить,
он уже испытал, ему остается только еще уничтожение земного
существования, если он вообще может надеяться на преодоление пределов, поставленных
человеку»29.
Я не боюсь той бездны неизвестной,
Где муки страшные фантазия творит,
Я перейду и переход тот тесный,
Где пламя адское, обильное горит.
На этот шаг я с радостью б решился,
Хотя б за ним в ничто я обратился. (53)
Х-Ю. Шингс очень точно отмечает, что Гете отдает своему
сверхчеловеку сокровища своих высших понятий — «чистая деятельность», «высшая
жизнь»30. Действительно, обновление, омоложение, второе рождение,
формула Stirb und Werde для Гете были понятиями творческой жизни, они сообщали
Гете уверенность, что он становится тем, кто он есть. С земной жизнью они
были связаны неразрывно, но никогда с ее разрушением. Кажется, поэт
погружается в ошибочную логику фаустовского прорыва в сферу
сверхчувственного, прорыва, присвоившего себе черты метаморфозы, возрождения, который
может все обратить в ничто. Ведь бессмысленно, ложно, насильственно
приписывать все, что составляет сущность жизни, тому, что на самом деле
является сверхкомпенсированной формой разочарования в жизни и величайшей
ошибкой, облаченной в динамичные, смелые образы, и по сути является атакой
на гетевское понимание жизни и ее неисчерпаемость. На самом деле мы стано-
29 Rickert H., op. cit. S. 138.
30 Schings H-J., op. cit. S. 109.
62 3^
А. Г. Аствсщатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
вимся свидетелями трагического поражения штюрмерского человека, который
стремится обмануть самого себя, до предела взвинтив свое воображение.
Уже в произведениях молодого Гете воображение стало предметом
пристального внимания и осмысления. Значение и функция воображения, его
продуктивного и негативного действия как ожидания и соблазна, проекта и
разрушения, импульса и рока, доброго и злого гения в человеке — это поразительное
открытие художественного познания молодого Гете. Его ранние произведения
представляют собой драмы воображения; они — источник всех коллизий, и
значение воображения рассматривается здесь с гораздо большей экзистенциальной
напряженностью, нежели у Канта.
Однако специфическая черта гетевского творчества заключается в том, что
характер воображения героев всецело обусловлен их душевным состоянием,
Фрейд бы сказал — типом невроза, т. е. той формой меланхолии, которой они
страдают. Меланхолия во всей своей разновидности накладывает свой
отпечаток на воображение, на картины, им созданные, творя своего рода единство в
многообразии. Поэтому меланхолия и воображение у Гете неразрывно связаны.
Нельзя, конечно, забывать, что здесь меланхолия — художественный прием в
виде темы в том смысле, который придавал теме В. М. Жирмунский, расширяя
в поэтике понятие приема.
Тот факт, что нет непроницаемых границ между опытом психологическим,
философским, даже медицинским и художественным творчеством,
обусловливает у такого поэта, как Гете с его универсализмом, многомерность именно
художественного решения, а также и многомерную интерпретацию его текстов, не
умаляя при этом экстралитературных фактов во всем их многообразии.
Меланхолия — сквозная тема в творчестве Гете. Роман «Страдания юного
Вертера», драмы «Клавиш», «Стелла», «Ифигения в Тавриде», «Торквато Тас-
со», «Внебрачная дочь», если говорить о характерах героев, выглядят как
примеры разнообразнейших форм соединения воображения и меланхолии, придавая
персонажам особую цельность, единство, законченность. Однако Фауст —
парадигматическое выражение этого единства, его полноты, размаха и
одновременно интенсивности и концентрации.
Диалектический характер воображения способен в известной мере
раздваивать индивида и, наоборот, его сплачивать, творить в нем разлад с собой и
придавать ему цельность, создавать непонимание самого себя и прояснять ему его
самого. Эта двойственность воображения особенно сильно дает о себе знать у
тех гетевских героев, для которых характерна безграничность: Фауст, Вертер,
Орест, Тассо. Но безграничность в них соединена с меланхолической
замкнутостью.
Вертер и Фауст несут в себе указанную раздвоенность, которая неизбежно
имеет своей причиной притязания бюргерского индивида быть творцом бытия,
их миростроительный проект, и крушение этого проекта становится
неизбежным, неотвратимым поражением бюргерского индивида, ибо величие и
ничтожность человека решающим образом связана с его воображением, ожиданиями
и разочарованиями. Такого рода рефлексия в первом письме романа образует
мотив, который в своем звучании всегда будет возникать в сознании Вертера
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея Jëb 63
почти в каждой его встрече с миром, ведь сам характер воображения, его
направленность на будущее уже изначально расширяет временные горизонты
сознания, так как воображение творит все временные формы, вырывая человека
из настоящего. «Конечно же, ты прав, мой милый, люди — кто их знает, почему
они так созданы, — люди бы страдали гораздо меньше, если бы не развивали
в себе так усердно силу воображения, не припоминали бы без конца
прошедшие неприятности, а жили бы безобидным настоящим»31. Однако расширение
сознания порождает неудовлетворенность настоящим, и его направленность на
прошлое, ретенция превращается в подкупающее воспоминание.
Собственно, об этом и идет речь в письме от 17 мая, когда скорбь о
потере прежней возлюбленной оказывается рефлексией своего собственного
состояния: «С ней я сам себе казался больше, чем был, потому что был тем,
чем мог быть»32. Источник меланхолического воображения у Вертера, как и у
Фауста, — это внутренний мир с его постоянным стремлением к
одиночеству, даже намеренное культивирование в себе одиночества, таящее в себе
зародыш меланхолических состояний, порождающих в вертеровском сознании
элегические фантазии. Оба героя, Вертер и Фауст, добровольно обрекают себя
на самоизоляцию; Вертер под влиянием тенденций, связанных с руссоистской
критикой цивилизации, Фауст же — целиком отдавшись науке, принесшей ему
в конечном итоге только горькое разочарование и усиление страданий. В
письмах Вертера и монологах Фауста мы находим почти все элементы культа
чувствительной меланхолии, получившего распространение во всей Европе в
последней трети XVIII века33.
Элегические, чувствительные настроения, идущие от Юнга, Клопштока и
Грея, присущи Фаусту, конечно, в меньшей степени, чем Вертеру, у которого они
составляют основу реактивного отношения к миру и к самому себе, постепенно
подводя его к трагическому итогу жизни, определяя судьбу меланхолика. Об этом
Гете писал в июне 1774 года Готлибу Фридриху Эрнсту Шенборну, акцентируя
его внимание на патологической стороне меланхолии: «Я написал много нового:
историю под названием "Страдания юного Вертера", где я изображаю молодого
человека, озаренного чистым восприятием и пытливым умом; он погружен в
сумасбродные мечтания, силы его подорваны философствованием, и гибнет он
вследствие несчастных страстей, главным образом безграничной любви,
толкнувшей его на самоубийство»34. Если в этом письме меланхолический дискурс
рассматривается как патологическое душевное состояние, которое может
вызывать безумие, во всяком случае его симптомы, как это будет впоследствии в
драме «Торквато Тассо», то позднее, в письме к Шиллеру от 9 декабря 1797 г., он
достаточно определенно сказал о роли душевной дисгармонии в самом
феномене трагического. Он также писал своему другу об опасности, которую он видит
для себя как для поэта, когда ему приходится погружаться в состояние разлада
31 Гете И. В. Страдания юного Вертера // Гете И. В. Собр. соч. в 10 т. Т. 6. М., 1978. С. 8.
32 Гете И. В. Указ. соч. С. 12.
33 Valk T. Poetische Pathograhie. Goethes «Werther» im Kontext zeitgenössischer Melancholie-Diskurse
// Goethe-Jahrbuch., Bd. 119., 2002; Weimar, 2003. S. 16.
34 Гете И. В. Собр. соч. в 13 т. Т. 12. Письма. Первая часть. М., 1948. С. 147.
64 3^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
души. «Без живого патологического напряжения сил я тоже никогда не смог бы
обработать какую-нибудь трагическую ситуацию, и поэтому я не только не
искал их, а скорее даже избегал. Не было ли это, кстати, одним из преимуществ
древних — то, что высшая ступень патетического оказывалась у них всего лишь
эстетической игрой, тогда как у нас приходится прибегать к жизненной правде,
чтобы создать такое произведение? Я и в самом деле недостаточно знаю себя,
чтобы определить, в состоянии ли я написать настоящую трагедию; я попросту
испытываю страх перед подобным предприятием и почти уверен, что и одна
попытка такого рода могла бы разрушить меня»35. Поэтому меланхолия в
«Фаусте», в отличие от «Вертера», не играет доминирующей роли и меланхолические
настроения похожи на элегические интермеццо после страстных аллегро. И все
же у героев много общего. Чувствительная привязанность к элегическим
состояниям у них с самого начала соединяется с патогенными чертами: с
мечтательным энтузиазмом корреспондирует гиперлабильность, проникновение в свой
внутренний мир, рефлексия с одержимым, навязчивым чувством включенности
в мировое целое; микрокосм выглядит как динамическое отражение
макрокосма, и это чувство воспринимается как наслаждение. Наоборот, земное сужается
у Фауста и Вертера до тюрьмы, из которой необходимо бежать, и это ощущение
несвободы усиливает у них склонность к суициду. Если меланхолия у Вертера
приводит его к самоубийству, в котором он надеялся найти освобождение от
страданий и отчаяния, то для Фауста после неудавшегося самоубийства
отчаяние и страдание не ослабевают и метафизического освобождения не наступает,
а устанавливается духовная связь с иными силами, и от этих сил нельзя ждать
освобождения.
Предпринимая попытку самоубийства, Фауст неуклонно сближается с этими
силами, нисколько не заботясь, какова будет религиозная и моральная оценка его
поступка. Альбрехт Шене в своем комментарии к «Фаусту» останавливается на
этой проблеме, акцентируя внимание как на религиозной, так и на моральной
оценке самоубийства в последней трети XVIII века: «Самоубийство,
совершенное не в помраченном состоянии духа, а в свободном определении воли,
понималось еще в эпоху Гете как близкое к преступлению посягательство на
общественный порядок, как предосудительный удар по нравственным устоям — никто не
имеет права распоряжаться собственной жизнью, — как кощунственный грех
в отношении божественного провидения. Такие представления здесь (в
"Фаусте". — А. А.) ни под каким видом не сообщаются, но у читателя
подразумеваются самими собой разумеющимися. Если сейчас пасхальное пение заставляет
"заблуждающегося" Фауста, чье первое преступление затрагивает не чужую, а его
собственную жизнь, соблюдать закон и пойти на попятную, то это —
ностальгически сентиментальная реакция. Однако в ней снят метафизический акт старой
духовной игры: на краю бездны небесные силы вмешиваются в земные события
и вырывают преступно заблуждающегося от греховного самоуничтожения»36.
Есть еще один важный момент, на который следует обратить внимание.
Пасхальное пение, духовная музыка выступает в сцене предотвращения са-
35 Гете И. В., Шиллер Ф. Переписка в 2 т. Т. 1. М., 1988. С. 456—457.
36 Schöne A. J. W. Goethe. Faust. Kommentare. S. 226—227.
//. Трагедия К В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JΩ 65
моубийства как эстетическое целебное средство против меланхолии.
Возвращение к жизни мотивировано вмешательством потусторонних сил,
направивших слух Фауста к звукам литургического пения, раздающихся из ближней
церкви. Впрочем, в Божию силу Фауст не верит, и логика сюжета заставляет
нас задуматься, кому герой обязан своим спасением — Божьей милости или
же силы зла каким-то образом приняли участие в этом спасении, чтобы
удержать Фауста от преждевременного ухода в небытие. Из дальнейшего мы
узнаем, что Мефистофель все это время наблюдал за Фаустом, и следовательно,
пение хора, как считает Ханс Иоахим Кройцер, можно рассматривать как хор
потусторонних духов. Остается открытым вопрос, кто «организует» это
спасение — Бог Отец или же Мефистофель37. Если это делает Мефистофель, то
все равно он является орудием Божьим.
2. Алхимическая прелюдия пари и пакта
Сцена «Перед городскими воротами» на первый взгляд выглядит как
передышка после мучительной ночи духовных взлетов и падений, эйфории и
депрессии, титанического величия и беспримерного унижения, погружения во тьму
небытия и неожиданного выхода из него. Она кажется разрядкой напряжения,
вызванного интенсивностью фаустовской рефлексии в тесном пространстве
кельи, ставшей аналогом душевной жизни, которая в своих порывах сталкивается
с препятствиями, постоянно возвращающими героя к рефлексии и к исходному
чувству неудовлетворенности бытием.
Пасхальным утром Фауст и Вагнер выходят на прогулку и оказываются
среди людей, празднующих Воскресение Господне. Однако в веселую толпу они
не включены, они дистанцируются от нее если не внешне, то внутренне. В
начале сцены мы наблюдаем вереницу жанровых миниатюр, перетекающих одна
в другую, своего рода парад безымянных образов, сословно маркированных
и типизированных, точнее, группы образов, каждая из которых представлена
фигурой. Построение сцены создает впечатление оборванных, неполных
разговоров, которые оба героя, а также зритель и читатель воспринимают так, как
если бы гуляющие проходили мимо них38. Эту сцену Г. Риккерт очень удачно
назвал «Фауст и его сограждане», и смысл ее в том, что «мы должны ближе
познакомиться с Фаустом <...> не только как со сверхчеловеком, но и с его
человеческой сущностью»39. Человеческое начало выявляется в общении героя
с людьми, его окружающими, и о его характере оно может сказать не меньше,
чем рефлексия.
Наличное бытие показывается как нечто самостоятельное, суверенное.
Аналогичную задачу ставил перед собой и Фридрих Шиллер, работая над
«Лагерем Валленштейна», и, конечно, изображение мира внешнего было общей
проблемой. Шиллер писал Гете 18 сентября 1798 года: «1. Пролог ("Лагерь Вал-
37 Kreutzer H. J. Faust. Mythos und Musik. München, 2003. S. 67.
38 Schöne Α., op. cit. S. 230.
39 Rickert H., op. cit. S. 142.
66 sl
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
ленштейна". — А. А.) — в качестве картины характеров и нравов должен
обрести большую полноту и разнообразие, чтобы определенное бытие действительно
нашло бы здесь чувственное воплощение, а вместе с тем
2. достичь того, что из-за обилия фигур и отдельных характеристик
зрителю не удается выделить какую-либо нить и составить представление о том
действии, которое кроется здесь»40.
Шиллер, в вопросах теории и практики драматического искусства часто
исходивший из музыкальных интуиции, и в этом случае остался верен себе, и
«разнообразие», исходящее «чувственное воплощение» для него было аналогом
музыке, т. е. рожденным игрой музыкальным настроением; лишь потом поэт
переходил к разработке характеров, как это было сделано в «Пикколомини» и
«Смерти Валленштейна».
Это, конечно, объясняет и гетевский замысел, а также влияние оперных
структур на «Фауста», которого поэт называл «рапсодической драмой». Здесь
необходимо остановиться на одном важном моменте. Бесспорно, персонажи
этой сцены выполняют функцию создания общего весеннего настроения,
царящего вокруг во время праздника Пасхи. Но они вовсе не статисты, а создатели в
драме проспективных точек. Персонажи говорят о витающих в воздухе
проблемах, и поэтому часть их речей имеет отношение к форме проспекций,
виртуозно представленных Гете, при этом оказывается, что речи персонажей обладают
известной самостоятельностью, не входя в иерархическое подчинение целому.
Здесь не только демонстрация многообразной и многокрасочной жизни,
которая движется, говорит, смеется, поет, обнаруживая свою многоликость, но здесь
также дает о себе знать заимствованная у Шекспира манера начинать исподволь
развертывание тематического приема, как это имеет место в «Ромео и
Джульетте» и в «Макбете». Символическое, проспективное значение имеет уже само
название сцены — «Перед городскими воротами»: выход из тесного
пространства в пространство широкого мира, что потом станет формой развития сюжета в
фаустовской драме. Этот поворот героя от мира внутреннего к миру внешнему
окажется сложнейшим испытанием для него. Заставляя звучать голоса, Гете
начинает открывать далекую перспективу, обращая ее к эротической сфере,
трагедийной линии Гретхен. Это, как указывает Й. Шмидт, происходит уже в первом
явлении, в совершенно непритязательном разговоре молодых ремесленников
со скромными желаниями41. Действие происходит в окрестностях Франкфурта,
родного города поэта. С ними идентифицируются городские реалии на правом
берегу Майна с холмами Таунуса, деревней Берген (Бургдорф), и мы видим
часть перспективы вольного имперского города, ремесленного и финансового
центра, уже вступившего в Новое время, но сохранившего, как все старые
города Европы, облик и привычки Средневековья. Франкфурт пользовался дурной
славой из-за давящей узости своих улиц (Strassen quetschender Enge). Праздник
весны, день Великого Воскресенья означает выход людей из городского затвора,
и в этом смысле покинувший свою ненавистную келью Фауст един с другими
обитателями города. Фауст комментирует движущуюся перед ним картину
40 Гете И. В., Шиллер Ф. Переписка. Т. 2. С. 141.
41 Schmidt J., op. cit. S. 109.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J£5 67
Из душных покоев, из низких домов,
Из улиц, кишащих народом, неровных,
Из горниц рабочих, от ткацких станков,
От сумрачных сводов церковных
Сегодня на волю выходят они,
Сегодня их праздник! (61)
Многоголосие этого праздника служит охвату сознанием будущего, зерно
которого скрыто в настоящем. Вот старая сводня вмешивается в разговор
гуляющих бюргерских девушек, и в их ответах звучит слово «ведьма», в
проспективном плане оно указывает на «Кухню ведьмы» и на «Вальпургиеву ночь» как
воплощение бесконтрольной чувственности и разнузданного разврата:
Старуха (кгородским девушкам):
Вишь, как разряжены! Да только не смотрите
С такою гордостью! И так вы хороши!
Чего вам хочется, красотки, говорите:
Могу исполнить вам желание души.
Городская девушка:
Агата, отойди от этой ведьмы прочь!
При людях к ней ходить я б не желала,
Хотя она в Андреевскую ночь
Мне суженого ясно показала.42 (60)
Другой важный мотив звучит в песне солдат, которая выглядит проспекцией
трагедии Гретхен. Она в бравой солдатской песне дополнена мотивом обмана и
неверности в песне танцующих под липой крестьян:
Ах, оставь! Невест у нас
Надували много раз;
Были ведь ошибки! (63)
Естественно, в отношении Фауста фигуры этого маскарада занимают особое
место. Они в сравнении с ним иные люди. Они проходят мимо Фауста —
служанки, ремесленники, студенты, бюргерские девушки, а также люди весьма
сомнительных профессий. Все они с их любовными чувствами и весенними
настроениями, с их меркантильными интересами целиком принадлежат земному миру,
и у них нет ни малейшего стремления вырваться за пределы земного; у каждого
из них свой узкий круг, и их не тревожат мысли о сверхчувственном.
Устойчивая привязанность простых людей к земному мира непоколебима. Созерцая их
движение и неизбежно включаясь в него, Фауст ощущает тягу к земной жизни,
которая начинает его захватывать. Чувство принадлежности к миру дольнему
42 В Андреевскую ночь (с 29 по 30 ноября) по старым народным поверьям в зеркале или иным
способом можно увидеть будущего возлюбленного. Здесь и указание на «Кухню ведьмы».
68 Sîl
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
дает о себе знать в монологе Фауста, где мир оживает с приходом весны и жизнь
утверждает себя как динамическое становление:
С ручьев и потоков ниспали оковы,
Их снова весны чудный взор оживил,
Долина покрылась зеленью новой...
Зима же, старуха, лишенная сил,
Вернулася в горы, в их сумрак суровый,
И град на долину порой посылает,
И град полосами ложится на ней,
Но белого Солнца не любит... и тает
Град скоро от солнечных теплых лучей.
Повсюду — движенье и новая сила,
Все в краски одеться спешит поскорей,
Но нет еще красок, цветов... и светило
Собрало толпами нарядных людей. (61)
Радостный ландшафт отражается в словах Фауста, и в том, что он говорит,
находит отзвук скромная бюргерская жизнь его сограждан. Последние стихи
монолога показывают, что в своих согражданах Фауст видит сейчас то же
самое, что он пережил ранним утром, и ему хочется войти в круг людей. Он
охвачен радостным чувством обновления, и он находит его в других. Слова,
сказанные о них, полностью относятся к нему самому. Воспоминание о юности,
удержавшее его от самоубийства, слившись с активным созерцанием
возвращения юности в природе, дает о себе знать сейчас в движении людей, кажущемся
беспорядочным, в этом многоголосии, в праздничной суете и радости Фауст
ощущает биение пульса природы, от которой он в безнадежном порыве к
сверхчувственному хотел отпасть: «Здесь истинное небо народа, / Ликует радостно
стар и млад: / Здесь я человек, здесь я должен быть им»43. Одновременно мы
видим, что сказанное Фаустом в монологе очень далеко от притязаний быть
сверхчеловеком, наоборот, именно человеческое притягивает Фауста, причем
человеческое, проявляющееся в происходящем, Фауст видит освобожденным
от сословной принадлежности его носителей. Как очень точно отмечает Ульрих
Гайер, «в этой речи освобождается и становится безмерной фантазия Фауста:
солнце как садовница, оживляющая людей, как цветы, «воскресение» из
пространственных и общественно-интеллектуальных оков; инстинктивные
мотивации гуляющих и веселящихся деревенских жителей выглядят как истинное
человеческое бытие»44.
Контрастом фаустовскому энтузиазму является отношение к происходящему
Вагнера. У спутника Фауста увиденное никакого восторга не вызывает, а
слова учителя наталкиваются на внутреннее сопротивление, бурное веселье даже
устрашает его. Ученый муж, намеревавшийся вести серьезную беседу, видит в
весенней радости людей лишь их склонность к бездумному подчинению сти-
43 Goethe J.W. Faust. Texte, hrsg. von A. Schöne. Frankfurt am Main, 2007. S. 52, 938—940.
44 Gaier U. J. W. Goethe. Der Tragödie Erster Teil. Stuttgart, 2001. S. 84.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JÉ© 69
хийным, демоническим силам, и его слова — резкое возражение на монолог
Фауста.
Смычка завыванье, кегли для уха
Несносны, противны. Они по лугам
Беснуются, как от нечистого духа,
И песней, весельем зовут этот гам. (62)
Эта дистанция кабинетного ученого от жизни, презрение к природе будет
во второй части трагедии иметь для него самые неожиданные последствия. Его
алхимические эксперименты, основанные на оторванных от природы
проекциях, окажутся совершенно несостоятельными, невозможными без вмешательства
нечистой силы, т. е. Мефистофеля.
Встреча с крестьянами, благодарящими Фауста и его отца за оказанные ими
благодеяния во время эпидемий, совершенно неожиданно возвращает Фауста
к мыслям, терзавшим его во время ночного бдения. Теперь это размышления о
практических результатах науки, которой он служил.
Тема алхимического знания и алхимической практики появляется в
«Фаусте», в сцене «Перед городскими воротами», когда Фауст говорит Вагнеру о
полном крушении всех своих надеж, которые он возлагал на научное знание,
свято веря во всемогущество науки. Он, изучивший медицину, окончивший
медицинский факультет, понимает, что наука, так необходимая страждущему
человечеству, не в состоянии принести людям пользу. Она беспомощна во время
эпидемий; лекарства, которые давались пациентам, не излечивали, и хотя его,
Фауста, благодарят за врачебную помощь, он понимает, что сеет лишь иллюзию,
а на самом деле он и наука бессильны в попытках разгадать тайны природы.
В этой сцене Фауст изображен врачом, соединяющим искусство врачевания с
алхимией, и распространенный в европейской литературе мотив критики
медицины и алхимии становится одним из важных моментов, мотивирующим
фаустовское разочарование в знании, существующим для самого себя, принявшим
форму эзотерики, не раскрывающим законы природы, но, наоборот, все сильнее
отдаляющимся от них.
Медицина, включенная в сферу алхимии и фантастических проекций
алхимиков, оторвана от исследований живой природы, что демонстрируется
Фаустом в описании изготовления лекарств, которое дается языком алхимических
символов. Фауст бросает упреки своему отцу, так и не освободившемуся от
пороков алхимически-герметической медицины, и в этом он видит скорее симптом
времени, нисколько не сомневаясь в честности и благородстве отца.
Отец мой был, хотя и благородный,
Но темный человек. В душевной простоте
Он помышлял, причудливой мечте
Вверяясь без остатка, о природной
Священной тайне. Окружив себя
Толпой услужливых адептов,
70 SX-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Он в черной кухне заперся
И там по множеству рецептов
Он разнородные предметы совмещал.
Там красный лев и лилия вступали
В союз супружеский. Он их перегонял
В реторту из реторты. Покидали
Они свой свадебный чертог
И шли в другой; горел огонь, пылая,
И обжигал следы их ног.
Потом являлась королева молодая
В одежде пестрой, в пузырьках —
Она звалась лекарством, а больные,
На наших бывшие руках,
Все умирали. (65)
С горькой иронией, пользуясь языком алхимиков, Фауст говорит о
соединении окиси ртути («красный лев») с соляной кислотой («лилия»), перегонку его
под нагреванием из одной реторты в другую («Покидали они свой свадебный
чертог / И шли в другой»). Это алхимическая свадьба. Возможно, что красный
лев — поздний вариант sulphur rybeum, т. е. красной серы. Кроме того, у
алхимиков красный лев обозначал Меркурия, т. е. ртуть. Этой благостной картине
проекций алхимиков, потусторонних видений Фауст противопоставляет
реальное действие лекарства, полученного с помощью «алхимического брака»,
называя его «адским лекарством».
Тогда
Стряпнёю адскою своей
Среди долин и гор мы, право,
Согнали больше со света людей,
Чем эпидемия. Моей рукой отрава
Давалась тысячам; те тысячи увяли,
А мне пришлось их пережить,
Чтоб услыхать, как будут возносить
Тех, кто преступно убивали. (65—66)
Здесь необходимо заметить, что вину науки, не способной вырваться из
фантастических представлений, Фауст возлагает на себя. Он и его отец, служа
людям, не раздумывая, разделяли заблуждения алхимической медицины.
Живой опыт исследования подменялся фантастическими сюжетами. Эрих Трунц в
своем комментарии к этому месту «Фауста» указывает: «Каждый врач, который
шел к зачумленным, очень рисковал своей собственной жизнью. При легочной
чуме умирали все инфицированные, при бубонной чуме — многие. Поэтому
за попытку помочь средством, изготовленным собственными силами на
основе принятых методов, никто не мог упрекнуть»45. Отношение Гете к феномену
45 Trunz Ε. Anmerkungen // Goethe J.W. Faust. München, 1999. S. 523.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 71
алхимии ясно выражено в «Материалах к истории учения о цвете», в разделе,
специально посвященном алхимии.
Распространение алхимического знания Гете объясняет отсутствием
«оригинальных умов», поэтому оно стало делом «подражателей», которые прежде
всего овладевают «тайнодействием», ставшим результатом проекций
алхимиков. «Рассматривая алхимию в целом, мы находим в ней тот же самый исток,
замеченный нами выше в других видах суеверий. Это извращение подлинного
и истинного, скачок от идеи, от возможного к действительности,
неправильное применение истинных чувств, льстящее нашим самым дорогим надеждам
и желаниям»46. Следовательно, изначальный порок алхимических учений уже
заложен в форсированности дискурса, т. е. в опережающем воздействии идеи на
весь строй опыта. При этом соответствие идеям в представлениях,
непосредственно выведенных из опыта, получалось довольно своеобразное: «Если
назывались те три возвышенные и связанные друг с другом в теснейшем отношении
идеи — Бог, добродетель, бессмертие — высшими требованиями разума, то им
явно есть соответствующие требования высокой нравственности, золота,
здоровья и долгой жизни. Золото, безусловно, имеет власть на Земле так же, как мы
мыслим Бога во Вселенной. Здоровье и способность совпадают друг с другом.
Мы желаем здорового духа в здоровом теле. И долгая жизнь занимает место
бессмертия. Если благородно возбуждать в себе указанные три высокие идеи и
культивировать их для вечности, то также совсем уж желательно овладеть для
времени их земными представлениями. Да, эти желания одновременно страстно
бушуют в человеческой природе, и их можно привести в равновесие лишь
благодаря самой высокой культуре»47. «Отсутствие этой культуры ведет к
навязыванию природе, природному целому вульгарной телеологии, которая в конечном
счете коренится в меркантильных интересах человека»48. Далее Гете очень тонко
показывает, как незаметно именно в этот момент в сознание алхимика
вторгается поэтический импульс и создает свои фантазии, когда воображение выходит
из под контроля опыта и рассудка. Такое воображение смешивает сущее и
возможное, и человек начинает его сознательно культивировать. «То, что мы таким
образом желаем, мы охотно считаем возможным; мы высказываем его всеми
способами, и тот, кто обещает нам их доставить, безусловно пользуется
благосклонностью. Можно ожидать, что воображение при этом тотчас покажет себя
деятельным. Те три высшие требования к высшему земному счастью кажутся
настолько родственными, что совершенно естественным находят их
достижение с помощью одного-единственного средства. Это приводит к весьма
приятным наблюдениям, если свободным духом трактовать поэтическую часть
алхимии. Мы обнаруживаем сказку, возникшую из общих понятий, построенную
на основе природы. Должно существовать нечто материальное, но эта первая
всеобщая материя — девственная Земля. Как ее найти, как ее обработать — это
46 Goethe J. W. Materialien zur Geschichte der Farbenlehre // Goethe J.W. Hamburger Ausgabe. Bd. 14.
München, 1989. S. 78.
47 Goethe J. W., op. cit. S.78.
48 См. об этом подробнее: Аствацатуров А. Г. Гете и мир игры // Гете. Жизнь. Творчество.
Традиции. Санкт-Петербургские Гетевские чтения (1998—2001) СПб, 2002. С. 10.
72 S^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
вечное содержание алхимических писаний, которые невыносимым
однообразием подобно постоянному звону колоколов приводят скорее к безумию, чем к
благоговению»49.
Возвращаясь к сцене «Перед городскими воротами», укажем, что речь Фауста
выглядит как суровый приговор науке, создающей на основе природы
непонятный потусторонний мир, фантастическую картину, в которой нет благотворного,
спасительного для человека дыхания природы. Однако если Фауст свои неудачи
в медицине воспринимает как духовную катастрофу, и это еще более усиливает
его пессимизм, то для Вагнера критика Фаустом обветшалого знания не
затрагивает науку в целом. Он продолжает верить в нее, видя в ней лишь накопление
знаний, способное решить все проблемы. Его не потрясает признание Фауста
в невольном шарлатанстве и гибельных для людей его последствиях. Для него
ученый освобожден от ответственности перед людьми, ему доверившимися, и
фаустовская печаль ему непонятна:
И ты печалишься об этом? Почему?
Ведь всякий должен пользоваться знанием,
Что было вручено ему,
И прилагать его научно и со тщанием.
Ты юношей, к отцу питая уважение,
С охотою воспринимал
Его отжившее ученье,
Но вот когда ты мужем стал,
Обогатил свои ты знанья,
А сын твой будет далее шагать. (66)
И как мы увидим вагнеровская модель «смены научных парадигм», понятая
как простое суммирование знаний, в конце концов приведет
алхимика-экспериментатора Вагнера к идее создания Гомункула.
Тщательная разработка в «Фаусте» «алхимических мотивов» не в
последнюю очередь связана и с тем, что Гете прекрасно знал различные алхимические
учения, а также имел собственный опыт занятий алхимией.
В восьмой книге «Поэзии и правды» поэт подробно рассказывает о своем
увлечении магически-мистической пансофией и алхимической литературой.
Описывая годы, предшествующие началу работы над «Фаустом», Гете
рассказывает, как он под влиянием Сюзанны Клеттенберг начал изучать книгу Георга
Веллинга, opus mago-cabbalisticum, представляющий собой компендиум
магических, пансофских и алхимических знаний.
Эта книга привела его к другим ранним алхимическим трактатам. Гете
подробно описывает процесс изучения книги Веллинга. «Я раздобыл книгу
Веллинга, родословное древо которой, как и всех подобных произведений, по прямой
линии восходило к школе неоплатоников. Главная моя работа при ее изучении
заключалась в том, чтобы скрупулезно отмечать те темные места, где автор
отсылает читателя к другим местам, не менее темным, обещая раскрыть ему таким
Goethe J. W., op.cit. S. 79.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 73
образом доселе скрываемое. Я отмечал на полях номера страниц,
долженствующих прояснить одна другую. Но книга по-прежнему оставалась темной и
достаточно непонятной. В результате мне удалось лишь в известной мере освоить
ее терминологию и, пользуясь таковой по собственному усмотрению, если не
понимать суть дела, то хоть толковать о ней. Автор книги с величайшим
почтением отзывался о своих предшественниках— обстоятельство, побудившее
меня и мою подругу штудировать Теофраста Парацельса, Базилия Валентина, не
пренебрегая также Гельмонтом, Старкеем и другими, чтобы вникнуть в их
учения и предписания, применить таковые на деле. Мне больше всего пришлось по
душе Aurea catena Homeri, где природа, хоть и на несколько фантастический лад,
изображалась в прекрасном взаимодействии и единстве»50. Чтение такого рода
литературы побудили самого Гете заняться алхимическими опытами, и здесь
два момента интересовали поэта: поиск единой силы, связующей мироздание и
практическую алхимии: изготовление исцеляющих средств.
В «Поэзии и правде» Гете подробно рассказал, какого типа опыты он
производил, обзаведясь духовой печью с «песчаной баней», колбами, ретортами. Он
изготовлял из кварцевого песка и щелочей «кремневый сок» и здесь, как он сам
на это указывает, начал присматриваться «к кристаллизациям <...> и
ознакомился с внешними формами различных продуктов природы»51. Во фрагменте, не
вошедшем в окончательный текст «Поэзии и правды», Гете реконструирует свои
космологические воззрения, зависевшие от чтения теософско-каббалистической
и мистико-алхимической литературы, и в нем Гете точно указывает, какую цель
преследовали его алхимические опыты: «Элементы этого вероисповедания
нетрудно найти, и я вряд ли бы смог заметить нечто своеобразное при
сопоставлении и соединении. Между тем меня некоторое время занимала обработка таких
безобразных представлений, когда я стремился символизировать их с помощью
своего рода математических символов, по способу моих предшественников,
благодаря этому стараясь наделить духом неорганические вещи, которыми я
занимался более алхимически, чем химически»52.
Итак, безобразное должно принять чувственную форму, сделаться
наглядным, неорганическое пронизывается духом, получает духовную форму. Из этого
можно сделать вывод, что опыты Гете на манер алхимиков управлялись
алхимическими проекциями, о которых Гете знал из всевозможных книг по алхимии.
Можно только согласиться с Иоахимом Мюллером, считавшим, что в
цитированном нами фрагменте вырисовывается более поздняя композиция фигуры
Гомункула53. Если следовать ходу сюжета, то окажется, что фаустовское
разочарование в алхимии коренится еще и в том, что в эксперименте, элементы
которого изолированы от целостности мироздания, невозможно обнаружить единую
связь, пронизывающую все сущее. В вагнеровских размышлениях, наоборот,
аналитическая, обособляющая элементы друг от друга способность скорее даст
50 Гете И. В. Поэзия и правда // Гете И. В. Собр. соч. в 10 т. Т. 3. М., 1976. С. 288—289.
51 Гете И. В. Указ. соч. С. 291.
52 Goethe J. W. Hamburger Ausgabe. Bd. 9. S. 752.
53 Müller J. Die Figur des Homunculus in der Faustdichtung // Müller J. Neue Goethe — Studien. Halle
1969. S. 297.
74 Sîl
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
возможность выделить наибольшее количество ингредиентов, сопоставить их, а
затем, руководствуясь проекцией, добиться одухотворения созданного.
Большим преувеличением, конечно, является утверждение Карла Густава
Юнга, что «Фауст» — алхимическая драма, и тогда искусство Гете есть
художественное оформление проекций алхимиков, которые обнаруживают
различные формы бессознательного. Если согласиться с этой точкой зрения, то наш
анализ будет вращаться вокруг алхимической проблематики и нам придется
экстраполировать алхимические символы на гетевский текст или же просто
редуцировать его к набору алхимических текстов, известных поэту. Исследования
Юнга показывают, что алхимия как эзотерическое знание создала свою
собственную мифологию; конечно, мифологию вторичную: сюжеты этой мифологии
проецировались на материю, точнее, на деяние, на сопоставление и соединение
химических элементов, и тем самым происходило одухотворение алхимических
деяний.
В грандиозном целом гетевского текста проблема алхимии в «Фаусте» имеет
локальное значение. Но сводить ее лишь к сюжетной декорации, колоритной
маске, скрывающей проблемы современной Гете науки, было бы бесспорным
упрощением замысла поэта. В мире игры, который развертывается перед
нашими глазами, алхимия — одна из интереснейших масок. За ней стоит
свойственное Гете особое понимание времени, синхронизирующее самые разные идеи,
и в этой синхронизации алхимия занимает свое уникальное место. И еще один
момент, связанный с алхимическими превращениями в «Фаусте», должен быть
в поле зрения исследователя. В мифологических построениях алхимиков,
которые представляют собой соединение как античных, так и христианских
мифологических образов, присутствует дьявол, и это обстоятельство очень часто
подчеркивается Юнгом. Говоря об амбивалентности алхимической символики
ртути, Меркурия, о способности этого элемента растворять золото, Юнг
указывает: «Легко понять, почему такие качества Меркурия делают его удобным
символом для мистической преобразующей субстанции; это круг и квадрат, т. е.
общность, состоящая из четырех частей (четырех элементов). Следовательно,
гностический, состоящий из четырех частей — первоначальный человек <...>».
«Меркурий, однако, имел несколько признаков, общих с дьяволом <.. .>».
«Меркурий представляет сущность трансформирующей субстанции, которая должна
быть, с одной стороны, совершенно обычной, даже презренной (это выражается
в ряде атрибутов, которые он делит с дьяволом, таких как змея, дракон, ворон,
лев, василиск и орел), с другой — означать нечто значительное. Если не сказать,
что священное. Итак, трансформация ведет из глубин к высотам, от животно
архаического и инфантильного к мистическому homo maximus»54.
Если сопоставить вышесказанное с движением сюжета, а также гетевским
пониманием человека, то мы обнаружим явное сходство, поскольку
присутствие существа с остроконечной бородкой как тень будет сопровождать Фауста
в пределах его земной жизни, и лишь после очищения от всего, что замутня-
ет чистую субстанцию, в мистическом очищении Фауст достигнет состояния
homo maximus. В несколько иной ситуации окажется Гомункул, но здесь в ре-
54 Юнг К. Г. Психология и алхимия. М: «Рефл-бук» «Ваклер», 1997. С. 151—155.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JiS 75
шающий момент обретения им своего максимума необходимо будет убрать
Мефистофеля, не допустив его участия в Эгейском празднестве.
Рассматривая образ Гомункула в сплетении всех мотивов фаустовской
драмы, видя в нем символ, который отражает целое, мы должны избежать
одномерной интерпретации этого очень сложного образа, ведь не случайно он
выглядит у Гете центральным образом второго акта. Все возражения Вагнера
еще более усиливают негативное отношение Фауста к своему прошлому; в
прошлом остался и интерес к науке. Ученый больше никогда не возродится в
Фаусте. Человеческое, пробудившееся в Фаусте во время прогулки,
индивидуальное чувство жизни похоронило в нем ученого. В ответе Фауста Вагнеру
слышится горькое разочарование. Фатальность человеческого бытия в том,
что человеческое знание — всего лишь иллюзия, упрямая убежденность, что
в границах конечного бытия знание может иметь какое-то значение. Человек
все время вращается в кругу тех мыслей, которые он с завидным упорством
считает истинными.
Блажен, кто полон убежденья
Из моря заблуждений убежать!
Всегда и всюду так бывает,
Что пользуется всякий тем,
Чего не знал он и не знает,
А знание не тронуто никем. (66)
Было бы ошибкой видеть в этих словах Фауста новый приступ меланхолии.
Конечно, пессимизм здесь налицо. Но сейчас Фауст высказывает те мысли,
которые объясняются не только тоской героя по абсолютному знанию, но прежде
всего гетевским представлением об ограниченности индивидуального
познания, которую Фауст признать никак не хочет.
Георг Зиммель очень точно описал гносеологию Гете, указывая, что «все
индивидуальные познавательные образы не завершаются распадом на
самоудовлетворенные атомы, но обладают идеальной сопричастностью в том
смысле, что взаимно дополняют друг друга, создавая единую целостность познания
вообще»55. С этой особенностью индивидуального познания сталкивается
Фауст, но оказывается, что эту сопричастность в себе самом он не ощущает; для
него есть только унылое здание современной ему науки, похожее на тюрьму и
стоящее далеко от жизни природы. Однако не в характере Фауста терпеть
какие-либо ограничения и к ним приспосабливаться, ища форму
сопричастности прафеноменам, спокойно их созерцая; препятствия вызывают в Фаусте
новые порывы, желание прорваться за пределы, поставленные его человеческой
сущностью. Новый порыв фаустовская фантазия представляет себе как полет, и
опять под знаком «новой жизни». В эйфории воображение начинает свою
работу, подбирая образы, соответствующие асцензиональному состоянию психики,
эстетически их оформляя. Перед нами разворачивается картина полета над
миром. Зрение стремится охватить ее во всей целостности.
Зиммель Г. Гете // Зиммель Г. Избранное. Т. 1. М., 1996. С. 189.
76 S*-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Смотри, как солнечным вечерним освещеньем
Зарделись хижины среди дерев своих!
Отходит солнце, гаснет день отживший,
Для новой жизни Солнце вдаль идет...
Нет крыльев у меня, а то бы, подхвативши,
Они меня несли за ним, вперед. (66)
При созерцании заходящего Солнца мощно дает о себе знать старое
фаустовское стремление к безграничному. Широта и величие ландшафта, его краски
способствуют этому. Но само переживание выглядит сейчас по-иному, нежели в
сцене несостоявшегося самоубийства. В нем уже нет дерзкого, дикого,
насильственного. Фауст говорит гораздо спокойнее, человечнее, как бы стараясь
захватить в созерцании как можно больше объектов и связать их в сознании, и
эта связь объектов в созерцании и чувстве переживается как эстетически, так и
драматически. Она коренится в единстве природы, а поэтическая форма
обнаруживает понятийно-теоретическое содержание его грез. Строки «Betrachte wie in
Abendsonne / Die grünumgebnen Hütten schimmern» ( 1070—1071 ) («Смотри, как в
заходящем Солнце / вокруг сияют окруженные зеленью хижины») объясняются,
как показывает А. Шене, положениями «Учения о цвете», изложенными в
«Дидактической части», которая рассматривает характер человеческого восприятия.
Сочетание пурпурного и зеленого цветов создает свободу визуального
восприятия, гармонизируя восприятие созерцателя, делает его радостным, поскольку
для созерцателя сумма его собственной деятельности кажется реальностью56.
Краски, рожденные стихиями — водой, небом, землей, воздухом, их
взаимодействие дают впечатление гармонии многообразия. Но этот ландшафт не
может умиротворить, гармонизировать жизненные силы Фауста. Детальная
«деконструкция» фаустовского полета, осуществленная Петером Михельсеном,
показывает совсем иное. То, что мы видим, не тотальность созерцания мира, а
беспокойный полет — порыв в желании преодолеть все границы, и здесь опять
уподобление себя Богу, для которого нет ничего невозможного. Течение образов
в воображении визионера внезапно из ирреального превращается в его сознании
в абсолютную реальность, в существовании которой он нисколько не
сомневается, и мы имеем дело с неукротимым желанием и со сверхкомпенсированным
беспокойством57.
Зачем душа, что на крылах своих
В воздушное пространство улетает,
Не может дать ему и тела их? (69)
Ключ для понимания такого желания, возникающего из-за ирреализации
человеческих возможностей, из чистого представления, из восприятия мира как
порождения собственной фантазией, дают нам возникшие в 1796 г. и напеча-
56 См: Schöne Α., op. cit. S. 240.
См. также: Schöne Α. Regenbogen auf schwargrauem Grunde — Goethes Domburger Brief an Zelter
zum Tod seines Grossherzogs. Göttingen, 1979. S. 17.
57 Michelsen P. Der Einzelne und sein Geselle. Fausts Osterspaziergang // Euphorion 72. (1978) S. 49.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея ЛЕ) 11
тайные в 1808-м «Письма из Швейцарии» Гете, где Гете-классик исследует
генезис вертеровских «патологических» состояний, представляя читателю письма
Вертера до знакомства с Лоттой, в которых переживания героя показывают нам
разлад его души: «Какую я ощущал в себе жажду броситься в бесконечное
воздушное пространство, парить над страшными пропастями и снижаться на
неприступную скалу. С каким вожделением я все глубже и глубже вдыхаю, когда
орел в темной синей глубине подо мною парит над скалами и лесами, когда он
в обществе самки в нежном согласии чертит большие круги вокруг той
вершины, которой он доверил свое гнездо и своих птенцов. Неужто я обречен
всего лишь вползать на высоты, лепиться к высочайшей скале, как самой плоской
низменности, и, с трудом достигнув своей цели, боязливо цепляться,
содрогаясь перед возвращением и трепеща перед падением?»58 Устами Вертера говорит
мечтатель, но мечтатель особый, полностью зависящий от земного мира. Его
метафизическое видение строится как способность обозревать этот мир как
целостность с надэмпирейной высоты, подобно его Творцу. Мечтатель не
довольствуется человеческими данностями. Он терзает себя, а человечество упрекает
в недостатке созидательных сил. Как остроумно замечает Ханс-Юрген Шингс,
более фатального брата Фаусту, чем Вертер, трудно сыскать59.
Рассказ о полетах Фауста, инспирированных Мефистофелем и
осуществляемых с его помощью, имеется в «Истории о докторе, знаменитом чародее и
чернокнижнике» (2-я, 24—27-я главы): «Окрылился он (Фауст), как орел, захотел
постигнуть все глубины неба и земли. Ибо любопытство, свобода и
легкомыслие победили и раззадорили его так, что стал он однажды испытывать
некоторые волшебные слова, фигуры, письмена и заклятия, чтобы вызвать тем самым
черта»60.
Последнюю попытку преодолеть границы в воображаемом полете гетевский
Фауст делает непосредственно перед встречей с Мефистофилем, и можно
сказать, что поэт в определенном смысле следует источнику. Однако одномерный
образ источника, безбожника, чрезмерно возгордившегося, не может объяснить
нам состояние гетевского героя, произносящего вслед за этим слова о двух
душах, живущих в нем.
Но две души я чувствую в себе,
От их вражды, от их борьбы страдая.
Одна из них привязана вполне
К земле и наслажденью телом;
Другая же с ней борется во мне
И, недовольная одним земным уделом,
Стремится к дальней стороне. (70)
В этих стихах сжато все, что ранее было сказано Фаустом в его монологах,
все, что мы видели в разнообразных образах, прошедших перед нами, начиная
58 Гете И. В. Собр. Соч в 10 т. Т. 6. М., 1978. С. 107.
59 Schings H-J., op. cit. S. 111.
60 Легенда о докторе Фаусте. М, 1958. С. 52.
78 Sîl
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
с первого монолога. В них сущностные черты характера Фауста — неизбывное
желание принадлежать сразу двум сферам: земной и небесной.
Die eine hält, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt, mit klammernden Organen
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefilden hoher Ahnen.61
Как понять слово Ahnen в этом контексте? О каких предках идет речь, что
противостоят всему физическому, всему телесному, привязывающему человека
к земному миру, и мощно возносят человека над его пылью и прахом? Речь идет
о сверхземных прообразах, идеалах в сверхчувственных сферах, обитателем
которых хочет быть Фауст, во всяком случае быть им причастным, т. е. находиться
в «истинном мире» в духе Платона, в мире метафизических прообразов,
созданных по образцу идей — вечных, незримых, неосязаемых, в которых все земное
должно иметь свой исток. Бесспорно, Фауст убежден, и это показало
восторженное созерцание знака макрокосма, в сверхчувственном происхождении души.
Душа захвачена в плен всем земным, стеснена своим чувственным уделом, и все
же в ней непобедимой остается тоска по истинной родине, по
сверхчувственному миру, которого душа никогда не достигнет, пока Фауст остается человеком62.
В характере Фауста немыслим какой-либо намек на диалектику свободы и
ограничения, которая была присуща самому создателю драмы. Признание
позитивного смысла такой диалектики для фаустовского человека остается чуждым,
непризнание его становится причиной усиления драматизма коллизий трагедии.
Ответом на слова о двух душах были стихи из поэмы «Тайны», где диалектика
свободы и ограничения постигается как отказ от титанизма, от притязаний на
безусловное.
Коль человек природой возвеличен —
В том чуда нет, что жизнь умел провесть:
В нем промысел Создателя отличен,
Что слабый прах возвел в такую честь.
Но если он, к борьбе с собой привычен,
Сумел соблазны злые перенесть,
Его другим мы с радостью покажем:
«Вот он! Вот собственность его!» — мы скажем.
Любая сила ширится к просторам,
Чтоб жить и действовать во всех концах,
Но с двух сторон стесняет нас напором
Мирской поток, и нас влачит в волнах.
61 Goethe J. W. Faust. Texte. S. 57, 1113—1117.
62 Комментаторы многократно указывали на источник такого понимания, видя в нем поэтическую
трансформацию платоновского учения о двух душах, в частностях несколько мест в «Федре» Платона.
См: Платон. Федр. 237 d, 248 a/b, 247 b-e, 253 в — 254 е. См: Gaier U. op.cit. S. 88., Schöne Α., op. cit.
S. 240.
//. Трагедия И, В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея *i® 79
Меж бурей внутренней и внешним спором
Дух видит смысл в неявственных словах:
От власти, все живущее стеснившей,
Освобожден себя лишь победивший63.
(пер. С. В. Шервинского)
По сравнению со штюрмерской концепцией образа Фауста у веймарского
Гете на протяжении многих лет работы над драмой в сценах, написанных с 1788
по 1803 г. выработалась дистанция по отношению к главному герою трагедии.
И конечно, в момент завершения первой части «Фауста» этот образ виделся
поэту по-иному, нежели тогда, когда он начал его создавать. Если первоначальный
Фауст был экспансивным, достаточно односторонним человеком-энтузиастом,
в целом близким как источнику, так и штюрмерской концепции личности, то
в образе классического Фауста Гете сильно отдаляется от последней и
неизбежно трансформирует источник. В трагедии возникает образ человека с
предельно антиномичным сознанием, и «две души» в его груди тому
свидетельство. Ф. Шиллер сразу же заметил это, написав Гете 23 июня 1797 года: «Здесь
постоянно приходится помнить о двойственности человеческой природы и о
тщетном стремлении соединить в человеке божественное и природное начала,
а поскольку фабула становится и не может не становиться яркой и
бесформенной, то необходимо не задерживаться на сюжете, а вести от него к идеям»64. Как
природное существо Фауст связан со всем земным, и ему открыт простор для
деятельности, которая, однако, создает ситуации неудовлетворенности своим
положением, своей жизнью в целом, заключенной во временные рамки. В нем
постоянно увеличивается пропасть между стремлением к познанию и
способностью познания. Освободиться от этого противоречия Фауст никак не может.
Отсюда и экстатические порывы, и погружение в депрессию. В этом также и
причина ощущения старения и неизбежная жажда омоложения, обновления
духовных сил. Есть и другая сторона этого внутреннего конфликта, связанная с
самовозвышением героя. Гете показывает нам пресыщенного, разочарованного
человека, начавшего презирать земной мир, фантаста, стремящегося к
Абсолюту. «Классический» Фауст по сравнению с первоначальным замыслом еще
больше, еще настойчивее желает «божественной жизни», сильнее тоскует по
ее красоте, к которой так восприимчив его дух. Целестремительность его
сознания ясно обозначена, и метафизически разорванное сознание ждет помощи
со стороны божественного бытия, но найдет ее от сил, которые этому бытию
только противодействуют. Мы видим, что даже звон колоколов в пасхальную
ночь и храмовое пение, удержавшие Фауста от самоубийства, возвратившие его
к жизни, только на некоторое время смогли заглушить его тоску, которая опять
превратилась в отчаяние. Самотрансцендентность, вечная тоска по
безусловному приводит Фауста к отречению от всего, что цементирует человеческое
сознание. Общественная жизнь, нравы, мировая мудрость, наука, религия — все это
отброшено Фаустом, и пустота, возникшая за отсутствием центров ориентации,
63 Гете И. В. Тайны. Сказка // Штайнер Р. О Гете. М., 1996. С. 197—198.
64 Гете И. В., Шиллер Ф. Переписка в 2 т. Т. 1. С. 364.
80 SL
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
определяющих личность и жизнь человека, его персонифицированную
деятельность, заполняется фигурой демона, связанного как с Адом, так и с небесным
миром, — Мефистофелем.
3. Странное пари и пакт
Мефистофель является вторым по значимости героем трагедии, тенью
Фауста. Под этим именем дьявол появляется в первый раз в средневековой книге
о Фаусте. Вероятно, имя восходит к двум еврейским словам: «мефис»
(разрушитель) и «тофоль» (лжец). Существует достаточно сомнительная версия
происхождения этого слова от греческих слов «me fodo files» (тот, кто не любит
свет) или «me Fausto files» (тот, кто не любит Фауста). Если первую этимологию
можно было бы принять, то вторая выглядит слишком искусственно.
В «Прологе на небе» Господь признал, что из всех духов отрицания он
больше всего благоволит к Мефистофелю. Заслуги Мефистофеля состоят в том, что
он не дает людям успокоиться. В целом Мефистофель изначально признает свою
полную зависимость от Бога, ибо негативное начало в нем всегда ведет к добру.
Мефистофель дает себе следующую характеристику:
Я дух, что вечно отрицает.
И правда требует того:
Все сотворенье, без сомненья,
Вполне достойно разрушенья.
И лучше, если бы его
Совсем на свет не появлялось.
Все, что у вас ни называлось
Иль разрушеньем, или злом,
Вот все явления такие —
Моя природная стихия. (78)
Таким образом, в трагедии появляется дух отрицания, дух того сознания,
которое Карл Густав Юнг определил как негативное. И нет ничего
удивительного, что критицизм преобладает у Мефистофеля над демонической силой.
Разрушить космос Мефистофель не может. Однако магией черт владеет
виртуозно. Он блестящий фокусник и иллюзионист, вызывающий обман чувств, но не
более. Разум человека, обладающего негативным сознанием, направляется на
разрушение того, что является ценностью для другого; он подвергает сомнению
не существо дела, а обстоятельства65.
Почему Гете вводит в трагедию дух отрицания? Дело в том, что дух
отрицания, дух критики — это характерная черта XVIII столетия в Германии начиная
с 70-х годов. Дух критики был направлен против рассудочного догматизма,
против всего, что казалось отжившим, регламентированным, ретроградным, против
всего, что было лишено внутренней свободы, что сковывало свободу личнос-
См. об этом подробнее: Kommerei M. Geist und Buchstabe der Dichtung. Berlin, 1966.
//. Трагедия К В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 81
ти. Он иногда принимал нигилистические формы полного отрицания смысла
жизни.
Такого рода нигилизм был присущ характеру Иоганна Генриха Мерка, в
котором Гете находил мефистофельские черты. Ирония, сарказм, критическое
отношение к жизни, которые отличали суждения Мерка, очень часто гасили
энтузиазм Гердера и Гете. Враждебный любым формам чувствительности Мерк
жестко высмеивал энтузиазм штюрмеров, видя в нем непреодоленный
субъективизм. Дразнить и подшучивать над друзьями было для него привычным делом.
Об этих свойствах характера Мерка Гете говорил Эккерману 27 марта 1831 года:
«Все эти поддразнивания у Мерка, несомненно, шли от высокой культуры, но
так как творческое начало в нем отсутствовало и, напротив, было ярко
выражено начало негативное, то он всегда был менее склонен к похвале, чем к хуле, и
бессознательно выискивал все, что могло избыть этот зуд»66. Ранее он сказал
своему собеседнику: «Мы с Мерком <...> относились друг к другу, как Фауст и
Мефистофель»67.
В трагедии присутствуют два представителя XVIII века. Фауст — это
вдохновение и энтузиазм. Энтузиазм Фауста — это энтузиазм развитого сознания,
которое свободно обращается ко внешнему миру и к самому себе. Его можно
назвать способностью к рефлексии или рефлективным сознанием. Этому
сознанию присущ критицизм. Но самое главное — это именно рефлективная сторона
фаустовского сознания, способная делать себя объектом мысли, видеть себя со
стороны, уметь мыслить о своих чувствах, порождать мысль о мысли.
Критический дух является инструментом рефлексии, прежде всего саморефлексии.
Естественно, что этот дух выступает и как иронический дух.
Мефистофель — дух иронии, обнаруживающей себя во всех сценах
трагедии, где он участвует. Самая важная особенность этой иронии: она
плодотворна, продуктивна в том смысле, что она будит в Фаусте неудовлетворенность,
заставляет рефлектирующее сознание Фауста быть в постоянном напряжении.
Обоим героям, Фаусту и Мефистофелю, присуще демоническое, дьявольское.
И самому Гете демония также не была чужда68. Но божественное в Фаусте все-
таки преобладает. Мефистофель же несет в себе дьявольское в чистом виде,
скрывая его под маской иронии. Томас Манн заметил, что дьявольское в
Мефистофеле не в таких уж плохих отношениях с божественным. Господь говорит
о Мефистофеле:
Таких, как ты, не презираю я:
Из духов всех, живущих отрицаньем,
Уж плут совсем не тягость для меня. (37)
Гете очень тонко вводит Мефистофеля в действие во второй сцене. До этого
Фауст пытался выйти из своего «Я» с помощью знака макрокосма и затем с
помощью самоубийства. Сцену за городскими воротами мы можем воспринимать
66 Эккерман И. П. Указ. соч. С. 428.
67 Там же. С. 428.
68 Аникст А. Фауст, Гете. М., 1979. С. 112.
82 Sîl
Α. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФМЯ. ИГРА
как дальнейшее осуществление стремлений Фауста. Фауст выходит из города,
присоединяется к горожанам, которые празднуют Пасху, его разговор с народом
у городских ворот происходит на фоне гулянья многокрасочной толпы. Люди
празднуют Воскресение Господне, духовное возрождение, обновление мира.
Завершение этой сцены — появление черного пуделя, который неотступно
следует за Фаустом и Вагнером до самого жилища, а в кабинете Фауста уже
предстанет перед ним в одном из образов дьявола. Мефистофель возникает перед ним в
тот момент, когда охватившее Фауста стремление достигает своего апогея, когда
он опять-таки стремится перешагнуть тесные границы своего мира.
То, что встреча Фауста и Мефистофеля происходит на Пасху, очевидно,
должно придать священный, сакральный характер всему событию. Это
означает, что начавшееся в священный день приключение несет в себе положительный
смысл. Место встречи Фауста и дьявола — у городских ворот, которые
символизируют здесь выход человека в более широкое пространство бытия. И хотя все
приключения Фауста будут заключаться в том, чтобы идти за Мефистофелем,
цепь странствования по стадиям бытия все-таки будет проходить под знаком
Воскресения Господня. Следовательно, Мефистофель — это не полностью
инфернальный образ и не носитель абсолютного зла.
По замыслу Гете, в «Фаусте» должен был появиться подлинный Сатана как
воплощение всех темных сил. Сцена Вальпургиевой ночи должна была
завершиться ужасающим, гротескным шабашем, и вершиной этого шабаша должно
было стать появление Сатаны в окружении ведьм, блудниц, козлов — всех
действующих лиц, присущих дьявольской атрибутике. Здесь должны были
торжествовать два начала — бездуховная человеческая похоть и золото. Мефистофель
присутствует в этой сцене в качестве «заместителя главного режиссера» —
Сатаны. Мефистофель предстал перед Фаустом в виде пуделя, и слова о пуделе
Гете вкладывает в уста Вагнеру:
Не ясно ли, что тут о привидении
Не может быть и речи?
Видишь сам —
На брюхо лег, хвостом виляет.
Ворчит... (72)
Вагнер говорит о его безвредности и безобидности. Пудель, как известно,
наиболее зависимая от человека порода собак, он удивительно общителен и
добр. Считается, что из всего собачьего мира эта порода обладает наименьшей
агрессивностью; это собака, которая совершенно потеряла свой охотничий
инстинкт. Появление пуделя в «Фаусте» — намек на обольстительность духа
отрицания — Мефистофеля. Мефистофель в первое свое появление — не символ
зла, а символ общительности. Фауст обращает внимание на странное поведение
пуделя, он чувствует, что это не обычная собака. Мефистофель впоследствии
ведет с Фаустом разговоры, которые он не посмел бы вести с Богом. Смысл речей
Мефистофеля заключается в том, что созданный Богом мир и порядок не
совершенен, более того, он никуда не годится, все существующее в нем заслуживает
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 83
уничтожения. Но все напасти, которые Мефистофель посылает на землю, никак
не могут уничтожить мир. Космический порядок остается незыблемым,
несмотря на всю глупость и несовершенство этого мира.
Кто же такой Мефистофель? Это или сам Сатана, или один из подвластных
Сатане чертей. В «Фаусте» Гете он фигурирует как главный представитель Ада,
посланник Ада. И в то же время — это дьявол второго ранга. Здесь Гете не
интересует абсолютная точность, для него важно другое. Гете создает свою модель
мироздания, свою картину мира, и в ней демоническим силам, духу отрицания
отводится важное место. Мефистофель считает, что изначальной стихией мира
была тьма, она скрыта в основе всех вещей. А свет — это всего лишь
порождение тьмы, он не связан с сущностью вещей, он способен лишь осветить
поверхность. И когда наступит конец этого мира и все подвергнется разрушению, тогда
повсюду снова воцарится тьма.
Устами Мефистофеля Гете излагает нам свой миф о сотворении мира. Что
же это за миф? Гете создал собственную космогоническую модель, которая
резко отличается от христианской. Согласно Гете, создание божественной
Троицы — Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа — привело к тому, что
круг замкнулся, поэтому божества уже не могли создавать себе подобных. Но
божественное начало может быть только началом творческим. Святая
Троица же утратила потребность к воспроизведению, она пребывает в силу
своего совершенства в состоянии самоуспокоенности69. И именно поэтому было
создано еще и четвертое божество. Гете здесь достаточно вольно обращается
со Святой Троицей, он делает то, что запрещал делать Святой Августин, —
переводит Троицу в ранг языческих богов. В четвертом божестве уже
таится некоторое противоречие. Это божество — Люцифер, и он наделен у Гете
творческой силой. Получив созидательные силы, Люцифер создал бытие, но
случилось так, что после этого им овладела гордыня, он восстал, часть
ангелов пошла за ним, а другие остались с Богом и вознеслись к небу. Люцифер
создает материю. Но односторонность Люцифера стала причиной всего зла,
происходящего в мире. Люциферову бытию недоставало лучшей половины,
Троица была отделена от мира, созданного Люцифером. Мир Люцифера
выглядел довольно странно. В нем была концентрация, сплоченность, это был
путь в центр, путь в глубины, но ничего не имело характера распространения,
расширения. Это уходящая в себя вселенная. Такая концентрированная
материя, как считает Гете, уничтожила бы бытие и самого Люцифера, если бы не
божественное вмешательство. Троица наблюдала за концентрацией материи
и, дождавшись определенного момента, начала свое творение, как бы
исправила творение Люцифера, устранила изъян мироздания. И волевым
напряжением, как пишет Гете, Троица мгновенно уничтожает зло и с ним преуспеяние
Люцифера. Устранив изъян мироздания, Троица одарила бесконечное бытие
способностью распространяться и восходить к первоистоку. Как считает Гете,
необходимый пульс жизни был восстановлен.
Образ Мефистофеля в «Фаусте» достаточно сложен — наряду с тем, что это
дух отрицания, негативный дух, он в то же время еще и дух, который всегда
Гете И. В. Собр. соч. в 10 т. Т. 3. М., 1976. С. 296.
84 Sx-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФМЯ. ИГРА
побуждает к действию. Гете здесь, собственно, говорит о правремени. И в эту
эпоху, согласно его мифу, появилось то, что мы называем светом и привыкли
считать Творением. Мироздание — это не некое замкнутое единство, где
части хорошо приложимы друг к другу, мироздание изначально проникнуто
принципом развития, принципом созидания, творчества. Односторонний мир
Люцифера был исправлен внесением в него светоносного начала, наличие света
исправило мир материи и мир природы, сотворенный Люцифером. Дело
Люцифера завершилось бы фиаско, если бы Троица не осветила его деятельность,
не придала ей смысл. Эта деятельность внутри материи, внутри жизни как бы
освещается светом трех ипостасей и, таким образом, Люцифер и его начало, его
посланник на земле Мефистофель, все время придают действию движение. При
этом они хотят созидать особым образом: создавать разрушая, уходя в материю,
уходя во тьму, — и одновременно создают для божества возможность освещать
деятельность человека и придавать ей смысл70. Необходимость просветления
такой деятельности вызвана тем, что в основе люциферовского начала лежит
чистый материализм, который может привести только к гибели. Это и есть та
философская конструкция, та мифологическая концепция, которую Гете создал
в «Фаусте».
В «Прологе на небе», в гимническом пении Архангелов, при изображении
порядка мироздания возникает символическая оппозиция света и тьмы. На
картине Вселенной в иерархической последовательности появляются три сферы.
Архангел Рафаил описывает сферу небесную, наполненную мировой музыкой,
музыкой звезд, где доминирует звучание солнца, исходный момент мирообразу-
ющего принципа.
Само, гремя гимн бесконечный,
Подобно спутникам своим,
Свершает Солнца путь предвечный,
И громы шествуют за ним!
Светило дня без измеренья
И силы Ангелам дарит,
И все, как в первый день творенья,
Великолепием горит. (33)
Звук и свет едины в вечном становлении природы, в нескончаемом
движении ее форм. Подхватывая начатый гимн, Архангел Гавриил поет о Земле,
которая связана как со светом, так и с тьмою и для созерцателя представляет
собой зрелище противоборствующих стихийных сил. Однако включенность
Земли в гармонию сфер неоспорима.
С невыразимой быстротою
Кружится дивная Земля,
Где за ночною темнотою
Блистает райская заря. (33—34)
Там же. С. 297.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея *iS> 85
Райской зарей (Paradieses-Helle) прорывается божественное пространство
земного бытия, однако чистый образ, описанный Рафаилом и Гавриилом как
звучащее Солнце, окруженное звездами, образ сверхземного совершенства,
остается все же непостижимым, и в словах Архангела Михаила слышна мысль,
что причиной этой непостижимости стали Ночь и Хаос освобожденной демо-
нии природы, ее мощные силы на Земле, которые, однако, не в состоянии
разрушить гармонию Вселенной. Более того, эти силы Ночи и Хаоса включены в
цепь творения. День и Ночь охватывают мир, но Архангелы прославляют только
День, поскольку лишь свет — подлинный источник творения, ибо божественное
внутри творения проявляет себя как откровение самым чистым образом лишь в
Солнце. Совершенно парадоксальное усиление мы находим затем в словах
Архангелов, обращенных уже к Творцу мироздания. Вселенная в своей
целостности, охватывающая свет и тьму, — свидетельство могущества, непостижимости и
красоты Божества. Мир держится, развивается как полярность Света и Тьмы,
созидательных и разрушительных сил, Космоса и Хаоса, духовного и стихийного.
Известно, что полярность — основная мысль и ключевое слово в мировоззрении
Гете. Гете постоянно рассматривает феномены как физического, так и духовного
миров через призму полярной организации. Смена раздвоения и объединения
полюсов в соединении с принципом возвышения (Steigerung) становится для Гете
космическим законом, основой движения всего становящегося и живого.
Космогония как полярное самораскрытие Божества изложена Гете в восьмой
книге «Поэзии и правды». Гете излагает ее как воззрение своей молодости, но,
зная гетевское понимание времени как совмещение его различной
направленности, где прошлое, настоящее и будущее взаимно друг друга дополняют, мы можем
предположить, что текст этого космогонического мифа может быть лишь
условно отнесен к раннему периоду творчества поэта, где он мог существовать лишь
в зачаточной форме. «Прафауст» эту космогонию, конечно, полностью нам не
показывает. Многократно указывалось на родство этого мифа о возникновении
мира с концепцией космологической рамки «Фауста». Гетевский миф интересен
для нас как обоснование принципа единства мира. Это единство выглядит у Гете
становящимся, стадиально развивающимся. Миф рассказывает нам о Божестве,
«извечно себя само воспроизводящим», и это Божество поначалу приобретает
образ замкнутой в себе и абсолютно совершенной Троицы, пребывающей в
самой себе, и тем самым возникло неизменное, живое и вечное целое, у которого
сохранилась потребность в воспроизведении. Пребывающая в самой себе
Троица, как уже было сказано, создает четвертое существо, Люцифера, которое так
же, как и Троица, является «безусловным», однако ограниченным Божеством.
Ему, этому четвертому Божеству, была передана творческая деятельность,
однако как деятельное начало Люцифер в своей гордыне стал считал себя началом
всех вещей. Он все больше и больше «концентрируется в самом себе» и
отпадает от Бога. Из этой концентрации Люциферова творения возникает материя,
и чтобы спасти творение от уничтожения со стороны безграничной
концентрации, бессмертная Троица дает материи способность к «экспансии», способность
жизненного, живого движения к Богу, и это движение обнаруживает себя в
проявлении Света. Там, где материя «тяжела, прочна и темна», она сохраняет следы
86 ®L
А. Г. Аствсщатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Люциферовой деятельности, представление о своей отделенности от Божества
и в стремлении к своему центру, то есть к Люциферу. Там, где материя легка,
подвижна и светла, она стремится назад, в божественную бесконечность, к
Свету. Между сумрачными областями Люциферова творения и чистым миром
света Божества существуют бесчисленные переходы, так как творение Люцифера
благодаря жизненной творческой силе Элохимов разнообразилось. Тем самым,
как утверждает Гете, был восстановлен подлинный пульс жизни, и он состоит в
движении материи между двумя полюсами — Света и Тьмы. Поэтому все
творение находится в постоянном колебании между Люциферовой тенденцией к
уничтожению и божественным, творческим импульсом, то есть в вечной игре
концентрации и экспансии.
В эту игру включен человек, «во всем сходствующий с Божеством, более
того, ему подобный, который, однако, именно поэтому вновь оказался в
положении Люцифера, то есть был и безусловен, и ограничен»71. Назначение
человека в этом мифе — восстановить первоначальную связь с Божеством. Здесь
следует отметить важнейший аспект, связанный с этим мифом. Изначально
Люцифер в нем является четвертым Божеством. Тем самым он есть
необходимое условие осуществления мифологического сюжета на уровне земного
бытия, и в ходе развития сюжета во второй части происходит постепенная
трансформация гетевского мифа творения. Пятый акт второй части — прощание с
четвертым Божеством, то есть Люцифером, точнее с его якобы полномочным
представителем на Земле Мефистофелем. В мистерии заключительной сцены
мы видим подлинное четвертое Божество на уровне Творения в целом,
Богоматерь, освещающую любовью все сущее, без которой невозможен человек. Сам
сюжет гетевского мифа открывал то, что должно было проявиться лишь в
финале драмы. Четыре ипостаси Богоматери показывают нам ее принадлежность к
гетевскому мифу творения и вечному Свету, ставшему любовью. Наряду с
Люцифером, символом односторонней концентрации, возникает фигура ставшего
человеком Бога как знак того, что в человеке возможно повторение не только
люциферова отпадения от Бога, но также и спасение, возвышение
материального до Света духовного, божественного. Что это означает для человеческой,
земной жизни? Это означает, по словам автора «Фауста», что «мы находимся
в состоянии, которое как будто и подавляет, и тянет нас книзу — и все же дает
нам возможность, даже вменяет нам в долг возвышаться над собою и, стремясь
воплотить великие замыслы Господни, то заставляет нас уходить в свою
сущность, то — через равномерные промежутки времени, — напротив, отрешаться
от своей обособленности»72. В этом мифе мир возникает из борьбы жизненной,
божественной силы, проявляющейся как Свет, и Материи, склонной к Тьме и
неподвижности, и, естественно, в нем обнаруживаются две тенденции:
эсхатологические возможности Люциферового обособления от Божества, но также
и спасение человека в Боге. Жизнь мира — это соединение обоих полюсов,
божественного и Люциферового. Так обстоит дело в фаустовской драме. В ней
достаточно громко звучит голос Люцифера через его рупор, каковым является
71 Там же. С. 297.
72 Там же. С. 298.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JΩ 87
Мефистофель. Смысл полемики Мефистофеля с Архангелами заключается в
том, что вмешательство божественной Троицы в дело Люцифера было
совершенно неуместным и попытка ограничить безусловное в Люцифере ни к чему
не привела. Образу космической гармонии, созданному Архангелами,
Мефистофель противопоставляет человека, в котором противоречия люциферовского
и божественного, ограниченного и безусловного, Материи и Света останутся
непримиримыми. Нисколько не покушаясь на гармонию мироздания,
Мефистофель все же утверждает, что божественное вмешательство в деятельность
Люцифера и ее ограничение светом стало ошибкой:
О Солнце, о мирах нет у меня речей,
Я вижу лишь одни страдания людей.
«Божок вселенной» все без измененья!
И так чудит, как в первый день творенья.
Намного лучше он бы жил,
Когда б огня небес в него ты не вложил.
Он разумом подарок величает
И лишь на то свой разум расточает,
Чтоб скотски жить. Недолго говоря,
Сравнить его себе позволю я
С кобылкой длинноногой, что летает,
И прыгает в траве, и песню распевает,
И пусть бы уж в траве лежал себе на радость.
Нет! Он сует свой нос во всякую-то гадость. (35)
Деятельность разбивается на два начала: Фауст, осуществляющий деяния, и
Мефистофель, к деяниям побуждающий, последний становится движущим
началом в трагедии. Вернемся к сцене появления Мефистофеля перед Фаустом.
Возвратившись с прогулки, Фауст собирается вновь приступить к своим
занятиям. Войдя в свой кабинет, он говорит, что оставил поля и горы, окутанные
ночной тьмой, — сообщает о том, что он преодолел тьму и входит в своего рода
состояние света, духовного свечения:
В душе высокие порывы
Родятся тайно в этот миг.
В душе Фауста постепенно стихает шум внешнего мира, и под влиянием
любви пробуждаются лучшие чувства:
И в глубине душевной вновь
Горит огонь благоговенья
И к человечеству любовь! (73)
Общение с другими людьми во время прогулки дает воскреснуть этой любви
к человечеству. Надо сказать, особенность истории Фауста в том, что процесс
88 SL
А. Г. Лствацатуров. ПОЭЗИЯ ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
духовного творчества в нем неотделим от демонии. Иначе говоря, порыв души
к свету соединяется здесь с демонией, с мефистофелевским началом. В
пасхальный вечер Фауст возвращается с праздника, ощущая в себе свое высшее «Я», он
находится в состоянии контакта с Богом, но возвращается не один, за ним идет
безобидный и смышленый на вид пудель. Черный цвет пуделя являет нам его
настоящую сущность. Его появление означает, что в психике Фауста начинает
действовать какая-то темная сила, и эта сила лишает его настроенности на
высокий лад: «При силе всей хотенья из сердца не течет уже успокоенье».
Свою духовную высоту Фауст пытается сохранить с помощью книги. Но
теперь он ищет вдохновения не в книге Нострадамуса, а в Новом Завете. Фауст
даже собирается переводить начало Нового Завета, задумывается над первой
строкой и приходит к мысли, что в Евангелии от Иоанна правильнее было бы
перевести «В начале Мысль была», нежели «В начале было Слово». Здесь речь
идет о переводе греческого слова «логос». Однако значение немецкого «das Wort»
гораздо уже значения греческого «логос». Слово — это лишь знак, и оно может
быть стершимся понятием. Слово — это нечто готовое, заранее данное. При
переводе, таким образом, творение теряет свое значение, превращается в семио-
зис, приобретает знаковую форму. В конечном итоге словозамена вещей — это
искажение мира, и если заменить «логос» на «слово», то мир лишается энергии,
лишается продуктивности. Гете говорил: «Мне отвратительно любое знание, не
пробуждающее меня к действию, к творчеству». Перевод «В начале было
Слово», как считает Фауст, ограничит мир схемами безжизненной науки. Далее
следует другой перевод — «Im Anfang war der Sinn». Теперь речь уже идет о более
широком понятии, речь заходит о смысле, о размышлении. Этот перевод уже
больше соответствует библейским божественным премудростям. Собственно,
миф о божественной премудрости, о мудрости Бога — это единственный миф в
Библии. Это мудрость Господня, и именно мудрость (der Sinn) имел Господь
перед сотворением мира. Мудрость сопровождает весь процесс сотворения мира.
Но Фауст склоняется к другому выводу: Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?
Es sollte stehen: «Im Anfang war die Kraft». «Der Sinn» Фаустом отвергается:
«Подумай наперед: ну разве мысль зачин всему дает и все так мощно сотворила?»
Он утверждает, что здесь должно стоять другое слово: «Была в начале Сила».
Но от слова «die Kraft» Фауст тоже отказывается и приходит к окончательному
решению: «Im Anfang war die Tat» — «Было Действие от самого начала».
И здесь возникает проблема, которая занимала многих переводчиков в XVIII
столетии. Гердер переводил слово «логос» сразу несколькими словами: Gedanke,
Wort, Wille, Tat, Liebe. При переводе этого слова использовалось сразу
несколько понятий. Эта сцена имеет двоякий смысл. Гете говорит здесь о продуктивном
характере творения мира, о том, что мир есть вечное творчество. И в то же самое
время он высказывает свое ироничное отношение к новой школе перевода
Библии. Стремление переводить Библию по-новому после Лютера возникало
неоднократно, и в XVIII веке мы встречаем такие попытки. Вся сцена имеет двойной
план, здесь Гете иронизирует над своим другом Гердером, который
предпринимал попытки перевести Библию; игра в слова в какой-то степени забавляет
Гете. Насмешливое ироническое отношение к гердеровским исканиям в области
//. Трагедия M. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея Jëb 89
библиистики среди штюрмеров было особенно характерным для И. Г. Мерка.
Мы видим: отвергая перевод «В начале было Слово», Фауст отвергает Христа.
Он предпочитает слово «действие», он утверждает космогонию, которая близка
к языческой вере.
Когда Фауст останавливается на этом слове, начинается превращение пуделя
в Мефистофеля, которое Фауст не может предотвратить никакими заклинаниями.
Фауст находится в состоянии духовной экзальтации, духовного восторга, и в этот
момент темное начало входит в его душу. Его душа получает тень, и этой тенью
является Мефистофель. Так гетевская мифологема дополняется присутствием
Люцифера. Появление Мефистофеля как раз дает развитие словам: «Im Anfang
war die Tat». Гете подводит нас к мысли, что психика и разум не изобрели сами
себя, а разум обрел нынешнее состояние только путем развития. Процесс развития
разума не прекращается и поныне, это значит, что нами движут как внутренние,
так и внешние стимулы. Внутренние побуждения к действию, как показывает нам
Гете, вырастают из глубин, не имеющих отношения к сознанию. Мефистофель
появляется как раз в тот момент, когда Фауст не может понять смысл действия.
С духом отрицания Фауст ведет себя властно и даже заносчиво, он нисколько не
боится посланца тьмы. Да и вид Мефистофеля не располагает к страху.
Фаустовское «в начале было действие» нельзя рассматривать как
сознательное заклинание Люцифера. Переводя Евангелие, ученый муж не изобретал
ничего нового, ведь слово, смысл, сила, действие в Боге едины. Особой ревизии
библейского текста здесь нет. Дилемма здесь в другом. Появление Мефистофеля
ставит вопрос, каким будет это действие. Будет ли оно понято исключительно
материалистически, ведь теперь перед Фаустом стоит Мефистофель,
приверженец последовательного материализма. Тогда Фауст станет апостолом
Люцифера. Или же деяния окажутся в сфере света Божественной Троицы и духовное
начало в них будет торжествовать. Здесь же мы находим одну из главных черт
фаустовского человека у Гете — безжалостность. Истину Фауст ищет за
пределами морали и религии, он готов вступить в диалог с дьяволом и не боится
этого. Явившийся Фаусту Мефистофель сразу определил свою метафизическую
сущность: «Я часть той силы, что, желая злое, творит, однако, только лишь
благое». С самого начала он говорит, что разрушение — его стихия. При этом
разрушение становится созиданием, и в процессе деятельности всегда появляется
светоносное начало бытия.
Первое, что делает искуситель Мефистофель, — он пробуждает в своем
подопечном интерес к сфере тела и власти. Это та сфера, где искушение является
особенно сильным. Если использовать психоаналитическое толкование, то
Мефистофель действует как умелый психоаналитик, который помогает пациенту
обрести вытесненные желания73. Фауст, занимаясь наукой, отрекся от всего, он
забыл о любви, о власти, о наслаждениях. Мефистофель дает возможность
Фаусту признаться в том, что он обладает человеческими желаниями: жаждой любви
и власти. Но Фауст настаивает на своем неприятии мира, в его душе все время
царят тревога и беспокойство, в сцене с Мефистофелем Фауст опять попадает
73 Психоаналитическое толкование этой сцены читатель найдет в: Наранхо К. Песни просвещения.
СПб, 1997. С. 174—180.
90
©ΧΑ Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
под настроение религиозного аскетизма и мизантропии74. Корень этой
мизантропии — вытесненные из его души желания и надежды. Но Фауст отрекается
от всего. Этим он создает Мефистофелю неимоверные трудности, ибо вся сфера
искушений оказывается проклятой, и черт неожиданно для себя поставлен в
положение, которое обусловлено отречением Фауста.
Когда от странного решенья
Звон радостный отвлек меня,
Он оком детства золотого,
Поры веселья воскресил
То чувство, что я сохранил
В душе от времени былого.
Тогда я проклинаю все,
Что, призраком и пустяками
Опутав душу, как сетями,
Во мрак и скорбь влечет ее.
И вот — проклятье самомненью,
Что дух в себе самом творит!
Проклятье всякому явленью,
Что наши чувства полонит!
Проклятье лживым сновиденьям,
Проклятье всяким оболыценьям,
Кто б ни входил в их тесный круг:
Жена, дитя, слуга иль плуг!
Проклятие Мамону-плуту,
Что рвенье мздой зажжет в груди
И за прекрасную минуту
Готовит муки впереди!
Проклятье соку винограда,
Восторгам сладостных утех!
Проклятие надежде! В бездне ада —
Терпенье жалкое у всех! (89)
Спровоцированный Мефистофелем фаустовский монолог-проклятие
затрагивает все жизненные ценности, не только эфемерные, иллюзорные, но и
истинные, и это отречение Фауста от жизненного мира приобретает форму его
радикальной деструкции, которая начинается со способностей человеческого
мышления, захватывая область воображения, низводимого до пустоты иллюзии,
и завершается отречением от фундаментальных христианских ценностей —
веры, надежды и любви:
Fluch jener höchsten Liebeshuld!
Fluch sei der Hoffnung! Fluch dem Glauben,
Und Fluch vor allen der Geduld! (1604—1606)
Там же. С. 176.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J«© 91
Вся жизнь отрицается как бессмыслица. Такого последовательного
отрицания мира мы больше не встретим в творчестве Гете. Отчаяние и разочарование
в жизни, повышенная реактивность свойственны и другим героям Гете, в
частности Герцогу в драме «Внебрачная дочь» и Эдуарду в романе «Избирательное
средство». Однако в этих случаях для негативной реактивности есть предмет,
ставший ее неизбежной причиной, основанием. Во «Внебрачной дочери» Герцог
сообщение о смерти Евгении — на самом деле его дочь была похищена в
результате политических интриг — воспринимает как мировую катастрофу, как полное
крушение всех своих надежд и планов обуздания нарастающей революционной
стихии. В этом непостижимом для него вторжении судьбы он прозревает угрозу
всему благородному и прекрасному со стороны враждебного ему мира.
Его речь подобна фаустовскому проклятию. Ее образы кажутся даже более
динамичными и выглядят как разрушительная стихия времени, захватывающая
абсолютно все.
Я потерял ее. Ты прав,
Несчастный! Все вокруг твердят одно:
«Ее ты потерял!» Так хлыньте, слезы!
Размойте стены моего дворца,
Который столько выстоял невзгод!
Мне ненавистен уцелевший мир,
Все, что кичится прочностью своей!
Мне любо то, что рушит и крушит,
Вы, реки, затопите берега!
Разверзни пасти, грозный океан,
И поглоти корабль, людей и груз!
Нагряньте, орды яростных врагов,
И громоздите смерть — над трупом труп!
Пусть молнии с безоблачных небес
Ударят в главы башен и церквей,
Порушат и сожгут их, и пожар
Пусть гонят в тесных улиц лабиринт —
Да так, чтоб я под плач толпы надрывный,
Мог примириться с участью своей.75
Общее в обоих проклятиях — это пространство их резонанса. Таковым
является мир. Но если мир сам демонстрирует Герцогу глумление над истиной
и красотой и надвигающаяся революция грозится их уничтожить, то
фаустовские проклятия имеют другую природу — экстремальный случай постоянного
внутреннего беспокойства, от которого Герцог был свободен до разразившейся
в драме катастрофы. Проклятие фундаментальным христианским
добродетелям, конечно, связано с фаустовской традицией. У него есть адресат. Это силы,
спасшие Фауста в Пасхальную ночь. К ним обращена речь Фауста. Они
принесли лишь ложное утешение, обман, создали очередную иллюзию веры, сделали
Гете И. В. Побочная дочь // Гете И. В. Собр. соч. в 10 т. Т. 5. М., 1977. С. 360.
92 SL
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
невозможным преодоление земного мира. Речь идет о проклятиях миру
Божьему и любви к Богу (jener höchsten Liebeshuld). Согласно традиции, отречение
от Бога и христианской веры — основное требование Дьявола к Фаусту при
заключении пакта, и Гете сохраняет ей верность. Выполнение условий Дьявола
означает полное отпадение Фауста от Бога и созданного им мира:
«Во-первых, он, Фауст, обещает и поклянется, что он предается в
собственность этому духу.
Во-вторых, что для большей силы он это напишет и удостоверит своей
собственной кровью.
В-третьих, что всем верующим христианам он будет враждебен.
В-четвертых, что он отречется от христианской веры.
В-пятых, что если кто его вновь захочет обратить, чтобы он этим не
соблазнялся.
Доктор Фауст был настолько дерзок в своем высокомерии и гордыне, хотя и
раздумывал с минуту, что не стал беспокоиться о блаженстве своей души и дал
согласие злому духу на такое дело и условия обещался выполнять. Он думал,
что не так черен дьявол, как его малюют, и не жарок Ад, как о нем рассказывают,
и т. п.»76.
Гетевский Фауст отличается от доктора Фауста народной книги тем, что его
отречение от Бога не вызвано требованиями злого духа, а совершается по
внутреннему определению, абсолютно автономно и в какой-то мере совершенно
неожиданно для Мефистофеля. Негативная метафизика Фауста настолько
последовательна и радикальна, что ставит Мефистофеля в тупик, ибо для самого духа
отрицания существуют границы, в которых он обязан действовать. Естественно,
такое отпадение от Бога выглядит как разрушение фундаментальных
ценностей бытия, и в драме оно имеет неизбежные последствия. Отзвуки фаустовского
проклятия будут слышны в самом конце жизненного пути Фауста.
Das war ich sonst, eh ich's im Düstern suchte,
Mit Frevelwort mich und Welt verfluchte. (11408—11409)
Сейчас же все мосты для возвращения в мир, к природе уничтожены и
кажется, что голосом Фауста сам низвергнутый в преисподнюю Люцифер
проклинает Божье творение и самого Творца, приостановившего его деятельность,
которая неизбежно вела к разрушению бытия и гибели самого разрушителя.
Говоря словами младшего современника Гете Фридриха Шлегеля, мы имеем дело
с внутренней революцией, невиданной революцией сознания, стремящегося
полностью очистить все пространство бытия для своей деятельности, ибо в нем,
в этом пространстве, существуют лишь препятствия, а какие-либо формы
отречения для такой личности, как Фауст, немыслимы. Для этой стадии развития
сюжета аналогии с Люцифером очень важны, поскольку Люциферово начало в
Фаусте, выступающее как чистая негативность по отношению к земному миру
и тем самым разрывающая связь между земным и небесным, проявляет себя как
эгоцентризм и демоническая одержимость неисправимого волюнтариста.
76 Легенда о докторе Фаусте. М.—Л, 1958. С. 56.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея U© 93
В 16-й книге «Поэзии и правды» Гете очень четко высказался о таком типе
личности: «Ужас охватывает нас, когда мы видим, что человек неразумно
попирает общепринятые нравственные законы, безрассудно действует вопреки
своей и чужой пользе. Чтобы спастись от этого ужаса, мы спешим превратить его
в порицание или отвращение и такого человека стараемся изъять если уж не из
жизни, то хотя бы из своих мыслей»77.
Если возвратиться к сравнению фаустовского проклятия и состояния
Герцога в третьем акте «Внебрачной дочери», то мы столкнемся не только с разными
причинами негативной реакции на мир, но и с разными их следствиями. Для
Мефистофеля следствием слов Фауста должна стать желанная вечная пустота
(das Ewig-Leere). Для Герцога, переживающего потерю дочери как крушение
всех надежд, как рожденный хаосом натиск времени, хаосом, таящимся в
окаменевшем порядке вещей, нетленным, вечным остается то, что противостоит
этому натиску и возвышается над миром изменяющейся материи, приобретая
характер неотменяемого мгновения, очищенного от всего преходящего и
случайного. Вырванное из потока губительного времени, оно остается для
Герцога образом его дочери Евгении, бессмертным прообразом, внушенным
божественной силой. Покинув сферу всего смертного, не затронутый никакими
изменениями, просветленный он становится посредником между человеком и
божеством78.
Дай мне развеять морок тяжких дум,
Позвать тенеты смерти! Да воскреснет
И воцарится в сердце навсегда
Твой образ, вечно юный, неизменный!
Пусть воссиявший свет твоих очей
Мне неустанно светит. Предо мной
Иди, куда б ни шел я. Укажи
Мне верный путь сквозь терний лабиринт!
Нелживый сон, стоишь ты предо мной
Какой была и будешь. Божество
Задумало тебя как совершенство,
И совершенством в вечности предел
Вступила ты, со мной не разлучаясь.79
Если в этом случае трагические события драмы указывают на полноту
жизни, воплотившейся в прекрасное мгновение, то совершенно другие интенции
фаустовского сознания обнаруживают только трагическую пустоту, которая
возникает после предпринятого им мысленного разрушения мира.
Монолог-проклятие стоит перед знаменитой сценой пари.
77 Гете И. В. Поэзия и правда // Гете И. В. Собр. соч. в 10 т. Т. 3. С. 569.
78 Об этом см. подробнее глубокую по содержанию статью Бернарда Бешенштейна: Böschenstein
В. Hoher Stil als Indikator der Selbstbezweiflung der Klassik. Eine Lektüre von Goethes «Natürlicher
Tochter» // Goethe J.W. Die natürliche Tochter. Frankfurt am Main, 1990. S. 385.
79 Гете И. В. Внебрачная дочь. С. 372.
94 ®l
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Трудно представить себе исследование трагедии Гете, которое обошлось бы
без интерпретации этой сцены, поскольку последняя — один из важнейших
моментов развития фаустовской идеи и образа главного героя как в философском,
так и в композиционно-структурном плане. Однако следует сказать, что после
произнесения Фаустом слов о прекрасном мгновении, после заключения пари,
оно как бы благополучно забывается и о нем приходится вспоминать, когда
Мефистофель безуспешно старается завладеть душой умершего Фауста.
Естественно, у всех из-за этого пари возникает вопрос, кто же его выиграл, и ответ
осложняется тем, что черту так и не удалось заполучить душу Фауста, правда,
не без вмешательства высших сил. Поэтому любая интерпретация сцены пари
зависит от того, как ее автор понимает идею произведения и образ ее главного
героя80.
Характер пакта предусмотрен Прологом на небе, о чем, конечно, знает
Мефистофель и не знает Фауст. Слова Господа показывают, что черт не может
рассчитывать на обычное совращение грешной души, в них есть условия для союза
черта с человеком.
Итак, даю соизволенье.
Ты можешь заставлять его
Забыть свое происхожденье,
Пути держаться твоего.
Но жди в грядущем посрамленья:
Как ни блуждал бы добрый человек,
Познаешь сам — пути спасенья
Не позабудет он вовек. (36—37)
Из текста становится понятным, что изначально на Фауста не накладывается
проклятие. Оно или спасение зависят от жизненного пути героя.
Если Мефистофелю удастся в земной жизни полностью подчинить себе
Фауста, то муки ада для Фауста неминуемы, его осуждение неизбежно.
Мефистофель откровенно говорит об этом, предлагая себя в слуги Фаусту.
Я буду здесь твоим слугою,
Неутомимым, а когда
Мы Там увидимся с тобою,
Ты будешь мне служить тогда. (91)
80 Из работ, касающихся этой темы, кроме уже упомянутых нами, укажем на те, которые важны для
нашего исследования: Düntzer Η. Goethes Faust. Erster Teil, erläutert von H. Düntzer., Leipzig 1850; он же
Würdigung des goetheschen Faust, seiner neuesten Kritiker und Erklärer., Leipzig 1861. S. 36—39; Böhm W.
Goethes Faust in neuer Deutung. Ein Kommentar für unsere Zeit. Köln 1949; Binder W. Goethes klassische
Faust-Konzeption //Aufsätze zu Goethes «Faust I». Darmstadt 1974, S. 106—150; Requadt P. Goethes Faust.
Leitmotivik und Architektur. München 1972; Hohlfeld A. R. Pakt und Wette in Goethes «Faust» // Aufsätze
zu Goethes «Faust I». S. 380—409; Michelsen P. Mephistos «eigentlichen Element». Vom Bösen in Goethes
Faust // Das Böse. hrsg. Von C. Colpe und W. Schmidt-Biggemann. Frankfurt am Main. 1993, S. 229—255;
Kaiser G. Ist der Mensch zu retten? Vision und Kritik der Moderne in Goethes «Faust». Freiburg, 1994;
Anglet A. Der ewige Angenblick. Studien zur Struktur und Funktion eines Denkbildes bei Goethe. Köln. Weimar.
Wien, 1991.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 95
Только исходя из этого можно понять смысл такого странного союза, как
союз Фауста и Мефистофеля, и условия, которые Фауст ставит черту.
Когда в спокойствии бездельничать начну я,
Тогда считай, что кончено со мной!
Иль твой обман настолько не пойму я,
Что стану вдруг довольным сам собой;
Когда хоть раз, вкушая наслажденье,
Забудусь я, пускай тогда придет
Последний день! (93)
То, что говорит Фауст, показывает нам самое сильное отклонение в
концептуальном плане от источника, где речь идет о пакте и отношениях слуги и господина
на 24 года. Здесь же мы имеем пари и отношение партнерства на неопределенное
время — до тех пор, пока Мефистофель не успокоит Фауста, не сможет привести
его в состояние самодовольства, не обманет его, искушая наслаждениями, или
же сам Фауст сочтет свою жизнь и деяния окончательно завершенными и сам не
поставит им предел. Фауст определил Мефистофелю ареал его деятельности в
попытках испытать его сущность. Это порывы, деятельные импульсы его души.
Мефистофель может испытывать бдительность его критического сознания. Тем
самым Фауст ставит на кон обе свои души, заставляя их постоянно быть на
страже и находиться в состоянии вечной неудовлетворенности. Фауст намеренно
вводит себя в искушение, причем в искушение мучительное. Оно означает для
Фауста отказ от счастья и радости, от спонтанности и непринужденности, обрекая
его, его дух на вечное беспокойство, заботу и нескончаемую рефлексию. После
согласия Мефистофеля на пари следует конкретизация его условия, до этого
неопределенного, и оно формулируется с предельной точностью:
Когда хоть раз остановлю мгновенье:
«Помедли, дивное, и прочь не улетай»,
Ты на меня оковы налагай,
Твоим готов я стать без замедленья. (93)
Знаменитые слова о мгновении должны служить критерием, и перед
Мефистофелем стоит задача сделать все, чтобы Фауст их произнес. Фауст, объявив
условие пари, начинает контролировать время своей жизни, располагать им, но
при этом господстве над временем в латентной форме остается тяга сознания
к танатосу, видоизмененное стремление к преодолению земной жизни,
аналогичное самоубийству, которое после встречи с Мефистофелем, этим мнимым
защитником жизни, повторить уже невозможно. Называя условия пари, Фауст с
разрушительной для сознания проницательностью определяет содержание своей
дальнейшей жизни, ее характер, и видит он ее лишенной каких-либо перспектив
как безысходность, несчастье и безрадостность, беспокойство и рефлексию.
Здесь необходимо вернуться к отличию этого пари от пакта с чертом,
который представлен в народной книге и кукольной комедии. В них согласно пакту
96 Sîu
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Мефистофель должен служить Фаусту до его смерти, черт обязан обеспечивать
его деньгами, играть роль сводника, предлагая Фаусту женщин, выполнять все
его желания, потворствовать капризам и вожделениям и т. д.; по требованию
Фауста он должен рассказывать ему о строении мира, раскрывать тайны
мироздания, с помощью черной магии связывать его с духами. Фауст же по
окончании своей земной жизни за это обязан служить черту в Аду. В той форме пари,
которую предложил Фауст, все по-иному. Из проклятия и пари вытекает, что
Фауст вовсе не нуждается в традиционных услугах черта, поскольку в
отношении себя он считает невозможными лень, самоудовлетворенность, наслаждение,
удовлетворение сиюминутных желаний. Если же это произойдет, то он окажется
во власти Мефистофеля, что, однако, его совершенно не волнует, ибо ему
безразлично, что будет после смерти.
Что будет Там, мне горя мало.
Раз света здешнего не стало,
Пускай сменяется другим,
Всем наслаждениям моим
Источник здесь. И солнце это
Лучи моим страданьям шлет. (91 )
И здесь, конечно, не пакт, а пари. Но пари особое. Фауст ставит
определенное условие и, следовательно, обещает меньше, чем то, что положено обещать
черту в народной легенде.
Но и от новой жизни он ожидает меньше. Она не даст ему ответа на ключевые
вопросы бытия, а предоставит ему возможность выйти из прежнего состояния
сознания в неведомую область чувств. Конечно, это не то, чего хочет
Мефистофель, но он, понимая, что большего от Фауста получить не может, соглашается
на пари, которое и будет поддерживать напряжение в ходе сюжета.
Своеобразие фаустовского пари Э. Трунц видит в том, что нормальным пари
оно не является: «При обычном пари оба партнера лишь тогда должны
выполнять обязательства, если произошло ожидаемое событие, показавшее, кто был
прав; тогда проигравший должен что-то дать выигравшему, ставка для обоих
одинакова. Здесь однако этого нет. Правда, оба ждут, что произойдет, но то, что
один должен дать другому, совершенно различно, так же как и сроки. Фауст,
если он проиграет, обязан что-то дать. Но Мефистофель должен что-то давать
тотчас и продолжать давать в дальнейшем, пока не выиграет пари. До этих пор
он играет роль слуги. Освобождение от этой роли — смерть Фауста. Поэтому
Мефистофелю надо стремиться к тому, чтобы Фауст как можно скорее
проиграл пари. В этом случае речь не может идти о нормальном пари. Здесь мы
имеем дело с соглашением, соглашением ясным, но представляющим собой нечто
среднее между пактом и пари.81
Действительно, пакт здесь заключен в форме пари, по которому лишь при
выполнении условий черту предоставляется возможность рассчитывать на то,
что он получит душу Фауста. Особенность создавшейся ситуации еще и в том,
81 Trunz Ε., op. cit. S. 540.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 97
что ни Фауст, ни Мефистофель не знают точно, что произойдет. Оба
действительно много ставят на кон. Фауст — свое земное существование, если он
проиграет, Мефистофель — все свои услуги, оказавшиеся напрасными.
Из слов Мефистофеля, сказанных им до пари, ясно, что черт хотел
поначалу заключить с Фаустом традиционный пакт — продажу души в обмен за
его услуги. Но он вынужден согласиться с условиями Фауста, понимая, что
других не будет. И поскольку на карту поставлена жизнь Фауста, то вся
ситуация усложняется. В случае выигрыша пари Мефистофель сможет
продемонстрировать Богу полное бессилие человека и, следовательно, несовершенство
Божьего творения. Триумф Мефистофеля — завладение душой Фауста. Но это
обстоятельство не дает ни малейшего права говорить, что ради земных утех и
наслаждений Фауст продал черту свою душу. Именно это Фауст как раз
решительно отверг.
Ну что ты, жалкий черт, мне можешь дать?
Души высокие стремленья
Тебе подобный может ли познать? (92)
Фаустовское пари невозможно отделить от проклятия, их отношение друг
к другу очень точно определил Г. Шторц как порядок применения закона и сам
закон: пари распространяет фаустовское «нет», его отрицание любых ценностей
и смыслов на все будущие услуги Мефистофеля. Пари — это только иная,
расширенная форма того же протеста, уже заявленная в проклятии82.
Сцена пари обозначила переворот в сознании Фауста. В его душу теперь
открыт доступ иррациональному. Место познания, а также основанного на
воображении созерцания в будущем должно занять переживание, которое для
Фауста станет опьянением, восторгом, вихрем страстей (Taumel). Оно исцелит его от
порывов к абсолютному знанию. Фауст, однако, и здесь остается самим собой,
понимает, что погружение в дионисийскую сферу не принесет ему никакой
радости.
Не в радостях одних сокрыта дела суть:
Хочу отдаться я всецело упоенью
И горести любви, не только наслажденью,
И ненависть, и злобу испытать:
Чтоб сердце, переставшее желать
Все нового и нового познанья,
Изведало все горести страданья. (95)
Это — преображенный, видоизмененный прежний порыв, упоение сменой
и противоречием, безрассудная, слепая воля к жизни, к становлению с его
непостижимой динамикой, к постоянному расширению радиуса действия жизненных
сил, которое оборачивается желанным, самоубийственным движением в ничто,
понимаемое Фаустом как единственный способ приобщения к Духу Земли в на-
82 Storz G. Goethe-Vigilen. Stuttgart, 1953. S. 190.
98 3*-
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
дежде на новую встречу с ним83. Здесь возникает проблема: зачем Фаусту это
пари, причем с таким ненадежным партнером и одновременно противником, как
Мефистофель? В исследовании Фрица Штриха, к замечательным работам
которого, к сожалению, современные германисты обращаются крайне редко, была
сделана серьезная попытка ответить на этот вопрос. Действительно, чего хочет
Фауст достичь этим пари? Уверен ли он, что человеческий дух, его дух в своем
высоком стремлении никогда не может быть порабощен Мефистофелем и
последний никогда не сотворит мгновение, о котором можно было бы сказать:
Verweile doch! du bist so schön! Бесспорно, у Фауста такая уверенность есть. Тогда
зачем такое пари? Если Фауст его выиграет, то он обречен на свои прежние
страдания, на вечное беспокойство и ненасытность. Или же Фауст хочет доказать
Мефистофелю, что такой человек, как он, никогда не удовлетворится наслаждением
прекрасным мгновением. Но было бы таким жалким удовлетворением, смешным
триумфом доказывать Мефистофелю, жалкому черту, силу своего духа, силу, как
сказал бы Гете, своей энтелехийной монады. Или же ни одно мгновение не
станет воплощением совершенства, о котором можно сказать, что оно прекрасно?
Но это доказывать Мефистофелю совершенно не нужно. Мефистофель и сам так
думает. В Божьем творении он видит одни изъяны. Он абсолютный пессимист и
нигилист. Истина, как считает Штрих, однако, в том, что Фауст вообще не хочет
выигрывать это пари, он боится его выиграть, он надеется его проиграть. Он
хорошо знает себя, и отсюда его страх, что он навсегда останется неудовлетворенным,
ненасытным существом. Фауст также знает, что если Мефистофелю удастся
создать такое мгновение, то это будет только чувственное опьянение, чувственный
восторг, аберрация сознания, самообман, и это было бы мучительным
наслаждением. Но он хочет испытать его, ибо такой момент кажется ему достойным того,
чтобы отдать за него жизнь и спасение души84.
Фауст желает насладиться мгновением, чтобы забыть свое беспрестанное
стремление и тем самым освободиться от страданий. Фауст хочет иного бытия,
и начинается его новое вопрошание о смысле бытия. Актуальность этого нового
вопрошания обнаруживает себя лишь после поворота, предначертанного
фабулой, когда Фауст «исцеляется» от прежнего стремления к знанию. И если наука
закрывала ему горизонты мира, препятствовала постижению внутренней
сущности мироздания, то теперь, как кажется Фаусту, ему открыт весь мир.
Хочу отдаться я всецело упоенью,
И горести любви, не только наслажденью,
И ненависть и злобу испытать:
Чтоб сердце, переставшее желать
Все нового и нового познанья,
Изведало все горести страданья. (95)
Эти слова из сцены пакта, которые можно было бы интерпретировать как
начало нового жизненного пути, как возникновение новой формы экзистенции,
83 Storz G., op. cit. S. 191.
84 Strich F., op. cit. S. 97.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 99
на самом же деле являются оборотной стороной процесса, связанного с
теоретическим вопрошанием, с любознательностью ученого; просто сейчас это вопро-
шание переходит на иной уровень. Если познание целостности природы и мира
невозможно с помощью методов знания, включая и знание алхимическое, то не
открывается ли эта целостность в наслаждении на пути к счастью? Не является
ли это желание Фауста перенесением познавательного интереса с природы на
субъект, с мира в целом на все человеческое, что можно было бы заключить
из гетевской схемы к «Фаусту», относимой Эрихом Трунцем к 1797—1800
годам. Согласно этой схеме, драматическое действие должно идти по восходящей
линии от «наслаждения жизнью личности» (Lebens-Genuß der Person) через
«наслаждение деяниями» (Taten-Genuß) вплоть до «наслаждения творением»
(Schöpfungs-Genuß), причем первая стадия — тема первой части драмы, вторая
и третья — второй. Если наслаждение деяниями во внешнем мире находит свою
кульминацию в красоте, то внутреннее наслаждение творением должно
завершиться «эпилогом в хаосе на пути к аду»85. Смысл последней записи в схеме
объясняют слова Мефистофеля, который вообще ставит под сомнение
возможность человека познавать, наслаждаясь, естественно, отрицая такую
возможность в границах человеческого бытия, а также и саму идею, что мир создан
Богом для счастья человека.
Поверь ты мне. Немало тысяч лет
Жую я корку все одну и ту же:
Таких людей на свете нет,
Чтобы себя не чувствовали хуже,
Путь проходя с начала до конца.
Познание всего, как ты стремишься, в целом
Доступно лишь для одного Творца;
Он, вечно Сам во свете белом,
Нас ограничил темнотой,
Вам дал свет дня и мрак ночной. (96)
Как мы видим, черт, зная судьбу Люцифера, всю вину за ограниченность
человеческих возможностей перекладывает на Бога, ставя тем самым под
сомнение принципы христианской веры. Сомнение, высказанное Мефистофелем, как
показывает Ханс Роберт Яусс, «требует новую теодицею, которая могла бы
заменить компенсаторное счастье в ином мире христианской веры: на новом этапе
фаустовского познания должна оказаться возможность человеческого счастья,
оправдывающая божественный порядок земного мира благодаря заключенному
пари перед лицом добра и зла, и испытывающего его определение для человека
доброго по своей природе»86. Именно это обстоятельство позволило Гете
преобразовать традиционный пакт с чертом в странное пари. Рассматривая драму как
85 Goethe J. W. Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil. Urfaust. Hrsg. von E. Trunz. München, 1999.
S. 430.
86 Jauß H. R. Goethes und Valerys «Faust» (oder: Über die Schwierigkeit, einen Mythos zu Ende zu
bringen) // Jauß H. R. Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt am Main, 2007. S. 513.
100 Si-
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
опровержение сомнений Мефистофеля и его неверия в божественный порядок
и человека, утверждая, в противоположность гетевскому черту, что этот мир
создан не только для Бога, а также для счастья человека, можно прийти к выводу,
что поэт боится последствий своего ответа. В драме действует особый герой,
в которого может верить только Господь Бог, обещающий Мефистофелю
посрамление. Сложность и противоречивость образа Фауста осложняется тем, что
Фауст еще не фигура истории эмансипации человечества. От нее он далек, он
далек также от того, чтобы благодаря своему высокому стремлению освободить
себя. Результатом его действий становится гибель Гретхен, а затем страшная
смерть Филемона и Бавкиды, и его спасение целиком зависит от
«трансцендентной инстанции», то есть Бога87.
Мефистофель достиг своей цели, самолюбивое желание Фауста
превращается в желание испытать все. В процессе трансформации его первоначальное
желание превращается в конечном итоге в жажду жизни, которая не знает границ.
С этого момента начинается совместный путь Фауста и Мефистофеля по жизни.
4. Фауст и Гретхен
Первая остановка на новом жизненном пути Фауста — погребок Ауэрбаха в
Лейпциге. Согласно легенде, здесь знаменитый безбожник и шарлатан
показывал завсегдатаям этого заведения различные фокусы с влагой Бахуса, фокусы,
имитировавшие чудо Моисеево, когда пророк, ударив жезлом по скале, иссек
из нее воду, напоившую народ, а также первое чудо Христово в Кане
Галилейской, когда Спаситель превратил воду в вино. Будучи студентом Лейпцигского
университета, Гете часто бывал в этом погребке. Здесь он видел две фрески,
которые дали материал его воображению. На одной Фауст изображен в компании
веселящихся студентов и музыкантов, а Мефистофель — в образе гуляющего
мимо стола пуделя, на другой — Фауст скачет вверх по лестнице на винной
бочке, пудель же сопровождает взглядом эту диковинную скачку.
В «Прафаусте» сцена в погребке Ауэрбаха была написана прозой, и точная
локализация, связанная с ней, показывала «снижение высокой магии
Ренессанса в обстановке прозаического погреба современности, в которой от случая к
случаю проводятся некоторые трюки иллюзиониста»88. Оживляя картину, Гете
дал имена участникам студенческой пирушки, превратив их в типы, назвав их
бытовавшими в университетской среде прозвищами, отражавшими срок
пребывания в университете. Фрош — самый юный студент, Брандер — студент
второго семестра, Зибель и Альтмайер — вечные студенты. В «Прафаусте» фокусы
с вином показывает Фауст, в «Фаусте — фрагменте» и в окончательной версии
первой части их проделывает Мефистофель, а вся сцена приобрела
стихотворную форму. Переделывая сцену, Гете пошел по пути ее мировоззренческого
углубления. Изменения также коснулись и характера сцены, которая стала похожа
на акт комической оперы, что было уже отмечено гетеведами в начале прошлого
87JaußH. R., op. cit. S. 514.
88 Gaier U., op. cit. S. 119.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 101
века. (Ф. Гундольф, А. Тренделенбург). Опираясь на эти наблюдения,
итальянский гетевед Винченцо Эрранте дал блестящее описание оперных структур
этой сцены во всей последовательности их воплощения, мыслимую
музыкальность текста, которая выглядит следующим образом: «Первый эпизод с
вокальным соперничеством четырех весельчаков: Фрош и Брандер — тенора, Зибель
и Альтмайер: — басы; они представляют настоящий квартет, точнее, квартет из
комической оперы. В этом квартете речитативами связываются различные
песни: политический ритурнель (его затягивает Фрош. — Α. Α.), затем легко
намеченный любовный ритурнель того же Фроша, оглушительно звучащая сильным
голосом Брандера "Песня о крысе", нашедшая свое эхо в ритурнелях школяров,
как и исполняемая Мефистофелем "Песня о блохе". Все это переходит в финал
комического оперного действа — в колдовские кунштюки Мефистофеля, то есть
тем самым — ко второму эпизоду, который протекает в возбужденном creszendo
движения и силе звучания, напоминая ритм музыкальной фуги»89. Однако не
только комизм происходящего является содержанием этой сцены, первой стадии
нового жизненного пути Фауста. Звериная метафорика, постоянно возникающая
в тексте: клички, подвывание студентов, упоминание старого козла, с блеяньем
возвращающегося с шабаша на Блоксберге, «Песня о крысе», «Песня о блохе»
служат демонстрации мира, куда Мефистофель влечет Фауста, говоря ему:
Сейчас все скотское проявится наглядно.
Они войдут в его предел. (121)
В сатирических песнях сцены такого рода метафорика обусловлена самим
жанром. Чувственность и сатира соединены здесь самым тесным, можно
сказать, нерасторжимым образом. Такая взаимообусловленность, построенная на
взаимоотрицании, открывает особую сторону мира, в который входит Фауст, —
образ грубой чувственности. Обе песни в погребке Ауэрбаха относятся к
значительным произведениям сатиры на привилегированные сословия:
духовенство и придворное дворянство. «Песня о крысе» обличает паразитизм монахов,
«Песня о блохе» — коррумпированный мир монархов абсолютизма. Особая
острота и пикантность состоит в том, что Гете «Песню о крысе», где упоминается
доктор Лютер, написал семистрочной лютеровой строфой. Так написаны сотни
духовных протестантских песен. В последней трети XVIII века этот тип строфы
перешел в светскую лирику и был любим пародистами.
При погребе крыса когда-то жила,
Кормилась все маслом и салом;
Как Лютер, себе и брюшко нажила,
Но... кончилось это скандалом.
Кухарка лихая ей яду дала,
Тут крыса метаться, пищать начала,
Как будто она влюблена. (111)
89 Errante V. Musik und Malerei in Goethes Kunst. Dargestellt an Faust 1 : «Auerbachs Keller» // Thema.
Zeitschrift fur die Einheit der Kultur 2., 1949. S. 40.
102 Sîl
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
В оригинальном тексте Butter (масло) рифмуется с Doktor Luther, и это не
только блестящая рифма, семантически маркирующая значимые слова в тексте,
но также воскрешение в памяти расхожего образа монаха с жирным брюхом и
тонзурой90. Символическое убийство монаха в образе крысы и реакция на него
пьяной компании обнаруживают не только сходство расправы над вредным
животным с убийством человека, но жестокость самих студентов. Когда Зибель
начинает испытывать к отравленной крысе, живому существу нечто, вроде
страдания, то Альтмайер резко бросает в его адрес:
Пузан-то лысый полон умиленья.
Гуманно смотрит он на все.
В распухшей крысе, без сомненья,
Он зрит подобие свое. (113)
Другую сатирическую песнь, обладающую еще большей обличительной
силой, поет уже Мефистофель. Безжалостная критика гнилой системы
абсолютизма с его наследственным пороком-фаворитизмом звучит в знаменитой
«Песне о блохе». Фаворитизм к концу XVIII века был просто бедствием для
народа как в больших странах, так и в карликовых немецких государствах, где
его вредность была еще более заметна. Приближение к коронованной особе
всякого рода ничтожеств, их возвеличивание, незаслуженные награждения,
получение ими привилегий показывало уродливость придворной жизни и полную
безответственность монархов. Наглость фаворитов, по большей части людей
совершенно бездарных, никчемных бездельников, развращенных полной
бесконтрольностью и безнаказанностью, не имела никаких пределов. Кроме того,
фаворит или фаворитка стремились обеспечить привилегиями и деньгами всю
свою родню. Естественно, во всех сословиях это явление и сама фигура
фаворита вызывали осуждение и протест, так как они были симптомами неминуемого
упадка государства и кризиса власти. Неслучайно Мефистофель компании
студентов сообщает:
Мы едем из Испании прекрасной. (116)
Испания воспринималась европейским сознанием как страна
неограниченного деспотизма, а мадридский двор — как олицетворение бесконечных
отвратительных интриг. Блоха из песни Мефистофеля — парадигматический образ
фаворита-карьериста, придворного интригана, беззастенчивого и наглого
паразита. Мефистофель, поначалу вызвавший подозрение своей странной,
хромающей походкой у студентов, почувствовавших в нем нечто дьявольское, песней о
блохе быстро завоевывает их симпатию. Они с большой охотой комментируют
ее, а затем хор подхватывает ее последние слова, ведь Мефистофель дал этой
публике понять, что она не даст себя в обиду, хотя весь ее протест не
простирается дальше дверей погребка.
90 Schmidt J. Goethes Faust. Erster und zweiter Teil. Grundlagen-Werk-Wirkung. München, 1999.
S. 146.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 103
И теперь вольготно стало
При дворе блохам:
Знай кусают где попало
Королеву, дам.
Почесаться, даже малость —
Сохрани Творец!
А у нас блоха попалась,
Тут ей и конец! (117)
Возбужденный песней Альтмайер в восторге кричит: «Да здравствует
свобода! Да здравствует вино!» Это соединение свободы и опьянения в сознании
студентов делает полной нелепостью все их стремления к свободе,
поскольку иррациональная стихия, противостоящая всему разумному, может рождать
только произвол и насилие. Мефистофель только что угостил студентов вином,
добросовестно выполняя заказ каждого, оказывая им благодеяние; они же в
пьяном возбуждении, разозлившись на него, забыв о том, что было до этого, идут
на него с ножами.
Гетевская сатира в этой сцене бьет по всем направлениям — как против
церковной и политической коррупции, так и против бездумного
анархического стремления к свободе, развязывающего дикие, неконтролируемые разумом
инстинкты. Сцена в погребке Ауэрбаха, как и следующая за ней «Кухня
ведьмы» — критическая реакция Гете на Французскую революцию, которая
истолковывалась поэтом как неразумность и иррациональность, причем
иррациональность разрушительная. В понимании Гете паразитизм и развращенность
власти и анархическое варварство толпы — две стороны одной и той же медали,
человеческой неразумности, о которой Мефистофель говорил Богу в «Прологе
на небе». Вне зависимости от социальных и экономических условий,
культурной ситуации она — имманентное свойство человека.
Кроме того, Мефистофель выступает здесь как обличитель общественных
порядков, и вся сцена носит ярко выраженный сатирический характер.
Объектами сатиры становятся церковь и власть, в особенности в знаменитой «Песне о
блохе». Это действительно одно из самых сильных сатирических произведений,
которые знает история мировой литературы.
То, что эта песня вкладывается в уста Мефистофеля, не случайно. С
некоторым преувеличением можно было бы сказать, что критический дух
Мефистофеля, дух чистой негативности, направлен против тех феноменов человеческого
бытия, которые люди склонны трансцендировать, делать сакральными,
неприкосновенными. Видимо, негативный дух истории связывался у Гете с
демоническим. В ход действия трагедии вносится историчность, конечно,
по-мефистофельски понимаемая. Поэтому образ пламени является центральным в обеих
сценах.
Следующая сцена вводит читателя в мир демонии. Это знаменитая «Кухня
ведьмы». В «Кухне ведьмы» происходит омоложение Фауста. Зелье,
приготовленное ведьмой и выпитое Фаустом, ослабляет силу его ratio, увеличивая в то
же время инстинкт и чувственность, открывая пространство для эротического
104 ®l
А. Г. Аствсщатуров. ПОЭЗИЯ ФИЛОСОФИЯ ИГРА
воображения, чувственных фантазий и вожделения. Сейчас Фауст полон
жизненных сил и готов целиком отдаться их игре. Однако, как мы можем заметить
уже в следующей сцене, простор, открывшийся эросу, означает сильный
регресс в духовном развитии героя: оно возвращается на более раннюю стадию.
Более того, то, что Фауст выпивает ведьмино зелье, возвращает его сознание на
отвергнутый им уровень алхимического опыта, поскольку он пьет так
называемую «золотую тинктуру (aurum potabile), которая, по мнению алхимиков, имела
свойство камня мудрости, способствуя омолаживанию и исцелению от многих
болезней91. Благодаря этому устаревшему, но эффективному средству Фауст
становится монстром, падким до женщин и до чувственных наслаждений, при этом
внутренне оставаясь прежним меланхоликом. Мефистофель приводит Фауста в
тот мир, где он полновластный властелин. Ведьма должна сварить для Фауста
напиток, который герой выпьет, чтобы помолодеть. Испив это зелье, Фауст
обретает способность к любви, любви плотской, не проясненной светом
духовности. Мефистофель иронизирует:
Скоро, скоро тип живой
Всех женщин пред тобой предстанет.
Таков напиток: непременно
Во всякой женщине пригрезится Елена. (138)
После этой сцены в «Фаусте» начинается трагедия Гретхен. Любовная
линия в драме связана с одной произошедшей во Франкфурте страшной историей,
которая потрясла поэта. Молодая служанка Сюзанна Маргарета Брандт, родив
вне брака ребенка, утопила его и созналась, что совершила это преступление. Ее
осудили на смертную казнь и обезглавили. Девушка была соблазнена молодым
человеком, бросившим ее. Судьба соблазненной и брошенной девушки
интересовала штюрмеров. Друг Гете Генрих Леопольд Вагнер написал мещанскую
драму «Детоубийца», к которой Гете относился отрицательно, видимо,
оставляя только за собой подлинно художественное развитие этой темы. В каком-то
смысле Гете оказался прав, потому что никто из его современников не поднял
ее на высоту такого великого искусства, как он. Трагедию Гретхен можно
рассматривать даже как пьесу в пьесе, потому что она сохраняет в себе черты
самостоятельного действия, никак не связанного с предыдущим повествованием.
Линия Гретхен насчитывает немногим свыше тысячи стихотворных строк. И в
то же время это концентрированное и внутренне единое произведение. Причем
оно обладает классической драматургической структурой, четко делится на пять
частей по принципу пятиактного деления драмы. Здесь есть завязка, развитие
действия, задержка и катастрофа. Гете, конечно, ориентировался на тип
шекспировской драмы и не соблюдал правила трех единств.
Фауст впервые видит Гретхен выходящей из собора. Девушка только что
исповедалась, и мы сразу же понимаем, что важнейшей чертой гетевской героини
является ее набожность. В Бога она верит искренне и всем сердцем.
Нравственное и религиозное для нее едины, но при этом в характере Гретхен невозможно
91 Schneider W. Lexicon alchimistisch-pharmazeutischer Symbole. Weinheim, 1962. S. 66.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 105
найти ничего, что хоть чем-нибудь напоминало бы ханжество. И в то же время
это абсолютно мирская натура. Героиня Гете прекрасно осознает свое
сословное положение, свидетельство тому — ее первый краткий разговор с Фаустом.
Нравственность и богопочитание идут у нее рука об руку с установленным в
мире порядком вещей. Для девушки немыслимо выйти за рамки своего
сословия. Хотя Фауст не дворянин, но Гретхен принимает его за такового, мгновенно
осознавая разницу между ними92. Эта деталь служит не только верной передаче
исторического колорита, это сущность характера самой Гретхен.
Фауст восхищен красотой девушки, для него достаточно и физической
привлекательности героини, и первое, что охватывает его, — простое вожделение.
Образованному герою не приходит в голову мысль, что Гретхен — личность и
что внимание ее надо заслужить. Фауст желает обладать Гретхен, и
Мефистофель бесконечно рад, что в Фаусте наконец пробудилось вожделение, та область
человеческой психики, которой, по его мнению, он целиком распоряжается. Но
в этой ситуации черт попадает в незавидное положение, потому что Фауст хочет
использовать его в качестве банального сводника, заставить заниматься одной
из самых презренных в Средневековье профессий. Фауст неумолим,
сводничество, говорит он Мефистофелю, — это дьявольское занятие. Черт, конечно,
унижен, хотя и прекрасно улавливает характер просьбы Фауста. Все идет по его
сценарию, но оказывается, что Мефистофель не имеет власти над девушкой,
ибо только что вышедшая из храма Маргарита находится под сенью
божественного благословения. Там, где полностью осуществляется законодательство
Бога, где творение находится под полным контролем божественного разума,
там нет пространства для деятельности демонических сил. И Мефистофель с
возмущением констатирует, что Гретхен — абсолютно чистое и невинное
существо.
Еще раз отметим, что первый порыв Фауста к Гретхен является грубо
чувственным. И Мефистофель, парируя фаустовские выпады, справедливо
называет его распутником, воображающим, что женская красота существует только
для удовлетворения его сладострастия. Но Фауст непреклонен в своих
желаниях, ему хочется, чтобы этой ночью девушка была у него, и требование это
категорично. Не достигает успеха также и второй способ приворожить девушку.
Идея Мефистофеля проста: необходимо достать шкатулку с драгоценностями,
и девушка, увидев их, сойдет с ума. Здесь у Фауста уже начинает возникать
сомнение — честный ли это путь к сердцу Маргариты. Но особенностью
Мефистофеля является то, что он поначалу избирает самый элементарный путь
для достижения цели, а потом уже, когда первые попытки не удаются,
усложняет свои действия.
Следующая сцена показывает нам Гретхен в ее комнате, и здесь из ее уст
звучит замечательная «Баллада о Фульском короле» (в переводе К. Иванова —
«короле чужого края»), баллада о верности в любви до самой смерти. Она
становится проспективным моментом в трагедии Гретхен, как, впрочем, и все
песни Маргариты. Верность в любви — это основное качество гетевской героини,
92 Doke T. Faustdichtungen des Sturm und Drang. Goethe. Neue Folge des Jahrbuchs der
Goethe-Gesellschaft. Weimar, 1970. S. 41. См. также: Аникст А. Гете. M., 1979. С. 159.
106 3^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
которое сохраняется у нее до смертного часа. Затея со шкатулкой с
драгоценностями не удается. Гретхен рассказывает о своей находке матери, и та, будучи
благочестивой христианкой, относит шкатулку попу. Таким образом, шкатулка
попадает в руки церкви; попутно скажем, что этот сюжетный момент дает
возможность Гете развить критику церкви и государства. Мефистофель
предпринимает новую попытку: является к соседке Гретхен Марте с сообщением, что ее
муж умер в Неаполе от тяжелой болезни.
Марта — это полный контраст Гретхен, она нисколько не горюет о кончине
своего непутевого супруга и, узнав, что он ничего ей не оставил, быстро его
забывает. Кроме того, Мефистофель своим достаточно галантным поведением
привлекает ее внимание к себе. Для того чтобы подтвердить смерть мужа, по
обычаям и юридическим нормам, необходим второй свидетель, и он
появляется — это Фауст. Вся сцена представляет собой своеобразный квартет, его
разыгрывают две пары — Гретхен и Фауст, Мефистофель и Марта. Мефистофель
изображает из себя волокиту, старающегося приударить за Мартой, и она готова
выйти за него замуж. Вся ситуация выглядит как смешение сцен — то
появляется Марта с Мефистофелем, то Гретхен с Фаустом. Гретхен влюбляется в
красивого молодого кавалера. В сцене свидания у Фауста еще нет полной любви,
пока это только эротическое чувство, но уже в следующей сцене — в лесной
пещере — страсть у Фауста сливается с чувством природы.
Сцена «Лес и пещера», написанная Гете во время первого итальянского
путешествия, образует идейный центр трагедии Гретхен. В новой для себя ситуации,
в состоянии влюбленности в Гретхен, Фауст встает перед проблемой, что же ему
делать дальше. Свое состояние он соотносит с Духом Земли, считая, что
именно от него исходит тот душевный подъем, который связан не с титаническим
порывом, как это было в сцене «Ночь», а с наслаждением, принесенным
Фаусту любовью к Гретхен, которое расширяет его собственное «Я» и дает
возможность «почувствовать целостность природы, целостность своей собственной
внутренней сущности, внутреннего мира и даже целостность истории»93. Здесь
Гете опять идет по пути укрупнения образа Фауста, отдавая ему свои
сокровенные идеи, которые в концепции героя с двумя душами могут только усилить
антиномичность его сознания. Благодаря этому рефлексия Фауста приобретает
новые черты, фиксируя непримиримые противоречия его сознания, превращая
проблему действия в проблему катастрофы Гретхен и самого Фауста. Лесное
ущелье — самое подходящее место для встречи с духами, и здесь Фауст
находит свой приют, чтобы остаться наедине с собой в надежде на новую встречу с
Духом Земли.
Высокий дух! Ты все, ты все мне дал,
О чем тебя молил я. И в огне
Свой образ обратил ты не напрасно
Ко мне. Ты дал мне дивную природу,
Как царство, дал мне силу ощущать
Ее и ею наслаждаться. Ты
93 Schmidt J., op. cit. S. 164.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J£5 107
Дозволил мне не только хладнокровно
Ее испытывать. Нет, я могу
В ее груди читать, как в сердце друга!
Ты предо мной провел ряды живущих
И научил родное узнавать
В кустарнике, в воде и атмосфере.
Когда же буря по лесу шумит,
И великан — сосна, низринувшись,
С собой влечет соседние стволы
И на холме, как отдаленный гром,
Его паденье эхом отдается,
Тогда меня приводишь ты в пещеру,
Где нет опасности. И мне туда
На самого себя ты указуешь
И открываются тогда в груди моей
Глубокие, неведомые тайны.
И тихий месяц предо мной восходит
Спокойствия, и тихо восстают
Из-за скалы, из жизни орошенной
Серебряные признаки былого
И строгую отраду созерцанья
Смягчают появлением своим. (174)
В этой благодарственной молитве царит совершенно иное настроение,
нежели в сцене, когда с помощью магии Фауст вызывал Духа Земли. Сейчас к
Духу Земли обращается человек, не примеряющий на себя одеяние титана,
стремящегося с помощью магии получить доступ в бесконечную природу и
стать ее движущей силой. Эти притязания уже оставлены. Мы слышим
голос человека, влюбленного в природу, открытого ей, спокойно созерцающего
«дивную природу», а не ее схему, как это было в сцене «Ночь», человека,
видящего реальные явления природы во всей ее динамике. В монологе Фауста
возрождаются настроения больших гимнов 70-х годов XVIII века, где человек
сближается с природными стихиями, однако сейчас Фауст не хочет полного
растворения своей сущности в природе; разрушительная сила природы
может его завораживать, но теперь ему стала ближе ее созидательная сила, его
влечет к себе пребывающее, отлившееся в форму, устойчивое, вызывающее у
него чувственное наслаждение космическим целым, и целостность природы
раскрывается Фаусту в соединении с ней: «Нет, я могу /В ее груди читать,
как в сердце друга!» (174). Любовь к Гретхен стала источником этого
душевного подъема, всеохватывающего пантеистического чувства, возникающего
лишь в состоянии влюбленности. Монолог Фауста обнаруживает очевидное
сходство со статьей «Природа», написанной Гете в 1782—1783 годах. В этом
философском этюде любовь мыслится как чувство, вызванное природой в ее
стремлении к целостности, к всеединству: «Венец ее — любовь. Любовью
только приближаются к ней. Бездны положила она между созданиями, и все
108 SL
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
создания жаждут слиться в общем объятии. Она разобщила их, чтобы опять
соединить. Одним прикосновением уст к чаше любви искупает она целую
жизнь страданий»94.
За словами Фауста: «Ты /Дозволил мне не только хладнокровно /Ее
испытывать. Нет, я могу /В ее груди читать, как в сердце друга! /Ты предо мной
провел ряды живущих /И научил родное узнавать /В кустарнике, в воде и
атмосфере» — стоит не только пантеистическое чувство самого Гете, но и его научная
деятельность, в частности, исследования в области сравнительной анатомии,
которые привели его к открытию межчелюстной кости у человека, подтвердив
наличие единого принципа строения скелета в животном мире и у человека.
«В те годы, когда могла быть написана упомянутая статья ("Природа". — Α. Α.),
я был занят преимущественно сравнительной анатомией и в 1784 году прилагал
несказанные усилия к тому, чтобы заинтересовать других моим убеждением,
что у человека нельзя отрицать наличность межчелюстной кости. Важности
этого утверждения не хотели понимать даже очень хорошие головы, важность эту
отрицали лучшие наблюдатели, и я был принужден, как и в столь многих вещах,
втихомолку идти своей дорогой»95.
В монологе Фауст говорит о пещере, куда он скрылся, чтобы не быть
раздавленным стихийными силами природы и размышлять о единстве Бога-природы
со всем живущим. Пещера — это символическое пространство, противостоящее
стихиям природы, действие которых обнаруживается в свободном лесу,
пространство, защищающее человека от стихий, где человек получает возможность
созерцать, размышлять и творить. Здесь можно уйти в область искусства и
истории, охватывать своим сознанием прошлое, настоящее и будущее, пребывать
во всех временах. Здесь —прибежище для личности, ее творческих усилий. Об
этом Гете писал еще в 1772 году в своей рецензии на эстетику И.-Г. Зульцера:
«В природе мы видим силу, которая поглощает другие силы, ничто не
постоянно, все преходяще; тысячи завязей растаптываются и тысячи новых рождаются
каждое мгновение; эта сила велика и многозначна, бесконечно разнообразна;
прекрасна и уродлива, добра и зла; все в ней существует на равных правах. А
искусство как раз и есть прямая ей противоположность; оно возникает из усилий
сопротивляющегося разрушительной силе целого»96.
Когда Фауст говорит о серебряных призраках былого, он открывает для
себя область художественных образов и возникающих в памяти картин
истории. Эти образы всплывают в сознании лишь в спокойном созерцании.
Аналогичные мысли Гете высказал в рецензии на труд К. Ф. Морица «О
пластическом подражании прекрасному»: «К настоящему наслаждению прекрасным нас
может привести лишь то, благодаря чему и возникает прекрасное, а именно —
спокойное созерцание природы и искусства, которое было создано в прошлые
времена, теперь уже неотделимо связанное с природой, слито с ней воедино
94 Гете И. В. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957. С. 362.; См. также: Schöne А.
J. W. Goethe. Faust. Kommentare. S. 314.
95 Гете И. В. Письмо о «Природе» // Лихтенштадт В. О. Гете. Борьба за реалистическое
мировоззрение. Петербург, 1920. С. 499.
96 Гете И. В. Об искусстве. М., 1975. С. 75—76.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 109
и должно воздействовать на нас именно в этом гармоническом единстве»97.
Эта часть монолога Фауста выходит далеко за рамки сюжета драмы и связана
с ее философским горизонтом, который на какое-то время закрывает
сюжетную линию. Поэтому неожиданным кажется появление в конце монолога темы
Мефистофеля.
Дух Земли, подаривший Фаусту блаженство познания, приблизил его к
богам, открыл в нем способность проникать духовным взором во все временные
пласты и направил его созерцание к образам искусства и истории, в которых
можно видеть прафеномены бытия. Но наряду с этими благодеяниями высокий
дух и ограничил его, связав с существом, которое целенаправленно действует
как разрушитель всех благ, полученных от Духа Земли, т. е. с Мефистофелем.
Фауст помнит, что ему сказал о себе Дух Земли, дух созидающий и
одновременно разрушающий, действующий из целостности природы на основе ее
двойственности. Поэтому Фауст считает Мефистофеля посланцем Духа Земли.
Постиг я хорошо, что совершенства
Для человека нет. Ты допустил
Меня к блаженству, что ближе, ближе, ближе
Меня к богам приводит, но притом
Товарища мне дал ты; от него
Я не могу уж больше оторваться,
Хоть холодно и дерзко унижает,
Ничтожностью меня считает он
И неустанно снова раздувает
Неистовства огонь в груди моей
К невинному прекрасному созданью,
Так я шатаюсь, словно опьяненный,
От сильного желанья к наслажденью,
А в наслаждении стремлюсь опять желать. (175)
Здесь дают о себе знать противоречия в характере самого Фауста.
Восторженное чувство, возникающее от познания природы, состояние влюбленности,
возвышенное до божественных высот, космизация этого состояния сменяются
у него рефлексией, мгновенно образующей дистанцию к миру, и эта рефлексия
обрекает Фауста на одиночество. В ней проявляется мефистофельская,
демоническая тенденция к отрицанию, деструкции и разрушению. У Мефистофеля
она постоянно выражается в сведении высокого и прекрасного к низменному и
безобразному; идеальное редуцируется не только к чистой эмпирии, но в
гораздо большей степени к тривиальному. Тень Фауста, Мефистофель, представляет
собой чисто негативное сознание, причем заряженное большой разрушительной
силой. Отмеченное Й. Шмидтом в первой части монолога ключевое слово
«Alles» (все) в качестве антитезы встречает другое ключевое слово «Nichts»
(ничто). Эти слова-понятия в контексте монолога уничтожают друг друга. И когда
Фауст говорит, что он уже не может больше обойтись без черта, он опознает в
97 Там же. С. 91.
110 Зь
А. Г. Аствсщатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
себе самом мефистофельские черты как «непременное качество своей
собственной сущности»98.
Говоря об унижении, которое он испытывает, слыша дерзкие и холодные
суждения черта, Фауст имеет в виду прежде всего самоуничижение, не
приносящее ему ничего, кроме страданий, парализующее его волю. Как замечает
И. Шмидт, «то, что он (Фауст. — А. А.) страдает, что он воспринимает унижение
как таковое, возвышает его над низменным, но не делает на этом основании его
поведение по отношению к Гретхен менее порочным»99. Экстатическое
состояние в первой части монолога натолкнулось на отрезвление во второй, от
экзальтации ничего не остается, и раздвоенная сущность Фауста пребывает наедине с
чувством обреченности.
Самотрансцендентность, возвышение себя до уровня сверхчеловека
приводит Фауста к тому, что человеческое начинает вызывать у него страх, становится
причиной дезориентации в жизни, душевного холода, иллюзорной защитой
своих порывов к сверхчеловеческому, и насколько Фауст ощущает свою близость к
божественному, настолько сильно в нем дает о себе знать дьявольское.
Решающей ошибкой Фауста выглядит его представление, что Мефистофель
послан ему Духом Земли. Однако из «Пролога на Небе» ясно, кто сделал
Мефистофеля спутником Фауста— Господь Бог. Источником представления Фауста
в данном случае является пантеистическое понимание Бога. «Божественное и
пантеистически понятый Дух Земли совпадают друг с другом. В этом также,
вероятно, существует и провокативная черта, поскольку традиционный образ Бога
преобразуется пантеистически. Сцена "Лес и пещера" — новое свидетельство
гетевской религии природы и ее эмансипации от христианских представлений
о вере, в особенности в контексте трагедии Гретхен, которая показывает также
душевную брутальность церковной морали»100. Кроме того, эта мораль также
вписывается в мефистофельскую тенденцию разрушения природы и
уничтожения в ней духовного начала.
Неожиданно появившийся Мефистофель в своем стиле доводит до
логического конца фаустовскую рефлексию, уничтожая высокий мир, созданный сознанием
героя, у которого в груди две души. Согласно замыслу черта, душа Фауста,
привязанная к земле и телу, должна уничтожить все его порывы к высшему, закрыть
доступ к божественному. Поэтому черт, в чем ему нельзя отказать, осуществляет
деконструкцию первой части монолога Фауста. Сам Фауст предоставил
Мефистофелю для этого дела неограниченные возможности. «Генеалогический метод»
Мефистофеля направлен на то, чтобы в фаустовском пантеизме уничтожить все
позитивное и переконструировать его в самую вульгарную форму материализма.
Да, сверхземное состоянье!
В ночной росе на скалах возлежать,
Охватывать блаженно мирозданье,
Себя чуть-чуть не в Бога раздувать
Schmidt J., op. cit. S. 166.
Schmidt J., op. cit. S. 166.
} Schmidt J., op. cit. S. 168.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 111
И в области земной чего-то шарить,
Шесть дней творения в себе переживать
И в самомненьи далеко ударить —
Сливаться с чем-то, позабыв о том,
Что пребываешь ты лишь в бытии земном.
И чем кончается сие проникновенье? —
(с жестом)
Не смею и сказать — какое заключенье. (176)
Как видно из текста, Мефистофель здесь выступает тривиальным дублером
Фауста. И слова Мефистофеля вовсе не свидетельствуют, что пантеизму Фауста
противостоит какая-то форма рационализма. Само ratio низводится
Мефистофелем даже не к рассудочности, а к инструменту сексуального инстинкта. Это
не критика мечтательности и приведение мечты в соответствии с реальностью.
Ведь в этой злой пародии речь идет о полном уничтожении воображения, а
следовательно, и времени, которое воображение полагает. Перед нами разрушение
не только духовной экспансии Фауста, а духовности вообще. Нетрудно
заметить, что пародийно используя в своей речи слова Фауста из его монолога,
«Мефистофель описывает половой акт и своим жестом это подтверждает»101.
Фауст прекрасно понимает, к чему клонит Мефистофель. Ситуация в драме
такова, что оба протагониста видят друг друга насквозь. То, что наговорил черт,
из-за своей пошлости никак не может затронуть Фауста, слова Мефистофеля
косвенным образом напомнили Фаусту о разладе в его душе, о его неспособности
к постоянному чувству, о его вечном недовольстве чем-то постоянным, вечной
неудовлетворенности земным бытием.
Экспрессивный монолог Фауста в конце сцены показывает нам полное
осознание героем своего характера и одновременно его бессилия сопротивляться своей
страсти, о которой он знает, что для Гретхен это станет причиной ее гибели.
Ее страданья мне не чужды.
Ведь я бездомник, я беглец,
Я существо без всякой нужды
И без покоя, наконец!
Не схож я разве с водопадом,
Что, мчась с утеса на утес,
Пылает бурной страстью грез,
Чтоб поглотиться бездной — адом?
А рядом с ним — она. дитя
С непробудившимся сознаньем,
Свой домик, садик свой храня,
Хозяйство мирное ведя,
Довольна скромным состояньем.
А мне, что проклят небесами,
Уж не довольно ль бед иных,
Schmidt J., op. cit. S. 169.
112 3^ А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Как скалы я срывал руками
И разбивал в обломках их?
Иль мне назначено судьбой
Сгубить ее, ее покой?
Ты, ад, желаешь жертвы нежной?
Так помоги мне, дьявол, сократить
Хоть время ужаса! И все, что должно быть,
Да будет так, как неизбежно!
Да свергнется ее судьбина на меня,
И в бездну увлеку ее с собой я! (179)
Ясно, что в любовной истории с Гретхен в желании овладеть девушкой Фауст
решил идти до конца, нисколько не заботясь о ее судьбе, оставляя ее
беззащитной и обрекая на гибель. Последние слова монолога в сущности оказываются
пустой и лживой риторикой, которая может только радовать Мефистофеля.
Сцена в комнате Гретхен — великая лирическая исповедь героини, любовное
чувство показывается через призму сознания Гретхен. В нем объединены два
начала — радость и страдание. Маргарита в восхищении от своего любимого. Ее
любовь к нему обладает такой силой, что она не может ее осмыслить. Это
чувство непостижимо для нее.
Где ты, где, мой покой?
Сердцу так тяжело...
Никогда, никогда
Не найти мне его.
Где его нет со мной,
Веет смертью одной.
И весь свет оттого
Мне постыл без него. (180)
В этой песне в преломлении чувства Гретхен дается образ Фауста.
Маргарита осознает, что ее любовь может принести ей не только радость, но и страдания
и даже гибель:
Грудь изныла моя,
Так и рвется к нему;
Отчего его я
Удержать не могу? (181)
Развитие и стадии любви Гретхен к Фаусту от начала до катастрофы
прослеживаются поэтом с неповторимой точностью понимания самого феномена
любви. Мы видим, как в Гретхен зарождается это чувство, как оно вырвало ее из
бюргерского мира, привело к конфликту с обществом и с самой собой.
Катастрофа Гретхен вызнана тем, что все в бюргерском мире противодействует ее любви.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JÉ© 113
Эта любовь стала причиной смерти матери, гибели брата, убийства ребенка, и
причина всей трагедии героини — прежде всего социальные противоречия и
общественные условия, в которых она находится. Одновременно эти конфликты и
косность бюргерского мира высвечивают чистоту и силу ее самозабвенной
любви. Простая девушка становится у Гете героиней великой трагедии. В истории
мировой литературы ее можно сопоставить только с Антигоной и с Офелией.
Вся линия Гретхен — это утверждение права свободной любви, одного из
самых элементарных прав человека, И в праве на эту любовь сословное общество
отказывает героине, становясь причиной ее гибели. В этом отношении трагедия
Гретхен приобретает общечеловеческое значение.
Бюргерское общество с совершенным спокойствием взирает на практически
узаконенное распутство и не может простить Гретхен ее разрыва с устоями, в
основе которых лежат ханжество и лицемерное благочестие. Героиня
становится жертвой обмана, и события в драме осложняются тем, что Гретхен, думая, что
она дает матери сонный напиток, дает ей яд. С этого момента ей открывается
весь ужас ее поступка, весь ужас ее любви. Она начинает осознавать, как низко
она пала. Бюргерское общество, к которому также принадлежит ее брат,
осуждает и презирает ее. Фауст насладился и пресытился любовью, и, кажется, ему
больше ничего не нужно.
В XIX веке сформировалась концепция, согласно которой уход Фауста от
Гретхен объясняется тем, что ее мир для Фауста слишком узок, что
существует слишком большое различие в интеллектуальном мире гетевских героев, что
неудержимое стремление Фауста не может быть сдержано любовью простой
девушки. Данную точку зрения исследователи пытались выдать за гетевскую.
В действительности это не так. Ничто в гетевском тексте не может ее
подтвердить. Это уход пресытившегося любовью человека, это настоящее преступление
и предательство. Девушка остается без какой-либо опоры в своей
самоотверженной любви. Диалог Гретхен с Лизхен демонстрирует нам, если так можно
выразиться, «общественное мнение». Лизхен говорит Маргарите о судьбе знакомой
девушки, которая догулялась до того, что теперь «за двоих — и ест, и пьет», то
есть за себя и будущего ребенка. Когда Гретхен начинает жалеть оступившуюся,
Лизхен ей злорадно возражает:
И ты ее жалеешь?
Как жили мы? Бывало, днем всегда
Сидишь за пряжею, а ночью никуда
Из дому выходить не смеешь.
А что она? Все с миленьким своим
То за воротами, то в темном закоулке;
Часы казалися, поди, минутой им.
И очень краткими предлинные прогулки...
А вот теперь пусть в храм она идет
В рубашке грешницы для покаянья
И там среди всего собранья
Поклоны тяжкие кладет! (190)
114 Sl
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
В этих словах гетевская героиня видит свою судьбу. Обманутая, преданная
Фаустом, осуждаемая обществом, героиня ищет защиты у Богоматери,
обращаясь к ней с молитвой, и просит спасти ее от мук позора.
Молитва Гретхен, целиком занимающая всю сцену «У городской стены» —
подлинный шедевр лирики Гете. Со смелыми, никогда не появлявшимися до
Гете рифмами, которые восхищали выдающегося русского поэта А. К.
Толстого.
Hilf! Rette mich von Schmach und Tod!
Ach neige,
Du Schmerzenreiche.
Dein Antlitz gnädig meiner Not! (3616—3619)
Даже самым выдающимся русским переводчикам не удавалось найти
эквивалент этой смелой рифме.
От смерти, позора спаси, Всеблагая!
Тебе
В своей беде
Молюсь, Страдалица Святая! (192)
Молитва Гретхен входила в «Прафауст». С некоторыми изменениями она
вошла в текст 1808 года. Чувствуя, что она нарушила церковные заповеди, что
она в грехе и ее осознание ничего, кроме страдания, ей не несет, Маргарита
обращается за помощью к Богоматери. В молитве девушки нет ни единого слова
о раскаянии и покаянии. Как Мария, стоя у креста, просила Бога-Отца спасти
Сына от позора и смерти, так и Гретхен ставит себя на ее место.
Ты мук полна,
Поражена,
На сына мертвого взирая.
К отцу взываешь
И все вздыхаешь
И за него, и за себя. (192)
Так как девушка просит о своем личном спасении, то она также ставит себя
и на место Христа102. Гретхен молит Богоматерь на миг отвести свой взгляд от
Христа и бросить его на ее страдания.
Кто может знать,
Как я должна страдать?
Какая боль мне суждена? (192)
)2 Gaier U., op. cit. S. 177.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 115
В контексте всей драмы эта молитва делает совершенно понятным
появление девушки в заключительной сцене «Фауста». Гретхен там будет одной из
спасенных грешниц, заступницей за Фауста перед ликом Богоматери.
Далее события следуют с нарастающей быстротой. Убийство Валентина,
брата Гретхен, — преступление Фауста, навсегда отдаляющее его от
соблазненной им девушки, ставящее ее в положение совершенно беззащитного
существа, обрекающее ее на гибель. Фрагменты сцены «Ночь. Улица перед
дверью Гретхен» мы находим уже в «Прафаусте», но в том виде, в котором эта
сцена вошла в первую часть трагедии, она была создана лишь весной 1806
года и вставлена Гете перед сценой «Собор». Как почти все сцены трагедии
Гретхен, она носит ярко выраженный оперный характер, можно даже сказать,
что это мастерски построенная картина действия оперы. Произошедшее перед
домом Гретхен высвечивает отношение к ней бюргерского общества,
выразителем которого стал ее брат. Монолог подвыпившего Валентина,
открывающий сцену, показывает резкое изменение отношения окружающих к девушке.
Однако Валентин заботится прежде всего о своем собственном социальном
престиже.
Если раньше он гордился своей сестрой и благосклонно выслушивал
похвалу о ней, то теперь он стыдится Гретхен, не смея заступиться за нее, и приходит
в бешенство от того, что сам он внутренне находится на стороне осуждающих
его сестру людей.
Теперь готов свирепо
Рвать волосы свои, на стены лезть нелепо!
Ведь каждый негодяй меня позорить может
Словами колкими, гримасой, пустяком!
Намек иль случай... Страх меня тревожит,
Сижу каким-то злостным должником!
И если б всех и сбросил вверх ногами,
Я все ж не мог бы их назвать лжецами. (193)
При приближении Фауста и Мефистофеля он скрывается в темноте, чтобы,
подслушав их разговор, напасть из-за угла и убить их, нисколько не тревожась за
свою собственную жизнь, так как его оружие —тяжелый солдатский меч —дает
ему полное превосходство над противниками, у которых лишь легкие шпаги. Он
решает рассправиться с соблазнителем Гретхен еще до того, как Мефистофель
начнет петь свою издевательскую песнь.
В «Фаусте» Валентин играет двойную роль: роль Командора из «Дон
Жуана», поскольку после смерти матери он как старший брат должен быть опекуном
своей несовершеннолетней сестры, и роль бюргерского Лаэрта, мстящего
соблазнителю сестры. Все проблемы Валентин хочет решить ударом меча.
Сцена показывает также, почему Фауст не может рассматриваться как опора
и защита Гретхен: он находится под сильным влиянием Мефистофеля. Фауст
похож на Дон Жуана, связавшегося с чертом. Кажется, его страсть улетучилась
и «бесконечный», «вечный жар» после того, как Гретхен отдалась ему, погас.
116 Sîu
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Любовь не пронизывала все его существо. Великого, самозабвенного, как у
Гретхен,чувства он не переживал. Подходя с Мефистофелем к дому девушки,
он испытывает лишь угрызения совести. В планы же черта уже входит участие
в Вальпургиевой ночи, и душевное состояние Фауста таково, что Мефистофель
рассчитывает увлечь его на Блоксберг. Гаснущий огонь лампадки в окне
Гретхен напомнил Фаусту о его возлюбленной, и сейчас он думает о сокровищах,
которые должен достать ему Мефистофель, о драгоценностях и кольце. Ему не
хочется идти к Гретхен без подарка. Фауст, кажется, забыл, что он говорил о
девушке и о своих чувствах к ней, и как бы пропускает мимо ушей
оскорбительную для себя реплику Мефистофеля:
Ведь ты не станешь огорчаться
Кой-чем и даром наслаждаться. (195)
Фауст не прерывает Мефистофеля, когда тот, подыгрывая себе на цитре,
поет свою «моральную» песню, в которой звучит циничное издевательство над
Гретхен. Даже недалекий Валентин прекрасно понимает намеки Мефистофеля
и бросается на него с мечом, разбивая цитру и принуждая Мефистофеля и
Фауста защищаться. В этой ситуации Мефистофель делает все, чтобы Валентин
был бы убит. Черт обладает способностью околдовывать, усыплять человека,
навевать на него грезу, как это было со студентами в погребке Ауэрбаха, когда
те пошли на него с ножами. Теперь же он совершенно хладнокровно доводит
дело до кровавой развязки. Университетский профессор шпагой, которую
носят исключительно для украшения костюма, наносит смертельный укол
профессиональному солдату, и делает он это по приказу Мефистофеля в азарте
борьбы, под воздействием дьявольского внушения, оказавшегося сильней, чем
его разум. Хотя действия Фауста были самозащитой, поскольку Валентин
первым напал на них, в кровавой развязке виновен был Мефистофель, добившийся
желаемого результата. Фауст — убийца. Он бежит от правосудия, оставив
Гретхен в беде, не думая о том, что вина за совершенное им убийство Валентина
падет на нее.
Монолог смертельно раненного Валентина сконцентрировал в себе все
обвинения, которые бюргерское общество предъявляет Гретхен, нарушившей его
обычаи, отдавшейся своему чувству, на которое она вне регламентации и
обычаев этого общества не имела права. Считая Гретхен виновницей
произошедшего, Валентин клеймит позором свою сестру, предрекая ей судьбу городской
шлюхи, доступной всем. Уже понимая, что он умирает, Валентин не
испытывает никакого сострадания к остающейся беззащитной сестре. Безжалостно
предрекает он страшную судьбу будущему ребенку Маргариты:
Сначала стыд, как народится,
Людей и света он боится
И прячет уши с головой
Под покрывалом тьмы ночной;
Тут и покончить лучше с ним. (200)
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 117
И так, как Валентин видит будущее Гретхен, для нее это уже смертный
приговор, и это подтверждается сценой «Собор», где душевное состояние героини
близко к безумию. На смену террору бюргерской морали приходит террор
церковный. И если умирающий Валентин предрек своей сестре судьбу городской
проститутки и детоубийцы, то церковь действует с помощью метафизического
устрашения, отнимая у Гретхен всякую возможность хоть на что-то надеяться.
Во время заупокойной мессы Гретхен слышит нашептывания Злого Духа. Он
внушает ей мысль, что она убила свою мать, является виновницей гибели брата
и внебрачный ребенок должен разделить эту же судьбу.
А что под сердцем у тебя
Шевелится, растет,
Трепещет заодно с тобою
В предчувствии ужасном? (203)
Злой Дух не толкает Гретхен на стезю зла, а стремится вызвать у девушки
отчаяние и разрушить всякую надежду на Божью милость. Обвинения, угрозы
исходят не только от Злого Духа; это также голос и ее собственной души.
Горе, горе!
Как мне избавиться от мыслей,
Которые преследуют меня! (203)
Все страхи, ужасы и наказания, уготовленные грешнице религией, в которую
она свято верит, предстают перед ней как неизбежность. Гретхен видит себя
изгнанной из мира людей, отданной на наказание силам ада. Ее позор явлен всем.
Она презираема, и кара за грехи неотвратима. В церкви, куда Гретхен пришла,
ища защиты, она нравственно уничтожена. Безжалостное пение хора
обрушивается на нее, грозя ей Страшным судом и низвержением в адскую бездну. В нем
нет ни следа христианской любви и сострадания, а только нарастающее
ожесточение против несчастной девушки. Церковный хор действует как бы заодно со
Злым Духом, повторяющим то, что Гретхен слышит в гимне Dies irae, — угрозы
и кары грешнице, которые не дают девушке воспринимать слова этого же гимна
о спасении и Христовой милости.
Святые на тебя
Уже не смотрят
И руку протянуть тебе
Они не могут. (205)
Гретхен не знает латыни, и Злой Дух выступает здесь как переводчик,
выбирая те секвенции гимна, в которых речь идет только о наказании, чтобы девушка
поняла, что ее ждет. Две формы репрессии, бюргерская и церковная,
обрушиваются на Гретхен с уничтожающей силой.
118 Зь
A. L Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
5. Вальпургиева ночь и катастрофа
В этой ситуации Мефистофель предпринимает попытку бросить Фауста в
стихию разврата. Он хочет сделать его участником демонической оргии, в
которой сам является главным распорядителем. Это знаменитая сцена
Вальпургиевой ночи на Блоксберге (Брокене). По народным поверьям, в день святой
игуменьи Вальпургии ведьмы обычно собираются на шабаш, и в эту ночь
природа приобретает демонический характер; кажется, что все благотворные силы
из нее исчезают, она наполняется обманчивым холодным светом блуждающих
огоньков, освещающих дорогу, и ночная сторона природы проявляется с
особой силой. Именно здесь Фауст должен навсегда забыть о Гретхен. Творческие
импульсы для создания этой сцены можно найти уже в первоначальном
замысле «Фауста», даже на самой ранней его стадии, и прежде всего в реальных
событиях, свидетелем которых стал поэт. Возвратившийся 28 августа 1771 г. во
Франкфурт лиценциат прав Гете внимательно следил за ходом процесса над
Сюзанной Маргаретой Брандт и, возможно, сам присутствовал на некоторых
заседаниях. Копии судебных протоколов, написанные рукой писца судебной
канцелярии Либхольдта, были найдены позднее в доме Гете, и это говорит о
том, что поэт дело служанки Брандт знал в мельчайших деталях, использовав
его в трагедии Гретхен. Во время допроса обвиняемая призналась, что убить
родившегося ребенка ее уговорил дьявол. Выяснилось, что девушка скрывала
от всех свою беременность. Она сказала, что ее околдовал Сатана и так замкнул
ей уста, что невозможно было в чем-то признаться. С того момента, как она
почувствовала, что носит ребенка, он, Сатана, внушил ей, что она легко может
родить ребенка, затем убить его, спрятать и притворяться, что к ней вернулись
месячные103. Конечно, Сюзанну Маргарету Брандт судили за убийство ребенка,
а не за сговор с дьяволом. Защитник видел в признании «дьявольского
внушения» скорее смягчающее обстоятельство. Доктор Шааф, просвещенный
адвокат, объяснял убийство ребенка помрачением ума роженицы, вызванноым ее
страданиями, отсутствием помощи ей при родах и послеродовой горячкой;
внушение дьявола объяснялось естественными причинами, психическим
помешательством, причиной которого было физиологическое состояние роженицы104.
По закону Карла V, еще имевшем в то время силу, детоубийца была осуждена
и казнена 14 января 1772 года. Признания Сюзанны Маргареты Брандт,
которые молодой Гете читал в 1771—1772 годах, — это самые ранние
свидетельства истории возникновения «Фауста». Дьявольское внушение, безумие, власть
колдовства образовали в трагедии Гретхен сложное тематическое сцепление,
которое обнаруживает себя в «Вальпургиевой ночи».
Если историю любви Фауста и Гретхен рассматривать как любовь, в которую
с самого начала и до конца вмешивается дьявол, то и мотив детоубийства не
может быть понят без мифологического присутствия дьявола. Такая
интерпретация любви характеризуется тем, что вмешательство силы зла в любовь она
103 См. Birkner S. Leben und Sterben der Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt. Frankfurt am
Main, 1973. S. 50; Schöne A. Götterzeichen. Liebeszauber. Satanskult. München, 1993. S. 180.
104 Birkner S., op. cit. S. 84.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 119
трансцендирует к проблеме любви вообще или к индивидуальной трагичности
судьбы женщины. В драматургии «Бури и натиска» детоубийство выглядело как
напластование различных проблем. Там, где речь шла о развращении
невинности, о трагедии падшей девушки или об устранении юридической практики —
смертной казни так называемых детоубийц и о социальном освещении мотивов,
которые приводят к этому преступлению против природы, — там упоминание
дьявола выглядело как анахронизм. Казнь Сюзанны Маргареты Брандт не могла
не вызвать возмущения у молодых поэтов «Бури и натиска». Она казалась
реликтом негуманной практики феодальной юстиции, которую необходимо было
реформировать. Эту необходимость молодой Гете осознавал не меньше, чем его
друзья-штюрмеры Ленц и Вагнер. Здесь важно показать, как поэт
рассматривал детоубийство. Нет никакого сомнения, что оно было для него
преступлением как против природы, так и против морали как самое противоестественное
преступление. Как сила природного определения становится источником греха
против общества, так и сила общественного ощущения, незыблемости
общественных норм толкает женщину к греху против общества, против святого духа
природы105.
До сих пор многих германистов волнует факт биографии Гете, трактуемый
как резкое расхождение Гете-художника и Гете— государственного деятеля,
который в 1783 году как член тайного консилиума герцогства должен был
решать судьбу Анны Катарины Хен. Этот криминальный случай поставил тайный
консилиум и герцога Карла Августа перед альтернативой сохранить смертную
казнь за детоубийство или заменить ее пожизненным заключением. Мнения
тайных советников Фрича и Шнауса, а также Гете играли важную роль в решении
герцога, за которым, конечно, оставалось последнее слово. Подробно изложив
дело и приведя обоснованные доводы, эти члены совета высказались, что, с их
точки зрения, в случаях детоубийства смертную казнь принципиально
необходимо сохранить и что известная твердость в отдельном случае могла бы быть
компенсирована правом герцога на помилование.
Преступление Катарины Хен было третьим за 1783 год детоубийством в
спокойном герцогстве. Две другие детоубийцы были помилованы герцогом. Однако
случай с Хен был особым. Здесь все было продумано заранее, убийство
ребенка было совершено хладнокровно, а не в состоянии аффекта. Четверть часа он
висел на пуповине, затем девушка обрезала ее ножом. Ребенок был жив, громко
кричал, сучил ручками и ножками. Детоубийца этим же ножом нанесла
младенцу удар в шею, а затем еще два, но ребенок продолжал кричать. Чтобы ускорить
смерть ребенка, Хен прижала его головой к соломе и задушила его. Осмотр
убитого младенца показал следы от трех ударов ножом на шее и ушибы на левой
стороне тела, которые и были признаны причиной смерти. Хен призналась в
детоубийстве и была приговорена к смертной казни106. Получив вотумы Фрича и
Шнауса на свой рескрипт, Карл Август просил Гете высказать свое мнение в той
105 KorfTH. Α. Geist der Goethezeit. Leipzig, 1966. Bd. 1. S. 244.
106 Flach W. Goethe und Kindsmord // Thüringer Fähnlein 3. (1934) 9. S. 601; 604; Peters K. Der
Kindsmord also schöne Kunst betrachtet. Eine motivgeschichtliche Untersuchung der Literatur des 18. Jahrhunderts
Würzburg, 2001.
120 3^
А. Г. Аствсщатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
же форме, как это сделали Фрич и Шнаус. Гете ответил герцогу, что он напишет
небольшое сочинение, касающееся проблемы детоубийства, и сделает это
быстро. Однако Карл Август настаивал на должностной бумаге, которую можно было
бы приобщить к государственным актам. Тогда Гете, уже закончивший к тому
времени обещанное сочинение, представил герцогу свой вотум. Гете писал, что
результаты поданного герцогу сочинения «полностью совпадают с обоими
вотумами» его коллег и что разумнее было бы, по его мнению, сохранить смертную
казнь107. Неизвестным осталось то, что Гете написал в своем сочинении. Оно
было потеряно. Однако зная все обстоятельства этого дела, а также внимание
поэта и государственного деятеля к этой трагической проблеме немецкой жизни
того времени, мы не можем сомневаться в том, что гетевское сочинение «было
свидетельством человечности, которая должна была выдержать испытание в
бесчеловечной ситуации»108.
В рескрипте Карла Августа, в желании которого гуманизировать уголовное
право в духе идей Просвещения, конечно, сомневаться не приходится, идея
смягчения наказаний затрагивается очень серьезно. Герцог признавал, что
существуют достаточно обоснованные аргументы как за сохранение смертной казни за
детоубийство, так и за ее отмену, и позиция обеих сторон выглядит достаточно
обоснованной, в особенности противников смертной казни. Герцог входит в
обстоятельства детоубийств и указывает, что это может быть «слабость и одурма-
ненность незамужней беременной женщины», страх перед неминуемым
позором, и они объясняют в определенной степени такого рода преступления даже
при всем отвращении к ним, и здесь вмешивается сострадание к преступнице,
что дает повод для смягчения наказания. Карл Август констатировал, что казни
не имели ни пользы, ни действия. Такие преступления совершаются в «низших
классах черни». Казни не становятся уроком для «душ, не привыкших к
размышлениям», эффект от устрашения длится недолго. Альтернатива смертной
казни, которую предложил герцог членам тайного консилиума, — пожизненное
тюремное заключение. Преступнице стригли волосы, более того, с остриженной
головой она должна оставаться до конца жизни, и это было знаком позора.
Преступницу необходимо поставить к позорному столбу и публично бичевать, а
затем до конца жизни держать в каторжной тюрьме, используя на самых тяжелых
работах. Предписывалось ежегодно выставлять детоубийцу к позорному столбу
и публично бичевать, но не забивая до смерти, один или несколько раз, особенно
в день, когда она совершила преступление.
Альтернатива герцога означала замену быстрой смерти смертью медленной
с унижением человеческого достоинства. Это тоже была мера устрашения. Гер-
107 Goethes Amtliche Schriften. Veröffentlichung des Staatsarchivs Weimar. Bd. 1. 1776—1786. hrsg.
Willy Flach. Weimar, 1950. S. 251.
108 Baerlocher R. J. Anmerkungen zur Diskussion um Goethe, Todesstrafe und Kindsmord // Goethe-
Jahrbuch. Bd. 119. 2002., Weimar, 2003. S. 212.
Статья Рене Жака Бэрлохера полемически направлена против романистки Зигрид Дамм,
стремящейся в своем романе «Кристиана и Гете. Поиск», изданном в 1998 году, доказать в деле Анны
Катарины Хен жестокость гения-царедворца. Мысль о двоедушии создателя образа Гретхен Зигрид
Дамм хочет подтвердит совершенно недоказанным фактом, будто Гете, опасаясь осуждения, сам сжег
сочинение, которое он отправил герцогу.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея Ji2> 121
цог действовал последовательно в полном соответствии с «просвещенным»
духом времени, в частности с учением Чезаре Беккариа, в основе которого лежала
идея предотвращения преступления и принятия мер для предотвращения его в
будущем. Гете, вынужденный выбирать между двумя формами зла, выбрал
менее мучительную.
Соединение в сюжете «Фауста» судьбы героя, связавшего свою жизнь с
чертом, и героини-детоубийцы требовало особой трактовки темы детоубийства.
Если в XVIII веке детоубийство попадало под юрисдикцию светского суда, то в
XVI и XVII веках это преступление связывалось с действием ведьмы и
предметом разбирательства становилось дьявольское внушение.
Гретхен у Гете — жертва не только неверности Фауста, но и действий
дьявольской силы, которая с согласия Фауста вмешивается в ее отношения с
любимым. В расчет Мефистофеля входил несчастный исход любовной истории
Фауста и Гретхен: дьяволизация Фауста и превращение Гретхен в ведьму и в
конечном итоге гибель обоих. Мефистофель, передавая через Фауста яд под
видом снотворного напитка, делает Гретхен невольной убийцей матери. Он
шпагой Фауста убивает брата Гретхен Валентина. И тот факт, что от соединения
Фауста и Гретхен родится ребенок, — это тоже его расчет, а также
детоубийство и наказание Гретхен. В сцене «Сад Марты» Мефистофеля радует, что
осуществится запланированное им совращение Гретхен, что эта ночь любви будет
оплачена смертью матери Гретхен. Черт полагает, что зачатый в эту или одну
из следующих ночей ребенок будет принадлежать ему. Это дитя — жертва ему.
Если вспомнить шкатулку с драгоценностями, которую он подкинул Гретхен,
то участие Мефистофеля в любви Фауста и Гретхен обозначено с самого
начала, и для этого черту необходимо его золото, его сокровища, и тогда дитя этой
любви будет куплено им. В «Прафаусте» сближение Фауста и Гретхен носит
иной характер, нежели в классической первой части. В Фаусте доминирует мен-
тальность человека рококо, ментальность соблазнителя. Поэтому в
«Прафаусте» подлинная любовь, самозабвенное чувство, страстная, безусловная отдача
любви — только у Гретхен. Лишь после включения в текст драмы сцен «Кухня
ведьмы», «Лес и пещера», «Улица перед домом Гретхен» стала возможна сцена
«Вальпургиева ночь».
Сцена подготовлена всеми предшествовавшими ей событиями. Уже в
«Кухне ведьмы», прощаясь с ведьмой, приготовившей Фаусту любовное зелье,
Мефистофель говорит ей:
Я пред тобою в одолженьи,
Напомни мне в Вальпургиеву ночь. (137)
Ясно, что черт собирается присутствовать на шабаше ведьм и прочей
нечисти, и если зелье окажет на Фауста действие, на которое он рассчитывает,
то он собирается чем-то одарить ведьму. Начиная с этой сцены, Мефистофель
хочет крепко держать в руке все нити задуманной им интриги, не давая им
оборваться, и это ему частично удается. В сцене «Лес и пещера», когда
Мефистофель застает отдалившегося от Гретхен и охваченного сомнениями Фауста,
122 SL
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
он стремится сделать все, чтобы Фауст вернулся к Гретхен, иначе дьявольскую
интригу надо будет начинать сызнова. Теперь же торжествующий черт полон
решимости окончательно отдалить Фауста от Гретхен. Причины,
побуждающие его сделать это, понять не трудно. Любовь и связь с Фаустом принесли
девушке одни лишь несчастья. Фауст ответственен за смерть матери Гретхен.
С помощью Мефистофеля Фауст заколол брата Гретхен Валентина, при этом
он вовсе не был ослеплен страстью. Фауст оказался в ситуации тяжелой
нравственной вины, которую в создавшихся обстоятельствах, кажется, невозможно
искупить. Надежды на нравственное возрождение героя нет, если он не порвет
с Мефистофелем, не вернется к своему прежнему Я, свободному от влияния
черта. Поэтому Мефистофелю важно, чтобы Фауст не сворачивал с пути, на
который он его толкнул. Цель Мефистофеля — чтобы Фауст все глубже
погружался в пучину исключительно чувственных стремлений, дикой жизни и
одновременно жизненной пустоты и, как сказал бы Ж. Делез, «доиндивидуальной
сингулярности».
Его-то увлеку я к жизни сумасбродной,
Его я низведу к ничтожности пустой;
Он будет трепетать, барахтаться, голодный,
А пред его устами в миг такой
Обильных яств, питья покажутся виденья,
И он напрасно будет утоленья
Просить с мольбой; и если даже он
И не был дьяволу заранее вручен,
Он все ж погибнет жертвою томленья! (99)
Сейчас настало время бросить Фауста в поток самых низменных желаний,
показать ему путь в сферу инстинктивной жизни, которая задушит в его душе
любой благородный порыв и будет препятствовать осознанию его тяжкой вины.
Однако Мефистофель хорошо помнит свое поражение в погребке Ауэрбаха и
понимает, что череда чувственных наслаждений не может привлечь Фауста.
Поэтому Мефистофелю приходится учитывать демоническое начало в Фаусте, его
стремление к сверхчеловеческому, безмерному, безусловному, безграничному
и его вечную неудовлетворенность. Следовательно, и глубина чувственности
тоже должна приобретать абсолютные масштабы, и если Фауст окажется в ее
власти, то это будет не только выигрыш пари, но и в единичном случае триумф
Мефистофеля в споре с Богом109.
Сцена возникла в период между 1797 и 1805 годами. В феврале 1801 года
Гете заказал в веймарской библиотеке несколько книг по демонологии,
колдовству и черной магии. До этого он очень внимательно читал «Потерянный рай»
Джона Мильтона. Конечно, в отличие от Мильтона, литература, касавшаяся
колдовства, суеверий, демонологии, преследования ведьм и еретиков,
принадлежала третьестепенным авторам, которые подробно описывали деяния ведьм и
процессы над ними. Эти книги, пользовавшиеся популярностью в XVII и начале
Rickert H., op. cit. S. 270.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея Jëb 123
XVIII века, были благополучно забыты в эпоху Просвещения, однако поэт
использовал их110.
Огромную роль в создании сцены сыграла иконография блоксбергских
шабашей, дававшая толчок «точной» фантазии поэта своими образами, которые
трансформировались в соответствии с общей концепцией драмы. Здесь речь
идет о знаменитой гравюре на меди «Истинный план и изображение
безбожного и проклятого колдовского праздника» Михаэля Херра, сделанной в середине
XVII века. Она была известна Гете и оказала сильное воздействие на
композицию сцены у поэта. Конечно, нельзя с абсолютной точностью утверждать, что
именно эта гравюра служила Гете источником для данной сцены, однако сама
гравюра показывает знакомство ее автора с книгами о ведьмах и колдовстве,
которые были известны Гете111.
Обычно гравюра приводится почти во всех монографиях, где авторы
анализируют «Вальпургиеву ночь». Макс Моррис с достаточным основанием
утверждал, что «Гете из этой картины для "Вальпургиевой ночи" вычитал полноту
отдельных сцен112». Меньшее значение имел для Гете иконографический материал
в книге Преториуса.
К 1776—1777 годам относятся рисунки самого Гете, изображавшие сцены с
ведьмами, и которые можно соотнести с «Вальпургиевой ночью». На всех трех
рисунках ведьмы возятся с грудным младенцем, который еще жив, причем
делают это у котла и над котлом (третий рисунок). Рисунки разнятся по своей
художественной манере. На первом — ясно изображен фантастический
сценарий: вне магического круга, который отчетливо виден, бушует в оргиастичес-
ком вихре Вальпургиева ночь. В центре круга находится ведьма, произносящая
заклинания; в руке у нее прут, а повелительный жест ведьмы напоминает жест
дирижера. Такая же фигура прослеживается на всех трех рисунках. Другой
рисунок показывает естественную хореографию фигур внутри магического круга,
проецируя дикий танец в пространство вне круга и распространяя энергию
танца на других участников шабаша. Третий рисунок несколько натуралистичен и
в то же время отличается карикатурной скупостью. Он несет в себе торжество
110 В дневниках Гете записаны несколько из этих книг, на которые необходимо указать, ибо
сведения, почерпнутые из них, сыграли важную роль в создании сцены.
Groß H. Magica. Daß ist: Wunderliche Historien von Gespensten und mancherley Erscheinungen der
Geister. Eisleben, 1600; Bekker B. Die bezauberte Welt: oder eine gründliche Untersuchung allgemeinen
Aberglaubens betreffend / die Art und das Vermögen / Gewalt und Wirkung des Satans und der bösen Geister
über den Menschen / Und was diese durch derselben Kraft und Gemeinschaft thun. Amsterdam, 1693; Praeto-
rius J. Blockes-Berges Verrichtung, Leipzig und Frankfurt am Main, 1668. Из этой книги Гете черпал
всякого рода легенды о шабашах ведьм на Блоксберге; Francisci Ε. Der höllische Proteus oder Tausendkünstige
Versteller. Nürnberg, 1690. Гете использовал издание этой книги 1708 года; Remigius N. Daemonolatria.
Hamburg, 1693. Гете также была известна поэма Иоганна Фридриха Левена «Вальпургиева ночь»
(Löwen J. F. Die Walpurgis-Nacht in dreyen Gesängen // Löwen J. F. Schriften. 3. Teil. Hamburg, 1765.
111 См. Schöne A. Götterzeichen. Liebeszauber. Satanskult. S. 124-125.
112 Morris M. Die Walpurgisnacht // Euphorion 6., 1899. S. 687. См. также Аникст A.A.
Изобразительные источники «Фауста» Гете // Античность. Средние века. Новое время. М.: Наука, 1977. С. 176.
Аналогичной точки зрения придерживался также Георг Витковски: Witkowski G. Die
Walpurgisnacht im ersten Teil von Goethes Faust. Leipzig, 1894. S. 36; Schade S. Hexenkünste. Hexen in der bildenden
Kunst vom 16. bis 20. Jahrhundert // Hexenwelten. Magie und Imagination. Frankfurt am Main, 1987.
124 ®ь
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
безумия. Высокая фигура ведьмы, стоящая в театральной позе справа у края
магического круга, воздев безумный взор к небу, бьет в барабан, тогда как другая
уже готова бросить еще живого младенца в кипящий котел. Ведьмы творят свои
дела при свете луны — справа отчетливо видна руина. На всех изображениях
шабаша, и как впоследствии мы увидим в «Кухне ведьмы», доминирует
эстетика безобразного.
Мир демонии показан у Гете в двойном свете: при свете дня он стеснен и
принимает секуляризованный образ. Так выглядит Мефистофель, поэтому в «Кухне
ведьмы» ведьма его не узнает, и ему приходится защищать себя и Фауста от ее
неистовства. Обуздав ведьму, Мефистофель объясняет ей причину своего
необычного вида изменившимся временем, принуждающим силы зла к мимикрии:
На этот раз прощаю я тебя:
И время протекло с последнего свиданья,
И от культурного влиянья
Сам черт не в силах был предохранить себя.
Фантомов северных особенность забыта:
Где встретишь ты хвосты, рога или копыта?
А с конскою ногой среди людей бродить —
Не значит ли себе среди людей вредить?
Я людям молодым давненько подражаю,
К фальшивым икрам прибегаю. (113)
Освобождение мира Сатаны возвращает ему его прежнее обличье, и
шабаш — это ожидание свободы хаоса.
Известно, что для изображения черта в позднем Средневековье
характерна эстетика безобразного: такие звериные атрибуты, как хвост, рога, козлиные
копыта, крылья летучей мыши, отличают изображение черта. Уродство,
безобразие символизируют отчуждение от Бога, враждебность красоте и добру. Зло
усиливается комплексом приемов гротеска, который захватывает черта и
демонов. Бесы демонстрируют голый инстинкт, характерный для животного, и они
противостоят человеку как части божественного порядка, стремясь его
уничтожить. Зло деструктивно. Гротеск должен показать угрозу Божьему миру.
Фантастичность и ярко выраженная оперность выделяют «Вальпургиеву ночь» из
всех сцен первой части «Фауста». Дуэты, терцеты, хоры связаны здесь нитью
сюжетов, и каждая партия служит детализации целого, концентрируя в себе
присущую ей и ее определяющую черту.
Сцену открывает дуэт Мефистофеля и Фауста. Черт, чувствующий себя
хозяином положения, поскольку он ведет Фауста в подвластную ему сферу, хочет,
чтобы их прибытие туда было обставлено по всем правилам, предлагая ему
типичные для шабаша средства передвижения:
Не хочешь ли забрать хотя бы помело?
Здорового козла себе я выбираю.
Отсюдова еще до цели далеко. (206)
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JΩ 125
Заколдованное пространство вокруг Блоксберга Мефистофель стремится
преодолеть как можно быстрее, чтобы на пути к дьявольской горе не возникло
никаких препятствий и Фауст не отказался от приключений в эту ночь.
Мефистофелю приходится смириться, поскольку Фауст хочет подниматься в гору
пешком, созерцая таинственный пейзаж, ощущая непосредственно дух природы, да
и сама местность — гора, нагромождение скал — как раз располагают к встрече
с духами, общения с которыми Фауст не страшится. Мефистофель мгновенно
разрушает фаустовскую мечту встречи с природой, объективно описывая ее
состояние. Ночь, восходит луна, но от нее исходит такой слабый свет, что кажется,
будто природа как бы затаилась в предчувствии чего-то страшного:
Серп красный месяца тоскливо светит так,
Что нам становится опасным каждый шаг:
Как раз на дерево, на камень здесь наткнешься.
Позволь блуждающий позвать мне огонек. (206)
Блуждающий огонек, природное явление, вспышка болотного газа здесь —
воспламеняющийся природный дух, светящий в ночи. Блуждающий огонек
ведет Фауста и Мефистофеля вверх в гору, светя зигзагами, рассказывая о том, что
происходит на горе. Терцет: Фауст, Мефистофель и Блуждающий огонек —
поющих попеременно персонажей дает нам картину охваченной хаосом природы.
Демонический вид приняли деревья и утесы, их форма изменилась в гротескном
искажении, безмолвная природа начинает издавать устрашающие звуки. Все
трое входят в сферу сновидений и волшебства, в магически деформированную
и воображаемую действительность, оказывающую опьяняющее воздействие на
человека и пробуждающую в нем любовное томление:
Как ручьи кругом спешат.
Через камни, через травы
Слышу шум? Или октавы.
То любви ль былой стенанья
Иль блаженства ликованья.
Там надежды ли воспеты
Иль святой любви приметы. (207)
Крик ночных птиц, оглашающий пространство, движение выползших из
своих нор животных (саламандр, змей, мышей), связанных с демоническими
коннотациями, создает впечатление хаоса, возникающего от действия незримой
и непонятной силы, и это движение в круговороте предвосхищает шабаш ведьм.
Созерцание фантастических существ, искаженных форм деревьев и скал, когда
таинственные звуки возбуждают сознание, — все это погружает человека в
сомнамбулическое состояние, делая его частью этого заколдованного мира.
Но скажи мне, что такое?
Мы стоим ли без движенья.
126 Si-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Или движемся мы двое?
Скалы эти и растенья
Быстро кружатся. Пугают
Злые рожи. И сверкают
Раздуваясь все сильней
Тьмы блуждающих огней. (208)
Пространство, постепенно попадающее в поле зрения Фауста,
раскрывается, говоря современным языком, по принципу вытеснения одного кадра
другим, приобретая характер фантасмагорического кинематографа, в котором
соединены фантастика и гротеск. Вытеснение и напластование кадров создают
игровой мир, пространство, где царствуют две исконные силы — эрос и тана-
тос, которые выглядят как обманывающие маски, запутывающие созерцателя,
перестающего различать эти два начала. Игровой характер изображения,
монтирующего волшебное, колдовское и призрачное, доминирует во всей сцене,
превращая пространство из реального в мифическое, причем это пространство
обладает способностью к метаморфозам, как всякое мифическое пространство,
что мы можем заметить в особенности в тех эпизодах, которые Гете исключил
из окончательного варианта «Вальпургиевой ночи». В них горные ключи
превращаются в ключи крови, игра воды и света становится соединением крови и
огненного жара, и ночная сторона природы раскрывается во всей своей
демонической интенсивности. Сама гора и все, что на ней, имеют вулканическое,
а следовательно, люциферово происхождение, потому что вулканизм — самое
яркое воплощение люциферовой концентрации, составляющей сущность
деятельности Сатаны.
Возбуждение сознания достигает высшей точки, сфера сновидения
затягивает в себя Фауста, и он становится частью воображаемого мира, который
открывает ему волшебная ночь.
Как странно здесь горит зари сиянье,
Тускнеет как-то красный цвет его,
Но бездн глубоких основанье
Не обойдется без него.
Там поднимается свободно испаренье,
Здесь из земли идет какой-то чад,
Не то угар и раскаленный смрад.
Здесь как из нитей украшенье,
Там вырывается, как ключ.
Так он стремителен, могуч.
Здесь вьется он на всем просторе,
На сотни жил разъединясь,
То вдруг опять соедиясь,
Сберется где-нибудь в заторе.
Вблизи сверкают искры, словно
Здесь пыль златая проплыла.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея Ji2> 127
Смотри, зарею как любовно
Зажглася целая скала! (208—209)
Наблюдаемые Фаустом явления — это освещенный дворец Маммона; вся
гора стала этим дворцом. Маммон — дух богатства и золота, и он осветил
золотым сверканьем подземный дворец, построенный им для Сатаны. Мефистофель
помнит проклятие Маммону, прозвучавшее из уст Фауста незадолго до
заключения пари:
Проклятие Маммону — плуту,
Чье рвенье мздой зажмет в груди
И за прекрасную минуту
Готовит муки впереди! (89)
И здесь, конечно, важно ослепить Фауста блеском золота, его магией,
которой смертному трудно противостоять. То, что свет исходит из глубин земли, от
подземного огня и от подземных золотых жил, говорит о вулканической
природе этого света, и гора ведьм — порождение вулканизма, о чем пойдет речь во
второй части драмы.
Подземное дьявольское сияние соединяется разбушевавшейся стихией; буря
сопровождает полет ведьм и козлов на шабаш. Многое в сценарии
«Вальпургиевой ночи» было взято Гете из уже упомянутой гравюры Херра, детали которой
соответствуют сценарию и хореографии в напечатанной версии сцены. Тусклый
полумесяц освещает сложную композицию гравюры. По ночному небу на
палках, вилах, метлах и козлах летят на Блоксберг ведьмы. Воздев руки,
ведьма-ветошница выкрикивает свои смертельные товары, танцующие фигуры
выделывают непристойные па. В центре гравюры, в горшке, поставленном на треножник,
закипает какое-то варево, рядом с этим адским котлом стоит беременная ведьма,
будущая детоубийца. В левой части гравюры Херр изобразил то, что
происходит на вершине горы. Гора названа В. Berg (Блоксберг или Брокенберг). Справа
от надписи разожжен огонь, дым от которого взвивается в небо. Прыгающая,
непристойно жестикулирующая, впавшая в экстаз толпа змеей поднимается
к вершине горы, и эту толпу, пританцовывая, возглавляет черт, подняв вверх
пламенеющие руки. На самой вершине горы на бочке, как на троне, восседает
Сатана:
А мне быть наверху скорее бы желалось!
Там пламя сильное, клубится всюду дым;
Там все кругом спешит, стремится к злому. (216)
Далее вся сцена превращается в оперу ведьм, в которой голоса
поддерживаются пением хора ведьм и хором колдунов. Ведьмы поют о том, как они
пробирались на Блоксберг. Действие насыщено представлениями и
ритуалами шабаша ведьм. Даже Мефистофель воспринимает происходящее как
безобразие:
128 SX-
A. Г. Лствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Трещат, толкаются, скользят!
Там мелют вздор, трещат, шипят!
Все тут горит, сверкает иль воняет,
Все это слишком ведьмой отзывает. (215)
Всеобщий шум и гам, кишащая толпа ведьм и колдунов мешают
Мефистофелю проводить экскурсию по Блоксбергу, и он вынужден прикрикивать на
толпу, чтобы та расступилась. Острый слух и зоркий глаз Мефистофеля все же
не обманывают его — они у цели своего путешествия на Блоксберг.
Мефистофель издали видит двух ведьм, старую и молодую. Со старой ведьмой,
сварившей Фаусту любовное зелье в сцене «Кухня ведьмы», была договоренность о
встрече на Блоксберге, куда она должна привести с собой молодую и красивую
ведьму-соблазнительницу, чары которой в дионисийской атмосфере Блоксбер-
га обеспечат окончательное падение Фауста, столь желанное Мефистофелю. На
пути к цели Фауст и Мефистофель встречают помимо бесовской силы
фигуры, которым самое место на Блоксберге. Это — представители ancien regime,
погрязшие в стяжательстве, коррупции и всякого рода аферах, которые были
оборотной стороной ретроградного мышления и консервации разлетающегося
вдребезги общественного устройства. Генерал, министр, парвеню и писатель
как защитники этого режима получают слово, и здесь, на Блоксберге, для них
самая подходящая трибуна. Каждый из ораторов укоряет свое время и
мечтает о возвращении прошлого, о реставрации прежнего порядка и о сохранении
своего влияния на жизнь, которой они, как оказалось, не нужны. Генерал, по-
видимому, участник походов против революционной Франции, горько сетует на
невозможность рассчитывать на поддержку наций, которым смертельно надоел
их феодальный режим. Нации не желают больше подчиняться одряхлевшим
защитникам старого режима:
Возможно ль на народы полагаться?
Они, что бабы, все одно.
По их понятьям, возвышаться
Лишь молодежи суждено. (217)
Гротескность ситуации заключается в том, что недовольство эпохой
высказывается, по мнению Т. Цабки, в обстановке всеобщего борделя, куда по
собственной воле пришли критики времени113. Старые господа (die alten Herren) своей
деятельностью старались каждый день в году превратить в Вальпургиеву ночь.
Если старый генерал с завистью следит за возвышением молодого генерала
Наполеона Бонапарта, то министр прославляет свое и ему подобных правление как
прекрасное время, противостоявшее нынешнему упадку.
Теперь для правды время злое;
Я восторгаюсь стариной:
113 Zabka T. Dialektik des Bösen. Warum es in Goethes «Walpurgisnacht» keinen Sinn gibt // Deutsche
Vierteljahresschrift. 72. 1998. S. 215—219.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 129
Вот было время золотое,
Когда мы правили страной. (217)
Парвеню вообще растерян. Сейчас он начинает осознавать, что вся
деятельность власть имущих, направленная на сохранение отжившего, привела ко
всеобщему перевороту. Писатель же жалуется на то, что никто не хочет читать его
сочинений, в которых он стоит на умеренных позициях, не соответствующих
больше дерзким нравам современной молодежи.
Столкновение Фауста с ведьмой-ветошницей оказывается неожиданным
препятствием для осуществления плана Мефистофеля. Товар, который
разложила ведьма, напоминает Фаусту о совершенных им деяниях, сыгравших
роковую роль в судьбе Гретхен. Ведьма особым способом предлагает свой товар:
Тут нет вещицы, чтобы не сгубила
Она людей, не нанесла вреда;
Тут чаши нет, которая б не влила
Ужасный яд в здоровые тела;
Тут не найдется даже украшенья,
Которое не сбило бы с пути
Прелестной женщины, достойной уваженья,
Меча такого здесь, конечно, не найти,
Который не расторг союза перед светом,
Изменой загубив союзника при этом. (218)
Чаша с якобы снотворным напитком, которую Фауст передал Гретхен,
оказалась чашей с ядом и стоила жизни матери девушки. Драгоценные
украшения были частью стратегии совращения Гретхен. Шпагой Фауста был убит ее
брат Валентин. Естественно, Мефистофель сразу же осознает, что все эти
предметы напомнят Фаусту о Гретхен. Он требует от ведьмы, чтобы она выложила
новые вещи, за которыми не тянется шлейф воспоминаний, и очень рад, когда
Фауст замечает Лилит, первую жену Адама. Согласно раввинской легенде, Ли-
лит — архетип развратной женщины и детоубийцы, и в «Вальпургиевой ночи»
она выступает как аналогия-антитеза к Гретхен114. Теперь, когда Фауст и
Мефистофель подошли к двум ведьмам, они могут принять участие в оргии,
венчающей дьявольское карнавальное празднество. Фауст танцует с молодой ведьмой,
Мефистофель со старой, и этот эпизод выглядит как блоксбергская вариация
сцены «Сад». Кажется, Фауст полностью во власти суккуба и танец должен
завершиться соединением Фауста с ведьмой. Но греховного соединения не
происходит, так как во время пения красивой ведьмы из ее рта «прыгнула красненькая
мышка» (222). Сразу же после бесполезной попытки Мефистофеля обратить
всю ситуацию в забавное явление и возвратить Фауста к ведьме, перед Фаустом
постепенно начинает возникать видение Гретхен. Чары колдовства развеялись,
в Фаусте пробуждается воспоминание о том, что он сделал с Гретхен. Как из
тумана, появляется это видение, которое иначе как порождение его внутренней
114 Schöne А. Goethe J.W. Faust. Kommentare. S. 355—356.
130 Sîl
A. Г. Лствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
жизни истолковано быть не может, потому что Мефистофель сделал все
возможное, чтобы этого видения не было. Блоксберг должен был, по его замыслу, убить
в Фаусте все живое и благородное. В глубинах души сохранялся образ Гретхен,
и он сначала возникает сквозь пелену прошлого:
Мефисто, погляди!
Ты видишь ли прекрасное и бледное виденье,
Оно стоит совсем от всех вдали;
А двигаться начнет — чуть видно то движенье,
Как будто ноги спутаны совсем... (222)
Мефистофель делает последнюю попытку отвлечь Фауста от созерцаемого
видения, напоминая ему о Медузе Горгоне. Однако все напрасно. Сознание
Фауста уже прочно приковано к видению. Теперь он ясно видит Гретхен, и к этому
присоединяется ужас от предчувствия ее судьбы. Прозрение в будущее и
воспоминание о прошлом смешиваются друг с другом. Обе области, разделенные
в душе Фауста — чувственная любовь и прорыв в идеальные выси истины и
добра — начинают разрастаться:
Да, вижу я: то — мертвые глаза,
Рукою любящей навеки не закрыты;
То — Гретхен грудь, то — Гретхен вся краса,
Все прелести ее: они мной не забыты. (223)
Все видится ясно, отчетливо, в деталях. Гретхен в темнице в ожидании
прихода палача, который ее обезглавит, и это видение «инсценировано не как чистая
галлюцинация, и его нельзя понимать как фантом». «То, что Фауст
воспринимает, имеет, — как отмечает А. Шене, — объективируемые основания, о которых
Фауст не знает»115.
О, сколько счастья! Сколько муки!
С ней вынесть не могу разлуки.
Но цвета красного одна лишь полоса
Ей шейку нежную так страшно украшает!
Своею шириной она не превышает
Обратной стороны обычного ножа. (223)
Разворачивающееся постепенно видение в каждой своей фазе обнаруживает
новые детали. Сначала Фаусту кажется, что ноги Гретхен чем-то спутаны, что
мешает свободе ее движений, затем он видит тонкую красную полоску на ее
шее (rotes Schnürchen), не понимая, что она могла бы означать. Но именно это
спасительное видение вырывает его из оргиастической атмосферы
Вальпургиевой ночи и освобождает его от власти зла. Фауст как будто пробуждается от
страшного сна, но после пробуждения он сталкивается с еще более страшной
115 Schöne А. Goethe J.W. Faust. Kommentare. S. 360.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 131
реальностью. На этом завершается Вальпургиева ночь, завершается в том
смысле, насколько она связана с судьбой Фауста и Гретхен.
Окончательный вариант, точнее, сокращенная версия Вальпургиевой ночи
несколько отличалась от первоначального замысла. Несколько сцен,
составляющих в комментированных изданиях паралипомену НР50, не вошли в первое
издание 1808 года и не включались в последующие издания. Эти тексты Гете в
разговоре с Иоханнесом Даниэлем Фальком назвал «Вальпургиевым мешком»,
и то, что сам поэт сказал о них, обязывает литературоведа внимательно входить
в их смысл: «Там внизу пылает неугасимый очистительный огонь, и если он
разгорится, то не пощадит ни друга, ни врага. По крайней мере, я никому не
советую к нему слишком приближаться. Я сам боюсь его»116.
Паралипомена НР50 начинается с указания на место и время действия, и
на его участников. «Вершина. Ночь. Огненный колосс. Ближайшее окружение.
Массы. Группы. Речь»117. Массы, группы, собравшиеся вокруг Сатаны,
представляют собой всю дьявольскую нечисть, ведьм и колдунов, которые в
напечатанном тексте названы хорами и уже прежде участвовали в событиях. Среди
участников сатанинской мистерии должен быть и Фауст, сопровождаемый
Мефистофелем. В книге Преториуса дан подробный каталог участников черной
мессы, которая мыслится как мировая мистерия. Здесь указываются
представители всех возрастов и сословий: «Не только старые, пожилые люди, но и малые
неразумные дети, не только женщины, но и мужчины, не только низкого, но и
лица высшего сословия: император, князья, бароны, дворяне и им подобные; не
только светские, но и духовные: папы, епископы, священники; не только неучи,
но и ученые и знаменитые доктора от всех факультетов»118. Как пишет Альбрехт
Шене, здесь мы имеем все человечество в целом, человечество, впавшее в грех
и пытающееся на стезе греха найти путь к спасению, слушая проповедь Сатаны,
внимая словам его Евангелия в надежде, что Антихрист сможет его защитить
от Божьей кары; здесь все без исключения— представители града дьявола119.
Сатана, действующий как имитатор Божьего творения, инсценирует с
некоторыми режиссерскими нововведениями Страшный суд:
Die Böcke zur rechten,
Die Ziegen zu linken.
Die Ziegen sie riechen,
Die Böcke sie stinken
Und wenn auch die Böcke
Noch stinkender wären,
So kann doch die Ziege
Des Bocks nicht entbehren.120
116 Falk. J. Goethe aus näherm persönlichen Umgang dargestellt. Leipzig, 1832. S. 92.
117 Goethe J.W. Faust. Texte hrsg. von A. Schöne. S. 552.
118 Praetorius J. Blockes-Berges Verrichtung. Leipzig, Frankfurt am Main, 1668. S. 129.
119 Schöne Α., Götterzeichen. Lieberzauber. Satanskult. 158.
120 Goethe J. W. Faust. Texte. S. 552. Текст паралипомены цитируется с сохранением гетевской
орфографии и пунктуации.
132 Si-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Сатанинское антибожество решительным образом стремится узурпировать
роль Христа во время Страшного суда. Согласно Евангелию от Матфея, Христос
«сядет на престол славы своей». А затем «и соберутся пред Ним все народы; и
отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец
по правую сторону, а козлов — по левую»121. Евангельское иносказание имеет в
виду, конечно, отделение блаженных (овцы) от проклятых (козлы). Сатана же,
наоборот, поскольку о блаженных среди его паствы речи идти не может, делит
ее по половому признаку и степени греховности, и прежде всего по степени
похотливости. Козлы ставятся по правую сторону, козы — по левую. Естественно,
то, что правоверный христианин считает безобразным и к чему он испытывает
отвращение, поднимается Сатаной в ранг высшего достоинства. Козлы и козы
фигурируют в тех книгах о ведьмах, которыми пользовался Гете. «Козел
превосходит в похоти едва ли не всех животных»122. Николаус Ремигиус в «Демонолат-
рии» пишет: «Козлы воняют больше, чем другие животные, и злой дух нельзя
лучше опознать через что-то иное, нежели отвращение и вонь»123. Поэтому
козлы на Страшном суде никогда не могут быть по правую руку от Бога. Мерзкий
и похабный козел брошен в безжалостный огонь вместе с чертями и ангелами
Сатаны. «Ибо козел — символ или знак всех похотливых и развратных людей,
кои не обретут царство Божие»124.
Расставив свою паству и приблизив к себе своих любимых детей, Сатана
ждет от них лишь восторженного поклонения. Паства же хочет от своего
патрона как от Мессии поучений и откровений. Сатана раскроет ей глубочайшую
тайну естества и вечной жизни. Сейчас неверно служащий Богу Фауст должен
получить ответ на вопрос, волновавший его при созерцании знака макрокосма,
когда он восторженно воскликнул:
Какая связь видна кругом,
Как все живет одно в другом. (44)
Конечно, надо быть Мефистофелем, презирающим весь род человеческий,
чтобы рассчитывать на то, что такую личность, как Фауст, могут удовлетворить
ответы Сатаны и Фауст обратится в сатанинскую веру Раскрытие глубочайшей
тайны естества открывается редукцией человеческой природы к сексуальности и
страсти к золоту. Повернувшись к козлам, Сатана продолжает свою проповедь:
Euch gibt es zwey Dinge
So herrlich und groß
Das glänzende Gold
Und der weibliche Schooß.
121 Матфей. 25,31— 33.
122 Francisci E. Der höllische Proteus oder Tausendkünstige Versteller. Nürnberg, 1690. S. 182. цит. по
Schöne Α. Götterzeichen Liebeszauber. Satanaskult. S. 159.
123 Remigius N. Daemonolatria, oder Beschreibung von Zauberern und Zauberinnen. Erster Teil.
Hamburg, 1693. S. 99. цит. по Schöne A. S. 159.
124 Praetorius J., op. cit. S. 59.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JiS> 133
Das eine verschaffet.
Das andre verschlingt
Drum glücklich wer beyde
Zusammen erringt.125
За этим прославлением злата и женского лона, которые в сущности суть
порождения единого лона природы, чрева природы, следует голос стоящего в
стороне зрителя, который ничего не понял. Просьба разъяснить смысл слов Сатаны
снижает торжественность черной мессы, придавая всему действу скабрезный
характер.
Теперь Сатана обращается к козам:
Für euch sind zwei Dinge
Vom köstlichen Glanz
Das leuchtende Gold
Und ein glänzender Schwanz
Drum wisst euch ihr Weiber
Am Gold zu ergötzen
Und mehr als das Gold
Noch Schwänze zu schätzen.126
Все речения Сатаны вылились в прославление фаллоса и лона, и его паства
впадает в оргиастический восторг; слова Сатаны действуют на нее как средство,
повышающее сексуальную активность. Она находится в предвкушении
сексуальной оргии, которая должна венчать Вальпургиеву ночь. Космизация фаллоса
и золота и означает перевод всех человеческих стремлений в сферу власти
анонимного, недифференцированного эроса, который в конечном итоге сводится
к мертвой материальности, обладающей обманчивым, люциферовским
подземным светом (das leuchtende Gold und ein glänzender Schwanz). Это свет и сияние
непросветленной люциферовской концентрации, которая несет угрозу жизни и
может взорвать мир, предварительно опустошив его. Если Сатана мыслит свою
борьбу с Богом в космическом измерении, стремясь осуществить то, что
абсолютно невозможно, то его подручный, то есть Мефистофель, будучи
реалистом, каковым его считал Шиллер, на уровне бытия действует осторожно, можно
сказать, в локальных масштабах, прекрасно понимая, что он тем самым багате-
лизирует сатанинскую гордыню и, следовательно, придает ей комический вид.
Когда одна из девушек, попавшая на Блоксберг, оттесненная толпой, рвущейся к
своему пророку, то ли из-за своей невинности, то ли из-за тупости хочет
осведомиться, кто покажет ей «след вечной жизни» исконного, сокровенного естества,
в качестве толкователя слов Сатаны выступает Мефистофель:
Mefistopheles (zu einem jungen Mädchen).
Was weinst du? artiger kleiner Schätz
Goethe J. W. Faust. Texte. S. 553.
Goethe J. W. Faust. Texte. S. 553.
134 Sîu
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФМЯ. ИГРА
Die Thränen sind hier am Platz
Du wirst in dem Gedräng wohl gar zu arg gestoßen?
Mädchen.
Ach nein! der Herr dort spricht so gar kurios,
Von Gold und Schwanz von Gold und Schooß,
Und alles freut sich wie es scheint!
Doch das verstehn wohl nur die großen.
Mefistopheles.
Nein liebes Kind nur nicht geweint.
Denn willst du wissen was der Teufel meynt
So greife nur dem Nachbar in die Hosen. 127
Текст демонстрирует, как Мефистофель обращает новичков в новую веру,
когда последние еще не склонны примкнуть к общине Сатаны, их трудно
поначалу убедить. Ласково, с дружескими словами он обращается к девушке,
стремясь ее ободрить, а затем дает первые указания для сексуальных действий.
Однако последнее слово в сцене остается все же за Сатаной. Адресаты — девушка,
которую просвещал Мефистофель, и ей подобные, что стоят между козлов и коз.
Таким образом, человеческая сексуальность становится полем борьбы между
добром и злом. В кощунственной инверсии библейской Благой вести Сатана
возвещает свое сексуальное и экономическое евангелие, которого ждут от него
его адепты из всех мыслимых сословий, и эта «благая весть» означает
переоценку всех ценностей128. Ощущая себя космократом, Сатана требует
безоговорочной верности себе и ритуального поклонения. В этой сцене Мефистофель
становится наставником тех, кого необходимо превратить в слуг и служанок
дьявола. Сатане важно сломить сопротивление доброго начала, чтобы сделать
из людей одержимых. Он испытывает интерес не только к собственному миру,
ведьмам и колдунам, своим покорным слугам, инкубам и суккубам. Ему важен
сам процесс порчи человечества, и здесь главный его интерес — захваченные
эросом одержимые. Мишель Фуко очень точно описывает одержимую, а это
чаще всего молодые женщины, становящиеся объектом дьявольских
провокаций: «Одержимая — разумеется, та, кто находится во власти дьявола. Но как
только эта власть поселяется, укореняется в теле одержимой, как только эта
власть проникает в нее, она встречает сопротивление. Одержимая — это та,
кто сопротивляется дьяволу, будучи его восприемницей. Таким образом, и она
представляет собой дуализм: то, что поднимается к дьяволу и что не является
его, но становится просто-напросто его дьявольским орудием; и другая
инстанция — она сама, сопротивляющаяся одержимая, которая направляет против
дьявола собственные силы или ищет поддержки со стороны наставника,
исповедника, Церкви»129.
127 Goethe J. W. Faust. Texte. S. 554.
128 Schmidt J., op. cit. S. 196.
129 Фуко M. Ненормальные. СПб, 2004. С. 250.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JΩ 135
Община Сатаны состоит из ведьм и колдунов и пополняется за счет
одержимых, положение которых в этой общине двойственно. М. Фуко на основе
изучения литературы, известной Гете, описывает ситуацию, которую мы видим
в Вальпургиевой ночи. «Тело колдуньи, согласно процедурам заклинания
колдовства, применявшимся инквизицией, — это единое тело, состоящее на службе
Сатаны или, при необходимости, оккупируемое его неисчислимыми
полчищами: асмодеями, вельзевулами, Мефистофелями и т. д.»130. С одержимыми,
завлекаемыми в общину, дело обстоит по-иному. «С телом одержимой все меняется:
тело одержимой само по себе является средоточием беспредельного множества
движений, сотрясений, толчков, болей и удовольствий. Поэтому понятно, как
и почему с появлением одержимости исчезнет один из фундаментальных
элементов колдовства, а именно договор»131. Ведьмы и колдуны связаны с Сатаной
договором. Продавая душу дьяволу, ведьма получает часть его власти. Вступая
в сексуальную связь с дьяволом, ведьма в качестве вознаграждения может
вызывать его сверхъестественное присутствие. «Я вступаю с тобой в связь, —
говорит Сатана, — но ты сможешь совершать столько зла, сколько захочешь. Я
возьму тебя на шабаш, но ты сможешь вызывать меня при первой надобности, и
я окажусь там, где тебе нужно». Принцип обмена находит выражение в
договоре, который утверждается преступным сексуальным сношением. Это визит
демона, это поцелуй нечистого на шабаше132. В сцене с Сатаной мы встречаем две
стратегии дьявола, и Мефистофель стремится хотя бы одну из них использовать
против Фауста, ведь странное пари и пакт, собственно, ничего не дали
Мефистофелю для осуществления его целей, заполучить душу Фауста очень трудно даже
в ситуации, где черт является хозяином положения.
Вторая сцена, которую Гете также не включил в окончательный текст первой
части, — сцена клятвы Сатане. Ее сценарий поэт взял из описаний черных месс
Ремигиусом и Преториусом и, конечно, из «Молота ведьм». Отпадение от Бога
требует особого обряда, который должен подтвердить верность Сатане. Модель
этой ритуальной клятвы — обет верности при инвеституре вассала сюзерену.
Такой обряд черной мессы выглядит как закрепление правового акта служения
злу. Он предлагает освобождение от веры в Бога и подчинение Сатане, которому
его новый вассал отдает свою душу и тело. Доказательство полного подчинения
Сатане — ритуальный поцелуй, который обязателен, и церемониймейстер строго
следит за соблюдением ритуала. Обвинительные протоколы признаний, добытые
с помощью пыток инквизиторами, а позднее сочинения о ведьмах описывают
этот ритуальный акт как непристойное действо, вызывающее отвращение.
В книге Преториуса Гете нашел описание этого действа. Отпавшим от Бога
этот ритуал известен, и они прекрасно знают его. Однако новички, послушницы,
«которых околдовывают и околдовали... смотрят на него, как если бы он был
великий князь, и когда они целуют его задницу, они думают, что целуют ему руки,
и некоторые, особенно женщины, — его член»133. Возносить молитвы козлу и
130 Фуко М. Указ. соч. С. 251.
131 Фуко М. Указ. соч. С. 251.
132 Фуко М. Указ. соч. С. 251—252.
133 Praetorius J., op. cit. S. 451.
136 3^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
целовать ему задницу означает вступление в общину дьявола. Это вступление
означает приобретение власти. С одной стороны, с каждым вступившим
увеличивается власть Сатаны, с другой — Сатана делится с ним частью своей власти.
В сцене присяги на верность Сатане три действующих лица: X, домогающийся
благоволения Сатаны, церемониймейстер и сам Сатана. Каждый из участников
с откровенностью выражает свои намерения. X стремится в царстве Сатаны к
безграничности и безусловности и надеется, что союз с князем тьмы
предоставит возможность осуществить это желание. Конечно, здесь содержится явный
намек на Фауста, на то, к чему могут привести интенции его сознания. Фаусту в
его стремлении к беспредельному, безусловному на протяжении всей трагедии
постоянно грозит опасность попасть в полную зависимость от зла, и, конечно,
гротескная сцена присяги Сатане — напоминание о ней.
В сцене X, называющий себя демократом, целует Сатане копыта, ища
благоволения у тирана.
Und kann ich wie ich bat
Mich unumschränckt in diesen Reiche schauen
So küß ich, bin ich gleich von Haus aus Demokrat
Dir doch Tyrann voll Dankbarkeit die Klauen.134
Пресмыкающийся перед Сатаной демократ называет его тираном, которому
он благодарен за созданный им мир, где есть простор для его эгоистических
устремлений. В этом контексте тиран и демократ не противостоят друг другу.
Перед нами демократ платоновского типа, порождение вырождающегося
государственного устройства, в котором царит хаос партикулярных интересов,
уничтожающих государственное целое. Это — бездарный, никчемный болтун,
«трутень с жалом», как у Платона. Он и ему подобные из своих корыстных
соображений всегда готовы привести к власти тирана. Тирания, деспотизм —
явления, волновавшие весь XVIII век, которому пришлось столкнуться в эпоху
Французской революции с революционным деспотизмом, где уже деспотом
являлся не монарх, а эгоистическая клика, поддерживаемая толпой. У Гете
Сатана — тиран, деспот, монстр из монстров, к которому применимы определения
деспота, данные М. Фуко. «Деспот навязывает свою волю всему
общественному телу, находясь в состоянии постоянного неистовства. Деспот есть тот, кто
постоянно вне статуса и вне закона, но таким образом, каковой туго вместим в
само существование, проводит и преступным образом навязывает свой интерес.
Это постоянный нелегал, это индивид без социальной привязки. Деспот — это
одинокий человек. Это тот, кто самим своим одиночным существованием
совершает максимальное преступление, преступление par excellence, преступление
несоблюдения общественного договора, посредством которого только и может
существовать и сохраняться общественное тело. Это индивид,
предписывающий в качестве всеобщего закона или смысла государства свое неистовство,
свои капризы, свое безрассудство»135. В поведении Сатаны неистовство деспота
предела не имеет, оно разрушительно для мира, губительно для человека.
134 Goethe J. W. Faust. Texte. S. 555.
135 Фуко M. Указ. соч. С. 122.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 137
Демократ с радостью соглашается поцеловать задницу дьяволу:
Darüber bin unverworrn
Ich küsse hinten oder vorn.136
Задница Сатаны нависает над универсумом, грозя втянуть его в себя.
Демократ-лизоблюд готов признать, что запах из задницы козла превыше всех
благоуханий рая, и готов уже вползти в нее. За образцовое исполнение ритуальных
действий новый вассал Сатаны награжден особым леном: миллионами душ.
Гротескная сцена, демонстрирующая беспредельность человеческой низости,
потерю достоинства, символизирует отношение власти к личности и
уничтожение личности властью во всех монструозных режимах.
Исключив сцену с Сатаной из текста «Вальпургиевой ночи», Гете также
сильно сократил эпизод с видением Гретхен. Согласно первоначальному
замыслу, видение должно было завершаться эпизодом церковного суда над Гретхен и
изображением ее казни. Совершенное ею преступление подходило под
юриспруденцию уголовного суда по преступлениям, караемым смертной казнью
(Hochgericht). Таковыми в XVI—XVII веках считались убийства, отравления,
избавления разными способами от детей, ведовство, колдовство, черная магия,
еретическая деятельность, отправление неканонических (сатанинских) культов
и т. п. Этот суд, конечно, не был чисто светским судом. В большей степени он
был судом святой инквизиции, и во время охоты на ведьм деятельность таких
судов по всей Европе осуществлялась с небывалым размахом. Духовные суды
действовали не только в католических, но и в протестантских странах.
Возмездие настоящему, а чаще всего мнимому преступнику превышало всякую
мыслимую меру. Кара обществом преступника демонстрировалась в сцене с
эшафотом, на котором власть публично разыгрывала спектакль жестокости ради
предотвращения преступления. М. Фуко, внимательно изучавший эту практику
наказаний, отмечает: «Под устрашающим характером кары надо понимать ряд
конститутивных элементов этого устрашения. Во-первых, свойственное каре
устрашение должно повторять собой вид преступления: преступление должно
было быть в некотором роде предъявлено, представлено, актуализировано или
реактуализировано в самом наказании. Ужас преступления должен был
присутствовать там, на эшафоте. Во-вторых, фундаментальным элементом этого
устрашения была тяжесть мести властителя, который должен был представать
как неумолимый и непобедимый. Наконец, в этом устрашении должна была
содержаться угроза в адрес всех будущих преступлений»137. На сцене, на которой
показывается наказание, обязательно должны быть плаха, виселица, колесо,
костер, и здесь же суд выносит смертный приговор преступнику или
преступнице, причем делается это в такой последовательности, как это было во время
судебного процесса: обвинение, признание, приговор, судья ломает над головой
осужденного палочку, осужденный передается палачу, и перед толпой под пение
хоралов приговор приводится в исполнение. Очень часто в процессах против
136 Goethe J. W. Faust. Texte. S. 555.
137 Фуко M. Указ. соч. С. 109.
138 Sîl
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
ведьм признание вырывалось с помощью страшных пыток. В отношении
еретиков, колдунов и ведьм пытки были обязательны.138
Еще в год рождения Гете, в 1749 году, в Вюрцбурге была сожжена
монахиня Мария Рената Зингер, а в 1772-м в Кемптене была обезглавлена служанка
Анна Мария Швенгель. Последний процесс над няней-ведьмой Анной Гельди,
закончившийся казнью ведьмы, состоялся в Швейцарии в 1782 году. Сам
характер казни выражал распространенную на протяжении нескольких веков
теорию устрашения, которая, конечно, в модифицированном виде была
воспринята просветителями (Беккариа). Как пишет Н. С. Таганцев, «наказание должно
быть не только по возможности жестоко, чтобы внушать спасительный страх,
но должно поражать своим внешним видом, своим обрядом его исполнения.
Оттого необходимой принадлежностью этой истины является, по крайней мере
у ее наиболее последовательных сторонников, квалифицированная смертная
казнь, исполненная по возможности при большом стечении народа, публичные
телесные наказания, при которых брызги крови и крики наказываемых надолго
сохранялись в памяти зрителей, различные осрамительные наказания и т. п.»139
Так, собственно, и построен сценарий видения «кровавого суда»,
завершающего паралипомену НР50. К охоте на ведьм Гете относился с нескрываемым
отвращением, считая такого рода преследования людей сверхкомпенсирован-
ным страхом филистера перед тайнами природы, косностью и
ограниченностью бюргерской морали, с которыми он сталкивался даже у своих ближайших
друзей (у Штольберга, Лафатера и Гердера, не говоря уже о Николаи и еще
более мелких фигурах века Просвещения). Сатана, ведьмы, высшие слои
общества, духовенство, инквизиторы, палачи, безумная оргиастическая жизнь,
подчиненная золоту, — это отражение мира, бюргерского сознания, мира, который
в зеркале Вальпургиевой ночи видит самого себя и боится своего отражения,
отражения всего сатанинского в нем и от собственного бессилия борется с ним.
Непреклонность, жестокость борцов гарантирует их попадание на Блоксберг,
только там им место.
В процессе развития видения казни Гретхен мы находим последовательность
этого видения: «Речи народа. На пылающей земле. Обнаженный идол. Лицо и
срам не закрыты. Пение. Падает голова. Брызжет кровь и гасит огонь. Ночь.
Шум. Болтовня уродцев. Благодаря ей Фауст узнает»140.
Гретхен приговорена к смертной казни как отравительница матери, как
соучастница в убийстве брата Валентина, честного солдата, как детоубийца и
ведьма, причем последнее рассматривалось как главная вина, так как совершить
остальное могла только ведьма-блудница. Свидетели, конечно, рассказали
обвинителям, что перед смертью Валентин говорил Гретхен. Казнь происходит
под пение хорала. Палач обезглавливает Маргариту, но ее кровь гасит костер,
на котором палач должен был сжечь ее тело. Фауст слышит разговор уродцев
(Kielkröpfen). Эти уродцы родились на Блоксберге от соединения ведьм и
колдунов. Из их болтовни Фауст узнает о предстоящей казни ведьмы Маргариты.
138 Schöne А. Götterzeichen. Liebeszauber. Satanskult. S. 183.
139 Таганцев H.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 2. М., 1994. С. 58.
140 Goethe J. W. Faust. Texte. S. 558—559.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JiS> 139
В паралипомене видение казни Гретхен представлено также хоралом монахов,
соответствующим настроению, царящему на Блоксберге.
Wo fließet Menschen Blut
Der Dunst ist allem Zauber gut
Die grau und schwarze Brüderschaft
Sie schöpft zu neuen Werken Kraft
Was deutet auf Blut ist uns genehm,
Was Blut vergießt ist uns bequem.
Um Glut und Blut umkreißt den Reihn
In Glut soll Blut vergossen seyn.
Die Dirne wincktes ist schon gut
Der Säufer trinckt es deutet auf Blut
Der Blick der Trank er feuert an
Der Dolch ist blank es ist gethan.
Ein BlutQuell rieset nie allein
Sie wälzen sich von Ort zu Ort
Es reist der Strom die Ströme fort.141
Кровь и колдовство — модусы единой сатанинской субстанции, у которой
есть еще и третий модус: дым, чад от костра. Огненное пламя озаряет Блокс-
берг и вдохновляет монахов-францисканцев и монахов-доминиканцев (die grau
und schwarze Brüderschaft) на дальнейшее деяние во славу Сатаны. Пять раз в
первой строфе повторяется слово Blut (кровь), причем два раза в сочетании со
словом Glut (жар), создавая остинатный, символический мотив шекспировского
происхождения, действующий с еще большей интенсивностью. Вторая строфа
подводит символический итог всей блоксбергской вакханалии. В страшном,
гротескном искажении обнажаются все человеческие отношения. Телесное и
чувственное редуцируется к крови и огню. Взгляд блудницы обещает жар
любви, превращающийся в пламя костра, опьянение ведет к потокам крови. Взгляд
и питье воспламеняют, а отточенный кинжал завершает дело, проливая кровь
тысяч людей, и это пролитие крови происходит повсеместно. Кровь отворяют, и
ее нескончаемые потоки льются везде.
С приближением рассвета постепенно стихает буйство на Блоксберге.
Свежий утренний ветер рассеивает чары сатанинской горы, все возвращается в
прежнее состояние.
Облака; туман с небес
Ниже ниспадает.
Тростники шумят, да лес
Шепчет. Все как тает... (231)
Теперь все выглядит так, как если бы Вальпургиева ночь была только
сновидением, и сатанинское действо и его образы исчезают, как мираж, теряя
Goethe J. W. Faust. Texte. S. 558.
140 Sx-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
всякое подобие реальности. Во время Вальпургиевой ночи Фауст сам себе
казался страшным сном, но пробуждение от этого сна, однако, не ослабило
ужаса, который вызвало у него видение казни Гретхен. Это показывает
сцена «Пасмурный день. Поле», единственная прозаическая сцена классического
«Фауста», почти без изменений взятая из «Прафауста». В ней Фауст дает волю
своему негодованию; его гнев обрушивается на общество, мстящее Гретхен, и
на Мефистофеля. Но ни единого слова мы не слышим о его собственной вине
перед Гретхен. Нигде речь Фауста не обладает такой силой экспрессии, как в
этой сцене. «В беде! В отчаянье! Так жалостно и так долго заблуждавшаяся
на земле теперь схвачена! Как злодейку, заключили ее в темницу на страшные
муки, ее, прекрасное, несчастное создание! Вот до чего дошло! Вот до чего!
И ты, изменнический и ничтожнейший дух, утаил все это от меня! Стой
только, стой! Ворочай своими дьявольскими и злыми глазищами! Стой и терзай
меня своим несносным присутствием! Схвачена! В беде неисправимой!
Предана злым духам и бесчувственному людскому правосудию! А в то время ты
убаюкиваешь меня отвратительными развлечениями, скрываешь от меня ее
возрастающее бедствие и допускаешь ее погибать без всякой помощи!» (232).
Ответ Мефистофеля: «Она не первая» — был взят Гете из протокола допроса
Сюзанны Маргареты Брандт от 8 октября 1771 года: «Ее сестры настойчиво
допытывались, она должна признаться, когда она забеременела, она же не первая
и не последняя»142. Это — начало последней словесной дуэли между Фаустом и
Мефистофелем в первой части драмы, в которой обнаруживается их истинное
отношение к свершившемуся.
Обрушивая на Мефистофеля свой гнев, Фауст связывает его с Духом Земли.
Помня, что принцип Духа Земли — вечная метаморфоза, Фауст хочет
превращения Мефистофеля в жалкое, бессильное существо. «Преврати этого червя снова
в пса, под видом которого, еще до встречи со мною, он бешенно кидался в ночи
на невинного странника и, поваливши его на землю, повисал на его плечах,
преврати его снова в его любимый образ, чтобы он ползал на брюхе в песке, чтобы
я мог топтать его, отверженного, ногами» (232). В этой словесной дуэли
протагонистов каждый хочет снять с себя вину за трагические последствия своих
действий в отношении Гретхен. Фауст помнит только свою любовь, остывшую
и ставшую лишь состраданием. Мефистофель же, считая любовь и сострадание
химерами, напоминает Фаусту, причем напоминает жестко, что стало причиной
всех несчастий Гретхен: его, Фауста, двойственный характер, — делая это в
обобщении для всего рода человеческого, показывая всю ущербность титанизма
Фауста, который никак не может обойтись без помощи дьявольской силы. «Вот
мы снова достигли пределов разума, когда у вас, людей, ум заходит за разум.
Зачем ты вожжаешься с нами, когда не в силах довести до конца? Хочешь летать
и боишься головокружения? Мы ли лезли к тебе или ты к нам?» (232).
Чем ближе драма идет к развязке, тем яснее становится различие трагедии
Гретхен от той двойственной и трагической формы экзистенции, которую избрал
для себя Фауст. Когда в 1808 году Гете определил жанр своего произведения
142 Birkner S. Leben und Sterben der Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt. Frankfurt am Main,
1973. S. 193.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J£b 141
«Фауст. Трагедия», он указал, что слово «трагедия» относится не только к
судьбе Гретхен, но еще больше к фаустовской экзистенции. Если Гретхен не хочет
выходить за границы бюргерского сословия, его ценности фиксируют для нее
бытийные ограничения, которым она себя безоговорочно подчиняет, то
бюргерский мир неизбежно приносит ей зло, обрекающее ее на несчастия и страдания,
это цена за любовь к Фаусту. Вернер Келлер, говоря о современном понимании
фигуры Фауста, отмечает, что сейчас уже невозможно постичь, что Фауст
«поколениям немцев мог служить образцом для идентификации»143.
Уже указывалось, что силы зла препятствуют любви Фауста и Гретхен и эту
любовь можно рассматривать как своеобразный треугольник: Фауст и Гретхен, а
третий в союзе любящих — черт. Конечно, чистота героини — постоянное
препятствие планам Мефистофеля: «Над нею я не властелин» (140). Маргарита,
как ей и положено по ее архетипу, — беспомощная противница Мефистофеля,
в то время как Фауст, его обвиняющий и проклинающий, призывающий на его
голову кары Духа Земли, следует за чертом на Блоксберг, чудом спасаясь от
растворения в дионисийской стихии, готовой уничтожить его «я». Дьявольское в
Мефистофеле то, что он делает Гретхен, свою жертву, не только несчастной,
но и виновной, открывая возможность церковного и палаческого насилия над
ней. И в этом смысле Мефистофель персонифицирует всю жестокость
общества в отношении героини. Лишь видение Гретхен, чудо просветления, спасает
Фауста от неминуемой гибели в Вальпургиеву ночь, делая возможным его
возвращение к своему лучшему «я», которое, конечно, дает о себе знать в сцене
«Пасмурный день. Поле». Натиск Фауста на Мефистофеля усиливается. Теперь
к проклятьям присоединяется категорическое требование спасти Маргариту, и
оно ставит в трудное положение черта, обязанного выполнять любое желание
Фауста. Мефистофель знает, что он может беспрепятственно действовать в том
земном пространстве, где ослаблена сила Божьего закона. Прекрасно
ориентируясь в евангельских текстах и помня Послание римлянам Св. Апостола Павла
(гл. 13, 1—4), он лучше любого христианина усвоил, что «нет власти не от Бога,
существующие же власти от Бога установлены». Четвертый стих этой главы
утверждает, что «начальник есть Божий слуга, тебе на добро», и тем самым «он,
Божий слуга, отмститель в наказание делающему зло». И это создает
Мефистофелю почти непреодолимые трудности, потому что, по народным поверьям, из
тюрьмы начальника дьявол никого не может освободить.
В ответ на настойчивость Фауста звучит несвойственная Мефистофелю
эмоциональная тирада. Мефистофель еще раз напоминает Фаусту о его вине:
«Я не могу развязать узы мстителя, открыть его затворы! "Спаси ее!" — а кто
низверг ее в погибель? Я или ты? Ищешь грома? Как хорошо, что им не
наделили вас, жалких смертных! Раздавить ни в чем не повинного первого
встречного — обычное средство тиранов, с помощью которого они срывают свою
злобу» (233). Потрясающая драматическая мощь, не сравнимая ни с чем в мировой
литературе, делает эту сцену настолько целостной, что она не поддается
приемам аналитического дискурса.
143 Keller W. Faust. Eine Tragödie // Goethes Dramen. Interpretation, hrsg. von W. Hinderer. Stuttgart,
2005. S. 315.
142 Sîl
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФМАОСОФИЯ. ИГРА
В «Прафаусте» сцена «Темница», заключительная сцена первой части
драмы, была написана прозой. Эстетика «Бури и натиска», которой тогда следовал
Гете, при изображении трагических ситуаций предпочитала прозу, так как она
казалась наиболее подходящим средством для создания непосредственности
естественного выражения. Экспрессивность гетевской прозы, ее
эмоциональный накал в этой сцене оказывает на читателя и зрителя мощное
суггестивное воздействие. Невозможно отрицать силу и естественность
прозаического варианта, которому нет аналога в драматургии «Бури и натиска». Однако
в окончательной редакции заключительной сцены первой части Гете выбрал
стихотворную форму, ритмически рифмованную. Конечно, последняя
создавала некую дистанцию от происходящего, прежде всего дистанцию самого
автора. Задача поэта была — добиться равновесия между внешним и внутренним,
которое было художественным принципом веймарских драм. Стихотворная
форма смягчала внешнюю напряженность сцены, но углубляла внутреннюю,
придавая сцене все же больший размах144. Сцена очень трудна для
интерпретации. Полифоническая структура, точнее сказать, ее фрагменты, обломки,
возникающие, по замыслу Гете, от взрыва сознания, обнаруживают себя в этой
сцене, в которой обилие событий, мотивов, высказываний из предыдущих сцен
играет значительную роль145. То, что было в них разведено, теперь предельно
сближается, напоминая стретту в фуге. Часто это сближение происходит при
изменении значения и в искаженной форме, скачкообразно, галлюцинаторно
или же в символических образах. Гретхен находится в состоянии страшного
смятения, в полной отрешенности от внешнего мира; ее бессвязное сознание
реагирует лишь на внезапные эмоциональные импульсы, реагирует
вспышками воспоминаний, принимающих форму бреда. Здесь попеременно безумие и
ясновидение.
Начинающееся безумие Гретхен мы видим уже в сцене «Собор», когда она
слышит слова злого духа, и галлюцинация настолько сильна и ярка, что
Маргарита падает в обморок. Усиление безумия происходит, видимо, во время
процесса над Гретхен как ведьмой, оно — следствие психоза, вызванного допросами
и пытками. Безумие, бред превращаются в спасительное убежище сознания от
невыносимых мук, и в этом бегстве в безумие, в полной отрешенности от
внешнего отражается древнее представление о безумии как о morbus sacer, как о
святой болезни. Наказанная Богом — близкая Богу146.
Открывая железную дверь тюрьмы, куда заключена закованная в кандалы
Гретхен, Фауст слышит песню, которую она поет. В ней все произошедшее с
Гретхен предстает в жутком виде. Это песня из народной сказки «О
можжевельнике». Гете знал ее по устному пересказу еще до того, как Филипп Отто Рунге
записал ее в 1806 году на нижненемецком языке и братья Гримм включили ее
под № 47 в свои «Детские и домашние сказки». В этой сказке злая мачеха убила
своего маленького пасынка, расчленила его, сварила из него студень и
накормила им мужа. Душа убитого ребенка превратилась в птицу, которая после смерти
144 Об этом подробнее см.: Strich Fr., op.cit. S. 81—86.; Schmidt J. op. cit. S. 204—207.
145 Arens H. Kommentar zu Goethes Faust I. Heidelberg, 1982. S. 466 и далее.
146 Schöne Α. Goethe J. W. Faust. Kommentare. S. 376.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 143
злой мачехи воплотилась во вновь оживший человеческий образ147. Но песня
рассказывает только о самом злодеянии.
Как распутная мать
Умертвила меня!
А мошенник-отец,
Мой отец, — съел меня!
А сестричка моя —
Та все кости собрала
И зарыла в тени.
Я красивою птичкою стала:
Ну же, птичка лесная, лети! (235)
Если в балладе «О Фульском короле» Маргарита поет о верности в любви,
пронесенной через всю жизнь, а в песне за прялкой — о своей любви, которой
она не в силах противостоять, то в третьей песне она отдает свой голос убитому
ребенку. Обрабатывая народную песню, Гете придал ей сразу бросающийся в
глаза аллюзивный характер, связав песню с историей Гретхен. Узница не узнает
пришедшего Фауста. Ей кажется, что это палач, что сейчас ее поведут на казнь,
и в ее помраченном сознании проходит вся ее короткая жизнь. Детоубийца
оказывается любящей матерью, которая до сих пор не может понять, что с ней
произошло.
Я теперь в твоей власти, лишилась всего,
Но позволь ты ребеночка мне покормить;
Я всю ночь целовала, ласкала его,
Но они захотели меня огорчить
И ребеночка прочь унесли моего
И сказали, что я умертвила его.
Я веселье свое потеряла совсем,
А они про меня уже песни поют,
Злые люди! Они это в сказке найдут,
А ко мне применять-то зачем? (237)
Из слов Маргариты ясно, что случившееся она не соотносит с собой. Когда
же Фауст впервые за всю драму называет ее по имени, к ней начинает
возвращаться память и она постепенно приходит к осознанию происходящего. Она
наконец узнает Фауста и, узнав возлюбленного, уже верит, что она свободна и
спасена. Но она думает о легальном освобождении и спасении, которое
согласно древнему правовому обычаю было бы возможно, если бы Фауст женился на
ней. В истории XVI века известны многочисленные случаи, когда таким
образом спасали от казни приговоренных к смерти детоубийц148. По-иному Гретхен
мыслить не может. Узнав любимого, она бросается в его объятия; допросы, пыт-
147 Братья Гримм. Полное собрание сказок и легенд в одном томе. М., 2009. С. 253—264.
148 Schöne Α., op.cit. S. 381.
144 ®ь
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФМАОСОФИЯ. ИГРА
ки, безумие не смогли уничтожить ее любовь. Однако девушка сразу осознает,
что Фауст уже не любит ее. Решимость вызволить ее из тюрьмы вызвана лишь
жалостью и состраданием.
А уста твои, друг, холодны
И немы,
А любовь твоя где сохранилась?
Да и как же я здесь очутилась? (239)
Осознание реальности ведет Гретхен к глубокому переживанию своей вины,
от которой она не в состоянии освободиться, если даже покинет тюрьму, но
Маргарита одновременно понимает и вину Фауста, соблазнившего ее. Она знает
также, что он — убийца ее брата Валентина.
Руку милую! Ах, что она так влажна?
Надо вымыть ее, мне сдается, она
Вся в крови. Боже мой!
Что ты сделал, друг мой?
Шпагу снова в ножны вложи! (240)
Дальнейшее развитие диалога показывает, как Гретхен утверждается в
решении остаться в тюрьме и покориться судьбе, и после того, как она принимает это
решение, она уже больше не думает о собственном спасении, она думает еще о
ребенке, о его спасении, и желание его спасти одерживает победу над реальностью.
Туда, где ручей,
Иди по тропинке
В глубь леса, левей,
Где плот над прудом.
Схвати поскорей —
Он виден под водою
И бьется он так...
Спаси, спаси! (242)
Думая только о спасении ребенка, Гретхен оказывается сама уже внутренне
спасенной. Когда Гретхен говорит:
Ты знаешь ли, кому
Даешь свободу ты, кого спасаешь? (240) —
то это не слова безумной, ибо они означают: тебе не страшно спасать от суда
ведьму-детоубийцу, ты спасаешь преступницу от казни. В них полное
осознание реальности своего положения, неотвратимости своей судьбы и крушения
надежд. Безнадежность ее положения становится для нее зримой, когда она
видит Мефистофеля. Мефистофель торопит:
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 145
Уж кони бесятся, дрожат здесь у меня,
Прихода утра ожидая. (243)
Теперь для Маргариты самое страшное испытание, страшнее пыток и суда.
Гретхен понимает, что никогда не исчезавшее в ней чувство отвращения к
Мефистофелю не обмануло ее. Но ей казалось, что любимый сможет защитить ее
от него. Сейчас же ей ясно, кто виновник всех ее бед, кто сделал все, чтобы
разрушить ее надежды.
Что там из бездны возникает?
Ах, он? Гони его! Что он здесь желает,
На месте святом? Он за мной? (243)
И за этим следует не менее страшное прозрение, осознание, что ее
любимый в союзе с дьяволом, что освобождение из темницы возможно только при
участии злой силы, только с ее помощью; быть в ее власти она не хочет, ибо
продолжение земной жизни приведет ее к более страшной бездне и спасение
души станет невозможным. Единственная сила, которая может защитить и
спасти душу, — сила Божья, и к ней взывает Маргарита:
Dein bin Ich Vater! Rette mich!
Ihr Engel! Ihr heiligen Scharen,
Lagert euch umher, mich zu bewahren
Heinrich! Mir graut's vor dir. (4607—4610)
Твоя, Отец! Спаси меня!
Вы, сонмы ангелов, кольцом
Расположитеся кругом,
Чтоб вами охранялась я!
Боюсь я, Генрих, и тебя! (244)
Рассматриваемая нами сцена в качестве референта представляет собой
контаминацию судеб двух святых, — Святой Маргариты Антиохийской и Святой
Маргариты из Кортоны. Первой, Маргарите Антиохийской, смертью угрожал
как христианке римский претор, заточивший ее в темницу, так как она
отказалась стать его женой. В тюрьме дьявол в образе дракона стремился испугать
ее и сделать покорной, но Маргарита не смирилась и ударила дьявола ногой в
затылок. Вторая, Маргарита из Кортоны, была защитницей раскаявшихся
проституток. Невенчанная, она сожительствовала с одним дворянином и имела от
него ребенка. После его страшной смерти Маргарита подвергла себя
многолетнему покаянию и обнаружила в себе мистический дар. В 1728 году она была
причислена к лику святых. Соединив воедино эпизоды из жизни двух святых,
Гете создал модель поведения Гретхен в темнице149.
Предельно короткое завершение сцены и всей первой части трагедии не
может избавить литературоведа от интерпретации того, что произошло после того,
Gaier U., op. cit. S. 141—142.
146 Sx-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФМАОСОФИЯ. ИГРА
как Гретхен воззвала к Богу, прося его и ангелов защитить ее. Мефистофель
слышит призыв Гретхен.
Вся сцена от начала до конца — это смена состояний Гретхен, постоянное
балансирование между безумием, ясновидением и абсолютно точным
восприятием происходящего, и, конечно, эта смена мыслится Гете как видение,
причем с изменением пространства. Обращение к Богу и ангелам представлено как
видение: слетающиеся ангелы образуют круг, который защищает Маргариту.
Власть зла бессильна. Мефистофель видит то же самое. Его слова «Sie ist
gerichtet! Она осуждена!» (244) обращены к ангелам. Мефистофель имеет в виду
земной суд. Он должен препятствовать небесной защите. Голос свыше опровергает
Мефистофеля. Маргарита спасена. Спасена высшими силами.
Раскаяние грешных любимо богами,
Заблудших детей огневыми руками
Благие возносят в чертоги свои.150
(Перевод А. К. Толстого)
В «Прафаусте», кроме слов Мефистофеля: «Она осуждена!», нет голоса
свыше. В классическом «Фаусте» Гете смягчает мрачный конец драмы и
словом «спасена» вводит в драму мотив спасения, указывающий на более
глубокую справедливость, которую заслуживала судьба Гретхен, и на спасение души
самого Фауста.
Гете И. В. Собр. соч. в 10 т. Т. 1. М., 1975. С. 295.
//. Трагедия К В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JiS 147
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1. Объективность второй части
Вторая часть отличается от первой прежде всего структурно. Пять действий
второй части представляют собой грандиозное продолжение развития
фаустовской идеи, которая должна закончиться спасением души Фауста. Голос свыше в
финале первой части как бы намекает на это спасение.
В начале первого действия второй части Фауст после потрясения,
пережитого в тюремной камере Гретхен, перенесен на цветущий луг. Он раздавлен
тяжестью совершенных им преступлений, обессилен и стремится к забвению. Он, по
словам Гете, полностью парализован, даже уничтожен. Кажется, что его
покинули последние жизненные силы. Забвение — единственный удел героя. Однако
близкое к смерти состояние все же временное, и чтобы вывести Фауста из
летаргии, чтобы в нем возгорелась новая жизнь, необходима помощь
могущественных добрых духов. Герой-преступник должен вызвать сострадание, испытать на
себе высшую форму милосердия. Эльфы погружают его в целительный сон и
заставляют забыть то, что произошло.
Забвение это, конечно, не просто провал в памяти, а соединение с добрыми
силами природы, изоляция Фауста от сил зла. Действительно, без забвения здесь
не обойтись. Очень точно определяет этот момент фаустовской драмы Т. Адорно:
«Сила жизни в форме силы для дальнейшей жизни уподобляется забвению. Тот,
кто пробудился к жизни и встречает мир, где "все дышит жизнью вдохновенной",
и вновь возвращается "к земле", способен только на это, он ведь больше не
помнит ужаса от совершенного ранее»151. Забвение здесь идентично очищению души,
оно не есть простое прощение Фауста за давностью срока его преступлений. Гете
необходимо было вернуть своему герою способность действовать, возродить эту
способность, и его возвращение к жизни можно объяснить словами Поля Рикера:
«Ты стоишь больше, чем твои действия»152. Монолог пробудившегося Фауста —
свидетельство этому. Макрокосм и микрокосм соединяются в едином чувстве, и
природа раскрывается ему во всей своей многообразной красоте, мощи и
величии, и эта игра мироздания захватывает Фауста, он чувствует дыхание жизни.
Центральным образом монолога становится солнце.
Исследователи творчества Гете уже давно установили, что философские
воззрения поэта во многом связаны с рецепцией неоплатонической традиции, хотя
последняя трансформирована в гетевском духе. В философии Платона
присутствует метафизическое разделение миров на мир истинный, мир идей,
пирамидально устремленный к высшей идее добра, блага и красоты, — и мир
видимый, схватываемый нашими чувствами: он устремлен ввысь, к солнцу, высшему
151 Адорно Т. В. К заключительной сцене «Фауста». Коллегиум 1-2. СПб, 2004. С. 191.
152 Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 685.
148 βΧ-
Α. Π Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
творению природного космоса, которое является чувственным аналогом идеи
блага. Однако изливающийся из солнца свет в чистом виде невыносим. Если
человек будет смотреть на солнце открытыми глазами, то мощный свет ослепит
его, свет превратится в непроницаемую тьму.
Человек может видеть солнце только в отраженном, преломленном свете,
видеть его во всех вещах природы.
Нет, солнце, ты останься за спиной!
Смотреть на водопад я буду, восхищаясь,
Как шумно со скалы он падает к другой,
На тысячи частиц пред нами разбиваясь,
Потоков новых столько же творя.
Искрится пена там, над пеною шумя,
А наверху, меняясь непрестанно,
Сверкает радуги воздушный полукруг —
То яркая вполне, то выглядит туманно.
Прохладу и боязнь неся с собой вокруг.
Да! Водопад — людских стремлений отраженье.
Взгляни ты на него, тогда поймешь сравненье:
Здесь в яркой радуге нам жизнь предстала вдруг. (250)
Этот полный динамизма образ постоянного изменения мира показывает
характер реальности, и он господствует во всей трагедии. Все вещи мира
находятся во власти времени, и по своей сути они преходящи, бренны. Они падают
в поток времени и исчезают в нем, как струящиеся брызги водопада. Но в этом
беспрестанном падении есть нечто постоянное: над всем этим движением
вещей на своем месте стоит красочная радуга. Она — свидетельство присутствия
бесконечно далекого света, который, конечно, нас ослепит. Свет в радуге
оказывается преломленным, причем преломленным многократно; следовательно,
это ослабленный свет, но он парадоксальным образом оказывает на нас более
сильное впечатление, прежде всего своим многообразием. Вещи в мире
существуют подобно краскам радуги в исчезающих брызгах воды. Они — отблески,
отражения, сравнения, символы. Как символы они говорят нам о присутствии
абсолютного начала, и в них проявляется нечто от абсолютного153.
Реальность для Гете всегда представлена в природе, но измеряется она по
масштабу абсолютного, никогда не превращается в чистое ничто. Природа не
Бог, но бытие природы божественно, и дух, творящее начало, укоренен в
природе, его сверхчувственная сущность не независима от нее. Поэтому к
сверхчувственным вершинам дух не может подняться, не охватив природу. И если
говорить о человеческой деятельности, то перед лицом вечного, абсолютного она не
есть вечное напрасно. Человек действует, стремится, страдает не зря.
Следовательно, также и в недоступном, недостижимом человек может что-то получить,
завоевать; и если в доступном для него человек обращает свой дух, свои усилия
153 См. об этом подробнее: Schadewaldt W. Faust und Helena. Goethe im XX Jahrhundert Spiegelungen
und Deutungen. Hamburg, 1967. S. 265—269.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 149
во все стороны, и здесь, в мире, себя утверждает, то он причастен к вечному,
непреходящему. Мир — не место мук и страданий, а поле самоутверждения.
Конечно, в нем есть разные ступени — высшие и низшие. Все это для характера
реальности в гетевском Фаусте имеет однозначное следствие.
Но тогда неизбежно возникает вопрос: в каком отношении к этому миру
находится человек, какое место он в нем занимает? Ведь все, что есть у человека,
все, в чем воплощены его способности, может исчезнуть: сила, знание, счастье,
добродетель... Может ли человек в этом мире вечного непостоянства, мире
вечного становления, в непостоянстве всего преходящего иметь что-то устойчивое,
пребывающее, постоянное? Ответ ясен. Этим постоянным будет только форма
изменения, изменение как таковое. Dauer im Wechsel. Внутренняя сущность
человека и есть вечный переход из одного в другое.
Постоянство движения выражается у Гете словом, которое поэт полюбил
еще смолоду: streben. Человек — это стремление, и оно подчинено тому, что
царит во всей природе: порывам. Но путь стремящегося человека, каким он
обнаруживает себя в мире преходящих вещей, есть опять-таки непостоянство, и если
мы посмотрим на человеческое стремление через призму абсолютного, то мы
поймем, что во всех случаях это ошибка: «В ошибки человек впадает, стремяся
к истине, всегда» («Es irrt der Mensch, solang er strebt»). Ошибки с
необходимостью вызваны стремлением, но стремление — единственная форма достичь
высшего, и, конечно, это стремление и есть самое благородное в человеке.
4 февраля 1829 года Гете сказал Эккерману: «Пусть человек верит в
бессмертие, у него есть право на эту веру, она свойственна его природе, и религия его в
ней поддерживает. Но если философ хочет почерпнуть доказательство
бессмертия души из религиозных преданий, дело его худо. Для меня убежденность в
вечной жизни вытекает из понятия действительности. Поскольку я действую
неустанно до самого своего конца, природа обязана предоставить мне иную форму
существования, ежели нынешней не удержать дальше моего духа»154.
Часть благородная спаслась.
Отвергнув силу злую:
Всю жизнь свою вперед рвалась.
Как не спасти такую? (560)
Так говорят ангелы, унося бессмертную сущность Фауста. И только в
конце трагедии возникают очертания идеи, которую невозможно свести к одной
мысли, ибо то, что здесь сказано, говорит только об ее деятельном характере;
сама же идея — всего лишь продуцирование нашим сознанием жизни мирового
целого, что составляет смысл человеческого бытия.
«Немцы чудной народ! — говорил Гете Эккерману. — Они сверх меры
отягощают себе жизнь глубокомыслием и идеями, которые повсюду суют. А надо бы,
набравшись храбрости, больше полагаться на впечатления; предоставьте жизни
услаждать нас, трогать до глубины души, возносить ввысь... Но они подступают
ко мне с расспросами, какую идею я тщился воплотить в своем "Фаусте". Да по-
154 Эккерманн И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. С. 281.
150 Si-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
чем я знаю? И разве могу я это выразить словами?»155. Имя этой идеи — жизнь,
жизнь природы и духа, и в искусстве она должна быть представлена в стадиях
своего возвышения, подобно тому, как действует природа в своем
беспрестанном возвышении, в которое включен человек. Поэтому сложнейшие
взаимосвязи, существующие в мире, требуют особого художественного мышления, как бы
мы сказали сегодня, особого дискурса. Последний должен фиксировать то, что
фиксируется с большим трудом. Отсюда и возникает несводимость жизни
природы к точно определенной и априорно заданной идее. Попытка использовать
таковую в качестве художественного дискурса казалась Гете упрощением
мировых связей. Напомним еще раз слова Гете: «Природа не имеет системы, она сама
жизнь от неизвестного центра к непознаваемому пределу. Рассмотрение
природы поэтому бесконечно, будь то в рамках деления на частности либо в целом
ввысь и вширь». Если это так, то художественный дискурс делается невероятно
сложным. Он одновременно должен идти в разных направлениях; как бы сказал
Иосиф Бродский, быть центробежным и центростремительным, устремляться
вперед, ввысь, расширяться в сторону непознаваемого предела, то есть быть
расширением горизонтов и в то же время усиливать свою связь с центром,
который трудно определим. Это обстоятельство объясняет всю сложность гетевско-
го мышления, с которой мы все время сталкиваемся, читая вторую часть
«Фауста». Действительно, многим мыслящим в гегелевских категориях, прежде всего
в категориях диалектического развития идеи, структура второй части кажется
размытой, рыхлой в противоположность структуре части первой. Эпической
поэмой, состоящей из пяти самостоятельных пьес, — такой она казалась Теодору
Адорно, и не только ему; более того, в ней находили черты старческого стиля,
понимая под этим аморфность, отсутствие концентрации, постоянные
отвлечения от главной темы. Критика исходила от выдающихся фигур XIX и XX веков:
от Р. У. Эмерсона и Т. С. Элиота. С другой стороны, вторая часть представлялась
произведением, предназначенным для разгадки любых тайн.
В отличие от первой части «Фауста», содержательные моменты здесь
определены не причинно-следственными отношениями, имитирующими
механистичность мышления. Устойчивая привычка считать эти отношения в искусстве
универсальными не позволяет исследователю даже самого высокого ранга
понять композиционные принципы второй части. Она с этой точки зрения
кажется рыхлой, в ней налицо множество самых разнообразных, разрозненных, мало
связанных между собой мотивов. Но сразу следует сказать, что для позднего Гете
причинно-следственные отношения не являются универсальными, способными
охватить все многообразие материала. Поэт вступает на крайне сложный путь.
Задача здесь состоит в том, чтобы, сохраняя временную направленность сюжета
в будущее, постоянно охватывать целостность времени; в каждом мгновении
должна присутствовать вечность, центростремительность повествования
должна сочетаться с центробежностью. Но центр парадоксальным образом остается
неизвестным, а предел движения непознаваемым. Эта космичность второй
части, ее единство создается необычным образом: созданием символических точек,
символических мотивов и образов, которые находятся в состоянии взаимоотра-
155 Там же. С. 534.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 151
жения и создают зеркальную оптику. Гете уже в самом начале второй части
использует серию проспективных образов-символов, определяя тем самым такую
направленность текста, которая вызывает появление аналогичного образа, но на
более высоком уровне. Это возможно лишь при использовании поэзией игры,
точнее, игровых моделей, и эта имитация игровых структур начинается уже в
первом действии.
Замечательный маскарад, на первый взгляд, совершенно самостоятельный
и избыточный для общего сюжета, казалось бы, задерживает это действие. На
самом деле — это «Фауст» в «Фаусте». Условность маскарадного действа
позволяет Гете сконцентрировать в нем почти все проблемы, которые будет решать
вторая часть трагедии. Образы маскарада играют здесь роль символических
проекций. Это забегание вперед в развитии сюжета создает систему зеркал.
Проспективный символический образ соответствует другому образу, и зеркальность
отношений усиливает воздействие образов, явившихся в результате развития
фаустовского сюжета. Маскарадное действо ведет нас сначала к двум
центральным его образам: мальчику-вознице и Плуту су, за маской которого скрывается
Фауст. С появлением мальчика-возницы игра открывает нам мир поэзии. Этот
персонаж — ее символ, и вся сцена с ним представляет собой аллегорию поэзии,
сущность которой, говоря словами Ницше, — «дарящая добродетель», в
контексте с жадностью, скупостью и алчностью. Поэзия дарит миру многообразие
форм, расточительная фантазия поэта творит бесчисленные картины и образы,
создавая прекрасный мир видимости, от чар которого невозможно избавиться.
Это — эстетический принцип второй части «Фауста».
Желание Гете отойти во второй части от привычной строгой
драматической каузальности объясняется прежде всего тем, что широкая и
многоуровневая структура драмы основывается на историческом содержании гетевского
времени, погружена в него. Она держится на более или менее
хронологической последовательности более или менее замаскированных эпох, на
непосредственных или опосредованных интересах, наблюдениях и опыте поэта, ареал
которых кажется безграничным. Но на этом основании нельзя утверждать, что
мы имеем дело лишь с аллегорической биографией Гете. Конечно, такого рода
утверждение было бы упрощением, так как, по словам самого поэта, действие
третьего акта «развивается на протяжении трех тысяч лет от гибели Трои до
взятия Миссолунг», и это, продолжал развивать Гете свою мысль, «тоже можно
считать единством времени, с высшей точки зрения, единство же места и
действия точнейшим образом соблюдены в обыкновенном смысле»156. Тем самым
указывается, что эпизоды второй части укоренены в различных эпохах
гетевского времени, что действие также определяют не одни только исторические и
политические мотивы, а в драме присутствуют и более высокие, надисторические
и временные темы.
Гете постоянно подчеркивал, что вторая часть была им задумана по-иному,
нежели первая. Поэт стремился преодолеть фрагментарность, вызванную
«варварской композицией источника, чтобы разум и рассудок могли предъявить к
156 См.: письмо Гете В. фон Гумбольдту от 22 октября 1826 // Гете И. В. Собр. соч. в 13 т. Т. 13. М.,
1949. С. 502.
152 Sîl-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФМЯ. ИГРА
ней требования обобщающего характера: специфическое должно было перейти
в родовое.
Беседуя с Эккерманом 17 февраля 1831 года, Гете говорил: «Почти вся первая
часть субъективна. Она написана человеком, более подвластным своим страстям,
более скованным ими, и этот полумрак, надо думать, как раз и пришелся людям
по сердцу. Тогда как во второй части субъективное почти полностью отсутствует,
здесь открывается мир более высокий, более обширный, светлый и бесстрастный,
и тот, кто мало что испытал и мало пережил, не сумеет в нем разобраться»157.
В 1827 году, когда был издан третий акт, Гете в шестом томе «Искусства и
древности», вып. 1, напечатал заметку «Об эпической и драматической поэзии»,
возникшую из его переписки с Шиллером в 1797 году. Собственно, этот
небольшой текст касался не только разделения родов поэзии, но многое объяснял во
второй части «Фауста».
Конечно, слишком грубым и неточным было бы утверждение, что различие
между обеими частями драмы состоит в том, что в первой части преобладает
драматическая трактовка материала, а во второй — эпическая. Ведь в первой
части наряду с устремляющимися «вперед» мотивами, которыми
«преимущественно пользуется драма», мы также находим мотивы «отступающие, такие,
которые отдаляют действие от его цели»158. Последними пользуется почти
исключительно эпическая поэзия. «Чувственная пространственность» и медленный
ход эпического повествования в противоположность устремленному вперед
драматическому действию проявляют себя во всей полноте лишь во второй
части «Фауста», причем поэт в широких символических и аллегорических
очертаниях показывает нам события как исторические, «как обращенные к
прошлому», поскольку эпическая поэзия изображает «человека, действующего вовне:
битвы, странствия, всякого рода предприятия, обусловливающие известную
чувственную пространственность»159.
Происходящее на сцене обретает эпические черты, и сам герой в
определенной степени получает эпический характер, который в драме в целом несколько
отодвигается на второй план, открывая перспективу обзора объективного мира.
Действительно, именно здесь поэтическая щедрость Гете, кажется, не
знает предела. Но это богатство образов пронизано символической связью,
которая постепенно ткет картину в последовательности, предусмотренной поэтом.
Так, мальчик-возница — прообраз Эвфориона, сына Фауста и Елены. Объясняя
Эккерману значение маскарада, Гете сказал: «Вы, конечно, догадались, что под
маской Плутуса скрывается Фауст, а под маской скупца — Мефистофель. Но
кто, по-вашему, мальчик-возница?» Эккерман не знал, что ответить. «Это Эв-
форион», — сказал Гете. Когда же удивленный Эккерман спросил поэта, как же
сын Фауста и Елены может быть среди участников маскарада, когда он
рождается только в третьем действии, Гете ответил с предельной ясностью: «Эвфори-
он — не человек, а лишь аллегорическое существо. Он олицетворение поэзии,
а поэзия не связана ни со временем, ни с местом, ни с какой-нибудь личностью.
157 Эккерман. И. П. Указ. соч. С. 400.
158 Гете И. В. Об искусстве. М., 1975. С 351.
159 Гете И. В. Там же. С. 351.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея ЛЕ> 153
Тот самый дух, который изберет себе обличие Эвфориона, сейчас является нам
мальчиком-возницей, он ведь схож с вездесущими призраками, что могут в
любую минуту возникнуть перед нами»160.
Создается впечатление, что вся вторая часть, в отличие от первой, имеет
призрачный характер, но эти призраки обладают такой мощной символической
силой, что мы воспринимаем их как наиреальнейшую реальность. Сам
маскарад есть не что иное, как «Фауст» в «Фаусте», своего рода проспективный
интертекст, определяющий дальнейшее развитие драмы161. А она развивается как
последовательность ситуаций, в которых образы получают все большую
выпуклость, а следовательно, и все большую символическую силу. Авантюра с
магическим вызыванием Елены и Париса по просьбе императора чуть было не
стоила Фаусту жизни, но в то же время вызвала необходимость обращения к
миру прообразов всех существ, к дионисийской сфере становления. Поэтому
герою необходимо увидеть все стадии этого становления, чтобы встретиться с
нетленным образом земной красоты, воплощенном в Елене.
2. Новое время, демония и алхимия
В германистике давно уже утвердилась точка зрения, что объективность
второй части «Фауста», о которой Гете говорил Эккерману, неразрывно связана со
стремлением поэта показать в драме противоречивые тенденции Нового
времени и в первом и во втором актах дыхание этой эпохи, в том числе и
современных Гете социально-политических, экономических, научных, философских
и эстетических идей получило достаточно широкое отражение.
Культурологически ориентированная интерпретация «Фауста» Й. Шмидтом стремится
наполнить гетевские образы содержанием истории культуры, что дает возможность
Шмидту совершенно справедливо утверждать, что «представляемая Вагнером
и Гомункулом наука берет свой исток от Ренессанса, чтобы быть действенной
вплоть до эпохи Гете и там достичь своей высшей точки».
Рождению Гомункула предшествуют события первого акта второй части, и
на первый взгляд кажется, что к нему они непосредственного отношения не
имеют, но возникшая здесь вновь алхимическая тема связана уже не с Фаустом, а
с деяниями Мефистофеля, и Гете тем самым акцентирует демонический аспект
алхимических действий. Важный для нашего исследования мотив начинает
звучать в сцене первого акта «Императорский дворец», причем в более широком
контексте. Эта сцена, как и весь первый акт, показывает нам решительное
вторжение Нового времени в историю, смену эпох, и все поведение двора,
застигнутого врасплох этим вторжением, демонстрирует не только растерянность, но
и отличительные черты новой эпохи, отмеченной безграничной, можно сказать,
непобедимой, таинственной властью денег над всем происходящим. Скрытая
160 Там же. С. 340.
161 Об этом см. подробно в статье: Е. В. Тузенко. Маскарад во второй части «Фауста» Гете //
Преломления: труды по теории и истории литературы, поэтике, герменевтике и сравнительному
литературоведению. Вып. 5. СПб, 2007. С. 13—38.
154 SL
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФМЯ. ИГРА
от людей природа денег дает о себе знать совершенно неожиданным образом во
всем, что составляет межчеловеческие отношения, и власть денег на глазах
обретает характер космической силы, приобщаясь к которой человек погружается
в неведомую ему стихию и становится от нее полностью зависимым. Как
феодальный мир, представленный императорским двором, земной властью,
тешащей себя иллюзией, что она получила свою легитимацию от власти небесной, так
и мир бюргерский, связанный с этой земной властью денежными отношениями,
включены в жизненный круговорот, основанный на обмене, где мерой становятся
только деньги или их эквивалент — золото, и наличие денег определяет характер
взаимоотношений императорского двора и бюргерского мира. Всевластие денег
выглядит у Гёте и как изменение человеческого сознания, даже как переоценка
всех ценностей. На это обращает внимание Й. Шмидт: «Исходя из фактического
возникновения экономии Нового времени, Гёте диагностирует изменение
ментальное™, даже переоценку ценностей, экономизацию мышления и понимания
мира. С капитализмом Нового времени возникает не только другая форма
хозяйства, а также захватывающий все и все трансформирующий экономизм»162.
Как следствие проникновения в сознание власти денег возникает
гражданская война, присутствующая в первом акте, правда в латентной форме, война
всех против всех; в открытой форме она разразится в четвертом акте и будет в
известной степени определять пятый акт.
Сейчас же Гёте показывает нам нарастающий хаос, в котором находится
империя, и иллюзорную попытку его преодоления путем распространения в
стране необеспеченных бумажных денег — рецепт Мефистофеля. Финансовое
банкротство паразитического двора приводит к анархии и развалу государства,
власть существует сама по себе, распад государства стал уже свершившимся
фактом. То, что речь об этом ведет казначей, человек, видящий источник
всеобщего кризиса, не оставляет сомнения в том, что причины анархии и развала
государства обусловлены отсутствием в стране денег, неспособностью
государства платить по кредитам и оплачивать труд людей. Бездарная власть промотала
деньги и выглядит совершенно беспомощной.
А на союзников возможно ль полагаться?
Где их субсидии, обещанные нам?
Как в трубах дождевых воды, им не дождаться
Порою засухи, отсутствующей там!
Владенья у кого, скажи нам, повелитель,
В твоей стране? В руках они каких?
Куда ни глянешь, новый там властитель
И независимым быть хочет от других.
И нужно посмотреть, как пользуется властью!
Мы столько прав повсюду надавали,
Что сами ничего себе не удержали.
На партии надеяться, к несчастью,
162 Schmidt J. Goethes Faust. Erster und Zweiter Teil. Grundlagen Werk Wirkung. München, 1999.
S.321.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 155
Сейчас не можем мы. Враги ль они, друзья ль?
Любовь и ненависть различны им едва ль!
Все эти гвельфы, гибеллины
Сидят, попрятавшись, и ценят свой покой.
И помощи соседской никакой:
У всякого свои и цели, и причины.
Совсем завалены ворота золотые:
Всяк там старается, всяк ищет для себя,
Всяк собирает только. У тебя
Хоть кассы есть, но все они пустые. (254—255)
Из слов казначея ясно, что своекорыстие определяет партикулярные
интересы подданных, и беспомощный Император вместо напряженной созидательной
деятельности судорожно пытается спасти разваливающееся государство, отдав
часть своей власти, обменяв ее на верность трону, и, как мы видим, эта верность
превращается в предмет купли-продажи. При таком положении дел двор ведет
себя расточительно и паразитически, более того, власть неспособна вести себя
по-иному. Расточительность, паразитизм, страсть к наслаждениям, откровенный
гедонизм — это имманентное свойство власти, доведшей страну до анархии и
хаоса163.
Но по другому двор вести себя не может. Необходимо любым путем
получить деньги, которые позволят ничего не менять как в жизни государства, так и
в своем поведении. Мефистофель мгновенно схватывает эту ситуацию.
Стремление его негативного сознания заключается в том, чтобы сделать ее прозрачной
и представить как следствие природной необходимости.
Рецепты спасения империи, которые припас Мефистофель, полностью
укладываются в его представление о человеке, для которого характерно ожидание
чуда вместо напряженной сознательной деятельности, жажда обогащения,
приверженность к кладоискательству. Смысл всех речей Мефистофеля сводится к
тому, чтобы подготовить двор к афере с бумажными деньгами, и для этой цели
он использует ученого-астролога, суфлируя ему. Стремясь скрыть
криминальный характер этой аферы, Мефистофель вкладывает в уста придворного
астролога слова, которые выглядят взятыми из руководства по алхимии, созданного в
позднем Средневековье.
И солнце самое блестит подобно злату,
Меркурий весть несет за милость и за плату;
Венера вам довольно ворожила,
Придет опять и улыбнется мило;
Луна, хоть девственна, причудливой бывает;
Коль Марс не встретится, он нам не угрожает.
Юпитер, как всегда, сиянием блистает;
Сатурн, хоть и велик, но не таков на глаз:
Он виден маленьким, да и далек от нас,
163 Об этом см. подробнее: Zabka T. Das Klassische und das Romantische. Goethes Eingriff in die
neuere Literatur. Tübingen, 1993. S. 230—233.
156 Зь
А. Т. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ ФИАОСОФИЯ. ИГРА
И как металл у нас цены он не нашел,
Добротность так себе, и слишком он тяжел.
Вот если Солнышко с Луной соединятся
И злато с серебром, так все развеселятся:
Появятся дворцы и всякие садочки,
И перси нежные, и розовые щечки;
Достигнет этого ученый человек.
Из наших никому не сделать и вовек. (258)
Черт говорит о двойственной роли планет, и его задача — придать золоту и
серебру, определяющим земное богатство, меру этого богатства, космическое
значение. В форме алхимических проекций он ведет речь так, чтобы она
завершилась алхимическом браком Солнца и Луны. Конечно, то, о чем говорит
астролог, выглядит таинственно. Однако мы имеем дело с простейшими
алхимическими аллегориями. В построениях алхимиков Солнце означает золото и сердце;
Луна — серебро и мозг; Венера — медь и лоно. Меркурий, как уже было ранее
сказано, это ртуть, имеющая свойство очищать металлы. Луна оказывала
воздействие на расположение духа и настроение человека. Как металл она была серебром
и в античной мифологии — богиней-девственницей. Марс, бог войны, как
планета соответствовал железу. Юпитер считался самой светлой и великой планетой,
изливавшей чистейший свет, и ему у алхимиков соответствовало олово. Планете
Сатурн, приносящей чаще всего несчастья, родиться под знаком которой означало
быть инертным и умственно отсталым, соответствие находили в свинце164.
Тирада астролога завершается прославлением золота и серебра, которое
выглядит как алхимический брак, и брак этот означает создание денег,
определяющих доступ ко всему на свете, прежде всего к земным наслаждениям.
Астро-алхимические рецепты Мефистофеля и использование им
мифологических солярных и лунарных проекций алхимиков преследуют лишь одну цель —
сделать алхимию орудием дьявольского преображения мира, превратив мир в
место стяжательства и разврата. Для этого Мефистофель всячески стремится
устранить метафизический смысл алхимических представлений о золоте, и
такое устранение возможно, так как в алхимии солнце отождествляется с золотом
и обозначается одинаково с ним. Но если обратить внимание на особенность
метафизических проекций, то оказывается, что «философское» золото — вовсе
не земной металл, простое золото, и Солнце — не небесное тело и не может
отождествляться с металлом. Солнце в метафизическом смысле — это активная
субстанция, скрытая в золоте, обладающая благоприятным эффектом. В
фантастических представлениях алхимиков — это активная солнечная субстанция.
У человека она образует «коренную влагу, происходящую из небесных вод»;
она — «сияние» или «светящееся тело», которое «от рождения человека
оживляет внутреннее тепло и от которого происходят все движения желаний и воли
и принципы всех потребностей»165. У алхимиков речь идет о живом духе, обита-
164 Trunz Ε. Anmerkungen // Faust. Hrsg. und kommentiert von E. Trunz. München 1999. S. 590. См.
также: Schreiber Η. Geschichte der Alchemie. München 2006. S. 194.
165 Юнг К. Г. Mysterium coniunctionis (Таинство воссоединения). Минск, 2003. С. 98.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 157
ющем в мозгу и в сердце, и Солнце для них представляет собой не конкретное
химическое вещество, а энергию, силу, обладающую порождающим и
преобразующим свойством. В человеческом сердце оно аналог физического Солнца, и
оно сердцеподобно и обусловливает жизнь и тепло. Такое Солнце — источник
человеческой энтелехии, божественной искры в человеке, которая и направляет
человека к истине и Богу. Поэтому Мефистофелю важно самым решительны
образом оторвать Солнце и золото от их метафизического смысла в астро-алхимии
и свести их к чистой материальности, сделать Солнце и золото аналогом
непроницаемой тьмы, темного инстинкта. Если обратиться ко всем материалам,
связанным с «Фаустом», в том числе и к сценам, которые Гете не включил в текст
трагедии, в частности к сцене с Сатаной, эта сцена должна была в первой части
завершать Вальпургиеву ночь и речь астролога есть не что иное, как пристойная
вариация проповеди Сатаны, обращенной к его пастве. Здесь хор бесов и ведьм
ждет от своего повелителя слов, открывающих ему смысл «вечной жизни
сокровеннейшей природы», и Сатана обосновывает необходимость сексуальной
оргии, которая должна венчать его культ природной необходимостью. Мы имеем
дело с сатанической деконструкцией не только мироздания, но и человеческого
сознания.
Откровенная брутальность Сатаны со всей очевидностью раскрывает смысл
всех затей Мефистофеля при императорском дворе, и двойственная природа
золота дает черту возможность в первом акте увлечь Императора идей кладо-
искательства. В словах Мефистофеля в завуалированной форме слышится речь
Сатаны. Он груб в разговоре с Императором, и в его словах можно проследить
сексуальные коннотации.
События второго акта начинаются в готически-средневековом кабинете
Фауста и в алхимической лаборатории Вагнера. Опять перед нами пространство,
где рождается научная мысль, и, конечно, возникновение нового в рамках, в
границах старого невозможно представить себе без участия Мефистофеля, ибо
черт у Гете всегда провокатор историчности бытия, хотя для него новое,
рожденное исторической изменчивостью, подобно мотылькам, жукам и прочим
насекомым, высыпавшимся из старой шубы Фауста. Для его негативного
сознания любое изменение — подтверждение полной несостоятельности Божьего
творения. Новое всегда найдет себе приют в старом, и ему, инспиратору всякого
рода потрясений, ясно, что новое, мнящее себя живым, быстро будет поглощено
мертвым. Наука — это старая Фаустова шуба, и ее надо потрясти и выпустить из
нее, как насекомых, то, что мыслит себя как новое, и последнее в конце концов
найдет свое место в хламе старых мыслей.
Как твари молодой приятно появленье!
Вы сейте лишь, пожнете все потом!
А меха старого полезно им трясенье:
Что ни трясу, а валит все валом.
Летайте, милые, кружитесь где угодно!
Запрячьтесь в тысячи незримых уголков —
Меж старыми коробками свободно,
158 S*-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Среди пергамента, в пыли горшков,
В глазах всех этих черепов!
Не может быть, чтоб вас не приютили
Богатство хлама, с ним и всякой гнили! (328—329)
И если Мефистофель колокольным звоном хочет произвести переполох в
этом святилище науки, так только для того, чтобы еще раз посмеяться над
жалкими притязаниями человека и его знания. Ему хочется себя позабавить,
представляясь доцентом, разыгрывая из себя ученого авторитета, наблюдая за
человеческим тщеславием.
Наступление Нового времени в «Фаусте» возвещается пугающим звоном
колокола — резким пронзительным звуком, от которого дрожат стены, настежь
открывается дверь. Это мефистофельский способ оповещения. Черт
становится герольдом новой эпохи; он, конечно, начинает действовать сообразно своим
принципам. Однако его действия во второй части драмы имеют свои
особенности, о которых необходимо здесь сказать.
3. Дух, летящий в колбе. Фигура Гомункула
Если мы стоим на точке зрения, что в процессе изменения стиля трагедии и
концепции Фауста во второй части происходит перестройка всего
драматического действа, что совершенно естественно, то тогда нам должны броситься в
глаза и заметные изменения в концепции образа Мефистофеля. Объективность
второй части выражается в том, как указывает Эмиль Штайгер, что в ней речь
идет о «природе вещей» — de rerum natura, — о государстве, о юности и
старости, Античности и Новом времени, о Севере и Элладе, о начале и конце жизни,
о хаосе и образе, а не о Фаусте как характере и индивидуальности166. Во второй
части мы видим объективный строй жизни, и в ней «Фауст не всегда, но на
широком пространстве текста присутствует только для того, чтобы в душе, в духе
вспыхнула сущность вещей»167. То же самое происходит и с Мефистофелем. Его
взгляд необходим для освещения вещей.
С этой фигурой, как и с Фаустом, происходят превращения, которые
заставляют ее выпасть из роли, определенной ей в первой части драмы. Игровые
ситуации, которыми изобилует вторая часть «Фауста», заставляют драматических
персонажей, в особенности Мефистофеля, играть различные роли. В первом
акте, в конце сцены в «Императорском дворце», он, оставшись один говорит:
Сейчас заслуга здесь и счастие совпали,
А это дуракам едва ли б удалось:
Пусть камнем мудрости они б и обладали,
Да мудреца б у них для камня не нашлось! (262)
Staiger Ε. Goethe. Bd. III. Zürich, 1959. S. 356.
Staiger Ε., op.cit. S. 356.
77. Трагедия К В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 159
В первой части Мефистофель так себя не ведет. Он говорит там только как
партнер других персонажей. Во второй части он, напротив, остается не
связанным со своими партнерами на сцене, как показывает цитированный нами
пример, он получает способность разделить себя, меняя перспективы. Покидая
континуум действия и принимая вторую перспективу, он становится партнером
публики, зрителей. Во втором акте Мефистофель, надев на себя маску
ученого, доцента, учит не только фамулуса и бакалавра, но и зрителей. Не обращая
внимания на своего партнера по диалогу, он прерывает сценическое действие
прямым обращением к публике.
«Мефистофель (передвинувшись в своем кресле на колесах вперед по
авансцене, обращается к партеру).
Лишает молодежь меня и воздуха, и света,
И черта лысого она не признает!
Надеюсь, что у вас не буду без привета?
Так звучит его возражение на слова бакалавра:
Да немец вежлив, лишь когда он врет. (334)
Мефистофель не отвечает бакалавру, который раздражает его своей
глупостью и тщеславием, верхоглядством и безмерным субъективизмом; бакалавр как
партнер по диалогу забыт. Черт надеется найти поддержку и приют у зрителей,
запутавшихся в вежливой лжи, он надеется, что не только на сцене, а в
жизненной действительности зрителей у него будет много дел по разоблачению и
срыванию масок. Партеру он предстает в своей функции иронического
разоблачителя, когда ложь выступает под личиной правды, и эта его функция усиливается в
конце сцены. Мефистофель обращается к той части партера, где сидят молодые
люди:
Навстречу мне от вас лишь веет холод;
Но не сержусь я, дети, оттого:
Подумайте, как черт уже не молод,
Состарьтесь вы, чтоб понимать его! (336)
Обращаясь к молодежи, разделяющей взгляды самоуверенного бакалавра,
Мефистофель просвещает ее относительно самого себя, и этим расширяется
пространство театральной игры. И игра в игре в обращении Мефистофеля к
публике становится серьезностью, ведь черт совершенно серьезно и
рассудительно указывает на опасности, которые угрожают человеку и мешают его
самореализации. Такая игра в игре продолжается и в других сценах второго акта.
Поскольку Мефистофель представился фамулусу человеком, который может
принести «счастье», целиком погрузившись в труды Вагнера, мы должны
предположить, что черт не ограничится ролью стороннего наблюдателя и в какой-то
момент вмешается в эксперимент, затеянный Вагнером. Более того, исходя из
160 SL
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
вышесказанного, мы также можем предположить, что Мефистофель по-своему
будет объяснять смысл происходящего. Предупреждающий звон колокола
пугает экспериментатора, вырванного из созерцания алхимического процесса.
Склонившийся над алхимической печью Вагнер ждет завершения «чудесного дела»,
которое он считает своим, нисколько не подозревая, что «звездный час»
наступит тогда, когда черт вмешается в дело и будет содействовать осуществлению
начатого эксперимента. В лаборатории, заполненной всякого рода аппаратами,
пригодными для фантастических целей, происходит алхимическое рождение.
По замыслу Вагнера, в результате алхимического процесса должен возникнуть
человек. Так как в «Фаусте» трудно найти событие, когда бы в игру не
включался Мефистофель, то и здесь ясно видится его роль; не важно, заранее ли черт
продумал весь ход эксперимента или же включился в него, сразу же поняв, чего
хочет Вагнер, увидев, что абсурдный эксперимент завершится неудачей, можно,
однако, только сказать: присутствие черта достаточно для того, чтобы «дать
последний толчок сомнительному эксперименту»168.
Мефистофель управляет алхимической проекцией Вагнера, поэтому
появившийся в колбе дух сразу узнает своих родителей. Гете достаточно
подробно объяснил Эккерману связь Гомункула с демоническим началом. Однако
сразу же показал ему, что этот созданный алхимическим экспериментом дух уже
полностью независим от Мефистофеля, ведь роковая ситуация черта в
«Фаусте» — желая всему зла, творить доброе. «Вы убедитесь, что Мефистофель
во многом уступает Гомункулу, последний равен ему ясностью прозорливого
ума, но своей тягой к красоте и плодотворной деятельности значительно его
превосходит». Сказав это, Гете сразу же объяснил, почему в Гомункуле сильно
демоническое начало. «Впрочем, он зовет Мефистофеля брательником, ибо
духовные создания вроде Гомункула, не до конца очеловеченные и поэтому еще
не омраченные и не ограниченные, причислялись к демонам, отсюда их
родственная связь»169.
Создатели Гомункула ведут себя по-разному. Вагнер до прихода
Мефистофеля с восторгом ученого энтузиаста созерцает алхимический процесс, стараясь
не упустить из вида ни одну из его стадий.
Истома ждать меня одолевает,
Но близится конец и ей.
Был в колбе мрак, но там, на дне светает,
Как уголь пламенный или гранат,
Он темноту лучами прорезает,
Как тучи черные — блестящих молний ряд.
Вот появляется и чистый белый свет... (337)
Свет, появляющийся из тьмы, похож на лунный свет, а Луна, в
представлениях алхимиков, «есть сущность природы металлов, которые вместе составляют
168 Müller J. Die Figur des Homunculus in der Faust-dichtung // Müller J. Neue Goethe-Studien. Halle,
1969. S. 193.
169 Эккерман И. П. Op. cit. С. 336.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 161
ее сияющую белизну»170. Здесь следует обратиться к интерпретации
алхимических проекций Карлом Густавом Юнгом; поскольку гетевский Вагнер стремится
к созданию человека, к раскрытию тайны воссоединения, то, следовательно,
алхимический процесс должен символически представлять это таинство, ее
имитацию. «Селена (Луна. — Α. Α.), как утверждает Плутарх, — это муже-женщина,
оплодотворенная Гелиосом. Я упомянул эти слова, потому что они показывают,
что луна обладает двойным светом — внешне женским, но внутри мужским,
таящимся в ней огнем. Луна действительно мать солнца, а это означает, что
бессознательное беременно сознанием и рождает его»171.
Иронические комментарии Мефистофеля к объяснениям Вагнера
обращены больше к зрителям; в них, конечно, притворное удивление происходящим
в реторте, и в то же время слова Мефистофеля заставляют Вагнера раскрыть
сущность замысла.
Неясно мне, пока не объяснится:
Какая здесь и как возлюбленная пара
Могла застрять у вас средь этого угара? (338)
На самом же деле черт убежден в том, что именно его действия вызвали
появление света на дне колбы, появление света из тьмы:
Я часть той тьмы, что гордый свет дневной
Произвела. Он с матерью своею
За первенство доселе спор ведет,
Но так не смог возвыситься над нею. (78)
Мефистофель вторгся в лабораторию Вагнера как раз в тот момент, когда
последний приступил к решающей стадии своего изначально обреченного на
неудачу эксперимента по созданию искусственного человека. Многократные
алхимические опыты и расчеты должны привести, как думает ученый педант, к
победе интеллекта над природой, и энтузиазм этого победителя природы можно
рассматривать как пародийную аналогию фаустовского экстатического
состояния во время заклинания Духа Земли. Тогда Фауст, столкнувшись со
сверхчеловеческой силой, не пожелавшей видеть в нем родственное начало, выведен
из своего возвышенного видения неожиданным визитом Вагнера. Унижение,
испытанное Фаустом, едва не привело его к самоубийству, ведь Дух Земли,
мощная созидательная сила мироздания, с которой он хотел соединиться, отверг
притязания Фауста, презрительно назвав его сверхчеловеком, бросив ему, что он
подобие духа, который он носит в себе, т. е. Люциферова духа. Приход
Мефистофеля в лабораторию не вносит диссонанса в происходящее. Наоборот,
алхимический процесс близок к завершению, его ускоряет Мефистофель, и Вагнер,
сам того не подозревая, своим экспериментом, в основе которого лежит гордыня
разума, пытающегося торжествовать над природой, просто выполняет замыслы
Люцифера и его посланца Мефистофеля.
170 Юнг К. Г. Mysterium conjunctiones. (Таинство воссоединения). Минск: «Харвест», 2003. С. 176.
171 Юнг К. Г. Указ. соч. С. 177.
162 S^
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Для Вагнера сотворение человека в реторте означает окончательный разрыв
разума с природой и его полную победу над ней. Деэротизация человека
выглядит у Вагнера как возвышение разума, как комическое сведение органической,
живой природы к неорганической, которая путем алхимических манипуляций и
проекций алхимиков должна быть преобразована в некое чистое существо,
возникшее не через зачатие и развивающееся как организм, а как стесненная,
подавленная разумом природа, которую путем фильтрации необходимо очистить и
превратить в дух. Вагнер вещает:
Другой
Быть должен избран путь рожденья человека:
Дарами высшими он наделен от века,
И чистым быть должно явление его! (338)
Это «чистое» рождение сопровождается комментариями Вагнера,
увидевшего свет в реторте; алхимический текст дает нам понять, какая стихия лежит в
основе вагнеровского эксперимента. Свечение, появившееся в реторте, вызвано
нагреванием. Это — огненная стихия, стихия Мефистофеля. Об этом сам черт
уже сказал Фаусту:
И если б я огонь, по крайней мере,
В своих руках не уберег,
Ну где б я приютиться мог? (79)
Мефистофель прекрасно осведомлен о том, что происходит в реторте, ведь
Люцифер — душа материи, сила, сделавшая своим принципом концентрацию
всего материального. В недрах Земли, в удалении от Бога, в царстве
материального пылает огонь, способный излучать свет, но противоположностью
этому свету является светлый дух, освободившийся от оков тяготения и
устремляющийся ввысь. Здесь, однако, необходимо заметить, что в этой мифологии
Люцифер — несовершенный демиург и его автономность от Бога, от Святой
Троицы относительна. Поэтому деятельность Люцифера и Вагнера в известной
мере невозможна без вмешательства Бога, просветляющего эту деятельность, и
Гомункул остается божьим твореньем.
Притворное любопытство Мефистофеля заставляет Вагнера объяснять
алхимический процесс, не пользуясь образами алхимической мифологии.
Вагнеровская наука отбросила ее как нечто ненужное, и здесь, как кажется
Вагнеру, он превзошел отца Фауста и своего учителя. На самом же деле
алхимическая технология осталась прежней; отличие состоит в том, что в реторте
больше ингредиентов, чем прежде, а органические процессы, происходящие в
природе, Вагнер надеется заменить кристаллизацией.
Творится. Масса все яснее
И все становится плотнее!
Знать, совершится все вполне:
Что было тайною в природе изначала,
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JΩ 163
То силой разума свершим мы своего,
И что природа нам как организм давала,
Кристаллизацией добьемся мы того. (338)
Почему именно кристаллизацией? Мефистофель и Вагнер по своей сути —
имитаторы, и неорганическая природа — их стихия. Кристаллизация и внешний
вид кристаллических рисунков дает возможность Вагнеру проводить аналогии
между неорганическим и органическим. С этой проблемой Гете столкнулся в
конце 1788 года, получив письмо от своего друга Кнебеля, в котором
последний обнаруживал сходство между живыми и ледяными цветами. Гете со своей
стороны напечатал в журнале «Тойчер Меркур» заметку, где высказал мысли,
смысл которых указывал на опасность проведения таких параллелей в науке.
В заметке ясно проводилась мысль о неспособности механического
естествознания объяснять органическую природу, живую природу. Гете писал о
полной бесперспективности редуцировать биологические процессы к
механическому движению, настаивал на необходимости четко различать уровни развития
природы и на невозможности объяснять более высокий уровень явлениями,
относимыми к низкому уровню. «<...> Вы превозносите, дорогой друг,
красоту ваших замерзших оконных стекол и не можете достаточно нахвалиться, как
эти преходящие явления, если держится хороший мороз и притекают различные
испарения, складываются в листья, ветки, усики и даже розы. Вы посылаете
мне несколько рисунков, которые напоминают мне самые красивые вещи в этом
роде, какие я видел, и повергают в изумление изяществом форм. Мне кажется
только, что вы придаете этим действиям природы слишком большую ценность;
вам бы хотелось возвысить эту кристаллизацию до ранга растений. То, что вы
высказываете, довольно остроумное мнение, и кто станет отрицать, что все
существующие вещи имеют отношение друг к другу! Но позвольте мне заметить,
что такой способ рассматривать вещи и делать выводы представляет для нас,
людей, некоторую опасность»172. Гете выступает против преждевременных
аналогий, и о таком явлении, как изоморфизм, можно говорить, когда мы
сталкиваемся с феноменами одного и того же уровня природы.
«Когда же начинаешь с отыскивания подобия и сходства между вещами, легко
подвергаешься опасности проглядеть в угоду гипотезе или своему способу
представления такие признаки, в силу которых вещи различаются между собой»173.
Притязания разума на познание всех тайн природы не только беспочвенны, если
они будут сводить все к рассудочным априорным схемам, возникающим лишь
через установление подобия, но и приведут к аберрациям человеческого
мышления. «Жизнь, действующую во всех существующих вещах, мы не можем
охватить сразу ни во всем ее объеме, ни во всех ее проявлениях»174. Задача истинного
ученого — исследовать самые различные способы жизни природы, тщательно
отделять и исследовать формы, созданные природой, исходя из ее целого, не
172 Гете И. В. Кристаллизация и произрастание // Гете И. В. Избранные философские
произведения. М.: «Наука», 1964. С. 49.
173 Там же. С. 49.
174 Там же. С. 50.
164 3^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
смазывая различия между ними. «Он никогда не будет пытаться сблизить три
великие, бросающиеся в глаза вершины— кристаллизацию, растительную
жизнь и животную организацию, он будет только стараться в точности
познакомиться с промежутками между ними и с большим интересом остановится на тех
пунктах, где различные царства, по-видимому, встречаются и переходят одно в
другое»175.
Возвращаясь к анализируемой нами сцене, укажем, что вагнеровский
алхимический эксперимент построен на двух приемах: агрегации и
кристаллизации — Вагнер скопил и сгруппировал различные элементы, нисколько не
заботясь о правильности формы, а затем с помощью процессов кристаллизации
попытался добиться внешнего сходства. Эти приемы должны заменить
нечистый акт зачатия, достойный только животных. Конечно, эксперимент сухого
педанта, не знающего силы Эроса, обречен на провал. Но в решающий момент в
игру вмешивается Мефистофель, и магическим путем в колбе возникает дух, и
его свечение образует крохотную человеческую фигурку, которая в своей форме
может существовать, только будучи отделенной от внешнего мира стеклом.
Подобно тому, как ледяные цветы на стекле — лишь очертания живых цветов, так
и Гомункул лишь очертание телесности, ведь создатели Гомункула
игнорировали многочисленные промежуточные процессы. Однако Мефистофель не смог
навязать Гомункулу тех форм телесности, которые сделали бы его послушным
орудием негативных сил, которыми управляют Люцифер и он, его подручный.
Появившийся в колбе светящийся человечек оказывается остроумным и
приветливым существом, что, конечно, сразу же отличает его и от Вагнера, и от
Мефистофеля. Игриво обращаясь к Вагнеру, дух напоминает ему о необходимой
осторожности:
Папаша, здравствуй! Как дела? Не шутки?
Так обними меня в подобные минутки,
Да понежней, чтоб не разбить стекла! (339)
Если природное может неограниченно распространяться во Вселенной, то
искусственное должно принадлежать замкнутому пространству. Однако
заключенный в колбу дух сразу обнаруживает свой характер, увидя Мефистофеля.
Этот характер — стремление к деятельности.
Как, плут, мой родственник, и ты забрел сюда?
Вот вовремя пришел, здесь есть в тебе нужда:
Счастливый случай — сущая награда!
Я существую, действовать мне надо;
К работе у меня большие аппетиты,
Ты под рукой, мне сократишь пути ты. (339)
Парадоксальность ситуации Гомункула заключается в том, что дух,
осознающий свое деятельное начало, заключен в колбу и до поры до времени не соби-
Там же. С. 50.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 165
рается выходить из своего заточения. Он будет искать способ применения своей
активности. Гомункул — позитивный дух, а сокращение путей в деятельности,
которого он хочет от Мефистофеля, — это отказ от негативного начала,
примером которого и является родственник Гомункула.
Гомункул спешит действовать, воплощая себя, и это его желание есть не что
иное, как внутренняя сущность духа, его интенция. От негативной
замутненное™ его защищает стекло колбы, но оно мешает духу воплотить себя. Уже из
первых слов Гомункула становится понятно, что создание Мефистофеля и
Вагнера в интеллектуальном отношении выше своих создателей, прежде всего в
своей ясно сформулированной позиции. Когда Гете говорит, что человеческому
духу свойственно телесное помрачение (körperliche Verdünsterung), а последнее
свойственно человеческому бытию, то в словах поэта не следует искать
обесценивания этого бытия, здесь нет идеалистического принципа затухания духа, как
это было в неоплатонической традиции, наоборот, именно здесь, в деятельности,
происходит возвышение духа, который будет проходить различные ступени
развития в своей непрерывной активности. Парадоксальность Гомункула состоит в
том, что он, искусственное создание, жаждет живого, подобно тому как
искусство всегда стремится сблизиться с природой, и мефистофельски-вагнеровский
эксперимент указывает на невозможность отрыва духовного начала от природы.
Гомункул, говоря языком Шопенгауэра, — неверный своим создателям
интеллект, прекрасно прозревающий их волю, что подтверждает афоризм из архива
Макарии: «Удел всех людей — протяжение и движение; это те всеобщие формы,
в которых являют себя прочие формы, прежде всего чувственные. Но и
духовная форма ничуть не умаляется, обнаруживаясь в явлении, — при том условии,
конечно, что обнаруживается она породив и расплодив нечто действительное.
Порождение никак не менее существенно, чем порождающее, напротив,
преимущество живого акта рождения в том, что рожденное может быть лучше
рождающего»176. Поэтому не сохранение чистоты духа за стеклом колбы — цель
Гомункула, стремящегося к деятельности; дух должен пронизать материю своим
светом и через деятельность породниться с мировой материей:
Где дух проникает
В материю плотно,
Их не разрывает
И ангел бесплотный.
Той слитности тесной
Разрушить звено
Одной лишь небесной
Любви суждено. (561)
С самого начала предопределена судьба деятельного духа, и дальнейшее
развитие событий в сцене показывает, какова эта судьба. Рассматривая Гомункула
в одном ряду с другими значимыми образами второй части, с Мальчиком-воз-
176 Гете И. В. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся // Гете И. В. Собр. соч.
в 10 т. Т. 8. М. 1979. С. 403.
166 3*-
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
ницей и Эвфорионом, укажем, что все эти три образа связаны с одной и той же
стихией — огнем, пламенем. Гомункул становится пламенем, похожим на
человека. В «Классической Вальпургиевой ночи» Фалес скажет Нерею, указывая на
Гомункула:
Взгляни на пламя то, подобье человека,
Оно осуществит советы все точь-в-точь. (389)
Свет, исходящий от Гомункула, как указывает В. Эмрих, «выражение
мощной демонической духовной силы, похожей на пламя сверхмощной силы духа
Эвфориона, который является исходным образом мальчика-возницы. Можно
провести, кажется, здесь с точки зрения возникновения линию от
Эвфориона через мальчика-возницу к Гомункулу»177. И здесь одним из важнейших
моментов, объединяющих эти три образа, является феномен гения. Их общая
черта — юность, ясность созерцания, мгновенное проникновение в сущность
вещей. И как античные мифические герои мгновенно получают свои
сверхъестественные качества, так и гетевские образы мгновенно обнаруживают в себе
порывы к действию; деятельность становится их сущностью. Спонтанной и
непостижимой выглядит их тяга к красоте, их «тенденция к прекрасному».
Появившись на свет, Гомункул сразу же в духовном отношении возвышается
над Мефистофелем и Вагнером, и Эвфорион, рожденный не без содействия
Мефистофеля, тоже быстро возвышается над своими родителями Фаустом и
Еленой. Мефистофель и Вагнер скоро обнаруживают свою зависимость от
Гомункула. Гомункула и Эвфориона объединяет также необычность их рождения,
которое никак не зависит от органического процесса: Гомункул — путем
алхимического эксперимента, Эвфорион — вопреки всем органическим законам в
результате соединения с призраком Елены. Превосходство Гомункула над
Мефистофелем обнаруживается тогда, когда дух начинает демонстрировать свое
дарование. Колба выскальзывает из рук Вагнера и начинает свое кружение над
головой спящего Фауста, и Гомункул рассказывает сон Фауста. Это видение
Леды — прелюдия к «Классической Вальпургиевой ночи» и символическая
проспекция к третьему акту. Сон, сюжет которого миф о Леде и лебеде,
мотивирует появление Елены в фаустовской драме. Он — возвращенное духовным
видением прошлое, и это прошлое актуализируется в драме, объясняя не только
историю рождения Елены (тоже необычную, ведь лебедь — это Зевс, и это
определяет действия Фауста во втором акте), но и судьбу самого Гомункула. Это
созерцание сна Фауста Гомункулом создает в драме временной ребус, когда в
призрачном мире «Классической Вальпургиевой ночи» и в третьем акте
движение сюжета от прошлого через настоящее в будущее оказывается
возвращением прошлого к прафеноменам бытия, превращением прошлого в мифическое
время. Поэтому актуализация мифического времени служит выявлению и
созерцанию прафеноменов. Здесь возникает совершенно невероятная ситуация.
Судьба Гомункула, появившегося в драме позже других героев, укоренена в
более раннем времени, предшествующем рождению Елены. Это и объясняет
177 Emrich W. Symbolik von Faust II. Sinn und Vorformen. Bonn, 1964. S. 251.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 167
полную открытость Гомункула миру Эллады, можно даже сказать, что
Гомункул — ее дух. Гастон Башляр, на наш взгляд, очень точно описал сон Фауста,
передаваемый Гомункулом, и если абстрагироваться от совершенно ненужных
психоаналитических подробностей, ничего не объясняющих, то созданная Гете
картина соединяет в себе Эрос и красоту. Гетевские образы пластичны и
одновременно пронизаны движением, и это движение создает картину, которая
выглядит как проспекция грандиозной эгейской мистерии, эгеиского празднества
в финале «Классической Вальпургиевой ночи»:
Прелестное виденье!
Густая роща... Чистое теченье —
Вот женщины... они разоблачились...
Во всей красе и прелести явились...
Но всех из них прелестнее одна,
Из рода героинь или богинь она,
Спускает ногу в ясное теченье,
И в гибком зеркале сверкает отраженье
Живого пламени, изгибов идеальных.
Но что за шум над лоном вод кристальных?
То крыльев шум, то свист, то плеск воды,
И лишь одна, не показав волнений,
Глядит, как лебедь-царь скользнул в ее колени;
Он предприимчивый, но робок в новизне;
Но вот, как кажется, свыкается вполне.
И вдруг туман спустился над водою
И сцену милую закрыл собою. (341)
Если останавливать кадр за кадром эту движущуюся картину, которую
рисует изумленным Мефистофелю и Вагнеру Гомункул, то в каждом кадре мы
обнаружим, пользуясь термином Генриха Вельфлина, тектоническую
композицию. Однако центрами каждого кадра будут Леда и царственный лебедь, а
последний кадр исчезает, так как он — таинство зачатия. Дух созерцает
происходящее во временной последовательности, и само созерцание
превращается в процесс, открывающийся внутреннему зрению Гомункула. Античный
мир, мир античного мифа оживает, и Гомункул видит героев этого мира,
более того, он передает чувства героев. Гастон Башляр пишет по этому поводу:
«Эта страница второй части «Фауста» дает нам хороший пример того, что мы
будем впредь называть полным абсурдом, или скорее полностью
динамизированным образом. Иногда воображение накапливает образы в направлении все
большей чувственности. Сначала оно подпитывается отдаленными образами;
оно грезит, созерцая обширную панораму; затем — выделяет некий тайный
уголок, в котором конструирует образы, все более напоминающие людей. От
невиданного зрелища, радующего глаз, оно переходит к более сокровенным
желаниям»178.
Башляр Г. Вода и грезы. Опыт о воображении материи. М, 1998. С. 65.
168 Sl
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
То, что сжато в сон Фауста, во втором акте разворачивается как широчайшая
панорама античной жизни, античного мира, и гидом по этому миру становится
Гомункул. Каждый из трех персонажей, попавших в Элладу, — Фауст, Гомункул
и Мефистофель — стремится к своей цели, которая возникает перед ними, как
только они опускаются на землю Фессалии. В самом начале Эгейского
празднества Гомункул — «метеор», появляющийся неожиданно над Фарсальскими
полями. Еще не наступило полнолуние, но свет Луны уже распространяется в
пространстве, и полет духа в колбе выглядит как появление нового источника света,
имеющего лунную природу. Так воспринимает его ведьма Эрихто, удаляющаяся
с места действия, ибо она чувствует, что свет исходит от живого существа.
Но что за метеор несется надо мной?
Блестит он сам и освещает шар,
А в шаре том я вижу человека,
Я чую жизнь; к живому прикасаться
Я не могу, ему не повредив. (346)
Три «воздухоплавателя» появились над Фарсальскими полями: Фауст,
Мефистофель и Гомункул, но только от духа, летящего в колбе, исходит свет, и
Эрихто замечает только одного Гомункула. Эрихто уходит, потому что она
решила не вмешиваться в ход событий, ибо появление новой силы, излучающей свет,
пугает ее. Эрихто — ведьма, волшебница, знающая о вечном повторении всех
вещей, и здесь, на Фарсальских полях, месте сражений, менявших ход истории,
месте Вальпургиевых ночей, она обладает силой оживлять призраки; и сейчас
она считает, что появление нового света, колбы с человеком внутри, делает ее
вмешательство в ход событий излишним.
Гомункул и Мефистофель видят уходящую Эрихто и спускаются вместе с
Фаустом на землю, которая, как говорит предугадывающий будущее дух, вернет
Фауста к жизни, ибо последний ищет жизни только в этой сказочной стране. Как
Антей, он набирается сил при соприкосновении с греческой землей. И конечно,
первый вопрос пришедшего в себя Фауста: где Елена? Сразу становится ясно,
что будут искать в царстве призраков Фауст и Мефистофель, но судьба
Гомункула еще неизвестна, неизвестна даже ему самому, хотя дух и обладает даром
предвидения. Однако духовная природа Гомункула сразу же определяет его
деятельность во время этой волшебной ночи:
Светить, звучать так стану вам.
Теперь навстречу новым чудесам. (347)
В конце «Классической Вальпургиевой ночи» Гомункул становится
участником священной свадьбы стихий и выступает в ней как огонь, и если принять
во внимание партии Гомункула в ансамблях второго действия, то оказывается,
что духовная сущность Гомункула родственна вулканической стороне природы.
Огонь или вулканическая деятельность и вода, эти две полярные стихии,
противостоят друг другу как в природе, так и в истории. Во втором действии они воп-
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 169
лощены в мифологических образах Сейсмоса и сотворенного им рода пигмеев,
с одной стороны, с другой — водную стихию представляют Посейдон, Протей,
Нерей и весь ансамбль фигур у скалистой бухты Эгейского моря. Включенные
в эту игру натурфилософы Анаксагор и Фалес вступают в спор друг с другом о
возникновении Земли. Начинается спор «вулканистов» и «нептунистов» о том,
как развивается природа, происходит ли это развитие непредсказуемыми
скачками, а именно вулканическими извержениями и падением метеоров, или же
постоянными переходами, и только таким способом природа достигает
совершенства своих форм.
Фалес.
Творит природа исподволь всегда
В порядке стройном форму за другою.
И в этом творчестве, как в цельности возьмешь,
Насильственности ты ни крошки не найдешь.
Анаксагор.
Но здесь она была: Эоловы пары
Аида гневное горенье
Пробили взрывом часть земной норы,
И новая гора возникала в заключенье. (378—379)
И выбор духа в колбе должен решить его собственную судьбу: с какой
стихией ему соединиться. Гомункул в этом отношении примечательная фигура уже
потому, что он, если об этом вспомнить, возник не как творение природы, не акт
зачатия дал ему жизнь, а алхимические процессы соединения веществ,
перегонки, фильтрации и кристаллизации, окисления с помощью огня, управляемые
субъективной волей его создателей. Следовательно, стихия огня должна стать
для него родной стихией, ведь она, стихия Люцифера, дает его свет. Здесь
необходимо вспомнить, что в момент создания Гомункула рядом с Вагнером был
Мефистофель. Теперь же, когда Гомункул видит перед собой Фалеса и Анаксагора,
а с ними своего «родственника» Мефистофеля, уверенного в том, что Гомункул
выберет Анаксагора, спокойно покидающего сцену, направляясь к Форкиадам,
чтобы принять их обличье. Сын Хаоса ищет в античности дочерей Хаоса,
появившихся на свет раньше его.
Для понимания роли Гомункула в фаустовской драме необходимо
остановиться на сцене «У верховьев Пенея, как прежде». Оперность этой сцены не
вызывает никакого сомнения. В ней после пения сирен начинается землетрясение.
Землетрясение стесняет водную стихию там, где Вода окружена Землей и уже
стеснена ею, и сирены устремляются в открытое море, где Вода свободна.
Вот туда, где так игриво
Волны плещутся морские,
И вздымаясь, и искряся,
Где Луна горит вдвойне,
Где роса, распространяся,
170 SL
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Увлажняет нас вполне!
Там и бодрость, и свобода! (366)
Бегство сирен сопровождается голосом Сейсмоса, раздающегося из
подземных глубин. Это не только персонификация Хаоса, царящего в центре Земли,
но и персонификация деяния, оторванного от понимания целого; здесь налицо
действие люциферовского порядка, вызванное концентрацией силы, единой
волей.
Все это я свершил один,
Должны же в этом все признаться.
А не наделай я руин,
Мир мог ли чудным вам казаться?
Не высилось бы ваших гор
В лазури чистого Эфира,
Когда бы я с давнишних пор
Не поработал в пользу мира.
Трудился я давно — давно
Пред ликом ваших предков главных —
Хаоса с Ночью — заодно
В сообществе титанов славных. (368)
Деятельность Сейсмоса выглядит как перманентные катастрофы,
создающие возможность для постоянного космогонического процесса, изменяющего
структуру космоса. Томас Цабка на основании текстологического анализа и
интертекстуального прочтения ближайших к речи Сейсмоса стихов склонен
считать, что «Сейсмос наделен атрибутами Фауста: стремлением и беспокойством
духа»179. Конечно, несколько схематичное сближение исследователем феномена
геологических катастроф и вулканических извержений с современным Гете
философским субъективизмом, к представителям которого Цабка безоговорочно
причисляет Шеллинга — говорить о Фихте в этом контексте было бы
правильнее, — показывает нам интересные параллели. И здесь очень интересна как раз
интерпретация Шеллингом этого природного феномена, но в качестве
доказательства не субъективизма самого философа, а прежде всего близости
натурфилософских взглядов поэта и философа. Шеллинг видит связь между
вулканической деятельностью и деятельностью безусловного, свободно творящего из себя
Я. «Первая — порыв вечного огня <...>, заключенного в Земле <...>, в вечном
процессе сгорания, который не нуждается во внешнем условии и питающей его
материи, но развивается из абсолютно внутреннего и имеет своей целью
полный поворот от внутреннего ко внешнему».180 Шеллинг говорит о полном
повороте от внутреннего к внешнему, и Гете в такого рода интерпретации мог найти
только поддержку для своей концепции Гомункула.
179 Zabka Th. Faust II — Klassische und Romantische: Goethes, Eingriff in die neueste Literatur.
Tübingen 1993. S. 171.
180 Schelling F. W. J. Sämliche Werke Abt I. Bd. 6. S. 557.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JiS> 171
Вулканизм и необусловленная деятельность субъекта в мифическом мире
«Классической Вальпургиевой ночи» находят свою параллель с принципом
революции и господства силы и власти. Последние берут свое начало в
подземном мире Сейсмоса. Мифическое племя пигмеев, толстых карликов, выглядит
как воплощение власти, правления, организовывающего чужой труд. Это племя
господствует над муравьями и дактилями, которые на них работают. Подчинив
себе муравьев и дактилей, карлики-пигмеи осуществили между ними
разделение труда, и эта деятельность пигмеев обнаруживает в себе демонию власти и
стремление господствовать над другими мифическими существами.
Цивилизация пигмеев образовалась как совмещение господства, труда, насилия и смерти.
Муравьи добывают металл, из которого дактили куют оружие для пигмеев, а те,
в свою очередь, охотятся на журавлей, чтобы украсить их перьями свои шлемы.
Эта мифическая война пигмеев с журавлями в пародийной проспекции создает
в «Фаусте» две линии сюжета: война (IV акт) и преобразовательная
деятельность (V акт), где демонизм деятельности получает большее усиление. В
эпизоде с пигмеями Гете использует мотив гераномахии, оружие для которой куют
пигмеям дактили.
С луком, стрелами вперед!
Вас в пруду добыча ждет.
Пропасть цапель в нем спесивых.
Бейте всех их как одну,
Чтоб идти нам на войну
В шлемах с перьями красивых. (370)
Притеснение и война — сущность господства этих комических и
одновременно демонических существ, возникших в результате стихийных действий
Сейсмоса, и Ивиковы журавли, безжалостно убиваемые пигмеями, призывают
дактилей и муравьев к отмщению.
Анаксагор, видя Гомункула, сразу чувствует близкую ему стихию, и поэтому
он хочет сделать его властелином пигмеев, так как последние — порождение
Сейсмоса. Гордыня Сейсмоса явлена нам в его монологе. Сейсмос непоколебимо
убежден, что он все свершил один, не видя им свершенного. Но результат этих
свершений — не только взгромоздившиеся друг на друга горы, поражающие
своим величественным видом и вызывающие в человеке чувство возвышенного,
но тщеславие и гордыня пигмеев, притесняющих дактилей и муравьев,
терпеливо сносящих их господство. Эта гордыня в изображении Гете показана в форме
гераномахии. Убив цапель, эти «толстопузые, кривоногие плуты» (Fettbauch-
Krummbein-Schelme) украшают их перьями свои шлемы. Пигмеи играют здесь
роль трикстеров, и в мифологическом представлении они пародируют действия
титанов, с которыми кровно связан Сейсмос. Однако Анаксагор
завороженными глазами смотрит на множественные порождения Сейсмоса, созданные
гигантской концентрацией сил, распадающихся на миллионы явлений. Он хочет
сделать Гомункула повелителем миллионов существ, видя деятельный характер
духа, заключенного в колбу.
172 SL
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
На той горе селятся миллионы
В расщелинах ее любой скалы —
Пигмеи, муравьи и даже легионы
Различных крохотных работников горы.
К великому ты вовсе не стремился.
Жил как отшельник ты, на прочих и не зря;
Когда б господствовать ты научился,
Я б увенчал тебя короною царя. (379)
Но из обращения Гомункула к Фалесу становится ясно, что участь царя
пигмеев его не привлекает. Интенция духа направлена на иное; то, что предлагал
Анаксагор привело бы к тому, что созданный на последней стадии
алхимического процесса человек-дух превратился бы в отражение борьбы пигмеев с
журавлями или же в воплощение принципа подчинения. Судьба пигмеев и крушение
их «беспочвенного государства» — пример односторонности вулканизма.
Уничтожение пигмеев журавлями выглядит как возмездие за бездумное господство и
непонимание опасности гордыни. Гомункул видит картину разгрома
государства пигмеев.
Смотри сюда, на тучу журавлей.
Она грозить сейчас не перестанет
Народу возбужденному; царей
Она бы так же вовсе не щадила;
С когтями острыми и клювами они
Летят к пигмеям. Сочтены их дни,
Погубят их; как молнии средь гор,
Блистает их грозящий приговор.
Они преступно цапель умертвили,
Что у воды спокойно, мирно жили.
Когда же лился дождь их поражавших стрел,
Возмездья приговор незримо зрел:
Родные, близкие всех тех, кто погибали,
Пигмеев крови дружно ждали.
Что пользы им теперь и в копьях, и в щитах,
И в шлемах, что на их покоятся главах?
И разве им теперь их перья пригодились?
Вот посмотри — они заторопились,
Торопятся спасти разбитые рои,
Той тучей журавлей побеждены они. (379—380)
Дар предвидения помогает Гомункулу избежать судьбы государства
пигмеев, возникшего благодаря землетрясению, так как если бы дух последовал
совету Анаксагора, то самоутверждение с помощью насилия привело бы к тому, что
возмездие его бы уничтожило. Анаксагор взывает к Диане, Луне и Гекате,
называя богиню Луны ее тремя именами, моля ее спасти пигмеев. Ему кажется, что
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 173
Луна падает на Землю. На самом деле на то место, где были пигмеи и журавли,
падает метеор и всех уничтожает, уничтожает и насильников, и мстителей;
последние покинули сферу неба, где они обитали, и мстя пигмеям попали в сферу
Сейсмоса.
Гомункул и Фалес покидают верховья Пенея и направляются к скалистому
заливу Эгейского моря. Здесь царствует противоположный вулканическому
принцип постепенного становления мира; водная стихия — его первоначало. Фалес,
Нерей и Протей попеременно объясняют Гомункулу его цель, которая не может
быть произвольной; наоборот, она обусловлена единым целым мироздания.
Летящая колба Гомункула светит в ночи, и в этом свете, который дополняет
свет Луны, остановившейся в зените, мы видим движение гетевских образов.
Начинается грандиозная натурфилософская мистерия, которой завершается
«Классическая Вальпургиева ночь».
На первый взгляд, эпизод с кабирами задерживает ход действия в финальной
фазе «Классической Вальпургиевой ночи». Он кажется полемической вставкой,
в которой Гете высмеивает мифологические идеи Шеллинга и Кройцера. Для
такой точки зрения есть достаточные основания, так как пародийный момент
в тексте достаточно ощутим. Однако внимательный анализ этого эпизода
показывает, что на самом деле он занимает важное место как в органическом целом
всей «Классической Вальпургиевой ночи», так и в формировании образа
Гомункула, и тем самым картина мирового становления обнаруживает свой истинный
источник; мифические фигуры кабиров здесь приобретают большое значение
для понимания гетевского видения мирового процесса как игры природы. Этот
эпизод возник во второй части «Фауста» не случайно. Мифология кабиров
представляла большой интерес для романтиков. Эта мифология стала исходной для
построения мифологических теорий Кройцера и Шеллинга, близких друг к
другу и взаимно освещающих друг друга. Здесь она была решающим аргументом
для критики рационалистической мифологии, и в романтической трактовке она
выглядела как ступень перед христианской мифологией. Гете был очень хорошо
знаком со всем кругом проблем, связанных с достаточно глубоко изучаемой в
его время мифологией кабиров. Кройцерову «Символику и мифологию древних
народов» он основательно изучил, когда работа над второй частью «Фауста»
только еще начиналась, а знаменитая мюнхенская лекция Шеллинга «О
самофракийских божествах» лежала у него на столе во время работы над
«Классической Вальпургиевой ночью». Это, конечно, не исчерпывало интерес Гете к
проблеме древнейших греческих богов. В распоряжении поэта были также
книги Г. Германа и Фр. Г. Велькера,181 что, конечно, означало пристальное внимание
к тем божествам античного мира, которые для мифологов, ориентировавшихся
на Винкельмана, имели значение исключительно периферийное. Исследование
древнейших греческих божеств, связанных с восточными культами и имевших
181 В библиотеке Гете было несколько книг о кабирах, другие книги он получил из Веймарской
библиотеки: Johannes Meursius. Creta, Rhodus, Cyprus, Amstelodami 1675; Fr. W. J. Schelling. Über die
Gottheiten von Samothrace. Stuttgart und Tübingen. 1815; Fr. Creuzer. Symbolik und Mythologie der alten
Völker. Leipzig und Darmstadt 1810—1812. G. Hermann. Über das Wesen und die Behandlung der
Mythologie. Leipzig. 1819; Fr. G. Welker. Die Aeschylische Trilogie. Prometheus und die Kabirenweihe zu Lemmos.
Darmstadt. 1824 и др.
174 3^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
негреческое происхождение, а также мифологии, лежащей в основе оргиасти-
ческих мистерий, стало делом романтиков.
Кабиры в греческой мифологии — демонические существа, в силу своего
хтонизма имеющие малоазийское происхождение, показывали древнейшие
стадии теогонического процесса и тем самым противостояли богам высокой
классики. Культ кабиров процветал на Самофракии, Ибросе, Лемносе и в Фивах.
Согласно легенде они были детьми Гефеста и нимфы Кабиро — дочери
Протея. Эти хтонические божества унаследовали от Гефеста мудрость. Число их
колебалось от трех до семи. Важным моментом в мифологии кабиров было их
доолимпийское происхождение, так как они присутствовали при рождении
Зевса и входили в свиту Великой матери Реи. Они отождествлялись с куретами и
корибантами. А. Ф. Лосев указывает, что «так называемые Куреты, или что то
же, Корибанты, причем те и другие весьма похожи на идейских Дактилей, Тель-
хинов, Кабиров и других демонов переходной поры от хтонизма к героизму.
Все эти демоны тоже являются примером отождествления хтонизма и героизма,
когда стихийно-демоническая и оргиастическая сущность демона объединяется
вокруг новорожденного младенца то ли с прогрессом в металлургии и военном
деле, то ли прямо с интимно-человеческими чувствами».182
В романтической интерпретации мифические фигуры кабиров превращались
в образы, иллюстрировавшие космогонический процесс в духе натурфилософии
Шеллинга. Кройцер придавал большое значение самофракийским мистериям,
видя в них исток греческого культа богини Цереры (Деметры). Кабиры у Крой-
цера — могущественные боги, космические потенции. То, что они происходят
от Гефеста, который сам по себе порождающий огонь, ясно говорит об их
вулканической природе. По отношению друг к другу кабиры находятся как ступени
эманации. Из высшей потенции возникает двуединство кабиров, порождающее
мир. Первое единство и источник всего у греков — Церера (Деметра), ее
сущность магическая: она волшебница, ткущая платье смертности. Кройцеровское
учение о потенции во многом зависит от философии Шеллинга, где потенции
еще раньше играли мистическую роль. Шеллинг увидел свою систему мировых
эпох в зеркале истолкованных Кройцером самофракийских мистерий. Он мог
здесь найти все, что соответствовало его натурфилософии: космические
потенции, порождающий огонь, магическое волшебство. С непоколебимой верой, что
здесь имеется действенное соответствие, Шеллинг подошел к предложенному
Кройцером материалу и нашел здесь в высшей степени поразившее его
сходство. В именах всех кабиров заложено уже понятие волшебства и магии.
Церера — это томление, голод и поэтому также волшебство.
Голод по сущности — это глубинный импульс всей природы; поэтому
природа является движущейся силой, и благодаря непрестанному притяжению этой
силы все, что не определено, формируется и становится действительностью.
Причем формирование из неопределенности, некой хаотической аморфности
происходит с помощью волшебства. Шеллинг убежден, что в основе всех
женских божеств лежат магическая деятельность и волшебство. С помощью
рискованных этимологии философ сближал мифологию кабиров с собственным на-
Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. М.: Мысль, 1996. С. 276.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JiS> 175
турфилософским учением. Правда, для этого сближения был необходим более
радикальный поворот. Шеллинг признался Кройцеру, что его, Кройцера, труды
благодаря высоким идеям и всеохватной учености открывают путь более
глубокому познанию всей мифологии. Шеллинг уступил пальму первенства
Кройцеру в толковании мифологии Цереры, и это стало импульсом для развития идей
в «Самофракийских божествах». Со своей стороны, Кройцер в основу своей
интерпретации положил Шеллингову теорию эманации, и, конечно, последняя
в отношении мифологического сознания древних выглядела как
насильственно навязанная ему схема, которая никак не уживалась с человеческим образом
мысли, так как истечение высшего божества обладает ни с чем не сравнимой
мощью, и поэтому непостижимо, что оно не может превратиться в почитание
этого божества, ибо человеческое сознание и чувство не могут его охватить.
Однако совсем иным это истечение будет, если другие боги не будут в
стороне от эманации высшей мощи единого верховного божества, а станут скорее
усилением, возвышением низших глубинных сил до высшей личности. Тогда
эти боги превратятся в звенья цепи, возвышающейся из непостижимых глубин
к высшему воплощению божественного единства. Они тогда будут выглядеть
посредниками для людей между ними и высшим божеством и станут
посланцами возвещающих пришествие грядущего Бога, и тем самым будет оправдано
их почитание. Такое сцепление теургических начал, действующих божественно,
ведет к надмировому Богу. Это сцепление показывает себя в системе
самофракийских кабиров: глубинное начало — это Церера, сущность которой голод и
страсть, и первое, самое отдаленное начало действительного и
обнаруживающегося в откровении бытия заложено в этой богине. Ближайшее к ней божество —
это Прозерпина, которая является сущностным началом видимой природы, и
тогда Дионис становится властелином мира духов. Принцип, который связывает
природу и мир духов как с собой, так и надмировым божеством — это Кадми-
лос или Гермес. Над упомянутыми богами царит трансцендентный миру Бог,
демиург. Однако не в отдельности, а только в неразрывной последовательности
и в магическом сцеплении эти теургические силы творят волшебство, благодаря
которому надмировое божество входит в действительность.
Представление в мифологии неугасимой, неисчерпаемой жизни,
демонстрация, как сама эта жизнь развивается в возвышающейся
последовательности, показ всеобщей магии и постоянно действующей во Вселенной теургии,
благодаря которой незримое, сверхдействительное становятся откровением и
действительностью, в этом был смысл мифологии кабиров. Можно сказать, что
Шеллинг наконец нашел мифологию, в которой он представил свое
мировоззрение.
В финале «Классической Вальпургиевой ночи» видим стремление показать
мировое становление в фокусе как романтического, так и классического
понимания. В качестве романтических фигур здесь нереиды и тритоны. Именно они
несут кабиров — богов в кувшинах, ведь романтические мифологи придавали
этим богам решающее значение. Начинается игровое, оперное представление
религии кабиров и их романтической интерпретации, которая в дальнейшем
стала основой для шеллинговой философии мифологии и откровения. Нереиды
176 S^
Л. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
и тритоны плывут в Самофракию, чтобы принести кабиров. Кабиры должны
служить доказательством их особого происхождения:
Уже мы думали об этом,
И не успев сюда приплыть,
Так, сестры, братья, к вам с советом
Осмелились мы поспешить:
И небольшой наш путь докажет,
И убедитесь в этом вы, —
Он, без сомненья, вам покажет,
Что более чем рыбы мы. (388)
Нереиды и тритоны знают, что они свита Диониса и их мифологическая
родословная связана со ступенями эманации, с богом, соединяющим природу
и мир духов. Когда нереиды и тритоны приносят с собой кабиров, странных
божков, божков в кувшинах, то они резко контрастируют с антропоморфными
богами тельхинов и с Галатеей. Их хтоническое происхождение
обнаруживается сразу, сразу виден свойственный им демонизм. Далее сценарий становится
представлением кройцеровско-шеллингова толкования религии кабиров.
Гомункул, увидев кабиров, поражается их виду:
Сравню, смотря на чудищ сих
С плохими их горшками;
Стучатся мудрецы о них,
Но бьются крепко лбами. (394)
Эти стихи относятся к мотивам мифа о кабирах и его толкованию Кройце-
ром и Шеллингом. Сюжет мифа, в котором есть эпизод, как Дионис передал
нереидам амфору, Кройцер объясняет как тайный знак, как указание на
таинственность культа кабиров, на его волшебство и магию. Тритоны, согласно Крой-
церу, в религии Карфагена, где, кажется, «почитался Дионис или Вакх», были
составной частью «оргиастических празднеств», «каким мы видели их в
передней Азии», — Кройцер имел в виду фригийский культ Диониса и культ Земли
и воды.183 Поэтому участие кабиров в натурфилософской мистерии совершенно
оправдано, более того, совершенно необходимо, поскольку мифология кабиров
соединяет в себе образы бытия природы, находящейся в возвышении, и эти
образы выглядят как промежуточные ступени, переходы от низшего к высшему, и
Гомункул может обозревать эти стадии метаморфоз природы. Мифологическая
история природы и их божеств, которая разворачивается на Фарсальских полях,
в верховьях Пенея и в скалистой бухте Эгейского моря, представляет собой
праисторию человечества и мира, и в этой истории для поэта важно не выпустить
ни одного звена. Однако сразу можно заметить также и дистанцию Гете по
отношению к спекулятивным построениям Шеллинга и Кройцера. Идея саморас-
183 Creuzer Fr. Symbolik und Mythologie der alten Völker. Zweite, völlig umgearbeitete Ausgabe. 4 Bde.
Leipzig und Darmstadt, 1819-1821. Bd. 3. S. 261
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 177
крытия духа из праосновы, которая есть пратождество природы и духа, была
чужда Гете. Сирены сообщают о кабирах:
То боги прочим не сродни,
Они родятся вечно сами,
Не зная сами, кто они. (388)
Гетевская ирония не затрагивает здесь божественного самого по себе; она
также не затрагивает и проблему генезиса божества. Скорее, речь идет о
спекулятивных построениях в мифологических теориях романтиков, где конкретный
анализ подменяется идеей. В этом случае у Гете, как всегда, речь идет о
форсированное™ таланта. И все же интерпретация эпизода с кабирами вызывает
определенные сложности. Их мнимое преодоление возникает тогда, когда
интерпретатор подводит текст к четко выраженным у него самого идеологическим
ожиданиям: Гете непременно должен полемизировать и критиковать
романтиков. Эта позиция, конечно, упрощает дело, но мало проясняет гетевский замысел
и его реализацию. Эстетический текст лишается таким образом информативной
неоднозначности. В. Эмрих пишет: «Если Гете, как он намеревался, хотел здесь
показать происхождение античных богов, то кройцеровско-шеллингов тезис о
кабирах, который тогда имел большое значение, хотя и вызывал полемику,
предлагал ему нечто близкое. Развернуть конкретно нечто вроде мифологического
древа в Вальпургиевой ночи было невозможно, в то время как теория кабиров
Шеллинга полностью гармонировала со стилем и кругом образов этой ночи,
она даже изнутри шла навстречу органически-биологическому мышлению Гете.
Ибо Шеллингово отрицание возникновения богов из высшего
рационалистического принципа, его утверждение, что в учении кабиров нет системы
эманации в египетском смысле, а боги по возвышающейся линии от самой глубинной,
лежащей в основе всего силы просветляются "до высшей личности" и "весь ряд
кабиров образует глубочайшую и высшую связующую магическую цепь",
совпадала с внутренним ядром учения Гете о метаморфозе и его представлением о
"сцеплении между глубинным и высшим"»184. В. Эмрих здесь, бесспорно, прав,
и не только в отношении «Классической Вальпургиевой ночи», но и второй
части Фауста в целом, а применительно к фигуре Гомункула указанные положения
Эмриха имеют решающее значение.
Для своих поэтических целей Гете использовал без раздумий все, что
приходило к нему извне, создавая почти непроницаемое единство, в котором часто
соединялась глубокая серьезность, скрываемая передним планом шутки. Маска
шутки в этой оперной игре не должна вводить интерпретатора в заблуждение,
наоборот, за ней стоит серьезная проблема, и представление об ее однозначном
решении всегда будет ошибкой. Серьезность, о которой идет здесь речь, — это
прежде всего интерес к непосредственному соединению животного и
божественного, стихийного и небесного. Это — ядро всей сцены. Шутка и сатира, о
которых часто говорят интерпретаторы, оперный характер всей сцены, где каби-
ры — молчащие персонажи, боги — горшки, а поющими персонажами являют-
Emrich W., op. cit. S. 293.
178 S^
A. L Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
ся нереиды и тритоны, на наш взгляд, не располагает к серьезной полемике. Гете
вовсе не интересует историко-критическая сторона дела. Кабиры необходимы
поэту как особые персонажи финальной мистерии. Когда нереиды и тритоны
приносят кабиров, они требуют их почитания:
Что на руках несем,
Тем радость всем даем.
В щите Хелоны отражения
Находят строгие явления:
Приносим к вам на нем богов.
Так гимны петь всяк будь готов! (392)
Конечно, ирония Гете направлена на происхождение кабиров, на образы этих
богов. Если следовать Шеллинговой последовательности божественной
эманации, то Кадмилос или Гермес выглядит здесь надмировым божеством,
связывающим природу и мир духов. Гетевская ирония направлена здесь прежде всего на
вид богов, который является контрастом красоте Галатеи и ее свиты.
С момента появления родосских тельхинов на гиппокампах и морских
драконах начинается заключительная часть «Классической Вальпургиевой ночи».
Этих древнейших мифических жителей Крита и Родоса Гете связал с кабирами,
поскольку тельхинам приписывались свойства демонических культурных
героев, чародеев и чернокнижников. Гете акцентирует внимание на двух моментах
мифологии Аполлона, с которыми связаны тельхины: они — первые кузнецы,
изготовившие Посейдону его трезубец, и его они везут с собой на празднество;
вторым, не менее важным для поэта, стал сюжет о том, что тельхины были
первыми литейщиками, создавшими на Родосе первые статуи богов. Гете оставляет
в стороне сюжеты, где «тельхины — настоящие хтонические демоны, чудодеи
и маги, порождение если не самой Земли, то во всяком случае Моря; они злые
и губительные существа»185. Но в атмосфере волшебной ночи все хтонические
силы обузданы, парализованы, и для Гете важны прежде всего позитивные
качества тельхинов, то, что они художники и скульпторы. У него Нептун отдает
им на время Эгейского празднества свой трезубец, и это знак того, что само
празднество находится под покровительством и защитой бога. Ярко
выраженный аполлиниискии характер всего действа подразумевает упорядоченность и
спокойствие стихий, их гармонию. Небо и вода должны пребывать в согласии,
и установившаяся космическая гармония означает это согласие, согласие всех
божественных сфер, в том числе и небесной, т. е. олимпийской. Благоволение
Нептуна выражается еще и в том, что хтонические существа гиппокампы и
морские драконы умиротворены и ведут себя подобно ручным животным,
гармонируя со спокойствием, которое обрела морская стихия, и тельхины объясняют
смысл владения трезубцем, полученным от Нептуна:
Сегодня вручает он скипетр свой,
И вот отчего мы так празднично веем,
В себе же покой мы и легкость лелеем. (398)
Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. С. 326.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 179
Предваряя главное событие праздника — появление Галатеи, тельхины
славят красоту богов, сотворенную художниками, уподобившими богов
прекрасным людям. Это и есть высший идеал красоты. Красота символизирует
согласие Универсума с самим собой. Он становится гармоничным как в целом, так и
во всех своих частях, и в этом смысле гармония любой части, любого явления
Универсума входит в гармонию космическую, причем последняя, конечно, не
сущая неподвижность, а динамически развивающаяся гармония, понимаемая
как вечное возвращение того же самого, и этот процесс сопровождает
стремящуюся ввысь и вширь природу. Человеческая история, стихийные природные
силы не могут его остановить. Его метаисторическое значение подчеркивается
тем, что он присутствует во всех эпохах исторического бытия. Псиллы и
марсы, мифические народы заклинателей змей, которых фантазия Гете поселила на
Кипр, родину Афродиты, стали у поэта свидетелями и хранителями этого мета-
исторического бытия красоты и гармонии природы. Именно они осуществляют
священный ритуал, завершающий Эгейское празднество, триумф Галатеи, и их
рассказ — это гетевская трансформация мифа о ней.
На Кипре мы в пещерных глубинах,
Не заливает нас водою,
Нам незнаком перед Сейсмосом страх,
И обвевает нас все тою же струею
Знакомых ветерков. Так, как в оны дни,
В спокойствии храним Киприды колесницу.
И по ночам по ткани волн — одни
Киприды возим дочь, прекрасную царицу.
И те поездки мы всегда творим,
Незримы поколеньям молодым.
Мы действуем без шума, не страшны
Нам ни Орел, ни Лев, ни Крест, ни серп Луны.
Пусть там они над нами
Иль упорствуют, иль бьются меж собой
И губят в той борьбе посевы с городами —
Мы заняты задачею одной,
Она всегда то же, что всегда:
Мы возим лишь владычицу сюда. (401)
В призрачном мире Классической Вальпургиевой ночи, возвращающей
мифическое время, время историческое выглядит лишь цепью преходящих
событий, причем мифическое время творит события неотменяемые, над которыми
история не имеет никакой власти. Особенность гетевского мифа о Галатее
состоит в том, что связь Афродиты и Галатеи в античности неизвестна186. Море
хранит память о божественной красоте и величии, об их осуществлении в
прошлом. Олимпийские боги, кажется, возвращаются в мир из своих святилищ.
186 См. Reinhardt К. Die Klassische Walpurgisnacht. Entstehung und Bedeutung. Deutsche Dramen von
Gryphius bis Brecht. Frankfurt am Main und Hamburg. 1965. S. 145.
180 ®u
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
В призрачных образах вспыхивает их дух, их идея, возникшая из непостижимых
глубин природы. Боги Греции в Эгейском празднестве, в его заключительном
ритуале, присутствуют особым образом. Как отмечает в своей замечательной
работе Карл Кереньи, «не Посейдон, властный жених могучих прабогинь,
принимает участие в гётевском празднестве, тельхины на гиппокампах и морских
драконах несут знак его власти, трезубец. Появляется не Афродита, а то, что в
блеске небес и волн удержалось от ее вневременной сущности и осталось в
нашем обезбоженном мире: Галатея»187.
Образ Галатеи сложился у Гёте под воздействием чтения Филострата, что
нашло свое отражение в статье «Картины Филострата», опубликованной в
журнале «Искусство и древность» в 1818 году, т. е. за двенадцать лет до создания
«Классической Вальпургиевой ночи». Гёте представил Галатею как
триумфальное явление красоты: «Спокойно колышется широкая водная гладь под
колесницей красавицы; четыре дельфина, кажется, стремятся вперед, одушевленные
единым духом, тритоны держат их под уздцы, сдерживая их резвые прыжки.
Она же стоит на колеснице-раковине, пурпурное облачение игрой ветров
надувается подобно парусу над ее челом, бросая одновременно тень на него;
поэтому розоватый отблеск сияет на ее челе, но все же не подавляет розовость ланит.
Зефир не пытается играть ее волосами; они кажутся влажными. Правая рука
согнута, легко опирается нежными перстами на мягкое бедро. Локоть ослепляет
нас розоватой белизной, подобно низким морским волнам нежно наливаются
мышцы рук, грудь вырвалась наружу, кто не заметил бы совершенство бедер.
Ноги в повороте парят над морем, стопы совсем тихо касаются воды, указывая
на направление движения. Поднятые ввысь глаза постоянно приковывают нас к
себе. Они достойны восхищения, они выдают проницательнейший и
совершенно безграничный взгляд, устремленный за морской горизонт»188.
В изображении Галатеи многое прямо напоминает фреску Рафаэля в вилле
Фарнезина; лишь немногое не совпадает: положение правой руки. Однако если
мы сопоставили гетевский словесный образ с фреской Рафаэля и процессию
Галатеи во время Эгейского празднества, то заметим явное сходство только в
описании центральной фигуры, стоящей на колеснице; другие же фигуры как в
статье, так и в тексте «Фауста» даны по-иному, хотя поворот в движении всей
процессии показан в словах сирен, самой Галатеи и Нерея189. Движение
процессии выглядит как фантастическое зрелище, и сидящие на скалах сирены своим
пением возвещают каждую стадию этого движения, предвестием которого
становится полет белых голубей, и это знак Нерею, что он скоро увидит свою дочь,
прекрасную Галатею. И вот процессия появляется: впереди псиллы и марсы, а
хор сирен воспевает увиденную картину, призывая процессию приблизиться к
Нерею.
187 Kerényi К. Das Ägäische Fest. Die Meergötterszene in Goethes «Faust II» // Aufsätze zu Goethes
«Faust II», hrsg. von W. Keller Darmstadt. 1991. S. 174. Эта написанная около семидесяти лет назад
работа до сих пор является непревзойденным анализом мифологических корней «Классической
Вальпургиевой ночи»..
188 Goethe J. W. Werke. Meyers Klassiker-Ausgaben. Leipzig und Wien., 1908. Bd. 23. S. 258.
189 См. также Аникст А. А. Изобразительные источники «Фауста» Гете. С. 184—185.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JΩ 181
Плывя вперед со скоростью невидной,
Вкруг колесницы делая круги
Иль вместе все сплетаясь змеевидно,
Приблизьтесь к нам, гоня свои струи,
О Нереиды, вы сильны, дики!
О нежные Дориды, к нам несите
Вы Галатею, вылитую мать!
В своей серьезности богинями глядите,
Способными бессмертие познать,
Но вы и прелестью влекущей одарены,
Как человеческие жены. (401)
Завораживающее кружение дочерей Нерея вокруг плывущей
колесницы-раковины, на которой стоит Галатея, создает атмосферу абсолютной
женственности, первозданности красоты, и тема любви звучит в словах Дорид,
обращенных к Нерею. Дориды хотели бы вечно любить прекрасных юношей, спасенных
ими в морских волнах. Это означает даровать юношам бессмертие, что Нерей
сделать не в силах, ибо бессмертие дано лишь олимпийским богам, а
привязанность Дорид к земному, тленному выведет их из сферы стихий и вечности,
земное лишь причастно вечности, лишь ее символ, и Дориды должны покинуть
юношей:
Достойны нас вы, милые созданья,
Но разлучимся в грустный миг.
Мы к вечности влекли свои желанья,
Но боги отрицают их. (403)
Колесница Галатеи приближается к Нерею, который взором, полным
восхищения, смотрит на свою дочь, желая остановить мгновенье, ставшее
воплощением смысла бытия и его совершенства. Именно в этот момент решается
судьба Гомункула. Но прежде чем перейти к кульминации Эгейского празднества,
необходимо вернуться к созданной Гёте картине, точнее, явленной в слове
серии картин и сравнить их с фреской Рафаэля, поскольку, как уже было сказано,
здесь налицо существенные отличия, которые обнаружились уже в статье Гёте
«Картины Филострата»190 и стали более заметными в тексте трагедии. Главное
отличие — в самом характере сцен. Гёте изображает триумф Галатеи, ставшей у
него триумфом космического Эроса, его беспредельной власти и порождающей
силы. Поэтому фреска Рафаэля приобретает у Гёте характер мирового символа,
и этот символ возникает в результате трансформации фрески. Детальный анализ
шедевра Рафаэля, сделанный А. В. Степановым, показывает нам, что сохранил
Гёте и на что не обратил намеренно внимания, поскольку, как нам кажется,
ничего не ускользнуло от пристального взгляда исследователя, а блестящая
интерпретация обнаруживает отличие фрески от гетевского текста. Из описания
190 Hamlin С. Tracking the Eternal-Feminine in Goethes «Faust» II // Interpreting Goethes «Faust»
Today. Columbia, 1994. S. 142—155.
182 SL
Α. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
А. В. Степанова видно, что Гёте в «Фаусте» освободил рафаэлеву «Галатею» от
интертекстуальной связи с фреской Себастьяно дель Пьембо «Полифем», чего
он не сделал в статье «Картины Филострата». Для интерпретации А. В.
Степанова как раз важен именно этот контекст. «Зрителю понятно страдание
циклопа от безответной любви к неуловимой нереиде. Как манят его взор светлая
голубизна неба, бирюза морской глади, золото разгоряченных тел! Как полон
его слух ликующим шумом! Клокочет и плещет вода, храпят борзые дельфины,
трубят что есть мочи тритоны, ржет альбинос-гиппокамп, хлопают сорванные
ветром покрывала нереид, и уже почти слышатся звоны тетивы и свисты
любовных стрел. "Глазами слышать — тонкий дар любви".
Сначала кажется, что шумная ватага исчезнет за правым краем картины.
Вправо наклонилась обладательница колесницы, вправо вытянуты поводья,
которыми подхвачен невидимый луч, исходящий от личика купидона,
выглянувшего из-за облака. Оттуда вправо скользит наш взгляд нацеленный на стреле
ихтиофага в руке толстого купидона-возницы, ухватившего дельфина под
уздцы. Лопасти колесницы крутятся вправо по часовой стрелке. Но всех
задерживает могучий тритон, схвативший нереиду. Ихтиофаг с наездницей
поворачивает вспять, помогая веслом; всадник на гиппокампе скачет от нас — вот прямое
движение уже преобразовано в круговое. Последний закругляющий жест
Рафаэля — вогнутое дугой тело плывущего купидона. Вокруг осевой фигуры
вращается карусель, и сама она уже не мчится в своей колеснице, а стоит, изогнувшись
винтом и бросив вверх кокетливо-беспомощный взор: вы только посмотрите,
что они со мной вытворяют! Водной карусели вторит воздушная —
вооруженные луками купидоны»191.
Сразу же бросается в глаза, что воображаемая картина, созданная Гете, не
столь насыщена ренессансными риторическими компонентами; в ней более
широкая морская панорама, хотя по ходу действия мы видим круговое движение,
при этом такая широта пространства в сочетании с кружением процессии
придает гетевской картине ярко выраженную космичность. Цветовая гамма здесь
несколько иная. При свете полной луны, естественно, тона должны быть более
приглушенными, хотя созерцатели Нерей, Протей, Фалес и Гомункул видят
красоту Галатеи во всем ее блеске и величии, и эта красота не может быть объектом
обладания. Поэтому вся картина отличается большей строгостью. Вспомним,
Нерей запретил Доридам брать с собой спасенных юношей и этим исключил
любую попытку обладания во время священной Эгейской мистерии.
Если в статье «Картины Филострата» Гете описывает Полифема,
созерцающего Галатею, подчеркивая, что в глубинах дикой души циклопа таится голод
по человеческой плоти и этот голод принял у него форму охватившей его
страсти к Галатее, то в «Классической Вальпургиевой ночи» этот мотив полностью
отсутствует. У Рафаэля в его фреске он представлен, и, как указывает А. В.
Степанов, может возникнуть вопрос: «Кто же здесь Галатея — та, которую схватил
тритон?» «Галатею, нагую и прекрасную, Рафаэль бросил под перекрестный
удар стрел»192.
191 Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Италия XVI век. СПб, 2007. С. 179.
192 Степанов А. В. Указ. соч. С. 180.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JΩ 183
У Гете вся сцена становится эпифанией Галатеи, символическим
воплощением божественной красоты, его недостижимого идеала, и отношением к нему
может быть трансцендированное любовное чувство. Именно оно охватывает
Нерея, когда он видит свою дочь. Земная красота показывает божественность
природы, и остановившееся мгновение наполняется высшим смыслом бытия.
И ответ Галатеи на чувства Нерея — восторженные слова:
Отец мой! Вот отрада!
Замедлите! Что за оковы взгляда! (403)
После этого обмена восторженными словами картина триумфа видится
издали. Созерцатели захвачены зрелищем, которое можно понять как трансцен-
денцию в природе. Кажется, на какое-то мгновение движение замирает; картина
превращается в подлинный и единственный жест, в котором сжато,
сконцентрировано все происходящее; картина неповторима, ибо она рождается в опыте
эпифании.
Перед нами явление божества, сопровождаемое музыкой природы.
Картина выглядит так, что в ней невозможно не опознать божество193.
Они плывут уже назад,
Вдали качаемы волнами,
Но им не встретиться вновь с нами:
Так нормы праздника велят.
И их неисчислимый рой
Вдруг стал богатым шириной,
Но Галатеи пышный трон
Блестит, толпой не затенен.
Звездой чрез сборище густое
Сияет все мне дорогое;
Хотя оно и далеко,
Но ясно светит мне оно. (404)
Море обрамляет картину интронизации Галатеи; стихия полностью
подчинена красоте, которая требует последнего превращения, и это превращение
происходит с Гомункулом. Наконец дух обретает подлинную цель своих
стремлений. На спине Протея-дельфина он устремляется к трону Галатеи. Светящийся
и звучащий дух, человеческая энтелехия сливается с жизнью природы, входит
в нее, чтобы «облечься поскорей и в плоть свою и кровь» (396), так выглядит
мистическая свадьба Гомункула и Галатеи. Андрогинный дух входит в
соприкосновение с природой, когда у трона Галатеи разбивается его колба, и в этом
он обнаруживает свою главную сущностную интенцию, стремление к любви и
красоте, и здесь одно невозможно отделить от другого. В этом
самопожертвовании и одновременно освобождении от замкнутости на самом себе дух явил
свою животворящую силу в мировом становлении, обретя цель своих стремле-
193 См. об этом подробнее: Кереньи К. Дионис. Прообраз неиссякаемой жизни М., 2007. С. 32—33.
184 Sîb
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
ний. Именно здесь явственно осуществляется принцип вечной жизни: «Умри и
возродись!» Подвижный мир, где царствует закон метаморфозы, демонстрирует
нам движение от первоначальных хтонических образов хаоса, от полуживотных
к более чистым и благородным, к духовным и прекрасным. У Великой Воды,
у первоначала всего сущего, у прародительницы жизни мощными аккордами
звучат гениальные натурфилософские стихи, славящие мировое становление,
жизнь и ее источник, в котором царствует божественный Эрос.
Что за пламенное чудо озаряет наши волны,
Что, друг друга разбивая, сильно искрясь, жизни полны?
Блеск и трепет колебанья, вот и пламя столбовое...
Зажигаются тела все, что сокрыты темнотою...
Посмотри — вокруг все ярко, все тем пламенем объято...
Так владычествует Эрос, это Эросом зачато! (405)
Можно только согласиться с Катариной Моммзен, отмечающей особое
значение финала Эгейского празднества. «В заключительных стихах
"Классической Вальпургиевой ночи", празднества космогонического эроса, поэтический
язык во второй части "Фауста" достигает особой высоты. Гимнический порыв,
мощное звучание этих стихов имеет себе подобное лишь в одном месте: в конце
пятого акта. Там имеется также и содержательное соответствие, на которое
указывали с полным правом, ибо слова:
Так всемогущая любовь творит, всему
Ей сотворенному являяся охраной (558) —
корреспондируют в действительности с заключительными стихами
«Классической Вальпургиевой ночи»194.
При всем отличии друг от друга двух грандиозных мистерий второй части
общим здесь остается порыв любви к непостижимому вечному началу.
Носитель этого порыва— Гомункул, ставший главным персонажем второго акта.
Его жертвенное растворение в жизненной стихии — прелюдия к появлению
Елены.
Возвращение Елены из подземного мира означает воскрешение красоты,
возвращение античности во всем ее блеске, речь идет о поиске утраченного
исторического времени, исторического прошлого. Это, как указывает Йохен Шмидт,
Ренессанс в полном смысле слова195. Добавим от себя, что здесь еще и
демонстрация самого возвращения, которое у Гете выглядит как движение навстречу
античной красоте, встреча с античным искусством и культурой;
одновременно это путь к силам, организующим жизнь и культуру. Последние воплощены
в символических образах Матерей, о которых речь пойдет в следующей главе.
Второй и третий акт драмы вместе образуют грандиозное временное символи-
194 Mommsen К. Homunculus und Helena //Aufsätze zu Goethes «Faust» II. Darmstadt, 1991. S. 146.
195 Schmidt J. Goethes Faust. Erster und Zweiter Teil. Grundlagen-Werk-Wirkung. München, 1999.
S. 224.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 185
ческое целое. Символически возвращенные тысячелетия показывают нам смысл
хода истории, сохраняющей вечное и прекрасное.
4. Гармония, осененная смертью.
Третий акт
Грандиозную «Классическую Вальпургиеву ночь» мы можем рассматривать
также как некий вселенский маскарад, сценарием которого является мировое
становление. Однако все здесь подчинено главному поэтическому замыслу:
показать все происходящее как троякий поиск, в котором находятся три фигуры
драмы — Фауст, Мефистофель и Гомункул.
Мефистофель во время «Классической Вальпургиевой ночи» находится в
поисках хтонических начал, животной витальности, той атмосферы, которая
походила бы на то, к чему он привык на Блоксберге, ему нужен мир
разбушевавшегося инстинкта, бесстыдных эксцессов. Фауст же ищет возвышающуюся
жизнь, он ищет Елену как воплощение вечной земной красоты; и в этих поисках,
которые суть грезы, предчувствия, познание, понимание, то есть все духовные
возможности человека, происходит совершенствование гетевского героя, его
возвышение. Мефистофель, чья деятельность — чистое отрицание, чувствует
себя неуютно в этом мире высшей позитивности.
Перед нами развернуто мифическое пространство, мы находимся в
мифическом времени, в древнейшем правремени, устремленном ко времени
героическому, и к нему по пути становления движутся возвышающиеся образы
греческого мира: грифы, сфинксы, сирены, нимфы, кентавр Хирон, Манто, Фалес,
Анаксагор. Череда ярких сцен показывает нам расточительность природы,
которая через полярность стремится к возвышению.
Каждый из трех главных образов второго действия достигает на своем пути
цели. Фауст после встречи с воспитателем героев Хироном, воспользовавшись
его помощью, получает у пророчицы Манто разрешение войти в подземный
мир, чтобы испросить у Персефоны Елену.
Войди же, дерзкий! Радуйся! Проход
Во тьме ведет в чертоги Персефоны;
Там у подножия она Олимпа ждет,
Кто сотворит перед ней запретные поклоны.
Когда-то там я провела Орфея,
Удачней будь его! Проворнее! Живее! (365)
Мефистофель же наконец находит прообразы рожденного Ночью и Хаосом
безобразия — хтонических форкиад. Он чувствует ближайшее родство с ними,
и он может принять их облик, став «Хаоса сыном именитым» — и полным
контрастом красоте Елены. В этом облике он останется в третьем действии.
Третье действие Гете часто называл «Елена». О Елене Гете сказал 16 декабря
1829 года, что она воплощение красоты, и брак Елены и Фауста показывает нам
186 3^-
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ ИГРА
встречу классического и романтического, Греции и Западной Европы. Указывая
своему собеседнику на различные слои коннотаций, необходимые для
понимания II и III актов, Гете говорил: «В дальнейшем <.. .> вы обнаружите, что в ранее
написанных актах классическое все явственнее слышится наравне с
романтическим, дабы мы, как на пологий холм, могли подняться к "Елене", где обе
поэтические формы выступают еще отчетливее и одновременно как бы друг друга
уравновешивая»196. Сравнение пути нашего сознания к греческому идеалу красоты
с движением по пологому холму, т. е. с постепенным непрерывным подъемом,
без каких-либо рывков ввысь, видится Гете как постепенное наполнение нашего
сознания смыслом классического. Собственно, так выглядят у Гете кадры
«Классической Вальпургиевой ночи», движение которых показывает нам непрерывное
становление прекрасного мира форм. Если «Вальпургиева ночь» первой
части — это мир инстинкта, его буйство, захватывающее, подобно хаосу, все
человеческое, ввергающее его в этот демонический хаос, грозящее его уничтожить, то
«Классическая Вальпургиева ночь» — постепенно возвышающийся и
завершающийся в себе мир прекрасной формы, дающий о себе знать в появлении Галатеи.
Этот мир и рождает Елену. Романтическому сознанию показывают то, что оно
может созерцать как идеал. Однако цель движения Фауста к Елене понимается
в германистике по-разному. В XX веке можно говорить о двух альтернативных
точках зрения, на которые указывал Вольфганг Шадевальдт. Довольно широкое
распространение имеет концепция, которую Шадевальдт назвал
«ортодоксально-гуманистической» (Й. Фолькельт, Г. А. Корфф, Р. Бухвальд, Кр. Вейдель): на
своем пути от Гретхен к Елене и далее к господству над морским побережьем, к
созидательному преобразованию природы, Фауст должен пройти процесс
облагораживания, очищения. Елена, греческий идеал красоты, ведет Фауста от мира
чувственного через прекрасное к нравственному. Мост из мира природы в мир
свободы кажется переброшенным. Таким образом, Фауст получает эстетическое
воспитание в шиллеровском смысле, которое в конце концов обеспечивает ему
спасение, а небесные силы вырывают обманом его душу у выигравшего пари
Черта. И конечно, на пути к спасению Елена — важнейшая ступень. Тем самым
трагедия Гете превращается в воспитательный роман, соответствующий шилле-
ровско-гумбольдтовскому идеалу классического воспитания.
Этому противостоит другой тип воззрений: ни о каком «улучшении»
Фауста речи идти не может. Драма показывает нам титанического изверга в смене
экзистенциальных ситуаций. И этот изверг переходит от одного самообмана к
другому, и цепь экзистенциальных ситуаций выглядит как последовательность
иллюзий, самообманов и миражей, и в результате — крушение, катастрофа.
Поэтому Елена — всего лишь мираж, в котором, как сказал бы Теодор Адорно, у
красоты — греческое лицо. О времени появления таких интерпретаций (В. Бель,
В. Мильх, Р. Шнайдер) нетрудно догадаться. Они возникали непосредственно
после Второй мировой войны, и «фаустовский человек» выглядел здесь как
проклятие197.
196 Эккерман И. П. Разговоры с Гете. С. 337.
197 Schadewaldt W. Faust und Helene. // Goethe im XX Jahrhundert. Spiegelungen und Deutungen. Hrsg.
von H. Mayer. Hamburg, 1967. S. 242, 273—274.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея ЛЕ) 187
Конечно, здесь невозможно обойти стороной точку зрения Адорно, который
вводит в художественную ткань гетевского «Фауста» тему забвения, что гораздо
позднее станет лейтмотивом глубоких мыслей Жана-Франсуа Лиотара о
специфике западноевропейского дискурса вообще. Адорно напоминает нам, что
пружиной всего, что происходит в трагедии Гете, является пари и смысл
действия в том, чтобы забыть о пари, ибо «выиграй Фауст пари, было бы абсурдом,
издевательством над поэтической экономией вкладывать перед смертью в его
уста слова, которые, следуя пакту, отдавали его Черту». Как и эпизоды с
Еленой, так и созидательная деятельность в V акте — всего лишь иллюзия, которая
ставит точку на жизненном пути героя, которого необходимо взять на небо198.
Фаустовскую тему невозможно понимать в позитивистски прогрессивном духе.
Это сложный феномен историчности человека вообще, тогда забвение и есть
имманентное свойство человека Запада, свойство его историчности, которое
понимается этим человеком как метафизическое спасение от самой истории, и
здесь Черт, который является провокатором исторического бытия, должен
непременно проиграть, а человек — потерять самотождественность.
Осуществление человеческих стремлений возможно только через забвение.
Христианское воззрение на все эпизоды, связанные с Еленой, трактует
последнюю как искушение Фауста. Она в своей основе возлюбленная, посланница
Дьявола, «содомский идеал» из народной книги и кукольной комедии или же
она остается греческой красотой, запретным плодом учения о спасении.
Забавлявшийся волшебством пламени молодой Император требует, чтобы
Фауст путем магического эксперимента вызвал Париса и Елену. Он хочет их
видеть в ясных образах. Естественно, Фауст обращается за помощью к
Мефистофелю. Но оказывается, что средневековый черт не имеет над этим греками
никакой власти:
К язычникам не смею прикасаться;
У них свой ад. Но случай все ж найдется... (306)
Фауст, положившись на свои силы, преодолевая страх, должен спуститься в
незримые, неведомые глубины, в глубочайшее ничто, где в полном уединении
царят богини, Матери, прорваться в ту сферу, где не существует
пространственно-временных форм, где прообразы всех существ порхают над головами этих
богинь «всегда без жизни, и всегда в движенье». Это мир, в котором
зарождаются и куда возвращаются все формы жизни. Собственно, речь идет об
изначальном хаосе. Хаос — составная часть гетевской картины мира, и если искать
в «Фаусте» принцип бесструктурности, распада и неудержимой концентрации,
рушащих мир, то это будут пустота и тьма. Мефистофель, прекрасно знающий
природу хаоса, непревзойденный его инспиратор, подробно описывает Фаусту,
как происходит исчезновение формы, как теряется представление о
пространстве и времени, что ставит под сомнение трансцендентальную схему
человеческого сознания. Исчезновение космоса рисуется как потеря миром его формы и
очертаний, исчезновение мира явлений и возникновение пустого пространства,
постепенное возвращение зияющей бездны на место мира:
198 Адорно Т. В. К заключительной сцене «Фауста». Коллегиум 1—2. СПб, 2004. С. 130.
188 Sîb
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Когда б ты вздумал плыть за океан,
Ты с безграничностью и там бы повстречался,
Но все бы видел волн мятежных стан
И чем-нибудь невольно любовался;
Затихло б все кругом, но все же пред тобой
Из зелени воды дельфины бы явились,
Неслись бы облака иль звездочки искрились,
Иль Солнце иль Луна влекли бы взор собой.
Но в пустоте, где должен ты явиться,
Не будет ничего сверх этой пустоты:
Своих шагов там не услышишь ты,
Там будет не к чему тебе и прислониться. (307—308)
В этой сфере начинается созидательная деятельность Матерей, богинь,
творящих формы. Однако нельзя упускать из виду, что миф о Матерях рассказывает
Мефистофель, который понимает это творчество как беспрерывную
концентрацию, а не как расширение мира форм.
В фаустовском представлении деятельность Матерей выглядит как
насыщение мироздания образами, и, обращаясь к Матерям, Фауст скажет:
Во имя ваше, Матери, что вечно
Живете в бесконечности, в пустыне,
Вокруг которых реют быстротечно
Все жизни, образы, хоть неживые ныне!
Что на земле у нас существовало,
Все жившее стремится вечно жить.
Вы сами властны их распределить
Иль в свете дня, иль под ночною сенью;
Одних затянет жизнь к обычному теченью,
Других же вызовет один лишь смелый маг;
Он, зная, сделает, бесспорно, смелый шаг
И, отвечая лишь одним желаньям лестным,
Он даст вам то, что нужно звать чудесным. (317)
В стихе, где фигурирует маг, в первом варианте стояло слово поэт, который
ищет образы. Что же это за сфера вне пространства и времени? По Плутарху, в
ней основания, образы и прообразы всех вещей, что когда-то существовали и еще
будут существовать. Здесь они неподвижны. Их окружает вечность, из которой
время потоком изливается в миры. Образы жизни, окружающие Матерей,
охватывают просторы всех существовавших, существующих и будущих существ.
Отсюда и начинается процесс становления, ибо последний есть наполнение
образов жизнью. И этот процесс для Гете гораздо важнее, чем неподвижность и
неизменяемость платоновских прообразов. Утверждение трансцендентального
бытия в видимости и одновременная изменяемость и активность, жизненность
образов, т. е. генетически-онтологическое понимание прообразов (а не преэк-
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JΩ 189
зистентно-онтологическое) дает возможность дальнейшей жизни умершему,
которая постоянно повторяется и изменяется. Это, конечно, не идеалистическое
полагание метафизически заданных прообразов. Это понятие вечного бытия.
И изменение в форме метаморфозы все-таки вневременное,
ирреально-схематическое возвышение в сферу прафеноменов конституирует это вечное бытие.
Поэтому заклинание Елены Фаустом есть не что иное, как заклинание
исчезнувшей красоты, в то же самое время абсолютно прекрасного, к которому должны
присоединиться все вещи, они ведь тоже в вечных метаморфозах. Магическим
путем в это царство сверхчувственного прорваться нельзя. Жизнь
сверхчувственного можно видеть лишь в отблеске, в становлении.
Миф о Матерях выступает в трагедии в двойном свете. Слова о Матерях
Фауст произносит в жреческом одеянии, при этом он — маскарадный жрец, маг,
что дает возможность Доротее Ломайер очень точно понять всю сцену:
«Фауст в жреческом одеянии исполняет роль жреца как художника: откровение
таинственного божества делает явственным формирующий принцип природы в
явлениях красоты, как спектакль. Искусство выступает здесь как откровение
истины»199. В комментарии к сцене в «Рыцарском зале» исследовательница
указывает, что в ней Фауст, ищущий царства Матерей, где скрыты прообразы,
показан как современный художник и «возникновение современного театра» у него
есть не что иное, как демонстрация перед зрителем прафеноменов красоты200.
Сценическая композиция, связанная с мифом о Матерях, заклинание Фаустом
Елены и Париса и то, как действует на сцене маг — жрец — поэт Фауст, без
сомнения, имеет иронический и сатирический характер, определяемый участием в
этом представлении Мефистофеля, выступающего в роли режиссера и суфлера.
Вся композиция мыслилась как воплощение мифа о Матерях, порождение
красоты из бесформенного образа. «Классическая вальпургиева ночь» и есть
демонстрация этого становления, и действительно пестрота сцен, образов, картин,
мыслей, форм дает нам изображение мирового становления, процесса, в
котором принимают участие три героя трагедии — Фауст, Мефистофель и Гомункул.
Каждый из них ищет жизнь, по-своему им понимаемую, такую жизнь, которая
ему нужна. Гомункул, чистый дух, стремится к стихийной жизни. Мефистофель
ищет животную витальность, к которой он привык на Блоксберге, и здесь среди
греческих архаических ведьм он стремится найти свой мир. Фауст ищет Елену,
т. е. красоту, потенциированную жизнь, жизнь жизни.
В начале 3-го акта Елена у Гете получает личностные характеристики, голос,
историю. Она уже не проекция, не мираж и схема, каковой она была для Фауста
в первом акте. Она предстает перед нами в момент своего возвращения из Трои,
когда она со своими спутницами, хором, стоит в Спарте перед дворцом Менелая.
Без свиты она входит в кажущийся необитаемым дворец и встречает странную,
уродливую старуху, воплощение ужаса, «появившееся из лона древней ночи».
Это — Мефистофель в образе архаической ведьмы, Форкиады. Этот вид он
приобрел во время «классической Вальпургиевой ночи». Сын хаоса взял на время
199 Lohmeyer D. Faust und die Welt. Der zweite Theil der Dichtung. München, 1975. S. 144.
200 Goethe J. W. Faust II. Goethe J. W. Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. München und
Wien, 1997. Bd. 18. l.S. 781.
190 S*-
Α. Γ Аствацатуров. ПОЭЗИЯ ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
облик форкиад, став «дочерью хаоса». Тем самым опять вторжение
демонических сил инспирирует происходящее в третьем акте. Поэтому все эпизоды,
связанные с Еленой, в определенной степени несут на себе печать демонического,
не чуждого грекам и самому Гете. Елена, выслушав все рассказы форкиады, т. е.
мифы о самой себе, находится в состоянии, в котором она себя не осознает.
Воспоминанье, что ли, здесь какое? Иль обман
Воображенья охватил меня? Была ли
Такою я? Иль становлюсь теперь лишь?
Иль буду я в грядущем сновиденьем
И страшным призраком всех тех, что города
Опустошают?. (422)
Здесь налицо потеря самотождественности, своего рода диффузия в
тождестве, модусы времени, видимость и реальность, память и настоящее, сон и
бодрствование, насилие и любовь находятся в каком-то круговороте, и далее фор-
киада рассказывает Елене всю ее историю. И когда Елена слышит, как она, уже
давно мертвая, стала возлюбленной мертвого Ахилла и была на какое-то время
для этого возвращена к жизни, вот тогда и вспыхивает в гетевском тексте слова
«идол». Немецкое слово Idol, как указывает Эрих Трунц, происходит от
латинского idolum, а последнее, в свою очередь, от греческого eidolon — образ, тень,
образ в душе, фантом, призрак. Гете использует его в древнегреческом смысле.
Ich als Idol, ihm dem Idol verband ich mich.
Es war ein Traum, so sagen ja die Wirte selbst.
Ich schwinde hin und werde selbst mir ein Idol.201,
Елена приходит к осознанию того, что она не реальный человек, a eidolon. То,
что выпало на ее участь, подчиняется логике мечты. Елена — говорящая
персона, не подчиненная временным и пространственным связям. Так в случае с
Еленой возникает эффект символической трансляции. Елена тем самым вызвана из
времени истории и времени течения жизни. Здесь следует указать на один очень
важный момент, показывающий, что Елена идол. Форкиада говорит:
Но говорят, что ты жила тогда вдвойне:
Жила и в Трое ты, а вместе и в Египте. (424)
Здесь Гете опирается на драму Еврипида «Елена». Богиня-мать Гера
создала, сотворила тень Елены, фантом, который обманутый Парис похитил и увез
в Трою, в то время как настоящая Елена жила в Египте. Незакрепленность за
временем и пространством — это форма существования духов и схем, богов и
идолов. Они могут присутствовать везде, во всех пространствах и во всех
временах. Люди этого не могут. Елена во второй части «Фауста» — не человек, но
201 Goethe J. W. Faust. Texte. Berliner Ausgabe. Poetische Werke. Berlin und Weimar. Bch. 8. Faust. S.
347.(8879—8881).
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JΩ 191
она у Гете наделена языком, восприятием, ощущениями, любовью, страданием,
раскаянием и гневом. Она — медиум, через которой циркулирует эротическая
энергия всех времен. О ее любви к Ахиллу рассказывает легенда, согласно
которой Ахилл по просьбе Фетиды был отпущен на время из царства мертвых,
однако он мог оставаться только в Фере, и там он встретился с Еленой, которую
любил с тех пор, как увидел ее на стене Трои.
Елена покинула Гадес, чтобы соединиться с Ахиллом. В «Классической
Вальпургиевой ночи» Фауст говорит о своем желании вернуть к жизни Елену
силой своей любви:
Ведь мог же и Ахилл найти ее на Фере
И даже от нее взаимность получить,
Когда по времени ей не пришлось и жить.
Ужели пылом я стремленья своего
Не в силах жизни дать для образа того?
Он — вечен, он — велик, он — нежен безгранично:
И он, и божество бессмертны безразлично.
Ведь ты видал ее когда-то лучезарной,
Очеровательной, милейшею из всех;
И я из слов твоих увидел без помех
Ее — прекраснейшей, нежнейшей, благодарной
И вожделенною безмерно для меня! (362—363)
Этот образ неповторимой красоты при всем уважении Гете к Винкельману
очень далек от винкельмановского понимания греческой красоты. Он
противоречив в своей субстанции, ибо печать демонического лежит на нем. Это
сознание, которое мучительно достигает самотождественности, причем только через
воспоминание. К воспоминаниям Елену принуждает форкиада, играющая роль
Мнемозины, и воспоминания — ад, от которого Елене никак не уйти. Ее
сознание остается расколотым, разорванным, и себе самой она кажется идолом.
Безжалостные воспоминания, которые восстанавливают историю жизни Елены,
омрачают образ красоты. Оставаясь ее светом, Елена внутренне
дисгармонична. Над прекраснейшей из всех женщин постоянно возникает аура меланхолии,
меланхолии неустранимой. Счастье для нее невозможно. Елена как фантом, как
идол — воплощение несчастного сознания. Взятый у Еврипида мотив
превращает гетевскую героиню в страдающую личность, жизнь которой под угрозой.
Менелай готовится принести ее в жертву.
Здесь необходимо отметить еще один важный момент. Само появление
Елены в жизни Фауста куплено принесением в жертву Гретхен, что, конечно,
бросает тень смерти на весь акт, даже на аркадскую идиллию в сцене «Тенистая
роща», которую можно было бы назвать гармонией, осененной смертью, о чем
свидетельствует трагическое завершение третьего акта. И оказывается, что в
мире призраков, которым являются Елена и ее свита, возможен ужас, страх
перед судьбой. Видя, как Елена и хор, расступившись, стоят, пораженные ужасом,
форкиада утешает их по-дионисийски:
192 Sîu
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
О, призраки! Как вы оцепенели!
Вы перепуганы разлукой предстоящей
Со светом дня, но этот свет не ваш.
И люди, призраки такие же, как вы,
Ведь так же неохотно расстаются
С сияньем солнца: но никто из них
Не просит, и никто их не разводит
С развязкою последней. Всем известно это,
Но нравится немногим. Кратко выражаясь —
Погибли вы. (427^29)
Мотив жертвоприношения в данном смысле играет двоякую роль: первое —
он переносит Елену в Средневековье как жертву, т. е. в форме жертвы. И в ней
она себя осознает идолом и остается идолом для других; второе — она в
качестве идола опять приносит в мир войну. Мы видим возвращение того же самого.
Включенная форкиадой — Мефистофелем в исторический процесс,
синхронизированная со Средневековьем и Фаустом, Елена также включается в
символический процесс, где Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Импульсы этого
процесса — желание, сила, томление. Они и поддерживают все новые и новые
вариации отношения к идолу: Тесей, Патрокл, Менелай, Парис, Ахилл, Фауст.
Здесь никакой роли не играет смешение пространственно-временных
отношений: прошлое— будущее, земной мир— подземный мир, жизнь— смерть,
греза — реальность — здесь все соединяется, смешивается, синхронизируется.
С другой стороны, Елена — это символ античной красоты. Решающим в этом
случае является гетевское отношение к греческой культуре.
Появление Елены в драме показано как неразрывное сцепление прошлого с
настоящим, и рассказ о ней самой, звучащий из ее же уст, прочно связан с
легендами о ней, которые сама героиня воспринимает отстраненно:
Елена многими хранима и бранима,
Я с берега пришла, где мы сейчас пристали.
Опьянена я долгой качкой волн,
Что принесли меня с равнин фригийских
На вечно вверх стремящихся хребтах,
В родную гавань, волей Посейдона
И силой Эроса.
Свершилось много дел таких, о коих
Охотно говорят друг другу люди,
Но слушает так неохотно тот,
Молва о коем, больше разрастаясь,
Соткать успела постепенно сказку. (409—410)
Гетевская героиня уже в первом монологе говорит о себе как о мифическом
образе, складывающемся из серии однотипных легенд, а не как о личности, опре-
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 193
деляющей свои действия свободой выбора, что демонстрирует, насколько мало
Елена ощущает свою самотождественность. Ее голос доносится из временной
дали, он звучит из далекого прошлого, являя собой вечное возвращение того же
самого. Слова Елены показывают многообразие смыслов, которые Гете
вкладывает в этот образ: миф и человек, силы и явления, греза и сознание, прошлое и
настоящее, реальное и сверхреальное, близкое и далекое. Одно мгновенно
вызывает к жизни, другое сплетается с ним, входит в состояние
взаимообусловленности. Каждый из указанных нами моментов превращается в символическую
связь с целым, все пронизывается связующими нитями, все, кажется, выступает
обособленно и одновременно обнаруживает незримую ранее точку
соприкосновения друг с другом. Эта синхронизация предъявляет к сознанию высшие
требования; одновременность всех процессов испытывает сознание Елены на
универсальность, и, конечно, от такого рода испытания не освобожден и
Фауст. Фигуры драмы приближаются к Елене и ощущают на себе ее воздействие;
степень этого воздействия характеризует их, прежде всего — их близость и
отдаленность. Кто не воспринимает эту одновременность, не понимает сущности
Елены, не затронут ее присутствием.
В обеих сценах третьего акта — «Перед дворцом Менелая в Спарте» и
«Внутренний двор замка, окруженный богатыми зданиями в средневековом
стиле» — антикизированные хоровые строфы можно понять как приближение к
декламации с пением, воспринятое как пение хора в греческой трагедии, и здесь
трудно не заметить близость к концепции классицистской оперы с хорами К. В.
Глюка и А. Сальери. Этим они принципиально отличаются от остальных хоров
«Фауста», которые возвращают нас к ораториальным хоровым традициям Г. Ф.
Генделя и К. Г. Грауна, а также к хорам в «Фиделио» Бетховена и в «Вольном
стрелке» Вебера202. Сцена «Тенистая роща» имеет большое сходство с
замечательным гетевским фрагментом «Волшебная флейта. Вторая часть»203.
Вольфганг Шадевальд отмечал, что гетевское понимание античного мира
коренным образом отличается от идеалистически форсированного классицизма
Шиллера, Гумбольдта и молодого Фридриха Шлегеля. Греки не были
наивными счастливыми большими детьми классики и раннего романтизма, баловнями
времени, жившими в гармонии с самими собой и своими богами и без большого
внутреннего напряжения творили так называемое «идеально прекрасное». То,
что Гете видит в греках, — это не сравнимая ни с чем плотность и сила
субстанции, присущая всему греческому народу. «Мы восхищаемся древнегреческими
трагедиями, на самом деле нам следовало бы восхищаться не отдельными
трагиками, а эпохой и народом, в гуще которого они возникли. Ибо их произведения
если несколько и отличаются одно от другого, если один из поэтов несколько
и превосходит другого завершенностью своих творений, то когда вглядишься
критичнее, замечаешь, что все их творения в целом носят один и тот же
характер — характер величия, силы, здоровья, человечески совершенной и незауряд-
202 См. об этом подробнее: Lulé S. Oper als ästhetisches Modell für die Literatur um 1800. Gießen,
2004. S. 199.
203 О нем см. подробнее в разделах настоящей книги «Гете и мир игры» и «Игры гения и их
отзвук», в особенности часть раздела «Волшебная флейта». Первая и вторая части. Моцарт и Гете.
194 Sîb
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФМАОСОФИЯ. ИГРА
ной жизненной мудрости, высокого образа мыслей, четкого и ясного
мировоззрения и великого множества прочих положительных качеств»204 — так говорил
Гете Эккерману 3 мая 1827 года.
Наследственно здесь благосостоянье,
Здесь щеки рдеют так же, как уста,
Бессмертным дышит здесь живущее созданье,
Здоровы все, довольны всем всегда. (454) —
скажет Фауст в 3-м акте. И Елена, понятая как воплощенная красота
жизни, показана как красота, которую творит сама жизнь, возвышаясь,
претерпевая метаморфозы и достигая эстетического совершенства. Достигая
этого совершенства, природа становится божественной, и это, исходя из мифа,
наследственная черта Елены. Мы говорили, что Елена идол и это источник
разорванного сознания гетевской героини. Однако есть вторая ипостась
Елены. Елена — символ. Вспомним знаменитые слова Гете, сказанные
Эккерману 2 мая 1824 года: «Свои труды и поступки я всегда рассматривал
символически, и по существу мне безразлично, обжигал я горшки или миски»205.
Под символизацией Гете понимал процесс, когда в особенном просвечивает
всеобщее, общее, при этом символика для него одновременно и чувственное
изображение, или «истинная символика там, где особенное представляет
всеобщее не как грезу или тень, а живое — мгновенное откровение
непостижимого» (Maximen und Reflexionen). Истинное, которое для Гете тождественно
божественному, нельзя познать непосредственно; истинное мы видим только
в отблеске, в примере, в символе, в единственных и родственных явлениях,
мы обнаруживаем это как непостижимую жизнь и не можем отказаться от
желания все-таки эту жизнь постичь. С остальными феноменами доступного
нам мира дело обстоит так же. Красота Елены — красота земная, и как
«высшее земное достояние» — она преходяща, быстротечна. Она отблеск
вечного в преходящем. Такова и Елена, и ее существование как идола и как символа
не тождественны друг другу. Соединение их невозможно. Мысль Фауста
отнять Елену от Париса, спасти ее, вернуть ее в жизнь со всей страстью — это
ошибка отважного, дерзкого человека, желающего невозможного, каковым и
является гетевский герой. Красоту нельзя похитить, нельзя обладать ею как
вещью. Только в тоске по ней, в поисках, мыслях она может стать явлением.
И оно может быть только мгновением, высшим мгновением, отражающим
в себе вечность. И когда мгновение — вечность, это означает, что в одном
мгновении на какой-то миг сливаются время и целостность бытия. Но в мире
временном такие высшие мгновения преходящи. В трагедии Фауст
переживает три таких мгновения: любовь Гретхен, Елены и, наконец, видение
свободного народа на отвоеванной у моря земле. И в этих высших моментах, в
любви, в наслаждении красотой, наслаждении созиданием гетевский герой,
как ему кажется, соприкасается с самым высоким. И они, как вечные звезды,
204 Эккерман. И. П. Указ. соч. С. 530.
205 Эккерман. И. П. Указ. соч. С. 128.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 195
на мгновение вспыхивают в зеркале времени, в зеркале нашего бытия,
которое подобно текучей, темной стихии. Такой взгляд не является привычной
метафизикой. Здесь уместно процитировать Фридриха Мейнеке: «Поэт жил
тысячелетиями, но в соответствии со своей сокровеннейшей потребностью
он сжал всемирную историю до безвременности, до вечности. История была
для него в конечном счете частью вечного зрелища, в котором ход времени
становится средством для цели вновь рождающегося творения»206.
Раздвоенность сознания Елены исчезает после спасения ее Фаустом.
Встреча Фауста и Елены мыслилась Гете как создание модели идеальной ситуации, с
которой начинается любое подлинное искусство и вообще человеческая жизнь
в высших ее возможностях. Следуя за Еврипидом, Гете видит эту ситуацию как
особую вариацию древнего мотива борьбы за Елену. Но в отличие от древних
речь идет не о завоевании Елены с целью овладения ею, брак с Еленой — это
добровольное подчинение Фауста Елене, то есть красоте и величию. Елена
возвращается на трон как царица Спарты, а Фауст становится регентом, по сути
дела ее вассалом.
Война Фауста с Менелаем, которая вторгается в действие драмы, имеет
символическое значение. Это спасение германскими народами всего пространства
греческой культуры. Они для Гете становятся ее наследниками, но не как
продолжатели тех или иных ее традиций, что уже имело место в Средневековье,
а во всей ее целостности. Это прежде всего возрождение духа античности.
Смысл сближения классического с романтическим, о котором говорил Гете Эк-
керману, заключается не в установлении классицистских норм, как это было
в XVII веке, а в сохранении античной основы поэзии, ее приверженности к
реальному, посюстороннему, то есть к подлинной жизненности, связанной с
земной природой.
Примечательно, что аркадская идиллия в третьем акте восстанавливается
путем борьбы, и идиллия эта возникает не на далеком острове, а на земле,
соединенной с Европой не только духовно, но и географически. Бесспорным фактом
в сложной коннотации гетевских образов является аллюзия на освобождение
Греции от турок. Это проблема, волновавшая европейское общество двадцатых-
тридцатых годов, и она, конечно, была связана с Байроном.
Как бы к борьбе между собой
Они все встанут для защиты
Тебя, о полуостров мой,
Морями дивными омытый
И легкой цепью гор давно
С Европой связанный в одно!
Счастливейшею под Луною
Да будет эта сторона!
Ведь увидала пред собою
Ее всех ранее она!
Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М., 2004. С. 429.
196 SX-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Когда она, в лучах блистая,
Под легкий шепот тростника,
И мать, и братьев затмевая,
Разбила скорлупу яйца.
Лишь на тебя одну взирая,
Сия страна приносит все;
Так пусть не будет лучше края,
Как лишь отечество твое! (452—453)
В драме восстанавливается прекрасная страна Аркадия, родина красоты.
Это страна, где человеческое, природное слилось с божественным, край, где
наконец исчезла романтическая тоска по идеалу, ибо он предстал перед глазами
воочию.
Под этим небом нежное дитя
Перерождается в мужчину постепенно.
Дивимся мы и молвим, не шутя:
То люди или боги несомненно?
Там Аполлон бывал под видом пастуха.
Один из пастухов мог за него считаться:
Ведь в тех местах, где так чиста среда,
Миры легко могли перемешаться. (454)
Аркадия — место рождения сына Елены и Фауста Эвфориона, которого Гете
сделал символом поэзии и борьбы за красоту. Отождествление гибели
Эвфориона с критикой Гете романтизма кажется нам упрощением проблемы, хотя
эта точка зрения получила широкое распространение в германистике. На наш
взгляд, упрощение вызвано механическим перенесением эстетических взглядов
поэта, прежде всего неприятия им определенных положений йенского
романтизма, а также религиозного отречения гейдельбергцев и поздних романтиков,
романтического стремления к безмерному и даже дионисийскому — на образы
трагедии, как если бы поэзия была их точным отражением. Уже Фридрих Гун-
дольф не отваживался утверждать в своем труде о Гете, думал ли поэт сделать
Эвфориона соединением романтического и классического духа: «Достаточно
того, что Эвфорион как необходимое свидетельство брака Фауста и Елены
дополнительно был соотнесен с жизнью лорда Байрона и наполнен ею. Что за
черты он принял бы без решающего впечатления от этого образа, мы не знаем; то,
что плод Фауста и Елены предусматривался и без Байрона, предположить было
можно»207. Повторим еще раз, что Эвфорион был задуман как символ поэзии,
и поэт связал его с Байроном как с личностью, высоко им ценимой. Об этом
свидетельствует важнейшее высказывание Гете об английском поэте, сделанное
им Эккерману в связи с третьим действием: «Байрон был единственным, кого я
GundolfF.,op. cit. S. 773.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея jé2> 197
по праву мог назвать представителем новейших поэтических времен, — сказал
Гете, — ибо он, бесспорно, величайший талант нашего столетия. Вдобавок он
не склонялся ни к античности, ни к романтизму, он — воплощение нашего
времени. Такой поэт и был мне необходим, к тому же для моего замысла как нельзя
лучше подошла вечная неудовлетворенность его натуры и воинственный нрав,
который довел его до гибели в Миссолонги. Писать трактат о Байроне
несподручно, и я бы никому не посоветовал это делать, но при случае воздать ему
хвалу и указывать многоразличные его заслуги я не премину и в дальнейшем»208.
В Аркадии, где рождается Эвфорион, царит вневременное гармоническое
существование. Когда в 1827 г. вышел 3-й акт под названием «Елена.
Классически-романтическая фантасмагория», близкая к кругу Гете Генриетта фон Эглоф-
фштайн записала свои впечатления, точнее сказать, свое понимание символики
сцен с Эвфорионом и показала их канцлеру Мюллеру, а он, в свою очередь, дал
написанное почитать Гете. Сцену гибели Эвфориона Генриетта интуитивно
поняла не только как крушение героико-поэтического начала, но и как
продолжение жизни, в основе которой лежит творческая сила.
«Гений певца, рожденный силой и чувством красоты, необузданно и
неукротимо вступает в мир. Он стремится, парит и рвется из глубин, не желая касаться
легкой стопой земной тверди, он в вихре танца хватает огонь, свою самую
любимую игрушку, взбирается по скалам до высочайшей вершины вдохновения и,
уносимый им на краткое мгновение в эфире, как Икар, падает на Землю. Затем
исчезает, оставляя пережившей его матери свои одежды — внешнюю сторону
его духа. Мать следует за своим дитя — это высшая и самая лестная похвала, —
а ее одежды остаются в руках силы, способной их удержать и для которой они
превращаются в колесницу облаков и несут ее ввысь. Эвфорион погиб — Фауст
жив; пусть же отец продолжает долго парить за своим созданием на воздушной
колеснице прекрасного и возвышенного, радуя своей силой и делая счастливыми
нас»209. Как писал канцлер Мюллер в письме Генриетте, Гете, прочитав ее
впечатления от третьего акта, был восхищен и поражен глубиной проникновения
в его замысел: «Забавно, этот анализ начинается гениально довольно издалека,
смело и свободно перепрыгивает через всю первую часть, попадает прямо-таки в
самую важную точку, а в анализе и воспроизведении в новую, в высшей степени
поэтическую и возвышенную сущность. Забавно, забавно, но очень остроумно,
очень любезно. Особенно "брать огонь, как игрушку", в высшей степени
оригинально и нежно высказано. Такой читатель компенсирует тысячу глупых лжецов
и пошляков»210. Восхищение Гете в данном случае о&ьяснимо. Естественно, всю
символику, глубину образов-символов Генриетта фон Эглоффштайн понять не
могла. Гете, однако, восхитило то, что в своей попытке объяснить одно из
сложнейших мест второй части «Фауста» Генриетта использует слово «сила» (Kraft)
и обращает внимание на огонь. «Прекрасный юноша падает к ногам родителей
Лицо умершего напоминает другой знакомый образ. Все телесное вскоре
исчезает. Ореол в виде кометы возносится к небу, на земле остаются лира, туника и
208 Эккерман И. П. Указ. соч. С. 240.
209 Kanzler Fr. von Müller. Unterhaltungen mit Goethe. Weimar, 1982. S. 340-341.
2,0 Kanzler Fr. von Müller., op. cit. S. 341.
198 SL
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
плащ». И еще один момент поразил Гете, а именно, что Генриетта приблизилась
к пониманию символики сцен с Эвфорионом, обратив внимание на прыжки
Эвфориона «со скалы на скалу». Эти прыжки имеют у Гете особый смысл.
Переход в более чистое, свободное, уверенное состояние Гете всегда
рассматривает не как медленное прохождение стадий, ступеней образования чего-то, а как
«непреднамеренный скачок» и одушевленный порыв к более высокой культуре
после долгого пути ошибок, поисков и проб. Наряду с медленным, постепенным
развитием и оформлением органических закономерностей духовной культуры
скачок является непременным условием любого преобразования. Даже в своем
учении о природе, где с особой силой утверждается принцип постепенности,
плавности развития, Гете говорит о потрясениях, которые у него выглядят как
последний акт становления. Этот последний акт сопровождается
обособлением, освобождением самого чистого от чужеродного. Когда все уже подготовлено
природа делает скачок, и хотя скачок в последнем акте становления
воспринимается как некое чудо, потрясение, он все же результат плавного развития, ибо
«отделение» и «обособление» высшего от низшего могут происходить путем
соединения в более высоком смысле. Такого рода потрясения происходят при
изменении земной поверхности, когда действуют внутренние силы. Силы
соединяются, и благодаря такому соединению сил, вступивших в игру,
неожиданно появляется нечто новое, более высокое:
Любовь, чтоб счастье дать земное,
Чету в единое сольет.
Но счастье высшее, иное
Одна лишь Троица дает. (459)
Так говорит Елена, глядя на рожденного ею от Фауста сына.
У Гете очень часто натурфилософские проблемы ассоциативно
связываются с проблемами искусства и культуры — скачки в природе и появление гения.
Приход гения в мир сходен с проявлением похожей закономерности
становления в природе. Ворвавшийся в мир гений — это Эвфорион, он подготовлен всем
предшествующим постепенным органическим развитием. Гений приходит в
мир, когда для его прихода все подготовлено, он воспринимается как чудо в этом
последнем акте развития культуры и истории, он своего рода потрясение, но все
же он результат постепенного развития. Пламя и ореол вокруг головы
погибшего, как Икар, Эвфориона символизирует у Гете возвращение в высшие сферы,
сферы духовного бессмертия. Гибелью Эвфориона Гете хотел показать вовсе не
крушение творческого гения как личности, а скорее преждевременность
проявления героических качеств, которые он связывал с Байроном. То, что после
гибели Эвфориона его духовная сущность, как ореол в виде кометы, возносится
к небу, а на земле остаются лира, туника и плащ, говорит о двойном бессмертии.
Аналог ему можно найти в биологических представлениях Гете. Пламя духа,
взмывшее к небу, сбросившее с себя все материальное, чуждое себе, пламя,
родившееся в подземных неорганических глубинах и лабиринтах, устремляется
ввысь, ища свою родину в сверхчувственном. Эта символика пламени показыва-
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 199
ет, что Гете признает также и другую, чисто биологическую форму бессмертия,
и ореол Эвфориона служит тому подтверждением.
Во время создания третьего действия Гете занимался натурфилософской
стороной проблемы ореола и смерти. Его внимание привлек к себе феномен
распыляющихся и умирающих мошек. Такое распыление казалось ему
освобождением от стесняющей материи, оно выглядело для него вторжением власти стихий,
стремящихся к разрушению индивида. Стихии проявляют себя как
«эластичность» и оформляют для себя развивающуюся ауру. Эта аура образуется вокруг
лишенного души тела и вызывает, по мнению Гете, в соединении с эластично
отталкивающей силой подлинную энергию, освобождающуюся от стесняющей
материи. Это бесконечное продолжение деятельности жизненной силы,
благодаря которой смерть опять поглощается жизнью211.
После гибели Эвфориона Елена следует за своим сыном в Гадес, и мир
Аркадии — мир гармонии и поэзии — исчезает, для того чтобы возникнуть в
сознании человека как необходимый для его развития вечный идеал.
5. Революция, война и реставрация.
Четвертый акт
Во второй части «Фауста» четвертый акт оказался самым коротким. Гете
завершил его в июле 1831 года. Это был последний текст трагедии,
написанный уже после того, как поэт закончил пятый акт, в том числе и
заключительную сцену «Горные ущелья». То, что Гете решил написать пятый акт раньше,
можно объяснить опасениями, что до смерти он не успеет завершить
трагедию и non finito станет судьбой произведения, над которым он работал уже
несколько десятилетий. Гете считал, что даже без четвертого акта читатель в
своем воображении сможет сам его реконструировать, поскольку завершение
трагедии уже дано в пятом акте. В разговоре 17 февраля 1831 года Гете
сказал Эккерману, что начинает серьезную работу над четвертым актом, видимо
решив, что воображения читателя, конечно, недостаточно, чтобы понять все
сцепления драмы. «Если счастье не оставит меня и я впредь буду чувствовать
себя хорошо, то в ближайшие весенние месяцы я надеюсь окончательно
продвинуться с четвертым актом. Как вам известно, этот акт я придумал уже давно,
но поскольку остальные неимоверно разрослись во время работы, то из всего
придуманного я могу использовать самое общее, и теперь придется дополнять
этот промежуточный акт новыми сценами, дабы он вышел не хуже других»212.
«Самое общее» означает в этом контексте, что Гете имеет в виду прежде всего
сцены символического характера. Еще раньше в разговоре с тем же Эккерма-
ном, представляя своему собеседнику замысел еще не написанного акта, Гете
определил его место в драме. «Этот акт тоже будет носить обособленный
характер, настолько, что явится как бы замкнутым мирком, не касающимся всего
2.1 См. Emrich W., op. cit. S. 353—356.
2.2 Эккерман И. П. Указ. соч. С. 400.
200 SL
Α. Γ Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
остального и лишь едва приметными узами связанным с предыдущим и
последующим»213. Эти слова поэта можно понять так, что четвертый акт — своего
рода интермеццо между двумя великими творениями, третьим и пятым актами,
причем интермеццо, лишь тонкой нитью связанное с целым, и они, а также
его относительно небольшие размеры уводили даже крупных ученых от
глубокой интерпретации гетевского текста, в особенности тогда, когда
исследователи придерживались принципа имманентной интерпретации художественного
произведения (К. Май, В. Эмрих, Э. Штайгер). Курт Май считал, что сцены
четвертого акта «самые несовершенные и самые беспомощные, самые слабые
во всем «Фаусте». «Он хотел закончить и остерегался долго обдумывать
частное»214. Действительно, Гете отступил от первоначального плана, и после
долгих раздумий отказался от развития целого ряда сцен, задуманных как
символическое изображение истории, моделировавших политическую ситуацию его
времени (наполеоновские войны, реставрация, Венский конгресс); не была
развита очень интересная линия враждебного Императора, или Антиимператора,
сокращены батальные сцены, Гете отказался от сцены наделения Фауста леном
на владение морским побережьем215. Действие было сведено к трем компактным
сценам, где внимание поэта сконцентрировано на символической
трансформации реальности, открывающей нам гетевское понимание современных поэту
исторических реалий, политических процессов, характерных для эпохи
модерна. Если интерес интерпретатора сосредоточен на втором акте и на «Елене», а
в «Классической Вальпургиевой ночи» и в третьем акте он видит две
грандиозные кульминации, две вершины, с которых открывается как смысл бытия,
так и образ прекрасной личности, ее вечного совершенства, то его толкование
«Фауста» вращается вокруг темы «Гете и античность» и типологическое
противопоставление античного современного решало проблему человека модерна
через призму противостоящего ему античного идеала. Под таким углом зрения
четвертый акт выглядит проходным, эстетически несовершенным и лишь
связующим звеном остальных актов с пятым. Если же мы меняем призму и наша
интерпретация концентрируется на проблеме человека модерна и созданного
им мира, на деятельности личности, считающей себя субъектом истории, тогда
нам необходимо рассматривать четвертый акт как важнейший момент в
изображении истории Нового времени, представленной Гете в первом и пятом актах,
и эта линия без него немыслима. Поэтому четвертый акт оказывается не менее
сложным, нежели все остальные, поскольку именно в нем видна основа, на
которой формируются личность и иллюзии человека модерна.
В начале четвертого акта Фауст из фантасмагорического времени,
фантастического прошлого попадает в мир западноевропейской истории, перелетев из
Греции в Германию. Полет над Землей, над которой Фауст проносится на
покрывале Елены, завершается на одной из вершин высокого горного хребта. Фауст
213 Там же. С. 392.
214 May К. Faust: Zweiter Teil: In der Sprachform gedeutet. München, 1962. S. 228. См. также: Stai-
ger E. Goethe. Bd 3. Zürich; Freiburg, 1959. S. 410.
215 См.: Paralipomena zu Faust II. Vierter Akt // Goethe J. W. Faust: Texte / Hrsg. von A. Schöne.
S. 705—721; Goethe J. W. Faust: Kommentar / Von A. Schöne. S. 1040—1051. Осуществление
намеченных планов сильно расширяло бы действие, уводя Фауста на его периферию.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J^D 201
остается один, созерцая раздвоившееся облако, в которое растворилось
покрывало Елены. Начальный монолог Фауста, выдержанный в шестистопных
нерифмованных стихах, имитирующих античные ямбические триметры, задуман Гете
как стихи-воспоминания. Это размер монолога Елены, открывающего третий
акт; в нем также выдержаны стихи, которыми она прощается с Фаустом, из чего
можно заключить, что во время полета над Землей Фауст мысленно оставался
с Еленой и теперь, когда полет завершен, он вслед улетающему облаку говорит
слова прощания, которые не сказал в третьем акте.
Символические образы монолога Фауста уходят своими корнями в
метеорологические занятия Гете, начавшиеся в 1815 году под воздействием
исследований английского ученого Л. Говарда, давшего описания и номенклатуру форм
облаков216. Говард подразделял облака по их форме на три группы: слоистые
(Stratus), кучевые (Kumulus) и перистые (Zirrus). В этом делении важнейшую
роль играла плотность субстанции, что было важно для Гете, видевшего в
облаках тончайшую материальную субстанцию, связанную в своей подвижности
и форме с движением духа, освобождающегося от материальности; поэтому
форма и конфигурация облаков может стать отражением души, стать
аналогом образа, прежде всего его душевного настроя. Интенсивные занятия
атмосферными феноменами образования облаков и взаимосвязь научной тематики
и ее поэтической модификации — отличительные черты второй части
«Фауста», придававшие творческой фантазии Гете особую, неповторимую точность,
и монолог, открывающий четвертый акт, пронизан реминисценциями из гетев-
ских представлений о метеорологических явлениях. Глядя вслед
уплывающему облаку, Фауст описывает его движение, которое, создавая различные
метаморфозы, изменяя форму созерцаемого, переводит сам процесс созерцания в
рефлексию.
Расстался с облаком, которое меня
В дни ясные спокойно проносило
Над сушею, над морем. Не спеша,
Не расплываяся на части, с каждым мигом
Оно уносится все дальше от меня.
Стремится на восток, как шар клубяся, масса,
Мой изумленный взор стремится вслед за ней;
То разрывался, то снова изменяясь.
Но вот теперь, мне кажется, она
Уже как будто форму принимает... (475—476).
Происходящее с облаками не только отражается в рефлексиях Фауста, но
и соединяется, сливается в символические образы и сотворяет духовное
возвышение. Дух Фауста освобождается от оцепенения, выходит из состояния
пассивности, в которой он находился после прощания с Еленой. Созерцаемое
216 См. об этом подробнее: Müller J. Meiner Wolke Tragewerk: Fausts Abschied von Helena // Müller J.
Neue Goethe-Studien. Halle, 1969. S. 209—224; Schöne A. Über Goethes Wolkenlehre // Berliner
Germanisten-Tag 1969: Vorträge und Berichte. Heidelberg, 1970. S. 21—41.
202 Sx-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
облако плывет на восток, устремившись к цели, определенной неким высшим,
трансцендентным началом, и Фауст с восхищением следит за его движением.
Озаренное лучами солнца облако становится исполинским и богоподобным,
и глаза Фауста видят эпифанию божества. Движущийся образ богоподобен, и
только в мифологической сфере Фауст ищет имя божества, называя Юнону,
Леду и Елену, поскольку именно они богоподобны (göttergleich). Имена
называются Фаустом в иерархическом порядке: Юнона — супруга верховного бога
Юпитера, Леда— царица, его избранница, Елена— дочь бога, полубогиня.
Женский образ, формирующийся из массы облаков, колеблется в своих
изменяющихся очертаниях; он — и Юнона, и Леда, и Елена; он то богоподобен, то
приобретает человеческие черты, он величественно грандиозен и одновременно
доверительно нежен, излучая любовь. В нем нет ничего застывшего, нет
окончательной, необратимой определенности, чего от него ждут фантазия и чувства.
Он создан облаками, подчиняющимися закону метаморфозы, и сам является
феноменом последней. Небесные выси — его среда. Образ колеблется на границе
между неопределенностью и определенностью, между еще неоформленным и
почти оформленным. Юнона, Леда, Елена — величественная триада образов,
чарующая своей красотой, проникающей в глубину души. Она — целостность
мифа о божественной красоте в образе человека. Юнона придает ей статус
божественности, Елена — человеческие черты. Сейчас, в воспоминаниях Фауста,
Елена уже не индивидуальность, не личность с точно определенными
чертами; она — символ и идея красоты. Неслучайно в памяти Фауста всплыло имя
Леды, которую он видел во сне, пересказанном Гомункулусом Мефистофелю и
Вагнеру. Соединение божественного лебедя с Ледой, зачатие Елены определяет
дальнейшее течение Классической Вальпургиевой ночи, и сама Елена,
воплощение красоты и чувственности, божественной величественности и интимно
человеческого начала, выглядит как эпифания человеческой любви,
причастной любви божественной. И воспоминания Фауста суть воспоминания об этой
любви, которая охватывала Фауста в Аркадии, где «легкой высоты дух» вырвал
его из узости его существования, на которую его обрекала жизнь кабинетного
ученого и, как ему казалось, ограниченность бюргерской жизни с Гретхен. В
памяти Фауста его жизнь с Еленой в Аркадии, рождение Эвфориона — взлет и
высшая точка порывов его духа, постоянное расширение бытия, остановленное
непостижимым роком.
Спокойно облако простерлось на востоке
Широкою бесформенною массой,
Похожее на ледяные горы,
Что ослепительно так смысл мне отражает,
Весь смысл моих уже протекших дней... (476).
Постижение смысла «протекших дней» сопровождается ощущением утрат,
утрат невозвратимых. Кучевые облака — это знак Елены, но дальнейшая
метаморфоза облаков приводит к другому образу. Перистые облака вызывают в памяти
образ Гретхен и воспоминания о первой любви, проникающей в глубину души.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JΩ 203
Не призрак ли обманчивый восстал
Передо мною дивного созданья,
Уже давно утраченного мною,
Как блага высшего дней молодых моих (476).
Прощание с призрачным миром Аркадии не повергло Фауста в отчаяние, не
сделало его безутешным, наоборот, полное смысла время, проведенное в
Греции, отразилось в возвышенном состоянии души. И когда из забвения в
воспоминании возникает образ Гретхен, утраченное время сжимается в единое
переживание и первая любовь, ее образ получает трансцендентное измерение. Фауст
говорит о любви Авроры, тождественной любви Гретхен, которая больше не
погружена во тьму страшной ночи в тюрьме, не обессилена преступлением и
безумием. Сейчас она явилась Фаусту в сиянии утренней зари, воскрешенная
метаморфозой, во всей своей возвышенности, став бессмертной.
Подобное душевной красоте,
Виденье милое уносится к высотам;
Не расплываяся, летит оно в эфир
И за собой туда же увлекает
Частицу лучшую и духа моего (476).
В драме намечается тема спасения. Это последний порыв Фауста в сферу
любви и чистой духовности, и он также — прощание Фауста с любовью. Она
больше не будет сопровождать его в жизни; вновь обретенное чувство
оказывается мимолетным, невозвратимым, и дальнейшая земная жизнь не будет озарена ее
светом. Как и в сцене «Лес и пещера», сразу же после последних слов монолога
появляется Мефистофель. Мефистофель устремился за Фаустом, используя
старое немецкое сказочное средство передвижения — семимильные сапоги, он
несколько отстал от летевшего на облаке Фауста, который на протяжении второго и
третьего актов очень сильно отдалился от Мефистофеля как внешне, так и
внутренне. Появление черта вносит в сцену бурлескную струю, контрастирующую
с настроением Фауста, которому сейчас очень трудно выносить Мефистофеля.
Окинув взором местность, Мефистофель сообщает Фаусту, что это — бывшая
адская воронка, путем вулканических сдвигов поднявшаяся из земных глубин
в виде горы, ее дно, уходившее в глубь Земли. Насмешливое, даже
издевательское отношение Фауста понятно: черт, говоря о природе, ничего, кроме вздора,
болтать не может. Однако, слушая геологический миф Мефистофеля, Фауст не
слышит или не хочет слышать самое важное в этом мифе — аналогию
геологических процессов, объясняемых с точки зрения теорий вулканистов, с
социальными потрясениями, с революциями. Мефистофельский миф — пародийное
изложение теории вулканизма и, естественно, насмешка над ее приверженцами. Но
сам характер переворота, когда низшие занимают насильственным путем место
высших, — это один из моментов, характеризующих гетевское понимание
революций и их последствий, которые ему пришлось пережить при жизни.
Французская революция, все ее этапы, наполеоновские войны, Реставрация, наконец,
204 3>~
A. L Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
июльская революция 1830 года — все эти события были в поле зрения Гете. Все
эти события совпали со временем создания «Фауста», сопровождали его, были
его фоном. Французская революция, за которой поэт неотступно следил с того
момента, когда он узнал о том, что произошло в Париже 14 июля 1789 года, была
для Гете моделью переворота, которого поэт, по его словам, ожидал несколько
лет, и его причиной было состояние общества, достигшего критической точки
деградации. Коррупция власть имущих, безответственный эгоизм высших слоев
вызвал взрыв, предотвратить который было невозможно.
Рассказывая Фаусту свой миф, Мефистофель связывает ландшафт с горой
Сатаны. Он говорит о перевернутой, вывернутой наизнанку адской воронке,
превратившейся в гору. Горой, монтаньярами, называла себя фракция якобинцев
в Национальном собрании в соответствии с расположением скамеек, на которых
она сидела.
При толщине своей земной коре нисколько
Выдерживать пожар такой не удалось,
Короче, лопнуть с треском ей пришлось,
Перемещение то сделалось причиной:
Что было дном, то стало вдруг вершиной.
На этом строится у них и их ученье:
Что-де внизу, тому передвиженье
На верх-де самый предстоит,
Судьба же наша это подтвердит:
Сперва мы в бездне в тесноте томились,
Потом и в воздухе свободном очутились.
Здесь тайна бытия хранится,
Позднее тайна та всем людям возвестится. (472)
Фридрих Мейнеке, рассматривая гетевскую критику вулканизма в
сопоставлении со взглядами поэта на историю, обратил внимание на определенные
трудности, возникавшие у Гете при объяснении исторических переворотов. Природа
и история были для Гете едины, история — лишь фрагментом всеобщей жизни
природы. Изучая природные процессы, наблюдая явления природы, он
предъявлял к истории требования, которые выполняла природа, но не могла выполнить
история. Многократно Гете признавался в своем отвращении к объяснениям
вулканистов, которые использовали земные катастрофы: землетрясения,
наводнения и другие тектонические явления — там, где все, по его мнению,
происходило постепенно, естественным путем, где имело место непрерывное развитие.
«В этой области он мог орудиями упрямства защищаться от "бешеных
водоворотов" случая. В истории они были неприменимы. У поэта не было средств
познания, которые позволили бы ему исключить из истории бурный вулканический
элемент или хотя бы резко ограничить его. Не были ли моментами случайности,
имевшими все же серьезные последствия, и смерть могучих властителей,
порядок, при котором слабые правители наследовали своим могучим
предшественникам?»217 Такой тектонический сдвиг в истории, как революция, был в центре
Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М., 2004. С. 386.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 205
его внимания. Для позитивной натуры Гете сам факт переворота уже нес в себе
негативность, какое бы объяснение ни давали те, кто его совершил. Позиция Гете
была четко и ясно высказана в его разговоре с Эккерманом 4 января 1824 года:
«Другом Французской революции я не мог быть, что правда, то правда, ибо
ужасы ее происходили слишком близко и возмущали меня ежедневно и ежечасно, а
благодетельные ее последствия тогда еще невозможно было видеть. И еще: не
мог я оставаться равнодушным к тому, что в Германии пытались искусственно
вызывать события, которые во Франции были следствием великой
необходимости.
Я также не сочувствовал произволу власть имущих и всегда был убежден,
что ответственность за революцию падает не на народ, а на правительства.
Революции невозможны, если правительства всегда справедливы, всегда бдительны,
если они своевременными реформами предупреждают недовольство, а не
противятся до тех пор, пока таковые не будут насильственно вырваны народом»218.
Высказанные мысли дают нам ясное представление, что Гете понимал под
революцией не только событие, но и процессы, его вызвавшие; также под него
подводились другие события, ставшие следствием революции. Все, что
происходит, имеет свои последствия, и негативные последствия современнику сразу
же бросаются в глаза и определяют его оценку революционного события. Поход
против революционной Франции, в котором Гете принял участие, канонада при
Вальми, отступление немецких войск, что равносильно было полному
поражению, привели в конечном итоге к радикализации революции. Война изменила ее
лицо. Теперь в немецком сознании революция стала отождествляться с войной,
поскольку французские армии появились уже на немецкой земле. Все тяготы
войны, бесславное отступление союзных армий с территории Франции после
Вальми Гете видел собственными глазами в 1792 году; он подробно описал
жестокую и разрушительную бомбардировку революционного Майнца во время его
осады прусскими войсками219. В «Путешествии в Швейцарию. 1797», изданном
после смерти поэта И. П. Эккерманом, книге, задуманной как письма Иоганну
Генриху Мейеру, Гете подробно описывал свой родной город Франкфурт,
который, по его словам, находился в плачевном положении. Ущерб, нанесенный
Франкфурту войной, был велик, многие дома были разрушены бомбардировкой
города, в том числе и дом деда Гете Текстора, французы наложили на город
контрибуцию, и его финансовое положение было отчаянным220. Гете пишет Мейеру,
что Французская революция коснулась города самым непосредственным
образом и имела для него «великие и важные последствия». Это Гете писал после
Термидора, итальянского похода Наполеона и победы Гоша над австрийцами, и
лицо революции было совсем иным, нежели страшный лик якобинской
диктатуры. Гете понимает, что революция претерпевает метаморфозу, и на это прямо
указывает Мейеру: «У нас (в Веймаре. — А. А.) видят Париж всегда только в от-
218 Эккерман И. П. Указ. соч. С. 470.
219 Goethe J. W. Poetische Werke. Autobiographische Schriften III Berliner Ausgabe. Bd 15. Berlin,
1962. S. 269—290. См. также об этом: Friedenthal R. Goethe: Sein Leben und seine Zeit. München, 2005.
S. 320—367.
220 Goethe J. W. Poetische Werke. Berliner Ausgabe. Bd 15. S. 343.
206 SL
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
далении, откуда он выглядит голубой горой, на которой глаз мало что различает,
для чего, однако, также воображение и страсть могут быть более действенными.
Здесь уже различают отдельные черты и локальные краски»221. В Веймаре
сохраняются и постоянно подкрепляются воображением и эмоциями представления
о Франции, где царит якобинский террор. Об этом говорит сравнение: Париж
выглядит «голубой горой». «Гора» — знаменитые верхние места в Конвенте, на
которых сидела фракция якобинцев, а голубые фраки — их отличительная
одежда. Такие представления Гете находит устаревшими, во Франкфурте и на Рейне
уже заметно, что революция вступила в иную стадию, и старые оценки могут
вызвать только заблуждение. Гете видел, что для европейского мира начинается
новая фаза истории.
Эта новая метаморфоза вызвала появление на исторической сцене
грандиозной фигуры Наполеона Бонапарта, за деятельностью которого Гете
внимательно следил, не выпуская ее из поля зрения. Первый консул Франции,
остановивший стихийный натиск революции, сохранивший от уничтожения ее
позитивные завоевания от нее же самой, Великий император — создатель
нового политического космоса, основанного на деятельном порядке, гениальная
демоническая личность, появление которой невозможно объяснить
рационально, герой — полководец, обладавший несгибаемой волей и отчаянной
храбростью при достижении своих целей, в которых поэт увидел наконец действия не
абсурдного, а позитивного начала в истории, — таким выглядел Наполеон в
глазах Гете. Для него французский император не был порождением эпохи, не
был ее отражением. Наполеон возвышался над ней, внося в нее дух созидания,
поступка, победоносную волю. Фигура Наполеона завораживала Гете,
пробуждая в нем надежды на исчезновение абсурда из истории. Из многочисленных
высказываний Гете о Наполеоне, самым важным, пожалуй, был разговор с Эк-
керманом 16 февраля 1826 года: «Мы заговорили о Наполеоне, и я высказал
сожаление, что его не видел.
— Что говорить, — сказал Гете, — на него стоило взглянуть. Квинтэссенция
человечества!
— И это сказывалось на его наружности? — спросил я.
— Он был квинтэссенцией, — отвечал Гете, — по нему было видно, что это
так, — вот и все!»222
В «Сумерках кумиров», в 49-м афоризме раздела «Набеги
несвоевременного» Фридрих Ницше прекрасно подвел итог всем размышлениям Гете о
Наполеоне: «В своей устремленности к нереальному эпохи Гете остался убежденным
реалистом — он говорил "да" всему в эпохе, что было ему в этом сродни: его
сильнейшим переживанием осталось ens realissimum по имени Наполеон»223.
Известно, что поэт отрицательно относился к войнам европейских
коалиций против Наполеона и освободительную войну немцев 1813—1814 годов не
считал борьбой за свободу. Победители французского императора не были для
него защитниками правого дела; он открыто говорил, что не считает их равными
221 Ibid. S. 342.
222 Эккерман. И.П. Указ. соч. С. 175-176.
223 Ницше Ф. Собр. соч. М., 2001. Т. 4. С. 176.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J£5 207
человеку, личностью которого он восхищался, называя ее гениальной,
демонической и героической.
В контексте второй части «Фауста» избежать темы Наполеона было
невозможно. Проблема личности и истории, места личности в истории поставлена
в драме, и неизбежно реальная история Европы, в которой мы находим
стремление Наполеона Бонапарта создать и утвердить в мире новый политический
порядок и яростную борьбу с этим стремлением, не могла не найти в «Фаусте»
своего символического отражения. Ханс Блуменберг очень точно отметил, что
«непрерывность отношения к Наполеону распространяется на всю жизнь Гете,
за исключением отношения к обеим фигурам Прометея и Фауста,
охватывающих со своей стороны комплекс Наполеона. На уровне этих мотивов находится
защита собственной идентичности, которая всегда есть тождественность
жизненного концепта и проекта»224. Из этого следует, по Блуменбергу, что такое
отношение охватывает не только гетевскую оценку великой реальной личности и
созданных поэтом образов, но и его дистанцию от них. Встреча с Наполеоном в
Эрфурте в 1808 году, видимо, дает начало этому процессу защиты собственной
идентичности, пошедшему как по пути фиксации сознания и осмысления
реальных событий, так и по пути мифологизации, что было, конечно, неизбежным
у автора «Фауста». В процессе создания второй части «Фауста» оказывалось,
что ушедший из жизни узником Св. Елены великий человек в исторической
ретроспективе продолжает ставить перед Гете проблемы, которые нуждаются
во вспомогательном понятии демонического. Это понятие, бесспорно,
эстетического свойства. Оно является распространением кантовского понятия гения
на всю область человеческой деятельности. Кант ограничивал его
использование только областью искусства, полагая, что для науки и нравственности оно
неприменимо, поскольку последние целиком находятся в пределах рассудка и
разума, следовательно, рационально объяснимы. Творчество гения, его
результаты никак нельзя объяснить в категориях рассудка, поскольку здесь мы всегда
найдем нечто иррациональное, что невозможно вывести при всем знании
техники искусства и художественного умения. Гений, согласно Канту, — врожденное
свойство человека, он «есть талант создавать то, для чего не может быть дано
никакого определенного правила, он не представляет собой задатки ловкости в
создании того, что можно изучить по какому-нибудь правилу»; «в качестве
природы он дает правила; и поэтому автор произведения, которым он обязан своему
гению, сам не знает, каким образом у него осуществляются идеи для этого, и не
в его власти произвольно или по плану придумать их и сообщить их другим в
таких предписаниях, которые делали бы и другие, способные создавать
подобные же произведения»225.
В ряду демонических гениев, к которым Гете причислял Моцарта, Рафаэля,
Байрона, чему, конечно, удивляться не приходится, Наполеон занимает особое
место.
Для демонического гения характерна мощная энтелехия, которая
постоянно находится во власти непрерывного озарения, определяющего ее продук-
224 Blumenberg H. Arbeit am Mythos. Frankfurt am Main, 2006. S. 505.
225 Кант И. Собр. соч. в 6 т. T. 5. M., 1966. С. 323—324.
208 Зь
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
тивность. «Божественное озарение,— говорил Гете Эккерману 11 марта 1828
года, — которое порождают из ряда вон выходящее, нераздельно с молодостью
и продуктивностью, а ведь Наполеон был одним из продуктивиейших людей,
когда либо живших на земле. Да, да, мой друг, необязательно писать стихи или
пьесы, чтобы быть продуктивным, существует еще продуктивность поступков,
и в некоторых случаях она выше той, другой»226. В разговорах с Эккерманом
Гете приводит целый ряд примеров озарений, определявших демоническую
продуктивность Наполеона, считая, что он пребывал в состоянии негаснущего
озарения. Дирк Кемпер очень точно объясняет, что означает слово «озарение» в
контексте гетевских мыслей о демоническом, который существенным образом
расходится с тем, что под демоническим понимали романтики: «Слово
"озарение" несет в себе многочисленные коннотации, отсылающие к христианскому
словоупотреблению, но на первом плане Гете пользуется им в другом значении.
Постоянная смена озарений и помрачений предполагает, что демоническое
обнаруживает себя в мгновенном возрастании действующей силы и энергии, т.
е. повышении энтелехии<....> "Озарение" означает здесь не столько
сопричастность к высшей истине с коннотацией ясности, сколько саму вспышку энергии
как таковую, которая словно lumen ex lumine придает демоническому индивиду
особую притягательность, способность привлекать к себе (attrativa) других»227.
Демонические личности не представляют угрозы для человечества, скорее
наоборот: они, не нарушая порядка вещей, усиливают его, укрепляют в лучшую
сторону; и их ретардирующее действие противодействует распаду и хаосу.
«Мировое развитие не должно так быстро достичь своей цели, как мы думаем.
Всегда есть замедляющие его демоны, которые в него вторгаются и ему
противодействуют, так что хотя в целом дело движется вперед, но медленно»228.
Ранее мы отмечали демонические черты в характере Фауста, которые в
первой части проявлялись как неосознанное богоборчество. Во второй части в
Фаусте обнаруживается демонизм в позитивном, гетевском смысле именно в связи
с Наполеоном. Для исследователя важно определить те моменты, которые
роднят гетевского героя с человеком, игравшим на протяжении почти двух
десятилетий ни с чем не сравнимую роль в европейской истории. В дневнике Сульпица
Буассере есть запись его разговора с Гете 3 августа 1815 года, спустя полтора
месяца после Ватерлоо, последней схватки Наполеона с Европой. «Вначале
Фауст ставит черту условие, из которого все следует». — «Фауст приводит меня к
тому, что я думал и думаю о Наполеоне. Человек, который обладает и
утверждает власть над самим собой, свершает самое трудное и великое. Это прекрасно
выражено в "Тайнах"»229. Гете имел в виду стихи из своей поэмы:
От власти, все живущее стеснившей,
Освобожден, себя лишь победивший.
226 Эккерман И. П. Указ. соч. С. 562.
227 Кемпер Д. Гете и проблема индивидуальности в культуре эпохи Модерна. М, 2009. С. 350.
228 Eckermann J. Р. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Hrsg. von F. Bergemann.
Leipzig, 1968. S. 624; цитата из разговора с Гете от 23 октября 1828 года дана в переводе А. И. Жере-
бина.
229 Goethe J. W. Poetische Werke. Bd. 8. Berlin, 1965. S. 682—683.
//. Трагедия К В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 209
Вулканическая легенда, рассказанная Мефистофелем, не может вызвать
симпатии у Фауста, как мир Сейсмоса не мог увлечь Гомункула. Мир Эллады
привел в равновесие его душевные силы, и потрясения в природе и обществе
ничего, кроме раздражения, у Фауста не вызывают. Природе и людям не нужны
перевороты и революции; спокойное эволюционное развитие, изменение путем
естественной метаморфозы — единственный способ избежать хаоса.
Мефистофель истолковывает эти воззрения Фауста на природу на свой лад, и очередной
раз он пытается соблазнить Фауста прелестями чувственных наслаждений,
гедонистическим миром рококо, поселив его в пространство, в котором природа
лишена своей силы, уменьшена до искусственной гармонии, уюта, затягивающего
человека в повторяющийся цикл плотских радостей. Мирок, описанный
Мефистофелем, провоцирует лень и безделье. Так черт понимает вольтеровскую идею
возделывания сада. Роскошь преображенного пространства, по замыслу черта,
должна успокоить Фауста, погасить его порывы, поэтому задача
Мефистофеля — сделать свой проект как можно привлекательнее для своего беспокойного
партнера.
Ну я построил бы для самого себя
В веселой местности хоть замок несусветный;
Леса, холмы, лужайки и поля
Я превратил бы в сад великолепный.
Вдоль стен из зелени я б клумбы засадил,
Дорожек, уголков тенистых натворил,
Наделал бы каскадов, так стараясь,
Чтоб со скалы они свергались на скалу,
Чтобы один из них, над всеми превышаясь,
А чтобы мелочи кругом него пищали
Иль, словно ручейки, мечтательно журчали.
А для красоток в дивном месте том
Настроил бы я домиков укромных
И проводил бы в обществе таком
Немалое число часов уединенных.
Сказал «красоток» я, и снова повторяю:
Я красоту из множества слагаю. (480)
Как мы видим, этот архитектурно-садово-парковый проект выполнен
Мефистофелем в духе французского абсолютизма, ancien regime, в его стиле, где
роскошь и расточительность сочетаются с волевой геометризацией природы, ее
мнимым подчинением властителю, а водная стихия струями взмывается ввысь и
искусственным водопадом низвергается вниз. Конечно, такая власть над
природой эфемерна, и природа превращается в locus amoenus, где в скрытых зеленью
павильонах и садовых домиках обитают подружки и сменяющие друг друга
фаворитки. Забегая вперед, скажем, что частично этот проект Мефистофель
осуществит в пятом акте. Сейчас же Фауст его отвергает, считая гедонизм самой
низкой формой жизни, и то, что Мефистофель слышит от Фауста, не укладыва-
210 3^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
ется в его представление о своем постоянном противнике. Фауст хочет вступить
в борьбу с природой. Своими деяниями он намерен вмешаться в природные
процессы и изменить их. Эта цель выглядит смелой, дерзновенной и, конечно,
совершенно неожиданной для черта, которому приходится подробно объяснять,
почему он этого желает. Летя над миром, Фауст наблюдал, как ведет себя
морская стихия, и поражался бессмысленным порывам волн на берег и их откатам
в морские глубины, это раздражало его абсолютной бесплодностью действий.
Поэтому Фауст хочет сделать деятельность природы целенаправленной.
Планы эти грандиозны, и Фауст понимает, что для их осуществления ему нужна
собственность и власть над людьми. Фауст оставляет полностью открытым
вопрос, что произойдет с отвоеванной у моря землей и кому на пользу пойдет его
деятельность. Его желание получить власть и собственность не дает
достаточных оснований для таких дорогостоящих намерений — сейчас бы мы сказали,
затратных проектов, — так как власти и собственности как цели можно было
бы достичь с помощью Мефистофеля и без всякого освоения отнятых у моря
земель. Властью и собственностью сатана всегда соблазнял человека. Источник
планов Фауста скорее всего скрыт в том диффузном ощущении страха, который
возникает у него при виде бесцельной игры волн.
Я созерцал перед собою море.
Оно вздымалось долго, громоздясь
Лишь на себя во всем своем просторе.
Потом, как будто сразу отрезвясь,
Оно направило все волны на осаду
Песчаной отмели. Я чувствовал досаду:
Досадует так дух, что на свободе взрос,
Что все права правами почитает
В себе он недовольство ощущает,
Зря пред собой разнузданный хаос. (482)
Решение с помощью технических средств обуздать и преобразовать природу,
возникает из чувства протеста против неразумности хаоса и желания его
преодолеть, победить бесцельную силу необузданной стихии.
В такие-то тяжелые мгновенья
Мой достигает дух высокого прозренья.
Желал бы я борьбы, чтоб море победить. (482)
Ясно, что Фауст в первую очередь предвидит свою конфронтацию с
природой, с ее необузданными силами; при этом новые земли, возникшие из борьбы
с ними, результат его победоносной деятельности, не рассматриваются им как
побочный продукт этой борьбы и его мысль не затрагивает проблему
использования этих земель. Фауст полностью доверяет своей планирующей
рациональности как оружию в борьбе со стихией, и эта рациональность выглядит в
двойном свете, так как она берет свою энергию из иррационального настроя, из
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J*3> 211
доходящего до отчаяния, постоянно усиливающегося страха230. Демоническое
озарение возникло из страха и недовольства; однако здесь важнее иное: в
решимости вступить в конфронтацию с природой проявляются демонические черты
гетевского героя, о которых поэт говорил, затрагивая проблему демонизма. О
демонизме свидетельствует, конечно, усиление фаустовской энтелехии,
возрастание его действующей силы и энергии, озарение, а также инстинктивное желание
действовать. Характерно, что Фауст больше не задумывается над источником и
предметом своих стремлений; истинные импульсы его действий скрыты от его
рефлексии; чего он, собственно, страшится и что он будет стремиться
преодолеть своей деятельностью, покажет пятый акт трагедии.
Беседа Фауста и Мефистофеля прерывается барабанной дробью и военной
музыкой, и это означает, что оба протагониста будут втянуты в войну, которую
они застают, вернувшись в Европу. Мефистофель знает, что война назревала,
так как с того момента, когда Фауст и Мефистофель покинули империю, распад
государства только усилился и центробежные тенденции привели к тому, что
возникла ситуация войны всех против всех. Развал империи вызван и
легкомыслием ее властителя, Императора, пустившего государственные дела на самотек,
и паразитизмом правящей клики, которая потворствовала в своих целях
прихотям властителя, блюдя собственные интересы. Мефистофель красочно
описывает воцарение анархии в империи как последствие бездумного правления
безвольного Императора.
Империя ж его
В анархию влетела от того;
Мал и велик дрались между собою,
На братьев братья двигались войною,
Тут замок с замком воевал,
На город — город восставал,
С дворянством воевали цехи,
Епископу же не было помехи
С капитулом и общиной сражаться.
С кем мне ни приходилось повстречаться,
То были лишь враги. Убийства и разбой
В церквах свершалися. За городской стеной
Купца иль путника погибель ожидала.
Знать смелость наглая людей всех обуяла.
И нечему здесь вовсе удивляться:
Жить значило тогда — умело защищаться.
Но тем не менее все шло себе да шло. (484)
В рассказе Мефистофеля мы видим последствия политического вулканизма,
которому черт усиленно содействовал своей аферой с бумажными деньгами и
провокационным призывом искать сокровища под землей. Перед нами картина
230 Kittstein U. Göttliche Allmacht und einige Dauer. Zur Haltung Fausts im Schlußakt von Goethes
Faust II Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft. 50. Jahrgang 2006. Göttingen, 2006. S. 81.
212 3l
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
безжалостной борьбы сословий друг с другом, внутрисословной борьбы, и
причина этой всеобщей войны — эгоистическая защита партикулярных интересов,
которые люди ставят превыше всего и ущемление которых рассматривают как
покушение на свою свободу; так понимаемую свободу они яростно защищают.
Социальная жизнь становится неуправляемой, и все в конечном итоге
выливается в революцию — состояние перманентного политического вулканизма.
Иметь значенье всяк хотел порою оной,
И сошка мелкая — быть важною персоной. (485)
Одним из наиболее ярких проявлений наполеоновского демонизма Гете
считал смирение революционной волны в Европе и утверждение порядка,
защищающего мир от экспансии хаоса. Именно в этом Гете видел историческую
легитимацию Наполеона, нисколько не сомневаясь в законности его притязаний
на утверждение в Европе порядка, сдерживающего хаос. Ему были известны
слова Наполеона, сказанные канцлеру Мюллеру 26 апреля 1813 года: «Знаете
ли вы, немцы, что такое революция? Вы этого не знаете, но я знаю это!»231 Когда
шла битва при Лейпциге, поэт желал победы Наполеона, и даже после
поражения французского императора демонстративно носил орден Почетного легиона,
которым тот его наградил. Борясь с Наполеоном, его противники напоминали
Гете нетерпеливых и невежественных зрителей, которые, ничего не понимая,
никак не могут взять в толк, что произойдет в ходе пьесы на сцене. И. Д. Фальк
передает слова Гете, сказанные ему в разговоре 14 октября 1808 года: «Гете дал
понять, что Наполеон дирижирует миром по тем же самым принципам, по
каким он руководит театром. Он находил совершенно обыкновенным, что такому
крикуну, как Пальм, такому претенденту, как герцог Энгиенский, он приказал
пустить пулю в лоб, чтобы на все времена невиданным примером испугать
публику, которая не может ждать и, всегда всему мешая, вмешивается в творения
гения»232. Наполеон, считал Гете, борется с обстоятельствами, с «испорченным
столетием», окруженный «испорченным народом», его необходимо
прославлять, желать ему и Европе успеха и желать, чтобы он в своих великих мировых
планах сам себе не навредил.
В «Фаусте» наполеоновская тема представлена скрыто, но она обнаруживает
себя, когда Мефистофель рассказывает Фаусту, что те, кто были уже не в силах
терпеть анархию, понимая, что правление легкомысленного Императора
только анархию усиливает, отказываются от верности этому прожигателю жизни на
троне и избирают другого императора.
Но люди лучшие в конце концов нашли,
Что все безумия границы перешли;
Тогда они с энергией восстали:
«Тот властелин, кто нам спокойствие дарует,
А наш монарх в сей области пасует
231 Blumenberg H., op. cit. S. 525.
232 Falk J. D., op. cit. S. 512.
//. Трагедия К В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 213
Иль просто не желает дело так вести.
Так нужно нам другого обрести,
Чтоб душу новую он царству сообщил.
И, каждому спокойствия отдавши,
Он возрожденье мира совершил,
Спокойствие и правду сочетавший». (485)
Дело доходит до решающей битвы, аналогичной в истории Европы битве
при Лейпциге 16—19 октября 1813 года. Битва Императора и Антиимператора
должна решить, будет ли реставрирован старый порядок или же оправдаются
чаяния тех, кто хочет утверждения права и справедливости.
Чтобы начать осуществление фаустовского проекта обуздания морской
стихии и получить для Фауста власть и собственность, Мефистофель решает
воспользоваться войной, став на сторону императора, которому грозит
неминуемый разгром в начавшейся битве. Неслучаен и выбор Мефистофеля, ведь он
может свободно действовать там, где ослаблена сила закона, где царит анархия,
порожденная борьбой эгоистических интересов. Только примкнув к
Императору, который тем, кто верен ему, раздает лены, отдает земли, можно
рассчитывать на власть и собственность. Тем самым Мефистофель приводит Фауста
в лагерь сторонников реставрации, связывая осуществление его проекта с
архаичным, отживающим свой век общественным порядком. Следствием того,
что фаустовский проект зависит от результатов битвы отжившего с
нарождающимся новым и победы в ней ретроградного, архаичного, является
ущербность, двусмысленность демонизма Фауста, не осознанная им самим. Фауст не
осознает также подчинения своей энтелехии разрушительной энергии
Мефистофеля. Фауст без колебаний соглашается на предложение Мефистофеля и уже
требует необходимую ему победу в сражении.
Немало замыслов привел ты в исполненье;
Исполни новый мне и выиграй сраженье! (486)
Способствовать победе Императора будет фаустовский «генеральный штаб»,
составленный Мефистофелем, куда входят Трое Сильных, фигуры с
говорящими именами, воплощающие насилие, жестокость, алчность, мародерство Рауфе-
больд, Хабебальд и Хальтефест.
Сцена «На предгорье» — изображение сражения, которое видится глазами
Императора и его свиты, главнокомандующим, лазутчиками, а также Фаустом,
Мефистофелем и их «штабом», причем многое в поведении Императора и его
стана напоминает поведение и действие австрийских и немецких противников
Наполеона: сначала восхищение собственными стратегическими планами,
высокомерное отношение к противнику, разгромить которого не составляет
никакого труда и который в панике побежит с поля битвы, а затем, после первых же
неудач, ужас перед гениальным ведением военных действий и растерянность,
вызванная разгромом. Гете демонстрирует также устаревшие, доктринерские
принципы военного искусства, губившие австрийские и немецкие армии: глав-
214 S^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
ным было занять удобную позицию, казавшуюся доминирующей, и не
допускать обхода по флангам, что всегда в таком статическом положении обрекало
на бездействие, приводившее к сокрушительному поражению. Когда Наполеон
неожиданным маневром обнаруживал роковую слабость такой позиции, он
обрушивался на ее уязвимые места превосходящими силами.
От фланга правого жди, государь, добра ты.
Наш выбор местности вполне бы всяк желал.
И не круты холмы, не очень и покаты,
Нам выгодны они, а недругам — провал;
Здесь, где, как волны, высятся холмы,
Наполовину даже скрыты мы,
И конница не бросится сюда. (489)
Из доклада главнокомандующего следует, что исходная позиция войск, по
его мнению, благоприятна для битвы с врагом. Оперативный план
основывается на преимуществе этой выгодной позиции. Похожую позицию занимали
русские и австрийские войска, разгромленные в битве при Аустерлице. Вся
армия отступила в удобно расположенную для сражения долину. На правом
крыле соединения располагаются в холмистой, волнообразной местности,
где они почти незаметны для наступающего врага, а рельеф местности
сильно мешает действиям кавалерийских частей противника. В середине на
равнинной поверхности находится главная сила армии Императора —
фаланга, на действия которой возлагаются все надежды. Левый фланг нисколько
не беспокоит главнокомандующего, поскольку его защищают недоступные
горы, и важный в стратегическом отношении перевал защищают слабые
немногочисленные соединения. Эта позиция хороша, когда войска находятся в
полном бездействии, когда все стоит. Но когда в ходе сражения, как это было
под Аустерлицем, начинается передвижение воинских частей, позиция
изменяется, в ней обнаруживаются слабые места, бреши, которыми может
воспользоваться враг и ударом превосходящих сил опрокинуть наступающих,
окружив неповоротливую фалангу, которой так гордится
главнокомандующий. А. Шене считает, что эта диспозиция полностью соответствует
стратегическим и тактическим идеям эрцгерцога Карла, австрийского полководца,
сражавшегося против Наполеона и командовавшего австрийской армией в
войне 1809 года, нанесшего Наполеону сильный урон в сражении у Асперна,
но потерпевшего в конце концов сокрушительное поражение от него в
битве при Ваграме. В библиотеке Гете хранился трехтомный труд эрцгерцога
Карла «Принципы стратегии», подаренный поэту самим автором сразу после
его выхода233. Стратегические принципы австрийского полководца
основывались на активной обороне с выгодных позиций и на переходе в наступление
на флангах с проникновением в тыл к противнику. Однако во всех случаях
Бонапарт разгадывал очевидный замысел своего врага, нанося сокрушитель-
233 См. Carl von Österreich. Grundsätze der Strategie, 3 Bde., Wien, 1814, в особенности Bd. 1. S 36.
и далее.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея Л& 215
ные удары по убежденному в успехе противнику. В сцене «На предгорье» на
самом деле положение Императора и его армии катастрофическое, ей грозит
полный разгром, но ни Император, ни главнокомандующие его армии не
понимают создавшуюся ситуацию. Только сообщения лазутчиков заставляют
их осознать, что с каждой минутой положение императорских войск
стремительно ухудшается. В разгар битвы, во время неожиданной атаки войск
Антиимператора на слабый левый фланг, которой никто не ждал, Император
принимает решение вызвать своего соперника на поединок, чтобы в нем
решить судьбу сражения и своего разваливающегося государства. Для вызова
на бой Антиимператора посылаются герольды. В критический момент
истории Император ведет себя соответственно тому принципу жизни, которого
он придерживался до этого, смешивая развлечения и игру, маскарады и
турниры с реальной деятельностью. Ему кажется, что упоения фикцией боя на
турнире достаточно для того, чтобы победить в настоящем бою; он путает
сражение с безопасной рыцарской забавой на придворном турнире.
Император с вдохновением вспоминает, как мужество героя вселилось в него во
время пожара в конце маскарада. Властелин совершенно выпал из истории и
живет только своими представлениями. Противник Императора, названный
Гете Антиимператором (Gegenkaiser), обрисован достаточно схематично.
Эта фигура, ни разу не появляющаяся на сцене, выглядит страшным
пугалом для сторонников Императора. Уже из рассказа Мефистофеля ясно, что
она — позитивная альтернатива безвольному властелину, способная
утвердить мир и справедливость в государстве, оживить уже кажущийся мертвым
государственный организм, преодолеть распад и хаос. Поэтому появление
Антиимператора абсолютно закономерно, закономерно там, где необходимо
предотвратить неизбежную катастрофу, вызванную борьбой партикулярных
интересов, властных эгоизмов и полным забвением блага страны. В
первоначальном замысле четвертого акта, схематично изложенном и составляющем
сейчас паралипомену HP 179, образ Императора должен был играть более
важную роль.
В нереализованном замысле Антиимператор в противоположность
своему антиподу — мудрый властитель, вовсе не узурпатор, а монарх, избранный
противниками слабого Императора, собственно, это следует из рассказа
Мефистофеля о положении дел в империи. Мефистофель выступает перед ним
как оратор от депутации, предлагающей ему императорскую корону, но
мудрый властитель отклоняет это предложение и советует избрать на престол
самого сильного и справедливого234. В этом замысле прообразом
Антиимператора был, конечно, Наполеон. Гете была близка идея объединенной Европы,
которую Наполеон стремился осуществить не только с помощью оружия и
военного диктата, но и повсеместным введением кодекса Наполеона, самой
прогрессивной для того времени формы законодательства. Бесспорное
восхищение полководческим гением Бонапарта не было единственным, что
привлекало Гете во французском императоре; не менее важным для поэта был его
234 Witkowski G. Goethes Faust, hrsg. von Georg Witkowski. Bd. 2. Kommentar und Erläuterungen.
Leiden, 1950. S. 436.
216 Sîb
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФМЯ. ИГРА
талант созидателя и организатора, который противостоял страшной болезни
европейской жизни, анархии, вылившейся в революционные потрясения. Гете
не понаслышке знал об огромной преобразовательной деятельности
Наполеона, оценивая ее очень высоко, считая, что она приносит видимые позитивные
результаты для Европы. Читая «Максимы и мысли узника Святой Елены»,
записанные графом Лас Казом, Гете мог найти там мысли о
непосредственной связи власти и созидательной деятельности, которые проливали бы свет
на стремления героев его драмы, показывали бы их сходства и различия. Это
прежде всего относится к словам Наполеона о своей деятельности: «Я
отстраивал деревни, осушал болота, углублял порты, перестраивал города, заводил
мануфактуры, соединил два моря каналом, строил дороги, сооружал
памятники, а меня сравнивали с вождем гуннов Аттилой! Справедливый приговор,
нечего сказать!»235
Видя полное интеллектуальное превосходство Наполеона над всеми
тогдашними монархами Европы, Гете отмечал еще одну черту его демонизма:
умение императора своей деятельностью увлекать людей за собой,
показывать своим примером, как можно расширять горизонты деятельности. Поэт с
горечью принял известие о его смерти на острове Святой Елены; его огорчал
также уход из жизни его сподвижников. Ведь «тому, кто служил под началом
Наполеона и вместе с ним потрясал мир, все кажется возможным»236. Здесь
обнаруживает себя одна из особенностей демонической личности —
противодействие обстоятельствам, материи, стихиям, и это противодействие создает
величие человека, который находится в сфере влияния демонической натуры.
Поэтому после ухода такой личности из жизни остается вакуум, и
образовавшаяся пустота дает пространство для действия стихии. Однако соединение в
демонической универсальной личности многообразных качеств —
властелина, полководца, созидателя — таит в себе серьезную опасность: неукротимое
стремление к безусловному, абсолютному, которое делает такую личность
безразличной к судьбам людей. «Если вспомнить, — говорил Гете Эккерманну
10 февраля 1830 года о Наполеоне,— что этот человек растоптал счастье и
жизнь миллионов людей, то видишь, что судьба отнеслась к нему достаточно
милостливо и Немезида, приняв во внимание величие героя, решила обойтись
с ним не без известной галантности. Наполеон явил нам пример, сколь
опасно подняться в сферу абсолютного и принести в жертву осуществление своей
идеи»237.
Возвращаясь к анализу четвертого акта, укажем, что намеченные здесь
наполеоновские черты в Фаусте изначально не могут получить полного развития,
так как гетевскии герой ограничен в своих возможностях, а усиление этих черт
в пятом акте приведет его к зависимости от этого ограничения. Принцип-тезис
Наполеона: «Надобно следовать за фортуной со всеми ее капризами, поправляя
ее насколько это возможно»238 — для Фауста невыполним.
235 Наполеон Бонапарт. Максимы и мысли узника Святой Елены. СПб, 2008. С. 124.
236 Эккерман И. П. Указ. соч. С. 115.
237 Эккерман И. П. Указ. соч. С. 350.
238 Наполеон Бонапарт. Указ. соч. С. 124.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 217
По ходу сюжета Фауст в полном вооружении, с опущенным забралом
является в стан Императора, а с ним и Трое Сильных. Сейчас Фауст действует
по разработанному Мефистофелем плану: он и Трое Сильных прибыли, чтобы
помочь Императору одержать победу над так называемым узурпатором.
Конечно, необходимо скрыть участие черта в спасении Императора и его терпящей
поражение армии, и Фауст выдает себя и Мефистофеля за посланцев мага и
некроманта из Нурции, обязанного императору своим спасением от сожжения
на костре инквизиторами. Фауст все же дает понять Императору, что они оба
обладают некоторой властью над силами природы, намекая на то, чтобы
Император удалил из своего лагеря священников, затрудняющих действия
Мефистофеля. Далее диалог Фауста и Императора приобретает фарсовый характер.
Решение Императора вызвать узурпатора на поединок усложняет ситуацию,
поскольку его неизбежная гибель в нем, если бы поединок состоялся,
полностью разрушила бы все планы Фауста и Мефистофеля, и Фаусту приходится
убеждать Императора отказаться от этой безумной затеи. К счастью, из лагеря
Антиимператора последовали отказ и насмешки над обанкротившимся
монархом, и противник начал решительное наступление. Союзниками Императора
вступают в битву и Трое Сильных, которым совершенно безразлично, за что
сражаться, лишь бы был повод для насилия, грабежа и обогащения.
Появившийся Мефистофель комментирует ход битвы. Из его слов ясно, что битва
выглядит как театральное представление, маскарадная игра, в которую черту
предстоит вмешаться.
Фаланга славная собралась у меня.
Там все они недвижимо стояли,
Кто пешим, кто верхом, так, как туда попали,
Притом у них у всех такие были мины,
Как будто все они и ныне властелины.
То были — рыцари когда-то, короли
Иль императоры. Их времена прошли,
Теперь они уже не что иное,
Как скорлупы; нутро у них пустое
И привиденья все, что только там водились,
В доспехи всякие проворно нарядились
И воскресили вдруг там средние века.
Какой бы черт там ни сидел пока,
Не все ль равно? (498)
Вмешательство Мефистофеля в битву придает ей характер
фантасмагорического представления, в котором решающую роль начинают играть
предзнаменования, в частности борьба орла с грифоном, завершающаяся победой орла,
заставляющего общипанного и растерзанного грифона искать спасения в лесу.
Императору кажется, что победа уже близка. Однако с левого фланга приходит
неутешительное известие, и уже видно, что прорыв неприятеля на нем
увенчался полным успехом.
218 3l
Л. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Смотри! Там, кажется мне, дело наше — дрянь,
Позиции опасность угрожает.
Камней летающих мой взор не замечает,
Утесы нижние враги забрали — взглянь!
А верхние оставлены, знать, нами;
Вот массами враги сильнее напирают,
А может быть, проход они же занимают...
Неблагочестив исход сей, без сомненья,
Не привели к добру все ваши ухищренья! (502)
Видя приближающуюся катастрофу, Мефистофель предпринимает
решительные меры для ее предотвращения. Черт превращается в скандинавского
бога войны Одина, наследуя его магическую силу, власть над природными
процессами, а также его помощников в войнах — двух воронов, Хугина и Мунина,
которые нашептывают ему советы и носятся над павшими во время битвы
воинами, питаясь падалью. Вороны, согласно средневековой демонологии,
считались птицами, обслуживающими чертей и ведьм.
В обстановке войны, когда народы находятся в состоянии исторического
абсурда, становятся возможными магические кунштюки Мефистофеля, и,
естественно, черт никогда не будет на стороне правого дела, никогда не будет защищать
порядок, везде он намерен сеять хаос. Понимая, что левый фланг императорских
войск разгромлен и защитники перевала натиском противника сметены со
своих позиций, Мефистофель решает использовать в борьбе с победителями духов
стихий, и происходящее на поле битвы приобретает фантастический характер.
События из реальных превращаются в мифические. Черт приказывает своим
воронам лететь к ундинам с просьбой «устроить здесь для вида наводненье»
(504). Ундины насылают на победителей водные потоки, и демоническая игра
природы начинает устрашать даже Фауста, уже привыкшего к кошмарам
Вальпургиевой ночи.
Свергаются стремительно ручьи,
Сливаются в поток, то льются нераздельно,
Обратно массами бегут уже они,
Добравшись до свободы из расселин.
Лучами радуги сейчас поток играл,
Но вот уже улегся он на плоскогорье,
А вот уступами в долину вдруг ниспал,
Шумя неистово, кипя на все предгорье.
Геройство здесь и храбрость ни к чему,
Волна могучая сметает все с дороги;
Становится мне страшно самому
От возбуждаемой в душе моей тревоги! (505)
Союз с Мефистофелем и использование его действий для осуществления
своих целей создают для Фауста противоречивую ситуацию. Его деятельность
//. Трагедия К В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея ЛЕ> ΊΥ)
по усмирению хаоса природы начинается с развязывания стихийных и
хаотических процессов. Это — война и приведенная демоническими силами в
состояние хаоса природа.
Конечно, действительных изменений в природе Мефистофель производить
не в состоянии; он способен действовать только как иллюзионист, вызывая
лишь обман чувств, воздействуя на психику людей, заставляя их изменять свое
поведение и в страхе бежать с поля боя. Фокусов с наводнением недостаточно
для полной победы над армией Антиимператора. Окончательную победу можно
одержать, лишь используя родственные Мефистофелю вулканические силы, —
именно к ним и посылает своих воронов черт. Мифические карлики-кузнецы,
без устали трудящиеся в своих кузницах под землей, должны создать иллюзию
артиллерийского огня, ослепляющего врагов.
Как ловкие гонцы, скорей спешите
И в кузницу, где крохотный народ
Дробить до искр совсем не устает
Металл и камень, молотом звеня.
Потребуйте у них вы яркого огня,
Огня трескучего, чтобы пугало зренье,
Огня, что пылкое творит воображенье. (505—506)
Фокусы Мефистофеля лишь на время могли ввести в заблуждение
Фауста, который быстро понял, что черт смог устроить лишь пугающее
представление.
Доспехи глупые, что вызваны тобой
На белый свет из склепов арсенальных,
На свежем воздухе подняли треск такой,
Такую музыку из звуков завиральных. (506)
После всех кунштюков Мефистофеля армия Антиимператора вместе со
своим предводителем исчезает со сцены и терпевший прежде поражение Император,
который во время сражения неоднократно приходил в отчаяние, остается
победителем. Его армия даже захватила лагерь неприятеля, и в шатре Антиимператора
начинается торжество победителей, которое представляет собой злую пародию
на Венский конгресс и другие конгрессы Священного союза, последовавшие уже
после Ватерлоо, а также на торжества, устроенные в честь неожиданной победы
над Наполеоном, в которую сами победители долго не могли поверить.
Идеология Священного союза, венчавшая Реставрацию, казалась Гете архаичной, не
соответствующей духу времени и, конечно, ретроградной, а ее воздействие на
искусство, поэзию и живопись — просто пагубным. Изображения монархов
Священного союза — австрийского, прусского и русского, облаченных в рыцарские
доспехи, — под сводами готического собора, ставшие сюжетом для
романтических художников, для Гете являлись симптомом бессодержательного погружения
в прошлое, бездеятельности и установления порядка, который был чреват рево-
220 SL
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
люционными потрясениями; абсурд истории мог порождать еще более худшую
форму социального абсурда239.
Торжество абсурда реставрации начинается с тронной речи Императора. Ей
предшествовало разграбление шатра исчезнувшего Антиимператора, которое
стало фарсовой прелюдией дальнейшего разграбления его наследия, наследия
Наполеона. Через пять лет после создания четвертого акта Альфред де Мюссе
в романе «Исповедь сына века» напишет о Битве народов под Лейпцигом и ее
последствиях для Европы слова, близкие гетевской оценке этого события: «Но
вот однажды бессмертный Император стоял на холме, созерцая, как семь
народов убивают друг друга. Он думал о том, весь ли мир будет принадлежать ему
или только половина его, когда Азраил пронесся над ним, задел его кончиком
крыла и столкнул в Океан. Услыхав шум его падения, умирающие властители
поднялись на смертном одре, и, протянув крючковатые пальцы, все царственные
науки разорвали Европу на части, а из пурпурной тоги Цезаря сшили себе наряд
Арлекина»240.
Торжество Императора-победителя в «Фаусте» — настоящая арлекиниа-
да, в которой триумф представлен как фарс. Император говорит хромающим
шестистопным ямбом, имитирующим александрийский стих, используемый во
французской классицистской трагедии, символизирующий возвращение в
прошлое.
Свою победу Император считает закономерной, правда, она омрачена
вмешательством шарлатанов-колдунов, но «правому делу» они, сами того не желая,
способствовали, осуществляя промысел Божий. Император считает, что
достигнутая с помощью демонических сил победа дает ему полное право на
продолжение прежней политики, цель которой — окончательное закрепление развала
государства путем раздачи членам правящей клики властных полномочий.
Решения Императора — пародия на раздел Европы монархами Священного союза.
В речи Императора возврат к дореволюционному мышлению, пренебрежение
волей народов принимает гротескные формы. В его представлении, после
раздачи земель и торжественного их закрепления за новыми властителями должна
начаться новая жизнь, вечное веселье, развлечения, нескончаемый праздник. Ни
единым словом эфемерный монарх не обмолвился о созидательной
деятельности. Разделив империю на пять частей, Император фактически лишил себя
власти, предоставив событиям течь своим чередом. Главное, чтобы эти события
никак его не затрагивали. Если в первом акте на маскараде Император играл роль
Пана и прекрасно вписался в эту роль, то сейчас он хочет превратить
действительность в вечное дионисийское празднество, чтобы стать царственным Паном
реальности, введя незначительные регламентации в еду, утварь и роскошь. Это
239 Собственно, так выглядят эти три монарха на картине Генриха Оливиера «Священный союз»
(1815). Тематически это означает признание реставрации как благого деяния. Художник показывает
апофеоз Священного союза. В центре монархического трио — австрийский император Франц, царь
Александр I — слева, а прусский король Фридрих Вильгельм изображен по правую руку от Франца.
Известно, что никто из них не был полководцем, но при этом все одеты в рыцарские доспехи и
выглядят как неустрашимые воители, приверженцы христианской веры и справедливости. См. подробнее:
Geismeyer W. Die Malerei der deutschen Romantiker. VEB Verlag der Kunst Dresden, 1984. S. 127—128.
240 Мюссе А. де. Исповедь сына века. Новеллы. Л, 1970. С. 18.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 221
предвкушение дионисийского будущего омрачается появлением Архиепископа-
Архиканцлера.
Если бездарный Главнокомандующий, неудачно расположивший войска,
которым во время битвы угрожал полный разгром, Обер-камергер, Обер-фор-
шнейдер и Обер-шенк несказанно довольны своим возвышением, то
Архиепископ-Архиканцлер предъявляет претензии к светской власти, которые кажутся
совсем неуместными после реставрационной программы Императора:
О, верные мои! Я одаряю вас
Землями чудными и правом безграничным
Их расширять по поводам различным —
Наследством ли, покупкою иль меной.
Не изменяю ни малейшей переменой
И юридически я прав и преимуществ,
Что обладателям земельных всех имуществ
Присущи искони. В судебном положенье
Вся сила будет в вашем лишь решенье,
И апеллировать негоже на него:
Теперь вы — высшая инстанция всего.
Еще дарю прерогативы многи:
Сбирайте подати вы, пошлины, налоги,
Почетной свитою себя вы окружайте
И сборы разные себе вы собирайте,
И бейте у себя монету вы свою.
Чтоб всем вам доказать признательность мою,
Я всех вас уравнял по милости особой
С своею императорской особой. (515—516)
Это второе издание Золотой буллы является пародийным изображением
распределения наполеоновского наследства, доставшегося победителям, ведь
ленные права раздаются на земле Антиимператора.
Когда на сцене остаются Император и Архиепископ, последний затевает
торг с эфемерным монархом. Архиепископ начинает с шантажа и напоминает
забывшему все Императору, что победа была куплена ценой союза с Сатаной.
Не то чтобы Архиепископ был недоволен этой победой, но сам факт участия в
ней нечистой силы позволяет ему добиваться от Императора всего, что он
захочет, то есть контроля церкви над светской властью.
Архиепископ жестко намекает Императору, что тот легкомысленно в день
своего коронования в Риме даровал жизнь некроманту из Нурции, колдуну. Этот
грех не забыт. Поэтому местность, где была одержана победа над
Антиимператором, должна быть отдана церкви.
Раздув в себе огонь священного участья
И благочестием вновь возгорев былым,
Отдай холмов большое протяженье,
222 S^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Где твой шатер развернутый стоял,
Где духи злые на твое спасенье
Соединялися, где ты свой слух склонял
К решенью князя лжи, — святое назначенье. (518)
Воображение Архиепископа рисует картину, как на этом месте, где с
помощью Мефистофеля и Трех Сильных была достигнута победа, будет воздвигнут
собор в готическом стиле. Как точно отмечает Манфред Бирк, «Средневековье
особенно бурно входило в моду ко времени освободительных войн, когда все
средневековое вызывало национально-патриотическое воодушевление, а готика
еще при наполеоновском господстве и особенно после Реставрации переживала
свое новое рождение и противопоставлялась классицистскому ампиру»241.
Развал единой Европы и торжество партикулярных интересов «ста тиранов» вместо
одного, то есть Наполеона, сопровождалась усилением клерикализма как
неизбежной составной части общей реакционной политической практики монархов
Священного союза. Победа над «посланцем дьявола» после Реставрации
привела к оживлению церковной жизни как в Германии, так и во Франции. В словах
Архиепископа, выражающих притязания церкви на все большую власть и
собственность, обещающего построить на месте победы огромный собор как
символ нового расцвета церкви, невозможно не увидеть, как пишет Джон Уильяме,
идею завершения Кельнского собора, который стал центром «как
национал-патриотических, так и церковных стремлений»242.
В конце четвертого акта, уже под занавес выторговав у Императора золота из
военной казны, Архиепископ пеняет ему за то, что он отдал в ленное владение
пустынное морское побережье, постоянно заливаемое водой. Даже с нее
Архиепископ хочет получать десятину.
Рассматривая четвертый акт в контексте истории Европы (Французская
революция, Наполеоновские войны, Реставрация), можно лишний раз убедиться
в объективности второй части, и хотя Гете отошел от первоначального замысла
и не стал развивать линию Антиимператора, мудрого и деятельного правителя,
прототипом которого был Наполеон, сатирическое звучание и критика
Реставрации не были приглушены, наоборот, свобода игры усиливает обличительный
характер четвертого акта. Важным моментом, объясняющим необходимость при
анализе этого акта исходить из исторического контекста, является включение
Наполеона в «фаустовскую схему».
В девятой, не опубликованной при жизни Гете, части «Кротких ксений» мы
находим сатирически-фарсовый текст, изображающий Страшный суд над
Наполеоном, в частности стремление дьявола завладеть душой Наполеона и
отправить ее в Ад.
Стихотворение было написано до смерти Наполеона, скорее всего, в
1814—1815 годы. В нем в день Страшного суда «герой Наполеон» предстал
241 Birk M. Goethes Typologie der Epochenschwelle im Vierten Akt des «Faust II» // Jahrbuch der
Deutschen Schiller-Gesellschft 33 / 1989. S. 270, 275.
242 Williams J. R. Die Deutung geschichtlicher Epochen im zweiten Teil des «Faust» // Goethe-Jahrbuch.
Bd. 110. 1993. S. 101.
//. Трагедия И. Ä Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея Ji2> 223
пред Божьим троном. В качестве судьи выступает не один Спаситель, а вся
Святая Троица, причем понятая в духе арианской ереси, отрицавшей
сущностное тождество и божественное равноправие Бога-Отца и Бога-Сына. Сатана
начинает зачитывать целый регистр обвинений против французского
императора и его собратьев. Троица, в особенности Святой Дух, не желает
выслушивать этот длинный дьявольский пасквиль. Сатана излагает свои обвинения,
как это делают немецкие профессора. Троица же знает все и приказывает
черту закругляться. Понимая, что собственными силами дьявол не может
справиться с «героем Наполеоном» и поэтому выступает на суде в качестве
доносчика и обвинителя, Троица издевательски говорит черту: «Осмелишься до
него дотронуться, тогда можешь тащить его в Ад», зная, что герой никогда не
подчинится власти Сатаны.
Am Jüngsten Tag vor Gottes Thron
Stand endlich Held Napoleon.
Der Teufel hielt ein großes Register
Gegen denselben und seine Geschwister,
War ein wundersam verruchtes Wesen;
Satan fing an, es abzulesen
Gott Vater oder Gott der Sohn,
Einer von beiden sprach vom Thron,
Wenn nicht etwa gar der heilige Geist
Das Wort genommen allermeist:
«WiederhoPs nicht vor göttlichen Ohren!
Du sprichst wie die deutschen Professoren,
Wir wissen alles, mach es kurz!
Am Jüngsten Tag ist's nur ein ...
Getraust du dich, ihn anzugreifen,
So magst du nach der Hölle schleifen»243.
Энтелехийная монада, имя которой Наполеон, настолько сильна и
деятельна, что не может попасть под влияние дьявола, она свободна,
самодостаточна, и земная ее деятельность никогда не исчезнет, так как ее
духовный субстрат остается неуязвимым и занимает свое место в божественной
гармонии сил.
В таком же отношении энтелехийная монада Фауста находится по
отношению к Мефистофелю. Поэтому действие сцены «Положение во гроб» из
пятого акта было уже определено этим стихотворением. Душа Фауста должна быть
спасена.
243 Goethe J. W. Berliner Ausgabe. Poethische Werke. Gedichte. Nachlese und Nachlaß. Bd. 2. Berlin,
1966. S. 386.
224 Зъ
Л. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
6. Трагедия властителя и крах утопии безусловной деятельности.
Пятый акт
Пятое действие — завершение жизненного пути гетевского героя, последняя
из экзистенциальных ситуаций, ярко высвечивающая место человека в
мироздании. Власть и труд, эти феномены человеческого бытия, обнажаются поэтом в
их сущностном начале как деятельность, объектом которой становится природа.
Если в процессе возвышения человека как природно-разумного существа
происходит осознание им самим необходимости целенаправленной практической
деятельности, деятельности во благо других, то в нем возникает ощущение себя
как творца. В особенности когда человек стремится к утверждению собственной
силы в преобразовании природы. В своем первом монологе Фауст чувствовал
себя только созерцателем захватившей его игры природы, но не ее участником, и
это приносило Фаусту страдание. Последнее действие трагедии показывает нам
охваченного пафосом созидания героя, противопоставляющего свои силы силам
стихийной природы. Однако именно в нем Мефистофель впервые во второй
части играет свою прежнюю роль, закрепленную за ним пактом, — роль
противника, искусителя, отрицателя, стремящегося выиграть пари. Экспансия власти
и деятельности, преобразующей природу, таит в себе опасность ее деформации
вплоть до уничтожения, власть же над людьми позволяет осуществить эту
экспансию без риска для деятельности, поскольку деятельности не поставлены
границы. Деятельность, соединенная с властью над людьми, не смущается
жертвами, принесенными во имя ее осуществления. Люди в таком случае становятся
орудиями, инструментами для деятельности человека, берущего на себя миссию
по созиданию чего-то нового. От Гете не остался скрытым тот факт, что
соединение власти над людьми с преобразованием природы придает цивилизации
Нового времени насильственный характер. В гетевском мифе творения власть
и деятельность отданы Люциферу, но они просветляются и ограничиваются
божеством, точнее, Божественной Троицей. Поэтому оба феномена человеческого
бытия неизбежно несут в себе демонические черты, демонический огонь,
который может развиться в страшный пожар. Мефистофель здесь не пассивный
созерцатель деятельности Фауста, он искусно переводит все фаустовские планы
в формы цивилизации, осуществляемой насильственно. Свобода, необходимая
для творческой созидательной деятельности, оказывается только иллюзией.
Более того, в ходе сюжета деятельность Фауста на побережье, отданном ему во
власть Императором, выглядит как продолжение войны, поскольку
пиратствующий на море Мефистофель вместе со своими пособниками занят финансовым и
материальным обеспечением фаустовской цивилизаторской миссии.
Фауст — самодержавный правитель, и стремление к покорению стихийной
природы соединяется в нем с управлением чужой волей. С точки зрения
самого героя, его деятельность есть созидание во благо других. Гете показывает ее
двойственный характер. Конечно, практическая деятельность Фауста вызвана
его стремлением к безусловному, но она осуществляется в ситуации полной
обусловленности. Йохен Шмидт совершенно справедливо указывает на то, что
«его (Фауста. — А. А.) культивирующая деятельность не есть нечто само по
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 225
себе позитивное и великое, которому причиняют вред некоторые
неблагоприятные сопровождающие обстоятельства и моральные слабости характера. По ту
сторону случайного, индивидуального и морали процесс деятельности и
культура являют себя таинственным образом как амбивалентность, поскольку они
сообразно своей сущности несут с собой уничтожение природы и насилие»244.
Оказывается, что без участия Мефистофеля осуществление фаустовских планов
невозможно. Действительно, сопутствующими моментами деятельности
Фауста являются экспроприация и насилие в самой преступной их форме, и поэтому
каждое его деяние угрожает стать преступлением, так как в осуществлении
планов Фауста принимает участие Мефистофель.
Эпизод с Филемоном и Бавкидой показывает, что экспансия фаустовского
духа не останавливается ни перед чем; она не считается ни с естественным
состоянием мира с его устоявшимися формами, ни с культурным ландшафтом,
сохраняющим историческую память, ибо этот дух безоговорочно полагает себя
благом для других и, ко всему прочему, он не терпит обусловленности. Хижина
Филемона и Бавкиды «была настолько ненавистна властелину вновь
отвоеванной для людей земли, как всему подчиняющему природу разуму ненавистно то,
что не схоже с ним»245.
В этом также и причина фаустовского авторитаризма и его обреченности в
исторической перспективе. Это и причина совершенного Мефистофелем
преступления — сожжения хижины и зверского убийства двух добрых стариков и
странника, ставшего на их защиту. Патриархальный, естественный, связанный
с природой мир безжалостно уничтожается под натиском цивилизаторской
деятельности Фауста. Достаточно посмотреть, как выглядит Фауст в последнем
акте. Это — повелитель, живущий во дворце, где он планирует
последовательность своих благодеяний; старики же, ставшие жертвой этих планов, живут в
хижине. Во дворец свозятся награбленные Мефистофелем сокровища,
которыми Фауст будет расплачиваться; обитатели хижины дают приют страннику.
Поэтому двойственно выглядят все труды охваченного вакхическим восторгом
героя. Деятельность Фауста при всем ее цивилизаторском, культуросозидающем
пафосе, который отнять у нее невозможно (более того, она показана Гете как
борьба со стихийными силами хаоса, и сама эта борьба есть возвышение
человека, аналогичная деяниям мифических героев, защищающих мир человеческий),
имеет все же и негативный аспект. В ней приносится в жертву как природа, так
и связанное с ней древнее благочестие. Это не новый мотив в творчестве Гете.
В романе «Избирательное средство» показана деятельность Шарлотты и
Эдуарда, занявшихся преобразованием старого кладбища и прудов с целью улучшить
природу, — эта деятельность привела к трагическим последствиям246.
Нежелание духа хотя бы в чем-то пребывать в состоянии обусловленности
символически находит свое выражение в ненависти, которую испытывает герой
к звону колокола маленькой часовни, призывающему к смирению и
возвещающему судьбу всех смертных.
244 Schmidt J., op. cit. 274.
245 Адорно T. В. К заключительной сцене «Фауста». Коллегиум 1—2. СПб, 2004. С. 190.
246 Emrich W. Symbolik von Faust II Sinn und Vorformen. Bonn, 1960. S. 395.
226 3^-
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Проклятым звон! Меня он ранит
Так, как коварная стрела;
Там, впереди, владенье манит.
А сзади... вновь тоска взяла;
Такими звуками досадно
Она напоминает мне,
Что хоть владенье и громадно
И хоть мое, но не вполне.
Часовни старенькой остатки,
И хижина в той стороне,
И роща лип еще в придатке —
Принадлежат, увы, не мне. (528)
Экспансия духа, захваченного страстью присвоения, стремлением
предельно расширить свои возможности для власти и деятельности, в земных условиях,
бесспорно, несет в себе зло, за которое ответственен не только Мефистофель,
осуществивший преступления, но и Фауст, чья неуемная деятельность сделала
их возможными. Непреодоленная фаустовская гордыня дает о себе знать даже
там, где герою кажется, что его деятельность служит благу.
Человек он злой, бездушный,
Так и зарится на нас:
Домик, садик наш уютный
Заберет себе как раз.
И кичлив неимоверно
Завидущий наш сосед:
Гнет, как подданных, примерно,
Хоть на то и права нет. (526)
Так говорит Бавкида о Фаусте, хотя ее муж Филемон видит много
хорошего в его деятельности, отмечая его мудрость, полезность труда, изменившего
ландшафт страны, «где море, злобное, что ад... превратилось ныне в сад»; да и
странник видит преображенную страну. Но Бавкида предчувствует угрозу
уничтожения идиллии, в которой она и Филемон привыкли жить.
История конфликта Фауста с Филемоном и Бавкидой разворачивается в
сценах «Открытая местность», «Дворец» и «Глубокая ночь». Благодаря
эксплицитному указанию ее содержание связывается с претекстом, библейским рассказом,
о котором напоминает Мефистофель, обращаясь к зрителям:
А здесь проделана история былая:
Припомним виноградник Навуфая. (533)
Кроме того, в тексте есть точное указание самого поэта на библейский
источник как модель ситуации: 3-я Книга Царств, гл. 21. Царь Ахав захотел
завладеть виноградником Навуфея, лежащим около его дворца, предлагая дру-
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея Л& 227
гой виноградник в обмен или же продать его, на что хозяин Навуфей ответил
решительным отказом, крайне огорчившим царя, рассказавшего об этом своей
жене Иезавели. Без ведома царя Иезавель начинает интригу, чтобы во что бы
то ни стало получить виноградник. В результате коварно задуманной интриги,
которая была осуществлена царицей с помощью старейшин и знатных людей
в городе, старавшихся угодить царю, Навуфей был убит, и уже ничего не
могло помешать Ахаву стать хозяином этого виноградника. Слова Мефистофеля
указывают читателю, знающему Библию, финал истории Филемона и Бавкиды,
и читатель не должен удивляться тому, что Мефистофель и его подручные
убивают стариков. Читателя предупредили. Однако соединение сцен пятого акта с
библейской историей выходит за пределы аналогии, так как интертекстуальная
игра Гете с обоими сюжетами прежде всего углубляет противоположность
между ними, противоположность ментальностей. В библейском повествовании царь
Ахав великодушно, можно сказать, щедро стремится сделать обмен или
продажу виноградника выгодным для Навуфея. «И сказал Ахав Навуфею, говоря:
отдай мне свой виноградник; из него будет у меня овощной сад; ибо он близко к
моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого или, если угодно
тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит»247. Ахав получает в ответ
категорический отказ Навуфея: «Сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов
моих!» Придя домой, расстроенный Ахав пересказывает Иезавели свой
разговор с неуступчивым собственником виноградника, повторяя, что готов
заплатить за виноградник гораздо больше, чем он стоит, при этом всю ситуацию он
воспринимает совершенно серьезно, поскольку она оказывается неразрешимой.
Аналогия напрашивается, когда мы слышим разговор Фауста и Мефистофеля.
Конфликт возникает не из-за попытки обмануть, а из-за столкновения двух
различных воззрений на собственность, отражающих полярность
мировоззренческого плана. Если в глазах Ахава виноградник — объект, который во всех случаях
может быть предметом рационально регулируемой экономической трансакции,
т. е. обмена, то для Навуфея виноградник таковым не является, он вне
экономических отношений, этот виноградник освящен традицией, он превратился в
«наследство отцов», и Навуфей чувствует, что он не вправе по своему
усмотрению им распоряжаться. Ахав понимает, что он столкнулся с неразрешимой
коллизией; позиция Навуфея коренится в его религиозном чувстве — основе его
сопротивления Ахаву. Фауст в поведении Филемона и Бавкиды, где имеет место
то же самое, видит упрямство. Рассказывая Иезавели об отказе упрямца даже
вести разговоры о винограднике, Ахав не говорит неправду, ведь Навуфей
отказался продать виноградник, но, передавая слова Навуфея, Ахав выпускает самое
важное — причину, по которой собственник не хочет ничего слышать о продаже
виноградника; он не в состоянии следовать образу мыслей Навуфея: наследие
отцов продаже не подлежит.
В библейской истории идея убить Навуфея исходит не от Ахава, а от
Иезавели. На виноградаря возводятся ложные обвинения: он хулил Бога и царя, и тем
самым создается повод расправы над ним. По замыслу царицы, Ахав может
воспользоваться случаем и получить виноградник умершего. Но в библейском рас-
247 Библия. 3-я Книга Царств 21,2.
228 SL
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
сказе торжества зла не происходит. Библия рассматривает случившееся в рамках
установленных норм, освященных верой и религией, их нарушение неизбежно
вызовет возмездие, и попытка Ахава получить выгоду из смерти Навуфея,
косвенным виновником которой он является, сразу же пресекается Богом. Господь
вмешивается в ситуацию и поручает пророку Илии возвестить грешному царю
грядущую кару: «Ты убил, и еще вступаешь в наследство?» «На том месте, где
псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать твою кровь»248. И здесь зримо
отличие библейской истории от того, что происходит в «Фаусте». В трагедии Гете
отсутствуют судебная и карающая инстанции, и поэтому невозможно ожидать
от Фауста раскаяния в содеянном, которое имеет место в библейском тексте,
хотя поэт описывает всю ситуацию как нарушение мировой гармонии, страшное
вторжение в космический порядок вещей.
Сцена «Глубокая ночь» открывается песней башенного сторожа Линкея.
Мифологический персонаж, глаза которого способны видеть в абсолютной тьме
и пронизывать своим взором самую плотную материю, поет хвалебную песнь
Творению, созерцая его гармонию, и это созерцание мира внешнего вызывает
восторг в душе Линкея. Она едина с гармонией Творения. Кажется, ничто не
может нарушить спокойствия мира дольнего.
Чтоб видеть рожденный
Поставлен сюда,
Смотрю, восхищенный,
На свет я всегда,
Тут все предо мною,
Ну как моя длань:
И звезды с луною,
И роза, и лань,
Краса предо мною
Всегда и везде,
Любуюсь красою
И нравлюсь себе.
Скажу не напрасно
Счастливым очам:
Как все то прекрасно,
Что виделось нам! (534)
В хвалебной песне Линкея устанавливается гармоническая связь между
богатством видимого мира и продуктивностью внутренних сил, на основе
которой мгновение выглядит как вечность, как прекрасное мгновение. Сам
процесс созерцания обладает абсолютной полнотой, и в этом сущность Линкея,
наделенного двумя типами зрения:
Zu Sehen geboren,
Zu Schauen bestimmt (11288—11289).
Библия. 3-я Книга Царств 21, 19.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JÉ© 229
Два глагола здесь, sehen и schauen, обозначающие визуальное чувство,
приобретают у Гете различный смысл. Sehen — нерефлексированное чувственное
восприятие, schauen— видение, постигающее сущность явлений. Это самое
сжатое выражение гетевского принципа постижения природы, который Э. Кас-
сирер определил как стремление «идти от чувственного опыта к опыту более
высокого типа, он (Гете. — А. А.) ставит своей целью идти от единичного и
особенного к „формуле явлений природы"»249. Второй тип видения, т. е. Schauen,
направлен на то, чтобы сделать явление полностью зримым, и это высшее
видение схватывает красоту и «распространяется на всю область знания», „ибо все
значение в конечном счете сводится к формообразованию действительности:
полный распад образа означал бы и конец знания»250.
Линкей, стоящий на башне и созерцающий красоту мироздания, находится
в сфере «истинной видимости», однако он отделен от действительности, видит
ее на расстоянии и, подобно Платону, «почтительно отступает от нее», давая
простор ее свободной игре, и делает он это для того, чтобы образ гармонии
мироздания не стерся в его душе. Все обозревающий Линкей, для которого даль
и близость, луна и звезды, лес и лань — единственно великое, что
подтверждает красоту космоса, включен в процесс вечной жизни мироздания, един с
ним, и его чувства — это отеческая любовь, которая причастна любви Творца
к сотворенному им миру. Эта установка сознания Линкея на созерцание
гармонии мирового целого, ее можно было бы назвать термином М. Мерло-Понти
«перцептивной верой», убежденной в том, «что имеет дело с какой-то смутной
тотальностью, в которой все вещи — тела и умы — пребывают вместе» и
которую Линкей называет «вечной красой» (die ewige Zier)251, эта установка для
него непоколебима, хотя происходящее неизбежно побуждает его к рефлексам,
и она может стать негативной; гармония целостного бытия в сознании Линкея
вовсе не иллюзия, для него она всегда актуальна. Поэтому он первый замечает
разрушение гармонии.
То, что дальше происходит в драме, заставляет Линкея увидеть вторжение в
жизнь космоса, нарушающее вечный порядок вещей. Выполняя приказ Фауста,
Мефистофель и Трое Сильных рушат находящийся в согласии с природой мир;
зверское убийство Филемона и Бавкиды и защищавшего их странника,
сожжение хижины и часовни, колокол которой своим звоном не давал покоя Фаусту,
выглядит как катастрофа в какой-то части космоса, как небольшая репетиция
катастрофы мировой. Естественно, Мефистофель не может разрушить все
сотворенное полностью, но под покровом тьмы вызвать нечто вроде локальной
катастрофы ему по силам, и поскольку война и насилие позволили Фаусту
начать свою преобразовательную деятельность, то они неизбежно до конца
будут присутствовать в ней. В этом уничтожении непокорных дает о себе знать
любимая стихия Мефистофеля. Со своей башни Лннкей видит гибель людей и
природы.
9 Кассирер Э. Избранное: Опыт о человеке. М., 1997. С. 318.
0 Там же. С. 319.
1 Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. Минск, 2006. С. 94.
230 S^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФМАОСОФИЯ. ИГРА
Не прекрасным любоваться
Лишь одним поставлен ты:
Могут ужасы встречаться
В этом мире темноты.
Пламя грозно освещает
Рощу лип, где ночь темней;
Ветер пламя раздувает
Все сильнее и сильней.
Это хижина пылает,
Что покрыта старым мхом.
Помощь быстрая спасает,
Только нет ее кругом! (534)
Schafft sie mir zur Seite — это неоднозначное поручение Мефистофель
истолковывает как разрешение ликвидировать Филемона и Бавкиду. И здесь остается
открытым, добровольно ли с помощью убеждения или силой нужно переселить
стариков. Естественно, Мефистофель применит силу, как это явствует из текста,
выбирая самый страшный вариант для укрощения непокорных. Если реакция
Линкея на произошедшее показана как омраченное состояние души и в его
словах слышатся сострадание, страх за их жизнь, то Фауста судьба Филемона и
Бавкиды совершенно не волнует. Он давно все уже решил за них, причем решил,
как ему кажется, к их же благу, о котором они даже не подозревали. На
пепелище великий колонизатор поставит башню и с ее высоты будет обозревать свои
владения. Злодеяние совершается не руками Фауста. Он не заботится о том, как
будут исполнять его желание его помощники, готовые на любые преступления.
Косвенный, опосредованный характер деятельности Фауста ужс предугадан в
четвертом акте, он усиливается в пятом, где Фауст целиком сосредоточен на
своих проектах и планах, а также на духовном руководстве их осуществления,
которое он поручает своим сомнительным подчиненным252.
Отношения между властелином и его людьми нельзя назвать ни
однозначными, ни бесконфликтными. Фауст не хотел убийства стариков; ему
представлялось реальным, что под сильным давлением Филемон и Бавкида согласятся
на обмен. В расхождении, в различии намерения и результата — отчуждение
индивида от его собственного деяния, и мгновенно дает о себе знать
обособление и независимость тех личных «инструментов», которые Фауст считает
целиком подчиненными своей воле. На самом деле Мефистофель и Трое Сильных
действуют самостоятельно. Для их деятельности есть простор, для них также
важно не уклоняться от главной линии фаустовского безусловного стремления.
Гете демонстрирует одну из важнейших черт эпохи модерна — обособление в
процессе цивилизационного развития инструментального, подчиненного,
вспомогательного, технического. «От человека, который в начале своего
цивилизационного труда еще мог себя чувствовать господином своих решений, в ходе
развития, начатого им самим, все больше ускользает способность принимать
решения. Динамика его вспомогательных средств обгоняет его и взыскивает с
252 См. подробнее: Kittstein U., op. cit. S. 96.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JΩ 231
него плату. Если манипуляция природой проблематична, то тогда эта
проблематика достигает высшей точки там, где тот, кто манипуляцию осуществляет, сам
становится ее жертвой»253.
Нельзя забывать, что простор для фаустовской деятельности был создан
магией Мефистофеля. Магическими средствами Мефистофель изменяет ход
истории, спасая армию Императора от сокрушительного поражения; реставрация
и последовавшая за ней раздача земель и привилегий превращает фаустовскую
колонизацию в деятельность, целиком зависимую от дьявольской магии. Без
демонического она невозможна. В продуктивности поступков Фауста неизбежно
дает о себе знать мефистофельская негативность. И оказывается, что властелин
преображенной земли, присвоивший себе права абсолютного монарха, не может
полностью владеть ситуацией, а следовательно, до конца предвидеть и
контролировать результаты своих деяний. Безграничная власть над стихией, лежащая в
основе фаустовских фантазий, оказывается иллюзией. В пятом акте безусловной
деятельности Фауста противостоят не только Филемон и Бавкида, люди старого
времени, антагонистом Фауста становится и Линкей. Образ Линкея,
героя-аргонавта, обладавшего способностью видеть сквозь толщу неба, моря и земли,
Гете ввел во вторую часть «Фауста» прежде всего для противопоставления его
Мефистофелю. Линкей взят в драму в неоплатоническом истолковании, с
учетом неоплатонической экзегезы. В «Эннеадах» Плотина Линкей
символизирует духовное зрение созерцающего Ума, для которого нет преград254. Для Гете в
этом образе была важна его связь у Плотина с метафизикой света и с теорией
созерцания неоплатоников, близкой Гете. Всеобщее зрение Линкея
подразумевает также охват целостности времени, обусловливая тем самым
проникновение в сущность вещей и превращая зрение из рецептивного процесса в процесс
творческий, вступающий во взаимодействие с реальностью, во взаимодействие
внутреннего с внешним. Эта продуктивная способность созерцания раскрывает
Линкею многообразно оформленный мир и позволяет ему созерцать структуру
мироздания на всех ее уровнях. Видение Линкея — видение художника,
находящегося в полном согласии с миром. Так, собственно, и выглядит первая часть
песни Линкея — до того момента, как он увидел катастрофу. Однако
обозревающий мир Линкей поет только о свободной природе, не замечая ни преображенной
по плану Фауста отвоеванной у моря земли, ни дворца, ни обширного сада на
берегу широкого и прямого канала. О них Линкей молчит, и молчит потому, что
все это не вписывается в мировую гармонию и насильственно преображенный
мир является ее контрастом255. Это пространство, куда не простирается власть
Божеских законов, это — место демонии. Здесь Фауст стремится создать самую
высокую точку обзора, откуда он сможет осматривать преображенную землю.
Гармония целого, однако, его не интересует, так как герой не ищет согласия с
миром. Его видение мира диаметрально противоположно мыслящему зрению
Линкея. Фауста интересуют результаты только своих деяний.
253 Schmidt J., op. cit. S. 272.
254 Лосев Α. Φ. История античной эстетики в 6 т. T. 6. Поздний эллинизм. С. 619.
255 Keller W. Größe und Elend, Schuld und Gnade: Fausts Ende in wiederholter Spiegelung //Aufsätze zu
Goethes Faust II / Hrsg. von W. Keller. Darmstadt, 1992. S. 322.
232 Sîl
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФМЯ. ИГРА
Я род устрою возвышенья,
Чтобы оттуда созерцать
Те образцовые творенья,
Что дух свободный мог нам дать. (531 )
Фауст хочет убедиться в величии своего творения, созерцая отвоеванные у
моря земли, и свободный дух, о котором говорит Фауст, — это его дух.
Космический порядок и его гармония не входят в душу Фауста, здесь отражение
творца в его творении, в мире, освоенном его деятельностью и полностью
подчиненном ей. Расширение собственного Я до бесконечности лишает Фауста
возможности видеть противостоящую ему действительность. Ослепленный
Заботой Фауст перестает воспринимать окружающий мир и находится под властью
своего воображения.
Слова Заботы, сказанные Фаусту, — не отмщение за совершенное
преступление; это скорее характеристика человека модерна, оборвавшего все связи как с
прошлым, так и с настоящим, человека, знающего только будущее и
превратившего свой разум в орудие воли к будущему:
Но для того, кем я завладеваю,
Пребудет бесполезным этот свет,
Я в вечный мрак такого повергаю:
Ему восхода и заката нет.
Все чувства хоть ясны, внутри же темнота,
Сокровищ он уже совсем не собирает,
Несчастье, счастье — прихоть лишь одна,
Средь изобилия он все же голодает. (542—543)
Дальнейшие события в драме, последней причиной которых станет
отсутствие связи внутреннего и внешнего, показывают Фауста, находящегося в полной
зависимости от внешнего и от аберраций собственного «Я».
Гетевский герой видит себя субъектом истории, а свою деятельность — как
процесс, устремленный в бесконечность. Так понимает историю человек
модерна. В «Фаусте» история модерна, как было показано, складывается из войны
вне зависимости от того, какой характер имеет война — революционный или
же, наоборот, характер реставрации, и деятельности, обуздывающей и
преобразующей природу, которая немыслима без войн и насилия. Поэтому история
Филемона и Бавкиды выглядит у Гете как модель истории, творимой
человеком модерна, где доминирует воля творца этой истории. Здесь важно обратить
внимание на интертекстуальную игру Гете, на его работу с претекстом,
превратившую историю Филемона и Бавкиды в символ истории. У Овидия Филемон
и Бавкида — самая известная счастливая мифическая чета, включенная в цепь
метаморфоз, о которых рассказывает поэт. Никем не узнанные странствующие
боги Юпитер и Меркурий, обойдя сотни домов, «прося о приюте и покое»,
находят их в хижине Филемона и Бавкиды, живущих в согласии друг с другом.
Бедность не мешает старикам принять богов под свой кров по всем правилам
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея *i® 233
античного гостеприимства: они отдают пришельцам самое лучшее, что у них
есть. Хижина и сад Филемона и Бавкиды — сфера дружелюбия, благочестия и
богопочитания, но эта сфера окружена владениями безбожных соседей,
отказавшихся принять богов, и за это боги хотят наказать последних. По приказанию
открывших себя богов Филемон и Бавкида должны взойти на горную гряду и
увидеть, как боги вершат свой суд.
Были они от вершины горы на расстоянье полета
Пущенной с лука стрелы, назад обернулись и видят:
Все затопила вода, один выдается их домик.
И меж тем как дивятся они и скорбят о соседях,
Ветхая хижина их, для двоих тесноватая даже,
Вдруг превращается в храм; на месте подпорок колонны,
Золотом крыша блестит, земля одевается в мрамор,
Двери резные висят, золоченым становится зданье256.
Сравнивая текст Овидия с его деконструкцией, осуществленной Гете, сразу
можно увидеть, что метаморфоза ландшафта, вызванная богами, описывается
у Гете как радикальное изменение суши и моря, как воплощение фаустовского
проекта. Странник взирает с дюны на современное чудо гигантского
переустройства мира, совершаемое тысячами тружеников и паровыми машинами. Но,
как мы узнаем позже, эта отвоеванная у моря земля находится под угрозой
заболачивания, так как стесненная природа стремится восстановить равновесие.
Метаморфоза пространства, в котором живут Филемон и Бавкида, изображается
Овидием как благодарность богов людям за доброту и богопочитание.
Человека-преобразователя Фауста благочестивая жизнь стариков приводит в состояние
постоянного раздражения, и их благочестие, которое символически
подтверждается звоном колокола их маленькой церквушки, — постоянный укор человеку,
отказавшемуся от веры в Бога, навсегда простившемуся с любовью. Убийство
Филемона и Бавкиды — дело рук Мефистофеля и Трех Сильных, для действий
которых в фаустовских владениях дан широкий простор, и оно, конечно,
представляет собой торжество зла.
Это хижина пылает,
Что покрыта старым мхом,
Помощь быстрая спасает,
Только нет ее кругом!
Старики как будто знали,
Их страшил всегда пожар,
И огня добычей стали.
Это страшно, как кошмар.
Раскалились камни, стены,
Удалось ли из геенны
Убежать хоть им самим?
Овидий. Метаморфозы. Кн. 8. С. 696—703.
234 ®l
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Языки огня взбежали
И гуляют в вышине,
Вот и листья запылали
И сплетаются в огне. (534—535)
Как видно из текста, в истории Филемона и Бавкиды у Гете речь идет не о
метаморфозе, а о полном уничтожении жизни дьявольской стихией — огнем.
Старый мир, самодостаточный и пребывающий в гармонии с самим собой,
безжалостно сметается с лица земли, от него ничего не остается. У Овидия смерть
благочестивой четы изображена как прекрасная метаморфоза, смысл которой —
неуничтожимость жизненного начала как переход в иную форму живой
материи. Любящие друг друга Филемон и Бавкида просят богов послать им смерть
в один и тот же час, чтобы не видеть могилу другого. Боги превращают хижину
стариков в храм, сделав их жрецами этого храма, устанавливая тем самым
постоянную связь с богами. И их смерть у Овидия представлена как возвращение
в лоно бессмертной природы:
Отягченные годами, как-то
Став у святых ступеней, вспоминать они стали событья.
Вдруг увидал Филемон: одевается в зелень Бавкида;
Видит Бавкида: старик Филемон одевается в зелень.
Похолодевшие их увенчались вершинами лица.
Тихо успели они обменяться приветом. «Прощай же,
Муж мой» — «Прощай, о жена!» — так вместе сказали, и сразу
Рот их покрыла листва. И теперь обитатель Тианы
Два вам покажет ствола, от единого корня возросших257.
Уход из жизни не исключает Филемона и Бавкиду из вечного бытия,
живущего циклическим обновлением. У Гете Мефистофель и Трое Сильных предают
стариков мучительной смерти, и ее можно рассматривать как месть старикам за
нерушимую веру в божественное начало мира, за сохранение этой веры.
Пространство веры и гармонии, где действует непреложный божественный закон,
хижина, сад, церквушка осенены божественной благодатью, и им приданы у
Гете черты христианской культуры, а ее хранителям — христианское смирение,
которое особенно раздражает Фауста. Поэтому в истории Филемона и
Бавкиды прочитывается еще одна важная коннотация. Это — убийство священника
и его жены. Факты такого рода расправ над священниками хорошо известны из
истории Французской революции, и Мефистофель бесспорно использует здесь
методы революционного террора, ибо в фаустовских владениях он возможен.
Уничтожая принцип метаморфозы в жизни и истории, Мефистофель на свой
манер выполняет желание стариков умереть одновременно.
Мы в двери стучали, мы в них колотили,
И все-таки двери для нас не открыли.
Овидий. Метаморфозы. Кн. 8. С. 712—721.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 235
Тогда мы их стали сильно трясти,
И двери гнилые на землю — слети!
Кричали мы, глотки своей не щадили,
Угрозами всякими мы им грозили,
Они оставляли все то без ответа,
Как в случаях данных все делают это.
Тогда, не теряя минуток своих,
Тебя мы избавили сразу от них.
Они и не мучались долго при этом
И сразу от страха расстались со светом,
Запрятан у них был какой-то чужой,
Тот вздумал за них заступиться борьбой,
И мы уложили на месте его.
И в пору живого сраженья того
Солома, что близко с углями лежала,
Отчаянно разом от них запылала.
Теперь все свободно пылает у них,
Ну словно костер погибших троих. (536)
Уничтожение жизни и связанных с ней метаморфоз — неизбежное следствие
осуществление плана Фауста, плана колонизации мира метаморфозы, где имеет
силу закон вечного повторения, где «природа царствует в чистом круговороте».
Этот план — соперничество с Духом Земли. Сверхчеловек Фауст, вторгаясь в
бытие природы, не собирается подчиняться принципу метаморфозы и закону
круговорота, а хочет утвердить себя в роли демиурга.
Мир метаморфозы превращается в производственный процесс, и его
имманентной чертой становится бесконечная целестремительность. Нельзя не
увидеть, что этот процесс тождественен с негативным движением фаустовского
сознания, открывшим возможность пакту с Мефистофелем. Придавая всему
сущему форму процесса, управляемого духом автономной личности, эта личность
создает утопию второго творения, и создатель этой утопии понимает природу
только как объект своих уходящих в бесконечность целей. Он рассматривает
созданный Богом мир как тюрьму258. Фаустовское желание вырваться из мира
метаморфозы, из этой тюрьмы ведет к созданию новой тюрьмы, творец которой
парадоксальным образом считает себя абсолютно свободным и надеется, что
осуществление его проекта освободит других.
В последних сценах пятого действия — «Большой двор перед дворцом» и
«Положение во гроб» — поэт раскрывает нам смысл фаустовской деятельности.
Может показаться, что о ней все уже сказано Фаустом и Линкеем, Филемоном и
Бавкидой, и ослепившая его Забота уже подвела итог, говоря о нем:
Все чувства хоть ясны, внутри же темнота,
Сокровищ он уже не собирает.
258 Jaeger M. Konteplation und Kolonisation der Natur: Klassische Überlieferung und moderne Negation
von Goethes Metamorphosedenken // Goethe-Jahrbuch. Weimar, 2007. Bd. 124. S. 72.
236 3^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Несчастье, счастье — прихоть лишь одна,
Средь изобилия он все же голодает. (542)
Именно здесь и наступает решающий момент в драме человека, который
стал персонифицированной деятельностью.
Общим принципом художественного изображения в четвертом и пятом
актах является наложение средневековых, феодальных мотивов на события и идеи
современной Гёте истории, как если бы на человеке, одетом по моде XIX века,
появился костюм века XVI. Это своеобразное превращение нового в старое,
естественно, приводит к остранению как современного, так и прошлого, что делает
такое наложение особой формой символизации. Такую поэтическую игру нельзя
рассматривать как далекую от реальности, уход от нее, наоборот, именно она
фиксирует неофеодальные, анахронические моменты истории модерна,
показавшие себя в Реставрации. В стилизованных под Средневековье образах
проглядывает современность с возрожденными Реставрацией архаическими чертами.
Общее между двумя последними актами не может, однако, скрыть их различие.
В четвертом акте партия Императора, к которой примкнули Фауст и
Мефистофель, стремится создать чистую видимость безупречной средневековой
государственной системы, которая рушится на глазах; делается это с целью
гарантировать приверженцам этой партии относительную власть и перестроить
систему так, чтобы она сохраняла видимость наличия верховной власти
призрачного суверена. Все события четвертого акта — создание этой видимости.
В пятом акте для личности модерна фикция средневекового суверенитета
превращается в основание неограниченного захвата собственности и абсолютной
власти. Завершение четвертого акта — фарс, так как иллюзорность явной
видимости осознается теми, кто эту видимость реставрирует. В пятом акте Фауст не
видит собственной ограниченности и угрозы существованию своему царству,
которому он по своей воле определил его историю. Уверенность Фауста в себе
настолько велика, что он с гордостью говорит Заботе, что в своих деяниях он
отдалился от магии. Поэтому высота падения между видением счастливого
будущего, нового царства свободного труда и знанием Мефистофеля о предстоящей
смерти Фауста-властителя и уничтожении его государства («Мы со стихией в
тесном единенье, /И делу твоему грозит уничтоженье» (545).), вовсе не
комична, она открывает историческую трагедию.
С полным правом Т. Цабка отмечает, что трагическая судьба Фауста
существенным образом отличается от судьбы слепого Эдипа, так как никак «не
воспринимаемая Фаустом бездна между утопией и реальностью— продукт его
собственного исторического начинания»259. Первый, кого охватывает чувство,
похожее на сострадание, — это Мефистофель:
Нет удовольствия такого, чтобы он
Им сыт был, счастья нет такого;
Где изменяемость зависит от сторон,
От точек зрения, он жаждет уж другого,
ZabkaT., op. cit. S. 261.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J£5 237
Как волокита; удержать он хочет за собой
Последнее прескверное мгновенье.
Тот, кто всю жизнь боролся так со мной,
Нашел во времени конечное решенье.
И тело старика безмолвно повалилось.
Часы не ходят. (546—547)
Черт полагает, что он выиграл пари, поскольку он повторяет его условия, и
повторяет их на свой манер. На самом же деле Мефистофель ошибается,
принимая естественный ход вещей — смерть Фауста от старости — за свою победу в
вечной борьбе с Богом за душу человека. Однако не люциферовское начало —
источник всех заблуждений и поражений Фауста. Последние мгновения жизни
гетевского героя показывают бездну, которая разверзлась между программой
всеобщего счастья и реальностью. Мефистофель и его лемуры вовсе не
собираются выполнять волю ослепшего властелина, перестав быть ее орудиями, и
стремление к абсолютной безусловности, превратившееся в абсолютную
несвободу, демонстрирует полную беспомощность воли, считающей себя
абсолютной, полностью свободной от всех определений. В эстетической реальности
пятого акта эта бездна непреодолима, и она отделяет Фауста от Бога, так как
только Бог способен непосредственно преобразовать действительность, только
его деятельность — мысль — может быть безусловной, только он может
сказать слова, сказанные Фаустом: «Владыки слово здесь — значенье все и вес»
(543). Однако Фауст при абсолютном непонимании своего положения говорит
о себе, считая свою волю безусловной. Для человека, даже считающего себя
автономным властелином, переход от мысли к деянию, к осуществлению мысли
не может быть беспроблемным, но именно беспроблемным он
представляется фаустовскому воображению. У человека нет божественной
непосредственности, мысль человеческая не может быть одновременно действием, поскольку
«инструменты», используемые для осуществления плана, способны развивать
неконтролируемую собственную динамику и приводить создателя плана в
новую зависимость от себя260.
Воплотить в жизнь свои планы без помощи других, в частности без помощи
Мефистофеля и Трех Сильных, Фауст не может. И лишь как иронию в данном
контексте необходимо понимать фаустовские притязания на богоподобие, ведь
в его монологе речь идет о новом пространстве для миллионов новых (546), о
формах дальнейшей жизни для людей и обновленном, освобожденном
человечестве.
Обещание-предсказание «нового неба» и «новой земли» аллюзивно
связано с Библией, с Книгой Пророка Исайи (65, 16—25). Конечно, модель
земного Рая Фауста гораздо ближе к реальности, и элементы ее можно представить
себе, слушая монолог Фауста, говорящего о свободе людей, которые трудятся
260 эта тема развивалась в работах, рассматривавших образ Фауста как совокупность черт
человека модерна. См.: Kaiser G. Ist der Mensch zu retten?: Vision und Kritik der Moderne in Goethes Faust.
Freiburg, 1994. S. 39; Schmidt J. op. cit. S. 282—285; Jaeger M. Fausts Kolonie. Goethes kritische
Phänomenologie der Moderne. Würzburg, 2004. S. 388—452.
238 Sîb
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
для самих себя, обещающего долгую жизнь всем, кто создает райскую Землю.
Но вся эта благостная картина находится в резком противоречии со средствами,
которые Фауст намерен использовать для осуществления своей мечты. Этими
средствами по-прежнему остаются насилие и принудительные работы. Они-то
и образуют фундамент, служащий для создания нового бытия осчастливленного
Фаустом человечества.
Ты добывай людей,
Возможно, хоть целыми толпами!
И строго поступай ты с ними, как с рабами,
И удовольствия для них ты не жалей!
Плати, настаивай и соблазняй! (545)
Фаусту не приходит в голову осведомиться об интересах тех, кого он
стремится осчастливить, они для него безликая масса, необходимое для его целей
количество доиндивидуальных сингулярностей, отданных во власть
Мефистофелю. «Мечта о будущем гармоничном общественном порядке оказывается
истинным продуктом единичного человека модерна, рассчитывающего снять свою
изоляцию, возникшую из распада традиционных авторитетов и ориентации, в
новой связи, созданной сознательно: "Вот о каких трудах и о какой свободе/
В стране свободной, о каком народе/Мечтал я" (546). Контраст между
намеченной целью и используемыми средствами делает ясным, что это "снятие" самого
себя неизбежно окончится неудачей»261.
Задуманный Фаустом план социальной инженерии изначально выглядит как
исторический парадокс: никем и ничем не ограниченный правитель, чья власть
держится на насилии, по собственному желанию и воле хочет вызвать к жизни
тот «свободный народ», от которого требуется добровольное самоограничение
и коллективное самопожертвование, и этому «свободному» народу,
собственно, никто не собирается открывать, какие жертвы ему предстоят на пути к
прекрасному будущему, которое предчувствует Фауст. На этом пути осуществление
провозглашаемых Фаустом идеалов невозможно. Как точно отмечает У. Гайер,
«свобода народа была бы освобождением от ярма Фауста и от террора его Трех
Сильных». Чтобы сделать свое видение реальностью, «Фауст должен был бы
исчезнуть сам вместе со своими помощниками»262.
В заключительных стихах последнего монолога указанные противоречия
выступают с новой силой, поскольку здесь раскрывается истинная цель Фауста.
Ведь тогда сказал бы я недаром
Мгновенью: «Стой, мгновенье! Ты прекрасно!
И жизнь моя не пропадет напрасно!
В предчувствии такого наслажденья
Считаю, что достиг я высшего мгновенья! (546)
261 Kittstein U. Gottgleiche Allmacht und ewige Dauer? // Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft.
50. Jahrgang 2006. Göttingen, 2006. S. 103.
262 Goethe J. W. Faust-Dichtungen. Bd 2. Kommentar I. Stuttgart, 1999. S. 1032.
//. Трагедия И. Ä Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 239
Текст показывает, что создание «нового мира», вся преобразовательная
деятельность Фауста — лишь средство для достижения его личной цели. Цель
эта— проектируемое остановившееся мгновение неограниченного счастья,
которое видится Фаусту, причем момент этого счастья не может быть чистым
созерцанием, спектаклем, исключающим участие Фауста в нем; в охвате
сознанием прекрасного мгновения должен быть виден след, оставленный
деятельностью Фауста на Земле:
Es kann die Spur von meinen Erdetagen
Nicht in Aeonen untergehn (11583—11584).
Сохранить свой след в вечности, сделать его нетленным, неуничтожимым,
не дать ему исчезнуть в бесконечном потоке времени, изолировать его от
времени — важнейшие аспекты самотрансценденции Фауста; желание сохранить себя
на все времена, т. е. максимальное расширение временных рамок, дополняется
максимальным расширением в пространстве. На него указывает желание Фауста,
и к этому расширению поля своей деятельности он привязан. У. Киттштайн
точно определяет ситуацию: «Достижение имманентного бессмертия — прибежище
его усилий; страстное желание человека модерна преодолеть конечность и
ограниченность собственных "земных дней" (Erdetage) оказывается окончательным
как скрытый импульс в череде сцен, рассматриваемых здесь»263.
Действительно, до этого непредставимое преобразование природы и общества выглядит как
особый тип деятельности, устремленный к вечности. Весь проект Фауста, если
здесь можно говорить о какой-либо обусловленности, обусловлен не любовью
к ближнему, а, как бы сказал Ф. Ницше, «любовью к дальнему». В отношении
людей, которым предстоит начать осуществление этого проекта, Фауст остается
холодным, бесстрастным и жестоким. Причем все это проявляется в форме
демонической рациональности. Такова интенция фаустовской деятельности.
Прижизненная слава нисколько не волнует Фауста, деяния его проецируются на века, и
сами деяния, их результат — плотина, «новая Земля», «свободный народ» —
гарантируют продолжение деятельности энтелехийной монады, более того — эта
деятельность усиливается благодаря «общему порыву» (Gemeindrang)
свободного народа. Кажется, что Фауст перестал вести себя как феодальный
властитель, но единая воля оказывается здесь просто суммированием, усилением его
же собственной воли в миллионы раз. Можно, конечно, забыть о тираническом
устранении соседей Фауста Филемона и Бавкиды и представить последний
монолог как прозрение героя, отказавшегося от идеологии господства,
раскаявшегося в содеянном и видеть в фаустовской мечте эстетический проект будущего264.
Однако здесь сразу же возникает вопрос: что Гёте переводит и преобразовывает
в эту эстетическую реальность, обнаружив корни мечты Фауста?
Мечта — имманентное свойство гетевского героя, и разные формы мечты мы
находим уже в первой части, в первом монологе Фауста. В мечте Фауст расста-
263 Kittstein U., op. cit. S. 105.
264 Mieth G. Fausts letzter Monolog — Poetische Struktur einer geschichtlichen Vision //
Goethe-Jahrbuch, 1980. Vol. 97. S. 97.
240 SL
А. Г. Лствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ ИГРА
ется с жизнью в конце трагедии, хотя в пятом акте изображается практическая
деятельность Фауста, ограниченная средствами, которые ему предоставляет
реальность. Невозможность реализовать фаустовский замысел уже видна до
появления Заботы. После ослепления Фауст попадает в ситуацию, в которой
«невозможно создание непосредственно реализуемого проекта, модели, плана эскиза
„потребного будущего", а жизненная стратегия все же требует представления
об этом будущем». Такое представление в своей последней книге М. С. Каган
называет мечтой, которая «компенсирует в реальной жизни возможности
практики, и ее активность обратно пропорциональна практическому потенциалу
человеческой деятельности»265.
Мечта, рожденная фантазией Фауста, так же как романтическая фантазия,
отличается максимальной степенью форсированности. Вдохновленная идеей,
высоко парящей над реальностью, фаустовская фантазия существенным
образом входит в противоречие с «точной фантазией», описанной Гете. В 1830 году,
в год июльской революции, Гете внимательно читал сочинения сенсимонистов
и в них нашел утопию человечества, освобожденного от угнетения благодаря
преобразованию природы. Установление господства над природой казалось
последователям Сен-Симона обязательным условием освобождения
человечества. Т. Цабка в своем анализе многочисленных интертекстуальных
компонентов второй части «Фауста» отмечает, что поэт сразу же заметил в этой утопии
воскрешение старых структур власти феодального типа и видение Фауста в его
последнем монологе имеет много общего с идеями сенсимонистов266.
В монологе Фауста свободная деятельность, идеал свободы, неразрывно
связывается и обусловливается только общественным трудом, направляемым к
цели решением одной личности, и его герой считает высшей мудростью. Ведь
свободу и жизнь заслуживает человек, который осуществляет решения Фауста,
и проблематичность такой свободы налицо.
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muß. (11574—11575)
Слова Фауста — одна из важнейших идей сенсимонистов, за которой стоит
форма организации общественного труда, причем последнему приписывается
предикат «свободный». Несвобода, порабощение народных масс может
закончиться только тогда, когда «господство человека над природой заменит
эксплуатацию человека человеком»267. Утверждение власти человека над природой,
ее эксплуатация может осуществляться как организованный промышленный
265 Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия. СПб., 2006. С. 329.
266 Zabka T., op. cit. S. 255. Тема «Гёте и сенсимонизм» не нова. Она поднималась уже в 30-е годы
прошлого века. См.: Schuchardt G. С. L. Julirevolution, St. Simonismus und Faustpartien von 1831 //
Zeitschrift fur deutsche Philologie. 1935. S. 240—274,362—384; Sagave P.-P. Französische Einflüsse in Goethes
Wirschaftsdenken // Festschrift für Klaus Ziegler / Hrsg. von E. Catholy und W. Hellmann. Tübingen, 1968.
S. 113—131; HammH. Julirevolution, Saint-Simonismus und Goethes abschlieiknde Arbeit am Faust II /
Weimarer-Beiträge. 1982. Vol. 28. H. 11. S. 70—91.
267 La Doctrine de Saint-Simon: Die Lehre Saint-Simons / Eingeleitet und hrsg. von G. Salomon-Delatur.
Neuwied, 1962. S. 58.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 241
труд, как усиленное использование земли. Неиспользуемые земельные
пространства должны быть освоены, обработаны, заболоченные области осушены,
необходимо прорыть каналы, которые можно использовать для судоходства и
орошения. Нетрудно убедиться, что деятельность Фауста полностью совпадает
с этой программой, даже чувства тех, кто призван выполнять ее, кажется,
известны ему. В маскараде первого акта видимость денег захватывает толпу, хотя
их видимость, по словам герольда, «маскарадная ахинея», от которой нечего
ожидать, так как речь идет о пустой иллюзии. Фаустовское видение связано с
общественным трудом, видение и производство здесь соединяются. Но если
маскарадные фокусы прекращаются по истечении отведенного для них
времени, то соединение утопии и труда может длиться долго, и к хорошему оно
никогда не приведет. Деятельное отношение к миру, поставленное на службу
утопии, не предотвращает ошибок воображения, а в видениях потребного
Фаусту прекрасного будущего не преодолеваются насильственные деяния. Фауст
их не видит. В сенсимонистском мире свободного труда, где трудящимся
обещается счастливое будущее, а нетрудящиеся совершенно бесправны, Гете
опасался возвращения якобинской диктатуры и террора, существовавших в нем в
латентной форме.
В сочинении «О религии Сен-Симона» его ученик и последователь Этьен
Трансон объявляет общественные работы по строительству плотин,
защищающих землю от морской стихии, символом господства человека над природой.
Разрушительным действиям моря необходимо поставить пределы,
неуправляемая стихия должна стать управляемой, ее действия будут вынуждены войти в
проложенные человеком русла268.
Подчеркивая мощь и размах созидательной деятельности, Фауст говорит
о едином порыве (Gemeindrang), которым в его видении охвачены люди,
осуществляющие его проект. Gemeindrang — вовсе не гетевский неологизм; так
поэт перевел на немецкий язык с французского важнейшее понятие сенсимо-
нистской доктрины impulsion commune269. В историософской концепции
сенсимонизма этот общий, совместный порыв — характерная черта духа
«органических эпох» — греческой античности и Средневековья. В едином общем порыве
сконцентрировано чувство альтруизма, альтруизма массового, которому
противостоит «эгоизм», характеризующий римскую античность и современность,
эпохи партикулярных интересов. «Органические эпохи», к которым относятся
в доктрине сенсимонистов греческий и средневековый миры, демонстрируют
нам все более и более развивающееся единство общности людей, и это
означает, что люди воздействуют на общую цель. В «критические эпохи», в
римской античности и в современном мире, царят беспорядок и хаос человеческих
стремлений. Они взрывают общественные отношения, установившиеся в
древности, развивают центробежные тенденции в развитии общества, и отсутствие
единой цели, осуществляемой в общем порыве, создает ситуацию, когда де-
26S На знакомство Гёте с этим сочинением указывает Никлас Бойл, основываясь на записи в
дневнике Гёте от июня 1831 г. См.: Boyle N. The Politics of Faust II: Another look at the stratum of 1831 //
Publication of the English Goethe Society, new series 52,1983. P. 29.
269 Zabka T., op. cit. S. 256.
242 Sîl
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
ятельность каждого преследует свой эгоистический интерес. В постоянной и
закономерной смене обоих типов эпох в прошлом человечества можно увидеть
его будущее270.
Это означает, что от эгоистической «критической эпохи» человечество в
будущем перейдет к «органической эпохе». «Новая стадия, возвещаемая нами
для будущего, создает третье звено в этой цепи. Она не будет тождественной
прошлым эпохам, но в отношении порядка и единства обнаружит
поразительное сходство с ними»271. В органической эпохе Средневековья католицизм был
нравственным учением, формировавшим общий дух, и во времена расцвета его
установления диктовались необходимостью и были высоко моральными, что
обеспечило ему победу над римской античностью. Конечно, средневековая вера
не соответствует современной эпохе, требования и притязания человека
модерна гораздо шире. К таковым относится свобода, которая в хаосе современности
может показать себя только как эгоизм. Людям модерна необходима подлинная
свобода. Пассивно воспринимаемая догма не в состоянии объединить
современное человечество, как это было в средневековую эпоху, его объединит общий
порыв, который имеет более высокое значение, чем католическая вера. Золотой
век, как утверждал Сен-Симон, не прошлое, а будущее человечества. Об этом и
говорит Фауст, видя в своем воображении «райскую страну».
Гете во многом разделял сенсимонистскую критику современности, однако
к пророчествам этих «очень толковых людей» относился крайне скептически.
«Они точно знают изъяны нашего времени и умеют также доносить
сокровенные мечты; но как бы они ни тщились устранить уродство и способствовать
осуществлению мечты, у нее (религии Сен-Симона. — А. А.) дело везде не
ладится. Глупцы воображают, что разумно сыграют роль провидения»272.
Историческая концепция сенсимонистов, как казалось Гете, открывала простор для
безусловной деятельности, ибо последняя имела привлекательную цель —
всеобщее счастье, от которого никто не хочет отказываться.
Еще раньше об учении Сен-Симона Гете высказался в разговоре с Эккер-
маном 20 октября 1830 года, когда его собеседник сформулировал принципы
общего счастья в коллективистской доктрине французского утописта, причем
разговор начал сам Гете, попросив своего секретаря высказать свое мнение о
сенсимонистах.
« — Основная мысль их учения, — сказал я, — видимо, сводится к тому, что
каждый должен трудиться для общего счастья, ибо такова необходимая
предпосылка счастья личного». Гете, отвечая Эккерману, настаивает на приоритете
индивидуума и прежде всего личного счастья, не отождествляя человеческое
представление о счастье с эгоизмом. Ведь природа существует в человеческом роде
в неисчислимом многообразии индивидуальных форм, и вопрос может состоять
лишь в совмещении, согласовании необходимых представлений о счастье, а не
предписывании им общих идей счастья:
270 La Doctrine de Saint-Simon. S. 233.
271 Ibid. S. 36.
272 Эти мысли Гете высказал в письме Цельтеру от 28 июня 1831 г. См.: Goethe J.W. Briefe:
Hamburger Ausgabe in vier Bänden. München, 1973. Bd. 4. S. 434.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JiS> 243
«— Я всегда считал, <.. .> что каждому следует начать с себя и прежде всего
устроить свое счастье, а это уж несомненно приведет к счастью общему. Вообще
же учение Сен-Симона представляется мне абсолютно нежизненным и
несостоятельным. Оно идет вразрез с природой, с человеческим опытом, со всем ходом
вещей на протяжении тысячелетий. Если каждый будет выполнять свой долг,
усердно и добросовестно трудясь в сфере своей непосредственной
деятельности, то всеобщее благо будет достигнуть. Памятуя о своем призвании писателя,
я никогда не задавался вопросом: чего ждут от меня широкие массы и много
ли я делаю для пользы всеобщего блага; я только всегда старался глубже во все
вникать, совершенствуя себя, повышать свою содержательность и высказывать
лишь то, что я сам признал за истинное и доброе. Не буду отрицать, что это
возымело свое благотворное действие в достаточно широком кругу, но то была не
цель, а неизбежный результат работы природных сил»273.
Сказанное Эккерману показывает, насколько Гете далек от утопических
проектов сенсимонистов, где индивидуальное развитие человека отодвигается
на задний план, более того — решительно тормозится во имя общей
призрачной цели, которая никак не сообразуется с личной свободой, ликвидируя эту
свободу как горизонт деятельности личности, а так называемая свобода,
которая якобы являет себя в общем, едином порыве, оказывается чистой
фикцией, так как она выглядит забвением свободы личной. Сделав Фауста рупором
утопических идей, Гете максимально дистанцировался от своего героя. Стоя
прочно на земле и не питая никаких иллюзий относительно «свободного
труда» и тем более труда, организованного властью, Гете предельно ограничивает
область, где власть может и должна гарантировать людям свободу. Это —
законодательство. «Мне думается, что законы должны печься о том, чтобы
уменьшить огромность зла, а не дерзостно стремиться одарить народ огромностью
счастья»274.
Оказывается, что для человеческих стремлений нет
пространственно-временных границ. Спасти человеческий дух можно только тогда, когда он
соединится с внутренним светом. Ослепленный Заботой Фауст видит осуществление
своих замыслов не в реальном внешнем свете; реальностью становится свет
внутренний, и в нем и только в нем творческие силы проявляют себя во всей
своей чистоте. В этом свете, исходящем уже из души, деятельность очищается
от всего преходящего, суетного, и все интенции сознания идут навстречу
божественному замыслу275.
Внутренний свет — это полное торжество Абсолютного, Бога, торжество
божественного законодательства в преображенной природе, и в нем нет уже
места для мефистофельской демонии, душа уже не может стать добычей
дьявола. Видение умирающего Фауста выглядит как полнокровная сознательная,
творческая жизнь, как новое творение, преодоление хаоса; ее невозможно
остановить, ибо это — свободная деятельность, где неразделимы мир природы и
мир свободы.
273 Эккерман И. П. Указ. соч. С. 625.
274 Эккерман И. П. Указ. соч. С. 625.
275 Emrich W., op. cit. S. 400.
244 ®l
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Лишь только тот, кто весь уходит в дело
И каждый день успехи брать готов
Среди опасностей, пусть ожидает смело
Свободной жизни он от тягостных трудов,
Что он творит ребенком, мужем, старым.
Вот о каких трудах и о какой свободе
В стране свободной, о каком народе
Мечтал я. Ведь тогда сказал бы я недаром
Мгновенью: «Стой, мгновенье! Ты — прекрасно!»
И жизнь моя не пропадет напрасно!..
В предчувствии такого наслажденья
Считаю, что достиг я высшего мгновенья! (546)
Эти слова умирающий Фауст произносит, не видя, что лемуры роют ему
могилу. В видении Фауста был прекрасный ландшафт, преображенная свободным
трудом природа, Земля, подобная Раю. Если внимательно читать начало
последнего монолога Фауста, то преображенный ландшафт, по замыслу героя,
создается в результате использования людей как средства:
Ты добывай людей,
Возможно более, хоть целыми толпами!
И строго поступай ты с ними, как с рабами,
И удовольствия для них ты не жалей!
Плати, настаивай и соблазняй! А я
Жду каждый день известий для себя,
Насколько ров прибавился в длине. (545)
Может ли использование организаторских способностей Мефистофеля
создать такие условия труда, которые превратили бы Землю в Рай? Горькая и злая
ирония даже не в том, что в голове Фауста появляются грандиозные
созидательные планы в тот момент, когда ему уже роют могилу. Описанное видение
противостоит тому способу, каким Фауст задумал его создать. Это иллюзия, но
иллюзия особого рода. Она прекрасна, как цель, которая для Фауста уже
неосуществима, и если Фаусту кажется, что прекрасное мгновение наступило как
результат той деятельности, которую он для себя планировал, то он, конечно,
проиграл. Душа Фауста должна остаться у Мефистофеля, и он с полным
правом, как Шейлок, ожидает выполнения договора. Но от кого? Фауст мертв. Бог
договора с Мефистофелем не подписывал. Он не выступал и гарантом этого
договора.
Действительно, на уровне земного бытия прекрасное мгновение выглядит
как чудовищная аберрация сознания, как упование на то, что по своей сути
прекрасным быть не может. Но и черт не может быть равным Богу противником,
он не может сопротивляться высшей деятельности на уровне бытия в целом.
И только за Богом остается последнее решение о судьбе души Фауста, только
Бог — свидетель внутреннего света фаустовской души.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея j£5 245
Жизненный путь гетевского героя выглядит как цепь заблуждений,
поражений, а если вспомнить судьбы Гретхен, Филемона и Бавкиды, то и преступлений.
Поражение он терпит как ученый, стремившийся к подлинно живому знанию, как
маг, который не может вынести взгляда и мощи духа Земли; крушение терпит его
любовь к Гретхен, которая привела девушку к гибели; трагедией завершается его
брак с Еленой, в конце концов, ошибается Фауст и в созидательной
деятельности: вместо преображенной, освобожденной Земли и свободного народа —
могила, вырытая лемурами, жалкими призраками умерших. Не выглядит ли самое
великое творение Гете трагедией вечного поражения человеческого духа? Ранее мы
говорили о гетевском понимании реальности во второй части «Фауста». Следует
обратить внимание на то, что при всех поражениях героя все же происходит его
возвышение. Жизнь Фауста прошла в стремлениях, и тем самым его душе было
гарантированно спасение. В конце главы «Алхимическая прелюдия пари и пакта»
указывалось, что самотрансценденция и вечная тоска по безусловному
заставляют Фауста отречься от всего, что определяет бытие человека. Общественная
жизнь, нравы, мировая мудрость, наука оказываются отброшенными, и пустота,
образовавшаяся в сознании, в котором доминируют самотрансценденция и тоска
по несбыточному, делает Фауста зависимым от помощи других. Фауст
постоянно в ней нуждается. Все начинается с книги Нострадамуса, затем ему требуется
поучение Духа Земли, Мефистофель становится вечным помощником Фауста, он
принимает помощь ведьмы, Матерей, Гомункула, Хирона, Манто, облаков, Трех
Сильных, милость развалившего империю Императора. Фаусту необходима
помощь на всем его жизненном пути, и она ему предоставляется, но почти во всех
случаях она оказывается бесполезной. Ничто не приносит ему удовлетворения
(разве только фантасмагорическая жизнь с Еленой), он ничего не может
предъявить как итог своей столетней жизни. Перед нами человек, не овладевший своей
жизнью, далекий от того, чтобы быть господином над временем, хотя и
находящийся с ним в постоянном конфликте. И все же Фауст несет в себе дух времени
модерна, которое интенционально формирует его воображение и побуждает его
действовать так, что его жизнь протекает от ожидания к разочарованию, не
оставляя ничего завершенного. Об этом времени Гете сказал в «Годах странствия
Вильгельма Мейстера»: «Величайшую беду нашего времени, которое ничему не
дает созреть, я вижу вот в чем: оно каждый миг проедает предыдущий миг и
все, что сегодня имеет, сегодня и спускает; у него что в руках было, то по
пальцам сплыло — а плодов никаких»276. Как отмечает Рольф Кристиан Циммерман,
«только тщетность, вина, саморазочарование, даже раскаяние — при никогда не
кончающемся одиночестве, которое из-за присутствия Мефистофеля становится
еще более тягостным. Негативный человеческий итог, который находится в
прямо-таки ироническом несоответствии с такими многочисленными и мощными
помощниками! И глубокая ирония скрывается также в том, что судьба этого
человека, Фауста, наконец поворачивается к нему дружески лишь тогда, когда он
больше не желает помощи: после его смерти»277.
276 Гете И. В. Собр. соч. Т. 8. С. 252.
277 Zimmermann R.Ch. Goethes Humanität und Fausts Apotheose. Zur Problematik der religiösen
Dimension von Goethes «Faust» // Goethe-Jahrbuch. Bd. 115. 1998. S. 126.
246 Sîl
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Если исходить из того, что спасение Фауста объясняется гетевским
представлением об энтелехийной монаде, неустанно действующей вовне, то в этом
смысле Фауст не самый подходящий пример. Гете связывал бессмертие
энтелехийной монады с беспрестанной, возвышающейся деятельностью людей,
охваченных творческими порывами, каковыми были для него Виланд, Рафаэль,
Моцарт, а в политике и общественной жизни — Наполеон и герцог Карл Август,
итог деятельности которых поэт считал позитивным, поскольку она достигла
своих целей. Но «идеальное стремление» Фауста трудно соединить с активной
деятельностью монады в духе Лейбница. Сразу бросается в глаза, что очень
далекое от реальности, презирающее эту реальность стремление Фауста к
совершенству и к реализации утопии представляет собой не что иное, как всего лишь
индивидуальную черту, тогда как понятие духа и деятельности монады у
Лейбница — это всеобщая, имманентная черта всей жизни природы, определенная
излучением первомонады, которой является Бог.
Еще сложнее было бы соединить стремление Фауста с безусловной и
охраняющей мир космической любовью, прославляемой мистиками как сущность
Бога. К божественному совершенству через любовь Фауст не стремился,
любящим человеком его назвать очень трудно. В сцене «Горные ущелья» любовное
стремление характерно для мужского начала, любовь же как таковая, напротив,
начало специфически женское. Вместе с таким различием в понятии «любовь»
область человеческого в мире согласно делению на разумное и демоническое в
обоих полах еще раз должна подвергнуться делению. Тогда небо,
изображенное в «Горных ущельях», должно было быть населено многочисленными
безусловно и беззаветно любящими женщинами, а Фауст как воплощение
мужского стремления должен был бы быть один или в обществе святых мужей, или
среди Блаженных младенцев, родившихся в полночь и тогда же умерших, еще
не знавших жизни278. Если возвратиться к проблеме стремления и
отождествления его с энтелехийной монадой, то в «Фаусте» оно возможно в отношении
Гомункула, который и есть чистая энтелехия. Кроме того, философское,
обобщающее понятие энтелехии (Аристотель, Лейбниц) нельзя совместить с
фаустовским стремлением, ибо фигура Фауста в драме единственная в своем роде,
и он со своим ошибочным стремлением — избранный, особый «раб Божий», и
как таковой не может быть понят как представитель всего человеческого рода.
Фауст — особый индивид, в своем роде индивид великий, светское лицо
среди святых анахоретов, и тем самым гетевская мистерия может принять его как
исключительную личность. Тот, кто так безусловно, как Фауст, стремился к
божественному совершенству, уже этим является частью мира духов; только как
таковой он принадлежит Небу и может быть спасен в конце своей земной жизни
и очищен от останков своей двойственной души, и это означает, что Фауст
мистическим образом должен быть просветлен и соединен с новой жизнью. В этом,
собственно, и состоит вера Гете в бессмертие.
Zimmermann R.Ch., op. cit. S. 143.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 247
7. Завершение драмы. Сцена «Горные ущелья. Лес, скалы, пустыня.»
Создание сцены «Горные ущелья», ставшей заключительной в «Фаусте»,
объясняется не только необходимостью сохранить рамку, в не меньшей степени
эта сцена стала выражением гетевской веры в бессмертие, о которой он часто
говорил Эккерману. В разговоре 6 июня 1831 года Гете процитировал своему
собеседнику стихи хора ангелов, несущих бессмертную энтелехию Фауста,
спасенную от Мефистофеля его высокую духовную силу:
Часть благородная спаслась,
Отвергнув силу злую;
Всю жизнь свою вперед рвалась:
Как не спасти такую?
А коль любовь его притом
Своим лучом осветит,
Весь сонм святых в кругу своем
Его сердечно встретит. (560)279
Эти стихи поэт назвал ключом к спасению Фауста: «В нем самом это все
более высокая и чистая деятельность до самого последнего часа, а свыше — на
помощь ему нисходит вечная любовь. Это вполне соответствует нашим
религиозным представлениям, согласно которым не только собственными усилиями
заслуживаем вечного блаженства, но и милостью Божьей, споспешествующей
нам»280.
Как и при создании других сцен «Фауста», в заключительной сцене драмы
изобразительное искусство стимулировало воображение поэта. Перед ним были
гравюры Лазино, воспроизводившие фреску храма в Кампо-Санто в Пизе и
изображавшие жизнь отшельников в Фивах. На ней мы видим на разных
уровнях расселины, гроты, ущелья, пещеры, в которых расположились отшельники.
Перед нами мир анахоретов. Конечно, ландшафт, созданный гетевским
воображением, несколько иной, трансформированный в сторону большей
компактности. Визуальный ряд выстроен поэтом как иерархически члененный ландшафт,
устремленный ввысь. Святые анахореты рассеяны по горным высям и ущельям.
Ступенчато возвышающийся ландшафт словно выговаривает историю своего
сотворения. В этом воображаемом пространстве начинается заключительная
мистерия. Она, как показывает текст «Фауста», выглядит похожей на большую
кантату или ораторию. Партии святых анахоретов перемежаются с хорами,
пение которых должно показывать нерушимость мировой гармонии, ее
безусловность как силы, творящей бытие. Скорее всего, поэт стремился своим текстом,
требовавшим музыки, создать впечатление, которое он сам получал от искусства
И. С. Баха, впечатление, похожее на откровение, «словно вечная гармония бесе-
279 См. также паралипомену VHd, где бессмертная часть Фауста (Faustens Unsterbliches) названа
энтелехией. (Goethe J.W. Faust Texte, hrsg. von A. Schöne. S. 735).
280 Эккерман И. П. Указ. соч. С. 440.
248 Sx-
Л. Г. Лствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
дует сама с собою, как то было, наверное, в душе Бога незадолго до сотворения
мира. И так волновалась и моя душа, и мне казалось, будто не было у меня и не
нужно мне было ни ушей, ни тем более глаз и прочих органов чувств»281.
По замыслу Гете, сольные партии, арии, должны были темпераментно
прославлять божественное устройство мира, из этих партий «очень постепенно
развивается гармония хора, и целое, разбежавшееся по всем направлениям, вновь
возвращается к своему божественному истоку»282.
Гениальное музыкальное воплощение «Горных ущелий» у Р. Шумана и
Г. Малера показывает приспособленность всей сцены для ораториального
жанра. Четыре мужские партии и пять женских, среди которых душа Гретхен, хоры
блаженных младенцев, кающихся грешниц и ангелов составляют иерархически
выстроенный замечательный концерт на основе небесного порядка, призванный
как прославлять гармонию мироздания, так и показать спасение человеческой
души для вечного существования этой гармонии, и в этом смысле спасение и
очищение фаустовской энтелехии всего лишь частный случай вечного процесса
созидания мира Богом.
В германистике нет единого мнения относительно религиозно-философской
основы «Горных ущелий». Однако два существенных момента все же
остаются общими для всех интерпретаций: необходимость завершить рамочную
конструкцию драмы, то есть момент чисто формальный, и момент чисто
содержательный — бессмертие духа, присутствие которого делает бытие вечным.
Наиболее убедительной и плодотворной для понимания этой сцены выглядит
концепция Артура Хенкеля и Альбрехта Шене. Согласно ей, сценарий «Горных
ущелий» представляет собой художественное оформление идеи восстановления
всех вещей (apokatastasis) великого раннехристианского философа Оригена283.
Филологические доказательства, приводимые этими учеными в поддержку
своей концепции, вполне убедительные: человек такого интеллекта, как Гете, не
мог не знать об Оригене, поскольку в его библиотеке имелись книги,
трактующие учение этого философа, в частности двухтомный труд Готфрида Арнольда
«Непартийная история церкви и ереси», которым поэт часто пользовался284.
Учение Оригена не принадлежало к канонизированным церковью
богословским учениям. Даже его смерть после пыток, которым он подвергся во
время гонений на христиан при императоре Деции, смерть мученика, не
помешала его осуждению на Пятом Вселенском соборе в 553 году. По
требованию императора Юстиниана философ был обвинен в гностицизме. В идее
Оригена о всеобщем спасении ортодоксальные богословы видели замысел в
спасении также и дьявола. Уже гностические и неоплатонические элементы
религиозной философии Оригена могли привлечь к себе внимание автора «Фа-
281 Гете И. В. Письмо К. Ф. Цельтеру от 17 июля 1827 года // Музыкальная эстетика Германии
XIX века в 2 т. T. 1.М., 1981. С. 263.
282 Гете И. В. Там же. С. 263.
283 Henkel Α. Das Ärgernis Faust // Aufsätze zu Goethes Faust // Darmstadt. S. 290-315; Schöne A.
Goethe J.W. Faust. Kommentare. S. 781—794.
284 Arnold G. Unpartejische Kirchen-und Ketzer Historie. Von Anfang des Neuen Testaments biß auf das
Jahr Christi 1688, 4 Teile in 2 Bdn. Frankfurt am Majn, 1729. S. 185—254. Гете пользовался именно этим,
вторым изданием.
//. Трагедия К В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея j£© 249
уста». Трудно не заметить влияние гностицизма в гетевском мифе о
Люцифере, где явственно проступают также черты более поздней богомильской ереси
в «Вальпургиевой ночи» первой части, особенно в сценах, исключенных из
нее из-за самоцензуры.
Блестящее изложение учения Оригена у Мирча Элиаде показывает, чем мог
быть близок этот философ Гете. «Благодаря Оригену идеи неоплатонизма
определенно проникают в христианскую мысль. Его богословская система —
творение гения, оказавшее заметное влияние на последующие поколения». «Согласно
Оригену, Бог-Отец, трансцендентный и непознаваемый, есть рождающий Сына;
тот, будучи образом Отца, является одновременно непознаваемым и
познаваемым. Посредством Логоса Бог творит множество чистых духов (logikoi),
наделяя их жизнью и знанием. Но за исключением Христа, все чистые духи удалены
от Господа, Ориген не уточняет причину этого удаления. Он говорит о
нерадивости, об унынии, о забвении. То есть кризис объясняется поведением чистых
духов»285. Последнее — один из важнейших упреков Господа человечеству в
«Прологе на Небе» и предмет иронических замечаний Мефистофеля.
В учении Оригена чистые духи, удаляясь от Бога, превращаются на
неоплатонический манер в души, и «в соответствии с тяжестью их прегрешений Бог-
Отец каждую объясняет телом — ангельским, человеческим или бесовским».
Жизнь воплощенной в тело души представляет собой странствие,
завершающееся ее приближением к Богу. Собственно, такое «приближение к Богу» мы видим
в «Горных ущельях». В сцене все происходит в соответствии с мифической
программой Оригена.
«Вселенскую драму можно было бы назвать переходом от невинности к
опыту через испытание души во время ее странствия к Богу. Спасение равнозначно
возврату к первозданному совершенству, apokatastasis (восстановлению всех
вещей). Однако это конечное совершенство — более высокая ступень в сравнении
с тем, что было в начале творения, так как оно неподвластно злу и,
следовательно, окончательно («О началах», II, 11, 7). В тот миг душам будут даны «тела
воскресения». Маршрут духовного странствия христианина замечательно передан
метафорами: путешествие, естественное созревание и битва против зла.
Наконец, Ориген полагал, что христианин, достигший совершенства, может познать
Бога и соединиться с ним через любовь286.
В заключительной сцене, после тихого вступления хора, следует страстная
ария Отца восторженного (Pater extaticus). Предчувствуя свою близкую встречу
с Богом, Pater extaticus приходит в восторженное религиозное состояние.
Легенды приписывали анахоретам возможность подниматься в экстазе молитвы в
воздух, а энергия Отца восторженного возносит ввысь его чувства вселенской
любви, готовность ради этой любви претерпеть любые физические муки,
принять мученическую смерть. Стрелы, копья, палицы, молнии не страшат этого
святого, и смерть для него — осуществление духовного соединения с
божеством. В пении Отца углубленного (Pater profundus) продолжается прославление
любви, преодолевающей все препятствия.
285 Элиаде М. История веры и религиозных идей. От Магомета до Реформации. М, 2008. С. 59.
286 Элиаде М. Указ. соч. С. 60.
250 Sx-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
В его арии не исчезает динамический и драматический характер ораториаль-
ного действа. Из глубин Отец углубленный взывает к силе, творящей
мироздание, и перед нами возникает пространство действия этой силы. Все бытие живет
ритмом воскресения, вечного рождения. В драме ария Отца углубленного —
ответ пению архангелов в «Прологе на Небе». Последняя сцена — это, однако,
не прославление Бога-творца, а прославление того, что делает сущность
человеческой души и ее стремления бессмертными. «Бытие ландшафта содержит в
себе символ становления. Это в нем самом скрытое становление как творение
уподобляется любви, чья деятельность прославляется возвышением
фаустовской бессмертной сущности»287. В пении Pater ecstaticus и Pater profundus
славится любвь. У Гете оно вселенское, космическое чувство:
Как груда скал у ног моих лежит
Всей тяжестью над бездной онемелой,
Как множество ручьев сверкающих бежит,
Чтоб слиться с пеной ярко-белой,
Как все стволы стремятся в вышину
Своею силою, природою им данной,
Так всемогущая любовь творит, всему
Ей сотворенному являяся охраной. (557)
Силой любви все сотворенное стремится к первоединому, к Богу, и эта
устремленность природы к нему естественна, ибо сотворенное хочет слиться со
своим творцом, давшим ему бытие. В стихах Отца углубленного, как и во всей сцене
«Горные ущелья», исследователи давно уже находили творческое преломление у
Гете идей неоплатоников, в частности концепций Единства и Эроса. В арии Отца
углубленного соединяются обе темы.
В 1805 году Гете сделал перевод нескольких фрагментов труда римского
философа-неоплатоника Плотина «Об умной красоте». Эти фрагменты вошли
впоследствии в последний раздел романа «Годы странствий Вильгельма Мейс-
тера», названный «Из архива Макарии». Подводя итог размышлениям Плотина
об интеллектуальной красоте, Гете достаточно высоко оценил принцип
единства, являющийся краеугольным в системе Плотина: «Нельзя досадовать на
идеалистов древности и нового времени за то, что они так настойчиво требовали
почтения к единому, из которого все возникает и к которому следовало бы вновь
все свести. Ведь животворящее и упорядочивающее начало, несомненно, до
того утеснено в мире явлений, что едва может спастись»288. Поэтому порыв всех
существ к единому — их спасение. В плотиновском духе Отец углубленный
продолжает свою хвалу Единому, одухотворяющему все сущее.
Кругом себя я слышу грохот, треск,
Как будто воды мчат и скалы, и растенья,
Адорно Т. В. К заключительной сцене «Фауста». Коллегиум 1—2, СПб, 2004. С. 187.
Гете И. В. Собр. соч. в 10 т. Т. 8. М., 1979. С. 403.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея JΩ 251
Но вместе с тем так ласков тихий плеск
Воды, катящейся в низы для орошенья.
То звуки музыки волшебной и свободной,
То — вестники любви взаимной и бездонной... (558)
Глазами влюбленного созерцает Отец углубленный динамическую красоту
мироздания, однако красота природы ведет его сознание к более высокой
красоте, не удовлетворяясь телесной, видимой красотой, его душа хочет взойти еще
выше, к источнику красоты душевной. Вестники, посланцы любви
(Liebesboten), очищающей мир, несут также и успокоение сердцу, дающее возможность
созерцать красоту духовную.
О, если бы они мир принесли для дум моих,
В которых бьется дух холодный,
Стесненный гранями чувств грубых и пустых,
С цепями тяжкими ведущий спор бесплодный!
О, Боже! Мыслям дай моим успокоенье
И сердцу бедному сошли ты озаренье! (558)
Как мы видим, захваченный игрой природных сил, стремящихся к единению
с Творцом, человек находится во власти того же порыва к Богу.
Единство с мирозданием, с его творцом — тема, проходящая через все
творчество Гете, начавшаяся как мотив тоски единичного, ограниченного как
индивидуум человека, тоски по освобождению от сковывающих его форм в
безграничном. Мы имеем этот мотив уже в «Ганимеде». В «Блаженном томлении» это
желание понимается как подлинная жизненная цель:
Ты — не пленник зла ночного!
И тебя томит желанье
Вознестись из мрака снова
К свету высшего сиянья.289
В стихотворении «Одно и все» — неоплатоническая идея перехода в более
высокие сферы и постепенного превращения в становящуюся духом энтелехию,
желание которой — сблизиться с мировой душой, чтобы получить от нее
мощные творческие силы для деятельности.
В безбрежном мире раствориться,
С собой навеки распроститься
В ущерб не будет никому.
Не знать страстей, горячей боли,
Всевластия суровой воли —
Людскому ли мечтать уму?
Гете И. В. Собр. соч. в 10 т. Т. 1. С. 332.
252 ®l
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Приди! Пронзи, душа вселенной!
Снабди отвагой дерзновенной
Сразиться с духом мировым!
Тропой высокой духи ходят,
К тому участливо возводят,
Кем мир творился и творим!290
В «Горных ущельях» переход из низших сфер в высшие выглядит как
христианский сценарий, за которым скрывается трансформированный гетевским
мировоззрением неоплатонизм. В своем исследовании, посвященном
последней сцене «Фауста», Й. Шмидт считает, что сценарий «Горных ущелий»
показывает знакомство Гете с трактатом VI в. н. э. «О небесной иерархии»
Псевдо-Дионисия Ареопагита. Согласно этому трактату, иерархический порядок
потустороннего мира представляет собой ведущие ввысь ступени
одухотворения. Речь идет о четкой схематизации крайне важного для всего неоплатонизма
представления из платоновского «Пира» о возвышении души до
божественного. Слово «иерархия» означает у Псевдо-Дионисия «священный порядок».
В трактате «О небесной иерархии» показана иерархическая структура
потустороннего мира, в особенности в порядке ангелов как обитателей этого мира.
Дионисий структурирует его по триадическому принципу, введенному Пло-
тином, а затем по триадической иерархии, установленной поздними
неоплатониками Ямвлихом и прежде всего Проклом291. В заключительной мистерии
«Фауста» соединяются как иерархическая организация, так и триадический
принцип группировки образов. У Гете их три. За анахоретами следуют
ангелы, и, наконец, появляются женщины. Эти три группы в ступенчато ведущих
ввысь сферах расположены друг над другом. Как и у Дионисия, каждая сфера
содержит в себе момент возвышения. Внутри группы анахоретов Отец
углубленный принадлежит к низшей сфере, Отец ангелоподобный (Pater seraphicus)
обитает выше Отца углубленного, находясь на более высокой ступени, откуда
он уже может созерцать ангельские души, и поэтому обитает в средней сфере.
Представление о небесной иерархии особенно бросается в глаза в партии, в
которой в различных порядках один над другим появляются ангелы, чтобы,
паря в высшей сфере, нести бессмертные останки Фауста. Сначала это делают
близкие к Земле младшие ангелы, за ними следуют более совершенные
ангелы, задача которых — очистить душу Фауста для небесной любви. И наконец,
группа кающихся женщин, которые должны окончательно отрешиться от всего
земного и подняться к Богоматери и к Вечной женственности. Можно заметить,
что каждая иерархия служит в качестве посредницы. Закон посредничества
господствует над всеми иерархическими функциями. Все устремлено к Богу,
и если речь идет о приближении к Богу, то тогда передается действие
божественной силы и божественных даров. В движении душ к Богу, согласно
неоплатонической схеме, огромную роль играет сила Эроса. Это уже звучало в ариях
290 Там же. С. 464-^65.
291 Schmidt J. Die «Katholische Mythologie» und ihre mysthische Entmythologisierung in der
Schlußszene des «Faust II» // Aufsätze zu Goethes «Faust» // Darmstadt, 1991. S. 392.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея ЛЕ) 253
анахоретов. Естественно, что здесь речь идет не о чувственном, земном Эросе,
а об Эросе как высшей силе. В трактате «Об Эросе» Плотин пишет: «Эрос
высшей души, судя по всему, именно таков, созерцающий и сам
пребывающий в высоте, поскольку он спутник высшей души, ею и из нее рожденный,
довольный созерцанием Богов. И если мы считаем отдельной [от материи] ту
душу, которая первоначально осветила небо, то мы будем считать отдельным
и этого Эроса, хотя небесной мы называем преимущественно эту душу: ведь и
когда о наилучшем в нас мы утверждаем, что оно в нас, мы все-таки его
полагаем отделенным, но пусть он будет только там, где пребывает чистая душа»292.
Достигнуть сферы чистой души, быть охваченным Эросом можно лишь через
очищение.
В неоплатонизме очищение представляет собой внутренний процесс; это
осознание необходимости очищения, освобождения от всего внешнего. Для
Гете особенно важно, что очищение — это не только освобождение от вины
и греха, а отделение себя от всего земного, от мира чувств и всего телесного.
В своей чистоте дух должен возвыситься до Абсолютного. Уже в самом
понятии Абсолютного содержатся освобождение и очищение, и в этом смысле
осознание, освобождающее от всего земного, и одухотворение как выход к
чистоте тесно связаны со светом, с освещением и совершенством, ибо
одухотворение, вызванное очищением, наполняет человека светом духа и божества,
ведя его к Абсолютному, к совершенству. Особенно важным для
неоплатоников был процесс очищения. Он сигнализировал о решающем моменте
перехода и имел характер инициации. В потустороннем мире «Горных ущелий»
мы имеем дело с такой инициацией. Более совершенным ангелам энтелехия
Фауста кажется не до конца очищенной, в ней присутствует земная тяжесть,
и он еще не избавлен от своей двойной души! Лишь с включения Доктора
Мариануса в мистерию начинается ее заключительная стадия, в которой
происходит окончательное очищение фаустовской души. С ним также связана и
группа кающихся грешниц. Как отмечает Й. Шмидт, «их покаяние
определяется не негативно и ретроспективно как только следствие более ранней вины,
а как устремленное вперед и позитивно как облагораживание для высшего
совершенства»293. Для Гете неоплатоническое, выдаваемое в этой сцене за
христианское покаяние, выглядит гораздо гуманнее, нежели очистительный
огонь кары небесной, и, конечно, Фауста спасают не на христианский, а на
неоплатонический манер. Фауста ждет языческое очищение и просветление.
Очищение и просветление открывают путь к совершенству, делая человека
подобным Богу, а через уподобление божеству происходит обожествление
и самого человека. Арией Доктора Мариануса открывается последняя часть
сцены. Глазам и внутреннему взору предстал трансцендентный мир,
открылся благом, красотой и любовью. Пределы этого мира необозримы. Это мир
пребывающего совершенства.
292 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. С. 623.
293 Schmidt J. Die «Katholische Mythologie» und ihre mysthische Entmythologisierung in der
Schlußszene des «Faust II» //Aufsätze zu Goethes «Faust».// Darmstadt, 1991. S. 398.
254 3^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Здесь глазу широкий
Открыт кругозор,
И дух одинокий
Здесь чует простор.
Вот в высь, воспаряя,
Проносятся жены;
Их сонм созерцая,
Я зрю, пораженный,
Венец неохватный
Царицы небесной. (562)
В самой высокой и чистой келье охваченный восторгом Святой, открыв всего
себя вечности, показывает сонму небесных обитателей свою готовность в
мудрости и деятельной любви постигать божественную ясность и совершенство.
Молясь за жертв легкого соблазна, этот страстный дух обращается к
Богоматери, к которой приближаются кающиеся грешницы. Среди них находится
Гретхен, и ее душа, пережившая все стадии очищения и открытая свету Богоматери,
взывает к милости Девы Марии, моля ее о спасении Фауста:
Склони,
Свой лик склони,
О несказанная,
Лучесиянная,
Теперь ты к радостям моим!
Прежде любимый,
Невозмутимый,
Идет сюда. Я буду с ним! (564)
Душа Фауста очищена, ее пронизали лучи всех небесных сфер, исчезла ее
двойственность, и можно даже сказать, что духовное сияние на какое-то время
парализовало ее, введя в экстатическое состояние. Все участники этой
мистерии, слыша голос Богоматери, обращают к ней свой лик, и Доктор Марианус
произносит слова, которые означают ее обожествление, ибо Мария в ортодокса-
но-религиозном понимании божеством не является. Когда человек обращается
к Богу, он уподобляется ему, поскольку у Гете процесс постижения
божественного света и есть проявление Бога в человеке. Источник света и человек в этом
случае становятся одним и тем же. Обожествление человека возможно лишь
через его уподобление божественному, через охват сознанием совершенства.
Замечательное четверостишие из «Учения о цвете», которое было переводом
мыслей Плотина, высказанных последним в трактате, объясняет природу
обожествления:
War' nicht das Auge sonnenhaft,
Wie könnten wir das Licht erblicken?
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст», Первая и вторая части: образы и идея JΩ 255
Lebt' nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
wie könnt4 uns Göttliches entzücken.294
Не будь у глаза своей солнечности,
Как могли бы видеть свет?
Не живи в нас самобытная сила Бога,
Как могло бы нас восхищать Божественное?
Наличие в человеке божественного начала делает для него безграничным
возможность приобретения мира и самого себя. Для Гете чувственный, видимый
мир сопричастен этой возможности, ибо пределы нашего знания еще неизведа-
ны. И в данном случае Мария — последняя цель совершенства, совершенства,
достигнутого обожествлением человека.
Jungfrau, Mutter, Königin,
Göttin, bleibe gnädig. (12102—12103)
Дева, Мать, Царица,
Богиня, будь милостива!
В этом процессе совершенствования Богоматерь получает четвертую
ипостась — ипостась Богини. Не о демонстрации культа Марии идет речь у Гете;
Мария становится у поэта образцом для людей, призванных к высокой цели
совершенства. Богоматерь — воплощение любви, творящей мир и
одухотворяющей мироздание. Завершающий трагедию мистический хор, поющий о тайне
бытия, подтверждает это. Преображенный в потусторонний видимый, земной
мир — символ вечного, совершенного мира, где Богоматерь — Богиня,
защитница как добросердечного, так и вечного, хранительница неуничтожимого
живого начала, любви, воплощенной во всех любящих женщинах. Тайна и
сущность мироздания и человеческой деятельности в том, что они имеют смысл
только тогда, когда их оживляет любовь.
Все быстротечное —
Символ, сравненье.
Цель бесконечная
Здесь в достиженье.
Здесь заповеданность
Истины всей.
Вечная женственность
Тянет нас к ней.295
Гете И. В. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957. С. 269.
Гете И. В. Собр. соч. Т. 2. С. 440.
256 S^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Это герменевтическое исследование главного произведения Гете
постепенно выросло на основе статьи, написанной автором для издания «Гете. Фауст
впервые в переводе Константина Иванова»296. В ней были расставлены вехи для
дальнейшей работы, завершившейся в публикуемой монографии. Поскольку
в данной работе почти все цитаты из «Фауста» даны в переводе Константина
Алексеевича Иванова, известного историка конца XIX — начала XX века, ее
автор считает своим долгом закончить свое исследование словами о К. А.
Иванове, так и не увидевшем свой многолетний труд в напечатанном виде.
Константин Иванов работал над переводом около сорока лет, с 1880 года.
В это время интерес русской мысли к творчеству и личности Гете был
особенно интенсивен. Гете привлекал внимание как художников, так и ученых, от
философов до естествоиспытателей. Видимо, это было связано с тем, что одной
из характернейших тенденций Серебряного века было стремление к синтезу,
где доминирующими были две составляющие — искусство и философия, а в
творчестве Гете такого типа синтез имел место, поэтому расцвет русского ге-
теанства падает на последнее десятилетие XIX и вплоть до двадцатых годов
XX века. Константин Иванов как раз и является ярчайшим примером русского
гетеанства, причем свободного от поклонения Гете как идолу. О своем
интересе к великому поэту Гете и о своей работе над переводом он подробно рассказал
в Предисловии переводчика. Из него мы узнаем, что творчество Гете, в
особенности «Фауст», увлекло Иванова, когда он был еще студентом
Санкт-Петербургского университета, и этим увлечением он был во многом обязан лекциям
выдающегося русского филолога А. Н. Веселовского. От фигуры
средневекового Фауста, от образа, созданного великим немецким поэтом, исходили особые
творческие импульсы, прежде всего непременное желание всеми путями,
которые открываются перед человечеством, искать истину. Сам Иванов
достаточно ясно сказал о смысле этого почти сорокалетнего труда: «Далекий от идола-
трического отношения к гениальному произведению, я не могу не признать за
второю частью "Фауста" высокого воспитательного значения в самом широком
смысле этого выражения, а посему считаю ее распространение в среде нашего
общества в высокой степени желательным»297.
Эти слова были написаны в канун сочельника 1918 года, когда казалось,
приостановилось развитие русской культуры. Гражданская война не давала ни
малейшего повода смотреть оптимистически на будущее России. Но человек,
написавший эти слова, был убежден: несмотря на исторические и культурные
катаклизмы, общая тенденция творческого и созидательного духа человечества
одержит победу над торжествующей демонией в русской истории, аналог
которой Иванов, видимо, находил в «Фаусте» Гете. Его уверенность в
неспособности сил тьмы закрыть от людей свет разума была поистине гетевской.
Перевод Иванова мы можем с полным основанием рассматривать как
жизненный подвиг, осененный благородными убеждениями его создателя. Подроб-
296 Аствацатуров А. Г. «Фауст» Гете: образы и идея // Гете. Фауст впервые в переводе Константина
Иванова. СПб, 2005. С. 592—627.
297 Иванов К. А. Предисловие переводчика // Гете И. В. Фауст. Впервые в переводе К. Иванова.
СПб., 2005. С. 14.
//. Трагедия И. В. Гете «Фауст». Первая и вторая части: образы и идея J& 257
ный анализ этого высокохудожественного текста читатель найдет в статье
Ирины Алексеевой, показавшей, какое место он занимает в русской гетеане298. От
себя добавим, что выполненный с большим мастерством перевод дарит
читателю настоящие поэтические шедевры. Это особый тип «русского Фауста».
Иванов не стремится, подобно Борису Пастернаку, поэтически русифицировать ге-
тевский текст в ущерб точности мысли, передача которой в случае с «Фаустом»
необходима в первую очередь. Но автор и не буквалист, пренебрегающий
художественностью во имя адекватности переводимого. Анализ перевода дает все
основания утверждать, что ориентиром для Иванова был выдающийся русский
поэт Алексей Константинович Толстой, оставивший нам гениальные
переводы великих гетевских баллад «Коринфская невеста» и «Бог и Баядера». Это,
конечно, неподражаемые образцы переводческого искусства. Но и
оригинальные произведения А. К. Толстого, в частности его большие поэмы, в которых
ощущается непосредственное влияние Гете, оказали несомненное воздействие
на Константина Иванова. Это чувствуется, когда сравниваешь с переводом те
места толстовских поэм, где философская мысль самым непосредственным
образом соединена с картинами природы и образует с ними нерасторжимое
единство. Таких мест в переводе очень много, причем К. Иванов не только точно
передает образы Гете, но и достигает гетевского дыхания стиха. Это широкое
дыхание, ощущаемое в переводе, распространяется на большие пространства
текста. В переводе Иванова мы не найдем также свойственной русским
переводам «Фауста» христианской цензуры, которая есть у Пастернака и Холодков-
ского. Оставаясь верными православной религии, оба выдающихся
переводчика не решились передать четвертую ипостась Богоматери. Гете называет
Богоматерь Богиней, Doctor Marianus завершает свою молитву Богоматери
следующими словами:
Werde jeder bessre Sinn
Dir zum Dienst erbötig!
Jungfrau, Mutter, Königin.
Göttin, bleibe gnädig!
Иванов постарался ее сохранить, не цензурируя гетевский текст;
Осени Ты благодатью
Наши совершенья!
Дева, Мать, цариц всех краше,
Божество Ты наше! (565—566)
Действительно, без точной передачи гетевской мысли остаются
непонятными слова мистического хора о вечно женственном, о подлинно божественной
силе любви, без которой невозможна ни человеческая жизнь, ни человеческая
деятельность.
298 Алексеева И. С. Бесконечность постижения // Гете И. В. Фауст. Впервые в переводе К. Иванова.
СПб, 2005. С. 628—636.
258 Sx-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Выпустив в свет перевод Константина Иванова, мы исправили ошибку
истории и возвратили другим поколениям то, что переводчик хотел подарить своим
современникам. Конечно, сделали мы это — не по своей вине, а по нашей общей
беде — с большим историческим опозданием. Однако мы видим сейчас, что
высокохудожественный перевод Константина Иванова нашел своего читателя и
воспринимается им как выдающееся достижение своего времени, сохранившее
это значение по сегодняшний день.
ΠΙ.
Поэт и просвещенное общество.
Драма И. В. Гете
«Торквато Тассо»
///. Поэт и просвещенное общество. Драма И. & Гете «Торквато Тассо» Jή 261
В пятой главе книги «Рассуждения о всемирной истории», названной
«Индивид и всеобщее», Якоб Буркхардт писал: «У поэзии есть свои вершины:
когда она, предварительно изящно и идиллически очертив контуры грядущего,
извлекает из случайного, посредственного и безразличного потока жизни
нечто универсально человеческое в его высочайшем выражении, претворяет его
в идеальные образы и представляет картину человеческих страстей в борьбе
с верховной судьбой во всей чистоте и мощи, не замутненную никакими
случайными моментами; когда она раскрывает перед человеком тайны, скрытые в
нем самом, о которых он имел бы без нее только смутные ощущения; когда она
говорит с ним на чудном языке и ему кажется, что некогда в лучшем бытии это
должен быть и его язык; когда страдания и радости отдельных людей разных
времен и народов она преображает в непреходящее произведение искусства.
На все это оказывается способной поэзия, поскольку и в самом поэте высокие
начала пробуждаются лишь благодаря страданию»1. Все, что здесь сказано, мы
целиком и полностью можем отнести к драме Гете «Торквато Тассо». Более
того, мысли Буркхардта приложимы и к каждому слою этой многослойной
драмы. Мощное воздействие, которое оказывает на читателя гетевское творение,
вырастает из богатого и тонкого сплетения тем, из различных тематических
уровней, порождающих и различные уровни интерпретаций. Поверхностный
взгляд на происходящее в драме обнаруживает конфликт гения с нравами и
привычками общества. Импульсивность и бурный темперамент поэта, его
стремление влиять на мир, в котором он живет, желание постоянно вызывать
восхищение своим творчеством и его упорство, даже непонятное упрямство, с
которым он отвергает все попытки помочь ему и облегчить бремя обыденной
жизни, составляют суть этого конфликта с миром. Поэт не находит места в нем,
и поэтическое творчество, как думал Герман Август Корфф, единственное, что
остается Тассо, оно — облегчение его страданий, но оно больше не сможет
возвысить поэта. «Ибо эта чистая поэзия и есть, собственно, глубочайшая причина
его человеческого несовершенства. Чистый гений в смысле таланта в области
художественной формы, согласно гетевскому классическому пониманию, ни
в коем случае не есть высшая гуманность и высшая человеческая ценность.
А высшей человеческой ценностью гений становится лишь тогда, когда он с
помощью природы или воспитания соединяется с истинным мировым разумом
и воплощает в своем образе и в своем творчестве закон мира»2. В Тассо нет
соединения гениальности и гуманности, а следовательно, он не истинный гений.
Такое понимание гетевской драмы — результат сведения всего ее содержания
к мировоззренческой тотальности, где все пласты драмы охватываются идеей,
даже если они и противоречат ей. Оказывается, что виной всему непонимание
1 Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории. М., 2004. С. 189.
2 KorfTH. Α. Geist der Goethe-Zeit. Leipzig., 1966. Bd. 2. S. 183
262 3^
А, Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Тассо смысла гуманности в отношении мира, в котором поэт живет. На большей
глубине лежит проблема — о ней Каролине Гердер сказал сам Гете, —
«диспропорции таланта с жизнью», и «жизнь» здесь необходимо понимать в
широком, почти экзистенциальном смысле. Проблема эта появляется, когда перед
поэтом возникают терзающие его сомнения в своей собственной
идентичности, собственной значимости, значимости своего искусства, и это происходит
в те моменты, когда Тассо видит себя в противопоставлении с неоспоримыми
достижениями других людей, в частности Антонио.
Уже давно замечено, что для того, чтобы показать всю глубину этой
проблемы, Гете совершил эксперимент над собственной личностью, в которой в
противоречивом синтезе уживались как поэт, так и человек, обращенный своей
деятельностью к практическим делам. Это взаимодополнение не было
бесконфликтным, наоборот, оно требовало от Гете постоянного напряжения сил в охвате
огромных областей человеческой деятельности, того, что Ницше
применительно к Гете называл «горизонтами». Расщепление себя самого на Тассо и Антонио,
их антитетическое противопоставление друг другу не говорит о невозможности
соединения в человеке поэтического и деятельного начал. Их обособление в
человеке необходимо Гете, чтобы показать, как просвещенный мир будет
воспринимать чистый поэтический дух. Самому Гете долгое время приходилось
доказывать веймарским «антонио» свое превосходство в том, что они считали своим
делом, а не делом поэта. Шарлотта фон Штейн раздвоилась в драме на
принцессу Леонору и графиню Леонору Сан-Витале, причем трансцендированные
черты подруги Гете отошли принцессе, а светские — графине. Таким образом,
«диспропорция таланта с жизнью» превратилась в драме в отношение Тассо к
другим персонажам, порождающее различные способы интерпретаций.
Эта диспропорция — неустранимое следствие различия восприятия и
воссоздания мира в творчестве, то есть мира видимости с четко оформленной
жизненной реальностью, которая в сознании других людей жестко противостоит
царству видимости, творимому фантазией поэта. Она-то и оказывается
источником «безумия поэта», и это безумие тематически сплетается с другими
мотивами драмы, а затем выходит на передний план и звучит резким, пронзительным
диссонансом на фоне кажущейся гармоничной реальности.
Мы знаем, что представление о божественном безумии поэта было общим
местом римской поэзии и восходило к платоновскому «Иону». Этому безумию
не соответствует никакое чувство жизни, в том числе и личное. Таковым его
видят люди, окружающие поэта, и даже он сам. И конечно, безумие Тассо — это
художественный прием, но понимание безумия героя надо искать в
контексте самой драмы, в которой творчество и безумие неразрывно связаны друг с
другом, причем в зеркальном отражении. И здесь нам открывается еще один
уровень коннотаций, о котором прекрасно писала Элизабет Вилкинсон. Ведь в
драме мы видим особого героя, героя-поэта. Создать образ поэта во всей его
целостности на сцене невозможно, ибо личность поэта слита с его деятельностью,
творчеством, а эта деятельность на всех ее стадиях происходит вне сцены. Тем
самым величие поэта — это величие, отраженное в речах других персонажей.
В «Торквато Тассо» Гете мы находим уникальный пример того, как на наших
///. Поэт и просвещенное общество. Драма И. Б. Гете «Торквато Тассо» jéS> 263
глазах поэт творит. Я говорю не о том, что в драме часто говорят о творческом
процессе, не о том, как творческий порыв или же, говоря словами самого Гете,
«поэтический импульс» оказывает свое влияние на отношение героя к другим
людям. Все это есть в драме в избытке. Великое достижение Гете как
драматурга заключается в том, что он показал нам, как поэт творит, как его охватывает
«поэтический импульс». Гете удалось перенести на сцену трудно схватываемый
момент вдохновения3. На сцене мы видим жизнь поэта: не поэтизированную
жизнь, а жизнь поэзии, когда вдохновение превращается в фантазию, а фантазия
творит мир по своим законам.
Особенностью немецкой культуры XVIII века, на наш взгляд, является
концентрация внимания литературы и философии на одних и тех же проблемах.
Естественно, речь идет о разнодискурсных подходах к ним. Гетевский «Вер-
тер» со своей экзистенциальной напряженностью и остротой выдвинул на
передний план субъекта, для которого мир был его представлением, творящим
этот мир сознанием. Каковы границы этого сознания предстояло решать
Иммануилу Канту в «Критике чистого разума», где он описывал познавательные
способности человека уже в русле философского дискурса с его ориентацией
на целостность и системность опыта. «Усиленный Вертер», то есть «Тассо», с
не меньшей остротой и экзистенциальной напряженностью поднял проблемы
«Критики способности суждения» Канта и «Писем об эстетическом
воспитании» Шиллера. Драма была написана раньше, чем появилась последняя
«Критика» Канта, не говоря уже о трактате Шиллера. В переписке Гете и Шиллера,
как это ни покажется странным, очень редко заходит речь о концепции
«эстетического государства» в русле шиллеровских идей. Гете не мог не считать ее
утопической, а ко всему утопическому поэт относился с известной долей
скепсиса. И действительно, в драме Гете показано то, что делает просто призрачным
существование эстетического государства. Но поначалу нам кажется, что такое
государство имеет место в Ферраре, где человеку свободою дается свобода. Во
всяком случае, это государство, где все построено на культуре воспитания,
дисциплины, суть «которой негативна и состоит в освобождении воли от
деспотизма вожделений, которые делают нас, прикованных к тем или иным природным
вещам, неспособными самим сделать выбор, ввиду того что мы превращаем в
цепи наши влечения, которые природа дала нам лишь вместо путеводной нити,
дабы не пренебрегать назначением животного начала в нас и не нарушать его;
ведь мы достаточно свободны, чтобы напрягать их или ослаблять, прибавлять
или убавлять, когда этого требуют цели разума»4. Эта культура хотя и не сама
моральность, однако она делает человека цивилизованным, открывая ему путь к
моральности. Особенно действенна эта культура в сфере общения людей.
Просвещенному обществу Феррары в высшей степени присуща эта культура. Она
является, как великолепно ее определил Бенно фон Визе, «светской волей к
стилю»5. В атмосфере универсально-индивидуального, что, собственно, по Шилле-
3 Об этом подробнее см: Wilkinson Ε. W. Torquato Tasso // Goethe im XX. Jahrhundert. Hamburg,
1967. S. 99—108.
4 Кант И. Собр. соч. в 6 т. T. 5. M., 1966. С. 464-465.
5 Визе Б. фон. Драма Гете «Торквато Тассо» // Преломления. Вып. 3. С. 26.
264 ®ь
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
ру, должно составлять сущность эстетического государства, такая воля дает
свободу быть самим собой. И гетевские герои своим поведением воплощают в себе
закон формы, культуру воспитания, когда один субъект видит в другом субъекте
равного себе, оставляя ему право на свободное в-себе и для-себя бытие.
Императив такой культуры — закон, одновременно прекрасный и нравственный.
Герцог Альфонс— гарант этой нравственно-прекрасной конституции, та
«золотая середина», которая обусловливает добровольное ограничение
личности во имя всеобщей гармонии, а последняя обеспечивает возможность личности
раскрыть себя. И мы видим эстетически совершенный мир, где, как говорит
Леонора Сан-Витале:
...был зажжен науки чистый свет,
Свободной мысли, в дни. когда кругом
Скрывало варварство тяжелым мраком
Печальный мир. (5.209)6
Антонио не менее точно говорит о другой стороне феррарского общества,
оттеняя его нравственные принципы, и хотя его слова относятся к Папе
Григорию, становится ясно, что речь идет об Альфонсе де Эсте. Конечно, чтобы
не показать себя льстивым царедворцем, Антонио все достоинства Герцога
переносит на Папу, и дорогая для Просвещения идея разумного и справедливого
монарха выражена здесь со всей определенностью:
Нет зрелища прекрасней на земле,
Чем правящий разумно государь,
Чей край, где каждый с гордостью послушен,
Где каждый мнит, что служит сам себе,
Где велено лишь то, что справедливо. (5.227)
Антонио верит в незыблемость этого закона, он защищает его, и пафос
дистанции, лежащий в основе его поведения, нельзя считать высокомерием
удачливого в практических делах придворного. Этот пафос означает своего рода
защиту собственного «Я» от натиска чужеродной этому «Я» стихии. Холодность
Антонно, с которой он встречает Тассо, прямо пропорциональна темпераменту
и импульсивности поэта, стремящегося мгновенно завоевать сердце Антонио,
чья осмотрительность, конечно, берет свое начало не в ревнивом отношении
к успехам Тассо при дворе, а, прежде всего, в законе стиля, господствующем в
Ферраре. Прочно организованный эстетический мир парадоксальным образом
противостоит хрупкому миру фантазии Тассо.
Не будем говорить о реальности или утопичности этого мира, когда речь
идет об экспериментальной драме, каковыми являются все веймарские драмы
Гете. Мир Феррары — не весь мир, он ограничивается замком и парком Бель-
ригуардо. Он все-таки неопределен, и эту неопределенность мы чувствуем. Что
можно сказать об этом возделанном феррарскими князьями саде? Он, конечно,
6 Драма Гете «Торквато Тассо» цитируется по изданию: Гете И. В. Собр. соч. в 10-ти т.. М., 1974.
Т. 5. В скобках даются номер тома и страница.
///. Поэт и просвещенное общество. Драма И. В. Гете «Торквато Тассо» JΩ 265
стилизован до прекрасной искусственности и риторичности, природу и свободу
он воспринимает равномерно отфильтрованными и превращенными в стиль, и
материал — человеческая речь — превращен в риторику. Эти стиль и риторика,
если пользоваться дефинициями Умберто Эко, суть техника порождения,
эвристическая риторика, провоцирующая беседу или дискуссию «ради того, чтобы
в чем-то убедить», когда человек должен согласиться с тем, с чем он уже и так
сознательно иди бессознательно согласен7. Ставшие стилем природа и свобода,
причем ставшие таковыми в игре человеческих способностей, здесь измерены
и оценены. И здесь также наличествует то, о чем применительно к Канту писал
Жиль Делез: «Схема воображения является условием, при котором
законодательный рассудок выносит суждения с помощью своих понятий — суждения,
которые будут служить в качестве принципов для любого познания
разнообразия. Она даст ответ не на вопрос, каким образом феномены подчиняются
рассудку, а скорее на вопрос, как рассудок прилагается к подчиненным ему
феноменам»8. Однако у Гете при изображении этого культивированного мира,
мира-теплицы, присутствует ироническая критика кажущегося себе
самодостаточным оазиса трансцендентальной свободы. Из него изгнаны страсти, везде
царит сдержанность, нет больше взрывов, а в человеке — гармония его
способностей. У Канта, как указывает Ж. Делез, способности человека уже изначально
настроены на гармонию, а источником аберраций является воля. Разговоры, за
исключением диалогов Тассо и принцессы, обнаруживающих
взаимопритяжение, — всего лишь непринужденная, прелестная и тактичная беседа. Герои
этого мира наблюдают друг за другом, ловят взгляды, но это не взгляды персонажей
расиновских трагедий, о которых писал Жан Старобинский: «Взгляд вбирает в
себя все жесты, подавленные по воле стиля, и представляет их символически,
вместе с их напряженностью и направленностью. Это, конечно,
"одухотворение" выразительного действия и хороших манер: выражение страсти не
нарушает приличий, оно целомудренно и не слишком телесно»9. Но в отличие от героев
Расина, рассудок которых стал инструментом страсти, находится у страсти на
службе, для взгляда гетевских героев, не может обозначать неконтролируемый
эмоциональный порыв, вожделение, любовную ненасытность которого питает
присутствие любимого существа. В Ферраре на это наложен запрет. Взгляд не
должен, минуя феномены, устремляться к глубинам истины, он не вопрошает
чужие души, он не способен ранить, убивать. Такой взгляд, такое познание было
бы здесь признаком варварства. Любое отступление от норм и стиля —
признак безумия. А безумие понимается, в духе классической эпохи, как сама
возможность страсти делать своим инструментом разум. Воспользуемся анализом
Мишеля Фуко и скажем, что для гетевской Феррары безумие есть
бессмысленный беспорядок, но взору феррарского придворного мира оно предстает как
упорядоченность видов, как четкая работа душевных и телесных механизмов,
как зримая логика языка безумия. Собственно, так будут оценивать поведение и
7 Эко У Отсутствующая структура: Введение в семиологию. СПб, 2004. С. 130.
8 Делез Ж. Эмпиризм и субъективность. Критическая философия Канта. Бергсонизм. Спинозизм.
М, 2001. С. 163.
9 Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. Т. 1. М., 2002. С. 206.
266 ®L
A. L Аствацатуров. ПОЭЗИЯ ФИАОСОФИЯ. ИГРА
поступки Тассо. Они будут оцениваться как переход от помешательства к
сумасшествию. Как пишет Мишель Фуко, словом «помешанные» в XVIII веке
«обозначают тех, кто одержим бредом, выделяя их из всей совокупности безумных,
или сумасшедших». «Сумасшедший утратил истину целиком и полностью: он
ввергнут в пучину заблуждения всех своих чувств, в мировую ночь; любая из
его истин есть иллюзия, все, что для него очевидно, есть фантом; он —
добыча слепых сил безумия». <...> «Напротив, универсум помешанного оставляет
возможность для узнавания себя; безумию в нем всегда отведено определенное
место. Оно обретается в восприятии или по крайней мере в содержащихся в
восприятии элементах суждения и убеждений ("тот помешанный в уме, кто
воображает будто Господь явился ему и наделил его властью проповедовать покаяние
и переделывать мир"). Следовательно, "помешанный" не похож на
сумасшедшего, которого питают живые силы безумия; неразумие обитает в нем более или
менее тайно, в обличье разума»10. Следовательно, представление о себе как о
боговдохновенном существе, о человеке, вырывающемся в царстве фантазии за
пределы обыденного мира, можно считать симптомами помешательства,
исключающими поэта из сферы практической деятельности, к которой он оказывается
непригодным. И если такое помешательство можно терпеть, то только как
некое поэтическое состояние души, которое уместно в искусстве, но совершенно
нетерпимо в практической деятельности, где, конечно же, необходим ясный и
трезвый ум, далекий от самообожествления. Антонио и Альфонс, немного
расходясь в методах излечения безумия поэта, будут вести себя как
рационалистические аналитики безумия, видя его причину во врожденной меланхолии, в его
подозрительности и мнительности, параноидальных идеях.
Еше до того как Антонио начнет коллекционировать факты безумия Тассо,
мы слышим из уст принцессы описание того, как поэт приближается к ним.
Поэт углублен в себя, он наедине со своими мыслями, его движения не выдают
никакой цели, и в них есть приметы определенной неадекватности по
отношению к окружающему его миру:
Принцесса
(поворачиваясь лицом к сцене)
Давно я вижу Тассо. Он ступает
Так медленно, порою неподвижно
Вдруг остановится, замедлив шаг,
Идет опять поспешно и опять
Стоит на месте. (5.218)
Альфонс успокаивает принцессу — ведь поэтам свойственно мечтать,
находиться в своем мире, грезить.
Альфонс
Мыслит он и грезит,
Оставьте же его бродить в мечтаньях. (5.218)
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб, 1997. С. 387.
///. Поэт и просвещенное общество. Драма И. В. Гете «Торквато Тассо» j£5 267
Такого рода экстравагантность простительна поэту. Позже, после ссоры с
Тассо, в этом самоуглублении Антонио увидит все комплексы, ведущие к
безумию, — самоуничижение и мегаломанию. Они опасны.
Самим собою заниматься нам
Весьма приятно, но не столь полезно.
Ведь внутренне не может человек
Себя познать и часто мнит себя
То слишком малым, то — увы! — великим.
Лишь в людях можно познавать себя,
Лишь жизнь нас учит, что мы в самом деле. (5.245)
Способ лечения от помешательства кажется ясным. Итак, перед нами
просвещенный мир, с просвещенным монархом, гарантом этого мира, и законом
чувственной гармонии, одерживающей победу над страстями. Но несмотря на
это, как писал Бенно фон Визе, «нами овладевает призрачный страх, когда,
пребывая в самой сердцевине этого пронизанного условностями порядка вещей, мы
невольно вторгаемся в ужасное разрушение души, где все, казалось, устроено
по закону милосердия и изобилия красоты. Мгновенно беспроблемность этого
мира, покоящаяся на единстве прекрасного, нравственного и деятельного начал,
становится опасно двойственной»11. Двойственной становится и сама культура
воспитания. Недаром Кант никогда не отождествлял ее с моральностью. Ведь
она лишь высвечивает то, что может представляться опасным для человека,
точнее, то, что она со своим этикетом и риторичностью сама считает опасным.
Здесь впору вспомнить, что писал по этому поводу в «Страннике и его тени»
Фридрих Ницше: «Человек, одержавший победу над своими страстями,
вступает в обладание плодоноснейшей почвой, подобно колонисту, сделавшемуся
властелином над лесами и болотами. Следующей необходимой задачей для него
является посев добрых духовных дел на покоренной почве страстей. Сама
победа служит только средством, а не целью; если она рассматривается иначе, то
вскоре на расчищенной, жирной почве всходит сорная трава и всякая
чертовщина, разрастающаяся еще гуще и сильнее, чем прежде»12. Другими словами, хаос,
хтонизм страстей еще больше разрастается, и мир мнимо преодоленных страстей
создает особую форму репрессии, которую предвидеть невозможно.
Сталкиваясь с ней, мышление поэта может превратиться в своего рода шизофренический
дискурс, когда депрессивное раздвоение личности обретает характер мании
преследования. Тогда возникает вопрос, что значит для такого мира поэт. Ведь
цивилизованное общество с его культурой воспитания немыслимо без науки и
гуманности. Шиллеровская теория эстетического воспитания (свободою давать
свободу) здесь кажется на месте и, на первый взгляд, даже определяет его. То,
что в Ферраре чтут поэзию, ясно уже с первой же сцены, когда Принцесса и
Леонора Сен-Витале украшают венками статуи Вергилия и Ариосто, и здесь это
необходимый репрезентативный акт:
11 Визе Б. фон. Драма Гете «Торквато Тассо». С. 27.
12 Ницше Ф. Странник и его тень. М., 1994. С. 300.
268 Зь
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Места, где жил великий человек,
Священны: через сотни лет звучат
Его слова, его деянья внукам. (5.210)
Но является ли поэзия сущностным началом этого мира, его первофеноме-
ном, является ли поэт хотя бы непризнанным его законодателем? Этому
обществу поэт необходим прежде всего как средство. Для просвещенного сообщества
людей, дух которого сконцентрирован в герцоге Альфонсе, поэт необходим,
чтобы создать возвышенное отражение этого духа, трансцендировать его. В песнях
он должен прославить практические дела, и поэзия непременно превращается
здесь в праздничное украшение бытия. Просвещенный герцог прекрасно
понимает, что властитель, не окруженный талантами, — варвар и фантазия взятого на
службу поэта прославит в царстве фантазии блеск герцогской власти.
Более того, герцог приютил поэта-изгоя, оградил его от опасностей
преследования, дал ему возможность свободно творить, прославляя властителей
Феррары, их мудрость и доблесть. Леоноре Сан-Витале Тассо нужен тоже как
средство. Он своими стихами превратит ее в новую Лауру. Графиня понимает, что
ее земная красота бренна, с годами она ускользает, а поэт запечатлеет ее навеки.
Внимательное чтение драмы не позволяет нам говорить об умной Леоноре как о
своекорыстной, тщеславной красавице, скорее мы можем говорить только о
счастливой, окруженной поклонниками женщине. Дни ее красоты уже сочтены, она
приближается к порогу, с которого уже будет заметен ее возраст, природное
увядание в ней. Леонора понимает, что красота — это единственное, что у нее остается,
прекрасный вкус не заменяет отсутствие у нее талантов и женских добродетелей.
Эту красоту необходимо увековечить, и песни Тассо нужны ей, чтобы успокоить
сердце, ибо в них отразится вся прелесть Леоноры. Леонора понимает, что
возможности поэзии, способной трансцендировать ее земную красоту во
вневременные сферы, надолго сохранят ее в памяти потомков, а поклонение ей поэта станет
поклонением всеобщим. Ее жизнь обретет трансцендентный смысл, оставаясь в
границах земного. Здесь, конечно, нет ничего противоестественного, так как
издавна женщины были связаны с искусством и художниками, были их земными
музами. Гораздо сложнее отношения Принцессы и Тассо. Это — родство душ, но,
как это ни странно, именно совет принцессы Тассо искать дружбы с Антонио
создаст завязку трагического конфликта. Чего хочет от поэта эта умная и утонченная
созерцательница, стремясь на долгое время, точнее, на срок жизни, отпущенный
ей судьбой, привязать поэта к себе, не отвечая ничем на его любовь, а только
охлаждая пыл этой любви, чтобы потом ее отринуть? Выгод для себя она не ждет, ей
необходимо только присутствие родственной души, не более. Надежды занимают
в ее жизни самое ничтожное место, поскольку тяжелая болезнь рано отдалила ее
от общества. Игры жизни не стали ее играми, она выпала из них. Леонора
превратилась во внимательного созерцателя, она не ожесточилась на жизнь, не
акцентирует внимание на слабостях более счастливых людей. Принцессу отличает
доброе, радушное отношение ко всем, кто ее окружает. И Тассо она по-своему
любит. Но она лишена страстей и стремлений, и ум не дает ей возможности
обманываться: «дозволено то, что подобает». Страдания сделали ее мудрой. Однако все
///. Поэт и просвещенное общество. Драма И. В. Гете «Торквато Тассо» US> 269
же не страдания являются основой ее бытия. В жизни Принцессы Леоноры есть
одно стремление — стремление к подлинному, как ей кажется, чистому счастью.
В платоновском учении Принцесса ищет разгадку всех жизненных проблем, зная,
однако, как мало помогает разделение идеи и действительности, зная, что оно не
приносит успокоения. Тассо нужен ей потому, что он постоянно возвращает ей
ускользающее и отмеченное болезнью и страданиями бытие, и эта ученица Платона
только благодаря поэту может вознестись «до все более чистых гармоний». И
Тассо не заменит ей никто. Поэзия для нее — единственная возможность преодолеть
слишком материальную здоровую жизнь.
Уже в первом действии, в сцене увенчания, когда Принцесса возлагает на
голову поэта венок, Тассо включается в этот стилизованный мир. Здесь его никто
не притесняет, никто против него не интригует, он может спокойно творить. Что
отличает Тассо от других персонажей драмы? Для Тассо царство искусства, мир
фантазии — не дополнительное расширение и приобретение жизни с помощью
красоты. Это сама жизнь. Для Тассо истинная жизнь — это фантазия и творчество,
здесь греза и экзистенция полностью совпадают, более того, фантазия для него —
единственно возможная форма экзистенции, а все остальное только дополнение,
так как поэтический импульс здесь прежде всего — жизненный импульс.
В 1797 году Гете продиктовал секретарю Гайсту текст в две страницы,
который начинался с гениальной характеристики поэтического импульса. «Всегда
действенный, продолжающий действовать во внутреннем и внешнем
поэтический импульс составляет центр и основу своего существования. Если его так
понимают, то разрешаются все остальные мнимые противоречия. Так как этот
импульс не знает покоя, то он, дабы бесследно не исчезнуть, не уничтожить
себя, должен обратиться ко внешнему; отсюда многие неправильные
тенденции: в отношении к изобразительному искусству, для которого у него нет
органа, в отношении к деятельной жизни, к чему у него нет гибкости, к наукам, к
которым у него недостаточно упорства. Поскольку он сам, однако, ведет себя в
отношении всех трех, их формируя, и должен проникать в реальность материала
и содержание, и в единство и уместность формы, то даже эти неверные
направления стремлений были отнюдь не неплодотворны снаружи и внутри»13. Эти
мысли многое объясняют в драме, особенно когда идет речь о «диспропорции»
таланта с жизнью, то есть отношения воображения к жизни, к практической
деятельности. Следует заметить, что даже аберрации фантазии Гете не считает
неплодотворными. В драме показано действие этого импульса, сознание поэта.
Фантазия руководит поэтом, причем руководит властно, лишая его гибкости в
реальной жизни, что, собственно, в глазах других выглядит как
помешательство. Но вот в чем дело: если оторвать содержание Тассова «безумия» от времени
и места, то окажется, что это вовсе не безумие, а действительные возможности
бытия. В драме мы видим поэта, который творит на наших глазах, и это
заставляет нас верить бессмертным стихам, которые он произносит в конце пьесы:
Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide.
13 Goethe J.W. Sämtliche Weite (Cottasche Jubileums — Ausgabe). Bd. XXV. S. 277—278.
270 3l
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
И если человек в страданьях нем,
Мне бог дает поведать, как я стражду. (5.314)
Внешнее событие приводит в действие поэтический импульс, и уже в
первом акте, в сцене увенчания, фантазия Тассо уносится далеко от Бельригуардо,
от феррарского двора. Она рисует нам картину, которую можно назвать «Приход
молодого поэта в Элизий». Риторический мотив, известный сюжет возникает
в сознании Тассо, и поэт трансформирует его в образы, для которых, если
выражаться современным языком, у Принцессы Леоноры и Альфонса есть код.
Принцесса говорит:
Я рада, что, беседуя с духами,
Так человечески ты говоришь. (5.224)
Вторая созданная поэтическим импульсом картина — это «Золотой век», о
котором Тассо говорит Принцессе. Она тоже создана в русле поэтической
риторики на манер «Аминты», завершающейся словами: «Все позволено, что мило»
(Erlaubt ist, was gefällt). Тассо говорил о свободе нравов, царивших в Золотом
веке. И здесь воображение Принцессы («Позволено лишь то, что подобает») нельзя
понимать как соблюдение условностей (Erlaubt ist, was sich ziemt). Из
дальнейших слов Принцессы становится ясно, как это показал Эмиль Штайгер, что речь
идет о дорогой Гете идее, что каждый поступок должен быть пронизан любовью
и нравственностью. В драме это отзвук благодарности Шарлотте фон Штайн,
отголосок из посвященного ей стихотворения:
Жар кипящей крови охлаждала,
Возвращала в бурю мне покой,
К новой жизни сердце возрождала,
Прикоснувшись ангельской рукой. (1.147)
Два других поэтических видения возникают в Тассо уже после ссоры с Анто-
нио, после символического ареста, когда арестованный охраняет сам себя.
Можно по-разному толковать столкновение Тассо с Антонио, бесспорным остается
только то, что оно неизбежно, и прежде всего из-за того, как относятся в
Ферраре к поэту. Очень просто здесь увидеть вспыльчивость, несдержанность
поэта, столкнувшегося с рассудочным, расчетливым человеком-практиком, который
чужд искусству, точнее, боится углубляться в чуждую ему страну фантазии. Это
все есть. Но если рассмотреть проблему глубже, то окажется, что обнаживший
шпагу Тассо защищает не свое личное достоинство оскорбленного поэта. Он
защищает законные права искусства быть большим, чем его видят в
цивилизованной Ферраре. Ведь в том, что герцогство стало государством — произведением
искусства, заслуга поэтов, того же Тассо. С этим необходимо считаться. Герцог,
неосторожно принявший сторону Антонио, все же оказывается деспотом, и
после этого восстановление гармонии в тепличном мире Феррары уже невозможно.
Особое значение на сцене творчество приобретает в конце драмы. Принцесса
напоминает Тассо, что его возвращение в Неаполь грозит ему опасностью, ведь
еще в силе приговор, запрещающий его отцу и ему пересекать границы коро-
///. Поэт и просвещенное общество. Драма И. В. Гете «Торквато Тассо» j£© 271
левства. Приезд в Сорренто может вызвать арест. Поэта возвращают к
реальности времени и места. Но сразу же начинает свою работу поэтическая фантазия,
схематизм воображения — уже есть план, как он проникнет в Сорренто.
Уж я об этом думал, ты права.
Но я переоденусь пилигримом
Иль буду в бедном платье пастуха.
Я проберусь чрез город, где движенье
Народных тысяч скроет одного. (5.303)
Пока это только ответ на возражения Принцессы, на ее предостережения,
и он лежит только в практической плоскости. Будь на его месте Антонио, он,
видимо, сделал бы то же самое и этим бы ограничился. Его ничего, кроме своей
безопасности, не интересовало бы. У Тассо все наоборот. Сказанное у него —
только схема воображения, только план. Но поэтический импульс уже начал
свою безостановочную деятельность. Возникает поток образов, сменяющих
друг друга. Воображение и рассудок направляются к охвату целого. Он найдет
«челнок с людьми», готовыми помочь, «добрыми людьми», и для него важно,
что они добрые. Это было бы важным и для Антонио, но он не стал бы
вторгаться в их жизнь, напрягая свое воображение, представляя себе, что это
крестьяне из Сорренто, что они ездили на рынок, а теперь возвращаются домой. Они
же земляки Тассо, который в своей фантазии далек от сада в Бельригуардо где
Тассо грезит. Поэт вышел за пределы своего внутреннего мира. Поэтический
импульс действует во внешнем, ему интересны люди сами по себе. Фантазия
становится точной. За пределами сада в Бельригуардо, исключенный из фер-
рарского общества Тассо становится частью мира, который живет независимой
от просвещенного общества и его стиля жизнью. Образы этого мира значат для
него больше, чем статисты.
Я буду плыть безмолвно,
Вступлю на берег, тихо я пойду
Родной тропой и у ворот спрошу:
«Где здесь живет Корнелия? Скажите!
Корнелия Серзале?» Благосклонно
Прядильщица мне улицу укажет
И дом ее. Я дальше поднимусь.
Вот выбегают дети, с изумленьем
На трепаного, мрачного пришельца
Они глядят. Вот у порога я.
Открыты двери, я вступаю в дом. (5.303)
Конечно, за этим должен была последовать сердечная встреча брата и
сестры. В этом потоке образов сам поэт стал объектом созерцания, на него смотрят
глаза других, точнее, сам поэт смотрит на себя чужими глазами. И в этом
сценарии мы находим мир возможностей Тассо-человека, находим мир, ему сочув-
272 SL
Л. Г. Лствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
ствующий, созданный фантазией. Мир фантазии настолько реален, настолько
нериторичен, что конкурирует с просвещенным обществом Феррары. Он широк
и красочен, разнообразен и динамичен в отличие от гармоничной статики фер-
рарского двора, в который только Тассо вносит жизнь. И хотя этот мир дан в
видении, он обладает такой силой реальности, что Принцесса Леонора
понимает, что Тассо может навсегда покинуть Феррару. Принцесса страшится отъезда
Тассо. Мы видим, что она прерывает поэта в тот момент, когда должно было
последовать описание сердечной встречи брата и сестры. Она понимает: сердце
поэта уже не с ней, и этот слишком сильный натиск реальности на ее сознание
вызывает страх остаться в одиночестве. В этом сочиненном фантазией бегстве
из Бельригуардо она видит только неразумность, даже неблагодарность Тассо
по отношению к Альфонсу и, конечно же, к себе.
Опомнись, Тассо! Что ты говоришь?
Пойми, в какую ты зашел опасность!
Щажу тебя, иначе бы сказала:
Ужель ты благородно говоришь?
Ужели благородно думать только
Лишь о себе и обижать друзей? (5.303)
Слова Принцессы возвращают поэта в Бельригуардо. Он чувствует в них
сострадание к себе, и опять начинается деятельность поэтического импульса.
Тассо просит Принцессу оставить его жить в каком-нибудь из герцогских
загородных замков, «что стоят пустыми». Там он будет заботиться о саде и дворце.
По осени он закутает лимоны тесинами и вязью тростниковой, будет лелеять
цветы, следить за тем, чтобы прекрасные картины не повредила сырость,
стряхивать щеткой пыль с украшений. Когда Тассо слышит полные сочувствия слова
Принцессы, слышит в них слова любви, фантазия исстрадавшегося поэта
сливается с неправильно понятой речью Принцессы, и Тассо заключает ее в объятия.
Принцесса с криком: «Прочь!» отталкивает его, а слова Альфонса: «Держите
крепче! Он сошел с ума» констатируют безумие. Увертюра к изоляции в Сан-
Онофрио сыграна. Царь в мире фантазии — безумец. Предметы и люди сами
по себе заявили о своих претензиях. Тассо попадает в пустоту и может обрести
себя, лишь вовлекая заново в свою фантазию ускользающий мир.
Однако что же представляет собой так называемое безумие, точнее,
помешательство Тассо, когда поэт сам разрушает основу своей жизни, видя вокруг себя
заговорщиков, завистников, в Принцессе — их сообщницу, в герцоге — тирана,
в Леоноре Сан-Витале — хитрую соблазнительницу? Это все та же фантазия.
Но такое же возможно, если общество не было бы просвещенным, и здесь
оптика поэтического импульса в отношении деятельной жизни: он оказался
негибким, он стал подобен шизофреническому дискурсу, оставив лишь чувство
отчаяния, бесконечную мелодию отчаяния, и показал трагическую экзистенцию
поэта. Он показал также, что только поэт способен говорить о страдании, когда
обыденный человек нем, только ему позволяет Аполлон быть голосом бытия, в
котором слиты разум и безумие.
IV,
Прекрасная свобода.
Проблема «искусство и культура»
в эстетике Ф. Шиллера
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера JÎE) 275
1. История и культура через призму критики
Эстетика и философия культуры Ф. Шиллера были непосредственным
продолжением его занятий историей. Как философ истории Шиллер
сформировался под воздействием идей Монтескье, Руссо, Гердера и Канта. Однако это
влияние не может скрыть от нас целого ряда оригинальных черт, которые отличают
шиллеровскую концепцию истории.
Если рассмотреть деятельность Ф. Шиллера как историка на более широком
фоне движения европейской исторической мысли, то окажется, что он
примыкает к той традиции гуманизма, которая впервые возникает в период
крушения ренессансного мировоззрения и на протяжении двух последующих веков
трансформируется в особую форму видения мира, отличающуюся крайне
острой восприимчивостью к противоречиям действительности, когда культура
описывается как кризис; в то же время такое видение истории заключает в себе
тенденцию к преодолению этого кризиса, и тогда на передний план
выдвигается идея единства человека и его культуры, осознание необходимости этого
единства как источника для дальнейших действий. Л. М. Баткин, анализируя
творчество Н. Макиавелли и Ф. Гвиччардини, показал, как ход истории
приводит к крушению антропоцентристскои картины мира и к распаду синкретизма
ренессансного мировоззрения.
Динамизм развития производительных сил, усиливающийся по мере
становления буржуазного общественного порядка, антагонизм разных социальных
групп, находящий выражение в удивительном конгломерате воззрений и идей,
созидательная деятельность человечества, создающая все новые и новые
формы культуры, несущие на себе следы исторических конфликтов, отражается в
сознании историка как наполненность времени неустойчивым, текучим
содержанием. Этот динамизм истории таил в себе серьезную опасность разрушения
идеала целостного человека. «Чувство полноты времени стало в XVI веке еще
острей, чем прежде. Но оно утратило гуманистическую и экзистенциальную
целостность, обрело теперь более узкие, по преимуществу технические рамки»1.
На закате Возрождения это было вызвано прежде всего выпадением из
концепции исторического обновления политики и нравственности и привело к тому,
«что оптимистический энтузиазм ограничился научно-технической сферой»2.
Философская мысль начинает четко дифференцировать то, что дает полноту
времени, это для XVII века будет главным образом сфера человеческой
активности, направленная на природу вне человека, и то, что составляет его
внутреннюю природу, политику и мораль.
Главные исторические произведения Ф. Шиллера— «История отпадания
Нидерландов от испанской короны» и «Тридцатилетняя война» — посвящены
1 Баткин Л. М. К проблеме историзма в итальянской культуре эпохи Возрождения // История
философии и вопросы культуры. М.: Наука, 1975. С. 187.
2 Там же. С. 189.
276 S^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
политической истории. Анализ исторических событий приводит Шиллера к
мысли, что непростительной ошибкой и упрощением является постулат об
изначальной разумности человека. Разум формируется в процессе исторической
жизни, и человеческий дух обнаруживает свою силу, мощь и хитрость еще до
того, когда мы можем говорить о разумности поведения человека, поэтому
естественное право и политика могут быть выведены только из исторического
бытия человеческого рода, ибо они создаются историей и всегда обусловлены ею.
Свобода человека теснейшим образом связана с культурой, но в то же время
свобода исторически конкретного, а не абстрактного человека не всегда
проявляется как разумная свобода, и тогда ее неразумность неизбежно становится
угрозой культуре. «Свободу и культуру, как ни тесно они связаны друг с другом
в наивысшей полноте — только благодаря такой связи и достигая этой
наивысшей полноты, — все же трудно связать в становлении. Покой — предпосылка
культуры, но ничто так не опасно для свободы, как покой» (5, 486)3. Все
развитые цивилизации древности сохраняли свои культурные завоевания за счет
отхода от свободы, «получив покой от угнетения». Но именно это и стало
причиной гибели всех прошлых культур, ибо они возникали из источника, который
по своей сути не может быть импульсом активного развития культуры и в
конечном итоге, подавляя свободу, уничтожает динамику культуры. Путь деспотизма
как условие сохранения культуры невозможен для человека Нового времени.
Свобода и культура в человеке должны гармонически сочетаться, что возможно
только на пути, отличном от деспотизма, на пути установления законов, которые
свободный человек должен давать себе сам. Однако историческое состояние
человечества делает проблему подчинения людей закону, основанному на свободе,
крайне сложной. Вышколенный деспотизмом человек не несет в себе задатков
такой свободы, он лишен способности понять ее принципы. Без них же свобода
грозит перейти в анархию, которая неизбежно оказывается деспотизмом. И
прежде чем разум найдет законы, анархия превратится в деспотизм и насилие.
События Великой французской революции еще больше утвердили Шиллера в этом
мнении. Отношение Шиллера к революции, которое выразилось в решительном
неприятии и осуждении якобинского террора, было очень сложным, поскольку
революция представлялась ему необходимым следствием в цепи всех
предыдущих явлений исторического процесса, показывающим, что человечество еще
очень далеко от того состояния, которое позволит ему установить принципы
разумной свободы4. Кровавые события во Франции, необъяснимая с точки
зрения здравого смысла и человечности жестокость террора стали для Шиллера
страшным несоответствием деятельности якобинцев и принципов социальной
3 Здесь и далее произведения Фридриха Шиллера цитируются по изданию: Шиллер Ф. Собр. соч.
в 7 т., М., 1955—1957. В скобках первая цифра — том, вторая — номер страницы.
4 Вопросу об отношении Шиллера к Великой французской революции посвящена огромная
литература, что делает невозможным подробный анализ многочисленных работ на эту тему. Наиболее
интересный и глубокий анализ причин, вызвавших решительное неприятие Шиллером революционных,
ставших террористическими, методов переустройства общества в отечественной литературе дается
В. Ф. Асмусом (Асмус В. Ф. Иммануил Кант. М.: Наука, 1973. С. 140—182. См. также Tahlheim K.-G.
Schiller Stelling zur Französischen Revolution und zum Revolutionsproblem // Tahlheim K.-G. Literatur der
Goethezeit. Berlin, 1969. S. 118-145; Wiese B. von. Schiller. Stuttgart, 1959. S. 446-^76.)
IV. Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера J£b 1ΠΊ
справедливости и морали, провозглашенных ими, «вреднейшим
злоупотреблением идеалом совершенства» (6, 294).
Большое место в «Письмах об эстетическом воспитании человека»,
главного философского труда Шиллера, который станет предметом нашего анализа,
занимает описание состояния европейской культуры конца XVIII века, причем
характеристика революционной эпохи давалась Шиллером как бы по свежим
следам.
Шиллер воспринял революцию как глубокий кризис современной ему
культуры. В письмах герцогу Фридриху Христиану Августенбургскому он
красочным языком, проникнутым удивительной эмоциональной напряженностью,
описывает болезни своего времени. Культура, согласно Шиллеру, разорвана
непримиримыми противоречиями, поляризована взаимоисключающими
тенденциями. Это, с одной стороны, вера в рассудок, с другой — полное господство
чувственности и власти потребностей над умами людей. Идеи разума остаются
абстрактными идеалами, ибо не находят никакого реального содержания.
Главная причина болезни времени, однако, — не в области интеллекта, а в
человеческой воле, она состоит в недостатке мужества, истины, в неспособности
воспринять и претворить в жизнь результаты теоретической культуры, идей
разума5.
Драму современной ему эпохи Шиллер видит как в одичании, в которое
впадают низшие классы общества, выражающемся в проявлении грубых и
беззаконных инстинктов, освобожденных ослаблением «основ гражданского
порядка, бросающих человека в "царство стихийных сил"», так и в расслаблении,
охватившем цивилизованные классы, что, по его мнению, является еще более
отвратительным зрелищем «расслабления и порчи характера», ибо
«источником их становится сама культура». «Просвещение рассудка, которым не без
основания хвалятся высшие сословия, в общем мало облагораживает помыслы,
что скорее оправдывает развращенность своими учениями. «Мы отрекаемся от
природы в ее законном поле действия, дабы испытать ее тиранию в
нравственном, и, противодействуя ее влиянию, мы заимствуем в то же время у нее наши
принципы». «Эгоизм построил свою систему в лоне самой утонченной
общительности, и, не приобретя общительного сердца, мы испытываем все болезни и
невзгоды общества (6, 262).
Было бы явным упрощением считать, что всю вину за кризис культуры
Шиллер возлагает на агрессивные, разбуженные активностью инстинктов силы
обездоленных масс, анархия которых противостоит нормам культуры
цивилизованных классов общества. Предпосылкой анархии витальных сил, уничтожающих
культуру, является не только социальная психология людей, лишенных доступа
к культуре, не понимающих смысла и значимости для человечества
культурных ценностей, но и сам тип носителя культуры, представителя тех социальных
групп, на которые возложена задача сохранения и распространения
цивилизации. Эгоизм высших классов, их равнодушие к судьбе культуры, что для
Шиллера идентично равнодушию к человеку вообще, создает такие формы социальной
коммуникации, в которых проявляется противоестественное отчуждение субъ-
5 Schiller F. Briefe in 6 Bänden. Bd. 3. Stuttgart, 1906. С 370.
278 Si-
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
ектов друг от друга. «Если культура вырождается, — пишет Шиллер, — то она
переходит в более злую порчу, чем когда-либо знало варварство» (3, 370).
Задолго до Шиллера подобные мысли высказывал Дж. Вико. Состояние
«гражданской болезни» у Вико, как и у Шиллера, обнаруживает в себе две
тенденции. С одной стороны, это эгоизм, своекорыстие, когда думают лишь о
«личной пользе каждого в отдельности» и тем самым впадают в «последнюю степень
утонченности или, лучше сказать, спеси, при которой они, подобно зверям,
приходят в ярость из-за одного волоса, возмущаются и звереют». С другой стороны,
возмущение народа этим эгоизмом приводит к разрыву устойчивых
социальных связей, и тогда цивилизация находится под угрозой уничтожения. Анархия,
неукротимая страсть к разрушению отчужденной культуры идет рука об руку
с абстрактными постулатами, «варварством рефлексии», более того, анархия в
конечном итоге руководима подлыми ухищрениями коварных умов»6.
Согласно Вико, кризис культуры и борьба внутри общества, результат
провидения, означают завершение исторического цикла, который проходит
культура каждого народа; после торжества нового варварства оставшаяся на земле
небольшая часть народа начинает новый исторический цикл7.
В стихотворении Ф. Шиллера «Прогулка» мы находим похожее
изображение человеческой истории: юность культуры, достижение ею своего максимума
и, наконец, упадок, торжество раздора и возрожденное варварство. Но если у
Дж. Вико каждый новый цикл круговорота культуры начинается с возвращения
к природе, к простоте нравов, к справедливости, благодати и красоте вечного
порядка от Бога, то у Шиллера цивилизация возможна лишь в истории, которой
движет природа; полный цикл дает только античность. История Нового
времени не пройдет круговорот, природа не в состоянии восстановить в своих правах
то, что уничтожил разум в его извращенном применении. Следовательно, пред
разумом встает задача руководить движением исторической жизни8.
Идя от истории рода к субъекту, Шиллер делает вывод, что находящаяся в
кризисном состоянии культура деформирует человека; она формирует его как
страдающее существо, которое сжимают все новые и новые детерминации. Она
заглушает в нем стремление к совершенствованию, ставя его посредине между
суеверием и моральным неверием (6, 263).
Критика культуры становится у Ф. Шиллера особенно резкой тогда, когда он
говорит о воздействии культуры на отдельного индивида. Современная
культура — это культура разобщенных сил. Она — продукт деятельности
человеческого рода, в которой произошло разделение труда, охватившее целые социальные
группы. В людях развивается только «часть их способностей, а другие
способности, словно в захиревших растениях, можно найти лишь в виде слабого
намека» (6, 264). Движение культуры невозможно без разделения труда, ибо оно
6 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. Л.: ГИХЛ, 1940. С. 469.
7 Там же. С. 470.
8 В прекрасной работе Ф. Мейнеке, касающейся этой проблематики, акцент делается на полное
сближение взглядов Вико и Шиллера на историю и это различие игнорируется см. Meinecke F. Schillers
«Spaziergang» // Deutsche Lyrik von Weckherlin bis Benn. Interpretationen hrsg. von J. Schillemeit,
Frankfurt am Main und Hamburg, 1965. S. 106—107.
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера J£z> 279
есть следствие расширения опыта человека и усложнения его теоретической
и практической деятельности, и без него немыслим никакой прогресс. Однако
прогрессивное развитие культуры было куплено дорогой ценой, так как из-за
разделения труда «порвался внутренний союз человеческой природы, и
пагубный раздор раздвоил ее гармонические силы» (6, 265). Разделение труда
обедняет личность, выделяя из ансамбля сущностных сил человека отдельный голос,
заставляя в то же время замолчать другие голоса; этот голос оно совершенствует
и включает его в полифонию огромного мира таких же отдельных сил,
создающих целостность культуры. Сама по себе целостность культуры человеческого
рода гораздо богаче, чем все возможности индивида. «Не было другого средства
к развитию разнообразнейших способностей человека, кроме их
противопоставления» (6,268). Но выгоду от разделения труда получает только род, индивид
же не может реализовать всех своих возможностей. Внутри общества возникает
антагонизм сил, культура движима его динамикой, он становится «великим
орудием» культуры. Состояние органической связи индивида и рода, изоморфное
тотальности человеческого характера, гармонии между потребностями,
моралью и практической деятельностью субъекта, имевшее место в античном мире,
превратилось в культуре Нового времени в механическое соединение, конгло-
меративное единство, составленное из одномерных людей, духовное развитие
которых шло под знаком все большего разрушения целостности личности,
однобокого совершенствования в каждом конкретном случае какой-то одной из
способностей человека, изолированной от остальных его сущностных сил,
обреченных вследствие этого на неизбежную гибель. Подчиненный разделению и
специализации труда человек становится функцией, зависимым объектом
профессиональных навыков выполняемого им труда, целиком определяющего его
бытие.
Аффирмативный характер буржуазной культуры проявляется, согласно
Шиллеру, не только в том, что она себя не может понимать иначе как культуру
разделенного, специализированного труда и утверждает его как единственно
возможную форму существования человеческого рода, но главным образом в том, что
институциональная организация общества, гарантирующая функционирование
такой культуры, то есть государство, санкционирует и контролирует
разделение труда, отождествляет его с интенциями и сущностью самой культуры, ибо
даже «скудное, отрывочное участие отдельных частей» человеческой личности
«в целом (культуры. — А. А.) не зависит от форм, которые они создают сами,
<...> а предписывается им с мелочной строгостью формуляром, связывающим
их свободное разумение» (6, 266). Своим формальным отношением к личности
государство только усиливает процесс отчуждения. Оно рассматривает человека
только как элемент, выполняющий предписанную ему ролевую функцию в
системе, основанной на механической связи индивидов. Выход за пределы роли для
него есть нарушение раз и навсегда определенных регламентации. Государство
зорко следит за тем, чтобы духовные возможности субъекта точно
соответствовали его должности, месту, занимаемому субъектом в обществе.
Если по Канту напряженное состояние между человеком и культурой
окончательно снять невозможно, и лишь культура воспитания как-то его сглаживает, а
280 Sîl
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФМАОСОФМЯ. ИГРА
гражданское общество гарантирует человечеству относительно спокойный
процесс реализации его возможностей, то Шиллер ищет иное решение проблемы.
Культура должна обращаться к человеку не как к существу, от которого требуется
развитие одной из его способностей, а как к целостности. Государство, считает
Шиллер, никогда не сможет восстановить целостность человеческой природы,
ибо из-за своей надиндивидуальной сущности оно защищает интересы рода, с
полным безразличием относясь к индивиду; государство само способствовало
разделению труда, ибо оно изоморфно природе одномерного человека и,
следовательно, уже, чем подлинная человеческая природа. Шиллер думает, что в
современных ему условиях попытка создания государства разума не приведет к
успеху, ибо за это дело берется несовершенный человек; в образе государства он
творит лишь свое подобие. Превращенный в винтик огромной, организованной
государством машины, ставший одной из ее функций человек не может оказать
никакого влияния на государство. Он спокойно мирится с его законами, с
уничтожением его конкретной жизни для того, чтобы «абстракция целого могла
продолжать свое скудное существование»9. Поэтому государство «остается вечно
чуждым своим гражданам» (6,267). Неудивительно, что человек отворачивается
от государства, пытается замкнуться в сфере внутренней жизни, куда нет
доступа государству, стремясь сохранить для себя то, чему государство угрожает, а
именно — индивидуальность и целостность.
Современной, разорванной антагонизмом культуре противопоставляется у
Шиллера культура античная. Именно в ней он находит целостного человека.
Античность — это время пробуждения духовных сил человечества, время
гармонии всех способностей души, когда разум и чувственность не находились
в состоянии борьбы. Греческое искусство, как зеркало души и культуры,
запечатлело в прекрасных статуях богов единство божественного и человеческого,
ибо Бог здесь был образом человека. В индивиде концентрировалась вся
целостность человеческого рода в противоположность Новому времени, где мы можем
получить представление о культуре лишь на основании всей суммы индивидов.
Шиллер ищет основание тому, почему античного человека мы можем считать
воплощением всей полноты духа времени и почему человек конца XVIII
столетия никак не может притязать на эту роль: «потому что тем придавала формы
всеобъединяющая природа, а этим — всеразъединяющий рассудок» (6, 265).
Однако ход истории вырвал человечество из прекрасной Аркадии, так как
объединяющая разум и чувственность природа не могла удержать духовные
силы человека в поставленных ею для них границах. Греческий мир был для
Шиллера прежде всего важнейшим моментом на пути развития духа к
полноте, и античность важна в первую очередь потому, что для всех последующих
эпох она предложила модель целостности природы и культуры, и обязывающим
9 Эта критика государства перекликается с мыслями В. Гумбольдта, высказанными им в работе
«Идеи к опыту, определяющему границы деятельности государства», которая была частично
опубликована в 1792 году в шиллеровском журнале «Талия», особенно в тех местах, где Гумбольдт говорит о
превращении государства и его бюрократического аппарата в бездушную машину и «в результате
этого деятельность людей становится почти механической, а люди превращаются в машины; подлинное
умение и добропорядочность исчезают вместе с исчезновением доверия» (Гумбольдт В. фон. Язык и
философия культуры. М: Прогресс, 1985. С. 46.).
IV. Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера JiS> 281
моментом здесь является, как указывал Вальтер Рэм, «не содержание, не тип
тотальности, а только факт ее возможности»10. Нетрудно заметить, что в этих
рассуждениях Шиллера речь меньше всего идет об антикизирующей, мифо-
риторической традиции новоевропейского искусства, хотя последняя как язык
поэзии в трансформированном виде еще оставалась в качестве определенных
константных формул. Шиллеровская картина античной жизни, гармоничной
юности человечества, меньше всего пригодна для стилизации жизни по
античным образцам, мы видим здесь поиск живого образа, той модели человека,
которая неизбежно антитетически возникает, когда описывается кризисное
состояние культуры. Антитезой разорванности духовных сил человека, одномерности
его бытия может быть только идея гармонии, и ей подыскивается эмпирический
коррелят, имеющий основу, в которой можно искать гармонию, и, естественно,
таковой становится природа, потому что только она в своих вечных циклах, в
своем величии противостоит разрушительной динамике культуры,
противостоит в образах олимпийских богов, в гармонии античной пластики. Мир
художественного музея одухотворяется и предстает в сознании мыслителя как модель для
самосознания культуры Нового времени, с помощью которой культура как бы
анализирует самое себя, вступая в диалог с иной культурой, а фактически сама
с собой. И хотя античность у Шиллера строго отнесена уже к прошлому, стала
безвозвратно ушедшим царством красоты, мы можем себя соотнести с ней и тем
самым обрести новые ориентиры для исторического движения, и возможно это
потому, что, куда бы ни заводил человека дух изменения, природа перед его
глазами в своих вечных циклах остается неизменной, Шиллер сказал бы
«пребывающей», неизменной объективной данностью, а она и есть основа античного
мира. И тогда и нам тоже «улыбается солнце Гомера». Как правильно указывает
А. В. Михайлов, «в течение 90-х годов как бы в скоростном порядке развивается
начатая Шиллером, развитая романтиками разветвленная и противоречивая сеть
типологических противопоставлений, движущаяся именно к тому, чтобы
определить место настоящего культурного момента в историческом процессе, — это
процесс самоопределения культуры на новых своих началах, вне
подчиненности преподанному на все времена правилу и совершенству»11.
Но такое самоопределение — необходимо добавить применительно к
Шиллеру — невозможно представить себе без определения цели всего
культурного развития; цель же зависит прежде всего от самого субъекта. Поэтому пока
«не будет уничтожено разделение внутри человека и развитие его природы не
сделается достаточным для того, чтобы самой природе стать художником и тем
гарантировать реальность политическому устройству разума», любая попытка
изменить социальное устройство не принесет никакого результата и еще в
большей степени будет способствовать анархии и насилию (6, 271). Не социальные
институты хочет изменить Шиллер, а человека как субъект культуры. Таким был
его ответ на негативный опыт Французской революции. Чем больше человечест-
10 Rehm W. Griechentum und Goethezeit. Geschichte eines Glaubens. Leipzig, 1938. S. 219.
11 Михайлов A.B. Идеал античности и изменчивость культуры. Рубеж XVIII—XIX вв. // Быт и
история в античности. М.: Наука, 1988. С. 221—222. См. также Михайлов A.B. Античность как идеал и
культурная реальность XVIII—XIX вв. // Античность как тип культуры. М.: Наука, 1988. С. 316—321.
282 S^
А. Г. Аствсщатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
во в процессе своего исторического развития удаляется от принципов свободы,
нравственности, чем более оно попадает под власть враждебных его природе
сил, чем сильнее культура разрывается их антагонизмом, обрекая человека на
частичное существование, тем пристальнее вглядывается Шиллер в искусство,
тем актуальнее становится для него поиск той сферы, в которой могла бы
объективироваться свобода человека, сфера красоты, нравственности и достоинства,
ибо лишь найдя ее, можно думать о восстановлении разрушенного единства
духовных сил человека.
Финал 10-го письма обозначил резкий поворот Шиллера от исторического
рассмотрения развития культуры к анализу самого субъекта культурной
деятельности. Скрытый в историческом описании под покровом фактичности
трансцендентальный метод в последующих письмах самым непосредственным образом
обнаруживает себя в анализе, и здесь особенно проявляется дух системности,
присущей всем размышлениям Шиллера. На этом пути Шиллер неизбежно
приходит к проблеме, волновавшей всю послекантовскую философию, — проблеме
преодоления дуализма кантовской модели человека, что, в свою очередь, вело к
новому пониманию феноменов культуры и искусства. Надо сказать, что
онтологическая и гносеологическая проблематика послекантовской философии
органично связана с культурологической. Это достаточно хорошо ощущал Шиллер,
когда использовал инструментарий трансцендентальной философии, конечно,
следуя ее духу, а не букве, и если категориальный аппарат Шиллера имеет много
общего с философскими понятиями К. И. Рейнгольда и И. Г. Фихте, то
трансцендентально-антропологический подход к природе человеческой деятельности
и культуре определил особое место Шиллера в истории философской мысли.
2. Трансцендентальная дедукция культуры
Идея целостности человека, тотальности «всех способностей его души» и
вместе с ней требования к человеческой деятельности и культуре выводятся
Шиллером из понятия красоты, «чистого разумного понятия красоты». Опыт
не может быть источником этого понятия, и лишь встав на путь абстракции,
«отвлечения», мы можем его вывести из «чувственно-разумной природы
человека», и тогда красота обнаружит себя «как необходимое условие человечества»
(6, 283). Дальнейший ход мысли Шиллера показывает, что единственно
пригодным для этой цели методом остается трансцендентальный метод12. «Мы <...>
должны подняться к чистому понятию человечности, и так как опыт указывает
12 Проблема трансцендентального метода в эстетике Шиллера подробно исследуется, прежде
всего, в работах М. Тилькес, В. Янке, Х.-Г. Потта (см. Tahlhein K.-G. Schillers Stellung zur Französischen
Revolution und zum Revolutionsproblem // Tahlheim H.-G. Literatur der Goethezeit. Berlin, 1969; Janke
W. Die Zeit in der Zeit aufheben. Der transzendentale Weg in Schillers Philosophie der Schönheit // Kant-
Studien. 1967. Bd. 58, H.3; Pott H.-G. Die schöne Freiheit: Eine Interpretation zu Schillers Schrift «Über
ästhetische Erziehung des Menschen». München, 1980.). Для указанных нами работ характерна тенденция
показать своеобразие и самостоятельность философской мысли Шиллера в истории послекантовской
философии.
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера JΩ 283
нам лишь на единичные состояния единичных людей и никогда не показывает
человечества, то нам приходится открыть безусловное, пребывающее в этих
индивидуальных и преходящих проявлениях, и овладеть необходимыми
условиями его бытия, отбросив все случайные ограничения (6, 283).
Философская мысль Шиллера развивается в русле трансцендентального
идеализма, и критическая философия Канта здесь главная точка отсчета.
Своеобразие философского дискурса Шиллера заключается в том, что понятия
критической философии всегда рассматриваются им через призму искусства; эти понятия
получают у него живой образ, жизненную динамику, и сделать такое оживление
понятий мог только поэт. Шиллер не отказался от аналитизма, свойственного
трансцендентальному идеализму, но этот аналитизм не выглядел у него
изолированно от исходной трансцендентальной идеи, идеи целостности, без которой
не может существовать художественное творчество. Для художника принцип
целостности не абстрактное понятие; в каждом произведении он получает свое
воплощение. Для поэта-классика, каковым был Шиллер, этот принцип
является решающим. Эрнст Кассирер точно определил особую форму шиллеровского
философского мышления как стремление поэта к созданию философско-худо-
жественного мировоззрения. «Абстракции и установление границ мышления
могут быть сохранены, аналитические противоположности усилены и резче
выражены, но одновременно в основе всей этой аналитической деятельности
лежал новый мыслительный и художественный синтез. Тем самым Шиллер
создал новый тип и установил новый образец в самом развитии философского
мышления. Для себя он искал и нашел в своих философских работах прежде
всего совершенно личностное, индивидуально обусловленное и индивидуально
ограниченное усвоение основных мыслей Канта. Однако в том и состоит
преимущество гения, что даже там, где он как будто чисто рецептивен, он остается
продуктивным и творческим»13.
Если в критической философии Канта трансцендентальная аналитика лежит
в основе построения системы и единство трансцендентальной апперцепции —
условие всех возможных восприятий, а для Фихте противоположность между
конечным и бесконечным преодолевается практическим действием и этика это
действие обуславливает, то Шиллер к проблемам бытия и человека, познания и
деятельности при сохранении инструментария трансцендентального идеализма
подходит как художник-драматург. «Для Шиллера же императивы его сущности
сливаются с созерцанием жизни, созерцанием крупных личностных и всемирно
исторических конфликтов и превращаются в объективно драматические
образы, в которых непосредственно выражается и высказывается весь субъективный
этос их творца. В шиллеровской теории эстетики этот процесс преображен в
виде прочно связанных понятий»14.
Трансцендентальный характер философского мышления Шиллера
проявляет себя в чистом понятии человечности, в априорном понятии, которое будет
определять его аналитический метод. Однако трансцендентальная аналитика в
конечном итоге, по мысли поэта, должна привести к необходимому синтезу, и
13 Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 324.
14 Кассирер Э. Указ. соч. С. 341—342.
284 Зь
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
этот синтез может осуществить только разум, найдя ту форму, где возможно
воплощение чистой идеи человечности.
Если мы полагаем человека чувственно-разумным существом, то путь
абстракции, по мнению Шиллера, приводит к тому, что в душевной организации
человека есть нечто, что постоянно в ней пребывает, и нечто, что непрерывно
изменяется. Пребывающее Шиллер называет личностью, изменяющееся —
состоянием. Личность есть сфера неизменной, константной сущности человека,
состояние — текучесть, изменчивость его бытия. Шиллеру важно избежать
искушения свести одно начало к другому. Идя по пути редукции, мы превратили
бы личность в нечто изменчивое и потеряли бы собственное Я, имманентно
присущее нам, состояние стало бы вечным, устойчивым, субъект — бесконечным.
Личность может найти свое обоснование только в самой себе, поскольку
пребывающее «не может проистекать из изменения» (6, 284). Следовательно,
личность есть основанное на себе самом бытие, неизменяющийся духовный
субстрат, который всегда остается самим собой и находит свое выражение в
свободе субъекта, в свободном существовании человечества как разумного рода.
Это есть не что иное, как способность человека к самоопределению. Личность
находится вне детерминаций; свобода имманентна ей; без нее нет человека.
Личность не только возвышается над всеми детерминациями, но и существует вне
времени, и этот ее вневременной, сверхчувственный характер, ее безусловность
могут быть обнаружены лишь в спонтанности человеческого духа.
Состояние, напротив, должно иметь основание, оно не «заключено в
личности» и «поэтому не абсолютно». Отдельный момент состояния не может
начаться, не будучи обусловлен чем-то иным; он должен быть результатом действия
отличной от него причины. Поэтому становление в отличие от личности, от ее
в себе и для себя бытия представляет собой зависимое, обусловленное бытие, а
его условие есть время.
Итак, Шиллер определяет две безусловные (необусловленные) абсолютные
величины: абсолютное, имеющее основание лишь в самом себе бытие, свободу
и время как условие обусловленного (обусловленного самим собой) не-«Я»-бы-
тия-состояния, зависимого бытия, или становления. Независимая форма не-«Я»
обнаруживает себя в категории времени. Так как время тождественно
состоянию15, то вторая безусловная величина оказывается обусловленной в самой себе
(ведь становление — зависимое бытие). Можно полностью согласиться с точкой
зрения Янке, что у Шиллера четко обозначается мысль о «взаимном
ограничении обоих царств, царства свободы и царства времени», ограничении их сфер,
принимающем форму закона16.
Осуществление свободы должно происходить, следовательно, в чем-то ином,
в не-«Я»: «Материю действия или реальности, которую высший интеллект
черпает из самого себя, человек должен получить, и получает он ее путем
восприятия как нечто изменяющееся в нем во времени» (6, 285).
15 «Время есть условие всякого становления» — это тавтология, ибо этим положением не сказано
ничего иного, как только, что смена есть условие всякого чередования» (6, 284).
16 Janke W. Die Zeit in der Zeit aufrieben. Der transzendentale Weg in Schillers Philosophie der
Schönheit // Kant-Studien. 1967. Bd. 58, H. 3. S. 434.
IV. Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера jé2> 285
Реальность и материя — предпосылки для свободной деятельности вообще
и «одновременно искомая предметность самого человека, которой он
противостоит не только абстрактно (via negationis: «Я»)17. Тем самым речь идет о
введении материальности (или реальности), зависящей от свободы абсолютного
полагания, но без которой было бы невозможно самоопределение «Я», так как
«Я» не обладает способностью актуализации исключительно из себя. Мы
видим, как преодолевается граница между мирами природы и свободы,
проведенная Кантом. Свобода (у Канта это свобода только интеллигибельного «Я»)
ограничивается не только объективированным опытом чувственного многообразия,
синтезированного с помощью роли созерцания и понятий, и не только одним
практическим «как если бы» свободы морального разума. Однако оба
отмеченных нами момента еще не столь явственно показывают преодоление разрыва
между «вещью в себе» и «вещью для себя», и речь идет не о том, что «вещь в
себе» безостаточно поглощена «вещью для себя». В «Наукоучении» Фихте кан-
товский дуализм преодолевается лишь в «конструкции всего отношения
опредмечивающей деятельности человека», то есть отношения «делимого-Я» (так у
Фихте называется конечный субъект) к сфере не-«Я»18.
Таким образом, лишь в процессе деятельности, в процессе опредмечивания
возможно сближение указанных выше сфер, сближение, выступающее у
Шиллера как тенденция, которая, будучи важнейшим отличительным признаком
божества, имеет своей бесконечной задачей безусловное провозглашение полноты
бытия (действительно всего возможного) и безусловное единство являющегося
(необходимость всего действительного) (6, 286). У Шиллера, как совершенно
справедливо указывает Х.-Г. Потт, идея совершенства человеческого бытия
означает также и идею единства теоретического и практического разума19.
Следовательно, для культуры явственно обозначаются ориентиры, которые по сути
дела существуют в ней самой и могут быть воплощены в деятельности человека
в границах царства времени.
Если для Фихте феномен времени при характеристике деятельности
субъекта не играет роли, ибо сфера объекта, то есть не-«Я», целиком зависит от
«Я», — природа у него не может быть самостоятельным началом, а
«деятельность «Я» — вот единственная реальность, она составляет начало и конец
мирового процесса»20, — то для Шиллера время есть не что иное, как границы
человеческих возможностей, то есть возникающая перед человеком
объективность. Шиллер соединяет кантовское понимание природы времени с
философской и поэтической традицией, связывающей с образом быстротечного времени
бренность и конечность человека. В поэтических и философских
произведениях Шиллера мы часто встречаем теогонические метафоры, символы времени:
«царство Сатурна, коса Сатурна». Однако не в приверженности к мифологи-
17 Pott H.-G. Die schöne Freiheit: Eine Interpretation zu Schillers Schrift «Über ästhetische Erziehung
des Menschen». München, 1980. S. 31.
18 Гайденко П. П. Философия Фихте и современность. М.: Мысль, 1979. С. 50—51, 90—94.
19 Pott H.-G. Die schöne Freiheit: Eine Interpretation zu Schillers Schrift «Über ästhetische Erziehung
des Menschen». München, 1980. S. 32.
20 Гайденко П. П. Философия Фихте и современность. М.: Мысль, 1979. С. 97.
286 SL
A. L Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФМЯ. ИГРА
ческой традиции кроется особый интерес Шиллера к проблематике времени.
Острое переживание поэтом событий Французской революции, ставшей
закономерным, по его мнению, выражением кризиса культуры, заставило его искать
трансцендентальное обоснование антропологическим предпосылкам,
сделавшим возможным то состояние общества и индивида, в котором находился
человек конца XVIII века. Именно время, по Шиллеру, образует границу
воспринимаемой человеком реальности. Человек как чувственно-разумное существо
всегда во власти времени.
Время имеет свое происхождение в личности, «ибо в основе
изменяющегося должно находиться нечто пребывающее» (6, 285). Само изменение, согласно
Шиллеру, нуждается в онтологическом обосновании. Изменению необходимо
быть, следовательно, необходимо бытие идеи изменения. Время — форма
существования человека, и хотя чистая духовность в человеке есть вечный,
неизменяющийся субстрат, то последовательность состояний, всякое определенное
бытие может возникнуть только во времени, ибо человек как феномен должен
иметь начало. Вне становления он не стал бы определенным существом, «его
личность существовала бы только в предрасположении, а не в
действительности» (6, 285). В отличие от вечного абсолютного творца всего существующего
человек — конечное существо, существование которого обусловлено
возникновением и временем его жизни.
Если абсолютный субъект сам порождает реальность, то человек
получает материю для своей деятельности путем восприятия, реальность вне его,
она ему задана «как нечто находящееся вне его в пространстве и как нечто
изменяющееся в нем во времени» (6, 285). Отсюда следует, что человеческое
познание начинается с ощущения, но в то же время человек не становится
простым отражением реальности, ибо «его вечно неизменное "Я"
сопровождает это изменяющееся в нем содержание, и предписание, ему данное разумной
его природой, состоит в том, чтобы постоянно оставаться самим собой,
несмотря на все изменения, чтобы восприятие превратить в опыт, то есть привести к
единству познания, чтобы сделать каждый из способов проявления во
времени законом для всех времен» (6, 285). Человек, однако, становится человеком
только тогда, когда его самосознание начинает четко дифференцировать то, что
не поддается никакому изменению, вечно, нетленно — свободу, и то, что
постоянно изменяется и становится объектом его чувств. Разумность человека, его
способность благодаря личности быть тождественным самому себе. Шиллер
считает задатком божественности, выражением которого является стремление
к полноте бытия.
Историческое движение человечества, смена одних форм культуры другими
понимается Шиллером как превращение человека из продукта природных
детерминаций в творческого субъекта. Замкнутый в цепь природной необходимости
человек по существу еще не является человеком. «Природа поступает» с ним «не
лучше, чем с другими своими созданиями; она действует за него там, где он еще
не в состоянии действовать как свободный интеллект». Человек — лишь тогда
человек, когда его деятельность становится осуществлением транцендентальных
предпосылок его разумного бытия, связью этих предпосылок, трансформацией
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера j£5 287
того, что дает ему природа, в нечто иное, которое он как бы формирует из
самого тела природы, из реальности, данной ему в представлениях, но он не слепо
подражает природной необходимости, а находит в себе те силы, те возможности,
каких нет у остальных созданий природы. В этой деятельности «он не остается
человеком, сделанным природой, а способен в обратном порядке проделать те
шаги, которые предвосхитила, ведя его, природа; он может пересоздать дело
необходимости в дело свободного выбора и возвысить физическую необходимость
в моральную» (6,255). Человек возвращает природе в преобразованном виде все,
что она дает ему для осуществления его свободных целей.
Способность человека действовать из своих внутренних определений,
способность к свободному самоопределению дефинируется Шиллером как
способность человеческого разума создавать формы21. Однако способность
создавать формы может превратиться из возможности в действительность только в
процессе соединения материи ощущений с духом. Пока человек только
ощущает, он лишь отражение мира, бесформенное содержание времени. Хотя
чувственная природа и активизирует духовные силы субъекта, однако только
личность способна трансформировать чувственный материал согласно принципам
свободы.
Перед человеком, согласно Шиллеру, стоит двойная задача. Он «должен
придать материи форму, чтобы не быть только миром, для того чтобы не быть только
формой, он должен придать предрасположению, находящемуся в нем,
действительность» (6, 286). Мы видим, что отношение личности и состояния придает
философии Шиллера особый характер. Признание существующей вне субъекта
реальности отличает ее от субъективного идеализма Фихте. Необходимо
заметить, что это отношение не идентично фихтевскому противопоставлению «Я» и
не-«Я». Состояние, по Шиллеру, не есть не-«Я», полагаемое с необходимостью
«Я» в самом себе; состояние не есть созданный деятельностью субъекта и ему
противопоставленный объект. Оно представляет собой вторую ипостась
человека, которая в противоположность личности и заложенным в принципах свободы
определениях является детерминирующимся моментом человеческой
сущности; оно — имманентный человеку принцип детерминированности22. Отношение
«личность — состояние» не идентично оппозиции «разум — не-разум»,
лишенная разума природа. Состояние нельзя считать полным отсутствием в человеке
личности, разума. Личность и состояние — равноправные моменты его бытия,
они имеют одинаковое происхождение23.
Свободная деятельность человека невозможна без воздействий на него
реальности, ибо лишь в процессе преодоления этих детерминаций, оформления
материи ощущений человек приходит к самосознанию и дифференцирует себя
как свободное существо от окружающей его действительности, видит в себе то,
что делает его способным давать самому себе из своей внутренней сущности
21 Оскар Вальцель справедливо указывает на то, что в понятии формы немецких классиков,
Шиллера и Гете, прежде всего интересует не внешняя сторона, а внутренние предпосылки создания формы
(см. Walzel О. Vom Geistesleben alterund neuer Zeit. Leipzig, 1922. S. 1—2).
22 Tahlheim K.-G. Op. cit.. S. 66.
23 Ibid. S. 66.
288 S^
А. Г. Аствсщатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ ИГРА
законы и то, что его детерминирует. Самосознание не редуцируется
исключительно к разуму или же чувственности; оно создается ими обоими.
Трансформация чувственного материала в форму есть создание личностью
времени, ибо человек противопоставляет константному, вечному единству
своего «Я» изменяющееся многообразие мира, противополагает пребывающему
изменение, сталкивает вечное и преходящее.
Сам факт превращения материи ощущений в форму есть также и снятие
времени, подчинение человеком многообразия мира, его текучести единству своего
«Я». К человеку как к разумному существу необходимо, по мнению Шиллера,
предъявлять два требования, определить два закона его разумно-чувственной
природы. «Первое требует абсолютной реальности; человек должен
осуществить все, что есть лишь простая форма, он должен обнаружить свои
способности в явлении» (6, 286). Форма обретает, таким образом, феноменальное
бытие, свобода получает свое выражение в явлении. «Второе требует безусловной
формальности: человек должен уничтожить в себе все, что представляет собой
только мир, и должен внести согласие во все свои изменения; другими словами,
он должен обнаружить все внутреннее и всему внешнему придать форму» (6,
286). Осуществление этого закона возможно лишь при наличии в человеке двух
трансцендентальных способностей, которые Шиллер называет побуждениями:
материального и формального побуждений.
Уже само введение Шиллером в анализ понятия побуждения (Trieb) можно
рассматривать как желание утвердить идею целостности человека в категориях
послекантовской философии, используя ее инструментарий. И здесь
неизбежно встает вопрос об отправных точках шиллеровского учения о побуждениях
как культуросозидающих факторах. Для современников Шиллера Рейнгольда
и Фихте понятие «влечение», «стремление» (Trieb) определяет деятельность
практического разума. Собственно, это понятие есть в сущности
модификация кантовского понятия Triebfeder (мотив, побуждение)24. Свободная воля у
Канта существует как непосредственное утверждение нравственного закона.
У Шиллера «побудительное» следствие нравственной причины означает не
что иное, как то, что воля определяет себя непосредственно через моральный
закон. Только в свободной воле существует безусловная практическая
свобода, и поскольку непосредственное основание определения свободной воли
распадается на объективный момент, то есть безусловно доброе, и на
субъективный — на побуждения, мотивы, постольку можно говорить о действии
в мире явлений нравственного закона, значимого в полную силу априорно,
независимого от чувственности. Особую роль тогда приобретает побуждение.
Так как нравственный закон в своей категоричности поначалу противостоит
всем склонностям человека, заставляет его отказаться от них, то появляется
24 Немецкое слово Trieb точнее было бы перевести как стремление, влечение, даже инстинкт,
конечно, помня, что речь идет не о физиологическом или психологическом содержании этого понятия,
а о трансцендентальном его понимании, тем более что в переводах философских работ И. Фихте уже
с начала нашего века слово Trieb передается на русский язык как «стремление, влечение». В русском
издании книги Х.-Г. Гадамера «Истина и метод», когда речь заходит о шиллеровском понятии Trieb,
переводчик пользуется словом «инстинкт». Мы в нашей работе оставляем слово «побуждение», иначе
нам необходимо было бы редактировать большую часть перевода.
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера j£5 289
чувство горечи, боли, из чего возникает, собственно, позитивное уважение к
моральному закону, моральное чувство. Причина этого чувства — уважение к
закону — воздействует только на чувственные способности, и побуждение —
это опосредующая инстанция, действенная сила в «царстве причин» человека.
Положение Канта, «что практическую свободу можно определить и как
независимость воли от всякого другого закона, за исключением морального»25,
претерпевает известную модификацию, связанную, судя по всему, со
знакомством с «Письмами о философии Канта» Рейнгольда. Шиллер стремится снять
полную зависимость свободной воли от морального закона, ее привязанность
к нему. «Воля человека имеет совершенно свободный выбор между долгом и
склонностью» (6, 258).
Этот поворот мысли подготовлен Рейнгольдом отличной от кантовской
интерпретацией воли и влечения (Trieb) применительно к практическому разуму.
Влечение у Рейнгольда — разум, действующий непроизвольно26. Влечение к
самодеятельности отлично от самодеятельности как воли. Таким образом,
Рейнгольд отрывает волю от нравственного закона и решающим образом изменяет
понятие свободы. «Эту свободу воли необходимо хорошо отличать от
самодеятельности разума, которая состоит в независимости от внешних впечатлений и
чувственности, но которую нельзя мыслить без зависимости разума от его закона
(читай закона самодеятельности), в то время как свобода воли есть способность
следовать этому закону или преступать его, способность пользоваться разумом
или как целью, или как чистым средством произвола, удовлетворять
корыстному влечению и через него повелевать этим влечением, или же ему
повиноваться»27. Значение этого изменения в том, что волю и влечение нельзя различать как
субъективные и объективные моменты. Человек во власти влечения, и он сам
также (самодеятельно) к чему-то стремится, а воля становится инстанцией того
или иного. Разум превращается в силу, и это означает, что нравственный закон
соответствует реальной свободе, мере своей определенности. Шиллер не делает
решающего шага в этом направлении. Совпадение нравственного и природного
мыслимо для него только как эстетическая гармония28.
Для понимания шиллеровского учения о побуждениях важна также рейнголь-
довская дихотомия побуждений. Представление состоит, согласно Рейнгольду,
из двух составных частей — материи и формы; следовательно, можно различать
два типа побуждений, на которых стоит побуждение к представлению —
Vorstellungs-triebe. Это побуждение к форме и материи представления. Побуждение
к материи воплощает в себе стремление быть аффицированным, рецептивность;
здесь мы имеем дело с чувственностью в самом широком смысле. Побуждение
к форме — выражение спонтанности разума, все, что связано с интеллектом во
всех его проявлениях29.
25 Кант И. Соч. в 6 т. Т. 3. М: Мысль, 1963—1966. С. 422.
26 Reinhold С. L. Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögen. Prag und Jena,
1789. Bd.l.S. 436.
27 Ibid. S. 439.
28 Pott H.-G. Op. cit. S. 37.
29 Reinhold С. L. Op. cit. S. 561.
290 SL
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Материальное, чувственное побуждение образует в сознании человека сферу
осознания себя как временного, конечного существа, сферу, которая неизбежно
вступает в конфликт с вневременной причиной личности, антитетически
разрывает единство самосознания субъекта, обреченного из-за этого разрыва быть в
постоянном напряжении между временем и вечностью.
Происхождение времени следует искать, согласно Шиллеру, только в
животном начале человека, в его материальной, чувственной субстанции, ибо
последняя в себе самой несет в противоположность к спонтанной, безграничной
активности духа принцип предела возможностей субъекта30.
Здесь необходимо показать, что значит для Шиллера сам термин «материя»,
который понимается им в дихотомии разумного и материального побуждений.
В этой дихотомии материей Шиллер называет то, что как чувственное
содержание предлагается разуму для целей подведения под понятие, чувственный
материал для понятия. В мире есть два вида материи: чувственные представления
и действия воли. Соответственно этому имеются также два способа
синтетического соединения: формы рассудка, названные Кантом категориями, и формы
практического разума. Если разум связывает друг с другом представления для
целей познания, то мы имеем дело с формами познания, то есть с теоретическим
разумом. Если же представление связывается с волей для ее действий, то речь
может идти о практическом разуме. В обоих случаях происходит согласование
между разумом (будь то теоретический или практический), с одной стороны,
и представлениями или действиями воли — с другой. Говоря иначе, материя и
форма, чувственное содержание и разумная деятельность совпадают. Это
соответствие между формой разума и синтезом представлений или воли могут быть
или необходимыми, или случайными. Они необходимы, если понятие рассудка
или разума властно накладывает свой закон на созерцаемую или волевую
материю31. В игру вступает временное и вечное.
Время представляет собой динамическую последовательность состояний,
и каждый момент времени образует границу состояния, которую человек,
полностью детерминированный внешним миром, перейти не может. Чувственное
побуждение бросает человека в поток исторического времени, замыкает
сознание человека в его границах, превращая его в материю, в содержание. Однако
человек, оставаясь материей, пассивно воспринимающим мир существом, не
может еще осознавать свою ограниченность, конечность, видеть в себе
только содержание, «ибо для этого необходима уже свободная деятельность лица,
которая воспринимает содержание и отличает его от себя как нечто
пребывающее (6, 287).
Ощущение Шиллер дефинирует исходя из его временной структуры, и
видит в нем «состояние заполненного времени». Только оно конституирует
физическое бытие человека. Из этого следует, что любой момент заполненного
времени, заполненного настоящего исключает всякую надежду на осуществление
действий, выходящих за пределы чувственной данности, наполняющей тот мо-
30 Подробнее об этом см. Tahlheim K.-G. Op. cit. S. 79—82.
31 Об этом см. подробнее: Frank M. Schillers Ästhetik zwischen Kant und Schelling // Frank M.
Auswege aus dem Deutschen Idealismus. Frankfurt am Main, 2007. S. 200—201.
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера j£5 291
мент времени, когда происходит действие. И если человек воспринимает только
настоящее, то «бесконечная возможность его определений ограничена только
этим одним родом бытия» (6, 287). Необратимый ход времени, беспрестанная
текучесть чувственных состояний, образуемая чувственным побуждением,
полностью подчиняет человека становлению, делает его бессильным
противостоять бесконечным изменениям. Побуждение к материи, следовательно, — это
«не формирующая, а воспринимающая сила, с помощью которой осваивается
полнота мира явлений»32. В таком состоянии сознание человека слепо вбирает в
себя мир, полностью отказываясь от любой попытки как-то дифференцировать
явления, и человек остается только количественной единицей, заполненным
моментом времени. Следовательно, с самого начала эмпирия несет в себе угрозу
превращения человека в одномерное существо, слепок реальности. Человека
как такового здесь еще нет, ибо, пока над ним господствует исключительно
ощущение и время неудержимо увлекает его с собой, он не может быть личностью,
поскольку полная детерминированность человека миром не оставляет места
свободе.
Побуждение к материи способно образовать в человеке единство его
чувственного бытия, которое не является, однако, подлинным единством всех его
сущностных сил, ибо замкнутая из-за своей временной структуры на самой себе
чувственность создает нерасчленимое единство человека с реальностью, делая
его послушным орудием действительной природы, полностью находящимся в
кругу ее определений. Человек как материя еще не есть дух, ибо он
безостановочно слит с объектом, детерминирован им и, следовательно, не различает его
как нечто от себя обособленное.
Побуждение к материи мы можем считать силой, создающей материю
культуры, но это — всего лишь потенциальная сила, ибо культура обусловлена
прежде всего активной, формирующей материю деятельностью субъекта. Само по
себе чувственное побуждение нельзя рассматривать как культуросозидающий
фактор, оно дает культуре только материал. Но без него культура невозможна,
ибо «так как форма проявляется всегда в материи, абсолютное же только через
череду ограничений, то в конце концов с чувственным побуждением связано
все явление человечности» (6, 288). Главное ограничение, которое чувственное
побуждение накладывает на культуру, — это время, и уже в сознательной,
свободной деятельности человека, вырвавшегося из плена своей чувственности,
культивированная природа «вновь вступает в свои права, дабы настоять на
реальности бытия, на содержании наших познаний, на цели нашей деятельности»
(6, 288).
Понятое как культуросозидающий фактор чувственное побуждение
(материал культуры) вносит в культуру благодаря своей текучести динамический заряд
содержательных изменений феноменального мира, который оказывается не чем
иным, как историчностью культуры. Но как ни велико значение чувственного
побуждения в формировании человека, все же определяющую роль в его
культурной деятельности играет духовный, формирующий материю субстрат.
Преобразовательная активность человека мыслится Шиллером как стремление «к
32 Wiese В., von. Schiller. Stuttgart, 1959. S. 487.
292 ®l
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
утверждению личности и укреплению свободы посредством снятия времени»33.
Эту функцию выполняет побуждение к форме. Оно «исходит из абсолютного
бытия человека или из его разумной природы и стремится освободить его,
внести гармонию в разнообразие его явлений и сохранить его личность при всей
изменчивости состояний» (6, 288).
Побуждение к форме конституирует трансцендентальное «Я», создавая
царящее в нем постоянное тождество субъекта и объекта. Это
трансцендентальное «Я» есть умопостигаемая сущность человека, которая ни в какой момент
исторического времени ничем не может быть детерминирована, не может
претерпевать никаких изменений. Оно включает в себя время не как
последовательность состояний — наполненные прошлое, настоящее, будущее в их
последовательном необратимом движении, — а охватывает время целиком, как вечность.
«Оно хочет, чтобы действительное было необходимым и вечным и чтобы вечное
и необходимое было действительным» (6, 289).
Побуждение к форме есть родовое начало в человеке. Человек действует
здесь как род, внося в свои поступки разумную закономерность.
Благодаря формальному побуждению человек преобразует природу
согласно законам своего разума, оформляет, очеловечивает ее. Опредмеченная
духовность в продукте его деятельности есть прежде всего духовность рода,
поскольку человек действует не как изолированный атом, а как родовое
существо. Деятельность побуждения к форме простирается не только на
окружающий человека внешний мир, но и на внутренний, природу в нем самом,
ибо сам человек есть изменчивость, стремящееся к форме содержание.
Побуждение к форме — это духовный субстрат культуры, движущая сила куль-
туросозидающей деятельности. Он вечен, неизменен и всегда остается самим
собой34.
Здесь, однако, необходимо выяснить, какой смысл вкладывает Шиллер в
свое понятие формы. Чувственность, то есть действительная природа, как мы
видели, всегда охвачена изменением; каждый момент изменения всецело
индивидуален; но индивидуальность не есть вечное свойство человека, она
находится полностью под властью изменений. Шиллер, бесспорно, опирается здесь
на сложившуюся к XVIII веку традицию трансформации античного понимания
природы (Платон) в духе Нового времени. Однако в большей степени заметно
и влияние гердеровского эмпиризма с его идеей вечной изменчивости
индивидуального. Но в то же время Шиллер резко сужает сферу натуралистической
трактовки человека и его культуры и своей характеристикой индивидуального
вступает в полемику с Гердером, чтобы в противоположность изменчивости
индивидуального найти в культуре постоянное, чтобы обосновать родовую,
неизменную, сверхисторическую сущность человеческой деятельности. Шиллер в
данном случае всецело опирается на Канта.
Культура — результат деятельности рода, и индивид может быть носителем
ее лишь благодаря своей причастности к роду.
33 Tahlheim K.-G. Op. cit. S. 81.
34 Ibid. S. 82; см. также: Biemel W. Die Bedeutung von Kants Begründung der Ästhenik fur Philosophie
der Kunst // Kant-studien. Köln, 1959.
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера J& 293
Побуждение к форме вызывает в человеке стремление создать вокруг себя
свой, отличный от природного, жизненный мир, основанный на общем порядке.
Форма — порождающая модель такого порядка, его идея, которая воплощается
в активной деятельности человека как родового существа, связанного
неразрывными узами с абсолютным субъектом. Форма сама по себе не есть порядок,
некое системное образование, она только его условие. Форма, согласно Шиллеру,
как указывает Бенно фон Визе, «означает внутреннюю интенсификацию
личности как существа вечного, а стало быть, вневременного. В побуждении к
форме человек оказывается вышедшим за пределы чувственности разумным родом,
который может и должен предписывать чувственности законы, и им он должен
подчиняться. Таким образом, в побуждении к форме человек понимается как
существо, основанное на всеобщности и необходимости35.
Мы видим, что шиллеровская дедукция побуждения рассматривает
человеческую деятельность как в содержательном (чувственное побуждение), так и в
формальном (побуждение к форме) аспектах. Можно было бы думать, что
историческое развитие культуры основывается на согласии побуждений. Однако
история показывает, что культура движется не согласием побуждений, а,
наоборот, их антагонизмом. Шиллер объясняет это тем, что побуждения действуют
в совершенно противоположных направлениях, стремятся к противоположным
целям. Активность побуждения к материи делает человека исключительно
воспринимающим, пассивным существом, полностью подчиняет его впечатлениям,
чувственности, превращает его в раба реальности. Естественное государство,
изоморфное духовной организации человека, в которой доминирующую роль
играет принуждение, олицетворяет собой анархическую борьбу витальных сил,
конгломерат разобщенных индивидов, находящихся в полной зависимости от
своей эгоистической природы. Взаимодействие индивидов, обусловливающее
существование культуры, достигается здесь не их свободной деятельностью,
а путем принуждения, которое сохраняет силы человека от саморазрушения36.
Культура людей, объединенных государством принуждения, не может не быть
примитивной, ибо деятельность человека направлена в первую очередь на
удовлетворение своих потребностей и свободна лишь настолько, насколько это
необходимо для достижения целей человека, возможности которого ограничены
природой. Минимализация свободы в такой культуре есть неизбежное следствие
пассивности ее носителей.
Напротив, формальное побуждение стремится превратить человека в
идейную единицу, сделать ее внутреннюю сущность моральной, игнорируя
чувственность, материю, что также становится источником трагических коллизий
в истории человечества. Нетерпение в преобразовании мира, реальности,
которым охвачено формальное побуждение, когда оно хочет утвердить в нации
свои принципы, неизбежно наталкивается на сопротивление реальности, то
35 Wiese В., von. Schiller. Stuttgart, 1959. S. 487—489. Здесь же Визе говорит о необходимости
различать у Шиллера его общетеоретическое (можно сказать, культурологическое) понимание формы от
его теории прекрасной формы в искусстве, относящейся к сфере видимости.
36 Tahlheim K.-G. Op. cit. S. 91. См. также Emrich W. Schiller und Atinomien der menschliche
Gesellschaft // Schiller Reden im Gendenkjahr. Stuttgart, 1955. S. 243.
294 S*-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
есть сталкивается с материальным побуждением. Последнее оно
рассматривает как нечто косное, подлежащее или коренному преобразованию, или просто
устранению. На самом же деле это есть посягательство на право человека быть
чувственным существом, посягательство на его природу, которая в конечном
счете мстит насильственно созданной форме самым неожиданным образом.
Поэтому очень проблематичным выглядит для Шиллера образ государства
разума.
Целью государства разума, приходящего на смену естественному
государству, становится сохранение свободы человека как рода. Человек здесь уже не
рассматривается в качестве средства для удовлетворения потребностей, он —
самоцель. Однако подобное государство может существовать только в идее;
историческая действительность не может дать даже примера приближения к
нему.
Преждевременная попытка его создания оборачивается в конечном итоге
катастрофой, как это было во время Французской революции. Для культуры,
считает Шиллер, одинаково опасны как перевес чувственности, так и перевес
рассудочности, ибо «слишком поспешное стремление к гармонии, когда не
собраны еще отдельные звуки, составляющие ее, эта насильственная
узурпация, совершаемая в сфере, не безусловно ему подчиненной, является причиной
стольких мыслящих умов в деятельности на пользу науки, и трудно сказать, что
повредило более расширению наших познаний — чувственность ли,
противящаяся форме, или разум, не дожидающийся содержания» (6, 293). Шиллеровс-
кая критика рассудочной культуры вбирает в себя многое из того, что сделали в
этом направлении Руссо, Гердер и штюрмеры, однако она свободна от крайних
преувеличений роли чувственности, характерных для эпохи «Бури и натиска».
Она обращена также против Фихте.
В философии Фихте Шиллер видит перевес рассудочности, который
приводит к подавлению чувственности. В письме к Гете от 28 октября 1794 года
Шиллер подвергает критике субъективизм Фихте, полагая, что отсутствие
внимания философа к объективной стороне мира ставит мир в полную зависимость
от субъекта и объективная действительность совершенно игнорируется им. Для
Шиллера важным является возвращение объекту его достоинства. «С
философией нашего друга Фихте дело обстоит иначе. Уже в его собственном стане
зашевелились сильные противники, которые не замедлят заявить во
всеуслышание, что все вытекает из субъективного спинозизма. Он уговорил одного из
своих старых университетских друзей, некоего Вайсхуна, перебраться сюда,
надеясь, по-видимому, усилить с его помощью свои позиции. Однако тот — судя
по всему тому, что я о нем слышал, отменный философский ум — уже пробил
брешь в системе Фихте и собирается писать против него. Согласно устным
высказываниям Фихте, "ибо в книге его об этом еще не было речи", само "Я" так
же создано своими собственными представлениями, и вся реальность вообще
заключена только в "Я". Мир для него — лишь мяч, который "Я" бросило и при
рефлексии ловит снова! Таким образом, он действительно провозгласил свою
божественность, как мы недавно предсказывали»37.
Гете И. В., Шиллер Ф. Переписка в 2 т. Т. 1. С. 63.
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера ЛЕ) 1^Ъ
Перевес рассудочности в человеке в конечном итоге ведет к существенной
деформации целостности его душевной организации. Формальное побуждение,
став главной доминантой человеческой психики, путем систематического
подавления чувственности (в фихтевской терминологии — «культивирования»)
формирует внутренний мир человека, личность, полностью разрывая ее связи с
реальностью. Человек оказывается, тем самым, чистой формой, чистой идеей рода,
лишенной содержания, абстрагированной от истории. «Сформированный таким
образом человек, конечно, не будет и не покажется грубым по природе, но он в
то же время будет своими принципами огражден от природных впечатлений, и
человечность извне будет так же ему недоступна, как и человечность
внутренняя» (6, 294). Равнодушие ко внешнему миру оборачивается тем, что внутренней
сущностью человека становится лишь голый постулат нравственности, по
отношению к которому чувственность выступает как враждебное начало.
Кажется, что шиллеровская дедукция сущностных сил человека пришла к
негативным результатам и антагонизм побуждений делает фатальной
разорванность человеческого сознания, полностью исключая возможность
гармонического развития людей. Однако если бы Шиллер представлял себе целостность
человеческой природы как некую сумму побуждений, то его характеристика
побуждений вступила бы в противоречие с его намерением найти в человеке такое
синтетическое единство, которое обусловливало бы единство культуры не как
результат деятельности, где это единство создается максимальным
воздействием на человека одного из побуждений или их суммой. Единство человеческой
деятельности и культуры, вернее, фермент этого единства нужно искать в
синтезе совершенно иного рода.
3. Трансцендентальная дедукция красоты и искусства
Чувственное побуждение и побуждение к форме «исчерпывают»,
согласно Шиллеру, «понятие человеческой природы», и их гетерогенность, а также
принципиальная несводимость друг к другу делают невозможным наличие в
человеке третьего побуждения, функцией которого было бы опосредование
чувственности и разума. Шиллер спрашивает, не исключает ли изначальная и
радикальная противопоставленность побуждений самой возможности единства
человеческой природы? Здесь следует кажущийся, на первый взгляд,
парадоксальным его ответ: как раз наоборот, именно функциональное различие
побуждений и является гарантией единства человека. Его достижение облегчается тем,
что действие побуждений не захватывает одних и тех же объектов. Чувственное
побуждение всегда вызывает изменение, однако сам характер этого побуждения
не требует того, чтобы изменялась константная природа личности. Формальное
побуждение, будучи стремлением к единству и устойчивости, не желает, однако,
тождества состояния и личности, сведения личности к сумме постоянных, не
изменяющихся ощущений.
Обращенные к совершенно иным объектам побуждения в их истинных
функциях не противостоят друг другу, а образуют единство путем взаимодополнения.
296 Sx-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
И лишь когда они преступают границы, отведенные им природой, и притязают
на сферы, им не принадлежащие, возникает их антагонизм как следствие
непонимания ими самими своего назначения. Поэтому истинная культура, согласно
Шиллеру, заключается в осознании возможностей чувственности и разума, в
четком разграничении сфер, на которые могут действовать побуждения.
Культура не должна противопоставлять разум чувственности таким образом, чтобы
разум подавлял чувственность, и наоборот, не должна допускать того, чтобы
чувственность релятивировала бы вечные, неизменные принципы
нравственности, произвольно модифицировала бы их, исходя из потребностей субъекта,
превращая свободу в свое отражение. Культура, по Шиллеру, есть способность
сознания коррелировать деятельность побуждений, осознавая необходимость
гармонии сущностных сил человека. Культура сохраняет гетерогенность
функций побуждений двояким путем: во-первых, она охраняет чувственность от
захватов свободы, во-вторых, она не позволяет чувственности подавлять
личность, превратить ее в слепое орудие внешних детерминаций. «Первого она
достигает путем развития способности чувствовать, а второго — развитием
разума» (6, 192). Отсюда следует, что «историческим содержанием человеческой
культуры (истинной культуры. — Α. Α.), как и антропологическим назначением
человеческого рода, может быть духовная и нравственная тотальность
(geistigsittliche Totalität), разумно-чувственная целостность, полнозвучное
человечество»38. Эта тотальность обусловлена развитием человеческих сил в границах,
определенных для них природой. Чувственность нельзя превращать в то, чем
она не может никогда стать, она должна оставаться верной своей природе, то
есть находиться в постоянном изменении. Чувственность открывает человеку
окружающий его мир, движение этого мира во времени; и впечатления от мира
должны с максимальной силой входить в сознание человека, ибо «чем больше
разовьется впечатлительность, чем она подвижнее, чем большую поверхность
она будет обращать к явлениям, тем большую часть мира охватит человек, тем
больше способностей он разовьет в себе» (6, 292). Разум человека с его
возможностями формировать мир должен стремиться к большей самостоятельности
и к максимальной концентрации своих созидательных сил, к предельной
интенсивности их проявлений. Мощь человеческого познания будет зависеть от
преобразовательной, формирующей внешний мир способности разума,
позволяющей человеку создавать формы вне себя, опредмечивать свою духовность.
Чувственность необходимо сделать максимально пассивной, разум—
максимально активным. Оба побуждения должны взаимодействовать, ограничивая
друг друга. Личность сдерживает материальное побуждение, умеряет
чувственность моральной интенсивностью; в то же самое время личность своей силой
создает большую поверхность для впечатлений, стимулирует чувственную
восприимчивость, предоставляя ей свободно развиваться в процессе все большего
охвата действительности. Чувственность, в свою очередь, не дает формальному
побуждению застыть в пустые, лишенные содержания, абстрактные формы, она
дает идее плоть, спасает ее от пустоты.
38 Müller J. Idee und Gestalt des Schönen in der deutschen Klassik // Müller J. Von Schiller bis Heine.
Halle, 1972. S. 23.
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера j£5 297
Гармонию взаимодействия побуждений Шиллер называет идеей человеческой
природы (6, 296). Она же является порождающей моделью культуры, ибо
объективация человеческой деятельности может происходить только в формах
культуры. Для того чтобы идея целостности человеческой природы нашла адекватную
ей форму объективации, необходима особая трансцендентальная способность, в
которой одновременно действуют и чувственное, и формальное побуждения. Эта
способность, будучи особым синтезом побуждений, направляет творческие силы
человека на то, «чтобы уничтожить время в самом времени, соединить
становление с абсолютным бытием, изменение с тождеством» (6, 297).
Шиллер и хочет найти такой синтез побуждений, в котором чувственность
застыла бы в форме, потеряла бы при этом свой временной характер, оставшись,
однако, самой собой; вечность должна получить содержание от становления.
Превращение времени в отблеск вечного вневременного, вернее, обладающего
абсолютной значимостью для всех эпох развития культуры закона человеческой
природы осуществляется в человеке деятельностью побуждения к игре.
Сначала необходимость существования этого побуждения рассматривается
Шиллером как гипотеза, но затем, в 15-м письме, которое мы можем считать центром
всей эстетической и культурологической теории Шиллера, она получает свое
онтологическое обоснование. Именно здесь поэт стремится преодолеть идущую
от Канта дуалистическую концепцию человека.
Если предметом чувственного побуждения является жизнь, а формальное
побуждение направляет духовные силы человека на создание формы, образа,
то побуждение к игре, согласно Шиллеру, призвано объединить в себе материю
и форму, синтезировать их в особом предмете, определяемом им как «живой
образ». Этот живой образ может быть воплощен только в красоте.
Способностью воспринимать и творить красоту обладает только человек. Это положение
«Критики способности суждения» Канта вошло в эстетику Шиллера, однако
здесь оно развивается в русле общей направленности шиллеровской эстетики и
теории культуры. Идея о человеческой природе красоты связывается с кантов-
ским пониманием времени как имманентной человеку форме созерцания. Если
время, по Шиллеру, определяет специфически человеческую форму
конечного, то красота является той формой, которая преодолевает время как границу
возможностей субъекта. Будучи творением конечного существа, она
становится символом полноты жизненного мира человека, достигающего через
красоту свойственной только ему одному свободы. Красота есть выражение, символ
изначального тождества человека с самим собой, равновесия его сил. «Человек
становится живым образом лишь тогда, когда его форма живет в нашем
ощущении, и это случается всякий раз, когда мы начинает оценивать его как нечто
прекрасное» (6, 299).
Красота — истинная природа человека, в которой он может быть
одновременно природой и разумом, ибо в ней человек — не чистая жизнь, абсолютная
реальность и не чистый образ, абсолютная формальность, а синтез, живой
образ, живая наполненность содержанием, созерцаемая идея человечества и его
культуры39. Красота находит свое воплощение через игру побуждений, она —
39 Ibid. S. 490-491.
298 Sîl
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
наглядный образ, «но ни опыт и ни разум не может нам показать, каким образом
красота и человеческая природа возможны» (6, 299).
Красота трансцендентна, ее возникновение обусловлено
сверхэмпирическим субстратом всего существующего, который обнаруживает себя как живая
идея целостности человеческой природы. Благодаря своей способности играть
красотой человек занимает особое место в космосе. Ибо эта игра в том смысле,
какой ей придает Шиллер, не имеет ничего общего с игрой в обыденной жизни,
направляемой на материальные предметы. Побуждение к игре возникает не из
случайных детерминаций реальностью, оно — трансцендентальная и
необходимая способность человека приводить в равновесие свои сущностные силы. Игра
красотой, эстетическая игра есть такое состояние субъекта, которое не
обусловлено ни внешним, ни внутренним принуждением. Субъект не порабощен ни
реальностью, ни духом; в игре он всегда автономный, тождественный самому себе
субъект, носитель целостности и гармонии. Автономия субъекта, вернее, геав-
тономия, то есть способность действовать из своих внутренних определений,
предписывает ему самодостаточный «двойной закон безусловной
формальности и безусловной реальности» (6, 302).
В красоте человек становится идеальным человеком, но не в смысле
абстрактной идеи, а в живом воплощении идеала. «Человек играет только тогда,
когда он в полном значении слова человек, и бывает вполне человеком лишь
тогда, когда играет» (т. 6, 302).
Homo aesteticus Шиллера — идеальный человек не потому, что он подчинил
своему духу мир, культивируя его, а потому, что в преобразовании,
опредмечивании своих духовных сил во внешнем мире он воплотил себя не как часть
собственной сущности, частичный человека, а, найдя себя как целостность, стал в
отношении внешнего мира не гетерогенной силой, но средоточием внутренних
связей, конституирующих единство бытия. Творение природы, человек через
свою культурную деятельность превращается в центр возможностей истинной
природы, в ее единство, и объективацию этого единства мы видим в красоте.
Таким образом, внутри культуры Шиллер выделяет особый слой —
эстетическую культуру человека. Именно в ней культура выполняет свое истинное
назначение.
До сих пор Шиллер проводил анализ структуры человеческой
деятельности, так сказать, на уровне синхронии. Поэт выделил элементы человеческой
деятельности и определил их функции. Однако поставленная им с особой остротой
проблема целостности человека, гармонического функционирования культуры
требовала от морфологического, проведенного в рамках трансцендентализма
анализа своего исторического обоснования, сочетания синхронии и диахронии.
Экспликация внутренней и внешней сущности субъекта, его возможностей для
создания культуры не могла ограничиться лишь синхронным срезом,
открывшим структурные элементы человеческой деятельности, взятой как системное
целое.
Учение Шиллера соприкасается, с одной стороны, с областью
практического разума (нравственность), с другой — со сферой чувственно-объективного.
Прекрасное, по Шиллеру, действительно в интеллектуальном субстрате нашего
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера J& 299
«Я», в котором берут свое начало как чувственность, так и нравственность, и
если мы находимся в состоянии свободного нравственного действия, поступка,
то мы созерцаем его посредством той способности созерцания, которую
Шеллинг позже назвал интеллектуальной.
Свободная игра воображения как воздействие предмета на познавательные
способности, вызывающие суждение, что созерцаемый предмет прекрасен, у
Канта объективируются лишь в символ нравственно-доброго. Д. Хенрих в
данном случае отмечает, что у Шиллера прекрасный предмет как бы возвращен в
основание умопостигаемого (интеллигибельного) и тем самым эта его природа,
его происхождение не могут быть познаны, исчерпаны понятийно40.
Содержание прекрасного предмета возникает благодаря тому, что он
оформляется как прекрасный, принимает прекрасную форму и, следовательно,
является нам как свободный, поставленный перед интеллигибельной основой,
которую человеческая мысль не может постичь до конца, но которая требует от
мысли стремиться познать ее и, беспрестанно обрекая человека в этом деле на
поражение, вызывает все новые мысли, делая процесс понятийного познания
бесконечным. Это, однако, показывает, что не была найдена объективная основа
красоты, и способ ее проявления целиком и полностью — в самосознании
субъективности. Момент эстетической предметности остается необъяснимо похожим
на неопределенное основание, откуда проистекает наше осознание прекрасного.
Тем самым, однако, обозначается путь, который должен был пройти Шиллер.
Именно то, что воображение становится свободным проявлением самого себя,
должно обнаружить в самом себе в качестве своего основания определенные
правила игры автономного предмета. Здесь вырисовываются еще не ясные
контуры мыслительной модели, которая пока только намекает, что речь уже больше
не идет об эстетической предметности, понимаемой в традиции XVIII столетия,
то есть в искусстве и природе. Шиллеру нужно найти силу, не противостоящую
подобно силе чувственности моральному действию. Необходимо найти силу,
которая преодолевала бы возникшее здесь странное отсутствие детерминации
и случайность свободно играющего воображении. Преодолеть настолько,
чтобы та нравственная свобода, которая должна символизироваться в красоте, не
смогла бы стать той свободой, которая заключена в безграничной власти воли,
ибо законченный, завершенный в себе образ красоты никогда не станет ее
символом41.
Шиллер определил красоту как «являющуюся свободу», и эта свобода в
явлении мыслится им как точный аналог свободы нравственной. Логика его
рассуждений такова: если нравственная свобода состоит в том, что практический
разум дает определение предмету сообразно своему законодательству, не
допуская влияния никаких иных моментов, свято охраняя свою область от
гетерогенных ему детерминаций, то аналогия нравственной свободы в чувственном
мире характеризуется тем, что предмет не подчиняется никаким иным
определениям, кроме тех, которые являются специфическими для его собственной, в
40 Henrich D. Der Begriff der Schönheit in Schillerrs Ästhetik // Zeitschrift für Philosophische
Forschung. 1957. 11 Jg., H. 4. S. 535.
41 Pott H.-G. Op. cit. S. 39.
300 Sx-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
данном случае чувственной, сущности. Формальность этой аналогии очевидна.
Эстетический предмет находится в таком расположении душевных сил,
которое типично для разума, но эти душевные силы в то же время не подчинены
нравственности, благодаря которой в критической философии конституируется
специфическая «материальность» практического разума.
Безусловное самоопределение, будучи регулятивным принципом
чувственного предмета, остается, однако, идеей разума, каковая никогда не сможет себя
показать в чувственном мире. Рассудку, оформляющему чувственный мир,
эстетическая аналогия доступна лишь негативным путем, так же как понятие
моральной свободы, и суть этого негативного пути заключается в исключении
любых гетерогенных детерминаций. Однако это негативное определение в
отношении рассудка нуждается в необходимом позитивном начале для того, чтобы
в качестве такового стать видимым42.
В отношении красоты Шиллер пользуется понятием разума, ибо, по его
мнению, «прекрасное <...> так же, как Истина и Право, должно покоиться
на незыблемом основании, а основные законы разума должны быть в то же
время и законами эстетики» (7, 278). Здесь, однако, остается решить
немаловажный вопрос: на основании каких свойств чувственные объекты могут
быть интерпретированы как идеи разума? Согласно Канту, любой
чувственный объект как таковой подчинен определениям рассудка. То, что
чувственный объект прекрасен, не означает, что он лишен определений рассудка и на
их месте появилось нечто иное. Возможность познания исходит от любого
предмета, и поскольку прекрасный предмет не есть нечто, ничего не
говорящее рассудку, а, наоборот, особого рода полнота, он от поиска категорий
рассудка переходит в самостоятельное произведение соответствующей ему
идеи разума. Прекрасный предмет является нам уже будучи определенным
и тем самым становится объектом познания. Но так как мы не можем найти
ему подходящего рассудочного определения, созерцатель от представления о
не определяемом ничем внешним, лишенном внешних детерминаций бытии
с необходимостью переходит к представлению о бытии, которое себя
определяет изнутри, то есть в идею разума43.
Феноменологический анализ фактов культуры, за исключением
художественной деятельности, казалось бы, опровергал идею целостности человеческой
природы. Но феномен красоты и искусство, существовавшие на всех ступенях
развития человека, заставляли Шиллера искать их генезис, вернее,
исторически обосновать необходимость взаимодействия чувственности и разума в особой
форме их проявления. И если игра — то состояние субъекта, в каком он может
быть в полном значении слова человеком, то трансцендентальная дедукция
побуждений, их деятельность должна стать трансцендентальной историей.
Нужно исторически обосновать сам факт свободного взаимодействия побуждений,
факт сотворения самого человека из побуждений. Мы намеренно употребили
здесь слово «сотворение», потому что, как мы дальше увидим, пробуждение в
42 Puntel К. Die Struktur künstlerischer Darstellung: Schillers Theorie der Versinnlichung in der Kunst
und Literatur. München, 1986. S. 78.
43 Ibid. S. 78.
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера J& 301
человеке свободы, разума есть следствие не усилий его воли, а природы в самом
широком смысле, имманентной ей трансцендентности.
Перед тем как проследить ход мысли Шиллера, следует сказать, что
побуждения суть не что иное, как трансцендентальные способности субъекта и
их отношение к его воле не есть субстанциональная зависимость от нее.
Наоборот, наша способность ощущать и достигать самосознания никоим образом
не зависит от воли. Воля может дать лишь направление этим способностям, и
ее деятельность обнаруживается только после того, как уже заговорили
побуждения; «последние пробуждаются только тогда, когда оба объекта ощущения и
самосознание уже даны». «Они должны обязательно присутствовать прежде
чем воля выразит себя, и могут присутствовать, следовательно, не благодаря
воле». О свободе можно, по мнению Шиллера, говорить, когда оба побуждения
уже конституируют духовную жизнь человека, и если в человеке отсутствует
одно из побуждений, то какое-либо проявление свободы исключается,
«свобода вновь восстанавливается всем тем, что возвращает человеку его полноту»
(6. 317). Но человек с самого начала выступает не как законченное существо.
Чувственное побуждение обнаруживается в человеке раньше, чем разумное,
ибо человек идет к познанию, к форме от ощущения; ощущение предшествует
познанию. И этот факт должен, согласно Шиллеру, объяснить возникновение в
человеке свободы.
Если чувственное побуждение обладает приоритетом по отношения к
разуму, то человек изначально полностью включен в цепь природных детерминаций;
«он действует как нечто природное и необходимое», поэтому не существует еще
конфликта между чувственностью и разумом, последний не противодействует
чувственности, которая обладает безраздельной властью над волей. И для того,
чтобы человек стал мыслящим существом, обрел наконец свое истинное
человеческое бытие, разум должен выразить себя, и тогда воля даст ему направление.
Физическая необходимость должна быть заменена логической или моральной»
(6, 318). Итак, сила ощущения должна быть уничтожена, прежде чем закон
заступит место ощущения. Однако непосредственный переход от ощущения к
мышлению невозможен, ибо чувственное побуждение действует в совершенно
ином направлении, превращая человека в слепок мира. Человек, чтобы в нем
заговорил разум, делает шаг назад, благодаря чему уничтожается сила
ощущения и определимость воли этой силой. Воля становится свободной, и это, как бы
освобожденное от детерминаций чувственности пространство займет разум.
Для превращения человека из пассивного, страдающего существа в
самостоятельного разумного субъекта, в родовое существо, отличительный признак
которого — свободный разум, необходимо мгновенное освобождение его от
всякого определения. Он должен стать в это мгновение чистой определимостью.
Возникает ситуация, когда человек, уже будучи чувственным существом,
возвращен к состоянию неопределенности, «когда ничто не влияет на его чувства».
Человек, следовательно, находится в состоянии, где воля лишена всякого
содержания, «и теперь необходимо соединить равную неопределенность и равно
безграничную определимость с наивозможно большим содержанием, ибо из этого
состояния должно возникнуть нечто положительное» (6, 318).
302 SL
A. Г. Лствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Состояние нейтральности человеческой воли не означает, что человек
превратился в пустоту, стал ничем; свободна лишь его воля, а «определение,
которое человек получает благодаря ощущениям, должно быть удержано, ибо он
не должен терять реальности». Оно уничтожается только как ограничение, как
граница возможностей субъекта. «Итак, задача состоит в том, чтобы в одно и то
же время и уничтожить, и сохранить определенность состояния, а это возможно
лишь одним способом, а именно противопоставлением ей иной
определенности» (6, 318). Природа, сохраняя реальность состояния, отступается, однако, от
прав чувственности на определение человеческой воли, давая эти права
определениям разума. Шиллер сравнивает подобное состояние с равновесием чашек
весов, на которые положили одинаковую тяжесть. Дух может перейти от
ощущения к мысли через некоторое третье состояние. В нем разум и чувственность
активны, «но именно поэтому взаимно уничтожают свою определяющую силу»
(6, 318). Дух не испытывает здесь «ни физического, ни морального
принуждения».
Состояние полной свободы субъекта и одновременно полной его реальности
Шиллер называет эстетическим. Процесс перехода от физической
необходимости через эстетическое состояние есть рождение человека. Человек рождается
как целостность, и то, что природа направляет его к эстетическому состоянию и
координирует деятельность его трансцендентальных способностей таким
образом, что они не вступают в конфликт друг с другом, является объективизацией
божественного начала в человеке.
4. Искусство как игра
Сложность шиллеровских построений можно объяснить только исходными
их посылками. Во-первых, Шиллер, как и Кант, считает чувственность
пассивной и ее определяет только как изменчивую природу человека. Активность
чувственности означает лишь максимальную ее экстенсивность. Во-вторых, разум,
природа его активности имеют у него надэмпирический, вневременной и вне-
исторический характер; об историчности разума можно говорить только с точки
зрения оформленного им содержания. Отсюда и возникает необходимость такой
философской конструкции, которая бы рассматривала гармоническую связь
побуждений, их равновесие лишь в особом, третьем состоянии. В-третьих, Шиллер
стремится во что бы то ни стало сохранить автономность эстетического
созерцания и искусства, показать невозможность их редукции к чувственности или
разуму, к теоретической или практической деятельности. Говорить о целостной
природе эстетического и искусства, о том, что в них осуществляется
тотальность сущностных сил человека, что они требуют гармонического сочетания
и развития всех способностей субъекта, в контексте шиллеровской философии
можно только при строгом соблюдении принципа автономности искусства. Это,
собственно, и приводит к тому, что Шиллер вслед за Кантом определяет
эстетическое созерцание и искусство как игру.
IV. Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера JÉ© 303
Было бы огромной ошибкой искать у Канта и Шиллера исходный пункт
теорий игры, возникших в последние десятилетия позапрошлого века. Мы
имеем в виду эволюционно-биологическую теорию Г. Спенсера и психологические
обоснования игры К. Грооса и Вундта. Когда речь заходит об игре как о
специфической деятельности человека, то очень часто исследователи рассматривают
идеи Канта и Шиллера в контексте позитивистской мысли, создавая тем самым
некое непрерывное развитие теории игры, начанающееся с неясных
формулировок Канта и Шиллера и завершающееся в позитивизме, который затем
справедливо подвергается критике за узость в интерпретации игровой деятельности,
за неизбежный для позитивизма редукционизм (будь то биологизация в духе
Г. Спенсера и К. Грооса или же понятия функционального удовольствия). При
этом всякий раз, когда тот или иной критикуемый ученый стремится для
большей убедительности своих доводов найти им поддержку у Шиллера (Гроос и
Штерн), то механически волей-неволей эта критика переносится на Шиллера.
С подобной тенденцией мы сталкиваемся в глубокой и содержательной работе
Д. Б. Эльконина44. Таким образом, создается единый континуум мысли, который
делает почти невозможным выявление истинного смысла шиллеровских идей
и неизбежно приводит к крайне узкой их трактовке, полностью игнорирующей
неразрывную связь теории искусства как игры Шиллера со всеми кулыуросо-
зидающими факторами. Она низводится до уровня психологизма, стоящего на
примитивной ступени, и ее философское содержание остается незамеченным;
она, следовательно, становится первоначальным эпизодом на пути к Спенсеру и
Гроосу. В кратком анализе теории игры Шиллера Д. Б. Эльконин
ограничивается цитированием двух мест из «Писем об эстетическом воспитании человека»,
где Шиллер говорит об игре как о свободной деятельности, об особой свободе,
смыслом которой является отсутствие определенной внешней детерминации, но
не потребности вообще, и о предмете этой деятельности, красоте45. Хотя
Эльконин и восстанавливает старое и неверное определение теории Шиллера как
теории избытка сил, он все же отмечает, что оно не совсем соответствует
мыслям Шиллера. Замечание правильное, но сразу же после него конституирующим
признаком эстетического созерцания и искусства, а также игры в обыденном
смысле становится у Шиллера, согласно Эльконину, наслаждение. Ошибка
заключается в том, что наслаждение у Шиллера, как и у Канта, не есть
конституирующий принцип, оно является производным, побочным моментом. Ведь
наслаждение от обычной игры и наслаждение от творчества никоим образом не
сводимы друг к другу. Термин «игра» Кант и Шиллер используют в ином
значении; отождествлять шиллеровское побуждение к игре с понятием
врожденного игрового инстинкта, как это делает Штерн, — ошибочная модернизация.
Ни биологического, ни психологического субстрата искусства и эстетического
созерцания у Шиллера нет. На несостоятельность подобной редукции обращал
внимание И. Хейзинга, который сам, однако, приписал Шиллеру именно такое
толкование побуждения к игре. «Чтобы иметь возможность вывести искусство
44 Albrecht M. Kants Antinomie der praktischen Vernunft. Hildeshein; N.Y.; Olms, 1978. S. 15—17,
70—71.
45 Эльконин Д.Б . Психология игры. M.: Педагогика, 1978. С. 16.
304 ®^
Л. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
целиком из игрового инстинкта, необходимо было бы подвести под него
структуру и образ. Пещерная живопись позднего каменного века — создание
игрового инстинкта? Это был бы слишком смелый скачок духа. Если мы также
хотим придать игре как культуросозидающему фактору первоначальное значение,
<...> то происхождение искусства мы не можем считать объясненным
указанием на врожденный игровой инстинкт»46. Хейзинга, рассматривая игру как некую
надэмпирическую силу, создающую культуру, стремится найти для своей
идеалистической (но не позитивистской) теории подтверждение у Канта. «Также то,
что Кант часто использует выражения "игра воображения", "игра идей", "игра
космологических идей" заслуживает внимания»47. Если бы Хейзинга понял
правильно теорию Шиллера, для которого игра есть взаимодействие
трансцендентальных, можно сказать, космологических предпосылок человеческой
деятельности, воплощение божественного начала как особой деятельности, создающей
единство культуры, то он, несомненно, обнаружил бы сходство своей теории
игрового космоса культуры с идеями Шиллера48. Когда позитивизм обращался
к теории игры Шиллера, он отбрасывал метафизическую, по его мнению,
основу его философии: трансцендентализм, совершая тем самым насильственную
операцию, лишавшую шиллеровские понятия их истинного смысла. Дедукция
искусства не принималась во внимание.
Игра для Шиллера — это возможность для человека выразить себя как
целостность, найти в контакте с окружающим миром себя как самодостаточное,
самоустремленное существо, замкнуть изменения, возникшие от внешних
детерминаций, в деятельности своей духовной природы. В отношении такого понимания
игры имеет силу положение, высказанное X. -Г. Гадамером: «Саморепрезентация
игры действует таким образом, что играющий одновременно приходит к
собственной саморепрезентации, репрезентируя в то же время игру»49.
Искусство не может быть логическим мышлением, не может оно также быть
сведено к материальному, выражаясь языком Гегеля, сознанию, к ощущениям.
Оно есть синтез, игра человеческих способностей с объектом, который
человек созерцает как объект, самому себе тождественный, или создает его таковым.
Если объект в чувственном мире, то есть будучи чувственно воспринимаемым,
оказывается тождественным самому себе, может определять себя сам, то
воспринимающий субъект видит его освобожденным от всех форм детерминаций,
не замечает в нем никакого влияния материала или же цели. Объект
становится аналогом чистого определения воли (даже не продуктом определения воли).
Воля в данном случае есть только форма, определяемая формально. Такая воля,
думает Шиллер, свободна. Поэтому красота есть не что иное, как изображение
свободы. Свободный человек, свободная воля тождественны красоте50. Игра, по
46 Huizinga J. Homo ludens. Von Ursprung der Kunst im Spiel. Hamburg, 1959. S. 162—163.
47 Ibid. S. 44.
48 Sdun W. Zum Bgriff des Spiel bei Kant und Schiller // Kant-Studien. 1966. H. 4 S. 513. Косвенное
воздействие Шиллера на Хейзингу отмечает Р. Веллек (Wellek R. Geschichte der Literaturkritik 1730—
1830. Darmstadt, 1959. S. 257.).
49 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С. 154.
50 Wiese В., von. Schiller. Stuttgart, 1959. S. 460.
IV. Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера J£b 305
Шиллеру, — это деятельность, в основе которой лежит самоопределение
человека, как индивида, так и рода. Не идея избытка сил — стержень теории
Шиллера, а идея целостности человеческой природы.
Художественная деятельность получает свое основание, считает Шиллер,
только из своих внутренних определений. Веселая игра, каковой должно быть
искусство, не есть, однако, лишь наслаждение, бесцельное времяпровождение.
Искусство получает у Шиллера особую функцию, а именно — быть главным
орудием воспитания человека, вступающего из мира чувственного в мир идей.
Следовательно, равновесие чувственности и формы, создаваемое искусством,
преследует цель привести человека в царство разума, научить его пользоваться
своими духовными силами, исходя из своих внутренних определений.
Отсюда возникает радикальное требование, предъявляемое Шиллером к искусству:
«В истинно прекрасном произведении все должно зависеть от формы и ничто
от содержания, ибо только форма действует на человека в целом, содержание —
лишь на отдельные силы» (6, 325). Подчинить человека разуму, превратить его
из физического в моральное существо можно лишь посредством красоты. От
физического мира к миру разума нет непосредственного перехода, и
эстетическое состояние есть та промежуточная ступень, из которой может «развиться
моральное состояние» (6, 325).
Главным конституирующим искусство моментом Шиллер считает
продуктивное воображение, способность, выражающую свободу субъекта.
Экстремальность побуждений, нарушающая равновесие сущностных сил человека и
деформирующая его культуру, когда перевес чувственности или рассудка
становится в ней определяющим, получает санкцию от воли, но сама возможность
побуждений и, стало быть, познания заложена в трансцендентальной способности
воображения51. Ощущение и самосознание возникают без всякого содействия
субъекта, и их возникновение не зависит от человеческой воли. Их источник
находится за пределами нашей воли и познания. Это доказывается, по мнению
Шиллера, тем фактом, что уже как эмпирической способности воображению,
уже на стадии репродуктивного воображения свойственна двойная функция
отражения и свободного выбора фактов реальности. В своей отражательной
функции воображение привязано к материальному содержанию и не может от него
обособиться. Оно захвачено чувственностью. Но благодаря способности к
избирательному созерцанию способности выбирать объекты созерцания, оно не
поглощается чувственностью безостаточно. И если воображение не
становится свободно созидающей фантазией, а остается репродуктивным, то все же и
здесь мы находим известную степень свободы от детерминаций чувственного
мира, что получает свое выражение в произвольном комбинировании данных
ощущений и в выборе объектов восприятия. Следовательно, разум и свобода, их
возможности, думает Шиллер, присутствуют уже в самой чувственности, в ее
человеческих формах. «Уже в возрасте чувственности появляются неизбежные,
неподдельные понятия истины и права; и вечное во времени, а необходимое
и случайное становятся заметным, без того чтобы мы могли сказать, откуда и
каким образом они возникли» (6, 316). Поэтому свободное отражение образов
51 Inciarte R. Die transzendentale Einbildungskraft. Bonn, 1970. S. 29.
306 Sîl
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
чувственности благодаря репродуктивной способности воображения,
создающего представления человека о мире, можно считать доказательством наличия
духовной спонтанности в мире чувственном.
Высших своих возможностей воображение достигает в искусстве. Здесь оно
становится продуктивным, фантазией и создает художественный образ,
который, по Шиллеру, есть видимость. Видимость — продукт игры, остающийся
всегда в ее границах и не притязающий на какую-либо значимость в реальном
мире, с точки зрения его утилитарной пользы. Было бы, однако, грубой
ошибкой считать эстетическую видимость просто иллюзией, обманом, порождением
необузданной фантазии. Искусство не желает притворяться действительностью,
оно честно признает фиктивность созданного им образа. Искусство как игра
становится величайшим проявлением человеческой свободы, ибо последняя
здесь предстает как явление. В человеке, играющем красотой, кристаллизуются
все его духовные и физические силы, однобокая ориентация на какую-то одну
из сторон бытия и на развитие какой-то одной способности здесь исключена,
иначе искусство не будет самим собой. Бытие и сущность будут полностью
совпадать только в игре; человек — в полном смысле слова человек тогда, когда
он играет. «Нас не должна пугать парадоксальность формулировки, — пишет
А. Гулыга, — речь идет о весьма простой вещи: суть игры одновременное
пребывание в двух сферах — условной и действительной. Умение играть состоит
в овладении двуплановостью поведения: реальное сливается с условным.
Способность увидеть реальность того, что еще не создано, делает человека творцом
культуры — художником, первооткрывателем, изобретателем»52.
Искусство творит образ, в котором вечно разделенные сферы материи и
духа, чувственности и разума образуют единство. Этот образ остается
видимостью, ибо реальность не может дать нам его, но в то же время он есть
выражение истинной человеческой природы. Продукт искусства оказывается
полностью захваченным деятельностью духа; мы вступаем в мир идей, не покидая
чувственного мира. Эстетическое созерцание и художественную деятельность
мы можем назвать культурой видимости. Человеку необходимо созерцать и
создавать видимость, ибо его прикованность к сфере реальности ограничивает его
возможности как активного существа. В искусстве человек создает идеальную
модель своего собственного мира. Деятельность продуктивного воображения
преследует только эту цель, оно полностью сосредоточено на семантических
актах, направленных на воплощение в форме видимости идеи человека.
Воображение использует чувственное созерцание таким образом, что те функции,
которые оно выполняло в реальной практической деятельности или в познании,
полностью уже принадлежат сфере видимости, сфере игры. Для определения места
искусства в культуре крайне важно определить его отношение к теоретической
и практической деятельности (нравственности). Автономность искусства и его
продукта полностью исключает непосредственную связь их с теорией и
практикой, утилитарное использование искусства для их нужд. Связь здесь
значительно сложнее. Не давая теоретического определения объекта, искусство обостряет
52 Гулыга А. В. Послесловие // Бур М., Иррлитц Г. Притязания разума: Из истории немецкой
классической философии и литературы. М.: Прогресс, 1978. С. 275.
IV. Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера JΩ 307
и усиливает познавательные способности человека. Познание возможно
только как тождество с предметом и определенная дистанция от него. Тождество и
свобода, то есть способность субъекта сливаться с объектом и одновременно
дистанцировать себя от него, взаимодействуют в искусстве парадигматическим
образом. Это происходит не от того, что искусство изображает действительные
предметы как случайные или возможные. Сокровенная тайна искусства
заключается в том, что то, чего нет в реальности, существует в искусстве только ради
себя самого и, более того, является для человека высшим символом,
определяющим его назначение. Конечно, искусство помогает познанию только тогда,
когда в человеке имеются задатки для понимания природы искусства, природы
художественной видимости, стало быть, и самого себя.
5. Место искусства в культуре
Весь ход мысли Шиллера после того, как он определил структуру искусства,
логически приводит к задаче определить место искусства в культуре. Именно
здесь дает о себе знать дух системности, который пронизывает все «Письма об
эстетическом воспитании человека». Шиллер не дробит мир искусства на
составные части, для того чтобы соотнести какой-либо вид художественной
деятельности с иными формами культуры. Как и для Канта, для него важно найти
место искусства в культуре, обозначив интегративно то, что за минусом
искусства имеется в культуре, а это практический и теоретический разум; причем
сопоставление искусства со сферой теории и практики должно показать, что без
искусства культура не существует как целостность, ибо в ней нет целостного
субъекта.
Проблема отношения искусства и морали у Шиллера вызывала и
продолжает вызывать разные, подчас совершенно противоположные, интерпретации.
Нравственность не может никогда и ни при каких обстоятельствах иметь иного
основания, кроме самой себя53. Из этого следует, что принципы морали,
вневременные законы, накладываемые на себя человеческим родом, нельзя ничем
заменить. Они абсолютны. Искусство не в силах давать определения
нравственности, ибо последние хотя и имеют чисто идеальное происхождение, но
применяются лишь в сфере реального, принципы искусства имеют силу лишь в сфере
видимости. Отличие искусства от морали заключается в противопоставлении
бытия игры серьезности долга и судьбы. Серьезность всегда присутствует там,
где жизнь и достоинство человека находятся в опасности. Над жизнью,
существованием во времени жестко властвуют «силы гибельного рока», и побуждение
к материи, главной функцией которого является сохранение жизни, не может
несерьезно относиться к нему, ибо угроза физическому существованию
человека достаточно велика. Абсолютное существование или достоинство личности
должны защищать себя от попыток их релятивировать, проистекающих из-за
Schiller F. Briefe in 6 Bänden. Bd. 3. Stuttgart, 1906. С 399.
308 SL
А. Г. Лствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
нарушений долга. Игра снимает эту двойную серьезность, освобождает
побуждения от ее гнета54.
Перед красотой, которая есть идея в явлении, действительность теряет свою
серьезность, ибо последняя слишком незначительна в сравнении с
абсолютностью идеи. Перед вечностью вневременной сущности идеи все ограничения
времени не имеют никакого значения. Также и нерушимый нравственный закон,
охраняющий личность и ее достоинство, теряет свою серьезность, ибо идея не
противостоит в красоте чувственному миру, а дается как чувственный образ55.
Продуктивное воображение, порождающее время, выполняет в искусстве
одновременно и функцию снятия времени, и если как в теоретической, так и
в практической деятельности наполненное время заставляет субъекта
серьезно относиться к такой экзистенциальной проблеме, как реальность, как время,
то в художественной деятельности не существует угрозы ограничения
возможностей человека. В сравнении с единством абсолютного субъекта с вечной
тотальностью природы и свободы понятия теоретического и практического разума
являются случайными. В искусстве они теряют ту серьезную необходимость,
которая была им присуща в мире реальном и указывала направление
человеческой деятельности. Понятие цели человечества, идеала, ставшее в искусстве
живым образом, лишившее время ограничивающей возможности субъекта силы,
нейтрализует в сознании человека оппозицию разума (реальности) и
чувственности, долга и склонности, назначения человека и счастья. Красота разрушает
антиномию сознания, но делает это только в единственно возможной для нее
сфере — в сфере видимости. Ни теоретический, ни практический разум в силу
своей неизбежной связи с реальностью не могут признать объектом свой
деятельности видимость. И хотя привязанность к действительности есть
ограничение человеческих возможностей, а «равнодушие к реальности и внимание к
видимости является истинным расширением человеческой природы и
решительным шагом к культуре» (6, 344), нельзя, однако, допустить, чтобы теория
или практика относились к своим объектам как к видимости, потому что
последняя может быть только продуктом искусства, логическая же видимость будет
лишь иллюзией, обманом, извращающим связь вещей и идей в реальном мире,
а моральная видимость приведет к тому, что мы будем видеть нравственное
совершенство там, где его нет. Шиллер формулирует троякий закон
онтологического статуса искусства в культуре:
Человек должен красотою только играть.
Человек должен играть только красотою.
Только в игре и в правильном отношении к прекрасному человек — в
полном смысле человек.
Игра допустима лишь в искусстве, в нем человек как тотальность природы и
свободы неподвластен ограничивающим его детерминациями, однако, покинув
сферу науки, он встает перед необходимостью действовать в реальном мире,
перед необходимостью преодолевать его детерминации. Мысль Шиллера об
54 Janke W. Die Zeit in der Zeit aufheben. Der transzendentale Weg in Schillers Philosophie der
Schönheit // Kant-Studien. Bd. 58, H. 3.1967. S. 452.
55 Ibid. S. 452.
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера J& 309
огромном значении искусства для воспитания человека не означает, что науку
или мораль мы должны превратить в искусство. Роль искусства в культуре
совершенно иная. Своеобразие художественной деятельности обусловливает и ее
субъекта. Искусство требует не частичного, а целостного субъекта, тотальности
всех сущностных сил человека. Из этого следует, что человек, наделенный
способностью творить и созерцать красоту, уже в сфере науки или
нравственности гораздо яснее представляет себе свое назначение, свою цель как разумного
существа, связанного неразрывными узами с другими членами общества. Он
будет во многих отношениях (хотя и не полностью, ибо одно дело гармония
эстетической видимости, другое — реальный мир) освобожден в своей
деятельности от власти потребностей, что позволит ему правильно пользоваться своей
свободой; он также будет коррелировать свою свободу с природой, добиваясь
истинной, а не абстрактной свободы. Внешний и внутренний мир человека
откроются полнее. Не преступая границ науки и нравственности, он лучше станет
использовать их возможности; он освободится от слепого страха перед
природой и в то же время даст истинное направление свободе. «Итак, краткий и ясный
ответ на вопрос: "В какой мере допустима видимость в моральном мире?" —
таков: в той мере, в какой эта видимость эстетична, то есть такая видимость,
которая не стремится ни замещать реальность, ни быть замещаема реальностью.
Эстетическая видимость отнюдь не может быть опасною чистоте нравов, и где
дело обстоит иначе, там с легкостью можно показать, что видимость не была
эстетическою» (6, 347).
Красота для науки и нравственности может быть всего лишь
регулятивным, а не конструктивным принципом. В определенных ситуациях возможен
прочный союз нравственного и эстетического чувства. Это происходит
тогда, когда существует «возможность совпадения склонности и долга в одном
предмете желания» (6, 380). Здесь чувство красоты тождественно чувству
нравственному. Но если возникает конфликт интересов чувства и разума и
долг требует от человека поведения, вступающего в противоречие со вкусом,
а предмет, к которому вкус благоволит, отвергается разумом как
несовместимый с его принципами, то необходимо отбросить суждение вкуса и
действовать исходя из определений разума. Это положение снимает, на наш взгляд,
возможность толкования идей Шиллера в духе теории эстетизма или желание
видеть в поэте ее предшественника. Исторические, социальные и
нравственные конфликты изображаются искусством как видимость, и эта видимость,
созданная деятельностью целостного субъекта, позволяет нам особым
образом относиться к изображаемому предмету, видеть в нем не только отдельные
стороны, а целостность. Но нельзя забывать, что король или полководец на
сцене — это король и полководец, лишенные реальной власти. Исторические
Филипп II Испанский и Валленштейн совсем иные, нежели в изображении
поэта, показывающего мир возможностей таких характеров и подходящего к
ним с определенной степенью нейтральности. Шиллер писал, что в работе над
образом Валленштейна он сталкивался с огромными трудностями, потому что
реальный Валленштейн оказался для него малосимпатичной фигурой.
Отношение к реальным героям истории должно опираться на законы морали, и их
310 3^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
поступкам, если они попирают эти законы, необходимо активно
препятствовать. И если поэт видит полнее, то это вовсе не означает, что он релятивиру-
ет принципы нравственности; он лишь углубляет их, предостерегает мораль
от односторонности, делает более совершенным моральное суждение. Но он
действует уже ретроспективно и не в обстановке реальной истории, для
которой навсегда незыблемыми останутся законы морали, даже несмотря на то что
действительность ограничивает их оптимальное применение. Иного ответа
философ и поэт-гуманист Шиллер дать не мог. Эстетическую оценку нельзя
навязывать разуму там, где он уже вышел за границы видимости, еще и
потому, что часто в определенных исторических условиях прекрасное предстает в
извращенном, уродливом виде, когда изображают как красоту то, что на самом
деле является ничтожным и низменным.
Функция снятия времени в самом времени, которую осуществляет
художественная деятельность, определяет место произведения искусства среди других
продуктов культуры. Искусство опредмечивает время так, что содержание
времени, чувственности, застыв в художественном образе и став красотою,
приобретает особую форму историчности, которая не дана ни одному из продуктов
отличных от искусства видов предметной деятельности человека. Как опред-
меченное время художественное произведение — составная часть временного,
исторического континуума движения всех культурных форм; оно существует
во времени и в истории, но здесь, однако, его онтологический статус —
особый. Если результаты других видов деятельности фиксируют в себе
постоянный дух исторических изменений и подвержены этому духу, поскольку в них
отражаются определенные интересы, связанные с сиюминутной реальностью,
то искусство вводит свой продукт, прекрасное, в историю так, что исторически
конкретный, чувственный образ прорывает ограниченность настоящего,
кристаллизируя в себе все стадии времени: прошлое, настоящее и будущее;
рожденный определенным историческим моментом, он вбирает в себя все возможности
этого момента. Продукт искусства несет на себе отпечатки истории, он —
отражение своей эпохи. Взлеты и падения искусства связаны со временем, зависят
от общих тенденций исторического развития. Однако принципы, на которых
основано искусство, оберегают его структуру от разрушительного влияния эпохи;
в своей внутренней сущности искусство оказывается незатронутым
разделением труда, оно противостоит тем видам деятельности, которые требуют только
частичного человека. Искусство— больше, чем историческое свидетельство
развития культуры, оно одновременно в истории и вне ее. Но вневременность
искусства — это не вневременность и вечность законов природы и морали с
их абсолютной значимостью для всех эпох, подчиняющих себе все живущее.
Вневременность противостоит серьезности закона как видимость и сохраняет в
неприкосновенности чувственное содержание.
Время, зафиксированное в художественном образе, является метаистори-
ческим в том смысле, что чувственное содержание оформляется деятельностью
человека таким образом, что оно само, а не нечто ему гетерогенное, становится
отрицанием своего же временного характера. Отсюда вытекает возможность
редукции культуры к художественной культуре, к искусству.
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера JÉ© 311
Исходным пунктом шиллеровской культурологии стал тезис о всеобщем
разделении труда, которое есть следствие культурного развития человечества56.
Искусство сохранило свою целостносную природу тем, что в нем было изначально
достигнуто равновесие сущностных сил субъекта. Процесс саморазвертывания
общественного разделения труда был описан Шиллером
феноменологически как исторически необходимая стадия развития культуры, но причины этого
процесса остались от поэта скрытыми. Шиллер видел как позитивное значение
разделения труда, так и негативные его последствия для отдельного
индивида, который в общекультурном контексте становился одномерным, становился
лишь моментом наполненного времени, имеющего четко фиксированные,
определенные временем и реальностью границы. Культура, опыт человечества,
таким образом, конституируются как сумма совместного труда индивидов, труд
которых в силу однонаправленности времени «предельно линеен, однозначен и
не имеет объемных характеристик»57. Искусство как творческая деятельность
преодолевает однонаправленность времени, оно по сути дела есть некий цикл
снятия времени, вернее, интегративная сумма всех временных определений.
Необходимость найти такой вид человеческой деятельности, в котором
осуществилось бы тождество индивида и рода, другими словами, индивид преодолел
бы свою временную ограниченность, а идея развития культуры человечества
приобрела, сохраняя свою значимость для любого момента истории, для
индивида, чувственно-конкретный образ. Она не случайно возникает у Шиллера. Он
интуитивно наталкивался на диалектику частичного и всеобщего труда, и тот и
другой предстают в его теории в диалектической связанности. Маркс,
указывает В. С. Библер, анализирует всеобщий труд, противопоставляя его труду
частичному. Всеобщий труд есть «полное в пределах всего общества реализуемое
(существующее как предел, как идеализация) воплощение труда совместного».
Всеобщий труд — это такая форма труда, в котором «органически совпадают
производство продукта и производство всеобщей творческой личности
субъекта»58. В эпохе, простирающейся с XVII до начала XX века, существует
определенное противостояние совместного труда, то есть сферы непосредственного
материального производства, труду всеобщему. Совместный труд (для
отдельных индивидов частичный) объединяет людей в одном пространстве (будь то
фабрика или мануфактура), где каждый работник в результате разделения труда
производит полуфабрикат. «Совокупный эффект увеличения
производительности труда, не сводимый к сумме усилий отдельных людей, здесь связан
именно с таким пространственным формированием совокупного (из многих орудий
составленного) орудия производства и совокупного (из многих активных точек
составленного) работника производства. Труд отдельной "точки" — в идеале —
предельно линеен, однозначен, не имеет объемных характеристик»59. В отличие
от него всеобщий труд — для данной эпохи — труд в науке и искусстве не тре-
56 Каган М. С. Морфология искусства. Л.: Искусство, 1972. С. 138.
57 Библер В. С. Мышление как творчество. Введение в логику мысленного диалога. М.:
Политиздат, 1975. С. 245.
58 Там же. С. 243—244.
59 Там же. С. 245.
312 S^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
бует общего пространства деятельности. Всеобщность труда в науке и
искусстве задана культурно-исторически, как духовная культура, которая реализуется и
развивается ученым или художником в процессе переинтеграции в творческой
лаборатории личности «всеобщей культуры мышления», и не только
мышления, а всей области духовной жизни человечества. Этот путь освоения
человеком культуры и, следовательно, собственной творческой личности есть процесс
интериоризации всеобщего социального опыта и знаний с последующей его
переинтеграцией, позволяющей получить единственно возможную для данной
эпохи форму экстериоризации культурного опыта человечества, его прирост в
виде уникального научного открытия или эстетического и художественного
освоения мира. «Общность имеет здесь смысл только как момент всеобщности и
личностности труда»60. Глубинная связь материального производства, практики
с этими формами всеобщего труда, материального производства и
производства идей осталась скрытой от Шиллера. Духовная культура понималась им как
реализация требований разума в определенных эмпирических условиях через
деятельность всего человечества. Мир форм, идей разума, его законов,
получающих в процессе деятельности свое содержание от времени, есть культурный
опыт человечества, который переинтегрируется творческой личностью.
Шиллер проницательно заметил всю сложность этого процесса в обществе
отчуждения труда. Разделение труда присутствует не только в материальном
производстве, оно поразило также сферу духовной деятельности; творческая
личность перестала быть целостным субъектом; конфликт способностей человека,
рожденный разделением труда, становится внутренней сущностью творческой
личности. И если «социум культуры» испытывает на себе давление разделения
труда, то, следовательно, главной задачей воли творческой личности
становится противодействие этому давлению. Опыт, согласно Шиллеру, не может быть
признан последней инстанцией для творца культуры, ибо он всего лишь
негативный опыт подчинения личности роду, противоречащий идее культуры;
реальный опыт должен быть переработан таким образом, чтобы человек получил
в конкретном явлении идею культуры, смысл которой состоит в преодолении
кажущейся фатальной фрагментарности исторического человека. Наука,
опирающаяся только на реальный опыт, не может этого сделать; постулаты
практического разума слишком абстрактны, так как их функция ограничивается лишь
защитой интересов своего рода. Только целостная природа искусства позволяет
человеческому воображению вобрать в себя опыт прошлого и настоящего и
преобразовать его, чтобы в нем стала зримой его трансцендентальная основа,
чтобы культура не замкнулась на эмпирической данности, а сохранила свое
творческое начало. Воображение создает такой продукт, которым мы наслаждаемся
как индивиды и как род. Этот продукт — красота. В нем и только в нем явление
манифестирует идею культуры. Эстетическая культура создается, считает
Шиллер, особым культурным социумом, подчиняющимся жестким законам,
определенным характером художественной деятельности. Шиллер называет его
эстетическим государством. Слово «государство» здесь, бесспорно, — метафора,
оно подчеркивает наличие системы норм поведения субъекта как носителя эсте-
60 Там же. С. 246.
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера J£d 313
тической культуры. «Эстетическое государство» Шиллера неразрывно связано
с размышлениями Канта о культуре общения, о формах межсубъектных связей,
характер которых конституируется культурой. Шиллер пишет: «Если в
динамическом правовом государстве человек противостоит человеку как некоторая
сила и ограничивает его деятельность, если в этическом государстве
обязанности человека предполагает величие закона, которое связывает его волю, то в
кругу прекрасного общения, в эстетическом государстве, человек может явиться
лишь как форма, может противостоять как объект свободной игры. Свободой
давать свободу — вот закон этого государства» (6, 355).
Шиллеровская концепция эстетического воспитания, в которой путем
взаимного ограничения уравновешиваются разум и чувство, обращенная к
современности, выглядит противоречиво. Историческое развитие общества с его
социальным разделением может создать условия, когда идеал гармонии
«прекрасной души» сам станет «вреднейшим злоупотреблением идеалом
совершенства» (6, 294). И тогда на уровне эстетической культуры повторится то, что
в социальной практике пытались осуществить якобинцы, с тем лишь отличием,
что установленный в обществе порядок создаст идеологию тех, чья
политическая и практическая уверенность приобретет форму закона, а идеал «прекрасной
души» будет полностью гармонировать с этой узаконенной идеологией.
История «искусства» тоталитарных режимов с их тягой к так называемой
классической ясности, к гармонии духовной и физической, к ее «реалистическому»
отображению, тягой к так называемой «субстанциональности», в которой якобы
заключена целостность национального характера, естественно, с точки зрения
расовой или классовой, дает нам многочисленные примеры извращения идеи
целостности сущностных сил человека. Идеал как бы оправдывает бытие
«прекрасной души», которая, чтобы остаться цельной, не разорванной
противоречиями, должна в лучшем случае дистанцироваться от источника противоречий,
а в практике искусства тоталитарных режимов — создать образ устранителя
этих противоречий, воплощающего в себе нерушимое единство расовых или
же классовых черт (а сейчас в реликтах тоталитарного искусства — расовых и
классовых одновременно). То, что эта душа обходит стороной проблемы мира и
в своем «благородстве» пытается преобразовать мир по собственному образу и
подобию, превращает ее идеальность в страшный и уродливый образ.
Искусство, отражение такой души, становится важнейшим орудием репрессивной
культуры, воплощением несвободы.
Конечно, исторический опыт Шиллера не давал ему возможности
прогнозировать появление тоталитарных режимов и искусствоподобных продуктов их
идеологии. Однако логика дедукции и всех культурологических и антрополо-
го-эстетических построений Шиллера, согласно которым искусство есть
чувственное воплощение свободы и соединение свободы с живым образом, хотя и
в видимости, делает человеческую чувственность особенно восприимчивой к
диктату абстрактных, враждебных ее природе постулатов идеологии, лишенной
жизненного содержания. Красота и ее творец у Шиллера противостоят
действительности, ее противоречиям, но не как модель ее сиюминутного
насильственного переустройства и не как иллюзорная модель для консервации разорванной
314 SL
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
противоречиями эмпирической данности, гармоничной лишь в голове создателя
этой модели, а как вечная возможность созидания человеческого бытия из
свободы, всегда присутствующая в истории, естественное течение которой и
деятельность художника есть, конечно, расширение ареала этой свободы.
Другой идеал культуры, не захваченной идеей равновесия душевных сил
человека, как показывает Г. Маркузе, скрывает в себе «риск катастрофы»61 при
освобождении чувственного мира от морального принуждения, если
чувственность не вступает в высшее единство. «В других странах света начнут чтить
человека в негре, а в Европе начнут позорить его в мыслителе. Старые
принципы останутся, они лишь будут носить покров, и философия одолжит свое
имя порабощению, которое прежде всего прикрывалось авторитетом церкви.
Испуганные свободой, которая в первых своих попытках всегда являет свою
враждебность, здесь бросятся в объятия удобному рабству, там же, доведенные
педантичною опекою, кинутся в дикую необузданность естественного
состояния. Узурпация сошлется на слабость человеческой природы, мятеж — на
достоинство его, пока не вмешается великая властительница всех людских дел,
слепая сила, и не разрешит кажущегося спора грубым кулачным боем» (6, 272).
Разум не должен бороться с этой грубой силой, однако его цель — вооружить
самого достойнейшего из борцов, подобно тому, как Зевс вооружил Ахилла, и
этот герой обретет силы противодействовать дегуманизирующим силам
реальности (6, 272). Шиллер, пишет Маркузе, «не имел дела <...> с
катастрофическими изменениями в социальной структуре, которая должна была вызвать этот
скачок (от старой к новой культуре. — А. А.)»62 — скачок, восстанавливающий
тотальность человеческой природы, но ни в коем случае не гармонизирующее
сосуществование природы и противоестественности. «Неверно, что развитие
отдельных сил должно влечь за собой пожертвование целостностью; или же
сколько бы законы природы к этому не стремились, все же в нашей власти при
помощи искусства еще более высокого должно находиться восстановление этой
уничтоженной искусством целостности нашей природы» (6, 270).
К разрушителям целостности, за уничтожение которой ответственно
ставшее неверным своему назначению искусство, Шиллер причисляет «научную
и нравственную культуру», ибо «лишь тогда обнаружит себя совершенство
человека, когда научная и нравственная культура опять растворятся в
красоте»63. Это понятие красоты, превращение тотальности реальности в
прекрасный мир остается идеалом («идеей неопределенного максимума»). И. Г. Фихте
попытался найти уязвимые моменты в шиллеровской теории, в которой, по
его мнению, возникает порочный круг, так как, с одной стороны, неразумно
делать свободными людей, прежде чем разовьется их эстетическое чувство, а с
другой стороны, невозможно это чувство развить, прежде чем они станут
свободными; и идея возвысить людей с помощью эстетического воспитания до
положения свободных и вместе с этой идеей и самое свободу, «вращает нас в
61 Marcuse Η. Triebstruktur und Gesellschaft. Ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud. Frankfurt
am Main, 1973. S. 190.
62 Ibid. S. 191.
63 Schiller F. Briefe in 6 Bänden. Bd. 2. Stuttgart, 1906. S. 225—226.
IV. Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера J& 315
кругу, если мы до этого не найдем средства пробудить в индивидах, в
немногочисленной части огромной массы людей мужество не быть ни для кого
господами и слугами»64. Сам Фихте отказался от того способа, каким Шиллер
связывал красоту и свободу. Искусство, по его мнению, не делает людей лучше, оно
подготавливает людей к свободе. Человек должен сначала сделать свободным
себя, прежде чем он освободит других; для этого эстетическое чувство дает
ему прочную опору во внутреннем мире, и у кого отсутствует «этот дух, тот
не хочет освободить ни себя ни других, а он хочет свергнуть власть имущих,
чтобы заступить на их место, будь то под формой свободы; он хочет изменить
лишь образ рабства»65.
Возвращаясь к шиллеровскому пониманию искусства как игры, мы можем
сказать, что эстетический подход к действительности заключается здесь не
только в овладении техникой искусства (профессиональное умение может быть на
службе управляемой обществом сублимации), но и в тотализации, где средство
и цель, состояние и действие связаны друг с другом66. Именно игра
обнаруживает первоначальные формы свободы, в ней остаток радости, указывающей на
неизвращенную подлинность эстетической свободы.
Трактат Шиллера называется «Письма об эстетическом воспитании
человека», но о самом процессе воспитания в нем говорится совсем немного, и это
происходит в эпоху создания различных воспитательных проектов. При чтении
трактата бросается в глаза тот факт, что слово воспитание (Erziehung)
встречается в нем редко и речь идет в основном об искусстве, игре и красоте. Кажется
даже, что поэт-философ очень далек от практики и его мысль развивается лишь
в сфере философской теории. Шиллер вообще не рассматривает, как связать
теорию и практику, чего требовал Кант, так и не вдается в обсуждение конкретных
проблем, например до какого возраста должно длиться эстетическое
воспитание. Однако Шиллер никогда бы не признал, что его проект эстетического
воспитания ограничен и далек от практики. В своих письмах он оспаривает точку
зрения, что понятие эстетического ограничивает, сужает понятие воспитания,
поскольку для него понятие эстетического — самое широкое. Ведь это понятие
относится, согласно Шиллеру, не изолированно к чувственности, познанию и
воле человека, а обращено ко всем человеческим способностям одновременно,
это понятие направлено на человека как на целостность. Эстетическое не
ограничивает, а наоборот, расширяет понятие воспитания. В этом смысле Шиллер,
конечно, не отказывается от самого принципа воспитания человека, но
понимает его иначе, нежели Кант, в системе которого педагогика и воспитание играют
важную роль как теоретическое и практическое осмысление, преодоление
разрыва между сферами природы и свободы.
Труды Канта, касающиеся педагогических проблем, вышли в 1803 году,
незадолго до смерти кенигсбергского философа, то есть позже шиллеровских
«Писем...». Однако идеи, развивавшиеся в них, для внимательных читателей Канта
были предсказуемы, так как проблемы воспитания философ касался в «Критике
64 Fichte J.G. Über den Gelehrten. Berlin, 1956. S. 286.
65 Fichte J.G. Werke. Berlin, 1845. Bd. 2. S. 711.
66 Pott H.-G. Op. cit. S. 131.
316 Sîb А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
способности суждения» и «Антропологии». Отнеся область культуры, в
частности культуру воспитания к сфере природы, Кант столкнулся с проблемой в
воспитании, с помощью которого человек становится человеком, когда
принуждение соединяется со свободой человека, которого необходимо воспитать, чтобы
последний рассматривал себя как свободное существо. С одной стороны,
развитие человека не может происходить исключительно из внутренних импульсов.
Это развитие нуждается в воспитывающей человека силе, действующей извне,
дающей человеку почувствовать «принуждение (Zwang) законов
человечества»67. С другой, — развитие человека должно достигаться его «собственными
усилиями»68, которые исходят из его самодеятельности. Здесь для Канта
возникает «одна из великих проблем воспитания, как возможно соединить при
законном принуждении подчинение со способностью пользоваться своей свободой.
Ибо принуждение необходимо! Как при принуждении я культивирую свободу?
Я должен приучить своего воспитанника терпеть принуждения его свободы и
научить его одновременно правильно пользоваться своей свободой»69.
Поэтому возникает парадокс свободы и принуждения, парадокс, замеченный самим
Кантом, который он не смог преодолеть в своей теории воспитания, однако
попытался его смягчить на просветительский манер. Во-первых, воспитательное
принуждение нужно ограничить необходимым и неизбежным, дабы
воспитание не смахивало на репрессию. В этой связи Кант выразительно указывает на
дрессировку, натаскивание, муштру, на наставление воспитанника. Во-вторых,
воспитаннику необходимо показать, что его цели могут быть достигнуты
только при противодействии и одновременно при сохранении целей других людей.
Воспитательное принуждение должно дать ему почувствовать, что путь к
свободе неудобен и связан с трудностями, которые ему нужно преодолеть. В-третьих,
воспитатель должен доказать воспитаннику, что принуждение, направленное на
него, идет ему на пользу и дает возможность для проявления его свободы. Все
рассуждения Канта упираются в необходимость принуждения как способа
воспитания70. Педагогические размышления Канта на первый взгляд отличаются
от шиллеровской идеи эстетической культуры, при этом два отличия заметны
сразу. Во-первых, определение воспитания как эстетического указывает на
ограничение самого понятия воспитания, следовательно, не вся область воспитания
привлекает к себе внимание поэта, а только ее часть. Во-вторых, это
ограничение, как уже указывалось, уводит мысль Шиллера в сторону от той
практической деятельности, которая не есть искусство. С первых же писем обозначилась
дистанция поэта от воспитательной практики, не имеющей отношения к
области красоты и искусства, прежде всего дистанция от практики политической.
Позиция Шиллера была определена сразу: он покидает область опыта, ибо он не
может быть прочной основой для воспитания, исторический опыт дает только
67 Kant I. Über Pädagogik // Kant I. Werkausgabe. Frankfurt am Main. Bd. 12. S. 698; AA, S. 442.
68 Kant I. op. cit. S. 698; Α., S. 441.
69 Kant I. op. cit. S. 711; AA, S. 453.
70 Brokofï J. Die Unvereinbarkeit von Erziehung und Ästhetischer Erziehung. Friedrich Schillers Briefe
über die ästhetische Erziehung des Menschen // Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft. 50 Jahrgang
2006. Göttingen 2006. S. 135.
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера JΩ 317
факты извращения воспитания как деятельности. Опыт может завести
философа только в тупик, поэтому идея человека стала для Шиллера масштабом для
осмысления случаев, которые не мог дать опыт. Похожим образом хочет и Кант
строить свою теорию воспитания на принципах, которые не зависят от опыта.
Если вернуться к первым девяти письмам, где развернута детальная критика
времени и культуры, то становится ясно, что события Французской революции,
насилие, деморализация сословий возвращают человечество в состояние
дикости. Уже было показано, что попытки одностороннего преодоления кризиса
к успеху привести не могут. Единственной областью, где возможно подлинное
воспитание с минимизацией принуждения, является область искусства и
красоты. В ней конституируется пространство, где не господствуют ни физические
«материальные», ни моральные силы. Превращение воспитания в воспитание
эстетическое должно преодолеть принуждение, которое оказывают на человека
в мире опыта материальные силы. Одновременно преодолевается принуждение
моральных сил, выступающее в образе нравственного закона. Таким образом,
возникает проект особого типа воспитания, которое снимает лежащий в основе
воспитания парадокс принуждения и свободы71. В трансцендентальном плане
эстетическое воспитание — прообраз всех форм воспитания. Наслаждаясь
прекрасным художественным произведением, человек переходит в эстетическое
состояние, которое Шиллер понимает как состояние свободы эстетической. Ее
необходимо ясно отличать от свободы политической и моральной. Окольным
путем через эстетическую свободу человек движется к другим типам свободы.
Состояние эстетической свободы, в которое искусство переносит человека,
наслаждающегося прекрасным художественным произведением, — необходимое
условие для достижения политической и моральной свободы.
В шиллеровском понятии эстетической свободы в скрытом виде мы находим
теорию возникновения культуры, относящуюся к отдельному человеку, а не ко
всему человеческому роду, поскольку его эстетическая теория обращена к
индивиду. Эстетическая свобода, исходящая из равновесия сил и принуждений,
определяющих человека, снимает любую определенность человека, состояние
эстетической свободы — это отрицание любой определенности, и в этом отношении
оно сравнимо с состоянием до всяких определений. Снятие каждой
определенности освобождает в человеке его абсолютную способность. Если искусство,
эстетический воспитатель человека, переводит его, как уже указывалось ранее,
в состояние tabula rasa, то может возникнуть подозрение, что это состояние
достигается искусством путем принуждения. Однако Шиллер лишает эти
подозрения какой либо основы. Он постоянно подчеркивает, что человек, ставший на
эстетическом пути свободным, обладает только способностью делать из себя то,
что он хочет. Эстетическая свобода вне всех детерминаций, и перед ней должно
склониться искусство, она — цель искусства. Но как искусство достигает
этого? Процесс художественного творчества Шиллер понимает как насильственное
обращение с материалом, в котором материя уничтожается формой. Человека
же, наслаждающегося искусством, оно оставляет невредимым: «Душа зрителя
или слушателя должна остаться вполне свободною и не пораненною; она долж-
71 Brokoff J. op. cit. S. 140.
318 SL
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
на выйти из заколдованной сферы художника столь же чистою и совершенною,
как из рук бога или творца. Самый легкомысленный предмет должен получить
такую обработку, чтобы мы остались расположенными перейти
непосредственно от него к самой строгой серьезности. Самый строгий материал должен быть
так обработан, чтобы в нас осталась способность непосредственного перехода к
самой легкой игре» (6, 326).
В изолированном пространстве изящного искусства снимается
принуждение, которое реальная жизнь постоянно осуществляет в отношении человека.
Если Шиллер обособляет сферу красоты и искусства, чтобы сделать ее
свободной, прежде всего внутренне, от принуждения, то возникает вопрос, как
человек достигает этого обособленного пространства опыта изящного искусства,
пространства, где царит эстетическая свобода, свобода в полном смысле
слова. Как попасть в оазис свободы? Принуждением затолкать в эту сферу нельзя,
ибо тогда была бы нарушена свобода выбора, входить в нее или же нет. Такое
желание должно быть результатом внутренней потребности, некоего
внутреннего импульса. К этому ведет, собственно, логика всех рассуждений Шиллера.
Юрген Брокофф в своем анализе «Писем...» показывает, что Шиллер свободу
выбора исключает72. Это приводит к тому, что самым неожиданным образом
всплывает парадокс свободы и принуждения: «эстетическая свобода,
предпосылка политической и моральной свободы, покупается несвободой»73. В сфере
эстетического созерцания и искусства несвободы нет. Ее нет и в эстетическом
воспитании, ибо не может быть изящного искусства, которое осуществляло
бы принуждение. Однако существует другой воспитатель, который
использует принуждение, и этот воспитатель действует вне сферы изящного искусства,
так сказать, в зоне обеспечения искусства. Шиллер говорит о нем в четвертом
письме. Это — «педагогический и политический художник». «Совсем иное дело
с художником-педагогом или — политиком, который в одно и то же время в
человеке видит как свой материал, так и свою задачу. Здесь цель возвращается к
материалу, и только потому части могут подчиниться целому, что целое служит
частям. Уважение, с которым политический мастер касается своего материала,
должно быть совершенно иным, чем то, с которым художник относится к
своему материалу; первый должен ценить своеобразие и индивидуальность
материала объективно и ради внутреннего единства, а не только субъективно и ради
обманчивого впечатления чувства» (6, 259) В этом случае принуждение —
объективная необходимость. Здесь, естественно, возникает сложность, так как
темой шиллеровских «Писем...» является не только воспитание искусством, но и
воспитание художника74. Воспитание художника не исчерпывается пониманием
искусства как свободной игры, его необходимо также понимать как освоение
художником навыков искусства, которое есть не что иное, как овладение
техническим мастерством. Само по себе оно не эстетическое воспитание, хотя и
осуществляется в его тени. Принуждение, осуществляемое в отношении человека
72 Brokkoff J. op. cit. S. 144.
73 Brokkoff J. op. cit. S. 144.
74 Wilkinson Ε. M., Willoughby L. A. Schillers Ästhetische Erziehung des Menschen. Eine Einführung.
München, 1977. S. 92.
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера J& 319
педагогическим и политическим художником, в проекте Шиллера — средство,
которое должно гарантировать возможность процесса самого формирования
эстетического воспитания. Человека необходимо сделать эстетическим, а это
означает чувственного человека превратить в разумного, то есть вывести его
из физического (материального) состояния и открыть ему путь к эстетической
свободе, и для этого необходимо вмешательство в природу человека. Другими
словами, человек становится объектом преобразовательной деятельности.
«Чтобы эстетического человека привести к разумению и к высоким помышлениям,
достаточно представить ему важные побудительные причины, в то время как
можно вполне пересоздать природу чувственного человека, чтобы добиться от
него чего-либо подобного» (6, 329).
Преобразующее вмешательство в природу человека несовместимо с
самодеятельностью и его свободой. Человек превращается в материал для
педагогического и политического художника. Этот материал нуждается в формировании:
он должен стать формой как в искусстве, так и в реальной жизни, превращение
материала в форму — это акт насилия. Различие между
педагогически-политическим художником и изящным художником состоит, следовательно, не в
насильственном акте создания формы, различие состоит в несходстве материала.
Материал педагогического и политического художника, в противоположность
материалу изящного художника, не мертв, речь идет о живом человеке.
Естественно, Шиллер не мыслит деятельность педагога и политика как насилие, как
репрессию; как и у Канта, речь здесь идет о научении пользоваться свободой
собственной при уважении свободы других, а не о «злоупотреблении идеалом
совершенства» с помощью гильотины. У Шиллера педагог и политик свою
задачу должны видеть в том, чтобы подготовить человека к процессу
самоформирования, тем самым, по его замыслу, минимизируются репрессивные моменты
культуры, и это может открыть путь к эстетическому человеку. В роли
педагогического и политического художника Шиллер, конечно, видит себя самого.
Манифестация красоты открывает широкое пространство игры, и если
сущностным отношением человека в отчужденном обществе (опыт отчуждения был
исходным пунктом размышлений Шиллера) является ориентированность на
рынок, то игра-искусство открывает возможность осуществления неотчужденной
общественной формации.
Постулировав основной закон эстетического государства, в котором человек
человеку противостоит «только как объект свободной игры»: свободой давать
свободу, — Шиллер раскрывает общественный характер. Там, где «общение в
прекрасном» объединяет общество, человек связывается с целостностью
ансамбля своих сущностных сил и становится представителем рода (6, 356). «В
эстетическом государстве все, даже служебное орудие, является свободным
гражданином <...> и рассудок, насильно подчиняющий толпу своим целям, должен
спрашивать здесь о согласии. Итак, здесь, в царстве эстетической видимости
осуществляется идеал равенства <...>» (6, 357).
Шиллеровская теория эстетического государства очень долго понималась
как чисто утопическая, хотя «коэффициент» утопичности в ней минимальный
по сравнению с проектами социальной инженерии, которые в истории XX века
320 ®ь
А. Г. Лствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
представлялись людям, их осуществлявшим, научно обоснованными, более
того, удовлетворявшими так называемому критерию истины, каковой
объявлялась практика. У Шиллера искусство и игра неотделимы друг от друга, но игра
охватывает более широкую область жизни, нежели искусство. Когда Шиллер
предлагает игру в качестве терапии культуры, то он думает исключительно об
изящных искусствах, о высоком искусстве. В исторической перспективе учение
об эстетическом государстве оказалось не столь утопичным, как это виделось
многим его критикам. Если посмотреть на культуру современного мира, то
нельзя опровергнуть тот факт, что эстетическое и игровое поле культуры очень
сильно расширилось. Это расширение соприкоснулось с проблемами,
существовавшими и поныне существующими в буржуазном обществе, которые,
несомненно, воздействуют на это поле. В эпоху электронных средств массовых
коммуникаций пространство игры стало огромным, и шиллеровская утопия
играющего общества, как заметил Рюдигер Сафрански, осуществилась
«поразительно банальным образом»75. Игра стала болезнью современной цивилизации;
она заполнила медийное пространство, сделав видимость конкурентом
реальности, поглощающим реальность, что совсем не говорит о расширении ареала
свободы и независимости человека от враждебных ему детерминантов. Задача
избавления игры от внеположенных ей моментов остается актуальной, как и во
времена Ф. Шиллера. Кризис культуры не миновал. Он продолжается. И
поэтому мысли Шиллера о его преодолении как никогда современны.
На актуальность этих мыслей указывал в своей книге «Эрос и цивилизация»
такой проницательный ученый, как Герберт Маркузе, высоко оценивавший
вклад Шиллера в философскую мысль. «В подлинно человеческой цивилизации
человеческое существование будет скорее напоминать игру, чем труд, и человек
будет жить скорее в сфере видимости, чем нужды. Эти идеи — одно из наиболее
значительных достижений человеческой мысли. Важно понять, что речь идет не
о трансцендентальном, "внутреннем" освобождении от действительности или
просто интеллектуальной свободе, на чем недвусмысленно настаивает Шиллер
(6; 317, 351, 352), но о свободе в самой действительности. Это —
бесчеловечная действительность нужды и недостатка, которая "теряет свою серьезность"
тогда, когда нужда и недостаток могут быть удовлетворены без отчужденного
труда. Только тогда человек свободен для "игры" своими и природными
способностями и возможностями, и только "играя" ими, он свободен. Его миром
становится видимость (Schein), а его порядком — красота. Это осуществление
свободы, игра, которая больше принудительной физической и моральной
реальности: "В приятном, в добре, в совершенстве человек проявляет только свою
серьезность, с красотой же он играет" (6, 301). Такие формулировки могли бы
выглядеть как безответственный "эстетизм", если бы мир игры был всего лишь
орнаментом, роскошью, праздником в репрессивном в остальном мире. Но в
данном случае эстетическая функция понимается как принцип, организующий
человеческое существование в целом. И только став "всеобщим" он способен
это сделать. Эстетическая культура предполагает "совершенный переворот все-
75 Safranski R. Schiller als Philosoph // Schiller als Philosoph. Eine Anthologie. Ausgewählt und mit
einem Essay versehen von R. Safranski. Berlin, 2005. S. 31.
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера J& 321
го способа ощущать" (6, 350), и такая революция становится возможной только
при достижении цивилизацией высочайшей физической и интеллектуальной
зрелости. Только тогда, когда на смену "принуждению потребностей" придет
"понуждение избытка" (изобилия), человеческое существование получит
толчок к «свободному движению, которое само для себя есть и цель, и средство»
(6, 351). Освобождение от гнета целей, достижение которых приносит
страдания, и навязываемых нуждой функциональных ролей (performances) поможет
человеку вернуть себе свободу "быть тем, чем он должен быть" (6, 321). Но то,
что "должно" быть, — это сама свобода: свобода играть»76.
6. Проблема типологии художественных культур
и идея культуристорического синтеза в статье Ф. Шиллера
«О наивной и сентиментальной поэзии»
В «Письмах об эстетическом воспитании человека» основное внимание
Шиллера было сосредоточено на выявлении структурных особенностей
искусства, принципов его внутренней организации, благодаря которым искусство в
отличие от других видов человеческой деятельности сохраняет единство
сущностных сил человека, позволяющее видеть в нем модель идеального
функционирования культуры. Трансцендентальная дедукция и трансцендентальная
история искусства показали, как считал Шиллер, логическую и историческую
необходимость существования искусства в культуре, поскольку искусство есть
единственная из всех форм культуры, которая самое культуру представляет не
как результат деятельности человека, основанной на оппозиции между
потребностями рода и индивида и требующей от индивида развития лишь части его
способностей, необходимой роду, а как гармонию рода и индивида, где к роду
и индивиду предъявляется требование быть тождественными друг другу. Тота-
лизирующее воздействие искусства на людей является доказательством тому,
что при всей мозаичности культуры, вызванной антагонизмом развития
человеческих способностей, в культуре есть область, которая хотя и находится в
противоречии с реальным существованием культуры, но в то же время образует
единство культуросозидающих сил и в живом образе красоты, запечатлевшем
это единство. Художник осознает мир, исходя из высшей идеи целостности
жизни, в которой снимается неизбежная фрагментарность сознания человека, более
того, художник не ограничивается постулированием этой идеи, он способен ее
также воплотить77.
Незадолго до Великой французской революции в лекции «В чем состоит
изучение мировой истории и какова цель этого изучения» Шиллер говорил о
необходимости привнесения разумной цели в мировой процесс и
телеологического начала в науку. Они суть не что иное, как гармония внутреннего мира чело-
76 Маркузе Г. Эрос и цивилизация // Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. М.: Аст,
2003. С. 164.
77 KorffK. Α. Geist der Goethe Zeit. Teil 1, 2. Bd. 2. Leipzig, 1966. S. 476.
322 Si-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
века, проецированная в мир вещей» (4, 25). После создания «Писем...» Шиллер
был уверен, что ему удалось не только найти эту внутреннюю гармонию, но и
показать, как она находит свое выражение в конкретном виде человеческой
деятельности — в искусстве.
Все формы культуры, их историческое развитие мы можем рассматривать
лишь с точки зрения объективации в них целостности человеческой природы.
Следовательно, историю можно понять как систему, а не как конгломерат
случайных явлений, анализируя эстетическую культуру, ибо только в ней одной мы
находим не абстрактное, а конкретное воплощение некоего телеологического
начала, которое скрывается за хаосом созданных антагонизмом человеческих
сил иных форм культуры. Шиллер редуцирует историю культуры к истории
художественной культуры и искусства. Статья «О наивной и сентиментальной
поэзии», последнее крупное теоретической произведение Шиллера, является
органичным продолжением и развитием идей, сформулированных в эстетических
письмах. В то же время она отличается от них более глубоким проникновением
в историю художественной культуры.
Многообразие проблем, которое дает история искусства, не есть следствие
хаотичности и бессистемности в развитии этого вида человеческой
деятельности, напротив, оно, по Шиллеру, — результат сложной связи искусства и истории,
обусловленной структурой самого искусства, которая при своей инвариантности
позволяет ему создавать множество форм, индивидуальных и неповторимых, но
одновременно сохраняющих в определенных исторических условиях
глубинную связь друг с другом. Эта связь образуется на основе единого
художественного видения мира, свойственного той или иной исторической эпохе.
Постижение закономерностей развития искусства достигается на пути типологического
изучения художественной культуры. Типология искусства должна быть
выведена, согласно Шиллеру, из смены одних художественных форм другими, из
исторического изменения принципов художественного формообразования. В статье
«О наивной и сентиментальной поэзии», указывает М. С. Каган, «идея
исторического развития искусства, отношения искусства современного и античного
сплетена с проблемой различия творческих методов художественного освоения
мира и неодинаковых возможностей их развития в разных исторических
условиях»78.
Стержнем шиллеровской типологии искусства является динамическая
оппозиция природа — искусство, которая в определенных исторических и
социально-психологических условиях по-разному отражается в поэзии. Под природой
Шиллер понимает здесь не «действительную», «грубую» природу, служащую
материей наших ощущений, не мир феноменов и вещей, потребных
человеческому рассудку для осуществления каких-либо целей, а истинную природу,
космос, в котором обнаруживается «внутренняя необходимость бытия», свободное
от принуждений бытие, пребывание вещей в силу их самих, существование в
силу собственных и неизменных законов (6, 386). Это автономный мир вещей,
сохраняющий свою внутреннюю продуктивную силу, направленную на то, что-
78 Каган М. С. Эстетика Гердера, Шиллера, Гете // Лекции по истории эстетики. Кн. 2. Л.: ЛГУ,
1974. С. 81.
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера J& Ъ2Ъ
бы пребывать в тождестве с самим собой. Искусство, противостоящий природе
член оппозиции, в данном контексте следует понимать не как воплощение
эстетической свободы, а как исторически развитую цивилизацию, искусственность,
неестественность, культуру, в которой человек находится в разладе с природой.
Шиллер, как справедливо считает Бенно фон Визе, фиксирует здесь
«современную, неизбежную историческую ситуацию отчужденного от природы,
освобожденного разума и больше не тождественного со своим человеческим бытием
человека»79.
Антитетическое противопоставление искусства (культуры) природе
необходимо Шиллеру для выделения двух существующих, по его мнению, в истории
типов художественной культуры, художественного видения, которые он называет
наивным и сентиментальным. Термины «наивный» и «сентиментальный»
Шиллер заимствовал из эстетической традиции эпохи Просвещения. Термин
«наивный» мы встречаем у М. Мендельсона, К. М. Виланда, Канта, а также у Дидро.
Здесь речь идет прежде всего о психологическом типе человека, для Шиллера
же в первую очередь важна трансцендентально-онтологическая сторона. С
наивным мы сталкиваемся тогда, когда природа в художественной деятельности
встречается с культурой и посрамляет ее, лишает ее какой-либо значимости.
Наивное видение мира возникает, когда в человеке природное, вечное,
постоянно в себе пребывающее приходит в соприкосновение с культурой.
Наивное не есть слепое подражание природе, ее копия. Наивный поэт показывает
нам природу как свободное от принуждения бытие. Мир природы свободен от
воздействия гетерогенных ему целей, он есть самоцель, он представляет собой
абсолютное бытие, аналог понятия Бога. В наивной поэзии природа полностью
растворила в себе искусство, она стала ее субъектом; здесь полное слияние
человека с природой, ибо «человек находит вечное единство с самим собой» (6,
386). Это состояние детства культуры. Оно радикально отличается от состояния
естественного человека Руссо, поскольку полная детерминированность
человека внешней природой есть состояние дикаря. Наивный человек как творение
здоровой, истинной природы находится в единении с самим собой. Его культура
существует в рамках природы, она неразрывно связана невидимыми нитями с
природой. Наивность — необходимое условие любого художественного гения.
Она — субстрат всего искусства. «Наивным должен быть каждый истинный
гений. Он действует не по изученным правилам, а посредством догадок и чувств;
но его догадка — внушение божества (все, что творит здоровая природа,
божественно), его чувства — закон для всех времен и поколений» (6, 396). Здесь
необходимо указать на близость шиллеровского понятия наивного понятию гения у
Канта80. Однако в понимании природы Шиллер отходит от Канта, приближаясь
к Гете. Природа — вечная продуктивная сила, которая полностью владеет
чувствами поэта, создавая образ полноты жизни. Наивный гений не нуждается в том,
чтобы ограничивать свои творческие возможности внешними для них
правилами вкуса. Опасности произвола для него не существует, так как сама природа
дает ему внутреннюю меру. Границы его возможностей, которые он не может
79 Wiese В., von. Schiller. Stuttgart, 1959. S. 532.
80 KorfïK. A. Geist der Goethe Zeit. Teil 1, 2. Leipzig, 1966. S. 477.
324 Sîb
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
преступить, и созданный его творческой интуицией образ находятся в полной
гармонии. В наивной поэзии ее творец полностью слит с объектом, «объект
владеет им целиком, его сердце не лежит, подобно дешевому металлу, тут же на
поверхности, но хочет, чтобы его, как золото, искали в глубине». Автор тут
тождественен своему произведению, «ибо произведение — это он» (6, 405).
Мысль о тождественности художника и его произведения мы встретим
впоследствии у Фридриха Ницше в «Рождении трагедии из духа музыки».
Понятие «наивного», взятое у Шиллера, Ницше соединяет с шопенгауэровским
представлением о характере художественного творчества, в процессе которого
художник, будучи связан с мировой волей, по своему усмотрению играющей
человеческой судьбой, сам становится произведением искусства. «Наивное»
интегрируется Ницше в контексте дихотомии «дионисийского» и «аполлиний-
ского» видения мира. Именно здесь и обнаруживается существенное
различие между античностью немецкой классической философии и античностью,
которую видит опирающаяся на иррационализм культурология и эстетика
XIX века.
Свободно трактуя Шиллера, Ницше утверждает, что наивное «вовсе не есть
то простое, само из себя истекающее, как бы неизбежное состояние человека,
которое нам пришлось бы встретить у дверей всякой культуры в виде
первобытного рая: так думали только во времена, когда в Эмиле Жан-Жака Руссо тоже
хотели видеть художника и когда воображали, что нашли его в Гомере, такого на
лоне природы выросшего художника Эмиля»81. Ход мысли Ницше не оставляет
никакого сомнения в том, что шиллеровское понимание «наивного»
представляет собой проекцию на античную культуру понятия «естественного человека»,
сконструированного сообразно педагогическим принципам XVIII столетия.
«Наивное», которое мы, согласно Ницше, встречаем в «аполлинийском» мире
гомеровского эпоса, на самом деле возвышается над поверженным миром
титанов, миром могучих аффектов, страстей, противодействующим любому
стремлению к гармонии, и «аполлинийское» есть всего лишь иллюзия преодоления
этого мира в царстве прекрасной видимости. «Там, где мы встречаем "наивное"
в искусстве, нам следует признать высшее действие аполлинийской культуры,
непременно долженствующей сперва ниспровергнуть царство титанов,
сокрушить чудовищ и при помощи мощных фантасмагорий и радостных иллюзий
выйти победительницей над страшной глубиной миросозерцания и над крайне
восприимчивым чувством страдания»82.
Если у Шиллера «наивное» всегда есть первозданное, гармоничное (это еще,
конечно, не означает что природное у Шиллера — носитель только всего
позитивного, достаточно вспомнить об отличии прекрасной природы от стихийной
и грубой), то для Нишце «аполлинийское» — как раз то высшее воплощение
искусственности художественного интеллекта в создании иллюзий, к «которым
часто прибегает природа для достижения своих целей».
Красота наивного — это тотальность человека на уровне природы,
единственно возможная непротиворечивая модель целостности сущностных сил че-
81 Nietzsche F. Werke in 10 Bänden. Leipzig, 1906. Bd.l. S. 64—65.
82 Nietzsche F. op. cit. S. 65.
IV. Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера J«S> 325
ловека, его истинной природы в мире, разорванном антагонизмами. У Ницше
все наоборот. Сквозь красоту видится подлинный страшный лик жизни. Не
идеал есть подлинная реальность, а то, что ему противостоит и противодействует.
Наивная поэзия, по Шиллеру, возникает и достигает своего расцвета в
античности и умирает вместе с ней. Человек в процессе развития культуры,
увеличивающегося разделения труда все больше и больше удаляется от природы.
В наивном человеке человек развитой культуры видит свое прошлое,
безвозвратно потерянное совершенство. Никакое подражание античным образцам не
сможет воскресить целостности наивного мироощущения, ибо сам человек уже
перестал быть наивным. Свобода античного художника дана ему природой. Это
ограниченная свобода, полностью совпадающая с необходимостью.
Современная культура строится не на законах природной необходимости,
а на принципах свободы. Она разрывается борьбой побуждений, которые
притязают на абсолютную значимость. Состояние гармонии природы и культуры,
природы и разума есть эстетическое состояние, созданное самой природой, и
если начальные стадии культуры сохраняют ее, создавая замечательные
образцы наивного искусства, как это имело место в Древней Греции, то более зрелая
культура уже не может довольствоваться этим равновесием, ибо ограниченные
рамки природы мешают самодеятельности человеческого разума. Динамика
развития культуры ускоряет ход времени, она — причина постоянных
изменений человека. Человек современной культуры есть становление, наивной —
устойчивое бытие, пребывание. Релевантным признаком первого можно считать
свободу, второго — необходимость.
Мы видели, что рождение человека и его культуры есть, согласно Шиллеру,
творческий акт истинной природы. Человек становится человеком только как
эстетический человек, в котором его духовные силы находятся в состоянии
взаимоограничения. Это как бы программа, модель того, к чему человек должен
стремиться, когда он уже перешел от состояния равновесия своих сущностных
сил, созданного природной необходимостью, к тем формам бытия, в основе
которых лежат определения свободы и разума. Человеческий дух только тогда
достигает самосознания, исторического самосознания, когда он на пути четкой
дифференциации становления и неизменного, тождественного с самим собой
бытия способен увидеть свое отличие от самого себя, находящегося на ступени
наивной культуры, когда он способен понять наивность, изначальное тождество
природы и культуры как живую модель абсолютного субъекта в образе
человека, модель-символ, которым наивный человек является не как самодеятельный
субъект, а как творение божественной природы, к которому человечество
должно стремиться уже не бессознательно, опираясь исключительно на благоволение
истинной, никогда не ошибающейся природы, а осознавая себя как свободный
род, целью разумного развития которого может стать только тотальность
духовных сил человека. Такая тотальность есть идеал для человека культуры, идея
исторического развития.
Здесь, по нашему мнению, заключено глубокое различие между теорией
культуры Шиллера и Канта. Для Канта незыблемой остается дихотомия
конечной цели природы в человеке и последней цели человека как автономного,
326 Sîb
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФМЯ. ИГРА
морального субъекта, вытекающая из его дуалистической модели человека.
Конечная цель природы в человеке есть, по Канту, культура, то есть способность
человека ставить цели в своей свободе при условии, что человек осознает себя
как свободное существо, но последняя цель человека есть его не обусловленная
ничем моральность, цель разума. У Шиллера цели природы и разума
совпадают. Они тождественны. Отличны лишь пути и возможности их осуществления.
Цель культуры есть цель природы. «Пока человек является чистой (но,
разумеется, не грубой) природой, он действует как нераздельное чувственное единство
и как гармоническое целое. Чувства и разум, способность к восприятию и
способность к самодеятельности еще не разделились в делах своих и еще не резко
противоречат друг другу. Восприятие человека — не бесформенная игра случая;
его мысли — не бессодержательная игра воображения: первое происходит из
закона необходимости, вторые — из действительности. Но когда человек вступает
в стадию культуры и к нему приложило свою руку искусство, в нем не остается
прежнего чувственного единства и он может проявлять себя лишь как единство
моральное, то есть стремление к единству. Согласие между восприятием и
мышлением существует теперь лишь идеально. Оно не в человеке, а вне его, как
мысль, которая должна быть реализована» (6, 409).
Отчуждение человека от природы на стадии развитой культуры приводит к
уничтожению тождества между бытием человека и его природой. Однако
нетождественность экзистенции и сущности есть условие самосознания,
направляющего культуру к ее высшей цели. Перед человеком возникает дилемма: остаться
на уровне необходимости и тем самым ограничить свой разум и культуру, или же
устремиться к своему высшему пределу через культуру, став свободным
существом, и в своей деятельности стремиться к достижению идеала. Шиллер считает,
что второму пути следует отдать предпочтение, ибо «высшая цель
человечности не достигается иначе как через прогресс, а естественный человек не может
двигаться вперед, не культивируясь и, следовательно, не переходя в человека
культурного» (6, 410). Искусство человека развитой культуры отличается от
наивного искусства. У наивного художника гармоническое единство его духовных
сил полностью выражает себя в действительности. Его творчество представляет
собой подражание действительному миру, то есть той гармонии природы и
человека, которая окружает художника и живет в нем. Напротив, современный
художник, для которого «гармоническое общее действие всей человеческой
природы является лишь идеей» (6, 409), стремится возвысить действительность до
идеала. Творчество для него — напряженный поиск тождества
действительности и идеи. Такое художественное видение Шиллер называет сентиментальным.
Сентиментальный художник — рефлектирующий художник. Идеал жизненной
полноты возникает в его сознании лишь в процессе рефлексии; свободный разум
такого художника осознает необходимость воссоздания в акте творчества идеала
целостности человеческой природы, который наивный художник
бессознательно несет в себе83. Как наивное, так и сентиментальное искусство предполагает
разделение природы и культуры (в шиллеровской терминологии — искусства),
естественного и искусственного, иначе существование человека невозможно.
KorffK. Α. Geist der Goethe Zeit. Teil 2. Leipzig, 1966. S. 477—478.
IV. Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера JΩ 327
Разница заключается в том, что сентиментальный поэт познал в себе свою
искусственность, видит в себе субъекта культуры, видит, что деятельность
человека развитой культуры отлична от природы. К природе он может вернуться лишь
опосредованно, выдвигая для своей деятельности созданный самосознанием
идеал. Наивный поэт достигает природы непосредственно, ибо в его сознании
этого разделения нет. Сентиментального художника мы можем считать
продуктом культуры, рефлектирующей себя, наивного — культуры, еще не
отделяющей себя от природы. Шиллеровская типология показывает нам возможности
искусства в разных исторических условиях, она определяет объект
художественного освоения мира, исходя из возможностей субъекта. «"Наивное"
человечество, — писал Шиллер В. Гумбольдту, — не обладает тем духовным
содержанием, какое охватывает культура "сентиментального" человека, однако форма
последнего не достигает изобразительности первого» (7, 372). По сравнению с
наивной сентиментальная поэзия обладает более глубоким содержанием, ибо ее
творец несет на себе отпечатки более сложного, более развитого мира
культуры, структура которого изменилась в направлении большей самостоятельности
ее элементов. Характер их связей между собой стал иным. Сентиментальному
поэту труднее преодолевать содержание формой, так как органичное вхождение
содержания в форму, каковое мы имеем в наивной поэзии, в определенной мере
обусловлено бедностью, неразвитостью содержания и наивному поэту легче
преодолевать его стилем, поскольку принципы стиля заданы ему гармонией его
внутренней сущности, ищущей свое соответствие в гармонии
действительного мира. Сентиментальному поэту приходится искать в разобщенности сил, в
разнообразии явлений культуры способ воплощения идеала, структура которого
должна быть структурой действительности, отличающейся от внешних связей
феноменов культуры тем, что она призвана показывать их истинную, внутренне
необходимую связь. Структура действительности тождественна истине; путь к
ней ведет через действительность, показывающую нам ее. Поиск истины есть
рефлексия сентиментального поэтом над впечатлением, «которое производят на
него предметы, и волнение, испытываемое им самим и передающееся нам,
основано на этом размышлении» (6, 419).
Сентиментальная поэзия определяется Шиллером как поэзия, стремящаяся
к идеалу. Но по своей поэтичности она уступает наивной, ибо для нее
существует опасность превращения в чистую идеальность, опасность потерять
действительность. «Мы должны также тщательно отделять действительность от
абсолютной идеи. По идее, "сентиментальная" поэзия является, конечно, вершиной,
и наивную равнять с ней нельзя. Но достичь своей идеи она не может, а если бы
достигла, то тем самым перестала бы быть поэтическим видом» (7, 373). Здесь
мы находим удивительную близость к гегелевской характеристике
романтической поэзии.
Устремленность сентиментальной (романтической) поэзии к идеалу таит в
себе угрозу потери чувственного содержания, превращения в чистую мысль,
что в конечном итоге приведет к трансформации искусства в иной вид
человеческой деятельности. Возникает конфликт между возможностями искусства
и его интенцией. Гегель на этом основании сделал вывод о неизбежной гибели
328 3^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
искусства. Для Шиллера такое решение проблемы было, конечно,
неприемлемым, ибо человек для него всегда существует как разумно-чувственное
единство, поскольку оно есть трансцендентальная предпосылка его бытия. Искусство
дает жизненный пример совершенства как созерцаемого явления, оно
символически предвосхищает будущее бытие человечества.
Оппозиция наивного и сентиментального служит основой
историко-философской концепции Шиллера. Ее смысл состоит в проникновении в сущность
человека, для того чтобы выявить пределы человеческих возможностей в
отношении к свободе, высшие возможности гуманизма в условиях разлада между
действительностью и идеалом. Оба типа искусства несводимы друг к другу, не
исчерпывают друг друга.
Наивная поэзия имеет преимущество перед сентиментальной как поэзия
более совершенной меры, сентиментальная превосходит наивную в
содержательном отношении. Развитие культуры ведет лишь к относительному прогрессу в
искусстве, искусство не только приобретает, но и многое теряет.
Сентиментальная поэзия отражает интенции культуры и ограниченные возможности
одномерного развития человека как субъекта культуры. «Но если в опыте "наивной"
поэзии я почти не нахожу бесконечности в содержании, то в "сентиментальной"
я так же редко нахожу бесконечность в форме, и вообще могут ли они
существовать без противоречия? Может ли чувственное представление быть
бесконечным, может ли быть бесконечное представленным? Только отделяя мысль
от ощущения, разум может превратить ее в абсолют, разум обнаруживает себя
как таковой только освободившись от всего эмпирического. Логический
идеал образуется абстрагированием от всякого опыта, что и уничтожает характер
"наивного" искусства. Но если рождение идеала действительно возможно лишь
путем абстрагирования, то что будет тогда с опытом» (7, 374—375).
Сентиментальную поэзию Шиллер делит на три вида: сатирическую,
элегическую и идиллическую. Сатирическая поэзия противопоставляет
неудовлетворяющей человека действительности идеал и рассматривает действительность
как объект отрицания с точки зрения идеала, патетически обличая ее или же
превращая в предмет комического осмеяния. Здесь, однако, перед художником
возникает сложная проблема сохранения природы искусства, ибо «цель поэзии
не согласуется ни с тоном осуждения, ни с тоном развлекательным. Первый
слишком серьезен для игры, которой поэзия должна быть всегда; второй
слишком фриволен для этой серьезности, что всегда лежит в основе поэтической
игры» (6, 414). Сознание человека не может отвернуться от моральных
противоречий, так как они порождают проблему свободы, проблему реализации ее в
действительности. Интеллектуальный интерес к этим противоречиям заложен в
сущности человека как субъекта культуры, но все же он есть нечто гетерогенное
природе искусства. Он нарушает принцип автономии искусства и,
следовательно, должен быть очищен от какого-либо намека на потребность. Это достигается
лишь путем трансформации идеи моральности в формы эстетического разума,
сохраняющие самодостаточность искусства. Возникает, таким образом,
сложная диалектическая связь между эстетикой и моральной культурой, в которой
эстетическое переводит противоречие между действительностью и идеалом в
IV Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера *i2> 329
свою сферу. «Карающая сатира достигает поэтической свободы, переходя в
возвышенное; сатира смеющаяся приобретает поэтическое содержание, трактуя
свой предмет как прекрасное»84 (6, 414).
Элегическая поэзия «противопоставляет природу искусству и идеал
действительности так, что изображение первых преобладает и удовольствие по
поводу этого становится господствующим переживанием» (6,421). В элегической
поэзии мы, согласно Шиллеру, сталкиваемся с двумя возможностями
изображения действительности и идеала: 1) природа и идеал становятся предметом
печали, когда природа рассматривается как безвозвратно ушедший в прошлое
«Золотой век», навсегда потерянное гармоническое бытие, а идеал предстает в
сознании художника недостижимой идеей; 2) природа и идеал являются
«предметом радости», если они переживаются художником как действительность.
В первом случае мы имеем элегию в более узком, во втором — идиллию в
более широком смысле (6, 421). Условность шиллеровской терминологии здесь,
конечно, очевидна, но суть дела не в дефинициях, а в попытке, как это следует
из определения идиллии, найти в искусстве пути для превращения идеала в
действительность, что должно привести к преодолению ограниченности
обоих исторических типов художественного сознания. Это определение —
особый культурно-исторический синтез, новое единство самосознания художника
и человека вообще. Предмет изображения идиллической поэзии— наивное
и счастливое человечество, безмятежность и гармония жизни, не затронутой
бурным развитием культуры и цивилизации. Динамизму культуры, урбанизму
современной цивилизации поэт противопоставляет простой пастушеский быт,
первозданную гармонию, приписывая им идилличность детства человечества
(6, 440). Антитеза, однако, не может быть самоцелью, она лишь средство для
того, чтобы показать человека в «состоянии гармонии и мира с самим собой
и с внешней средой», которой навсегда лишилась цивилизация, но к которой
должна стремиться как к своей конечной цели культура, осознающая свое
назначение восстановить тотальность человеческих способностей.
Художественный образ будет доказательством «осуществления такой идеи в чувственном
мире»; в нем она предстанет как реальность. Сила поэзии, ее устремленность
к идеалу должна прийти здесь на помощь разуму, который не может опереться
на действительный опыт культуры, опровергающий идею целостной природы
человека, ибо только поэзия с ее возможностями открыть человеку истину
способна сообщить идее наглядность, образность, «осуществляя ее в отдельном
случае» (6, 441). Однако если поэзия ограничивается изображением
примитивного бытия, она выполняет лишь компенсаторную функцию, исцеляет больную
душу, но ничего не дает здоровой. Завоевания культуры, расширяющиеся
возможности разума, достигшего самосознания, способность человека к
самоопределению на основе свободы не могут быть принесены в жертву душевному
покою, которым человек обладал на первоначальных стадиях своего
культурного бытия. Не возвращение назад, к детству человечества — цель поэзии, а
активизация всех сил человека для движения вперед «к нашей зрелости, чтобы
84 Эти мысли — развитие учения Канта о возвышенном, которое преобразуется Шиллером в
рамках его эстетического учения.
330 Sx-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
мы почувствовали награду бойца, счастье победителя — высшую гармонию».
Задача поэзии — сохранить пастушескую невинность в носителях культуры в
«условиях самой воинственной пламенной жизни, самого развитого мышления,
самого рафинированного искусства, высшей светской утонченности — одним
словом, идиллия, ведущая в Элизиум человека, для которого нет уже возврата
в Аркадию» (6, 445).
Идею необходимости культурно-исторического синтеза, который должна
осуществить поэзия в идиллии, Шиллер развивает, опираясь на кантовское
учение о категориях. Этот синтез мыслится Шиллером как исторически
обусловленная форма художественной диалектики, возникающая лишь в процессе
преодоления пропасти между идеалом и действительностью.
Согласно Канту, чистые рассудочные понятия категории образуют классы.
Каждый класс состоит из одной категориальной триады. Например, класс
категорий количества дает нам единство, множественность и целокупность
(тотальность). Поскольку тотальность «есть не что иное, как множественность,
рассматриваемая как единство, то она как третья категория представляет собой
соединение первой и второй категорий. Третью категорию мы, однако, не можем
считать чем-то производным от первых двух. Она «требует особого акта
рассудка, не тождественного с актом рассудка первой и второй категории». Она будет
основным понятием чистого рассудка85. У Шиллера наивная и сентиментальная
поэзия образуют типы художественного творчества, абсолютное воплощение
возможностей которых происходит лишь в отведенных им историей границах.
Каждый из типов в определенных исторических условиях реализует идею
развития человечества, и их дихотомическое разделение служит
противопоставлению двух типов культур, приобретающих для Шиллера смысл не только как
путь к типологическому анализу феноменов культуры, но главным образом как
путь к культурно-историческому синтезу, цель которого — попытка снять
антиномии современной поэту эпохи. Такой синтез есть трансцендентальная идея,
идея поэзии, понятая как единство ее исторических типов, лежащее в природе
художественной деятельности и воссоздаваемое в процессе исторического
развития искусства. Шиллер считает, что наивная поэзия, природа должны быть
восстановлены в сентиментальной поэзии. Сентиментальное видение мира
должно преодолеть разлад между действительностью и идеалом и, используя
все свои художественные потенции, воссоздать из самого себя наивное.
Высшее абсолютное понятие назначения человека и его культуры станет
тогда действительным; тождество человека и общества, его идеальность получит
индивидуальное воплощение, другими словами, в условиях культуры будет
реализовано наивное. Эта реализация возможна потому, что наивность есть
имманентное свойство художественного гения, возникающее из структуры самого
искусства, единственного вида деятельности, оставшегося не затронутым
разделением труда и сохранившим в неприкосновенности единство сил человека.
«Для читателя, интересующегося научной стороной вопроса, замечу, что оба
рода восприятия (наивный и сентиментальный. — Α. Α.), если они мыслятся
в высшем понятии, относятся между собой, как первая и вторая категория, так
Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 3. М.: Мысль, 1963—1966. С. 178.
IV. Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера j£5 331
как последняя возникает посредством соединения первой с прямой ее
противоположностью. Противоположностью наивного восприятия является
рефлектирующий рассудок, и сентиментальное настроение есть результат стремления
восстановить, по содержанию, наивное восприятие при условии рефлексии. Это
может произойти посредством осуществленного идеала, в котором искусство
вновь встречается с природой» (6, 446).
Из всех форм поэзии только идиллия открывает возможности соединения
природы и культуры. К идиллии поэт приходит в попытке «объективно
индивидуализировать идеал красоты». Идиллия — чистая поэзия, освобожденная от
всех внеэстетических влияний. Поэтический эффект создается тут без помощи
пафоса. Ни моральный, ни теоретический интересы не должны затрагивать в
идиллии форму прекрасного предмета, только красота имеет в ней абсолютную
значимость. В письме от 30 ноября 1795 года Шиллер пишет Гумбольдту о
своем намерении создать такую идиллию.
Сюжет планируемого Шиллером произведения — бракосочетание Геркулеса
и Гебы. Выбор сюжета не случаен. Геракл здесь — символ достигшего вершин
своих возможностей человека. Именно этот герой и цикл мифов о нем есть идея
исторического развития человека, преодолевающего стихийность природы,
побеждающего анархию витальных сил, восстанавливающего божественную
гармонию бытия. Не Прометей, титан, восставший на богов, символизирующий в
современную Шиллеру эпоху техническую культуру, разорвавшую связь с
природой, а человек-бог, человек-род, сохранивший ее в борьбе с враждебными ему
силами и возвысивший себя до бога, справляет на Олимпе вместе с богами свой
триумф. Апофеоз свободного человечества, слияние духовной красоты с
физической — тема этой идиллии, и материалом для нее становится уже не
действительность, а идеал. Из поэтического выражения «все смертное устранено,
сплошной свет, сплошная свобода — никаких теней, никаких пределов, ничего
уже не видно, — у меня прямо-таки кружится голова, когда я думаю об этой
задаче — о возможности решения. Представить сцену на Олимпе — это
величайшее наслаждение. Я не отчаиваюсь в этой затее, только пусть сначала моя душа
станет свободна и как следует отмоется от грязи действительности»86. Т. Манн
пишет, что в этом замысле «есть что-то трансцендентное, выходящее за пределы
жизни, припасенное для блаженства духа <...>». Его (Шиллера. — А. А.)
тоска была по сути преображением, без теней, без пределов, «сплошным светом,
сплошной свободой»87.
В теории идиллии, пожалуй, как нигде, с особой силой выступает вся
утопичность шиллеровской программы эстетического примирения антиномий
реального мира. Оказывается, что это примирение возможно лишь как транс-
ценденция человеческого бытия, лишение его всех форм действительности,
вернее, превращение последних в нечто иное, освобожденное от всех очертаний
реальности, в чистую творческую энергию духа, что, конечно, недостижимо в
реальном искусстве. Описание художественного процесса, переживания
творца здесь имеют некоторое сходство с музыкой. На эту аналогию указывает сам
86 Schiller F. Briefe in 6 Bänden. Bd. 4. Stuttgart, 1906. S. 371.
87 Манн T. Письма. M.: Наука, 1975. С. 352.
332 Sîb
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Шиллер88. Не случаен, видимо, тот факт, что Бетховен, прекрасно знавший мир
идей Канта и Шиллера, в середине и конце своего творческого пути обращается
к теме единства человека с природой. В «Пасторальной симфонии» идиллич-
ность и безмятежность первых двух частей, грубоватый юмор и комизм
сельского праздника и неожиданно прорвавшаяся энергия стихийных сил природы
завершаются во вдохновенном гимне красоте природы, вырастающем из
скромного пастушеского напева и превращающемся в сияющую радостную песнь о
единстве человека с миром. И если в последней симфонии Бетховена состоялась
встреча его музыки с поэзией Шиллера, то это объясняется схожими
устремлениями двух великих художников.
Теория идиллии является последним звеном в культурологической
концепции Шиллера. В ней идея культуры предстает как мечта о мире, в котором не
существует трагического раздвоения человека и культуры, индивида и рода,
культуры и природы, в котором исчезли все трагические коллизии бытия.
Вероятно, сам Шиллер сознавал иллюзорность создания такой поэзии. Замысел,
изложенный в письме к Гумбольдту, никогда не был осуществлен. Поэт в
дальнейшем избрал иной путь, более соответствующий его эстетическому учению,
путь соединения драмы с идиллией. Идиллия возвышается над
противоречиями жизни и находит из них выход в символическом изображении победы
идеала. Поэтому важнейшей задачей драматического поэта становится попытка в
таком жанре, как трагедия, найти возможности для создания синтеза наивного
и сентиментального. Действие и финал трагедии содержат в себе не только
трагический элемент — гибель героя, но и счастливый элемент, ибо человек как
чувственно-моральное существо преодолевает в акте рефлексии и свободного
решения границы чувственности, вырывается из круга детерминаций.
Следовательно, гибель в реальном мире означает для героя победу в мире идеальном.
Трагическое в этом случае обнаруживает свой двойственный характер: это не
только вина, наказание и гибель во времени, но и правота, и оправдание, и
преодоление времени. В драме возможна редукция трагического к идиллическому,
которая мыслится Шиллером не как счастливое разрешение коллизий, а
трансформацией трагического в символ счастливого будущего89. В драму вводится
характерное для идиллии изображение человеческого бытия, его гармонии,
противопоставляемой расколотому противоречиями, враждебному человеку
миру. Происходит своеобразное столкновение культур: культуры, изначально
привязанной к природе, и мира, где господствует анархия, антагонизм сил,
царит кулачное право. Этот мир рассматривает себя как единственно возможную
форму существования и стремится навязать свои законы наивной культуре.
Антитеза наивной культуры и антагонизма современного мира проходит через всю
драму Шиллера «Вильгельм Телль»90. Наивный народ, каким поэт изображает
88 «В зависимости от того, подражает ли поэзия определенному предмету, как это делают
изобразительные искусства, или же подобно искусству звуков создает лишь определенное состояние души,
не нуждаясь для этого в определенном предмете, она может быть названа изобразительной
(пластической) или музыкальной» (т. 6, 428).
89 Kraft Η. Über sentimentalische und idyllische Dichtung // Studien zur Goethezeit. Festschrift für
L.Blümenthal. Weimar, 1968. S. 211.
90 Rüdiger H. Schiller und Pastorale // Euphorion. Bd. 53, H. 3. 1959. S. 248.
IV. Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера
J& 333
швейцарских пастухов, не приемлет основанного на тирании бытия, в котором
«Der alte Urständ der Natur kehrt wieder, / Wo Mensch dem Menschen
gegenübersteht». Принятие таких форм жизни означало бы для него путь от гуманности
к варварству. Этот народ не хочет, чтобы его свобода превратилась в тиранию,
не хочет становиться объектом насилия. Он защищает себя от власти,
основанной на анархическом праве сильного. И борьба народа за свою свободу, в
которой он поднимает оружие против тирании, — не что иное, как развитие
его самосознания в условиях, когда первоначальное гармоническое бытие уже
разрушено слепым эгоизмом государства, притязающего на неограниченный
суверенитет над правами как целого народа, так и отдельной личности, и
пытающегося путем угнетения и насилия утвердить безраздельное господство
принципа захвата чужой собственности, утолить свою жажду власти.
Свободное решение народа активно сопротивляться тирании представляет собой
важнейший момент в его жизни. Здесь происходит переход от наивного
восприятия мира к свободе и морали. Народ Телля не ставит своей целью
уничтожение социального порядка, возникшего в результате свободной деятельности
человека, он не желает лишь превращения свободы в произвол; своей борьбой,
рожденной необходимостью свободного волеизъявления, он стремится
восстановить гармонию бытия, обрести ее в новых условиях. «После
восстановления порядка, — пишет Г. Крафт, — в конце драмы изображается идиллия,
в которой мирная жизнь пастухов, живущих на природе людей повторяется
как жизнь свободных граждан, создающих на основании своего собственного
решения государственную общность»91. Утопические представления о
гармонии примитивных культур лежат в основе конструируемого Шиллером идеала
целостного человека. Искусство есть актуализация этого идеала. Оно делает
его символом будущего. Изображение в искусстве тождества человека с самим
собой, борьбы за тотальность духовных сил субъекта мыслится Шиллером как
программа человеческой истории, главной задачей которой становится снятие
отчуждения. Утопия Шиллера направлена в будущее. Сознание человека не
может подчиниться прошлому, каким бы счастливым оно ни было; сознание
ищет те формы бытия, которые были бы адекватны идее назначения
человечества. Синтез трагического и идиллического мы можем рассматривать как
отступление от радикальных требований, предъявляемых Шиллером к
идиллиям. Идеал в этом синтезе неразрывно связан с противоречиями жизни и
истории, он неотделим от исторического движения человечества, и искусство,
таким образом, становится ярчайшим свидетельством единства исторического
процесса и его смысла. Оно создает модель потребного будущего, используя
прошлое, оно постоянно открывает в тех формах, которые оно рассматривает
как идеал, присущую им, по мнению Шиллера, трансцендентность,
обнаруживая вечный, неуничтожимый субстрат развития культуры. Идея свободы была
лейтмотивом творчества Шиллера, она нашла свое воплощение в синтезе
трагедии и идиллии. Кроме того, существенным моментом здесь становится
понятие народности, ибо защита свободы есть дело всего рода человеческого,
нации.
91 Kraft H. Op/cit. S. 218—219.
334 SL
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Таким образом, устанавливается связь между искусством и реальной
историей человеческого рода, когда искусство указывает нам на цель истории,
предостерегая человечество от того, чтобы сделать насилие инструментом для
решения проблем человеческого бытия.
7. Итоги
Философия И. Канта и развивавшее ее дух, а не букву, эстетическое учение Ф.
Шиллера, сохранявшее принцип системности и продолжавшее движение
мысли по пути постижения историчности культуры и искусства, стали отправной
точной развития философской мысли. Рамки настоящей работы не позволили
нам подробно остановиться на том, что было сохранено и развито романтиками
из этих теорий. Укажем лишь, что романтическая философия, делая предметом
анализа триаду «природа — культура — искусство», снимает с помощью
искусства то жесткое противопоставление культуры природе, какое она находит
у своего учителя И. Г. Фихте. И если человеческая мысль накладывает рамки
строгой системы на действительность, превращая культуру в орудие
подчинения природе, то подлинное признание культуры (Bildung) — или быть, как в
античности, в полном согласии с природой (прекрасная природа дает законы
искусству и общественному устройству греков), или, будучи мозаичной,
разорванной антитезами, взаимоаннигилирующими моментами, все же стремиться к
динамическому синтезу и найти этот синтез в искусстве, в «трансцендентальной,
универсальной поэзии». Таков ход мысли Фридриха Шлегеля. Необходимыми
условиями всякой человеческой культуры он считает силу, закономерность,
свободу и общность. И когда все эти моменты получат в ней достаточное
воплощение, тогда «закономерность эстетической силы обеспечена объективной основой
и направленностью, эстетическая культура может стать всецело общественной
благодаря свободе искусства и общности вкуса»92.
Совершенно противоположные концепции о месте искусства в культуре
дают нам в немецкой классической философии Шеллинг и Гегель.
У Шеллинга культурологическая и эстетическая проблематика органично
связана и с онтологическими, и с гносеологическими принципами его учения.
Он дедуцирует природу, искусство и культуру из единого основания, из
божественного духа, который есть одновременно необходимость и свобода, их
первоначальный синтез, развертывающийся в историческом развитии культуры как
свободная деятельность человеческого рода, и представляет собой
осуществление необходимости через свободу, объективирующуюся в действии. Главная
задача философии, по Шеллингу, состоит в том, чтобы, рассматривая свободную
деятельность, адекватно запечатлеть развертывание абсолютного синтеза.
Орудием, органом философии в этом процессе является искусство. Через
искусство, через свободную деятельность человеку открывается путь к познанию
высшего, бесконечного. В искусстве он созидает, подобно природе в ее высшей
92 Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1983. С. 186.
IV. Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера JÉ© 335
потенции. Здесь объективно достигается тождество познания и
действительности; следовательно, мы постигаем необходимость, данную нам в знании, и
свободу, обнаруживаемую в поступках человека.
История человечества есть продолжение истории природы в ее высшей
потенции. Поэтому искусство, высшая форма культуры, изображает природу
и человека во всей полноте их возможностей. Художник не копирует формы
природы, он выходит за их пределы для того, чтобы вновь обрести природу в
абсолютном синтезе реального и идеального. Его деятельность изоморфна
органической жизни природы. Искусство как бы подражает творческому
процессу, происходящему в природе, вернее, его духу. Оно, подобно организму, — и
вечное становление, и в то же время гармония. Душа мира становится душой
искусства, и этот изофункционализм художественной деятельности и вечного
созидательного процесса, происходящего в природе, основывается на вере, что
сознание объективируется во всем сущем.
Художественное произведение является единством смысла и образа,
бесконечного и конечного, сознательного и бессознательного, реальным
изображением тождества объективного и субъективного. В акте интеллектуальной
интуиции в человеческом «Я», вырвавшемся за пределы конечного и времени,
обратившем свой взор к вечным божественным прообразам, субъект слился
с объектом, и в художественном произведении в конкретно-чувственном
образе отлилось вечное, абсолютное единение человека с универсумом, с
абсолютным.
Если мы сравним Кантово определение культуры с тем, что понимает под
культурой Гегель, то прежде всего увидим, что Гегель исходит из
монистической концепции человека, согласно которой, как указал Маркс, «только дух есть
истинная сущность человека, а истинная форма духа — это мыслящий дух,
логически спекулятивный дух»93. Действительно, любая форма человеческой
деятельности, продукты человеческого труда, любое изменение внешнего мира
есть не что иное, как отчужденная, опредмеченная мысль, в которой абсолютный
субъект, дух как бы узнает самого себя. Поэтому культура представляет собой
результат самодвижения, исторической эволюции абсолютного духа. Культура
(Bildung) — деятельность разума, наиболее адекватная его сущности, «процесс
наделения духовностью естественных потребностей, побуждений человека»94.
Разум, дух (во внеиндивидуальном значении) охватывает и пронизывает сами
потребности и то, что ранее, как стоящая ниже ступень отчуждения духа, то есть
природное в человеке, уже начинает нести в себе «объективное наличное
бытие» духа95. Культура в противоположность природе есть реализация подлинных
целей разума, преодолевающего естественную простоту и «примитивность
знания и волнения, то есть непосредственность и единичность, в которые погружен
дух», и тем самым все, на что в форме Bildung разум направляет свою актив-
93 Маркс К. Экономико-философские рукописи 1844 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42.
С. 158.
94 Мотрошилова Н. В. Социально-исторические корни немецкой классической философии. М.:
Наука, 1990. С. 22.
95 Гегель Г. В. Ф. Сочинения в 14 т. Т. 7. М., Л.: Соцэкгиз, 1929—1959. С. 215.
336 s^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
ность, приобретает «ту разумность, к которой она способна, а именно, форму
всеобщности, осмысленность»96. Таким образом, главной функцией культуры
является преодоление «естественности», то есть более низкой ступени
отчуждения духа, уже в сфере, где начинается подлинная всеобщность и
самодеятельность разума, преодоление «голой субъективности» поведения97. Вечное
движение духа, одиссея его в природе и человеческом мире, в истории представляет
собой стадии подъема от низших форм самообъективации к высшим. Право,
моральность, нравственность, государство представляют сферу так
называемого объективного духа, культуры, назначение которой — преодоление
природного начала в человеке. И наконец, дух достигает ступени абсолютного духа, где
он выступает как познание самого познания, то есть достигает сферы духовной
культуры, своего полноправного царства, где он сосредоточен исключительно
на самом себе.
Строение этой сферы триадично: искусство, религия, наука. Они —
содержательные формы культуры, развивающиеся исторически и представляющие
собой движущуюся систему культуры, которая рефлектирует все
существующее, в том числе и сферу объективного духа. Именно эта триада включает в
себя силы духа для создания исторических форм тотальности разума, именно
они как бы разыгрывают предначертанные духом для самого себя исторически
обусловленные формы целостности.
Место искусства, таким образом, определяется Гегелем как на основании
строения самой культуры, так и из анализа исторической ее эволюции. Мы
видим, что, имея непосредственными предшественниками романтиков и
Шеллинга, Гегель продолжал на основе своего диалектического метода то, что делали
Вико и Гердер. Искусство, как его понимал Гегель, — это мышление,
использующее чувственную форму для постижения истины. На определенной стадии
развития человечества, особенно в античном мире, искусство занимало
главенствующее положение в триаде культуры. Религия, мораль, право,
философия принимали тут гармоническую, чувственную форму, ставшую
взаимопроникновением природного и духовного начал. «Поэтому если у всех классиков
немецкой идеалистической философии, мысливших культуру как систему,
возникали возможность и потребность соотносить с нею искусство как одну из ее
подсистем, то у Гегеля такое соотнесение приобретает одновременно логико-
теоретический и историко-генетический характер — искусство было признано
не только и не просто низшей формой самопознания абсолютного духа (то есть
духовной культуры человечества), но и культурной доминантой на ранних фазах
общественного развития»98.
Тотальность чувственности и духа у Гегеля не есть подлинная тотальность.
Гегелевский идеализм — особая форма онтологизации знания. В феномене
знания проясняется онтологический принцип движения, который пронизывает все
бытие в сущем, оно есть, как указывает Е. Финк, руководящая модель движения
96 Там же. С. 215.
97 Там же. С. 216.
98 Каган М. С. Искусство как феномен культуры // Искусство в системе культуры. Л.: Наука, 1987.
С. 7.
IV. Проблема «искусство и культура» в эстетике Ф. Шиллера J^> 337
бытия духа". Знание, которое мы считаем обычным и самим собой
разумеющимся, начинается для Гегеля там, где есть переход от «самого по себе бытия»
в «бытие для себя», то есть дух переходит в формы, которые полностью
соответствуют ему самому Культура имеет в качестве главной задачи движение к
адекватным духу формам, к абсолютному знанию, к чистым, логическим формам
знания. Абсолютное знание и есть тот вид тотальности, к которому, по Гегелю,
устремлена культура.
Гегель считает, что искусство— это временная форма бытия
абсолютного духа, поскольку тотальность сущностных сил он понимает как тотальность
духа, нашедшего себя в не замутненной чувственностью мысли, в науке и
философии. Чисто гносеологический взгляд на природу художественной
деятельности, сведение ее к неполноценному, по его мнению, познанию не позволили
Гегелю увидеть в искусстве средство, способствующее гармоническому развитию
личности, сохраняющее уникальность личности. Однако главное завоевание
Гегеля — историзм в подходе к искусству. Диалектическая типология
художественных культур у него разработана гораздо больше и полнее, чем у Шиллера
и Шеллинга. Анализ структуры художественного сознания Древнего Востока,
античности, Нового времени дал возможность ему говорить о стадиальном
развитии художественной культуры.
Справедливость положений той или иной эстетической теории или
философии культуры гарантируется не только логичностью и стройностью ее
построения, но и тем, находят ли эти положения подтверждение в истории культуры и
искусства. Но уже в основополагающем принципе, в понимании сущности
эстетического и искусства Кант и Шиллер ушли значительно вперед по сравнению
с Фихте и Гегелем.
Когда Шиллер пишет Фихте, что «эстетическое в человеке — это следствие
всей его природы в целом, а доводами можно изменить отдельные понятия, но
нельзя переделать природу» (7, 340), нам ясно видно, что отличает его в
понимании искусства и общей направленности культуры от Фихте и Гегеля.
Притязание какой-либо из сторон человеческого духа на всеобщность в конечном итоге
обращается против самого человека и ведет последовательно к опустошению
самого духа, и здесь прежде всего наносится страшный удар всему
индивидуальному и неповторимому.
Кантовско-шиллеровская традиция в эстетике всегда противостояла
тенденции рассматривать культуру как процесс поглощения и растворения
индивидуального во всеобщем, какой бы духовной силой эта тяга ко всеобщности ни
обладала.
Незаменимость, уникальность искусства — вот главная идея, к которой
пришел Шиллер, опираясь на Канта. Полемика между Фихте и Шиллером,
возникшая из-за отказа поэта напечатать в редактируемом им журнале «Оры» работу
Фихте «О духе и букве в философии», показала совершенно разное понимание
духовности и природы искусства. Самолюбивый философ писал в
запальчивости Шиллеру, что публика через 10 лет рассудит, кто из них прав. В ответе поэта,
99 Fink Ε. Hegel. Phänomenologische Interpretation der Phänomenologie des Geistes. Frankfurt а. M,
1977. S. 25.
338 Si-
А. Г. Лствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
закрывающем спор и не оставляющем у потомков никакого сомнения, надо
видеть не только подробное истолкование кантовского понимания различия между
гением (художником) и ученым; прежде всего в нем защита права человека на
индивидуальность, понимание неповторимости человеческой личности, ее
суверенного права на историческое бытие как индивидуальности, права быть не
только мельчайшей частицей человеческого рода, преходящей и исчезающей в
космическом целом, но оставаться вечной в истории культуры, что гарантирует
человеку только художник и его искусство. «Я, правда, не знаю, что случится
через 10 лет, однако нисколько не сомневаюсь, что если Вы, как я надеюсь,
будете тогда еще жить, учить и писать, то Вы приложите старания к тому, чтобы
Ваша философия и Ваша индивидуальность удержались в памяти слушателей
и читателей; между тем, если я, как надо думать, не смогу тогда ни учить, ни
писать, мою философию публика будет так же мало замечать, как сейчас. Но
то, что через 100 или 200 лет, когда в философской мысли произойдут новые
революции, Ваши писания будут, правда, цитировать, но читать не будут, — это
заложено в природе вещей, точно так же в ней заложено и то, что мои (из тех,
разумеется, которые случайно попадутся в руки, ибо здесь решают мода и удача)
будут тогда читаться не больше, но во всяком случае и не меньше, чем сейчас.
А почему это произойдет? Потому что как бы ни были превосходны
произведения, чья ценность вытекает лишь из следствий, которые они могут нести за
собой для разума, они становятся все же совершенно бесцельными, стоит разуму
к ним охладеть или найти путь к тем же выводам; напротив того, произведения,
оказывающие воздействие независимо от своего логического содержания и
носящие живую печать индивидуальности, бесцельными стать не могут и всегда
будут заключать в себе неистребимый жизненный принцип именно потому, что
каждая индивидуальность единственна, а стало быть, незаменима» (7, 343).
Игры гения и их отзвук.
О письмах и творчестве
Вольфганга Амадея Моцарта
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта ЛЕ) 341
Достоинство искусства, быть может, всего
очевиднее в музыке, так как в ней нет предмета
изображения, на который надобно делать скидку.
Вся она — только форма и содержание, и потому
все, что она выражает, возвышается и
облагораживается ею.
И. В. Гете
1. Играющий гений и серьезность творчества
Жизнь и творчество Вольфганга Амадея Моцарта остались потомкам в виде
двух текстов. Первый текст грандиозен по своей значимости — это записанная
нотами его музыка. Второй текст, полностью зависящий от первого и кажущийся
в сравнении с ним микроскопическим, — это его письма, хроника его короткой
жизни, явленная в слове. Характер писем сразу дает понять, чему была целиком
отдана жизнь Моцарта. Все в ней было связано с музыкой, все личное так или
иначе от нее зависело. В них мы не найдем ничего, чтобы как-то могло вызвать
образ «гуляки праздного», не ценящего отведенного судьбой времени жизни.
При чтении писем вырисовывается образ человека, открытого абсолютно
всему, и в то же время человека свободного, отдающего все свои силы творчеству.
Даже озорство, непристойные шутки, забавы буффона, от которых морщится
просвещенный эстет (а на самом деле образованный филистер), и те рождались
от его музыкальной природы. Не имитация ли это игры итальянских
комедиантов, чья комика берет свое начало от самого дерзкого отказа от всех табу? Не
подражает ли Моцарт бесстыдству площадного комедианта, справляющего на
открытой сцене нужду, ведь клистиры и их действия в таких представлениях
были неиссякающим источником бесчисленных шуток. В Вене уже в 1716 году
видели подобные представления. Не традиция ли это осевшего в Зальцбурге
Йозефа Антона Страницкого, создателя образа Гансвурста, одевшего своего
героя в костюм зальцбургского крестьянина и заставившего этого героя говорить
его языком? Естественно, эта игра сопровождалась музыкой и импровизацией.
Великий Моцарт, к ужасу людей, утверждающих свою принадлежность к
элите, оказывается не только полноправным властителем в царстве гармонии, но
и карнавальным королем в царстве фекалий и сексуальности, и одновременно
мы видим перед собой тонкого психолога, наблюдательного человека, мы видим
одаренного писателя, по памяти воссоздающего диалоги, и последние выглядят
как сцены пьесы его жизни, где он выступает как автор и как режиссер. И это
тоже берет свое начало в его музыкальной одаренности, в его умении давать
жизнь характерам. Этические принципы, любовь, дружба, отношение к другим
людям формировались из музыкального центра его души. При этом Моцарт
никогда не навязывает людям своего жизненного кредо, никогда их не поучает,
342 S^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
оставляя за каждым право играть собственную роль в игре жизни. Это, однако,
вовсе не означает его индифферентности к морали вообще и отсутствия у него
суждений в этой области. Человек, сталкивавшийся в своей жизни с
равнодушием, высокомерным отношением к себе, завистью и интригами, с людьми,
целью которых было стремление обскакать другого, с амбициозностью и
консерватизмом в вопросах творчества, не мог оставаться спокойным к тому, что
не имело ничего общего с подлинным творчеством. И здесь Моцарт был
предельно откровенным, и справедливость становилась тогда главным критерием
в его оценке людей. Отмеченные здесь моменты стали предметом исследования
в работах И. С. Алексеевой, связавшей моцартовскую расположенность,
можно сказать, даже пристрастие к разного рода играм, прежде всего к
карнавальным с играми языковыми, которые мы находим в письмах, где Моцарт кажется
очень далек от игровых настроений, где его мысли приобретают высокий
этический и социальный смысл1. Эпистолярное наследие Моцарта — это его
словесное искусство, в котором мы без всякого труда находим эстетическую
функцию языка и специфически моцартовские формы ауторефлексивности. В этом
смысле игра, использование игровых моделей в прозе и поэзии как раз признак
их художественности. Как совершенно правильно указывает И. С. Алексеева,
«эпистолярный текст представляет для игры широкие возможности, особенно
текст личного письма; это так называемый открытый текст, допускающий
много свободы в применяемых средствах, но даже и сама несвобода, рамки правил,
соблюдаемых для написания письма, — плодотворная почва для того, чтобы
затеять игру»2.
По своему значению для мировой культуры своего времени гений Моцарта
сопоставим разве что с гением Гете, и, как это ни покажется странным, именно
по своей универсальности. Особое стечение обстоятельств не создало
возможности, чтобы эти два гиганта встретились при жизни. Хотя их встреча была,
конечно, в пределах возможного и состоялась бы, проживи Моцарт дольше. Обоих
объединяло одинаковое отношение к жизни. Жизнь они рассматривали как
возможность творить. Если попытаться найти краткое объяснение этой позиции, то
следует обратить внимание на ту выразительную характеристику, которую Гете
дал своему творчеству: «Только не видеть в своих занятиях профессию, это мне
претит. Все, что я могу, я хочу делать, играя, как мне придется, и пока я
испытываю от этого удовольствие. Так я бессознательно играл в молодости, так я хочу
сознательно действовать всю жизнь»3.
Не выглядит ли это парадоксом? Моцарт и Гете — величайшие
профессионалы. Однако все объясняется просто. Сознательно играя, мы действуем свободно,
и эта свобода нашей деятельности находит свое выражение в том, что от самой
1 См. подробнее: Алексеева И. С. Чужие письма? // Моцарт В.А. Полное собрание писем. М, 2006.
С. 11—22.; Алексеева И. С. Игра в письмах Моцарта // Моцарт в России. Нижний Новгород, 2007.
С. 110—123. Эти работы были написаны по завершении ее плодотворного труда по переводу Полного
собрания писем Моцарта, изданных издательством «Международные отношения», и являются
прекрасным описанием игрового кода эпистолярного искусства Моцарта, к которому автор настоящей
книги отсылает читателя.
2 Алексеева И. С. Игра в письмах Моцарта // Моцарт в России. Нижний Новгород, 2007. С. 110.
3 Зиммель Г. Избранное: в двух томах. Т. 1. М., 1996. С. 163.
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве Ä А. Моцарта J& 343
деятельности мы получаем удовольствие. Поскольку игра есть не обыденная
жизнь, а нечто, вырывающее нас из сферы повседневности, то деятельность
должна выходить за рамки последней, получая собственные, имманентные ей
самой законообразные правила, как это бывает в игре4. Речь, конечно, не идет
о дилетантских занятиях искусством. Поэт сказал 13 декабря 1826 года Эккер-
ману: «На днях я читал письмо Моцарта некоему барону, который прислал ему
свои композиции, а в нем сказано примерно следующее: вас, дилетантов, нельзя
не бранить, ибо с вами обычно происходит две неприятности: либо у вас нет
своих мыслей и вы заимствуете чужие; либо они у вас есть, но вы не умеете с
ними обходиться. Разве это не божественно? И разве прекрасные слова,
отнесенные Моцартом к музыке, не относятся ко всем другим искусствам?»5
Музыка для Моцарта не была профессией в общепринятом смысле этого
слова. Она была его жизнью, в которую он был погружен с самого раннего детства.
Музыка вошла в него не насильственно, она пришла к нему как игра и долгое
время оставалась таковой, образуя его жизненный мир, дававший ему свободу
там, где свобода была ограничена. Маленький Вольфганг Амадей сделал
ремесло музыканта игрой, легкой и подвижной, точнее, преобразовал ремесло в
игру, лишив его тяжести принуждения; в то же время он не отнял у этой игры
серьезности, так как ребенок всегда играет серьезно. Поэтому превращение
вундеркинда-музыканта в зрелого художника произошло у Моцарта плавно, а для
внутреннего состояния его души — почти бесконфликтно. Фридрих Ницше в
книге «По ту сторону добра и зла» писал: «Стать зрелым мужем — это значит
обрести ту серьезность, которой обладал в детстве во время игр»6.
Бессознательно воспринимая музыку как игру, сообразуясь с внутренними требованиями
этой игры, Моцарт-ребенок повиновался ее закономерностям и правилам, он ей
служил. Игра всегда требует имитации, повторений. Постепенно имитативный
талант, необходимый в игре, способность мгновенно схватывать правила
композиции и сочинять превращается у Моцарта в гения фантазии. Игра требует
душевных движений, возникающих спонтанно. Гений Моцарта не только
охватывает весь мир музыкальных форм. Он творит его, видоизменяет его,
преобразовывает. Этот мир стал для него музыкальной Вселенной, в центре
которой был человек. Моцарт творил во всех областях музыкального искусства. Он
писал инструментальную музыку в разнообразнейших жанрах: клавирные
концерты и концерты для других инструментов, камерную музыку, дивертисменты,
сонаты, симфонии. Вокальные произведения — мессы, оратории, концертные
арии, дуэты и песни — он создавал для церковных и светских целей. Наконец,
его оперы. Их названия непроизвольно вспыхивают в памяти, когда звучит имя
Моцарта. И это происходит не потому, что оперный жанр особенно популярен
сам по себе. Он был близок ему из-за своей игровой природы. Этот жанр
допускал свободу, ничем не скованную фантазию, а условности оперы открывали
для фантазии широкую сферу воплощения. Движения на сцене, сценические
4 См. об этом подробнее: Аствацатуров А.Г. Гете и мир игры // Гете. Жизнь. Творчество.
Традиции. СПб, 2002. С. 7—8.
5 Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1981. С. 184—185.
6 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Соч. в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 295.
344 Sîl
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
метаморфозы, смены ситуаций находили особое соответствие в его музыке, не в
смысле подражания им, а как креативная форма познания, преобразовывавшая
сценическое действо. «Идоменей», «Похищение из Сераля», «Свадьба Фигаро»,
«Дон Жуан», «Так поступают все женщины», «Милосердие Тита», «Волшебная
флейта» — вершины оперной классики, может быть, самое лучшее, что создало
искусство оперы. Говоря об этом, мы не имеем в виду, что все остальное
составляет периферию его творчества, и не в том, конечно, дело, что эти оперы
как художественные произведения превосходят его творения в других жанрах.
«В операх, — как писал Пауль Беккер, — самым ярким образом выступает
интимнейшая сущность Моцарта»7.
К своим великим творениям Моцарт пришел не сразу, и превращение
вундеркинда в великого композитора стало преобразованием его личности. Постепенно
чудо-ребенок, обнаруживавший талант имитации и легкость в усвоении правил
композиции, превратился в гения фантазии. Пробуждение этого гения — Герман
Аберт называет его первичным переживанием, — формирование его было
вызвано осознанием себя творцом, созидателем нового, того, что создается вопреки
чужим переживаниям и формам, осознанием своего жизненного мира.
Проявление моцартовской индивидуальности не противоречит природе его
«коллективной» личности, взявшей многое у других, скорее наоборот — многообразие не
только музыкальных форм, созданных другими, но и, собственно, всей истории
музыки организовывало музыкальное мышление Моцарта; восприимчивость
этого мышления не отторгала эти формы, а сознание вбирало их в себя легко,
играя. Имитативная одаренность без всякого напряжения закрепляла их в
памяти, а воображение давало затем возможность их молниеносно воспроизводить.
Огромное значение здесь прежде всего имело интуитивное чувство формы и то,
что создание композиции давалось Моцарту без труда. Герман Аберт
справедливо указывает, что «и в раннем детстве музыкальные мысли Моцарта вовсе не
извергались из его души подобно кипящему расплавленному потоку, но
кристаллизировались в виде структурно четких построений, скрепленных сильной
формообразующей волей»8. Желание играть, воля к игре у него стала волей к
форме. Однако нельзя сказать, что оперу «Аполлон и Гиацинт» мог написать
только Моцарт, и никто другой. Мы можем с полным правом утверждать только,
что никто из его современников не мог ее сочинить в 11 лет. Моцарт сделал то,
что его современники-музыканты делали только в зрелом возрасте. Но никто и
никогда, кроме Моцарта, не мог написать Andante из концерта C-dur KV467, где
главная тема обретает неповторимую красоту, растворяясь в репризе,
облаченная в тончайшее кружево мелизматики. Невероятным успехом юного Моцарта
кажутся его первые симфонии. Только в зрелом возрасте такие могли писать его
современники. Но никто из них и близко не мог подойти, например, к
«Пражской симфонии» и к трем последним из его великих свершений в этом жанре.
Никто из его современников не мог создать сонату c-moll KV 457 и фантазию в
той же тональности, сочиненную уже зрелым Моцартом. Примеры можно при-
7 Bekker Р. Musikgeschichte als Geschichte der musikalischen Formwandlungen. Berlin — Leipzig,
1927. S. 156.
8 Аберт Г. В. А. Моцарт. Часть 2, книга 1. 1783—1787. M., 1989. С. 117.
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта Jëb 345
водить бесконечно. История музыкального искусства знает вундеркиндов,
ставших великими композиторами, таковыми были и Феликс Мендельсон, и Фриде-
рик Шопен. Оба всю жизнь преклонялись перед Моцартом, он был их любимым
композитором. Однако по значительности композиторских достижений в юном
возрасте Моцарт, конечно, превосходил всех.
Оперную музыку Моцарт начал писать в итальянском стиле. Ему были
близки все типы итальянской оперы. Но реформатором оперы, как Глюк и Вагнер,
он не был. Он не пытался также и реформировать немецкий зингшпиль. Оба
типа музыкальных представлений давали возможность композитору проявить
свою гениальность во всей мощи, и Моцарт поднял эти жанры на высоту,
которую достичь мог только он. Итальянская опера не знает разговорного диалога,
она состоит только из арий, ансамблей и речитативов. Речитатив в итальянской
опере существует в двух видах: так называемый аккомпанированный речитатив,
сопровождаемый оркестром, — он обычно использовался для важных и
патетически акцентированных речитативов, — а также recitativo secco, сухой
речитатив, сопровождаемый только клавесином. В рамках таких структур Моцарт
создавал свои оперы, не стремясь подчинять свою музыку действию, внешнее
не должно было влиять на нее. Моцарт, как пишет Пауль Беккер, «шел не от
внешнего ко внутреннему, а от внутреннего к внешнему, но давал не картину,
он давал человека»9. Это подтверждает произведение, которое свидетельствует
о наступившей зрелости, ставшее одной из вершин его творчества. О нем
постоянно идет речь в письмах за 1780 год. Ему сам Моцарт придавал огромное
значение. Опера «Идоменей, царь Критский», написанная в жанре opera-seria,
соединила в себе все, чего достиг Моцарт в вокальной и инструментальной
музыке. Мелодическое богатство арий Илии и Идаманта, Идоменея и Арбаса,
симфонические картины, изображение разбушевавшейся стихии, бури,
напряженный драматизм аккомпанированных речитативов, столкновение персонажей
по ходу сюжета, которое выглядит как противостояние различных душевных
состояний, делают эту оперу энциклопедией моцартовского музыкального языка.
Любовная тема, биографически связанная с Алоизией Вебер, разворачивается
в «Идоменее» как борьба с роком, приносящая только одни страдания.
Конечно, Леопольду Моцарту было в этой ситуации понятно, что именно в образе
Идоменея связано с ним самим, сын же, в своих письмах к нему, видимо,
отождествлявший себя с Идамантом, ограничивался лишь описанием технического
процесса создания оперы и трудностей, с которыми сталкивался из-за текста
либретто, написанного Джамбаттистой Вареско. Читатель, воспитанный на
литературе и философии, знающий литературную и философскую обстановку
последней трети XVIII века, познакомившись с письмами Моцарта, будет поражен
«ограниченностью» гения, который очень мало размышляет о своем искусстве,
далек от ассоциативного мышления, никак не связывает красоту своей музыки
с красотой и гармонией природы или же, наоборот, в природной дисгармонии, в
хаосе не видит аналога ее драматизму. Такой читатель не дождется от Моцарта
«глубоких» рассуждений о космичности его искусства, о его божественности.
Он никогда не найдет у Моцарта поэтических фантазий на тему музыки. Она
9 Bekker P. op. cit. S. 157.
346
©ΙΑ Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
не представлялась ему, как Вильгельму Генриху Вакенродеру, «птицей Феникс,
которая, услаждая себя, легко и смело взмывает ввысь, гордо возносится туда,
где ей привольно, и радует богов и людей размахом своих крыл»10. Он не
говорит и не пишет, что в его музыке прообразы прекраснейших человеческих снов.
Моцарт никогда не переводит музыку в слова. От величайшего из музыкальных
гениев мы не услышим словесного описания его произведений. И тогда говорят
о наивности гения, о его нерефлективной сущности. Нет ничего более
ошибочного. Развенчивая обывательское представление, что музыканту не нужно слов,
Теодор Адорно писал: «Даже Моцарт, играющий в буржуазном домашнем
обиходе роль щедро одаренного танцующего любимца богов, был, как о том
свидетельствует на каждой своей странице его переписка с отцом, несравненно более
рефлектирующим, размышляющим человеком, чем та переводная картинка, на
которой рисуется его привычный образ, — при этом, однако, он рефлектирует
на основе своего материала, а не воспаряя в абстрактные высоты»11.
Достаточно прочитать важное для истории музыки письмо отцу от 24 октября 1777 года
из Мангейма. Однако оно нуждается в комментарии. Для музыки после 1600
года большое значение приобретает важный элемент, напрямую связанный с ее
временной структурой. Наряду со строго определенной пропорциональностью
ритмических длительностей возникает ритмика переживаний, определяемая
мгновенным аффектом. Стихия аффективно пережитого времени становится
равноправной рядом с этой старой ритмикой, отрегулированной схемой
часового времени: речитатив всегда предворяет метроритмически строгую арию,
прелюдия — фугу. У Моцарта оба принципа дают о себе знать в клавирных сонатах
как один слой над другим, причем одновременно, подобно переднему и заднему
плану. Штайн, замечательный мастер, чьи фортепиано Моцарт высоко ценил,
был высокого мнения об игре Бекке на его инструментах до того, как услышал
игру Моцарта. Моцарт пишет отцу: «Теперь он видит и слышит, что я играю
лучше, чем Бекке; что я не кривляюсь, и тем не менее играю с таким чувством,
как никто, насколько он знает, на пианфорте не играл и не умел так хорошо с
ним обращаться. Что я всегда попадаю точно в такт. Это их всех удивляет. Темп
rubato в Адажио, когда левая рука ничего об этом не знает, они вообще понять
не могут. У них левая рука идет за правой»12.
Моцарт освобождает музыку от механического движения, от притязаний
этого движения захватить все в музыкальном высказывании, но при этом все
произведение, несмотря на темп rubato в правой руке, сохраняет единый ритм.
Эти строки были написаны тогда, когда Моцарт уже создал свои первые семь
клавирных сонат, открывших новую эру в истории фортепианной музыки. И мо-
цартовская манера исполнения отражала те изменения, которые композитор с
каждой сонатой вносил в область музыкальной формы. Они передавали
максимально насыщенное переживание и в соответствии с ним — усложненную
организацию музыкального времени.
10 Вакенродер В. Г. Чудеса музыки // Музыкальная эстетика Германии XIX века. Т. 1. М., 1981.
С. 279.
11 Адорно Т. В. Эстетическая теория. М., 2001. С. 478.
12 Моцарт В. А. Полное собрание писем. М., «Международные отношения», 2006. С. 74—75.
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта J& Ъ$7
Моцарта принято считать создателем ясной, совершенно прозрачной
музыкальной формы, не вызывающей трудности при восприятии. Это очень
распространенная ошибка. Как раз у менее одаренных современников Моцарта структурная
организация текста выражена яснее, а в ясности моцартовской формы заключена
кажущаяся непостижимой тайна. Эта тайна — «образец равновесия между
формой и формируемым как чем-то ускользаемым, центробежным»13. В литературе
такой образец равновесия мы можем найти только у позднего Гете.
Применительно к Моцарту поэт считал невозможным употреблять даже слово «композиция».
Когда Эккерман, подхватывая мысль Гете, сказал, что слово «композиция» звучит
уничижительно даже тогда, когда речь идет о подлинных произведениях
искусства или поэзии, то ответ Гете не заставил себя ждать. «Это и вправду гнусное
слово, — ответил Гете, — им мы обязаны французам, и надо приложить все усилия,
чтобы поскорее от него избавиться. Ну разве можно сказать, что Моцарт
"скомпоновал" своего "Дон Жуана". Композиция! Словно это пирожное или печенье,
замешанное из яиц, муки и сахара. В духовном творении детали и целое слиты
воедино, пронизаны дыханием единой жизни, и тот, кто его создавал, никаких
опытов не проделывал, ничего произвольно не раздроблял и не склеивал, но,
покорный демонической власти своего гения, все делал согласно его велениям»14.
Сила, интегрирующая детали в целое, проявляется у Моцарта как бы
исподволь, ненавязчиво, без нарочитого обнажения приема. Неподражаемый слух
создает равновесие горизонтали и вертикали, мелодии и гармонии. Сначала, как
говорил сам Моцарт, он схватывает слухом целое. Это рожденное целое
определяет не только свое существование как произведения, то есть контуры его общей
структуры, но и суверенность каждой детали, в него входящей. Произведение
живет и дышит изнутри. Игра вступает в свои права как ничем не
детерминированная, свободная деятельность, соединяющая детали и в то же время
оставляющая их свободными от растворения в целом. Теодор Адорно очень точно описал
эту покорность Моцарта «демонической власти своего гения», гения игры: «это
равновесие лишь потому достигает у него такой силы подлинности,
аутентичности, что тематические и мелодические элементы его музыки, монады, из
которых она образуется, рассматривая их в то же время с точки зрения контраста,
тщательно проводя различие между ними, стремятся отделиться друг от друга,
разбежаться в разные стороны даже там, где само чувство такта связывает их в
единое целое. Ненасильственное начало у Моцарта порождается тем, что он и в
равновесии не упускает из виду качественный уровень деталей, не позволяя ему
понизиться, и то, что по праву называет его гением в области формы,
проявляется не в его несомненном мастерстве в обращении с формой, а в его
способности использовать их без какого-либо участия властного момента, с их помощью
связывать воедино диффузное как бы исподволь, невзначай. Его форма — это
пропорция, стремящаяся в разные стороны, а не упорядочивание»15. Жанр
произведений мог быть разным. Финал второго акта «Свадьбы Фигаро», предельно
драматическая первая часть клавирной сонаты c-moll KV457, фантазия c-moll
13 Адорно Т. В. Эстетическая теория. М., 2002. С. 436.
14 Эккерман И. П. Указ. соч. С.630.
15 Адорно Т. В. Указ. соч. С. 437.
348 SiL
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
KV475, которая объемлет кажущиеся гетерогенные моменты, стремящиеся к
самостоятельности, суверенности, отчуждению друг от друга, и все же
образующие целое, в котором импровизационность сочетается с завершенной формой.
Тот же принцип формообразования лежит в основе его клавирных концертов,
во всех их частях. Моцартовские Adagio и Andante в концертах пронизаны
такой индивидуальной выразительностью, таким лиризмом, что кажется, будто
фортепиано проникновенно говорит с оркестром, обращается к нему со
словами. В клавирных концертах Моцарта заложено абсолютно все, что потом будут
развивать Бетховен и романтики. Действительно, концерт с-тоИ Бетховена
выглядит младшим братом с-то1Гного концерта Моцарта KV491. В моцартовских
концертах слышится уже и Шопен.
Письма Моцарта дают нам бесценные свидетельства о его жизни,
хронологию его творчества, датировку созданных им произведений. Без них
невозможно было бы составить представление о человеке, их писавшем, о людях, его
окружавших, о его пристрастиях, вкусах, о его отношении к отцу и матери, сестре,
любимым женщинам. Без них мы ничего не узнаем о семейной жизни Моцарта,
о Моцарте — отце и муже. Они всегда использовались биографами
композитора, исследователями его творчества, писателями, сделавшими Моцарта героем
своих произведений.Особый интерес вызывают, конечно, те письма, где Моцарт
описывает свои произведения, объясняет принципы своего искусства. Это он
чаще всего делает, когда пишет о своих операх.
Письма из Мюнхена, где Моцарт сочинял оперу «Идоменей», показывают
нам как процесс создания этого замечательного произведения, так и возникшую
в этом процессе новую оперную эстетику. Обратившись к жанру серьезной
оперы, opera séria, композитор вступил в ту область, где безраздельно царил Крис-
тоф Виллибальд Глюк. Обязательный мифологический или героический сюжет,
антитетическое противопоставление персонажей, подчинение музыки тексту
после «Альцесты» и «Ифигении в Авлиде» стали в opera séria неписаным
правилом. Либреттист Дж. Вареско ориентировался на тексты Р. Кальцабиджи,
автора либретто для упомянутых опер Глюка, стремясь к классической строгости
и симметрии. Сюжет должен был напоминать греческую трагедию, что
выражалось в присутствии в нем хора и оракула, а также наличием мифологических
реминисценций. Казалось, что все здесь указывает на то, что Моцарт станет
творчески развивать драматургические идеи Глюка. Однако Вольфганг Амадей
пошел иным путем. Именно в «Идоменее» с особой ясностью проявились те
черты моцартовского искусства музыкальной формы, о которых говорилось выше.
Это и использование плотных масс звучания симфонического оркестра,
усиливавшего драматизм музыки, и наличие выразительных симфонических картин,
в частности, изображения разбушевавшейся природной стихии, угрожающей
человеку, это и использование всего, чего достигла вокальная музыка в опере.
В этом произведении нашло отражение почти все, чего достиг Моцарт на
предыдущих этапах своего творчества, в Мангейме и Париже. Нельзя не согласиться
с тем, что Герман Аберт пишет об этом творении Моцарта, указывая, что
«опера образует рубеж между "юным и зрелым" Моцартом». «В ней, — продолжает
Аберт, — со стихийной силой сконцентрировались ждущие разрядки могучие
V Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта JΩ 349
впечатления, которые обрушились на Моцарта во время его большого
артистического путешествия. Однако это было уже не прежнее, наполовину
бессознательное восприятие чужих влияний. Моцарт теперь полностью осознает
богатство своей собственной индивидуальности и умеет так гармонично сплавлять ее
с вновь воспринятыми стилистическими элементами, что хотя результат
позволяет четко разделять итальянские и французские основы, он в такой же
степени носит несомненную печать собственного гения Моцарта»16. Действительно,
арии Илии, Идаманта, Идоменея отличаются неподражаемой красотой,
истинным, а не показным драматизмом. Особенно это относится к трем ариям Илии
и партиям ее партнеров в ансамблях. Образ троянской царевны, дочери Приама,
вышел у Моцарта как подлинно трагический и глубоко человеческий характер,
Моцарт достиг здесь не только музыкальной, но и драматической цельности, то
и другое уже было неотделимо друг от друга. Беззащитная, плененная девушка
стала воплощением любви, самоотверженности. Страдающая Илия, на которую
обрушилось сразу все — гибель родителей, братьев, разрушение родного
города, — превращается у Моцарта в воплощение стоической выдержки, твердости
характера. Она не теряет присущую ей нежность чистой любви, своей юной
прелести, ее чувства правдивы и естественны. Как злой рок нависают над ней
все ужасы жизни: гибель Трои, неволя на Крите и страшная судьба любимого ею
Идаманта, которого его отец Идоменей по воле богов должен принести в
жертву. Это трагическое положение героини усугубляется притязаниями Электры
на сердце Идаманта. И все же не классицистская свобода от страстей, а любовь
и готовность пожертвовать собой приносят спасение Идаманту и Криту.
Благородный и страстный Идамант, который находится между двумя любящими его
женщинами, Электрой и Илией, кажется, волей богов обречен на гибель, и все
же герой вступает в бой с посланным богами чудовищем и побеждает его. Когда
Идоменей заносит над сыном клинок, чтобы по приказу Нептуна принести сына
в жертву, на его руки падает Илия, желающая умереть вместо возлюбленного,
и тогда голос оракула возвещает волю бога. Идоменей должен уступить трон
Идаманту, а Идамант — соединиться с Илией. Через страдания к счастью,
которое может быть завоевано только любовью. Когда Гете говорит, что трагедия
изображает «ограниченные личностью страдания» и «человека, устремленного
в глубь своей внутренней жизни»17, то это целиком можно отнести к опере
Моцарта «Идоменей». Героиню Моцарта в немецком искусстве того времени
можно сравнить только с гетевской Ифигенией.
Августовские— октябрьские письма 1781 года в эпистолярном наследии
Моцарта занимают особое место. Композитор тогда работал в содружестве с
литератором Штефани над оперой «Похищение из сераля», работал, как это
видно из писем, с увлечением. Как и в случае с «Идоменеем», Моцарт подробно
описывает процесс создания оперы. Эти письма имеют огромное значение для
понимания моцартовского искусства прежде всего потому, что Моцарт в них
становится интерпретатором собственного творчества. Они раскрывают нам
суть оперной эстетики Моцарта, и эта автоинтерпретация — исходный пункт
16 Аберт Г. В. А. Моцарт. Часть 1. Книга 2. 1775—1782. М., 1988. С. 329.
17 Гете И. В. Собр. соч. в 10 т. Т. 10. М., 1980. С. 275.
350 Sib
Α. Π Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
моцартоведения, у истоков которого стоит сам Моцарт. На протяжении всей
истории оперы как жанра велись достаточно жаркие споры о соотношении в опере
музыки и поэзии. Проблема синтетического произведения искусства, в котором
соединялись музыка, поэзия и драматическое действо, не была придумана
Рихардом Вагнером. Но в XVIII веке она решалась не на пути отказа от оперы
как жанра, отказа от выработанных историей музыкального искусства структур
оперы, а на пути содержательного углубления этих структур. И здесь Моцарт
занимал особое место. В XVIII веке опера была жанром, особенно любимым
широкой публикой в противоположность чистой, инструментальной музыке.
В то же время условности оперного искусства часто становились причиной
возникновения художественных стереотипов и шаблонов. Их не избежали ни opera
séria, ни opera buffa, ни немецкий зингшпиль. Большое количество музыкальных
произведений, естественно, требовало такого же количества текстов либретто.
И здесь не всегда поэты были на высоте, чаще всего их писали посредственные
авторы. Виланд и Гете были исключением из правил. Несовершенные, а
подчас просто плохие тексты часто вызывали раздражение, которое портило
впечатление даже от хорошей музыки. Это не соответствовало правилам хорошего
вкуса, а последний был центральной категорией эстетики XVIII века.
Реформаторская деятельность Глюка преследовала цель приблизить оперу к классицист-
ской трагедии. Поэзия как часть оперного синкретического целого должна была
гарантировать соблюдение норм поэтики классицизма, от музыки требовалось
также подчинение этим нормам, что, конечно, означало ограничение
возможностей музыкального искусства во имя гармонии целого. Внешние
ограничения, продиктованные рационалистической логикой поэтического высказывания,
сводящегося к определенному набору типов, необходимых для классицистской
трагедии, сдерживали развитие музыкальных форм, которое было непременным
условием существования музыки как самостоятельного искусства. Это развитие
могло происходить лишь на пути взаимообогащения, взаимопроникновения
одних форм в другие, а не как их консервация в неизменном виде. В этих условиях
как раз был необходим гений Моцарта, его универсальность.
Когда Моцарт приступил к работе над зингшпилем «Похищение из сераля»,
который привел в восторг Гете, исходным материалом для либретто была пьеса
для зингшпиля лейпцигского литератора Кристофа Фридриха Бретцнера «Бель-
монт и Констанца, или Похищение из сераля», автора среднего уровня, однако
хорошо чувствовавшего ожидания публики. Опера создавалась в содружестве с
поэтом Штефани, задачей которого было написать пригодный для сценического
воплощения зингшпиль. Зингшпиль открывал Моцарту широкие возможности
для создания музыкальных характеров, причем характеров разнообразных и
противоречивых. Разнообразие игровых форм в нем позволяло создавать
сценические ситуации, где эти характеры раскрывались бы в полной мере, где их
столкновение друг с другом давало бы простор музыкальной фантазии.
Музыкальное воплощение характеров означало для Моцарта создание перво-
феноменов драматического действа во всем его многообразии. Именно они
определяли сценическую игру, всю игровую ситуацию в опере. Композитор не ставил
перед собой умозрительных целей добиться приоритета музыки над текстом, что
V Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта JÉ© 351
осуществлялось итальянскими композиторами, или же, наоборот, подчинить
музыку тексту, что делал Глюк. Моцарт стремился к тому, чтобы музыка могла
вольно дышать в опере, и эта завоеванная его свобода распространялась также и на
текст. Оперная эстетика Моцарта, как видно из писем, рождалась прежде всего
из его художественной практики. В ней не было ничего умозрительного, ничего
метафизического. Говоря словами Гете, он не был «форсированным талантом»,
который «огромную пропасть между избранным объектом и завершающим
техническим воплощением» пытался заполнить рассудочными построениями,
идеей, которая предшествует художественному опыту.18 Последний у Моцарта
никогда не подменялся идеей, и письма, где композитор рассказывает с увлечением
о своей работе над «Похищением из сераля», показывают именно это. Здесь нет
и намека на рабское подчинение сюжету, цель композитора прежде всего —
наиболее полное воплощение музыкально-поэтического замысла. «Либретто
открывалось монологом, и я попросил г-на Штефани сделать из него маленькую
ариэтту, чтобы вместо песенки Осмина они оба болтали и из этого получился
бы дуэт. Ведь поскольку в роли Осмина предполагается г-н Фишер, у которого
превосходный бас/: и невзирая на то, что Архиепископ сказал мне, будто он поет
ниже, чем положено басу, а я уверил его, что в дальнейшем он будет петь выше:/
то его нужно использовать в полной мере, тем более что здешняя публика от него
без ума. Однако у этого Осмина в первоначальном либретто одна единственная
песенка, и больше ничего, кроме разве что терцета и финала. Теперь же он
получил одну арию в Первом акте, и еще одна у него будет во втором — я подсказал
г-ну Штефани эту арию почти полностью, ведь большая часть музыки к ней была
готова раньше, чем Штефани придумал хоть слово текста»19.
Внутренний слух Моцарта не только охватывает все произведение, но и
распределяет в необходимой последовательности все его элементы в соответствии с
логикой музыкального воплощения. Зная прекрасный голос Фишера, его
полетность, необычайную легкость в переходах в рамках басового диапазона, полноту
самых низких звуков и способность певца с ними легко справляться, Моцарт,
используя возможность этого естественного музыкального инструмента, слитого с
человеком, создает характер Осмина, игравшего в либретто роль
второстепенного персонажа. У Моцарта Осмин становится главным противником благородного,
рыцарственного Бельмонта и хитроумного Педрилло, он мешает им вызволить
Констанцу и Блонду из турецкой неволи. Создавая в опере
индивидуализированные музыкальные характеры, Моцарт расширяет возможность оперной
драматургии. Уже в первой арии Осмина проявляется вся сущность этого персонажа.
Это— воплощение грубой силы, подозрительности, жестокости, хвастовства,
упоения собственной властью над беззащитными женщинами, разнузданности
и чванства мелкого тирана. Прекрасно об этом пишет Герман Аберт: «Так
возникает яркий образ человека, в котором господствуют одни только низменные
инстинкты, и гибкий итальянский буффонный язык оказал композитору
прекрасную услугу»20. Продемонстрировав власть и силу, глупый Осмин стал тем
18 Там же. С. 305.
19 Моцарт В. А. Полное собр. писем. С. 290.
20 Аберт Г. В. А. Моцарт. Часть 1. Книга 2. 1775—1782. М., 1988. С. 427.
352 S^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
констрастом, который был необходим для того, чтобы с большей силой
прозвучало выраженное в арии Бельмонта чувство чистой любви к Констанце, чтобы
на фоне неотесанности Осмина засверкало прелестное лукавство Блонды (дуэт
Осмина и Блонды из 2-го акта). Творя музыкальные характеры, Моцарт
достигает особого внутреннего проникновения в них, и этот процесс вчувствования не
является одномоментным, ограниченным ситуацией. Моцарт стремится к
другому. В драматическом действе для него важно развить этот характер. В терцете,
завершающем первый акт, разбушевавшийся Осмин производит комическое
впечатление. Стремительный темп терцета, который был под силу феноменальной
вокальной технике Фишера, прекрасно подходил для изображения ожесточенной
потасовки, поскольку Бельмонт и Педрилло во что бы то ни стало хотят
прорваться в дом паши Селима. Очень трудно лучше Моцарта охарактеризовать этот
терцет: «Теперь о терцете в конце Первого акта. Педрилло выдал своего
господина (Бельмонта. — А. А.) за зодчего, чтобы тот получил возможность встретиться
со своей Констанцей. Паша взял его к себе в услужение, Осмин выступает в роли
надсмотрщика и помимо этого ничего знать не знает, он представлен грубияном
и как заклятый враг всех посторонних бранится и не хочет пускать их в сад.
Начальные очертания этой ситуации даны очень коротко, и поскольку сам текст
дает тому повод, я довольно неплохо написал к нему музыку на три голоса. И тут
же начинается мажорное pianissimo, оно должно играться очень скоро. В
концовке же будет очень много шума, тем лучше. Чем короче, тем лучше — чтобы люди
не остыли от аплодисментов»21. Несколько шутливый тон писем не может нас
обмануть. Моцарт добился не только небывалой выразительности музыки, но и
создал неожиданный поворот событий в опере. Крикливый и наглый грубиян-
надсмотрщик, похвалявшийся своей силой, оказывается посрамленным
противодействием героев, готовых во имя спасения любимых преодолеть с риском для
жизни все опасности. Аналогичный поворот событий достигается вакхическим
дуэтом Осмина и Педрилло во втором акте Vivat Bacchus! Bacchus lebe! — когда
хитроумный слуга Бельмонта опаивает Осмина. И здесь, на этом фоне,
лирические партии Бельмонта и Констанцы выигрывают в своей выразительности.
Описывая свою работу над оперой, Моцарт направляет внимание отца на
тематическое разнообразие своей музыки. Так называемая «турецкая музыка»
необходима для создания комических ситуаций, призвана создать эффект остранения
и необычности гнева, выпадающего из естественного течения музыки, «ибо если
человек в столь сильном гневе преступает все границы, меры и цели, не помня
себя, то и музыка должна не помнить себя». Музыка способна давать слушателю
образ страсти, но не должна впадать в натурализм. «Музыка, даже если она
отражает самое ужасное состояние человека, не должна оскорблять слух, но должна
доставлять удовольствие». Это — важное положение моцартовской эстетики in
mice. Неприятие натурализма в великом искусстве конца XVIII века как у
Моцарта, так и у Гете вызвано не желанием восстановить принципы нормативной
эстетики, будь то поэзия или музыка, а стремлением быть верными искусству как
таковому, защитить принцип автономности искусства как свободной деятельности.
Это означает для Моцарта также и определенную дистанцию от созданного им
21 Моцарт В. А. Указ. соч. С. 291.
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта JΩ 353
музыкального образа, призванному стать движущей силой оперного действия.
И если музыка берет на себя в нем ведущую роль, то, естественно, как пишет
Моцарт отцу 13 октября 1781 г., поэзия в опере «должна в конечном счете быть
послушной дочерью музыки». Развивая эту мысль, Моцарт приводит в качестве
примера итальянскую оперную музыку: «Почему, например, всем нравятся
итальянские комические оперы? При всем убожестве их либретто! Даже в Париже,
чему я сам был свидетелем. Да потому, что там царит Музыка — и она заставляет
забыть все остальное. И тем больше должна нравиться опера, в которой
проработан весь сюжет пьесы. Слова пишутся для того, чтобы сопровождать музыку,
а не в угоду убогой рифме, возникшей там и сям /: которая, ей-богу, не добавляет
ценности театральному представлению, что бы там ни говорили : /, а скорее
наносит урон :/. Зачем придумывать слова или даже целые строфы, которые губят
весь замысел композитора? Слова есть нечто, без чего музыке не обойтись, но
рифма — вещь вреднейшая, если все делается ради рифмы. Господа, которые
подходят к делу столь педантично, неизбежно погибнут, погубив и Музыку»22.
Конечно, Моцарт берет здесь крайний случай, когда композитору приходится
иметь дело с плохим либретто, с поэтом, не чувствующим музыку. Речь здесь не
идет о недооценке поэтического текста вообще. В синтезе искусств, каковым
является опера, музыке Моцарт отвел ведущую роль, и идеальной ситуацией стало
бы содружество хорошего композитора, знающего толк в театре и способного
внести что-то в постановку, и умного поэта. Все либретто моцартовских опер
несут на себе следы композиторской редакции поэтического текста. «Похищение
из сераля» стало поворотным пунктом в истории музыкального искусства. Путь
к «Свадьбе Фигаро» и «Дон Жуану» был открыт. Эти оперы, их художественное
совершенство показали, как Моцарт углублял драматизм своих произведений.
Если сравнить оперу Моцарта с комедией Бомарше, давшей ей сюжетные линии,
то внимательный анализ покажет нам, что мы имеем дело не с озвученным
текстом французского комедиографа, подогнанным под музыку Лоренцо Да Понте, а
совершенно иным по замыслу произведением. Музыка здесь не украшение и не
углубление поэзии, а исходный принцип сценической драматургии. Как
указывает Жан Старобинский, «пьеса Бомарше была выбрана Моцартом, несомненно,
благодаря ярко выраженному главенству движения. Ее привлекательность не
сводилась к скандальной репутации или критике дворянских привилегий. Моцарт
увидел в ней все то, что могло активизировать выразительность»23. Политическая
сторона комедии Бомарше нисколько не интересовала Моцарта, его
интересовали в первую очередь характеры и их взаимоотношения.
Всех персонажей оперы, какого бы возраста они ни были, объединяет одно
жизненное начало — любовь. Их свойства и сословный статус, их пороки и
добродетели рассматриваются через призму любви. «Каждый любит по-своему, и
каждой манере соответствует своя музыка. В ней выражены не только
разнообразные интонации желания, но и весь спектр страстей: рядом с
многочисленными разновидностями любви есть место и веселью, меланхолии, алчности,
22 Моцарт В.А. Указ. соч. С. 295.
23 Старобинский Ж. Об обращении персонажей и вещей в «Le Nozze di Figaro» // Старобинский Ж.
Поэзия и знание. М., 2002. С. 466.
354 3^
А. Г. Асгпвацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
страху, злобе, тщеславию, раскаянию, прощению и т. д.»24. Страсти
персонажей обретают собственный ритм, свои тональные оттенки, фигурации. Горечь
и злость Фигаро требуют музыку, отличную от гнева и чувств графа. Любовь
Сюзанны к Фигаро отличается от тем, в которых выражены страдания и чувства
графини, которая может спасти свою любовь, лишь обратившись за помощью к
служанке. Музыка персонажей у Моцарта отражает не только их характер, но и
отношение одного персонажа к другому. Первая ария Керубино —
стремительный поток любви, вырвавшейся из мальчишеского сердца, в ней возбуждение,
сладостная боль, желание, ищущее объекта, порывы к обладанию, переходящие
в юношескую страсть. Образ создан. Но тот же Керубино показывается нам в
арии Фигаро «Non pui andrai» (Мальчик резвый...). Фигаро, уже знающий все о
намерениях графа Альмавивы в отношении Сюзанны, не в том состоянии, когда
он может с уважением относиться к чувствам аристократического юнца. В то же
самое время, злясь на графа, Фигаро иронически относится к нему. Керубино
для него «влюбленный ветреник», «нарциссик», «маленький Адонис любви».
Естественно, напутствие Фигаро, высказанное им Керубино, которого
отправляют служить в графский полк, — насмешка над ним, ибо этот юноша может
быть только воином любви. Таких примеров можно привести множество. Такое
же отношение персонажей друг к другу и в «Дон Жуане». Не аналогичным ли
было уже в жизни Моцарта его отношение к Зюсмайру, которое мы находим в
письмах композитора к Констанце?
Даже сейчас, по прошествии более чем двух веков, невозможно спокойно
читать майские и июньские письма 1781 года Моцарта отцу. Они всей своей
тональностью сильно напоминают письма Вертера, его резкие слова в адрес
титулованных ничтожеств, считающих, что дворянское происхождение дает им
право оскорблять и унижать бюргера. Это гротескные образы. Творец
«Вертера», давший возможность своему герою излить гнев на спесивых дворянских
дураков и бюрократов, в головах которых не существует ничего, кроме
параграфов предписаний, к счастью для человечества, никогда не испытывал
унижений своего героя, знавшего свое место и не собиравшегося выходить из границ,
поставленных жизнью бюргерскому сословию. Богатство и слава первого поэта
Германии всегда защищали Гете и давали ему ощущение творческой свободы.
Он ничем не был стеснен и не ощущал зависимости от власть имущих,
скорее последние зависели от него, и свобода была его естественным состоянием.
А Вольфганг Амадей Моцарт должен был испытывать унижения, материальную
нужду, ограничения, которые создавал его гению позорный произвол зальц-
бургского архиепископа, на службе которого находились Моцарты. Майские и
июньские письма 1781 года показывают нам, что должен был вытерпеть гений,
защищавший свое естественное право быть тем, кем он хочет, и распоряжаться
своей судьбой так, чтобы быть достойным своего гения. Конфликт с
архиепископом Иеронимом фон Коллоредо невозможно и даже аморально объяснять
различием в музыкальных вкусах надменного духовного феодала и гения, каких в
человеческой истории можно пересчитать по пальцам. Здесь в непримиримом
конфликте столкнулись два принципа отношения к личности и ее свободе. С од-
24 Старобинский Ж. Указ. соч. С. 469.
V Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта J^D 355
ной стороны, высокомерный дворянин, возведенный в высокий духовный сан и
уже поэтому считающий своим долгом управлять другими, как он этого захочет,
не платить великому композитору достаточного жалования, ущемлять свободу
творчества; с другой, — художник, давно осознавший свою миссию в мире и
открывший новые пути развития искусства. С одной стороны, человек, считавший
себя светским властителем и одновременно духовным пастырем и поручивший
вести дела таким ничтожным негодяям, как граф Арко, с другой — великий
бюргер, защищавший свое личное достоинство, в посягательстве на которое он
видел посягательство на искусство вообще. На одной стороне вместе с властью
была жадность и мелочность, на другой — творчество, которое уже не могло без
ущерба для себя терпеть унизительные регламентации. Моцарт был совершенно
прав, когда в издевательстве, учиненном над ним графом Арко, обвинял
архиепископа. Именно поведение последнего и развязывало руки сановному хаму.
И конечно, архиепископ способствовал тому, чтобы граф-вышибала в 1787 году
получил одновременно малый и большой кресты зальцбургского рыцарского
ордена св. Рупрехта. Никакой провинности своего подчиненного в поступке с
Моцартом архиепископ, естественно, не видел. Можно понять, какую душевную
боль приносило и то, что в этой борьбе Вольфганг Амадей сталкивался с
компромиссным поведением отца. Это отсутствие отцовской поддержки, на которую
сын был вправе рассчитывать, наполняют горечью письма Моцарта. Леопольду
Моцарту надо было объяснять, доказывать, что его гениальный сын имеет право
защищать свое достоинство, жить и творить, где он хочет: «Архиепископ два
раза высказывал мне величайшие оскорбления, а я ни слова не отвечал, более
того, я играл ему со всем рвением и усердием, как будто ничего не произошло.
И вместо того чтобы по заслугам наградить мое усердие в службе и стремление
угодить ему, он в тот самый момент, когда я имел основания ожидать чего-то
другого, уже в третий раз обходится со мной самым отвратительным образом
на свете. И чтобы только не казаться несправедливым, чтобы было понятно,
что я целиком прав: такое впечатление, что меня хотят прогнать силой». Это
ли не «усиленный Вертер» реальной жизни! Свобода, которую Моцарт
завоевал, разорвав с архиепископом, есть важнейший этап в становлении
музыканта — художника Нового времени. Музыкант переставал быть слугой,
ублажающим своих хозяев. Он начинал служить только своему искусству. Йозеф Гайдн
и Леопольд Моцарт, при всем их таланте, соглашались терпеть положение слуг
при княжеских дворах, боясь впасть в нищету. Моцарт этого не побоялся.
Вольфганг Амадей Моцарт не пошел ни на какие компромиссы. Как пишет Г. Аберт:
«В этом случае острее, чем когда-либо, столкнулись старое и новое понимание
искусства: отец выше всего ценит обеспеченное положение при княжеском
дворе, ради этого он готов примириться даже с личными оскорблениями, сын же
защищает права собственности художника, который ради князя не хочет и не
может пожертвовать природным призванием»25. Свобода была завоевана Моцартом
дорогой ценой, ценой лишений и непрерывного изнуряющего труда, которому
композитор отдал себя без остатка. Но без этой борьбы и в конечном итоге
победы невозможно помыслить гордое, свободолюбивое, независимое поведение
Аберт Г. В. А. Моцарт. Часть 1. Книга 2. С. 284.
356 Sîb
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Бетховена по отношению к власть имущим. Письма Моцарта показывают нам,
что его путь в искусстве был труден. Как вундеркинд он восхищал всех, и слава
виртуоза игры на клавире закрепилась за ним на всю жизнь, но были и другие
виртуозы, которые больше нравились тем, от кого зависело искусство. Моцарт
был признанным композитором, но были и другие композиторы, которые
пользовались большей популярностью. Премьеры его опер, в частности «Свадьбы
Фигаро», можно было осуществить лишь после решительной борьбы против
разного рода интриг. Мы говорим о совершенстве произведений Моцарта, но
многие из современников композитора думали совсем иначе. Для них, в том
числе и музыкантов, считавших музыку украшением жизни, своего рода
возвышением ее, средством для возбуждения эмоций или же очищением аффектов, его
композиции часто казались малопонятными, искусственными, музыка —
слишком мечтательной. Для Моцарта она была абсолютным выражением мира, а все
остальное — лишь вспомогательным средством для этого выражения.
2. «Дон Жуан»
Сюжет «Дон Жуана», предложенный Моцарту Лоренцо Да Понте, по мнению
либреттиста, полностью укладывался в традиции opera buffa и должен был
гарантировать опере шумный успех, поскольку он уже неоднократно
использовался итальянскими оперными композиторами. Либреттист, будучи ловким
литератором, опираясь на уже использованные сюжетные ходы и мотивы, стремился
оправдать ожидания публики, написав текст, изобиловавший разного рода
буффонными ситуациями. Венецианский литератор, уже имевший опыт совместной
работы с Моцартом, достаточно хорошо знал, как моцартовская музыка самым
неожиданным образом оживляет поэзию, дает ей широкое дыхание, как слово,
повинуясь музыке, служит созданию неожиданных характеров, сущность
которых слово не могло выразить, и как уже известные, ставшие шаблонными
сценические приемы обретают под ее воздействием новый смысл. Взяв за основу
текст Джованни Бертати к опере Гаццаниги «Каменный гость» и в целом следуя
сюжету, Да Понте превратил Донну Анну из второстепенного персонажа в одну
из главных фигур оперы; образы Церлины и Мазетто были написаны интереснее
и тоньше, чем аналогичные образы у Бертати; Донна Эльвира сохранила свой
характер; у предшественников Моцарта и Да Понте она так же импульсивна и
темпераментна. Что же касается буффонных сцен, то они у Да Понте сделаны
с большим вкусом. Либретто было по душе композитору, с вдохновением
работавшему над оперой.
Фридрих Шиллер, которому мы обязаны концепцией искусства как игры,
писал 29 декабря 1797 г. Гете: «Я всегда возлагал определенные надежды на
оперу, полагая, что из нее, как из хоров на древнем празднике Вакха,
разовьется трагедия в облагороженном облике. В самом деле, в опере отказываются от
этого рабского подражания природе, так что там хотя бы из-за подобной
снисходительности на сцену могло бы проскользнуть идеальное. Благодаря
могуществу музыки и более свободному гармоническому воздействию на чувства опера
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В, А. Моцарта *iS> 357
настраивает душу на более совершенное восприятие; в самом деле, здесь даже и
в пафосе, поскольку ему сопутствует музыка, появляется более свободная игра,
а чудесное, некогда допущенное на эту сцену, неизбежно должно повлечь за
собой большее безразличие по отношению к сюжету»26. Гете ответил другу на
следующий день. Не входя в концептуальные разговоры о характере игры в опере и
ее в ней роли, Гете мгновенно привел пример осуществления игры, которая уже
изначально существует в замысле. Он писал: «Надежды, возлагавшиеся Вами
на оперу, Вы могли бы увидеть осуществленными в самой высшей степени в
недавней постановке "Дон Жуана". Зато эта пьеса и стоит особняком; со смертью
Моцарта исчезла всякая надежда на что-либо подобное»27.
Опера действительно представляет нам воплощение творческой свободы.
В ней комическое и буффонное органически соединены с трагическим так, что
одно как бы освещает другое, и сила оперы в том, что искусство Моцарта не дает
приоритета ни тому ни другому Если вся интродукция, где показывается гибель
Командора от руки Дон Жуана и первый дуэт Донны Анны и Оттавио
пронизаны трагическим духом, то дальнейшее развитие событий в опере —
соединение буффонного и драматически-трагедийного; последнее, как неотступное
воспоминание, присутствует в характерах Донны Анны и Оттавио. Лепорелло,
Церлина и Мазетто и даже в известной мере Донна Эльвира относятся к сфере
комически-буффонного. Главный же персонаж, Дон Жуан, присутствует во всех
сферах, и в той и в другой, то есть буффонной и трагической. Он выступает как
активный герой, причем, конечно, главные поступки в сфере буффонной
неизбежно ведут Дон Жуана в сферу трагическую. Бесспорно, характер этого
блистающего остроумием, выдумкой и хитростью покорителя женских сердец
выписан Моцартом особенно ярко, но это вовсе не означает, что другие персонажи
только фон, на котором раскрывается характер Дон Жуана. Другие персонажи в
этой опере живут собственной жизнью, другое дело, что судьба их так или иначе
сталкивает с Дон Жуаном, и перед нами великая музыкальная драма характеров,
можно сказать, типов, в которые щедро разлита жизнь.
Конечно, главный герой — это трансцендированный тип рококо, герой, вся
активность которого проявляет себя в будуаре. Однако это герой более высокого
уровня, нежели виконт де Вальмон Шодерло де Лакло и безнадежные
развратники маркиза де Сада. И если с Вальмоном Дон Жуана роднит восприятие
жизни как нескончаемой эротической игры, а также трагическая судьба, то героям
де Сада Дон Жуан противостоит как цельная натура, никогда не опускающаяся
до последней степени падения; в нем полнота жизни бурной, инстинктивной,
в них жизни нет. Земляк и хороший знакомый Лоренцо Да Понте Казанова,
авантюрист и известный покоритель женских сердец, плохо понял замысел
Моцарта, когда предлагал Да Понте варианты текста секстета 2-го акта, в которых
усиливал буффонную струю там, где требовалось серьезное драматическое
напряжение, где композитор не собирался сочинять веселые мелодии, тем более
что трагическая развязка по ходу действия была уже близка. Так же, как
«Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» — это опера о любви, и Донна Анна — воплощение
26 Гете И. В., Шиллер Ф. Переписка в 2 т. Т. 1. М.: «Искусство», 1988. С. 472.
27 Там же. С. 473.
358 Зь
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФМАОСОФИЯ. ИГРА
этого чувства, любви к отцу и жениху Дону Оттавио. Ее чувство наполнено
глубоким нравственным смыслом. Конечно, ее желание отомстить за смерть отца
раскручивает пружину действия в опере. Долг перед памятью отца заставляет
моцартовскую героиню на время забыть о личном счастье с Оттавио, которого
она сердечно любит, но и для Оттавио любовь сопряжена с долгом перед
возлюбленной, завоевать которую он может в решительной поддержке своей
невесты в ее стремлении, чтобы восторжествовала справедливость. И здесь надо
отметить интереснейшую особенность оперы. Два факта кладут конец всем
успехам Дон Жуана: поединок с Командором и появление масок (Донна Анна,
Дон Оттавио и Донна Эльвира); ему больше не суждено одержать победу над
женским сердцем, хотя он и близок был к ней, пытаясь соблазнить Церлину.
Поэтому ария Лепорелло со списком, каталогом покоренных женщин, выглядит
как предыстория, которая уже несколько отделена от событий, происходящих на
сцене, и трагикомическим фарсом выглядит избиение Мазетто, которому едва
не удалось схватить Дон Жуана; Дон Жуану приходится хитрить, чтобы не быть
поколоченным крестьянами. И здесь буффонность снимается арией Церлины,
дышащей такой нежнейшей грациозностью, что возникает впечатление, будто
среди столкновения страстей возникает оазис человеческого счастья, для
которого нет преград.
В замечательном этюде «Хвала Церлине» Т. Адорно, останавливаясь на
образе Церлины, обнаруживает его внутреннюю свободу, считая, что Церлина «вечно
будет пребывать символом в истории» и «полюбивший ее имеет в виду
несказанное, звучащее своим серебряным голосом из ничейной земли между
борющимися эпохами»28. Сказанное целиком относится и к искусству Моцарта вообще,
поскольку озаренность свободой для него особенно характерна, можно сказать,
имманентна ему. Столкновение персонажей в опере выявляет эту свободу.
«Среди важных господ и трагических дам она (Церлина) не более, чем эпизодическая
фигура. Правда, на нее упал неотразимый взгляд, необузданный гранд
протягивает ей руку, и она оказалась бы чрезмерно робкой, если бы сразу же не
последовала за ним в его замок. Это недалеко. Однако поскольку опера buffa не допускает
совращения невинности и Мазетто не мог бы, конечно, отомстить так
величественно, как благородный Оттавио, за оскорбление донны Анны, Да Понте
пресекает промискуитет, в котором стороны не равны, восстанавливает моральный
и социальный порядок между сословиями и озаряет в стигийской ночи светом
факела счастливую близость в примирении ее с тем, имя кого распространилось
на всех дурней и растяп. В конце звучания моцартовского оркестра происходит
как бы примирение всего человечества. И происходит оно во имя свободы»29.
Дон Оттавио в опере противостоит Дон Жуану. Создавая этот характер,
Моцарт избрал особую форму противостояния — противостояние разных
принципов жизни: верной, преданной любви и беспредельной страсти к чувственным
наслаждениям. По ходу действия Моцарт то сталкивает своих героев друг с
другом, то в кульминационные моменты разводит их. Поэтому непосредственного
участия в гибели вероломного соблазнителя Дон Оттавио не принимает, он даже
28 Адорно Т. Избранное: Социология музыки. М., 2008. С. 223.
29 Адорно Т. Избранное: Социология музыки. М., 2008. С. 222.
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта J& 359
не становится ее свидетелем, хотя в преследовании Дон Жуана он играет не
последнюю роль. Оттавио находится в одном ряду с такими моцартовскими
образами, как Идамант, Бельмонт, Тит, Тамино — героями, воплощающими
исключительное благородство, отвагу, решительность, чистоту помыслов и верность в
любви. Однако даже для выдающихся исследователей творчества Моцарта этот
образ стал проблемой. Дело в том, что здесь сказывалось романтическое
понимание образа Дон Жуана (Э. Т. А. Гофман, Н. Ленау) и кьеркегоровская его
интерпретация и атавизмы психологического толкования позапрошлого и прошлого
столетий, а также в том, что блистательный порок эстетически выглядит
интереснее, чем пресная добродетель, и Оттавио потому бледнет по сравнению со
сверкающим искрами жизни и ничего не страшащимся Дон Жуаном. Причина
такой недооценки заключается, на наш взгляд, прежде всего в недостаточном
понимании, что же в человеческой жизни может быть противопоставлено
неудержимому безумию гедонистического бытия, которое в конце концов
приводит к игре чужими жизнями, к гибельным последствиям этой игры для людей;
здесь также и недостаточное внимание к тому, какие характеры в рамках этого
оперного сюжета могут вести борьбу с Дон Жуаном, защищая в первую очередь
других, а не себя, сохраняя в себе рыцарственность и любовь, благородство и
самоотверженность. Письма Моцарта могут дать нам ответ.
После триумфальной премьеры «Дон Жуана» в Праге композитор,
находившийся в радостном настроении, пишет в Вену своему другу Готфриду фон Жа-
кену, и из письма видно, какая любовь для него была высшей ценностью и
постоянно его вдохновляла. «Быть недовольным у вас, дорогой друг, нет причин,
потому что у вас есть все, чего человек может себе пожелать в ваши годы и в
вашем положении! В особенности потому, что вы теперь несколько отошли, как
мне кажется, от прежнего весьма беспокойного образа жизни. Не правда ли, вы
с каждым днем все более убеждаетесь в справедливости моих маленьких
назидательных проповедей? Согласитесь, что удовольствия ветреной, своенравной
любви, как небо и земля далеки от того блаженства, которое доставляет
истинная, разумная любовь? В душе вы, наверное, частенько благодарите меня за мои
наставления! О, так я пожалуй от гордости нос задеру! — Нет, кроме шуток,
ведь есть за что благодарить меня, ведь если вы в конечном счете оказались
достойны фр-ляйн И., то в вашем воспитании и наставлении вас на путь
истинный я сыграл не последнюю роль». Моцарт не был бы Моцартом, если бы не
закончил свои мысли в шутливом тоне, дабы не казаться ментором. Но и здесь
великий создатель Лепорелло продолжает говорить о разумной, преданной
любви как о вечной ценности, передающейся в мире из рода в род. «Мой прадед
любил говорить своей жене — моей прабабке, а та в свою очередь своей
дочери — моей бабушке, а та в свою очередь — своей дочери, то есть моей матери,
моя же матушка — своей дочери, то есть моей возлюбленной сестре, что умение
красиво и благородно говорить — это безусловно большое искусство — умение
вовремя к сказанному прислушиваться. Так что я уж прислушиваюсь к совету
моей сестры, нашей матери, бабушки и прабабушки, завершу не только свои
нравоучительные отступления, но и само письмо»30.
Моцарт В. А. Указ. соч. С. 428.
360 Sîb
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Зная искусство Моцарта, мы можем с уверенностью сказать, что он был
поэтом верной и преданной любви, любви, вобравшей в себя нравственное начало,
и на этот счет не надо заблуждаться. К искусству Моцарта полностью
применимы те определения, которые дал классическому художнику Эмиль Штайгер в
статье «Гете и Моцарт». «Классическое — это примирение спонтанного,
непосредственно импульсивного и хорошо продуманной планомерности, особенного
и всеобщего, произвольного и законообразного, следовательно, примирение,
которое яснее всего сохраняется в классическом образе мыслей, когда все, что
повелевает долг, совершается из склонности, из любви. И классическое — это
возвышение индивидуального бытия до типа так, что отдельный художник
становится представителем всего человеческого рода»31.
Возвращаясь к моцартовскому Дону Оттавио, заметим, что черты образа,
созданного художником классического типа, проступают в нем достаточно
рельефно. Это обнаруживается уже в первом дуэте Донны Анны и Оттавио. Герои
Моцарта любят друг друга, но их взаимное чувство подвергается страшному
испытанию — Командор, отец Донны Анны, убит. Девушка сражена горем, она
осталась беззащитной из-за бесцеремонного вторжения Дон Жуана в ее жизнь,
и в этой ситуации единственной поддержкой ей остается любовь Оттавио; в ней
и только в ней она может найти утешение и созреть до справедливого мщения
убийце, и Дон Оттавио до конца верен своим словам, что его невеста найдет в
нем мужа и отца. Действия Оттавио — всегда помеха Дон Жуану, как и
появление Донны Эльвиры, и уже в квартете первого действия Дон Жуану грозит
разоблачение. Не только яростная активность и темперамент Эльвиры
становятся противодействием намерениям Дон Жуана соблазнить Церлину, но и
действия Оттавио. Мощное эстетическое воздействие, которое оказывает эта опера,
обусловлено высочайшим мастерством композитора — драматурга, создавшего
произведение, ставшее синтезом разнообразнейших музыкально-драматических
форм. Это произведение такого масштаба, такой глубины, что в осмыслении его
мы постоянно сталкиваемся с несовершенством наших эстетических категорий
и их полной условностью в отношении подобных творений, и прав был Эрнст
Кассирер, когда писал: «Вопрос о том, трагедия ли Моцартов "Дон Жуан" или
opera buffa, вряд ли заслуживает ответа». «То, что мы слышим, — это целая шкала
человеческих эмоций — от самых низких до самых высоких нот, это движение
и вибрация всего нашего целостного бытия»32. Эти слова точно характеризуют и
нравственный пафос искусства Моцарта. Нравственные импульсы рождаются в
нем из самой жизни, ставшей великой художественной игрой, придавшей самой
жизни глубокий экзистенциальный смысл, который часто называют истиной.
Это, конечно, не онтологизированная мораль и не прорыв в трансцендентные
сферы, как у Бетховена, на который человек, по мнению Гете, также имеет право
в силу своей сознательной деятельности, так как последняя уже сама по себе
делает его гражданином не только земного, но и сверхчувственного мира. В
секстете 2-го акта, где происходит разоблачение Дон Жуана, Оттавио отданы выра-
31 Staiger Ε. Goethe und Mozart // Musik und Dichtung. Zürich, 1959. S. 54.
32 Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Кассирер Э.
Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 617.
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта J& 361
зительные в драматическом отношении реплики и темы. Как маска Дон Оттавио
проявляет выдержку и осмотрительность, понимая, что только он опора Донне
Анне и в игре с таким опасным противником, который всеми силами стремится
выйти сухим из воды, необходима предельная осторожность, тем более что вина
уверенного в себе распутника обнаруживается не сразу. Дон Жуана он презирает
и считает преступником, которого нужно во что бы то ни стало покарать. Однако
доминирующим в его характере остается его чувство, любовь к своей невесте,
и оно определяет его образ. Чистая любовь не должна быть омрачена деянием
даже справедливой мести, и Моцарт в последний момент выводит Донну Анну
и Оттавио из сферы возмездия, перепоручая наказание высшему миру,
поскольку богохульник и развратник должен ответить за все свои преступления.
Драматизм второго финала создается виртуозным синтезом гетерогенных элементов,
которые, на первый взгляд, могут существовать лишь как контраст, и, взятые в
отдельности, таковым и являются. Начало второго финала, пользуясь языком
Ницше, можно было бы назвать дионисийским буйством, безумным отдыхом
после кажущегося Дон Жуану удавшимся преодоления препятствий, которые
ему постоянно создавали маски. Они решительно вставали на пути
расточительной жизни, превращенной в бесконечный праздник плотских удовольствий и
буффонных забав. Маски все настойчивей оттесняли его к жизненному пределу.
Но в сознании Дон Жуана временное освобождение от натиска масок каждый
раз создает иллюзию беспредельной, вечной жизни, вечного возвращения того
же самого, возвышающейся жизни, сметающей религиозные и нравственные
барьеры. В этой иллюзии вечной земной жизни индивид начинает ощущать себя
вечным; в нем рождается чувство свободы. Но трагическая ирония заключается
в том, что свобода обитает вовсе не там, куда попадает преследуемый масками
Дон Жуан. Она царит в иных сферах, к которым моцартовский герой питает
презрение и в существование которых не верит. Оказавшись на кладбище
перед статуей Командора, Дон Жуан, ощущая полную свободу, вторгается в сферу,
навсегда отделенную от жизни. Однако с ней он, сам того не желая, уже связал
себя, убив Командора. Этим вторжением, приглашением Командора на ужин,
неверием в потусторонний мир, непочтительным отношением к Смерти, игрой
с ней Дон Жуан себя уничтожает. Человеческого возмездия ему не будет,
наказание богохульнику и распутнику определено свыше, ибо он характером своего
преступления вышел за пределы всего человеческого и дуэль с Доном Оттавио
слишком мягкая кара для него.
Диаметрально противоположным было представление о Смерти самого
композитора. Он видел в ней неизбежность и не испытывал перед ней страха,
а жизнь в творчестве и созидании рассматривал как подарок судьбы, и в этом
была его великая благодарность жизни, дававшей ему возможность создавать
произведения, которых ожидало только бессмертие. Его последнее письмо уже
тяжело больному отцу проникнуто чувством смирения, особой моцартовской
религиозностью. Ее масонский характер не подлежит никакому сомнению.
«Поскольку Смерть /хтрого говоря:/ есть истинная конечная цель нашей жизни, то я
за последние несколько лет так хорошо познакомился с этим истинным, лучшим
другом Человека, что в ее образе для меня нет теперь ничего пугающего — но
362 SL
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
очень много успокоительного и утешительного! И я благодарю Господа моего,
что он даровал мне счастие, предоставив возможность /:вы понимаете меня:/
распознать в ней ключ к нашему истинному блаженству. Всякий раз, ложась
спать, я помню, что возможно /:как бы молод я ни был:/, мне не суждено будет
увидеть завтрашний день. И все же ни один человек из всех, кто меня знает, не
скажет, что я в общении мрачен и печален. И за это блаженство я всечасно
благодарю моего Творца и от всего сердца желаю такого же блаженства всем моим
Ближним»33. Поэтому начавшийся веселым пиром второй финал из комически-
буфонного представления постепенно перерастает в трагедию. Беззаботное
веселье прерывается появлением Донны Эльвиры. Для венской постановки оперы
была специально написана сцена Донны Эльвиры, предшествовавшая сцене на
кладбище. В пражской редакции ее не было. Сделал это Моцарт, видимо, для
более убедительной мотивировки появления Эльвиры во втором финале,
углубляя тем самым драматургию этого образа. После того как Донна Эльвира узнает,
что бросивший ее Дон Жуан, которого она продолжает любить, убийца,
которого уже невозможно остановить, и все ее надежды его возвратить и образумить
рухнули, интуитивно понимая, что Дон Жуан идет к гибели и наказание
неотвратимо, Эльвира оказывается единственной, кто в опере испытывает чувство
сострадания к нему. Ее жизнь разбита, любовь растоптана, превращена в фарс,
страстность используется с нескрываемым цинизмом Арлекина, надевшим на
себя маску учтивости. Это — страшное испытание для импульсивной, любящей
героини, и его никак нельзя сравнить с переживаниями Церлины и Мазетто.
Моцарт вводит новую черту в темпераментный характер Эльвиры, ведь именно
она стремится спасти Дон Жуана, если не от человеческого суда, то от суда над
его душой, как это будет во втором финале, когда она будет призывать своего
преступного возлюбленного покаяться, уже приняв решение уйти в монастырь,
призывать к отречению от прошлого, к осознанию гибельности для души того
пути, на который встал Дон Жуан. В сцене Донны Эльвиры мы сталкиваемся не
только с прежним характером, поступки которого уже заранее определены его
страстями, но и с трансформацией страстности в горестное, грустное
сострадание. Взволнованный речитатив с густым, плотным оркестровым
сопровождением дает нам тип героини, однако написанная в форме рондо ария, где уже
нет контрастов — результат признания тщетности своих страданий. Хотя ария
написана как поток возбуждения — без этого Эльвира не может — в движении
восьмых слышится горестное признание необходимости отречения от любви и
последняя ее вспышка, которая вызовет и последнее страстное желание
героини спасти душу Дон Жуана. Это произойдет во втором финале, где мы увидим
прежнюю Эльвиру, импульсивную, темпераментную, страстную, до конца
борющуюся за своего обреченного на гибель возлюбленного. Образ Эльвиры,
немного приглушенный в ее последней арии, в финале опять засверкал огнем. Не
в характере этой героини Моцарта сдаваться. «В головокружительной спешке,
по большей части отрывочными фразами, частью звучащими как крики, течет
поток ее мелодии, непрестанно возбуждаемый сопротивлением Дон Жуана на
новый взрыв страсти. Ни в одном из номеров оперы не выступает так явно ее
33 Моцарт В. А. Указ. соч. С. 421.
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А Моцарта J& 363
внутреннее родство с его стихийной натурой, кажется, будто ему противится
какая-то доля его собственного существа»34.
Необычайно взволнованный характер музыки, натиск Эльвиры, бравада
Дон Жуана, повторяющего свою похвалу женщинам, последняя попытка
Эльвиры заставить прекратить безумное веселье достигают кульминации, которая
завершается криком уходящей от одержимого безумца Эльвиры, которая
увидела статую Командора. Мгновенно вся драматическая ситуация превращается
в трагедию. В трагической перспективе все произошедшее в опере выглядит в
новом свете. Трагическое заявило о себе уже в начале первого акта, напомнило
о себе в сцене на кладбище, когда заговорившая статуя уничтожила веселье Дон
Жуана и Лепорелло. Теперь статуя стучится в дверь, и дрожащий от ужаса трус
Лепорелло не в состоянии выполнить приказание своего господина впустить ее
в дом. В минуту так ожидаемого Дон Жуаном веселья потусторонний мир
властно заявил о себе, послав к нему своего обитателя.
Дух Командора, навсегда отрешенный от всего земного, обращается к Дон
Жуану как голос неземных, вечных сфер. Он непобедим, ибо в нем уже нет
ничего человеческого, нет страстей, желаний любви, сострадания, гнева. В нем
только одно непобедимое величие Смерти, которое возвещает о себе своим тяжелым
ритмом и мелодикой. Бездна разверзается постепенно, но неумолимо.
Начинается борьба двух сил: одной, сконцентрировавшей себя в Дон Жуане, —
стихийной силы жизни, которая не желает признать себя побежденной, и другой,
роковой силы необходимости, управляющей всем мирозданием, силы
Незримого. Партия оркестра открывает нам весь трагизм происходящего. Мы слышим
движение гамм, то ниспадающих, то взмывающих вверх, подобно волнам моря,
рушащим все препятствия, встающие на их пути. Борьба сил Смерти и упорно
сопротивляющихся им сил Жизни разворачивается в присутствии Лепорелло,
охваченного таким страхом, что буффонные черты этого образа сжимаются в
ужас, который почти лишает этого болтуна дара речи, превращая ее в
бормотание на фоне развернувшейся борьбы, от которой он стремится убежать. При виде
статуи Лепорелло вспомнил свою роль в богохульном глумлении над мертвым.
Он тогда предчувствовал, что это не доведет до добра, и попытался улизнуть с
кладбища, после того как статуя заговорила. Но на его счастье дух пришел не за
ним и не обращает на него никакого внимания, ведь буффон — всего лишь
игрушка в руках хозяина, выполняющая его желания. Естественно, поначалу Дон
Жуан смущен появлением каменного гостя, так как не был готов ко встрече с
ним; он уже забыл, как приглашал статую на ужин. Вторжение Донны Эльвиры
и ее страстные укоры и призывы просто развлекали и давали повод для новой
игры. Но к такой игре Дон Жуан не был подготовлен. Здесь игра ведется на
совершенно ином уровне бытия, и не он ее режиссирует. Это игра со всеми силами
мироздания, игра демоническая, в которой гибель от человеческой руки
полностью исключена. Повинуясь судьбе, Дон Жуан принимает вызов. Дух, который
«не будет питаться пищей смертных», переиграть невозможно, с ним надо
сражаться, подчиняясь правилам Незримого, и здесь необходима решительность.
Темы Дон Жуана отличаются непоколебимым упорством, хотя это героизм,
34 Аберт Г. В. А. Моцарт. Часть 2. Книга 2. 1787—1791. М., 1990. С. 100.
364 SL
A. Г Аствацатуров. ПОЭЗИЯ ФИАОСОФИЯ. ИГРА
изначально обреченный на поражение. Но герой Моцарта предпочитает
самоуничтожение подчинению чужой воле. Герман Аберт выразительно пишет по
этому поводу: «Пунктирный ритм еще сохраняется в отдельных местах партий
Командора и Дон Жуана, который еще раз, преодолев трепет, теперь недолгий,
в момент предельного напряжения всех сил сближается в выразительной сфере
со своим сверхъестественным противником. Так борьба обоих могущественных
сил приобретает масштаб, превышающий все земные пределы»35. Дон Жуан
отказывается от покаяния, от смирения, от подчинения силе, ограничивающей его
волю, и его низвержение в преисподнюю в сонме обступивших его духов — это
его выбор.
О значении моцартовского гениального творения, созданного в предверии
1789 года, обозначившего новый период в человеческой истории, убедительно
пишет Жан Старобинский: «Дон Жуан покорен своей легендарной судьбе.
Бросив вызов, он не отступает от него и протягивает руку статуе. Земля
разверзается под ним, и, громом пораженный, он проваливается в преисподнюю:
торжествует старый порядок, оскорбленный Отец, запоздавшая месть». «Непостоянство
желаний, хаотичность, разрозненные моменты беспутного существования
сталкиваются здесь с холодной незыблемостью статуи, которая изображает верность
слову, непреклонность правосудия, непреложность божественного порядка,
который не способно поколебать ни одно оскорбление. Именно тогда, когда
привилегированное сословие кружится в вихре распутства и мотовства, в сознании
тех, кого увлекает этот круговорот, неизбежно акцентируется образ упорно
отрицаемого или вечного, неизменного, трансцендентного начала»36. Моцарт
никогда не форсирует этот порыв, он всегда остается в пределах земного, но
земное как игра становится у него имманентным символом целостности бытия, его
единства и многообразия и поэтому получает у него трансцендентный жизни
смысл. Это понимали Гете и Стендаль.
3. Клавирные концерты
Переезд в Вену поставил перед Моцартом многие проблемы. Он должен был
завоевывать пространство для своего великого искусства. Показательно в этом
отношении его знаменитое соревнование с Муцио Клементи, который прибыл
в Вену как прославленный исполнитель, обладавший неслыханной
виртуозностью. В письме от 16 января 1782 года Моцарт описывает это соревнование,
которое было им выиграно. Император Иосиф II, сделавший ставку на Моцарта,
выиграл пари. Жесткие отзывы Моцарта об игре Клементи — это не выражение
торжества над поверженным соперником, а прежде всего защита совершенно
иных принципов исполнительского искусства, презрение композитора к
бессодержательной и пустой виртуозности, презрение к исполнителю, который
пытается поверхностную, сухую музыку украсить виртуозным блеском. «Теперь о
35 Аберт Г. Указ. соч. С. 105.
36 Старобинский Ж. 1789 год: Эмблема разума, гл. «Полночный Моцарт» // Поэзия и знание. Т. 2.
С. 372—373.
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта Jή 365
Клементи — он бойко играет на чембало, — вот, впрочем, и все, — в игре
правой рукой очень искусен, главные его пассажи — это терции, в остальном же у
него ни на крейцер ни вкуса, ни чувства, одна техника — и только». В письме
от 7 июня 1783 г. Моцарт не изменил своего мнения об искусстве Клементи,
однако предостерег сестру от увлечения чистой виртуозностью. В сонатах
Клементи «нет выдающихся или примечательных пассажей, кроме секст и октав, а
с этим прошу мою сестру не слишком церемониться, чтобы ее рука сохранила
свое спокойствие и уверенность и не потеряла естественную легкость и
плавную скорость». Моцарт боится того, что сестра, исполняя октавные пассажи,
переиграет руку. Для истории музыки эти письма имеют особое значение. С
них начинается критика пустой виртуозности. Исполнительская виртуозность
никогда не была для Моцарта самоцелью. В сонатах и клавирных концертах
композитора более чем достаточно мест, требующих исключительной
исполнительской виртуозности, но не виртуозности кунштюков Клементи. Если Моцарт
создает пассажи, то не ради их самих, а ради особого повышения музыкальной
выразительности, ее углубления. Моцарт высоко ценил музыкантов, которым
было свойственно профессиональное мастерство. Оно давало ему возможность
воплощать свои замыслы. Его восхищала виртуозная вокальная техника Рафа
и Фишера, великолепное пение и игра выдающейся певицы Нанси Стораче.
Создавая музыкальные образы в операх, Моцарт всегда ориентировался на
технику исполнителей и тем самым открывал им возможности для воплощения их
незаурядного таланта. Об ариях, написанных специально для Алоизии Вебер,
говорить излишне. Искусство выдающихся музыкантов-исполнителей, в свою
очередь, оказывало значительное влияние на Моцарта. Сердечная дружба
связывала его с выдающимся руководителем мангеймского оркестра Кристианом
Каннабихом, учеником одного из создателей симфонии как жанра Яна Стами-
ца. Виртуозное мастерство музыкантов этого оркестра, прообраза большого
симфонического коллектива, восхищало Моцарта. Влияние мангеймского
симфонизма коснулось не только оркестрового письма композитора, но затронуло
и клавирный стиль Моцарта. Герман Аберт пишет об этом: «Уже соната KV 284
была предназначена для нового пианофорте, теперь же мы видим, что Моцарт
ревностно стремится перенести на клавир волшебное искусство мангеймского
оркестра. Это сказывается не только в более тщательном ведении средних
голосов и более полном охвате регистров, но также в широко взлетающих
скрипичных мелодиях, быстрых ломаных октавах, септимах и секстах, которые должны
заменить тремоло, таинственных звучаниях духовых, staccato басов и тому
подобных деталях»37.
Две трети концертов для клавира с оркестром были созданы композитором
в промежуток времени с 1782 по 1786 год, между «Похищением из Сераля»
и «Свадьбой Фигаро». В эту пору музыка Моцарта стала прочно привлекать к
себе внимание венских слушателей, и этому не в последнюю очередь наряду с
«Похищением из Сераля» способствовали клавирные концерты. Конечно, жанр
клавирного концерта не был для публики чем-то неизвестным, однако лишь
Моцарту удалось сделать его значительным фактором музыкальной жизни Вены.
Аберт Г. В.А. Моцарт. Часть 1. Книга 2. С. 130.
366 SL
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФМАОСОФИЯ. ИГРА
Причину этому надо искать прежде всего в высочайшем художественном
уровне моцартовских творений, в особой приверженности гения к этому жанру, в
котором композитор добился невиданной прежде содержательности
музыкальных форм, соединяя solo и tutti оркестра. Альфред Эйнштейн с полным правом
утверждает, что «какие бы великолепные образы концертной формы ни создал
Моцарт в расчете на струнные и духовые инструменты, идеала он достигает
только в клавирных концертах»38.
С детства клавир был любимым инструментом Моцарта. И если композитор
находится в художественной реальности, в ситуации, где ансамблю он
противостоит как индивидуальность, как некое целое другому целому, то для такого
противостояния, с его точки зрения, лучше всего подходит именно клавирный
концерт. А. Эйнштейн это объясняет возможностями фортепиано как
инструмента, как клавишного инструмента. «Только в клавирных концертах друг другу
противостоят две силы, действительно способные вступить в единоборство, и
ни одна из них не вынуждена подчиняться другой. Только здесь сольный
инструмент не оказывается в невыгодном положении из-за ограниченности
диапазона (как, скажем, скрипка, флейта, кларнет) либо же из-за недостаточности
свободы интонирования и модуляций (как валторна). В качестве соревнующегося
инструмента клавир обладает мощью, не уступающей мощи оркестра, а отличие
в способе звукоизвлечения (это утонченнейший ударный инструмент) придает
ему большую уверенность в своих силах»39. Письмо Моцарта отцу от 28 декабря
1782 года дает нам достаточно ясное представление об эстетических
принципах, на которых строится клавирный концерт, а также об эстетике Моцарта
вообще применительно ко всем музыкальным жанрам, в которых работал
композитор. Для выступлений в качестве солиста в Тратнерхоф ему необходимо было
создать новые клавирные концерты, и он начал работу над концертами F-dur
KV 413 и C-dur KV 415; концерт A-dur KV 414 был уже создан. Обобщая свои
принципы, Моцарт пишет: «Концерты представляют собой нечто среднее (das
Mittelding. — Α. Α.), они не трудные, однако и не легкие. Они прямо-таки
блистательные, они приятные на слух. Но, разумеется, до пустышки не опускаются.
Кое-где только знатоки получат от них удовольствие. Но так, что дилетанты
окажутся довольны, хотя и не будут знать, почему»40. Требования,
предъявляемые Моцартом к своему творчеству, — быть понятым как профессионалами,
так и любителями, широкой публикой. Ситуация, когда форма ставит слушателя
в тупик и затрудняет понимание ее содержательности, не кажется Моцарту
продуктивной. Цель искусства — не создание шока у слушателя, который может
преодолеть знаток-профессионал, а сотворение той коммуникативной ситуации,
где все ее участники становятся равноправными субъектами. Речь, естественно,
идет не о том, что художник должен опуститься до уровня несведущей публики
или дилетанта. Моцарт говорит о требовании, которое он ставит перед собой:
не поступаясь содержательной сложностью, сделать ее такой, чтобы в процессе
интеракции художественный интеллект, оставаясь суверенным творцом авто-
38 Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. М. 2007. С. 276.
39 Там же. С. 276.
40 Моцарт В. А. Указ. соч. С. 356.
V Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта J£5 367
номного произведения искусства, не выглядел как принуждающий,
доминирующий, порабощающий волю, против чего позднее Ницше протестовал, направляя
свои критические стрелы в Вагнера. Речь шла как о свободном творчестве, так
и о свободном восприятии. Для художника это, бесспорно, сверхзадача, смысл
которой — достичь такой музыкальной формы, от которой каждый может взять
то, что он взять может. Продолжая свое письмо, Моцарт, кажется, отклоняется
от темы и забывает о концертах, о которых говорил раньше. На самом же деле
он окольным путем как раз к ним и возвращается: «Теперь заканчиваю также
переложение моей оперы для клавира (речь идет об опере "Похищение из
Сераля". — Α. Α.), которая будет выпущена в гравировке, и одновременно
работаю над одной вещью, которая очень трудна, это "Песнь бардов о Гибралтаре"
Дениса. Но это секрет, ибо одна венгерская дама хочет таким образом почтить
Дениса. Эта ода возвышенна, красива, в ней все как надо, но — она чересчур
помпезна для моего нежного слуха. Но что вы хотите! Золотой середины?
Теперь ни в какой вещи никто не знает и не ценит подлинного. Чтобы иметь успех,
надо писать так, чтобы они были всякому понятны и их смог бы напеть простой
кучер или же чтобы они были настолько непонятны, чтобы проявились бы
именно этим — ибо никакой разумный человек их не может понять»41. Как известно,
ода на слова Дениса так и не была завершена, однако за 4 года Моцарт сочинил
20 инструментальных концертов, из них 15 клавирных.
Играя в зале Тратнерхоф, в городском казино на Мельгрубе и в Бургтеатре
на абонементных концертах, он создает великолепный музыкальный форум, и
перечень слушателей, посещавших концерты, для тогдашней Вены достаточно
представительный. Здесь и венское дворянство, известные и почитаемые
бюргеры. Это или хорошо подготовленные слушатели и слушательницы, любители
музыки, или те, кто сам владеет искусством игры на фортепиано. Интенсивность,
с которой Моцарт работал над клавирными концертами, быстрое их создание,
позволяли композитору каждый раз знакомить слушателей с новыми
произведениями. У слушателей еще на слуху было ранее сыгранное произведение, и
когда звучал новый концерт, то было с чем сравнивать, и клавирное искусство
в сочетании с искусством оркестра выглядело как воплощение всех моцартов-
ских возможностей в создании различных форм диалога solo и tutti. Бесспорно,
это расширяло пространство звучания музыки, концерт становился жанром,
обращенным к слуху широкой публики. Юрген Хабермас социологически точно
описал ситуацию, характерную для музыкального искусства эпохи модерна:
«Выступление за вознаграждение делало музыкальное исполнение товаром,
однако одновременно чем-то вроде свободной от цели музыки: впервые
собирается публика, чтобы слушать музыку как таковую, публика любителей»42.
Прообраз венских концертов возник еще в Зальцбурге в 1777 году. Это
концерт для клавира с оркестром Es-dur KV 271, сочиненный для парижской
пианистки Женомм, — монументальное произведение, в котором мощно
раскрывается моцартовская индивидуальность, проявляющая себя в диалоге, где его
участники, клавир и оркестр, не механически сменяют друг друга, а находятся
41 Моцарт В. А. Указ. соч. С. 356-357.
42 Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. 2. Aufl. Neuwied, 1965. S. 51.
368 ®l
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
в развивающемся драматургическом единстве. В нем отчетливо слышен голос
человека модерна, человека вертеровского типа. Превосходное описание этого
концерта мы находим у А. Эйнштейна, когда выдающийся музыковед
показывает, как Моцарт достигает совершенно нового уровня единства солиста и
оркестра. «Дело не только в углублении контраста между его частями (частями
концерта. — А. А.) и (как следствие этого) более высоком их единстве, но и в той
сокровенной связи, которая соединяет солиста с оркестром. Да и оркестр здесь
гораздо изысканнее и богаче, чем в предыдущем произведении — это оркестр
симфонический.
Убедительный пример тому — вторая часть, Andantino: тональность c-moll
(это первая минорная часть в моцартовском концерте)... Solo отнюдь не
повторяет tutti, оно как бы возносится над ним в свободной певучести. Мелодика всей
части обладает такой речевой выразительностью, что, кажется, вот-вот перейдет
в речитатив; и действительно, в последних тактах сурдины снимаются и
затаенное находит выход в откровенном речитативе.
Содержанию этой медленной части вполне соответствуют обе крайние.
В развитии темы с самого начала принимают участие и оркестр, и солист.
Солист ведет тему с полнейшей и гордой независимостью, но впервые снисходит
и до того, чтобы простыми аккордами сопровождать одного из оркестрантов, в
данном случае гобой»43.
Драматизм моцартовских концертов был замечен современниками,
связывавшими жанр концерта с литературными категориями. В этом отношении
большого внимания заслуживает сравнение концерта с античной трагедией, которое
мы находим у Генриха Кристофа Коха: «Короче, я представляю себе концерт как
нечто похожее на трагедию древних, где актер выражал свои чувства, обращаясь
не к партнеру, а к хору, а последний самым точным образом был вплетен в
действие и имел право участвовать в выражении чувств. Тогда как слушатель, при
этом ничего не теряя, — лишь третье лицо, которое может принять участие в
страстном обращении солиста к сопровождающему его оркестру»44. Сравнение
жанра, находящегося в становлении, с трагедией указывает на то, что клавир-
ный концерт в музыкальном искусстве — жанр драматический, и Кох пишет о
концертах Моцарта как о «шедеврах в этой области»45.
Диалогическая структура, присущая этому жанру у Моцарта, усложняется;
здесь солист ведет диалог не только с оркестром как целым, но и с группами
инструментов, в частности с духовыми. Три замечательных концерта Es-dur KV
449, B-dur KV 450 и D-dur К 451, в особенности два последних, показывают
такое тематическое разнообразие, разнохарактерность тем, объединенных в
единое целое, которых не было ни до, ни после Моцарта.
«Республиканский» характер построения, отсутствие в нем иерархичности,
автономность деталей характеризуют каждый эпизод концертов,
отпечатывающийся в памяти, как прекрасное мгновение, которое в силу природы музыки
43 Эйнштейн А. Указ. соч. С. 283.
44 Koch Η. С. Versuch einer Anleitung zu Composition. Bd. 3. Leipzig, 1793 (Faksimile Hildesheim.
2000). S. 332.
45 Koch H. С Musikalisches Lexicon. Frankfurt am Main, 1802. S. 354.
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта JiS> 369
остановить нельзя, так как здесь происходит движение от одного
совершенного образа к другому, и причина этого совершенства в том, что «оркестр симфо-
ничен, диалогичен сам по себе; отсюда, естественно, вытекает блистательная
трактовка партии клавира»46. Партию клавира можно метафорически
рассматривать как героя драматического действа, и зависимость концертного жанра от
оперы ощущается сразу как присутствием в нем песенных, ариозных тем, так
и в микроструктурах целого, подобных оперным ансамблям, — диалогах
клавира с группами инструментов, написанных с тончайшей выразительностью.
Расширение возможностей жанра клавирного концерта за счет опыта,
полученного при создании опер, естественно, отразилось и на самом жанре оперы.
В операх, созданных после «Похищения из Сераля», мы можем найти более
плотное, более интимное соединение вокальных партий с оркестром, и там и
тут более дифференцированное разнообразие музыкальных образов, чувств и
эмоций.
Стремясь описать моцартовские принципы творчества, Мартин Гек
метафорически использует концепт арлекина в лейбницевском понимании.
Действительно, арлекиниада, как уже было сказано, присутствует в поведении
Моцарта, и это видно из его писем. Веселость и комизм, стремление к комической
трансформации действительности — свойства, присущие его натуре. Однако
было бы ошибкой видеть в арлекине глупую, комическую фигуру. Лейбниц
считал арлекина повелителем Луны (Empereur de la Lune), тем, кто владеет
искусством трудное делать приятным. М. Гек также останавливается на другой
черте фигуры арлекина, на которую обратил внимание Лейбниц. Если мы
попытаемся на сцене раздеть арлекина, то этому не будет конца, поскольку вместо
снятой одежды появится новая, что будет выражать бесконечный
органический процесс воспринимаемого чувством мира, противоречащего какой-либо
систематизации.47 Творчество Моцарта выглядит как постоянное порождение
новых форм, возникающих в процессе игры. У арлекина множество обличий,
и его игра бесконечна, поэтому искусство Моцарта не укладывается ни в
какие нормативы, определенные помимо него. Это гений в кантовском смысле,
талант, «дающий искусству правила». А. Эйнштейн, безусловно, был прав,
когда писал: «"Нормативы", "классицизм" (в обычном смысле слова) — такие
определения вообще не открывают доступа к музыке Моцарта, особенно
Моцарта венского периода»48. Слова Г. К. Коха о сходстве концерта с трагедией
можно отнести к двум минорным концертам Моцарта d-moll KV 466 и c-moll
KV 491, где композитор очень близок к гетевскому пониманию трагического,
когда в произведении изображаются страдания в границах личности и
человек, устремленный вглубь себя. Отсюда становится естественным появление в
литературе различных форм рефлексивной текстуальности и таких героев, как
Вертер, Тассо и Фауст. И то, что мы рассматриваем как их порывы и
стремления, в чем слышится их исповедальная речь, которая понимается как эйфория
46 Эйнштейн А. Указ. соч. С. 290.
47 Geck M. Mozart. Eine Biographie. Hamburg, 2007. S. 220.
См. также: S. 223—224.
48 Эйнштейн А. Указ. соч. С. 295.
370
©ΙΑ Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
и меланхолия, страдания и грусть, сопротивление миру и, наоборот, желание
примириться с ним, — все это (в качестве музыкального аналога)
присутствует в клавирных концертах Моцарта. В указанных выше концертах драматизм
возникает из минорных тональностей. В концерте d-moll тональность является
не только фоном. Более существенным здесь становится то, что выражается на
этом фоне, и прежде всего имеются в виду властные стремления, сила
властного жеста, характерные для жанра симфонии. Соответствуя минорной
тональности, они, рожденные мрачной сферой, обращены к ней и, как ее зов, тихо
начинают звучать tutti оркестра; затаенно, тревожно слышатся тирады струнных,
напоминая арию Царицы Ночи из «Волшебной флейты». Музыка приобретает
демонические черты, эти демонические образы дают о себе знать в оркестре
уже с самого начала, и их энергия достигает такой силы, что солист, чувствуя
на себе ее воздействие, отвечает оркестру с той же мощью, как бы заставляя
оркестр отступать из царства мрака и волнения в более светлую сферу, сам
обращаясь к ней. Тема, переходя из минора в мажор, просветляется, но затем робко
уходит снова в минор, создавая, как указывает Денис Форман, «эффект
опустошения»49. Последний и создает в концерте драматическое противостояние,
о котором образно пишет А. Эйнштейн: «Впервые tutti и solo так резко
противостоят друг другу в Allegro. Противоречие между неведомой грозной силой и
выразительной жалобой одиночки неразрешимо. И необходимо отметить, что
оркестр ни разу не перенимает ни первую тему солиста —recitativo in tempo,
ни вторую половину его темы. Такое соперничество не допускает соглашений,
напротив, в разработке оно обостряется еще больше. Да и реприза не дает
разрешения конфликта: когда в конце части появляется замирающее pianissimo,
кажется, что фурии, притомившись, но все еще угрожая, улеглись на покой,
готовые, однако, взвиться в любую секунду. И они действительно взвиваются
снова — в средней части (g-moll) Романса, который начинается и заканчивается
столь божественным успокоением»50. Неслучайно этот концерт очень любил
Бетховен, написавший к нему яркие каденции, и в каденции к первой части мы
в сжатой, концентрированной форме находим все, что было сказано
Эйнштейном, но теперь уже целиком переданной фортепианной партии.
Созданный во время работы над «Свадьбой Фигаро» клавирный концерт
c-moll KV 491 по своей драматической выразительности не уступает концерту
d-moll, он кажется даже старшим братом бетховенского Третьего
фортепианного концерта, написанного в той же тональности. В нем клавир так же, как в
концерте d-moll, начинает самостоятельную тему. Но затем мощно
вспыхнувшая в оркестре тема главной партии вовлекает фортепиано в свой
беспокойный мир чувств. Концерт строится на конкретных противопоставлениях,
однако сама контрастность вызывает стремление к ее преодолению. Концерт, как
замечает А. Эйнштейн, «не диалогичен, а симфоничен»51. «Страстность здесь
глубже; утверждение тональности — а любые, пусть и отдаленные модуляции,
кажется, только и служат ее утверждению — имеет более непреклонный, более
49 Forman D. Mozart's Concerto Form. London, 1971. p. 207.
50 Эйнштейн А. Указ. соч. С. 295.
51 Эйнштейн А. Указ. соч. С. 299.
V Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта jéS> 371
неотвратимый характер. Даже переход в Es-dur труден, судорожен, завоеван в
борьбе»52.
Несломленная воля — герой этого концерта, бескомпромиссное
утверждение своего права не повиноваться никому, кроме себя самого, и смирить себя она
может, лишь найдя успокоение в завоеванной ею сфере чистой гармонии.
4. COSI FAN TUTTE.
Игра и жизнь
7 мая 1783 года Леопольд Моцарт получил от сына письмо, которое мы
можем рассматривать как предысторию создания Cosi fan tutte («Так поступают
все женщины». «Здесь снова начались представления итальянской оперы-буфф:
она всем нравится. Особенно хорош буффо. Его зовут Бенуччи. Я просмотрел,
наверное, 100, да нет — больше разных либретто, только не нашел почти ни
одного, которое бы меня удовлетворило. Во всяком случае придется в разных
местах много что поменять. А если какой-нибудь поэт согласится этим заняться,
то ему, наверное, легче будет написать все заново. Новое — оно в любом
случае лучше. Один поэт у нас здесь есть — это некий аббат Да Понте. Он сейчас
страшно занят спешными переделками в театре. Он должен per obligo сделать
совершенно новое либретто для Сальери. Ранее чем через 2 месяца он не
закончит. Поэтому он обещал новое либретто для меня. Но кто знает, сможет ли
он сдержать слово — и захочет ли!»53 Как известно, союз Моцарта и Да Понте
привел к созданию «Свадьбы Фигаро» и «Дон Жуана», а Бенуччи спел в обеих
операх, в первой — Фигаро, а во второй — Лепорелло. Но первоначально
Моцарт думал совсем о другом, и об этом он, собственно, пишет отцу: ему хочется
показать себя в итальянской опере, где бы роли распределялись между семью
персонажами. «Но тут самое важное — чтобы в целом это была настоящая
комедия. И чтобы по возможности там были две одинаково хорошие женские роли.
И пусть одна будет Séria, а другая Mezzo Carattere — по качеству обе должны
быть одинаково хороши. А третья женская роль может быть совершенная
буффа, как и все мужские роли, если потребуется»54. В либретто Cosi fan tutte,
написанном Да Понте для Моцарта, именно так и распределялись роли, и из этого
следует, что композитор наконец осуществил свою давнишнюю мечту, а
Бенуччи спел в опере партию Гульельмо. Премьера оперы состоялась 29 января 1790
года. Легендой, конечно, является рассказ, что Моцарт только из-за денежной
нужды взялся писать оперу на такой ничтожный сюжет, скорее наоборот,
быстрая работа над оперой говорит о полном согласии композитора и поэта, иначе
Моцарт не пригласил бы на репетицию Гайдна и своего друга Пухберга.
Обе героини получились в опере такими, какими их задумал Моцарт: Фьорди-
лиджи — серьезная (Séria), а Дорабелла — полухарактерная (Mezzo Carattere),
служанка Деспина целиком воплощала буффонный мир оперы. Несколько слож-
52 Там же. С. 299.
53 Моцарт В. А. Указ. соч. С. 378.
54 Моцарт В. А. Указ. соч. С. 378.
372 S^
Α. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
нее обстояло дело с мужскими ролями, но именно они — Феррандо, Гульельмо
и Дон Альфонсо — создавали четко разработанные параллели к женским
образам и необходимую для комедии симметрию персонажей. Миф о ничтожности
сюжета был вызван непониманием замысла Моцарта. Современники считали
совершенно неправдоподобным, что сестры Фьордилиджи и Дорабелла не
узнают своих женихов, одевшихся в экзотические костюмы и выдающих себя за
неких албанцев, а служанку Деспину принимают сначала за доктора, а затем за
нотариуса. В «Свадьбе Фигаро» их почему-то подобные ситуации не удивляли,
здесь же видели глупые шутки и даже безвкусицу. Все упреки касались только
либретто, сама же по себе музыка заслуживала только похвал. И. Ф. Рохлиц
объяснял это отсутствием у немецкой публики чутья для понимания чисто игровых
моментов, на которых держится единство музыки и текста. При этом он
обращал внимание на одну из важнейших фигур оперы, на Дона Альфонсо, развивая
мысль, что именно этот «философ», по сюжету, инспирирует сценическую игру,
с которой сливается музыка Моцарта, «и он, со всей его забавной
индивидуальностью, предстает совершенно цельным и единым, так как во многом из-за
него приходится жалеть, что это произведение как оно есть не очень подходит
для немецкой сцены»55. В нежелании постигать смысл комической игры и
соединять с ней восприятие музыки Рохлиц видит причину прохладного
отношения публики к этому творению Моцарта: «Немецкий поэт, непременно
основательно подкованный в музыке, будет вынужден от всего отказаться и, полагаясь
более на музыку, чем на итальянский текст, создавать вместо него нечто совсем
другое. Немецкая публика повсеместно настроена воспринимать все слишком
всерьез, ей не хватает легкомысленной отваги, чтобы постичь подобный тип
комедии. К тому же в большинстве наших певцов, как мужчин, так и женщин,
значительно меньше лицедейства и — что еще важнее — в них мало тонкости,
шутливости, плутовства, свойственных итальянскому бурлескному жанру,
особенно в таком виде, как здесь»56
Стендалю, восторженному почитателю Моцарта, либретто Да Понте
казалось поверхностным и слишком шутливым, диссонировавшим с образом
композитора, им созданным. «Либретто оперы "Так поступают все женщины" было
написано для Чимарозы и совершенно не подходило таланту Моцарта, который
не умел шутить с любовью. Для него эта страсть всегда означала величайшую
радость или величайшее горе в жизни»57. Стендаль считает, что, передав удачно
«лишь задушевную мягкость в характерах отдельных персонажей», Моцарт
потерпел полное поражение при создании образа Дона Альфонсо. Конечно,
именно здесь великий романист ошибался, поскольку к Дону Альфонсо у Моцарта
сводятся нити сценической интриги. Э. Т. А. Гофман, наоборот, относил эту
оперу к наиболее совершенным творениям композитора. В диалоге «Поэт и
композитор» (1813), вошедшем впоследствии в «Серапионовы братья», писатель ви-
55 Рохлиц И. Ф. Достоверные анекдоты из жизни Вольфганга Амадея Моцарта — очерки,
призванные способствовать его лучшему пониманию как человека и артиста // Моцарт. Истории и анекдоты,
рассказанные его современниками. М., 2007. С. 119.
56 Рохлиц И. Ф. Указ. соч. С. 119.
57 Стендаль. Жизнь Моцарта // Стендаль. Собр. соч. в 15 т. Т. 8. М., 1959. С. 202.
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта j£5 373
дит в опере-буфф как раз подходящую музыке форму, которую она принимает с
готовностью, так как «здесь также сам собой рождается особый стиль,
по-своему захватывающий зрителя». Гофман убежден, что музыка способна выражать
комическое во всех его нюансах: «Так, например, в музыке может содержаться
выражение насмешливейшей иронии, которая преобладает в прекрасной опере
Моцарта Cosi fan tutte»58. Бесспорно, ирония присутствует в опере, ведь Дон
Альфонсо постоянно сопровождает ироническими репликами слова и
поступки других персонажей и Деспина, ставшая по ходу сюжета сообщницей этого
«философа-скептика», в этом отношении не отстает от него. И все же ирония
создателей оперы по отношению к пылким влюбленным, с горячностью
отстаивающим перед Доном Альфонсо добродетели своих невест, их верность им,
не исчерпывает сущности комической игры, представленной Моцартом и Да
Понте.
Три терцета, выдержанные в темпе Allegro и сохраняющие постоянных
участников (Дон Альфонсо и молодые офицеры Феррандо и Гульельмо), составляет
стремительную экспозицию оперы, и первый терцет мгновенно заставляет
слушателя включиться в темпераментный спор о природе женщин, который, как
окажется впоследствии, был спором о человеческой природе вообще.
Ироническим обобщениям Дона Альфонсо, настаивающего на изменчивости женской
природы, Феррандо и Гульельмо противопоставляют непреклонную веру в
вечное постоянство своих невест Дорабеллы и Фьордилиджи. И когда умудренный
жизненным опытом Дон Альфонсо, стоя на своем, пытается охладить их пыл,
горячие головы выхватывают шпаги. Они готовы до смерти биться, отстаивая
честь своих избранниц. Напряжение, кажется, достигает апогея. Однако
возбужденность неожиданно сменяется рефлексирующим piano, мелодические линии
сплетаются друг с другом, и композиция приобретает полифонические
очертания. Вся сценическая ситуация мгновенно трансцендируется, позволяя
возникнуть вопросу о сущности человеческих отношений. Действующие персонажи
не подозревают, что их в дальнейшем ожидает, Моцарт же знает это.
Оркестровое завершение подчеркивает то, что в первом терцете что-то произошло, хотя
после этого спор продолжается в речитативе secco.
Во втором терцете, который начинает Дон Альфонсо, сконцентрирована
дальнейшая фаза спора. «Философ-скептик» поет о птице Феникс, которая
обитает в Аравии, но которую никто никогда и нигде не видел. Тем не менее ее
почему-то считают символом верности. Без эмоций, почти монотонно, однако
вполне иронически Дон Альфонсо высказывается об этом символе. Аравийский
Феникс — фантом, полная иллюзия, но для молодых офицеров Феникс —
реальность. Это конечно, Дорабелла и Фьордилиджи, девушки —
персонификация Феникс, метафоры верности. Тон Дона Альфонсо вывел офицеров из себя,
но на самом деле они идут на поводу у скептического философа, их эмоции
разбиваются о его спокойствие и трезвость. Теперь почти жалобно звучат реплики
влюбленных, и все их попытки возражать Дону Альфонсо выглядят
беспомощно. Феррандо и Гульельмо подбирают доказательства, которые должны
опровергнуть тезис Дона Альфонсо, а именно те факторы, что гарантируют постоянство
Гофман Э. Т. А. Собр. соч. в 6 т. Т. 4. кн. 1. М., 1998. С. 85.
374 Sîb
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
и надежность человеческих отношений: опыт, воспитание, совпадающий образ
мыслей, характер, клятвы. К этому Дон Альфонсо иронически добавляет: слезы,
вздохи, нежности, обмороки. Спор достигает такой точки, когда необходимы
неопровержимые доказательства, дело доходит до пари. Цена пари 100 цехинов,
которые оба офицера вместе с серенадой и пиршеством в честь Дорабеллы и
Фьордилиджи устанавливают в качестве награды для победителя, каковыми они
считают только себя.
Третий терцет дает нам радостное завершение спора и нетерпеливое желание
Феррандо и Гульельмо выиграть пари. Для доказательства своей правоты Дон
Альфонсо предлагает молодым офицерам устроить нечто вроде спектакля. Они
отправляются на войну, прощаются со своими невестами, но затем появляются
у них, переодевшись богатыми албанцами и изменив свою внешность. В таком
экзотическом виде Гульельмо начнет ухаживать за Дорабеллой, а Феррандо, в
свою очередь, за Фьордилиджи.
«Так поступают все женщины» — произведение о надежности, прочности
человеческих отношений, о верности как их основном условии. Если любовь,
эрос можно перенести на другого, если объект любви заменяем, то тем самым
заменяется и индивид, личность. Открывается непостижимость,
иррациональность любовного чувства, игра природы рушит все установления разума и
чувственная природа человека оказывается непредсказуемой. Феррандо и Гульельмо
будут потрясены, что достаточно только одного дня, чтобы совершенно
перевернуть социальный мир и его фундаментальные ценности. Благодаря смешному и
целенаправленному эксперименту Дона Альфонсо достоинство личности и ее
притязания оказываются иллюзией. Здесь возникает бездна, которую моцартов-
ская музыка не может скрыть. Но через эту бездну гениальная музыка может
перебросить мост, нисколько не нуждаясь в религиозной утопии спасения, не
заставляя человека раскаиваться в его якобы грешной природе. Игра, затеянная
Доном Альфонсо, — тонко задуманный эксперимент, смысл которого — дать
возможность игровому миру, миру видимости проникнуть в сферу реальности.
Это единственный способ убедить пылких офицеров в своей правоте.
Правила этой игры задает Дон Альфонсо, он же с помощью Деспины ее
режиссирует. Феррандо и Гульельмо добровольно становятся ее участниками, актерами
задуманной им пьесы, которую они сыграют на горе самим себе. Однако сам
маскарад, превращение Феррандо и Гульельмо во влюбленных албанцев, не
является подлинной игрой, ведь девушки не знают, что их возлюбленные играют с
ними, правила, условия игры им неизвестны, и они входят в мир игры со своей
подлинной реальностью. Дон Альфонсо создает точку пересечения реальности
и игры, где обе сферы начинают освещать друг друга. Феррандо и Гульельмо,
будучи поначалу маскарадными албанцами, испытывают на себе эротическое
воздействие девушек и постепенно покидают сферу игры; эрос настолько
захватывает их, что из комедийной ситуация быстро становится серьезной, если не
трагической. Карнавальное представление, придуманное Доном Альфонсо, не
так безобидно, как это могло сначала показаться, и если Феррандо и Гульельмо
соглашаются стать его участниками, то это говорит прежде всего о том, что оба
офицера усматривают в нем только комическую сторону и возможность паро-
V Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта JΩ 375
дировать собственные чувства, они совершенно уверены, что глубин их сердца
эта игра никак не коснется, даже наоборот, только укрепится их уверенность в
нерушимости уз, связывающих их с любимыми. Конечно, им эта игра кажется
смешной, однако в карнавале, в маскарадном действе всегда обнаруживается
сила, которая делает аффирмативность человеческого сознания
проблематичной, а уверенность человека в том, что он понимает жизнь, эфемерной.
Карнавализация оперы, осуществленная Моцартом и Да Понте— часть
того процесса, происходящего в культуре модерна, который был описан Юлией
Кристевой: «Следует предостеречь против двусмысленности слова "карнаваль-
ность". В современном обществе оно обычно вызывает представление о
пародии как о способе цементирования закона; существует тенденция преуменьшать
трагическую — смертоносную, циническую, революционную (в смысле
диалектической трансформации) сторону карнавала, на которой всячески
настаивал Бахтин, обнаруживая ее не только в мениппее, но и у Достоевского.
Карнавальный смех — это не просто пародирующий смех; комизма в нем ровно
столько, сколько и трагизма; он, если угодно, серьезен, и поэтому
принадлежащее ему сценическое пространство не является ни пространством закона, ни
пространством его пародирования; это пространство своего другого»59. Играя
других, Феррандо и Гульельмо, столкнувшись с чувствами девушек, начинают
играть самих себя и в конечном итоге разрушают тот мир, который, как им
казалось, обещал только счастье.
Стендаль, несомненно, ошибся, посчитав образ Дона Альфонсо серьезной
неудачей Моцарта. Всю вину он, однако, возлагал на автора либретто, Лоренцо
Да Понте. Эксперимент «философа», где последний выступает как закулисный
руководитель, режиссер и кукловод, казался писателю пригодным
исключительно для итальянской оперы-буфф, для которой вовсе не нужен гений
Моцарта. Но именно этот образ был свидетельством неподражаемого искусства
Моцарта-драматурга. Охлаждать пыл самоуверенных офицеров, к которым
Дон Альфонсо относится несколько снисходительно, этого практического
философа заставляют его убеждения и взятая на себя миссия просвещать тех, кто,
будучи уверенным в силе своего разума, постоянно предается иллюзии и живет
только своими представлениями о других. Для развенчания этого мира
представлений он идет на игровой эксперимент, который отражает гетерогенные
тенденции, возникшие в эпоху кризиса Просвещения. Понятно, что этот
эксперимент деструктивен, ибо он ради воспитания наносит удар по сознанию и
бытию людей, ставя их перед данностями и формулами, так как «фактическое
доказывает свою правоту, познание ограничивается неизменным повторением
себя же самого, мысль превращается в чистую тавтологию». «Чем в большей
степени подчиняет себе машинерия сущее, тем большей становится ее слепота
при его воспроизведении. Тем самым Просвещение отбрасывается вспять, в
мифологию, от которой ему никогда не удавалось ускользнуть. Ибо мифология
в своих фигурах отображает эссенциальность как истину и отказывает в
надежде. Выразительностью мифологического образа, равно как и ясностью
научной формулы удостоверяется фактичность наличного, а просто существующее
59 Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М., 2004. С. 182.
376 Sîb
A. Г. Аствсщатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
выражается в качестве смысла, блокируемого им»60. Формула Дона Альфонсо
«Cosi fan tutte» («Так поступают все женщины») — это лишь частный случай
того, о чем писали Хоркхаймер и Адорно в «Диалектике Просвещения». Однако
демифологизация сознания вовсе не означает полной победы разума над
иллюзиями, скорее она констатирует факт его бессилия. Уже в учении Спинозы
непостоянство и бессилие, антиподы разумности, рассматриваются не как ошибка
разума, а скорее как выражение человеческой природы вообще61. В XVIII веке
в традиции философско-естественнонаучного материализма эта идея
радикализируется в философии Жюльена Офре де Ламетри. В «Человеке-машине», в
противоположность рационалистам, Ламетри утверждает, что человек вовсе не
венец творения. Характер человека можно определить независимо от
представлений о свободной воле. Таким образом, в этой философии человек выглядит
полностью детерминированным существом, детерминированным механизмом
природы. Естественно, речь здесь идет о смене мифологической парадигмы, о
чем писали Хоркхаймер и Адорно. Текст Да Понте изобилует мифологическими
символами. Они появляются уже в первом терцете, когда Дон Альфонсо задает
офицерам шутливый вопрос о том, кто же их женщины — богини или
невесты? Незримый аравийский Феникс, символ верности — важный образ
мифологизированного сознания. Обращаясь к Феррандо и Гульельмо, Дон
Альфонсо называет девушек «ваши Пенелопы». Не отстают от него и его оппоненты.
Для Феррандо Дорабелла— богиня. Гульельмо, демонстрирующий неплохое
знание Овидия, называет Фьордилиджи Кифереей, то есть Венерой. В
третьем терцете офицеры хотят присягнуть богу Амуру; для них же Дон Альфонсо
находит перифраз — воины Венеры и Марса. Да и сам vecchio fîlosofo, старый
философ Дон Альфонсо выступает как некое демифологизированное
божество. Его роль в опере двойственна. Выступая в роли вестника, свойственной
богу Меркурию, он в конце театрального действа становится deus ex machina,
восстанавливая гармонический порядок, приводящий героев оперы в прежнее
состояние. Двойственность присуща также и характеру организатора всей этой
игры. С одной стороны, он верит в гуманность, устанавливаемую разумом, с
другой, он — приверженец учения Ламетри. Нельзя забывать, что лишь под
давлением Феррандо и Гульельмо Дон Альфонсо соглашается на пари, считая
испытание девушек на верность ненужным и опасным, и выигранное пари
никакой радости ему не доставляет, а побуждает его вмешаться в события, чтобы
восстановить мир.
Как указывает Штефан Кунце, сюжет оперы представляет собой комическую
вариацию мифа о Кефале и Прокриде из седьмой книги «Метаморфоз» Овидия,
зерно которого — испытание верности. Однако здесь, по мнению Кунце, более
важным фактом является то, что этот миф в европейской литературе уже в
средние века использовался как морализирующее поучение для поведения в браке.
Боккаччо, Лопе де Вега, Кальдерон обращались к мифу о Кефале и Прокриде,
различным образом его варьируя. Не был забыт этот миф и в XVIII веке. Неуди-
60 Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.-СПб,
1997. С. 43.
61 Splitt G. Mozarts Musiktheater als Ort der Aufklärung. Freiburg, 1938. S. 315.
V Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта JΩ 377
вительно также и то, что Да Понте опирался на версию древнего мифического
испытания верности, которую он нашел у Ариосто в «Неистовом Орландо»6\
Дон Альфонсо осуществляет свой эксперимент в форме комедии, называя себя
«неплохим комедиантом», и для него важно получить подтверждение
механическим закономерностям любви, в которые он верит. Однако он не раб этой идеи,
хотя всячески стремится к тому, чтобы эксперимент завершился так, как он его
задумал. Моцартовский герой — сложный характер. В каком-то смысле его
характер неуловим, точно не определен. На протяжении оперного действа он то
выпадает из буффонной роли, обретая серьезность и глубокое чувство, то опять
возвращается в буффонную стихию. Здесь мы имеем дело с характером Протея,
созданным прежде всего музыкой, а не словом, и подвижность этого
характера, возникающая в соответствии с создавшейся ситуацией, целиком зависит от
музыки. В своей арии f-moll в первом акте задающий тон прощания офицеров
со своими невестами — это человек, предчувствующий беду (она случится на
самом деле). Герман Аберт нашел выразительные слова, характеризуя эту арию:
«Как затравленный зверь, врывается этот мнимый вестник несчастья и,
поддерживаемый задыхающимся оркестром, запинаясь, в беспорядочной метрике
выкрикивает свою роль, только в конце он разрешает себе несколько повторений»63.
Ария выглядит как контраст его партиям в терцетах и ироническим репликам в
речитативах. Характер Протея позволяет Дону Альфонсо сохранять дружеские
отношения со всеми персонажами и помогает ему предотвратить
разразившуюся было катастрофу и восстановить прежнее состояние, казалось, разрушенное
его экспериментом.
Подлинно буффонный характер оперы — это Деспина, характер,
развивающий все, чего Моцарт достиг в образах Сюзанны и Церлины. Эта наделенная
природным умом, сверкающая остроумием, живой фантазией служанка
имеет в европейском искусстве ряд предшественниц. Ее античная родословная не
вызывает никакого сомнения. Деспина вносит в игру не только несокрушимую
веселость, подвижность и легкость, она у Моцарта— полная
противоположность элегически чувствительным девушкам. Она, как точно ее определяет Ш.
Кунце, — Коломбина комедии dell'arte, «расположенная ко всяческим шуткам
(в том числе и двусмысленным), ко всяким интригам»64, она хорошо знает
человеческую натуру, истинные пружины действия, не строит никаких иллюзий, она
всегда говорит без обиняков. Лучшего союзника в своей игре Дон Альфонсо не
мог и желать. Социальное положение Деспины позволяет ей не обращать
внимания на условности и совершенно искренне пренебрегать ими. В отличие от
вечного досуга чувствительных красавиц, жизнь Деспины проходит в
постоянном труде, и, как видно из ее речитатива, особых радостей она ей не доставляет.
Деспина сварила сестрам шоколад и ее раздражение на них вовсе не выражает
ее ressentiment или классовую ненависть — от этого Деспина очень далека, — а
прежде всего невозможность самой полакомиться этим шоколадом: ей
приходится довольствоваться его ароматом. На фоне уже произошедших революци-
62 Kunze S. Mozarts Opern. Stuttgart, 1996. S. 439^40.
63 Аберт Г. В. А. Моцарт. Часть вторая. Книга 2. М., 1990. С. 199.
64 Kunze S. op. cit. S. 454.
378 3^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
онных событий некоторые слова этой обаятельной служанки звучали несколько
по-иному, нежели ранее. Однако то, чему Деспина учит Фьордилиджи и До-
рабеллу, уже тогда, в XIX веке, казалось особенно фривольным и
отталкивающим, более того, находилось в полном противоречии как с бюргерской моралью,
так и с романтической концепцией единственной любви, где сила любви
подтверждается верностью и религиозным чувством. Деспина знает заранее, что
произойдет с девушками, и с этим она смирилась, давая им советы, которые
иначе как циничными назвать нельзя. Покинутым девушкам она советует
сразу же сменить любовников. То, что могут предложить одни, нашлось бы сразу
же у других. Смена партнеров только увеличивает удовольствие, и Дорабелла
с Фьордилиджи должны воспользоваться случаем. Верность и любовь — это
сказки, которые рассказывают детям. И совсем уже смешно ожидать верности от
офицеров: все военные похожи друг на друга. Деспина утверждает, что
непостоянство — главное свойство мужчин. У летящего листа, у непостоянных ветров
больше стойкости характера, чем у них. Естественно, Феррандо и Гульельмо не
могут составлять исключение. «Мы, женщины, — заявляет Деспина, — должны
отплатить мужчинам той же монетой, а любить надо для времяпрепровождения,
любить на мгновение». В мире непостоянства, неверности, обмана и иллюзий
Деспина чувствует себя как дома, принимая этот мир таким, каков он есть, не
предъявляя к нему никаких моральных требований. Если любовь приносит горе
и страдания, то это вовсе не любовь. Любовь — это удовольствие, забава,
времяпрепровождение, жизнерадостность. Именно в этом сущность любви. Cosi
fan tutte, конечно, не подтверждение мудрости Деспины, не защита ее учения
о любви. В опере речь идет о том, как можно было бы спасти человечность,
несмотря на события, которые эта обаятельная героиня Моцарта
оправдывает. В своем понимании любви как абсолютно земного чувства, имманентным
свойством которого является изменчивость, Деспина тверда и не считает, что
любовь подвластна высшим небесным силам. Когда Дорабелла, сокрушаясь,
говорит, что Небо увидит ее поведение, Деспина ей резонно указывает, что они
на Земле, а не на Небе. Она готова выгородить девушек, распустив слух, что
оба их кавалера ее посещали, и они тем самым не должны волноваться за свою
репутацию. Более того, камеристке подобает иметь двух любовников. Девушек,
исповедующих мораль сердца, ужасает заявление Деспины, что можно жить без
любви, но нельзя жить без любовников. Нет никакого сомнения в том, что
веселый темперамент Деспины оживляет происходящее на сцене, и здесь можно
задать вопрос, серьезно ли Деспина относится к тому, что она сама говорит, или
же ее слова продиктованы настроением и очарованием игры, мгновениями этой
игры, которая компенсирует ее реальную тяжелую жизнь. Если Дон Альфон-
со — магистр игры и демифологизированное божество, то Деспина сообразно
своей роли выполняет аналогичную функцию. Она посланница Амура,
наделенная всеми его свойствами, и прежде всего свойством изменять свой облик, что,
собственно, и делает Деспина с виртуозным мастерством. Как Амур, она
использует любую возможность посылать стрелы любви, заставляя человека
подчиняться страсти. Деспина, персонифицированное языческое божество, — это
деятельная сила жизни по ту сторону добра и зла. Амур делает людей слепыми,
V Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта J& 379
поэтому девушки не могут во мнимых албанцах узнать своих женихов. Это
объясняет, почему в первом финале Деспина появляется в обличий врача и этот si-
gnore dottore с помощью чудесного магнетического лечения возвращает к жизни
умирающих от любви албанцев. В обличий нотариуса Деспина как вызывает
катастрофу, так и с помощью Дона Альфонсо в конце концов ее
предотвращает. Вспоминая этюд Т. Адорно о Церлине, в особенности мысль выдающегося
философа, что «в образе Церлины живет ритм рококо и революции» и Церлина
«уже не пастушка, но еще не citoyenne»65, мы можем использовать ход его мысли
для характеристики образа Деспины, замечая, по сравнению с Церлиной, его
усложнение, причем при полном сохранении черт, присущих Церлине. Деспина
уже в полном смысле citoyenne, настоящая горожанка, уверенная в себе, в
своей ролевой игре имитирующая бюргерские профессии, без которых
невозможна общественная интеракция. Поэтому подключение Деспины к эксперименту
Дона Альфонсо выводит этот эксперимент за сферу взаимоотношений членов
квартета, и вся трагикомическая история проецируется на систему привычек,
обычаев, ценностей бюргерского мира, которую эта горожанка не считает
незыблемой, ставя под сомнение ее аффирмативность, и на это она имеет право.
В Деспине мы видим полную свободу распоряжаться своими чувствами, ее
суверенное право быть собой, не подчиняясь всему, что эту свободу
ограничивает. В своей двучастной арии в начале второго акта Деспина ее нам
демонстрирует. Первая часть арии — мелодичная сицилиана, исполненная собственного
достоинства, вторая — быстрый вальс. Моцартовская героиня как бы порхает
над всеми заботами мира, смеясь над выдуманными или настоящими страстями,
стремясь доказать, что грация и достоинство не только привилегия «прекрасной
души», соединение эстетического и нравственного совершенства в духе
Шиллера, а свойство воли, включенной в игру и в конечном счете играющей с
самой собой, в эстетическом смысле полностью автономной, и поэтому совсем не
претенциозно ее сравнение себя с королевой: е quai regina dell' alto soglio (и как
королева с высокого престола). Когда в коде ее воздушного вальса звучит: Viva
Despina, che sa servir! («Да здравствует Деспина, которая может услужить!»), мы
понимаем, что неотразимое эстетическое совершенство моцартовской музыки
снимает все противоречия, возникшие в игровом эксперименте Дона Альфонсо,
и все человеческие страсти на самом деле — послушные дети музыки,
полностью ей подвластные.
Сцена прощания, захватывающая два номера первого акта, квинтет и терце-
тино, сразу же показывает эксперимент Дона Альфонсо в двойном свете,
который неизбежно возникает при пересечении сфер игры и реальности. Уйдя
целиком в игру, мистифицируя реальность, Феррандо и Гульельмо создали девушкам
ситуацию, которая кажется правдоподобной, но радости девушкам не приносит,
так как они должны надолго разлучиться со своими женихами, и первая стадия
игры — это игра на их чувствах. Она вызывает у девушек закономерное
волнение за судьбу возлюбленных, с одной стороны, с другой — ощущение
покинутости и конца счастливого времени, которым, как им казалось, была их прежняя
жизнь.
Адорно Т. Избранное: Социология музыки. М, 2008. С. 222.
380 Si,
Α. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Эксперимент Дона Альфонсо, где важную роль играет прощание, делает его
встречей прошлого, уже завершенного, с будущим, еще неизвестным и
неопределенным. Это одновременно мгновение памяти и надежды, а также печали и
тоски. Играя разлуку, офицеры превращают моменты прощания в своего рода
остановки в потоке событий, в беге времени, напоминающие, что человеческое
бытие состоит из цепи прощаний, ибо человек — временное существо и
ускользающее время — стихия его жизни.
В самом начале эксперимент содержит в себе безжалостность в отношении
к девушкам, и в этом смысле сцена вступает в противоречие с буффонным
жанром, причем противоречие это создается Моцартом намеренно. Здесь нет
никакого намека на пародию. Ни на одной сцене в более ранних операх Моцарт
так долго не останавливался, как на сцене прощания в Cosi fan tutte, хотя это
прощание — всего лишь результат игры.
Музыка, передающая душевное состояние девушек, непосредственно
изливается в мир, не сталкиваясь с внешним сопротивлением; ее широкое
течение захватывает все большее пространство. Партии девушек звучат настолько
проникновенно, что Феррандо и Гульельмо с их ничего не значащими словами
просто подчиняются течению этого удивительного по красоте потока звуков.
Моцарт не забывает и о Доне Альфонсо, который пытается внести в сцену
стихию буффонады, комментируя происходящее словами: «Я лопну, если не
рассмеюсь». Характерное, комическое становится фоном красоты, но не наносит
ей урон, этот фон как бы отодвигается все дальше и дальше по мере нарастания
прекрасного. Терцетино: Фьордилиджи, Дорабелла и Дон Альфонсо —
продолжение сцены прощания. Феррандо и Гульельмо покидают подмостки для того,
чтобы исключить всякое внешнее воздействие, правда, остается Дон Альфонсо,
который опять обнаруживает характер Протея и, следовательно, должен
подчиниться общему настроению, так как луч красоты квинтета продолжает освещать
происходящее. Неслучайно, что и Дон Альфонсо принимает участие в
сотворении музыкальной красоты, ведь согласно философии Ламетри человеческое
сознание формируется как некая сумма различных воздействий и сам
философ-комедиант избежать этих воздействий не может. Характер музыки, по сравнению с
квинтетом, меняется. После ухода Феррандо и Гульельмо, оставшиеся на сцене
девушки и Дон Альфонсо погружены в себя и связаны с мыслями, с которыми
они проводили ушедших на войну Феррандо и Гульельмо. Наступило
мгновение успокоения чувств, воплощающее в себе прошлое и будущее, мгновение,
вырванное из временного потока, тождественное самому себе, и это
просветление распространяется на все оперное действо, так как терцетино отражает не
эмоции, вызванные действием, а прежде всего выражает состояние
просветления. Такие моменты немыслимы ни в «Фигаро», ни в «Дон Жуане»66.
Выдуманная Феррандо и Гульельмо ситуация, мистификация, входя в
соприкосновение с жизнью, вызывает не притворные, а искренние чувства; все
элементы этого дивного ансамбля гармонически согласованы друг с другом, по-
66 Kunze S. op. cit. S. 504. Отсюда совершенно неверным является суждение, что яркая жизненная
правдивость отличает «Свадьбу Фигаро» от условно-театральной буффонады Cosi fan tutte. См.:
Ливанова Т. История западно-европейской музыки до 1789. т. 2. XVIII век. М. 1982. С. 472.
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта J& 381
этический текст находится в полном соответствии со сценической ситуацией:
представляемом в воображении странствии героев, отправившихся выполнять
свой воинский долг.
Soave sia il vento.
Tranquilla sia l'onda,
Ed ogni elemento
Benigno risponda
Ai nostri désir.
Пусть веют ветры тихо.
Спокойно плещут волны,
И каждая стихия пусть
Будет благосклонна
Желаньям нашим.
Описание музыки терцетино, которое мы находим у Г. Аберта, схватывает
приемы «омузыкаливания» превосходного текста Да Понте. «Журчащий
аккомпанемент струнных с его мягкими терцовыми ходами, вызванный к жизни
прежде всего картиной морского путешествия, становится символом процессов,
происходящих в глубинах девичьих душ»67.
В покое, обещающем счастье, и в движении, погружающем сознание в этот
покой, выражается отрешенность всей композиции от происходящего.
Музыка парит над ним, и невозможно не заметить четко обозначившуюся
дистанцию композитора от затеянной карнавальной игры. Музыка терцетино стала
действительностью, а игра выглядит мелкой и суетной. Опера уходит на
непреодолимое расстояние от условно-театральной буффонады, поэтому очень
резким, если не диссонантным, кажется начало новой стадии эксперимента Дона
Альфонсо. Нас как бы насильственно погружают в буффонный сюжет, когда
начинаются сцены с Доном Альфонсо и Деспиной, а затем появляются Фер-
рандо и Гульельмо с приклеенными бородами, одетые в экзотические костюмы
и выдающие себя за влюбленных албанцев. Движение сюжета на этой стадии
эксперимента имеет свои оперные особенности. Начиная с арии Дорабеллы
персонажи получают самостоятельность, выступая вне групп. Арии
Дорабеллы и Фьордилиджи ставили в тупик даже выдающихся музыкантов. Г. Аберт
считает, что ария Дорабеллы в буффонном контексте «вместе с речитативом
подлинная пародия на большую сцену оперы-seria», пародийные моменты он
находит и в rondo Фьордилиджи68.
Несколько осторожнее рассуждает Альфред Эйнштейн, полагая, что в ариях
Дорабеллы и Фьордилиджи не все есть пародия. «Когда дело принимает
серьезный оборот, Моцарт переходит совсем на другой тон»69. Этот переход «на
совсем другой тон» означает особый принцип музыкальной драматургии Моцарта.
67 Аберт. Г. В. А. Моцарт. Часть 2. книга 2. С. 201. См. также: Kunze S. op. cit. S. 504—511.
68 Аберт Г. Указ. соч. С. 201., также С. 215.
69 Эйнштейн А. Указ. соч. С. 416.
382 Зъ
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Композитор Cosi fan tutte постоянно «забывает» об определяющей действие
интриге, так как музыка может выразить истину момента, и арии, о которых здесь
идет речь, в особенности арии Фьордилиджи, призваны нести в себе не правду
ситуации, а высшую правду, а последняя была следствием моцартовского
универсализма.
К моменту создания Cosi fan tutte композитор стоял на вершине своих
творческих возможностей. Его универсализм проявлялся во всех музыкальных
жанрах, не только в их охвате, но и в содержательном отношении. Позади были три
великие поздние симфонии Es-dur, g-moll, C-dur, струнные квартеты,
посвященные Гайдну, квинтет для кларнета и струнных и почти все клавирные концерты.
Гигантскому музыкальному материалу придавалась совершенная форма. В
данном случае мы имеем дело с полной суверенностью и свободой в обращении с
материалом, который пригоден не только для задач мимесиса, подражания, но
прежде всего для задач, относящихся исключительно к музыке, к автономным
музыкальным интенциям, выходящим за сферу миметических искусств.
Воздействие такой музыки на слушателя будет несколько иным, чем в том
случае, когда музыка рассматривает себя в качестве комментария к
поэтическому тексту, попадая полностью в зависимое от текста положение. У Моцарта
суверенность музыкального искусства в синтетическом оперном целом остается
непоколебленной, обеспечивая тем самым многомерность эстетического
совершенства. Мартин Гек с полным правом задает вопрос: «Не это ли прежде всего
оказывает воздействие в Cosi fan tutte: прекрасные места, чудесная, может быть,
абсолютно прекрасная музыка из всех опер Моцарта?»70. Ориентируя наше
сознание на восприятие и постижение формы, которая как музыкальная форма
есть процесс, где обнаруживается выразительный смысл, эта музыка в оперном
целом создает эффект остранения, который в нужном музыке ключе
переворачивает комедийный сюжет, заставляя слушателя искать то, что может стоять за
этим сюжетом и не может быть выражено словами поэтического текста и игрой
актера. Музыка вырывает образы из комедийной схемы, созданной Да Понте, и
они перестают быть ее куклами, превращаясь в автономные характеры, поэтому
нет ничего удивительного в том, что Дорабелла, более темпераментная, чем ее
сестра Фьордилиджи, как остроумно отмечает А. Эйнштейн, «дает выход
своему настроению в арии Smanie implacabili ("Непреодолимые волнения"),
достойный любой из фурий, у которой похитили всех ее змей»71. Однако когда ситуация
меняется, Дорабелла обнаруживает более легкомысленный характер, и в другой
арии, уже во втором акте, склонна потворствовать своему чувству к Гульельмо,
объясняя это невозможностью противиться судьбе.
Поворот в действии осуществляется в первом финале на новой стадии
эксперимента и буффонной игры, жестокой игры с девушками. Разыгрывая
сцену самоубийства, «албанцы», якобы отравившиеся мышьяком, рассчитывают
вызвать у чувствительных сестер сострадание, чтобы добиться взаимности:
Феррандо и Гульельмо их покинули, а они готовы умереть от неразделенной
любви. И этот прием срабатывает. «Излечение умирающих» удается мнимому
70 Geck M. op. cit. S. 311.
71 Эйнштейн А. Указ. соч. С. 415.
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта JΩ 383
врачу — Деспине, которая использует магнетическое лечение, помогающее во
всех случаях жизни. Деспина правильно распределяет магнетический флюид и,
конечно, возвращает самоубийц к жизни. Эпизод с магнетическим излечением
был включен по настоянию Моцарта. Сам Моцарт был знаком с Месмером. Его
опера «Бастьен и Бастьенна» была поставлена в 1768 году в доме Месмера,
который позже уехал в Париж, а в 1790 году на какое-то время приезжал по делам
в Вену.
Далее вся незамысловатая история выглядит как возникновение нового
любовного чувства через сострадание к «албанцам», томимым любовью и готовым
умереть от неразделенной любви. Их после неожиданного исцеления
охватывает еще большая страсть. Первой сдается Дорабелла. В дуэте второго акта Дора-
белла и Гульельмо убеждаются в своей любви. Грациозная, почти танцевальная
композиция, напоминающая пастораль, соответствует легкомысленному
характеру Дорабеллы и донжуановскому настроению Гульельмо; родство душ здесь
налицо. В более сложной ситуации оказывается Феррандо. Добиться взаимности
у внешне надменной, но более чувствительной Фьордилиджи гораздо труднее.
Бесспорно, Феррандо — человек сердца, и поэтому его воздействие на девушку
оказывается более сильным. Начав игру, он так входит в роль, что сомневаться в
его любви к Фьордилиджи невозможно. Феррандо не ветреный соблазнитель, а
страстный любовник. И здесь мы тоже имеем родство душ, хотя ему приходится
преодолевать большее сопротивление Фьордилиджи. Вспоминая о своем
прежнем возлюбленном Гульельмо, Фьордилиджи начинает борьбу со своим новым
чувством к страстному албанцу. Она хочет бежать к своему жениху на поле
брани и разделить с ним все опасности войны. В этом она видит спасение от своей
новой любви. Она уговаривает Дорабеллу сделать то же самое. Деспина
комментирует это решение, исходя из своего понимания любви: «Мне кажется, донна
потеряла рассудок». Фьордилиджи решила надеть униформу Гульельмо и ехать
вслед за ним. Однако в волнении она надевает мундир Феррандо, своего нового
возлюбленного, который и застает ее в этом облачении. Гульельмо,
наблюдающий из соседней комнаты вместе с Доном Альфонсо за происходящим, гордится
решением Фьордилиджи, в восторге называя ее «моя целомудренная Артемида».
Но настроение его круто меняется, когда начинается дуэт Феррандо и
Фьордилиджи. Сердце Фьордилиджи находит ответ на страстные порывы Феррандо, и
она уже не может сопротивляться своему чувству, говоря Феррандо: «Делай со
мной все, что хочешь». Измена налицо, и теперь Фьордилиджи из
«целомудренной Артемиды», непорочной богини превращается во Фьордиабола.
Все сценическое действо проводит идею, что новые чувства как у девушек,
так и у офицеров являются чувствами более подлинными, чем их прежняя
любовь, и герои наконец друг друга нашли. Зарождение этого нового чувства
настолько интенсивно и дело зашло настолько далеко, что возвращение к
прежнему состоянию невозможно.
Второй финал оперы можно назвать «Катастрофа и примирение». Это
праздничный мир, который часто в сфере буфф образует сценическую рамку
действия, находящую свою кульминацию в заздравном тосте. Здесь скорее ожидают
внешнее проявление радости, нежели раскрытие внутреннего мира человека.
384 Sîb
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Участники, прежде всего Фьордилиджи и Дорабелла, расположены устроить
веселое празднество, которое должно венчать двойную свадьбу. Однако
осознание прошлого омрачает торжественность события; достоинство мгновения
кажется сомнительным, ведь речь идет о забвении всего, что было до появления
албанцев. Конфликт, который необходимо разрешить музыкально, в сущности
неразрешим, так как он состоит в том, что человеческое счастье властно требует
отрешиться от прошлого; но, с другой стороны, память, сохранение прошлого,
верность — это знак человечности. В либретто Да Понте речь идет о потере,
исчезновении памяти. Это — одна сторона. Другая — разрешение конфликта.
Музыка извлекает из происходящего то, что предано забвению, и возвращает
память, причем делает это незаметно подкравшись, безостановочно
раскрывая нам полноту отношений, и делает это, совершая поворот от внешнего ко
внутреннему миру. Необычными переходами одной тональности в другую
осуществляется поворот в действии, соответствующий появлению новой фигуры
на сцене. Это Дон Альфонсо вместе с Деспиной, переодетой нотариусом, он
должен начать церемонию бракосочетания. Подписываются брачные
контракты, которые радуют только девушек. Однако прошлое, незаметно поднявшись,
настигает присутствующих, врываясь в происходящее. Тихо на заднем плане
звучит военный марш из первого акта. Как предупреждение, приковывающее к
себе всеобщее внимание, как если бы вверх взвился незримый занавес, звучит
флейта, задавая тон — такт. Она возвещает катастрофу. Пары испуганно
прислушиваются к ее звучанию. Так же, как Лепорелло в «Дон Жуане», Дон
Альфонсо идет осведомляться, что стало причиной необычного шума. Он смотрит
из окна, и для него снаружи ничего интересного не происходит. Он сам устроил
так, что сейчас появятся Феррандо и Гульельмо.
Драматический характер музыки, ощущение развившейся катастрофы,
связанное, конечно, с Доном Альфонсо, и возникающее напряжение, которое
передается оркестром, кажется, говорят нам о том, что серьезность
происходящего не ставится под сомнение. Слушатель понимает, что хор и военную музыку,
возвестившую возвращение Феррандо и Гульельмо, заказал сам Дон Альфонсо,
что он сам все срежиссировал, и ничего страшного произойти не может. Ведь
объективно ничего страшного не произойдет, и Дону Альфонсо не от чего
приходить в ужас. Дон Альфонсо лицедействует, устраивает театр в театре, и делает
это вместе со своими друзьями, что помогает ему вводить всех в заблуждение.
Но музыка Моцарта— не иллюстрация мимического таланта Дона
Альфонсо. В действительности в игре происходит поворот. Фиктивное возвращение
прежних любовников имеет серьезные последствия для девушек, но не только
для них, а также и для участников игры, Феррандо и Гульельмо. Игра, которая
протекала не так, как этого хотели уверенные в своих возлюбленных офицеры,
закончилась. Теперь надо платить по счетам. Музыка Моцарта соотносится не
только с лицедейством Дона Альфонсо, воплощает не только внешнюю,
фиктивную ситуацию, а принадлежит также состоянию девушек, которые на слова
о том, что приближаются их прежние женихи, бормочут что-то
невразумительное, ошарашенные сообщением Дона Альфонсо. Благодаря этому двойному
отношению музыка схватывает как мистификацию, так и действительность. Тем
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А Моцарта J& 385
самым музыка оперы имеет двойной смысл. В allegro, содержащем в себе весть
Дона Альфонсо и реакцию девушек, отчетливо слышатся звуки катастрофы, как
если бы каменный гость стучался в двери. Оркестр обрушивается на
слушателей всей своей мощью. В паническом страхе Фьордилиджи и Дорабелла
побуждают своих «новых женихов»к бегству и выталкивают их в соседнюю комнату.
В этой обстановке звучат слова Дона Альфонсо: «Доверьтесь мне, и все будет
хорошо», немного разряжающие накалившуюся атмосферу. Конечно, у девушек
есть основание рассматривать возвращение прежних женихов как катастрофу,
но и опыт молодых офицеров не менее горек. Теперь самому инициатору игры,
Дону Альфонсо, необходимо искать выход из создавшейся ситуации; его
уверения, что все окончится благополучно, поначалу остаются без внимания,
поскольку мистификация еще продолжается, ее трудно мгновенно прекратить.
Однако музыка показывает, что игра дала сбой и надо приложить все силы, чтобы
ее окончание осталось комедией, ведь действительно завершение игры грозит
обеим парам крушением всех надежд, и они сами способствовали этому. Выход
из игры должен быть найден только в рамках комедии, и, следовательно,
примирение должно венчать дело. Появившиеся Феррандо и Гульельмо
осведомляются у девушек, почему они так бледны, молчаливы, почему они встречают
их со столь печальными минами на лице. Дон Альфонсо, ища выход из
создавшегося положения, отвечает вместо них: радостное смятение и страх заставили
девушек замолчать. Затем в соседней комнате находят мнимого нотариуса, и в
нем узнают переодетую Деспину. Фьордилиджи и Дорабелла не в состоянии
ничего понять. Жизнь для них в этот момент превращается в непостижимую
игру масок. Но сбрасывание масок возвращает их на почву реальности, и теперь
им становится понятно, какую игру с ними сыграли. Находят и свадебный
контракт — доказательство вины девушек, как если бы сами Феррандо и Гульельмо
всеми силами не способствовали его появлению. Но это не мешает им кричать
о предательстве и темпераментно выражать свой гнев и негодование, которые,
однако, выглядят преувеличенно театральными, если не пародийными.
Трогательное признание девушками вины в этой еще не полностью прояснившейся
ситуации не может не вызвать доверия, ведь в прерываемой рыданиями мелодии
девушки требуют смерти для себя. Короткие цитаты тем, связанных с
состоявшимся маскарадом, завершают процесс сбрасывания масок, демаскирования
произошедшего, напоминая девушкам, что с ними случилось. Теперь Дону
Альфонсо, автору и режиссеру всей этой «комедии», надо взять на себя миссию
примирителя всех сторон, поскольку сам характер моцартовской музыки
настаивает на примирении, и это примирение происходит в финальном ансамбле оперы.
Возносящиеся мелодические линии здесь приобретают характер освобождения.
Сначала экспонируется замкнутая, периодически построенная мелодия терций,
относящаяся к девушкам, а затем Феррандо и Гульельмо отвечают новым
образом, который подхватывает мотив девушек. Конечно, музыкальный образ —
образ девушек. Теперь они не просят прощения, впрочем, они не просили его и до
этого, они клянутся в верности и любви, и счастье надо искать только в будущем.
Как отмечает Ш. Кунце, «Моцарт демонстрирует примирение не как состояние,
не как обязательный реквизит в конце комедии, а скорее как музыкальный про-
386 SL
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
цесс. Лишь с заключительной каденцией, отсутствовавшей до этого, наступает
умиротворение»72.
Дон Альфонсо может быть доволен завершением всей игры. Наступило
«прекрасное затишье», страсти улеглись, желанное спокойствие воцарилось, и
оно прекрасно, восторжествовал разум, возвысившийся над смятением и
хаосом жизни, разум смог осуществить это возвышение только благодаря красоте,
благодаря игре, лежащей в основе искусства и рождающей гармонию. В
комедии можно увидеть символ разумного порядка в общественном бытии и выбор,
правда, не в бесконфликтном, но в гуманном, то есть всегда управляемом
разумом мире. В этом смысле комедия представляет собой наглядный пример этого
мира. Как общество, он может быть таковым, пока он способен к примирению
или обнаруживает в себе силы изображать конфликты, решение которых
происходит в духе гармонии. Язык искусства, музыка еще располагают силами,
способными к умиротворению.
Cosi fan tutte — особое произведение. В нем человеческие отношения
подвергнуты испытанию, и его они не выдерживают. Бесспорно, что без музыки
Моцарта, без его драматургии комедия Да Понте осталась бы фарсом, циничной
карикатурой на общество, где человеческие отношения подчиняются
управлению, как если бы люди были марионетками, а Дон Альфонсо искусно
подчиняет персонажей требованиям разума, и люди-куклы оказываются во власти
законов механики, о которых они ничего не знают, пребывая в созданных ими
иллюзиях. Идея марионеточности человеческого бытия, развиваемая в
искусстве XVIII века, уже в трагической форме переходит в романтизм, развенчивая
оптимизм Просвещения и все попытки свести разум к инструменту,
действующему по принципу всеобщей механики. Дон Альфонсо предлагает смириться
перед этим принципом и использовать его в индивидуальном бытии
рационально, постоянно контролируя свои чувства. Здесь же нам важно указать, какую
функцию выполняет музыка Моцарта в этой опере. Ясно, что она расходится
с учением философа-комедианта. В моцартовской музыке еще не разверзлась
бездна между ratio и чувством, но несмотря на это, каждый шаг композитора
выглядит как примирение, как снятие противоречий. Необходимость в
примирении возникает, так как душевное содержание, которое обнаруживает себя в
этой музыке, расходится с конвенциями и тем самым — с объективно
существующим и общепринятым порядком поведения и мышления. Музыка Моцарта
дает персонажам право на индивидуальное существование, на индивидуальную
экзистенцию вне изначально заданных форм бытия. Они трактуются уже не как
роли, не как типы. И если эту музыку соотнести с учением Дона Альфонсо, то
последнее не в состоянии перебросить мост через бездну между ratio и
чувством. Штефан Кунце в этой связи очень удачно сравнивает сложившуюся
ситуацию с разбитым кувшином в комедии Генриха фон Клейста. Кувшин разбит
так, что нет никакой надежды на его восстановление, и его осколки суть не что
иное, как мир, находящийся в теперешнем состоянии. Музыка Моцарта
стремится восстановить разорванные связи, и allegro molto второго финала нацелено
на воссоздание гармонии в мире. Финал Cosi fan tutte существенным образом
72 Kunze S. op. cit. S. 487.
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта J& 387
отличается как от финала «Фигаро» и «Дон Жуана», так и от финала Девятой
симфонии Бетховена. Здесь нет освобождения и обуздания демонических сил,
как это было в «Дон Жуане»73. Allegro molto Моцарта объединяет несколько
гетерогенных составных частей, обусловленных текстом Да Понте, поскольку он
построен по антитетическому принципу, и антитезы создают, конечно, для
музыкальной образности неимоверные трудности. Придавая высказываниям
музыкальный образ, Моцарт подхватывает эти антитезы и «каждый стих не похож
на другое лицо», и даже два первых стиха без антитезы, которые положены на
музыку как единство, музыкально поняты как антагонистическая конструкция74.
Мы понимаем, что музыка идет своим собственным путем.
Достигнутое в музыке примирение означает также и просветление сознания
героев. С установлением «прекрасного спокойствия», Золотого века, все должно
начаться после потрясений заново. И эта новая жизнь не будет омрачена
произошедшим. Все персонажи оперы принимают участие в создании будущей
Аркадии, где царят «прекрасное спокойствие» и любовь. Вообще-то действующие
лица, за исключением Дона Альфонсо, еще полностью не осознают, что,
собственно, с ними произошло, ведь все шло к неотвратимой катастрофе для всех
четверых, и даже deus ex machina, Дон Альфонсо, был бы в этой ситуации
совершенно бессилен, а его требование подчиняться разуму оказалось бы пустым
звуком, на который никто не обратил бы внимания, если бы в этот театральный
эксперимент не включилась музыка Моцарта. Она не входила в противоречие с
подвижным, легким духом комедии Да Понте, но в своей сущности
превосходила его; передавая внутренний мир человека, правду чувств, она охватывала
действительность как целое, забывая во имя этого целого комедийную перспективу.
Что действительно музыка Моцарта снимала полностью, так это примитивную
отражательную схему Ламетри, изложенную в его трактате «Естественная
история души». Музыка Cos! fan tutte показывала, что означают слова Моцарта:
«Поэзия должна быть в конечном счете послушной дочерью музыки». Музыка
для Моцарта — это та инстанция, которая контролирует сознание и действия
человека, представляя нам их перспективу, предвосхищая осмысленность
человеческого поведения или же его неразумность. Она проявляет себя как идеальная
языковая игра идеального коммуникативного сообщества, свободная от
замутненное™ обыденной и поэтической речи. Она для Моцарта — универсальный
язык с его особой логикой, который скрывается под поверхностью поэтического
языка и доступен только музыканту.
Многие музыковеды считают, что Cosi fan tutte — первая опера в XVIII веке
об избирательном сродстве, вспоминая о великом романе Гете, который был
написан почти на два десятилетия позже. Точкой соприкосновения комедии Да
Понте и романа Гете, на наш взгляд, является игра. Это — общий мотив. Хотя
формы игры здесь разные, следовательно, и игры иные. У Да Понте это маска-
радно-карнавальная игра, которая заканчивается, как только прекращается
мистификация. У Гете — это игра человека с природой, которую человек, будучи
природно разумным существом, отваживается вести, испытывая природу, чтобы
73 Kunze S. op. cit. S. 489.
74 Kunze S. op. cit. S. 489.
388 SL А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФМАОСОФИЯ. ИГРА
удостовериться в правильности закона избирательного сродства и истинности
человеческих связей, и она становится источником всех трагических коллизий
романа, глубинной структурой которого становится трагедия. Философская
концепция «избирательного сродства», пронизывающая все уровни бытия,
мастерство Гете-романиста несопоставимы с философской мудростью Дона Альфонсо и
легким, но все же незначительным талантом венецианского комедиографа. Есть,
однако, общий момент, связывающий Cosi fan tutte и «Избирательное сродство».
В тексте либретто Да Понте он только намечен и усилен музыкой Моцарта,
можно даже сказать, ею развит. В романе Гете он является доминирующим. В обоих
произведениях игровой эксперимент оказывается, если следовать ходу мысли
американского германиста Дэвида Вэллерби, «дезорганизацией символических
порядков, их разрушением»: «Историко-культурный процесс, инсценируемый
"Избирательным сродством", можно понять как разрушение символического,
как его дезорганизацию. В романе речь идет о распаде обязательного
всеобщего, симптомы основания и последствия которого прослеживаются в
различнейших областях жизни»75. В моцартовском творении этот процесс только
начинается, и музыка делает его заметным, стремясь при этом избежать роковых для
человека последствий, создав возможность гармонического примирения. Этой
возможности уже нет в романе Гете. «Серьезными шутками» назвал в письме к
В. Гумбольдту Гете своего «Фауста». Это определение полностью приложимо к
Cosi fan tutte.
5. «Волшебная флейта». Первая и вторая части.
Моцарт и Гете
«Волшебная флейта» — последнее произведение Моцарта, услышанное им
при жизни. Перед смертью он говорит и пишет только о ней. Эта
опера-сказка, зингшпиль, превращенный чудом музыки в символ человечества, завершает
жизнь композитора, начатую играми вундеркинда и закончившуюся созданием
игры, представляющей перед зрителем и слушателем всю историю
человечества в прошлом, настоящем и будущем. Она показана в сплетении реального и
фантастического, в соединении маски и сущности, разумности и абсурда.
Познание и любовь становятся здесь центральными темами, вокруг которых
разворачивается выведенная в фантастических образах жизнь, жизнь пульсирующая
и многокрасочная. Эта жизнь обладает двумя типами движения: центробежным,
когда она удаляется от центра, который есть разумность и любовь, и
центростремительным, когда она, ощутив опасность этого удаления, опять стремится
обрести этот центр. О сложности толкования такого произведения Гете сказал
25 января 1827 года Эккерману: «Лишь бы основной массе зрителей
доставило удовольствие очевидное, а от посвященных не укроется высший смысл, как
75 Wellerby D. Die Wahlverwandschaften // Goethes Erzählwerk. hrsg. von M. Lützeler. I. E. Mc-Leod.
Stuttgart. 2006. S. 217.
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта Jëb 389
это происходит, например, с "Волшебной флейтой" и с множеством других
вещей»76. Гете, восхищаясь ее музыкой, имел в виду, конечно, не только масонскую
символику оперы, которую он прекрасно понимал, так как сам был масоном, но
достаточно близкую ему поэтическую философию оперы. В «Волшебной
флейте» ясно показано, как труден путь к счастью, познанию и любви, и обманчивая
легкость сюжета не должна в этом смысле вводить в заблуждение. Именно в
этом заключается значение слов Гете.
Жан Старобинский почти тридцать лет назад указал на то, что «наряду с
этим значением, в котором непосредственно связаны идеи счастья и познания,
уместна еще одна, дополнительная интерпретация "Волшебной флейты", где
будет поставлен новый вопрос и выявится значение, связанное с идеей власти»77.
Этот вопрос оправдан не только в рамках политической истории человечества,
потому что последнему в каждую эпоху свойственно по-разному относиться к
власти, но еще и в философско-художественном и литературно-историческом
аспектах. Для Гете «Волшебная флейта» была точкой отсчета при создании
второй части «Фауста», на концепцию которой моцартовская опера оказала
существенное влияние. В пятом акте «Фауста» проблема власти соединяется с
идеей деятельности человека, и, естественно, власть как феномен человеческого
бытия не могла иметь у Гете периферийного значения. Для Моцарта, как мы
видим из его писем, его собственное столкновение с властью и представление о
ней давали богатый материал для размышления. Возможность улучшить власть,
сделать ее просвещенной, гуманной, не подвергалась Моцартом никакому
сомнению. Композитор свято верил в целительную силу своего искусства и в этом
был несомненно прав.
В опере конфликт Царицы Ночи, хтонической богини, и великого жреца
мудрости Зарастро, защитника света, определяет ход человеческой истории, и от
этого противостояния зависит счастье людей. Все сценическое действо строится
Моцартом как борьба добра со злом. Свет — это нравственно доброе и основа
любви. На сцене — два мира, и граждане, подданные этих миров, антитетически
противостоят друг другу. «Волшебная флейта» представляет собой чередование
патетических, лирических и комических эпизодов, и каждый из персонажей в
какой-то степени имеет притязания на власть, на счастье и любовь, у каждого из
них свое понимание счастья, целей и стремлений. Символическая игра в опере
осложнена тем, что в ней существуют различные уровни притязания на власть,
на счастье и любовь. И носители этих притязаний противостоят друг другу.
Отсюда и особенности музыкальной драматургии Моцарта. Темы, как и в других
великих операх Моцарта, в «Свадьбе Фигаро» и «Дон Жуане», получают
значение свойств человека. Весь музыкальный язык становится комплексом
драматургических образов. Композитор соединяет ситуацию, действие, событие,
происходящее на наших глазах, в нашем присутствии, здесь и сейчас. Таков эффект
этой музыки. В моцартовских операх различные персонажи сообразно своему
характеру получают собственное ритмическое воплощение, у каждого персона-
76 Эккерман И. П. Указ. соч. С. 214.
77 Старобинский Ж. Просвещение и власть в «Волшебной флейте». // Поэзия и знание. Т. 2. М.,
2002. С. 445.
390 S^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
жа свой музыкальный ритм. Этот процесс в творчестве Моцарта начался уже в
«Идоменее». С каждой новой оперой тематическое и ритмическое воплощение
становилось все более дифференцированным и разнохарактерность тем
создавала все более разнообразную палитру. При этом дифференциация не разрушала
целого, а наоборот, чем более дифференцированным был музыкальный язык,
тем большим был эстетический эффект от целого. Соединение вокальной и
инструментальной музыки в едином целом сценического действия, преодоление
обветшалых конвенций вокальных форм, создание музыкальных характеров в
сочетании с игровым характером текста и представления, создают то, о чем
говорил Гете Эккерману. Опера оказывается многослойной, и поэтому
«слушатель, переходя от тревоги к смеху, от благоговения к незатейливому веселью,
испытывает весь спектр чувств и открывает во всей полноте самого себя»78. Та
быстрота, с которой была написана «Волшебная флейта», объясняется не только
гениальностью ее создателя, но и тем, что многое из того, что мы находим в ней,
было подготовлено более ранними произведениями. Прообразы музыкального
языка «Волшебной флейты», в основном в патетических эпизодах, мы
находим в музыке Моцарта к драме Геблера «Тамос, король в Египте» (1779).
Опыта в создании комических опер у Моцарта к концу жизни было предостаточно.
В «Волшебной флейте» комедийная линия была связана с птицеловом Папаге-
но. Эта фигура человека-попугая показывает нам стихийную, даже грубую силу
человеческой природы, а также способность этой природы имитировать жизнь,
приспосабливаясь к ней. Выводя на сцену Папагено, Моцарт создает образ
шутовского дублера, болтуна, обжоры, труса, делая это с улыбкой, понимая, что
несовершенство есть тоже свойство человека. Папагено всецело отдан во власть
своих желаний, но при этом болтун и хвастун, он хочет славы, которая никак
не может ему принадлежать, когда он объявляет себя победителем змея. Власть
птицелова простирается только на птиц, пойманых им и посаженных в клетку.
Эта власть держит птиц под замком, который ему самому наденут на рот. В
Папагено есть особая грация, названная Хосе Ортегой-и-Гассет «человеческой
животной грацией», идущей от силы жизни. Неспособный к рефлексии птицелов
целиком во власти жизни с ее простыми радостями и здоровьем. Нерефлекти-
рующее сознание может также служить добру, делая его, как показывает сюжет
оперы, бессознательно, ибо непосредственная жизнь, если она жизнь, может
проявлять себя только в свете.
Линия Тамино и Памины показывает нам уже иной, духовный уровень
жизни. Тамино — принц, и опера начинается с того, что его преследует страшный
змей, масонский символ зла, и, падая без чувств, принц первого испытания не
выдерживает. Очнувшись, Тамино находится в положении слабого, он погружен
в заблуждение, иллюзии и поначалу целиком зависит от Царицы Ночи.
Следовательно, он, подобно Фаусту, начинает свой путь к власти во тьме. Зарастро
направляет Тамино на путь испытаний, и если принц их выдержит, то он
будет править как мудрый принц. Человечность и мудрая законная власть в опере
тождественны. Вначале Тамино бессилен, в конце он обладает всемогуществом.
Инициационный путь героя должен завершиться соединением влюбленных,
78 Старобинский Ж. Указ. соч. С. 447.
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта J& 391
«достигших полной духовной зрелости, победы над тьмой, молчанием и
непониманием»79.
На этом уровне воля к власти героев не довольствуется обретением власти
над непосредственным, как у Папагено. Обретение желаемого откладывается
до преодоления испытания. В начале благородный принц, обманутый Царицей
Ночи, отправляется спасать Памину от Зарастро, но исполнение всех желаний
героев, соединение в любви возможно лишь в царстве света, а не тьмы. Тьма
скрывает свет мудрости, препятствует человеку обрести его, она символизирует
ложь. Поэтому покров лжи необходимо сорвать, чтобы восторжествовала
истина. Моцарт и Шиканедер создали в опере сложный образ, в котором композитор
видел соединение всех сил, препятствовавших ему в течение многих лет в
жизни, творческой игре и любви. Это — Царица Ночи. Ее образ не выглядит
поначалу абсолютным злом, представляется даже дружественным, к тому же она мать
прекрасной Памины. В первой части оперы Царица Ночи надевает на себя маску
добра и тем самым осложняет прорыв героев к свету. Ее притязание на власть и
гордыня делают положение Памины почти безвыходным. Для упрочения своей
власти, которая для нее самоцель, Царица Ночи готова пожертвовать своей
дочерью. Эта противоестественность, по мысли Моцарта, должна быть устранена.
Дисгармонию должна сменить гармония, причем истинная, а не ложная. Так как
тьму необходимо рассеять, Зарастро, жрец и маг, держащий в своих руках все
нити событий, направляет действия так, чтобы все поступки героев вывели их к
свету. Зарастро выглядит воспитателем человечества, знающим план действий
по восстановлению мировой гармонии, и музыка здесь играет решающую роль.
«Флейта и власть музыки составляют последнее испытание, самое трудное из
всех, — пишет Ж. Старобинский. — Именно потому, что гармония
представляет собой мировой закон и нравственное правило, инструмент, на котором играет
Тамино, не является простым средством, данным в его распоряжение. Это сама
власть, лишенная жестокости, а Тамино всего лишь орудие этой власти и
руководим ею. Последние испытания изображают не только триумф любви, но и
триумф музыки и музыканта»80.
Умирающий Моцарт увековечивает свое искусство, осознавая его значение для
человечества. Служа ему, отдав музыке последние силы, Моцарт не дал погаснуть
свету, которую его личность излучала всю жизнь. Это одним из первых понял
Гете. В 1795 году он начал работу над второй частью «Волшебной флейты».
Последняя опера Моцарта «Волшебная флейта» известна всем. Она уже
давно стала предметом многочисленных сценических воплощений, интерпретаций
и исследований. Уже Эдуард Ганслик, говоря о различных постановках этой
оперы в Германии и Франции, заметил, что творение Моцарта и Шиканедера
дает возможность по-разному трансформировать сюжет либретто, не
затрагивая музыку Моцарта. Сказочность сюжета, провоцирующая открытость текста,
позволяла не только его варьировать, но и, как это было в парижской постановке
1802 года, осуществлять всякого рода жанровые включения: небольшие
балетные сцены в тот момент, когда Тамино солирует на флейте, а Папагено играет на
Старобинский Ж. Указ. соч. С. 449.
Там же. С. 454.
392 SL
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
колокольчиках, а также создавать пантомимы мавров Моностатоса81. Возможную
сферу для экспериментов определяла моцартовская музыка, ее характер. Она
также становилась тем центром, к которому должны были стремиться поэзия и
режиссерские эксперименты, так как в моцартовской оперной эстетике поэзии
отводилась роль «покорной дочери музыки». Моцарту в опере необходима была
такая поэзия, которая бы давала музыке «живое действие, быстрые перемены
сценических положений и чувств персонажей, что позволило бы испробовать
все музыкальные возможности»82. Другими словами, композитора интересовали
в поэзии те тексты, которые давали бы широкий простор игре, обнажали бы
игровые структуры. Того же самого добивался и Гете в своих зингшпилях. Как
было сказано, апофеозом игры поэт считал оперу. Если мы сравним
высказывания Моцарта о роли поэзии в опере, то мы найдем поразительное сходство
с тем, что пишет Гете в «Путешествии в Италию». Запись от 24 ноября 1787
года достаточно полно раскрывает взгляды Гете на роль либретто в опере.
Совместная работа с композитором Кайзером над зингшпилем «Шутка, хитрость и
месть» поставила перед Гете проблему соответствия движения музыкального
высказывания с высказыванием поэтическим. Гете писал: «Обыкновенно
бранят итальянские тексты, при этом в таких выражениях, как будто один, не
подумав, повторяет слова другого; между тем, будучи действительно и легкими, и
веселыми, они не требуют от композитора и певца большего, чем те намерены
дать»83. Поэзия и драматическое действие должны поэтому отличаться прежде
всего веселостью и подвижностью, и Гете работал в этом направлении, как если
бы музыку к зингшпилю сочинял Моцарт. Рассказ Гете завершается
сообщением о впечатлении, которое произвела на него моцартовская опера «Похищение
из сераля». Из него следует, как поэту необходим был гений Моцарта. «Но все
наши старания замкнуться в простом и ограниченном потерпели крушение,
когда явился Моцарт. "Похищение из сераля" опрокинуло все, и о появлении на
сцене пьесы нашей, столь тщательно разработанной, не было и речи»84.
Текст Шиканедера давал возможность написать продолжение, которое
мыслилось Гете не только как сказка, но и как апофеоз ушедшего из жизни гения.
В конце должна была в символической форме возникнуть тема непобедимости
и бессмертия творческой силы человека. Музыку должен был сочинить
композитор Враницкий.
На пути создания второй части «Фауста» замысел Гете приобретал особое
значение, тем более что в гетевском либретто можно найти явные параллели к ней.
Гете сохранил действующих персонажей из либретто Шиканедера, поскольку
они были известны публике, слышавшей оперу Моцарта. Макс Моррис считал,
что образы гетевской «Волшебной флейты» Тамино, Памина и их сын Гений
соответствуют Фаусту, Елене и Эвфориону из второй части «Фауста». Текст
либретто — поэзия высшей пробы, и Гуго фон Гофмансталь прав, когда пишет:
81 Hanslik Ed. Die moderne Oper. Kritiken und Studien. Berlin, 1875. S. 57—58.
82 Старобинский Ж. Об обращении персонажей и вещей в Le Nozze di Figaro // Старобинский Ж.
Поэзия и знание. М., 2002. С. 466.
83 Гете И. В. Путешествие в Италию // Гете И. В. Собр. соч. в 13 т. Т. 11. М., 1935. С. 461.
84 Гете И. В. Указ. соч. С. 461.
V. Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта J& 393
«Все это (текст Гете. — А. А.) с распростертыми руками зовет к себе в объятия
одухотворенную и возвышенную музыку; музыка Моцарта, Глюка и даже
Бетховена излилась бы в своей красоте и свободе в русла, прорытые для нее самой
чистой и скромной поэзией»85. Но венский композитор Пауль Враницкий не был
Моцартом, и в этой ситуации мог возникнуть контраст между поэзией Гете и
Шиканедера, как между музыкой Моцарта и Враницкого. О возможности такого
контраста Шиллер предупреждал Гете. После того как Шиканедер и
композитор Винтер с невиданной помпой и обилием театральных эффектов поставили
в Берлине вторую часть своей «Волшебной флейты» (10 августа 1803 г.), Гете
прекратил работу. Но значительная часть либретто к тому времени была уже
написана.
Гетевское либретто начинается с возвращения на сцену потерпевших
поражение, но окончательно не сломленных сил тьмы. Предвкушая будущий триумф,
Моностатос со своими приспешниками приходит к Царице Ночи. Моностатос
уже чувствует себя ее супругом. Мавр взывает к ней, льстя повелительнице
тьмы, царящей над миром вопреки свету. Как и в первой части, здесь с самого
начала задана оппозиция света и тьмы, и вся сцена требует демонически
ликующей музыки. В ней должна себя выразить стихия хаоса. Раздается удар грома.
Моностатос и его мавры падают ниц. Все пространство заполняется тучами, и
на темном облаке появляется Царица Ночи. Зловещим призывом темного хаоса
звучат ее слова:
Woget, ihr Wolken, hin,
Decket die Erde,
Daß es noch düstrer,
Finsterer werde!
Schrecken und Schauer,
Klagen und Trauer
Leise verhalle bang
Ende den Nachtgesang
Schweigen und Tod86.
Тучи, неситесь сюда,
Землю скройте,
Чтоб стало еще мрачней
И темней!
Ужас и страх,
Плач и печаль
Пусть тихо, робко замрут.
Пусть молчанье и смерть
Закончат ночную песнь.
Тьма и ночь могут отождествлять себя только с жалобой и печалью,
молчанием и смертью, и музыка должна отзвучать, став мрачной тишиной. Из этой
85 Hoffmannsthal H. Reden und Aufsätzen I., 1891—1913. Frankfurt am Main, 1979. S. 445.
86 Goethe J.W. Poethische Werke. Berliner Ausgabe. Berlin—Weimar, 1968. Bd. 4. S. 360.
394 Sb
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
тишины, по замыслу Гете, хор совсем тихо обращается со словами к Царице
Ночи. Никуда не исчезла ее неистовая страсть, более того, она чувствует себя
соединенной с разбушевавшимися стихиями. Она требует космических катастроф,
ибо она — порождение вулканической энергии. Летящие кометы должны
заполнить небо, а стихия огня — уничтожить гармонию мироздания. Буря с громом и
молниями, разразившаяся над миром, становится эсхатологическим видением.
Энергичные стихи Гете требуют плотного, бурного симфонизма, страстной
музыки, образец которой Моцарт уже дал в «Идоменее», во второй картине второго
акта. Достигнутая в первой части гармония еще не смогла соединить все силы
бытия в плодотворной возвышающейся деятельности. Холодный свет севера,
прямо-таки люциферовский свет, рожденный тьмой, исходит от Царицы Ночи.
Электрические разряды и шаровые молнии символизируют энергию природы.
В облаках видны скрещения комет. Однако вся эта картина благодаря «форме,
цвету и симметрии должна создавать устрашающий и в то же время приятный
эффект»87.
Видя эту созданную демонической стихией завораживающую красоту,
Моностатос уже прозревает утверждение власти Царицы Ночи в царстве Солнца.
Он уже видел горе Памины и Тамино, когда выполнял повеление Царицы.
Родившийся сын Памины и Тамино должен непременно попасть в ее руки, ибо она
и только она должна властвовать над любовью. Если у Моцарта движущей
силой действия был конфликт Царицы Ночи и Зарастро, то у Гете — это ненависть
властительницы тьмы к счастливой царственной паре. Моностатос рассказывает
Царице Ночи, как он и его мавры, выполняя ее приказ, пытались похитить сына
Памины и Тамино. Во время радостного праздника они проникли в королевский
дворец и, окутав все тьмой, схватили ребенка, положив его в золотой гроб,
закрыв его на замок. Но они не смогли унести с собой саркофаг, так как он стал
таким тяжелым, как если бы он был прикован к земле. Моностатос объясняет
это заклинанием Зарастро. Это он заколдовал саркофаг. Но мавр успел скрепить
замок печатью Царицы Ночи, и первенец Памины и Тамино замурован в нем.
Однако как только Моностатос и его приспешники покинули дворец, саркофаг
стал легче перышка. Тамино и Памине не остается ничего, кроме как отнести
саркофаг в братский орден, который учит и учится мудрости. Мы видим, что
масонская тематика и символика сохраняется и у Гете. Замурованный в золотом
гробу ребенок благодаря благословению Зарастро жив. Чтобы его не погубить,
гроб необходимо носить день и ночь, не останавливаясь. Тамино не теряет
надежды спасти сына. Он просит помощи у высших сил.
Папагено и Папагена, как и у Моцарта, в гетевском тексте остаются
комическими дублерами царственной пары. Их жизнь была бы сплошной
идиллией, если бы природа послала им ребенка. Но они бездетны. Принц подарил им
на свадьбу драгоценную флейту, но Папагено использует ее сугубо утилитарно.
Звуками флейты птицелов заманивает к себе самых вкусных животных, чтобы
приготовить из них лучший обед. У Папагены есть чудесные колокольчики, от
звуков которых все птички попадают в сеть. Жизнь настолько сказочна, что
зайцы, уже нашпигованные, сами прыгают на обеденный стол, и к тому же Зарастро
Goethe J. W. op. cit. S. 361.
V Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта J& 395
сделал так, что источник у хижины поит хозяев вином. С легкой моцартовской
усмешкой Гете смотрит на своих героев. Конечно, его птицелов поэтичнее, чем
у Шиканедера, и когда поэт писал дуэт Папагено и Папагены, в его душе звучала
музыка Моцарта. Это видно из текста либретто. Гете сохранил характеры, но
придал им более высокую поэтичность, освободил их от грубости, ища в
слове аналог моцартовской музыки. Скорее всего, в линию Папагено и Папагены
Гете хотел ввести вину Зарастро, покровительствовавшего этой паре. Зарастро
не отучил Папагено от гедонистического отношения к жизни, от утилитарного
использования природы, ибо птицелов и его супруга считают, что все в
природе имеет цель приносить им наслаждение. Такая вульгарная телеология должна
иметь последствия для жизни комической пары.
Оппозиция возвышенной любви и наслаждения в гетевском варианте
«Волшебной флейты» выражена резче. Сцена в храме, названная Гете «собрание
жрецов», напоминает, конечно, заседание масонской ложи. Появляется Зарастро. Он
вынужден оставить свою власть. Свое решение стать странником жрец Солнца
объясняет велением судьбы. В тихих стенах храма человек учится постигать
свой внутренний мир. «Он готовится услышать голоса богов; но возвышенный
язык природы, звуки жаждущего человечества знакомы только страннику,
скитающемуся по широким просторам земли»88. Зарастро выпал жребий
отправиться в путь. Символ власти, свою диадему, жрец Солнца передает Тамино. В нем
мудрость должна соединиться с чистотой любящего сердца. Зарастро у Гете
наделен даром предвидения, тем, что поэт называл антиципацией, предвидением
будущего, складывающегося из прошлого и настоящего. Боги удаляют Зарастро
из своей среды, чтобы испытать его и все человечество. Зарастро говорит
парадоксальные слова: его уход сделает чашу добра легче, и, чтобы не допустить
торжества сил зла, жрец призывает все добрые силы к объединению, выдержке.
Он учит не отклоняться от правого пути. Ария прощания Зарастро написана у
Гете в строгом стиле. Какая музыка, кроме моцартовской, требуется для слов
Зарастро:
Leb wohl, mein Sohn!
Lebt wohl, ihr Söhne!
Bewahret der Weisheit hohe Schöne89.
Прощай, мой сын!
Сыны, прощайте!
Храните высокую красоту мудрости.
Через некоторое время мы находим Зарастро в хижине Папагено и Папагены.
Но до этого предполагалось под звуки печальной музыки вывести на сцену
процессию — Памину со свитой. К этой сцене особенно подходила бы написанная
Моцартом в июле 1785 года «Масонская траурная музыка», в которой, как
указывают музыковеды, были предвосхищены возвышенно-патетические звучания
88 Goethe J.W. op. cit. S. 371.
89 Goethe. J. W. op. cit. S 373.
396 ®l
А. Г Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
«Волшебной флейты»90. Это действо напоминает масонский ритуал. Саркофаг
устанавливается на алтарь. Спасение должно прийти от лучей солнца,
начинается молитва, во время которой происходит землетрясение. Алтарь проваливается
в бездну вместе с саркофагом. Памина в отчаянии. Гете пишет по этому поводу:
«Сама сцена задумана так, чтобы актриса с помощью музыки могла бы
выразить значимую последовательность страстей»91. Поэт требует от композитора не
подчинения музыки слову, он требует того, что с особой ясностью проявилось
в моцартовских операх: в них каждый из персонажей и каждый по-своему
имеет свое собственное ритмическое воплощение. На месте типичных состояний
выступает действие, происходящее во времени, и это действие Гете определил
как последовательность страстей. Поэт, ориентируясь на музыку Моцарта, ясно
дает понять, что музыкальное произведение, для того чтобы оно дошло до
слушателя и одновременно зрителя, должно прозвучать целиком. Лишь из своей
целостности заданный во времени отдельный эпизод и отдельная часть формы
обретают свой смысл.
В драматическом целом Гете, как мы видим, отдает решающую роль музыке.
Отталкиваясь от моцартовской музыки, Гете в своем либретто, в каждом его
эпизоде создает смену настроений. Сцена у хижины Папагено, куда приходит
мнимый странник Зарастро, требует композиторской виртуозности, прежде всего
разнообразнейших выразительных средств. Папагено и Папагена нашли в своей
хижине прекрасные яйца, они полагают, что их снесла какая-то особенная птица
и спрятала их в безопасное место. Эта сцена должна, как думал Гете,
изобиловать разнообразнейшими шутками, так как она дает для них повод, но только в
границах поэтического умения. Зарастро начинает заклинать природные силы,
и из земли вырастает небольшая скала, внутри ее полыхает огонь, по указанию
жреца на ней создается удобное гнездо, в него кладутся яйца, и оно украшается
цветами. Совершив все это, Зарастро на некоторое время покидает сцену, а
затем начинается эпизод, связанный с оживлением эмблемы. Эта эмблема имеется
уже в книге Альциата. Из страусиных яиц под действием взгляда, исполненного
любви, вылупляются птенцы, здесь же от взгляда Зарастро трескается яичная
скорлупа и на свет Божий появляются два крылатых мальчика и одна
девочка, их поведение дает повод для поэтических и музыкальных шуток. Вновь
появившийся на сцене Зарастро должен вмешаться, давая разрезвившимся детям
воспитательные советы. Зарастро рассказывает, в каком печальном состоянии
находятся Памина и Тамино. Памина после случившегося в отчаянии и ищет
своего супруга, жрец приказывает Папагено, Папагене и вылупившимся из яиц
детям идти во дворец, чтобы шутками и весельем скрасить горе царственной
семьи. Папагено должен взять волшебную флейту и испытать ее целительную
силу. Две последние сцены завершенного Гете текста контрастны по характеру.
Первая из них, с участием веселого семейства Папагено, выдержана в стиле
веселого зингшпиля. Не узнанный пернатой парой Зарастро приказывает страже
пропустить Папагено и Папагену во дворец, до обитателей дворца дошел слух о
том, что птицелов нашел чудесные яйца. Однако Папагено не знает, что за птица
90 См. Аберт Г. В. А. Моцарт. Часть 2. Книга 1. С. 441.
91 Goethe J.W.op. cit. S. 374.
V Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта J£5 397
снесла их. Ряд шуток должен развеять гнетущую атмосферу, возникшую после
сцены землетрясения, и разрядить ее с помощью чистой игры. Брызжущая через
край фантазия стремится сделать все происходящее в сказке неразложимым для
рассудка, ведь натиск трагического может уничтожить свободу игры. Это,
конечно, в духе Моцарта, и «воображение, если оно создает художественное
произведение, подобно музыке воздействует на нас». У Гете Папагено и Папагена
несут во дворец золотые клетки с крылатыми детьми, в дуэте пернатой пары
слышится музыка Моцарта (2-й акт). Игра Папагено на флейте пробуждает Па-
мину и Тамино, впавших от отчаяния в летаргический сон. Звуки флейты не
только исцеляют, они побуждают Тамино к действию. Он должен вступить в
борьбу с силами зла, которые уже торжествуют победу. Появившиеся жрецы
привносят в действие драматизм. Сын Тамино и Памины скрыт в подземном
склепе и охраняется стражами и львами, туда необходимо спешить, чтобы
спасти его. Тамино и Памина, освещая себе путь факелами, спускаются в
подземелье. Сквозь огонь они проходят к месту, где скрыто их дитя. Появляется Царица
Ночи, она угрожает царственной паре: если Тамино двинется хотя бы на шаг
вперед, то страшные львы разорвут Гения. Сын слышит голос отца и матери, и
оказывается, что он не страшится ни львов, ни копий. Крышка саркофага
поднимается, и из него встает Гений, но когда стража пытается пронзить его копьями,
он взмывает ввысь и улетает. На этом месте Гете остановил работу над оперой.
Кроме связного текста остались наброски, планы и варианты.
Жан Старобинский в работе «Просвещение и власть в "Волшебной
флейте"», сравнивая гетевский текст с оперой, указывает: «В финале "Волшебной
флейты" происходит соединение персонажей в одном сияющем центре, словно
мир достиг наконец незыблемой истины. Отрывок Гете все ставит под сомнение:
в нем мы встречаем тех же мифологических персонажей, ту же борьбу света и
тьмы; однако в этом загадочном соединении отразились проблемы,
заблуждения, темные стороны нарождающегося мира. Поставленные вопросы остаются
без ответа. Может ли дух (Гений) жить на земле, может ли мудрец сохранить
власть. Когда "наставник мудрости" принимает участь бродяги и паломника,
перед нами полная инверсия высказанной в арии Зарастро из «Волшебной
флейты» мысли»92. Невозможно не согласиться с выдающимся швейцарским
литературоведом. Это, действительно, полная инверсия моцартовского замысла. Но
она вовсе не означает полной его ревизии. Как уже указывалось, Макс Моррис
в своей работе «Шарлотта фон Штейн и Царица Ночи» показал, что в гетевском
либретто линия Тамино, Памина и Гений имеет сходство с Фаустом, Еленой и
Эвфорионом. Это сходство обнаруживает прежде всего и способ, которым Гете
развивает сюжет. Через всю оперу Моцарта и через весь «Фауст» проходит
оппозиция света и мрака, Солнца и Тьмы. В основе «Фауста» лежит гетевский миф
о Люцифере, деятельность которого из-за гордыни могла привести к
уничтожению мироздания, если бы не вмешательство Святой Троицы, так как ее вечный
свет проник в созданную Люцифером материю. Вечный свет Троицы —
первооснова всего сущего; мрак и тьма таковой быть не могут, поэтому, что бы ни
делали силы тьмы, они всегда будут выполнять то, что предопределено боже-
92 Старобинский Ж. Поэзия и знание. Т. 2. М., 2002. С. 459.
398 Sib
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
ственным началом. В «Прологе на Небе» Господь, отказываясь заключать пари с
Мефистофелем, давая возможность действовать силам тьмы, предопределяет их
поражение. Свет никогда не обнаружит себя вне деятельности, лишь в
деятельности он открывается.
Итак, даю соизволенье,
Ты можешь заставлять его
Забыть свое предназначенье,
Пути держаться твоего,
Но жди в грядущем посрамленья:
Как ни блуждал бы добрый человек,
Познаешь сам — пути спасенья
Не позабудет он вовек93.
Если говорить о «Фаусте» в его сопоставлении с «Волшебной флейтой»
Моцарта, то здесь та же самая инверсия, только мифа, созданного самим Гете.
В «Фаусте» миф о мироздании излагается в интерпретации Мефистофеля, и это
дьявольская инверсия, которая в ходе действия должна быть опровергнута,
конечно, через испытание героев. Как и у Моцарта, в гетевской «Волшебной
флейте» они должны пройти испытание огнем и водой. Счастье не дается без борьбы.
Нисколько не ревизуя моцартовскую идею победы Света над Тьмой, принимая
ее всем сердцем и умом, Гете, однако, предельно осложняет ее осуществление,
включая в него и образ безвременно ушедшего из жизни своего гениального
младшего современника, значение которого он понимал как никто. Вряд ли в
ребенке Гении в его «Волшебной флейте» четко прорисовывался образ Эвфориона
с его сложными коннотациями и будущей гибелью, хотя бесстрашие выглядит
как общая черта обоих героев. Нельзя оспаривать тот факт, что Гений у Гете
связан с личностью Моцарта, но не с его смертью, в противоположность к бай-
роновским чертам Эвфориона. Непобедимость гармонии и неспособность хаоса
разрушить ее, а способность гармонии распространять свою силу в мироздании
явлена в словах Гения:
Es drohen die Speere,
Die grimmigen Rachen,
Und drohen mir Heere
Und drohen mir Drachen
Sie haben doch alle Dem
Knaben nichts an94.
Копья грозят,
Свирепые пасти,
И стража грозит мне
И драконы грозят мне.
Гете И. В. Фауст. Впервые в переводе К. Иванова. СПб, 2005. С. 36—37.
Goethe J. W. Op. cit. S. 387.
V Игры гения и их отзвук. О письмах и творчестве В. А. Моцарта J^D 399
Но мальчику все они
Не страшны
У Гете не идет речь об исчезновении Гения в надзвездных высях, Гений сам
себя защитит как существо, завоевавшее себе сферу свободы, открытую теперь
для всех. Сравнивая гетевский текст с либретто моцартовской оперы, Жан Ста-
робинский цитирует печальные слова хора после ухода Зарастро:
Es soll die Wahrheit
Nicht mehr auf Erden
In voller Klarheit
Verbreitet werden
Dein hoher Gang
Ist nun vollbracht,
Doch uns umgibt
Die tiefe Nacht95.
Истина больше не распространится на земле во всей своей ясности. Твой
благородный путь завершен. Нас окружает глубокая ночь.
В этих стихах слышится печаль, вызванная уходом Моцарта из жизни. Свет
истины не может сиять во всей своей мощи. Но это не последнее слово Гете.
Non finito гетевской «Волшебной флейты» вовсе не помеха тому, чтобы увидеть,
как завершится это произведение. Общая схема, варианты и наброски при всей
их лаконичности обещают нам победу Света над Тьмой. В битве с силами зла
победит Тамино, Папагено тоже будет участвовать в ней, но на манер
Фальстафа. Победу Тамино одержит, видимо, без помощи магии Зарастро, и здесь
решающей мыслью становятся слова из набросков:
Und Menschenlieb und Menschenkräfte
Sind mehr als alle Zauberei96.
Любовь и силы человека
Сильней, чем сила колдовства.
Любовь и позитивные силы человека всегда означали для Гете свет. Этот свет
и есть Вольфганг Амадей Моцарт. Он существенное дополнение к словам хора,
о которых писал Жан Старобинский. Выдающийся филолог совершенно прав,
описывая наше состояние, когда мы слушаем музыку Моцарта и читаем Гете.
«В наш век удаления от истины мы слышим в этом опечаленном хоре и наши
голоса. И может быть, потому наши глаза наполняются слезами, когда Моцарт
воспевает близость зари — то bald, "вскоре", которое так и не наступило в наш
век: Die düstre Nacht verscheucht der Glanz der Sonne. Bald fühlt der edle Jungling
neues Leben <...>. "Сиянье солнца прогоняет темную ночь. Скоро благородный
95 Goethe J. W. Op. cit. S. 374.
96 Goethe J. W. Op. cit. S. 394.
400 Sîb
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
юноша узнает новую жизнь". "Мы все еще ожидаем эту новую жизнь"»97.
Ответ на вопрос: почему? — напрашивается сам собой, когда мы слышим слова,
сказанные Эккерману о Моцарте, когда Эккерман попытался связать феномен
гения с любимым гетевским понятием продуктивной силы: «Это очень близкие
понятия, — отвечал Гете, — ибо гений и есть та продуктивная сила, что дает
возникнуть деяниям, которым нет нужды таиться от Бога и Природы, а
следовательно, они не бесследны и долговечны. Таковы все творения Моцарта, в них
заключена сила, она переходит из поколения в поколение, и ее никак не
исчерпать, не изничтожить»98.
Старобинский Ж. Указ. соч. С. 460.
Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. С. 562.
VL
О музыкальной эстетике
Φ, Ницше
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 403
1. Музыка и слово.
Вагнеровская тема в «Рождении трагедии из духа музыки»
«Однако с вагнерианцами не поспоришь, ибо они веруют в своего
мастера»1 — так писал в рецензии на книгу Ницше «Рождение трагедии из духа
музыки» Генрих Гурауэр, филолог-классик и музыковед. Его рецензия представляла
собой подробный реферат книги и, по замыслу автора, должна была подвести
итог полемики, начатой памфлетом Ульриха фон Виламовиц-Меллендорфа
«Филология будущего», где со всей решительностью отвергалась попытка связать
проблему генезиса аттической трагедии с миром вагнеровского искусства и
шопенгауэровской метафизикой. Виламовиц не испытывал ни малейшего пиетета
перед Вагнером и Шопенгауэром, а в попытках Ницше связать греческую
трагедию с вагнеровским искусством и с его помощью объяснить структуру трагедии
видел нелепое, противное самому духу классической филологии притязание на
реформирование науки в духе вагнеровской реформы оперы, существование
которой должно было, как думал Вагнер, привести к созданию «художественного
произведения будущего». Этому Виламовиц стремился препятствовать.
Научность и самоотверженное служение филологии, ставшее смыслом его жизни,
понимались молодым ученым прежде всего как точное следование
историческим фактам и сохранение эстетических ориентиров начатой еще Винкельманом
и обогащенной Гете и Шиллером традиции в понимании античной красоты.
Ницшевская концепция дионисийской сущности греческой трагедии
казалась Виламовицу противоречащей всем эмпирическим фактам демонизаци-
ей античного искусства и экстраполяцией вагнеро-шопенгауэровских схем на
историю культуры. Бесцеремонное вторжение философии и спекулятивной
эстетики в святая святых классической науки, инспирированное байрейтским
кругом, адептами Вагнера, грозило филологии разрушением ее идеалов, а
умозрительные фантастические теории Ницше подменяли, по мнению Виламовица,
единственно правильный метод анализа — осмысление эмпирических фактов
и историческую интерпретацию связей этих фактов друг с другом. Нелепым
и варварски наглым, как казалось Виламовицу, было использование античных
текстов, чтобы найти в них якобы существующие еще в античном мире истоки
вагнеровского искусства и трагико-метафизического понимания бытия. Этого
текстология не имела права искать и находить. Особое раздражение у
Виламовица вызвал пассаж из 19-го раздела книги, где всю историю немецкой музыки
Ницше рассматривал как путь к Рихарду Вагнеру, отбрасывая очень многое из
того, что эта музыка создала в области формы и сводя ее искания к
принципу монотематизма, приложенного к опере. Два века истории немецкой музыки,
увенчанной достижениями венской классики и романтизма, оказывались только
вехами к автору нескольких опер, стремившемуся абсолютизировать свои до-
1 Гурауэр Г. Рецензия в «Ежегоднике по филологии и педагогике» № 44 ( 1874) // Ницше Ф.
Рождение трагедии. М., 2001. С. 409.
404 ®ь
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
статочно сомнительные художественные принципы. Этот пассаж ни у кого за
пределами байрейтского круга не мог не вызвать раздражения. И если памфлет
Виламовица и нес в себе следы юношеской горячности, то безапелляционный
тон базельского профессора ничего, кроме протеста, вызвать не мог. Многие
страницы книги выглядели как вагнеровская пропаганда, как вышеупомянутый
пассаж из 19-го раздела. В нем речь шла о пробуждении дионисийского духа в
немецкой музыке, который сметает на своем пути обветшалые представления о
красоте, достойные благополучного филистера: «Если в этих рассуждениях
исчезновение дионисийского духа мы по праву поставили в связь с бросающимся
в глаза, но до сих пор не объясненным изменением и вырождением
греческого человека, то какова же должна быть сила чаяний, рождаемых у нас
самыми надежными видами на обратный процесс, то есть на постоянное
пробуждение дионисийского духа в нашем современном мире! Не может же рабский
труд Геракла, находящегося в сладострастном услужении у Омфалы, на веки
вечные усыпить его божественную силу. На дионисийской основе немецкого
духа воздвигалась сила, не имеющая ничего общего с первичными условиями
сократовской культуры; исходя из таких условий, эту силу не объяснить и не
постичь — нет, сократовская культура воспринимает ее как нечто необъяснимо
ужасное и враждебно могущественное. Сила эта — немецкая музыка, которую
мы представляем прежде всего как яркий путь от Баха и Бетховена до Вагнера,
словно пройденный всесильным небесным светилом. Что сможет столь охочий
до глубокомысленных выводов сократизм наших дней даже при самом
удобном случае поделать с этим демоном, поднявшимся из бездонной глубины? Ни
зигзаги и арабески оперной мелодии, ни арифметическое построение фуги, ни
диалектика контрапункта не помогают найти формулу, трижды могучий свет,
который позволил бы покорить того демона и принудил бы его заговорить. Что
за зрелище дарят нам наши эстетики, когда, размахивая сачком понятной лишь
им одним "красоты", стараются поймать гения музыки, резвящегося у них с
необычайной живостью, и совершают при этом телодвижения, никак не
отвечающие таким понятиям, как прекрасное и возвышенное. Подойдите-ка вплотную
к этим ревнителям музыки, чтобы взглянуть на них, когда они кричат изо всех
сил: "Красота! Красота!" — и вы поймете, ведут ли они себя действительно как
рожденные на лоне прекрасного баловни природы или, быть может, скорее ищут
эстетического повода, который помог бы за фальшивой формой скрыть дикость
и рассудочность. При этом среди прочих упомяну Отто Яна. Но пусть лжец и
лицемер поостерегутся немецкой музыки, ибо в мире нашей культуры именно
она и есть единственно чистый и очищенный огненный дух»2. В критике
александрийских традиций в немецкой культуре, противостоящей вагнеровским
устремлениям, Ницше не удержался от выпада в адрес учителя Виламовица Отто
Яна, филолога-классика и несравненного знатока музыки Моцарта, автора
четырехтомного исследования о нем. Яна восхищала в музыке Моцарта идеальная
соразмеренность, ясность, утонченность, ничем не замутненная сила
выражения. Все эти качества моцартовского гения казались ему проявлением этических
принципов, имманентных музыкальному сознанию композитора. Виртуозность
2 Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб, 1993. С. 223—224.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 405
воплощения замысла в музыке Моцарта выглядела у Яна преодолением
душевного смятения. Отто Ян был решительным антивагнерианцем.
Филология Виламовица имела иной эстетический ориентир, и для молодого
ученого вагнеровское искусство было самоуправным насилием над ясностью,
благозвучием и совершенством формы, которые были достигнуты в музыке. Это
только усиливало ярость его полемики с Ницше. Ницше же принял вагнеровс-
кий вариант истории европейской музыки, прежде всего немецкой, изложенный
в эстетических трактатах «Художественное произведение будущего» и «Опера
и драма», где непреклонно проводился тезис об исчерпанности возможностей
всех форм чисто инструментальной, так называемой абсолютной и оперной
музыки. В этих сочинениях, написанных в годы изгнания в Швейцарии,
интерпретируя музыку Глюка, Моцарта, Бетховена и Вебера, Вагнер акцентировал
поэтическое, драматическое начало в музыке, способное подвести читателя к
мысли, что эта музыка имеет словесный подтекст и достаточно одного шага, как
это случилось с Бетховеном в 9-й симфонии, чтобы музыка нашла слово.
В знаменитую программу последней симфонии Бетховена, создавая ее
словесный портрет, в описание чисто инструментальных частей Вагнер включил
цитаты из гетевского «Фауста». Он стремился найти у Гете такие стихи, которые
хотя и не находятся в непосредственной связи с бетховенской музыкой, но все
же выражают «лежащие в ее основе высокие человеческие настроения»3.
Не признавая иного развития музыки, кроме развития ее в русле драмы,
Вагнер был, конечно, категоричен в утверждении, что музыка и другие
искусства исчерпали свои возможности, будучи изолированными друг от друга или же
неся на себе генетический грех оперы, изначальной ошибки, состоявшей в том,
что «средство выражения (музыка) было сделано целью, а предмет выражения
(драма) — средством»4.
Естественно, что противники Вагнера постоянно искали уязвимые места в
вагнеровских теоретических построениях, и воцарение его эстетики в
классической филологии, которому, по мнению Виламовица, способствовал Ницше,
выглядело не чем иным, как варварским нашествием на науку и ее эстетические
ориентиры. Завершая второй выпуск «Филологии будущего», Виламовиц писал
о книге Ницше: «Здесь же, видел я, попрано развитие тысячелетий, здесь начали
затушевывать откровения философии и религии, чтобы на опустевшем месте
строил свои кисло-сладкие рожи самый бесцветный пессимизм, здесь статуи
богов, какими населили поэзия и искусство наш небосвод, разбивали в куски,
чтобы поклоняться во прахе их кумиру, своему Рихарду Вагнеру»5.
Как известно, в защиту Ницше уже после первого выпуска «Филологии
будущего» выступили Эрвин Роде и сам творец новодионисийского искусства
Рихард Вагнер. И хотя, по свидетельству Козимы Вагнер, ее муж читал «Рождение
трагедии» со слезами радости на глазах, все же можно сказать, что Вагнера
заинтересовало преимущественно то, что непосредственно касалось его искусст-
3 См. подробнее: Wagner R. Sämtliche Schriften und Dichtungen. Leipzig o. J. Bd. 2. S. 57.
4 Вагнер Р. Избранные работы. M., 1978. С. 330.
5 Виламовиц-Меллендорф У. фон. Филология будущего. Вып. 2. // Ницше Ф. Рождение трагедии.
М., 2001. С. 384.
406 Sîb
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
ва, и его открытое письмо Ницше выглядит несколько странным. Не вторгаясь
в филологические споры, Вагнер перевел полемику в русло осмысления самого
феномена классического образования в Германии. Виламовица он представил
филологическим Эдуардом Гансликом, филологическим Бекмессером,
бесспорным филистером, защищающим в филологии тенденцию, которая подвергалась
разложению. Мысль Вагнера свелась к следующему: филология оторвана от
жизни; «филология поставляет нам все одних филологов, которые полезны
могут быть лишь между собой»6. Вагнер требует сохранения духа, а не буквы
античности. Ученые речи, кошмарные цитаты, таинственные атрибуты
филологических авторитетов, примечания, неизбежные комплименты «великих и малых
коллег» — все это скрывает нищету классической науки, и, чтобы избавиться от
этой нищеты, необходимо выйти за пределы чисто филологической
дисциплины, что, собственно, и сделал в своей книге Фридрих Ницше, в чем Вагнер был
несомненно прав. Это еще больше усилило жар полемики, поскольку Виламовиц
еще сильнее уверился в своей правоте, и второй выпуск «Филологии будущего»
был не менее, а более резок, в особенности в отношении к вагнеровским
адептам Ницше и Роде. От зоркого взгляда Виламовица не скрылся один очень
важный момент. Хвалебная рецензия Роде, обращенная к мастеру, Рихарду Вагнеру,
совершенно по-другому, нежели в книге Ницше, истолковывала роль музыки в
трагедии, а в «Лжефилологии» в истолковании Роде музыкальной эстетики
Платона Виламовиц нашел даже подтверждение своих взглядов, которые конфрон-
тировали с ницшевскими: «Музыка должна придавать тексту соответствующее
музыкальное выражение, а не предаваться чисто чувственным музыкальным
эффектам без малейшего учета слов»7. На это не без иронии указал
Виламовиц: «Одно твердит Η (Ницше. —Α. Α.): музыка принадлежит тексту; другое Ρ
(Роде —A.A.): текст предшествует музыке. Одно Н: текст — подражание — эф-
фульгурация музыке; другое Р: музыкальное сочинение— выражение текста
средствами музыки. Бедный Н, если даже другой филолог будущего не верит
в его колоссальное, превосходящее самого Шопенгауэра открытие!»8 Ко всему
прочему в письме к Ницше Вагнер в очередной раз стал сводить счеты с давно
ушедшим из жизни Мендельсоном, который, несмотря на то что получил
классическое образование, не смог написать, по мнению Вагнера, хорошей музыки к
«Антигоне» Софокла. Одернув Виламовица за издевательство над созданным в
«Золоте Рейна» неологизмом wigala-weia — так поют дочери Рейна, — Вагнер
посоветовал Ницше сделать задачей своей жизни проблему, «какой же должна
быть немецкая образованность, чтобы споспешествовала она достижению
самых благородных целей этой (немецкой. — А. А.) вновь воскресшей к жизни
нации»9. За этим, конечно, стояла мысль, что Ницше должен расширить сферу
пропаганды его, Вагнера, идей.
6 Вагнер Р. Фридриху Ницше, ординарному профессору классической филологии // Ницше Ф.
Рождение трагедии. М., 2001. С. 281.
7 Роде Э. Лжефилология // Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001 С. 314.
8 Виламовиц-Меллендорф У. фон. Филология будущего. Вып. 2. // Ницше Ф. Рождение трагедии.
М., 2001. С. 366—367.
9 Вагнер Р. Фридриху Ницше, ординарному профессору классической филологии // Ницше Ф.
Рождение трагедии. М., 2001 С. 288.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 407
Вагнерианство Ницше в «Рождении трагедии» неоспоримо. Влияние
музыки создателя «Тристана и Изольды» и «Кольца нибелунга» заметно, даже если
исключить разделы, касающиеся непосредственно вагнеровского искусства,
которые были включены в книгу в самый последний момент. Однако
невозможно не согласиться с Петером Слотердайком, что «из ницшевского текста
Вагнер вычитывал только то, что зеркально отражало его собственные мысли,
и не давал себе труда задуматься, не кроется ли за подобным отражением еще
и вызов, бросаемый другим самосознанием»10. В тексте книги можно
обнаружить скрытую интенцию разъяснить Вагнеру его самого, объяснить ему смысл
его творчества. Аттическая трагедия и вагнеровская драма— две вершины
культуры. Первая предстала перед нами в обедненном виде, потеряв
важнейший элемент синтетического искусства — музыку, вторая же воссоздает синтез
искусств, по замыслу создателя, как их творческое взаимодействие. Поэтому
Вагнеровская тема и ее развитие в «Рождении трагедии» напрямую связана с
другой темой: место музыки в синтезе искусств как в греческой трагедии, так и
в драме Рихарда Вагнера.
С музыкой Вагнера Ницше познакомился в 1868 году. До этого его
музыкальный вкус уже сформировался под воздействием венской классики,
Мендельсона, Шумана, Шопена. Однако после встречи с Вагнером и его музыкой
в его музыкальном сознании совершается переворот. «Что есть все прежние
художественные воспоминания и опыты в сравнении с этими самыми
последними! — пишет Ницше своему другу Эрвину Роде. — Со мной было, как
с тем, чье присутствие наконец исполнилось. Ибо это только музыка, и
ничего, кроме нее!»11. Именно в ней он нашел то, что описывал как дионисийс-
кое начало, а в музыке «Тристана» — подлинное дионисийское откровение.
Вагнер, конечно же, был прав, когда утверждал, что труд Ницше выходит за
сферу филологической науки, хотя не смог целиком понять всю глубину
замысла своего молодого друга. В случае «Рождения трагедии» мы имеем дело
с необычным произведением. В нем частная филологическая проблема, по
сути уже неразрешимая, поскольку нам трудно реконструировать музыку
греческой трагедии, именно из-за этого превращается у Ницше в проблему
судьбы культуры. В особом филологически-философском дискурсе,
названном Ницше «метафизикой артиста», человек становится в систему
онтологически-бытийных координат, а искусство приобретает макрокосмическое
значение. Эстетическое созерцание и художественная деятельность лежат в
основе мыслительных операций, позволяющих в результате анализа
феномена трагического провести вектор в сторону архаических культур, т. е. культу-
рогенеза, и увидеть момент зарождения трагедии, ее развитие, а затем —
перспективу развития самой культуры после гибели трагедии. Однако это еще
не все. Последним и, конечно, очень важным для Ницше является проекция
достигнутых в итоге исследования результатов на современность. Исходным
пунктом в сложнейших филологически-философских операциях были
шопенгауэровская метафизика искусства и вагнеровская теория драмы, а конеч-
10 Слотердайк П. Мыслитель на сцене // Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001 С. 563.
11 Nietzsche F. Briefe. Bd. 3. S. 178.
408 Sîu
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
ным — Байрейт как символ возрождения культуры. Генрих Гурауэр,
реферируя книгу Ницше, прекрасно понял это, понял, что в последних разделах речь
идет «лишь о нашей современности».
«Как уже указывалось, Η (Ницше. —А. А.) все ведет к тому, что музыкальная
трагедия, а вместе с нею и "художественная культура" эллинов, вновь оживает
в художественном творчестве Рихарда Вагнера. И кажется даже, что последнее
рассматривается как превышение и завершение греческой трагедии, музыка
которой по сравнению с нашей — лишь юношеская песнь музыкального гения,
затянутая в робком ощущении своей силы»12. Но именно это обстоятельство
заставляет Гурауэра в противоположность Ницше сделать вывод, что отнюдь
не полное откровение дионисийского начала есть конститутивный элемент
аттической трагедии: «Нам же представляется, что как раз такой, по-детски
несовершенный характер музыки трагических поэтов и обусловливал возможность
греческой трагедии, падение и гибель которой были существенно вызваны тем
обстоятельством, что в конце V и в IV веке музыка начала развиваться как
самостоятельное искусство». Следовательно, реинкарнация, возрождение
трагедии в музыкальной драме невозможно: «при нынешнем уровне достижений
музыкального искусства практически немыслим какой-либо возврат греческой
трагедии»13. Этого, как считает Гурауэр, и не хотят понять вагнерианцы. Гура-
уэру, в отличие от Виламовица, не кажется, что книга Ницше — это погром,
учиненный в классической филологии. Это весьма интересная попытка
«рассмотреть греческие дела с позиций вагнеро-шопенгауэрской эстетики»14. Но во
всем ли Ницше следовал ей? Дело в том, что внимательное чтение «Рождения
трагедии» показывает, что уже здесь появилось его расхождение с Вагнером в
понимании природы музыки и драмы, которое в дальнейшем и обусловило
резкий отход от Вагнера и критику его искусства. Смешение собственных
исторических воззрений с метафизическими представлениями Шопенгауэра и идеями
Вагнера — не единственное препятствие для понимания «Рождения трагедии».
Другое препятствие заключается в том, что в книге с самого начала проводится
мысль, что в основе греческого искусства в целом и в основе аттической
трагедии в частности лежит дуализм аполлинийского и дионисийского, двух
противоположных друг другу художественных принципов — изобразительно-ясного
и опьяняюще-темного, отражающего и поглощающего. Оба принципа — и это
важно подчеркнуть — имеют интуитивную природу; оба возникают спонтанно
в состоянии взаимной обусловленности, поэтому об аполлинийском принципе
нельзя сказать, что он берет свое начало в чистом рациональном мышлении. Он
так же, как и дионисийский, интуитивен. И если ясный, определенный в
пространственно-временных формах мир Аполлона излучает спокойствие и свет,
то он лишь мир видимости, скрывающей иной мир, мир хаоса и страданий,
мгновенно разрушающий гармонию прекрасных аполлинийских форм,
которая была всего лишь иллюзией. Оказывается, что гомеровская ясность была
лишь прикрытием ужаса бытия. Место театрального Аполлона Бельведерского
12 Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001. С. 409.
13 Там же. С. 409.
14 Там же. С. 410.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
JB 409
занято теперь Эдипом, и его судьба становится у Ницше прототипом всего
эллинского.
Дихотомия аполлинийского и дионисийского действительно дает нам новый
взгляд на античную культуру. Если аполлинийское видение совпадает с
парадигмой эстетики классицизма, стилем пластики классической Греции и живописи
Высокого Возрождения, то дионисийский принцип противостоит
классическому идеалу, что сразу заметил и против чего протестовал Виламовиц, хотя если
бы он внимательней прочитал книгу Ницше, то он бы серьезнее отнесся к ее
основной тенденции видеть в греческом мире не блеск богов, а страдания
людей. Собственно, к этому гораздо раньше Ницше пришел Фридрих Гельдерлин,
любимый поэт молодого Ницше. В «Песне судьбы» из романа «Гиперион»
Гельдерлин говорит об участи человека как существа, отделенного от вечности, она
страшная антитеза светлому, гармоничному и вечно юному миру богов. Этот
мир независим от судьбы, бросающей людей в бездну, в которой они бесследно
исчезают.
Вы блуждаете там в вышине,
В горнем свете, блаженные гении!
Ветры, сверкая,
Касаются вас,
Как пальцы арфистки
Струны священной.
Вне судьбы, словно спящий младенец,
Дышите вы, небожители.
Девственно скрытый
В скромном бутоне,
Вечным цветом
Дух ваш цветет,
И блаженные очи
Тихо смотрят,
Ясные вечно.
А нам нет приюта
Никогда и нигде
Падают люди
В смертном страданье
Всегда вслепую
С часу на час,
Как падают воды
С камня на камень
Из года в год
Вниз, в неизвестность15.
15 Гельдерлин Ф. Сочинения. М., 1969. С. 414.
410
©ΧΑ Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Ницше не разоблачает «видимость» божественной игры с помощью
серьезной жизни, «он скорее объясняет одно через другое»16.
Название «Греческая жизнерадостность», которое Ницше первоначально
намеревался дать книге, не содержит в себе иронического смысла. Греческая
трагедия не есть то, что Новое время стало именовать этим словом. Ницше
утверждает, что трагедия родилась из музыки; она не спектакль с
музыкальным оформлением; она — празднество. Кроме того, здесь важно понять, что
«греческую жизнерадостность» нельзя считать бегством от серьезности
действительности. Это состояние души, возникающее после победы над всем
ужасным, хтоническим. Темная сторона бытия виделась грекам яснее, чем другим
народам. В наброске предисловия, которое также, как и окончательный
вариант, посвящено Рихарду Вагнеру, обращаясь к мастеру, Ницше писал: «От Вас,
мой уважаемый друг, я знаю только от Вас, что Вы так же, как и я различаете
истинное и ложное понятие греческой жизнерадостности и последнее —
ложное — встречаете в состоянии безопасного благодушия; также я точно знаю, что
в понимании сущности трагедии Вы считаете невозможным исходить из этого
ложного понятия»17.
В 9-м разделе «Рождения трагедии», где Ницше называет Эдипа и Прометея
прообразами трагедии, прообразами неимоверного страдания, и говорит о
преступлении титанов, высказывается мысль, что «аполлинийская определенность
и яркость», которой нас поражает язык Софокла, создается взглядом в
«страшное нутро природы». «Только в этом смысле мы можем считать, что
по-настоящему постигли серьезное и важное понятие "греческая жизнерадостность",
которое, надо сказать, в наше время встречаешь на каждом шагу в превратно
истолкованном виде — как состояние полного довольства, не омраченного
никакой опасностью»18.
Решающим понятием в ницшевском понимании искусства является не
концепция антитетически противопоставленных друг другу художественных
принципов, а особый смысл этого дуализма, выраженный в мысли об их «обоюдной
необходимости». Аполлинийское начало в искусстве воплощает меру и
сдерживание, указывая художнику путь к красоте и этике; оно проявляет себя как
сила, противодействующая всему чрезмерному, придавая искусству рассудочный
характер. «И поэтому наряду с эстетической необходимостью возникают
требования "Познай самого себя!" и "Знай меру!", а высокомерие и чрезмерность
рассматриваются как главные злые духи неаполлоновской сферы, как свойства
предаполлоновской эпохи, эры титанов и неаполлоновского, т. е. варварского
мира»19. И если аполлинийское начало обнаруживает себя как мощная
обуздывающая хтонизм становления сила, то, естественно, существует и другой полюс,
другая сила, которой необходимо противостоять. Поэтому все существование
аполлинииского грека, красота и спокойствие его мира имеют свою основу в
16 Jähnig D. Nietzsches Kunstbegriff (erläutert an der Geburt der Tragödie) // Beiträge zur Theorie der
Kunst im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 1972. S. 39.
17 Nietzsche F. Werke. Großoktavausgabe. Leipzig, 1903. Bd. IX. S. 137.
18 Ницше Φ. Стихотворения. Философская проза. СПб, 1993. С. 170.
19 Там же. С. 149.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
JB 411
страдании и бессознательном. Сущность красоты как сдерживающего начала
состоит в том, что она скрывает ужасное, делая его своим основанием, ибо красота
покоится на фундаменте страдания и ужаса. Раскрыть эту сущность можно, лишь
показав последнее, поскольку сам феномен прекрасного может быть нам показан
лишь на фоне того, что угрожает ему уничтожением, как хтоническая подоснова
прекрасного. Задача художника открыть взору эту подоснову: «Аполлон не мог
жить без Диониса! "Титаническое" начало и "варварское" оказались на поверку
такой же необходимостью, как и аполлинийское!»20 Искусство понимается
Ницше как сила, которая со всей решительностью и заложенной в ней мощью
противостоит жизни, действительности, и в этой своей роли возникает оно лишь в
аполлинийской сфере. Оно не выражение жизни, а ответ на нее, оно не продукт
истории, а самостоятельный, самодостаточный фактор истории, при наличии
которого история возможна как история. Такое понимание искусства было близким
к эстетическим воззрениям Рихарда Вагнера, хотя и существенным образом
отличалось от них. Отличие заключалось в том, что вагнеровская концепция
истории одномерна, ницшевская же двумерна, и это обстоятельство имеет решающее
значение в определении природы музыки, высшие достижения которой Ницше в
то время связывал исключительно с творчеством Вагнера. Поэтому исток
аттической трагедии — музыку, дионисийскую основу трагедии, Ницше описывал с
особой тщательностью. «Мастеру», т. е. Рихарду Вагнеру, объясняли, в чем суть
его творчества, а следовательно, кто он. Феномены, называемые Ницше диони-
сийскими, отличаются от аполлинийских тем, что первые снимают в едином
процессе танца и пения дистанцию между автором, произведением искусства и
публикой, дистанцию, которой строго придерживается Дельфийский бог. Отличие
это выражено Ницше в лапидарной формуле: «Человек уже больше не художник,
он стал произведением искусства»21. Человек — не созерцатель художественного
произведения, он сам художественное произведение, участник игры.
Ницше утверждает, что трагедия возникла из пения хора, а ее другой
элемент — диалог — «мир сцены» есть видение «хора сатиров», и этот хор для
Ницше является «драматическим прафеноменом», и это «художественное праяв-
ление» требует включить в действо эпическую поэзию, зовет Гомера в качестве
главного свидетеля. Оказывается, что не воображение поэта создает образы,
переводя понятия в картины; поэт всего лишь созерцатель мира образов, которые
действуют перед его глазами. Именно это обстоятельство приводит к тому, что
при созерцании дионисийской игры в поэте происходят метаморфозы,
преображение: «Если ты способен всегда распознавать живую игру и жить в постоянном
окружении сонмища духов, значит, ты поэт; если ты чувствуешь
настоятельную потребность преображаться и говорить языком чужих тел и душ, значит, ты
драматург»22. Дионисийский восторг — упоение музыкой и танцем — способен
«наделить людские массы художественным даром, способностью видеть себя в
окружении сонмища духов, единство с которым они ощущают»23.
20 Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. С. 149.
21 Там же. С. 140.
22 Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза.. С. 166.
23 Там же. С. 20.
412 Sîl
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФМЯ. ИГРА
Итак, трагедия, рожденная духом музыки, дионисийским восторгом
единения с праединым, т. е. с мировой волей, сохраняет его в творчестве Эсхила и
Софокла, и суть трагедии именно в этом, и как только она начинает терять
музыкальный элемент, она обрекает себя на гибель, что и произошло в трагедиях
Еврипида. Генрих Гурауэр, который, в отличие от Виламовица, вел полемику с
Ницше достаточно корректно, не исключая возможности того, что в отношении
генезиса трагедии Ницше может быть и прав, полагая, что это все же не
может объяснить самого характера трагедии. «Если музыка и "способна" рождать
трагический миф, то отсюда вовсе не следует, что он не может рождаться
откуда-то еще. И даже если признать, что трагедия действительно рождена из духа
музыки, то отсюда вовсе не вытекает то, что H (Ницше. — А. А.) утверждает в
отношении Эсхила и Вагнера в качестве непременных сущностных свойств
трагедии»24. В доказательство своей правоты Гурауэр приводит достаточно веский
довод. Он акцентирует внимание на характере восприятия современников
Софокла и Еврипида. Действительно, трудно объяснимо, как Эсхил и Софокл
эстетически оправдывали сохранение хора в трагедии, «но чтобы Кимон и Фукидид,
Перикл и Фидий видели в хоревтах сатиров, в этом мы никак не можем убедить
себя, и высказывания современников, как кажется, тоже ни в какой степени не
позволяют доказывать что-либо подобное»25. За словами Гурауэра просвечивает
мысль, что зритель трагедии скорее всего видел в хоревтах своих
современников, а мифологическая форма прилагалась к современным проблемам.
Чтобы понять ницшевскую концепцию трагедии как драмы, необходимо
учитывать сразу несколько моментов, которые всегда были в поле зрения Ницше
и которые были связаны с вагнеровской музыкальной драмой. Трагедия
воплощает рожденный музыкой миф, следовательно, мифическое качество образа уже
изначально дает вектор в прошлое, что означает удаленность от настоящего, от
современности, и это относится к сущности образа. Следует обратить внимание
на то, что образы музыкальной драмы Вагнера тоже мифологичны, и это
обстоятельство давало возможность Ницше сближать ее с аттической трагедией.
Мифические образы по своей сути трансцендентны, и в трагедии реальными
мы можем считать только актеров. То, что происходит при исполнении такой
драмы, является реальным только «в себе», но с точки зрения содержания — это
только символическое изображение, подражание тому, о чем повествует эпос
как о прошедшем, причем как о действительно происходивших событиях. Эдип
и Прометей представлены только фигурой актера. Реальным, однако,
является, если быть точным, в событии на сцене не бог, а актер, фигура в маске. То,
что Ницше считает принципиальным для понимания трагедии — и это не могло
быть затронуто критикой ни Виламовица, ни Гурауэра, — расширение
взгляда на исполнение трагедии в целом, а именно на то, что совершается во время
представления, создающего единство ее элементов. Такое единство достигается
событием, которое разыгрывается не на сцене (орхестре), а между сценой и
зрителями. Здесь надо учесть то обстоятельство, которое отличает античный театр
от вагнеровского, что орхестра (с присоединенной в послеклассическое время
24 Там же. С. 405.
25 Там же. С. 406.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 413
скеной) не есть сцена, не изолированное пространство, и люди, присутствующие
в амфитеатре, больше не зрители. А это означает, что уничтожается дистанция
между созерцающим и эстетическим объектом, и не актер в маске и в одеянии
героя или бога, а герой, то есть процесс превращения бога в реальность, в
эстетическую реальность зависит исключительно от зрителей. И в этом случае со
зрителями происходит то же самое, что происходит с хором, поэтому и зритель
становится тем, кем является хор, он превращается в одного из участников хора,
он зрит мир видений сцены. Зрители приводятся в такое состояние, что
происходящее на сцене в жесте и слове воспринимается ими как настоящее. Не теряя
осознания телесности, пластичности этих процессов, они должны видеть
сверхреальное, «сверхчеловеческое» в них26. Здесь мы сталкиваемся с одним из
важнейших понятий Фридриха Ницше, понятием игры как культуросозидающего
фактора. Способность зрителей стать визионерами не означает идентификации
себя с героями. Публика аттической трагедии находит себя в хоре, и именно хор
дает ей способность дионисийского превращения. Ницше объясняет, что когда
начинается драма в узком смысле, то «дифирамбическому хору предназначается
до такой степени возбуждать слушателей в дионисийском духе, чтобы при
появлении трагического героя на сцене они увидели не уродливого
замаскированного человека, а видение с фигурой, как бы рожденной собственным экстазом»27.
Речь здесь идет о включении зрителей в игру. Ведь именно то, что происходит
на сцене, и есть по сути игра, захватывающая зрителя и освобождающая его от
оков индивидуальности, соединяющая его с мощным коллективным видением,
благодаря которому человек ощущает в себе присутствие безосновного бога,
имя которому Дионис. Ницше в эпоху создания «Рождения трагедии», будучи
еще под влиянием Шопенгауэра, настаивает на метафизической природе этой
игры и тем самым ориентирует Вагнера на сохранение в драме метафизического
принципа.
«Устремленность в бесконечное, взмах крыльев томящейся души при
величайшей радости, доставляемой ясным ощущением действительности,
напоминает нам о том, что в обоих состояниях (дионисийское и аполлинийское. —Α. Α.),
мы имеем дело с дионисийским феноменом, который каждый раз заново — как
излияние исконной радости— обнаруживает построение индивидуального
мира через игру, а затем и разрушение его, и заставляет вспомнить о том, как
Гераклит Темный мирообразовывающую силу сравнивал с играющим
дитятей, который переставляет камешки с места на место и то строит кучу песка,
то вновь разрушает ее»28. Ницше считает, что трагический миф приносит
эстетическое наслаждение, эстетическую радость. Миф рассказывает о страданиях
героя, которые на самом деле являются страданиями Диониса, и безобразное
и дисгармоничное, которые изображает трагедия, — это художественная игра,
и эту игру воля ведет сама с собой, игра художника — всего лишь подражание
игре мировой воли. Как игра мировой воли, так и игра художника имеют цель в
26 Jähnig D. Nietzsches Kunstbegriff (erläutert an der Geburt der Tragödie) // Beiträge zur Theorie der
Kunst im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 1972. S. 54
27 Ницше Φ. Стихотворения. Философская проза. С. 169.
28 Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. С. 246.
414 Sîu
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
себе. Игра характеризуется только тем, что происходит в самой игре, а не тем,
что является чем-то иным, существующим вне нее. В ницшевской концепции
игры, которая еще зависит от метафизики Шопенгауэра, на передний план
выводится только продуктивное, творческое начало игры, в то время как человек
исключен из сферы ее действия, и человек поставлен на ступень только
зрителя, хотя и визионера, и игра для человека только событие, которое созерцают.
Хотя она является экзистенциальной основой человека. Но в интерпретации
Ницше трагедия — это уже сыгранная игра. В этом смысле интересны записи
Ницше, относящиеся к 1872—1874 годам: «О природе. Она играет спектакль:
видит ли она его, мы не знаем, и, однако, она играет для нас, которые стоят в
углу. — Ее спектакль всегда новый, так как она создает все новых и новых
зрителей. Жизнь — ее прекраснейшее изобретение, и смерть — ее художественный
прием, чтобы иметь больше жизни»29. Итак, дионисийское начало втягивает
человека в игру, в метафизическую игру, которую начинает музыка, делая
понятным театральный прафеномен. Представление моцартовского «Дон Жуана» и
вагнеровского «Тристана» обнаруживает этот театральный прафеномен. Это и
есть «дионисийский» элемент трагедии, который Ницше отличает от аполли-
нийского, существующий в характере действия (диалога).
Именно в этой антитетической интерпретации структуры трагедии
проявилось существенное различие дихотомического понимания трагедии вагнери-
анцем Ницше от воззрений самого Вагнера на сущность музыкальной драмы.
Здесь речь шла о характере отношения между словом, образом и действием, с
одной стороны, и музыкой и танцем — с другой. Собственные представления
Рихарда Вагнера об отношении между музыкой и образом были подробно
изложены и четко сформулированы в его трактате «Опера и драма» (1851). Ницше
его прочел уже после первой встречи с композитором в 1868 году. В трактатах
«Искусство и революция», «Художественное произведение будущего», а
также в уже упомянутом «Опера и драма» Рихард Вагнер был охвачен
утопической, устремленной в будущее идеей преображения мира искусством. И здесь,
используя свой опыт композитора — к тому времени уже были написаны «Ри-
енци», «Летучий голландец», «Тангейзер» и «Лоэнгрин», — Вагнер стремился
уйти от, как ему казалось, изжившей себя оперной традиции и прежде всего
поднять авторитет искусства, которое, как в случае с «большой оперой», прежде
служило исключительно гедонистическим целям, обслуживая публику, далекую
от подлинных идеалов искусства. Специфика огромного музыкального
дарования композитора, находившегося под влиянием «венской классики» и прежде
всего Бетховена, и грандиозные новаторские устремления заставляли его
прилагать все свои силы к реформированию оперы. Рихард Вагнер был по-прежнему
оперным композитором, чисто инструментальная, даже оркестровая музыка, не
связанная с оперой (симфония, симфонические увертюры), имеет в его
творчестве второстепенное значение, не говоря уж о фортепианной музыке, где
гений обнаруживал свою полную беспомощность, неспособность написать даже
фортепианную миниатюру. Вагнер понимал оперу как синтез искусств: поэзии,
музыки и пластики, но характер этого синтеза в современной ему опере, его
Nietzsche F. Kritisch gesammelte Werke Abt. III. Bd. 4. S. 160.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 415
поверхностность, стремление лишь к эффекту не удовлетворяли его. Античная
трагедия, шекспировская драма, бетховенская музыка были исходными
точками, от которых отталкивался Вагнер-реформатор.
Вагнеровская теория драмы, синтетического художественного произведения
искусства была нацелена на преодоление ограниченности каждого из искусств,
входящих в синтез. Изолированное развитие поэзии, музыки и
изобразительного искусства, считал Вагнер, — уже прошлое, бесперспективное развитие в
настоящем. В едином целом музыкальной драмы сосредотачиваются все силы
художественного Универсума, искусства преодолевают свою ограниченность,
взаимообогащаясь. Драма понималась Вагнером как высшее искусство. Если мы
даже ограничимся рамками словесного искусства, то природа драматической
экзистенции — это динамическая связь всех возможностей поэзии. Поэтому, когда
речь заходит о синтезе искусств в драме, сама драма делает возможным
органический синтез, ядро драмы, драматическое действие является таким ядром.
Это действие можно взять из прошлого или настоящего, однако с одним
ограничением: действие должно быть завершено в жизни. Торжество смерти,
гибель — достойный сюжет драмы, ибо действие отмечено печатью
необходимости и исполнения. В отличие от спектакля, черпающего разветвленный материал
и действие из романа, действие, мотивированное чувством, доступным только с
помощью музыки, может быть сконцентрировано на своих важнейших
моментах и ограничено несколькими местами действия. Оправдание действия
достигается лишь тем, что оно несомо чувством, т. е. мотивы действия должны быть
превращены в чувство. Предельно концентрированное действие не нуждается
в пространстве, которое подчиняет себе индивидуальность. В драме
действуют только главные персонажи. Тем самым обосновывается исключение из нее
хора как излишнего элемента, отвлекающего внимание от важнейших моментов
действия. Для Вагнера чувство — скорее индивидуализирующее начало (лейтмо-
тивные характеристики персонажей). Музыкант осуществляет намерения поэта,
поскольку музыка — выражение поэзии. Различие между музыкой и поэзией —
это различие между чувством и мыслями. «Мелодия освобождает мысль поэта
для свободы чувства». «Мелодия — освобождение бесконечно обусловленной
поэтической мысли для глубоко ощущаемого осознания высшей свободы
чувства»30. Хотя никто не может усомниться в том в «Кольце нибелунга», «Тристане
и Изольде» и «Парсифале», да, собственно, и везде у Рихарда Вагнера музыка
играет доминирующую роль и Вагнер как поэт не мыслим без его музыки,
собственные теоретические построения композитора отдают музыке лишь
подчиненную поэзии роль в едином целом драмы, самостоятельной цели музыка не
имеет, она служит лишь поэтическому целеполаганию. Здесь уже обозначается
решающее расхождение между Ницше и Вагнером, которое Вагнер не заметил,
а если и заметил, то счел незначительным. Музыка для Ницше как выражение
дионисийского начала не может играть подчиненную роль, ибо именно она в
аттической трагедии и вызывает к жизни мир Дельфийского бога. И
существенным моментом здесь является то обстоятельство, что не один элемент создает
другой или пользуется его услугами, а конституирующим моментом становится
30 Wagner R. Sämtliche Schriften und Dichtungen. Leipzig o. J. Bd. 4. S. 412.
416 Sîl
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
их противоположность. Вагнер считал, что трагедия — это искусство
Аполлона, и если он и упоминает в связи с этим Диониса, то в данном случае речь
идет только об энергии вдохновения, об аллегории воодушевления31. Ницше не
просто переворачивает отношения между двумя художественными
принципами. «Музыка никогда не может стать средством», она «предопределяет поэзию
и унижает ее до своего отблеска»32. Именно игра, правда еще метафизически
понятная, имеет решающее значение в процессе превращения аполлинийского
в отблеск дионисийского, поскольку она сама, как уже было сказано, — отблеск
игры мировой воли, которую последняя ведет сама с собой. Оказывается, что
греческая трагедия возможна только как обоюдная необходимость обоих
конституирующих ее принципов, как их динамический синтез: «Мы отмечаем в
трагедии коренные стилистические различия: язык, колорит, движения,
динамика речи в дионисийской лирике хора, с одной стороны, и в сценическом мире
аполлинийских сновидений, с другой, расступаются как две особые сферы
художественного воздействия»33.
Интерпретация третьего акта «Тристана и Изольды» в 21 -м разделе
«Рождения трагедии» показывает нам особую роль дионисийского начала в драме. Оно
является не чем иным, как аналогом мирового становления. Дионисийское
действие на сцене, в аполлинийском мире, выглядит как умирание. Курвенал
привозит Тристана, смертельно раненного Мелотом, к его родному
полуразрушенному замку. Действия по сути нет. Страдающий от боли Тристан между жизнью и
смертью. Его сознание то затухает, то вновь возвращается к жизни,
воспроизводя картины и образы настоящего и прошлого. Их временная последовательность
и характер зависят исключительно от с трудом воспроизводимых сознанием
импульсов извне. Пробивающиеся из глубины бессознательного давно ушедшие в
прошлое картины детства, прежней жизни, любви и борьбы сливаются с
физическим страданием, становясь любовным томлением, устремленным к одному
образу, к Изольде. Они то всплывают из музыки дионисийских глубин, то опять
погружаются в них. Время ожидания Изольды, сжатое в сценическое время,
оказывается временем всей жизни, жизни индивидуальной, растворяющейся в
вечности. Это одновременно ожидание Изольды и умирание. Возвращение к жизни
уже невозможно, поскольку путь в метафизические сферы уже открыт. Такое
умирание-ожидание, как сказал бы Жак Деррида, «есть ожидание друг друга у
пределов истины (за пределом истины)»34.
Ницше уподобляет человеческую индивидуальность гетевскому
Гомункулу. Смысл метафоры состоит в том, что все индивидуальные формы сознания,
«трансцендентальная схема сознания» суть порождения интеллекта, его
проекции, не выходящие за пределы мира представления. У Гете Гомункул —
творение холодного интеллекта Вагнера. В «Классической Вальпургиевой ночи»
во второй части «Фауста» поток несет Гомункула, заключенного в стеклянную
колбу, к трону Галатеи; колба разбивается об этот трон, и Гомункул, чистый дух,
31 Hildebrandt К. Wagner und Nietzsche. Ihr Kampf gegen das 19. Jahrhundert. 1924. S. 201.
32 Nietzsche F. Werke. Großoktavausgabe. Bd. IX. Leipzig, 1903. S. 225.
33 Ницше Φ. Стихотворения. Философская проза. С. 169.
34 Гурко Е. Деррида Ж. Деконструкция. Тексты и интерпретация. Минск, 2001. С. 172.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 417
сливается с вечной рекой жизни, становясь частью всех фаз бесконечного
становления мирового целого. Ироническая аллегория состоит в том, что гетевский
Вагнер путем алхимических экспериментов сотворил чисто духовное
существо, теперь же музыка Рихарда Вагнера освобождает сознание от субъективных
форм восприятия, от индивидуализации и соединяет его с праосновой бытия.
Музыка для Ницше — это сокровенная идея мира, а драма — только отблеск
этой идеи. Поэтому соотношение музыки и образа (поэзии) выглядит,
во-первых, как разряжение и ослабление воздействия музыки в образах, во-вторых,
образы истолковывают музыку. Образы, т. е. поэзия, делают нам понятным смысл
музыки. Драматизм вагнеровской музыки в «Тристане» оказывал на Ницше
магическое воздействие. «Невероятно, что текст и действие уводят от чистого
наслаждения музыкой: подумаем о третьем акте "Тристана" <...> Образ и мысль
обрывают полностью сжигающее воздействие музыки, смягчая его <...>
Поэтому слово и образ приближают нас к музыке, а затем защищают нас от нее»35.
Может показаться, что соотношение музыки и драмы в аттической
трагедии, понятой Ницше как дионисийско-аполлинийское искусство, есть просто
по-иному истолкованный вагнеровский принцип музыкальной драмы, что здесь,
как и у Вагнера, речь идет об усилении, возвышении и углублении одного
элемента с помощью другого. Но не в одном эпическом событии, не в одном хоре
и нашем соучастии в хоровом действе, когда мы все вместе с хором охвачены
дионисийским порывом, состоит сущность игры, которая называется трагедией.
Она состоит в том, что создается особый, охватывающий все элементы
трагедии ритм, который делает прозрачным, ясным воплощенное действо. Этот
общий ритм используется при создании и созерцании драматического действа. Он
синхронизирует процессы, позволяющие увидеть весь ужас бытия и
одновременно оправдать его эстетически. Следовательно, музыка есть главный элемент,
конституирующий трагедию как игру. Увидеть за маской персонажей трагедии
Диониса можно только в том случае, если музыка будет выполнять свой
собственный закон, проявлять свою дионисийскую сущность, что сделал Моцарт в
«Дон Жуане». Моцартовский музыкальный язык драматичен особым образом.
Композитор воплощает в звук ситуацию, действие, событие на сцене,
происходящее на наших глазах, в нашем присутствии, здесь и сейчас. В операх Моцарта
персонажи находят свое, свойственное только им, ритмическое воплощение.
Еще за два года до Байрейтского торжества 1876 года в заметках,
относящихся к 1874 году, нашло свое выражение критическое отношение Ницше к
вагнеровскому искусству. Оно было вызвано именно различным пониманием
характера музыки, которая входит в синтез. Футуристической
направленности музыкальной драмы Вагнера он противопоставил музыку, так или иначе
продолжавшую традиции прошлого, развивая их (Ф. Мендельсон, Ф. Шопен).
Абсолютная музыка и совершенство формы становятся той точкой отсчета, с
которой начинается критика Рихарда Вагнера. Любое ограничение
музыкального начала, превращение музыки в так называемую драматическую музыку,
делают последнюю плохой музыкой, музыкой ограниченных возможностей.
Путь, избранный Вагнером, кажется Ницше ошибочным. Ницше считает, что
35 Nietzsche F. Werke. Großoktavausgabe. Bd. IX. S. 254.
418 3^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
соединение музыки и языка осуществимо только в песне, и лишь в ней оно
будет органичным. Оно возможно и в целой сцене. Идеалом для художника было
бы связать драму и музыку. Образцом здесь может служить античный хоровой
танец, т. е. Ницше возвращается к теме, уже развитой в «Рождении трагедии»,
однако здесь она связывается с Рихардом Вагнером уже по-другому. Подлинный
синтез драмы и музыки вагнеровское искусство осуществить не в состоянии,
«ибо у нас нет стиля движения, равно как и нет богато развитой орхестики».36
И если музыка принуждается к «натуралистической страстности»,
натуралистическому воплощению страстей, то это приводит к тому, что она становится
«неспособной решить общую задачу»37. Синтеза не будет, а будет только
натуралистическое истолкование мимесиса, убивающего игру. Его главным условием
для Ницше является хорошая музыка и ее совершенная форма, но именно этих
качеств недостает музыке Вагнера. В таких сценах, как сцена избиения Бекмес-
сера из «Мейстерзингеров», музыка, выражающая жесты Ганса Закса, попросту
вырождается. Процесс развития музыки, которая могла бы быть
конституирующим моментом синтеза музыки и драмы, кажется Ницше невероятно трудным,
так как «нельзя перепрыгнуть путь от танца к симфонии»38. И если пытаться
это сделать, то «ничего не остается, как натуралистическая противоположность
неритмической действительности страсти», являющейся по сути дела полной
противоположностью искусству, «которое не может иметь дела с
нестилизованной природой».39 Этот натурализм вагнеровской музыки, если ее рассматривать
с точки зрения искусства формы, обличает немецкую грубость, от которой
Вагнер не может и не хочет избавиться. Он хочет бороться под знаменем Ганса
Закса, а не под знаменем французов и греков. Как мы видим, Ницше уже в
заметках 1874 года отрицает всякую связь музыки Вагнера с тем, что он понимал
под греческим дионисийством, и рассматривает ее как выражение дионисийства
варварского. Этим и объясняются эксцессы сомнительного рода в «Тристане», к
примеру, взрывы страсти в конце второго акта, несдержанность в сцене драки в
«Мейстерзингерах». Ницше не считает Вагнера продолжателем линии венской
классики, поскольку «немецкая музыка вобрала в себя итальянскую форму, как
народная песня, и поэтому со своим тонко члененным богатством линий больше
не соответствует крестьянско-бюргерскому хламу»40. Но это лишь один из
многих аспектов критики вагнеровского искусства и форм культуры, его
породивших. Разрыв с метафизикой Шопенгауэра, с помощью которой Ницше
стремился осмыслить природу музыки, означал для него прежде всего восстановление
в своих правах такого феномена человеческого бытия, как время. Ницше
постепенно приходил к убеждению, что время есть единственная реальность для
человека, что метафизическое познание с его принципом двоемирия искажает
природу времени, лишая его самостоятельности, самодостаточности и
превращая его в отблеск вечности, связывая музыку как временное искусство с вечно
36 Nietzsche F. Werke. Bd. IV. S. 400.
37 Ibid. S. 400.
38 Ibid. S. 401.
39 Ibid. S. 401.
40 Ibid. S. 401.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 419
жаждущей, бессмысленной мировой волей, пребывающей вне пространства и
времени. В более поздних заметках 1878 года Ницше пишет: «Я видел в Вагнере
противника времени, также там, где это время обладало величием и где я сам в
себе ощущал силу»41.
Сопротивление своему времени, неприятие его лежит в основе
метафизических интенций не только музыки Вагнера, но и всей структуры его
музыкальной драмы, художественного произведения будущего. Вагнеровское слово тоже
выражает метафизический смысл, это также делает время чистым фантомом.
Следовательно, как музыка, так и слово, да и сценическое действо низводят
время у Вагнера до чистой негативности, оно для него тот феномен бытия, который
необходимо преодолеть ради понимания метафизической сущности мира.
Неприятие метафизики приводит Ницше к новому пониманию времени. Оно
у него перестает быть проекцией на экран вечности, трансцендентальной
иллюзией иррационального основания, что как вещь в себе существует по ту сторону
пространственно-временного мира. Музыка и драма стали для Ницше
выражением имманентного им времени, времени, внутренне присущему каждому
элементу музыкальной драмы. Время — стихия музыки, а музыка — переживаемое
время. Это движущееся, глубоко захватившее человека переживание. И если
музыка есть переживаемое время, воплощаемое чувство, то она может
протекать быстро или медленно, может быть сжатой или растянутой, может, подобно
моцартовскому или бетховенскому аллегро, устремляться вперед, ориентируя
все движущееся, звучащее музыкальное целое на финал, или звучать так, что
кажется, будто время остановилось. Музыке «необходимо время, чтобы что-то
выразить, часто для одного-единственного порыва драмы — целая симфония»42.
Музыке для воплощения своих возможностей и их обнаружения необходимо
существование меры; с ней и связывается музыкальное время, мера, которой его
можно измерить. И здесь, как видно из логики ницшевских рассуждений,
хорошую службу оказывает человеку схема человеческого времени, выступающая в
образе музыкального метра. Размышляя применительно к вагнеровской теории
драмы о временной природе музыки, Ницше столкнулся с проблемой, является
ли музыка самим образом времени или время — только форма ее существования,
т. е. нечто, протекающее во временном измерении. Временная природа музыки
схвачена Ницше тем, что музыка для него не только осуществляет себя во
времени, но и является временным переживанием. Отсюда следует, что сущность
музыки никак не связана с метафизическим двоемирием. Сущность музыки
основывается на связи звучащего образа со временем и тем самым на бытии во
времени. И если музыка для Ницше — конститутивный элемент музыкальной
драмы, а следовательно, и драматической игры, то сразу же становится ясно, что
с игры снимается метафизический ореол и она окончательно входит в
«человеческое, слишком человеческое» измерение, т. е. во временное измерение. Игра
становится не отражением игры бессмысленного, иррационального принципа,
жаждущего эстетической иллюзии; она — антропологическое свойство
человека. Дионис есть образ времени, а его игра — символ бесконечного времени, его
41 Nietzsche F. Werke. Bd. IV. S. 444.
42 Ibid. S. 405.
420 3^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
неотменяемости. Естественно, такое понимание музыки делает соединение всех
элементов драмы крайне сложным, и прежде всего из-за свободы всех
элементов, вступающих в игру.
Мимический элемент (игра актера), мир понятий (язык) и музыка выражают
лежащие в их основе чувства и импульсы в различных мерах времени. «В
словесной драме правит понятие, сила, которой необходимо больше всего времени.
Поэтому действие является покоем, пластикой, группами. Особенно в
античности: спокойная пластика выражает одно состояние. Игра актера, следовательно,
в значительной мере определена словесной драмой»43. Дело, кроме того,
осложняется еще и тем, что речь содержит в себя также и музыкальный элемент.
Поэтому наличие музыкальной стихии в речи — «сильно воспринятое предложение
несет в себе мелодию» — и эта мелодия есть образ общего порыва воли.
Музыкальная драма, как это видно из рассуждений Ницше, несет в себе
различные временные слои, причем музыкальный элемент языка выполняет функцию
максимального обобщения. Не вдаваясь в детали ницшевских размышлений, в
которых ставится проблема возможностей различных искусств, укажем, что их
смысл заключается в том, что Ницше не находит в искусстве Рихарда Вагнера
желаемой одновременности и полного параллелизма всего процесса в музыке и
драме. Причиной тому является Вагнер-музыкант.
Позже, во второй части «Человеческого, слишком человеческого» в 134-м
афоризме Ницше опишет феноменологически музыкальный язык Рихарда
Вагнера, имея в виду, конечно, музыку «Тристана», бесконечную мелодию, уже ясно
определив свое отношение к романтическому растворению в бесконечности,
которое открывает метафизическую реальность, лежащую по ту сторону времени.
Вагнеровская бесконечная мелодия напоминает Ницше погружение человека в
море, его вхождение в морскую стихию, когда уверенные шаги теряют под
собой почву и человек попадает в стихию морских волн, когда человеку уже
необходимо плыть. Другими словами, музыка теряет ритмическую устойчивость.
Вагнеровскому музыкальному чувству Ницше противопоставляет искусство
венской классики, его силу, организующую музыкальную ткань, сохраняющую
двойственную природу музыки (музыка как образ времени и музыка как
осуществление этого образа во времени), силу, обдуманность, лежащую в основе
музыкальной драмы: «В прежней музыке человек должен был танцевать,
передвигаться туда и сюда, то плавно, то торжественно, то страстно. Определенная
соразмерность и выдержанность во времени и силе вытесняет из души ее
постоянную холодность; образуются два противоположных потока: поток свежего
воздуха, поддерживаемый холодом души, и поток воздуха, согретого дыханием
музыкального вдохновения; в этом волшебство прежней музыки»44. Именно
такая музыка, сохраняющая свою временную природу, необходима музыкальной
драме, а не внемузыкальный метафизический дискурс с его стремлением к
сверхчувственному. И оказывается, что только «зигзаги и арабески оперной мелодии»
и «арифметическое построение фуги» и «диалектика контрапункта» помогают
«найти формулу», которая защищает музыку от метафизики, придавая музы-
43 Nietzsche F. Werke. Bd. IV. S. 405.
44 Ницше Φ. Странник и его тень. М., 1994. С. 192.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 421
кальной форме вневременной порядок. Но именно его и не хочет Рихард Вагнер.
Поэтому «бесконечная мелодия не признает и смеется над всякой
соразмерностью во времени и силе; она изобилует такими новшествами, которые
непривычному уху кажутся ритмическими парадоксами и недостатками»45. На самом же
деле музыка не есть «вневременной всеобщий язык». Специфика музыкального
выражения всегда детерминирована эпохой, культурой, в которой создается та
или иная музыка: «Она строго соответствует тому количеству теплоты, чувства
и такта, которое носит в себе как свой внутренний закон данная культура,
ограниченная временем и местом: музыка Палестрины была бы недоступна грекам;
и что бы мог, в свою очередь, понять Палестрина в музыке Россини?»46
От этого метафизического презрения ко времени возникает страх перед
кристаллизацией музыкальной мысли в стремлении избежать архитектонической
стройности музыкальной формы. Повторением Вагнер начинает расширение
мелодии, стремясь превратить ее в отблеск сущей неподвижности, уничтожая
временную структуру музыки, т. е. снять с помощью звучания любое
представление о времени. Поскольку музыка целиком отдана переживаемому времени,
возникает опасность, что музыка присоединяется исключительно к «не
воспитанной высокой пластикой и сдержанной актерской игре и языку жестов,
которые не несут в себе никакой меры»47.
Искусство Вагнера Ницше называет трансцендентальным. Конечно,
трансцендентальное искусство — это искусство, создающее иллюзии в
шопенгауэровском смысле. Оно — побег из земного мира, оно отрицает его, не просветляет
его, «отнимая у умирающей религии часть ее силы»48. Начатая в 1874 году
критика музыкальной драмы затрагивала не только музыку, но и поэзию Рихарда
Вагнера, и прежде всего использование им мифа. Ремифологизация поэзии,
согласно Ницше, означает модернизацию мифа, создание некоей вторичной
мифологии, приобретающей современный метафизический смысл тем, что Вагнер
вносит в языческую германскую мифологию чужеродное начало,
отсутствующее в ней, и сближает ее со своей музыкой. Вневременное в ней оказывается
плодом культуры, «быстро идущей по наклонной плоскости». Почва этой
музыки — «тот период реакции и реставрации, во время которого расцвели
чувственный католицизм и стремление ко всему самородно национальному,
распространяя по Европе свой смешанный аромат»49. Поэтому мифическое в музыкальной
драме всего лишь маска наисовременнейших тенденций, трансцендированных в
мифологические образы. Миф — это их прикрытие. Цель, конечно, не
представление самого мифа. Мифическое становится аллегорией актуальной (связанной
с эпохой) ситуации. «Приспособление Вагнером древних саг, его
облагораживающее хозяйничанье среди столь чуждых нам богов и героев, этих царственных
хищников, его стремление приписать им глубокомыслие, великодушие и
пресыщенность жизнью, одухотворение этих образов, которым он придал католичес-
45 Там же. С. 192.
46 Там же. С. 204.
47 Nietzsche F. Werke. Bd. IV. S. 405.
48 Nietzsche F. Werke. Bd. IV. S. 415.
49 Ницше Φ. Странник и его тень. М., 1994. С. 204.
422 Si-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
ко-средневековую жажду чувственных и сверхчувственных восторгов, все эти
заимствования и прибавки Вагнера находятся в соответствии с его музыкой»50.
Кажется, что разочарование в Вагнере могло примирить Ницше с Виламо-
вицем и тем более с Гурауэром. В предисловии ко второму изданию «Рождения
трагедии» он писал, что «"Шопенгауэрскими формулами" он заменил и загубил
предвосхищения дионисийства, что, главное, смешав греческое с
наисовременнейшим, загубил грандиозную греческую проблему»51.
Своей ошибкой Ницше считал попытку связать греческую проблематику с
немецкой, т. е. вагнеровской музыкой. Однако сближения позиций Ницше и
филологов-классиков не произошло.
В поздних произведениях философа проблема греческой трагедии
связывается с пониманием бытия как воли к власти и вечного возвращения того же
самого, что так же далеко от позитивистской классической филологии, как и
Рихард Вагнер.
2. Феномен игры в философской прозе Ф. Ницше
Игра как понятие и как феномен важна для понимания всех периодов
развития художественной деятельности, в том числе модернизма и постмодернизма.
Использование игровых структур в художественном творчестве не редкость, а
скорее правило для искусства. Отсюда важными для эстетики и для теории
литературы являются те философские концепции, где игра понимается как
конституирующий элемент всей художественной деятельности. К таковым
относится философия и поэзия Фридриха Ницше. Тема игры, как уже указывалось, у
Ницше впервые была поднята в его книге «Рождение трагедии из духа музыки».
В этом первом и последнем для себя опыте эстетической метафизики Ницше
понимал искусство, строящееся на игре, то есть аттическую трагедию, как
отблеск игры мировой воли, которую последняя ведет сама с собой. Искусство в
первой книге Ницше рассматривалось как некое противодействие жизни,
защита от жизни, способность человека оправдывать свое бытие как эстетический
феномен. Можно без всякого преувеличения сказать, что именно отсюда
начинается становление почти всех модернистских концепций в литературе.
Поворот в мировоззрении Ницше, связанный с отходом от философии Шопенгауэра
и искусства Рихарда Вагнера, изменил в философии Ницше многое. Он также
коснулся и понимания феномена игры, которая была освобождена от
метафизического толкования и стала для Ницше антропологическим понятием.
Поздний Ницше связал понятие игры с мыслью о возвращении того же
самого: «Мир как круговорот, который уже бесконечно повторялся и который играет
свою игру in infinitum»52. Следовательно, вечное возвращение проявляет себя в
вечной игре мира. Если Ницше обозначает также и космологические горизонты
игры, которые несовместимы с ее телеологической интерпретацией, то нам уже
50 Там же. С. 204.
51 Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001. С. 59.
52 Nietzsche F. Werke. Bd. 10. Leipzig, 1906. S. 229.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 423
становится ясно, в чем философ видит сущность игры: в том, что отрицает
всякую телеологию, в бесцельности и бесполезности, защищающих игру от всех
целевых, целестремительных практик. Картина беспощадной борьбы, которую
ведут друг с другом противостоящие друг другу низшие и высшие центры
власти, постоянно возникает «как игра сил и воли к власти». У игры нет цели, она
ничему не служит, она не направлена на удовлетворение какой-либо
потребности. Воля включается в игру, и сама игра есть движение в разные стороны,
у нее нет смысла и намерения, она по ту сторону добра и зла. Игра состоит из
целого ряда движений, возникающих сами по себе, начинающихся спонтанно,
игра никогда не заканчивается каким-либо осуществлением, обновления игры
создаются нескончаемыми повторениями. Так выглядит у Ницше космическое
творчество, отождествляемое им с возможностями природы. Ницше ясно
видит, что игра имеет конститутивное значение для реальности, ее создает мир,
в котором мы живем, отношения в этом мире. И это происходит несмотря на
то, что игра творит видимость и у нее нет иного мира, кроме мира видимости.
Поэтому все, что происходит как игра, т. е. способом игры, Ницше понимает
как безостановочное, непрерывное движение воли к власти. Игра возникает не
из-за недостатка, а из переизбытка сил, это — не спокойное, а импульсивное,
можно даже сказать, инстинктивное движение. Воля к власти, как считает
Ницше, действует в самых многообразных формах и истолковывает себя самым
различным образом, и поэтому художественная видимость является ее
мощным орудием. Поэтому Ницше убежден, что игра, содействуя созданию формы
видимости, поднимает жизнь на самую высокую ступень. Итак, игра, в
понимании Ницше, представляет собой сущностную творческую манифестацию
всего сущего как воли к власти, она свободна, и тем самым обосновывается,
освобождается ничем не скованная деятельность, не связанная никакой целью,
она не ограничивается целью, точнее, она преодолевает ограниченность любой
цели. Если сопоставить игру как космическую метафору и
феноменологическое описание игры в философии Ницше, то последнее имеет большую
ценность, более того, именно человеческой игре он, видимо, придавал и большее
значение, и высказывания о ней в его книгах встречаются чаще, чем о
космической игре. Это объясняется тем, что для Ницше важно не только понять, в
чем смысл игры, для него важно также и знать, как можно преобразовать
человеческую деятельность по образу игры, ибо она наиболее ясно дает нам образ
воли к власти, воли к власти как таковой. Характеризуя феномен игры, Ницше
прежде всего говорит об игре ребенка, и последняя мыслится им как аналог
искусства, наиболее близкий к игре художника. Этот ход мысли выглядит у
Ницше последовательным. Как мы помним, в «Рождении трагедии» он был
связан с гераклитовским образом ребенка, играющего камешками. Интерес к
игре ребенка сохраняется в зрелых произведениях философа, уже свободных от
влияния шопенгауэровской метафизики. Для Ницше игра ребенка была самым
чистым и совершенным феноменом игры человека без примеси
телеологических установок. В игре человек остается вечным ребенком. Подтверждением
этой мысли может служить замечательный афоризм из второй части
«Человеческого, слишком человеческого» «Вечное дитя»: «Мы думаем, что сказки и
424 3^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
игры принадлежат детству: какая близорукость! Как будто мы можем
обходиться без сказок и игр в каком бы то ни было возрасте! Правда, мы называем и
воспринимаем их иначе, но это только доказывает, что на самом деле они все
те же: ведь и дитя считает свою игру работой, а свои сказки правдой. Пусть
краткость жизни служит нам предостережением против педантичного
разграничения возрастов — как будто каждый вносит что-то новое, — и пусть какой-
нибудь поэт выведет двухсотлетнего старца, живущего действительно без игры
и сказок»53. В этом афоризме уже проглядывает идея вечного возвращения в
игре, и, конечно же, всякая игра имеет в себе признаки игры ребенка. Не
менее важной для нас является также и мысль, что игра — не временная форма
человеческой активности, не явление краткого периода в человеческой жизни,
это сердцевина человеческого бытия, его жизненности. В «По ту сторону добра
и зла» эта мысль утверждается со всей решительностью: «Стать зрелым
мужем — это значит обрести ту серьезность, которой обладал в детстве во время
игр»54. Тем самым «серьезность» не находится в оппозиции к игре, игра сама
по себе в высшей степени серьезна. Другая сторона игры — это «невинность».
Ницше не стремился проводить различие между игрой ребенка и
художественным творчеством, ибо как игра, так и вырастающее из нее искусство имеют в
себе оба признака — «невинность и серьезность», поскольку они свойственны
человеческой игре как таковой. Именно эти черты и отделяют игру и искусство
от других форм деятельности человека. Ницше придерживается точки зрения,
что безвредность, невинность, бесхитростность детской игры есть нечто
уникальное в мире. Ребенок не может воспринимать свои действия в игре как вину,
он не несет никакой ответственности за них, и поэтому невозможна моральная
оценка этих действий, игра представляет собой чисто естественное для него
событие, его представляет природа. Поэтому здесь нет и намека на легкомыслие и
произвол. Серьезность — доказательство невинности самой игры. Играющий
ребенок лишь по возможности капризен, своеволен, своенравен, на самом деле
он руководствуется только своим настроением.
Воля, желание проявляются у ребенка, когда он начинает играть или
перестает играть по собственному желанию. Однако когда ребенок в игре, пока он
играет, у него нет ни своеволия, ни упрямства, следовательно, он действует
бессознательно, сообразуясь с внутренними требованиями игры, т. е. он
повинуется ее внутренним закономерностям. Он скорее служит игре, нежели
распоряжается игрой. В ницшевском понимании серьезность игры противостоит
той серьезности, с которой человек воспринимает практические и моральные
метафизические цели. В последнем случае исключено предметное отношение
игрока к игре. Никогда отдача игре не является полной, она не имплицирует
идентификацию человека с игрой, его растворения в ней. Игрок сохраняет
дистанцию в отношении того, что он делает, ведь он знает, что в процессе игры
он находится в мире видимости, в игровом мире, который для него является
вымышленной реальностью. Это— причина серьезности, свойственная, по
Ницше, участнику игры; такая серьезность резко отделена от ослепленности
53 Ницше Ф. Странник и его тень. М. 1994. С. 237.
54 Ницше. По ту сторону добра и зла // Ницше ф. Соч. в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 295.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 425
игрой. Конечно, речь здесь идет не о своеобразии субъектно-объектных
отношений, где налицо перевес объективного, речь здесь о самодавлении субъекта.
Серьезность игры не выводится прямо из основания субъектно-объектных
отношений. Со всей уверенностью мы можем сказать только одно: то, что Ницше
понимает под серьезностью игры, имеет эстетический, а не этический порядок.
Ясно, что игра является событием, которое обходится без субъекта, и
участники игры не распоряжаются ее ходом.
Об этом свидетельствует важное для нашей темы место из «Заратустры»:
«Оробевшими, пристыженными, неловкими, похожими на тигра, которому
не удался прыжок его: такими, о высшие люди, видел часто вас, когда крались
вы стороною. Игра в кости не удалась вам.
Но что же из этого, вы, играющие в кости! Вы не научились играть и
смеяться, как нужно играть и смеяться! Не сидим ли мы всегда за большим столом
насмешек и игр?
И если вам не удалось великое, значит ли это, что вы сами не удались? И
если не удались вы сами, не удался и — человек? Если же не удался человек — ну
что же!»55
В интерпретации такого рода мест у Ницше необходимо учитывать
космологические, онтологические и антропологические моменты, которые
увязываются с такими понятиями, как случайность и необходимость. Это принимал
во внимание Гете, когда описывал карточные игры в вист и ломбер,
структура которых служила ему для типологических обобщений, когда он стремился
выявить отличия античной культуры от культуры Нового времени, культуры
модерна и мышления людей модерна. Здесь необходимо вспомнить гетевскую
статью «Шекспир, и несть ему конца». Вист Гете называет античной игрой, так
как эта игра, по его мнению «ограничивает случайность и даже волю». Игрок,
имея дело с определенными партнерами и противниками, а также с картами,
«должен управлять целым рядом случайностей», которых избежать
невозможно. В ломбере мы сталкиваемся с противоположным. Эта игра открывает
пространство для воли, дает ей выход. Игрок совершенно свободен в своем риске;
он может по-разному распоряжаться выпавшими ему картами и даже может
«извлечь наибольшую выгоду из самых скверных карт»56. Гете считает, что
«такого рода игры» имеют сходство «с образом мыслей и поэзией новейшего
времени». Итак, необходимость и случайность, долженствование и воля создают
особые соотношения, в которых со всей определенностью видные релевантные
признаки античного мышления и мышления людей новейшего времени. Их
Гете типологически разводит, говоря, что деспотизм долженствования, исходит
ли он «от разума — в качестве закона нравственного или гражданского или от
природы — в качестве законов становления и увядания, жизни и смерти», в
качестве внешних детерминантов направляет сознание «на благо целого»57.
Свободная воля человека нового времени, в отличие от долженствования и
необходимости соединить себя с усилием, направлена прежде всего на личность и,
55 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М. 2001. С. 237—238.
56 Гете И. В. Собр. соч. в 10 т. Т. 10. М., 1980. С. 311.
57 Гете И. В. Указ. соч. С. 311.
426 βΐυ
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФМАОСОФИЯ. ИГРА
овладевая людьми, льстит им. «Она — божество новейшего времени;
преданные ему, мы страшимся всего, что ему противостоит». Долженствование,
соединяя сознание с целым мирозданием «делает трагедию великой и мощной»,
воля же, противоборствуя долженствованию и необходимости, — «слабой и
мелкой». Собственно, все эти рассуждения нужны Гете, чтобы
противопоставить античную трагедию драме нового времени и говорить в этом контексте
о Шекспире, и эвристическая модель карточных игр и связанные с ними
возможности игры призваны показать особый характер шекспировского театра,
где «мощно» связывается старое и новое. «В его (Шекспира. — А. А.) вещах
долг и воля всегда и во что бы то ни стало стремятся к равновесию; они явно
схватываются, но всегда так, что воля остается в накладке»58. В этом, по Гете,
смысл трагического у Шекспира. Для Ницше игра — не только один из
важнейших феноменов человеческого бытия, но и способ объяснения мира и сознания.
На последнем моменте философия Ницше останавливается. Жиль Делез дает
очень тонкую и глубокую интерпретацию ницшевского понимания воли и
вечного возвращения через образ игры, постоянно встречающийся у философа.
Делез выносит за скобки попытку молодого Ницше связать в «Рождении
трагедии» и в «Философии» в трагическую эпоху греков гераклитовское учение с
Шопенгауэром, поскольку из этого учения достаточно явственно
вырисовывается оригинальное, специфически ницшевское представление о становлении
и об игре. Интерпретируя мысль Ницше, что «мир» у Гераклита — «игра
Зевса, или, выражаясь физикалистски, игра огня с самим собой», а единое в этом
смысле одновременно и многое»59, Делез показывает, что от Гераклита к Ницше
приходит отрицание дуализма миров, т. е. отрицание бытия и представление
о мире как о вечном становлении, что существует только становление. Здесь
важно указать, идя вслед за Ницше и Делезом, что существование лишь
становления придает особую форму гераклитизму у Ницше. Это означает, что
философская мысль в исходном своем посыле утверждает становление. «Но при
этом, — как пишет Делез, — утверждают также и бытие становления, говорят,
что становление утверждает бытие или что бытие утверждается в становлении.
У Гераклита есть две зашифрованные мысли: согласно первой, бытия нет, все
пребывает в становлении; согласно второй, бытие есть бытие становления как
такового»60. В ницшевском понимании это означает максимальное
приближение бытия к становлению. Становление утверждает вечную справедливость,
«становление и гибель, созидание и разрушение без какой-либо моральной
оценки в вечной одинаковой невинности есть в этом мире только у игры
художника и ребенка»61. В аналогии с этими играми ведет себя гераклитовский,
вечно живой огонь, он ведет себя так же, как ребенок. Он созидает и разрушает
в невинности. Собственно, такая игра есть игра Зона с самим собой.
Превращаясь в воду и землю, огонь ведет себя так, как ребенок воздвигает на берегу
моря кучу песка: он то строит ее, то разрушает и «время от времени он снова
58 Гете И. В. Указ. соч. С. 312.
59 Nietzsche F. Werke. Bd. 1. S. 440.
60 Делез Ж. Ницше и философия. М., 2003. С. 75.
61 Nietzsche F. op. cit. S. 443.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 427
начинает свою игру»62. Эта игра не всегда заметна, ибо наше сознание,
останавливая становление, создает для себя иллюзию неподвижного бытия. Оно
как бы заполняет течение реки становления, опровергая гераклитовское «Все
течет». То, что мешает водам реки продолжать движение, — это стремящийся
его остановить кажущийся вечным метафизический мир ценностей,
сковывающий течение реки становления льдом метафизических ценностей. И тогда игра
становления прекращается понятиями добра и зла, и о ее невинности говорить
невозможно, однако становление всегда разрушает созданные ему основы.
В третьей части «Заратустры» в главе «О старых и новых скрижалях» Ницше,
создав символический ландшафт, сделал его образом постоянного утверждения
невинности становления как единственно возможной формы его бытия:
Когда бревна в воде, когда мосты и перила перекинуты над рекою, —
поистине, не поверят, если кто скажет тогда: «Все течет».
Даже увальни будут противоречить ему. «Как? — скажут увальни, — все
течет? Ведь балки и перила перекинуты над рекой!»
Над рекою все крепко, все ценности вещей, мосты, понятия, все «добро и
зло — все это крепко!»
А когда приходит суровая зима, укротительница рек, тогда и насмешники
начинают сомневаться; поистине, не одни только увальни говорят тогда: «Не все
ли спокойно?»
«В основе все спокойно — это истинное учение зимы, удобное для
бесплодного времени, хорошее утешение для спящих зимою и вечных лежебок».
«В основе все спокойно» — но против этого говорит ветер в оттепель!
Ветер в оттепель — это бык, но не пашущий, а бешеный бык, разрушитель,
гневными рогами ломающий лед! Лед же ломает мостки!
О братья мои, не все ли течет теперь? Не все ли перила и мосты попадали в
воду? Кто же станет держаться еще за «добро и зло»?
«Горе нам! Благо! Теплый ветер подул!» —так проповедуйте, братья мои, по
всем улицам!63
Важнейшей особенностью ницшевского символического ландшафта
является его способность к метаморфозе, к переходам из одного состояния в другое.
В цитированном нами тексте два пейзажа. Первый — это река, течение воды
которой преграждено балками, мостами, запрудами, бревна в русле реки
закрыли от созерцания движущуюся гладь воды, создав иллюзию, что движения
вообще нет, оно сковано, и везде царит сущая неподвижность, тем самым течение
глубоко спрятано. Пейзаж претерпевает метаморфозу: река скована льдом, вода
становится нравственной, но не в плане своей чистоты, а в своей
неподвижности. Характер метаморфоз ландшафта у Ницше может быть различен.
«Ландшафт у Ницше — это действующее лицо, персонаж, несущий одну из
основных содержательных нагрузок, это источник загадок его философии и ключ к
пониманию этих загадок. Как уже говорилось выше, Ницше понимает мир как
вечное изменение, вечную метаморфозу и вечное возвращение того же самого.
Ницше — поэт того, что вечно живет и вечно изменяется, поэтому и образы его
62 Nietzsche F. op. cit. S. 443.
63 Ницше Φ. Так говорил Заратустра. М., 2001. С. 163—164.
428 3^
А. Г. Аствацатуроз. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ ИГРА
поэзии, даже если это образы так называемой неживой природы, претерпевают
постоянное изменение»64. Метаморфоза ландшафта дает нам не только потерю
движения, но и представление о потере жизни. Ко всему прочему это, конечно
же, северный пейзаж, на Юге реки не замерзают, а суровый ветер труда и
нравственности завершает свою работу по преодолению в сознании главной мысли
гераклитизма «все течет», которая заменяется ее антитезой «в основе все
спокойно», т. е. неподвижность приобретает субстанциональный характер и бытие
элеатов утверждает себя во всей своей мощи. Второй ландшафт возникает как
столкновение двух ветров, северного и южного, которое в конечном итоге
приводит к утверждению дипамогенической картины мира. Южный теплый ветер
оттепели принял у Ницше образ небесного быка, взламывающего «гневными
рогами» сковавший реку лед.
Тем самым уничтожается иллюзия, что неподвижное бытие отражает наши
представления о добре и зле; неподвижного бытия нет, есть только бытие
становления в его вечном течении, в вечной невинности по ту сторону добра и зла.
Символ становления у Ницше — южный весенний ветер. Утверждение
становления происходит через игру. В делезовской интерпретации двух фрагментов из
третьей книги «Заратустры» тема игры у Ницше связывается с проблемой
случайности и необходимости. Игра в кости у Ницше, согласно Делезу, «содержит
два этапа, два момента одного броска игральных костей: этап броска и этап
выпадения результата. Ницше порой представляет, что игра в кости как бы
происходит на двух разных столах — на земле и на небе. Кости бросают на землю,
выпадают они на небе»65. В этой игре земля оказывается столом богов, дрожащим
«от новых творческих слов и от шума игральных костей»66. Но и небо — также
стол, за которым идет игра, «помост для танцев божественных случайностей»,
«божественный стол для божественных игральных костей и играющих в них»67.
Делез указывает, отличая антиметафизическую сущность ницшевского
понимания игры, что «два эти стола — не два мира. Это — две поры одного и того же
мира, полночь и полдень, где час броска костей и час выпадения результата».
Собственно, речь идет о времени игры. «Ницше, — продолжает Делез, —-
говорит о двух игровых столах жизни, а это также два периода в жизни игрока
или художника»68. Игра есть утверждение случайности, причем изначальное
утверждение случайности, которую не может отменить необходимость. Миры
необходимости и случайности не могут быть разделены. Эта мысль
утверждается в 78-м афоризме «Утренней зари». «Мы привыкли верить в два царства — в
царство целей и намерений и в царство случайностей; в последнем все
происходит бессмысленно: идет, стоит, падает, и никто не может сказать, зачем? для
чего? Мы боимся этого могучего царства космической бессмыслицы, которая
вторгается в наш мир — мир целей и намерений, падает туда, точно черепица
с крыши, и поражает насмерть какую-нибудь нашу хорошую цель. Эта вера в
64 Лейбель Е. Ницше. Образы и мифотворчество. СПб., 2008. С. 59.
65 Делез Ж. Указ. соч. С. 78.
66 Ницше Ф. так говорил Заратустра. С. 189.
67 Там же. С. 134.
68 Делез Ж. Указ. соч. С. 78.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 429
два царства — не более не менее как романтизм и басня, ведущие свое начало
из незапамятных времен: мы умные карлики, с нашей волей, с нашими целями,
подавлены, сбиты в кучу глупыми-преглупыми великанскими случайностями,
но это соседство дает нам и поэзию, так как те чудовища часто являются нам
в ту минуту, когда наша жизнь в паутине наших целей становится слишком
осмотрительна и робка, и оживляют нашу паутину, но не потому, чтобы они,
безрассудные, хотели помочь нам»69. Случайность так же принадлежит жизни, как
и необходимость. Она делает жизнь загадкой. Однако как случайность, так и
необходимость одинаково принадлежат жизни и человеку. «В настоящее время
говорят: пора нам научиться, что в нашем царстве целей и разума царствует
тоже великаны! И наши цели и наш разум не карлики, а великаны». Мы
постоянно обманываемся, когда что-то считаем необходимостью, основываясь на
той паутине понятий, которую мы набрасываем на вещи, пытаясь познать мир
и смысл нашей деятельности. Наша привычка телеологически объяснять мир,
отождествляя навязанную миру телеологию с необходимостью, — это не что
иное, как результат полного доверия привычной схеме сознания, а
следовательно, аберрация сознания. «Да и не все то бывает целью, что называют именем
цели, и еще реже бывает волей то, что называется волей!» Игра демонстрирует
нам в каждой своей стадии корреляцию необходимости и случайности,
возникающую в нашей деятельности.
«Те железные руки необходимости, которые трясут зерновой кубок случая,
играют в свою игру в бесконечное время, и иногда они могут бросить так, что
это становится несколько похожим на целесообразность и разумность. Может
быть, наши волевые акты, наши цели — не что иное, как такое бросание
игральных костей, и только благодаря нашей ограниченности, нашей гордости мы
не понимаем своей ограниченности: что мы сами трясем железными руками
зерновой кубок, что мы сами при всех своих даже наиболее тонко
рассчитанных намерениях только играем в игру необходимости»70. Такой подход к жизни,
понимаемой как становление и человека, захваченного им, неизбежно
приводит Ницше к модели игры, где уметь играть означает утверждать случайность.
Ницшевская картина мира подразумевает, что вселенная лишена целей, более
того, человек, который полагает, что он действует сообразно целям, оказывается
во власти иллюзий. Жиль Делез, подводя итог своей интерпретации ницшевс-
кой концепции игры, дает, на наш взгляд, точное понимание ее смысла: «Мы
должны отнестись как к в высшей степени важному к следующему выводу: пару
причинность — целесообразность, вероятность — целенаправленность,
противоположность и синтез этих терминов, паутину этих терминов Ницше заменяет
дионисийской корреляцией случайность — необходимость, дионисийской парой
случайность — судьба»71. Это подтверждает 213-й афоризм из «Человеческого,
слишком человеческого». Он называется «Удовольствие от бессмыслицы». «Как
человек может иметь удовольствие от бессмыслицы? А ведь всегда, когда на
свете смеются, что имеет место, и можно даже сказать, что почти всюду, где есть
69 Ницше Ф. Утренняя заря. Свердловск, 1991. С. 55. Редакция перевода наша. — А. А.
70 Ницше Ф. Утренняя заря. С. 55.
71 Делез Ж. указ. соч. С. 82.
430 Sîu
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
счастье, есть и удовольствие от бессмыслицы. Выворачивание опыта наизнанку,
превращение целесообразного в бесцельное, необходимого в произвольное, но
притом так, что этот процесс не причиняет никакого вреда и лишь
воображается из шаловливости, доставляя наслаждение, потому что это на мгновения
освобождает нас от власти необходимого, целесообразного и опытно данного,
в которых мы обыкновенно видим неумолимых владык; мы играем и смеемся,
когда ожидаемое обычно тревожит и беспокоит нас, осуществляется без вреда
для нас. Это радость рабов на празднествах сатурналий»72.
Ницше понимает, что игра и труд — два типа человеческой деятельности,
которые отличаются друг от друга по своей сущности. Что является сущностью
для одной, совершенно чуждо другой. Игра начинается там, где прекращается
труд, там, где трудятся, там нет места игре. Может быть, общим, что
вызывает труд и игру, является потребность в том и другом. Для Ницше потребность
эта удовлетворяется трудом. Но в жизни потребность возникает снова и
снова, как и промежутки между ними. Ницше говорит, что «в промежутках,
когда потребности удовлетворены и как бы сняты, на нас нападает скука». Чем
является состояние, которое Ницше в данном контексте называет скукой? Это
есть выработавшаяся в результате труда привычка к труду вообще, и она
обнаруживает себя как новая дополнительная потребность. Она будет тем сильней,
чем сильнее человек привык трудиться. «Чтобы избежать скуки, — продолжает
Ницше, — человек либо работает больше, чем к тому вынуждают его
остальные потребности, либо же изобретает игру, т. е. труд, который не предназначен
для удовлетворения какой-либо потребности, кроме потребности труда вообще.
Кому наскучила игра и кого новые потребности не влекут к труду, тем
овладевает влечение к третьему состоянию, которое относилось бы к игре, как парение к
пляске, как пляска к ходьбе, — влечение к блаженной спокойной подвижности:
это есть видение счастья у художников и философов»73. Может показаться, что
Ницше понимает игру как особый вид труда, который существует вне
потребности и вне целеполагания и что сама игра может быть заменена чем-то
третьим, что отличается от труда и самой игры. Но если мы внимательно прочитаем
этот афоризм, то мы увидим, что речь здесь идет всего лишь об интенсификации
игрового начала в человеке, через которую возможна дионисийская корреляция
игры как таковой и труда. Искусство и философия выглядят у Ницше как
деятельность, включающая в себя все игровые возможности человека. Речь идет о
тех играх, в которых прозревается сущность жизни, это не рефлексия игры, а
захват одной игрой другой игры. Парение выше танца, пляска выше ходьбы. Такая
игра стремится сделаться чистой, абсолютной игрой, неким упоением счастьем,
если возможна космическая игра, а последняя лишь результат деятельности
человеческого воображения, то она и служит моделью для всех игр, конечно, не в
плане их трансценденции, а как интенсификация дионисийского начала. Здесь
уместно привести слова Гастона Башляра. «Здесь (у Ницше. — А. А.) не надо
обманываться: идеальное реализуется — и с большой силой — в образах, как
только мы начинаем воспринимать образы в их динамической реальности, как
72 Ницше Ф. Собр. соч. в 2 т. Т. 1. М, 1991. С. 348.
73 Там же. С. 476.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
JB 431
мутацию воображающих психических сил. Мир грезит в нас — выразился бы
последователь Новалиса; ницшеанец же, всемогущий в своем проективном они-
ризме и в своей грезящей воле, должен более реально выражать мир — он
скажет: мир грезит в нас динамически»74. Игра, следовательно, — это спонтанное,
самостоятельное, свободное творческое движение, и это движение ни к чему
не стремится, оно удовлетворяемо собой. Если к игре принуждают, то
извращают ее сущность. Игру невозможно привязать к сфере необходимости, открывая
сферу случайности, игра расширяет сферу свободы, и независимость игры от
внешних обстоятельств исключает ее компенсаторные функции в жизни.
Человек играет от полноты жизни, наслаждаясь проявлением воли. И тогда жизнь
находится в состоянии возвышения. «Там, где мы чувствуем, что мы делаем
нечто с избытком силы, там мы чувствуем себя свободными, там, где само деяние
приносит наслаждение и совершается не только ради цели, приносящей
наслаждение, возникает чувство свободы желания: мы здесь хотим только одну цель,
но эта цель не полностью господствует над нами, она дает только повод, чтобы
наши силы играли друг с другом, мы знаем, для этого есть еще многие другие
поводы; так как мы оцениваем эту цель как произвольную и незначительную, то
мы не чувствуем себя ее рабами; значит, мы чувствуем себя волящими в
отношении этой цели, но также свободными от нее»75. Итак, чем больше в человеческой
деятельности игры, тем она свободнее, а следовательно, и продуктивнее.
3. Музыка, рожденная игрой.
Феномен музыки Юга в эстетике Ф. Ницше
С игрой нерасторжимо связана музыка Юга, корни которой уходят в
античность, в древнюю сильную цивилизацию. Ее в противоположность вагнеров-
ской музыке Ницше описывает в тех же терминах, что и игру. Следовательно,
игровая доминанта в ней имеет для Ницше решающее значение и
определяет тот ареал свободы, который музыка открывает человеку. Отличительным
свойством этой музыки является самотождественность. Она никогда у ее
создателей не превращается в средство для демонстрации, выражения и
объяснения чего-то иного, ей гетерогенного. В «Утренней заре» есть диалог о двух
типах музыки и ее исполнении. Сразу становится ясно, чего после разрыва с
Рихардом Вагнером требует Ницше от музыки. Блестящий, психологически
выверенный текст описывает музыку, которую Ницше уже не может принять
и одновременно создает визуальный ряд, сменяющиеся картины ее
исполнения. Читатель как бы слышит саму музыку, видит ее творца, дирижирующего
ею, следит за развитием вагнеровской бесконечной мелодии. Она же возникает
из актерской природы композитора. Звучанию музыки предшествует мимика,
жест, и этим уже с самого начала определяется особая телеологичность
музыки, а также ее использование как средства. Здесь затрагивается важный аспект
74 Башляр. Г. Грезы о воздухе. Опыт о воображении движения. М., 1999. С. 201.
75 Nietzsche F. Kritisch gesammelte Werke. Bd. V. 1.3 (48). S. 190.
432 3^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФМЯ ИГРА
вагнеровского искусства, его побудительные мотивы, которые уже
принципиально исключают в нем игровое начало, точнее, выводят его из сферы музыки,
включая ее в актерскую практику, когда побочная репрезентация подменяет
собой музыку. Анализируя значение жестовости в культуре, Юлия Кристева
пишет: «Жестовость в гораздо большей степени, чем (фонетический) дискурс или
(визуальный) образ, поддается анализу как деятельность в смысле затраты сил,
производства, которое предшествует возникновению продукта, а
следовательно, предшествует репрезентации как феномену значения, присутствующему в
коммуникативном кругообороте; отсюда появляется возможность изучать
жестовость не как репрезентацию, которая есть "побудительная причина действия,
но никоим образом не затрагивает его природу" (Ницше), а как деятельность,
предшествующую репрезентированному и репрезентируемому сообщению.
Разумеется, жест передает некое сообщение в рамках данной группы людей, и
лишь в этом смысле его можно назвать "речью"; однако жест есть не столько
готовое, наличное сообщение, сколько процесс его выработки (процесс,
который он сам же позволяет проследить); жест есть работа, предшествующая
созданию знака (смысла) в ходе коммуникации»76. Игра, согласно Ницше, не
имеет ничего общего со всеми практиками, имеющими телеологический характер,
и уж тем более с трудом. Конечно, жест как практика не затрагивает природу
самой музыки; у Вагнера она дополняет музыку, потому что в самой вагнеров-
ской музыке ощущается недостаток, нехватка именно музыкального элемента.
«Это еще не то, что он скажет нам, до сих пор он обещает нам только сказать
нечто неслыханное, насколько можно понять из его мимики. Ведь это мимика!
Смотрите, как он кивает! Как он бросает руки! Вот, кажется, настала высшая
минута напряжения, еще две фанфары — и он исполнит музыку великолепно и
блестяще, как бы играя блеском драгоценных камней»77. Перед нами актер, маг
и чародей, использующий все средства воздействия на публику, превращающий
музыку в средство суггестии. Именно в этом композитор видит ценность своих
тем и начинает весьма искусно приучать и приручать слушателя к ней, отнимая
у слушателя малейшую инициативу при восприятии темы, властно направляя
его слух в нужное ему русло и контролируя течение восприятия. Бесконечная
мелодия расчетливо используется в целях интенсификации чувства, которым
руководит создатель музыки. Его музыке нужны жесты, они предшествуют ей,
они создают мимический эффект, значащий не меньше, чем она сама. «Как
развивает он свою тему! Ах! Обратите внимание, он умеет не только разукрасить
ее, но даже нарумянить!» «И он рассыпает свои мелодии среди сластей, теперь
он взывает к нашим более грубым чувствам, чтобы вызвать в нас возбуждение и
снова покорить себя! Слышите ли вы, как он призывает на помощь ритмы бурь
и громов! А теперь, видя, что они захватывают нас, овладевают нами, он
отваживается снова мешать свою тему в игре стихий и убедить полуочарованных и
потрясенных, что наше очарование и потрясение есть следствие его темы. И на
будущее время верят ему слушатели: лишь только сорвется с его инструмента
звук, в них возникает воспоминание о прежнем потрясении; это воспоминание
76 Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М: РОССЭН, 2004. С. 116—117.
77 Ницше Ф. Утренняя заря. С. 115.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 433
помогает теперь тем, оно сделалось теперь "демоническим"! Какой он знаток
души! Он повелевает нами, как оратор»78.
Цитированный нами текст — пародия с интертекстуальными вкраплениями,
сделанными виртуозно. Текст смонтирован из нескольких элементов. Портрет
вагнеровской музыки составлен, с одной стороны, с помощью пародийной
имитации текстов самого Вагнера (роль лейтмотива в поддержании чувственного
начала, предчувствия и воспоминания), с другой — это и самопародия,
теперешняя в восприятии того, что сам Ницше писал о Вагнере в «Рихарде
Вагнере в Байрейте». Здесь очень точно схвачены принципы поздней романтической
музыки, когда музыкальная выразительность достигается за счет
количественного усиления, которое выглядит как романтический пафос в
противоположность классическому этосу и суммарно декоративной трактовкой
выразительных средств. Музыка выглядит только декорацией сцены, на которой выступает
актер, играющий роль мистагога. Поэтому все, что связано с игровым началом
в такой музыке оказывается похороненным и забытым, и самое главное, что
нас принуждают слушать ее, музыку, которая ведет себя по отношению к
своему слушателю подобно тирану. Вспомним, что одним из важнейших свойств
игры Ницше считал ее невинность. В музыке Юга присутствует это свойство, и
смысл ее заключен только в ней самой. И когда Ницше начинает о ней говорить,
то характер всего текста мнгновенно меняется. Музыка может говорить только
о самой себе, и это сказано философом с особой убежденностью и
проникновенностью: «Я называю невинной музыкой ту, которая думает исключительно о
самой себе, верит себе и забывает весь мир, помня только о себе, — музыку
самого глубокого уединения, для себя самой, которая говорит только о себе и сама
с собой, не обращает внимания на то, есть ли слушатели и ценители, понимают
ее или нет и какое она производит действие»79.
Подлинная музыка — особый мир, свободный от внешних целевых
детерминантов, к нему нельзя приложить критерии морали, он — по ту сторону добра и
зла. Такое определение музыки как игры показывает, что она никогда не должна
быть средством. Она не должна выходить за сферу игры, ибо игра никогда не
выходит из себя и совершенно индифферентна к определениям извне. Она не
нуждается в дополнительном смыслополагании.
Эта внутренняя сила музыки обладает свойством испытывать человека —
сохранит ли он верность игре как свободной деятельности или же он
добровольно откажется от этой формы свободы, то есть от самого себя как творца. Такая
форма отказа означает для Ницше отчуждение творческих сил человека,
боящегося стать суверенным созидателем, страшащимся свободы, которую несет
с собой игра. Такого рода страх неизбежно приводит к метафизическому смыс-
лополаганию. Ницше описывает этот процесс как насильственное вторжение в
самодеятельность воли ради нее самой и перенесение игровой сущности этой
деятельности в гетерогенные ей сферы, где игра начинает обслуживать то, что
на самом деле ей совершенно чуждо. Игра теряет здесь присущую ей ясность и
инстинктивность, силу становления, освобождающую сознание. Естественно,
78 Ницше Ф. Указ. соч. С. 115.
79 Ницше Ф. Указ. соч. С. 116.
434 SL
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
такой процесс обнаруживает себя в эпоху декаданса, когда игра превращается
только в средство оформления того, что ей на самом деле чуждо. «Перенесение
музыки в метафизическую сферу было актом почитания и благодарности; в
сущности, до сей поры так поступали со своими переживаниями все верующие. Тут
я изведал изнанку: бесспорно вредоносное и губительное воздействие на меня
той самой музыки, которую я так почитал, а вместе с тем пришел конец и ее
религиозному почитанию. Тем самым у меня открылись глаза на современную
потребность в музыке (потребность, исторически появляющуюся
одновременно с ростом потребности в наркотике). Само "произведение искусства
будущего" предстало передо мной в качестве изощренно замаскированной потребности
в возбуждении и хмеле, причем своей выгоды тут ищут все помыслы, включая
всякую идеалистическую, сгущенно-моральную нелепицу, — в качестве общего
подхлестывания всего нервного механизма. Мне открылась вся суть романтизма:
ее обличило отсутствие созидающего типа людей. К сему добавляются скома-
рошество средств, поддельность и заинтересованность всех отдельных
элементов, отсутствие добротности артистического образования, бездонное лицемерие
этого самого современного из искусств, какому следовало бы быть главным
образом искусством театральным. Психологическая несостоятельность этих
мнимых героев и богов, в одно и то же время нервных, грубых и рафинированных,
подобно новейшим парижским живописцам и лирикам. Короче, я причисляю
всех их скопом к современному варварству»80.
Музыка Юга — это пример противостояния этому типу варварства,
извращения подлинного дионисийства, и если говорить о ней, то она для Ницше
также и пример или же прообраз музыки вообще, то есть той музыки, которая не
нуждается ни в каком морально-практическом или техническом задании. Смысл
этой музыки заключается в том, что она осуществляет себя только как музыка,
или если речь заходит об ее оправдании, то это оправдание самого
существования музыки как игры. Оно — только в ее непосредственном воздействии на
человека. Музыка Юга сохраняет воспоминание о первоначальных
возможностях человеческой деятельности. Важным моментом рассуждений Ницше о ней
можно считать мысль, что музыка способна побуждать сама себя, и это знак
того, что музыка оставляет волю наедине с собой, дает воле возможность
наслаждаться своей же властью, своей мощью как таковой, опьянять себя тем, чем
она фактически является. В ней воля живет свободно, собственной жизнью. Она
в свободном движении. Эту направленность ницшевской мысли подтверждает
запись, относящаяся к 1880—1881 гг.: «Мы деятельны, так как все, что живет,
должно пребывать в движении, не ради наслаждения, а следовательно, без цели,
хотя при этом наличествует наслаждение. Это движение — не подражание
целенаправленным движениям, это — нечто другое»81.
Ранее рассмотренный нами диалог «Разговор о музыке» завершается
парадоксально. В конце диалога Ницше сбрасывает с себя маску ироника по отноше-
80 Ницше Ф. Черновики и наброски. 1885-1887 гг. // Ницше Ф. Полное собр. соч. Т. 12. М.: Изд-во
«Культурная Революция», 2005. С. 107.
81 Nietzche F. Kritisch sämtliche Werke. Bd. V Abt. 1 (1) 45. Hrsg. von G. Kolli und M. Montinari,
Berlin. S. 346.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 435
нию к вагнеровской музыке, прося прощения, но только у нее, а не у ее
создателя, показывая тем самым, что в ней еще сохраняется необходимый момент игры,
то есть невинность. Сама музыка сопротивляется гетерогенным ей целям.
Музыка Юга — а ее Ницше отождествляет прежде всего с итальянской —
противостояит так называемой серьезной и высокой музыке, музыке,
устремленной к метафизическим целям. Она не знает и хочет знать ничего о так
называемых метафизических ценностях. Эти ценности, согласно Ницше, не что
иное, как человеческие отчужденные сущности. Значение итальянской
музыки состоит в том, что она не допускает этого отчуждения, и в этом отношении
она антиметафизична. Музыка Юга исконно человеческая музыка, а не музыка
метафизических взлетов, и она близка человеку. «Говоря это, я разумею самые
простые итальянские оперные мелодии; несмотря на однообразие ритма и
наивную гармонию, в них как бы напевает сама душа музыки»82.
Итальянская музыка озвучивает жизненный мир человека и тем самым
определяет его временную перспективу, сохраняя в человеке прошлое. И если
музыка есть переживаемое время, то прошлое, сжатое в итальянскую мелодию,
становится частью нашей жизни; оно в этой музыке актуализируется,
воссоздавая время невинности, когда жизнь и ее невинность, незатронутость так
называемыми вечными ценностями морали имеют сходство с игрой, детской игрой.
«Итальянские мелодии напоминают нам о том наслаждении — самом сильном
в нашей жизни, — о чувстве детского блаженства, об утрате невозвратимого
детства, этого самого неоценимого сокровища. Мелодии эти затрагивают в нашей
душе такие струны, которые под влиянием едва ли в состоянии были звучать»83.
Итальянская музыка говорит с нами языком прошлого. Здесь не нужно
никаких эстетических установок, ибо воздействие этой музыки сливается с опытом
прошлого, актуализированного переживанием. Проникновенные слова Ницше,
сказанные об итальянской музыке, контрастируют с теми уничтожающими
характеристиками, которые Рихард Вагнер давал итальянской музыке в трактате
«Опера и драма».
Как апология итальянской музыки, игры и карнавала звучит 77-й афоризм из
книги «Веселая наука», имеющей прямо-таки провокационное название
«Животное с чистой совестью». В нем Ницше связывает друг с другом итальянскую
оперу, испанский плутовской роман и карнавал и представляет их нам как
особую связанную с жизнью культуру, которую мы сейчас назвали бы массовой.
Ницше считает ее исключительно достоянием жителей европейского Юга.
Плутовской роман, как думает Ницше, — литературный аналог музыки Юга
(Ницше говорит о романе Лесажа «Приключения Жиль Бласа из Сантильяны»), он
представляет собой в восприятии Ницше изображение жизни как игры. Жизнь
в своем движении, близком становлению, выглядит в плутовском романе цепью
случайностей, определяющих жизнь героя, жизнь непредсказуемую,
многообразную. К ней плут приспосабливается, постоянно меняя маски, обязательный
атрибут игры. Герой такого романа репрезентирует жизнь во всех ее
переливах, в динамике, не стремясь навязать ей нравственные ценности, не обременяя
82 Ницше Ф. Странник и его тень. М, 1994. С. 333.
83 Там же. С. 334.
436 Sa-
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
себя моралью. Плутовской роман показывает нам маски жизни. В этом
афоризме, одном из важнейших для понимания ницшевской концепции жизни, игры и
искусства, афоризме, как писал Хосе Ортега-и-Гассет, «несмотря на чрезмерно
зоологический язык», Ницше проводит мысль о самоценности и
самодостаточности жизни, которой не нужно обращаться к внежизненным критериям. Ей не
нужно разрывать свою целостность, останавливать свое движение
саморефлексией, подчиняться трансцендентным жизни ценностям и целям84.
Спонтанная, динамичная, самовозвышающаяся жизнь соприкасается с
игрой и искусством, порождая их, она не разрушает, а наоборот, усиливает бытие
как становление, то есть видимость, фикциональность.
Игра и рожденное ею искусство не снимают фикциональность, а наоборот,
утверждают право видимости представлять жизнь; без них жизнь не может
обойтись. Они только подчеркивают дионисийскую сущность жизни. Музыка
Юга несет с собой ощущение самодостаточности, уверенности в себе; и жизнь
определяет себя только как утверждение, как дионисийский порыв, чистую
активность. Игра демонстрирует нам этот порыв, показывает его как событие,
открывает мир как свободную, не связанную ничем энергию.
В концепции дионисийского мира, или мира воли к власти и вечного
вращения, игра занимает одно из самых важных мест. Можно сказать, что она — центр
ее. Связь индивидуального, личностного начала с игрой у Ницше на первый
взгляд кажется проблематичной. Жиль Делез указывает, что «освободившись
от чар Шопенгауэра и Вагнера», Ницше «исследовал мир безличных и
до-индивидуальных сингулярностей». «Есть номадические сингулярности, не запертые
более ни в застывшей индивидуальности бесконечного Бытия (пресловутой
неизменности Бога), ни внутри устойчивых, оседлых границ конечного
субъекта (пресловутые пределы знания). Есть что-то такое, что неиндивидуально, не
лично, но сингулярно; что, в отличие от недифференцированной бездны,
перескакивает от одной сингулярности к другой и бросает кость, делая всегда один
и тот же бросок — заново построенный и расчлененный в каждом бросании»85.
Формы игры достаточно прочно связывают эти до-индивидуальные
сингулярности между собой, поскольку личностное в игре, естественно, приглушается, а
следовательно, на передний план выдвигаются правила игры.
Музыка Юга — а в афоризме речь идет об операх Россини и Беллини —
служила Ницше опорой в попытках реконструировать музыкальное чувство и
восприятие греков. Только через эту музыку, как казалось Ницше, мы можем
найти музыкальный архетип дорефлексивной, спонтанной жизни, ощутить
самодостаточность ее форм. Самым важным, однако, в афоризме стало
стремление Ницше соединить музыкальное чувство итальянцев, детей Юга, с игрой, с
ее спонтанностью и ее главным атрибутом — маской. То, что в
рафинированном, пронизанном рефлексией восприятии эстета вагнеровского толка выглядит
пошлостью, в итальянской опере и плутовском романе выступает прежде всего
как утверждение. Здесь незыблемым остается право человека быть именно тем,
чем он хочет быть. «Оттого ли, что здесь отсутствует стыд и любая пошлость
84 Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? М., 1991. С. 38—41.
85 Делез Ж. Логика смысла. М., 1995. С. 136.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 437
чувствует себя здесь уверенно и проявляет себя без всякого смущения,
заменяя собою в упомянутой выше музыке и романах благородство, обаятельность
и страстность? "Животное имеет такие же права, что и человек: так пусть же
бегает оно свободно, безо всякого стеснения, а ты, любезный мой собрат, как
ни старайся, все же останешься животным" — вот та мораль, какую, думается
мне, можно извлечь, глядя на своеобразное проявление любви к ближнему у
южан»86.
Музыка Юга, давая человеку ощущение самодостаточности и уверенности в
себе, культивирует, как сказал бы X. Ортега-и-Гассет «человеческую животную
грацию». Она несет в себе силу самоутверждения, которое со всей
решимостью защищает в своих правах игровой дионисийский мир. Это музыка оперы,
маскарада, карнавала. Конечно, решающим в этой оценке итальянского чувства
жизни стало воздействие на Ницше гетевского восприятия Италии, и прежде
всего описание римского карнавала.
Гете, как указывалось, видел в карнавале кульминацию игровой жизни
итальянцев, восходящей к античности, эта жизнь переплетена с реальностью, ее
порождающей. Игра у Гете выглядит как усиление, возвышение жизни, и
видимость, созданная игрой, — не метафизическое бегство от реальности, а
самосознание самой жизни с помощью фантазии. В гетевском понимании игра
представляет собой саморепрезентацию жизни. В «Путешествии по Италии»
мы находим значимое для Ницше место, которое можно считать параллелью,
если не интертекстом, по отношению к анализируемому афоризму.
Процитируем гетевский текст еще раз, чтобы сопоставить его с ницшевским афоризмом.
«Целый день напролет на берегу и на площади, на гондолах и во дворце
продавец и покупатель, нищий, моряк, соседка, адвокат и его противник — все живет
и движется, и о чем-то хлопочет, говорит и божится, кричит и предлагает, поет
и играет, сквернословит и шумит. А вечером они идут в театр, где видят и
слышат свою дневную жизнь, искусно вгруппированную, изящно принаряженную,
переплетенную со сказкой, отодвинутую от действительности благодаря
маскам и безликую в бытовом отношении. Этому они по-детски радуются, снова
кричат, хлопают и шумят. Правда, мне не случалось видеть более естественной
игры, чем у этих масок, это достигается только долгими упражнениями при
исключительных природных способностях»87. Кажется, что Ницше в своем
афоризме развивает мысль Гете, дополняя ее и включая созданные Гете картины
в образ воли, наслаждающейся самой собой. Для Ницше оперная итальянская
музыка — составная часть мира игры, который невозможен без маски. Энергию
поэтического языка Ницше, когда он говорит об этом, можно сравнить с
захватывающей дух тарантеллой. Музыка этой прозы завершается несравненным по
своей выразительности и красоте кадансом, в котором высказана одна из самых
глубоких философских мыслей: «Народной была и остается маска! Так пусть же
86 Ницше Ф. Собр. соч. Т. 3. Веселая наука. М, 2001. С. 118—119.
87 Гете И. В. Собр. соч.: в 13 т. Т. 11. М.: ГИХЛ., 1935. С. 89. Подробнее об этом см.: Kayser W.
Goethe und Spiel // Kayser W. Kunst und Spiel. Fünf Goethe-Studien. Göttingen, 1961. S. 30—46; Аства-
цатуров А. Г. Гете и мир игры // Гете. Жизнь. Творчество. Традиции. Санкт-Петербургские Гетевские
чтения / 1998—2001. СПб., 2002. С. 29—33.
438 SL
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
эти маски и все, что им под стать, идут к себе на маскарад и там резвятся вволю
под музыку из тех самых опер, упиваясь всеми этими задорными, бодрящими
мелодиями и виртуозными каденциями! Да и сама античность! Разве можно
разобраться в ней толком, не поняв до конца радость наслаждения маской,
сокровенную суть всякого маскарада! Именно в такие минуты очищается и отдыхает
античный дух, и быть может, такое очистительное омовение в том древнем мире
было более необходимо натурам избранным, возвышенным, нежели простым и
низким»88.
У Ницше речь идет не о том, что у великих личностей возникает
потребность снизойти до толпы, высота личности никогда не может опуститься до
уровня низких натур; не в этом суть озвученной музыкой Юга дионисийской
игры. Великим людям необходима игровая манифестация для преображения,
метаморфозы собственной личности. Снизойти до игры означает здесь выйти за
пределы своей, пусть даже мощной индивидуальности, начать превосхождение
самого себя в стремлении к сверхчеловеческому, открывать для себя новые
горизонты, не застывая в потенциальной мощи. Видимость обрисовывает
нереализованные возможности, а личность вбирает в себя энергию дорефлексивного
состояния, разум начинает действовать с силой инстинкта.
Еще в 1874 г., когда уже явственно обозначилось критическое отношение
Ницше к Рихарду Вагнеру, философ отмечал, что презрительное отношение
мастера к итальянской музыке нехарактерно для великих немецких
композиторов, и здесь Вагнер — исключение. Наоборот, воздействие итальянской музыки
на немецкую способствовало ее высочайшим достижениям у Баха, Моцарта и
Бетховена, не говоря уже о Мендельсоне и Шумане. Вагнера нельзя считать
продолжателем линии венской классики, хотя сам Вагнер видел себя таковым.
Драматическая музыка, т. е. музыка Вагнера, не только исключает дионисийскую
игру, но и извращает природу музыки. Монотематическое развитие и
лейтмотивы, секвеции, использованные в качестве количественного усиления
интонационных формул, казались Ницше натуралистическим изображением чувства в
музыке. Музыка Вагнера неудержимо рвалась в чуждую ей сферу, совершенно
забывая о своем подлинном назначении. Об этом Ницше достаточно жестко
говорит в 163-м афоризме «Странника и его тени»: «Драматическая музыка — для
человека, не видящего, что произойдет на сцене, драматическая музыка такая
же нелепость, как длинный комментарий к давно утерянному тексту.
Драматическая музыка требует, чтобы уши были там, где у нас глаза. Но это насилие
над Эвтерпой: эта бедная муза желает чтобы ей оставили уши и глаза на том же
месте, где эти органы находятся у остальных муз»89.
Если драматическая музыка вагнеровского толка ограничена словом и
является средством для усиления воздействия поэта на зрителя, то музыка Юга —
изначально оперная музыка, играющая в сценическом действе главенствующую
роль. Поэтому в опере поэзия, говоря словами Моцарта, «послушная дочь
музыки». Свободными вариациями на моцартовскую тему стал афоризм «Веселой
науки» — «Искусство и природа». Афоризм построен на непринужденном опи-
88 Ницше Ф. Там же. С. 119.
89 Ницше Ф. Странник и его тень. С. 333.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 439
сании структуры итальянской opera séria. Последняя, как известно, не знает, в
отличие от немецкого зингшпиля, разговорного диалога, а представляет собой
последовательность арий, вокальных ансамблей и речитативов, причем
речитативы здесь двух типов: аккомпанированные речитативы, сопровождаемые
оркестром — важные по ходу либретто патетически акцентированные речитативы
и так называемые recitative secco (сухие речитативы), сопровождаемые
аккордами клавесина. В них голос поет в быстром parlando без мелодического
сопровождения, в полуразговорном тоне. Эти специфические черты итальянской
оперы Ницше объясняет решительным отходом композиторов от естественности.
Композиторы с пренебрежением относятся к поэтическому слову. Главное для
них, чтобы характер музыки определялся сценической ситуацией и не входил
в противоречия с ней. Текст не должен говорить о тех состояниях души, для
воплощения которых необходима целая симфония. Об этом Ницше писал уже
в 1874 году, когда критически осмыслял принципы вагнеровского искусства.
Сейчас же, не отрицая синтетическую природу оперы, Ницше в
противоположность Вагнеру утверждает, что в опере формообразующим принципом является
не поэзия, а музыка, музыкальные структуры: арии, ансамбли и речитативы
образуют оперное целое. Задача музыки в опере заключается прежде всего в том,
чтобы сохранить в ней вечное движение игры, возможности его возобновления
и повторения, то есть принцип возвращения того же самого. Музыка создает
эффект спонтанности игры, не допускает в оперу рефлексию, не отягощает ее
постановками, грозящими стать символом неподвижного бытия. Не отказ от
воли в шопенгауэровско-вагнеровском смысле и не трансценденция звучания
как предчувствие иного, запредельного мира, а актуализация единственной
временной реальности, восхищение происходящим здесь и теперь, жизнью во всех
ее переливах — назначение музыки в опере. Музыка в ней — носитель
спонтанности игры. В итальянской опере séria и opera buffa «всякий композитор изо
всех сил старается сделать все, чтобы действующие лица его оперы были как
можно менее понятными. "Пусть невнимательный слушатель цепляется за
каждое случайно брошенное слово; но в целом все должно быть понятно из
ситуации — вся эта болтовня ровным счетом ничего не значит!" — так думают они
все и, не заботясь о словах, рассовывают их как ни попадя. Наверно, им просто
не хватало смелости выслушать полное небрежение к словам со всей ясностью и
определенностью; пожалуй, только Россини несколько отличался от них в этом
смысле — ему достало дерзости оставить вместо слов сплошное ля-ля-ля. И это
вполне разумно, ведь действующим лицам в опере, как говорится, нельзя верить
на слово — только на звук!»90
В синтетическом целом оперы, где все пронизано музыкой, поэзия должна
сохранять, поддерживать изоморфизм всех структур этого целого, быть изо-
функциональной музыке, не имея собственных целей, гетерогенных
движению музыкальной формы. Эти мысли Ницше стали развитием идей Моцарта
и Гете об особой роли поэзии в опере. «Даже recitativo secco, — продолжает
Ницше, — сочиняется вовсе не для того, чтобы слышали некий текст, вникая
в каждое слово; назначение этой полумузыки иное — музыкальному уху оно
Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. С. 334—335.
440 Sîb
A. Г. Аствсщатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
дает возможность расслабиться и отдохнуть (отдохнуть от мелодии, от самого
утонченного и поэтому самого изнурительного наслаждения, даруемого этим
искусством), но очень скоро все меняется и вместо расслабления появляется
растущее нетерпение, растущее раздражение, и снова возникает страстное
желание услышать гладкую, ровную, связную музыку — мелодию»91. Афоризм этот
завершается остроумной критикой вагнеровской музыки и поэзии. «В
противоположность музыке итальянской они оказываются не игрой, а трудом, музыкой
и поэзией, недоступными непосредственному восприятию; что можно сказать в
этом смысле об искусстве Рихарда Вагнера? Может быть, и у него все так же?
Я помню, мне часто раньше казалось, что слова и музыку его сочинений
следовало бы заучивать наизусть, до всякого исполнения; ибо иначе, — думалось
мне, — нельзя будет услышать ни слов, ни музыки»92.
Цель Ницше доказать, что вагнеровская музыка — тупик, в который мастер
ведет искусство. В «Страннике и его тени» афоризмы, посвященные музыке, —
это уже жесткая полемика с байрейтским кругом, полемика с теми, кто
абсолютизировал художественные принципы Вагнера, кроме того, в них постоянно
слышится протест против пренебрежительного отношения к музыке прошлого,
против резкого сужения слухового опыта эпохи, где доминирует драматическая
музыка, тиранически обращаясь со слушателем. Бывший вагнерианец хочет
теперь освободить немецкую музыку от всего вагнеровского, слышать в ней
Италию, дух итальянской жизни.
Этот дух по разному воплощается у Бетховена и Моцарта. Для него
существуют две жизненные возможности в немецкой музыке: его идеализация,
своего рода трансцендирование, превращение его в красоту, как у Бетховена, и
создание музыки, где непосредственно ощущается дыхание итальянской жизни,
игра. Бетховен возвышает, трансцендирует итальянские мелодии, поднимая их
до высот мира идей. Он превращает их в идеальные прообразы музыки вообще.
Бетховен из более позднего делает более раннее, которое возвращается нам как
анамнез идеального мира звуков. «Музыка Бетховена часто приводит нас в
глубокое умиление, совершенно неожиданно поражая наш слух тою "невинностью
звуков", которая давно казалась нам утраченной; это — музыка, которая выше
всякой музыки. В песне нищих и детей на улице, в однообразных напевах
бродячих итальянцев, в пляске где-нибудь в деревенском кабачке или в веселых
танцах карнавала находит он свои мелодии. Подобно пчеле, собирающей мед,
улавливает он и тут и там то звук, то короткую музыкальную фразу <...> Для
него они составляют преображенные воспоминания "лучшего мира". Такого
мнения был Платон об идеях»93.
Моцартовская музыка все лучшее также взяла у Италии. Но в отличие от
бетховенской она вне метафизического деления мира. Она возникает из
наблюдения над самой жизнью, «над шумной южной жизнью». Эту музыку нельзя
драматизировать, и если это делается искусственно при ее исполнении, то
уничтожается веселый, солнечный, нежный и легкомысленный дух музыки Моцарта,
91 Ницше Ф. Там же. С. 335.
92 Ницше Ф. Там же. С. 335.
93 Ницше Ф. Странник и его тень. М., 1994. С. 328.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 441
дух игры. В ней нет ничего страшного, угнетающего, парализующего человека;
пессимизм не затронул ее. Но эти солнечность и нежность — маски
серьезности, серьезности игры, когда последняя возникает от избытка сил94.
Художником, сохранившим верность духу немецкой музыки, Ницше
считает Феликса Мендельсона, о котором Вагнер в силу своего антисемитизма
никогда хорошо не отзывался. Ницше прекрасно знал музыку Мендельсона, его
симфонические, хоровые и фортепианные произведения. В заметках 1878 г. мы
находим запись о Вагнере. «Отсутствует естественное благородство, которым
обладали Бах и Бетховен, прекрасная душа (Мендельсон), все у него на ступень
ниже»95.
Причиной нелюбви Вагнера и его круга к музыке Мендельсона является
зависть к подлинному таланту, противостоявшему варварскому дионисийству
«Мендельсон, у которого они видят отсутствие силы стихийного потрясения
(кстати сказать: талант еврея Ветхого Завета), чтобы найти эрзац тому, чем он
обладает, свободе в сочетании с законом и благородным аффектом в границах
красоты»96.
Думается, что эта запись о творце «Итальянской симфонии» и «Первой
Вальпургиевой ночи» стала основой для прекрасного афоризма о нем в «Страннике и
его тени». Смысл афоризма в том, что в истинном артисте Мендельсоне не было
стремления представлять свое искусство, свою музыку как искусство будущего.
Слух Мендельсона был открыт музыке прошлого. Зная, как хорошо композитор
понимал музыку Баха, какую роль он сыграл в возрождении интереса и вкуса
к ней в Европе, прекрасно осознавая, что за высокопарными высказываниями
Вагнера о Бахе ничего не стоит, поскольку Вагнер на самом деле был
совершенно равнодушен к этой музыке, Ницше видит в Мендельсоне композитора,
который никогда не вступал в конфронтацию с искусством прошлого. В музыке
Мендельсона нет отчуждения от настоящего во имя будущего, нет вражды к
своему времени. Чуткое ухо Ницше слышало и улавливало в этой музыке
многое из того, что он находил только в чудовищном количественном увеличении
у Рихарда Вагнера. Поэтому в афоризме мы находим упрек Вагнеру, который,
конечно, не отличался искренней благодарностью своим предшественникам.
«Музыка Феликса Мендельсона служит доказательством его вкуса ко всему, что
было до него. Она постоянно указывает на прошлое. Поэтому мог ли
Мендельсон иметь многое впереди или рассчитывать на далекое будущее? Да и вопрос,
добивался ли он этого... Он обладал одной добродетелью, которая редко
встречается между артистами: в нем было развито чувство признательности без
всяких задних мыслей»97. Скорее всего, именно эту черту артистизма Мендельсона
Ницше связывал с Гете: «К чести Мендельсона: есть в нем одна из гетевских
стихий, и больше ни в ком!»98
94 Ницше Ф. Там же. С. 332.
95 Nietzsche F. Werke. Leipzig. Bd. 4. S. 464.
96 Nietzsche F., op. cit. S. 465.
97 Ницше Φ. Странник и его тень. С. 330.
98 Ницше Ф. Черновики и наброски. 1885—1887 // Ницше Ф. Полное собрание соч. Т. 12. М., 2005.
С. 82.
442 ®l
А. Г. Аствсщатуров. ПОЭЗИЯ ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Неизменной на протяжении всей жизни Ницше оставалась его любовь к
музыке и личности Фридерика Шопена. «Я сам все еще достаточно поляк,
чтобы за Шопена отдать всю остальную музыку», — читаем мы в «Ессе Homo»99.
По свидетельству Петера Гаста, Ницше часто просил играть ему Шопена.
В «Страннике и его тени» два стилистически совершенных афоризма дают нам
портрет композитора через его искусство. Сравнение Шопена с Леонардо и
Рафаэлем, бесспорно восходит к Генриху Гейне, называвшего Шопена «Рафаэлем
фортепиано». Шопен, как и Мендельсон в сознании Ницше противостоял как
личности, так и музыкальности Рихарда Вагнера. Многие факты из биографии
композитора были известны Ницше, в частности из книги Листа о Шопене.
Характер польского гения для Ницше отражался в его музыке. Обаятельная
сдержанность, аристократизм манер, врожденная грация, отсутствие злопамятства,
нежелание деспотически покорять своим искусством слушателей — все это при
твердости убеждений относительно музыки способствовало сохранению
исключительной душевной чистоты, «мало затронутой и никогда не
оскверненной жизненными бурями». Эти качества Шопена, отмеченные в книге Листа100,
контрастировали с тем, что Ницше видел в Вагнере. Ницше-музыкант
улавливал особое пристрастие Шопена к итальянскому мелосу, умение облагородить
его, сохранив рафаэлевскую чистоту линий и тонов. Первый афоризм о Шопене,
названный «Свобода в оковах — царственная свобода», следует в книге после
афоризма «Одна матерь искусства», стрелы которого нацелены на Вагнера —
автора «Парсифаля»: «Благочестие его выражается в грубом тщеславии,
доходящем почти до геройства»101. Удар по автору последней католической церковной
музыки, по Вагнеру, наносится образом шопеновской музыки. Шопен понимал
красоту и молился на нее, у него «то же царственное благородство в соблюдении
музыкальных условностей, какое выказывал и Рафаэль своим употреблением
простых и обыкновенных красок»102. Соблюдая условности, Шопен все
превращает в совершенство, а это стремление к совершенству является сущностью
искусства, другими словами, стремлением везде хорошо играть103. И если Ницше
сравнивает Шопена с Рафаэлем, то это означает, что в Шопене дает о себе знать
мощная антихристианская тенденция его музыки. Ницше знал о равнодушном и
скептическом отношении Шопена к религии. Шопеновское поклонение красоте
мыслится Ницше как поклонение жизни, и близость Рафаэля и Шопена именно
в этом. «Не надо впадать в детство и возражать, дескать, а как же Рафаэль, или
кивать на каких-нибудь христиан гомеопатической концентрации. Рафаэль
говорил "да" и так же творил — значит христианином он не был.. .»104.
«Оковы этикета», «цепи условностей» мыслятся необходимыми и не
мешают свободному грациозному духу резвиться. Деятельность духа не направлена
на их уничтожение. Они превратились в правила игры, и отношение духа к ним
изначально позитивное, жизнеутверждающее и легкое. Дух играет.
99 Ницше Ф. Собр. соч. Т. 4. М, 2001. С. 290.
100 Лист Ф. Шопен. М., 1956. С. 246.
101 Ницше Ф. Странник и его тень. С. 330.
102 Ницше Ф. Там же. С. 331.
103 Ницше Ф. Собр. соч. Т. 4. С. 143.
104 Ницше Ф. Там же. С. 144.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
J& 443
«Баркарола» Шопена— один из самых красивых афоризмов Фридриха
Ницше. Это — гимн музыканту, не отрекающемуся от жизни, не уносящемуся
в транцендентные сферы, а умеющему своим искусством усилить жизнь. В то
же самое время — это имманентный жизни и искусству символ, показывающий,
какие возможности в создании красоты таит в себе жизнь. Ницше не дает нам
описания баркаролы. О ней говорится только в последнем предложении этого
стихотворения в прозе. Уже в начале афоризма в форме жесткого
утверждения проводится мысль, что жизнь, какой бы обыденной, низкой, безжалостной,
больной она ни была, не может стать препятствием для создания прекрасного.
Ницше, несомненно, знал, что Шопен создавал это великое произведение в
последние годы жизни (1846), уже будучи смертельно больным. «Почти в любом
состоянии, при любом образе жизни могут быть блаженные минуты» (einen
seligen Moment). Это предложение уже само по себе — афоризм, провоцирующий
следующую мысль: те, кто находят этот момент, может быть, единственный
момент, который через художественное преображение может возвысить жизнь, —
великие художники. А затем следует контраст, полная противоположность
красоте баркаролы: «Подобные минуты встречаются даже в жизни на морском
берегу — жизни скучной, грязной, нездоровой, протекающей среди шумной,
алчной толпы всякого сброда». Если среди моментов нисходящей, больной,
деградирующей жизни возникает тот блаженный миг, который «Шопен в своей
баркароле изобразил с такой звучностью, что сами боги в долгие летние вечера не
отказались бы лежать в челноке и наслаждаться ею», то это — момент рассвета
любовного чувства, воплощенный Шопеном. Он — не случайность, он —
необходимое возвышение жизни, воли к ней. В этом смысле искусство Шопена
стало выражением «благодарности за изведанное счастье»105.
Ницшевская баркарола, стихотворение «Венеция», написано под
несомненным влиянием шопеновского шедевра. Лаконичность и совершенство звукописи
делают его поэтическим аналогом музыки Шопена106.
An der Brücke stand
jungst ich in brauner Nacht.
Femher kam Gesang:
goldner Tropfen quoll's
über die zitternde Fläche weg.
Gondeln, Lichter, Musik
trunken schwimm's in die Dämm'rung hinaus...
Meine Seele, ein Saitenspiel,
sang sich, unsichtbar berührt
heimlich eir Gondellied dazu
zitternd vor bunter Seligkeit.
— Hörte Jemand ihr zu.
105 Ницше Φ. Полное собр. соч. Т. 12. С. 108.
106 Подробную интерпретацию этого стихотворения см. в книге: Лейбель Е. Ницше: образы и
мифотворчество. СПб: Петроний, 2008. С. 73—77.
444 Si-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФМАОСОФИЯ. ИГРА
В свободном ритме начинает звучать эта баркарола, ассонансной игрой,
музыкой гласных. Визуальный ряд содержит в себе также акустические образы.
Поэт ищет и находит поэтический аналог красочным трелям первого раздела
шопеновской баркаролы: goldner Tropfen quoll's / über die zitternde Fläche weg.
Теперь уже ассонансы и аллитерационная цепочка совместно создают музыку
этого стихотворения, не убаюкивающую, а наоборот, выводящую из
сомнамбулического состояния, в которое может привести душу brunno notte. Взлет брызг,
светящихся, искрящихся от огней гондол приводит спокойную гладь воды в
движение, вода не мертва. Как указывал Гастон Башляр, для позднего Ницше в
отличие от Ницше — автора «Рождение трагедии» вода — нелюбимая стихия.
В ницшевской баркароле не идет речь о растворении феноменов в
метафизических стихиях. По сравнению с «Рождением трагедии» изменения здесь
разительные. В первой книге Ницше, как пишет Гастон Башляр, «трагический мир
выталкивает феноменальный мир к самым его пределам, когда он уже отрицает
сам себя, стремясь возвратиться в лоно истинной и единственной реальности, и
тогда кажется, что он, подобно Изольде, напевает эту метафизическую
лебединую песнь:
In des Wonnemeeres
wogendem Schwall,
in der Duft-Wellen
tönendem Schall
in des Weltathems
wehendem All —
ertrinken — versinken
unbewußt — höchste Lust!107
Процитировав вагнеровский текст в том виде, как он дан в «Рождении
трагедии», Гастон Башляр называет метафизическое снятие феноменального мира
жертвоприношением, «которое уничтожает живое существо, топя его в
благоуханных волнах; которое воссоединяет живое существо с целым
мирозданием, что вечно трепещет и укачивает, подобно морскому течению. Что же это за
жертвоприношение, от которого живое существо погружается в такое упоение,
что не осознает ни собственной гибели, ни собственного счастья — и при этом
поет?»108
Противоположного эффекта достигает Ницше в своем стихотворении. Не
метафизическое счастье погружения и растворения в природе, в некой вечной
жизни, наоборот, «золото брызг» как раз открывает созерцателю
неповторимость реального, а не метафизического мира, мира множественности,
переливающегося красками, звуками, очертаниями гондол. Этот мир приближается к
человеку, заполняет его сознание. Непроницаемая тьма разъята звуком и светом.
Захват души таким миром вызывает ее опьяненность. Сопоставляя
стихотворение Ницше с ее «претекстом», с шопеновской баркаролой, можно отметить
107 Nietzsche F. Werke. Bd. 1. S. 187.
108 Башляр Г. Вода и грезы. М., 1998. С. 66.
VI. О музыкальной эстетике Φ. Ницше
JB 445
и стилистические особенности. Особенностью композиционной техники
Шопена в его «Баркароле» является создание звуковых концентраций, ярко
звучащих кульминаций, возникших из извилистых, можно сказать, узорчатых тем.
Ницшевский синтаксис также демонстрирует подобную извилистость и
узорчатость, каскадоподобное движение лирического высказывания; ассонансы и
аллитерации выполняют здесь колористическую функцию109.
Вторая строфа, соответствующая последнему разделу и завершению
«Баркаролы» Шопена, — это пение души, которого никто не слышит. Стихотворение,
как и музыка польского гения, отличается чистотой и целомудрием. В них нет,
как сказал бы Томас Манн, вагнеровской, корридоподобной страсти тристанов-
ских мелодий. В них звучит страстность вдохновения. Полночный дионисий-
ский мир проясняется, превращаясь в красоту, которая укоренена в игре жизни,
рождающей мгновение, и это мгновение неотменяемо, ибо оно — сокровенная
красота игры, праздненства жизни. Мир музыки Юга у Ницше многолик, и было
бы тщетным пытаться в его философской прозе и поэзии найти точное,
непротиворечивое описание этой музыки. Открытый характер его текстов полностью
исключает такую возможность. Авторефлексивность ницшевской прозы, не
говоря уже о поэзии, ведет нас к ее интерпретациям.
Музыку Юга нельзя отделить от образов ее создателей, от личностей,
охваченных ее духом, и эти образы во многом уже художественные образы. Не
видеть особую остраненность означает, на наш взгляд, попросту игнорировать
форму ницшевской экспериментальной философии, навязывать ей, чего в ней
нет, и превращать ее в мертвую систему, вместо того чтобы анализировать в ней
великое искусство. Есть, однако, общее, что объединяет образы творцов
музыки Юга. Это — свобода игры, всегда присутствующая во всех ее стадиях.
Моцарт — неповторимость жизни в игре, Бетховен — метафизические искушения
жизнью, Мендельсон — благодарность всем за открытие ему сфер свободы, где
композитор демонстрировал дарящую добродетель своего таланта. Шопен —
очарование красотой и совершенством формы, в которую сложены благородство
и аристократизм души. И если говорить о последнем увлечении Ницше,
Жорже Визе, чья «Кармен» служила позднему Ницше антитезой Вагнеру, то здесь
философ-поэт видел обнаженность человеческих страстей в их естественном
проявлении.
Музыка, рожденная игрой и сохраняющая в себе частицу южного солнца,
рассматривалась Ницше как провозвестница музыки будущего, которая будет
противостоять декадентской музыке настоящего. В письме Петеру Гасту от
19 ноября 1886 года Ницше говорит о музыкальном искусстве, полностью
защищенном от всех тенденций эпохи модерна, парализующих жизнь. «Требуется
антиромантическое программное высказывание о музыке; чтобы в музыке была
не воля "к морали" и "подъему народного духа", но искусство, arts, искусство
для художников, некая божественная идифферентность, некая непозволитель-
109 Эти особенности ницшевского идиолекта подробно и прекрасно проанализированы в статье
Г. В. Снежинской. См. Снежинская Г. В. Интонационный рисунок и некоторые стилистические
особенности поэтически-философского текста Ф. Ницше // Вестник Института иностранных языков.
2003. № 1.С. 112—120.
446 SL
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
ная лучезарность за счет "важных вещей", искусство как чувство превосходства,
как "возвышенность" по отношению к низине политики, Бисмарка, социализма
и христианства и т. д. и т. д.»110. В этой музыке будет восстановлена гармония
целого и детали, ритм перестанет быть выражением аффекта, он будет властвовать
над ним, морально и эстетически он станет уздой для страсти, а музыка —
чистой игрой, свободой воли.
Игра для Ницше всегда существует в форме метаморфоз, и эти
метаморфозы — жизнь музыки Юга. Дионисийское начало в своих вечных метаморфозах
обусловливает возможность эксперимента над жизнью, и здесь именно диони-
сийская тяга к игре позволяет видеть как в познании, так и в искусстве особую
перспективу жизни. В «Веселой науке» Ницше пишет: «Нет! Жизнь меня не
разочаровала! С каждым годом она кажется мне все более богатой и желанной,
таинственной с того самого дня, когда меня осенила великая освободительница:
мысль о том, что жизнь может быть экспериментом познающего, а не долгом,
проклятием, обманом!»111 Таким великим экспериментом, в том числе и
экспериментом над своей собственной жизнью, были философия и поэзия Ницше.
110 Ницше Ф. Письма. М., 2007. С. 264—265.
111 Ницше Ф. Собр. соч. Т. 3. С. 258
VIL
Вместо заключения
VIL Вместо заключения
J& 449
1. Фаустовский код Петербурга
В третьей книге романа Дмитрия Мережковского «Петр и Алексей»
фрейлина кронпринцессы Шарлотты, жены царевича Алексея, Юлиана Арнгейм делает
интересную запись 14 ноября 1714 года: «Нам дали рукописную афишу о
предстоящем в другом балагане зрелище: "С платежом по полтине с персоны,
итальянские марионеты или куклы, длиною в два аршина, по театру свободно ходить
и так искусно представлять будут, как почти живые, Комедию о Докторе Фавсте.
Також и ученая лошадь будет по-прежнему действовать"»1. Юлиану поразило
название представления. Если обратить внимание на дату записи, то можно
заметить, что с момента основания новой столицы России прошло немногим
более одиннадцати лет и город уже обнаружил характер своего создателя. Умная
фрейлина, конечно, знает легенду своего народа о человеке, продавшем душу
дьяволу, но удивлена тому, каким образом судьба известного безбожника
связана с ученой лошадью, впрочем, живя в России, Юлиана уже привыкла ничему
не удивляться: «Признаюсь, не ожидала я встретить Фауста в Петербурге, да
еще рядом с ученой лошадью»2.
У больших писателей, в особенности у символистов, ничего никогда
случайным не бывает, и сказанное выше определенно направляет мысль читателя на
поиски аналогий, и аналогии возникают сразу при сопоставлении как народной
книги и кукольной комедии, так и мировой драмы Гете с эстетической
реальностью романа Мережковского, тем более что в последнем борьба божественного
и дьявольского, Христа и Антихриста достигает своей мощной кульминации
и Петербург, место этой борьбы, у Мережковского несет на себе ее черты.
Город — не нейтральное пространство, а место созидания и гибели.
Петербург — единственный европейский великий город, который не имел
средневековой истории; изначально он был городом Нового времени, и в нем это
время проявляет себя во всей своей сложной противоречивости. Он, возникший
из «тьмы лесов, из топи блат», не обнаруживает специфически органического
роста и выглядит в самом начале своего возникновения как упорная
механическая борьба с природой, поглощающая живое, органическое во имя создания
некой неразрушимой цельности, построенной по законам механики. Читая роман,
мы видим, что город строит несовершенный демиург, охваченный
демоническим порывом, при этом демония Петра также несет на себе печать рационализма
эпохи, обратной стороной которой является непроницаемая иррациональность
человека, считающего себя абсолютным властителем природы. Неслучайно
Освальд Шпенглер называл человека Нового времени «фаустовским человеком».
Для Гете этот человек демоничен и связан с духом Люцифера. В мифе о
Люцифере, который мы находим в восьмой книге «Поэзии и правды», создававшейся,
1 Мережковский Д. С. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 426.
2 Там же. С. 426.
450 SL
А. Г. Аствсщатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
когда уже началась работа над второй частью «Фауста», дух Люцифера
понимается как «созидательная сила», доказывающая свою безграничную
дееспособность, что выразилось в создании Люцифером материи, ставшей объектом его
деятельности. Однако эта деятельность исходила от Люциферовой
односторонности: «сотворенному» Люцифером «бытию недоставало лучшей его
половины: ибо в нем было все, что может дать концентрация, сплоченность, и не было
ничего, что дает экспансия, распространение»3. Созданный по образу и подобию
Божьему человек оказался, как считает Гете, «в положении Люцифера», то есть
был одновременно «и безусловен, и ограничен». «Прошло немного времени, и
он в точности сыграл роль Люцифера. Покинуть своего благодетеля — высшая
форма неблагодарности, и это вторичное отпадение возымело столь же великие
последствия, ибо весь сотворенный мир был и есть не что иное, как вечное
отпадение и вечный возврат к первоистоку»4. В гетевском учении о деятельности,
в частности, в представлении о деятельном человеческом духе как об энтеле-
хийной монаде со свойственным последней движением как от первоистока, так
и к нему, центру мироздания, демоническое начало играет важную роль, в
особенности тогда, когда речь заходит о воздействии монад друг на друга. Поэтому
очень часто более простая, но демонически сильней заряженная энтелехийная
монада способна оказывать свое неукротимое воздействие на более сложную;
таково влияние Мефистофеля на Фауста, который, в свою очередь, является
носителем определенного демонизма, что, собственно, характерно, согласно Гете,
для человека Нового времени. Это время демонично по сути, тая в себе образ
Антихриста.
Дьяволом кажется Петр безумной царице Марфе, вдове царя Федора,
сводного брата Петра, и Антихрист видится ей немцем: «Я его сразу узнала. Рослый
такой да рыжий, а кафтанишка куцый, немецкий; во рту пипка, табачище
тянет; рожа бритая, ус кошачий»5. Царевич Алексей сразу же понял, что к Марфе
приходил его отец. Однако бред безумной передается ему и начинает его
захватывать, ведь Петр для многих людей несет в себе нечто дьявольское.
Просвещенной Юлиане Арнгейм увеселения царя кажутся сатанинской мессой, и
описание лица Петра ничем не отличается от того, каким его видит сумасшедшая
царица Марфа: «У меня в глазах темнело. Человеческие лица казались
какими-то звериными мордами, и страшнее всех было лицо царя — широкое,
круглое, с немного косым разрезом больших, выпуклых, точно выпученных глаз,
с торчащими кверху острыми усиками — лицо огромной хищной кошки или
тигра. Оно было спокойно и насмешливо. Он был один трезв и с любопытством
заглядывал в самые гнусные тайны, обнаженные внутренности человеческих
душ, которые выворачивались перед ним наизнанку в этом застенке, где
орудием пытки было вино»6. Петр у Мережковского обладает как фаустовскими, так
и люциферовскими чертами. И в этом переплетении человеческого и
сатанинского деятельность царя остается непросветленной, постоянной концентрацией
3 Гете И. В. Собр. Соч. в 10 т. Т. 3. М., 1976. С. 296—297.
4 Гете И. В. Указ. Соч. С. 297.
5 Мережковский Д. С. Указ. соч. С. 390.
6 Мережковский Д. С. Указ. соч. С. 409.
VIL Вместо заключения
JB 451
усилий, которые приводят к тому, что созданное Петром таит в себе источник
гибели, разрушения. И разрушителем созданного оказывается сам царь. Это,
бесспорно, фаустовские черты основателя Петербурга. Когда мы читаем роман
Мережковского, где описан Петров Парадиз, то сразу же становится ясно, что
фаустовский код работает на нашу тему. Здесь, конечно, важен пятый акт
второй части гетевской трагедии, и прежде всего эпизод с Филимоном и Бавкидой
как противопоставление хижины двух стариков дворцу самовластного
покорителя природы. И весь конфликт пятого акта распространяется и на всю Россию,
и, конечно, на страшную борьбу отца с сыном, то есть на частный случай
конфликта Петра с Россией вообще. Было бы совершенно прогрессистской
натяжкой видеть в русской истории и в трагических событиях романа драматическое
крушение старого под натиском Нового времени и видеть в великом
преобразователе человека, сметающего все отжившее, мертвое, которое не может дать
никаких ростков новому.
Образ, созданный Мережковским, оказывается многомерным.
Деятельность Петра, изображенная в романе, выглядит при этом уничтожением
жизни и бессознательной консервацией старой, отброшенной истории, отжившего,
и, естественно, воскрешением архаического, которому Петр пытается придать
карнавальные, буффонные формы. Скажем жестче, используя ницшевскую
типологию дионисийского: формы исключительно варварского дионисийства,
которые, несомненно, являются кривым зеркалом механицизма
царя-реформатора. На фоне умерщвляющего порядка духа, рассматривающего все живое
через призму механики и таким образом создающего Парадиз, мы видим
уничтожение живой карнавальной стихии и жизненной силы дионисийства. Именно
так выглядят в романе забавы царя. Его карнавал — это не праздник, который
народ дает самому себе и для себя, а отчаяние барочного человека, который
судорожно стремится продлить свою жизнь, прекрасно осознавая бренность
всего сущего. Этому барочному человеку очень хочется примкнуть к вечности.
Метафизическую пьесу ему хочется сыграть в посюстороннем мире, видя при
жизни цикличность и необратимость своих деяний. А деяния на самом деле не
доводятся до конца, не создают прочных основ, распространяя вокруг себя
абсурдную хаотичность, выливающуюся, в свою очередь, в перманентную
Вальпургиеву ночь, на которой присутствует сам Сатана. Фрейлина Юлиана говорит
о бесчисленных масках Петра, за которыми невозможно увидеть его сущность.
Две совершенно противоположные стихии объединяются в царе: огонь и вода,
демонизм обоих начал. Если воспользоваться гетевской символикой, то первая
даст нам образ Сейсмоса, вулканическую стихию, вызывающую катастрофы,
которые выглядят как безумная Люциферова концентрация, угрожающая
бытию. Вторая стихия — это изначальный хаос, постоянно возвращающийся в
деятельности царя. «Он окружил себя масками. И "царь-плотник" не есть ли тоже
маска — "машкерад на голландский манир"? и не дальше ли от простого народа
этот царь в простоте своей, в плотничьем наряде, чем старые московские цари
в своих златотканных одеждах»7. Сам царь выглядит как торжество барочной
иллюзорности, которую творит динамизм времени.
7 Мережковский Д. С. Указ. соч. С. 420.
452 S^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФМАОСОФМЯ. ИГРА
Царь запустил часы Нового времени, но не дает ему органически прорасти и
сам действует как коса Сатурна. Однако великий преобразователь сам во власти
времени и как барочный человек ощущает его власть на самом себе. Он только
земной бог, причем, как показано в романе, стареющий бог, смертный.
Повторением того же самого, регулярностью царь стремится к какому-то тождеству
России с собой. В барочном законе бренности всего сущего для Петра не находится
ни одной лазейки, чтобы этого закона избежать. Петр находит единственную
возможность, как это ему кажется: сделать всех зеркалами своих масок,
утвердить свое Петрово обличье как некую метафизическую данность. Он хочет
сохранить себя после смерти как деятельность. И здесь происходит крушение всех
надежд. Алексей оказывается иным. Это не материя, из которой можно лепить
собственные маски; он — не зеркало, в которое можно смотреть и видеть себя
в нем. Отсюда и вся трагедия отца и сына. Бессмертия не состоялось;
бессмертия не состоялось в родном сыне. Следовательно, такой сын права на жизнь не
имеет.
Если вернуться к эпизоду с Филимоном и Бавкидой, то он, как уже
указывалось, символически охватывает многие события в романе. Топос «хижина
и дворец» был политически актуализирован в 1792 году как пароль войны во
время Французской революции. «Мир хижинам, война дворцам», конечно, не в
форме борьбы, а в форме противопоставления восходит к Горацию, Вергилию
и Сенеке, у которых скромная хижина, олицетворяющая мирный,
благочестивый, набожный образ жизни, довольствующийся малым, противостоит
роскошному дворцу, где свили гнездо властолюбие, преступление, беспокойство
и волнение8.
Противопоставление хижины Филимона и Бавкиды дворцу Фауста целиком
подчиняется известной формуле Горация:
Бледная ломится смерть одной все и тою же ногою
В лачуги бедных и в царей чертоги 9.
Преобразователь природы, благодетель человечества Фауст находится в
такой же исторической ситуации, что и его исторический двойник Петр. Фауст, не
видя вырытую для него могилу, пытается отвоевать землю у моря и охваченный
алчностью собственника хочет изгнать старых жителей с их земли. Дворец
Фауста контрастно противопоставлен жилищу, где ютятся рабы, труженики,
призванные осуществить грандиозные планы Фауста:
Первыми из поселений
Были хижины одни,
Но затем среди растений
И дворец возник в тени 10.
8 См. Об этом подробнее: Schöne Α. Goethe. Faust. Kommentare. Frankfurt am Mein und Leipzig,
2003. S. 718—719.
9 Гораций. Оды. Книга 1. 4. / пер. А. П. Семенова-Тян-Шанского.
10 Гете И. В. Фауст. Впервые в переводе К. Иванова. СПб: Имена, 2005. С. 526.
VII. Вместо заключения
JB 453
Это слова Филимона, из которых видно, что дворец и хижина не только
исключают друг друга, но от хижины через ее обитателей исходит предчувствие
смерти.
Звон колокольчика того
И ароматы лип густые
Мне ощущения дают —
Как будто церкви и могилы11.
С другой стороны, дворец бросает на хижину тень смерти, ибо Фауст
одержим идеей завладеть тем местом, где стоит хижина, так как оттуда открывается
лучший вид на его владения. Апостолом фаустовской созидательной
деятельности, точнее, ее демонизма выступает Мефистофель, который, прибыв из
разбойничьего морского похода, радуется добыче, позволяющей оплачивать
осуществление созидательной мечты Фауста. Во дворец сносят награбленное, все
расставляют по залам; по случаю прибытия кораблей будет веселый праздник:
«А птицы пестрые прибудут в эти дни». От Мефистофеля можно ожидать
только двусмысленности и непристойности12. Иного торжества под руководством
Мефистофеля быть не может. А далее раздается похвала мудрости великого
преобразователя, обращенная к нему самому:
Ты можешь сам себе сказать,
Что мир тебе — рукой подать.
Отсюда труд нам появился,
Здесь был сколочен первый дом,
Там — ров галерный углубился,
Где весла бряцают кругом.
И слуг покорнейших орда
Себе в награду море, землю
Уж получили навсегда13.
И все это результат деятельности особой троицы, которая в этом мире
заменяет Троицу Святую: война, торговля, пиратство. Наконец, последнее в
трагедии упоминание дворца исходит от того же Мефистофеля:
Здесь эмиграция в межу изо дворца;
Что может быть глупей подобного конца!14
11 Там же. С. 531.
12 Die bunten Vögel— это и корабли из дальних стран, и матросы с них, а также die bunt-gekleideten
Hurenvögell (пестро одетые блудницы); vogelen— в средневерхненемецком означает совокупляться.
Из слов Мефистофеля становится понятно, что на праздник во дворец привезут проституток для
матросов. См.подробнее: Gaier U. J. W. Goethe. Faust. Der Tragödie Zweiter Teil. Stuttgart, 2004. S. 233.
13 Гете И. В. Фауст. Впервые в переводе К. Иванова. СПб.: Имена, 2005. С. 531.
14 Там же. С. 544.
454 S^
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Что представляет собой дворец, из которого последний раз выйдет Фауст,
чтобы попасть, как сказано у Гете, в тесный дом, ins enge Haus. Дворец
построен во французском стиле, во французской манере разбит и парк перед дворцом;
все сделано по версальскому образцу, подобно дворцу Петергофскому. Дворец
и парк — символы абсолютистского порядка, и этот абсолютизм роднит Фауста
и Петра.
Родство выражается в том, что преступление Фауста по отношению к
Филимону и Бавкиде — это парадигма почти всех деяний Петра Великого, потому
что хижина двух стариков, на которую зарится Фауст, «была настолько
ненавистна властелину вновь отвоеванной для людей земли, как всему подчиняющему
природу разуму ненавистно все, что не схоже с ним»15. Хижина и дворец — не
только формула бинарной оппозиции. Важно здесь другое. Если от хижины и ее
обитателей Фаусту приходит предчувствие смерти, то Фауст хочет уничтожить
это напоминание, ведь колокольный звон говорит ему о бренности, о
приближающейся смерти.
Убрать с глаз прошлое, постоянно утверждать себя только в будущем —
принцип целестремительных практик Фауста. В романе Мережковского Петр почти
во всех случаях ведет себя подобным образом. Все его решения — результаты
тоталитарного господства, которое не терпит ничего индивидуального, а
приемлет лишь тождество с собой. В данном случае речь идет о фундаментальном
феномене политической власти, с ее притязаниями на все сущее:
Ein wenig Bäume, nicht mehr eigen
Verderben mir den Weltbesitz.16
На западной окраине империи строится город, который стал ее столицей.
Власть, ее строящая, иного принципа, кроме централизации, не терпит, жестоко
подавляя сопротивление ему, ибо в нем она видит единственную возможность
воплощения себя как власти.
В 1830 году в разговоре с канцлером Мюллером Гете, подчеркивая большую
роль Великой герцогини Марии Павловны в жизни Веймара, особенно в
социальном отношении, сказал: «Стремление правильное и похвальное, но у нее
ложное русское понятие централизации. Веймар был только тем и интересен,
что он никогда не был центром. Здесь жили значительные люди, не выносившие
друг друга; это было самое жизненное из всех отношений, дававшее импульс и
каждому сохранявшее его свободу»17.
Судьба наделила великий город разными доминантами. Город не стал
зеркальным отражением внутренней формы своего основателя. Выражаясь языком
Гете, порожденное оказалось с течением времени гораздо лучше породившего
и во многом, если не во всем, ему противоречило, пытаясь изжить несвободу и
ставящий под угрозу само существование города чудовищный хтонизм власти,
ее демоническую регулярность. Судьба дала городу неповторимую красоту, но
15 Адорно Т. В. К заключительной сцене «Фауста» // Коллегиум. СПб, 2004. С. 190.
16 Goethe J. W. Faust. 11241—11242.
17 Müller F. von. Unterhaltungen mit Goethe. Weimar, 1982. S. 193.
VII. Вместо заключения
JB 455
обделила его тем, о чем сказал Гете, и было бы историческим чудом, если бы он
когда-нибудь эту свободу обрел.
2. О квазимузыкальных структурах в «Фуге смерти» П. Целана
I
Черное молоко рода мы пьем его вечером
пьем в полдень утром пьем ночью
мы пьем и пьем
мы роем могилу в небе там хватит места всем
в доме живет человек он змей заклинает он пишет
он пишет в Германию когда темнеет твоих волос золото Гретхен
он пишет и выходит из дома и звезды ему сияют
он свищет своих псов он свищет своих жидов
он велит рыть могилу в земле приказывает пляшите
II
Черное молоко рода мы пьем тебя ночью
пьем утром и в полдень вечером пьем и пьем
в доме живет человек он змей заклинает он пишет
он пишет в Германию когда темнеет твоих волос золото Гретхен
пепел твоих волос Суламита мы роем могилу в небе
там хватит места всем
III
В руке у него пистолет грозит он им голубоглазый
он кричит втыкайте глубже в землю лопаты
эй вы пляшите
IV
Черное молоко рода мы пьем тебя ночью
пьем утром в полдень вечером
пьем и пьем
в доме живет человек твоих волос золото Гретхен
пепел твоих волос Суламита он змей заклинает
Он кричит играйте сладкую музыку смерти смерть маэстро из Германии
кричит темней скрипки стройте вы вознесетесь как дым
в небе могила будет у вас там хватит места всем
VI
Черное молоко рода мы пьем тебя ночью
пьем в полдень смерть маэстро из Германии
пьем тебя вечером утром пьем и пьем
смерть голубоглазый маэстро из Германии
456 ®ь
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
свинцом он настигнет тебя сразит тебя наповал
в доме живет человек твоих волос золото Гретхен
он травит нас псами могилу в небе нам дарит
он змей заклинает и грезит смерть маэстро из Германии
твоих волос золото Гретхен
пепел твоих волос Суламита
(Пер. Е. Лейбель)
Произведения словесного искусства, по воле их автора имитирующие
музыкальные структуры, не столь редки в литературе18. Двадцатый век не стал
здесь исключением. Сознательная экстраполяция этих структур на
словесную ткань и подчинение последней принципам музыкального
формообразования — если не частое, то, во всяком случае, заметное явление как в прозе,
так и в поэзии. Рождались словесно-музыкальные «фантазии», «ноктюрны»,
«симфонии», а также «фуги». Сразу же бросался в глаза экспериментальный
характер таких имитаций, который особенно ярко проявился у Джеймса
Джойса. В «Улиссе» знаменитая фуга с каноном в эпизоде «Сирены» даже друзьям
писателя казалась экстравагантным начинанием, хотя этому можно было бы
найти эстетическое обоснование: искусство слова, высшее из искусств, может
абсолютно все, даже имитировать движение тем в таком строгом
музыкальном построении, каковым является фуга. Действительно, джойсовская фуга,
дающая нам звучание заполненного локального пространства, звучания,
отраженного в сознании, максимально приблизилась к музыкальной стихии.
Комментаторы этой прозы обычно отмечают, что орган, сопоставляемый эпизоду
«Сирены», — ухо, а искусство, творящее эпизод, — музыка. Символ «Сирен»
у Джойса— барменши ресторана «Ормонд». Омузыкаленное слово в
эпизоде исключило из него цвет. Уже в фугированной увертюре «Сирен» со всей
очевидностью явила себя главная интенция авторского сознания — заставить
слово звучать как музыка.
Бронза и золото услыхали цокопыт сталезвон
Беспардон дондондон
Соринки соскребая с заскорузлого ногтя. Соринки.
Ужасно! И золото закраснелось сильней.
Сиплую ноту флейтой выдул
Выдул. О, Блум, заблумшая душа19.
Внимание писателя сосредоточено прежде всего на акустическом
феномене слова, который сближается с музыкальным звуком, и связь этих феноменов
образует такую словесную ткань, которая имитирует музыку. Повествование
18 В немецкой литературе поэтическое освоение музыкальных форм и их имитация получили
распространение начиная с романтизма. Инициатором такой игры в музыку был Людвиг Тик («Принц
Цербино»). Конечно, нельзя здесь не упомянуть и европейский символизм, где стремление связать
слово с музыкой, вторгаясь в «музыкальное начало» всех вещей, было определяющим.
19 Джойс Дж. Улисс. М., 1993. С. 198.
VII. Вместо заключения
J& 457
превращается в эстетическую игру, как бы извлекающую из вещей их
музыкальную основу, заставляющую бытие звучать. Из глубин вещей музыка
выведена благодаря слову, словам и их синтаксической связи. Здесь своего рода
состязание слова с музыкой. Приемы игры в этом состязании обнажены, что,
в свою очередь, обнаруживает в тексте коэффициент условности (термин Ю.
М. Лотмана), причем интертекстуальные вкрапления эту условность еще более
увеличивают. Тем самым усиливается направленность читательского сознания
на постижение текста как музыки. Джойс ставил задачу дать слову
возможность звучать как можно дольше, фуга с каноном была здесь звучанием жизни,
ее дыханием, звучанием, которое в конце концов завершалось гармоническим
разрешением.
Музыка «Фуги смерти» Пауля Целана была порождением целановского
языка, о котором с особым проникновением писал Жан Старобинский и для
которого, кажется, никакие эксперименты эстетической игры не могут стать основой
творчества:
«Никакой самозащиты. Дыхание, отданное на милость того, что не
вмещается вдохом. Или иначе: как будто стихи возникают из полыхнувшего тревогой
взгляда, из горькой нежности. Кто за них поручится? Нужно ли им
ручательство? И какое — боль, небытие? Это было бы слишком надежно. Скорее, любое
выговоренное слово утверждено силой разлома, которая, оторвав его от
залегших в недрах пластов, вынесла наверх, в мимолетное настоящее стиха.
Кажется, видишь по краям слов следы разрыва, отгородившего каждое, — обломки,
гроздья обломков в поисках новой слитности.
Но при всем том — прочерченный твердой рукой путь, упорная музыка
слогов, магическая взвешенность тембров и интонаций. Что это за музыка —
осколок прежней гармонии? Пульсирующий в памяти отзвук мира, где правило
слово? Или она свое рождение празднует — пробудившаяся к жизни инвенция,
которая может только одно: петь наперекор любым разрывам? Закон
неуловимых противовесов, перекличек, противостояний принудительный, как
геометрия кристалла — кристалла дыхания, слезы. Пусть ни языку нет больше места
в мире, ни поэту — в языке»20.
«Фуга смерти» — словесная имитация музыки, и ее страшным фоном был
Холокост, уничтожение нацистами евреев. Она возникла тогда, когда Освенцим
обозначил перед лирикой почти неразрешимую проблему, когда сама поэзия уже
казалась проблематичной и тем более говорить об игре в ней было бы просто
кощунством.
«Фуга смерти» — имитация музыки. Ни одна из форм лирического
высказывания, будь то традиционная или же модернистская — а последняя с особой
остротой фиксирует впечатления, аффекты, деформируя реальность, — все же
не может передать всего ужаса от содеянного нацистами, содеянного с
холодной, циничной, планомерной жестокостью. Дым труб крематориев немецких
концлагерей уходит от поэтического слова, которое слишком занято самим
собой, а поэтическое негодование или утешение остаются больше идеей, чем
20 Старобинский Ж. Целан читает свои стихи // Иностранная литература № 12. 1996. С. 191. (Пер.
Б. Дубина.)
458 SX-
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
образом. Лирическая экзистенция большинства поэтов XX века оказалась
не в состоянии слиться с такой ситуацией бытия, где бытие стало смертью.
Не единство жизни и смерти, обусловливающее вечное возвращение жизни,
а торжество смерти и забвения характерно для такого феномена бытия, как
Холокост. При всех ужасах истории такое бытие, бытие как время смерти,
никогда не переживалось. У этой экзистенциальной ситуации не было голоса.
Привычные формы высказывания, основанные на мимесисе, не могут быть
аутентичными такому событию, как Холокост. Жан-Франсуа Лиотар в своей
книге «Хайдеггер и "евреи"», касаясь этой проблемы, указывал на
парадоксальный характер западного мышления с его приверженностью к мимесису,
на стремление западной мысли вызвать в сознании представление, которое в
конечном итоге ведет к забвению представленного и того, что его вызвало.
В отличие от классических «отмазок», когда преступников немедленно
«денацифицируют» или же «начинают процесс по пересмотру самого
преступления», здесь избирается более утонченный способ забыть о преступлении, а
именно — забыть о нем, его представив. Речь идет «о чем-то вроде
бессознательного аффекта, о котором Запад не хочет ничего знать. Он не может быть
представлен, не будучи упущен, снова забыт, потому что он не подвластен
образам и словам. Представить "Освенцим" в образах, в словах — это способ
заставить о нем забыть»21.
Тем самым миметическое представление о сопоставлении с реальностью
останется ложью, необходимой западному мышлению для забвения.
Мысль Лиотара, кажется, идет вразрез со всеми гуманистическими
установками, ибо что может быть самой надежной гарантией от забвения, как не
представленное, записанное, миметически явленное. Но это только на первый
взгляд. «Представляя, записываешь в память, и это может показаться
хорошей защитой от забвения. Думаю, что как раз наоборот. Забыться в обиходном
смысле может только то, что смогло записаться, поскольку оно сможет и
стереться. Но то, что не записано за отсутствием способности поверхности нести
надпись, за отсутствием длительности и места, в которых располагается
надпись, — то, что не имеет места в пространстве и времени господства, в
географии и диахронии сильного в себе духа, поскольку оно не поддается
синтезированию, скажем: то, что не является материей для опыта, потому что формы
или формации, образования опыта, даже бессознательного, производящегося
вторичным вытеснением, к нему непригодны и неспособны, то не может
забыться, не сулит забвению никаких трофеев — оно остается присутствующим
"только" как аффектация, которую не удается даже и квалифицировать, словно
состояние смерти в жизни духа. Нужно, конечно же, нужно записывать
словами, образами. Не может быть и речи о том, чтобы избежать необходимости
представлять. Верить в собственную непогрешимость, невредимость было бы
попросту греховно. Но одно дело — поступать так ради сбережения воспоми-
21 Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи». СПб, 2001. С. 45. Книга Лиотара возникла не только как
реакция на хайдеггеровское молчание о Холокосте, она также была вызвана идеей Адорно о
невозможности лирики в привычном смысле после Освенцима. См.: T. W. Adorno. Noten zur Literatur. III.
Frankfurt a. Main, 1965. S. 127.
VII. Вместо заключения
JB 459
нания, а другое — сохранять в письме остаток, незабываемое забытое»22.
Последнее можно сделать, деконструируя поэтически представленное, выявляя
то, что уходит от мимесиса невытесненным. Такого рода поэтическую
деконструкцию мы можем найти в «Фуге смерти», если понимать деконструкцию
также как монтаж.
Пауль Целан — поэт памяти, т. е. того незабываемого забытого, которое не
существует вне забвения, не сопровождается последним, но постоянно
возвращается, как только начинается забвение и обозначается переход в глубину
вечности, где все исчезает. Холокост был радикальным изменением видения поэта.
Он стал той призмой, через которую поэт видел мир. Отсюда и вся острота
воспоминания того, что и окказионально связано с этим событием.
Из стихотворения «Шибболет»:
Setz deine Fahne auf Halbmast, Приспусти свои флаги,
Erinnerung. воспоминание,
Auf Halbmast приспусти
für heute und immer. на сегодня, навечно.
Пер. Л. Жданко-Френкель
Воспоминание, его образы, которые, по Адорно, могут вызвать только шок,
уже сами по себе погружают человека в состояние, аналогом которого может
быть только смерть. Ее поэт избежал по чистой случайности. «Фуга смерти»
в творчестве Целана начинает тот ряд стихотворений, которые можно отнести
к великим свершениям в лирике XX века. Без нее невозможны «Шибболет»,
«В одном» и, конечно, последний взрыв «музицирования», не сопоставимый ни
с чем, — «Стретта» (Engführung).
Хотя Целан в 1960-х годах отказался от «музицирования» словами, ключ к
пониманию, точнее, к предпониманию целановского герметизма надо искать в
использовании, вернее, в поэтической деконструкции музыкальных структур в
«Фуге» и в Engführung, в созданных поэтом полифонических образах, в особой
лирической полифонии, которая создает деконструированный портрет музыки
и ее особого жанра. Естественно, для строгого литературоведения
экстраполяция на лирику музыкальной терминологии всегда будет метафорой, и было
бы проще говорить о повторах, анафорах, эпифорах, оксюморонах, искать для
лирики Целана соответствия в давно уже выработанных риторикой понятиях и
тем самым препарировать текст без надежды идти к синтетическому
пониманию, тем более что единственно возможной для интерпретации реальностью
для нас остается текст. Но тогда мы старательно обойдем главную целановс-
кую метафору, музыку в ее полифоническом звучании, вовсе не заботясь о том,
что именно она, как выразился бы Айвор Армстронг Ричарде, и направляет
нашу мысль, когда последняя хочет избежать метафоры. Однако даже в
колебаниях поэта в выборе названия между «Танго смерти» и «Фугой смерти» речь
шла только о музыкально-терминологической дефиниции лирического
высказывания, и поэтому избранное Целаном название нельзя отделить от самого
Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи». СПб, 2001. С. 46—47.
460 S^
Л. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
стихотворения, оно с ним — единое целое23. Оно со всей определенностью
направляет сознание интерпретатора, организуя структуры понимания, являясь
проспекцией.
Как и в случае с Джеймсом Джойсом, «Фугу смерти» мы должны понимать
как поэтическую игру с нарочитым обнажением игровых структур, как
словесную «игру в фугу», где имитативные моменты построения текста выдвинуты
на передний план. Они и создают целостную архитектонику текста. Однако
характер игр Джойса и Целана различен, и «фуги» у них совершенно разные.
Призма Холокоста, через которую Целан воспринимает феномен поэтической
игры, — решающее обстоятельство, определяющее отличие этих фуг друг от
друга. Эстетическая игра Джойса, его интертексты живут в устойчивом,
несмотря на свою противоречивость, мире. Целановская же игра существует в мире,
перевернутом Холокостом, в мире языка-убийцы. Для этого поэта уже все
перевернуто: система ценностей, отношение к слову, восприятие музыки и
музыкальной формы. Читателя может, конечно, смутить, что мы применительно к
трагической поэзии Целана используем понятие игры — ведь игре как чистому
феномену свойственно отгораживать и защищать себя от серьезности бытия и
быть поэтому оазисом счастья и свободы.
Поэт боли — и игра. Нет ли в этом противоречия, причем непримиримого?
Тщательный анализ целановской фуги показывает, что нет. Чем же, кроме игры,
были рисунки детей гетто в европейских городах в тот период, когда нацизм
поставил своей целью «окончательно решить еврейскую проблему»? Еще
сегодня еврейские дети рисовали траву, цветы, мяч, себя с желтой звездой на
куртке, немецкие танки, немецких солдат с автоматами — своих будущих палачей,
а завтра их убивали и превращали в прах. Детское искусство всегда в игре, оно
всегда — игра. Игра всегда их — детей — стихия, они бросаются в нее, и она
организует их мир. Они играют бессознательно. Но у Целана мы
сталкиваемся с сознательно созданными им правилами игры, игры, сохраняющей
возможность говорить о Холокосте. Но в этом случае мы имеем, если использовать
страшную метафору Жака Дерриды, «Холокост игры». И если мы говорим об
игре у Целана, то это не означает, что речь идет о поэтическом примирении
с действительностью; никоим образом тема не приобретает здесь
эстетического образа. Сущность такой игры— сделать невозможной эстетизацию образа
смерти. Бенно фон Визе пишет: «Там, где сказка торжествует над
действительностью или же показывает действительное в его сокровенной сущности, поэт
уже возвращает свободу, которая, кажется, полностью уничтожена под
давлением рационально обесцененного, злого и ставшего хаосом мира. Чем больше
он это осознает, тем больше способен включить в игру стихотворения также и
страх и ужас нашего времени. Никому не удалось это в такой мере, как Паулю
23 Большинство литературоведов не игнорируют «музыкальную форму» этого
стихотворения. Так или иначе все равно приходится говорить о музыке. См.: W. Menzel. Celans Gedicht
«Todesfuge». Das Paradoxon einer Fuge über den Tod in Auschwitz. Germanisch-Romanische
Monatsschrift. 18. 1968. S. 431—447; H. Petri. Literatur und Musik. Göttingen. S. 35—37; Theo Buck.
Paul Celans Todesfuge. In: Interpretationen. Gedichte von Paul Celan. Hrsg. von Hans-Michael Speier.
Philipp Reclam. Stuttgart. 2002. S. 11—27; John Felstiner. Paul Celan. Eine Biographie. München,
1997. S. 48—69.
VII. Вместо заключения
JB 461
Целану в его стихотворении "Фуга смерти"»24. Из всего этого вовсе не следует,
как думает Гёц Винольд, будто упоминаемые игры для Визе связаны с мыслью,
что игрой приглушается крик стихотворения25. Как и в других стихотворениях
Целана, посвященных Холокосту, в «Фуге смерти» царит безжалостная тьма;
может быть, только в «Стретте» эта тьма немного просветляется. Игра и создает
эту безжалостную тьму, обнажая страшную сущность бытия, его истину,
показывая метафизическое мужество поэта.
«Холокост игры» начинается уже с интертекстуального уровня «фуги».
Интертекстуальная составляющая целановского текста связывает его с другими
текстами, он как бы включен в их множество, о котором писали
интерпретаторы стихотворения (Вольфганг Менцель, Джон Фелстинер, Тео Бук и др.). Тем
самым стихотворение, посвященное памяти жертв Холокоста, говорит голосом
не только этого события, но и истории, приведшей к нему, оно — свидетельство
бытия-смерти, его историчности.
Если говорить о претекстах, то «Фуга» — диалог с ними, а в некоторых
случаях — обвинение им, ибо в них вызревало то, что сделало возможным Холокост.
Джон Фелстинер, безусловно, прав, когда пишет, что «практически каждая
строка скрывает в себе словесный материал разрушенного мира, о котором
свидетельствует стихотворение. Музыка, литература, религия и даже лагеря,
запутывая, оставляли свои следы: Первая книга Моисеева, Бах, Вагнер, Генрих Гейне,
танго, Суламита из "Песни песней"»26. Этим, конечно, не ограничивается ряд
интертекстов, подвергнутых поэтом радикальной трансформации. Здесь
следует добавить «Плач Иеремии», средневековые пляски смерти, барочные образы,
Бодлера, Рембо, Рильке и Тракля, а также шлягер «Родина, твои звезды»27.
Трансформация претекстов — это синхронизация их с главным событием,
о котором говорит стихотворение, с Холокостом. Они до предела сокращены,
сжаты, превращены в намеки, в слова-призраки; они участвуют в стихотворении
на нарративном уровне. Такого рода синхронизация, сведение слов претекста в
контекст Холокоста, в Холокост игры, решает и судьбу претекста, судьбу слова,
превращенного в призрак смерти28. Эти слова, слова-призраки, мгновенно вы-
24 Wiese В. von. Die deutsche Lyrik der Gegenwart. Deutsche Literatur in unserer Zeit. Göttingen, 1959.
S.52.
25 Winold G. Paul Celans Hölderlin Widerruf. In: Poetik, 1968. Bd. 2. S. 228.
26 Felstiner J. Paul Celan. Eine Biographie. München, 1997. S. 53.
27 Buck T. Paul Celans Todesfuge. In: Interpretationen. Gedichte von Paul Celan. Hrsg. von
Hans-Michael Speier. Philipp Reclam. Stuttgart. 2002. S. 15.
28 Здесь, на наш взгляд, можно возразить Леону Ботстайну, считающему, что, создавая «Фугу
смерти», Целан находился в русле классической языковой традиции. Как раз именно в этом
стихотворении и начинается поиск того аскетического языка, который в поздних стихах поэта определяет отказ
от коммуникативной функции языка. «Требование выражать чистую правду через язык, однако, было
сопряжено с таким страданием, что сделало жизнь Целана невыносимой. Языковой путь обернулся
полной безысходностью. Наверное, только музыка может дать человеку возможность справиться с
трагедией и жить дальше» (Л. Ботстайн. Евреи и Новое время. СПб, 2003. С. 451). Нам кажется, что
для Целана, писавшего «Фугу смерти», и музыка не была спасением. Дело в том, что имитация ба-
ховского стиля в «Фуге» не есть нечто внешнее. Слово взрывает музыкальную форму. Ведь голоса в
целановской фуге дистанцированы друг от друга непроницаемой стеной, они не коммуницируют друг
с другом.
462 Si-
Л. Г. Лствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ ИГРА
зывают цепь ассоциаций, перемещение образов претекстов в реальность
стихотворения. Нет необходимости повторять, как использовали нацисты музыку
Рихарда Вагнера, с чем могла ассоциироваться во время Второй мировой войны
горящая Валгалла. Но «er pfeift seine Rüden herbei» («он свищет своих псов») и
«er hetzt seine Rüden auf uns» («он натравливает на нас своих псов») ясно
указывают на Хундинга из «Валькирии», который вместе о своими псами преследует
Зигмунда и Зиглинду Самая страшная тема «Фуги» — dann steigt ihr als Rauch in
die Luft («тогда вы дымом подниметесь в воздух») — кроме выражения
наиреальнейшей реальности, когда речь идет вовсе не о метафорическом дыме, имеет
еще и другую страшную коннотацию в отношении немецкого духа. Сразу
вспоминаются «Нюрнбергские мейстерзингеры», завершение арии Ганса Сакса:
Zerging' in Dunst
Das heil'ge Röm'sche Reich
Uns bliebe gleich
Die heil'ge deutsche Kunst.
(«Если испарится / Священная Римская империя, / Нам все равно / Останется
святое немецкое искусство».)
В контексте Холокоста это искусство — искусство смерти. Фаустовская тема
в стихотворении возникает уже в первой строфе, и коннотация здесь
усложняется: ведь Фауст становится причиной гибели Маргариты (Гретхен). Претекст из
оперы Пуччини «Тоска»: es blitzen die Sterne («сверкают звезды») — это начало
арии Каварадосси из третьего акта; она предшествует расстрелу героя,
которого не может спасти от гибели самоотверженная любовь Тоски. Цитата,
естественно, отсылает к жертвам нацистского Фауста, кроме того, горько пародирует
кантовское «звездное небо над нами и моральный закон во мне».
Трансформированные чужие тексты вплетены в стихотворение, оно вбирает в себя эти тени
и, следуя замыслу поэта, создает впечатление «теневого стиля», призрачного
мира, где разыгрывается то, что никогда не может уйти из памяти. Этот
«теневой стиль» характерен и для главного мотива: Смерть как «маэстро из
Германии» имеет своим прообразом Вельзевула из стихотворения Артюра Рембо
«Бал повешенных». Вельзевул, играющий на скрипке, приказывает своим
слугам плясать. Этот мотив трансформирован в «Фуге»: spielt weiter zum Tanz auf
(«играйте дальше танец», «играйте дальше, побуждая к танцу»).
Стихотворение Целана имитирует наиболее интеллектуальную форму
музыкального искусства — фугу, где искусство контрапункта осуществляется с
наибольшей последовательностью. Несколько относительно самостоятельных
тем выглядят как голоса в фуге, их проведение и варьирование развиваются в
противопоставлении друг другу, причем непримиримом. Это особый вид
словесной музыкальности, сохраняющий напряженную рефлексию читателя.
Такая форма принуждает читателя к рефлексии, а не убаюкивает его, сводя слова
к чувству, и требует дифференциации образов и взрыва музыкальной формы в
сознании.
VII. Вместо заключения
JB 463
Начало фуги — экспозиция главной темы: Schwarze Milch der Frühe. Тема
выдержана в трехстопном хорее и этим отличается от всех других сегментов
текста. Нигде, кроме нее, мы не найдем в стихотворении такого метра, и тем
самым тема приобретает особый характер даже в метрическом плане. Она
обособлена от всего остального, она — главный образ стихотворения. Эмфатически
выдвинув на первое место прямое дополнение, Целан придал ему форму
субъекта; то есть здесь объект приобрел особую власть над теми, кого поэт
называет в стихотворении wir (мы), став их рупором, соединив с их страданиями
свою лирическую экзистенцию. Далее тема продолжается уже в дактиле, и это
движение, по аналогии со строением фуги, мы можем назвать контрапунктами
главной темы. Они, в свою очередь, переходят в свободное проведение, которое
по своей сути есть интермедия, вариация главной темы: wir schaufeln ein Grab
in den Lüften da liegt man nicht eng — «мы роем могилу в небе / там места хватит
для всех» (в переводе Е. Лейбель).
Она завершается кадансом, благодаря которому экспозиция главной темы
приобретает законченность и цельность. Каданс в экспозиции представляет
собой временное смещение центра тяжести с главной темы, чтобы в
дальнейшем провести ее уже на ином уровне. Перемещение центра тяжести на образ
могилы в небесах приобретает в целановской фуге значимость символической
проспекции. Становится ясно, что уже в экспозиции главной темы заложен весь
трагизм стихотворения. Повторы и аллитерации придают движению стиха
текучий ритм. Стихи медленно движутся к раскрывающему их смысл кадансу.
Целановская фуга — хоровая фуга, построенная по аналогии с Мессой h-moll
(Cyrie eleison) и Пассионами И. С. Баха. Если представить себе, что стихи
Делана сопровождаются музыкой и оркестр сначала вступил без хора, то оркестрово-
хоровое проведение темы развертывает ее еще шире, конкретизируя словесно.
Речевые фразы увеличиваются постепенно, соответственно чему развивается и
музыкальная форма. Последнее мы имеем в экспозиции главной темы у
Делана. Она задает мрачную тональность всей словесной музыке. Первый
метафорический образ получает значимость страшного символа. Schwarze Milch der
Frühe — это судьба избранного Богом для страдания народа. Оболочка и
содержание этой метафоры настолько проникают друг в друга, что образ становится
непроницаемым, нерасчленимым и иррациональным. Структура этой метафоры
создается не сходством, а различием, поскольку она содержит в себе и
оксюморон. Айвор Армстронг Ричарде подчеркивал, что метафора, возникающая из
движения двух различных мыслей, их соединением создает образ, обладающий
мощной силой воздействия, которая сконцентрирована в единстве содержания
и оболочки. Слово в первом образе стало музыкой, и диссонансы этой музыки
будут возникать из антитетического противопоставления тем. В первой же теме
явлен диссонанс, который подтверждает мысль А. А. Ричардса, высказанную им
в книге «Философия риторики» в главе, посвященной метафорическому
мышлению: «Если два соположенных предмета отличаются друг от друга в большей
степени, чем другие пары предметов, возникшее напряжение усиливается»29.
Усиливается оно от сведения друг к другу совершенно противоположных мыс-
29 Айвор А. Ричарде. Философия риторики. Метафора. Теория метафоры. М., 1990.
464 SL
A. Г. Лствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
лей, которые создают напряжение нашего сознания. Schwarze Milch der Frühe
надо читать Schwarze Milch der Frühe des Lebens — «черное молоко зари
жизни». Отравленное смертью молоко, которое каждый еврей пьет с момента
своего рождения, превращает зарю жизни в предвестие смерти.
Обычно исследователи связывают этот образ с претекстами, прежде
всего с 4-й главой Плача Иеремии, где идет речь о разрушении Иерусалима
Навуходоносором «за грехи лжепророков, за беззаконие священников его, которые
среди него проливали кровь праведников», а также с 25-й главой Книги пророка
Иеремии, ст. 15—18. Они обычно цитируются в анализах «Фуги». Но в отличие
от претекста в целановском образе нет ни намека на вину, ни отсылки к
генетической судьбе. Речь идет о постоянной внешней угрозе жизни во все
времена, о различных формах антисемитизма, исторически подготовивших Холокост.
О них писал Ж.-Ф. Лиотар: «В Средние века евреев обращают, они
сопротивляются умственными ограничениями. В классическую эпоху их изгоняют, они
возвращаются. В Новое время их интегрируют, они упорствуют в своем
отличии. В XX веке их уничтожают»30. Иного смысла целановский образ не имеет.
Экспозиция главной темы отличается ярко выраженной тематической
плотностью. В отличие от нее вторая тема, которую мы можем уподобить
противосложению в фуге, отличается рыхлостью, разреженностью:
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldnes Haar Margarete
der schreibt es und tritt vor das Haus uns es blitzen die Sterne er pfeift seine Rüden
herbei
er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz
Литургическому характеру экспозиции главной темы противопоставлено
совершенно иное движение в противосложении. Для него характерны
разрывы. Возникают блоки, независимые друг от друга31. В экспозиции после
контрапункта мы также имеем свободное проведение интермедии. Здесь, однако,
движение стиха приостанавливается цезурами в середине строки, единство
стиха оказывается взорванным. Форма свидетельствует о внутреннем разладе
человека, живущего в доме и играющего со змеями.
Мы видим, что эта экспозиция второй темы вносит в «Фугу» существенно
новое. Оно, собственно, уже было обозначено в свободном проведении темы
кадансом. В баховских фугах кадансы обычно падают на окончания
проведения темы, на середину интермедий. Тема может делиться на части,
расчленяться. Они предваряют те проведения, которые находятся на периферии формы.
«Благодаря кадансам возникает расчленение на части, отличное от
архитектонической структуры, — в этом заключается одно из средств динамизации фуги.
Внутри архитектонической структуры происходит, в свою очередь, динамиза-
30 Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи». СПб, 2001. С. 43.
31 Menzel W. Celans Gedicht «Todesfuge». Das Paradoxon einer Fuge über den Tod in Auschwitz.
Germanisch-Romanische Monatsschrift. 18. 1968. S. 437.
VIL Вместо заключения
JB 465
ция, связанная с тем, что ломается установившаяся в голосах периодичность
темо-ответных проведений, и это вносит определенную новизну в порядок их
следования, дает толчок к дальнейшему развитию»32.
Это развитие в целановской «Фуге» оказывается возможным благодаря
характеру экспозиции противосложения, благодаря ее явной разреженности.
Делан лишил ее трагической монолитности главной темы. Во второй строфе мы
увидим начало конфликтного развития, усиливающего противостояние тем
«Фуги».
Контрапункты и свободное проведение темы человека, живущего в доме,
показывает нам состояние шизофренического бреда, в котором находится этот
человек. С одной стороны, это состояние влюбленности, причем нарциссичес-
кой, сентиментальное, банальное упоение своим «всеохватным» чувством.
Интертекстуальная составляющая здесь: der spielt mit den Schlangen — «он играет
со змеями» (Бытие, гл. 3; этот образ имеет двойную природу: библейский змий
и мировой змей древнегерманской мифологии), dein goldnes Haar Margarete —
«твои золотые волосы Маргарита» («Фауст»), мотивы Пуччини и Вагнера.
Экспозиции создали штрихи ландшафта, литературные реминисценции,
визуальный ряд, звуковые образы, назвали страну, откуда приходит смерть,
Германию, и все это соединилось с реальностью концлагерей, газовыми камерами,
крематориями и могилами. Целан сотворил фантасмагорическую реальность.
Мир дан в состоянии присутствия в нем смерти. Это состояние и определяет
движение и конфликтность тем по строфам. Трансформированные претексты
и их концентрическая связь показывают нам нацистского Фауста с его нарцис-
сической влюбленностью, его пошлым, вульгарным идеализмом, эротической
мечтательностью, которая оборачивается влечением ко злу (der spielt mit den
Schlangen), связанным со всеми мотивами третьей главы Книги Бытия; оно
перерастает в агрессивность, садизм, во влечение к смерти, создавая
танатологическую структуру психики нацистского Фауста (läßt schaufeln ein Grab in der
Erde — «велит рыть могилу в земле»), ненавидящего свои жертвы. Он
проецирует на них собственные недостатки и склонности, стараясь их умертвить. Этот
Адам-Фауст не хочет возвращаться туда, куда ему за игру со змеями определил
возвратиться Бог, не хочет превращаться в прах. Он превращает в прах и дым
других. Его речь, его приказы мы уже слышим. В первой строфе показано его
отношение к жертвам. Они — его Juden, его жиды, которых он свищет и
которым он приказывает плясать. Он — хозяин их жизни, она ему принадлежит, и
он должен эстетически обставить уход из жизни людей, чтобы их имя навсегда
стерлось из памяти.
Если проводить аналогии с полифоническими структурами в музыке, то
вторая и четвертая строфы «Фуги смерти» являются стреттами, т. е. сжатыми
проведениями тем. Это — чисто контрапунктическое средство сгущения,
звучание уплотняется, темы концентрируются. Использование этого приема служит
выявлению сущности темы. Целан, как в экспозиции, сначала проводит главную
тему, однако проводит ее с перестановками, без свободного проведения, затем
у него выступает тема противосложения, она излагается с контрапунктами и
32 Протопопов Вл. Принципы музыкальной формы И. С. Баха. М., 1981. С. 187.
466 ®L·
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
связывается с увеличением главной темы, ее контрапунктами и кадансом: Dein
aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht
eng — «пепел твоих волос Суламита мы роем могилу в небе / там места хватит
для всех» (перевод Е. Лейбель).
В стретте второй строфы сближены два контрастирующих мировых
образа— Суламит и Гретхен, причем увеличение главной темы (Dein aschenes
Haar Sulamith) показывает страшную судьбу этих образов у Целана. Asche
(пепел) — одна из наиболее часто встречающихся оболочек целановских метафор,
составная часть его метафорических композитов: (Aschenblume, Aschenlid,
Aschenkraut и др.). О происхождении таких метафор догадаться нетрудно.
В «Песни песней» говорится о любви, и Суламит — ее символ, вся сила
жизни и любви воплощена в этом образе:
Голова твоя на тебе, как
Кармил, и волосы на голове твоей,
Как пурпур.
(Песнь песней, 7, 6)
У Целана это — уничтоженная жизнь, уничтоженная красота. Dein aschenes
Haar означает сожженные волосы, волосы, ставшие пеплом. Они
противопоставлены в стихотворении золотым волосам Гретхен. Это волосы, преданные
огню, их уже нельзя увидеть, мы никогда не узнаем, какого цвета они были, как
не увидим лиц тех, кого сжигали в печах крематориев.
Третья и пятая строфы «Фуги» выглядят как интермедии. Поскольку цела-
новское стихотворение имитирует хоровую фугу, то эти интермедии напоминают
номера из ораториальных произведений Баха или Генделя, в которых звучит
голос солиста. У Целана солирует нацистский Фауст, эсэсовец. На протяжении
стихотворения только он действует, обращаясь к «своим жидам», приказывает
рыть могилы, петь и плясать. Он грозит своим жертвам револьвером. В
интермедии пятой строфы он превращается в дирижера оркестра смертников — одна
из деталей реального концлагеря: создание таких оркестров было одним из
развлечений убийц, любивших музыку.
В этой интермедии появляется тема сожжения людей, дыма из труб
крематориев, превращающего Небо, Божье царство, бесконечность и вечность,
метафизическую надежду людей — в могилу, которая должна стать местом смерти
душ. Темы, отданные голосу эсэсовца, выстраиваются в страшную цепочку: Er
ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland / er ruft streicht
dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft / dann habt ihr ein Grab in
den Wolken da liegt man nicht eng. «Он кричит играйте сладкую музыку смерти
смерть маэстро из Германии / кричит темней скрипки стройте вы вознесетесь
как дым / в небе могила будет у вас там хватит места для всех» (перевод Е.
Лейбель).
Структура последней, шестой строфы стихотворения имеет все признаки
завершающего раздела фуги. Проведение главной темы прерывается мотивом
интермедии противосложения: der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Три раза в
VII. Вместо заключения
JB 467
строфе повторяется этот мотив смерти, становясь остинатным мотивом на фоне
движения других голосов. Дополнительное проведение контрапунктов главной
темы и ее сближение с остинатным мотивом имеет сходство со стреттным
проведением тем, мотив смерти получает страшные контрапункты:
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau.
(Буквально: «Смерть мастер (маэстро) из Германии его глаз голубой / он
попадет в тебя свинцовой пулей он попадет в тебя точно».)
Тео Бук в своем анализе стихотворения обращает внимание на целанов-
скую верность детали при изображении убийцы с голубыми глазами33. В
стихотворении вместо seine Augen sind blau, что мы имеем в третьей строфе, здесь
стоит sein Auge ist blau — единственное число. Переход к более возвышенному
стилю соединяется с точным изображением убийцы с романтическим цветом
глаз, занятого своим ремеслом. Убийца прищурил глаз, он целится, чтобы
наповал сразить свою жертву. Отсюда и единственное число. «Сила выражения
усиливается благодаря единственной рифме в стихотворении». Контрэкспозиция
противосложения ein Mann wohnt im Haus в сочетании с уже звучавшими
контрапунктами получает дополнительные голоса. Звучат вагнеровские темы: ег
hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft, и, наконец, появляется
во всем своем дионисийско-шизофреническом упоении мастер смерти, который
грезит.
«Фугу смерти» нельзя понимать как жалобу жертв на своих палачей. Ее
трагический смысл — это смысл свидетельства, навсегда сохраняемого в памяти,
надежда на то, что все, в ней прозвучавшее, будет вечным возвращением
забытого, призывом к нему, надеждой, что оно не будет никогда забыто, вытеснено
из памяти. В фуге нет ни единого слова отчаяния, ни единого слова обвинения,
хотя становится ясно, что именно является источником нацистского бреда, что
именно в немецком духе породило нацистскую шизофрению. Форма фуги
создает непреодолимую дистанцию между главной темой и противосложением, и эта
дистанция соответствует дистанции текста. Не жеста жалобы, а жеста призыва.
Нарратив в прямом смысле слова сведен в «Фуге» до минимума, его функцию
выполняют повторы.
Финал фуги — сведение тем в резко диссонирующий аккорд, создание
воображаемой вертикали. Мы ее находим в 33-й строке стихотворения: er letzt seine
Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft — «он травит нас псами
могилу в небе нам дарит». Игра со змеями и греза — последнее, что мы слышим о
смерти — мечтателе с голубыми, небесными глазами, стремящемся превратить
Небо в Ад, уподобить высь бездне. В двух финальных строках — а именно они
и образуют диссонирующий аккорд, ставящий предел звучанию и
принуждающий словесную музыку умолкнуть, — собирается все, к чему привело голосове-
33 Buck T. Paul Celans Todesfuge. In: Interpretationen. Gedichte von Paul Celan. Hrsg. von
Hans-Michael Speier. Philipp Reclam. Stuttgart. 2002. S. 23.
468 Si-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ ИГРА
дение. В этой точке Смерть теряет облик голубоглазого немецкого маэстро с его
псами и змеями, дирижера смерти. Диссонирующий аккорд не дает намека на
умиротворение. Умиротворения поэт не искал, ибо оно в конечном итоге было
бы вымаливанием пощады у палача, даже если бы обращались не к нему, а к
Богу. Тогда облик смерти превращался бы в нечто, Богом определенное и
необходимое. Еще раз следует напомнить, что Смерть дарит в небе не жизнь, а
могилу и тем самым она исключает какой-либо трансцендентный смысл, она сама
достойна уничтожения, ее необходимо уничтожить как источник забвения, не
спрашивая разрешения у трансцендентных сфер. Все события в «Фуге»
собраны воедино, сжаты, спрессованы так, что плотность тем стала непроницаемой,
а следовательно, она не просветляется. Смерть, маску которой присвоил себе
голубоглазый маэстро-убийца из Германии, восстает против этой маски,
против тех, кто — вопреки Закону, в силу своей хтонической мерзости —
осмелился представлять ее. Таким актерам она мстит со всей беспощадностью. В фуге
происходит превращение не миметического свойства, в шок превращается само
звучание. Оно остается в ушах, а следовательно, в памяти, оно возвращает
забытое.
В финальном аккорде — где все события, то, что дано в диегесисе,
оказываются сжатыми в одну точку. В ней, как писал Жиль Делез, смерть восстает
против смерти. Здесь умирание служит отрицанию смерти. «Безличностность
умирания» указывает не только на момент, когда в дыме лагерных печей
исчезает целый народ, но и на момент, когда смерть теряет себя в себе, становясь
ненавистной, теряет свое достоинство феномена бытия, а значит, обрекает себя
на уничтожение. Но при одном условии — если страшная маска голубоглазого
маэстро из Германии и гармонирующие с ней претексты будут пробуждаться в
памяти, которой стала «Фуга смерти» Пауля Целана.
Музыку можно понимать как искусство, обращенное к космическим
горизонтам бытия — таковые у бытия, отождествленного с мыслью, конечно, есть.
В доиндивидуальных сингулярностях память обречена на вечное забвение, в
личностных она расширяется в космические горизонты, у личности остается
надежда, что если не человек, то космос ее сохранит, возвратив — опять-таки —
человеку.
Времени око
Испытующе смотрит
Из-под семицветной брови.
Веко его омыто огнем.
Его слеза — пар.
Слепая звезда подлетает к нему
И плавится у горящей ресницы.
Мир теплеет,
И мертвые
Распускают бутоны и дышат.
(Пер. Е. Лейбель)
VII. Вместо заключения
J& 469
По мощи своего звучания целановскую фугу можно сравнить с самыми
сильными музыкальными произведениями. Она — голос мучеников, народа
мучеников, народов-мучеников, их шибболет.
3. Кантовское и гетевское в поэзии Иосифа Бродского.
Стихотворение «Пьяцца Маттеи»
«Пьяцца Маттеи» (1981) в творчестве поэта можно отнести к тем
произведениям, которые начиная с 70-х годов последовательно развивают тему поэта-
изгнанника. Конечно, здесь рубежным является стихотворение «Я входил
вместо дикого зверя в клетку», написанное за год до этого и обозначившее резкий
переход от субъективного восприятия мира к созданию обобщенного образа с
явно заметной классицистской тенденцией, а если говорить точнее, с особым
типом необарочного обобщения, поскольку последнее предполагает наличие в
произведении гегерогенных слоев, отличаясь от классицистской точности
особым способом обобщения, смысл которого — усиление образности, что в эпоху
барокко понималось как красота.
Красота звучания контрастирует в этих произведениях с тем, что обычно
понимают под постмодернистским экспериментом. Стихи действительно очень
красивы, даже можно сказать, гармоничны, несмотря на гетерогенность частей
их составляющих. Более того, мы не чувствуем принудительности подчинения
части, детали целому, что, безусловно, вызывает аналогии с классическими
произведениями, которые всем своим существованием говорят нам об
автономности искусства. Этому принципу поэт оставался верен до конца жизни.
Сохранение его давало возможность пребывать во всех фазах времени, охватывать его
целиком, создавать зеркальные отражения прошлого, настоящего и будущего,
что во многом напоминало гетевский охват времени и связывало воображение
со временем в духе Канта. Отсюда и черты классики в эстетической
реальности Бродского, и его историзм, сильно раздражавший как конъюнктурных
поборников постмодернизма, бездарных шарлатанов, твердящих об инновациях
в поэзии, так и людей, присвоивших себе право говорить от имени истории.
Если же говорить о принадлежности поэта к традиции, то определить ее совсем
не трудно — это Овидий, древнеанглийская элегия, Данте, Пушкин и
Баратынский. Можно назвать и другие имена идейных предшественников поэта. Здесь
все поэты-изгнанники, все странствующие по кругу земному певцы, близкие
Бродскому своей отверженностью и бесприютностью и в то же время
сохраняющие уверенность в своей правоте.
Стихотворение написано размером, который сам автор назвал октавой. Два
четверостишия с разностопными стихами соединяются в восьмистишие. Рифмы
женские, перекрестные. Пока это лишь чистая метрическая схема, форма в духе
Ельмслева, если экстраполировать это понимание на метрику. Конечно, разно-
стопность строк создает эффект подвижности, а форма подразумевает синтакси-
470 ®ь
А. Г. Аствсщатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
ческую замкнутость четверостиший и постоянное нагнетание паратаксических
структур. С точки зрения постмодернистской поэтики, она кажется архаичной,
и постмодернист использовал бы её только для пародий. Действительно, первые
семь октав выглядят как постмодернистский текст, в котором контрастируют
выдержанность формы и то, что эта форма высказывает. Форма диссонирует с
тем, что высказывает.
Если мы попытаемся в герменевтическом плане определить поэтическую
доминанту в тексте, соотнося ее с тремя фундаментальными моментами:
звук — понятие (значение) — синтаксис, и захотим в них видеть три
интенции словесного искусства, своего рода экзистенциальные переживания
человека, то лирика или лирическая экзистенция будет определяться звуком,
эпос — значением, а драма синтаксисом. И этому будет соответствовать
временная триада: настоящее — прошедшее — будущее. И из этого становится
ясно, что для поэзии в качестве доминанты возможен только фоносеманти-
ческий принцип, и конечно, доминантой здесь будет звук, обличенный
значением.
Нисколько не церемонясь с читателем и даже эпатируя его, поэт
рассказывает банальнейшую историю, пользуясь словарем сленга, предельно заземляя
финал своего неудачного романа. Он при этом никого не осуждает и не
проклинает. Поэт оставляет за собой лишь право сокрушаться от возникшего душевного
дискомфорта. В любовном состязании с богатым графом, владельцем имения,
поэт-изгнанник проиграл, как это и ожидалось.
Граф, в сущности, совсем не мерзок:
он сед и строен.
Я был с ним по-российски дерзок,
он был расстроен.
Но что трагедия, измена
для славянина,
то ерунда для джентльмена
и дворянина.34
Развязка всей истории, которую мы находим в третьей октаве, дана в
предельно сниженной форме, нарочито демонстрируя нам риторику низа,
показывая нам одновременно, что в быту поэт может оказаться посмешищем и это мало
беспокоит его, и самозащитой служит здесь нарочитый цинизм. Рискованное
использование нецензурной лексики в банальнейшем обобщении мгновенно
снимается вздохом «О Боже!». И надо сказать, что это постоянный прием
Бродского: не оставлять за такого рода лексикой возможность высказать последний
смысл, то есть делать ее по существу асемантической, сохраняя за ней лишь
экспрессивную функцию, которая мгновенно включением в речь слова из пласта
возвышенной лексики переводит текст в сферу высокой риторики или же
подлинного трагизма высказывания, как это имеет место в поэме «Представление».
34 Стихотворение цитируется по изданию: Сочинения И. Бродского, Т. 3, СПб, «Пушкинский
фонд», 1994. С. 23—28. Далее в тексте номера страниц указываются в скобках.
VII. Вместо заключения
JB 471
В целом, начало стихотворения несет в себе черты постмодернистской поэтики
в духе московских концептуалистов с их тягой к пародийности, к самопародии
и стилистической контрастности. Если бы не одно обстоятельство. Рассказанная
история — не постмодернистский текст. Это стилизация античной темы,
известная нам из поэзии неотериков Катулла и Кальва. И здесь продолжение традиций
не только римской, но и позднейшей европейской литературы, о которой писал
М. Л. Гаспаров. Поэт «вещий пророк оказывается в то же время смешным
чудаком и часто голодным клиентом в этой земной жизни»352. И в этом смысле вся
незатейливая история, рассказанная нам в первых семи октавах, служит
источником самопоучения поэта.
С восьмой октавы начинается подлинное поэтическое чудо, полное
преображение мира и лирического субъекта. Весь предыдущий текст предполагал
скучное и беззвучное пространство, а сейчас перед нами преображенный
поэтическим текстом ландшафт, который просто выговаривает свою сущность.
Ландшафт объективен, но не нейтрален, он говорит за себя.
Зима. Звенит хрусталь фонтана.
Цвет неба — синий.
Подсчитывает трамонтана
иголки пиний. (25)
Метафора, если так можно выразиться, просто дышит семантикой звона:
«Звенит — хрусталь — фонтана». Звон отождествлен с плеском воды, и плеск
как бы отдает кристаллизованным холодом. Следующая строка добавляет к
акустическому эффекту эффект визуальный. Звуки в сочетании с синью неба
превращают поэзию Бродского в синестетическую поэзию, смысл которой уже
направлен на гармонизацию чувств поэта и читателя. Особенность виртуозной
звукописи Бродского заключается в том, что она никогда не отодвигает в
сторону значение, как было бы в тексте романтическом или символистском, где
соотношение звучания и значения оказывается перевернутым. Здесь звукопись
фоносемантической доминантой, наоборот, усиливает семантический эффект,
она не выдвинута на передний план, ненавязчива и кажется абсолютно
естественной, звук находится в полной гармонии со значением. Отсюда и
необычайная красота всей октавы:
Что год от февраля отрезал,
он дрожью роздал,
и кутается в тогу цезарь
(верней, апостол). (25)
Апостол, конечно, ведь дело происходит на площади Святого Матфея.
И вот мы наталкиваемся на строфу, смысл которой понятен, но было бы
ошибкой не попытаться в ней увидеть нечто большее:
35Гаспаров М. Л. Поэт и поэзия в римской культуре // Культура древнего Рима. М. Изд-во
«Наука». 1985. С. 335.
472 Sib
А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
В морозном воздухе на редкость
Прозрачном, око,
Невольно наводясь на резкость,
Глядит далеко —
На Север, где в чаду и в дыме
Кует червонцы
Европа мрачная. Я — в Риме,
Где светит солнце! (25)
Здесь, конечно, опознается интертекстуальная структура: око —
глядит — далеко. Претекст — романс П. И. Чайковского «Нет, только тот, кто
знал свиданья жажду» на стихи Мея, которые являются вольным переводом
знаменитой песни Миньоны из романа «Годы учения Вильгельма Мейстера»
И. В. Гете.
При чтении стихотворения создается впечатление, что каждый согласный
используется для аллитерации, более того, кажется, что именно в таком
сочетании согласных слова без всякой селекции и комбинации образовали текст:
Не в драчке, я считаю, счастье
в чертоге царском,
но в том, чтоб, обручив запястье
с котлом швейцарским,
остаток плоти в терракоте
подвергнуть, сини,
исколотой Буонарроти
и Борромини. (26)
Очень часто эстетический эффект поэзии Бродского возникает разрушением
стилевой и жанровой иерархии. В пространство текста вводятся гетерогенные
друг другу элементы, и последние подвергаются тщательной инструментовке,
что повышает авторефлексивность текста, причем звуковая организация
текста, в котором поэт сталкивает архаические жанровые формы с событиями и
реалиями XX века, устаревшие слова со сленгом, создает изначально заданную
интенцию гармонизировать эти гетерогенные элементы. От постмодернистской
поэтики поэтика Бродского отличается, прежде всего тем, что из нее никогда не
исчезает ни лирический герой, ни автор. И этот лирический герой заявил о себе
в условных первых семи октавах.
В преображенном светом солнца ландшафте лирическое «Я» также
преображается. Навязчивое состояние душевной унылости сменяется гордым
осознанием своей значимости, и начинают звучать вариации дантовского кредо
изгнанников: «Мы, для которых отечество Мир», и тогда возникает осознание своей
принадлежности ко времени и мирозданию, к грандиозности творения.
Я пасынок державы дикой
с разбитой мордой,
VII. Вместо заключения
JB 473
другой, не менее великой,
приемыш гордый, —
я счастлив в этой колыбели
Муз, Права, Граций,
где Назо и Вергилий пели,
вещал Гораций. (25)
Гораций может только вещать, это не поющий поэт. Кажущаяся
несерьезной 13-я октава, ироническая и макароническая, на самом деле оказывается
одной из самых пафосных октав стихотворения. Лирическое «Я» здесь предельно
трансцендировано, и мнимая шутливость оказывается поистине космической
серьезностью. Поэт — центр мирозданья и времени, наделенный значимостью
демиурга.
Спасибо, Парки, Провиденье,
ты, друг-издатель,
за перечисленные деньги.
Сего податель
векам грядущим в назиданье
пьет чоколатта
кон панна в центре мирозданья
и циферблата! (26)
Теперь мы обнаруживаем вектор движения мысли поэта, и здесь мы можем
воспользоваться словами самого Бродского, сказанными им об Уистане Хью Оде-
не: «Его (Одена. — А. А.) рассуждение движется, подобно камере, от периферии
(политика) к центру (подсознание, инстинкт), где он сталкивается с этим
стремлением не ко "всеобщей любви", а к любви к одному себе (But to be loved alone).
Различие здесь не столько между христианским и языческим или духовным и
плотским, сколько между щедростью и себялюбием» 36. Камера останавливается
на символе Рима, на скульптуре волчицы. Она — последний визуальный образ
этого римского текста. К нему устремлен весь ландшафт, к нему устремлен и сам
поэт в экзистенциальном поиске своей сущности. В эссе об Одене Бродский
говорит о том, что Ницше назвал «дарящей добродетелью». Поэт там, где ее символ,
который одновременно является и символом его свободы, если не реальной, то во
всяком случае метафизической, а еще точнее космологической. Рим оказывается
подлинной родиной свободы, необходимой поэту, как воздух. В 14-й октаве
появляется символ Рима. Здесь, конечно, Бродский расходится со многими поэтами,
для которых Рим не может быть символом свободы, в лучшем случае — символом
веры, хотя для поэта между верой и свободой, видимо, нет непримиримых
противоречий. В эстетической реальности Бродского три города особенно связаны
с личностью лирического героя и с авторским «я»: Ленинград —
Санкт-Петербург, его родной город со всей его историей, пространство, изначально
охваченное сознанием поэта, где время предстало для него как главный феномен бытия,
Бродский И. А. Об Одене. СПб, 2007. С. 101.
474 Sîl
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Венеция — город, постоянно заставляющий поэта созерцать себя, ибо «человек
есть то, на что он сморит»37. В Венеции, как пишет поэт, «яснее, чем где бы то ни
было, пространство сознает свою неполноценность по сравнению с временем и
отвечает ему тем единственным способом, которого у времени нет: красотой»38.
И наконец, Рим — для Бродского в каком-то смысле город метафизический,
точнее, город, заставляющий думать об имманентной бытию метафизике, видеть во
времени и свободе не только исток бытия или основу человеческой энтелехии, но
космологический закон. Отметим, что в восприятии Венеции и Рима Бродский
очень близок к Гете39.
Передо мною —
не купола, не черепица
со Св. Отцами:
То — мир вскормившая волчица
спит вверх сосцами! (26—27)
И эта волчица становится у поэта матерью свободы, существом,
вскормившим человека, привившим ему инстинкт свободы. Парадоксальным образом
страшное лесное чудовище, как мать кормит двух младенцев, монстр,
способный разорвать все живое, представлен матерью, воспитательницей
человечества. Гете, с которым мы находим перекличку у Бродского, писал по этому
же поводу, что от такого «чуда также можно ожидать чудесного воздействия
на мир»40. Говоря о римской волчице, Гете указывал, «что смысл стремления
греков — это обожествлять человека, а не очеловечивать божество. Здесь тео-
морфизм, а не антропоморфизм. Далее, нужно не облагораживать животное в
человеке, а подчеркивать человеческое в животном, чтобы мы радовались этому
в высоком художественном смысле»41. Не побоюсь обобщить, что именно такое
впечатление и производят последние четыре октавы гениального стихотворения
Иосифа Бродского. Это ликующие октавы, содержащие в себе мощную энергию
лирического высказывания.
Рим — центр мироздания и циферблата — оказывается логовом этой
волчицы, давшей человечеству самое сокровенное — свободу. И она стала
инстинктом, сделавшим человека сопричастным истории, прошлому и настоящему. При
37 Бродский И. А. Поклониться тени. СПб., 2006. С. 186.
38 Там же. С. 193.
39 Было бы излишним указывать на «Римские элегии» и «Венецианские строфы». Лев Лосев,
говоря об одинадцатой «Римской элегии» отмечает, что в тексте элегии речь идет не о частях женского
тела, «а о работе скульптора, делающей преходящую физическую красоту вечной. Скульптор,
конечно, метафорический. Это — Гете, автор оригинальных «Римских элегий», и подражающий ему автор
новых «Римских элегий». (Лосев Л. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. М. 2008. С. 313.
Бесспорно, что тема «Гете и Бродский» еще недостаточно изучена, однако совершенно ясно, что здесь
возможны типологические сближения, которые сделают интерпретацию творчества выдающегося
русского поэта более глубокой.
40 Goethe J. W. Myrons Kuh.// Goethe J. W. Goethes Werke.Meyers Klassiker-Ausgaben. Leipzig und
Wien. 1903. S. 226.
41 Goethe J. W. op. cit. S. 227.
VII. Вместо заключения
J& 475
таком ощущении времени в сознание входит вся его полнота, во всем
многообразии личин и образов, которые могут стать масками поэта.
Огрызок цезаря, атлета,
певца тем паче
есть вариант автопортрета. (27)
В стремительной коде стихотворения мы сталкиваемся с виртуозной игрой
интертекстами. Претекст: «Усталый раб, замыслил я побег» (А. С. Пушкин).
Здесь не только перенесение цитаты в другой контекст, но и смысловая
трансформация цитаты, предельно усиливающая интертекстуальный эффект. Цитата
разрывается:
усталый раб — из той породы,
что зрим все чаще, —
под занавес глотнул свободы. (27)
И во имя свободы как сущностного начала в человеке отбрасываются все
чувства, понятия и эмблемы, которые если ей не препятствуют, но все же как-то
ее могут ограничить.
Она послаще
любви, привязанности, веры
(креста, овала),
поскольку и до нашей эры
существовала. (27)
Метафора, построенная на разноплановости денотативных сфер, завершает
трансформацию цитаты из Пушкина, придавая ей новый, дополнительный и
более важный смысл, открывая последнюю, уже кантовскую тему стихотворения.
Метафоризация онтологических категорий сообщает общим понятиям
бытийную обыденность и одновременно акцентирует важнейшее слово цитатой,
создавая совершенно иное значение.
Ей свойственно, к тому ж, упрямство.
Покуда Время
не поглупеет, как Пространство
(что вряд ли), семя
свободы в злом чертополохе,
в любом пейзаже
даст из удушливой эпохи
побег. (27)
Речь идет уже не только о бегстве от несвободы, судьбе изгнанника, но и о
ростках свободы в любой несвободной действительности. Гордой уверенностью
476 Sîb
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
в вечном метафизическом смысле человеческой свободы, ее определяющем
значении для творчества, для поэзии завершается стихотворение. Эта свобода —
часть свободы космологической. И последняя октава отправной точкой имеет
знаменитые слова Канта о двух вещах, вызывающих наибольшее благоговение:
о звездном небе над нами и моральном законе в нас. Трудно себе представить
более сильное в художественном отношении воплощения идеи творчества и
примата практического разума, то есть свободы. Она распространяется в бегущем
вперед времени, заполняя белый лист бумаги звучащими черными знаками,
создавая вечную открытость творчеству, времени, объективируя свою сущность.
Начатая с уступительной конструкции последняя октава, тоже
интертекстуальная, завершается мыслью о творческой сущности свободы, делая ее основой
бытия:
Сорвись все звезды с небосвода,
Исчезни местность,
Все ж не оставлена свобода,
Чья дочь словесность.
Она, пока есть в горле влага,
Не без приюта.
Скрипи, перо. Черней, бумага,
Лети, минута. (28)
Именной указатель
Именной указатель
J& 479
А
АбертГ. 344, 348, 349, 351, 355, 363, 364, 365, 377, 381, 396
Августин Аврелий 83
Агриппа Неттесгеймский 48
Адорно Т. В. 147, 150, 186, 187, 225, 250, 346, 347, 358, 376, 379, 454, 458, 459
Алексеева И. С. 14, 257, 342, 343
Альциат 396
АникстА. А. 81, 105, 123,180
Аристотель 60, 246
Ариосто Л. 377
Арнольд Г. 248
Асмус В. Ф. 276
Аствацатуров А. Г. 12, 71, 256, 343, 437
Б
Байрон Дж. Г. 196,207
Баратынский Е. А. 469
Бартон Р. 58
БаткинЛ. М. 275
Бах И. С. 247, 438, 441, 461, 463, 466
Бахтин M. М. 375
БашлярГ. 167,430,431,444
БеккариаЧ. 121, 138
Бекке И. фон 346
БеккерП. 344,345
Бель В. 186
Бертати Д. 356
Бетховен Л. ван 193, 332, 348, 356, 370, 393, 405, 414, 438, 440, 441, 445
Бешенштейн Б. 93
БиблерВ. С. 311
Бирк М. 222
БизеЖ. 445
Бисмарк О. фон 446
БлуменбергХ. 207
БляхерЛ. Я. 29
Бодлер Ш. 461
БойлН. 241
БоккаччоДж. 376
Бомарше П. О. 353
БотстайнЛ. 461
БрандтС. М. 104, 140
480
©ΧΑ. Г. Аствсщатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
БретцнерК. Ф. 120
Бродский И. А. 150, 469, 470, 471, 472, 473, 474
БрокоффЮ. 318
Бруно Дж. 49,50
Буассере 3. 208
Бук Т. 461,467
БурМ. 306
БуркхардтЯ. 261
Бурмистрова Е. В. 14
Бухвальд Р. 186
БэрлохерР. X. 120
В
Вагнер Г. Л. 104, 119
Вагнер К. 405
Вагнер Р. 345, 367, 403, 405, 406, 407, 408, 410, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421,
422, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 441, 442, 445, 461, 465
ВайсхунФ. А. 22,294
Валентин Б. 50,73, 115, 116, 117, 129, 139
Вальцель О. 287
Вакенродер В. Г. 346
ВарескоД. 345,348
ВеберА. 345,365
ВеберК.М. фон 193,405
ВейдельКр. 186
Велькер Фр. Г. 173
Вельфлин Г. 167
Веллинг Г. фон 48, 49, 50, 72
ВеллекР. 304
Вергилий П. 257,452
Веселовский А. Н. 256
Визе Б. фон 263, 267, 293, 323, 460, 461
ВикоДж. 278,336
Виламовиц-Меллендорф У фон 403, 405, 406, 408, 409, 412, 422
Виланд К.-М. 22, 246, 323, 350
Вилкинсон Э. 262
Винкельман И. И. 173, 191, 403
Винольд Г. 461
Винтер П. 36,393
Вольский А. Л. 2, 14
ВраницкийП. 36,392,393
ВундтВ. 303
ВьеттаС. 10
ВэллербиД. Э. 388
Именной указатель
JB 481
Г
ГадамерХ.-Г. 18,23,288,304
Гайденко П. П. 287
Гайдн Й. 355,371,382
Гайер У. 43, 48, 68, 238
ГайстИ. Я. Л. 269
ГансликЭ. 391,406
Гаспаров М. Л. 471
Гаст П. (псевд. Г. Кезелица) 442, 445
ГаццанигаДж. 356
Гвиччардини Ф. 275
Гегель Г. Ф. В. 327, 328, 334, 335, 336, 337
Гейне Г. 442,461
ГекМ. 369,382
Гельдерлин Ф. 11,409
ГельдиА. 138
Гельмонт И.-Б. 73
Гендель Г. Ф. 193,466
Гераклит 6,413,426
Гердер И. Г. 31,40, 81, 88, 138, 262, 275, 292, 294, 336
Герман Г. 173
Гете И. В. 5,6,7,8,9, 10,11,12,13, 14,15, 17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 43,44, 45,46, 47,48,49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 82,
83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 98, 100,101,103, 104, 105, 106, 108, 109,
113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 131, 132, 135, 136, 137,
138, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 160, 163,
165,167, 170, 171, 173, 177, 178, 180, 184,185, 186, 187, 188, 189,190, 191,
193,194, 195, 196, 197, 198, 199, 206, 207, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 219,
222, 224, 225, 231, 245, 246, 247, 248, 249,250, 251, 252, 253, 254,255, 256,
257, 261, 262, 263, 269, 287, 294, 295, 322, 323, 324, 341, 342, 343, 347, 349,
350, 351, 352, 354, 356, 357, 360, 364, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394,
395, 396, 397, 398, 399,400,403, 405,416, 425,426,437,439, 441,442, 449,
450,452,453,454,455,472,474
Глюк К. В. 36, 193, 345, 348, 350, 351, 393,405
Говард Л. 201
Гомер 281,324,409,411
Гораций 452,473
ГотшедИ.Х. 37,55
Гофман Э. Т. А. 359, 372, 373, 480
Гофмансталь Г. фон 34, 36, 393
Гош Л. 205
ГраунК.Х. 193
Грей Т. 63
482 Si-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Гримм Я. и В., братья 143
ГроосК. 303
ГулыгаА. В. 306
Гумбольдт В. 151, 193,280,327,331,332,388
ГундольфФ. 39, 101, 196
ГурауэрГ. 403,408,412,422
Гурко Е. 416
д
ДаммЗ. 120
Данте Алигьери 469
Да Понте Л. 10, 353, 356, 357, 358, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 381, 382, 384, 386,
387, 388,
Декарт Р. 55
Делез Ж. 122, 265,426,428,429, 436, 468
ДерридаЖ. 416,460
Джойс Дж. 456,457,460
Дидро Д. 323
Достоевский Ф. М. 375
Ε
Еврипид 191,422
Ельмслев Л. 469
Ж
ЖакенГ. фон 359
Жданко-Френкель Л. 459
Женомм В. 367
ЖеребинА. И. 10, 14,208
Жирмунский В. М. 43, 62
3
ЗиммельГ. 19,75,342
Зингер М. Р. 138
ЗульцерИ. Г. 108
Зюсмайр Ф. К. 354
И
Иванов К. 47, 105, 256, 257
Ирлитц Г 306
К
Каган М. С. 5, 8, 10, 240, 311, 322, 336
КазановаДж. 357
Именной указатель
JB 483
Кайзер В. 32,392
Кальв 471
Кальдерон де Ла Барка 376
Кальцабиджи Р. 348
КамперП. 29
Каннабих К. 365
Кант И. 6, 22, 23, 24, 25, 27, 62, 207, 267, 276, 263, 265, 275, 279, 283, 285, 289, 292,
297, 299, 300, 302, 303, 304, 307, 312, 315, 316, 317, 319, 323, 325, 326, 329,
330, 332, 334, 337,469,476
Карл Август 38, 119, 120, 246
Карл, эрцгерцог австрийский 214
Кассирер Э. 229, 283, 360
КатуллВ. 471
Келлер В. 141
КемперД. 10,208
Кеплер И. 50
КереньиК. 180,183
Кимон 412
Киттштайн У. 239
КлейстГ. фон 412
Клементи М. 364
Клеттенберг С. 72
Клопшток Ф. Г. 63
Кнебель К. Л. фон 163
Коллоредо И. фон 354
КорффГ.А. 186,261
Кох Г. X. 368, 369
КрафтГ. 333
КристеваЮ. 375,432
КройцерХ. Й. 65, 173, 174, 175, 176
Кроне Б. 55,56
Кунце Ш. 376, 377, 385, 386
Л
Лакло П. Шодерло де 357
Ламетри Ж. О. де 376, 380, 387
ЛасКазЭ.Де 216
ЛафатерИ. К. 138
ЛевенН. Ф. 123
Лейбель Е. В. 11,14, 428, 443,456,463,466, 468
Лейбниц Г. В. 246,369
Лекторский В. А. 24
ЛенауН. 359
ЛенцЯ. М. Р. 119
484 SL А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Леонардо да Винчи 442
Леппманн В. 13
Лессаж А. Р. 435
Либхольдт Г. 118
Ливанова Т. 380
Лиотар Ж.-Ф. 187, 458, 459, 464
ЛистФ. 442
Лихтенштадт В. О. 6, 29, 108
ЛомайерД. 189
Лосев А. Ф. 6, 7, 8, 174, 178, 231, 253
Лосев Л. В. 474
ЛотманЮ. М. 8,9,457
Лютер М. 101
M
Май К. 200
Макиавелли Н. 275
Малер Г. 248
Мальцева С. А. 56
Манн Т. 81, 160,331,332,445
Мария Павловна, великая герцогиня 454
Маркс К. 311,335
МаркузеГ. 314,320,321
Матфей 132
Мей Л. А. 472
МейерИ. Г. 205
МейнекеФ. 195,204,278
Мендельсон М. 323
Мендельсон Ф. 345, 406, 417, 438, 441, 442, 445
Менцель В. 461
Мережковский Д. С. 449, 450, 451, 454
Мерк И. Г. 81,88
Мерло-Понти М. 229
Месмер Ф. А. 383
Мильтон Дж. 122
МильхВ. 186
Михайлов А. В. 281
Михельсен П. 76
Моммзен К. 184
Монтескье Ш. де 275
МорицК. Ф. 39, 108
Моррис М. 36, 123,392,397
Мотрошилова Н. В. 335, 336
Именной указатель
J& 485
Моцарт В. А. 5, 10, 14, 36, 193, 207, 246, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366,
367, 368, 371, 372, 373, 377, 380, 381, 383, 385, 387, 388, 390, 391, 392, 394,
396, 399,405,417,438,439, 440,445
Моцарт Л 345,355
Мюллер Й. 73
Мюллер Ф. фон 197,212,454
Мюссе А. де 46, 220
H
Наполеон Бонапарт 205, 206, 207, 208, 212, 214, 215, 216, 222, 223, 246
НаранхоК. 89
Николаи Ф. 138
Ницше Ф. 5, 7, 11, 12, 13, 151,206, 239, 262, 267, 324, 325, 343, 361, 367,403,404,
405,406, 407,408,409,410,411,412, 413,414, 415, 416,417, 418,419,420,
421,422,423,424,425,426,427,428, 429, 430,431,432, 433,434,435,436,
437,438,439, 440,441,442,443,444,445, 446,447,473
Новалис 34,431
НойберК. 37
Нострадамус М. 48
О
Овидий 233, 234, 376, 469, 473
Оден У. X. 473
Ориген 248,249
Ортега-и-Гассет X. 390,436,437
Π
Палестрина Дж. П. да 421
Парацельс Ф. Т. 50, 73
Петр1 449,450,451,452,454
Платон 7, 78,136, 147, 229, 292, 406, 440
Плотин 6,7,231,252,253,254
Плутарх 161, 188
ПоттХ.-Г. 282,285
ПреториусЙ. 123, 131, 135
Прокл 6, 252
Протопопов Вл. 465
Псевдо-Дионисий Ареопагит 252
Пуччини Дж. 462, 465
Пушкин А. С. 469,475
ПьембоС. 182
486 Si- A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА
Ρ
Расин Ж. 265
Рафаэль 180, 181, 182, 207, 246, 442
Рейнгардт К. Ф. 28
Рейнгольд К. И. 282, 288, 289
Рембо А. 461,462
РемигиусН. 132, 135
РикерП. 147
РиккертГ. 51,59,61,65
Рильке P.M. 461
Ример Ф. В. 19
Ричарде А. А. 459,463
РодеЭ. 405,406,407
Россини Дж. 421,436,439
РохлицИ. Ф. 372
Руланд М. 50
Рунге Ф. О. 142, 143
Руссо Ж. Ж. 12,275,294,323,324
Рэм В. 281
С
Сад Д. А. Ф.де 357
Сальери А. 193,371
Сафрански Р. 320
Свасьян К. А. 26
Сведенборг Э. 49
Сенека 452
Сен-Симон К. А. 240, 242, 243
Слотердайк П. 407
Снежинская Г. В. 445
Соколова Т. В. 14
Софокл 406, 410, 412
Спенсер Г. 303
Спиноза 376
СтамицЯ. 365
Старкей Г. 73
Старобинский Ж. 10, 265, 353, 354, 364, 389, 390, 391, 392, 397, 399, 457
Стендаль 364, 372,375
Степанов А. В. 181, 182
Стораче Н. 365
Страницкий Й. А. 341
Τ
ТаганцевН. С. 138
Именной указатель
JB 487
Тик Л. 456
Тилькес М. 282
Толстой А. К. 257
Тракль Г. 461
Трансон Э. 241
ТренделенбургА. 101
Трунц Э. 43, 50, 54, 70, 96, 99, 190
Тузенко Е. В. 14, 153
У
Узнадзе Д. 5
Уильяме Д. 222
Φ
Фальк И. Д. 131,212
Фелстинер Ф. 461
Филипп II Испанский 309,310
ФинкО. 6,17,32,336,337
Фихте И. Г. 170, 282, 283, 285, 287, 288, 294, 315, 334, 337, 338
Фичино М. 58
Фишер К. Л. 365
ФолькельтИ. 186
Форман Н. Д. 370
Фрейд 3. 62
Фридрих Христиан, герцог Августенбургский 277
ФричЯ. Ф. фон 119
Фуко М. 60, 134, 135, 136, 137, 138, 265, 266
X
Хабермас Ю. 367
Хайдеггер М. 458,459
Хартман Т. 36
Хедерих Б. 49
ХейзингаЙ. 19,39,303,304
ХенА. К. 119
Хенкель А. 248
ХенрихД. 299
ХеррМ. 123,127
Хоркхаймер М. 376
ц
ЦабкаТ. 128,170,236,240
Целан П. 455, 457, 459, 460, 461, 462, 463,465, 466, 468
ЦельтерК.Ф. 36,242,248
488 Si-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Циммерман Р. К. 245
Цицерон 60
Ч
Чайковский П. И. 472
Ш
ШадевальдтВ. 186, 193
Швенгель А. М. 138
Шекспир В. 34, 66,425, 426
Шеллинг Ф. В. Й. фон 170, 173, 174, 175, 176, 299, 334, 336, 337
Шенборн Г. Ф. Э. 63
Шене А. 43,49, 64, 76, 130, 131, 214, 248
ШиканедерЭ. 10,36,391,393
Шиллер Ф. 5, 6, 11, 22, 31, 32, 34, 63, 64, 65, 66, 79, 133, 134, 152, 193, 263, 275,
276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293,
294, 295, 297, 298,299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312,
313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 330, 331,
332, 333, 334, 337, 338, 356, 357, 379, 393, 403
ШингсХ.-Ю. 60,61,77
ШлегельФ. 22,92,334
ШлегельА. В. 193
Шмидт Й. 52, 57, 58, 60, 66, 109, 110, 153, 154, 184, 224, 252, 253
Шнайдер Р. 186
ШнаусК.Ф. 119
Шопен Ф. 345,348,417,442,443,445
Шопенгауэр А. 13,40, 165,403, 406, 413,418,422, 436
Шпенглер О. 449
Штайгер Э. 39, 158, 200,270, 360
Штайн Ш. фон 262, 270, 346, 397
Штайнер Р. 79
Штерн В. 303,304
ШтефаниГ. 349,350,351
Штольберг Ф.-Л. 138
ШторцГ. 97
Штрих Ф. 98
Шуман Р. 248, 438
Э
Эглоффштайн Г. фон 197
Эйнштейн А. 366, 368, 369, 370, 381, 382
Эккерман И. П. 81, 149, 152, 153, 160, 186, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 205, 206,
208, 215, 242, 243, 247, 343, 347, 388, 389
ЭкоУ. 265
Именной указатель
JB 489
ЭлиадеМ. 249
Элиот Т. С. 150
Эльконин Д. Б. 303
Эмерсон Р. У. 150
ЭмрихВ. 166, 177,200
Энгельс Ф. 335
Эсхил 412
Эрранте В. 101
Ю
Юнг К. Г. 27, 63, 74, 80, 156, 161
Юстиниан 248
Я
Ямвлих 252
Ян О. 404,405
ЯнкеВ. 282,284
Яусс X. Р. 99
490 Si-
A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
А
Adorno Т. 458
Albrecht M. 303
Anglet Α. 94
Arens Η. 43,142
Arnold G. 248
В
Baerlocher R. J. 120
BekkerP. 123,344,345
BiemelW. 292
Binder W. 94,
BirkM. 222
BirknerS. 118,119, 140
Blumenberg H. 207,212
Boyle Ν. 241
BöhmW. 94
Böschenstein В. 93
BrokoffJ. 316? 317? 318
Buck T. 460,461,467
С
Carl Erzherzog von Österreich 214
D
DokeT. 105
DüntzerH. 94
Ε
Eckermann J. P. 208
Emrich W. 166, 177,199, 225, 243, 293
EngelhardtM. 52
Errante V. 101
F
Falk J. D. 131,212
FelstinerJ. 460,461
Fichte J. G. 315
Fink Ε. 337
Flach W. 119
FormanD. 370
Frank M. 290
Именной указатель
J& 491
Francisci Ε. 123, 132
Friedenthal R. 205
G
GaierU. 43,48,68,78, 100, 114, 115, 145, 146,453
Geck M. 369,382
Geismeyer W. 220
Goethe J. W. 7, 9, 12, 18, 25, 35, 36,43, 48, 49, 50, 53, 54, 64, 68, 71, 72, 73, 78, 93,
94, 97, 99, 105, 108, 120, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 143, 148,
158, 160, 180, 186, 189, 190, 197, 200, 201, 205, 208,222, 223, 235, 238, 239,
241,242, 245, 247, 248, 261, 263, 269, 322, 324, 327, 360, 393, 394, 395, 396,
398, 399,437, 452,453, 454, 474
CreuzerF. 173, 176
Groß H. 123
Gundolf F. 53, 196
H
Habermas J. 367
Hamlin С 181
Hamm H. 240
HanslikEd. 392
Hartmann T. 9, 36
Hederich B. 49
Henkel A. 248
Henrich D. 299
Hermann G. 173
Hildebrandt К. 416
Hoffmannsthal H. 36,393
Hohlfeld A. R. 94
HoltberndB. 9
HuizingaJ. 304
I
InciarteR. 305
J
Jäger M. 235,237
JähnigD. 410,413
JankeW. 282,284,308
JaußH.R. 99,100
К
Kaiser G. 94,237
KayserW. 18,32,33
492 Sib А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Kantl. 316
Keller W. 54,59, 101, 141, 180,231
KerényiK. 180
Kittstein U. 211,230,238,239
Koch H. С. 368
Kommerei M. 80
Koopmann H. 19
Korff Η. Α. 119, 261, 322, 324, 327, 321. 323, 326
Kraft Η. 88, 123, 139, 197, 255, 332, 333
Kreutzer Η. J. 65
KunzeS. 377,380,381,386,387
L
Leppmann W. 12, 13
Lohmeyer D. 189
Löwen J. F. 123
LuléS. 193
M
MarçuseH. 314
May К. 200
Meinecke F. 278
Menzel W. 460,464
MichelsenP. 76,94
MiethG. 239
MommsenK. 184
Morris M. 123
Müller F. von 197,454
Müller J. 73, 160,200, 201, 296
N
Nietzche F. 324, 407,414,416, 418,419, 420, 421,422, 426,427. 431,434,441,444
О
OesterleG. 9
Ρ
Petri Η. 460
Pott H.-G. 282, 285, 289, 299, 315
PraetoriusJ. 123, 131, 132, 135
PuntelK. 300
R
Reinhardt K. 179
Именной указатель
JB 493
RemigiusN. 132
RequadtP. 94
RehmW. 281
Reinhold С. L. 289
Rickert H. 51,52,59,61,65.122
Rüdiger H. 332
S
Safranski R. 320
SagaveP.-P. 240
Schade S. 123
Schadewaldt W. 148,186
Schelling F. W. J. 170,173,290
Schiller F. 277,307,314.331
SchingsH.-J. 60,61,77
Schmidt J. 52,60,66, 102, 106,110, 111, 134, 154, 184.225,231.237,252,253
Schneider W. 104
Schöne A. 43,49,53,64,65,68,76,78, 108, 118, 123, 129, 130, 131,132, 138, 142,
143, 144, 201, 247,248, 395, 452
Schuchardt G. С L. 240
SdunW. 304
Splitt G. 376
StaigerE. 158,200,360
Starobinski J. 10
Strich Fr. 53, 98, 142
StorzG. 97,98
Τ
Tahlheim K.-G. 276, 282, 287, 290, 292, 293
Traumann E. 43
Trendelenburg A. 43
Trunz E. 43, 50, 51, 54, 70, 71, 96, 97, 99, 156
V
ValkT. 63
ViettaS. 10
W
Wagner R. 405,415,416
WalzelO. 287
Welker Fr. G. 173
WellekR. 304
WellerbyD. 388
Wiese B. von 276,291, 293, 304, 305, 323,461
494 Si- A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА
Wilkinson Е. 263,318,319
Williams J. R. 222
Willoughby L. Α. 318
WinoldG. 461
WitkowskiG. 43,123,215
Witte В. 9
Ζ
Zabka T. 128, 155, 170, 236, 240, 241
Zimmermann R. Ch. 245, 246
Аствацатуров Алексей Георгиевич
ПОЭЗИЯ· ФИЛОСОФИЯ· ИГРА
Герменевтическое исследование творчества
И. В. ГЕТЕ, Ф. ШИЛЛЕРА,
В. А. МОЦАРТА, Ф. НИЦШЕ
Верстка Е. В. Житинской
Корректура Ю. Б. Гомулиной
Оформление обложки Е. О. Шваревой, Е. В. Тузенко
Изд. лицензия ЛР № 065684 от 19.02.98
Подписано в печать 19.11.10 Формат 70 χ 100 716
Печ. л. 31
Отпечатано издательством «Геликон Плюс»
Санкт-Петербург, В. О., 1-я линия, дом 28
http://www.heliconplus.ru
Алексей Георгиевич Аствацатуров
(1945 г. р.), кандидат философских
наук, профессор Института ино-
Ί . странных языков в Санкт-
Петербурге; сфера интересов:
литература, философия, поэтика
и герменевтика; автор работ
о И. В. Гете, Ф. Шиллере,
:,Г В. А. Моцарте, Ф. Шлегеле,
Э. Т. А. Гофмане, И. Айхендорфе,
Р. Вагнере, Ф. Ницше, В. Дильтее,
П. Целане, И. Бродском.
Не личности, а более или менее идеальные маски; не
действительность, а аллегорические обобщения; характеры эпохи, местные
краски, ослабленные почти до невидимости и превращенные в
мифы; современные чувства и проблемы современного общества,
сведенные к их простейшим формам, лишенные своих
привлекательных, интересных патологических качеств и сделанные
бесплодными во всех смыслах, кроме артистического, никаких новых
тем и характеров, а лишь постоянно новое одушевление и
преобразование старых, давно привычных характеров — таково
искусство, как его позднее понимал Гете и как его осуществляли греки,
а также и французы.
Ф. Ницше,
«Человеческое, слишком человеческое»
Разделы книги — герменевтические вариации этих мыслей.
ISBN 978-5-93682-704-4
>