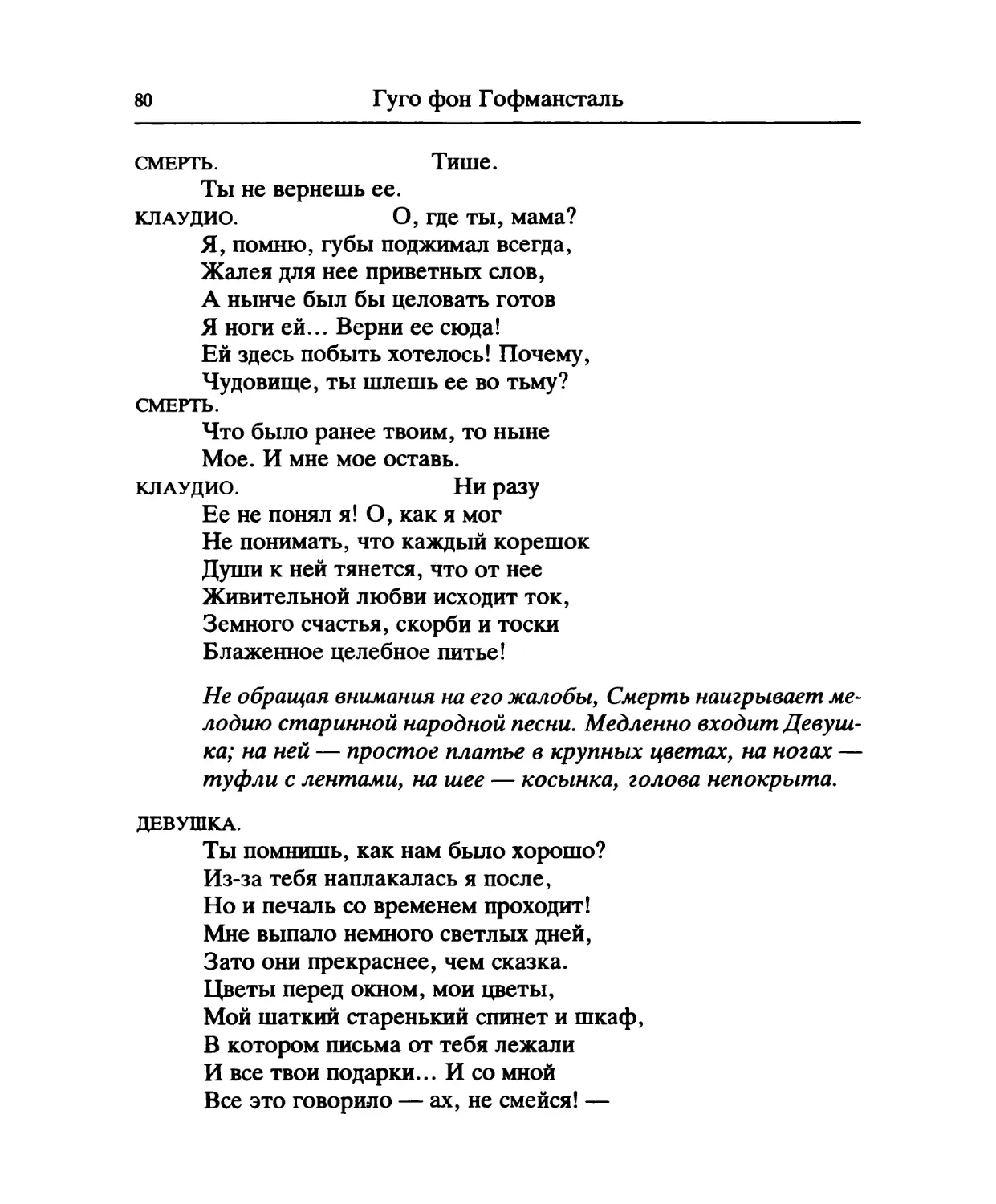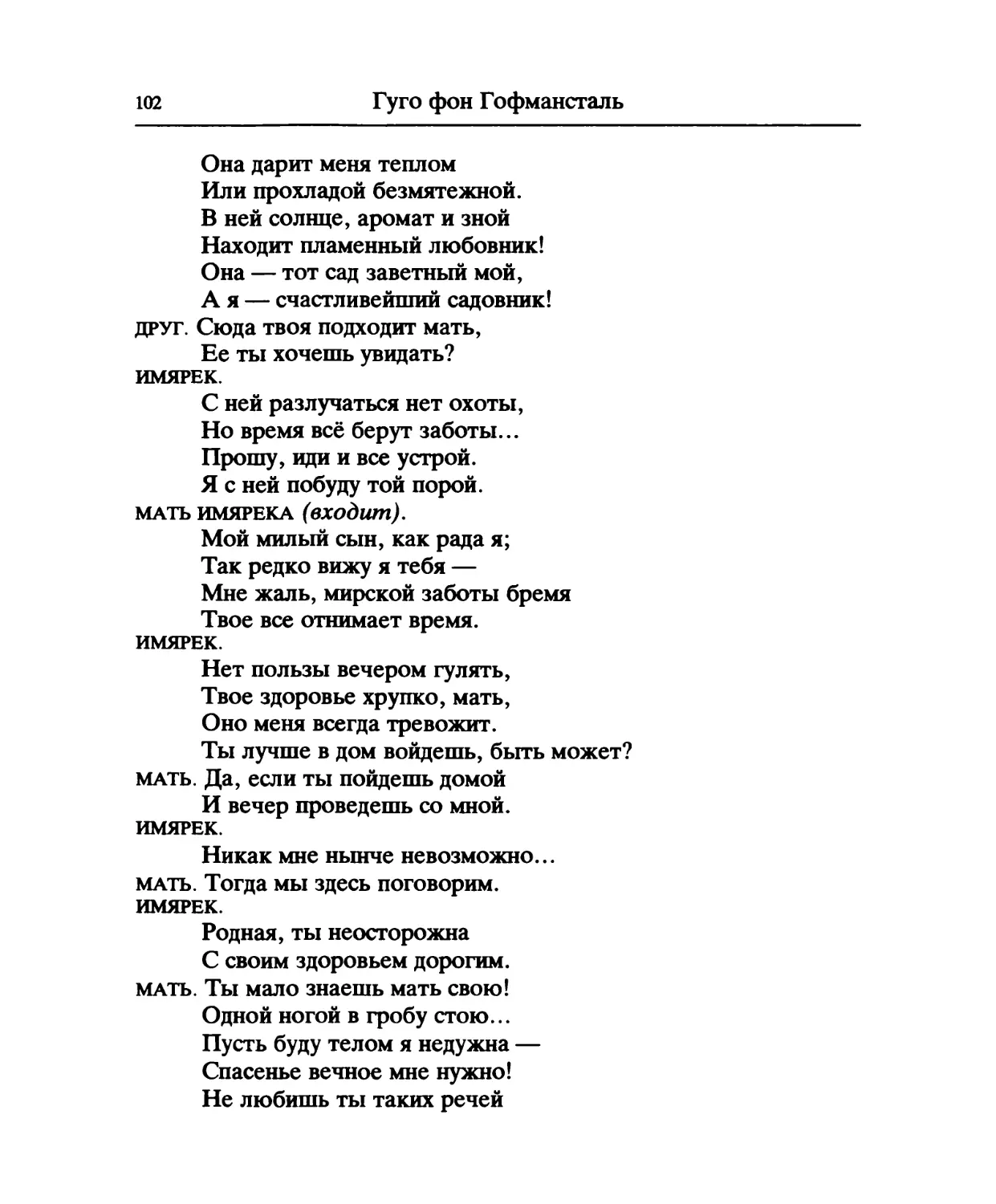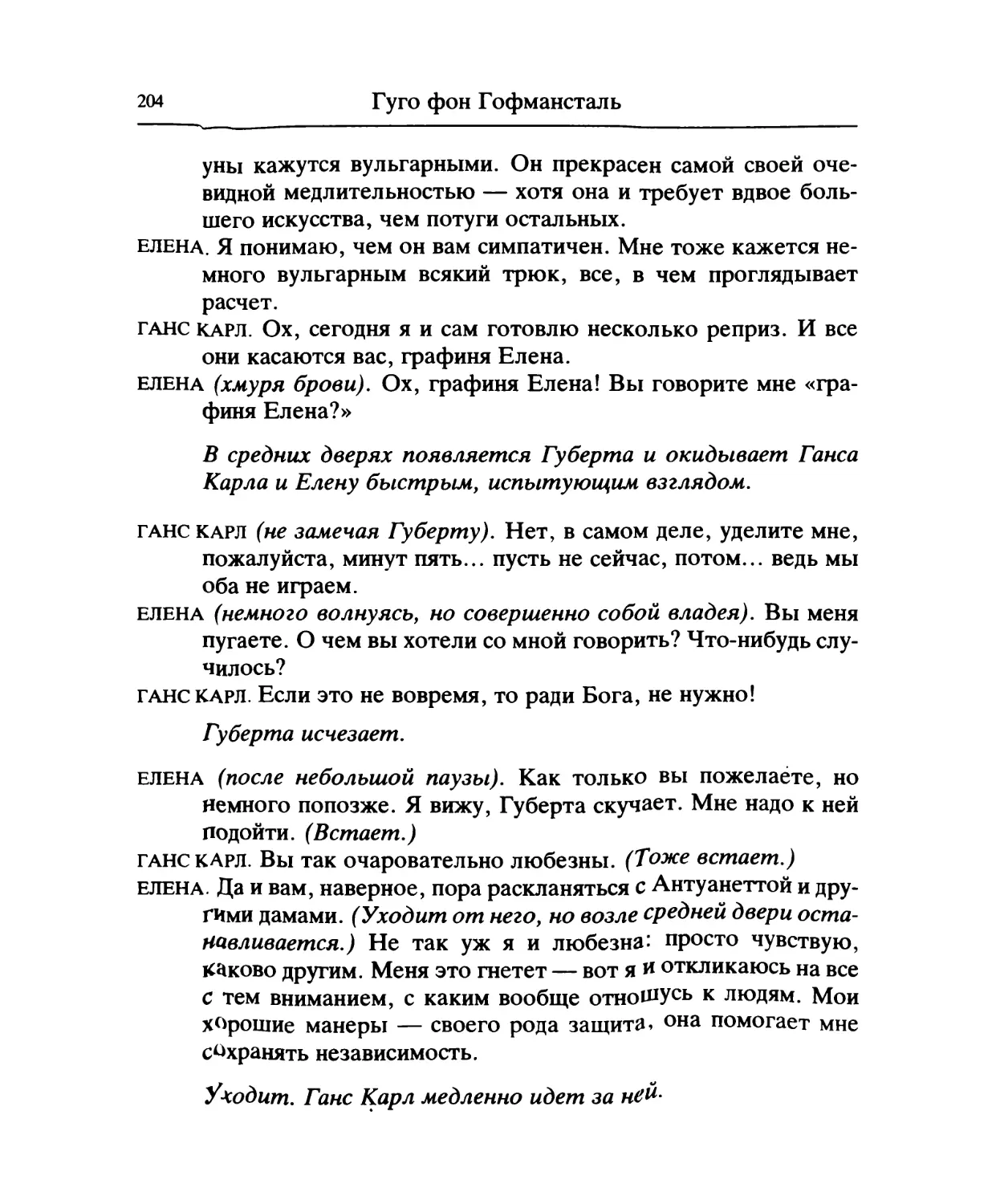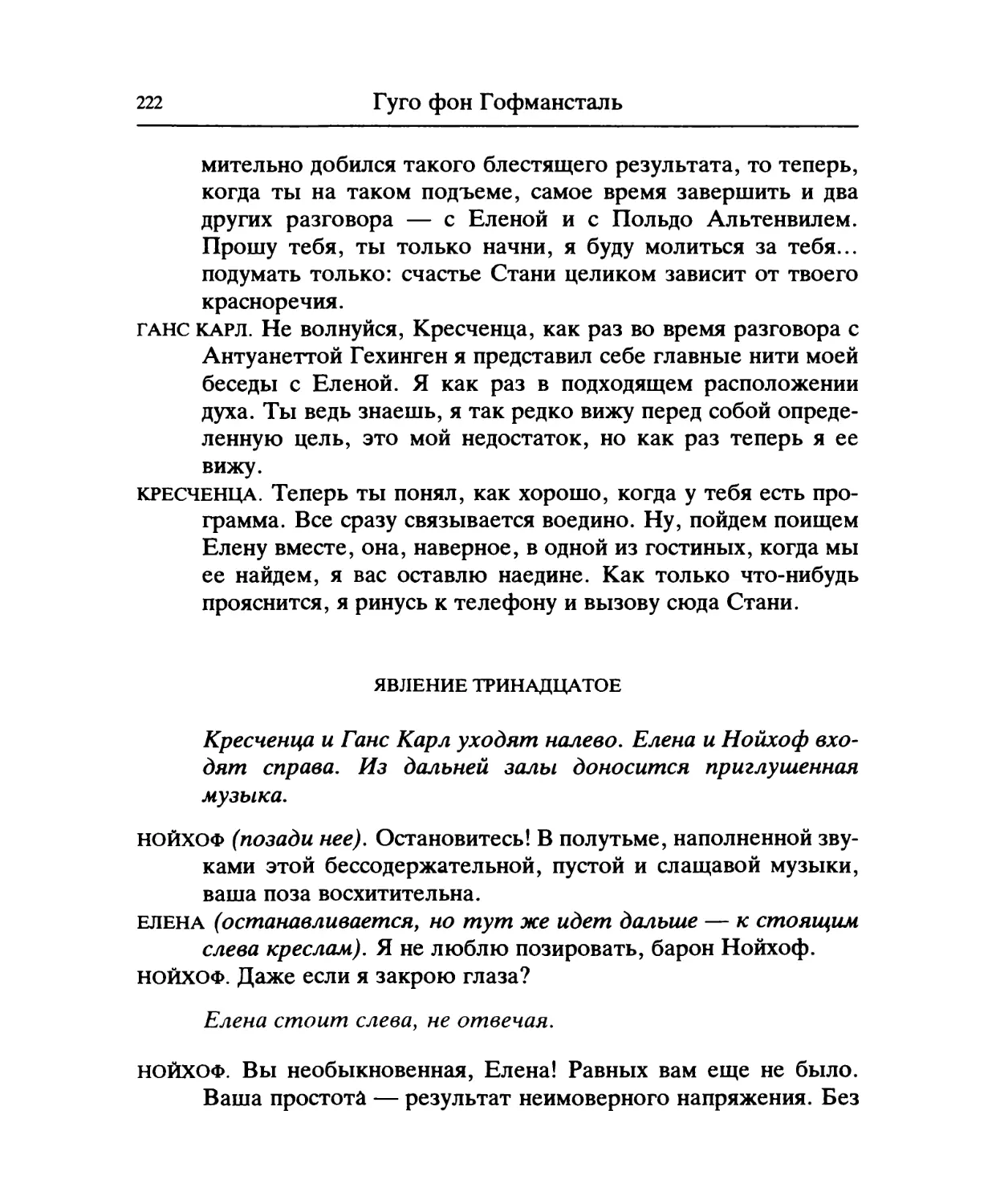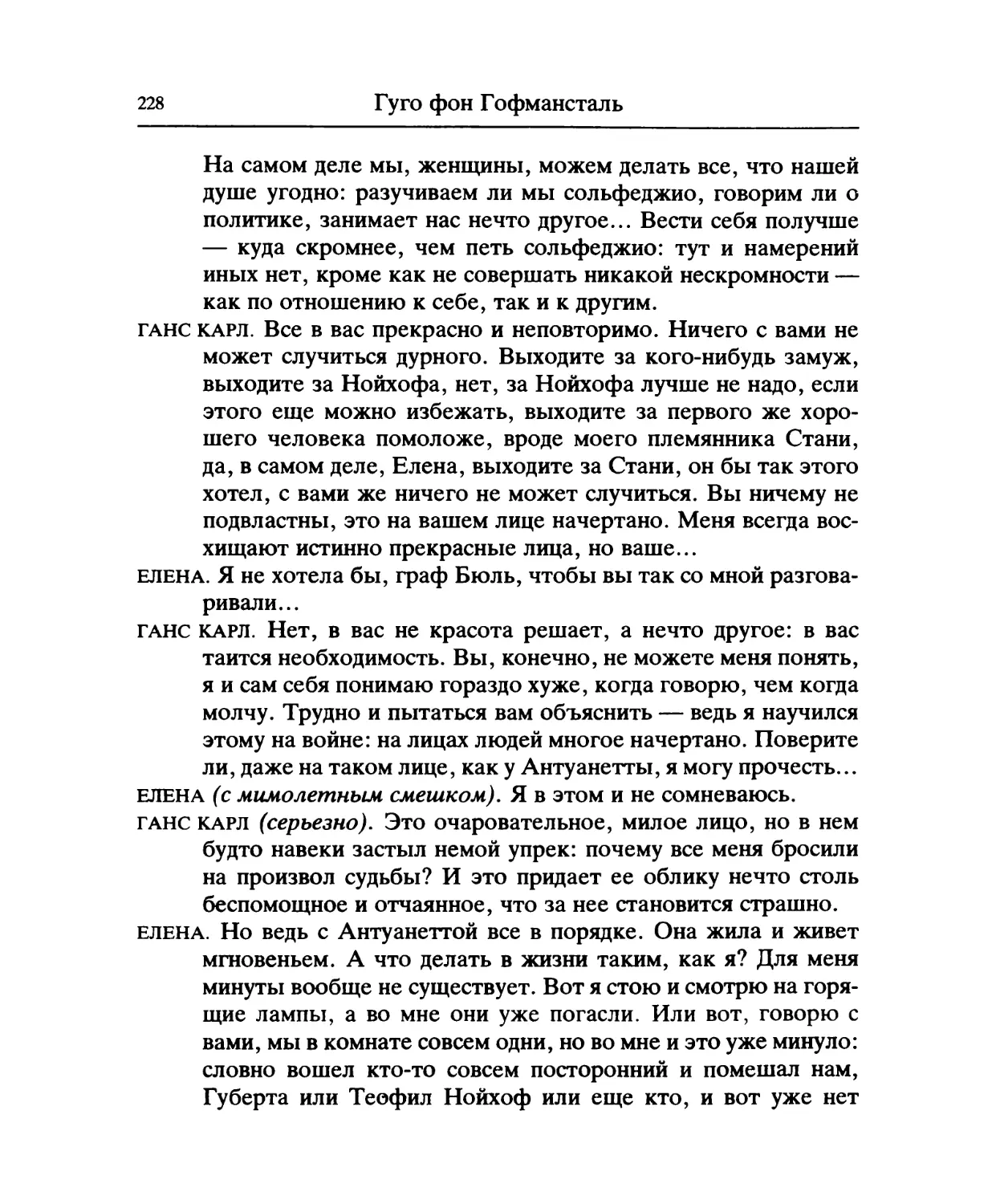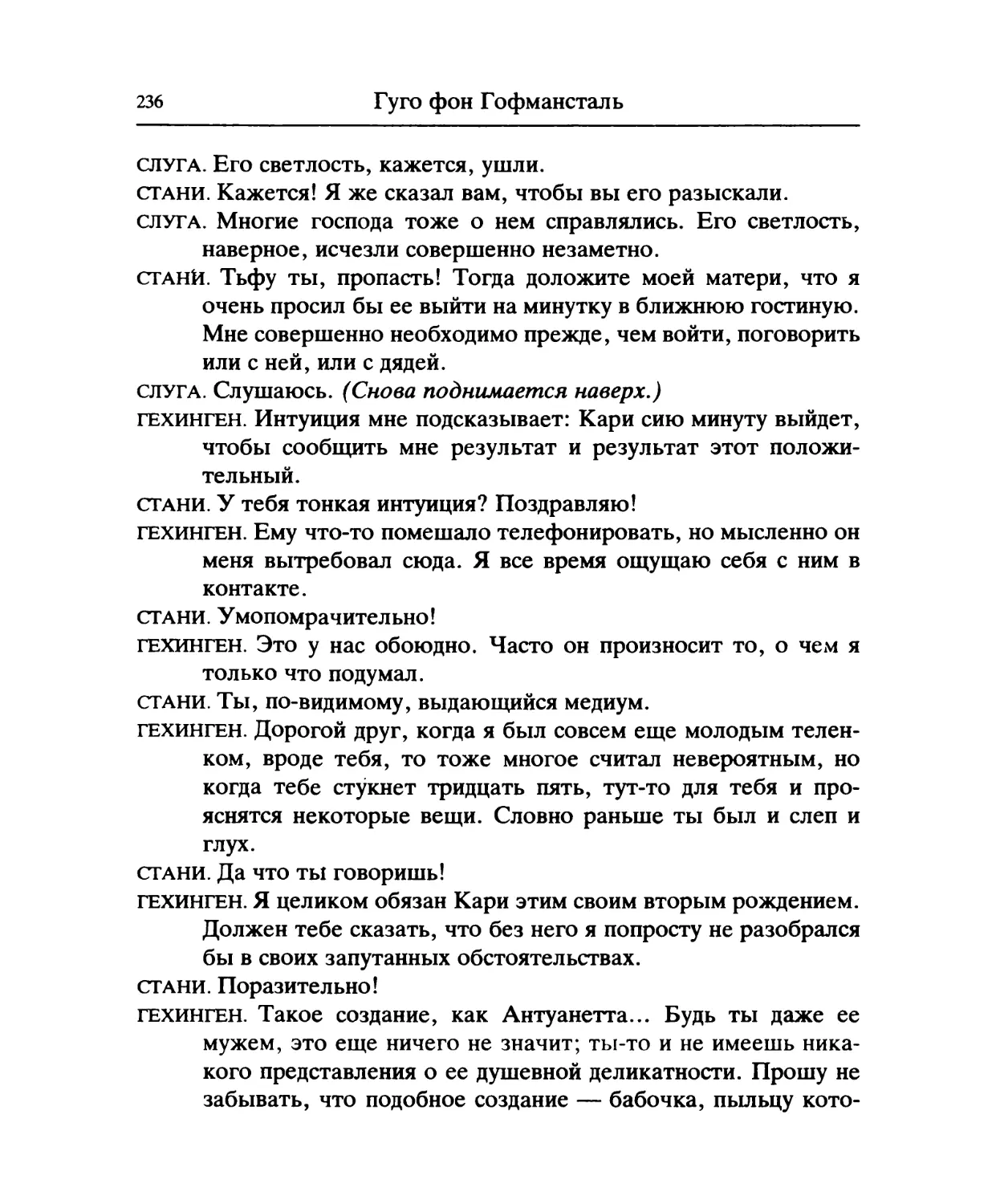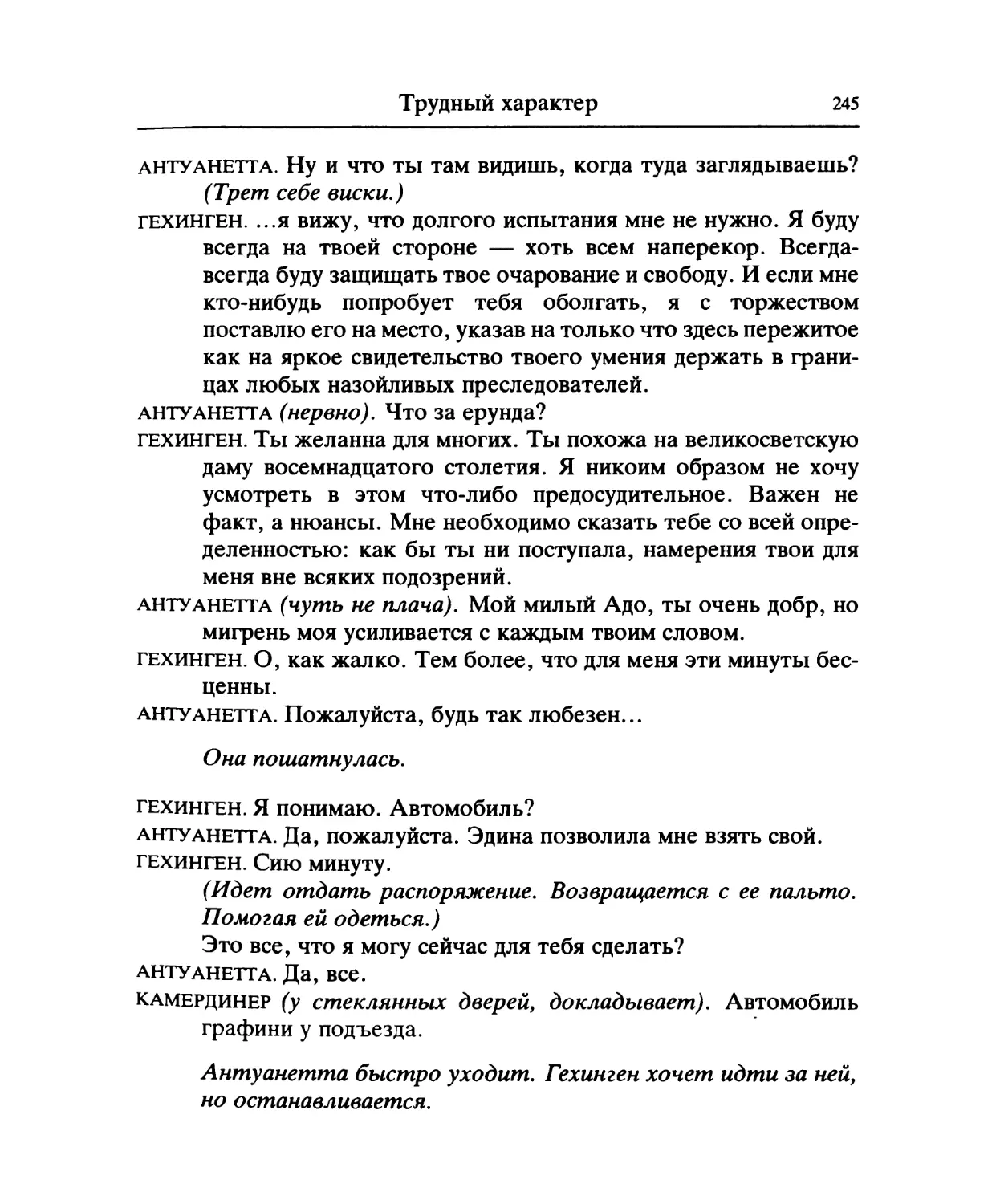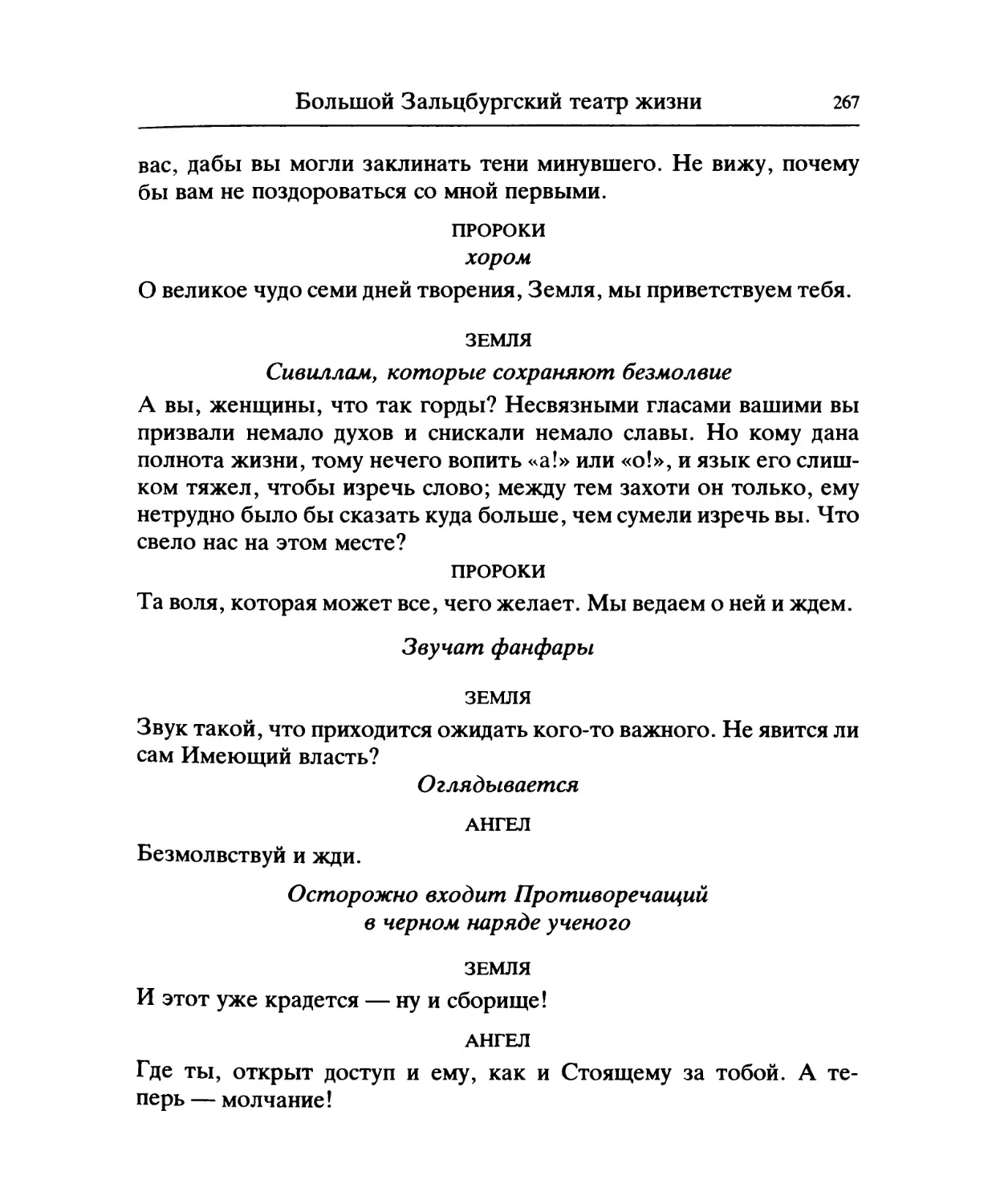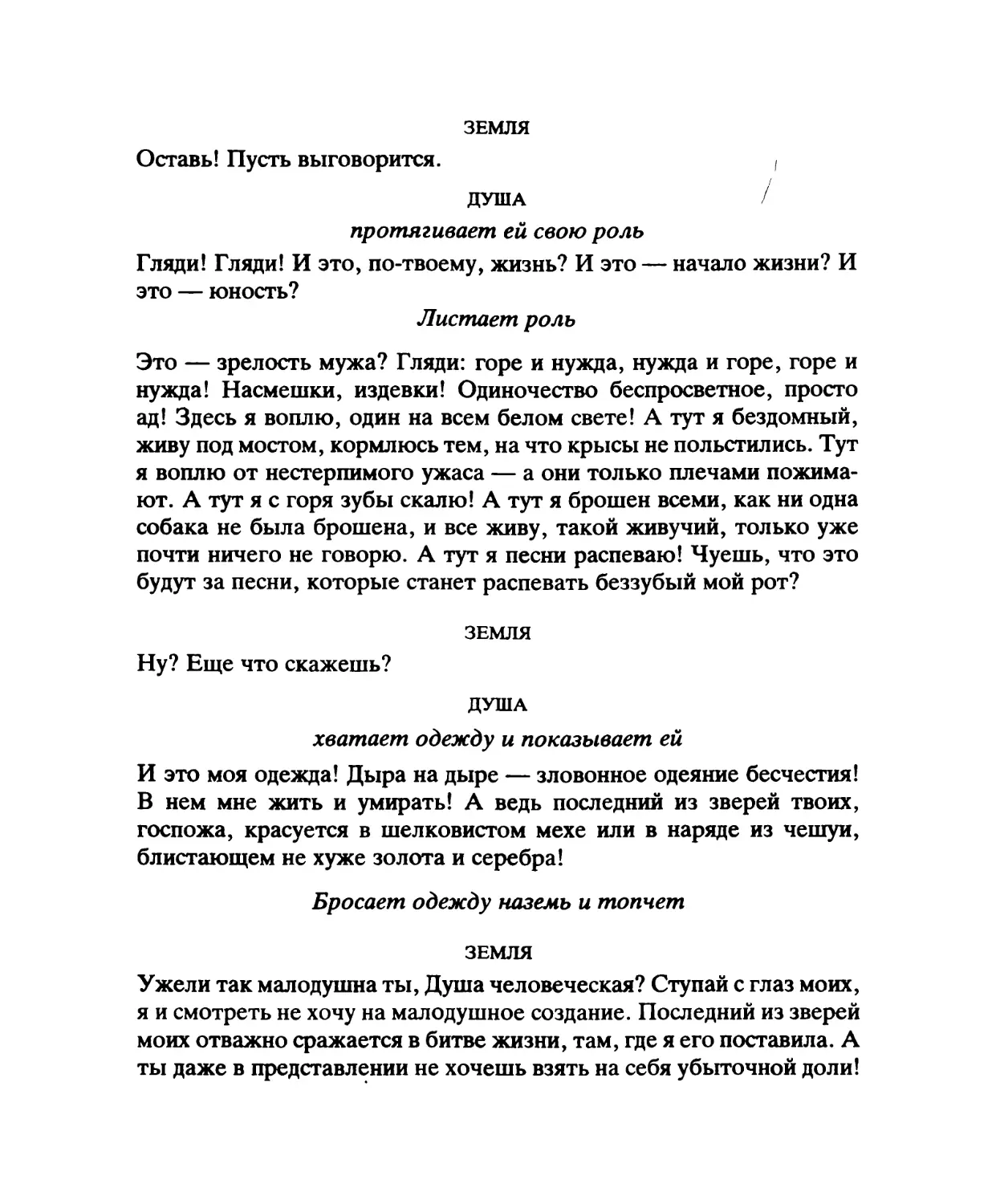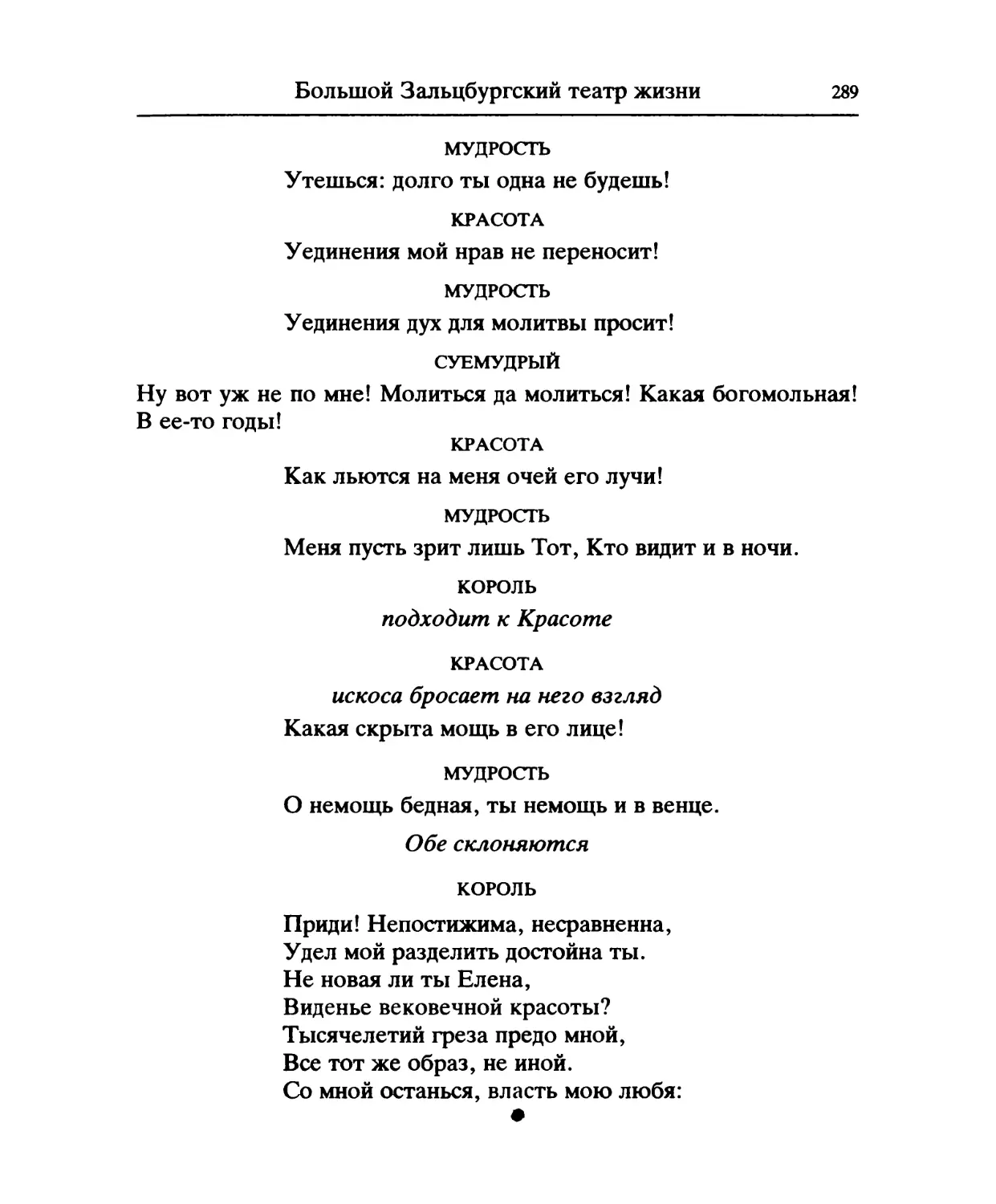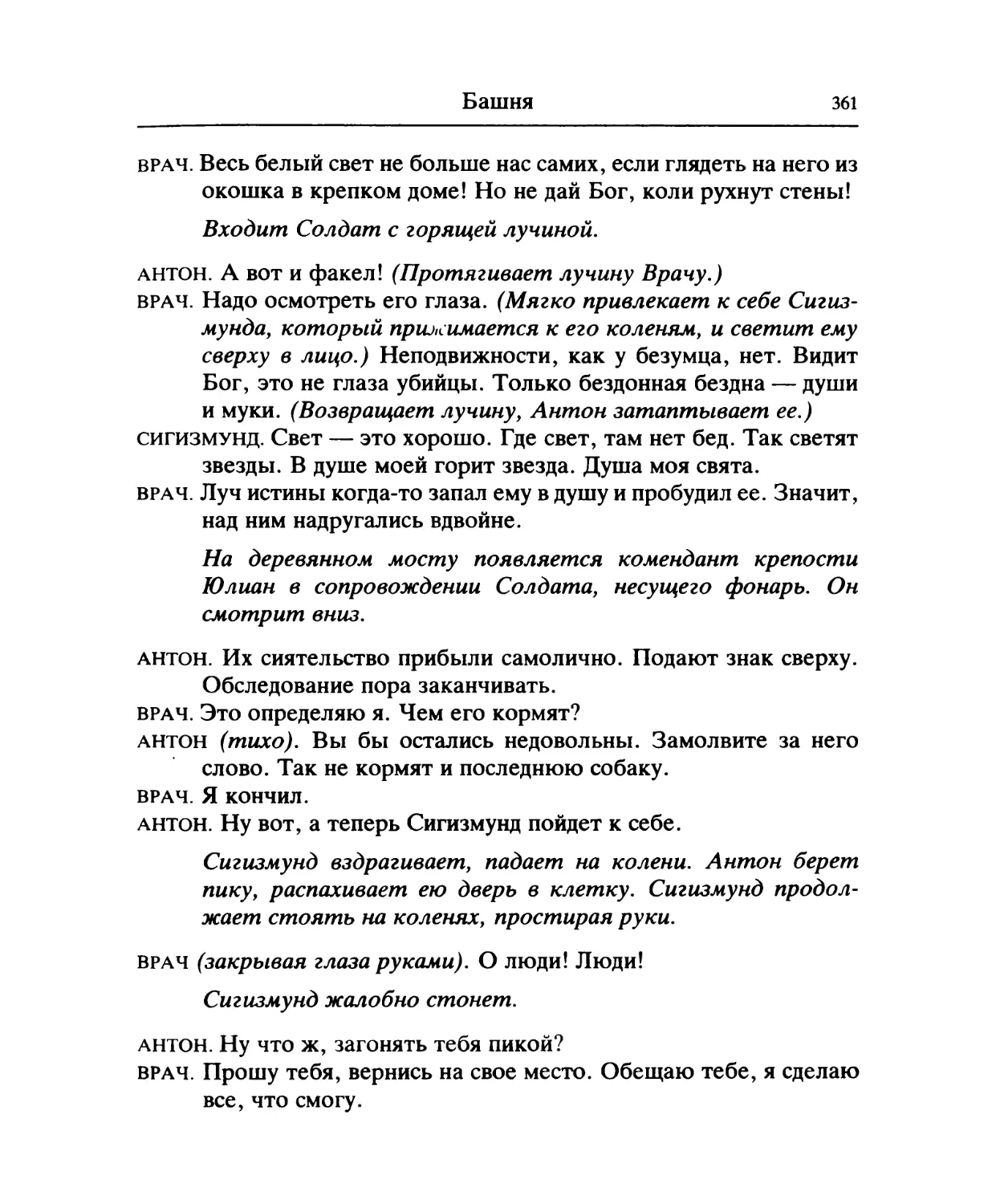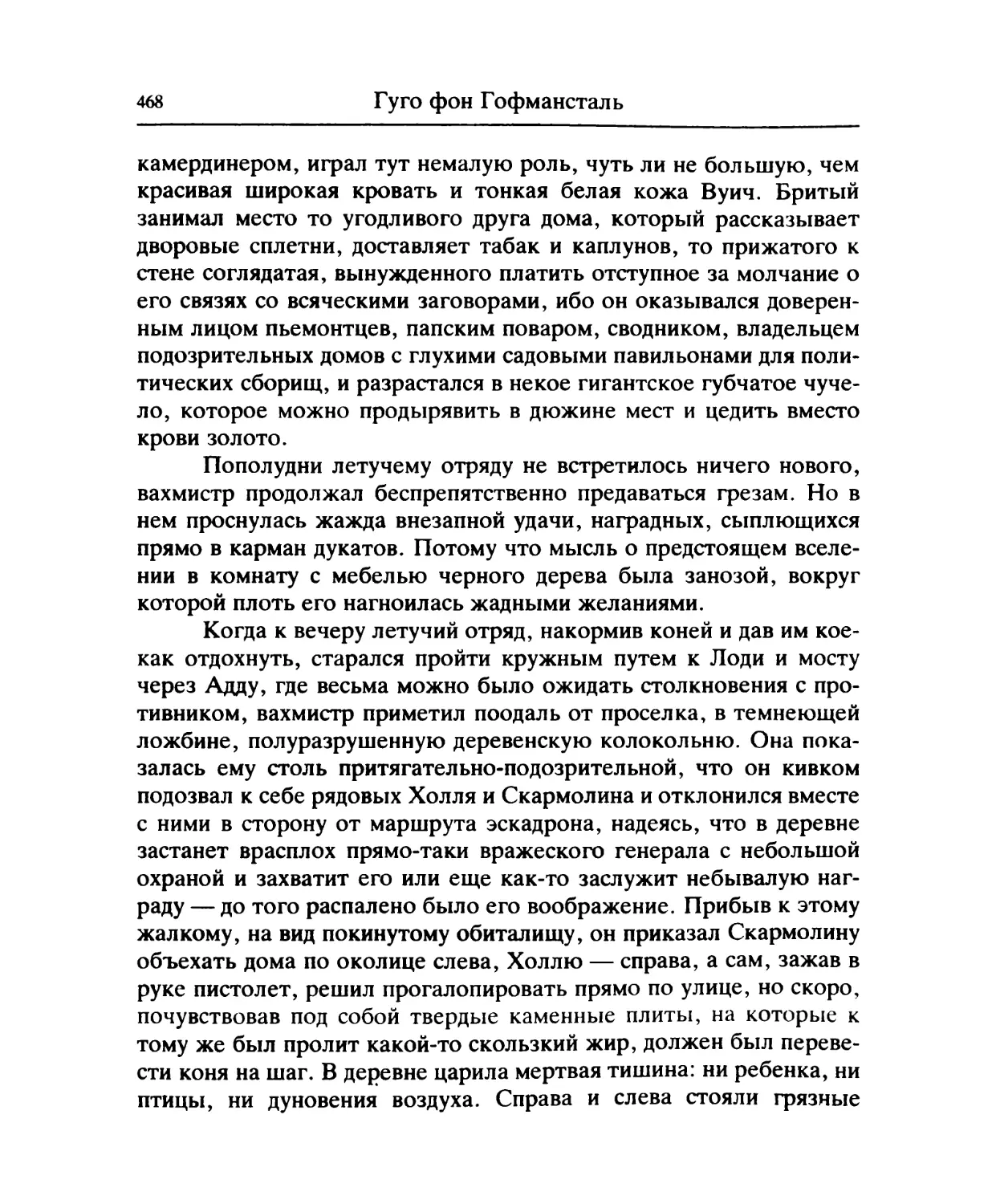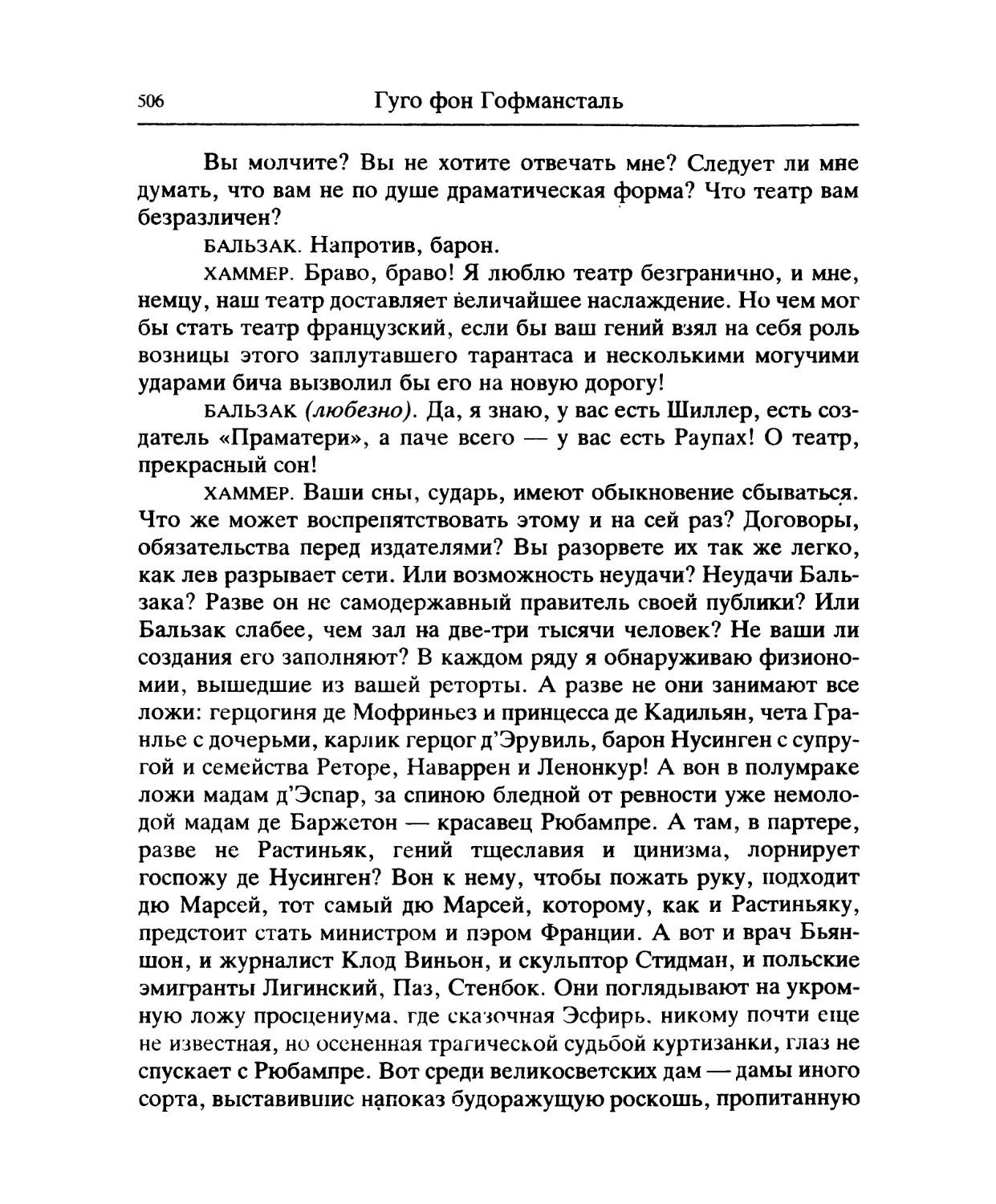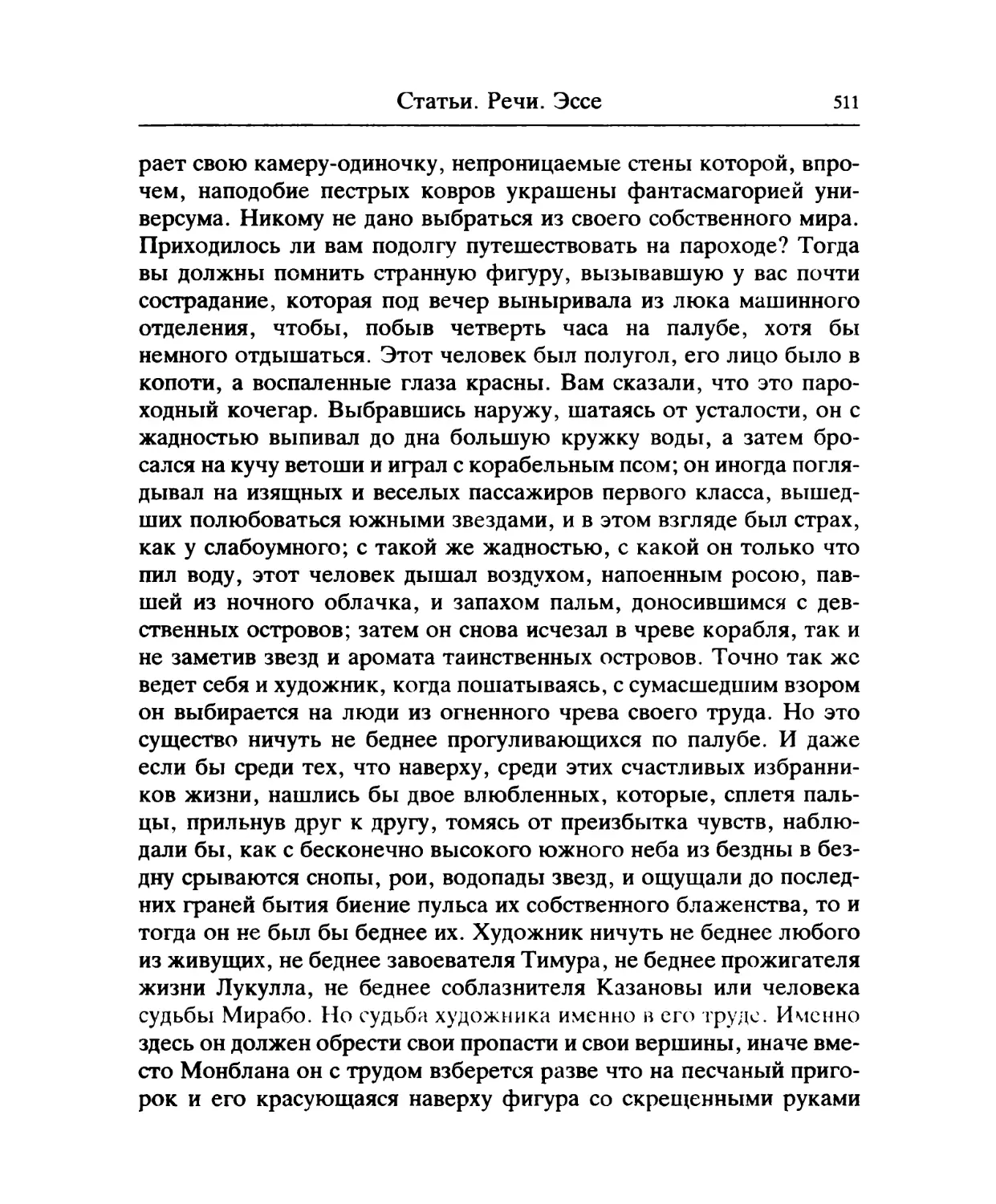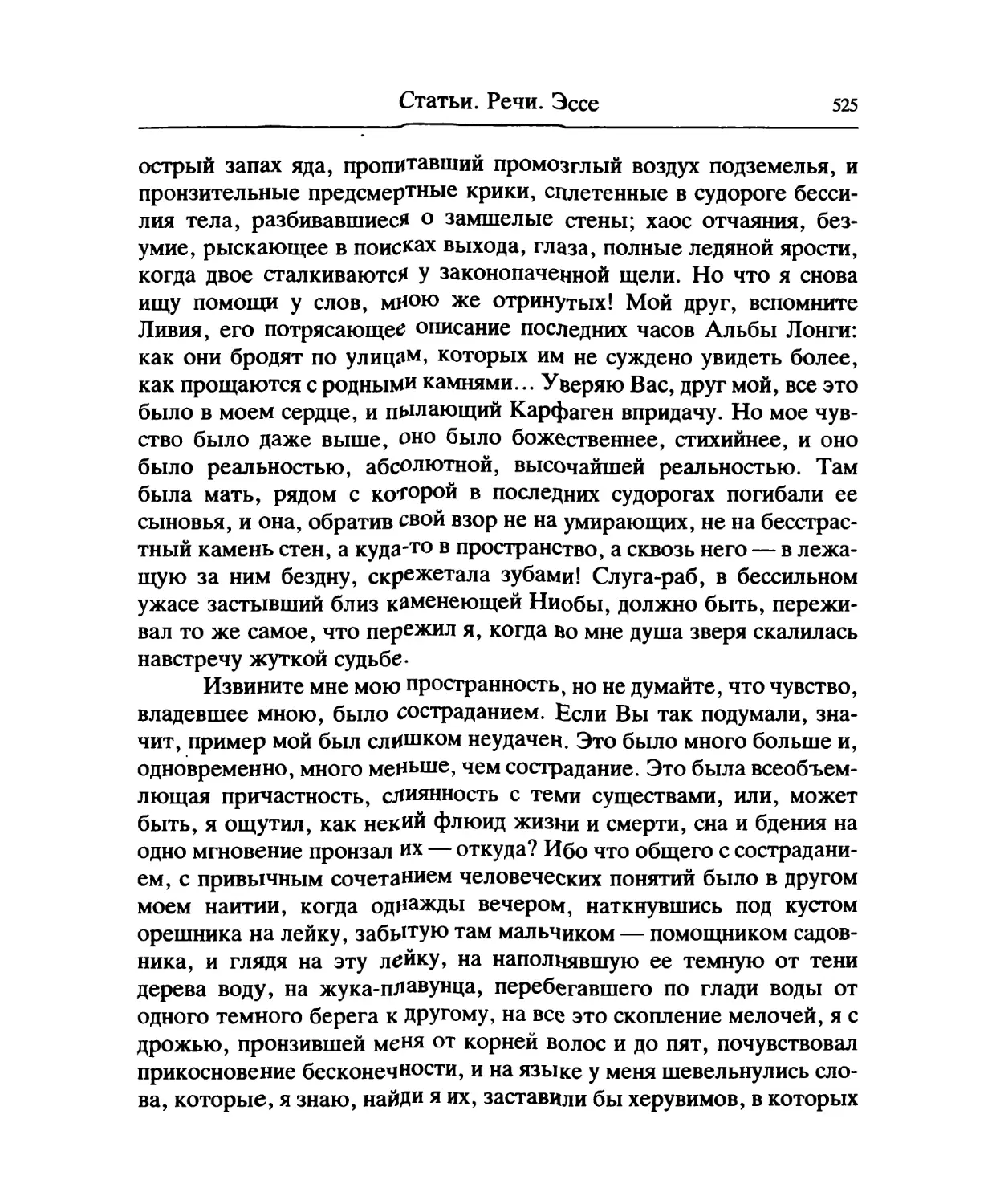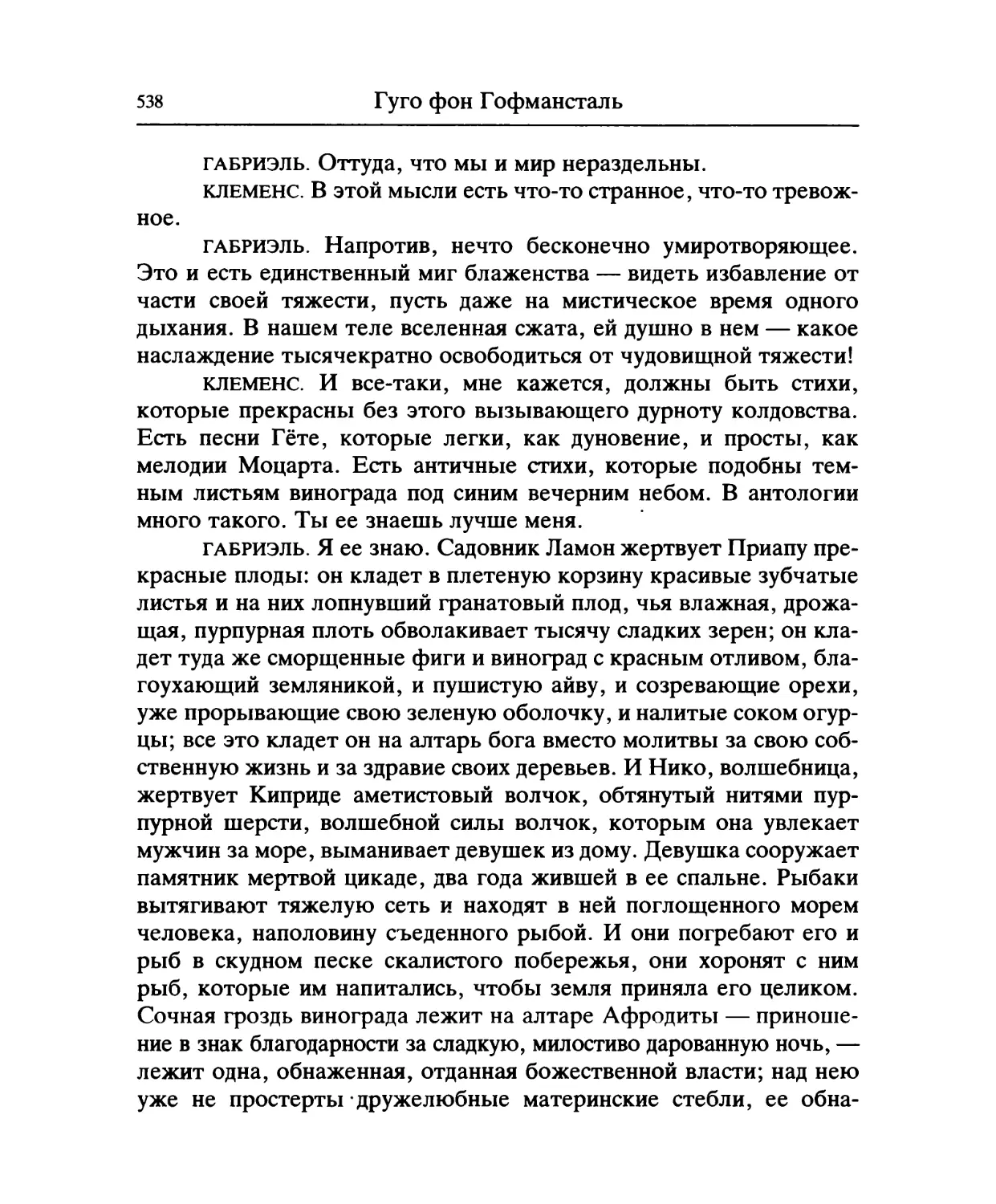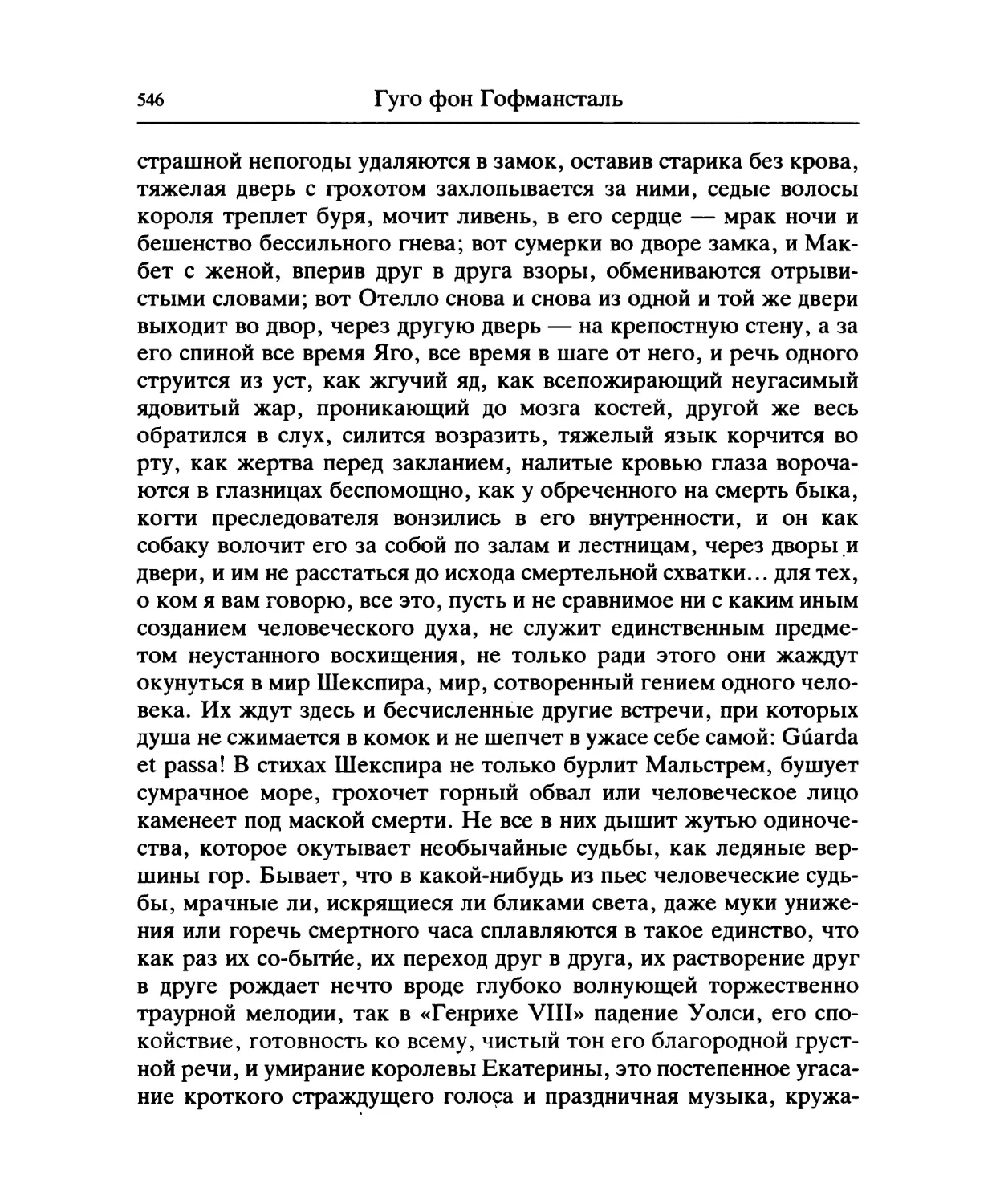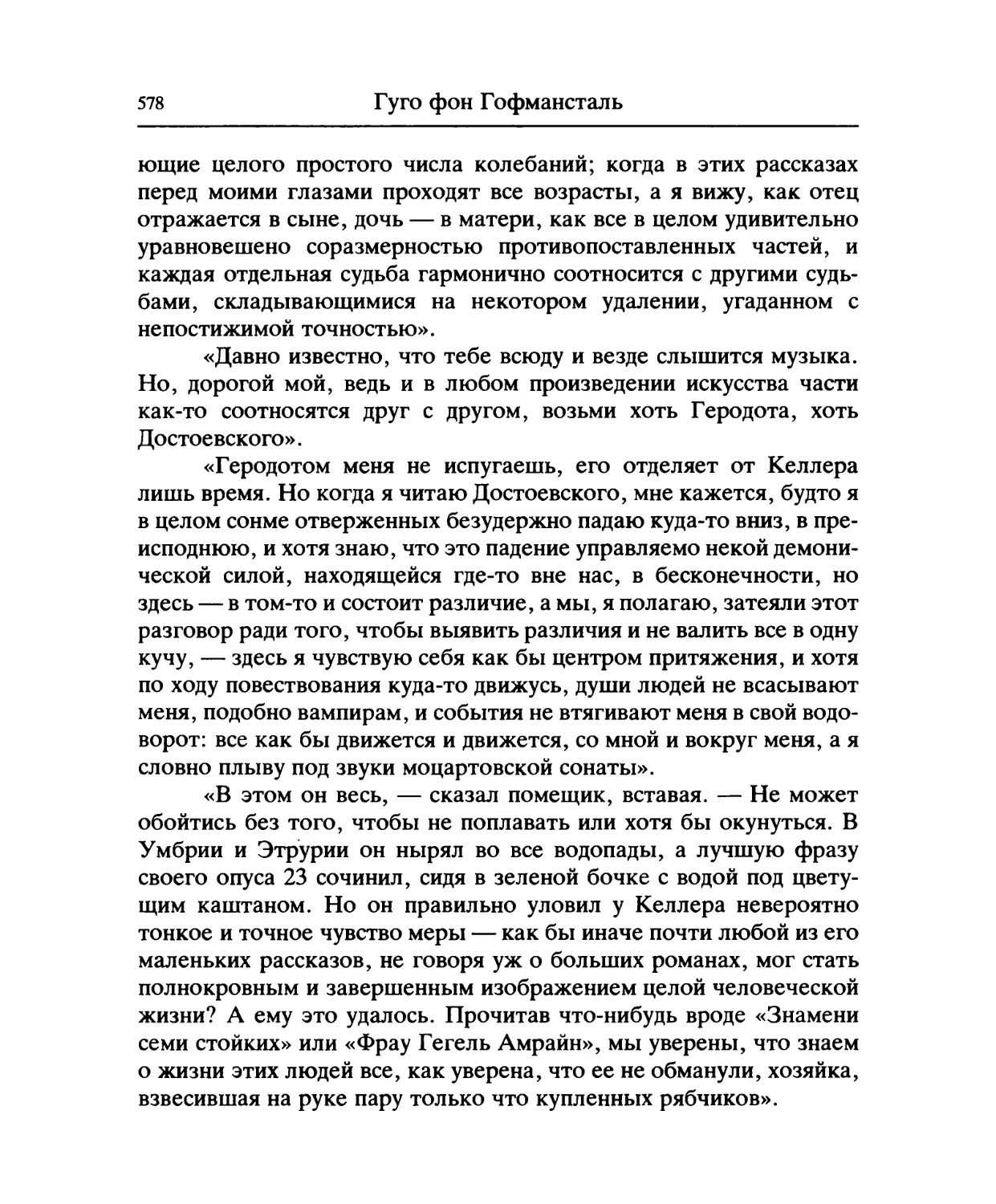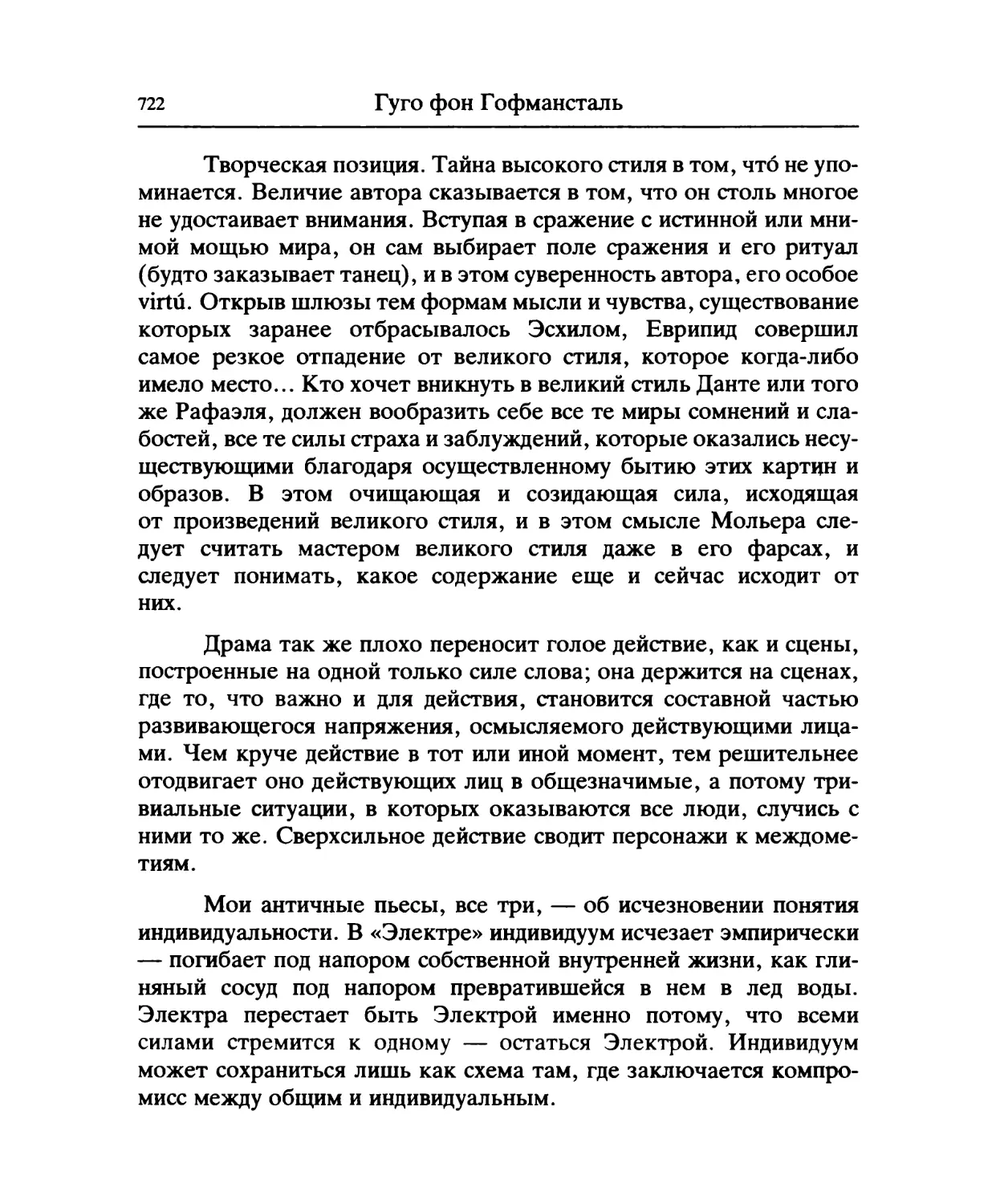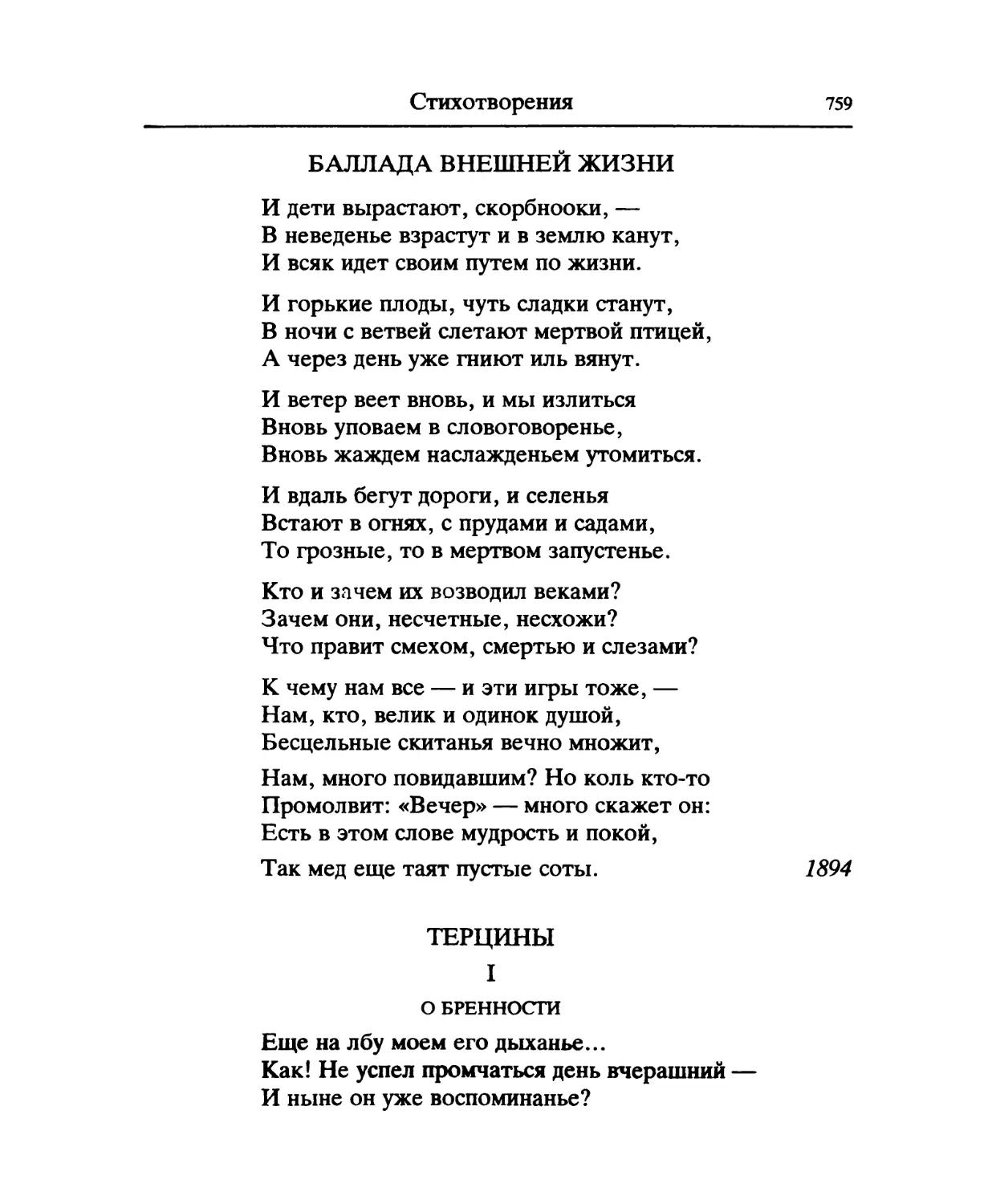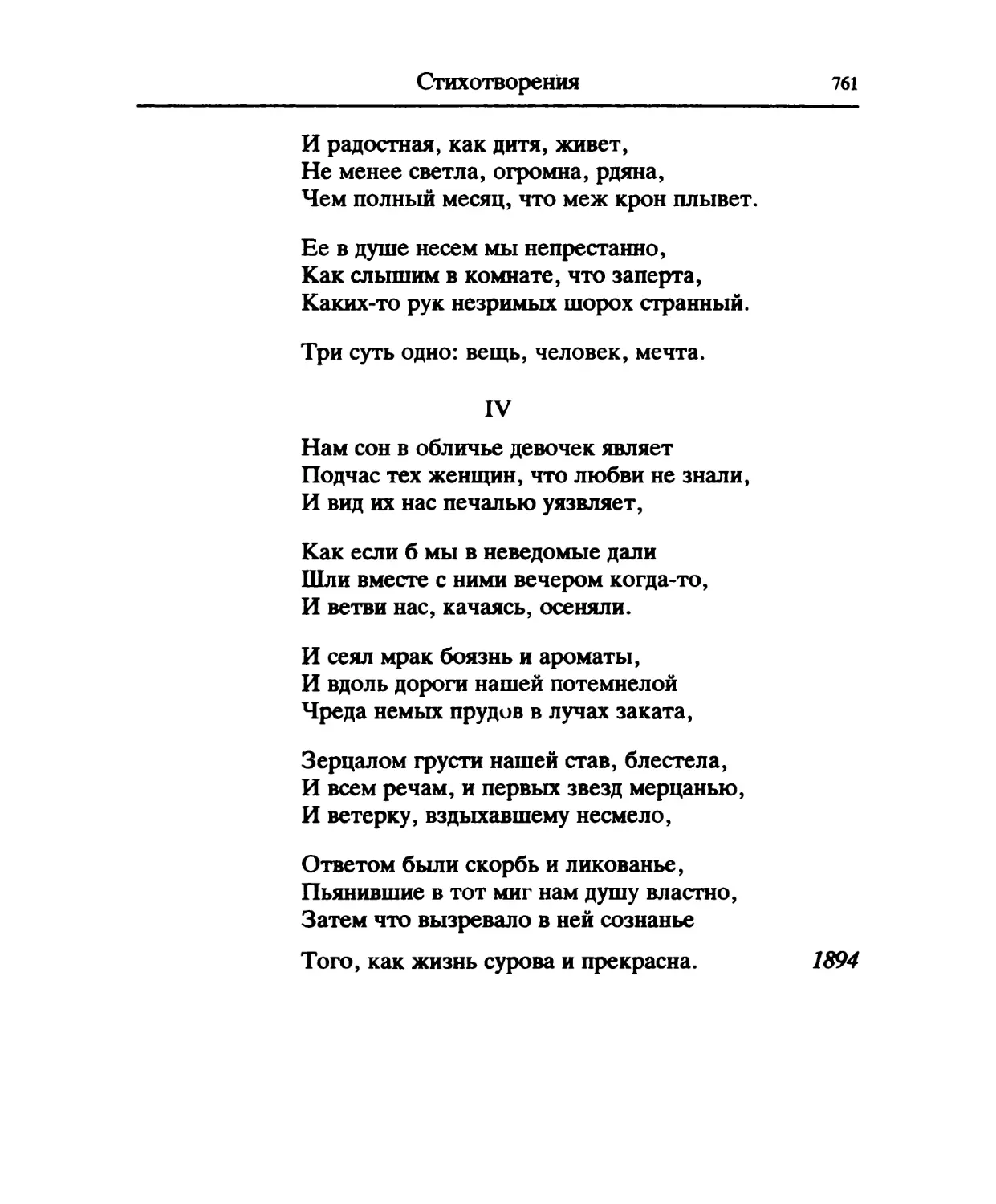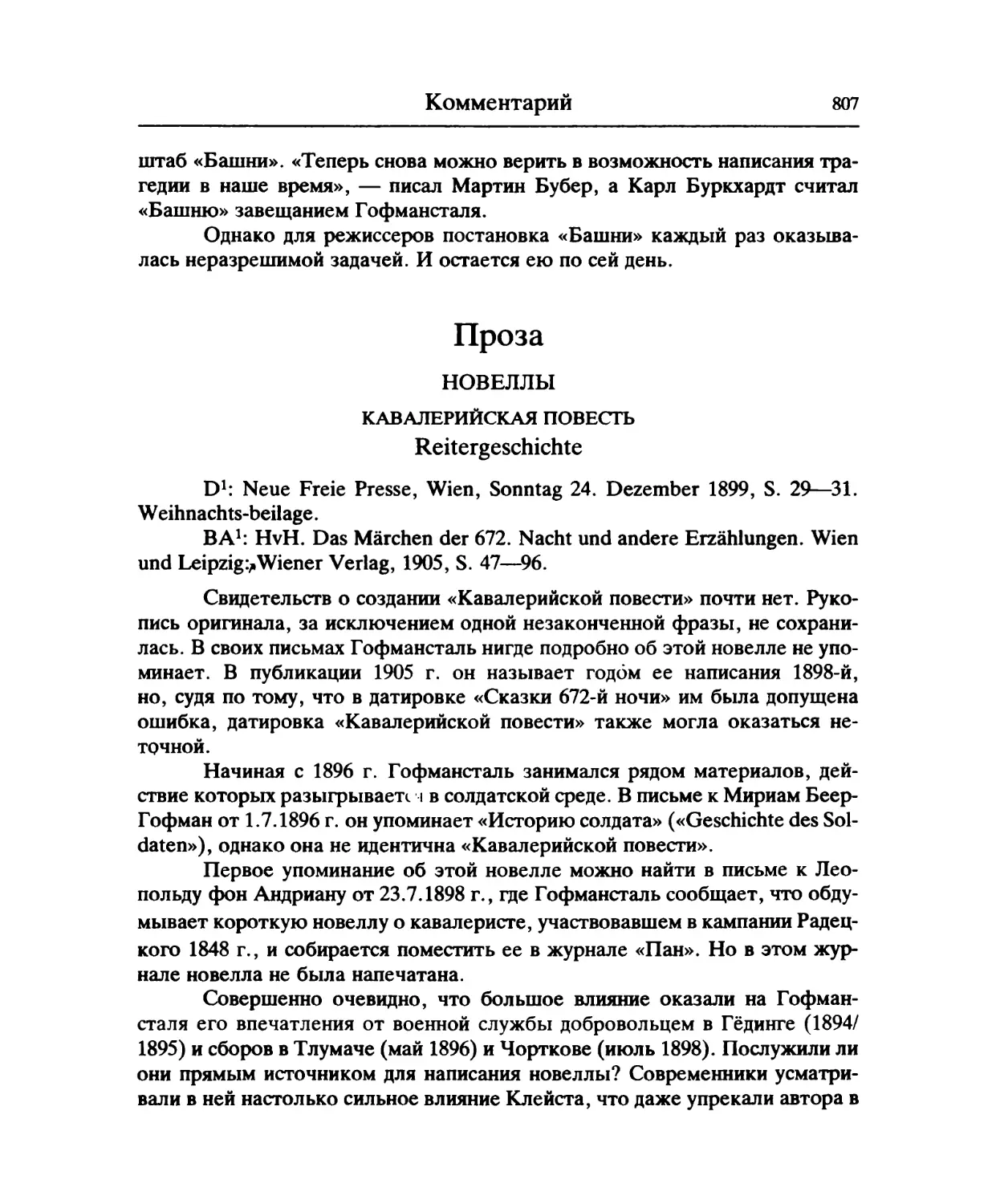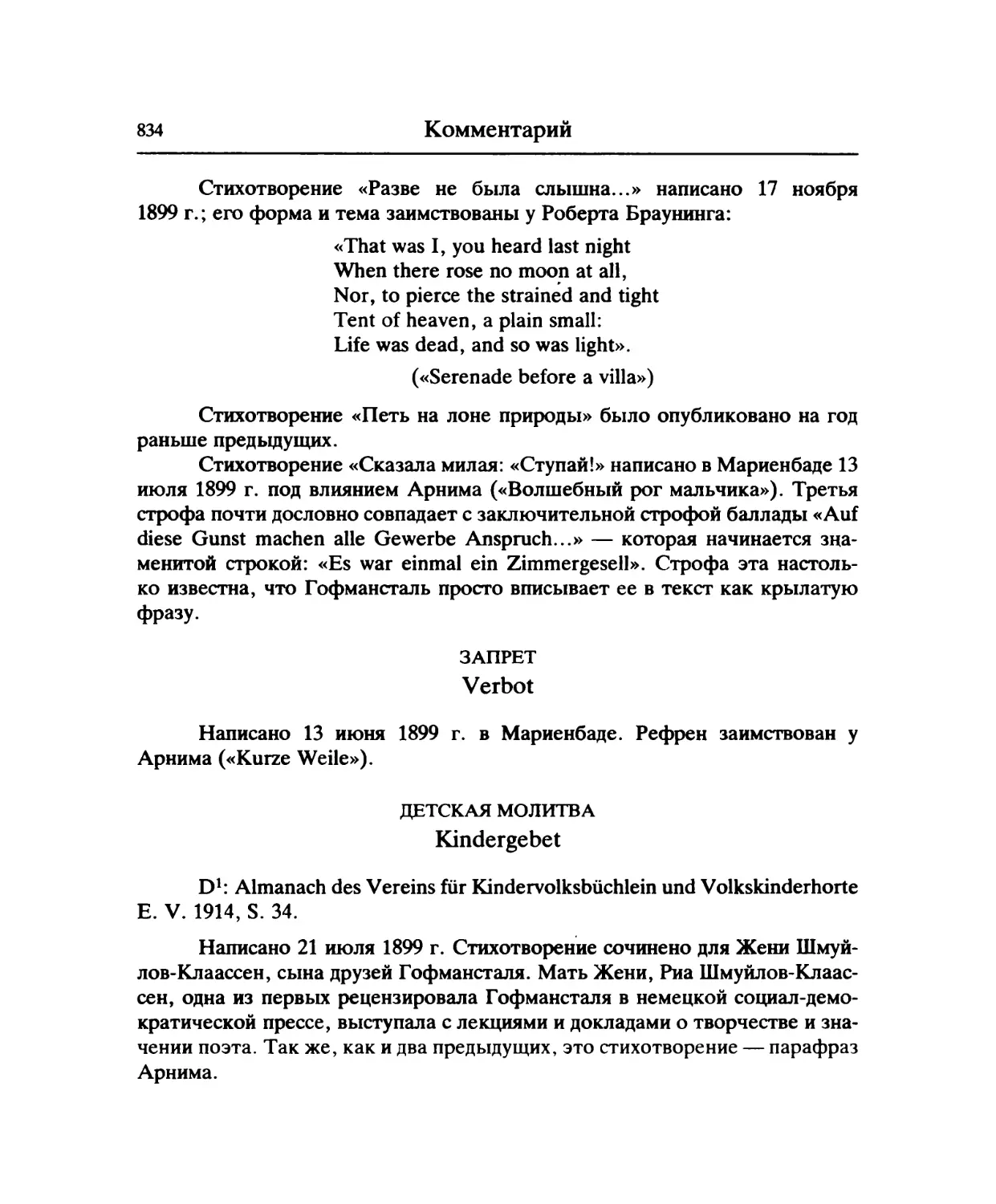Текст
ГУГО
фон
ГОФМАНСТДПЬ
Изданное
-
_■ ЯшЯг, др да ■-
■<i
ш
Ш;
П i
г:\%$
№1
/V, "
и>
mi
щ
т:
< /
Г )' f
г
ГУГО
фон
ГОФМАНСТАЛЬ
Избранное
ДРАМЫ
ПРОЗА
СТИХОТВОРЕНИЯ
*
МОСКВА I
«ИСКУССТВО» MCMXCV
ББК84.4А
Г 74
Перевод с немецкого
Составление н предисловие
Ю. Архивом
Редакция и комментарий
Э. Венгеровой
А.Райхпггейн
Книга издана при поддержке
Международного фонда
«Культурная инициатива»
_ 4703010300-009 л ^_
Г ^——————— без объявл.
025(01)-95 "~яжл.
ISBN 5-210-00394-9(рус)
О Составление, перевод на русский,
предисловие, комментарий,
издательство «Искусство», 1995 г.
О Художественное оформление,
Райхштейн А. А., 1995 г.
Предисловие
Ю. Архипова
*
Гуго фон Гофмансталь:
поэзия и жизнь
на рубеже двух веков
Настоящим страданием, адом чело-
веческая жизнь становится там, где
пересекаются две эпохи, две куль-
туры и две религии.
Герман Гессе
Гофмансталь — почти забытое имя для русского уха и глаза.
А ведь в начале века было не так, — тогда оно мелькало и на
афишных тумбах и на книжных прилавках; сама Комиссаржевская
ставила его пьесы, а отдельных изданий на русском языке они
выдержали более тридцати. Имя Гофмансталя было среди устой-
чивых символов культурной жизни тех насыщенных ожиданиями
лет. Может быть, читатель помнит, как в «Чистом понедельнике»,
своем позднем ностальгическом шедевре, зоркий и внимательный
к приметам времени Бунин, перебирая знаки ушедшей эпохи, упо-
минает и модные новинки иностранной литературы, за которыми
считала своим долгом следить разочарованная, но «ищущая»
героиня: «Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги — Гоф-
мансталя, Шницлера, Тетмайера, Пшибышевского...»
Не случайно Гофмансталь здесь в одном ряду не только с
мало у нас известным Тетмайером, но и с «коробками шоколаду».
Духовный десерт — что те же сласти. Может ли на большее притя-
зать литературная, как и всякая, мода? К 1944 году, когда был
написан «Чистый понедельник», от имени Гофмансталя веяло
вполне декадентским лавандово-комодным душком. В самой
Австрии, растворившейся после «аншлюса» в фашистской Герма-
нии, на его книги был наложен запрет. Да и читателям в напряжен-
нейшую для судеб человечества эпоху было не до «эстета» и «дека-
дента», а именно так трактовали Гофмансталя прилипчивые, как
само предубеждение, литературоведческие ярлыки.
Предисловие
7
В послевоенные годы в западноевропейской и нашей кри-
тике совершался непростой, но неуклонный пересмотр наиболее
весомого литературного наследия рубежа веков: Метерлинк и
Уайльд, Валери и Киплинг, Шницлер и Стриндберг постепенно
освобождались от пресловутого декадентского клейма, предста-
вали во всей своей сложности, оценивались по-новому — по их про-
веренной временем эстетической жизнеспособности. Изданы и с
интересом встречены эти авторы и у нас. Настал черед Гофманста-
ля. Тем более что у себя на родине, в Австрии, как и во всех прочих
странах немецкого языка, он к настоящему времени не только «ре-
абилитирован», но и возведен в пантеон мировой литературы; во
всяком случае, лучшие образцы его лирики, драматургии, прозы и
эссеистики признаны классическими, причислены к вечным ценно-
стям. Тут стоит упомянуть о еще одной части наследия Гофманста-
ля, увековеченной Рихардом Штраусом: на либретто своего вен-
ского друга он написал около двадцати опер, часть которых
(«Ариадна на Наксосе», «Кавалер роз») устойчиво держится в
мировом репертуаре.
Всякая переоценка ценностей, однако, чревата противопо-
ложной крайностью, в особенности когда имеешь дело с культурой
кризисной, рожденной пересечением эпох. Пожалуй, никогда
потом или прежде литература кануна революций не соединяла в
себе столько живого и столько мертвого. Редкими, хоть и пышны-
ми, оазисами посреди монотонной, безжизненной пустыни выгля-
дят свершения символизма — направления, с которым прежде
всего связывается творчество Гофмансталя, — в других европейс-
ких странах.
Согласимся, что и в русской литературе конца века дело
обстоит не иначе. Есть какая-то загадочная, в «глухом времени»,
очевидно, коренящаяся особенность поколения Гофмансталя и
Блока, состоящая лишь во временных всполохах истинной художе-
ственной энергии. Столь разительного качественного разрыва
между отдельными вещами одного и того же автора (от мертворо-
жденной скуки до пронзающих озарений) не знало никакое другое
поколение в литературе.
8
Предисловие
Но признаем и то, что в символизм, как и в любой другой
«изм», легко укладываются только второстепенные авторы. Начи-
ная с определенного уровня силы, писатель неизбежно взламывает
рамки «изма», как сказочный Гвидон свою бочку. На примере жиз-
ненного и поэтического пути Гофмансталя, следуя его духовной
эволюции, можно заметить, как освобождается писатель от неоро-
мантического эстетизма, как все более властно влечет его к себе
жизнь, как все шире открывается ему универсальный смысл ее
классических запечатлений.
Изменяется в эстетическом сознании Гофмансталя и само
понятие жизни. Если на первых порах «жизнь» для него — это гедо-
нистское смакование подробностей и оттенков индивидуального
восприятия, то в дальнейшем, особенно под влиянием событий пер-
вой мировой войны, понятие «жизни» стремительно расширяется,
подразумевая слияние индивидуальной судьбы с судьбой общена-
родной, подразумевая ответственность индивидуума за духовную
традицию нации. Параллельно наполняются новыми значениями
понятия культуры и литературы, понимаемой под конец как «ду-
ховное пространство нации», то есть как живой, постоянно бью-
ший источник прогрессивной национальной традиции, противопо-
ставленный злобному шовинизму фашистского образца. Все это и
обеспечивает современный острый интерес к Гофмансталю — не
как к музейной реликвии, а как к живому голосу некогда мощной
европейской культурной традиции, стойким и ревностным блюсти-
телем которой он оставался всю свою жизнь, несмотря на градом
сыпавшиеся упреки в консерватизме, эпигонстве, архаизирующем
стилизаторстве и т. п. Подобно русскому символисту Вячеславу
Иванову, его австрийский собрат всю жизнь поклонялся гётевским
«старым истинам» и, конечно, не был новатором; он был, скорее,
завершителем классических традиций европейской культуры,
пытавшимся в этих традициях, в кристаллизации классических
форм обрести противовес современным ему тенденциям распада.
Это был путь, чреватый своими искусами: вторичностью, книжно-
стью, заемной помпезностью — и нередко приводящий в «тупики
эстетизма», по слову самого Гофмансталя. Случается, избыток
Предисловие
9
книжных знаний, «чужих образцов» напрочь гасит непосредствен-
ный порыв, парализует творческую волю художника. Вот и Гоф-
мансталь немало сил истратил в борениях с парализующей рассу-
дочностью, до конца изведав это своеобразное «горе от ума». И то,
что ему подчас удавалось преодолеть эту «болезнь», свидетель-
ствует о его могучих задатках, сделавших его в конце концов столь
приметной фигурой культурной жизни своей эпохи.
* * *
Что же это была за эпоха?
Политэкономия, социология отвечают решительно и точно:
загнивание капитализма, кризис в связи с этим социальных и
национальных противоречий, канун революционных переворотов
на пути от буржуазного индивидуализма к пролетарскому коллек-
тивизму. Сложнее приходится искусствознанию и литературоведе-
нию, имеющим дело с пестрым водоворотом идейно-эстетических
направлений, течений, теорий, концепций, школ.
Есть замечательная книга «Гофмансталь и его эпоха», при-
надлежащая перу Германа Броха. В ней выдающийся австрийский
романист придерживается верной, на наш взгляд, методики: анализ
общего для всей общественной формации кризиса он соединяет с
диагнозом локальных австрийских недугов.
«Золотой век прочности» (такой представлялась юному Сте-
фану Цвейгу, по его воспоминаниям, действительность конца
прошлого века) на поверку оказался не той пробы и грозил ката-
строфическим закатом. Это было время, когда многим в Европе
грезился близкий конец мира, когда уходящий век в эстетическом
томлении любовался своим бессилием, не зная, как и зачем дальше
жить, когда томилась чеховская «Чайка», жаловались на безысход-
ность рока ибсеновские «Привидения», царили метерлинковские
«Слепые», а наступающий век возвещал о себе мрачной футуроло-
гией Ницше и мрачным предостережением Мережковского о «Гря-
дущем Хаме». В этой нервной, экзальтированной обстановке ко-
леблемых ценностей, горьких пророчеств, в эти роковые для мира
минуты складывались и развивались миросозерцание и взгляды
10
Предисловие
поколения Марселя Пруста и Томаса Манна, Валери и Рильке, Джойса
и Андрея Белого, Кафки и Хлебникова, Блока и Гофмансталя.
Переоценка ценностей стала внутренней необходимостью и
лозунгом культуры рубежа веков, рубежа эпох. И хотя большин-
ством ее деятелей ломка старых, привычных и таких уютных для
буржуазии отношений воспринималась как болезненный процесс,
неизбежность переоценки была очевидна. Жестокая практика
капиталистического предпринимательства на каждом шагу попи-
рала «незыблемые» правила и каноны благовоспитанности; культ
семьи, пиетет к религии, лояльность к правительству и прочие доб-
родетели XIX века терпели невиданную инфляцию; права лично-
сти, человеческое достоинство обернулись пустыми либеральными
разговорами, что с обескураживающей отчетливостью выявилось,
когда мир был ввергнут в полосу первобытного животного варвар-
ства — в первую мировую войну. На ее кровавый алтарь были при-
несены и многие открытия науки. А их в эту пору было невиданно
много: в физике, биологии, химии, психологии, Медицине, технике
— от изобретения радио и двигателя внутреннего сгорания до от-
крытия роли подсознательного в психической жизни человека. Но
крупные победы «чистого разума» были с первых же шагов
научно-технического прогресса связаны с не менее крупными пора-
жениями разума «практического». Технический прогресс способ-
ствовал дальнейшей поляризации общества, а это подталкивало
его верхние слои к войне.
Кроме того, бурное развитие науки и техники впервые поро-
дило не утопические надежды, а резонные опасения: сможет ли
человек разумно распорядиться изобретениями своего разума?
Атомная бомба еще не висела, как дамоклов меч, над человече-
ством, но она уже была предсказана.
Гофмансталь-писатель творил ровно сорок лет — с 1889 по
1929 год. И если первые два десятилетия его творчества совпали с
годами сейсмографических предчувствий Катастрофы, то последу-
ющие два — с годами настоящей агонии. В европейской культуре
распространились настроения прямо-та.ки апокалипсические.
«Апокалипсис нашего времени» (1919) — т&к и назвал свою послед-
Предисловие
и
нюю книгу провозвестник кризиса В. Розанов. О «Закате Европы»
(1918—1922) писал Освальд Шпенглер, о гибели европейской куль-
туры — Андрей Белый, об «апофеозе беспочвенности» — Лев
Шестов, о торжестве бессвойственности — Роберт Музиль, о
новом, трагическом мироощущении — Бердяев, Ясперс и Унамуно,
о распаде ценностей — Макс Шел ер, о распаде действительности —
Гофмансталь. В десятках и сотнях книг этого времени объективи-
ровался кризис общества, кризис испытавшего пресловутое отчу-
ждение индивидуума, выраставший в художественном видении
творческой интеллигенции до космических масштабов: «Послед-
ние дни человечества» (название необъятной драмы Карла Крау-
са), казалось, действительно не за горами.
Австрия, именовавшаяся в эту пору Австро-Венгрией, была
своеобразной моделью гибнущего мира. Острейшие экономичес-
кие, социально-политические и национальные противоречия ста-
вили ее в этом смысле рядом с Россией. Все обычные явления капи-
тализма на этой стадии его развития — экономические кризисы,
рост дороговизны, ужесточение эксплуатации, разбухание бюро-
кратического аппарата подавления — усугублялись феодальными и
монархическими пережитками и резкими столкновениями нацио-
нальных партий.
Довольно бурное буржуазное развитие натолкнулось в
Австрии на достаточно крепкий консервативный орешек. «Ни в
одной стране, — писал Ф. Энгельс, — феодализм, патриархаль-
щина и рабски покорное мещанство, охраняемое отечественной
дубинкой, не сохранилось в столь неприкосновенном, цельном
виде, как в Австрии»1. Австро-Венгрия поистине была «тюрьмой
народов». Оба правительства (австрийский парламент и венгер-
ский сейм) проводили откровенно антисемитскую и антиславян-
скую политику, создали мрачные еврейские гетто в Праге (место
действия сомнамбулических кошмаров Кафки и Мейринка), прово-
цировали античешские погромы, устраивали национальным мень-
шинствам обструкцию на выборах, расстреливали рабочие демон-
страции в Западной Украине, которая тогда входила в состав лос-
кутной дунайской империи.
12
Предисловие
Во главе государства — этого противоестественного сим-
биоза наций — стоял древний и дряхлый монарх, пребывавший на
троне с 1848 года и давно переживший себя. Закупоренный в Шен-
брунне, как в гробнице, император-миф уже никак не управлял
государством, и казалось, что оно держится лишь силой привычки.
Но маятник часов выродившейся «Священной Римской империи
германской нации», цитаделью которой столько веков оставалась
Вена, вовсе не был «перпетуум мобиле», он отбивал последние
удары слабеющего пульса монархии. «Чем старше становился
Франц-Иосиф, тем глубже погружался он в вакуум своего призва-
ния, тем идентичнее чувствовал он себя с государством, чья смерт-
ная участь была привязана к его собственной и чью вопиющую
абстрактность он должен был разделить»2, — писал в упомянутой
нами книге Герман Брох.
Именем монарха освящалась деятельность разного рода кан-
целярий, бюро, присутствий, коллегий и ведомств, «которых было
в пять раз больше, чем имелось места для них»3, — вторил Броху
влиятельный в начале века литератор Герман Бар.
Гигантски разросшийся бюрократический аппарат Австро-
Венгрии станет в дальнейшем предметом язвительнейшей сатиры.
Но в начале века, в пору приближающегося кризиса, лицо
австрийской культуры определяли куда более легковесные жанры,
такие, как бойкая оперетта и не менее бойкий газетно-журнальный
«фельетон», по-тогдашнему — броское эссе на занимавшую салон-
ные умы модную тему. Опереточное самозабвение и фельетонизм
стали своего рода жизненной философией. К ней относились лег-
комыслие и изящество, непостоянство и фразерство, дилетантизм
и бравада. Этот общий стиль накладывал отпечаток на самые
солидные и респектабельные издания, где хорошим тоном стали
легкий цинизм и легкая ирония. В этой связи Роберт Музиль, много
писавший о том, как esprit de finesse венской культуры последова-
тельно скатывался к фельетонизму, остроумно заметил: «Лицо
Австрии улыбалось, потому что на нем не осталось мускулов». В
литературе (то есть в поверхностном, тиражами измеренном слое
ее) лик Австрии определяли многочисленные борзописцы, бой-
Предисловие
13
ко внедрявшие в разомлевшую от сытости публику нагловатую
пошлость, изощрявшиеся в производстве так называемых
Schmock'oB — сладенькой эссеобразной кашицы, непременно бле-
щущей остроумием, красивым плетением словес и показным
интеллектом. Несерьезность и релятивизм стали программой. «Ве-
селенький апокалипсис» — так назвал австрийскую культуру этого
времени Герман Брох. «Веселенькой» была маска, кажимость, апо-
калипсической — потаенная суть.
Но уже с начала века (и даже несколько раньше) стали разда-
ваться иные, тревожные и тревожащие голоса, возвещавшие о
брожении скрытых и чутких к переменам сил внутри безмятежного
«золотого века». Появились меткие, разоблачительные зарисовки
импрессиониста Петера Альтенберга, остроумные инвективы Гер-
мана Бара, воплотившего в себе живую биографию течений
рубежа веков от натурализма до экспрессионизма, выразительные
запечатления больной, исковерканной временем души, данные
Артуром Шницлером; появились на свет крысы Альфреда Кубина
и сороконожки Франца Кафки с их метафизическими ужасами,
опередившими действительность на десятилетия; безрадостный
диагноз эпохи оставили проникновенные и виртуозные лирики Рай-
нер Мария Рильке и Георг Тракль; бил в набат в своем единолично
ведомом журнале «Факел» Карл Краус, а лозунги экстаза и всемир-
ного братства уже сзывали под свои знамена экспрессионистов во
главе с Францем Верфелем.
На правом фланге пестрых рядов деятелей культуры высту-
пали расплодившиеся адепты шовинистической «крови и почвы»,
такие, как создатель охранительного католического «Союза Гра-
аля» Рихард Кралик, а также деятели новорожденного сионизма во
главе с его отцом, венским журналистом Теодором Герцлем и
сочувствовавшим ему философом Мартином Бубером. Иррациона-
лизм разрастался и ширился, как цепная реакция — как реакция на
плоский позитивизм минувшего века. Это было время распростра-
нения большого количества философско-идеологических школ
(Мах и Фрейд возглавили наиболее влиятельные из них), когда, по
замечанию Музиля, «кишмя кишели секты» 4, ни одца из которых
14
Предисловие
не уступала другой в прямо-таки наполеоновских притязаниях на
мировое господство. Во все возраставшем водовороте обрывочных
представлений, концепций, доктрин, безнадежно спутанных и
переплетенных «логий» мир стал казаться утратившим какие-либо
определенные, стабильные свойства, человек распадался на сово-
купность личин, ликов, масок, сменяемых по обстоятельствам:
венская школа «модерн» (Бар, Шницлер, Блей, Шаукаль и другие)
предалась исследованию этих явлений с большим словесным изыс-
ком и большим упоением, подогреваемым то «Анализом ощуще-
ний» Эрнста Маха, то нашумевшей на всю Европу работой юного
самоубийцы Отто Вейнингера «Пол и характер». В азарте мель-
чайшей и переливчатой душевной нюансировки венский импрес-
сионизм дошел до последней констатации: человека нет, есть
сумма психических состояний (Мах), личность исчезла, как исчезла
об эту пору материя в теориях физиков.
Такова была культурфилософская атмосфера, в которой
жил и творил Гофмансталь. Среди тех, кто наиболее глубоко про-
ник в процессы отчуждения, расслоения, дробления человека и рас-
пада старых общественных связей, ему принадлежит далеко не
последнее место.
* * *
Иные поэтические дебюты навсегда запечатлеваются в
памяти потомков. Любой русский школьник знает, при каких
обстоятельствах Россия впервые услышала голос Лермонтова.
Точно так же любому австрийскому школьнику ведома много-
кратно описанная сцена появления на литературной арене Гофман-
сталя. Поистине то был триумф долгожданного принца из сказки.
Время действия — апрель 1891 года. Место действия — вен-
ское кафе «Гринштайдль», служившее чем-то вроде литературного
клуба. Маститый Герман Бар, окруженный завсегдатаями-друзь-
ями, с нетерпением поджидал таинственного незнакомца, кото-
рому заочно назначил встречу. Нетерпение его было легко объяс-
нимо. Ведь уже несколько лет он печатно и устно предсказывал
решительные и многообещающие перемены в литературе, пред-
Предисловие
15
сказывал, в частности, появление «легкостопной» и быстрой,
шелестящей, как молодые побеги, поэзии. И вот похоже, что пред-
сказания его сбываются. Вот уже с год, как в венской газете «Die
Presse» (благополучно сохранившейся до сих пор) стали появляться
удивительные стихи, подписанные экзотическим именем Лорис
Меликов. Вслед за ними стали печататься и критические рецензии
под той же фамилией. И стихи и рецензии, отделанные как изящ-
ные мини-эссе, сразу приковали к себе внимание знатоков и лите-
ратурных мэтров. Бар послал в газету запрос, и редактор взялся
устроить встречу. Загадочный Лорис должен был вот-вот появить-
ся. Заинтригованные мэтры, ждавшие чуда, не сразу заметили,
как к их столику подошел худенький мальчик и, вежливо покло-
нившись, с веским достоинством произнес: «Я — Лорис». Выясни-
лось, что поэту, поразившему коллег классической зрелостью
своего письма, всего шестнадцать лет, что он гимназист и как тако-
вой не имеет права печататься, а потому должен скрываться под
псевдонимом. Выбрал его он случайно, из отложившихся в памяти
с 1888 года многочисленных сообщений о смерти российского
министра внутренних дел. Такой ранней зрелости мировая поэзия
еще не знала.
Мемуаристы вспоминают, что стоило Гофмансталю загово-
рить, как все немедленно забывали, что перед ними почти ребенок.
Это был серьезный, невероятно начитанный и рассудительный
юноша, очень нервный, с быстрыми движениями и быстрой речью,
с острой впечатлительностью и мгновенной реакцией на окружа-
ющее — «он словно стремился не упустить ни одного мига жизни,
будто знал, что времени ему отпущено не так много» 5. Этот отзыв
одной из современниц типичен. Артур Шницлер, вернувшись
домой после первой встречи с юным Гофмансталем, записал у себя
в дневнике, что впервые в жизни беседовал с гением.
«Как человек, в жилах которого течет много самой разной
крови, то есть как австриец, я целиком стою за любые соедини-
тельные нити, за полное примирение противоречий...» 6 — писал о
себе в конце жизни Гофмансталь своему издателю Фишеру. Дей-
ствительно, кровь в его жилах текла разная: еврейская, итальян-
16
Предисловие
екая, славянская, немецкая. Благородная приставка «фон» не
должна вводить в заблуждение: на протяжении XIX века дворян-
ский титул в Австрии все чаще приобретали выходцы из богатых
еврейских семей, в руках которых к концу века оказалась значи-
тельная часть промышленности, торговли, газетного и издатель-
ского дела. Нередко такие семьи выступали в роли коллекционе-
ров и меценатов. Страстным поклонником живописи был дед писа-
теля, а его отец отдавал предпочтение литературе. Мальчик вырос
в доме, где отменные коллекции китайского фарфора и венециан-
ского стекла соседствовали с роскошной библиотекой. Этой биб-
лиотеке, прежде всего, он обязан своей поражавшей современни-
ков эрудицией.
Он был помещен в Академическую гимназию, лучшую в
Вене. Уклон был, как водилось в гимназиях, гуманитарный: древ-
ние и новые языки, история, философия, литература. Учился
легко и блестяще, далеко впереди всего класса. Свое превосход-
ство над ровесниками не подчеркивал, но осознавал; друзей не
было, единственными друзьями с ранних лет были книги.
Второе образование, по его воспоминаниям, Гофмансталь
получал в театре: «Бургтеатр и предместья... Впечатления мальчи-
ка: Вот бы соединить стиль Расина и стиль «Праматери» (пьеса
Грильпарцера. — Ю. А.)1. Будущая творческая деятельность была
во многом предначертана и предопределена. Нормального детства
не получилось, но ведь иначе и быть не могло. Казалось, это не
Гофмансталь выбрал литературу и театр, а литература и театр
выбрали Гофмансталя. Жребий не из самых счастливых, но и
неотвратимый. Задумываясь над ним годы спустя, Гофмансталь
писал своему гимназическому товарищу: «С тех пор как мне пере-
валило за тридцать и у меня есть жена и ребенок, а я чувствую себя
все таким же юным, как прежде, с тех пор я знаю, знаю из соб-
ственного опыта и из документальных свидетельств, которые я
теперь научился понимать, что это странное, почти жуткое душев-
ное устройство, эта всепроникающая холодность и непостоянство,
которые так отталкивали тебя во мне и так пугали меня самого
(«Глупец и Смерть» не что иное, как выражение этого страха), что
Предисловие
17
это душевное устройство всего-навсего особая модель существова-
ния поэта среди вещей и людей» 8.
С шести лет Гофмансталь писал, с шестнадцати стал печа-
таться. После первых же публикаций предложения и литературные
заказы посыпались на него со всех сторон. А ведь до окончания
гимназии было еще два года. Началась странная жизнь: с утра — за
партой, потом — уроки, а вечерами — серьезная литературная
работа для солидных журналов: стихи, рецензии, статьи. Вряд ли
читатели обстоятельного разбора нашумевшей книги Поля Бурже
«Физиология современной любви» смогли бы поверить, что эссе-
исту, выказавшему столь глубокое знание современной психологии
и культуры, еще далеко до гимназического аттестата. Тот же Гер-
ман Бар, когда прикидывал, сколько лет может быть так взволно-
вавшему его поэту, полагал увидеть перед собой бывалого муж-
чину лет эдак пятидесяти.
1 Слава Гофмансталя упрочилась и шагнула далеко за пределы
Вены, когда в 1891 году вышел его «драматический этюд» «Вчера».
Из Мюнхена в Вену немедленно примчался поэт Стефан Георге.
Шестью годами старше Гофмансталя, он в ту пору как раз еще
только расправлял свои крылья — замышлял эстетские «Листки
для искусства» и, обладая ярко выраженной натурой предводителя,
вождя, сколачивал вокруг себя группу сподвижников. Прибыв в
Вену, он послал Гофмансталю огромный букет красных роз.
Нужно знать гордость этого человека, чтобы оценить такой жест.
Любопытно, что, когда несколько лет спустя сам Рильке будет
искать возможности печататься в «Листках для искусства», Георге
ответит ему холодным и уклончивым полуотказом. А тут — розы.
Поначалу Гофмансталь, естественно, с большим пылом отк-
ликнулся на такое лестное предложение дружбы. Ее подогревали
совместное участие в одних и тех же — программных для «модер-
на» — изданиях, посвящения друг другу стихотворений. Но в даль-
нейшем пути поэтов резко разошлись. Заносчивая гордыня, жре-
ческая ритуальность жестов и поз, которую избрал своей «пиити-
ческой» маской Георге, — все это претило Гофмансталю, а демон-
стративное «аристократическое» презрение'ц. профанам, к «неху-
18
Предисловие
дожникам» просто оскорбляло. Не обеспеченная единством взгля-
дов дружба кончилась не просто разрывом, но и враждой. Эта бур-
ная дружба-вражда еще раз показывает, насколько разных людей
могла объединять расплывчатая, лишенная единой программы
школа «модерн». «Модерн» был как бы общей шапкой и для симво-
лизма, и для импрессионизма, и для эстетизма всех мастей; «модер-
ном» считались и Метерлинк и Уайльд, и Ницше и Ибсен, и Верлен
и Стриндберг. Проблематика «художник и жизнь» была для деяте-
лей «модерна» действительно одной из центральных, но решать
они ее могли, как показывает пример Гофмансталя и Георге,
совершенно по-разному.
В 1892 году Гофмансталь окончил наконец гимназию и, усту-
пая настояниям отца, поступил на юридический факультет Вен-
ского университета. Юриспруденция вызывала у него откровенную
скуку, но он твердо решил дисциплинировать свою волю и стойко
держался два года, после чего — с той же целью укрепления воли
и познания жизни — поступил добровольцем («фенрихом») на
военную службу и ровно год, стиснув зубы, тянул лямку в одном из
отдаленных гарнизонов. Шаг для «эстета» вовсе не характерный.
Ведь к этому времени жизненная и общественная роль его, каза-
лось, вполне определилась: еще больший ажиотаж, чем «Вчера»,
вызвала вторая его маленькая стихотворная драма «Смерть Тициа-
на», открывшая первый номер широко разрекламированных
«Листков для искусства» и вскоре поставленная на мюнхенской сце-
не, а третий опыт в том же жанре — «Глупец и Смерть» — покорил
уже не только снобистские литературные круги, но и достаточно
широкую публику; включенная в престижную серию издательства
«Инзель», эта пьеса выдержала в ней двадцать шесть изданий
неслыханным для того времени общим тиражом в двести семьдесят
пять тысяч экземпляров! И тем не менее жизненно важную
дилемму «поэзия и жизнь» Гофмансталь не хотел решать одно-
значно и в угоду литературным снобам, пусть даже и таким высоко
ценимым им, как Стефан Георге, поэзия которого никогда — и
после разрыва — не переставала завораживать его своим высоким
строем. Но у Гофмансталя был свой путь. С самого начала осозна-
Предисловие
19
вая свою «австрийскость» как глубинный завет австрийской куль-
турной традиции, без сьшовнеи связи с которой себя не мыслил, он
стремился все со всем примирить, увязать, сочетать: традицию
строгой классики — с нервной трепетностью современности, горя-
чие земные страсти — с притяжением космических глубин, жизнь
— с поэзией. И в уланы его влекла не только романтическая память
о военно-державных подвигах славных деятелей былых времен, но
и страстная — в сущности, истинно поэтическая — тяга к универ-
сальности, к познанию другой, обыкновенной и даже низменной
жизни, без которого нет и не может быть полного представления о
ее таинстве. В ответ на недоумения родственников и друзей он
писал: «Я думаю, что красивая жизнь обедняет человека... Жизнь,
которую мы ведем в Вене, не хороша... В духовном отношении мы
живем, как кокотки, которые питаются только французским сала-
том и мороженым» 9. В девяностые годы Гофмансталь еще дважды
побывает на военных лагерных сборах, один раз — на русско-
австрийской границе, где будет близко наблюдать еврейские мес-
течковые обычаи. Без этого опыта гарнизонно-армейской жизни
ему вряд ли удались бы полнокровные образы в таких его пьесах,
как «Трудный характер» и «Башня». Не было бы, конечно, и пси-
хологически точной новеллы «Кавалерийская повесть».
Упоминание о друзьях — не оговорка. Настрадавшись в дет-
стве от одиночества, Гофмансталь с тем большей жадностью и при-
вязчивостью завязывал дружеские отношения в молодые и даже
зрелые годы. Венские литераторы Леопольд фон Андриан, Рихард
Беер-Гофман и Артур Шницлер, немецкие поэты Рудольф Алек-
сандр Шредер и Рудольф Борхардт, известные эссеисты австриец
Рудольф Касснер, немец Рудольф Паннвиц и швейцарец Карл Якоб
Буркхардт, композитор Рихард Штраус, режиссер Макс Рейнгардт
и просто светские люди, склонные к музам, такие, как граф Гарри
Кесслер, баронесса Елена фон Ностиц и барон Фридрих фон
Боденхаузен, на всю жизнь останутся его близкими друзьями.
Однако влиться в «богему», превратив, как и большинство из них,
свое призвание в профессию, Гофмансталь решится не сразу.
После службы в армии в 1894 году он возобновил свои занятия в
20
Предисловие
Венском университете, но на другом факультете — филологичес-
ком, где стал специализироваться в области романской филологии.
После тяжелого для обеих сторон конфликта отец был вынужден
согласиться с решением сына предпочесть чиновничьей службе
профессорскую карьеру. Фамильные их средства были все же не
столь велики, чтобы можно было не заботиться о заработке. Гоф-
мансталь поставил перед собой еще одну «соединительную», при-
миряющую цель — сочетать собственное творчество с занятиями
историей литературы, с преподавательской деятельностью. Пона-
чалу казалось, что все к тому и идет. Совмещать одно с другим,
правда, почти не удавалось, зато удавалось перемежать: написав за
три года учебы одну только «Сказку 672 ночи», Гофмансталь с тем
большим упоением предается сочинительству после блестящей
зашиты в 1897 году дипломной работы о поэзии французской «Пле-
яды», знаменитой поэтической школы XVII века. В короткий срок
возникают стихотворные пьесы «Малый театр жизни», «Женщина
в окне», «Белый веер», «Свадьба Зобеиды», «Кайзер и Ведьма», а
также пролог к «Антигоне» Софокла, либретто балета, рассказ
«Приключение маршала Бассомпьера» и многочисленные крити-
ческие глоссы. Затем Гофмансталь на два года усаживается за дис-
сертацию, без которой невозможно получить звание профессора,
и, преодолевая скуку, мужественно завершает ее. «Исследование
поэтического развития Виктора Гюго» было представлено Вен-
скому университету в качестве требуемой диссертации, но пока
ректорат медлил с назначением защиты, Гофмансталь успел, по
его слову, «одуматься» и взял свой опус обратно. Нелегкая, но
властно притягательная доля свободного художника не оставляла
другого выбора, как отказаться от ученой карьеры.
К счастью для Гофмансталя, в этом решении его укрепила
молодая жена. Летом 1901 года он сочетался браком с Герти (Герт-
рудой) Шлезингер, дочерью генерального секретаря англо-ав-
стрийского банка. Выбор оказался на редкость удачным. С самого
начала семейству благоприятствовала и житейская удача: прида-
ного жены хватило на покупку небольшого, но весьма изысканного
старинного особняка в венском предместье Родаун.
Предисловие
21
Жизнь сразу и окончательно вошла в берега. Вскоре дом
наполнится детским криком и смехом — один за другим появятся на
свет Кристина, Франц и Раймунд. Здесь Гофмансталь проживет до
конца своих дней и напишет почти все свои вещи. Под сводами ста-
ринного особняка в Родауне станут сходиться друзья и собратья по
перу и театру; гостевая книга, которую, как полагалось, вела хо-
зяйка, заполнится самыми звучными именами начала века. Поте-
кут недели и месяцы самозабвенного труда. Лишь по время первой
мировой войны Гофмансталю придется на сравнительно долгое
время оставить Родаун: он был призван в армию и в качестве воен-
ного корреспондента служил сначала в Италии, потом в Польше .-В
1916 году он был отозван в Вену, в руководимый Робертом Музи-
лем пресс-центр при министерстве обороны. Трудные времена
настанут после войны — в годы инфляции и разрухи. Многие
друзья издатели к этому времени разорятся, гонорары иссякнут, и
судьба очаровательного маленького поместья повиснет на волоске;
дело ограничится, однако, продажей коллекций. В 1922 году друзья
помогут Гофмансталю установить сотрудничество с влиятельным и
солидным американским журналом «The Deal», для которого он
станет регулярно писать очерки и тем спасет семью от окончатель-
ного разорения. А там наступит оживление театральной жизни,
последуют новые премьеры, постановки, экранизации. В двадца-
тые годы, после пережитых личных и государственных потрясе-
ний, Гофмансталь окончательно созреет как драматург: «Трудный
характер», «Башня», «Большой Зальцбургский театр жизни» будут
поставлены в театрах, а последняя пьеса — впервые после мира-
клей XVI века — в соборе. Утратив, может быть, изящество ран-
ней поры, идейно возмужала и углубилась в это время и его эссе-
истика. Интенсивно шла работа над романом «Андреас» из вене-
цианской жизни XVIII века (которая дала Гофмансталю столько
сюжетов!) и обдумывался роман об испанском короле Филиппе И.
Словом, казалось, что впереди еще долгая творческая жизнь. Но в
июле 1929 года случилось несчастье, которое он не смог пережить.
Покончил с собой его сын Франц, психически не выдержавший
бремени славы отца (как и сын Гёте, как и сын Томаса Манна).
22
Предисловие
Сердце пятидесятипятилетнего Гофмансталя разорвалось, когда он
собирался на похороны сына. Их похоронили в одной могиле.
«Наглость немецких откликов на эту смерть была отврати-
тельной, — писал критик-марксист Вальтер Беньямин, идейно
Гофмансталю отнюдь не близкий, но значение его вполне осознав-
ший. — Снисходительные упоминания, пошлые полупохвалы, а то
и запоздалое сведение счетов...» 10.
Размышляя о литературных судьбах писателей, Гофмансталь
как-то пришел к выводу, что самые трудные испытания для их
творческого наследия выпадают в первые два десятилетия после
смерти. Он оказался пророчески прав в отношении собственного
наследия. Последовали два десятилетия медленного погружения в
забвение. И лишь освобожденная от фашистского ига Австрия
вновь обратилась к его книгам и творениям других своих замеча-
тельных сыновей, отныне навсегда причисленным к золотому
фонду чрезвычайно богатой австрийской культуры.
* * *
Поэтические истоки Гофмансталя связаны с импрессиониз-
мом. В восемнадцать лет он написал стихи «Предвесеннее», кото-
рые считаются таким же памятником импрессионизма, как по-
лотна Моне или музыка Дебюсси.
Можно понять ажиотаж современников: ничего подобного
немецкоязычная поэзия не знала около века, со времен Эйхен-
дорфа и Брентано, то есть немецких романтиков. Поэзия середины
XIX века не ведала такой музыкальности, такой изощренности
инструментовки с тонкой игрой консонантов и перекличкой
вокальных. Музыкально-напевная оснастка стиха Гофмансталя
сродни музыкальной стихии поэзии Иннокентия Анненского и
Александра Блока.
Череда летучих настроений, бликов и мигов бытия, усколь-
зающих от пристального взора оттенков — то есть все, что состав-
ляет эстетическую природу импрессионизма, — принадлежала и к
особенностям поэтики раннего Гофмансталя. Но период «чисто»
импрессионистический длился недолго, он стал лишь своего рода
Предисловие
23
короткой площадкой для разбега. Переживание момента — в пол-
ном согласии с эстетикой импрессионизма — оставалось исходным
мотивом лирики, однако это переживание (вида, картины, мело-
дии, мимолетного впечатления и т. п.) использовалось как повод
для мечты и воспоминания, причем воспоминания не только лично-
го, но и пра-воспоминания, то есть оживления глубинных напласто-
ваний исторической и даже космической жизни. Эта онтологич-
ность, стремление к осмыслению объективного бытия, далеко
выводит лирику Гофмансталя («Воспоминание», «На рассвете»,
«Песня жизни», «Мировая тайна» и др.) за рамки импрессионизма.
Средство для установления универсальных связей, то есть
воссоединения всего со всем, прошлого с настоящим и будущим,
отдаленного «там» с близлежащим «здесь» — поэтическая метафо-
ра. В поэтической системе Гофмансталя метафора выглядит
отнюдь не декоративно, она — истинно мера вещей, позволяющая
стянуть даль времен и пространств в единый поэтический узел.
Она, таким образом, метафора-символ. Именно символ призван
обеспечить поэтическим запечатлениям жизни многомерную
емкость смысла. И тогда, например, лицо спящей женщины стано-
вится центром некого магического круга, посредником общения с
иными мирами, с инобытием («Твое лицо»). Мимолетное, текучее,
бренное приобретает тем самым некую опору в вечности — неуло-
вимой, таинственной, манящей, — к которой всегда устремлена
поэзия символизма.
В лирике Гофмансталя — полный набор неоромантического
реквизита «конца века»: обветшалые урны, опустевшие сады и
замки, обвитые плющом полуразрушенные колонны, непрогляд-
ная осень, отравленный чад, тоска мимолетности и припоминания,
истома медленного умирания, одинокий и скорбный путь усталого
человека в лиловых или сиреневых сумерках... Весь этот реквизит
хорошо знаком русскому читателю по лирике старшего поколения
русских символистов от Иннокентия Анненского до Федора Соло-
губа (младшее поколение то ли взвинченнее, то ли бодрее: «Будем
как солнце!» Бальмонта, «Золото в лазури» Андрея Белого, ким-
вал ьный звон латыни в названиях сборников Брюсова и Иванова).
24
Предисловие
Разумеется, все эти мотивы сильно отдают ароматом декаданса.
Всего любопытнее и замечательнее, однако, то, как наиболее здо-
ровые натуры в поколении — от Анненского до Гофмансталя —
отчаянно сопротивлялись этим неумолимым силам разложения,
призывая на помощь все наследие европейской культуры и в пер-
вую очередь самое радостное и жизнелюбивое в ней — античность.
Неврастенизация античных сюжетов — распространенное пове-
трие в европейской литературе этого времени, но возникла она,
очевидно, не только в русле ницшевского стремления вскрыть
демонический, то есть злой, больной, корень внешнего процвета-
ния, но и в поисках спасения, в упорных, но тщетных попытках
обрести надежную точку опоры в прошлом.
Таковы, во всяком случае, античные драматургические сти-
лизации Гофмансталя, а он к ним немедленно обратится после
того, как сравнительно быстро (сам он утверждал, что писал стихи
всего три года) исчерпает свой сугубо лирический заряд. Пере-
делки античных драм («Электра», 1903; «Эдип и сфинкс», 1904, и
др.), предпринятые Гофмансталем, пользовались значительным
успехом у подогретой декадентами европейской публики начала
века (в России — благодаря постановкам Веры Комиссаржевской),
однако по окончательным меркам, в сравнении с выросшими из
лирики маленькими драмами или с его поздней драматургией, зна-
чение их невелико.
Тематическое ядро и лирики и маленьких стихотворных драм
Гофмансталя складывается в основном из двух альтернатив:
«жизнь и смерть» и «жизнь и искусство». При всей распростра-
ненности и как бы даже обязательности этих тем для лирических
усилий эпохи качество их разработки, помимо таланта, могло быть
обеспечено только глубиной личного их прочувствования и пере-
живания. «Терцины» Гофмансталя (Анненский реализовал симво-
листское пристрастие к цифре «три» в своих «трилистниках») вряд
ли удались бы в такой степени, будь они только упражнениями обя-
зательной программы. Нет, их явно согревает личное чувство, хотя
и не совсем обычного рода. Эти чеканные строфы, полные строгой
и возвышенной ламентации, рождены утратой хотя и не возлюб-
Предисловие
25
ленной, но все же близкого человека. Когда ушла из жизни Жозе-
фина фон Вертхаймштайн, хозяйка известнейшего в Вене литера-
турного салона, с которой Гофмансталя связала самая крепкая
дружба, он написал в дневнике, что впервые в жизни испытал истин-
ное горе, — и отозвался на него своими «Терцинами о бренности».
Вряд ли надобно особо подчеркивать, насколько личной и
мучительной была для него и другая тема — «искусство, или худож-
ник и жизнь», — ведь это она породила и конфликты в семье, и его
жизненные метания, и неотступные раздумья, выплеснувшиеся и в
стихи, и в маленькие стихотворные драмы, и в эссеистику («Поэт и
нынешнее время», «Разговор о стихах» и др.). «Я — поэт, потому
что мыслю образами»11 — так классически просто определил сам
себя уже в ранней молодости Гофмансталь. Но такое раннее са-
моопределение не избавило поэта от мук выяснения своей жизнен-
ной роли.
Пассеизм, то есть тоска по прошлому, бегство от постылой
действительности в мир блистательного былого, эстетское любо-
вание великолепием минувшего — все это не без оснований счи-
тается одним из показательнейших пристрастий декаденствующего
«модерна» рубежа веков. Вот и в маленьких драмах Гофмансталя
все вроде бы выдержано в соответствующих этому томлению по
былой красоте тонах: помпезно пышные формы позднего Ренес-
санса («Смерть Тициана») или изящный ампир XVIII столетия
(«Глупец и Смерть») словно утяжелены и как-то болезненно зао-
стрены здесь запоздалой, выдохшейся, бескрылой любовью. Кам-
золы, кринолины, фижмы, маскарадные блестки, маскарадная
фривольность, бездумность и легкость, и вдруг наплыв — в мело-
дии скрипки — какой-то неясной тревоги, печали, и вдруг среди
масок мелькнет роковая безноска с косой; все как на полотнах вен-
ского «Сецессиона» или русского «Мира искусства» (один из пред-
ставителей которого, Константин Сомов, иллюстрировал Гофман-
сталя для лейпцигского издательства «Инзель»). И все же симво-
лом «преодоления натурализма» (Герман Бар) и знаменем эстет-
ских группировок (вроде кружка Стефана Георге) маленькие
драмы Гофмансталя становились только по недоразумению.
26
Предисловие
Ему ли, написавшему о людском неравенстве такие пронзи-
тельные стихи, как «Умирать иным...», было чураться социальной
проблематики? И разве не внятна она в обеих маленьких драмах? И
так ли трудно отделить в них голос автора от голосов эстетству-
ющих героев? Ведь и сами насмешки над «плебсом», над тупой,
ведущей скотскую жизнь толпой, настолько утрированы, что
могут восприниматься только как пародия на тех, кто насмехается.
Да и кто это делает? Жалкие выскочки, застрявшие где-то в приз-
рачной пустоте между искусством и жизнью. Дети суетной пусто-
ты, они не могут понять ни жизни, потому что в глупом самооболь-
щении ее презирают, ни самих себя, так как во всем полагаются на
Мастера, Тициана, ни, наконец, самого Тициана, ибо толкуют его
превратно и ложно, по своим хилым меркам. Потому что Тициан
все, что угодно, но не эстет, он живет полной, напряженнейшей
жизнью титана, заполняя ее до самых краев, до последнего вздоха
созиданием красоты и духовной работой, а не разговорами о кра-
соте и духовном. Недаром Тициан в этой пьесе остался за кадром:
чутье художника подсказало Гофмансталю, что иначе композиция
вряд ли выдержала бы сопряжение образов столь разных: реаль-
ного великого живописца и лишь обряженных в чужие платья
молодых декадентов.
Пьеса «Глупец и Смерть» не случайно выдержала рекордное
количество изданий из всех произведений Гофмансталя. По многим
параметрам — и по сжатости, плотности идейной проблематики и
по отделке — она, конечно, хрестомайтийна. Прежде всего это
совершенные стихи, в которых нет лишнего слова, и совершенная,
отточенная композиция, в которой нет лишней реплики или ремар-
ки. Все изящно, точно и соразмерно, как в маленькой искусной ста-
туэтке или шкатулке с секретом. Секрет здесь — в осязании неза-
мечаемой тайны, в конечном прозрении героя. Тайна — в любви,
соединяющей все живое. На протяжении всей своей жизни Клаудио
делает все, что и другие люди; увлекается, восторгается, дружит,
но, по существу, это лишь имитация подлинных чувств, ибо глав-
ное для него — интерес к себе. И мать, и друг, и возлюбленная —
всего-навсего игрушки, для этого не желающего взрослеть дитяти.
Предисловие
27
Человек, отгородившийся от жизни, сосредоточившийся на се-
бе, — человек полый и обреченный. В герое Гофмансталя узнало
себя целое поколение, как некогда в «Вертере» Гёте, всю жизнь
остававшегося для Гофмансталя недосягаемым образцом («эпиго-
ном Гёте» дразнил его колючий сатирик Карл Краус). Страдания
юного Клаудио отразили самую жгучую проблему европейской
интеллигенции рубежа веков — проблему связи, вернее, разрыва с
жизнью. Кризисное мироощущение эпохи нашло здесь емкую сце-
ническую формулу, что и предопределило столь широкий успех.
О том, что смысл этой проблематики был Гофмансталем
глубоко осознан и продуман, свидетельствует и эссеистика этих
лет, например статьи о Д'Аянунцио или Георге. Разрыв с жизнью,
отчуждение от нее неминуемо ведут и к разрыву с искусством, к
отчуждению языка; на эту тему Гофмансталь в самом начале века
опубликует мистификаторский «эссей» — письмо, якобы написан-
ное Бэкону его сподвижником лордом Чэндосом. Этот текст в
дальнейшем течении века будет тысячекратно разобран на эпи-
графы и цитаты и сам станет как бы эпиграфом ко многим духов-
ным исканиям последующих десятилетий XX века — прежде всего
в русле логического или «лингвистического» неопозитивизма,
который приобретет на Западе большое влияние. Утрата веры в
собственный язык, в собственную способность адекватно отражать
и выражать действительность есть, конечно же, проявление
утраты веры в себя, есть проявление глубокого кризиса усомнив-
шегося в самом себе сознания. А в этом кризисе, понятно, в свою
очередь отразился другой, глубинный кризис — целого уклада жиз-
ни, пошатнувшегося после многих веков кажущейся устойчивости.
Проблема этого кризиса станет центральной, по сути дела, для
всей европейской литературы XX века. В литературе австрийской
первым провозвестником его и стал Гофмансталь.
Всем своим творчеством Гофмансталь постоянно обращен к
наследию европейской культуры. Она давала ему и сюжеты и темы
для размышлений. Античность, средневековье, эпоха Возрожде-
ния, эпоха барокко и эпоха Просвещения, XIX век с его романтиз-
мом и классическим реализмом — всюду, в любом времени, окра-
28
Предисловие
шенном для писателя прежде всего своеобразием культурных свер-
шений, он чувствовал себя как дома. За исключением русской
литературы, которую он, несмотря на пропагандистские усилия его
друга Рудольфа Касснера, восторженного ее поклонника и пере-
водчика, недопонимал, нет, пожалуй, в Европе литературы, о ко-
торой Гофмансталь так или иначе не отозвался бы. Привлечь для
анализа природы драматического — англичанина Шекспира («Ко-
роли и вельможи у Шекспира»), а для разбора сущности эпического —
француза Бальзака, для него самое естественное дело. И все же
Гофмансталь недаром прослыл «аустриациотом»: после Грильпар-
цера не было в Австрии писателя, который бы так глубоко задумы-
вался об особенностях австрийского духовного пути, о специфике
австрийской культуры, ее отличиях от культуры немецкой. «Мы,
австрийцы, и Германия», «Австрийская библиотека», статьи о Рай-
мунде, Нестрое, Грильпарцере дают исчерпывающее представле-
ние об этих патриотических заслугах Гофмансталя-мыслителя.
Любопытно, что к пониманию ценности своего, родного
Гофмансталь пришел после долгих и любовных занятий чужезем-
ным, чужим. Так — в эссеистике, но так — ив драматургии. Все
внутреннее развитие писателя выглядит как неуклонное приближе-
ние к злободневной современности. Путь этот тем более впечатля-
ющ, что вел издалека.
Как и Грильпарцер, Гофмансталь в освоении опыта предше-
ственников прошел путь от античных трагедий до религиозных
драм Кальдерона. Как и Грильпарцер, он не миновал при этом и
средневековье. Сюжет драмы «Имярек» он почерпнул из аноним-
ного английского текста, изданного в Лондоне в 1490 году («Every-
man, a morality play»). Еще один вдохновительный источник этой
пьесы Гофмансталя — назидательная комедия знаменитейшего
драматурга позднего немецкого средневековья Ганса Сакса («Ко-
медия об умирающем богатом человеке»). Отсюда взяты многие
детали, да и самый стих Гофмансталя в этой драме — по-старин-
ному лапидарный, грубоватый, тяжеловесный — ориентирован,
конечно, на Сакса. Наконец, в сцене с матерью используется риф-
мованная молитва, написанная великим живописцем Альбрехтом
Предисловие
29
Дюрером. Вживание в стиль далекой эпохи, вообще-то, постоянно
привлекавшей внимание символистов (в том числе и русских:
достаточно вспомнить «Огненного ангела» Брюсова или «Нюрн-
бергского палача» Сологуба), осуществлено здесь настолько вир-
туозно и полно, что походит не на стилизацию, а на реставрацию
какого-либо средневекового памятника. И будь в натуре Гофман-
сталя мистификаторская жилка, он вполне мог бы стать автором
очередной литературной сенсации в духе «Песен западных славян»
Мериме или «Поэм Оссиана» Макферсона. «У Гофмансталя
никогда не поймешь, где он сам, а где~ чужое» 12, — укорял его вли-
ятельнейший театральный критик Альфред Керр, придумавший
даже уничижительную формулу-неологизм «Spatlingstum» (при-
мерно «запоздалость»).
Как и многие свои сюжеты, Гофмансталь вынашивал план
«Имярека» очень долго. Впервые идея этого драматургического
отзвука средневековых мистерий возникла у него в 1903 году в
связи с предполагавшимся открытием зальцбургских театральных
фестивалей. «Имярек» и откроет фестивали, но лишь годы спустя:
эти ныне всемирно известные театральные празднества начнутся
только в 1920 году уже в послевоенной Австрии. К этому времени
«Имярек» будет дважды напечатан, в двух редакциях —1911 и 1913
годов. Переделки были вызваны прохладным приемом, оказанным
этому произведению Гофмансталя современниками: восторжен-
ные поклонники «Электры» (1903), к досаде писателя, не желали
следовать за ним в его новых опытах. Видимо, «Имярек» принадле-
жал к любимым детищам Гофмансталя, поскольку в этом случае
он единственный раз изменил своему правилу: не вступаться за соб-
ственные вещи. И в письмах к друзьям и в публичных выступле-
ниях он горячо доказывал, что «Имярек» ничуть не уступает
«Электре» в художественном отношении и что обе пьесы идейно
близки, «...в обеих ставится вопрос: что остается от человека, если
отнять у него все? В обеих содержится ответ: остается то, чем
человек связывает себя с миром, — содеянное или сотворенное... В
обеих ведется поиск закона сверхличного и внеличного...»13.
Тематически «Имярек» близок маленькой стихотворной
30
Предисловие
драме Гофмансталя «Глупец и Смерть». И там и тут неумолимая
Смерть призывает героя дать отчет о прожитой жизни. В обоих
случаях речь идет о неправедной, а стало быть, мнимой жизни. Но
если Клаудио виновен перед людьми и судим по законам гуманиз-
ма, то безымянный, обыкновенный, «каждый» человек драмы-
мистерии предстает перед судом надмирных, космических сил, кла-
дет свои грехи на весы абсолюта. Сценой становится само мирозда-
ние, и действуют на ней не существа, но сущности — добра и зла,
жизни и смерти. Силы преисподней и силы поднебесные при-
стально вглядываются в человека и властно манят его к себе. Одни
сулят осязаемые, земные, очезримые ценности, но эти ценности
бренны и поэтому призрачны, мнимы. Противоположные ценно-
сти, предлагаемые апологетами неба, — любовь, добро, истина —
бесплотны, кажутся призрачными, но по сути своей они нетленны
и поэтому вечны.
У надмирного, космического зла есть самый что ни на есть
обыденный земной корень — это золото, деньги. Деньги в пьесе-
мистерии — это поистине «желтый дьявол». Демонологизация
денег здесь равно далека от публицистической назывной прямоты и
от абстрактной бесплотности символа. Деньги у Гофмансталя —
такая же стихия, как вода, земля, огонь или воздух. Более того,
они словно бы человекоподобны — они работают, они размножа-
ются, они убивают. Смущая и соблазняя смертного преходящими
благами, сами они непреходящи, бессмертны. Ибо они — дьявол. И
рост их могущества в мире следует рассматривать — если дер-
жаться символического ряда, заданного пьесой, — как приближе-
ние царства антихриста.
В этом духе Гофмансталь высказывался о сущности совре-
менной ему эпохи в докладе «Идея Европы», сделанном вскоре
после завершения работы над «Имяреком». Здесь он прямо гово-
рит о том, что жизнь современной Европы развивается таким обра-
зом, что «деньги заступают место Бога» 14. Абсолютизированное
понятие денег, развивает далее свою мысль Гофмансталь, стано-
вится равносущным понятию Бога по своей функции: только Бог —
это всеобщее единение и разрешение всех противоречий, а деньги
Предисловие
31
— всеобщий знаменатель современного бытия. Дело не только в
том, что все, грубо говоря, продается и покупается; дело в том, что
деньги, как демиург, реализуют возможности, превращают мечту,
то есть некий идеальный замысел, в действительность. Деньги,
говорит Гофмансталь, — это «узел бытия», его магический центр.
Собственно, веками войны велись отнюдь не из-за идеальных
соображений, но корысти ради. Однако никогда раньше роль денег
не была обнажена столь откровенно, цинично и неприкрыто. Пре-
жде народы стремились хоть как-то облагородить свое влечение к
злату. Разве что древние иудеи первыми создали его культ и «вот
уже несколько тысячелетий в этом высшем существе видят пересе-
чение всех частных интересов» 15. К нашему времени веками длив-
шаяся эпоха накопительства кончилась и начинается новая эра —
торжества и триумфа «желтого дьявола».
Деньги в пьесе «Имярек» подменяют собой все: справедли-
вость, сострадание, счастье людской близости. Их действие на
богача — наркотическое: они приглушают диссонансы жизни, уба-
юкивают совесть. Богач самому себе не кажется злым и жестоким:
да, он дерет шкуру с соседа, но ведь и проявляет заботу о его семье
необременительными для себя подачками. Он не прочь отмерить
толику чувств и сыновнему и дружескому долгу, лишь бы чувства
эти не доходили до подлинных жертв, а тихо и сладко нежили душу,
верно служа собственному покою и процветанию.
Но основанное на злате процветание мнимо, и звон колоко-
лов посреди разгульного пира об этом напоминает — как всегда,
неурочно, но неотвратимо. Смерть сдергивает с человека все, чем
он прикрывался при жизни. Сир и наг, он сходит в могилу, лицом к
лицу встречаясь с олицетворенными деяниями своих рук — жесто-
косердием, черствостью, эгоизмом. Смерть опрокидывает все его
ценности. Высшей из них оказывается та, которой богач более
всего при жизни пренебрегал, — любовь к ближнему.
«Человеческая сказка в христианском обличье» 16 — так сам
Гофмансталь определил свою пьесу. Однако его христианскую «ан-
гажированность», как теперь принято говорить, не следует преуве-
личивать. Формально Гофмансталь, как и большинство австрий-
32
Предисловие
цев, принадлежал к католическому вероисповеданию, но назвать
его «католическим драматургом» нельзя. При всем постоянном
любопытстве к Пеги и Клоделю и при всей постоянной в последние
годы творчества оглядке на Кальдерона он в своем мировоззрении
был «поэтически» неопределенен и смутен; в тех заветах европейс-
кого гуманизма, кои были для него святы, легко прослеживается
преемственная связь как с христианскими, так и с античными куль-
турными традициями. Из всех умственных течений начала века
ближе всего Гофмансталю был, пожалуй, неоплатонизм, что для
символиста не удивительно: (музыка и музыкальность были непре-
ложным догматом поэтики европейского символизма). Платон с
его пониманием вещных реалий как отблесков (в сущности, симво-
лов) потусторонних идей подкреплял своим авторитетом идейные
основания школы. Своего философского наставника Гофмансталь
обрел в неоплатонике Рудольфе Касснере, сыгравшем заметную
роль в духовной жизни Австрии XX века. Блестящий литератор,
эссеист, критик, переводчик философской и художественной лите-
ратуры с санскрита, древнегреческого (Платон), английского,
французского, русского (Пушкин, Гоголь, Толстой), Касснер был
в то же время основателем философской физиогномики, понимае-
мой весьма широко — как толкование внутренних свойств вещей и
явлений на основе их внешних признаков. И центральное понятие
метода Касснера — «сила воображения», и постоянно применя-
емые им противопоставления образов-символов: числа и лица,
маски и лица, зеркала и воронки, человека и зверя и т. п. — оказа-
лись в естественной близости к поэтическому мироощущению и
поэтическому словотворчеству. Может быть, поэтому «несистема-
тическая философия» Касснера произвела глубочайшее впечатле-
ние прежде всего на поэтов, причем на самых значительных в поко-
лении — на Рильке и Гофмансталя. Оба они отзывались о Касснере
восторженно и благодарно. Познакомившись с сочинениями Кас-
снера, Гофмансталь писал: «Никогда прежде даже самые впечатля-
ющие мысли Шопенгауэра, Ницше и им подобных не были в состо-
янии дать мне столько внутреннего счастья, столько внутреннего
света, осветившего и самые глубокие закоулки меня самого,
Предисловие
33
столько понимания, откуда происходит поэзия, что она озна-
чает, в каком отношении к бытию она находится»17.
Завязавшаяся тесная дружба с ровесником-философом
ничем не была омрачена до самой смерти Гофмансталя. Касснер
оставил о нем, пожалуй, самые яркие и самые проникновенные
воспоминания.
В разгар первой мировой войны, урывая время у корреспо-
ндентских обязанностей, Гофмансталь работал над социальной
комедией, которой суждено было стать одним из важнейших его
произведений. Завершенный в 1917 году «Трудный характер» был
впервые поставлен уже в послевоенные годы и к нашему времени
из всех пьес Гофмансталя выдержал рекордное количество теат-
ральных постановок.
В самом деле, эта пьеса излучает, пожалуй, самое большое
обаяние из всех сценических созданий Гофмансталя. Не соревнуясь
с «Большим Зальцбургским театром жизни» в грандиозности миро-
охватных проблем, а с «Башней» — в глубинном чутье к подвод-
ным устремлениям времени, эта живописующая лишь быт и нравы
определенной социальной группы комедия отличается ладной сце-
нической статью, стройностью, соразмерностью и — глубиной.
«Глубина лежит на поверхности» — эта любимая максима Гофман-
сталя здесь вполне применима. По глубине подтекста, по насыщен-
ности нюансов, по многоголосию будто случайных, но столь осмы-
сленных перекличек Гофмансталь здесь более всего приблизился к
Чехову — безусловно величайшему магу мирового театра XX века.
Нет прямых указаний на знакомство Гофмансталя с чеховскими
«Вишневым садом» или «Дядей Ваней», но такое знакомство
нетрудно предположить.
Комедией эту пьесу можно признать лишь условно, во вся-
ком случае, с некоторыми оговорками. В ней мало юмора и остро-
умия, которыми гордится жанр от Аристофана и Лопе де Вега до
Мольера и Гоголя. Юмор здесь приглушен, на австрийский манер
смягчен. Комическое почти всецело в сфере несоответствий:
характеров — обстоятельствам, намерений — свершениям. Ника-
кой гротескности не заметно ни в одном персонаже; все вроде бы
34
Предисловие
вполне натуральны: и самоуверенный рационалист Стани, и люб-
веобильная Антуанетта, и напыщенный выскочка профессор, и
поверхностный резонер барон Нойхоф, и легкомысленные салон-
ные дамы. И в то же время все слегка смешны: не без иронии обри-
сован даже Карл Бюль, этот не лишенный автобиографических
черт положительный герой, призванный олицетворять былую,
прекрасную, уходящую Австрию. Этот чародей обаяния, воплоще-
ние аристократической сдержанности и такта предстает и в коми-
ческом свете из-за своей нерешительности, из-за путаной противо-
речивости поступков. Слуги сбиваются с ног, выполняя его прика-
зания, отменяющие одно другое. Участников важного раута он
держит в напряженном неведении: явится, как обещал, или не явит-
ся, как тоже грозил? Решившись уйти, он немедленно возвращает-
ся. Решившись отвергнуть любовь Елены, он тут же объясняется
ей в любви.
Сменяющие друг друга настроения в этой пьесе витают, как
незримые духи, которым полностью подчинены зримые персона-
жи. За чередой настроений трудно разглядеть личность, ее ядро.
Гофмансталь недаром был одним из столпов венского импрессио-
низма. И, может быть, не случайно он дал своему герою имя Карл,
ведь «господин Карл» — это нарицательный герой всей австрийс-
кой литературы, занятой анализом ощущений, обволакивающих,
нейтрализующих волю. Чеканную формулу типа дал Роберт
My зил ь, назвав свой гигантский роман «Человеком без свойств».
Бессвойственность в трактовке Музиля или Гофмансталя — это не
бесцветность, не примитивность, напротив — это полнота всех
свойств, но и невозможность выбрать из них, невозможность
решиться.
Нерешительность — одно из центральных понятий-духов,
которые руководят персонажами этой пьесы. Но предстает эта
нерешительность здесь хоть в ироническом, но достаточно привле-
кательном свете. Ведь за ней — и скромная сдержанность и само-
отречение. Карл Бюль пытается отвести от себя любовь Елены не
как беду, но как счастье, которого не достоин. В его нерешитель-
ности — глубочайшее почтение к высокому чувству, которое тре-
Предисловие
35
бует всего человека, требует подвига. И этот-то высокий строй его
души, угадываемый Еленой, более всего влечет ее к нему. А грубо-
ватая, нахрапистая решительность Нойхофа кажется ей вульгар-
ной и скучной, как и деловая, сметливая решительность Стани. В
характере Стани Гофмансталь — здесь еще очень мягко, в «Баш-
не» он прибегнет к карикатуре — намекнул на пришествие новых
людей, рационального, прагматического толка. Стани словно
обмерил Елену, и по всем параметрам она ему подошла — молода,
красива, богата, с хорошими связями, из знатного дома. Чего же
боле? Не заботиться же об обветшалых романтических чувствах?
На таком пресном фоне хваткой решительности прекраснодушная
нерешительность «старого» дядюшки действительно выглядит
обворожительно.
В этой обворожительности — и отзвук того любования пре-
красным прошлым, которое было свойственно молодому, начина-
ющему Гофмансталю. Почти тридцать лет спустя после драмати-
ческой поэмы «Вчера» у Гофмансталя не осталось иллюзий: выс-
шее общество в его изображении выглядит обреченно, да его и не
очень-то жаль из-за отсутствия в нем какой-либо значительности,
персонажи тут — пустоватые куклы, марионетки, не более. Но это
один счет — исторический, а ведь есть еще и другой, более важный
для австрийской литературной традиции счет — «вечной, дивной
жизни», и по этому куда более снисходительному счету значителен
каждый, в ком есть хоть искорка жизни. Это трепетное замирание
перед сокровенностью всякой, пусть даже легкомысленной и обре-
ченной жизни и окрашивает всю пьесу в грустно-иронические, эле-
гические тона. «Трудный характер» — такой же шедевр этой
тональности в австрийской драматургии XX века, как «Марш Радец-
кого» Йозефа Рота — в австрийском романе того же столетия.
Сам Гофмансталь назвал свою пьесу «австрийской социаль-
ной комедией». При этом он имел в виду не только живописный
местный колорит и саму атмосферу свойственной венцам легкой,
грациозной общительности, но и «метафизический корень» пьесы,
как он выразился в письме к драматургу и директору «Бургтеатра»
Антону Вильдгансу. «Это проблема, — писал он, — которая часто
36
Предисловие
мучила и пугала меня (уже в «Глупце и Смерти», в «Письме лорда
Чэндоса», которое Вам, возможно, известно лучше всего), а имен-
но: как удается индивидууму-одиночке посредством языка соеди-
няться с обществом — до... до полного саморастворения. И далее:
как это говорящий еще может действовать, когда сама речь озна-
чает познание, то есть снятие любого действия?»18
Эта тема языка как посредника, но и как предателя личных
интересов человека в обществе (пронизывающая всю пьесу, но
отчетливее всего сформулированная в заключительном монологе
Карла Бюля), тема, унаследованная Гофмансталем от Грильпар-
цера и особенно Нестроя, станет в дальнейшем одной из констант
австрийской драматургии XX века, достигая вполне сопоставимой с
предшественниками выразительности у Карла Крауса, Эдена фон
Хорвата, Томаса Бернхарда, Петера Хандке.
Новые люди в «Трудном характере» — это не только резонер
Нойхоф и рационалист Стани, но и нахал слуга с его хищным при-
целом и дальновидной замашкой. Карл Бюль еще в состоянии выд-
ворить его, но ведь Карл Бюль — это последняя твердыня некогда
незыблемых представлений о «комильфо». Будущее, по многим
признакам, все равно за духом бесцеремонной корысти, заступа-
ющей «место Бога». Эту обочинную для «Трудного характера»
тему «грядущего хамства» Гофмансталь развил в следующей своей
комедии, «Неподкупный» (1922), в которой слуга, соединяющий в
себе живой ум, пройдошливость Скапена или Гансвурста с кулац-
кой прижимистой жилкой эпохи «желтого дьявола», сам стано-
вится господином.
Сюжеты обеих последних значительных пьес Гофмансталя
— «Большой Зальцбургский театр жизни» (1921) и «Башня» (1924;
вторая редакция — 1927) — восходят к Кальдерону. Видимо, не
случайно среди крупнейших драматургов мира Гофмансталь отда-
вал предпочтение великому испанцу. Соединительные звенья здесь
не только внешнего порядка — например, династия Габсбургов,
правившая как в Австрии, так и в Испании, или глубоко укоренив-
шийся в обеих странах католицизм. Гофмансталя привлекала в
Кальдероне и сама драматургическая поэтика. В своих статьях
Предисловие
37
(«Короли и вельможи у Шекспира», «О характерах в романе и дра-
ме» и др.) он объяснил, почему ему не кажется убедительным
Шекспир: у того драматическая коллизия определена столкнове-
нием характеров, а Гофмансталь по всему складу своему, задан-
ному и местом и временем жизни, просто не верил в наличие харак-
теров, он подменял их реакциями на обстоятельства. У Кальдерона
иное, тут — драма идей, коллизию порождает противостояние
философских или религиозных антиномий, в которых Гофман-
сталю виделась куда большая устойчивость, нежели в любых сколь
угодно сильных характерах.
Предваряя «Большой Зальцбургский театр жизни», Гофман-
сталь разъяснил, чтб именно он позаимствовал у Кальдерона:
метафору, согласно которой мир — это подмостки, на которых
люди играют предуказанные им Всевышним роли в пьесе жизни, а
также название пьесы и имена шести персонажей, эмблематичес-
ки, то есть в устойчивых аллегориях, как это и было свойственно
поэтике барокко, представляющих все человечество. Правда, тут
же Гофмансталь уточнил, что все эти фигуры — не плод воображе-
ния самого Кальдерона, что все они восходят «к той сокровищнице
мифов и аллегорий, которую создало средневековье и завещало
последующим столетиям».
В самом деле, Кальдерон — лишь самый искусный и блиста-
тельный мастер в длинной, в основном безымянной цепочке слага-
телей традиции уподобления жизни сну или комедии, разыгрывае-
мой людьми перед Богом.
Как и предусмотрено традицией, в пьесе Гофмансталя по
воле всевышнего обретают свои роли Король, Богач, Крестьянин,
Нищий, Мудрость и Красота, предводительствуемые Жизнью и
Смертью.
В согласии с традицией иерархия, точно определяющая
место каждому, является божьим установлением, а еретическую
мысль об изначальном равенстве всякой твари распространяет
нечистая сила. Современный акцент в пьесе можно усмотреть,
пожалуй, в расширении зоны человеческой свободы, в той диало-
гичности отношений между Богом и человеком, которая позволяет
38
Предисловие
Нищему долго роптать и препираться с Богом, не соглашаясь на
отведенную ему роль. Спор предопределения и свободы, составля-
ющий давнюю и неразрешимую проблему теодицеи, то есть
«оправдания Бога», ставится в центр идейной коллизии пьесы. Ему
сопутствует спор и других, жизненно важных противостояний —
счастья и несчастья, равенства и неравенства. Человек вроде бы
свободен в выборе того или иного состояния и в то же время совер-
шенно несвободен, потому что любой односторонний выбор обре-
кает его душу на погибель. Понятие гармонии, меры (или тради-
ционно австрийской «золотой середины») становится здесь, как
нигде больше у Гофмансталя, нагляднейшим воплощением словно
бы ожившей, материализовавшейся диалектики. Один из проница-
тельнейших интерпретаторов Гофмансталя, Эрвин Кобель, в связи
с этой пьесой справедливо отметил, что свобода выбора здесь мни-
ма, ибо «предопределение без свободы ведет к фатализму, свобода
без предопределения — к произволу, несчастье без счастья — к
отчаянию, счастье без несчастья — к высокомерию, неравенство
без равенства — к несправедливости, равенство без неравенства —
к скуке уравниловки»19. Желанная гармония не может быть пре-
поднесена человеку никакими внешними обстоятельствами, чело-
век может пробиться к ней лишь ценой упорнейшего труда, направ-
ленного к внутреннему самосовершенствованию.
Нищий, сначала роптавший, а потом и бунтовавший с топо-
ром в руке против мирового порядка, в конце концов внезапно вра-
зумленный, мирится с ним и, подобно библейскому Иову, в само-
отречении, в глубокой вере в конечную благость Провидения обре-
тает неколебимую душевную радость и стойкость. Упор на вну-
треннее, моральное совершенствование человека, упрямое,
вопреки расхожей моде, следование давней и по внешним приемам
как будто исчерпавшей себя традиции — все это в годы торжества
экспрессионистской драмы, в годы начинающихся триумфов
Брехта с его социальными и театральными реформаторскими про-
кламациями выглядело как заведомый анахронизм. Должно было
пройти время и должны были улечься оказавшиеся во многом
поверхностными культурные бури, чтобы можно было оценить
Предисловие
39
всю привлекательность этой пьесы Гофмансталя — и совершен-
ство ее стиха, и не столько старомодный, сколько вечный «пафос
положительности», пафос утвердительности разумного порядка,
без которого ни одно людское устроение не может выдержать
натиск буйных, хаотических сил. И пусть в понимании духовных да
и материальных основ такого порядка Гофмансталь не сумел
выйти за рамки вполне традиционного или даже консервативного
кругозора, сама руководившая им забота о незыблемости «старых
истин», то есть гуманистических заветов, оказалась — перед лицом
вскоре нахлынувшего фашистского варварства — своевременной и
дальновидной.
О том, что Гофмансталь предвидел, предощущал этот разгул
мракобесия, почуяв его угрозу уже после самых первых выступле-
ний группировок фашистского типа (вроде капповского путча 1923
года), свидетельствует последняя его пьеса — «Башня».
Ни над одной своей пьесой Гофмансталь не работал так дол-
го, как над «Башней». В сущности, праисточник — драма Кальде-
рона «Жизнь есть сон» — занимал Гофмансталя почти всю его
творческую жизнь. Еще в 1902 году он сообщал одному из своих
корреспондентов, что с упоением трудится над обработкой кальде-
ронова сюжета и что создаваемая им пьеса «относится к старому
оригиналу не как «Амфитрион» Клейста к пьесе Мольера, а, ско-
рее, как какая-нибудь пьеса Шекспира к итальянской новелле»20.
Однако замысел не давался осуществлению, и Гофмансталь
на протяжении двух последующих десятилетий не раз то отклады-
вал его, то возвращался к нему снова. В 1910 году он опубликовал
фрагменты своей не поддававшейся завершению работы. Напеча-
тал он и свой перевод пьесы-первоисточника Кальдерона — второй
после перевода, сделанного Грильпарцером. Сразу по окончании
первой мировой войны опять вернулся к этому вечному, но и столь
австрийскому сюжету. Любопытно, что и предшественнику Гоф-
мансталя Грильпарцеру, также работавшему над своей версией
этого сюжета более двадцати лет (хотя его пьеса «Сон — жизнь»
построена на интриге, почерпнутой у Вольтера, тематическая
связь ее с драмой Кальдерона очевидна), этот материал тоже ка-
40
Предисловие
зался австрийским. Противопоставление мирно-уютной частной
жизни бурным и насильственным политическим событиям действи-
тельно принадлежит к устойчивым коллизиям австрийской культу-
ры, причем именно в смысловой акцентировке Грильпарцера и
Гофмансталя, прославляющих тезу (частный покой) и осужда-
ющих антитезу (общественные бури).
Классическое выражение этой мысли дал Грильпарцер в
пьесе «Сон — жизнь»:
«Счастлив на земле лишь тот,
Кто, вины ни в чем не зная,
Мир душевный обретает.
Слава — призрак, а величье —
Лишь пустое торжество...»21.
У Гофмансталя эта мысль предстает сложнее, диалектичнее:
без второго нет и первого. Детский король, появляющийся в конце
пьесы как традиционный вестник надежды, несет с собой представ-
ления о том, что «мир душевный» может быть куплен ценой обще-
ственных бурь, благих социальных перемен.
Однако социальные бури могут грозить погибелью — не
только людскому счастью, но и существованию мира в целом.
Схватка добра и зла достигает в них предельной напряженности,
только и могущей питать настоящую трагедию. В одном из писем
к Буркхардту Гофмансталь как-то заметил, ссылаясь на Новалиса,
что после всякой войны лучше всего пишутся комедии. Однако
самому ему после войны удалась не только лучшая его комедия —
«Трудный характер», но и, безусловно, лучшая его трагедия —
«Башня». Именно как о пьесе, открывавшей перед театром новые
возможности трагедии, отзывался о «Башне» один из первых ее
рецензентов — философ Мартин Бубер.
Начинается трагедия в полном соответствии с Кальдероном:
польский король Базилиус держит в заточении своего сына Сигиз-
мунда, который, согласно предсказаниям, должен его убить. И
точно так же принца доставляют на один день во дворец для экспе-
риментального однодневного правления, которое в случае провала
Предисловие
41
может потом показаться герою лишь сном. Только вот дальше
сюжетные нити двух пьес расходятся: у Кальдерона дело кончается
полюбовным миром, у Гофмансталя мрачное предсказание сбы-
вается и отец-король действительно уступает корону сыну. Но
ненадолго: развязавшая дремавшую социальную энергию стихия
переворота захлестывает и самого новоявленного, идеалистичес-
ки, прекраснодушно настроенного правителя. Его «ликвидирует»
солдафон Оливье, сплотивший вокруг себя темные элементы
социальных низов.
В центре трагедии — противостояние личности и государ-
ства, совести и насилия, порядка и хаоса. Здесь кипят страсти, но
вовсе не из-за любви. Этот серьезный, даже суровый мужской мир
живет напряжением страстных идей — прежде всего идей, реализу-
ющих разные способы обретения гармонии с миром и в мире.
Король, принц, его невольный тюремщик и сознательный воспита-
тель Юлиан, монах Игнатий, бандит Оливье, Детский король —
носители разных политических идей устроения мира и, соответ-
ственно, устроения србственной судьбы. Душевные свойства и
духовные стремления каждого из них выявляются не только в отно-
шении к миру, но и в отношении к над мирному, то есть к той обла-
сти идеального, которая и выступает мерилом или зеркалом «вну-
треннего» человека. Для «материалиста» Оливье идеальное — звук
пустой, годный разве что для обольщения глупой, доверчивой тол-
пы. Другая крайность — монах Игнатий, Великий монсеньор, быв-
ший канцлер короля, отрешившийся от мира и устроивший из иде-
ального что-то вроде подножия для своей гордыни. Себялюбец
король прибегает к этому идеальному только в ситуации крайней
нужды и смятения, когда надеяться больше не на что. Сложнее дру-
гих устроен Юлиан, душа которого заблудилась между землей и
небом в постоянных метаниях от расчетливых политических инт-
риг к возвышенным представлениям и обратно. Для всех этих пер-
сонажей возвышенное, идеальное — прекрасный сон человече-
ства, может быть, дополняющий явь, но не смешивающийся с ней.
И лишь принц, условиями своей исковерканной жизни принужде-
ный воспринимать вымысел как единственную доступную его соз-
42
Предисловие
нанию правду (ведь для него Библия — не только единственный
кладезь грамоты, но и единственный учебник жизни), пытается
воздействовать на явь духовной энергией своих «грез» — и терпит
фиаско.
В отличие от «Имярека» или «Большого Зальцбургского
театра жизни» в этой пьесе Гофмансталя нет никаких условных
фигур, заимствованных из средневековых мираклей или священ-
ных ауто эпохи барокко — типа Истины, Красоты, Земли и т. п.
Однако и посредством вполне натуральных персонажей разре-
шается все та же коллизия: страстного чаяния справедливости,
примиряющей все противоречия, и невозможности ее достичь,
хилиастических надежд и разочарований. И перед принцем Сигиз-
мундом, как перед Нищим в «Большом Зальцбургском театре жиз-
ни», та же дилемма: выбрать справедливость через насилие или
через самосовершенствование, и он выбирает позицию кроткую,
смиренную, полную искренней любви к ближнему. Но это позиция
идеалиста, в мире жестоких и грубых реалий она терпит крушение.
Надежду на возможность активного, воинственного гуманизма
воплощает в себе Детский король. Однако надежда эта слишком
неясна, расплывчата; Гофмансталю лишь смутно виделась какая-
то правда, какая-то чистая сила в юношеском ригоризме, однако
сколько-нибудь внятная идеологическая ориентация оставалась
ему чужда до конца.
При всей длительности и сложности своего развития творче-
ство Гофмансталя отмечено и чертами некого единства. Оно — в
соединении импрессионистической чуткости к деталям, нюансам,
мелким штрихам с упорной приверженностью к «старым истинам»,
к устойчивым, нередко мифологизирующим схемам, выработан-
ным европейской культурой прошлых веков. Оно — ив понимании
театра как волшебного действа, черпающего материал из жизни и
ее старинных, классических запечатлении, но выстраивающего
этот материал по законам чудесного сна, как в любимой Гофман-
сталем опере. Миф и сон — эти два стержневых понятия драматур-
гической поэтики Гофмансталя — вполне реализовались в его
последней пьесе-завещании, где принц Сигизмунд, взращенный
Предисловие
43
Евангелием и постигший душой его Дух, словно нащупывает связь
с мифологическим прообразом: его дважды искушают, как Хри-
ста, а охватившая его во дворце вспышка буйства напоминает дей-
ствия Христа, изгоняющего торгашей из храма. Подспудный и по
внешним соображениям столь неожиданный образ Христа возни-
кает здесь по той же причудливой, но неумолимой логике, что в
финале «Двенадцати» Блока, также выросшего из символизма.
Миф, предание, «старые истины» как ядро народной памяти
и народного единства постоянно возникают и в эссеистике Гофман-
сталя последних лет его жизни. На этих же понятиях спекулиро-
вала опошлившая и оплевавшая их нацистская идеология. Но, как
показывает этот пример, в одни и те же понятия можно вкладывать
разный, нередко противопложныи смысл. Творческие свершения
Гофмансталя, как отмечалось, неровны. Однако лучшая часть его
наследия сумела пережить и обольщения сиюминутного успеха и
заблуждения прижизненной недооценки. Титанические усилия
писателя, по количеству написанного опередившего всех своих
коллег в XX веке (выходящее сейчас полное собрание его сочине-
ний рассчитано на пятьдесят томов), не пропали даром. В звездные
часы творчества ему удались прорывы в «большое время», где соз-
дания духа живут долго, веками, пополняя своей энергией общече-
ловеческий и, к счастью, не иссякающий источник добра, истины,
красоты.
Ю. Архипов
*
Примечания
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е, т. 4, с. 471.
2 Broch H. Hofmannsthal und seine Zeit. Frankfurt a. M., 1964, S. 74.
3 Das Hermann-Bahr-Buch. Berlin, 1913, S. 304.
4 Musil R. Tagebucher, Aphorismen, Essays. Hamburg, 1959, S. 623.
5 Fischer B. Sie schreiben mir. Munchen, 1981, S. 78.
6 Ibid., S. 79.
7 Hofmannsthal H. von. Aufzeichnungen. Frankfurt a. M., 1959, S. 236.
8 Hofmannsthal H. von. Briefe. 1900—1907. Wien, 1937, S. 253.
8 Hofmannsthal H. von. Briefe. 1890—1901. Berlin, 1935, S. 189.
10 «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 1974, 2. Febr.
11 Hofmannsthal H. von. Aufzeichnungen, S. 107.
12 Kerr A. Die Welt im Drama. Bd. 2. Berlin, 1917, S. 326.
13 Hofmannsthal H. von. Prosa III. Frankfurt a. M., 1952, S. 354.
14 Ibid., S. 378.
15 Ibid.
16 Ibid., S. 64.
17 Hugo von Hofmannsthal in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, dar-
gestellt von Werner Volke. Hamburg, 1976, S. 88.
18 Der Briefwechsel Hofmannsthal — Wildgans. Hrsg. von J. A. von Bra-
disch. Zurich — Munchen — Paris, 1935, S. 52.
19 Kobel E. Hugo von Hofmannsthal. Berlin (West), 1970, S. 235.
20 Hofmannsthal H. von. Briefe. 1901—1909. Wien, 1937, S. 73.
21 Грильпарцер Ф. Пьесы. Л.—М., 1961, с. 529.
*
ДРАМЫ
*
Щ
'(ЖРЯ
/)Я$ч/ж1^
' 1
ш
i
'Я
1 fc
Смерть
Тициана
Фрагмент
Перевод
Е. Баевской
Действующие лица
ПРОЛОГ,
исполняемый Пажом
ФИЛИППО ПОМПОНИО ВЕЧЕЛЛИО,
по прозванию Тицианелло,
сын художника
джокондо
ДЕЗИДЕРИО
ДЖАНИНО,
шестнадцать лет, очень красив
БАТИСТА
АНТОНИО
ПАРИС
ЛАВИНИЯ,
дочь художника
КАССАНДРА
ЛИЗА
Действие происходит в 1576 году.
Девяностодевятилетний Тициан умирает.
На сцене — терраса принадлежащей Тициану
виллы в окрестностях
Венеции
*
Пролог, одетый пажом, появляется в прорези занавеса,
учтиво кланяется, усаживается на рампе, свесив в орке-
стровую яму ноги в розовых шелковых чулках и бледно-жел-
тых башмаках.
ПРОЛОГ
Ту пьесу, что актеры здесь представят
Ученым господам и милым дамам,
Я прочитал.
Мне подарил ее мой друг, поэт.
Однажды в нашем замке я спускался
По лестнице, любуясь на портреты,
Украшенные древними гербами
И звучными девизами; в них все
Чужое мне, но будоражит мысли,
Пьянит, и кажется — вот-вот заплачу...
Я загляделся на портрет инфанта —
Так бледен он, и юн, и рано умер...
Все говорят — я на него похож,
Он мне от этого еще дороже;
Здесь, обнажив кинжал, стою подолгу,
Как в зеркале, в портрете отражаясь:
Там та же грусть, улыбка и кинжал...
А в сумерках, когда кругом ни звука,
Мечтаю, будто я и сам инфант,
Давно умерший маленький инфант.
И вдруг — шаги, я в страхе, но из мрака
50
Гуго фон Гофмансталь
Является ко мне мой друг поэт,
Целует в лоб меня и говорит
Так важно и со странною улыбкой:
«Я знаю, друг мой, ты, свою мечту
На сцене представляющий, — для них
Ты лгун; претит им все, что непонятно,
Но мне понятен ты, мой брат-близнец».
И с тою же улыбкой он ушел.
А после получил я эту пьесу.
Она мне по душе, хоть и не так,
Как песни, что поют крестьяне летом,
Как женщина, иль детская улыбка,
Или букет жасмина в дельфтскои вазе.
Зато она, как я, напоминает
Инфанта на портрете: краски те же
И тот же отблеск неизжитой жизни,
Надежной старой мудрости, сомнений
И вечной вопрошающей тоски.
Бывает, белокурую головку
На улице приметишь невзначай,
Но вмиг она скрывается в портшезе,
И ты ее едва успел заметить.
(А ты ее любить бы мог, кто знает,
А может быть, кто знает, полюбил.)
И торопливое воображенье
Тебе портшез нарядный нарисует,
Внутри обивку розового шелка,
И золотую прядь, и ясный профиль,
Хоть, может статься, ты его в мечтах
Совсем преобразил... Но жаждет сердце...
Так эта пьеса нам рисует жизнь:
Неискушенной краскою желанья,
Замешанной на страсти и мечте.
*
Конец лета, полдень. К рампе полукругом спускаются сту-
пени, покрытые коврами и подушками, на которых распо-
ложились Дезидерио, Лнтонио, Батиста и Парис. Все мол-
чат. Ветер колышет портьеру в дверях. Чуть погодя из
дверей направо выходят Тицианелло и Джанино. Дезидерио,
Лнтонио, Батиста и Парис устремляются к ним, окружа-
ют, всем своим видом выражая тревогу и немой вопрос.
Недолгое молчание.
ПАРИС.
Все хуже?
джанино (вполголоса).
Очень плох.
(Плачущему Тицианелло.)
Крепись, Филиппо!
БАТИСТА.
Уснул?
джанино. О нет, он все еще в бреду.
Просил мольберт.
антонио. Храня его покой,
Вы просьбы не исполнили такой?
ДЖАНИНО.
Врач наказал не раздражать больного
И все давать, чего б он ни просил.
тицианелло (плачет).
День или два! Он на исходе сил...
52
Гуго фон Гофмансталь
ДЖАНИНО.
Да, к худшему должны мы быть готовы...
ПАРИС.
Не верю я, что Мастер обречен!
А лекарь ваш — не много смыслит он!
ДЕЗИДЕРИО.
Чтоб Мастер, светоч наш, сошел во тьму!
Кому ж на свете жить, как не ему?
БАТИСТА.
А сам он знает, что ему грозит?
ТИЦИАНЕЛЛО.
Нет, бредом опьянил его недуг:
Он выставил за дверь друзей и слуг
И трудится над новым полотном.
А девушки позируют втроем.
АНТОНИО.
Ужель ему еще по силам труд?
ТИЦИАНЕЛЛО.
В нем силы лихорадочно растут.
Я прежде не видал его таким:
Он вне себя, он словно одержим...
Из дверей направо выходит Паж, за ним — слуги.
Все встревожены.
ТИЦИАНЕЛЛО, ДЖАНИНО, ПАРИС.
Что? Что случилось?
паж. Мастеру угодно,
Чтоб принесли все старые полотна.
ТИЦИАНЕЛЛО.
Зачем?
паж. Он должен их увидеть снова
И, приглядевшись к ним, убогим, ранним,
Сравнить их с нынешним своим созданьем.
Он говорит — настал прозренья час
Смерть Тициана
53
И в живописи он постиг основы,
А до сих пор был жалкий богомаз...
Нести?
ТИЦИАНЕЛЛО.
Скорей! Не медля ни минуты!
Его страданья нестерпимо люты...
Слуги тем временем проходят по сцене и удаляются, на
лестнице к ним присоединяется Паж. Тицианелло тихонько
приподнимает портьеру и на цыпочках входит в дом.
Остальные тревожно расхаживают по сцене.
антонио (вполголоса).
Истерзанный, исполненный сомнений,
И это он — наш Тициан, наш гений!
ДЖАНИНО.
Его слова темны для нас; вчера
Поднялся он со смертного одра,
Таинственным восторгом обуян,
И вдруг воскликнул: «Жив великий Пан!»
Потом... Но я не понял остального.
Казалось, верит он, что сила слова
Истаявшую мощь его умножит
И уберечь от самой смерти сможет, —
Но тут прервался голос у больного.
тицианелло (возвращается).
Он стал спокойней: ни следа тоски,
На холст ложатся новые мазки,
Его лицо как будто просветлело,
Он с девушками шутит то и дело.
АНТОНИО.
Что ж, подождем и будем верить в чудо,
Покуда все не стало слишком худо.
Располагаются на ступенях. Тицианелло, прикрыв глаза,
играет волосами Джанино.
54
Гуго фон Гофмансталь
батиста (размышляет вслух).
Да, слишком. А потом непоправимо.
Непоправимость — вот исход всему,
Путь в пустоту, в безжизненную тьму...
А все мне кажется — несчастье мимо
Пройдет.
Молчание.
джанино. Устал я что-то, ,сам не свой.
ПАРИС.
Все южный воздух: духота и зной.
тицианелло (улыбается).
Бедняга! Не сомкнул ты нынче глаз.
джанино (опираясь на локоть).
Ты прав: не спал я ночью в первый раз.
А как ты догадался?
тицианелло. В тишине
Твое дыханье было слышно мне,
Потом ты встал, уселся на ступени...
ДЖАНИНО.
Сквозь дрему показалось мне, что нас
Зовет невнятный голос в отдаленьи.
Нигде покоя не было вокруг:
Бессонная, ворочалась природа,
Металась, вслушивалась в темный воздух
И к тайному стремила жадный слух;
И жидкий свет, рождаясь в желтых звездах,
Стекал по капле в чуткий черный луг;
И никли, полные густого сока,
Плоды на ветках; и луна высоко
Плыла, и родникам свой блеск дарила,
И дивные созвучия творила.
Но стоило укрыться ей за тучей —
Мне чудились шаги во тьме зыбучей.
Я встал. Ты рядом шевельнулся, спящий.
(Не прерывая рассказа, встает и склоняется к Тицианелло.)
Смерть Тициана
55
Вдруг зазвенело что-то — нежно, плавно,
Как будто мраморные руки фавна
Над зарослью ночной фиалки, в чаще
Уснувших лавров, ожили, — и сам
Поднес он флейту к мраморным устам.
Над изваяньем белоснежно-чистым
Гранаты никли в сумраке росистом;
Я слышал, как пльгает волной тяжелой
Их сладкий запах; и кружили пчелы
Над темно-пурпурным гранатным телом,
Спеша упиться соком перезрелым;
И мне в лицо повеяла прохлада,
Наполнив тьму дыханьем тихим сада;
И предо мною чьи-то очертанья
Прошелестели, призрачно-легки,
Я ощутил тепло чужой руки.
А в лунном свете тонкой филигранью
Переливался танец мошкары,
И пруд мерцал от призрачной игры
Теней и света. До сих пор не знаю,
Белела ль то во тьме лебяжья стая
Или тела купавшихся наяд;
И локонов девичьих аромат
Примешивался к запаху алоэ...
И это все передо мной в единой
Торжественной гармонии слилось,
Меня лишая слов, и чувств, и слез.
АНТОНИО.
Блажен, кто этой зоркости достиг
И пережил в ночи подобный миг.
ДЖАНИНО.
Я в полусне туда побрел, где с кручи
На пышный город открывался вид,
И видел, как в красе своей могучей
Он меж луною и прибоем спит.
56
Гуго фон Гофмансталь
Слыхал и прежде я, как в час ночной
Доносится оттуда смутный шорох,
Те призрачные звуки, от которых
То вдаль поманит, то кольнет тоской,
Но я не понимал... А нынче, глядя
На то, как ночь безмолвная плывет,
Я ощущал под этой синей гладью
Кровавый, злой, хмельной водоворот,
А крыши фосфорически мерцали,
И тайна отражалась в их зерцале.
И словно в озареньи я постиг:
Спит город — не уснули ни на миг
Страданье, ненависть, и кровь, и крик,
И жизнь. Да, жизнь сама. Она всесильна,
Но мы, живя, об этом забываем!
(На миг умолкает.)
И я не смог усталость превозмочь:
О, многое вместила эта ночь.
дезидерио (стоя у рампы, обращается к Джанино).
Взгляни на город, скованный дремотой,
Расцвеченный вечерней позолотой,
Весь в дымке, серый с розовым отливом.
Не правда ли — он кажется красивым
И ты не в силах им не любоваться?
Но помни: эта дымка — лишь покров.
Под ним уродство, пошлость, грязь таятся,
Кишит толпа безумцев и скотов.
Все, что от взора мудро мгла укрыла, —
Все это низко, мерзостно, бескрыло.
Там красоты не знающий народ
Свой мир словами нашими зовет;
Глупцы, чья жизнь пустых страстей полна,
У нас для них находят имена.
Нас даже сон не приближает к ним
Смерть Тициана
57
Затем, что мы, когда уснем, подобны
Лозе багряной, змеям золотым,
Горе, в чьих недрах трудятся титаны!
Они же спят, как слизни, как чурбаны.
антонио (привстает).
Вот почему поставили вдоль сада
Решетку — это Мастера приказ;
Вот почему в густом плюще ограда —
Пусть будет скрыт их мир от наших глаз.
парис (так же).
Здесь кроется искусство задних планов.
батиста (так же).
И лабиринтов искус изначальный,
И таинство мерцающего света.
тицианелло (прикрывая глаза).
Полузабытой песни отзвук странный
И темный стих старинного поэта —
Все, что исчезло и что ищем снова.
ПАРИС.
И в этом оправдание былого
И кладезь, красоту дарящий щедро, —
Но искушенность сушит эти недра.
Общее молчание.
Тицианелло беззвучно плачет.
джанино (ласково, осторожно).
Зачем ты так терзаешься? Негоже
Все время думать про одно и то же.
тицианелло (с печальной улыбкой).
Что делать! В этом суть и смысл страданья —
Все время думать об одном, покуда
Вся жизнь не потеряет оправданья.
И утешеньям не поправить дела:
Не верю я в бесхитростное чудо,
И все, что радует и мучит нас,
58
Гуго фон Гофмансталь
Мне видится без блесток и прикрас;
Душа молчит, и чувство оскудело.
Пауза.
ДЖАНИНО.
А где Джокондо?
тицианелло. Чуть забрезжил день,
Он выскользнул бесшумно за ворота;
Ревнивая любовная забота
Его лицо мрачила, словно тень.
Пажи проносят по сцене две картины — «Венеру с цвета-
ми» и «Большую вакханалию»; ученики поднимаются, скло-
няют головы, снимают береты. Молчание. Все стоят.
ДЕЗИДЕРИО.
Кто унаследовать сумеет это
Проникновенье в глубину предмета?
Кто сердцем так по-детски мудр и прям?
АНТОНИО.
Кто будет удостоен посвященья?
БАТИСТА.
Кто знаньем овладеет без смущенья?
ПАРИС.
Художники ли мы — кто скажет нам?
ДЖАНИНО.
И неподвижный лес, немой и сирый,
Где в мертвой чаще спали родники,
Воспрял по манию его руки;
Он населил богами хаос мира
И увидал свирель в руках сатира,
Услышал, как ее тоскливый зов
К пастушкам властно манит пастухов.
БАТИСТА.
Постигнув облака в их зыбкой сути,
Он придал смысл небесной буйной смуте:
Их мглистую белесую безбрежность
Смерть Тициана
59
Преобразил в мечтательность и нежность;
И тучам серебристым, и пред бурным
Иссиня-черным с контуром пурпурным,
И розовым в закатном полыханьи
Он смысл придал, и душу, и дыханье.
Он из морских утесов обнаженных,
Из волн, покрытых пеною кипящей,
Из тишины в оцепенелой чаще,
Из плача сосен, молнией сожженных,
Извлек их человеческую суть
И в душу ночи дал нам заглянуть.
ПАРИС.
Нас пробудил он, дремлющих в ночи,
Проникли нам в сердца его лучи,
Он обострил наш ум и наши чувства
И научил тому, что жизнь — искусство;
Прекрасному отверзлись наши взоры;
Мы зрители, но мы же и актеры.
И женское лицо, и роскошь сада,
И нежность шелка, и мерцанье звезд,
И дол в цвету, и стройный легкий мост,
И над ручьем лукавая наяда,
И все, что снится нам в полночный час
И что при свете дня пленяет нас, —
Все это, следуя его урокам,
Мы видели его духовным оком.
АНТОНИО.
Как буйной пляске нужен хоровод,
А карнавалу — искр водоворот,
Как чутко дремлющей душе нужна
Животворящей музыки волна,
А женщине — зеркальное стекло,
А всем растеньям — солнце и тепло,
Как нужен глаз, орудье красоты,
Чтобы вобрать в себя ее черты,
60
Гуго фон Гофмансталь
Так миру Тициан необходим.
Природа распростерлась перед ним,
И рвется вопль из дремлющей груди:
«Я жажду вакханалии! Приди!»
В это время из дверей тихо выходят три девушки, оста-
навливаются, не замеченные никем, кроме Тицианелло,
который стоит справа, печальный и безучастный, и слу-
шают слова Антонио. УЛавинии белокурые волосы, убран-
ные в золотую сетку; на ней — богатое платье, какое
носили знатные венецианки. Девятнадцатилетняя Кас-
сандра и семнадцатилетняя Лиза — обе в простых,
несколько стилизованных пеплумах из белого струящегося
виссона; на обнаженных руках — золотые браслеты в
форме змей; сандалии и пояса тоже золотые. Кассандра
грациозна, волосы пепельно-белокурые. У Лизы в черных
волосах — бутон чайной розы. В ней есть что-то мальчи-
шеское, как в Джанино — нечто девичье. За ними из дверей
выходит Паж, в руках у него — высокий серебряный кувшин
с вином и кубок.
АНТОНИО.
И если ввечеру на сонный сад
Умеем обратить любовный взгляд...
ПАРИС.
И если парус на лазури волн
Для нас прекрасен и значенья полн...
тицианелло (обращается к девушкам, приветствуя их легким
поклоном; все оборачиваются к ним).
И если ваших кудрей блеск и нежность,
И кожи аромат и белоснежность,
И золотой браслет вокруг запястья
Пленяют нас, как музыка и счастье, —
Нам зоркость эта Мастером дана...
(С горечью.)
А им, толпе, неведома она.
Смерть Тициана
61
джанино (девушкам).
Он там один? И никого не звал?
ЛАВИНИЯ.
Нет, не входите, так он приказал.
ДЕЗИДЕРИО.
Его душа трудом изнурена,
Ему необходима тишина.
ТИЦИАНЕЛЛО.
Пускай бы смерть пришла к нему сейчас,
Чтоб он в прекрасном забытьи угас!
ПАРИС.
Но что с картиной? Вдруг он не успеет?
АНТОНИО.
О чем она?
БАТИСТА.
Кто там изображен?
ЛАВИНИЯ.
Мы вам расскажем, что задумал он.
Меня он пишет в виде божества,
Венеры, что людей пьянит красою.
КАССАНДРА.
Я — с влажною распущенной косою,
А губы улыбаются едва.
ЛИЗА.
А я держу спеленатую куклу,
Укутанную с головы до пят.
Та кукла — Пан; он тоже божество,
Я с робкою надеждой на него
Гляжу:
В нем — тайна жизни и всего, что живо.
Он, как дитя, к моей груди прильнул,
И ветерка вечернего порывы
Доносят смутный животворный гул.
ЛАВИНИЯ.
Меня зеркальный отражает пруд.
62
Гуго фон Гофмансталь
КАССАНДРА.
К моим ногам густые травы льнут.
ЛИЗА.
И все — в лучах заката золотого.
Назавтра будет полотно готово.
ЛАВИНИЯ.
В картине славя жизни торжество,
Он нам сказал, где хоронить его.
В лесу, в тени зеленых темных крон,
В седом песке он будет погребен,
В той чаще, где бездумно, без страданья
Цветенье переходит в увяданье,
Где благодатное царит забвенье,
Там, где морская сонная струя
О берег бьется пульсом бытия.
ПАРИС.
Ему во мраке скрыться суждено,
Нам — жизнь впивать, как светлое вино,
В котором живо творческое пламя;
Где красота — там он пребудет с нами!
ДЕЗИДЕРИО.
Но Мастер, видя красоту во всем,
Всечасно воплощал ее в твореньях,
А мы, бесплодные, бессильно ждем,
Мечтая о великих откровеньях...
И если нас не осенит извне,
Мы дни влачим в пустом угрюмом сне.
Когда б один из нас любви гнетущей
Не испытал, сгонявшей с щек румянец;
Когда б другой на всякий день грядущий
Не наводил надежды яркий глянец;
Когда бы не боялся втайне каждый
Невесть чего и не томился жаждой
Невесть чего; когда бы идеал
Невесть какой нам душу не пронзал;
Смерть Тициана
63
Когда бы нас мечты не вдохновляли
О том, чего дождемся мы едва ли;
Когда бы все, чему сужден конец,
Нам болью не тревожило сердец, —
Тогда бы жить нам в сумеречной мгле
Без цели и без смысла на земле...
Но Мастера минует суета:
Где он ступил — там смысл и красота. 1892
*
1V ;
■'. >Л'Ъ- '
■^
(г
■;Ш
WTt
штФШЯ»:
/
Глупец
и Смерть
Перевод
Е. Баевской
Действующие лица
СМЕРТЬ
КЛАУДИО,
дворянин
ЕГО СЛУГА
МАТЬ КЛАУДИО
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ КЛАУДИО
ДРУГ ЮНОСТИ
Место действия —
дом Клаудио.
Костюмы по моде
двадцатых годов
прошлого
века
*
Кабинет Клаудио в стиле ампир. На заднем плане справа и
слева — большие окна, в середине — застекленная дверь на
балкон, с которого ведет в сад легкая деревянная лестница.
Слева — белая двустворчатая дверь, справа — точно
такая же дверь, ведущая в спальню, она завешана зеленой
шелковой портьерой. У левого окна — письменный стол,
перед ним — кресло. У колонн — стеклянные витрины с
древностями. Справа у стены — готический темный рез-
ной сундук, над ним развешаны старинные музыкальные
инструменты. На стене — потемневшая, почти черная
картина кисти итальянского мастера. Светлые обои, леп-
нина, позолота.
клаудио (сидит один у окна, освещенный лучами заката).
Блестят на солнце горные хребты,
Закатным влажным блеском пламенея;
А тучи алебастрово-чисты
И только по краям небес темнее,
Как те, что живописцы в годы оны
Изображали возле ног Мадонны.
А тень горы в долине пролегла,
Тускнеет свежий блеск лугов зеленых,
И лишь вершина все еще светла.
О, как близки они душе моей,
Те, кто вдали, в горах, обрел приют;
Все их богатство — пастбище, ручей,
Им не в обузу каждодневный труд;
68
Гуго фон Гофмансталь
И ветер, будоража сонный луг,
Шурша и шаря поверху дубравы,
Их будит на рассвете, а вокруг
Роятся пчелы, тонко пахнут травы.
Природа им себя препоручила,
Мечту дала им от своих щедрот,
И счастье в смене слабости и силы
Им иногда на краткий миг мелькнет.
Но вот уже багровый тонет шар
В морском зеленоватом хрустале;
Вот солнце отблистало; дымный жар
Клубится по темнеющей земле;
И дремлют города с прибоем рядом,
Позволивши укачивать наядам
Своих неукротимых сыновей
В могучих колыбелях кораблей.
А те по неизведанным пространным
Морским путям уходят вдаль, дерзки;
Их полнит море гневом первозданным,
Но лечит от тщеславья и тоски.
Я смысл и благо там, вдали, провижу,
Туда тянусь, туда стремятся думы,
Но если к близкому свой взгляд приближу —
Тут все несносно, скучно и угрюмо;
И жизнь моя, иссохшая в неволе
Пустой мечты, невыплаканной боли,
Ткет паутину в этих залах гулких,
Плутает в узких городских проулках.
(Встает.)
Все зажигают в комнатах огни;
Кто хмелем, кто слезами
Сознанье опьянив, они
Творят себе свой мир убогий сами.
И любят ближнего, и помнят о далеком,
А если с кем-нибудь беда,
Глупец и Смерть
69
Его приветят утешеньем, не попреком...
Я ж никого не мог утешить никогда.
Они и смех и плач нехитрой речью
Исторгнут, если захотят.
Им незачем в тоске нечеловечьей
Ломиться в семь тяжелых врат.
Но что о жизни ближних мне известно?
Я прожил с ними много лет,
Но сознавал: мне в этой жизни тесно,
Врасти в нее — сил и охоты нет.
Среди людей я не умел забыться
И к суете их радостей и бед
Не мог я, безъязыкий, приобщиться.
И никогда живой целебной влаги
Я не пил с милых уст любимой,
Не уходил, подобный нищему бродяге,
Живым отчаяньем гонимый.
И если вдруг в природе благодатной
Я подмечал какой-то знак невнятный,
Мой разум, зоркий, памятливый страж,
Ему давал без колебаний имя,
А там сопоставлял его с другими
И плоть преображал в пустой мираж.
Страданья тоже я не знал! Нещадно
Его сжигала мысль моя дотла.
О, как бы я им упивался жадно,
Задень меня хоть край его крыла!
Но я сникал, к себе питая жалость,
И чувствовал не горе, а усталость...
(Пугается.)
Темнеет. В мыслях все одно и то же.
Как дети века меж собой несхожи!
Но я устал. Пожалуй, время спать.
Слуга вносит лампу и уходит.
70
Гуго фон Гофмансталь
Вот в свете лампы заблистал опять
Бездушный хлам, хранимый взаперти.
Здесь путеводную искал я нить,
Измучившись от поисков пути
В ту жизнь, что был не в силах не любить.
(Перед распятием.)
К твоим стопам израненным, Творец,
Изваянный из кости драгоценной,
Все припадали мы в мольбе смиренной,
Чтоб пламенем насытить хлад сердец.
Но не давалось нам святое пламя,
И страх и стыд овладевали нами.
(Перед старинной картиной.)
Джоконда, ты сияешь мне с холста
Одушевленной, теплой красотою;
Загадочные строгие уста
И ясный взгляд, овеянный мечтою...
Но мне о жизни говорила ты
Лишь то, что я вложил в твои черты!
(Отворачивается. Стоя перед сундуком.)
Вы, кубки, ваши хрупкие края
Дыханье стольких губ в себя вобрали;
Вы, лютни, как вы некогда играли
И сколько душ спасли от забытья!
Как жаждал я поддаться вашим чарам
И трепетать пред этим блеском старым!
Вы, деревянные резные пустяки,
Пред вами замирают знатоки;
Вы, ангелы, грифоны, жабы, фавны,
Златые ветви, сказочные птицы, —
Пьянящие и грозные вещицы,
Творенья чьей-то страсти своенравной,
Созданья восприятия живого,
Вы словно поднялись со дна морского
И формой пойманы, как рыба сетью!
Глупец и Смерть
71
Себе на горе вас решил призреть я,
Изысканностью вашей дорожа:
Сквозь внешний лоск наружу проступила
Вся ваша самовластная душа;
Как фурии, вы завладели мною,
Весь белый свет окутав пеленою,
На сердце напуская злую порчу
И в ней губя любой живой росток...
Я заблудился в красоте поддельной:
Ослепший, даже солнца я не видел,
Оглохший, трели не слыхал свирельной.
И, как давно привычные вериги,
Едва от света отличая тьму,
Влачил я, сам не зная почему,
Жизнь, словно взятую взаймы из книги,
В которую вникал, но смысл понять не мог,
Меж тем как суть ее таилась между строк.
А счастье и печаль в моей судьбе
Имели смысл не сами по себе —
В них только отзвук жил грядущих лет
И высшей жизни отраженный свет.
Так долго я плутал в любви, в печали,
Боролся с тенью, тратил силы зря
В забавах, что меня не исцеляли,
И все мечтал, что близится заря.
Я впился взглядом в жизнь, и мне открылось,
Что часто смелость не спасает в битве,
А быстрота — в погоне; что и горе
И счастье растревожить нас бессильны;
Что истины нельзя достигнуть в споре
И что истоки наших грез темны,
А счастье — бег времен и плеск волны!
Отягощенный опытом больным,
Укрывшись за стеной высокомерья,
Не жалуясь, один живу теперь я,
72
Гуго фон Гофмансталь
Для суеты людской неуязвим.
Я людям не внушаю недоверья —
Я попросту неинтересен им.
Входит Слуга, ставит на стол тарелку вишен и хочет
закрыть балконную дверь.
Не затворяй! Чего ты испугался?
СЛУГА.
Ох, ваша милость не поверит мне.
(Вполголоса, боязливо.)
Они теперь укрылись в павильоне.
КЛАУДИО.
Да кто — они?
слуга. Простите, я не знаю.
Их там толпа; какой-то жуткий сброд.
КЛАУДИО.
Ах, нищие?
слуга. Не знаю.
клаудио. На засов
Запри скорей садовую калитку
Да отправляйся спать. Ты мне мешаешь.
СЛУГА.
Вот то-то и оно: ведь я уже
Калитку запирал...
клаудио. Так в чем же дело?
СЛУГА.
Им удалось проникнуть в сад. Сидят —
Кто возле каменного Аполлона,
Кто на скамье, кто на краю колодца,
А кто-то сфинкса оседлал — отсюда
Его из-за деревьев не видать.
КЛАУДИО.
Мужчины?
слуга. Есть и женщины. И все ж
Не нищие они, но старомодны,
Как щеголи с картинок стародавних.
Глупец и Смерть
73
Смотреть на них — мороз дерет по коже,
Когда они сидят да сквозь тебя
Глядят в пространство мертвыми глазами.
Какие ж это люди? Ваша милость,
Уж вы простите, ни за что на свете
Я даже близко к ним не подойду.
Даст Бог, они к рассвету уберутся.
А я — коль ваша милость мне позволит —
Запру входную дверь да покроплю
Замбк святой водою, потому что
Таких людей не видывал я сроду,
Да и глядят они не по-людски.
КЛАУДИО.
Ступай и делай все как знаешь.
Слуга уходит. Клаудио в задумчивости ходит по комнате.
За стеной тоскливо и трогательно играет скрипка, сперва
издалека, потом постепенно все ближе и наконец полным,
теплым звуком, словно из соседней комнаты.
клаудио. Скрипка?
Как странно душу мне она волнует!
Лакей смутил меня нелепой речью...
А все равно — в мелодии такой
Мне что-то чудится нечеловечье.
(Вслушивается, повернувшись направо.)
Лишь только эти звуки ненароком
Услышал я — воспрянула душа,
Пылая состраданием высоким,
Надеждой беспредельною дыша;
И жизнь моя безудержным потоком
Бурлит, плотины ветхие круша,
Как будто милой матери приход
Иль женщины, что встарь меня любила,
Меня теплом и лаской обдает,
Во мне бушует молодая сила:
Я снова тот юнец в расцвете вешнем,
74
Гуго фон Гофмансталь
Беспечно мнивший много лет назад,
Что, окрылен предчувствием нездешним,
Он воспарит превыше всех преград.
И вновь ко мне вернулись годы странствий,
Цветенье роз и колокольный звон,
Вновь мир, нездешним светом озарен,
Влечет к себе в своем непостоянстве.
И вещи вновь неповторимо живы
И вновь мне близки, как в былые дни, —
Какие я знавал тогда порывы,
Как жил, всему живущему сродни!
Поток любви вливался в сердце мне —
Тот, что питает все сердца на свете;
Я счастлив был; теперь мгновенья эти
Мне выпадают разве что во сне.
Играй, играй, неведомый скрипач,
Тревожь меня и душу береди,
Осмысли, осветли, переиначь
Тот путь, что я оставил позади.
Недаром вновь былой огонь горяч
И вновь наружу рвется из груди!
Как будто облегчают эти звуки
В их первозданно-детской глубине
Обузу древней, путаной науки,
Которая на плечи давит мне.
И слышится мне в благовесте плавном
Иного бытия предвосхищенье,
И я тянусь к значениям неявным
Вещей в их будничном круговращенье.
Музыка обрывается.
Что, доиграл? А я, охвачен дрожью,
В его игре почуял искру Божью!
Но он, невольно мне явивший жизни благо,
Смиренно спину гнет за медный грош;
Глупец и Смерть
75
Он просто нищий музыкант-бродяга.
(У окна справа.)
Здесь никого не видно. Я взгляну,
Не подошел ли он к тому окну...
(Подходит к дверям направо.)
Между тем портьера тихо раздвигается, и на пороге возника-
ет Смерть со смычком в руках, со скрипкой у пояса. Смерть
безмолвно смотрит на Клаудио, тот в ужасе отступает.
Но что за темный, непонятный страх?
Так нежно пела мне твоя скрипица,
А гляну на тебя — темно в глазах,
Кровь стынет в жилах, голова мутится...
Уйди! Ты — Смерть. Кто звал тебя? Уйди!
Уйди! Мне страшно. Крикнуть — нету сил.
(Падает.)
Дыханье пресекается в груди.
Тебя не звали. Кто тебя впустил?
СМЕРТЬ.
Восстань и страх природный утиши.
Я не скелет, как мыслят суеверы.
Знай — пред тобою божество души,
Великий родич Вакха и Венеры.
Я реял вкруг тебя, когда порханьем
Опавшего листка ты был прельщен:
Так овевается моим дыханьем
Все, что созрело, все, чей путь свершен.
И если чувств безудержным порьюом
Захлестывал тебя сердечный шквал,
И если ты в прозрении счастливом
В обыденном безмерность постигал
И, слившись с хороводом бытия,
Вдруг понимал, что вся земля — твоя,
Во всякий час великий, роковой,
Когда не сладить с бьющей тело дрожью, —
76
Гуго фон Гофмансталь
Знай: властною, незримою рукой
Я душу вечную твою тревожу.
КЛАУДИО.
Добро. Входи, я пересилю страх.
(Недолгое молчание.)
И все ж — зачем ты у меня в гостях?
СМЕРТЬ.
Я цель одну преследую всегда.
КЛАУДИО.
Но мне-то не пора еще туда!
Да, падает листва, но не забудь:
Иссяк в ней прежде сок, она увяла,
А я и не жил-то нимало!
СМЕРТЬ.
Подобно всем ты совершил свой путь.
КЛАУДИО.
Как те цветы, что, вырвав из земли,
Влачит и треплет паводка струя,
Дни юности промчались, протекли,
А я и сам не знал, что это — жизнь моя.
Я помню, как, в ее преддверьи стоя,
Тоской и сладким ужасом объят,
Я ждал, что, испепелены грозою,
Падут, как в сказке, створы тяжких врат.
Гроза не грянула... И все ж в ограду
Я, чая посвящения, проник,
Но, очарованный, забыл в тот миг,
Кто я такой и в чем ищу отраду.
И, потрясенный, в сумерках плутая,
Боль и растерянность в душе питая,
Я ощущал всечасно и везде,
Что сердце — несвободно, дух — в узде.
Я не изведал в бурях освеженья,
Не плыл, волною грозною гоним,
Я Бога не встречал, не бился с ним
И не приял Его благословенья.
Глупец и Смерть
77
СМЕРТЬ.
Вам не дано судьбы иной:
Ты по-земному прожил век земной.
Душа дается каждому из вас,
Чтоб хаос озарить, царящий в мире,
И привнести в природу смысл и связь,
И вертоград ваш распахнуть пошире
Навстречу горестям, трудам, надежде.
Стыдись, что этого не понял прежде!
Вы меж собою судьбами сплелись,
Вас тяготы души возносят ввысь,
И плач в ночи, и тяжкий гнет истомы,
И разочарованья вам знакомы;
Все это жизнь — гнев, жалобы, проклятья...
Но кто созрел — падет в мои объятья.
КЛАУДИО.
Я не созрел — дай мне остаться здесь.
Я удержусь от пошлых жалоб;
Клочка земли для счастья мне достало б,
Припал бы я к нему, отринув спесь.
Я вышел из-под власти темных чар;
Оставь меня — обрел я к жизни дар!
Порыв безудержный владеет мною:
Я полюбить сумел бы все земное.
Поверь: отныне в людях буду видеть
Не кукол, не бездумное зверье —
Нет, я им сердце распахну свое,
У них учась любить и ненавидеть.
Я преданности изучу науку,
Основу жизни... Прошлое — на слом!
С добром сроднюсь и не смирюсь со злом
И счастье через них приму и муку.
И оживет толпа бездушных схем!
Мне люди будут на пути встречаться,
Я всех пойму, и я поверю всем,
78
Гуго фон Гофмансталь
И подчинять смогу, и подчиняться.
(Вглядывается в неподвижное лицо Смерти, продолжает с
нарастающим ужасом.)
Ты думаешь, я в жизни много раз
Любил и ненавидел... Но пойми:
Лишь крохи подбирал я за людьми —
Притворство да набор пустейших фраз!
(Рывком выдвигает ящик, выхватывает пачку старых
писем.)
Вот письма, погляди: любовный пыл,
Все наши клятвы, жалобы, печали;
Ты веришь, будто впрямь я пережил
Все это... все, о чем мы с ней писали?
(Швыряет рассыпающуюся пачку под ноги Смерти.)
Так вот тебе вся жизнь любви моей:
Все я, я, я, — не правда ль, небогато?
Была мне прихоть мерою страстей,
Меня смешило все, что сердцу свято!
Вот, полюбуйся! Загляни сюда!
Где смысл? Где счастье, боль, любовь, вражда?
СМЕРТЬ.
Глупец! Был и остался ты глупцом!
Я дам тебе урок перед концом.
Стой там, и молча слушай, и пойми,
Что все, кто жил на свете, обрели
Земные чувства от самой земли,
Лишь ты пустым остался меж людьми.
Смерть несколько раз проводит смычком по струнам; стру-
ны призывно звучат. Смерть стоит у двери, ведущей в спаль-
ню, на переднем плане справа; Клаудио — у левой стены в
полутьме. Из двери направо выходит Мать. Она еще не ста-
ра, одета в длинное платье из черного бархата и черный
бархатный чепец с белой оборкой, обрамляющей лицо. В
тонких бледных пальцах — белый кружевной платок. Она
тихо переступает порог и бесшумно обходит комнату.
Глупец и Смерть
79
МАТЬ.
Как в этой комнате страданьем сладким
Благоухает все, точь-в-точь как прежде,
Когда я на земле еще жила, —
Бесплотным, нежным запахом лаванды;
Здесь пахнет поровну заботой, болью
И горестью. Что в этом понимают
Мужчины?
(Перед сундуком.)
Вот он, острый этот угол!
Сын об него висок разбил до крови:
Такой уж был шалун и непоседа —
Все бегал да скакал... А вот окно:
Когда тревога спать мне не давала,
Я перед ним простаивала часто,
Чтоб услыхать сыновние шаги,
А он не шел, и било два часа,
А после три, а там уже светало.
Да, часто... Он и знать не знал об этом,
А я-то целый день была одна;
Рукам хватало дел: цветы полить,
Начистить ручки медные до блеска,
Подушки выбить — так и день пройдет,
А голова свободна... И меня
Затягивал круговорот предчувствий,
Неясных и болезненных мечтаний —
Всего, что непостижной материнской
Природе испокон веков присуще
И родственно самой первооснове
Земли. Но мне теперь уже не должно
Вдыхать земной, запретный, сладкий воздух,
Страданьем напоенный и тоской.
И я уйду, уйду...
(Уходит в среднюю дверь.)
клаудио. О мама!
80
Гуго фон Гофмансталь
смерть. Тише.
Ты не вернешь ее.
клаудио. О, где ты, мама?
Я, помню, губы поджимал всегда,
Жалея для нее приветных слов,
А нынче был бы целовать готов
Я ноги ей... Верни ее сюда!
Ей здесь побыть хотелось! Почему,
Чудовище, ты шлешь ее во тьму?
СМЕРТЬ.
Что было ранее твоим, то ныне
Мое. И мне мое оставь.
клаудио. Ни разу
Ее не понял я! О, как я мог
Не понимать, что каждый корешок
Души к ней тянется, что от нее
Живительной любви исходит ток,
Земного счастья, скорби и тоски
Блаженное целебное питье!
Не обращая внимания на его жалобы, Смерть наигрывает ме-
лодию старинной народной песни. Медленно входит Девуш-
ка; на ней — простое платье в крупных цветах, на ногах —
туфли с лентами, на шее — косынка, голова непокрыта.
ДЕВУШКА.
Ты помнишь, как нам было хорошо?
Из-за тебя наплакалась я после,
Но и печаль со временем проходит!
Мне выпало немного светлых дней,
Зато они прекраснее, чем сказка.
Цветы перед окном, мои цветы,
Мой шаткий старенький спинет и шкаф,
В котором письма от тебя лежали
И все твои подарки... И со мной
Все это говорило — ах, не смейся! —
Глупец и Смерть
81
Любимыми и чуткими губами.
Когда под вечер дождик проливался,
Ты помнишь, как мы у окна вдыхали
Цветов измокших запах? Все прошло,
Все умерло, что жило в нас в ту пору!
Все это в той же крохотной могиле,
Где наша упокоилась любовь.
Как было хорошо! Ты виноват,
Что было все так хорошо, и в том,
Что после взял да выбросил меня,
Точь-в-точь как наигравшийся ребенок
Бросает надоевшие цветы.
А удержать тебя я не умела.
(Недолгое молчание.)
Когда ты мне последнее письмо,
Недоброе, прислал — о, как хотелось
Мне умереть, но не в укор тебе,
Поверь! Хотела я тебе в ответ
Послать письмо прощальное, без жалоб,
Не слишком грустное, а просто чтобы
Ты заскучал по мне и напоследок
Немного о любви моей всплакнул.
Но я не написала, нет. Зачем?
Ведь я не знала, много ли души
Потратил ты, любимый мой, на то,
Что в бедную, простую жизнь мою
Вносило столько блеска, лихорадки
И грез блаженных среди бела дня.
Ведь жалостью любви не возвратишь
И не разжечь слезам страстей потухших,
И от любви не умирают. После,
Наплакавшись, нагоревавшись вволю,
Я смерти дождалась и попросила,
Чтоб разрешили мне в твой смертный час
Прийти к тебе — не призраком зловещим,
82
Гуго фон Гофмансталь
А ласковым, простым воспоминаньем,
Как будто, кубок осушив до дна,
Ты аромат его вдыхаешь снова.
(Исчезает.)
Клаудио закрывает лицо руками. Едва она ушла, появля-
ется Мужчина, с виду ровесник Клаудио. На нем — измя-
тый и запыленный дорожный костюм. Из его груди слева
торчит деревянная рукоять ножа. Мужчина останавли-
вается на середине сцены и обращается к Клаудио.
МУЖЧИНА.
Ты жив еще, безудержный игрок?
Горация читаешь, упиваясь
Бесчувственной иронией его?
Меня пленил ты утонченной речью
И тем, что нас влекло одно и то же.
Ты говорил, что я в тебе бужу
Таинственное дремлющее чувство;
Так ветер, веющий в ночи, порой
Напоминает сердцу о далеком.
Да, ты звенел, как струны на ветру,
Но только вместо ветра ты нуждался
В любовном чьем-нибудь дыханьи, скажем —
В моем. С тобою долго мы дружили.
Дружили? Да, болтали до зари,
Одних и тех же видели знакомых,
За женщиной одною волочились;
Как раб и господин, владели вместе
Жилищем, псом, носилками и плетью:
Ты жил в дому — а я в нем прозябал;
Ты нежился в носилках — у меня
Горели плечи; пес, тебе на радость,
Сквозь обруч прыгал — я служил обоим!
Сокровища новорожденных чувств
Ты из моей души беспечно черпал
Глупец и Смерть
83
И для забывы в небо их метал;
Ты покорял, ты был на дружбу скор —
Я подавлял душевные движенья,
Сжимая зубы; первому влеченью
Ты следовал беспечно — я робел,
Немотствовал и застывал на месте.
Мы повстречали женщину. Меня
В ней привлекло, пронзило, как недуг,
Все то, что потрясенною душой
Мы постигаем, до конца отдавшись
Высокой благодати созерцанья,
Все, что полно утешною тоской
И свежим блеском, что из темноты
Зарницею сверкает... Это все
Тебя задело также за живое!
«Ведь я и сам таков, и потому
Мне в ней по вкусу эта томность, слабость,
И терпкое величие, и эта
Разочарованность души незрелой».
Ты помнишь, как мне в этом признавался?
В ней, дескать, все пришлось тебе по вкусу!
А я ее любил превыше жизни...
И, наигравшись ею, словно куклой,
Ты отдал мне ее, но облик милый
Мне виделся уже совсем иным:
Черты лица поблекли, взгляд потух
И кудри потускнели, развились;
Ты отдал мне безжизненную маску,
Испив до дна ее очарованье
И превратив в ничтожество ее.
За это я тебя возненавидел,
Верней, давнишней ненависти скрытой
Дал волю — и ушел с твоей дороги.
Надломленный, я был судьбой подхвачен,
Она мне цель и силы в грудь вложила.
84
Гуго фон Гофмансталь
Еще твоя губительная близость
Не умертвила всех моих порывов,
И вознести судьба меня успела
К высокой терпкой смерти от клинка;
Мой труп швырнули в общую могилу,
Где он истлел во имя тех идей,
Которым до тебя и не добраться.
Но трижды я блажен перед тобой:
Ты всем чужой и все тебе чужие.
(Уходит.)
КЛАУДИО.
Да, я им чужд, и чужды мне они.
(Медленно распрямляется.)
Как незадачливый актер на сцену
С затверженною репликой выходит,
Чтоб роль отбарабанить и уйти,
Ни в пьесу не вникая, ни игрой
Не увлекая публику в театре,
И безучастный к своему искусству, —
Так в жизни я исполнил роль свою.
Но почему, скажи мне, почему
Прозрел я лишь теперь, с твоим приходом,
И понял, как полна могла быть жизнь,
Промчавшаяся мимо, год за годом?
Зачем о жизни, точно о высоком,
Прекрасном идеале мыслим с детства,
А после только дрожь воспоминаний
Нам достается в скудное наследство?
И почему ты скрипкою своею
Нам душу не тревожишь всякий час,
Духовных скрытых сил не будишь в нас,
И, как трава в засушливые дни,
Неощутимо вянут в нас они?
О, как хочу я слушать голос твой,
Не заглушённый здешней суетой!
Глупец и Смерть
85
Да, я готов, вступай в свои права
И стань мне жизнью, Смерть, коль жизнь была мертва!
Но что есть Жизнь? что Смерть? — не знаю до сих пор,
И Жизнью звать тебя мне, право, не в укор:
В тебе я чую жизни средоточье,
А жизнь была лишь сон и забытье.
Что мне, тебя узнавшему воочью,
Прельстительная призрачность ее?
(После краткого раздумья.)
Быть может, это все предсмертный всплеск
Сознания, остылой крови смута,
Но жизнь впервые мне свой смысл и блеск
Явила — о прекрасная минута!
И если встретил свой последний день я,
То в смерти мне грядет освобожденье
От жизненной бесцветной круговерти:
Себя обрел я на пороге смерти.
Как спящего упругая волна
Пригрезившихся ощущений будит,
Вот так и я от жизненного сна
Разбужен был, а явью Смерть пребудет.
(Падает мертвым к ногам Смерти.)
смерть (медленно отступает, качая головой).
Как непонятны эти существа,
Что облекают несказанное в слова,
Распутывают вязь противоречий,
В непостижимом уловляют суть
И в бесконечной тьме находят верный путь!
(С последними словами исчезает в центральных дверях.)
В комнате тишина. Видно, как за окном проходит Смерть,
играя на скрипке; следом — Мать, Девушка, а затем фигу-
ра, чем-то напоминающая Клаудио.
1893
*
Имярек
Представление о смерти
богатого человека
Перевод
Т. Щепкиной-
Куперник
*
Действующие лица
СМЕРТЬ
ДЬЯВОЛ
ИМЯРЕК
МАТЬ ИМЯРЕКА
ДОМОПРАВИТЕЛЬ
ДРУГ ИМЯРЕКА
БЕДНЫЙ СОСЕД
ДОЛЖНИК
ЖЕНА И ДЕТИ ДОЛЖНИКА
ЛЮБОВНИЦА ИМЯРЕКА (СТРАСТЬ)
ТОЛСТЫЙ РОДСТВЕННИК
ТОЩИЙ РОДСТВЕННИК
НЕСКОЛЬКО МОЛОДЫХ ДЕВИЦ
НЕСКОЛЬКО СОТРАПЕЗНИКОВ ИМЯРЕКА
СТРАЖИ
ЧЕЛЯДЬ
МУЗЫКАНТЫ
МАММОН
ДЕЯНИЯ ИМЯРЕКА
в виде Женщины
ВЕРА,
также в виде Женщины
МОНАХ-ДОМИНИКАНЕЦ
ПРОЛОГ.
(Выступает вперед и поясняет представление.)
Прошу внимания у вас:
Представим действо мы сейчас.
Его названье — «Как свой век
Кончает каждый человек».
Игра покажет вам отменно,
Как все на этом свете — бренно.
Слова понятны, мысль ясна,
Но в ней сокрыта глубина.
Найдет здесь всякий поученье,
А не пустое развлеченье.
имярек (выходит из своего дома, за ним — Слуга).
Беги скорей: пускай придет
Домоправитель за приказом.
Слуга уходит.
Велик моим богатствам счет,
Владений не окинешь глазом.
Мой дом красив, мой дом богат,
Его другие не затмят,
Он всех заметнее в округе;
А в нем — покорные мне слуги,
В ларцах несметное добро,
И золото, и серебро.
К тому ж казна моя растет;
90
Гуго фон Гофмансталь
Поля, угодья, лес и скот —
Все это прибыль мне дает,
Чтоб жил я в счастьи без забот.
Входит Домоправитель.
Забыл я денег взять запас;
Подай мне кошелек сейчас,
И вот еще, имей в виду:
К себе гостей я завтра жду.
Придут друзья, придет родня;
Смотри ж, не выдай ты меня:
Все с полной пышностью устрой
И, как на праздник, стол накрой.
Вели-ка повару прийти.
Ступай и денег захвати.
Домоправитель уходит.
Появляется Повар.
На завтра трапезу готовь...
ПОВАР.
Неужто все мне стряпать вновь?
ИМЯРЕК.
Чтоб ты издох от лихорадки!
Как? За моим столом — остатки?!
ПОВАР.
Осталось много так еды;
Что пользы тратить без нужды?
ИМЯРЕК.
Да ты не повар, а осел.
До дерзости какой дошел!
Я, слава Господу, не нищий,
Чтоб потчевать вчерашней пищей.
Повар уходит.
Имярек
91
Домоправитель возвращается с кошельком.
(Берет кошелек.)
Смотри построже за людьми!
Ведь лишь за этим я, пойми,
Тебя поставил выше слуг,
Чтоб ты... Но вот идет мой друг.
Вдалеке показывается Бедный сосед, приближается бояз-
ливо. Друг Имярека тем временем быстро подходит по
улице.
Домоправитель уходит.
Однако! Ты меня почти
Заставил ждать. Пора идти.
Мне некто землю продает
У самых городских ворот;
Осмотрим: то ли, что мне надо —
Годится ль под устройство сада?
друг. В твоих руках — удач залог:
Чего бы сделать ты не мог?
Раз у тебя есть капитал —
Что пожелал, то и достал.
БЕДНЫЙ СОСЕД.
Вот Имярека пышный дом.
Найду ли состраданье в нем?
О, господин почтенный мой,
Молю я, сжалься надо мной!
друг (Имяреку).
Однако нам пора идти.
бедный сосед (с мольбой поднимая руки).
Тебе легко меня спасти.
Будь милосердным, Имярек!
друг. Кто это? Что за человек?
ИМЯРЕК.
Его не знаю я в лицо.
92
Гуго фон Гофмансталь
БЕДНЫЙ СОСЕД.
Я жил с тобою о крыльцо;
Видал иные времена.
Увы, судьба моя темна.
Хожу я с нищенской сумой,
Спаси и сжалься надо мной!
имярек (дает ему монету, вынув ее из пояса).
Ну, ладно.
бедный сосед (не берет).
Дар твой невелик.
ИМЯРЕК.
Ты недоволен? Вот шутник!
Довольно! Убирайся прочь!
бедный сосед.
Ты мог бы мне легко помочь!
(Указывая на его кошелек.)
Отсюда братскую лишь часть —
И ты мне не дал бы пропасть.
ИМЯРЕК.
Вот как?
бедный сосед. Колени преклоня,
Молю тебя — спаси меня.
Лишь только этою казной
По-братски поделись со мной!
имярек (смеется). И только?..
друг. Он сошел с ума.
Да ведь подобных нищих тьма:
Просить-то все небось умеют.
Им раз подай, так одолеют.
БЕДНЫЙ СОСЕД.
Ведь ты богач, а я бедняк;
И это для тебя пустяк.
Молю — для скудости моей
Ты половины не жалей
Того, что в этом кошельке;
Внемли нужде — молю в тоске.
Имярек
93
Ведь у тебя так много есть!
Твоих доходов и не счесть:
На долгие их хватит годы!
ИМЯРЕК.
Ты что ж, считал мои доходы?
друг. Стыдился б клянчить ты!..
имярек (Другу). Постой.
(Бедному соседу.)
Не знаешь веши ты простой:
Все, что здесь, в кошельке, лежит,
Уже не мне принадлежит;
Я им делиться не могу,
Коль не хочу я быть в долгу.
Его в задаток отдаю
За землю новую мою.
В том продавцу я слово дал;
И без того он долго ждал.
БЕДНЫЙ СОСЕД.
Не этот кошелек, пусть так;
Тебе ведь стоит сделать знак —
И десять будет пред тобой...
Вели же принести другой
И из него дай половину,
Как надлежит христианину!
ИМЯРЕК.
Другой? Но точно то же с ним;
Он также мне необходим...
Мне деньги для чего нужны?
Работать на меня должны,
Бороться с дьяволом и рваться,
Далеко по миру скитаться
И мне доходы приносить,
Чтоб мог я беспечально жить.
Доходы надо умножать:
Что стоит дом мне содержать?
94
Гуго фон Гофмансталь
Держать собак и лошадей?
И скот, и птицу, и людей?
Ну а сады, пруды, охота?
И обо всем нужна забота,
Возня, как с малыми детьми:
Все чистить, улучшать, пойми!
Немало денег все уносит
И только больше, больше просит.
Богач! Легко сказать — богач,
А право, иногда хоть плачь:
Все только просят и берут:
Из дома выйдешь — тут как тут
Уже стоит перед тобой
Бедняк с протянутой рукой;
Здесь нищета, а там нужда.
Давай! И все давай! Беда!
Но хорошо, будь так. Я дам!
Нужна лишь сообразность нам.
Так если, как христианин,
На всех я разделю один
Свое имущество теперь,
То каждому придется, верь,
Как часть в имуществе моем,
Не больше гривны серебром
По вычисленья самом строгом.
Вот часть твоя, ступай же с Богом!
Бедный сосед берет монету и уходит.
друг. На славу ты его отпел!
Ей-ей, заметить я успел:
От денег человек умнеет!
ИМЯРЕК.
Пойдем, однако, — уж темнеет!
Появляется Должник, которого ведут двое стражей;
за ним — его Жена и дети в лохмотьях.
Имярек
95
друг. Смотри, кого ведут сюда.
Стряслась, наверно, с ним беда:
Беднягу тащат под арест,
Связавши руки крест-накрест.
Уж верно, за проступок свой
Сидеть он будет в долговой!
И поделом: не будь глупцом;
А раньше думал он о чем?
Теперь размыслить время есть,
Когда в тюрьму придется сесть.
Сиди на хлебе и воде
Или повесься на гвозде.
Но сам во всем ты виноват:
К чему в долги влезал ты, брат?
должник.
Не всякий долг позорит нас:
Бывает также, что подчас
Долг нарастает непомерно.
Коль записи ведут неверно.
ИМЯРЕК.
Кого имеешь ты в виду?
должник.
Того, с кем речь теперь веду.
ИМЯРЕК.
Не понимаю я ничуть.
Меня смешал ты с кем-нибудь!
должник.
Стыдиться б надобно тебе!
ИМЯРЕК.
При чем же я в твоей судьбе?
Жесток и дерзок твой упрек,
должник.
Что — слово, где удар жесток!
ИМЯРЕК.
Какой удар? Кто бьет тебя?
должник.
Ты, ты, всю жизнь мою губя.
96
Гуго фон Гофмансталь
ИМЯРЕК.
При чем же тут вина моя?
Тебя в лицо не знаю я.
должник.
Я гибну под твоей пятою.
ИМЯРЕК.
Я в изумлении, не скрою.
Я сам, не ведая того,
Причина горя твоего?
должник.
Твое же имя на расписке,
Что предъявил мне стряпчий в иске;
За неуплату в нужный срок
Меня в тюрьму толкает рок.
ИМЯРЕК.
Что ж я тут? Странный человек!
должник.
Ведь ты тот самый Имярек,
Что денег требует с меня
И не дает отсрочки дня!
имярек (отступая).
Я умываю руки смело —
Я не вступался в это дело,
должник.
Не ты, так управитель твой...
Меня он топит с головой.
Но ты — за ним, твоя рука
Наносит вред исподтишка.
Ужель не знаешь ты стыда?
ИМЯРЕК.
Опасно в долг влезать всегда;
К чему же делал ты заем?
Теперь страдаешь поделом.
Ведь деньгам оба мы чужды;
Один пропущенный денек,
Пропавший час, забытый срок —
Имярек
97
Причина горестей твоих;
Вот ты и жалуйся на них!
должник.
Насмешка — это твой ответ?
Знать, у тебя и сердца нет.
Не хочешь помнить Божьих слов
И бедняка душить готов.
ЖЕНА ДОЛЖНИКА.
Иль капли нет в тебе любви?..
Бумагу эту разорви
Во имя благости небесной.
О, пощади, о, пожалей,
Чтобы отец моих детей
В темнице не томился тесной.
Ведь он тебе не сделал зла;
Иль в сердце жалость умерла?
Или проклятие сирот
Тебе до сердца не дойдет?
Неужто совесть спит твоя?
Когда великий Судия
С тебя потребует отчет —
В порядке ль книгу он найдет?
ИМЯРЕК.
Ты — женщина, и твой удел —
Не понимать житейских дел.
О чем мне говорить с тобой?
Знай: деньги — что товар любой;
Есть договоры — есть права;
Давно привычка такова.
Не то пошел бы прахом свет...
ЖЕНА ДОЛЖНИКА.
Что деньги? В них значенья нет,
Когда б на добрые дела
Их сила на земле не шла.
должник.
Нет, деньги — не любой товар!
98
Гуго фон Гофмансталь
Они полны проклятых чар;
Кто протянул за ними руку —
На душу принял стыд и муку, —
И он спасенья не найдет
От этих дьявольских тенет.
Вот имя деньгам — сети зла!
ИМЯРЕК.
Какая глупая хула!
Зачем тебя я слушать стал?
Не так ты раньше рассуждал:
Чтил деньги выше божества!
А эти дерзкие слова...
Совсем лиса и виноград,
должник.
Но в горе одному я рад,
Я понял — деньги создал ад;
Я больше не боюсь подпасть
Под их губительную власть.
друг. Уж это верно, что гадать?
Тебе в тюрьме их не видать.
ИМЯРЕК.
Послушай-ка и мой урок:
Тот духом бодр был и высок,
Воображеньем — мощно смел,
Кто деньги выдумать сумел.
На место жалкого обмена
Работу вывел он из плена,
Весь свет он этим изменил.
В деньгах есть много новых сил,
Что правят сотнями людей
В спокойной мудрости своей.
Все продается, видит Бог,
Все будет куплено в свой срок,
Все и доступно и продажно,
На свете лишь богатство важно,
Имярек
99
Им держится весь мир земной.
Не знаю власти я иной,
Пред коей каждый бы склонялся
Без размышления во прах
И так смиренно подчинялся,
Как той, что я держу в руках!
должник.
А! Сатану ты хвалишь славно,
Читаешь проповедь исправно,
Маммону вокуряешь лесть
И воздаешь, как Богу, честь.
ИМЯРЕК.
Где подобает — честь воздам;
Где власть — хуле не место там.
должник.
Жена, напрасны плач и стон,
Схватил в тиски меня Маммон.
Зачем я поддался ему?
Погибла жизнь — конец всему!
Его уводят.
ЖЕНА ДОЛЖНИКА.
Молчишь? Как камень, ты суров!..
Где для детей найти мне кров?..
(Уходит.)
имярек (Другу).
Прошу тебя, пойди за ней,
Устрой, что надо, поскорей.
Ему не избежать тюрьмы...
Но женщине поможем мы.
Дадим мы все, что надо ей
И для нее и для детей;
Пускай ей отведут светелку,
Но сделай это втихомолку,
И чтоб потом не слышал я
Ни слез, ни бабьего нытья.
100
Гуго фон Гофмансталь
Ну разве это не досадно?
Кругом все ясно, все отрадно,
В душе моей — ни тени зла,
Вдруг — словно враг из-за угла.
И сам не понимаешь как,
Кругом навис тяжелый мрак.
Покоя прямо не дадут!
Скажи мне, друг, при чем я тут?
Бедняк тот жалкий, что он мне?
Попался на своей вине;
Теперь он стонет — поделом!
Кто в долг захочет строить дом,
Того ждет долговая яма,
И так ведется от Адама!
Но посмотри: судьбу кляня,
Кого чудак винит? Меня,
Кому он задолжал так много.
Где ж справедливость, ради Бога?
Но он, в отчаяньи своем,
Любого счесть готов врагом.
Эх! У меня, признаюсь, что-то
Смотреть сады прошла охота.
К тому ж темнеет. Милый друг,
Прошу, коль есть тебе досуг —
Распорядись ты поскорей,
Чтоб приютили тех детей,
Задаток отнеси потом
И повидайся с продавцом:
Чтоб был за мною сад и дом.
Вручи задаток, все устрой:
Хочу подруге дорогой
Преподнести подарок ценный
В день годовщины незабвенной.
друг. Я у нее тебя найду?
Туда я с купчей уж приду.
Имярек
101
ИМЯРЕК.
Мой добрый друг, благодарю;
Я нетерпением горю
Попасть к возлюбленной скорей.
Я в мире счастлив только с ней.
Отдавши мне любовь всецело,
Она мне рай открыть сумела,
Ей благодарность я свою
В подарке этом отдаю;
Пусть отразится в нем сполна,
Как в светлом зеркале, она.
друг. Как это хочешь сделать ты?
ИМЯРЕК.
Устрою царство красоты:
Построю я открытый дом,
Колонны возведу кругом.
Забьют там светлые струи
Над белой чашей водоема,
Цветов роскошная истома
Навеет грезы нам свои,
В тени заблещет мрамор статуй,
Там будет в самый жаркий день
Кустов, ветвей, листвы богатой
Темна спасительная сень.
И для красавицы устрою
Купальню мраморную я,
Ее от глаз людских я скрою,
Как ложе нимфы у ручья,
друг. Да, это будет сад чудесный —
Не сыщешь лучше в поднебесной!
ИМЯРЕК.
Ее я за руку возьму
И поведу ее к нему.
Пускай она увидит в нем
Свой обраа милый, образ нежный;
102
Гуго фон Гофмансталь
Она дарит меня теплом
Или прохладой безмятежной.
В ней солнце, аромат и зной
Находит пламенный любовник!
Она — тот сад заветный мой,
А я — счастливейший садовник!
друг. Сюда твоя подходит мать,
Ее ты хочешь увидать?
ИМЯРЕК.
С ней разлучаться нет охоты,
Но время всё берут заботы...
Прошу, иди и все устрой.
Я с ней побуду той порой.
мать имярека (входит).
Мой милый сын, как рада я;
Так редко вижу я тебя —
Мне жаль, мирской заботы бремя
Твое все отнимает время.
ИМЯРЕК.
Нет пользы вечером гулять,
Твое здоровье хрупко, мать,
Оно меня всегда тревожит.
Ты лучше в дом войдешь, быть может?
мать. Да, если ты пойдешь домой
И вечер проведешь со мной.
ИМЯРЕК.
Никак мне нынче невозможно...
мать. Тогда мы здесь поговорим.
ИМЯРЕК.
Родная, ты неосторожна
С своим здоровьем дорогим.
мать. Ты мало знаешь мать свою!
Одной ногой в гробу стою...
Пусть буду телом я недужна —
Спасенье вечное мне нужно!
Не любишь ты таких речей
Имярек
103
Печальной матери своей?
Но успокой мою тревогу:
Душою ближе ли ты к Богу?
Глядишь нетерпеливо ты...
Ужели в мире суеты,
Живя среди земных утех,
Тебе приятней множить грех,
Чем вновь вступить на правый путь
И душу Господу вернуть?
А если б он прислал посла,
Чтоб ты открыл свои дела,
Ты стал бы пред Его лицом
И дал отчет Ему во всем?
ИМЯРЕК.
Далек я от насмешки, мать;
Но как источника не знать:
Обычен этот мрачный страх
У стариков в больных сердцах.
мать. Не мрак, мой милый сын, о нет,
В подобных мыслях — ясный свет;
Кто в жизни праведно живет,
Тому неведом мрака гнет.
Ему не страшен трубный глас:
Вещает радость смертный час.
В ком сердце бы не задрожало,
Увидев грозной смерти жало,
О том могла бы смело мать
Горючих слез не проливать.
ИМЯРЕК.
Да что же? Я хожу во храм,
Готов и проповеди слушать,
Даю подачку беднякам,
Стараюсь долга не нарушить...
мать. Но что как грозный час пробьет,
Когда придется дать отчет
104
Гуго фон Гофмансталь
В минувшей жизни быстротечной
Пред светлым ликом правды вечной?
Да, смерть страшна, но разумей —
Погибель вечная страшней.
ИМЯРЕК.
Мне нет еще и сорока,
И смерть, наверно, далека.
Зачем придет она за мной
Средь полной радости земной?
мать. Так ты не веришь, Имярек,
Чтоб дни твои Господь пресек?
Увы, не видишь ты напрасно,
Что смерть — здесь, близко, ежечасно.
ИМЯРЕК.
Я сердцем молод и здоров
И светлых жду еще часов.
Наступит старость, час настанет,
Когда к раскаянью потянет.
мать. Дни утекают, как песок;
Душе спастись дан краткий срок.
ИМЯРЕК.
Мне жаль... вам снова грустно станет,
Но... я сегодня очень занят.
мать. Дитя мое...
имярек. Я слушать вас
Всегда готов — лишь не сейчас.
мать. Да, эти речи, вероятно,
Тебе и слушать неприятно.
О том душевно я скорблю:
Ведь я дитя свое люблю.
И... в сердце эта мысль закралась:
Что жить недолго мне осталось.
Ты здесь останешься один,
Без друга, мой любимый сын...
Послушай. Вот что я скажу...
Имярек
105
(Тебя недолго задержу...)
Душою к Господу прильни,
Семь заповедей ты храни;
Они с небесной вышины
Для нашей слабости даны,
И в каждой можешь ты найти
Поддержку на своем пути.
ИМЯРЕК.
Ноя...
мать. Ты строен и красив;
И вот, соблазном окружив,
Пленяют женщины тебя,
Всю чистоту в тебе губя.
Но сам Господь установил,
Что все, чем тешится твой пыл,
Становится, как смрадный дым,
Развратом жалким и пустым,
Когда великих таинств сила
Союз любви не освятила.
ИМЯРЕК.
Мать, эта песенка стара!
мать. Тебе одуматься пора.
ИМЯРЕК.
Да все нет времени пока...
мать. А смерть, быть может, уж близка...
ИМЯРЕК.
Не говорю ни да, ни нет!
мать. Мне больно слышать твой ответ.
ИМЯРЕК.
Но завтра новый день настанет...
мать. Как знать — кто в лик ему заглянет?..
ИМЯРЕК.
Мать! Горести свои забудь:
Еще женюсь когда-нибудь.
Увидишь малых внучков ты!..
106
Гуго фон Гофмансталь
мать. За это слово доброты
Дай я тебя благословлю!
Вот больше я и не скорблю.
ИМЯРЕК.
Но я не назначаю дня.
мать. Довольно и того с меня,
Что ты сказал такое слово.
Уж сердце матери готово
Благодарить за малый знак,
Что ты не отвергаешь брак.
Надежду твой ответ мне дал,
С души тяжелый камень спал.
ИМЯРЕК.
Ступай же, отдохни, родная,
Усни спокойным, сладким сном...
мать. Усну, тебя благословляя,
О сыне думая своем.
Но странно... Словно долетели
К нам звуки флейты и свирели?..
Я слышу струнную игру.
Все эти дни я слышу звуки,
Я вижу чудные виденья —
Я знаю, то предупреждены!,
Что наступает час разлуки,
Что скоро, сын мой, я умру.
(Уходит.)
ИМЯРЕК.
Да, правда, звуки струн откуда?
Но нет здесь никакого чуда;
Не только слух мой так остер —
Мне это подтверждает взор.
Появляется Страсть, сопровождаемая музыкантами и
мальчиками, которые несут факелы.
Она! Она — моя царица,
Имярек
107
К которой сердце так стремится.
С ней музыканты, свита слуг...
Идет за мной мой нежный друг.
СТРАСТЬ.
Коль нет того среди гостей,
Кто для хозяйки всех милей, —
С огнем и с музыкой она
Его разыскивать должна!
ИМЯРЕК.
Ты затмеваешь блеск огней,
Свирели голос твой нежней,
И вся сейчас моим скорбям
Ты утешительный бальзам.
СТРАСТЬ.
Недаром чувствовала я,
Что смущена душа твоя
И что на светлое чело
Легла забота тяжело.
ИМЯРЕК.
Так даже от меня вдали
Ты мне близка? Так неужли
Твой друг не скучен и не стар
Для этих глаз, для этих чар?
СТРАСТЬ.
Мне больно от таких речей;
Ты всех красивей и умней.
Немало юношей вокруг,
Но ты — один мой милый друг.
ИМЯРЕК.
Я сам душою молодею
С цветущей юностью твоею.
Хоть я не юноша давно,
Но сердце нежностью полно!
СТРАСТЬ.
Нет, любит юноша небрежно.
108
Гуго фон Гофмансталь
Он в страсти — только новичок.
Мужчина любит сильно, нежно!
И этим ты меня увлек.
ИМЯРЕК.
Кто смерти чувствовал угрозу —
Забудет все, как тяжкий сон,
Едва цветущую, как розу,
Тебя, тебя увидит он.
СТРАСТЬ.
Смерть!.. Это слово мне ужасно.
Она, как злобная змея,
Живет в цветах, свой яд тая, —
Смотри! Будить ее опасно!
ИМЯРЕК.
Я огорчил любовь мою?
Оставим же в цветах змею.
Зато других я знаю змей,
Они прекрасней и верней.
страсть.
Каких же знаешь ты, мой друг,
Скажи, чтобы могла понять я?
ИМЯРЕК.
Двух змей — вот этих нежных рук,
Сплетающих свои объятья.
Она целует его и надевает ему на голову цветочный венок,
который подносит Мальчик. Часть мальчиков разбегает-
ся, рассыпая цветы и душистые травы.
Из земли поднимается богато накрытый стол с зажжен-
ными свечами в светильниках. Имярек и Страсть всходят
с двух сторон по лестнице, ведущей на помост.
Гости — десять юношей и десять девиц — с пением и пляс-
кой врываются с обеих сторон.
ЗАПЕВАЛА.
Созвал нас милый друг,
Имярек
109
Наш славный Имярек,
Он добрый человек.
Его подруга так прекрасна,
Что нас созвал он не напрасно.
Он наш веселый друг, —
Сплетемся в тесный круг.
все. Дорогу веселью!
Пришли мы толпой,
Закружимся в пляске мы легкой стопой.
С сребристой свирелью
Сливайтеся, струны,
Звучите полней!
Мы веселы, юны.
Дорогу веселью
При блеске огней!
Мы в жизни не знаем
Ни слез, ни печали,
Одною лишь целью
Жизнь наша полна:
Пусть мчится, как легкая пляска, она!
Дорогу веселью!
Жизнь наша полна.
Пусть выберет каждый
Подругу скорей,
Любовною жаждой
Поделится с ней.
С серебряной трелью
Пусть льется волшебная песня любви...
Цветов себе каждый побольше нарви...
Дорогу веселью,
Дорогу любви!..
ИМЯРЕК.
Добро пожаловать, друзья!
Отдайте мне последний долг!
по
Гуго фон Гофмансталь
ДЕВИЦА.
Что означает речь твоя?
ТОЛСТЫЙ РОДСТВЕННИК.
Что за привет — не взять мне в толк,
К таким я встречам не привык.
СТРАСТЬ.
Мой милый, что это с тобой?
ИМЯРЕК.
Так... Подвернулось на язык.
Друзья, привет примите мой.
СТРАСТЬ.
Садитесь, милый друзья.
(Слугам.)
Подайте воду для мытья.
(Имяреку.)
Но что стоишь ты в стороне,
Как будто ты чужой и мне?
Все садятся.
ИМЯРЕК.
Все в белых саванах сидят!
страсть.
Ты болен? Твой блуждает взгляд...
ИМЯРЕК.
Ха!.. Мысль нелепая одна...
Давайте мне скорей вина,
Тогда я весел стану снова.
страсть.
Скажи им дружеское слово!
ИМЯРЕК.
Эй, люди, спрашиваю вас:
На месте ли вы все сейчас?
Сдается мне, что вы чужие;
Я будто вижу вас впервые.
Молчание.
Имярек
ш
ТОЩИЙ РОДСТВЕННИК.
Что это, братец? Вот так сказ!
Вы не хотите ль выгнать нас?
толстый родственник.
Ну нет, меня не проведешь:
Уж слишком повар твой хорош.
И греет кровь твое вино,
А остальное... все равно.
Нет, я ни с места, так и знай.
ИМЯРЕК.
Что я подумал невзначай:
Что всех вас мог бы я купить
И снова переуступить,
И пожалел бы... не шутя...
Не больше кончика ногтя...
гость.
Какие грубые слова!
ДЕВИЦА.
Я их понять могу едва,
толстый родственник.
Он в красноречьи не мастак.
СТРАСТЬ.
Что ж... и меня ты ценишь так?
Имярек смотрит на нее.
гость.
Такая грубость... по плечу
Как раз невеже богачу.
СТРАСТЬ.
Недвижен твой холодный взор,
И мне в нем чудится укор.
Меня караешь, но за что же?
ИМЯРЕК.
Карать тебя? Помилуй Боже,
Ты мне очей моих дороже,
112
Гуго фон Гофмансталь
Нет... Только, нежная моя,
Сейчас о том подумал я,
Как изменились бы черты
И как бы выглядела ты,
Когда б узнала ввечеру,
Что нынче ночью я умру?
СТРАСТЬ.
Мой друг, мой муж, во имя Бога
Оставь, к чему твоя тревога?
Ведь я с тобой, взгляни сюда,
Твоя навек и навсегда!
ИМЯРЕК.
Что если б я сказал тебе:
Пойдешь со мной к моей судьбе,
Пойдешь к последнему скитанью?
Остаться хочешь ли со мной
И за земною тленной гранью
В объятьях смерти ледяной?
Разделишь гробовое ложе?
Что б ты ответила? О Боже!..
Ведь, в жилах кровь обледеня,
Тебя сразил бы мой вопрос
И ты бежала б от меня,
Твоей измены я б не снес,
Когда бы увидал воочью,
Что никого со мною ночью,
Что клятвы были только — ложь,
Что в час последней, смертной муки
Ты от меня отнимешь руки,
От уст уста ты оторвешь!
О горе!
(Тяжко вздыхает.)
страсть. Добрые друзья,
Мой милый нынче так расстроен,
Сомненьями обеспокоен;
Имярек
из
Не знаю, что и делать я.
Прошу у вас у всех совета:
Скажите мне, что значит это?
Имярек пристально глядит вперед и снимает венок с головы.
Сидит как будто отуманен,
И речь странна, и взор так странен...
Таким он не был никогда.
Мне жутко, чудится беда.
ТОЩИЙ РОДСТВЕННИК.
Да что с тобой, любезный брат?
Кто в этой грусти виноват?
ТОЛСТЫЙ РОДСТВЕННИК.
Я это отгадать могу;
Да, всё — от сухости в мозгу.
Бывало так с моим отцом,
Но выпьет — станет молодцом.
Послушай: хорошенько пей —
С тоской расстанешься своей.
ДЕВИЦА.
Полезно выпить бы настою
Из чемерицы с коноплею,
толстый родственник.
Эй, мальчик, вот что: поскорей
Вина душистого согрей.
Подбавь корицы, имбирю...
Гости зажигают огонь и кипятят в наше вино.
Как выпьет — я вам говорю, —
По жилам разольется пламень.
вторая девица.
У ласточки в брюшке есть камень,
Отлично помогает он —
То кал ид он...
114
Гуго фон Гофмансталь
тощий родственник.
Нет, кальцедон!
Известен он среди врачей
Целебной силою своей.
ТРЕТЬЯ ДЕВИЦА.
Все это с ним — заметно сразу —
Случилось от дурного глазу.
Когда бы мой любезный друг
Случайно впал в такой недуг,
Я б знала, как помочь беде.
ВТОРАЯ ДЕВИЦА.
А что б ты стала делать?
третья девица. Тайна!
Нельзя открыть ее.
вторая девица. А где
Ее узнала ты?..
третья девица. Случайно...
Она досталась нелегко.
Но ей скажу я на ушко.
(Встает, шепнет Страсти на ухо.)
В то же время за столом идут следующие разговоры.
гость.
Излишек — сытость и покой —
Вот чем болеет род людской.
Небось не станут бедняки
Болеть от приступа тоски.
ДЕВИЦА.
Велите музыке играть!..
Весельем радостным — как знать? —
Свирели, трубы и смычки
Разгонят призраки тоски.
ВТОРАЯ ДЕВИЦА.
Давайте петь, ведь песен звуки —
Лекарство лучшее от скуки.
Имярек
115
ГОСТЬ.
Но скромной песня быть должна.
ВТОРОЙ ГОСТЬ.
Нескромных не поет она.
гость.
Вот песня — чудо для души:
«Заходит день в святой тиши».
Ах, этой песней быстро он
К покою будет возвращен.
ДЕВИЦА.
Что нам, замаливать грехи,
Чтоб петь духовные стихи?
Я не охотница до них!
гость.
Да это не духовный стих.
Но караульные у нас
Поют его в вечерний час.
ДЕВИЦА.
Я лучше знаю песнь.
ВТОРАЯ ДЕВИЦА.
Какую?
второй гость (целуя ее).
А вот тебя я расцелую.
ДЕВИЦА.
«Floret silva undique1,
Ах, мне грустно, как вдове»,
гость (передразнивая ее).
«Floret silva undique,
Ах, ей грустно, как вдове».
ДЕВИЦА.
«Друг умчался на коне...
Ах, кого любить бы мне?..»
Пышный цвет мирских сует (латин.).
116
Гуго фон Гофмансталь
ВТОРОЙ гость (подхватывая).
«Лес цветет, цветы везде,
Где же милый, где он, где?»
имярек (тем временем осушил кубок горячего вина и осматри-
вается кругом с радостью).
Друзья, засмейтесь! Ожил я
От ароматного питья;
Былой тоски и следа нет.
Теперь вам новый мой привет.
Что гнетом мне на грудь легло,
Совсем исчезло и прошло!
Я жизни радуюсь вдвойне,
И вас отрадно видеть мне.
Как переполнена душа,
Как жизнь чудесно хороша!
О, право, высказать нет сил,
Как все я снова оценил.
Любви и дружбы чудный жар —
Незаменимый, лучший дар;
Все в жизни ими лишь согрето,
Они нам озаряют тьму;
И у кого есть в жизни это,
Желать уж нечего ему.
К тому ж вино, цветы и песни —
Что может быть еще чудесней?
Я вас люблю, друзья мои!
Ну, принимайтесь все за дело,
Чтоб жизнь в блаженном забытьи
На крыльях радости летела.
Здесь счастье жизни, вот оно!
Вкушайте лакомые блюда,
Пусть звонко льется песнь оттуда,
Куда вливается вино.
В лад голоса сплетайте ваши,
Почаще наполняйте чаши,
Имярек
117
В объятьях молодой красы
Пусть тают быстрые часы.
Пусть все вкушает наслажденье:
Взор, сердце, руки и уста.
Вкус, осязанье, слух и зренье
Пускай питает красота. —
Спой, брат мой, о любви и неге!
толстый родственник.
Споем мы о «Холодном снеге».
Смеясь, поют.
ТОЩИЙ РОДСТВЕННИК.
«О горе, горе мне, пою горюя,
О госпожа Любовь, моя пылает кровь,
Горю я!
Холодный, хладный снег растаял бы от пыла,
Которым злая страсть мне душу охватила.
Ответом сладостным, отрадой поцелуя
Спасенье мне готовь,
О госпожа Любовь,
Горю я!..»
Все подпевают. Слышен глухой благовест.
имярек (отталкивает свой кубок).
Что там? Не звон ли колокольный?
Объемлет душу страх невольный.
Звучит глухой далекий звон,
Как будто песня похорон.
Зачем колокола звонят?
гость.
Не знаю, может быть, набат?
второй гость.
Кто слышит здесь колокола?
ДЕВИЦА.
Какие там колокола?
118
Гуго фон Гофмансталь
второй гость.
Давно вечерня отошла,
гость.
Кто слышит колокол, постойте?
СТРАСТЬ.
Друзья мои, прошу вас, пойте.
ВТОРОЙ ГОСТЬ.
Кто слышит звон?
гость. Кто слышит звон?
второй гость (смеясь).
Никто не знает, где же он?..
СТРАСТЬ.
Что ж песня? Жду я продолженья.
ИМЯРЕК.
То был обман воображенья.
ТОЛСТЫЙ РОДСТВЕННИК.
Пустое все! Застой в крови!
Врача ты завтра позови.
Давай вина я вскипячу!
ИМЯРЕК.
Спасибо, больше не хочу.
Опять садится. Страсть прижимается к нему. На конце
стола поют «Floret silva undique» каноном. Во время пения
является Друг Имярека и занимает пустое место за сто-
лом. Пение становится тише, и сквозь него слышны го-
лоса.
ГОЛОСА.
— Имярек!..
— Имярек!..
имярек (вскакивает в страхе).
Кто звал меня? Я слышал зов
Неумолимых голосов.
друг. Вот и вернулся я, мой друг!
Имярек
119
СТРАСТЬ.
Смотри, ведь это же твой друг,
Что значит странный твой испуг?
ИМЯРЕК.
Я слышал зов... Я слышал стон...
Убил навеки радость он.
ТОЩИЙ РОДСТВЕННИК.
Быть может, песен наших эхо,
Быть может, отголосок смеха
Еще звучит в твоих ушах.
ИМЯРЕК.
Не смех, о нет, холодный страх.
Как звуки из ада,
Звучат они грозно,
Спастись мне уж поздно!..
Где будет пощада?
Погиб я навек...
И снова и снова
Звучит: «Имярек»...
Опять слышен страшный зов.
СТРАСТЬ.
Не слышу ни звука!
ТОЛСТЫЙ РОДСТВЕННИК.
Не слышу ни слова.
ТОЩИЙ РОДСТВЕННИК.
Не слышу ни вздоха. Все тихо вокруг.
страсть.
О бедный мой друг!..
друг. Ты просто болен, милый мой,
Дай отведу тебя домой.
ИМЯРЕК.
Нет-нет, здесь, с вами легче мне,
Уж я оправился вполне.
При свете яркого огня
120
Гуго фон Гофмансталь
Бежит тревога от меня.
Друзья, садитесь все опять,
Прошу вас пир не прерывать;
Мне хорошо... Но завтра днем
Я посоветуюсь с врачом,
Чтоб он помог прогнать припадки
Какой-то странной лихорадки.
СТРАСТЬ.
Да, обратимся мы к врачу.
Я и подумать не хочу,
Что мне тебя еще опять
Таким придется увидать.
Все продолжают есть и обмениваться нежностями.
имярек (в страхе поднимается).
Любовь моя! Скорей взгляни,
Как тусклы стали все огни!
Кто здесь? Чей слышу тяжкий шаг?
Мне страшно! Жутко! Близок враг!
Так не ступает человек.
Кто это?!..
Смерть останавливается в отдалении. Все встают.
СМЕРТЬ.
Здравствуй, Имярек!
Что, веселишься?.. Жизнь летит,
А суд небес тобой забыт?
ИМЯРЕК.
Откуда ты явился? Кто ты?
Нет до меня тебе заботы.
СМЕРТЬ.
О всех забота у Творца.
Он за тобой послал гонца.
Вот я пришел, его посол.
Спеши!
Имярек
121
имярек. Как!.. Ты за мной пришел?
(Хватается за сердце.)
Да, это так. Да, так и есть.
СМЕРТЬ.
Ему не воздавал ты честь,
Но в небесах ты не забыт;
Меня Он ныне посылает,
Тебе идти со мной велит.
имярек (отступает, опустив взор).
Чего же мой Господь желает?
СМЕРТЬ.
Отчета от твоей души.
Без промедленья. Поспеши.
ИМЯРЕК.
Я не могу.- Я не готов...
Не приготовил я счетов,
Я книг в порядок не привел...
К тому же... что ты за посол?..
СМЕРТЬ.
Я грозная Смерть, ни пред кем не дрожу,
Являюсь ко всем — ничего не щажу.
Почти все разбегаются.
ИМЯРЕК.
Как так? Ты не даешь мне срока?
Без упрежденья, без намека,
В разгаре жизни, в цвете лет
С меня ты требуешь ответ?
Нечестно ты играешь, право.
Не велика же будет слава,
Когда врасплох возьмешь меня.
Ведь это прямо западня!
В моих делах порядка нет...
Дай мне двенадцать... десять лет...
Чтоб мне счета мои свести,
122
Гуго фон Гофмансталь
В порядок книги привести;
И без боязни, без стыда
Предстану Господу тогда.
Яви мне это милосердье!
Я докажу свое усердье.
смерть.
Напрасны слезы и мольбы,
Не изменить твоей судьбы,
Творца тебе не обмануть.
Довольно слов, готовься в путь!
ИМЯРЕК.
Господь милосердный, со своей высоты
О сжалься над горькою участью Ты!
Ужель в этом страшном последнем пути
Другого спутника мне не найти?
Один — без друзей, без любви — неужлй
Уйти буду должен я с этой земли?
Доселе я не был еще одинок...
А путь мой так страшен, а путь так далек!
СМЕРТЬ.
И дружбе и любви конец.
Да не ломай ты рук, глупец,
Напрасно горьких слез не лей
И доле покорись своей.
Ужели думал ты, бедняга,
Что жизнь и все земные блага —
Навеки собственность твоя?
ИМЯРЕК.
По правде, да, так думал я.
СМЕРТЬ.
Нет! Чем при жизни ты владел,
Получит все другой в удел.
Придут часы, — один пробьет —
И он все кинет — и пойдет,
Явлюсь я скоро и за ним.
Имярек
123
ИМЯРЕК.
Ужель твой зов неумолим?
Один лишь день! Одну лишь ночь!
Чтоб мог священник мне помочь
Принять достойную кончину,
Как надлежит христианину.
СМЕРТЬ.
Удар последний нанести
Обязан я без проволочки.
Напрасно молишь об отсрочке.
ИМЯРЕК.
Так, значит, жизни не спасти;
Вот час настал слезам и плачу.
смерть. Идем! Я даром время трачу.
ИМЯРЕК.
О горе! Как я одинок!
Хотя б еще один часок,
Чтоб мог я спутника найти,
Чтоб мне не одному прийти
Туда, где грозным Судией
Вершиться будет жребий мой.
СМЕРТЬ.
Ты мыслишь спутника найти?..
Но все тебе откажут в этом.
ИМЯРЕК.
Лишь час помедли на пути.
Сберусь я с мыслями... с советом...
Во имя неба и любви
Мне милосердие яви!
СМЕРТЬ.
Пусть будет так на этот раз.
На время я тебя покину;
Используй же отсрочки час,
Как надлежит христианину!
(Скрывается.)
124
Гуго фон Гофмансталь
имярек (подходит к Другу).
К тебе иду в своей тоске...
Слыхал?..
друг. Я был невдалеке,
Все слышал, что произошло.
Мой бедный друг, как тяжело!
Так весел и здоров ты был,
В расцвете лет, в разгаре сил.
И вдруг... Не в силах продолжать,
Слез не могу я удержать.
ИМЯРЕК.
Благодарю! Всегда ведь ты
Ко мне был полон доброты.
друг. Мой друг, я весь к твоим услугам.
Что нужно? Только прикажи.
ИМЯРЕК.
Ты был всегда мне верным другом,
И я в тебе не видел лжи.
друг. Всегда тебе я верен буду,
Я б за тобой пошел повсюду,
По правде, даже в самый ад.
ИМЯРЕК.
Я б заслужить был это рад.
друг. При чем же тут твоя заслуга?
Быть верным — долг священный друга.
Клянуся именем Творца,
С тобой я буду до конца.
Имярек хочет что-то сказать.
Твоя печаль, твоя тоска
Душе понятна и близка.
Все, что гнетет тебя теперь,
Ты без боязни мне доверь.
Кто сделал зло тебе и в чем?
Я отплачу ему мечом;
Имярек
125
Не будет для него прощенья,
Моя рука свершит отмщенье!
ИМЯРЕК.
Не то меня сейчас тревожит.
друг. Ты огорчаешься, быть может,
Что нет наследников прямых
Для денег и богатств твоих?
ИМЯРЕК.
Нет, друг, не то...
друг. Спокоен будь:
Вот купчая — ты не забудь.
Твоих заветов не нарушу,
И к той, кого любил как душу,
Твой дар последний перейдет.
ИМЯРЕК.
Нет, выслушай; вопрос не ждет...
друг. К чему? Напрасно слов не трать,
Тебя не трудно мне понять.
ИМЯРЕК.
Моя забота не о том!
Я сокрушаюсь о другом.
друг. О чем? Скорее говори,
Не хватит времени, смотри.
ИМЯРЕК.
Ужель?.. Как эта мысль страшна!
друг. Открой всю душу мне до дна —
Я все прощу, я все пойму,
Иначе дружба ни к чему!
ИМЯРЕК.
А что коль сердце я открою,
А ты, мой друг, мой верный брат,
Ты от меня уйдешь душою?
Мне будет тяжелей стократ.
друг. Я, сударь, вам одно скажу:
Что обещал я, то сдержу.
126
Гуго фон Гофмансталь
ИМЯРЕК.
Иду я в дальнюю дорогу,
Она трудна и тяжела,
Потом отчет я должен Богу
Отдать за все мои дела.
Ты обещал... пойдем со мною,
Пойдем дорогою одною!
друг. Нарушить данный свой обет —
Позора в жизни хуже нет.
Я обещал... И рад душой...
ИМЯРЕК.
Мой друг...
друг. Но путь такой большой.
Чтобы в него пуститься с Богом,
Размыслить нужно обо многом.
ИМЯРЕК.
Но ты мне это обещал...
Ведь ты по улицам кричал,
Что неразлучны будем оба
Мы и за гробом, как до гроба,
И что хотя бы в самый ад
Сопутствовать мне будешь рад.
друг. Да, но теперь не к месту шутка —
В права вступает глас рассудка.
Пойти с тобой я был бы рад;
Но возвратимся мы назад
Когда — ответь мне?
имярек. Никогда
До дня последнего суда.
друг. Но если так, мой друг, прости —
Я не могу с тобой идти.
имярек.
Ты не пойдешь?
друг. Других ищи.
Скажу я правду, не взыщи:
Имярек
127
Меня никто на этот путь
Не мог бы силой затянуть,
Ни даже бедный мой отец!
Пошли покой ему, Творец!
ИМЯРЕК.
Ты обещал иное мне...
друг.И был я искренним вполне:
С тобой пошел бы всюду смело,
Как на безделье, так на дело;
Затей ты праздник, торжество —
Не ждал бы лучше ничего.
Я б был с тобой при свете дня,
При блеске яркого огня!
Но не теперь!
имярек. Ты так мне нужен,
Ведь я с тобой всю жизнь был дружен.
друг. Друзья ли, нет ли... Не солгу:
Ни шагу сделать не могу.
ИМЯРЕК.
Мой друг! Когда в твоей груди
Хоть капля жалости живет,
Во имя Бога, проводи
Меня хоть только до ворот.
друг (вырываясь).
Нет-нет, ни за какие блага
С тобой не сделаю ни шага.
(Оборачиваясь.)
Прости, несчастный друг, прости;
Желаю доброго пути;
А я — пойду своим путем,
Скорбя глубоко о былом.
имярек (идя за ним).
Ужель меня покинешь ты
С чужими мне людьми?
128
Гуго фон Гофмансталь
друг. Прощай, прощай, мой бедный друг,
Господь твой дух прими.
ИМЯРЕК.
Прощай! Как больно, будто грудь
Холодный меч рассек.
друг. Дай на прощанье руку мне.
Мой бедный Имярек.
ИМЯРЕК.
Прощай! С тобой уходит прочь
Вся радость бытия.
друг. Прощай! Разлука тяжела,
И это понял я!
(Уходит.)
ИМЯРЕК.
К кому ж за помощью пойду?
Он был мне другом в час веселья,
Когда кружились мы в чаду
Страстей и буйного похмелья.
Но где же друг былых годин?
В час самый тяжкий — я один.
Знать, правду слышал я когда-то:
Что в счастьи есть друзья всегда,
Пришла беда — их нет следа.
Тоской невольной сердце сжато.
Случилось так и у меня...
(Замечает стоящих в отдалении родственников, лицо его
проясняется.)
Но что я? Вот моя родня,
Мои возлюбленные братья,
От вас могу участья ждать я,
Ведь узы крови так важны,
Мы ими соединены!
толстый родственник.
Спокойствие, любезный брат.
Хранить спокойствие умей —
Имярек
129
Вот в жизни что всего важней.
Таков союз по правде свят.
ИМЯРЕК.
Вы не покинете меня,
До гроба верность сохраня?
толстый родственник.
В беде тебя покинуть нам?
Да это было б стыд и срам!
тощий родственник.
Поверь мне, брат любезный мой,
Делили радость мы с тобой,
Разделим горе так же точно.
толстый родственник.
Ты видишь, наше чувство прочно!
ИМЯРЕК.
Благодарю! И кровь свою
Я в вас с любовью узнаю,
толстый родственник.
Еще бы! В тягостные дни
С тобой остались мы одни!
ИМЯРЕК.
Вы видели? За мной пришел
От Всемогущего посол!
ТОЛСТЫЙ РОДСТВЕННИК.
Да... Видишь ли, любезный брат,
Уж тут никто не виноват.
Не можем мы тебе помочь...
ИМЯРЕК.
Идти я должен в эту ночь...
ТОЛСТЫЙ РОДСТВЕННИК.
Да, брат, родная кровь, да-да...
ИМЯРЕК.
И не вернусь я никогда.
Вы слышите?!
толстый родственник. Да, я не глух.
130
Гуго фон Гофмансталь
тощий родственник.
И у меня не отнят слух.
ИМЯРЕК.
Мне не вернуться никогда,
До дня последнего суда,
толстый родственник.
Ты верно понял ли посла?
ИМЯРЕК.
Я? Верно ль понял?.,
толстый родственник. Вот дела...
Поистине был гость непрошен...
Гм... брат?
тощий родственник.
Я прямо огорошен,
толстый родственник.
Да, брат... И я, брат, стал в тупик...
Прилип к гортани мой язык!..
имярек.
Постойте... что скажу я вам...
ТОЩИЙ РОДСТВЕННИК.
Внимаем мы твоим словам.
имярек.
Я должен там отдать отчет,
Но враг меня ужасный ждет.
Он силы неба восстановит
И гибель мне предуготовит.
толстый родственник.
О чем ты должен дать отчет?
имярек.
О всех свершенных мной деяньях,
О помышленьях, о желаньях,
О том, что, ночью или днем,
Таил на сердце я своем.
Взываю к вашей я защите.
Пойдите вы туда со мной
Имярек
131
И дать отчет мне помогите
О жизни бренной и земной,
тощий родственник.
Туда? С тобой? Прошу покорно!
Я изумлен — и непритворно.
Неужто ты в своем уме?
Да лучше буду гнить в тюрьме
Десятки лет без капли света,
Чем в странствие отправлюсь это!
ИМЯРЕК.
О, не родиться б мне на свет!
Ко мне в вас состраданья нет.
Надежды слабый луч угас.
Ужасный час, жестокий час!
толстый родственник.
Эй, полно, полно, Имярек,
Недаром смертен человек;
Так все мы кончим, безусловно.
Смотреть должны мы хладнокровно
На то, что будет впереди.
Одно скажу: меня не жди.
(Идет к выходу.)
имярек (Тощему).
Мой брат, ты не пойдешь со мной?
тощий родственник.
Куда с моей ногой больной!
Тащиться мне в такую даль?
Одно скажу: тебя мне жаль,
толстый родственник (останавливается и говорит через плечо).
Коль ты прикажешь долго жить,
Вот что могу я предложить:
Есть чудо-девушка одна,
Так любит странствовать она.
Вот в путешествие твое
С тобой послать я б мог ее.
132
Гуго фон Гофмансталь
ИМЯРЕК.
Нет, свой ответ реши и взвесь:
Идешь иль остаешься здесь?
толстый родственник.
Останусь здесь, вот и весь сказ!
В другой увидимся мы раз.
(Уходит.)
ИМЯРЕК.
Они ушли, всему конец,
А я-то верил им, глупец!
тощий родственник (оборачивается и подходит к Имяреку).
Не очень вежливо, пойми,
Распоряжаться так людьми;
Есть у тебя рабов немало,
Вот их послать бы не мешало.
Над ними ты имеешь силу,
Их отправляй хоть и в могилу.
Но очень я тебя виню,
Что не жалеешь ты родню.
(Уходит.)
ИМЯРЕК.
Рабы! Приспешники и свита!
Какая мне от них зашита?
(Осматривается.)
Иль пир окончен, отсиял
И опустел мой пышный зал?
(Подходит к столу.)
Некоторые оставшиеся там, заметив его, вскакивают и
убегают. Стол проваливается в землю.
Ужель нет помощи нигде
И я один в моей нужде?
Ужели я погиб, пропал,
Ужель так жалок я и мал?
Иль победит меня мой враг,
Имярек
133
Или бессилен я и наг,
Как будто я уже в гробу?
Нет! Хватит силы на борьбу.
Еще ведь в жилах кровь тепла,
Рабам и деньгам нет числа,
Еще я жив! Еще богат!..
Вставайте! Бейте все в набат!
Сюда, рабов ленивых рать,
Сюда, ко мне, не время спать!
Домоправитель и несколько слуг спешно выходят.
Я отправляюсь в дальний путь;
Пешком, не мешкая ничуть,
Пускай рабы идут со мной,
Несут ларец с моей казной;
Мой путь опасен, как война, —
Нужна мне, может быть, казна.
ДОМОПРАВИТЕЛЬ.
Ужель — тяжелый тот ларец?..
ИМЯРЕК.
Да, и без дальних слов, глупец!
Появляются еще слуги, из них восемь несут тяжелый
ларец.
Я собираюсь сей же час
Взять в странствие с собою вас,
Надежный нужен мне народ —
Опасен тайный мой поход.
От вас нужна покорность мне,
Наш путь начнем мы в тишине.
слуга. Ларец-то очень уж тяжел...
ДОМОПРАВИТЕЛЬ.
Раз господин за благо счел...
Ты помни: что прикажет он —
Для вас единственный закон.
134
Гуго фон Гофмансталь
ИМЯРЕК.
Итак, идем, мне важно крайне
Свершить наш путь в глубокой тайне.
Смерть появляется в некотором отдалении.
слуга. Там дьявол смотрит из угла.
ДОМОПРАВИТЕЛЬ.
Нет, это Смерть сама пришла!
Слуги бросают ларец и убегают.
Домоправитель — тоже.
смерть.
Безумец! Час почти истек,
А ты от истины далек:
Ты ищешь все не там, где надо...
И ждут тебя мученья ада.
(Исчезает.)
имярек.
Как Смерть страшна! Она зовет...
Бежит с чела холодный пот...
Всегда в тяжелое мгновенье
Мне находилось утешенье,
Я не был вовсе одинок,
Поддержку оставлял мне рок.
Всегда неведомая сила
Меня на берег выносила,
Надежды луч сиял сквозь тьму;
И что ж теперь? Я не пойму.
Кто я? Где я? Я — Имярек,
Богатый тот же Имярек;
Вот все еще мое пока:
Вот грудь моя... моя рука...
Моя одежда... мой дворец...
А вот мой денежный ларец.
Имярек
135
С ним, стоило мне кликнуть клич,
Чего хотел, я мог достичь.
Отрадно видеть мне его —
С ним не боюсь я ничего!..
Но горе! Я забыл почти,
Что надо мне сейчас идти.
Здесь был посол — принес волненье...
Идти скорей без промедленья.
(Бросается на ларец.)
Но ты! Тебя я не оставлю,
Я золото возьму с собой.
Идем искать приют другой!
Ларец открывается. Из него поднимается Маммон, тол-
стый и огромный.
МАММОН.
Эй, Имярек, скажи, в чем дело?
Куда спешишь бледнее мела?
ИМЯРЕК.
Кто ты?..
МАММОН.
Со мной ты незнаком...
А сам вопишь: «Идем, идем!»
Твое богатство я! Я — злато,
Что для тебя так было свято!
имярек (смотря на него).
Неласковы твои черты,
Доверья не внушаешь ты...
Но уж теперь мне все равно;
Идем — со мной ты заодно!
МАММОН.
Куда идти, и что за спех?
Ты знаешь — я сильнее всех.
Все, что захочешь, я куплю,
Тебе и здесь я пособлю.
136
Гуго фон Гофмансталь
имярек (опуская глаза).
За мною прислан был гонец.
Иду я в путь и без возврата.
МАММОН.
Вот как! Тогда всему конец.
ИМЯРЕК.
Но в путь не двинусь я без злата.
Тебя беру с собою я,
Скорей сбирайся в путь загробный.
МАММОН.
Ни шагу. Мне и здесь удобно.
ИМЯРЕК.
Но ты же собственность моя!
МАММОН.
Смешно мне слушать вздор подобный!.
Меня своим он хочет звать!..
имярек. Как, вещь, ты смеешь бунтовать?..
маммон (оттолкнув его).
Ступай! Твоя напрасна злоба.
Пойми хотя теперь, у гроба:
Твоим владыкою я был
И ты усердно мне служил.
ИМЯРЕК.
Я был всегда твой повелитель.
МАММОН.
Нет, это я был твой властитель.
ИМЯРЕК.
С тобой я делал что хотел.
МАММОН.
А я тобой всегда вертел.
ИМЯРЕК.
Тебя я быть рабом заставил.
МАММОН.
А я твоей душою правил!
ИМЯРЕК.
Ты был всех слуг моих верней!
МАММОН.
Плясал по дудке ты моей!
Имярек
137
ИМЯРЕК.
Тебя лишь я касаться мог!
МАММОН.
Я гнул тебя в бараний рог,
Глупец, ничтожный дуралей!
Так как же? Кто из нас сильней?
Вот я останусь здесь, а ты
Уходишь в царство темноты.
Ты был созданием моим,
Но разлетелось все как дым:
Великолепные пиры,
И пышный дом, и блеск игры;
Ты только мною был велик.
Да и сейчас, в последний миг,
Когда ты к остальному глух,
В тебе поддерживает дух
Богатства твоего сознанье —
Твоя казна и состоянье!
(Берет горсть золота из сундука и тут же бросает ее
обратно.)
Но злато падает назад...
Спеши насытить жадный взгляд:
Меня ты не увидишь боле —
Я спутник лишь в земной юдоли,
Я остаюсь, я не пойду.
Узнай другую череду.
Довольно, горьких слез не лей!
Ступай в дорогу без возврата
Нагим, как вышел ты когда-то
Из лона матери своей!
(Исчезает в ларце.)
Ларец захлопывается. Имярек молчит. Долгая пауза. Пока-
зываются деяния Имярека, в виде больной Женщины, лежа-
щей на скудном одре, она приподнимается и зовет слабым
голосом.
138
Гуго фон Гофмансталь
даяния.
Имярек!..
Имярек!..
Не слышишь ты?
имярек. Меня зовут.
Я слышал голос. Кто же тут?
Тот голос чист, хотя и слаб...
Ужели то моя родная?..
Такая слабая, больная...
О боже! Молит грешный раб:
Избави мать мою от муки
Со мною быть в часы разлуки,
даяния. Имярек!..
имярек. Кто б это ни был — нет нужды,
Земные дрязги мне чужды!
ДЕЯНИЯ.
Ужель меня не слышишь ты?..
ИМЯРЕК.
Кто там зовет из темноты?..
То стонет нищая несмело;
Но что мне до нее за дело?..
ДЕЯНИЯ.
Мой Имярек, взгляни сюда,
Ужели я тебе чужда?
ИМЯРЕК.
Что ты за странное созданье?
деяния (едва приподнимаясь).
Ведь я твоя! Твои деянья;
Я — все, что в жизни ты творил.
ИМЯРЕК.
В мой смертный час, в мой час последний,
Твоих не стану слушать бредней.
деяния (опускаясь на ложе).
Пойди ко мне, ведь я без сил.
имярек.
Нет, видеть я не в состояньи
Имярек
139
Мои житейские деянья,
И твой печальный, жалкий вид
Мне совесть лишний раз смутит.
ДЕЯНИЯ.
Лежу без сил... И встать мне больно.
Пойди ко мне, мой Имярек!..
ИМЯРЕК.
С меня моей тоски довольно,
Не надо мне чужих калек.
ДЕЯНИЯ.
Твоя дорога далека,
А ты без спутника пока.
ИМЯРЕК.
Ну что ж, один свой путь свершу.
Один в дорогу поспешу.
ДЕЯНИЯ.
С тобой хотела б я туда —
Ведь я твоя и навсегда.
Имярек взглядывает на нее.
На мне лежит порока бремя,
Ты так терзал меня все время...
Я — если б не твоя вина —
Была б прекрасна и сильна.
имярек (идет к ней ближе).
Ох, плохо мне! Надежды нет;
Где встретить помощь и совет?..
деяния (с трудом поднимаясь на костылях).
Я знаю — час уж близок твой
Предстать пред грозным Судией.
Одно скажу: в тот путь далекий
Идти не вздумай одинокий.
имярек.
Ты хочешь ли пойти со мной?
ДЕЯНИЯ.
Хочу ли я пойти с тобой?
140
Гуго фон Гофмансталь
Мой Имярек! Какой вопрос!
Зачем его ты произнес?..
имярек (смотря ей в глаза).
Твои глаза полны печали;
Господь тебя благослови!
Ни взоры друэКбы, ни любви
Так в душу мне не проникали!
ДЕЯНИЯ.
Как поздно, о, как поздно ты
Решил взглянуть в мои черты!
ИМЯРЕК.
Как бледен лик печальный твой,
Но полон красоты живой.
Смотрю — и больно мне... и сладко,
Как будто найдена разгадка.
И мнится радости родник
В сияньи благостного взгляда;
Когда он в душу мне проник —
Как бы затеплилась лампада.
Но поздно тешиться мечтой:
Исчезло все, как сон пустой.
ДЕЯНИЯ.
Итак, теперь ты понял ясно,
Что быть могу и я прекрасна.
О, если б раньше видел ты
Во мне возможность красоты!.. —
Поближе... Говорить мне трудно. —
Ты не жил бы так безрассудно,
Со мной бы оставался ты
Вдали от шумной суеты.
Ты бедных возлюбил бы свято,
Ты б не был, как ты был когда-то,
Самодовольным богачом;
Ты б облегчал земную муку
Любви божественным лучом,
Имярек
141
И, сердце людям открывая,
В тебе росла б любовь живая.
А я, тобой просветлена,
Озарена небесным чудом,
Была б божественным сосудом,
Для уст твоих всегда полна.
ИМЯРЕК.
И я не знал тебя доселе!
На что глаза мои смотрели?
Какою страшной слепотой
Был отуманен разум мой!
ДЕЯНИЯ.
Полна небесного напитка,
Земному я была чужда,
И ты средь своего избытка
Меня не жаждал никогда.
Неиссякающей струи
Глаза не видели твои.
ИМЯРЕК.
О, я бы вырвал их сейчас!
Пускай бы лучше свет погас,
Чем видеть мне жестоко ясно,
Как жизнь моя прошла напрасно.
ДЕЯНИЯ.
Увы, теперь твои уста
Узнать не могут утоленья;
Земного ты искал забвенья,
И небом чаша отнята!
ИМЯРЕК.
Терплю от жажды муки ада,
И вот за жизнь мою награда,
даяния.
Тебя раскаяние жжет,
Ты чувствуешь ужасный гнет
Тобой не выстраданных ране
И не пережитых страданий.
142
Гуго фон Гофмансталь
О, если бы они тебе
В предсмертной пламенной борьбе
Навеки сердце обновили —
Как мы бы их благословили!..
имярек (бросаясь ничком).
Не знаю больше ничего,
Но весь мой ум, все существо
Полны раскаяньем глубоким
И этим ужасом жестоким.
Пойми! Хочу назад — нельзя,
Открылась страшная стезя.
Помедлить?.. Нет, иди туда!..
Еще хоть раз!./ Нет, никогда!
Нельзя начать мне жизнь сначала;
И лишь теперь душа сознала,
Что значит этот грозный зов:
Ложись — и к смерти будь готов!
деяния (на коленях).
Его раскаянье ужели
Не может силы мне придать,
Чтоб я к его последней цели
Могла его сопровождать?
(Опускается.)
О горе мне! Я так бессильна!
ИМЯРЕК.
Все ближе, ближе мрак могильный,
Прощения не будет там:
За все воздастся по делам.
Пойдем, молю, пойдем со мною;
Ужель я помощи не стою?
Один погибну и навек!
ДЕЯНИЯ.
Что делать нам, мой Имярек?
ИМЯРЕК.
Подумай! Скоро я умру!
Имярек
143
ДЕЯНИЯ.
Проси, моли мою сестру.
Она прекрасна и сильна.
Зовется Верою она.
Быть может, в путь она проводит?
ИМЯРЕК.
Но где ж она? Часы уходят!
ДЕЯНИЯ.
Коль отвернет она свой лик,
Пропало все, твой грех велик,
Тогда пойдешь без утешенья...
Моли у Веры поспешенья.
ИМЯРЕК.
Я умолю: всегда в устах
Рождает красноречье страх!
Появляется Вера.
ДЕЯНИЯ.
Не надо звать тебе. Вот-вот,
Сестра сама сюда идет!
Сестра, вот бедный пилигрим;
Пойти не согласишься ль с ним?
Последний час его пробил,
А мне пойти — не хватит сил.
(Беспомощно опускается.)
вера (Имяреку).
Ты надо мной всю жизнь смеялся,
Над Божьим словом издевался!
И к богохульству ты привык.
Иль в час последней нашей встречи
Услышу я иные речи?..
имярек (запинаясь).
Я верю!..
вера. Беден твой язык!
имярек.
Умилосердись! Заклинаю!
144
Гуго фон Гофмансталь
Я символ веры твердо знаю
И свято верую в него.
вера. Не больше, только и всего?
Но это малая частица,
И ею нечего хвалиться.
ИМЯРЕК.
Я верую... и свято чту
Великой силы доброту,
Я верую, что облегченье
Таит раскаянья родник,
Но слишком уж мой грех велик,
Чтоб я мог ожидать прощенья.
вера (делая шаг к нему).
Ужель ты так в грехе погряз,
Что и теперь, в твой смертный час,
Не знаешь, в чем твое спасенье?
Для настоящего моленья
Ужели немы так уста?
ИМЯРЕК.
Я верю!..
вера (склонясь к нему).
Веришь ты в Христа,
Пролившего святую кровь?
В его великую любовь?
ИМЯРЕК.
Да! Но я знаю: только тот
Спасенье вечное найдет,
Лишь тот пребудет с ним в раю,
Кто свято прожил жизнь свою.
В награду за свои деянья
Получит он и воздаянье.
Бог милосерд, но справедлив.
Я, душу навсегда сгубив,
Грехами так отягощен,
Что не могу быть им прощен.
Имярек
145
вера. Ты сомневаешься, неверный,
В Господней милости безмерной?
ИМЯРЕК.
Карает он!..
вера . Прощает он!..
ИМЯРЕК.
В твоих словах надежды свет.
Я точно вновь рожден на свет.
Я верю, верю, что Христос
Для всех прощение принес,
Что есть спасенье впереди,
Пока дыханье есть в груди.
вера. Ступай же, больше ты не бойся
И от грехов своих омойся.
ИМЯРЕК.
Но где источник есть святой,
Чтоб мне в струе омыться той?
Наверху появляется Доминиканец в белой одежде.
вера. Вот пастырь ждет, омойся прежде
И в белой приходи одежде.
С тобой мы об руку пойдем...
Окрепнут и твои деянья
И также будут в состояньи
Идти с тобой одним путем.
имярек (на коленях).
Христос, мой Спаситель, Отца умоли,
Чтоб дал мне уйти непостыдно с земли.
Когда же мой враг будет гнаться за мной,
А смерть сдавит горло железной рукой —
Чтоб бедную, грешную душу мою
Он спас и оставил в пресветлом раю.
Он лежит в глубокой молитве, закрыв лицо.
Сильно звучит орган. В это время внизу, в темноте, прохо-
146
Гуго фон Гофмансталь
дит Мать Имярека, как бы по дороге крайней обедне; перед
ней Слуга несет фонарь.
СЛУГА.
Что это с вами, госпожа?
Вы стали, медля и дрожа;
Не лучше ли вернуться вам,
Чем к утрене идти во храм?
мать. Ужель я поздно поднялась?
Ужели служба началась?
Как будто ангелы поют,
Звучит их хор из горней дали.
СЛУГА.
Нет! Ничего не слышно тут,
И к службе мы не опоздали.
мать. Я слышу хор, я слышу звон,
С восторгом внемлю славословью;
Спасен мой милый сын, спасен,
Я чувствую своей любовью.
Его душа просветлена,
Она узнала правду Божью,
Падет, счастливая, она
К его пресветлому подножью.
С какою радостью свою
Земную жизнь теперь покину,
Когда я знаю, что в раю
Смогу я улыбнуться сыну.
Услышал Бог мою мольбу
О милом и любимом сыне!
Господь, Господь, свою рабу
Ты с миром отпущаешь ныне!
СЛУГА.
Пойдемте лучше, госпожа:
Рассвет уж близок, ночь свежа.
Они уходят..
Имярек
147
вера. Встань, Имярек! С тобою Бог.
Забудь тоску своих тревог.
Иди к блаженному покою;
Пусть узрит Вечный Судия,
Что книга счетная твоя
Исправлена моей рукою.
Деяния, отбросив костыли, подходит к ним.
вера. Смотри и радуйся теперь!
С твоих деяний бремя спало:
Тебе спасенье засияло,
Открылась милосердья дверь.
ДЕЯНИЯ.
С меня, несчастной и больной,
Ты снял мучительную ношу,
Теперь, мой друг, пойду с тобой
И никогда тебя не брошу.
ИМЯРЕК.
От радости готов рыдать!
вера. Нет, слез тебе не надо боле!
Возрадуйся, не долго ждать,
Ты узришь Бога на престоле.
ИМЯРЕК.
Теперь я медлить не хочу,
Я душу Господу вручу.
Но не расстанемся отныне,
Втроем пойдем к Его святыне.
(Входит наверх и следует за Доминиканцем.)
Вера и Деяния молятся.
дьявол (вбежав, громко зовет).
Эй, Имярек! Любезный! Стой!
Сюда пришел я за тобой!
Вот я застал тебя врасплох!
Эй, Имярек!.. Да он оглох!
148
Гуго фон Гофмансталь
Куда же это он ушел?
За ним пришел я как посол.
Пусть мне пришлют его скорей,
Я подожду здесь, у дверей.
Что ж, подождать так подождать,
Но уж не обращусь я вспять.
Он мой! Всецело и вполне!
Принадлежит по праву мне!
вера. Стой!
дьявол (не слышит).
Я иду!
вера. Здесь нет пути!
дьявол.
Но должен я туда пройти.
вера. Здесь не пройдет тебе подобный,
дьявол.
Что спорить с этой бабой злобной!
Пройду кругом.
(Хочет обойти ее.)
вера (снова заступая ему дорогу).
Здесь нет пути!
дьявол.
Туда мне нужно! Пропусти!
Пойми: служебные дела.
Одна душа туда вошла,
Ее я должен отвести...
Ну, я прошу тебя, пусти!
вера. С тобой беседы не веду!
дьявол. Я тоже; дай же я пройду.
ДЕЯНИЯ.
Здесь нет пути!
вера. Здесь не пройти!
дьявол (затыкая уши).
Шум! Крик! Попался я в беду!
вера (заступая дорогу).
Здесь не пройти!
Имярек
149
дьявол. Я не пройду?..
Мне нет пути? Мне не пройти?
Не пробежать? Не проскользнуть?
Нет? Ладно! Проложу я путь.
(Хочет пробиться силой.)
вера (заступая путь).
Молитве нашей не мешай!
Нас защищает светлый рай!
Вера и Деяния, не обращая на него внимания, молятся со
сложенными руками.
дьявол (садясь на землю).
Какое же тут есть сомненье?
При чем тут ваше выступленье —
Кто может мне в лицо сказать,
Да, кто посмеет утверждать,
Что этот человек не мой?
Ему наследник я прямой!
Он в жизни ведь ценил одно:
Обжорство, леность и вино.
Он упивался в вихре праздном,
Он женщинам служил соблазном,
Не знал ни чести, ни стыда,
Не верил в Бога никогда,
Он Божью осквернял обитель,
Сирот и вдов он притеснитель,
Он ненавидел, не любил
И все, что мог, душил, губил!
(Вскакивает.)
Слов не хватает для того,
Чтоб верно описать его!
И что же? У меня хотят
Отнять такой бесценный клад.
Я не могу его схватить
150
Гуго фон Гофмансталь
И шею грешнику скрутить,
Сказать: «Умри, ты, прах несчастный!»
И душу взять рукою властной?
Как это? Дайте ж мне ответ! —
Вам до меня и дела нет?
Пускай бешусь я как хочу,
Пускай зубами скрежещу —
Вам это все одна забава?
Где ж справедливость? Где же право?
вера. Ты проиграл игру вконец;
Тебе небес не побороть;
Терновый тяжкий свой венец
На чашу положил Господь,
И этим уплатил до века
Он долг великий Имярека,
дьявол.
Что? Уплатил весь долг сполна?
Как это? Вот тебе и на!
Так, значит, можно в мире жить
И с нами до конца дружить,
Любить веселье, грех, пиры,
Всю прелесть дьявольской игры,
И вдруг — в одно мгновенье ока —
Сокрыться из сетей порока?
Раз-два — и гибель далеко;
Вам это сделать так легко?
вера. Раскаянья святой порыв,
Всесильно душу охватив,
Несет, как пламя, очищенье:
В нем — и спасенье и прощенье!..
дьявол.
Ха-ха! Вот бабий разговор!
Обман! Пустые бредни! Вздор!
Сухим выходит из воды...
К чему ж тогда мои труды?
Имярек
151
Пустые мелешь ты слова;
Ну, где ж тогда мои права?..
вера. Перед лицом его Судьи
Ничтожный звук права твои;
Их суть — изменчивая тень
«Сейчас», и «здесь», и «в этот день»;
Вот их граница и конечность.
Где этот колокол звучит —
Там все житейское молчит,
Там — вечность!
Слышен погребальный колокол. Вера и Деяния падают на
колени.
дьявол (затыкая уши).
Я побежден, я ухожу,
Я прямо слов не нахожу.
Берите! Тут прямой разбой.
Мне тошно здесь, хочу домой!
Вера и Деяния поднимаются с колен.
Да, нечего сказать! Отлично!
Самоуправство безгранично...
Иду, не ведая забот...
«Вот, думаю, наследство ждет»...
Наследство? Битая посуда!
Две женщины! Кто? Как? Откуда?
«Здесь не пройти! Здесь нет пути!
Держать бы всех вас взаперти,
В ежовых, на воде и хлебе,
Так не болтали бы о небе!
Здесь нет пути!»... Взглянуть бы мне,
Как стал бы он гореть в огне.
А он идет в одежде белой,
С ужимкой льстивой и несмелой!
152
Гуго фон Гофмансталь
Мир глуп, и жалок, и смешон,
Насилье в нем — один закон.
Где честных ты людей найдешь?
Все хитрость, и обман, и ложь!
(Исчезает.)
Имярек показывается наверху в длинном белом саване, с
посохом в руках. Лицо его смертельно бледно. Он подходит
к Вере и Деяниям.
ДЕЯНИЯ.
Мой Имярек сюда идет,
Его я слышу приближенье;
Свободны все мои движенья,
И сильным будет мой полет!
ИМЯРЕК.
Ну, дайте руку мне, друзья!
Святые тайны принял я.
Да будет тот благословен,
Кто уничтожил смерти плен.
Благодарю сердечно вас,
Что вы в последний этот час
Своей молитвою бесценной
Мне подкрепляли дух смиренный.
Теперь идемте, я готов;
Вот посох мой, но хватит силы
Дойти спокойно до могилы,
Где ждет меня последний кров,
даяния.
Мне мрак не страшен гробовой —
С тобою путь окончу твой.
вера. Тебе, как древне Маккавею,
Всей силой помогу своею.
Идут наверх с Имяреком. Появляется Смерть и идет за
ними. Они стоят у могилы.
Имярек
153
имярек (закрывая глаза).
Вот гроб предо мною, он темен, как ночь.
Господь всемогущий, молю мне помочь!
вера. Я близко, я здесь, за тобою слежу.
деяния. С тобой перейду я земную межу.
ИМЯРЕК.
Господь мой! С молитвой я очи смежу.
деяния (помогая ему войти в могилу и входя за ним).
Пошли нам спокойный и тихий конец,
Мы к радости вечной стремимся, Творец!
имярек (он в могиле, еще видны его плени и голова).
Ты искупил земные дни,
Там душу ныне охрани,
Чтобы теперь от власти зла
Она погибнуть не могла,
Когда ж настанет день суда,
Чтоб вознеслась она тогда
В спасенных душ блаженном рое
В Твое убежище святое!
(Скрывается в могиле.)
вера. Итак, свершил земной он жребий;
Что ждет его теперь на небе?
Предстанет перед Судией
Дрожащий, нищий и нагой.
Посмеют ли его деянья
Молить смиренно состраданья?.. —
Спасен! Я слышу горний хор;
Сияет свет; упал затвор,
И бедная душа больная
С восторгом входит в двери рая!..
Вдали — пение невидимых ангелов.
Занавес 1911
*
'Ул
)МЯ l/
%1M
■<&
Ш
mi
Щ
[fir
Wa
Ш
Ot.
-'■!
rr
if
('/.;}
-t' 7
* ' A
.w
' /"' . A/,
'ml
ip-
VIZ'- f
>\f .4
/ ■(
Трудный
характер
Комедия в трех актах
Перевод
Н. и Д. Павловых
*
Действующие лица
ГАНС КАРЛ БЮЛЬ
КРЕСЧЕНЦА,
его сестра
СТАНИ,
ее сын
ЕЛЕНА АЛЬТЕНВИЛЬ
АЛЬТЕНВИЛЬ
АНТУАНЕТТА ГЕХИНГЕН
ГЕХИНГЕН
НОЙХОФ
дина л приятельницы
НАННИ Антуанетты
губерта ;
АГАТА,
камеристка
НОЙГЕБАУЕР,
секретарь
ЛУКАС,
старый камердинер Ганса Карла
ВИНЦЕНТ,
новый его камердинер
ЗНАМЕНИТОСТЬ
Слуги у Бюлей и Альтенвилей
*
Акт первый
Небольшая комната в старом венском особняке, приспособ-
ленная хозяином под кабинет.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Входят Лукас и Винцент.
лукас. Это так называемый кабинет. Родственников или близких
друзей принимают здесь, в зеленой гостиной — только по
особому распоряжению.
винцент (входит). Чем он тут занимается? Делами имения?
Может, еще чем? Политикой?
лукас. Эта дверь с тамбуром для секретаря.
вийцент. У него и секретарь есть? Все они такие бедолаги!
Неудачники! А он тут что-нибудь значит?
лукас. Там и гардеробная. Пойдем туда, приготовим фрак и смо-
кинг — на выбор, потому что никаких указаний не было.
винцент (шарит глазами по всем закоулкам). Вы что же хотите
сразу приставить меня к службе? Вроде бы времени хватает,
можно и до утра подождать, а пока поговорили бы как кол-
леги? Не знаю я что ли, как их надо обслуживать? Столько
лет оттрубил... Давайте-ка лучше про главное, без чего уж
никак не обойдешься: какие у него пунктики. Ну, выклады-
вайте!
лукас (поправляет покосившуюся картину). Он не выносит,
когда картины или зеркала висят косо. А если примется от-
158
Гуго фон Гофмансталь
крывать ящики или искать затерявшийся ключ, значит, сов-
сем не в духе.
винцент. Это все ерунда! Вот вы говорили, что в этом доме живут
его сестра и племянник. О них тоже надо всякий раз докла-
дывать?
ЛУКАС (вытирает носовым платком зеркало). Как и о каждом
другом визите. Тут он строг.
винцент. А почему? Не хочет их к себе подпускать. Зачем тогда их
здесь поселил? Один у него дом, что ли? Ведь это его наслед-
ники. Они же ждут не дождутся его смерти.
лукас. Графиня Кресченца и граф Стани? Боже сохрани! Какой
вздор вы несете!
винцент. Оставьте свое мнение при себе! Итак, зачем они ему тут
нужны? Вот что интересно. Ведь это проливает свет на его
намерения в известном направлении. А я должен в них разо-
браться, прежде чем с ним связываться.
лукас. Какие такие «его намерения в известном направлении»,
скажите на милость?
винцент. Нечего вам мои слова повторять! Для меня все это слиш-
ком серьезно. Если дело пойдет, глядишь — и вся моя жизнь
устроится. Когда вы уйдете на покой, я все здесь приберу к
рукам. Судя по тому, что я слышал, дом этот мне подходит.
Но должен же я знать всю подноготную. Раз он напустил
сюда родственников, значит, хочет начать новую жизнь.
Вполне понятно в его возрасте, да еще когда война кончи-
лась. Если тебе сорок с хвостиком...
лукас. Сорок лет их светлости исполнится в будущем году.
винцент. Короче говоря, хватит с него всяких интрижек. Надоели
ему шуры-муры.
лукас. Что вы такое мелете, не пойму...
винцент. Да нет же, господин хороший, вы меня отлично понимае-
те... Пока все именно так, как мне привратница рассказыва-
ла. Остается выяснить: собирается ли он жениться? Если
здесь будет бабье царство, мне тут тогда делать нечего...
Или он хочет коротать свой век холостяком, вместе со мной?
Трудный характер
159
Как по-вашему? Ведь для меня это, можно сказать, вопрос
вопросов.
Лукас покашливает.
винцент. Что вы меня пугаете?
лукас. Иногда и шагов не слышно, а он уж тут как тут.
винцент. А цель-то какая? Хочет кого-нибудь выследить? Или
вообще не так-то прост?
лукас. Когда так, вам лучше молча исчезнуть.
винцент. Ничего себе порядочки. Я его от них отучу. Со време-
нем, конечно.
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
ГАНС карл (тихо входит). Лукас, останьтесь, пожалуйста. Это вы,
Нойгебауер?
Винцент стоит поодаль в тени.
лукас. Позвольте доложить вашей светлости: это новый камерди-
нер, он четыре года отслужил у их светлости князя Пальма.
ганс карл. Займитесь с ним сами. Ко мне должен зайти Нойге-
бауер с бумагами по Верхнему Бюлю. Для других меня нет
дома.
Слышен колокольчик.
лукас. Это из малой прихожей.(Угодит.)
Винцент остается. Ганс Карл подходит к письменному
столу.
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
лукас (входит и докладывает). Графиня Фройденберг.
Сразу за ним появляется Кресненца. Лукас выходит, Вин-
цент тоже.
кресченца. Я тебе помешала, Кари? Пардон...
160
Гуго фон Гофмансталь
ганс карл. Нет, что ты, дорогая Кресченца.
кресченца. Я иду наверх, чтобы одеться к вечеру...
ганс карл. У Альтенвилей?
кресченца. Ты ведь тоже будешь на вечере? Или нет? Я только
хотела узнать, дорогой.
ганс карл. Если можно, я бы, пожалуй, пока не стал решать;
лучше я позвоню из казино. Ты ведь знаешь: я так не люблю
себя заранее связывать.
кресченца. Ах, да.
ганс карл. Но если ты на меня рассчитывала...
кресченца. Дорогой Кари, я уже достигла того возраста, когда
могу возвращаться домой без провожатых... к тому же будет
Стани, он меня и проводит. Так, значит, ты не придешь?
ганс карл. Я бы предпочел еще подумать.
кресченца. Мой дорогой, сколько ни думай, прием не станет от
этого лучше. Мне казалось, война отучила тебя от раздумий.
Он стоит у стола, она садится рядом.
Будь умником, Кари. И избавь меня от своих капризов, от
взбалмошности, от нежелания принимать решения, — из-за
чего мне так часто приходится вести баталии с твоими друзь-
ями: ведь тебя называют ипохондриком, говорят, что ты
вечно портишь игру, считают, что на тебя вообще нельзя
положиться... Ты вернулся в такой прекрасной форме, ты
снова такой, каким был в двадцать два, когда я была почти
влюблена в своего брата.
ГАНС карл. Это все комплименты, милая Кресченца?
кресченца. Да нет же, я говорю как есть: спроси хоть у Стани, это
неподкупный арбитр. Ты для него — во всем мире первый,
только и слышишь: дядя Кари, дядя Кари; лучшая для него
похвала, что он похож на тебя, и ведь в самом деле похож,
просто копия твоя, особенно в движениях; твое обхождение с
людьми кажется ему самым элегантным... великолепная
широта, дистанция и при этом совершенная ровность и доб-
рожелательность ко всем и каждому — в том числе и к ниже-
Трудный характер
161
стоящим. Но он, как и я, видит, конечно, и твои слабости:
преклоняется перед силой, уменьем владеть собой — перед
всем определенным, ненавидит твою нерешительность... тут
он похож на меня!
ганс карл. Поздравляю тебя с таким сыном, Кресченца. Уверен,
он тебя всегда будет радовать.
кресченца Но, pour revenir a nos moutons...1 Боже мой, пройти
через все, что тебе довелось, и вести себя при этом так,
будто это безделица...
ганс карл (смущенно). Там ведь все так себя вели.
кресченца. Нет, извини, не все. Но мне казалось, что когда все
позади, можно было и преодолеть свою ипохондрию.
ганс карл. От той, что вызывает у меня общество, я никогда не
избавлюсь. Светские приемы — мука для меня. И тут уж
вряд ли чем поможешь. В лучшем случае я еще понимаю тех,
кто их устраивает, но никогда не пойму, откуда берутся охот-
ники на них ходить.
кресченца. Но что тебя не устраивает? Об этом-то можно погово-
рить? Может, тебе скучно со стариками?
ганс карл. Что ты, они так любезны и просто очаровательны.
кресченца. Значит, тебя молодежь раздражает?
ганс карл. И против нее я ничего не имею. Мне вообще все непере-
носимо. Понимаешь, все в целом: это такой клубок недора-
зумений, неясностей. Ах, эти вечные недоразумения!
кресченца. Не могу понять, как ты, столько испытав на войне,
умудрился сохранить такую чувствительность...
ганс карл. Это не убавляет, а прибавляет чувствительности.
Неужели ты не понимаешь, Кресченца? Из-за совершенной
ерунды у меня уже слезы на глазах или в жар бросает от
неловкости... из-за каких-то пустяков, нюансов, которых
никто больше и не замечает; или я вдруг вслух начинаю гово-
рить что думаю... в таком состоянии лучше не выходить на
люди, Не могу яснее выразить, но это сильнее меня. По
Вернемся к нашим баранам (франц.).
162
Гуго фон Гофмансталь
правде говоря, вот уже часа два как я велел отказать Альтен-
вилям. Может, как-нибудь в другой раз, но не сегодня.
кресченца. Не сегодня. Почему же именно не сегодня?
ганс карл. Это сильнее меня... Так, по самым общим причинам...
кресченца. Если ты говоришь о «самых общих причинах», то
наверняка имеешь в виду нечто вполне определенное.
ганс карл. Нет, Кресченца, отнюдь нет.
кресченца. Да, конечно. Так вот, могу тебя успокоить в этом пун-
кте.
ганс карл. В каком пункте?
кресченца. Относительно Елены.
ГАНС карл. Почему ты вдруг заговорила о Елене?
кресченца. Мой дорогой, я не слепа и не глуха... И то, что она
была влюблена в тебя по уши лет с пятнадцати и до самого
недавнего времени — ну, скажем, до второго года войны...
это я могу доказать как дважды два.
ганс карл. Однако, Кресченца, ты тут явно что-то сочиняешь.
кресченца. Знаешь, года три или четыре тому назад, когда она
только начала выезжать, я вдруг вообразила: вот та, на всей
земле единственная, что могла бы тебя захватить целиком и
стать твоей женой. Но я рада до смерти, что этого не про-
изошло. Два таких сложных человека вместе — тут добра не
жди.
ганс карл. Ты меня переоцениваешь. Я самый несложный на свете
человек. (Выдвигает ящик стола.) Однако не могу себе
представить, как ты могла такое вообразить... да, я привязан
к Елене... ведь она мне почти кузина, я знал ее еще совсем
маленькой... да она мне в дочери годится. (Ищет что-то в
ящике.)
кресченца. Скорее уж мне. Но дочерью я бы ее иметь не хотела.
И вовсе не надо мне такого зятя, как этот барон Нойхоф.
ганс карл. Нойхоф? Это так серьезно?
кресченца. Она выходит за него замуж.
Ганс Карл задвигает ящик.
Трудный характер
163
кресченца. По-моему, это дело решенное, хотя он совершенно
чуждый нам человек, свалился как снег на голову из какой-
то остзейской провинции, черт знает откуда.
ГАНС карл. Ты никогда не была сильна в географии. Нойхофы —
гольштинский род.
кресченца. Не все ли равно. Это совершенно чуждые нам люди.
ганс карл. Однако весьма именитые. С такими связями...
кресченца. Говорят, этот род упоминается в «Готском альмана-
хе». Но кто это станет здесь проверять?
ганс карл. Ты, однако, ожесточилась...
кресченца. А как же! Если одна из наших лучших невест решается
связать свою судьбу с совершенно чуждым ей человеком,
несмотря на то, что в наших краях он никогда не сможет
занять положения...
ганс карл. Ты полагаешь?
кресченца. Никогда в жизни! К тому же ее совсем не трогают его
разглагольствования, короче, она делает это наперекор себе
и всему миру.
Короткая пауза. Ганс Карл рывком выдвигает другой
ящик.
кресченца. Может, я помогу тебе искать? Ты что-то нервни-
чаешь.
ганс карл. Премного благодарен. Я, собственно, ничего не ищу,
просто взял не тот ключ.
секретарь (появляется в маленькой двери). О, покорнейше прошу
простить...
ганс карл. Я освобожусь чуть позже, любезный Нойгебауер.
Секретарь удаляется.
кресченца (подходит к столу). Кари, если это будет тебе хоть
немного по душе, я расстрою всю эту историю.
ганс карл. Какую историю?
кресченца. Ту, о которой мы говорили: Елена — Нойхоф. Я ее
расстрою — не сегодня, так завтра.
164
Гуго фон Гофмансталь
ГАНС КАРЛ. ЧТО?
кресченца. Клянусь, что она и теперь еще влюблена в тебя, как и
шесть лет назад, и довольно одного только слова, только
слабого намека...
ганс карл. Во имя всего святого, прошу тебя его не делать...
кресченца. Что ж, пожалуйста. Тоже неплохо.
ганс карл. Я преклоняюсь перед твоей энергией, дорогая, но
люди, слава богу, далеко не так просты.
кресченца. Дорогой мой, люди, слава Богу, очень просты, если
принимать их просто. Ну, что ж, я вижу, эта новость не так
уж для тебя страшна. Тем лучше — ты потерял к Елене инте-
рес, я принимаю это к сведению.
ГАНС карл (вставая). Не понимаю, как тебе в голову могло прий-
ти, что я вообще питал к ней интерес. Другие тоже разде-
ляют это странное заблуждение?
кресченца. Весьма возможно.
ганс карл. А знаешь, я, пожалуй, пойду на вечер к Альтенвилям...
кресченца. Чтобы благословить этого Теофила? Он будет в вос-
торге. На все пойдет, только бы завоевать твою дружбу.
ганс карл. Не кажется ли тебе, что при таких обстоятельствах мне
бы уже давно следовало показаться у Альтенвилей? Крайне
сожалею, что им отказал.
кресченца. Так вели передать по телефону: по вине нового камер-
динера вышло недоразумение и ты будешь.
Входит Лукас.
ганс карл (Кресченце). Знаешь, я бы все-таки предпочел еще поду-
мать...
лукас. Как только вы освободитесь, я бы позволил себе доложить
об одном посетителе.
кресченца (Лукасу). Ухожу, ухожу... Сообщите поскорее графу
Альтенвилю: их светлость появится у них вечером. Вышло
недоразумение.
Лукас смотрит на Ганса Карла.
Трудный характер
165
ГАНС карл (не глядя на Лукаса). Тогда ему надо сперва позвонить в
казино, чтобы граф Гехинген не ждал меня ни к обеду, ни
после.
кресченца. Конечно, он так и сделает. Но сначала пусть соеди-
нится с графом Альтенвилем, чтобы известить хозяев.
Лукас уходит.
кресченца (встает). А теперь я оставляю тебя твоим занятиям.
(На ходу.) С кем это из Гехингенов ты уговаривался о
встрече — с Нанди?
ганс карл. Нет, с Адольфом.
кресченца (возвращается). С супругом Антуанетты? Разве он не
совершенный чурбан?
ганс карл. Знаешь, Кресченца, я не берусь об этом судить. Мне
уже давно кажется глупостью все это хваленое остроумие
светских бесед, а всякие глупости верхом разума...
кресченца. Впрочем, я никогда не сомневалась, что он-то ее поум-
нее.
ганс карл. Видишь ли, раньше я его совсем не знал, вернее... (по-
ворачивается к стене и поправляет покосившуюся карти-
ну) знал только как мужа его жены... Уже потом, на войне,
мы очень с ним подружились. Видишь ли, это необыкно-
венно порядочный человек. Зимой в пятнадцатом мы почти
пять месяцев держали с ним позицию в карпатских лесах — я
со своими стрелками, он со своими саперами. Мы делились
последним куском хлеба. Я стал его глубоко уважать. Там
было немало смелых людей, но я не видел ни одного, кто
перед лицом смерти сохранял бы такое спокойствие, будто
он у себя дома.
кресченца. Слышали бы тебя его родные, они бы тебя облобыза-
ли. Навести же эту дуреху и помири ее с ним. Ты осчастли-
вишь две семьи сразу. Эта их вечная проблема: развестись
или разъехаться — по мне что в лоб, что по лбу — всем дей-
ствует на нервы. А кроме того, и для тебя было бы хорошо,
если бы эта история вошла в какое-то русло.
166
Гуго фон Гофмансталь
ганс карл. В каком смысле?
кресченца. Так вот, позволь тебе сказать: находятся люди, выска-
зывающие нелепую мысль, что если этот брак будет рас-
торгнут, ты на ней женишься.
Ганс Карл молчит.
кресченца. Ты уже нанес ей визит после того как вернулся?
ганс карл.Нет, но, разумеется, должен был нанести.
кресченца (смотря в сторону). Так сделай это завтра же и усове-
сти ее.
ганс карл (наклоняется, будто хочет что-то поднять). Право
не знаю, подходящий ли я для этого человек.
кресченца. Ты даже благое дело сделаешь. Своим визитом дашь
ей ясно понять, что два года назад, когда она всеми сила-
ми старалась афишировать ваши отношения, ее не туда зане-
сло.
ганс карл (не глядя на нее). Это твоя идея-фикс.
кресченца. Как и та, что теперь она нацелилась на Стани.
ганскарл (пораженно). На твоего Стани?
кресченца. Да, еще весной. (Она уже почти у двери, но поворачи-
вается и возвращается к письменному столу.) Ты бы мог
оказать мне большую услугу, Кари...
ганс карл. Я всегда рад тебе услужить. Говори.
Пододвигает ей кресло, она остается стоять.
кресченца. Я пришлю к тебе Стани на минутку. Разъясни ему
свою точку зрения. Скажи, что Антуанетта — из тех жен-
щин, которые будто специально сотворены, чтобы компро-
метировать мужчин понапрасну. Короче говоря, постарайся
внушить ему неприязнь к ней.
ганс карл. Да, но как ты это себе представляешь? А если он влюб-
лен в нее?
кресченца. Мужчины никогда не бывают так уж безумно влюбле-
ны, а ты для Стани — оракул! Если б ты только постарался...
обещаешь мне?
Трудный характер
167
ГАНС карл. Охотно, но надо, чтобы нашелся хоть какой-то повод...
КРЕСЧЕНЦА (опять доходит до двери, оттуда). Найди. Ты и пред-
ставить себе не можешь, какой ты для него высокий автори-
тет. (Собирается уходить, но вновь возвращается к пись-
менному столу.) Скажи ему, что она, по-твоему, не эле-
гантна и тебе бы никогда не смогла понравиться. Тогда он
завтра же от нее отвернется. (Снова идет к двери, та же
игра.) Только не говори с ним резко, но и слишком мягко не
надо. И не слишком sous-entendu1. И так, чтобы ему и в
голову не могло прийти, что это моя идея... Ведь у него
прямо мания какая-то, будто я хочу его женить, конечно же,
хочу, но... не должен же он об этом догадываться; он так
похож на тебя: вечно ему мерещится, что на него хотят
повлиять... (Опять та же игра.) Знаешь, для меня очень
важно, чтобы этот разговор состоялся сегодня же. К чему
терять вечер? Ведь и у тебя есть программа: ты даешь
Антуанетте понять, что не одобряешь все это... наталки-
ваешь ее на размышления о семейной жизни... восславляешь
Адольфа... вот твоя миссия, и для тебя весь вечер наполня-
ется смыслом. (Уходит.)
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
винцент (входит справа, оглядывается, ушла ли Кресненца). Не
знаю, доложили ли вам: там ждет одна молодая особа, с виду
как будто горничная.
ганс карл. А в чем дело?
винцент. Видите ли, она от графини Гехинген. Наверное, ее дове-
ренная. (Подходит еще ближе.) За робкую просительницу
ее не примешь.
ганс карл. В этом я сам разберусь. Проведите ее сюда.
Винцент уходит направо.
1 Намеками (франц.).
168
Гуго фон Гофмансталь
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
лукас (быстро входит через среднюю дверь). Вашей светлости
уже доложили? Камеристка Агата, от графини Гехинген. Я
сказал, что не могу знать, дома ли ваша светлость.
ганс карл. Хорошо. Я велел сказать, что жду. Вы уже связались с
графом Альтенвилем?
лукас. Прошу покорнейше простить. Я заметил, что ваша свет-
лость не желали, чтобы я телефонировал. Не хотели, одна-
ко, и госпоже графине перечить... так что я пока не стал спе-
шить.
ганс карл (улыбаясь). Отлично, Лукас.
Лукас идет к двери.
ганс карл. Лукас, как вы находите нового камердинера?
лукас (колеблясь). Посмотрим еще, как он себя покажет.
ганс карл. Немыслимый человек. Рассчитать! Отослать!
лукас. Слушаюсь, ваша светлость. Я так и думал.
ганс карл. И больше мне о нем не напоминайте.
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Винцент вводит Агату, оба камердинера выходят.
ганс карл. Добрый вечер, Агата.
агата. Наконец-то я вижу вас, ваша светлость! Меня прямо в
дрожь бросает.
ганс карл. Не присядете ли?
агата (стоя). Ах, ваша милость, не сердитесь, что вместо Бранд-
штеттера пришла я.
ганс карл. Будто мы с вами не старинные знакомые, Агата. Что
привело вас ко мне?
агата. Боже мой, вы же знаете, ваша светлость: я пришла за пись-
мами.
Ганс Карл озадачен.
Трудный характер
169
агата. О, Господи! Прошу прощения! Госпожа так боялась, не
испортила бы я чего своим поведением...
ганс карл (колеблясь). Графиня мне, разумеется, писала, что пят-
надцатого числа пришлет некого господина Брандштеттера
за известными письмами, которые находятся у меня, но при-
надлежат ей. Сегодня двенадцатое, но я, безусловно, могу
передать эти письма вам — тотчас же, если таково желание
графини. Я знаю, как вы ей преданы.
агата. «Известные письма», как вы можете так говорить, ваша
светлость. Я же знаю, что это за письма...
ганс карл (холодно). Я сейчас же распоряжусь.
агата. Если бы она могла нас видеть — вот так, вместе — моя
госпожа графиня. Может, это бы ее успокоило и принесло
бы ей хоть какое-то облегчение.
Ганс Карл принимается искать в ящике стола.
агата. Они были ужасны, эти полтора месяца, с тех пор, как мы
узнали, что наш граф вернулся с войны, но не дает нам о себе
знать...
ганс карл (поднимает голову). У вас нет никаких известий от
графа Гехингена?
агата. От него? Если я говорю «наш граф», то на нашем языке это
вы, ваша светлость! О графе Гехингене мы не говорим «наш
граф»!
ганс карл (очень смущенно). Ах, пардон! Мне это не могло быть
известно.
агата (робко). Сегодня до полудня мы еще надеялись, что свида-
ние состоится вечером у графов Альтенвилей. Как вдруг мне
оттуда звонит горничная и сообщает: его не будет.
Ганс Карл встает.
агата. «Его не будет, Агата! — восклицает графиня. — Не будет
потому, что он слышал: там буду я! Значит, все кончено». И
смотрит на меня таким взглядом, какой тронул бы и камен-
ное сердце.
170
Гуго фон Гофмансталь
ГАНС карл (очень вежливо, но с желанием прекратить разговор).
Боюсь, что в моем столе этих писем нет. Сейчас я позову
секретаря.
агата. О боже, эти письма — у секретаря! Если б об этом узнала
моя госпожа!
ганс карл. Они, разумеется, запечатаны.
агата.Запечатаны! Вот, до чего дошло?
ГАНС карл (говорит в телефонную трубку). Любезный Нойгебау-
ер, не могли бы вы зайти на минутку? Да, я освободился...
Нет, без бумаг — речь пойдет о другом. Тотчас же? Нет,
дочитайте до конца. Минуты через три? Отлично.
агата. Он не должен меня видеть. Он помнит меня!
ГАНС карл. Вы можете пройти в библиотеку, я зажгу вам свет.
агата. Могли ли мы предположить, что вот так сразу... оно и все...
ГАНС карл (собиравшийся ее проводить, останавливается и хму-
рит брови). Милая Агата, уж раз вы во все посвящены... я
не совсем понимаю, ведь этой весной я написал графине
длинное письмо из госпиталя.
агата. Да, ужасное письмо.
ганс карл. Я вас не понимаю. Это было дружеское письмо:.
агата. Это было коварное письмо. Нас охватила такая1 дрожь,
когда мы его читали. Мы были унижены и полны горечи.
ганс карл. Почему же, ради всего святого!
агата (смотрит на него). Потому, что вы в нем только и знали,
что расхваливать графа Гехингена, да еще прибавили, что в
конце концов все мужчины одинаковы и каждый может дру-
гого заменить.
ганс карл. Но ведь я не писал ничего подобного. Ничего такого у
меня и в мыслях не было!
агата. Но суть была такова. Ах, как часто мы перечитывали
это письмо. «Вот, — восклицала моя госпожа, — вот, стало
быть, плод звездных ночей и одиноких мечтаний, это пись-
мо, где он сухо оповещает: я ничем не лучше других, наша
любовь — одна фантазия, забудь меня, возвращайся к Гехин-
гену...».
Трудный характер
171
ганс карл. Не было там таких слов.
агата. Не в словах дело. Смысл до нас дошел хорошо, этот обид-
ный смысл, эти унизительные выводы. О, мы прекрасно
знаем: подобное самоуничижение — коварное искусство.
Когда мужчина винит себя, то на самом деле он винит пред-
мет своей любви. И в мгновение ока в обвиняемых превра-
щаемся мы.
Ганс Карл молчит.
агата (подойдя на шаг ближе). Я защищала нашего графа, когда
моя госпожа сказала: «Агата, вот увидишь — он хочет
жениться на графине Альтенвиль, и только поэтому
пытается склеить мой брак».
ганс карл. Графиня сочла меня способным на это?
агата. Это были злейшие ее минуты. Потом мелькала надежда.
«Нет, — восклицала она тогда, — Елены я не боюсь. Она за
ним бегает, а тот, кто за Кари бегает, для него не существу-
ет, да и потом Елена его не стоит, ведь у нее нет сердца».
ганс карл (поправляет что-то). Если бы я только мог вас убедить...
агата. А потом снова страх...
ганс карл. ...как далеко это все от меня...
агата. «О Боже, — вдруг срывается у нее, — ведь он еще ни у кого
не был! Если бы это можно было понимать как...»
ганс карл. ...как далеко это от меня!
агата. «Но если он будет на моих глазах с ней помолвлен...».
ганс карл. Как только графиня может...
агата. О, с мужчинами так бывает, но только не с вами... Не
правда ли, ваша светлость?
ганс карл. В целом мире я ни от чего так не далек, милая Агата,
как от подобной идеи.
агата. О, ваша светлость... (Быстро целует ему руку.)
ганс карл (отнимает у нее руку). Секретарь идет.
агата. Мы, женщины, знаем: ничто прекрасное не вечно. И все-
таки никак не можем прийти в себя, когда все так внезапно
обрывается.
172
Гуго фон Гофмансталь
ГАНС карл. Подождите меня немного. Я сам отдам вам письма и...
Войдите! Входите же, Нойгебауер!
Агата уходит направо.
ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
нойгебауер (входит). Вы меня вызывали, ваша светлость?
ганс карл. Если б вы были так добры освежить в моей памяти... Я
ищу пачку писем пальца в два толщиной, это частные пись-
ма, запечатанные.
нойгебауер. С обозначенными вашей светлостью датами? С пят-
надцатого до двадцать второго июня и от шестнадцатого
октября?
ганс карл. Совершенно верно. Знаете ли...
нойгебауер. Я держал этот пакет в руках, но что-то не припомню.
Масса дел, среди всех этих бумаг, которых день ото дня все
больше...
ганс карл (без тени упрека). Не понимаю, как эти частные письма
могли оказаться среди деловых бумаг...
нойгебауер. Должен ли я понять вашу светлость в том смысле, что
у вас возникли некоторые сомнения насчет моей скромности...
ганс карл. Это мне и в голову не приходило.
нойгебауер. С вашего позволения я начну поиски и приложу все
усилия, чтобы тотчас же разъяснить это печальное недоразу-
мение.
ганс карл. Не придавайте слишком большого значения этому
происшествию, милый Нойгебауер.
нойгебауер. С некоторых пор я стал замечать, что чем-то раздра-
жаю вашу светлость. Конечно, мое воспитание было цели-
ком направлено на внутреннее развитие, и, если я при этом,
быть может, и не приобрел безупречных светских манер, то
этот недостаток могли бы, вероятно, хоть в какой-то мере
возместить в глазах благожелательного судьи некоторые
другие мои качества, подчеркивать которые мне, при моем
характере, право неудобно.
Трудный характер
173
ганс карл. Нисколько в этом не сомневаюсь, милый Нойгебауер.
Мне кажется, вы слегка переутомились. Я бы просил вас
кончать с делами пораньше. Было бы так хорошо, если бы
вы смогли вечерами совершать прогулки с вашей невестой.
Нойгебауер молчит.
ганс карл. Вас тяготят заботы личного свойства? Может быть, я
мог бы в чем-нибудь помочь?
нойгебауер. Ваша светлость полагают, что нашего брата могут
одолевать только материальные трудности.
ганс карл. Я вовсе не это имел в виду. Раз вы, как я знаю, жених,
то должны быть, разумеется, счастливы...
нойгебауер. Не знаю, намекает ли ваша светлость на экономку из
замка Верхний Бюль?
ганс карл. Ну да, с которой вы уже пять лет как помолвлены.
нойгебауер. Теперешняя моя невеста — дочь видного чиновника,
она была обручена с моим лучшим другом, убитым полгода
назад. Я занимал определенное место в ее сердце еще при
жизни ее жениха и счел своим долгом перед погибшим слу-
жить ей опорой всю жизнь.
ганс карл (нерешительно). А ваши многолетние отношения с
прежней невестой?
нойгебауер. Их я, естественно, порвал. Разумеется, самым благо-
родным и справедливым образом.
ГАНС КАРЛ. А!
нойгебауер. Я несомненно выполню все обязательства по отноше-
нию к этой стороне и буду нести на себе этот крест в своем
молодом супружестве. Тоже, знаете, не пустяк.
Ганс Карл молчит.
нойгебауер. Может быть, ваша светлость не в состоянии в полной
мере осознать, какой горькой нравственной ответственно-
стью отягощена жизнь в наших лишенных блеска сферах и
как по сути дела все у нас сводится к смене одних тягот други-
ми, еще более обременительными.
174
Гуго фон Гофмансталь
ганс карл. Я был всегда убежден — женитьба это радостное собы-
тие.
нойгебауер. Убеждения... Что они могут определять в нашем
скромном мире?
ганс карл. Разумеется, разумеется. Итак, вы постараетесь теперь
найти письма.
нойгебауер. Хоть до полуночи буду искать, если надо. (Уходит.)
ганс карл (про себя). Что-то есть во мне такое, от чего каждому
хочется меня учить, а я почему-то никак не могу решить,
есть ли у них на это право.
ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
стани (стоит в средней двери во фраке). Пардон, дядя Кари, если
помешал. Я только заглянул сказать тебе «добрый вечер».
ГАНС карл (пошел было направо у но остановился). Ты вовсе не
помешал мне. (Предлагает ему сесть и протягивает папи-
росницу.)
стани (берет папиросу). Разумеется, тебе вряд ли приятно, когда
к тебе являются без доклада. В этом мы с тобой одинаковы.
Тоже не терплю, когда ко мне вламываются. Предпочитаю
сначала немного собраться с мыслями.
ганс карл. Прошу тебя, не стесняйся, ты же у себя дома.
стани. Нет, пардон, у тебя.
ганс карл. Садись же.
стани. Нет, право, я бы никогда не решился, если бы не слышал
так ясно карканье Нойгебауера.
ганс карл. Он только что вышел.
стани. А то бы я никогда... Видишь ли, минут пять назад меня наг-
нал в коридоре новый камердинер и доложил — заметь, я его
об этом не спрашивал — что у тебя горничная от Анту-
анетты Гехинген и мне поэтому едва ли удастся с тобой пого-
ворить.
ганс карл (вполголоса). Ах, он тебе доложил... занятный экземпляр!
стани. Разумеется, я при таких обстоятельствах никогда...
Трудный характер
175
ГАНС карл. Она вернула мне несколько книг.
стани. Туанетта Гехинген читает книги?
ГАНС карл. А почему бы и нет. Несколько старых французских
романов.
стани. Восемнадцатого века. Это подходит к ее обстановке.
Ганс Карл молчит.
стани. Ее будуар просто charmant. Это маленькое канапе! Какого-
то известного мастера.
ганс карл. Да, это маленькое канапе. Ризенер.
стани. Да, Ризенер. Ну, и память же у тебя на фамилии! Клеймо
внизу.
ганс карл. Да, внизу — на ножке.
стани. Вечно она теряет свои шпильки. И когда потом наклоня-
ешься, чтобы их собрать, видишь эту надпись.
Ганс Карл идет и прикрывает дверь в библиотеку.
стани. Ты что, боишься сквозняков?
ганс карл. Да, все мы вернулись с войны ревматиками и мои стрел-
ки, и я... прямо как старые гончие.
стани. Знаешь, она так о тебе говорит, Антуанетта! Charmant.
ганс карл (курит). Хм!..
стали. Да, как ни о ком другом. Своим успехом у нее я несомненно
целиком обязан тому обстоятельству, что она находит меня
баснословно похожим на тебя. Например, наши руки. Она в
экстазе от твоих рук. (Рассматривает свою руку.) Только
прошу тебя, не обмолвись обо всем этом при maman. Хоть
это и далеко зашедший флирт, хомут здесь ни при чем.
Maman всегда все преувеличивает.
ганс карл. Но, дорогой Стани, с чего бы вдруг я стал об этом гово-
рить?
стани. Постепенно она заметила, конечно, и разницу между нами.
£а va sans dire1.
Само собой разумеется (франц.).
176
Гуго фон Гофмансталь
ганс карл. Антуанетта?
стани. Она описала мне начало вашей дружбы.
ганс карл. Ведь я знаю ее с незапамятных времен...
стани. Нет, как это было два года назад. На второй год войны,
когда ты приехал в отпуск после первого ранения... те
несколько дней в Грюнлейтене.
ганс карл. Значит, она числит нашу дружбу с тех пор?
стани. Конечно, с той поры ты ее главный друг. Советчик, пове-
ренный, все что угодно. Словом, hors ligne1. Ты вел себя с
ней как ангел.
ГАНС карл. Она всегда проявляла склонность к преувеличениям,
милая Антуанетта...
стани. Нет, нет... она мне во всех подробностях описала, как из
страха остаться в Грюнлейтене одной со своим мужем — он
тоже проводил там отпуск, — она ангажировала на весь сле-
дующий день Ферри Ульфельта, который увивался за ней
как черт, но вечером в театре повстречала тебя и ее прямо
осенило: она приглашает тебя скоротать этот вечер втро-
ем — с ней и Адольфом.
ганс карл. Тогда я его едва знал.
стани. Да, entre parenthese2, этого она абсолютно не понимает!
Как ты мог так с ним потом подружиться. С таким непрохо-
димым олухом, скучным педантом.
ганс карл. Как она несправедлива к своему мужу!
стани. Ну, тут я не хочу вмешиваться. Но рассказывает она все это
прелестно.
ГАНС карл. Чуть-чуть интимных подробностей — это она умеет.
стани. Да, с этого она обычно начинает. Тот вечер прямо стоит у
меня перед глазами... как она ведет тебя после ужина пока-
зывать сад... восхитительный спуск к реке террасами, всхо-
дит месяц...
ганс карл. Подробно же она тебе все рассказала...
1 Вне конкуренции (франц.).
2 Между прочим (франц.).
Трудный характер
177
стани. И как за один-единственный ночной разговор ты сумел
начисто убить в ней всякий интерес к Ферри Ульфельту.
Ганс Карл курит и молчит.
стани. Вот это меня в тебе и восхищает: ты говоришь так мало,
так рассеян, но производишь такое сильное впечатление.
Поэтому я и нахожу вполне естественным то, о чем многие
любят посудачить: вот уже полтора года, как ты в парламен-
те, но еще ни разу не взял слова. Для такого, как ты, это
совершенно в порядке вещей! Такой человек уже самой
своей личностью выражает все, что надо. О, я изучаю тебя.
Через несколько лет и я этому научусь. Пока еще я слишком
импульсивен. А ты никогда ни за чем не гонишься, никогда
не пускаешься в разглагольствования — вот это и есть эле-
гантность. Любой другой на твоем месте стал бы ее любов-
ником.
ганс карл (с едва заметной усмешкой). Ты полагаешь?
стани. Несомненно. Но я, конечно же, отлично понимаю: в твоем
возрасте это было бы как-то несерьезно. Тебя это больше не
влечет, я это так себе объясняю. Так уж я, наверное, устро-
ен — обо всем размышляю. Будь у меня время остаться при
университете — просто так, для себя — я бы посвятил себя
науке... Я бы занялся предметами, проблемами, вопросами,
к которым другие даже близко не подходят. Для меня жизнь
без размышлений — не жизнь. Например, как приходит соз-
нание: вот я уж и не молод?.. Внезапно? Как удар? Вот,
наверное, неприятный момент...
ганс карл. Знаешь, мне кажется — это происходит постепенно.
Например, в дверях тебя кто-то пропускает вперед, вот ты и
замечаешь — да, конечно, он много меня моложе, хотя и он
достаточно взрослый человек...
стани. Очень интересно. Какой ты наблюдательный. Прямо, как
я. И к этому привыкают?
ганс карл. Да, конечно, хотя еще бывают странноватые моменты.
Например, когда тебе вдруг становится ясно, что ты уже
178
Гуго фон Гофмансталь
больше не веришь, будто есть на свете люди, которые могут
все тебе объяснить.
стани. Но я одного не понимаю, дядя Кари — как ты, дожив до
таких лет и так сохранившись, не женишься.
ганс карл. Теперь?
стАНИ.Именно теперь. Ведь легкие интрижки тебя уже не привле-
кают. Знаешь, меня ничуть не удивляет, что все женщины до
сих пор тобой интересуются. Туанетта, правда, мне объясни-
ла, почему их интерес никогда не перерастает в нечто более
серьезное.
ГАНС КАРЛ. А!
стани. Да, она много над этим размьпиляла. Она говорит: ты
никем не дорожишь, потому что у тебя мало сердца.
ГАНС КАРЛ. А!
стани. Да, по ее мнению, тебе не хватает самого главного. В этом,
говорит она, и состоит огромная разница между тобой и
мной. Твоя рука всегда готова разжаться и отпустить, а жен-
щина это ощущает. И даже если она готова в тебя влюбить-
ся, это мешает кристаллизации чувства.
ганс карл. Она так выразилась?
стани. Она умеет вести разговор — в этом ее большой шарм.
Знаешь, в чем я непоколебим: женщина, которая хочет меня
удержать, должна не только принадлежать мне абсолютно,
но и быть хорошей собеседницей.
ганс карл. В этом ее неотразимое очарование.
стани. Ты абсолютно прав. В ней это есть: шарм, дух, темпера-
мент; а вот чего в ней нет, так это породы.
ганс карл. Ты находишь?
стани. Знаешь, дядя Кари, я справедлив: как бы женщина меня ни
обожала — я отдаю ей должное, но и неумолимо фиксирую
недостатки. Ты меня понимаешь: я привык все обдумывать и
всегда выделяю две категории. То есть женщин я делю на две
большие категории: возлюбленные и те, на которых женят-
ся. Антуанетта принадлежит к первой: пусть она сто раз
жена Адольфа Гехингена, для меня она не жена, а—другое.
Трудный характер
179
ганс карл. Конечно, это ее амплуа. Если вообще стоит делить
людей таким образом.
стани. Ты абсолютно прав. Кстати, поэтому нет ничего глупее,
чем пытаться примирить ее с мужем.
ганс карл. Но он ей все-таки муж? Прости, это, вероятно, слиш-
ком обывательское соображение.
стани. Знаешь ли, эти категории, позволяют мне абсолютно уве-
ренно ориентироваться — как насчет увлечений, так и насчет
брака. Брак — это эксперимент. Это результат правильного
решения.
ганс карл. От которого ты, несомненно, весьма далек.
стани. Отнюдь. Я готов принять его хоть сию минуту.
ГАНС КАРЛ. СИЮ МИНуту?
стани. Я ощущаю себя буквально созданным составить счастье
одной особы... Только, ради бога, не говори ничего maman,
я хочу сохранить во всем полную свободу. Тут я прямо в точ-
ности, как ты. Не выношу, когда меня стесняют.
Ганс Карл курит.
стани. Решение целиком зависит от ситуации и должно быть мгно-
венно. Сейчас или никогда — вот мой девиз.
ганс карл. А меня ничто так не интересует, как именно переходы
от одного к другому. Ты, значит, ни за что на свете не стал
бы откладывать своего решения?
стани. Ни за что: это было бы абсолютной слабостью.
ганс карл. Но ведь возможны и осложнения?
стани. Я их не признаю.
ганс карл. Например, столкнутся исключающие друг друга обяза-
тельства.
стани. Придется выбирать, какими из них пренебречь.
ганс карл. Но ведь есть вещи, которые затрудняют выбор.
стани. Какие?
ганс карл. Ну, например, угрызения совести.
стани. Все это ипохондрия. А я совершенно здоров. И в армии ни
дня не болел.
180
Гуго фон Гофмансталь
ГАНС карл. Значит, ты всегда абсолютно доволен своими поступ-
ками?
стани. Ну да. Будь я ими не доволен, я и вел бы себя иначе.
ГАНС карл. Пардон, я говорю не о светских промахах... Выходит,
ты всецело полагаешься на волю случая или, так сказать,
рока?
стани. Как это? Напротив, я все держу в своих руках.
ганс карл. Но ведь иногда, принимая подобные решения, пыта-
ешься не упустить из вида и такую уж вовсе не подвластную
тебе субстанцию, как высшая необходимость.
стани. То, что я делаю, необходимо, иначе я бы этого не делал.
ГАНС карл (заинтересованно). Извини меня, Стани, если я возьму
пример из близкого окружения — это ведь, в общем, не
принято...
стани. Ничего, пожалуйста...
ГАНС карл. Допустим, в самом деле возникнет ситуация, которая
приведет тебя к решению жениться.
стани. Не сегодя, так завтра.
ганс карл. А ты как-никак связан с Антуанеттой...
стани. Так я порву с ней — не сегодня, так завтра.
ганс карл. О! без всякого повода?
стани. Повод всегда где-то рядом. Например, пожалуйста: наши с
ней отношения начались весной. И вот уже месяца полтора,
как я постоянно ловлю себя — нет, не на подозрении, это
было бы слишком сильно сказано — скорее на мысли, что
она могла бы увлечься кем-то еще, кроме меня. Знаешь ли,
я даже абсолютно в этом уверен.
ганскарл. Ах, так.
стани. Знаешь, это сильнее меня. Не хотелось бы называть это
ревностью, скорее, это неспособность понять, как женщина,
к которой я привязан, одновременно может с другим... ты
понимаешь?
ганс карл. Но ведь Антуанетта так невинна, когда напроказит.
Это только придает ей очарования.
стани. Тут я тебя не понимаю...
Трудный характер
181
ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
нойгебауер (тихо входит). Вот письма, ваша светлость. Я их
сразу же...
ганскарл. Благодарю. Дайте мне их сюда, пожалуйста.
Нойгебауер отдает ему письма.
ганс карл. Благодарю.
Нойгебауер уходит.
ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ
ганс карл (после неоолгого молчания). Знаешь, кого я считаю
прирожденным супругом?
стани. Кого?
ганс карл. Адольфа Гехингена.
стани. Это мужа-то Антуанетты? Ха, ха, ха!..
ганс карл. Я совершенно серьезно.
стани. Но, дядя Кари...
ганс карл. В его привязанности к этой женщине есть высшая необ-
ходимость.
стани. Высшая предназначенность — не хочу говорить к чему!
ганс карл. Его судьба мне далеко не безразлична.
стани. Для меня он принадлежит к категории людей, начисто
лишенных интуиции. Знаешь, к кому он липнет, когда тебя
нет в клубе? Ко мне. Именно ко мне! И нюх же у него!
ганс карл. Я его люблю.
стани. Но он же такой серый.
ганс карл. Зато какой благородной души.
стани. Тугодум, недотепа, — какая уж тут элегантность...
ганс карл. Ему бы немножко разбавить кровь шампанским.
стани. Смотри, не скажи при нем: он примет это буквально. А
такой человек невозможен, когда выпьет.
ганс карл. Я его люблю.
182
Гуго фон Гофмансталь
стани. Он все понимает буквально, в том числе и твою дружбу.
ганс карл. Но он вправе так ее понимать.
стани. Пардон, дядя Кари, но как раз тебя никогда не следует
понимать буквально, не то рискуешь угодить в категорию
начисто лишенных интуиции!
ганс карл. Но он добрый, прекрасный человек.
стани. Ну, и на здоровье, если ты так о нем говоришь, но это не
повод постоянно твердить о твоей доброте. Это меня шоки-
рует. Элегантный человек доброжелателен, а никак не добр.
Пардон, говорю я ему, дядя Кари — значительная личность и
потому, само собой, порядочный эгоист. Ты уж прости.
ганс карл. При чем тут это. Я его люблю.
стани. Это твоя причуда. К чему тебе причуды? Ведь самое в тебе
удивительное, что ты безо всяких усилий являешь собой то,
что ты на самом деле есть — значительную личность! Безо
всяких усилий! Вот где собака зарыта. Люди иной категории
непрестанно пыжатся. Как этот самый Теофил Нойхоф, на
которого вот уже год как повсюду натыкаешься. Что озна-
чает такое существование, как не бесконечные жалкие
потуги выступать не в своем амплуа.
ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ
ЛУКАС (поспешно входит). Осмелюсь спросить, распоряжались ли
ваша светлость принять посетителя?
ганс карл. И не думал. А в чем дело?
лукас. Вероятно, новый камердинер напутал. Только что снизу
позвонил портье, что по лестнице поднимается барон Ной-
хоф. Как прикажете поступить?
стани. Легок на помине. Видно, неспроста. Этот человек, дядя
Кари, буквально мой рок, я его как магнит притягиваю.
Неделю назад у Елены, только я собираюсь высказать ей
свое мнение о господине фон Нойхофе, как этот самый Ной-
хоф уже стоит на пороге. Три дня спустя я ухожу от Анту-
анетты — в прихожей стоит господин фон Нойхоф. Вчера
Трудный характер
183
утром мне нужно было кое-что обсудить со своей матерью —
в прихожей я натыкаюсь на этого самого господина.
винцент (входя, докладывает). Господин барон Нойхоф ждет в
прихожей.
ганс карл. Теперь я его, разумеется, должен принять.
Лукас кивает, давая знак впустить. Винцент распахивает
двустворчатые двери.
ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ
нойхоф (входит). Добрый вечер, граф. Я был настолько нескро-
мен, что позволил себе справиться, дома ли вы.
ганс карл. Вы знакомы с моим племянником Фройденбергом?
стани. Мы встречались.
Садятся.
нойхоф. Я предвкушал удовольствие увидеться с вами нынче вече-
ром у Альтенвилей. Графиня Елена заранее радовалась, что
сможет нас друг другу представить. Тем более было грустно
услышать от нее сегодня, что вас не будет.
ганс карл. Вы знакомы с моей кузиной с минувшей зимы?
нойхоф. Знакомы — если только можно применить это слово к
такому существу. Лишь в некоторые моменты понимаешь
всю его двусмысленность: ведь оно обозначает и самое
поверхностное в этом мире и сокровеннейшую тайну отно-
шений человека с человеком.
Ганс Карл и Стани обмениваются взглядами.
нрйхоФ. Я имею счастье видеть графиню Елену не так уж редко. И
почтительнейше принадлежать ей.
Краткое неловкое молчание.
нойхоф. Сегодня мы были вместе в ателье у Богуславского. Богу-
славский пишет мой портрет, то бишь мучительно бьется над
тем, чтобы передать выражение моих глаз. Он все толкует
184
Гуго фон Гофмансталь
о чем-то невыразимом, что в них иногда мелькает — это,
собственно, по его просьбе графиня Елена должна была
взглянуть на картину и высказать свое мнение по поводу
моих глаз. Тут она мне и сказала: «Граф Бюль не придет, так
ступайте к нему сами. Просто-напросто возьмите и поезжай-
те. Это человек, у которого естественность и правда могут
добиться всего, а расчет — вряд ли». — «Удивительный чело-
век в нашем насквозь расчетливом мире, — ответил я ей, —
но таким я его себе и представлял, таким он мне показался
при нашей первой встрече».
стани. Вы встречались с моим дядюшкой на позициях?
нойхоф. В штабе.
ганс карл. В не слишком приятном обществе.
нойхоф. Я это заметил. Вы были крайне скупы на слова.
ганс карл (улыбаясь). Да я вообще не мастер говорить, не правда
ли, Стани?
стани. Разве что в своем кругу.
нойхоф. Вот-вот, граф Фройденберг. Ваш дядюшка любит пла-
тить чистым золотом, к чему ему бумажные купюры обы-
денности. Он облекает в слова лишь самое свое сокровенное,
а оно бесценно.
ганс карл. Вы слишком любезны, барон Нойхоф.
нойхоф. Вам бы надо, граф, заказать свой портрет Богуславскому.
Вас он схватит за три сеанса. Вы ведь знаете, он очень силен
в детских портретах. А в вашей улыбке как будто затаился
детский смех. Не поймите меня превратно. Почему так
трудно подражать достоинству? Потому, что в нем всегда
есть что-то детское. Окольным путем, через детскость,
Богуславскому удалось бы передать в вашем портрете то,
что так редко встретишь в нашем мире и что в высшей сте-
пени соответствует вашему облику: достоинство. Что гово-
рить: мы живем в лишенном достоинства мире.
ганс карл. Не знаю, о каком мире вы говорите. Мы все встречали
столько достоинства — там, на войне.
нойхоф. Поэтому такой человек, как вы, и был там в своей сти-
Трудный характер
185
хии. Вы вели себя героически, граф! Мне вспоминается тот
унтер-офицер в госпитале, которого контузило вместе с вами
и вашими тринадцатью нижними чинами.
ганс карл. Мой славный командир взвода, литейщик Франц! Вам о
нем кузина рассказывала?
нойхоф. Она позволила мне сопровождать ее в госпиталь. Никогда
не забуду лица и слов этого умирающего.
Ганс Карл молчит.
нойхоф. Он только о вас и говорил. И как говорил! Знал, что
перед ним родственница его командира.
ганс карл. Бедный литейщик Франц!
нойхоф. Быть может, графиня Елена хотела приоткрыть мне ваш
внутренний мир, ведь и тысячи встреч в салонах тут не помо-
гут.
стани (несколько резко). Быть может, она прежде всего сама
хотела повидать этого человека и услышать, что он расска-
жет о дядюшке Кари.
нойхоф. Такие натуры, как Елена Альтенвиль, только и раскры-
ваются в подобных ситуациях. Эта неподдельная простота,
это врожденное благородство скрывают море любви и все-
проникающую доброжелательность: между ней и тем, кто ей
близок, протянуты незримые нити, которые ничто не в силах
разорвать, к которым никто не смеет прикасаться. Горе ее
супругу, если он не будет бережно их лелеять, если он ока-
жется настолько узок сердцем, что пожелает свести все ее
чувства лишь к своей персоне.
Краткое молчание. Ганс Карл курит.
нойхоф. Она похожа на вас: добиваться ее бесполезно, ее можно
получить только в подарок от нее самой.
Снова краткое молчание.
нойхоф (с большой, но, по-видимому, наигранной уверенностью).
Я странник, любопытство заставило меня повидать полсве-
186
Гуго фон Гофмансталь
та. Меня очаровывает все труднопознаваемое, притягивает
глубоко сокрытое. Мне так хотелось увидеть этот фено-
мен — гордую, бесценную Елену в вашем обществе, граф.
Она бы стала другой, она расцвела бы: я не знаю никого, кто
был бы столь восприимчив к человеческим достоинствам.
ГАНС карл. Мы все тут немного этим грешим. Может, это не так уж
и выделяет именно мою кузину.
нойхоф. Я думаю, что общество, окружающее такие натуры, как
Елена Альтенвиль, должно состоять из людей вашего типа.
Всякая культура расцветает по-своему: содержательность
без претензий, благородство, смягченное бесконечной гра-
цией — вот что украшает лучшую часть вашего веками скла-
дывавшегося общества, которому удалось то, чего не удава-
лось ни руинам Луксора, ни лесам Кавказа — остановить и
удержать в сфере своего притяжения такого непоседу, как я.
Объясните мне только одно, граф Бюль. Почему как раз
людей вашего толка, которые, собственно, и определяют
лицо вашего общества, встречаешь в нем так редко. Будто
они его избегают.
стани. Напротив. Сегодня же вечером вы увидите дядю Кари у
Альтенвилей, и я даже боюсь, что как ни приятна эта беседа,
мы должны вскоре дать ему возможность переодеться.
(Встает.)
нойхоф. В таком случае, граф, я с вами пока прощаюсь. Если вам
когда-нибудь, мало ли при каких обстоятельствах, понадо-
бится странствующий рыцарь... (уже на ходу) готовый слу-
жить беззаветно и преданно везде и во всем, где ему видится
благородное и высокое — позовите меня.
Ганс Карл и следом за ним Стани провожают его. Когда они
уже у дверей, раздается телефонный звонок.
нойхоф. Пожалуйста, не провожайте, вы нужны этому аппарату.
стани. Позвольте мне проводить вас до лестницы.
ганс карл (у дверей). Весьма признателен вам за ваш любезный
визит, барон Нойхоф.
Трудный характер
187
Нойхоф и Стани уходят.
ГАНС карл (наедине с трезвонящим телефоном, подходит к вися-
щему на стене внутреннему устройству, нажимает кнопку
и кричит). Лукас, да отключите же вы его! Не выношу эту
бесцеремонную машину! Лукас!
Звонки прекращаются.
ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ
стани (возвращается). Я всего на секунду, дядя Кари, если ты еще
можешь меня извинить. Мне совершенно необходимо услы-
шать твое мнение об этом господине!
ганс карл. Твое, я вижу, окончательно и бесповоротно.
стани. Ах, я нахожу его просто невозможным. Не могу себе объяс-
нить подобный феномен. А ведь он из хорошей семьи.
ганс карл. По-твоему, он совершенно неприемлем?
стани. Помилуй — что ни слово, то бестактность.
ганс карл. Старается быть любезным, надеется этим к себе распо-
ложить.
стани. Но его амикошонство! Нельзя же лезть в душу совершенно
незнакомым людям.
ганс карл. Он и в самом деле думает, что можно что-то из себя
изобразить — по-моему, это известная наивность, если не
пробел воспитания.
стани (взволнованно ходит взад и вперед). А эти его тирады о
Елене!
ганс карл. Мне не очень-то по душе, что такая девушка, как она,
сочла возможным обсуждать с ним нашего брата.
стани. Да это сплошное вранье. Это ж продувная бестия. Такому
малому соврать — раз плюнуть...
ганс карл. Нет, то, что он говорил, похоже на правду. Но есть
люди, в устах которых все оттенки как-то невольно приобре-
тают другой смысл.
188
Гуго фон Гофмансталь
стани. Какой ты терпимый.
ганс карл. Я, кажется, просто постарел, Стани.
стани. А меня не то что раздражает, а просто выводит из себя вся
его манера — эта показная преданность, эти масляные раз-
глагольствования, это кокетничанье своей мерзкой эспань-
олкой.
ганс карл. Да не так уж он и глуп, но от этого как-то не по себе.
стани. А какая неописуемая фамильярность! Ну, что ему за дело
до твоего лица?
ганс карл. Au fond1, такой человек, пожалуй, достоин сожаления.
стани. Да он просто отвратителен. Однако мне пора наверх к
maman. Мы с тобой, дядя Кари, еще непременно увидимся
ночью в клубе.
Агата тихонько выглядывает из правой двери, она думает,
что Ганс Карл один. Стани снова возвращается. Ганс Карл
делает знак Агате, чтобы она исчезла.
стани. Знаешь, никак не могу успокоиться. Во-первых, это ни-
зость — льстить такому человеку, как ты, прямо в лицо.
ганс карл. Да, это было не совсем ловко.
стани. Во-вторых, это афиширование своей Бог знает какой тес-
ной дружбы с Еленой. В-третьих, попытки выведать твое к
ней отношение.
ганс карл (улыбаясь). Ты полагаешь, ему хотелось прощупать
почву?
стани. В-четвертых, эти более чем бесцеремонные намеки на свое
будущее положение. Ведь он представился нам чуть ли не ее
суженым. В-пятых, это мерзкое разглагольствование, так
что никто не может даже слово вставить. В-шестых, эта его
немыслимая речь под занавес. Ведь это просто какой-то
юбилейный панегирик, какая-то передовица. Но я задержи-
ваю тебя, дядя Кари.
1 Вообще-то говоря (фронц.).
Предисловие
189
Агата снова появляется в дверях. Та же игра.
стани (было ушел, но вновь возвращается). Можно еще два сло-
ва? Одного не могу понять, почему тебя так мало трогает то,
что касается Елены?
ганс карл. А при чем тут я?
стани. Извини, мне Елена слишком дорога, чтобы я мог терпеть
такие его немыслимые выражения как «принадлежать», да
еще «почтительнейше». Когда знаешь Елену с детства как
сестру...
ганс карл. Наступает какой-то миг, и сестры расстаются с брать-
ями.
стани. Ах! Но не ради же такого вот Нойхофа?
ганс карл. Немножко неправды всегда приятно женщинам.
стани. Такого малого нельзя и близко к ней подпускать.
ганс карл. Воспрепятствовать этому мы не можем.
стани. Ну, это я еще посмотрю! И близко нельзя подпускать!
ганс карл. Он поставил нас в известность о предстоящем родстве.
стани. В каком же состоянии должна быть Елена, чтобы вступать
в какие-то отношения с таким человеком...
ганс карл. Знаешь, я отвык судить о состоянии женщин по их
поступкам.
стани. Не то, чтобы я был ревнив, но представить себе такое соз-
дание, как Елена, женой Нойхофа, для меня столь невыно-
симо — эта идея настолько не укладывается у меня в голове
— я должен сейчас же все обсудить с моей ма.
ганс карл (улыбаясь). Так и поступи, Стани...
Стани уходит.
явление четырнадцатое
лукас (входит). Боюсь, телефон все-таки оказался здесь.
ганс карл. Мне он совершенно не нужен.
лукас. Слушаюсь, ваша светлость. Новый камердинер перенес его
сюда, а я не сразу заметил. Все он суется, куда не спрашивают.
190
Гуго фон Гофмансталь
ганс карл. Выдворить его завтра же с самого утра.
Лукас. Слушаюсь. У аппарата был слуга графа Гехингена. Госпо-
дин граф сами бы хотели переговорить с вами о сегодняшнем
вечере: пойдут ли ваша светлость к графу Альтенвилю или
нет? Потому что госпожа графиня тоже будут.
ганс карл. Соединитесь с графом Альтенвилем и скажите, что я
освободился и, несмотря на свой отказ, прошу разрешения
приехать. Потом соедините меня с графом Гехингеном, я
буду говорить сам. А пока попросите сюда камеристку.
Лукас. Слушаюсь. (Уходит.)
Входит Агата.
явление пятнадцатое
ганс карл (берет пакет с письмами). Вот письма. Передайте гра-
фине, что расстаться с ними я могу только потому, что вос-
поминания о прекрасном для меня нерушимы; они для меня
не в письмах, а во всем и повсюду.
агата. О, целую руки! Я так счастлива. Теперь я знаю, что моя
графиня скоро снова увидит нашего графа.
ганс карл. Она увидит меня сегодня же вечером.
агата. Смеем ли мы надеяться, что вы... что тот, кого она там
встретит, будет таким, как прежде?
ганс карл. Преданнее друга у нее нет.
агата. О, целую руки.
ганс карл. Во всем мире у нее только два истинных друга — я и ее
муж.
агата. Господи, я и слушать не хочу. Боже мой, Боже, вот несча-
стье, что наш граф подружился с графом Гехингеном. Моей
госпоже только этого не хватало.
ганс карл (в волнении отходит от нее на несколько шагов).
Неужели женщинам совсем не дано понять, что собой пред-
ставляют их мужья? И кто на самом деле только о них и
думает!
Трудный характер
191
агата. О, только не это! Ваша светлость может внушить нам все
что угодно, только не это, это слишком!
ганс карл (ходит взад-вперед). Только не это... Неужели ничем
нельзя помочь?! Хоть немного...
Молчание.
агата (приближаясь к нему, робко). Может, все-таки стоит попро-
бовать. Только без меня: я для такого дела слишком неотеса-
на. И слов не найду подходящих. Писем тоже не надо. От них
одни недоразумения. Вот если бы с глазу на глаз! Уж тут вы
чего-нибудь да добьетесь. Вы у моей госпожи всего можете
добиться. Не обязательно с первого захода. Попытайтесь
раз, другой, третий... Может, совесть у ней и заговорит...
как ей перед вами устоять?
Снова звонит телефон.
ганс карл (подходит к телефону и говорит). Да, я у аппарата. Я
подожду. Граф Бюль. Да, лично.
агата. Целую руки. (Быстро уходит через среднюю дверь.)
ганс карл (у телефона). Гехинген, добрый вечер! Да, да, я переду-
мал. Да, дал согласие. Найду возможность. Безусловно. Да,
как раз это и склонило меня пойти. Именно на вечер: ведь я
не играю в бридж и твоя жена, думаю, тоже. Никаких осно-
ваний. И для этого нет никаких оснований. Для твоего песси-
мизма. Для твоего пессимизма! Не понимаешь?.. Нечего
тебе грустить. Это надо одолеть! Что, уже одолел? Один?
Вот она, где знаменитая бутылка шампанского... Уверен,
что получу ответ до полуночи. Конечно, не надо надеяться на
слишком многое. Сделаю все, что возможно, ты же знаешь.
Я тоже так чувствую. Я тоже так чувствую! Что? Разъедини-
лось? Я говорю, что тоже так чувствую. Чувствую! Совер-
шенно нейтральная фраза! Не сразу, а фраза! Я сказал тебе
совершенно нейтральную фразу! Какую? И я так чувствую.
Нет, я называю ее совершенно обычной фразой только
потому, что ты ее слишком долго не можешь понять. Да. Да.
192
Гуго фон Гофмансталь
Да! Adieu. Слава богу. (Звонит.)
Есть люди, с которыми все как-то сразу обрастает ненуж-
ными сложностями, а ведь какой чудесный малый!
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ
стани (вновь появляется в средних дверях). Боюсь, что я слиш-
ком назойлив, дядя Кари...
ганс карл. Нет, нет, я к твоим услугам.
стани (становится перед ним). Должен поставить тебя в извест-
ность: мы с ма успели все обсудить и я пришел к окончатель-
ному решению.
Ганс Карл смотрит на него.
стани. С Еленой Альтенвиль обручаюсь я.
ГАНС КАРЛ. Ты...
стани. Да! Я сам решил жениться на Елене. Конечно, не сегодня и
не завтра, но в самом недалеком будущем. Я все продумал и
взвесил. По дороге отсюда на второй этаж. Когда я входил к
ма, все уже было решено и подписано. Знаешь, эта идея осе-
нила меня, как только я заметил, что тебя Елена совсем не
интересует.
ганс карл. Ага.
стани. Понимаешь, у ма было такое предположение. Она говорит,
что никогда не знаешь, что у тебя на уме: может, и ты все-
таки подумывал жениться на Елене... ты ведь для ма всегда
был главным в семье, душа у нее бюлевская.
ганс карл (в сторону). Милая Кресченца!
стани. Но я с ней всегда спорил. Мне ведь так понятно каждое дви-
жение твоей души. Я всегда чувствовал, что тебе и в голову
не приходит интересоваться Еленой.
ганс карл (резко к нему поворачивается). А что твоя мать?
стани. Моя ма?
ганс карл. Да, как она отнеслась к твоему решению?
Трудный характер
193
стани. С восторгом, разумеется. Даже вся раскраснелась. Тебя это
удивляет, дядя Кари?
ганс карл. Так, самую малость... Мне всегда казалось, что у твоей
матери есть определенные соображения насчет Елены.
стани. Антипатия?
ганс карл. Что ты. Просто некоторые идеи. Предначертания.
стани. Раньше? В прежние годы?
ганс карл. Нет, полчаса назад.
стани. И в каком же направлении? Ведь maman настоящий флю-
гер! Она тут же все забывает. Преклоняется перед каждым
моим решением. Чует мужскую волю. И обожает fait accom-
pli1.
ганс карл. Значит, ты решился?
стани. Решился.
ганс карл. Так сразу?
стани. А иначе нельзя. Именно это ужасно импонирует во мне
женщинам. Потому я никогда не упускаю вожжи из рук.
Ганс Карл курит.
стани. Может, все-таки и ты подумывал об этом раньше: жениться
на Елене...
ганс карл. Бог мой! Может быть, когда-то — много лет назад. Как
и о тысяче других вещей. Мало ли о чем думаешь.
стани. Поверишь ли, я ведь никогда об этом не думал! Но в ту же
минуту, как это пришло мне в голову, я и довел дело до кон-
ца... Ты расстроен?
ганс карл. Просто я вдруг невольно задумался об Антуанетте.
стани. Но ведь все на свете должно как-то завершаться.
ганс карл. Разумеется. И тебя совсем не тревожит, свободна ли
Елена? Ведь она, наверное, обнадежила этого Нойхофа.
стани. Как раз на этом я и строю свои расчеты. Надежды госпо-
дина фон Нойхофа меня попросту не интересуют. А то, что
Елена вообще может с ним видеться, как раз и доказывает,
Свершившийся факт (франц.).
194
Гуго фон Гофмансталь
что ничего тут нет серьезного. Такие осложнения я не прини-
маю во внимание. Это все настроения, хотя лучше было бы
сказать — заблуждения.
ганс карл. Ее не так просто понять.
стани. Я-то хорошо понимают этот тип. В конце концов ее могут
интересовать всерьез только такие мужчины, как мы с
тобой; все остальное — заблуждение. Ты как-то вдруг при-
тих... у тебя голова болит?
ганс карл. Нет, вовсе нет. Я восхищаюсь твоей отвагой.
стани. Тебе ли восхищаться отвагой?
ганс карл. Это совсем не то, что в окопах.
стани. Как я тебя понимаю, дядя Кари. Ты думаешь о тех возмож-
ностях, которые я тем самым упускаю в жизни. Тебе кажет-
ся, что я себя слишком дешево ценю. Но, видишь ли, я и в
этом совсем иной: люблю все разумное и определенное. Про-
сти мне, что я так говорю, дядя Кари, но ведь, в сущности,
ты идеалист: стремишься к абсолюту, к совершенству. Все
это очень элегантно выглядит, но вряд ли осуществимо. Аи
fond1 в этом вы с maman похожи: и ей всего для меня мало. Я
тщательно обдумал это дело. Елена на целый год меня мо-
ложе.
ганс карл. На год моложе?
стани. Она из прекрасной семьи.
ганс карл. Лучше некуда.
стани. Она так элегантна.
ганс карл. Удивительно элегантна...
стани. Богата.
ганс карл. А, главное — так хороша собой.
стани. В ней видна порода.
ганс карл. Ей нет равных...
стани. И прежде всего в двух отношениях, от которых в браке
зависит все: primo — она не умеет лгать, secondo — у нее луч-
шие в мире манеры.
Собственно говоря, (франц.).
Трудный характер
195
ганс карл. Она так очаровательно любезна, как теперь можно
встретить только у пожилых.
стани. У нее такой простой и ясный ум.
ганс карл. Кому ты это говоришь? Я так люблю с ней беседовать.
стани. А со временем она начнет меня обожать.
ганс карл (про себя, невольно). И это возможно.
стали. Не возможно, а совершенно точно. Женщины такого типа
непременно приходят к этому в браке. В связях все зависит
от обстоятельств. Там возможны всякие импровизации,
обманы, Бог знает что. А в браке все зависит от времени; со
временем один настолько перенимает свойства другого, что
какие уж тут разногласия... конечно, при условии, что брак
покоится на правильном выборе. В этом и состоит смысл
брака.
явление семнадцатое
лукас (входит). Графиня Фройденберг.
кресченца (быстро входит, обгоняя Лукаса). Ну, что ты ска-
жешь про мальчика, Кари? Я совершенно счастлива.
Поздравь же меня!
ганс карл (с несколько отсутствующим видом). Дорогая Крес-
ченца! Желаю тебе всяческих успехов.
Стани молча откланивается.
кресченца. Пришли мне автомобиль назад.
стани. Он в твоем распоряжении. Я отправляюсь пешком.
(Уходит).
ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ
кресченца. Успех будет сильно зависеть от тебя.
ганс карл. От меня? У него же на лбу написано, что он добьется
всего, чего захочет.
кресченца. Для Елены твое мнение — все.
196
Гуго фон Гофмансталь
ганс карл. Что ты, Кресченца, о чем ты?
кресченца. А для ее отца, конечно — еще больше. Стани хорошая
партия, но не блестящая. Тут я не строю себе никаких иллю-
зий. Но если ты замолвишь за него словечко — для людей
старшего поколения оно так много значит. Сама не знаю
почему.
ганс карл. Да скоро я сам буду к нему принадлежать.
кресченца. Не надо кокетничать своим возрастом. Мы с тобой не
молодые и не старые. Я, правда, терпеть не могу всякую
неопределенность. По мне уж лучше седина да роговые
очки...
ганс карл. Потому ты и спешишь со сватовством?
кресченца. Мне всегда хотелось и о тебе позаботиться, Кари, еще
двенадцать лет назад. Но я всегда встречала в тебе это тихое,
упорное сопротивление.
ганс карл. Милая моя Кресченца?
кресченца. Сотни раз я тебе говорила: только скажи, что ты этого
хочешь, и я все возьму в свои руки.
ганс карл. Да, видит Бог, ты мне часто это говорила.
кресченца. Но ведь с тобой никогда нельзя понять, на каком ты
свете!
Ганс Карл кивает.
кресченца. Вот Стани и делает то, чего ты не захотел. Жду не
дождусь, когда в Верхнем Бюле и в Геллерсдорфе снова
забегает детвора.
ганс карл. И начнет сваливаться в пруд возле замка! Помнишь, как
ты меня чуть живого оттуда вытащила? Знаешь, мне иногда
кажется, что в мире не происходит ничего нового.
кресченца. Что ты имеешь в виду?
ганс карл. Что где-то уже давно все приготовлено, чтобы вдруг
взять и выйти наружу. Помнишь, как в нашем пруду, когда
осенью спускали воду, вдруг откуда-то появлялись карпы и
хвосты каменных тритонов, которых раньше и видно-то не
было. Не правда ли, странная идея?
Трудный характер
197
кресченца. Ты что-то расстроился... Да, Кари?
ГАНС карл (берет себя в руки). Напротив, Кресченца. Я от всей
души благодарен вам, тебе и твоему Стани, за ту энергию,
которую вы вдохнули в меня своей решимостью и свеже-
стью.
Целует ей руку.
кресченца. Значит, тебе на пользу иметь нас поблизости?
ганс карл. Мне еще и прекрасный вечер предстоит. Сначала серь-
езный разговор с Туанеттой...
кресченца. Но теперь нам это совсем не нужно!
ганс карл. Ах, поговорю с ней все-таки, раз уж я за это взялся, а
потом мне как дяде надо будет начать серьезные переговоры
на известную тему.
кресченца. Главное, представь его Елене в правильном свете.
ганс карл. Ну вот, у меня и целая программа. Видишь, как ты меня
переделала. Но, знаешь, сначала — у меня есть идея — сна-
чала я зайду на часок в цирк, там у них новый клоун появился
— этакий рыжий недотепа...
кресченца. Фурлани. Нанни от него без ума. А я не вижу смысла
в этих забавах.
ганс карл. Я нахожу его совершенно бесподобным. Он занимает
меня куда больше, чем самая утонченная беседа о чем угод-
но. Я веселюсь просто от души. Зайду в цирк, потом пере-
кушу в ресторане, и уж потом, полный сил, отправлюсь осу-
ществлять свою программу.
кресченца. Да, ты придешь к Альтенвилям и поможешь Елене и
Стани обрести друг друга. Ты ведь это так хорошо умеешь.
Из тебя вышел бы прекрасный посол, если бы ты только
захотел продолжать карьеру.
ганс карл. Верно, я и тут упустил время...
кресченца. Ну, так всяческих тебе удовольствий и приезжай
поскорее.
Ганс Карл провожает ее до дверей. Кресченца уходит.
198
Гуго фон Гофмансталь
ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ
Ганс Карл выходит на авансцену. Лукас его сопровождает.
ганс карл. Я надену фрак. Скоро вас позову.
лукас. Слушаюсь, ваша светлость.
Ганс Карл уходит налево.
ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ
винцент (входит справа). Что это вы здесь делаете?
лукас. Жду звонка из гардеробной, пойду помогать одеваться.
винцент. Я тоже пойду. Надо бы с ним сойтись поближе.
лукас. Не было велено, стало быть нечего и ходить.
винцент (берет сигару). Слушай, он же простой, покладистый
малый, родные вертят им, как хотят. Через месяц и я начну
вить из него веревки.
Лукас запирает ящик с сигаретами. Звонок. Лукас спешит
идти.
винцент. Куда спешить, пусть еще позвонит... (Усаживается в
кресло. За его спиной Лукас уходит.)
винцент (сам с собой). Любовные письма ему больше ни к чему,
племянника он женит, а сам решил скоротать свой век холо-
стяком — вместе со мной. Значит, все идет нормально.
Говорит через плечо, не оборачиваясь.
Порядок, господин хороший, я остаюсь. Решено!
Занавес падает.
*
Акт второй
У Альтенвилей. Небольшая зала во вкусе восемнадцатого
века. Двери слева, справа и посередине. Алътенвиль и Ганс
Карл появляются справа. Кресченца, Елена и Нойхоф бесе-
дуют, стоя слева.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
альтенвиль. Дорогой Кари, я рад твоему приходу вдвойне — ведь
ты не играешь в бридж и, значит, заранее согласен доволь-
ствоваться теми скромными остатками словесных пиршеств,
которыми нынче только и потчуют в гостиных. У меня, как
тебе известно, не бывает ни художников, ни прочих знамени-
тостей, ты встретишь лишь давно знакомые лица — Эдина
Меренберг чрезвычайно не одобряет нашей старомодности,
но ни Елена, ни я не имеем склонности к той манере обще-
ния, которую предпочитает Эдина: не успев проглотить и
ложку супа, она уже ошарашивает тебя вопросом — веришь
ли ты в переселение душ и не пил ли на брудершафт с факи-
ром.
кресченца. Позвольте с вами не согласиться, граф. Моим партне-
ром по бриджу было совершенно новое лицо; Мариэтта
Штрадониц шепнула мне, что это всемирно известный уче-
ный. Правда, никто из нас о нем и не слыхивал, но это только
потому, что почти все мы тут, можно сказать, темнота.
альтенвиль. Профессор Брюкке — большая знаменитость в своей
200
Гуго фон Гофмансталь
области, и к тому же он любезно разделяет мои политичес-
кие пристрастия. Ему чрезвычайно нравится бывать в обще-
стве, где он не встречает своих коллег из ученого мира и, так
сказать, один представляет высокий дух в чисто житейской
сфере. И так как мой дом может предоставить ему это
скромное удовольствие...
кресченца. Он женат?
альтенвиль. Я, во всяком случае, никогда не имел чести быть
представленным мадам Брюкке.
кресченца. Я нахожу, что знаменитости не очень-то приятны, а их
жены и того хуже. В этом мы согласны с Кари. Мы предпо-
читаем обычных людей и обычные беседы. Не правда ли,
Кари?
альтенвиль. У меня на этот счет и вовсе допотопные взгляды,
Елена знает.
кресченца. Пусть Кари скажет, что я права. По-моему, девять
десятых разговоров, претендующих на высокую интеллек-
туальность, не больше чем пустая болтовня.
нойхоф(Елене). И вы столь же строги, графиня?
елена. Если нам, людям помоложе, и нужно чего остерегаться, так
это светских разговоров, которые все сущее опошляют, а
потом топят в болтовне.
кресченца. Скажи же, что я права, Кари!
ГАНС карл. Прошу снисхождения. После Фурлани трудно сказать
что-нибудь вразумительное.
альтенвиль. По-моему, сейчас утеряно искусство поддерживать
беседу: не разливаться без удержа самому, а подавать
реплики другому. В мое время говаривали: с гостем надо
беседовать так, чтобы, взявшись за ручку двери, он казался
себе семи пядей во лбу. Тогда, спускаясь по лестнице, он най-
дет, что и ты не хуже. У кого теперь, простите за грубость,
хватает понятия для настоящей беседы, да и чтобы попридер-
жать язык, когда надо... Ах, позволь познакомить тебя с
бароном Нойхофом; мой кузен, граф Бюль.
нойхоф. Я уже имел честь быть представленным графу.
Трудный характер
201
кресченца (Альтенвилю). Было бы неплохо изложить все эти
тонкие соображения Эдине — культ значительных лично-
стей и печатной продукции достиг у нее неслыханных разме-
ров. А мне уже само это слово — значительная личность —
невыносимо: столько в нем потуги на превосходство!
альтенвиль. Эдина — весьма умная женщина, только она всегда
стремится убить двух зайцев сразу: пополнить свое образова-
ние и выколотить что-нибудь для своей благотворительности.
елена. Прости, папа, она не умная, а глупая женщина. Она бы все
на свете отдала, чтобы окружить себя умными людьми, но
постоянно вылавливает что-то другое.
кресченца. Поражаюсь, как при всей ее великой рассеянности она
не попадает впросак куда чаще.
альтенвиль. Такие создания Бог бережет.
эдина (появляется в средних дверях). Вы говорите обо мне? Про-
должайте же, не стесняйтесь.
кресченца. Ну что, Эдина, ты уже познакомилась со знаменитостью?
эдина. Я просто в бешенстве, граф Альтенвиль, что вы определи-
ли его в партнеры ей, а не мне. (Подсаживается к Креснен-
це.) Вы и представить себе не можете, как он меня интересу-
ет. Ведь я читаю все, что пишут эти люди. И двух недель
не прошло, как я одолела толстенную книгу этого Брюк-
нера.
нойхоф. Его фамилия Брюкке. Он вице-президент Академии наук.
эдина. В Париже?
нойхоф. Нет, здесь в Вене.
эдина. На книге было написано Брюкнер.
кресченца. Это, наверное, опечатка.
эдина. Она называется «О происхождении всех религий». Вот уж
где глубина и эрудиция! А стиль какой превосходный!
елена. Я тебе его приведу, тетя Эдина.
нойхоф. Если позволите, я его разыщу и доставлю сюда, как
только у него будет передышка.
эдина. Да, пожалуйста, барон Нойхоф. Скажите ему, что я уже
несколько лет жажду с ним познакомиться.
202
Гуго фон Гофмансталь
Нойхоф уходит налево.
кресченца. Ему только этого и надо, мне кажется, он изрядный...
эдина. Только не говорите, как всегда, «сноб». Гете тоже перед лю-
бой княгиней или графиней... Чуть не сорвалось словечко...
кресченца. Ну, вот, она опять присоседилась к Гете, наша Эдина!
(Ищет взглядом Ганса Карла, который отошел с Еленой
направо.)
елена (Гансу Карлу). Вы так любите Фурлани?
ГАНС карл. Для меня такой человек — подлинное отдохновение.
елена. Ему даже такие трюки удаются?
Садится справа, Ганс Карл около нее. Кресченца уходит в
среднюю дверь. Альтенвиль и Эдина садятся слева.
ганс карл. Никаких трюков. Он просто клоун-неудачник.
елена. Вроде петрушки?
ГАНС карл. Нет, это было бы уже слишком! Он ничего не утрирует
и не превращает в карикатуру. Он весь в своей роли — хотел
бы всех понять, всем помочь, а получается только всеобщий
конфуз. Он валяет такого дурака, что галерка покатывается
со смеху, а сам он сохраняет сдержанность, даже элегант-
ность, видно, что он относится с большим почтением и к себе
самому и ко всему миропорядку. Все у него шиворот-навыво-
рот, все вверх дном; за что ни возьмется, все идет прахом, но
при этом хочется крикнуть: «Да он же прав!»
эдина (Алътенвилю). Только духовное развитие помогает нам,
женщинам, сохранять стойкость! Антуанетте, например, так
этого недостает. Я ей всегда твержу: развивай свой интел-
лект, это наводит на другие мысли.
альтенвиль. В мое время к светской беседе подходили с другими
мерками. Ценили меткое замечание, пикировку, стремились
блистать...
эдина. Вот и я говорю: когда я веду беседу, то хочу, чтобы меня
куда-нибудь увлекли. Избавили от банальности. Вознесли,
наконец, в иные сферы...
Трудный характер
203
ГАНС карл (продолжая беседу с Еленой). Видите ли, Елена, труд-
ное это дело — быть жонглером и эквилибристом. Тут
нужны нечеловеческая воля и целеустремленность духа.
Думаю, куда больше духа, чем для большинства наших свет-
ских разговоров...
елена. Без сомнения.
ганс карл. Без всякого сомнения. А то, что вытворяет Фурлани,
классом выше того, что делают другие. Другие сосредото-
чены на своих трюках и не смотрят ни влево, ни вправо; да
они едва дышат, пока своего не добьются: вот и весь их
фокус. У него же будто и нет никаких трюков, будто он все
время у кого-то на поводу. Он хотел бы участвовать во всем,
чем заняты остальные, в нем столько благих намерений,
столько увлеченности чужими делами, что начни кто-нибудь
балансировать на носу цветочным горшком — он тут же
включится в это занятие, так сказать, из вежливости.
елена. Но он же его уронит?
ганс карл. В том-то все и дело, как он его уронит! Он уронит его
в полной уверенности, что так отлично умеет им балансиро-
вать! Он убежден, что если все делать как следует, то все и
дальше должно идти, как по-писаному.
елена (про себя). Но горшку это обычно невдомек, и он разбивается.
альтенвиль (Эдине). О, этот нынешный деловой тон! Подумать
только, даже между мужчиной и женщиной... Эта непремен-
ная сосредоточенность на своих интересах... В любом разго-
воре!
эдина. Просто ужас! Иной раз так хочется хоть чуточку тонкого
обхождения, игры в прятки...
альтенвиль. Молодые люди уже не понимают, что соус куда
лучше жаркого — во всем такая прямолинейность!
эдина. Потому что они слишком мало читают! Не развивают свой
интеллект!
Во время разговора они встали и теперь удаляются налево.
ГАНС карл (Елене). Когда смотришь на Фурлани, даже лучшие кло-
204
Гуго фон Гофмансталь
уны кажутся вульгарными. Он прекрасен самой своей оче-
видной медлительностью — хотя она и требует вдвое боль-
шего искусства, чем потуги остальных.
елена. Я понимаю, чем он вам симпатичен. Мне тоже кажется не-
много вульгарным всякий трюк, все, в чем проглядывает
расчет.
ганс карл. Ох, сегодня я и сам готовлю несколько реприз. И все
они касаются вас, графиня Елена.
елена (хмуря брови). Ох, графиня Елена! Вы говорите мне «гра-
финя Елена?»
В средних дверях появляется Губерта и окидывает Ганса
Карла и Елену быстрым, испытующим взглядом.
ГАНС карл (не замечая Губерту). Нет, в самом деле, уделите мне,
пожалуйста, минут пять... пусть не сейчас, потом... ведь мы
оба не играем.
ЕЛЕНА (немного волнуясь, но совершенно собой владея). Вы меня
пугаете. О чем вы хотели со мной говорить? Что-нибудь слу-
чилось?
ГАНС КАРЛ. Если это не вовремя, то ради Бога, не нужно!
Губерта исчезает.
елена (после небольшой паузы). Как только вы пожелаете, но
немного попозже. Я вижу, Губерта скучает. Мне надо к ней
подойти. (Встает.)
ГАНС карл. Вы так очаровательно любезны. (Тоже встает.)
елена. Да и вам, наверное, пора раскланяться с Антуанеттой и дру-
гими дамами. (Уходит от него, но возле средней двери оста-
навливается.) Не так уж я и любезна: просто чувствую,
каково другим. Меня это гнетет — вот я и откликаюсь на все
с тем вниманием, с каким вообще отношусь к людям. Мои
хорошие манеры — своего рода защита, °на помогает мне
сохранять независимость.
Уходит. Ганс Карл медленно идет за ней-
Трудный характер
205
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
В левых дверях одновременно появляются Нойхоф и Знаме-
нитость.
знаменитость (дойдя до середины комнаты и заглядывая в пра-
вую дверь). Вот там, в группе у камина, есть дама, имя кото-
рой мне хотелось бы у вас узнать.
нойхоф. Та, в сером? Это княгиня Перген.
знаменитость. Нет, с ней мы давно знакомы. Дама в черном.
нойхоф. Супруга испанского посла. Вы ей представлены? Или раз-
решите...
знаменитость. Я бы весьма желал быть ей представленным, но
давайте устроим это так...
нойхоф (с едва заметной иронией). Как вам будет угодно.
знаменитость. Если бы вы были столь любезны сначала погово-
рить с этой дамой обо мне, прояснить для нее, ведь она чуже-
странка, мое значение и положение в ученом мире и обще-
стве... После чего я немедленно попрошу графа Альтенвиля
меня ей представить.
нойхоф. С большим удовольствием.
знаменитость. Для ученого моего ранга важно не расширять круг
знакомств, а быть известным и воспринятым соответственно
своему действительному значению.
нойхоф. Вне всяких сомнений. Вот идет графиня Меренберг, она
особенно радовалась возможности познакомиться с вами.
Разрешите мне...
эдина (подходит). Я безмерно рада. Человека такого ранга мне
представлять не нужно, барон. Лучше меня представьте.
знаменитость (кланяется). Я просто счастлив, графиня.
эдина. Было бы жуткой банальностью сказать вам, что я принад-
лежу к числу самых прилежных читательниц ваших знаме-
нитых сочинений. Какая философская глубина, какая
исключительная эрудиция и потом — какая это прекрасная
проза!
206
Гуго фон Гофмансталь
знаменитость. Я поражен, графиня. Мои труды — никак не лег-
кое чтение. Конечно, они обращены не только к ученой пуб-
лике, но все же предполагают читателя с незаурядным зна-
нием дела.
эдина. Да что вы! Каждая женщина просто обязана прочесть эти
ваши прекрасные, полные мысли книги, чтобы и самой
подняться в высшие сферы; я твержу это Туанетте Гехинген
с утра до ночи.
знаменитость. Смею ли я спросить, какие из моих трудов заслу-
жили особое ваше внимание?
эдина. Ну, конечно же, «О происхождении всех религий». Это изу-
мительно! Вот где истинная глубина, а какие поучительные
уроки можно там почерпнуть...
знаменитость (ледяным тоном). Во всяком случае, об этом
произведении много говорят.
эдина. Могли бы и побольше! Я прямо так и сказала Туанетте: вот
книга, которую каждая из нас должна иметь на своем ночном
столике.
знаменитость. Особенно пресса постаралась разрекламировать
этот опус самым разнузданным образом.
эдина. О, как вы можете так говорить! Такое сочинение, это же
грандиознейшее...
знаменитость. Мне было весьма любопытно, графиня, увидеть и
вас среди поклонниц этого изделия. Мне, разумеется, эта
книга незнакома и я вряд ли когда-нибудь решусь расширить
собой круг читателей подобной писанины.
эдина. Как? Ее написали не вы?
знаменитость. Автор этой журналистской компиляции — мой
коллега по факультету Брюкнер. Наши фамилии роковым
образом схожи, но это единственное наше сходство.
эдина. Да как это можно, чтобы два таких знаменитых философа
имели такие похожие фамилии!
знаменитость. Это, конечно, весьма огорчительно, особенно для
меня. Впрочем, господин Брюкнер все что угодно, только не
философ. Он скорее филолог, я бы сказал, салонного толка
Трудный характер
207
или, еще лучше — газетный фельетонист с филологическим
уклоном.
эдина. Мне ужасно жаль, что я все перепутала. Но дома у меня,
господин профессор, конечно же, есть что-нибудь и из ваших
знаменитых трудов. Ведь я читаю буквально все, что хотя бы
немного могло продвинуть нас вперед. Сейчас, например, у
меня лежат очень интересные книги — «Семипелагианизм» и
«Душа радия». Если вы меня как-нибудь навестите...
знаменитость (холодно). Почту за честь, графиня. К сожалению,
я крайне ограничен во времени.
ЭДИНА (хочет идти, но опять останавливается). Поверьте, я
ужасно огорчена, что это не вы ее написали! Теперь я уже не
вправе задать вам вопрос, который хотела! Держу пари, вы
единственный, кто ответил бы на него так, чтобы я, нако-
нец, успокоилась.
нойхоф. Может быть, вы все-таки зададите господину профессору
свой вопрос?
эдина. Нет сомнений, вы человек куда более глубоко образован-
ный, чем тот другой господин. (К Нойхофу.) Может, и в
самом деле? Ответ так много для меня решит. До смерти
хочется успокоиться.
знаменитость. Не угодно ли графине присесть?
эдина (боязливо озирается, нет ли кого поблизости, потом
быстро). Как вы представляете себе нирвану?
знаменитость. Хм. Ответить на такой вопрос, вот так сразу? Для
этого, пожалуй, больше подошел бы господин Брюкнер.
Небольшая пауза.
эдина. А теперь и мне пора возвращаться к бриджу. До свидания,
господин профессор. (Уходит).
знаменитость (заметнорасстроен). Хм...
нойхоф. Славная графиня Эдина! Разве можно на нее, бедняжку,
сердиться?
знаменитость (холодно). Среди профанов мне не впервые прихо-
дится сталкиваться с подобной путаницей. Я готов поверить,
208
Гуго фон Гофмансталь
что этот шарлатан Брюкнер не без умысла пишет о близких
мне предметах. Вы и представить себе не можете, какой
болезненный след оставляют в моей душе нелепые ложные
ситуации, подобные той, в которой мы только что очути-
лись. Наблюдать, как жалкий неуч возносится на волнах
популярности... под победный аккомпанемент подлой прес-
сы... быть смешанным с тем, от кого ты считал себя надежно
огражденным стеной ледяного отчуждения...
нойхоф. Ну кому вы это говорите, мой досточтимый профессор! Я
глубоко, до мельчайших нюансов, вас понимаю и вам сочув-
ствую. Всякий раз не находить отклика в самом своем сокро-
венном — это судьба...
знаменитость. В самом своем сокровенном...
нойхоф. Сознавать, что в тебе не оценено самое важное...
знаменитость. Видеть дело всей своей жизни смешанным с каким-
то журналистским...
нойхоф. Это судьба...
знаменитость. А все подлая пресса...
нойхоф. ...судьба незаурядной личности, как только она поддастся
банальной половине человечества — женщинам, которые
вообще не могут отличить настоящего мужчину от пустого
ничтожества!
знаменитость. Даже в гостиной сталкиваться с отвратительными
следами засилья презренного плебса...
нойхоф. Сохраняйте спокойствие. Человек вашего ранга... То, что
болтает эта Эдина Меренберг и tutti quanti1, даже отдаленно
не может вас касаться.
знаменитость. Это все пресса — чертово месиво из всего, что под
руки подвернется. Но здесь-то я полагал себя в безопасности.
Да, я слишком переоценил избранность этого круга — во вся-
ком случае, в том, что касается духовной жизни.
нойхоф. Дух и эти люди! Жизнь — и эти люди! Все они, кого вы
здесь повстречали, на самом деле не существуют. Одна види-
Все прочие (итал.).
Трудный характер
209
мость. Никто из посетителей этого салона не принадлежит
настоящему миру, тому миру, где вершатся духовные кри-
зисы века. Да оглянитесь вокруг: вот хоть этот персонаж в
соседней комнате — с головы до пят погрязший в безгранич-
ной тривиальной самоуверенности, окруженный девицами и
женщинами — Кари Бюль.
знаменитость. Это и есть граф Бюль?
нойхоф. Собственной персоной, небезызвестный Кари.
знаменитость. Мне до сих пор не представлялось случая с ним
познакомиться. Вы с ним дружны?
нойхоф. Не слишком, однако в достаточной мере, чтобы охарак-
теризовать его вам в двух словах как абсолютное ничтоже-
ство, самонадеянное и самовлюбленное.
знаменитость. У него совершенно особое положение в высшем
свете: он слывет личностью.
нойхоф. Но подтвердить это ему решительно нечем. Лично я
охотно терплю его в обществе — и то, главным образом, по
привычке. А вы ровным счетом ничего не потеряете, если не
узнаете его поближе.
знаменитость (упорно смотрит на Бюля). Я был бы крайне
заинтересован в знакомстве с ним. Как вы полагаете, я
уроню себя в его глазах, если подойду к нему сам?
нойхоф. Вы только время потратите попусту, как и с любым тут.
знаменитость. Мне крайне важно быть представленным графу
Бюлю наиболее эффективным образом, скажем, одним из
его ближайших друзей.
нойхоф. Я бы не хотел принадлежать к их числу, но могу это для
вас устроить.
знаменитость. Вы очень любезны. Или вы полагаете, что я не
уроню себя, если подойду к нему сам, так сказать спонтанно?
нойхоф. Во всяком случае, вы оказываете слишком много чести
милому Кари, принимая его столь всерьез.
знаменитость. Не скрою, что я полагаю весьма немаловажным
присовокупить тонкое и неподкупное суждение большого
света к тому резонансу, который имели мои труды у широ-
210
Гуго фон Гофмансталь
кого читателя во многих странах, в чем я смею усматривать
последние отблески закатного сияния своей не такой уж
заурядной ученой карьеры.
Они уходят.
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
В это время Антуанетта с Эдиной, Нанни и Губертой
появляются в средней двери и проходят на авансцену.
антуанетта. Посоветуйте же мне хоть что-нибудь, вы же видите,
как я волнуюсь. Если вы мне не поможете, я могу таких глу-
постей наделать, что потом ничего не воротишь.
ЭДИНА. Я за то, чтобы оставить ее одну. Она должна его повстре-
чать будто случайно. Мы его только отпугнем, если будем
ходить за ней как конвой.
губерта. Его отпугнешь... Если он захочет иметь с ней рандеву, мы
для него — не больше, чем воздух.
антуанетта. Тогда присядем. Оставайтесь со мной все, только
чтоб это в глаза не бросалось.
Садятся.
нанни. Кому какое дело: у нас тут свои разговоры. Главное, не
показывать вида, будто ты за ним бегаешь.
антуанетта. Мне бы Еленин аристократизм: ни на шаг от него не
отходит, а делает вид, будто его избегает.
ЭДИНА. Еще раз предлагаю: оставим ее одну, и пусть она к нему
подойдет как ни в чем не бывало.
губерта. Не может же она в таком состоянии подойти к нему как
ни в чем не бывало.
антуанетта (чуть не плана). Да не т$ердите вы мне про мое состо-
яние. Отвлеките меня! Не то я совсем подурнею. Ах,
пофлиртовать бы сейчас с кем-нибудь!
нанни (делает движение, чтобы встать). Пойду приведу ей Стани.
Трудный характер
211
антуанетта. Да что мне от него толку. Когда Кари поблизости,
других для меня нет.
губерта. Но Ферри-то Ульфельт есть...
антуанетта. Вот Елена, та бы уж знала, как ей быть. Ловко она
прикрывается Теофилом и вертит всеми как хочет.
губерта. Да она на Теофила и не смотрит, знай себе за Кари уви-
вается.
антуанетта. Скажи мне об этом еще, скажи — чтоб у меня и кро-
винки в лице не осталось.
Встает.
Он что, говорит с ней?
губерта. Конечно, он с ней говорит.
антуанетта. Все время?
губерта. Как ни взгляну.
антуанетта. О, боже! Если ты будешь сообщать мне одни непри-
ятности, я совсем уродиной стану! (Снова садится.)
нанни (хочет встать). Если три подруги для тебя слишком много
— отпусти нас, я ведь и в бридж люблю поиграть.
антуанетта. Останьтесь, посоветуйте хоть что-нибудь, скажите,
как мне быть.
гурЕРТА. Если ты всего час назад посылала к нему камеристку,
нечего теперь разыгрывать из себя принцессу.
нанни. А, по-моему, наоборот. Пусть покажет, что он ей безраз-
личен. Я это и по картам знаю: когда играешь, ни о чем не
задумываясь, сразу начинает везти. Надо все время демон-
стрировать свое внутреннее превосходство.
антуанетта. Ничего себе превосходство...
губерта. Как можно так себя держать, ты совсем раскисла.
эдина. Хоть бы она только раз послушалась. Уж я-то знаю муж-
чин, какой у них характер!
губерта. Знаешь, Эдина, разный у них бывает характер.
антуанетта. Самое умное было бы уехать домой.
нанни. Кто же бросает игру, когда есть хоть один шанс?
эдина. Хоть бы она только раз вняла разумному совету. У меня
212
Гуго фон Гофмансталь
же прямо нюх на все эти психологические штучки! Во-
первых, совершенно необходимо развестись. И так это
моральное угнетение длилось целые годы. А когда она раз-
ведется, этот Кари на ней женится, если только повести дело
с умом.
губерта (взглянув направо). Ш-ш!
Антуанетта (вздрагивает). Он? Боже, колени подкашиваются.
губерта. Возьми себя в руки, это Кресченца.
антуанетта (про себя). Господи, терпеть ее не могу, она меня
тоже, но я перед ней хвостом вилять готова — ведь она его
сестра.
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
кресченца (входит справа). Bonsoir! Что это вы тут делаете? У
Туанетты совсем измученный вид. Вы что, скучаете?
Столько прелестниц! Не надо было Стани идти в клуб, а?
антуанетта (с трудом). У нас тут свои разговоры. Нам пока и без
мужчин хорошо.
кресченца (не садясь). Ну, что вы скажете сегодня о Елене? Ведь
просто на диво хороша! Когда она выйдет замуж, то при-
обретет такой лоск, что никто с ней и сравниться не сможет.
губерта. С чего это вдруг Елена в такой у тебя чести?
кресченца. И вы все очень славные. Антуанетте надо бы себя
поберечь. А то она так выглядит, будто три ночи глаз не
смыкала. (Уходя.) Пойти сказать Польдо Альтенвилю, как
Елена сегодня блистательна. (Уходит.)
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
антуанетта. Господи, значит, решено и подписано, что Кари
женится на Елене.
эдина. Это почему?
антуанетта. Вы что, не видели, как она расхваливает свою буду-
щую бельсер? '
Трудный характер
213
нанни. Нечего сокрушаться из-за высосанных из пальца измышле-
ний. Он сейчас сюда войдет.
Антуанетта. Если он сейчас сюда войдет (подносит к глазам свой
маленький платочек), я пропала.
губерта. Ну, мы уходим. Пусть она успокоится.
Антуанетта. Нет, идите вы вдвоем и посмотрите, говорит ли он с
Еленой снова. Помешайте ему. Сколько раз вы мне мешали,
когда так хотелось побыть с ним наедине. А Эдина пусть со
мной побудет.
Все встали. Губерта и Нанни уходят.
явление шестое
Антуанетта и Эдина садятся слева.
эдина. Дорогое дитя, в этой истории с Кари ты уже с первой
минуты повела себя совершенно неправильно.
антуанетта. Ты-то откуда знаешь?
эдина. Знаю от мадмуазель Фейдо, она рассказывала мне во
всех подробностях как ты все испортила уже в Грюнлей-
тене.
антуанетта. Мерзкая сплетница! Что она может знать?
эдина. Она же не виновата, что слышала, как ты сбегала с лест-
ницы босиком, и видела, как ты гуляла с ним при луне с рас-
пущенными волосами... Ты с самого начала слишком уж
галопом припустилась. Мужчинам, конечно, только того и
надо, но именно поэтому наша роль — нечто высшее. За всю
свою жизнь Кари Бюль не встретил женщины, которая вне-
сла бы в его существование хоть чуточку идеализма.
Поэтому и сам он не в состоянии придать роману высший
смысл, вот все и идет vice versa1. Если бы ты посоветовалась
Наоборот (латин.). Здесь: шиворот-навыворот.
214
Гуго фон Гофмансталь
со мной с самого начала, разрешила дать тебе несколько ука-
заний, рекомендовать пару книг... ты уже сейчас была бы
его женой!
антуанетта. Прошу тебя, Эдина, ступай, не действуй мне на
нервы.
явление седьмое
губерта (появляется в дверях). Ну, вот: сюда идет этот Кари. Он
тебя ищет.
АНТУАНЕТТА. ГОСПОДИ.'
Все встают.
нанни (заглянувши в правую дверь). А из той гостиной сюда идет
Елена.
антуанетта. Господи, как раз когда все может решиться, ей надо
прийти и все испортить. Сделайте же что-нибудь, идите ей
навстречу. Задержите ее!
губерта. Подумай о своей красоте.
нанни. Идем туда, как ни в чем не бывало.
ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
ЕЛЕНА (входит справа). У вас такой вид, будто вы только что обо
мне говорили. (Молчание.) Вы не скучаете? Может, при-
слать из мужчин кого-нибудь?
антуанетта (подходит к ней, почти не владея собой). Мы не ску-
чаем. Ты, мое сокровище, просто ангел, что о нас не забы-
ваешь. Я даже не успела с тобой поздороваться. Сегодня ты
прекрасна, как никогда. (Целует ее.) Только оставь нас и
ступай себе...
ЕЛЕНА. Я мешаю? Тогда я пойду, конечно. (Уходит.)
Трудный характер
215
ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
Антуанетта (проводит рукой по щеке, будто хочет стереть
поцелуй). Что я творю? Зачем позволяю ей себя целовать?
Этой змеюке подлой...
губерта. Возьми себя хоть немножко в руки.
ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ
Ганс Карл входит справа.
Антуанетта (после недолгой растерянности быстро подходит к
нему почти вплотную). Письма я сожгла. Я не какая-нибудь
сентиментальная дурочка, чтобы обливаться слезами над
старыми письмами, как меня представляет моя Агата. Что у
меня есть, то есть, а чего нет, о том я и вспоминать не
желаю. Не так я еще состарилась, чтобы жить прошлым.
ганс карл. Может, присядем? (Подводит ее к креслу.)
Антуанетта. Мне не хватает изворотливости. Чтобы удержать
такого, как вы, нужно непрестанно что-то придумы-
вать. Ведь вы такой же, как ваш племянник Стани. Это я и
хотела вам сообщить, дабы вам было известно. О, я вас
знаю. Вы невероятно себялюбивы и безгранично толстоко-
жи. (После недолгого молчания.) Ну, говорите же что-
нибудь!
ганс карл. С вашего позволения, я бы хотел попытаться напом-
нить вам о том времени...
Антуанетта. Ах, я не позволю себя истязать... Даже тому, кто не
был мне когда-то безразличен.
ганс карл. .. .о том времени года два назад, когда вы внезапно отда-
лились от вашего мужа. Вам тогда грозила опасность
попасть в недостойные руки. Тут появился некто... случайно
им оказался я. Мне хотелось вас... успокоить... единствен-
ным моим намерением было отвести от вас опасность, кото-
рая, как я знал... или чувствовал... вам грозила. Это было
216 Гуго фон Гофмансталь
совпадение случайностей... неумелость... не знаю, право,
как мне это обозначить...
Антуанетта. Эти несколько дней в Грюнлейтене — самые пре-
красные дни в моей жизни. И я не позволю... Не позволю
принизить память о них. (Встает.)
ГАНС карл (тихо). Но ведь и мне они дороги. Было так хорошо.
Антуанетта садится, смотрит на него боязливо.
ганс карл. Было так хорошо!
Антуанетта. «Случайно им оказался я». Вы что, обидеть меня
хотите? Вы стали циником там, на войне. Циник — вот
подходящее для вас слово. Вы перестали ощущать нюансы —
что можно, а что нельзя. Ведь как вы выразились? Это была
ваша «неумелость»? Вы меня все время обижаете.
ГАНС карл. На войне многое для меня изменилось. Но циником я не
стал. Напротив, Антуанетта. Когда я думаю о том, как это у
нас началось, то представляю себе нечто столь нежное,
столь таинственное, что едва решаюсь облечь это в слова.
Временами меня одолевают размышления: как я посмел
приблизиться? По какому праву? Но... (очень тихо) ни о чем
не жалею.
Антуанетта (опускает глаза). Начало всегда прекрасно.
ГАНС карл. За каждым началом — вечность.
Антуанетта (не глядя на него). Вы полагаете, au fond1, что все
можно и все дозволено. Вы не хотите замечать, как беспо-
мощно существо, через которое вы перешагнули, как ему
одиноко, потому что это, быть может, пробудило бы вашу
совесть.
ганс карл. Она меня не мучит.
Антуанетта смотрит на него.
ганс карл. В отношении нас обоих не мучит.
Антуанетта. Вы говорите то так, то этак, и я теперь уж настолько
1 В сущности (франц.).
Трудный характер
217
ничего не понимаю, как будто между нами никогда ничего и
не было. Вы чудовище.
ганс карл. Ничего не было нехорошего! И сейчас нет. Непозволи-
тельно только желание удержать, желание накрепко привя-
зать к себе то, чего никак не удержишь...
Антуанетта. Но ведь мы не какие-то мотыльки, которым отмерен
срок с рассвета до темноты, и все тут. Мы и на следующее
утро никуда не делись. Правда, вам это не очень-то подхо-
дит... таким, как ты.
ганс карл. Все вершится по воле случая. Даже трудно себе пред-
ставить, насколько все мы случайны, как именно случай сво-
дит нас и разводит, и как каждый мог бы оказаться с кем
угодно, если бы случай того пожелал.
антуанетта. Я не желаю...
ганс карл (продолжает говорить, не обращая внимания на ее про-
тест). Но в этом таится такой кошмар, что люди выну-
ждены сами вытаскивать себя за волосы из болота. Вот они
и изобрели брак, который превратил случайное и нечистое в
необходимое, постоянное и законное.
антуанетта. Я вижу, ты хочешь свести меня с моим мужем. Все
время, пока ты тут сидишь, я это чувствовала и ни на секунду
не поддалась на твои уловки. Ты позволяешь себе все, что
хочешь, думаешь, что тебе все дозволено — сначала обо-
льстить, а потом еще и обидеть.
ганс карл. Я не обольститель, Туанетта, меня не интересуют жен-
щины как таковые.
антуанетта. Вот это и есть твой трюк, этим ты меня и околпачил,
что ты не обольститель, не дамский угодник, а только друг,
но зато какой друг. Этим ты кокетничаешь, как и вообще
всем, что у тебя есть или чего у тебя нет. Тебе бы хотелось,
чтобы в тебя были не просто влюблены, а любили до потери
сознания, тебя всего — и не только как мужчину, а... о,
Боже, не знаю как это выразить... как может один и тот же
человек быть таким обаятельным и в то же время таким
чудовищно самовлюбленным, эгоистичным и бессердечным!
218
Гуго фон Гофмансталь
ганс карл. Знаешь ли ты, Туанетта, что такое любовь, знаешь ли?
Если мужчина любит женщину, он может доказать это
только одним, только одним на свете, только нескончаемо-
стью своего чувства, только постоянством. Других доказа-
тельств нет.
Антуанетта. Не надо мне говорить про Адо... не могу я жить с
Адо...
ганс карл. А он тебя любит. Полюбил раз и навсегда. Из всех жен-
щин на свете он выбрал тебя, хранил любовь к тебе и будет
любить тебя всегда. Понимаешь ли ты, что это значит? Так
и будет тебя любить, что бы с тобой ни случилось. Иметь
друга, который тебя любит, всю целиком, для которого ты
прекрасна всегда, не только сегодня или завтра, но и годы
спустя, долгие годы, чьи глаза не заметят того, что наложит
на твое лицо время и жизнь... ты навсегда останешься для
него самой прекрасной, неповторимой, единственной!
антуанетта. Он меня выбирал не для этого. Просто взял и женил-
ся. Об остальном я ничего не знаю.
ганс карл. Но он знает.
антуанетта. Все, о чем вы мне говорите, ничего этого нет. Он все
это выдумал... и вам внушает... все вы мужчины одинаковы
— и вы, и Адо, и Стани — все вы выпечены из одного теста,
потому так превосходно друг друга и понимаете и так ловко
один другому подыгрываете.
ганс карл. Он мне ничего не внушал, я сам это знаю, Туанетта.
Это святая правда, и она мне известна... наверное, всегда
была известна, но лишь на войне открылась во всей своей
очевидности: случай, казалось бы, творит с нами все, что
захочет... но, разбросанные им в разные стороны, отупев-
шие, охваченные страхом смерти... мы вдруг чувствуем и
ясно осознаем, что существует и еще кое-что: необходи-
мость... Она нас порой высматривает, подбирается прямо к
сердцу, тихо и не спеша, но неотвратимо, как меч. На войне
без нее не было бы жизни, одно животное существование. И
та же необходимость возникает иногда в отношениях между
Трудный характер
219
мужчиной и женщиной — там, где она есть, есть и потреб-
ность друг в друге, и прощение, и примирение, и совместная
жизнь. И тогда появляются дети, и брак становится святы-
ней, несмотря ни на что и вопреки всему...
антуанетта (встает). Все, что ты говоришь, значит только одно:
ты задумал жениться на Елене и вскоре на ней женишься.
ганс карл (остается сидеть, удерживает ее). Да я вовсе и не
думаю об Елене! Я же о тебе говорю. Клянусь, что о тебе.
антуанетта. Но все твои мысли витают вокруг Елены.
ганс карл. Клянусь тебе: у меня к ней поручение и совсем иного
рода, чем ты думаешь. Я скажу ей сегодня...
антуанетта. Это тайна, что ты скажешь ей сегодня?
ганс карл. Тайна касается не меня.
антуанетта. Но она свяжет тебя с ней?
ганс карл. Напротив!
антуанетта. Напротив? Ты скажешь ей «adieu»... распрощаешься
с ней?
ганс карл. Для этого нет никаких оснований — ведь между нами
никогда ничего не было. Но если это тебе, Туанетта, будет
приятно, то можешь считать, что суть дела как раз в проща-
нии и состоит.
антуанетта. Прощании на всю жизнь?
ганс карл. Да, Туанетта, на всю жизнь.
антуанетта (смотрит на него во все глаза). На всю жизнь? (Раз-
мышляя.) Да, она скрытная и не станет говорить или делать
что-нибудь дважды. И не будет ни в чем раскаиваться... дер-
жит себя в руках: сказанное решит для нее все. Если ты ска-
жешь ей «adieu», для нее навеки так и останется. Уж для нее-
то наверняка. (После недолгого молчания.) Я не позволю
подсовывать мне Адо. Я не люблю его руки. Его лицо. Его
уши. (Очень тихо.) Твои руки я люблю... но кто ты такой?
Кто ты такой на самом деле? Ты циник, эгоист, дьявол — вот
ты кто! Бросить меня для тебя слишком прозаично. Остаться
со мной — для этого у тебя слишком мало сердца. Отдать
меня — не так-то ты прост. Вот ты и хочешь отделаться от
220
Гуго фон Гофмансталь
меня, но при этом держать в своей власти, тут тебе как раз и
подходит Адо... Иди и женись на Елене. Женись, если
хочешь! Я бы еще знала, что делать с твоей влюбленностью,
но добрые твои советы мне ни к чему. (Хочет идти. Ганс
Карл приближается к ней на шаг.)
Антуанетта. Пусти меня. (Делает несколько шагов, потом вполо-
борота к нему). Что же теперь со мной будет? Отговори
меня по крайней мере от Ферри Ульфельта, у него столько
энергии, когда ему что-нибудь взбредет в голову. Я ему
прямо сказала, что он мне не нравится, а он мне — что я не
могу его знать как возлюбленного, потому что моим возлюб-
ленным он еще не был. Такие речи сбивают с толку. (Почти
в слезах, нежно.) Теперь ты будешь во всем виноват, что бы
со мной ни случилось.
ганс карл. Тебе нужно одно-единственное — иметь друга, верного
друга. (Целует ей руки.) Будь доброй с Адо.
Антуанетта. С ним я не могу быть доброй.
ганс карл. Ты это с каждым можешь.
Антуанетта (мягко). Не обижай меня, Кари.
ганс карл. Пойми же, в каком смысле я говорю.
Антуанетта. Раньше я всегда хорошо тебя понимала.
ганс карл. Может, все-таки постараешься?
Антуанетта. Ради тебя я бы могла постараться. Но ты должен при
этом быть и мне помогать.
ганс карл. Вот ты мне наполовину и обещала.
ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ
Справа появляется Знаменитость, хочет подойти к Гансу
Карлу. Оба его не замечают.
Антуанетта. Ты мне тоже кое-что обещал.
ганс карл. На первое время.
Антуанетта (подойдя совсем близко). Любить меня!
знаменитость. Пардон, я кажется, помешал. (Быстро уходит.)
Трудный характер
221
ГАНС карл (стоя совсем близко). Я ведь это и делаю.
антуанетта. Скажи мне что-нибудь ласковое, пусть это будет
правдой всего на миг. Ведь это все для меня. Только мгнове-
нием я и живу. У меня такая плохая память.
ганс карл. Я не влюблен в тебя, но я тебя люблю.
антуанетта. А Елене ты скажешь «adieu»?
ганс карл. Adieu.,.
антуанетта. Вот как ты со мной расстаешься, как сбываешь с рук!
ганс карл. Никогда еще ты не была так близка мне.
антуанетта. Будешь часто ко мне приходить, будешь меня угова-
ривать? Ты ведь можешь меня убедить в чем угодно.
Ганс Карл целует ее в лоб, почти не замечая этого.
антуанетта. Спасибо. (Убегает в средние двери.)
ганскарл (стоит в растерянности, собирается с мыслями). Бед-
ная маленькая Антуанетта.
ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ
кресченца (входит в средние двери, очень быстро). Ну, с этим ты
справился блестяще. Все по первому классу.
ганс карл. Что? Но ты же ничего не знаешь.
кресченца. А что тут не знать? Я знаю все. У Антуанетты глаза
полны слез, она проносится мимо, но, заметив, что это я,
кидается мне на шею и исчезает, как вихрь. Больше мне
ничего и не надо. Ты воззвал к ее совести, ты разбудил ее
лучшее «я», объяснил ей, что не стоит связывать со Стани
никаких надежд, и указал ей на единственный выход из этой
запутанной ситуации — она должна вернуться к своему мужу
и постараться начать спокойную семейную жизнь.
ганс карл. Да примерно так. Разве что в частностях чуточку иначе.
Признаться, нет у меня твоей целеустремленности. Я часто
отклоняюсь от намеченной линии.
кресченца. Но это не имеет никакого значения. Если ты так стре-
222
Гуго фон Гофмансталь
мительно добился такого блестящего результата, то теперь,
когда ты на таком подъеме, самое время завершить и два
других разговора — с Еленой и с Польдо Альтенвилем.
Прошу тебя, ты только начни, я буду молиться за тебя...
подумать только: счастье Стани целиком зависит от твоего
красноречия.
ганс карл. Не волнуйся, Кресченца, как раз во время разговора с
Антуанеттой Гехинген я представил себе главные нити моей
беседы с Еленой. Я как раз в подходящем расположении
духа. Ты ведь знаешь, я так редко вижу перед собой опреде-
ленную цель, это мой недостаток, но как раз теперь я ее
вижу.
кресченца. Теперь ты понял, как хорошо, когда у тебя есть про-
грамма. Все сразу связывается воедино. Ну, пойдем поищем
Елену вместе, она, наверное, в одной из гостиных, когда мы
ее найдем, я вас оставлю наедине. Как только что-нибудь
прояснится, я ринусь к телефону и вызову сюда Стани.
явление тринадцатое
Кресченца и Ганс Карл уходят налево. Елена и Нойхоф вхо-
дят справа. Из дальней залы доносится приглушенная
музыка.
нойхоф (позади нее). Остановитесь! В полутьме, наполненной зву-
ками этой бессодержательной, пустой и слащавой музыки,
ваша поза восхитительна.
ЕЛЕНА (останавливается, но тут же идет дальше — к стоящим
слева креслам). Я не люблю позировать, барон Нойхоф.
нойхоф. Даже если я закрою глаза?
Елена стоит слева, не отвечая.
нойхоф. Вы необыкновенная, Елена! Равных вам еще не было.
Ваша простота — результат неимоверного напряжения. Без
Трудный характер
223
малейших движений, словно статуя, вы полны внутреннего
трепета; никому не дано этого понять, но кто понял — тот
трепещет вместе с вами.
Елена смотрит на него, садится.
нойхоф (на некотором отдалении). Все в вас чудесно и при этом,
как во всем высоком, до ужаса само собой разумеется.
елена. Высокое для вас само собой разумеется? Это благородная
мысль.
нойхоф. «Быть может, он попросит меня стать его женой» — вот
что хотели прошептать ваши губы, Елена!
елена. Вы читаете по губам, как глухонемые?
нойхоф (делает шаг к ней). Вы должны выйти за меня замуж,
потому что проникаетесь моей волей в этом безвольном
мире.
елена (про себя). Должна выйти? Разве женщине приказывают,
если она избрана и желанна?
нойхоф. Есть недалекие желания. Их вы можете топтать своими
прелестными породистыми ножками. У моего желания сов-
сем другой масштаб. За его спиной дороги многих стран. И
вот оно достигло своей цели. Воля, что посильнее, нашла
вас, Елена Альтенвиль, отыскала на самых дальних пере-
путьях этого бессильнейшего из миров.
елена. Я из этого мира, но разве я бессильна?
нойхоф. Люди вашего круга всем пожертвовали ради прекрасной
формы, в том числе и силой. Мы же там, в нашем забытом
ходом времени северном захолустье, мы еще сохранили свою
силу. И вот стоим мы с вами лицом к лицу — двое равных, а
на самом деле неравных -^ и из этого нашего неравенства
произрастает мое право на вас.
елена. Право?
нойхоф. Право того, кто сильнее духом, на женщину, которую он
может одухотворить.
елена. А я не могу выносить этот мистический лексикон.
нойхоф. Между людьми, постигшими друг друга с первого взгляда,
224
Гуго фон Гофмансталь
всегда витает немножко мистики. Не надо из гордости этого
отрицать.
елена (встает). Надо, потому что женщина никогда с этим не
согласится.
нойхоф. Елена! В вас мое спасение... средоточие всей моей сути,
мое осуществление!
елена. Я предпочитаю быть подальше от людей, которые ставят
свою жизнь в зависимость от подобных условий.
Делает несколько шагов в сторону, взгляд ее прикован к
открытой правой двери, через которую они вошли.
нойхоф. Как вы изменились в лице! Что с вами, Елена?
Елена молча смотрит направо.
нойхоф (встает за ее спиной и смотрит в направлении ее взгля-
да). А, граф Бюль на горизонте! (Он отступает от двери.)
Вы чувствуете его приближение прямо магнетически — но
как вы не замечаете, непостижимое вы создание, что вас для
него просто не существует?
елена. Все-таки я для него существую, хоть как-то, да существую.
нойхоф. Расточительница! Все у него от вас, даже та сила, которой
он вас держит.
елена. Сила, которой один держит другого, от Бога, наверное.
нойхоф. Я поражен. Чем только мог вас околдовать этот Кари
Бюль? Безо всяких усилий, не имея ни заслуг, ни воли, ни
достоинства...
елена. Достоинства?!
нойхоф. Какое может быть достоинство у слабодушного двулич-
ного человека?
елена. Что вы себе позволяете!
нойхоф. Мой северный говор звучит слишком резко для ваших пре-
красных ушек. Но эта резкость не на пустом месте. Двулич-
ным я называю человека, который вроде бы готов всем для
вас пожертвовать, а на самом деле — себе на уме... и в
каждом ищет свои интересы... во всем у него расчет...
Трудный характер
225
елена. Расчет и Кари Бюль! Плохо же вы его знаете! Конечно, его
сокровенные помыслы предугадать невозможно, не то что у
других. Неловкость, делающая его таким милым, его робкое
высокомерие, его снисходительность — все это, конечно же,
просто игра в прятки, которую не так-то легко распознать,
особенно если ты порядком толстокож... Да, ясное дело... В
нем нет и следа тщеславия, от которого другие черствеют и
становятся такими высокомерными... Здравый смысл не
принижает его, как многих других, не превращает его в
посредственность... он повинуется только себе — никто его
не знает, что ж удивительного, что и вы его тоже не знаете!
нойхоф. Такой я вас еще никогда не видел, Елена. Я наслаждаюсь
этим несравненным мигом! Наконец-то я вижу вас такой,
какой вас создал всевышний. Зрелище для богов — прова-
литься мне на этом месте. Терпеть не могу расслабленности
— ни у мужчин, ни у женщин! Но что может быть прекраснее
оттаявшей неприступности!
Елена молчит.
Согласитесь: мужчина, способный любоваться, как женщина
восхищается другим, обнаруживает известное превосход-
ство. Но я позволяю это себе только потому, что не могу
придавать значения вашему восхищению Кари Б юл ем.
елена. Вы не улавливаете нюансов и досадуете там, где это вряд ли
кстати.
нойхоф. Как может меня раздосадовать то, чего я попросту не
замечаю?
елена. Вы его не знаете. Вы с ним едва говорили.
нойхоф. Я был у него с визитом...
Елена смотрит на него.
Невозможно передать, насколько этот человек к вам равно-
душен... вы для него ничего не значите. Он и не замечает
вас.
елена (спокойно). Замечает.
226
Гуго фон Гофмансталь
нойхоф. Между нами состоялся поединок, поединок из-за вас... и я
не был побежден.
елена. Нет, то был не поединок — такого героического названия
это не заслуживает. Вы пошли туда и делали то же самое,
чем сейчас занимаюсь я! (Смеется.) Я изо всех сил стараюсь
разглядеть графа Бюля, но так, чтобы он этого не заметил.
Только я делаю это без задних мыслей.
нойхоф. Елена!
елена. И не рассчитываю поживиться хоть чем-нибудь!
нойхоф. Вы втаптываете меня в грязь, Елена... и я вам это позво-
ляю!
Елена молчит.
И ничто не может нас сблизить?
елена. Ничто. (Делает шаг к двери справа.)
нойхоф. Вы, Елена, само совершенство. Когда вы просто садитесь
на стул, кажется, будто вам надо отдохнуть от великих печа-
лей... когда проходите через комнату, — кажется будто вы
идете навстречу своей судьбе.
В дверях справа появляется Ганс Карл. Елена не отвечает
Нойхофу. Медленно и безмолвно она идет к правой двери.
Нойхоф быстро уходит налево.
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ
ганс карл. Да, мне надо с вами поговорить.
елена. Что-нибудь очень серьезное?
ганс карл. Иногда и меня считают на это способным. Все на свете
устраивается через разговоры. Правда, как-то смешно
воображать, будто умело подобранными словами можно
чего-то добиться. На самом деле все в жизни определяется
чем-то последним, невысказанным. А все эти словеса —
неприличное самомнение, не более.
елена. Если бы все это знали, никто бы и рта не открыл.
Трудный характер
227
ГАНС карл. У вас такой ясный ум, Елена. Вы всегда точно улавли-
ваете суть дела.
елена. Я улавливаю?
ГАНС карл. Мы с вами так легко друг друга понимаем. Надо дер-
жать ухо востро.
елена (смотрит на него). Держать ухо востро?
ганс карл. Ясное дело. Симпатия великая вещь, но выезжать на
ней всякий раз уж очень рискованно. Вот и надо быть наче-
ку, когда чувствуешь, как легко друг друга понимаешь.
елена. Вы, разумеется, так и должны поступать. Такова уж ваша
натура. Тот, кто вздумал бы прибрать вас к рукам, заранее
обречен. Но тот, кто полагает, что вы навеки сказали ему
«adieu», тот, может статься, снова услышит от вас «bon-
jour»... Сегодня Антуанетта вновь вас очаровала.
ганс карл. Вы все замечаете!
елена. Вы на свой лад нуждаетесь в нас, бедных женщинах. Но не
слишком-то нас любите. Чтобы сохранить вашу дружбу надо
или поменьше об этом думать, или же быть совсем как все.
ганс карл. Вряд ли я могу быть вам симпатичен, если вы меня
таким видите!
елена. Напротив. Вы — charmant. И при этом — совершенный
ребенок.
ганс карл. Ребенок? Но ведь я же почти старик! Вот что ужасно. В
тридцать девять лет не знать, что ты собой представляешь,
это же позор.
елена. А я никогда не раздумывала, что я такое. Ничего особен-
ного со мной не происходит: веду себя спокойно и как подо-
бает — и все тут.
ганс карл. Вы так прелестно держитесь.
елена. Не хочу быть сентиментальной — это скучно. Уж лучше
закусить удила и наделать глупостей, чем быть сентимен-
тальной. Не хочу ни хандрить, ни кокетничать. Так что мне
ничего другого и не остается, как просто получше себя вести.
Ганс Карл молчит.
228
Гуго фон Гофмансталь
На самом деле мы, женщины, можем делать все, что нашей
душе угодно: разучиваем ли мы сольфеджио, говорим ли о
политике, занимает нас нечто другое... Вести себя получше
— куда скромнее, чем петь сольфеджио: тут и намерений
иных нет, кроме как не совершать никакой нескромности —
как по отношению к себе, так и к другим.
ГАНС карл. Все в вас прекрасно и неповторимо. Ничего с вами не
может случиться дурного. Выходите за кого-нибудь замуж,
выходите за Нойхофа, нет, за Нойхофа лучше не надо, если
этого еще можно избежать, выходите за первого же хоро-
шего человека помоложе, вроде моего племянника Стани,
да, в самом деле, Елена, выходите за Стани, он бы так этого
хотел, с вами же ничего не может случиться. Вы ничему не
подвластны, это на вашем лице начертано. Меня всегда вос-
хищают истинно прекрасные лица, но ваше...
елена. Я не хотела бы, граф Бюль, чтобы вы так со мной разгова-
ривали...
ГАНС карл. Нет, в вас не красота решает, а нечто другое: в вас
таится необходимость. Вы, конечно, не можете меня понять,
я и сам себя понимаю гораздо хуже, когда говорю, чем когда
молчу. Трудно и пытаться вам объяснить — ведь я научился
этому на войне: на лицах людей многое начертано. Поверите
ли, даже на таком лице, как у Антуанетты, я могу прочесть...
елена (с мимолетным смешком). Я в этом и не сомневаюсь.
ГАНС карл (серьезно). Это очаровательное, милое лицо, но в нем
будто навеки застыл немой упрек: почему все меня бросили
на произвол судьбы? И это придает ее облику нечто столь
беспомощное и отчаянное, что за нее становится страшно.
елена. Но ведь с Антуанеттой все в порядке. Она жила и живет
мгновеньем. А что делать в жизни таким, как я? Для меня
минуты вообще не существует. Вот я стою и смотрю на горя-
щие лампы, а во мне они уже погасли. Или вот, говорю с
вами, мы в комнате совсем одни, но во мне и это уже минуло:
словно вошел кто-то совсем посторонний и помешал нам,
Губерта или Теофил Нойхоф или еще кто, и вот уже нет
Трудный характер
229
ничего — будто мы не сидим с вами одни под эту музыку,
которая подходит всем на свете, но не нам с вами... и вот вы
уже снова где-то там, среди людей. И я тоже где-то среди
людей.
ганс карл (тихо). Кто бы ни связал с вами свою судьбу, будет
счастлив и должен до конца дней своих благодарить Бога. До
конца своих дней. Не выходите за Нойхофа, Елена... скорее
за человека вроде Стани, или нет, не Стани, а за кого-нибудь
совсем другого, доброго, благородного человека... и мужчи-
ну: это все не мои качества.
Встает.
елена (тоже встает, чувствуя, что он хочет уйти). Итак, вы
прощаетесь со мной!
Ганс Карл не отвечает.
И это я знала наперед. Знала, что настанет минута, когда вы
вдруг скажете мне «прощай» и положите конец... тому, чего
никогда и не было. Но с теми, с кем действительно что-то
было, с ними вы никогда не сможете распрощаться.
ганс карл. Елена, тут есть некоторые обстоятельства...
елена. Я, кажется, обо всем на свете передумала, что могло бы
иметь отношение к нам обоим. Когда-то мы с вами стояли
вот так же, так же звучала глупая музыка и вы со мной точно
так же прощались — навсегда.
ганс карл. Не эта минута тому причина, что я прощаюсь с вами,
Елена. О нет, вы не должны так думать. Ведь если прихо-
дится с кем-то прощаться, что-то за этим кроется.
елена. Что же?
ганс карл. Ведь можно принадлежать кому-то всей душой и все-
таки не сметь принадлежать ему всецело.
елена (вздрагивает). Что вы хотите этим сказать?
ганс карл. Там, на войне, там порой бывало... Боже, разве можно
об этом кому-нибудь рассказать.
елена. Да, мне. Сейчас.
230
Гуго фон Гофмансталь
ганс карл. Там бывали такие часы, под вечер или ночью... раннее
утро и звезда на небе... Елена, там вы были так близки мне.
Потом эта контузия, вы о ней слышали...
елена. Да, слышала...
ганс карл. Это длилось всего мгновение, секунд тридцать, не боль-
ше, но внутри нас — другие мерки. Для меня это была чуть
не целая жизнь, которую я прожил, и в той жизни вы были
моей женой. Чем не курьез?
елена. Я была тогда вашей женой?
ганс карл. Не моей будущей женой. Вот что самое странное. Про-
сто моей женой, будто все это давно свершилось. И вообще
во всем этом было больше от прошлого, чем от будущего.
Елена молчит.
Господи, я и в самом деле невыносим, я же предупреждал
Кресченцу. Сижу рядом с вами, когда у вас гости, и путаюсь
в каких-то историях, как старый Миллезимо, упокой, Госпо-
ди, его душу, от которого люди шарахались с его бессмыслен-
ными анекдотами без конца и начала, но он этого не замечал
и все продолжал в полном одиночестве их рассказывать.
елена. Но я вас не оставляю, я слушаю вас, граф Кари. Вы хотели
мне что-то сказать, вы об этом и начали?
ганс карл. Вот именно: это и был весьма хитроумный урок, кото-
рый мне тогда преподала некая высшая сила. Я расскажу
вам, Елена, в чем он заключается.
Елена села, он тоже садится, музыка смолкла.
В момент озарения мне было дано понять, как выглядит сча-
стье, которое я упустил. Как я его упустил, вы знаете не
хуже меня.
елена. Не хуже вас?
ганс карл. Ведь я не распознал, пока еще было время, в чем един-
ственном оно заключалось. В том, что я это не распознал,
виновата слабость моей натуры. И я не выдержал испыта-
ния. Уже потом, в полевом госпитале, в спокойные дни и
Трудный характер
231
ночи, я понял все это с совершенной отчетливостью и ясно-
стью.
елена. Это вы и хотели мне сказать, именно это?
ганс карл. Выздоровление — такое удивительное состояние. Весь
мир ко мне вернулся — омытый, преображенный, и к тому
же совершенно понятный. И я смог себе вдруг представить,
что это такое: человек. И как все должно быть: два челове-
ка, которые соединяют свои жизни и становятся как один. Я
смог... хоть в мыслях... себе представить... как такой союз
заключается, как он свят и как чудесен. И, странным обра-
зом, главное место в этих размышлениях без всяких моих на
то устремлений занял не мой брак — хотя вполне возможно,
что и я когда-нибудь женюсь, — а ваш.
елена. Мой брак? Мой брак... с кем же?
ганс карл. Этого я не знаю. Но я мог себе тогда отчетливейшим
образом представить, как все свершится... людей совсем
мало, все так светло и празднично и что все будет как надо,
как подобает вашим глазам и вашему лбу и губам вашим,
которые не скажут лишнего, и вашим рукам, которые не
подпишут ничего недостойного... И даже ваше «да» я слы-
шал, ясное и тихое, ваш ясный тихий голос... совсем издале-
ка, потому что меня-то там, конечно, не было, меня ведь там
не было!.. Как бы я мог попасть на эту церемонию, не при-
надлежа к вашему семейству... Но меня радует, что я выска-
зал наконец, как я к вам отношусь... Конечно, это можно
было сделать только в совершенно особую минуту, такую,
как сейчас, так сказать в решающую минуту...
Елена близка к обмороку, но овладевает собой.
ганс карл (со слезами на глазах). Боже мой, я вас вконец взбаламу-
тил, все мой невозможный характер, я тотчас поддаюсь чув-
ствам, как только говорю или слышу что-нибудь не совсем
обычное... все нервы с той самой истории, но это ранит
отзывчивых людей вроде вас... я собственно не должен выхо-
дить на люди... я же предупреждал Кресченцу... тысячу раз
232
Гуго фон Гофмансталь
прошу меня простить, забудьте все, что я тут наплел... ведь
в момент такого прощания в голове мешаются тысячи воспо-
минаний...
Быстро, так как чувствует, что они больше не одни.
...но тот, кто собой владеет хоть немного, тот, конечно же,
не должен в них копаться — так прощайте же, Елена... adieu.
Справа появляется Знаменитость.
елена (едва владея собой). Adieu.
Они хотят подать друг другу руки, но руки их не находят
друг друга. Ганс Карл хочет уйти направо. Навстречу ему
идет Знаменитость. Ганс Карл смотрит налево. Слева
входит Кресченца.
знаменитость. Уже давно самым моим сокровенным желанием
было, ваша светлость...
ганс карл (устремляется направо). Пардон, сударь! (Проходит
мимо )
Кресченца идет к смертельно бледной Елене. Знамени-
тость в смущении удаляется. Ганс Карл появляется в две-
рях справа, заглядывает, будто в нерешительности, и
исчезает, заметив, что рядом с Еленой стоит Кресченца.
елена (Кресченце, почти не понимая, что говорит). Это ты,
Кресченца? Это он сейчас сюда заглядывал? Он сказал что-
нибудь? (Шатается, Кресченца ее поддерживает.)
кресченца. Это твое волнение... Я так счастлива!
елена. Извини, Кресченца, не сердись! (Высвобождается и убе-
гает налево.)
кресченца. Вы любите друг друга гораздо больше, чем сами об
этом догадываетесь — и ты, и Стани! (Она утирает глаза.)
Занавес падает.
*
Акт третий
Вестибюль в доме Альтенвилей. Направо выход к парад-
ному подъезду. Посредине лестница на галерею, справа и
слева две створчатые двери во внутренние покои. Внизу,
возле лестницы, низкие диваны или скамьи.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
камердинер (стоит у выхода справа, другие слуги за дверьми,
ведущими на парадное, их видно сквозь дверное стекло.
Выкликает, обращаясь к слугам). Господин надворный со-
ветник, профессор Брюкке!
Знаменитость спускается по лестнице. Справа подходит
слуга с галошами и шубой, из рукавов которой свисают два
шарфа.
камердинер (помогая Знаменитости одеться). Прикажете по-
дать автомобиль?
знаменитость. Благодарю. Не спускался ли уже его светлость
граф Бюль?
камердинер. Он только что Ьыл здесь.
знаменитость. Уехал?
камердинер. Нет, их светлость отослал автомобиль, он видел, как
подъехали два господина, зашел за портьеру и их пропустил.
Сейчас он, верно, выходит из дома.
234
Гуго фон Гофмансталь
знаменитость (заторопившись). Пойду его догоню. (Уходит.)
Одновременно видно, как с улицы входят Стани и Гехинген.
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Стани и Гехинген входят, за каждым идет слуга и прини-
мает пальто и шляпу.
СТАНИ (кланяясь мимоходом Знаменитости, обращается к
Камердинеру). Добрый вечер, Венцель, мама здесь?
камердинер. Так точно. Госпожа графиня играют в карты.
Отходит вместе с другими слугами. Стани намерен под-
няться наверх. Гехинген стоит в стороне у зеркала и явно
нервничает. С лестницы спускается еще один слуга.
стани (останавливает его). Вы меня знаете?
слуга. Так точно, ваша светлость.
стани. Пройдите-ка по гостиным и разыщите графа Бюля. Доло-
жите ему незаметно, что я его жду на пару слов в угловой
зале картинной галереи или в китайской курительной. Поня-
ли? Значит, как вы скажете?
слуга. Я доложу графу Бюлю, что граф Фройденберг желают
поговорить с ним с глазу на глаз либо в угловой зале, либо...
стани. Хорошо.
Слуга уходит.
гехинген (тихо). Человек! Эй, человек!
Слуга не слышит его и входит в дверь наверху. Стани
садится. Гехинген смотрит на него.
стани. Может, ты войдешь без меня? Я отправил наверх послание
и буду ждать здесь ответа.
гехинген. Я охотно составлю тебе компанию.
стани. Нет, прошу тебя, из-за меня не задерживайся. Ты ведь так
сюда спешил...-
Трудный характер
235
гехинген. Милый Стани, я нахожусь сейчас в совершенно исклю-
чительной ситуации. Стоит мне переступить порог этой
гостиной, и решится моя судьба.
стани (раздраженный нервным хождением Гехингена). Может, ты
лучше сядешь? Я же сказал тебе, что жду слугу с ответом.
гехинген. Не могу я сидеть, я слишком взвинчен.
стани. Ты, наверное, слишком налегал на шампанское?
гехинген. Рискуя наскучить тебе, милый Стани, напомню, что для
меня в этот час поставлено на карту очень многое.
стани (пока Гехинген снова отдаляется от него в нервной рассе-
янности). Но ведь многое часто ставится на карту. Надо
только и вида не подавать.
гехинген (вновь приближаясь). Твой дядя Кари по дружбе и доб-
роте своей взялся провести разговор с Антуанеттой, моей
женой, от исхода которого, как я уже говорил...
стани. Дядя Кари?
гехинген. Должен тебе сказать, что я не мог бы вручить свою
судьбу в руки более благородного, более самоотверженно-
го...
стани. Само собой разумеется... Если только у него нашлось для
этого время.
гехинген. Что?
стани. Порой дядя Кари берется за слишком многое. Он просто не
в силах отказать, когда его о чем-нибудь просят.
гехинген. Мы условились, что я буду в клубе ждать сигнала по
телефону, идти мне сюда, или мое появление пока преждев-
ременно.
стани. А... Я бы тогда на твоем месте действительно лучше подо-
ждал.
гехинген. Не в силах я больше ждать. Только представь себе, что
поставлено для меня на карту!
стани. Надо быть чуточку выше всего этого. Ага!
Видит слугу наверху в дверях. Слуга спускается по лестни-
це. Стани, оставив Гехингена, идет ему навстречу.
236
Гуго фон Гофмансталь
слуга. Его светлость, кажется, ушли.
стани. Кажется! Я же сказал вам, чтобы вы его разыскали.
слуга. Многие господа тоже о нем справлялись. Его светлость,
наверное, исчезли совершенно незаметно.
станй. Тьфу ты, пропасть! Тогда доложите моей матери, что я
очень просил бы ее выйти на минутку в ближнюю гостиную.
Мне совершенно необходимо прежде, чем войти, поговорить
или с ней, или с дядей.
слуга. Слушаюсь. (Снова поднимается наверх.)
гехинген. Интуиция мне подсказывает: Кари сию минуту выйдет,
чтобы сообщить мне результат и результат этот положи-
тельный.
стани. У тебя тонкая интуиция? Поздравляю!
гехинген. Ему что-то помешало телефонировать, но мысленно он
меня вытребовал сюда. Я все время ощущаю себя с ним в
контакте.
стани. Умопомрачительно!
гехинген. Это у нас обоюдно. Часто он произносит то, о чем я
только что подумал.
стани. Ты, по-видимому, выдающийся медиум.
гехинген. Дорогой друг, когда я был совсем еще молодым телен-
ком, вроде тебя, то тоже многое считал невероятным, но
когда тебе стукнет тридцать пять, тут-то для тебя и про-
яснятся некоторые вещи. Словно раньше ты был и слеп и
глух.
стани. Да что ты говоришь!
гехинген. Я целиком обязан Кари этим своим вторым рождением.
Должен тебе сказать, что без него я попросту не разобрался
бы в своих запутанных обстоятельствах.
стани. Поразительно!
гехинген. Такое создание, как Антуанетта... Будь ты даже ее
мужем, это еще ничего не значит; ты-то и не имеешь ника-
кого представления о ее душевной деликатности. Прошу не
забывать, что подобное создание — бабочка, пыльцу кото-
Трудный характер
237
рой надо оберегать. Если бы ты ее только знал, я имею в
виду, знал поближе...
Стани благодарно кланяется.
гехинген. Я теперь понимаю свои отношения с ней так: мой долг
предоставлять ей свободу, в которой так нуждается ее пре-
исполненная причуд и фантазии натура. Она как знатная
дама из восемнадцатого века: ее можно к себе привязать,
только дав ей полнейшую свободу.
стани. А...
гехинген. Надо проявлять широту, именно этим я обязан Кари. Я
даже не счел бы для себя зазорным сойтись поближе с чело-
веком, который ее почитает.
стани. Понимаю.
гехинген. Я бы постарался превратить его в своего друга не из так-
тических соображений, а совершенно для себя естественно.
Я принял бы его с легким сердцем: Кари научил меня, что
так и надо относиться к людям — легко и непринужденно.
стани. Нельзя же, однако, принимать на веру au pied de la lettre1
все, что говорит дядя Кари.
гехинген. Au pied de la lettre, конечно, нельзя. Но прошу тебя
заметить, как тонко я проникаю в суть дела. Все сводится к
чему-то неуловимому, флеру, нюансам... я бы сказал, что
тут надо постоянно импровизировать.
Нервно ходит взад-вперед.
стани. Прежде всего надо уметь сохранять выдержку. Например,
какого бы решения ни ожидал дядя Кари, никто бы по нему
ни о чем не догадался.
гехинген. Ну, разумеется. Он стоял бы вон там, за статуей, или за
этой большой азалией и болтал бы с полнейшей неприну-
жденностью... я будто вижу это! Однако, даже рискуя тебе
наскучить, могу поклясться, что я чувствовал бы малейший
оттенок в его настроениях.
1 Буквально (франц.).
238
Гуго фон Гофмансталь
стани. Но так как нам обоим не поместиться за азалией, а этот
идиот слуга окончательно пропал, то не подняться ли все-
таки наверх?
гехинген. В самом деле, давай поднимемся. В эти минуты мне
трудно оставаться одному. Если б ты только знал, дорогой
Стани, как ты мне симпатичен! (Берет его под руку).
стани (высвобождая руку). Но, может быть, не bras dessus bras
dessous1, как барышни, которые только начали выезжать, а
каждый собственной персоной.
гехинген. Да, да, конечно, как тебе удобнее...
стани. Тогда, может быть, ты двинешься первым. А я тут же
вслед.
Гехинген идет вперед и исчезает наверху. Стани идет за
ним.
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
ЕЛЕНА (появляется из маленькой потайной двери в левой стене и
ждет, пока Стани скроется из виду. Потом тихо подзы-
вает камердинера). Венцель, Венцель, мне надо вас кое о
чем спросить.
камердинер (быстро к ней подходит). Что прикажете, графиня?
елена (легко). Вы не знаете, ушел ли граф Бюль?
камердинер. Так точно, минут пять назад.
елена. Он ничего не оставлял?
камердинер. Что графиня имеет в виду?
елена. Письмо или на словах что-нибудь.
камердинер. Мне не оставлял. Сейчас спрошу остальных слуг.
(Уходит.)
Елена стоит и ждет. Наверху показывается Стани. Он
пытается разглядеть, с кем говорит Елена, и снова исче-
зает.
1 Взявшись под руку (франц.).
Трудный характер
239
камердинер (возвращается к Елене). Нет, ничего. Он отослал
свой автомобиль, закурил сигару и вышел.
Елена молчит.
камердинер (после краткого молчания). Графиня изволит что-
нибудь приказать?
елена. Да, Венцель. Через несколько минут я сюда вернусь, а
потом выйду из дома.
камердинер. Уедете? Сейчас? Вечером?
елена. Нет, я пойду пешком.
камердинер. Заболел кто-нибудь?
елена. Нет, никто не заболел. Мне необходимо кое с кем погово-
рить.
камердинер. Прикажете, чтобы вас сопровождал кто-нибудь,
кроме мисс?
елена. Нет, я пойду без мисс Джекилл, одна. Выйду здесь, когда
тут не будет никого из гостей. И отдам вам письмо для папа.
камердинер. Прикажете, чтобы я тотчас отнес его наверх?
елена. Нет, отдайте его папа, когда он проводит последнего гостя.
камердинер. Когда все господа разойдутся?
елена. Да, когда он велит тушить свет. Но оставайтесь тогда при
нем. Я бы хотела, чтобы вы... (запинается.)
камердинер. Что прикажете?
елена. Венцель, сколько мне было лет, когда вы поступили к нам
в дом?
камердинер. Пять лет... вы были еще совсем малышкой.
елена. Спасибо, Венцель, благодарю вас. Я выйду здесь, а вы пода-
дите мне знак, что путь свободен. (Протягивает ему руку
для поцелуя.)
камердинер. Будет исполнено. (Целует ей руку.)
Елена снова уходит через маленькую дверь.
240
Гуго фон Гофмансталь
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Антуанетта и Нойхоф выходят справа от лестницы из
зимнего сада.
Антуанетта. Это Елена. Она была одна? Она меня видела?
нойхоф. Нет, кажется. Но вам-то не все ли равно? Вам ли бояться
ее взгляда?
Антуанетта. Я ее боюсь. Как только о ней подумаю, мне кажет-
ся — кто-то меня оболгал. Пойдемте куда-нибудь, не сидеть
же в вестибюле.
нойхоф. Успокойтесь, Кари Бюль ушел. Я только что видел, как
он уходил.
АНТУАНЕТТА. ТОЛЬКО ЧТО?
нойхоф (понимая, о чем она думает). Он ушел незаметно, никто
его не провожал.
АНТУАНЕТТА. Что?
нойхоф. Известная особа его сюда не провожала и в последние
полчаса его здесь пребывания вообще с ним не разговарива-
ла. Я это точно установил. Будьте покойны.
Антуанетта. Он мне поклялся, что распростится с ней навсегда.
Увидеть бы только ее лицо. Тогда бы я сразу все поняла...
нойхоф. Это лицо твердо, как камень. Оставайтесь здесь со мной.
АНТУАНЕТТА. Я...
нойхоф. Ваше лицо обворожительно. Другие лица все утаивают. А
ваше — словно беспрерывное признание. По нему можно
прочесть все, что вы когда-либо перечувствовали.
Антуанетта. Можно? Наверное... Если иметь на это хоть какое-то
право.
нойхоф. Это право берут, когда приходит минута. Вы женщина —
настоящая, обворожительная женщина. Вы не принадле-
жите никому и принадлежите каждому! Нет: вы еще никому
не принадлежали, вы еще только ждете.
Антуанетта (с коротким нервным смешком). Не вас!
нойхоф. Нет, как раз меня — человека, каких вы еще не знавали,
настоящего мужчину. Вы ждете рыцарства, доброты, уходя-
Трудный характер
241
щей корнями в силу. Ведь всякие там Кари только вас трети-
ровали, водили за нос — с первой до последней минуты.
Таковы уж люди этого сорта — без доброты, без сердцеви-
ны, не ведающие ни страсти, ни порядочности! Трутни, в
сети которых то и дело попадаются существа вроде вас, не
получая взамен ни благодарности, ни счастья, попранные в
своей нежнейшей женственности! (Хочет схватить ее
руку.)
антуанетта. Как вы возбуждены! И все-таки совсем для меня не
опасны: в каждом вашем слове сквозит холодная алчная рас-
судочность. Я даже и не боюсь вас, я вас просто не хочу!
нойхоф. Мой рассудок, да я его ненавижу! Только и мечтаю, как
от него избавиться. Только и стремлюсь потерять его с вами,
милая маленькая Антуанетточка! (Хочет взять ее руку.)
Наверху показывается Гехинген, но тотчас отступает
назад. Увидев его, Нойхоф отдергивает руку, меняет позу
и выражение лица.
антуанетта. Ага! Теперь-то я вас насквозь вижу! Как вы вдруг в
лице переменились! Я вам скажу, что сейчас произошло:
наверху прошла Елена, и в это мгновенье я все прочла по
вашему лицу, как по книге. Досада и бессилие, злоба, стыд и
желание заполучить меня — faute de mieux1. Все это было на
нем сразу. Эдина ругает меня, что я мудреных книг не читаю.
Но я вмиг прочла все, что увидела, хоть это и было довольно
мудрено. Не пытайтесь покорить меня. Я этого не хочу!
нойхоф (наклоняется к ней). Ты должна захотеть!
антуанетта (встает). Ого! А я не хочу! Не желаю! И пусть то,
что рвется из ваших глаз и жаждет завладеть мною, так и
останется неутоленным!.. Может, все это и очень мужское,
но я этого не хочу. И если это лучшее, что в вас есть, то в
каждой из нас, даже в самой обыкновенной, есть кое-что
1 За неимением лучшего (франц.).
242
Гуго фон Гофмансталь
получше вашего лучшего, и оно защищено от вашего луч-
шего толикой страха. Но это не тот страх, от которого кру-
жится голова, а вполне трезвая, прозаическая осторожность.
(Направляется к лестнице, но останавливается еще раз.)
Вы поняли меня? Ясно я выражаюсь? Я вас побаиваюсь, но
что-то не слишком — вот в чем ваша беда. Adieu, барон Ной-
хоф.
Нойхоф быстро уходит в сторону зимнего сада.
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Наверху появляется Гехинген, он сбегает по лестнице.
Антуанетта смущена и отступает назад.
гехинген. Туанетта!
Антуанетта (невольно). Только этого не хватало!
гехинген. Как ты сказала?
Антуанетта. Я удивлена... ты должен понять.
гехинген. А я счастлив. Я благодарю Господа, благодарю свою
удачу, благословляю это мгновение!
Антуанетта. Ты что-то переменился. У тебя совсем другое выра-
жение лица — не знаю, что и думать. Ты плохо себя чувству-
ешь?
гехинген. Может, все дело в том, что эти черные глаза долго меня
не замечали?
Антуанетта. Но мы же не так давно виделись.
гехинген. Видеться и замечать — большая разница. Туанетта.
Он подошел к ней ближе. Антуанетта отступает назад.
А может, меня изменило нечто другое, если мне будет дозво-
лена дерзость напомнить о себе.
Антуанетта. Что же? Случилось что-нибудь? Ты кем-то увлекся?
гехинген. Увидеть в живой игре всю твою притягательность и не-
преклонность, внезапно увидеть перед собой любимую жен-
щину во всем ее блеске, увидеть, как она живет и действует!
Антуанетта. Ах, ты обо мне!
Трудный характер
243
гехинген. Да, о тебе. Я был так счастлив увидеть тебя такой,
какая ты есть, ведь тебе не мешало мое присутствие. О,
какие мысли приходили мне в голову, когда я стоял там
наверху! Вот она, женщина, для всех желанная и для всех
недоступная! Моя судьба, твоя судьба — ведь это и есть наша
судьба. Сядь ко мне!
Он сел и протягивает к ней руку.
Антуанетта. С таким старым знакомым можно поговорить и стоя.
гехинген (снова встал). Разве я знал тебя... Теперь я смотрю на
тебя новыми глазами. Перед тобой уже не я, а совсем другой,
преображенный человек.
Антуанетта. Ты говоришь как-то по-новому. Где это ты научился?
гехинген. Ты не знаешь того, кто с тобой говорит, Туанетта, как
и он не знал тебя до сих пор! И нет у него иного желания и
иной мечты, кроме как быть тобой узнанным и самому тебя
узнать.
Антуанетта. Адо, ради всего святого, не говори со мной так, будто
я случайная знакомая в ресторане скорого поезда.
гехинген. С которой бы я поехал хоть на край света!
Хочет поцеловать у нее руку, но она ее отнимает.
антуанетта. Прошу тебя заметить, что все это совершенно выби-
вает меня из колеи. Давно женатые люди говорят друг с дру-
гом в привычном тоне. Нельзя же его менять, а то и голова
может пойти кругом.
гехинген. Я ничего не знаю о давно женатых людях, ничего не
знаю о наших отношениях.
антуанетта. Но ведь они уже сложились...
гехинген. Сложились? Да ничего этого не существует. Вот ты и
вот я, и все начинается заново.
антуанетта. Да нет же, ничего заново не начинается.
гехинген. Вся жизнь — это вечное обновление.
антуанетта. Нет, нет, прошу тебя, ради бога: оставайся, каким ты
был. Иначе я не выдержу. Не сердись на меня, у меня
244
Гуго фон Гофмансталь
мигрень немного разыгралась. Я и раньше хотела уехать,
когда не знала еще, что ты... ведь я не могла этого знать!
гехинген. Ты не могла знать, кто предстанет перед тобой — что
это не твой муж, а новый обожатель, пылающий как двадца-
тилетний мальчишка! Это тебя смущает, это приводит в смя-
тенье. (Хочет взять ее руку.)
Антуанетта. Нет, не в смятенье — наоборот, это меня отрезвляет.
Весь этот галоп показался мне вдруг таким жалким, и я сама
себе тоже. У меня сегодня неудачный вечер, пожалуйста,
сделай мне единственное одолжение, позволь уехать домой.
гехинген. О, Антуанетта!
Антуанетта. Если ты мне хочешь сказать что-нибудь определен-
ное, говори, я охотно тебя выслушаю, только прошу об
одном! Говори, как всегда говорил.
Гехинген молчит, подавленный и отрезвленный.
Антуанетта. Так скажи же, что ты мне хотел сказать.
гехинген. Я озадачен, видя, что мое присутствие, с одной стороны,
удивляет, а с другой — кажется, утомляет тебя. Я имел осно-
вания надеяться, что мой добрый друг найдет возможность
поговорить с тобой обо мне, о моих неизменных к тебе чув-
ствах. Я представлял себе, что после этого между нами прои-
зойдет импровизированное объяснение, которое могло бы
привести... или уже привело... к изменению наших отноше-
ний... Я просил бы тебя принять во внимание, что до сих пор
ты не позволяла мне говорить о сокровенном. Антуанетта, я
так понимаю свое к тебе отношение... тебе не скучно?
Антуанетта. Да нет, продолжай, пожалуйста. Ты же хотел мне
что-то сказать. Иначе зачем бы ты сюда пришел.
гехинген. Я так понимаю наши отношения, Антуанетта, что свя-
зан в них какими-то обязательствами только я, только мне,
одному мне, должен быть положен испытательный срок —
какой, это тебе решать.
Антуанетта. Но к чему это все? Куда это приведет?
гехинген. Когда я заглядываю в свою душу... Туанетта...
Трудный характер
245
антуанетта. Ну и что ты там видишь, когда туда заглядываешь?
(Трет себе виски.)
гехинген. ...я вижу, что долгого испытания мне не нужно. Я буду
всегда на твоей стороне — хоть всем наперекор. Всегда-
всегда буду защищать твое очарование и свободу. И если мне
кто-нибудь попробует тебя оболгать, я с торжеством
поставлю его на место, указав на только что здесь пережитое
как на яркое свидетельство твоего умения держать в грани-
цах любых назойливых преследователей.
антуанетта (нервно). Что за ерунда?
гехинген. Ты желанна для многих. Ты похожа на великосветскую
даму восемнадцатого столетия. Я никоим образом не хочу
усмотреть в этом что-либо предосудительное. Важен не
факт, а нюансы. Мне необходимо сказать тебе со всей опре-
деленностью: как бы ты ни поступала, намерения твои для
меня вне всяких подозрений.
антуанетта (чуть не плача). Мой милый Адо, ты очень добр, но
мигрень моя усиливается с каждым твоим словом.
гехинген. О, как жалко. Тем более, что для меня эти минуты бес-
ценны.
антуанетта. Пожалуйста, будь так любезен...
Она пошатнулась.
гехинген. Я понимаю. Автомобиль?
антуанетта. Да, пожалуйста. Эдина позволила мне взять свой.
гехинген. Сию минуту.
(Идет отдать распоряжение. Возвращается с ее пальто.
Помогая ей одеться.)
Это все, что я могу сейчас для тебя сделать?
антуанетта. Да, все.
камердинер (у стеклянных дверей, докладывает). Автомобиль
графини у подъезда.
Антуанетта быстро уходит. Гехинген хочет идти за ней,
но останавливается.
246
Гуго фон Гофмансталь
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
СТАНИ (на пути из зимнего сада, как будто кого-то ищет). А, это
ты. Ты не видел моей матери?
гехинген. Нет, я так и не поднимался наверх. Только что отправил
свою жену. Ни с чем не сравнимая ситуация.
стани (занятый собственными делами). Не понимаю. Сначала
maman просит меня прийти в зимний сад, потом велит ска-
зать, чтобы я ждал ее здесь, у лестницы...
гехинген. Мне совершенно необходимо переговорить с Кари.
стани. Тогда тебе придется пойти его поискать.
гехинген. Если верить интуиции, он не ушел, а только вышел —
чтобы встретиться со мной в клубе, и скоро вернется. (По-
днимается наверх.)
стани. Хорошо, когда есть интуиция, которая тебе все подсказы-
вает! А вот и maman!
ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
КРЕСЧЕНЦА (появляется внизу, слева от лестницы). Я спустилась
по лестнице для слуг. Эти слуги все только путают. Сначала
он говорит мне, что ты просишь меня прийти в зимний сад,
потом, что ты в галерее...
стани. Такой уж это вечер, мама, когда кругом сплошные недора-
зумения. Если бы не ты, я бы давно уехал домой, принял бы
душ и улегся в постель. Многое могу вынести, но не ложные
положения, они мне ненавистны, все нервы выматывают.
Покорнейше прошу ввести меня в курс дела.
кресченца. Разумеется. Но я и сама совершенно не понимаю, как
мог дядя Кари уйти, даже не намекнув мне, чем кончилось
дело. Эта его немыслимая рассеянность... я просто в отча-
янии, мой мальчик.
стани. Пожалуйста, разъясни мне ситуацию, скажи в двух словах,
что же все-таки произошло.
кресченца. Все шло как по-писаному. Сначала дядя Кари очень
умно поговорил*с Антуанеттой...
Трудный характер
247
стани. Вот она, первая ошибка. Я так и знал, что все это будет
слишком сложно. И что же дальше?
КРЕСЧЕНЦА. Что тут можно добавить? Антуанетта проносится
мимо меня совершенно не в себе, а дядя Кари тут же усажи-
вается с Еленой...
стани. Два таких разговора за один вечер... Слишком это слож-
но... Даже для дяди Кари...
кресченца. Разговор с Еленой затягивается до бесконечности, я
подхожу к дверям... Елена падает мне в объятия, я счастли-
ва, она убегает в полном смущении, все как положено, я
кидаюсь к телефону и вызываю тебя сюда!
сгани. Прошу прощения, это мне все известно. Объясни-ка лучше,
что же здесь все-таки произошло.
кресченца. Я лечу по комнатам, ищу Кари, но не нахожу. Мне
нужно возвращаться к своим партнерам — можешь себе
представить, как я играла. Мариетта Штрадониц открывает
черви, я играю бубны, а сама молюсь всем четырнадцати
заступникам сразу. Потом я запираю пики. Могу, наконец,
встать, снова ищу Кари и снова его не нахожу! Прохожу по
полутемным комнатам до дверей Елены, слышу: она плачет.
Стучусь, называю себя, она не отзывается. Тащусь обратно к
обществу, Мариетта спрашивает трижды, как я себя чув-
ствую, Луи Кастальдо смотрит на меня так, будто я привиде-
ние...
стани. Я все понял.
кресченца. Понял? Что? Я как раз ничего не понимаю.
стани. Абсолютно все. Все мне теперь ясно.
кресченца. Ну и как оно тебе представляется?
стани. Все, как дважды два. Антуанетта, отчаявшись, возвела на
меня поклеп. Из разговора с дядей Кари она заключила, что
я для нее потерян. Когда женщина отчаивается, то может
утратить последнюю гордость; она тут же подъехала к Елене
и возвела на меня такую напраслину, что Елена с ее идеализ-
мом и чрезмерной чувствительностью решила от меня отка-
заться, хотя у нее сердце разрывалось на части.
/
248 Гуго фон Гофмансталь /
кресченца. Так вот почему она мне не открыла! /
стани. А дядя Кари как только понял, что натворил, тотчас же
испарился!
кресченца. Да, значит, плохи наши дела! Мой мальчик, что ты на
все это скажешь?
стани. Дорогая ма, я скажу тебе лишь одно, то единственное, что
только и может сказать джентльмен, попавший в ложную
ситуацию: какие бы у тебя ни были шансы — хорошие или
дальше ехать некуда — ты должен неизменно оставаться
самим собой.
кресченца. Ты хороший мальчик, и я преклоняюсь перед твоей
выдержкой. Не надо, однако, складывать оружия!
стани. Ради Бога, не ставь меня в дурацкое положение!
кресченца. Для человека с твоим умением держаться не суще-
ствует дурацких положений. Я разыщу Елену и спрошу ее,
что произошло без четверти десять.
стали. Я тебя настоятельно прошу...
кресченца. Ах, мой мальчик, ты мне слишком дорог, чтобы я
хотела отдать тебя в другое семейство, даже во дворец
китайского императора. Но, с другой стороны, я и Елену
слишком люблю, чтобы спокойно смотреть, как она теряет
свое счастье из-за сплетен какой-то ревнивой гусыни,
вроде Антуанетты. Так что сделай мне одолжение, остань-
ся, а потом проводи меня домой. Ты же видишь, как я взвин-
чена.
Она поднимается по лестнице, Стани следует за ней.
ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
Елена появилась через потайную дверь слева, она в шуб-
ке и как будто собирается уходить. Ждет, пока уйдут
Кресченца и Стани. Одновременно за стеклянной дверью
справа появляется Ганс Карл, он отдает слуге шляпу,
Трудный характер
249
пальто, трость и входит. Елена видит Ганса Карла
до того, как он ее замечает. Лицо ее мгновенно меня-
ется. Она роняет с плеч шубку, которая так и остает-
ся лежать на полу у лестницы, и идет Гансу Карлу на-
встречу.
ГАНС карл (пораженный). Елена, вы все еще здесь?
елена (сейчас и в дальнейшем она держится твердо и решитель-
но, говорит легко и уверенно). Я здесь живу.
ганс карл. Вы как-то не совсем обычно выглядите. Случилось что-
нибудь?
елена. Да, случилось.
ганс карл. Так неожиданно... Когда?
елена. Примерно час назад.
ганс карл (неуверенно). Что-нибудь неприятное?
елена. Неприятное?
ганс карл. Вы чем-то взволнованы?
елена. Вот именно, взволнована.
ганс карл. Что-то непоправимое?
елена. Это скоро выяснится. Взгляните-ка, что там лежит.
ганс карл. Там? Шуба. Скорее всего, дамское пальто.
елена. Да, там лежит мое пальто. Я хотела идти.
ГАНС КАРЛ. ИДТИ?
елена. Всю подоплеку этого я вам тоже объясню потом. Но сна-
чала вы мне скажете, почему вы вернулись. Это ведь как-то
не очень принято.
ганс карл (колеблясь). Я всегда немного теряюсь, когда меня о
чем-нибудь спрашивают так прямо.
елена. Да, я вас прямо спрашиваю.
ганс карл. Мне не так-то легко это вам объяснить.
елена. Мы можем присесть.
Они садятся.
ганс карл. Во время нашей беседы там, наверху, в маленькой
гостиной...
250
Гуго фон Гофмансталь
елена. А, там наверху, в маленькой гостиной...
ГАНС карл (в замешательстве от ее тона). Да, конечно, в малень-
кой гостиной. Я сделал тогда большую ошибку, очень боль-
шую.
елена. Да?
ГАНС карл. Я обращался к прошлому.
ЕЛЕНА. К ПрОШЛОМу?
Ганс карл. К каким-то несуразным, чисто личным переживани-
ям, владевшим мной, когда я был на фронте и позже в гос-
питале. К фантазиям исключительно личного свойства,
так сказать, галлюцинациям. Все это было совершенно
неуместно...
елена. Да, я понимаю вас. И?
ГАНС карл. Я поступил неправильно.
елена. Почему?
ГАНС карл. Нельзя в поисках оправданий обращаться к прошлому.
Мы не в полиции. Прошлое прошло. Никто не вправе припу-
тывать его к разговору о настоящем. Я выражаюсь неясно,
но мысли мои на этот счет совершенно определенны.
елена. Надеюсь.
ГАНС карл. Когда, оставшись один, я стал все припоминать, меня
поразило, как плохо я, в мои-то годы, собой владею... и я
пришел, чтобы вернуть вам полную свободу — пардон, слово
сорвалось у меня с языка совсем невпопад — полную непри-
нужденность.
елена. Вернуть мне — мою непринужденность?
Ганс Карл в замешательстве, хочет встать.
елена (остается сидеть). Вот, значит, что вы мне хотели ска-
зать... о том, почему ушли?
ГАНС карл. Да, почему ушел и почему вернулся. Ведь одно следует
из другого.
елена. Вот значит что. Весьма вам признательна. А теперь я скажу
вам сама, почему вы вернулись.
Трудный характер
251
ганс карл. Вы мне?
елена (глядя ему прямо в глаза). Вы вернулись потому... Да! Так
оно и есть! Слава тебе, Господи! (Смеется.). А ведь даже
немного жаль, что вы вернулись. Ведь тут, пожалуй, не
самое подходящее место, чтобы сказать, что должно быть
сказано... может, лучше бы было... нет, теперь придется
говорить это здесь...
ганс карл. О, Боже мой! Мое поведение кажется вам совершенно
нелепым... Говорите уж прямо!
елена. Нет, я очень хорошо все понимаю. Понимаю, что вас
отсюда изгнало и что вернуло назад.
ганс карл. Вы все понимаете? А я ничего не могу понять.
елена. Мы можем говорить еще тише, если хотите. Вас изгнало
отсюда ваше неверие, ваш страх перед самим собой...вы не
сердитесь?
ганс карл. Перед самим собой?
елена. Перед самым вашим сокровенным желанием. Да, следовать
ему не очень-то удобно, оно не сулит легкого пути. Это оно
вас сюда вернуло.
ганс карл. Я вас не понимаю, Елена!
елена (не глядя на него). Не расставанья для вас страшны, а то,
что потом с вами творится, когда вы остаетесь один.
ганс карл. Вы все это знаете?
елена. Именно это и дало бы мне силы сделать для вас невозмож-
ное.
ганс карл. Для меня, невозможное? Что?
елена. Я бы пошла вслед за вами.
ганс карл. Как это «пошла»? Что вы имеете в виду?
елена. Вышла бы через эти двери в переулок. Я же показывала
вам свое пальто вон там на полу.
ганс карл. Вы бы пошли... но куда?
елена. В казино или еще куда-нибудь... откуда я знаю — пока не
нашла бы вас.
ганс карл. Вы бы пошли, Елена?.. Вы бы стали меня искать? Не
думая о том, что?..
252
Гуго фон Гофмансталь
елена. Да, не думая ни о чем другом. Я хочу идти за тобой... Я
хочу, чтобы ты меня...
ГАНС карл (неуверенным голосом). Вы, ты, ты хочешь? (Про себя.)
Опять эти невозможные слезы! (К ней.) Я плохо вас слышу.
Вы так тихо говорите.
елена. Вы слышите меня прекрасно. Да, вот и слезы... но они даже
помогут мне сказать...
ганс карл. Ты... Вы что-то сказали?
елена. Твои помыслы, твое сокровенное «я», пойми меня, это они
тебя остановили, когда ты был один, и вернули ко мне. А
теперь...
ганс карл. Теперь?
елена. Теперь... правда, я не знаю, можешь ли ты любить кого-
нибудь по-настоящему... но я без тебя не могу и я хочу...
Чудовищно, что вы заставляете меня все это говорить!
ганс карл (дрожа). Вы хотите от меня...
елена (не более твердым голосом, чем он). Свою долю — твоей
жизни, твоей души, всего!
Короткое молчание.
ганс карл. Все, что вы говорите, Елена, переворачивает мне
душу... Все из-за вас, конечно же, из-за вас, конечно же, из-
за вас, Елена! Вы заблуждаетесь на мой счет, у меня невоз-
можный характер.
елена. Вы такой, какой есть, и я хочу узнать, какой вы.
ганс карл. Это для вас бесконечно опасно.
Елена качает головой.
Я человек, на совести которого были недоразумения.
елена (улыбаясь). Да уж, не без этого.
ганс карл. Я стольким женщинам причинил боль.
елена. Любовь зла.
ганс карл. Я безмерный эгоист.
елена. Да? Не думаю.
ганс карл. Я так непостоянен, ничто не может меня привязать...
Трудный характер
253
ЕЛЕНА. Да, вы можете... можете и соблазнить и соблазниться. Вы
всех их искренне любили и всех бросили. Бедные женщины!
У них, верно, не хватало сил на вас обоих.
ГАНС карл. Как это?
елена. Желать — у вас в крови. И не то или это, а все и навсег-
да — от единственной! Если бы у нее хватило сил заставить
вас желать ее все больше и больше... вы бы с ней так и оста-
лись.
ганс карл. Как ты меня знаешь!
елена. Довольно скоро все они становились тебе безразличны, и
ты от души начинал их жалеть. Но истинной дружбы не воз-
никало... Вот какое у меня было утешение.
ганс карл. Как ты все понимаешь!
елена. Только этим я и жила, только это и сознавала.
ганс карл. Мне так стыдно перед тобой.
елена. А разве я перед тобой стыжусь? Ох, нет. Любовь режет по
живому.
ганс карл. Ты все знала и терпела...
елена. Я бы и мизинцем не шевельнула, чтобы отвадить от тебя
твоих прелестниц. Меня это всегда не очень трогало.
ганс карл. Что за волшебство в тебе такое! Ты совсем другая, чем
остальные женщины. С тобой так спокойно на душе.
елена. Ты, конечно, еще не можешь постичь до конца все мое к
тебе дружеское расположение. Тут нужно время... если ты
мне его подаришь.
ганс карл. Как ты это сказала!
елена. Теперь иди, чтобы тебя никто не видел. И поскорее возвра-
щайся. Завтра, сразу после обеда. Больше это никого не
касается, но папа должен узнать сразу... папа должен это
знать... он-то непременно! Или нет? Как ты думаешь?
ганс карл (смущенно). Видишь ли, мой добрый друг Польдо Аль-
тенвиль с недавних пор возымел желание, которое он и мне
хочет внушить: чтобы я выступил в парламенте, хотя это,
разумеется, совершенно излишне...
елена. Ага...
254
Гуго фон Гофмансталь
ГАНС карл. И вот уже месяц, как я принимаю все меры, чтобы не
попадаться ему на глаза... избегаю бывать с ним наедине... в
казино, на улице, где угодно...
елена. Не беспокойся, речь пойдет только о самом главном, я тебе
обещаю... Кто-то уже идет: мне нужно уходить.
ганс карл. Елена!
елена (идет, потом останавливается). До свиданья!
Поднимает свою шубку и исчезает в маленькой двери слева.
ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
кресченца (появляется наверху на лестнице). Кари! (Быстро
спускается вниз.)
Ганс Карл стоит спиной к лестнице.
Кари! Наконец-то я тебя нашла! Тут какой-то сплошной кон-
фуз! (Видит его лицо.) Кари! Что-то случилось! Скажи мне,
что?
ганс карл. Случилось... кое-что... со мной... Но не будем об этом.
кресченца. Сделай милость! Но ты мне все-таки должен объяс-
нить...
ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ
гехинген. (спускается сверху, останавливается, вполголоса
окликает Ганса Карла). Кари, нельзя ли тебя на минутку!
ГАНС карл. Я в твоем распоряжении. (Кресченце.) Бога ради, из-
вини.
Стони тоже спускается по лестнице.
кресченца. Но мальчик! Что же мне сказать мальчику? Он же в
дурацком положении!
стани (спускается вниз, Гехингену). Пардон, но это мне совер-
шенно необходимо поговорить сейчас с дядей Кари. (Кивает
Гансу Карлу.).
Трудный характер
255
ганс карл. Извини, милый Адо, я всего на секунду. (Оставляет
Гехингена, идет к Кресченце.) Подойди сюда, пожалуйста,
одна. Мне надо кое-что тебе сообщить. Только ни в коем
случае не будем вдаваться в подробности.
кресченца. Я же не какая-нибудь бестактная особа!
ганс карл. Ты ангел. Так вот, слушай: Елена помолвлена.
кресченца. Помолвлена? Со Стани? Она его любит?
ганс карл. Подожди! Что ты сразу распускаешь нюни? Ты же еще
ничего не знаешь.
кресченца. Это ты, Кари, ты так меня растрогал! Ведь мальчик
всем на свете тебе обязан!
ганс карл. Подожди, Кресченца!.. Не со Стани!
кресченца. Не со Стани? А с кем же?
ганс карл (едва выговаривая слова). Можешь меня поздравить!
кресченца. Тебя?
ганс карл. А теперь, пожалуйста, отойди и ни с кем этого не обсу-
ждай. Она со мной... я с ней... мы помолвлены.
кресченца. Она с тобой?! Ты с ней?... Гора с плеч!
ганс карл. Прошу тебя не забывать, что ты обещала постараться
избавить меня от тех ужасных конфузов, которым подвер-
гается человек в обществе.
кресченца. Разумеется, я не сделаю ничего такого... (Взгляд в
сторону Стани.)
ганс карл. Я предупреждал тебя, что никому ничего не буду объяс-
нять. И прошу избавить меня от понятных недоразумений.
кресченца. Да не пугайся ты так! Лицо у тебя совсем, как в дет-
стве, когда было не по-твоему. Я этого и тогда не могла
вынести! Конечно, я сделаю все, как ты хочешь.
ганс карл. Ты лучшая женщина в мире. А теперь извини, Адо на-
стоятельно хочет со мной поговорить... И разговор этот пора,
с Божьей помощью, довести до конца. (Целует ей руку.)
кресченца. Я тебя все-таки подожду!
Кресченца и Стани отходят в сторону, они стоят вдале-
ке, но иногда их видно.
256
Гуго фон Гофмансталь
ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ
гехинген. Ты смотришь на меня так строго! В твоем взгляде
упрек!
ГАНС карл. Да нет же! Умоляю тебя не взвешивать каждый мой
взгляд. Хотя бы сегодня!
гехинген. Что-нибудь изменило твое мнение обо мне? Или о моих
делах?
ганс карл (незаметно для себя задумался). О твоих делах?
гехинген. О том, как обстоят мои дела с Антуанеттой, разумеется!
Разреши мне узнать, что ты думаешь о моей жене?
ГАНС карл (нервно). Прости, но я не хотел бы сегодня говорить о
женщинах. Любая попытка анализировать приводит к самым
ужасным недоразумениям. Так что прошу, уволь меня!
гехинген. Я все понимаю. Я все себе уяснил. Полностью... Из все-
го, что ты говоришь, а еще больше из того, на что осто-
рожно намекаешь — мне следует сделать единственный
вывод: ты считаешь мое положение безнадежным.
ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ
Ганс Карл, не отвечая, растерянно смотрит направо.
Справа входит Винцент, одетый, как в первом акте, в руке
у него маленькая круглая шляпа. Кресченца подходит к
Винценту.
гехинген (глубоко задетый молчаньем Ганса Карла). Вот он,
решающий момент моей жизни, я чувствовал его приближе-
ние. Теперь мне нужна вся твоя поддержка, дорогой Кари,
иначе мир для меня рухнет.
ганскарл. Но, дорогой Адо...
Про себя, глядя на Винцента.
Это еще что такое?
гехинген. Если ты разрешишь, я хотел бы вспомнить сейчас те
предпосылки, которые позволяли мне надеяться...
Трудный характер
257
ганс карл. Извини, я вижу, там опять какое-то недоразумение.
Направляется к Кресненце и Винценту. Гехинген остается
один. Стани, стоящий в стороне, отошел назад, выказы-
вая известное нетерпение.
кресченца (Гансу Карлу). Он только что сказал мне, будто ты зав-
тра уезжаешь, рано утром... что это значит?
ганс карл. Что он сказал? Я не давал никаких распоряжений...
кресченца. Кари, с тобой каши не сваришь! А я уже так настрои-
лась на помолвку!
ганс карл. Могу ли я просить...
кресченца. Бог мой, это же у меня просто так с языка сорвалось!
ганс карл (Винценту). Кто вас сюда послал? Что все это значит?
винцент. Ваша светлость полчаса назад отдали распоряжение по
телефону.
ганс карл. Вам? Вам я никакого распоряжения не отдавал.
винцент. Распоряжение привратнице об отъезде в охотничий
домик в Гебхардтскирхене завтра в семь утра, а точнее ска-
зать, сегодня в семь утра, потому что уже четверть первого.
кресченца. Кари, что все это значит?
ганс карл. О, если бы можно было не давать объяснений по поводу
каждого моего вздоха...
винцент (Кресненце). Чего ж тут не понимать? Привратница тут
же понеслась наверх доложить. Лукаса поблизости не оказа-
лось, вот мне и пришлось взять все в свои руки. Я поставил в
известность шофера, приказал принести с чердака кофе,
велел на всякий случай разбудить секретаря Нойгебауера —
нечего ему спать, когда весь дом на ногах — и вот я здесь и
жду новых распоряжений.
ганс карл. Сейчас же отправляйтесь обратно, отмените автомо-
биль, пусть распакуют вещи, попросите господина Нойгебау-
ера снова улечься спать, и устройте так, чтобы я никогда
больше не видел вашей физиономии! Вы у меня больше не
служите, Лукас в курсе дела. Идите же!
винцент. Невероятно! (Уходит.)
258
Гуго фон Гофмансталь
ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ
кресченца. Скажи мне хоть слово! Объясни мне...
ганс карл. Тут нечего объяснять. Выйдя из казино, я по некото-
рым соображениям был полон решимости уехать завтра
утром. Это было на перекрестке Фрейунг и Херренгассе.
Там есть такое кафе, я зашел и позвонил оттуда домой;
потом, на улице, вместо того, чтобы, как собирался, свер-
нуть на Фрейунг... спустился по Херренгассе и вернулся
сюда... А тут Елена... (Проводит рукой по лбу.)
кресченца. Ладно я оставлю тебя в покое, оставлю. (Идет к Ста-
ны, который уселся в глубине сцены.)
ГАНС карл (собирается с силами и подходит к Гехингену, мягко).
Прости мне все, что было, я кругом виноват и прошу изви-
нить мои промахи. О сегодняшнем вечере я не могу расска-
зать тебе подробней. И все-таки не держи на меня зла. (Про-
тягивает ему руку.)
гехинген (ошеломленный). Мой дорогой, ты хочешь со мной рас-
прощаться? Да у тебя слезы на глазах. Как я тебя понимаю,
Кари! Ты мой добрый, верный друг, такие, как мы, не в
силах выпутаться из той участи, которую нам уготовили жен-
щины, их милость или немилость. Тебе, правда, удалось раз
и навсегда подняться надо всем этим...
Ганс Карл машет рукой.
Нет, не спорь, в этом отчасти и заключается секрет твоей
значительности. И как в жизни ничто не стоит на месте, а
движется вперед или назад, так и ты день ото дня все больше
погружаешься в одиночество значительной личности.
ганс карл. Вот и еще одно колоссальное недоразумение! (Опа-
сливо оглядывается направо, где в дверях зимнего сада
показался Алътенвиль с одним из своих гостей.)
гехинген. Как, как мне понять эти твои слова?
ганс карл. Милый Адо, умоляю освободить меня сейчас от каких
Трудный характер
259
бы то ни было объяснений. Прошу тебя, отойдем подальше,
тут на меня надвигается нечто, с чем я сегодня уже не в силах
совладать.
гехинген. Что же, что же?
ганс карл. Там в дверях, там позади меня!
гехинген (смотрит туда). Но это же наш хозяин, Польдо Аль-
тенвиль...
ганс карл. ...который решил воспользоваться последними мину-
тами своего приема, чтобы подобраться ко мне с кошмарным
намерением; зачем еще ходят на званые вечера, как не за
тем, чтобы каждый, кого одолевают важные, по его мне-
нию, идеи, мог самым безжалостным образом захватить тебя
врасплох!
гехинген. Не понимаю...
ганс карл. Он хочет, чтобы на послезавтрашнем заседании парла-
мента состоялся мой дебют как оратора. Он принял это
милое поручение от нашего клуба, и так как я не попадаюсь
им на глаза ни в казино, ни где бы то ни было еще, он выжи-
дает здесь, в своем доме, минуту, когда я окажусь беззащи-
тен. Прошу тебя, говори со мной оживленно, даже напори-
сто, будто мы решаем что-то важное.
гехинген. И ты хочешь снова отклонить его просьбу?
гаНс карл. Я должен буду встать и произнести речь о примирении
всех народов и о содружестве наций... я, человек, глубоко
убежденный лишь в одном на свете: нельзя и рта раскрыть,
чтобы не произошло неповторимого конфуза! Уж лучше я
откажусь от наследственного представительства и кончу дни
свои в какой-нибудь дыре, чем изреку целую обойму слов,
каждое из которых кажется мне прямо-таки бесстыдным.
гехинген. Ну это, пожалуй, чересчур сильно сказано.
ганс карл (очень резко, хотя и не слишком громко). В сущности
все, что произносится, бесстыдно. Уже сам факт, что кто-то
что-то произносит — бесстыдство. И если принимать это
всерьез, милый Адо, — хотя что на свете люди принимают
всерьез? — то чуть ли не наглость есть в том, что мы вообще
260
Гуго фон Гофмансталь
позволяем себе испытывать некоторые вещи! Чтобы жить
после этого как ни в чем не бывало, нужны такая огромная
самовлюбленность, такая степень ослепления, которые
взрослый человек, может, и носит в потаенных закоулках
своей души, но вряд ли осмеливается себе в этом признаться!
(Смотрит направо.) Он ушел.
Лльтенвиля больше не видно, Ганс Карл собирается ухо-
дить.
кресченца (подходит к Кари). Не исчезай же! Ты должен хоть
что-то произнести, хоть как-то утешить Стани.
Ганс Карл смотрит на нее.
кресченца. Ты же не оставишь мальчика так просто! Мальчик
выказал во всем этом деле такое самоотвержение, так себя
превозмог, что я просто слов не нахожу! Неужели ты ему
совсем ничего не скажешь!
Она кивает Стани, чтобы тот подошел. Стани подходит
на шаг ближе.
Ганс карл. Ну, ладно, пусть еще и это. Но это последний прием, на
котором ты меня видишь. (Подходит к Стани.) Не надо
было, милый Стани, доверяться моему красноречию. (Про-
тягивает ему руку.)
кресченца. Ну, обними же мальчика! Ведь мальчик выказал в
этой истории совершенно исключительную выдержку!
Ганс Карл смотрит перед собой несколько отсутству-
ющим взглядом.
Ну, если ты его не обнимешь, то обниму хоть я за его несрав-
ненную выдержку.
ганс карл. Только, пожалуйста, сделай это, когда меня здесь
уже не будет. (Быстро идет к выходной двери и исче-
зает.)
Трудный характер
261
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ
кресченца. Все равно я просто должна сейчас же кого-нибудь рас-
целовать! Сегодня слишком многое произошло, чтобы такая
чувствительная женщина, как я, могла уехать домой и попро-
сту как ни в чем не бывало — улечься спать!
стани (отступает на один шаг). Послушай, ма! По-моему, суще-
ствует два вида публичного изъявления чувств. Один отно-
сится к сугубо частной жизни: сюда я причисляю все нежно-
сти между близкими родственниками. Другой имеет, так ска-
зать, практическое и социальное значение: это пантомими-
ческое выражение в известной мере чрезвычайных семейно-
исторических ситуаций.
кресченца. Но ведь мы как раз в такой и находимся!
Лльтенвиль с несколькими гостями появляется наверху и
собирается спуститься вниз.
стани. И для таких случаев существуют установленные веками
разумные и общепризнанные формы. То, что мы сегодня
здесь пережили, было, tant bien que mal1, помолвкой, если
называть вещи своими именами. Апофеоз любой помолв-
ки — поцелуй влюбленных... Но наши влюбленные слишком
своеобразны, чтобы придерживаться подобных форм. Ма,
ты ближайшая родственница дяди Кари, там стоит Польдо
Альтенвиль, отец невесты. Подойди к нему sans mot dire2 и
расцелуй его, тогда все сразу встанет на свои места.
Лльтенвиль с несколькими гостями спустился с лестницы.
Кресченца спешит к Алътенвилю, обнимает его и целует.
Гости стоят в изумлении.
Занавес 1919
1 Что ни говори (франц.).
2 Не говоря ни слова (франц.).
Большой
Зальцбургский
театр жизни
Перевод
С. Лверинцева
Как известно каждому, у Кальдерона есть
духовная драма, носящая наименование
«Большой Театр Жизни».
Из драмы этой мы заимствовали метафору,
скрепляющую собой целое, —
мир представлен как подмостки, на коих
люди разыгрывают данные им от Бога роли
в лицедействе бытия; в придачу к этому —
заглавие пьесы, а также имена шести персонажей,
в лице коих изображено все человечество;
более — ничего. Впрочем,
перечисленные компоненты не принадлежат
великому католическому поэту как его открытие,
но входят в ту сокровищницу,
которая была создана средневековьем
и перешла от него по праву наследования
к последующим столетиям.
*
© Перевод на русский, Аверинцев С. С, 1995 г.
Действующие лица
ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ
АНГЕЛЫ
ЗЕМЛЯ
СУЕМУДРЫЙ
СМЕРТЬ
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
НЕВОПЛОЩЕННЫЕ ДУШИ
ПРОРОКИ
СИВИЛЛЫ
КОРОЛЬ
КРАСОТА
МУДРОСТЬ
БОГАЧ
ХОЗЯИН
НИЩИЙ
СЛУЖИТЕЛИ
*
Музыка. Святые мужи и жены — Пророки и Сивиллы — входят
и с ожиданием возносят взоры туда, где над ступенями возвыша-
ется дворец Имеющего власть.
Входит Ангел, за ним следует Земля; в ее свите — Смерть и
Суемудрый. Смерть — господин, одетый в черное, окутанный
плащом, в белой шляпе и при шпаге; у Суемудрого пестрый наряд
лакея, возле пояса — веер и лютня
ЗЕМЛЯ
Куда ведешь ты меня?
АНГЕЛ
указывает ей место
Здесь ожидай. Люди твои — позади тебя. Ты призвана.
земля
А эти кто?
АНГЕЛ
Они тоже призваны; внимай тому, как я буду их приветствовать.
Становится перед Пророками и Сивиллами,
делает поклон
Привет вам, святые Пророки, и вам, боговещие Жены. Из речений
ваших каждое сияет сквозь времена. Господь с вами!
ЗЕМЛЯ
Вас я знаю хорошо. Это мои горы давали опору вашим ногам,
когда вы воздымали руки ваши к небу; это мои пещеры укрывали
Большой Зальцбургский театр жизни 267
вас, дабы вы могли заклинать тени минувшего. Не вижу, почему
бы вам не поздороваться со мной первыми.
ПРОРОКИ
хором
О великое чудо семи дней творения, Земля, мы приветствуем тебя.
ЗЕМЛЯ
Сивиллам, которые сохраняют безмолвие
А вы, женщины, что так горды? Несвязными гласами вашими вы
призвали немало духов и снискали немало славы. Но кому дана
полнота жизни, тому нечего вопить «а!» или «о!», и язык его слиш-
ком тяжел, чтобы изречь слово; между тем захоти он только, ему
нетрудно было бы сказать куда больше, чем сумели изречь вы. Что
свело нас на этом месте?
ПРОРОКИ
Та воля, которая может все, чего желает. Мы ведаем о ней и ждем.
Звучат фанфары
ЗЕМЛЯ
Звук такой, что приходится ожидать кого-то важного. Не явится ли
сам Имеющий власть?
Оглядывается
АНГЕЛ
Безмолвствуй и жди.
Осторожно входит Противоречащий
в черном наряде ученого
ЗЕМЛЯ
И этот уже крадется — ну и сборище!
АНГЕЛ
Где ты, открыт доступ и ему, как и Стоящему за тобой. А те-
перь — молчание!
268
Гуго фон Гофмансталь
Снова фанфары. Пророки и Сивиллы благоговейно оборачива-
ются в сторону дворца
ЗЕМЛЯ
Откуда Он явится? Вокруг — ни души.
АНГЕЛ
Обрати глаза ввысь, а когда увидишь, преклони колена.
Фанфары в третий раз. Темнеет и сейчас же становится снова
светло. Имеющий власть стоит в мантии, усыпанной звездами.
Пророки и Сивиллы — на коленях, с воздетыми руками. Земля
тоже падает на колени, с ней — Ангел, а позади него — Смерть и
Суемудрый. Противоречащий жмется к занавесу справа.
Имеющий власть молча созерцает Землю;
во взоре его нет суровости
ЗЕМЛЯ
коленопреклоненно
Владыка, что повелишь ты мне, рабе твоей?
ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ
Я желаю устроить себе праздничное зрелище
ставления должна воздвигнуть ты. Вставай -
ЗЕМЛЯ
Ты сотворил все четыре стихии, ты воздвиг все горы, ты положил
пределы всем морям, в моих ли силах удивить тебя или потешить?
А может быть, все-таки в моих силах? Да? Хочешь, я швырну горы
в море, а море — на горы? Хочешь, я вырву вечные потоки из их
русел и водопадами устремлю на твердыни? Хочешь, все стихии
запылают? Я чересчур долго была смирной; спусти меня с цепи,
как во время оно, и я устрою тебе такое зрелище, что луна содрог-
нется.
ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ
То, что ты предлагаешь, для меня не больше чем увидеть, как двух-
летнее дитя тешится .с соломинками. Совсем иное действо, пре-
Подмостки для пред-
и за работу!
Большой Зальцбургский театр жизни 269
выше всех действ, хочу я созерцать: живое, таинственное действие
свободной воли. Для этого представления должна ты приготовить
подмостки.
ЗЕМЛЯ
оглядывается
О какой тайне говорит мой Владыка?
СУЕМУДРЫЙ
Химия! Все химия! Это его специальность! Он хочет творить
золото из низших земель!
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
Он никогда не повторяется. Еще ни разу не доводилось мне слы-
шать, чтобы Он в таком тоне говорил о своем творении.
АНГЕЛ
подходит к нему, чтобы заставить его замолчать
ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ
знаком повелевает Ангелу оставить в покое Противоречащего,
затем обращается к Земле с ласковостью
О человеке говорю я, о госте твоем.
ЗЕМЛЯ
Люди? От этих козявок ждешь ты для себя увеселения? Как
муравьи, носятся они туда и сюда, взад и вперед, строят города, соз-
дают царства, разрушают то и другое, не оставляют камня на кам-
не. Право, в осином рое и то больше смысла, чем в них.
ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ
В том, что тебе непостижимо, сокрыто их величие, ибо знай — по
моему образу и подобию сотворил я их. Тебе назначено служить
подножием ног их, и это самое великое, что будет о тебе сказано.
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
Что Он такое затевает? К чему клонится дело? Нужно навести
справки, заглянуть в литературу!
270
Гуго фон Гофмансталь
Надевает очки
Авиценны нет, Лукреция тоже нет — из рук вон плохо снарядил
меня этот юный черт, мой библиотекарь.
ЗЕМЛЯ
Но, Господи, человек — это ведь мое дело, хотя и непрезентабель-
ное. Лучшее в нем от меня. Если бы у него хватало здравого смы-
сла оставаться в своих рамках, сдерживать безумную свою мысль,
если бы он не вожделел ничего другого, а попросту наслаждался
моим великолепием, чтобы после, когда дыхание его иссякнет,
мирно поникнуть ко мне на лоно, — он был бы счастливее, этот
проклятый червяк, карабкающийся по отвесным стенам.
АНГЕЛ
Уйми непокорные твои уста, пестрая тварь! Язычница! Припомни,
как Господь во время оно уже приводил на тебя потоп и, когда ты
была уже на краю погибели, установил для тебя новый порядок
вещей! Остерегись!
один из пророков
Ты хвалишься своими силами, Земля, пока ноги держат тебя! Гря-
дет уже час, когда ты упадешь на колени и тот, кто сейчас стоит
позади тебя, оседлает тебя, как всадник, и погонит во тьму кро-
мешную.
ЗЕМЛЯ
издает стон, скрывает лицо
СУЕМУДРЫЙ
прячется
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
выходит на шаг вперед, снимает берет
Я вижу, тут у нас что-то вроде королевского судилища и на нем
худо приходится некоей бедной женщине, не умеющей красно гово-
рить. Прошу прощения, но я полагаю, что она имеет право на адво-
Большой Зальцбургский театр жизни 271
ката. Я был бы готов, хотя и не знаком с материей тяжбы, с высо-
чайшего дозволения оказать помощь этой даме в качестве ее пове-
ренного; но мне нужно было бы сначала поговорить с ней, чтобы
она ввела в дело, которое мне предстоит вести. Я, собственно, док-
тор логики, но имею большой опыт и в области права...
ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ
не удостаивая его внимания,
с прежним выражением спокойной ласки
Довольно. Дела человеческие достойны в очах моих того, чтобы
стать зрелищем, и на это зрелище созвал я гостей моих. А теперь
устраивай подмостки и начинай представление.
ЗЕМЛЯ
Да ведь я до сих пор не знаю ничего!
АНГЕЛ
следуя знаку, поданному Имеющим власть Земле
Сейчас вызови сюда некое количество нерожденных душ и облачи
их в тела; после Владыка сам назначит каждой из них ее участь.
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
Прошу высочайшего дозволеня задать один вопрос: как может зре-
лище доставить радость тому, кто предопределил весь его ход от
завязки до развязки, включая последнюю точку над «i»?
Выходит на шаг вперед
Вот стоит сказавший: «Дела наши в нас творишь Ты один!» Вот
стоит он, один из твоих Пророков. Его я зову в свидетели! Неужели
Владыка желает играть перед самим же собой с марионетками,
которых Его рука дергает за нить?
ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ
Выбирать дано им между добром и злом; таково условие, назначен-
ное мною тварному их бытию. Зачем ты прикидываешься, будто
не знаешь этого? Да ведь тут от начала дней — место твоей лови-
твы! Со времен Евина яблока ты искал склонить волю; нашепты-
272
Гуго фон Гофмансталь
вай и дальше твои внушения кому хочешь. Я не закрыл им ушей.
Они сами должны вынести решение, и для этого даровал я твари
моей искру верховной свободы.
ЗЕМЛЯ
тихо перешептывается с Суемудрым,
который, по-видимому, что-то внушает ей
ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ
восходит на верхнюю сцену, его свита следует за ним;
там он и продолжает стоять в дальнейшем
АНГЕЛ
выходит из дворца, неся в руке тетрадки с ролями,
протягивает их Имеющему власть
СУЕМУДРЫЙ
Наряды сюда! По одежке встречают человека, вот что хотела нам
сказать его милость!
ЗЕМЛЯ
Я все устрою в мгновение ока. Этого добра у меня всегда полно,
для него и существуют мои хранилища и сундуки. Кто играет коро-
ля, получит от меня корону, а хозяин — лопату. Тут все есть — от
монашеских ряс до придворных нарядов, от пастырских посохов до
мечей, от золоченых лат до штопаных и перештопаных нищенских
лохмотьев.
Пока она говорит, служители вносят корзины с коронами и
доспехами, с митрами и епископскими посохами, с женскими
платьями и чепцами, с масками и веерами.
Мне их так и одевать, как попало, лишь бы попестрее?
ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ
с верхней сцены, с ролью в руке
Я назначу каждому его участь. Он узнает ее из текста роли, им от
меня полученной. В соответствии с ролью ты и должна будешь
одеть его.
Большой Зальцбургский театр жизни 273
ЗЕМЛЯ
поддаваясь нашептываниям Суемудрого
А ведь кому-то, Господи, достанутся короткие роли, так они не
захотят уходить со сцены! Ох и трудно будет заставить их уйти,
если только я знаю людей.
ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ
Ты вовремя напомнила, и я приказываю тому, кто стоит позади
тебя...
СУЕМУДРЫЙ
Эге, Смерть, господин камерарий, это к вашей милости!
ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ
...исполнять обязанности режиссера. Кого ты отзовешь, пусть
незамедлительно сходит со сцены и не смеет возвращаться; за это
отвечаешь ты.
Смерть кланяется и преклоняет колено
СУЕМУДРЫЙ
обращается к Земле, понизив голос
Плохой роли никто нам не станет играть, даже длинной!
ЗЕМЛЯ
делает шаг в направлении Имеющего власть,
который смотрит в другую сторону
Владыка!
ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ
поворачивается к Земле
Какие еще у тебя жалобы? Разве не все еще сказано?
ЗЕМЛЯ
Нет, Господи! Как-никак это мои дети — это слово ты мне дозво-
лишь! — и поэтому я их так хорошо знаю. Каждый из них почитает
самого себя за пуп мироздания, и уж принять роль заведомо плохую
274
Гуго фон Гофмансталь
их не принудишь никакими силами. Неблагодарную роль каждый
швырнет мне под ноги да еще назовет меня злой мачехой, живодер-
кой и всеми прочими милыми словами!
ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ
А кто велел им знать наперед, какая роль — плохая, а какая —
хорошая?
ЗЕМЛЯ
Да это же раскусит любой, чуть поглядит в свою роль, если только
он грамоте обучен! Много повелевать, много приобретать, жить
пышно, ни в чем себе не отказывая, говорить важным тоном,
давать другим почувствовать свою власть — это называется «хоро-
шая роль». А принимать толчки да тычки, глотать обиды, сги-
баться в три погибели да придерживать язычок, когда говорят дру-
гие, — это роль плохая, и на том люди стоят со времен праотца
Адама.
ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ
Образ их мыслей неразумен, а потому тебе надлежит быть им
наставницей и вразумить их.
ЗЕМЛЯ
Но как, если я сама тех же мыслей?
ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ
Это всё игра. Просвещает слово слепоту твою или нет? Вразуми ее
ты!
АНГЕЛ
выходит вперед и обращается к Земле с верхней сцены
Неужели ты так непонятлива? Приобретать или рабствовать,
поднимать голову или гнуться в три погибели, жить в роскоши или
в скудости — все это происходит с участниками игры и лишь в
подобии, для виду, а не взаправду, и хорошей или плохой будет по
праву названа не роль, а игра, которую похвалят или не похвалят,
когда все придет к своему концу. Вовсе не за самое роль — тут нет
Большой Зальцбургский театр жизни 275
разницы, держал человек в руках нищенский посох или державный
скипетр, — а единственно за то, как роль сыграна, кого-то позовут
к трапезе Имеющего власть; но на того, кто играл худо, Владыка
взглянет немилостивым взором, и промахов не исправишь, сойдя с
подмостков. Поспеши разъяснить им все это, коль скоро они тебе
дороги.
Поворачивается у чтобы следовать за Имеющим власть.
Ангелы поднимают занавес по обе стороны врат
СУЕМУДРЫЙ
бежит за первым Ангелом
Нам не сообщены ни заглавие пьесы, ни сюжет — хотя бы в самых
общих чертах, как бывает при импровизациях.
ИМЕЮЩИЙ ВЛАСТЬ
в сопровождении свиты поднимается во дворец.
Второй Ангел с ролями уходит за ним.
Фанфары
АНГЕЛ
снова выходит вперед
Объявляю вам, как называется представление: «Творите правду!
Бог над вами!»
ГОЛОСА
сверху
Творите правду! Бог над вами!
АНГЕЛ
Вы слышали?
СУЕМУДРЫЙ
И даже дважды. Но не просветились от этого нимало. Покорнейше
прошу прощения, но о ходе действия ты не сказал ни слова, даже не
сделал ни единого намека, над которым человеку умному стоило
бы поразмыслить!
276
Гуго фон Гофмансталь
АНГЕЛ
выходит впереду держа в руке книгуу
поданную другим Ангелом
Вот она в руках моих, всем вам ведомая книга, и она изъясняет суть
и смысл нашего действа в одном речении. В ней сказано, что ближ-
него своего должно возлюбить, как самого себя, а Бога своего —
превыше всего. Сими словами указано, что содержится в нашем
представлении, и о том же говорит заглавие: «Творите правду! Бог
над вами!»
Молчание
СУЕМУДРЫЙ
Ну и каша из заглавия и содержания. Все это не так глупо и даже
могло бы служить прологом, но тогда пришлось бы подождать,
пока актеры не оденутся, свечи не зажгутся и вообще все не будет
готово, а пока до этого далеко. Вон еще только идут актеры и, вид-
но, никуда не спешат. А раздача ролей тоже не обойдется без пре-
пирательств...
Невоплощенные Души с пением выходят и выстраиваются на
нижней сцене двумя полукружиями. На них — бесцветные одежды
наподобие монашеских ряс, ничем не отличающиеся одна от дру-
гой. Их лица также похожи одно на другое, словно маски, без вся-
ких примет пола, возраста и личности. Когда они занимают свои
места на нижней сцене и поворачиваются в сторону дворца, пение
их стихает. Земля, Смерть и Суемудрый отступили перед ними
на авансцену. Противоречащий тоже на авансцене, он давно рас-
положился на ступенях, ведущих вниз, и вынимает из саквояжа и
раскладывает взятые с собой книги. Второй Ангел выходит из
дверей дворца; в руке у него — пергаментные списки ролей
ВТОРОЙ АНГЕЛ
останавливается на краю верхней сцены
Усматривать различие между вами, о бестелесные Души, научился
Имеющий власть. Выкликаю вас. Вы избраны, чтобы играть перед
Ним. Вот ты, выходи сюда, тебе определено представлять Короля.
Большой Зальцбургский театр жизни 277
Делает знак одной из Душ; та подходит и берет роль из рук Анге-
ла, склоняющегося к ней сверху. Разворачивает свиток и просма-
тривает. Другие обступают ее, с любопытством заглядывают
ей через плечо
ВТОРОЙ АНГЕЛ
указывает на другую в сонме Душ
Тебе играть Мудрость!
ЗЕМЛЯ
подходит ближе, делает знак служителям
Вот этому — корону и мантию! И меч с золотой рукоятью!
Мудрость будет представлять монахиня! Подать сюда облачение!
Подать пояс!
ВТОРОЙ АНГЕЛ
указывая на третью душу
Ты будешь Хозяин!
ЗЕМЛЯ
Выходи вперед! Подать Хозяину деревянные башмаки, домотка-
ную одежду, лопату! Выходите!
ВТОРОЙ АНГЕЛ
(та же игра, что и раньше)
Ты будешь представлять Красоту!
Слуги приносят ковры или свертки камчатного шелка для завес
в два человеческих роста, достаточно широких, чтобы отгоро-
дить переднюю часть сцены. Трое из них выносят длинные
шесты, раздваивающиеся наверху, и укрепляют на них завесы
так, что нижняя сцена вся оказывается занавешенной, но между
отдельными частями занавеса остаются проходы
СУЕМУДРЫЙ
обращается к служителям с распоряжениями, бестолково
пытается всем указывать, где кто должен стоять
278
Гуго фон Гофмансталь
ЗЕМЛЯ
выходит из-за занавеса, но потом продолжает подглядывать,
следя за переодеванием актеров. Между делом кричит в зритель-
ный зал
Сейчас начнется!
Слышно, как музыканты настраивают инструменты; Земля
прислушивается к звукам. Между тем со сцены доносится шум
беспорядка. Громкий голос снова и снова порывисто выкрики-
вает: «Нет!»
СУЕМУДРЫЙ
выскакивает из-за занавеса в дурацком возбуждении
Тут, знаете ли, со мной приключилось такое, чего еще никогда не
приключалось!
ЗЕМЛЯ
Где?
СУЕМУДРЫЙ
указывает назад
Да на сцене, при раздаче ролей. Глядите! Пусть госпожа сама убе-
дится!
одна из душ
будущий Нищий, поспешно проходит между занавесами. В руке ее
— роль. За ней театральный служитель несет лохмотья —
наряд Нищего
ДУША
решительно подойдя к Земле
Вот, возьми назад роль, что мне досталась. Пусть ее играет кто-
нибудь еще, но я не буду! Не буду! Не буду!
Театральный служитель подходит и остается стоять позади
ЗЕМЛЯ
Это еще что такое? Почему ты вопишь: «Не буду!»?
Большой Зальцбургский театр жизни 279
ДУША
Не буду играть этой роли. Не надену этой одежды.
Ъерет одежду из рук у театрального служителя,
швыряет ее под ноги Земле
СУЕМУДРЫЙ
Вот еще новая мода! Или, может быть, вправду произошла ошиб-
ка?
Берет у нее из руки роль, разглядывает ее
Роль: «Нищий». В скобках: «Несчастный человек».
Осматривает одежду, осторожно дотрагиваясь до нее
Одежда Нищего. Вполне отвечает своему назначению. Очень даже
нищенская. Все как подобает. Чего хочет актер? На что жалуется?
Вот уж, право, трудные люди!
ДУША
обращаясь к Земле
Говорю тебе — нет! Лучше сгинуть не родившись! Не выходить на
свет!
Протягивает ей роль
ЗЕМЛЯ
берет роль, смотрит в нее, оглядывается
Почему нерожденный так рассержен? Понимает его хоть кто-
нибудь?
СУЕМУДРЫЙ
Ему, видишь ли, не нравится, как распределяются роли.
ДУША
Гляди!
Вырывает у Земли роль из рук
СУЕМУДРЫЙ
Так нагло оскорблять распорядительницу игры? Ну уж, знаете!
ЗЕМЛЯ
Оставь! Пусть выговорится. )
ДУША /
протягивает ей свою роль
Гляди! Гляди! И это, по-твоему, жизнь? И это — начало жизни? И
это — юность?
Листает роль
Это — зрелость мужа? Гляди: горе и нужда, нужда и горе, горе и
нужда! Насмешки, издевки! Одиночество беспросветное, просто
ад! Здесь я воплю, один на всем белом свете! А тут я бездомный,
живу под мостом, кормлюсь тем, на что крысы не польстились. Тут
я воплю от нестерпимого ужаса — а они только плечами пожима-
ют. А тут я с горя зубы скалю! А тут я брошен всеми, как ни одна
собака не была брошена, и все живу, такой живучий, только уже
почти ничего не говорю. А тут я песни распеваю! Чуешь, что это
будут за песни, которые станет распевать беззубый мой рот?
ЗЕМЛЯ
Ну? Еще что скажешь?
ДУША
хватает одежду и показывает ей
И это моя одежда! Дыра на дыре — зловонное одеяние бесчестия!
В нем мне жить и умирать! А ведь последний из зверей твоих,
госпожа, красуется в шелковистом мехе или в наряде из чешуи,
блистающем не хуже золота и серебра!
Бросает одежду наземь и топчет
ЗЕМЛЯ
Ужели так малодушна ты, Душа человеческая? Ступай с глаз моих,
я и смотреть не хочу на малодушное создание. Последний из зверей
моих отважно сражается в битве жизни, там, где я его поставила. А
ты даже в представлении не хочешь взять на себя убыточной доли!
Большой Зальцбургский театр жизни 281
Одевайся, или мне придется позвать моих слуг! Мы не можем сто-
ять на месте!
СУЕМУДРЫЙ
Малодушными мы гнушаемся! Или ты никогда не слыхивала о
предмете, который, к примеру, именуется доблестью? Предмет сей
был известен еще древним римлянам!
ЗЕМЛЯ
Слуг сюда, одевайте его, как нужно по пьесе. Уже пора начинать.
Театральный служитель делает знак, и входят двое других. Они
подступают к Душе, хватают ее, показывают, что сейчас натя-
нут на нее нищенскую одежду
ДУША
вырывается у них из рук
Ты позволяешь твоему лакею поносить меня как труса, боящегося
трудного дела? И все равно знай: эту роль я не играю! И никому
другому она тоже не должна достаться!
Мнет роль в руке
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
Вот речь, достойная мужчины! Я требую для этой Души права на
прирожденное равенство судьбы!
ЗЕМЛЯ
дает знак слугам
Достаточно времени потеряно. Одевайте его — и поживее на сце-
ну! Как только он там окажется, он найдет себя в игре!
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
Intercedo! Я заявляю протест! Я категорически возражаю против
творимого насилия! От века не умолкала жалоба на слепую, деспо-
тическую силу, распоряжающуюся судьбами людей еще во чреве
матери — из двух близнецов, равно нерожденных, равно неповин-
ных, Иаков уже предпочтен, Исав уже отвергнут! Неужели так
282
Гуго фон Гофмансталь
будет и впредь, и в нашу просвещенную эпоху подобному произ-
волу разрешено будет и дальше свирепствовать?
АНГЕЛ
проходит между завесами вперед
ДУША
вырвалась из рук служителей, вскрикивает
Нет!
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
Как я вижу, высшая власть шлет гонца. Предстоит обсуждение воз-
можностей компромисса. Слово молодому человеку! Ждем с нетер-
пением.
АНГЕЛ
С тобой я не разговариваю. — Зачем задерживаешь ты нас, непо-
корная Душа? Другие уже готовы. Распорядитель готовится подать
знак. — Ну что ты яришься, словно конь, которого холостят в куз-
нице? Отвечай мне.
ДУША
не вставая с колен, поднимает на него взгляд.
Театральные служители отступили, в руках одного из них
остается нищенская одежда
АНГЕЛ
с улыбкой склоняется к Душе
А ты вправду знаешь, что тебе достался удел Исава, а не Иакова?
Внутри тебя живет огонь, который от природы устремляется к
небу, а это больше похоже на Иакова, чем на Исава. Его пламя
было мрачное и дымное.
ДУША
встает
Пусть даже я — Иаков. Все равно нельзя было поступать так, как
поступили с Исавом. Мне это нестерпимо. Проклятая роль!
Хочет изорвать свиток — и не может
Большой Зальцбургский театр жизни 283
АНГЕЛ
Оставь. Не человеческой руке разорвать письмена, пришедшие из
мира иного. Дай мне твою роль. Я верну тебе ее, когда ты овладе-
ешь собою.
ДУША
Никогда! Мысли непереносно принять, что человек может быть
обречен на такую жизнь.
АНГЕЛ
Я знаю, благородная Душа: тебя ужасает не то, что тебе назначено
пострадать краткое время игры, — ты трепещешь перед мраком, в
котором томятся дети Адамовы.
ДУША
В игре есть и такие, кому вверена власть, есть господа и слуги, те,
кто решает свою судьбу, и те, кто ничего не решает. Откуда это?
От прихоти судьбы? Не хочу покориться слепому насилию. Не
хочу!
АНГЕЛ
Речь твоя неистова, но в самых недрах твоего существа, как
фонарь рудокопа во мраке утробы земной, светит тихий свет со-
гласия.
ДУША
Ты ловишь меня на приманку, и нечто во мне так и рвется прогло-
тить ее.
АНГЕЛ
Ты сознаешься? Правдивая Душа!
ДУША
Но я знаю, что, если я проглочу кривой твой крючок, ты повле-
чешь меня против течения, а этого я не хочу! Дай мне роль, где
есть столько свободы, сколько нужно человеку, чтобы не задох-
нуться, или уволь меня от участия в игре!
284
Гуго фон Гофмансталь
АНГЕЛ
Кто имеет свободу и достоин ее, тот вопрошает: «Зачем дана мне
свобода?» И он не обретет покоя, пока не узнает, каков приноси-
мый ею плод. Но плод свободы один: творить правое.
ДУША
Не лги мне! — Нет! Ты мне не лжешь. Так сжалься надо мной!
АНГЕЛ
Только в поступке человек может прибавить нечто к творению
Божию. Возносить прямо к престолу Бога благоухание ваших
поступков — в этом служение наше. Постигаешь ли ты, храбрая
Душа, как много тебе дано? Так будешь ты играть роль Нищего?
Поднимает в руке свиток с ролью
ДУША
Поступок, говоришь ты? Воля моя жаждет поступка! Да разве во
всей этой злосчастной роли сыщется хоть один-единственный
поступок?
АНГЕЛ
Сыграй роль, и тебе откроется, что в ней есть и чего нет.
ДУША
Не могу. Уволь меня. Есть же такие, что на этот раз остаются без
роли. Я затеряюсь между ними.
АНГЕЛ
Ты получил роль. Значит, ты избран.
ДУША
во внутренней борьбе
Я видел в роли такие слова, которым по праву не должно выходить
из уст ни одной твари Божьей!
АНГЕЛ
А такие слова ты читал: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты Меня
оставил?» И еще: «Не как Я хочу, но как Ты хочешь?..»
Большой Зальцбургский театр жизни 285
ДУША
закрывает лицо
АНГЕЛ
Прими муку на себя! Покорись! Как еще может Неизреченное
говорить к тебе, если не в этой оторопи?
ДУША
на коленях
Так нужно?
ангел
Прими одежду, которая тебе уготована.
ДУША
берет свиток с ролью
Я готов, оденьте меня!
Подзывает к себе знаком служителя и уходит за занавес;
служитель с одеждой в руках следует за ней
АНГЕЛ
уходит за занавес в другом месте
ЗЕМЛЯ
подходит к занавесу и подглядывает в просвет
СУЕМУДРЫЙ
сморкается
До сих пор я думал, что в целом нас ожидает развеселая грошовая
комедия, но, если дальше пойдет в том же духе, мой носовой плато-
чек, сдается, еще не раз будет мне полезен. Не ожидал.
ЗЕМЛЯ
у занавеса, лицом к публике
Чудесное готовится представление. Актеры разодеты в наряды из
моих ларцов. Глаза блестят от избытка сил, всем невтерпеж
286
Гуго фон Гофмансталь
дождаться, когда начнется спектакль их жизни. Пусть вступает
музыка! Трубите в трубы, дуйте во флейты, нажимайте на педали
органа, пойте; пусть все, кто будет смотреть сверху, поймут, на что
я способна, когда распоряжаюсь у себя на сцене.
Музыка начинает играть, Земля перед занавесом подпевает.
Служители, державшие занавес, расходятся в разные стороны.
Суемудрый прыгает налево, расставляет на месте повыше склад-
ной стул, готовит трон для Земли. Становится видна нижняя
сцена. Она пуста, только слева стоит скала, справа — дерево.
Ангел становится на свое место на верхней сцене; Земля зани-
мает свое место на авансцене и делает знак, повинуясь которому
Смерть пересекает сцену и становится справа между завесами.
Противоречащий присаживается на авансцене справа внизу.
Музыка прекращается
АНГЕЛ
проходит вперед до самого края в середине верхней сцены
О люди, к бытию пробуждены,
Свои стези вы наблюдать должны.
Ваш путь от самой колыбели
Ведет вас к неизбежной цели,
Где мерой вышнего суда
Добру и злу воздастся мзда.
СУЕМУДРЫЙ
Да хватит с нас объявлений и возвещений; можно бы, кажется, и
начинать.
Фанфары, несколько менее мощные, чем при появлении
Имеющего власть
КОРОЛЬ
входит слева и шествует к середине сцены
Как должно мне, сюда шаги направлю,
В средине всех вещей себя поставлю.
Послушным мне, мой мир передо мной;
Большой Зальцбургский театр жизни 287
Жизнь — это власть, иное — бред пустой.
Широкий круг земель моей державы
Моей лишь жаждет причаститься славы.
Дивятся горы, взор подъемлют реки
На мой престол, что утвержден вовеки.
Весь ход вещей да будет строг и строен;
Судьбы моей желаю быть достоин,
Верша на благо всей моей вселенной
Мой чудный труд, мой труд благословенный,
Возвысив доблесть, низость наказуя,
Всему по чину место указуя.
СУЕМУДРЫЙ
Красиво сказано! — Но красно рассуждать — одно дело, а хорошо
сыграть свою роль — совсем другое.
Красота входит слева. Мудрость — справа.
Они очень медленно движутся друг другу навстречу
Ах, до чего хороша! Не иначе придворная дама. — А та, значит,
монашка! В ее-то годы, какая жалость!
КОРОЛЬ
Я зрю двойное чудо совершенства.
О, не венец ли моего блаженства,
Что мне дано по царственному праву
К ним снизойти, престола множа славу?
КРАСОТА
останавливается
Отрада глаз, о радость бытия,
Весь этот мир одушевляю я.
Мила земля, и дивен свод небес,
Но я меж ними — чудо из чудес.
Мой праздник; всё, ликуя, льнет ко мне —
Но кто стоит, надменный, в глубине?
288
Гуго фон Гофмансталь
Я жду, чтоб он к руке моей припал;
Пусть он король — он будет мой вассал!
СУЕМУДРЫЙ
Сил нет, до чего хороша! А сейчас она глядится в зеркальце! Есть
на что поглядеть!
КРАСОТА
Моя краса и в радость мне и в страх,
Так явен знак небес в моих чертах.
МУДРОСТЬ
Возможно ль зреть красы земной явленье,
Не ощутив, как тонко веет тленье?
КРАСОТА
смотрит на свою руку
Слоновой кости, лилий белизна —
Рука моя, ты дивно создана,
Меня ты сладкой тайной беспокоишь:
Какие двери ты еще откроешь?
МУДРОСТЬ
прянет руки под одежду
Рука моя, сокрыть себя спеши,
Мой дух, уйди в себя, найди себя в тиши.
КРАСОТА
Шатер наш праздничный зефир колышет,
Как все на нас взирает и не дышит!
Взгляни, сестра!
МУДРОСТЬ
Сестра, дай мне уйти;
Раздельны наши на земле пути.
КРАСОТА
Ужели ты одну меня забудешь?
Большой Зальцбургский театр жизни 289
мудрость
Утешься: долго ты одна не будешь!
КРАСОТА
Уединения мой нрав не переносит!
МУДРОСТЬ
Уединения дух для молитвы просит!
СУЕМУДРЫЙ
Ну вот уж не по мне! Молиться да молиться! Какая богомольная!
В ее-то годы!
КРАСОТА
Как льются на меня очей его лучи!
МУДРОСТЬ
Меня пусть зрит лишь Тот, Кто видит и в ночи.
КОРОЛЬ
подходит к Красоте
КРАСОТА
искоса бросает на него взгляд
Какая скрыта мощь в его лице!
МУДРОСТЬ
О немощь бедная, ты немощь и в венце.
Обе склоняются
КОРОЛЬ
Приди! Непостижима, несравненна,
Удел мой разделить достойна ты.
Не новая ли ты Елена,
Виденье вековечной красоты?
Тысячелетий греза предо мной,
Все тот же образ, не иной.
Со мной останься, власть мою любя:
290
Гуго фон Гофмансталь
Кто зрел тебя, отпустит ли тебя?
Могущему молить не подобает,
Державной волей он повелевает:
Приди!
Он отводит ее на несколько шагов к месту по левую руку от себя,
затем возвращается и подходит к Мудрости
Ты, кроткая, — ив том даю поруку —
По правую мою навечно станешь руку,
Лампадою святой украсив мой чертог,
Когда ж я захочу, духовный дашь урок.
МУДРОСТЬ
Здесь слишком громок бурь житейских шум,
Я тишины ищу для мирных дум,
Ищу пустыни — видишь, там гора?
И мне пора!
КОРОЛЬ
Вдали от моего двора?
Жаль, жаль... А это что? Купец мой предо мною?
БОГАЧ
подходит и почтительно приближается к Королю
СУЕМУДРЫЙ
А это, стало быть, Богач. Видно птицу по полету! Какие меха, что
за золотые цепи! Черт побери! Хозяин тоже тут. Недостает только
Нищего, чтобы вся четверка была в сборе!
хозяин
входит сразу же после Богача, но с противоположной стороны;
он несет косу, топор и заступ. Подходит к дереву, прислоняет к
нему топор и заступ, готовится отбивать косу
КОРОЛЬ
...И честный селянин, что крепок простотою.
Большой Зальцбургский театр жизни 291
хозяин
Чего мне торчать перед их глазами?
Их дело, чтоб порядок был, а наше — смекнем и сами.
Заходит за дерево
МУДРОСТЬ
Пусть он не мудр, мудрей дела его.
КОРОЛЬ
Богачу
Я опытность ценю.
БОГАЧ
Не скрывши ничего,
На суд державный твой хочу мой труд представить.
КОРОЛЬ
А я хочу тебя возвысить и прославить;
Ты много мне служил.
БОГАЧ
Но больше предстоит,
Коль твой монарший меч и впредь нас охранит.
Какую для тебя в грядущем вижу славу!
Отрадным миром ты венчал твою державу,
Твой дивный ум участливо проник
В движение вещей и дух времен постиг.
Эпохи гений, предызбрав тебя,
С тобой лицом к лицу открыл себя,
Ты тайну въяве зрел, ты посвящен.
Торг — вот наш бог, вот новых бог времен;
Ему твоя держава будет храм.
Пусть толщу вечных гор прорежет сталь,
Пройдут каналы, близкой станет даль,
Проворным мир откроется купцам.
Теченье времени твое богатство множит,
Тебе никто противиться не может.
292
Гуго фон Гофмансталь
О чудное, о грозное виденье!
Для всей земли — от дрёмы пробужденье!
Соседи, новые увидев дни,
Все за тобой пойдут. А если нет — они
Для пользы собственной претерпят принужденье!
хозяин
Коль дело пойдет, помоги нам, Боже, —
Смогу зерно продать подороже.
В убытках нам оставаться негоже.
МУДРОСТЬ
О горе! Язва мира, алчность злая!
КОРОЛЬ
Сродни мне воля, что в тебе живет,
Все презирая и на все дерзая.
И мой порыв преград не признает.
«Довольно» — для меня пустое слово.
БОГАЧ
Да, в слове этом много скрыто зла.
Им слабодушие себя прикрыть готово,
Утеха в нем ленивым и усталым.
Пусть за плечами вырастут крыла!
Тот проклят, кто довольствуется малым!
хозяин
Каждому сверчку Бог шесток указал —
Смотрите, господа...
КОРОЛЬ
Твой ум я испытал:
Ты — казначей мой; будешь мой министр
И будешь канцлер. Мыслью смел и быстр,
Ты действиям даешь связующую нить
И дерзкую.мечту возможешь воплотить.
Большой Зальцбургский театр жизни 293
БОГАЧ
коленопреклоненно целует ему руку, встает с колен,
молчит как бы в смущении
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
уверенно подсказывая
Так пусть державный меч твой за меня...
БОГАЧ
Так пусть державный меч твой за меня...
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
Из ножен выходя...
БОГАЧ
быстро подхватывает
...всегда вершит расплату...
КОРОЛЬ
Как? За тебя?
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
поспешно
За славу, власть и злато!
За все, чем мы совместно обладаем!
БОГАЧ
громогласно
За все, чем мы совместно обладаем!
КОРОЛЬ
Да будет так!
Извлекает мен из ножен
МУДРОСТЬ
Ты править обещал,
Возвысив доблесть, низость наказуя,
294
Гуго фон Гофмансталь
Всему по чину место указуя.
Что ж ты творишь, с бесчестьем честь связуя?
КРАСОТА
рассматривает себя в зеркале
Как в отблеске лучей победной власти
Сияет облик мой!
хозяин
отбивает косу
КОРОЛЬ
влагает меч в ножны
АНГЕЛ
Блюдитесь: злые страсти
Да будут вам чужды; припомните названье
Недолгой драмы сей и ваше в ней призванье.
ЗЕМЛЯ
перебирает струны своей лютни
КОРОЛЬ
знаком повелевает Богачу занять место по правую руку от него,
а сам возвращается на свое место в середине сцены
Забот высоких понеся труды,
Умножив изобилье, власть и славу,
Обозреваю дел моих плоды.
Все мирно: меч хранит мою державу,
В дому моем смеется Красота,
Молитва к нам преклонит милость неба,
А селянин, земли смиренный сын,
В ком не умрет святая простота,
Насущного нам дар готовит хлеба.
ХОЗЯИН
прекращает отбивать косу
Я-то крепко держусь на ногах, да, да!
Большой Зальцбургский театр жизни 295
МУДРОСТЬ
Спаси заблудших нас, о Боже, в час суда!
СУЕМУДРЫЙ
До чего же они все довольны! Просто сердце радуется, когда погля-
дишь на этакое благодушие. А куда, интересно, запропастился тот,
что должен играть Нищего? Окажись он в обществе таких доволь-
ных людей, у него пропала бы всякая охота дуться.
нищий
медленно входит справа, волоча ноги
СУЕМУДРЫЙ
замечает его еще издали
Гляди-ка, а вот и он, этот Нищий! До чего его довели, однако!
нищий
идет опустив голову, опираясь на толстую палку; он разговари-
вает сам с собой, ничего не видя вокруг. Некоторое время бродит
по сцене как потерянный
СУЕМУДРЫЙ
Ну и походка у него — просто жуть! Не иначе как отморозил себе
ноги!
МУДРОСТЬ
сходит со своего места и направляется к Нищему
нищий
ворчит что-то про себя
МУДРОСТЬ
подойдя к нему сзади
Что у тебя, пришелец, на уме?
Я здесь!
296
Гуго фон Гофмансталь
нищий
вздрагивает
Ох, люди тут! Как тошно мне!
МУДРОСТЬ
становится перед ним
Приди, чтоб тебя накормили, согрели.
Ты, сдается, давно не спал в постели.
нищий
не глядя на нее
Уж девятый год. Э, что за бредни!
МУДРОСТЬ
Отколе?
нищий
Не знаю, где был намедни,
Не знаю, нынче куда пойду.
МУДРОСТЬ
Ты изведал беду и нужду.
Возьми толику.
Достает из кошеля и протягивает ему деньги
нищий
отвора чивается
МУДРОСТЬ
Дай мне ответ!
нищий
Не будет ответа. Ответа нет.
МУДРОСТЬ
Малый дар возьми;
Лишь раздаятельница я, пойми,
Завещанного бедным небесами.
Большой Зальцбургский театр жизни 297
нищий
Навязалась с поповскими словесами!
Хватит с меня такой благостыни,
Пусти меня прочь!
Делает движение уйти,
затем снова погружается в задумчивость
МУДРОСТЬ
Два есть вида гордыни:
В счастье без меры и в горе без меры
Но оба противны закону веры.
нищий
не глядя на нее
Не ханжи. Мне от мира ничего не надо.
МУДРОСТЬ
Я не от мира. Тот, Кто говорит
Через меня, тебя любовию взыскует,
И сердца от Него ничто не защитит,
Что и бунтуя по Нему тоскует.
нищий
смотрит на нее в упор
Женские речи... Вот моя жена —
За свой век не сказала лишнего слова...
Замолкает на полуслове
МУДРОСТЬ
Ее уже нет?
нищий
Ну, все. Кончен сказ!
СУЕМУДРЫЙ
И отчего же это она приказала долго жить? Надеюсь, ничего
страшного?
298
Гуго фон Гофмансталь
нищий
А, отчего? Я в отлучке был, как на грех,
И со мной дубинка...
хозяин
оглядывает его
Слушать-то смех!
нищий
Из-за застав набежала воровская свора,
Все покончено было куда как скоро.
Сгорела халупа — и жена — и корова.
Тихо тлели угли на месте нашего крова!
Детки — те в лесу схоронились,
Козы тоже в терновник забились,
На тот раз живота не лишились.
хозяин
Где близко заставы, нет, слышь, покоя,
И людишки там дрянь, и винцо плохое.
Мне на ум не взбредет на тычке селиться,
Я буду в укроме жиреть да веселиться.
Вострит косу
нищий
неподвижно глядя перед собой, вполголоса
За что, за что?
МУДРОСТЬ
Призови твой внутренний свет.
нищий
Нет, кончено. Света больше нет.
Он еще был во мне, когда жену загубили.
Он позже угас — когда мертвых детей
Мои же руки в землю зарыли.
Большой Зальцбургский театр жизни 299
СУЕМУДРЫЙ
Но не могли же помереть все сразу!
нищий
Нет, нет. Не всех с одного раза
Доконали голодуха и злая зараза.
В среду — только двоих, в четверг — одного,
Одного — в воскресенье. А кругом — никого!
Тихие похороны, без суеты —
Ни гробовщиков, ни родни... А ты?
Ты молилась, молилась и снова молилась,
Орган гремел, кадило дымилось, —
Все как надо, все благообразно,
А главное, укромно и безопасно.
Стены крепки, не пропустят лиха, —
Тихо и мирно! Мирно и тихо!
Без прав, без приюта и без защиты
До кровавого пота ломаем руки,
Но не вымолим мира! Не избудем муки!
За что?
МУДРОСТЬ
Суд Божий прав. Роптанья бури
Не вынудят ответа у лазури.
Указывает на небеса
нищий
Только не лги! Тут не Божий суд! Нет!
Ударяет дубинкой по земле
С другими-то ничего не стряслось!
У кого хоть немного денег нашлось,
Тот лошадь купил, да и был таков!
Или суд не щадит одних бедняков?
Почему мои детки прорве достались,
А у других живы-здоровы остались?
300
Гуго фон Гофмансталь
Не бубни, будто так и быть должно:
Где в Божьем законе определено,
Чтобы отродье мое подыхало,
А прочим было и горя мало?
Что, замолчала? Рот открой
Да скажи, кто рассудит между мной и тобой!
Требую правды!
МУДРОСТЬ
Твой вопль — стенанье твари совокупной,
Но пред земным судом кого ты обвинишь?
Кто между нами — твой злодей?
КОРОЛЬ
делает шаг вперед
МУДРОСТЬ
Вот тот, в чьи руки скипетр власти вложен.
Излей пред ним печаль твою,
Но соблюди себя, чтоб в ярости твоей
Не преступить пределов меры.
Возвращается на свое место
КОРОЛЬ
Кто этот человек, и с чем он к нам приходит?
нищий
О, не с добром!
МУДРОСТЬ
со своего места
На сердце да не всходит
Безумный помысл! Гнев есть смертный грех!
КОРОЛЬ
В чем иск? Кому вчинен? Ответь тотчас:
Кого зовешь к суду? Ведь есть у нас...
Большой Зальцбургский театр жизни 301
нищий
У вас есть, а у меня — нет:
Вот вся моя тяжба и весь мой ответ!
У вас — и жены, и милые дети,
И дома, и поля, и все на свете,
Во что обуться, во что одеться,
Куда от лютого холода деться,
Чего поесть и чего попить,
И время, и потеха, чтоб время убить,
В непогоду — кров, а от зноя — тень,
И день, и ночь, что вы превратили в день,
Зажигая факелы, тратя свечи,
И роскошь, и нега, и пышные речи,
И вино, а к вину еще струн бряцанье,
Наяву — услада, во сне — мечтанье,
Манию руки послушные слуги
И книжка, чтоб читать на досуге,
Чтобы все, чем успели вы усладиться,
Льстивая сызнова явила страница.
У вас все, что смогли вы отнять у нас,
Вы строили счастье на братнем несчастьи.
Утопай, Иаков, в краденом счастье,
Но знай — приходит Исава час!
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
нашептывает, дождавшись паузы в речи Нищего
Природа всем дала равенство прав,
Ей привилегии сословья чужды.
нищий
не поворачивая головы
В поверенном не имею нужды,
Найду и сам что сказать.
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
Ты прав!
302
Гуго фон Гофмансталь
СУЕМУДРЫЙ
Ах, окаянство, и до чего же этот злыдень разошелся!
КРАСОТА
подходит к Королю,
который бессознательным движением поднял меч в ножнах на
высоту своей груди
Мой господин, мы сыщем смысл едва ли
В том вопле бешенства слепого,
Что рот кривящийся изверг.
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
выпрямляется во весь свой рост
Что ж! И Самсон был слеп, но храм во прах поверг,
Где филистимляне, забывшись, пировали!
МУДРОСТЬ
Прислушайся, ужель в твоей груди
Не говорит иного голос тайный?
КРАСОТА
Меня от варвара ты защити.
Взгляни, как на меня он смотрит дико!
КОРОЛЬ
закрывает ее своей мантией
Мой канцлер!
БОГАЧ
преклоняет одно колено
Что велишь ты мне, владыка?
КОРОЛЬ
Невместно, чтобы впредь сносил я сам
Его хулы и вел с ним словопренье;
Где не встречает нас благоговенье,
Наш сан молчать повелевает нам.
Большой Зальцбургский театр жизни зоз
Ты вразуми его! Не должно мне
Ценить так низко мой престол державный,
Чтоб пререкаться с чернью своенравной.
Когда бы возмогло бесчинство злое
Верховной власти колебать устои,
Вся жизнь людей предстала бы недружной
И в самом существе своем недужной.
Ему на это с силой укажи,
Безумство обличи и докажи,
Что ты доверья нашего достоин,
Явись красноречив, и ясен, и спокоен.
БОГАЧ
Изволь.
КОРОЛЬ
берет Красоту под руку, чтобы отвести ее на ее место
КРАСОТА
собираясь удалиться, поворачивается лицом к Нищему
нищий
впервые замечает Красоту во всем ее величии
Как — и она? Она — с тобой?
О дивный дар превыше всех даров,
Единый луч твой сердце просвещает,
Мир — в рай, печаль — в отраду обращает!
И ты — добыча в логове воров?
МУДРОСТЬ
Я рада за тебя, когда ты горний свет
Признать способен в дольнем отраженьи!
То — добрый знак.
нищий
Нет! Нет! И трижды — нет!
Нет сил сносить, чтобы такая сила
304
Гуго фон Гофмансталь
Все той же хищной прихоти служила.
Как? Льнет она — к тебе? Ну, все гори огнем!
В прах, старый строй вещей! Нам новый нужен.
Отшвыривает дубинку
Ниц, филистимляне! Самсон-то безоружен!
КОРОЛЬ
отвел Красоту на ее место, сам занимает свое
БОГАЧ
подходит к Нищему и для начала меряет его взглядом
Советую дубинку подобрать.
Бродяжничать, как вижу, надоело.
Уж лучше поскорее выбрать дело,
А палку — сам смекни, на что ее сменять.
Еще на шаг ближе
С мужчинами привык я говорить.
И ты мужчина, мне сдается.
Мужчина — он резонам поддается,
Его возможно переубедить.
нищий
Мне — желчь, а мед всегда был твой удел.
Как ты мне медом губы мазать смеешь?
С чего б ты сладко пел?
Мне нечего терять — не разумеешь?
БОГАЧ
Терять-то нечего. Но есть что заиметь,
А для начала — есть чему учиться,
Немного здравым смыслом поразжиться.
Умнее станешь — стоит захотеть,
нищий
мрачно, сдержанно
Все прописи твои противны мне.
Большой Зальцбургский театр жизни 305
Пусть обновится дряхлый мир в огне!
Уж если все прогнило, все недужно,
Кровавый бунт, пожар — вот что нам нужно.
БОГАЧ
Порядок нужен вам!
нищий
«Порядок»! Ну и слово!
Всегда насилье им прикрыть себя готово.
БОГАЧ
Однако у тебя, как и у нас,
Не брызжет речь из воспаленных глаз,
Из размахнувшегося кулака —
Не правда ль, — но стекает с языка?
нищий
Как?
БОГАЧ
Видишь, и в тебе порядок есть!
Ты рта раскрыть не смог бы и подавно
Не смог столь долгих обвинений п л есть,
Когда б язык твой не служил исправно.
Ты топаешь ногой и рот кривишь,
Но этим никого не удивишь,
Не уязвишь; нет, чтобы нас допечь,
Членораздельная тебе потребна речь.
Уж как ты ни воюй противу правил,
Но фразы ты по правилам составил.
А как возможно это? Речь твоя
На свет явилась бы мертворожденной,
Бессильной, в каждом слоге поврежденной,
Всецело чуждой бытия,
Когда бы ум твой, буйство отложив,
Не созерцал тот образ первозданный —
306
Гуго фон Гофмансталь
Порядка образец, от века данный,
Которым только дольний мир и жив.
Так вот что значит строй в словах: за ним
Стоит надмирный строй понятий,
Что смыслы все объемлют без изъятий,
Как звездный небосвод, несокрушим!
Коль ты в себе порядок изничтожишь,
Во славу мятежа двух слов связать не сможешь!
Упейся бунтом, словно буйный скот, —
На речи все тебе отвечу кратко:
Порядка враг, ведь ты живешь за счет
Тобою поносимого порядка.
Что ж, бей, круши, как новых дней Самсон,
Пусть разольется хаос без препон!
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
Из хаоса, я слышал, создан строй!
Пусть новый строй из хаоса восстанет,
Хотя б в стократных муках родовых!
Не слушай болтовни врагов твоих.
Пусть хлынет хаос — хуже нам не станет.
БОГАЧ
подходит к Нищему еще на полшага
Разбей наш ветхий строй, разбей вконец,
Вселенную забрызгай нашей кровью,
Но знай, что ты со всей твоей мятежной новью
Не просто изверг. Хуже — ты глупец.
Все то, что слишком для тебя высоко,
Ты разбираешь с кондачка, с наскока,
Поспешно судишь вкривь и вкось.
В досаде, что устройство мира сложно,
Себя уверив, будто вправду ложно,
Чего тебе понять не удалось.
Ты видишь только заговор презренный,
Большой Зальцбургский театр жизни 307
Который прав твоих тебя лишил,
Там, где союз издревле сущих сил
Мы бережно блюдем — на благо всей вселенной!
Как соразмерное, живое тело,
Там дышит целое, а всяк из нас — лишь часть,
И дружно, бодро делается дело.
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
Лжешь, повелитель крыс! Да сгинет ваша власть!
Нищему, подстрекательским тоном
Дай отповедь ему! Довольно этой лжи!
Витию на лопатки положи
И покажи, на что это похоже
Для нас — быть частью целого! Нужду
И гнет терпеть — из года в год все то же!
Ответь ему!
БОГАЧ
Ответь, мой друг. Я жду.
КОРОЛЬ
Тебе дают свободу откровенно
Все высказать, что есть в уме твоем.
МУДРОСТЬ
Ответь, излей печаль! Благословенно
Живое слово, если правда в нем!
нищий
Ответа не даю. Какой еще ответ?
Вам словоблудья хочется? Ну, нет,
Придется обойтись. Будь всяк готов:
То, что на вас идет, идет без слов!
СУЕМУДРЫЙ
вполголоса
Ну и ну!
308
Гуго фон Гофмансталь
БОГАЧ
Мне жаль тебя, коль так ленив твой ум.
Ужели все, чего не в силах он измерить
Неверной меркой скороспелых дум,
Тебе в угоду мы должны похерить?
Нет, извини, но этого не жди.
Коль нечего тебе сказать, уйди.
нищий
Еще посмотрим, точно ль я уйду.
БОГАЧ
Из ничего не выйдет ничего.
Смысл выжми из себя хоть скудный, чтоб его
Мы к жизненному делу приобщили.
Вот шанс твой!
КОРОЛЬ
Ты упрям — себе же на беду.
Отворачивается
Довольно! О тебе мы позабыли.
нищий
смеется
МУДРОСТЬ
молитвенно воздевая руки
Глухонемому делу в мир войти,
О Боже праведный, не попусти!
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
Пусть все трепещут! Заяви протест!
В лицо швырни твой властный манифест!
Пусть молнии прорежут бездну мрака!
Большой Зальцбургский театр жизни 309
нищий
молчит
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
К чему такие паузы, однако?
нищий
делает несколько шагов в сторону, как бы намереваясь уйти
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
Ну что же ты?!.. Не тот накал страстей,
Не пройдена критическая точка!
Гнев о себе не заявляет гласно.
Ну что же, им пока дана отсрочка, —
Отсрочка, не помилованье! Ясно?
нищий
медленными шагами дошел до того места, где стоит Хозяин,
занимающийся своими орудиями труда и притворяющийся,
будто его не замечает
БОГАЧ
подходит к Нищему
Мне жаль тебя, коль так ленив твой ум.
Тебе в угоду мы должны ль похерить
Все то, чего не в силах он измерить
Неверной мерой скороспелых дум?
Нет, извини, но этого не жди.
Коль нечего тебе сказать, уйди.
нищий
поворачивается, чтобы уйти
БОГАЧ
сохраняя на лице бесстрастную мину, тоже поворачивается,
чтобы возвратиться на свое место.
310
Гуго фон Гофмансталь
Все смотрят со сдержанным неудовольствием на Нищего, ожи-
дая, уйдет он или нет
нищий
бредет очень медленно, словно в полузабытьи
СУЕМУДРЫЙ
вполголоса
Ну наконец-то он уходит — или все-таки не уходит? Давно бы уж
пора!
нищий
делает несколько шагов, потом останавливается, дойдя до края
сцены, и стоит перед Хозяином
хозяин
за некоторое время до того повесил косу на дерево, достал из
сумы ломоть хлеба с салом и ест, по всей видимости, не обращая
ни на кого ни малейшего внимания. Теперь, когда Богач смотрит
на него, он торопливо отправляет в рот последние остатки
хлеба и сала, после чего снимает с дерева косу, кладет ее себе на
колено и вострит. Невозможно понять, расслышал ли он послед-
ние реплики действующих лиц или нет
Тьфу ты, скажи на милость,
Коса о терновник затупилась.
А этот — чего?
Громко
Кто такой? С чем идешь?
нищий
А ты кто такой, что ко мне пристаешь?
хозяин
еще несколько раз ударяет по косе
Да здешний хозяин, гляди да смекай.
Встает и распрямляется перед Нищим во весь рост
Большой Зальцбургский театр жизни 311
На двух ногах большой каравай.
Помолчав
Чего глядишь?
нищий
Двор за домом — он твой?
хозяин
Да, мой.
нищий
А тот вон лужок?
хозяин
Тоже мой.
нищий
А поле?
хозяин
Мое. По тебе плачет палка.
Разболтался.
нищий
Ишь, слова и то тебе жалко.
хозяин
Да я тебе хоть десяток скажу.
Сам большой на своей земле я сижу.
Вот рубаха — из домотканого полотна,
А полотно — из моего же льна;
Каждый гвоздь моею забит рукою,
Все тут мое меж горой и рекою.
МУДРОСТЬ
Ужель считаешь за свое творенье,
В чем от благих Небес к тебе благотворенье?
312 Гуго фон Гофмансталь
, /
нищий
подняв голову, вдыхает воздух, бормочет вполголоса
Ветерок — и дух от цветов в лесу.
хозяин
сам с собой, беспокойно
Боюсь, учуял мою колбасу.
нищий
помолчав
Остаться, да! На земле осесть!
Скажи, а работа для меня есть?
хозяин
меряет его взглядом
Какая уж для тебя работа,
Мужицкая работа требует пота.
нищий
Да я сам деревенский. Наше, слышь, село
Вон за теми горами.
хозяин
То-то денег голо!
нищий
Лесоруб был отец мой, не нажил ничего,
Зашибло деревом насмерть его.
хозяин
Так-так. Кто беден, тот хилый,
Нет денег в мошне, а в руках нет силы,
Нету хлеба в риге, а в башке — ума;
Ну, что про такого? Сума да тюрьма.
Бродить по свету, да выть, как волк,
Да проситься к людям — в чем же тут толк?
Большой Зальцбургский театр жизни 313
нищий
угрюмо
Так тебе совсем ни к чему батрак?
хозяин
берет из-за дерева топор с длинным топорищем, покачивает его
в руке
Батрак? Да, знаешь, обойдусь и так.
Не справлюсь сам — подсобят сыновья.
Их восемь, девятый — я.
нищий
хочет уйти
хозяин
с топором в руке
Вот лесоруб мне бы кстати.
нищий
Лес — он тоже твой?
хозяин
Век уже, почитай, шестой.
Мы из рода в род держим внаем
Все права на угодья кругом.
Право порубки. Право потравы.
Право охоты. Рыбной ловли право.
нищий
Как у ежа иголок — право на праве.
Попробуй, тронь!
хозяин
покачивает топор на коленях
Тогда быть расправе!
314
Гуго фон Гофмансталь
ЗЕМЛЯ
перебирает струны лютни
нищий
снова делает шаг, как бы намереваясь уходить
хозяин
Не желаешь, значит.
Делает вид, будто хочет поставить топор за дерево
А мне нужда приспела
Строить новый овин. За бревнами дело
Да за досками. Лесу на сруб
Хватит. Нашелся бы лесоруб.
нищий
Право порубки. Так. Ни единой лучины
Не покупать, не знать кручины.
Все свое — колыбель и кровать.
И гроб.
хозяин
Морока — лес покупать.
Так хочешь аль нет? Недосуг мне болтать.
Протягивает ему топор
Три талера в год. Вишь, я не скуп.
Да пара сапог, да еще тулуп.
В халупке жаровня, горшок да нож.
Листьев на подстилку в лесу наберешь.
нищий
нерешительно держит в руке топор
Руби, знай, деревья, теши кровать,
Чтобы на ней другим почивать, —
Но в лесной раине уединиться —
Все лучше, чем здесь стоять да браниться.
Большой Зальцбургский театр жизни 315
Слышь, хозяин: коли я соглашусь
И на долгие годы подряжусь
С лесом возиться, не разгибая спину, —
Дашь ты мне хоть на мою домовину
Немного тесу?
хозяин
Ладно.
нищий
Иду.
Забыться в глуши — вот моя воля.
хозяин
Ступай себе в лес, там твоя доля.
Обожди. Не забудь блюсти порядок
В моем лесу, как в сытом дому.
Ерник-кривульник мне ни к чему.
Только недогляди — он разрастется,
Из моей земли соков напьется.
Э, нет! Как веселая свора,
Что на дворе разрывает вора,
Рви и корчуй! Пусть задаст тягу.
Ты — как стражник, что травит бродягу,
Вот ты кто!
нищий
собирается уйти
хозяин
Ещё обожди. Какой торопыга!
Нынче всяк, что без дров сидит,
В лес за валежником норовит.
За шаромыгою шаромыга —
Все, кому с голоду подвело брюхи,
Детки-ублюдки, вдовицы-старухи.
Так слушай: ты на них не смотри,
316
Гуго фон Гофмансталь
Глотку, брат, зря не дери —
Нет, на месте верши суд и расправу:
Круши, знай, кости налево и направо.
Понятно?
нищий
про себя
Чему быть, того не миновать.
хозяин
Какая у парня злобная рожа,
Прямо на черта в аду похожа.
Кто попадется — несдобровать!
Ну что ж, будь мне предан душой и телом,
Усердно своим занимайся делом,
Будь палач, только мой палач,
Коль на суд и расправу падок...
Ты что?
Вскакивает
нищий
кидается на середину сцены, угрожая всем
Я вам наведу порядок!
Смотри, никто не хнычь и не плачь!
Замахивается на всех топором
Все тут воры, проклятые воры,
Пусть мой топор покончит споры!
хозяин
подбегает к нему
Брось топор! Ишь, распускает руки!
У нас не в чести такие штуки.
нищий
Чего тебе надо? Что кричишь?
Большой Зальцбургский театр жизни 317
хозяин
Топор положи! Еще и дерзишь!
Висельник!
нищий
Что?
хозяин
Да где ты стоишь!
Моя земля! Хозяйское право.
нищий
вне себя
Право?
хозяин
Я волен чинить расправу,
нищий
с силой поднимая топор
Крадены все твои права.
Как собаки, вернутся ко мне, едва
Свистну, — и тебе их не видать.
Свистит
Эй, право порубки! Не заставило ждать.
Пойми, права — те же лакеи,
Всегда служат тому, кто сильнее.
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
Мой сын, спеши твой дух к деянью закалить,
Ведь ненависть свята, и благо — кровь пролить.
ЗЕМЛЯ
в возбуждении вскакивает
хозяин
перепуган
могит
Ко мне! Помогите же, черт побери!
318
Гуго фон Гофмансталь
нищий
Не ори, глотку не дери.
Выть перед смертью тебе не к лицу.
Старая распря идет к концу.
Хватает его
Сгинь, пропади! Подыхай в канаве!
Меня не жалели — не жалеть я вправе.
МУДРОСТЬ
в ужасе воздевает руки, вместе с Богачом, Королем и Красотой
одновременно делает шаг вперед
Назад, безумец, назад!
АНГЕЛ
В чем пьесы нашей суть, в уме держите строго!
мудрость
Ужель с невинных лет тебя вела дорога
К уделу Каина?
КРАСОТА
подступает к Нищему
Меня и всех — круши!
ВСЕ ХОРОМ
Круши, круши весь мир и разом все реши!
нищий
высоко подняв топор, уставившись перед собой невидящим взгля-
дом, грозно стоит один против всех
ЗЕМЛЯ
Гей, трубачи!
Дошло до высшей точки представленье.
Пауза
МУДРОСТЬ
Ну что ж, ударь! Когда пришло мгновенье
Большой Зальцбургский театр жизни 319
Для казни — пусть взывает в нас боязнь,
Но знаем мы, что заслужили казнь.
На коленях, обращаясь к Богу
А Ты, судеб теченье прерывая,
Так ясно видишь: всех нас оплела,
Как сеть, неправд порука круговая
И никому вины избегнуть не дала.
О, как легко Ты мог бы все исправить,
На правую стезю направить, —
Вмешаться Ты, однако, не спешишь,
Лишь неотрывно, пристально следишь
Весь ход вещей, добычу избираешь —
И во мгновенье ока похищаешь.
Как быстро Ты, когда пришла пора,
Кипящую оканчиваешь битву!
Покуда не доиграна игра,
Прими мою последнюю молитву.
Она остается еще мгновение коленопреклоненной, со сложен-
ными руками, затем встает и обращается к остальным
Вы поняли? Мы все теперь должны
Оставить эту сцену очень скоро;
Нам дан единый миг, дабы узреть без спора
Тайносплетенье собственной вины.
Мы все — и с нами он, который нас
Отсюда отзывает, исполнитель
Верховной воли и ее служитель,
И для него последний близок час.
Дальнейшие слова она произносит с напряжением духовного уси-
лия, обращаясь ввысь и не оборачиваясь на Нищего, который тем
временем надвигается на нее с занесенным топором. Чем ближе он
подходит, тем тверже, в преодолении последних глубин страха,
звучит ее голос. Нищий внезапно останавливается перед ней как
вкопанный; его лицо искажается неописуемым движением. Подня-
320
Гуго фон Гофмансталь
тая рука с топором падает. Между тем Хозяин лежит возле
дерева, закрыв лицо рукой, неподвижно, словно мертвый
МУДРОСТЬ
Ты ж, бытие превыше бытия,
Нас тайною взыскавшее любовью,
О нем молитва пред Тобой моя.
Помилуй, если он перед Тобой
Обрызгает хоть всею нашей кровью
Предвечный облик роковой,
Нести который Ты судил ему.
Так: пусть стезя его сошла во тьму,
Пусть безысходно им владеет грех, —
Помилуй, ведь ему труднее всех!
нищий
весь дрожа
Где дерево?
мудрость
Какое?
нищий
Что срубил я топором.
Ну, грохот грянул! Как небесный гром!
Ая...
МУДРОСТЬ
Что — ты?
нищий
Я сам не знаю, что со мной.
Скажи, куда девался свет?
МУДРОСТЬ
Какой?
нищий
Какой?
Из срубленного дерева он бил,
Со мною внятной речью говорил.
Большой Зальцбургский театр жизни 321
Ты, женщина, ответь: как это все случилось?
Убийцей я не стал? Скажи мне, сделай милость!
МУДРОСТЬ
Так ты увидел свет? Так, да?
АНГЕЛ
Не это ль был
Тот самый свет, что Савла просветил?
нищий
Мудрости
Так было за меня твое моленье?
МУДРОСТЬ
Да, за тебя!
нищий
Постой, а что виденье?
АНГЕЛ
Не светлой жертвы, не овна ль руно
Лучистое узреть тебе дано?
О Боже, Боже мой!
Становится на колени, закрывает лицо руками
Деяний до рожденья ты взыскал;
Греховной воле ближе злодеянье.
Но Бог свободу человеку дал —
То злодеянье претворить в деянье.
нищий
Деянье?
мудрость
Да!
нищий
Так я ударил?
МУДРОСТЬ
Нет!
322
Гуго фон Гофмансталь
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
Все псу под хвост! Вот архимерзкий бред:
Ему мерещится, извольте видеть, свет.
В бешенстве отшвыривает свои книги
Нищий встает с колен и отрешенно оглядывается по сторонам;
его взгляд встречается со взглядом Мудрости, которая снова
приблизилась к нему на два шага от своего места. Она улыбается.
Он отвечает ей улыбкой. Его лицо совершенно преобразилось
МУДРОСТЬ
Теперь, когда ты принял дивный дар
Твой дух огнем пронзившей благодати, —
Скажи, оставил ли ты жажду кар,
Которой ты пугал дрожащих братии?
Одним лишь вечным дух твой утолим,
Стяжанье духу как чадящий дым,
Безрадостное, тусклое томленье, —
Как ты простишь имущим их именье?
нищий
Именье? Что мне в нем? Моя отрада —
Открывшаяся полнота небес.
Чтоб пить ее, спешу в безмолвный лес,
И более мне ничего не надо.
МУДРОСТЬ
Ты от людей уйдешь? И чем ты будешь там?
нищий
Как знать мне, что они? Как знать мне, что я сам?
В начале чистых дней,
В невинности моей,
Без опыта дитя,
Я в лес уж знал дорогу —
На мшистом камне там
Душой тянулся к Богу!
Большой Зальцбургский театр жизни 323
МУДРОСТЬ
Как быстро ты, Душа, пришла к высокой цели!
Сойдя во мрак лесной, духовно процвети!
нищий
поворачивается, чтобы уйти
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
заходя сбоку и преграждая ему путь
Увы! Поникла длань, что суд творить дерзала!
Неправде мировой меж тем и горя мало, —
Что с нею станется? Она растет, цветет —
А сломленный борец прочь без борьбы идет!
И это — ты! Позор! Никак не постигаю:
Где сила прежняя? Где ненависть святая?
О, как ты пал!
нищий
отстраняя его жестом поднятой руки
Дано мне место между вас,
Пока игре не пробил час, —
Господня то игра,
Что мнится жизнь для нас.
ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ
Стыд — лобызать пяту, поправшую тебя!
нищий
Я к сердцу Божьему приник любя.
Лишь по игре я должен Нищим быть,
Его приметы на себе носить.
Так что, скажи, мне люди задолжали?
Неправду я исправил бы едва ли,
Когда б у этого мехй снял с плеч,
А у того сумел отнять державный меч
324
Гуго фон Гофмансталь
И сам воссел, как шут, на троне,
Красуясь в мантии, в короне,
До самого скончанья дней моих,
Да грозен был, когда находит стих, —
Э, разве ж этот подвиг нужен?
По-прежнему б остался мир недужен,
Всем надоевшая тянулась дальше повесть;
И что б тогда сказала совесть?
О нет! Иначе горю мы поможем,
Иначе зло всесильное низложим.
Делает шаг вперед
Мне с ними нечего делить.
Пришло, однако, время распроститься,
Взыскать покоя, в путь пуститься,
Чтобы себя духовно пробудить.
Совсем недавно я услышал снова
В провалах памяти утерянное слово,
Что прежде всякого начала
Для нерожденного меня звучало, —
«Свобода». Ангел мне о ней поведал,
И, в чем свободы суть, мой дух изведал.
Я несвободен был, когда, во власти
Порыва, топором грозил, отдавшись страсти.
Как ясно вижу я: что явью мнилось мне,
Лишь намалевано на полотне.
Свобода — тайна. Как она близка,
Когда о ней дух мирный вопрошает!
Когда ж ее насильник искушает,
Она недостижимо далека.
Ты не найдешь ей имени земного.
За гранью слов ее познать хочу я снова.
Но где ж искать ее? Единственно у Бога!
Так если Богу я предам воленье строго,
Ее я встречу на любом пути.
Большой Зальцбургский театр жизни 325
Оставь меня теперь и дай навек уйти!
Неторопливо проходит мимо Противоречащего
МУДРОСТЬ
Ступай в лесную глушь, и праведным пребудь,
И Бога восхвали, что указует путь!
Склоняюсь пред тобой!
нищий
поворачивается направо, чтобы уйти
МУДРОСТЬ
Постой, возьми топор!
нищий
Ведь он не мой.
МУДРОСТЬ
Тебе служить он будет с этих пор.
Нам праздности Господь не дозволяет.
Когда тебя в покой свой принимает
Тот лес, что обступил мою обитель,
Отныне будешь ты его хранитель.
Топор твой кроткий, очищая лес,
Пусть открывает путь лучу небес.
Своим ударом звучным, ровным он
Пусть мир святой сулит, как колокола звон.
нищий
прикрепляет топор к веревке, заменяющей ему пояс, и неторо-
пливо уходит
хозяин
наполовину схоронившись за дерево, смотрит вслед Нищему, пока
тот не исчезает
СУЕМУДРЫЙ
привстает на цыпочки, чтобы следить за уходящим до самых
кулис, потом испускает громкий вздох облегчения.
326
Гуго фон Гофмансталь
Мудрость вернулась на свое место, складывает руки в тихой
молитве. Хозяин заглядывает за кулисы, как бы в лес, в котором
исчез Нищий. Он с довольным лицом показывает пантомимой,
что слышит, как тот рубит дрова
Сигнал фанфар
ЗЕМЛЯ
хватает свою лютню, наигрывает и после короткой прелюдии
поет
Эй, Время, ко мне, ко мне поспешай,
Услужай, ублажай, украшай, утешай!
Служба твоя мне мила и люба,
Я — госпожа, ты — моя раба.
Эйа!
Берет на лютне более низкие аккорды, ее лицо омрачается
Но когда-нибудь ты так грозно войдешь,
По сердцу боль — словно острый нож,
И станут лучи тусклы, бледны,
И свет из солнца уйдет и луны,
И звезды в небе померкнут, дрожа,
И будешь ты — моя госпожа!
Увы!
Твоя раба, я буду слаба,
Какая судьба!
Аккорды снова живее и звонче
Эй, Время, ко мне! Еще время есть!
Еще время цвесть!.
Пока она поет, освещение на сцене меняется, словно с наступле-
нием пасмурного вечера
КРАСОТА
после паузы, словно пробуждаясь от сновидения
Увы мне! Что со мною сталось?
Большой Зальцбургский театр жизни 327
Какая странная усталость!
Держит перед собой зеркало, потом опускает его
Что это? На меня пришло
Мной непредвиденное зло!
О, прежде я была беспечной
И юность мне казалась вечной;
Но время — страшный, тайный враг,
Его не одолеть никак.
Увы, я больше не юна:
В висках — как будто — седина?
Снова смотрится в зеркало
Вот здесь... и там... О, что я вижу?
Как я морщины ненавижу!
Конечно, прелесть сохранилась...
Улыбается своему отражению
Но как прискорбно изменилась!
Не надо пристально глядеть,
Чтоб тлена зрак не разглядеть.
Опускает зеркало, искоса оглядывает Короля
И он! Все тот же — и не тот.
Весь в складках лоб, и скорбен рот.
Смотрит на Хозяина
А этот! До чего старообразен!
В седой щетине, сух, костляв и несуразен.
Оставляет свое место и делает несколько шагов влево, украдкой
бросив взгляд на Богача
Его самоуверенность осталась
Такою же... Ах, мне б не улыбалось
Его внимание привлечь невольно.
Я разглядела все. С меня довольно.
328
Гуго фон Гофмансталь
Перебегает к Мудрости
Но ты — ты хороша! Да это просто чудо!
Нездешний свет в чертах твоих — откуда?
Что за улыбка на уста легла,
И что за воздух веет у чела?
Подходит ближе
Стареясь, стала ты как благородный камень,
Что в самой глубине свой чистый копит пламень.
Как быть?
МУДРОСТЬ
улыбается, как будто пробуждаясь от своих дум
Что молвишь ты?
КРАСОТА
стоя посреди сцены, ломает руки
Увы, на сердце бремя!
Коварный враг, в наш кубок яд лия,
Нам отравляет радость бытия!
мудрость
Кого винишь ты?
КРАСОТА
Время! Злое время!
Оно творит разбой, оно нас в гроб манит,
Оно тебе, и мне, и всем урон чинит!
Литавры, затем порыв ветра. Действующие лица, словно выходя
из оцепенения, покидают свои места и двигаются в разные сто-
роны, но, как во сне, каждый разговаривает сам с собою, не заме-
чая других, и все заламывают руки, кроме Мудрости, которая
сложила их в молитве
КОРОЛЬ
Мощь стала немощь! Власть, прости!
Смятен мой дух, и хлад в кости.
Большой Зальцбургский театр жизни 329
БОГАЧ
Законов я отринул гнет,
Но некий гнет меня согнет!
хозяин
Так делен был, так трезв мой ум —
Откуда жуть нездешних дум?
МУДРОСТЬ
Твой вестник — вихрь, и гром — Твой глас!
Создавший нас, помилуй нас!
КРАСОТА
О дрожь, о робость, о боязнь!
Мне каждый миг готовит казнь!
ВСЕ ВМЕСТЕ
при звуке литавр
Тоски последней не избыть!
Увы, как горько перстью быть!
Порыв ветра стихает. Все останавливаются. Каждый возвра-
щается на свое место и застывает неподвижно
СУЕМУДРЫЙ
когда началось их танцеподобное блуждание, подошел, любопыт-
ствуя, поближе и оказался невольно втянут в общий танец, в
котором и участвовал до конца, в отличие от других, однако,
так и не открывши рта. Теперь он вытирает пот со лба и шмы-
гает обратно на свое место. Тем временем литавры смолкают
АНГЕЛ
словно получив какой-то знак, поворачивается в направлении
дворца Имеющего власть, благоговейно поднимает глаза к бал-
кону
Я здесь — и жду твоих велений.
330
Гуго фон Гофмансталь
Он устремляется к дворцу, прислушивается к неслышному
голосу сверху, потом тотчас же спешит назад, не покидая верх-
ней сцены, и подзывает к себе издалека господина Смерть, кото-
рый и до этого время от времени показывался на верхней сцене
Подходит представление к концу.
Пора их отзывать по одному со сцены!
СМЕРТЬ
выходит со своего места на край верхней сцены и громко выкли-
кает
Кто роль играет Короля —
Конец твоей игре! Сойди со сцены!
Снова отходит совсем в сторону, однако остается виден.
Король все понял.
Красота и Богач содрогаются в ужасе.
Хозяин делает вид, будто ничего не слышал, и продолжает рабо-
тать лопатой. Мудрость напутствует Короля сияющим взгля-
дом
КОРОЛЬ
выходит вперед, поднимает взор ввысь, снимает с головы корону
и рассматривает ее
Возможно ль? Все ушло, растаяло, уплыло, —
А так вещественно, так достоверно было!
Глаза мои! Ваш взор любовь внушал и страх;
Теперь вы только прах без жизни, жалкий прах.
О мой венец! Ведь ты с главой моей сроднился;
Легко ты от нее навеки отделился —
Довлеешь ты себе; твой блеск не разгадать:
В нем чувственно очам сияет благодать.
Ты — только знак, как все, что в мире сем, однако
Раздор осилен был живою силой знака.
Кому вручу тебя? Где руку мне сыскать,
Которая тебя достойна воспринять?
Большой Зальцбургский театр жизни 331
Подходит на шаг ближе к Мудрости
О ты, что истину постигла безупречно:
Преходит бренный знак — значенье знака вечно!
Согласна ль ты сей знак, невинная, хранить
И Судие владык в час должный возвратить?
Хочет передать Мудрости корону
ЗЕМЛЯ
вскакивает и становится между ними
Мне! Мне! Вы гости у меня в дому;
Чем каждый горд меж вас, ссудила я ему!
Отдай — и уходи! То не твоя забота!
Берет у Короля из руки корону.
Снова усаживается и кладет корону себе на колени
СМЕРТЬ
Эй, живо! Не поможет промедленье!
КОРОЛЬ
идет
О Ты, что правишь наше представленье,
Смотри! Без сил, без слов, боль заключив в мольбе,
Игравший Короля на суд грядет к Тебе!
Сходит со сцены
КРАСОТА
в страхе покидает свое место, заламывает руки
Что с ним? Ужель навек? В чем дело?
В какой он путь пошел, ступая так несмело?
Кто, дерзостный, посмел ему повелевать?
Увы, как будет мне его недоставать!
Как он меня любил! Я расцветала
В прохладах царственных его златого зала.
Куда идти покинутой?
332
Гуго фон Гофмансталь
БОГАЧ
выходит вперед
Ко мне!
КРАСОТА
невольно отшатнувшись от него, делает шаг в направлении
Мудрости
БОГАЧ
Ко мне! Приют лишь я способен дать.
Давно все это предопределилось,
И вот — теперь тобой хочу я обладать.
КРАСОТА
в страхе и тоске
Увы!
БОГАЧ
резне
Ко мне! Что, собственно, случилось?
КРАСОТА
Мой повелитель, мной боготворим,
Тот, чьей державе каждый поклонялся,
Которому и ты на верность клялся, —
Ужель не видел ты, что сталось с ним?
БОГАЧ
Иди за мной, как прежде шла за ним.
Личину — прочь! Ведь и тогда
Я был на деле то, чем он являлся мнимо.
КРАСОТА
делает движение прочь от него
БОГАЧ
следует за ней и вместе с ней выходит вперед
На колеснице он сбирал восторгов дань;
Но ею правила вот эта длань!
Большой Зальцбургский театр жизни ззз
Я был, я есмь титан сторукой власти,
Что вяжет в целое бунтующие части.
Незрим для черни, блеск пустой презрев,
По замыслам моим я сею дивный сев.
Нет ничего, что б от меня укрылось
В провалах бездн, нет цели в вышине,
Которой бы мое упорство не добилось,
Нет крепости, что не сдалась бы мне.
Сюда укрылась мощь, что царствует в мирах.
Он указывает на свою грудь
Приди и ты сюда! Все остальное — прах!
КРАСОТА
Сестра моя, спаси и приюти!
От тошного насилья защити!
МУДРОСТЬ
Ты зрел, как гибнет слава, и при этом
Ничто не тронуло твоей души?
БОГАЧ
Ты, кукла, мертвенным пронизанная светом,
Гордыню пестующая в твоей тиши,
Когда бы ты, умом убога,
В устройство мира вникла хоть немного,
Тебе открылось бы, что ты и все твои,
Бежавшие житейской толчеи,
Лишь от моей терпимости приемлют
Дары, что даже вас над дикостью подъемлют.
Со мной не спорь! Моих деяний цвет —
Вот что такое дух. Другого корня нет!
СМЕРТЬ
становится в середине и говорит со своей высоты
Красавица, сойдешь со сцены вскоре,
Игра доиграна.
Остается на том же месте
334
Гуго фон Гофмансталь
КРАСОТА
в страхе прижимаясь к Мудрости
Доиграна? О горе!
Не покидай! Спаси! Ужель навеки сгинуть?
БОГАЧ
отходит на шаг, застывает в оторопи
МУДРОСТЬ
обнимая и поддерживая Красоту, почти лишившуюся чувств
Душа, бессмертна ты! Тебе ль навеки сгинуть?
КРАСОТА
Мне — страшно!
МУДРОСТЬ
Твердой будь! Припомни слово,
Что немощного укрепить готово.
КРАСОТА
Скажи его! Скажи!
МУДРОСТЬ
«Аз с вами».
КРАСОТА
Кто — со мной?
Ты! Ты! И я — с тобой! В тебе одной — покой!
МУДРОСТЬ
силится высвободиться из ее объятий
СМЕРТЬ
Мудрости
Ты с ней пойдешь: и твой подходит час.
* МУДРОСТЬ
готовится идти, давая Красоте опираться о свою руку
Иду с тобой!
Большой Зальцбургский театр жизни 335
КРАСОТА
Со мной! Со мной! Веди!
То слово дивное — тверди его, тверди!
Со мной, о, будь со мной!
ЗЕМЛЯ
встает и преграждает им путь
Красоте
Ты — зеркальце верни;
Тебе в нем нужды нет: прошли роскошеств дни.
Мудрости
А ты — отдай твой крест!
КРАСОТА
почти в беспамятстве, отдает зеркало; они идут
МУДРОСТЬ
останавливается, поднимает взор к Богу
Крест был со мною дружен,
Но там, где зрима суть, — там знак уже не нужен.
КРАСОТА
Ты... говори... за нас!
МУДРОСТЬ
Кого назвать не смею, не сумею,
Не погнушайся немощью моею,
Позволь лицом к лицу узреть Тебя.
Я — лишь ничто, но полноту Твою
Всей пустотой моей приму, любя,
И жизнь Твоя мою наполнит смерть,
С какою щедростью Твои лучи
Ты кинул в хаос, осиявши твердь, —
И в бездне звездные явились круги.
Меня Ты также вызвал из ночи;
Излей Твой свет — не по моей заслуге.
336
Гуго фон Гофмансталь
КРАСОТА
Аминь.
Они уходят
СМЕРТЬ
спускается с верхней сцены на нижнюю и, по всей видимости,
ищет глазами Хозяина, который притаился за своим деревом;
однако бросает долгий взгляд и на Богача. Под конец поднимает
руку в направлении Хозяина и кричит ему
Слезай со сцены! Все! Игре конец!
хозяин
делает вид, что не слышит
СМЕРТЬ
громче
Эй, ты! Слезай!
хозяин
делает вид, что зовут не его, показывает в сторону кулис
Ага, ты небось желаешь позвать
Того, что в лесу? Да его не сыскать!
Вишь, забился туда, на беду.
То слышно оттуда топор, то пенье.
Где ему быть? Беспременно там.
Хочешь, пойду и его приведу?
Хочешь, передам уведомленье?
СМЕРТЬ
качает головой, подходит к нему поближе
Я каждого уведомляю сам.
хозяин
боязливо, подобострастно
Вишь, сам!
А тот, никак, спит — совсем стал плох.
Большой Зальцбургский театр жизни 337
Дружбу ведет с лесными зверями,
Все досаждает им речами.
Кричит
Эй, ты! Неужто оглох?
СМЕРТЬ
Ты нужен мне, пойми. К концу пришла работа.
хозяин
Да ты что? К концу? Мне неохота!
Мне недосуг!
СМЕРТЬ
громко
Досуга будет много.
От дел отозван ты по воле Бога.
хозяин
Ты не спеши, а меня послушай:
Есть же такие, что бьют баклуши,
Без дела стоят да глядят вокруг...
СМЕРТЬ
снова оглядывается на Богача
Мне недосуг.
БОГАЧ
стонет
Боюсь, что рухну. Душно! Этот взгляд!
Одно усилье!.. Вот, уже прошло.
О «я» мое злосчастное! Куда?..
Опять! Какое бремя мне на грудь легло!
О, что с тобою, я мое? То в полный рост
Ты в мертвой пустоте встаешь до самых звезд,
То, съежившись, летишь, как камень, в ночь,
И все летишь, куда? Ужели прочь
Из мира?
338
Гуго фон Гофмансталь
Шатается, падает
Ах, круженье без пощады.
Не надо! Помогите! Ох, не надо!
Отирает себе лоб
СМЕРТЬ
наступает на Хозяина
Мужик, живее!
хозяин
Страсть много дела.
Пока пороша, слышь, не приспела,
Листа бы набрать.
СМЕРТЬ
Нет, нужно идти!
хозяин
Твоя правда, надо спешить,
Чтобы навоз поспеть разложить.
СМЕРТЬ
Да нет, в могилу!
хозяин
Чуть не забыл,
Я сока из яблок не надавил,
И бабы льна еще не трепали...
СМЕРТЬ
берет его за плечо
Пора. Конец крестьянской печали.
хозяин
присмирев, почти не держась на ногах
А я, слышь, думал, что можно в конце
Чуток отдохнуть — так, присесть на крыльце,
Большой Зальцбургский театр жизни 339
О грехах поскорбеть, подумать о Боге,
Не спеша готовиться к дальней дороге.
Какое там! Все так быстро случилось,
В суете житие мое изжилось.
Одни дела, ничего для души,
А конец, слышь, один, греши не греши.
Господи, видишь, отходит с мольбою,
Кто мужика играл пред Тобою!
Уходит
СУЕМУДРЫЙ
забирает у него лопату
Отлично он удалился со сцены, этот Хозяин.
СМЕРТЬ
Богачу
Теперь тебе черед!
В направлении кулисы громким голосом, но мягко
Из леса выходи,
Со всеми вместе в мир иной гряди!
Богачу
Как, ты все тут? Ступай!
БОГАЧ
лежит на земле, глухо стонет
нищий
Выходит из-за кулисы; у него выросла густая белая борода.
Он старается отогнать щебечущую птичку
Домой, домой! Лети себе, лети!
Здесь нет для птицы мирного пути.
Здесь люди!
340 Гуго фон Гофмансталь
СМЕРТЬ
Нет, здесь — я!
нищий
Кто это — ты?
Всматривается и узнает Смерть, лицо его светлеет
Ах, ты!
Простирает объятия
Возьмешь меня? Сейчас?
СМЕРТЬ
кивает
нищий
преклоняет колени, целует землю
СМЕРТЬ
Ты что?
нищий
Целую землю, что покоит нас,
От нас отъемля тяготу и бремя.
Сойду в нее, как сеемое семя, —
Встает
И снова в малое восстану время.
Поворачивается к Смерти
Мне нетерпение мое прости,
Скорей меня из жизни отпусти.
СМЕРТЬ
Богачу
Сначала ты! Что велено тебе?
Большой Зальцбургский театр жизни 341
БОГАЧ
лежит на земле
О бездна безысходного терзанья,
О дух, волнуемый в борьбе!
нищий
подходит к Богачу
Ты!
Наклоняется над ним
Брат, вставай! Пора для расставанья!
БОГАЧ
Страх!
Отшатывается
нищий
ласково
Что ты?
БОГАЧ
Мне твой вид приносит муку,
нищий
На эту обопрись покрепче руку.
БОГАЧ
с трудом
Ты — кто?
нищий
Да брат твой!
БОГАЧ
Как? Откуда
Приходишь ты ко мне?
нищий
От Бога.
БОГАЧ
испуганно
Откуда?
342
Гуго фон Гофмансталь
нищий
Тут недалека дорога.
Из леса. Там на листьях я дремал,
Но некий властный глас ко мне воззвал,
И я мою оставил благостыню,
Чтоб вашу посетить унылую пустыню.
И ты, как я, послушен зову будь.
Что так страшит тебя? Зачем стеснилась грудь?
Мой брат, мой брат, идем со мной!
Конец всех бед, конец благой!
БОГАЧ
стуча зубами
Величье — прах! Ничто есть мощь, а мощь — ничто!
Есть сила у тебя! Вот я чего искал!
За эту ль я вину блаженство потерял?
нищий
с силой
Да, сила! Тот блажен, кто явит силу
В последний час земной, сходя в могилу.
Она тебе нужна, чтобы в конце пути
Жар покаянных слез Владыке принести.
В последний раз измерь твоим орлиным взором
Все то, что сделал ты, встань над твоим позором!
Хотя б сейчас — отвергни плен сует!
А нас уже зовут; на сцене гасят свет...
Дай руку мне, мой брат, со мной игравший в драме.
Все было — реквизит! Остались нам — мы сами!
Мягким движением открывает объятия
Приди ко мне! Отвергнув тлена плеснь,
В пути мы воспоем святую песнь
И место обретем, от вечности таимо,
Где пред Владыкою предстанем мы без грима!
Большой Зальцбургский театр жизни 343
Берет Богача под руку, они уходят. Нищий запевает набожную
песню
СМЕРТЬ
спускается вниз и становится позади Земли, которая еще до
этого встала
СУЕМУДРЫЙ
сложил и взял в руку складной стульчик, подвесил лютню к поясу
АНГЕЛ
как только Нищий с Богачом направились в путь, незамедли-
тельно поспешает во дворец Имеющего власть
Сцена темнеет
ЗЕМЛЯ
Не мешкать! Сейчас же отберите у них все, что было им дано на
время! У крестьянина — его деревянные башмаки, даже у монашки
— ее власяницу; разденьте их поживее — одежка на них не своя!
Может быть, игра сейчас же начнется сызнова, тогда наряды при-
годятся другим, откуда я знаю? Не мешкать!
служители
кидаются вперед, завешивают занавесом нижнюю сцену. На
авансцене остаются: по одну сторону — Земля со своей свитой,
по другую — Противоречащий, который тем временем собрал
свои книги в стопочку и надел на голову берет.
Музыка. По прошествии небольшого времени служители уби-
рают занавес и быстро удаляются.
Нижняя сцена совершенно пуста и освещена бледным зеленова-
тым светом. Дерево и скала исчезли.
Издали доносится пение заупокойного гимна.
Души — ранее Король, Богач, Хозяин, Нищий, Мудрость и Кра-
сота, все в одинаковых белых саванах, — двумя группами, по трое
вступают с одной и той же стороны на нижнюю сцену. Их можно
отличить друг от друга только по их лицам.
344
Гуго фон Гофмансталь
Они медленно сходятся и затем остаются стоять примерно на
расстоянии шести шагов друг от друга.
Верхняя сцена остается пустой
ДУША
ранее Король
О робость!
ДРУГАЯ ДУША
ранее Мудрость
О радость!
ТРЕТЬЯ ДУША
ранее Богач
О скрежет зубовный, о близость конца!
ЧЕТВЕРТАЯ ДУША
ранее Нищий
О трепет любовный, о милость Отца!
ДВОЕ
ранее Хозяин и Красота, хором
О сердца смятенье!
ДВОЕ ДРУГИХ
ранее Мудрость и Нищий, хором
О света явленье!
АНГЕЛ
выходит из дворца,
шествует через верхнюю сцену к ее переднему краю
ЗЕМЛЯ
созывает своих слуг, указывая на шестерых Мертвых
Если Вы, Мертвые, никак не перестаете красоваться вашими пре-
словутыми «я», пусть обрушится на вас зеленая буря моего нетле-
ния и закружит бедные ваши тени, пока вы не распадетесь в пыль
тысячекратного Ничто! Живо!
Шум бури
Большой Зальцбургский театр жизни 345
АНГЕЛ
повелевает буре утихнуть,
тотчас наступает тишина
Отойди, о Земля, ибо твое дело исполнено и твой Владыка доволен
тобою. А эти вышли из-под твоей власти: они суть Души и потому
неразрушимы. То, что глаза твои принимают за гримасу своенра-
вия, есть печать духовной их сущности, воспринятая ими от Него
Самого. Здесь все твои бури бессильны. Можешь идти.
ЗЕМЛЯ
кланяется и удаляется
АНГЕЛ
О ты, кто должен был нам Нищего представить,
Твоя игра отменна, и она
Усильям всех других предпочтена.
Тебя Владыка сам зовет в свои покои,
Где хлеб таинственный преломит Он с тобою.
нищий
оставляет других и подходит
АНГЕЛ
Ты, Мудрость, хорошо играла,
Но роль твоя не так была трудна;
За ним тебе хвалу она стяжала.
МУДРОСТЬ
подходит
А эти, что поникли, цепенея,
Надеясь, но надеяться не смея?
АНГЕЛ
Тебя молитва дивно укрепила,
Пусть из твоей руки войдет в них Духа сила.
Так, скованные милосердья цепью,
Предстаньте вышнему великолепью.
346
Гуго фон Гофмансталь
Все берутся за руки. Красота, замыкающая цепь, хочет протя-
нуть свободную руку стоящему позади Богачу
АНГЕЛ
Нет, он отвергнут!
МУДРОСТЬ
Отвергнут! Как немилостиво слово;
Коль должно, испытуй его сурово,
Но дай надежду.
АНГЕЛ
указывает на место глубоко внизу, где преклоняет колени Богач;
затем обращается к другим
Ввысь! Любви предела нет!
Узреть готовьтесь несказанный свет.
Идет впереди, все следуют за ним. Из дворца выходят ангелы,
размахивающие знаменами. Ангел входит первым, Нищий и
Мудрость входят за ним, Красота, Король и Хозяин прекло-
няют колени сбоку от входа, Богач — внизу, во мраке.
Музыка и пение
1922
Башня
Трагедия в пяти актах
Перевод
Ю. Лрхипова
Действующие лица
КОРОЛЬ БАЗИЛИЙ
СИГИЗМУНД,
его сын
ЮЛИАН,
комендант крепости
АНТОН,
его слуга
БРАТ ИГНАТИЙ,
монах, Великий монсеньор
ОЛИВЬЕ,
сержант
ДЕТСКИЙ КОРОЛЬ
ВРАЧ
ПОМОЩНИК ВРАЧА
МОЛОДОЙ МОНАХ
ГРАФ АДАМ,
мажордом Короля
ИСПОВЕДНИК КОРОЛЯ
СИМОН,
крещеный еврей
ТАТАРИН АРОН \
ПИСАРЬ ИЕРОНИМ [ СМУТЬЯНЫ
КУЗНЕЦ ИНДРИК '
ВОЕВОДА
ВСАДНИК
МОЛОДОЙ КАМЕРДИНЕР
Башня
351
МАЛЬЧИК-СТРЕМЕННОЙ
ПАНКРАЦ
АНДРЕАС
КРЕСТЬЯНКА
КАСТЕЛЯН
МОЛОДАЯ ЦЫГАНКА
Вельможи, придворные, пажи,
Священник, Шталмейстер, Рекрут,
Инвалид, Старик с костяной ногой,
Старуха, Привратник, Нищий, монахи,
крестьяне, офицеры, солдаты, дети
Место действия —
Польское королевство,
но скорее из легенды,
чем истории.
Время —
одно из прошлых столетий,
по атмосфере своей напоминающее
XVII век
*
Акт первый
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Перед башней. Крепостной вал, вырубленный из скалы и
достроенный сверху камнями. От него падает глубокая
тень, хотя небо еще светлое. У стены расположились сер-
жант Оливье и несколько старых солдат-инвалидов, среди
них — Панкрац и Лндреас.
ОЛИВЬЕ (кричит в глубину двора). Рекрут, сюда!
Подбегает Рекрут, крестьянский парень с льняными воло-
сами.
Ну-ка, рекрут, сбегай мне за огоньком для трубки! Покурить
охота.
рекрут. Да, хозяин! (Порывается бежать.)
оливье. «Слушаюсь, господин сержант!» — вот как ты должен
отвечать. Понял?
рекрут. Да, хозяин!
оливье. Осел! Чурбан! Bougre! Larron! Maledetta bestia!1 — Как ты
должен говорить?
Рекрут, выпучив глаза, испуганно молчит.
Дуй за спичками! Живо!
1 Негодяй! Мошенник! Скотина проклятая! (франц., шпал.).
Башня
353
рекрут. Да, хозяин! (Убегает.)
оливье. Я из тебя дурь-то выбью.
андреас (после недолгого молчания). Правду говорят, сержант,
что ты был студентом?
Оливье не отвечает ему. Пауза.
панкрац. Ты теперь, стало быть, наш новый начальник стражи?
оливье. А ты кто такой, чтоб задавать мне вопросы? Ишь наб-
рался наглости пасть разевать!
андреас. Ого, глотка у тебя луженая! С такой далеко пойдешь в
наше время.
Из глубины двора доносится тем временем какое-то посту-
кивание. Возвращается рекрут с огнивом.
оливье (пытаясь прикурить трубку). Откуда ветер дует?
рекрут. Не знаю, хозяин.
оливье. Вот я съезжу тебе по ноздрям, скотина! Встань так, чтобы
заслонить огонь от ветра!
рекрут. Да, хозяин.
оливье (раскуривая трубку). Чертов стук! Пусть перестанут. Сту-
пай, скажи им, рекрут. Пусть прекратят колоть дрова. Меня
это раздражает.
панкрац. Да никто и не колет дров, это узник стучит.
оливье. Тот самый голый принц, что ходит в старой волчьей шкуре?
панкрац (озираясь). Не называй его так. Говори лучше — узник.
А не то накличешь хлопот — упекут.
оливье. Ну, это еще бабка надвое сказала. Не то сейчас время, что-
бы за здорово живешь упечь такого человека, как я. Что ж
он там делает, скотина? Чего он там шумит в своей клетке?
андреас. Раздобыл где-то конскую кость и лупит ею, как осатане-
лый, когда его допекают кроты и крысы.
панкрац. Они всю жизнь терзают его, а он терзает тех, кто
подвернется ему под руку.
оливье. Слышите? Волынка! Вот, оборвали игру посреди такта!
Заметили?
354
Гуго фон Гофмансталь
панкрац. Ну и что такого?
оливье. Опять заиграли. И снова тишина. Это сигналы, вот что!
Евреи, контрабандисты!
панкрац. Почем ты знаешь?
андреас. Надо бы проверить, раз уж мы охраняем границу.
оливье. Пусть их. Мне их товары по сердцу.
панкрац. Это какие же?
оливье. Оружие. Порох и олово. Алебарды, пики, бердыши, топо-
ры. Из Венгрии, из Богемии, из Литвы.
панкрац. Проклятые евреи, откуда они только все это берут?
оливье. У них нюх на такие дела. Чуют кровь. Чуют красных пету-
хов на крышах.
рекрут (тихо, испуганно). Трехногий заяц объявился, тощая
свинья пробежала, бык с горящими глазами мечется по ули-
цам.
оливье. Все против всех. Ни один дом не устоит. Церкви сметут с
лица земли.
инвалид с деревянной ногой (молчавший до сих пор). Они вызво-
лят его, и последние станут первыми, а он будет королем
бедняков и будет скакать на белом коне, а перед ним понесут
меч и весы.
оливье. Заткни свою богемскую пасть, братец. Швырни-ка лучше
в него камнем сквозь прутья, не выношу шума!
инвалид. Перед ним понесут меч и весы!
оливье. Брось камень, рекрут, а не то велю палачу побрить тебя
своей бритвой!
рекрут (дрожа). На волчьем теле выросла человечья голова! На
лапах у него пять пальцев, а он складывает их, как человек!
оливье. Эта тварь в самом деле так забавна? Поднимусь-ка к нему
да пощекочу его пикой! Как на охоте. Дай-ка мне пику! Раз
уж мне что втемяшилось, то будь по-моему! Что выпучил
зенки? Вздумал со мной в гляделки играть? (Вырывает пику
из рук Панкраца.)
рекрут (вскрикивает). Вон, вон оно летит — змеиное яйцо! Прямо
в лицо тебе! И- ты ослепнешь навечно! Вот оно! (Тычет
Башня
355
рукой в воздух.) Когда бедняга человек умывается кровью,
змеи сжаливаются над ним и, свившись на небе в клубок,
порождают яйцо, от него прозревают слепые и слепнут зря-
чие!
Оливье протирает глаза. Рекрут мягко отводит его в сто-
рону, берет из его рук пику и кладет ее в сторону; потом
становится на колени, обратившись лицом к башенной
стене на заднем плане.
андреас (подходит вплотную к Оливье). Предупреждаю тебя,
сержант. Не забывай про инструкцию. Нам велено строго ее
соблюдать!
оливье. Знать не знаю никаких инструкций.
андреас. В ней десять запретов.
оливье. Откуда они взялись? Плевать я на них хотел!
андреас. Каждый здесь дает присягу их соблюдать. Не прибли-
жаться к узнику ближе, чем на десять шагов. Ни слова с ним,
ни слова о нем — под страхом смерти.
оливье. Хотел бы я посмотреть на того, кто придет принимать у
меня эту присягу. Мигом выпущу из него кровь.
панкрац (подходит к ним). Присягу составил сам комендант,
которому мы все подчиняемся.
оливье. Этого типа я еще не видел. Но со мной это не пройдет, у
меня где сядешь, там и слезешь. Придворный хлыщ. Напома-
женная вошь. От него разит мускусом и помадой, я слышал,
он и руки моет в серебряном тазу.
панкрац. У него права особые. Власть распоряжаться нашими
жизнями, как у капитана на каком-нибудь корабле.
оливье. Власть! Над инвалидной командой — может быть! Над
никудышной трухой, что поменяла свои мушкеты на косты-
ли, — да! Но не надо мной! Не надо мной! Где этот тип?
Желаю его видеть!
андреас. Ты его не увидишь. Собираясь отдать нам приказ, он
велит трижды протрубить «внимание» и высылает к нам
своего слугу...
356
Гуго фон Гофмансталь
оливье. Слугу? К такому воину, как я? Сопляка слугу? Да не прой-
дет и месяца, как я отхлопаю этого придворного хлыща сере-
бряным умывальным тазом по одному месту! Вздерну его на
веревке — и баста. А салом из его брюха сапоги намажу.
панкрац. Ну вот, он как раз трубит «внимание»...
Трижды звучит рожок. На деревянном мосту, перекинутом
через вал, появляется Антон. Он спускается вниз. Солда-
ты, кроме Оливье, вытягиваются. Оливье не меняет позы,
словно не замечая Антона.
Антон (приблизившись к нему сзади). Ты — новый начальник стра-
жи?
Оливье не отвечает.
По высочайшему повелению!
Оливье не отвечает.
(Подойдя еще ближе, салютует). По высочайшему повеле-
нию его сиятельства! (Снова салютует.)
Оливье, полуобернувшись, меряет его презрительным
взглядом.
(Снова отдав приветствие, чрезвычайно любезным то-
ном.) Доброго здоровья господину начальнику стражи!
Оливье выбивает свою трубку, не обращая на него ни
малейшего внимания.
(Снова салютует.) По высочайшему повелению: надлежит
снять здесь посты и занять проходы. Твои солдаты должны
повернуться спиной к стене, ничего не слушать и следить за
порядком. Хоть это не твое дело, но тебе я открою: узника
поведут на врачебный осмотр.
Оливье что-то насвистывает.
Все понятно? Настоятельно прошу выполнить приказ в точ-
ности!
Башня
357
Оливье сплевывает и уходит.
(Глядя ему вслед, салютует.) Достойный человек! Какой
достойный молодой человек! Хочет поблагодарить меня, но
так, чтобы не приводить в смущение. Какой независимый
солдатский нрав! С таким постоять минутку — все равно что
с иным толковать битый час.
Голос Оливье за сценой: «Стража, стройся! Напра-во!»
Короткий барабанный бой.
врач (появляясь на сцене тем же путем, что и Антон). Где боль-
ной?
Антон. Вы хотите сказать — узник. Наберитесь терпения, я при-
веду к вам это создание.
врач. А где комната?
Антон. Какая комната?
врач. Ну, темница, тюрьма.
Антон (показывая рукой назад). Там!
врач. Где — там? (Поворачивается.)
Антон. Под носом у господина, с позволения сказать.
врач. Ничего не вижу, кроме голой маленькой клетки, которая и
для собак-то не годится. Не хочешь ли ты сказать, что в
ней... Нет, это было бы чудовищное, неслыханное престу-
пление!
Антон пожимает плечами.
В ней? Круглые сутки?
Антон. Зимой и летом. Зимой ему подбрасывают полтелеги сена.
врач. И давно уже?
Антон. Четыре года.
Врач поражен.
Четыре года, как ввели эти строгости. С тех пор он и спит в
клетке, не выходит наружу, его ноги прикованы к тяжелому
ядру, зимой и летом на нем одна и та же вонючая шкура, а
358
Гуго фон Гофмансталь
солнце он видит не более двух часов в день, да и то только в
разгар лета.
Снова, как вначале, слышны глухие удары.
врач (потирает себе лоб). Что же он там делает?
Антон. Ничего. Как вельможа или собака. Когда я просовываю
ему еду, он радуется. Я всегда разговариваю с ним. (Спохва-
тывается). Когда это необходимо, разумеется!
врач (подходит ближе). Мои глаза привыкают к темноте. Но я
вижу только животное, распростертое на земле. (Отсту-
пает.)
Антон (озираясь). Это он и есть.
врач. Он! Позови его. Приведи ко мне.
Антон. Я не имею права разговаривать с ним в присутствии другого
лица.
врач. В присутствии врача это можно. Беру ответственность на
себя.
Антон. Сигизмунд!.. Не отвечает... Осторожно! Он не терпит,
когда к нему подходят. Однажды он загрыз лису, которую
стража бросила ему для потехи.
врач. Но ты можешь его подозвать? Привлечь? Понимает он что-
нибудь?
Антон. Он? Знает латынь, толстые книги щелкает как орехи. Но
бывает, что слова застревают у него в горле и он не может их
выдавить. В другое время он такой же, как вы и я. (Прибли-
жается к клетке, мягко.) Ну, Сигизмунд! Кто это пришел,
а? Твой добрый Антон. Сейчас Антон откроет дверь. (Отк-
рывает дверь пикой, стоявшей у стены.) Ну вот, палку мы
теперь уберем. (Кладет пику на землю.) Посидим тут на зем-
ле. Поспим. (Тихо, Врану.) Будьте осторожны, сударь.
Пугать его нельзя, а то разозлится.
врач. Разве у него есть оружие?
Антон. У него всегда конская кость наготове. Должно быть, когда-
то на этом месте была конюшня. Вообще-то, он добрая
душа. Дайте ему что-нибудь, и он сразу угомонится.
Башня
359
врач. Хотя весь свет ополчился на него. Чудны дела твои, Господи.
АНТОН. Тсс! Шевелится. Смотрит на открытую дверь. Что-то
необычное. (Обращаясь к клетке.) Может, я лягу? И тогда
ты ляжешь ко мне? Мирно так полежим, уютно.
Сигизмунд выходит из клетки с большим камнем в руке.
(Подзывает его.) Но иди же, садись ко мне.
сигизмунд (повторяет за ним). Садись ко мне!
Антон (сидя на земле). Вот тут господин пришел.
Сигизмунд замечает Врача, вздрагивает.
Не бойся. Он хороший. Добрый. Но что он о тебе подумает?
Положи камень. А то он подумает, что ты ребенок. А ведь
тебе уже двадцать. (Встает, медленно подходит к нему,
мягко отбирает у него камень.)
врач. Сигизмунд, подойди ко мне!
Сигизмунд смотрит на него.
Антон. Вот видишь? Он хороший! (Тихо.) Смотрите ему в глаза.
(Громко.) Он поможет тебе. Накормит! Даст одеяло! Но и
ты постарайся, не ударь в грязь лицом. Слушайся его. Дети
слушаются, и собаки тоже слушаются. Помнишь Тира,
своего пса? (Врачу, но так, чтобы Сигизмунд слышал.)
Ребенком, лет до четырнадцати, он рос у крестьян в деревне,
очень добрых. Бегал, прыгал, стрелял из арбалета. Славная
была жизнь! (Тихо.) Однако не смотрите слишком долго, он
не выдерживает пристального взгляда — каменеет. (Громче,
не глядя на Сигизмунда.) А теперь Сигизмунд поговорит с
нами. И мы побеседуем. Ведь, разговаривая, люди понимают
друг друга. Собаки ведь тоже разговаривают. И овцы: бе-е-е!
сигизмунд. Тоже разговаривают!
Антон. А Сигизмунд поговорит с Тони. Сегодня ему это можно.
сигизмунд. Можно говорить?
Антон. И еще как можно! Просто велено! Так что валяй смелее,
360
Гуго фон Гофмансталь
что на ум взбредет, если есть охота! (Бьет себя по колену.)
Фокус, мокус, покус — вот три священных слова! Фокус,
мокус, и апчхи, покус — будьте здоровы. Семь святых пла-
нет, нам с ними горя нет! И тебе с ними станет лучше.
врач (не в силах оторвать взгляда от Сигизмунда). Ужасное зло-
деяние! Немыслимое!
Антон. Отвечай же! А то что о тебе подумают? Ведь этот господин
приехал издалека.
врач (подходит ближе). Ты бы хотел жить в другом месте, Сигиз-
мунд?
сигизмунд (взглядывает на него, потом смотрит в сторону;
тараторит, как ребенок). Их полно там, тварей, и все лезут
на меня. Я кричу: не трогайте меня! Мокрицы, черви, кроты,
полевки, гадюки! Все лезут и лезут. Забиваю их до смерти, и
тут приползают твердые черные жуки, хоронят их.
врач. Голос трогательный, почти детский. Принеси огня, я должен
увидеть его глаза.
Антон. Я не могу оставить вас наедине с ним, не имею права! (Кри-
чит за сцену.) Эй, принесите лучину!
Врач подходит к Сигизмунду, кладет ему руку на лоб. В
это время раздается звук сигнального рожка.
врач. Что это?
Антон. Знак, чтобы никто не приближался, а не то будут стрелять.
сигизмунд (очень быстро). Рука у тебя добрая, помоги же мне!
Куда они засунули меня? Это — белый свет? Где он, белый
свет?
врач. Граница между внешним и внутренним стерта.
сигизмунд (смотрит на него понимающим взглядом). Все пере-
мешалось, но протрубит ангел — и порядок восстановится.
Красивая рука, ловкая! Пусть влезет в ловушку, найдет рака
под камнем, вытащит его, бросит в горшок, зажжет огонь —
ах как покраснеет рак и посинеют рыбы!
Антон. Что ни услышит — усваивает навсегда. Ничего не забы-
вает.
Башня
361
врач. Весь белый свет не больше нас самих, если глядеть на него из
окошка в крепком доме! Но не дай Бог, коли рухнут стены!
Входит Солдат с горящей лучиной.
Антон. А вот и факел! (Протягивает лучину Врачу.)
врач. Надо осмотреть его глаза. (Мягко привлекает к себе Сигиз-
мунда, который принимается к его коленям, и светит ему
сверху в лицо.) Неподвижности, как у безумца, нет. Видит
Бог, это не глаза убийцы. Только бездонная бездна — души
и муки. (Возвращает лучину, Антон затаптывает ее.)
сигизмунд. Свет — это хорошо. Где свет, там нет бед. Так светят
звезды. В душе моей горит звезда. Душа моя свята.
врач. Луч истины когда-то запал ему в душу и пробудил ее. Значит,
над ним надругались вдвойне.
На деревянном мосту появляется комендант крепости
Юлиан в сопровождении Солдата, несущего фонарь. Он
смотрит вниз.
Антон. Их сиятельство прибыли самолично. Подают знак сверху.
Обследование пора заканчивать.
врач. Это определяю я. Чем его кормят?
Антон (тихо). Вы бы остались недовольны. Замолвите за него
слово. Так не кормят и последнюю собаку.
врач. Я кончил.
Антон. Ну вот, а теперь Сигизмунд пойдет к себе.
Сигизмунд вздрагивает, падает на колени. Антон берет
пику, распахивает ею дверь в клетку. Сигизмунд продол-
жает стоять на коленях, простирая руки.
врач (закрывая глаза руками). О люди! Люди!
Сигизмунд жалобно стонет.
Антон. Ну что ж, загонять тебя пикой?
врач. Прошу тебя, вернись на свое место. Обещаю тебе, я сделаю
все, что смогу.
362
Гуго фон Гофмансталь
Сигизмунд встает, кланяется Врачу.
(Про себя.) Сколько достоинства в таком унижении! Вот
истинный князь — если на свете вообще есть истинные
князья.
Сигизмунд возвращается в клетку.
Антон (заперев ее снаружи). Позвольте, я пойду впереди. Вас ждут
наверху в башне. (Уходит.)
СЦЕНА ВТОРАЯ
Покои в башне, в них две двери — большая и поменьше.
Юлиан и Антон.
юлиан. Симон пришел? Говорят, его видели. Как только явится,
пусть мне доложат.
Антон (указывая на дверь позади себя).
Господин доктор.
юлиан. Пусть войдет.
Антон открывает маленькую дверь. Входит Врач, кланя-
ется. Антон уходит.
Весьма признателен вам за то, что вы согласились на эту
обременительную поездку.
врач. Ваша светлость вольны были распорядиться.
юлиан (после некоторой паузы). Итак, вы осмотрели этого чело-
века?
врач. С ужасом и содроганием.
юлиан. И что вы можете сказать?
врач. Это чудовищное преступление.
юлиан. Меня интересует медицинское заключение.
врач. Ближайшее будущее покажет, не слишком ли поздно был
вызван врач.
юлиан. Упаси Бог! Прошу вас употребить все ваше достославное
искусство. За расходами мы не постоим.
Башня
363
врач. Лечить тело, не исцеляя душу, — это шарлатанство. Речь
идет о большем. Здесь совершено чудовищное преступление
против человечества.
юлиан. Нельзя ли перейти к практическим рекомендациям?
врач. Пилюли и порошки тут не помогут. Где бессильны лекар-
ства, говорит Гиппократ, там лечит железо. Где бессильно
железо, лечит огонь.
юлиан. Помилуйте, к чему все эти разглагольствования? Мы толку-
ем всего-навсего о неком частном лице, вверенном моей опеке.
врач. Отнюдь. Здесь вершится убийство королевской особы. И оно
неминуемо случится, если попустит Господь. Но в том месте,
где будут вырваны корни этой жизни, возникнет водоворот,
в который затянет нас всех.
юлиан (смотрит на него). А вы дерзкий человек! Впрочем, вы
ведь знаменитость. Факультет настроен к вам враждебно, но
это лишь упрочило вашу славу. Вы высокого о себе мнения.
врач. Вашей светлости невозможно даже вообразить, насколько
невысокого я о себе мнения. Слава моя — плод недоразуме-
ния. Слепнущим в кромешной тьме любая головешка пока-
жется светилом.
юлиан. Скажите прямо! Кого вы подозреваете в узнике? Отвечай-
те, не робейте. Я спрашиваю как частное лицо.
врач. Можете спрашивать в каком угодно качестве. Ответ у меня
один. Здесь подвергается жесточайшему унижению отрок
благороднейшего рода.
юлиан. Сударь, вы бредите.
врач. И это говорите вы, дворянин и вельможа, ставший пастырем
и тюремщиком незнакомца...
юлиан. Не будем говорить обо мне. Я вижу, вы прибыли сюда со
страшным предубеждением.
врач. Я никогда не руководствуюсь сплетнями, только личным впе-
чатлением. Заросшее грязью существо, коему я предстоял
там, внизу, есть quinta essentia * высочайших земных сил.
Самая суть, квинтэссенция (латин.).
364
Гуго фон Гофмансталь
Ответственность за эту душу возложена на вас, а плечи ваши
не столь крепки, чтобы вынести алмазную тяжесть.
юлиан. Вы склонны к фантазиям, лишенным реальной почвы. Я
же держусь действительности, покуда государственная тайна
не сковывает мои уста. Молодой человек, о коем мы ведем
речь, стал жертвой печального стечения обстоятельств. Я
облегчил его участь, насколько это было в моих силах. Без
меня он вряд ли бы остался жив.
врач. Он остался бы жив и без вас и без меня, и, когда пробьет его
час, он явится и будет господином нашим. В этом смысл сте-
чения обстоятельств.
В дверь стучат.
юл и ан. Я бы хотел побеседовать с вами еще. Прежде всего о том,
как поступить. Узник, признаю, в тяжелом положении. Жду
от вас решающих предписаний.
Врач кланяется. Входит Антон с кубками на серебряном
подносе.
А теперь меня призывают мои обязанности. В соседней ком-
нате для вас приготовили небольшую закуску, кусок мяса
перед дорогой не повредит. Двое моих людей получили при-
каз сопровождать вас, чтобы до темноты помочь вам
выбраться из наших гор на королевскую дорогу.
Антон, по его знаку, приближается с кубками.
(Берет кубок с подноса.) Позвольте предложить вам — на
прощание. Еще раз благодарю, что не пожалели драгоцен-
ного времени. Пью за ваше здоровье.
врач (выпив). Достаточно пригубить.
юлиан. Вино похитило мой сон в последнее время. Должно быть, в
благородном напитке немало яда... (Обернувшись к Антону,
шепчется с ним.)
врач. Нет ничего благороднее алкоголя. В мгновение ока прони-
кает он в самые недра нашей плоти, туда, куда тление доби-
Башня
365
рается лишь через сутки после смерти. Из грешного — силы
спасения. Это einoheiresin naturae l.
АНТОН (шепотом). Прибыл крещеный еврей Симон с письмом для
вашей милости.
юлиан. Сюда его.
Антон. Он уже здесь. (Впускает Симона через большую дверь.)
Врач, поклонившись, уходит через маленькую дверь.
Симон передает Юлиану письмо.
юлиан. Как получено?
симон. Некоторым образом через некоторое лицо. С присовоку-
плением просьбы поторапливаться: это важно для вашей
милости.
юлиан (поспешно ломает печать, жестом велит Симону уда-
литься; читает после его ухода.) Племянник короля погиб
на охоте! Свалился вместе с лошадью в волчью яму! Ужасно!
Двадцатилетний князь, крепкий как молодой дуб. Тут виден
промысел Божий! (Прохаживается взад-вперед, потом
снова читает.) А король один, впервые один, впервые за
двадцать лет оставлен своим всемогущим советчиком. (Чи-
тает.) «Твой могучий, несгибаемый враг Великий мон-
сеньор отправился в монастырь, не простившись с королем...
Он совсем удалился от дел, навсегда...». Не грежу ли! Воз-
можно ль, чтобы столько всего уместилось на клочке бума-
ги! (Подходит к окну, поближе к свету, перечитывает.)
«Свалился... в волчью яму... Великий монсеньор... отпра-
вился в монастырь... сложив все полномочия... под именем
брата Игнатия...». (Звонит в колокольчик.)
Входит Симон.
Ошеломляющие новости! Произошли важные события. Что
слышно в мире? Что говорят в народе?
симон. Мир, ваша милость, сиятельный граф, мир — не что иное,
Добрая рука природы (древнегреч.).
366
Гуго фон Гофмансталь
как сплошная юдоль. С тех пор как на деньги ничего больше
не купить... Или нет? Да и что есть деньги? Деньги есть дове-
рие к полновесной монете. И где есть серебряный талер?
Теперь, если вы хотите увидеть талер чистого серебра, надо
очень далеко ехать.
ЮЛИ АН (Антону). Ключ!
Антон. Ваша милость держит его в руке.
юлиан. Другой!
Антон. Вот он — лежит перед вами.
Симон. Когда война только начиналась, солдату или маркитанту
платили чистым серебром. На второй год — уже сплавом, а
на третий — и вовсе посеребренной медью. Но людишки и
это брали. Тут король смекнул, что деньги можно делать из
чего хочешь, отпечатай только свою физиономию да герб —
хоть на олове, хоть на жести, хоть на дерьме. А за королем
это смекнули и господа, и горожане, и всякий, кому не лень.
Король делает деньги — и графы туда же, чего ж стесняться!
И развелось теперь этих денег — хоть пруд пруди.
Юлиан снова углубился в чтение письма.
Но только если кто, положим, отдал тяжелые деньги, возь-
мет ли он теперь легкие? Как бы не так! Оно конечно, порт-
рет короля (снимает шапку) красуется на них во всем своем
великолепии. Да только для платежей и налогов новые
деньги не годятся! А солдаты, значит, должны их брать? И
что же мы видим? Горняки не спускаются больше в шахту,
пекари не пекут, врач бежит от больного, студент — от заня-
тий, солдат — от знамени. Доверие к королю было, да сплы-
ло. А уж хуже этого ничего на свете нет. (Поймав взгляд
Юлиана.) Что говорят в народе? Говорят о большой верев-
ке — как отсюда и до Кракова, уж ее намыливают, говорят,
по ночам. Да что ж я буду вашей милости пустое молоть? Вот
как прискачет к вечеру важный-преважный вельможа, так
он и обсудит с вашей сиятельной милостью все государствен-
ные да политические дела...
Башня
367
юлиан (вздрагивает). Кто это прискачет? Откуда? С чего ты взял?
симон. Его милость воевода люблинский, а с ним — общество
человек в пятьдесят: пажи, стражники, я их обогнал часа на
два, на три. Ваша милость смотрит на меня, будто я Бог весть
что выдумываю, а ведь в руках у вашей милости письмецо,
где все должно стоять черным по белому.
юлиан. Ладно. Выпустить его.
Симон в сопровождении Антона уходит. Антон возвра-
щается.
Антон! Гордец воевода, самый неприступный при дворе!
Послан ко мне! Послан ко мне государем! Слышишь? Это
похоже на воскресение из мертвых! Ведь я... Что ты так смо-
тришь на меня?
Антон. Разве я не понимаю, что творится у вас в душе? Ведь это
значит, что вас вернут ко двору, где сулят почести, а разорят
дочиста, скажут — ковриги, а подсунут вериги, поманят
доверием, а укажут на двери. Ведь это все вам так отврати-
тельно, как ребенку горькое снадобье!
юлиан. Не может быть! О Господи, неужели это правда?
Антон. Силы небесные! Как бы не оплошать! Как бы не вляпаться!
Вот уж где дорог хороший совет. Может, вам сказаться боль-
ным, ваша милость? Я мигом постель постелю!
юлиан. О чем ты?
Антон. Разве я не знаю, что вам предстоит? И как вы к этому отно-
ситесь? Может, оседлаем лошадей — да в лес?
юлиан. Не мели вздор! Приготовить покои и накрыть ужин для его
светлости воеводы. Поставить туда мою собственную кро-
вать. Из лучшей моей шубы выдрать куниц и постлать на пол
у кровати его светлости.
Антон. Чтоб его с Божьей помощью унесло поскорей и подальше!
юлиан. Роскошные венецианские кружева моей матери, где они?
антон. В часовне, на алтаре.
юлиан. Забери оттуда. На ночной столик господину воеводе, под
кубок с питьем.
368
Гуго фон Гофмансталь
Антон. И то дело! Лишь бы поскорее выпить с ним на прощание!
Лишь бы поскорее от него отвязаться!
Юлиан пытается сохранить самообладание.
(Косится на него.) Славное это, должно быть, чувство —
уверенность в себе! Приди, сатана, раскатай ковер своего
великолепия — да закатай его поскорее, не то оплюю, ибо я
выше соблазнов.
юлиан. Придержи язык, проповедник, твоя мораль не к месту.
Трубача на фольварк!
Антон. Трубача?
юлиан. Как только завидит кавалькаду, пусть даст сигнал. Один
сигнал! Вдолби ему: один, если то будут обычные всадники.
А если княжеская кавалькада... (Вынужден ухватиться за
стол, чтобы не упасть от волнения.)
АНТОН. То?
юлиан. То пусть трубит трижды — при выходе короля! Ну, что ты
уставился на меня? Разве...
Антон. Молчу, молчу. Стучат, однако. Господин доктор закончил
трапезу и хочет засвидетельствовать почтение. Впустить?
юлиан. Впусти. И поторопись исполнить, что сказано.
Входит Вран, в руке у него — записка. Антон уходит.
врач (остановившись перед погруженным в свои мысли Юлианом).
Я нахожу на вашем лице знаки перемен, ваше превосходи-
тельство.
юлиан. Вы зоркий физиогномист. Что же вы на нем читаете?
врач. Сильное, исполненное надежд волнение. Далеко идущие пла-
ны! Великие планы! Обнимающие всю империю. Вы, ваша
милость, слеплены из героического материала.
Юлиан невольно улыбается, но тотчас же сгоняет улыбку
с лица.
Однако, должен сказать не обинуясь: источник замутнен.
Корень подточен. В сих властных складках словно змеи сви-
лись в титанической борьбе добра и зла.
Башня
369
юлиан. Лишь бы пульс бился ровно — это все, что мне нужно. Мне
еще предстоят волнения. Помогите мне помириться с Мор-
феем. (Закрывает глаза и тут же снова их открывает.)
врач (пристально глядя на него). Пульс ваш нехорош, и все же
сердце — ручаюсь — бьется мощно. Но вы попираете его.
Сердце и голова должны быть заодно. Вы же поддались их
дьявольскому разладу, подавив благие порывы души. От-
сюда эти горько поджатые губы, эти руки, не знавшие при-
косновений к женщинам и детям.
юлиан (кивает). Да, я был страшно одинок все эти годы.
врач. Но вы добровольно выбрали одиночество. Вас терзало более
острое вожделение: властвовать, беспрекословно подчинять
своей воле.
Юлиан смотрит на него.
Походка выдает титаническое честолюбие, сдерживаемое,
однако, угрызениями совести, слабостью, определяющей
положение торса. Ваши ночи сотканы из страстных желаний
я бессильных грез. Дни — из скуки, самокопания, сомнений
в высших истинах. Крылья вашей души закованы в цепи!
юлиан. А вы глубоко проникаете в человека! Слишком глубоко!
врач. В этом мое призвание — указывать на зло там, где его заме-
чаю. Отягощенная совесть, на которой камнем висит этот
юноша, соучастие в чудовищном преступлении, душевные
муки — все это написано на вашем лице.
юлиан. Довольно. Вам угодно рассуждать, не зная всех обсто-
ятельств. (Подходит к стене, открывает секретный ящик,
вынимает бумагу с печатью.) Я не раз спасал ему жизнь.
Предписана была гораздо большая, безжалостная суровость.
Он должен был сгинуть, исчезнуть с лица земли. Мне выра-
жали недоверие. Я-де поместил его к слишком сердоболь-
ным крестьянам. Меня обвиняли в том, что я связываю с
продлением жизни узника честолюбивые планы.
врач. Понимаю.
юлиан. Я перевел его в подвал, в более приличествующую чело-
370
Гуго фон Гофмансталь
веку камеру с окнами. В первую же ночь в него стреляли
через окно и задели шею, утром следующего дня стреляли
вторично, пуля прошла между рукой и грудью. Без меня его
бы задушили. Я не хочу, чтобы вы составили обо мне ложное
мнение. (Протягивает ему бумагу.) Не угодно ли взглянуть?
Высочайшая печать. Собственноручная подпись высочай-
шей особы. Я далеко зашел в откровенности с вами.
врач (читает). «Уличен в подготовке покушения на жизнь его свя-
тейшего величества...». Этот мальчик! Документу девять
лет. Он был тогда ребенком!
юлиан. Звезды заранее указывали кровавым перстом на дату его
рождения. Ужасное предсказание сбылось в точности. Он
был удален от людей. Он был уличен, прежде чем научился
говорить.
врач (воздевает руки к небу). Уличен!
юлиан. В преступлении против высочайшей особы. Что я могу!
(Кладет бумагу в ящик и запирает его.)
врач (вынимает записку из пояса). Во время изобильной трапезы я
написал то, что счел необходимым. Достойное человека
обхождение, солнце, чистая пища, беседы с духовником.
юлиан. Дайте.
врач. Нет, этого слишком мало, я порву бумагу. (Рвет.) Только
полное возрождение может спасти несчастного. Его следует
возвратить в отчий дом, и не через год, не через месяц, но
завтра же ночью!
юлиан. Вы сами не понимаете, что говорите.
врач. Внушите ему, что он может, имеет право, что он есть —
дайте ему это лекарство и можете взваливать на его плечи
целый мир: он его удержит!
юлиан. Проговорил бы с вами целый день, но уста мои запечата-
ны, а руки скованы. Я и так доверил вам больше, чем кому
бы то ни было!
врач. Ваше спасение придет через его спасение, иначе бездна вас
затянет, тут все связано одной цепью.
юлиан. Я лишь исполнитель, не больше.
Башня
371
врач. Так говорит тело, но душа-то ведает о своей вине.
Юлиан ходит взад-вперед.
Вы оскорбили Божье творение. Вы совершили тем самым
преступление против самого Господа Бога.
юлиан. А если это черт и дьявол, отступник и смутьян? Что тогда?
{Прислушивается. Вдали — звуки трубы. Побледнев,
закрывает глаза.) Вы привыкли выслушивать пациентов,
слух у вас хороший. Позвольте вас спросить, что вы сейчас
слышали?
врач. Три сигнала трубы — где-то вдали.
Юлиан снова открывает глаза, глубоко вздыхает.
Сейчас по челу вашему промчалась смелая и ужасная мысль.
Лицо ваше пылает. Не предавайте этого человека. Да не
будут эти трубы как трижды прокричавший петел. Не преда-
вайте фарисеям того, кто поручен вашим заботам.
юлиан. Мне вдруг показалось, что можно бы попытаться...
врач. Спасти несчастного?
юлиан. Вполне вероятно, что от меня будет зависеть немало. Вы
могли бы дать мне сильно действующее снотворное?..
врач, Осмелюсь спросить...
юлиан. Я бы прислал за ним верхового.
врач. Так ли я понял? Вы хотите усыпить его и перенести в другое
место? Показать ему кого-то?
юлиан. Не будем распространяться об этом. Ведь я рискую голо-
вой, игра идет по-крупному.
врач. А если он не выдержит? Если не вынесет этой встречи? Даже
страшно подумать! Что ждет его тогда?
юлиан. Тогда, может быть, удастся вернуть его к той жизни, кото-
рую он вел до сих пор.
врач. На это я не могу согласиться. (Отступает.) Ведь это зна-
чило бы обречь на безумие Божье создание.
юлиан. Другого выхода нет. Даю вам полминуты на раздумье.
Подумайте.
372 Гуго фон Гофмансталь
врач (через несколько секунд). Верховой может взять у меня сна-
добье завтра ночью. Строжайшим образом придерживаться
предписаний. Поклянитесь мне, ваше превосходительство,
что узник примет снотворное только из ваших рук...
юлиан. Только из моих рук. Если мне вообще удастся получить
соизволение на это испытание. Ведь это зависит от высоких
особ. (Вздрагивает, звонит в колокольчик.)
врач. Я свободен?
юлиан. Одна только просьба еще — принять это скромное вознаг-
раждение. (Протягивает ему кошелек.) А также это коль-
цо — на память. (Снимает с пальца кольцо, протягивает
ему, при этом заметно, как сильно дрожит его рука.)
врач. Вы награждаете по-княжески, ваша милость. (С поклоном
удаляется.)
Через другую дверь входит Антон, в руках у него — кра-
сивый камзол и туфли. Он помогает Юлиану снять домаш-
нее одеяние и надеть нарядный камзол.
юлиан. Они уже близко?
Антон. Передовой отряд сейчас на втором мосту.
юлиан. Я видел одного-единственного всадника.
АНТОН. Да-да. (Помогает ему застегнуться.)
юлиан. Посыльный, курьер? Кто это был?
АНТОН. Уж лучше мне промолчать, чтоб не сердить вас. Такой
вельможа, что куда там!
юлиан. Они ко мне? Что им от меня надо?
Антон. Раз уж они скачут с посланием от короля, то и перед коню-
хом все должны расступаться. Неужто это великое событие,
что король сам написал письмо! Небось руки не отсохли.
юлиан. Письмо — мне? Мне лично? (Вынужден сесть.)
Антон (надевает ему туфли). Знал ведь, что это так ужасно на вас
подействует. Но не настолько же...
Юлиан молчит:
Башня
373
Ну как теперь выкручиваться? Когда они уж и верховую
лошадь прихватили для вас! Ну чем тут обороняться?
юлиан. Верховую?
Антон. С чепраком из серебра и серебряной же уздечкой. Чтобы
вам завтра поутру ехать ко двору.
юлиан (часто дышит). Люди мои выставлены?
Антон. Шпалерами. (Застегивает туфли.)
юлиан. А ты ступай прямо к воротам с факелом.
Антон. На лестнице и так горят лучины. Охота стараться ради
людей, что доставляют в дом одни неприятности!
юлиан. Как можно больше огней! Станешь на колено на нижней
площадке лестницы. Как только его светлость воевода прой-
дет мимо тебя, встань, забеги вперед, посвети ему. Я выйду
ему навстречу, спущусь на три ступеньки с верхней площад-
ки, не больше.
Антон (зажигает факел). И то верно. Пусть поймет, что его здесь
не ждали — девятнадцать-то лет спустя.
Занавес
*
Акт второй
*
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Галерея монастырского двора. В глубине — ворота. Справа
— вход в внутренние помещения. Привратник открывает
ворота. Входят король Базилий и придворные. За ними
плетется Нищий.
король. Здесь ли то место, где брат Игнатий принимает тех, кто
приходит к нему со своими заботами?
привратник. Станьте тут и дожидайтесь.
камердинер. Поспеши, любезный, доложить то, что я тебе скажу.
привратник. Докладывать мне не дозволено. Это не мое дело. Мое
дело — открывать да закрывать ворота.
камердинер. Да ты знаешь, кто перед тобой?
привратник. Не знаю. Не могу знать. Не мое дело. Вот этого я
знаю. (Показывает на Нищего, подходит к нему.) Стань-ка
сюда. Чтоб он тебя видел. Он будет рад, что ты опять пожа-
ловал.
Нищий молча становится, куда ему указано.
камердинер. Перед тобой государь Польши. Наш король и пове-
литель. Слыхал, привратник?
король. Оставь его в покое. Тяжкий был путь. Всех, кто проде-
лал его со мной, я поставлю над воеводами, палатинами и
ординатами.
Башня
375
Придворные кланяются. Справа появляется Молодой мо-
нах — красивый, тихий, улыбчивый. Камердинер идет ему
навстречу и о чем-то тихо говорит с ним.
монах (смотрит на Короля, потом подходит к Королю и слегка
кланяется). Мне не подобает знать имена. Мое дело — доло-
жить: прибыл мужчина, у него большая нужда. Или: жен-
щина с сыновьями оттуда-то. Или: больной просит твоего
благословения. (Кланяется и отходит в сторону.)
придворные (между собой, негромко). Слыхано ли? Какое сата-
нинское ханжество! Нет, это что-то невиданное!
монах (с улыбкой). Не шумите!
король. Он что же, так рано ложится спать, что ему нельзя
мешать?
монах. Только под утро, когда светлеют звезды, он засыпает в
своем деревянном гробу, а лишь шелохнутся первые птахи,
как он снова на ногах. (Подходит к Нищему, который
молится, прикрыв лицо руками.) О чем ты просишь?
Нищий не отзывается.
привратник. Это тот самый, что безымянным бродит по святым
местам, ночуя зимой и летом на церковной паперти? Один
раз он уже говорил с ним. Он сказал ему: «Кто ты — воскрес-
ший Илларион или возвращенный в мир блаженный епископ
Макарий?»
нищий (отрывает руки от лица, и становится видно, что один
его глаз выколот). Не достоин!
привратник. Теперь он пришел из церкви Святой Девы, что на
Белой горе. Беглые солдаты, которые нынче рыщут повсю-
ду, хотели залезть в церковь и похитить черную доску, что
сияет самоцветами ярче, чем фонарь. Он лежал на пороге,
они наступили на него, он закричал, монахи проснулись и
отстояли церковь. За это солдаты били его до тех пор, пока
не решили, что он мертв. И глаз ему выбили они. Он же про-
стил им и молится за них.
376
Гуго фон Гофмансталь
нищий. Не достоин! (Становится позади придворных.)
привратник. Алебарду взяли из рук стражника и вложили в руки
разбойника. Что с нами будет?
монах (с улыбкой). Одежда, что служила защитой, снята, и мы
наги, как и подобает кающимся.
король. Доложи! Доложи, что прибыл некто по имени Базилий,
что у него большая нужда и дело его не терпит отлагатель-
ства.
монах (кланяется). Он скоро выйдет. Пусть господа потерпят.
(Исчезает в правую дверь, ведущую в помещение.)
Раздается глухое пение: «Ти reliquisti me — et extendam
manum meam et interficiam te!»1
король (делает шаг вперед, смотрит на небо). Сегодня день свя-
того Эгидия, день, когда разгорается пламя оленьей любви.
Прелестные светлые сумерки: сорочьи пары летят из гнезда,
не боясь за своих птенцов; доволен и рыбарь: уже скоро
нерест, но рыбы еще резвятся в рассеянном свете ранней
луны, пока не стемнеет. Светлое марево долго стоит меж
рекой и лесом, и, важный, величественный, выходит из чащи
олень и разжимает губы, так что кажется, будто он смеется,
и раздается могучий глас, так что звери в зеленых зарослях
вздрагивают и жмутся друг к другу, трепеща от ужаса и
вожделения. И мы были как он, и мы упивались величавыми
днями при ясной погоде, когда колени прекрасных женщин
разжимались сами собой при нашем приближении, и куда бы
мы ни ступали — всюду серебряный светильник или розове-
ющий факел выхватывал из тьмы картину брачного соития
Юпитера с нимфой. (Опирается на Молодого придворного.)
И казалось, не будет конца сему, ибо сил нам было отпущено
по-королевски. Ныне же силы ада обрушились на нас, тай-
ный заговор подстерегает наше счастье у нас под ногами и
1 «Ты оставил меня — и подниму длань мою и истреблю тебя!»
(латин.).
Башня
377
над нашими головами, так что волосы встают дыбом, но
схватить смутьянов не удается. Мы все скачем из конца в
конец, дабы укрепить свою власть, но земля, похоже, осе-
дает под нами, и наши тяжелые, как мрамор, стремена пови-
сают над бездной. Стены сотрясаются в основании, и наш
путь привел нас к непреодолимой черте.
старый придворный (становится рядом с ним). Как есть некая
вещь, что покупает другие вещи, так и король над всеми,
потому-то запечатлено твое лицо на этой вещи и твой герб,
и люди любят ее и называют: добрые деньги. Но куда поде-
вались добрые деньги? Куда исчезли они из страны, а с ними
вместе и послушание? Ибо где нет платы, там нет и почита-
ния, а где нет почитания, там нет и послушания.
второй придворный. Их заграбастали жирные горожане, торгаши,
и чесальщики шерсти, и клеевары, которые нажились на
войне, выжимая не десять с сотни, а сотню с десяти, а всего
больше евреи, вонючие вампиры: они-то и высосали из
страны все соки. Они вытянули серебро из денег, оставив у
нас в руках красную вонючую медь, такую же рыжую, как
они сами, как их жидовская масть!
третий придворный (подходит к ним сзади). Они лежат на коро-
левских векселях, как на гусином пуху, их вонючие лисьи
норы оклеены, как обоями, расписками графов и сеньоров, и
если б ты взял десять тысяч из них в свою железную десницу
и сдавил покрепче, то кровь и пот хлынули бы на землю и
пашня снова стала бы плодородной, а из колосьев снова
посыпалось бы серебро и золото на истерзанную польскую
землю.
четвертый придворный. Королевское величество! Прикажи нам,
твоим верным благородным вассалам, и мы поднимем рать
против жидов и их прихвостней, укрывшихся за городскими
валами, против смутьянов, беглых монахов, еретиков-учите-
лей, прикажи, пока не поздно, — и мы вволю, сколько еще
есть силы в княжьих руках, потрудимся мечами, копьями и
булавами.
378
Гуго фон Гофмансталь
король. Этот сброд не дается мне в руки. Прискачу и вижу: одни
нищие. Они выползают из ветхих лачуг и протягивают ко
мне изможденные руки. Леса, в которых я охочусь, полны
нищих: они обгладывают кору деревьев, комьями земли
набивают себе брюхо. {Глубоко задумывается о чем-то,
свесив голову на грудь.) И это было предсказано, были пред-
сказаны вещи, в которые не поверила ни одна душа, и вот
они сбываются! Там были ужасы, о которых каждый сказал
бы, что в них вложен фигуральный смысл, и вот они сбыва-
ются буквально! Голод был предсказан, чума была предска-
зана, тьма, освещаемая горящими деревнями; солдат, топчу-
щий знамя и плюющий на своего начальника; крестьянин,
бегущий от плуга и перековывающий косу свою на кровавую
пику; кометы, вулканы, стаи бездомных собак, вороны, кру-
жащие днем и ночью над чистым полем, — все это было
предсказано. (Тихо, про себя.) Я своими руками при закры-
тых дверях сжег пергамент, но те строчки, что корчились в
пламени камина, продолжают гореть в моем сердце, что бы
я ни делал: стою ли, сижу ли, лежу ли. (Глубоко вздыхает,
забыв о присутствующих.) Теперь последует главное: солн-
це, взошедшее над большим городом, вдруг скатится с
небосклона посреди бела дня... Нет, еще прежде случится
так, что бунт обретет свое знамя — связку звенящих, порван-
ных цепей на кровавом древке, а тот, пред кем понесут это
знамя, будет мой родной сын, единственное чадо мое, зача-
тое в законном браке, — его лик, как лик Люцифера, возро-
дился из адского огня, и он не успокоится до тех пор, пока не
найдет меня и не попрет ногой мое темя. Так предсказано!
Именно так! Так! Слово в слово, как я говорю! (Стонет,
потом, спохватившись, оглядывается на свою свиту.) Я
очень болен, друзья мои. Надеюсь, вы привезли меня к вра-
чу, который сумеет меня исцелить.
старый придворный (ему на ухо). Да не забудет государь о той
силе властного взгляда, что помогала ему разрешать запу-
таннейшие вопросы в государственном совете...
Башня
379
Из дверей справа выводят Великого монсеньора. Два монаха
поддерживают его. Прежний Молодой монах идет рядом с
ними с раскрытой книгой в руках; за группой следует
Служка со складным стулом. Стул устанавливают и
сажают на него Великого монсеньора. Это девяностолет-
ний старец, его руки и лицо желтовато-белого цвета сло-
новой кости. Глаза он большей частью держит закрыты-
ми, но стоит ему их открыть, как становится ясно, что
его взгляд еще способен внушать ужас и почтение. На нем
простая монашеская одежда. С момента его появления
воцаряется тишина. Слышно лишь — отчетливее преж-
него — пение: один-единственный голос выводит с угрозой:
«Ессе ego suscientabo super Babylonem quasi ventum pestilen-
tem. Et mittam in Babyloniam ventilatores et ventilabunt earn et
demolientur terram eius\...»1
великий монсеньор (полуоткрыв глаза). Вот то, что именуют
светом дня. Белесая тьма. Читай из Гевары. Здесь задыха-
ешься, как в цветнике, или будто нас замуровали в студень.
(Закрывает глаза.)
хор. «Et demolientur terram eius!
Et cadent interfecti in terra Chaldaeorum!»2
монах (читает по книге). «Поди прочь, ибо ты ненадежен и нет
тебе доверия; прошлое живет в твоем доме, как смрадный
призрак; настоящее разваливается у нас под руками, как
трухлявый и ядовитый гриб; будущее стучит кулачищами в
дверь, как полночный разбойник, и в целую сотню лет ты не
подаришь нам ни часа истинной жизни...».
великий монсеньор. Ни часа истинной жизни! (Открывает гла-
1 «И вот подниму я над Вавилоном чумной ветер и пошлю в Вавило-
нию веяльщиков, и провеют ее и разрушат землю ее!» (латин.).
2 «И разрушат землю ее!
И падут убиенные в землю Халдейскую!» (латин.).
380
Гуго фон Гофмансталь
за, замечает Нищего, радостно кивает ему.) Смотри-ка,
какой к нам пожаловал гость!
Король, думая, что обращение адресовано ему, хочет
выйти вперед. Великий монсеньор, не поворачивая к нему
головы, отмахивается, как от мухи. Придворные выказы-
вают возмущение. Король знаком велит им сдержаться.
(Нищему, с большим участием.) Как поживаешь, мой ми-
лый? И куда направляешь стопы? Не побудешь ли у нас хотя
бы денек или ночку?
Нищий молчит.
Подведите меня к нему, раз он не идет ко мне. Я хочу поцело-
вать этого человека и получить его благословение. (Поддер-
живаемый монахами, хочет подняться.)
нищий. Не достоин! (Отпрыгивает в сторону.)
хор. «Et demolientur terram eius!
Et cadent interfecti in terra Chaldaeorum!»1
великий монсеньер. Читай из Гевары, покуда светло. Во тьме я
увижу лица: истину.
монах (поднимает книгу для чтения). Отыди, суетный мир! Во
дворцах твоих служат без награды...
король (подходит к Монсенъору). Господин кардинал, король и
господин ваш желает вам доброго вечера.
великий монсеньор. Слышу посторонний голос, он мешает.
Читай дальше из Гевары.
Король отступает на два шага.
монах (читает). «Отыди, суетный мир, во дворцах твоих служат
без награды, ласкают, чтобы убить, исповедуют, чтобы
свергнуть, почитают, чтобы опозорить, изымают у одних и
не передают другим, наказывают без прощения. В чертогах
«И разрушат землю ее!
И падут убиенные в землю Халдейскую!» (латин.).
Башня
381
твоих воздвигнуты подмостки, на которых разыгрываются
четыре или пять безобразных сцен, на них скучно смотреть:
всё интриги и плутни ради корысти и власти, умные падают,
недостойные возвышаются, предателей осыпают милостя-
ми, честных унижают...».
Король снова подходит.
великий монсеньор (не открывая глаз). Кто ты, что приходишь
незваным?
король. Это я!
великий монсеньор. Я слышу только «я». Слово презренной над-
менности! (С силой.) Читай дальше, мальчик, и погромче.
Монах поднимает книгу, чтобы читать.
король (властно кладет руку на книгу). Я, король, предстал перед
своим давним советчиком, дабы возопить, возопить, возо-
пить о несчастьях страны.
Великий монсеньор делает жест, будто ловит в воздухе
муху.
придворные (выказывают возмущение и желание незамедли-
тельно уйти). Неслыханно!.. Какое недостойное представ-
ление!
король (подходит к ним). Останьтесь, верные друзья мои! Не
покидайте меня!
придворный (с трудом сдерживая гнев). Сдернуть бы его с кресла
да мордой в грязь!
король. Я хочу отнять у городов их вольности. Лишить евреев моей
защиты и все, чем они владеют, отдать вам, как во времена
предков.
Придворные опускаются на колени, целуют ему руки и край
одежды. Король улыбается.
великий монсеньор. Читай из Гевары. Как утомительно долго
тянется день!
382
Гуго фон Гофмансталь
монах (читает), «...честных унижают, а невинных губят. Рву-
щийся к власти пользуется доверием, а благонамеренному не
доверяют...».
великий монсеньор (мощным голосом, поднимаясь и воздевая
руки). Всё суета. Всё! Всё, кроме суда неумолимого, отделя-
ющего плевелы от зерен.
Воцаряется тишина, прекратилось и пение. Великий мон-
сеньор, утомленный волнением, опускается в кресло и
закрывает глаза.
король (придворным). Отойдите все. Отвернитесь. Так нужно.
(Подходит в Великому монсеньору, падает перед ним на
колени и снова встает.)
великий монсеньор (долго, пристально смотрит на него). Я не
знаю этого господина! (Беззвучно смеется.)
король. Великий монсеньор! Кардинал! Великий канцлер короны!
Хранитель печати имперской! Великое королевство прости-
рает к тебе руки.
великий монсеньор (смеется сильнее, но по-прежнему беззвучно).
Повтори-ка!.. Как — как?.. Что?.. Великое королевство? Я
зрю пустыню, зрю ужасы — города и торжища полыхают
пожарами, по дорогам нельзя проехать из-за разбойников, а
кладбища пожирают деревню за деревней!
король. И это говоришь ты, мой советчик!
великий монсеньор. Война проиграна. Тщеславия ради затеянная
война, несвоевременная война, наглая и греховная война. А
когда ее проиграли, то из советчиков прогнали того, кто про-
стирал свои руки против этой войны. Ибо войны можно
было избежать, лишь обуздав себя, встав на путь мудрости,
но путь сей труден, ибо усыпан терниями. Зато куда как
легко было тешить тщеславие, на коне скакать, а не совета
алкать.
король. Довольно!
великий монсеньор (кивает). Сказано: человек падший не любит
того, кто его порицает. Слово «тщеславие», заметь себе,
Башня
383
имеет два смысла. Тщеславен тот, кто хвастает перед самим
собой, кто любуется собой, занимается духовным развратом.
Но тщеславен и тот, кто отдает себя пустякам, губит свою
душу за пустое. Тщеславием было все, что ты думал, что
делал, что городил — и что сам погубил.
король. Я удалил от себя единственного сына — туда, куда не
достигает и солнце! Это как и все прочее, я сделал, повинуясь
тебе. Ты нарисовал передо мной священный, Богом данный
порядок. Его ты призвал меня защищать, и служение ему нас
связало.
великий монсеньор. Где то человеческое в тебе, что могло бы нас
связать? Ибо человек начинается там, где кончается живот-
ное в нем, где укрощается грешная плоть. К тебе это не
относится. Похоть распирает твой пуп, а пустота — твое сер-
дце, волосы твои вздымает злоба, а ноздри извергают высо-
комерие; весь ты — утробная мерзкая плоть и погибнешь от
своей плоти. Ты вгрызался в мягкую, сочную мякоть, а
теперь грызешь дерево, ибо пришло для этого время.
король. Ты как василиск, из которого никогда не удавалось мне
вырвать истину, ибо последнее, тайное ты всегда скрывал от
меня, как злая мачеха от бедной сироты.
великий монсеньор. Последняя, тайная истина свила гнездо у
Бога.
король. Кто же тогда — Бог или сатана — вещает нам через звез-
ды? Или звезды лгут?
великий монсеньор. Кто мы такие, чтобы нам лгали звезды?
король. Но ведь было предсказано: он попрет ногой мое темя
среди бела дня и при всем народе!
великий монсеньор. А ты завиляешь задом, как собака перед
своим господином, и возжаждешь лизнуть ту секиру, что
тебя обезглавит.
король. Ты издеваешься? Не веришь в предсказание? Ответь мне!
Как звезды могут видеть то, чего нет? Где зеркало, в коем
отражается то, чего не было?
великий монсеньор. Воистину! Держись лучше суетных прелыце-
384
Гуго фон Гофмансталь
ний да предавайся пороку в кругу потаскух и гончих! Но
говорю тебе: есть око, коему доступен день нынешний, как
день вчерашний, а завтра, как сегодня. Потому и возможно
толковать будущее, потому и стоят Сивилла рядом с Соломо-
ном, астролог рядом с пророком.
король (про себя). Сколько ни знал я дев и жен, я оставался бес-
плоден. Было предсказано: в июне зачнет королева, и коро-
лева понесла до летнего солнцестояния. Ребенок родился,
изорвав матери утробу, не даваясь повивальной бабке и вра-
чу. Он стремился на свет, плоть из плоти, кровь из крови,
тлен из тлена, лишь бы начало сбываться предсказание...
великий монсеньор. Но то был твой ребенок, зачатый в святом
браке!
король. Плоть от моей плоти, как ты говоришь!
великий монсеньор. В браке, уподобляемом таинству, — связи
церкви с Господом, учителем ее.
король. А я никогда не видел его, я должен был сокрыться от него
за засовами и цепями, копьями и колами.
великий монсеньор. Никто не избегнет великой церемонии,
король же и отец есть ее средина.
король. Коли уж я обезвредил это создание, посадив в башню в
десять ступеней толщиной, то есть сделал все, чтобы обез-
главить мятеж, каким же образом — ответь! — мятеж все же
проник в мою страну? Чьи это козни? Разве Господь Бог так
же коварен, как литовский князь? И я обречен на поражение
и должен разом утратить и сверкающую корону и чистую
совесть? И то и другое?
великий монсеньор. Соедините искусно два ножа — и вот вам
ножницы, а каплю сока можно выдавить даже из увядшего
плода!
король. Я приказал доставить ко мне человека, который его охра-
няет.
великий монсеньор. Ты осмелился приоткрыть завесу, опущен-
ную августейшими опасениями, завесу, охранявшуюся деся-
тикратной угрозой смерти?
Башня
385
король. Я распорядился доставить сюда человека, который его
охраняет, чтобы он встал тут передо мной и перед тобой.
Ибо от тебя, кардинал, я требую вернуть мне моего ребенка;
бессонными ночами я представлял себе, как это случится.
Восстань из своего деревянного гроба, дабы председатель-
ствовать на суде над этим мальчиком, которого мы никогда в
жизни не видели. Ибо ты еще полон сил, и глаза твои как у
грифа — видят насквозь, от них не укроется никакой тайный
умысел. Так мы узнаем, не демон ли он и не первопричина ли
козней в стране. Если так, голова его покатится с плеч и
падет к твоим ногам. Или же: я заключу в объятия сына, и
корона, сплетенная из трех корон, не останется без наследни-
ка. Ты вернешь мне ребенка, пока ты не сгинул, или запят-
наешь его кровью свою белую мантию. И тогда я узнаю, Бог
ли поставил тебя моим советником или сатана.
великий монсеньор. Бог! Бог! Твоим ли мокрым губам трепать
это слово? Я научу тебя понимать, что есть Бог! Ты явился
искать помощи и ободрения и не обрел того, чему возрадо-
вался бы твой дух. Ты привык смотреться, как в зеркало, в
угодливые лица юрких своих приближенных, а тут узрел
непреклонность, которая тебя ужасает. Нечто глаголет
моими устами, но так, будто изнутри тебя самого и целясь в
тебя самого; оно, это нечто, не принимает тебя, но и не
отпускает; не дает тебе блуждать мыслью от предмета к
предмету, но не дает и забыться: ничего нового, ничего ста-
рого, отжившее, но не изжитое; мертвящее, оцепенелое, но
неотвязное. Ты изнемог, иссяк, ты подобен камню, который
крошится, нищему, который не знает свободы. Но это еще
не все, есть еще нечто, что цепко держит тебя, понуждая слу-
шать свой крик, ощущать свою плоть, нести бремя своей
плоти, лицезреть мучения своей плоти, как предсмертные
судороги змей, обонять запах своего тлена, вдыхать свой
смрад, приникая ухом к уху, ноздрями к ноздрям. Оно, это
нечто, отчаивается твоим отчаянием, ужасается твоим ужа-
сом и не отпускает тебя к тебе самому, ибо оно знает тебя и
386
Гуго фон Гофмансталь
хочет тебя покарать. Это и есть Бог. {Опускается в кресло,
закрыв глаза.)
король. Сюда, мои верные слуги, схватите его! Мой приближен-
ный задолжал мне совет и хочет укрыться от долга! Вперед,
взять его!
Придворные быстро подбегают. Монахи, защищаясь, вски-
дывают руки. Великий монсенъор возлежит на кресле, как
мертвый.
хор. «Ессе ego suscientabo super Babylonem
Quasi ventum pestilentem...».
король (отворачиваясь). Унесите его.
Монахи поднимают Великого монсенъор а и уносят его. Раз-
дается стук в ворота. Привратник открывает, впуская
Люблинского воеводу и Юлиана, вслед за которыми входит
Антон.
придворный (подходит к Королю, преклоняет колено, доклады-
вает). Люблинский воевода.
воевода (подходит к Королю, преклоняет колено). Прости мне
мое опоздание, повелитель. Дороги перекрыты бунтовщика-
ми. Пришлось пробираться лесами. Вот, привез его благоро-
дие!
Юлиан подходит, встает перед Королем на колени.
король. Этот? Его стражник? (Отходит, недовольный.)
Юлиан остается коленопреклоненным.
Нам приятно вспомнить о прежней встрече. (Протягивает
руку для поцелуя, знаком велит подняться.) Но нам боязно
увидеть в твоих глазах отражение демона.
юлиан (приподнявшись на одно колено). Он кроткий, красивый,
ладный юноша.
король. С озлобленной душой?
юлиан. Сама безобидность. Белая, нетронутая бумага.
король. Гм, человек, стало быть?
Башня
387
юлиан. О да! Если б вы соблаговолили...
Король, морща лоб, отступает на шаг.
...подвергнуть юношу испытанию...
Король отступает еще на шаг.
Если не выдержит — его можно навсегда предоставить тем-
нице.
король. Сон одной ночи? Смело, слишком смело! Кто может поло-
житься...
юлиан. Я! Головой ручаюсь вашему величеству!
король (улыбается). Простодушный, мужественный рыцарь! И —
советчик! Какой советчик! Ты возвращаешь бодрость нашим
мыслям. Щедрый подарок! (Жестом подзывает его к себе.)
Сколько же лет ты несешь эту нелегкую службу?
юлиан. Без месяца двадцать два года. Его возраст.
король. Невероятно! Учитесь, великие мужи, учитесь преданно-
сти. Двадцать два года!
юлиан (склоняясь к протянутой руке, со слезами на глазах).
Теперь их как будто и не бывало.
Антон незаметно подходит сзади, прислушивается.
король. Свидание очень нас тронуло. Вот руки, что пестуют род-
ную нам кровь. (Привлекает Юлиана к себе обнимая.) Как
хотелось бы так же обнять его самого... (Лицо его прини-
мает совсем другое выражение, но только на один момент.)
Мы собираемся посетить здесь одну дорогую для нас могилу.
(Юлиану). Здесь покоится наша королева. Пусть нас прово-
дит привратник, но только он. От души помолимся — и вер-
немся.
Придворные кланяются.
(Почти уже совсем уходит, но потом возвращается, подхо-
дит к Юлиану.) Близость верного человека — какое это
богатство! Советчик! Утешитель! Ты вернул меня к жизни.
388
Гуго фон Гофмансталь
Доверительно кивает Юлиану.) Последуешь за нами ко дво-
ру. Нам о многом надо потолковать наедине.
Юлиан низко кланяется. Король кивает Привратнику и ухо-
дит с ним налево. Придворные подходят к Юлиану. Антон
старается незаметно приблизиться к своему господину.
придворный (с легким поклоном). Мы близкая родня. Бабушка
вашей милости была моему дедушке родная сестра. Хочу
надеяться, что ваша милость не забыли об этом за годы
отсутствия при дворе.
Антон прислушивается.
второй придворный (в том же тоне). Прошу покорно пожаловать
в мой дом, где все к вашим услугам!
двое других придворных (так же). Не откажите в своей протек-
ции!.. Век буду вам преданнейшим слугой!
молодой камердинер (подходит к Юлиануу с низким поклоном).
Bacio le ginocchia di Vosta Eccellenta)!1
Король возвращается. Придворные выстраиваются по
ранжиру} приглашая Юлиана занять почетное место в сере-
дине процессии. Юлиан, подходя к ним, бросает через плечо
взгляд на Антона. Антон крестится, как при смертельной
опасности. Все удаляются.
СЦЕНА ВТОРАЯ
В башне. Пятиугольная комната с узким решетчатым
окном. В углу сзади — маленькая железная дверь. На стене
— большое распятие. Деревянная скамья, умывальный таз,
ведро. На заднем плане на обгоревшей соломе сидит Сигиз-
мунд, в домотканой одежде, ноги его босы, но без цепей.
Слышно, как снаружи отпирают дверь.
Лобзаю колена вашего сиятельства! (итал.).
Башня
389
Антон (входя). Глянь-ка сюда, Сигизмунд, Тони вернулся. Ну а где
Тони был? Хочешь небось узнать? Да недосуг мне болтать.
Дел по горло. (Берет метлу, что стояла у двери, выливает
на пол воду из ведра и принимается мыть пол. Сигизмунд
молча смотрит на него.)
Жди, словом, гостя, а то и нескольких. (Принюхивается.)
Что это! Чиркал спичками на соломе? Тебе что, два года или
два раза по десять плюс еще два?.. Прячешь руки? Да ты,
брат, поджигатель! Ну как прикажешь с тобой поступить?
Заковать тебе руки в деревянные колодки?.. Ну и соломы же
пожег, озорник! Не дай Бог стражник заметит. Ну, что ты
тут учинил и зачем?
Сигизмунд не отвечает.
(Мягче.) Ты, может, решил что ты истопник? Это ведь
истопника дело — огонь разводить да поддерживать. Отве-
чай!
Сигизмунд мотает головой.
(Снова принимается скрести пол.) Может, ты вообразил
себя кузнецом? Решил раздуть горн да ковать железо? Этого
тебе захотелось?
Сигизмунд снова мотает головой.
(Перестав мыть.) Не скажешь — Тони рассердится. Сам не
рад будешь. Неужто ты злой? Дурной? Вот ведь бесенок!
Дьяволенок! Гляди, как бы у тебя когти не выросли, как у
летучей мыши!
Сигизмунд с немой мольбой простирает руки.
Ну так скажи. Ты должен разговаривать со мной. Как заве-
дено у людей. Кабы зверье умело разговаривать, волки да
медведи были бы господами, управляли бы миром. По разго-
вору и узнают человека. Может, ты хотел лечь спать, хотел
погасить свет? Да забыл, как это делают, воткнул, может,
390
Гуго фон Гофмансталь
лучину в солому, чтоб ее потушить? А все и загорелось — и
солома, и волосы вон твои, загорелось да завоняло, как
копыта у черта? Да?
сигизмунд. Большой был огонь!
антон. Ах ты сорви-голова! Небось как волосы-то загорелись,
сдернул с себя одежонку да давай тушить, приговаривая: эй,
огонь, надень штаны, будут искры не видны.
сигизмунд (быстро). Мой отец был в огне.
Антон. Как же он выглядел? Лицо горит, а плащ дымит, на животе
пожар, а под ногами пар?
сигизмунд (смотрит в сторону). У моего отца нет лица!
Антон. Помешался ты на этом огне совсем, развел костер да чуть
не спалил себя! Да еще пригрезилось Бог весть что!
сигизмунд. Не пригрезилось! Огонь был вот здесь, а я здесь, и я
видел огонь, а огонь видел меня!
АНТОН. У-у летучая мышь! (Выплескивает на него святую воду из
оловянной плошки, что висит на стене под распятием.)
Приберись-ка теперь! Ты человек или кто? А у человека и
душа не на месте, когда у него комната что у черта логово.
сигизмунд (со страхом). Антон, что это значит — человек? И как
это я — человек?
АНТОН (наливает ему воды в таз). На-ка, умойся, а то вишь что
приходит на ум.
Слышно, как снаружи отпирают дверь.
Вот тебе полотенчико. (Кидает ему пестрое шерстяное
полотенце, Сигизмунд утирается). Ну вот, глянь-ка, к тебе
уже идут! Веселенькая стала тюрьма, прямо голубятня,
право слово.
Дверь открывается. Входит Крестьянка, кормилица
Сигизмунда, останавливается неподалеку от двери. Сигиз-
мунд поворачивается лицом к стене.
крестьянка (Антону). Он болен? Не помнит себя?
Сигизмунд прячет голову и руки в солому.
Башня
391
Семь лет уже его не видала. Это правда, что у него выросли когти?
А глаза налились злобой, как у филина?
Антон. Вранье! Покажи-ка руки, Сигизмунд. Вот, посмотри сама!
сигизмунд (овладев собой). Мать, ты ко мне пришла?
крестьянка (подходит к нему). Волосы твои спутались. Где же
гребень-то? Дай его мне, я тебя причешу.
Антон берет из ниши в стене оловянный гребень, дает ей.
(Расчесывает волосы Сигизмунда.) Сиди спокойно, чадо
Господне. А помнишь, как крестьянки любовались тобой из-
за забора, твоими белыми щечками да черными как смоль
волосами? И молоко, и мед ставили к порогу, только бы
вышел. А уж как я-то тебя прятала, закрывала ставни на все
засовы! Потому как запрещено это было строго-настрого!
сигизмунд. Где твой муж?
крестьянка. Скончался твой названый отец — тому уж годика
четыре. Помолись со мной за его душу: благословенна будь,
Мария, всемилостивейшая. Ты меня понял? Помолись со
мной: Отче наш, иже еси на небесех...
сигизмунд. Мать, возьми меня к себе! Возьми меня к себе обрат-
но, а то что же это — где ты и где я?
крестьянка. Я вскормила тебя своей грудью, а если ты помо-
лишься со мной, то и в духе будем вместе.
сигизмунд. Ты не мать моя кровная, потому и не слышишь мой
голос, который к тебе вопиет!
крестьянка. Я слышу твой голос.
сигизмунд. Но не истинный голос, его не услышишь этими ушами,
его слышит мать теми ушами, которые у нее под сердцем.
Где моя кровная мать? Почему она мне не поможет? Где мой
кровный отец? Почему он бросил меня в беде? Раз уж он
меня создал!
крестьянка (показывая на распятие). Вот твой Отец и Спаситель!
На него смотри! Его образ запечатлей в своем сердце, сер-
дце-то мягко, а образ тверд, вот и войдет в него, как печать
в воск!
392
Гуго фон Гофмансталь
СИГИЗМУНД (долго смотрит на распятие, повторяет позу Спаси-
теля, потом опускает руки). Не умещается в голове: что у
меня может быть общего с Ним и в то же время с Тем, Кого
вздернули на перекладину, как скота на заклании? Мать, где
тут я и где Он?
крестьянка. Возлюби свои страдания! Изыми их из себя и пожерт-
вуй Ему, положи к Его кровоточащим стопам!
сигизмунд. А я не могу изъять из себя мои страдания! Они — это
я! Отними их — и ничего от меня не останется!
крестьянка. А ты пытайся! Смотри Ему в глаза, полные любви и
печали...
сигизмунд (закрыв глаза). Не могу. В глазах моих все черно от
крови. Он должен помочь мне!
крестьянка. В глаза! Смотри Ему в глаза! Ему, покинутому небес-
ным отцом! Увенчанному- терниями, иссеченному плетьми,
оплеванному солдатами! Смотри!
сигизмунд. Совсем наоборот! Он мог свободно ходить! Ездить на
лодке! Пировать на свадьбе! Въезжать в город на ослице и
видеть, как народ радуется ему!
крестьянка. Смотри Ему в глаза, упрямец! Вот куда уплыл Он на
своей лодке! Вот куда уехал на своем осле! Гвоздями пробили
Ему руки! Кости пробиты! Живот проткнут! Смотри Ему
прямо в глаза! Думай о Нем день и ночь, а не то ты погиб!
сигизмунд (закрывает глаза рукой, как бы в испуге оттого, что
Крестьянка наступает на него). Мать, не сердись на меня! О!
Крестьянка отходит от него.
Где тело, которое согрело бы мое тело? Только ножи да
цепи, побои да камни, а ласки — никакой.
крестьянка (молится, сложив руки). О, четырнадцать святых
угодников, являющие чудеса силы воители и слуги Господни,
чудо-рыцари, непреклонные в вере, стоящие у трона Госпо-
дня, увенчанные золотыми коронами! Придите помочь этому
человеку, отведите от него острые клыки, сжатые кулаки!
Пусть лучше отсохнут у него руки, отнимутся ноги, ослепнут
Башня
393
глаза, оглохнут уши, только бы сохранить его душу от наси-
лия и зла! Аминь. (Осеняет его крестом.)
сигизмунд (тихо). Мать!
Сзади снова отворяется дверь, и входит Юлиан. В дверях
виден еще один человек, он выжидает. Крестьянка кланя-
ется, целует Юлиану подол одежды. Юлиан останавли-
вается, Сигизмунд спасается бегством на свою солому.
юлиан. Так-то вы его умягчили? Неужели женщина не смогла
добиться большего? (Подходит к Сигизмунду.) Я пришел к
тебе. (Делает знак Антону, тот подставляет ему низкий
табурет, он садится.) Я принес тебе радостное известие,
Сигизмунд. Вникни сейчас в то, что я тебе скажу: ты выдер-
жал длительное, трудное испытание. Ты понимаешь, что я
говорю?
Сигизмунд прячет руки в рукава рубахи.
Ты меня слышишь?
сигизмунд. Ты высшая власть надо мной, я дрожу перед тобой. Я
знаю, что не могу от тебя убежать. (Непроизвольно прячет
руки.) Я смотрю на твои руки и на твой рот, чтобы понять,
чего ты хочешь.
юлиан. Власть нисходит сверху. От того, кто много выше, чем я,
запомни это хорошенько. Я же спас тебя. Тайком я подливал
масло в твою лампаду, только мне ты обязан тем, что лам-
пада твоя еще горит. Запомни и это. Разве я кажусь тебе
таким уж чужим, Сигизмунд? Помнишь, как я сидел с тобой
целую зиму за одним деревянным столом, держал перед
тобой раскрытую книгу и, картинка за картинкой показывая
тебе устройство мира, называл тебе все по имени? Разве не
отличен ты этим от тебе подобных?
Сигизмунд молчит.
Разве не я рассказал тебе о Моисее с его скрижалями, и о
Ное с его ковчегом, и о Гидеоне с мечом, и о Давиде с арфой,
394
Гуго фон Гофмансталь
о могучем Риме и его императорах, от которых произошли и
наши короли? Разве не от меня узнал ты о таких материях,
как господин и слуга, о том, что далеко и что близко, о
небесном и земном? Отвечай же!
Сигизмунд смотрит в пол.
Разве не я воспитал тебя, то есть вытянул наверх, из живот-
ного естества, глядящего только на землю, ибо оно слеплено
из глины и пепла? Разве не я помог тебе взглянуть на небо,
туда, где обитает Господь? Подними же глаза на меня и отве-
чай сейчас же! Отрицай, если можешь!
Сигизмунд кивает.
Тем самым я оказал тебе неслыханное благодеяние. Тьму
твою я осветил подобно луне, серебряной изогнутой лампе,
коей поклоняются язычники. Ты бы должен молиться на
меня за это, простереться ниц и целовать подол моего
плаща!
сигизмунд. В отличие от зверей я знаю о своем незнании. Я знаю
то, чего не вижу, что далеко от меня. От этого я страдаю
так, как ни одно другое существо.
юлиан. Чудесное преимущество! И этим ты обязан мне. Восхваляй
же меня до последнего вздоха! Ибо я тебя сделал наблюдате-
лем созвездий, так что ты уподобился ангелам! Великого
мага я из тебя сделал, подобного Адаму и Моисею! Ибо я
вложил в твои уста чудо речи.
Сигизмунд, тихо постанывая, корчится на соломе.
Вот! Такова моя любовь к тебе, Сигизмунд, ибо тогда только
уста человека обретают силу, когда он, взывая и повелевая,
вкладывает в буквы свой дух! Чего же ты стонешь?
сигизмунд. Есть, однако, ужасное слово, оно перевешивает все
другие слова!
юлиан. Что это за слово? Каково оно? Я хочу знать, что это за вол-
шебное слово!
Башня
395
сигизмунд. Сигизмунд! (Ощупывает свое лицо и тело.) Кто это?
Где ему конец? Кто так первым назвал меня? Отец? Мать?
Покажи мне их!
юлиан. Твои родители удалили тебя от себя. Ты провинился перед
ними.
сигизмунд. Есть жестокие звери. Они пожирают своих детены-
шей, не дав им обсохнуть после материнского чрева. Глаза
мои видели это. И все же они невинны.
юлиан. Не ломай себе голову над вещами, смысл которых сокрыт.
Думай о себе самом! Будь силен своим одиночеством! К
этому я тебя готовил! Копошащееся зверье, что так зани-
мает твой детский ум, создано из земли, деревья и рыбы — из
воды, птицы — из воздуха, звезды — из огня, ты же сам — из
чистого огня. Дух света, пред которым склоняются и ангелы!
Сын огня, верховный! Перворожденный!
сигизмунд. Откуда вдруг такие высокие слова? Что это в твоей
руке? Что так светится и сверкает?
юлиан. О чем взыскуют и олень, и орел, и змея? Чтобы растением
и камнем, омовением и питьем обновить свою жизнь, ибо
дважды рождены бывают лишь избранные. Огниво держу я
в руках, эликсир новой жизни, бальзам свободы!
Сигизмунд, содрогнувшись, отшатывается от флакона в
руках Юлиана.
(Антону.) Поговори с ним. Скажи ему о поездке.
антон. Ура! Сигизмунд! Мы отправляемся в путешествие! Мир
велик! Мир прекрасен! Поднимайся с соломы!
сигизмунд. Увы! Я обречен пребывать в темноте!
юлиан. К свету же! И к такому свету, что не ослепнуть может
лишь молодой орел. Выпей вот это.
сигизмунд. Ты учил меня, что они зельем отравляют своих плен-
ников. Но прежде скажи мне, кто я, и я последую за тобой
как овца.
Юлиан подходит к двери и делает кому-то знак. Входит
396
Гуго фон Гофмансталь
слуга с бокалом. Юлиан берет у него бокал, наливает в него
жидкость из флакона, который снова прянет на поясе.
Слуга исчезает.
юлиан (подносит питье Сигизмунду). Ты — это ты. Ты даже и
близко не представляешь себе, что значит жить. Знай же: в
мире весят только деяния. Знаешь ли ты, что это такое? Пей
же и смотри сам.
сигизмунд (падает перед ним на колени). Скажи мне, кто я?
Антон. Да скоро они тебе сами все скажут — там, где очутишься.
Только не забегай вперед, людей это сердит! Ну, опрокиды-
вай шкалик-то!
сигизмунд (отшатываясь). Боюсь! Я вижу по его глазам, что
обречен на смерть, Антон!
юлиан. Довольно слов! Пора начинать путешествие.
сигизмунд. Помоги мне, Антон!
Антон (становясь на колени рядом с Сигизмундом). Только пусть
он останется жить, ваша милость! Только не убивайте его!
Ведь такой молоденький! Можно и намордник ему надеть,
чтобы ни с кем больше не разговаривал, лишь бы остался
жив, ваша милость!
юлиан. Кликнуть слуг, чтобы они силой препроводили тебя к
твоему же благу?
сигизмунд. Неужели ты заготовил мне такое зло под конец?
(Встает и стоит какое-то время в глубокой задумчивос-
ти.) Я выпью. (Берет бокал и выпивает, неотрывно глядя
при этом на Юлиана, потом возвращает ему бокал. Делает
несколько шагов в глубину и садится на пол.)
Антон всхлипывает. Юлиан подзывает его и отдает бокал.
Сигизмунд сидит на полу, прислонившись головой к стене.
АНТОН (уронив бокал, идет к Сигизмунду). Поддержу его голову.
Не умирать же ему, лежа головой на голом камне.
юлиан (удерживает его). Помолчи, дурак! При чем здесь смерть,
когда он только начинает жить.
Башня
397
Антон. Посмотрите, ваша милость, какой кроткий у него вид.
(Склонившись над Сигизмундом, гладит его ноги.) Разве вы
не видите, ваша милость, на лице у него сияние, как у свято-
го? О святой просветленный мученик наш!
юлиан. Ничего я не вижу, кроме начавшегося действия эликсира.
Снадобье стоило своей мзды.
Сигизмунд открывает глаза.
Антон (стоя над ним на коленях). Глянь-ка! Свет святой вошел
теперь в него, как масло в пышку! Неплох, видать, эликсир.
И я бы не прочь полакать маленько. (Хочет приложиться к
бокалу.)
юлиан (наступает на бокал). Не смей!
сигизмунд (встает, идет вперед). Какое скопище мыслей в голо-
ве! Они теснятся в ней, как закованные в латы короли.
Антон. А воинственные у него мысли!
сигизмунд (улыбаясь). Я все жаловался, что отец мой недоступен.
(Тихо смеется.) А отец мой со мной. Человек с трудом
узнает то, что совсем рядом с ним: видит стены, а не видит
того, кто вместе с ним в комнате. Здесь (скрещиваетруки на
груди) сходятся четыре конца света, быстрее орла я мчусь от
одного к другому, и все же весь я из цельного куска, плотно-
го, как черное дерево, — вот в чем тайна.
Антон. Красиво малец заговорил — как по книжке!
юлиан. Помолчи и позови слуг!
Антон (идет к железной двери, которая приоткрыта). Они уже
здесь!
Сигизмунд приближается к ним с дружеской улыбкой, но
явно не узнавая их. Неслышно входят двое переодетых в
рясы слуг, останавливаясь около двери.
сигизмунд (Юлиану и Антону, но как незнакомцам). Ангел и черт
— одно и то же, тайная мысль у них одна. (Подходит к ним
еще ближе.) Сказать ли вам ее? Человек — вот единственное
великолепие, и у него не слишком много страданий и боли,
398
Гуго фон Гофмансталь
но слишком мало. Поистине говорю вам! (Изменившимся
голосом.) Что-то поджимает меня. Все страхи отпали.
Только ногам вдруг стало так холодно. Согрей их мне,
Антон.
Антон (подходит к нему). Стало быть, ты узнаешь меня?
сигизмунд. Сунь их в пещь огненную, в оной же поют юноши, мои
братья: Тебя хвалим мы, Господи! Лицом к лицу! Избран-
ные! (Вскидывает руки.) Я иду! (Падает.)
Двое слуг подходят к нему.
Юлиан. Княжескую одежду заготовили? Сапоги, пояс — все как
подобает? Оденьте его соответственно сану!
Слуги поднимают Сигизмунда.
(Покрыв его своим плащом, Антону.) Вели запрягать!
Эскорт пусть приготовится выступать. Охрана в ружье.
Подашь знак. Вперед!
Антон, подняв свое полотенце, убегает. Слуги выносят
Сигизмунда. Юлиан следует за ними. Слышен звук трубы.
Занавес
*
Акт третий
*
Покои почившей королевы в королевском дворце. На заднем
плане — высокое окно. В правой стене — альков с кро-
ватью, задернутой пологом. Слева — молельня, соединен-
ная с церковью. Посередине левой стены, напротив входной
двери, — камин. Из молельни есть потайной ход, дверь в
него сейчас приоткрыта. Здесь можно, оставаясь незаме-
ченным, через окошко молельни разглядывать покои. Их
стены, как и стены молельни и алькова, выдержаны в мали-
новых тонах. Ставни на окнах закрыты. В алькове горит
лампада. Открыв одну створку двери, входят Кастелян и
двое слуг. Слуги растворяют деревянные ставни. За
окнами ясный день.
кастелян (позвякивая большой связкой ключей). Здесь почила
благочестивая королева! Парадным входом сюда никто не
проходит вот уже двадцать один год. Две почтенные сестры,
что молятся здесь с полуночи до рассвета, отбывая епи-
тимью, входят через эту маленькую дверь, что ведет на вин-
товую лестницу. По ней можно спуститься в ризницу.
Снизу доносятся звуки органа и пение монахинь. Кастелян
подходит к алькову, окропляет кровать святой водой из
серебряной плошки, помещенной у полога, затем благого-
вейно задергивает его. За дверью слышны приближающиеся
шаги, затем троекратное постукивание алебарды о
каменный пол. По знаку Кастеляна слуги торопятся к две-
400
Гуго фон Гофмансталь
ри, чтобы распахнуть обе ее створки. Входят придворные,
телохранители, слуги с жезлами, пажи с восковыми све-
тильниками. Затем — знаменосец с королевским флагом, на
котором вышит серебряный орел, за ним — паж, несущий
на маленькой подушечке молитвенник и перчатки Короля.
Король — с повязанной сбоку кривой саблей, с
польской шляпой в руке. Сразу за ним — его Исповедник,
Юлиан, затем, попарно, придворные, потом четыре камер-
динера. Последним — Врач с Помощником, молодым чело-
веком в очках, за ними — Антон, который несет накры-
тый серебряный таз. Король останавливается посередине
покоев, снимает свою шляпу. Паж подбегает к нему и при-
нимает шляпу, опустившись на колено. Король берет с
подушки, которую ему протягивает коленопреклоненный
Паж, перчатки, надевает левую на руку, а правую засо-
вывает за пояс. Телохранители и слуги с жезлами, обойдя
зал, уходят, Кастелян и прочие слуги — за ними. Двое слуг
с жезлами остаются у дверей после того, как они закрыва-
ются. Придворные встают слева, перед молельней, Юлиан
— крайним справа. Врач с Помощником стоят у дверей.
Король подходит к алькову. Один из камердинеров, подбе-
жав, открывает полог. Другой подает Королю кружку с
зачерпнутой из плошки святой водой. Король окропляет
ею кровать, потом встает на колени, застыв на какое-то
время в молитвенной позе. Исповедник стоит на коленях
рядом с ним. Затем оба встают, Король занимает место в
центре покоев. Исповедник держится несколько позади.
Пение и игра на органе прекращаются.
король (Исповеднику). У постели моей почившей супруги я
молился за себя и за него. Краткая молитва чудесным обра-
зом освежила мне душу. (Жестом подзывает к себе Врача.)
Вы настаиваете на том, чтобы не присутствовать?
врач. Ваше величество уже соблаговолили разрешить мне
появиться снова в том, и только в том, случае, если возник-
Башня
401
нет необходимость еще раз усыпить принца. Мой помощник
просвещен на сей счет, то есть владеет необходимыми навы-
ками, но обо всех обстоятельствах он не ведает. (Тише.) Он
видит в принце душевнобольного, к которому ваше величе-
ство проявляют участие вследствие самого отдаленного род-
ства. На всякий случай я пропитал губку эссенциями, дей-
ствие которых необоримо. И оно наступает, едва человек
вдохнет — даже против воли — запах этих эссенций. Вон
тот слуга держит губку в закрытом сосуде. Он хорошо
знал заключенного, что может оказаться кстати. Впрочем,
молю Господа о том, чтобы сии приготовления были излиш-
ними.
король. Об этом мы не перестаем молиться вот уже девять дней и
ночей. Мы очень сблизились с вами за это время. Вы слав-
ный человек, и с этого часа мы рассматриваем вас как своего
преданного лейб-медика. (Протягивает Врану руку для
поцелуя, тот склоняется над ней.)
Вран идет к дверям, которые распахивает перед ним слуга
с жезлом. Вран еще раз кланяется и уходит.
Не лишай меня постоянной поддержки, досточтимый отец. Я
поддался уговорам советчиков. Слабую природу свою чело-
веческую я отдал во власть высших сил.
исповедник. И Святое писание...
король. Знаю. И язычники. Даже язычники. Были ведь высшими
чиновниками в Риме, сравнимыми с королями. И не останав-
ливались перед тем, чтобы собственного сына...
исповедник. Двум сыновьям в один день велел консул срубить
головы.
король. Двум! В один день! В чем же была причина? Наличие при-
чины — вот что важно.
исповедник. Причина одна — необходимость восстановить
попранный закон.
король. Как-как? Закон? Закон...
исповедник. Закон и власть — одно и то же.
402
Гуго фон Гофмансталь
король. Отцовская власть... Ведь отец — создатель... Власть его
выводится непосредственно...
исповедник. Вся власть — из власти Творца, источника всего
бытия.
король (отступает на ишг от придворных, привлекает к себе
Исповедника). Стало быть, мне будет отпущено, коли я
сочту необходимым отправить его, своего кровного сына,
обратно, туда, где не взвидит он солнца?
исповедник. Ты сомневаешься? Ведь это необходимо для предот-
вращения непредсказуемого зла!
За дверью слышится какой-то шум.
камердинер (выходит, разговаривает с кем-то через приотво-
ренную дверь. Затем возвращается, подходит к Королю,
опускается перед ним на колено).
Прибыл Шталмейстер, сопровождавший принца; он опере-
дил его, выбрав путь покороче. Скоро и сам принц прибудет
в замок.
По знаку Короля слуга открывает дверь, впуская Штал-
мейстера. Тот быстро подходит к Королю, преклоняет
колено. Король знаком велит ему говорить.
шталмейстер. Докладываю вашему величеству: сей чужестранец
принц плохой оратор, ибо почти не открывает рта, но могу
поклясться, наездник он прирожденный.
король. Вот как?
шталмейстер. Он подошел к подведенной ему лошади и поначалу
сделал вид, будто ни разу в жизни не вдевал ногу в стремя.
Принял от меня удила, потом начал садиться на лошадь — да
сунул в стремя правую ногу, так что конюхи покатились со
смеху, а гнедая забеспокоилась. Тогда принц бешено взгля-
нул на нас да как прыгнет в седло без всяких стремян и ну
гарцевать на взвившейся лошадке. Такого искусного наез-
дника свет не видел.
Король смотрит на Юлиана.
Башня
403
юлиан. Он ни разу в жизни не сидел на лошади! Я никогда не забы-
вал о строжайшем запрете.
король. Самообладание беспримерное! Но не чудовищное ли тут
притворство?
юлиан. Что вы имеете в виду, ваше величество?
король. Лиц, назначенных нами ему в свиту, он не удостоил даже
взгляда. Как-то он заговорит, когда очутится перед нами?
юлиан. Учтивейшим образом, но, разумеется, не так, как принято
при дворе.
король. А как же?
юлиан. Как, может быть, разговаривают ангелы. Его язык — это
язык подавленной внутренней муки. Он похож на надрублен-
ное дерево, которое само выделяет целительный сок.
Шталмейстер, поклонившись, отходит.
король (знаком подзывает к себе одного из придворных). Этот
юный кавалер, приставленный нами к принцу...
придворный. Граф Адам с Белой Горы...
король. ...ему втолковали, чтобы он вопросами да расспросами —
как это водится у молодых людей — незаметно выяснил, чем
. принц дышит?
придворный. Граф знает, что вы, ваше величество, соблаговолите
незримо присутствовать при том разговоре, который он
поведет с принцем якобы с глазу на глаз.
король (Юлиану, тихо). Внушено ли мальчику понятие о высшем
авторитете? Понятие безусловного послушания? (Строго
смотрит на него.)
юлиан (выдерживая этот взгляд). Пусть не забывает мой король,
что он не знает ни этого мира, ни своего места в нем. Но он
знает другое, высшее: глаза его устремлены к звездам, а
душа — к Богу.
король. Будем надеться, что этого достаточно. (Громко.) Ибо мир
разъярился, и мы полны решимости потушить разбушевав-
шийся пожар; если понадобится — залить его кровью.
404
Гуго фон Гофмансталь
Придворные, стоящие сзади, сгрудились у окна. Пажи
пытаются заглянуть в окно через их спины. Король заме-
чает это.
камердинер. Принц соскочил с коня. Граф Адам хотел подержать
ему стремя, но он опередил его. Повернулся к порталу и
вошел в замок.
король (Юлиану, с трудом владея собой). Пока я не хочу его
видеть. (Отводит Юлиана подальше от придворных, ближе
к авансцене.) Великий миг, ужасный, решительный миг!
юлиан (пабает на колени). Слова его звучат иной раз озлобленно,
резко. Проявите же мудрость и долготерпение, ваше величе-
ство, вспомните о том, что у него никогда не было друга.
король. И у меня никогда не было друга.
юлиан (оставаясь на коленях). Этот юноша еще и шага не сделал
без кандалов!
король. И я, граф Юлиан, еще не сделал ни одного свободного
шага.
юлиан (на коленях). Будь терпелив и милосерд к испытуемому,
великий князь!
король (смотрит на него). О мудрый Юлиан! Оставайся же всегда
его советчиком, более к нему расположенным, чем мои — ко
мне! (Снимает с шеи золотую цепь с белым орлом из драго-
ценных камней и надевает ее на Юлиана.) Sic nobis placuit1.
(Протягивает Юлиану руку для поцелуя, поднимает его.)
Вновь звучит орган, но без пения.
За дверью слышен какой-то шорох. Камердинер идет туда
и о чем-то говорит со стоящими за ней. Потом оборачи-
вается к Королю. Король подзывает его.
камердинер. Принц хотел бы пройти во внутренние покои отдох-
нуть с дороги.
король. Что он говорит?
камердинер. Ничего, кроме того, о чем я доложил.
1 Так нам угодно (латин.).
Башня
405
Король кивает.
исповедник. Он хочет пройти в дом отца. Ducunt fata volenten1.
Орган звучит чуть громче.
король (заметив это). Что такое? Это из церкви? Велите прекра-
тить...
юлиан. Позвольте им играть, мой король. Душа его чувствительна
к звукам, а он — соблаговолите вспомнить — какую же
музыку мог он слышать, кроме грубого барабанного боя или
резких сигналов трубы!
король (знаком подзывая к себе одного из придворных). Собери
свиту во дворе.
Слуги с жезлами распахивают двери, пажи убегают, за ними
уходят два камердинера, другие придворные. Король подхо-
дит к оставшейся группе. Входит Кастелян с ключами и,
передав их старейшему из придворных, снова уходит.
Друзья мои, приносившие мне присягу, подождите теперь
здесь. Пройдите в комнату перед молельней, где королева
дожидалась начала мессы. То, о чем я стану говорить с прин-
цем, не терпит чужих ушей. Если же я выйду с моим юным
гостем на галерею и в знак расположения по-отцовски
положу руку ему на плечо, то велите трубить трубачам, ибо
то пробил великий час королевства.
Все, кроме Исповедника, проходят через маленькую дверь
молельни в потайной ход. За ними следуют и Помощник
врача с Антоном.
Антон (проходя, Юлиану). Мне снились какие-то помои и что зубы
выпали. Плохо кончится!
король (делает знак Исповеднику подождать, потом Юлиану —
подойти). В груди моей горят те слова моего почившего в
1 Судьба потворствует желающему (латин.).
406
Гуго фон Гофмансталь
Бозе деда, императора Карла Пятого, с которыми он пере-
дал корону и свои страны единственному сыну, дону Филип-
пу. Если бы моя смерть, сказал он, даровала тебе эти стра-
ны, то я вправе был бы рассчитывать на твою благодар-
ность. Теперь же, когда я вручаю тебе их свободным реше-
нием воли, когда я сам тороплюсь навстречу смерти, чтобы
освободить тебе место для наслаждения властью, теперь я
требую, чтобы ты вернул долг благодарности подвластным
тебе народам. (Глаза его полны слез.)
ЮЛИАН (встает на колени и целует ему руку). Да откроется тебе
душа его! Разве хрусталь не тяжел и не благороден одновре-
менно? Так и он, если ты сумеешь его разглядеть.
король. Может быть, и я удалюсь до конца своих дней в монастырь
— пусть мой сын вернет подданным то, что задолжает мне.
(Выражение лица его меняется, он подзывает к себе Испо-
ведника.)
Юлиан отходит в сторону.
Где, однако, проходит граница, переступив которую человек
должен подвергнуться жесточайшему наказанию перед
Богом и людьми? Где она, отец мой, где?.. Молчишь! А если
он поднимет на меня руку?
исповедник. Этого не допустит Бог!
король. И тогда ведь найдутся такие, что скажут: несчастная
жертва государственных соображений, утратив рассудок, не
отвечает за свои поступки.
исповедник. Мудрые судьи, мой король, пришли к заключению,
что и пятилетний ребенок может быть привлечен к суду и
закончить жизнь на плахе, если он уже способен различать
между протянутым яблоком и медной монетой.
король (улыбаясь). Пятилетний ребенок! Удивительно мудрое
заключение! Чудесное правило! Принц, который держится
на лошади, как прирожденный король, и от гордости не удо-
стаивает словечком благородную свиту, уж во всяком слу-
чае, не пятилетний ребенок.
Башня
407
камердинер (быстро войдя через правую дверь; привстав на коле-
но). Идут!
король. Кто с ним?
камердинер. Принц властным жестом остановил прислугу. Граф
Адам один поднимается с ним по лестнице.
король. Удались! Туда. К остальным. И ты тоже, досточтимый
отец. (Юлиану, после того как Камердинер и Исповедник
ушли.) Останься!
Видно, как Камердинер, а за ним Исповедник исчезают в
потайном ходе. Потом туда проходят и Король с Юлиа-
ном; остановившись у окошка, они смотрят в помещение.
Какое-то время зал пуст, потом двери распахивает граф
Адам; пропустив Сигизмунда, он закрывает двери. Сигиз-
мунд одет по-княжески, однако без оружия на поясе. Войдя,
он оглядывается по сторонам. Подходит к окну, смотрит,
потом идет на середину комнаты.
граф адам. Это на тот случай, если вы захотите отдохнуть, ваша
милость. Эта комната отведена вам по указанию князя —
хозяина этого дворца, гостем которого вы являетесь. (Раз-
двигает занавес алькова и учтиво указывает на кровать.)
Сигизмунд подходит ближе, смотрит на кровать, на аль-
ков, на огонь лампады; какое-то смятение овладевает им,
он отходит.
(С наигранной непринужденностью.) Но это же та кровать,
на которой вы проснулись сегодня утром. Дело в том, что вы
прибыли несколько неожиданно, на рассвете. В карете вы
крепко заснули, и вас отнесли в первую попавшуюся комна-
ту. Эта, более вас достойная, была меж тем приготовлена.
Сигизмунд продолжает все разглядывать, замечает свое
изображение в зеркале над камином, пугается чего-то, пря-
чет руки под мышками. Лицо его выражает недоверие и
408
Гуго фон Гофмансталь
напряженную бдительность. Внезапно он опускает голову.
Граф Адам мгновенно подставляет ему стул у камина,
Сигизмунд благодарит его слабой улыбкой и жестом, опус-
кается на стул.
король (наблюдая сцену вместе с Юлианом из своего укрытия). В
высшей степени благородно! Он князь в любом своем жесте!
(Опирается на Юлиана.)
сигизмунд. Я голоден!
граф адам. Прикажу подать вам закуску. — Покорнейше прошу
принять хлеб и бокал вина, пока только это, чтобы утишить
острый голод. (Хлопает в ладоши, обернувшись к двери.)
Эй, слуги! Мой повелитель рад разделить с вами празднич-
ную трапезу. Вы будете сидеть от него одесную, а за креслом
вашим будут стоять его подданные, которые исполнят любое
ваше желание. Король же будет рядом и встретит ваш
взгляд, которым вы (встав на колено) не преминете выра-
зить благородный и счастливый порыв вашего сердца.
Сигизмунд оглядывает его с головы до пят, как бы спраши-
вая: кто ты таков, что позволяешь себе так со мной раз-
говаривать?
король. Плоть от плоти жены моей! И тот же нрав. Уже в самой
его строгой сдержанности чувствуется отпор любой попытке
бесцеремонного сближения! (Юлиану). Ступай! Приготовь
его! До конца! Скажи ему все!
юлиан (тихо). Все? И самое последнее?
король (в слезах). И последнее! Скажи, что отец его здесь и хочет
прижать его к своему сердцу! А потом открой мне дверь и
оставь меня наедине с ним. Ступай!
Юлиан через молельню входит в опочивальню. Орган
короткое время звучит громче, потом постепенно зати-
хает и становится едва слышен. Граф Адам замечает
Юлиана первым, кланяется еМуч ц0 знаку Юлиана он отхо-
дит к двери, низко кланяется оттуда Сигизмунду и ухо-
Башня
409
бит. Сигизмунд поворачивает голову, замечает Юлиана,
резко встает, поворачивается к нему спиной. Он заметно
дрожит.
юлиан (опускается позади Сигизмунда, в трех шагах от него, на
одно колено; ему также не удается справиться с волнением;
тихо). Принц Сигизмунд!
Сигизмунд, словно защищаясь, с мольбой поднимает руки,
издав тихий, испуганный вздох, но не поворачиваясь к
Юлиану.
Да, это я. (После паузы.) Вот путешествие, которое я тебе
обещал. Этот дом — его конечная цель.
Сигизмунд быстро оглядывается, но тут же снова повора-
чивается к нему спиной.
Здесь все! Что означает это слово, ты не можешь измерить,
но, слыша его, ты о многом можешь догадаться. Ты мудр: ты
принимаешь мир таким, каков он есть. Во всякое мгновение
твоей жизни ты принимаешь его таким, каков он есть, ты не
хочешь его изменить, потому что научился его познавать.
Сигизмунд медленно поворачивается к нему.
(Встает с колена, но не приближается.) Ты сказал себе, что
это отец — тот, кто распоряжается твоей судьбой, и раз ты
здесь — значит, он близок тебе. Ты сказал себе это, Сигиз-
мунд, потому что ум твой остер и проникает в суть вещей. Ты
понимаешь, что пути отца твоего для тебя неисповедимы,
как невнятно животному то, что ты с ним делаешь. Ты бы не
хотел жить без присутствия высшей силы, таков твой ум. Ты
не спрашиваешь себя: что случилось со мной?
Сигизмунд качает головой в знак отрицания.
Ты не спрашиваешь себя также: почему так случилось?
Сигизмунд качает головой в знак отрицания.
410
Гуго фон Гофмансталь
Ибо сердце твое не суетно. Ты почитаешь власть, которая
выше тебя. Тебе по душе все высокое, ибо сам ты высок
душою. Готов ли ты теперь?
сигизмунд. Куда ты ведешь меня?
юлиан. Постой. Не прячь свои руки. Показывай их без стыда.
Запомни одно: я слуга отца твоего. Мужчина во всякое мгно-
вение своей жизни должен думать о высшем.
Сигизмунд застыл в неописуемом напряжении.
(Оглянувшись.) Сигизмунд, наследный принц Польский, гер-
цог Готляндский, я должен возвестить тебе о визите авгус-
тейшего отца твоего.
Звуки органа становятся громче, мощная мелодия vox
humana1 нарастает. Сигизмунд стоит отрешенно. Потом
пытается понять, откуда льются эти звуки, смотрит на
потолок, сильно дрожит. Слезы брызнули из его глаз.
Да будет так! Пусть звуки органа вольют в твое сердце это
слово: отец. Отче, Создатель неба и земли! Лицом к лицу! На
колени!
король (встает на колени и молится). Сотвори чудо, небесный
Отец наш! Примири его с его судьбой, слепым орудием коей
я был. Аминь. (Встает с лицом, залитым слезами.)
Сигизмунд падает на колени, прячет лицо в ладонях. Юлиан
спешит к двери, открывает ее, впускает Короля. Звуки
органа становятся тише. Король стоит посреди комна-
ты. Подходит к Сигизмунду, который продолжает сто-
ять на коленях, спрятав лицо. Юлиан исчезает за потайной
дверью в коридоре.
(После паузы.) Говори же, сын мой. Дай мне услышать твой
голос.
Сигизмунд стоит на коленях, не поднимая головы.
«Глас человеческий» — один из регистров органа (латин.).
Башня
411
Сын, мы простили тебе. Ты вернулся в свой дом. Наши объ-
ятия раскрыты. Дай же увидеть твое лицо!
Сигизмунд резко, как от судороги, вздрагивает, отворачи-
вается к стене, становится подле нее на колени, прижав
лицо к камню.
Нет, мы повинимся сами. Мы склоняемся перед тем, кто
страдал. (Наклоняет голову.) Пре-клоняемся.
Сигизмунд дрожит, прянет голову за креслом.
Как святой Мартин, когда он повстречал нагого нищего, дро-
жащего от холода, так и мы — отсекаем часть своего плаща!
(Хватается за мен.) Смотри же! Делиться ли нам с тобой
своим королевским плащом? Или (решительно вкладывает
меч обратно в ножны) ты дашь прижать себя к нашему сер-
дцу, чтобы ты мог изведать его теплоту? (Простирает
руки.)
Сигизмунд поднимает голову, смотрит на него.
Встань же, мой сын, и спокойно подойди к своему отцу.
Сигизмунд встает.
Дай услышать твой голос, молодой князь! Мы жаждем его
слышать. Слишком долго его нам недоставало.
Сигизмунд пытается говорить, но с губ его не слетает ни
одного слова.
король. Что же ты шепчешь? Добрый ли дух шевелит твоими губа-
ми? Ах, если бы так!
Сигизмунд пытается и не может говорить.
Скажи вслух, что ты растроган, и довольно. Ты ведь не
можешь знать, в чем провинился перед нами.
Сигизмунд мучительно борется с собой, он нем.
412
Гуго фон Гофмансталь
(Делает шаг в его сторону.) Нам нужен мудрый сын. Мы
желаем видеть юного князя, который дорос до больших дел.
Мы желаем узнать самих себя в блеске и силе нашей юности.
Мы ждем.
Сигизмунд отходит от него.
Не робей от нашего присутствия, хотя бы и из почтения.
Ведь твои глаза — это наши глаза! Запомни это раз и навсег-
да, наследный принц Польский. Правитель подданному, а
отец сыну не сделает дурного. Мы могли бы без всякого суда
положить твою голову на плаху — такова данная нам святая
власть, и ни один человек не посмел бы осудить нас за это.
Ибо мы были прежде тебя — стало быть, ты дан нам самим
Господом Богом.
Сигизмунд знаками показывает, как он страшится власти,
какой ужас внушают ему руки Короля.
(Поняв его.) Руки? Ты боишься наших королевских рук? Они
милостивы и благотворны, они исцеляют больных своим
прикосновением. Но они привыкли к почтению, истинно так,
сын мой. Руки короля красноречивее уст мудреца. Их знак —
это приказ, а приказ включает в себя весь мир, ибо подразу-
мевает послушание. Приказывая, король уподобляется
своему Творцу. Как приказал некогда Бог: да будет свет! Так
приказываю ныне тебе я: да будет свет в твоей душе и послу-
шание в твоем сердце! Достичь последнего тебе будет
нетрудно, ибо куда бы ты ни ступил и на что бы здесь ни упал
твой взгляд — все это принадлежит мне!
Сигизмунд со страхом ощупывает себя.
Все! И твое тело! Мы зачали тебя здесь, в этих самых поко-
ях, вон там, на этом самом княжеском ложе.
Сигизмунд издает стон.
(Снова подходит к нему.) Что твое сердце? Стеснено ли от
Башня
413
чувства? Жаждет ли бросить тебя к нашим ногам? Трепе-
щешь ли ты от благоговения? Да, на тебя столько всего
обрушилось сразу.
сигизмунд. Откуда — столько власти?
король (с улыбкой). Благочестива лишь полнота власти: она не
делима, и в ней мы одиноки. Такова власть короля. Всякая
прочая — получена от него и не более чем видимость.
сигизмунд (с большой силой). Откуда?
король. От самого Бога. От Отца, Коего ты знаешь. В день, назна-
ченный Господом, мы вступили в наши права как Его наслед-
ник. Глас герольда разнесся по четырем сторонам света — и
корона коснулась помазанной головы. И плащ этот лег нам
на плечи. Так в Польше снова явился король. Ибо умереть
может Базилий или Сигизмунд, но король не умрет. Пони-
маешь ли теперь, кто перед тобой?
сигизмунд. Открой же мне свою тайну! Покажи мне свое лицо!
Откройся мне! Я никогда еще не целовал человека. Поцелуй
меня с миром, отец. Но прежде возвысь меня до себя, чтобы
мне стать рядом с тобой! Будь со мной таким, каким ты
хочешь, чтобы я был с тобой! Открой мне свое лицо!
Покажи мне, от чего ты страдал! Как тебя бичевали?
Покажи мне свои раны! Отец! Возьми меня к себе!
король. Довольно! Эта маска мне не нравится. Приди в себя, принц
Польский. Вспомни, откуда я, твой король, призвал тебя и
куда возвысил.
Сигизмунд стоит опешив.
Сядь-ка сюда, к моим ногам, мой сын. (Садится на высокий
стул, Сигизмунд — у его ног на низенький. Король долго
всматривается в него.) Ты честолюбив и жаждешь власти
— это я прочел в твоих чертах. Тебя научили пылкими сло-
вами завоевывать сердца. Да послужит тебе все это во благо
после моей смерти. (Берет его руку.) Верь только мне и
никому больше. Уметь защищать себя от злокозненных
советчиков — вот в чем нуждается прежде всего король. Они
414
Гуго фон Гофмансталь
как змеи на нашей груди. Ты слышишь меня, сын мой? Отве-
чай же.
сигизмунд. Слышу, отец.
король. Ты замкнут, мой сын. Ты хитер и ловок. Я вижу, что ты
способен на любое дело. Я поручу тебе первое — и самое
большое. (Встает, вслед за ним — и Сигизмунд.) Избавь
меня от сего злокозненного слуги. Освободи меня от змеи по
имени Юлиан, которая опутала нас обоих.
сигизмунд (смотрит на него). Как это, отец?
король. «Как это, отец?» Как? Заковать тебя?Держать под своей
плеткой наследника трех корон? И при этом уверять меня в
твоей дикости! Отравлять мои дни и ночи своими россказ-
нями о бешеном мальчике с глазами убийцы! Пугать меня
призраком прирожденного мятежника! Понимаешь ли, сколь
изворотливо сатанинское зло? Понимаешь, как вбивал он
клин меж отцом и сыном в продолжение двадцати лет? Что
это за всеобщий бунт, угрожая которым он снова берет при-
ступом мое сердце? В чьих же руках, как не в его, нити заго-
вора? И с какой целью соединяет он с этими кознями твое
имя? Догадываешься ли, мой бедный сын, с какой целью?
Приковать тебя к себе общностью совершенного против
меня злодеяния, стать необходимым тебе на всю жизнь, уни-
зить тебя до положения игрушки в своих руках, сделать из
тебя второго Базилия, а из себя — второго Игнатия!
сигизмунд. Вот вам величие короля! Оно грезилось мне, когда я
костью отбивался от всякой нечисти! (Прячет лицо в руках.)
король. Я не спрашиваю тебя о том, кто раздувает пламя возмуще-
ния в моих землях. Я не допрашиваю тебя. Я не хочу, чтобы
ты выдавал мне своего учителя. Я сам выдам тебе его. Пусть
судьба его будет в твоих руках. Я же говорю с тобой как
король с рожденным мною королем. Кто устоит против двух
королей, если они вместе? Вот, возьми это кольцо. Надень
его на палец. Тот, кто носит его, — господин. Моя гвардия
повинуется ему. Министры исполняют его приказы. Я снял
его с пальца всемогущего дьявола. Носи его, сын мой. (Наде-
Башня
415
вает кольцо на палец Сигизмунду.) Действуй ты — за нас
обоих. Будь умен, будь силен, будь отважен. Рванись вперед
из моих объятий и рази, как молния! Арестуй этого Юлиана
и смотри, чтобы пламя бунта не вспыхнуло, как куча хворо-
ста! Каждый твой шаг пусть будет грозен, быстр и решите-
лен. Смиряй злокозненных прежде, чем они перейдут от
смутного недовольства к бунту. Натравливай сословие на
сословие, край против края, имеющих дом против бездом-
ных, крестьян против господ. Слабость да глупость людская
— вот твои союзники, надежнейшие, неутомимейшие. Но
твое первое деяние пусть будет крутым, ужасающим, захва-
тывающим дух — казни этого Юлиана. Могущество этого
кольца на твоей руке неизмеримо. Оно отменяет всякий суд.
Оно влагает топор палача прямо в руки спутника, сопрово-
ждающего тебя в ночной поездке. Оно уравнивает тебя со
мной, мой сын, чтобы ты мог действовать за нас двоих.
Отныне один король в Польше, но он един в двух лицах. Горе
нашим врагам! (Простирает руки.)
сигизмунд (отступает). Кто ты, сатана, отнимающий у меня
отца и мать? Признавайся! (Бьет его по лицу.)
король. Свита! Ко мне! На колени, безумец!
сигизмунд (хватает его). Что ты скалишься? Почему у лица
твоего такой мерзкий вид? Как-то раз я задушил уже своими
руками лису. Она воняла, как ты! (Отталкивает его от
себя.)
король. На колени, мятежный зверь! Никто тебя не услышит! Уж
мы тебя обуздаем! Вздернем на веревке на глазах у всего
народа!
сигизмунд. Теперь я здесь! Теперь полетят пух и перья! Я пришел!
Я хочу! Я муж, а не баба! Мои волосы коротки и жестки. Я
выпущу когти. Сей час породил меня на твою погибель.
король. Неприкосновенен! Король! На помощь! (Хочет бежать
налевоу Сигизмунд преграждает ему путь.)
голос пажа (слева). Король зовет!
сигизмунд (схватывается с Королем, отнимает у него меч,
416
Гуго фон Гофмансталь
замахивается им). Приказываю! Сюда! На землю! Хочу
попрать тебя! С тех пор как я здесь, я король! Иначе зачем
ты призвал меня?
Король стонет от боли.
Хрипи же! Шуми! Кричи! До хрипоты, до смерти! Мантию
мне!
Король хочет бежать. Слева показывается в потайном
ходе Юлиан, он вбегает, но тут же снова отступает.
Сигизмунд с занесенным мечом бежит за Королем. Король
падает. Сигизмунд срывает с него мантию и накидывает
себе на плечи. Слева появляются пажи с криками «На
помощь!». Несколько придворных вбегают в комнату через
молельню. Ход заполняется вельможами, камердинерами,
пажами. Все наперебой кричат: «Кто звал на помощь?»,
«Что случилось?», «Сюда!», «Король мертв!» и т. д. Вбе-
жавшие в комнату сгрудились слева.
(Твердо глядя на них.) Тихо! Нечего глазеть на труп старика!
На колени! Целуйте землю под ногами нового своего госпо-
дина, а эту падаль выкиньте на свалку — живо! Передние
двое! (Указывает на двоих острием меча.) Унесите погань!
Приступайте! Я не желаю это видеть!
Придворные не шевелятся. За ними уже целая толпа. Двери
слева открываются. Показывается Юлиан. Оглядевшись,
он одним прыжком оказывается в комнате. С собой он при-
нес флаг империи, который протягивает Сигизмунду,
падая перед ним на колени.
юлиан (кричит). Да здравствует король!
сигизмунд (подхватывает флаг левой рукой). Сюда все! Перед ва-
ми ваш повелитель! Привыкайте! Будете терпеть от меня, как
куры от ястреба! Мое слово не разойдется с делом. Знайте:
власть моя будет тверда, как и воля. На колени! (Бросает меч
им под ноги.) Вот! Мне он не нужен! Я и так ваш властелин!
Башня
417
Кое-кто в передних рядах встает на колени.
граф адам (вскрикивает). Король жив! На помощь его величе-
ству! (Вырывает знамя из рук Сигизмунда.) В Польше
только один король!
Два камердинера пробираются вдоль левой стены и захо-
дят за спину Сигизмунда. Один из них набрасывается на
Сигизмунда и валит его на пол. За ним на него набрасыва-
ются и другие. Его тащат в альков. Вельможи и пажи
торопятся к Королю, помогают ему приподняться. Пажи
приносят мантию, надевают ее на Короля. Исповедник
поддерживает его. Из алькова слышится крик: «Связа-
ли?» — потом другой голос: «Врача!» Помощник врана и
Антон с прикрытой нашей последними выходят из молель-
ни. Помощник направляется к алькову, куда его зовут
жестами. Он оглядывается на Антона, который прижи-
мает чашу к себе. Несколько человек подбегают к нему,
вырывают чашу, быстро уносят в альков. Король встал.
граф адам (запыхавшись, выходит из алькова, бросается на
колени перед Королем, протягивает ему кольцо). Я сзади
подрезал ему сухожилия, как оленю. Он лежит.
молодой придворный (ему в тон). Я швырнул его на кровать.
другой придворный (так же). Мы сунули губку ему под нос, и
теперь он безвреден.
Из толпы выходит Юлиан. Он смертельно бледен и как
будто не помнит себя. Машинально подходит он к левой
стене и встает там, где стоял и прежде. Несколько вель-
мож встают позади него, бросая на него гневные взгляды и
держась за рукоятки кинжалов. Король, кажется, не заме-
чает Юлиана. Тот вдруг осознает положение и бросается
на колени, лицом к Королю, но не приближаясь к нему.
Король слегка отворачивается, чтобы не видеть валяюще-
гося у него в ногах Юлиана. Те из придворных, что стоят
поближе к Королю, целуют край его одежды, их примеру
418
Гуго фон Гофмансталь
следуют и другие. Исповедник тихим и вкрадчивым голо-
сом успокаивает Короля.
король. Случилось то, что предсказано. Он попрал меня на глазах
у народа. Теперь он должен умереть.
исповедник (приблизившись к нему). Великие мысли, знаю, не
оставили тебя в решительную минуту, о мой король! Плоть
твоя лежала во прахе, попранная безумцем, но душа твоя
воспарила, и ты очутился перед Господом — возвышенный,
а не униженный.
король. Как и было предсказано! Но мы сохранили корону и
можем определить ему наказание! О, кто бы смел помыслить
подобное!
исповедник. Пока ты лежал под мечом взбесившегося раба, как
обреченный на заклание, воистину целый сонм ангелов
витал меж занесенным мечом и твоей головой, и душа твоя
лежала, как капля росы в бутоне лилии, покачивающейся на
весеннем ветру, и твои мысли, знаю, были неколебимо высо-
ки. Что же испытал ты, святой король, в то мгновение, когда
у нас кровь застыла в жилах? Какая величавая и лучезарная
картина предстала твоей душе? Не та ли, какую вдохновен-
ная кисть осененного Богом художника наносит на доски к
украшению алтаря?
король. Когда я пал ниц, в ушах моих раздался тяжелый, ужасный
шум! Словно загремели железные цепи. Что это было?
исповедник. То были цепи, которые он должен носить в своей
темнице! То Господь внушил тебе картину бескровного воз-
мездия. Воздень свои белые руки к небу, милосердный
король, оно внушило тебе не пятнать руки кровью. Возбла-
годарим же Господа нашего!
Двери справа открывают, слуги вносят питье. Камердине-
ры, привстав на колено, протягивают его Королю.
придворный. Король пьет!
все. На здоровье, ваше величество!
Башня
419
Король возвращает пустой кубок. Потом поворачивается,
знаком велит придворным следовать за собой и твердыми
шагами направляется к дверям справа, которые распахива-
ются перед ним. Все спешат за ним. Стоящие около
Юлиана плюют на него. Юлиан остается на своем месте и
глухо стонет.
Антон. Дышите-ка глубже, вот так, чтоб желчь не надавила на сер-
дце...
Юлиан стонет.
Боже! Вам так плохо?
юлиан. Не мне... Не мне надо пускать кровь, а этому рогатому зве-
рю, пока не побелеет и не скопытится, этому старому козлу
с короной на голове!
Антон. Речь темна, да ведь и принадлежит она человеку с лицом,
потемневшим как смола. Говорите же дальше! И не пяльтесь
на меня так!
юлиан (рассеянно). Что?
Антон (испуганно). Не беспокойтесь! Не беспокойтесь! Сделаем
все как надо!
Дверь справа открывается; твердыми шагами, в сопрово-
ждении пажей, в залу входит один из придворных.
придворный (останавливаясь перед Юлианом). С ангельской
невозмутимостью смотрит мой повелитель на происшедшее,
полагая, что сам дьявол, сам воплощенный бунт явился
непредвиденно для испытания, прикрывшись родственной
плотью в насмешку над великой августейшей династией.
Повелевается поместить сие существо в темницу навеки.
Безымянным должен он пребывать в вечном заточении, на
цепи — коль он так брыклив — в тридцать фунтов весом,
которой его сатанинское тело прикуют к среднему столбу
свода. Что ж до тебя...
Антон. Обратите внимание, ваша милость, на то, что господин мой
не вполне здоров, позвольте мне лучше сбегать за доктором.
420
Гуго фон Гофмансталь
придворный (замахивается посохом на Антона, потом — Юлиа-
ну). Над тобой всегда будет висеть приговор за твой преда-
тельский черный умысел: меч возмездия на волоске будет
висеть над тобой день и ночь, но падение его пока будет от-
срочено. Великий монарх, вопреки всему, снисходительно
милостив к твоим проступкам и злобным устремлениям, воз-
никшим в темном сердце твоем. Ты по-прежнему остаешься
его стражником. (Указывает на Сигизмунда.) Надзирай за
жизнью его денно и нощно. Перед лицом его величества ты
заносчиво разглагольствовал, что если воспитанник твой не
выдержит испытания, то эти часы надо считать кратким
мигом из длительных сновидений. Этому и следуй теперь,
заполнив указанной тебе службой свою жизнь, дарованную
тебе на неопределенное время. Местом, отведенным тебе
для этого, будет все та же одинокая башня в горах. Кто бы ни
встретил тебя на расстоянии выстрела от той стены, будь то
раб или свободный, тот да совершит над тобой правосудие,
предав кровь и кости твои земле, глаза — птицам, язык —
собакам. Благородные юноши, делайте свое дело!
Пажи набрасываются на Юлиана, отбирая у него цепь и
печать. Придворный удаляется, пажи несут перед ним дра-
гоценности. Юлиан стонет.
Антон. Присядьте-ка сюда! Отдохните-ка в кресле! (Хочет подод-
винуть к нему кресло, Юлиан отказывается сесть.)
Входит Врач с Помощником и слугами. Направляется к
алькову.
юлиан. Стойте!
врач (уже у алькова). Перевязать сухожилия, на лицо — этот лег-
кий шелковый платок. Подобному благородству не приста-
ло терпеть поношения! (Стоит какое-то время в задумчи-
вости.)
АНТОН (подбегает к Врачу). Идите сюда, наш господин в еще
более тяжком состоянии.
Башня
421
Врач поворачивается у смотрит на Юлиана, идет к нему.
Юлиан, шатаясь, делает шаг ему навстречу.
врач (протягивает ему флакончик, который достал из кармана).
Выпейте это, и у вас достанет сил с моей помощью пере-
браться в мою комнату, где я пущу вам кровь. Теперь, как
никогда, доверенный вам юноша нуждается в ваших силах.
Слуги под присмотром Помощника врача поднимают с
постели Сигизмунда и медленно выносят его.
юлиан. Чего вы хотите от меня? Какие еще могут быть надежды?
Разве не знаете, что обрушилось на нас?
врач. Надежда остается. Ибо он жив и будет жить. За это ручаюсь
я. Как бы то ни было, но во все времена молили святых о вос-
кресении.
юлиан. Мощные стены вокруг нас! А над головой — кулак охран-
ника.
Кастелян и слуги, закрыв альков, приближаются.
врач (тише). Могущественно время, жаждущее обновления через
избранника. Цепи оно переломит, как солому, башни сметет,
как пыль.
юлиан. Что внушает твоей душе столь мощную веру в этого юно-
шу? Ты ведь почти и не разговаривал с ним?
врач (тихо). Acheronta movebo1. Открою врата ада и нижайших
сделаю своим орудием. Не этот ли лозунг был с рождения на
ваших скрижалях?
юлиан. Поддержите меня! Я страшусь умереть и ничего не оста-
вить после себя.
Слева входят двое слуг, один из них с факелом.
врач. Идут, нам пора.
слуга. Врач здесь? Господина доктора спрашивает его сиятельство
граф с Белой Горы.
1 Ахеронт всколыхнулся (латин.)
422
Гуго фон Гофмансталь
врач (выходит вперед). Я здесь!
Юлиан отходит в темноту, отворачивается.
граф адам (стоя в дверях). Вашему превосходительству приказано
отправиться в дорогу с больным только после наступления
ночи. Возникли непредвиденные обстоятельства.
врач. Какие?
граф адам. Для настоящей минуты — решающие. Простолюдины
охвачены буйством. Тысячи их на церковных папертях
молятся за нищего короля, безымянного мальчика в цепях,
который должен стать их вождем и принести с собой новое
царство. Дороги перекрыты драгунами и мушкетерами. Кон-
вой будет охранять вас. (Поклонившись, уходит.)
Слуга уходит за ним.
врач (громко). У меня нет сомнений насчет того, чем это кончится.
(Поворачивается к Юлиану.)
юлиан. Чудотворец, как высоко сияет твоя звезда! Останься со
мной, я буду почитать тебя, как ангела!
врач. Вряд ли вы еще увидите меня. Освободить силу — вот наш
удел, дальнейшее не в нашей власти.
Уходят.
Занавес
*
Акт четвертый
Подземелье, слева, в скале, высечена винтовая лестница.
Сигизмунд сидит на постели. Сверху по лестнице спус-
кается Юлиан, Антон светит ему фонарем, под мышкой у
него узел с одеждой.
юлиан. Разбуди его, Антон!
Антон. Сигизмунд! Ты спишь?.. Глаза у него открыты.
сигизмунд (смотрит на Юлиана). Мой стражник, давно же тебя
не было видно.
юлиан. Мне пришлось предпринять одно путешествие, тайком —
твоей пользы ради. Быть при тебе, чтобы множить бессилие
на бессилие, я не мог. Теперь я возвращаюсь совсем другим
человеком. Долой спячку — раз и навсегда. С этих пор я
стану неотступным твоим слугой, буду служить тебе денно и
нощно. Антон, не пропусти, когда придет посыльный, нам
нельзя терять время, еще до рассвета мы должны быть
далеко отсюда.
Антон. Слышишь, Сигизмунд? Навостри-ка уши! Сейчас услы-
шишь новость, да какую!
юлиан. Да! Слушай же, сын мой! Ибо ты мой сын, тебя создал я, а
не тот, кто отдал толику плоти, чтобы произвести тебя на
свет, и не та, что родила тебя в стенаниях накануне кончины;
я создал тебя для этого часа — не подведи же меня!
Антон. Кто-то стреляет, ваша милость... Вот опять, слышали?
Совсем близко. Что бы это?
424
Гуго фон Гофмансталь
юлиан. Жди сигнала моего гонца, на остальное не обращай внима-
ния! (Сигизмунду.) Замысел мой, скрытый от тебя, осущест-
вляется, план, самый небывалый и невозможный, осущест-
вляется. Пойми же! Мятеж, открытый мятеж оскалит пасть
сегодня ночью, будто волк, что залез на крышу овчарни.
Темницы, подобные этой, рухнут, казематы выплеснут
заживо погребенных узников наружу, и ярость схлестнется с
яростью.
Сигизмунд поднимает руки, как бы защищаясь.
Более того! Это еще не все! Я пошел дальше, я взбудоражил
самое землю и того, кто живет на ней, кто рожден ею, —
крестьянина, эту черную глыбу, чудовищно сильную, если ее
расшевелить! И я сделал это — разбудил клыкастого и ког-
тистого зверя, и в пасти вепря или лисицы заклокотало твое
имя, а в глиняных руках затрещали твои веревки и цепи.
Вставай же и ступай за мной — туда, где ты увидишь легионы
приверженцев, как увидит луна легионы воскресших в день
Страшного суда и не сможет обнять своим взором их великие
толпы. Одевайся же и ступай за мной, чтобы увидеть все это.
Слишком долго глаза твои были окутаны тьмой.
сигизмунд. Зная, что все это лишь сон! Ибо так ты учил меня
называть все то, что видели мои глаза. Сон — такому слову
ты меня научил.
юлиан. «Сон»! Поистине. Мудрое слово — и для тебя охранное.
Если б я говорил тебе: то, что видишь, — действительность,
мир давно раздавил бы тебя под своими обломками. Поэтому
я говорил: ты спишь. Твердил и твердил: ты спишь!
сигизмунд. Пока мысль об этом не стала самой моей сутью. Крю-
ком, так глубоко вонзившимся в мою плоть, что выдрать его
теперь можно только с потрохами.
юлиан. Душа твоя должна была пострадать, чтобы возвыситься, а
все прочее не имеет значения!
сигизмунд. Ты научил меня понимать это. Не важно все, кроме
того, о чем один дух говорит с другим.
Башня
425
юлиан. Я вскормил твой дух, ибо я породил его! Создал тебя в тебе
самом, перелив в тебя свою душу!
сигизмунд. Но теперь порожденный стал выше породившего. Вот
я лежу здесь, а дух мой парит там, где тебе и не снилось.
юлиан. Да? Тебя наполняют предчувствия? Мощное предчувствие
того великого, что суждено тебе свыше? Твоего великого
будущего?
сигизмунд. И будущего и настоящего. Вспомни все, что ты сам
вложил в меня, воспарив со мной, прижатым к твоей груди,
к самим звездам, что всходили над башней, ибо так высоко
ты поднял меня, чтобы спасти от оков отчаяния. Поскольку
я, могущественный человек, сопричастен к звездам, то они
возлагают надежды на мои дела — так ты учил меня. В моей
груди родится мир, которого чает их мерцание. Для них все
— непрерывно рождающееся настоящее, и им невнятны
страдания маленького человека, обреченного на оцепенелое
ожидание, ожидание неумолимо приближающейся губитель-
ной власти. Но им внятна, учил ты, таящаяся в груди пылкая
мечта избранника, сама созидающая свой мир, упивающаяся
его неподвластностью никому на свете. Тот, кто лежит
здесь, во тьме, и знает об этом, не нуждается ни в чем. Тот за
пределами земного тяготения. Так ты учил меня.
юлиан. Достославный! Ты — выше любого венца. Однажды я уже
вывел тебя из этой башни в княжеском одеянии, но все это
ничто по_сравнению с тем взлетом, который я уготовил тебе
теперь!
сигизмунд. Верно: теперь безумие уже не даст обнаружить себя
как безумие!
юлиан Ты можешь говорить так, сын мой, ибо на сей раз тебе
ничто не угрожает.
сигизмунд. Да, так и есть. Я, в этой мощной башне, господин и
король навеки! (Бьет себя в грудь.)
юлиан. Теперь мы можем не только провозглашать истину, но и
творить ее!
сигизмунд. Поистине! Слава искре разума, живущей в нас!
426
Гуго фон Гофмансталь
юлиан. Совершать — вот отныне наша задача! Лишь имеющий
власть действует, остальных он только использует как свои
инструменты.
сигизмунд. Да! Это мы познали. Когда они бросили нас на телегу
со связанными ногами, как теленка.
юлиан. Моя власть! Мое государство! Эти два слова запечатлей
навсегда в своем сердце! Одевайся же! (Достает кумачовый
камзол, протягивает его Сигизмунду.) Отважные рыцари
окружат тебя, пятьдесят тысяч крестьян поднялись и переко-
вали свои косы на копья!
Антон (подходит к Юлиану). Шум и выстрелы все ближе! Зазво-
нили колокола, запахло дымом. Что бы это?
юлиан. Живое доказательство моих слов! Дворяне здесь. Они бьют
в колокола. Жгут на радостях гигантские костры. Стреляют.
Виктория! Вперед! Одевайся! Где пояс?
АНТОН (подбегает к лестнице, прислушивается). Шум-то какой!
Кто-то стонет. Кто-то спускается по лестнице. (Подни-
мается на несколько ступеней.)
юлиан (вынимает из узла остальную одежду, отдавая все Сигиз-
мунду). Скорей! Скорей! Я твоим именем поднял шляхту! И
выпустил голь из темниц на свет божий! Скорее же! Одевай-
ся! Мы едем!
сигизмунд. Я понимаю, чего ты хочешь, но я не хочу. Я остаюсь,
и ты не сдвинешь меня с места. Я не имею касательства к
твоим замыслам.
Антон (с лестницы). Это оттуда. Гонец вернулся. Что-то говорит,
но я не могу разобрать.
юлиан (Сигизмунду). Не подводи же меня теперь, когда наш час
пробил.
сигизмунд. Что ты знаешь обо мне? Разве ты мне близок? Когда
я недоступен, как за тысячью замков.
юлиан. Одевайся. Застегивай пояс.
сигизмунд. Не буду.
юлиан. Не будешь?
сигизмунд (отступает от него). Ты положил меня на солому,
Башня
427
как яблоко, и теперь я дозрел и знаю свое место. Но оно не
там, куда ты хочешь меня увести.
АНТОН (помогает спуститься по лестнице Всаднику, за которым
виден Мальчик-стремянный, оба забрызганы грязью). Вер-
ховой тут. Но его обстреляли наши. Похоже, у него отнялся
язык.
юлиан. Что тебе велели передать, говори быстро? Что сказали
благородные вельможи?
всадник (складывает руки и бормочет). Quibus, Quabus, Sanctus
Hacabus.1 Ныне и в час кончины нашей, аминь.
Антон. Этими изречениями он хочет сказать, что они пробрались
сквозь толпу восставших крестьян.
всадник. Sanctus Hacabus! Surgite mortis!2
Антон. Они покрыты грязью, ибо три дня и три ночи должны были
скрываться в болотах. Оттого он и спятил!
всадник. Pater nisters! Gratibus plenis!3 Как и мы отпускаем долж-
никам нашим, и оборони нас от зла, аминь.
юлиан. Дай сюда грамоту! Они, должно быть, зашили ее! Вынь
сейчас же!
сигизмунд. Не обращай на него внимания! Слушай только мой
отказ, только мой отказ!
Всадник дрожащими руками пытается извлечь что-то из
своего платья, но у него ничего не получается.
мальчик. Крестьяне вылезли из землянок. В руках у них мотыги,
вилы, косы...
юлиан. Это я воззвал к ним. Чего же ты дрожишь, дурак? Что
велели тебе передать господа? Где их отряды? Отвечай!
(Тормошит его.)
1 Заклинание из не имеющих связного смысла латинских слов, тара-
барщина.
2 Восстаньте из мертвых! (латин.).
3 Испорченная латынь. Переделано из известных католических
молитв «Отче наш» и «Преисполненная благодати».
428
Гуго фон Гофмансталь
мальчик. Господа все в лесу, не выходят оттуда. А ноги их болта-
ются в воздухе, вот на такой высоте! (Странно смеется.)
Крестьяне напали на них и повесили на деревьях!
юлиан. Лошадей! Тащи этого! Все наверх! Уходим по броду в лес.
мальчик. Все пути отрезаны. Оливье, бунтовщик, тот, что уска-
кал...
юлиан. Он был послан по моему поручению. А бунтовщик он в
моих интересах. У него письма и послания от меня.
мальчик (смеется). Он вернулся. Среди ночи, по собственной
воле. Он и его люди разгоняют копьями наших людей.
Крики даже здесь слышно. Теперь они звонят в колокола,
чтобы их народу сбежалось еще больше — разбойников,
бродяг, воров, убийц!
юлиан. Где лошади? (Трясет его.) Где наши лошади?
мальчик. Почем я знаю? Все перемешалось. Все колошматят друг
дружку.
Всадник незаметно поднимается по лестнице.
юлиан. Я разверз врата ада, и вот он бушует. И я должен смотреть
ему прямо в лицо. Антон, ты остаешься пока здесь. Когда
крикну, вынесешь этого наверх, или... (достает пистолет)
я тебя прикончу. (Идет к лестнице.)
мальчик (виснет у него на руке). Не поднимайтесь! Они расстре-
ливают всех, на ком господская одежда, даже детей, даже
господских лошадей, кошек, собак.
Юлиан отталкивает его от себя, поднимается наверх.
Мальчик осторожно пробирается за ним.
Антон (дрожа от страха). Ужас-то какой! Ну и ужас! Вставай,
Сигизмундик, теперь уж не до капризов.
сигизмунд (совершенно спокойно). Что с тобой, Антон? Антон,
голубчик, принеси мне водицы, пить хочется.
АНТОН (хочет надеть ему сапоги). Надевай же! Надевай! Поска-
чем! Гоп, гоп! По земле. Нам улепетывать надо!
Башня
429
Сигизмунд о нем-то глубоко задумался, присев на постель.
Да проснись же ты! Меня-то знаешь? Речь о жизни идет,
господин принц. Нам туда надо! Наружу!
сигизмунд. Спасибо, Антон. Ступай. Возьми фонарь. Мне свет не
нужен.
Антон. Сегодня не такой день, как обычно. Случилось кое-что.
Произошло.
мальчик (с лестницы). Господин зовет тебя! Они стреляют в него.
АНТОН. КТО?
мальчик. Да все подряд, бунтовщики! Он что-то хочет сказать, но
они не дают ему. Колют его! (Исчезает.)
Антон. Ну, запахло кровью! Ничего другого мне не остается! (Вы-
нимает нож, с наигранной угрозой приближается к Сигиз-
мунду.) Ступай за мной, окаянный! А то...
сигизмунд (спокойно смотрит на него). Не хочу. Когда-нибудь я
скажу: я хочу! Тогда ты увидишь, с каким торжеством я
выйду из этой башни.
Антон (заметив наверху отсвет пожара). Иезус-Мария и Иозеф!
сигизмунд (смеется). Тебя кто-нибудь ужалил, Антон?
Антон. Несчастный, неужели ты не видишь красного пламени?
Ведь кругом убивают и жгут!
Шум наверху приближается.
Спрячься куда-нибудь в угол! Теперь вот узнаешь, как это
бывает: рукой за горло да коленом в грудь. А мне-то за что?
Мне, старому слуге с лучшими венскими рекомендациями?
Как занесло меня в эту треклятую страну? Каким ветром?
(Бежит в глубь темницы.)
Сигизмунд с улыбкой смотрит ему вслед.
голоса. Сигизмунд!.. Сигизмунд!.. Сигизмунд!
Антон. Слышишь, эти дьяволы выкликают твое имя? Прячься!
сигизмунд. Подойди, укажи на меня и громко крикни: вот он!
Свет факелов становится все ярче.
430
Гуго фон Гофмансталь
Оливье (появляется с мятежниками справа). Стой! Кто первым
увидит эту тварь, пусть доложит мне. Кликните его еще!
голоса. Сигизмунд!
Антон (громко). Не троньте его! Пощадите! Он ведь спятил. Не в
своем уме.
оливье. Посветите.
Двое с факелами подходят ближе.
Не набросился бы только он, аки волк. Где моя Библия?
(Щупает себя под жилетом.) Прочесть ему молитву, чтобы
сразу понял, что он наш союзник. Подойти к нему на два
шага да отвесить поклон, чтобы он узнал нас, признал в нас
своих спасителей. (Пьет вино из оловянной кружки, кото-
рую ему подает один из спутников).
Антон приветствует его.
иероним (выходит вперед). Глядите, сирые братья, первородные
сыновья Адама! Вот тот, о ком я говорил вам. Глядите: коро-
левский сын в подземелье, сидит на цепи в сыром подвале!
Входит все больше вооруженных крестьян.
АНТОН. Истинная правда! Он тронулся умом из-за того, что учинил
над ним отец. То же бешенство, что бывает иной раз у
жеребца, если господин знает, о чем я говорю. Даже еде он
не рад.
оливье. Прикуси язык, подлый лакей. (Сигизмунду.) Подойди-
ка сюда, Божье создание. Понимаешь ли ты, что проис-
ходит, готов ли выпить кровь отца своего из серебряного
кубка?
Сигизмунд не отвечает.
Что они тебе, повредили мозги, что ли? Ты хоть предметы-
то различаешь? Пощекочите его оружием!
Приказ Оливье выполняют. Свет факелов еще ярче.
Башня
431
оливье. Куда ты уставился? Bougre! Larron! Ecoute!1
сигизмунд (поднимает руку). Прислушайся — вот галки кружат
над башней и кричат над гнездами, в которых горят их птен-
цы, но путник, блуждающий в горах в десяти часах ходу
отсюда, видит только маленький огонек, не больше. Так все
ничтожно!
оливье. А теперь Иуду сюда, дьявольское придворное отродье!
Будь он ранен хоть сто раз, живой он или мертвый — сюда!
Потому как для того и восстали мы, чтобы на веки вечные
вытащить из грязи колесо справедливости!
Приводят предусмотрительно связанного Юлиана, са-
жают на постель, он не открывает глаз.
иероним (кланяется). Августейший принц Сигизмунд, признаешь
ли ты этого человека гнусным Иудой, державшим в узилище
хуже, чем собаку, тебя, нашего короля?
сигизмунд. Он содержал меня не так, как ему было приказано, но
так, как велела ему душа: во исполнение своего духовного
замысла. Он был настоящий наставник. Свидетельствую:
этот человек научил меня истине — той единственной, благо-
даря которой душа моя не погасла, ибо душа моя нуждается
в истине, как пламя в воздухе, чтобы гореть.
оливье. И что это за истина? Говори, тварь, говори, эпилептик!
сигизмунд (обращаясь к нему). Ни об одной вещи мы не знаем,
какова она, и нет вещи, о которой можно было бы сказать,
что она иной природы, нежели наши сны. Но пойми меня
правильно. Я боюсь, что возникнет заблуждение, будто я
думаю, что не таков, как ты, или он, или любой другой чело-
век из этих. Я такой же, как вы. Но я знаю, а вы не ведаете.
иероним. Слушайте все! Он живет наяву, а думает, что спит! Как
человек с мешком, завязанным у него на голове. Он свиде-
тельствует, что они свели его с ума. За это они умрут от
ваших рук!
Мошенник! Негодяй! Слушай меня! (франц.).
432
Гуго фон Гофмансталь
Многие издают тяжелый вздох.
сигизмунд. Говорю тебе: нет вещи иной природы, нежели наши
сны. Вот вода из источника. (Показывает на свою кружку.)
Уж казалось бы, что может быть более материального, но и
в ней это есть, недаром звезды плавают в ней, как рыбы.
Этому они меня научили.
иероним. Слушайте все! Люди! О! О!
сигизмунд. Они вывели меня отсюда с завязанными глазами, при-
вели во дворец отца, а потом вернули обратно и сказали: ты
нигде не был, ибо нет разницы, там или тут, все это одно
место.
иероним. Вот такими речами, добрые землепашцы, зловонные
сатанинские уста этого негодяя и его подручного лишили
разума вашего бедного короля. За это они должны болтаться
в семи вершках от земли, а вороны — выклевывать им языки!
Антон (приблизившись к Сигизмунду). Теперь за тобой слово.
Покажи им, что ты не лыком шит.
сигизмунд. Помолчи! Они говорили мне: тебе привиделось; потом
снова: тебе приснилось. Оттого-то они словно открыли мне
дверь наружу, как будто поддев железкой щеколду, и я
вышел за стены и все слышу, что вы говорите, но я неуязвим
для вас и ваших посягательств.
оливье. Переведите им эту галиматью! Расскажи им, хитроумный,
как надругались над жалкой тварью эти злодеи!
иероним (пронзительно). Он говорит, они заставляли его стра-
дать от холода и голода, а сами, напившись допьяна, коло-
тили его, как упрямого осла.
Толпа ахает.
оливье. Повесим их, добрые люди! Но сначала мне хочется попы-
тать вот этого, так, чтобы он визжал да валялся у нас в
ногах, умоляя о пощаде!
Антон. О Господи, пришел мне конец! Скажи им, что я нездешний,
к тому же простой слуга и ни в чем не повинен.
Башня
433
оливье. Обвиняемый, говори! Давай! Растряси-ка пузо, набитое
злобой! Заставь его говорить! Он у нас завизжит от страха! А
потом и вздернем его как надо!
Пугливо озираясь, появляется молодая Цыганка с серебря-
ным тазом для умывания и красивым полотенцем. Ей ука-
зывают дорогу.
юлиан (оглядываясь). Вот они, крысиные рожи! Свиные рыла —
косые, озлобленные! Хищные собачьи оскалы! Вы, дерьмо
придорожное! При свете этих факелов, освещающих ваши
морды, о, как я хочу расхохотаться над вами, как от самой
нестерпимой щекотки! (Встает). Уберите свои пики! Ну,
смотри мне прямо в глаза, ты, тысячеголовое ничтожество,
мусор, который я сам сгреб своей метлой. Пока смиряет тебя
мой взгляд, я останусь самим собой.
сигизмунд. Учитель, зачем ты говоришь с ними? Для того... что
стоило бы сказать, язык слишком толст.
юлиан (поворачивается к нему). И ты здесь, мое создание? Вот
оно, жалкое творение моих рук. Отыди, жалкий прах, я вло-
жил в уста твои не то слово. Я не хочу тебя видеть.
сигизмунд. Ты вложил в уста мои т о слово, мой учитель, слово
утешения в пустыне сей жизни, и я возвращаю тебе его в
этот час.
Юлиан снова садится на постель и закрывает глаза.
Дай мне улыбкой скрасить твое одиночество. Молитва твоя
не бессильна, хотя ты сжимаешь кулаки вместо того, чтобы
складывать ладони.
юлиан (открывает и снова закрывает глаза). Я взрыхлил нетро-
нутую почву, но это не принесло плодов!
сигизмунд. Ты мучаешь себя так, чтобы вскрыть вену, из которой
ты мог бы напиться. Моя же кровь течет свободно, и этим я
обязан тебе.
юлиан (еще раз открывает глаза, силится что-то сказать, но
потом снова закрывает их и опускается наземь). Пусто!
434
Гуго фон Гофмансталь
оливье (подходит ближе). Неужто он улизнул от меня? Ибо что
толку лить помои на голову мертвеца? Дайте-ка мне выте-
реть руки. (Вытирает.) Да займитесь этой свиньей лакеем.
Его надо повесить на оконной раме!
Несколько человек хватают Антона.
сигизмунд (подходит к лежащему Юлиану). Он мертв. (Антону.)
А ты оставайся при мне и ничего не бойся. И собаку иной раз
надо погладить, не то что человека. Так что оставьте его в
покое.
оливье. Ты, чертово чучело! На кой ляд ты мне нужен, коли пор-
тишь субординацию?
сигизмунд (спокойно смотрит вокруг). Я тебе не нужен, потому
что ты не нужен мне. Ты даже не видишь меня, потому что
ты не можешь видеть.
оливье. Это ты мою сиятельную особу позволяешь себе бранить?
Ну так я живо отправлю тебя на свалку, зашив в собачью
шкуру. Но до того я еще вволю потешусь над тобой! Эй!
Раздается барабанный бой.
Это чудо-юдо пригодится мне еще для баб, чтоб они не
остыли и не побоялись выйти с ножами против королевской
конницы...
сигизмунд. Бабы вам не понадобятся, потому что вы понесетесь
как вихрь, сгребая по пути пленников, как солому, и любая
крепость и башня рухнет под вашим напором, словно карточ-
ный домик!
оливье. Разрази тебя гром! Ты что, пророк Даниил? Так я посажу
тебя на повозку, запряженную быками, и погоню впереди
своего главного отряда, чтобы ты кричал: «Смерть моим
предателям! Пусть развевается кровавое знамя!»
сигизмунд. Не обольщайся, ибо нет вещи, которой я отдал бы
предпочтение перед другой.
оливье. За то кормить его, пусть получает на своей повозке
столько жратвы, чтобы брюхо лопалось... Если ж он по
Башня
435
дурости начнет брыкаться и орать против нас — заглушить
его немедленно барабаном, чтоб он сам не слышал собствен-
ного голоса. За это головой отвечаешь ты, татарин, назна-
чаю тебя своим штатгальтером.
иероним. А когда, отважный капитан, мы начнем занимать дома
улицу за улицей, вскрывая двери таким вот наточенным клю-
чиком (показывает на топор), то что нам делать с хозя-
евами этих домов?
оливье. С хозяевами? Тоже мне хозяева! И как тебя черт надо-
умил вспомнить такое слово! Хозяев надо с головой утопить
в выгребной яме!
иероним. А владельцев замков?
оливье. Живьем закопать в землю, на которой они разжирели.
второй мятежник. А владельцев рек и прудов, что подняли
пошлину за мосты и запрещают крестьянам ловить рыбу?
оливье. Утопить в их водоемах!
иероним. А владельцев охотничьих угодий?
оливье. Зашить в волчьи шкуры и затравить их же собаками!
третий мятежник. А священников? Учителей? Писарей? Сборщи-
ков налогов? Лакеев?
оливье. Передавить как мух! Посевы уничтожить! После нас при-
дут волки да вороны, пусть не говорят, что мы остановились
на полпути. Ну вот, а теперь я накомандовался и напросве-
щал, так что всем ясно, кому что делать, а в глотке у меня
пересохло... Генеральский марш! В честь моего ухода! Стучи
так, чтоб руки у тебя отвалились вместе с палочками!
Тамбур выстукивает генеральский марш.
Все должны знать, что моя сиятельная особа в данный
момент направляется кушать. Факелы вперед! А вы тут
выстройтесь за мной по ранжиру! (Уходит с многочисленной
свитой под барабанный бой и с идущими впереди факелонос-
цами.)
один из толпы (почтительно, Сигизмунду). Мы с тобой! Прика-
зывай нам!
436
Гуго фон Гофмансталь
старик с костяной ногой. Вот король бедняков, они же понесут
перед ним меч и весы,
другой. Приказывай!
третий. Назовите его по имени!
четвертый. Кто назвал его по имени, у тех отсох язык!
старик (протискиваясь вперед). Смотрите же на него, на нашего
молодого короля! Он прямо светится весь, как омытый
живой водой.
некто. Он боится нас!
многие. Ты боишься?
некто. Скажи нам слово!
другой. Если он закричит, наши души лопнут, как надутый пузырь.
Не будите его! Он во сне.
старуха. Я вижу его!
старик. И разверзнется бездна и все царства мира сего.
сигизмунд. Мать, приди ко мне!
Несколько человек приносят расшитые золотом одежды,
далматик, золотые сапожки и корону.
некто. Они хотят облачить его в золотые одежды!
другой (с одеждой). Король позволит нам одеть его?
старик. Пусть они оденут тебя. Мы это взяли в алтаре и хотим со
всем почтением облачить тебя.
Сигизмунда одевают.
инвалид. И разверзнется бездна, и поглотит все царства мира сего.
другой. Останься с нами! Пребудь с нами!
сигизмунд (тихо, про себя). Я же иду с вами.
некто. Он говорит с нами!
другой. Пребудь с нами!
третий. Не дай нам пропасть!
кузнец индрик. Расступитесь, чтобы все могли его видеть! От-
кройте ворота, чтобы все могли его видеть!
Все расступаются, освобождая дорогу Сигизмунду.
Башня
437
сигизмунд. Отойдите в сторону... Передо мной широкий простор.
Пахнет землей и солью. Пойду туда.
другой. Мы снарядим повозку и запряжем в нее двенадцать пар
быков. На ней ты поедешь, и будет звенеть на повозке коло-
кол, будто это церковь на колесах.
голоса. Останься с нами!.. Пребудь с нами!
другой. Не дай нам пропасть!
некто. Женщины хотят войти, чтобы целовать его ноги.
другой. Гоните их, шлюх, подальше! Они недостойны видеть его.
За сценой — крики женщин.
некто. Женщины кричат, что мы морим тебя голодом. Хочешь
есть?
другие. Принесите сюда всего!.. Навалите ему целую гору!.. При-
несите мяса, хлеба и молока. Меда и сметаны. Ветчины и
всякого печенья, как для десятерых мужиков, проголодав-
шихся на молотьбе!
многие. Принесите!.. Принесите!.. Принесите!
голоса. Пребудь с нами, владыка!
В корзинах, на листьях, на деревянных тарелках вносят еду
и складывают перед ним.
некто (протягивая Сигизмунду кувшин в пестрой тряпице). Ты и
теперь все еще думаешь, что спишь? Даже если отведаешь от
всего этого, неужели будешь все еще думать, что это во сне?
Антон. Как бы не так! Теперь-то он уж живо проснется!
голоса. Проснись и будь с нами!.. Не покидай нас!
сигизмунд (прижимая кувшин к груди). Как петел на дворе я пред-
чувствую ужасный рассвет и тот час, когда звезды сойдут со
своих орбит. Уйдем же все вместе. (Делает несколько
шагов.)
татарин арон (шатаясь, спускается с лестницы с дорогим по-
крывалом на плечах). Где эта бестия? Куда вы его подевали?
индрик (поднимает свою кувалду). Здесь наш король! Чего ты
хочешь от него?
438
Гуго фон Гофмансталь
Сигизмунд поворачивается к нему.
арон. Наверх его! Эй, ты! За мной! Наш генералиссимус в боль-
шом кураже и желает, чтобы ты с поклоном подносил ему да
наливал монастырского. Так что давай-ка галопом! Приказ!
Дошло до тебя? (Шатается.)
индрик (подставляет Арону ножку и валит его на пол). Пол ежи-
ка тут, свинья. Тут и сдохнешь, когда они факелами подож-
гут пороховые погреба.
сигизмунд. Не тронь его. Там, куда мы идем, послушание предше-
ствует приказу, там жнут без надежды на трапезу. Но ты при
оружии, вот и будешь нашим главным жнецом.
Индрик встает на колени и целует край Сигизмундовой
одежды.
голоса. Защити нас!.. Будь с нами!
Сигизмунд выходит из башни, за ним все остальные.
Занавес
*
Акт пятый
Внутри просторной палатки. Главный вход — посередине,
с левой и правой стороны — еще по два входа. Сиденьями
служат сломанный табурет и большой барабан. Рядом —
железная полковая касса. Справа, на переднем плане, сва-
лены в куну трофеи: ковры, дорогая одежда, седла, ткани.
Время перед рассветом. Иногда доносятся военные сигналы
из окружающего лагеря. Вдали не умолкает стрельба.
Татарин втаскивает на веревке связанную Цыганку. Перед
ним идет Мальчик-стремянный. Симон занят подсчетом и
записью захваченных вещей. Индрик встает с табурета, на
котором сидел. Он вооружен, на поясе у него — палица. Сза-
ди, из темноты, выступает Врач, с другой стороны, ему
навстречу, — граф Адам.
мальчик. Вот цыганка и всадник, что ее притащил. Ноги у нее в
крови, он заставил ее бежать за лошадью.
Врач подходит ближе. Татарин уходит, за ним — Мальчик,
успев что-то тихо сказать графу Адаму.
врач. Могло кончиться плохо. Она беременна.
индрик (Симону). Точно ли это главная шлюха Оливье? Симон,
посмотри на нее!
адам. Не так громко, король спит.
Антон (неслышно приближаясь слева). Нет, он встал и читает
книгу.
440
Гуго фон Гофмансталь
СИМОН (подходя к Цыганке, но не слишком близко). Да какая ж у
него главная, кто его разберет? Он их дюжинами таскает за
собой, днем и ночью. Но этой он всегда отдавал предпочте-
ние, это уж точно.
Снова входит Мальчик, смотрит на Адама.
АДАМ. ПуСТЬ ВОЙДУТ.
Мальчик уходит.
Сейчас пожалуют знаменосцы. Уберите это с глаз долой.
индрик (Цыганке). Присядь-ка. (Набрасывает на нее ковер.)
Мальчик раздвигает полог главного входа. Входят двое
татар с пиками. Затем — группа безоружных придворных,
потом — снова двое татар.
адам. Не угодно ли повременить здесь, сиятельные господа? (Ука-
зывая на небольшой вход справа.) Его величество вскоре
позовет вас.
один из придворных. Нам предоставлена свобода передвижения.
Мы без оружия. Зачем же нас преследуют татары?
адам. Почетный караул, не более, милостивый государь. (Ведет
их к входу справа.)
другой придворный (на ходу, негромко). А ловко ты учуял, пле-
мянничек Адам, куда ветер подует. Завидная предусмотри-
тельность, поздравляю.
адам (открывая полог справа). Не угодно ли досточтимым госпо-
дам войти? (Пропускает их и входит вслед за ними.)
Двое татар становятся у правого входа, двое — у глав-
ного.
индрик (сдергивает ковер, хватает Цыганку, ведет ее к свету).
Где твой приятель? Твой кобель? Где он теперь поджигает
деревни и рубит головы младенцам? Ничего что-то не
слышно о его пьяном величестве. Отвечай, или тебя спросят
иначе!
Башня
441
Цыганка сжимает зубы. Антон прислушивается, потом
подходит к левому входу, почтительно открывает полог.
адам. Король! (Кланяется.)
Симон отходит в глубь сцены. Индрик оттаскивает Цы-
ганку в сторону.
сигизмунд (входит в длинном кафтане, без оружия, подходит к
столу). Откуда эти карты? (Садится).
индрик (выступает вперед). Из монастыря, что горел вчера с пра-
вой стороны по нашему ходу.
сигизмунд (не вставая). Татары пусть зарубят себе на носу: если
я еще раз увижу красное небо, велю повесить их целую
дюжину. (Поймав на себе взгляд Врача.) Вас удивляет, что я
так быстро освоил мирской язык? Ах, добрый друг мой,
место, отведенное мне, — ужасное место, и посреди белого
дня я живу в окружении звезд, и ничего вокруг, и в то же
время все рядом, все, что ни происходит, было уже и раньше.
(Знаком подзывает к себе Адама, показывает ему карту.)
Красиво нарисовано. Вся страна до самых гор — как на ладо-
ни. Лежит себе, будто в корзине. А вот тут, на юге — болота.
адам. В которые мы с Божьей помощью сбросим Оливье.
сигизмунд. Или он нас — с помощью сатаны.
адам. Среди наших татар упорно держится слух, согласно кото-
рому встреча их послов с Оливье кончилась благоприятно
для нас.
сигизмунд. Береженого Бог бережет. А против нас сам дьявол.
Новостей никаких? Что говорят твои разведчики, Симон?
симон (подходит). Ни один еще не вернулся. Но вот эта может
порассказать больше, чем любой из них. (Показывает на
Цыганку, стоящую спиной к столу.)
сигизмунд. Одна из его девок?
симон (тихо). В курсе всех его намерений и планов.
сигизмунд (Индрику). Позаботься о том, чтобы она заговорила.
Но силу не применяй! И ты пойди с ним, Симон. Возьмите
442
Гуго фон Гофмансталь
отсюда всякого добра да утолите ее ненасытную жадность.
Цыганка беззвучно смеется. Индрик и Симон уводят ее.
(Врачу.) Я прочел то место из «Жизнеописаний» Плутарха,
на которое вы мне указали. Великое множество совпадений
с нашей ситуацией, несмотря на всю разность эпох. Я бы
хотел побеседовать с вами об этом. Может быть, вечером
освободится часок.
Врач кланяется. Антон тем временем приблизился к Сигиз-
мунду, чтобы поправить его башмаки.
Ты должен побольше есть, Антон, и побольше спать. Пусть
тебе дают двойную порцию. Мне бы хотелось, чтобы ты
снова стал покруглее — как прежде.
Антон целует протянутую ему руку.
(Адаму, снова садясь за стол.) Около полуночи я слышал
выстрелы со стороны постов. Что это было?
адам. Смею доложить вашему величеству — то салютовали пала-
тины и знаменосцы, которые дожидаются теперь здесь,
поблизости. Кроме того, была перестрелка между нашими и
зелеными. Они разбили лагерь на той стороне реки. Но
поскольку они заявили, что соблюдают нейтралитет, то
перестрелка прекратилась.
сигизмунд. Зеленые — сброд мародеров из беглых головорезов
Оливье и королевских войск. С каких пор эти подонки стали
разбивать лагерь, заявляя о своем нейтралитете?
адам. Они представляют собой армейский корпус, организован-
ный по всем правилам. В него входят дети, и возглавляет их
мальчик — Детский король.
сигизмунд (отрываясь от карты). Что ты хочешь этим сказать,
Адам?
врач (подходя ближе). Таких немало развелось в окрестных лесах
за те четыре года, когда развязанная Базилием война стерла
границы. Все это сироты, сбежавшиеся из опустевших дере-
Башня
443
вень. Сначала они попадались только в горах, а теперь их
полно повсюду.
Снова входит Симон, за ним — Индрик с Цыганкой.
адам. Их десять тысяч. У них свои порядки и нравы, а во главе их
стоит избранный ими король, молодой красавец парень с
львиной храбростью в глазах. Они пашут и сеют, живут, как
древние люди. Занимаются ремеслами и при этом поют.
сигизмунд. Я не могу позволить себе иметь в тылу чужой лагерь в
десять тысяч человек. Ты говоришь, у них есть король. Я
хочу видеть этого парня. Пригласите его ко мне — я гаранти-
рую ему свободный проезд. Пошлите парламентария с
белым флагом, как полагается. Не будем обижать его зеле-
ное величество. (Поворачивает голову к Симону.) Ну, что
вы узнали?
Адам отдает приказ татарам у входа. Мальчик-стремян-
ный подходит к двери.
симон (подходя). Она говорит, что не откроет рта перед такими
голодранцами, как мы. Желает говорить с вашим величе-
ством лично. (Тихо.) Она будто бы видит ваше величество не
впервые.
сигизмунд (встает). Знаю. Похоже, не остается ничего другого.
(Врачу.) Вы полагаете, есть другой выход?
Антон. Остаться с ней с глазу на глаз? (Тихо.) А если у канальи
нож за пазухой? Вмешайтесь, господин доктор!
адам (негромко). Ее всю обыскали с головы до пят. Ни докумен-
тов, ни оружия не обнаружено.
сигизмунд. Приготовьте графам тем временем завтрак — если у
нас что-нибудь есть! (Врачу.) Пришлите мне с верховым кни-
гу, о которой говорили. Размышления императора Марка...
врач. Марка Аврелия...
Граф Адам, поклонившись, выходит; еще раньше, по его
знаку, вышли татары.
444
Гуго фон Гофмансталь
сигизмунд. Да, размышления, или мысли, или... как вы их назва-
ли... Великий монарх, полный благородных мыслей, каса-
ющихся будущего всей Европы. Но и он — раб обсто-
ятельств и умирает в палатке, ничего не доведя до конца. Я
завидую вашим знаниям. Нет, я люблю вас за них. У вас в
голове они не снимают угол, а живут в собственном дворце.
Не покидайте меня — до тех пор по крайней мере, пока
ничто не угрожает вашему физическому существованию.
Индрик подводит Цыганку ближе.
(Взглянув на нее, отворачивается, говоря как бы с самим
собой, но в то же время и с Врачом.) Плоть и вещи — вот
сатанинские орудия, с помощью которых Оливье творит свое
зло в мире. (Пинает ногой лежащее кучей добро.) Отдам ей
этот хлам. (Врачу, так, чтобы не слышала Цыганка.) Я
останусь с ней наедине при свете лампы, как Оливье, но для
других дел, видит Бог...
Антон (тихо, Индрику). Свяжи ей руки.
сигизмунд (услышав это). Ни в коем случае!
Антон нерешительно уходит. Вслед за ним — Индрик.
(Садится к столу и смотрит на карту.) Мне сообщили, что
мои татары оттеснили в горы и рассеяли бунтовщиков, кото-
рыми командует твой муж. Что ты скажешь на это, ве-
щунья?
цыганка. Что? Генерала оттеснили? (Дико смеется.) Кто же кого
притесняет? Вам и нерожденного ребенка утеснить — раз
плюнуть! От вас и не того можно ждать!
сигизмунд (смотрит на нее). Ты что же, носишь ребенка?
цыганка (пальцами чертит в воздухе круги). Вот что я ношу в
себе, чтоб ты знал!
сигизмунд. Что ты бормочешь?
цыганка (быстро вступая в нарисованный ею круг). Свахах!
Ангах! Эллио меллио! Сельво, альво, дельво, гельво!
сигизмунд (не глядя на нее). Ты можешь уйти, если не хочешь
Башня
445
говорить. Беги. Скажи твоему господину, что у тебя ничего
не получилось.
цыганка (приближается к нему странно пританцовывающим
шагом, шелестя развевающимися волосами). Что же могло
получиться, когда ноги в крови! Вот они идут, а с ними сколь-
ко? (Падает на пол, прикладывает ухо к земле.) Много!
Целая армия! (Тихо постукивает по земле ладонью, и тот-
час раздаются звуки шагов целой толпы.)
сигизмунд (смотрит, потом подходит к ней). Разве пора?
цыганка (откидывая голову назад). Пора! Из земли! Из пещер!
Из клоаки! Из воздуха!
Слышен писк и шмыганье крыс и другой нечисти, по стенам
мелькают тени.
сигизмунд. Откуда взялись эти чудовища? Откуда эти мыши и
крысы величиной с котов? (Смеется.)
цыганка. Вперед! Вперед! Нас много, а он один! Большое станет
малым, а малое большим! Мы все во всем едины, а мир
неразделим.
сигизмунд. Ах, черный ангел, ты не можешь призвать такую
нечисть, с которой я не слажу. Пойми же, маленький голубь
мира: я хочу получить весть от твоего господина супруга.
Она так и рвется из тебя — недаром же ты попалась. Прибе-
жала ко мне, как коза на дойку. Так открой же свой рот, пре-
жде чем я передам тебя в руки моих татар!
цыганка. Твоих татар? Да за тобой нет никого! У тебя нет армии!
Одни проходимцы и обманщики! У всех у них дьявольские
имена, у твоих татар! Они — привидения! Они сотканы из
желтого ядовитого тумана! Иначе откуда у них такой
неслышный шаг, когда они нападают? Как же иначе они
могут бесшумно снимать часовых? И вот с такими-то тенями
ты загнал помазанного властелина в болота, Иуда прокля-
тый!
сигизмунд. Сатана издох? Ах вот оно что! Ты хочешь завлечь
меня? Я хочу видеть его труп!
446
Гуго фон Гофмансталь
цыганка. Выклюйте ему глаза, мертвецы! Земля, опростай свое
чрево!
Зарево, буря, сотрясающая палатку. Из земли выскаки-
вают гигантские кости.
сигизмунд. Вот он! Воняет огнем и кровью, как олень во время
гона! Клянусь моей собственной силой! Вот кого я вытащил
из-под земли за веревку, что держу в руке!
цыганка (извиваясь на земле). Помогите же мне, твари! Перегры-
зите веревку! Она разорвет меня!
сигизмунд. Прочь! Труп долой!
Зарево становится все сильнее.
цыганка (шарит рукой в куне костей; из них выскакивает оска-
лившийся лис с горящими глазами). Не бойся, мой старый
любовник. Он на цепи... Что? Он хочет укусить тебя? Соб-
ственный сын твой, поднявшийся из подземелья. Куси его,
рви на части! Я тебя брошу на него. (Берет лиса в руки; вне-
запно в ее руках вместо него оказывается король Базилий,
наполовину вросший в землю.)
сигизмунд. Прочь! Все это — прошлое. Все это покоится в чреве
земли.
Король смеется, показывает язык Сигизмунду и падает,
превращаясь в корчащегося лиса с высунутым языком.
цыганка. То, что лежит, восстанет против тебя.
Из-под стены палатки вылезает некий Человек с жуткой
гримасой на лице.
сигизмунд. Я огражден от вас заклятьем. Сгиньте под землю!
цыганка. Земля тебе не подвластна. Ты отторгнут землей. Ты
отторгнут воздухом. Альраун!
сигизмунд. Кто ты таков, полуночник? Такие, как ты, всегда
сидели вокруг моей клетки.
человек из земли (сдергивает с себя маску и оказывается мерт-
Башня
447
вым Юлианом; сидя на земле, он зеленой рукой тычет в
сторону Сигизмунда). Слушай меня. У меня мало времени,
Сигизмунд. Я обучил тебя не тому языку. Только там, где я
теперь, стал мне ведом новый язык. Для него нет верха и
низа.
сигизмунд. Это знание надвигается на меня со всех сторон. Но мне
некогда. Я генерал, и мне нужно биться на два фронта.
Оставь меня!
Человек исчезает, а вместе с ним и мертвый лис. Буря
снова усиливается. Раздается такой треск, будто дверь
сорвало с петель.
цыганка (обращаясь в грохоте бури к ветру). Сюда, могучий!
Сюда, великий! Возьми его!
Лампа гаснет, однако красное зарево усиливается. В нем
появляется фигура Оливье, будто отлитая из стекла.
сигизмунд. Отвечай же! Покажись! Я так хочу! Требую!
Фигура Оливье проступает яснее.
цыганка. Разве ты посмеешь поднять руку против своего господи-
на? Ты, крот! Гадючье отродье! Да рука твоя сразу отсохнет.
Оливье уставил взгляд в одну точку. Он недвижим. Череп
его проломлен.
Зарычи на него так, чтобы кишки у него вывалились от стра-
ха. Ах, как он смотрит! Как скалит зубы! Как вздымается
покрытая кровью шерсть! Господин мой! Господин! Госпо-
дин!
сигизмунд. Ты никогда не мог выдержать мой взгляд, еще когда
был во плоти. Ступай прочь! Но не так, как угодно тебе, а
как угодно мне. Погибни на моих глазах еще раз так, как ты
погиб.
цыганка (Оливье) Что такое? Что тебе нужно? Какое оружие
подать? Не наказывай меня, я все сделаю, что прикажешь.
448
Гуго фон Гофмансталь
Вот я, раба твоя. Создание твое.
Оливье хочет броситься на Сигизмунда с поднятым мечом.
Но шаги его неуверенны, как на болоте. Иероним и Арон,
покрытые тиной, вцепляются в него справа и слева и
тянут за собой на дно. После его погружения на мгновение
воцаряется полная тьма. Цыганка в этот миг прибли-
жается к Сигизмунду.
сигизмунд (громко, твердым голосом). Зажгите свет, и прочь эту
женщину!
Слева вносят светильник. Цыганка корчится и падает.
Справа поспешно входит Адам с факелом, слева — Врач,
Антон и слуги. Снаружи в палатку проникает солнечный
свет — занимается день.
(Адаму). Оливье мертв. Понимаете? Оливье мертв.
врач. Возможно ли?
адам. Известие надежно? Есть доказательства?
сигизмунд (с живостью). Он сам мне представил их только что.
врач. Каким образом?
Входит Индрик.
адам. Куда подевалась женщина, Индрик?
индрик. Вот она лежит.
адам. Мертвая?
индрик. Не знаю.
Цыганку уносят.
сигизмунд. Друзья, я хозяин теперь в своем доме. Дайте мне пла-
ток. (Вытирает себе лоб платком, поданным Антоном.)
Пот этот не от страха, а от встречи с подземным миром.
Надежное знание стоит подчас холодного пота. Да, доктор,
здесь был некто. Но не так, как мы с вами. Он был вот здесь.
От него исходил ветер, заставляющий плоть содрогнуться.
Слов было сказано мало. Я закричал на привидение, и оно
Башня
449
исчезло. Похоже на то, что нам дано будет послужить своему
высокому призванию.
врач. У вас кровь, ваше величество! (Хватается за сумку с лекар-
ствами.)
сигизмунд. Что такое? (Повернувшись к Адаму). Адам, мы живем
в кровавое время. Где же кровь?
врач. Вот на руке. Как это случилось, ваше величество? Как вас
поранило? Тонкий порез через всю ладонь, пересекающий
линию жизни.
сигизмунд. Почем мне знать! Ах да, что-то такое я почувствовал,
когда ко мне приблизилась эта женщина.
врач. Женщина! В ней-то и была опасность!
Антон (ищет что-то на полу, потом поднимает крошенный кин-
жал). Вот! Может ли это быть? Шпилька для волос.
врач. Весьма вероятно. (Антону.) Большой бокал самой крепкой
жженки! Живо!
Антон убегает.
сигизмунд (Врачу). Она стояла вот здесь. Минуту назад я, кажет-
ся, мог бы объяснить это вам. (Подходит к столу и смо-
трит на карту.) Ну, теперь-то моему продвижению никто
не помешает. Без вождей две эти толпы обречены. Но
почему вы меня не перевязываете?
врач (пока Сигизмунд стоит, склонившись над картой). Граф
Адам!
адам (подходит к нему). Отчего у вас такое лицо? Это яд?
врач. Более чем вероятно.
индрик (услышав это, бросается на колени перед Сигизмундом;
беря его руку). Дайте мне высосать рану!
Антон (входя с бокалом, дрожит). Господин доктор, что здесь слу-
чилось?
врач. Спокойствие! (Индрику.) Не надо, рана слишком глубока.
адам. Как вы себя чувствуете, ваше величество?
сигизмунд. Как всегда. Что вы так на меня смотрите? А? В чем
дело? Меня отравили?
450
Гуго фон Гофмансталь
врач. На всякий случай выпейте этот бокал, ваше величество.
Цыгане, как мне известно, применяют змеиный яд. Это —
единственное противоядие, которое сейчас у меня под рукой.
сигизмунд. Я прекрасно себя чувствую и, как вы знаете, не
выношу жженку.
врач. Сейчас она окажется кстати. Прошу вас. А потом слегка рас-
слабьтесь. Сердцу понадобятся силы, чтобы бороться с ядом.
(Перевязывает ему руку.)
сигизмунд (берет бокал и выпивает). Но прежде надо кончить
неотложные дела. (Адаму.) Пусть войдут господа графы.
Теперь нам будет сподручнее беседовать с ними, чем час назад.
врач. Дай-то Бог!
сигизмунд (Адаму). Угрожавшей мне армии Оливье больше не
существует, а стало быть, пусть графы не воображают, что
на них свет клином сошелся. Зови — но ни слова о том при-
еме, который я им готовлю. Да, постой-ка — вели вернуть
им мечи, они все же не повара и не конюхи.
А дам уходит направо. Врач берет у Антона еще раз напол-
ненный бокал и подходит с ним к Сигизмунду.
А это еще зачем? Я чувствую себя превосходно.
врач. Убедительно прошу вас.
сигизмунд. У меня ничего не болит, разве что это... (Третрукой
колено.)
врач. Что — это?
сигизмунд. Ведь мы три дня и три ночи почти не слезали с седла.
(Садится, берет в руки карту.)
Антон со страхом вглядывается в Сигизмунда, лицо его
выражает отчаяние, он кусает себе пальцы. Врач подхо-
дит к Сигизмунду и понуждает его выпить второй бокал.
Полнаку Адама полог главного входа открывается. Вхо-
дят: офицер с имперским штандартом, вооруженный кре-
стьянин со штандартом бунтовщиков, изображающим
порванные цепи, затем капитан татар со штандартом, на
Башня
451
котором изображены золотой полумесяц и конский хвост.
Все трое встают к левой узкой стене палатки. Индрик
подходит к ним и берет штандарт с порванными цепями.
Слева Адам вводит вельмож. Войдя, они сразу же встают
на колени перед Сигизмундом. Одновременно с ними через
главный вход входят военачальники Сигизмунда, пятеро
или шестеро латников, занимающих позицию около входа.
Адам берет из рук подошедшего к нему Мальчика тяжелый
меч в бархатных ножнах и встает слева, позади Си-
гизмунда.
(Сидя у стола на барабане, внимательно разглядывает
каждого из входящих и становящихся на колени.) Вставай-
те, господа, мы в полевом лагере, а не при дворе. Но меня
тронула истовость, с коей мои вассалы воздали мне почести
наконец-то!
старый вельможа (не вставая). Светлейший! Всемогущий! Непо-
бедимый! Великий владыка! Повелитель и господин!
сигизмунд. Встаньте же, друзья мои! Встаньте!
старый вельможа (вставая вместе со всеми остальными). Как
утренний луч солнца досягает до потерпевших кораблекру-
шение в грозную ночную бурю, так досягает до нас ласковое
обращение милостивого короля. Да спасемся мы после испы-
таний сей жуткой нощи! Чьи уста могут выразить то, что слу-
чилось в сии времена? Целые города, как метлой, сметены с
лица земли, замки и крепости превратились в пепелища,
поля залиты кровью, те, кто выжил, ютятся в дуплах или
пещерах. Но законный король наш милостив к нам, и скупые
мужские слезы проступают на наших глазах, слезы умиления
и гордости, когда мы зрим в стане победителя почтенное
знамя нашей древней державы, реющее над головой закон-
ного короля нашего.
сигизмунд. Вы можете любоваться всеми тремя, господа, их
шелест раздается на ветру всюду, где бы ни скакали кони.
Говори же дальше, палатин.
452
Гуго фон Гофмансталь
старый вельможа. Страшны были ужасы времени, но еще страш-
нее тот раскол, который разрывал наше сердце. Сила и
закон сошлись в непримиримом споре, а ведь на них покоится
мир! Сын против отца, власть против власти, мощь против
мощи, как вода против огня, но и нечто третье против того и
другого, как в Судный день, когда разверзнется твердь и
поглотит и огонь и воду — со всеми глупцами и злодеями,
отступниками и еретиками, забывшими страх и почитание,
как то исчадие неверия, что идет к нам из Азии с наглыми
притязаниями на господство. Сея ужас, вознесся над хаосом
штандарт с порванными цепями, просвиставший над нашими
склоненными головами, как бич Божий. Как могли мы рас-
познать в могучей руке, взметнувшей его, руку наследного
короля нашего? Ведь он сбросил оковы отцовского насилия,
освободил города от их укреплений, разрушил крепости и не
пощадил церкви и монастыри, предав их пожарам! Ведь
жители, опасаясь за свою жизнь, привечали его хлебом-
солью, окропляя их собственными слезами! И все же то был
он, наш король!
сигизмунд. То был он! То он! Ваш король в силу происхождения и
необходимости. Вот я — перед вами.
индрик. Ты показал нам: над силой, самой непреодолимой, есть
нечто большее, непостижимое — и стал повелителем нашим,
единым, единственным, нашей святыней, незримой и недося-
гаемой.
старый вельможа. Да, он восстал из горящего гнезда, как птица
феникс из пепла, а когда он расправил крылья, то мы узнали
в нем потомка наших королей, могучий полет его северных
предков. Наконец-то кошмар кончился, и в пустыне нашей
жизни будет проложен путь к оазису. Властелин наш, дай
нам узреть великого короля, который противопоставит бес-
плодным порывам времени свою спокойную силу, который
будет справедлив и возвышен, милостив и могуч.
сигизмунд (вставая). Вот таким я и хочу быть.
все. Да здравствует король!
Башня
453
сигизмунд (делает к ним один шаг). Но хочу пояснить: самонаде-
янность моя простирается столь далеко, что я хочу двух
вещей сразу: устроения порядка в мире и упразднения ста-
рого порядка. Без вас, однако, мне не обойтись: одобрение
моих действий — вот ваша роль, но такое одобрение, кото-
рое смиреннее любого смирения!
все. Правь, государь!.. Дай нам мир!.. Установи царство справед-
ливости!
сигизмунд. Миром вы называете свою власть над крестьянами и
землей. Справедливостью вы зовете их себе подчинение, а
порядка вы хотите такого, при котором волки заменят собак.
Неужели вы не можете отрешиться от своей алчности?
Неужели у вас нет иных желаний, как владеть и первенство-
вать? Я же присягаю идее служения, а не владения, и поря-
док, которого я добиваюсь, основан на самоотверженности и
самоограничении. Ибо я хочу изменить не то или иное, а все
разом, чтобы мы все в один миг нашли в себе это новое.
(Прохаживается взад-вперед. Врач не сводит с него глаз, а
потом снова обращается к вельможам.) Друзья, вы хотите
оградить себя от превратностей судьбы, но так, как кре-
стьяне огораживают свой надел. Это невозможно, потому
что мир жаждет обновления, а когда горы движутся на-
встречу друг другу, они не замечают старой церковной коло-
кольни, прилепившейся к склону. То, что долго возвыша-
лось, ныне простерто ниц: немецкий орден повержен горо-
дами лавочников, на трон Московии воссел воскресший из
мертвых мальчик, и ни у кого в старом мире не осталось
теперь больше силы, кроме меня и вот его, властелина Вос-
тока (указывает на татар), моего союзника. Он сплотил
множество народов под своим набухающим полумесяцем и
развевающимся конским хвостом, так что не в состоянии их
сосчитать, а между собой и мною он начертал границу в виде
реки Борисфена, или Оглу, как они ее называют, ее воды
отражают улыбки нашего примирения, и, может быть, я
подарю ему Константинополь в залог нашей дружбы, ибо
454
Гуго фон Гофмансталь
настало время, когда от великих мира сего требуются вели-
кие жесты. А ваши карликовые государства, ваши крепости,
которые вы строите друг против друга, ваши границы, ваша
вера, враждебная соседу, — всего этого я не признаю, все это
я отменяю. Я снова смешаю все малые народы в один боль-
шой.
старый вельможа. Ныне и присно, о повелитель наш и король! Но
дай узнать тебя твоим приближенным! Пусть не развевается
рядом с твоей святыней языческий конский хвост! Пусть
зароют в землю знамя с порванными цепями, ибо что может
значить сей символ бунта, коли ты сам господин! Пусть свя-
тая корона коснется твоего чела и пусть пребывает на нем —
неприкосновенная и святая! Обопрись на нас, твоих вассалов,
дай надеть на тебя корону твоих отцов!
индрик. На челе его знак господства надо всеми, и ему не нужна
ваша старая корона. Не может быть согласия между ним и
вами!
вельможи. Дай короновать тебя!.. Да здравствует наш коронован-
ный король!
сигизмунд. Стойте! Я не хочу принять власть так, как вам при-
вычно и приятно, но так, что вы будете поражены. Пока не
время явить вам мою кротость. Это будет позднее. Ежели то,
что хочу основать я, не может длиться, то отбросьте меня на
свалку истории, к Аттиле и Пирру, властителям, которые
ничего не основали. Но если вы скажете мне «да», мы можем
с улыбкой принять и корону. Богиня Времени, подруга моя
по узилищу, да будет к нам благосклонна!.. Отчего вдруг
такая тьма? (Шатается.) Откройте окна! Внесите свет! (Па-
дает на руки подбежавшего Антона.)
Полог палатки поднимается. За ней стоит толпа народу,
многие вооружены, все с непокрытой головой. Посреди
лагеря возвышается мачта с подвешенными к ней разорван-
ными цепями.
врач. Прошу всех отойти. Королю дурно.
Башня
455
Антон и Адам, отдавший свой меч одному из военачальни-
ков, подхватывают Сигизмунда и укладывают его на ложе
из одежды и ковров. Вельможи отходят.
вельможа (тихо). Что бы это значило? У него падучая, как и у его
отца?
другой. Смотрите, как он бледен! Каково нам тут придется, коли
он вообще не откроет больше глаз?
Антон (стоя%на коленях перед Сигизмундом). Вы меня слышите,
ваше величество? Подайте знак вашему Антону, что слыши-
те! Пошевелите хоть пальцем.
врач (подошедшим военачальникам). Отойдите, больше воздуха и
света! Король тяжко болен. Отойдите, прошу вас!
Толпа увеличивается, но пребывает в молчании.
сигизмунд (открывает глаза). Кто этот тощий? Он похож на
моего старого доброго Антона.
Антон плачет.
А что там опять горит? Повесьте татар за то, что они опять
подожгли эту башню!
врач. Встающее солнце ослепляет его величество! Заслоните его
щитом!
Короля заслоняют щитом.
сигизмунд. Что вы так оробели, друзья? Может, я был слишком
суров? Да, в нашу кровь вошло что-то жесткое, без чего не
выиграть битвы, зато и дух наш закалился от соприкоснове-
ния души и тела с необходимостью. Я спрашиваю вас и
прошу ответить мне по-мужски прямо: разве не говорит мне
«да» что-то внутри вас? Несмотря ни на что? (Приподни-
мается, вглядываясь в лица близстоящих, потом снова
опускается на ложе. Некоторые из них целуют его руки и
край одежды.)
вельможи (встав на колени около его ложа). Прими, властелин,
456
Гуго фон Гофмансталь
клятву вассалов! На верность!.. Позволь короновать тебя!..
Пусть священное миро коснется твоих членов и охранит их!
Вран склоняется над Сигизмундом.
СИГИЗМУНД (открывает глаза, но тут же снова их закрывает). Я
скоро умру,
юный вельможа. Ты будешь жить, наш господин, и примешь
помазание миром. Изумрудный бочонок чудесным образом
уцелел во время пожара.
второй. Чудесным образом уцелел и старейший средь нас, и его
руки увенчают твою помазанную голову, жребий для того и
сохранил его.
сигизмунд (выпрямляется). О! Где я? Все еще в башне? Во тьме!
О! Убейте старика! Разрушьте башню! Разбейте цепи! Это я!
Вот здесь! Я не хочу умирать! Обнажите меч! Подайте мне!
Хочу держать его! (Пытается взять поданный мен.) И
никого рядом со мной! (Встает.) Все ко мне! Мечом мы
пробьем себе брешь во времени! Сюда! Я вас всех возьму с
собой — на солнце... Оно — яд и свет... И все же... все же...
(Падает.)
Толпа вскрикивает.
адам. Неужели наш король ушел от нас не простившись?
врач (берет свисающую руку Сигизмунда). Он не умер, он жив.
Пульс его быстр и едва слышен, как у малой птицы.
Сигизмунд открывает глаза.
Как вы себя чувствуете, ваше величество? Я не оставляю
надежды.
сигизмунд. Оставьте. Я чувствую себя слишком блаженно, чтобы
надеяться. (Лежит в тишине с открытыми глазами.)
Вельможи перешептываются и прислушиваются. Раз-
дается звон колокольчика — наподобие того, которым
мальчик-министрант возвещает о приближении священни-
ка. Звон усиливается.
Башня
457
вельможа. Помазание подкрепит твои силы, бочонок уже катят
сюда.
второй. Слушай фанфары! Слушай колокольчик! Они несут брата
Игнатия, который увенчает тебя.
Латники образуют коридор.
мальчик-стремянный (входит с белым флагом в руках). Они
приближаются! Не только юный король, которого пригла-
сил наш король, но с ним и многочисленная свита его, все в
белых одеждах и без оружия! Они уже проходят по лагерю,
и никто их не задерживает.
Появляются два мальчика в белых одеждах и босиком. В
руках у одного — колокольчик, у другого — ивовый прут.
Детский король входит вслед за мальчиками, он в белой
одежде и со шлемом на голове; останавливается по-
середине.
детский король. Останусь покуда тут, а те, что чуют воду и желе-
зо, скажут, праведное ли это место.
Сигизмунд лежит неподвижно. Врач не спускает с него
глаз.
Мне не подобает глядеть на зло.
мальчик (тем, кто стоит близ ложа Сигизмунда). Отойдите в
сторону, пусть он останется один.
адам. Кто здесь приказывает?
детский король. Я! Ибо меня возвысили те, кому дано жить в
будущем.
Вельможи хватаются за мечи.
Стыдитесь! Ведь мы безоружны. Оставьте ваши мечи в нож-
нах.
врач (Мальчику). Нет ли у вас целебных трав? Нет ли сведущего в
них человека? Нужно снадобье, которое подкрепило бы сер-
дце.
458
Гуго фон Гофмансталь
мальчик. Мы сами — целебная трава. Мы выросли в горах.
(Отворачивается от него.)
Оба мальчика занимают место у ложа Сигизмунда. Все про-
чие отступают.
первый мальчик (вдохнув воздух поглубже, запевает). Воздух
нежен, слышно, как серп идет по траве и срезает колосья.
второй мальчик (поет). Здесь живая сила! Жаворонок поет! А
солнце являет свой очаг, и все кругом в заботе о едином.
первый мальчик (поет). О, как могуча земля и на ней человек! И
ничего кругом. Человек — мера всего!
второй мальчик (поет). Вот скала, из коей бьет источник —
млеко и мед! А кроме этого — нет ничего!
оба (вместе). Здесь теперь чисто! И ничто не грозит нам.
(Встают на колени, повернувшись к Сигизмунду.)
сигизмунд (открывает глаза). Что это опять пробудило меня?
Кто это?
Детский король делает шаг к нему.
(Про себя.) Некто. (Переводит глаза на Детского короля.
Они всматриваются друг в друга.)
детский король (подходя еще на два шага). Я знаю имя твое и
почитаю деяния твои. Тебя назвала мне истекающая кровью
мать, прежде чем спрятать меня в колодце, чтобы спасти от
смерти.
сигизмунд (с улыбкой). Кто ты?
датский король. Король! (Склоняется к нему). Во мне есть то,
что в малом количестве делает людей упрямыми, а в боль-
шом — заставляет подчиниться себе, что внушает другим
преданность и послушание. Ты должен отдать мне меч и
весы, ибо ты был королем межвременья. Мы построили
хижины, мы поддерживаем огонь в горне, перековываем
мечи на орала. Мы дали миру новые законы, ибо законы
должны исходить от молодых. А у праха мертвых мы зажи-
гаем вечные огни.
Башня
459
Сигизмунд смотрит на него улыбаясь.
Отойдите и оставьте меня наедине с моим братом.
Оба мальчика встают и один за другим отходят. Детский
король приближается к Сигизмунду, который закрывает
глаза.
Один лишь человек в мире должен был стать моим братом, а
теперь... (Становится на колено у ложа Сигизмунда.) Не
пугайся, только то я спрошу у тебя, чего ты не можешь ска-
зать.
Все встают на колени. Слышны тяжкие вздохи.
голоса. Нам противно глядеть на него!.. Выслушай нас! Мы взы-
ваем к тебе! Мы!.. Ты глава наша! Не говори с чужаком!
Сигизмунд открывает глаза и поднимает правую руку,
так, чтобы ее видели все. Народ плачет.
детский король (тихо). Какое у тебя лицо! Как зовут то боже-
ство, что стоит теперь на пороге?
сигизмунд (смотрит на него). Оно скоро исчезнет. Будь мне дру-
гом, пока я здесь. Провидица сказала, что мне нет места во
времени.
АНТОН (встав на колени в ногах Сигизмунда). Нам король ничего
не скажет?
сигизмунд (озирается, потом ясным голосом, глядя на Врача).
Будьте свидетелями: я был. Хоть никто и не знал меня.
толпа. Не покидай нас!.. Не оставляй нас!
оба мальчика (вместе). Позвольте ему умереть! Радуйтесь!
сигизмунд (радостным голосом, немного приподнимаясь). Это я,
Юлиан! (Падает, глубоко вздыхает и умирает.)
Детский король встает и поднимает правую руку. Вслед за
ним и все кругом встают и поднимают правую руку. Трое
знаменосцев склоняют знамена к ногам Сигизмунда.
толпа. Рвите наши штандарты!
460
Гуго фон Гофмансталь
детский король. Тише вы! Вам не дано измерить его жизнь во вре-
мени, он вне времени — как звездный свет.
толпа. Сигизмунд! Пусть останется с нами твое имя!
мальчики (выходят из толпы вооруженных людей и поют
чистыми голосами). Mitte spiritum tuum, et creabuntur, et
renovabis fatiem terrae!1
детский король (беря в руки имперский меч). Поднимите его.
Могила его да станет нашей священной обителью.
Мальчики поднимают тело Сигизмунда.
Вперед! Ступайте вместе со мной за усопшим.
Звучат трубы. 1926
*
Приуготовь дух свой, и изберем и обновим судьбу земли! (латин.).
ПРОЗА
*
Новеллы
Перевод
А. Карельского
С. Ошерова
*
КАВАЛЕРИЙСКАЯ
ПОВЕСТЬ
22 июля 1848 года, в шестом часу утра, летучий отряд — второй
эскадрон Вальмоденского кирасирского полка, (ротмистр барон
Рофрано со ста семью всадниками) — покинул Казино Сан-Алес-
сандро и поскакал в сторону Милана. Сверкающая ширь долины
лежала в неописуемой тишине; с вершины далекого хребта в пол-
ное блеска небо, словно клубы дыма, поднимались утренние облач-
ка; кукурузное поле было недвижно: купы деревьев казались
вымытыми, и между ними ярко выделялись деревенские дома и
церкви.
Отъехав всего на милю от линии аванпостов своей армии,
летучий отряд заметил среди кукурузного поля блеск оружия:
это появился передовой отряд вражеской пехоты. Эскадрон
построился при дороге в боевой порядок, над ним засвистели
странно пронзительные, почти что мяукающие ядра, кирасиры
поскакали наискосок через поле в атаку и погнали как попало
вооруженных людей, словно перепелов. Это были легионеры
Манары в странных головных уборах. Пленных под охраной кап-
рала и восьми рядовых отправили в тыл. Неподалеку от красивой
виллы, к которой вела обсаженная старыми кипарисами аллея,
авангард оповестил о появлении подозрительных фигур. Вахмистр
Антон Лерх спешился, взял дюжину людей с карабинами, расста-
вил их под окнами и захватил в плен восемнадцать студентов из
пизанского легиона, хорошо воспитанных миловидных юношей с
холеными руками и.длинными волосами. Еще через полчаса эскад-
Новеллы
465
рон задержал прохожего в одежде бергамского крестьянина, кото-
рый вызвал подозрение своим слишком уж безобидным и невзрач-
ным видом. У него нашли зашитыми в подкладке платья важней-
шие планы, содержавшие все подробности относительно формиро-
вания в Джудикариях добровольческих отрядов и их взаимодей-
ствия с пьемонтской армией.
К десяти утра летучий эскадрон захватил стадо скота. Сразу
же вслед за тем он столкнулся с сильным отрядом противника,
который обстрелял авангард из-за кладбищенской ограды. Голов-
ная колонна поручика графа Траутзона перелетела через невысо-
кую ограду и среди могил врубилась в ряды итальянцев, большая
часть которых скрылась в церкви, а потом через дверь ризницы
кинулась спасаться в густую рощу. Двадцать семь новых пленных
оказались отрядом неаполитанских добровольцев во главе с пап-
скими офицерами. В эскадроне был один убитый. Объезжавший
рощу патруль в составе ефрейтора Вотрубека и драгун Холля и
Хайндля добыл легкую пушку с двумя деревенскими клячами в
упряжке; расчет они взяли в сабли, а кляч схватили под уздцы и
повернули. Ефрейтор Вотрубек, как легко раненный, был отко-
мандирован в штаб-квартиру с донесением о состоявшихся стычках
и прочих удачах, пленных тоже переправили в тыл, а пушку при-
хватил эскадрон, в котором кроме конвойных насчитывалось еще
семьдесят восемь сабель.
По совпадающим свидетельствам пленных, из города
Милана полностью эвакуировались как регулярные, так и добро-
вольческие части, лишив город и артиллерии и всяческих боевых
припасов, так что ротмистр не мог отказать себе и своему эскад-
рону в удовольствии войти в этот большой прекрасный город, от-
крытый и беззащитный. И вот под перезвон полуденных колоко-
лов четверо трубачей взметают сигнал генерал-марша в блестя-
щее, как сталь, небо, заставляя дребезжать тысячи окон; сверкают
семьдесят восемь кирас, семьдесят восемь обнаженных клинков;
улица направо, улица налево, словно разворошенный муравейник,
уже кишат лицами зевак; побледневшие физиономии с проклять-
ями скрываются за воротами домов; голые руки прекрасных
466
Гуго фон Гофмансталь
незнакомок распахивают заспанные окна; эскадрон проезжает
мимо Санта Бабила, Сан Феделе, Сан Карло, мимо прославленного
на весь мир мраморного собора, мимо Сан Сатиро, Сан Джорджо,
Сан Лоренцо, Сант Эусторджо; их старинные бронзовые врата
отворяются, в сиянии свечей и облаках ладана кивают серебряные
святые и улыбаются лучистые глаза одетых в бархат женщин; с
бессчетных чердаков, из темных арок ворот, из подвальных лавок
грозят выстрелы — но опять и опять только девочки-подростки и
мальчишки кажут белые зубы и темные волосы; сверкая глазами,
с гарцующих коней из-под маски пыли пополам с кровью кирасиры
глядят на все это сверху вниз; через Порта Венециа — в город,
через Порта Тичинезе — прочь из города. Так проскакал через
Милан славный эскадрон.
Неподалеку от вышеназванных городских ворот, где прости-
рался заросший молоденькими платанами гласис, в нижнем окне
недавно отстроенного светло-желтого дома вахмистр Антон Лерх
увидел женское лицо, которое показалось ему знакомым. Любо-
пытство побудило его обернуться в седле, и так как одновременно
по скованным движениям коня он предположил, что под переднюю
подкову попал дорожный камешек, а ехал он в арьергарде и мог
выйти из шеренги не нарушая строя, все это вместе заставило его
спешиться как раз тогда, когда передние ноги коня оказались на
лужайке перед названным домом. Не успел он, схватившись за
белую бабку, поднять вторую ногу гнедого, чтобы проверить
подкову, как одна из дверей дома, ведущих прямо из комнат на
лужайку, отворилась и за нею показалась пышная, еще довольно
молодая женщина в поношенном капоте, а за ее спиною — светлая
комната с цветами на окнах — базиликом и геранью в горшках, —
со шкафом черного дерева и мифологической группой из неглази-
рованного фарфора; в то же время его острому взору открылась в
высоком зеркале противоположная стена с просторной белой кро-
ватью и завешанной ковром дверью, за которой мелькнул грузный
мужчина пожилого возраста, с бритым лицом.
Между тем вахмистру припомнилась и фамилия женщины и
многое другое: это была не то вдова, не то разведенная жена хор-
Новеллы
467
ватского унтер-офицера, лет девять-десять назад в Вене он провел
с нею в компании ее тогдашнего любовника несколько вечеров,
засиживаясь заполночь; теперь он старался увидеть за ее ныне-
шней полнотой тогдашний образ, ее стройно-пышную фигуру. Но
и та, что стояла перед ним сейчас, улыбалась ему такой полу-
польщенной славянской улыбкой, что его крепкая шея и глаза
налились прихлынувшей кровью, между тем как церемонная
манера ее приветствия, как и ее капот и убранство комнат, вну-
шала ему робость. Но тут, покуда его потяжелевший взгляд следил
за жирной мухой, что пробегала по гребешку в волосах женщины,
и он только о том и думал, как сейчас его рука, чтобы согнать
муху, ляжет на этот белый прохладно-теплый затылок, — его душу
заполнило воспоминание обо всех сегодняшних стычках и удачах,
так что он тяжелой рукой притянул к себе ее голову и сказал при
этом: «Вуич. — Он не произносил этой фамилии наверняка уже лет
десять, а крестильное имя женщины он и совсем позабыл. — Вуич,
через неделю мы вступим в город и я стану тут на постой». — И он
указал на полуотворенную дверь.
В доме между тем слышалось хлопанье дверей, и он чувство-
вал, как конь, сперва молча кусая удила, потом громко откликаясь
на ржание других лошадей, торопит его. Антон Лерх вскочил в
седло и поскакал вслед эскадрону, не увезя с собой более никакого
ответа Вуич, кроме смущенного смеха в ту минуту, когда он притя-
нул к себе за затылок ее голову. Но сказанное слово утверждало
его власть и право.
Скача утомленной рысью сбоку от своей роты, под тяже-
стью раскаленного, как металл, неба, не отрывая взгляда от летя-
щего рядом облака пыли, вахмистр все больше обживался в ком-
нате с мебелью черного дерева и базиликом в горшках, в цивиль-
ной атмосфере, сквозь которую, однако, мерцало нечто воинствен-
ное, в атмосфере уюта и приятного произвола, вне всяких служеб-
ных отношений, существования в домашних туфлях и шлафроке, в
левом кармане которого прячется, однако, щиток продетой
насквозь сабли. Исчезнувший за ковром в дверях грузный, бритый
мужчина, нечто среднее между духовным лицом и отставным
468
Гуго фон Гофмансталь
камердинером, играл тут немалую роль, чуть ли не большую, чем
красивая широкая кровать и тонкая белая кожа Вуич. Бритый
занимал место то угодливого друга дома, который рассказывает
дворовые сплетни, доставляет табак и каплунов, то прижатого к
стене соглядатая, вынужденного платить отступное за молчание о
его связях со всяческими заговорами, ибо он оказывался доверен-
ным лицом пьемонтцев, папским поваром, сводником, владельцем
подозрительных домов с глухими садовыми павильонами для поли-
тических сборищ, и разрастался в некое гигантское губчатое чуче-
ло, которое можно продырявить в дюжине мест и цедить вместо
крови золото.
Пополудни летучему отряду не встретилось ничего нового,
вахмистр продолжал беспрепятственно предаваться грезам. Но в
нем проснулась жажда внезапной удачи, наградных, сыплющихся
прямо в карман дукатов. Потому что мысль о предстоящем вселе-
нии в комнату с мебелью черного дерева была занозой, вокруг
которой плоть его нагноилась жадными желаниями.
Когда к вечеру летучий отряд, накормив коней и дав им кое-
как отдохнуть, старался пройти кружным путем к Л од и и мосту
через Адду, где весьма можно было ожидать столкновения с про-
тивником, вахмистр приметил поодаль от проселка, в темнеющей
ложбине, полуразрушенную деревенскую колокольню. Она пока-
залась ему столь притягательно-подозрительной, что он кивком
подозвал к себе рядовых Холля и Скармолина и отклонился вместе
с ними в сторону от маршрута эскадрона, надеясь, что в деревне
застанет врасплох прямо-таки вражеского генерала с небольшой
охраной и захватит его или еще как-то заслужит небывалую наг-
раду — до того распалено было его воображение. Прибыв к этому
жалкому, на вид покинутому обиталищу, он приказал Скармолину
объехать дома по околице слева, Холлю — справа, а сам, зажав в
руке пистолет, решил прогалопировать прямо по улице, но скоро,
почувствовав под собой твердые каменные плиты, на которые к
тому же был пролит какой-то скользкий жир, должен был переве-
сти коня на шаг. В деревне царила мертвая тишина: ни ребенка, ни
птицы, ни дуновения воздуха. Справа и слева стояли грязные
Новеллы
469
домишки с облупившейся со стен штукатуркой; по обнажившемуся
кирпичу там и сям было намалевано углем что-то гнусное; загляды-
вая в дома сквозь проемы сорванных с косяков дверей, вахмистр
видел полуголых обитателей, валявшихся на кроватях или же еле
волочившихся по комнате, словно у них вывихнуты бедра. Конь
его шел тяжело, переставляя задние ноги с таким трудом, словно
они были из свинца. Когда вахмистр повернулся и наклонился,
чтобы осмотреть подковы на задних копытах, из какого-то дома
послышались шаркающие шаги, а когда он выпрямился, перед
самой мордой лошади прошла женщина, лица которой он не раз-
глядел. Она была полуодета, ее грязная, оборванная юбка цвет-
ного шелка волочилась по сточной канаве, на голых ногах болта-
лись заношенные домашние туфли; она прошла так близко, что
дыханье из ноздрей лошади заколыхало пучок ее жирно блестев-
ших волос, спускавшихся из-под старой соломенной шляпы на ого-
ленную шею; и, однако, она не прибавила шагу и не уступила
дороги конному. Из-под порога какого-то дома слева выкатились
на середину улицы две вкровь искусанные крысы, и та из них, что
оказалась снизу, запищала так жалобно, что конь вахмистра оста-
новился и, скосив голову и громко сопя, выпучил глаза на землю.
Удар шенкелями заставил коня снова тронуться вперед, женщина
тем временем скрылась в сенях, и вахмистр так и не успел увидеть
ее лицо.
Из соседнего дома торопливо выбежала собака с задранной
мордой, выпустила из пасти кость и попыталась зарыть ее посреди
улицы в зазор между каменными плитами. Это была грязная белая
сука с отвислыми сосцами; она рыла с дьявольским рвением, потом
схватила кость и отнесла ее немного подальше. Когда она снова
принялась копать, возле нее уже было еще три собаки: две совсем
молодые, с неокрепшими костями и дряблой кожей; не имея сил ни
лаять, ни кусаться, они тянули друг друга тупыми зубами за брыл и.
Третья собака, пришедшая с ними, была светло-бурая левретка с
таким разбухшим телом, что едва могла передвигаться на тонких
ногах. На толстом, тугом, как барабан, теле голова казалась черес-
чур маленькой, и в крохотных настороженных глазках застыло
470
Гуго фон Гофмансталь
страшное выражение боли и тоски. Тотчас же вслед подскочили
еще две собаки: одна тощая, белая, уродливая, жадная, с черными
морщинами, сбегавшими от воспаленных глаз, и никудышная так-
са, которая подняла голову и взглянула на вахмистра. Должно
быть, она была очень стара. Глаза у нее казались бесконечно
печальными и усталыми. Сука без толку металась перед всадни-
ком, оба щенка старались цапнуть коня за бабки дряблыми пастя-
ми, левретка волочила разбухшее тело под самыми подковами.
Гнедой не мог ступить ни шагу. Вахмистр хотел разрядить свой
пистолет в одну из собак, но пистолет дал осечку, тогда он при-
шпорил коня и помчался с грохотом по плитам мостовой. Но, про-
скакав совсем немного, он должен был резко осадить своего гне-
дого.
На этот раз дорогу ему перегородила корова, которую на
натянутой веревке волок на бойню какой-то парень. Но корова,
испугавшись запаха крови и растянутой на дверном косяке шкуры,
только что содранной с черного теленка, упиралась всеми
четырьмя ногами, втягивала раздутыми ноздрями красноватый
закатный туман и, прежде чем парень справился с ней, колотя и
дергая за веревку, успела, жалобно глядя, ухватить губами пучок
сена, который вахмистр приторочил спереди к седлу.
Наконец последний в деревне дом остался позади; проезжая
между низких раскрошившихся стен, вахмистр мог разглядеть, как
идет дальше дорога за старым каменным мостом в один пролет,
перекинутым через ров, на вид пересохший; однако он чувствовал
в самом аллюре коня такую невыразимую тяжесть, такую медли-
тельность, что каждый фут стены справа и слева, каждая сидевшая
на ней мокрица и сороконожка отодвигались назад томительно
долго, и ему представлялось, что, пока он проехал через эту омер-
зительную деревню, прошло неизмеримо много времени. Из груди
коня вырывалось тяжелое, хриплое дыхание, но вахмистр не сразу
распознал этот совершенно непривычный для него звук и искал
его причину сперва подле себя и над собой, затем в отдалении —
и вдруг заметил за мостом, примерно на таком же расстоянии,
на каком находился от него сам, скачущего навстречу однополча-
Новеллы
471
нина, тоже в чине вахмистра и тоже на гнедом коне с белыми
бабками.
Так как он знал, что во всем эскадроне нет другого такого
коня, кроме того, на котором он сам сидел в этот миг, а лица
встречного всадника все еще нельзя было разглядеть, то в нетерпе-
нии он даже пришпорил коня и пустил его довольно быстрым гало-
пом, в ответ на что встречный ровно настолько же ускорил ход, и
теперь они приблизились друг к другу на полет камня. И вот когда
кони, каждый со своей стороны, ступили на мост передними
ногами с белыми бабками, вахмистр, выпучив глаза, узнал в приз-
раке самого себя и, в беспамятстве осадив лошадь, выставил вперед
правую ладонь с растопыренными пальцами, в ответ на что непо-
нятное существо тоже осадило коня, подняло правую руку — и
вдруг исчезло.
В тот же миг из пересохшего рва справа и слева вынырнули
с беззаботными лицами рядовые Холль и Скармолин, а над выго-
ном громко и совсем неподалеку эскадронные трубы протрубили
«в атаку». Быстро взлетев на земляную насыпь, вахмистр увидел
эскадрон, который мчался галопом к рощице, навстречу поспешно
выступавшим оттуда вражеским конникам с пиками наперевес.
Уже собрав в левой руке болтающиеся поводья и окрутив
вокруг правой ручные ремни, он увидел, как четвертая колонна
отделилась от эскадрона и замедлила ход, и сам он уже был на гул-
ком поле, в густом облаке пыли, среди врагов, ударил по голубой
руке, направлявшей пику, увидел вплотную перед собой лицо рот-
мистра с широко раскрытыми глазами и злобно оскаленным ртом,
потом внезапно вклинился так глубоко, что вокруг были только
неприятельские лица и мундиры чужих цветов, вынырнул из-под
занесенных клинков, ткнул ближайшего в горло и сбросил его с
лошади, увидел, как рядом с ним рядовой Скармолин, со сме-
ющимся лицом, отрубил кому-то пальцы державшей поводья руки
и вогнал лезвие глубоко в холку лошади, почувствовал, что схватка
начинает рассыпаться, и вдруг очутился один, на берегу ручья,
позади вражеского офицера на вороно-пегом коне. Офицер хотел
перейти ручей. Вороно-пегий закинулся. Офицер повернул его,
472
Гуго фон Гофмансталь
уставил на вахмистра молодое, очень бледное лицо и дуло писто-
лета — но тут прямо в глотку ему вонзилась сабля, собравшая в
своем острие весь напор несущейся галопом лошади. Вахмистр
вырвал саблю и перехватил поводья вороно-пегого в том самом
месте, где их отпустили пальцы поверженного, а вороно-пегий
легко и изящно, словно лань, переступил через своего умирающего
хозяина.
Когда вахмистр возвращался со своей прекрасной добычей,
заходящее в тяжелую мглу солнце заливало выгон красным светом
небывалой яркости. Даже в тех местах, где не было следов копыт,
стояли, казалось, лужи крови. Красный отблеск лежал на белых
мундирах и смеющихся лицах, кирасы и чепраки горели и сверкали,
а больше всего — три низкорослые смоковницы, о листья которых
кавалеристы со смехом вытирали желобки на лезвиях сабель. В
стороне от запятнанных красным деревьев стоял ротмистр, рядом с
ним — эскадронный трубач, который поднес к губам как будто
облитую красным соком трубу и заиграл сбор.
Вахмистр поскакал от колонны к колонне и увидел, что
эскадрон не потерял ни единого человека, зато добыл девять лоша-
дей. Он подъехал к ротмистру и доложил о своем прибытии, все
время ведя справа вороно-пегого, который пританцовывал с
задранной головой и втягивал воздух, как и положено молодому,
любящему покрасоваться коню. Ротмистр выслушал доклад с рас-
сеянным видом. Он кивком подозвал к себе поручика графа Траут-
зона, тот сейчас же спешился и с еще шестью тоже спешившимися
кирасирами начал распрягать добытую в бою легкую пушку; потом
шестеро рядовых оттащили орудие в сторону и утопили в малень-
ком болотце, которое образовал здесь ручей. Поручик снова сел в
седло, прогнал клинком плашмя ненужных теперь упряжных кляч
и молча занял свое место перед первой колонной. Все это время
разделенный на два строя эскадрон вел себя без всякого беспокой-
ства, но был в не совсем обычном настроении, которое легко объ-
яснялось четырьмя успешными стычками за один день и прорыва^
лось в частых взрывах подавляемого смеха и в перекличке вполго-
лоса. Лошади тоже не*стояли спокойно, особенно те, между кото-
Новеллы
473
рыми в строю оказались чужие, добытые в схватках кони. После
стольких удач пространство, на котором построились такие побе-
доносные конники, казалось чересчур тесным, им хотелось развер-
нуться и ринуться на нового противника, врубиться и захватить
новых коней.
В это время ротмистр барон Рофрано проехал вплотную
вдоль фронта своего эскадрона, поднял веки голубых, чуть сонных
глаз и отчетливо, хотя и не поднимая голоса, отдал команду: «По-
дручных лошадей отпустить!» Эскадрон замер. Только вороно-
пегий конь, стоявший подле вахмистра, вытянул шею и почти кос-
нулся ноздрями лба лошади, на которой сидел ротмистр. Ротмистр
спрятал саблю в ножны, вытащил из кобуры у седла один из писто-
летов и, стерев тыльной стороной державшей поводья руки пят-
нышко пыли с блестящего ствола, повторил немного погромче
команду и сразу же стал считать: «Раз, два...» При счете «два» он
вперил свой подернутый пеленой взгляд в глаза вахмистра, кото-
рый неподвижно сидел перед ним в седле и в упор смотрел на него.
В то время как неподвижный взгляд Антона Лерха, в котором
вспыхивало и снова исчезало что-то подавляемое, что-то собачье,
пытался выразить униженную преданность, возникшую как итог
многолетних служебных отношений, в сознание его почти не про-
никла чудовищная напряженность этих секунд, оно было совер-
шенно заполнено множеством странно-спокойных образов, а из
глубин его существа, совершенно неведомых ему самому, подни-
мался звериный гнев против этого человека, что был сейчас перед
ним и хотел отнять у него коня; лицо ротмистра, его голос, осанка,
его присутствие на земле вызвали такой ужасающий гнев, какой
может возникнуть таинственным образом только после многих лет
жизни бок о бок.
Произошло ли с ротмистром нечто подобное или же ему
показалось, что в этом мгновении безмолвного нарушения субор-
динации сосредоточилась вся сомкнувшаяся вокруг него опасность
критического положения, сказать нельзя; но небрежным, чуть ли
не изящным движением рука его поднялась, а в тот миг, когда,
презрительно вздернув верхнюю губу, он произнес «три», прогре-
474 Гуго фон Гофмансталь
мел выстрел, и вахмистр с простреленным лбом припал грудью к
загривку коня, а потом рухнул между гнедым и вороно-пегим
наземь. Он еще не успел упасть, как все — и рядовые и носившие
звание — отогнали, кто рванув за узду, кто ударом ноги, захвачен-
ных лошадей, а ротмистр спокойно спрятал в кобуру свой пистолет
и снова повел все еще содрогающийся после молниеносного
выстрела эскадрон навстречу накапливающемуся в сумеречной
дали противнику. Однако противник не предпринял новой атаки, и
короткое время спустя летучий отряд беспрепятственно достиг
южных аванпостов своей армии.
1898
Перевод С. Ошерова.
*
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
МАРШАЛА БАССОМПЬЕРА
В свое время мне, по обязанностям службы моей, приходилось
весьма регулярно, по нескольку раз на неделе и всегда в один и тот
же час, проезжать верхом на коне по Малому мосту (ибо Понтнеф
тогда еще не был построен), так что жившие по соседству подмас-
терья и другие люди из простонародья большею частью уже приз-
навали меня и провожали приветствиями, с особым же усердием и
постоянством — одна прелестная лавочница, на заведении которой
красовалась вывеска с двумя ангелами и которая, сколь бы часто я
ни проезжал мимо за эти пять или шесть месяцев, встречала меня
низким поклоном и глядела вослед мне до тех пор, пока я не скры-
вался из виду. Я не преминул отметить это ее усердие, тоже всегда
взглядывал на нее и учтиво благодарил. Однажды поздней зимою я
возвращался из Фонтенбло в Париж, и, когда я как раз проезжал
по мосту, она появилась в дверях своей лавки и сказала: «Ваша
покорная слуга, сударь!» Я ответствовал поклоном и, несколько
раз оглянувшись, снова заметил, что оца подалась далеко вперед,
дабы проводить меня взглядом насколько возможно. Следом за
мною ехали слуга и рассыльный, каковых я намеревался в тот же
вечер отправить назад в Фонтенбло с письмами к знакомым дамам.
Я велел слуге спешиться, подойти к молодой женщине и передать
ей от моего имени, что ее внимание и расположение ко мне не оста-
лись незамеченными и что, ежели у нее есть желание покороче
познакомиться со мной, я с радостью пришел бы в любое место,
каковое она назначит.
Более желанной вести он не мог ей принести, был ответ, она
готова прийти, куда ей будет указано.
476 Гуго фон Гофмансталь
Едучи дальше с^оей дорогой, я спросил слугу, не знает ли он
подходящего места, где бы я мог встретиться с моею незнакомкою.
Он ответил, что может доставить ее к одной сводне; но так как слу-
гою он был весьма попечительным и честным, этот Гильом из
Куртрэ, то сейчас же добавил: поскольку уже во многих кварталах
города объявилась чума, и не только грязный люд из простона-
родья, но и один доктор, а также настоятель собора умерли от нее,
он советует мне прихватить с собой из дома матрацы, одеяла и про-
стыни. Я почел совет разумным, и он обещал приготовить мне
хорошую постель. Прежде чем спешиться, я приказал ему еще сне-
сти туда чистый таз для умывания, флакончик с ароматической
эссенцией, печенья и яблок; велел также позаботиться о том,
чтобы комнату основательно протопили, потому что стоял лютый
холод, у меня закоченели ноги в стременах, а небо нависало тяже-
лыми снежными тучами.
Вечером я отправился в указанное место и нашел там замеча-
тельно красивую женщину лет примерно двадцати; она сидела на
кровати, а сводня, чья голова и скрюченная спина закутаны были в
черную шаль, с настойчивостью ей что-то внушала. Дверь была
притворена, в камине с треском пылали свежие поленья, моего
прихода не услышали, и я на мгновение остановился в дверях.
Младшая из собеседниц спокойно, широко раскрытыми глазами
глядела в огонь; отвернувши голову от омерзительной старухи, она
будто отдалилась от нее на многие версты; из-под ночного чепчика
у ней выбилась прядь тяжелых темных волос, и несколько прелест-
ных естественных локонов упали на сорочку меж плечом и грудью.
Помимо сорочки на ней была короткая зеленая шерстяная юбка и
на ногах домашние туфли. Тут, как видно, случайный шорох выдал
меня; вскинув голову, она посмотрела через плечо, и в полуобо-
роте мне предстало лицо, коему мучительная напряженность черт
придавала бы почти безумное выражение, не озари его вдруг безза-
ветный порыв, так и хлынувший навстречу мне из широко раскры-
тых глаз и незримым пламенем вспыхнувший на безмолвных устах.
Понравилась она мне чрезвычайно; быстрее, чем можно себе
вообразить, старуха исчезла с наших глаз, а я был у ног чаровницы.
Новеллы
477
Когда в опьянении первых, столь нежданно дарованных мне ласк я
перешел к некоторым вольностям, она уклонилась с неописуемо
живой выразительностью равно и взгляда и звучного низкого голо-
са. Но уже в следующее мгновенье она обвилась вкруг меня, и
прочней, чем уста и объятья, держал и завораживал меня уплыва-
ющий взгляд ее бездонных глаз; временами она будто порывалась
что-то сказать, но в судороге от поцелуев губы не в силах были
образовать ни слова, и единственным внятным звуком, исторгав-
шимся из трепещущего горла, был лишь сдавленный стон.
Надобно тут заметить, что большую часть дня я провел в
седле на обледенелых проселочных дорогах, ввязался потом в
весьма досадное и бурное препирательство в приемной короля и,
дабы заглушить дурное расположение духа, изрядно выпил да еще
и подрался на дуэли, вследствие чего в самом разгаре моего восхи-
тительного и таинственного приключения, млея в объятиях неска-
занно нежных рук, обвившихся вкруг моей шеи, и укрытый волною
дурманящих волос, ощутил я внезапно необоримую усталость и
впал в некое странное забвение, так что и не помнил уже, как при-
велось мне очутиться именно в этой комнате, смешал даже на
мгновение особу, чье сердце билось у моей груди, с совсем другою,
из прежних времен, и вскорости забылся глубоким сном.
Когда я очнулся, тьма еще царила в комнате, но я сразу
почувствовал, что подруги моей со мной уже нет. Я поднял голову
и в слабом свете догорающего камина увидел, что она стоит у окна:
приотворив ставень, она выглядывала в щель наружу. Потом она
обернулась и, заметив, что я не сплю, воскликнула (у меня и сейчас
еще стоит перед глазами ее жест — как она провела стиснутой в
кулак левой рукой по щеке и отбросила выбившийся локон на спи-
ну): «До рассвета еще не скоро, не скоро!» Лишь теперь я мог
вполне разглядеть, какая она статная и красивая, и едва мог
дождаться того мгновения, когда она, в несколько крупных своих,
неспешных шагов, окажется снова рядом. Но прежде она еще
подошла к камину, наклонилась, взяла последнее лежавшее на
полу тяжелое полено в свои ослепительно обнаженные руки и про-
ворно бросила его в огонь. Потом она повернулась, радостью
478
Гуго фон Гофмансталь
вспыхнуло в отблесках пламени ее лицо, походя она схватила со
стола яблоко и уже в следующий миг, прильнув ко мне, вся еще
обвеянная свежим жаром и сразу сомлевшая, сотрясаемая изнутри
еще более яростным огнем, правой рукой обхватила меня, левой
же преподнесла мне к устам вместе с прохладным надкушенным
плодом сразу и щеки, и губы, и глаза. Последнее полено в камине
пылало ярче других. С треском всасывая пламя в себя, оно потом
буйным пожаром взметывало его вверх, и свет этот захлестывал
нас, как волна, что, докатившись до стены, то вздымала на ней
наши переплетенные тени, то резко швыряла вниз. Крепкая древе-
сина еще долго потрескивала и питала изнутри все новые и новые
языки огня, весело взвивавшиеся ввысь и взрывавшие плотную
тьму залпами багрового света. Но вдруг последний огонек сник,
легким холодным дуновением, будто чьей-то неслышной рукой,
приоткрыло ставень, и за окном обнажился пресный, белесый,
хмурый рассвет.
Мы поднялись на своем ложе и поняли, что наступил день.
Но то, что было снаружи, нельзя было даже назвать днем. То не
было пробуждение мира. И улица снаружи не походила на улицу.
Ничего в отдельности невозможно было различить: бесцветный,
бесплотный хаос — обиталище неосязаемых, ускользающих ли-
чин. Откуда-то из дальнего далека, будто из глубин воспоминания,
донесся бой башенных часов, и стылый, промозглый воздух, как
вестник самой вечности, наполнил комнату, так что мы с содрога-
нием прижались тесней друг к другу. Потом она отпрянула и гла-
зами своими требовательно, будто собрав в них всю силу, впилась
в мое лицо; в горле у нее клокотало, что-то распирало его и подсту-
пало к самым устам, но так и не стало ни словом, ни вздохом, ни
поцелуем, а, нерожденное, было всему сродни. С каждой минутой
становилось светлее, и все напряженней становилось переменчивое
выражение ее судорожно исказившегося лица; вдруг снаружи
послышались голоса и шарканье шагов, кто-то шел так близко от
окна, что она сжалась в комок и отвернулась лицом к стене. То
были двое мужчин: на мгновение в комнату упал луч света от фона-
ря, который один из них держал в руках; другой вез тележку, ее
Новеллы
479
колеса скрипели и дребезжали по мостовой. Когда эти люди
прошли мимо, я встал, закрыл ставень и зажег свечу. Половинка
яблока еще лежала на постели; мы съели ее, и тогда я спросил, не
желает ли она еще раз встретиться со мною, ибо я уезжаю только
в воскресенье. Происходило же это в ночь с четверга на пятницу.
Она ответила, что желает, и даже наверняка сильнее моего;
но ежели я не останусь в городе на все воскресенье, ничего не вый-
дет, ибо она сможет встретиться со мною лишь в ночь с воскре-
сенья на понедельник.
Я принялся было рассуждать о различных препятствиях,
каковые рассуждения она выслушала молча, не проронив ни слова,
лишь устремила на меня до боли пристальный, испытующий взгляд
да одновременно лицо ее потемнело и приняло почти пугающе
жесткую черту. Я, разумеется, сейчас же обещался остаться и при-
совокупил, что приду, стало быть, в воскресенье вечером в то же
самое место. В ответ на эти слова она твердо посмотрела мне в
глаза и сказала срывающимся голосом, коего тон вдруг стал горек
и груб: «Я хорошо понимаю, что ради тебя я пришла в постыдный
дом; но сделала я это по своей воле, потому что я хотела быть с
тобой, потому что согласна была на любое условие. Теперь же,
если бы я решилась еще раз прийти сюда, я сочла бы себя хуже
самой последней, самой грязной уличной девки. Я сделала это ради
тебя, потому что ты для меня тот, кто ты есть, потому что ты Бас-
сомпьер, потому что ты тот единственный человек на земле, кото-
рый одним присутствием своим делает для меня незазорным этот
дом!» Она сказала «дом»: какую-то долю секунды казалось, что
более презрительное слово готово сорваться с ее уст; говоря «дом»,
она бросила на четыре стены, на эту постель, на соскользнувшее с
нее и валявшееся на полу одеяло такой взгляд, таким огнем вспых-
нули ее глаза, что под залпом исторгшегося из них света все эти
уродливые, жалкие предметы будто съежились и в испуге отпря-
нули от нее, и на какой-то миг словно стал просторней и шире этот
убогий притон.
А она тогда добавила невыразимо проникновенным и торже-
ственным тоном: «Да настигнет меня самая позорная смерть, если
480
Гуго фон Гофмансталь
я принадлежала в своей жизни кому-либо другому, кроме мужа и
тебя, и желала бы хоть кого-то еще в этом мире!» — и, чуть подав-
шись вперед, с полуоткрытыми губами, трепещущими самой
жизнью, она, казалось, ждала какого-нибудь ответа, ждала
подтверждения, что я ей верю, но на лице моем, верно, не читалось
ничего ею желаемого, ибо напряженный, взыскующий взгляд ее
омрачился, ресницы дрогнули и во мгновение ока она была уже у
окна, поворотившись спиною ко мне и со всею силой прижавши
лоб к ставню, а тело ее сотрясалось так сильно от беззвучных,
нестерпимо бурных рыданий, что все слова замерли у меня на устах
и я не отважился дотронуться до нее. Наконец я схватил ее руку,
безжизненно свисавшую, и с помощью самых нежных слов, вну-
шенных мне минутою, сумел после долгих увещеваний настолько
успокоить ее, что она снова обратила ко мне заплаканное лицо и
внезапная улыбка, подобно свету озарившая глаза и уста ее, в ту же
секунду иссушила все следы слез и затопила лицо своим сиянием.
Признаюсь, не доводилось мне наблюдать игры очаровательней,
нежели последовавшие речи ее, когда она, без конца повторяя сло-
ва: «Ты вправду хочешь еще раз увидеться со мной? Тогда я при-
глашу тебя к своей тетке!» — раз десять то с нежной настойчивос-
тью, то с шаловливым недоверием произнесла первую фразу, а
вторую сначала прошептала мне на ухо, будто величайшую тайну,
потом же, передернув плечами и поджав губки, бросила мне ее
небрежно, как наиобыкновеннейшую договоренность на свете, и,
наконец, обвив меня руками и ластясь, повторила ее, заглядывая в
лицо мне со счастливым смехом. Дом тетки она описала со всею
обстоятельностью, с какою описывают дорогу ребенку, когда
впервые посылают его одного через улицу к булочнику. Потом она
выпрямилась, стала серьезною — а пылающие глаза ее сосредото-
чились на мне с такой неотразимой силой, что казалось, они спо-
собны увлечь за собою и мертвого, — и продолжала: «Я буду ждать
тебя от десяти до полуночи, и после буду ждать, и все время, и
дверь внизу будет открытой. Сначала ты увидишь маленький кори-
дор, в нем не задерживайся, туда выходит дверь теткиной комнаты.
Потом прямо перед тобой будет лестница, она ведет наверх, и там
Новеллы
481
ты найдешь меня!» И, закрыв глаза, будто в истоме, она откинула
голову, простерла руки, обняла меня и уже в следующую секунду
выскользнула из моих объятий, уже стояла одетою, строгая и
неприступная, и была такова, ибо совсем уже занялся день.
Я уладил все дела, выслал вперед часть слуг со своими
пожитками и уже вечером следующего дня охвачен был таким
нетерпением, что, едва отзвонили к вечерне, отправился вместе с
верным Гильомом, запретив ему, однако, брать фонарь, к Малому
мосту, чтобы лишний раз увидеть свою подругу в ее лавке или при-
легающем жилище и хотя бы подать ей знак о моем присутствии;
ни на что большее — к примеру, на то, чтобы обменяться с нею
двумя-тремя словами, — я уж и не надеялся.
Дабы не привлекать к себе внимания, я остановился на мосту
и послал слугу разведать, есть ли кто в доме. Тот весьма продолжи-
тельное время отсутствовал, а возвратился с понурою и сосредото-
ченною миною, каковая всегда бывала у этого верного малого,
если ему случалось не выполнить исправно моего приказания.
«Лавка заперта, — сказал он, — и дома, похоже, никого нет. Да и
в комнатах, что выходят в переулок, никого не видно и не слышно.
Двор огорожен высокой стеной, к тому же там рычит огромная
собака. Одна из передних комнат, правда, освещена, и через щель
в ставне можно заглянуть в лавку, да она тоже пуста».
Немало раздосадованный, я хотел уж было отправиться вос-
вояси, но решился напоследок медленно пройтись мимо лавки.
Гильом мой, усердствуя в желании мне услужить, еще раз приник
глазом к щели, сквозь которую пробивалась полоска света, и
шепотом сообщил, что, хотя хозяйки и нет там по-прежнему, зато
хозяин в комнате. Обуреваемый любопытством и желая взглянуть
на самого лавочника, которого, сколько мне помнилось, я ни разу
не видел в его лавке и потому представлял себе попеременно то как
рыхлого толстяка, то как хилого старца, я приблизился к окну, и
каково же было мое удивление, когда в весьма пристойно обстав-
ленной и обшитой панелями комнате я увидел рослого и прекрасно
сложенного мужчину, на добрую голову выше меня, который,
неожиданно повернувшись, явил мне глубоко сосредоточенное и
482
Гуго фон Гофмансталь
отменно красивое лицо с каштановой бородой, уже пронизанной
кое-где серебряными нитями, и высоким лбом столь редкостного
благородства, коего мне еще не доводилось видеть ни у одного
человека. Хотя он был в комнате совершенно один, выражение
глаз его то и дело менялось с живостию необыкновенной, губы
шевелились и, беспрерывно шагая взад и вперед по комнате и
время от времени останавливаясь, он, казалось, занят был вообра-
жаемой с кем-то беседою; раз даже сделал жест рукой, будто со
сдержанным превосходством отстранял чье-то возражение.
Каждый взгляд его был исполнен величественной небрежности и
надменности почти презрительной, и, наблюдая за тем, как он в
одиночестве кружит по пустой комнате, я поневоле вспомнил
одного очень именитого узника, которого я, по приказу короля,
должен был в свое время охранять в башне замка Блуа. Это сход-
ство представилось мне еще более выразительным, когда человек
за окном поднес к глазам правую руку и, растопырив согнутые
пальцы, впился в них пристальным и, я бы даже сказал, мрачным
взглядом.
Ибо с таким же точно выражением лица имел обыкновение
тот именитый узник рассматривать перстень, который он носил на
указательном пальце правой руки и с которым никогда не расста-
вался. Тут незнакомец подошел к столу, придвинул стеклянный
шар с водою к восковой свече и, поместив обе руки с растопырен-
ными пальцами в круг ее света, казалось, разглядывал кончики
своих ногтей. Потом он задул свечу и вышел из комнаты, оставив
меня, не скрою, всецело во власти глухого, ревнивого озлобления,
ибо желание, разбуженное во мне его женою, разрасталось неудер-
жимо и, подобно всепоглощающему пламени, питалось всем, что
встречалось мне на пути... так что его странным образом усили-
вала не только эта неожиданная встреча, но и каждая снежинка из
тех, что взвихривались промозглым ветром и одна за другой осе-
дали и таяли на моих ресницах и щеках.
Следующий день я провел до крайности бестолково, ни на
одном занятии не в состоянии был сосредоточиться, купил себе
лошадь, совершенно мне не нравившуюся, нанес после обеда визит
Новеллы
483
герцогу Немурскому и провел там некоторое время за игрою и
пустейшей, отвратительнейшей болтовней. Речи там только и
велись что о распространяющейся по городу чуме, и из всех этих
аристократов невозможно было выжать ни единого другого слова,
кроме как о поспешном закапывании трупов, о соломенных
кострах, каковые должно разжигать в зараженных комнатах, дабы
уничтожить ядовитые испарения, и тому подобном; глупее же всех
мне показался один каноник из Шандье, который, будучи здоров
как бык, тем не менее без конца косился на свои ногти, следя, не
проступила ли на них вдруг подозрительная синева, возвещающая о
болезни.
Мне это все претило, я рано откланялся и, вернувшись
домой, улегся в постель, но заснуть не мог, снова оделся, и, подсте-
гиваемый нетерпением, вознамерился — была не была! — тотчас
же отправиться к своей подруге и увидеться с нею, хотя бы ради
этого мне пришлось вместе с моими слугами силою проникнуть в
дом. Я подошел к окну кликнуть слуг, но ледяной ночной воздух
остудил мой пыл, и я понял, что это был бы вернейший способ все
испортить. Не раздеваясь я бросился на постель и наконец заснул.
Сходным образом провел я воскресенье, вечером задолго до
срока явился на указанную улицу и, принудив себя дожидаться, рас-
хаживал по ней взад и вперед, пока не пробило десять. Я сразу же
отыскал и дом и дверь, ею описанные, дверь в самом деле была
открыта, а за нею — коридор и лестница. Однако ж дверь наверху,
к которой вела лестница, была заперта, хоть из-под нее пробива-
лась узенькая полоска света. Стало быть, она была там, в комнате,
и ждала меня, и, может быть, так же прислушивалась за дверью
внутри, как я снаружи. Я поскреб ногтем о дверь, внутри послыша-
лись шаги; мне показалось, что то была робкая, неуверенная
поступь босых ножек. На секунду я затаил дыхание, а потом посту-
чался; но за дверью раздался мужской голос, спросивший: «Кто
там?» Я отпрянул в тень, к дверному косяку, и не проронил ни зву-
ка; дверь продолжала оставаться запертою, и я с величайшими пре-
досторожностями, ступенька за ступенькой, спустился по лестнице,
прокрался по коридору к выходу и, очутившись на улице, стиснув
484
Гуго фон Гофмансталь
зубы, пылая нетерпением, принялся шагать по улицам; в висках у
меня стучало. Вскоре я снова очутился пред ее домом, но заходить
пока не решался: я чувствовал, уверен был, что она выпроводит
мужа непременно и я сразу тогда поднимусь к ней. Переулок был
узкий; на другой стороне домов не было, а возвышалась стена
монастырского сада; в тени ее я укрылся, пытаясь распознать с
противоположной стороны окно ее комнаты. Вдруг одно из окон
верхнего этажа озарилось светом, тут же погасшим, как от
вспышки пламени. Я живо представил себе всю картину: она
подбросила большое полено в камин, как тогда, и, как тогда, сто-
яла теперь посреди комнаты в отблесках огня или сидела на кро-
вати и, вслушиваясь, ждала. С порога я сразу увижу ее, увижу
тень от ее затылка и плечей, колыхаемую прозрачной волной на
стене. В мгновение ока я очутился в коридоре, взлетел вверх по
лестнице; дверь уже была не заперта, а приоткрыта и пропускала
теперь еще и сбоку колеблющийся свет. Я уже собрался схватиться
за ручку, как вдруг замер, услышав внутри шаги и голоса будто
нескольких людей. Но я не хотел этому верить: я принял это за
шум крови в висках и на шее и за треск поленьев в комнате. В ту
ночь огонь ведь тоже пылал с немалым шумом. Наконец я схва-
тился за ручку двери и в ту же секунду понял, что внутри были
люди, много людей. Но мне уже было все равно, ибо я чувствовал,
уверен был, что она тоже там, внутри, что стоит мне распахнуть
дверь, как я сразу же увижу, схвачу, пусть даже вырву ее из чьих-то
рук, притяну к себе, даже если мне придется шпагой и кинжалом
прорубать дорогу для нас двоих сквозь орущую толпу. Лишь даль-
нейшее ожидание казалось мне в эту минуту совершенно неперено-
симым.
Я распахнул дверь и увидал: посредине пустой комнаты
нескольких людей, сжигавших соломенный тюфяк; озаренные све-
том пламени голые, ободранные стены, мусор на полу, а у одной из
стен — стол, на котором лежали два распростертых обнаженных
тела, одно крупное, с наброшенной на голову простыней, другое
поменьше, вытянувшееся вдоль самой стены, и на стене — черную
тень от него, плясавшую в отблесках огня.
Новеллы
485
Как безумный бросился я вниз по лестнице и добрался до
выхода; у самого порога я наткнулся на двух могильщиков: один
поднес фонарь прямо к моему лицу и спросил, что мне тут надобно,
а другой подкатил к двери скрипучую, дребезжащую тележку. Я
обнажил шпагу, освободив себе таким образом путь, и вскоре был
дома. Там я выпил одну за другой три или четыре кружки тяжелого
вина и на следующий же день, отдохнув и придя в себя, отправился
в Лотарингию.
Все предпринятые мною по моем возвращении попытки
узнать что-нибудь об этой женщине остались тщетными. Я даже
решился наведаться в лавку под двумя ангелами; однако новые
хозяева ее ничего не знали о прежних владельцах.
1900
Перевод А. Карельского.
*
Mit'L
Ь/ У ■■/ V
;V<tA r
|C
<U
Kry'
*«i» «и-
KwwWk
II. I
1,
(a/
ij
Ш
WZ:
tit
rip;
(■'/.<)
i.''/.
'*'•' г A.
Щ
>4YSj
Статьи.
Речи. Эссе
Перевод
А. Гугнина
В. Куприянова
А. Михайлова
Е. Михелевин
A. Назаренко
B. Никитина
*
ГАБРИЭЛЬ Д'АННУНЦИО
Иногда возникает ощущение, что наши отцы, современники моло-
дого Оффенбаха, наши деды, современники Джакомо Леопарди, и
все бесчисленные поколения до них оставили в наследство нам,
родившимся позже, всего две вещи: красивую мебель и излишне
утонченные нервы. Поэзия этой мебели кажется нам чем-то канув-
шим в прошлое, а игра этих нервов — нашим настоящим. Поблек-
шие гобелены манят нас узкими белыми руками и мудрыми улыб-
ками на личиках эпохи кватроченто; сверкающие белым лаком
паланкины Марли и Трианона, роскошные ложи Борджиа и пре-
словутой Вендрамин вещают нам: «Мы любили открыто и гордо,
со всем пылом страсти. Мы утопали в роскоши и спали глубоко и
спокойно; мы жили ярко, срывая цветы удовольствий и упиваясь
радостями жизни, которые вам не даны». Кажется, будто наш
утонченный и эклектичный век только и делал, что пытался вдох-
нуть в овеществленные останки минувших эпох какую-то мисти-
ческую, якобы присущую им жизнь. И теперь они окружают нас со
всех сторон, эти вампиры, эти живые трупы, эти метлы-оборотни,
вызванные из небытия незадачливым учеником чародея. Мы прев-
ратили покойников в своих идолов; все, чем они обладают, мы вру-
чили им сами; мы влили в их жилы лучшую свою кровь; мы при-
дали этим теням прошлого ореол красоты более возвышенной и
силы более чудотворной, чем бывает в жизни: красоты, родив-
шейся из нашей тоски, и силы, порожденной нашими грезами. Да
что там! Все наши помыслы о красоте и счастье бежали от нас, от
Статьи. Речи. Эссе
489
наших унылых будней и обитают вместе с возвышенно прекрас-
ными существами некоего искусственного мира — с изящными
ангелами и пажами Фьезоле, с уличными мальчишками Мурильо и
холеными пастушками Ватто. У нас не осталось ничего, кроме
голого существования, серой, безрадостной действительности и
бескрылого самоотречения. У нас нет ничего, кроме сентимен-
тальной памяти, парализованной воли и зловещего дара раздвое-
ния личности. Мы наблюдаем свою собственную жизнь как бы со
стороны: мы прежде времени осушаем бокал, а жажда так и
остается неутоленной. Как прекрасно и грустно сказал недавно
Бурже: в кубке, который преподносит нам жизнь, есть трещина и
того, что вытекает, пока мы пьем, нам не хватает, чтобы напиться
допьяна; потому-то мы и ощущаем в обладании потерю, в пережи-
вании — недостаток остроты. У нас как бы нет корней и жизни, и
мы, словно ясновидящие и одновременно незрячие тени, бродим
меж ее наивных отпрысков.
Мы! Мы! Я прекрасно знаю, что говорю не обо всем поколе-
нии своих современников. Я говорю о нескольких тысячах, рассе-
янных по крупным городам Европы. Иные из них знамениты; дру-
гие сочиняют на редкость трогательные и западающие в душу кни-
ги; третьи из робости и высокомерия отваживаются писать только
письма, которые спустя пятьдесят-шестьдесят лет названы будут
моральными и психологическими свидетельствами эпохи; от неко-
торых вообще ничего не останется; ни грустно-язвительного афо-
ризма, ни карандашной пометки с печатью яркой индивидуально-
сти на полях пожелтевшей книги.
Тем не менее эти две-три тысячи личностей имеют немало-
важное значение, хотя среди них вовсе не обязательно встречаются
выдающиеся таланты своего времени, а тем более гении; в них
отнюдь не всегда воплощены мозг или сердце поколения; они всего
лишь носители его сознания. Они с болезненной отчетливостью
ощущают себя людьми своего времени; они понимают друг друга с
полуслова, и привилегия этого духовного франкмасонства почти
единственное преимущество их перед остальными. Но из условного
языка, на котором они поверяют друг другу свои странности, свою
490
Гуго фон Гофмансталь
особую тоску и особую чувствительность, история почерпнет клю-
чевое слово эпохи.
Чтб в этом духовном смысле в тот или иной период считается
«современным», легче почувствовать, чем сформулировать; лишь
последующим поколениям под силу различить основной мотив
среди неясных устремлений. Так, в начале века в живописи счита-
лось «современным» обожествлять ложно понятый назареизм, в
поэзии — подражать музыке, а в целом — тосковать по «наивно-
му»; Г. Брандес вывел из всех этих симптомов понятие «роман-
тизм». Нынче у нас, по всей видимости, современными считаются
две вещи: анализ жизни и бегство от нее. Никто не испытывает
тяги к активному действию, никого не интересует ни противобор-
ство внешних и внутренних сил на арене жизни, ни обучение жизни
в духе Вильгельма Майстера, ни соперничество в стиле Шекспира.
Предпочитают либо копаться в собственной душе, либо мечтать.
Рефлексия или фантазия, отражение или мираж. Нынче в моде ста-
ринная мебель и юношеские неврозы. Моден также сверхутончен-
ный пророческий психологизм и погружение в мир волшебной фан-
тазии. Модны Поль Бурже и Будда, расщепление атомов и пани-
братское обращение со вселенной; модно расчленять и анатомиро-
вать случайное настроение, один-единственный вздох, минутное
колебание. И модна инстинктивная, чуть ли не сомнамбулическая
тяга к любому проявлению прекрасного, к необычному сочетанию
красок, к блистательной метафоре, к великолепной аллегории.
Некий француз-интеллектуал пишет монографию об убийце, для
которого его жертва — лишь объект психологического экспери-
мента. А интеллектуал-англичанин — об отравителе и подделыва-
теле документов, который был тонким знатоком искусств и страст-
ным коллекционером гравюр на меди. Смысл общепринятой
морали затемняется двумя тенденциями: стремлением к экспери-
ментированию и стремлением к красоте, то есть: тягой к знанию и
тягой к забвению.
В произведениях наиболее самобытного писателя современ-
ной Италии господина Габриэля Д'Аннунцио обе эти тенденции
проявляются с особой четкостью и остротой: его новеллы —
Статьи. Речи. Эссе
491
записки психопатолога, а стихотворные сборники — шкатулки с
драгоценностями. В первых господствуют строгая и трезвая терми-
нология научного документа, во вторых — стихия какого-то судо-
рожного опьянения цветом и чувством.
Его многочисленные рассказы и повести — ни одну из его
вещей нельзя назвать романом — населены множеством челове-
ческих типов, причем самых разнообразных, но всех их объединяет
одна основная черта: ужасающее безволие, которое постепенно
выкристаллизовывается в литературе как основная характери-
стика современного поколения, отношение к жизни как к смене
состояний, а не как к цепи поступков.
Вот, например, история бедной служанки — бесхитростная,
как притча или как научное описание какого-нибудь вида растений:
юность, незаметно пролетевшая в мечтах и молитвах; потом
служба в господском доме, кухонные сплетни, поездки к святым
местам, долгие часы за молитвой; затем привязанность к живот-
ному — старому больному ослику; смерть ослика; перемена места
службы, позднее вялое чувство к деревенскому почтальону, заму-
жество и смерть. Все это правда, и правда эта подавляет: в рассказе
нет ни сгущения красок, ни жестоких преувеличений, но он весь —
протест против невыносимо удушливой атмосферы жизни, в кото-
рой человек подобен растению: появляется на свет, влачит жалкое
существование и отмирает. Или история трамвайного служащего
Джиованни Епископо: он робок и чувствителен; у его жены есть
любовники, которые издеваются над ним и его ребенком; он
боится их, рвется куда-то уехать, но никуда не уезжает, а сидит
дома и смотрит, как пьет горькую его тесть-алкоголик. Это длится
годы и годы... Или рассказ о крестьянах, обезумевших от бешен-
ства из-за кражи свечей в деревенской церкви; в порыве религиоз-
ного фанатизма они водружают себе на плечи восковую позоло-
ченную статую святого покровителя и, вооружившись цепами и
косами, врываются ночью в соседнюю деревню, взламывают цер-
ковную дверь и собираются поставить статую своего святого на
алтарь тамошнего, считая того соперником. Кончается дело тем, ~
что озлобленная толпа, выкрикивая два святых имени, всю ночь
492
Гуго фон Гофмансталь
убивает себе подобных меж лилий, резных украшений и луж крови
на полу церкви.
Может быть, кто-то полагает, что мрачную жестокость этой
жизненной позиции, эту своеобразную смесь косности и отсутствия
корней можно объяснить гнетом нищеты? Отнюдь. Действие неко-
торых новелл развертывается в высшем обществе, в кругах рафи-
нированных и независимых людей, как, например, в «Невинном»,
выдержавшем наибольшее количество переизданий из всех книг
Д'Аннунцио. Она написана как бы в защиту детоубийцы: сообщая
о событиях многих предшествовавших преступлению лет, автор
строит из неприметных на первый взгляд мелочей неопровержи-
мую логическую цепь в сознании невропата. В этой книге господин
Д'Аннунцио достиг необычайной высоты в анализе интимных
отношений.
Ни в одном произведении современной литературы после
«Мадам Бовари» не передана с такой силой атмосфера семейного
дома и все оттенки очень интимных и очень изменчивых отноше-
ний между людьми, живущими под одним кровом: улавливание
настроения по звуку шагов, по тону голоса, боль и забота, вклады-
ваемые в одно-единственное особо подчеркнутое слово, в какой-то
вовремя найденный намек, понимание друг друга без слов, неисчер-
паемый язык взглядов и жестов. По сравнению с этой подлинно
супружеской жизнью друг с другом и друг в друге внутрисемейные
отношения в романах Бурже или Мопассана всего лишь плоское,
лишенное глубины сосуществование, на фоне которого ярко вспы-
хивают дуэты отдельных кризисных сцен. Супруг, от лица кото-
рого ведется повествование, — один из тех людей, наделенных
болезненной чувствительностью и провидческим даром, гранича-
щим с маниакальностью, которые не способны чего-либо сильно
хотеть. Он тоже лишен корней и праздной тенью бродит по жизни.
На стене его виллы укреплены солнечные часы. Иногда ему попа-
дается на глаза надпись на старинном квадранте: «Нога est bene
faciendi». Творить добро! Искать смысл жизни в труде! Сколько
воды утекло с тех пор, как известный немецкий автор призвал
людей трудиться! Этот призыв — вероятно, по ложной ассоциации
Статьи. Речи. Эссе
493
идей — литераторы восприняли как филистерскую мораль. Они не
пожелали писать романы, воспитывающие «полезных членов
общества», они взяли на себя смелость описывать бездельников,
совершающих преступления и срывающих цветы наслаждений —
как в романтическом, так и в психологическом аспекте. Но
поскольку склонности литературных персонажей до известной сте-
пени отражают склонности самих авторов, то вернее будет сказать:
они сочли воспарение над жизнью, позицию режиссера и зрителя
всемирного театрального действа куда более привлекательной,
чем роль действующего лица и исполнителя.
Создается впечатление, что они обходным путем возвраща-
ются к буржуазной морали — не потому, что она нравственна, а
потому, что удобна...
В «Невинном» четко ощущается грань, за которой рафини-
рованное правдоподобие анатомирования душ переходит в чистую
игру фантазии. Жена детоубийцы, жертва его вялой жестокости и
бесчисленных надругательств, — остро чувствующая натура
такого эмоционального накала, что ее образ воспринимается как
символ определенного душевного склада. Она вся — красота и сми-
рение, хрупкая и элегантная страдалица, очаровательная и нере-
альная, как изможденные мученицы Габриэля Макса, лица кото-
рых отмечены печатью инфантильности и истерии. В каждом дви-
жении ее бледных, бескровных рук, в дрожании изящно очерчен-
ных губ, в том, как в ее тонких пальцах клонится долу цветущая
ветка боярышника, заключена бесконечно грустная и полная оба-
яния выразительность. Когда видишь ее спящей — прозрачный лоб
и впалые щеки обрамлены прядями темных волос, а лицо белее
полотна подушки (эта манера писать белым по белому удивительно
напоминает Габриэля Макса), — она волнует душу, как прекрасная
статуя или как дивная призрачная мечта. Безоговорочно веришь,
что такая женщина может умереть от потрясения чувств, что она
может, заслышав, например, в лесу топор дровосека, воспринять
его стук как удары жизни по ее сверхутонченной душе и умереть,
не вынеся этого ощущения, то есть, в сущности, из-за поэтичес-
кого образа, порожденного ее собственным воображением.
494
Гуго фон Гофмансталь
Нечто похожее с ней и впрямь происходит. Но не в «Невин-
ном», а в «Римских элегиях», одном из поэтических сборников
Д'Аннунцио. «Любимая» — совершенно тот же женский образ, с
такой же необычайной обостренностью чувств. Римские элегии!
Эти два слова внушают нам трепет и почтение, словно августейшее
имя. А сверх того стихам итальянца предпослано двустишие немец-
кого поэта:
«Рим, о тебе говорят: ты — мир. Но любовь отымите,
Мир без любви не мир, Рим без любви не Рим»1.
Тем самым явно провозглашается единство темы и нас прямо
наталкивают на сравнение двух поэтов и двух эпох. «Римским» в
этих немецких элегиях 1790 года было стремление через жизнера-
достную любовь к античности вернуться душой к давно минувшим
блаженным временам, научиться у любви возвышенно-наивному
отношению к жизни, жить и любить, взяв за образец мужествен-
ных и беззаботных героев античного мира как равных себе и доро-
гих предков, путем гениальных метаморфоз либо запросто ввести к
себе в спальню и в винный погребок мир античных богов, либо же
проникнуться уважением к собственной жизни, уловив в ней веч-
ный и божественный смысл. Что добавил к этому Рим? Золотые
колосья и сочные плоды, напоенные солнцем Гомера, чистые кон-
туры простого, почти тишбайновского пейзажа, а из всех бесчи-
сленных обворожительных памятников прошлого лишь садик
Горация, домик Тибула, полный любовного лепета и аромата пше-
ничного хлеба, да воробьев Проперция. Никогда еще грации не
вкушали лакомую пищу бессмертных стихов на более грубых дере-
вянных тарелках и не запивали ее более чистой родниковой водой.
В «Римских элегиях» нынешнего поэта, итальянца, тоже бродят
грации. Но он сперва посылает их в мастерскую Тициана — пере-
одеться. Они бродят под плеск ренессансных фонтанов по аллеям
вилл Медичи и Фарнезе, цветные пажи прислуживают им, а в изум-
рудной зелени подстриженных садов играют на продолговатых
1 «Римские элегии» Гёте. Перевод Н. Вольпиной.
Статьи. Речи. Эссе
495
арфах белые женщины, словно сошедшие с полотен Боттичелли.
Этим «Элегиям» Рим отдал все свои воспоминания о могуществе, о
тоске, о пышности, о мистике и о меланхолии. Эта усложненная
любовь черпает свои настроения из пейзажа, из музыки, из пого-
ды. «Как хорек высасывает птичьи яйца», — говорит меланхолич-
ный Жак. Эта любовь, словно некая музыка, навевает сладкие и
тяжкие чары, от которых непережитое кажется пережитым, мечта
— реальностью. Эта любовь не предполагает партнера, она —
словно призрачный монолог лунатика, словно беседа наедине с
волшебной скрипкой или с магическим зеркалом. Тем тоскливее
пробуждение, равное отрезвлению.
«Взорам предстала моим мертвою милой рука.
Эта живая рука мне восковою казалась.
Ты, что мерцаньем мечты нежно чело обвевала,
Дрожь вожделенья, увы, плоти внушила моей».
В обеих «Элегиях» повторяется одна и та же ситуация: поэт,
приподнявшись на ложе любви, оберегает сон своей возлюблен-
ной. Какое ощущение надежности счастья у Гёте, какая уверен-
ность в своей способности отстоять его, какое блаженство испол-
ненных желаний! Словно птичку в ладонях, держит счастливец
тело и душу любимой, ее цветущее тело и ее добрую, наивную и
доверчивую душу. Современному поэту птичка кажется куда менее
доверчивой и обладание ею куда менее надежным. И, любовно
склоняясь над ее бледным лицом и прислушиваясь к ровному дыха-
нию спящей, он думает только о том, что ее мятущаяся в тоске
душа, скрытая от него смеженными веками, в сущности, ему не
принадлежит, что сновидения уводят ее туда, куда последовать за
ней он не может. А когда глаза любимой открываются и ищущий
взгляд в тщетной тоске устремляется в потусторонний мир, поэт
обращается с мольбой не отнимать у него эту тоскующую душу и к
бледной луне, и к всемогущему небу, и к беспокойным деревьям, и
к грустно мерцающим звездам...: «Почтительно склоняюсь и
молю: отдайте мне ее, и пусть она устало прильнет ко мне, рыдая
от бесконечной любви».
49«6
Гуго фон Гофмансталь
Видимо, за те сто лет, что разделяют эти два дневника люб-
ви, каким-то непонятным образом уменьшилось ощущение уверен-
ности в себе и господства над жизнью, в то время как чувство рас-
терянности и несоразмерности постоянно растет.
По сравнению с этим экстатическим любовным взлетом,
этой безграничной мистической подчиненностью настроению
какой благоразумной кажется мудрая сдержанность Гёте, какой
естественной, какой истинно античной! Для неврастеничного
романтика любовь — то чудотворный образ мадонны, то рафини-
рованное самовнушение. У Гёте она была просто прекрасным
деревом, дарящим — при правильной посадке и заботливом ухо-
де — благоухающие цветы и сочные плоды, иными словами —
наслаждение. Это и казалось ему «римским»; он думал о «Гименее»
Катулла, об этом жизнеутверждающем гимне, который не видит в
супружеской любви акта более священного или более таинственно-
го, чем уборка урожая или веселый праздник сбора винограда. Он
думал о поэте, который в одной бессмертной книге воспевает зре-
лую страсть Дидоны и стыдливую любовь юной Лавинии, а в дру-
гой — учит, как вырезать медовые соты и срывать с дерева спелые
груши.
Такой дневник любви, как «Римские элегии» Д'Аннунцио, —
лишь наполовину земное творение. В нем есть и взлет Икара, и
жалкое его падение, и долгая, тоскливая, убогая опустошенность.
В нем есть и опьянение неуемной фантазии, и похмелье неврасте-
нии и рефлексии. «Cio che ti diede ebrezza devesi corrompere» — «то,
чему ты предавался во хмелю, должно рухнуть», радость оборачи-
вается страданием, цветы — тленом и прахом. То, что началось
экстазом доктора Мариануса, оканчивается жалобным воплем
псалмопевца.
Чтобы достичь чистой красоты, образ возлюбленной должен
становиться все призрачнее, а сама любовь — все более походить
на наркотическое опьянение или на колдовские чары. Это вопло-
щено в «Изоттео», книге о триумфе Изаотты, в одно и то же время
реальной и фантастичной; в ней переплетены действительность и
мечта. Нигде не сказано, что оба ее персонажа облечены в маска-
Статьи. Речи. Эссе
497
радные костюмы, но весь строй их мыслей выдает их с головой.
Душа этого поэта до такой степени полна пленительными событи-
ями прошлого, что от одного прикосновения любви невольно поро-
ждает вокруг себя целый сказочный мир. «Мне казалось, будто
слова, слетавшие с ее уст, колдовские и все кусты и деревья
подвластны ее чарам...» «О руки, открывающие моим мукам врата
прекрасных снов...». «Венчаю тебя цветами, родник, где я в тот
день испил живой воды, от которой вновь забилось мое сердце...»
Реальность и фантасмагория свободно переходят друг в друга; руки
любимой открывают врата фантазии; когда поэт и его возлюблен-
ная совершают прогулку верхом, ему мерещится, будто Ланселот и
Изольда Белорукая скачут сквозь искрящийся изумрудами лес
поэзии; светлые волосы любимой увенчаны розами, которые ока-
зываются ореолом из его грез. В триумфальной процессии Иза-
отты шествуют Оры — богини времен года — с огненными лили-
ями в руках, за ними выступает Зефир, вдыхающий аромат цветов,
затем Флор и Бланшефлор, Парис и Елена, Ориана и Амадис, Бок-
каччо и Фьяметта, и позади всех, как valets de pied, — смерть: не
скелет с косой, а прекрасный юноша-язычник со своими вожделе-
ниями и грезами.
Вот это я и называю триумфом мебельной поэзии: волшеб-
ный хоровод существ, от которых не сохранилось ничего, кроме
имен и завораживающих слов «красота» и «любовь». Конечно,
минувшие века оставили нам не только гобелены и миниатюры, не
только танагрские статуэтки и терракотовые барельефы, надгроб-
ные памятники и изящные бонбоньерки, цветные гравюры на меди
и золотые кубки Бенвенуто Челлини. Нет, мы получили в наслед-
ство и Гомера, и трактат Макиавелли «Государь», и «Гамлета»
Шекспира. Но Ориана и Амадис? Но Ланселот и Гиневра? Но
весенние нимфы Боттичелли? Но «Королева фей» Спенсера, «Три-
умфы» Лоренцо Медичи, волшебные сады Ариосто? Нет числа
вещам, которые для нас лишь триумфальные шествия и пастушес-
кие игры красоты, воплощенной красоты грез, преображенной
нашей тоской по давно минувшему, — вещам, к которым мы при-
бегаем, когда наш интеллект оказывается бессилен найти красоту
498
Гуго фон Гофмансталь
в реальной жизни и устремляется на поиски искусственной красоты
грез. Тогда лавка антиквара кажется нам настоящим островом
Киферой. Как другие поколения жаждали вернуться в девственные
леса Золотого века, так и мы жаждем очутиться в мире, нарисован-
ном на веерах. В этом смысле «Изоттео » — самая прекрасная из
всех известных мне книг; она достигает неслыханной, изумительно
утонченной красоты путем сравнения всех вещей не с окружающи-
ми, а опять-таки только с красивыми вещами: получается колдов-
ской круговорот искусств! «Ее [Изаотты] слова были словно фиал-
ки, источающие печальный аромат...». «Оголенные серебристые
тополя стояли недвижно, словно мерцающие серебром светиль-
ники, а лавровые кусты дрожали, как тронутые рукой струны
лютни...»
Примеры бессильны здесь что-либо изменить: ведь это и
есть самый прекрасный язык, всегда вызывающий восхищение;
ведь это и есть страна наших грез, где названия городов не напоми-
нают о серых буднях и грубой действительности, а звучат так,
словно невзначай слетели с милых благоуханных уст самой
поэзии.
От этих стихов и впрямь исходит магическое очарование,
завораживающее не только изумрудные кусты и деревья, но и в
еще большей мере — душу, тянущуюся к красоте, тоскующую по
красоте, мечтающую о красоте: нашу душу.
Как взбунтовавшиеся жители великого Рима устремились на
Святую гору, так и наши мечты о красоте и счастье бежали прочь
от нас, прочь от будней и расположились в роскошном шатре на
призрачной горе прошлого. Но великий поэт, которого мы все
ждем, сыграет роль Менения Агриппы. Это будет поистине вели-
кий и умудренный знанием жизни человек: с помощью сказок о
крысоловах, кровавых трагедий и волшебных зеркал, отража-
ющих всю мощь, мрак и сияние мира, он вернет заблудших в преж-
нее лоно жизненной реальности, дабы они вновь служили живому
дыханию дня, как тому и следует быть.
Перевод Е. Михелевич
Статьи. Речи. Эссе
499
ПОЭЗИЯ И ЖИЗНЬ
Из выступления перед студентами
Вы пригласили меня, чтобы я рассказал вам о каком-нибудь совре-
менном поэте или о нескольких поэтах либо о поэзии вообще.
Нужно полагать, вам хотелось бы послушать то, о чем мне бы
хотелось вам рассказать. Все мы молоды, так что тема, по всей
видимости, приятная и безопасная. Я и на самом деле считаю, что
мне не составило бы труда нанизать несколько сот прилагательных
и глаголов таким образом, чтобы это в течение четверти часа
доставило вам удовольствие. И считаю я так главным образом
потому, что все мы молоды и я могу себе примерно представить,
под какую дудку вы любите плясать. Не так уж сложно потрафить
поколению, к которому сам принадлежишь. «Мы» — прекрасное
слово, оно превращает страны и континенты современного мира в
величественные декорации жизни, простирающиеся от океана до
океана и даже до звезд, а под ногами, в открытых нашим взорам
безднах, покоятся друг на друге прошлые эпохи. Существует мно-
жество фальшивых способов говорить о современной поэзии, и они
пользуются успехом. А вы-то, вы особенно привыкли слушать лек-
ции об искусстве. В вашей памяти скопилось невероятное количе-
ство привычных формулировок и известных имен, и все они что-то
для вас значат. Вы достигли таких высот, что вам уже вообще все
нравится. Мне следовало бы, конечно, утаить от вас, что для меня
большинство этих имен ничего, ровно ничего не значит, что из
всего подписанного этими именами меня ни в коей мере не удовле-
творяет даже самая малая малость. Мне бы следовало утаить от пас
свою глубокую убежденность в том, что об искусстве вообще
почти ничего говорить не следует и почти ничего сказать нельзя,
что все существенное и важное в искусстве по самой своей бессло-
весной сути не поддается словесному определению и что чем
глубже погружаешься в святая святых искусства, тем молчаливее
становишься. Значит, мне бы следовало утаить от вас некое прин-
ципиальное различие в нашем способе мышления. А весна за
окнами и прекрасный город, в котором мы живем, населенный
500
Гуго фон Гофмансталь
множеством самых разных людей, его бесчисленные церкви, парки
и эта удивительная, обманчивая и притягательная стихия жизни
услужливо прикрыли бы мою ложь таким множеством радужных
завес, что вы могли бы подумать, будто я и в самом деле приношу
жертвы на тот же алтарь, что и вы, и стали бы курить мне фимиам.
С другой стороны, мне не стоило бы большого труда стать в
неожиданную для вас и мнимо интригующую позицию ярого про-
тивника ваших вкусов и ваших эстетических пристрастий. Но как
бы вы ни восприняли аргументы, коими я попытался бы нечто
подобное обосновать, — с улыбкой авгуров и искушенных читате-
лей литературных приложений или же с едва сдерживаемым раз-
дражением, — ни в том, ни в другом случае я бы не мог льстить
себя надеждой, что вы меня действительно поняли, и полагать,
будто вы не просто приняли мои слова к сведению, а отнеслись к
ним серьезно и внимательно. Одни набросились бы на меня с обви-
нениями, которые бьют мимо цели, другие принялись бы меня
защищать и тоже попали бы пальцем в небо. А сам я казался бы
себе то ли беспомощным, как малое дитя, то ли слабоумным, как
дряхлый старец: ведь речь бы шла о том единственном, в чем я,
вероятно, действительно кое-что смыслю, о моем собственном
поприще. Ибо простая вежливость не позволила бы вам перенести
спор в другие, смежные области, недоступные мне из-за недостатка
знаний, — такие, как история, этика или социология. Но в той
узкой сфере, которой я владею, оказалось бы, что вы стреляете из
пушек по воробьям, даже по огородным пугалам, и смело бросае-
тесь вплавь через потоки, которые я считаю бездонными, смер-
тельно опасными и непреодолимыми. Однако наибольшее разоча-
рование постигло бы меня в том случае, если бы вы вдруг со мной
согласились; тут уж я окончательно убедился бы в том, что ска-
занное мной в буквальном смысле вы восприняли в переносном или
же произошло какое-то другое недоразумение.
Хвала, какую я мог бы воздать тому или иному поэту, пока-
залась бы вам недостаточной: лишь слабый шорох донесся бы до
вас над зияющей пропастью молчания. Ваши критики и знатоки
искусств обычно извергают похвалы целыми потоками, подобно
Статьи. Речи. Эссе
501
тритону, изрыгающему струи фонтана. Но их хвала относится к
руинам и фрагментам, в то время как моя — ко всему в целом, их
восхищение — относительно, мое — абсолютно.
Мне кажется, что понятие целого в искусстве вообще утраче-
но. Природу и подражание ей средствами искусства ухитрились
объединить в нечто среднее, ужасающее своим уродством, подобно
тем обоеполым существам, каких выставляют в кунсткамерах и
музеях восковых фигур. Понятие поэзии низвели до уровня при-
украшенной исповеди. Смятение в умах и путаницу в понятиях вне-
сла известная фраза Гёте, из-за своей утонченной образности недо-
понятая его биографами и прочими бумагомарателями. У всех на
памяти его рискованное сравнение «виршей на случай» и стихов,
«льющихся из души». Не знаю ничего более похожего на уродцев
из кунсткамеры, чем те места в биографиях Гёте, которые посвя-
щены скрупулезному разложению «Вертера» на части с бесстыд-
ными сообщениями о том, как обстояло дело в действительности и
где начинается намалеванный задник. Как будто у людей появился
новый орган для наслаждения тем, что не имеет формы. Над разру-
шением духовности в искусстве последние десятилетия трудились
филологи, газетчики и псевдопоэты. В том, что мы с вами нынче
совсем не понимаем друг друга, в том, что какой-нибудь англича-
нин-путешественник скорее сообщит вам нечто действительно
новое о нравах и обычаях никому не известного азиатского племе-
ни, чем я, говорящий с вами о поэте, вашем современнике и сооте-
чественнике, виновато множество жалких писак, привнесших в
нашу культуру бескрылое убожество и уродство.
Не знаю, не утратили ли вы за утомительной болтовней об
индивидуальности, стиле, мировоззрении, атмосфере и т. д. осозна-
ние того, что материалом поэзии являются слова, что стихотворе-
ние — это невесомая ткань из слов, которые благодаря своему
взаиморасположению, звучанию и содержанию связывают воспо-
минание о видимом и воспоминание о слышимом со стихией движе-
ния и вызывают некое точно описанное состояние души, ясное, как
во сне, и мимолетное, которое мы называем настроением. Если вы
сможете вновь проникнуться этим определением самого неулови-
502
Гуго фон Гофмансталь
мого из искусств, вы словно сбросите с души груз смутных угрызе-
ний совести. Слова — это всё, словами можно вернуть увиденное и
услышанное к новому существованию и по присущим поэзии зако-
нам выразить как нечто сущее. Нет прямого пути ни от поэзии к
жизни, ни от жизни к поэзии. Слово как носитель жизненного
содержания и слово как его призрачный двойник, появляющийся в
стихах, стремятся в разные стороны и отчужденно проплывают
друг мимо друга, как пустое и полное ведра в срубе колодца.
Поэзии противопоказаны как всякая рассудительность, так и вся-
кая склока с жизнью, любая непосредственная связь с жизнью,
любое подражание ей — не в силу какого-то внешнего закона, а
просто из-за несовместимости: эти тяжеловесные вещи не могут
существовать в поэзии, как корова не может жить не ветке.
«Ценность стихов, — я цитирую незнакомого мне лично, но
высоко чтимого мной автора, — ценность стихов определяет не
смысл (иначе они подменяли бы мудрость или ученость), а форма,
то есть отнюдь не что-то внешнее, а то, что глубоко волнует душу
размером и звучанием и что во все времена отличало первозданных
гениев — мастеров, от эпигонов — подмастерьев. Ценность стихов
не определяется также отдельными, пусть даже чрезвычайно удач-
ными находками в строке, строфе или более крупном отрывке.
Высокая поэзия имеет свой строй, свое соотношение частей, свою
закономерность вытекания одного из другого».
Мне остается добавить только два вывода, которые как бы
напрашиваются сами собой.
Всякая риторика, материалом которой является жизнь, и
любые высокопарные рассуждения о жизни не имеют никакого
отношения к поэзии.
Единственным критерием является выбор слов и порядок их
следования (ритм), который для поэта всегда определяется в коне-
чном счете его чувством меры, а для слушателя — способностью
этот ритм ощутить.
Того единственного, что составляет самую сущность поэзии,
как правило, не замечают. Не знаю, найдется ли в каком-либо из
поэтических стилей элемент более пренебрегаемый, чем эпитет у
Статьи. Речи. Эссе
503
новейших немецких псевдопоэтов. Его употребляют либо вообще
бессмысленно, либо для вящей красивости, которая все парализу-
ет. Но еще печальнее обстоит у них дело с чувством ритма. Кажет-
ся, будто все позабыли, что ритм — это инструмент воздействия
стихов. Если бы о ком-либо из немецких поэтов последних десяти-
летий можно было сказать, что эпитеты у него не мертворожден-
ные, а ритм всегда послушен его воле, то этого поэта следовало бы
вознести высоко над всеми прочими.
Любой ритм несет в себе невидимую линию того движения,
которое он может вызвать; если ритмы застывают, то скрытый в
них порыв страсти становится каноном, подобно тем, из каких
состоит обычный примелькавшийся балет.
Не могу понять, как некоторые поэты считают себя «индиви-
дуальностями», не имея собственного голоса и приспосабливая дви-
жения своей души к случайному ритму. Не могу больше слышать
их размеры, взятые напрокат у Уланда или Айхендорфа, и не зави-
дую грубому слуху тех, кто еще на это способен.
Собственный тон — это все; кто с него сбивается, тот
лишает себя внутренней свободы, без которой никакое творчество
невозможно. Смелее и сильнее всех тот, кто наиболее свободно
располагает слова в стихе, ибо самое трудное — вырвать их из их
устоявшихся, ложных связей. Новое и смелое сочетание слов —
самый прекрасный праздник души, не менее значительный, чем
статуя Антиноя или величественная арка.
Пусть нам, поэтам, дадут на откуп слова, как другим дают
драгоценные камни, чеканку по меди, чистые тона или танцы.
Пусть нас хвалят за поэзию, а риторов за образ мыслей, филосо-
фов за мудрость, мистиков за озарения. Если же читающей пуб-
лике непременно нужны исповеди, то она найдет их в мемуарах
политиков и литераторов, в саморазоблачениях эскулапов, танцов-
щиц и курильщиков опиума. Для людей, не умеющих отличить
вещественное от поэтического, поэзии просто не существует; но,
конечно же, и для них написано предостаточно.
Вы удивлены, разочарованы: ведь я, по-вашему, изгоняю из
поэзии живое дыхание жизни.
504
Гуго фон Гофмансталь
Вас удивляет, что поэт превозносит правила и считает глав-
ным в поэзии порядок следования слов и размер. Но и так слишком
много дилетантов, ставящих во главу угла благое намерение, и
настоящий вздор находит достаточно поклонников среди тугоду-
мов. Не волнуйтесь: я верну поэзии живую жизнь. Я знаю, какое
отношение имеет она к поэзии. Я люблю жизнь, более того —
только жизнь я и люблю. Но не выношу, когда требуют, чтобы
людям на портретах вставляли жемчужные зубки, а мраморные
статуи усаживали на скамьи в парках. Перестаньте требовать,
чтобы писали красными чернилами, дабы создать впечатление, что
пишут кровью.
Я слишком много говорил о значении формы в поэзии и
слишком мало о ее душе. И не случайно, ибо считаю форму душой
поэзии, ее душой и телом, ее ядром и оболочкой, самим ее суще-
ством. Если бы поэтическая форма не действовала на нас, я бы не
мог сказать, зачем вообще нужна поэзия. Но если бы она действо-
вала на нас через жизненный материал, через вещественное, я бы
опять-таки не знал, зачем она нужна. Кто-то заметил, что среди
искусств намечается стремление покинуть собственную сферу воз-
действия и позаимствовать средства у родственного вида искусства.
Общей целью этих попыток взаимоуподобления выступает музы-
ка, ибо в ней вещественное начало полностью преодолено.
Сфера поэзии — духовность, ее стихия — неуловимые, бес-
конечно многозначные, парящие между творцом и творением сло-
ва. Некая эстетствующая поэтическая школа недавнего прошлого
породила много косности и узколобия, щедро сравнивая стихи с
геммами, бюстами, ювелирными изделиями и архитектурными
сооружениями.
Я же всем вышесказанным хотел пояснить, почему стихи
подобны невзрачным с виду волшебным кубкам, в которых
каждый видит богатство своей души, а бедные духом почти ничего
не видят.
Начиная с древних вед, с Библии, стихи воспринимаются
только теми, кому они созвучны, и только им они могут доставить
наслаждение. Гемма или красивая ткань всегда найдут ценителей, а
Статьи. Речи. Эссе
505
прекрасные стихи, может быть, раз в кои веки. Один великий
софист упрекнул поэтов нашего времени в том, что они слишком
мало знают о глубине и проникновенности слов. Но что знают
наши современники о глубине и проникновенности жизни! Им, не
ведающим ни одиночества, ни общности душ, ни гордости, ни сми-
рения, ни слабости, ни силы, как им увидеть в стихах знаки одино-
чества, смирения и силы? У кого лучше подвешен язык и сильнее
развито поверхностное мышление, тот дальше других от истоков
жизни. Лишь пройдя ее дорогами и испытав изнеможение от паде-
ний и взлетов, можно приобрести понимание духовного искусства.
Но дороги эти столь длинны, а дорожные приключения столь про-
тиворечивы, что бессмысленность любых объяснений и обсужде-
ний ложится на сердце смертельной и в то же время блаженной
тяжестью, ибо истинные ценители так же молчаливы, как и истин-
ные творцы.
Вы пригласили меня, чтобы я рассказал вам о каком-нибудь
поэте. Но я не могу рассказать того, чего не смогли вам сказать его
стихи — ни о нем, ни о других поэтах, ни о поэзии вообще. Не стоит
у рыб спрашивать, что такое море. Они знают только, что оно
наверняка не из дерева.
Перевод Е. Михелевин
О ХАРАКТЕРАХ В РОМАНЕ
И ДРАМЕ
Беседа между Бальзаком и Хаммер-Пургшталем
в одном из парков Дёблинга в 1842 году
хаммер. Позвольте, почтеннейший, задать вам вопрос, который
давно уже вертится у меня на языке. Извините мою нескромность.
Вы знаете, что ваш удивительный талант рассказчика имеет в
моем лице одного из самых пылких почитателей. Не намерены ли
вы теперь, в расцвете вашей творческой фантазии, одарить и театр
шедеврами, равными или подобными вашим романам?
506
Гуго фон Гофмансталь
Вы молчите? Вы не хотите отвечать мне? Следует ли мне
думать, что вам не по душе драматическая форма? Что театр вам
безразличен?
бальзак. Напротив, барон.
хаммер. Браво, браво! Я люблю театр безгранично, и мне,
немцу, наш театр доставляет величайшее наслаждение. Но чем мог
бы стать театр французский, если бы ваш гений взял на себя роль
возницы этого заплутавшего тарантаса и несколькими могучими
ударами бича вызволил бы его на новую дорогу!
бальзак (любезно). Да, я знаю, у вас есть Шиллер, есть соз-
датель «Праматери», а паче всего — у вас есть Раупах! О театр,
прекрасный сон!
хаммер. Ваши сны, сударь, имеют обыкновение сбываться.
Что же может воспрепятствовать этому и на сей раз? Договоры,
обязательства перед издателями? Вы разорвете их так же легко,
как лев разрывает сети. Или возможность неудачи? Неудачи Баль-
зака? Разве он не самодержавный правитель своей публики? Или
Бальзак слабее, чем зал на две-три тысячи человек? Не ваши ли
создания его заполняют? В каждом ряду я обнаруживаю физионо-
мии, вышедшие из вашей реторты. А разве не они занимают все
ложи: герцогиня де Мофриньез и принцесса де Кадильян, чета Гра-
нлье с дочерьми, карлик герцог д'Эрувиль, барон Нусинген с супру-
гой и семейства Реторе, Наваррен и Ленонкур! А вон в полумраке
ложи мадам д'Эспар, за спиною бледной от ревности уже немоло-
дой мадам де Баржетон — красавец Рюбампре. А там, в партере,
разве не Растиньяк, гений тщеславия и цинизма, лорнирует
госпожу де Нусинген? Вон к нему, чтобы пожать руку, подходит
дю Марсей, тот самый дю Марсей, которому, как и Растиньяку,
предстоит стать министром и пэром Франции. А вот и врач Бьян-
шон, и журналист Клод Виньон, и скульптор Стидман, и польские
эмигранты Лигинский, Паз, Стенбок. Они поглядывают на укром-
ную ложу просцениума, где сказочная Эсфирь, никому почти еще
не известная, но осененная трагической судьбой куртизанки, глаз не
спускает с Рюбампре. Вот среди великосветских дам — дамы иного
сорта, выставившие напоказ оудоражущую роскошь, пропитанную
Статьи. Речи. Эссе
507
лихорадкой моды, и в ложах этих Жозеф, мадам Шонц, Дженни
Ладин их завсегдатаи — новые Биксу а и де Лора. А вон, на той сто-
роне, великий промышленник господин Тайфе, у которого на сове-
сти убийство, под руку с красавицей дочерью Викториной, а внизу,
в партере, — переодетый испанским священником бежавший с
галер каторжник Вотрен: парик, борода, манеры, голос — все у
него поддельное, кроме быстрых, неукротимых глаз. Да и есть ли
здесь кто-нибудь, кроме них? Они будто стостворчатое зеркало
друг перед другом, в котором как бы прихотью неизвестного чаро-
дея тысячекратно отражена вся их жизнь, их мысли, их страсти, их
прошлое и будущее.
Слыша такие слова, наблюдая столь необыкновенную
вспышку искреннего восторга, вызвавшего краску на щеках масти-
того востоковеда, при виде столь бурного, нескрываемого, обнару-
женного почти с глазу на глаз преклонения Бальзак не мог сдер-
жать улыбки. Это была прекрасная редкая улыбка чистого удовле-
творения, исчезающая с губ не сразу, с быстротою сполоха, а
постепенно, подобно прекрасному закату летнего дня. Это была та
же улыбка, что заиграла на губах Наполеона, когда в день битвы
под Аустерлицем он увидел, как установленные согласно его рас-
чету орудия пробили лед озера, покрытый тысячами бегущих рус-
ских и австрийцев. И возможно, и даже Еесьма вероятно, что эта
улыбка в обоих случаях имела один и тот же источник: она роди-
лась в душе великого человека, самою природою предназначен-
ного властвовать, в тот момент, когда он ощутил себя близким к
тому, чтобы сломить наконец, как пучок сухого хвороста, глухое
сопротивление Европы своему гению. На мгновение его оставила
страшная сосредоточенность сражающейся с жизнью души; легким
взглядом путешественника он окинул склоны Каленберга; в его
состоянии произошла неуловимая перемена, возобладала беспеч-
ность человека, который в чужой обстановке, в тени чужих деревь-
ев, вдыхая экзотический аромат, по-дружески непринужденно
беседует с незнакомыми людьми, зная, что наверняка никогда
больше не встретится с ними, — так Бальзак отдался мгновению, в
зыбкости которого было что-то от отдыха завоевателя на границе
508
Гуго фон Гофмансталь
далекой покоренной им земли, отдался настолько, что прослушал
несколько фраз барона и уловил только самый конец его длинной
тирады:
— Неужто ваша могучая кисть, запечатлевшая здесь все: и
прекрасный мир лож и партера, и галерку, для одной сцены сделает
исключение? Неужто сцена избежит вашей львиной хватки?
бальзак. О да, я люблю театр. Театр, как я его понимаю.
Театр, в котором есть все, абсолютно все: все пороки, все смешные
стороны жизни, все слои языка. Как убог, как симметричен в срав-
нении с ним театр Виктора Гюго. Мой театр, тот, о котором я
мечтаю, — это мир, это хаос. И он уже существовал однажды, этот
мой театр, да, существовал. Лир в безлюдном поле, рядом с ним —
шут, и Эдгар, и Кент, и голос грома мешается с их голосами! ВоЛь-
поне, молящийся на свое золото, и слуги его: карлик, евнух, гер-
мафродит и негодяй! И тут же охотники до богатых наследств,
подсовывающие ему своих дочерей, прямо-таки за волосы затаски-
вающие дочерей и жен к нему в постель! И демонический голос
прекрасных вещей, соблазн роскоши, золотых сосудов, резного
камня, чудесных канделябров, который здесь сплетается с челове-
ческими голосами, как там голос грома. Да, были времена и был
театр.
хаммер. Вы имеете в виду английский в девяностые годы
шестнадцатого столетия?
бальзак. Да, его. Хотя случались и запоздалые молнии. Вам
знакома «Спасенная Венеция» Отвэя?
хаммер. Кажется, я видел ее в Веймаре.
бальзак. Мой Вотрен считает ее лучшей из всех пьес. Мне-
ние такого человека для меня много значит.
хаммер. Мне чрезвычайно приятно, что вас так волнует эта
тема. Теперь и на сцене — я уверен в этом — у нас будет своя
comedie humaine! Мы увидим, как слетит парик с головы Вотрена
и обнажится отвратительный череп каторжника. Мы сможем
подслушать Горио, когда в одиночестве ледяной комнаты он шеп-
чется с призраками своих красавиц дочерей. Вы качаете головой,
сударь? Вы видите тому какие-нибудь препятствия?
Статьи. Речи. Эссе
509
бальзак. Казалось бы, совершенно никаких, будь на то моя
воля. Казалось бы. Ив помощниках на поприще драмы у меня нет
недостатка. Вы не успеете дойти от Оперы до Пале-Рояля, как
непременно наткнетесь на одного или даже двух. Мне нужны бы-
ли помощники. Я хотел забраться в чью-либо шкуру. Но я ошибся.
Нельзя спрятаться в шкуре осла. Я хотел найти что-нибудь, чего
не было во мне. Я хотел совершить подлог, один из великих тайных
подлогов. В характере большинства писателей — совершать мас-
су подобных подлогов и притом всегда безнаказанно. Они упо-
добляются всаднику из немецкой баллады, который, сам того
не ведая, скачет по льду Боденского озера. Но они не узнают
об этом и впоследствии, а потому и не падают замертво, как тот
всадник. Пользоваться жанром и владеть им — между первым и
вторым целая пропасть! Чем яснее художник сознает такие ве-
щи, тем более он велик. Пусть другие сочинители насилуют драма-
тическую форму, я же знаю про себя, что я не драматург, так же
как и...
Тут господин де Бальзак назвал несколько имен своих сооте-
чественников, которые в прошлом веке снискали себе громкую, а
отчасти и европейскую славу именно благодаря своим драматичес-
ким произведениям, и продолжал так:
— Какова тому причина? Сокровеннейшая причина? Кажет-
ся, я не верю, что существуют характеры. Шекспир верил. Он был
драматургом.'
хаммер. Вы не верите, что существуют люди? Странно! Вы
создали их не менее шести-семи сотен, вы поставили их на но-
ги — вот они; с тех пор они и существуют.
бальзак. Не уверен, что лица, действующие в драме, могут
быть названы людьми. Известно ли вам, что такое аллотропия
среди минералов? Одно и то же вещество в царстве природы явля-
ется двояко в совершенно различных кристаллических формах,
принимая образ порой совершенно неожиданный. Драматический
характер — это аллотропия соответствующего реального характе-
ра. В моем Горио вы найдете явление «Лир», химический процесс
«Лир», но я бесконечно далек здесь от кристаллической формы
510
Гуго фон Гофмансталь
«Лир». Вы, барон, как и всякий австриец, — прирожденный музы-
кант. К тому же вы — ученый музыкант. Позвольте же сказать
вам, что характеры в драме суть не что иное, как контрапунктные
необходимости. Драматический характер представляет собой суже-
ние характера действительного. В действительном же характере
меня более всего чарует как раз его широта. Та широта, которая
составляет основу его судьбы. Я сказал, что не вижу людей, что
вижу судьбы. А судьбы — это не катастрофы, не следует их путать.
Катастрофа как симфоническое построение является делом драма-
турга, который весьма близок музыканту. Судьба же человека,
может быть, не была отражена нигде, пока я не написал своих
романов. Люди в них — только лакмусовая бумага, краснеющая
или синеющая в зависимости от реакции. Живое, великое, действи-
тельное — это кислоты: движущие силы, судьбы.
хаммер. Вы разумеете страсти?
бальзак. Воспользуйтесь этим словом, если находите его
более предпочтительным; но вам придется взять его в необычайно
широком смысле, а затем снова до того сузить, до того свести к
особенному, что смысл его сделается совершенно отличен от
повседневного. Я сказал «движущие силы». Движущая сила эроти-
ческого для раба любви. Движущая сила слабости для слабого.
Движущая сила славы для честолюбца. Даже не любви, слабости,
славы вообще, а данной владеющей им любви, его личной слабо-
сти, его особенной славы. То, что я имею в виду, Наполеон назы-
вал своей звездой — вот что заставило его двинуться в Россию, вот
что заставило его придавать такое значение понятию «Европа»: он
не мог успокоиться, пока не увидел эту «Европу» у своих ног. То,
что я имею в виду, несчастные, перед глазами которых в одно
мгновение проносится вся их жизнь, называют своим роком. Для
Горио оно воплотилось в дочерях. Для Вотрена — в человеческом
обществе, основу которого он жаждет сокрушить. Для художника
оно — в его труде.
хаммбр. Может быть, в его переживаниях?
бальзак. Нет никаких иных переживаний, кроме пережива-
ния собственного существа. Вот ключ, каким каждый из нас отпи-
Статьи. Речи. Эссе
511
рает свою камеру-одиночку, непроницаемые стены которой, впро-
чем, наподобие пестрых ковров украшены фантасмагорией уни-
версума. Никому не дано выбраться из своего собственного мира.
Приходилось ли вам подолгу путешествовать на пароходе? Тогда
вы должны помнить странную фигуру, вызывавшую у вас почти
сострадание, которая под вечер выныривала из люка машинного
отделения, чтобы, побыв четверть часа на палубе, хотя бы
немного отдышаться. Этот человек был полугол, его лицо было в
копоти, а воспаленные глаза красны. Вам сказали, что это паро-
ходный кочегар. Выбравшись наружу, шатаясь от усталости, он с
жадностью выпивал до дна большую кружку воды, а затем бро-
сался на кучу ветоши и играл с корабельным псом; он иногда погля-
дывал на изящных и веселых пассажиров первого класса, вышед-
ших полюбоваться южными звездами, и в этом взгляде был страх,
как у слабоумного; с такой же жадностью, с какой он только что
пил воду, этот человек дышал воздухом, напоенным росою, пав-
шей из ночного облачка, и запахом пальм, доносившимся с дев-
ственных островов; затем он снова исчезал в чреве корабля, так и
не заметив звезд и аромата таинственных островов. Точно так же
ведет себя и художник, когда пошатываясь, с сумасшедшим взором
он выбирается на люди из огненного чрева своего труда. Но это
существо ничуть не беднее прогуливающихся по палубе. И даже
если бы среди тех, что наверху, среди этих счастливых избранни-
ков жизни, нашлись бы двое влюбленных, которые, сплетя паль-
цы, прильнув друг к другу, томясь от преизбытка чувств, наблю-
дали бы, как с бесконечно высокого южного неба из бездны в без-
дну срываются снопы, рои, водопады звезд, и ощущали до послед-
них граней бытия биение пульса их собственного блаженства, то и
тогда он не был бы беднее их. Художник ничуть не беднее любого
из живущих, не беднее завоевателя Тимура, не беднее прожигателя
жизни Лукулла, не беднее соблазнителя Казановы или человека
судьбы Мирабо. Но судьба художника именно в его труде. Именно
здесь он должен обрести свои пропасти и свои вершины, иначе вме-
сто Монблана он с трудом взберется разве что на песчаный приго-
рок и его красующаяся наверху фигура со скрещенными руками
512
Гуго фон Гофмансталь
лет через двадцать не будет вызывать ничего, кроме всеобщего
смеха. В его труде есть все: и безымянное блаженство зачатия, и
восхитительное эфирное дуновение открытия, и неизбывная мука
воплощения. Вот его переживания, для которых в языке нет назва-
ния и с которыми не сравнится самый ужасный из кошмаров.
Подобно духу из бутылки Синдбада, подобно дыму, подобно обла-
ку, он будет расширяться, осеняя земли и моря. Но не пройдет и
часа, как он снова окажется втиснут в свою бутылку и, терзаемый
тысячью смертей, задыхаясь в собственном чаду, упрется в неумо-
лимо поставленные ему границы; отчаявшийся демон, мятущийся в
тесной стеклянной тюрьме, он сквозь ее непроницаемые стены
будет, мучительно скалясь, видеть внешний мир, целый мир, над
которым всего лишь час назад он задумчиво парил, как облако, как
гигантский орел, как бог.
Но вся судьба художника до такой степени заключена един-
ственно в его работе, что в целом мире он способен воспринимать
только слепки тех состояний, которые он привык переживать
среди мук и восторгов своей работы. Поэты из высшего существа
сделали поэта. И они настолько преуспели в толковании всех пери-
петий человеческой души из опыта своих экстатических взлетов и
падений, что постепенно, с увеличением числа читающей публики
и в результате чудовищной нивелировки сословий, в которой
заключается наша болезнь, мы столкнемся с удивительнейшими
явлениями, причем не отдельными, а массовыми. Около 1890 года
духовное нездоровье поэтов, их чрезмерно возросшая чувствитель-
ность, неясная тревога, сопровождающая у них каждый упадок
настроения, их предрасположенность к символическому воспри-
ятию даже самых невзрачных вещей, их неспособность удовлетво-
риться существующим словом для выражения своего чувства — все
это сделается повсеместной болезнью молодых людей обоего пола
в высших сословиях. Ибо художник подобен Мидасу, чье прикосно-
вение все вревращало в золото. Над нами тяготеет все то же про-
клятие, хотя и каждый раз на несравненно более тонкий манер.
Бенвенуто Челлини брошен в самую глубокую темницу замка свя-
того Ангела; у него сломана нога, выпадают зубы, вот уже
Статьи. Речи. Эссе
513
несколько дней ему не приносят еды; он думает, что умирает, —
как вдруг из его мучительного бреда возникает прекрасное утеши-
тельное видение: он видит солнце, но не слепящее, а как бы сосуд
чистейшего золота. Его сердцевина вздувается и стремится ввысь,
преобразуясь в распятие из той же субстанции; рядом с ним — лас-
кающая глаз фигура святой Приснодевы, на ее устах играет улыб-
ка, а по бокам застыли два сверкающих ангела из такого же золо-
та. Он видел это наяву и громким голосом непрестанно благодарил
Господа. Он был в агонии; но он был величайшим золотых дел мас-
тером своего века, и видение, которым небо скрасило его мучи-
тельный конец, было видением золотых дел мастера. Даже на
пороге смерти сны его отливались из того же материала, из кото-
рого его руки могли создать произведение искусства. А помните
Френхофера, живописца?
хаммер. Героя «Chef-d'oeuvre inconnue»? Разумеется.
бальзак. Он был единственным учеником Мабюза. Учитель
открыл ему глубочайшую тайну формы, истинной формы, тайну
сотканного из света и тени человеческого тела. Он знает, что кон-
тура не существует. В его этюдах была лучистость Джорджоне и
краски живого тела, как у Тициана, — он же презирал свои этюды.
Пурбю молится на него, а Никола Пуссен, узнав его, трепещет
перед ним, как перед существом сверхъестественным. Этот чело-
век десять лет пишет обнаженную женскую фигуру, никому не
позволяя взглянуть на картину. Вы помните продолжение этой
истории. Пуссен так потрясен, так уничтожен этой демонической
живописью, что даже предлагает ему в качестве модели свою воз-
любленную, восхитительное двадцатилетнее создание, Жилетту,
про которую говорили, что у нее самое прекрасное тело из всех,
какие когда-либо были доступны взору живописца. Предлагая ее
старику, обезумевший Пуссен приносит любовь в жертву искус-
ству, гению, славе. Это была адская попытка ценою самого доро-
гого купить себе доступ к нечеловеческому блаженству творче-
ства. Что же старик? Он едва взглянул на нее. Вот уже десять лет
он живет только своею картиной. В бреду, длящемся почти беспре-
рывно, он чувствует, как живет это написанное на холсте тело,
514
Гуго фон Гофмансталь
чувствует, как играет вокруг него воздух, чувствует, как дышит,
дремлет, одушевляется эта нагота, готовая живою шагнуть с
полотна. Что еще могла бы дать ему живая женщина, реальное
тело? В этом реальном женском теле, во всех формах и красках,
тенях, полутенях и гармониях действительности он видит, скорее,
некий негатив, находящийся в таинственном, ему одному понятном
отношении к его произведению. Действительность для него
подобна скорлупе выеденного яйца. Все, что для его души суще-
ствовало в этой действительности, он перенес на картину. Что
толку предлагать ему плод, пусть даже и самый изысканный из всех
плодов этой земли, если врата его души уже навечно закрылись для
нее? Какая гротескная и напрасная жертва! Здесь перед вами весь
художник: когда он молод, когда отдается искусству — это Пуссен;'
когда же он созрел и уже почти равен Пигмалиону, когда его ста-
туя, его богиня, творение его рук шагнет ему навстречу — это
Френхофер. А Жилетта? Это переживание, полнота переживаний,
сладостная полнота жизни — но один из них, молодой, готов
пожертвовать ею, а глаза другого уже попросту не видят ее.
Жизнь! Окружающий мир! Весь мир — в его труде, а труд и
есть его жизнь. Попробуйте заговорить об окружающем мире с
истинным музыкантом в тот момент, когда он исполняет трудный
пассаж. Попробуйте объяснить коллекционеру, что его жена
рожает, что арестовали его сына или что подожгли его дом в тот
момент, когда в какой-нибудь антикварной лавчонке он вдруг натк-
нется на эмаль работы Нардона Пенико из Лиможа или ширмы в
стиле помпадур, как его теперь начинают называть, бронзовая
отделка которых отлита в мастерской Клодиона. Он посмотрит на
вас так, как Лир, уже безумный, смотрел на всякого, кто пытался
разуверить его в том, что неблагодарные дочери — причина бед-
ствий Эдгара, равно как всякого несчастного создания. Душа
каждого из нас рождает порой такой гордый взгляд в те мгновения,
когда не желает знать, что на свете может быть что-нибудь кроме
ее заботы.
хаммер (скромно). Лир говорит это в третьем акте, когда
его уже позволительно рассматривать как сумасшедшего.
Статьи. Речи. Эссе
515
бальзак. Любого человека позволительно рассматривать
как такового, дорогой барон, и как раз в прекрасные, высокие,
действительные моменты его жизни. В той же мере, что и Лира,
хочу я сказать, да, в той же мере.
хаммер. Как, господин де Бальзак? Вы намерены втиснуть
свой гений в столь тесные, столь удручающие рамки? Вы хотите
избрать предметом своего вдохновения душный кружок существ,
отдающихся патологическому саморазрушению, маньяков, чья
отталкивающая страсть слепо пожирает все вокруг себя, этот
мрачный ограниченный мирок, вместо того чтобы окунуться в
водоворот жизни? А ведь вы всегда умели уловить в ней самое
новое, самое интересное.
бальзак. Мое творчество, барон, не знало других законов,
кроме тех, о которых я вам толковал только что. Но толковать их
самому себе — такой потребности у меня никогда не возникало.
Похоже, что я заразился немецким философствованием. Однако,
барон, боюсь, вы совершенно неправильно поняли меня, если
полагаете, что между небом и землей есть хоть что-нибудь, чего я
не смог бы использовать в качестве материала. Я не знаю, что вы
называете патологией, но я знаю другое: всякая достойная изобра-
жения личность сжигает самое себя и для поддержания этого горе-
ния из всей действительности впитывает только горючий мате-
риал, как свеча потребляет из воздуха кислород. Мне известно, от
кого пошла мода на слово «патология» применительно к писатель-
скому труду — от господина фон Гёте, гения весьма великого, а
может быть, даже величайшего из всех, каких породила ваша
нация. Его дар перебрасывать армии понятий и познаний из одной
области мысли в другую достоин удивления не меньше, чем тот
дар, с каким Наполеон перебрасывал свои армии через По или
Вислу. Дело лишь в том, что понятия — его лук, с помощью кото-
рого он посылал в мир сверкающие стрелы своего духа — подобно
луку Одиссея, не по руке более слабому. Но я принимаю ваши сло-
ва: пусть остаются и «патология» и «маньяки». Да, мир, явля-
ющийся порождением моего мозга, населен сумасшедшими. Все
они, мои создания, так же безумны, так же во власти своих навяз-
516
Гуго фон Гофмансталь
чивых идей, так же не способны замечать в действительности что-
либо, кроме того, что и проецирует в эту действительность их
лихорадочный взор, так же вне себя, как и Лир, принимающий
за Гонерилью стог сена. Но они таковы потому, что они — люди.
Ни о каких переживаниях они не знают, потому что никаких пе-
реживаний и не существует вовсе. Потому что душа человеческая
сжигает самое себя, это — мучительный пожар, это печь стекло-
дува, в которой вязкая текучая масса жизни обретает форму не-
вероятного цветка, как бокалы с острова Мурано, или героичес-
кую, отливающую блеском металла, как вазы Деруты или Родо-
са. Потому что каждое поколение осознает себя в большей мере,
чем предыдущее; потому что внутренняя, прогрессирующая
с каждым вдохом жизни химическая реакция будет все больше
и больше разлагать эту жизнь, так что даже разочарования, утра-
та иллюзий — переживания, которых нам не дано избежать, —
упадут на дно глубокого колодца души не всею своею глыбою,
а только измельчившись в пыль, распавшись на атомы, постепен-
но, вдох за вдохом; думаю, что люди 1890 или 1900 года вообще
перестанут понимать, что мы хотели сказать словом «пережи-
вание».
Патология! Стоит лишь начать достаточно широко толко-
вать наши понятия, как в них поместятся и ад и небо. Я, во всяком
случае, не намерен отказываться ни от того, ни от другого.
Во всем, во всем брезжит зародыш фетиша, зародыш бога,
всеобъемлющего бога. Оставим верность тому, кто из своей верно-
сти сотворил себе бога. Я вижу и того, кто сотворил себе бога из
вероломства. Надо уметь считаться как с Бетховеном, так и с Каза-
новой или Лозеном. Как с тем, кто вообще не нуждается в женщи-
не, так и с тем, кому они нужны непременно все. Вокруг нас мно-
жество царств, и каждый из нас — Наполеон в своем царстве. Цар-
ства эти не теснят друг друга, ибо суть духовные сферы; блажен,
счастлив, кто способен внимать их музыке.
Да, мои создания — демоны, все они по моей воле снедаемы
тлеющим жаром безумия. Пусть так! Но вам, дорогой барон, при-
дется согласиться со мной и в том, что ваш немецкий Мусагет, ваш
Статьи. Речи. Эссе
517
олимпиец, этот веймарский старец был демоном, причем отнюдь
не из самых невинных. Основой для его понимания должен служить
не «Вертер» — он отрекся от этой горячки своей юности, — а весь
человек целиком, весь поэт, все его существо! Порой мне кажется,
мы были знакомы: взгляд его более жуток, чем взгляд чародея
Клингзора, чем взгляд Мерлина, про которого говорят, будто его
глаза — бездонный колодец в глубине ада, более жуток, чем взгляд
Медузы. Этот человек мог убить одним своим взглядом, одним
дыханием уст своих, одним олимпийским пожатием плеч; он мог
обратить в камень сердце человека, погубить его душу и тут же
отвернуться с таким видом, будто ничего не произошло, отпра-
виться к своим гербариям, к своим камням, засесть за свои цвета,
которые он считал проявлениями жизни света и с которыми вел
беседы, — между тем в нем достало бы силы поколебать свод
небесный. В иные времена он кончил бы костром, но были и вре-
мена, когда на него стали бы молиться. Он позволил судьбе, быв-
шей его естеством, принести его естеству, которое было его судь-
бою, все жертвы, какими только питаются демоны. То, что Напо-
леон называл своей звездою, он называл гармонией своей души. И
вы полагаете, что в этом волшебном дворце, воздвигнутом из
непреходящего материала, не было застенка, оглашаемого сто-
нами обреченных на медленную смерть узников? Но он не благово-
лил внимать им, ибо был велик. И кто же тогда погубил душу Ген-
риха фон Клейста, кто? О, я вижу его, этого веймарского старца.
Я напишу его, я напишу его всего целиком. Он более велик и
жуток, чем троянский конь, но я распахну врата моего труда и
впущу его. Пусть он высится там рядом с Серафитом-Серафитой,
как высятся падающая башня и баптистерий на пизанском кладби-
ще, молча взирая друг на друга, — колоссы, неподвластные векам.
Да, я вижу его, и это заставляет меня содрогаться от востор-
га. Я вижу его там, где он живет, где заключена его жизнь: в трид-
цати или сорока томах оставленных им сочинений, а не в болтовне
биографов. Главное — различить судьбу там, где она отлилась
в божественном материале. Я знаю одну женщину, никому не
известную — да и никогда она не будет знаменита, — это дочь
518
Гуго фон Гофмансталь
порабощенной страны; она — демон по силе фантазии, наивна, как
дитя, умудрена опытом, как старец, у нее мужской ум и сердце
женщины; ее любовь, ее вера, ее боль, ее надежда, мечты ее —
вот цепи, способные целый мир удержать над бездною; и ее судь-
ба, ее душа временами бывают отражены на лице ее и внятны
всякому, кто умеет видеть; так и судьба Гёте явлена в его сочине-
ниях.
Читать судьбы там, где они написаны, — в этом все. Иметь
силу увидеть, как все они, живые факелы, сожигают себя. Увидеть
их всех разом привязанными к деревьям чудовищного сада, осве-
щенного только их собственным пожаром, и в роли единственного
зрителя подняться на последнюю террасу и на струнах своей лиры
искать звуки, которые смогли бы связать воедино небо, ад и это
зрелище.
В этот момент к воротам парка подъехало ландо, в котором
сидела госпожа Ганская, урожденная Жевуская. Движением
Мирабо Бальзак резко развернулся всем телом, чтобы видеть, как
между каштанами она входила в парк, и никто не отважился бы
попытаться возобновить разговор, прерванный жестом, полным
такого величия.
Перевод А. Назаренко
ПИСЬМО
Это письмо написал Филипп лорд Чэндос, младший сын графа Бат-
ского, своему другу Фрэнсису Бэкону, впоследствии лорду Веру-
ламскому и виконту Сент-Альбанскому, в оправдание своего реши-
тельного отказа от литературной деятельности.
Вы очень добры, мой высокочтимый друг, что написали мне,
несмотря на мое двухлетнее молчание. Вы более чем добры, при-
дав Вашим недоумениям и Вашей озабоченности по поводу духов-
ного оцепенения, владеющего, как Вам кажется, мною, выраже-
ние легкости и шутки, на что способны лишь люди великие, глу-
боко чувствующие опасности жизни, но не теряющие мужества.
Статьи. Речи. Эссе
519
Приводя в заключение афоризм Гиппократа: «Qui gravi
morbo correpti dolores non sentiunt, ilis mens aegrotat»(«eciiH одер-
жимый таким недугом не чувствует боли, он душевнобольной»), вы
полагаете, что лекарство необходимо мне не только для того,
чтобы справиться с недугом, но более всего для того, чтобы при-
стальнее вглядеться в состояние моей души. Мне хотелось бы отве-
тить Вам так, как того заслуживают Ваши чувства ко мне, хоте-
лось бы открыться Вам совершенно, но я не знаю, как сделать это.
Да и ко мне ли нынешнему обращено Ваше драгоценное письмо?
Неужто это мною, которому сейчас двадцать шесть, в девятнад-
цать единым духом написаны и «Новый Парис», и «Сон Дафны», и
«Эпиталама», напоенные велеречивым дурманом пасторали, вспо-
минать о которых нашу божественную королеву и других снисходи-
тельных лордов и господ побуждает разве что избыток доброты.
Неужто это мне было двадцать три, и была Венеция, аркады на
великой площади, и во мне звучала мерная поступь латинских
периодов, дух и строй которых волновали больше, чем возносив-
шиеся из вод творения Палладия и Сансовина? Оставайся я преж-
ним, разве могли бы так непостижимо быстро зарубцеваться раны,
оставленные в сердце другим порождением моих мучительнейших
раздумий — ведь даже самое заглавие этого маленького трактата в
Вашем письме, которое лежит сейчас предо мною, представляется
мне чужим и холодным, так что я не способен воспринять его сразу
как знакомый образ связной речи, но должен разбирать его слово
за словом, будто впервые вижу это сочетание латинских вокабул?
Впрочем, разумеется, то был я, и мои сетования — не более чем
риторика, годная для дам или для палаты общин; но всего ее могу-
щества, которое в наше время склонны столь переоценивать, недо-
станет, чтобы проникнуть в суть вещей. Я же должен обнажить
перед Вами свое сокровенное, некую странную выходку своего
духа, если угодно, его болезнь, дабы Вы поняли, что от литератур-
ных трудов, которые, по Вашему убеждению, должны занимать
меня ныне, я отделен такой же бездной, как и от трудов прошлых
лет, сейчас настолько чуждых мне, что я не решаюсь называть их
своей собственностью.
520
Гуго фон Гофмансталь
Не знаю, что более достойно удивления, — Ваша ли неизмен-
ная благосклонность ко мне или поразительная острота Вашей памя-
ти? Вы помните обо всех, даже самых ничтожных замыслах, какие
только ни рождались у меня в то прекрасное время нашего общего
вдохновения. Я в самом деле собирался описать первые годы правле-
ния нашего покойного государя славного Генриха VIII. Основой мне
должны были служить записки моего деда, герцога Эксетерского, о
его переговорах с Францией и Португалией, а Саллюстий, подобно
неиссякаемому источнику, дарил меня в те счастливые дни чувством
формы, глубокой, истинной, внутренней формы, прозреваемой
лишь за гранью риторических ухищрений, о которой уже нельзя ска-
зать, что она только устрояет материал, ибо она пронизывает его,
возвышает, созидая поэзию и истину в одном; в ней — игра горних
сил, столь же волшебная, как в музыке или алгебре. Из всех моих
планов этот был мне наиболее дорог.
Но что человек, и что такое его планы!
Да, я был одержим множеством замыслов. Ни об одном из них
Вы не забыли в Вашем добром письме. Каждый из них впитал в себя
каплю моей крови, и их нынешнее явленье — словно тусклый танец
мошкары в тени, у мрачной стены, куда не заглядывает больше
яркое солнце прежних блаженных дней.
Сказания и мифы древних, ставшие предметом бесконечных и
бездумных славословий наших живописцев и ваятелей, я хотел про-
честь как иероглифы вечной неисповедимой мудрости, дыхание
которой, словно под неким покровом, я, казалось, порой угадывал.
Этот замысел памятен мне. Он возник из какого-то неопреде-
ленного телесного и духовного томления; как распаленный погоней
олень жаждет окунуться в воды, так я жаждал влиться в эту нагую
сверкающую плоть, в этих сирен и дриад, в Нарцисса и Протея, Пер-
сея и Актеона, я хотел раствориться в них и возглаголить из них их
языками. Я хотел. Я хотел еще многого. Я собирался начать Аро-
phtegmata на манер Цезаревых — помните, о них говорит Цицерон в
одном из своих писем. Моим намерением было свести воедино наибо-
лее замечательные высказывания, которые мне удалось собрать,
общаясь с учеными мужами и остроумными дамами нашего века,
Статьи. Речи. Эссе
521
или с иными любопытными простолюдинами, или во время моих
путешествий при встречах с людьми просвещенными и выдающими-
ся; к сему я хотел присовокупить замечательные мысли и изречения
древних и итальянцев, равно как и прочие перлы разума, извлечен-
ные мной из книг, рукописей или бесед, а также распорядок осо-
бенно красивых празднеств и карнавалов, необыкновенные случаи
преступлений и безумств, рассказы о юродивых, описания наиболее
славных и достопримечательных архитектурных творений Голлан-
дии, Франции и Италии и еще многое другое, объединявшееся заго-
ловком: «Nosce te ipsum».
Словом, все бытие представлялось мне, пребывавшему в
состоянии неослабевавшего восторга, великим единством: для меня
не существовало противоположности между мирами духовным и
вещественным, так же как не было ее между дикостью и культурой,
произведением искусства и ремесленной поделкой, жизнью в обще-
стве и уединением. Во всем находил я присутствие природы — в
бреду безумия столь же, сколь и в тонкостях испанского церемониа-
ла, в косноязычии деревенского увальня не меньше, чем в самом
красноречивом иносказании; во всей природе мне мерещилось мое
собственное отражение. Наслаждение, которое я испытывал в своем
охотничьем домике, когда жадно пил пенящееся парное молоко,
только что под руками нечесаного создания набежавшее из вымени
прекрасной кроткоглазой коровы в деревянный подойник, было не
меньше того, которое я ощущал, сидя в своем studio на встроенной
в нишу окна скамье и высасывая из какого-нибудь фолианта пеня-
щийся, сладкий нектар духа. Одно было равно другому, и в том и в
другом в равной мере были и неземная греза и власть плоти, и так
было со всем пространством жизни, ближним и дальним; везде я был
в самой сердцевине ее, и ничто в ней не было для меня простой види-
мостью. Иной раз мне чудилось, что все вокруг — лишь некая
притча и во всяком творении скрыт ключ к другому, и я мнил себя
способным завладеть этим ключом и отомкнуть им столько тайн,
сколько будет возможно. Отсюда название, которое я намерен был
дать своему энциклопедическому сочинению.
Пусть тот, кому знакомы подобные настроения, сочтет паде-
522
Гуго фон Гофмансталь
ние моего духа от столь необъятных притязаний до крайнего сми-
рения и бессилия, которое ныне есть неизменное состояние моей
души, результатом вмешательства божественного промысла. Но
мне ничего не говорят такого рода религиозные объяснения: они
подобны паутине — сколько умов, увязая в ней, находят умиротво-
рение, но моя мысль прорывает ее насквозь и повисает в пустоте.
В моих глазах таинства веры обрели поэтичность возвышенной
аллегории, которая, как светлая радуга, парит над полем жизни,
вечно далекая, вечно ускользающая от всякого, кому вздумалось
бы достичь ее, чтобы закутаться в край ее плаща.
Но увы, мой почтенный друг, точно так же ускользают
от меня и земные понятия. Не знаю, как и описать эти непости-
жимые мучения духа: стоит мне протянуть руки, как ветвь с желан-
ным плодом уходит вверх, стоит приблизить жаждущие уста, как
вода с журчанием отбегает прочь. Иными словами, болезнь моя
заключается в том, что я утратил дар последовательно мыслить и
связно излагать.
Сначала мало-помалу я сделался неспособен рассуждать на
высокие либо отвлеченные темы и пользоваться при этом словами,
которые не задумываясь, по десятку раз на дню произносит всякий.
Я испытывал необъяснимое раздражение от одного произнесения
слов «идеал», «душа», «тело». Что-то внутри меня мешало мне выс-
казываться о делах при дворе, прениях в парламенте или о чем-либо
подобном. И не из каких-то особых соображений — Вам известна
моя граничащая с легкомыслием откровенность; нет, просто
абстрактные слова, какими неизбежно пользуется человек, выска-
зывая то или иное суждение, у меня на языке распадались, как под
ногой рассыпаются перестоялые грибы. Однажды мне случилось
уличить в какой-то детской лжи мою четырехлетнюю дочь Ката-
рину-Помпилию. Я хотел объяснить ей необходимость всегда гово-
рить правду, но слова, готовые было слететь с моих губ, вдруг рас-
плылись в таком множестве неуловимых оттенков, стали вдруг так
неотличимы друг от друга, что я, пробормотав кое-как до конца
начатую фразу, сказался нездоровым (со мною в самом деле сде-
лался приступ головной боли) и, бледный, вышел, захлопнув за
Статьи. Речи. Эссе
523
собой двери. Только в седле, в бешеной скачке по безлюдным полям
я несколько пришел в себя.
Однако со временем эта напасть, подобно все глубже въеда-
ющейся ржавчине, усугубилась. Даже в домашней, непритязатель-
ной беседе, в разговорах, которые любой из нас ведет запросто, с
уверенностью лунатика, все стало для меня настолько сомнитель-
ным, что и в них я не мог уже принимать никакого участия. Стоило
мне услыхать что-либо вроде: для такого-то дело кончилось хорошо
или плохо; шериф Н. — дурной, а пастор Т. — хороший человек;
жаль арендатора М., его сыновья моты; некто, напротив, достоин
зависти, имея рачительную дочь; род таких-то входит в силу, а
таких-то, наоборот, приходит в упадок, — как мною овладевала
непонятная ярость, подавить которую стоило мне большого труда.
Все в этих словах казалось мне недоказуемым, натянутым, легковес-
ным до крайности. Мой ум заставлял меня рассматривать всякий
предмет, о каком заходила речь в таких разговорах, в чудовищных
подробностях; подобно тому как однажды я увидал через увеличи-
тельное стекло кусочек кожи на своем мизинце, похожий на покры-
тую бороздами и рытвинами пашню, так теперь выходило у меня с
людьми и их поступками. Мой взор уже не мог упрощать их, как
велит нам привычка. Все распадалось у меня на части, эти части —
снова на части, и никакое понятие не могло скрепить их. Вокруг
меня было море отдельных слов, они сворачивались в студенистые
комочки глаз, упорно глядевших на меня, а я вглядывался в них: они
были как воронки водоворота, глядя в которые ощущаешь дурноту,
а они все кружатся и кружатся, и за ними — пустота.
Я пытался искать спасения в мире древних. Платона я избегал:
его метафорический взлет страшил меня. Надежды возлагал я на
Сенеку и Цицерона. В свойственной им гармонии ограниченных упо-
рядоченных категорий я думал вновь обрести равновесие. Но про-
пасть между ними и мной оказалась непреодолимой. Они были
понятны мне, эти категории, я прозревал чудную игру их взаимосвя-
зей — так золотые мячики пляшут в струях великолепных фонта-
нов. Я мог обозреть их со всех сторон, наблюдая игру струй. Но они
существовали сами по себе; сокровенное, сугубо личное моей мысли
524
Гуго фон Гофмансталь
никак не участвовало в этой игре. Наедине с ними меня охватывало
чувство невыносимого одиночества: мне казалось, я заблудился в
парке, где нет никого, кроме безглазых статуй; я бежал, бежал без
оглядки.
С той поры я веду существование, которое, боюсь, покажется
Вам непостижимым, настолько оно лишено всякой духовности, вся-
кой мысли. Такое существование, впрочем, мало чем отличается от
того, которое ведут мои соседи, родственники, да и большинство
поместных дворян нашего королевства, и оно не лишено мгновений
радостных и животворных. Мне будет нелегко объяснить Вам, в чем
заключаются эти мгновения, слова снова не идут ко мне. Ибо в
такие моменты мне объявляется нечто совершенно не поддающееся
обозначению, а возможно, и не терпящее никакого обозначения, и
изливается, как в сосуд, в какую-нибудь обыденную мелочь бьющим
через край током высшей жизни. Прошу Вас, будьте снисходи-
тельны к моим не слишком толковым примерам, но без них я рис-
кую остаться непонятым. Этим сосудом откровения может стать
все: забытая лейка, брошенная на пашне борона, собака, греющаяся
на солнце, убогое кладбище, калека, крестьянская хижина —
каждый из этих предметов, как и тысячи прочих им подобных, мимо
которых взгляд обычно скользит с будничным равнодушием, в
какой-то момент, приблизить который я не властен, внезапно может
принять возвышенный и трогательный облик; наша речь слишком
бедна, чтобы описать его. Непредсказуемый выбор свыше может
пасть даже на отчетливое представление о каком-нибудь отсутству-
ющем предмете, и тогда стремительно и мягко накатывающаяся
волна божественного одухотворения наполняет его до краев. Не так
давно я приказал насыпать в молочные погреба одной из моих ферм
крысиного яду. Под вечер я отправился домой и, как Вы понимаете,
и думать забыл об этом. Я ехал шагом, копыта коня глубоко вязли
во свежевспаханной земле, ничто не привлекало моего внимания,
разве что вспорхнувший неподалеку перепелиный выводок, да вдали
за горбатыми полями огромное закатное солнце. И вдруг перед
моим внутренним взором распахнулся этот погреб, где сражался со
смертью крысиный народец. Все, все было во мне: и сладковатый,
Статьи. Речи. Эссе
525
острый запах яда, пропитавший промозглый воздух подземелья, и
пронзительные предсмертные крики, сплетенные в судороге бесси-
лия тела, разбивавшиеся о замшелые стены; хаос отчаяния, без-
умие, рыскающее в поисках выхода, глаза, полные ледяной ярости,
когда двое сталкиваются У законопаченной щели. Но что я снова
ищу помощи у слов, мною же отринутых! Мой друг, вспомните
Ливия, его потрясающее описание последних часов Альбы Лонги:
как они бродят по улицам, которых им не суждено увидеть более,
как прощаются с родными камнями... Уверяю Вас, друг мой, все это
было в моем сердце, и пылающий Карфаген впридачу. Но мое чув-
ство было даже выше, оно было божественнее, стихийнее, и оно
было реальностью, абсолютной, высочайшей реальностью. Там
была мать, рядом с которой в последних судорогах погибали ее
сыновья, и она, обратив свой взор не на умирающих, не на бесстрас-
тный камень стен, а куда-то в пространство, а сквозь него — в лежа-
щую за ним бездну, скрежетала зубами! Слуга-раб, в бессильном
ужасе застывший близ каменеющей Ниобы, должно быть, пережи-
вал то же самое, что пережил я, когда во мне душа зверя скалилась
навстречу жуткой судьбе-
Извините мне мою пространность, но не думайте, что чувство,
владевшее мною, было состраданием. Если Вы так подумали, зна-
чит, пример мой был слишком неудачен. Это было много больше и,
одновременно, много меньше, чем сострадание. Это была всеобъем-
лющая причастность, слиянность с теми существами, или, может
быть, я ощутил, как некий флюид жизни и смерти, сна и бдения на
одно мгновение пронзал их — откуда? Ибо что общего с сострадани-
ем, с привычным сочетанием человеческих понятий было в другом
моем наитии, когда однажды вечером, наткнувшись под кустом
орешника на лейку, забытую там мальчиком — помощником садов-
ника, и глядя на эту лейку, на наполнявшую ее темную от тени
дерева воду, на жука-плавунца, перебегавшего по глади воды от
одного темного берега к другому, на все это скопление мелочей, я с
дрожью, пронзившей меня от корней волос и до пят, почувствовал
прикосновение бесконечности, и на языке у меня шевельнулись сло-
ва, которые, я знаю, найди я их, заставили бы херувимов, в которых
526
Гуго фон Гофмансталь
я не верю, спуститься на землю? Я молча ушел с того места. Прошли
недели, а я каждый раз, издали завидев этот орешник, обходил его
стороной, отводя глаза, робея, боясь спугнуть отзвук чуда, витав-
шего в его ветвях, и неземной трепет, все еще наполнявший воздух
вокруг кустарника. В такие мгновения самая ничтожная тварь: соба-
ка, крыса, жук, засохшая яблоня, сбегающий с пригорка проселок,
поросший мхом камень значат для меня больше, чем самая прекрас-
ная, самая страстная возлюбленная счастливейшей из ночей, когда-
либо испытанных мною. Эти немые, а порой и неодушевленные соз-
дания отвечают мне такой осязаемой полнотой любви, что и вокруг
них для моего растроганного взора уже нет ничего неживого. Мне
кажется, что все, все, что есть, все хранящееся в моей памяти, все,
чего ни касаются мои пусть даже самые сбивчивые мысли, — все это
есть нечто. Даже тяжелая драма моего мозга,, кажется мне, есть
нечто; в себе и вокруг себя я внимаю восхитительной нескончаемой
игре зовов и откликов, и среди этих перекликающихся кусков жизни
нет ни одного, который оставался бы замкнут для меня. Тогда мне
начинает казаться, что в моем теле заключена бесконечная совокуп-
ность шифров, открывающих мне вселенную. Или что наше отноше-
ние ко всему сущему могло бы быть иным, более проникновенным,
если бы мы начали мыслить сердцем. Но как только спадают с меня
эти диковинные чары, я делаюсь бессилен сказать о них что бы то ни
было; я так же мало способен разумно описать эту объемлющую
меня и весь мир гармонию или мое ощущение этой гармонии, как
сказать что-либо определенное о процессах в своих внутренностях
или о токе крови в моих жилах.
Если не брать в расчет этих случайных странностей, природа
которых, телесная или духовная, остается к тому же мне неясной,
жизнь моя невероятно пуста, и мне стоит большого труда скрывать
оцепенение души перед женой, а перед моими людьми — полное рав-
нодушие к делам хозяйственным. Думаю, только основательному и
строгому воспитанию, которое дал мне покойный отец, а также дав-
нишней привычке ни минуты не терять без дела я обязан тем, что
мне удается еще поддерживать внешний распорядок моей жизни и
сохранять видимость., приличную моему званию и сословию.
Статьи. Речи. Эссе
527
Я занят перестройкой флигеля в своей усадьбе и время от вре-
мени заставляю себя беседовать с архитектором о ходе его работы;
я продолжаю управлять своими имениями, и мои арендаторы и слу-
ги, хоть и заметили, вероятно, мою молчаливость, вряд ли могут
упрекнуть меня в недостаточном внимании к их нуждам. Никто из
них, встречая меня во время моей ежевечерней прогулки верхом,
стоя у ворот своих домов и почтительно снимая шапки, не догады-
вается, что мой взгляд, который они привыкли ловить, сейчас с
тихой тоской скользит по испревшим доскам, под которыми они
обычно собирают дождевых червей, отправляясь на рыбную ловлю;
через узкое зарешеченное окошко проникает в горницу, где в углу
неизменная низкая кровать под пестрым покрывалом дожидается
грядущих смертей и рождений; подолгу покоится на уродливой двор-
няге или кошке, крадущейся между цветочных горшков; что среди
всех этих грубоватых атрибутов скудного крестьянского быта он
ищет нечто, чья неброская наружность, чье никем не замеченное,
лепящееся к вещам присутствие, чья бессловесная сущность может
стать источником таинственного, невыразимого, безграничного вос-
торга. Ведь безымянное мое блаженство вспыхнет во мне скорее
при виде пастушьего костра вдали, нежели от созерцания звездного
неба; последняя предсмертная песнь кузнечика, когда от облаков,
гонимых осенним ветром над опустевшими полями, веет зимой, про-
будит его скорее, чем величественный гул органа. И иногда
мысленно я сравниваю себя с оратором Крассом, тем самым, про
которого рассказывают, будто он до такой степени полюбил ручную
мурену, угрюмую, красноглазую, немую рыбу, жившую у него в бас-
сейне, что это стало предметом городских пересудов; и когда Доми-
ций, желая выставить его глупцом, рассказал перед всем сенатом,
что Красе проливал слезы над своей умирающей муреной, Красе
ответил ему: «Да, меня заставила плакать смерть моей рыбы, ты же
не оплакал ни одной из обеих твоих жен».
История этого Красса с его муреной часто вспоминается мне,
я вижу самого себя в этом зеркале, отделенном от меня пропастью
столетий. Дело, конечно, не в том ответе, который он дал Домицию.
Этим ответом он сумел расположить к себе насмешников, обратив
528
Гуго фон Гофмансталь
все в шутку. Мне же важна суть, а она ничуть бы не изменилась,
если бы Домиций и обливался по своим женам кровавыми слезами
искренней скорби. И тогда ему все так же противостоял бы Красе,
рыдающий над своей муреной. Что, кроме пренебрежительной
усмешки, может вызвать подобный человек, заседающий к тому же
в вершащем мировые судьбы высоком сенате? Но есть безымянное
нечто, заставляющее меня питать к нему совсем иные чувства, кото-
рые мне самому кажутся нелепыми всякий раз, как только я пыта-
юсь облечь их в слова.
В иную ночь образ этого Красса застревает у меня в мозгу,
как заноза, вокруг которой все нарывает, пульсирует, кипит. Мне
начинает казаться, что во мне самом идет какое-то брожение, со дна
моего существа поднимаются какие-то пузыри, и оно волнуется и
искрится, и все это — вроде лихорадочных мыслей, но таких, мате-
рия которых непосредственнее, зыбче, ярче, чем слово. И они
подобны водоворотам, но если воронки слов ведут в бездны, то эти
— как бы воронки в меня самого и в глубочайшие недра покоя.
Однако я чрезмерно обременил Вас, мой почтенный друг,
пространным описанием необъяснимого явления, которое для про-
чих составляет мою тайну.
Вы сетуете по доброте своей на то, что ни одной книги под
моим именем пока не дошло до Вас, «чтобы возместить Вам
нехватку моего общества». Читая Ваши слова, я со всей определен-
ностью, хотя и не без болезненного чувства, понял, что ни через год,
ни через два, да и никогда более в моей жизни мне не написать ника-
кой, будь то английской или латинской, книги. Неловко призна-
ваться в странности, которая тому причиной. Может статься, све-
жий взгляд и Ваше безусловное надо мной духовное превосходство
позволят Вам указать и ей место в гармоническом царстве духовных
и физических феноменов. Причина эта в том, что язык, на котором
мне, быть может, было бы дано не только писать, но и мыслить, —
не латинский, не английский, не итальянский или испанский, это
язык, слова коего мне неведомы: на нем говорят со мной немые
вещи и на нем, должно быть, некогда по ту сторону могилы мне
предстоит дать ответ неведомому Судие.
Статьи. Речи. Эссе
529
Я желал бы в последние строки этого, вероятно, последнего
письма, которое я пишу Фрэнсису Бэкону, вложить всю благодар-
ность, все безмерное восхищение, какие я питаю к Вам, величай-
шему благодетелю моего духа, первому англичанину нашего време-
ни; эти чувства неизменны в моем сердце и пребудут в нем неизмен-
но, покуда ему суждено биться.
По Р. X. лето 1603, 22 августа. Фил. Чэндос ,ЛЛЛ
J 1902
Перевод А. Назаренко
РАЗГОВОР О СТИХАХ
За исключением нескольких, которые
сами создают нечто лирическое, сейчас
в Германии едва найдется пять человек,
способных иметь суждение об этих
нежнейших порождениях души.
Геббель (письмо от 27.04.1838)
габриэль. Здесь у окна я положил для тебя томик стихов.
КЛЕМЕНС. КИТС?
габриэль. Нет, это немецкие стихи. Они составляют некото-
рое единство, так они подобраны. Все вместе называется «Год
души». Вот осень. Книга открывается осенью.
«Блистая золотистой чешуею,
Простились осы с онемевшим лугом,
Мы проплываем по широким дугам
Вдоль островов под бронзовой листвою».
клеменс. Это осень. Читай все целиком или вовсе не читай.
габриэль. Ты слушаешь?
«Парк обречен, ты взором все окинь,
Сквозь ветви даль смеется веселее,
Чистейших туч безрадостная синь
Чуть сеет свет на пестрые аллеи.
530
Гуго фон Гофмансталь
Постой под желтизной, под сединою
Берез и буков, ветер пахнет мглою,
Для поздних роз еще не вянуть срок,
Срывай, целуй их и плети венок.
Возьми вот эти астры на пути,
Багрец последних листьев винограда,
Все, чем пылала летняя отрада,
Легко в лицо осеннее вплети».
клеменс. Прекрасно. Это дышит осенью. Хотя это довольно
смелое выражение: «чистейших туч безрадостная синь», поскольку
эти бухты из навевающей грусть оставшейся от лета сини находятся
между тучами. И, конечно, только по краям чистейших туч. И
нигде более на всем замкнутом мрачном поле осенних небес. Гёте
пришлись бы по душе эти «чистейшие тучи». И «безрадостная синь»
безупречна. Это прекрасно. И это осень.
габриэль. Добавить тебе еще осени?
«Со ржавых лилий кованой ограды
Вспорхнули птицы в пустоту газона,
Другие, содрогаясь от прохлады,
Пьют дождевую воду утомленно».
Хочешь еще?
«Мы ищем места, где не будет тени —
Нам тешит взор протяжный отблеск света.
Как благо, мы приемлем этот хаос,
Просев лучей сквозь стынущие кроны,
/ Глядим и слышим, как в одну из пауз
О землю гулко стукнет плод ядреный».
клеменс. Прошу тебя, читай все целиком или вовсе не читай.
габриэль. Ты хочешь зиму? Или хочешь лето? Летних томле-
ний по приключениям? Летней тоски? Летнего утра? Летнего ве-
чера?
Статьи. Речи. Эссе
531
«Мы странствуем по затененным склонам,
Но холм напротив на свету лежит,
И месяц на своем лугу зеленом,
Как маленькое облачко, дрожит.
Вдали дорогу сумерки застлали,
И чудный лепет путника влечет:
Невидимая горная вода ли
Иль птица колыбельную поет?»
клеменс. «И месяц на своем лугу зеленом,
Как маленькое облачко, дрожит...».
Я вижу ландшафт моего детства. Кажется, это прекрасная книга,
этот «Год». Почему, собственно, «Год души»? Я люблю простые
названия.
габриэль. Я тоже, потому это мне кажется отличным. Ибо
здесь это осень, и более чем осень. Здесь зима, и более чем зима. Эти
времена года, эти ландшафты не что иное, как носители другого.
Разве чувства, полутона чувств, все тайные и глубочайшие
состояния нашего внутреннего мира страннейшим образом не пере-
плетены с какими-то ландшафтами, временами года, каким-то
состоянием воздуха, с дуновением? Какое-то неуловимое движение,
с которым ты спрыгиваешь с высокой повозки; душная беззвездная
летняя ночь; запах влажных камней в сенях дома; ощущение ржавой
воды, которая по водостоку струится на твои руки; с тысячью таких
земных вещей смыкается все твое внутреннее достояние, все твои
взлеты, все твои томления, все твои упоения. Более чем смыкается:
срастается корнями своей жизни; а стоит срезать это ножом с почвы,
как все тут же сморщится и просыплется сквозь твои пальцы в
ничто. Если мы хотим найти самих себя, нам не надо спускаться в
глубину нашего «я»: надобно вовне себя найти, вовне. Душа наша,
как бесплотная радуга, простерта над безудержным обвалом бытия.
Мы не хозяева собственной сути; она овевает нас извне, она поки-
дает нас надолго и возвращается к нам с единым дуновением. Хотя —
что наша «суть»! Это слово уже метафора. Возвращаются поры-
532 Гуго фон Гофмансталь
f
вы, которые гнездились здесь уже ранее. Действительно ли они
остаются прежними? Или это, скорее, только их выводки, гонимые
сюда темным чувством родины? Но что-то же возвращается — этого
довольно. И что-то встречается в нас с другим. Мы всего лишь голу-
бятня.
клеменс. Странно, что этот ход мысли привел тебя к такому
выводу. Я пришел к нему иным путем, совершенно иным: трудно
избежать сомнения в том, что в человеческой натуре есть хоть
какая-то сущность. Страшно, взвешивать силу внешних обсто-
ятельств; наверное, бесконечно трудно писать драму и бесконечно
тяжело выносить приговор убийце.
габриэль. Чудесно, что подобное понимание нашего бытия
идет навстречу поэзии, ибо теперь она имеет право вместо узких
келий нашего сердца обитать во всей огромной, неисчерпаемой при-
роде. Как Ариэль, может она обитать на вершинах героических пур-
пурно-сияющих облаков и гнездиться в трепетных кронах деревьев;
она может нисходить со сладострастным дуновением ночи и раство-
ряться в пелене тумана, во влажном дыхании грота, в мерцающем
свете одинокой звезды. И из всех своих превращений, всех своих
приключений, из всех пропастей и всех садов выносит она не что
иное, как дрожащее дыхание человеческих чувств. Устреми ее — ту,
что, подобно Ариэлю, не нуждается в сне, — ввысь, над глухой, в
сон погруженной землей, туда, где на светлом небе одинокая звезда,
святой страж, зажигается смело и верно, всегда на своем месте, над
содрогающейся пропастью света на западе, разверзающейся солнцу
вослед; позволь ей, приблизившейся к духам, с высоты, которую
орлу не объять кругами, впитывать в себя эту игру — когда она,
словно в забытьи, вернется назад к тебе, она будет переполнена до
краев огромным, но человечным чувством. Ибо нет границ ее поле-
ту, но в своей сути она ограничена: как бы она могла из пропасти
миров вынести нечто иное, нежели человеческие чувства, ибо сама
она есть не что иное, как человеческий язык!
клеменс. Однако она не совсем язык, эта поэзия. Видимо, она
язык возвышенный. Она полна образов и символов. Она подстав-
ляет одну вещь вместо другой.
Статьи. Речи. Эссе
533
габриэль. Что за ужасная мысль! Ты это говоришь серьез-
но? Никогда поэзия не подставляет одну вещь вместо другой,
поскольку именно то является поэзией, что лихорадочно стремится
назвать самое вещь, с совсем иной энергией, нежели тупой повсед-
невный язык, с совсем иной волшебной силой, нежели вялая терми-
нология науки. Если поэзия делает нечто, то именно это: она из
каждой картины мира и мечты с жадной страстью вылущивает
именно сокровеннейшее, существеннейшее, подобно тем блужда-
ющим огням из сказки, которые отовсюду слизывали золото. И
она делает это по той же причине, потому что она питается сутью
вещей, потому что она сгинет в нищете, если не будет втягивать в
себя это живительное золото из всех швов, из всех щелей.
клеменс. Так, значит, нет никаких сравнений? Нет никаких
символов?
габриэль. О, более того — нет ничего, кроме них, ничего
другого. Но мне кажется, я утомил тебя, будем говорить о чем-
нибудь другом. Мы могли бы прогуляться, ты не хочешь? Как
хочешь. Вот еще одно прекрасное стихотворение, из цикла «Лето».
«Еще ты помнишь риск его полета,
Над розами, усыпавшими кряж?
Неутолима страстная охота
Вкушать нектар из ароматных чаш.
Но к парку повлекла его истома,
И, опустив прекрасные крыла,
Он вдруг застыл у края водоема,
Как будто тайна в слух его вошла.
Его не манит водопад на склоне,
О камни разбивающий струю,
Вверяет лебедь в детские ладони
Для ласки шею стройную свою».
клеменс. Да, это великолепно! Это волшебный круг дет-
ства, пойманный чистым глубоким зеркалом неутолимой тоски.
Как это чисто! Это парит, подобно свободному легкому облачку в
534
Гуго фон Гофмансталь
высоте над горами. Как это чисто! Это так просто выражает состо-
яние безграничного.
габриэль. Это делают все стихи, во всяком случае все хоро-
шие. Все они выражают состояние души. Это оправдывает их
существование. Все прочее они должны предоставить другим фор-
мам: драме, рассказу. Только они могут создавать ситуации.
Только они могут показывать игру чувств.
клеменс. Мне кажется, это стихотворение так просто выра-
жает некоторое состояние. Оно не пользуется никакими символа-
ми. Я вспоминаю о другом, которое тебе раньше нравилось. Там
появляются два лебедя. Это не Геббель?
габриэль. Да, это Геббель. Вот оно:
«Под стынущим сводом
По пенистым водам
Двух лебедей лучезарных влекло.
Их волны качали
И с ветром крепчали,
И стлался прохладный туман тяжело.
Друг друга в печали
Они избегали,
Но больше не в силах терпеть этот ад:
Влекомы волною,
Укрытые мглою,
Они захотели любовных услад.
Ласкаясь и млея,
Они все смелее
Под натиском пены сливались в одно,
Переча глубинам
Стремленьем единым
В любовном томлении кануть на дно.
Доходит их рвенье
До изнеможенья,
И их в этот миг разлучает волна.
Не бейте крылами!
Навек между вами
Завеса разлуки, ночь будет темна».
Мой друг, и это стихотворение выражает некоторое состояние и
ничего больше, глубокое состояние души, полное боязливого бла-
женства, полное печальной отваги.
клеменс. А эти лебеди? Они являются символом? Они озна-
чают...
габриэль. Позволь перебить тебя. Да, они означают, но не
высказывай того, что они означают. Все, что бы ты ни сказал,
будет неверно. Они означают здесь не что иное, как самих себя:
лебедей. Лебедей, но увиденных глазами поэзии, которая каждый
предмет каждый раз видит впервые, которая каждый предмет
окружает всеми тайнами своего бытия. Здесь — это величие цар-
ственного полета, бесшумное одиночество сияющего белого тела,
кружащего по черной воде, печально, высокомерно; чудесная
легенда о своем смертном часе... Увиденные такими глазами, звери
становятся собственными иероглифами, живыми таинственными
шифрами, которыми Бог вписывает в мир неизреченные вещи.
Счастлив поэт, которому также дано эти божественные шифры
вплетать в свои письмена...
клеменс. И, однако, именно от тебя я слышал, что поэзия
никогда не подставляет одну вещь на место другой.
габриэль. Никогда она этого не Делает. Делай она так, сле-
довало бы ее затоптать, как уродливый тлеющий блуждающий
огонь. Что бы тогда она могла рядом с обыденным языком? По-
рождать заблуждения? Развешивать бумажные цветы на живом
дереве?
клеменс. А эти лебеди? И все твои прочие шифры?
габриэль. Это шифры, разгадать которые язык бессилен.
Ты понимаешь? Тот осенний парк, эти окутанные ночным туманом
лебеди — ты не найдешь никаких слов, означающих мысль или
чувство, в которых могла бы излиться душа этих, именно этих
порывов, чей образ здесь рождается. Я бы охотно согласился с
536
Гуго фон Гофмансталь
твоим словом «символ», не стань оно таким плоским, что мне уже
противно. Разговор, подобный этому, надо уметь вести с детьми, с
блаженными или с поэтами. Для детей все символ, для блаженных
в символе единственная действительность, а поэт не способен уви-
деть что-либо иное.
клеменс. Ты путаешь. Символы веры? Мы же говорили о
стихах.
габриэль. Я к ним вернусь. Но давай прежде освободим от
всего наносного слово, отмеченное глубочайшим духом языка. Ты
знаешь, что такое символ?.. Попытайся себе представить, как воз-
никла жертва. Кажется, мы уже говорили об этом однажды. Я
имею в виду кровавую жертву, принесенную на алтарь кровь и
жизнь животного, барана, голубя. Как можно было думать, что
подобным образом удастся задобрить разгневанных богов? Для
этого требуется чудесная чувственность, сумрачная, опьяненная
жизнью орфическая чувственность. Мне кажется, будто я вижу
того первого жертвователя. Он чувствовал, что боги его ненави-
дят, что они швыряют волны горного потока и катят камни на его
поле, что они хотят раздавить его сердце устрашающей тишиной
леса; или он чувствовал, как алчная душа мертвеца ночью врыва-
лась с ветром и садилась к нему на грудь, снедаемая жаждой крови.
И тогда, в двойной тьме своей низкой хижины и своего сердечного
страха перед ужасным невидимкой, он хватался за острый кривой
нож и был готов высечь эту кровь из своего горла. Он одержим
страхом, и дикостью, и близостью смерти, и тут его рука полубес-
сознательно тянется еще раз к мягкому теплому руну ягненка: вот
это животное, эта жизнь, это дышащее в темноте теплокровное,
такое близкое ему и доверчивое... И вдруг нож вонзается живот-
ному в горло, и теплая кровь окропляет одновременно руно живот-
ного и грудь, и руки человека, и на миг он, должно быть, поверил,
что это его собственная кровь; на миг, когда звук сладострастного
триумфа из его горла смешался с предсмертным стоном животного
и он принял экстаз торжествующего бытия за первое содрогание
смерти; на какой-то миг он, наверное, ощутил смерть животного,
как свою: только так могло животное умереть за него. То, что
Статьи. Речи. Эссе
537
животное смогло умереть за него, стало великой мистерией, вели-
кой таинственной правдой. Отныне животное умирает символичес-
кой жертвенной смертью. Но все зиждется на том, что и он уми-
рает в животном, на один миг, что его бытие на длительность в
одно дыхание растворяется в чужом бытии. — В этом корень
любой поэзии. Мы прозреваем ее в великом, ибо что может быть
яснее того, что мои чувства растворены в Гамлете, пока Гамлет
стоит на сцене и гипнотизирует меня? Но мы прозреваем ее и в
малом: разве на мгновение проблеска мысли меня не облекает
оперение тех лебедей точно так же, как кожа Гамлета? Но дей-
ствительно верить в это, верить, будто так оно и есть! Эта магия
страшно близка нам, только поэтому так тяжело ее признать. У
природы нет иного средства, чтобы охватить нас, привлечь к себе,
кроме этого волшебства. В нем воплощаются символы, которые
владеют нами. В нем сущность нашего тела, и наше тело то же, что
и оно. Поэтому символ есть элемент поэзии, и поэтому поэзия
никогда не подставляет одну вещь вместо другой: она высказывает
слова ради самих же слов, в этом ее чары. Магическая сила, кото-
рой обладают слова, овладевает нашим телом и непрестанно нас
изменяет.
клеменс. Я не уловил, что ты хотел показать этим челове-
ком, проливающим кровь животного вместо своей собственной?
габриэль. Он совершил символическое действие. Он умер в
животном, Клеменс, потому что он одно мгновение был растворен
в другом бытии, поскольку одно мгновение его кровь действи-
тельно текла из горла животного.
клеменс. Ты сказал «действительно», Габриэль?
Пауза.
Он умер в животном. А мы растворяемся в символах. Ты это име-
ешь в виду?
габриэль. Конечно. В той мере, в какой они имеют силу оча-
ровывать нас.
клеменс. Откуда они получают эту силу? Как это можно
умереть в животном?
538
Гуго фон Гофмансталь
габриэль. Оттуда, что мы и мир нераздельны.
клеменс. В этой мысли есть что-то странное, что-то тревож-
ное.
габриэль. Напротив, нечто бесконечно умиротворяющее.
Это и есть единственный миг блаженства — видеть избавление от
части своей тяжести, пусть даже на мистическое время одного
дыхания. В нашем теле вселенная сжата, ей душно в нем — какое
наслаждение тысячекратно освободиться от чудовищной тяжести!
клеменс. И все-таки, мне кажется, должны быть стихи,
которые прекрасны без этого вызывающего дурноту колдовства.
Есть песни Гёте, которые легки, как дуновение, и просты, как
мелодии Моцарта. Есть античные стихи, которые подобны тем-
ным листьям винограда под синим вечерним небом. В антологии
много такого. Ты ее знаешь лучше меня.
габриэль. Я ее знаю. Садовник Ламон жертвует Приапу пре-
красные плоды: он кладет в плетеную корзину красивые зубчатые
листья и на них лопнувший гранатовый плод, чья влажная, дрожа-
щая, пурпурная плоть обволакивает тысячу сладких зерен; он кла-
дет туда же сморщенные фиги и виноград с красным отливом, бла-
гоухающий земляникой, и пушистую айву, и созревающие орехи,
уже прорывающие свою зеленую оболочку, и налитые соком огур-
цы; все это кладет он на алтарь бога вместо молитвы за свою соб-
ственную жизнь и за здравие своих деревьев. И Нико, волшебница,
жертвует Киприде аметистовый волчок, обтянутый нитями пур-
пурной шерсти, волшебной силы волчок, которым она увлекает
мужчин за море, выманивает девушек из дому. Девушка сооружает
памятник мертвой цикаде, два года жившей в ее спальне. Рыбаки
вытягивают тяжелую сеть и находят в ней поглощенного морем
человека, наполовину съеденного рыбой. И они погребают его и
рыб в скудном песке скалистого побережья, они хоронят с ним
рыб, которые им напитались, чтобы земля приняла его целиком.
Сочная гроздь винограда лежит на алтаре Афродиты — приноше-
ние в знак благодарности за сладкую, милостиво дарованную ночь, —
лежит одна, обнаженная, отданная божественной власти; над нею
уже не простерты дружелюбные материнские стебли, ее обна-
Статьи. Речи. Эссе
539
женное юное тело больше не осеняют листья, сладко благоуха-
ющие, полные мягкой таинственной тьмы.
клеменс. А те, кто давит сок! И те, кто любит! А наизусть
ты ничего не помнишь?
габриэль. Те, кто давит сок, чувствуют себя богами. Им
кажется, что Вакх разделяет их ночные труды. Словно топчется он
вместе с ними, приподняв длинные одежды, по колено в красном
соке, уже сам дух которого пьянит. Одновременно все они купа-
ются и танцуют; и опьянение их танца все выше и выше наполняет
купель. Пеной стекает с давильни вино; словно маленькие кораб-
ли, качаются деревянные бадьи в пурпурной пучине. И вот кра-
савица Роданта склоняется над давильней, и уже промокли
насквозь ее белые льняные одежды, и влажно блестят под ними ее
груди и бедра:
«Выше вздымается грудь, и нет никого, кто бы ни был
Вакху и Афродите ныне подвластен вполне».
В чадящей тьме, среди криков, среди мелькающих факель-
ных огней, среди потоков крови лозы вдруг из пурпурной пены
рождается Афродита; Вакх вырвался из давильни, дикий, словно
волна прибоя, и насквозь промочил чье-то платье, так что оно
заструилось вниз сияющей наготой, и создал из девушки богиню,
чье тело источает страсть и очарование.
клеменс. А прекрасные бесстыдницы? Помнишь стихотво-
рение, где они меняются платьями и вновь еще теснее сплетаются
друг с другом? А то, где они, свиваясь в объятиях, шлют вызов
богам, томятся вожделением и грезят быть схваченными сетью
Гефеста? Они призывают богов и людей снизойти к ним, увидеть
их и позавидовать им. Разве не прекрасны эти стихи, простые и
изящные, как морские раковины с розовыми устами? Как прекрас-
ные плоские винные чаши из оникса и яшмы? Как прекрасные мед-
ные кубки, до самых краев наполненные чистой водой? Как камен-
ные мосты, дугой переброшенные через горный поток? Как изо-
гнутое ярмо пашущего быка? И разве Гёте не любил их как ничто
иное в мире? Разве он не был счастлив, словно путник, карабка-
540
Гуго фон Гофмансталь
ющийся по горному склону среди мхов и камней, где прячутся яще-
рицы, и находящий чудесное мраморное изваяние, блестящий оско-
лок божественного облика, тонкую повелительную руку или сияю-
щее плечо с узлом одеяния? Не тогда ли отверг он звуки своей юно-
сти и вспомнил о свирели Пана? Разве не стали с тех пор корабль
Одиссея и изогнутая, подобно лире, бухта, корзина с плодами,
венок, мраморный край фонтана, ложе, на котором Тибулл взды-
хал о любимой, загоны и закрома Вергилия и идиллические
лужайки Биона — все эти обретшие форму видения, все эти вещи,
которым придала форму божественная длань и которые, подобно
чеканке Гефеста, украшают мерцающий круглый щит земли, —
разве не стали они родиной его души? Не чувствовал ли он себя
более сродни ваятелю, нежели оратору? Кого он восславил более,
чем того, чьи искусные руки изваяли украшения эфесской Дианы?
Отважно броситься в Евфрат, стиснуть в руке поток — вот что
было для него поэзией. Разве он не высмеивал болтуна? И вечно
страждущего? Кого ничто не ублажает, кроме непрестанного том-
ления по самому томлению? Разве природа не была для него веч-
ной ваятельницей? Разве не были для него все силы, все демоны,
даже муки еще и ваятелями? Ответь мне, Габриэль, разве обрет-
шая форму мысль не прекрасна? Разве она не удесятеряет в себе
сияние жизни, так же как жемчуг вбирает в себя влажный блеск
обнаженной руки и десятикратно его отражает?
габриэль. Да, мысль — это нечто прекрасное, ты с полным
правом сравниваешь ее с жемчугом и драгоценными камнями. Она
им равна, а они прекрасней, чем все цветение и жизнь, поскольку
они превыше цветения, и жизни, и смерти. И для юного прозрева-
ющего мира это чудо из чудес. Что значит птица в небе для моряка,
который несет свою ночную вахту совсем один, закутавшись в
плащ! Мертвый штиль на тяжелом черном море и над ним ни ночь,
ни день; над серыми голыми островами нависла гряда облаков,
недвижных, словно эти воздушные острова висят здесь уже тысячи
лет; палуба, реи затянуты мглистым светом, который стекает с них
в атмосферу; невыносимо безмолвное ожидание, немота мира, где
нет ни теней, ни света. Что значит здесь взмах крыльев чудесной
Статьи. Речи. Эссе
541
морской птицы, парящей высоко на востоке? Прекрасен ее полет,
первый отблеск встающего дня мерцает на ней; для первозданного
мрачного мира это и есть мысль. Но мы богаче мыслями, чем бес-
конечное морское побережье раковинами. Все, что нам нужно, —
это дыхание. Это стихотворение как летний вечерний ветер,
веющий над свежескошенным лугом, доносит до нас одновременно
дыхание смерти и жизни, предчувствие цветения, ужас разложе-
ния, теперешнее, здешнее и в то же время потустороннее, чудо-
вищное потустороннее. Каждое совершенное стихотворение —
одновременно предчувствие и настоящее, мечта и ее исполнение.
Оно как воздушно-прозрачное тело эльфа, бессонный вестник,
полностью сдерживающий свое волшебное слово; и несет его по
воздуху таинственное поручение, и в парении впивает он из обла-
ков, звезд, крон, дуновений глубочайшее дыхание их сути, и чудес-
ная речь из его уст звучит верной и в то же время дикой, прони-
занной тайнами мелодией облаков, звезд, крон, дуновений. А Гёте?
Его деяния многогранны, как деяния странствующего бога. Он
подобен Гераклу, приключения которого, каждое овеянное сла-
вой, каждое живущее в ином ландшафте, ничего не ведают друг о
друге. Песни его юности не что иное, как дуновение. В каждой из
них — вольный дух мгновения, который воспарил в зенит и там,
сияя, застыл, упиваясь всеми блаженствами мгновения, пока не
растворится в чистом эфире. А стихи его зрелости временами
подобны темным глубоким колодцам, над зеркалом которых мель-
кают лица, никогда не воспринимаемые всерьез устремленным
ввысь оком, никому в мире не видимые, кроме того, кто склоня-
ется над глубокой темной водой долгой жизни. Ты действительно
думаешь, будто он всегда поднимал и поднимал сформованную
мысль на свет солнца, словно кубок из сардоникса и хризопраза?
Послушай: ^ , п
«Скрыть от всех! Поднимут травлю!
Только мудрым тайну вверьте,
Все живое я прославлю,
Что стремится в пламень смерти!
В смутном сумраке любовном,
542
Гуго фон Гофмансталь
В час влечений, в час зачатья,
При свечи сияньи ровном
Стал разгадку различать я:
Ты — не пленник зла ночного!
И тебя томит желанье
Вознестись из мрака снова
К свету высшего слиянья!
Дух окрепнет, крылья прянут,
Путь не труден, не далек,
И уже, огнем притянут,
Ты сгораешь, мотылек.
И пока ты не поймешь:
Смерть — для жизни новой,
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой».
Слышишь этот звук, словно заколдованная ночная птица
пропела в комнате, где кто-то умирает? Говорят, он написал это в
ту ночь, когда умерла Христиана Вульпиус. Настоящее пережива-
ние души! Какие слова могут это передать, если не колдовские!
Приходит мгновение и выжимает сок из тысяч и тысяч себе подоб-
ных, оно проникает в пещеру прошлого и из тысяч составляющих
его темных застывших мгновений извлекает весь их свет: все, чего
не было никогда, теперь есть, теперь оно явлено, оно настоящее,
более чем настоящее; что никогда не соединялось, теперь совпало
и совокупилось, слились воедино пламя, сияние и жизнь. Ланд-
шафты души чудеснее ландшафтов звездного неба: не только их
млечные пути включают тысячи звезд, но и провалы теней, их сум-
раки включают тысячекратную жизнь, жизнь, утратившую свой
свет из-за тесноты, задохнувшуюся от полноты. И эти бездны, где
жизнь поглощает самое себя, может осветить одно мгновение, оно
может высветлить, выявить в них млечные пути. В такие мгнове-
ния рождаются совершенные стихи, а возможность совершенного
Статьи. Речи. Эссе
543
стихотворения безгранична, как возможность подобных мгнове-
ний. Но как их все-таки мало, Клеменс, как мало! А то, что они
вообще возникают, разве это не чудо? Что бывают сочетания слов,
из которых, словно искра из темного камня, высекаются ланд-
шафты души, неизмеримые, как звездное небо? Ландшафты эти
простираются в пространстве и во времени, и, чтобы запечатлеть
их, в нас оживает чувство превыше всех чувств. И все-таки такие
стихи возникают...
Lt03
Перевод В. Куприянова
КОРОЛИ И ВЕЛЬМОЖИ
У ШЕКСПИРА
Речь на юбилейном собрании
Шекспировского общества в Веймаре
Кажется, я знаю, что побудило вас пригласить меня сюда высту-
пить перед вами. Конечно же, руководило вами не желание услы-
шать что-нибудь новое; вряд ли вы ждете, что к грудам знаний,
имеющих касательство к Шекспиру, которые переполняют ваши
кладовые и от которых едва не тонут ваши корабли, я смогу доба-
вить хотя бы еще пригоршню своих в качестве существенного при-
бытка; не стоит надеяться, что какая-нибудь из загадок, коль скоро
еще есть загадки, над которыми вы бьетесь, может быть разре-
шена мною или что какая-нибудь из истин, унаследованных вами от
предыдущих поколений, истин, которые поколениям последу-
ющим вы призваны передать в более прозрачной, более глубокой
форме, будет мной подкреплена. Но, может статься, вам бывает не
по себе или даже страшновато при виде ваших горою громоздя-
щихся богатств, и мощный поток шекспировской традиции, в шуме
которого мешаются голоса Гердера и Сары Сиддонс, порой оглу-
шает вас. И вот тогда некий голос (воспоминания? интуиция?)
подсказывает вам, что для настоящего чуда, кроме чистой страсти
понимания, необходима еще какая-то амбивалентная стихия,
544
Гуго фон Гофмансталь
какой-то гибридный орган: вы покидаете тихий кабинет ученого и
вступаете в лес жизни; подобно чародею, ищущему корень мандра-
горы, вы ищете кого-нибудь живого, находите меня — и вот я
перед вами. У вас в обычае разлагать всякое чудо на элементы,
именно в этих токах разделенного света и обитает ваша мысль;
поэтому вас порой тянет призвать сюда кого-нибудь извне, кого-
нибудь из живых, в сердце которого, подобно властному року, сту-
чится целокупный нераздельный Шекспир — нерасчлененный
свет, озаряющий для него пропасти и вершины бытия. В вашей
памяти, хранящей почти безграничную традицию, оживает старая
мудрость — временами она тускнела, но до конца никогда не забы-
валась: только тот достоин считаться настоящим читателем Шекс-
пира и только в том жив настоящий Шекспир, кто носит сцену в
сердце своем.
«Дар внутренней игры... совершенно особая способность
воспроизводить действие, как оно описано на бумаге, в себе самом
в качестве неотторжимо личного переживания» (я пользуюсь здесь
словами одного из вас) — вот ради чего, поверьте мне, вы пригла-
сили меня сюда. Ради того, о чем и далее свидетельствует Карл
Вердер: «Вещи Шекспира — это представления, а не просто пове-
ствования. Кто воспринимает его только как рассказчика, не
поймет его. Кто, читая Шекспира, лишь слушает его, тот читает
его лишь наполовину и потому не может расслышать. Шекспира
нужно играть, ибо тогда зрению и слуху является то, чего он не
говорит и не должен говорить, покуда остается тем неподдельным
и великим, каким мы его знаем. Вздумай он сказать все словами,
дабы его смогли понять без посредства сцены, он перестал бы быть
Шекспиром».
Если задуматься над этой мыслью, вспомнить, что и она —
часть традиции, хранимой вами, как и все сугубо истинное и разум-
ное, когда-либо профессионально написанное по этому поводу,
если вспомнить к тому же место из Отто Людвига, первая строка
которого гласит: «Пьесы Шекспира исторгнуты из самого сердца
сценического искусства» — ив котором далее речь идет о сокро-
веннейших тайнах поэзии, то станет совершенно ясно, что могло
Статьи. Речи. Эссе
545
побудить вас пригласить меня сюда: вы предполагали во мне дар
читать Шекспира сквозь призму фантазии. Именно читатель Шекс-
пира был нужен вам, причем такой, в котором вы имели бы основа-
ния искать той самой «совершенно особой способности»; и мне
сдается, что если я не хочу злоупотребить вашей снисходительно-
стью, я не должен говорить ни о чем, кроме как об упоительной
страсти, о благоприобретенном, а может, и врожденном искусстве,
вроде искусства игры на флейте или танца, о разрушительной
немой внутренней оргии — о чтении Шекспира.
Я говорю не о тех, кто читает Шекспира, как Библию, или
какую-нибудь иную истинную или великую книгу. Не о тех, чьи
увядшие, утомленные жизнью лица глядятся в это глубокое зерка-
ло, дабы убедиться, что «так было от века, так было всегда», дабы
«стряхнуть с груди усталой злое бремя». Не о тех, чье сердце уяз-
вляют «гнет сильного, надменность гордеца», «судей медлитель-
ность, заносчивость властей», все прочие до жути реальные несча-
стья мира из Гамлетова монолога. Я говорю не о тех, чья возму-
щенная душа в книгах великих мудрецов ищет спасения от мерзо-
стей вывихнутого мира. Хотя мне и кажется, что именно они вечно
питают кровь и плоть шекспировских творений. Зато те, о ком я
хочу сказать, питают цветущую оболочку, благодаря им она неиз-
менно сохраняет свой прежний негаснущий блеск вечной юности.
Их страсть за каждой отдельной вещью Шекспира прозревает
целое. Первых прибило к Шекспиру волнами житейского опыта,
их души, изломанные бедами и жестокостями бытия, подобно
музыкальному инструменту, являют собой чудный резонатор, в
котором находит отзвук и падение величия, и унижение добра, и
саморазрушение благородства, и страшный удел незакаленного
духа, брошенного на произвол судьбы. Зато те, о ком я намерен
говорить, откликаются не только на это, а еще и на тысячи куда
более тонких, более скрытых, более чувственных и символических
вещей: из их переплетающегося многообразия складывается таин-
ственное единство, ревностными слугами которого они являются.
Для них зримы не только великие жребии, крутые повороты
судьбы или гигантские катаклизмы: вот дочери Лира во время
546
Гуго фон Гофмансталь
страшной непогоды удаляются в замок, оставив старика без крова,
тяжелая дверь с грохотом захлопывается за ними, седые волосы
короля треплет буря, мочит ливень, в его сердце — мрак ночи и
бешенство бессильного гнева; вот сумерки во дворе замка, и Мак-
бет с женой, вперив друг в друга взоры, обмениваются отрыви-
стыми словами; вот Отел л о снова и снова из одной и той же двери
выходит во двор, через другую дверь — на крепостную стену, а за
его спиной все время Яго, все время в шаге от него, и речь одного
струится из уст, как жгучий яд, как всепожирающий неугасимый
ядовитый жар, проникающий до мозга костей, другой же весь
обратился в слух, силится возразить, тяжелый язык корчится во
рту, как жертва перед закланием, налитые кровью глаза вороча-
ются в глазницах беспомощно, как у обреченного на смерть быка,
когти преследователя вонзились в его внутренности, и он как
собаку волочит его за собой по залам и лестницам, через дворы и
двери, и им не расстаться до исхода смертельной схватки... для тех,
о ком я вам говорю, все это, пусть и не сравнимое ни с каким иным
созданием человеческого духа, не служит единственным предме-
том неустанного восхищения, не только ради этого они жаждут
окунуться в мир Шекспира, мир, сотворенный гением одного чело-
века. Их ждут здесь и бесчисленные другие встречи, при которых
душа не сжимается в комок и не шепчет в ужасе себе самой: Guarda
et passa! В стихах Шекспира не только бурлит Мальстрем, бушует
сумрачное море, грохочет горный обвал или человеческое лицо
каменеет под маской смерти. Не все в них дышит жутью одиноче-
ства, которое окутывает необычайные судьбы, как ледяные вер-
шины гор. Бывает, что в какой-нибудь из пьес человеческие судь-
бы, мрачные ли, искрящиеся ли бликами света, даже муки униже-
ния или горечь смертного часа сплавляются в такое единство, что
как раз их со-бытйе, их переход друг в друга, их растворение друг
в друге рождает нечто вроде глубоко волнующей торжественно
траурной мелодии, так в «Генрихе VIII» падение Уолси, его спо-
койствие, готовность ко всему, чистый тон его благородной груст-
ной речи, и умирание королевы Екатерины, это постепенное угаса-
ние кроткого страждущего голоса и праздничная музыка, кружа-
Статьи. Речи. Эссе
547
щаяся вокруг короля и его новой супруги, являют собой такое
неразделимое мелодическое целое, которое по ведению главной
темы, по патетике частей невероятно напоминает сонату Бетхове-
на. В романтических пьесах, в «Буре», в «Цимбелине», в «Мере за
меру», «Как вам это понравится», «Зимней сказке», целое насквозь
пронизано этой музыкой или, скорее, все выливается в нее, все
тянется к ней; все, что соседствует друг с другом, чье дыхание
мешается в любви или ненависти, что мимоходом касается друг
друга, что восторгается либо ужасается друг другу, все приятное и
все смешное, все, что есть и чего там нет (поскольку во всякой
поэзии соучаствует и то, что не названо по имени, но бросает на
действие только свою тень), лишь все это вместе создает неска-
занно прелестную музыку целого — и именно о тех, кто различает
ее, я и хочу говорить с вами. Ибо только они читают Шекспира
всей душою, всем существом, всеми своими силами, и о них, в ком
живет эта страсть, давайте поговорим как о типе — как Мильтон в
своих стихах говорит о весельчаке и печальнике или Лабрюйер —
о рассеянном и честолюбце. Мне кажется, что эти пьесы: «Цимбе-
лин», «Буря» и прочие — обладают силою воздвигать в фантазии
творческого читателя некую внутреннюю сцену, где они могут
жить как целое и где звучит их музыка, точно так же как образы
Лира и Шейлока, Макбета и Джульетты каждый раз овладевают
существом актера, чтобы жить и умереть в нем; и в самом деле,
читатель Шекспира и актер, играющий Шекспира, очень близки
друг другу. Между ними лишь та разница, что последний, будто в
новую плоть, облекается в один из образов, тогда как в первом они
обитают все одновременно. Актеру кивает, манит его одна тень:
«Сюда, сюда, я выпью кровь твою», — читатель же окружен
целою толпою. Так же как с таинственным пробуждением «особой
способности» в один прекрасный день, непохожий на все прочие
дни, когда и небо другое, и по-другому дует ветер, является образ
и, лишая актера воли, заставляет играть себя, и актер чувствует,
что должен, должен хоть раз в жизни сыграть эту роль, так явля-
ется и пьеса: «Сегодня мой день, ты читаешь меня, и я живу в
тебе». Я не думаю, что «носящий сцену в сердце своем» способен
548
Гуго фон Гофмансталь
читать «Ромео и Джульетту» в день, когда ему предопределено
читать «Бурю». Быть может, он и брался за «Ромео и Джульетту»,
может быть, даже и листал ее, но книга не тронула его. В ней не
было соблазна. Ряды стихов оставались немы, нигде его взгляд не
встречал живого ответного взгляда, нигде не раскрывалась перед
ним чашечка цветка, в которую можно глядеться, глядеться без
конца. Ремарки в начале актов и сцен, по которым скользили его
глаза, сегодня не были ни потайной калиткой в стене, за которой
прячется загадка, ни внезапно открывающимися взору просветами,
ведущими в недра сумеречного леса. Он отложил книгу в сторону и
уже хотел было отправиться на прогулку без Шекспира. И тут в
глаза ему бросилось это слово: «The Tempest», и его озарило: «Се-
годня я властен дарить жизнь. Сегодня я властен вдохнуть жизнь в
эти создания: Просперо и Миранду, Ариэля и Калибана — скорее,
чем вода оживляет блекнущий цветок. Сегодня или никогда я —
тот остров, на котором все они жили. Сегодня или никогда я —
пещера, у входа в которую греется на солнышке Калибан, я — дре-
мучий лес, где подобно волшебной птице меж недостижимых вер-
шин витает Ариэль, я — воздух острова, вечерний южный ветерок
из золота и лазури, в котором красота Миранды купается, как мор-
ское чудо в волнах своей стихии. Сегодня или никогда я есмь все
они, во мне благородство Просперо и юность Фердинанда, забот-
ливая привязанность духа-слуги Ариэля и ненависть Калибана, я —
и коварный Антонио, и честный Гонсало, и пьяный пройдоха Сте-
фано. Да и почему мне не быть всеми ими? Во мне так много лиц,
такое множество сопряжений». —Действительно, в каждом из нас
обитает существ больше, чем мы склонны признавать. В каком-то
глухом закоулке нашей души залегли тени сумерек — предмет
мальчишеских страхов — образуя пещеру, жилище Калибана. В
нас так много пространства, и многим, что бродит в нас, мы вла-
деем не более, чем судовладелец своими разбежавшимися по морям
кораблями.
И вот он выходит из дому, унося в кармане «Бурю». Луг
слишком близок от дороги, в лесу уже слишком темно. Долго он
бродит в нерешительности, прежде чем усесться на ствол случай-
Статьи. Речи. Эссе
549
ного дерева. И тут, среди реющих паутинок и замшелых ветвей
разворачивает он свой магический театр. Последним напряжением
внутренних сил он гасит себя, упраздняет себя, делается совер-
шенно пуст, теперь он — лишь место действия, остров, сцена.
Тогда из пещеры появляется Просперо, на его благородном лице
лежит тень усталости, и привыкшие касаться цветов руки
Миранды касаются пряжки, чтобы сбросить с его плечей темный
плащ чародея. С этого момента он, читатель, — всего лишь
инструмент, и играет на нем сама книга.
Вы, верно, скажете, что моему читателю имя — Чарльз Лэм
или Теофиль Готье, что он — поэт, в котором получает вторую
жизнь чужая поэзия. Пусть так. Главное — в музыке Шекспира и в
том, что всегда должен быть кто-нибудь, кому дано слышать всю
музыку его поэзии, всю целиком. Вот «Мера за меру», вещь жесто-
кая, местами мрачная, с характерным бьющим в глаза смешением
высокого и низкого. Речь ее тяжеловеснее, чем в остальных пье-
сах, ее действие долго не захватывает нас. Вещь, которая начинает
жить только тогда, когда зазвучит разом вся ее музыка. Она напо-
минает лица иных редких женщин, чья красота ведома лишь тем,
кто был счастлив с ними. Как страшен сам сюжет, история веро-
ломного судьи, вероломного по отношению к своему долгу, к
несчастному осужденному, к его доброй сестре, как жестоко, как
мрачно все это, как отталкивающе, как сжимается, дрожит, возму-
щается сердце. Как жестока и мрачна, как скорбна судьба Клав-
дио, его страх смерти, цеплянье за соломинку, в которой ему
мнится спасение. И все это из-за нелепого закона, из-за дела, в
котором нет ничего, кроме бессмысленного случая, «пустышки в
лотерее». Его несчастие раздражает нас, а ведь за ним следует еще
одно. Но из всего — какое чудное целое! Какие вспышки света в
этой ночи, сколько жизни в тенях благодаря этому свету. Из уст
обреченного на смерть, страшащегося смерти, какие звуки,
сколько красноречия, какие слова, мудрей его самого, глубже его
мелкой добродетели; как давило, смерть выжимает из него все луч-
шее. А в речах девушки, беспомощной, обманутой, сколько силы,
и в ее руках вдруг меч Господень! А остальные: насколько своим
550
Гуго фон Гофмансталь
бытием они обязаны друг другу, как одно их присутствие в пьесе
меняет самый воздух ее — присутствие старого убийцы Бернарди-
на, приговоренного к смерти вот уж семь лет назад, рядом с маль-
чиком Клавдио, который в этой роли только двадцать четыре часа.
Присутствие братьев Фомы и Петра и их тихого монастыря, в кото-
ром столько покоя, столько укромности, рядом с этой тюрьмой,
рядом с дворцом, в котором злодей Анджел о хозяйничает, как ядо-
витый паук в своем углу. И вдруг мы уже за городом, где «у рва,
окружающего крестьянский двор», сидит Мариана, и мальчише-
ский голос выводит сладкую мелодию: «Оставь, о оставь поцелуи».
А между тем и этим, подобно все связующему хору, переодетый
герцог, который здесь видит жизнь, ранее виденную им лишь изда-
ли, лишь из высокого окна, и его присутствие дает покой нашему
сердцу, как среди кошмара теплится глубоко запрятанное знание,
что все это — только сон, а с губ его слетают слова, ни с чем не
сравнимые слова о жизни и смерти. Но чтобы жизнь была всюду,
чтобы свет, куда бы он ни падал, всюду освещал живую плоть,
чтобы тень везде подчеркивала живое, меж этих фигур еще целая
компания простолюдинов, хоть и из них никто не лишен совер-
шенно какой-нибудь своей добродетели, своей изюминки, или даже
своего рода изящества и изысканности, не лишен дара сострадания,
дара острого либо доброго слова. И всех их обнимает воздух жиз-
ни, некая атмосфера со-бытия-здесь-в мире, незаметная и в то же
время неизмеримо глубокая нежность друг к другу, взаимные
взгляды, исполненные сострадания или насмешки. И из всего это-
го — какое целое, не по расчету, не для рассудка и даже не для чув-
ства, целое не с точки зрения только красок или морали или чере-
дования легкого и тяжелого, грустного и веселого, но целое «пред
Богом», музыка!
«Двенадцатая ночь» в исполнении труппы Бирбома Три
заканчивается тем (и говорят, что это не гениальная находка
какого-нибудь режиссера, а старая английская сценическая тради-
ция), что каждый кавалер подает руку своей даме и так, парами,
герцог с Виолой, Себастиан с Оливией, а вслед за ними свита, тан-
цуя, покидают сцену, — рука об руку все те, кто дразнили и мучали
Статьи. Речи. Эссе
551
друг друга, искали друг друга, обманывали, дарили счастье, были
всего-навсего персонажами какого-то танца с безуспешными поис-
ками, с погоней за ложным и бегством от истинного, танца, кото-
рый сейчас завершается последней фигурой, так что на мгновение
сцену осеняет некая тень, тень воспоминания о пляске смерти, рав-
няющей всех так же, как и здесь все равны и все вместе, взявшись
за руки, образуют двойную цепочку — фигуру, в которой отдель-
ная судьба имеет значение не больше, чем пестрое пятно в орна-
менте, чем отдельная тема в большой музыке. И пусть это почерп-
нуто из старой традиции, все же когда-то какой-то гениальный
режиссер нашел впервые этот чудный символ: в последний момент
связать единым ритмом человеческие тела, что на протяжении
пяти актов служили выражению переживаний каждого в отдельно-
сти, дабы выразить целокупность этого целого. Вы скажете, что и
тот режиссер был поэтом. Но таковым он является всегда: каждый
творческий режиссер — поэт, и время от времени судьба неизменно
изымает из числа «носящих сцену в сердце своем» и в расточитель-
ном одиночестве для одних себя разыгрывающих Шекспира кого-
нибудь, чтобы дать ему настоящую сцену. Тогда среди сотен сцен,
на которых играется якобы Шекспир — я разумею, на которых он
играется, потому что так заведено, потому что он является частью
репертуара или потому что в нем есть хорошие роли — распахи-
вается одна, на которой Шекспира играют по страсти. И как Мак-
бет или Шейлок, Отелло или Джульетта завладевают существом
гениального актера, так музыка пьесы в целом завладевает душою
творческого режиссера, подмостками новой сцены и оживает
вновь. Ибо только живое может дать жизнь новому, и пламя
питается только тем, что способно гореть.
Объявив вам, что собираюсь говорить о королях и вельмо-
жах у Шекспира, я тем самым признался, что намерен говорить не
о чем ином, как обо всем Шекспире. Это все равно, как если бы я
заявил, что желаю говорить о торжественных и высоких звуках в
симфониях Бетховена или о свете и цвете у Рубенса. Стоит мне
произнести слова «короли и вельможи», как в вашем воображении
разверзается такая бездна лиц и жестов, с которой сравниться
552
Гуго фон Гофмансталь
может разве что вид, открывшийся с городских стен троянским
старцам, когда перед их взором рассеялись тучи пыли и солнце
заиграло на доспехах и лицах бесчисленных героев, отпрысков
богов. В вас всплывает столько образов, картин, чувств, что вы
едва можете охватить их. Вам на память приходят сразу и Лир,
король, король каждой клеточкой своей, и Гамлет, принц до мозга
костей, и, конечно же, Ричард И. Этот старший брат Гамлета
столько твердит о своей королевской крови, но мантия на его пле-
чах терзает его, как одежды, омоченные кровью Несса, и лишь
будучи сорваны, они наконец убивают. И на миг перед вами возни-
кает лик Генриха VI, бледный, как у отрубленной головы, водру-
женной на стене замка, или кроткое лицо Дункана. Словно
вспышка молнии освещает повелительное, более, нежели королев-
ское мановение руки Антония, и тихим дуновением с далекого
острова дает о себе знать достоинство короля-чародея Просперо и
сказочных идиллических королей в длинных красных мантиях и с
жезлами в руках: Леонта Сицилийского, Поликсена Аркадского,
Цимбелина и Тезея. Но поток становится все полноводнее, и вы до
головокружения вглядываетесь в мелькание благородных жестов.
Жестов повелительных и презрительных, жестов высокомерного
своенравия и великодушия, вспыхивающих и гаснущих, словно
тысячи перекрещивающихся молний. Эти слова «короли и вельмо-
жи» имеют власть исторгать все новые и новые потоки из родников
памяти. Чтобы не захлебнуться в этом море образов и видений, вы
ищете слово, которое обняло бы весь этот мир духов, скрепив его
одним понятием. Вы чувствуете, что «короли и вельможи» —
заклинание, вызывающее к жизни не только три четверти всех соз-
данных Шекспиром образов, но и то, что происходит между этими
образами, а также между ними и соседними образами-плебеями;
что слова эти имеют касательство не только к самим образам, но и
к тому пространству, что заполняет пустоты вокруг них, к тому,
чем наполнено само это пространство и что итальянцы называют
«l'ambiente» — «окружающее». Вы замечаете, что в мире Шекс-
пира в самом деле существует нечто, связующее самые различные
места, в самом деле нечто общее между сценой, когда Кент, неуз-
Статьи. Речи. Эссе
553
нанный, предлагает свои услуги Лиру, «ибо в этом лице есть что-
то, чему хочется служить», и лесной идиллией о сыновьях короля
Цимбелина, растущих в пещере, свободных, как прекрасные моло-
дые звери, и все же королевской крови; между хмурыми, противос-
тоящими друг другу английскими баронами в драмах-хрониках и
ласковым приказом, с которым благородный Брут обращается к
своему пажу Люцию; между сановным военачальником Отелло,
пожалуй, даже Клеопатрой, царицей, и Фальстафом, который,
after all, остается дворянином. Так же как и я, вы чувствуете это
невесомое, неуловимое, это ничто и одновременно все и, опередив
меня, вы произносите слово, которым мне хотелось бы воспользо-
ваться: атмосфера Шекспира. Слово это размыто до предела, и все
же оно относится, кажется, к словам того сорта, которым мы обя-
заны дать определенное и весьма плодотворное употребление.
Ни в какое другое время года я, вероятно, не осмелился бы
завести перед вами речь о предмете, столь неотчетливом, пытаясь
объяснить с его помощью столь многое, объяснить все. Но теперь
весна:
Now with drops of this most balmy tims
My love looks fresh...
и смелее, чем обычно мы глядим свежим глазом на все прекрасное,
в том числе и на нашу тему, и говорим не о том, о чем говорится
постоянно: не о характерах, не о действии или его идее, а наблю-
даем за той зыбкой, едва уловимой истиной, которая, однако, как
никакая другая, соотносится с Шекспиром в целом.
Уже в самом нынешнем моменте заключена атмосфера. Я
разумею момент в жизни природы, момент, когда весна еще не
пробудилась совершенно, еще не роскошествует, еще полна томле-
ния, — день, в который мы здесь собрались, день смерти челове-
ческого существа, ставшего для нас почти уже мифом, так что мы
едва можем представить, что некогда оно было осязаемо для
смертных человеков. Я не сказал бы, что для меня ощущать атмос-
феру весны и атмосферу той или иной пьесы Шекспира или кар-
тины Рембрандта суть вещи принципиально различные. И там, и
554
Гуго фон Гофмансталь
здесь я внимаю огромному ансамблю (с вашего позволения я лучше
воспользуюсь этим холодным, заимствованным из области живо-
писи термином, чем каким бы то ни было иным. Их много, я мог
бы говорить о музыке целого, о гармонии, об одухотворенности,
но все эти слова кажутся мне стертыми, увядшими, захватанными
человеческими руками). Это — ансамбль, в котором исчезает раз-
ница между великим и малым, коль скоро одно существует в нем
ради другого, великое ради малого, мрак ради света, одно тянется
к другому, одно оттеняет другое или приглушает его, окрашивает
и обесцвечивает, так что в конечном счете душа воспринимает
только целое, нераздельное, неуловимое, невесомое. Разъять на
части атмосферу весны — вечная страсть лирических поэтов. Но
существен-то в ней именно ансамбль. Кругом какое-то движение,
что-то бродит, дали перешептываются, тепловатый ветерок,
скользящий по нагой земле, несет душные запахи, от которых тес-
нит грудь. Свет, как и воды, вырвался на свободу; но плотнее всего
полнотою весны насыщены те мгновения, когда день вдруг мрачне-
ет, тяжкие темные тучи нависают над как бы изнутри светящими-
ся, коричневыми холмами обнаженной земли, а с голых ветвей
рвется в сумрак оргия безумствующих птичьих трелей. В непости-
жимой фантасмагории все смешалось. Нагота природы, всегда
будившая чувство заброшенности и тоски, теперь полна страстной
неги, темнота не давит на душу, а заставляет ее ликовать. Близкое
чарует таинственностью не меньше дали. И песня крохотной оди-
нокой серой птахи на голой ветке со-творит душу целого не мень-
ше, чем глухой темный лес, напояющий ветры запахом влажной
земли и лопающихся почек.
Можно было бы, конечно, пояснять понятие атмосферы все
новыми и новыми образами, но я уверен, что вы поняли меня тот-
час и полностью, и опасаюсь утомить вас. Смерть человека окру-
жена своею атмосферой так же, как и весна. Лица тех, чьи руки
поддерживают умирающего, красноречивее любых слов. Столь же
красноречивы рядом с ними и неодушевленные предметы. Стул,
стоящий совсем не там, где он привык находиться, шкаф, застыв-
ший с распахнутыми дверцами — прежде его никогда не забывали
Статьи. Речи. Эссе
555
закрывать, и тысячи других вещей, которые вдруг делаются
заметны в такой момент, словно следы хозяйничанья невидимых
духов: перед нами целый мир, хоть он и кончается по сю сторону
оконных стекол. Но и снаружи все несет роковую печать глубин-
ной сопричастности. Фонари, горящие как обычно, спешащие
мимо ни о чем не подозревающие прохожие, они появляются из-за
угла, минуют вашу дверь, сворачивают за другой угол: все сцепля-
ется друг с другом и скользит мимо наподобие отвратительной
железной цепи. В такие моменты вновь являются давно забытые
люди. Они возникают неожиданно, когда-то непонятые, озлобив-
шиеся или ставшие вовсе чужими, в их словах и взглядах проры-
вается то, чему никогда не давалось воли раньше. Внезапные недо-
умения: как случилось, что мы разошлись? как вообще все это
вышло? Внезапные прозрения: как все ничтожно! как все мы до
неразличимости похожи друг на друга! И здесь атмосфера, и здесь
присутствует нечто, связующее близкое и далекое, великое и
малое, одно бросает свет на другое, подчеркивает его или приглу-
шает, окрашивает или обесцвечивает, стираются границы между
тем, что представляется важным, и кажущимися мелочами, между
банальным и необычайным, и создается ансамбль из совокупного
без каких бы то ни было исключений наличного материала.
Атмосферу Шекспира составляет благородство. (Король
только самый вельможный из всех вельмож, а из них каждый в
чем-то король.) Все это в духе XVI в., то есть бесконечно свобод-
нее, бесконечно человечнее и красочнее, нежели то, что мы имеем
обыкновение связывать с этими понятиями. И потом — целое,
рождающееся из души Шекспира, не только персонажи и их страс-
ти, но именно прежде всего атмосфера, воздух жизни се grand air
(да простится мне мой каламбур), который обтекает все. Только
так возможно говорить об этой атмосфере как о чем-то данном:
все эти образы (а та четверть из них, более грубая, которая сюда не
относится, существует лишь для контраста) растворены в ощуще-
нии собственного благородства, как фигуры на картинах Тициана
или Джорджоне растворены в светящемся золотистом фоне. В нем
движутся такие группы, как Ромео, Меркуцио, Бенволио, Тибальд,
556
Гуго фон Гофмансталь
как благородный купец Антонио со своими товарищами; этот
флюид обтекает изгнанника-герцога в Арденнах и всех, кто с ним,
и — еще как! — Брута со всеми домочадцами. Этот свет, этот воз-
дух вокруг них столь насыщен, столь явен, что никогда не оста-
вался незамеченным. Благородство сознания, нет, глубже: благо-
родство самого бытия за порогом сознания, благородство самого
дыхания их; неизменным спутником его является удивительно чут-
кое и глубокое восприятие своего ближнего, какое-то взаимное
почти безличное, относящееся к человеческому вообще располо-
жение, благоговение, чуткость: думаю, что моим словам, как бы
смутны они ни были, удалось пробудить в вашей памяти то, что
объединяет всех этих столь разных молодых людей: меланхоличес-
кого Жака и беззаботного Бассанио, глубокого, пылкого Ромео и
несколько чопорного, умного Меркуцио. Стихия, в которой взра-
щены эти существа, чудесным образом причастна и надменной дер-
зости, и утонченной вежливости. Юное сердце исполнено гордости
и при том смущается одной мыслью, что нанесло обиду, оно стре-
мится соединиться с другим, раскрыться ему и вместе с тем
остается замкнутым в себе. Это равновесие — прекраснее всего,
что я знаю. Подобно чудным на диво слаженным легким кораблям,
они покачиваются на волнах жизни над собственной тенью. Есть в
них что-то бьющее через край, экспансивное, из них исходят какие-
то токи, наполняющие воздух, какой-то роскошный преизбыток
жизни, некое восторженное приятие жизни как таковой, нечто род-
ственное Пиндаровым пифийским и немейским одам, пышным сла-
вословиям в честь победителей. И, наконец, братом им приходится
не только принц Генрих, но в известной мере и Фальстаф. Но оста-
вим их, хоть и нелегко с ними расставаться. (Как непохожи на их
небрежную велеречивость речи почти во всех остальных драмах,
как они сухи, как цепляются за цель свою, вроде речи попа или
адвоката, или одержимого, или маньяка.) Они — юноши, тогда как
Брут — муж. У тех нет никакой иной судьбы помимо любви;
кажется, они в самом деле включены в эти картины лишь для про-
славления жизни, как пылающий багрянец или щегольское золото;
у Брута же есть внутренняя, полная величия судьба. Но в основе
Статьи. Речи. Эссе
557
своей он тот же, что и они, только зрелости в нем больше. Я имею
в виду не тот поворот, какой душа его дает вещам, а его позицию
внутри бытия, то мягкое благородство, великодушное, испол-
ненное чуткой доброты, тот благозвучный тон, исторгнуть кото-
рый способна лишь душа, таящая в себе глубочайшее самоуваже-
ние. Если не брать в расчет вершащейся в нем судьбы, которая «по
мрачному навету, что нашептал услужливый гений», влечет его к
великому делу его жизни, за которым все прочее, и сама смерть,
следует потоком, как вода через открывшийся шлюз; если не брать
в расчет его внутреннего рока, то вся трагедия, героем которой
является Брут, окажется наполненной почти исключительно одним
только светом, исходящим от этого благородного существа, в
лучах которого высвечиваются все прочие характеры по мере их
приближения к Бруту. Происходящее между ним и Кассием есть не
что иное, как реакция Кассия, в котором меньше благородства и
который знает об этом (две вещи, неразрывно связанные: «Знать,
что относишься к сословию избранных» — в этом все), на атмос-
феру вокруг Брута. В глубине души, молча, он все время только
тщетно домогается Брута, и домогательство это, со всеми муками
ревности, Кассий скрывает от самого себя, возможно, его скры-
вает от себя и Брут, когда замечает его, во всяком случае, он не
желает знать этого, думать об этом. А со стороны Брута к Кассию
— бесконечная бережность, щадящая простота в обхождении — за
исключением единственного срыва, но и в нем Брут неволен, сдают
нервы (за час до того он получил известие о смерти Порции и не
говорит об этом). А затем, при прощании, снова: «Noble, noble
Cass^ius». И это говорит он, воистину дважды благородный, менее
благородному, и что-то заставляет его повторить это дважды!
Таков Брут по отношению к Кассию. А Порция! Она участвует
лишь в одной, но незабываемой сцене. Она вся погружена в атмос-
феру Брута. Ее благородный образ соткан целиком из излучаемого
им света. Или этот свет исходит откуда-то еще, и оба они, и Брут,
и Порция, встают из этого света и неотъемлемой от него тени.
Кто, глядя на картину Рембрандта, рискнет сказать, образы ли в
ней вписаны в атмосферу или атмосфера происходит из образов?
558
Гуго фон Гофмансталь
Но есть места, которые с очевидностью существуют только для
того, чтобы вобрать весь тот свет, что составляет душу атмосфе-
ры. Я имею в виду сцены с участием пажа Люция и прочих слуг.
Тон Брута по отношению к Люцию тот же, что и в сценах Про-
сперо с Ариэлем. Извинения Брута за то, что он прерывает сон
Люция, который столь необходим его возрасту; слова: «Взгляни,
вот книга, которую я велел тебе сыскать. Она была в моем плаще.
Ты должен быть снисходителен ко мне». Вот Люций, только что
игравший на лютне, засыпает, и Брут, подойдя, вынимает из его
рук лютню, «чтобы он не разбил ее». Не знаю что, если не подоб-
ная деталь, способно вызвать слезь! у читателя. И этот человек
был убийцею Цезаря. Полководец в своей палатке, последний рим-
лянин, которому завтра суждено погибнуть при. Филиппах, сейчас,
склонившись над спящим, занят спасением лютни. В момент, когда
он совершает это ничтожное действие, приличное скорее какому-
нибудь буржуа, женщине, домашней хозяйке, заботливой матери, в
момент, когда смерть его уже так близка (дух Цезаря уже рядом во
мраке), я вижу его лицо: такого лица у него никогда раньше не
было, это какое-то другое, как бы исподволь возникшее лицо, в
котором мужские и женские черты мешаются, как в посмертных
масках Наполеона или Бетховена. Вот что достойно слез, а не про-
клятия Лира и не леденящий душу взгляд Макбета, будто в много-
пудовый панцирь закованного в свои железные муки. Подобные
неброские штрихи поддерживают в читателе неослабевающее,
доходящее до преклонения восхищение Шекспиром. Ибо нет, нет в
произведении искусства большого и малого, и в том, как Брут,
убийца Цезаря, поднимает лютню, чтобы она не разбилась, как ни
в чем другом проявляется захватывающий нас вихрь бытия. Это —
молнии, в свете которых сердце обнажается до дна. Вспомним
Оттилию в «Избирательном сродстве», у которой из головы не
идет старинное предание о том, как Карл I Английский, уже низло-
женный и окруженный врагами, потеряв набалдашник своей тро-
сти, оглядывается вокруг и никак не может понять, почему никто
не спешит поднять его, и наконец наклоняется за ним сам, впервые
в жизни; эта сцена так западает ей в душу, что она все время торо-
Статьи. Речи. Эссе
559
пится первой поднять что бы то ни было, оброненное на пол, пусть
даже мужчиной. Вспомним тот крик, который в «Войне и мире»
вдруг испускает во время заячьей травли Наташа, дикий торже-
ствующий крик настигающего зверя, вырвавшийся из горла эле-
гантной барышни. Все это — такие же молнии. Но у Шекспира они
повсюду, ибо они суть разряды его атмосферы.
Я не знаю ничего, что брало бы за сердце больше, чем инто-
нации, с которыми Лир обращается к Эдгару. Со своими дочерьми
он говорит как буйствующий пророк или обезумевший от горя
патриарх. Со своим шутом он говорит строго. Но с Эдгаром, нагим
сумасшедшим, встреченным в пещере, Лир говорит в таком тоне
(разумеется, в нем отчасти повинно его безумие), в основе кото-
рого какая-то бесконечная обходительность души, непередаваемая
куртуазия, так что становится понятным, как некогда, будучи в
милостивом расположении духа, мог осчастливить этот король.
Ореол той же обходительности облекает и мягкого Дункана, когда
он входит со словами, что вокруг замка Макбета, должно быть,
хороший воздух, потому что в нем гнездятся ласточки. Тот же свет
разлит и в сцене Ричарда II с конюхом (незадолго до его смерти);
то же самое, только по-южному более знойное, более великолеп-
ное — в каждой сцене между Антонием и Клеопатрой, между
Антонием и его слугами, между Клеопатрой и ее служанками:
какое благоговение пред самими собой, пред величием собствен-
ного существования, какой «олимпийский воздух», какая повадка,
когда дела целого света должны терпеливо дожидаться в передней,
покуда они покоятся в объятиях друг друга: «И только в этом бла-
городство жизни»; этот же свет, но более пронзительный, как гне-
вные молнии между тугих грозовых туч, озаряет многочисленное
собрание гордых английских пэров, чувство собственного достоин-
ства (то, что один из них называет «our stately presence») облекает
их широкими складками величавее, свирепее, реальнее, чем ман-
тии, подбитые горностаем. Флюид этот вездесущ, и искать и обна-
руживать его то там, то здесь я мог бы без конца. Я мог бы гово-
рить, еще час, если бы захотел передать вам свое ощущение того,
как живут в нем все эти королевы и вельможные дамы от Клеопа-
560
Гуго фон Гофмансталь
тры до Имогены. Флюид этот настолько очевиден для меня во
всем, что я бываю глубоко поражен, когда сталкиваюсь с персона-
жем, подобно Макбету, почти совершенно изъятым из этой атмос-
феры. Мне кажется тогда, что Шекспир придал его облику какую-
то особую грозность, окружил его ледяным веянием смерти, ужас-
ным дыханием Гекаты, убивающим вокруг него все живое, лету-
чее, восприимчивое, все связующее с людьми — то, чем столь
насыщен воздух вокруг Гамлета: в сценах с актерами это некая экс-
пансия всего его существа, по-королевски милостиво дающего себе
волю, даря радость, более того, осчастливливая; в сценах с Поло-
нием, с Розенкранцем и Гильденстерном — это сознательное
использование преимуществ своего высокого положения — с
горечью и иронией являет он свое превосходство, ибо и эта приви-
легия ничего не стоит, и это его качество годится только на то,
чтобы сделать себе из него еще одну муку.
Господа! По моему мнению, как раз вещи, о которых я го-
ворил, скрепляют в единое целое всего Шекспира. В них — тайна,
и слово «атмосфера» объясняет их так же недостаточно, а пожа-
луй, даже поверхностно, как слово «светотень» — тайну рембранд-
товых творений.
Если бы речь шла об одних только персонажах, а обычно
предметом рассмотрения как раз и становятся персонажи сами по
себе, будто висящие в безвоздушном пространстве, то тогда я гово-
рил бы о мировоззрении Шекспира. В этом случае нашей задачей
было бы увидеть или ощутить общее в том, как все эти персонажи
полагаются внутри бытия. Персонажи Данте встроены в гигант-
скую архитектонику, и то место, которое занимает каждый из них,
есть его место согласно мистическому предначертанию. Образы
Шекспира устроены не соответственно расположению светил, а
соответственно самим себе; в себе самих несут они и ад, и чистили-
ще, и небо, и у них есть не только место внутри бытия, но свое
мировоззрение.
Однако мне эти персонажи видятся не каждый сам по себе,
но каждый в отношении ко всем остальным, и между ними я вижу
не безжизненное, а живущее мистической жизнью пространство.
Статьи. Речи. Эссе
561
Мне видятся они не стоящими безо всякой связи друг подле
друга, как фигуры святых на лубочной картинке, а выступающими
из общей для них всех стихии, как люди, ангелы и звери на карти-
нах Рембрандта.
Драма — я имею в виду не только драму Шекспира — явля-
ется отражением безусловного одиночества индивидуума столь же,
сколько отражением со-бытия людей. В драмах Клейста, этих
извержениях клокочущей души, атмосфера, со-бытие персонажей
составляет, быть может, самое прекрасное из всего, что в них есть.
Как эти создания беспрерывно жаждут друг друга, окликают друг
друга, и вместо приличествующего случаю обращения с их губ вне-
запно срывается нагое «ты», с какой любовью они взирают друг на
друга, сжимают друг друга в объятиях, глядятся друг в друга и
вдруг снова цепенеют и расходятся чужими, чтобы снова, пылая,
искать друг друга: все это наполняет пространство живым страс-
тным движением, даруя жизнь невозможному.
Поскольку происходящее между персонажами для моего
взора полно жизни, проистекающей из столь же таинственного
источника, что и сами персонажи, поскольку эта игра взаимных
отсветов, взаимоприглушений и взаимоподкреплений, взаимопри-
нижений и взаимовозвышений мне представляется творением вели-
кого создателя не в меньшей степени, чем сами образы, поскольку,
более того, здесь, как и у Рембрандта, я не в состоянии обнаружить
грани между образами и той частью полотна, где их нет, по всем
этим причинам я и прибегнул к слову «атмосфера», ибо недостаток
времени и необходимость объясниться скорее, с праздничной
поспешностью, помешали мне воспользоваться более глубоким и
более таинственным термином — «миф».
Если бы у меня была возможность с большей обстоятельно-
стью, чем сегодня, остановиться на стихии Рембрандта и одновре-
менно, столь же обстоятельно, на стихии Гомера, то, пусть на
мгновение, три предвечных стихии: атмосфера Шекспира, свето-
тень Рембрандта и миф Гомера — слились бы воедино, и мы, сжи-
мая в руках этот сверкающий ключ, подобно Фаусту, спустились
562
Гуго фон Гофмансталь
бы к этим трем матерям и там, где «пространства нет и время ста-
ло», причастились бы сокровенной сути далеких гениев, а значит,
узрели бы сокровенную суть и нашей эпохи, дабы ее бытию дать
атмосферу, ее образам — свет и тень пространства жизни, ее дыха-
нию — миф. ,лл„
^ 1907
Перевод А. Назаренко
СЕБАСТЬЯН МЕЛЬМОТ
Это имя было маской, под которой Оскар Уайльд скрыл свое иска-
женное тюрьмой и отмеченное печатью приближающейся смерти
лицо, чтобы протянуть еще несколько лет в полной безвестности.
Ему было суждено прожить три жизни: как Оскару Уайльду, как
арестанту С-33 и как Себастьяну Мельмоту. Первое имя — символ
блеска, высокомерия, соблазна. От второго веет ужасом того
клейма, которое общество выжигает каленым железом на голом
плече человека. Третье — имя некоего призрака, полузабытого
персонажа Бальзака. Три имени — три маски: первая — высокий
благородный лоб, сочные губы, влажные, обольстительные и
дерзкие глаза: лицо Бахуса. Вторая — железная маска с отверсти-
ями для глаз, в которых застыло отчаяние. Третья — нищенское
домино, взятое напрокат в костюмерной, дабы скрыть от людских
глаз медленное умирание плоти. Оскар Уайльд блистал, очаровы-
вал, оскорблял, обольщал, предавал, и его предавали, ранил дру-
гих в самое сердце, и его ранили не менее метко. Оскар Уайльд
написал трактат об упадке лжи, написал «Балладу Редингтонской
тюрьмы» и письмо из этой тюрьмы, озаглавленное «De profundis».
Себастьян Мельмот уже ничего не писал; он бродил по парижским
улицам, умер и был предан земле.
Ныне же имя Себастьяна Мельмота, чей нищенский гроб
провожало в последний путь лишь пять человек, известно всему
свету. Ныне все судачат о том, чем он жил, что делал и как стра-
дал. Ныне все знают, что он в каком-то жалком сарае день за днем
раскручивал своими.тонкими, сбитыми в кровь пальцами старые
Статьи. Речи. Эссе
563
корабельные канаты на паклю. Все только и говорят об ужасном
чане с вонючей водой, в которой все заключенные мылись по оче-
реди и Оскар Уайльд — последним, потому что он и на самом деле
был среди них последним человеком. «Оскар Уайльд, — едва
слышно сказал кто-то за его спиной, когда их всех вывели на про-
гулку в тюремный двор, — Оскар Уайльд, я понимаю, что вы стра-
даете, наверное, больше всех нас». И даже эти слова, сказанные в
спину Уайльду кем-то из арестантов, теперь стали известны всем.
Они — часть некой легенды, которая таит в себе чудо, то самое
чудо, которое творит жизнь, если ей вдруг вздумается опоэтизиро-
вать чью-то судьбу.
Но при этом говорят: «Какой поворот судьбы!» Или: «Оскар
Уайльд? Кем он был прежде, и кем он стал потом»... Говорят об
эстете, который переродился и даже стал глубоко верующим хри-
стианином. Люди привыкли связывать с романтиками определен-
ные представления, а привычное очень любят повторять. Не стоит
этого делать. Во-первых, потому, что эти представления, скорее
всего, и изначально были не совсем верны, а во-вторых, потому,
что жизнь меняется, и бессмысленно делать вид, будто ее обсто-
ятельства вращаются по кругу. На самом деле они не возвращают-
ся, а возникают вновь и вновь, бесконечные в своем разнообразии
и своеобразии. Бессмысленно полагать, будто судьба Оскара
Уайльда и его сущность — разные вещи, и что судьба просто на-
бросилась на него, как набрасывается злобный пес на крестьян-
ского мальчика, несущего на голове корзинку с яйцами. Не стоит
без конца повторять затасканные банальности.
Судьба Уайльда и его сущность — одно и то же. Он шел к
своему трагическому концу так же неотвратимо, как Эдип, зрячий
слепец. Блестящий эстет нес в себе трагедию. Светский франт был
отмечен печатью рока. Он воздевал руки и призывал на себя
громы небесные. Говорят: «Он был эстет, а потом на него свали-
лись всякие несчастья, и он запутался в них, как в сетях». Зачем
прикрывать все пустыми словесами? Эстет! Этим еще ровно
ничего не сказано. Уолтер Патер тоже был эстет, то есть человек,
одаренный восприимчивостью к красоте и способностью ее воссоз-
564
Гуго фон Гофмансталь
давать; однако он боялся жизни, отгораживался от нее и держался
тихо и благопристойно. Эстет по своей природе вообще человек в
высшей степени благопристойный. Оскар Уайльд, наоборот, был
несдержан и непристоен, трагически непристоен. Его эстетизм
отдавал какой-то судорожностью. И драгоценные камни, которые
он, по его словам, любил перебирать и пересыпать, были для него
как бы глазами, омертвевшими при виде живой жизни. Он ощущал
жизнь как непрерывно надвигающуюся угрозу. Трагический мрак
всегда окружал его со всех сторон. Он беспрерывно бросал жизни
вызов. Он оскорблял действительность. И чувствовал, что жизнь,
как хищник, притаившийся в чаще, в любую минуту готова вце-
питься ему в горло.
Только и слышишь: «Уайльд сыпал остроумными парадокса-
ми, ему восхищенно внимали герцогини, он небрежно обрывал
лепестки орхидей и клал ноги на подушки, обтянутые старинным
китайским шелком. А потом судьба повернулась и столкнула его в
грязный чан, где до него мылся десяток арестантов». Нельзя же до
такой степени опошлять жизнь и сводить все к неудачному стече-
нию обстоятельств. Блистательные остроты, ироничные фразы,
прикрытые светским лоском, и циничные афоризмы, скрывающие
душевную муку, слетавшие с этих прекрасных, сочных, обольсти-
тельных и дерзких уст, были предназначены отнюдь не для ушей
герцогинь, а для той невидимой, грозной и манящей, как сфинкс,
незнакомки, имя которой — действительность. К ней были прико-
ваны все его помыслы, когда он ее отрицал или говорил о ней,
только чтобы ее высмеять или унизить. И в его пальцах, обрывав-
ших лепестки орхидей, и в ногах, покоившихся на подушках ста-
ринного китайского шелка, жила глубоко спрятанная, фатальная
тяга к тому ужасающе грязному чану, при виде которого он, одна-
ко, содрогнулся от отвращения.
Вот почему Оскар Уайльд в один из моментов своей жизни
потряс всех. Я имею в виду тот момент, когда он, подчиняясь лишь
голосу рока, вопреки мольбам друзей и чуть ли не к ужасну врагов,
вернулся и подал в суд на Квинсбери. Ибо, по-видимому^ именно
тогда маска Бахуса с красиво очерченными пухлыми губами неуз-
Статьи. Речи. Эссе
565
наваемо преобразилась в маску зрячего слепца Эдипа или бесну-
ющегося Аякса. Именно тогда стала отчетливо видна петля траги-
ческой судьбы, захлестнувшаяся вокруг его красивого лба.
Не надо считать жизнь более бесцветной, чем она есть, и
отводить глаза, чтобы не видеть этой петли вокруг чьего-то лба.
Не надо опошлять жизнь, отрывая сущность Уайльда от его
судьбы и отделяя его несчастье от счастья. Нельзя все расклады-
вать по полочкам. Ибо все есть во всем. Трагическое может заклю-
чаться в мелком и нелепое в трагическом. В том, что люди зовут
наслаждением, может скрываться нечто невыразимо жуткое.
Бывает поэзия в нарядах кокоток и мещанство в эмоциях лиричес-
кого поэта. В человеке заключено все. В нем противоборствует
множество ядов. Говорят, что где-то на далеких островах живут
дикари, у которых в обычае вонзать стрелы в тело умерших род-
ственников, чтобы острия этих стрел пропитались трупным ядом.
Эти дикари нашли гениальный способ образного выражения глубо-
кой мысли и открытого поклонения глубинному смыслу природы.
Воистину в нашем живом теле заключены и медленно убивающие
яды и эликсиры нежно тлеющего блаженства. И ничего нельзя ни
отбросить, ни счесть слишком низким и потому не имеющим над
нами власти. Если судить о жизни в целом, то нет ничего, чего бы
в ней не было. Ибо в ней есть все. И все сцеплено в едином круго-
вращенье.
Джалаладдин Руми великолепно выразил эту мысль, ни с чем
не сравнимую по глубине: «Кто знает силу круговращенья, не
боится смерти. Ибо знает, что любовь убивает».
Перевод Е. Михелевич
ШИЛЛЕР
Великое говорит само за себя. Назвать его по имени — все равно,
что упомянуть название величественных гор или огромного, выся-
щегося над морем города тому, кто там побывал; больше ничего и
566
Гуго фон Гофмансталь
не требуется. Король Филипп и Великий Инквизитор. Последний
путь Марии Стюарт, сопровождаемой Лестером. Заговор швейцар-
ских крестьян против Габсбурга, их речи среди горных вершин, над
долинами, над дымом городов. Отчаяние Франца Моора. Прези-
дент в доме музыканта. Последняя ночь Валленштейна. Димитрий
перед сеймом. Величественно. Словно надвигающийся и разлета-
ющийся в пену огромный штормовой вал. И все, что предшествует
этим великим незабываемым минутам, тоже похоже на мощные
штормовые волны.
Бесконечность великих сил, могучий, неудержимый порыв,
подобный морскому прибою.
И этот бушующий шторм во всем, даже в самых ранних сти-
хах, которые обычно вызывают улыбку; даже в них есть нечто,
внушающее уважение: сын бедного офицера, одинокий, унижен-
ный, забытый Богом и обществом, живущий в большей нищете,
чем подмастерье или бредущий за стадом пастух, — а в его груди
теснится вселенная и борются вечные силы... «Acheronta movebo!»
— «Ахеронт всколыхнулся!»
Защитник униженных и конкистадор. Вероятно, немцам, его
современникам, был ближе защитник, а немцам нашего времени —
великий авантюрист и завоеватель. В качестве защитника он
отстаивал свободу перед лицом королей и короля перед лицом сво-
боды. Это звучит как цитата из биографии опасного софиста. Но
он имел право так поступать, ибо был сильной личностью. Как
авантюрист — я употребляю это слово в высоком смысле — он был
величайшим из всех, каких знает история духа, и, бурно вторгаясь
в новые для него философские системы, вел себя в них как завоева-
тель в покоренных странах. Он чувствовал себя в мире Канта, в
мире античных философов, в мире католицизма, как Наполеон в
столицах Европы: он им чужой, но он — их повелитель. Его соб-
ственная родина всегда была где-то в необозримой дали, и вся его
жизнь — стремление к ней. Войдя в мир Шиллера, чувствуешь себя
как на семи ветрах: поле без границ и краев, над которым перекре-
щиваются потоки идей. А Гете берет нас за руку и ведет вглубь
вещей и явлений. Гете и Шиллер соотносятся между собой, как
Статьи. Речи. Эссе
567
садовник и моряк. Но в великие часы своей жизни тихий садовник
простирал руку к звездам и обращался с ними, как с цветами в
своем саду, а у моряка не было за душой ничего, кроме храброго
сердца и хрупкого суденышка, швыряемого ветром.
Говорят, для молодых современников он был учителем и
наставником. Не знаю. Весьма вероятно, что настоящие мужчи-
ны — другого сорта, чем осудившие Сократа — называли его про
себя совратителем молодежи.
Существует старая пословица о том, что philosopher c'est
apprendre a mourir: философствовать — это учиться умирать.
Но ведь Макс Пикколомини, увлекающий за собой на вер-
ную гибель лучший отряд императора потому, что он сам утратил
вкус к жизни, вряд ли является примером того, как следует уми-
рать. Меркуцио подает лучший пример, не говоря уже о Бруте. (От
смерти Меркуцио прямая линия к тому, как умирает Гордон в Хар-
туме.) Но Макс не учит и тому, как следует жить, равно как и Мор-
тимер, Карл Моор и Валленштейн. На эту роль, скорее уж, тянут
Гётц (хотя он тоже бунтарь), скромный Франц Лерсе и Георг-стре-
мянный. И даже, несмотря ни на что — Фридрих, принц Гомбург-
ский. А уж Джульетта Капулетти и наша Геро, а также Маргарита
из «Фауста» и Кетхен из Гейльбронна — безусловно, лучшие
наставницы жизни, чем такие экстатические души, как Текла,
Жанна д'Арк и Берта. И тем не менее: если твое восприятие еще не
созрело и не видит образы, а лишь смутно чувствует воодушевля-
ющий их порыв, или же созрело настолько, что уже видит не сами
образы, а только то, что за ними, то ты ощущаешь некое безуслов-
нее величие, коему юные души покоряются, как паруса покоря-
ются береговому бризу, без всякой цели влекущему их в открытое
море.
Сохранить величие во всем — поднимаясь на эшафот или
решаясь на рискованный и безнравственный поступок — это уже
что-то, это много, бесконечно много.
Осознание величия каждого человека тоже, мне кажется,
учит, как жить и как умирать. Следовательно, у Шиллера учат не
сами образы, а нечто, скрытое в них; мотивы у него всегда важнее,
568
Гуго фон Гофмансталь
чем поступки, отнюдь не всегда зависящие только от самих героев,
тональность важнее, чем аргументация. Их всех роднит печать бла-
городства: свободные крестьяне Шиллера держатся как короли,
Валленштейн — как высокородный полководец, Франц Моор —
как король разбойников, Мария Стюарт у него — королева слез —
и даже простая пастушка ведет себя, как принцесса. Все как один
— королевской крови.
Значит, Шиллер — все же наставник человеческих душ — не
такой, как Гомер, Шекспир, Микеланджело, Рембрандт, создав-
шие целый мир, и не такой, как Гете, вместивший в нас и себя, и
целый мир, но такой, который отдается нам — не в своих образах,
а сквозь эти образы, скрываясь за этими образами: «Жизнь самое
обращая к этой картине жизни». Значит, все-таки учитель и
наставник, причем афинского, а не спартанского склада: великий
ученик Руссо и Еврипида.
1 Великий ученик Руссо и Еврипида не менее велик, чем
каждый из этих двоих. Талант, широко вбиравший идеи других.
Возводя свое здание, он использовал Кантову нравственность,
истовость и пышность католицизма, сдержанность античных авто-
ров, — как норманнские цари морей использовали античные и
арабские руины для строительства своих крепостей. Он проникал
орлиным взглядом сквозь все эпохи, во все страны. Он не испыты-
вал ни малейшего трепета перед этими условными границами, за
которые наши души не рискуют перелетать.
Когда его сразила ранняя смерть, остались неоконченными
наброски к десяти драмам: одна воссоздавала Россию — самую
недоступную нашему пониманию, самую загадочную из всех стран,
подобно запертому саду из «Песни песней» напоенную дурманя-
щим, только ей одной свойственным ароматом. Во второй оживал
Мальтийский орден. Третья живописала парижское дно по Пита-
вал ю — как гобелен, на котором вытканы картины преступлений,
семейных коллизий, полицейских расследований в духе Бальзака.
Он считал, что в состоянии понять любое движение человеческой
души. И потому надеялся, что его тоже поймут. Никто не способен
был так восхищаться другими, как он. Именно о нем сказал Гете,
Статьи. Речи. Эссе
569
а Гете его немного знал: «Какое счастье, что Кальдерон получил
известность лишь после его смерти. Он обязательно поддался бы
его обаянию». И вот теперь его то здесь, то там называют «самым
немецким из всех немецких поэтов». То тут, то там народам сооб-
щают, что он был им чужд и что они для него навек чужие. Это он-
то, черпавший свой материал из поворотных моментов их истории:
Орлеанская дева, Мария Стюарт, Димитрий. Он, презиравший
национальные шоры до такой степени, что собирался защищать
царя чужого народа перед судом этого народа. Он, единственный
«воинствующий интеллект», которого произвела на свет Германия,
тирадами которого воодушевлялись угнетенные итальянцы,
венгры и поляки, он, которого понимали и Пушкин, и Мицкевич, и
Петефи, и Карлейль, он, обязанный победам наполеоновских
армий в той же степени, в какой Бальзак — их поражению, он,
своим творчеством перекинувший мост от Корнеля к Виктору
Гюго, Сарду и Скрибу (да-да, к Скрибу!), это он-то «узконацио-
нальный» поэт? И именно его собираются заточить в националь-
ные границы? Даже не знаю, как такую политику назвать. Скорее
всего, просто близорукой.
Так или иначе, мы сейчас — единственный народ в Европе, у
которого есть театр. Правда, он не идет ни в какое сравнение с
древнегреческим, да никто и не станет их сравнивать; нет в нем
также живости, подлинности и достоверности, отличавших театр
елизаветинской эпохи, но в нем все же есть нечто масштабное,
если взглянуть на него с некоторого удаления. Такой ретроспек-
тивный взгляд показывает, что немецкий театр десятилетиями
вдохновлялся наследием Шиллера. Потом, после короткого спада,
означавшего не смерть, а внутреннюю перестройку, он десятилети-
ями (которые еще не кончились) вдохновлялся наследием Вагнера.
Следует видеть в этих вещах их величие, а не их ничтожество;
иначе можно задохнуться. А по большому счету, немцы обнару-
жили там, где десятки лет их истиной или истиной их души было
бунтарство Карла Моора и гордое благородство Марии Стюарт,
новую истину — поющего Зигфрида, который кует из обломков
отцовского меча свой меч и свою судьбу. Вместо бурного натис-
570
Гуго фон Гофмансталь
ка — эти звуки, вместо порыва к звездам — погружение в пучину.
На смену великому пришло величественное, ибо эти две эпохи раз-
деляет великая тайна: философия Шопенгауэра, приятие смерти,
обнажение и разрастание души, опьянение, ради которого роман-
тики, словно жемчужину, растворяют себя и свое искусство в вине
жизни.
Но в стороне от всего этого — я о нем не забыл — стоит Фри-
дрих Геббель. Стоит одиноко и несокрушимо, словно скалистый
остров средь бескрайнего моря, а внутри скалы — цветущий плодо-
вый сад: даром речи здесь обладают и цветы, и камни, более того,
глубокое страдание здесь приносит плоды, словно могучее дерево,
растущее из мрака.
Сюда добираются немногие из немцев, но в каждом следу-
ющем поколении лучшие доплывают до этого берега, и все еще
находятся руки, чтобы сорвать эти плоды, сок которых заставляет
кровь то стыть, то быстрее течь по жилам, и все еще находятся гла-
за, чтобы любоваться этими цветами, чьи красота и изысканность
околдовывают.
II
Шиллер весь в движении, как никто другой из немецких поэтов.
Его прилагательные словно выхвачены на бегу, его существитель-
ные словно увидены орлиным взглядом с высоты полета, вся си-
ла его души — в глаголе. Его ритм энергичен, стремителен, по-
рывист, замысел смел и величествен, как и ритм, а ткань произ-
ведения так же оргднично связана с замыслом, как строящееся
здание — с чертежом. Он гонит свою мысль к поставленной цели,
рассматриваемое явление — к коллизии, героев — к великому
решению, великому испытанию или великой гибели. Он жил и
умер, как тот гонец, который донес горящий факел до цели и
только тогда обессиленно рухнул и умер, оставшись в памяти чело-
вечества символом такой жизни и такой смерти. Что-то заставляет
немцев вновь и вновь возвращаться к нему; строя морские суда, они
теперь, вероятно, впервые по-настоящему воздают ему должное,
Статьи. Речи. Эссе
571
ибо его произведения больше всего на свете похожи на величе-
ственные корабли, чья мощь — в красоте, а сущность — в движе-
нии, которые всегда знают, каким курсом идти и к какой цели стре-
миться, которые сближают страны и в неудержимом порыве
вперед покоряют пространство.
Перевод Е. Михелевич
БЕСЕДА
О СОЧИНЕНИЯХ ГОТФРИДА КЕЛЛЕРА
В дружеском кругу молодых мужчин, уже миновавших пору первой
юности и сидевших в легкой деревянной беседке у обвитой диким
виноградом каменной ограды в дальнем углу сада, разговор нена-
роком коснулся этой прекрасной и благородной темы. Ибо пона-
чалу речь шла вовсе не о книгах, а о праздниках, и все в один голос
утверждали, что ни на родине, ни на чужбине не видели ни одного
действительно прекрасного празднества, если не считать огненных
шаров и рассыпающихся искрами пышных фейерверков, запо-
мнившихся еще с детских лет. Будучи уроженцами Австрии, они
сделали исключение лишь для доброго старого праздника Тела
Христова, но уж о светских, а тем более театрализованных праз-
днествах и шествиях, о римских, мюнхенских и парижских карнава-
лах, на которых им довелось побывать, все отзывались в высшей
степени пренебрежительно. Вкратце общее мнение сводилось к
тому, что настоящих народных карнавалов давно уже нет, они
существуют разве что на страницах иллюстрированных журналов,
а вовсе не в реальной жизни. Тут кто-то упомянул сочинения Готф-
рида Келлера, в которых полным-полно описаний таких празд-
неств. На что секретарь посольства возразил, что эти бесконеч-
ные мюнхенские фестивали искусств впрямь испортили ему все
впечатление от «Зеленого Генриха». Книга бы только выиграла,
если бы оставить начало и выбросить все остальное. Это начало
запечатлелось в памяти не как нечто прочитанное, а как действи-
572
Гуго фон Гофмансталь
тельно пережитое. Сколь удачно в этой книге собраны добрые
дела и благородные чувства, все как на подбор; счастливые дни
молодости радуют глаз, словно красиво разложенные в корзине
отборные фрукты. «Счастливые дни? — перебил секретаря музы-
кант. — Но ведь герою Келлера отнюдь не легко живется». — «Не
помню уже, легко ему живется или нет, но все наполнено сиянием,
сиянием молодости, сиянием жизни». — «Скажи уж — сиянием
мудрости, ты ведь явно настроился на возвышенный лад». Это ска-
зал третий из собравшихся в беседке, скромный помещик и
довольно плодовитый сочинитель, который слегка стыдился этого
своего призвания. «Мудрость у Келлера как бы играет в прятки с
бессмысленной суетой жизни, даже сама ее создает и придает ей
форму и собственный блеск, точно так же, как природа придает
блеск всему живому, вышедшему из ее лона. Вот что меня больше
всего и восхищает в произведениях этого автора: сила таланта,
который умеет придать всему, в том числе даже явно неумному или
заведомо путаному, такую форму, что оно на какой-то миг ожи-
вает и освещает все вокруг». — «Что ты подразумеваешь под «заве-
домо путаным?» — подал вдруг голос художник, до сих пор не при-
нимавший участия в разговоре и молча рисовавший пером на визит-
ной карточке большую улитку, неподвижно сидевшую на ограде.
«Думаю, я его понимаю, — быстро вставил секретарь, — и
именно благодаря тому, что он под этим подразумевает, мне и отк-
рылось поначалу все очарование этих книг. Когда я уезжал из
Петербурга, Мутиус подарил мне на прощание «Люди из Зельдви-
лы» в прекрасном переплете, и позже, уже в Риме, я часто брался
за этот сборник новелл, но мне никак не удавалось вжиться в его
странный, наполовину обыденный, наполовину фантастический
мир, так что я довольно долго читал и перечитывал эту книгу, не
понимая, в чем ее сила. А она как раз и заключается в непости-
жимо тонком и достоверном изображении смешения качеств.
Жизнь полна ими до краев, так что если приходится много
общаться с людьми, на каждом шагу наталкиваешься на удивитель-
ные сочетания дерзости и робости, высокомерия и скованности,
заносчивости и трусости, на хвастливость, скрывающую беспо-
Статьи. Речи. Эссе
573
мощность, или на тщеславие, граничащее с злонамеренностью.
Каждый второй либо сам находится в двусмысленном положении,
либо старается представить в ложном свете все, что угодно, себе
или другим. И все это редко приводит к катастрофам, наоборот —
переходы от одного к другому почти незаметны, ибо так затенены
и покрыты таким толстым слоем красок всех цветов и оттенков,
что почти неразличимы. А в сочинениях Келлера все это ярко выс-
вечено — будто смоченной в масле губкой провели по старинной
картине, потускневшей от времени. Когда вчитаешься в них, начи-
наешь замечать самые невероятные переходы от смешного к тро-
гательному, от чванства и омерзительной тупости к щемящей тос-
ке. Мне кажется, никто не сумел так тонко, как он, выразить все
нюансы смятения чувств, во всех оттенках, даже ультрафиолето-
вых, которые обычно недоступны человеческому восприятию.
Вспомните хотя бы, какие великолепные, ни с чем не сравнимые
письма пишут его глупые и чванливые персонажи. Или возьмите
образы его мошенников и обманщиков. А то и персонажей, кото-
рые занимаются самообманом, как, например, прекраснодушный и
просвещенный священник в прелестном рассказе «Потерянный
смех». А в добрых и душевных людях он, напротив, подмечает
неброские черты, так что этих людей не забываешь, даже если
потом много лет не возвращаешься к книге. Как, например, того
старика — кажется, его зовут Якоб Вайделих; если не ошибаюсь,
это персонаж романа «Мартин Заландер». Старик узнает, что его
сыновья — братья-близнецы, оба стряпчие, оба прожженные
мошенники — приговорены за подлог к двенадцати годам тюрьмы;
он садится на край колодца и с тоскливой рассеянностью глядит,
как пьют воду коровы, словно стараясь в этот самый горестный
для него час хоть на миг задержать неумолимое время. Вспоминая
эту сцену, невольно спрашиваешь себя: где тут великое и где
малое? Просто чувствуешь: вот оно! Чувствуешь: я сейчас слышу
не только это журчание воды в желобе, но и сам нахожусь одновре-
менно и здесь и где-то совсем в другом месте. Смотришь на буквы,
сотворившие с тобой это чудо — два ряда мертвых черных знач-
ков, и не понимаешь, как это сделано». — «Да, он был большой
574
Гуго фон Гофмансталь
писатель, — сказал художник. — И наверняка был бы неплохим
живописцем. Утверждая это, я исхожу вовсе не из его разглаголь-
ствований о живописи и картинах в «Зеленом Генрихе», отнюдь;
эти страницы внушают мне глубокое отвращение. Но в каких-то
других его вещах он иногда использует цвет, свет и тень с таким
мастерством, что теряешь голову от глубочайшего восхищения.
Помните рассказ «Кузнец своего счастья»? Его герой, брадобрей
по профессии, бродит по незнакомому городу в поисках своего род-
ственника и попадает в богато обставленный дом; он поднимается
по лестнице, открывает первую попавшуюся дверь и обнаруживает
в комнате крохотного старичка из сказки, которого он бреет и
который в награду за это делает его своим наследником». — «На
старичке был шлафрок из ярко-красного бархата, верно?» —
«Правильно, именно из ярко-красного!» — в один голос восклик-
нули музыкант и помещик. «Совершенно верно, из ярко-красного
бархата. И этот цвет попадает в самую точку. Как у Рембрандта: у
него крошечное пурпурное или темно-зеленое пятно всегда именно
там, где надо. Цвет у Келлера не просто случайный штрих, он уви-
ден глазом художника. Без этого ярко-красного шлафрока стари-
чок просто не получился бы. Я вспомнил еще одно место со светом
и тенью, когда заговорили про «Потерянный смех». Ведь именно
там речь идет о супругах, долгие годы живущих порознь — то ли из
упрямства, то ли от непонимания, в чем состоит для каждого из них
высшее благо. Но потом жена все же идет искать своего мужа,
Юкундуса, и находит его в какой-то полуразвалившейся хибарке у
старой, похожей на ведьму ханжи. Вернее, они находят друг друга
по воле случая: муж приходит к злобной старухе сводне, а жена —
к двум добрым и благочестивым женщинам, снимающим комнату у
нее в доме. Старую ведьму прозвали Жирная Жаба. Мне очень
понравилось это прозвище: и грубо и метко».
«Да, ты прав. Описание места их встречи не имеет себе рав-
ных по остроте художнического видения. Это не просто живопис-
но: лачуга возникла в воображении художника, и поэт лишь
интерпретировал это видение. Она совершенно невероятна, как
невероятны приюты нищеты на офортах Рембрандта. В ней всего
Статьи. Речи. Эссе
575
две комнатушки: одна погружена во мрак, вторая наполнена све-
том. Чтобы попасть в светлую, надо пройти через темную, на
пороге которой сидит Жирная Жаба с крупным и почти квадрат-
ным желтым лицом. А в дальней, светлой комнате, где живут бла-
гочестивые женщины, солнечные лучи, перемежаясь тенями от
качающихся за окном ветвей, играют на опрятном полу и стенах и
в окошко заглядывают две зеленые ящерицы. Зря я, наверное, так
долго толкую об этом примере: значимость его может ощутить
лишь тот, кому дано видеть, как на пороге двери, разделяющей
свет и мрак, безмолвно и блаженно воссоединяются две полнокров-
ные человеческие судьбы. А мне, когда я вспоминаю книги Келле-
ра, вообще почти больше ничего и не приходит на ум, кроме этого
колдовского чередования света и тени».
«Ты говоришь о внешнем рисунке или о внутреннем мире его
персонажей?» — спросил секретарь; на это хэдожник раздраженно
ответил: «Мне кажется — вернее, я надеюсь, — что мы все наконец
поняли бесполезность попыток отделять внешнее от внутреннего в
искусстве или в жизни. И, говоря о светлых и темных минутах в
душе этих вымышленных людей, я думаю и о том, как автор наб-
расывает кружевную тень куста орешника на чье-то лицо или как
он отодвигает опечаленного героя в темный угол, а сияющего от
счастья подводит к окну. И тем самым, видимо, стремится пока-
зать, что внешнее и внутреннее неотделимы друг от друга».
Последние слова были сказаны с некоторой досадой, так что все на
минуту замолкли. Нарушил молчание музыкант, который все это
время сидел в глубокой задумчивости и теперь вдруг решил поде-
литься плодом своих размышлений: «Кто-то из вас — я не очень
внимательно слушал и не помню, кто именно, — говорил о том,
как чудесно, почти без слов передано счастливое воссоединение
двух человеческих судеб. Я прослушал, о какой вещи Келлера шла
речь, но слово «двух» навело меня на мысль, которая уже не раз
приходила мне в голову, и раньше она как-то четче формулирова-
лась, и я мог изложить ее более убедительно, чем сумею сейчас.
Вечно одна и та же история, по крайней мере со мной: в самую
неподходящую минуту мозг словно затуманивается парами опиума.
576
Гуго фон Гофмансталь
Однако вы, вероятно, уже заметили, что во всех романах и пове-
стях Келлера большую роль играют разные обстоятельства,
каким-то образом связанные с определенными числами». «Знамя
семи стойких», — подсказал кто-то. — «Три праведных гребенщи-
ка». В чем тут связь?» По лицу музыканта было видно, каких уси-
лий стоит ему удержать разбегающиеся мысли. «Это, конечно,
тоже, хотя столь лежащий на поверхности и сам собой напрашива-
ющийся пример менее всего помогает мне выявить эту связь.
Лучше уж сослаться на странное противопоставление двух дочерей
Заландера и их возлюбленных, двух светловолосых братьев-близ-
нецов, о которых здесь уже говорилось. Ибо тут число «два»
необычайным образом сталкивается с самим собой, и это столкно-
вение чисел, в сущности, определяет дальнейшую судьбу героев:
если бы не было двух дочерей, не было бы и двух возлюбленных,
похожих друг на друга как две капли воды и различаемых лишь по
мочке уха, — девушки не оказались бы в столь запутанном положе-
нии. И когда потом играют двойную свадьбу и обоих постигает
несчастье, их больше всего гнетет грустно-комическое ощущение
этой двуединой судьбы, и в конечном счете именно это двуединство
и помогает им более или менее легко выбраться из беды».
«Хоть ты, вероятно, и прав, не могу не признаться, что на
меня эта замысловатая двойная история всегда производила впе-
чатление, скорее, неприятное, и я видел в ней лишь некоторую кос-
ность пера стареющего писателя. На первый взгляд весь этот
сюжет кажется прямо-таки банальным».
«Да только первый взгляд в таких случаях мало что дает.
Ибо как раз в этом замысловатом сюжете более явно проявляет-
ся — словно какая-то несоразмерная черта на стареющем лице, тут
я с тобой согласен, — нечто глубоко скрытое и ощущаемое мной и
под более живыми и упругими формами его ранних произведений.
Вот так же и в прекрасной статуе ощущаешь жесткий скелет под
пластичными и округлыми линиями живого тела».
«Что ты, собственно, имеешь в виду?»
«То самое взаимодействие простейших обстоятельств, кото-
рое можно свести к числам. Вы, вероятно, знаете, что Келлер в
Статьи. Речи. Эссе
577
своей «Harmonia mundi» замечает, что в музыке лучшими явля-
ются те интервалы, благозвучие которых быстрее всего достигает
слуха, а они-то как раз и строятся на простых числах. Я вам уже
рассказывал об этом, когда вы просили меня разъяснить, на чем
основывается несравненная простота и возвышенная сила старин-
ных хоралов».
«Конечно. Ты цитировал Плотина и Мориса Дени, бойрон-
скую школу и патера Дезидерия Ленца, а также Блаженного Авгус-
тина».
«Если я и впрямь цитировал этого святого — сейчас не при-
помню, — то, вероятно, ради одного его высказывания, привести
которое мне и сейчас представляется чрезвычайно уместным. Оно
содержится в «Civitas Dei», и смысл его сводится к тому, что нельзя
недооценивать значение чисел, о чем говорится и в псалмах:
«Всему ты дал меру, и число, и вес».
«Почему тебе так хочется все созданное Готфридом Келле-
ром свести в конечном счете к числу?»
«Все или ничего, смотря по тому, как ваша фантазия воспри-
нимает эти вещи. Во всяком случае, в мире, созданном Келлером,
царит благостная и могучая гармония, и в конце концов личное
дело каждого — чувствовать или не чувствовать, в какой степени
она строится на изумительно точном соблюдении меры, числа и
веса. Но я никак не могу считать чем-то мелким, тем более чем-то
несущественным и случайным, когда в этом множестве разно-
образных жизненных ситуаций и перипетий я на каждом шагу
наталкиваюсь на самые необычайные и притом простые формы и
конфигурации, когда вижу, как судьбы героев, поначалу тесно
переплетенные, внезапно отрываются друг от друга и расходятся в
стороны, затем круто поворачивают и тянутся к свету — каждая
сама по себе, — чтобы в конце концов вновь сплестись с другими,
как кроны яблонь на шпалере; когда я сквозь пеструю череду прев-
ратностей судьбы прозреваю четко начертанный жизненный круг;
когда, несмотря на бьющее через край богатство и разнообразие,
все представляется мне упорядоченным и гармоничным, как в
музыке, которая отвергает все промежуточные тона, не образу-
578
Гуго фон Гофмансталь
ющие целого простого числа колебаний; когда в этих рассказах
перед моими глазами проходят все возрасты, а я вижу, как отец
отражается в сыне, дочь — в матери, как все в целом удивительно
уравновешено соразмерностью противопоставленных частей, и
каждая отдельная судьба гармонично соотносится с другими судь-
бами, складывающимися на некотором удалении, угаданном с
непостижимой точностью».
«Давно известно, что тебе всюду и везде слышится музыка.
Но, дорогой мой, ведь и в любом произведении искусства части
как-то соотносятся друг с другом, возьми хоть Геродота, хоть
Достоевского».
«Геродотом меня не испугаешь, его отделяет от Келлера
лишь время. Но когда я читаю Достоевского, мне кажется, будто я
в целом сонме отверженных безудержно падаю куда-то вниз, в пре-
исподнюю, и хотя знаю, что это падение управляемо некой демони-
ческой силой, находящейся где-то вне нас, в бесконечности, но
здесь — в том-то и состоит различие, а мы, я полагаю, затеяли этот
разговор ради того, чтобы выявить различия и не валить все в одну
кучу, — здесь я чувствую себя как бы центром притяжения, и хотя
по ходу повествования куда-то движусь, души людей не всасывают
меня, подобно вампирам, и события не втягивают меня в свой водо-
ворот: все как бы движется и движется, со мной и вокруг меня, а я
словно плыву под звуки моцартовской сонаты».
«В этом он весь, — сказал помещик, вставая. — Не может
обойтись без того, чтобы не поплавать или хотя бы окунуться. В
Умбрии и Этрурии он нырял во все водопады, а лучшую фразу
своего опуса 23 сочинил, сидя в зеленой бочке с водой под цвету-
щим каштаном. Но он правильно уловил у Келлера невероятно
тонкое и точное чувство меры — как бы иначе почти любой из его
маленьких рассказов, не говоря уж о больших романах, мог стать
полнокровным и завершенным изображением целой человеческой
жизни? А ему это удалось. Прочитав что-нибудь вроде «Знамени
семи стойких» или «Фрау Гегель Амрайн», мы уверены, что знаем
о жизни этих людей все, как уверена, что ее не обманули, хозяйка,
взвесившая на руке пару только что купленных рябчиков».
Статьи. Речи. Эссе
579
А художник добавил: «Я согласен, что этот писатель обла-
дает каким-то загадочным, даже, если угодно, божественным
даром, в какой-то степени это помогает понять, почему его книги
действуют не на интеллект, а излучают душевное тепло и радость
прямо в кровь, духовно расковывая и настраивая на светлый лад;
они помогают нам идти в жизни своей стезей и облегчают ее тяго-
ты, чего не скажешь, пожалуй, даже о Гёте».
1906
Перевод Е. Михелевич
ПОЭТ И НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ
Вам объявили, что я прочту вам лекцию о поэте и нашем времени,
о бытии поэта и поэтического начала в это наше время, а некото-
рые афиши, как я слыхал, формулируют тему еще серьезней,
говоря о проблеме поэтического бытия в современности. Эти тер-
мины затрагивают уже сферу философии и вынуждают меня, забе-
гая вперед, опровергнуть такого рода предположения, иначе в
течение этого часа мне пришлось бы жестоко разочаровать всех
присутствующих.
У меня нет возможности и ни малейшего намерения каким
бы то ни было образом заниматься философией искусства. Я не
собираюсь обогащать сокровищницу ваших понятий хотя бы
одним, пусть даже всего лишь одним, новым понятием. И точно так
же я не собираюсь подвергать критике ни одно из твердых понятий,
на коих зиждется ваше представление о предметах эстетики, раз уж
оно зиждется на понятиях, а не на — как я втайне и горячо наде-
юсь — не на хаотическом смешении путаных, сложных и неперева-
ренных душевных впечатлений... отнюдь не собираюсь. Я не льщу
себя надеждой как-то сместить эти стены; я только льщу себя наде-
ждой выйти из-за этих стен в самых неожиданных и по возможно-
сти в разных местах и тем самым приятно удивить вас. Я просто
думаю, что буду рад, если смогу дать вам почувствовать, что наша
тема имеет не только искусственный смысл расписанной по мину-
580
Гуго фон Гофмансталь
там лекции в аудитории с искусственным освещением, но что речь
идет об элементе вашего духовного бытия, который постигается не
сознанием, а чувством, переживанием, который присутствует и
воздействует на вас в тысячах моментов вашей жизни.
Нет надобности выяснять, как мы понимаем понятие «совре-
менность».
Мы с вами — граждане нынешнего времени. Мириадами его
пересекающихся колебаний создана та атмосфера, в которой я
обращаюсь к вам, а вы меня слушаете, и в которой мы очутимся
снова, как только покинем стены этого зала. Время даже правит
нашими сновидениями, окрашивая их в сочетания своих цветов. И
только в глубоком, как смерть, сне мы, вероятно, оказываемся за
его пределами, там, где его нет. У вас, как мне известно, есть
прочно устоявшееся, исполненное богатого содержания, представ-
ление о поэте. В нем осталось кое-что от того смысла, который
вкладывали в это понятие немецкие писатели в начале минувшего
столетия (не стоит то и дело именовать их столь несовершенным,
избитым словом «романтики»). Но та власть, какую имеет над
вашими душами грандиозное представление «Гёте», мгновенно раз-
двигает границы понятий почти до необозримого горизонта.
Осциллирующим в вашем мозгу частицам, которые составляют
понятие «поэт», присуще нечто от патетического образа Гёльдер-
лина, от своеволия Байрона, от канувшего в неизвестность бе-
зымянного творца старинной немецкой песенки и кое-что от Пин-
дара. Стоит вам подумать о Шекспире, и на какой-то миг все
остальное вокруг меркнет. Правда, следующее мгновение восста-
навливает это бесконечно богатое, переливающееся всеми крас-
ками понятие «поэт». И вот уже воображение, не разделяя, создает
некий сплав из Данте, Ленау и сочинителя той трогательной исто-
рии, которая была вами прочитана в четырнадцать лет.
Не к какому-то ясному понятию либо выведенной формуле,
а именно к этому сплетению воспоминаний, образно запечатлев-
ших в памяти наиболее тонкие переживания, я и взываю. В вас это
живо и продолжает жить. Мне хотелось в отведенное нам время
сохранить связь с этим живым впечатлением. Мне нечего добавить
Статьи. Речи. Эссе
581
к нему и менее всего хотелось бы суживать его. Я тоже ношу его в
себе, таким же неразвернутым, как, полагаю, и вы. Я вовсе не
склонен с самого начала устанавливать границу, которая принизит
его. Во мне самом оно тоже не расчленено. Тем более что столь
резкое, словно бритвой проведенное разделение на поэта и непоэта
представляется мне вовсе невозможным. Признаем, что порой
произведения людей, которых вряд ли можно называть поэтами, не
лишены поэтичности, и, наоборот, то, что выходит иной раз из-под
пера высоких и бесспорных поэтов, явно содержит элементы
отнюдь не поэтические. Нетерпимость в таких вещах кажется мне
неуместной и почти всегда смешной. Интересно, осмелился бы
Буало, если бы он лично знал создателя «Манон Леско», или, допу-
стим, его современник Лессинг удостоить этого человека звания
поэта? Видите, насколько незначительны и несостоятельны подоб-
ные разграничения, проводимые пристрастием эпохи или субъек-
тивным высокомерием литераторов между поэтом и просто сочи-
нителем. И все же иной раз и в иной связи с полной отчетливостью
понимаешь, насколько справедливо строгое суждение Гёте,
утверждавшего, что несовершенное творение искусства есть
ничто, что по высшему счету существуют лишь совершенные худо-
жественные творения, эти редчайшие плоды труда гения. Как же,
спросите вы, могут уживаться рядом подобное суждение и такая
терпимость? Да вот могут, могут. Существуют посредничающие
между ними воззрения, и надобна лишь определенная зрелость,
чтобы свести их воедино. В беседе с вами я буду апеллировать
только к такой терпимости, опираться именно на такое неразгра-
ничение. Думаю, не стоит говорить сейчас о том, кого я считаю
единственным подлинным поэтом нашей эпохи, а кого — всего
лишь обладающими поэтическими задатками личностями, поэти-
ческой материей. Для меня представляет важность только одно —
присутствие поэтической субстанции в нашей эпохе.
Я верю, больше того, знаю, что в нашу эпоху, как и в любую
другую, существует поэт или поэтическая сила в некотором всеох-
ватывающем смысле. И я убежден, что вы неустанно возлагаете
582
Гуго фон Гофмансталь
надежды на эту силу и ее влияние, но не умеете выразить это в сло-
вах. В этом тайна, одна из тайн, составляющих облик нашей эпохи:
вроде, есть в ней все разом — и, вроде, нет ничего. Она полна
живых на вид и мертвых на поверку вещей, а сколько в ней таких,
что слывут мертвыми, а на самом деле живее живых. Почти всегда
из ее феноменов не играют, на мой взгляд, никакой роли те, кото-
рые по общему признанию считаются важными. Те же, которым
отказывают в значимости, чрезвычайно современны и действенны.
Наше время донельзя напичкано неосуществленными возможно-
стями и вместе с тем трещит по швам от вещей, которые, наверное,
существуют, лишь бы существовать, и в которых не теплится ни
искорки жизни. Такова природа нашего времени: все, что действи-
тельно влияет на человека, запрятано внутрь, не рвется метафорой
наружу, тогда как, например, время, именуемое средневековьем,
громоздящее и по сей день свои руины и фантомы, выплеснуло
наружу все, что принесло, в виде грандиозного собора из метафор.
Если прежде хранителями обычая, знаний были жрецы,
облеченные на это правом, или избранные люди, то теперь это
подспудно есть в каждом: мы-де смогли бы создать нечто такое,
что покажет наше подлинное лицо... мы-де смогли бы постичь то и
се, совершить такое и эдакое. Нам не помогут возвыситься ни элев-
синские священнодейства, ни семь таинств. Лишь возвысив свой
внутренний мир в себе самих, мы достигнем того более высокого
состояния, когда уже не представится возможности делать то или
иное, когда нам уже не дано будет познать то или иное, зато то или
иное, сокрытое от всех остальных, станет зримым, взаимосвя-
занным, возможным, даже осязаемым. Все это вершится тихо и
как бы между прочим. Выражающим нашу эпоху вещам недостает
духовности, а духовным — выразительности.
Когда слово «поэт», образ поэта обретают выразительность
в атмосфере нашего времени, они тотчас утрачивают свою привле-
кательность. Возникает ощущение чего-то напыщенного, разбух-
шего, сотворенного скорее просвещенностью, нежели интуицией.
Хочется вернуть это понятие на землю, «дефлегматизировать»
и «вивицировать» его, говоря прекрасными терминами Нова-
Статьи. Речи. Эссе
583
лиса. Сколь живым и достойным симпатии в прежнюю немецкую
эпоху (вспомним молодых людей и женщин семидесятых годов
XVIII столетия!) было употреблявшееся тогда слово «гений»,
которым обозначали то же самое — поэтическую натуру. Но они
вовсе не имели в виду гения действия и ни за что на свете не назвали
бы своим излюбленным словом человека, более всех заслуживав-
шего его в самом что ни на есть сверкающем и грандиозном значе-
нии, — Фридриха Великого. Сколько жизни и симпатии вклады-
вает нынешний англичанин, причем уже в шестом поколении, в
свое «man of genius», не ограничивая его применение только
своими поэтами. Тем не менее всем, кого он так называет, присуще
нечто поэтическое, присуще либо самим людям, либо их судьбам.
Англичанин, не задумываясь, наделит им человека, не облада-
ющего редчайшей универсальностью ума. Однако такую личность
должно отличать нечто незаурядное, выделяющее ее среди других:
то ли отвага, то ли удача, то ли сила ума, самоотверженность.
Сколько грандиозности в понятии, смысл которого позволяет емко
обозначить образы Мильтона и Нельсона, лорда Клива и Сэмюэля
Джонсона, Байрона и Уоррена Гастингса, Питта Младшего и
Сесила Родса!
Дело не столько в словах, сколько в значении, которое вло-
жено в них чувством языка народа. Каким немощным по сравне-
нию с «man of genius» и тем смыслом, который сюда вкладывает-
ся, — мужественным, самоуверенным, я бы даже сказал, по-сол-
датски, по-моряцки гордым смыслом, —так вот, каким немощным
выглядит рядом с ним наше «Genie», эдаким академическим, наду-
манно патетическим, с какой лицемерной школярской экзальта-
цией оно преподносится! На нашем языке это слово употребляется
так, словно ему вреден свежий воздух. И тем не менее оно — един-
ственное, способное дать нам представление о Иоганне Себастьяне
Бахе, Канте, Бисмарке, Клейсте, Бетховене, Фридрихе И. Однако
чуткому уху в этом слове слышится нечто роковое. Оно совер-
шенно утратило юный блеск 1770 года, нет в нем и темного метал-
лического блеска, похожего на мрачное сверкание старого оружия,
способного придавать былое величие торжественным и достойным
584
Гуго фон Гофмансталь
словам великих наций: ведь даже вокруг простых названий чинов,
сухих надписей и изречений древних римлян создается такой ореол
величия, что у нас дух захватывает. Когда слово «гений» встре-
чается в газетных некрологах и юбилейных статьях в честь поэта
или философа, означая наивысшую похвалу, то даже там — где
оно вполне уместно — это слово кажется каким-то расплывчато-
блеклым, малодостойным, вялым. Ему явно недостает уверенно-
сти, словно люди стыдятся его употреблять. Слово, призванное
именовать высшее проявление духовности, почти проституирова-
но. Разве не странно?
Когда видишь, что это слово употребляется как попало, без
дистанции (а в выражении «man of genius» всегда чувствуется некая
дистанция, отделяющая великий народ от великой личности), то
словно наперекор вспоминается прекрасная методистская максима,
отвергающая всякое умаление этой дистанции: «Человека не сле-
дует ни возносить, ни унижать». Говоря о своих поэтах — о здрав-
ствующих и об умерших, но живущих среди нас своей второй,
более славной жизнью, — немцы, на мой взгляд, высказывают
много прекрасного. И порой в их пространных, несколько вялых
рассуждениях вспыхивает искра самого пылкого понимания. И все-
таки чего-то недостает, мне кажется, некоего звучания, более важ-
ного, чем вся вместе взятая похвала, чем вся проникновенная утон-
ченность. Недостает человеческой интонации, мужской интонации
доверия и неподдельного, искреннего почитания, выделяющих то,
что мужчина в мужчине ценит превыше всего: способность повести
за собой. Даже по отношению к Гёте, да-да, даже по отношению к
нему, далеко не всем удается занять такую позицию, найти един-
ственно возможную, единственно достойную интонацию: не класс-
ных наставников, но джентльменов. Ибо принять любую иную
почесть, кроме доверия живых людей, унизительно для достоин-
ства поэта, будь он умершим или ныне здравствующим.
Но нашей эпохе присущи многозначность и неопределенность. Она
зиждется на чем-то скользящем, самоуверенно видит преходящее в
том, что былые поколения считали незыблемым. Ей свойственно
эдакое хроническое головокружение. В ней много известного лишь
Статьи. Речи. Эссе
585
немногим и мало того, во что уверовали многие. Вот отчего поэты
порой спрашивают себя, существуем ли мы на самом деле для своей
эпохи. Придет ли к нам не легковесная, пустая похвала, а истин-
ное, не роняющее достоинства доверие живого человека, призна-
ющего за поэтом хоть в чем-то пальму первенства? Но вполне
вероятно —и это было бы тем прекраснее, тем достойнее времени,
отметающего всякое бахвальство и риторику, — что именно в
нашу эпоху поэтов непрестанно удостаивают такой единственно
подлинной похвалы, но в столь завуалированной, косвенной фор-
ме, что лишь мыслящий, знающий мир человек может распознать
здесь затаенную надежду обрести поэта, скрытую тоску по нему,
тайное желание спастись бегством к нему. Если я не ошибаюсь, так
оно и есть сегодня. И тут я прихожу к выводу, который на первый
взгляд удивит вас: я смею утверждать, что чтение, эта неуемная
привычка, эта, если хотите, страшная болезнь, этот феномен
нашего времени, слишком уж отданный на откуп статистикам и
торговцам, выражает не что иное, как неутолимую жажду насла-
ждаться поэзией. Вы изумитесь и скажете мне, что никогда прежде
поэзия не играла столь скромной роли, как в современной литера-
туре, где она попросту теряется в громаде прочитываемого. Вы
возразите мне, что мое утверждение подходило бы к слушателям
арабских сказок или по крайней мере к современникам «Прин-
цессы Клевской», к поколению Вертера, но что оно менее всего
применимо именно к нашему времени, времени научных справоч-
ников, словарей и несметного количества журналов, где для поэзии
и места-то не осталось. В наше время, напомните вы, драмы и
стихи читают лишь женщины да дети. Однако я же предупредил,
что буду говорить о вещах, не лежащих на поверхности. Мне бы
хотелось мельком напомнить о том, насколько чтение в наше
время отличается от того, как читали в прежние времена. Чем
неспокойней, бесцельней, неблагоразумней становится чтение в
наше время, тем примечательнее мне это кажется. Мы бесконечно
далеки от спокойного любителя художественной литературы, от
поклонника научно-популярных книг, от читателя романов и
мемуаров былых, более спокойных времен. Чтение в нашу эпоху
586
Гуго фон Гофмансталь
представляется мне своего рода жизнедеятельностью, внушающей
уважение позицией, приметой времени именно из-за своей лихора-
дочности, всеядности, когда тебя непрестанно заставляют отры-
ваться от книг, когда все в них роются, чего-то ищут.
Человек с книгой в руках — видится мне почти признаком
нашей эпохи, так же как символом других эпох стала коленопре-
клоненная фигура молящегося. Разумеется, я не имею в виду тех,
кто читает определенные книги, чтобы научиться чему-то опреде-
ленному. Я говорю о тех, кто в зависимости от своих знаний читает
совершенно разные книги, не по плану, неустанно переходя к
новым, не задерживаясь надолго над какой-либо одной из них, о
тех, кем движет неуемная, неутолимая жажда. Но создается впе-
чатление, что утоления жажды они ищут не у поэта, а у человека
науки, а в девяти случаях из десяти — у журналиста. Книгам они
предпочитают газеты. И хотя не могут сказать со всей определен-
ностью, что ищут, наверняка это не поэзия, а поверхностные,
дающие успокоение лишь на миг, умозрительные выкладки, пере-
числение реальных фактов, весьма доступные и только кажущиеся
новыми «истины», грубая, без прикрас, материя бытия. Я говорю
то, что у нас принято об этом говорить и чему, не задумываясь,
верят. Сам же я думаю, да нет, знаю, что тут одна видимость. Ведь
ищут-то они нечто большее, нечто иное, все эти сотни тысяч чита-
телей многотысячных книг, переходящих из рук в руки, пока их не
замусолят и не зачитают до дыр. Они ищут не разрозненных
вещей, не поверхностных теорий на злобу дня, которые предлагает
им один томик за другим. Они ищут, не располагая, однако, ника-
кой диалектикой, достаточно тонкой, чтобы спросить себя: скажи,
чего же ты ищешь? У них нет ни широты кругозора, ни уме-
ния кратко изложить суть дела. Единственное, чем они могут выра-
зить происходящее в их душе, — это красноречивый безмолвный
жест, когда, отложив раскрытую было книгу, они берутся за
новую. Вероятно, так оно и будет продолжаться, ибо то, что они
ищут из книги в книгу, не даст им ни одна из тысяч прочитанных
книг. Они ищут то, что кроется между строк каждой, что могло бы
увязать воедино содержание всех. В поисках вершин одухотворен-
Статьи. Речи. Эссе
587
ности они жадно проглатывают самое что ни на есть обыденное
варево, лишенное всякой духовности чтиво. Они неутомимо ищут
нечто, что связало бы их быт с Жизнью с большой буквы, что
влило бы в их артерии чудотворную живительную кровь. Они стре-
мятся отыскать в книгах то, что некогда искали у курящихся алта-
рей, в сумеречных, устремленных в щемящей тоске ввысь церквах.
Они ищут то, что крепко-накрепко связало бы их со всем миром,
сняв в то же время с них разом всю тяжесть будничного бремени.
Они ищут некое «я», припав к груди которого успокоилось бы их
собственное. Одним словом: они ищут чарующее волшебство
поэзии. Да только они не осознают, не понимают, что тот, кого
они разыскивают среди модных сочинителей и журналистов, —
поэт. Ибо там, где ищешь, — там и найдешь. Нет у меня ни смело-
сти, ни желания отказывать в звании поэта околдовавшему их
романисту или журналисту, приукрасившему их быт, осветившему
отблесками огней из той, другой, полнокровной жизни ежевечер-
нюю и ежеутреннюю дорогу. Я не знаю ни одного сочинителя, будь
он самым захудалым писакой, произведения которого — хоть они и
недостойны этого — не несли бы на себе отблеск поэтической ода-
ренности для совершенно неискушенного глаза, для задохнувшейся
в будничной прозе фантазии. Просто потому, что он прибегнул,
пусть весьма неумело, к чудеснейшему из инструментов — живому
языку. Пусть он унижает его, лишает его, насколько может, и
величия, и блеска, и жизненности. Но он никогда не сможет уни-
зить его настолько, чтобы нарушенный ритм, чтобы словосочета-
ния, выводимые пером как бы наперекор ему, чтобы образы, приг-
вожденные его писаниной к позорному столбу, не запали, подобно
волшебным лучам, в иные, совсем юные, неискушенные души.
(Ведь в чудовищных дебрях наших переполненных людьми городов
гораздо больше юных судеб, схожих с жизнью Каспара Хаузера,
чем нам хотелось бы думать!)
Упомянув о властной тайне языка, я одним махом снял
покровы с того, к чему хотел подвести вас исподволь. Что, как не
язык, позволяет поэту из своего укрытия влиять на общество,
отдельные члены которого стремятся отрицать его причастность,
588
Гуго фон Гофмансталь
предают забвению само его существование? И все-таки именно
поэт сводит и разводит их мысли, повелевает их фантазией и опе-
кает ее. Его милостью живы даже их выкрутасы, их несуразные до
гротеска скачки. Это немое волшебство действует неумолимо, как
всякая истинная сила. Произведения тех немногих, кто когда-либо
творчески мыслил на этом языке, — вот откуда ведет свое происхо-
ждение все, что пишется, и, не побоимся этого слова, все, что
думается на том или ином языке. Все, что в самом широком и без-
оговорочном смысле слова именуется литературой, вплоть до
оперных либретто сороковых годов и даже бульварных рома-
нов, — все ведет свое происхождение от немногих великих книг
мировой литературы. Это — запущенное, убогое, изувеченное
эклектикой до гротеска потомство, но потомство по прямой линии.
В самом деле, кто, как не поэт, он, и только он, своей мыслью нав-
сегда сводит воедино и навсегда разводит в антитезы слова, симво-
лизируя вечное движение в фигурах и ситуациях. С поэтом, и
только с поэтом, связана фантазия сотен тысяч. И человек в конке,
сунувший в карман своей рабочей куртки наполовину прочитанную
газету, и приказчик и белошвейка, одалживающие друг другу буль-
варный роман, и все несметное число читателей пустяковых кни-
жонок, скользя глазами по черным строчкам, как ни странно,
общаются в этот миг с поэтами, пребывают в их власти, во власти
одиноких душ, о существовании которых они и не догадываются,
от подлинных творений которых их и им подобных отделяет такая
громадная пропасть! Их одухотворенность, их теплота, сплавля-
ющая воедино разлетающиеся атомы, их волшебные чары — вот
то единственное, что удерживает на свете даже такие книги, наде-
ляя каждую из них своим особым миром, превращая в остров,
дающий приют фантазии. Не будь этого волшебства, придающего
им видимость формы, они бы распались, превратились в мертвую
материю, и даже самый вульгарный человек не взял бы их в руки.
Но к книгам, вместившим в себя плоды денного и нощного
труда науки, непрерывно тянутся тысячи рук. Создается впечатле-
ние, что вот такие книги и их потомство влекут к себе наиболее
Статьи. Речи. Эссе
589
светлые, наиболее цельные умы, превращая в своих самых рев-
ностных почитателей. Пожалуй, я не впаду в преувеличение, вновь
утверждая, что и в этом видна подспудная тоска по поэту, тоска,
столь же несуразная, как иной порыв любви, тщетно пытающейся
отказаться от предмета своих тайных желаний, навеки отвернуться
от него. Но разве обретение своей жизни в науке — подлинной,
аскетичной, замкнутой, объятой бездной вечного холода жизни —
не удел лишь очень и очень немногих? Не станет ли для множества
неискушенных, ищущих душ этот холод настолько ужасным, что,
раз коснувшись их, он навсегда оттолкнет от себя?
Существуют люди, способные жить в атмосфере, прони-
занной ледяным холодом бесконечного пространства. Такова
тайна духа. И такая же тайна — существование поэтов и то, что
некоторые умы способны выдерживать чудовищное бремя всей
громады бытия. Поэт так и живет. Но то удел немногих. Уделом
многих это быть не может, ведь они живут в жизни, а из науки в
чистом, строгом смысле нет обратного пути в .жизнь. Ей присуще
то же стремление, что и искусству, — быть чистым искусством.
Кто-то выразил эту мысль метафорически: они стремятся стать
музыкой.
Стремление очиститься и возвыситься до математики — это,
если хотите, единственное, что осталось человечного в науках.
Это, если хотите, сохранившийся в них дух гуманности, ибо так они
переносят человеческое измерение на вселенную. И, как говорит
древняя аксиома, человек остается мерилом всех вещей. Однако
уже здесь раскручивается тропа, уводящая в ледяной холод, в оди-
ночество. Однако многих из тех, кто не устает тянуться к книгам,
влечет не к леденящему морозу вечности. Они не входят в число
посвященных, им суждено навеки оставаться на задворках, пере-
полненных суетной, вопрошающей, любопытствующей толпой.
Слиться в чувстве — вот по чему они тоскуют. По чувствам, кото-
рые приобщат их к миру, к мыслям других, именно по таким, от
которых навеки вынуждена отказаться подлинная, строгая наука,
по таким, которые сможет передать только поэт. Одних тянет к
научным и полунаучным публикациям, других — к романам, газе-
590
Гуго фон Гофмансталь
там, любому печатному листку, но никто из них не хочет, содрога-
ясь, оставаться в полной наготе во вселенной. Они мечтают о том,
что в состоянии дать им только поэт, который полами своего оде-
яния прикроет их наготу. Ибо быть поэтом, как писал где-то в
своих дневниках Геббель, быть поэтом — значит окутывать и
согревать себя миром, словно плащом. Вот эту-то теплоту им и
хочется разделить. Крохи поэзии — вот за чем они гонятся, пола-
гая, что поклоняются науке. Им хочется мыслить чувствуя и чув-
ствовать мысля, приобщиться к тому, что наука в своем грандиоз-
ном отречении считает неподдающимся приобщению. Они ищут
поэта, но не называют его.
Стало быть, поэт есть там, где его как будто нет. Он всегда
не там, где его предполагают найти. Чудна его обитель в чертогах
времени: под лестницей, где все спешат мимо, не замечая его.
Разве не напоминает он князя-пилигрима из древней легенды, кото-
рому Всевышний повелел покинуть свой знатный дом, жену, детей
и отправиться в Святую землю? Он вернулся на родину, но, прежде
чем успел переступить порог, повелевается ему свыше войти в свой
родной дом нищим незнакомцем и поселиться в нем, где укажет
челядь. Челядь указала ему закуток под лестницей, где обычно
ночуют псы. Стал он там жить. Мимо по лестнице снуют его жена,
братья и дети. Он слышит, как они говорят о нем, считая его про-
павшим без вести, даже погибшим, и носят по нему траур. Но ему
заказано выдавать себя. Так и живет он неузнанным, ютясь под
лестницей отчего дома.
Жить неузнанным в своем доме, под лестницей, в темноте,
вместе с дворовыми псами, чужим в родном доме, когда все счи-
тают тебя умершим, говорят как о призраке, оплакивают тебя с
любовью и благоговением! Быть живым — и отвергнутым послед-
ней девкой-прислужницей, быть живым — и ютиться вместе с пса-
ми! Нет у него в этом доме ни должности, ни службы, ни прав, ни
обязанностей, разве только слоняться без дела да полеживать на
боку, взвешивая все это про себя на незримых весах, взвешивая
непрестанно, денно и нощно, испытывая неслыханное страдание и
Статьи. Речи. Эссе
591
неслыханную усладу оттого, что обладаешь всем этим, как не
обладал своим домом ни один хозяин. Разве доводилось кому обла-
дать мраком, стелющимся ночью по лестнице, наглостью повара,
надменностью конюшего, вздохами самой последней служанки? А
он, распластавшись в темноте, словно призрак, обладает всем этим
сполна, ибо все это раздирает ему душу, как открытая рана, то и
дело вспыхивая карбункулом на его небесном облачении. Жить
неузнанным — это всего лишь сравнение, сравнение, пришедшее
мне на ум, когда я недавно прочитал эту легенду в старой книге
«Деяния римлян». Мне кажется, она помогла перейти к разговору
о том, что не менее фантастично, но все же вполне относится к
тому, что мы удостаиваем называть действительностью, современ-
ностью, — к разговору о том, каким мне видится обитание поэта в
чертогах нынешнего времени, как я ощущаю его житье-бытье в
этой действительности, в этой современности, в которой нам с
вами дано жить.
Он здесь, но до него никому нет дела. Он здесь и, бесшумно
меняя место, только смотрит да слушает, принимая окраску вещей,
на которые обращено его внимание. Он — созерцатель, нет, ско-
рее, товарищ-невидимка, безмолвный брат всех вещей, и сменой
своей окраски он причиняет себе внутреннюю боль, ибо все вещи
доставляют ему страдание, но, страдая из-за них, он наслаждается
ими. Наслаждаться страдая — таков весь смысл его жизни. Он
страдает оттого, что так сильно чувствует их. Каждая вещь в
отдельности и все вместе причиняют ему одинаковое страдание. Он
страдает от их разобщенности, страдает от их взаимосвязанности.
Бесценное и лишенное всякой ценности, возвышенное и пошлое,
обстоятельства и мысли причиняют ему страдание. Даже просто
игра воображения, фантомы, бесплотные порождения времени
доставляют ему страдание, словно они — люди. Ведь для него все
едино: будь то человек или вещь, мысль или мечтание. Ему ведомы
лишь явления, возникающие перед ним и доставляющие ему сча-
стье страдания. Он видит, чувствует. В его познавании преобладает
чувство, а в чувстве — зоркость познавания. Он не вправе что-либо
упустить. Он не смеет закрывать глаза на живое существо, вещь,
592
Гуго фон Гофмансталь
фантом, на самое абсурдное порождение человеческой мысли. Его
глаза словно лишены век. Он не вправе отмести ни одной охватив-
шей его мысли, словно он рожден в ином измерении, ведь в его
измерении должно найтись место для всякой вещи. В нем средото-
чие всего, чему суждено и хочется туда попасть. Ведь он — тот, кто
связует в себе частицы времени. Ведь настоящее — оно либо в нем,
либо нигде.
Но ткань пронизана еще более тонкими нитями. Пусть они
недоступны взору других, его око не смеет не замечать их. Для него
настоящее невообразимым образом перемежается с прошлым:
всеми фибрами своего существа он чувствует переживания минув-
ших дней, отцов и прадедов, далеких и неведомых ему, исчезнув-
ших с лица земли народов, канувших в Лету эпох. Его взору, минуя
всех прочих, открывается — разве он посмеет заслониться? —
живой огонь светил, давным-давно поглощенных ледяной бесконеч-
ностью. Есть только один закон, которому он подчиняется: не
закрывать ни одной вещи доступ в свою душу. И живой, простира-
ющий к нему руки человек столь же близок ему, как мерцающий
звездный луч, посланный из неведомого мира три тысячелетия
тому назад и достигший его взора сегодня; в нем звучат отголоски
древних, вряд ли теперь кому доступных ощущений. Подобно тому
как исконнейшая потребность людей создает вокруг них простран-
ство, и время, и мир вещей, он создает мир взаимосвязей из прош-
лого и настоящего, из зверя и человека, из воображения и вещи, из
большого и малого, из возвышенного и ничтожного.
Он созидает. Глухая боль, ущербные судьбы могут надолго
запасть ему в душу, насквозь пропитав ее страданием. Но в иной
миг в его распахнутой душе отражается усеянный звездами небоск-
лон. Он любит страдание, но любит и счастье. Его повергают в
восторг большие города, но восхищает и одиночество. Он — страс-
тный почитатель вещей, отмеченных печатью вечности, но вместе
с тем преклоняется перед сегодняшними. Лондон в тумане с приз-
рачными вереницами безработных, руины Луксорского храма,
журчанье одинокого родника в лесных дебрях, рев чудовищных
машин — он без труда перекидывает мост от одного к другому,
Статьи. Речи. Эссе
593
предоставляя остальным, обделенным фантазией, изумляться
каждой вещи в отдельности. Ибо он изумляется всегда, однако
ничто не застанет его врасплох, для него нет ничего совершенно
неожиданного. Все словно было и есть испокон веков, причем
одновременно. Нет вещи, без которой он смог бы обойтись, но,
собственно, и терять ему нечего — даже смерть ничего не может у
него отнять. Мертвые для него воскресают, не по его воле, а когда
захотят сами, и тем не менее они для него воскресают. Его вообра-
жение — единственное место, где всего лишь на миг им дозволено
восстать из мертвых. Им, прозябающим, наверное, в обители леде-
нящего одиночества, выпадает беспредельное счастье приоб-
щиться к жизни, ко всему что ни на есть живому.
Мертвые живут в нем, ибо его страсть восхищаться, изум-
ляться, постигать не останавливает уход в мир иной. Он не в состо-
янии придать полному забвению то, что когда-либо услышал, что
запало ему в душу, — будь то слово, имя, намек, исторический анек-
дот, образ или тень. Нигде — ни в мироздании, ни между мирами —
для него нет запретных путей. Коль скоро его коснулось дыхание
чего-то, пусть даже потустороннего, он тотчас вступает в немое
соперничество за обладание этим «нечто». Для него естественно
любить Мирабо за честность, Фридриха II — за величавое одиноче-
ство, Уоррена Гастингса — за отвагу, принца Линьонского — за
учтивость, Марию-Антуанетту — за эшафот, святого Себастьяна
— за стрелы. Кроме того, его фантазия устремляется вслед
каждому сомнительному авантюристу, упоминавшемуся в газетном
листке, — из-за его похождений, за богачом — из-за богатства, за
бедняком — из-за бедности. Каждому сословию хочется обрести
своего Пиндара, а он у него уже есть. Стоит поэту пройти мимо
дома гончара или башмачника и заглянуть в окно, как он тотчас до
того влюбится и в гончарное, и в башмачное ремесло, что не смог
бы оторваться от окна, если бы не желание увидеть охотника,
рыбака, мясника. В газетах или беседах порой раздаются жалобы,
что современные поэты не изображают того, что единственно
достойно изображения, например, индустрию либо нечто вроде
нее. Да как только там, на заводах, жизнь начнет обретать
594
Гуго фон Гофмансталь
собственные формы, новый ритм особого общения или разобще-
ния человека, как только на этих заводах отдельные люди или мно-
жество людей сразу вступят в особые отношения с природой, пред-
станут в особом свете и бесконечная символичность материи оку-
тает людей новыми, неожиданными отблесками и тенями, как
поэты немедля кинутся на эту новую вещь, на эту новую плоть
вещей, влекомые глубочайшей страстью отводить каждой новой
вещи место в том целом, что они носят в себе, кинутся, влекомые
необузданной страстью устанавливать взаимосвязь между всем
сущим. Ведь они — такие заклинатели теней, которые ни в чем не
знают меры. Для своих героев им уже недостаточно Александра
или Цезаря, новой Элоизы или Вертера, нет: их обострившемуся
восприятию подавай теперь самое невзрачное прозябание, самые
скромные обстоятельства. Они там, где в чем-то, почти бесплот-
ном, едва теплится огонек самобытной жизни, невиданной страсти,
чтобы соткать из этой эфемерности и заволакивающей ее дымки
призрачное бытие.
Поэт не может пройти мимо самой что ни на есть непримет-
ной вещи. Горстка фактов или мириады фактов самого разного
порядка всегда каким-то образом присутствуют для него, стоят где-
то в темноте и ждут своего часа. И у него всегда доходит до них
очередь: будь то морфий в сегодняшнем мире или Афины, Рим,
Карфаген в мирах ушедших, будь то рынки, на которых торговали
и торгуют людьми, будь то существование ультрафиолетовых
лучей или скелеты допотопных животных. Он живет, причем всег-
да, под давлением неизмеримых атмосфер, как ныряльщик в глуби-
нах моря. Выдерживать подобную тяжесть позволяет ему лишь
необычайное устройство души. Ему не дано отвернуться от чего-
либо. Он — то место, где силам времени нужно уравновешивать
друг друга. Он подобен сейсмографу, улавливающему вибрацию
любого сотрясения, произойди оно даже на расстоянии тысячи
миль. Не то чтобы он непрестанно помнил обо всех вещах в мире,
это они помнят о нем. Они вселились в него, завладели им. Его
мрачные состояния, его депрессии, его смятенные чувства — не
субъективны, нет,- они похожи на колебания сейсмографа. И
Статьи. Речи. Эссе
595
достало бы одного, но достаточно проникновенного взгляда,
чтобы прочесть в них нечто более таинственное, чем в его стихах.
Его боль — это внутренние сочетания, очертания вещей в нем,
которые он не в силах расшифровать. Его непрестанная деятель-
ность — это поиск гармонии в себе, приведение в состояние гармо-
нии того внутреннего мира, который он в себе носит. Стоит ему в
свои звездные часы создать нечто, как его творение обретает гар-
монию.
А вы хотите наслаждаться гармонией. Порой вам, вероятно,
кажется, что современные поэты не способны создавать ее. Я тол-
кую вам, что поэты сводят все вещи воедино, очищают эпоху от
подспудной боли, придают всему звучание — а звучание обретает
гармонию. И все же... Сколько книг вами уже прочитано! В них
были стихи, поэтическая материя, но — ровным счетом ничего
подобного этой высшей магии. Вы хотели бежать из расколотого
мира, а нашли опять осколки. Вам обнажили все элементы бытия:
механизм работы духа, физические состояния, двусмысленные
отношения экзистенции — все свалено в одну кучу, словно мате-
риал, приготовленный для строительства дома. В этих книгах вы
обнаружили то же разъединение на атомы, расчленение человечес-
кого на его составные части, разложение того, что, будучи собрано
вместе, составляет наивысшее из творений — человека. А вам так
хотелось заглянуть в волшебное зеркало, чтобы увидеть там хаос
упорядоченным, мертвое — живым, тленное — вечно цветущим.
Да, во всех этих попытках вы вполне ощущаете поэзию, но разве
это, сомневаетесь выу удостоверяет принадлежность к поэтичес-
кому сословию?
Не исходит ли от этих поэтических душ больше лихорадоч-
ного беспокойства, чем успокоения? Не являются ли они высо-
кочувствительными органами этого громадного тела, благодаря
которым лавина несуразных притязаний еще беспощадней перево-
рачивает душу? Разве их взор не порождает повсюду фантомов, не
одухотворяет даже распадающиеся части целого, вселяя смятение и
жуть? Читая написанное, вы все громче, все нетерпеливее задаете
596
Гуго фон Гофмансталь
этот вопрос, вы сильнее ощущаете необходимость «подходить с
меркой безусловного к скудному порождению времени», вы требу-
ете от тех, кто жаждут стать поэтами своей эпохи, наивысшего,
единственного, неизбежного поэтического творения, синтеза сути
эпохи. От поэтической стихии, от поэтической эссенции, которой
— в этом вы охотно согласитесь со мною — данная эпоха насыщена
не менее, чем всякая другая, вы требуете результатов. Вам мало
одного ее наличия.
Подытоженный результат эпох вы найдете и в произведе-
ниях Шиллера и в произведениях Геббеля, правда, там это уже
труднее разглядеть. Вы даже склонны согласиться, что такое есть
и у таинственного Новалиса. Вполне понятно, что если я в этой
связи не упоминаю Гёте, не ставлю его творчество на первое
место, то лишь потому, что он дал синтез не одной определенной,
но двух соприкасающихся эпох, пока еще не раскрытый нами. Но
ведь ничего подобного, кого бы вы ни взяли, не предложили вам
поэты нынешнего времени. И вы уже склонны думать, что к этому
долгу примешивается своеобразный налет строптивости, созна-
тельный эгоизм позиции; вам чудится стремление отвернуться
прочь от самых насущных вопросов времени, этакая игра в прятки.
Вы отмечаете, причем с изумлением, что поэты, очевидно, почти
забыли о своем долге, что они с каким-то высокомерием, даже с
некоторой долей презрения позволяют другим войти на миг в роль
защитников, глашатаев времени. Создается впечатление, что
между их отношением к делу и позицией Шиллера, этого неподкуп-
ного, сознательного герольда своей эпохи, пролегает пропасть, что
та же пропасть отделяет их и от Геббеля, хранившего неусыпную
бдительность под покровом тьмы и не выпускавшего из рук весов,
на колеблющихся чашах которых измерялись ценности. Создается
впечатление, будто, пораженные какой-то ограниченностью, они
осознают лишь свою причастность к бесконечным переживаниям
поэта, целиком и полностью позабыв о долге. Будто в создании
произведений их интересует лишь внутреннее торопливое погруже-
ние в жизнь, качание на сверкающих волнах жизни. Словно они в
своем творчестве —: возьмем эту скрытую ото всех, освещенную
Статьи. Речи. Эссе
597
таинственным светом сторону вещей — ищут лишь отдохновения,
болезненно стремятся укрыться от бесконечных метаний жиз-
ни и забыться, как черт Карамазова, который мечтал вопло-
титься в толстую семипудовую купчиху и верить во все, во что
верит она.
Порой мне кажется, что подобного рода отношение, скорее
прочувствованная, нежели осмысленная неприязнь витает в воз-
духе — этакое легкое, нетерпеливое напряжение, невысказанное
осуждение эпохи в адрес поэтов, которые существуют, но как
будто существуют не для нее. Будто они то и дело погружаются в
стихию времени, но никогда не выныривают на поверхность.
Кажется, что их вечная приверженность материалу — причем все
равно, взят он из внешнего или внутреннего мира, — служит выра-
жением отказа от синтеза, выражением бегства, недостойного и
непонятного упадка.
Мне иногда чудится, что око времени, его строгий, вопроша-
ющий, с трудом переносимый взгляд остановился на бытии этого
множества поэтов, словно на странном, пугающем явлении. И
будто поэты чувствуют устремленный на них взгляд, чувствуют
свою многочисленность, свою общность, сплетение своих судеб,
непостижимость и вместе с тем неизъяснимую необходимость
своего дела. Этому делу нет названия, хотя над ним нависло веле-
ние необходимости. Кажется, будто все они строят некую пирами-
ду, грандиозную обитель то ли умершего короля, то ли не родив-
шегося бога.
Но что ни говори, они существуют, они тут, и у них есть свой
удел на свете: наслаждаться, страдая, нескончаемостью явлений и
создавать видения из наслаждения страданием; творить ежесекунд-
но, с каждым биением пульса, словно под толщей целого океана,
куда не пробиться ни одному лучу света, даже самому малому; тво-
рить, когда вокруг гремит хор издевающихся, повергающих в смя-
тение голосов; творить, повинуясь не какому-то понуждению, а
заложенному в своей натуре велению; творить, сплетая пережитое,
придавая явлениям гармоничное звучание; трудиться как муравей,
разрушая и снова создавая, трудиться подобно пауку, ткущему
598
Гуго фон Гофмансталь
паутину и тянущему нить из своей плоти, нить, удерживающую
тебя над бездной бытия.
Вот то, что призван дать каждый из многих, они чувствуют
присутствие друг друга (да разве может быть иначе, ведь они ощу-
щают даже легчайшее прикосновение воздуха, ощущают дыхание
тех, кто умер три тысячелетия тому назад), чувствуют, как бьется
сердце собрата, чувствуют прикосновение всех рук, и ткущих сооб-
ща, тысячью рук во мраке тянущих одну бесконечную нить. И нет
этому делу названия, хотя над ним и нависло веление необходимо-
сти. Нам чудится, что на этом безмолвном деянии покоится стро-
гое, вопрошающее око времени... Но что же будет, если не най-
дется ни души, способной выдержать тот взгляд, ни сейчас, ни
позже того, кто призван дать ответ на этот вопрос?
Бывает, очнувшись ото сна, мы, вроде бы уже проснувшись,
слышим и видим все, пребывая тем не менее в глубочайшем
забытьи, опьяненные таинственным целебным зельем сновидений.
И вот лежишь, грезя наяву, погружаешься мыслями в глубины
бытия, нацеливаешь туда ужасающе непреклонный, мучительный
взор, все сметающий на своем пути, а жуткий голос в тебе вопро-
шает: как ты это терпишь? Зачем жить и сносить такое? Может,
лучше положить всему конец? Вот наступит день, колокола про-
звонят к заутрене, защебечут птицы, разольется живительный
свет, а там ничто не изменится. Но стоит заснуть снова — и все
исчезает, меркнет от сладостного бальзама жизни. То же самое,
сдается мне, происходит и со временем, опоенным тайным чудо-
творным ядом. Порой, очнувшись ото сна, оно открывает глаза и
устремляет жуткий, вопрошающий взор на все это. Но этот сверля-
щий взгляд принадлежит спящему, и никто, ни сейчас, ни потом, не
обязан на него отвечать.
Никогда отныне пробудившееся время не потребует от
поэтов — ни от каждого, ни ото всех вместе взятых — риторики
исчерпывающего выражения, итога в виде сформулированных
понятий. Уж слишком много сил придало исключительным явле-
ниям то столетие, с которым мы распрощались. Слишком эне-
ргично развернуло оно маскарадное шествие немых явлений.
Статьи. Речи. Эссе
599
Слишком мощно захлестнула нас безмолвная тайна природы и мол-
чаливая тень прошлого. Пробудившееся время потребует от
поэтов больше и более таинственного. Этот грандиозный процесс
наложил новый отпечаток на восприятие поэта и тем самым на вос-
приятие того, ради кого поэт существует: на восприятие отдель-
ного человека. Ни сам поэт, ни тот, для кого он творит, уже не
похожи на своих предшественников из минувших эпох. Не стану
тут разбирать, на кого они теперь больше похожи: на священника
и прихожанина, на возлюбленного и влюбленного, по Платону,
или на чародея и очарованного, ибо подобные сравнения в равной
степени скрывают и раскрывают неуловимую пропорцию, в кото-
рой столь различные волшебства в любом количестве смешаны с
другими безымянными элементами, присущими исключительно
сегодняшнему дню.
Однако эта неуловимая пропорция существует. Существует
книга, очаровывающая душу и помыслы. Вот она нашептывает
нам, в чем состоит наслаждение жизнью и отчего оно тает, как
заполучить власть над людьми и как достойно встретить смертный
час. Вот она — книга, воплощение мудрости и соблазна. Книга
лежит, немая и красноречивая, более многоликая, опасная, таин-
ственная, чем все многоликое, мощное и таинственное, сверх вся-
кой меры неподатливое, воистину преисполненное поэзии время. К
чему изобретать хитроумную антитезу, противопоставляя жизнь
книгам? Ведь если бы книги не были частью жизни, самой много-
ликой, опасной, неуловимой и чарующей ее частью, то они обрати-
лись бы в пустое место, не стоило бы даже сотрясать воздух разго-
ворами о них. В руках каждого человека они оживают по-своему,
оживают, как только соприкоснутся с живой душой. Книги не гово-
рят, а отвечают, и это превращает их в демонов. Синтез времени не
состоится, но зато всякий может припасть к глубокому роднику,
который не отхлынет даже в самый мрачный час. Даже не знаю,
когда созерцаешь эти вещи в их таинственной, чудеснейшей
взаимосвязи, позволительно ли говорить о порождениях скудости,
ведь пустое пройдет, а созданное душой снова западет в душу.
Никогда прежде до сей поры требовательный читатель не ото-
600
Гуго фон Гофмансталь
ждествлял себя настолько, взыскуя всем своим «я», с поэзией. И в
том, кто жадно набрасывается на книгу, и в том, кто ее создает,
происходит борьба, громоздится хаос. В читателе, о котором я
говорю (отдельном, редком, но все же не настолько, насколько это
кажется), и в нем, словно в живой воде, растворяется все мрачное,
забываются все противоречия, все стремится слиться воедино. Как
и у поэта, его душа освобождается ото всего мирского, нет, не
попирая его, но вбирая в себя с такой силой, что проходит его
насквозь. В моменты озарения для него тоже все одновременно
далеко и близко. Нет недосягаемых состояний души, нет унизи-
тельной низменности. С ним происходит то же, что и с поэтом: в
такие мгновения даже дыхание становится созидательной силой. В
эти редкие часы — настоящее событие, которое приходит
нежданно-негаданно, — он верит в то, что читает, как поэт, кото-
рому невыносимо создать то, во что он не верит. В слово «верить»
я вкладываю более глубокий смысл, чем тот, который, боюсь,
улавливаете вы в спешке этого близящегося к концу выступления.
Я имею в виду не состояние, когда забываешь, кто ты и где ты,
отдаваясь во власть чарующей фантазии слов, забываешь за кни-
гой собственную жизнь. Какое мимолетное и какое банальное оча-
рование! Нет, напротив, я хотел сказать, что это слово надо вос-
принимать во всей полноте его смысла, во всей глубине его рели-
гиозного значения. Я имею в виду веру в нечто за пределами дей-
ствительности, ощущение душевной сопричастности и волнения,
отдохновение от суеты бытия. Итак, поэты верят в то, что созда-
ют, и создают только то, во что верят. Может рухнуть все мирозда-
ние, но для них поэтическое видение — та точка опоры, на которой
держится вселенная. Слово «видение» следует понимать так, как я
его мыслю, вне связи с каким-либо устоявшимся понятием. Истин-
ное проникновение в тончайшую материю и невероятно взаимосвя-
зующее созерцание жизни вселенной — вот к чему сводится данное
понятие, и мне ничего не остается, как доверить его вашему пони-
манию. Вот вы сидите передо мной, множество людей, а я даже не
знаю, для кого говорю. Но я говорю только для тех, кто склонен
следовать за моим рассуждением, а не для тех, кто дал себе клятву
Статьи. Речи. Эссе
601
все отметать. Я могу говорить лишь с теми, для кого существует
написанное поэтами. Для тех, благодаря существованию которых
поэты вообще в состоянии обрести жизнь, ибо они — вечно отвеча-
ющие, и без вопрошающих им суждено превратиться в тень. Прав-
да, речь идет главным образом о жизни и о живущих, о мужчинах
и женщинах нынешнего времени, единственных реально для нас
существующих, единственных, ради кого, вероятно, существуют
прошлое и будущее; ради кого угасли старые и взошли новые све-
тила; ради кого существовали доисторические времена, невообра-
зимые леса и чудовищные звери; ради кого был разрушен Рим и
Карфаген, разрушены, чтобы им жилось и дышалось так, как им
живется и дышится сегодня. И чтобы облечены они были в эту
живую плоть, и чтобы блестели влагой их глаза, а волосы обрам-
ляли чело так, как они его обрамляют. Вот о них идет речь, об их
боли и радости, об их сплетениях и переплетениях, об их одиноче-
стве. И как же глупо противопоставлять живущим, живым поэзию
как нечто чуждое. Ибо поэзия — не что иное, как функция живых,
ведь не она живет, а ею живут. Говоря здесь о сопереживании как
о религиозном, быть может, даже единственном религиозном
сопереживании, которое когда-либо воспринималось сознательно,
я не скажу ничего удивительного тем, кто хоть раз пережил сто
страниц из Достоевского или Оттилию из «Избирательного срод-
ства» Гёте, проникся хотя бы одним стихотворением Гёте или Сте-
фана Георге.
Данное сопереживание не поддается никакому расчленению
или описанию. О нем можно помнить, но его не дано постичь тем,
кто с ним не соприкасался. Тот, кто знает толк в чтении, читает
веря, ибо отдыхает всей душой, отдавшись во власть воображения.
Он целиком уходит из внешнего мира. На один волшебный миг для
него все одинаково близко и далеко, ибо он ощущает свою при-
частность ко всему. Его ничто не связывает с прошлым. Он не
ждет ничего от будущего. На один волшебный миг он сумеет прео-
долеть время. Там, где он, все при нем, все сомнения остались поза-
ди. Нечто одно вместило для него многое, ибо оно воспринимается
им символически, более того — нечто одно заменит ему все. И он
602
Гуго фон Гофмансталь
счастлив, хоть и не опирается на кирку надежды. Он не забывает о
себе в тот единственный миг, он ощущает свою целостность, ибо
становится самим собой.
Мне часто приходится слышать, что одни книги называют
натуралистическими, а другие — психологическими, те — симво-
листскими, а эти — тоже какими-то ничего не значащими словами.
Не думаю, чтобы какое-либо из данных наименований имело хотя
бы малейший смысл для того, кто знает толк в чтении. Не думаю
также, что какой бы то ни было другой, сотрясающий воздух спор
имеет хоть малейшее значение для внутренней жизни живого чело-
века. Я имею в виду спор о крупном и малом поэте, об их подразде-
лении по значительности, да еще о том, что в живых поэтах
меньше величия, чем в мертвых. Мне думается, что для человека
как такового, знающего толк в чтении, для него умершие поэты
обретаются среди живых, переживая свою вторую жизнь. Для него
существует только один признак, которым отличается поэзия:
она — плод воображения. А прочие различия его не интересуют.
Он не томится в ожидании великого поэта. Для него всегда велик
тот из поэтов, кто одаривает душу безмерным. Единственное раз-
личие, которое он делает, заключается в выделении поэтических
книг из несметного числа других — вычурных плодов подражания
и сумятицы. Однако и в них он чтит крохи поэтического духа, спо-
собность хоть единым лучом озарить совсем юные, неоперившиеся
души. Он не ждет, пока в лице некого велеречивого поэта, зна-
ющего ответ на все вопросы, герольда и защитника, время обретет
свой синтез, годный на все века. Ибо синтез рождается в нем самом
и ему подобных, он происходит в тысяче скрытых мест. И
поскольку он сознает себя носителем времени, таким, как все,
одним из всех, отдельным человеком и символом, то ему кажется,
что, когда пьет он, утоляется жажда эпохи. Да, когда он отдается
во власть видения и в состоянии поверить в то, что ему приоткрыл
поэт, — будь то образ человека, грубая, но постигнутая всем сер-
дцем проза жизни или невероятное явление орфического лика, —
когда он в состоянии.символически воспринимать самые таинствен-
Статьи. Речи. Эссе
603
ные порождения времени, возникшие под тяжестью всего мира,
несущие на себе отсвет прошлого и содрогающиеся от тайны
неумолимого настоящего, когда он переживает стихи, это сейсмо-
графическое, поэтическое таинство, творение того, кто пребывает
в рабстве у всего живого, кто чутко реагирует на малейшее движе-
ние воздуха, когда это извлеченное из самых недр эпохи творение
дарит ему радость ощутить свое полнокровное «я» и уверенность
парить над бездной бытия, для него исчезает понятие времени, а
прошлое и будущее сливаются в одно сплошное настоящее.
Перевод А. Гугнина
ПУТИ И ВСТРЕЧИ
Великолепен полет птиц в эти лучезарные дни, и я вполне пони-
маю, почему однажды записал эти строки: «Je me souviens des paro-
les d'Agur, fils d'Jake, et des choses qu' il declare les plus incompehen-
sibles et les plus marveilleuses: La trace de l'oiseau dans Fair et la trace
de Thomme dans la vierge»1.
Эти строки записаны мною карандашом на полях моего путе-
вого дневника, и я их обнаружил три дня назад, когда искал дорогу
от моря в горы, к Урбино: я хотел оттуда проехать в коляске через
перевал в Ассизи или к Тразименскому озеру. Писано было моим
почерком, дрожащей рукой, то ли в коляске, то ли в поезде; но
ничто не наводило меня на мысль, откуда это. Возможно, из какой-
то старинной французской книги. Но разве тогда, в Умбрии, я
читал старинные, редкие книги? Не помню. Кто этот Агюр? И
кому пришли на память слова Агюра? И все-таки это записано
мною, и все остальное погасло, и только это живет в сознании. И
где-то во мне, у меня за спиной, среди всего пережитого мною еще
1 «Я вспоминаю слова Агюра, сына Жаке, высказанные им особенно
непонятно и загадочно: «След птицы в воздухе и след мужчины в женщине»
(франц.).
606
Гуго фон Гофмансталь
бури». И между сном и бдением пронизывало меня неописуемое
чувство счастья от необъятности мира (над полуосвещенными
горами, и долинами, и озерами которого бушевала сейчас буря). Я
погрузился в это чувство, как в мягкую темную волну, и очутился
как бы сразу в пучине сна и — на просторе, вдали и в вышине, в
полуосвещенной, блеклой ночи, в буре, на широком склоне огром-
ной горы. Но это был не просто склон горы, это была причудливая
местность, это был — я не мог этого видеть, но я это знал — нисхо-
дящий террасами край гигантского нагорья, это была Азия. И
вокруг меня, перекрывая шум бури и наполняя блеклую, полуосве-
щенную ночь величественной тревогой, все было в неудержимом
движении. Целый народ был вокруг меня, и весь народ суетился во
тьме, снимая палатки и нагружая имуществом вьючных животных.
Совсем рядом со мной группы безмолвных людей спешно вьючили
верблюдов и других животных; но все тонуло во мраке. Я тоже
взялся укладывать одну из палаток, которая еще стояла на месте. Я
оказался у палатки один, стал вырывать колышки из земли и уви-
дел в просвете великолепную работу, которая украшала нижний
полог палатки: очень искусный орнамент из темно-коричневых
кожаных полос, нашитых на очень светлую натуральную кожу.
Вокруг меня все так же царило смутное движение чудовищных сбо-
ров, я чувствовал, что все совершалось властью приказа, приказа,
которому не могло быть прекословья. И я тут же почувствовал,
что палатка, над которой я начал работать, была частью его шатра
— того, кто приказал эти сборы, от кого исходили все приказы. И,
словно так и следовало сделать, я взобрался на кучу сложенных
друг на друга покрывал для мулов, раздвинул что-то в стене и
заглянул внутрь шатра. Там было еще темнее, чем снаружи, где я
стоял. Но постепенно я смог видеть, даже вполне отчетливо.
Шатер был без утвари и украшений, только темные стены. В глу-
бине, на большом покрывале, на темно-красном или красно-фио-
летовом покрывале лежала молодая женщина, смуглая и бледная,
неописуемой темной бледности и красоты, из ее объятий только
что высвободился мужчина, высокий, худой мужчина поднялся и
прямо перед моими глазами прошел через пустой шатер к противо-
Статьи. Речи. Эссе
607
положной стене. Девушка — на ней не было ничего, кроме широ-
кой шали на плечах, — протянула руки вослед ему, словно без-
звучно окликая, но он не обернулся. Я тоже почти не видел его
лица, но понял, что он стар, стар и могуч, с разделенной надвое
развевающейся бородой, с тюрбаном землистого цвета на голове.
Но его стройное тело, обнаженное до пояса, его длинные тонкие
руки были как у юноши, полные легкости и отваги. Его бедра
обвивала длинная ткань неописуемой желтизны. Я узнал бы отте-
нок этой желтизны, где бы и когда бы ни увидел его снова. Она
была великолепней, чем желтизна старого персидского кафеля,
лучезарнее, чем желтизна желтых тюльпанов. Вот он подошел к
пологу шатра, самому темному, и распахнул его, словно большое
окно. Ворвался ветер и отбросил назад его разделенную надвое
белую бороду за его землисто-коричневые сухие плечи. Прекрас-
ная женщина приподнялась с мольбой и как будто нежно позвала
его по имени, но ветер не донес до меня ни звука. Я видел только
его и еще окно, открытое им в стене шатра; там была кромешная,
полуосвещенная ночь, неоглядное уступчатое нагорье и немые
сборы целого народа. И его простое присутствие возле четыреху-
гольного выреза в пологе шатра, возвышавшегося над всеми дру-
гими палатками, вносило немую, дикую суету в эти сборы, и даже
облака, казалось, быстрее неслись под побледневшей луной над
нагорьем. Этот человек, и никто иной, был Агюр.
Перевод В. Куприянова
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК
Чтобы узнать этого великого писателя, недостаточно прочитать ту
или иную его книгу. Просто не существует такого сочинения, в
котором воплотилась бы квинтэссенция его творчества, подобно
тому как, например, «Фауст» или «Стихотворения» запечатлели
жизнь Гёте во всей ее полноте. Бальзака нужно читать много, при-
чем для этого вовсе даже и не требуется никакого искусства. Книги
его самым естественным образом становятся привычным чтением
608
Гуго фон Гофмансталь
светских людей, причем светских в широком понимании этого сло-
ва, то есть начиная от адвокатского писца или ученика торговца и
кончая титулованными господами. Светским людям (сюда я вклю-
чаю людей всех сословий: политиков, военных, коммивояжеров,
знатных и незнатных женщин — одним словом, всех людей, кото-
рые не являются литераторами или специалистами в области эсте-
тики, всех тех, кто читает не ради тяги к образованию, а лишь
затем, чтобы усладить собственное воображение) порой необхо-
димо сделать над собой известное усилие, преодолеть некий барь-
ер, чтобы приступить к чтению Гёте. И если можно с абсолютной
уверенностью сказать, что в тяжкую и смутную пору их существо-
вания дистанция между ними и Гёте увеличивается, то Бальзак
остается рядом всегда. Я имею в виду не литературный аспект: если
у Гёте любое, наугад раскрытое стихотворение неизменно воспри-
нимается как некое чудо, явление духа, волшебное заклинание, то
у Бальзака вы без труда обнаружите три-четыре скучные, утоми-
тельные страницы, причем не обязательно даже в начале повество-
вания, а в любом произвольно раскрытом месте. Однако, по мере
того как вы механически пробегаете эти непритязательные, порой
сопротивляющиеся страницы, вы постепенно попадаете во власть
чего-то такого, что не может оставить равнодушным истинного,
обладающего живой, пытливой душой читателя: какой-то огром-
ной, безымянной, природной фантазии, по насыщенности своей и
по своему величию не имеющей себе равных со времен Шекспира.
Какой бы отрывок вам ни встретился, будь то экскурс в вексельное
право и практику ростовщичества, отступление о легитимистском
или либеральном обществе, описание кухонного интерьера или
супружеской сцены, чьей-нибудь внешности или какой-то трущо-
бы, вы вдруг ощущаете прикосновение мирового начала, той самой
однородной субстанции, из которой сотворены начала и концы
вашей жизни. И вы незамедлительно погружаетесь в эту книгу,
мгновенно расстаетесь с заботами, неприятностями собственной
своей жизни, с любимыми занятиями и денежными проблемами, со
всеми вашими рутинными делами и амбициями. Я был знаком с
одним финансистом, который сразу же после заседаний и конфе-
Статьи. Речи. Эссе
609
ренций хватался за своего Бальзака, где в качестве закладок
лежали записи биржевого курса, и знал одну светскую даму, кото-
рая считала «Утраченные иллюзии» и «Старую деву» единствен-
ным мыслимым средством, позволяющим вновь прийти в себя
после выезда в гости либо после приема в своем доме, единствен-
ным, в достаточной мере сильным и чистым чтением, излечива-
ющим фантазию от внезапно возникающей, столь разрушительной
горячки тщеславия, приводящим все светское к его общечелове-
ческому эквиваленту. Я спрашиваю себя, кто из наших великих
писателей, из тех, что составляют неотъемлемую часть нашей
духовной жизни, мог бы соперничать с Бальзаком в этой способно-
сти проникать в самое сердце человеческого бытия — в способно-
сти исцелять подобное подобным и побеждать реальность самой же
демонически усиленной реальностью? Вероятно, один лишь Шекс-
пир. Однако далеко не всякому дано читать Шекспира так, как
былые поколения читали древних, то есть извлекая из него всю
эссенцию жизни, читать его с позиции жизни, удовлетворяя самые
насущные запросы собственной любознательности. Далеко не
каждому под силу так напрягать свое воображение, чтобы, преодо-
левая временной интервал в три столетия, приоткрывая все
покровы той великолепной, но совершенно чуждой нам эпохи,
обнаруживать там вечные и неизменные перипетии человеческих
поступков и человеческих страданий. Не каждому дано, не прибе-
гая к помощи актеров, к помощи вполне определенного, воссозда-
ющего дара воображения, вновь развернуть во всю широту некогда
гениальнейшим образом уплотненную и сконцентрированную кар-
тину мироздания, чтобы обнаружить на ней и свой собственный
портрет и все многократно переплетенные нити бытия, само пере-
крещивание которых подтверждает его реальность. В известном
смысле Гёте читать легче, да и кто только его не читает! Хотя он
оставил глубокое и выношенное признание, что его сочинения не
созданы для популярности, что их истинное содержание всегда
будет открываться лишь единицам, пережившим нечто подобное,
количество этих единиц, кажется, так умножилось к настоящему
времени, что сейчас его слова, пожалуй, уже не соответствуют дей-
610
Гуго фон Гофмансталь
ствительности. И все же тот, кто вновь желает насладиться его
произведениями и собирается перечитывать «Германна и Доро-
тею», «Вильгельма Мейстера», «Избирательное сродство», должен
приблизиться к книге с заранее очищенным духом. Он должен
отказаться от многого, что составляет часть его самого, часть той
атмосферы, в которой протекает его жизнь. Должен забыть боль-
шой город. Должен отсечь тысячи нитей своих привычных чув-
ствований, мыслей и желаний. Должен размышлять о своем «прос-
ветленном теле», то есть о вечном, чисто человеческом, абсолют-
ном. Должен улететь мыслью к вечным звездам, приобщиться к их
свету. А выбор того или иного произведения Гёте почти не имеет
значения: везде читатель встречает одну и ту же одухотворенную и
просветленную действительность. Поистине его окружает целый
мир — своего рода дух, который является целым миром. Нравоуче-
ния и образы, какая-либо идея или описание природы, Миньон или
Оттилия — все в равной степени составляет божественную, лучезар-
ную материю. В каждой строке чувствуется связь с целым, с вели-
чественным порядком. Необыкновенная по своей насыщенности
умиротворенность почти бременем ложится на его душу, чтобы
затем вознести эту душу к безграничному блаженству. Однако не
каждый удостаивается объятий этой способной возносить к звез-
дам руки. Даже при жизни удостаивал Гёте лишь немногих, да и тех
не в любой час. Тем, кто берется за него торопливой рукой, творе-
ния, подобные «Избирательному сродству», покажутся закрыты-
ми, похожими на раковину с сомкнутыми створками. Гёте предста-
нет перед ними холодным, чужим, странным. Он производит тем
большее впечатление, чем ближе его узнаешь. Они же отклады-
вают чтение, встречу с ним на более спокойный день или на время
какого-нибудь путешествия. Или же, раскрыв книгу, начинают
тосковать по своей юности, по более живой восприимчивости. И
тот, кто был самим воплощением природы, кажется им искусствен-
ным, тот, кто теплом своего любовного взгляда мог прогреть
толщу застывшей коренной породы, кажется им холодным. Они
обращаются за помощью к комментатору или к его изумительным
письмам и беседам, в которых он комментирует самого себя, и
Статьи. Речи. Эссе
611
только по этой окольной дороге вновь возвращаются к его произ-
ведениям. Но трудно представить себе читателя, идущего обход-
ным путем к Бальзаку. Очень немногие из его бесчисленных чита-
телей знают что-либо о его жизни. Литераторы в лучшем случае
могут припомнить о нем какой-нибудь незначительный анекдот,
который не привлек бы ничьего внимания, не имей он отношения
к автору «Человеческой комедии», или его переписку, где нет
почти никакой другой информации, кроме бюллетеней его нескон-
чаемого, гигантского, ни с чем в литературном мире не сравнимого
подвижничества в работе. Самым убедительным, свидетельством
необычайной силы его сочинений является то, что мы можем
читать эти бесконечные бюллетени с таким же напряжением, с
каким мы читаем, например, донесение, связанное с военной кам-
панией Наполеона, где речь идет об Аустерлице, Йене и Ваграме.
Его читатели знают написанные им книги, но не его самого. Они
произносят «Шагреневая кожа» — и перед их глазами разверты-
вается сон наяву, но они думают о фантастическом приключении,
а никак не о писательской удаче; они думают о старом Горио и о
его дочери и не поминают их создателя. Войдя однажды в этот мир,
они не раз в него вернутся, по крайней мере девяносто человек из
ста, вернутся через пять, через десять, через двадцать лет. Вальтер
Скотт, когда-то пленявший взрослых, нынче превратился в автора
книг для детей. А Бальзак навсегда (или очень надолго, поскольку
кто же осмелится ручаться за «всегда») будет оставаться писателем
для всех возрастов, писателем, которому обеспечен одинаковый
успех и у мужчин и у женщин. Военные истории и приключения,
«Шуаны», «Красная гостиница», «Эль Вердуго» вносят в воображе-
ние шестнадцатилетних некоторую перемену после индейских
историй и капитана Кука; переживания Рюбампре и Растиньяка
интересны молодым людям; «Лилия в долине», «Саварюс», «Моде-
ста Миньон» привлекают внимание молодых женщин; мужчины и
женщины, которые достаточно зрелы и не лишены достатка, кото-
рым около сорока, предпочтут то, что есть у писателя наиболее
зрелого: «Кузину Бетти» — величественное творение, которое,
хоть в нем и рассказывается почти исключительно о безобразном,
612
Гуго фон Гофмансталь
скорбном и страшном, я не могу назвать мрачным — там все
пылает огнем, жизнью и мудростью; «Старую деву» — неболь-
шую, приятную, веселую, безупречно написанную книгу, которой
одной хватило бы, чтобы пронести славу ее создателя через многие
поколения. Я слышал, как один пожилой господин расхваливал
«Озорные сказки» и как другой пожилой господин с умилением
отзывался об истории Цезаря Биротто, о непрерывном движении
вверх этого достойного человека, из года в год, от баланса к балан-
су, от почести к почести. И если существовали люди, которым
представлялось естественным вырезать из всего «Вильгельма Мей-
стера» одну лишь «Исповедь прекрасной души» и предать огню все
остальное, то обязательно были и такие люди, которые из «Чело-
веческой комедии» вырезали «Серафитуса-Серафиту» с целью сде-
лать эту книгу своей настольной, и, возможно, именно так и посту-
пил тот неизвестный, который в венском концертном зале подо-
шел к Бальзаку, чтобы поцеловать руку, написавшую «Серафиту».
Каждый находит здесь так много вещей, принадлежащих великой
целостности жизни и как будто сделанных из того же материала,
что и она сама. И чем богаче накопленный человеком опыт, тем
интенсивнее сила воображения, тем более прочная связь устанав-
ливается между ним и этими книгами. Здесь никому не нужно
оставлять за порогом что-то свое. Все без исключения эмоции,
какими бы неочищенными они ни казались, включаются здесь в
игру. Здесь находишь свой собственный внутренний и внешний
мир, только более компактный, более причудливый и весь осве-
щенный изнутри. Здесь господствуют те самые силы, которые вли-
яют на нашу собственную жизнь, те же препятствия, которые
делают тяжелой нашу походку. Здесь собраны все болезни нашей
души, наши страсти, полубессмысленные стремления, изнуритель-
ное тщеславие; здесь выставлены все искушающие нас демоны.
Здесь прежде всего есть большой город, к которому мы привыкли,
и есть провинция, находящаяся в определенной взаимосвязи с боль-
шим городом. Здесь есть деньги, чудовищная власть денег, филосо-
фия денег, воплотившаяся в образах. Здесь есть социальные рас-
слоения, политические группировки, которые в большей или мень-
Статьи. Речи. Эссе
613
шей степени все еще близки и нам. Здесь есть лихорадка делания
карьеры, лихорадка приобретения денег, ослепление работой, пол-
ное тайн одиночество художников, изобретателей, есть все —
вплоть до убожества мещанской жизни, мелких денежных забот,
вплоть до усердно и часто стиранных перчаток, вплоть до сплетен
прислуги.
Внешняя достоверность всех этих свойств столь велика, что
они, если можно так выразиться, обрели способность, подобно
атмосфере, сохраняться, перемещаясь в пространстве отдельно от
того предмета, которому они принадлежат; Париж Луи-Филиппа
давно ушел в прошлое, но некоторые стечения обстоятельств, про-
винциальный салон, где Рюбампре сделал свой первый шаг в свет,
или парижский салон госпожи Баржетон кажутся поразительно
актуальными в сегодняшней Австрии, социальное и политическое
состояние которой, вероятно, очень похоже на то, что было при
июльской монархии; а некоторые моменты из жизни Растиньяка и
де Марсе в наши дни, может быть, более типичны для Англии,
нежели для Франции. И хотя сияние этой столь для нас ощутимой
и волнующей «правды», этого самого наипервейшего великого
достоинства «современной» литературы весьма скоротечно, вну-
тренняя правда этого рожденного всплеском фантазии мира (кото-
рый лишь в течение краткого мгновения в тысяче не самых глав-
ных точек прикоснулся к эфемерной действительности) сегодня
вдруг предстает более убедительной и наполненной жизненной
силой, чем когда бы то ни было. Этот мир, самая совершенная и
самая разветвленная галлюцинация из всех когда-либо существо-
вавших, оказывается как бы заряженным правдой. Внимательный
взгляд обнаруживает, как плоть этой правды распадается на суще-
ствующие независимо друг от друга бесчисленные силовые цент-
ры, на монады, внутренним содержанием которых является самая
интенсивная, самая сокровенная правда. В перипетиях этих жизне-
описаний, этих биографий, интриг, связанных с борьбой за деньги
и за власть, происшествий в деревнях и в маленьких городах, ане-
кдотов, монографий, посвященных какому-то одному страданию,
какой-то одной болезни души или какому-то одному обществен-
614
Гуго фон Гофмансталь
ному институту, в лабиринте почти трех тысяч человеческих судеб
затронуто едва ли не все из того, что в сложной до запутанности
жизни нашей цивилизации случается вообще. И почти все, что
говорится об этих мириадах вещей, взаимоотношений, явлений,
буквально насквозь пронизано правдой. Я не знаю, предпринимал
ли уже кто-нибудь (впрочем, начало может быть положено в
любой момент) составление такой энциклопедии, все содержание
которой было бы почерпнуто только из Бальзака. Она вобрала бы
в себя все материальные и все духовные реалии нашего бытия. В
равной степени в ней не обнаружилоь бы недостатка ни в кулинар-
ных рецептах, ни в химических теориях; детали банковского дела и
коммерции, точнейшие, полезнейшие детали заполнили бы целые
колонки; много можно было бы узнать про торговлю и про дене-
жное обращение, много уже устаревшего и много вечно и в высшей
степени правильного и уместного, и там же рядом в каждой пред-
метной рубрике встречались бы самые отважные предположения и
предвосхищения научных открытий более поздних десятилетий;
любая из статей, озаглавленных «Брак», «Общество», «Полити-
ка», составила бы отдельные книги, и каждая из этих книг не имела
бы себе равных среди всех остальных документов мировой мудро-
сти XIX столетия. Статья, которой суждено было бы стать книгой
под названием «Любовь», смело вознеслась бы сводом жутких,
непознаваемых таинств («Страсть в пустыне») сквозь непроницае-
мый хаос многоликих низменных инстинктов к самой целомудрен-
ной, ангельской любви, затмив величием своего замысла уже суще-
ствующую знаменитую книгу с тем же названием, хотя та тоже
была сотворена рукою мастера. Впрочем, подобная энциклопедия
существует. Ее воплощение мы находим в мире образов, в лаби-
ринте происшествий, и именно ее страницы мы листаем, когда сле-
дим за нитью великолепно организованного повествования. Свет-
скому человеку интересно наблюдать, какие разнообразные мета-
морфозы происходят со столь неправдоподобными, а потому и
столь реальными ситуациями, из которых складывается социаль-
ная действительность. Есть тысячи нюансов в хороших либо дур-
ных взаимоотношениях мужчин и женщин. Неуловимые переходы,
Статьи. Речи. Эссе
615
неумолимые классификации, целая гамма качеств — от безупреч-
ного благородства до благовидности и подлости; все это преобразо-
вано и чудеснейшим способом изъято из мира людских страстей и
на какие-то мгновения сведено к бесконечно малым величинам.
Человек, зарабатывающий деньги (а кого же нельзя отнести к раз-
ряду людей, зарабатывающих деньги, сохраняющих их либо нужда-
ющихся в них?), обнаруживает там свой собственный мир во всей
его исчерпывающей полноте. Крупный биржевой маклер, заслу-
женный врач, голодающий и преуспевающий изобретатель, круп-
ный и мелкий обманщик, идущий в гору коммерсант, работающий
на армию поставщик, связанный с торговлей нотариус, ростовщик,
подставное лицо, залогодержатель — каждый из них представлен
не одним типом, а пятью, десятью типами, и какими типами! При-
чем каждый изображен со своими собственными профессиональ-
ными уловками, со своими тайнами, со своими сокровенными исти-
нами. Среди художников ходит даже легенда, будто бы в «Неведо-
мом шедевре» точные сведения, относящиеся к моделированию с
помощью света и тени, принадлежат Делакруа; для них эти истины
обладают слишком глубоким смыслом, чтобы они могли поверить
в доступность откровения кому-то еще, кроме художника, причем
великого художника. Философ, которому представляют «Луи Лам-
бера» как монографию, посвященную конкретному философу,
может найти слабой биографическую часть и усомниться в реаль-
ности самой личности. Но как только дело доходит до мыслей,
наполняющих записи и письма, насыщенность и внутренняя сила
кажутся столь убедительными, что развеивают абсолютно все сом-
нения относительно личности. Все эти мысли принадлежат опреде-
ленному человеку, являются функцией его мозга, а самые мысли,
всю эту философию конкретного мечтателя-спиритуалиста можно
отвергать или принимать — не это важно. Женатый человек, кото-
рому в час раздумий попадет в руки «Физиология брака», эта свое-
образная и, может быть, несколько недооцененная из-за ее слегка
фривольного тона книга, найдет в ней страницы, где изложены
достойные внимания, столь же приятные, сколь и глубокие
истины — истинные истины, которые при адекватном их воспри-
616
Гуго фон Гофмансталь
ятии в известной мере обладают способностью распространяться и
своей мягкой, лучезарной силой оказывать все возрастающее вли-
яние на душу. В этих истинах нет ничего эзотерического. Они выс-
казываются в светском, иногда почти легкомысленном тоне. Пере-
межаясь с происшествиями и портретными характеристиками, они
образуют в структуре повестовования, в структуре любого романа
наиболее насыщенные духовной жизнью элементы. Они движутся
нам навстречу, подобно самой жизни во всем ее богатстве: со
встречами, с катастрофами, с неистовством страстей, с внеза-
пными надеждами и откровениями, с мгновенно открывающимися
просветами в густом лесу явлений. Мы видим перед собой одновре-
менно и вибрирующую страстью, совершеннейшую картину жизни
и самую удивительную, самую проницательную философию, спо-
собную проследить до самых истоков путь любого жизненного
феномена, каким бы незначительным он ни казался. Хотя запечат-
ленная в этом громадном творении картина мира выглядит столь
же мрачной, как у Шекспира, и даже из-за своей массы кажется
еще более тяжелой, плотной, суровой, она вся струится духом жиз-
нелюбия, духом подлинного веселья и глубокого удовольствия.
Какими другими словами можно было бы определить то, что побу-
ждает нас снова и снова перелистывать попадающийся нам в руки
том — не читать, а именно перелистывать, тем самым обнаружи-
вая нашу еще более утонченную, насыщенную воспоминаниями
любовь? Каким огромным значением наполнено само перечисле-
ние названий этих ста книг или перечень появляющихся в них пер-
сонажей, если при таком своеобразном суммарном чтении мы ока-
зываемся во власти такого же всеобъемлющего и такого же уни-
версального наслаждения, как при чтении любимых стихов!
Накопление огромной массы сущностной истины невозмож-
но без организации. Упорядочивающая сила является творческой
силой в такой же степени, в какой ею является чисто созида-
тельное начало. Более того, оба этих начала представляют собой
лишь различные стороны одной и той же силы. Из истины мириа-
дов отдельных явлений возникает истина взаимоотношений между
ними, то есть возникает целый мир. Как и при чтении Гёте, я всту-
Статьи. Речи. Эссе
617
паю здесь в отношение к целому. Здесь присутствует некая невиди-
мая система координат, в которой я могу ориентироваться. Что бы
я ни читал — толстый ли роман, новеллу, одну из фантастико-
философских рапсодий, и в какую бы стихию я ни погружался — в
тайны ли человеческой души, в политический экскурс, в описание
канцелярии или мелочной лавки, я никогда не выхожу за рамки
этого отношения. Я чувствую: вокруг меня располагается органи-
зованный мир. Причем остается великой тайной, как этот сплош-
ной окружающий меня мир, эта вторичная, сжатая, активная
реальность не превращается в тяжкое бремя, в перехватывающий
дыхание кошмар. Ее действие иное: вместо того чтобы заставить
нас оцепенеть и неподвижно застыть, она вливает огонь в наши
жилы. Потому что сама она тоже не застывает, а находится в дви-
жении. Это, если воспользоваться термином средневековой мысли,
своего рода infinitis modis — пребывание в движении. В этом гло-
бальном видении, формировавшемся в человеческом мозгу во вре-
мена Данте, мир воспринимается не статичным, а динамичным. Все
видится настолько отчетливо, что образует одну непрерывную гам-
му, реальную ткань жизни, движение от нити к нити, туда и обрат-
но. Но все это воспринимается в движении. Никто бы не смог
лучше понять и грандиознее воплотить в образах древнюю истину
ttdvra £ei. Все является переходом. Эти книги в их совокупности
формируют наряду с «Дон Кихотом» наиболее убедительную эпи-
ческую концепцию современного мира; идея эпической формы
словно раскрывает вам глаза. Изображая людей, Бальзак уподоб-
ляет их земным цветам, которые расцветают и увядают. Ничего
иного не делал и сам Гомер. Мир Данте неподвижен. Не вещи про-
ходят мимо, а он сам странствует и проходит мимо них. А вот
самого Бальзака мы не видим. Но мы видим его глазами, видим,
как все перемещается. Богатые становятся бедными, а бедные —
богатыми. Цезарь Биротто идет вверх, а барон Юл о — вниз. Душа
Рюбампре была подобна нетронутому плоду, и вот на наших глазах
с ней происходят превращения, и мы видим, как герой тянется к
веревке, чтобы оборвать поруганную жизнь. Серафита освобо-
ждается от земных пут и возносится на небо. Каждый является
618
Гуго фон Гофмансталь
иным, чем он был, и будет иным, чем он является. Здесь мы нахо-
димся в самом сердце эпического мировосприятия — так же как в
случае с Шекспиром мы находимся в сердце драматического миро-
восприятия. Все течет, все движется. Деньги являются всего лишь
гениально подмеченным символом этого infinitis modis, опережа-
ющим самое себя движением и одновременно транспортным сред-
ством. Благодаря деньгам все приходит ко всему. И в том, что все
приходит ко всему, заключена сама сущность мира, рассказанная в
грандиозной эпической манере. Везде переходы, и только перехо-
ды, как в мире морали, так и в социальном мире. Переходы между
добродетелью и пороком — двумя мифическими понятиями, истин-
ный смысл которых не дано понять никому, — выполнены столь
же тонко и без скачков, как и переходы между богатством и бедно-
стью. Это сообщает вещам, находящимся на расстоянии и диссони-
рующим друг с другом, некое тайное родство, устанавливает
взаимосвязь всего со всем. Вдруг возникает аналогия между кон-
сьержем в его подвальном жилище и Наполеоном в Сен-Клу, и она
означает нечто бесконечно большее, чем обычная игра ума. Про-
сто в мире все воздействует на все: как можно тут обойтись без
этой обусловленности таинственными аналогиями? Все течет;
застывшей массы нет нигде: ни в сфере духа, ни в сфере внешнего
бытия. «Любовь» и «ненависть» кажутся достаточно отдаленными
друг от друга и достаточно обстоятельно описанными понятиями,
но у Бальзака без труда можно встретить персонаж, в чьей груди
одно из этих чувств переходит в другое с такой же постепенностью,
как переходят один в другой цвета раскаленного железа. Любит ли
Филомена Альбера Саварюса или ненавидит? Сначала она его
любила, потом как будто ненавидит; она находится во власти одер-
жимости, испытывает и ненависть и любовь в одно и то же время,
она, наверное, даже не могла бы ответить, какое из этих двух
чувств является причиной ее страданий. Бездна отделяет нас здесь
от мира XVIII столетия с такими его законченными, неколеби-
мыми и догматическими понятиями, как «добродетель», вполне
способными заменить неколебимые теологические категории.
Здесь упразднена всякая мифология, даже мифология слова. Но
Статьи. Речи. Эссе
619
нигде нет и такой близости к Гёте, как здесь. Совсем рядом нахо-
дится столь же глубокое русло, где течет многоводный поток его
мировосприятия. Однако для Гёте самым привычным жестом
духовной жизни был поворот вспять. И столь могуч был напор сил
его натуры, что в своем бурном порыве они грозили унести его
самого. Чтобы противостоять им, он вынужден был противопо-
ставлять им природу, законы, идеи. Всегда взгляд его души искал
вечное в изменчивом. Когда мы смотрим на его лицо, мы видим
всего лишь маску, которую себе смастерил этот наблюдательный
волшебник. В лице Бальзака нет такого сходства с олимпийской
маской, царственно возвышающейся над собственными творени-
ями. Только временами у нас возникает ощущение, что оно внеза-
пно проступает в его произведениях — таинственное видение, вдруг
появляющееся из хаотического сумрака, из кружащейся материи.
Однако запечатлеть его не в наших силах. Каждое поколение будет
глядеть на него по-новому, каждое из них будет воспринимать его
как лик титана, и каждое из них сделает его символом невырази-
мого внутреннего опыта. Удивительно, что нет его изображения,
принадлежащего той же руке, что создала «Резню на Хиосе» и
«Барку Данте». Художник запечатлел бы тридцатилетнего Баль-
зака в образе титана, каковым он и был, в образе демона жизни
или же уподобил бы его лицо полю битвы. Как жаль, что до нас не
дошла его маска в пятидесятилетнем возрасте, работы Домье. Изу-
мительный карандаш художника и его столь же изумительная
кисть несомненно высветлили бы в человеке могучее фавновское
начало и вернули бы ему первобытное благородство одинокого
гения. Однако, пожалуй, оба этих поколения были еще слишком
близки к нему, тогда еще не было той дистанции, которая отделяет
от него нас и которая необходима, чтобы могло родиться нечто
подобное творению Родена, этому исключительно символичному,
сверхчеловеческому лицу, в котором необычайная сила материи
сочетается с чем-то еще, со смутным, тяжелым, не к миру сему
принадлежащим демонизмом, лицу, в котором осуществлен синтез
различных миров: оно одновременно ассоциируется и с каким-то
падшим ангелом и с безмерной, несказанной печалью древних гре-
620
Гуго фон Гофмансталь
ческих земных и морских демонов. Каждое поколение, общаясь с
творчеством Бальзака, в недрах своего сознания создает свое соб-
ственное представление об этом лице, читает на нем все то же
сочетание бремени жизни с потаеннейшим порывом, сопротивле-
нием этому бремени, освобождением, взлетом.
Принадлежность к огромной, нерасчленимой, вечно само-
возрождающейся массе жизни есть одновременно стремление
подняться над нею, глубочайшее влечение духа к духу — такова
печать, лежащая на этом великом трагическом лице. В отличие от
гётевской маски, устремляющей свой взор словно бы поверх наших
голов, в вечность, оно смотрит в нас, в тягостную сердцевину жиз-
ни. Этот поразительный мир воссоздан из нашей жизни, жизни
вожделений, эгоизмов, заблуждений, гротескных, возвышенных и
смешных страстей, мир, в сумятице которого понятия «комедия» и
«трагедия» утратили свой смысл в такой же мере, как понятия
«добродетель» и «порок». Сокровенная суть этого мира — абсо-
лютное движение, абсолютный порыв, абсолютная любовь, абсо-
лютное таинство. Бальзак, этот кажущийся материалист, в дей-
ствительности предстает человеком страстной интуиции и экстаза.
Сущность его персонажей составляет устремленность. Все силы
страдания, силы любви, все искания художника, все его титаничес-
кие силы направлены на максимальное, на невыразимое. Вотрен —
гений преступления, Стенбок — гений творчества, Горио — отец,
Евгения Гранде — девушка, Френхофер — художник — все ориен-
тируются на абсолют с такой же очевидностью, с какой разметан-
ные ночной бурей корабли ориентируются на свет Полярной звез-
ды, даже когда он сокрыт мраком. В глубинах своего цинизма, в
круговоротах своих мучений, в безднах отречения они ищут и нахо-
дят Бога, независимо от того, называют ли они его именно этим
именем или нет.
Эти столь рельефные фигуры являются, по существу, не чем
иным, как преходящими воплощениями какой-то не имеющей наз-
вания силы. Через все эти моменты относительности вторгается
абсолют; за обликом этих людей проглядывают ангелы и демоны.
Любая мифология, даже самая последняя, наиболее стойкая, ми-
Статьи. Речи. Эссе
621
фол огня слова, здесь упразднена, а ее место заняла новая, полная
тайны и в высшей степени личная мифология. Ее концепция гран-
диозна и в этом смысле строга, но при этом достаточно неопреде-
ленна, чтобы быть доступной для сотен тысяч людей, способных
сделать из нее нечто вроде мифа современной жизни. Все эти обра-
зы, какими бы «истинными» ни казались они воображению, пред-
стают в каком-то призрачном свете, струящемся с вершин этого
творения; они подобны добрым и злым гениям, существам, в кото-
рых воплощены эфемерные земные порывы. В этих концепциях
нет, однако, ничего схематичного. Здесь господствуют не догмы, а
видения. Тэн, ровно полвека назад написавший свое фундаменталь-
ное эссе о Бальзаке, применяет к этим всплескам интуиции, этим
парящим в воздухе истинам, которые истинны лишь в течение
одного мгновения (да и то лишь в одном определенном, предназна-
ченном для них месте), совершенно неприемлемый для них крите-
рий. От целого, принадлежащего конкретному писателю, нельзя
отторгать никакую отдельную часть. Все то, что внутри того или
иного мира является истиной, и даже более чем истиной — прозре-
нием, не стесняемым никакими границами, — становится вдруг
нелепой фантасмагорией, как только его вырывают из контекста.
Речь идет о способах видения. Там, где ученый видит принципы,
абстракции, формулы, взору поэта предстают образы, люди, де-
моны.
Хотя, если взглянуть трезво, у Бальзака тоже происходит в
высшей степени поразительный синтез. Здесь волшебник Нова-
лис в буквальном смысле слова встречается с титаническими нача-
лами истинного натурализма; здесь обнаруживается взаимосвязь
между Сведенборгом и Гёте или Ламарком. В определенном смы-
сле здесь слышится последнее слово католицизма и в то же время,
подобно звезде, пробивающей себе путь в тумане, уже содержится
предвосхищение открытий Роберта Майера. Эта власть, которой
суждено покорить еще не одно поколение людей, покоится на изу-
мительной способности проникать с помощью духа в то, что явля-
ется истинной реальностью жизни, vraie verite, вплоть до самых
тривиальных жизненных невзгод. Духовность XIX столетия, эта
622
Гуго фон Гофмансталь
совершенно чудовищная синтетическая духовность, здесь впрессо-
вана в жизненную материю, словно беспрепятственно проходящий
сквозь волокна горячий пар. И там, где осадки этого пара, кристал-
лизуясь, образуют сжатые, четкие формы, как, например, в «Луи
Ламбере», в «Поиске абсолюта», в «Неведомом шедевре», — там
обнаруживаются вереницы мыслей, предчувствий, афоризмов, не
имеющих себе ничего равного, за исключением «Фрагментов»
Новалиса. Однако если у Новалиса эти результаты кристаллизации
составляют почти все, что остается у нас в руках, то здесь они ока-
зываются всего лишь побочным продуктом духовно-органических
процессов. Еще более удивительный феномен обнаруживаешь,
видя, как впрессовывающая сила духовности увлекает за собой
живую материю, как возникают фигуры, передаточная способ-
ность которых позволяет нам почувствовать власть духовного в
самом чреве жизни: таков Клаэс, неутомимый искатель безуслов-
ного, таков Луи Ламбер, такова Серафита. И такова же возвыша-
ющаяся над всеми частностями бальзаковская концепция любви.
Его «любовь» — это ни с чем не сравнимое и в высшей степени
индивидуальное творение. Она является воплощенным стремле-
нием и одновременно средством исполненного тайны феномена,
для которого я не смог бы подобрать названия. Она не занимает
никакого поддающегося измерению пространства в этом могучем
сооружении. И тем не менее она представляется мне тем источни-
ком, который и согревает и освещает; без него невозможно было
бы без ужаса воспринимать всю эту тяжелую массу, всю эту тем-
ную людскую вселенную.
Этот мир просто кишит образами. Среди них нет ни одного
настолько сильного, настолько совершенного, что, будучи отор-
ванным от своего фона, он мог бы выстоять сам по себе, исключи-
тельно благодаря непреходящему совершенству своего жеста, как,
например, Дон Кихот, король Лир, Одиссей. Не столь прочен мате-
риал, видение не обладает той лучезарной ясностью, которая
позволила бы образам обрести пронизанную чистейшим, ярчай-
шим светом рельефность, отличающую гомеровских Ахилла, Нав-
сикаю либо проступающую в нежнейшем свете сумерек вырази-
Статьи. Речи. Эссе 623
тельность лиц Миньон и Оттилии. Здесь же все взаимосвязано, все
взаимозависимо и так же трудно выделить отдельную деталь, как в
какой-нибудь картине Рембрандта или Делакруа. Так же как и у
них, впечатление величия возникает здесь благодаря поразитель-
ному богатству тонов, непрерывным переходам тонов из одного в
другой. Infinitis modis имитирует здесь природу, составляет пол-
ную, лишенную зияний гамму. У Гомера или Гёте персонажи напо-
минают одиноко шествующих богов, чье происхождение скрыто
непроницаемым мраком, — здесь они кажутся нотами какой-то
гигантской симфонии. Их происхождение более доступно нашему
пониманию, и нам представляется вероятным, что наша кровь
содержит те самые элементы, из которых состоят их темные сер-
дца и которые вдыхаются вместе с воздухом больших городов. Но
и здесь тоже царит закон последнего, наивысшего. Так же как на
полотне Рембрандта, гамма между мраком и светом обнаруживает
свое родство с земным светом и с земным мраком и потому пред-
стает полной, убедительной, абсолютно правильной; однако здесь
есть и нечто иное, безымянное, сила великой души, совершающей
подвиг самоотдачи во имя высшей сущности; в мириадах маленьких
черточек, из коих составлен весь этот кишащий жизнью мир,
вибрирует нечто, находящееся на самой последней границе и едва
ли имеющее название; пластика этого мира доходит до перегру-
женности, его мрак — до нигилизма, светскость в обращении — до
цинизма. Однако как чисты при этом краски! Кисть Фра Анджели-
ко, когда он писал хор ангелов, не была чище, чем та, которая
рисовала персонажей «Кузины Бетти». Эти краски, подлинные
базовые элементы мира души, не имеют ничего общего ни с чем
замутненным, болезненным, кощунственным, низменным. Они не
подвержены разложению, и им не опасно никакое тлетворное
дыхание. В них вибрирует абсолютная, не отравленная мрачно-
стью тематики радость, подобная божественной радости звучания в
бетховенской симфонии, которую не властны хотя бы на один миг
потревожить страшные картины, запечатленные в музыке.
1908
Перевод В. Никитина
624
Гуго фон Гофмансталь
«ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ ОТДЫХ ФАВНА»
НИЖИНСКОГО
Роден сказал об этой полной динамики фигуре, об этом образце
свободного ваяния все главное и непреходящее, поэтому вряд ли
можно добавить нечто, что не покажется лишним. Но мимическое
воплощение той же темы Нижинским так отличается от всего, что
до сих пор показывали нам русские, так решительно отходит от
пышности, варварской фантастичности и ритмической страстно-
сти, которые мы привыкли видеть в выдающихся постановках рус-
ских, что это приводит в изумление. Удивлять — это жребий и при-
вилегия нового, значительного в искусстве. Мы привыкли воспри-
нимать Нижинского как гениальнейшего — и именно поэтому наи-
более доступного из всех мимов. Но тут речь идет уже не о танцо-
ре, миме, интерпретаторе, а о созидателе чего-то целого, о функ-
ции этого выдающегося мастера, для которой пока нет подходя-
щего названия: Нижинский — и режиссер, и исполнитель, и сочи-
нитель, а если свести все эти три функции к одной, то речь идет о
Нижинском как авторе хореографической поэмы. Причем авторе
скорее трудном, чем легком.
В связи с этим вспоминается статья, посвященная Гауптману,
которой Мориц Хайман украсил один из последних номеров «Нойе
Рундшау»; там говорилось, что такая социальная драма, как «Воз-
чик Геншель» (которая любому кажется понятной), в сущности,
так же трудна для понимания, как «А Пиппа пляшет». Это сужде-
ние столь вдумчивого и авторитетного критика, как Хайман, мне
кажется, проливает свет на разбираемую тему. Произведение
искусства может показаться на первый взгляд труднодоступным,
может не поддаться и более серьезной попытке понять его — не из-
за загадочных аллегорий и прочих темных мест, а из-за плотности
самой художественной ткани, которая и свидетельствует о его
высоком качестве; это верно, как мне кажется, для обоих случаев
— для той драмы и для этой маленькой сценки.
Всего семь или восемь минут длится строгая, серьезная, рит-
мически сдержанная пантомима под музыку Дебюсси, которая всем
Статьи. Речи. Эссе
625
известна. Но эта музыка отнюдь не ключ к балету, как, например,
музыка Шумана является ключом, причем абсолютно точным, к
балету «Карнавал». Этот «Карнавал» всякий раз кажется свобод-
ной импровизацией на музыку Шумана. По сравнению со строгой
внутренней силой короткой сценки Нижинского музыка Дебюсси,
наоборот, как бы отступает на задний план, становится сопрово-
ждающим элементом, чем-то в атмосфере, но отнюдь не самой
атмосферой.
И знаменитое стихотворение Малларме, которое дало
музыке название и основную тональность, тоже не ключ к этой
сценке, скорее уж, один стих у Горация, в четырех словах выража-
ющий все изображенное на римском барельефе: «Faun — nympha-
rum fugientum amator»— «Фавн, влюбленный в убегающих нимф».
Именно эту высшую степень сжатости, скульптурную сосре-
доточенность, этот барельеф я и нахожу в мимико-поэтической
работе Нижинского.
Это глубоко современное видение античности, вобравшее в
себя и великие скульптурные образы V века, и дельфийского воз-
ницу, и архаическую голову юноши из музея Акрополя, с диапазо-
ном настроений от рока и трагедии до буколики, равно чуждо как
античности Винкельмана и Энгра, так и античности Тициана. Древ-
няя и простая буколическая ситуация «фавн и нимфы», один из
вечно повторяющихся фантастических мотивов, здесь строго рас-
членена на составные части.
Фавн спит, нимфы играют неподалеку. Он просыпается, кра-
дется к ним, словно лесной зверь, снедаемый и страхом и желани-
ем. Те в испуге обращаются в бегство. У него в руках остается
лишь кусок ткани — то ли шарф, то ли платок, оброненный самой
юной и самой прекрасной из нимф. Он нежно и неуклюже играет с
этой тканью, уносит ее в свое логово, укладывается там. В испол-
нении — простота и строгость барельефа. Каждый жест — только
в профиль. Все лишнее отброшено, оставлено лишь самое главное,
все сжато с непередаваемой силой: только самые существенные,
только решающие движения и мизансцены.
626
Гуго фон Гофмансталь
Фавн встает, прислушивается: прыжок! Единственный за
всю сцену...
«Если я не смогу передать всего Фавна в одном прыжке, я
буду недостоин себя», — как бы говорит сам себе Нижинский. Его
работа похожа на подвиг. Она приводит на память таких гигантов
воли, как А. Фейербах или Г. Маре. Ни разу не повториться.
Ничего второстепенного. Уникальность как принцип.
Перед нами исполнение грандиозного замысла. Причем
замысел — это укрощенное богатство фантазии, а исполнение —
богатство творческой души. Мы попадаем в сферу высочайшего
искусства, и я беру на себя смелость утверждать, что если бы Гёте
присутствовал на таком зрелище, он испытал бы восторг, не
лишенный некоторой доли почтительности.
Перевод Е. Михелевич
ВЗГЛЯД НА ЖАН-ПОЛЯ
1763—1913
Если углубиться взором в прошлое на 150 лет, застанешь первые
годы жизни поэта, который впоследствии стал столь дорог немцам;
если углубиться на 100 лет, застанешь его в расцвете сил и славы,
быть может преувеличенной; если углубиться всего на полвека,
увидишь, что никто его не ценит и что ему грозит полное забвение.
Но и сегодня творения его живут, пусть в полусне, пусть не насто-
ящей, полнокровной жизнью. Когда жизнь сущностная, духовная
отпечатлелась в языке, ей не страшны гибель и забвение, и,
поскольку в культурном предании великого народа сосуществует
все — «и сила и слабость, и зародыши и бутоны, и руины и развали-
ны, и все рядом друг с другом, и все вперемешку», — то и его творе-
ния не исчезли бесследно, и когда взгляд случайно падает на них, то
кажется, что и они отвечают тебе взглядом, и они приковывают к
себе взор волшебной силой, исходящей от всего живого: жизнь
была дарована ему для того, чтобы творил он единственное в своем
роде, неповторимое; чего никто не создаст за него.
Статьи. Речи. Эссе
627
Но тому, кто захочет внимательнее заняться этими стран-
ными жизненными путями, этими барочными сплетениями судеб,
блуждать по которым представлялось нашим прадедам делом
нетрудным, занятным, — тому, верно, не по вкусу придется целое,
того, вероятно, смутит отдельное. Связь целого — слабая, дей-
ствие — скудное, да и небывалое, характеры — бледные. Но этот
поэт, которого современники почитали единственным, которого
Гердер ставил выше Гёте, которого называл великолепным стро-
гий в своих оценках Грильпарцер, был велик в одном — в изобра-
жении внутренних состояний души. Нас же это изображение пона-
чалу отталкивает своей чрезмерностью, но затем покоряет душев-
ностью и безусловной правдивостью. Быть может, нам лишь
потому чужда такая чрезмерность, что мы предаемся противопо-
ложной крайности. Редко встретишь теперь человека, который не
знал бы меры в выражении радости и горя, и тем чаще попадаются
существа забитые, угнетаемые заботой, робко-пугливые в своем
себялюбии. Мы утратили открытость души, умонастроение безгра-
ничной нежно-деликатной общительности, вместо этого мы слиш-
ком грубо проникли в материю, и вещество, всячески объясня-
емое, увлекает нас в водоворот своей безысходности — само же
оно (познай мы его сколь надо глубоко) втайне вольно, и вольно
всесторонне, — вот мы и стали на деле «отшельниками в пустыне
рассудка, над которыми тяготеет бремя механического». Все эти
перемены, вызванные обстоятельствами эпохи, для целого — то
же, что собственное тело — для каждого из нас. То, в чем люди
склонны отходить от нормы и распускаться, забывая о мере, меня-
ется с каждым поколением, но ведь и остаток и отстой, обыден-
ность и нелепость — все, в чем отложилась наивность и ограничен-
ность всякой эпохи, меняется до полнейшей непостижимости,
поэтому в прошлом нет ничего заведомо далекого и близкого —
все колеблется, ничто не поддается измерению, духовность индиви-
дов 1830-х годов очень близка нам, а гримасы того времени нам
вполне чужды, мы обязаны осознавать, что и лицо нашей эпохи
покажется потомкам именно таким, хотя мы и не способны понять,
как это получается.
628
Гуго фон Гофмансталь
Жан-Поль подразделял свои картины действительности на
итальянские и нидерландские; немецкую манеру он ставил посре-
дине и стремился соединить в ней особенности двух первых. В
итальянской манере сочинены его большие романы, где говорится
о предметах высоких, о величественных связях жизненного, — эти
романы вызывали восторг современников. В стиле нидерландском
и немецком выдержаны небольшие зарисовки самодовольно-тоск-
ливого убожества жизни. И в них наше внимание притягивает к
себе, наряду с нарочитыми замысловатостями, изящество, глубина
и неожиданность, — все это тоже неисчерпаемо. В большие же
романы — в «Титана», в «Геспера», столь звучные наименования
которых не смогли окончательно заглушить десятилетия пренебре-
жительного отношения, — Жан-Поль вставлял, не заботясь о связи
их с целым, те несравненные создания, которые и были подлинной
поэзией. Именно поэтому люди, души которых открыты всему
прекрасному в поэзии, никогда не оставят попыток собрать их в
антологию. Ибо кто познает в духе своем прекрасное как таковое,
тот не может бесчувственно проходить мимо красоты, к какому бы
виду она ни относилась. А эти поэтические создания отличаются
тончайшим единством духовного подъема и звучания; таковы раз-
говоры персонажей романов наедине с самими собой, их письма, их
душевные излияния, обращенные то в пустоту, то к сердцу чуткого
собеседника, их сновидения, их предсмертные беседы, расставания
навек, мысли о бессмертии и блаженстве, таковы описания приро-
ды, закатов, лунных ночей, только, скорее, описания не веще-
ственного мира, но пейзажей души. В немецкой поэзии нет ничего
более родственного музыке, нет таких же бесплотных веяний,
предчувствий, бесконечностей.
То душа в возвышенной грезе постепенно наливается пол-
нозвучием, то полдень полнится тоскою бытия, то сердце сдавлено
вечернею порою, меркнущим светом, — во всем трепетное дрожа-
ние, и разливается в душе мечтательный покой; бескрайни, беско-
нечны мгновения последней встречи, предчувствия грядущей кон-
чины мира, сладостно переживание наперед прочувствованного
блаженного умирания.
Статьи. Речи. Эссе
629
Такие видения и душевные излияния покоряют себе даль —
бездну души, которую из всех искусств способна исчерпать до дна
лишь музыка; в нидерладско-немецких картинах, или идиллиях,
как можно называть их, напротив, душевно преображена, боготво-
рится близь. Эти маленькие поэмы — «Зибенкез», «Квинтус Фикс-
лейн», «Праздничный сениор» и прежде всего «Жизнь вседоволь-
ного школьного учителишки Марии Вуца из Ауэнталя» — тоже не
так-то легко читать в первый раз. Здесь тоже все соединено наро-
чито замысловато, одно проложено поперек другого, во всем —
притча и намек, и здесь новопридуманные словца и всякие неслы-
ханные термины, набранные отовсюду — из астрономии и анато-
мии, из паркового искусства, государственного права, кулинарного
художества, однако сквозь все странности пробивается растение, и
растение это — истинная поэзия, быть может еще более редкост-
ная и драгоценная, нежели все предчувствия и сновидения. Ибо в
возвышенную даль тянется во снах, в дремоте даже душа разъятая,
нечистая, но вот познать божественность совсем близкого — для
этого нужно, чтобы дрожало в трепетном восторге сердце муже-
ственное, не какое иное, ведь именно оттого, что близкое — дей-
ствительно близко, что оно липнет и льнет к нам, оно быстро
покрывается безрадостной коростой жизни — и так пропадает,
словно никогда и не рождалось на свет. Таковы отношения близо-
сти, не вмещающиеся в слова, какие существуют между родите-
лями и детьми, между мужем и женой, между друзьями, между
людьми, живущими рядом. Тут нужно, чтобы сердце всегда чув-
ствовало ровный, постоянный прилив крови, но на это человек так
же не способен, как на то, чтобы молиться беспрестанно, беспре-
рывно. Лишь порывами возносится человек на вершины безгра-
нично проникновенного лицезрения, куда не досягает пустой звон,
слова о великом и малом, сущем и преходящем. Таковы высшие
мгновения Жан-Поля. Они неотрывны от малого и обыденного; ни
о чем ином не ведется речь в идиллических рассказах, как о проза-
ических заботах телесного да первоначальных движениях душевно-
го, почти что тонущих в телесном, о жалком вздоре, о пустом тще-
славии, о мелких страхах и мелких радостях повседневности. Чита-
630
Гуго фон Гофмансталь
тель немало слышит и узнает о платье, о простынях и подушках, о
кухонной посуде и иных предметах скудной жизни — без остатка
они заполняют 24 часа суток и до отказа забивают пространство
между стенами и окном. Но если взгляд души нежен, добр и доста-
точно внимателен, чтобы неотрывно, с нежной печалью созерцать
все безответное их ничтожество, то разверзаются пред скудной
немотой небеса красноречивых слов: стоит проглянуть в лице ста-
рика лицу ребенка, как сама несказанность нисходит к нам в душу,
сливая воедино жизнь со смертью. Такой неотступной любви во
взгляде напрасно подражали многие, не только кроткий Штифтер,
но и непреклонный Геббель, колкий Гейне; она несет с собой бла-
годать, пред нею исчезают боль, безобразие, ничтожество суще-
ствования изничтожает само себя, и она достигает цели, какой бес-
сильны достичь высь и глубина настойчивой и напряженной мысли;
малая реальность жизни обретает в такой поэзии и утешение и
мир.
Может быть, книги эти и само настроение ума, творящее их,
уже полузабыты, может быть, со временем их станут забывать сов-
сем, это тоже возможно, и все же в них — глубочайшая существен-
ность немецкой поэзии, так или иначе она будет вырываться на
поверхность, стремясь отодвинуть вдаль близкое и приблизить к
глазам далекое, чтобы сердце наше могло единовременно и сразу
их объять.
1913
Перевод А. Михайлова
АВСТРИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА
(Проспект)
Более ста лет назад, в 1809 году, Австрия переживала великий год,
когда она, как и сегодня, ощутила в себе брожение дремавших до
тех пор, ей самой неведомых сил, и чувство своего великого приз-
вания вновь пробудилось в ней. Одним из руководителей ее в те дни
был замечательный' человек, самое имя которого ныне забыто:
Статьи. Речи. Эссе
631
граф Филипп Штадион. Своим острым, огненным взором он умел
охватить совокупность вещей; Австрия была для него живым суще-
ством, не только родиной, изобильной и могучей, но и отечеством,
которому, правда, не хватало самосознания, недоставало благород-
ной гордости и той веры в себя, которая составляет силу избран-
ных. В сердце своем он повторял слова, незадолго до того брошен-
ные в мир Шиллером, знатоком и почитателем всего великого:
«Отчизна у австрийца есть и к ней любовь, и любит он ее не без
причины». Но он стремился придать этим словам еще больше
силы, хотел, чтобы любви сопутствовало знание, и основал «Vater-
landische Blatter», периодическую газету австрийцев для австрий-
цев — начинание по тому времени новое и широко задуманное.
Австрии пора было обрести память, чтобы при каждом новом
повороте своего исторического пути не терять из виду тех, кто в
минувших поколениях стремился к великому или творил его;
Австрия больше не могла оставаться в состоянии глухоты и неведе-
ния о самой себе. Такая периодическая газета была призвана способ-
ствовать «установлению более тесных духовных связей между про-
винциями империи, а также сотрудничеству многочисленных, но не
сообщающихся друг с другом умов, пекущихся об общественном
благе»; выражалась надежда, что и за пределами Австрии, прежде
всего в Германии, представление о ней станет выше и чище.
Издатель «Австрийской библиотеки», первые шесть томов
которой в настоящий момент можно увидеть на книжных прилав-
ках (вторая и третья серии последуют за ними в ближайшем буду-
щем), никак не подозревал, что полностью повторяет путь, уже
однажды пройденный государственным деятелем Австрии, челове-
ком замечательным и незаслуженно забытым. Издатель был занят
подготовкой своего скромного, хотя и казавшегося ему»в насто-
ящий момент необходимым, предприятия. Иногда он делился
своими планами и замыслами с отдельными «пекущимися об обще-
ственном благе умами». И вот, благодаря любезности одного про-
фессора, в руки ему попался проспект тех самых «Vaterlandische
Blatter», написанный по поручению графа Штадиона, из которого
со всей очевидностью следовало, что он собрался повторить то,
632
Гуго фон Гофмансталь
что задумал и осуществил другой, более влиятельный человек сто
лет назад. Но все в мире живого переделывается заново, поколения
уходят, не совершив и половины должного, и тогда какое-то следу-
ющее поколение должно приложить все свои силы к решению
задачи, над которой уже бились его пращуры.
В эти дни Австрия показала свою силу, снова заявив о себе
всему миру как о живой реальности, ибо только от действительной
нечленимой жизни может исходить великая сила. Создается впе-
чатление, что только раз в столетие дано являться лику этой живой
реальности, а затем об этом прекрасном облике остается лишь
смутное воспоминание, все более и более тускнеющее. Правда, и в
пору безвременья всегда присутствует нечто соединяющее нас,
нечто связующее в глухой сфере жизни, протянувшееся от плоти к
плоти, от сердца к сердцу, от земли к земле, нечто неуловимое и
все же могучее. Но в свободной сфере мысли выступает, кажется,
только разделяющее нас. Можно подумать, что каждая из частей
силится забыть, что она призвана быть частью, что именно в этом
призвании кроется ее избранность. Тем более жалкое существова-
ние влачим мы в эти периоды безвременья, тем дальше от нас
бежит поток истинной жизни, тем менее причастны мы к высшим
благам жизни, которая не может, не должна быть только природ-
ной), но должна быть сверх того истинно человечной, общитель-
ной, политической, осознающей самое себя и столько же уходить
корнями в пророческое прошлое, сколько самоутверждаться в сов-
ременности. Но и истинное, проникновенное чувство современно-
сти, и глубинные прозрения прошлого, и сознание того, что оба
они — одно, и даже — без чего немыслимо достоинство челове-
ка — вера в самих себя нам даются лишь в часы жестоких роковых
испытаний; все это каждый раз выкупается еще одной чашей крови
у какого-то злобного, мрачного духа, гнетущего нас. Как будто для
понимания и любви нам каждый раз необходимо новое кровопуска-
ние, чтобы освежить голову. Что ж, оно совершилось, сегодня лик
Австрии снова открылся нам. Блаженны другие народы! Свободно
струится по жилам кровь швейцарцев: и в прошлом и в настоящем
они чтут общие святыни, хотя и говорят на разных языках. А гра-
Статьи. Речи. Эссе
633
ждане великого американского государства? Из смеси множества
народов родился единый народ, несмотря на свою пеструю кровь,
любящий одну землю и с радостью подчиняющийся своему закону,
которому нет и ста лет. Наша же судьба труднее, наше предназна-
чение сложнее: нам дана в наследство древняя земля Европы, мы
преемники двух Римских империй, и мы должны нести наше бремя,
хотим мы того или нет: земля родины — святыня и рок!
Ныне она стала еще священней, ибо мы погребли в ней бес-
численных мертвых, проливших кровь за Австрию; и пустые пре-
жде слова, банальные формулы теперь ожили для нас; никогда не
была столь тесной мистическая духовная связь поколений, рассеян-
ных на пространстве веков; ныне в наши сердца очевидною исти-
ною вошло, что никто по-настоящему живший не умирает совер-
шенно, что и дела и дух их причастны нетленному и что наши
покойники вечно с нами и наши великие предки сегодня снова
рядом; к нам обращен лик Марии-Терезии, орлиный взор принца
Евгения устремлен на нас, и отец Гайдн полуокостеневшими стар-
ческими перстами выводит свое «Спаси нас, Боже!». Но сможем ли
мы удержать их, когда минет этот полуночный час?
Любящего мучит жажда еще большей любви, познающего
влечет ко все более глубокому знанию, и ничто не страшно ему,
кроме одного: потерять то, без чего он не может, — именно такой
ненасытной должна быть любовь к отечеству, ни один подвиг, ни
одно благородное австрийское сердце не должны изгладиться из
памяти. А мы? Что только не изгладилось из нашей памяти, кому
только не позволили мы кануть в Лету, превратиться в голое имя,
в тень! В противоположность нам чего только не делают для своих
героев в Пруссии — я имею в виду не одного Фридриха, славослови-
ями которому наполнены целые тома: не забыто ни одного его
мельком брошенного слова, не утрачено ни одной его самой пус-
тячной записки, — но и Блюхера, и Мольтке, и многих прочих, чьи
деяния в еще меньшей степени связаны с народом: Йорки, Штей-
ны, Гнейзенау, Бойены, вероятно, не сохранились бы столь отчет-
ливо в памяти потомков; но ни одному из них не дали умереть, все
они живы, и не одни лишь имена, а весь их духовный облик.
634
Гуго фон Гофмансталь
А что у нас? Есть ли у нас подлинно национальная история
великой императрицы? Была ли сделана хотя бы попытка донести
до живущих память об ее без устали трудившемся духе? Тома ее
указов покоятся в государственном архиве — это грандиозное
собрание впечатляет уже одним своим внешним видом; кажется
невероятным, что в каждой из этих бесчисленных бумаг могут
биться живая мысль, воля, страсть, органически слитые с реально-
стью, созидающие или перекраивающие ее. Это не просто прожек-
ты, соображения, меморандумы: среди бумаг этих нет ни одной, к
которой великое сердце было бы причастно меньше, нежели могу-
чий ум. Даже равнодушному стороннему глазу подобный духовный
феномен должен показаться не менее значительным, чем пере-
писка Фридриха, чем переписка Гёте, чем кипа нотной бумаги
высотою в два человеческих роста, исписанной рукою Шуберта.
Чем же должно было бы стать это для нас, австрийцев! Между тем
в архиве царит сон, будто в монастырском склепе. А принц Евге-
ний, одинаково великий и как государственный муж и как полково-
дец? Его дом стоит среди наших домов, памятник ему высится на
городской площади, одна из солдатских песен хранит его имя, но и
он все более и более превращается в тень, собственно, уже превра-
тился в тень за последние смутные десятилетия. Впрочем, дух его
настолько могуч, что до сих пор, следуя лучшему, что есть в нашей
воле, в нашей мысли, мы, сами о том не подозревая, каждый раз
движемся в колее, проложенной им; она ведет нас в Триест, а
оттуда в открытое море, она ведет нас вниз по Дунаю — покуда мы
остаемся самими собой, мы неизбежно, хотим мы того или нет,
стремимся к целям, предуказанным им, он остается нашим великим
учителем; он и великая река, на берегах которой мы живем, — две
великих вечных силы .<...>
Люди образованные располагают библиотеками, а кто рас-
полагает еще и временем, может заглянуть в Арнета; но навечно
ограничиться Арнетом — значит обречь себя на нищету. Народу,
который больше нас, принадлежность к которому мы должны хра-
нить в себе, если не хотим погибнуть, — народу этому нужна живая
память о великом человеке и его подвиге, запечатленная в леген-
Статьи. Речи. Эссе
635
дах и песнях, историях и поговорках, ему нужны эти золотые нити
в ткани бытия. Если по обстоятельствам места и времени люди
великие слишком далеки от него, он обходится добрыми: так в
Штирии продолжает жить легенда об эрцгерцоге Иоганне.
Но нет числа нитям в ткани бытия, и у каждой из них свой
глубокий и яркий цвет; сложенные воедино, они способны засиять,
подобно тяжелой златотканой старой парче. Ведь во всем про-
странстве человеческой жизни нет ничего, что не оставляло бы
духовного следа, не излучало бы духовного света. Из всего, что
говорят люди за работой или в минуты ежедневных радостей и
горестей, только половина говорится с определенной целью, дру-
гая, быть может, более значительная половина не приносит ника-
кой прямой пользы. Это своего рода блестящая гирлянда из сча-
стья и боли над поверхностью реальной жизни. В деянии и терпе-
нии, даже в тупой работе на износ — во всем есть духовное начало:
так, лесорубы говорят о лесе, солевары о соли, рудокопы о руде, и
этот дух, присутствующий в вещах и трудах, — дух поистине пита-
ющий, и богат был бы тот, кто сумел бы собрать его. Плодонос-
ный полумрак жизни кишит мириадами бессознательных сил,
каждая из них достойна слов, но еще прекраснее они говорят сами;
так и между людьми, а в особенности между австрийцами, наиболь-
шей драгоценностью является невысказанное, а то, что высказа-
но, — не всегда лучшее.
Голос страны слышен и в песнях, прекрасных немецких и
славянских песнях, что поются в народе, и в сказках, легендах,
бытующих в отдельных областях, в отдельных местечках. Душа
народа обретает язык в его обычаях и присказках, его поговорках,
в его формулах уважения, в торжественных обрядах, в обычаях
праздников или похорон. А народная архитектура? Она отнюдь не
нема для тех, кто способен понять ее язык, которым говорило мно-
жество сменявших друг друга поколений. Обо всем этом есть сведе-
ния, а еще о ремеслах и промыслах, в которых дух, казалось бы,
оцепеневший в немых формах, вдруг пробуждается вновь и витает
вокруг нас. В настоящей «Австрийской библиотеке» должны обре-
сти дар речи горы, и воды, и леса, и штирийская руда, и халынтатт-
636
Гуго фон Гофмансталь
екая соль, и чешское стекло, должны получить слово и карпатский
охотник и альпийский стрелок Тироля, смолокурня и угольный
забой. Главным в «Библиотеке» должно стать не то, что где-то и
когда-то изрек некий ученый о некой вещи или связи вещей, она
должна собрать то, что повсеместно источается самой жизнью, как
смола источается из надрезанных стволов. Ибо старые присловья и
ремесленные обычаи, народные и солдатские песни имеют своим
источником самое жизнь, хотя в не меньшей степени это относится
и к музыке Моцарта, и любовным письмам Ленау, и запискам вели-
кой Марии-Терезии к ее детям и воспитателям ее детей, к ее гене-
ралам и министрам. Голос минувших времен должны донести до
нас городские хроники, например Санкт-Пельтена и Штайра, или
Чешская хроника старого Хагеция; но и хрупкий, одинокий голос
должен быть услышан, например голос уроженки Линца
Марианны Виллемер, чьи песни были столь прелестны, что Гёте
включил их под названием песен Зюлейки в лучшую из своих книг.
Скромные семейные записки, которые вели отцы или матери
семейств минувших столетий, войдут в «Библиотеку» наряду с
мудростью полузабытых великих умов: духовным жаром мага
Теофраста Парацельса и мягким, задушевным светом мудреца
Амоса Коменского; легенды об обращении наших древних апосто-
лов и святых встанут рядом с повестью о кровавых подвигах на
поле брани, предания о жизни купцов и ремесленников — рядом с
отрывками из истории славнейших полков; Раймунд и Нестрой —
рядом с Абрахамом из Санта-Клары, духовное завещание бриксен-
ского аббата Николая Кузанского — рядом с дневниками Фойх-
терелебена и письмами Билльрота. Благочестивые, чистые голоса
чешских и моравских «братьев» без риска породить диссонанс
зазвучат рядом с исповедью чистой и строгой души принца из дома
Габсбургов — автобиографией эрцгерцога Карла.
Если бы удалось собрать воедино все это и еще многое дру-
гое, результатом была бы библиотека, заслуженно носившая бы
имя «австрийской».
Речь идет всего лишь о попытке, ибо в начинаниях подоб-
ного рода слишком мало значат планы, идеи, усилия издателя, зато
Статьи. Речи. Эссе
637
реакция и участие современников значат все. Библиотека, как она
задумана, может возникнуть, но может и не возникнуть. Если она
возникнет, она станет собственностью даже наиболее просвещен-
ной публики, хотя не ее одной: она станет собственностью всех,
кто любит Австрию.
Какая-то атмосфера немоты окружает Австрию; многое в
ней слишком редко уловляется в слове — многое сущностно важ-
ное, нерастраченное, что в великие мгновения способно стать
источником великой силы и что временами находит себя в музыке.
Музыка достигает своей цели всегда, слово же легко сбивается с
пути. Но и в слове звучит сокровенное, и каждой из книжек, кото-
рые войдут в «Библиотеку», присуща своя интонация. И вот когда
для любящего слуха они сольются в один хор, тогда, может быть,
из этого хора родится голос, так редко слышимый в мире: голос
Австрии. 1915
Перевод А. Назаренко
МЫ, АВСТРИЙЦЫ,
И ГЕРМАНИЯ
Даже сегодня, в столь серьезный момент, можно сказать, что из
всех стран мира самою неизвестною или наименее известною для
немцев является Австрия. Она столь близкая соседка Германии,
что попросту выпадает из ее поля зрения. Возможно, виною здесь
и некоторые внутренние барьеры, существующие между государ-
ствами в той же мере, как и между людьми: предубеждения, лож-
ные заключения, отсутствие внимательности и понимания. У сов-
ременного немца особая судьба: ему приходится смотреть во все
стороны одновременно.
Проще англичанину на его острове — его взгляд на конти-
нент собирательно-высокомерен: Францию он видит достаточно
отчетливо, так же как в свое время Голландию, пока она была
важна для него, за нею — Германию в дымке, Австрию же и вовсе
не различает. Положение француза опять-таки относительно про-
638
Гуго фон Гофмансталь
сто: веками — и тому способствовала неизменность идеологии —
взгляд его привлекали четыре направления: Испания, родствен-
ница по крови и вере, но враждебная политически, Англия —
исконный враг и соперник в борьбе за мировое господство, Нидер-
ланды, чуждые этнически, враждебные религиозно и политически,
и Священная Римская империя, политически бесформенная, полу-
почитаемая-полупрезираемая, объект для нападения, но не вра-
жды. По мере государственного возрождения Германии, с 1866
года, этому восточному направлению было навязано какое-то осо-
бое значение, все прочие отступили на задний план; оно осложни-
лось новой идеологией, которая никак не могла обрести опреде-
ленность и, как следствие, сделалась опасной.
В средние века духовный взор немцев был устремлен на юг,
а с XVI века — на запад. Турецкая угроза хотя и отвлекала его в
течение двух столетий на юго-восток, отклонение это оставалось
чисто политическим, не оказав почти никакого воздействия на
народное воображение. Высшее зрение, коль скоро оно не было
приковано к миру внутреннему или к звездам, обращалось на за-
пад — к Франции и Англии. Стоит лишь вспомнить столь несхожих
друг с другом Лессинга, Лихтенберга, Фридриха Великого, Глюка,
Гердера, Виланда, даже Гёте, несмотря на всю панорамность его
кругозора. Но и при такой преимущественно западной ориентации
хватило духовных сил, чтобы сохранить живую связь со скандинав-
скими странами Севера и, наконец, дать своему восточному соседу
тот не поддающийся никаким количественным оценкам культур-
ный импульс, реакцией на который, между прочим, от Петра Вели-
кого и до июля нынешнего года является и эта война. В течение
последних десятилетий на горизонте Германии явились и властно
заняли свое место Дальний Восток, Северная и Южная Америка,
Африканский континент — Австрии отводилось все меньше вре-
мени и внимания. Географическая близость, кровное родство с
одним из главных этнических элементов Австрии, кажущаяся
общность духовной культуры делали вроде бы излишней всякую
пристальность, которая, благодаря именно этим обстоятельствам,
должна была бы, напротив, усугубиться. Так, сами о том не подоз-
Статьи. Речи. Эссе
639
ревая, всех менее мы знаем родственника, живущего в собственном
доме через двор от нас. Известны были разве что альпийские земли
с их баварским населением да, пожалуй, Вена. Для дипломатов и
газетчиков Вена стала непременным отправным пунктом всех их
суждений об австрийском характере. Однако нет ничего более
неверного, более сомнительного, чем подмена «Австрии» «Веной»,
а «австрийского» — «венским». После смерти Бисмарка в Герма-
нии не найти ни одного крупного знатока Австрии. Наиболее зна-
чительная — в смысле духовности — книга об Австрии написана
англичанином В. Стидом; наиболее значительные и подробные
работы по юго-славянскому вопросу принадлежат перу шотландца
Уотсона-Сетона. В немецкой политической литературе нет ничего,
что могло бы соперничать с книгами славянских авторов Кра-
маржа и Масарика о проблеме австрийских славян или кропотли-
вым и глубокомысленным исследованием француза Луи Эзенмана
«Le Compromis Austro-Hongrois».
Условием нового, плодотворного взгляда на Австрию для
всякого мыслящего немца должна стать решимость искать в ней не
застывшее и завершенное, а изменчивое и становящееся. Все
живое есть становление, и государство в этом отношении вполне
подобно личности. У каждой личности — своя история, которая,
как и история государства, порождает свои формы и связи. Но вме-
сте с тем имеет место непрерывная текучесть, взаимопроникнове-
ние следующих друг за другом событий, ибо внутриличностные
процессы имеют природу трудноуловимую и таинственную. Все,
что было когда-то, есть и сейчас; ничто не исчезло, ничто не
кануло в Лету, все свершенное еще предстоит свершить; прожитое,
неуловимо переменившись, снова входит в нашу жизнь. Именно
так устроено бытие каждого из нас, и зреющая душа замечает, что
ничто прошлое не исчезло навсегда, что она живет в кругу затаив-
шегося прошлого. Так и в жизни народов и государств — высшие
ее точки свидетельствуют об этом с отчетливостью. Снова и снова
возникают ситуации, когда отразившаяся в истории завершенность
является вдруг не давно прошедшим, а совершающимся сию мину-
ту, на наших глазах. И в самом деле, эффект вечного присутствия
640
Гуго фон Гофмансталь
есть действительный атрибут всякой духовности. Разве тот, кто
самозабвенно внимает фуге Баха, не уверен в глубине души, что в
этот миг она звучит впервые? Росчерк пера на рисунке Рембрандта
для каждого, кому дано видеть, — как вспышка молнии, на его гла-
зах пронзившей небо.
Постигнуть Австрию в целокупности ее бытия — значит
взглянуть живым взором на всю немецкую историю как на совре-
менность.
Расселение немецких племен посреди тогда уже туземного
славянства — шаг решительный и рискованный, но не это ли наша
современность в рейхсрате и ландтаге? А наша карта, если вду-
маться, с ее исконно славянскими названиями сел и гор в самом сер-
дце, казалось бы, немецких земель — так, скажем, встречающееся
повсеместно название «Stodor» есть слово славянское, означающее
«пустошь», — так вот наша карта являет собой превосходный ком-
ментарий к нашим внутренним, неизбежным, вырастающим из
самого корня жизни трудностям, бремя которых мы обречены
нести, как несем бремя самой жизни. Средневековье, церковная
колонизация земель от Пассау вниз по Дунаю, монастыри как
центры духовной жизни и крупные землевладения — все это дей-
ствительность и современность. Пожар гуситских войн, залитый
чешской кровью на чешской земле, глубоко пережитый чешским
народом, сегодня говорит чувству больше, чем, осмелюсь утверж-
дать, наполеоновские войны. Тридцатилетняя война со всеми ее
итогами — это ли не факт нашей австрийской — в собственном
смысле — жизни?
Борьба с турками — подвиг на Востоке, ныне готовый повто-
риться, — в известном смысле совершенная современность: она
оставила нам в наследство имперское войско, своеобразная струк-
тура которого, неизменная со времен принца Евгения и Радецкого
до нынешнего дня, могла сложиться только в условиях титаничес-
кого напряжения всех сил Центральной Европы в схватке с азиат-
ским врагом и ни в каких иных. Мария-Терезия и ее сын с их благо-
родными замыслами, зачастую взаимоисключающими, но порой и
дополняющими друг друга, оба — наши современники, они живы,
Статьи. Речи. Эссе
641
они — среди нас, в наших внутренних коллизиях. И вот если взгля-
нуть на Австрию как на одну из частей древней немецкой империи,
в которой живы и действуют все силы немецкой истории, то
немцам станет ясно: Австрия — это не просто некая данность,
Австрия — это нерешенная задача. Многое, что не нашло своего
разрешения в основанной в 1870 году новой империи, но что тем не
менее оставалось задачею немцев, внутренней их жизнью, корени-
лось в судьбе их, действовало, должно быть разрешено и будет раз-
решено здесь.
Австрия — это особая задача, возникшая перед немецким
духом в Европе. Это дарованный судьбою предмет чисто духовного
империализма, ибо, не нуждаясь во вмешательстве политических
сил Германии, она нуждается в постоянном воздействии со стороны
немецкого духа. Еще и еще раз надо осознать, что Австрия — это
задача, стоящая перед немцами в Европе, Надо еще и еще раз осоз-
нать своеобразие этой задачи. Австрии необходим непрерывный
приток немецкого духа: Германия заменяет ей Европу. Но дух спо-
собен действовать, лишь когда он осознает. Мы обязаны требовать
от Германии только чистейшей эссенции ее духа. Но как от одного
индивидуума к другому, так и от одного государства к другому
чистейшее перетекает только при высоком напряжении. Только
высшее и чистейшее приемлем мы от Германии; все, что ниже
того, — для нас яд. Высшее немецкой жизни, переданное и воспри-
нятое при высоком напряжении, есть квинтэссенция жизни и для
наших славян, независимо от того, признают ли они это во времена
смутные и омраченные или нет. И дать им ее — наш долг.
Об австрийских древностях говорится много, а почтенными
древностями мы богаты. Когда я показывал одному немцу, отли-
чавшемуся свежестью восприятия, места по берегам Дуная, среди
которых, кажется, нет ни одного, чья благородная древность не
была бы засвидетельствована «Песней о Нибелунгах» или какими-
нибудь столь же старинными памятниками, он сказал: «Это не
менее почтенно, чем Рейн, к тому же нисколько не испорчено сов-
ременностью». И в то же время в нашем народном характере,
столь немецком, сколь и славянском, так неизмеримо много моло-
642
Гуго фон Гофмансталь
дого, нерастраченного, что снова невольно возникает мысль о
европейской Америке. Ворота, ведущие в Австрию, немецкий дух,
встрепенувшийся, готовый к действию и все же верный своим ста-
рым снам, должен был бы украсить надписью: «Америка здесь или
нигде».
По отношению к Востоку и Югу Австрия является дающей,
по отношению к Западу и Северу — принимающей стороной. От
Германии воспринимали мы все новые импульсы народной энер-
гии, начиная с Пржемыслидов, селивших у себя саксонцев и бава-
ров, и до императора Иосифа II, наводнившего швабами южную
Венгрию. Хотя не Германия, но все-таки Запад подарил нам вели-
чайшего из австрийцев: Евгения Савойского. Было бы поучи-
тельно написать историю великих немцев, для которых Австрия
была либо транзитным, либо конечным пунктом их жизненных
странствий. Должен был приехать Лессинг, но не приехал. Недолго
пробыл в Австрии Генрих фон Клейст, но ему довелось быть свиде-
телем одного из великих мгновений нашей истории, и австрийская
вспышка 1809 года заронила искры в сердце великого немца. Гёте
ступал на нашу землю, бывал в Богемском лесу, пересек Тироль —
но он не искал Австрии. Ее искали Фридрих Шлегель, 3 ах ария Вер-
нер, Гентц. Они были эманациями немецкого духа, но не были
частью высшего и чистейшего в нем, они не были теми, в ком у нас
была нужда. В духовном обмене с ними не было высшего напряже-
ния жизненных сил. И только одно имя оказывается на другой
чаше весов, но оно перевешивает все: Бетховен. То, что именно у
нас закончились его блуждания, зарубежные и отечественные био-
графы пытаются представить как случайность, лишая тем самым
нас самого ценного из всего, что мы когда-либо восприняли от Гер-
мании, а Германию — самого ценного из всего, что она дала нам. И
все же этот дар Германии был предназначен именно нам. Это был
единственный великий дар духа, который мы могли воспринять в
полной мере, ибо он был загодя оплачен нами, кровью от нашей
крови, кровью Гайдна и Моцарта. И вот явился Бетховен, жил
здесь и умер здесь. В самой глубине нашего сознания мы без коле-
баний считаем его своим. В его внутренней жизни открылись
Статьи. Речи. Эссе
643
самые сокровенные глубины, какие только доступны германскому
племени. Воскресает античное представление о гении-хранителе.
Мы начинаем понимать, почему для древних так важно было
верить, что и у них в городе есть могила героя, великой, многостра-
дальной, отмеченной богами души. Возможно, кое-кому сопостав-
ление имен Бетховена и принца Евгения покажется претенциоз-
ным. Оба они в равной степени, хотя и непохожи друг на друга так
же, как ясный день и глубокая священная ночь, представляют
собою то высшее, что Австрия смогла воспринять от Европы, что
смогла усвоить жаждущей душою: от Запада — ясность духа,
активность, безупречную рыцарственность, от Севера — бездон-
ность немецкой души. И то и другое превосходит все, что она смо-
гла бы произвести на свет из своих собственных, пусть и богатых,
НСДР- 1915
Перевод А. Назаренко
АВСТРИЯ
В ЗЕРКАЛЕ СВОЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Впервые дух Австрии проявил себя в музыке, именно музыкою
Австрия покорила мир. Имена Гайдна, Моцарта, Шуберта, имена
Штрауса и Ланнера говорят сами за себя, и мне достаточно просто
назвать их, чтобы вы, австрийцы, ощутили неизмеримую глубину
их содержания. Приветливая ясность, блаженство без экстаза,
радость, почти веселость гайдновских месс, славянский аромат,
итальянский блеск в музыке, рожденной из глубочайших немецких
недр, но без немецкого томления, без маеты, величие без тита-
низма — вот привычные вам черты нашей музыки, которая стала
музыкой мира. Всем известен анекдот, рассказанный некогда Гёте
стариком Цельтером: старого Гайдна спросили, почему в его мес-
сах так много веселья и так мало возвышенности и торжественно-
сти. «Когда я думаю о Господе Боге, мне весело!» — отвечал тот.
Вы помните также, что Гёте, услышав о таком величайшем, под
стать самой природе, простодушии, не мог удержаться от слез. Вы
644
Гуго фон Гофмансталь
помните, что Шуберт, создавая свои обработки песен Гёте, вдохнул
в них что-то, не знаю что — какую-то высшую народность, и
потому уже одни эти имена ясно и непреложно свидетельствуют,
что жизненной стихией людей просвещенных и чувствующих на
рубеже XVIII и XIX столетий в Австрии должна была быть музы-
ка, тогда как в то же самое время высшего духовного напряжения
в Германии такой стихией был интеллектуализм.
В этой атмосфере и рождается австрийская литература. Она
дышит этим воздухом, вырастая в самостоятельное явление, явле-
ние народное даже в лице величайшего своего представителя —
поэта Грильпарцера, но еще более народное у актера Раймунда, у
актера Нестроя, у крестьянского сына Анценгрубера, у Розегге-
ра — слуги лесника, или у Штифтера, сына Богемского леса. Если
взять в нашей литературе фигуры наиболее яркие, то можно гово-
рить о целом направлении — поэзии крестьянских сыновей, проти-
вопоставляя их выходцам из пасторских семейств, так много вне-
сшим в духовную сокровищницу немецкого народа.
На коленях няньки Грильпарцер учился читать по либретто
«Волшебной флейты». Ни в мировой истории, ни в человеческой
жизни не бывает случайностей. А какая замечательная вещь это
либретто «Волшебной флейты»! Наивная, детская, презираемая
следующими просвещенными эпохами и все же неувядаемая,
достойная гения Гёте, который задумал и даже сочинил ее продол-
жение. Можно предположить — а так, наверное, и было, — что эта
нянька-кормилица, на коленях которой Грильпарцер по складам
одолевал либретто «Волшебной флейты», была наполовину или
даже чистокровной славянкой и что именно благодаря ей он вдох-
нул аромат легенд о Драгомире, о герцоге Кроке и его дочерях: ни
с чем не сравнимое сумеречное дыхание этих легенд, их полувар-
варская фантазия в течение всей жизни окружала и питала его соб-
ственную фантазию. «По моим произведениям можно заметить,
что сказки Леопольдштадта о привидениях и феях были отрадой
моей юности», — признавался впоследствии сам Грильпарцер; и в
самом деле, лучшее из созданного им всегда вышивалось по фоль-
клорной канве, и в его вещах или среди них есть нечто от действа
Статьи. Речи. Эссе
645
с рыцарями, разбойниками и призраками, от драматизированной
бабушкиной сказки. Вспомним «Праматерь» с ее привидением,
«Сон — жизнь», которая есть не что иное, как облагороженный
балаган, или «Либушу», комедию с превращениями и чудесами. А
простонародная грубоватость и аллегоричность Раймунда! А
Нестрой с его прямо-таки гениальным фарсом городских окраин,
Анценгрубер с его своеобразным мелодраматизмом, заметно отли-
чающим его стиль от драматического реализма, которому он,
однако же, проложил дорогу (вспомним, как в решающий момент
совершенно нереалистично вдруг начинает звучать музыка), а с
другой стороны, с его поистине народной бодрой веселостью, кото-
рая — например, в «Крючкотворах» — золотит все пилюли, смяг-
чает все щекотливые вопросы. Эта веселая ясность, народный дар,
эта просветляющая стихия неунывающей общительности — види-
мо, именно она и отличает прежде всего фольклорное в поэзии от
литературного. И тут-то нам открывается своеобразный угол зре-
ния на величайшее творение нашей ученой литературы — «Фауст»
видится нам в чем-то обедненным, хоть это и осознавалось его соз-
дателем.
Драгоценнейшее сокровище, которому Гёте не нашел места
в своем «Фаусте», народная стихия — суть и основа юмористичес-
кого начала. Некий отсвет более высокого духовного юмора лежит
на Мефистофеле, дает о себе знать повсеместно, но настоящее
ярмарочное веселье, как оно, несомненно, проявилось бы в более
наивную эпоху у поэта, столь же гениального, было уже здесь
невозможно. Элементы народного здесь как бы притянуты за уши,
тогда как у Раймунда, напротив, за уши притянуто все книжно-
литературное, и высокий слог у него производит впечатление чего-
то заимствованного, не связанного непосредственно с высшими
достижениями учености.
Сравним Нестроя с Коцебу: фарс Коцебу обывательски
выхолощен, а потому обречен на быстрое забвение, фарс Нестроя
— народен и непреходящ. Местные разновидности фарса имелись
везде: в Берлине, в Дрездене, в Мюнхене, — но нигде он не достиг
таких высот; и наоборот, нигде ученая драма не изобилует в такой
646
Гуго фон Гофмансталь
степени фольклорными элементами, поэтому нигде книжность и
фольклор не близки так друг к другу, как здесь. Слияние того и
другого, которое, собственно, и есть идеал всякого драматического
произведения, здесь почти достигнуто — как на сцене, так и в пуб-
лике.
Да, в ту пору существовал настоящий театр, и «театральная
Вена» вошла в пословицу. Тогда она воспринималась полемически,
ныне — исторически. В сфере немецкой культуры действительно
был живой, идущий от народа театр, действительная возможность
для всего социального, духовного, душевного найти себе форму.
Примером того, на сколь высоком уровне реализовывалась порой
эта возможность, может служить — разумеется, весьма и весьма
cum grano salis — личность императора Франца, в которой стран-
ным образом вне всякой связи с ее действительными историчес-
кими достоинствами и недостатками была заложена способность
претворяться в легенду. Можно предполагать, что такие люди, как
император Франц, в своем поведении где-то совершенно созна-
тельно ориентируются на театральный инстинкт массы, на тоталь-
ный характер воздействия театра. Ведь, что ни говори, довольно
странно, что император Франц, до определенного момента строго
выдерживавший образ в духе тосканских великих герцогов, то
есть, в сущности, романский, образ монарха в стиле XVIII столе-
тия, около 1808 года, почти одновременно с народным восстанием
в Тироле, вдруг сделался тем, кого позднейшая легенда окрестила
«добрым императором Францем».
Этому фольклорному началу, благодаря которому возникает
истинно массовый театр, противостоит локальная конкретизация,
индивидуализация общего. Всякий австрийский писатель творит на
фоне своего ландшафта, тогда как немец представляется мне, ско-
рее, отрешенным от своего фона. При мысли о Канте, Гёльдерли-
не, Ницше уже по беспримерному парению духа, по самой высоте
их взлета я могу заключить, что родиною их была Германия и что
оттолкнулись они от немецкой духовной почвы, но — мне не разли-
чить цвета их оперения. Австрийская же птица никогда не взлетает
настолько высоко, чтобы нельзя было узнать ее по окраске.
Статьи. Речи. Эссе
647
Никогда не прерывающаяся связь с родным краем составляет
решающую особенность наших поэтов. Розеггер сказал однажды:
«Есть дети, которые всматриваются в мир и радостно улыбаются
каждому прохожему, но при этом крепко держатся за материнскую
юбку. Я — такое дитя, Штирия — моя мать». Сказано не только
образно, но и очень верно. В Германии XIX века едва ли можно
представить себе что-либо подобное, вроде: «Я — дитя, и Тюрин-
гия или, скажем, Бранденбургская или Гессенская земля — моя
мать». Это был бы надуманный, неестественный партикуляризм,
которым никогда не грешил столь наивный талант, как Розеггер. У
нас был партикуляризм, но не княжеский, не партикуляризм дина-
стического землевладения, как в Германии, а партикуляризм
областной, такого, например, края, как Чехия, где большинство
политических затруднений сводилось к проблеме единства; как
Тироль: движение, возникшее здесь, когда зашла речь о том,
чтобы уступить часть Тироля другой державе, невозможно понять,
не принимая во внимание удивительной живучести областного
патриотизма. Но такая своя особая, в хорошем смысле этого слова,
жизнь есть и в наших небольших областях вроде Готтшее или Бана-
та, у семиградских саксонцев, даже у отдельных венских предме-
стий. Из этой живучести единичного и проистекает наш характер-
ный глухой протест против всякого централизма, против
иосифинизма, против либерализма шестидесятых годов. Это бро-
жение захватило не только тонкий верхний слой — многие пережи-
ваемые нами трудности имеют их своим источником. Партикуля-
ризм земель, округов, областей, даже городов и пригородов,
естественно, с еще большей отчетливостью проявляется в отдель-
ных личностях. Вот Штифтер — чиновник, педагог, педагог приз-
нанный, к услугам которого охотно прибегает министерство, —
случай в известной степени аналогичный Келлеру, стряпчему
цюрихской городской управы, или швабскому пастору Мёрике. Но
смотрите, как, минуя общественное, он приходит к индивидуализ-
му, более того — отшельничеству. Чудаки, одиночки, разочаро-
ванные — вот его герои: старик барон фон Ризах в своем саду,
Феликс, вернувшийся в свою родную заброшенную деревушку,
648
Гуго, фон Гофмансталь
Бригитта в своей степи, Хагештольц на своем острове. Занявшись
каким-либо делом поближе к природе, став садоводом, сельским
врачом, художником, собирателем древностей, эти благочестивые
созерцатели снова возвращаются к родной земле, с которой их раз-
лучила жизнь. Природе предоставлено последнее слово, какой-
нибудь ливень или снегопад вдруг приносит с собой решение всех
вопросов, и собственная судьба предается в руки природы. Не знаю
более странного синтеза, чем это благочестие Штифтера, этот син-
тез христианства и античности, чисто христианской душевности с
античной верою в природные силы, чем эта совершенно исключи-
тельная слиянность с природой, когда создаваемые его воображе-
нием человеческие судьбы, его новеллы, обнимающие целые
жизни человеческие, Штифтер озаглавливает «Пестрые камни»
или «Горный хрусталь», «Гранит», «Турмалин». В человеке столь
чистой души и фантазии, как Штифтер, это не манерность, не
жеманство. Самая глубинная суть его имеет что-то общее с этими
простейшими творениями природы, он пропускает их сквозь себя и
возвращает природе.
У многообразия, вызванного особенностями местной жизни,
есть еще один источник: многообразие социальных типов и живу-
честь этого богатства социальных типов de l'ancien regime в нашей
культурной жизни почти до конца XIX века. Консервирующими
факторами служили здесь монастырские владения, крупные поме-
стья, хутора и особенно военные поселения, как во времена Марии-
Терезии, принца Евгения или императора Иосифа. Еще несколько
лет назад — ведь время постепенно стирает и нивелирует все —
человек мог вполне ощущать себя подданным князей Шварценбер-
гов или монастыря в Мельке, а не гражданином Нижней Австрии
или Австрии вообще. Банатский шваб есть именно банатский
шваб, и житель пограничья есть житель именно пограничья. Ана-
логичное явление, а может быть, и результат этой резкой индиви-
дуализации мы наблюдаем в дни войны. Военные части типа
«Отряд Пфланцер-Балтин» с их пестротой, поначалу так удивляв-
шей наших немецких союзников, но постепенно ставшей им понят-
ною, гуцульская лошадка рядом с пинцгауской породой, русин
Статьи. Речи. Эссе
649
рядом со штирийцем, великое рвение и самостоятельность коман-
диров небольших отрядов, какого-нибудь саперного обер-лейте-
нанта и т. п. — это и есть партикуляризм единичного, который с
полнотою, доходящей до крайностей, проявился в наших величай-
ших писателях. Наиболее сильные создания Грильпарцера — два
одиночки: бедный бродячий актер и Рудольф II; у Розеггера — оди-
нокий учитель лесной школы; бобылей-мечтателей и философов
мы находим и у Анценгрубера, а у Пихлера — колдуна, обита-
ющего в горной избушке. Вот вам сплошь партикуляризмы, а их
перекличка и порождает австрийскую атмосферу, которая, делая
мир поэтическим и манящим, так пленяла романтиков, ту самую
подвижную атмосферу неоднозначности и всеобщей взаимообу-
словленности, которую описал Грильпарцер в своих знаменитых
стихах: «Полупоэзией живем, что для поэзии опасно».
Старое и новое соседствуют у нас действительно чуть боль-
ше, чем где-либо еще. Если, совершив путешествие по Рейну, вы
проплывете затем по Дунаю, то убедитесь, что память о средневе-
ковье здесь бесконечно более жива, в ней меньше музейного, чем
на Рейне. Следы германской и славянской архаики здесь просту-
пают куда более отчетливо, чем в остальной Европе.
В одной из своих работ о соли и путях древней соляной тор-
говли (а соль — великая вещь, связующая все народы!) Виктор Хен
пишет о Зальцкаммергуте, о Халле, Халляйне, Вайхенхалле, о
Величке и, с другой стороны, о Халле-на-Заале. Вся связанная с
нашими соляными промыслами старина предстает совершенной
современностью, совсем близкою; вам действительно начинает
казаться, что такие вещи, как свайные постройки в Халыытадте, не
так уж и далеки от нас. Можно ли сказать что-либо подобное о
Халле-на-Заале? Окружающий мир здесь уже совсем не тот, он ко-
ренным образом переменился, отодвинув прошлое. В нашей же ис-
тории все природно. Пожалуй, у нас можно говорить о природном
и применительно к нравственному, в противоположность обосно-
ванию нравственности в высшей абстракции, в конечном счете вос-
ходящему к Канту. Моральный пример неиспорченного крестьян-
650
Гуго фон Гофмансталь
ского сословия является у нас, быть может, главнейшим фактором
нравственности, тогда как в Германии он куда более возвышен и
осложнен философски. Этот наглядный пример неразвращенного
крестьянства и составляет, в общем-то, суть творчества Грильпар-
цера с его дивной чистотою; да и вообще в Грильпарцере (именно
потому он — фигура типичная) синтезируются почти все без изъя-
тия элементы нашей жизни. Этот синтез старого и ново-
го — историческая драма «Распря в доме Габсбургов», которую
сегодня можно цитировать как политический вадемекум.
Насколько ближе нам, насколько современнее, чем, скажем,
атмосфера шиллеровских исторических драм, этот синтез наивно-
сти и рефлексии, сумасбродства и гражданственности, католи-
цизма и гуманизма, городского и деревенского.
Вся эта поэзия тогда лишь становится жизнью, если уметь
прочесть и истолковать ее; она — зеркало, в котором отражена
австрийская идея. Но как? Настоящий момент требует от нас прак-
тического австрийства, только практического. Какое уж тут созер-
цание? Мы все — в делах, от каждого из нас на его месте требуется
дело. Какая уж тут поэзия? И все же общность между поэзией и
действием для меня очевидна. Оба они — не ложны, языком обоих
служит истина. Настанет вечер, придет пора судить о делах, а
поэзия — это суть вещей и суд над вещами. Поэзия и действие —
две стихии, в которых заявляет о себе глубинный смысл некоей
общности. Без них, без этих обоих гениев поэзии и деяния, невоз-
можны ни национальный миф, ни отчетливое богатое националь-
ное сознание, в котором и происходит интеграция, взаимопроник-
новение всех элементов жизни, в котором, наконец, сводятся к
общему знаменателю все чувства, чему великим примером для нас
может служить национальное чувство французов, где такие персо-
нажи, как Орлеанская дева, Людовик XIV, Генрих IV или Напо-
леон, в каком-то на диво дерзком переплетении являют специфи-
чески французское легендарное единство.
Только из созидательного усилия обоих гениев рождается
национальный пафос, национальный язык; тогда мы вправе были
бы говорить и об австрийстве высшего порядка. «Национальный
Статьи. Речи. Эссе
651
язык» — говорю я и разумею под этим адекватное выражение вну-
тренней позиции, вытекающей из определенного суждения о самом
себе. Располагаем ли мы каким-нибудь суждением о самих себе?
Бесспорно! Но, может статься, суждение это резко неоднозначно.
Суждению народному хватает размаха природной наивности, но
недостает горнего порыва, суждению же возвышенному недостает,
вероятно, естественности, а потому и авторитетности. Проблема
здесь, видимо, в том, чтобы связать естественность с достоинством
авторитета. Возможно, вам на первый взгляд покажется сомни-
тельным употребление понятия «национальный пафос» по отноше-
нию к Австрии при неопределенности ее границ, но я, говоря об
этом явлении, имею в виду не одну только немецкоязычную
Австрию, а по меньшей мере сплоченное ядро наследных земель
вкупе с Чехией.
Что ж, оставим пока в стороне «национальный пафос» и рас-
смотрим в качестве постулата стихийное проявление некой высшей
личности — то, что имеет место для частей: для коронных земель,
для округов, для земли Тироль. Повсюду здесь наличествует опре-
деленная самодеятельность как бы некоторой личности, но ее зна-
чимость для целого сомнительна вследствие зыбкости границ этого
целого. Поэтому должно быть помыслено нечто связующее. А оно
не может быть помыслено иначе, нежели в качестве того понятия,
которое в двадцатые годы XIX века (в эпоху мучительного заро-
ждения политических понятий) сформулировал для национального
государства, если не ошибаюсь, Ранке: «божественная миссия».
Эта божественная миссия, это предназначение и есть для него
источник моральной энергии как государствообразующей силы.
Государство, выстроенное только на власти, на деньгах или солда-
тах, по Ранке, нежизнеспособно.
Применяя такое чисто духовное, чисто этическое понятие
нации к Австрии, я, вероятно, проявляю провинциализм, чрезмер-
ный партикуляризм. Когда весь свет хлопочет о соединении, я рис-
кую утверждать, что хочу отделения. Именно здесь, где идея
«Центральной Европы» пользуется такой популярностью, где с
этой самой кафедры, с которой я говорю сейчас, она не раз про-
652
Гуго фон Гофмансталь
возглашалась одним красноречивым оратором, я рискую показа-
ться реакционером и партикуляристом. Я вношу сумятицу в безмя-
тежность ваших чувств, постулируя дуализм там, где вы, полагаясь
на единство языка, усматриваете и в остальном единство с великим
немецким народом, большинство которого самоопределилось в
лице немецкого национального государства. Позвольте же мне,
коль скоро я затронул здесь все эти щекотливые вопросы, выска-
зать наперекор вам убеждение, что гармония, гармония действи-
тельная, достижима только при условии тонкого разграничения и
свободного развития всех понятий. Понятие нации не следует тол-
ковать слишком жестко. Употребляя его, надо помнить, что у него
нет четких границ, «надо не упускать из виду его теряющийся в бес-
конечности фон». Проникнуть в суть этих понятий поможет нам не
кто иной, как сам Бисмарк, который в своих «Мыслях и воспомина-
ниях» пишет следующее: «Особый характер немецкого националь-
ного чувства заключается в том, что проявить себя оно может
только через характер отдельных национальностей, которые у нас
сложились на основе династического землевладения»; и далее,
опять-таки в «Мыслях и воспоминаниях»: «Германская империя
зиждется на дуализме национальных мотивов».
Этот дуализм чувства — нашу принадлежность к Австрии и
одновременно нашу культурную принадлежность к немецкой
общности — мы обязаны суметь сохранить в той угрожающе кри-
тической культурной и политической ситуации, в которой мы с
вами находимся. Я не вижу в этом никакой опасности, ведь немец-
кая духовность, которой мы сопричастны, в своем великом богат-
стве и по своей необычной роковой природе замешана на дуализ-
мах. Опасно как раз наоборот — слишком выхолостить австрийс-
кое представление о немецком характере, если оно, по неспособно-
сти к широкому синтезу, к охвату и объединению кажущихся про-
тивоположностей, замкнется в косной формуле, которая к бисмар-
кизму находится в таком же отношении, как александрийство к
подлинной античности. Задача не в том, чтобы максимально упро-
стить понятия, сделать* их как можно более удобными в обраще-
нии, а в том, чтобы они вобрали в себя как можно больше от вые-
Статьи. Речи. Эссе
653
шей жизненной сути той или иной общности. То немецкое начало,
которое некогда покоряло мир, проникая на Восток и на Запад,
посланцами которого по ту сторону Нижнего Рейна, Одера, вниз
по Дунаю были строители, купцы, ученые, крестьянские роды,
прослеживаемые на протяжении столетий, которое торговало и
воспитывало, просвещало и обогащало, колонизировало не завое-
вывая, руководило не администрируя, несло с собой немецкую
культуру земледелия, немецкое городское право, воздвигало
немецкие соборы, открывало немецкие мастерские — где все это
сейчас, если не у нас? Где, если не в нас, чище всего отразилась
древняя немецкая идея, хотя и проявившаяся в Германской импе-
рии, но полностью так в ней и не воплотившаяся? Она воплотилась
здесь, раз и навсегда. То, что мы есть, и такие, как есть, то, на что
мы можем претендовать и что нам надлежит исполнить, самое
наше положение среди иноязычных народов и наш долг перед ними
в виду столетий, в силу той роли, которую мы взяли на себя перед
ними, подвигнутые нашим предназначением, — все это историчес-
кое, священное немецкое наследие.
В нас, как нигде в мире, немецкий народ сталкивается с твор-
ческим началом своего великого прошлого. Вот почему шведы и
швейцарцы заявили: если в этой войне и после нее рядом с Герма-
нией будем мы, то лишь тогда миру снова откроется прежнее лицо
Германии.
Да, все это нелегко и непросто. Вовсе не так поверхностно,
как шовинизм Бухареста, и вовсе не так очевидно, как аффектиро-
ванный национализм французов. Необходима почтительная осто-
рожность и толика проницательности, пиетета и любви к собствен-
ной судьбе, чтобы понять это. Поэтому так трудно, так неуловимо
последнее слово духовного австрийства, и именно в этом кроется
его сугубая немецкость. Нет ничего менее немецкого, чем жест-
кое, подчеркнутое самоутверждение, самонадеянное стремление
поместить немецкую сущность в твердые границы, уловить ее в
слове, «назвать по имени гений немецкой истории, как настоящей,
так и будущей». В благоденствии немецкий характер непритязате-
лен до аморфной вялости. В несчастье он способен к внезапным
654
Гуго фон Гофмансталь
взрывам. Самовнушение не в немецком характере. Наша духовная
позиция по отношению к национальному немецкому государству,
от которого мы беспредельно многого можем ждать и которому
неоценимо много можем дать, предопределена со всей ясностью.
Это отношение, не лишенное достоинства и красоты, вырастает из
чувства равноценности, из родственных уз и отмечено знаком
нашей особой судьбы, будь то печать благодати или, если угодно,
стигматы — печать страстотерпия. Основою его служит тихое,
незамутненное чувство собственного достоинства, совершенно
чуждое всякого самодовольства.
Богатства нашей культуры для нас святыня, и мы знаем, что
кладем на чашу весов. Но заключаются они для нас не в почтенных
памятниках древней архитектуры, не в старинных установлениях,
не в богатой блестящими воспоминаниями монархической аристо-
кратии, не в пестрой карте наших земель и не в многообразии их
обычаев. Мы хотим проникнуть глубже, к корням жизни: культура
для нас — не мертвая замкнутость, а жизнь, взаимопроникновение
жизненных сфер и жизненных сил, политического и военного,
связь материального и нравственного. И раз уж так у нас повелось,
что, говоря о самих себе, мы непременно ввернем хотя бы словцо
самоосуждения, то позвольте и мне сказать об одном австрийском
заблуждении, длящемся вот уже десятилетия и столь противореча-
щем характеру наших величайших австрийцев, великой импера-
трицы и принца Евгения, — я разумею заблуждение, заставляющее
нас изолированно трактовать политику и учреждения власти, учре-
ждения власти и культуру. Политика! Что это, собственно говоря,
такое? Что это такое, как не взаимное согласие относительно дей-
ствительности, относительно того, чтб на самом деле имеет реша-
ющее значение: будь то в области материального — в промышлен-
ности и торговле, будь то в области духовного — в вере, кровной
вере отцов? Велика амплитуда колебаний этого маятника. Может
быть, эта война заставит нас лучше понять, где искать истину.
Истина там, где есть самая великая, самая безусловная, самая глу-
бинная, самая нетронутая сила. Сила эта — в народе: война нау-
чила нас это понимать. Духовность интеллигенции можно сравнить
Статьи. Речи. Эссе
655
с исчерканной, вкривь и вкось исписанной доской; нескончаемые
слова пишутся, стираются, заменяются другими. Духовность
народа я уподоблю доске на диво чистой, на которой немногие
истины выведены чистыми, ровными, не тускнеющими от времени
чертами. Несколько новых знаков на этой доске — результат глу-
бочайших впечатлений войны в народной душе. Самое важное сей-
час, на мой взгляд, — суметь истолковать эти знаки. Велика ответ-
ственность духовных наставников, которые призваны истолковать
народу эти знаки. В природных глубинах, в которых обитает
народ, равно как и в сумеречных глубинах личности, где пролегла
зыбкая грань между духовным и плотским, нет места рефлексии и
знанию, там господствуют воля и вера. Только волею, только
верою может быть постигнута австрийская идея, а без света идеи
нам не пройти того пути, что открывается ныне перед нами.
Вполне возможно, что возникнет потребность во множестве новых
разновидностей австрийства: практических, крайне практических,
радикальных и крайне радикальных, решительных, мгновен-
ных, — они возникнут и войдут в моду, но, постигнув австрийскую
идею, мы увидим ту траекторию, которая, как из точек, склады-
вается из этих всех и всевозможных разновидностей, а без толики
духовного универсализма нашей воле и нашей вере не обрести
своего предмета: Австрии будущего. ___ .
1916
Перевод А. Назаренко
ФЕРДИНАНД РАЙМУНД
Введение к собранию
документальных свидетельств о его жизни
Эта маленькая книга содержит в себе примерно все, что мы знаем
о Раймунде, и, видимо, все, что мы сможем когда-либо знать о нем.
Документ за документом собрано в ней то, что выплывало на
поверхность в течение десятилетий: фрагмент автобиографии,
письма к старой приятельнице, записки современников, маленькие,
656
Гуго фон Гофмансталь
рассыпанные по различным изданиям анекдоты из его жизни.
Объем невелик, но, если судить по впечатлению, это один из ред-
ких, несравненных человеческих документов. Все здесь зримо, все
складывается в единый, цельный образ; мы замечаем, что не про-
пущено ничего существенного, и по прочтении книги в сознании
остается не память о прочитанном, но память о чем-то таком, что
сами мы вроде бы испытали в полузабытой давности.
Картины эти писаны теми же простыми красками, что и про-
изведения самого Раймунда. Сплошь краткие мифы, сценки, в
которых участвуют высшие силы, иной раз темные и зловещие; все
эти сценки могли бы объявиться в его пьесах, и пока они проходят
мимо нас, складывается столь совершенный и полный образ писа-
теля, что, кажется, можно коснуться его рукой. Вот жизнь в роди-
тельском доме, мечта о театре; вот ученик кондитера, стоя перед
зеркалом, корчит рожи, желая сравниться со знаменитым Оксен-
хаймером, исполнявшим роли интриганов, а отец, больной, совсем
уже при смерти, видит сына через открытую дверь комнаты и
напутствует его своим проклятием. Несчастный, легкомысленный
брак, из тех, какие заключают актеры, и постоянная, непреходя-
щая, верная, полная печали любовь к вечной невесте; маленькие
амурные истории: вот из-за кокетливой девчонки Раймунд бро-
сается в Мюльбах, вот он делает неудачную попытку увезти дру-
гую девушку, а третья, любившая нашего поэта, болезненное
существо, посажена родителями под замок и вскоре умирает. Есть
тут и другие маленькие рассказы, эпизоды, и в каждом из них
сжато в единое мгновение что-нибудь многозначительное, даже
сказочное, резко контрастные образы сталкиваются как на театре.
Вот перед выходом на сцену Раймунду вручают письмо, запечатан-
ное черным сургучом, оно содержит известие о смерти его возлюб-
ленной; поездка в Пратер — и самоубийца в луже крови за кустами;
нищий у Шотландских ворот, в лохмотьях на ледяном ветру — а над
его головой шумит празднество в ясно освещенных залах отеля «У
поляков». И в итоге создается вполне цельный, ни с чем не сравни-
мый облик Фердинанда Раймунда. Но кто ж такой этот Раймунд?
Нет, не литератор, трудно найти человека, который был бы
Статьи. Речи. Эссе
657
меньше литератором, нежели он. Он — поэт, он и сам так думает,
но даже не подозревает, насколько большой он поэт. А прежде
всего он сын своего народа. Благодаря этому он индивид, а сверх
того — целый мир. Границы между ним и всем остальным в этом
мире размыты. Он принадлежит общности — Вене и делит с ней
все свое. Как-то странно представлять себе Шекспира мальчиком
для услуг в лавке мясника или Мольера — сыном обойщика, но то,
что Раймунд был учеником кондитера на Видене или в Хернальсе,
а потом актером в Леопольдштадте, кажется вполне естественным.
Между всеми этими фактами полнейшее единство. В Раймунде не
отделишь поэта от человека, человека от жителя Вены. Время от
времени рождаются люди, для которых социальное бытие стано-
вится внутренней судьбой, в которых оно, если можно так сказать,
цветет легко и вольно; таким человеком был Гольдони, и таким
человеком был Овидий.
Раймунд не занимался прославлением Вены, не занимался он
и описанием или тем более сатирическим изображением нравов
города Вены — это позднее выпало на долю Нестроя. Он был
человеком, в котором Вена стала идеей. Раймунд, по сути дела, не
был ни социальным, ни антисоциальным поэтом — Нестрой был в
высшей степени как тем, так и другим; Раймунд не рассуждал, не
обобщал, как обобщают великие поэты; не анализировал, как ана-
лизируют великие романисты; скорее, он грезил. Всему его твор-
честву и даже бытию присуще некое вегетативное начало.
Социальная тема для него не столько позиция (по сравнению с
Мольером, с Гольдони, которого он намного превосходит как поэт,
он — неискушенный ребенок!), сколько выражение почтения и
доверительности. Он чувствовал себя частью Вены — вот и все.
Единственная тенденциозность, которую можно было бы припи-
сать ему, заключается в том, что, куда бы ни заносила его в даль-
них странствиях крылатая фантазия, все соотносил он с Веной, —
так мы соотносим с собой все, что видим во сне. Но и эта тенден-
циозность у него вполне бессознательная, он был мечтателем,
погружался в сновидения, задумывался глубоко, но вовсе не так,
чтобы холодно сознавать вещи, разумеющиеся само собою. Он —
658
Гуго фон Гофмансталь
актер, драматург, директор театра. Ему хочется развлекать, нра-
виться, притом совсем не хочется раскрывать свою душу. Он вну-
тренне замкнут, одинок, безмерно обидчив, робок, шутлив. Что-
нибудь мрачное непременно творится бок о бок с ним. То людская
недоброжелательность, зависть, подлость, то меланхолия омра-
чают его душу. Его пугает вид гор, всю жизнь он страшно боится
собак. В конце дней своих он печален и одинок, хотя живет с подру-
гой; сновидения то восторгают, то мучают его; то вдруг рука про-
тягивается из темноты, чтобы схватить его, и ничему этому он не
сопротивляется — весь этот мрак изливает его же душа, и вскоре
он умирает. В самой смерти его — бесконечная странность, проис-
ходит что-то на грани между жуткой, притом гротескной действи-
тельностью и сказкой в раймундовском стиле, где свою роль
играют и ипохондрия и фантазия, — похоже, живут и страдают
герои Раймунда. Все это у него в полнейшем единстве и придает
событиям особi.iи магический оттенок. Хочется надеяться, что
жизнеописание, целиком составленное из подобных рассказов,
окажется вечным, бессмертным — подобно куда более скудной
биографии «милого Августина»; как ему пропасть? — разве что
память изменит народам и прервется единство целого. Мы ведь,
кстати, ничего путного не можем сказать даже о том, насколько
оно, это единство, жизнеспособно в наши дни.
Венский народный дух — с ним связывает Раймунд всякий
плод своего воображения, венский дух интимно-доверительный и
не слишком пунктуальный. Как, в какой форме объяснишь ему
мир? Дух населения европейской столицы в начале XIX столетия
— станешь ли рассказывать ему сказки? Какие? На каком наре-
чии? А он внимает сказкам — сказкам старинным, неумирающим,
занесенным с Востока, тем самым, которые Галлан пересказывал
французам, а Гоцци — венецианцам; но только до конца смеша-
лись, бесконечно сплелись они со стихией народности, приобрели
локальный колорит, пропитались запахами Вены. Он внимает
сказкам, рассказанным на языке барокко, смешивающим высокое
с низким, — стиль отчасти грандиозный, отчасти шутовской вен-
ский.
Статьи. Речи. Эссе
659
В стихии такого языка и вырастает Раймунд в поэта, это
судьба его во всех смыслах слова — несущие его крылья, путы,
тянущие его к земле.
В языке своем человек раскрывается до конца. Не только
уровень образования отражается в языке, но и куда более тонкие
веяния — тоньше любых социальных характеристик. Своеобыч-
ность великих французов XVIII века замечательно отражается в их
языке — тут и самоуверенность их, и дерзания, и, при всем изяще-
стве, твердость и независимость, с которой они ощущают во все-
ленной точку своего «я», прочную настолько, что, казалось, опере-
вшись на нее, можно перевернуть весь мир — в этом им близок
Лессинг. Еще более странно помыслить, что таков язык немецкого
поэта в те же примерно годы, когда создавался «Западно-Восточ-
ный диван» Гёте. Отличительная черта языка Раймунда, стоит
только ему покинуть почву венского наречия, — полнейшая беспо-
мощность. У других поэтов характер языка определяют творчес-
кое самоощущение, гордость, подъем духа, а у Раймунда — душев-
ность, робость, почтительность. Идеалами ему служат великие
понятия — любовь, счастье, одиночество. Высокий язык полон
аллегорий, и дух его смущенно бродит между ними. Язык для Рай-
мунда — храм высших сил, правящих жизнью, настоящий поэт —
жрец в этом храме. Абстрактные понятия, эти сосуды духовного,
какими располагает язык, не вызывают в Раймунде ни малейшего
сомнения, никакая критика абстрактного не затрагивает его. Это
бесконечно удивляет, — ведь как раз в тот момент учение Канта и
Фихте, растворявшее все сущностное и духовное в не-«я», достигло
своего апогея, и целое молодое поколение с Генрихом фон Клей-
стом во главе спешило отпить из этой «чаши уничтожения»! Удиви-
тельно представлять себе, что в тихий кабинет Гёте, куда доноси-
лись все веяния эпохи, в одно и то же время проникал и вопль
гибели и самоуничтожения, и голос наивной веры — голос поэзии
Раймунда. Не один индивид, а целый город на мгновение являл
миру волшебный, приукрашенный образ этого мира. Великолеп-
ные стихи сошлись, съединились в состав, который и просущество-
вать мог лишь очень недолго. Еще оставалось правдивым краси-
660
Гуго фон Гофмансталь
вое, и еще не стало тривиальным наивное, и сама скудость жизни
еще составляла ее богатство.
Театр Раймунда не раз подвергали ученому разбору. Живи-
тельный его источник — своеобычное смешение натурализма и
аллегории, направляемое безошибочным чувством такта. Аллего-
рии прямо вытекали из языка Раймунда. Более того, язык и образ-
ное созерцание были для него едины. «Собственно говоря, лишь
зримое действие уместно на сцене», — писал в черновой тетради,
лет за двадцать до того, Новалис. Он, надо думать, никогда и не
видел настоящего народного театра, но создавал свой мир, опира-
ясь на гениальную интуицию. Раймунд, должно быть, не написал
ни одной сцены, которая не проистекала бы из подлинно увиден-
ного в воображении, — он руководствовался не столько рассудком,
сколько внутренним видением. Слово не бывало у него словом диа-
лектическим — не ведало оговорок и кружных путей, привычных
рационалисту и филистеру. Этим он предельно непохож на другого
великого поэта-актера — на Мольера, предельно непохож и на
Нестроя, могучего и опасного диалектика. Слово Раймунда —
всегда мазок, потом опять мазок, и краски всякий раз берутся
самые тонкие и беспримесные, он по-ребячески страшится цветов
смешанных, двусмысленных, присущих реальному миру, — в их
применении силен был как раз Нестрой. И над всеми этими, соз-
данными Раймундом, сценами словно разлито нежное, не ирреаль-
ное, но сверхреальное свечение — оттенок святости, лучи утренней
зари. Становится понятым, что большинство сцен создавались «на
природе» — так и видишь поэта, который, повесив себе на шею
огромную чернильницу, «сидит на дереве и творит». Возникают
фантасмагории, в сравнении с которыми самые прелестные сказки
Гоцци кажутся освещенными лишь жалким светом театральных
фонарей. Когда же фантасмагорические видения чуть меркли, на
помощь пьесе приходил Раймунд-актер. Говорили, что, если играет
Раймунд, ни одна пьеса не могла провалиться, оттого что натура
его была неисчерпаемо богата. А третий элемент поразительного
единства составляла публика, равно необразованная и восприимчи-
вая, наивная, любящая вдосталь посмеяться и способная расчув-
Статьи. Речи. Эссе
661
ствоваться. Так возникает феномен — неповторимый, недолговеч-
ный и, как всякая красота, недоступный ученому разбору, — рас-
цвет венского театра. Тогда во всей Германии уже не было народ-
ного театра, там о нем мечтают, грезят, там его доискиваются и
находят всюду и нигде, в XVI столетии, в средневековье; роман-
тики замечают этот художественный феномен настоящего и бро-
сают на него восхищенный и удивленный взгляд; в лучах такого
взгляда, покрывающих реальное явление позолотой и налетом
печали, венская народная сцена и запала в память немцев — словно
пейзаж, навеки запечатленный художником в минуту, когда солнце
бросает на него прощальный луч своего волшебства.
Перевод А. Михайлова
РЕЧЬ О БЕТХОВЕНЕ
1770—1920
Сто пятьдесят лет — срок огромный в сравнении с жизнью челове-
ка. Но у нации мера иная, и те дни для нее — день вчерашний. Дав-
нее это время для немецкой нации было что заря, ярко разгоравша-
яся на небе. А какой час в жизни народа пробил теперь, едва ли
скажет кто из нас. Но мы должны переждать его твердо и спокой-
но — такова наша доля.
Тогда был Моцарт. Здесь, в этих пограничных областях, где
соприкасаются старая и новая Европа, на этом порубежье, разде-
лявшем владения римские, немецкие и славянские, зародилась
музыка — немецкая музыка, европейская музыка, истинная, веч-
ная музыка эпохи, до конца осуществляющая свой смысл, естест-
венная, как естество, невинная, как природа. Выйдя из глубин
человечнейшего из всех немецких племен, она предстала перед
Европой прекрасная и постижимая, словно античная статуя, но ста-
туя, очищенная христианством, обретшая большую невинность.
Все самое глубокое и самое чистое, поднявшись из недр народно-
сти, воплотилось в звуки — в звуки радости, в звуки святого, окры-
ленного, легкого смысла — не легкомыслия, а блаженного ощуще-
662
Гуго фон Гофмансталь
ния жизни: бездны провидятся, но не вселяют в душу ужаса, самый
мрак еще пронизан тайным свечением, в нем есть и печаль, ибо
народу ведома печаль, но вряд ли режущая боль, и никогда — оди-
ночество коченеющего сознания.
На века обрела тогда свой голос юная немецкая нация —
самая поздняя в Европе, поднявшаяся из могилы темного столетия,
пусть же благозвучный этот голос вечно струится чрез поколения,
да будет он благословен, да узнает в нем народ тайное звучание
своей светлой и радостной души. Но кто же такой Бетховен, что
ныне, в час темный и неясный, мы славим его, хотя жил Моцарт,
славим как мужа, не отступающего ни перед кем, славим, говоря:
один был Единственным, другой — Могучим?
В новые времена ни одна нация уже не составляет того един-
ства, какое составляли древние или великие народы Востока:
целый народ — что единый металлический стержень, полнозвучно
отзывающийся на удар судьбы; и менее всего — она, изначально
расколотая, немецкая. Мириады душ отпадают от ее глубинной
общности, но и отпав все же хранят вольную связь с ней. Эти люди
новых времен, отнюдь не античного склада, — наши пращуры, а
притом и братья, потому что мы для нового поколения — то же,
чем были они в свое время, — носители духовности; не цвет
нации — кто дерзнет бесстыдно утверждать это? — и не сердце, но,
наверное, крылья, которые возносят ее над пропастью к Солнцу. В
них, отщепенцах, не было ничего достойного традиции, коль скоро
они расставались со своей народностью, — и, однако, обособление
было возложено на них судьбой. Ужасной была, ужасной остается
их доля, и все же они — законные наследники столетий и довер-
шают их историческое дело. Терзаясь гордыней и малодушием,
они кажутся себе подчас сынами Божьими, и безмерное, почти
нечестивое слово «творец» не представляется им тогда слишком
смелым, но потом они снова падают на землю, как Икар. Немота,
необщительность их нации становились и становятся для них
адской мукой. Они сгорают изнутри под бременем духовного
богатства, которое тщетно силятся передать другим. Среди людей
они одиноки, как отшельники. Чтобы утолить стремление к абсо-
Статьи. Речи. Эссе
663
л юту, являлся на свет Вертер — страдающий сверх меры, и
Фауст — вожделеющий сверх меры. Ради них неутомимо создавал
свои образы Шиллер, и его герои противопоставляли закону мира
закон собственного сердца, превосходили друг друга пылкими
речами и благородством. Ради них Гердер, наделенный безмерной
мощью слуха, вслушивался в века и народы. Но «Вертер» не уто-
лил их жажды, и «Фауст» не сказал им последнего слова; их алчу-
щий ум стремился дальше, нежели простирался слух Гердера, они
жаждали слышать неслышимое, и в речах шиллеровских персона-
жей отзывалось лишь красноречие их снов, не самый лерв их
деяний. Потому что конечной целью этого красноречия была
политика, а они в глубине души отнюдь не тяготели к политике и
постоянно оказывались то недостаточно зрелыми, то слишком зре-
лыми для нее. Они борются за живое слово и живое дело, томятся
по недостижимому, чтобы слово и дело слились воедино. Звуки
Моцарта для их мятежных сердец были слишком гармонически-
возвышенны и слишком по-земному безмятежны. Они ждали ора-
тора, который объединил бы распавшееся в них, очистил и освятил
чрезмерность их чувств, жреца, который вознес бы сердца их к
Богу в жертвенном сосуде; предстателя за них пред Богом, но —
как тут сказать? — им хотелось, чтобы жрец служил, но не было
храма, чтобы предстатель был могуч, как Моисей, и косноязычен,
подобно Моисею, им хотелось, чтоб оратор сказал то, что не ска-
зывается в слове. Весь их жар был направлен на неисполнимое, на
кажущееся неосуществимым. Тут гений нации призвал еще одну
душу — выступил Бетховен.
Он вошел в мир Гайдна и Моцарта, словно Адам в рай меж
четырех рек. Он был равен ангелам и не был им подобен, его бла-
гочестивое лицо дышало упрямством: он первый человек. Его
отношение к музыке уже не было невинным, ибо он познал.
Направляемый им оркестр пел и говорил человеческим голосом,
однако то, что он пел, не было чистым благозвучием, просветлен-
ной гармонией творения: оркестр своевольно пел страдания и радо-
сти отдельного человека. Любая его музыкальная фраза — пре-
стол страсти. Ему был дан голос и сила вызывать священное из его
664
Гуго фон Гофмансталь
тайных убежищ, и он призывал священное к себе, чтобы бороться
с ним и играть с ним. Одинокий, он вел в звуках беседу со своим
сердцем, с возлюбленной, с Богом — беседу неровную, прерыви-
стую, порой возвышенно-беспорядочную. Изливая душу, неразъ-
ятую, благочестивую в самом бунте, он сделался творцом языка,
превышавшего язык. В таком языке — весь он, целиком: это боль-
ше, чем звук и лад, больше, чем даже симфония, чем гимн, чем
молитва, это — то, что невозможно высказать, жест человека,
предстоящего Богу. Здесь было слово, но не слово языка, лишив-
шееся своей святости, а живое слово и живое дело, и они были
одно.
Творя, он не искал популярности, не хотел ее. Однако в его
творчестве есть то, что восходит от народа и входит в индивида,
вновь обретая в нем свою сущность, поэтому хотя народ и не узнает
себя в его творениях, но отдельные люди, отпавшие от народа, но
принадлежащие народу, могут узнать в нем сущность свою и своего
народа. Его душа, подобно душе человека из народа, была не рас-
колотой, не разъятой. Но в нем жила неведомая народу в целом,
неведомая столь многим, кто всуе пользуется этим словом, страст-
ность духа, и в ней обреталась его музыка. Он был силен, и муже-
ствен, и смел, и невинен как дитя, но предчувствие и вдохновение
заносили его в такие сферы, куда едва ли проникал хоть один чело-
век. Он был откровенен и прям, в области духа он испытал и
познал все — только не сомнение. Он умел выразить любое движе-
ние души — только не легкомыслие. Он был человеком цель-
ным — то, что захватывало его, захватывало его целиком. Он был
суров и крепок телом — его тело пророка и предтечи обладало
всем необходимым, чтобы вынести страдание. И тот орган чувств,
который доносил до него голос сверхчувственного, подвергся
испытанию, сделал его несчастнее обыкновеннейшего из людей. В
этом он подобен Моисею — заике, призванному говорить с Богом
от имени всего народа. Тело и дух были в нем едины, и к концу
жизни могучее и упрямое лицо его стало выглядеть совсем так, как
его творения, и место, где покоится его тело, воистину священно —
могила героя. Честь и хвала нам во веки веков, ибо мы окружаем
Статьи. Речи. Эссе
665
эту могилу. Ибо шаги его — так было суждено — привели его к
нам с берегов далекого Рейна. Наши Моцарт и Гайдн выступили
ему навстречу; наш ландшафт смягчил его сердце шелестом дерев
и пением птиц — пока звуки мира еще проникали в недра его суще-
ства; он бросился ничком на нашу землю, чтобы вслушаться в нее;
и Грильпарцер и Шуберт несли его гроб к могиле.
Этот момент, когда мы поминаем такого человека, вспоми-
наем, как он ходил среди нас и как мы шли по его стопам, — торже-
ственный момент; он тем более возвышен, что застает великий
народ в унижении. В час тьмы ярче сияют небесные созвездия, и
среди них — он. Теперь не время праздновать, но настала пора
собраться и воздвигнуть себя заново. Нации нанесена глубочайшая
рана, и, хоть рана не смертельна, боль остается, и нация переносит
ее без скрежета зубовного, но погрузившись в глубокое раздумье.
Она чувствует свою вину перед собственным гением и хочет возвы-
сить свое сердце над виной. Она снова пытается восстановить себя
в индивидуальностях, смутно сознающих свою неисчерпаемую глу-
бину, и снова судьба зависит от них и от того, окажется ли молодое
поколение достойным их гения. Снова, в который раз, обора-
чивается к миру лик необщительной в самой глубине своей, не
одаренной красноречием нации. Слово общего языка, которое
должно было бы связать всех в одно целое, тысячекратно разде-
ляет всех на еретиков и инквизиторов. У нации нет единого языка
в духовной сфере — значит, вообще никакого. Ей снова, в который
раз, не хватает средоточия души, и, не в силах справиться со своим
бытием и чуждыми ей, спутанными мыслями, она лежит в простра-
ции, как предоставленный сам себе больной. Но те, кто был отвер-
жен ею, еще помнят о высоком и еще хранят в себе престол духов-
ного ландшафта, откуда во все стороны устремляется пылающая
мысль, дабы охватить нечто вечное, никогда полностью не пости-
жимое.
Не доверяя слову, они молчаливы из целомудрия; но в их сер-
дцах звучит безъязыкий язык, превыше всех языков, живет знание
о мрачных потемках бытия и надежде, достигающей, несмотря ни
на что, небесных сфер.
666
Гуго фон Гофмансталь
В этот торжественный и суровый миг они сближаются, и, где
соберутся их двое или трое, там возвышается над ними лицо чело-
века, чье выражение, одновременно благочестивое и упрямое, не
истолковать до конца, — templum in modum arcis — храм Божий в
образе крепости, чело Бетховена.
В этот час мы чтим его память. Пусть и он в тот же час
почтит нашу память веянием своей силы и своей чистоты.
Перевод А. Михайлова
РЕЧЬ О ГРИЛЬПАРЦЕРЕ
на всенемецком торжественном заседании
памяти поэта в Ганновере 7 мая 1922 года
Отчего собрались мы сегодня здесь? Отчего чествуем одного из
самых славных поэтов нашего народа? Ведь слава его никем не
оспорена, а торжественные акты, подобные тому, какой пригото-
вились мы совершить здесь, в одной точке нашего обширного оте-
чества — родины множества племен, не могут ни заметно умно-
жить ее, ни утвердить крепче прежнего. Думая, как ответить на
такой вопрос, мы внезапно осознаем: славу великого человека
нельзя уподоблять золотому кладу, сохранному до тех пор, пока
есть кому следить, чтобы не был он похищен, — нет, слава сама —
живое, одухотворенное существо, напоминание и призыв, окры-
ленная часть целокупного народного духа: в час испытаний это
благородное существо пробуждается, дабы прийти на помощь
народному целому, и в час торжества кружит, ликуя, над нами. И
если ныне людьми, слагающими народность, овладевает сильное и
страстное желание помянуть одного из своих великих сынов, и если
желанию этому нипочем горы, и реки, и даже границы, и оно овла-
девает всем великим немецким отечеством, и мы на севере Герма-
нии поминаем поэта, который жил и творил в Австрии, — то
отсюда явствует, что в иную пору в душу одного немецкого пле-
мени словно проникает некий зов и внушает ему впитать в себя
Статьи. Речи. Эссе
667
наиблагороднейшую силу другого немецкого же племени — так по
утомленному телу волнами разливается покой, от сердца подни-
мается к голове, от головы расходится по всем членам тела.
Уже свыше ста лет все мы, немцы, питаемся величайшей
силой, мягкостью, гибкой мудростью франконского племени,
обретая все это в одном-единственном воплощении — в Гёте, а из
нашей Австрии все это время, словно бальзам, источается кроткая,
глубокая сердечность, присущая баварскому племени, звуками
Гайдна, Моцарта, Шуберта струится она по всей Германии. А сей-
час, когда через полстолетия после смерти величайшего нашего
поэта представители всех племен собрались, чтобы восславить его,
нам оказывается этим еще большая честь, ибо все сознательные,
обращенные к духовности люди единодушно признают за поэзией
первенство среди искусств.
Мрачно вокруг нас, смутно явное! Но пока жив великий
народ, дни его не могут протекать в одиночестве и бесплодии,
потому что могучая сила целокупного народного бытия не уми-
рает, и, однако, когда неясны, сомнительны знаки судьбы, словно
кровь застывает в жилах, минувшее перестает радостно вливаться
в настоящее, а тогда лишь глубокое, сосредоточенное раздумие о
ком-либо из великих творцов способно придать нам силы. Всеоб-
щее, как мы его познаем, обманчиво и лишено существенности, в
немногих людях род человеческий воплощен полностью; нелегко
повстречать таких людей, но мы неутомимо ищем следы их, и
найти их в духовных творениях — величайшее обретение нашей
жизни.
Грильпарцер прожил свою жизнь тихо и одиноко, а ведь
родился он в самом общительном из немецких племен. Он по отцу
был крестьянин, и от отца досталась ему в наследство крестьянская
молчаливость, даже в общении с близкими; от матери же досталось
настроение печали, обретавшее дар слова в жалобах, в самообви-
нениях, затихавшее и разгоравшееся в музыке. Он ненавидел свою
фамилию и стыдился, слыша, как ее произносят; в ней звучала для
него какая-то насмешка; нам же она кажется прекрасной, потому
что скрывает в себе благородство — так выражение придает пре-
668
Гуго фон Гофмансталь
лесть лицу. Он и по матери был крестьянских кровей, хотя семья
матери на протяжении многих поколений жила в городе. Если наз-
вать фамилию отца и фамилию матери — Грильпарцер, Зоннлейт-
нер, — тотчас переносишься в австрийскую деревню, видишь
справа и слева от себя пологие склоны невысоких, сглаженных
холмов, темные пятна рощиц среди полей и вдалеке — искрящуюся
полоску Дуная. По роду деятельности Грильпарцер был чиновни-
ком, по призванию — поэтом. С молодости он завоевал себе авто-
ритет в Австрии и во всей Германии, но времена менялись и меня-
лись мнения относительно того, что составляет духовное содержа-
ние; он же противоборствовал духу времени, ненавидел беспо-
койно-мелкую суету, поэтому имя его оставалось известным, на
деле же на него не обращали внимания и толком его не знали. Был
ли он человеком верующим и в какой степени — трудно сказать. В
душе он был христианин, как Гёте, как Шиллер, ведь не что иное,
как христианство, определило свойства наших душ и наше созна-
ние. Кроме того, католик с немецкого юга, он жил в атмосфере,
проникающей во все поры тела, тем более в поры такого воспри-
имчивого существа, как он. Однако вероисповеданием его было
вольнодумство, если придать этому слову более благородный отте-
нок чистоты, какой еще был присущ ему в начале минувшего века.
Если вспомнить последние изречения, какие оставлены им, нельзя
не признать в нем глубокого благочестия, — таков образ импера-
тора Рудольфа, таковы монологи Либуши, рассказ бедного музы-
канта; не то чтобы изречения в общепринятом смысле, но ясные
речи-символы, бесценные последние слова великого наставника,
заповеди одухотворенной личности нам, ученикам его. Когда он
оттачивал форму этих изречений, предназначая их для потомков и
запирая в секретер, он был одиноким старцем, но могущественным
существом. В часы, когда он владел величайшими силами, дарован-
ными ему, в нем воцарялась неслыханная строгость, сознатель-
ность, ясность духа; колоссальный опыт жизни сливался с его лич-
ностью. То, что окружало его, его время, казалось ему ничтож-
ным. А свое единство с родиной, с землей, которой он принадле-
жал, с нерушимой сущностью народа, с тканью великих историчес-
Статьи. Речи. Эссе
669
ких судеб он прекрасно сознавал. В нерешительности престарелого
Рудольфа, в одиночестве бедного музыканта отнюдь не все сво-
дится к скромности личности, почитающей себя чем-то малым.
Эти вещи пронизаны возвышенной иронией, по сравнению с кото-
рой ирония романтиков — всего лишь неуклюжесть застенчивых
юнцов; они полагают себя вправе наслаждаться разладом жизни,
тогда как взору старика открывается в нем страшный образ избо-
рожденного морщинами человеческого существования.
Таким стариком, одиноким и могущественным, остался
Грильпарцер в нашей памяти — образ великой суровости, а для
нас, австрийцев, — предмет особой гордости, источник проникно-
венного утешения; пусть черты его лица призрачно сливаются с
чертами императора из дома Габсбургов, царствующего в Праге, с
чертами одинокого музыканта, беспомощно пиликающего на
своей жалкой скрипке, даже с чертами исчезающей в седой старине
провидицы Либуши, пусть так оно и будет, ибо то, каким запечат-
леется великий поэт в памяти народной, — не дело случая, мы и тут
видим великую силу, направляющую наши подлинные судьбы там,
где случай уже бессилен; мы склоняемся перед нею и из рук ее
принимаем то, что важнее знания биографии и дат, — картину
жизни, в которой запечатлелся лик судьбы. Сюда мы относим и
безвременную смерть Шиллера — так стремительно сгорает
высоко поднятый факел, преклонные лета Гёте, на первый взгляд
общительно-вельможного, а в глубине души совершенно одино-
кого старика, недаром, описывая эту жизнь, прибегали к именам
чудодеев — Мерлина и Клингзора; сюда же относится и крушение
Клейста и долгое, тихое помешательство Гёльдерлина. Вот
подлинно героические мифы наши, от них души становятся углуб-
леннее и напряженнее, как души иных поколений — от Гомера, от
Плутарха.
Он был прирожденный драматург: один-единственный шаг
— и он в самом средоточии измышленной личности, и он живет в
ней, как в себе самом. Поэтому он уверенно отвел себе место близ
Гёте, ваятеля живых образов, близ Шиллера, творца величествен-
ных жизненных ситуаций, хотя и поставил себя после них. Потом-
670
Гуго фон Гофмансталь
ство, отвергнув притязания очень многих других поэтов, сохранило
за ним это место, только рядом с ним оно ставит еще одного драма-
турга, все значение которого Грильпарцер еще не мог оценить
вполне: Клейста.
В годы его юности людей волновало — кто классик, кто
романтик. Эти споры не имеют касательства к нему: Грильпарцеру
чужды вторичные, искусственные антитезы, каким поклонялись в
ту эпоху: художник и филистер, набожность и практицизм, пре-
красная старина и безобразная новизна. Мог ли соплеменник
Гайдна и Шуберта разделять народ и художников, мог ли почита-
тель и ученик Моцарта пролагать водораздел между благочестием
и разумом! Да и мог ли проводить различие между древним и
новым австриец — ведь для него величественные памятники
былого связывались в ряд непрерывного перехода, провозглашен-
ное в XIII веке продолжало вибрировать в творениях XVII века и
не прерывало своего трепетного звучания вплоть до современно-
сти, — когда замолчали камни, их речь подхватили струны. У
романтиков дух стал забавой для фантазии, у младогерманцев душа
стала служанкой холодного и плоского рассудка. Для Грильпар-
цера духовность и душевность неразрывны: их редкостное созвучие
он именует сосредоточением, и нет для него понятия высшего,
нежели это. Пока Грильпарцер жил, одна за другой открывались
поэтические школы. Но как мало людей умеет учиться, а он —
умел! Он идет своим строгим путем постоянства и собранности, и
на каждой новой жизненной ступени встречают его истинные учи-
теля — не живые, правда, но умершие, — истинные, бескорыстные
спутники того, кто ищет в тиши путь настоящего художника. Лес-
синга назовем первым среди его учителей; Грильпарцер обязан ему
многим, искусство завязывать и развивать драматический кон-
фликт и стих его, включая самые поздние произведения, пожалуй,
сложились не столько по образцу языка шиллеровского, в котором
Грильпарцеру с его строгой и разборчивой душой, скорее, претили
чрезмерные пышность и пафос, сколько по образцу языка «Натана
Мудрого». Из произведений Гёте Грильпарцер, должно быть, чув-
ствовал себя наиболее обязанным «Эгмонту» и первой части «Фау-
Статьи. Речи. Эссе
671
ста». Я не говорю о Шекспире — его влияния не избежал ни один
немецкий драматург. Но не назвать Еврипида нельзя — в нем прив-
лекало Грильпарцера соединение картин душевного состояния с
изящной красотою мифа. Изучению великих испанских драматур-
гов посвятил Грильпарцер зрелые годы — в них его увлекало, оча-
ровывало непосредственное превращение чувства в действие,
события в образ — вечный и недостижимый идеал. И, видимо,
позволительно назвать еще одного поэта, след которого я обнару-
живаю порой в мягких абрисах персонажей Грильпарцера, — это
Теренций.
Умершие мастера готовы отвечать, но лишь тем, кто умеет
вопрошать. Путем непрестанного раздумья Грильпарцер вырабо-
тал глубокое понимание законов искусства; из всех немецких
поэтов он сделался настоящим мастером и в том, как приводить
к согласию сюжет и характеры, живущие своей особенной
жизнью, — задача, напоминающая проблему композиционного
решения в живописи и, как правило, слишком сложная для слабых
рук поэтов нового времени, которые именно поэтому и довольству-
ются слишком пространными характеристиками своих персона-
жей, — ив том, как выявлять тончайшие сплетения мотивов в душе
героев, неожиданные бурные переходы их настроения, пользуясь
самыми лаконичными, но приметными средствами так, чтобы все
совершающееся переливалось в мимическое, в явное, очевидное
действие, чтобы все становилось настоящим театром. Во всем этом
он своей сознательной уверенностью превосходит даже Клейста —
тому вещи удивительные иной раз приходят словно во сне, зато он
способен резко и упрямо свернуть в сторону, не достигнув цели.
Правда, Грильпарцеру очень помогло то, что был он венцем;
всегда перед его глазами находился живой театр, и все на этом
театре — и самое трагичное и возвышенное, и все плоское и обы-
денное, — все складывалось в наглядный образ и все стекалось к
актеру с его движениями и жестами. Для него театр означал спек-
такль, воспринимаемый сразу всеми чувствами, а не видение, раз-
вертывающееся в мечтах, и не книгу, которую надо читать. Даже
и сама пестрая, разношерстная толпа зрителей, заполняющая яру-
672
Гуго фон Гофмансталь
сы, толпа, которая здесь и только здесь обращается в единое
целое, загораясь единым чувством, была необходима Грильпар-
церу-драматургу, и у нее он учился, и она была для него природой,
подобно мыслящей и чувствующей природе его собственной души.
Его высокий театр льнул к театру народному и произрастал из того
же корня; и до оперы тут всегда рукой подать, до трогательных,
изобретательно придуманных ситуаций метастазиевских либретто,
до зачарованного мира звуков «Волшебной флейты»: границы
между народным театром, оперой, созданиями Грильпарцера —
это всегда линии плавного перехода. Лишь шут не допущен в его
театр, хотя ему нашлось бы тут место, — в этом отношении поэт
при всем богатстве фантазии еще оставался сыном XVIII века с его
очищенным, согласно требованиям рассудка, вкусом. Остерегался
Грильпарцер пользоваться и народным наречием, хотя, наверное,
диалектально окрашенная речь легко и изящно слетала бы с губ
его героинь: он твердо придерживался норм литературного верхне-
немецкого языка, в котором, по словам Якоба Гримма, сливается в
гармонии все, что в отдельных диалектах противоречит друг другу.
Однако венский народный театр втайне сознает, что Грильпарцер
ему близок по-братски, что поэт этот втайне, втихомолку принад-
лежит ему, — об этом ни одна из сторон не заговаривала, ни одна
и не отрицала этого. В лице Фердинанда Раймунда венский народ-
ный театр зримо идет навстречу Грильпарцеру, трогательно, с
нежной, робкой любовью протягивает ему руку — есть в этом и
какая-то ревность, и сама встреча напоминает аллегорические
сцены из пьес Раймунда — самые трогательные, непреходящие
аллегории нашего театра, какие выходили из-под его изящного,
тонкого пера. Есть что-то чудесное в их взаимоотношениях, о чем
не скажешь на словах, но чем можно любоваться: когда воздают
честь Грильпарцеру, истинно его разумея, тут непременно возни-
кает и фигура Раймунда, от него неотделимая.
Грильпарцер мастерски соединяет черты характера персо-
нажей, мастерски согласует характеры с действием. Вспоминая его
драмы, мы — в отличие от драм Гёте — больше думаем о событиях,
чем о персонажах. Грильпарцер — подлинный драматург, стоящий
Статьи. Речи. Эссе
673
ближе к Шекспиру и к испанским поэтам, чем, скажем, Шиллер,
сила которого — в создании мощных контрастов, разряжающихся
громовыми речами героев. И здесь ему очень близок тот же
Клейст: в «Кетхен из Гейльброна», в «Принце Гомбургском» ситуа-
ции, отмеченные неповторимой особенностью, внезапно раскры-
вают перед нами, обнажают характеры героев. Самое напряжен-
ное духовное содержание Грильпарцер вкладывает не в ритм сти-
хов, но в действие, которое и создается прямо для сцены — по мере
развития событий персонажи произносят слова необходимые,
решающие, порой скупо, суховато. И лишь изредка задевает он
душу теплотой, полновесной речью, но тогда уже сразу покоряет
ее, словно внимательным, чутким взглядом. Его персонажи мед-
ленно приближаются к глазам зрителя: постепенно и ненавязчиво
он выманивает у них сокровенные тайны души. Как непохоже на
Шиллера, у которого души героев исходят огненным вихрем, как
непохоже на Геббеля, поэта глубокомысленного и непластичного,
силой вынуждающего нас заглядывать в души героев, смотреть
через все трещины и щели, всматриваться внимательнее, чем нам
хотелось бы, — он и не дарит нам счастья.
Персонажи Грильпарцера притягивают к себе незаметно, но
непреоборимо, они словно и не стремятся увлечь нас, хотят про-
браться сторонкой. Кто не вспомнит сейчас о бедном музыканте?
Но не такова ли и Эсфирь? Царь уже почти прошел мимо. Еще
чуть-чуть, мгновение — и они бы разошлись, но нет, этого не
происходит, они встречаются, и тогда судьба завязывает свой узел.
Всем кажется — мир прошумит над головой Рудольфа II, но импе-
ратор-то знает: этому не бывать. Поэт подражает природе в самом
трудном — в ее непритязательности.
Высокое достоинство драматурга отчасти зиждется на уме-
нии создавать красивые и конкретные сопряжения персонажей.
Незабываема вдохновенная музыка дружбы между Гамлетом и
Горацио, между Антонио и Бассанио — назовем хотя бы эту драго-
ценность, сияющую в изобильном мире Шекспира! Но как кра-
сиво сопряжены у Грильпарцера юность и старость — поваренок
Леон и мудрый епископ Григорий; какое прекрасное понимание
674
Гуго фон Гофмансталь
мгновенно возникает между Эсфирью и царем Агасфером, до
этого и не подозревавшими о существовании друг друга; сколь бла-
городны и своеобразны взаимоотношения императора Рудольфа и
герцога Брауншвегнского, сколь таинственно и необычно отноше-
ние Рудольфа к Дон Цезарю! Однако самые прекрасные сопряжен-
ности образуются между мужскими и женскими образами — отно-
шения, при всем их различии всегда отличающиеся сдержанно-
стью, не доходящие до крайности, до безмерности, на что так скор
был Клейст. Таковы отношения Геро и Леандра, Эдриты и Леона,
короля Альфонса и Рахили, Ясона и Медеи, Пржимислава и
Либуши — вечный луч, разложенный на многоцветие магическим
кристаллом поэзии! А какие ситуации — любящие разделены
морем, царь персидский выбирает себе сказочную невесту, герои
отправляются в мифическое путешествие из Колхиды в Коринф! И
каковы сюжеты, заставляющие всеми чувствами воспринимать и
то, что, пожалуй, лишь в последнюю очередь должно трогать
душу; какой глубокомысленный и сказочно-многообразный вымы-
сел в «Либуше», какие остроумные, скорые и опасные хитроспле-
тения в «Еврейке из Толедо», пьесе, в которой виден выученик не
только испанских драматургов, но и Лессинга, притом единственно
достойный его продолжатель! Однако сила поэта австрийского — в
поэтически-драматическом вымысле, пользующемся все более
неожиданными сюжетными звеньями, который широкий, обиль-
ный поток театральной жизни то извлекает из древних преданий,
то смело и непосредственно заимствует из окружающей жизни. В
этом Грильпарцер схож с молодым Гёте: неисчерпаемая изобрета-
тельность Гёте в создании сценических коллизий постепенно оску-
девала при отсутствии живого театра, но напоследок прорвалась во
второй части «Фауста», драме скорее фантасмагорической, нежели
подлинно сценической. Но Грильпарцеру и Гёте не уступает Рай-
мунд: красноречивые и порой поистине глубокомысленные
взаимосвязи его персонажей, дерзкие и убедительные антитезы
свидетельствуют, сколь высоко надлежит ставить поэтическое
дарование Раймунда-драматурга — достаточно вспомнить о том,
как противопоставлены друг другу Флотуэлл и Валентин, Раппель-
Статьи. Речи. Эссе
675
копф и его призрачный двойник, как оказываются лицом к лицу
Юность и старик Вурцель, достаточно вспомнить притон арфиста
Нахтигаля в одной пьесе, «тихий дом» и столь мелодичное расста-
вание с ним его обитателей — в другой...
Поскольку мы говорим о Грильпарцере как об одном из
великих поэтов нации, то на языке невольно вертится вопрос, есть
ли в его творчестве черты возвышенного, ибо не должно быть
лишено таких черт творчество поэта, которого мы представляем
как высочайший образец нашему молодому поколению. Понятие
возвышенного не следует затуманивать, непременно связывая его с
колоссальным и внушающим ужас. Ужасного мы в его созданиях
не найдем — ни сцены Гамлета с призраком, ни еще более жесткой
сцены с порочной матерью, не найдем ничего, что встало бы в один
ряд с разговорами Яго и Отелло, не услышим ни адских, как в «Дон
Жуане», ни грандиозных звуков, как в последних творениях Бетхо-
вена. Но у Грильпарцера была великая душа. Его стихотворения
отличались тем настроением суровой, сдержанной печали, кото-
рое, как полагают многие, служит мерой глубины и широты духа.
В них он с трудом отрешается от ужасного гнета жизни и лишь в
драматических образах, словно стекавших с его пера, освобо-
ждается от такого ощущения вполне, ибо на своих персонажей он
перекладывает все тяготы бытия, словно желая избавить от них
самого себя. Он сообщает им много своего. Почти все они глядят
на нас тем спокойным, ровным взором, что и он сам в своих стихо-
творениях, в дневниках, в собственном жизнеописании. Речи его
персонажей столь же честны, как и его речи; его же слова — прав-
дивы, правдивее, чем то обыкновенно бывает у поэтов. Он правдив
в своих жалобах, правдив в размышлениях, и размышлял он лишь
по внутреннему влечению, не признавал рутины, не признавал прав
даже самого большого таланта на привычную схему, не допускал
искусственного перевозбуждения внутренних сил, от чего не
вполне свободен был даже Шиллер. И герои его внутренне правди-
вы, правдива и судьба, какую они претерпевают, тогда как Клейсту
случалось насиловать драматические обстоятельства, выжимая из
них такие события, самой возможностью которых позволительно
676
Гуго фон Гофмансталь
было разве что играть в мечтах. Оттого-то в созданиях Грильпар-
цера и обнаруживается подчас та самая черта величия, какую сле-
дует именовать возвышенным: «...прямой луч света, идущий изну-
три характера, исходящий из самых глубин и устремленный в
самую даль, свойство безусловной искренности, разверзающей
перед нами роковые бедствия чистой души».
Он обладает — вот редкостный дар! — он обладает тем,
что ближе всего к нему. Порой в нем выступает некая пугаю-
щая нас близость к натуре — так в четвертом действии «Геро»,
в первом и втором действиях «Еврейки из Толедо», на многих
страницах «Бедного музыканта». Та же близость к реальному
поражает нас и в молодом Гёте, весь «Пра-Фауст» сложен из
почти одних таких черт, потом уже, у Гёте зрелого, они отступают
на задний план. В произведениях Грильпарцера поэт иногда испове-
дуется перед нами, но мы сразу не замечаем этого; таинственно-
прекрасны намеки на собственную жизнь, на судьбу самого поэта
— не на то, о чем знает и болтает первый встречный: так, Либуша
вынуждена дважды оставлять свое зачарованное уединение, во вто-
рой раз — как провидица, ведающая грядущее и прорицающая про-
тив воли. В образе Рудольфа II все линии сходятся: личная судьба,
судьба династии, историческое свершение, власть и духовное пре-
восходство, чувство ответственности и неприкосновенность монар-
ха. Душевное состояние трех названных героев Грильпарцера —
императора, музыканта, пророчицы — не поддается описанию: в
каждом из них заложено творческое начало, недоступное класси-
фикации. Эти персонажи — святые, мудрые, любящие — не по
мерке обыденности и не по мерке тех, кто пользуется словами,
как числами, но по непреходящей мерке поэтов. Орден, кото-
рым награждает Рудольф своего друга герцога, объединяет лю-
дей, в чьих сердцах владыкою стал дух. Это образы, не имеющие
себе равных в немецкой литературе, да и не только в немец-
кой. Они кажутся то ли более, то ли менее вымышленными,
чем почти все другие известные нам образы литературы. Наделен-
ные особой, самостоятельной жизнью, они при этом как бы не
вполне отделились от своего создателя: дух поэта продолжает жить
Статьи. Речи. Эссе
677
в них и страдать, а потому они чаруют нас со всей присущей ему
силой.
Какие потоки слов обрушивали на него современники! Его
поэзия якобы бедна мыслью, а потому он уступает Геббелю, даже
Гуцкову, вложившим в свое творчество небывалое множество идей
и проблем, не говоря уж о том, что он безнадежно отстал от Шил-
лера, который в драматической форме выразил все великие идеи
своего века. Еще бы, эти современники повсюду выискивали проб-
лемы, везде они видели, говоря по-гегелевски, взаимодействие
процессов. Но их проблемы очень часто были иллюзиями незре-
лого рассудка, зрения, плодами неопытности, истерической
нервозности; он же многое испытал до конца и видел реальное
положение вещей. Тот, кто не способен творить образ, переносит
тяжбу понятий из одной инстанции в другую. Но проблема находит
свое разрешение только в образе.
У него, не понятого современниками, был единомышленник:
благородный Штифтер, который своими чистыми образами сумел
ответить на вопросы более глубокие, нежели те, что вообще могли
прийти иным в голову; ведь чтобы ставить глубокие и знаменатель-
ные вопросы, мало торчать в передних эпохи, прислушиваясь к ее
пересудам.
Употребив слово «идея» с должной серьезностью, следует
разуметь его иначе, чем то расхожее, бесформенное понятие,
которое связывает с ним обиходный язык наших дней, — в нем бла-
городное слово «идея» означает всего лишь жалкие, так называе-
мые злободневные мысли, плоские, стертые мириадами языков
лозунги, что, подобно противным мухам, неотвязно следуют за
путником, вьются вокруг него, а потом внезапно отстают и на-
всегда исчезают в придорожных кустах. Что же значит слово «идея»
на деле, какое достоинство заключено в нем, о том дает представ-
ление возвышенный язык эстетики Шиллера — таким языком
писал он свои трактаты об искусстве; правда, Шиллер не опреде-
ляет это слово вполне четко, граница между «идеей» и «идеалом»
размыта, однако возвышенное античное понятие идеи у него еще
ощутимо, в нем еще просвечивает античный «эйдос» — «зримый
678
Гуго фон Гофмансталь
образ». Равным образом мы способны постигнуть и смысл, кото-
рый связывают с этим словом художники, когда читаем, что сове-
товал Рафаэль Бальдассаре Кастильоне: коль скоро в этом мире
слишком мало красивых женщин, пусть он пользуется определен-
ной идеей, которую носит в своей душе. Поэт мыслит, заглядывая
в глубины человеческого. У него возникает идея основных отно-
шений бытия, и такими идеями — пластическими образами — он
вносит в неясное и путаное течение мирских дел великолепный
порядок, излучаемый его поэзией. Что подразумевается в прологе
«Фауста», когда Господь велит ангелам утвердить прочностью
мысли все, что витает в неясности явления? Такими единственно
поэтичными идеями чрезвычайно богаты творения Грильпарцера.
Многолико и чудно выступает перед нами идея ответственности,
трогательно — идея одиночества. Идея супружества пронизывает
своим ясным светом мир «Золотого руна». Идеи деятельности и
бездеятельности противостоят друг другу в пьесе «Сон — жизнь»;
идеи царской власти и обязанностей подданных противопостав-
лены в «Либуше»; в комедии «Горе лжецу» сама идея во всей своей
чистоте и безусловности непосредственно сталкивается с суетным
миром, где идее нет места. В заключение нашей речи коснемся еще
одного свойства драматических созданий Грильпарцера — оно
доказывает редкостное мастерство поэта: каждая его драма состав-
ляет совершенно особое, самостоятельное целое не только по
сюжету, что разумеется само собою, но и по стилю. Каждая пред-
ставляет свой особый пластический строй. Каждая, если только
проникнуть в нее достаточно глубоко и изложить свои наблюдения
достаточно подробно, представит особенный драматический жанр.
Мы же можем лишь бегло указать на очевидное, на то, что сразу
бросается в глаза.
Грильпарцер стал знаменит после «Праматери». В этой пьесе
стихия народности была смешана с мотивами готических и разбой-
ничьих драм, с трохеями испанской драматургии, от которых и
перешла в нее стремительность летучей, беглой интонации и в то
же время некая смысловая отрешенность, — однако к такому или
подобному смешению элементов Грильпарцер никогда более
Статьи. Речи. Эссе
679
не обращался. В «Золотом руне» он примыкает по стилю к Еврипи-
ду, а также и к Шиллеру, но совершенно по-новому связывает миф
и психологическую аналитичность, всецело принадлежащую
новейшему времени. «Геро и Леандр» — трагическая идиллия,
вообще ни с чем не сопоставимая. «Сон — жизнь» — это волшеб-
ная пьеса венского народного театра, бесконечно одухотворенная и
облагороженная, но и к такой чудесной форме, которой словно
улыбается гений Вены, Грильпарцер никогда больше не обращал-
ся. «Горе лжецу» — не имею сейчас возможности перечислить все
его создания в хронологическом порядке — редкость из редкостей:
и прелестная идиллическая картинка давно минувшего, и веселая
комедия в духе того, что у французов, осторожных в суждениях и
точных в терминах, именуется «comique serieux». Эта пьеса да еще
«Минна фон Барнхельм» Лессинга служат непревзойденными
образцами жанра — вот и весь урожай полутора столетий, потому
что «Разбитый кувшин» Клейста принадлежит не совсем к той
линии. В трех последних драмах Грильпарцер вновь достигает
высочайшего в этом смысле уровня: художественная энергия целой
жизни здесь просветлена и собрана воедино; в «Братских распрях»
Грильпарцеру единственный раз — потому что трагедии Шиллера,
за исключением «Валленштейна» и то лишь наполовину, не исто-
рические пьесы в том смысле, какой мы связываем с этим словом,
— в условиях самых специфических удалось достигнуть почти неве-
роятного, передать историческое содержание минувшей, но, в сущ-
ности, все еще длившейся эпохи, передать его целиком и передать
в пластических образах.
Может быть, только австрийца и могла поджидать такая уда-
ча, притом лишь в отношении века семнадцатого, от которого все
еще шли к нам (так это и было до вчерашнего дня) тайные нити
сопряжений. Потом, в «Еврейке из Толедо», Грильпарцер доби-
вается совсем иного: анекдот, частная судьба, новеллистическая
фабула обрела несравненную одухотворенность и стройность фор-
мы, предстала трагедией, лишенной малейшего оттенка ограни-
ченности и случайности. Наконец, в «Либуше» Грильпарцер создал
сказку, полную задумчивости и глубокого смысла, связанную
680
Гуго фон Гофмансталь
равно с политикой и с общечеловеческим, вечным. Две удивитель-
ные тропы начал прокладывать Грильпарцер, и никто не последо-
вал за ним.
Во всех его композициях заключены высокие поэтические
идеи; нужно дожить до зрелых лет, чтобы осмыслить их. Подоб-
ные идеи — удел сильных, а по силе я ставлю его рядом с Лессин-
гом, великим мастером построения монологов и целых драм, и
рядом с Клейстом, — их персонажи остаются живы для нас, по-
прежнему задевают нас за душу, и время не наносит им урона.
Великая сила была присуща и Грильпарцеру и всему, что он оста-
вил нам. Эта строгая, суровая, надежная сила может, мне кажется,
служить в душе человека опорой подлинной веры и подлинного
свершения. Такова и слава его, потому что в цельном существе все
подобно. Слава была рано им завоевана, и он ее не ценил. Зато
теперь от нее исходит аромат нетленности, впрочем, нечувстви-
тельный для тех, кто отирается в передних истории. Но тот, кого
влечет глубже проникнуть в единство прошлого-настоящего, то
есть в подлинную жизнь нации, — тот уже не сможет не вдохнуть
в себя живительное дыхание этой силы: святилище нации напол-
нено им, ибо есть такое святилище, оно сложено не из камней, и
потому его нельзя ни разрушить, ни осквернить. Слава Грильпар-
цера — его сила, его сила — его слава, и сила и слава его пребыва-
ют, внушают нам веру и подают нам жизнь, не на всяком пере-
крестке, но везде, где мы нуждаемся в той и другой. Он — один из
немногих, чей образ возрождается в нас, когда мы возвышаемся до
более высокого уразумения нашей самобытности.
Перевод А. Михайлова
ЮДЖИН О'НИЛ
Когда прошлым летом мы вместе с режиссером Максом Райнгардтом
ставили одну из моих пьес на сцене Зальцбургского фестиваля —
впрочем, если быть точным, сценой, на которой разыгрывались на-
ши представления, была церковь, да и сама пьеса представляла со-
Статьи. Речи. Эссе
681
бой нечто вроде мистерии с действием, я бы сказал, синтетическим
или символическим и с элементами аллегории — так вот, именно
тогда я впервые услышал имя Юджина О'Нила от приходивших на
наши спектакли американцев. Они весьма возбудили мое любо-
пытство, пересказав сюжет «The emperor Jones» и «The hairy ape».
Позднее я прочел обе пьесы, а заодно и «Anna Christie» и
«The first man», сделав это, разумеется, только ради интереса и не
имея в виду никакой иной цели, кроме знакомства с драматичес-
кими сочинениями, написанными настолько сильно, что даже
после беглого пересказа они запечатлелись в моей фантазии как
несомненные драматические случаи из жизни; я хотел поучиться на
них, ибо труд современника всегда поучителен: ведь всем нам
маячит одна и та же цель. Поэтому предложение суммировать свои
впечатления и мысли по поводу прочитанного в статье, предназна-
ченной для американского читателя, было для меня совершенно
неожиданным. Но я полагаю, что если случай толкает нас к дости-
жению — в вопросах нашего собственного ремесла — той степени
ясности, при которой публичное высказывание делается неизбеж-
ным, не следует им пренебрегать.
Мне совершенно ясно, что эти пьесы, как и некоторые, им
предшествовавшие, обеспечили г-ну О'Нилу первое место среди
ныне здравствующих американских драматургов. Все эти пьесы
насквозь и изначально сценичны. Они отличаются четкостью кон-
тура и надежной добротностью построения даже в тех случаях,
когда их сюжет не основан, как в «The Emperor Jones», на новизне
и неожиданности выдумки. Сильные стороны их построения, их
прозрачность подчеркиваются целым рядом приемов, отража-
ющих манеру автора и, смею предполагать, вкус американской
расы. Сюда я отношу ритмический повтор либо ситуаций, либо
определенных слов и мотивов (например, мотив belong в «The hairy
аре», который, усиливаясь в каждой сцене, все ускоряет неуклонно
катящееся под гору действие), а кроме того, пристрастие к силь-
ной, впечатляющей антитезе — между жизнью в море и на суше в
«Anna Christie» или между мещанской и свободной моралью в
«The First man». В сюжете всегда велика примесь визуального эле-
682
Гуго фон Гофмансталь
мента, необходимого для театра, а для современного, может быть,
более, чем когда бы то ни было. Весьма силен диалог, иногда
слишком прямой, иногда проникнутый своеобразным грубоватым
колоритным лиризмом.
Но при всем том манера О'Нила строить диалог дает, на мой
взгляд, повод к кое-каким размышлениям общего свойства. Не
отрицая первостепенной важности драматического сюжета, собы-
тийной основы, английского plot, я все-таки считаю, что именно в
диалоге проявляется творчество драматического писателя как
таковое. Я имею в виду не лиризм и не риторическую силу (ни один
из этих элементов в отдельности не является решающим при
оценке драматического диалога), не вообще какие бы то ни было
литературные достоинства, коль скоро мы допускаем разграниче-
ние понятий театра и литературы, но такой диалог, который объ-
единяет все названные элементы, присовокупляя к ним еще один,
быть может, самый главный: элемент мимического. Истинно дра-
матический диалог содержит не только мотивы, которыми движим
тот или иной персонаж, причем как те, в которых сам герой скло-
нен сознаться, так и те, о которых он стремится умолчать, но и
определенный флюид реального присутствия героя (чем это дости-
гается? — именно здесь и заключена творческая тайна), присут-
ствия как внешнего, так и в другом, как бы метафизическом смы-
сле: то, благодаря чему человек, только что вошедший в комнату,
кажется нам симпатичным или внушает страх, беспокоит нас или
располагает к уютной беседе, благодаря чему он вносит с собой
атмосферу тусклой обыденности или праздника. Чем сильней дра-
матический диалог, чем обнаженнее в нем волнения этой атмосфе-
ры, тем меньше он доверяет сценической ремарке. У Шекспира —
хотя, может статься, и не следует слишком уж часто взывать к
великой тени, рядом с которой все мы представляемся пигмеями —
почти отсутствует сценическая ремарка, и все заключено в диало-
ге; каким-то способом, не говоря об этом прямо, он вызывает у нас
и чисто визуальное впечатление, так что мы знаем, что король Лир
был худ и высок ростом, а Фальстаф — человеком тучным и
отнюдь не маленьким.
Статьи. Речи. Эссе
683
Мастерский драматический диалог своими ракурсами напо-
минает аллюр породистой лошади: они экономны и целенаправ-
ленны, но в то же время совершенно бессознательно обнаружи-
вают такую жизненную энергию, что выглядят не преднамеренны-
ми, а прямо-таки расточительными, избыточными, бьющими
через край. Таков диалог Стриндберга в его лучших вещах, таков
иногда диалог Ибсена и, конечно же, всегда таков диалог Шекспи-
ра, звучащий с равной силою как в страшных сценах Макбетовых
убийств, так и во внешне пустопорожних перебранках шутов. В
сравнении с этим идеалом — сейчас я не критикую, а просто рассу-
ждаю — герои О'Нила, как мне кажется, слишком уж открыто
говорят именно и только то, что хотят сказать; они слишком зазем-
лены на сиюминутность ситуации, слишком мало вокруг них от их
собственного прошлого, которое будто прозрачная дымка, будто
некое полусознание постоянно веет рядом с нами; и как раз поэто-
му, в силу одного из тех парадоксов, которым подчинено творче-
ство духа, они наоборот — недостаточно прочно чувствуют себя в
современности. Многое из того, что они говорят, мне кажется
слишком откровенным, но при том — недостаточно неожиданным,
а ведь последняя откровенность, вырывающаяся из человека,
всегда — большая неожиданность. Их молчание для меня не всегда
убедительно, подчас оно, на мой взгляд, недостаточно красноречи-
во; я нахожу, что, переходя от одной темы к другой или возвраща-
ясь к главной теме, они недостаточно естественны; они не скупятся
на восклицания и проклятия, на мой вкус, даже слишком, а это
делает меня более равнодушным к тому, что выходит из их уст; в
повторах мне видится та самая настойчивость, которая, как и в
сюжете, лишь до известной меры является достоинством, сверх же
этой меры — уже слабостью драматического стиля.
Суть драматического составляет движение, но движение
небеспрепятственное. Я не решусь судить, какие моменты играют
в драме главную роль — подталкивающие или тормозящие разви-
тие действия. Во всяком случае, ясно одно: истинно драматический
диалог рождается только из взаимопереплетения этих моментов.
Взгляните на вещи Шекспира: в них нет ни одной строчки, которая
684
Гуго фон Гофмансталь
бы так или иначе не служила действию. Но если мы просмотрим
текст пьесы под этим углом зрения, то убедимся, что происходит
это в высшей степени опосредованно: через кажущееся противопо-
ложение действию. Девять десятых текста любой трагедии или
комедии Шекспира представляют собой отступления, вставки, пре-
ломления прямого луча — короче говоря, всяческого рода тормо-
зящие мотивы, но именно благодаря им происходящее обретает
пластичность, а обнаженное действие облекается в ту атмосферу,
которая, собственно, и есть связующий фермент в этих драмах.
Возьмите череду событий в «Антонии и Клеопатре», изъяв их
однако из той несказанной атмосферы блеска и печали, свершив-
шегося рока и растоптанной гордости, Востока и Запада, одиноче-
ства и людской толпы, атмосферы, рожденной диалогом — что у
вас останется? Сбивчивое, несвязное кино. Поэтому так неточна,
при всей ее педантичности, оценка лучших вещей Гауптмана как
образцов натуралистической манеры. Драматические поделки
доктринерского натурализма, например, предпринятые сорок лет
назад инсценировки Гонкуровых романов, имеют известное значе-
ние для истории театра, но жизни в них нет и не было даже тогда,
когда они только что появились на свет: они начисто лишены воз-
духа, того воздуха жизни, который в пьесах Гауптмана как раз и не
дает распасться целому, воздуха жизни, рождение которого — в
драме или на живописном холсте из богатства точно выверенных и
гармонических оттенков, из того, что художники называют le rap-
port des valeurs — всегда тайна. Равным образом и в пьесах Стринд-
берга целое скреплено вовсе не единством сюжета, который
можно было бы и пересказать словами, а самой атмосферою их
между явью и сном.
Европейский театр — учреждение древнее, обремененное
опытом и неизменной подозрительностью старого, но все еще пол-
ного сил существа.
Мы знаем о том, что движущий, моторный элемент драмы
есть элемент тщеславный, постоянно стремящийся к эмансипации.
Но мы знаем также, что сила высокой драмы заключена во взаимо-
увязанности моторного элемента с элементом статическим — так
Статьи. Речи. Эссе
685
было всегда, со времен Эсхила и до сего дня, это заставляет нас с
подозрением относиться к попыткам такой эмансипации. XIX век
был свидетелем многих такого рода попыток, но все они вели к
снижению потенции драматического и, так или иначе, к мертвой
точке.
Снова и снова возникает опасность, что чисто моторный эле-
мент, то под маской «идеи», темы или проблемы, то под именем
интриги или просто сценической виртуозности, возьмет верх над
хрупким, трудным, но необходимым синтезом движущего и тормо-
зящего или, другими словами, над нерасторжимым слиянием
формы и действия.
Сарду — ив этом он явился наследником Скриба — стал
создателем театра, который со свойственным ему преоблада-
нием мужественного элемента, элемента действия над тем другим,
более податливым, как бы женственным элементом, двадцать лет
подряд царил на всех европейских сценах, а в лице своих эпигонов
вроде Зудермана, Анри Бернстайна, Пинеро — даже значительно
долее двадцати лет: театр этот был кумиром международной бур-
жуазии, вызывая в то же время яростную ненависть у всякого
художника.
Это был театр, герои которого, выписанные внешне без-
упречно, но без тени иррационального роскошества жизни, с меха-
нической педантичностью разыгрывали до мелочей продуманный
сценарий — все это в абсолютно безвоздушном пространстве. Сущ-
ность своего стиля Сарду сформировал так: la vie par le mouvement,
на что его противники ответили ему своим афоризмом: le mouve-
ment par la vie. Противниками же были все художники, ибо Золя
соседствовал здесь с Вилье де Лиль-Аданом; от них тянется нить к
молодому Стриндбергу, хотя самой представительной среди них
фигурой в театре был Антуан. Затем на некоторое время маятник
развития европейского театра, может быть, слишком резко кач-
нулся в противоположную сторону, и, видимо, здесь кроется при-
чина того, почему пьесы столь большого драматурга, как Гаупт-
ман, никак не могут перешагнуть пределов немецкой сцены. В
немецкой же публике вкус к статистическому элементу развит
686
Гуго фон Гофмансталь
чрезвычайно, равно как и терпеливость по отношению к сбива-
ющей темп действия игре психологических, индивидуализирующих
и лирических мотивов. Думаю, вещи Гауптмана представляют
собой в этом смысле прямую противоположность пьесам О'Нила.
Там, где О'Нил полагается на цельность своего первого
душевного порыва, из которого рождается ряд сильных, запомина-
ющихся сцен (являющих, впрочем, в сравнении с многообразием
жизни пример почти балладной упрощенности), там у Гауптмана
весь расчет строится на пластичности персонажей, коих он выво-
дит из мерцающей тысячами оттенков полутьмы, сочетая в неторо-
пливую цепочку маленькие, мельчайшие жизненные черточки,
представляющие собой подлинные, а порой и никем до тех пор не
открытые нюансы светотени.
Это мало способствует развитию действия, ни одна из сцен у
Гауптмана на первый взгляд не отличается ни зрительным един-
ством, ни единством действия, кажется почти запутанной. Но все-
проникающее постоянное одушевление придает ей силу и ритм. В
целом здесь есть сходство с движением гравировальной иглы Рем-
брандта. Но покуда он остается верен этой манере, мало заботясь
о зрителе, почти забывая о нем, в его героях накапливается такой
заряд внутренней жизни, что последние акты выходят мощными,
наполненными какой-то почти взрывной силой, но без тени меха-
нического напряжения.
В качестве аналогичного примера, основанного на сходной
манере, можно привести последний акт «Дикой утки» Ибсена —
мастера, который больше всего дал Гауптману. У О'Нила, напро-
тив, наиболее сильны первые акты, тогда как к концу его вещи не
то чтобы сникают, но делаются несомненно слабее. В финалах
«The hairy ape» да и «The Emperor Jones» есть что-то слишком уж
правильное, слишком предвиденное; европеец с его неоднознач-
ными эмоциями бывает несколько разочарован, видя, что стрела
попадает именно туда, куда все время летела.
С другой стороны, в концовке «Anna Christie» равно как и в
финале «The first man» чувствуется нечто неопределенное, уклон-
чивое, как бы некая неуверенность. Причину же я усматриваю как
Статьи. Речи. Эссе
687
раз в том, что диалог словно недостаточно насыщен жизненными
мотивами, так что писателю приходится под конец выжимать его,
подобно губке.
Но в мои намерения не входит давать советы мастеру такого
масштаба, как О'Нил. Все сказанное здесь сказано скорее по
поводу О'Нила, чем о нем, это не критика, а раздумья о драме
вообще, вызванные рассмотрением его творений. Их достоинства
уже сейчас весьма велики, но, без сомнения, О'Нил пойдет много
дальше, если с годами в нем, как и во всякой творческой личности,
появится больше свободы по отношению к своему материалу, да и
по отношению к собственному таланту. ■
Перевод А. Назаренко
«БАБЬЕ ЛЕТО» ШТИФТЕРА
«Бабье лето» Штифтера, как говорят, значит для Австрии то
самое, что «Вильгельм Мейстер» и «Избирательное сродство» Гёте
значат для Германии. Это безусловно верно, но книге этой принад-
лежит выдающееся значение и в немецкой духовной жизни, притом
значение особого рода. Кроме того, вместе с важнейшими сверше-
ниями Грильпарцера — к ним относится и богатая руда его еще не
опубликованных дневников — книга Штифтера составляет наибо-
лее весомый дар Австрии немецкой культуре. Конечно, для
австрийца привлекательна возможность изложить, какими именно
чертами (а таких черт немало) книга эта заявляет о своем австрийс-
ком истоке. Но это завело бы нас в частности. Австрийская специ-
фика выражена и тем особым кругом, в какой замкнуто все дей-
ствие, и тем способом, каким представлено в нем человеческое
общение — взаимоотношения сословий и взаимоотношения людей
между собой, — а также нравственным содержанием, тем, как
писатель его понимает, в какой степени его уважает; и даже язы-
ком. Однако о такого рода тонкостях не пристало рассказывать
читателю, который только что завершил чтение столь содержа-
тельной и глубокой книги и теперь возвращается в атмосферу обы-
688
Гуго фон Гофмансталь
денной жизни, — сейчас полезно лишь коротко подвести итоги и,
вероятно, указать на взаимосвязь духовных явлений в широких мас-
штабах, определяемых взглядом из иного века на век минувший.
Два величественных создания немецкого духа включены в
мир «Бабьего лета» и составляют его основу. Это творчество Гёте
и творчество Жан-Поля. Сопряженность с первым лежит, так ска-
зать, на поверхности, причем имя Гёте здесь неоднократно, хотя и
не очень часто, упоминается и произносится с величайшим почте-
нием, а творчество Гёте признается неотделимой частью культур-
ного достояния народа. Сопряженность с Жан-Полем более скры-
та, но не менее глубока. Сам Штифтер говорил так: «Все, что я мог
бы сказать в молодости, сказал до меня Жан-Поль». Штифтер имел
в виду все то, чему почвой служит страсть; желания, томление,
отчаяние, даже безумствование личности, разбуженной резким
светом всеобщего просвещения и видящей всю иллюзорность обре-
тенной свободы, — таково было глубочайшее переживание немцев
в конце XVIII столетия, и оно не разряжалось деятельным прило-
жением сил, не поддерживалось способностью как-либо изменять
окружающий мир. Страсть осталась темной почвой в душе
каждого немца, вместо того чтобы — как то было у французов в
сфере духа — перейти в образы либо же в боевую игру человечес-
ких сил, как то бывает в раскрепощенном мире, где люди борются
за власть, за богатство, за почет. Можно понять всю значитель-
ность намеченной антитезы, стоит только вообразить себе
мысленно мир Бальзака и сопоставить его с миром Жан-Поля, —
если считать большими периодами, они современники, проявления
одних и тех же исторических энергий. Вообще, если бы можно
было измерить силы такого рода, то Жан-Поль был бы более
могуч, но только сила его была обращена не в мир, а как бы шеве-
лилась в подпочве мира, погребенная под развалинами обрушивше-
гося мироздания. Той страсти, что выступает в героях и героинях
Жан-Поля с их мечтательностью, с их неистовствами и экстазами,
не приметить ни в персонажах «Бабьего лета», ни в их взаимо-
отношениях. И лишь в одном месте романа, когда старый человек,
один из двух главных героев романа, рассказывает человеку моло-
Статьи. Речи. Эссе
689
дому, ставшему близким и дорогим ему, доподлинную историю
своей жизни, прорывается страсть, чистое, но безмерное, почти
безусловное стремление к любви, какое пробудила в его душе
любимая девушка. Эта страсть стала судьбой всей его жизни. Само
название книги раскрывается в связи с этим чистым, всесильным
переживанием, оно стало как бы высшей точкой летнего зноя, оно
было нестерпимо среди жаркого лета, а стало терпимо лишь в
отражении, в пору бабьего лета. Не будь того жаркого лета, не
было бы и этого, бабьего: счастливая судьба молодых влюбленных
черпает тепло чувства в жаре судьбы давней. Это скрытое сопря-
жение любви давней и настоящей незримо проходит через всю
книгу Штифтера.
Заметнее нити, связывающие книгу с поэтическими создани-
ями Гёте, и еще очевиднее те, что ведут к его естественнонаучным
трудам. Прежде всего я вижу связь с двумя произведениями Гёте,
хотя она не была отмечена самим Штифтером и, может быть, не
была им осознана. Связь с гётевским «Тассо» заключается в том,
что действие обоих произведений упорядочено согласно извечной
антитезе человеческого мира: инстинктивного влечения, интуитив-
ного познания (сюда относится все художественное и подлежащее
ведению вкуса) — и рационального, способного обращаться к нам
и существовать лишь в формах, предписываемых рассудком, то
есть вся основанная на понятиях образованность, наука, школа,
государство. Но такая антитеза в гётевском «Тассо» упорядочена,
скорее, по законам борьбы, а в «Бабьем лете» — поучительно-
кротко, так чтобы противоположные стороны мягко соприкаса-
лись друг с другом.
Многообразны связи с «Вильгельмом Мейстером»: в обоих
произведениях принимаются некоторые искусственные меры к
тому, чтобы в соответствии с духом возвышенного воспитатель-
ного замысла направить жизнь весьма восприимчивого молодого
человека. В «Вильгельме Мейстере» этот молодой человек живет
в многоликом и не защищенном ни от каких ошибок мире, и ему
даже преднамеренно, из воспитательных соображений позволяют
впадать в заблуждения. Мир «Бабьего лета» куда более защищен,
690
Гуго фон Гофмансталь
огорожен со всех сторон, тем не менее процесс воспитания совер-
шается неторопливо и осторожно, каждый шаг сопряжен с выпол-
нением определенных условий, но они не излагаются в прямой
форме — едва ли даже делается намек на них — и осознаются лишь
тогда, когда выполняются. Может показаться, что в «Вильгельме
Мейстере» цель воспитания, скорее, светски-социальная, склоня-
ющаяся на сторону общественной, политической деятельности, а в
«Бабьем лете» — частная, и учат здесь жить в семейном, замкну-
том кругу, в духе взаимной доброжелательности и уважения. Но
если внимательнее вчитаться в произведения, то такое различие
как раз не подтверждается. Напротив, «Бабье лето» достигает,
благодаря одному из главных героев — не тому, которого воспиты-
вают, а самому воспитателю, — особой своеобразной высоты.
Ведь барон Ризах оказывает влияние на молодого человека — вли-
яние тихое и бережное, сдерживаемое кроткой деликатностью,
даже глубоким уважением, какое испытывает старик к юноше, —
не просто как старший и не потому, что он — человек зрелых
взглядов и убеждений, а потому, что он опирается на конкретный
жизненный опыт, и этот его опыт выводит нас далеко за рамки
частной, семейной сферы. Ризах родился в крестьянской, довольно
бедной семье, а затем прошел путь, обычный в первой половине
прошлого века для одаренных выходцев из народа: церковная шко-
ла, потом университет и затем одновременно с учением, иногда
даже с одновременными шагами на поприще государственной
службы, должность домашнего учителя в богатом семействе. Но
благодаря своим дарованиям Ризах быстро достиг высокого поло-
жения, и в беспокойные годы наполеоновских войн (Штифтер дает
лишь самые слабые намеки на эту эпоху, как и вообще на внешние
события) он уже занимает самые высшие должности в государстве.
Важнейшие отрасли административного управления находились в
его руках, он принимал участие в разработке нового законодатель-
ства; в опасное время ему поручали вести важные тайные перего-
воры с иностранными державами. Его отношения с государем
характеризуются так: он пользовался доверием императора, даже
удостоился монаршей дружбы. Штифтер — не такой автор, чтобы
Статьи. Речи. Эссе
691
бросать слова на ветер и о подобных фактах и отношениях расска-
зывать наугад. Лица, подобные его барону Ризаху, — не редкость
в истории Австрии. Приведем в пример Зонненфельса в царствова-
ние Марии-Терезии и барона Кюбека при императоре Франце, —
можно было бы назвать и многих других. Эти могущественные
слуги государства были по большей части выходцами из самых
необеспеченных слоев населения, из крестьянства, чаще из мещан-
ства. Однако они обычно действовали так, что никто не видел в них
выскочек — видели людей, поставленных на свои высокие посты
за заслуги. Так поступал и барон Ризах — скромность сочетается в
нем с высоким и уверенным чувством собственного достоинства.
Но от людей сходной с ним судьбы он отличается тем, что еще в
относительно молодые годы — молодые для столь головокружи-
тельной карьеры — он добровольно оставил свои должности и, не
утратив притом благорасположения государя, удалился с импера-
торской службы. И не потому, что прежде времени устал от дел
или столкнулся с противоречием и противодействием других, но
потому, что понял, что не годится на роль слуги отечества в пол-
ном смысле слова. Речи, в которых он излагает и обосновывает
перед своим молодым другом столь суровое суждение о самом себе,
относятся к числу самых драгоценных наставлений и рассуждений,
что вкраплены в неторопливый поток повествования. В другом
месте книги мы слышали, как возвышенно, впрочем без всяких
риторических прикрас, рассуждал Ризах о начинаниях, направлен-
ных на развитие художеств или сохранение памятников старины;
наибольшую высоту и проникновенную силу набирает его голос
тогда, когда он говорит о значении поэтов и поэтического творче-
ства для людей. Если сопоставить эти речи со всем тем, что мы
узнаем об этом человеке, так сказать, в долгом общении с ним, и
всем, что узнали о нем из его собственных уст, — какую роль играл
он в управлении столь обширной империей в критические для ее
существования годы, с какой честью и ответственностью нес воз-
ложенную на его плечи часть общего бремени, какие выводы
извлек из всего пережитого, унеся их с собой в тишь сельского
поместья, — когда мы сопоставим все это, всякое произнесенное
692
Гуго фон Гофмансталь
им слово, даже и о предметах скромных и, казалось бы, несуще-
ственных, приобретет совершенно новое значение. Потому что
фоном для вещей и действий несущественных служат исторические
события и ситуации, в которых Ризах принимал участие на протя-
жении десятилетий; по той серьезности, с которой Ризах все спо-
собности своей души, своего ума направляет на предметы малоза-
метные, почитая их достойными напряжения всех сил, мы можем
судить о том, что, очевидно, для него уже не существует привыч-
ного для нас различия между малым и великим, что его жизненный
опыт упраздняет такое различие. Этот персонаж книги, которого,
видимо, можно считать главным героем всего повествования, вво-
дит нас в такую сферу, где все, что определяет наше поведение и
оценки в обыденной жизни, внезапно пронизывается взглядом,
охватывающим явления в крупном масштабе, и тогда Ризах напо-
минает нам фигуры, подобные Геродотову Солону, опытнейшему
государственному мужу, законодателю, который, совершая путе-
шествия в качестве частного лица, совсем просто и глубокомы-
сленно наставляет нас в том, что такое судьба человека и что такое
счастье. Скажем иначе: воспитательный роман сблизился в
«Бабьем лете» со старинным высоким жанром государственного
романа, прикоснулся к нему, чтобы затем вновь вернуться в свой-
ственную ему сферу.
Прошло почти семьдесят лет с тех пор, как написана эта кни-
га. Она вышла из печати в 1857 году, а в следующем десятилетии
умер ее автор, спустя еще несколько лет — Грильпарцер. Посте-
пенно умерли все, кто об этих двоих еще мог говорить как о своих
современниках. Ушел в небытие целый мир, старая Австрия и Гер-
мания той великой, богатой идеями, обширными замыслами эпохи,
какая последовала за веком Гёте и Шиллера. Выступил новый
мир, выступили сначала сыновья, затем внуки мужей прошлого
и составили «современность», которая любила с особой гордостью
и нажимом пользоваться этим понятием. А теперь рухнул и этот
мир, стала прошлым и эта «современность» людей 1890-х и 1900-х
годов, поколения, по всей вероятности, самого далекого от ми-
ра Штифтера. По прошествии столь длительного времени насту-
Статьи. Речи. Эссе
693
пает наконец момент, когда поэтическое творение умирает. Пре-
терпев смерть, оно еще может возродиться к новой жизни и пере-
жить много поколений, но оно должно однажды испытать этот
переход, подобный смерти живого существа. В такой момент
кажется, что произведение уже не дает ответа ни на один вопрос, с
которым подходят к нему читатели. Большинство произведений
словесности претерпевает смерть быстро, так как сочинители их
прилагают все силы к тому, чтобы исполнить самое сокровенное
желание эпохи; между тем, пока они сочиняли, у эпохи появились
новые, еще более сокровенные желания. Такая судьба не властна
над двумя грандиозными созданиями Штифтера — над «Бабьим
летом» и «Витико». Им не надо было ждать ни скорой смерти, ни
медленного угасания. В тот самый миг, когда они были отданы на
суд публики, казалось — они уже при смерти. Столь суровые удары
судьбы вынужден был испытать великий и смиренный поэт. А с
той поры оба этих прозведения, и прежде всего то, что сейчас
перед нами, постоянно и неукоснительно множили свою живую,
действенную силу. Когда роман «Бабье лето» вышел в свет, все
изображенное в нем называли старомодным, ограниченным. Писа-
ли, что персонажам недостает чувства активности, что изложение
растянуто и бесцветно, а внутреннее содержание давно преодолено
прогрессивным развитием эпохи. Сегодня же эти обведенные мяг-
кими контурами фигуры с их светлой, как зеркало, жизнью идут
нам навстречу и оказываются близкими нам в своей вневременно-
сти. Следуя по той тайной спирали, по которой — в отличие от воз-
вышенной низменности Востока — движется духовная жизнь Евро-
пы, мы подошли к точке, где урок, преподанный этой книгой, запа-
дает в душу и не кажется исчерпанным, кажется неисчерпаемым.
Книгу эту не следует понимать как исповедь автора, такое понима-
ние, совсем неверное, только бы помешало постигать ее. Но по
мере углубления в нее мы начнем распознавать в ней нечто име-
ющее прямое отношение к личности автора как уникального,
высокого человеческого существа, какое уже никогда не повто-
рится на этой земле. Не стремясь к слишком старательным обосно-
ваниям и пространным объяснениям, мы увидим, откуда выводится
694
Гуго фон Гофмансталь
образ главного героя, которым книга эта еще долгие годы будет
воздействовать на избранную часть нации: из подлинно величе-
ственной позиции поэта. А именно — всем своим творчеством он
стремится лишь к тому, чтобы, собрав духовные силы, можно даже
сказать, невиданные духовные силы, указывать упорно, неуклонно
на высшее поэтическое начало, которое равным образом было бы
и направляющей силой самой жизни. Все, чего способен он был
достигнуть в поэзии, отдав ей всю жизнь, он рассматривал как про-
лагание путей этому высшему началу. Оно представлялось ему
гигантским — по своему предназначению и тому духовному разма-
ху, какого потребует его исполнение; во всяком случае, поэта гря-
дущих поколений Штифтер видел таким, что в сравнении с ним
совокупный дар Гёте и Шиллера покажется чем-то меньшим — а
ведь как Штифтер ценил этих поэтов, как чтил их, с какой
любовью и правдой видел все великое в них! Всемогуща такая
вера, и душа, наделенная этим внутренним сокровищем, великая и
страстная в наичистейшем смысле слова, непременно будет воздей-
ствовать своими тонко и заботливо представленными поэтичес-
кими образами на долгий ряд грядущих поколений.
Перевод А. Михайлова
ЗАВЕТЫ АНТИЧНОСТИ
Речь на собрании сторонников
классических гимназий
Беспокойство все еще царит повсеместно, сомнения и смятенность
скорее усугубляются, нежели ослабевают. Материальные послед-
ствия катастрофы, пережитой нами, чудовищны, но мы начинаем
замечать, что последствия духовные — еще более страшные, еще
более роковые. Мы предпринимаем мучительные попытки разо-
браться, что обрушилось, а что держится; но слишком глубоко
травмировано и самое наше чувство порядка, которое только и
могло бы помочь нам в этом. Ни у кого из нас недостанет ни силы
Статьи. Речи. Эссе
695
духа, ни проницательности, чтобы подняться над тем, что опуты-
вает ныне все и вся. Все, что мы видим вокруг, доставляет нам
лишь новую пищу для опасений, подчас нас охватывает ужас; наши
надежды — робки и неопределенны. Как ни парадоксально, но
главная из них связана как раз с масштабами грозящей нам опасно-
сти и с всеобъемлющим характером происходящего.
В сфере духа нет ничего, что не было бы расшатано. «Самый
дух ранен», — по словам одного француза. «Наш мир гибнет» —
так называет свою книгу один немец, а испанец восклицает: «Мы
— одиноки! Современный европеец остался один, с ним нет больше
рядом живых теней прошлого». И в самом деле, прошедшее пят-
надцатилетней давности так же далеко от нас, так же недостижи-
мо, как Сезострис или Нимврод. Мы совершенно одиноки.
История, стоит обратиться к ней с нашими вопросами, дает
ответы безучастные и двусмысленные, как прорицания оракула.
Нам кажется, что с самого конца средневековья на ее страницах
нет ничего, кроме свидетельств приближения того катаклизма, под
обломками которого мы гибнем ныне. Любое событие в духовной
жизни прошлого начиная с первого волеизъявления XVI века, про-
возгласившего примат нравственности над логосом (теперь мы
называем это протестантизмом), наш умудренный опытом ныне-
шнего дня взор рассматривает не иначе как в цепи событий, подго-
товивших нашу действительность. Повернувшийся лицом к прош-
лому пророк глядит на нас тем же холодным и непроницаемым
взглядом, что и сама современность.
И в этом мире вы вознамерились собраться на празднество
духа. И предметом вашего празднества является исповедание тра-
диции kat'exochen, разумного порядка вещей, извечной связи всех
духовных распорядков. Вы избрали себе девизом неувядаемое
слово «гуманизм» в тот момент, когда везде в Европе, да и в новой
гибридной Европе по ту сторону океана, полным ходом идет про-
цесс самой полной, самой радикальной дегуманизации, какую
только можно себе представить.
Между днями нашей молодости и нынешним днем пролегла
пропасть, ее края подвижны, с каждым часом она расширяется.
696
Гуго фон Гофмансталь
Все ограниченное — а только оно и может служить нам духовной
почвою — кажется, вот-вот растает как дым; безграничное — эта
бесформенная, неопределенная материя эмпирии — грозит зато-
пить все пространство нашего бытия. Происходящее — ужасно и
едва ли уже поддается осмыслению. Этому ужасу противостоит
только позиция одиночек: неприятие, стоицизм или отчаяние, — но
общеевропейской субстанциональной реакции мы уже не видим; но
и в действиях одиночек нет ни силы, ни величия. То там, то здесь
дает внезапные вспышки увлечение Востоком (ведь и Россия —
Восток), но захватить по-настоящему оно никого не может, а в его
адептах заметнее всего желание сбросить весь и всяческий балласт,
даже собственное, мыслящее «я». Если же отвлечься от этих попы-
ток бегства, то все идет к тому, чтобы подчиниться «действитель-
ности». Но как демонически изменчив лик ее, ибо действитель-
ность — это интеллектуальное творчество, и изменчивость ее лика
— не что иное, как отражение душевного обморока человечества,
которое не находит в себе душевных сил для творческого созида-
ния.
Мы живем в критический для мира момент, в нашей жизни
едва ли есть место для празднеств. Войны между народами и столк-
новения классов вылились в новые религиозные войны, духовные
войны, тем более убийственные, что ведутся они в ослеплении вза-
имного не-узнавания. Секта сражается с сектой, и никто не желает
замечать, как жутко неслышно со дня на день незримые руки
подменяют пугающие лозунги, в которых стремится утвердиться
плотью и духом воля противоборствующих масс: то экономика
рядится в одежды духа, то дух предстает экономикой. В самом сум-
бурном из миров вы собрались на празднество безмятежности,
празднество высочайшего откровения духовной ясности, какая
только была на земле.
И всё-таки вы правы, и вы были бы правы даже если бы сер-
дечный трепет и отчаяние, скрывающиеся порой под маской циниз-
ма, были еще глубже. Ибо предмет вашего празднества выше всего
этого, и ваше торжество высекает из окружающего нас мрака луч
света, который пробивается сквозь черные ночные тучи и при-
Статьи. Речи. Эссе
697
дает ему благородство. Вы явились сюда не охранителями некой
суммы знаний и символов; не приверженность к какой-то системе
среди прочих систем объединяет вас; речь идет не просто о том или
ином традиционном мировосприятии, а если и о таковом, то в выс-
шем смысле и в сфере таких обобщений, которые недоступны для
будничной критики.
Дух античности — вот то, что вы отстаиваете: божество
столь великое, что не вместит его никакой храм, хоть и множество
их посвящено ему.
Это — само наше мышление, то, что стало формою евро-
пейского интеллекта.
Это — одно из оснований церкви, невычленимое из ставшего
мировой религией христианства: без Платона и Аристотеля нет ни
Августина, ни Фомы.
Это — язык политики, ее духовная среда, благодаря которой
ее переменчивые и вечно возвращающиеся формы становятся
достоянием нашей духовной жизни.
Это — миф нашего европейского бытия, сотворение нашего
духовного мира (без которого невозможен и религиозный), проти-
воположение хаосу космоса; он объемлет героя и жертву, порядок
и перемену, измерение и озарение.
Это — не груда дряхлеющих реликвий, а жизненосный духов-
ный мир внутри нас самих, наш истинный внутренний Восток, от-
крытая, неувядаемая тайна.
Это — прекрасное целое: могучий поток и в то же время дев-
ственный, неизменно прозрачный родник. Нет в его пределах
ничего настолько старого, что не могло бы завтра предстать
новым, лучезарно юным. Гомер сияет в своем прежнем великоле-
пии, нестареющий, как море, но сколь нов, сколь неожидан его
герой Ахилл, увиденный нами глазами Гёльдерлина. Гераклит, в
течение тысячи лет не более чем имя, ныне выступил на свет, и его
темное учение снова обретает силу формировать души. Мрачные
мифы древнейшей поры, вцементированные в самый фундамент
греческой трагедии, нашли своего толкователя в удивительном,
долго остававшемся непризнанным швейцарце; как некогда, в
698
Гуго фон Гофмансталь
эпоху живой античности, в его творениях разворачивается вся
целокупность этого духовного мира — от афоризмов орфиков до
анекдотов с участием мифологических персонажей, донесенных до
нас уже византийским эхом.
А в самом средоточии точных наук, там, где ныне вместо
«энергия» предпочитают говорить «действие», где понятия «про-
странство», «время» и «сила тяжести» обещают новое разоблаче-
ние тайны, которая скрыта под привычным для нас словом «мате-
рия», откуда раздается трезвый, полный достоинства голос: «Су-
ществует только то, что я могу измерить», — там из клубящегося
тумана теорем как свет изначального, вечно юного дня вырастает
Платоново видение числовой теории природы, а с нею и вся
мудрость Пифагора.
Перевод А. Назаренко
ЦЕНА И СЛАВА
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Когда задумываешься над судьбами и свойствами нашего языка,
замечаешь: поэтический язык наш высок, говоры нашего народа
выразительны и красивы и в каждой из областей Германии они
придают своеобразный оттенок обиходной речи. Но нет у нас
языка среднего, не слишком высокого, не слишком низкого, тако-
го, чтобы в нем выявлялась готовность людей одного народа
общаться друг с другом. Есть такой язык у наших соседей, на
севере и юге, востоке и западе, и только мы одни обходимся без
него. А ведь в «среднем» языке отчеканивается лицо нации, даже
такой, которой больше нет на земле: мы узнаем римские черты во
всех языках, развившихся из среднего языка римлян. У немецкой
же нации вовсе нет, на взгляд других народов, своего лица, отсюда
в большой степени проистекают и недоверие к ней, беспокойство,
недопонимание, пренебрежение, даже ненависть и презрение, но
все это мы должны сносить, потому что в этом — судьба.
Средние языки иных народностей гладко и плавно соединяют
Статьи. Речи. Эссе
699
слова во фразы, так что отдельное слово не бывает ни слишком
тяжеловесно, ни слишком резко. Ведь не отдельное слово, наделя-
емое магической силой, должно дойти до слушающего, но словосо-
четания, ассоциации и мимическая стихия речи. И от слушателя
требуется не то, чтобы он прежде всего почувствовал говорящего,
но чтобы он ощутил социальную стихию общения, единую для
обоих — и для того, кто говорит, и для того, к кому обращена речь;
и когда говоришь, нужно не столько отличить себя от людей, не
столько заявить о своем личном, чем так легко провоцируется
неодобрение других, сколько предстать в некоторой коллективной
связи, в известных типичных отношениях к любым общественным
группам, учреждениям, начинаниям. В речи должен сказаться пре-
жде всего не человек, каков он сам по себе, а человек как предста-
витель социальных связей. Речь индивида — это его способ пред-
ставить себя, язык в целом — способ, каким представляет себя
общество. И тогда в обиходной речи воцаряется то, что как бы
заполняет все промежутки между словами, все слова образуют
одну семью, но зато каждое в отдельности отказывается от права
выражать суть свою до самой глубины. Созвучия, перекрестные
связи слов тогда более явны, чем изначальное звучание.
А наш немецкий язык, посредством которого мы общаемся,
есть нечто совсем иное, это конгломерат индивидуальных языков.
В индивидуальном языке все слова борются за свою самобытную
жизнь, чего не могут достичь вполне, каждое из них стремится вер-
нуться, так сказать, в статистическое равновесие, а от этого они
внутренне неустойчивы. Только индивид и способен их уравнове-
шивать — магической силой личности, да и то не всегда, лишь от
случая к случаю. А этому невозможно учить. Вот почему по-
немецки нельзя писать правильно. Вы или создаете индивидуаль-
ный стиль письма, или пишете в дурном стиле. Поэтому вместо
языка общения — ведь что-то же должно быть — у нас вырабо-
тался обиходный язык, в котором, пусть неравномерно, сходятся
все диалекты. Он подобен озеру с безвкусной, нестерпимо пресной
водой, но, к счастью, впадающие в озеро реки придают воде осо-
бый привкус. Однако, как и все, что отвлечено от своей изначаль-
700
Гуго фон Гофмансталь
ности, такая бытовая речь заключает в себе множество пороков —
разве что могучий порыв духа взволнует поверхность вод. Речь эта
хочет больше — и меньше, — чем может. В языке заключено чрез-
мерно много ученых философских понятий, строгую точность
которых можно соблюсти, лишь будучи предельно внимательным,
они иначе либо теряют смысл, либо питают педантичность и
аффектацию. Заявляют о себе то доморощенные прихоти, тоже не
свободные от аффектации, то излишнее пристрастие к чужеродно-
му. Язык вобрал в себя все: попранное честолюбие, обломки
титанических устремлений, тщетные усилия. Берешь в руки
сотни книг, статей, газет, и в языке их не найдешь народа.
Не найдешь народа довольного собой, живущего покойной
жизнью, не найдешь его силы и глубины, не найдешь и его просто-
ты, той, что превыше всего; по этому языку, книжному и газетно-
му, не составишь представления и о величии нации, не почувству-
ешь направленности ее духа, подлинности и своеобычности бытия
ее в мире.
Но где же тогда искать нацию? Единственно в высоких
памятниках языка и в народных говорах. Они взаимосвязаны друг
с другом. Природный голос диалекта, как тень, указывает на высо-
кие творения, созданные языком, в возвышенных памятниках про-
глядывает природносты нация — в тех и в других, если взять их
вместе; но сколь же непрочно и противоречиво такое состояние,
как нуждается оно в ключе доверия, чтобы можно было отпереть
самую душу народа!
Поэтический язык немцев может подниматься на изрядную
высоту. И там, где он выше всего — в лучших стихотворениях
Гёте, в последних элегиях и гимнах Гёльдерлина, — вряд ли хоть
одна из новых наций сравнится с ним; возможно даже, что его не
достигнет могучий размах мильтоновых крыл. Тут приведено в дей-
ствие все «греческое», что свойственно немецкому языку, — это
предельное выражение свободной красоты. Перестаешь различать
«сочинение» и «подчинение», далеко позади остается все, что при-
надлежит риторике, — нежные дуновения, родственные народной
песне, соединяются с в.еличайшим дерзанием, с возвышенностью и
Статьи. Речи. Эссе
701
весомостью выражения, снимается напряжение между звучанием
языка, в котором «обнажается непосредственность живых созда-
ний», и языковым символом как результатом высочайшего сосре-
доточения мысли. Кто способен достичь столь высокой сферы с
разумением, тот изведал полет немецкого языка; эта высота дости-
жима и для прозы, но она — удел мастеров; такой прозой написан
конец «Годов странствия Вильгельма Мейстера», такое высшее
мастерство местами проявляется у Новалиса и в письмах Гёльдер-
лина самых поздних лет: тут реально достигнута зона магии, слова
и словосочетания превосходят своею мощью все, что можно было
бы вообразить себе, не будь таких примеров; тут язык — подлин-
ное чудо, бесплотное, духовное, как иногда цвет у Рембрандта, как
звук в последних сочинениях Бетховена.
Значительно ниже сфера, где живем мы. Можно сказать, что
только лучшие поэты пользуются нашим языком сообразно с его
требованиями; так ли пользуются им беллетристы — скорее, сом-
нительно. Язык газет, речей, законов и распоряжений доведен уже
до последней степени упадка, нет внимательности, которая стала
бы второй натурой, нет чувства правильного и допустимого —
повсюду штампы. Обратное воздействие такого языка на нацию
опасно и губительно, но в самом таком состоянии языка сказалось
состояние народа — лихорадочное беспокойство и вместе скован-
ность, тупой, безотчетный испуг.
У нас настали времена жестокие, мрачные, бедственные.
Настали, видимо, во всей Европе, но, должно быть, ни у одного
народа нет в броне стольких щелей, чтобы опасность и беда прони-
кали внутрь самого тела — они точат сердце народа. Если истинная
жизнь народов заключается в том, что все члены тела стремятся
сложиться воедино, то мы, уже расколотые религией, видим, как
поначалу, на исходе XVIII столетия, традиционное и устойчивое в
нравственно-духовном содержании резко разошлось с новым
духом, индивидуальным и безответственным, как затем шаг за
шагом расходились науки о духе и науки о природе, как язык, кото-
рому следовало бы объединять все, разошелся с математическими
надъязыковыми тенденциями, и эти тенденции роковым образом
702
Гуго фон Гофмансталь
захватили все науки и стали доступны лишь единицам; теперь новая
вера, новые ее понятия, с религиозным фанатизмом распространя-
емые в массах, разрывают связь различных общественных классов
и, как смерч на море, пенясь, прокатывается поперек волн, так
через всю мысль нашего времени, обращая в пыль все, что ни вста-
нет на его пути, проносится бурей новое представление — о том,
что лишь современное, «настоящее» единственно будто бы значи-
мо, единственно значительно. XIX век привел нас в состояние
ужасной стесненности чувственно-реальным, а теперь поднимает
голову идол «современности». Лишь человека, всецело предавше-
гося чувственному, распростившегося с духовностью, с ее силами и
средствами, захватит мираж мгновения, для которого не суще-
ствует ни прошлого, ни будущего. Для высшей мысли чудо всегда
в единении настоящего с прошлым, в продолжающейся в нас жизни
усопших, и единственно этому обязаны мы тем, что времена при
всей своей переменчивости внутренне насыщены содержанием и не
напоминают «бесконечную монотонность бессмысленно повторя-
емых тактов». Для мыслящего человека, говорит Кьеркегор, в
настоящем — вечность, лучше даже сказать: вечное — это насто-
ящее, и оно исполнено смысла. «Слово «мгновение» обозначает
настоящее как такое, для какого нет ни прошлого, ни будущего. В
этом все несовершенство чувственной жизни. А «вечное» обозна-
чает настоящее, для которого нет прошлого и нет будущего, и в
этом — все совершенство вечного». Язык имеет дело лишь с таким
подлинно настоящим. Мгновение для языка ничто. Истинное приз-
вание языка — реально воплощать ушедшее. Чего уже нет, чего
еще нет, что могло бы быть и прежде всего то, чего не было никог-
да, то, что вообще невозможно, а потому и реальнее всего реально-
го, — вот что призван выразить язык. Язык — это инструмент, и
он дан нам затем, чтобы мы переходили от видимости к реально-
сти; пока длится речь, человек признает себя существом не-
способным забывать. Язык — великое царство мертвых, без-
донное, потому и можно черпать в нем высшую жизнь. Наша
судьба без времени и вне времени — в нашем языке, мощь об-
щенародного языка превышает все частное и индивидуальное.
Статьи. Речи. Эссе
703
Через язык мы непосредственно вступаем в народ, мы так
чувствуем. Мы ищем, и ищем, и мучаемся поисками того, как
постичь душу народа, и вновь ранят нас сомнения, возможно ли
когда-либо отвоевать наглядность у этого понятия. И в языке к нам
обращается нечто действительное, проникающее до мозга костей:
изначальная сила, к какой мы приобщены.
Нам приходится снова и снова прояснять свои мысли о важ-
нейших предметах. Но нет ничего настолько высокого, чтобы не
нуждаться в нашем попечении. То, что дарует высшую способность
утверждения, само нуждается во все новом утверждении, и призва-
ние каждого нового поколения — сделать так, чтобы не прервалась
жизнь высокой идеи.
В нашей книге собрано то, что думали о немецком языке две-
надцать немецких мыслителей. Почему их двенадцать, а не боль-
ше, почему три последних столетия представлены лишь ими одни-
ми? Поверьте, выбор не случаен, он сложился по зрелом размыш-
лении. И Шиллер, и Гаманн, и Шопенгауэр высказали немало пре-
красных и глубоких мыслей о языке, о его тайне. Но те двенадцать,
на которых мы остановили наш выбор, предстали подлинными
авторитетами в этой высокой области: благодаря своей силе они
современны.
К кому же обращено наше собрание? Кто читатели этих пре-
дисловий и послесловий? По временам на нас находит сомнение, и
сомневаемся мы не в тех, кто проявляет равнодушие или несогла-
сие, нет, — мы сомневаемся в нас самих и тех, кто согласен с нами:
верно ли, что они, а с ними мы, неприметные, рассеянные по своим
углам, — именно те люди, на которых может опереться столь
колоссальное здание, самые устои которого ныне поколеблены?
Ибо мы сознаем, какой великой опасности подвержено целое. Но
от веры в то, что средоточие нашей нации пребывает в целостно-
сти, что оно, пусть скрытое от глаз, воспримет принесенное нами,
мы не отречемся.
Перевод А. Михайлова
704
Гуго фон Гофмансталь
НЕСКОЛЬКО СЛОВ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДИСЛОВИЯ
К «АНАБАЗИСУ» С.-Ж. ПЕРСА
Вот уже около сорока лет следим мы за борьбой, которую ведут
французские поэты, и нам следует попытаться понять эту борьбу и
ее смысл, ибо кому же ее понимать, как не нам? Но это не приведет
ни к чему хорошему, если разговор будет идти о школах, о тенден-
циях, об эстетических модах и аналогиях, при помощи которых
историко-литературная критика имеет обыкновение затемнять
факты. Дело касается сокровеннейших функций французского
языка, и борьба эта имеет долгую историю. Народному духу этой
нации, столь удачно смешавшей в себе три национальных элемен-
та, присуща живость, но также и рассудительность. Приоритет
принадлежит разуму. К середине XVII века господство разума как
бы превращается в своего рода государственный закон. Малерб
торжествует победу над Ренье, рассудочный стиль торжествует
победу над всплесками эмоций. Закономерное утверждается на
вечные времена, а столь часто овладевающее нами инстинктивное
ниспровергается. Прагматическая ясность высказывания превра-
щается в непременное условие, и даже сравнения, метафоры выну-
ждены подчиняться строгим ограничениям. Соблюдение этого
закона поручается не терпящей возражений инстанции: хорошему
вкусу — чему-то вроде интеллектуализированной совести.
Однако скрытая, зависящая от тончайшей внутренней жиз-
недеятельности нации сущность языка оказывает сопротивление.
Прежняя борьба, та самая, которую в XVI веке вела «Плеяда»,
борьба за свободный синтаксис, за смелые, многозначные метафо-
ры, за сближение с музыкой собственной эпохи, вновь на наших
глазах возобновляется в конце XIX века. Малларме является вели-
ким предводителем и теоретиком этого движения (причем его тео-
рия похожа на его поэзию: в основе ее лежит намек, преобладает
стремление отбросить точность, прагматическую связность, и
оттого сила и длительность ее воздействия еще больше возраста-
ют). Однако впереди Малларме идут Бодлер и Рембо, причем как
величественный поток и скрытая полифония у одного, так и без-
Статьи. Речи. Эссе
705
удержное разрушение порядка у другого в одинаковой мере тяго-
теют к сфере музыки, делающей их обоих родными братьями Мал-
ларме. Что же касается самого Малларме, то он был почти в оди-
наковой степени и музыкантом и поэтом; с точки зрения компози-
ции почти невозможно заметить никакой разницы между ним и
Дебюсси.
Ритмы Поля Клоделя тоже принадлежат этой сфере: тот же
гимноподобный элемент, благодаря которому и в отдельной
реплике его драм, часто уже в одной строке ощущается дыхание
целого мира. На первый, поверхностный взгляд может показаться,
что Валери подчиняется иным, чем они, законам, причем лишь
потому, что такую большую роль у него играет прозрачность: кри-
вая его речи кажется выверенной с помощью математики. Но ведь
свет несет в себе ничуть не меньше тайн и богатств, чем сумерки.
Для них всех — а мы выстроили ряд благороднейших
имен! — речь идет о том, чтобы обновить лирическое вдохновение,
почерпнув его из недр самого языка. Творческая личность, словно
стеной окруженная избитыми способами выражения, бросается в
пучину языка, стремясь обрести в ней наслаждение творчеством и
проложить новые подходы к жизни, соответствующие тем пред-
чувствиям смысла, которые вырываются из-под власти бодрству-
ющего сознания. Таково сейчас, таким всегда было движение
латинского гения к бессознательному; оно не похоже на полумеч-
тательное саморастворение германского духа, убедительный при-
мер коего являют собой как английская, так и немецкая поэзия.
Напротив, оно напоминает яростную атаку и упоение беспорядоч-
ным сотрясением объективной реальности, нарушением норм. Это
сатурналии духа. Нечто новое отражается в почти угасшем взоре,
наступает какое-то беспримерное омоложение, какое-то подлин-
ное таинство. В этом же направлении пролегает и путь от «Пья-
ного корабля» Рембо к ранним стихотворениям Стефана Георге:
обоим им присуще то, что римлянин определил словом «incantatio»
— темное и властное самозавораживание магией слова и ритмов.
Глубочайшие тенденции этих поэтов близки современному
лирику, чей поэтический шедевр мы представляем сегодня. У этого
706
Гуго фон Гофмансталь
«Анабазиса» — героический фон, и там, где он перед нами раскры-
вается, мы сталкиваемся с явлением, похожим на строгую
нежность Пуссена. Происходящее освобождено здесь от одежд
исторического, социального, философского содержания. Ясность,
которую мы привыкли считать синонимом французской литерату-
ры, здесь отсутствует. Однако здесь значительно меньше, чем у
Малларме, соперничества с музыкой, и поэтому вместо сверка-
ющей, чувственно-многозначной словесной материи, благодаря
которой предметы словно сами рождаются из музыки, мы обнару-
живаем подчеркнутую отстраненность и какую-то жесткость.
Снова и снова звучат наполненные смыслом слова о чистоте и стро-
гости, о мастерстве и сдержанности: точные весы, «чистая идея»,
«соль» — les delices du sel. Преднамеренная резкость переходов и
беспрестанно обнаруживающих себя поворотов, причудливость
порожденного воображением Востока — все это создает тот тип
литературы, который в равной степени и предлагает себя внима-
нию читателя и ускользает от него. Однако эффект предвосхище-
ния позволяет увидеть в «Анабазисе» произведение, исполненное
красоты и силы и каким-то не поддающимся логическому понима-
нию образом проистекающее из духа современности — той самой
напряженной и героической современности Франции, которая
рождает новые святыни и воздвигает новую колониальную импе-
рию у ее южных врат.
Я говорю об оригинале, созданном г-ном С.-Ж. Персом, а не
о переводе. Такого рода сочинения абсолютно не переводимы.
Как никогда не был переведен Бодлер, несмотря на постоян-
но возобновляемые попытки. Перевод в таких случаях выполня-
ет лишь функцию весьма точного, добросовестного реферата.
И все же некие чары таятся в самом расположении материала,
иначе как объяснить, что нас могут пленять и приводить в восторг
переводы на английский или немецкий языки китайских стихотво-
рений, сделанные к тому же не с оригиналов, а с латинских пере-
ложений? ,л^л
1929
Перевод В. Никитина
Статьи. Речи. Эссе
707
ГОТХОЛЬД ЭФРАИМ ЛЕССИНГ
Ко дню 22 января 1929 года
Духовная атмосфера, в какой живет эта нация, немецкая нация,
«непостоянная и неясная самой себе», как сказал о ней Грильпар-
цер, претерпевает сейчас такие изменения, что представляется
трудным — а на протяжении последних ста лет это отнюдь не счи-
талось трудным — сказать о всеми признанном классике Лессинге
что-либо такое, что ясно выражало бы отношение к нему народной
общности. Французу или англичанину такой трудности не понять
— любые социальные или политические перемены и потрясения
не затрагивают у них главных соотношений в сфере духа. А в
немецкоязычном мире мы после всего свершившегося оказались в
ином климате — приходится заново прочерчивать линии отноше-
ния ко всему, что, так сказать, имеется в наличии и разумеется
само собой.
Но если пытаться создать в своей душе некую нейтральную
плоскость, становится ясно, что Лессинг, этот необычный, редкий
человек, находится на всегда одинаковом удалении от нас — прав-
да, в иной плоскости, нежели мы, но расстояние заметно не меняет-
ся. Если подходить со стороны истории, то мы лучше прежнего
распознаём все, что связывает его с XVIII веком — он принадле-
жит этому веку всецело, — а кроме того, все, что соединяет его с
веком шестнадцатым, веком воинствующего протестантизма и
воинствующей учености. Если же мерить мерой абсолютной, то он
близок нам и относится к тем силам, чье влияние на нас непреходя-
ще. Тон его полемических статей, слияние логики с чем-то выс-
шим, чему трудно подобрать название и благодаря чему его логика
не бывает сухой, то немногое, всегда значительное, что хранит
наша память о событиях его жизни; структура его пьес, их ритм, их
неповторимая характерность, суровая мужественность, их метал-
лический блеск, знаменательные слова, которые иной раз как мол-
ния прорезывают мрак темных областей нашей мысли, — все это
есть в Лессинге, все это воздействует на нас, во всем этом чувству-
708
Гуго фон Гофмансталь
ется сила, за которой нельзя отрицать одного — живой действенно-
сти. Наши школы, духовное направление которых установилось
тоже уже почти сто лет назад, отводят внушительное место изуче-
нию Лессинга и более чем кого-либо из наших духовных предтеч
превращают его в спутника юношества. Можно сомневаться в спо-
собности шестнадцатилетних подростков чувствовать масштабы
его личности под покровами «Лаокоона» и «Гамбургской драматур-
гии», однако встреча с ним оставляет след в душах восприимчивых.
А более очевидным, явным образом жизнь его произведений
поддерживается театром.
Ставят три его пьесы: «Минну фон Барнхельм», «Эмилию
Галотти», «Натана Мудрого». Они сегодня по-прежнему действен-
ны. Исчезни они — и репертуар театров заметно обеднеет. Это не
пустые слова. Воздействие драм Лессинга определяется не сюже-
том, не характерами, но схождением того и другого. Однако роли
эти существуют не каждая по отдельности. Они сгруппированы, и
сгруппированы немыслимо точным расчетом; благодаря этому
одна роль усиливает другую. В этих персонажах рассчитано все до
конца, и рассчитано человеком, в котором воплощен был дух
логики и расчета. Оставим в покое Шекспира и Кальдерона, но кто
из немецких или даже вообще из всех новых авторов, писавших для
сцены, был бы наделен подобным даром, что сумел бы из того
обстоятельства, что необходим, согласно расчетам, персонаж,
чтобы вложить в нужную минуту кинжал в руку Одоардо, логи-
чески вывести фигуру, подобную Орсине?
Из названных пьес «Эмилия» — самое искусное создание, со
всеми сомнительными оттенками, но прежде всего в положитель-
ном смысле слова. Принц, Маринелли, Орсина — такая комбина-
ция персонажей может родиться лишь в самом незаурядном уме,
сколько бы раз ни повторяли, что развязка пьесы, где воспроизво-
дится мотив Виргинии, поспешна, надуманна. Можно критиковать
язык пьесы — в нем нет тонких веяний душевности, появившихся в
языке театра вместе с Гёте, нет и поднимающихся из глубины тем-
ных природных рокотаний, пришедших вместе со штюрмерами;
лессинговы персонажи пользуются резкими антитезами, произно-
Статьи. Речи. Эссе
709
сят четкие сентенции, словно все они философы; однако в пользу
их языка можно сказать лишь одно: в нем заключена такая жизнь
духа, что она обращает пьесу в нечто нетленное.
«Натана» называли вершиной, достигнутой поэтическим
гением Лессинга; Фридрих Шлегель назвал «Натана» «Лессингом
Лессинга, высшим творением из всех его творений», другие счи-
тают эту пьесу произведением слабым, застрявшим на полдороге
между поэзией и философией. Мало о ком высказано столько
остроумных, да и просто разумных суждений, как о Лессинге; театр
же постоянно доводит до нашего сведения, что «Натан» живет и
сегодня, хотя, на мой взгляд, его никогда не играли так, как следо-
вало бы, то есть как самую остроумную из всех комедий, какие
только есть у нас, полностью сосредоточиваясь на несравненной
напряженности диалога с настороженным ожиданием реплик парт-
нера, с подыгрыванием реплик, со всеми поединками умов (и душ
под маской рационального рассудка); всем этим пьеса полнится до
краев — вплоть до мамелюков, как в драмах одного из великих
испанцев.
А что есть жизнь в «Минне» — в том не рискнет усомниться
и само сомнение, тут и язык выше любых придирок, он выкован
из более светлого металла, остроумен и довольно снисходителен
к мимической игре.
При всех кажущихся различиях между пьесами все они по
самой сути родственны друг другу, подлинно дети одного отца. Как
полемические статьи Лессинга, так и диалектика этих персонажей
проистекали из сокровенных глубин его личности. В каждом —
частица их создателя; как и сам Лессинг в жизни, они, окруженные
толпою резонеров, выглядят людьми, чуждыми всякого резоне-
рства; всем им ведомо, что значит наслаждаться мыслью (если
угодно, в этом их нереалистичность), однако мыслить и действо-
вать для них одно, вот черта совсем не немецкая в них.
Он влиял на многих неприметно. Развитие Шиллера, а глав-
ное, решимость, с какой создавал Шиллер свои первые пьесы,
предопределившие все дальнейшее, без него немыслима. Влияние
на Грильпарцера скрыто, но тоже весьма значительно: лучшие диа-
710
Гуго фон Гофмансталь
логи Грильпарцера свободны от шиллеровского влияния и самая
соль их — от Лессинга. А с другой стороны, Лессинг произвел на
свет Иффланда, и Шредера, и всю немецкую мещанскую драму,
какой остается она до наших дней, какой, вернее, оставалась еще
вчера.
Его пьесы — это он сам, его существо в драматической фор-
ме. Таким же, как его герои в отношениях к себе самим и другим —
гибкие, крепкие, решительные, не лезущие в карман за словом,
наделенные невероятно ясным сознанием и небывалым присут-
ствием духа, без всякой разъятости и суемудрия, — таким же был
и он сам. Так протекало все существование этого человека. Рассу-
ждая физиогномически — позаимствуем у Рудольфа Касснера сло-
во, которому он придал такую основательность и широту, — Лес-
синг был столь цельной натурой, что вторую такую невозможно
найти во всей истории немецкой литературы. Все собирается в нем
в единство, как черты лиц на римских скульптурных портретах, в
единство внушительное, впечатляющее: и мужская независимость,
сдержанный, суховатый образ жизни, бытие свободного ученого,
рецензента в мире глухом и скованном, страсть к внезапной пере-
мене мест и обстоятельств (в чем не было и йоты романтической
непоседливости), приверженность к схватке, борьбе, которую он
всегда ведет трезво, с полнейшим самообладанием; и дружба с
немногими, с несчастным Эвальдом фон Клейстом, с Моисеем
Мендельсоном, позднее жениховство, брак, глубокая серьезность
супружества и все же своеобразный восторг чувства; и в последние
годы должность библиотекаря в Вольфенбюттеле, и безвременная
смерть в том же почти римском стиле — в здравом уме и твердой
памяти, и, в течение всей жизни, сознательное уклонение от любой
представительной роли, позы, и несколько известных нам конкрет-
ных деталей, вроде любви к азартным играм, в которой он сам
признавался, или того, что никогда в жизни он не видел снов...
Ум его приводило в движение чувство уважения и потреб-
ность отдавать должное тем, кто его вызывал. Ему случалось
встречать в жизни благородных иудеев (по крайней мере одного), а
потому он выказывал знаки уважения иудеям; устами старика
Статьи. Речи. Эссе
711
Галотти он говорит «о породе мудрых безумцев, столь достойных
нашего сожаления, нашего уважения». Это умонастроение в
общем и целом характерно для всего XVIII века, но в том, как оно
выражено, — весь Лессинг. Оказывать уважение и отказывать в
уважении — в этом весь пафос жизни Лессинга: стальной стер-
жень, вибрирующий, твердо закрепленный на пьедестале рассудка.
Вокруг него, после него поток сокрушает плотины — гигантский
вал «Вертера» (которого он не ценил), гигантский вал штюрмеров
(которых он презирал), Жан-Поль, романтики, Гегель, Фихте,
Шеллинг, разгул духа, которым нация, «богатая мыслями, но бед-
ная делами», ответила на разгул действия в соседней Франции.
Он — человек другой породы: он явил возможность немец-
кой натуры, после него никем не развитую, он царил над материа-
лом — не материал над ним. Его значение для нации заключается
в том, что он ей противоречил. Плоть от плоти народа, для кото-
рого величайшую опасность составляет характер деланный, он
был характер подлинный.
Перевод А. Михайлова
*
' / >/Jй/<i/^ \./.,il'U,Jt'..
Kk
■Ш
'4<,ypr
&
r
I
V
w*'*
p.-1 ■
fee,
Фрагменты
Перевод
Ю. Лрхипова
*
ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ
9. IV. 1890
В «Вертере» на переднем плане чувство героя, у Шекспира — его
страсти, здесь (в романе «Нильс Люне». — Ю. Л.) — его фантазия
и чувствительность, в некоторых английских романах — морализи-
рующее сознание, совесть у Ибсена.
XI. 1890
Виктор Гюго обязан своей расплывчатостью собственному
гению, своей же точностью — Шекспиру, истории и изобразитель-
ному искусству.
10. VI. 1891
Люди так показывают друг другу потемки своей души, как
Потемкин — Тавриду Екатерине.
13. VII. 1891
Деревенский парень несет на плечах забитого ягненка, и
мне вспоминается рассказ Георга Брандеса, который близко знал
Ибсена.
«Однажды мы ели молодую баранину, и я сказал, что у ягне-
нка самое благородное мясо. — Конечно, — ответил Ибсен. — Я
даже собирался написать пьесу об агнце. Некий человек смер-
тельно болен, исцеление возможно, если только обновится кровь.
Ему вводят кровь ягненка, и он выздоравливает. С тех пор он
мечтает увидеть ягненка, которому обязан жизнью. И наконец
встречает его в образе женщины. Он влюбляется в нее. Разве
Фрагменты
715
могло быть иначе?.. Только не часто встретишь женщину, похо-
жую на ягненка». Во всем творчестве Ибсена трудно найти такую
же нежность, разве что в нескольких местах «Пер Гюнта».
V. 1893
ЙЕНС ПЕТЕР ЯКОБСЕН
Новое у него: двойное зрение, одновременно реальное и сти-
лизованное. В старых психологических романах («Вертер»,
«Адольф», «Манон Леско») показано содержание душевной жизни,
у Якобсена — ее форма, психиатрически точные наблюдения; кру-
жение, разгорание и затухание мыслей, алогичность, брожение и
кипение души.
Быстрое пресыщение, увядание и потускнение вещей, упое-
ние красками и тоска по ним — словом, невропатический идеа-
лизм.
Гёдинг, 9 VII. 1895
ЭСТЕТИЗМ I
Бурное начало, нынешний спад. — Взаимно провоцирующая,
оплодотворяюще-развращающая циркуляция между Англией —
Бельгией — Францией. — Искусства клонятся друг к другу, удаля-
ются от публики, губят слабые таланты, которых эстетическое
наслаждение толкает к подражанию. Такое же положение в Герма-
нии после 1890 года. Первое воздействие Англии (Россетти); с дру-
гой стороны — Готье (голландская живопись, драпированная цвет-
ная античность и т. п.); Суинберн — как апогей; теперешняя утон-
ченность юных полуталантов. — Патер, уже болезненные судо-
роги критики, это преследование смутных эмоций, лежащих в
основе художественного творчества (?).
Дальнейшая перспектива: когда мыслители настолько преда-
ются мечтам, толпа не получает ничего, ибо изыски не проникают
вниз, от них ничего не остается. За такими поколениями следуют
поколения совершенно пустые, за большими потугами — большое
внутреннее самодовольство, грубоватое и нигилистичное; тяжелая
(трагическая) атмосфера.
716
Гуго фон Гофмансталь
ЭСТЕТИЗМ II
Мир Кнопфа, Малларме, сладострастие таинственных свя-
тынь, храмы из камня, золота и живых белых тел; демонология,
наскоро состряпанная из непосредственных впечатлений и чужих
символов. Светло-розовая обнаженность и профили ассирийских
цариц. А в общем: «все во всем», призрачная, как во сне, связь всех
вещей.
1899
Хорошее произведение искусства должно хранить в своей
сердцевине глубокую тишину храма, где являются в откровении все
таинства жизни, но сквозь сотню бронзовых ворот оно должно
выпускать читателя в самую гущу жизни.
1904
О многих фигурах нашего времени (примером может быть
спесивый дворянин) можно сказать, что в них действуют не они
сами, а их покойные предки: из них вылезают речи и повадки
покойных, как вылезают роли и жесты из актеров.
Венеция, 24. X. 1904
О критике. Мы не собираемся проводить грань между твор-
цами и не-творцами. Мы собираемся говорить о той критике, кото-
рая исходит из уст творцов, и не собираемся упрекать критику ни в
чем, кроме недостатка проницательности.
Неправильно видеть в любом произведении искусства некое
точное определение и все время повторять: «Он отошел от того,
обратился к этому, он видит лишь это, он имеет в виду то-то»,
неверны всякие дефиниции; неверны все ходульные антитезы вро-
де«искусства» и «жизни», «эстета» и его противоположности.
Следует смотреть на произведение искусства как на длящу-
юся эманацию личности, как на heures, освещение, исходящее из
души на мир (слово Курбе); правильно считать возможными всякие
переходы, в том числе подземные; правильно принимать стремле-
ние к индивидуальному стилю как единственную возможность при-
общиться к вечности; правильно смотреть на творчество как на
темное таинство между индивидом и бытийным хаосом; правильно
Фрагменты
717
видеть в каждом художнике носителя гармонии и наслаждаться
всеми необозримыми разновидностями и оттенками таланта, как
игрой дробящихся морских волн, не стремясь к поименованию
каждой из них.
1905
В библиотеке поэта должны находиться книги, например, по
проблемам скрипичного дела и игры на скрипке, чтобы он мог
освоить содержащиеся в них слова и выражения, относящиеся к
образованию звука и его оттенкам. А еще книги по архитектуре,
лесоводству, книги о жизни зверей. Далее книги о немой жизни
камней и минералов, все богатство слов, объясняющих, как они
прорастают друг в друга; как зарождаются, зреют и умирают кри-
сталлы, и т. п.
1905
Отто Людвиг был мастером контрапункта без музыки. (Ро-
мантики — скорее мастера музыки без контрапункта.)
Люэг, 20. VIIL 1906
Тому враждебному разделению поэзии и жизни, которое
часто встречается у Ибсена, хотелось бы противопоставить более
близкий нам взгляд, сформулированный в одном из писем Иммер-
мана, где он пишет: «Что такое поэзия, как не жизнь в ее высшей
полноте?»
(И разве, пока жив, знаешь, во что выльется твоя жизнь?)
1906
В сочинениях Штифтера нет ни одного иностранного слова.
1906
Роден говорит о бирманских танцовщицах: «Их движения
верны. Я не могу объяснить, что это значит. Фальшивое движение
— то же самое, что фальшивый тон в музыке. А почти все движе-
ния, которые видишь вокруг, фальшивы». Подобно этому чрезвы-
чайно редко встречается в романах действительно верное описание
движений ума и сердца. Почти все форсировано. Поэтому осо-
718
Гуго фон Гофмансталь
бенно впечатляет несравненная верность и строгость гётевского
рисунка, которые открываются только внимательному глазу. Вни-
мательное чтение — редчайшее искусство.
/. X. 1906
Походка детей. Как они входят в комнату. В их движениях
ожидание безграничных возможностей.
1906
Основной недостаток расхожей средней критики нашего вре-
мени в том, что ей не хватает как раз главного в ремесле критика:
умения распознавать и отчетливо видеть элементы, из которых
строится произведение искусства. Потребности времени много-
образны, и оно выбирает себе из каждой вещи лишь особенный
материал. Критик, высказывающий свое мнение, не прибегая к
анализу, всегда идет в ложном направлении.
20. XI. 1907
О подлинном искусстве чтения: его настоящей основой могла
бы стать характерология. Она предполагает зрелость.
1916
Забота поэта: очищение, наведение порядка. Артикуляция.
В жизни так много безобразно бессмысленного, ужасных корч
материи, таких, как наследственность, слепые инстинкты, глу-
пость — злость, внутренний нигилизм.
7977
Народ. Такие понятия, как народ и общество, нужно посту-
лировать снова и снова. — Понятие народа стало более туманным,
потому что отсутствует правильный антоним: мы не можем гово-
рить о великих и малых мира сего, как в XVII или XVIII веке, а
богатые и бедные — слишком убогое противопоставление. И все-
таки слово «народ» — не пустой звук. Люди, с которыми прихо-
дится общаться, могут быть выходцами из народа, но они не народ.
Вот если ты встретишь людей, в общении с которыми тебе пока-
жется, что жизнь имеет совершенно иной центр тяжести; которые
Фрагменты
719
относятся к любым тяготам как к обычному людскому жребию и
со спокойным самообладанием выдерживают самое худшее горе,
даже на смерть взирают без преувеличений и паники; чье слово
ближе к чувству, а мысль к делу; чьи суждения откроют тебе глаза
на многое в реальной жизни; чье отсутствие диалектики тебя сна-
чала поразит, а потом научит высшей мудрости; чей мир предста-
вится тебе менее запутанным, а страдание более осмысленным, в
чьем обществе окажется гораздо труднее утвердиться в собствен-
ных глазах, чем завоевать их расположение; чье легковерие не раз
тебя рассмешит и чье природное благородство не раз тебя устыдит,
и ты почувствуешь себя как дома и одновременно как в гостях и
испытаешь тоску по тому состоянию духа, которое тебе вроде бы и
не чуждо, но в то же время недоступно, как потерянный рай, —
тогда знай: ты находишься среди народа.
28. VII. 1917
Женщины подолгу и с большим тщанием вникают в зеркала,
мужчины подолгу и с большим тщанием вникают в книги; цель
одна — увидеть, что ты похорошел.
7977
Лессинг как комедиограф выступает мастером непрямого
изображения. Фабула «Минны» возможна лишь потому, что он все
время сохраняет дистанцию между главными героями, а все, что
происходит между ними, показывает в отражении, через второсте-
пенных персонажей.
V777.1918
Приходило ли кому-нибудь в голову, что «Леоне и Лена»
Бюхнера представляет собой своеобразнейшую транскрипцию
поэтической комедии Мюссе, а та, в свою очередь, — транскрип-
цию комедии Шекспира?
X. 1918
Кальдерон... Мужчина у Шекспира — существо более при-
родное, но острое, сильное, отличительно мужское начало ветре-
720
Гуго фон Гофмансталь
чается только в испанском театре... Здесь и высочайшее искусство
диалога, которое незнакомо Шекспиру.
/. 7979
Лессинг — чем он «интересен»? Ведь этого, как правило,
нельзя сказать о немцах. Чем он привлекает мысль, наблюдение?
Чем так интересна его обычная трезвая жизнь? Хочется сказать: в
ней есть что-то русское. Да заметил ли он хоть один пейзаж за всю
свою жизнь? Неуемность — противоположность русскому. Игрок,
махинатор. Исход и смерть. Бесконечно «sobre». В трудах — ника-
кого расхождения между замыслом и исполнением. Цельность во
всем. Гораздо меньше сознательно выбранной позы, чем у Гёте.
Никакого расточительства. Никакого дендизма (а 1а Стендаль и
Мериме). Холодность — но какого рода? Его «Истина». То, что
лежит в основе вечного писательства. Что это значит: «мы есть»?
ТУ. 7979
Если смотреть на XVIII век как на молодость современной
Германии, то это была опасная молодость, стесненная и тусклая, с
пошатнувшимся чувством собственного достоинства и посягнове-
ниями на то, чтобы лишить дух интереса к жизни, даже внушить
ему ужас перед жизнью. «Антон Райзер», Юнг-Штиллинг, жизнь
Винкельмана и Лессинга — вот печальные документы этой эпохи,
а «Вертер» и «Вильгельм Мейстер» — ее просветленный облик в
волшебном зеркале.
28. XI. 1919
Новалис — это романтизм, то есть начинающийся XIX век.
Но это и нежнейшая цветочная пыльца XVIII века в момент его
увядания.
XII. 7979
Человеку дано настроиться на жизнь и на смерть, но когда
совмещают в себе и то и другое, наступает изнурение.
XII. 1919
Сходство драмы Клоде ля с драмой Геббеля: оба хотят пока-
зать исторический процесс в его кристаллических формах.
Фрагменты
721
27.1.1920
«Жиль Б л аз» Лесажа: предисловие к старинному изданию,
содержащее различные интересные суждения об авторе. Да, у
французов, испанцев, англичан, у всех народов есть то, чего нет у
нас: литературная традиция, развитие суждений от одного поколе-
ния к другому, короче — настоящая литература. У нас только
начала и снова начала; правда, часто они гениальнее, чем иные
свершения, однако законченные произведения, не говоря уж о цели
произведений, случаются у нас чрезвычайно редко. Такое литера-
турное явление, как Нова лис, его неоценимое в определенном смы-
сле значение совершенно невозможно объяснить не-немцу. Это
скорее ингредиент потенциальной, еще предстоящей литературы,
чем составная часть наличествующей.
Посредственные умы, нередко именуемые остроумными
людьми, движут идеями времени, не владея ими.
Желать описать жизнь какого-либо человека — значит по
меньшей мере сравняться с ним.
ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
ПРИ ЖИЗНИ ЗАМЕТОК
Любое человеческое деяние, даже часть его — нечто целое; обо-
значая его, мы его разбиваем, превращаем в составную часть
некой машины; даже тем, что живем, просто живем, мы произво-
дим действие в этом смысле разрушительное. (Мудрость чувствен-
ного вожделения — в том, чтобы не подавлять.) Сравнение ожив-
ляет «орган» мышления, и жизни возвращается хотя бы часть похи-
щенного у нее мыслью.
Метафоры у Шекспира относятся не к мимическому выраже-
нию и не к сообщению: они что-то третье.
Цель сравнений: успокоить всполошенное языком, утихоми-
рить взбудораженное, поклониться в сторону незатронутого.
722
Гуго фон Гофмансталь
Творческая позиция. Тайна высокого стиля в том, что не упо-
минается. Величие автора сказывается в том, что он столь многое
не удостаивает внимания. Вступая в сражение с истинной или мни-
мой мощью мира, он сам выбирает поле сражения и его ритуал
(будто заказывает танец), и в этом суверенность автора, его особое
virtu. Открыв шлюзы тем формам мысли и чувства, существование
которых заранее отбрасывалось Эсхилом, Еврипид совершил
самое резкое отпадение от великого стиля, которое когда-либо
имело место... Кто хочет вникнуть в великий стиль Данте или того
же Рафаэля, должен вообразить себе все те миры сомнений и сла-
бостей, все те силы страха и заблуждений, которые оказались несу-
ществующими благодаря осуществленному бытию этих картин и
образов. В этом очищающая и созидающая сила, исходящая
от произведений великого стиля, и в этом смысле Мольера сле-
дует считать мастером великого стиля даже в его фарсах, и
следует понимать, какое содержание еще и сейчас исходит от
них.
Драма так же плохо переносит голое действие, как и сцены,
построенные на одной только силе слова; она держится на сценах,
где то, что важно и для действия, становится составной частью
развивающегося напряжения, осмысляемого действующими лица-
ми. Чем круче действие в тот или иной момент, тем решительнее
отодвигает оно действующих лиц в общезначимые, а потому три-
виальные ситуации, в которых оказываются все люди, случись с
ними то же. Сверхсильное действие сводит персонажи к междоме-
тиям.
Мои античные пьесы, все три, — об исчезновении понятия
индивидуальности. В «Электре» индивидуум исчезает эмпирически
— погибает под напором собственной внутренней жизни, как гли-
няный сосуд под напором превратившейся в нем в лед воды.
Электра перестает быть Электрой именно потому, что всеми
силами стремится к одному — остаться Электрой. Индивидуум
может сохраниться лишь как схема там, где заключается компро-
мисс между общим и индивидуальным.
Фрагменты
723
В современности всегда присутствует то, что — проявись оно
только в полную силу — могло бы все изменить; от этой мысли
кружится голова, но в ней есть утешение.
Происшедшее в прошлом (история) кажется современно-
стью, когда все обстоятельства (черты образа) поняты, то есть
осовременены.
Жизнь — это полное, без остатка, соединение несоедини-
мого.
Большинство писателей выполняют последнее желание
эпохи в то время, когда у нее уже появилось новое.
По поводу автобиографии Б. Кроче:
Мы легко усваиваем искаженное представление о других
нациях, составленное в результате случайных встреч, плохо пере-
жеванных впечатлений, предрассудков и полузнаний. Встречаясь
же со светлым умом, мы входим в самую суть чужой нации, в
некую очищенную область, где противоречивые свойства — в дан-
ном случае гражданская скромность и латинская стойкость,
мудрость опыта — сочетаются в гармонии.
Проза поэта содержит постоянное «где-то еще». Его объект
— это не данность, а весь мир. Как вызывает он это целое?
письмо ровеснику
Лозунг стареющего человека: уцепиться мыслью за немногое, за
связь народа с верхами. Вновь посетить прошлое, как пирамиду
жизни.
Мы сосредоточены на современности, так как не способны
разделить общительность минувших эпох, соединиться с жившими
до нас, у нас не хватает на них подлинного внимания.
Отсюда страстное обращение к языку, делающему церковь
из нации.
Нашей истинной тайной была позиция в жизни, перспектива
наших проявлений — в этом мы были предтечами, пророками.
724
Гуго фон Гофмансталь
Наше последнее слово — произнесли ли мы его? Не прячется
ли оно еще между строк наших произведений? Не соединяет ли нас
с потомками? Наш мир — разве мы его создали? Наши перспек-
тивы — понятны ли они? («Все ценности, которые подавлял трудо-
вой эпос XIX века, вновь вступают в свои права и входят в нашу
жизнь: игра, радость, ирония, героизм и святость». — (Э. Р. Курци-
ус). И вот в системе ценностей, заполняющих жизнь современного
человека, отыскалась новая ценность — сама жизнь.
Европеец оказался всеми покинутым, без поддержки продол-
жающих свою духовную жизнь усопших. Проблема «времени» как
духовного пространства жизни. Когда оглядываешься назад,
более крупными кажутся индивидуумы, менее значительным —
«время».
Значение поколения для последующего: оно передает ему
мир в словесных запечатлениях, в которых сосредоточена, однако,
жестика самой жизни. Ответственность: мы ответственны только
за то, что сами значим.
Функции поэтов: приобщение нации к чуждым мирам, чтобы
путем освоения нового она могла увеличить мощь собственного духа.
(Так, романтики внесли в народное сознание идеалы прошлого.)
Ориентализм Гёте. Шатобриан, интерес романтиков к хри-
стианскому искусству.
Мысли — как мелодии, бывают короткие, куцые — и длин-
ные, красивые; лучше всех, однако, те, что сверкают как молнии,
освещая весь мир в целом.
Быть гениальным — значит соучаствовать в неразумии
мироздания.
Пытаться овладеть практическим содержанием науки, не
совершая адекватного продвижения в овладении мудростью жизни,
так же нелепо, как надевать сапоги на босу ногу.
В том-то и состоит оправдание эстетического воспитания,
что оно приобщает к духовной работе.
Фрагменты
725
Быть поэтом в прозе потому трудно, что на всем простран-
стве вещи вплоть до мельчайшего атома должны соединиться энту-
зиазм и ratio.
Одно из величайших преимуществ, данных художнику,
состоит в том, что он может выбирать себе духовное общение, не
будучи привязанным к своему времени.
О ТОЛСТОМ
Аналогия с Руссо как великим патетическим предтечей вели-
ких преобразований многим бросалась в глаза, как сходство двух
вершин в горной цепи; но это сравнение хромает.
Толстой — один из величайших создателей образов (Gestal-
tenschaffer) всех времен, а великий оратор как художник никогда не
поднимался на такую высоту. Но фигура Руссо пребывает в ясной
атмосфере, в то время как Толстой вырастает из грандиозного пер-
вобытного хаоса. Он настолько таинственное порождение земли,
что подобного ему никогда еще не являлось нам на удивление, и,
если легенда о нем окажется такой же плодоносной, как он сам,
она придаст ему многие черты охотника Ерошки из его чудесного
рассказа «Казаки», того Ерошки, в котором слились воедино чело-
век вообще, русский и природный демон.
1908
АРТИСТИЗМ ТОЛСТОГО
Размышляя о том, на чем покоится его грандиозная мировая
слава, приходишь к выводу, что основа ее вовсе не в той притяга-
тельной, но непроницаемой духовной позиции, благодаря которой
Толстой в последние двадцать лет привлек внимание всего мира, а
в чем-то гораздо более весомом — в заполнившей всю его созида-
тельную жизнь высочайшей художественности или, точнее, в дра-
гоценнейшем элементе всякой художественности: изобразитель-
ной силе (Gestaltungskraft).
Апостольская миссия Толстого в лучшем случае явление пре-
ходящее, к тому же национально-русское, и любопытство, которое
726
Гуго фон Гофмансталь
проявляет к ней вечно колеблющаяся в своих ориентирах Европа,
покажется странным уже лет через десять. Но сей второй Фран-
циск Ассизский оставит по себе и другую память, ибо было в нем
что-то от Гомера; в этом потомок легко удостоверится и через сто
лет, раскрыв такую книгу, как «Казаки».
ИЗ ПИСЬМА
К ОТТОНИИ ДЕГЕНФЕЛЬД
20. XI. 1912
В отношениях людей между собой речь всякий раз идет о
выявлении поистине неисчерпаемого содержания — кого-то этому
учит его христианство, другого точно так же может научить Гёте
или ничуть не хуже Уолт Уитмен или Рембрандт. Я вообще не мог
бы объяснить, зачем существует искусство, если бы оно не пропо-
ведовало эту мысль на тысячи ладов; да и само понятие зрелости
означает лишь, что человек приближается к этому с большей
силой и убежденностью, чем прежде.
Я почти физически ощущаю, какой красотой наполнятся
Ваши одинокие часы, когда Вы преодолеете свой страх и оцепене-
ние.
Достоевский, другие прозаики XIX века, а затем еще Гёте и
Гёльдерлин станут для Вас тем, чем был ковчег для Ноя, — наде-
юсь...
Что до встречи с Гауптманом, то она доставила мне много
радости, все в этом человеке прекрасно и чисто, даже теперешняя
его радость по поводу подарков, которыми осыпает его мир.
ВЕНСКОЕ ПИСЬМО
Вена, TV. 1922
...С конца XVIII столетия, да, пожалуй, и с начала его, Вена
была театральным центром не только Германии, но — благодаря
династическим переплетениям — и Италии; театральная столица,
она имела только одного соперника во всем цивилизованном мире:
Париж. Говоря о театре как наиболее сильной стороне венской
Фрагменты
727
культурной жизни — которая не совсем то же, что духовная жизнь,
точно так же как литература или поэзия не составляет единства
со сценой, — я не провожу различия между оперой, лирической
драмой, драматическим спектаклем и не отделяю высокий театр от
низкого. Все эти разделения и расчленения искусственны, отдают
литературоведением и догматической эстетикой. Там, где действи-
тельно есть чувство театра, где что-то такое от театральной
гениальности проникает во все поры целой народности, как у
австрийцев, или у кельтов, или у греков, — там нелепы эти разли-
чия, ибо одна форма живого театра там легко переходит в другую,
один жанр естественно вытекает из другого. Но если у кельтов
корни этого дара уходят в музыкально-мистическое, в захвачен-
ность ритмом и тайной, тоской и видениями и если, напротив, у гре-
ков их страстная, гениальная склонность к пластически-телесному
изображению идей породила драму, почти родственную скульпту-
ре, то у австрийцев этот корень, из которого вырос театр, двойной:
дар общения и дар музыки. У австрийца бесконечно больше склон-
ности к общению, чем у северного немца, больше интереса к тому,
что объединяет людей, несравненно более тонкая чуткость к нюан-
сам. У него врожденное чувство такта, и не случайно это слово
находит равное применение и в музыкальной и в социальной жиз-
ни. Лафкадио Хирн отмечал как чудо социальной дифференциации
японскую особенность распознавать по нескольким словам прохо-
жего его принадлежность к определенному социальному слою,
причем речь там идет не о двух или трех, а о двенадцати или четыр-
надцати отчетливо отличающихся друг от друга слоях. Совер-
шенно то же самое можно сказать и о Вене, где недремлющая,
быстрая реакция публики на все эти нюансы подарила сцене вели-
чайшее богатство, ибо мимическая дифференциация сословий идет
здесь рука об руку с речевой, а для воспитания актера нет лучше
школы, чем чуткая к социальной жестике публика. В актерском
искусстве это соединилось с музыкальной одаренностью, находя
выражение в вальсе и куплете точно так же, как в фарсе и мелодра-
ме, и нет, между прочим, ничего удивительного в том, что именно
здесь, в определенном месте Европы, смогло возникнуть нечто,
728
Гуго фон Гофмансталь
так сказать, общечеловеческое, — я имею в виду венскую опе-
ретту, которая всюду, от Вены до Сан-Франциско и от Стокголь-
ма до Буэнос-Айреса, пришлась по сердцу самым различным
людям и явилась как что-то само собой разумеющееся, нигде не
нуждающееся в адаптации, потому что всюду она оказалась как у
себя дома.
Невозможно говорить о современном венском театре, не
упомянув сразу же Артура Шницлера, который давно уже, как в
Германии, так и на остальной части Европейского континента,
включая Россию, рассматривается как первый драматический
автор теперешней Вены...
Пьесы Шницлера, конечно же, продукт венской театральной
жизни, важной частью которой они являются. Но они связаны
лишь с одной ее стороной, а именно с так называемой разговорной
или бытовой драмой, выпестованной Бургтеагром, знаменитым
императорским театром, само здание которого входило в ансамбль
императорского дворца. Как раз здесь в те десятилетия (с 1860 по
1890 год), на которые приходится юность Шницлера — решающий
для любого автора возраст, —разговорная драма достигла наивыс-
шего расцвета, я имею в виду мастерство актеров. На этой сцене
безусловно ведущей в немецкоязычных землях и находившейся,
что не раз тогда отмечалось, в сестринских отношениях с «Комеди
Франсез», царил совершенно определенный, социально смешан-
ный, может быть, несколько помпезный, но все же весьма оба-
ятельный и утонченный стиль игры, который, вне всякого сомне-
ния, оказал влияние на развитие драматургического мастерства
Шницлера. И влиял не только этот стиль, но и обрабатываемый им
материал, то есть прежде всего французские социальные пьесы тех
десятилетий — от Дюма-сына и Сарду до Ожье и Скриба, те самые
пьесы, что решающим образом сформировали раннего Ибсена,
сохранив некоторое воздействие на него и в его зрелую пору. У
Шницлера это влияние прослеживается не только в технике, но и,
может быть, в его пристрастии к проблеме брака, а точнее — к
проблеме адюльтера, находящейся в центре его драматургии. Дру-
Фрагменты
729
гой ведущий мотив его произведений для театра, уже весь насквозь
венский, неопровержимо свидетельствует о той пылкой любви к
театру, которой в Вене на протяжении последних полутораста или
двухсот лет были охвачены все сословия — от князей до извозчи-
ков; я имею в виду отношение к театру как к символу, как к «теат-
ру», в котором все живущие глядятся друг в друга, перекидываются
друг с другом смешными словечками, перемигиваются, идентифи-
цируют себя с определенной жестикой и социально обусловлен-
ными поступками, узнают себя в крупном и мелком, разглядывают
себя в сценах любви, салонной беседы или политической акции...
Из всего этого путем искуснейших комбинаций и переплетений
мотивов Шницлер создал магнитное поле своих больших и малень-
ких пьес, и как раз в искусстве построения и использования этих
небольших, но чрезвычайно тонких театральных механизмов он
проявил себя мастером более остроумным и находчивым, чем
большинство немецких драматургов за последние сто лет. Причем
решающее значение его театральных созданий держится не на эле-
ментах структуры, а на диалоге, всегда живом, естественном,
настолько искусном, что он производит впечатление непроизволь-
ного; действующие лица успевают обнаружить глубину мысли и
чувства как бы между прочим, не прерывая журчащей беседы, вся
цель которой, по видимости, только в том и состоит, чтобы раз-
влечь людей — и тех, что на сцене, и тех, что в зрительном зале.
Это-то качество пьес Шницлера позволило критикам сравнивать
его с Бернардом Шоу, однако здесь перед нами два совершенно раз-
ных ума и темперамента. Для поверхностного внимания связь
между ними состоит в том, что оба они широко пользуются иро-
нией как своим любимым инструментом, но ведь в этом они схо-
дятся со многими другими представителями духовной деятельно-
сти, прежде всего с Платоновым Сократом, которого нужно
числить среди отцов иронической комедии; некоторые из диалогов
Платона и в самом деле представляют собой остроумные малень-
кие комедии, в которых Сократ — главное действующее лицо,
настоящий фарсер, а согласно преданию — сохранившему нам
много басен, но и немало иносказательно выраженных истин —
730
Гуго фон Гофмансталь
Платон и умер-то с комедиями Софрония под подушкой. Виртуоз-
ность скептической иронии составляет особенность и силу комедий
Шницлера, и я позволю себе заметить, что лучшими из его пьес
мне кажутся те, где ирония не только вложена в диалог — как во
всех его серьезных драмах, приближающихся в жанровом отноше-
нии к comedie larmoyante, — но принимает участие и в самом
построении действия, например исторический фарс «Зеленый
попугай», маленький шедевр, который трудно будет превзойти, и
другие его одноактные пьесы.
Шницлер — сын врача и сам врач, то есть наблюдатель и
скептик по профессии, дитя зажиточного среднего слоя и заканчи-
вающегося XIX века, скептической, наблюдательной и «историзи-
рующей» эпохи, человек, не лишенный внутренней связи с фран-
цузской культурой и духом XVIII столетия. Неудивительно, что
такой большой и имеющий успех драматург был в то же время и
значительным новеллистом, ибо никогда еще не существовало двух
более близких форм искусства, чем психологический театр и пси-
хологическая новелла новейшего времени. Он и в самом деле
таков, он мастер рассказа, каких мало, не короткой его формы, в
которой блистали, например, Мопассан или Киплинг, и не романа,
но повести среднего объема — здесь, на мой взгляд, у него почти
нет соперников среди современников. От этих его работ исходит
неотразимо покоряющая сила, они в высшей степени занима-
тельны и захватывающи благодаря искусству, заслуживающему
эпитета sobre, которым столь редко можно удостоить автора,
пишущего по-немецки. Но и среди его повестей и рассказов наибо-
лее сильными мне кажутся те, в которых царит ирония — как
всегда у него, с налетом меланхолии. Такова, к примеру, волшеб-
ная, одновременно и печальная и смешная история, носящая назва-
ние «Судьба барона фон Лейзенбога».
Но вернусь от Шницлера к собственно моей теме — венско-
му театру. Я говорил, что пьесы Шницлера связаны лишь с одной
стороной венской театральной жизни — с разговорной драмой, сто-
роной, пожалуй, более общеевропейской, нежели специфически
венской. И в социальном отношении он не достиг всей широты в
Фрагменты
731
изображении своеобразной и весьма широкой и сложной обще-
ственной жизни; аристократия, с.одной стороны, и собственно
народ, с другой, даже мещанское сословие показаны лишь в
отдельных смешных персонажах; а собственный мир его пьес
составляет образованная или, точнее, наделенная интеллектуаль-
ными интересами буржуазия: типичные интеллигенты, художники,
музыканты, врачи или состоятельные молодые люди неопределен-
ных занятий, а также их жены или временные спутницы жизни —
вот его герои и героини, с их внутренней жизнью, увлечениями,
слабостями и разочарованиями, а язык, которым они пользуются,
за редкими исключениями, имеющими водевильный характер, это
язык людей образованных, владеющих даром нюансированного
выражения, точный в анализе и быстрый в формулировании
острой мысли, язык определенной социальной группы (не хочется
говорить «клики», поскольку этому слову присущ откровенно
оскорбительный оттенок), но такие слова, как «сословие» или
«слой», имеют слишком широкое значение. Речь идет о той специ-
фической социальной и ментальной атмосфере, которая харак-
терна для эпохи между 1890 годом и началом мировой войны и
которую когда-нибудь назовут, возможно, шницлеровским миром,
как общество времен Луи-Филиппа называют бальзаковским
миром, хотя он и не существовал никогда в таком точно виде, как
у Бальзака.
Теперь следует вернуться к главному течению венской теат-
ральной традиции: сила ее состояла как раз в том, что она не
исключала ни один социальный элемент и разворачивала перед
зрителем мир, пестревший всеми цветами радуги, как и мир Шекс-
пира или Кальдерона; он вбирал в себя всех: от короля — и даже
стоящих над ним святого ангела и феи — до бурлескных подмас-
терьев, погонщиков мулов, поваров или лакеев. В Вене в самом
деле никогда не было резкого, полного разделения на театр для
образованных и театр для необразованных, основой единства были
широко распространенный вкус к актерской игре и широко распро-
страненная музыкальность. Каждый умел насладиться игрой акте-
ра, оценить ее нюансы — как в области высокой героики, так и в
732
Гуго фон Гофмансталь
области бытовой или бурлескно-комичной; точно так же каждый
мог напеть мотив какой-нибудь арии или станцевать вальс, не счи-
тая эту способность чем-то особенным. Актер, певец, танцовщица
фокусировали на себе весь интерес театрального зрелища: «Ко-
роль Лир» или «Фауст» воспринимались здесь прежде всего благо-
даря актеру, «Дон Жуан» — благодаря певцу и мелодии, а панто-
мима — благодаря Фанни Эльснер, Тальони или Визенталь.
Поэтому театр в Вене на протяжении трехсот лет или еще долее
(ведь средневековый театр с его бурлескными «интерлюдиями» и
торжественными музыкальными моментами непосредственно
переходит в оперу XVII века и народный театр XVIII века) всегда
был общим делом и общим достоянием, каким он и поныне
остается в Париже. Между тем в Англии он перестал быть таким
со времен Иакова I, а в Америке так и не смог начаться, в обоих
случаях по одной и той же причине: религиозной. Я имею в виду
глубоко различное понимание театра римско-католической цер-
ковью, с одной стороны, и пуританизмом — с другой.
В венскую театральную среду, не ведающую резких разгра-
ничений жанров и всегда направлявшуюся деятельностью не лите-
ратурных, а чисто театральных, исполнительских звезд, как никто
другой, вписывается Макс Рейнгардт. Вена не просто город, где он
родился, но и истинная колыбель всего его творчества, хотя он уже
почти два десятка лет возглавляет ведущие театры Берлина, да и в
других городах Европы проработал чуть ли не больше, чем в самой
Вене. Его имя часто упоминают в одном ряду с Антуаном, создате-
лем Theatre libre, и Станиславским, основателем и несравненным
режиссером Московского Художественного театра. Действитель-
но, эти три имени следовало бы вывести золотыми буквами на
фронтоне современного европейского театра. Сохраняя известную
дистанцию, к ним можно бы добавить имя Дягилева, сделавшего из
русского балета то, чем он был на протяжении десяти лет для
Европы: отрадой и средоточием всего нового, смелого и увлека-
тельного в живописно-декоративной и музыкально-ритмической
области... Макс Рейнгардт в одном отношении уступает, пожалуй,
Станиславскому — в том, в чем театру Станиславского вообще не
Фрагменты
733
было равного в мире: в совершенстве ансамбля, в редчайшем
согласии света и тени в актерском искусстве, исполненном такой
нежности и точности, какая встречается разве что на полотнах
Сезанна, — эта гармония вытекает из самих недр русской души,
полной чуткости и отзывчивости к тончайшим нюансам игры дру-
гого партнера, и достигается сотнями репетиций, осуществляемых
без оглядки на время и затраты (это тоже возможно только в
Москве, ни в одном другом месте Европы или Америки), и совер-
шенно монастырской совместной жизнью актеров, образующих
что-то вроде тайного братства, отказывающихся от своей граждан-
ской или индивидуальной жизни ради жизни в искусстве и вклады-
вающих весь истовый пыл своей души в спектакль, даже в репети-
ции, в нахождение единственно верного тона, наклона головы или
движения руки.
Однако Рейнгардт превосходит, без сомнения, обоих других
великих деятелей театра, которых я назвал, многосторонностью и
постоянно обновляющейся творческой силой. Фантазия его так же
легко вдохновляется «Тассо» или «Мизантропом», как и комедией
Шекспира, так же легко мистическими пьесами позднего Стринд-
берга, как и Ведекиндом или Чеховым, но он готов воспламениться
и расхожим водевилем вроде «Орфея в аду» Оффенбаха...
ИЗ «КНИГИ ДРУЗЕЙ»
Снобы читают историю салонов ancien regime, как дети сказ-
ку, — всеми пятью чувствами.
В деликатных вопросах душевного общения, составляющих
самую его суть, немцы обычно теряются, колеблясь между грубо-
стью и искусственностью.
Классическая музыка любви мажорна, романтическая —
минорна.
Современная любовь — это сверхинструментованная слабая
мелодия.
734
Гуго фон Гофмансталь
Великая нация вновь и вновь производит поэтов и мыслите-
лей, воплощающих ее духовную сущность, однако большинство из
них — объекты этой духовной жизни и лишь весьма немногие — ее
субъекты.
Что такое культура? Знать, что тебе следует делать, и знать,
что тебе следует знать.
Чем более приближается ученый или мыслитель к художни-
ку, не становясь им, тем более сомнительный феномен он собой
представляет.
Самая опасная разновидность глупости — острый рассудок.
Высказывая что-либо связное о действительности, ее сбли-
жают со сном, а еще более — с поэзией.
Глубину следует прятать. Где? На поверхности.
Не категорическим императивом, о котором не устают гово-
рить, оказал Кант столь могучее воздействие на целые поколения,
а своим критицизмом, в котором нашло абстрактное воплощение
все робкое, все не от мира сего, что живет в немецкой душе.
Немцы, отличившиеся на духовной стезе, очень поздно и
трудно рождаются к жизни в собственном смысле; это похоже
тогда на вторые роды, от которых многие умирают.
Убежать от современности может тот, кто уйдет к крестья-
нам. Крестьянин и современность всегда находятся в состоянии
живительного раздора; над природой и звездами парит неувядае-
мое, вечное время, не ведающее ничего о современности.
Наши знания о народной целостности столь же поверх-
ностны и приблизительны, как знания о собственном теле.
Немцы сосредоточены на глубинном, которое есть синоним
неосуществленной формы. По их мнению, природе следовало бы
пустить нас разгуливать без кожи, в виде ходячих бездн и смерчей.
Каждый народ берет от мира столько, сколько в состоянии
духовно освоить. Таковы немцы средневековья и Римская империя.
Фрагменты
735
Современным итальянцам, может быть, труднее, чем нем-
цам, почувствовать себя действительно нацией; они еще не дости-
гли точки, с которой открылись бы общие проблемы их нацио-
нального существования: здесь надобна более глубокая рефлек-
сия, чем та, на какую они сейчас способны. Юг Италии, всегда быв-
ший родиной философской мысли, должен сыграть и на этот раз
большую роль. Не случайно и немаловажно, что мыслители от
Фомы Аквинского и Джордано Бруно до Джамбаттисты Вико,
Галиани и, наконец, Бенедетто Кроче — все выходцы с юга полу-
острова.
В национальном вопросе царит идиосинкразия; каждый
полагает, что ему известна истина в последней инстанции — как о
нации, так и о самом себе. Однако на вопрос о том, что такое
нация, он ответит, как Августин на вопрос о сущности времени:
«Если меня не спрашивают, я это знаю; а если спросить — не
знаю».
Восемнадцатый век имел настоящую общедоступную фило-
софию, на место которой девятнадцатый поместил ведьмино
варево из всевозможных мыслей и мнений. Процедить это варево,
чтобы снова извлечь из него все высокое и ценное для эпохи, — в
этом, кажется, и состоит задача нынешнего поколения.
Чувствовать присутствие прошлого в современности — в
этом немецкий гений, дар великой и скрытой немецкой сущности.
У немцев мало актерского дара, но много актерства, мало
чутья и вкуса к риторике, но много преувеличений, мало располо-
женности к социальному, но бесконечно много общественных
затруднений.
Большая последовательность английской истории — это тот
бронзовый цоколь, на котором зиждется самосознание англичан.
Честолюбие немцев при убожестве общественной жизни
деградировало в самоуверенность и сентиментальность.
736
Гуго фон Гофмансталь
Венец произносит имя иностранного художника так, как, по
его мнению, произносят образованные люди; очутившись на
родине художника, он перенимает принятое там произношение, но,
вернувшись в Вену, возвращается к прежнему, неверному. Все это
отчасти из вежливости, отчасти из нежелания преодолевать сопро-
тивление. Пруссак даже если он неправильно произносит имя и
оказывается среди людей, произносящих его верно, продолжает
настаивать на своем произношении, бросая недовольные взгляды,
а то и вовсе поучая произносящих его иначе; ведь он говорит слово
так, как оно пишется, следовательно, он прав. Сила и слабость
вместе.
Один Гёте может значить для образования не меньше целой
культуры.
Высочайшим произведениям поэзии суждено выполнять
почти религиозные функции; насколько различными путями это
достигается, показывают символические творения Гёте и романы
Достоевского.
Живопись превращает пространство во время, музыка —
время в пространство.
Гёте говорит о своих романах, что они написаны в стиле «ве-
жливых намеков».
Любой автор вольно или невольно борется со своим окруже-
нием. Он умеет ощущать все тяготы эпохи, но при жизни ему так
и не дано узнать, из какого материала были гири, грозившие разда-
вить его, — из железа или картона.
Новеллист менее всего психолог. Он рассматривает харак-
теры как общее, а ситуации как особенное.
Сродство форм:
романа Достоевского и греческой трагедии.
Сродство расчисленного замысла:
у Клейстаи у По.
Фрагменты
737
Сродство интуитивных прозрений Новалиса о плоти и духе с
такими же прозрениями у Достоевского и Толстого.
Знаменитый автор пребывает лишь в иной ипостаси неиз-
вестности, нежели тот, о котором никто не говорит.
Грильпарцер и Геббель должны были так жестоко разой-
тись, потому что оба, возвышаясь над эпохой, относились к ней
противоположно. Геббель как северный немец желал духовно
овладеть ею и оплодотворить ее, Грильпарцер, как немецкий
азиат, желал освободиться от ее пут. Геббель казался Грильпар-
церу почти журналистом, а Грильпарцер Геббелю — дилетантом.
Нужно стремиться подражать природе, которая не признает
ничего промежуточного, второстепенного, временного, но ко
всему относится как к главному.
То, что в поэтическом изображении именуется пластикой,
композиционным решением, коренится в справедливости.
Свойство, которое второстепенный литератор менее всего
умеет ценить в первоклассном, поскольку ему самому оно совер-
шенно неведомо, — это терпение, упорное стремление к высокому.
В дилетантизме — зародыш нравственного разложения.
Современные писатели-психологи углубляют там, где бы
надо просто пройти мимо, и поверхностно относятся к подлинным
глубинам.
Талант — еще не свершение, руки и ноги — еще не танец.
Странно думать, что Гёте не знал греческого и никогда не
видел ни одного подлинника греческого искусства.
Характеры без действия парализованы, действия без харак-
теров слепы.
Рубеж XVIII и XIX веков. Природа, последний раз увиденная
сердцем: Новалис. Экономическая материя, впервые увиденная
глазами духа: Иммерман.
738
Гуго фон Гофмансталь
Слово «тоска» в былые времена встречалось у немцев до раз-
дражения часто, но вот уже несколько десятилетий, как оно ис-
чезло.
Филологи забывают, что мы, по словам Гёте, всего лучше
оттачиваем свою способность суждения на произведениях совре-
менных; а журналисты, в свою очередь, не понимают, что ничто
по-настоящему высокое не существует лишь для данного момента и
не может быть постигнуто с точки зрения данного момента, а еще
они не понимают, что последовательное членение, иерархия — это
все, а отдельное явление — ничто.
При современном состоянии литературы беседой можно
достичь большего, чем публикацией.
Литературоведы подчас придают непомерно большое значе-
ние некоторым чисто внешним вещам, не замечая того, что для
художника в каждом отдельном случае было главным. Расин весь
сосредоточен на внутренних решениях; зачем же ему варьировать
живописные места действия, как это делал Шекспир: четыре стены
королевских покоев, достойные, но почти голые, — вот с точно-
стью символа то, что ему нужно.
Не заметно ли по пьесам Лессинга, что он всегда спал без
сновидений и что он был игрок?
Посредственный новеллист рассказывает о том, что могло
бы произойти. Хороший дает нам увидеть происшествие собствен-
ными глазами. Мастер рассказывает так, словно давно произошед-
шее происходит снова.
Флобер — очень значительный писатель. Но если сравнить
его с Гёте или Достоевским, то увидишь, что ирония слишком без-
раздельно господствует в его творчестве.
Хороший вкус — это способность постоянно удерживаться
от преувеличений.
Фрагменты
739
Персонажи Лессинга в вещах изящных доходят до грубости,
это немецкое в них. А такой персонаж, как Вальмонт (в «Liaisons
dangereuses»), доходит до изящества в вещах низких, это по-фран-
цузски.
Гольдони: рука поэта, но нутро филистера.
Если бы понадобилось назвать две книги, которые, не при-
надлежа к высокой поэзии, обнаруживают неисчерпаемое челове-
ческое содержание, я бы назвал «Характеры» Лабрюйера и авто-
биографию Гёте. Третья книга, пожалуй, «Сэмюэл Джонсон»
Босуэлла.
Всякое пристрастие к описательности ведет к преувеличени-
ям.
Бальзак — это самое большое приближение французского
духа к немецкому способу мышления и изображения; Гёте во вто-
рой половине своей жизни обнаруживает противоположную тен-
денцию.
Достоевский — могучий писатель, но в Тургеневе живет
самая совершенная магия искусства.
Человек тем увереннее владеет словом, чем большее оди-
ночество за ним стоит; и, напротив, самый общительный че-
ловек, ангел общительности, должен был бы молчать и молча
смотреть.
Самый отвратительный стиль возникает тогда, когда чему-
либо подражают и в то же время дают понять, что стоят выше
того, чему подражают.
Стихотворения Геббеля — грандиозная кристаллизация жиз-
ни. В целом, а не в отдельности, в них есть что-то античное.
Намек — это низкая риторическая форма, невозмож-
ная в высокой речи потому, что она вся есть намек на несказан-
ное.
740
Гуго фон Гофмансталь
В Готфриде Келлере постоянна обаятельная ирония, кото-
рая со временем раздражает.
Диалект не позволяет иметь собственный язык, но — соб-
ственный голос.
Все значительные немцы, кажется, плывут под водой,
только Гёте, как одинокий дельфин, рассекает зеркальную поверх-
ность литературы.
Мир утратил свою невинность, а без невинности нельзя ни
создать произведение искусства, ни насладиться им.
Чистейшая поэзия — это полное Быть-вне-себя, совершен-
нейшая проза — это полное Прийти-к-себе. Второе, пожалуй,
встречается еще реже, чем первое.
ИЗ СТАТЬИ «КОМЕДИЯ»
Из всех учреждений далекого прошлого театр остался единствен-
ным могучим инструментом, соединяющим нашу потребность в
праздничном общении, зрелище, смехе, душевном соприкоснове-
нии, волнующем переживании с такой же потребностью минувших
поколений. Его тысячелетние корни уходят в самое основание
нашей современной культуры; человек, преданный стихии театра,
свободно преодолевает любые временные рамки и пространствен-
ные ограничения.
Всякого, кто вовлекается в его орбиту, театр постулирует
как лицо общественное, но он уделяет мало внимания разнице эпох
и обычаев, которой зачарован историк XX века и к которой вполне
равнодушен поэт или любой наивный человек.
Еще во времена фараонов по Нилу от деревни к деревне
скользили барки, на которых сооружался помост для акробатов и
мимов, в точности похожий на тот, на котором тысячелетия спустя
выступали Пульчинелла и Табарин. В конце XVII века итальян-
ские маски под предводительством Арлекина перебираются через
Фрагменты
741
Альпы. Нигде они не чувствуют себя так вольготно, как в Вене.
Они быстро пускают здесь корни, а Арлекин из Бергамо стано-
вится Гансвурстом из Зальцбурга. Из рук Гоцци Раймунд прини-
мает пестрый мир масок и сказок, вкладывая в него свое венское
сердце. Нестрой изменяет этот мир, сказочное марево при нем
исчезает, но фигуры и образы остаются, в сущности, теми же —
посланцами нестареющей, вечной жизни...
Театр прежде всего — именно вечный институт, основанный
на всегдашней, чуткой к чувственности, мимической выразитель-
ности. Он находится как бы вне духовной культуры, потому что
она гораздо более таинственное явление, чем то, что принято ею
называть; он и вне литературы, потому что требует одновременно
и большего и меньшего, чем поэзия; он вещь в себе — одна из наи-
более древних, почтенных и в то же время жизнеспособных вещей
в этом запутанном и не очень дружном мире.
«ЧЕШСКИЕ И СЛОВАЦКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ»
Из предисловия к сборнику переводов
на немецкий язык
Тот, кто переводит, хочет, очевидно, сделать чужое близким соб-
ственному народу, принудить соплеменников отнестись к чужезем-
ному творчеству с таким вниманием, из которого затем могут прои-
зойти и симпатия, и более справедливая и высокая, чуждая снисхо-
дительности оценка. Но переводческие усилия венчает подчас и
другой результат: в них испытывает обновление собственный, в
нашем случае немецкий, язык. Переводчик освежает и омолажи-
вает собственный язык — конечно, не посредством привнесения в
него элементов чужого, но все-таки благодаря впечатлению, кото-
рое это чужое на него произвело, заставив искать в тайниках и кла-
довых родного языка, в сокровищнице народной памяти средства, с
помощью которых можно выразить, казалось бы, невыразимое,
голую сущность. При переводе оживляются те глубокие пласты
народного чувствования и народной мудрости, которые намного
742
Гуго фон Гофмансталь
превосходят любое индивидуальное творчество; истинный перевод
осуществляет собеседование одного народного духа с другим, в то
время как писатель-одиночка, мнимый оригинал, претендующий
на особенность и неповторимость, лишь скользит по плоской
поверхности речевого запаса собственной эпохи с ее замкнутым
самоуглублением. Обновление языка происходит только в случае
глубокой посвященности в тайны веса и цены каждого отдельного
слова, тайны мощи и власти языковых корней, тайны устоявшихся
обыкновений, скрытых за самыми простыми выражениями,
широко употребительными в народе и много говорящими о его
душе, ведь в народной речи и песнопениях заложено что-то рели-
гиозное, они выступают как воплощенный дух народа. В старое
время даже в ученых сочинениях жило это почтительное отноше-
ние к тому, что требует выражения и что не может быть высказано
до конца, но должно быть отчасти вызвано заклинанием. Этим
благоговейным отношением к каждому употребляемому слову
дышит еще великолепная проза Шиллера, бережная и в то же
время мощная проза Гёте, строгая, как священнодействие, проза
великих братьев Гримм, проза Новалиса, «Монологи» Шлейерма-
хера, «Речи» Фихте. Разнузданное употребление приводит к паде-
нию слова, писателя и народа, достаточно вспомнить о роковых
последствиях для немецкого духа варварского, тысячекратно про-
ституированного употребления слова «культура», приведшего к
засилью пустой претенциозности и бездумья.
В песнях, рожденных в недрах народа, царит стыдливая
чистота словоупотребления, их смысл может быть наивным или
лукавым, но он не бывает вульгарным или наглым. Слова и выра-
жения покоятся здесь в первозданной чистоте, и тот, кто хочет
перевести их на другой язык, должен следить за тем, чтобы к ним
не примешались все те посторонние оттенки, посредством которых
мы ослабляем и опошляем значение нашей «культурной» речи, —
так разглядывающий себя в зеркале должен следить за тем, чтобы
зеркало не запотело. Главенствует же здесь ритм, он несет целое,
одухотворяя его дыханием жизни, соединяя плоть и дух, музыку и
поэзию...
Фрагменты
743
В нашей ситуации национального разброда трудно избежать
упреков, затевая такое предприятие, как издание этих песен. Одни
отнесутся к нему враждебно, потому что всякое занятие духовной
жизнью другого народа кажется им вредным, ослабляющим соб-
ственную духовную потенцию (чему служит опровержением вся
история немецкой духовной культуры и все великие немцы); другие
будут недовольны, потому что, по их мнению, такая книга не отве-
чает требованиям момента, не служит тому «новому», о котором
они не устают зудеть и талдычить. Однако эти жалкие упреки не в
состоянии поколебать нашу позицию, даже если мы останемся без
видимой поддержки — на нашей стороне те великие мертвые,
общество которых вдохновляет нас куда больше, чем общество
большинства живых.
1922
ИЗ СТАТЬИ «ПИСЬМЕННОСТЬ КАК ДУХОВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО НАЦИИ»
Речь в Большой аудитории
Мюнхенского университета 10 января 1927 года.
Посвящается Карлу Фосслеру,
ректору университета.
Не совместное проживание на родной земле, не житейские трения
определяют нашу общность — но духовная связь. Этим и отлича-
ются наши старые европейские нации от молодого, мощно развива-
ющегося во внешних своих проявлениях госуда|рствен1юго образо-
вания на Американском континенте, которое мы в этом смысле
еще не можем признать нацией. Наша общность заложена в языке,
который являет собой естественное средство коммуникации, ибо в
нем с нами говорит наше прошлое, в нем действуют могучие силы,
не укладывающиеся в политические рамки, в нем происходит таин-
ственная завязь самобытности, которая соединяет поколения и
которую мы позволяем себе именовать духом нации. Но все высо-
кое, все памятное столетиями сохраняется и передается на письме,
744
Гуго фон Гофмансталь
поэтому мы говорим о письменности, имея в виду не только извер-
жение книг, с которым уже не в состоянии совладать ни один чело-
век в отдельности, но и всякого рода записки, имеющие обращение
между людьми: и предназначенное для одного лица или узкого
круга лиц письмо, и меморандум, и исторический анекдот, и
лозунг, и политическую или духовную декларацию, обращенные к
нам со страниц газет — подчас весьма действенно.
Слово «литература» выражает примерно то же самое, но в
нем есть привкус какой-то двузначности, сразу же приходит на ум
досадный разрыв между образованной и необразованной частью
нации; пользуясь этим словом, мы тотчас же попадаем в сферу
образованности, а отблеск духа Гёте, сто лет назад сиявший на
этом слове, заметно потускнел.
Иначе обстоит дело с этим понятием у других наций. Из
романских наций, поочередно претендовавших начиная с XVI века
на духовное лидерство, нам ближе других французская и по грани-
цам своим и по историческим судьбам. Она-то обладает литерату-
рой в подлинном смысле слова. Все великое, возникшее в ней в
Новое время, то есть примерно за последние три с половиной сотни
лет, сохраняет свою действенность. Среднее — то, что классом
ниже этого великого, — через какое-то время отступает в тень и
снова возрождается в изящных формах. Даже малое, созданное на
потребу дня, обладает определенным достоинством благодаря точ-
ности и ясности мысли и слога. Мода оживляет здесь традицию,
традиция облагораживает моду. Неспешная смена этих волн выну-
ждает честолюбие не поражать, но соответствовать традиционным
ожиданиям... За оригинальностью признается относительное зна-
чение. Немец же стремится к оригинальности любой ценой, он
высоко ценит хотя бы и незначительное превосходство над общим
уровнем. И само одиночество, естественная для немцев предпосыл-
ка духовной деятельности, может быть замечено у французов толь-
ко в противопоставлении общению. Будь то Руссо или его предше-
ственник — мизантроп Альцест у Мольера, их одиночество, как
ссылка Овидия, есть лишь отражение общественных связей. В пре-
бывании там, где нет других, для них скрыт источник гордости и
Фрагменты
745
гнева, но объектом этих чувств всегда являются те, другие, кото-
рых с ними нет и которые постоянно маячат перед ними, словно
они здесь. Незамеченного и непонятого одиночества во Франции
боятся больше смерти, а само бессмертие представляют себе как
видение будущей общественной жизни. Всякий отдельный талант
здесь стремится изящно перемещаться в своих пределах, сознавая,
что такая добровольная скромность принесет ему больше успеха...
Короче говоря, литература французов — порука их действи-
тельности... Нация, поддерживаемая этой неразрывной связью
языка и духа, становится чем-то вроде религиозной общины, пред-
полагающей единство естественной и культурной жизни; подобное
национальное государство в каждую новую эпоху предстает как
внутренний универсум, являя собой вопиющий контраст немецкой
разъединенности.
*
СТИХО-
ТВОРЕНИЯ
Перевод
Ю. Корнеева
*
ЩШЙШ
■шмх
<&*.
U
Щ:
Шг'
'■If-
т,
т
т
1!Ь
\ ( '/J
V:\K-
,/^
ПРЕДВЕСЕННЕЕ
В аллеях мчит
Ветер весенний.
Вздохом звучит
Его дуновенье.
В себя он слёз
Капли впитал,
Сбитых волос
Пряди взметал.
Цветом бросался
Акаций белых,
Кротко касался
Жаркого тела.
Слышал смятенный
Смех на губах,
В смурых и сонных
Веял лугах.
Всхлипнув негромко,
Во флейту скользнул,
В рдяных потемках
Мимо мелькнул.
Легок и ласков,
Прокрался в спальню,
750
Гуго фон Гофмансталь
Задул с опаской
Ночник печальный.
В аллеях мчит
Ветер весенний.
Вздохом звучит
Его дуновенье.
С зябких аллей
Его дуновенье
Гонит скопленье
Бледных теней,
Неся с собой
Дыханье страны,
Откуда плывет
Аромат весны. 1892
ЖИЗНЬ
Над городом и мертвенными днями
Диск солнца торжествующе клонится,
Как в пору, столь обильную дарами,
Что больше нам такая не приснится.
И все же воздух прежних лет над нами
Опять перед закатом золотится,
И дышит каждый час, скользящий мимо,
Надеждой новой и неугасимой.
Над бледными садами утро плыло,
И холодок пронизывал природу,
И вслед мне много спутников спешило
Из-под густого лиственного свода,
И мысли, множась, набирая силу
В прекрасном одиночестве восхода,
Толпою разливались исступленной —
Раскрыты губы, в кудрях плющ зеленый.
Стихотворения
751
И оживало все для нас на свете:
К нам из прудов тянулись руки чьи-то,
Дыханием менад ласкал нас ветер,
И шепотом, в листве от глаз сокрыты,
Дриады речь вели о лунном свете,
О радостях, что в чаще позабытой
Они при нем вкушают неизменно,
И красоте, такой, увы, мгновенной.
Мы вышли к золотым волнам, где ждали
Разубранные пурпуром галеры,
И слух, как венценосцам, услаждали
Нам вдоль причала флейтщиков шпалеры,
И за движеньем нашим наблюдали
Прославленные в Греции гетеры
В одеждах розовых и золотых
С балкона, слишком тесного для них.
На остров голубой по глади влажной
Помчала нас галера золотая,
Утихли флейты, и напев протяжный
Раздался, постепенно нарастая:
Хор из театра мраморного важно
Спускался, муз и Вакха призывая —
Тех, кто даруют смертным позволенье
Трагедию создать из опьяненья.
При факелах и царственно и смело
Трагедию закончив в миг закатный,
Мы, полны мыслью пурпурной и зрелой,
В потемках отправляемся обратно,
И, словно формы ночью охладелой,
В нас все земное стерлось безвозвратно,
И нам, как сон под мерный плеск весельный,
Теперь покой желанен запредельный. 1892
752
Гуго фон Гофмансталь
ДОЖДЬ В СУМЕРКАХ
Ветер, бродяга злобный,
В тот вечер едва ворчал;
Дождь по дороге дробно
В тусклой тиши стучал.
Стекавшие с неба струи
Глушили голос мечтаний,
И те, томясь и тоскуя,
Тонули в топком тумане.
Ветер-бродяга, горбя
Ветлы у взбухших вод,
Горечь глушил скорби,
Что вечером в нас растет.
Дорога, где веял ветер,
Терялась в поле пустом,
Но слаще всего на свете
По ней брести под дождем. 1892
ВОСПОМИНАНИЕ
Благоуханным серым серебром
Мгла полнила долину, как бывает
При лунном свете, — но была не ночь.
В благоуханном серебре долины
Мысль сумеречная моя тонула,
И словно в зыбкую прозрачность моря
Я погрузился и покинул жизнь.
Каким там темным пламенем сверкали
Чудесные растенья, от которых
Свет исходил горячею волной,
Багряно-желтый, словно блеск топазов!
И музыкой тоскливою взбухал
Стихотворения
753
Тот мир, и в звуках исходил, и знал я,
Хоть не рассудком — сердцем: это — смерть,
Смерть, музыкою ставшая могучей,
Влекущей, темно-пламенной и схожей
С печалью глубочайшею.
Но странно!
Неведомая скорбь в душе моей
О прошлой жизни плакала неслышно,
Как плачешь, мимо города родного
По темно-голубой воде на судне
Под желтою громадой парусов
Плывя перед закатом. Ты глядишь
На переулки, слышишь плеск фонтанов,
Сиренью дышишь, представляешь вновь
Себя на берегу ребенком робким,
Вот-вот готовым зарыдать, и видишь
Свет в окнах прежней комнатки своей,
Но вдаль тебя несет корабль огромный
Под желтыми чужими парусами,
По темно-голубой воде скользя. 1892
ПСИХЕЯ
Psyche, my soul
Edgar Рое
...Тут мне, от слез подавленных дрожа,
Промолвила душа моя, Психея:
«Мой господин, я умереть хочу.
Иззябла я и до смерти устала».
О маленькая, милая Психея,
Утешься! Я подам тебе напиток,
Который кровь в твоих согреет жилах,
Горячим напою тебя вином,
Соком прельстительным и восхитительным,
754
Гуго фон Гофмансталь
Чистым, искристым, целящим, губительным
Жизни всесильной, обильной, кипящей,
Красками ярко и жарко горящей,
С песнями, полными слез приглушенных,
С плясками пар, грациозно сплетенных,
С грохотом бурь в беспредельном просторе
Грозного черно-зеленого моря,
С розами в гуще садов запустелых,
С бледностью дев, от тоски онемелых,
С ал остью лалов, с чужими краями
Под фиолетовыми небесами,
С солнцем, которое не потухает,
Со всем, что сверкает и благоухает.
И тут душа моя, Психея, мне
Промолвила с унынием: «Все это
Мертво, печально, пусто. Аромата
И блеска нет у жизни. Я устала».
Сказал я: «Не ценишь ты мир земной?
Изволь, я тебя поведу в иной.
Ворота мечты тебе я открою
Словами, несхожими с речью людскою,
Золототкаными, полными ласки,
Как женщин смеющихся легкие пляски,
Зыбкими в желтом лунном сиянии,
Как полуночных цветов трепетание,
Прохладными, влажными, цвета такого,
Как отблеск зеленый свеченья морского,
Темными, томными до охмеленья,
Как скрипки, стенающие в исступленье,
Мягкими, мощными, страшными, точно
Крылья совиные в час полуночный,
Льющими ливнем зной небывалый,
Как раскаленные реки металла...
Словами, что властью дарят колдовскою,
Стихотворения
755
Ворота мечты тебе я открою
В сады золотые, где травы душисты,
Где взоры смеющихся женщин лучисты,
Где в лиловеющей дымке закатной
Деревья белеют и шепчут невнятно,
Где на пруду, что заглох и забыт,
Лебедь по дремлющим водам кружит,
Где из гондолы, скользящей безмолвно,
Лица бескровные смотрят на волны,
В отчизну ветров, дуновенье которых
Тени бросает на влагу в озерах;
В страну из металла, где жар нестерпим
И спит все живое под небом стальным...»
* * *
И тут душа моя, Психея, мне
Сказала, губы сжав и гневно глядя:
«Должна я умереть, раз ничего
Не знаешь ты о том, что нужно жизни». 189211893
МЕЛЮЗИНА
В зеленых пучинах
На свет рождена,
Я жизнь там любила.
Где ныне она?
Снится мне вновь
Стихия моя,
Где сна во мраке
Не знала я.
Все, что гляделось
В волнах реки,
В себя вбирали
Мои зрачки:
756
Гуго фон Гофмансталь
Грустные ивы
И алый шар,
Льющий сквозь ветви
Закатный жар;
Девушек бледных,
И блеск их глаз,
И шаг их тихий
В вечерний час;
Фей хороводы
В лесах ночных;
Корон сверканье
На лбу у них.
Златая корона
И жемчуга нить...
О них я забыла,
Мне их не носить. 1892
РОЖДЕСТВО
Тенью сырою
Чуть приглушен,
Напомнил былое
Рождественский звон,
Ночной колокольный звон!
Где дни золотые
Весны моей,
Пряди густые
Душистых кудрей,
Пахнущих хвоей кудрей?
Но хоть унынье
Наводит мгла,
Стихотворения
757
Звбнки и ныне
Колокола,
Гулкие колокола.
Так что ж их пенье,
Будя тишину,
Сулит мне — пени
Иль вновь весну,
Хмельную, шальную весну? 1893
МИР И Я
Мчись, песнь моя, туда, где на плечах
Наш мир подъял Атлант, и возвести:
«Отныне в гесперидские сады
За яблоками можешь ты идти.
Груз от тебя мой господин возьмет,
И, словно лютню легкую иной
Иль блюдо свежесорванных плодов,
Он на руках поднимет шар земной.
Моря, что твари, сущей на Земле,
Начало дали за мильон веков;
Деревья, что корнями вглубь ушли,
А кроны вознесли до облаков;
И лунный свет в листве, и ложе мха,
Куда кладет нас, как сосуды, сон,
А в каждый из сосудов этих влит
Свой мир особый...
И все это он,
Не дрогнув, примет от тебя, титан,
И удержать сумеет без труда,
Как урну из литого серебра,
Откуда, чуть журча, бежит вода».
758
Гуго фон Гофмансталь
Вот так Атланту ты и передай,
А не поверит — молви в тот же миг:
«Как Землю не снести тому в руках,
Кто в голове носить ее привык?» 1893
МИРОВАЯ ТАЙНА
Колодец знает, в чем она,
А раньше каждый это знал
И потому молчал.
Свелась она теперь к словам,
Как заклинания, пустым,
Что мы бессмысленно твердим.
Колодец знает: бросит взор
В него мужчина, чтоб понять
И, все поняв, забыть опять.
Дитя посмотрит в сумрак вод
И отшатнется от него,
Не понимая ничего.
Растет в неведенье дитя
И станет женщиной — и вот
Любовь к ней, женщине, придет!
Любовь к ней оттого придет,
Что ласка женская и есть
Ключ к тайне, что забыта днесь.
Мы тайну спрятали в слова.
Так нищий глину мнет пятой,
Хотя алмазы — в глине той.
Колодец знает все, но то,
Что знал в былое время всяк. —
Сегодня лишь неясный знак. 1894
Стихотворения
759
БАЛЛАДА ВНЕШНЕЙ ЖИЗНИ
И дети вырастают, скорбнооки, —
В неведенье взрастут и в землю канут,
И всяк идет своим путем по жизни.
И горькие плоды, чуть сладки станут,
В ночи с ветвей слетают мертвой птицей,
А через день уже гниют иль вянут.
И ветер веет вновь, и мы излиться
Вновь уповаем в словоговоренье,
Вновь жаждем наслажденьем утомиться.
И вдаль бегут дороги, и селенья
Встают в огнях, с прудами и садами,
То грозные, то в мертвом запустенье.
Кто и зачем их возводил веками?
Зачем они, несчетные, несхожи?
Что правит смехом, смертью и слезами?
К чему нам все — и эти игры тоже, —
Нам, кто, велик и одинок душой,
Бесцельные скитанья вечно множит,
Нам, много повидавшим? Но коль кто-то
Промолвит: «Вечер» — много скажет он:
Есть в этом слове мудрость и покой,
Так мед еще таят пустые соты. 1894
ТЕРЦИНЫ
I
О БРЕННОСТИ
Еще на лбу моем его дыханье...
Как! Не успел промчаться день вчерашний —
И ныне он уже воспоминанье?
760
Гуго фон Гофмансталь
Вот то, чего постичь нам не дано,
На что нельзя роптать — так это страшно:
Все преходяще и пройти должно.
Однако «я» свое от детских лет
До смерти мне избыть не суждено —
Оно, как пес, за мной крадется вслед.
Жил я и сам, к тому же, в оны дни,
И мне, хоть наших предков больше нет,
Как волосы мои, близки они.
Как волосы мои, со мной они.
II
Когда синеет перед нами море
И слово «смерть» легко постичь умом,
Не чувствуя ни ужаса, ни горя,
Походим мы бледнеющим лицом
На большеглазых девочек, что взоры
Вокруг бросают зябко перед сном
И знают, что в листву и травы скоро
Из их дремотных членов жизнь уйдет,
И оправляют на себе уборы
С улыбкой, как святая казни ждет.
III
Мечты! У них одна природа с нами,
Они, как дети, спать не могут в час,
Когда восходит месяц и лучами
Сквозь кроны вишен брызнув в первый раз,
Он золотит вечерний небосвод.
Вот так же и мечта родится в нас
Стихотворения
761
И радостная, как дитя, живет,
Не менее светла, огромна, рдяна,
Чем полный месяц, что меж крон плывет.
Ее в душе несем мы непрестанно,
Как слышим в комнате, что заперта,
Каких-то рук незримых шорох странный.
Три суть одно: вещь, человек, мечта.
IV
Нам сон в обличье девочек являет
Подчас тех женщин, что любви не знали,
И вид их нас печалью уязвляет,
Как если б мы в неведомые дали
Шли вместе с ними вечером когда-то,
И ветви нас, качаясь, осеняли.
И сеял мрак боязнь и ароматы,
И вдоль дороги нашей потемнел ой
Чреда немых прудов в лучах заката,
Зерцалом грусти нашей став, блестела,
И всем речам, и первых звезд мерцанью,
И ветерку, вздыхавшему несмело,
Ответом были скорбь и ликованье,
Пьянившие в тот миг нам душу властно,
Затем что вызревало в ней сознанье
Того, как жизнь сурова и прекрасна. 1894
762
Гуго фон Гофмансталь
БУДУ ЛЬ МЕРИТЬ
ШИРЬ МОРСКУЮ...
Буду ль мерить ширь морскую,
Попаду ль в страну чужую —
Все вокруг меня стеснятся
И душой возвеселятся:
Всех с тенями подружу я. 1894
ДВОЕ
Стопой столь легкой шла она,
Что даже капельки вина
Из чаши той не пролила,
Которую в руках несла.
Рукой столь легкой, что она
Не дрогнула от напряженья,
Он осадил в одно мгновенье
Трепещущего скакуна.
Но с легкой чашей, чуть она
Руки наездника коснулась,
Они не совладали все ж:
Обоих пронизала дрожь,
И не нашла рука одна
Другой, и влага расплеснулась. 1895
БЕСКОНЕЧНОЕ ВРЕМЯ
Как! Ты настолько слаба, что счастливой минуты не помнишь?
Звезды струили уже свет на темнеющий дол,
И под деревьями мы дрожали, и вяз исполинский,
Встряхиваясь, как во сне, шумно в траву низвергал
Ливень сверкающих брызг. Хоть кончился дождь не позднее
Стихотворения
763
Часа назад, для меня целая вечность прошла.
Чем напряженнее жизнь, тем протяженней — и бездну
Снов бесконечных вместить может мгновенье в себе.
Вот и успел я в себя, прежде чем вяз отряхнулся,
Все двадцать лет твоего как бы вобрать бытия. 1895?
СОН О ВЕЛИКОЙ МАГИИ
Надменнее, чем море в зорный час,
И царственней, чем жемчуга, сверкал
Великий сон, что видел я в тот раз.
В четыре двери воздух проникал —
В беседке на земле я спал устало,
И воздух через двери проникал.
Минутой раньше мимо проскакала
Охота с целой сворою собак,
И вдруг моим глазам стена предстала,
А между ней и мною — некий маг:
Высокое чело, кудрей волна.
Он гордо поднял руку, подал знак,
И вот возникли, где была стена,
Морская синь и отмелей песок,
Луга в горах и пропасти без дна.
Гранита он коснулся, и потек
Тот, словно влага, под его перстами.
Когда же снова руку он извлек,
На ней опалы искрились огнями
И скатывались наземь, и свеченье
Живыми, мнилось, пело голосами.
Затем одним прыжком, без напряженья
Взлетел он вольно на утес крутой,
Над силой торжествуя притяженья.
764
Гуго фон Гофмансталь
Во взоре у него сиял покой,
Как в сонных гранях камней драгоценных.
Воссел он там и с властностью такой
Воззвал к чреде годов, давно забвенных,
Что ожили они, и он глядел,
То плача, то смеясь, на них, мгновенных,
И ощущал как плоть свою удел
Всех нас, великих, малых, ближних, дальних,
Всех, на кого с участьем он глядел.
А мрак сгущался в безднах изначальных,
Ночь повисала на ветвях древес,
Мир стынул под снопом лучей прощальных,
И маг, многообразием чудес
Большой всеобщей жизни упоен,
Как лев, по скалам прыгая, исчез.
Наш дух — владыка высший, свой чертог
Не в нас воздвигший — в круге звезд предвечных,
Чем на сиротство весь наш род обрек.
Он — тот огонь, что из глубин сердечных
Беседует — так думал я во сне —
С огнем в просторах неба бесконечных.
И он, как «я» мое, живет во мне. 1895
УМИРАТЬ ИНЫМ...
Умирать иным в глубоких трюмах,
Где вальки тяжелых весел ходят,
А другим с высоких палуб видеть
Птиц парящих и звездные страны.
Стихотворения
765
Иным не поднять тяжелое тело
Над корнями запутанной жизни,
А другим поставлены кресла
Подле цариц и сивилл-провидиц,
И сидят они там, как дома,
С легкими дланями и головою.
И все-таки тень от жизни этих
На жизнь других неизбывно ложится:
Тяжелые с легкими связаны крепче,
Нежели с воздухом и землею.
Не властен я с век своих поблекших
Стряхнуть усталость племен забытых
И сокрыть от души оробелой
Звезд далеких немое паденье.
Многие судьбы, играючи ими,
С моей судьбой бытие сплетает,
И больше дано мне в этой жизни,
Чем стройное пламя да хрупкая лира. 1895?
ТВОЕ ЛИЦО
Твое лицо заволоклось мечтами.
Я с трепетом немым в тебя вперялся.
Как этот трепет рос, напомнив мне
Часы, когда душой я растворялся
В лучах луны, что заливала дол,
Где чахлые деревья с голых склонов
Глядели вниз, и между их стволами
Неспешно плыли облачка тумана,
И в тишине звенела под ногами
Серебряная, свежая, чужая
Вода ручья, — о, как мой трепет рос,
766
Гуго фон Гофмансталь
Когда я любовался невозбранно
Той давнею бесплодной красотой
С не меньшим упоеньем, чем сейчас
Любуюсь я волос волной густой
И тихим блеском чуть прикрытых глаз! 1896
ОБЩЕСТВО
ПЕВИЦА
Песня властна над любым
Человеком молодым.
Сердце нам она мягчит,
Нас то тешит, то мрачит.
ЧУЖЕСТРАНЕЦ
Жизнь везде — и тут, и там,
Но ее рисую вам
Я забавою сплошною,
Умолчав про все дурное.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Развлекаться здесь игрой —
Истинное наслажденье,
Хоть и видишь в ней порой
Лишь обман и наважденье.
поэт
То же пламя бледность щек
Всем вокруг воспламеняет.
Кто душою одинок,
Тот себя в других узнает.
ХУДОЖНИК
И, порхая меж гостями,
Как меж легкими огнями,
Еле слышно смех звучит.
Стихотворения
767
ЧУЖЕСТРАНЕЦ
Песня тешит и мрачит.
поэт
Песня властна над душой:
Жизнь везде — и тут, и там.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Рад внимать я их речам,
Пусть они — обман пустой. 1896
МАЛЬЧИК
I
Он раковины оценил не вдруг,
С их миром слишком связан от рожденья.
Как ярки гиацинты — он не знал
И своего не видел отраженья.
Но каждый день распахнут у него
Был, словно лировидный дол, и он
Жизнь, как ее хозяин и слуга,
Встречал, иного выбора лишен.
Он шел по ней так, как в последний раз
Шаг совершают ложный, хоть и краткий:
К возврату и беседам без конца
Душа его готовилась украдкой.
II
Он долго бой с судьбой суровой вел,
Захлебываясь горькою водой,
Но все же вышел на берег и там
Остановился, легкий и пустой.
768
Гуго фон Гофмансталь
Он раковины увидал у ног
И гиацинты в волосах своих
И понял красоту цветов и то,
Что жизнь ему шлет утешенье в них.
Но он с улыбкой дал им вновь упасть,
Затем, что в тот же миг, когда узрел
Темницы эти с дивной их красой,
Постиг и свой загадочный удел. 1896
NOX PORTENTIS GRAVIDA
Туман играет меж дерев высоких,
И над землею три звезды горят,
И помнят гиацинты в темно-синей
Вечерней дымке: здесь творится ныне
Все то же, что мирьяды лет подряд, —
Гермес и Диоскуры веселятся,
Мчась по пятам несомых ветром Граций,
С охотничьей) радостью жестокой
От дерева их к дереву гоня
И на берег им вслед волну потока
Накатывая до прихода дня.
Поэт, тот избирает путь иной
И взором ледяным, как у Медузы,
Глядит на поле чахлое вокруг,
Но забывает тотчас же о нем,
Причтя его к местам, где жизнь и кров
Своей душе, вновь став ребенком вдруг,
Он обретал в покое гробовом
И в воздухе вершин среди орлов.
Там сыпал он пред нею свет и тени
Камней бесценных и земных свершений.
Но затянула туча треть небес
Столь мертвой чернотой, что с ней сравнима
Стихотворения
769
Лишь тьма в душе того, кому в ночи
Путь при свече искать необходимо.
И эта туча, что умчится утром,
Когда зигзаги молний заблистают
Под гул громов и грохот камнепада
Слепящим, словно солнце, синим светом,
Домой на острова, где расцветают
Из страха сотворенные отрады, —
Есть та цена, какую платят все там
За то, чтобы блаженством опьяненья
В садах волшебных Музы насладиться
И умереть, не жаждая спасенья,
За то, что Бог из уз земных родится
И сироты, когда придут им сроки,
Становятся как древние пророки. 1896
ЖЕНЩИНЕ
Лишь суть вещей — нетленный урожай! —
Цветет над нами светлою твердыней.
Все прочее должно исчезнуть ныне,
Хоть ранее наш дух его сносил,
Тщась отдохнуть на суетном незримо,
Как чайка на волне, скользящей мимо.
Через какие скалы нас вела
Беседа наших лживых глаз немая
И наших губ, что, медом истекая,
Богов столь многих силились почтить!
Вокруг нас тени столькие витали,
Что мы друг другу нестерпимы стали,
Как образ тихой гавани тому,
Кто тонет и без ненависти страстной
Не может думать о мечте напрасной.
770
Гуго фон Гофмансталь
Но это все должно исчезнуть ныне:
Ведь до сих пор таятся мощь и краски
В изгибах безымянных нашей пляски,
И с мякотью плодов цвет наших век
Несхож, и мы веселием объяты
Иначе, чем дельфины и ягнята!
Лишь суть вещей — нетленный урожай...
Вот так нашел в саду без скал тебя я,
И жизнь струилась с губ твоих, сверкая,
Затем что на растрепанность волос
Подруги ты столь царственно пеняла,
Как если б жизни скрытый смысл познала.
А на равнине за тобой пути
Твоих презренных слабостей влачились
И, как ручьи из серебра, лучились. 1896
ДОБРЫЙ ЧАС
Мне мнится, над миром я здесь вознесен,
Здесь, где надо мною один небосклон.
По тропам вокруг меня люди снуют —
То к морю нисходят, то в горы бредут.
Товары несут, не зная о том,
Что жизнь моя скрыта в товаре любом,
Что в тонких плетенках у них за спиной
Плоды, с давних пор забытые мной.
Вот смоквы я вижу. Откуда они?
Из сада того же, что в прежние дни.
Стихотворения
771
Пусть жизнь от меня отвернулась давно —
Полна ею суша и море полно! 1896
ЮНОША ЗА ГОРОДОМ
Садовники сгребали с грядок прель,
И нищие слепцы везде бродили
В повязках черных и на костылях,
Но с арфами и первыми цветами,
Душистыми весенними цветами.
Все было видно меж нагих дерев —
И рыночная площадь, и река,
И дети, что вблизи прудов играли.
И он, покорен этой красоте,
Неспешно шел и сознавал себя
Частицею истории всемирной.
Он к детям направлялся, пусть чужим,
Готовый на неведомом пороге
Жизнь новую ел уженью посвятить,
Не помышляя даже, что богатство
Души, пути пройденные и память
О душах и руках, сплетенных в прошлом,
Нельзя считать ничтожным достояньем.
Он думал лишь о красоте чужой,
Дыхание цветов и свежий воздух
Вбирая жадно, хоть без упоенья,
И одному был рад — что мог служить. 1896
ТАМ, ГДЕ ВОЛЬНО
СОСНЫ-КРОШКИ...
Там, где вольно сосны-крошки
Лепятся по крошкам-скалам,
Мы, подобно детям малым,
772
Гуго фон Гофмансталь
От стихов хмельны немножко,
Бродим тропками крутыми.
Ведь в сравнении с другими
Мы и в самом деле дети:
Кроме нас, забавы эти
Всем покажутся пустыми.
Разве им игра в охоту,
Тем, другим, кому нет счету? 1896
НАДПИСЬ
Служи всегда единственному делу —
Тому, что дрожь восторга вызывает.
Жизнь только в нем себя нам раскрывает.
Презрел его — и сила оскудела. 1896
КИТАЙСКИЙ ИМПЕРАТОР ГОВОРИТ:
Всех вещей посередине
Я, сын неба, обитаю.
Вкруг моих прудов, деревьев,
И зверей моих, и женщин
Первая стена стоит.
В усыпальницах роскошных
Здесь мои почиют предки
При доспехах и в коронах,
Как пристало сану их.
Поступь моего величья
Сотрясает сердце мира;
Мне подножием зеленым
Служат пышные лужайки,
И текут оттуда реки
Стихотворения
773
На восток, юг, север, запад,
Сад мой щедро орошая;
Сад же этот — вся земля.
Здесь мой взор ласкают игры
И глаза моих животных;
За стеною — взор мне тешат
Города, леса, жилища
И бесчисленные лица.
Сонмом звезд мои вельможи
Блещут вкруг меня и носят
Имена, что я им дал
Соответственно минуте,
Когда их к себе приблизил.
Всех сановников всех рангов,
Жен их и детей несчетных
Сам я, как цветы садовник,
Вырастил и всем назначил
Рост, глаза, язык особый.
Я, за первою стеною
Поселив своих несметных
Воинов и землепашцев,
Край обнес стеною внешней,
За которой — снова стены
И подвластные народы,
Данники с нечистой кровью.
Так — до моря, до последней
Той стены, что окружает
Царство наше и меня. 1897
ПОЭТЫ ГОВОРЯТ:
Кроме детей — никто: ни пламя,
Которым мир наш озаряем
И по утрам, и вечерами,
774
Гуго фон Гофмансталь
Ни сами мы не представляем,
Какими тайными путями
Мечту у жизни отбираем
И у себя в саду венками
Ее к фонтану прикрепляем. 1897
МЫ ШЛИ ПУТЕМ...
Мы шли путем со многими мостами,
А перед нами трое шли и пели.
Напомнить это я тебе хочу.
Промолвила ты, указав на гору,
Подернутую тенью облаков
И скал крутых с неверными тропами:
«Когда б мы оказались там вдвоем!» —
И был твой голос непривычно чужд,
Как аромат сандала или мирры,
А щеки — не такими, как всегда.
Тут я пришел в веселие хмельное,
Как при землетрясении, когда
Трещит вокруг, в куски ломаясь, утварь,
Бьет из земли вода, и нас шатает,
Но обретаем мы двойное зренье.
Я тоже был и здесь, и на горе;
Я радостно держал тебя в объятьях,
Но эту радость множила другая,
Та, что преисполняла бы меня,
Когда бы облетел я, как орел,
На распростертых крыльях эту гору.
Я и на ней держал тебя в объятьях,
Познав тропу, которой шел впервые,
И одиночество, и высоту,
И радость, что держу тебя в объятьях...
И вот,, когда сегодня, пробудясь,
Стихотворения
775
Увидел я на фреске древней виллы
Забавы непостижные богов,
Что с тонкой, лозами увитой кровли
Стопою легкой в голубое небо,
Как пламя, невесомые, всходили
Под песни и бряцанье звонких лир,
Почувствовал себя я так, как будто
Был вправе, словно гость на их пиру,
И саном, и уделом с ними схожий,
Коснуться дружески одежд того,
Кто от земли последним отрывался:
Ведь я о нашем приключеньи помнил. 7597
ПОСЛАНИЕ
Мне кажется, что днями золотыми
Пристало называть лишь те, когда,
Толкуя об увиденном пейзаже,
Его одушевляли мы: вон тут
Мы на холме искали тень, и в роще
На нас дохнуло чем-то пережитым;
Вон там, на луговине, мы нашли
Следы существ, которые не снились
На свете никому; а над прудом,
Где отраженье неба — глубже неба,
Перехватили чей-то беглый шепот.
Мне кажется, три главные приметы
Присущи дням подобным: ты здоров;
Рад этой жизни, собственному телу
И мыслям, крыльям юного орла;
Но главное, с друзьями пребываешь.
Так приезжай, и кружками с резьбой —
На них листва и мальчики с крылами
(Достались эти кружки мне в наследство) —
776
Гуго фон Гофмансталь
Мы чокнемся с тобой в беседке сада.
Два юноши там охраняют вход
И в стороны глядят столь скорбным взглядом,
Что, леденящий в нем прочтя удел,
Ты разом замолчишь и в сад вперишься,
А может быть, и сложишь стих, который
Их образ для меня облагородит
В дальнейшем одиночестве моем,
Чтобы воспоминанье о тебе
В тени гнездилось и перед закатом
Вверх по листве темнеющей катилось,
А после в небеса, как дальний гром,
Бестенными путями уплывало. 7597
МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКЕ
Тебе две розовых ножки
Даны, чтобы к солнечным странам
Искала ты путь, что доныне
К тем солнечным странам открыт.
Там в воздухе тысячелетий
Качаются ветви беззвучно
И далям морей неисчерпных
Предела по-прежнему нет.
Там в вечном лесу, на опушке,
Ты с вещей жерлянкою будешь
Делить деревянную чашку,
Наполненную молоком,
И звезды от зависти чуть ли
С небес не попадают вниз.
У берега вечного моря
Тебе и приятель найдется —
Привязчивый добрый дельфин.
Играть с ним вы будете вместе,
Стихотворения
777
А коль он не сможет приплыть,
Дыхание вечного ветра
Со щек твоих слезы смахнет.
Знай: доброе старое время
Не умерло в солнечных странах —
Как прежде, конца ему нет,
И мощь свою тайную солнце
Дает твоим розовым ножкам,
Чтоб вечной страны ты достигла. 1897
РАЗГОВОР
МЛАДШИЙ
Я вижу, схожи стали вы с Просперо,
Тем герцогом-кудесником из пьесы,
Что с дочерью в изгнание ушел:
Ведь вы настолько сильны, что не страшно
Жить в городе у нас вам с дочкой так,
Как если б это был пустынный остров.
У вас есть плащ волшебный, книги, духи,
Что служат вашей дочери и вам
И вас обоих развлекают, правда?
Вам стоит лишь мигнуть иль лоб нахмурить,
Чтобы они явились иль исчезли,
А ваша дочка с детства поняла
То, что мы лишь под старость постигаем, —
Что все живое столь же преходяще,
Как сны, и та же у него природа.
Так и растет она, не зная страха
Ни перед чем; к зверям и мертвецам
Доверчиво, как к равным, обращаясь
И почки нераскрывшейся стыдливей
Под солнцем расцветая, ибо чует,
Что нечто вроде глаз чужих за ней
778
Гуго фон Гофмансталь
Из воздуха всечасно наблюдает.
И каждый день вы учите ее:
«Ты жизнь должна ценить, но не чрезмерно
И не из-за нее самой, а лишь
За то добро, что в ней всегда сокрыто».
Нет в этом для нее противоречья:
Она ведь так же добродетель любит,
Как раковины пестрые иль птиц.
А вы в свой срок ей выберете мужа —
Такого, чтоб был виден вам насквозь
И убедились вы: неблагородства
Не терпит он и вам принадлежит,
Как те обломки кораблекрушенья,
Которые бы выбросило море
На остров, вам подвластный.
СТАРШИЙ
Теперь нашел я, кажется, мерило,
Надежное и точное мерило,
Что от соблазна оградит меня
Слова пустые принимать за дело,
На глупости расходовать себя
И позволять в душе укорениться
Внушенным мыслям и заемным чувствам.
Теперь грозить мне могут только смерть,
Недуг и нищета, а ложь — не может:
Неуязвим я для нее в величье
Мной обретенной простоты. С ним рядом
Поддельная значительность — ничто.
Из замка я закрыл последний выход,
Через который мог бы угодить
На путь дурной, и больше не утрачу
Ни разуменья, ни любви к добру,
Ни чистоты сердечной: мне сверкнул
Свет подлинного смысла этой жизни. 1897
Стихотворения
779
ПУТЕВАЯ ПЕСНЯ
Смыть водой, побить камнями
Нас всечасно горы тщатся,
Плавают орлы над нами —
Унести нас прочь грозятся.
Но внизу лежит страна,
Где озера не стареют,
Отражая блеск плодов,
И, когда горит луна,
Изваяния белеют
• В благовонной мгле садов. 1898
ЛУННАЯ НОЧЬ НА ЮГЕ
Может быть, радость двойная и дни порождает двойные?
Прежде чем меркнет один, на небо всходит другой.
Как полубоги, забывчивый, он ароматным покровом
Застит пред взором моим блеск предыдущего дня.
Вот уж чужими мне кажутся сад, водометы и море,
Сумраком полнит меня сила чужая извне.
Те ли это кусты, где пестрые мысли гнездились?
Та ли это скамья, где я так долго сидел?
Нет, это все же она — в том порукой блестящая точка
За паутиною мглы. Вновь предадимся мечтам!
Нынче, когда надорвал письмо от тебя я поспешно,
Тут же конверта клочки ветер поймал и понес,
И заискрились они, как блещет струя из фонтана
Перед глазами того, кто к ней от жажды приник.
Чу! Я слышу в ночи, как что-то сюда подплывает,
Милые руки ко мне тянет из темной воды.
Я словно чары стряхнул и этим вконец очарован:
Вольно всей грудью дыша, счастья ключи я держу.
1898
780
Гуго фон Гофмансталь
ЭПИГРАММЫ
ПОЭТЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ
— Время, мы — крылья твои, ты над хаосом нами несомо,
Но неужели крыла схожи с когтями у нас?
— Полно! Так было всегда, но не радостно это, а страшно:
Я ведь от века страшусь крыльев таких и когтей.
поэты и время
Время, мы — крылья твои, но все же не лапы с когтями:
Слишком уж много иметь даже тебе не дано.
ПОЭТ И МАТЕРИАЛ
В яме засыпан песком был я и, выбраться силясь,
Солнцу дал доступ в нее — вот им теперь и палим.
ПОЭТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
Страшное это искусство! Я нить из себя выпрядаю,
В небо взбираюсь и вдруг вижу, что призрачна нить.
СОБСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Руки, язык обретя, цепями себе ты опутал.
Мир тащи за собой, иль он потащит тебя.
ЗЕРКАЛО МИРА
«Я уж однажды заполз монарху уснувшему в горло», —
Молвил могильный червяк. — «Где?» — «У поэта в мозгу».
ПОЗНАНИЕ
Знай я, как этот листок из ветки на свет появился,
Я навсегда б замолчал: знанья хватило бы мне.
имя
«Wispeln» значит «журчать». Вот Виспом ручей и назвали:
Люди предмету дают имя по свойствам его.
Гёте значит поэт. Это слово никто не придумал,
Ибо художник себе имя лишь сам создает.
Стихотворения
781
СЛОВА
Словно дубина, разят иные слова. А иными
Ловят нас, как на крючок: клюнем и дальше плывем.
ИСКУССТВО РАССКАЗЧИКА
Живописуешь убийство? Дворового пса опиши мне,
Чтоб я в глазах у него видел картину твою.
1898
С КОРАБЛЯ
Вы, утра, час, когда в мой сонный дом
Вливался яркий блеск жемчужных туч
' И, так блестя, как никогда потом,
Вилась тропа среди скалистых круч;
Вы, полдни, темный лес, где проводил
Я время в снах и бдениях пустых,
Из-за чего дыхание богов
Не долетало до ушей моих;
Вы, вечера, когда, склонясь к воде,
Не мог я плечи распрямить над ней
И внять речам пытался, и тонул
Мой голос в битве света и теней;
Уходит тот, кто здесь, в раю земном,
Ни радостей, ни боли не вкусил,
Но часть души оставил позади,
Затем что не оставить — нету сил. 1898
ТРИ ПЕСЕНКИ
I
Разве не была слышна
Музыка тебе моя?
Ночь нахмурилась, темна,
782
Гуго фон Гофмансталь
Но у твоего окна
Все играл до света я.
Я что мог — сказал, друг мой:
Для меня ты все теперь.
А когда меня сырой,
Хмурый день прогнал домой,
Я уста замкнул, как дверь.
II
ПЕТЬ НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ
Облегала небо мгла,
И разлука нас гнала —
Были так мы одиноки!
Но теперь тоска прошла,
Вновь природа ожила,
И сверкает мир широкий,
Словно сделан из стекла.
Вновь нам лица в миг свиданья
Озаряет звезд сиянье
Серебром своим.
Все сильнее их блистанье,
И, слияв в одно дыханье
Наши два существованья,
Друг близ друга мы лежим.
III
Сказала милая: «Ступай!
Нас не связал обет.
Не держат силою людей —
В них постоянства нет.
Ступай же, друг, и свой покой
Ищи в краях чужих,
Вкушай в чужих постелях сон,
Люби подруг других.
Стихотворения
783
Не нравится мое вино?
Мальвазии испей,
А если рот мой слаще был,
Вернись ко мне скорей». 1899
ЗАПРЕТ
Всегда я знал:
Коль счастье дал,
Грешно опять
Свой дар отнять.
Вослед за мной
Запрет усвой:
Грешно опять
Свой дар отнять.
Наград не жди,
Одно тверди:
Грешно опять
Свой дар отнять. 1899
ДЕТСКАЯ МОЛИТВА
Боже, пусть я всех детей
Буду лучше и добрей.
Дай мне вырасти скорей
Из рубашечки моей.
Дай, чтоб я в краях чужих
Не встречал людей дурных,
А смотря на остальных,
Понимал сейчас же их;
784
Гуго фон Гофмансталь
Чтоб, коль веселы друзья,
Радовался с ними я,
Если ж ни души окрест —
Радовался свету звезд. 1899
ПАМЯТИ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ
Рассеется мираж надрывных звуков
И слишком громких фраз. Но с этих уст,
Столь ярких и от боли искривленных,
Порой срывался более нетленный
И ослепительный, чем жемчуг, образ.
Носите ж эти образы в себе —
Да сохранят свой влажный блеск навеки. 1899
СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ
Гремел орган на каменной террасе —
Играл на нем и пел седой старик,
А во дворе так рьяно фехтовали
Безусый отрок с мужем бородатым,
Что снизу вверх по стройным олеандрам
Бежала дрожь, и с их цветущих крон
Испуг прогнал всех птиц, и лишь одна
В бойцов вперялась умными глазами,
Меж тем как на резном краю фонтана
Мать юная младенцу грудь давала.
И путник-чужеземец на дороге,
Что шла вдоль-огибавшей двор ограды,
Замедлил шаг и, бросив взор назад,
Унес в себе, как тучка на закате,
Плывущая над тихою рекой,
Картийу безмятежного покоя. 1900
Стихотворения
785
ПЕСНЯ
ПЛЕННОГО СУДОВОГО ПОВАРА
Дни в плену влачу я грустные,
Потерял своих из виду
И готовлю блюда вкусные
Тем, кто мне чинит обиды.
Красноперых рыб несут мне,
Отдавая приказанье
Резать, потрошить и жарить
Эти кроткие созданья.
Режу смирные созданья,
Измышляю соус пряный
Я для тех, кто за старанья
Воздает мне речью бранной.
Хлопочу при свете плошки
В приторном и остром дыме,
И тоскует по свободе
Сердце все неукротимей.
Дни в плену влачу я грустные,
Потерял своих из виду
И готовлю блюда вкусные
Тем, кто мне чинит обиды. 1901
СТАРИК ТОСКУЕТ ПО ЛЕТУ
Вот если б вместо марта был июль!
Тогда б решился, не страшась зимы,
Я в поезде, в коляске иль верхом
Отправиться за город на холмы.
Там рощи, где полно дерев больших —
Дубов и вязов, кленов и платанов.
Как я давно уже не видел их!
786
Гуго фон Гофмансталь
Там с лошади я слезу иль возницу
Остановлю и побреду по солнцу,
Чтоб под деревьями уединиться
И отдохнуть в прохладной их тени,
Что изо дня и ночи сплетена
Иных, чем в доме у меня, где дни,
Как ночь, черны и тягостны подчас,
А ночи тусклы, как тоскливый день...
Там все живет, блестит, ласкает глаз.
Когда же я, закатом осиян,
Уйду из рощи, дунет ветерок,
Но не шепнет: «Все тлен, и все обман».
Оденутся долины мглой ночной,
Затеплятся огни в домах, но мрак
О смерти не заговорит со мной.
На кладбище, в лучах последних света,
Я лишь цветов увижу колыханье.
Другого не замечу — только это.
Журчание в кустах расслышу ясно,
Слух напрягу с ребячьим любопытством,
Но мне поток не скажет: «Все напрасно!»
Разденусь я поспешно, брошусь в волны,
С течением борясь, и выйдет месяц,
Покуда длится этот бой безмолвный.
Привстану я из ледяной купели
И, ярким лунным светом озарен,
Вдаль галькой гладкой запущу без цели.
И ляжет тень на землю при луне.
Чья? Неужель того, кто так уныло
Здесь на подушки никнет в тишине?
Стихотворения
787
Того, кто так уныло наблюдает,
Как тьма редеет, ибо знает он,
Что нас обоих нечто поджидает?
Кто ветром марта донят так, что чуть
Не ночи напролет скорбит без сна,
Держась руками черными за грудь?
Где солнце над холмами? Где июль? 1905?
НА РАССВЕТЕ
Гроза последним трепетом раскатов
На тусклом горизонте изошла.
^ И думает больной, смежая веки:
«День!.. Наконец усну». Вот к холодку
В хлеву нагретом телка тянет ноздри.
Вот с мягкой кучи прошлогодних листьев
Встает в лесу бродяга неумытый,
Швыряет камнем в сонную голубку,
А после, слыша в тишине, как оземь
Упавший камень глухо ударяет,
Сам дерзости пугается своей.
Вот ключ разбухший, вея холодком,
Спешит грозе вдогонку, словно хочет
За ускользающею ночью вслед
Во тьме укрыться. А меж тем Спаситель
На горних высях с Матерью ведет
Беседу еле слышную, хотя
Беседе той, как звездам, длиться вечно.
Влача свой крест, он молвит: «Мать моя!» —
И смотрит на нее, а Та лишь шепчет:
«Мой милый Сын!» И небо обращает
Печальную немую речь к земле.
788
Гуго фон Гофмансталь
По телу обветшалому Земли
Проходит дрожь: пора ей снаряжаться
Чтоб встретить день. Вот кто-то на заре
От женщины крадется босиком;
Скользит, как тень; домой через окно,
Как вор, влезает; в зеркало глядится,
Внезапно ощущая страх пред этим
Невыспавшимся бледным чужаком,
Вчерашним чистым мальчиком, который
Сначала ночью сам себя убил,
Затем, глумясь, проник сюда, чтоб руки
Умыть водою из кувшина жертвы;
Вот отчего так небеса тревожны,
Так необычно стало все вокруг.
И настежь наконец ворота хлева
Распахиваются. И брезжит день. 1907
*
Комментарий
Составление
Э. Венгеровои
*
При составлении комментария мы опирались на критическое 50-томное
Полное собрание сочинений Гофмансталя, к сожалению, еще не закончен-
ное: Hugo von Hofmannsthal. Samtliche Werke. Kritische Ausgabe. Veran-
staltet vom Freien Deutschen Hochstift. Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag,
1975 u. ff.
Поскольку в этом издании пока не появились тома с пьесами «Имя-
рек», «Трудный характер» и «Башня», сведения о первых постановках этих
пьес мы почерпнули из книги: Goldschmitt R. Hugo von Hofmannsthal. Han-
nover: Friedrich Verlag, 1968.
Тексты Гофмансталя (кроме «Имярека») переводились по изданию:
Hugo von Hofmannsthal. Gesammelte Werke in 10 Einzelbanden. Frankfurt
a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1979.
«Имярек» в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник печатается по изда-
нию «Театральной библиотеки Разсохина» (б. г.).
При составлении комментария к эссеистике, где встречается множе-
ство имен собственных, мы, учитывая объем издания, принципиально огра-
ничились библиографическими сведениями.
Библиографические сведения взяты из справочника: Horst Weber.
Hugo von Hofmannsthal. Bibliographie. Werke. Briefe. Gesprache. Ubersetzun-
gen. Vertonungen. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1972.
Сокращения:
HvH — Hugo von Hofmannsthal;
D1 — первая публикация;
В А1 — первая книжная публикация.
Комментарий
791
Драмы
СМЕРТЬ ТИЦИАНА
Der Tod des Tizian
D1: Blatter fur die Kunst. Erste Folge. I. Band, Oktober 1892, S. 12—14.
14 февраля 1901 г. в Мюнхене, в Доме художников, состоялся вечер
памяти крупного австрийского живописца Арнольда Бёклина (1827—1901).
Бёклин умер 16 января того же года в Италии. На этом вечере и была
сыграна впервые «Смерть Тициана». Для этого спектакля Гофмансталь
написал новый пролог. Художник Бенно Бекер, будущий сотрудник Макса
Рейнгардта, выполнил сценическое оформление; режиссировал спектакль
Пауль Бранн.
Лирическая драма написана зимой 1892 г. под впечатлением знаком-
ства со Стефаном Георге, вернувшимся из Парижа, где он общался с
поэтами из круга Малларме. Запись Гофмансталя в дневнике, датированная
21 декабря 1890 г.: «Стефан Георге. Бодлер Верлен Малларме По Суин-
берн. Наши классики были всего лишь скульпторами стиля, но еще не
живописцами и не музыкантами».
Мотив пира во время чумы встречается у Боккаччо («Декамерон»),
По («Маска красной смерти»), Якобсена («Чума в Бергамо»), Пушкина.
Моделью для «словесного портрета» Тициана послужил Малларме, а в
фигурах Джанино и Дезидерио Гофмансталь запечатлел различие характе-
ров -— своего и Георге. Незадолго до смерти, в письме Вальтеру Брехту от
20 января 1929 г., Гофмансталь так излагал неосуществленный замысел дра-
мы: «В этот год [1892] я заканчивал гимназию, и у меня, как нарочно, было
очень мало времени, поэтому я прервал работу, а ведь целое должно было
быть много больше. Вся эта группа людей (ученики Тициана) должна была
прийти в соприкосновение с лихорадочным оживлением, которое вызывает
в городе смерть (чума). Все разрешается чем-то вроде смертельной оргии;
то, что написано, всего лишь пролог... Потом все эти молодые люди, оста-
вив Мастера, спускаются в город и живут самой суетной жизнью — то есть,
по сути, тот же мотив, что и [в драме] «Глупец и Смерть».
48 Филиппо Помпонио Вечеллио. — Альфред де Мюссе в новелле «Сын
Тициана» (1838) называет заглавного героя теми же уменьшитель-
ными именами Тицианелло и Пиппо. Старший сын Тициана, Помпо-
нио, стал священником, средний, Орацио, — художником, а дочь
792
Комментарий
Лавиния вышла в 1555 г. замуж за некого Корнелио Сарцинелли из
Серравалле и умерла в 1561 г., то есть намного раньше отца.
Джокондо. — Список действующих лиц был составлен в то время,
когда Гофмансталь еще собирался продолжать работу над пьесой, и
по ошибке имя Джокондо не было вычеркнуто при публикации фраг-
мента.
Дезидерио. — Возможно, имя этого персонажа заимствовано из
новеллы Альфреда де Мюссе «Каштаны из огня» (1830).
Действие происходит в 1576 году. — Тициан умер 27 августа 1576 г.
от чумы; согласно другой версии — от старческой немощи. Возраст,
до которого дожил Тициан, спорен: различные источники называют
годом его рождения 1474, 1477, 1480 и 1490-й.
...терраса принадлежавшей Тициану виллы. — С 1531 г. Тициан
имел в Венеции дом с великолепным садом в тогдашнем городском
квартале Бири-Гранде; в настоящее время этот район называется
Фондаменте Нуово.
49 Я загляделся на портрет инфанта... — 20 декабря 1891 г. Георге
подарил Гофмансталю свой сборник «Гимны», где было стихотворе-
ние «Инфант».
Комментируя это место, один из исследователей (Юрген Висман)
обратил внимание на то обстоятельство, что в Вене находился порт-
рет графа Зальма работы Арнольда Бёклина («Портрет мальчика»,
1879), обнаруживавший поразительное сходство с портретами Гоф-
мансталя в юности.
50 Но мне понятен ты, мой брат-близнец. — Заимствовано из письма
Георге от 10 января 1892 г.
... букет жасмина в дельфтской вазе. — Керамические вазы из гол-
ландского городка Дельфта славились оригинальностью росписи и
особой фактурой.
52 Он вне себя, он словно одержим... — В монографии Crowe J. A. u
Cavalkassele G. В. Tizian. Leben und Werke. (Leipzig, 1877, Bd 2, S.
543) приводится следующий эпизод из жизни гениального живописца:
«Никколо Масса, известный венецианский врач, спросил его одна-
жды, как, по его мнению, изменилась его трудоспособность, и
Тициан ответил, что в последнее время ежедневно испытывает
истинную страсть к занятиям живописью, а после работы чувствует,
что не способен ни к чему, кроме праздного времяпрепровождения».
Комментарий
793
Авторы этой монографии подчеркивают, что художнику была свой-
ственна непреодолимая жажда творчества.
53 «Жив великий Пан!» — Легенду о смерти Пана излагает Плутарх (De
oraculum defectu, cap. 2). Во времена императора Тиберия некий
матрос по имени Фамос якобы услышал голос, приказавший ему по
прибытии на Пел ад ы воскликнуть: «Великий Пан умер!»; в ответ на
этот возглас со всех сторон раздались жалобные вопли и стоны. Эта
легенда лежит в основе тургеневского стихотворения в прозе «Ним-
фы»; именно у Тургенева Гофмансталь заимствовал измененное — в
обратном смысле — восклицание.
55 ...мраморные руки фавна... над темно-пурпурным гранатным
телом... лебяжья стая... тела купавшихся наяд — реминисценции
из Малларме и Тургенева.
Примешивался к запаху алоэ...— В стихотворении Георге «Морской
берег» {«Strand») также имеется этот классический набор мотивов,
характерных для раннего символизма: запах ладана, густой плющ,
лебеди и, прежде всего, лавр, чай, алоэ.
57 Они же спят, как слизни... — Запись в дневнике Гофмансталя 13
июля 1891 г.: «Микрокосм: мешанина душ. Сущность камня —
тяжесть, бури — движение, растения — завязь, хищного зверя —
борьба... а в нас есть все одновременно: тяжесть и движение, жажда
убивать и тихое прозябание, полет чайки, скрежет железа, трепещу-
щие струны, душа цветка, душа устрицы, душа пантеры...»
Вот почему в густом плюще ограды... Сад Тициана в тогда еще не
застроенном квартале Бири-Гранде вызывал восхищение современ-
ников. Описание Гофмансталя навеяно, вероятно, дворцовыми
садами Вены.
Здесь кроется искусство задних планов, II И лабиринтов искус
изначальный, II И таинство мерцающего света. — Живопись
Тициана интерпретируется в соответствии с эстетическими пристрас-
тиями символизма. В январе 1891 г. Гофмансталь, задумывая «Роман
внутренней жизни», записывал в набросках плана: «Темная живопись
учит сохранять некое «может быть»; очарование теряющихся в заро-
слях аллей, темных арок, далеких лесов, мистических сумерек. «Ты-
сяча и одна ночь», «Человеческая комедия», «Саламбо» — это опре-
деленные эпохи собственного прошлого; огромные дворы домов,
загадочные звуки ночи...»
794
Комментарий
58 Он населил богами хаос мира... — Ср. пассаж Гофмансталя в статье
«Элеонора Дузе» (февраль 1892 г.): «Живые художники проходят
сквозь сумеречную бессмысленную жизнь, и все, чего они коснутся,
оживает и начинает светиться».
И увидал свирель в руках сатира... — этот мотив, как и ряд следу-
ющих (утесы, волны, наяды), навеян не столько Тицианом, сколько
сюжетами полотен Бёклина: «Опушка леса с кентавром» (1855),
«Опушка леса с фавном и нимфой» (1879), «Сиринга убегает от
Пана» (1894), различными вариантами картины «Пан и дриады» и др.
60 Нам зоркость эта Мастером дана... — Ср. пассаж в статье «Элео-
нора Дузе»: «Я думаю, что для того и существуют художники, чтобы
все вещи, проходящие через их душу, обретали... смысл. <...> При-
рода захотела узнать, как она выглядит, и создала Гёте».
61 Меня он пишет в виде божества, II Венеры... — Кисти Тициана при-
надлежат «Венера Урбинская» (Флоренция, галерия Уффици, ок.
1538) и «Венера с Амуром» (Флоренция, галерея Уффици, ок. 1545).
62 Назавтра будет полотно готово. — Последним творением Тициана
считается «Пьета» (Венеция, Академия). Первоначально картина
предназначалась монастырю францисканцев «Санта Мария Глориоза
деи Фрари», но после ссоры с монахами Тициан прервал работу над
ней, и уже после смерти Мастера ее дописал Пальма Джиоване.
Полотно, о котором рассказывают девушки, называется «Посвяще-
ние Вакханки» или «Венера и Вакханка». Раньше оно приписывалось
Тициану, теперь — его школе (Мюнхен, Баварская государственная
галерея, инв. № 484). Гофмансталь мог видель литографию Пилота
с этой картины.
Он нам сказал, где хоронить его. — Тициан похоронен, согласно его
воле, в церкви «Фрари» в Венеции. Описывая «безымянную могилу в
седом песке», Гофмансталь, по-видимому, думал о Шатобриане: в
течение нескольких лет Шатобриан добивался у властей города Сен-
Мало разрешения на покупку клочка земли на острове Гренд-Бе, где
хотел быть погребенным анонимно «во тьме своей песчаной могилы»
(Memoires d'outre-tombe. Paris, 1846, p. 441).
Комментарий
795
ГЛУПЕЦ И СМЕРТЬ
Der Tor und der Tod
D1: Moderner Musen-Almanach auf das Jahr 1894, Munchen, 1893, S.
25—43.
Пьеса написана в марте — апреле 1893 г. Впервые она была постав-
лена 13 ноября 1898 г. Мюнхенским литературным обществом в Театре на
Гертнерплац. Руководил постановкой председатель этого Общества Люд-
виг Гангофер.
В 1908 г. пьеса ставилась в Берлине Максом Рейнгардтом и игралась
великолепным составом исполнителей: Клаудио — Сандро Моисеи, Слуга
— сам Макс Рейнгардт, Смерть — Оскар Береджи, Возлюбленная —
Камила Эйбеншютц, Друг — Пауль Вегенер, Мать — Гертруда Эйзольдт.
Гофмансталь присутствовал на репетициях во время своего пребывания в
Берлине (20 февраля — 1 апреля).
Запись а дневнике Гофмансталя в мае 1894 г.: «...человек, который
переживет самого себя (или увидит свою жизнь в руках смерти) и оплачет
свою потерянную, непонятную, бесцельную жизнь. Из таких настроений
возник «Глупец и Смерть».
65 «Глупец и Смерть». Возможно, заглавие найдено у Рихарда Вагнера.
В опере «Кольцо Нибелунгов. Валькирия» (II, 4) Брунгильда обра-
щается к Зигфриду: «Пока ты жив, // Ничто не заставит тебя сми-
риться. // Но смерть смирит тебя, глупца. // Я пришла сказать тебе,
что ты умрешь».
66 Клаудио. — В поздней книге Гофмансталя «Ad me ipsum» поэт так
объясняет выбор этого имени для своего героя: «Значение имени
Клаудио для «Глупца...» от claudere (быть неисправимым). Одновре-
менно это имя злого отчима в «Гамлете». Разве Клаудио — не отчим
своего лучшего «я»?»
Непосредственное влияние на выбор имени мог оказать образ Клавдия
из шекспировской «Меры за меру»: «В устах того, кому грозит смерть,
какие звуки, какое красноречие, какие слова, умнее, чем он сам, глуб-
же, чем его скромная добродетель, — как выжимает из него смерть
лучшие соки!» («Короли и вельможи у Шекспира», 1905). Имя Клаудио
встречается и у Альфреда де Мюссе — так зовут судью в новелле «Кап-
ризы Марианны». Из пьес Мюссе Гофмансталь заимствовал имена пер-
сонажей для своих ранних драм «Вчера» и «Смерть Тициана».
796
Комментарий
68 И жизнь моя, иссохшая в неволе II Пустой мечты, невыплаканной
боли, II Ткет паутину в этих залах гулких... — В статье «Люди в
драмах Ибсена» Гофмансталь возвращается к той же метафоре: «В
«Пер Гюнте» есть трогательная сцена, где старого человека со спо-
койным упреком окружает вся его непрожитая жизнь, непродуман-
ные мысли, невысказанные слова, невыплаканные слезы, невыпол-
ненные дела».
69 И если вдруг в природе благодатной II Я подмечал какой-то знак
невнятный... — реминисценция из «Гамлета». Это место у Шекспира
в переводе Б. Пастернака: «И так решимости природный цвет //
Хиреет под налетом мысли бледным...» (III, 1).
70 Джоконда, ты сияешь мне с холста... — намек на «Мону Лизу» Лео-
нардо.
71 Жизнь, словно взятая взаймы из книги... — В оригинале говорится
о жизни, скрытой за завесой, как книга за занавеской («War mir ver-
schleiert wie ein Buch»). Мотивы завесы, занавеса, покрывала, вуали
(Schleier) и книги характерны для лирики Гофмансталя как метафора
опосредованного переживания. Из писем разным лицам: «Когда я
говорю... мне кажется, будто я цитирую ощущения и мысли прош-
лых лет из старого дневника» (Густаву Шварцкопфу 31.8.1892);
«...мне не хватает непосредственности переживания: я словно со сто-
роны смотрю на свою жизнь, и то, что испытываю, я словно читаю
по книге; только прошлое проясняет мне вещи и придает им цвет и
аромат» (Эдуарду Карлу фон Бебенбургу 6.9.1892); «...иногда я ста-
новлюсь... непонятно чуждым самому себе и читаю собственные мы-
сли, как чужую книгу.» (Марии фон Гомперц 19.4.1893); «... стоит
мне подойти к книжной полке, как я нахожу достаточно восхититель-
ных и увлекательных книг, чтобы погрузиться в них до самоза-
бвения; так что мысли и ощущения книг и персонажей иногда полно-
стью выключают мои собственные мысли и ощущения и проникают
на их место. Ибо не мы владеем людьми и вещами, не мы удержи-
ваем их, но они владеют нами и удерживают нас. Причем, разумеет-
ся, не то чтоб ощущаешь в себе пустоту, а — еще удивительнее —
чувствуешь себя как бы привидением среди бела дня, в тебе бродят
чужие мысли, живут старые, мертвые, искусственные настроения,
ты видишь вещи, словно сквозь завесу...» (Эдгару Карлу Бебенбургу
30.5.1893).
Комментарий
797
75 ...портьера тихо раздвигается, и на пороге возникает Смерть. —
Проникновение смерти сквозь закрытые двери — метафора, заим-
ствованная у Метерлинка («Непрошеный гость»).
...перед тобою божество души, II Великий родич Вакха и Венеры. —
Ср.: «Смерть — не костлявый скелет, а прекрасный юноша-языч-
ник» («Габриэль Д'Аннунцио», 1893).
76 Я Бога не встречал, не бился с ним II И не приял его благословенья
— библейская реминисценция (Моис, 1, 32, 33 и след.).
77 Я преданности изучу науку, II Основу жизни... — Ср.: «Решающее
значение имеет не деяние, а преданность и судьба» («Ad me ipsum»).
78 Лишь ты пустым остался меж людьми — реминисценция из Гете:
«Ах ты глупец, пустой, пустопорожний» («Фауст», строка 549).
... выходит Мать. — В поэме Ленау «Фауст» герою также являются
трое мертвых: Мать, Девушка, Мужчина.
82 Горация читаешь, упиваясь? — Смысл упоминания о Горации прояс-
няют дневниковые записи Гофмансталя (ноябрь, 1891): «Гораций и
Софокл. Соблюдать меру — в этом все»; «Стоицизм Горация...
четыре аффекта... уныние, страх, шумная радость, алчность».
84 Как незадачливый актер на сиену... II Ни в пьесу не вникая, ни игрой
II Не увлекая публику в театре... — шекспировские реминисценции
из сонета XXIII и комедии «Как вам это понравится»: «Весь мир —
театр, // Все люди в нем — актеры» (II, 7).
85 И стань мне жизнью, Смерть, коль жизнь была мертва! — реплика
Клавдия из «Меры за меру» Шекспира (III, 1).
ИМЯРЕК
Jedermann
D1: Blatter des Deutschen Theaters, Berlin, 1. Dezember 1911.
BA1: Berlin: S. Fischer Verlag, 1912.
Работа над пьесой начата в 1903 г., а закончена в 1911 г.
Первую постановку осуществил Макс Рейнгардт в 1911 г. в берлин-
ском цирке Шумана. Заглавную роль исполнял С. Моисеи.
Название и сюжет заимствованы Гофмансталем из английского
моралите конца XV в., а архаизированный немецкий стих выдержан в тра-
диции Ганса Сакса («Comedie vom reichen sterbenden Menschen»).
798
Комментарий
Реакция современников на премьеру 1911 г. была довольно холод-
ной. «Рейнгардту понемногу изменяет инстинкт, — писал критик Якобсон.
— Раньше он чувствовал, какое сценическое пространство, какая стилисти-
ка, какой тип публики нужен для его постановок. Раньше о таком действе,
как «Имярек», он сказал бы, что ему место в церкви или в кафе, где собира-
ются германисты, что его должны смотреть зрители либо очень страстные,
либо совсем бесстрастные, либо верующие фанатики, либо проницатель-
ные скептики, но никак не любой и каждый «имярек». А теперь он показы-
вает его сразу пяти тысячам «имяреков», в чью сферу чувствований и инте-
ресов это действо никогда не проникнет». Высказывание это интересно
тем, насколько оно оказалось ошибочным.
Гофмансталь был убежден, что обращение к аллегорическим фигу-
рам — не просто игра от нечего делать, что это обращение в высшей сте-
пени актуально. Он верил в театр, который в своих интенциях возвращается
за XIX, даже за XVIII век. Он считал, что мировую проблематику вряд ли
возможно охватить средствами психологического реализма, и сделал свои
выводы: «Опасность и слава нашего времени, на пороге которого стоит ста-
рый мудрый Ибсен, в том, что мы продвинулись достаточно далеко и теперь
должны возвратиться к аллегории». Он доверился неувядаемой силе старин-
ных христианских аллегорий, причем здесь сыграло существенную роль то
обстоятельство, что в Австрии — в отличие от других немецкоязычных
литератур — никогда не угасало умение постигать смысл аллегорий. Вен-
ские волшебные сказки адресовались к этому умению начиная с эпохи
барокко и вплоть до эпохи бидермейера. «То, чем человек может связать
себя с миром, есть деяние или творение», — утверждал Гофмансталь, связы-
вая замысел «Имярека» с замыслом «Электры». Как в трагедиях на анти-
чные сюжеты, так и в аллегорическом действе по мотивам средневекового
моралите он ставил вечный вопрос о смысле человеческого существования,
волновавший его всю жизнь.
Возникнув как историко-культурный курьез, «Имярек» оказался
авангардистской пьесой. Настоящую сценическую площадку для нее Гоф-
мансталь и Рейнгардт нашли в 1920 г. перед фасадом Зальцбургского собо-
ра. И с тех пор «Имярек» исполняется там ежегодно (традиция эта была
нарушена только в период фашизма — с 1938 по 1945 г.). После второй
мировой войны постановкой руководили Эрнст Лотар, сын Макса Рейн-
гардта Георг и вдова Макса Рейнгардта Елена Тимиг. Церковный колокол,
целый город, над крышами которого разносятся знаменитые возгласы Имя-
река, участвуют в игре, создавая неповторимый колорит зальцбургского
театрального фестиваля. И, несмотря на неоднократные упреки в том, что
Комментарий
799
действо стало роскошным аттракционом для туристов и требует обновле-
ния, концепция Рейнгардта каждый раз одерживала верх над всеми попыт-
ками модернизации.
Замысел Зальцбургского фестиваля Гофмансталь отстаивал в спе-
циальном эссе 1919 года, в котором излагает свой взгляд на миссию театра
в современном мире. Текст написан в форме диалога автора с воображае-
мым оппонентом.
Зальцбургский фестиваль
— Что такое Зальцбургский фестиваль?
— Это музыкально-драматические представления, которые будут про-
водиться в Зальцбурге, в специально для этого построенном фестивальном
театре.
— Когда они должны происходить?
— Ежегодно летом, а иногда и в другое время года, например: на
Рождество, на Пасху или на Троицу.
— О чем идет речь — об опере, или о драме, или о музыкальных спекта-
клях? f
— И об опере и о драме, ведь в самом высоком смысле они неотделимы
друг от друга.
— То есть, как? Их же повсеместно разделяют!
— Это разделение просто дань традиции. Высокая опера — прежде
всего оперы Моцарта и Глюка, «Фиделио» Бетховена, не говоря уж о творе-
ниях Вагнера, есть драма в самом глубоком смысле слова, а великая драма
либо предполагает музыкальное сопровождение, какого, например, требо-
вал Гёте для своего «Фауста», либо стремится проявить свою музыкальную
сущность, как фантастические драмы Шекспира, романтические драмы
Шиллера или волшебные сказки Раймунда.
— Что же вы хотите построить — драматический театр или оперный?
— И тот и другой в одном здании. Построить театр для аудитории при-
мерно в две тысячи человек; известны средства и способы из вечера в вечер
так изменять интерьер и условия зрительного и слухового восприятия,
чтобы они одновременно оптимально подходили бы и для оперы и для вели-
кой драмы.
— Допустим, но что же тогда является главным в вашей затее — опера
или драма?
— И то и другое. Лучшие образцы того и другого. Мы ставим во главу
угла все оперы Моцарта и такую полную постановку «Фауста», какой еще не
бывало на сцене. А наряду с этим — Грильпарцера и Шиллера, Глюка и Вебера.
800
Комментарий
— Значит, вы имеете в виду немецкий национальный репертуар?
— Немецкий и национальный в том смысле, в каком задумывали нацио-
нальный театр великие немцы конца XVIII — начала XIX века, истинные
учителя нации. Для них само собой разумелось, что нельзя обойтись без
античности, нельзя вывести за скобки ни Шекспира, ни Кальдерона, ни
Мольера.
— Вы собираетесь играть для людей образованных или для массы?
— Тот, кто сердцем постиг понятие «народ», отвергает такое противо-
поставление.
— Моцарт — это рококо, а публика требует новизны!
— Моцарт неподвластен времени. Народ исчисляет время столетиями.
Для ядра народа великое — всегда ново.
— «Фауст» — сложное произведение, блюдо для образованных, зачем
вам «Фауст»?
— Это заблуждение, «Фауст» — лучшая из пьес, вобравшая в себя теат-
ральные элементы многих столетий, она достаточно богата чувственно-
стью, яркостью и движением, чтобы захватить и самую наивную публику и
самых образованных зрителей.
— Где это опробовано?
— В Вене, и в Берлине, и в других местах; но все еще в условиях ограни-
ченного пространства и времени; в Зальцбурге это должно быть испробо-
вано без оков.
— Значит, вы хотите смешать ярко театральное и духовное?
— Такой смешанный репертуар соответствует глубочайшим, сформи-
рованным за века традициям и привычкам Центральной Европы; мы не
собираемся выставлять новые требования, но хотим наконец выполнить
старые.
— Да ведь они выполняются сотнями городских и бывших придворных
театров!
— Весьма часто с наилучшими намерениями, но в большинстве случаев
недостаточными силами, поэтому мы хотим учредить фестиваль и доступ-
ным способом делать то, что правильно и соразмерно нации.
— Значит, вы хотите ограничиться немецкой публикой?
— Мы всей душой надеемся, что к нам будут приезжать люди из других
стран, ищущие того, что они вряд ли найдут где-нибудь еще на свете.
— Разве они не найдут чего-то похожего в Мюнхене и некоторых дру-
гих местах?
— Не такое, как здесь, где все будет создано для одной цели, все будет
подчинено их интересам.
Комментарий
801
— А Байрейт, как насчет Байрейта?
— Байрейт пусть остается как есть, но он служит одному великому
художнику; Зальцбург будет служить всему классическому наследию нации.
— А Обераммергау?
— Остается единственным в своем роде, почтенным реликтом старого
искусства; Зальцбург должен быть построен в том же духе, но на других
основах.
— Почему же тогда не Вена, почему хотя бы не Берлин?
— Большой город — место рассеяния, а торжественное представление
требует сосредоточения от тех, кто занят в нем, и тех, кто его воспринимает.
— Допустим, фестиваль нужен, но почему именно в Зальцбурге?
— Баварско-австрийское племя испокон веков было носителем теат-
ральной традиции среди всех немецких племен. Все, что живет на немецкой
сцене, коренится здесь — и поэтический элемент и актерский.
— Как вы это обоснуете?
— Сошлюсь, если угодно, на произведения Гёте и Шиллера, которые
своим собственно театральным содержанием обязаны сплошь южнонемец-
ким элементам от средневековых мистерий и кукольного театра до оперы
эпохи барокко.
— При чем же здесь город Зальцбург?
— Зальцбургская земля — это сердце сердца Европы. Она лежит на
полпути между Швейцарией и славянскими землями, на полпути между
северной Германией и ломбардской Италией, она лежит посредине между
югом и севером, между горами и равнинами, между героическим и идилли-
ческим; ее архитектура есть нечто среднее между городским и деревенским,
древним и современным, барочно-княжеским и милым вечно крестьянским;
Моцарт есть выражение всего этого. В Центральной Европе нет места
более прекрасного, и Моцарт должен был родиться здесь.
— Кто возьмет на себя труд вызвать к жизни этот фестиваль?
— Жители Зальцбурга и все остальные австрийцы — по мере сил.
— Какое отношение будет иметь к этому австрийское государство?
— Поскольку оно недостаточно богато и одному ему не справиться, оно
будет поощрять фестиваль, ежегодно предоставляя для его проведения зна-
чительную сумму и применяя все мыслимые меры культурной политики.
— Чем может страна и город Зальцбург помочь этому делу?
— Прежде всего тем, что подарит фестивалю строительную площадку
несравненной красоты.
— Где это?
— В парке Гельброннского замка, у подножия горы.
802
Комментарий
— Что придаст жителям Зальцбурга и всей Австрии мужества в наше
время?
— Тот факт, что все люди сейчас тоскуют по духовным радостям.
— На чем основана ваша уверенность, что такого рода предприятие
должно быть осуществлено на зальцбургско-австрийской почве?
— На не прерывающейся вот уже пять столетий театральной традиции
баварско-австрийского племени, ведь ее цвет — венская театральная куль-
тура достигла наивысшего уровня наряду с парижской.
— Но в последнее время ведущее место в культурной жизни Германии,
да и всего мира, занимает Берлин?
— Руководитель самого превосходного из этих театров Макс Рейн-
гардт — австриец, его творчество возникло из венской театральной тради-
ции, и он принадлежит к тем, кто теснейшим образом связан с зальцбург-
ским предприятием.
— Будет ли это предприятие прибыльным делом?
— Сначала оно потребует энергичного сотрудничества многих покрови-
телей в стране и за границей, чтобы достойным образом осуществить замы-
сел. Если в будущем оно принесет прибыль, то прибыль эта будет использо-
вана на то, чтобы подняться на новую ступень, чтобы усовершенствовать
мастерство исполнителей и организацию фестиваля.
— Что осуществляет и чего достигает каждый покровитель и поощри-
тель этого предприятия?
— Он усиливает веру в некий европеизм, который наполнял смыслом и
освещал эпоху с 1750 по 1850 год.
— Разве эти времена не ушли безвозвратно?
— Развитие происходит по спирали.
— Кто нынче еще верит в Европу?
— Гердер и Наполеон этой верой обладали. Гёте и Французская рево-
люция сошлись в этой вере. Это духовный фундамент нашего духов-
ного существования. Никто не решился бы прямо отрицать эту веру;
значит, дело в том, чтобы снова и снова исповедовать ее созидательными
деяниями.
— Разве десятки тысяч километров железных дорог не способствуют
единению наций больше, чем все библиотеки и театры мира?
— Напротив: железные дороги сделали людей чуждыми друг другу.
Нации должны познавать друг друга в своих наивысших достижениях, а не
в самых тривиальных.
Комментарий
803
ТРУДНЫЙ ХАРАКТЕР
Der Schwierige
D1: Neue Freie Presse, Wien, April — September 1920.
BA1: Berlin: S. Fischer Verlag, 1921.
Премьера комедии состоялась в 1921 г. в мюнхенском «Резиденц-
театре»; режиссер — Курт Штилер. Через два года она была сыграна в
постановке Макса Рейнгардта сначала в «Венском театре» в Йозефштадте,
а затем перенесена в Зальцбург и Берлин. Во всех спектаклях главную роль
исполнял Густав Вальдау. Его игра неизменно вызывала восхищение публи-
ки. Один из критиков (Польгар) описывал её так: «Уже одна его интонация,
подкрепленная нервической неуверенностью мимики, в которой проры-
вается нечто невысказанное, определяет суть и мировоззрение изображае-
мого персонажа. Нечто неотразимо обаятельное таится в «модерато» этого
актера, в небрежности его остроумия, небрежности, которая уже сама по
себе, на фоне возбуждения остальных действующих лиц производит юмори-
стический эффект; тон сдержанного превосходства проистекает из такой
глубины души и ума, когда все легко дается и легко берется». Другой кри-
тик (Сальтен) писал после венской премьеры: «Вальдау — артист, чье оба-
яние с первых минут вызывает любовь. В нем есть что-то от неловкого, но
совершенно неотразимого очарования Жирарди. Так же как и Жирарди (ве-
ликий австрийский актер XIX в. — Э. В.), он одарен дивной красноречивос-
тью мимики, не нуждающейся в словах; обходясь самыми скупыми сред-
ствами, он достигает чрезвычайной простоты и богатой выразительности».
Сам же Вальдау признавался, что своей удачей он обязан Гофманста-
лю: «Поэт присутствовал на репетициях и приглашал меня к себе в Родаун.
Он помог мне осознать то, что подспудно жило во мне как в исполнителе.
Во время наших бесед, продолжавшихся часто далеко за полночь, он как
наставник указал мне путь... на который я, может быть, никогда не
выбрался бы без его помощи. Интересно, что я следовал за ним и тогда,
когда поэт вступал в мою, чисто актерскую область. Я часто изумляюсь
тому, насколько нетривиально трактует Гофмансталь прежде всего техни-
ческую сторону нашего ремесла. Но ведь и все, кто присутствовал на репе-
тициях, были изумлены его глубоким пониманием возможностей и границ
актерской индивидуальности. Не будь Гофмансталь великим поэтом, из
него получился бы один из наших крупнейших режиссеров».
Когда Рейнгардт в 1930 г. показал эту комедию в Берлине, критиков
привела в восторг тонкость его интерпретации: «Это ансамбль голосов,
804
Комментарий
ансамбль интонаций. Как легко и мягко ведутся эти диалоги, как виртуозно
они переходят один в другой, как хорошо они обрываются и снова подхва-
тываются, как эффектно вплетаются в них более грубые тона... Это арти-
стическая режиссура высшего порядка».
«Трудный характер» был задуман еще в 1908 г. одновременно с дру-
гими (незаконченными) комедиями — «Сильвия в «Звезде», «Возвращение
Кристины», «Кавалер роз», — за которыми вскоре последовал «Лусидор»
(из него возникло либретто «Арабеллы»). Однако предпосылкой к завер-
шению «Трудного характера» оказалась мировая война. Герой пьесы пере-
жил на войне страшные минуты, он чуть было не погиб. «В какой-то
момент, который невозможно измерить обычной мерой, время и простран-
ство потеряли свою власть. С тех пор он глядит на жизнь тем непонима-
ющим взглядом, который свойствен Сигизмунду в «Башне», — писал кри-
тик Эмиль Штайгер.
В одном из писем Карлу Буркхардту, швейцарскому дипломату, с
которым он дружил в послевоенные годы, Гофмансталь напоминал ему
парадоксальное высказывание Новалиса: «После войны необходимо писать
комедии» — и продолжал: «Комедия — самая трудная из всех литературных
художественных форм».
Безусловно, в трудном характере героя комедии отразилась личность
автора. «Вы обнаружите, — признавался Гофмансталь другому своему кор-
респонденту, Антону В ил ьд гансу, — что под внешней иронией я спрятал
там нечто от собственной души, от личной моей метафизики. И все же это
индивидуально-метафизическое ядро очень крепкое, и мне иногда было
страшно, что оно прорвет оболочку. Проблема, которая часто мучила и
пугала меня (уже в «Глупце и Смерти», а сильнее всего в «Письме лорда
Чэндоса»), — как одинокий индивид умудряется связывать себя с обществом
при помощи языка?»
В «Книге друзей» поэт однажды записал: «Глубину следует прятать.
Где? На поверхности». Пожалуй, ни в одном из его произведений глубина не
спрятана на поверхности столь искусно, как в «Трудном характере».
БОЛЬШОЙ ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ТЕАТР ЖИЗНИ
Das Salzburger grosse Welttheater
Первая публикация в журнале Neue deutsche Beitrage. Munchen, Juli
1922, S. 9—73.
Фрагмент мистерии был опубликован в сборнике в помощь голода-
Комментарий 805
ющим детям России, изданном писателями и художниками Германии: Fur
unsere kleinen nissischen Bruder. Berlin, 1922, S. 114—117. Пьеса создавалась
в период с сентября 1919 по июнь 1922 г.
Первое представление в постановке Макса Рейнгардта состоялось в
церкви «Коллегиенкирхе» 12.08.1922 г.
БАШНЯ
Der Turm
D1: Neue deutsche Beitrage. Munchen. Erste Folge, Zweites Heft, 1923;
Zweite Folge, Januar 1925.
BA1: Munchen: Bremer Presse, 1925; Berlin: S. Fischer Verlag, 1927
(сценический вариант).
Трагедия была впервые поставлена 4 февраля 1928 г. одновременно в
Мюнхене и Гамбурге: в мюнхенском «Принц-регент-театре» — в первой
редакции, в гамбургском «Шаушпильхаузе» — в последней. Обе постановки
не имели большого успеха. О мюнхенском спектакле в постановке Курта
Штилера один из театральных рецензентов (Ганс Браун) писал: «К сожале-
нию, премьера не смогла достойно справиться со сложностями значения... Не
закрывая глаз на старательность сценического решения, увенчанного мону-
ментальными декорациями Пасетти, следует признать, что истинная гармо-
ния атмосферы между сценой и партером устанавливалась на какие-то мгно-
вения — в сцене отца с сыном». То, что критик называет «сложностями значе-
ния», а именно символичность и глубина этой «как бы исторической» драмы,
явилось камнем преткновения и большинства позднейших постановок.
О спектакле Эрнста Лотара (Зальцбург, Школа высшей верховой
езды, 1958) отзывы были столь же неблагоприятными: «Режиссер взнуздал
персонажей и текст, даже без лошадей... Мятеж на всем скаку проносится
мимо идейного содержания, и светоносный глубокий язык превращается в
сплошной грохочущий тривиальный немецкий, характерный для Бургтеат-
ра» (Вольфганг Дреус).
«...Местами (особенно в тех местах, где искренность диалога угро-
жает обернуться чувствительно блеклой наивностью) кажется, что присут-
ствуешь в опере... на которую не успел приехать оркестр, так что исполни-
тели должны декламировать текст без музыки» (Фридрих Торберг).
Так же как драмы на античные сюжеты, как «Спасенная Венеция»,
как «Имярек» и «Большой Зальцбургский театр жизни», трагедия «Башня»
806
Комментарий
навеяна классическим образцом мировой литературы — пьесой Кальдерона
«Жизнь есть сон». Но ни в одной другой своей драме поэт не удалялся столь
далеко от оригинала, ни над одной другой он не работал так отчаянно, ни в
одну другую не вносил столь кардинальных изменений.
Уже в 1902 г. Гофмансталь упоминает о замысле «Башни»: «Я надеюсь
этим летом справиться с одним из моих драматических материалов. Это обра-
ботка частью очень глубокой, а частью очень слабой пьесы «La Vida es
Sueno» Кальдерона; разумеется, обработка совершенно свободная, новое
сочинение, которое относится к старому оригиналу не как клейстов «Амфи-
трион» к мольеровскому, но — sans comparaison — как шекспировская пьеса
к итальянской новелле». Однако на осуществление замысла поэту понадоби-
лось двадцать пять лет. Основная трудность «скорее духовного, чем художе-
ственно-технического свойства» заключалась в том, что Гофмансталя не
удовлетворяла кальдероновская развязка (примирение отца с сыном), а пере-
вести развязку в трагический план никак не удавалось.
Только после первой мировой войны Гофмансталь снова обратился к
этому материалу. Теперь ему важно было «показать вторжение хаотичес-
' ких сил в порядок, не имеющий духовной основы». В 1924 г. он с облегче-
: нием констатировал: «Сегодня мне удалось закончить пятый акт «Башни».
I В этой (первой) редакции Сигизмунд на смертном одре передает власть
миролюбивому Детскому королю, являющемуся на сцену во главе невоору-
женной армии детей. Пьеса завершалась утешительной перспективой —
видением лучшего будущего. Но за первой редакцией последовали еще две,
причем последняя, 1927 г., заметно отличалась от предыдущей. Многое в
ней было решено более жестко: убрана сцена с Цыганкой, опасно близкая
к оперной, и вычеркнуто немотивированное появление Детского короля.
Финал трагедии пронизан беспросветным отчаянием: Оливье, вульгарный,
жестокий и циничный солдафон, вставший во главе озверевшей толпы, при-
казывает расстрелять непригодного для его целей Сигизмунда.
Гофмансталь считал пьесу одновременно и исторической драмой и
притчей, стремился выразить в ней некое «сверхисторическое» начало,
которое «колеблется между прошлым и настоящим». Волновавшая поэта с
ранней юности тема «выпадения из времени» воплощена в трагической
судьбе Сигизмунда: в мире надвигающегося хаоса носитель духовности
обречен на гибель. В обеих редакциях остались неизменными последние
слова несчастного юноши: «Будьте свидетелями: я был, хоть никто и не
знал меня». Несмотря на прижизненную славу, Гофмансталь остро страдал
от собственного духовного одиночества, хотя в числе его современников
были читатели, оценившие по заслугам пророческий и поэтический мае-
Комментарий
807
штаб «Башни». «Теперь снова можно верить в возможность написания тра-
гедии в наше время», — писал Мартин Бубер, а Карл Буркхардт считал
«Башню» завещанием Гофмансталя.
Однако для режиссеров постановка «Башни» каждый раз оказыва-
лась неразрешимой задачей. И остается ею по сей день.
Проза
НОВЕЛЛЫ
КАВАЛЕРИЙСКАЯ ПОВЕСТЬ
Reitergeschichte
D1: Neue Freie Presse, Wien, Sonntag 24. Dezember 1899, S. 29—31.
Weihnachts-beilage.
BA1: HvH. Das Marchen der 672. Nacht und andere Erzahlungen. Wien
und Leipzig^Wiener Verlag, 1905, S. 47—96.
Свидетельств о создании «Кавалерийской повести» почти нет. Руко-
пись оригинала, за исключением одной незаконченной фразы, не сохрани-
лась. В своих письмах Гофмансталь нигде подробно об этой новелле не упо-
минает. В публикации 1905 г. он называет годом ее написания 1898-й,
но, судя по тому, что в датировке «Сказки 672-й ночи» им была допущена
ошибка, датировка «Кавалерийской повести» также могла оказаться не-
точной.
Начиная с 1896 г. Гофмансталь занимался рядом материалов, дей-
ствие которых разыгрываете i в солдатской среде. В письме к Мириам Беер-
Гофман от 1.7.1896 г. он упоминает «Историю солдата» («Geschichte des Sol-
daten»), однако она не идентична «Кавалерийской повести».
Первое упоминание об этой новелле можно найти в письме к Лео-
польду фон Андриану от 23.7.1898 г., где Гофмансталь сообщает, что обду-
мывает короткую новеллу о кавалеристе, участвовавшем в кампании Радец-
кого 1848 г., и собирается поместить ее в журнале «Пан». Но в этом жур-
нале новелла не была напечатана.
Совершенно очевидно, что большое влияние оказали на Гофман-
сталя его впечатления от военной службы добровольцем в Гёдинге (1894/
1895) и сборов в Тлумаче (май 1896) и Чорткове (июль 1898). Послужили ли
они прямым источником для написания новеллы? Современники усматри-
вали в ней настолько сильное влияние Клейста, что даже упрекали автора в
808
Комментарий
плагиате. Сам Гофмансталь в письме к Антону Киппенбергу (1919) назы-
вает эту новеллу, как и «Приключение маршала Бассомпьера», «упражне-
нием в письме».
464 Вахмистр Антон Лерх. — В письме к отцу от 13.8.1895 г. Гофман-
сталь упоминает «вахмистра Лерха из третьего эскадрона».
466 Гласис — земляная насыпь перед крепостным рвом.
Откуда Гофмансталь заимствовал мотив встречи с двойником, точно
установить не удалось. Источником мог послужить рассказ Гёте о возвра-
щении из Зезенхайма после окончательного разрыва с Фредерикой Брион:
«Я ехал верхом по тропе, направляясь в Друзенхайм, и вдруг меня охватило
одно из самых странных ощущений в моей жизни. Собственно, я увидел не
глазами плоти, но глазами духа самого себя едущим верхом по той же дороге
мне навстречу и в платье, какого я никогда не носил: иссиня-черным с золо-
том. Как только я очнулся от этого сна, фигура совершенно исчезла...»
Другим источником мог послужить Теофиль Готье, чьи сочинения
Гофмансталь прочел очень рано. В новелле «Обмен душами» Готье пишет:
«Всегда, когда кто-то из рода Лабинских должен был умереть, ему сообща-
лось об этом появлением полностью похожей на него фигуры. У северных
народов встреча со своим двойником, даже во сне, всегда считалась роко-
вым предзнаменованием...»
ПРИКЛЮЧЕНИЕ МАРШАЛА БАССОМПЬЕРА
Erlebnis des Marschalls von Bassompierre
D1: Die Zeit, Wien, 24. November und 1. Dezember 1900.
BA1: HvH. Erlebnis des Marschalls von Bassompierre. Zurich Verlag der
Arche, 1950.
Хотя черновиков новеллы не сохранилось, дату ее написания позво-
ляют установить дневниковые записи Гофмансталя. Замысел новеллы воз-
ник у поэта 18 апреля 1900 г. Новелла была начата в субботу 21 апреля и
закончена во вторник 24 апреля того же года в Париже.
Пребывание в Париже с 14 февраля по 2 мая 1900 г. было необы-
чайно плодотворным периодом его творчества. В письме к Рие Шмуйлов-
Клаассен 19 апреля он писал: «Я словно в лихорадке записал четыре или
пять рассказов, набросал балетное либретто, закончил пролог к «Антиго-
не» (для Берлина), сделал .сценарии других небольших лирических пьес...»
Комментарий
809
21 апреля в другом письме тому же адресату он сообщает: «...я живу в
таком половодье работы и замыслов, стихов, новелл, лирических драм, ска-
зок, что как раз это изобилие материала делает невозможным его изложе-
ние».
После появления в печати первой части новеллы Гофмансталю было
предъявлено обвинение в плагиате у Гёте. Защищаясь, Гофмансталь заклю-
чил вторую часть публикации таким примечанием: «Исходя из предполо-
жения, что полное собрание сочинений Гёте находится в руках образованной
публики, я счел излишним подробно указывать на то, что сюжетный мате-
риал... новеллы взят из мемуаров господина де Бассомпьера и приводится
Гёте в дословном переводе со ссылкой на источник: Memoires du Marechal de
Bassompierre. Koln bei Pierre du Marteau, 1665, Bd. I, p. 160—164. (Гёте в изда-
нии Котты 1810 г. с. 253), так что читатель может сам составить суждение об
отношении источника к моей поэтической версии материала».
3 августа 1904 г. Гофмансталь, посылая корректуру новеллы вен-
скому издательству «Винер ферлаг», настойчиво напоминает о необходимо-
сти сослаться на источники (французский и немецкий) при публикации
новеллы в сборнике своих рассказов. «Однажды я уже имел неприятности в
связи с этим делом», — добавляет он.
В 1935 г. было опубликовано специальное исследование Вернера
Крафта, посвященное сравнению рассказов Гёте и Гофмансталя: «От Бас-
сомпьера до Гофмансталя. К вопросу об истории одного сюжета» («Revue
de la litterature comparee» XV, 3—4, 1935, p. 708—725).
В архиве крупнейшего отечественного германиста А. Карельского,
чей перевод этой новеллы мы публикуем посмертно, имеется следующая
запись:
«Новелла создавалась в тот период жизни молодого Гофмансталя,
когда он, после триумфального вхождения в австрийскую литературу конца
века, переживал серьезный кризис сознания. В обстановке утонченного
эстетизма, характерного для тогдашней венской художественной богемы,
Гофмансталь и сам поначалу отдал ему немалую дань, стилизуя в своих пер-
вых стихотворениях и лирических драмах атмосферу минувших эпох.
Однако очень скоро он остро ощутил искусственность и этическую сомни-
тельность подобного существования, его резкий разрыв с реальной жизнью,
полной настоящих, нестилизованных страстей и страданий.
В символически сгущенном виде эта проблематика воплотилась и в
новелле о любовном приключении маршала Бассомпьера. С одной сторо-
ны, Гофмансталь и тут остается верен принципу стилизации, причем даже
как бы возводит его в квадрат: он дает обработку обработки, отсылая чита-
810
Комментарий
теля к эпохе Бассомпьера через посредничество Гёте. Но, с другой сторо-
ны, история эта дышит подлинным бытийным трагизмом, выходящим за
рамки любой эпохи — или, точнее говоря, обнимающим все эпохи.
В гофмансталевской обработке готового сюжета многократно уси-
лена его чувственная фактура, зримость и осязаемость изображаемого.
Персонажи предстают настолько живыми, судьбы их — настолько необыч-
ными, что у читателя возникает естественное стремление понять скрытый
смысл истории — тем более, что Гофмансталь вводит в нее еще и третьего
участника, которого не было ни в мемуарах Бассомпьера, ни в пересказе
Гёте. Загадочная и величественная фигура этого нового персонажа — мужа
прекрасной лавочницы, как считает Бассомпьер, — придает истории еще
более интригующее «треугольное» измерение.
Но все читательские надежды на раскрытие «смысла», на разгадку
«тайны» оказываются тщетными. Нити причинно-следственных связей
здесь оборваны в самых решающих узлах, и нас оставляют лицом к лицу с
массой вопросов. Строго говоря, здесь неясно даже, видит ли Бассомпьер в
страшной последней сцене снова свою «чаровницу» и ее мужа (как и неясно,
муж ли он ей вообще). Автор демонстративно описывает лишь то, что
видел и пережил сам Бассомпьер, категорически отказываясь от каких бы
то ни было пояснений «со стороны», от себя.
Остается только неумолимо прямая и жесткая временная связь: за
ночью безоглядного любовного опьянения последовала ночь лицезрения
смерти в ее самом неприглядном обличье. Эта связь любви и смерти пред-
стает как последняя, математически лаконичная формула человеческого
бытия. Можно как угодно домысливать пропущенные звенья, подставлять
какие угодно значения в историю изображенного треугольника — и перед
нами будут возникать все новые и новые сочетания, одно другого увлека-
тельней и назидательней. Но это, как бы говорит автор, были бы лишь
поверхностные украшения глубинной голой истины. Незыблема только
смена торжества любви торжеством смерти; все прочее — литература.
Именно здесь Гофмансталь совершает свой расчет с эстетизмом
конца века — совершает на его собственном плацдарме, его собственными
средствами. Расцвечивая ярчайшими красками скупую канву жутковато-
галантного анекдота (чего стоит одна игра освещением в новелле!), разы-
грывая виртуозную вариацию и стилизацию, Гофмансталь как бы сжигает
затем всю художественно запечатленную им красоту в пламени конечной
жизненной истины, непреложного закона земного бытия».
Комментарий
811
статьи; речи, эссе
ГАБРИЭЛЬ Д'АННУНЦИО
Gabriele d'Annunzio
D1: Frankfurter Zeitung und Handelsblatt, 9. August 1893, S. 1—3.
BA1: Loris. Die Prosa des jungen HvH. Berlin: S. Fischer Verlag, 1930,
S. 85—97.
Крупнейший поэт итальянского символизма Габриэль Д'Аннунцио
(1863—1938) в 90-е годы вызывал пристальный интерес молодого австрийс-
кого поэта и оказал несомненное влияние на его лирику. В 1898 г. Гофман-
сталь виделся с Д'Аннунцио во Флоренции, куда специально заезжал во
время своего путешествия на велосипеде по Швейцарии и Италии. Сужде-
ния Гофмансталя о творчестве Д'Аннунцио собраны в указанной выше пуб-
ликации 1930 г.
ПОЭЗИЯ И ЖИЗНЬ
Poesie und Leben
D1: Die Zeit, Wien, 16. Mai 1896, S. 104—106.
BA1: Loris. Die Prosa des jungen HvH. Berlin: S. Fischer Verlag, 1930,
S. 260—268.
О ХАРАКТЕРАХ В РОМАНЕ И ДРАМЕ
Uber Charaktere im Roman und im Drama
D1: Neue Freie Presse, Wien, 25. Dezember 1902, S. 34—39.
BA1: HvH. Unterhaltungen uber literarische Gegenstande. Berlin: Bard,
Marquardt u. Co., 1904, S. 33^64.
ПИСЬМО
Ein Brief
D1: DerTag, Berlin, 18/19. Oktober 1902.
BA1: HvH. Das Marchen der 672. Nacht und andere Erzahlungen. Wien
und Leipzig: Wiener Verlag, 1905, S. 97—123.
РАЗГОВОР О СТИХАХ
Gesprach uber Gedichte
D1: Die neue Rundschau, XVter Jahrgang der «Freien Buhne», Berlin,
Februar 1904.
812
Комментарий
ВА1: HvH. Unterhaltungen iiber literarische Gegenstande. Berlin: Bard,
Marquardt u. Co., 1904, S. [VI—VIII, 1], 2—32.
КОРОЛИ И ВЕЛЬМОЖИ У ШЕКСПИРА
Shakespeares Konige und grope Herren
D1: Die Zeit, Wien, 29. April 1905, S. 1—3.
BA!:Die Zukunft, Berlin, 29. April, 1905, S. 161—169.
Юбилейный доклад был прочитан Гофмансталем на общем собрании
Шекспировского общества 24 апреля 1905 г. в Веймаре. Составляя его, Гоф-
мансталь опирался на эссе известного историка литературы Уолтера
Патера «Английские короли Шекспира».
546 Guar da et passa! — Взгляни и пройди! Цитата из Данте.
553 Now with the drops of this most balmy tims II My love looks frish. — Снова
оживает моя любовь, окропленная благоуханной росой. Цитата из
Шекспира.
СЕБАСТЬЯН МЕЛЬМОТ
Sebastian Melmoth
D1: Der Tag, Berlin, 9. Marz 1905.
BA1: HvH. Die prosaischen Schriften gesammelt m vier Banden. Zweiter
Band. Berlin: S. Fischer Verlag, 1907, S. 85—93.
Себастьян Мельмот — псевдоним Оскара Уайльда, под которым он
опубликовал «Балладу редингтонской тюрьмы» (Лондон, 1898) и «De Pro-
fundus» (Лондон, 1905). В своей рецензии Гофмансталь опирается на немец-
кий перевод «De Profundis» (Берлин, 1905).
ШИЛЛЕР, I
Schiller, I
D1: Die Zeit, Wien, 23. April 1905, S. 1—2.
BA1: HvH. Die Beruhrung der Spharen. Berlin: S. Fischer Verlag, 1931,
S. 117—122.
Комментарий
813
ШИЛЛЕР, II
Schiller, II
D1: Berliner Tageblatt, Berlin, 1. Mai 1905. Der Zeitgeist. Beiblatt zum
«Berliner Tageblatt».
BA1: HvH. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Prosa II. Frankfurt
a. M.: S. Fischer Verlag, 1951, S. 180—181.
БЕСЕДА О СОЧИНЕНИЯХ ГОТФРИДА КЕЛЛЕРА
Unterhaltung uber die Schriften
von Gottfried Keller
D1: Die Zeit, Wien, 3. Juni 1906, S. 1—3.
BA1: HvH. Die prosaischen Schriften gesammelt in vier Banden. Berlin:
S. Fischer Verlag, 1907, S. 21—38.
* ПОЭТ И НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ
Der Dichter und diese Zeit
D1: Die neue Rundschau, Marz 1907, S. 257—276.
BA1: HvH. Die prosaischen Schriften gesammelt in vier Banden. Erster
Band. Berlin: S. Fischer Verlag, 1907, S. 1—51.
Доклад был прочитан в декабре 1906 г. в Мюнхене, Франкфурте-на-
Майне, Геттингене, Берлине и в 1917 г. в Вене.
ПУТИ И ВСТРЕЧИ
Die Wege und Begegnungen
D1: Die Zeit, Wien, 19. Mai 1907, S. 1—3.
BA1: HvH. Die prosaischen Schriften gesammelt in drei Banden. Dritter
Band. Berlin: S. Fischer Verlag, 1917, S. 55—65.
OHOPE ДЕ БАЛЬЗАК
Balzac
D1: Der Tag, Berlin, 22. Marz 1908; 24. Marz 1908.
BA1: Honore de Balzac. Ein Junggesellenheim. Leipzig: Inselverlag,
MCMVIII, S. VII—XXVI.
Статья написана как предисловие к немецкому изданию «Человеческой
комедии»; первый том вышел в Лейпциге в издательстве «Инзель» (1908).
814
Комментарий
«ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ ОТДЫХ ФАВНА» НИЖИНСКОГО
Nijinsky's «Nachmittag eines Faunes»
D1: Berliner Tageblatt, Berlin, 11 Dezember 1912, S. 1.
BA1: HvH. Die Beriihrung der Spharen. Berlin: S. Fischer Verlag, 1931,
S. 172—175.
Вацлав Нижинский (1890—1950) был первым танцовщиком труппы
Сергея Дягилева «Русский балет». Он сам был постановщиком балета
Дебюсси, переложившего на музыку поэму Малларме «Полдень фавна». В
одном из писем Рихарду Штраусу Гофмансталь писал: «Нижинский наряду с
Дузе — величайший гений мимики, которого знает современная сцена, но
как мим он выше Дузе». Летом 1912 г. Нижинский, Дягилев и граф Кесслер
обсуждали проект постановки «Легенды об Иосифе» (балет Рихарда Штрау-
са, либретто Гофмансталя). Но когда проект был осуществлен, Нижинский
не выступил в этом балете. Премьера состоялась в Париже в 1914 г.
ВЗГЛЯД НА ЖАН-ПОЛЯ
Blick auf Jean Paul
D1: Neue Freie Presse, Wien, 23. Marz 1913, S. 33.
BA!:HvH. Rodauner Nachtrage. DritterTeil. Zurich: Amalthea-Verlag,
1918.
АВСТРИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Osterreichische Bibliothek
D1: Neue Freie Presse, Wien, 15. August 1915.
BA1: HvH. Rodauner Nachtrage. DritterTeil. Zurich: Amalthea-Verlag,
1918.
Двадцать шесть томов задуманной Гофмансталем серии «Австрийс-
кая библиотека» выходили с 1915 по 1917 г. Приводим перечень вошедших
в серию выпусков, дающих представление о понимании Гофмансталем клю-
чевых ценностей австрийской культуры:
1. Политическое завещание Грильпарцера.
2. Подвиги мастеров немецкого языка. 1697—1914.
3. Кустоза и Лисса.
4. Бисмарк и Австрия.
5. Аудиенции у императора Иосифа.
Комментарий
815
6. Тысяча восемьсот девятый год. Документы о войне Австрии про-
тив Наполеона.
7. Князь Фридрих цу Шварценберг, «Ландскнехт»; картины старой
Австрии.
8. Abraham a Santa Clara.
9. Беседы Бетховена.
10. Радецкий. Его жизнь и деятельность.
11. Михель. На юго-восточном бастионе нашей империи.
12. Антон Вильдганс. Австрийские стихотворения. 1914/1915.
13. Коменский и Чешские братья.
14. Австрийская земля. Стихотворения и поэмы.
15. Распря в доме Габсбургов.
16. Николай Ленау. Письма к Софи Левенталь.
17. Принц Евгений Савойский. Из писем и бесед.
18. Немецкая жизнь в Венгрии.
19. Вальтер фон дер Фогельвейде. Избранные стихотворения и афо-
ризмы, изданные Конрадом Бурдахом.
20. Письма* из Вены.
21. Чешская антология: Врхлицкий, Сова, Бржезина.
22. Письма Адальберта Штифтера.
23. Князь фон Меттерних — австрийский канцлер.
24. Альпийские легенды.
25. Мария-Терезия как правительница.
26. Шуберт в кругу друзей.
МЫ, АВСТРИЙЦЫ, И ГЕРМАНИЯ
Wir Osterreicher und Deutschland
D1: Vossische Zeitung, Berlin, 10. Januar 1915.
BA1: HvH. Die Beriihrung der Spharen. Berlin: S. Fischer Verlag, 1931,
S. 226—233.
АВСТРИЯ В ЗЕРКАЛЕ СВОЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Osterreich im Spiegel seiner Dichtung
D1: Neue Freie Presse, Wien, 16. November 1916, S. 1—3.
BA1: HvH. Rodauner Nachtrage. DritterTeil. Zurich: Amalthea-Verlag,
1918, S. 4S-59.
816
Комментарий
Речь была прочитана впервые 7 июля 1916 г. в Большом театре Вар-
шавы, затем в зале «Урания» в Вене 21 октября 1916 г., в берлинской «Се-
цессии» 3 марта 1917 г., 31 марта в Цюрихе, в читательском клубе «Хоттин-
ген» и, наконец, 4 апреля в Мюнхене.
ФЕРДИНАНД РАЙМУНД
Uber Raimund
D1: Das Tage-Buch, Berlin, 5. Juni 1920, S. 714—718.
BA1: Ferdinand Raimund. Wien: Wiener Literarische Anstalt, 1920, S.
V—XII.
Очерк написан в качестве предисловия к сборнику материалов о
жизни Раймунда, изданному Рихардом Смекал ом (Вена, 1920).
РЕЧЬ О БЕТХОВЕНЕ
Beethoven
D1: Neue Zuricher Zeitung, Zurich, 19. Dezember 1920.
BA1: HvH. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Prosa IV. Frankfurt
a. M.: S. Fischer Verlag, 1955, S. 14—31.
Речь была прочитана в Цюрихе 10 декабря 1920 г.
РЕЧЬ О ГРИЛЬПАРЦЕРЕ
Rede auf Grillparzer
D1: Wissen und Leben, Zurich, 1. Juni 1922, S. 650—663.
BA1: HvH. Gesammelte Werke in drei Banden. Dritter Band. Berlin: S.
Fischer Verlag, 1924, S. 107—123.
Гофмансталь написал эту речь для выступления на юбилее Грильпар-
цера в Ганновере, но выступление не состоялось. Текст речи был опублико-
ван в швейцарском ежегоднике.
ЮДЖИН О'НИЛ
Eugene O'Neill
D1: Das Tage-Buch, 23. Juni 1923, S. 888—892.
BA1: HvH. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Prosa IV. .Frankfurt a.
M.: S. Fischer Verlag, 1955, S. 195—203.
Очерк написан для нью-йоркского журнала «The Freeman».
Комментарий
817
«БАБЬЕ ЛЕТО* ШТИФТЕРА
Stifters «Nachsommer»
D1: Neue Freie Presse, Wien, 25. Dezember 1924.
BA1: Der Nachsommer. Eine Erzahlung von Adalbert Stifter. Mit einem
Nachwort von Hugo von Hofmannsthal. Leipzig: Paul List Verlag, 1925,
S. 907—916.
ЗАВЕТЫ АНТИЧНОСТИ
Vermachtnis der Antike
D1: Neue Freie Presse, Wien, 4. Juni 1926.
BA1: HvH. Die Beriihrung der Spharen. Berlin: S. Fischer Verlag, 1931,
S. 255—259.
Гофмансталь прочел эту речь на 20-летнем юбилее Общества друзей
классической гимназии 5 июня 1926 г. Первоначальное заглавие публикации
— «Гуманизм*.
ЦЕНА И СЛАВА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Wert und Ehre deutscher Sprache
D1: Munchner Neueste Nachrichten, Munchen, Sonntag/Montag, 25/26.
Dezember 1927, S. 17.
BA1: HvH. Die Beriihrung der Spharen. Berlin: S. Fischer Verlag, 1931,
S. 416—422.
Статья написана в качестве предисловия к антологии того же назва-
ния, составленной Гофмансталем.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДИСЛОВИЯ
К «АНАБАЗИСУ» С.-Ж. ПЕРСА
Einige Worte als Vorrede zu St. J. Perse «Anabasis»
D1: Neue Schweizer Rundschau. Nouvelle Revue Suisse. Zurich, Mai
1929, S. 326—328.
BA1: HvH. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Prosa IV. Frankfurt a.
M.: S. Fischer Verlag, 1955, S. 488—491.
818
Комментарий
«Анабазис» С.-Ж. Перса (Alexis Saint Leger Leger, geb. 1886) был
опубликован в январском номере «Nouvelle Revue Frangaise» за 1924 г.
Поэма произвела сильное впечатление на Гофмансталя и Рильке. В ноябре
1928 г. Гофмансталь писал Антону Киппенбергу: «Принцесса Бассиано дру-
жески настойчиво просила меня написать введение к «Анабазису»... В дан-
ном случае речь идет об очень темном стихотворении, о магической связи
ритмов и слогов, о достижении совершенно иного уровня, чем тот, который
проецирует традиционный французский стих. Перевод... может только
очень добросовестно и приемлемо пересказать содержание. Пожалуйста,
сориентируйте меня относительно Ваших и издателя намерений в связи с
публикацией». Но публикация перевода не состоялась — против нее возра-
зил сам автор «Анабазиса».
ГОТХОЛЬД ЭФРАИМ ЛЕССИНГ
Gotthold Ephraim Lessing
D1: Neue Freie Presse, 20. Januar 1929, S. 2—3.
BA1: HvH. Die Beriihrung der Spharen. Berlin: S. Fischer Verlag, 1931,
S. 403—408.
Написано к 200-летию со дня рождения Лессинга 22 января 1929 г.
ФРАГМЕНТЫ
ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ
Tagebuch — Aufzeichnungen
D1: Neue Schweizer Rundschau. Nouvelle Revue Suisse. Zurich, 12.
Dezember 1929, S. 939.
ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПРИ ЖИЗНИ ЗАМЕТОК
Aus dem NachlaB
D1: Neue Schweizer Rundschau. Nouvelle Revue Suisse. Zurich, 5 Mai
1930, S. 348—358.
Заметки, наброски, записи, собранные под этим заглавием, извле-
чены из архива писателя исследователями его творчества Генрихом Цимме-
ром и Гербертом Штейнером. Первоначально они в разрозненном виде пуб-
Комментарий
819
ликовались в журнале «Корона», издававшемся Мартином Бодмером и Гер-
бертом Штейнером, а потом были включены в последний том Собрания
сочинений Гофмансталя (1959).
О ТОЛСТОМ
К 80-ЛЕТИЮ ТОЛСТОГО
Zu Tolstois Achtzigstem Geburtsfeste
D1: Neue Freie Presse, Wien, 8. September 1908, S. 2—3.
АРТИСТИЗМ ТОЛСТОГО
Tolstois Kunstlerschaft
D1: Neue Freie Presse. Wien, 22. November 1910, S. 2.
Написано по поводу смерти Толстого 20 ноября 1910 г.
ИЗ ПИСЬМА К ОТГОНИИ ДЕГЕНФЕЛЬД
An Ottonie von Degenfeld-Schonburg
D1: Corona, Zweimonatsschrift. Munchen, 1943, Sechstes Heft, S. 775—
777, 783—787.
ВЕНСКОЕ ПИСЬМО
Wiener Brief
D1: The Dial, New York, 1922, Number 2. p. 206—214.
ИЗ «КНИГИ ДРУЗЕЙ»
Buch der Freunde
D1: HvH. Buch der Freunde. Leipzig: Insel-Verlag, 1922.
Летом 1919 г. Гофмансталь впервые пишет Антону Киппенбергу о
плане издания за свой счет книги для 300—500 друзей. Через два года он воз-
вращается к этому замыслу: «Что касается «Книги друзей», то я продумал
ее серьезно. Такой сборник фрагментов, рассказов и афоризмов не выдер-
живает критики, особенно моей собственной, которая должна быть самой
строгой, самой серьезной. Но у меня лежат примерно 500 или больше тща-
820
Комментарий
тельно отделанных афоризмов... о самых разных предметах, как-то: сердце,
дух, общество, политика, нация, язык. Сюда же подмешаны маленькие, но
прелестные отрывки из иностранных авторов, а также короткие историчес-
кие анекдоты и тому подобное...»
«Книга друзей» была напечатана в Лейпциге, в типографии Пешеля и
Трепте, тиражом 800 экземпляров. 50 из них были переплетены в кожу в
переплетной мастерской Государственной академии книжного дела и гра-
фики (Лейпциг).
ИЗ СТАТЬИ «КОМЕДИЯ»
Komodie
D1: Neue Freie Presse, Wien, April 1922, S. 6—7.
«ЧЕШСКИЕ И СЛОВАЦКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ»
«Tschechische und slowakische Volkslieder»
D1: Prager Presse, Prag, 12. Februar 1922. Dichtung und Welt. Beilage
zur «Prager Presse», 1922, № 7, S. 1.
ИЗ СТАТЬИ
«ПИСЬМЕННОСТЬ КАК ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО НАЦИИ»
Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation
D1: Die neue Rundschau, Berlin und Leipzig, Juli 1927, S. 11—26.
Стихотворения
ПРЕДВЕСЕННЕЕ
Vorfrtihling
D^Blatter fur die Kunst. II. Band, Dezember 1892, S. 43—44.
В личном архиве Гофмансталя имеется заметка, датируемая условно
1898 г. «...одна из основных мыслей моих лирических стихов: предвесеннее
настроение... колокола, прогулка, когда ветер и небесный свод, сами демо-
нически бесчувственные, наполнены разного рода человеческим содержа-
нием... нечто похожее происходит со старой мебелью, картинами...»
Комментарий
821
Для первого книжного издания 1903 г. Гофмансталь несколько изме-
нил порядок строф и приписал к стихотворению еще одну строфу. В
последующих изданиях «Предвесеннее» всегда помещалось первым. В
архиве Гофмансталя обнаружены стихи Поля Верлена, которые он, вероят-
но, посылал Герману Бару (?) и которые адресат вернул обратно. В стихо-
творении говорится о клавишах фортепьяно, которые целует хрупкая рука,
о розово-серых сумерках, о легкокрылом дуновении воздуха, пропитанного
старым, милым, едва слышным запахом материнских духов, о зазвучавшей
вдруг колыбельной. «Чего ты хочешь от меня, неразборчивая строфа, уми-
рающая за окном, открытым в маленький сад?» — вопрошает французский
поэт.
ЖИЗНЬ
Leben
D1: Blatter far die Kunst. Zweite Folge. IV. Band. Oktober 1894,
S. 104—106. •
Это единственное из опубликованных при жизни поэта стихотворе-
ний, написанное в форме итальянских стансов — строгой одиннадцатислож-
ной октавой с выдержанной женской рифмой.
В феврале 1892 г. Гофмансталь видел несколько гастрольных спекта-
клей итальянской актрисы Элеоноры Дузе в венском «Карлтеатр». Ее игра
произвела на Гофмансталя очень сильное впечатление. В одной из рецензий
на спектакли Дузе он писал: «На этой неделе мы, несколько тысяч посвя-
щенных, жили в Вене такой же жизнью, какой жили афиняне на неделе
Великих Дионисий... Они сидели в театре и, как виноградный сок из искря-
щихся чаш, впивали в себя искрящиеся стихи — душу великого художника;
и они постигали красоту гибких фигур, и царственное искусство великого
лицедейства было исполнено для них глубокого смысла. А по ночам они не
могли уснуть и толпами бродили по цветущим мягким лугам и бредили
новой трагедией. И такой жизнью жили мы, несколько тысяч посвященных
во всем большом шумном городе. И этим дионисийским праздником, дифи-
рамбом и мистерией было для нас присутствие одной-единственной жен-
щины — итальянской комедиантки».
22 мая 1892 г. он писал в письме к Марии фон Гомперц: «Я всегда
завидовал афинянам, завидовал их дионисийской неделе с премьерами
Софокла и Аристофана. На этой неделе я слушал Мюссе и Мольера в
исполнении «Французской комедии», Шекспира и Гольдони в исполнении
Дузе и Шекспира в «Бурге»; это иной стиль, но почти так же изящно».
822
Комментарий
ДОЖДЬ В СУМЕРКАХ
Regen in Dammerung
D1: Blatter fur die Kunst. II. Band. Dezember 1892, S. 42.
Написано 8 июня 1892 г.
ВОСПОМИНАНИЕ
Erlebnis
D1: Blatter fur die Kunst. II. Band. Dezember 1892, S. 39.
Написано в июле 1892 г., возможно, под впечатлением от чтения
С. Пшибышевского (в 1892 г. в Берлине вышла в немецком переводе книга
С. Пшибышевского «К вопросу о психологии индивида. Ч. 1: Шопен и Ниц-
ше»); в одном месте Пшибышевский пишет о том, что страсть к музыке
«придавала взгляду Шопена необычайную одухотворенность, — такую
видишь у детей* которым молва прочит недолгий век».
ПСИХЕЯ
Psyche
-D1: Blatter fur die Kunst. II. Band. Dezember 1892, S. 37—38.
29 июля 1892 г. Гофмансталь писал Герману Бару, что читает анг-
лийские стихи: По, Шелли и Суинберна. Стихотворение «Психея» написано,
возможно, под влиянием По, у которого заимствован мотив неподкупной
души поэта (стихотворение «Улалюм»). Эпиграф «Психея, душа моя. Эдгар
По» указывает, однако, не только на этот источник, но и на французский
сборник стихов Жана Мореа «Страстный пилигрим» (Париж, 1891). У
Мореа к «Третьей элегии» взят эпиграф «Psyche, mon ате». Гофмансталь
читал эту книгу, как явствует из его письма к Марии Херцфельд из Бад
Фуша, датированного июлем 1892 г.: «К счастью, у меня здесь хорошо
подобранные книги, их концентрированная красота и искрящиеся краски
меблируют поэзией холодную, равнодушную комнату отеля: Софокл, Шел-
ли, Суинберн, Верлен, Гораций; а еще «Пелей и Мелисанда», «Страстный
пилигрим», «Фрагменты» Отто Людвига, «Философские драмы» Ренана,
«Парсифаль», «История Жанны д'Арк» Мишле, новеллы По и «Алая бук-
ва» Готорна. У меня такое чувство, что, перечисляя их, я перечисляю Вам
прелестные яркие цвета: тусклое золото, ляпис-лазурь, морская волна,
лиловое серебро, опавшие листья, зеленый мох, бледный коралл и т. д.».
Комментарий
823
МЕЛЮЗИНА
Melusine
D1: Blatter fur die Kunst. Zweite Folge. III. Band. August 1894, S. 79—80.
Стихотворение написано примерно в конце 1892 г., вероятно, под
влиянием Гёте («Песнь Линкея», «Фауст II») и «Провансальских песен»,
которые Гофмансталь читал во время поездки во Францию в 1892 г.
Имя Мелюзина происходит из старофранцузского «Mere Lusinia».
Мелюзина — героиня старофранцузской саги, морская фея — считается пра-
родительницей и покровительницей графского рода Лузиньянов, и ее изобра-
жение фигурирует на гербе Лузиньянов. Сюжет саги таков: Мелюзина, водя-
ная фея, была найдена графом Лузиньяном у лесного источника. Несмотря на
предостережения сестер, она выслушивает его объяснения в любви и обру-
чается с ним. Она берет с графа клятву не преследовать ее, когда она раз в
месяц будет удаляться в некий дом, который будет возникать за ночь. Граф,
конечно, нарушает обет, дом обрушивается, Мелюзина исчезает. Граф от-
правляется на поиски, находит ее у того же лесного родника, а она, как и
положено русалке, зацеловывает своего возлюбленного насмерть.
Самый ранний вариант легенды записан еще у Жана Аррасского
(1387—1394). Гофмансталю была хорошо знакома «Мелюзина. Романти-
ческая опера в трех актах» Франца Грильпарцера и цикл акварелей Морица
фон Швинда «Сказки о прекрасной Мелюзине», экспонированный в венской
Галерее XIX века. Одна из сцен этого цикла, «Заклятие», была разыграна
в «живых картинах» во дворце «Тедеско» в начале марта 1893 г. Гофман-
сталь написал к ней пролог и эпилог.
РОЖДЕСТВО
Weihnacht
D1: Wiener Allgemeine Zeitung, Wien, 25. Dezember 1894. Weihnachts-
beilage.
Стихотворение написано в декабре 1892 г.
МИР И Я
Welt und ich
D1: Wiener Allgemeine Zeitung, Wien, 25. Dezember 1894. Weihnachts-
beilage.
824
Комментарий
11 января 1896 г. в рецензии на новый роман Д'Аннунцио в венской
газете «Die Zeit» Гофмансталь так пояснял идею этого стихотворения:
«Только истинно великие люди обладают источником энергии и силы ощу-
щать себя богами. Они несут бремя магического кристалла, как крест. Я
думаю о молодом Гёте».
МИРОВАЯ ТАЙНА
Weltgeheimnis
D1: Blatter fur die Kunst. Dritte Folge. II. Band. Marz 1896, S. 40—41.
Первый набросок стихотворения датирован 1 января 1894 г.
Пояснение метафоры находим в автобиографических заметках Гоф-
мансталя «Ad me ipsum»: «Амбивалентное состояние между пре-существо-
ванием и жизнью. Прямой путь возвращения к самому себе (возвращение к
существованию высшего порядка). Этот основной мотив явственно звучит в
«Сне о великой магии», а еще в «Глубоком кладезе»... причем этот глубо-
кий кладезь мыслится как собственное «я».
БАЛЛАДА ВНЕШНЕЙ ЖИЗНИ
Ballade des ausseren Lebens
D1: Blatter far die Kunst. Dritte Folge. I. Band. Janner 1896, S. 12.
4 июня 1895 г. Гофмансталь послал это стихотворение Стефану
Георге вместе с терцинами «О бренности», но написано оно было, вероятно,
годом раньше.
10 мая 1896 г. один из друзей (Отто Эрих Хартлебен) писал Гофман-
сталю: «...ведь это Ваши строки я вспоминаю каждый день:
«И ветер веет вновь, и мы излиться
Вновь уповаем в словоговоренье,
Вновь жаждем наслажденьем утомиться».
759 ...Но коль кто-то II Промолвит: «Вечер» — много скажет он. —
Это место интерпретируется исследователями как реминисценция
знаменитой максимы Кальдерона «Жизнь есть сон» и цитаты из св.
Августина: «Сознание твари по сравнению с сознанием Творца как
бы смеркается «Scientia creaturae in comparatione scientiae creatoris
quodammodo vesperascit».
Комментарий
825
В марте 1922 г. Гофмансталь возвращается к этому образу, записы-
вая в дневнике: «Много скажет тот, кто скажет: «Вечер». Вечер —
сентиментален, как утро — наивно. Новалис». В другом месте («Ad
me ipsum») Гофмансталь в связи с мотивом «вечера» ссылается на
античных поэтов Сафо и Катулла: «Древние считали, что Геспер сое-
диняет все то, что разделяет Эос, он возвращает цыпленка — насед-
ке, покой — кронам дерев... для Сафо он сияет на небесном пологе,
как самое прелестное из серебряных украшений».
ТЕРЦИНЫ
О БРЕННОСТИ
Terzinen tiber Verganglichkeit
D1: Blatter fur die Kunst. Dritte Folge. II. Band. Marz 1896, S. 38.
Terzinen (II, III, IV)
D1: Pan. Berlin, 1894, № 2, S. 86—88.
16 июля 1894 г. Гофмансталь получил телеграмму, сообщавшую о
смерти Жозефины фон Вертхаймштайн (1820—1894).
Гофмансталь познакомился с Жозефиной фон Вертхаймштайн в
августе 1892 г. Он часто посещал ее виллу в Деблинге — некогда блестящий
литературный салон, один из центров художественной жизни Вены, и
подолгу беседовал со старой дамой. Их симпатия переросла в глубокую
дружбу. В одном из писем дочери Жозефина писала: «Вечером к нам прихо-
дил этот милый Гофмансталь, с которым я так люблю беседовать, несмотря
на то, что он меня на полвека моложе... Подчас он говорит вещи, которые
словно вылились из моей души».
Между 25 и 30 июля Гофмансталь пишет цикл терцин, которые в
конце сентября читает Шницлеру.
Стихотворение «О бренности» Гофмансталь включал во все сбор-
ники своих стихов.
БУДУ ЛЬ МЕРИТЬ ШИРЬ МОРСКУЮ...
Wo ich nahe, wo ich lande...
D1: Pan. Prospect-Buch. Berlin, 1898, S. 101.
Стихотворение написано одновременно с терцинами. Возможно, что
и его Гофмансталь читал у Артура Шницлера 26 сентября 1894 г.
826
Комментарий
ДВОЕ
Die Beiden
D1: Wiener Allgemeine Zeitung, Wien, 25. Dezember 1896.
Стихотворение написано, вероятно, летом 1895 г. Ср. ремарку в 14-й
сцене II акта комедии «Трудный характер»: «Они хотят обменяться рукопо-
жатием, но их руки не находят друг друга». Очевидно, метафора была
дорога Гофмансталю.
БЕСКОНЕЧНОЕ ВРЕМЯ
Unendliche Zeit
D1: Wiener Allgemeine Zeitung, Wien, 25. Dezember 1896.
Время написания стихотворения устанавливается косвенно по содер-
жанию письма Гофмансталя к отцу от 13 июля 1895 г.: «Поскольку время
есть нечто в высшей степени относительное, поскольку оно — лишь нагляд-
ная форма нашего духа, то в одно-единственное мгновение действительно
можно вложить бесконечное содержание, и я твердо убежден, что иногда за
одну поездку на трамвае я в самом деле испытываю больше, чем иной чело-
век за время целого путешествия».
СОН О ВЕЛИКОЙ МАГИИ
Ein Traum von groBes Magie
D1: Blatter fur die Kunst. Dritte Folge. I. Band. Janner 1896, S. 9—11.
763 Гранита он коснулся, и потек II Тот, словно влага, под его перста-
ми. II Когда же снова руку он извлек, II На ней опалы искрились огня-
ми... — реминисценция из Гёте («Западно-восточный диван»: «Песня
и изваяние»). '
«Loscht ich so der Seele Brand,
Lied es wird erschallen;
Schopft des Dichters reine Hand,
Wasser wird es ballen».
764 Наш дух — владыка, высший свой чертог II Не в нас воздвигший, —
в круге звезд предвечных... — парафраз мысли Парацельса, которую
Гофмансталь нашел в книге Шопенгауэра «Трансцендентное рассу-
Комментарий
827
ждение о мнимой целесообразности в судьбе индивида»: «Дабы
фатум был узнаваем, устроено так, что каждый человек имеет
некого духа, который обитает вне его и устанавливает свой трон в
высших сферах...»
УМИРАТЬ ИНЫМ...
Schicksalslied
[Manche fieilich...]
D1: Blatter fur die Kunst. Dritte Folge. II. Band. Marz 1896, S. 39.
7 февраля 1896 г. Гофмансталь послал это стихотворение (едва ли не
самое популярное из всего его стихотворного наследия) Стефану Георге.
765 А другим поставлены кресла... — В оригинале: «die Stuhle gerichtet»
(воздвигнуты троны). Возможно, реминисценция из «Ифигении в
Тавриде» Гёте:
«Auf Klippen und Wolken
Sind Stuhle gerichtet
Um goldene Tische...»
И больше дано мне в этой жизни, II Чем стройное пламя да хрупкая
лира. — Мотив «хрупкой лиры» (schmale Leier) восхищал Рильке, и
он посвятил поэту «Сонет к Орфею»: «Гуго фон Гофмансталю. На
память о «хрупкой лире».
ТВОЕ ЛИЦО...
Dein Antlitz
D1: Blatter fur die Kunst. Dritte Folge. II. Band. Marz 1896, S. 44.
Стихотворение написано в январе 18% г. По свидетельству Леополь-
да фон Андриана, оно посвящено другу юности Гофмансталя Джорджу
Франкенстайну (1878—1953). Незадолго до смерти, в 1929 г., Гофмансталь
писал ему: «.:.старая дружба — это великий неисчерпаемый запас на всю
жизнь».
828
Комментарий
ОБЩЕСТВО
Gesellschaft
D1: Blatter fur die Kunst. Dritte Folge. II. Band. Marz 1896, S. 42—43.
Чистовик стихотворения датирован 28 января 1896 г.
«Общество», описанное в стихотворении, — узкий круг светских зна-
комств молодого Гофмансталя: Чужестранец — Йозеф Шенборн — сын
тогдашнего министра юстиции, Певица — певица Сельма Курц (1874—
1933), Молодой человек — Джордж Франкенстайн, Художник — Ганс Шле-
зингер, будущий шурин Гофмансталя. Жанровым прототипом, возможно,
послужило стихотворение Гёте «Светская игра в вопросы и ответы», где
фигурируют те же четыре персонажа и Молодой человек.
МАЛЬЧИК
Ein Knabe
D1: Blatter fur die Kunst. Dritte Folge. IV. Band. August 18%, S. Ill—
112.
Стихотворение датировано 14 февраля 1896 г.
5 марта 1928 г. Карл Буркхардт писал Гофмансталю: «Я читал Кло-
деля и все время вспоминал одно из самых замечательных Ваших стихотво-
рений — «Мальчик»: этот побег из прекрасной темницы, это размышление
над собственной непостижимой судьбой...»
NOX PORTENT1S GRAVIDA
D1: Blatter fur die Kunst. Dritte Folge. IV. Band. August 18%, S. 106—
107.
Латинское название стихотворения переводится как «Ночь, полная
зловещих предзнаменований».
768 И взором ледяным, как у Медузы, II Глядит на поле чахлое вокруг...
— Стихотворение имело другой, латинский же вариант названия —
«Nox tripartita» («Ночь, разделенная натрое»). Оно было отвергнуто
Гофмансталем. Между тем оно давало ключ к зашифрованной мета-
форе стихотворения — метафоре мира, разделенного на три части: в
одной царствуют боги, в другой — поэты, в третьей царит смерть;
противопоставлены миф—реальность — сон. В оригинале: «Und mit
Комментарий
829
den Augen der Meduse schauend...» Взор поэта не ледяной, он не
замораживает, но останавливает, фиксирует реальность.
Там сыпал он пред нею свет и тени... — видимо, реминисценция из
Гете (письмо Гердеру от 17 мая 1787 г.): «Растения... не являются,
скажем, живописными или поэтическими тенями или иллюзиями
(Schatten und Scheine), но имеют внутреннюю истину и необходи-
мость..»
ЖЕНЩИНЕ
An einer Frau
D1: Blatter fur die Kunst. Dritte Folge. IV. Band. August 1896, S. 109—
110.
Беловик стихотворения был отослан Стефану Георге 27 апреля
18% г.
ДОБРЫЙ ЧАС
Gute Stunde
D1: Wiener Rundschau. Wien, 15. November 1896, S. 12.
Написано, вероятно, в конце февраля 1896 г. Вариант заглавия: «Вер-
шина жизни» («Gipfel des Lebens»).
ЮНОША ЗА ГОРОДОМ
Der Jungling in der Landschaft
D1: Pan, Berlin, 15. September 18%, S. 111.
Стихотворение написано, вероятно, в конце февраля — начале мар-
та 18% г.
Гофмансталь включал его во все издания своих стихотворений.
ТАМ, ГДЕ ВОЛЬНО СОСНЫ-КРОШКИ...
Wo kleine Felsen...
D1: Blatter fur die Kunst. Dritte Folge. IV. Band. August 18%, S. 108.
Стихотворение написано, вероятно, в начале 18% г.
Вариант названия «Virginibus puerisque», отвергнутый Гофманста-
830
Комментарий
лем, был взят из Горация: «Carmina поп prius // auditia Musanim sacerdos //
virginibus puerisque canto». — «Слагаю стихи не для слуха священных муз, но
для слуха юношей и девушек».
НАДПИСЬ
Inschrift
D1: Blatter fur die Kunst. Dritte Folge. IV. Band. August 1896, S. 112.
Стихотворение написано, вероятно, в апреле 1896 г.
772 Служи всегда единственному делу — // Тому, что дрожь восторга
вызывает. — Эти строки: «Entzieh Dich nicht dem einzigen Geschafte!
Vor dem Dich schaudert, dieses ist das Deine» — стали хрестоматий-
ными и часто цитируются немецкими авторами.
КИТАЙСКИЙ ИМПЕРАТОР ГОВОРИТ:
Der Kaiser von China spricht:
D1: Wiener Allgemeine Zeitung, Wien, 5. April 1898.
Стихотворение было задумано как пролог к пьесе «Малый театр жиз-
ни» («Das Kleine Welttheater»), написанной в августе — сентябре 1897 г.
Позже Гофмансталь изъял пролог и опубликовал как самостоятельное
произведение.
ПОЭТЫ ГОВОРЯТ:
Dichter sprechen:
D1: Kaiser Franz Josephs-Ferienheim. 1892—1902. Wien: Verlag von
M. Perles, 1903, S. 28.
МЫ ШЛИ ПУТЕМ...
Wir gingen einen Weg...
D1: Blatter fur die Kunst. Vierte Folge. I—II. Band. November 1897,
S. 9^-10.
Стихотворение написано 19 и 20 августа 1897 г. в Виченце — неболь-
шом городке на севере Италии.
Комментарий
831
775 Увидел я на фреске древней виллы II Забавы непостижные богов...
— Возможно, эти строки написаны под впечатлением от фресок
Паоло Веронезе, которыми расписана «олимпийская комната»
виллы «Барбара» в Мазере. Гофмансталь посетил ее в августе 1897 г.
ПОСЛАНИЕ
Botschaft
D1: Blatter fur die Kunst. Vierte Folge. I—II. Band. November 1897,
S. 10—11.
Стихотворение написано в августе 1897 г.
775 Мне кажется, три главные приметы II Присущи дням подобным...
— В оригинале речь идет о «четырех желаниях»; это реминисценция
древнегреческой застольной песни, где говорится о четырех желани-
ях. Первое из них — здоровье, второе — красота. Гофмансталь
выписал текст песни из книги Уолтера Патера «Ренессанс» (глава о
Винкельмане).
МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКЕ
Verse auf ein kleines Kind
D1: Wiener Allgemeine Zeitung, Wien, 5. April 1898.
Стихотворение написано для детского праздника в честь рождения
Мириам — дочки Рихарда Беер-Гофмана. Гофмансталь набросал сценарий
этого праздника.
776 Ты с вещей жерлянкою будешь II Делить деревянную чашку, II
Наполненную молоком. — Вещая жерлянка (ворона) фигурирует в
одной из сказок братьев Гримм: крестьянская девочка угощает
голодную птицу молоком и крошками хлеба, а та в благодарность
дарит ей «разные прекрасные вещи, блестящие камни, жемчужины и
золотые игрушки».
Тебе и приятель найдется — // Привязчивый добрый дельфин. —
Рассказ о дружбе дельфина с мальчиком изложен в латинском изда-
нии «Gesta romanorum» Германа Эстерли (Берлин, 1872).
832
Комментарий
РАЗГОВОР
Gesprach
D1: Wiener Allgemeine Zeitung, Wien, Osterbeilage, S. 1. 1898.
Стихотворение возникло как фрагмент того же сценария.
777 Я вижу, схожи стали вы с Просперо... — Просперо — персонаж «Бу-
ри» Шекспира. Изгнанный своим братом, герцогом Миланским, он
живет на одиноком острове со своей дочерью Мирандой, повелевая
добрыми духами и демонами острова.
... все живое столь же преходяще, II Как сны, и та же у него природа.
— Цитата из Шекспира:
«We are such stuff
As dreams are made on and our little life
Is round with a sleep».
Гофмансталь неоднократно возвращается к этой мысли: «Мечты!
У них одна природа с нами...»
ПУТЕВАЯ ПЕСНЯ
Reiselied
D1: Wiener Rundschau, 15. September 1898, S. 789.
Первая строфа написана 20 августа 1897 г. в Вероне. Стихотворение
закончено ровно через год, 21 августа 1898 г. в Лугано, куда Гофмансталь
приехал на велосипеде через Симплон.
«Путевые» или «дорожные» песни были очень популярным жанром
лирики в начале XIX в. Их писали Гёте, Айхендорф, Брентано, Гейне и
многие другие немецкие поэты.
ЛУННАЯ НОЧЬ НА ЮГЕ
Sudliche Mondnacht
D1: Die Zukunft, Berlin, 8. Oktober 1898, S. 65—66.
Набросок стихотворения («Элегия») имеет помету: Лугано,
30.8.1898.
Из письма Гофмансталя родителям под той же датой: «Под моим бал-
Комментарий
833
коном ночами великолепно сияет и мерцает море, в саду есть место для
работы под самыми густыми и самыми большими на свете деревьями, и с
моря всегда тянет легким ветерком...»
Стихотворный жанр — элегия — избран под влиянием частого чте-
ния Гёте.
ЭПИГРАММЫ
Distichen
D1: Die Zukunft, Berlin, 8. Oktober 1898, S. 66; Das Land Goethes
1914—1916. Stuttgart, Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt, 1916, S, 61. (Die
Dichter und die Zeit.)
9 эпиграмм опубликовано в 1898 г., «Поэты и время» — в 1916 г. в
факсимильном издании.
Относительно эпиграммы «Познание» Рудольф Александр Шредер
рассказывает следующий анекдот: «Как-то во время прогулки с Гофманста-
лем Борхардт сорвал листок лавра и при этом процитировал одно из пре-
красных двустиший, которые Гофмансталь много лет назад опубликовал в
журнале «Цукунфт» и... совершенно забыл. Это были поистине классичес-
кие строки: «Знай я, как этот листок...» («Wusst' ich genau...»). Гофман-
сталь слушал задумчиво, даже увлеченно, потом сказал: «Хорошо, очень
хорошо и значительно! Чье это? Ведь не Гёте же?» Получив ответ, он ото-
ропел и с характерной для него неожиданностью, почти без перехода возра-
зил: «Вот как? Это вовсе не хорошо и не значительно. Это глупо и отврати-
тельно».
С КОРАБЛЯ
Vom Schiff aus
D1: Wiener Rundschau, 15. September 1898, S. 788.
Написано, вероятно, в августе 1898 г. в Лугано.
ТРИ ПЕСЕНКИ
Drei kleine Lieder
D1: Die Jugend, Munchen, 1900, 12, S. 210.
Стихотворения написаны для Гертруды Шлезингер — жены поэта.
834
Комментарий
Стихотворение «Разве не была слышна...» написано 17 ноября
1899 г.; его форма и тема заимствованы у Роберта Браунинга:
«That was I, you heard last night
When there rose no moon at all,
Nor, to pierce the strained and tight
Tent of heaven, a plain small:
Life was dead, and so was light».
(«Serenade before a villa»)
Стихотворение «Петь на лоне природы» было опубликовано на год
раньше предыдущих.
Стихотворение «Сказала милая: «Ступай!» написано в Мариенбаде 13
июля 1899 г. под влиянием Арнима («Волшебный рог мальчика»). Третья
строфа почти дословно совпадает с заключительной строфой баллады «Auf
diese Gunst machen alle Gewerbe Anspruch...» — которая начинается зна-
менитой строкой: «Es war einmal ein Zimmergesell». Строфа эта настоль-
ко известна, что Гофмансталь просто вписывает ее в текст как крылатую
фразу.
ЗАПРЕТ
Verbot
Написано 13 июня 1899 г. в Мариенбаде. Рефрен заимствован у
Арнима («Kurze Weile»).
ДЕТСКАЯ МОЛИТВА
Kindergebet
D1: Almanach des Vereins fur Kindervolksbuchlein und Volkskinderhorte
E. V. 1914, S. 34.
Написано 21 июля 1899 г. Стихотворение сочинено для Жени Шмуй-
лов-Клаассен, сына друзей Гофмансталя. Мать Жени, Риа Шмуйлов-Клаас-
сен, одна из первых рецензировала Гофмансталя в немецкой социал-демо-
кратической прессе, выступала с лекциями и докладами о творчестве и зна-
чении поэта. Так же, как и два предыдущих, это стихотворение — парафраз
Арнима.
Комментарий
835
ПАМЯТИ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ
Zu Heinrich Heine Gedachtnis
D1: Veroffentlichungen der Dramatischen Gesellschaft Bonn, 16. Dezem-
ber 1899, S. 39.
Написано осенью 1899 г.
784 Порой срывался более нетленный II И ослепительный, чем жемчуг,
образ. — Реминисценция из Гейне:
«Ег gab mit reicher Hand — doch reiche Spende
Entrollte manchmal seinem Auge die Trane,
Die kostbar schone Trane, die er weinte
Ob der unheilbar groBer Briiderkrankheit».
СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ
, Gluckliches Haus
D1: Das Blaubuch, Berlin, 4. Oktober 1906, S. 1532.
Написано 12 апреля 1900 г. в Париже.
ПЕСНЯ ПЛЕННОГО СУДОВОГО ПОВАРА
Der Schiffskoch, ein Gefangener, singt:
D1: Blatter fur die Kunst. Siebente Folge. 1904, S. 35—36.
Рондо написано в Родауне в августе 1901 г.
Третья строфа обнаруживает аналогии с первой строфой одного из
стихотворений Стефана Георге из цикла «Альгабал»:
«Graue rosse muB ich schirren
Und durch graue fluren jagen
Bis wir uns im moor verirren
oder blitze mich erschlagen».
СТАРИК ТОСКУЕТ ПО ЛЕТУ
Des alten Marines Sehnsucht nach dem Sommer
D1: Osterreichische Rundschau, Briinn, 15. April 1907, S. 103—104.
Стихотворение написано между 1905 и 1907 гг.
836 Комментарий
НА РАССВЕТЕ
Vor Tag
D1: Morgen, 1907, 1. November, S. 664.
Написано в Родауне 7 августа 1907 г.; обнаруживает близость к стихо-
творению Бодлера «Рассвет» («Le Crepuscule du Matin») из книги «Цветы
зла».
Основные даты жизни
и творчества
В скобках после названия пьес указано время их написания от самых ран-
них замыслов до завершения и (или) место и дата премьеры.
1874 1 февраля в Вене, в доме № 12 на Салезианергассе, родился Гуго Лоренц
Август Гофман фон Гофмансталь, единственный сын Гуго Августа
Петера Гофмана фон Гофмансталя (1841—1915) и Анны Марии Йозефы
фон Гофмансталь, урожденной Фолейтнер (1852—1904).
1884 После основательной домашней подготовки Гофмансталь поступает
в Академическую гимназию Вены. (Он заканчивает ее с отличием в
1892 г. К восемнадцати годам он прочитывает всех античных, фран-
цузских, итальянских и испанских классиков, знакомится с русской
литературой.)
1890 Публикация первого стихотворения — сонета «Вопрос». В том же
году опубликованы стихотворения: «Ты видишь этот город?», «Что
этот мир?», «Смерд», «Для меня, Гюльнара...».
Первая встреча с Артуром Шницлером.
1891 Знакомство с Генриком Ибсеном.
Гофмансталь посещает кафе «Гринштайль», где завязывает литера-
турные знакомства, в частности со Стефаном Георге.
Гофмансталь пишет свою первую пьесу — одноактную комедию
«Вчера» (Вена, 1928) — и публикует в венской прессе под псевдони-
мом Лорис, Лорис Меликов, Теофиль Моррен рецензии на книжные
новинки (Бурже, Бар, Амьель и другие).
1892 В первом, октябрьском номере «Blatter fur die Kunst» опубликован
фрагмент лирической драмы Гофмансталя «Смерть Тициана» (Мюн-
хен, 1901).
«Асканио и Джоконда» — два первых акта фрагмента «Ренессансная
трагедия».
838
Основные даты жизни и творчества
Поездка через Швейцарию во Францию, возвращение через Мар-
сель, Геную, Венецию.
Публикация статей «Элеонора Дузе. I, II», «Южнофранцузские впе-
чатления» и стихотворений «Предвесеннее», «Воспоминание»,
«Жизнь».
1893 «Алкеста» (Мюнхен, 1916).
«Глупец и Смерть» (Мюнхен, 1898).
«Идиллия».
«Счастье в пути» («Age of Innocence») — автобиографический очерк,
оставшийся неопубликованным при жизни.
Стихотворения: «Мир и я», «Я вниз сошел...».
Дружба с Леопольдом фон Андрианом.
План «египетской пьесы... с очень подвижными живыми маленькими
куклами».
1894 Смерть старой дамы — Жозефины фон Вертхаймштайн, к которой
Гофмансталь был глубоко привязан и потерю которой пережил как
первое в жизни трагическое потрясение.
Стихотворения: «Терцины. I—IV», «Мировая тайна».
Работа над свободным переложением «Алкесты» Еврипида.
С октября — служба в 6-м императорском и королевском драгунском
полку, куда Гофмансталь записался добровольцем на год; полк квар-
тирует в Брюнне (Брно), а потом в Гёдинге.
1895 Новеллы: «Сказка 672-й ночи», «Солдатская история».
Стихотворения: «Сон о великой магии», «Баллада внешней жизни».
Поездка в Венецию.
Поступление на филологический факультет Венского университета,
где Гофмансталь начинает серьезные занятия романской филоло-
гией.
18% Новеллы: «История двух любовных пар», «Деревня в горах».
Стихотворения: «Песня жизни», «Двое», «Твое лицо...», «Умирать
иным...».
1897 Первая встреча с Эдуардом фон Боденхаузеном, дружба с которым
продолжалась всю жизнь.
В августе поездка на велосипеде через Зальцбург, Инсбрук, До-
ломитен, Верону, Брешию в Варезе. Здесь Гофмансталь провел три
недели, работая*на необычайно высоком творческом подъеме.
Основные даты жизни и творчества
839
Малые драмы: «Женщина в окне», «Свадьба Зобеиды», «Малый
театр жизни», «Белый веер», «Кайзер и Ведьма» и др.
1898 15 мая — первая театральная постановка пьесы Гофмансталя: «Жен-
щина в окне» играется в «Немецком театре» в Берлине.
Первая встреча с Рихардом Штраусом.
Окончание работы над диссертацией «Об употреблении языка
поэтами «Плеяды», получение докторской степени по специальности
«романская филология».
Поездка на велосипеде вместе с Артуром Шницлером в Швейцарию.
Оттуда Гофмансталь едет один дальше, в Лугано, потом через
Болонью и Флоренцию (визит к Габриэлю Д'Аннунцио) — в Вене-
цию.
«Авантюрист и Певица» (Берлин, Вена, 1899).
Новелла «Кавалерийская повесть».
1899 Поездки во Флоренцию и Венецию.
Пьеса «Фалунский рудник».
Знакомство с Рильке.
1900 Поездки в Мюнхен и Париж; в Париже встречи с Метерлинком и
Роденом.
Новелла «Приключение маршала Бассомпьера».
Пролог к «Антигоне» Софокла.
1901 Гофмансталь представляет в Венский университет «Очерк о творчес-
ком пути Виктора Гюго» и ходатайствует о предоставлении ему
доцентуры на филологическом факультете.
Либретто балета «Триумф Времени» (март 1900 — июнь 1901).
Либретто предназначалось для Рихарда Штрауса, однако балет так и
не был написан композитором.
1 июня Гофмансталь вступает в брак с Гертрудой Шлезингер.
1 июля молодая семья переезжает в усадьбу «Родаун» под Веной, где
Гофмансталь проживет до конца жизни.
Начало работы над трагедией «Графиня Помп ил ия».
Первые замыслы обработки Софокла («Электра») и Кальдерона
(«Жизнь есть сон»).
В конце года Гофмансталь забирает из университета свое ходатай-
ство о предоставлении ему доцентуры.
1902 Эссе: «Письмо» и «О характерах в романе и драме».
Рождение дочери Кристины.
840 Основные даты жизни и творчества
1903 Очерк-диалог «Разговор о стихах».
Первая встреча с Максом Рейнгардтом.
Трагедия «Электра» (сентябрь 1901 — сентябрь 1903; Берлин, 1903,
режиссер Макс Рейнгардт).
Выход в свет первого сборника стихотворений Гофмансталя в изда-
тельстве «Blatter far die Kunst».
Рождение сына Франца.
1904 22 марта — смерть матери Гофмансталя.
«Спасенная Венеция» (август 1902 — июль 1904; Берлин, 1905).
1905 «Эдип и Сфинкс» (июль 1903 — декабрь 1905; Берлин, 1906, режис-
сер Макс Рейнгардт).
«Царь Эдип» — перевод Софокла (Мюнхен, 1910, режиссер Макс
Рейнгардт).
«Короли и вельможи у Шекспира» — речь в Веймаре на юбилейном
собрании Шекспировского общества.
Эссе «Себастьян Мельмот».
1906 Встреча с Рихардом Штраусом; Штраус предложил Гофмансталю,
что напишет музыку к его «Электре».
Эссе: «Беседа о „Тассо" Гёте», «Беседа о сочинениях Готфрида Кел-
лера», «Поэт и нынешнее время».
Поездка с выступлениями в Мюнхен, Франкфурт, Гёттинген, Бер-
лин. Рождение сына Раймунда.
1907 Поездка в Венецию.
«Письма возвратившегося» (июнь—август 1907).
Начало работы над романом «Андреас».
Комедии: «Сильвия в «Звезде» и «Возвращение Кристины».
Участие в журнале «Morgen» (раздел «Поэзия»).
1908 Поездка в Грецию (Афины, Дельфы) вместе с графом Кесслером и
Майолем.
Неудача в работе над пьесой «Флориндо» — первым вариантом «Воз-
вращения Кристины» (в 1909 г. напечатаны только два фрагмента:
«Флориндо и Незнакомка» и «Встреча с Карло»).
1909 Премьера оперы «Электра» в Дрездене.
«Возвращение Кристины» (июль 1907 — декабрь 1909; Берлин, 1910,
режиссер Макс Рейнгардт).
Участие в издании ежегодника «Hesperus».
Основные даты жизни и творчества
841
1910 Постановка нового, сокращенного варианта комедии «Возвращение
Кристины» в Будапеште и — с большим успехом — в Вене.
Публикация рассказа на тот же сюжет.
«Лусидор» (сентябрь 1909 — март 1910).
«Кавалер роз» (февраль 1909 — июнь 1910; Дрезден, 1911, режиссер
Макс Рейнгардт).
1911 «Ариадна на Наксосе» (февраль 1911 — апрель 1911; Штутгарт,
1912, вместе с комедией Мольера «Мещанин во дворянстве» в обра-
ботке Гофмансталя).
«Имярек» (апрель 1903 — август 1911; Берлин, 1911, режиссер Макс
Рейнгардт; первое представление на Соборной площади в
Зальцбурге в постановке Макса Рейнгардта 12.8.1920).
1912 «Легенда об Иосифе» — пантомима для «Русского балета» Сергея
Дягилева (Париж, 1914).
Составление и предисловие к сборнику «Немецкие прозаики».
1913 Подробный план и разработка первого акта оперы «Женщина без
тени». Начало работы над одноименной новеллой.
Новый пролог к «Ариадне» и продолжение работы над романом
«Андреас».
1914 Начало первой мировой войны. Гофмансталь мобилизован в пе-
хотные войска в Истриц. Благодаря посредничеству Иозефа Редлиха
его переводят в военное министерство по интендантскому ведомству.
Публикации в «Wiener Neue Presse»: «Обращение к высшим сослови-
ям», «Бойкот иностранных языков», «Утверждение Австрии», «Па-
мяти принца Евгения» и др.
1915 Сближение с политиком Иозефом Редлихом. Служебные поездки в
Краков, Брюссель и Берлин.
Статьи: «Мы, австрийцы, и Германия», «Политическое завещание
Грильпарцера», «Деяния и слава», «Дух Карпат» и др.
Участие в разработке книжной серии «Австрийская библиотека»,
«Женщина без тени» (февраль 1911 — сентябрь 1915; «Венская опе-
ра», 1919).
10 декабря — смерть отца.
1916 «Смешные жеманницы», свободное переложение Мольера, и балет
«Зеленая флейта» (Берлин, 1916, режиссер Макс Рейнгардт).
«Ad me ipsum» — заметки о собственном творчестве.
842 Основные даты жизни и творчества
Новая обработка «Ариадны на Наксосе» (Вена, 1916).
Служебная поездка в Варшаву.
Поездка с выступлениями в Осло и Стокгольм.
«Наброски к выступлениям в Скандинавии».
1917 «Мещанин во дворянстве»— свободное переложение Мольера (Бер-
лин, 1918, режиссер Макс Рейнгардт).
Интенсивная работа над комедией «Трудный характер».
1918 Работа над сказкой «Женщина без тени», романом «Андреас», коме-
диями «Трудный характер», «Сильвия в „Звезде"», «Лусидор» и тра-
гедией о Семирамиде. Систематическое чтение Кальдерона.
«Дама-невидимка» — свободный перевод Кальдерона (Берлин, 1920,
режиссер Макс Рейнгардт).
1919 «Женщина без тени» (декабрь 1913 — август 1919).
«Трудный характер» (июнь 1910 — ноябрь 1919; Мюнхен, 1921).
1920 Начало интенсивной работы над трагедией «Башня».
Речь о Бетховене в Цюрихе.
1921 Работа над трагедией «Башня» и мистерией «Большой Зальцбург-
ский театр жизни».
1922 «Книга друзей» — собрание афоризмов и анекдотов.
«Большой Зальцбургский театр жизни» (сентябрь 1919 — июнь 1922;
Зальцбург, представление в церкви «Коллегиенкирхе» 12.8.1922,
режиссер Макс Рейнгардт).
«Неподкупный» (май 1922 — октябрь 1922; Вена, 1923).
Гофмансталь начинает издавать «Neue deutsche Beitrage» (1922—
1927) и пишет предисловие к первому номеру.
Выходит в свет «Немецкая хрестоматия» под редакцией и с предисло-
вием Гофмансталя.
1923 Гофмансталь работает над пятым актом «Башни» и пишет сценарий
фильма «Кавалер роз».
1924 «Елена Египетская» (декабрь 1919 — март 1924; Дрезден, 1928).
Поездка в Сицилию.
Работа над комедией «Оратор Тимон».
Закончен первый вариант «Башни» (октябрь 1918 — октябрь 1924).
1925 Путешествие через Париж и Марсель в Марокко, путешествие по
Северной Африке.
Основные даты жизни и творчества
843
Работа над романом «Андреас» и завершение первого акта комедии
«Оратор Тимон».
1926 «Башня» — завершение сценического варианта (Мюнхен, 1928).
«Письменность как духовное пространство нации» — речь в Мюнхен-
ском университете 10.1.1927.
1927 Поездка в Сицилию.
Продолжение работы над заметками «Ad me ipsum».
Работа над либретто лирической оперы «Арабелла».
1928 Гофмансталь заканчивает работу над первым вариантом «Арабел-
лы», но решает изменить первый акт.
1929 Гофмансталь посылает Рихарду Штраусу новый вариант оперы.
Ответ Штрауса: «Первый акт великолепен. Сердечно благодарю,
желаю успехов» — уже не застает поэта в живых. (Премьера оперы
состоялась в Дрездене в 1933 г.)
13 июля кончает жизнь самоубийством старший сын Гофмансталя,
Франц.*
15 июля Гофмансталь, собираясь на похороны сына, умирает от кро-
воизлияния в мозг.
Похоронен Гофмансталь недалеко от Родауна, на кладбище в Кальк-
сбурге.
Содержание
Ю. Архипов. Гуго фон Гофмансталь:
поэзия и жизнь на рубеже двух веков * 6
ДРАМЫ
Смерть Тициана. Фрагмент [1892]. Перевод Е. Баевской * 47
Глупец и Смерть [1893]. Перевод Е. Баевской * 65
Имярек. Представление о смерти богатого человека [1911].
Перевод Т. Щепкиной-Куперник * 87
Трудный характер. Комедия в трех актах [1919].
Перевод Н. и Д. Павловых * 155
Большой Зальцбургский театр жизни [1922].
Перевод С.Лверинцева * 263
Башня. Трагедия в пяти актах [1926]. Перевод Ю.Архипова * 349
ПРОЗА
НОВЕЛЛЫ
Кавалерийская повесть [1898]. Перевод С. Ошерова * 464
Приключение маршала Бассомпьера [1900].
Перевод А. Карельского * 475
СТАТЬИ, РЕЧИ, ЭССЕ
': Габриэль Д'Аннунцио [1893]. Перевод Е. Михелевин * 488
Поэзия и жизнь [1896]. Перевод Е. Михелевин * 499
МО характерах в романе и драме [1902].
Перевод А. Назаренко * 505
Основные даты жизни и творчества
845
V Письмо [1902]. Перевод А. Назаренко * 518
v Разговор о стихах [1903]. Перевод В. Куприянова * 529
Короли и вельможи у Шекспира [1905]. Перевод А. Назаренко * 543
Себастьян Мельмот [1905]. Перевод Е.Михелевич * 562
Шиллер [1905]. Перевод Е.Михелевич * 565
Беседа о сочинениях Готфрида Келлера [1906].
Перевод Е. Михелевич * 571
-Поэт и нынешнее время [1907]. Перевод А. Гугнина * 579
Пути и встречи [1907]. Перевод В. Куприянова * 603
V Оноре де Бальзак [1908]. Перевод В. Никитина * 607
«Послеполуденный отдых фавна» Нижинского [1912].
Перевод Е. Михелевич * 624
Взгляд на Жан-Поля [1913]. Перевод А. Михайлова * 626
Австрийская библиотека [1915]. Перевод А. Назаренко * 630
Мы, австрийцы, и Германия [1915]. Перевод А. Назаренко * 637
Австрия в зеркале своей литературы [1916].
f Перевод А. Назаренко * 643
Фердинанд Раймунд [1920]. Перевод А. Михайлова * 655
Речь о Бетховене [1920]. Перевод А. Михайлова * 661
Речь о Грильпарцере [1922]. Перевод А. Михайлова * 666
V Юджин О'Нил [1925]. Перевод А. Назаренко * 680
«Бабье лето» Штифтера [1924]. Перевод А.Михайлова * 687
Заветы античности [1926]. Перевод А. Назаренко * 694
Цена и слава немецкого языка [1927].
Перевод А. Михайлова * 698
Несколько слов в качестве предисловия к «Анабазису»
С.-Ж. Перса [1929].
Перевод В. Никитина * 704
Готхольд Эфраим Лессинг [1929]. Перевод А. Михайлова *-707~
ФРАГМЕНТЫ
Перевод Ю. Архипова
Из дневниковых записей [1890—1920] * 714
Из неопубликованных при жизни заметок * 721
О Толстом [1908, 1910] * 725
Из письма к Оттонии Дегенфельд [1912] * 726
Венское письмо [1922] * 726
846 Основные даты жизни и творчества
Из «Книги друзей» [1922] * 733
Из статьи «Комедия» [1922] * 740
Чешские и словацкие народные песни [1922] * 741
Из статьи «Письменность как духовное пространство
нации» [1927] * 743
СТИХОТВОРЕНИЯ
[1892—1907]
Перевод Ю. Корнеева
Предвесеннее * 749. Жизнь * 750. Дождь в сумерках * 752.
Воспоминание * 752. Психея * 753. Мелюзина * 755.
Рождество * 756. Мир и я * 757. Мировая тайна * 758.
Баллада внешней жизни * 759. Терцины * 759.
Буду ль мерить ширь морскую... * 762. Двое * 762.
Бесконечное время * 762. Сон о великой магии * 763.
Умирать иным... * 764. Твое лицо... * 765. Общество * 766.
Мальчик * 767. Nox portentis gravida * 768. Женщине * 769.
Добрый час * 770. Юноша за городом * 771.
Там, где вольно сосны-крошки... * 771. Надпись * 772.
Китайский император говорит: * 772. Поэты говорят: * 773.
Мы шли путем... * 774. Послание * 775. Маленькой девочке * 776.
Разговор * 777. Путевая песня * 779. Лунная ночь на юге * 779.
Эпиграммы * 780. С корабля * 781. Три песенки * 781.
Запрет * 783. Детская молитва * 783. Памяти Генриха Гейне * 784.
Счастливый дом * 784. Песня пленного судового повара * 785.
Старик тоскует по лету * 785. На рассвете * 787
Комментарий * 789
Основные даты жизни и творчества * 837
*
Гофмансталь Гуго фон
Г 74 Избранное: Пер. с нем. / Предисл. Ю. Архипова;
Коммент. Э. Венгеровой. — М.: Искусство, 1995. —
846 с, ил.
ISBN 5-210-00394-9(pyc)
В книгу избранных произведений классика австрийской литературы
Гуго фон Гофмансталя (1874—1929) вошли его драмы «Смерть Тициана», «Глу-
пец и Смерть», «Большой Зальцбургский театр жизни», поэтическая притча
«Имярек», комедия «Трудный характер» и трагедия «Башня». Кроме притчи
«Имярек» все пьесы публикуются впервые.
Впервые на русском языке печатаются переводы новелл писателя: «Ка-
валерийская повесть», «Приключение маршала Бассомпьера», эссе о Габриэле
Д'Аннунцио, Шекспире, Оскаре Уайльде, Шиллере, Жан-Поле, Фердинанде
Раймунде, Бетховене, Грильпарцере, О'Ниле, Штифтере, Лессинге и переводы
статей о литературе, театре и музыке. В состав книги вошли стихотворения,
фрагменты дневников, писем и не опубликованных при жизни заметок.
„ 4703010300-005* т ББК 84.4А
-без объявл.
02£(01)-95