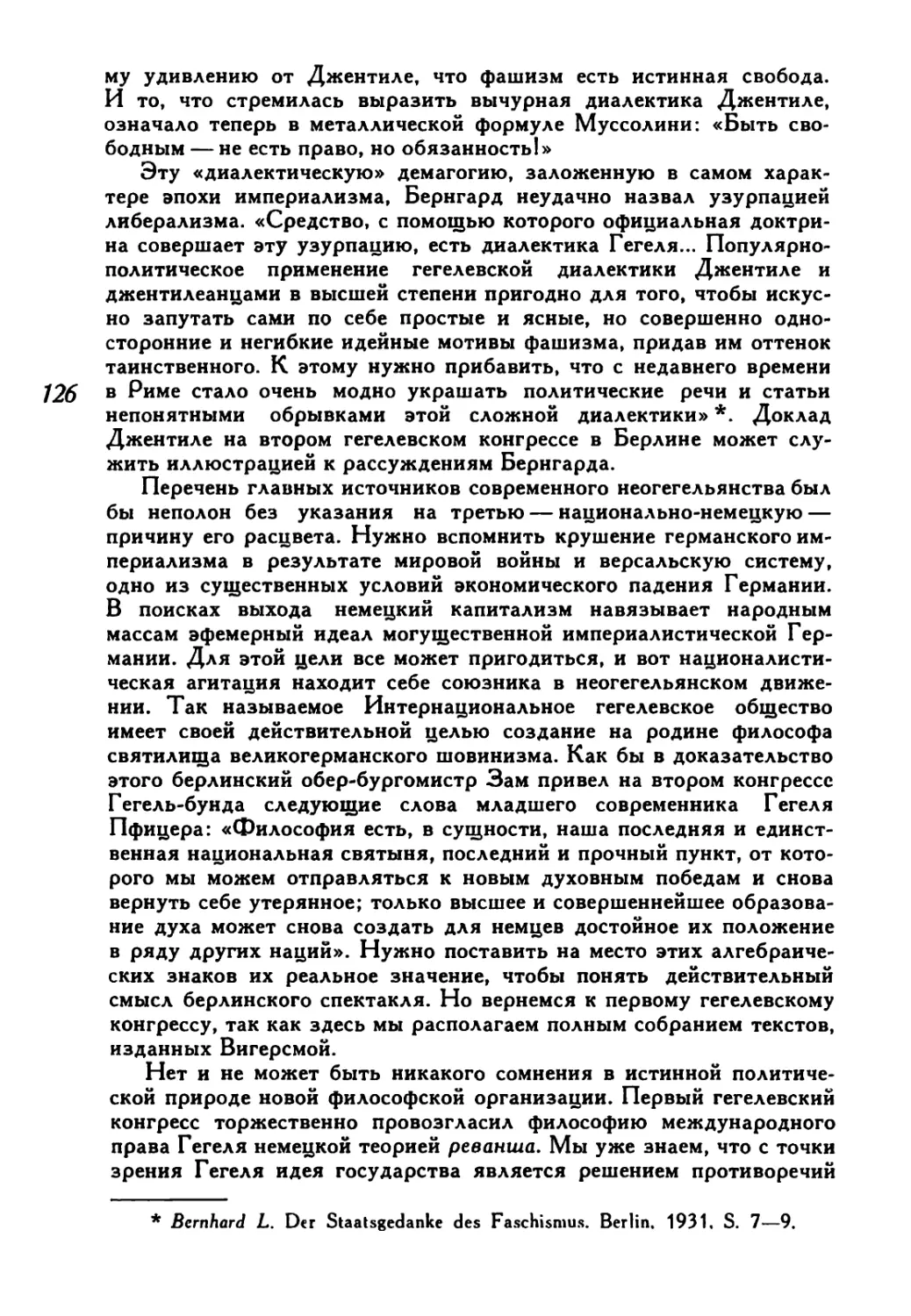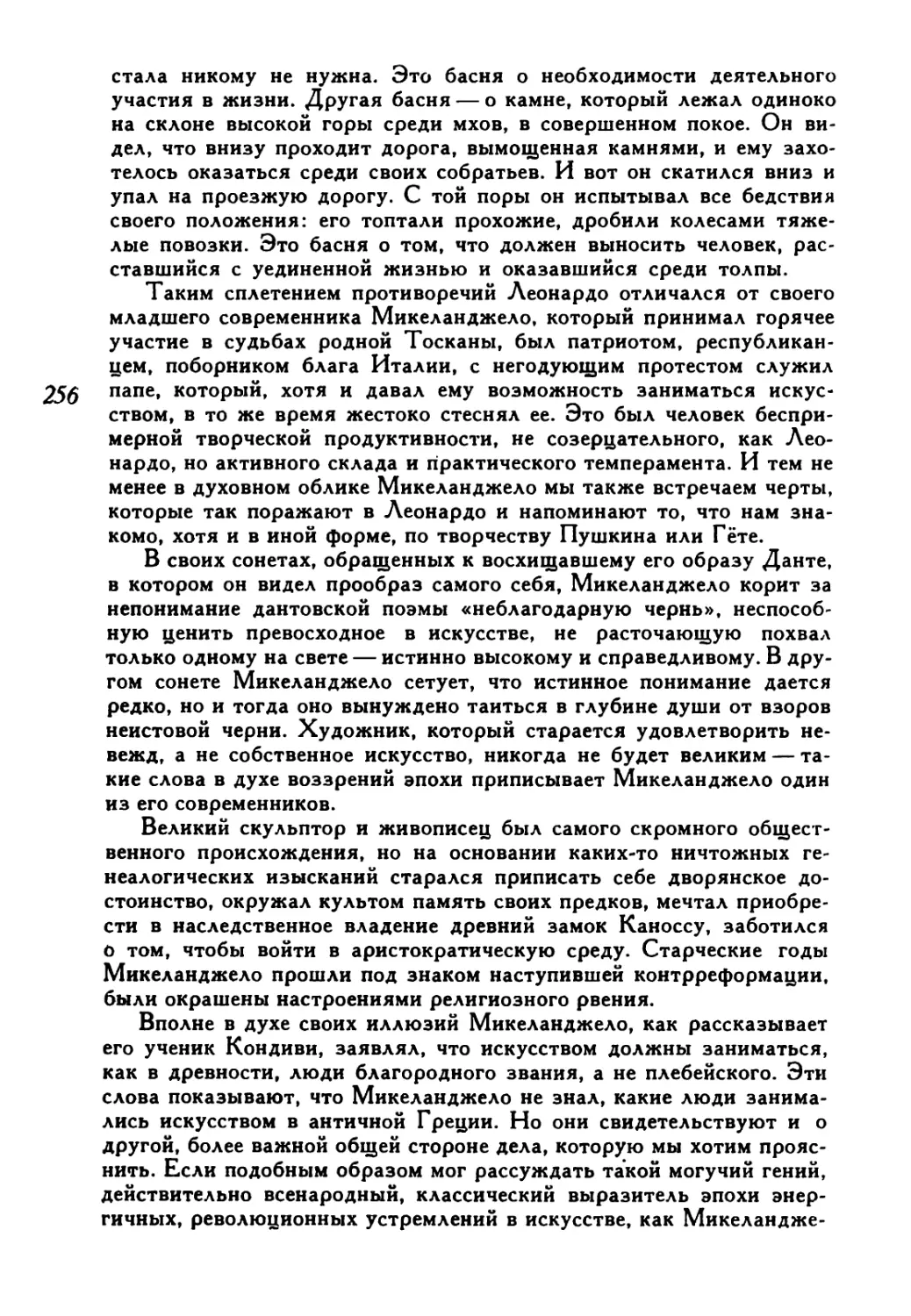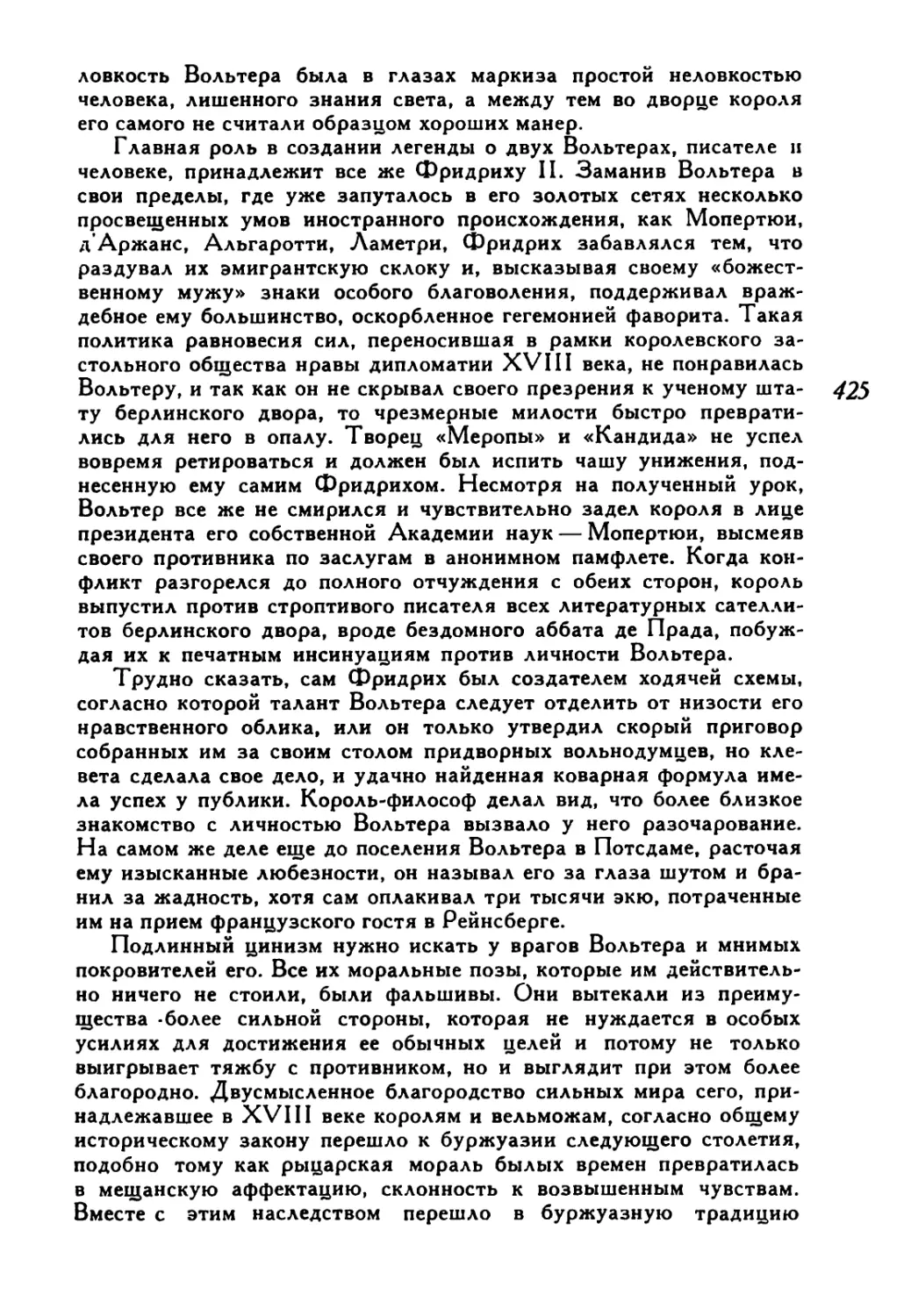Автор: Лифшиц Михаил.
Теги: эстетика философия история искусство политология литературоведение
Год: 1986
Текст
МИХ. ЛИФШИЦ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ
ТОМ II
МОСКВА
„ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО"
1986
ББК 87.8
Л 64
Рецевэевты: доктор философских наук, профессор М, Ф. Овсянников;
доктор философских наук, профессор А. Я, Зисъ
, 0302060000-114
Л (01 дписное
© Издательство „Изобразительное искусство*4. 1906
ИЗ ИСТОРИИ ЭСТЕТИКИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ
МЫСЛИ
ДЖАМБАТТИСТА ВИКО *
1. ИДЕЯ „НОВОЙ НАУКИ"
4 Всякое историческое движение имеет свои сознательные мотивы,
свое отражение в головах людей, являющихся его участниками.
Рабы и вольноотпущенники древнего мира искали утешения в ми-
фах христианской религии, средневековый крестьянин мечтал о тех
временах, когда Адам пахал, а Ева пряла. Эти формы обществен-
ного сознания были стихийным выражением определенных истори-
ческих обстоятельств. И все же судить о действительном содержа-
нии эпохи на основании ее фантастических представлений нельзя,
как нельзя судить о болезни по сознанию больного. Сознание лишь
там приобретает действительную силу, где оно возвышается над
своей собственной ограниченностью, стихийным ходом событий,
слепо идущих друг за другом.
У Щедрина крепостная девка Феклушка объявила однажды в об-
щем собрании всей девичьей, что скоро она, Феклушка, с барыней
за одним столом сидеть будет и что неизвестно еще, кто кому на
сон грядущий пятки чесать будет, она ли Прасковье Павловне или
Прасковья Павловна ей. Такая Феклушка — превосходный материал
для наблюдения со стороны, в данном случае со стороны великого
писателя, как Щедрин. Горячим, словно уголь пылающим жизнен-
ным содержанием феклушкина утопия богаче многих томов, напол-
ненных самой энциклопедической ученостью. Но для того чтобы
выделить это содержание из состояния первичной туманности, ну-
жен более развитый ум, для которого феклушкина утопия — внеш-
ний предмет, кусок объективного мира, продукт исторической обста-
новки и среды.
Развитие сознания определяется тем, насколько оно способно
быть своим собственным предметом — не только предметом для пси-
хологических наблюдений извне. Сознание как автоматическая реак-
ция живого организма, вздох угнетенной твари, не совпадает с со-
знательностью— ясной картиной окружающего мира и своего
собственного положения в нем. На этом основана разница между
* Впервые опубликовано в журнале «Литературный критик» (1939, № 2).
Перепечатано с небольшими сокращениями в кн.: Вико Д. Основания новой
иаукн об общей природе наций (Л., 1940). Вико цитируется по этому изда-
нию.— Примеч. ред.
сознанием вообще (которым может обладать животное, ребенок, ди-
карь) и самосознанием. Разница эта относительна. Энгельс заме-
чает, что уже группировка тела вокруг нервной системы у простей-
ших животных Vertebrata дает возможность развития самосозна-
ния — и все же это только возможность. Самосознание развивается
исторически как драгоценная способность выделить свою мысль
из обычного хода вещей, понять свое собственное место в естест-
венном процессе жизни.
Самосознание—величайшее преимущество, которым может об-
ладать человек. Старые философы говорили, что истина — это index
sui et falsi. Тот, кто владеет ею, понимает и самого себя, и своего
противника. Истина объясняет заблуждение, показывает причины
ошибки и путь к ее исправлению, если это еще возможно. Напротив,
заблуждение слепо. Оно ошибается не только в истине, но и в самом 5
себе, сохраняя иллюзию знания. На почве общественной борьбы
высокое развитие самосознания является залогом успеха в широком
историческом смысле. Таким преимуществом обладает движение
рабочего класса. Марксизм — не только естественное выражение
его интересов, не только определенная картина внешнего мира. Это
наука, которая показывает необходимость своего собственного воз-
никновения. «Разум существовал всегда,— говорит Маркс,— только
не всегда в разумной форме» *. Научный коммунизм впервые при-
дал разумную ясность стихийной борьбе угнетенных народов:
«Он — решение загадки истории, и он знает, что он есть это ре-
шение» **.
Маркс сравнивал человеческую историю с палеонтологией. Даже
те остатки прошлого, которые лежат на поверхности, часто оказы-
ваются незамеченными и непонятыми. Но вот наступает время, и
обнажаются исторические напластования самых отдаленных эпох.
Прошлое открывается для настоящего, когда само настоящее до-
стигло определенного уровня развития. Род ирокезов и марка гер-
манских народов были открыты, когда созрели условия для социа-
листического общественного движения XIX века. Поэзия готики
стала очевидной, когда буржуазная цивилизация вызвала первые
разочарования, еще недоступные рациональным понятиям общест-
венной науки. «Анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны.
Наоборот, намеки более высокого у низших видов животных могут
быть поняты только в том случае, если само это более высокое уже
известно» ***. В этом смысле революционно-критическая практика
рабочего класса дает современному человечеству ключ ко всей его
прежней истории или, вернее, предыстории.
Мы можем теперь с большей полнотой, по крайней мере in crudo,
постигнуть те противоречия, которые проникали собой жизнь и
деятельность лучших представителей старой культуры, ибо мы сами
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 380.
** Там же, т. 42, с. 116.
*** Там же. т. 12. с. 731.
являемся результатом этих противоречии, а наша практическая
борьба может быть их решением. Какое разнообразие форм и типов
сознания, какая смесь наивности и глубокомыслия, утопической
веры и здравого смысла на каждой странице истории культуры!
И все это еще не является доказательством глупости человеческого
рода, как думал Вольтер. «Сознание [das BewuBtsein] никогда не
может быть чем-либо иным, как осознанным бытием [das bewuBte
Sein], а бытие людей есть реальный процесс их жизни. Если во всей
идеологии люди и их отношения оказываются поставленными на го-
лову, словно в камере-обскуре, то и это явление точно так же про-
истекает из исторического процесса их жизни,— подобно тому как
обратное изображение предметов на сетчатке глаза проистекает из
непосредственно физического процесса их жизни» *.
б Одна из главных особенностей марксизма состоит в историче-
ской критике ложных форм сознания, тех «объективных представ-
лений», которые естественно рождаются капиталистическим строем
жизни, его превращениями и метастазами. Эта черта имеет громад-
ный практический смысл. Здесь речь идет не об освобождении ка-
бинетного мыслителя от призраков массового сознания. Достаточно
вспомнить борьбу Ленина за освобождение рабочего класса от ил-
люзий «тредъюнионизма», «добросовестного оборончества» времен
мировой войны 1914—1918 годов, детской болезни «левизны». Ви-
деть в каждом духовном явлении определенное отражение общест-
венных сил, дружественных или враждебных интересам народа,—
одно из азбучных правил ленинизма. В истории массового движе-
ния нашего века мы на каждом шагу видим наглядное применение
исторической теории познания, созданной Марксом и Лениным.
И само понимание ее измеряется не субъективным мастерством уче-
ного, а тяжким коллективным шагом миллионов людей.
Что же такое историческая теория познания? Это и есть та но-
вая наука, которую предсказывал в начале XVIII столетия Джам-
баттиста Вико. Без нее невозможен переход из царства необходи-
мости в царство свободы (то есть разумного контроля человеческого
общества над развитием своих собственных творческих сил), пере-
ход от туманного полусознания к ясному пониманию исторических
предпосылок культуры, к ее самопознанию. Новая наука — это на-
ука будущего, диалектика. «А диалектика, в понимании Маркса и
согласно также Гегелю, включает в себя то, что ныне зовут теорией
познания, гносеологией, которая должна рассматривать свой предмет
равным образом исторически, изучая и обобщая происхождение и
развитие познания, переход от незнания к познанию» **. В своих
«Философских тетрадях» Ленин перечисляет те составные части,
из которых должна сложиться новая наука общественного позна-
ния. Это — история отдельных наук, история умственного развития
ребенка, развития животных; особенно — история языка, плюс пси-
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3. с. 25.
** Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 54—55.
хология и физиология органов чувств. «Продолжение дела Гегеля и
Маркса должно состоять в диалектической обработке истории
человеческой мысли, науки и техники» *.
Наука, объединяющая огромный материал всеобщей истории
культуры,— могучее орудие человеческого ума, освобожденного от
слепоты и ограниченности классового общества, отражение глубо-
кого революционного переворота в умственной жизни общества.
Но отсюда вовсе не следует, что эта наука явилась в законченном
виде, без всякой предварительной подготовки. Не говоря об антич-
ной философии, попытку взглянуть на формы сознания объективно,
исторически мы находим уже у Монтеня. Учение об идолах Бэкона,
полемика Декарта против предрассудков детства отдельной лично-
сти и всего человеческого рода, очищение интеллекта от чувствен-
ного полусознания у Спинозы, критика мнения (opinion) у фран- 7
цузских моралистов, теория идеологии, разработанная материали-
стическими писателями XVIII века и систематизированная Дестют
де Траси,— все это различные попытки поставить стихийное разви-
тие сознания под контроль самого сознания. Нечего и говорить
о «Феноменологии духа» Гегеля с ее диалектически развивающимся
противоречием между достоверностью, всегда относительной, и са-
мой истиной, которая в своем причудливом вакхическом танце яв-
ляется только понимающему самосознанию. «Новая наука» Вико
занимает в этом подготовительном процессе одно из самых почет-
ных мест. Эта книга представляет собой фантастическое предвос-
хищение той обработки истории человеческой мысли, науки и тех-
ники, которая должна быть продолжением дела Гегеля и Маркса.
В книге Вико есть история отдельных наук, история языка, искус-
ства и поэзии, умственное развитие ребенка, история государства,
права и материальной культуры. Все это выражено в чрезвычайно
наивных формах, глубокие мысли пересыпаны всякими учеными
пустяками, изложение крайне запутано, и все же гениальность
основной идеи вне всякого сомнения. Маркс знал «Новую науку»
и цитировал ее в «Капитале» **. Он советует Лассалю познакомить-
ся с сочинением Вико, в котором «содержатся в зародыше Вольф
(«Гомер»), Нибур («История римских царей»), основы сравнитель-
ного языкознания (хотя и в фантастическом виде) и вообще немало
проблесков гениальности» ***.
2. СВОЕОБРАЗИЕ „НОВОЙ НАУКИ"
Как писатель Вико представляет собой загадку. Первое издание
его основного сочинения вышло в 1725 году, второе — пять лет спу-
стя, а третье, переработанное и дополненное, появилось уже в
1744 году после смерти автора. Это было время первых успехов
* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 131.
** См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 383.
*** Там же. т. 30, с. 512.
широкого просветительного движения во Франции. Борьба иезуитов
и янсенистов, полная фанатизма, интриг и взаимных обвинений,
привела к падению авторитета церкви. Общество находило, что обе
борющиеся стороны, как монах и раввин в стихотворении Гейне,
«одинаково воняют». Финансовая афера Ло стала более популярной,
чем булла Unigenitus. Появилась третья партия — партия филосо-
фов, и ее появление было ознаменовано взрывом судебных пресле-
дований. В 1734 году парижский парламент осудил на сожжение
«Философские письма» Вольтера. «История Карла XII» и «Заира»
были запрещены. Но все это только способствовало славе непокор-
ных писателей. Через какой-нибудь десяток лет служители трона и
алтаря были встревожены успехом откровенно безбожных сочине-
g ний, как «Естественная история души» Ламетри и «Философские
мысли» Дидро.
В это время в Италии вышла странная книга под заглавием
«Основания новой науки об общей природе наций». Можно себе
представить ироническую улыбку Вольтера, если бы ему довелось
прочесть сочинение Вико. Да, в этой книге встречаются забавные
вещи! Одна из аксиом «Новой науки» гласит: «Ведьмы, в то время
когда они сами преисполнены устрашающими суевериями, особенно
дики и бесчеловечны: так, если это необходимо для соверше-
ния их чародейств, они безжалостно убивают и разрубают на куски
самых милых невинных младенцев». Книга Вико совсем не похожа
на произведения писателей просветительной эпохи. Ее очень трудно
читать. Вико неразборчив в выражениях, косноязычен, его рассуж-
дения о всемирном потопе, о достоверности библейских сказаний,
о преимуществах христианской религии никого не могут теперь
соблазнить. В рецензии «Лейпцигского журнала» (1727) было
написано, что «Новая наука» является апологией католической церк-
ви. Так или иначе Вико совсем не просветитель, несмотря на то
что его сочинение имело в Италии местное просветительское зна-
чение (через Марио Пагано и Филанджери).
По своему образу жизни Вико также решительно отличается
от передовых людей этого времени. Гуманисты эпохи Возрождения
были политическими деятелями, чиновниками флорентийской синь-
ории, придворными писателями, от которых зависела посмертная
слава князей. Просветители XVIII века — это свободные литерато-
ры, познавшие могущество печатного станка, светские люди, про-
славленные умы, обучающие филантропии монархов. Вико с боль-
шим уважением относится к первым и совсем не знает вторых. Он
родился в Неаполе 23 июня 1668 года в семье мелкого книготоргов-
ца и всю свою жизнь имел дело только с книгами. «Много забот
ему причиняла возраставшая бедность семьи, он горел желанием
получить досуг, чтобы продолжать свои занятия, но душа его пита-
ла великое отвращение к шуму Форума». Так рассказывает о себе
автор «Новой науки». Его жизненный путь вполне обычен. Добрых
девять лет он провел в зависимом положении домашнего учителя.
Заботясь о пропитании большой семьи, Вико сочиняет оды «на слу-
чай»» свадебные поздравления» хвалебные биографии. Наконец в
1697 году ему удается получить должность профессора риторики
Неаполитанского университета. Отсутствие нужных связей, неуме-
ние поладить с начальством, гордость великого человека, которому
пришлось унижаться перед учеными ничтожествами,— все это по-
мешало ему занять кафедру юриспруденции, по тем временам наи-
более важную в университете. В последние годы жизни Вико имел
уже некоторое влияние и довольно значительный круг учеников,
которым он частным порядком преподавал основания своей «Новом
науки». Он умер 23 января 1744 года, оставив в наследство универ-
ситету гораздо менее даровитого сына.
Вот и вся небогатая внешними событиями жизнь этого замеча-
тельного человека. Она немного напоминает биографию Гегеля.
И это вполне понятно — между Вико и Гегелем есть глубокое внут- 9
реннее сходство *. Время, когда живая диалектическая мысль
облекается в странный философский наряд, когда педантство ста-
новится поэзией творчества» а гениальные люди бывают школьными
профессорами,— это время приходит один раз у каждого народа.
Сова Минервы вылетает только вечером. Италия в эпоху Вико
была погружена в самые глубокие сумерки, и неудивительно, что
Вико резко отличается от просветителей. Он, скорее, замыкает со-
бой более раннюю эпоху — эпоху Возрождения, медленное умира-
ние которой еще продолжалось под жесткой корой абсолютных мо-
нархий и философской метафизики XVII столетия. В Италии этот
процесс сопровождался падением национальной независимости и
величайшим обнищанием народа. Вся философия Вико сложилась
под впечатлением этого круговорота, а его взгляд на греческую и
римскую историю сделался более острым благодаря национальному
опыту, уже давно отошедшему в прошлое, но сохранившему еще
значение великого и живого урока.
Итальянские писатели задолго до Вико пытались понять ве-
личие и падение городской демократии эпохи Ренессанса. Достаточ-
но назвать мрачные предсказания Леонардо, глубокие историче-
ские наблюдения Макиавелли и Гвиччардини. Но у людей Высокого
Возрождения, переживших трагедию этой эпохи, общие выводы
носят характер практических советов. Не следует обманываться
фразами о свободе, господствующими в республиках, ибо люди
руководствуются только своими интересами. Стремление к богат-
ству, охватывающее отдельных лиц и целые народы, приводит к об-
ратному результату — разложению и гибели. Держитесь подальше
от власти, ее источник — насилие, неразборчивое в средствах. Все
эти правила есть как бы следствие разочарования в политической
жизни эпохи, своеобразный индифферентизм, быть может наиболее
полно выраженный в наставлениях Джероламо Кардано его потом-
ству. У Вико также есть элемент безразличия к «шуму Форума», но
* Это сходство было отмечено Кроче в его известной работе «Живое и
мертвое в философии Гегеля» (1907).
безразличия, очищенного от всяких соображений житейской муд-
рости.
Предметом его философии является не благоустройство личной
жизни или жизни отдельного народа, а «Идеальная История вечных
Законов, соответственно которым движутся Деяния всех Наций
в их возникновении, движении вперед, состоянии, упадке и конце,
даже если бы (что, безусловно, ложно) в Вечности время от време-
ни возникали бесчисленные Миры».
Философия Вико основана на примирении с действительностью,
в которой он открывает разумный ход и неотвратимый закон. С это-
го начинается его коренное отличие от просветителей XVIII века
и близость к Гегелю. Наиболее общей чертой просветительной эпо-
хи можно считать склонность судить обо всем с точки зрения отвле-
J0 ченных требований разума, а в такой отвлеченной версии разум
часто опускается до уровня рассудка. Во имя цивилизации было
презрительно отвергнуто все, что явилось на свет из темных глубин
средневековья. Буржуазные отношения казались людям XVIII века
законом разумной природы. Борьба классов в период французской
революции, победа нового, буржуазного строя жизни развеяли эту
иллюзию и вызвали огромную волну политического разочарования.
Гегель играет по отношению к этой эпохе такую же роль, как Вико
по отношению к эпохе итальянского Возрождения. Оба они живут
воспоминанием о революционном периоде в прошлом, отвергают
далеко идущие претензии конечного рассудка и стремятся открыть
разумное зерно в противоречиях реальной истории.
Главным врагом философии Вико был рационализм в его класси-
ческой форме, выработанной еще в XVII веке Декартом. Вико
иронически относится к тайной мудрости философов, он больше
уважает государственную мудрость политических деятелей, но выше
всего ставит простонародную мудрость массы людей, которая свои-
ми руками творит историю, творит ее бессознательно вместе со мно-
жеством предрассудков и суеверий, свирепых и варварских обрядов,
творит в постоянной кровавой и бескровной борьбе вокруг матери-
альной собственности и власти. Вико не только стремится
обнаружить в истории естественную закономерность, независимую
от желания отдельных людей, он понимает также, что в противоре-
чивом и сложном ходе «всех человеческих и гражданских вещей»
заключается какое-то внутреннее оправдание, хитрость разума, как
сказал бы Гегель. И это оправдание представляется Вико фантасти-
ческим промыслом божьим, а философия истории — рациональной
гражданской теологией. Свою собственную задачу он видит в рас-
крытии того, как должна была раньше, как должна теперь и как
должна будет впредь протекать история наций, ибо, в сущности го-
воря, ее логический бег закончен. Французские просветители
XVIII века предвидели славную заваруху, un beau tapage, в своем
отечестве. Вико, напротив, представляет собой законченный тип
мыслителя, пришедшего после великого оживления практической
деятельности своего народа. Этим достаточно объясняется то об-
стоятельство, что «Новая наука» осталась почти незамеченной в ли-
тературе XVIII века.
Этим объясняются также безусловные достоинства и недо-
статки философской позиции Вико. Его отсталость по сравнению
с общим уровнем просветительской литературы — вне сомнения.
Но по странной иронии судьбы с этой отсталостью связана пере-
довая роль философии истории Вико. «Новая наука» неизмеримо
выше популярных исторических представлений XVIII века. По глу-
бине научного анализа ей уступают даже гениальные творения
Вольтера, Руссо, Фергюсона, Ленге. Рядом с великими деятелями
эпохи Просвещения Вико обладает преимуществом большей народ-
ности — правда, народности нищей, отсталой и сохранившей только
следы былого величия.
3. ТЕОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Одним из главных завоеваний общественной науки нового вре-
мени является учение о поступательном развитии человечества. За-
чатки идеи прогресса в древности незначительны, она возникает
впервые у христианских мыслителей начала новой эры, растет вме-
сте с первыми успехами капитализма и принимает определенные
очертания уже на исходе эпохи Ренессанса. Так, Парацельс убежден
в превосходстве новейших вещей над старыми. Если бы Апеллес
жил в наше время, он был бы плохим художником, говорит Эразм.
Знаменитый филолог XVI столетия Юлий Цезарь Скалигер уже
подвергает сомнению авторитет Гомера. Мошенники нового времени
более учены, чем ученые прежних дней. Это изречение старика
Грангузье, впрочем, весьма двусмысленное, может служить торже-
ственно-иронической надписью на триумфальной арке прогресса.
Теория цивилизации стала впоследствии хвастливой фразой ли-
беральной буржуазии. Отвлеченное представление о прямолинейном
поступательном движении истории, страсть к новизне и презрение
к темному прошлому человечества — вот истинное тщеславие наций
буржуазной эпохи. Но в XVII—XVIII столетиях идея прогресса
была еще смелым научным открытием, сделанным под влиянием
успехов всемирной торговли, развития теоретической механики, ре-
гулярного государства, полицейской системы. Французский крестья-
нин в голодные годы питался лепешками из травы,— «фасад обще-
ственного здания,— говорит Маркс в одном письме к Даниельсо-
ну,— ...выглядел насмешкой на фоне застоя большей части произ-
водства (сельскохозяйственного) и голода среди производителей» *.
Но никогда еще не было такого преклонения перед поступательным
движением наций, как в эту эпоху. Первые восторги цивилизации,
научный энтузиазм поклонников геометрического метода, изящество
светского человека, презрение к наивным обычаям простонародья,
нелепым фантазиям средних веков, ко всякому чувственному, неяс-
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 34, с. 292—293.
ному познанию — поэзии, свободе воображения, шекспировской жи-
вости характеров—все смешалось в общем культе рациональных
начал.
Народы древности и средневековья находились в состоянии
ребячества. История их баснословна. Теперь наступило время, когда
просвещенные нации уже не могут верить в забавные выдумки
древних историков. Голландец Якоб Гроновиус и англичанин Генри
Додвелл отвергли традиционный рассказ о возникновении римского
государства, само существование Ромула стало для них сомнитель-
ным. Издания Монфокона и Муратори поколебали прежнюю белле-
тристическую манеру писать историю. Мифы древних народов, вос-
кресшие в эпоху Ренессанса, снова подверглись суровому осуждению.
«Нас так приучили в детстве к мифологическим сказаниям греков,—
72 говорит просвещенный картезианец Фонтенель,— что, когда мы
становимся способны рассуждать, мы более не замечаем, насколько
они удивительны. Но если отделаться от привычки, то нельзя не
прийти в ужас при мысли о том, что вся история одного народа
представляет собой нагромождение химер, фантазий и абсурдов.
Возможно ли, чтобы все это выдавали за правду? До какой степе-
ни это признавалось ложью? Как велика была любовь этих людей
к явным и нелепым выдумкам, и почему она не сохранилась впо-
следствии?» *
В то время как Вико писал свою «Новую науку», во Франции
происходила оживленная полемика литераторов, известная под име-
нем «спора древних и новых». Картезианцы Перро, Фонтенель,
позднее Удар де Ламот восстали против безусловного авторитета
античности с точки зрения строгого рационализма. Сравнивая стра-
ну Гомера с образованной Францией, они находили, что первая
похожа на деревню, а ее герои — на грубое простонародье. Древние
времена были дики, безнравственны и полны всевозможных пред-
рассудков. «Эти времена, именуемые греческими,— говорит Ламот
в «Рассуждении о Гомере»,— кажутся царством самых неправедных
и самых низких страстей и прежде всего — триумфом скупости...
Героям «Илиады» не хватало какого-то достоинства, неизвестного
в то время и в той стране, где писал Гомер... Нет никакого сомне-
ния в том, что в эпоху Гомера в его стране умы еще не достигли
утонченности последующих времен» **.
Аббат Депон («Письмо об «Илиаде» де Ламота», 1714) считает
«свержение Гомера столь же необходимым, как и переворот, про-
изведенный в философии Декартом». Аббат Террассон в «Критиче-
ском рассуждении об «Илиаде» (1715) объявляет античность эпо-
хой варварства, слабого рассудка и неразвитой морали. В сочине-
нии «Философия, применимая ко всем предметам», опубликованном
* См.: Hazard Р. La crise de la conscience europeenne (1680—1715).
P„ 1935, t. 1, p. 67.
** Houdarl de La Motte A. Discours sur Homere (1714).— (Euvres com-
pletes. P., 1754, t. 2, p. 41, 42.
после его смерти (1754), он развивает идею непрерывного прогресса
человеческого рода от жалкого ребяческого состояния к совершен-
ной зрелости, достигаемой народами под эгидой абсолютной мо-
нархии. Аббат Террассон был прямым последователем Перро, про-
возгласившего превосходство нового искусства над художественным
гением древности. Если мы превосходим древних «в искусствах,
тайны которых доступны вычислению и измерению», то нельзя
предположить, что мы можем уступать им «в делах вкуса и фанта-
зии, каковы красоты поэзии и красноречия» *.
Другим вариантом картезианской идеи прогресса, перешедшей
отчасти к просветителям XVIII века, был взгляд Фонтенеля. Он
отделяет эпоху воображения и поэзии от последующего века прозы
и механических искусств (промышленности). Но отсюда следует,
что поэзия стала уже невозможной, ибо она — результат невежества 13
и отсталости. Этот вывод действительно сделали современники Вико
во Франции. Они отвергали все, что противоречит сиятельной про-
зе царствования Людовика XIV Даже защищая Гомера от нападок
последователей Декарта, мадам Дасье сравнивает внутреннюю
стройность «Илиады» с планировкой Версаля. Общей идеей време-
ни было убеждение в том, что мифы древних — детские сказки. Что
касается поэзии, то все ее условные требования, рифмы и разме-
ры — нелепое стеснение. Для того чтобы лишить себя возможности
точно выражать свои мысли, люди изобрели специальное искус-
ство. Поэзия враждебна разуму, говорит Ламот. Не довольствуясь
исправлением «Илиады», он пишет собственные произведения —
оды и трагедии — в прозе. Чем больше развивается разум, тем
меньше места для воображения. Последние поэты будут философа-
ми, предсказывал аббат Трюбле в 1735 году**.
Итак, не только мифология — сама поэзия враждебна цивилиза-
ции. Поэтическое творчество основано на воображении, оно обман-
чиво. Это ложь, а всякая ложь, даже приятная, может скорее при-
нести вред, чем пользу. Так определяет значение поэзии знамени-
тый Жан Леклерк, которого Вико почтил латинским посланием.
Прогрессивное развитие народов отбрасывает поэзию как пережиток
темных баснословных времен древнейшей истории. Но открытие той
истины, что греки гомеровских времен были дикарями, имело также
неожиданные и полезные для исторической мысли следствия. За де-
вять лет до появления «Новой науки» в Париже вышла книжка
аббата д’Обиньяка, в которой уже доказывалось, что произведения
Гомера суть беспорядочное собрание басен, распевавшихся на яр-
марках слепыми, и что сам Гомер никогда не существовал.
* Perrault Ch. Paralleles des Anciens et Modernes. P. 1688, vol 1. Preface.
См. подробное изложение спора «древних и новых» в старой работе: Rigault.
Histoire de la querelle des anciens et des modernes. P. 1859. В более широких
рамках у Н. Gillot. La querelle des anciens et des modernes en France; de la
«Defense et illustration de la langue fran^aise» au «Paralleles des anciens et des
modernes». P. 1914.
** Cm.: L’abbe Trublet. Essai sur divers sujets de la litterature et de la morale.
P.. 1735, p. 148.
Эти итоги популярной философии до некоторой степени под-
готовили выводы «Новой науки», хотя, как мы увидим ниже, вы-
воды ее были совсем другие. К началу XVIII столетия идея непре-
рывного развития цивилизации (сам термин е1це не устоялся) уже
вошла в привычку, а с этой идеей неразрывно связана критика
предшествующих форм общественной жизни, варварски-героиче-
ских и феодальных порядков. Как уже сказано выше, традицион-
ные представления об историческом прошлом народов утратили
свою достоверность в глазах ученых. Мировоззрение прежних эпох
было отвергнуто как нелепый клубок предрассудков и химерических
представлений. Мы знаем также, что поэзии, силе воображения и
чувственному восприятию мира новая философия предпочитала
трезвую ясность идеи и прозаический характер изложения. Вместе
/4 с темными временами древности были осуждены предания и сказки
простого народа, остатки средневековой народной драмы и все, что
напоминало вакхический хоровод прошедшей жизни, по выражению
Гегеля.
Философия торжествующей прозы обладала своеобразным вели-
чием. Ее по-своему разделяли величайшие представители метафи-
зики XVII столетия и даже такие противники рационализма, как
Локк, для которого поэтическая форма — лишнее стеснение. В этом
с ним согласен и Лейбниц, несмотря на переворот, совершенный его
теорией малых и темных представлений, позволившей Баумгартену
построить первую эстетику как «низшую гносеологию».
Здесь впервые в наивной, почти схематической форме прояви-
лась двойственность нарождающегося буржуазного сознания. С од-
ной стороны, действительное освобождение мысли от темной доисто-
рической бессмыслицы поэтических времен — времен Ахиллеса и
Роланда, языческой и христианской мифологии. И наряду с этим
движением вперед — новая мифология механистического воззрения,
нелепые выдумки взбесившегося рассудка, враждебного творческой
энергии, свободной игре духовных способностей человека. Кабинет-
ная тупость и спесь одичавшего индивидуального сознания, далеко-
го от чувственно практической жизни народа, породили метафизиче-
ское, одностороннее представление о прогрессивном развитии
духовной культуры как монотонной функции, меняющейся в одном
и том же направлении. Маркс отвергает это представление в «Тео-
риях прибавочной стоимости»: «Так, капиталистическое производ-
ство враждебно известным отраслям духовного производства, на-
пример искусству и поэзии. Не учитывая этого, можно прийти
к иллюзии французов XVIII века, так хорошо высмеянной Лес-
сингом. Так как в механике и т. д. мы ушли дальше древних, то
почему бы нам не создать и свой эпос? И вот взамен «Илиады»
появляется «Генриада»*.
Чтобы понять отвлеченный и механистический характер этой
теории прогресса, достаточно сопоставить оптимизм картезианцев
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 1, с. 280.
со всеми бедствиями первоначального накопления, обнищанием
крестьянства, роковым поворотом в условиях наемного труда, но-
вым подъемом религиозного фанатизма, идущим рука об руку с
успехами эмпирического естествознания, упадком искусства и сво-
бодной мысли эпохи Возрождения. Но для стран европейского За-
пада теория цивилизации имела свои объективные основания. После
бурного взрыва классовой борьбы на грани нового времени сложи-
лась компромиссная форма развития — абсолютная монархия. Утра-
тив свои городские свободы и уступив первое место в государстве
дворянам, буржуазия приобрела ряд несомненных преимуществ.
Прежде всего она стала классом в широких национальных рамках.
Ее измена крестьянству и раболепство перед самодержавием до
некоторой степени окупались успехами внешней торговли, развитием
мануфактур, уничтожением феодальной раздробленности централи- 15
зованной государственной машиной. Декарт, Гоббс и Ньютон, Спи-
ноза и Лейбниц создали грандиозную картину мира, построенную
на принципах универсальной научной логики. Буржуазное общество
вышло из пеленок провинциального быта на большую дорогу
истории.
В Англии и Франции теория цивилизации, устраняющей в своем
постепенном развитии все недостатки общественной жизни, не была
простым лицемерием. Она заключала в себе прогрессивные материа-
листические элементы. Иначе обстояло дело в такой стране, как
Италия. Падение культуры Ренессанса не искупалось здесь широ-
ким национальным развитием. Напротив — разложение городской
демократии стало прологом глубокого упадка. Нация развивалась
исподволь, но развивалась ценой всеобщего равного унижения. Жал-
кие монархи утвердились на месте цветущих городских республик.
Торговля итальянских городов, и без того разрушенная глубоким
хозяйственным кризисом, окостенела под игом стеснительной регла-
ментации.
В этих монархиях чувствовало себя прекрасно только множе-
ство помещиков, все остальные классы были придавлены. Войска
и чиновники его католического величества грабили страну и
помогали грабить ее всевозможным мелким пиявкам, как в на-
стоящее время итальянские интервенты помогают фашистским гене-
ралам в Испании*. Моральное ничтожество итальянской буржуа-
зии, преклонившейся перед господством «сеньоров», хорошо обри-
совано Манцони в его историческом романе. Только в сердце
народа не затухало пламя ненависти к чужеземным захватчикам
и многочисленным мелким тиранам. В 1647 году Неаполь был по-
трясен восстанием Мазаньелло, испугавшим всю монархическую
Европу. Народ инстинктивно чувствовал, что придворная и ученая
цивилизация напоминает пятна отвратительной плесени на теле
общества.
* Статья написана во время гражданской войны в Испании.— Примеч. к
НОСТ. изд.
В этих условиях европейский рационализм принял особенно мел-
кий и односторонний характер. Вико был одинок среди итальянских
ученых своего времени. Ему пришлось испытать на себе все неудоб-
ства, проистекающие из одиночества,— травлю, замалчивание и свя-
занную с ним бедность, словом, все, чем литературные иеху могут
ответить на презрение, которое должен испытывать к их бездарным
рассудочным фикциям такой человек, как Вико. Благодаря своему
глубокому демократическому чутью он разгадал безжизненность
метафизических учений, их отчужденный характер, далекий от ре-
альных интересов народа. Вико относится к своим научным про-
тивникам, как Свифт к обитателям летающего острова Лапута. Са-
мые изощренные построения человеческого ума, созданные посред-
16 ством безукоризненной формальной логики или демонстративного
метода, самые отвлеченные понятия он сопоставляет с действитель-
ным миром истории, в котором все происходит гораздо менее гладко
и рационально, чем это хочется нашему рассудку. В «Новой науке»
поражают глубокое понимание аграрной основы мировой истории,
превосходный анализ классовой борьбы у древних народов и государ-
ства как средства защиты господствующей формы собственности.
Если сравнить «Новую науку» с лучшими произведениями
позднейшей просветительской литературы, то различие с самого
начала бросается в глаза. Вико ближе к простым материальным от-
ношениям общественной жизни, он смотрит на них глазами крестья-
нина, он умеет читать слова деревенские и лесные. Одним из глав-
ных предметов научной критики является для него тщеславие уче-
ных. Мы не найдем у Вико гражданского пафоса и демократической
морали просветителей. Он вообще не учит какому-нибудь общест-
венному поведению, не убеждает в полезности хороших законов, а
только следит за действительным развитием законодательства и
всех человеческих и гражданских вещей. Но иногда сквозь запутан-
ное, местами педантски-сухое изложение какого-нибудь отрезка
истории блеснет такое яркое пламя ненависти к угнетателям, такая
глубокая уверенность в верховном праве народа как главной дви-
жущей силы истории, что весь гражданский пафос литературы
XVII—XVIII столетий и вся ее теория цивилизации покажутся
бледной кабинетной выдумкой.
Вико слишком близок к трудящемуся человечеству и слишком
осторожен в своем оптимизме, чтобы отдаться энтузиазму и провоз-
гласить окончательную победу разума над стихией. Он хорошо
понимает противоположность классовых интересов и готов поверить
всякому новому достижению, всякому новому слову, только изучив
его материальное содержание. Просветитель рассуждает с точки
зрения развитого индивидуального сознания, Вико — с точки зре-
ния большой массы людей, которая не всегда достаточно сознатель-
на, но всегда озабочена делом реальнейшей необходимости и пото-
му разумна в историческом смысле этого слова. Отсюда ясно, что
древний обычай народов, легенды, поверья, мифы варварских вре-
мен Вико не может рассматривать как простой клубок предрассуд-
ков, и для него нет абстрактной противоположности между варвар-
ством и цивилизацией, чувством и разумом, поэзией и наукой.
Учение Вико сложилось в эпоху разносторонней критики сред-
невековья. Он сам считает научную критику своей специальностью.
Однако презрение к прошлому, стремление очистить интеллект
от всяких исторических наслоений, сделав его достоянием матема-
тики и отвлеченной морали,— эти популярные идеи времени чужды
«Новой науке». Своеобразие Вико состоит именно в том, что его
исторический анализ переходит в критику современной ему научной
критики и обращается не только против феодального и еще более
глубоко лежащего архаического прошлого,* но и против претензий
буржуазного рассудка. Так, доказав, что Гомер никогда не суще-
ствовал, что имя его — псевдоним народов Греции, которые сами
творили свои легенды и мифы, Вико признает «Илиаду» и «Одис-
сею» двумя сокровищницами простонародной мудрости целой
исторической эпохи. Чувства Ахилла грубы и ложны с точки зрения
последующей цивилизации, но они заключают в себе глубочайшие
истины как ступень духовного роста общества, отражение живых
и реальных общественных отношений.
Если эпоха науки (тайной мудрости философов) превосходит
эпоху поэзии (простонародной мудрости героических времен) в
смысле гражданского сознания и утонченности, то, с другой сторо-
ны, время Гомера и Данте богаче творческой энергией, силой вооб-
ражения и своеобразной народностью. «Поэтически возвышенное
всегда должно быть едино с народным». Это единство Вико находит
у древних и средневековых поэтов, а в новое время только в одном
классе общества — крестьянстве. «Во всякой деятельности люди, не
склонные к ней по природе, добиваются ее упорным изучением ма-
стерства; но в Поэзии совершенно невозможно добиться чего-нибудь
посредством мастерства тому, кто не склонен к ней по природе». Так
пишет Вико, устанавливая первые истины «Новой науки». «В силу
выставленной выше аксиомы, в каждой Способности может пре-
успеть посредством техники тот, кто не склонен к ней по природе, но
в Поэзии совершенно невозможно тому, кто не склонен по природе,
преуспеть при помощи техники,— в силу этого Искусства Поэтики
и Искусства Критики служат только для того, чтобы воспитать
талант, но не могут сделать его великим, так как утонченность —
это малая добродетель, а величие по самой своей природе пренебре-
гает всем малым: великий разрушительный поток не может не нести
с собою мутную воду и не переворачивать камни и стволы своим
стремительным течением; поэтому так называемые низкие вещи
столь часто встречаются у Гомера. Но из этого не следует, что Го-
мер перестает быть Отцом и Царем всех возвышенных Поэтов».
Сила Гомера тесно связана с неразвитостью общественных от-
ношений древнейшей Греции. «При такой человеческой необходимо-
сти народы, которые почти целиком были телом и почти совершен-
но лишены были рефлексии, обладали чрезвычайно живыми чувст-
вами для ощущения частностей, сильной фантазией для восприятия-*
17
и расширения последних, острым умом для сведения их к соответ-
ствующим фантастическим родам и крепкой памятью для их удер-
жания; эти способности, правда, принадлежат сознанию, но все они
корнями своими уходят в тело и от тела берут свою силу». Более
того, «Смысл Поэзии доказывает, что никому невозможно стать
одинаково возвышенным Поэтом и Метафизиком: ведь Метафизика
абстрагирует сознание от чувств, а Поэтическая Способность долж-
на погрузить все сознание в чувства».
Общий характер мышления древних времен — поэтический,
даже в тех случаях, когда его содержанием являются право, поли-
тика или представление о космосе. Общий характер мышления
цивилизованных времен — более отвлеченный, насыщенный рефле-
ксией. Эта манера мышления облекается в форму тайной мудрости.
18 то есть специальной науки, доступной немногим. «Но так как Тай-
ная Мудрость может принадлежать лишь немногим отдельным лю-
дям, то гармония поэтических героических характеров (в чем
заключается вся сущность Героических Мифов) не может быть те-
перь достигнута людьми, как бы они ни были сведущи в Филосо-
фии и в Искусствах Поэтики и Критики; именно ради этой гармо-
нии Аристотель прославляет Гомера как недостижимого в своей
лжи; то же самое говорит Гораций, признавая неподражаемость
его характеров». Отсюда вывод, который относится ко всей поэзии
неразвитых народов, столь презрительно отвергнутой писателями
XVII—XVIII столетий,— «люди детского мира были по природе
возвышенными Поэтами».
Преимущество «Новой науки» заключается в глубоком диалек-
тическом взгляде на историю духовной культуры, ее своеобразное,
противоречивое развитие. Всякое завоевание, всякий успех цивили-
зации покупаются ценою тяжких утрат, но нет и таких утрат, ко-
торые не имели бы своего искупления. Каждая ступень истории
культуры обладает своей самобытной ценностью, своеобразием.
Историческая теория познания Гегеля и Маркса уже проглядывает
в гениальных набросках Вико *.
Но эти преимущества «Новой науки» вытекают из тех же об-
щественных условий, которые сделали рационализм на итальянской
почве особенно жалким. Глубокий упадок культуры и аграрно-про-
винциальный характер развития Италии XVII—XVIII веков об-
нажили классовое отношение верхов и низов, свели их к самой
простой и грубой форме. Возвышение дворянства на развалинах
городской демократии делает нам понятным блестящий анализ
«героического общества» в книге Вико — общества, во главе кото-
рого стоят благородные, патриции, герои. Яркий контраст между
нищетой и богатством, слабое развитие среднего состояния, которое
в Англии и Франции как бы заполнило пропасть между цивилиза-
* Нетрудно было бы показать, что известные рассуждения Маркса о дет-
стве человеческого общества, как оно отразилось в греческой мифологии и
поэзии, имеют непосредственное отношение к «Новой науке» Вико.
цией и народом,— вот истинная основа глубокого исторического
реализма «Новой науки». Идея среднего состояния была опорой
теории цивилизации, залогом устранения общественных противо-
речий, источником оптимизма; но вместе с тем она явилась источ-
ником всех иллюзий грядущего века, века Просвещения и фран-
цузской революции, буржуазной демократии. Английские просвети-
тели от Локка до Адама Смита с особенной тщательностью
разрабатывали теорию цивилизации как философию компромисса.
В Италии дело обстояло иначе. Недоверие ко всем политиче-
ским рецептам, идущим сверху, отсутствие национальных иллюзий,
привычка к смене властей, не изменяющей угнетенного положения
народа,— все эти черты итальянского простолюдина выступают у
Вико то своей положительной, то своей отрицательной стороной.
Они порождают его примирение с жизнью, его политическое без-
различие, переходящее иногда в раболепство; они являются также
источниками его необыкновенных достоинств. Вико ближе к тем
грубым временам, когда классовое господство еще не было покрыто
дымкой буржуазной свободы. Вместе с тем он ближе к историче-
скому материализму, созданному в XIX веке Марксом и Энгельсом. 19
4. ТЕОРИЯ КРУГОВОРОТА
Представление о непрерывном развитии человеческого рода
(поступательном движении наций) является неотъемлемой частью
философии Вико. Но это представление лишено у него той отвле-
ченности, которая побуждала Перро или Фонтенеля смотреть на
всю предшествующую историю с более или менее ясно выраженным
высокомерием. Вико понимает вечную прелесть детства человече-
ского общества и не стремится отбросить чувственно-практическое
простонародное отношение к миру ради успехов сиятельного рас-
судка. Он превосходно рисует, как героический век — эпоха личной
зависимости, господства и рабства, фантастического права и суро-
вой аристократии, век слабого рассудка и живого воображения, ми-
фологии и эпоса — уступает место демократическим порядкам, ра-
циональной прозе, господствующей в республиках (символом
которых является не копье, а кошелек и весы). Вико понимает про-
грессивность этого перехода. Картина жестокого угнетения народа
землевладельческой аристократией, набросанная в нескольких гла-
вах «Новой науки», превосходит самые смелые рассуждения просве-
тительской эпохи. Ненависть к остаткам средневековья у Вико по-
истине органическая, нисколько не книжная. Но вместе с тем Вико
сомневается в том, что победа буржуазной цивилизации над эпохой
поэтического варварства является абсолютным прогрессом. Ее про-
грессивность исторически относительна.
Вместе с фантастикой героической эпохи из общественной жизни
исчезает определенный элемент народности, которого не может вер-
нуть даже «милостивое право, оцениваемое по равной для всех по-
лезности причин». Формальная независимость личности часто усту-
пает естественной свободе, охраняемой обычаем. Не является ли
чувственное сознание, основанное на ярких и общедоступных обра-
зах, более демократическим, более близким к телесно-практической
жизни большинства людей, чем тайная мудрость философов, про-
заическая и холодная? Что может быть более равнодушным к стра-
даниям и радостям человечества, чем рассуждения de more geometri-
со? Народы — «поэты по своей природе».
Вико еще неизвестны противоречия развитого буржуазного
строя. Он судит только на основании тех круговоротов, которые
испытали более ранние и простые общественные организмы. Однако
в этих пределах его рассуждения безукоризненны. Туман героиче-
ских времен рассеивается, демократия побеждает, а вместе с ней
20 приходят гуманность и самосознание. Но эта победа недолговечна.
Народная свобода в республиках, символом которых являются
весы и кошелек, становится удобной ширмой для обогащения не-
многих. Частные интересы побеждают общественное начало, и сво-
бода превращается в рабство.
«После того как Могущественные в народных республиках стали
направлять Общественный Совет в личных интересах своего Могу-
щества, после того как Свободные Народы в целях личной пользы
дали Могущественным соблазнить себя и подчинили свою общест-
венную свободу их властолюбию, тогда возникли партии, начались
восстания и гражданские войны, и во взаимном истреблении на-
ций возникла форма Монархии». Благословенно рабство, ибо оно
сохраняет частицы справедливости! Благородные управляли своими
вассалами или клиентами на основе варварских обычаев, неписа-
ных и тайных законов. Плебейская масса боролась за писаные
законы, рациональную юриспруденцию. И что же? Тирания зако-
нов необычайно выгодна для могущественных и враждебна естест-
венному праву народов. Казуистика героических времен, сохраняв-
ших буквальное значение законодательных формул, не исчезает, она
лишь видоизменяется, переходя в формализм юристов,— казуистику
в собственном смысле слова, известную только образованным на-
циям. Так цивилизация приводит к новому варварству, варварству
рассудка, рефлексии. «Как и во времена варварства чувств, варвар-
ство рефлексии соблюдает слова, а не дух законов и установлений,
но оно значительно хуже первого, так как варварство чувств верило,
что справедливое — это то, что его поддерживало, то есть звуки
слов; варварство же рефлексии знает, что справедливое — это то,
что его поддерживает, то есть то, что имеют в виду установления и
законы, но стремится обойти это суеверием слов».
Справедливость общественных установлений остается в об-
ласти отвлеченных идеалов; на практике идеальные нормы осуще-
ствляются только посредством самых уродливых извращений. Дух
нового мира — лицемерие. Да и сами по себе отвлеченные формулы
права настолько узки, что справедливость находит себе защиту
только в милости. Система Вико содержит характерную непоследо-
вательность. Показывая, как человеческая природа угнетенных на-
родов побеждает героическую природу благородных, Вико сближает
этот процесс с общим развитием сознания от бесформенной и ту-
манной фантастики к рассудочному мышлению демократических
времен. Согласно этой схеме высшей формой юстиции должны быть
суды, основанные на строжайшем соблюдении рациональных норм.
Пусть погибнет мир, но свершится правосудие! Однако в действи-
тельности Вико считает более демократическим и гуманным судо-
производством то, которое обращается с нормой закона более или
менее свободно. В своем отвращении к тирании законов Вико бли-
зок к идеям Возрождения, как они выступают перед нами в комедии
Шекспира «Мера за меру». Не господство непогрешимых законов,
а напротив: отступление от норм рациональной юриспруденции
(точнее—буржуазного права) является основой~ человеческого,
милостивого правосудия. Это правосудие не довольствуется фор-
мой, но «рассматривает истинность фактов и милостиво склоняет
смысл законов везде, где того требуют равные условия».
Если два человека равны перед законом, но не равны на самом
деле по своему реальному положению, то для сохранения справедли-
вости необходимо следовать истинности фактов, нарушая формаль-
ную правильность закона. Итак, узкий горизонт буржуазного пра-
ва, по известному выражению Маркса, не был секретом для Вико,
но он полагал, что единственной возможной гарантией справедливо-
сти явится допущение какого-то остатка иррациональных времен.
Чувство должно спасти рассудок от бессмыслицы, монархия — от
жестокости республик, основанных на богатстве. И Вико грезит о
высшем типе судов — судов, совершенно не упорядоченных. «В них
господствует истинность фактов; под диктовку совести, везде, где
встретится нужда, на помощь им приходят милостивые законы во
всем том, чего требует равная для всех полезность причин. Они
овеяны естественным стыдом, плодом образованности, а потому и
гарантией в них служит добросовестность — дочь культуры, соот-
ветственно искренности Народных республик и еще того больше —
благородству Монархий, где Монархи в такого рода судах торжест-
венно ставят себя выше законов и считают себя подчиненными толь-
ко совести и Богу». Много времени спустя эти рассуждения
повторил Бальзак в «Банкирском доме Нусингена». Да, собственно,
и гегелевская философия права основана на подобном сдерживании
противоречий буржуазного строя посредством монархических уч-
реждений.
Вико различает монархию, следующую за народными республи-
ками, и первоначальную монархию божественных времен (римских
царей или греческих базилевсов). Первая отвечает в известном
смысле интересам плебеев, так как она подчиняет себе могущест-
венных, опираясь на ненависть к ним со стороны простого народа.
Автор «Новой науки» рисует картину утверждения монархии по
образцу итальянских государств эпохи Возрождения или импера-
торского Рима. Его монархизм — местами простое историческое
наблюдение, местами идеалистическая утопия в духе теоретиков
21
просвещенного абсолютизма или, скорее, в духе Гегеля. При этом
повсюду Вико дает понять, что демократия является высшим ре-
зультатом культуры, и только в силу превратности вещей она не-
долговечна и нуждается в сохранении ее прогрессивного зерна по-
средством некоторого обращения вспять — к монархии.
Однако рабство в качестве гарантии свободы дорого обходится
человечеству. Возникает развитая государственная система, вопло-
щенная в особе монарха, «который силой оружия берет на себя все
общественные заботы и предоставляет подданным заботиться о
своих частных делах; у подданных остается та забота о делах об-
щественных, и лишь постольку, какую и поскольку им разрешает
Монарх». Вследствие этого нация погружается в политический ин-
дифферентизм. «Когда граждане становятся почти что чужестран-
22 цами в своих нациях, тогда оказывается необходимым, чтобы Мо-
нархи своей особой их направляли и представляли».
В монархиях, пишет Вико, народ отдыхает от гражданских войн
и партийной борьбы, но вместе с тем он утрачивает живую общест-
венную активность и подлинный гражданский героизм. Странное
дело! «Почему в незрелые времена Рима римляне были чрезвычай-
но мудры в государственных делах, тогда как в просвещенные вре-
мена, по словам Ульпиана, государственные дела разумеют лишь
отдельные и весьма немногие люди, опытные в управлении?» Вар-
варские времена скупы и корыстолюбивы, образованные — гуман-
ны и великодушны. Однако римские и греческие герои остаются
образцами доблести и самопожертвования, а новые народы, более
склонные к удобствам и погружению в частную жизнь, показывают
мало примеров настоящего героизма. Или все это только заблужде-
ния историков?
Вико думал иначе. Он понимает, что гражданский ум и велико-
душие римлян не заключали в себе того идеального гуманного со-
держания, которое предполагают в них писатели, зараженные пред-
рассудком о непостижимой мудрости древних. Но в героические
времена, когда государство носило аристократический характер,
каждый из героев «лично обладал значительной частью обществен-
ной пользы». Этой частью была его семейная монархия — господ-
ство над сыновьями и слугами, famuli. «И ради этого великого
личного интереса, сохраненного для них Государством, они естест-
венно отодвигали на задний план меньшие личные интересы. По-
этому они естественно и великодушно защищали общественное бла-
го, то есть благо Государства, и мудро судили о государственных
делах».
Это был героизм естественный, который во многих отношениях
прямо противоположен гражданскому героизму в общечеловеческом
смысле этого слова. Возможность настоящего гражданского героиз-
ма возникает только вместе с переходом от варварства к цивилиза-
ции. Но она погибает на пороге своего существования. В республи-
ках общественное благо распылено на множество мельчайших ча-
стей, в монархиях подданным предлагают заниматься своими
личными интересами, предоставив заботу об общественном благе
одному лицу, суверенному государю. Развитие человечности проис-
ходит вместе с падением всесокрушающей общественной энергии,
которой так богаты варвары (она раскрывалась не только в господ-
ской доблести благородных, но и в соревновании с ними подчинен-
ных сословий). «Героизм теперь по самой природе гражданствен-
ности невозможен». В республиках герои единичны, как Катон
Утический (да и тот лишь благодаря своему аристократическому
духу). В монархии героями называют тех, кто верно служит своим
правителям. «Поэтому нужно прийти к заключению, что героя в
нашем смысле угнетенные народы жаждут, философы изучают,
поэты воображают, но гражданская природа не знает такого рода
благодеяний».
Другими словами, поступательное движение наций полно самых 23
глубоких противоречий. Создает ли оно гарантии действительной
народной свободы? Не вырождается ли общественная энергия на-
родов вместе с развитием общественного богатства, обособлением
государства от общества, утверждением формального права, изу-
чаемого особым сословием юристов, вместе с победой эгоистическо-
го рассудка над бессознательным общественным чувством прими-
тивных народов? Да, на высшей ступени цивилизации народы снова
впадают в состояние варварства, вначале совершенно иного, чем
варварство эпохи Гомера или Данте. «Так как Народы, подобно
скотам, привыкли думать только о личной пользе каждого в отдель-
ности, так как они впали в последнюю степень утонченности или,
лучше сказать, спеси, при которой они, подобно зверям, приходят
в ярость из-за одного волоса, возмущаются и звереют, когда они
живут в наивысшей заботе о телесной преисполненности, как бесче-
ловечные животные при полном душевном одиночестве и отсутствии
иных желаний, когда даже всего лишь двое не могут сойтись, так
как каждый из них преследует свое личное удовольствие или ка-
приз,— тогда народы, в силу всего этого, из-за упорной партийной
борьбы и безнадежных гражданских войн начинают превращать го-
рода в леса, а леса — в человеческие берлоги. Здесь в течение дол-
гих веков варварства покрываются ржавчиной подлые ухищрения
коварных умов, которые варварством рефлексии сделали людей
такими бесчеловечными зверями, какими сами они не могли стать
под влиянием первого варварства чувств: ведь это варварство обна-
руживало великодушную дикость, от которой можно было защи-
титься или борьбой, или осторожностью, а варварство рефлексии
с подлой жестокостью, под покровом лести и объятий посягает на
жизнь и имущество своих ближних и друзей. Поэтому народы от
такой рассудочной злости, применяемой в качестве последнего ле-
карства провидением, настолько тупеют и глупеют, что не чувст-
вуют больше удобств, изысканности, наслаждений и роскоши, но
одну лишь необходимую жизненную полезность».
Эти страницы — одно из самых блестящих изображений падения
человеческих нравов в обществе, основанном на купле и продаже.
Это духовное царство животных, по выражению Гегеля, описано
Вико во всех его морально-психологических особенностях, описано
с дерзкой полнотой и откровенностью, с подлинным даром историче-
ского предвидения. Царство рассудочной злости, одичание под
сенью культуры, стихия глупости, подавляющая всякие признаки
мысли, полное погружение в идиотизм и бесчеловечность — разве
все это не заставляет вспомнить замечательные слова Ленина: «Как
будто с цивилизацией, с культурой страны опять возвращаются к
первобытному варварству, опять переживают такое положение, ко-
гда дичают нравы, звереют люди в борьбе за кусок хлеба... «циви-
лизованный)», «культурный», капиталистический мир идет к неслы-
ханному краху, который спЪсобен порвать и неминуемо порвет все
основы культурной жизни» *.
24 Учение Вико о круговороте отражает некоторые реальные сто-
роны поступательного движения наций. Многие предсказания «Но-
вой науки» подтвердились в самых широких размерах — поздней-
шие критики буржуазной цивилизации в XIX веке повторяют
слова великого итальянца о новом варварстве. Но, как всякий про-
рок, Вико рассуждает туманно, с оттенком мистицизма. Реальные
картины действительности подернуты у него фантастической дым-
кой, ослаблены бессознательным впечатлением общественного кру-
говорота малых культур. Это впечатление носит еще слишком непо-
средственный и провинциальный характер, чтобы искры самосозна-
ния, те блестки гениальности, которые Маркс находил в «Новой
науке», могли осветить всеобщие формы диалектического движения
истории. Идея круговорота становится односторонней, и древний
предрассудок поглощает едва родившуюся научную истину.
Человечество стоит перед дилеммой, писал Ленин в 1917 году,—
«погубить всю культуру и погибнуть или революционным путем
свергнуть иго капитала, свергнуть господство буржуазии, завое-
вать социализм и прочный мир» **. Вико не знает и не может знать
подобной дилеммы. Падение культуры является для него неизбеж-
ным. Правда, автор «Новой науки» придает большое значение ре-
волюции масс. Но он не верит в прочность завоеваний народа.
«Люди сначала стараются выйти из подчинения и жаждут равен-
ства,— таковы Плебеи в Аристократических республиках, которые
в конце концов изменяются в Народные. Потом они стараются пре-
взойти равных,— таковы Плебеи в Народных республиках, иска-
жающихся в республики Могущественных». Все это, в конце
концов, приводит к анархии, при которой «столько тиранов, сколь-
ко в государстве наглецов и разбойников». Тогда начинается пе-
риод отрезвления, и народы находят выход в подчинении едино-
властию. Таков извечный круговорот всех революционных эпох.
Ограниченность этого представления, взятого как закон вечной
истории, не нуждается в доказательствах. Но не следует забывать,
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 436.
** Там же, т. 35, с. 169.
что для прежней истории мнение Вико имело свое объективное
оправдание. Идея круговорота гораздо старше идеи прогресса, и,
конечно, она не беспочвенна.
Наш мир подобен колесу, что вверх и вниз стремит судьба...
Так плотник мастерит равно и колыбели и гроба:
Приходит сей, уходит тот, а он работает всегда.
Эта гномическая мудрость старых поэтов часто встречается у наро-
дов древности и средневековья. Ее наиболее известными образцами
являются «Книга Екклесиаста)» или отрывки из поэмы Гераклита.
Настроение, лежащее в основе этих изречений, при всех оттенках
различия передает одну из объективных сторон древней истории —
присущие ей черты постоянного возвращения к одному и тому же
пункту. Люди приходят и уходят, шумные политические события 25^
сменяют друг друга, рушатся и вновь создаются великолепные
царства, а бедный феллах по-прежнему ковыряет землю. О повто-
рении одних и тех же форм в истории Древнего Востока хорошо
писал Энгельс в статье «К истории первоначального христианства».
Греческий полис и средневековые городские республики также про-
шли однообразный путь подъема и увядания согласно тому порядку
гражданских и политических форм, который Вико назвал основа-
нием вечной идеальной истории.
Европейская цивилизация нового времени разорвала замкну-
тую оболочку прежних культур. Но при всей быстроте движения,
свойственной капиталистическому строю, старые азиатские черты
извечного круговорота в нем сохранились. Движение культуры
было поверхностным и непрочным, оно задевало лишь узкую вер-
хушку, оставляя в тени все остальное человечество. Недаром скеп-
тики позднего Возрождения — Монтень и Шаррон — сравнивали
народную массу с неподвижной почвой, молчаливым основанием, на
котором совершаются все земные события. Назначение почвы —
терпеть. Владыки меняются, меняются правительства и системы,
политическая феерия проносится над согнутыми спинами людей, а
земля по-прежнему требует пота и крови. «Я видел старые време-
на,— говорит у Бальзака старик Фуршон,— и вижу новые, милей-
ший мой ученый барин, вывеска другая, это правда, но — вино все
то же! Сегодняшний день только младший брат вчерашнего. Да.
Напишите-ка об этом в ваших газетах! Разве мы раскрепощены?
Мы по-прежнему приписаны к тем же селениям, и барин по-прежне-
му существует: называется он — труд! Кирка остается по-прежне-
му единственной нашей кормилицей. На барина ли работать или
на налоги, которые все лучшее у нас отбирают,— все одно, жизнь
проходит в поте лица».
Начиная с эпохи Возрождения, народы, доведенные до отчая-
ния, не раз поднимались, защищая свои интересы. Но эти движе-
ния, полные самых драматических эпизодов, еще не могли осуще-
ствить глубокие устремления плебейской массы — они неизменно
оканчивались отливом революционной волны. Одни угнетатели сме-
няли других, на месте аристократии божьей милостью утвердилась
новая аристократия капитала. Не задолго до своей гибели пред-
шественник пролетарского коммунизма Гракх Бабёф писал: «Силь-
ные мира сего оригинально понимают слово «революция», когда
утверждают, что революция у нас уже произошла. Лучше бы они
сказали — контрреволюция. Еще раз: революция — это всеобщее
счастье, но этого-то у нас и нет, следовательно — революция не со-
вершена. Контрреволюция — это несчастье подавляющего большин-
ства; это у нас есть, следовательно — у нас имела место контррево-
люция» *.
Так оценивал итоги буржуазного переворота во Франции один
из самых последовательных борцов за народные интересы. Гибель
революционных поколений, годы величайшего напряжения, голод,
26 иностранное нашествие, бесчисленные жертвы гражданской вой-
ны — все это, казалось, было нужно лишь для того, чтобы на почве,
обильно политой кровью, могли расцвести спекуляция, грюндерство,
карьеризм. Люди, выдвинутые революцией, погибали на эшафоте
или становились сенаторами Империи, как Мален, герой романа
Бальзака «Темное дело». На сцену выступили деятели, подобные
Фуше и Талейрану, практические учителя скептицизма, условности
всех норм добродетели и права. Среди развалин былых революцион-
ных идеалов выросли внутренне опустошенные молодые люди нача-
ла XIX столетия.
Конечно, ни сама идея круговорота, ни связанное с ней скепти-
ческое умонастроение не могли исчерпать всего содержания рево-
люций прошлого. В этой идее отразилась только одна из сторон
исторического развития, имеющая лишь относительное значение.
Мы знаем теперь, что гибель революционных поколений не была
напрасна. Она внесла свою лепту в предысторию социалистическо-
го общества, хотя посев всегда отделен от жатвы. Это правило, ка-
жется, в гораздо большей степени может претендовать на роль
закона «идеальной вечной истории», чем сам по себе круговорот ве-
щей, ослепляющий ум своей формальной достоверностью. С более
широкой точки зрения не существует круговоротов — они раство-
ряются в поступательном движении наций. Но в определенные тра-
гические периоды истории конечная цель еще слишком далека, а
бремя сегодняшних жертв так тяжело и мучительно, что сами мас-
сы приходят к философии старика Фуршона и на долгие годы по-
гружаются в состояние политической апатии. Периоды квиетизма
и безразличия неизменно следовали за революционными бурями
прошлого.
Это была благодарнейшая почва для всякого преклонения
перед стихийным ходом вещей, для фатализма в духе Платона
Каратаева. Отрицательные стороны прогресса, страдания подав-
ляющего большинства людей казались бессмысленными, ибо прак-
тически они были оторваны от положительных результатов истории.
* «Tribune du Peuple», IV г., 9 фримера, № 35.
Философия, которая хотела подняться над отрицательной муд-
ростью скептицизма, как философия Вико, искала мистических свя-
зей. Именно в этой бессмыслице она стремилась открыть глубокий
исторический смысл. Так, Вико восхваляет монархию, хотя пре-
восходство народных правлений для него совершенно понятно. Он
понимает и оправдывает все, и во всяком несчастье, ниспосланном
человечеству, видит перст провидения. Все целесообразно. И пусть
народы, уставшие от бесплодных гражданских войн, предавшиеся
всем порокам варварства рефлексии — роскоши, изнеженности, ску-
пости, зависти и спеси,— теряют свою национальную независимость
и делаются рабами других народов, покоряющих их силою ору-
жия,— даже в этом заложен разумный смысл. «И здесь сияет
двоякий свет естественного порядка: во-первых, что тот, кто не мо-
жет управлять собою сам, должен предоставить править собою дру-
гому, могущему это делать; во-вторых, что в мире всегда правят те,
кто лучше по природе)». Как странно, что это говорит — и говорит
почти гегелевскими словами — неаполитанец Вико, уроженец стра-
ны, которая долго стонала под игом Чужеземцев! Даже абсолютное
падение культуры и постепенное возвращение к первоначальному
варварству, варварству чувств, кажется ему естественным, целесо-
образным. С возвращением к исходному пункту нации возрожда-
ются, как Феникс, черпая из этого грубого состояния новую силу, и
могут начать еще раз свое кругообразное движение. Похоже на то,
что само падение культуры также разумно.
Вико не приходит в голову, что с точки зрения непосредствен-
ной целесообразности всего происходящего в истории непонятно,
зачем понадобилось божественному уму это бессмысленное круже-
ние на одном месте. Если круговорот культуры есть следствие есте-
ственных катастроф, если историей правит извращенная злая воля
Демиурга, фатальный закон падения всего великого и прекрасно-
го,— все это еще переносимо для нашего сознания. Но представле-
ние о вечном разуме, направляющем движение культуры от варвар-
ства к цивилизации и обратно,— бессмысленно и вызывает протест
самого разума, мнение которого в данном случае невозможно отбро-
сить в сторону.
Идея круговорота отражает всемирную историю односторонне.
Это кривое зеркало. Но, как всякое зеркало, даже кривое, оно отра-
жает по-своему реальные стороны исторического развития. Вико
не сумел соединить в живом диалектическом понятии два элемента
развития: поступательное движение наций и возвращение чело-
веческих вещей (обратное движение, повторение прежних моментов
на новой, более высокой ступени). Таков основной недостаток его
философии истории, который нельзя считать результатом личной
слабости или простого непонимания. Если идея круговорота иска-
жает историческую реальность, то причины этого искажения коре-
нятся в самой истории (подобно тому как обратное изображение
предметов на сетчатке глаза проистекает из непосредственно физи-
ческого процесса жизни).
27
Единство поступательного движения наций и возвращения всех
человеческих вещей существует во все времена, но вместе с тем оно
может быть только результатом долгого и мучительного процесса
развития. Постоянное разрушение культур в истории Древнего
Востока, упадок демократической Греции, разложение всемирного
государства римлян, падение городских республик эпохи Возрож-
дения и многое, многое другое свидетельствует о глубоких противо-
речиях поступательного движения наций. Это движение преры-
вается стихийными катастрофами, которые обращают цивилизацию
вспять и производят непоправимые разрушения. Только в итоге
всей глубокой и всеохватывающей коммунистической революции
возвращение человеческих вещей станет нормальной пульсацией об-
щественного организма.
При всех своих фантастических чертах философия истории
Вико несет на себе отпечаток живой реальности. В ней слышен бес-
сознательный отзвук мучительной исторической работы, голос об-
нищавших народов, чьи слезы были непосредственным результатом
первых больших завоеваний прогресса. «Новой науке» не хватает
сознательного элемента; в остальном даже то, что является у Вико
нелепым, может быть понято как отражение определенной истори-
ческой ситуации, столь же нелепой и варварской, как и само отра-
жение, если судить о ней с точки зрения человеческой истории в
собственном смысле слова, то есть истории будущего коммунисти-
ческого общества.
1936
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ „ДЖАМБАТТИСТА ВИКО"
1
В высшей степени интересна у Вико теория происхождения язы- 29
ка и поэзии. Еще в XVII столетии Гоббс (в De согроге), следуя
Аристотелю, высказал мнение, что человеческая речь является со-
бранием знаков, выражающих определенные предметы. Происхож-
дение этих знаков относится к тем временам, когда первобытные
люди — изолированные эгоисты — начали вступать в общение друг
с другом. Язык — искусственное изобретение людей.
Эта теория в настоящее время кажется слишком поверхностной.
Но следует помнить, в каких исторических обстоятельствах она
сложилась. Теория условных знаков была направлена против сред-
невековой мистики слова, имени, титула; против суеверного отно-
шения к словесным формулам, присущего мышлению феодальных
времен. Гоббс повторяет Шекспира:
Слово — раб простой,
Что лжет над каждой гробовой плитой.
Язык, состоящий из слов, начертанных на пергаменте или вы-
сказанных в устной речи, не есть самостоятельная стихия, господ-
ствующая над человеком и подчиняющая его слепому авторитету,
как заклинание подчиняет духов. Слова — это только слова, нечто
изменчивое, относительное, условное и служащее для определенных
человеческих надобностей.
Просветители XVIII века вложили в эту теорию более широкий
утилитарный смысл. Кондильяк заставляет первобытных людей —
мужчину и женщину — испытывать потребность в выражении своих
чувств. Постепенно они переходят от естественных знаков (signes
naturels) — каковы, например, крики, вызванные болью или при-
ливом страсти,— к произвольно выбранным символам артикулиро-
ванной речи (signes arbitrages). Кондильяк вовсе не утверждает, что
выбор и понимание этих знаков были с обеих сторон вполне созна-
тельны. Он даже прямо отрицает присутствие сознательного момен-
та в процессе изобретения или, скорее, открытия языка. И все же
первая пантомима или первый разговор, описанный в «Опыте о про-
исхождении человеческих знаний»,— это обычная для XVIII века
робинзонада, с той разницей, что здесь действует не один Робинзон,
а два. Первобытному человеку приписывается позднейшее созна-
тельное стремление к выражению своих идей. Связь между языком
и предметным миром человеческой практики рассматривается как
условное, правда, вошедшее в привычку, но внешнее, аллегориче-
ское соответствие. Из первобытного языка жестов Кондильяк выво-
дит танец, из просодии — музыку, драматическое искусство и по-
эзию вообще. Происхождение живописи он объясняет потребностью
в передаче идей на расстоянии посредством изобразительного
письма.
Таким образом, происхождение искусств утилитарно, они воз-
никли на основе практической потребности и лишь впоследствии
стали делом чистого удовольствия. Эта мысль, вообще говоря, пра-
вильна, но само понимание материальной необходимости, практиче-
30 ской нужды носит у Кондильяка настолько отвлеченный характер,
далекий от исторического развития общественных форм, что вся его
теория остается в области чистой условности. Подобно этому эконо-
мисты XVII—XVIII столетий считали деньги условными знаками,
выросшими из материальной потребности в обмене. «Так как деньги
в известных своих функциях могут быть заменены простыми зна-
ками денег, то отсюда возникла другая ошибка,— что деньги только
знаки».
«С другой стороны, в этом заблуждении сквозит смутная до-
гадка, что денежная форма вещей есть нечто постороннее для
них самих и что она только форма проявления скрытых за ней чело-
веческих отношений. В этом смысле каждый товар представлял бы
собой только знак, потому что как стоимость он лишь вещная обо-
лочка затраченного на него человеческого труда. Но, объявляя про-
стыми знаками те общественные свойства, которые на основе опре-
деленного способа производства приобретают вещи, или те вещные
формы, которые на основе этого способа производства приобретают
общественные определения труда, их тем самым объявляют произ-
вольным продуктом человеческого разума. Такова была излюблен-
ная манера просветителей XVIII века, применявшаяся ими для
того, чтобы, по крайней мере временно, снимать покров таинствен-
ности с тех загадочных форм, которые имели человеческие отноше-
ния и возникновение которых еще не умели объяснить» *.
Это типичный прием общественной философии XVII—XVIII ве-
ков. То, что казалось ей простым, рациональным, желательным, она
переносила в отдаленное прошлое. Изолированный эгоистический
индивид буржуазного общества, освобожденный от всех патриар-
хальных связей, превращается в естественного человека, Робинзо-
на, стоящего у истоков культуры. Он охотится или удит рыбу, изо-
бретает язьщ для выражения своих мыслей, деньги — для обмена,
искусство и поэзию — для своего удовольствия и, наконец, вместе
с другими охотниками и рыболовами заключает общественный до-
говор. Эти условные образы, как бы геометрические допущения об-
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 100—101.
щественнои науки, почти заслоняют в эту эпоху реальную историю
культуры.
Ничего подобного нет у Вико. «Новая наука» отвергает кабинет-
ные фикции ученых и популярные предрассудки буржуазного кру-
гозора. Государственная власть, право, язык, поэзия — не искусст-
венное изобретение общества. Они непосредственно вплетены в ма-
териальную жизнь первобытных народов и развиваются вместе с
классовой борьбой, которую Вико понимал как борьбу угнетенных
и угнетателей. Уже в начале своего сочинения он обращается против
тщеславия наций и тщеславия ученых. Так называет Вико привыч-
ку мыслить поверхностно, неисторически, переносить в отдаленное
прошлое современные отношения между людьми, судить о всех вре-
менах на основе тех представлений, которые воспитывает в людях
буржуазная цивилизация.
Два представления были особенно распространены в эпоху
Вико. Согласно одной из распространенных теорий у истоков куль-
туры безраздельно господствовало правило «человек человеку
волк». Люди необщительны и злы по природе, они ищут во всем
своей собственной выгоды. Только насилие и привычка могут за-
ставить их соблюдать некоторый порядок и законы общежития. Ци-
вилизация является искусственной надстройкой, под сенью которой
шевелится естественный эгоизм.
Мы увидим в дальнейшем, что Вико отвергает эту теорию, со-
зданную или, вернее, теоретически выраженную Гоббсом. Но еще
наивнее представление, будто история общества началась с тихой
идиллии, блаженного естественного состояния первобытных людей,
нравственных, справедливых, мудрых и благовоспитанных. Вико
смеется над «беспочвенным мнением о невинности Золотого века».
Философы и филологи рассказывают басни о таинственной мудро-
сти первобытных людей, они переносят в древние времена новей-
шие представления о праве и справедливости. Вико приводит десят-
ки примеров бесчеловечности древних народов, для того чтобы
показать «до какой степени пусто тщеславие Ученых, восхваляющих
Невинность Золотого века, наблюдаемую у первых языческих
наций».
Древние времена были царством жестокости и грубой силы. По-
луживотные, полулюди, гиганты телом и дети умом, бродили предки
современного человечества по «великому лесу Земли». Они овладе-
вали женщинами там, где могли, не зная ни правильного брака, ни
законов, запрещающих кровосмешение. Наиболее могущественные
из них основали цивилизацию, состоявшую на первых порах из са-
мых грубых привилегий. В это время государство еще не существо-
вало, но ему предшествовала циклопическая семейная дисциплина,
власть отцов. Патриархат — господство руководителей кланов — вы-
глядит в изображении Вико далеко не так благодушно, как у Бодена
или английского теоретика патриархальной монархии Филмера. Это
не юридическая фикция, а реальная власть, деспотическая и жесто-
кая, власть над собственностью и телом членов семьи, а семья, по
31
утверждению Вико, включала не только сыновей, но и famuli, то
есть домочадцев, клиентов, новоселов, зависимых от «владыки Поли-
фема» (отсюда и название семьи — familia).
В недрах большой семьи начинается борьба классов. Первым
в мире авторитетом была собственность. Не нужно думать, что соб-
ственность отцов покоилась на каком-нибудь общественном условии
или формальном праве. Вико следующим образом разъясняет ман-
ципацию — один из титулов собственности в Древнем Риме. Термин
mancipatio происходит от сареге manu, то есть брать, хватать рукой.
Юридический титул имеет реальное вещественное содержание. Про-
тотип всякого владения есть захват, простая оккупация. Это пер-
вый великий естественный источник всякой собственности. Mancipa-
Но началось с «истинной руки» (vera mano): говорили рука вместо
сила, так как сила абстрактна, а рука ощутима. Рука у всех наций
обозначает власть. Отсюда — возложение рук, поднятие рук кверху
и другие обычаи, которые постепенно отделились от их простейшей
основы. «У Римлян впоследствии это выражение сохранилось на
войне; поэтому рабы назывались mancipia, а добыча и завоевания —
res mancipi Римлян, став в результате победы res nec-mancipi для
побежденных».
Вот почему первая собственность не была юридическим поня-
тием. «Еще не понимали права и думали, что имеют благосклонного
или неблагосклонного Бога». Собственность освящалась религией,
но об этой религии также не следует судить на основе поздней-
ших представлений. Ученые пытались толковать религиозные леген-
ды древних аллегорически, вкладывая в них глубокий моральный
смысл. Но смысл их в первые времена был более прост. «Варрон
обладал достаточным прилежанием, чтобы собрать имена тридцати
тысяч Богов,— и столько их насчитывали Греки. Эти имена относи-
лись к такому же числу нужд жизни, или природной, или нравствен-
ной, или экономической, или, наконец, гражданской первых времен».
Обращение с религией — одна из наиболее двойственных черт
исторического анализа Вико. С одной стороны, он постоянно заяв-
ляет, что без религии не было бы культуры. Вико полемизирует
против предшественника просветителей Бейля, утверждавшего, что
государство атеистов вполне возможно. Словарь Бейля подготовлял
буржуазно-демократическую идею отделения церкви от государст-
ва. Вико, разумеется, неправ, отвергая эту идею. Но он глубоко
прав в другом, если понять его взгляд на религию достаточно пол-
но. Первые времена, согласно теории Вико, были божественным
веком именно потому, что это времена наибольшей грубости и вар-
варства. Вообще, там, «где народы настолько озверели от войн, что
у них уже больше не действуют человеческие законы, там единст-
венным могущественным средством обуздать их является Религия».
Положение в высшей степени двусмысленное для католического
писателя, каким был или по крайней мере хотел казаться Вико.
Это отчасти напоминает религиозность Фейербаха и позднего
Гейне. Мне нужна религия, ибо я исковеркан болезнью, а на ко-
стилях куда же пойти? Только в церковь. Будь я здоров, я бы, ко-
нечно, отбросил костыли и пошел гулять на бульвар. Так рассуж-
дал однажды Гейне в беседе с Альфредом Мейснером. Начало
культуры освящено религией именно потому, что положение чело-
века в это время было наиболее жалким. Государство атеистов не-
возможно. Что хотел сказать этим Вико? Прежде всего то, что
государство основано не на «Естественной справедливости вполне
развитого Человеческого Разума», а на угнетении большинства лю-
дей меньшинством. Это угнетение не может быть санкционировано
развитым чувством истины и справедливости, а только темным
религиозным сознанием, теорией священного авторитета власти.
Подлинное отделение церкви от государства было бы возможно
только вместе с падением самого государства, основанного на классо-
вой несправедливости. В пределах классового общества государство 33
атеистов — такая же фикция, как общественный договор. Вот что
сказал бы Вико, если бы он пожелал освободить свою мысль от дву-
смысленной фразеологии. И нужно признать, что в основе своей его
понимание исторической роли религии глубже, чем самые остроум-
ные домыслы писателей эпохи Просвещения.
Итак, первые времена человеческой истории были божественны,
ибо они покоились на «недостаточной экономике и ложной полити-
ке». Это классический век религии. Но не ищите здесь благочестия,
теплого религиозного чувства, единения одинокой души с богом и
тому подобных вещей в духе исповеди савойского викария. Первое
благочестие означало выполнение жестоких и суеверных обрядов,
которые должны были отделить господствующий слой от непосвя-
щенной толпы плебеев. Главы семей обладали монополией исполне-
ния этих обрядов. Они одни заключали торжественные браки и
производили законных наследников, тогда как остальная масса дол-
гое время довольствовалась простым сожительством. Один плебей-
ский трибун у Тита Ливия так определяет римских патрициев: это
те, которые могут назвать родовые имена своих отцов. «Оказывает-
ся, что отцы у Евреев назывались Левитами от el, что значит силь-
ный. У Ассирийцев они назывались Халдеями, то есть мудрецами,
Персы называли их Магами, то есть предсказателями, Египтяне,
как каждый знает — жрецами». У греков они назывались Героями
и вели свою родословную от богов. В эти древнейшие времена все
религиозные, моральные и эстетические добродетели являются
только выражением материального господства. Главная функция
религии заключалась в охране «суверенной Собственности на Поля»
от «безбожных бродяг, воровавших хлеб». Грозные божества охра-
няли границы и держали в страхе плебеев. Таков источник рели-
гиозного благочестия, согласно Вико. Атеизм древнейшего мира
также прост и реален. «Люди без бога» — это famuli, то есть угне-
тенная масса, находящаяся в подчинении у «благочестивых сильных
людей», основателей городов.
Вико придает огромное значение филологическому анализу осо-
бого рода. Он берет слова цивилизованные, утратившие всякую
связь с вещественной, грубой основой, и сопоставляет их с мате-
риальными условиями жизни первобытных людей. Слово благород-
ство давно уже приобрело общечеловеческий, нейтральный оттенок.
Вико постоянно напоминает, что первое благородство означало при-
надлежность к господствующей касте (вспомним, что в русском
языке слово подлый означало когда-то принадлежность к подчи-
ненному, тягловому сословию и лишь впоследствии приобрело свой
широкий моральный смысл). Латинские выражения summo loco,
illustri loco nati в смысле «благородные», и imo loco, obscuro loco nati
вместо «плебеи» означают буквально «рожденные на высоком, свет-
лом месте» и «рожденные на противоположном, темном месте». Пер-
воначальные поселения благородных были устроены на высотах, а
деревни разбросаны по равнинам.
34 Таково происхождение позднейшей моральной противоположно-
сти высокого и низкого. Красота и уродство также имели первона-
чальный гражданский смысл. Спартанцы сбрасывали уродливых
новорожденных с Тайгета, законы XII таблиц предписывали топить
их в Тибре. Но эти легенды следует понимать в примитивном, вар-
варском смысле, а не в позднейшем — эстетическом. Дело здесь
не в природной красоте, «подлежащей человеческим чувствам, а по-
тому и чувствам тех людей, которые руководствуются умом, понят-
ливы и умеют различать части или составлять соответствие в целом
человеческого тела, в чем и заключается сущность красоты». Такого
рода эстетическое мышление доступно только более развитым и
демократическим временам. Первоначальная Венера была религиоз-
ным образом гражданской красоты. «Совершенно неправдоподоб-
но, что Децемвиры при тогдашней скудости законов, свойственной
первым Государствам, думали о природных уродах, которые на-
столько редки, что редкие в природе вещи называются уродливы-
ми; даже при современном богатстве законов законодатель пре-
доставляет на усмотрение судей редко встречающиеся случаи».
Безобразные новорожденные, которых уничтожали в древних
государствах,— это гражданские уроды, «то есть рожденные благо-
родной женщиной без торжественной свадьбы». Вико приводит мно-
жество разнообразных примеров, показывающих, что элемент безоб-
разного в античной мифологии — соединение человеческих и жи-
вотных черт — является символическим образом гражданского
уродства, то есть смешения благородной породы с подчиненной
плебейской средой, живущей вне закона и вне официальной ре-
лигии.
Сопоставления и анализ часто бывают у Вико искусственны,
фантастичны, но основное содержание его метода чрезвычайно про-
сто и убедительно. Уже из немногих приведенных нами примеров
совершенно ясно, почему Маркс так высоко ценил «Новую науку».
В XIX веке Гладстон еще рассматривал гомеровскую Грецию сквозь
очки лицемерного буржуазного либерализма. Нравственность, лю-
бовь к отечеству, монархический принцип — все это было и в Гре-
ции. Буржуазные писатели XIX века, при всей своей основательно-
сти, не могли освободиться от тщеславия наций и тщеславия уче-
ных: гражданскую историю, мифы и понятия древних народов они
толковали в духе современной цивилизации, упуская из виду, что
слова остаются, но содержание их совершенно меняется. Вот поче-
му, несмотря на огромный прогресс исторической науки, книга Вико
до сих пор производит освежающее впечатление. Высокое и низкое,
красивое и безобразное, доблесть и ничтожество, одиночество муд-
реца и косность толпы — все эти популярные абстракции получают
у него настолько глубокое, реалистическое освещение, что история
человеческого сознания сразу оживает во всем ее своеобразии.
В конце XIX века началась критика либеральной манеры пи-
сать историю. Буржуазная литература этой эпохи уже сомневается
в применимости общих, нейтральных принципов права и гуманности
ко всем историческим периодам. Появилась модная фраза о морали 55
господ — красивых, мужественных и жестоких. На первый взгляд
может показаться, что учение Вико предвосхищает реакционную
филологию Ницше. Автор «Новой науки» доказывает, что муд-
рость, красота и благородство были когда-то однозначны с могуще-
ством и сословной чистотой. Он презрительно отзывается о перво-
начальной общности имуществ, в которой жили люди до утвержде-
ния «суверенной Собственности на Поля». Он отвергает мнение
Макиавелли о высоких достоинствах римского плебса как преуве-
личенное. И все же основная тенденция «Новой науки» не имеет
никакого сходства с прославлением сильных. «Генеалогия морали»
Ницше — жалкая дилетантская игрушка по сравнению с историче-
ским анализом Вико.
«В одном письме, написанном весной 1882 г., Маркс в самых
резких выражениях отзывается о полном искажении первобытной
эпохи в вагнеровском тексте «Нибелунгов». «Слыхано ли было ко-
гда-нибудь, чтобы брат обнимал сестру как супругу?» По поводу
этих вагнеровских «богов сладострастия», которые совсем по-совре-
менному придают своим любовным похождениям большую пикант-
ность некоторой дозой кровосмесительства, Маркс замечает: «В пер-
вобытную эпоху сестра была женой, и это было нравственно» *.
Так пишет Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственно-
сти и государства». Ницше делает ошибку, совершенно аналогичную
ошибке Вагнера. Посредством филологического анализа он откры-
вает первоначальное значение понятий «добрый», «благородный»,
«прекрасный», которые выражали только принадлежность к касте
господ. И вместе с тем он сохраняет современное эстетическое или
моральное содержание этих понятий, подобно тому как Вагнер пре-
вращает первобытное половое общение между братом и сестрой
в современное кровосмешение. Этот реакционный модернизм, остав-
ляя в силе узость буржуазного кругозора, только заменяет мо-
ральную ограниченность — извращенной и циничной. Но историче-
ское понимание прошлого от этого ничего не выигрывает.
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 42.
«Благочестивые сильные люди» Вико не имеют ничего общего
с красивыми и жестокими варварами Ницше. Эти последние — та-
кая же фикция, как добродушные Робинзоны прежней историогра-
фии. Вико не отрицает того, что в древнейшем понимании благо-
родные были красивы и мудры, а плебеи — уродливы и глупы. По
его убеждению, эти понятия вовсе не имели еще современного
широкого общечеловеческого смысла, выработанного только позд-
нейшей цивилизацией. Более того — гениальное демократическое
чутье, которое сказывается в «Новой науке» на каждом шагу, по-
могает Вико заметить, что развитие подлинной человечности при-
ходит не сверху, а снизу. Какая колоссальная разница между со-
словным представлением о превосходстве одного человека над
другим (гражданская красота) и современным чувством прекрас-
ного, умением беспристрастно оценивать красоту человеческих
форм! Это уже совершенно иное чувство, подобно тому как совре-
менное понятие о нравственной доброте весьма отличается от вар-
варской доброты феодальных времен (добрый меч, добрый моло-
дец), а научная* философия — от фантастической мудрости отцов.
В средние века, эпоху вернувшегося варварства, людей, зависи-
мых от феодальных сеньоров, называли homines. Вспомним значение
слов человек, люди, людская в крепостнические времена русской
культуры. Такого рода определения отчасти представляют собой
простые обозначения социального неравенства, отчасти в них за-
ключается позднейший элемент моральной оценки, осуждения.
Однако, поскольку господская мораль становится моралью в совре-
менном смысле этого слова, она теряет все свое историческое
оправдание. Да, люди древнейшего общества, то есть бесправная
масса, были ничтожны и глупы по сравнению с полубогами из бла-
городных. Именно глупы — ибо они позволяли править собой при
помощи священных законов, «иными словами — тайных и запрет-
ных для простого народа». Но эти глупость, злодейство, безбож-
ностъ, уродство плебеев носят у Вико относительный, исторический
характер. В переводе на современный язык все это означает только
зависимость, подобно тому как все блестящие качества благород-
ных означают господство.
Напротив — то, что плебеи были людьми, имеет гораздо более
широкий смысл. И если в устах благородных слово человек звуча-
ло презрительной кличкой, то лучшего осуждения господской мора-
ли трудно найти. Именно победа плебейской массы над кастой ге-
роев создала, согласно «Новой науке», настоящие человеческие
нравы, включающие «стремление к удобству, нежность к детям, лю-
бовь к женщинам и жажду жизни», создала человеческие правле-
ния, основанные на равенстве перед законом, воспитывающие со-
временное чувство справедливости, чувство красоты и бескорыстно-
го благородства, понимание того, что «разумная природа — а это
и есть истинная человеческая природа — равна во всех».
Наконец, народная масса создала те языки, на которых говорят
и пишут все цивилизованные нации. «Эти языки в подлинном смы-
еле Латиняне называли vernaculae, что можно произвести только от
vernae—«рабы, рожденные дома от взятых в плен на войне» (как
их определяют Грамматики), т. е. рабы, которые естественно вы-
учиваются языкам тех народов, где они родятся. Однако ниже будет
показано, что первоначально и в собственном смысле vernae назы-
вались famuli Героев в состоянии Семей; из них составился народ
первых плебеев Героических Городов; это были прототипы рабов,
которых Города под конец создавали для себя во время войн. Все
это подтверждается двумя языками, о которых говорит Гомер, язы-
ком Богов и языком Людей».
Мы вступаем здесь в новый исторический период — эпоху борь-
бы двух природ — героической и человеческой, народной. Это век
Героев, по терминологии Вико.
2
Прежде чем перейти к дальнейшему изложению, вернемся к во-
просу о происхождении языка. Теперь уже совершенно очевидно,
что теория условных знаков не имеет ничего общего с «Новой на-
укой». Вико замечает, что эта теория выдумана грамматиками «ради
успокоения своего невежества». Не зная происхождения всей массы
слов, неясно выражающих идеи вещей, «они установили ту общую
максиму, что значение артикулированных человеческих слов произ-
вольно». Отсюда вовсе не следует, что Вико вообще отвергает вся-
кий элемент условности и символизма в языке. Наоборот, целая
эпоха истории устной и письменной речи носит, с его точки зрения,
символический характер. Так, Гегель, отвергая теорию романтиков,
которые видели символ в каждом художественном произведении,
показывает вместе с тем, что определенная и притом наиболее ран-
няя эпоха истории искусства развивается именно под знаком
религиозной символики.
Вико также считает, что корни человеческой речи уходят в свя-
щенный и немой язык иероглифов. Только эти знаки вовсе не похо-
жи на галантный язык жестов, которым объяснялись друг с другом
первобытный Робинзон и его подруга. Вико отвергает два распро-
страненных заблуждения. Философы много писали о тайной мудро-
сти. которую якобы заключают в себе иероглифы первобытных
народов, особенно египтян. Это предположение неверно, ибо нельзя
представлять себе, что сначала возникла развитая мысль, а затем
были найдены знаки для ее выражения. Нет, мысль и ее внешний
предметный образ развиваются из одного и того же источника.
Точно так же нельзя отделять возникновение устной речи от
письменных знаков, которые, по мнению теологов и ученых, были
дарованы людям свыше — или изобретены ими — значительно позд-
нее. Устная и письменная речь — близнецы. Их общим предком
является иероглиф, немой внешний образ, соединяющий слабый
проблеск мысли с лаконичным чувственным выражением.
37
В первом издании «Новой науки» Вико приводит в качестве
примера тотемы американских индейцев. «Такие семейные Гербы
существовали раньше Геральдических, как и Родовые имена суще-
ствовали раньше Городов, а Города — раньше Войн, так как в Вой-
нах бьются города. Несомненно, что Американцы, до сих пор управ-
ляющиеся посредством семей, по наблюдениям позднейших путе-
шественников, пользуются иероглифами, по которым они отличают
друг от друга своих главарей. Поэтому нужно высказать предпо-
ложение, что именно таково было первоначальное применение иеро-
глифов у древних наций».
Другой излюбленный Вико пример — письмо скифского царя
Идантуры Дарию Великому. В ответ на объявление войны Иданту-
ра якобы прислал Дарию пять «реальных слов». Эти слова
38 были — лягушка, мышь, птица, сошник и лук. «Лягушка означала,
что Идантура был рожден Скифской землей, как лягушки родятся
из земли во время летнего дождя, и что он тем самым оказывается
сыном этой земли; мышь означала, что он, как мышь, где родился —
там и построил дом, т. е. что там же он основал свой род; птица
означала, что он сам обладает ауспициями, т. е., как мы увидим
ниже, что он подчинен только Богу; соха означала, что он обрабо-
тал земли и тем самым силою подчинил их себе; наконец, лук озна-
чал, что он обладает в Скифии высшей военной властью и что он
должен и может ее защищать». Здесь, как и в других случаях, без-
различно, верны ли отдельные догадки Вико, которые при всей
своей фантастичности могут быть иногда правдоподобны. В сущно-
сти, Вико даже не утверждает, что переписка двух царей действи-
тельно происходила. Для него важно только то, что предание со-
хранило нам память о древнейшей ступени развития языка. По-
добное свидетельство он находит также в немом ответе Тарквиния
Гордого его сыну, в иероглифической речи так называемых пикар-
дийских ребусов на севере Франции, в письменных знаках древних
шотландцев, жителей Мексики, китайцев и т. д.
В более широком смысле язык божественных времен — это ма-
гия жестов, «немых религиозных движений» и предметных симво-
лов, тотемических знаков. Он сохранился в acta legitima римского
права — традиционных жестах и церемониях, сопровождавших раз-
личные гражданские действия. Он сохранился до сих пор в религи-
озных обрядах. «Этот язык подобает Религиям на основании того
вечного свойства, что для них важнее то, чтобы их почитали, чем
то, чтобы рассуждали о них». Язык жестов дополняется однослож-
ными звуками, междометиями. Произношение древнейших слов на-
поминало пение, как у немых. По содержанию своему эти слова яв-
лялись выражением общего чувства, бессознательного суждения
целого сословия или целого народа.
От языка Вико непосредственно переходит к мышлению божест-
венного века — тупому и вместе с тем необыкновенно фантастическо-
му и возвышенному. Народы божественного века состояли из по-
этов-теологов. Как дети и дикари, они одушевляли все окружающее.
«Речь Поэтов-Теологов была фантастической речью посредством
одушевленных субстанций, по большей части — воображаемых бо-
жественных субстанций». Не следует приписывать этому времени
умения составлять отвлеченные родовые понятия. Вместо них на-
роды божественного века создают фантастические универсалии. Они
обобщают «посредством фантазии в виде портретов». Если впо-
следствии художники выражали духовные предметы — различные
добродетели, страсти и т. д. в пластических образах (большей ча-
стью женщин), то первобытные поэты-теологи поступали иначе:
они наделяли человеческими чувствами и страстями предметы при-
роды, «огромнейшие тела, как небо, землю и море». Посредством
фантастических обобщений боги творили богов и создавали перво-
бытную мифологию. Лишь много позднее, вместе с развитием спо-
собности к отвлеченному мышлению все эти гигантские естествен-
ные образы приняли более умеренные человеческие масштабы. «Ме-
тонимия ясно показывает незнание учеными этих до сих пор
погребенных начал вещей человеческих: Юпитер стал таким ма-
леньким и таким легким, что его несет летящий орел, Нептун плывет
в хрупкой раковине по морю, Кибела сидит на льве».
Все мироощущение божественного века проникнуто фантасти-
кой религиозных поверий и мифов. В них сказывается «поэтиче-
ская мудрость народов». Словом поэтическая Вико обозначает не
литературные склонности первобытных людей, а особый склад мыш-
ления, почти недоступный позднейшему пониманию. Он говорит
о поэтическом праве, которое состояло в чувстве непосредственной
зависимости от богов и подтверждалось религиозными клятвами,
священными жестами, проклятиями и т. д. Это поэтическое право
божественного века увенчивалось теократией, созданием светской и
жреческой власти, которое Вико замечает и в эпоху раннего средне-
вековья (особенно в Византии). Рядом с поэтическим правом стоит
поэтическая метафизика, включающая мораль, экономию, физику и
космографию древнейших народов. Все это в форме чувственных
подобий, реальных образов (поэтическая логика).
В письме к Лассалю от 28 апреля 1862 года Маркс цитирует
следующее место из «Новой науки»: «Древнеримское право было
серьезной поэмой, а древняя юриспруденция — суровой поэзией, в
глубинах которой обнаруживаются первые и грубые начатки мета-
физики законов» *.
Идея и чувственный образ едины в истоках языка и мышления
древних народов; они развиваются из одного и того же начала. Это
начало — живая предметная человеческая практика. «Этимология
туземных Языков является историей вещей, обозначаемых этими
словами, согласно тому естественному порядку идей, что сначала
были леса, потом — возделанные поля и хижины, после — малень-
кие дома и деревни, затем — Города, наконец — Академии и Фило-
софы». Это прямой вывод из материалистической аксиомы, заимст-
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 30. с. 512.
39
вованной Вико у Спинозы: «Порядок идей должен следовать за По-
рядком вещей». И Вико утверждает, что в латинском языке почти
вся основная масса слов имеет лесное или деревенское происхож-
дение.
Так слово lex означало сперва собирание желудей, затем
собрание людей, закон. Глагол esse означал есть (питаться) и быть,
эти значения еще смешивают поэты Лациума. Чем ближе к началь-
ным периодам истории языка, тем больше преобладает в нем чув-
ственно-телесный элемент; рефлексия и способность к современно-
му, абстрактному мышлению развивается медленно, в тесной связи
с общим развитием всех «человеческих вещей». Для того чтобы
привести филологические примеры, при помощи которых Вико раз-
вивает свою основную мысль, нам пришлось бы переписать всю
40 «Новую науку». Но и без того ясно, что это сочинение занимает
совершенно особое место в процессе подготовки исторического мате-
риализма. Вспомним один замечательный отрывок из «Немецкой
идеологии» Маркса и Энгельса: «Производство идей, представле-
ний, сознания первоначально непосредственно вплетено в матери-
альную деятельность и в материальное общение людей, в язык
реальной жизни. Образование представлений, мышление, духовное
общение людей являются здесь еще непосредственным порожде-
нием материального отношения людей. То же самое относится к ду-
ховному производству, как оно проявляется в языке политики, за-
конов, морали, религии, метафизики и т. д. того или другого наро-
да. Люди являются производителями своих представлений, идей
и т. д.,— но речь идет о действительных, действующих людях, обус-
ловленных определенным развитием их производительных сил и —
соответствующим этому развитию — общением, вплоть до его отда-
леннейших форм» *.
Вико понимает мышление и речь древнейшего общества как
язык реальной жизни, и в этом его колоссальное преимущество по
сравнению с лучшими писателями XVIII века.
То же самое относится и к учению Вико о происхождении госу-
дарства. Оно гораздо глубже теории общественного договора. Го-
сударство сложилось вместе с переходом к веку Героев — второй
ступени исторической схемы Вико (Греция эпохи Гомера, европей-
ское средневековье). Возникновению государства предшествовали
аграрные революции зависимой массы против циклопической вла-
сти «отцов». По латыни государство — State. Каково происхождение
этого слова? Первые государства, пишет Вико, были основаны
«на сословиях Благородных и толпах Плебеев, т. е. на двух вечных
противоположных свойствах, вытекающих из той природы человече-
ских гражданских вещей, что Плебеи... всегда стремятся изменить
Государство, как они всегда его и изменяют, а Благородные всегда
стремятся сохранить его. Поэтому в движении гражданских правле-
ний оптиматами называют тех, кто старается поддержать Государ-
* Маркс К., Энгельс Ф. Соя., т. 3, с. 24—25.
ство. И самое свое имя Государства (Stati) получили от свойства
неподвижности (Star fermi)».
Восстание famuli, плебеев, заставило враждующих отцов, патри-
циев объединиться и подчинить свои домашние владения верхов-
ной власти сословия, члены которого клянутся в вечной ненависти
к плебеям. Сословие благородных ревниво охраняло свое право
носить оружие и преследовало всякого, кто пытался помочь народу.
В этом состояла сущность героической политики. Спартанский царь
Агис был удушен эфорами за то, что он «покусился облегчить по-
ложение несчастного Лакедемонского плебса, задавленного ростов-
щичеством Благородных».
Короче, первоначальное государство было свирепой аристокра-
тией, оно возникло для «охраны сословий и границ». Вико имеет
в виду границы полей, которые играют большую роль во всем его
историческом анализе. Задачей первого государства была защита
частной собственности от пережитков нечестивой общности вещей
и женщин, как называет Вико первобытный коммунизм.
Фантазия моралистов превратила античные республики в цар-
ство идеальной гражданственности и свободы. Вико показывает,
чем была римская республика на самом деле. Да, Юний Брут
установил в Риме свободу, «но только не народную, т. е. свободу
народа от господ, а господскую, т. е. свободу господ от тиранов
Тарквиниев». Убийцы тиранов, прославленные в древности, вовсе
не были прямыми защитниками народа. «Господа при помощи тай-
ных совещаний оказывают давление на своих Государей, если они
стремятся к тирании: с этого времени и только с этого времени мы
читаем, что убийцам тиранов воздвигаются статуи». А каково было
положение самого народа «во время Народной Свободы, какой ее
воображали там до сих пор»? — «Благородные долго принуждали
Плебеев служить себе за собственный счет на войне; они топили
их в море ростовщичества, а если эти бедняки не могли уплатить
свои долги, то они держали их запертыми в течение -всей жизни
в своих частных тюрьмах, чтобы они им платили своей работой и
трудом, и там тиранически били их по голым плечам розгами как
самых жалких рабов».
Итак, Вико заранее разоблачает весь ложно-классический ма-
скарад времен первой французской революции. Его отношение к
прославленным героям древности чисто историческое. Слово герой
имеет у него совершенно особое значение, соответствующее опреде-
ленному периоду мировой истории. Во всяком случае, Вико отличает
героизм, к которому стремятся просвещенные народы, от варвар-
ского героизма гомеровской Греции. Философы запутали этот во-
прос «вследствие предрассудка о недостижимой Мудрости Древ-
них». Три героических понятия — народ, царь и свобода — они
понимали совершенно превратно, вкладывая в них современное со-
держание. «Они представляли себе Героические Народы так, как
если бы в них входили также и плебеи. Царя представляли себе как
Монарха и Свободу как Народную свободу. И обратно тому, они
41
приписывали первым людям три свои собственные идеи, принад-
лежащие сознанию утонченному и ученому: во-первых, идею рацио-
нальной справедливости, основанной на максимах Сократической
Морали; во-вторых, идею славы, т. е. молвы о благодеяниях, совер-
шенных для Рода Человеческого; и в-третьих, идею жажды бес-
смертия. Вследствие этих трех ошибок и этих трех идей они дума-
ли, что царь или другие значительные персонажи древннх времен
приносили в жертву себя и свои семьи, не говоря уже о всем их
имуществе и добре, с целью сделать счастливыми несчастных, ко-
торых всегда большинство и в городах и в нациях». Но стоит лишь
присмотреться к царям и героям гомеровской Греции, чтобы убе-
диться в неправильности этих представлений. Ахилл вовсе не спра-
ведлив. «Разве у волков и ягнят одинаковые желания?» — отвечает
42 он Гектору, желавшему договориться с ним о погребении перед
началом битвы. Ахилл совсем не стремится к бескорыстно добытой
славе. Личной обиды (Агамемнон отнял у него Брисеиду) доста-
точно для того, чтобы этот безупречный герой отказался от участия
в войне на стороне своего народа. Его мало интересует бессмертие.
Жизнь самого жалкого раба он предпочитает загробному величию.
Если Ахилл безупречен, то «этот эпитет нельзя понять иначе, как
по отношению к высокомерному человеку, который, как теперь ска-
зали бы, не позволит мухе пролететь мимо кончика своего носа;
следовательно, здесь проповедуется придирчивая доблесть: именно
в ней во времена вернувшегося варварства всю свою мораль пола-
гали Дуэлисты; из нее вытекали гордые законы, надменные дела
и мстительные удовлетворения самолюбия тех странствующих ры-
царей, которых воспевают Романсы». И Вико подробно показывает,
что похождения богов и героев, рыцарей и паладинов вытекают из
героической морали, весьма далекой от идеального содержания, ко-
торое пытались вложить в нее позднейшие толкователи.
Плутарх говорит, что герои почитали за великую славу, если
их называли разбойниками. В средние века слово корсар было по-
четным титулом сеньора. Солон разрешал в своих законах общества
грабителей. Платон и Аристотель помещают разбой среди видов
охоты. «И такие великие Философы столь высококультурного на-
рода сходятся в данном случае с варварством Древних Германцев,
у которых, по словам Цезаря, разбой не только не был позором, но
его даже рассматривали как упражнение в доблести». В эти герои-
ческие времена действовало «право Ахилла, т. е. право силы».
Неудивительно, что Вико отвергает всякие притязания на фило-
софское или моральное истолкование поэм Гомера. «Приходится
отрицать у Гомера всякую Тайную Мудрость». В его поэмах от-
ражаются нравы «грубые, невоспитанные, свирепые, дикие, непо-
стоянные, неразумные или неразумно-упрямые, легкомысленные и
глупые». Боги и герои ругаются, как сапожники. Марс называет
Венеру песьей мухой, величайшие герои и цари — Агамемнон и
Ахилл — именуют друг друга собаками. Они свирепы, наивны, как
дикари, и часто утешаются вином. Да и сам поэт на уровне своих
героев. «Лютость и дикость стиля, с которым Гомер описывает столь
многочисленные и разнообразные кровопролитные сражения, мно-
гочисленные и разнообразные способы странных и жестоких видов
убийства, составляющих главным образом всю возвышенность
«Илиады» — все это прекрасно доказывает, с точки зрения Вико,
что Гомер далек от всякой мудрости в позднейшем смысле этого
слова. Иначе Гомер не мог бы заниматься придумыванием «много-
численных бабьих сказок для детей», напоминающих «Одиссею».
Поэзия Гомера является отражением эпохи героического вар-
варства, и Вико сравнивает ее с рыцарским эпосом средневековья,
отчасти также с «Божественной комедией» Данте, этого тосканского
Гомера, уже искушенного, однако, и в тайной мудрости. Гомер в
этом отношении совершенно наивен, и его нельзя представлять себе
поэтом в позднейшем смысле слова, то есть приписываемые ему
поэмы не являются сознательным продуктом артистического твор-
чества.
Существовал ли вообще Гомер? Задолго до знаменитой книги
Вольфа Вико уже ответил на этот вопрос и ответил отрицательно.
Анализируя поэмы Гомера, он устанавливает, что в них отражаются
различные уровни культурного развития и что, по-видимому, воз-
никновение этих песен продолжалось в течение долгого времени.
Вико доказывает также, что «Илиада» и «Одиссея» не могли быть
написаны одним и тем же лицом. Гомер «Илиады» родился на севе-
ро-восточном побережье Греции или в Малой Азии, Гомер «Одис-
сеи» — житель юго-западной части Балканского полуострова. Это
подтверждается различием в географических представлениях.
«Одиссея» по всему своему содержанию относится к более цивили-
зованным временам. Употребление различных диалектов, местных
выражений, примитивных оборотов речи — все это показывает, что
поэмы Гомера составились из разнородных элементов и создателя-
ми их были сами народы Греции. Аэды распевали эти сказания
на площадях греческих городов. Их поэзия была бессознательным,
коллективным творчеством, а не созданием отдельных лиц. Гомер —
имя нарицательное. Это обычное прозвище слепого народного пев-
ца. «Гомер существовал лишь в Идее, т. е. как Героический Харак-
тер греческих людей, поскольку они в песнях рассказывали свою
историю».
«Открытие истинного Гомера», подобно яблоку Ньютона, яв-
ляется непосредственным поводом к общим рассуждениям Вико.
В смысле наглядности — это центральный пункт «Новой науки» и
главный пример ее применения. Гомер — мифологическая фигура,
героический характер. Таковы и действующие лица его поэм. Это
героические характеры, выражающие поэтическую мудрость своего
времени, ибо мудрость эта и не могла состоять из логических поня-
тий, а выражалась в поэтических образах. Мы уже знаем, что по-
эзия примитивных времен совсем не похожа на позднейшее литера-
турное творчество. Реальная поэзия мифологической поры тождест-
венна с самой жизнью. Это вполне реальный, хотя и фантастический
43
быт, это право и нравственность варварской эпохи, это вся атмо-
сфера героического века, баснословного времени, когда рассудок
беспомощен, страсти всесильны, речь хвастлива, возвышенна и сво-
бодна от всяких рациональных правил. «Такую поэтическую при-
роду этих первых людей в нашем утонченном состоянии почти не-
возможно вообразить себе и с большим трудом нам удается ее
понять».
Мышление первых людей — это мифы. «Каждая метафора ока-
зывается маленьким мифом». Во всех языках большинство выраже-
ний перенесено на вещи неодушевленные с человеческого тела, с
человеческих страстей и чувств. Например: глава вместо вершина,
горло вазы или сосуда, зуб плуга, граблей, пилы, рукав реки, по-
дошва вместо основания. Первобытный бессознательный антропо-
44 морфизм — одна из основ поэтической логики и языка, который
сам по себе был как бы стихотворной речью. Другим основанием
поэтической логики является преобладание наиболее частных и
ощутимых идей над отвлеченными. Отсюда происхождение метони-
мии. Так, «метонимии причин вместо их действия являются малень-
кими Мифами, где люди представляли себе причины в виде Жен-
щин, одетых их действиями, например: безобразная Бедность, пе-
чальная Старость, бледная Смерть». Позднее, когда люди научились
возвышать частности до всеобщности или сопоставлять одни части
с другими, вместе составляющими свое целое, появилась синекдоха.
Говорили клинок вместо меч, хотя меч имеет не только острие, но
и рукоятку, столько-то жатв вместо столько-то лет и т. д. Ирония
была неизвестна героическому веку, так как она предполагает нали-
чие развитой рефлексии.
«Тем самым доказано, что все Тропы (все они могут быть све-
дены к названным четырем), считавшиеся до сих пор хитроумными
изобретениями писателей, были необходимыми способами выраже-
ния всех первых Поэтических Наций, и что при своем возникнове-
нии они обладали всем своим подлинным значением». Только вместе
с развитием абстрактных форм мышления и языка такие способы
выражения первых народов стали литературными и ораторскими
приемами. «Итак, здесь мы начинаем опровергать две следующие
общие ошибки Грамматиков: будто язык Прозаиков — подлинный
язык, неподлинный же — язык Поэтов, и будто сначала говорили
прозой, потом — стихами». Напротив — поэзия старше прозы, она
реальный язык жизни тех времен, которые предшествовали про-
заической цивилизации.
«Гипотипозис, образ, уподобление, сравнение, метафора, пери-
фраза, фразы, объясняющие вещи их естественными свойствами,
описания, подобранные из явлений или самых ничтожных, или
особенно ощутимых, и, наконец, описания посредством добавлений
эмфатических и даже излишних» — вот составные элементы поэти-
ческой логики. Но главное ее достояние — поэтические характеры.
Древнегреческий быт создавал черты, характерные для героя —
воинскую доблесть и хитрость в военном совете. Сознание грече-
ских народов воплотило эти черты в образах Ахилла и Одиссея.
Солон «был главарем Плебса в те первые времена, когда Афины
были Аристократической Республикой». Борьба плебеев с благород-
ными заполняла всю древнюю историю. Народная масса стреми-
лась к защите своего человеческого достоинства. «Так, может быть,
Солон и был этими самыми Афинскими плебеями, рассматривае-
мыми с такой точки зрения?»
Афиняне приписывали все демократические установления Со-
лону соответственно привычке всех древних народов мыслить поэти-
ческими характерами. Такими же образами, созданными ритуальной
потребностью, были Ромул, Нума, Сервий Туллий, Драконт, автор
писанных кровью законов. Эзоп — это поэтический характер пле-
беев, зависимых и союзников (famuli и socii). Отсюда миф о безоб-
разии Эзопа («так как гражданская красота, по тогдашнему мне-
нию, зарождалась только от торжественных бракосочетаний, кото-
рые заключали лишь герои»). По той же причине безобразен был
и Терсит — образ плебеев, служивших благородным во время
Троянской войны. Много времени спустя, уже за пределами века
героев поэтические характеры были рационализированы и превра-
тились в характеры комедии — образы искусства.
Язык, соответствующий героическому веку,— это язык симво-
лов: подобий, метафор, сравнений, характеров. «Позднее в арти-
кулированном языке они составляют все богатство поэтической
Речи». Но в древние времена — это единственный и вполне реаль-
ный способ умственного общения между людьми. «Древнейшие
памятники Латинского языка,— пишет Вико,— это фрагменты Са-
лийских песнопений». «Первым языком Испанцев был так назы-
ваемый Язык Романсов и, следовательно, язык Героической Поэзии,
так как Романсеро были героическими Поэтами времен вернувше-
гося варварства». Другим началом героического языка явились
гербы, первоначально — «реальные слова», иероглифы, военные
трофеи, впоследствии — условные изображения и отличительные
знаки, сохранившиеся в военной жизни, подобно тому как более
ранний божественный язык жестов сохранился в религиозных цере-
мониях.
Героическая речь — тяжеловесна, возвышенна, полна всевозмож-
ных несообразностей, преувеличений, бахвальства, ей не хватает
элемента трезвой, рациональной прозы. В этом смысле нужно по-
нимать утверждение Вико, что героическая речь была стихотворной.
Героический стих — самый древний, самый медленный и возвышен-
ный— это спондей. «Он возник из неистовых страстей ужаса и
радости», основой его была «медленность сознания и языковая
затрудненность у Основателей Наций». Ямбический стих (быстрая
стопа) более похож на прозу, и он сложился позднее. «Наконец,
когда и сознание и язык стали в высшей степени подвижными, по-
явилась проза, которая... говорит почти что интеллигибельными
родовыми понятиями». Но такая отвлеченность еще не была доступ-
на героическому веку. В это время слово господствует над поня-
45
тием. Отсюда педантичное отношение к словам, свойственное вся-
кому варварскому обществу. Человек, давший обет принести в жерт-
ву свою дочь, должен его исполнить. В юриспруденции господст-
вуют формулы достоверного права: «на определенной особенности
его слов естественно успокаиваются варвары с их идеями, направ-
ленными лишь на частное, и считают правом то, что вытекает бук-
вально из закона». Это уважение к формуле Вико наблюдает и у
крестьян. В средние века педантичное отношение к словам являлось
источником множества нелепых и запутанных форм судопроизвод-
ства.
Как видит читатель, вся атмосфера героического века противо-
положна духу позднейшей цивилизации. Она вполне соответствует
варварскому делению человеческого рода на благородных и низких,
46 отсутствию рациональных правовых норм, единообразных писаных
законов, грамматических правил и логического мышления. Победа
цивилизации совершается вместе с переходом от поэтического века
к народному. Это победа плебеев над благородными.
3
Падение героического века происходит благодаря заложенному в
нем противоречию. Возникновение государства — результат господ-
ства одного класса над массой мелкого люда (famuli, за которыми
последовали рабы). Но Вико устанавливает и другую сторону пер-
воначального государства. Оно возникло под давлением снизу, в
итоге аграрной революции против безраздельной власти отцов,
Patres, будущих патрициев. И хотя в природе благородных заложе-
на величайшая скупость и нежелание отдать что-либо иначе как под
давлением силы, все же история государства начинается с уступки
плебеям, с древнейшего аграрного закона. Это была сделка, вре-
менное замирение, в результате которого главы родов, патриции
становились официальным господствующим сословием, политиче-
ским народом в собственном смысле слова, а плебеи получали бони-
тарную собственность на поля, принадлежащие в гражданском
отношении их господам (феодальным сеньорам, т. е. старшим, кото-
рые у греков назывались героями, у римлян — мужами, viri, или
патрициями, Patres, отсюда итальянское Padroni — покровители).
За использование полей плебеи должны были отдавать покровите-
лям часть своего дохода, а впоследствии вносили эту часть в виде
налога уже всему сословию благородных, а не отдельному господи-
ну, в государственную казну (эрарий). Благодаря этому легендар-
ный ценз Сервия Туллия в Риме, этот первый аграрный закон, из
основы господской свободы превратился, по мнению Вико, в источ-
ник свободы народной.
Древнейшую форму экономической зависимости, общую всем
народам и являющуюся основой государственной власти, Вико на-
зывает вечной природой Феодов. Отсюда вовсе не следует, что
древнеримский общественный порядок совершенно тождествен
для него крепостническому строю средневековья. Он устанавли-
вает только некоторые обилие и весьма относительные аналогии (ко-
торые отмечает и Энгельс в работе о происхождении государства).
Легенда изображает отношения между основателями государств и
подчиненной массой как отношения милости и дарованного права.
Средневековый латинский термин изящно выражает это словом
beneficia (благодеяние). Но истинная природа первоначального да-
рения состоит в расчетливом обмене между двумя неравными сто-
ронами, так же как и природа первоначального гостеприимства
(hostis, гость, чужеземец, плебей). Итак, древнейшее героическое
государство укрепило и узаконило собственность отдельного класса,
сословия благородных, но это развитие частной собственности было
одновременно первым ограничением суверенной собственности от-
цов — самого свирепого и деспотического- авторитета в человеческой
истории.
Плебеи были толпой, не входящей в состав политического наро-
да, нации в собственном смысле слова. Их община, их союз — ре-
зультат «низкой дружбы», основанной на необходимости поддержи-
вать свою жизнь и сопротивление. Символом общества благородных
было копье, символом низкого общества — кошелек. Мы видим это
на гравюре, приложенной к «Новой науке».
И все же Вико не устает повторять, что настоящее общество
основано простонародьем и что национальность в собственном смы-
сле слова возникает только на развалинах героических городов.
Франки — то есть освобожденные ранее зависимые люди, дали свое
имя французской нации. Как и Гегель (в «Феноменологии духа»),
Вико показывает, что высокорожденные, герои, и низкорожденные,
плебеи, рабы как бы меняются местами в историческом развитии;
сословная доблесть вырождается, а угнетенная масса в борьбе за
землю, за писаные законы, за право гражданское, за власть в го-
сударстве создает подлинно человеческое общество, в котором игра-
ют роль личные качества. «Трудолюбивые, а не бездельники, бе-
режливые, а не моты, осторожные, а не беззаботные, великодушные,
а не мелочные, одним словом — богатые какой-либо доблестью, пусть
даже воображаемой, а не преисполненные многочисленными и явны-
ми пороками, стали считаться наилучшими для правления. В таких
Республиках целые народы, вообще жаждущие справедливости,
предписывают справедливые законы, а так как они хороши вообще...
то здесь возникает Философия, по самой форме этих Республик
предназначенная образовать Героя и ради этого образования заин-
тересованная в истине».
Настоящий героизм, то есть гражданская доблесть, основанная
на философском понимании и морали Сократа, прямо противопо-
ложна варварскому корыстолюбию и воинственной дикости века
героев. Когда человеческий ум развился, «Плебеи народов убеди-
лись в конце концов в пустоте такого Героизма и поняли, что они
по своей человеческой природе равны Благородным». Они добились
вступления в «Гражданские Сословия Городов», и «в конце времен
47
Суверенами в этих городах должны стать сами народы». Так ре-
шается борьба двух природ: героической и человеческой, то есть
«разумной, а потому умеренной, благосклонной и рассудочной».
«Она признает в качестве законов совесть, разум и долг».
Она устраняет божественные нравы, окрашенные религией и бла-
гочестьем, и героические нравы, которые были «гневливы и щепе-
тильны». На место права силы она ставит «Человеческое Право,
продиктованное совершенно развитым человеческим Разумом» и
человеческие правления, где «вследствие равенства разумной приро-
ды (подлинной природы человека) все уравнены законами, так как
все в них родились свободными в своих городах, т. е. в свободных
народных государствах, где все люди или наибольшая их часть
представляют собою законную силу государства; вследствие этой
48 законной силы они и оказываются господами народной свободы».
Здесь начинает развиваться национальная литература, и просто-
народный язык побеждает язык религии и схоластики, как итальян-
ский язык победил латынь в эпоху Данте, Петрарки и Боккаччо.
«Народные языки и буквы составляют собственность самого
простого народа, почему и те и другие называются народными.
А в силу такого господства над языками и над буквами свободные
народы должны быть господами также и над законами, так как они
придают законам тот смысл, который принуждает Могущественных
соблюдать их, хотя последние, как было указано в Аксиомах, и не
желают их».
Итак, существуют три типа времен, три вида права и государ-
ства, три вида языков, нравственности и мышления: божественные,
героические и человеческие, или народные. В совокупности эти три
ступени образуют поступательное движение наций. В начале своего
исторического пути человек еще погружен в состояние естественной
грубости, мотивы его поступков дики и фантастичны, рассудок слаб,
и вся сфера сознания носит чувственно-телесный характер. Он не
обладает способностью контролировать собственные страсти и от-
делять посредством анализа свои подлинные потребности от во-
ображаемых. Он не умеет создавать логические обобщения и
рассуждать посредством силлогизмов. Такой человек еще не по-
нимает самого себя, так как рефлексия и связанное с ней чувство
иронии ему недоступны. Правда, в это время уже возникают основ-
ные определения нравственной природы человека: свобода, героизм,
благородство, справедливость, красота, разнообразные представле-
ния, образующие живую ткань умственного общения между людьми
и выражающие определенные общественные отношения — право, по-
кровительство, дружбу, заступничество, гостеприимство, дарение
и т. д. Но все эти разнообразные элементы умственного словаря
имеют совершенно иное значение, в известном смысле прямо про-
тивоположное их подлинно человеческому смыслу. Так, например,
художественное творчество в собственном смысле слова как творче-
ство сознательное возникает лишь на исходе суровой и жестокой
поэзии первобытных нравов. Личное достоинство человека познает-
ся только в процессе освобождения от сословных привилегий, на-
циональных преимуществ и всякой наследственной спеси, свойст-
венной варварам. Подлинное благородство души рождается
последним («люди сначала жаждут богатств, потом — почестей и в
конце концов — благородства»), а между тем о благородстве боль-
ше всего речи там, где господствует самое грубое своекорыстие.
Мы уже знаем, что чувство красоты, предполагающее свободную
и пропорционально развитую силу суждения, становится возмож-
ным только благодаря сознанию равенства человеческой природы
всех людей. То же самое относится к чувству индивидуальной по-
ловой любви, отеческой любви к детям и т. д. Во времена божест-
венные и героические каждое из этих понятий густо насыщено
вещественным содержанием, между тем как настоящий свободный
человеческий смысл эстетического наслаждения или чувства любви 49
к женщине предполагает их независимость от грубого материально-
го интереса, их внутреннюю чистоту. Только демократическая ци-
вилизация освобождает разумную, благожелательную, милостивую
человеческую природу от заскорузлости дикаря, тупого погружения
в свои собственные желания и чувства, освобождает ее от всякой
первобытной бессмыслицы, связанной с грубым неравенством лю-
дей. Естественное состояние не позади, а впереди нас, оно не яв-
ляется даром природы, а достигается в процессе мучительного исто-
рического развития.
Таким образом, одной из основ «Новой науки» является идея
прогресса, выраженная отнюдь не менее определенно, чем у про-
светителей XVIII века, а в некоторых отношениях более последова-
тельно и резко. Особенно поражает в «Новой науке» глубокое чув-
ство ненависти ко всякому угнетению народа, ненависти к феодаль-
ному миропорядку, ненависти более живой и реальной, менее книж-
ной, чем у просветителей. История классовой борьбы, ухищрения
имущих слоев, жалкое положение мелкого люда и вместе с тем его
решающая историческая роль — все это на каждом шагу возникает
перед умственным взором Вико.
4
Тем не менее имя Вико неразрывно связано в исторической
науке с идеей повторения определенного цикла гражданской жизни,
теорией круговорота. Древнейшие порядки патриархата сменяются
эпохой героической аристократии. Подъем народных масс снизу
создает новую форму гражданского общежития — демократию, ко-
торая, однако, развращается властью кошелька, а в умственном
отношении приводит к господству абстрактного рассудка и ученому
педантству мнимой мудрости, тщеславию грамотеев. В этой рас-
судочной тупости народы возвращаются к исходному пункту их
развития.
Но в философии Вико есть и другая сторона. В его резиньяции
таится надежда патриота, и недаром итальянская эмиграция
4 '
XIX века видела в нем великого революционера, подобно тому как
левые гегельянцы в Германии видели революционера в Гегеле.
Все осмысленно в истории. Нравственное разложение наказы-
вается рабством, народы, имеющие дурное правительство, не заслу-
живают лучшего. Однако это кажущееся оправдание рабства имеет
у Вико двоякий смысл. Порабощенные народы, пришедшие к со-
стоянию варварства, стоят у порога новой жизни, перед ними необо-
зримое поле борьбы за гуманность и цивилизацию. Поработители,
вознесенные кверху стихийным движением колеса истории, впадают
в рассудочное варварство, и тогда наступает их черед. «Путь вверх
и вниз один и тот же». Вико придает этому наивному диалектиче-
скому воззрению Гераклита более развитый гуманный и демократи-
ческий смысл.
50 У мыслителей древности идея круговорота — это прежде всего
идея убывающей мощи природы и связанного с этим увядания
культуры. Так именно изложена она у Лукреция во второй книге
его великой поэмы «О природе вещей»:
Да, сокрушился наш век, и земля до того истощилась,
Что производит едва лишь мелких животных, а прежде
Всяких давала она и зверей порождала огромных.
Вовсе, как думаю я, не цепь золотая спустила
С неба далеких высот на поля поколения смертных.
Да и не волны морей, ударяясь о скалы, создали,
Но породила земля, что и ныне собой нх питает;
Да и хлебов наливных, виноградников тучных она же
Много сама по себе сотворила вначале для смертных,
Сладкне также плоды им давая и тучные пастьбы,—
Все, что теперь лишь едва вырастает при нашей работе:
Мы изнуряем волов, надрываем и пахарей силы,
Тупим железо, и все ж не дает урожая нам поле,—
Так оно скупо плоды производит и множит работу.
И уже пахарь-старик, головою качая, со вздохом
4aige и чаще глядит на бесплодность тяжелой работы,
Если же с прошлым начнет настоящее сравнивать время,
То постоянно тогда восхваляет родителей долю.
И виноградарь, смотря на тщедушные, чахлые лозы,
Век, злополучный, клянет и на время он сетует горько,
И беспрестанно ворчит, что народ, благочестия полный,
В древности жизнь проводил беззаботно, довольствуясь малым,
Хоть и земельный надел был в то время значительно меньше,
Не понимая, что все дряхлеет и мало-помалу,
Жизни далеким путем истомленное, сходит в могилу.
(II. 1150—1174)
Эти стихи произвели большое впечатление на писателей Ренессанса.
Так, в посвящении к трактату о живописи Л. Б. Альберти мы нахо-
дим следующее рассуждение, бесспорно навеянное Лукрецием: «Я
полагаю, причем я слышал это от многих, что природа ныне уже
состарилась и устала; подобно тому как природа не производит
более гигантов, не создает она и гениальных людей, коих в изобилии
удивительнейшим образом она порождала в славные времена своей
юности». Все чередой проходит свой жизненный путь, стареет и
уходит в могилу. То, что существовало когда-то, грандиознее и
значительнее всего последующего. История человечества — это ис-
тория его вырождения. Те катастрофы, которыми обычно оканчи-
вался расцвет городской культуры в древности и на грани нового
времени, как бы питали собой это популярное представление и
укрепляли присущую ему наивную ограниченность.
В «Новой науке» мы находим уже нечто совершенно иное. Воз-
вышение и упадок культур не являются у Вико двумя совершенно
различными стадиями, как в примитивной философии истории древ-
ности и эпохи Возрождения. Вико отчасти сознательно, отчасти сам
того не замечая, развивает новую сторону идеи круговорота — диа-
лектическое переплетение прогресса и упадка. Мы уже видели, что
само поступательное движение наций порождает новое варварство.
Едва освободившись от грубой вещественности отношений, стесняв-
шей развитие человеческой личности как таковой, общество снова
впадает в состояние бесчеловечности и отупения. Демократия от-
крывает дорогу людям, которые обладают определенными граждан-
скими доблестями, человек начинает цениться по своим личным
достоинствам вместо сословных привилегий, которые искажали все
отношения между людьми. Таким образом, падение героических
нравов является величайшей моральной победой человечества.
И вместе с тем эта победа есть поражение, ибо, в конце концов, она
выносит наверх людей, которые погрязли во всех пороках, свойст-
венных «презреннейшим рабам», то есть «лжецам, плутам, клевет-
никам, ворам, трусам и притворщикам». Свободное развитие лично-
сти превращается в свою собственную противоположность.
Такой моральной низости не знало героическое общество. По-
этому Вико считает известный остаток феодальных нравов — мо-
нархию— полезным тормозом, способным удержать общество от
дальнейшей деградации. Полное возвращение к примитивной гру-
бости нравов является для него единственным, хотя и достаточно
горьким лекарством от пороков культуры (там, где они уже овла-
дели всей совокупностью общественной жизни и сокрушили нрав-
ственную силу народа). Итак, поступательное движение наций за-
ключает в себе семя упадка, и наоборот — примитивное общество
в некоторых отношениях выше общества цивилизованных народов.
Эта идея неравномерности исторического развития выводит мыш-
ление Вико за пределы традиционного представления о круговороте
и отличает его от мыслителей древности и Возрождения.
Согласно обычному неглубокому взгляду, главное в философии
Вико — это закон повторения одних и тех же общественных форм
в истории, основанный на аналогиях между архаической древно-
стью и европейским средневековьем. Между тем наиболее ориги-
нальная и существенная черта «Новой науки» состоит в различии,
которое Вико проводит между примитивным варварством чувств
и позднейшим варварством рефлексии. Идея повторения прошлого
является в философии Вико простой оправой, в которой сияет дра-
гоценная новая мысль, сближающая его сочинение не с философ-
57
ским наследием древности и Возрождения, а с социальной критикой
XIX столетия и прежде всего с Фурье.
Нет отвлеченной противоположности между варварством и ци-
вилизацией. Самое определение — варварство чувств — носит у
Вико исторический, а не моральный характер. Это не значит, что
оно целиком лишено всякого элемента оценки. Мы уже знаем, что
Вико решительно отвергает идиллическое представление о царстве
справедливости в прошлом. Человеческая история началась с вар-
варства в самом непосредственном и грубом смысле этого слова.
Но если ошибочна теория блаженного естественного состояния, то
нельзя согласиться и с учением Гоббса, который всюду открывает
голое насилие и эгоизм. Историческая теория Гоббса также являет-
ся перенесением в прошлое позднейших нравов, сложившихся в
эпоху вторичного варварства рефлексии и рассудочной злобы. По-
добной нравственной низости не знало героическое общество. Прав-
да, в нем господствовало право копья, право силы. Но просто наси-
лие отнюдь не является сущностью божественных и героических
порядков. Эти порядки были общественным отношением, а не ре-
зультатом злокозненных действий кучки тиранов и обманщиков.
В «священных законах», выгодных для сословия господ и враж-
дебных плебеям, Вико отказывается видеть следствие простого
«Обмана со стороны Благородных». Наоборот: «такое поведение
было далеко от всякого обмана, скорее то были нравы, вытекающие
из природы людей, которая при помощи этих нравов порождала
государства, со своей стороны диктовавшие именно такое, а не иное
поведение». Все это соответствовало неразвитому состоянию обще-
ства и первоначальному грубому сознанию. Коварство и развра-
щенность цивилизованных времен еще не проникли в эти отноше-
ния. В первобытном обществе сестра была одновременно и женой, и
это было нравственно. Именно в этом духе следует понимать и рас-
суждения Вико о варварстве чувств. Его учение сложилось в эпоху
разносторонней критики средневековья. Он сам считает научную
критику своей специальностью. Однако презрение к прошлому,
стремление очистить интеллект от всяких исторических наслоений
и сделать его достоянием математики и отвлеченной морали — эти
популярные идеи XVII—XVIII столетий чужды «Новой науке».
Своеобразие Вико состоит именно в том, что его исторический ана-
лиз переходит в критику современной ему научной критики и обра-
щается не только против феодального прошлого, но и против пре-
тензий и спеси буржуазного рассудка. В этом ключ к пониманию
категории варварства чувств. Вико горячо защищает идеалы про-
гресса и в то же время видит всю его относительность и непроч-
ность. Он смело обнажает бессмыслицу и варварство прославлен-
ных героических нравов и вместе с тем отклоняет абстрактное
осуждение феодальной эпохи. В этом сказывается его глубокий
диалектический такт. Его определения не лишены элемента оценки,
но такой оценки, которая целиком вытекает из исторического ана-
лиза, многостороннего и сложного, как сама история.
Теоретики блаженного естественного состояния видели в про-
шлом золотое время. Гоббс полагал, что право является искусствен-
ной надстройкой, созданию которой предшествовал естественный
звериный эгоизм. «Новая наука» отклоняет обе точки зрения. «Су-
ществует право в природе» — это положение встречается уже на
первых страницах сочинения Вико. Естественное право народов как
разумное следствие человеческой природы возникает и развивается
вместе с обществом и достигает своего полного развития в народ-
ных республиках. Оно — исторический результат, а не дарованная
свыше первобытная идиллия. Естественному праву народов, осно-
ванному на справедливости, противоположно государство как орган
насильственного господства счастливого меньшинства над несчаст-
ным большинством. Но даже эта противоположность относительна,
и цивилизация уже в первоначальные варварские времена высту- 53
пает в двояком виде: вместе с государством сословия господ она
утверждает и естественное право народов, которое на первых порах
«при возникновении Государств зародилось как принадлежность
Суверенной Гражданской Власти». Благородные, будущие рабовла-
дельцы, являлись первой нацией, внутри которой развились и свое-
образные формы демократии вплоть до открытого восстания против
тиранов. Вико отвергает мнение Гоббса, будто «Гражданские цар-
ства зародились или посредством открытой силы, или посредством
обмана, который потом разрешался в силе». Объединяясь в правя-
щее сословие, отцы семейств ограничили свои личные интересы
в интересах более общих. Это «естественное равенство состояний,
когда все отцы были суверенами в своих семьях». Что же являлось
главной гарантией против нарушения варварской демократии?
Прежде всего бедность общества, грубость потребностей. Замеча-
тельная девяносто четвертая аксиома «Новой науки» гласит: «Есте-
ственная Свобода человека тем более неукротима, чем ближе свя-
заны блага с его собственным телом; гражданское рабство коренит-
ся в тех имущественных благах, которые не необходимы для жиз-
ни». Именно потому что эпоха возникновения государства — это
«времена высокомерия и дикости, вызванных недавним происхож-
дением из звериной свободы», трудно себе представить, чтобы ка-
кие-нибудь свирепые и хитрые люди могли поработить все осталь-
ное общество при помощи одного лишь насилия. Сама неразвитость
героического общества является противоядием от грубой силы.
Вместе с диктатурой рождается и демократия.
«Божественное провидение утверждает Государства и в то же
время устанавливает Естественное право народов». В Европе это
право постепенно возникло «из человеческих феодальных нравов».
В форме отношений непосредственной личной зависимости зарож-
даются первые элементы демократизма, подобно тому как ценз
Сервия Туллия из основы господской свободы становится впо-
следствии исходным пунктом освобождения народа. Эти рассужде-
ния Вико заставляют вспомнить замечание Маркса о том, что сред-
ние века были своеобразной демократией несвободы. Поэтому все.
что в героических нравах кажется нелепым, бессмысленно только
с точки зрения последующих более развитых порядков, но отнюдь
не лишено разумного содержания, если рассматривать эти нравы
с точки зрения всемирно-исторической. Приведем два наиболее ха-
рактерных примера.
Мы уже говорили выше, что Вико презрительно отзывается о
дуэлянтах и щепетильной гордости рыцарских времен вообще.
Но чрезвычайно интересно, что в поединках, «божьем суде» вар-
варских народов он находит и положительную сторону, своеобраз-
ное преломление того же естественного права, еще не пришедшего
к своей логически развитой форме. Поединки являлись как бы отду-
шиной, через которую испарялась зараза множества частных войн,
кишевших в недрах варварского мира. Они полагали некоторую
границу кровавой мести, так как побежденная сторона считалась
неправой, оставленной самим божественным провидением.
Словом, в поединках проявляется естественный здравый смысл
варваров. Без них человечество могло бы погибнуть, захлебнувшись
в крови. Конечно, обращение к судьбе, к стихийному результату
битвы противоречит рациональным нормам справедливости, а так-
же уголовным и гражданским законам позДнейшего времени. Но для
варварских порядков это обращение не было простой бессмыслицей.
Общество в целом нашло в поединках какое-то грубое, среднее ре-
шение тяжб и взаимных претензий. «Суд божий» был единственной
возможностью восстановления справедливости, единственной на-
деждой для тех, кто видел «хороших людей угнетенными и злодеев
процветающими».
Как не вспомнить при этом судью Бридуа у Рабле, решавшего
все дела простым метанием костей! Пантагрюэль (совершенно в
духе «Опытов» Монтеня) оправдывает справедливость жребия по
сравнению с методом более просвещенной юстиции, действующей
на основании законов. Ибо человеческие суждения о праве и спра-
ведливости зыбки, а добросовестность судей и адвокатов более чем
сомнительна. Простая случайность может оказаться более спра-
ведливой, чем строгая логика законов.
Судья Бридуа понял юридическую формулу alea judiciorum
(сомнительные тяжбы) в смысле «кости для разрешения тяжб»,
чем подтвердил замечание Вико о героической юстиции, прини-
мающей всякое слово закона буквально. Этот педантизм варваров
также имеет, по мнению Вико, свою положительную сторону. Импе-
ратор Конрад III разрешил женщинам осажденного Вейнсберга
выйти из города, захватив с собой то, что они могут унести на спи-
не, мужчины должны были подвергнуться поголовному истребле-
нию. Тогда женщины Вейнсберга нагрузили на себя своих сыновей,
мужей и отцов и прошли мимо императорского войска, не осмелив-
шегося Нарушить формулу капитуляции. Так именно нужно пони-
мать мысль Вико о том, что героические времена видели спра-
ведливость в буквальном соблюдении слова. «Вот в какой мере,—
пишет Вико,— можем мы утверждать, что естественное право раз-
витого Человеческого Разума, описанное Гроцием, Зельденом и
Пуфендорфом, естественно проходит через все времена у всех
наций!»
Из этого следует, что нельзя рассматривать примитивную эпоху
как царство бессмыслицы и насилия, нельзя отвлеченно противопо-
ставлять ей позднейшую цивилизованную полосу истории как пол-
ное осуществление разума и справедливости. «Право Ахилла» так-
же покоится на определенных общественных отношениях. То, что
представляется нам в героическом обществе безнравственным и
нелепым, является нравственным и необходимым в свете тех соци-
альных порядков, которые в эту эпоху сложились, а значит отчасти
и в более широком смысле, поскольку грубые и несовершенные от-
ношения варварских времен являются все же определенной сту-
пенью развития естественного права народов.
5
В философии Вико прежде всего бросается в глаза противопо-
ложность «двух природ» и двух периодов мировой истории — герои-
ческого и человеческого (божественный век является, в сущности,
только преддверием к историческому). Поступательное движение
наций ведет от древних аристократий к народным правлениям. Те-
перь мы видим, что эта противоположность имеет и оборотную
сторону. В первую очередь значение этой схемы весьма ограничено
опытом народных республик, то есть республик, в которых главную
роль играют весы и кошелек, а не копье. С другой стороны, герои-
ческое варварство чувств само выступает как определенный этап
развития человеческих нравов, в некоторых отношениях более чело-
веческих и народных, чем нравы эпохи цивилизованного варварства
рефлексии.
Век героев, времена личной зависимости, господства и рабства,
царство фантастического права и суровой аристократии, слабого
рассудка и живого воображения, поэтической логики, мифологии,
эпических песен уступает место демократическим порядкам, эпохе
рациональной прозы. Вико понимает прогрессивность этого пере-
хода. Но вместе с фантастическим героическим веком не исчезает
ли из общественной жизни и какой-то элемент народности, которо-
го не может вернуть даже «милостивое право, оцениваемое по рав-
ной для всех полезности причин?» И не является ли чувственное
сознание, основанное на ярких и общедоступных образах, более
демократическим, более близким к телесно-практической жизни
простого народа, чем тайная мудрость философов, прозаичная и
холодная. Что может быть равнодушнее по отношению к страда-
ниям и радостям человечества, чем рассуждения de того geometrico?
Народ «настолько же восприимчив к сильным примерам, насколько
неспособен научиться на рациональных максимах». Говоря о поэти-
ческой мудрости древнего мира, Вико всегда подчеркивает ее народ-
ный и даже более определенно простонародный характер. Это мо-
55
жет показаться странным. Эпоха народных языков и демократиче-
ской прозы ясно противопоставлена у Вико героическому и феодаль-
ному варварству чувств. И все-таки даже мудрость героев, «муд-
рость ауспиций», отличающих сословие благородных от остальной
человеческой массы,— это яркое выражение их господства — мо-
жет служить примером «Простонародной Мудрости» по сравнению
с наукой и философией демократической эпохи. Так пишет Вико.
При этом многое носит у него бессознательный характер. Но ло-
гика дела заставляет итальянского мыслителя подчеркивать разные
стороны исторического процесса, что порождает в его сочинении
некоторые внешние противоречия.
Гомер воспевал героические нравы, рыцарскую доблесть благо-
родных и сильных. Но трудно представить себе более народного
поэта. «Гомер должен был стоять на уровне совершенно простона-
родных чувств, а потому и простонародных нравов Греции, в его
времена еще совершенно варварской, ибо такие простонародные
чувства и такие простонародные нравы дают подлинный материал
Поэтам». Если Гомер существовал, то он был «человеком совершен-
но простонародным». Но, согласно Вико, «сами греческие народы
и были этим Гомером».
Посмотрите, у каких слоев населения более всего сохранилась
способность создавать поэтические образы, рассказывать легенды
и сказки? «В Силезии, провинции целиком Крестьянской, естествен-
но рождаются Стихослагатели». Поэзия ближе всего к древнейшим
формам жизни и речи, то есть к деревенским. «Во времена Поэтов-
Теологов ошеломленным людям были чужды всякие вызывающие
тошноту рассуждения (как и теперь мы это наблюдаем в нравах
крестьян) и им нравилось только то, что было позволено, нрави-
лось только то, что было полезно». Простонародье имеет естествен-
ную склонность творить легенды и мифы, причем творить их сораз-
мерно. Из этого Вико выводит закон о вечном свойстве всякой
поэзии — «поэтически возвышенное всегда должно быть едино с на-
родным». Народы — «поэты по своей природе».
Таким образом, наряду с антитезой демократической научной
прозы и поэтического невежества феодальных времен, у Вико есть
и другая схема, совершенно противоположная. Сравним древнерус*
скую былину или эпическую песнь, в которых действуют богатыри
и князья, с гражданской лирикой XIX века, и мы встретимся с тем
же затруднением, которое отразилось в двойственной оценке Вико.
Былины и песни русской старины более непосредственно связаны
с телом народа, чем демократические стихи разночинского периода
нашей литературы, а между тем в древней поэзии отразилась эпоха,
далекая от гражданского идеала более зрелых и прогрессивных
времен.
1936
ИОГАНН ИОАХИМ ВИНКЕЛЬМАН
И ТРИ ЭПОХИ БУРЖУАЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ*
1
Еще при жизни Винкельмана один немецкий журнал без ведома 57
автора поместил его автобиографическую заметку. Она начиналась
словами: «Мою предшествующую историю я излагаю кратко.
В Зеегаузене я был восемь с половиной лет конректором тамошней
школы. Библиотекарем господина графа фон Бюнау я пробыл столь-
ко же времени и один год до моего отъезда прожил в Дрездене».
Покинув родину, Винкельман обосновался в Риме и не хотел оста-
вить вечный город ради известных ему прелестей немецкой жизни.
«Самой большой моей работой,— продолжает он свой рассказ,—
была до сих пор история искусства древности, особенно скульпту-
ры, которая будет напечатана этой зимой. Далее есть у меня одна
работа на итальянском языке с приложением более ста гравюр под
названием «Объяснение затруднительных мест мифологии, обрядов
и древней истории», все это на основе неизвестных указаний древ-
ности, которые здесь впервые появятся. Эту книгу in folio я печа-
таю в Риме на собственный счет. Попутно работаю над трактатом
об аллегории для художников. Таковы жизнь и чудесные деяния
Иоганна Винкельмана, рожденного в Стендале, что в Старой Мар-
ке, в начале 1718 года» **.
Святой, чудесные деяния которого изложены в приведенной за-
метке,— один из тех вдохновенных мыслителей, которые озарили
своим волшебным талантом первые шаги буржуазной демократии
в Европе. Деятельность Винкельмана совпадает с предрассветным
периодом немецкой литературы, описанным Гёте на страницах
«Поэзии и правды». Это очень своеобразная эпоха. Старый сослов-
ный хлам еще заполняет все поры жизни, но трезвое сияние рассуд-
ка повсюду гонит причудливые тени доброго старого времени.
В этом промежуточном освещении все удивительные персонажи
жизненной драмы Винкельмана — строгие ревнители лютеранской
веры и школьные ученые, иезуитские патеры и просвещенные магна-
ты, придворные художники и кардиналы — кажутся существами с
* Впервые опубликовано в кн.: Винкельман И. И. История искусства древ-
ности (М., 1933).
** Из письма Фр.-В. Марпургу от 8 дек. 1762 г.
Дидро восхваляет добродетельный пафос обоих мыслителей, их
оппозицию по отношению к испорченному состоянию цивилизации.
Но исключительное стремление к простоте и величию, дух строгого
подчинения индивидуальности отвлеченному политическому идеа-
лу— эти общие требования, объединявшие в его глазах Винкельма-
на и Руссо, кажутся автору «Салонов» далекими от этого
мира. Возможно, что столь очевидное возвышение публичной сферы
над частной жизнью было с точки зрения Дидро слишком опасно
в те времена, когда еще не изгладились воспоминания о монархии
Людовика XIV, исторической философии Боссюэ и других выраже-
ниях «классического века». Только в эпоху Регентства французская
живопись, литература и критика начали освобождаться от стесни-
тельного наследия этой эпохи, между тем в направлении Винкель-
6Q мана и Менгса уже созревали идеи новой, более широкой волны
классицизма. Правда, это был классицизм совершенно иного покроя,
он заключал в себе in писе эстетику патриотов 1793 года, которые
с презрением взирали не только на аристократическую чувствен-
ность стиля рококо, но и на столь любезный сердцу Дидро бур-
жуазный жанр. Они находили свой идеал в аллегорическом изо-
бражении республиканских добродетелей (причем и здесь не мешает
заметить, что именно Винкельман придал аллегории значение все-
общего средства изобразительных искусств).
Но за четверть века до революции, когда Дидро писал свои
«Салоны», в Париже господствовали еще Грёз и заповедь прибли-
жения к природе. Греки должны были только помочь художнику
в его поисках прекрасной жизни («Мне кажется, что нужно изучать
античность для того, чтобы научиться видеть природу»,— говорит
Дидро). Однако, начиная с Вьена, во французском искусстве вто-
рой половины XVIII века можно проследить обратное движение.
Возвышение жизни до уровня греческого идеала становится глав-
ным принципом нового направления. Жозеф Мари Вьен усвоил
классическую манеру в Риме, где он, может быть, сталкивался с
Винкельманом и Менгсом. В качестве художника Менге большого
влияния во Франции не имел (хотя ему заказывает картины сам
барон Гольбах). Только Луи Давид, будущий член Конвента, при-
вел к окончательной победе художественные принципы Винкельма-
на, усвоенные им, также как и его предшественником Вьеном, во
время пребывания в Риме *.
Таким образом, Винкельман является предшественником одно-
го из больших движений европейской художественной мысли. При-
знаки этого движения заметны уже в последние десятилетия перед
французской революцией, они проникают собой в дальнейшем все ее
жизненные проявления — от ораторского стиля народных трибунов
до книжного переплета, от общественных празднеств в честь нехри-
* См.: Fontaine A. Les doctrines d’Art en France. De Poussin a Diderot.
P., 1909, pp. 292—294; Dresdner A. Die Entstehung der Kunstkritik im Zusammen-
hang der Geschichte des europaischen Kunstlebens. Munchen, 1915, S. 216 f.
стианских божеств до гравировки на саблях революционных армий.
С некоторыми изменениями это движение продолжается в виде так
называемого стиля империи. Более победоносное, чем армии Бона-
парта, оно подчинило себе всю Европу. Не уступая Персье и Жа-
кобу, крепостные мастера русских бояр делали драгоценную мебель
с эмблемами свободной Греции и гражданского Рима. Как бы в на-
смешку над республиканской идеей Винкельмана, казенное величие
царского самодержавия искало себе выражения в дорических ко-
лоннах своих арсеналов, дворцов и манежей.
Но несмотря на эту двусмысленность, практическое осуществле-
ние принципов Винкельмана в России, как и на Западе, было так
или иначе связано с революционной эпохой. Оценка Винкельмана
современными ему писателями рисует ту историческую рамку, в
которой возникла доктрина классицизма. Имя и учение Винкель-
мана имели для своей эпохи символическое значение. Его идея
благородной простоты и спокойного величия была лишь сокращен-
ной формулой для всех гражданских доблестей, извлеченных рево-
люционным движением этой эпохи из развалин древнего мира. В от-
личие от Винкельмана Дидро отстаивал право эмпирического инди-
вида, созданного не из мрамора, а из плоти и крови. Речь идет
о противоположности между идеалом и жизнью.
Это особенно ясно на примере позиции Лессинга. Через год
после появления критики Дидро Лессинг в своем «Лаокооне» вы-
двинул несколько возражений против классицизма Винкельмана.
Он допускал, что искусства изобразительные должны создавать
свои образы согласно пластической природе («если только она су-
ществует»,— «Эмилия Галотти», I, 4). Пластика берет своих героев
в состоянии спокойного равновесия в момент высокого торжества
над всяким сопротивлением материи и всякой порчей, скрытой в
самом течении времени. Ее идеал есть красота, существенная в пла-
стическом искусстве. Но жизнь шире красоты, она включает немало
такого, что не укладывается в рамки спокойной формы,— неразре-
шенные противоречия и сильные страсти, своеобразие личности,
страдание. Подобно тому как спокойное состояние достигнутого ре-
зультата царствует в пластических искусствах, так жизнь во всем
разнообразии ее положений господствует в поэзии. Одно не заме-
няет другого. Благородная простота и спокойное величие прекрасно,
но правда жизни, как бы груба она ни была, страдания и страсти
индивида, столь незначительные по сравнению с покоем вечности,
все это, по мнению Лессинга,— особая сфера, а не простой недоста-
ток достоинства, мир, отпавший от идеала.
Такова та идейная коллизия, в которой взгляды Винкельмана
выступают уже с момента своего появления. «История искусства
древности» вводит нас в лабораторию умственной жизни
XVIII века, где из пестрой материи старых представлений выраба-
тываются более отвлеченные элементы идеологии буржуазного об-
щества. Пластический идеал Винкельмана представляет собой как
бы образ неподкупного гражданина, сохраняющего величественное
61
спокойствие среди всех тревог действительной жизни. Напротив,
художественные вкусы Дидро и поэтические требования Лессинга
нуждаются для своего осуществления в живых, действительных ин-
дивидуальностях с их страданиями и радостями.
Перед нами права гражданина и права человека, спокойствие
закона и текучая эмпирия действительной жизни,— небо и земля
буржуазного общества и буржуазной идеологии. Тэн в своей харак-
теристике XVIII века называет абстракцию и эмпиризм — два
противоположных элемента мышления этой эпохи — духом класси-
цизма и духом научных исследований. Гегель задолго до Тэна вы-
разил эту антитезу в виде противоположности политического граж-
данина (citoyen) и частного лица (bourgeois) — двух главных дей-
ствующих лиц его философии государства и права.
62
2
По своим исходным позициям Винкельман разделял некоторые
общие принципы материализма XVIII века. Особенно интересна
в этом отношении его ранняя работа «Об устном преподавании исто-
рии». Против придворной историографии, с ее описанием подвигов
царствующих особ, героев и полководцев, Винкельман выдвигает
демократические идеи Просвещения: он хочет привлечь интерес
публики к народной жизни, истории промышленности, торговли,
мореплавания. Счастливая природная среда и свободное обществен-
ное устройство создали величие греческой культуры. Такова в сущ-
ности и основная идея его «Истории искусства древности».
Винкельмана изображали крайним идеалистом, ссылаясь на за-
ключенные в его главном труде элементы платоновской мистики.
Но такое смешение материализма с идеализмом не было редкостью
в литературе эпохи Просвещения. Достаточно сослаться на Робине
или английских просветителей неоплатоников, как Шефтсбери.
«Брат Платон»—так называет Вольтер в своих письмах самого Ди-
дро. Фантастические элементы, встречающиеся в сочинениях Вин-
кельмана, являются у него наследием эпохи Возрождения. Но дей-
ствительные корни эстетики Винкельмана нужно искать в учении
Эпикура, с которым он познакомился, читая Гассенди. От Эпикура
и Лукреция Винкельман унаследовал свою теологию, учение о бо-
жественном совершенстве, блаженном покое и красоте, свободной
от перевеса тех или других материальных страстей. Он мечтает
о прекрасном среднем состоянии между жаром и холодом, влажным
и сухим, необходимостью и произволом, напряженным трудом и
безжизненной скукой. Из всех писателей XVIII века Винкельман
наиболее последователен в поисках этого фантастического среднего
состояния — высшую степень человеческой красоты он находит у
гермафродита или молодого евнуха из Малой Азии.
В описании пластического покоя античных божеств Винкельман
почти дословно повторяет древних материалистов. Вместе с про-
славлением чувственной природы вещей он взял у просветителей
древности их наивный идеализм, их греческое представление о со-
вершенстве, стоящем по ту сторону борьбы и. страдания, о созерца-
тельном покое — атараксии, Маркс следующим образом характери-
зует эту особенность античного миросозерцания: «Очень много
острили по поводу этих богов Эпикура, которые, будучи похожи
на людей, живут в межмировых пространствах действительного
мира, имеют не тело, а квазитело, не кровь, а квазикровь; пребывая
в блаженном покое, они не внемлют ничьей мольбе, не заботятся
ни о нас, ни о мире, и почитаются они ради их красоты, их величия
и совершенной природы, а не ради какой-нибудь корысти». Стран-
ные боги! «И все же эти боги не фикция Эпикура. Они су-
ществовали. Это — пластические боги греческого искусства, Ци-
церон как римлянин вправе высмеивать их, но Плутарх, грек, совер-
шенно забыл греческое мировоззрение, когда он говорит, что это
учение о богах, уничтожающее страх и суеверие, не дает ни радости,
ни благоволения богов, а ставит нас в такое отношение к ним, в
каком мы находимся к рыбам Гирканского моря, от которых мы не
ждем ни вреда, ни пользы. Теоретический покой есть главный
момент в характере греческих богов, как говорит и Аристотель: «То,
что лучше всего, не нуждается в действии, ибо оно само есть цель» *.
Эта основа античного понятия о прекрасном усвоена Винкельма-
ном и развита им до экстаза. В его «Истории искусства древности»
мы читаем, что красоту можно сравнить с самой чистой водой, чер-
паемой из источника: «Чем меньше в ней вкуса, тем она здоровее,
потому что она очищена от всех посторонних примесей». И далее:
«Поскольку состояние блаженства, то есть отсутствие страдания и
наслаждение удовлетворением, приобретается в природе без усилий
и дорога к нему наиболее пряма и может быть пройдена без труда
и стараний, так же точно и понятие о высшей красоте кажется
вещью самой простой, самой легкой, не требующей ни философского
знания человека, ни изучения душевных страстей и внешнего их
проявления. Но так как, по словам Эпикура, в человеческой приро-
де нет среднего положения между страданием и наслаждением, а
страсти, носящие по морю жизни наш корабль, подобно ветрам
напрягают парус поэта и возносят художника,— то и чистая красо-
та не может быть единственным предметом нашего изучения: нам
надо придать ей положение действия и страстей, то есть то, что в
искусстве мы понимаем под выражением».
Существует, таким образом, различие между идеалом красоты,
свободной от всякого беспокойства, и более доступной людям красо-
той выражения, где неизбежная доля страсти сдерживается худо-
жественной мерой. «Высшая красота в боге,— говорит Винкель-
ман.— Это понятие красоты есть как бы отвлеченный от материи,
очищенный огнем дух, стремящийся олицетворяться в творении по
образу первого разумного существа, созданного божественным
разумом».
63
* Маркс К„ Энгельс Ф. Соч., т. 40, с. 174.
Все это уже фантастика в духе натурфилософии древности и
эпохи Возрождения. Но не следует забывать, что теория идеаль-
ного образца и блаженного среднего состояния, лежащего между
враждебными крайностями истории и природы, была свойственна
всей литературе эпохи Просвещения. Даже материалист Дидро при-
ходит в своем «Парадоксе об актере» к представлению об идеале,
который должен служить образцом для игры актера и ради кото-
рого следует отказаться от природной чувствительности. Патетиче-
ский Дидро и спокойный созерцатель Винкельман представляют,
в сущности, две стороны одного и того же мировоззрения. Эстетиче-
ский идеал Винкельмана есть адекватное выражение созерцательной
стороны материализма XVIII века. Он образует поэтому переход
от философии просветителей к идеализму немецкой классики эпохи
64 Великой французской революции, идеализму Гёте и молодого
Гегеля.
С Винкельманом в историю принципов искусства входит господ-
ство общей, типической красоты над выражением, идеи над чувст-
венным удовольствием, рисунка над колоритом, формы над красотой
(«Что такое краска по сравнению с формой?» — восклицает немец-
кий якобинец Георг Форстер). Всякое направление в искусстве,
возвышающееся над ничтожеством жизненной обстановки буржуаз-
ного общества, заключает в себе элемент художественной идеали-
зации и воздает должное традиции Винкельмана.
Но это лишь одна сторона дела — есть и вторая. Классицизм
Винкельмана, приведенный к популярному виду писателями эпохи
Империи *, породил академическую традицию XIX столетия. При-
глаженные копии с римских оригиналов, которые сами уже были
копиями, холодные светские портреты, пронизанные духом власти,
бесцветная, бесхарактерная, абстрактная красота гипсовых слеп-
ков,— вся эта музейная ветошь официального искусства прошлого
века также берет начало в направлении, созданном Винкельманом
и Мейгсом.
Однако это двоякое значение идейного наследства Винкельмана
давно раскрыто; немало уже написано и, не менее того, с гневом
сказано об академическом эпигонстве. Но менее понят сегодня тот
факт, что направление, противоположное винкельмановской класси-
ке, сохраняет такую же двойственность. Критика теории Винкель-
мана у Лессинга и Дидро содержит в зародыше все рассуждения
позднейших противников классицизма. Оба великих просветителя
стремились приблизить искусство к жизни. Благородная простота
и спокойное величие казались им чем-то слишком отвлеченным —
под античными складками одежды самоотверженного гражданина
мог скрываться и верноподданный абсолютной монархии. Обраща-
ясь к наследству революционной демократии прошлого, мы при-
выкли относиться с величайшим уважением к формуле «прекрасное
* Главным образом Катрмером де Кенси: См.: Benoit F. L'art fran^ais
sous la Revolution et 1’Empire. Les idees, les genres. P., 1897.
есть жизнь». Вот почему насмешки над эстетикой идеала и критика
античных канонов прекрасного есть нечто легко соединимое с по-
пулярным представлением о марксизме. Такая ассоциация до неко-
торой степени оправдана отвращением к традиционной идеалисти-
ческой и мещанской догме имущих классов, какой она сложилась
уже во времена блаженной памяти аптекаря Омэ. Но эти времена
давно прошли.
Мы не должны забывать, что обращение к жизни также может
иметь консервативный и даже реакционный характер. Сама по себе
эта идея содержит возможность оправдания всего эмпирически
данного и всякой исторической или доисторической бессмыслицы,
изображаемой с оттенком фатального восхищения, amor fati. Трудно
себе представить сколько глубокой исторической темноты может
скрываться в таких привлекательных словесных символах, как 65
жизнь, опыт, реальность. Они по крайней мере двусмысленны.
В своей философской книге 1909 года Ленин подверг уничто-
жающей критике ходячее представление о близости к материализму
всякого взгляда, опирающегося на понятие опыт. Религия со всеми
своими тайнами, стигматами, чудесными исцелениями для верующе-
го— предмет опыта. Громадное сочинение Уильяма Джемса «Мно-
гообразие религиозного опыта» набито до отказа свидетельствами
очевидцев. Самое набожное искусство обнаруживает нередко столь
прозаический натурализм в передаче явлений сверхчувственного
мира, что рядом с ним кажется условной самая натуралистическая
живопись XIX века. С другой стороны, разве спиритизм не нашел
себе множество приверженцев у англичан, этой, пожалуй, наиболее
эмпирической из европейских наций? Еще Энгельс писал о тесном
переплетении индуктивной ограниченности и религиозного ханже-
ства в психологии английской буржуазии со времен либерального
переворота 1688 года. Даже честный демократический реализм не
всегда сочетается с революционной энергией. Так, английские пи-
сатели эпохи Просвещения более трезво оценивают истинное значе-
ние имущественных отношений, чем их современники во Франции,
но вместе с тем они более умеренны в своих общественных требо-
ваниях, держатся ближе к земле. Все беспорядки и революции, го-
ворит А. Поп в своем «Опыте о человеке», происходят вследствие
стремления превратить человечество в народ ангелов. И это не пу-
стая фраза — идеальное всегда служило революционным целям,
сказал однажды Гёте Эккерману.
Лишая власти прежние виды духовного рабства, буржуазное
общество само берет на себя заботу о сохранении преемственности
со всеми традиционными формами мышления. Каждый из противо-
речивых элементов буржуазной идеологии обнаруживает не только
свою революционную, но и свою консервативную сторону. Так,
идеал благородной простоты и спокойного величия таит в себе
эволюцию к холодному, иерархическому духу официальной куль-
туры XIX века. В конце концов дело сводится к восстановлению
ложноклассических идеалов «ясности», «величия» и «порядка», за
66
которыми скрыта проповедь старой,, как сама монархия, догмы под-
чинения.
Но путь искусства к природе и человеческой жизни также со-
держит возможность подобного перерождения. Несмотря на все, что
противоречит этому, «Сверхчеловек» Ницше был многим обязан
«Человеку» Фейербаха. «Жизнь, как она есть»,— это либо демокра-
тическое разоблачение лицемерия официального общества, либо его
же собственный реакционный цинизм, пусть чисто интеллектуаль-
ный, наигранный, философский. Какая разница? Практические вы-
воды не заставят себя ждать. Достаточно вспомнить широкое рас-
пространение так называемой философии жизни в XX веке. Короче,
не только идеалы буржуазной культуры, но и присущий ей пафос
жизни, не только права гражданина, но и права человека имеют
свою оборотную сторону, в которой дает себя знать ограниченность
их общей исторической основы. Здесь так же, как в эстетике идеа-
ла, живая струя и струя мертвая текут из одного и того же источ-
ника. Без понимания этой двойственности буржуазной культуры
верная оценка исторических фактов невозможна.
3
Период наибольшей посмертной славы Винкельмана совпадает
с тремя десятилетиями подготовки и развития революционных со-
бытий конца XVIII и начала XIX столетия. К 1778 году относится
«Памятник Иоганну Винкельману» Гердера. Фридрих Шлегель в
юношеских работах 1793—1794 годов и следующих лет черпает
свою идеальную политику из «Истории искусства древности». Мож-
но также сказать, что «Боги Греции» Шиллера находятся в слиш-
ком очевидной связи с пластическими образцами Винкельмана.
В том же духе пишет Вильгельм Гумбольдт свои «Рассуждения об
изучении древних». Наконец, Гёльдерлин и Гегель, друзья по се-
минарии в Тюбингене, развивают до высших пределов культ антич-
ной демократии, постоянно возвращаясь к идеалу благородной
простоты и спокойного величия.
«Человек,— писал Гёте в его знаменитой характеристике Вин-
кельмана (1805),— способен на многое, целесообразно применяя
свои отдельные силы; он способен на необычайное посредством соче-
тания различных способностей; но единственное и совершенно не-
ожиданное совершает он лишь в тех случаях, когда все его свойства
соединяются в нем равномерно. Последнее было счастливым жре-
бием древних, особенно греков в их лучшее время; оба первые слу-
чая предуказаны судьбою нам, людям нового времени». В отличие
от них человеческий образ Винкельмана несет в себе, по словам
Гёте, некоторые античные черты. Этот языческий дух светится из
всех его произведений и поступков *.
* См.: Skizzen zu einer Schilder ting Winckelmanns von Goethe (Winckelmanns
kleine Schriften zur Geschichte der Kunst des Altertums, hrsg. von Hermann Uhde-
Bernays. Lpz., 1913, S. 9—13).
Гегель, обязанный Винкельману многим не только в области
истории греческого искусства, вполне разделял эту оценку. Правда,
он соглашается с Румором в его критике погони за идеалистической
формой изображения, вышедшей из «идеальной формы» Винкель-
мана *.
Но Гегель приходит к выводу, что последний не был понят
своими современниками и что истинные его идеи получили развитие
лишь впоследствии. Говоря о политической свободе как обществен-
ной основе расцвета греческого искусства, Гегель всецело примы-
кает к «Истории искусства древности», а в своем анализе отноше-
ния между идеалом и природой он при всех возражениях против
абстрактной идеализации становится, в конце концов, на сторону
Винкельмана против Румора**. Здесь еще чувствуется веяние ге-
роического времени французской революции. Идеал гармонии инди-
видуального и всеобщего в древнем обществе был предметом самых
горячих стремлений деятелей Конвента.
Революции обладают способностью производить величайшие
изменения в мире мыслей. Подобно геологическим переворотам они
погружают на дно океана целые провинции духовной жизни, пол-
ные воинственной и шумной борьбы идей и, наоборот, поднимают
к солнцу новые земли, еще необитаемые и влажные. Для всей сово-
купности взглядов Винкельмана величайшим испытанием была
французская революция. Из скромной музыкальной шкатулки его
классической археологии она извлекла созвучия неслыханной преж-
де резкости и силы. Но, будучи основой нового расцвета классициз-
ма, революционное движение конца XVIII столетия было вместе
с тем причиной его падения.
Писатели предреволюционной эпохи рассматривали нарождаю-
щееся буржуазное общество еще совершенно абстрактно. Действи-
тельность оказалась менее прекрасной, чем филантропические кар-
тины будущего, но она была сильнее их. Опыт всех классов, прини-
мавших участие в революции, внес существенные поправки в
первую, еще очень условную картину буржуазной демократии.
Не только проходимцы из рядов «болота», но и такие люди, как
Бабёф, приветствовали падение Робеспьера. Вместе с ним потерпела
крушение попытка сдержать развивающийся антагонизм новых
классов посредством идеалистической политики на античный лад,
политики благородной простоты и спокойного величия.
Лихорадка наживы, охватившая Францию в эпоху Термидора,
раскрыла действительное содержание прав человека; национально-
освободительная война понемногу превратилась в войну грабитель-
скую, правовое сознание народов как бы устало от непрерывного
парада гражданских добродетелей, подтверждаемых римскими клят-
вами, а нередко и собственной кровью. В этом переходе от празд-
67
* См.: Rumohr Р. Italienische Forschungen, hrsg. von Julius Schlosser. F. am
M, 1920, S. 9—10.
** Hegel. Aeschetik, hrsg. von Lasson. Bd. I, S. 230—231.
ничной стадии революции к ее обыденному завершению потускнели
все абстрактные противоположности, свойственные мышлению
XVIII столетия. Восстановилась преемственная связь с обыкно-
венной историей прежних времен, когда философы еще не раздели-
ли общественные учреждения на естественные и ложные. Мир ока-
зался перенесенным из царства разума в круг действительной жиз-
ни, где, по словам Бальзака, нет никаких законов, а действуют
только обстоятельства.
Из этой неотразимой связи обстоятельств родились герои новой
французской литературы, мужественные, как спартанцы, но эго-
центричные, как люди эпохи Возрождения, стоящие уже отчасти по
ту сторону добра и зла. Сознание относительности идеальных норм
явилось результатом опыта революционных десятилетий, и все клас-
££ сы по-своему поняли его урок. Теоретики феодальной реакции об-
виняют аристократию XVIII века в том, что она сама прониклась
фразеологией вольнодумцев, вместо того чтобы внушать народу
сознание действительной цели человеческой жизни — послушания.
Буржуазные доктринеры еще толкуют о разуме и праве, но более
глубокие умы, как Гизо, уже переходят от юридической формы к
имущественным отношениям и видят содержание истории в борьбе
за власть.
Третий класс, не лишенный значения для этой эпохи,— мелкая
буржуазия — также переживает своеобразную эволюцию. Плебей-
ский подъем отошел в прошлое, и обозначился мелкобуржуазный
анархический бунт против лицевой стороны мещанской цивили-
зации.
В Германии романтический мелкий буржуа был подлинным
носителем тех настроений, которые развились в эпоху Термидора.
Около 1800 года он исповедует род эпикурейской религии («Веро-
исповедание Гейнца Видерпоста»), провозглашает свободу чувствен-
ности и презрение ко всякой форме приличия или права, ограничи-
вающей произвол человеческого «я». С этой точки зрения кажется
мещанским не только моральное возмущение революцией таких лю-
дей, как Шиллер, но и весь способ действия самой революции. Сле-
дование определенным правилам регламентированной публичной
жизни, подчиняющей себе разнообразие поступков отдельных лиц,
самостоятельных индивидов,— словом, винкельмановское господство
строгого рисунка над колоритом, переведенное на язык реальных
отношений,— вот что является предметом критического недоверия
романтиков.
Честный Винкельман видел в политической свободе условие рас-
цвета искусства. Романтики справедливо указывали на формальный
и прозаический характер буржуазной свободы, но при этом они
нередко .впадали в лирическое воспевание рабства. Винкельман был
убежден в непогрешимости принципов красоты ватиканского Апол-
лона. Писатели романтического направления восстали против космо-
политической и в то же время великодержавной эстетики класси-
цизма. Им принадлежит открытие принципа терпимости по отноше-
нию к своеобразному искусству всех народов, эпох и стилей. Вот
почему в «Размышлениях отшельника, любителя прекрасного» Вак-
кенродера-Тика мы найдем и восхваление старых немецких мастеров,
и панегирик в честь фривольного Ватто. Все архаическое или пере-
зрелое, признанное в XVIII веке продуктом варварства либо испор-
ченности, находит теперь свое оправдание в новой философии
искусства, в более широких границах вкуса. Греки теряют преиму-
щество внеисторического народа и становятся в один ряд с жителя-
ми Древней Индии, египтянами, персами и скандинавами. Таким
образом, косвенно было положено основание для реабилитации со-
временного человека, испорченного цивилизацией, как сказали бы
просветители.
Французская революция вскрыла могущественную силу распро-
странения, таившуюся в идеях скромного археолога Винкельмана. 69
Но она обнаружила и все их слабости: представление о средней
типической красоте, способной подчинить себе все разнообразие
жизненных положений, идеал формальной гармонии, абстрактную
противоположность красоты и безобразия. В сущности, все эти не-
достатки эстетики идеала и прежде всего ее неисторический, отвле-
ченный характер были отражением абстрактности буржуазно-демо-
кратических принципов революционного движения XVIII века,
с которым неразрывно связана судьба новой волны классицизма.
Вместе с прояснением действительного облика буржуазного строя
в отвлеченных идеалах формальной демократии возникает первая
трещина.
Одним из отдаленных следствий этого обстоятельства явилось
радикальное изменение общей идеи античного мира, свойственной
Винкельману вместе с другими писателями эпохи Просвещения. Это
изменение, как и все дальнейшее развитие науки, носит двойственный
характер. Еще в XVIII столетии картина античного мира, набро-
санная в «Истории искусства древности», подверглась критике со
стороны классической филологии. Х.-Г. Гейне обвиняет Винкель-
мана в склонности к абстрактным построениям, отвергает идею за-
висимости расцвета искусства от политической свободы и выводит
успехи художественного творчества из случайных обстоятельств
времени: наличия блестящего двора, министра — покровителя ис-
кусств, благосклонной фаворитки *. Но раболепный эмпиризм фи-
лологов сочетается в последующие времена с растущим влечением
в область мистики.
Как истинный сын эпохи Просвещения Винкельман не питал
особого интереса к греческой мифологии. Следуя традиции мысли-
телей Ренессанса, и прежде всего Бэкону, он усматривал в античных
преданиях замаскированные поучения — аллегории. Теперь эта сла-
бая сторона его исторических взглядов была обращена против него
самого. Его обвиняют в незнании мифологической основы античг
кого творчества. И действительно, столь существенное для понима-
* См.: Justi К. Winckelmann. Lpz., 1898. Bd. 3, S. 202.
ния греческого искусства мифологическое отношение к природе было
раскрыто лишь позднейшими писателями.
Во что обошлось науке это полезное приобретение, показывает
следующий отрывок из письма Гёте к Сюльпицу Буассере (16 июня
1818 г.): «Путь Винкельмана, направленный к достижению понятия
искусства, был в высшей степени верным... Вскоре, однако, сужде-
ние перешло в истолкование и, в конце концов, совершенно затеря-
лось в гадательстве; кто не умел видеть, начал бредить, и, таким
образом, пустились в египетские и индийские дали, тогда как лучшее
было совсем близко, на переднем плане. Цоэга уже колебался, Бёт-
тигер бродил наощупь, охотнее всего в темноте, и так началось
постоянное страдание на несчастных дионисиевских мистериях.
Крейцер, Канне, а теперь и Велькер с каждым днем все более ли-
70 шают нас великих преимуществ грациозного греческого разнообра-
зия и достойного библейского единства».
Античность Винкельмана и Гёте была классически ясным обра-
зом юности человеческого общества. Греки казались им народом
красоты, гармонической публичной жизни, народом республикан-
ским по преимуществу. Исторические границы этой картины были
смутны, и сама она лишь отдаленно напоминала Афины эпохи Пе-
рикла. Романтические писатели первой половины XIX века создали
новый образ греческого мира, в котором было больше действитель-
ной истории, но зато и немалая доля мистического гадательства.
Они погрузились в исследование восточных влияний и остатков
архаической Греции. Крейцер изобразил мифологическую атмосфе-
ру, в которой рождались произведения античного искусства. Франц
фон Баадер выдвинул в качестве антитезы светлого язычества Вин-
кельмана и Гёте «ночную» сторону античности, священный ужас
элевсинских мистерий. Бахофен обнаружил борьбу отцовских бо-
жеств против древнего материнского права и культа матери-земли.
Наконец, в энциклопедии этого направления, «Философии мифоло-
гии» Шеллинга, греки получили новое истолкование: они стали
избранным народом Диониса — бога, стоящего на границе жизни и
смерти подобно христианскому спасителю. Шеллинг писал о траги-
ческой черте, проходящей через все язычество *.
Так отошли в прошлое блаженные в своем невозмутимом покое
боги Греции, а с ними и непосредственное влияние Винкельмана на
умы ближайших поколений. Этим оканчивается первый период по-
смертных деяний нашего святого.
4
Для всей эволюции буржуазной общественной мысли решаю-
щую роль играет выступление на историческую сцену пролетариата.
* См.: Schelling. Einkitung in die Philosophic der Mythologie (Werke, 2.
Abth., I, S. 256); Billeter. Die Anschauungen vom Wesen des Griechentums. Lpz.,
1911.
Второй из трех периодов, намеченных выше словами Ленина, про-
ходит под знаком сильного впечатления, произведенного на все
фракции имущих классов возникновением теории марксизма и ра-
бочего Интернационала.
В течение предшествующего времени на очереди было падение
феодальных устоев жизни. Борьба развивалась вокруг вопроса о
том, какому из слоев частных собственников будет принадлежать
гегемония в освободительном движении, какими методами вернее
достигнется утверждение буржуазного общества, насколько демо-
кратические формы примет оно в своем осуществлении. Эти пробле-
мы образуют главное содержание идейных конфликтов времен
французской революции. Они являются практической основой зна-
менитого некогда спора классиков и романтиков, определяют общий
идейный фон всех направлений искусства и науки, в которых кос-
венно отражается присущее буржуазному обществу противоречие
между гражданином и человеком. Мы уже знаем, что в этом споре
каждая из сталкивающихся противоположностей выступает то своей
революционной, то своей консервативной стороной, обнажая посред-
ствующие звенья, связывающие ее с прошедшим и будущим.
Начало политической борьбы рабочего класса отодвигает в сто-
рону это некогда столь оживленное столкновение идей. Рядом с
классовыми битвами XIX—XX столетий старая коллизия между
идеалом и жизнью кажется отвлеченной и ограниченной. Более ши-
рокие исторические перспективы, более острые и сложные противо-
речия не укладываются в рамки вечных проблем буржуазной идео-
логии. Вместе с окончательной победой капиталистического строя
в главных странах Европы (около 1871 года) история открывает
дорогу более широкой, пролетарской демократии. Ей соответствуют
новые формы сознания, выработанные международной борьбой ра-
бочего класса. Коммунисты, писали Маркс и Энгельс в «Немецкой
идеологии», исходят в своей борьбе не из абстрактного граждан-
ского самоотречения, хотя они далеки и от сверх-реалистической
проповеди эгоизма. Коммунисты не преподносят массам идеал ме-
щанского трудолюбия, но они не считают нужным рисовать им
царство блаженной лени по ту сторону жизненных трудностей,—
этот источник невозмутимого спокойствия загадочных божеств
Эпикура. Коммунисты не собираются сделать действительность се-
рой и будничной (как утверждает буржуазная софистика), ибо
сама противоположность между праздничным светом и буднями
жизни теряет для них свое роковое значение. Словом, какую бы
форму ни принимали старые противоположности классовой цивили-
зации, коммунистическое мировоззрение всеми своими возможно-
стями ведет за их пределы.
Вот почему критика формальных идеалов буржуазной демокра-
тии, осуществляемая теорией марксизма с момента ее возникнове-
ния, далеко не тождественна тому «обращению к жизни», которое
лежало в основе реалистических устремлений буржуазной культуры
в прошлом, а ныне питает реакционный цинизм современных после-
7Т
дователей платоновского Калликла, борьбу со стеснительными
идеалами и условностями в модных направлениях искусства и фи-
лософии. Напротив, коммунистическая критика развенчивает бур-
жуазную действительность, в которой она видит реальную основу
отвлеченного идеала. Буржуазия чувствует грозящую опасность, и
действие этого сознания на ее революционные инстинкты более опу-
стошительно, чем чума.
Посмотрим, как отражается это изменение внутри буржуазной
идеологии, с ее известной уже нам противоположностью условно-
идеализированного «гражданина» и реалистического ami du commer-
ce. Тень гигантской фигуры могильщика капитализма падает на
обе борющиеся стороны и производит причудливую деформацию
в их очертаниях. Эти изменения идут по двум линиям, как бы вос-
72 производящим старую антитезу, но в более сложной форме и, если
можно так выразиться, во второй степени.
Первая реакция буржуазного мышления на изменившееся поло-
жение вещей состоит в торжестве умеренности. Имущий класс бо-
ится выводов, проистекающих из демократической идеологии, он
опасается всякой крайней формулировки его же собственных тре-
бований. «Буржуазия правильно поняла, что все виды оружия, вы-
кованные ею против феодализма, обращались своим острием против
нее самой, что все созданные ею средства просвещения восставали
против ее собственной цивилизации, что все сотворенные ею боги
отреклись от нее» *. Вторая половина XIX века представляет собой
картину ослабления всех политических различий между отдельными
слоями имущих классов, их превращения в различные фракции еди-
ной партии порядка. С этой эволюцией непосредственно связан
процесс перерождения искусства и литературы.
Гегель писал о Пантеоне, в котором человечество соединяет всех
местных и национальных божеств своего прошлого. Девятнадцатому
столетию суждено было проверить эту идею на практике. И она
действительно осуществилась; правда, не во времена великого не-
мецкого идеалиста, а позднее, когда, по остроумному замечанию
одного современного писателя, в Берлине царствовали уже не Фихте
и Гегель, а Сименс и Гальске. И как осуществилась! Искусство по-
следней трети XIX века — настоящий маскарад, в котором можно
встретить костюмы всех эпох и стилей. Буржуазия строит свои пар-
ламенты в античном вкусе, будто ее депутаты все еще Гракхи и
Бруты времен Конвента. В муниципальных зданиях больших горо-
дов она подражает готическим сооружениям, в архитектуре банков
и складов — итальянским палаццо эпохи Возрождения. Ее отноше-
ние к прошлому принимает паразитический характер.
Классики, романтики и реалисты, представители трех главных
художественных течений эпохи подъема буржуазной демократии,
чинили немало обид ограниченному буржуа — денежной братии без
чести и поэзии. Буржуазия отплатила им по-христиански: она усы-
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8, с. 160.
новила их. Во второй половине века умеренный классицизм, еще
более кроткий романтизм и эклектический домашний реализм мир-
но уживаются рядом, часто в лоне одной и той же академической
культуры. Но от этого слияния они ничего не выигрывают. Напро-
тив, искры огня, вылетавшие при их ожесточенных столкновениях
в прошлом, были способны осветить некоторые стороны жизни, не
подлежащие огласке с точки зрения платежеспособной морали. Вза-
имная амнистия перед лицом поднимающихся снизу «варваров»
лишила эти направления последней тени подлинного демократизма.
Пантеон был действительно создан, но боги оказались из папье-
маше.
И все же в этом отсутствии стиля нашла себе выражение классо-
вая логика. Она заключалась в сплочении сил реакции, выдвигаю-
щей против идей революционного отрицания все разнообразие 75
положительных форм культуры, взятых как мертвый капитал, как
голос вечных законов жизни. Дух эпигонства — первый признак
упадка буржуазной демократии. Из соединения гражданина, утра-
тившего революционный пафос конца XVIII века, и частного че-
ловека, лишенного сильной страсти людей Гельвеция и Дидро, об-
разуется характерная для XIX столетия смесь классического обра-
зования и умеренного реализма. Шиллер, Вильгельм Гумбольдт,
сам Винкельман входят в гимназическую и университетскую тради-
цию; но наиболее едкие составные части их мировоззрения раз-
водятся большим количеством либеральной воды, чтобы сделать их
безвредными для юношества.
В этом невыгодном для ума сочетании идеалов и жизненной
практики более сильной стороной является последняя. Эволюция
буржуазных вкусов после 1848 года подтверждает это на каждом
шагу. Густав Фрейтаг был Моисеем приходо-расходной романисти-
ки. Новая эпоха представляет собой зрелище бегства гражданина
в объятия трезвого буржуа. Распоряжаясь кредитом, буржуазия
выступает в роли действительного хозяина политической верхушки
общества вопреки объективным иллюзиям парламентской демокра-
тии. И соответственно этому меняется внутренний строй духов-
ной культуры.
Теперь на первом плане — святость частной жизни. Вместо
благородной простоты и спокойного величия — своего рода барокко
XIX столетия. Комнатный и театральный стиль! Стиль перламут-
ровых безделушек и декоративных каминов с гербами, на которых
вместо геральдических львов и цепей художник не догадался изо-
бразить свиные туши и галантерейные принадлежности. Стиль му-
зыкально-театральных зрелищ в псевдоисторическом вкусе, живопи-
си Макарта, украшенных богатой лепкой интерьеров. Тот, кто хочет
составить себе представление об отношении этой эпохи к кругу идей
Винкельмана, должен сравнить доходный дом конца XIX века с
архитектурой времен французской революции и ближайших десяти-
летий. Правила Виньолы соблюдены — колонны и пилястры, разно-
образные элементы стиля a la grecque не исчезли. Но в классицизме
конца столетия строгие линии сглажены множеством подробностей,
и разукрашенная поверхность фасада кажется тонкой кожей, обтя-
гивающей остов множества частных ячеек. В этой эклектической
архитектуре нет и следа той строгости ордера, которая придает
даже частному дому начала века характер публичного здания.
Внешняя преемственность сохраняется, но внутренняя сущность
глубоко изменилась *.
Теоретическое развитие либерально-буржуазной эпохи совер-
шается в том же направлении. Широкие обобщения и политические
выводы, сделанные Винкельманом в его «Истории», кажутся новому
типу ученых наивными и рискованными. Всюду господствует осто-
рожный эмпиризм. Какая разница между устремлениями истории
искусства накануне французской революции 1789 года и теперь!
74 Винкельман боролся против старой историографии — консерватив-
ной хранительницы прошлого, предлагая свою «Историю» как опыт
научной системы. И, действительно, эта история вела свой рассказ,
создавая в уме читателя стройную картину эстетического мира.
«Новое поколение не строит систем!» — гласит популярная во вто-
рой половине XIX века фраза Юлиана Шмидта.
История искусства, неразрывно слитая у Винкельмана с фило-
софско-историческим приближением к сущности искусства, теперь
отдаляется от всего, что выходит из рамок чистого собирания фак-
тов. Она принципиально отказывается от оценок, инстинктивно
чувствуя, что став на эту почву, ей придется высказать несколько
горьких истин по поводу своего собственного времени. Между тем
чванство современностью росло, и осуждать ее стало оскорблением
величества. Равенство всех эпох и стилей! Низвержение диктатуры
греческого идеала! Отмена привилегий отдельных периодов в обла-
сти истории искусства! Под этим знаменем развивалось наступле-
ние либеральной науки против тирании общезначимых норм. Ху-
дожественные вкусы — частное дело.
Смягчение «догмы классической древности» начинается уже
у историков искусства, вышедших из школы Гегеля. Некоторые из
* Одним из характерных последствий неравного брака между прозаиче-
ским буржуа и перезрелым гражданином была борьба так называемого реаль-
ного образования с классическим. Она породила целую литературу модернизи-
рованных либеральных пнсак и усохших гимназистов. В одном из объемистых
произведений этого рода (Nerrlich Р. Das Dogma vom klassischen A her turn in
seiner geschicht lichen Entwicklung, 1894, S. 399, 367, 368; см. на c. 194 критику
Винкельмана) мы читаем: «Догма классической древности относится к заблуж-
дениям, которые в свое время были всемирно-исторической необходимостью;
современность требует освобождения и от этой догмы». Чтобы доказать не-
обходимость покончить с античным идеалом, Нерлнх цитирует речь Вильгель-
ма II на открытии школьной конференции (декабрь, 1890). В припадке верно-
подданнического восторга он называет императорское выступление восходом
солнца. Школа должна стать полезной, она должна давать немецкое образо-
вание. Вместо того чтобы заниматься гимнастикой духа, ей следует забыть
своего Демосфена и «противодействовать распространению социалистических
и коммунистических идей как развитию центробежных сил». Любопытная иллю-
страция к прославленному принципу реального образования. Впрочем, и защит-
ники классической гимназии не были даже филологическими республиканцами.
последователей великого идеалиста, как Гото, сохранили скептиче-
ское отношение своего учителя к искусству современных народов.
Но уже в том, что является для них классическим, видно, какие из-
менения претерпела система. Гото был энтузиастом немецко-нидер-
ландского искусства, и надо думать, что восторженный отзыв о
голландской живописи в «Эстетике» Гегеля не был ослаблен редак-
ционным пером его ученика. Другой историк гегелевского направ-
ления— Шназе — еще менее заражен духом системы своего учи-
теля. Один из основателей «Союза религиозного искусства еванге-
лической церкви», он углубился в средние века, не отрицая, впро-
чем, и положительные возможности искусства своего времени *.
Руге, Розенкранц, Фр. Теод. Фишер внесли характерные изме-
нения в теоретическую эстетику. Они реабилитировали те катего-
рии, которым Гегель, следуя традиции Винкельмана, указывал лишь 75
подчиненное место в мире искусства. Таковы категории безобраз-
ного» комического, обыденного. Теория косвенного идеализирова-
ния» выдвинутая Фишером, доказывала, что самые частные, мел-
кие, низменные предметы входят в царство искусства своим особым
путем. И если либеральная совесть Фишера требовала демократи-
зации сюжетов искусства, то в целом переход от великого, общего
и типического к материалу обыденной жизни имел двойственное
значение, означал конец героического века буржуазной демократии.
Главным недостатком взглядов Винкельмана Фишер считает
исключение момента индивидуальной жизни из самого понятия ти-
пически прекрасного. В том же направлении движется вся критика
доктрины классицизма. Уже видный историк эстетической мысли в
Германии — Роберт Циммерман — вооружается против теологиче-
ского характера художественных требований Винкельмана. Лотце
говорит о порочном круге, которому подвержена, с его точки зре-
ния, эстетика идеала: греки восхваляются как носители высшей
красоты, красотой же именуется то, что создано античным искус-
ством. Убеждение в превосходстве греческого типа формы над всеми
остальными Лотце называет античным заблуждением Винкель-
маиа **
Mana
В этом торжестве эпигонского благоразумия над греческим фа-
натизмом автора «Истории искусства древности» нашли себе место
и бледные отзвуки романтической эпохи. Либерально-буржуазная
эстетика второй половины XIX века во многом исходит из учений
романтиков. Их принцип терпимости по отношению ко всем эпохам
и формам искусства, защита прав индивидуальности, свободной от
узких канонов прекрасного, учение о своеобразии христианско-гер-
манского искусства — все эти мотивы, разумеется в более вялой
* См.: Hotho И. С. Geschichte der deutschen und niederlandischen Malerei,
1842, S. 1—23, 346—348, 354; Schnaase K. Niederlandische Briefe. Stuttg. u.
Tubingen, 1834. S. 54, 394—399 u. and.
** Cm.: Vischer Fr. Th. Aesthetik. Bd. 2, S. 349; Zimmermann R. Geschichte
der Aesthetik als philosophischer Wissenschaft. Wien, 1858, S. 316 u. a.; Lotze.
Geschichte der Aesthetik in Deutschland. Munchen, 1868, S. 18.
форме, вошли в эклектический синтез либеральной культуры. Ти-
пичный представитель этой формации Гетнер видит в непонимании
национального своеобразия основной недостаток взглядов Винкель-
мана *. Большей симпатией либерального буржуа второй полови-
ны XIX столетия пользовался Лессинг.
Несмотря на почтительные выражения, которые находит для
Винкельмана история литературы, он упоминается в ней, вообще
говоря, лишь как один из предшественников Лессинга. В течение
всего рассматриваемого периода дело Винкельмана покрывалось
пылью забвения, и Меринг имел основание еще в 1909 году сказать:
«Между великими писателями нашей классической эпохи никто не
приобрел себе европейского имени столь быстро и неоспоримо, как
Винкельман; однако никто из них не был и так быстро забыт, как
76 он. На нем не оправдалось выражение, что ломовые имеют много
работы, когда короли строят; его произведения еще ни разу не были
просмотрены с «филологической акрибией» и оснащены «научным
аппаратом»: книготорговое предпринимательство, которое в деше-
вых изданиях выбрасывает на рынок всех возможных и невозмож-
ных писателей нашей классической и романтической поры, еще не
овладело ими, только антикварным путем еще можно отыскать их,
да и то не без некоторого труда» **.
Занятое более неотложными делами, буржуазное общество за-
было своего президента древностей. Винкельмана сравнивали с Ко-
лумбом, и его судьба действительно заставляет вспомнить великого
мореплавателя. Земля, которую он открыл, не была райским остро-
вом Зипангу, а только обширным и богатым материком. Хищники
и дельцы быстро овладели новой землей и учредили на ней своп
губернаторства и фактории. Новый свет назван по имени одного
итальянца, и теперь каждый школьник знает, как наивны были гео-
графические познания человека, который открыл Америку.
5
Таким забвением своих заслуг перед европейской культурой
Винкельман обязан коренным переменам в исторической роли бур-
жуазного общества, одним из предвестников которого он был
в XVIII столетии.
Биограф Винкельмана Карл Юсти, сам переживший общую эво-
люцию от демократических устремлений немецкой буржуазии
40-х годов к империи Бисмарка, делает следующее интересное при-
знание. «Новейшее искусство,— пишет он в своем известном сочи-
* «Очень многие язвы и блуждания позднейшего развития искусства
проистекают в конечном счете из этой односторонности Винкельмана» (Hettuer.
Geschichte der deutschen Literatur im XVIII Jahrhundert, 7. Aufl., Bd. I,
S. 348 ff.).
** Mehring Fr. Gcsammelte Schriften und Aufsatze. Soz. Verlaganstalt, Berlin.
1929, Bd. I, S. 65.
нении «Винкельман и его современники»,— пошло по совсем дру-
гому пути, чем это кто-нибудь мог себе представить в изображаемое
у нас время. Будущее всегда было настолько гордо, чтобы не выси-
живать те яйца, которые подкладывали ему его авгуры; оно редко
или даже никогда не производило того, что было заранее рассчита-
но и наперед предсказано. Внешняя жизнь обитателей этой планеты
пережила такой переворот, подобного которому нет в истории. Че-
ловеческая природа, неизменная со времени начала геологической
эры, с некоторым трудом приспособляется к этим обстоятельствам;
уживается ли вообще, и какое именно искусство уживается с этими
обстоятельствами,— это вопрос, еще не созревший для решения.
Эра технических неожиданностей, фотографии, всемирных выставок
и универсальных магазинов с неодолимой силой повлекла его покуда
за собой. Результатом является хаос, но хаос, изменяющийся еже- 77
минутно. Обманчивые восстановления исследованных и нагромож-
денных один на другой образов тысячелетий, как dissolving views
со все возрастающей быстротой проносятся мимо; все с радостью
встречается, полуварварское и окостеневшее, рафинированное и упа-
дочное; только разумное и прекрасное, как правило, находят мало
уважения к себе. Напротив, для укрепления расстроенных таким
возбуждением нервов рекомендуется грязевая ванна «зверства» в
качестве пути к «сверхчеловеку» будущего. В таких условиях поня-
тие красоты, господствовавшее в учении об искусстве Винкельмана,
единодушно изгнано учеными, и на его место вступило искусное
каталогизирование остатков прошлого к великой чести регистра-
торов» *.
Большего осуждения всей эволюции художественной мысли
в XIX столетии трудно было бы ожидать от буржуазного ученого.
Юсти как бы предчувствует приближение глубокого кризиса, охва-
тившего несколькими десятилетиями позже все области европей-
ской культуры. С этим кризисом связывает он падение «разумного
и прекрасного» Винкельмана. Что касается презренного настоящего,
то, как мы уже видели выше, у Юсти нет недостатка в сильных вы-
ражениях по адресу эпигонов. Но в этом презрении проглядывают
уже некоторые новые черты.
Все мыслители, сопровождавшие своей деятельностью нарожде-
ние буржуазного строя жизни, искали великие образцы искусства
в прошлом и относились к современности критически. Примером
может служить сам автор «Истории искусства древности». Но все
эти люди твердо верили в возможность нового осуществления
разумного и прекрасного или по крайней мере оплакивали его непо-
вторимость. У Юсти же мы находим уже неясное сознание того, что
само разумное и прекрасное становится как бы слишком узким для
всей полноты новых явлений, созданных веком технических неожи-
данностей. Сумеет ли человеческая природа приспособиться к этим
изменениям или нет, но факт разрыва замкнутой оболочки старой
* Justi К. Winckelmann, Bd. 3, S. 224 L
культуры остается. Так кризис нелепого и безобразного становится
кризисом самого разумного и прекрасного.
Картина мира радикально изменилась. «Золотой и железный
века давно уже прошли: XIX столетию с его наукой, с его мировым
рынком и колоссальными производительными силами суждено было
создать хлопчатобумажный век» *. Огромные успехи материальных
производительных сил буржуазного общества перестроили мир с
гораздо большей решительностью, чем это могли сделать самые
революционные представители стоической гражданственности
1789—1793 годов. Объективная революционность буржуазного об-
щества сама по себе вела за пределы той формы общественных от-
ношений и соответствовавшего ей умственного строя, с которыми
буржуазия шла к власти. Вот почему Маркс и Энгельс уже в сере-
78 дине XIX века, в эпоху расцвета капитализма, писали о наступле-
нии эры противоречия между производительными силами и про-
изводственными отношениями. И было бы неправильно думать, что
основатели марксизма ошибались, поскольку капитализм продолжал
существовать еще не одно десятилетие и существует до наших дней.
План Маркса состоял в освобождении производительных сил
от стесняющей их оболочки частной собственности посредством ра-
стущего углубления демократической революции, которая должна
была в конце концов подготовить общество к социалистическому
перевороту. Но буржуазия ответила на лозунг «Revolution in Perma-
nenz!» собственным вариантом развития, выдвинув новые формы
приспособления к изменившимся условиям, новые приемы господ-
ства: бонапартизм во Франции, политику «крови и железа» в Гер-
мании, призрак цезаризма по всей Европе — симптом начинающего-
ся перехода от идеалов свободы к идеалам насилия. Вопрос решался
борьбой главных классов, их умением повлечь за собой союзников,
и победа осталась на время за буржуазией **.
Меняя свои идеалы, буржуазная мысль прошла полный курс
древней истории — от чуть ли не коммунистической Спарты до им-
ператорского Рима. Не доверяя больше греческой свободе, но опа-
саясь взглянуть в глаза действительной тенденции развития, она
искала новые аналогии. Теперь они приобретают более охранитель-
ный характер. «Профессорская политика» колеблется между необ-
ходимостью расстаться с абстрактным идеалом античной республи-
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 457—458.
** Это объяснение, данное мною в 1933 году, было откликом на собы-
тия времени, но, вообще говоря, оно не является полным. За капиталистиче-
ский путь развития были громадные резервы мелкого товарного производ-
ства, которые втягивались в орбиту мирового хозяйства неравномерно. Раз-
дел мира между колониальными державами дал одну из первых отсрочек евро-
пейскому капитализму. Переключение внутренних противоречий на междуна-
родный уровень путем экспансии был обычным способом продления жизни
древних классовых обществ. И это, разумеется, тоже не все. Но пусть чита-
тель вспомнит, как затянулась поздняя осень античной общественной форма-
ции, хотя последняя при всех ее превращениях все же не перешла своей роко-
вой черты.— Примеч. к наст. изд.
ки и желанием подчинить старой исторической морали всю дерзкую
новизну борьбы современных классов. Вот почему и в наши дни
на Западе так много последних римлян и вообще теоретиков обще-
ственного круговорота.
Эта реформированная «догма классической древности» также
имеет длинную историю. Вспомним Бруно Бауэра, который уже
в середине XIX столетия писал о наступлении эры цезаризма и
неохристианства (во главе с самим Бауэром в качестве нового Се-
неки). Такие аналогии, принятые как объяснение сегодняшнего дня,
от Бауэра до Шпенглера, скрывают специфически современную,
революционную обстановку, созданную развитием капиталистиче-
ского строя. Вот почему в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапар-
та» Маркс отвергает школьную фразу о так называемом цезаризме.
При всем своем преклонении перед подлинной античностью основа-
тели марксизма были далеки от всякой классической бутафории, как
в ее унаследованном от XVIII столетия, так и в превращенном
виде. Они обращались не к прошлому, а к будущему.
Классовая борьба учит ограниченности формальной демокра-
тии. Она развенчивает абстрактный идеал буржуазной республики
на античный лад, а вместе с этой политической поэзией гаснет
разумное и прекрасное Винкельмана. Падение культа античности
означало выход общественной мысли из рамок правовой и полити-
ческой риторики в область социальной жизни, классовых отноше-
ний, действительных практических связей, соединяющих членов
общества крепче всякого социального контракта. «Точка зрения
старого материализма,— писал Маркс,— есть «гражданское» обще-
ство; точка зрения нового материализма есть человеческое общест-
во, или обобществившееся человечество» *. Но для этого ему нужен
и новый исторический материал. Двигаясь постоянно вперед, обще-
ство черпает все более и более глубоко из источника древности. Мир
азиатских народов (о которых Винкельман мог сказать только то,
что они отличались меланхолическим характером), традиционная
индийская община, германская марка, родовой быт, первобытный
коммунизм — вот исторические горизонты, установленные новой
эпохой. Вместе с движением в неизведанное раскрывается и самое
старое, глубоко лежащее.
В конце XIX столетия жизнь разыгрывалась на более широкой
сцене, чем во времена Винкельмана. Что такое история обеих Ин-
дий, странствования Робинзона и вся литература путешествий,
включая путешествия Кандида в Эльдорадо, рядом с кругозором
мирового рынка! Пролагая себе дорогу посредством пушечных вы-
стрелов и дешевых цен, капитал ведет за собой археологию, исто-
рию искусства. Развитие этих наук в XIX—XX столетиях — на-
стоящий каталог колониальных захватов. Винкельман знал лишь
некоторые оригинальные произведения греческого искусства позд-
ней эпохи (как «Лаокоон»); все остальное — римские копии. Даже
79
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 4.
фигуры афинского Парфенона не были еще известны. Они стали
предметом ближайшего изучения лишь благодаря хозяйничанию
британского посла при Высокой Порте — шотландца Элгина, ко-
торый в 1803—1812 годах перевез их в Лондон. По этому поводу
говорили: quod non fecerunt gothi, fecerunt scoti (чего не сделали
готы, сделали шотландцы). Без проникновения английского капи-
тала в недра Оттоманской империи были невозможны все откры-
тия в Малой Азии и на островах, так же точно как экспедиция
Перро и раскопки Шлимана — без конкуренции французов и нем-
цев. Дальнейшее расширение мирового хозяйства ввело в обращение
памятники древних культур Центральной Америки, Китая, япон-
ское искусство, персидскую живопись, архитектуру Индии. На го-
ризонте виднелась уже эпоха сказочного успеха негритянской пла-
80 стики. Понятие красоты, которым обладала научная система Вин-
кельмана, не могло вместить все это разнообразие.
Мышление Винкельмана и его эпохи было еще слишком прямо-
линейным и в этом смысле метафизическим. Во всех областях куль-
туры оно знало лишь правильные формы (большей частью — услов-
но правильные). Какими абстрактными кажутся греческая ученость
Винкельмана и школьная латынь его современников рядом с успе-
хами сравнительного языкознания! В области исторических наук,
так же как и в науках о природе, XIX век принес множество откры-
тий из мира переходных форм и гибридных сочетаний. В свете этих
открытий сама правильность перестала быть чем-то безусловным;
она обнаружила свои изменчивые границы. Если рассматривать
этот вопрос в его подлинном историческом содержании, а не с точ-
ки зрения тех уродливых наслоений, которые всегда возможны, ни-
что не мешает нам признать, что во всех областях знания созрева-
ли условия для победы диалектического мышления, подобно тому
как в практической жизни приближалось время пролетарской де-
мократии.
Начало борьбы угнетенных классов против аристократии капи-
тала означало подъем к историческому действию миллионных масс,
стоявших прежде вдали от всякой культуры. Могла ли классиче-
ская ученость Винкельмана, рассчитанная на узкий слой мыслителей
XVIII века, далеких от народа при всей их глубокой к нему симпа-
тии, соответствовать новым задачам? Чтобы сохранить свою цен-
ность, революционная традиция Просвещения должна была пройти
через опыт классовой борьбы пролетариата — более строгое испыта-
ние, чем буржуазная революция конца XVIII века. Все элементы
безжизненной отвлеченности, свойственные начальному этапу ре-
волюционного движения, отразившиеся в мышлении Винкельмана,
должны были отойти в прошлое. Без этого классический дух рево-
люционной гражданственности с течением времени превращался в
либеральный гуманизм, красноречивый по форме, но все более
реакционный по существу.
То понимание античности, которое мы находим у Маркса, пред-
ставляет собой критическую переработку традиции Винкельмана
и Гёте на основе опыта классовой борьбы XIX века. Мало кому
известно, что в молодости Маркс не только внимательно читал
«Историю искусства древности», но вообще находился под непо-
средственным влиянием ее идей. Уже в диссертации об Эпикуре
сказывается влияние этой книги, которую Маркс изучал, делая
из нее эксцерпты, еще в 1837 году. Вместе с переходом к комму-
низму он должен был пересмотреть и свое прежнее понимание
античности. В «Святом семействе» Маркс критикует всякие по-
пытки навязать буржуазному обществу, обществу промышленности,
«всеобщей конкуренции, свободно преследующих свои цели частных
интересов», какое-нибудь подобие античного политического устрой-
ства. Он устанавливает существенную разницу между древним
реалистически-демократическим общественным порядком, основан-
ном на прямом отношении господства и рабства, и новейшим спири-
туалистически-демократическим представительным государством,
основанном на эмансипированном рабстве, буржуазном обществе*.
В древнем мире еще сохранились элементы самодеятельной ор-
ганизации народа, смутно понятые Винкельманом в образе греческой
свободы. Эти элементы отличают древнюю политическую организа-
цию — в классические периоды ее развития — от колоссальной, ото-
рванной от народа бюрократической государственной машины, со-
зданной буржуазным обществом в течение XVII—XIX столетий.
Но греческая свобода коренилась в неразвитости всей обществен-
ной обстановки и прежде всего в том, что формальная воля атома-
гражданина еще находила себе естественные границы в остатках
племенного быта. Г реки были «нормальными детьми», писал Маркс
впоследствии.
Греческая свобода, эта практическая основа греческой гармонии,
не была свободой атома в пустом пространстве, как это рисует аб-
стракция древних атомистов. Она сама покоилась на определенной,
примитивной форме классовых отношений — отношений рабства.
Только благодаря этому она могла содержать реалистически-демо-
кратические элементы для самого народа, свободных граждан, объ-
единенных в политию. И тем она отличается от спиритуалистиче-
ской, то есть отвлеченной и недействительной, несмотря на всю
свою ложную всеобщность, свободы гражданина буржуазной демо-
кратии. Винкельман и его современники знали, в сущности, лишь
позднюю античность, они черпали свой энтузиазм по отношению
к деятельной свободе частного лица и атараксии политического
гражданина из литературы эпохи разложения древности — у стои-
ков и эпикурейцев. Подлинный реалистически-демократический ха-
рактер греческой общинной жизни был раскрыт лишь впоследствии,
когда на горизонте уже показалась новая, более глубокая форма
современной, то есть социалистической демократии.
Именно в этом, если можно так выразиться, демократическом
реализме древнего общества Маркс и Энгельс видели нечто проти-
* См.: Маркс К.. Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 136.
81
воположное идеалистическому пафосу буржуазной демократии и
реалистическому хамству общества выдающихся колбасников и
влиятельных торговцев ваксой.
6
Однако опыт классовой борьбы XIX века не прошел даром и
для буржуазии. Развитие освободительного движения пролетариата
накладывает свой отпечаток на всю область идеологии имущих
классов. Не только народные массы, но и представители господ-
ствующих верхов испытывают известное разочарование в тради-
циях буржуазной демократии. Отсюда кризис идеалов в буржуаз-
ной литературе второго периода.
82 Одним из первых симптомов превращения буржуазии в класс
реакционный является стремление ее литературных представителей
критически пересмотреть наследство революционной эпохи. Офи-
циальная литература второго периода старательно сглаживает ост-
рые углы, которых в этом наследстве было немало. Она пытается
смягчить остроту надвигающихся конфликтов путем эклектического
примирения всех прежних течений общественной мысли в едином
Пантеоне культуры.
Но принципом умеренности не исчерпывается идейное оружие
реакционной элиты. Революция сплачивает враждебные ей силы со-
противления, и наиболее проницательные буржуазные идеологии
нового типа поднимаются уже до некоторой профессиональной
контрреволюции.
Отсюда проповедь воли к мощи и принципиального аристокра-
тизма, полемика против демократии в стиле Бурже или в стиле
Ницше. Платформа буржуазной свободы становится слишком уз-
кой для всех классов общества. И вот является критика либераль-
но-гуманистической фразы, исходящая из рядов самой буржуазии,
радикализм справа. Красный отблеск революции падает на весь
образ мышления защитников старого порядка, заставляя их со
своей стороны провозгласить переоценку всех ценностей.
Новую форму защиты классового господства не следует смеши-
вать с консерватизмом обычного типа. Это реакция под маской ре-
волюции. Новые реакционные идеалы имеют свою увлекательность
и свой драматизм; они прокладывают себе путь не без сопротивле-
ния со стороны буржуазных идеологов старой школы. Люди, по-
добные Ницше, являются на форум идей в качестве революционе-
ров, и вокруг них создается даже ореол мученичества. В этой борь-
бе направлений внутри самой буржуазной интеллигенции нет ничего
удивительного.
«Классовое деление,— писал Ленин,— является, конечно, самым
глубоким основанием политической группировки; оно в последнем
счете всегда определяет, конечно, эту группировку. Но это глубокое
основание вскрывается лишь по мере хода исторического развития
и по мере сознательности участников и творцов этого развития.
Этот «последний счет» подводится лишь политической борьбой,—
иногда результатом долгой, упорной, годами и десятилетиями из-
меряемой борьбы, то проявляющейся бурно в разных политиче-
ских кризисах, то замирающей и как бы останавливающейся на
время. Недаром, например, в Германии, где особенно острые формы
принимает политическая борьба и где особенно сознательно высту-
пает передовой класс — пролетариат,— существуют все еще такие
партии (и могучие партии), как центр, прикрывающий вероиспо-
ведным отличительным признаком свое разнородное (а в общем
безусловно антипролетарское) классовое содержание» *.
Нечто подобное этому мы видим в новой волне буржуазного
мышления: эти шумные протесты против мещанской морали, скуч-
ной науки и расслабленного искусства были революционны лишь
в самом парадоксальном смысле. Впервые рождается так называе-
мая революция справа. Общий ход политической борьбы в конце
XIX и начале XX столетия сделал философию Ницше тем источ-
ником, из которого постоянно черпали свой энтузиазм поклонники
империализма. Ценность этой философии для господствующего слоя
буржуазного общества состоит именно в радикальном выражении
самых ретроградных идей. Практическим опытом подобной социаль-
ной мимикрии в больших масштабах является современный фашизм
во всех его разновидностях. Даже в мелких демагогических жестах
так называемой национальной революции Гитлера, например в
объявлении Первого мая национальным праздником или фашист-
ской переделке революционных песен, повторяется та же логика.
Процесс освобождения буржуазии от ее же собственных идеалов
и догм хорошо известен нам по некоторым русским явлениям (до-
статочно вспомнить знаменитый некогда сборник «Вехи»). В евро-
пейской литературе этот процесс развивается уже начиная с
1848 года. Раскаиваясь в своей прежней демократической фразеоло-
гии, правящий класс публично порывает с рационализмом, без-
божием, критикой общественного неравенства и другими подобными
элементами идеологии эпохи освободительного подъема. Но при
этом самооплевании буржуа-литератор высказывает немало горь-
ких истин по поводу узости своего собственного существования,
ограниченности морального мира «честных людей», прозаической
размеренности буржуазной жизни. Его возвращение к мистике мо-
жет иметь даже богоборческий характер.
Разоблачение лицемерия формальной демократии как объектив-
ный процесс ставит перед общественной наукой задачу выйти из
пределов старого умственного строя. Привязанность к интересам
собственности и порядка заставляет ее оставаться в его пределах.
Равнодействующей этих двух тенденций является модернизирован-
ная форма реакции — необычайно радикальная по внешности,
вплоть до издевательства над буржуазностью таких эпох, как век
Просвещения, и тем более консервативная по существу.
83
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 7, с. 344--345.
Этим отчасти объясняется прогресс исторической науки в этот
период, когда буржуазия уже повернула к реакции. Само собой
разумеется, что Винкельман или Гиббон были бы невозможны ря-
дом с национал-либерализмом второй половины XIX столетия.
Зато Моммзен или Буркхардт гораздо богаче историков-просвети-
телей опытом европейского общественного развития и, в конце кон-
цов, опытом своего класса. Вот почему выдающимся исследовате-
лям новой формации удалось заметить некоторые действительно
слабые места прежней историографии.
У историков эпохи революционного подъема третьего сословия
можно встретить гениальные прозрения в область имущественных
отношений и борьбы реальных сил прошлого. Но все это подчи-
няется общим задачам гражданской морали. Исторические факты
§4 служат только фундаментом для назидания. В этом сказывается
неизбежная двойственность даже лучших традиций буржуазной об-
щественной мысли: с одной стороны, тесная связь истории с жи-
знью, исключающая архивную и кабинетную затхлость последую-
щей науки, с другой — ограниченный кругозор абстрактной морали и
подчинение политики задачам нравственного совершенствования.
В отличие от прежней исторической литературы буржуазная
наука второй половины XIX века уже не стремилась возбуждать
гражданские чувства. Напротив, она хотела скорее рассеять сияние
славы вокруг героев Плутарха. Она впервые увидела в них людей,
которым ничто человеческое не было чуждо. Новая историческая
наука уделяла больше внимания таким сторонам жизни древних
народов, которые прежде оставались в тени — их экономической
истории, закулисной политической борьбе, хозяйству афинян и
хлебному импорту Рима. При этом было открыто немало подробно-
стей, касающихся прозаического частного быта греков и римлян,
развенчано много наивных представлений. Под влиянием более
зрелой обстановки классовой борьбы даже цеховые ученые находят
столкновение интересов там, где прежде видели только гармонию.
В общем можно сказать, что буржуазная историческая наука
делает некоторые заимствования из учения Маркса, хотя все ее
развитие протекает в противоположном направлении. Ибо главной
движущей пружиной ее исканий и подлинным источником ее от-
крытий, иногда очень существенных, является стремление отверг-
нуть демократическую риторику ученых прежнего типа. Дело об-
стоит так, что и в наши дни возникает немало специальных исследо-
ваний, написанных с целью доказать, что в истории никогда не су-
ществовало тех счастливых, добродетельных народов, которые в
отличие от своих испорченных цивилизацией потомков культивиро-
вали демократическую общинную жизнь или даже уравнительный
коммунизм. Такова внутренняя логика, проникающая собой все
развитие буржуазной историографии последних десятилетий, за-
ставляющая ее передвигаться все дальше и дальше в сторону ретро-
градных идей по мере раскрытия ограниченности старой научной
традиции.
Современные поклонники фашизма (а среди них, увы, есть нема-
ло серьезных ученых) презрительно отзываются о либерализме и
позитивизме XIX столетия. Они говорят о колоссальных перево-
ротах во всей области культуры, совершенных апостолами новой
веры — веры в «Третью империю». На деле перевороты этого типа,
свидетельствующие о смене вех в теории и политике правящих
классов,— отнюдь не новость. Идеология фашистской реакции была
подготовлена всем развитием либерально-буржуазной мысли про-
шлого столетия. Мы сейчас увидим, что изменение взглядов-на-анг
тичный мир в литературе второго периода явилось одним из эле-
ментов этой подготовки.
Уже либеральный Дройзен переносит центр тяжести на поздний
период греческой истории, как бы подчеркивая этим, что зрелое
буржуазное общество находит свой образец не в демократических
Афинах V века, а в монархической Греции эпохи эллинизма. Вин-
кельман рассматривал эту эпоху как время испорченности нравов
и падения искусства, перемежающееся небольшими периодами
подъема, связанными всякий раз с временным возвращением сво-
боды и мира. Подобная точка зрения была для историков нового
типа слишком гуманной.
«Римская история» Моммзена (1854—1856) написана в виде
прямой антитезы к исторической литературе XVIII века с ее из-
любленными фразами о гибельности властолюбия. Цезаристские
идеи Моммзена имели большое значение в процессе перерождения
демократической буржуазной мысли *. Столь характерный для его
перспективы апофеоз сильной личности, соединяющей свои особые
интересы с пафосом государственной необходимости, уже относится
к типу монументальной истории, которую позднее требовал Ницше.
Величие духа и преступление, политический разум и беспощадная
жестокость, твердость характера и презрение к моральным пред-
рассудкам средних людей — вот новые сочетания личных качеств,
свойственных героям этой монументальной истории. Писатели
XVIII века рисовали идеальных благодетелей человеческого рода,
как Ликург, или мрачных злодеев на троне, как Нерон, Клавдий.
Историки эпохи зрелого капитализма пытаются выйти за пределы
моральной противоположности добра и зла. Они изображают де-
монических личностей, полубогов-полуживотных, стоящих в своей
двусмысленной психологии одновременно выше и ниже уровня че-
ловека-гражданина старой историографии. Их герои жертвуют со-
бой не из самоотречения, а повинуясь велениям своей иррациональ-
ной творческой воли. Они совершают преступления не из эгоизма,
напротив — из бескорыстного проявления силы. Это люди, в кото-
рых самые низменные инстинкты мистически сочетаются с героиз-
мом, чудовищная энергия — с пластическим спокойствием, лукав-
* Впрочем, у самого Моммзена еще наблюдается некоторая двойственность.
В отношении общечеловеческих идеалов он сохраняет значение греческой куль-
туры, но, касаясь самостоятельного национального развития Германии, ука-
зывает на римский образец.
85
ство хищного зверя — с наивностью ребенка. Словом, это герои типа
Чезаре Борджиа. Греческая тирания, римский цезаризм, мелкие ди-
настии итальянского Возрождения дают обширный материал для
исторических эскизов этого типа.
Мы видим, таким образом, что угол зрения буржуазной истори-
ческой науки радикально изменился. Если Винкельман был основа-
телем немецкого гуманизма эпохи подъема буржуазной демократии,
то позднейшие писатели склоняются все более и более к противопо-
ложному направлению. Там свобода и мир в качестве идеального
исторического ландшафта, здесь — постоянное искание власти и ге-
раклитовское становление, в котором «все рождается из войны».
Само собою разумеется, что писатели эпохи Просвещения, в
том числе и сам Винкельман, также знали о существовании драма-
86 тических коллизий жизни. Но они сводят все многообразие истори-
ческой борьбы к вечной, антропологической противоположности
между эгоизмом отдельного лица и требованиями гражданского
долга.
Их идеал был где-то в среднем состоянии — между перевесом
страстей и чрезмерной суровостью общественной дисциплины.
Опыт классовой борьбы XIX века показал ограниченность аб-
страктной противоположности частного и всеобщего. Личные отно-
шения перерастают в отношения классовые, и в ходе общественной
борьбы отдельный индивид поднимается до политического действия,
свободного от мелких личных расчетов. В этом — возможность
практического преодоления противоположности между эгоизмом и
бескорыстием.
Новое у поклонников сильной личности состояло в стремлении
выйти из пределов буржуазно-демократической идеологии. Но их
колоссальный недостаток заключался в том, что они только вывора-
чивали ее антитезы наизнанку, оставаясь целиком в их собствен-
ных пределах. Так, например, отказываясь от морального осуждения
насилия, они переходят к эстетическому любованию повадками
хищного зверя. Не умея и не желая принять историческую теорию
Маркса, теорию классовой борьбы за гуманистический идеал, бур-
жуазная мысль новой формации заменяет ее реакционной карика-
турой.
Так возникло применение дарвиновской, зоологической борьбы
за существование к общественным явлениям, тесно связанное
с пропагандой господства. Отсюда также схема воинственного ан-
тагонизма эгоистических общественных групп («социология» в ее
различных версиях), возрождение старой теории завоевания и, на-
конец, в качестве наиболее распространенного продукта — реак-
ционная фраза об изначальной противоположности рас. Опыт клас-
совой борьбы побуждает буржуазную науку развенчивать идилличе-
ские социальные картины прежних писателей и одновременно ставит
ее историческому реализму узкие границы, подталкивает ее к ис-
толкованию общественных противоречий в духе мистики, источаю-
щей кровь.
Действительный выход из моральной ограниченности писателей
эпохи Просвещения недоступен мышлению этого типа. Самое боль-
шее, что ему удается,— это поставить на место обычной честной
буржуазной морали вывернутую наизнанку мораль имморализма.
Вместо критерия общественной добродетели — принципиальное без-
различие к ней или даже апофеоз преступления, совершаемого по
велению высшей благодати, из превосходства. В центре внимания
стоит уже не моральный субъект, взвешивающий свои права и обя-
занности, а мистическая индивидуальность, которой все позволено,
ибо она отмечена свыше происхождением или правом сильного.
В сущности говоря, уже во второй половине XIX века развитие
исторической науки приняло то дионисийское направление, которое
на практике означало воспевание какого-нибудь стоящего по ту
сторону добра и зла «картечного принца» из семейства Гогенцол- 87
лернов.
Создателями этой сверхантропологии были выдающиеся писате-
ли нового типа, среди которых не последнее место принадлежит
Якобу Буркхардту. Один из современных немецких историков
искусства сравнивает Буркхардта с Винкельманом по тому влиянию,
которые оба они оказали на умы следующих поколений. Влияние
их было действительно велико. Но в каждом из этих случаев оно
имело прямо противоположное направление. Винкельман видел в
развитии искусства цвет счастливой народной жизни. Прекрасная
индивидуальность для него прекрасна лишь потому, что в ней от-
ражается общий тип физически и духовно развитого человека.
Взгляды и суждения Буркхардта несли на себе другой отпечаток.
В его лице перед нами буржуазный аристократ, отстаивающий пра-
ва меньшинства и презирающий массовое движение новой эпохи.
«Я не хочу иметь семьи в это подлое время,— писал он в 1847 году
Готфриду Кинкелю.— Я не хочу, чтобы какой-нибудь пролетарий
поучал моих детей уму-разуму». Насколько литературная позиция
Буркхардта уже предваряет современные выдумки реакции с ее
фразой о борьбе против Ротшильда и Маркса одновременно, пока-
зывают следующие слова прославленного историка: «Когда-нибудь
отвратительный капитализм и жадные стремления снизу разнесут
друг друга в щепы, как два скорых поезда на одной и той же
колее» *.
Имя Буркхардта связано прежде всего с его занятиями Италией
эпохи Возрождения. В портретах исторических деятелей этой эпохи
он по-своему продолжает линию Стендаля и Мериме. Но Буркхардт
известен также своими лекциями по истории греческой культуры,
читанными в 80-х годах прошлого столетия. Именно здесь новое
истолкование истории античной культуры выступает в яркой проти-
воположности к старому гуманистическому взгляду Винкельмана —
Шиллера — Гёте.
* См.: IVaeizoldt IV. Deutsche Kunsthistoriker. Lpz., 1924, Bd. 2, S. 173—
175.
Что такое Греция для Винкельмана? Это страна нормы и типа.
Здесь все держится в пределах меры, все имеет общезначимый ха-
рактер. Словом, это средоточие всех положительных сторон челове-
ческого мира, среда вечных истин, как сказал бы Лейбниц. В гре-
ческом обществе Винкельман видел пример гармонического единства
индивидуальной и общественной жизни. Греки были правдивы и
человечны, они мало заботились о потустороннем мире, но зато их
земная жизнь была радостна и прекрасна.
Трудно представить себе, насколько противоположна этой кар-
тине тенденция Буркхардта. В греческом типе он видит, скорее, сре-
доточие всех отрицательно-человеческих черт, всего ненормального
и трагического. Именно это придает эллинскому типу особую при-
влекательность для современного человека. Показать, что идеал
88 добродетельной Греции покоился на сведениях, почерпнутых из по-
учительной беллетристики поздних античных моралистов, было не-
трудно. Теперь у греческих писателей берутся другие рассказы —
те, из которых можно сделать вывод о необычайной жестокости
древних эллинов, глубоких конфликтах их общественной жизни,
жадной борьбе за власть, о лживости их натуры, пессимизме рели-
гиозных верований.
«В отношении греков,— говорит Буркхардт,— все казалось яс-
ным со времен великого подъема немецкого гуманизма в прошлом
столетии: показывая их воинственный героизм и гражданствен-
ность, их искусство и поэзию, их прекрасную страну и климат, их
оценивали как счастливых, и стихотворение Шиллера «Боги Гре-
ции» охватывало все это предполагаемое состояние в единой карти-
не, волшебное действие которой еще и по сей день не потеряло
своей силы. Полагали, по меньшей мере, что афиняне времен Пе-
рикла должны были годами жить в состоянии блаженства. Одна
из величайших фальсификаций исторической оценки, которая когда-
либо существовала, тем более подкупающая, что она высказывалась
с величайшей наивностью и убеждением!» *
В более отчетливой и обобщенной форме трагическое истолкова-
ние античности выступает у Фридриха Ницше. Его новаторство
было полным ниспровержением Винкельмана. «Ницше чрезвычайно
далек от винкельмановского представления о благородной простоте
и спокойном величии древности»,— пишут современные нам истори-
ки древности **. Среди заметок Ницше, относящихся к весне
1870 года, мы находим следующий набросок программы: «Эллин-
ство есть единственная форма, в которой может протекать жизнь:
ужасное под маской красоты. Полемическая сторона — против ново-
греческого умонастроения (Ренессанс, Гёте, Гегель и др.). «Эллин-
ское» со времен Винкельмана — сильнейшая вульгаризация. Затем
христианско-германское чванство воображать себя вышедшими из
* Burckhardl J. Griechische Kulturgeschichte, 3. Aufl., Bd. 2, S. 373.
** Stempflinger C., Lamer H. Deutschtum und Antike in ihrer Verkniipfung.
Lpz —Berlin, 1920. S. 115.
этого. Имели перед собой картину римски-универсального эллиниз-
ма, александринизма. Красота и банальность в союзе, и естествен-
но. Скандальная теория! Иудея» *.
«Либерально-иудейско-марксистская» теория классической древ-
ности, как пишут продолжатели этой тенденции в наши дни. Грече-
ская ясность была идеалом сторонников этой «скандальной теории».
«Греки,— по словам Ницше,— жили в сумеречной атмосфере
мифического». Греческий оптимизм привлекал писателей гуманисти-
ческого направления. Ницше, напротив, приписывает древним «пес-
симизм силы». Впрочем, грек не был ни пессимистом, ни оптими-
стом. «Он, по существу, был мужем». Что касается прославленной
Винкельманом и Гёте греческой человечности, то все это, по мнению
Ницше, пустая выдумка, либерально-филантропическая болтовня.
«Гётевское эллинство,— писал Ницше,— было, во-первых, историче-
ски фальшиво и, затем, слишком мягко и немужественно». Греки
вовсе не были гуманным народом. Наоборот, у них часто встреча-
лась дьявольская жестокость, перед которой могли бы содрогнуться
сами варвары. Их культура была культурой узкого слоя господ,
стоявших над массой вьючных животных. По отношению к осталь-
ным людям греческий аристократ—«ничем не лучше выпущенного
на волю хищного зверя». «Как можно только находить древних
гуманными!» Античный мир вовсе не был царством мира и свободы.
«Греческий полис,— говорит Ницше,— возникает из смертельной
вражды... Эллинское и филантропическое были противоположно-
стью, хотя греки достаточно льстили себе». Они обладали сильней-
шими инстинктами, настоящей волей к мощи, и само сострадание
относилось у них к временным болезненным аффектам **.
Эта хищная раса господ совсем не похожа на тот гармонический
и свободный народ, который рисовали Винкельман и Гёте. Как из-
менились духовные интересы буржуазной интеллигенции за какие-
нибудь пятьдесят — сто лет, отделяющих эпоху немецкого гуманиз-
ма от времен Буркхардта и Ницше! «Чуять в греках прекрасные
души, золотые середины и другие совершенства,— писал Ницше
в «Сумерках божков»,— видеть у них спокойное величие, идеаль-
ный порыв, высокую простоту,— от этой высокой простоты, некоей
niaiserie allemande, я был, по счастью, защищен благодаря психо-
логу, которого носил в себе» ***. Легко понять, что все это запозда-
лая полемика с теорией греческого искусства Винкельмана.
«Какая своеобразная ограниченность,— говорит один из млад-
ших апостолов современной буржуазной реакции Х.-С. Чембер-
лен,— лежит в основе вредной теории мнимого классицизма, можно
видеть на примере великого Винкельмана, о котором Гёте сооб-
щает, что он не только не обладал пониманием поэзии, но вообще
89
* Nietzsche Fr. Gesammelte Werke, Musarionausgabe, Bd. 3, S. 213.
** Ibid., Bd. 2, S. 369; Bd. 3, S. 212 u. a.; Bd. 4, S. 340; Bd. 7, S. 145,
190—191; Bd. 15. S. 300 u. a.
*** Ibid., Bd. 17. S. 155.
относился к ней с отвращением, в том числе и к поэзии греческой;
даже Гомер и Эсхил были для него ценны разве лишь как коммен-
таторы к его любимым статуям». И далее: «Мы стоим здесь, у этой
догмы классического искусства, перед патологическим феноменом, и
мы должны радоваться, что здоровый, великолепный Гёте, с одной
стороны, делает уступки больной классической реакции, с другой,
дает натуралистические советы» *.
Итак, «догма» классики с ее золотой серединой и другими совер-
шенствами представляет собой банальное порождение гуманистиче-
ского века. Ее выдумали школьные филологи и академические на-
ставники искусства. Она является, как утверждают буржуазные
писатели нового направления, признаком болезненного аскетизма
европейского общества и его столь же болезненной чувствительно-
90 сти. Сильные натуры выходят из этой тепличной атмосферы и вме-
сте с рационалистической умеренностью, вместе с бесцветным пре-
краснодушием покидают и болезненную привязанность к любимым
статуям Винкельмана. Борьба новаторов против «классической
реакции»!
История так запутала этот вопрос, что обыватель может принять
слова знаменитого теоретика арийской расы за чистую монету.
На самом же деле в этой критике «банальности» классического идеа-
ла повторяется общее восстание буржуа против его же собственных
лучших дней. Нет никакого сомнения в том, что популярное в среде
образованного мещанства XIX столетия салонно-классическое
представление о красоте было внутренне мертвым созданием эпи-
гонов. Но критика «догмы классического совершенства» у Ницше
и его продолжателей при всей их претензии на бунт против консер-
вативной обывательщины вовсе не лучше. Напротив, это дальней-
шее движение вниз. Как признак нарождающегося мещанства но-
вого типа критика Ницше отвергала именно демократическое содер-
жание «догмы», а между тем от него в популярном художественном
воззрении буржуа XIX века и без того оставалось уже очень мало.
Лечить эту болезнь презрительным третированием niaiserie allemande
«какого-нибудь Винкельмана» — все равно, что лечить холеру чумой.
Вполне естественно, что писатели активно реакционного направ-
ления обращались против тех сторон действительного греческого
общества, в котором люди, подобные Винкельману, видели истори-
ческое подтверждение своих идеалов. Как бы ни была наивна их
вера в безоблачную гармонию греческой жизни, афинская демокра-
тия все же существовала. Для Ницше она представляла собой паде-
ние подлинной античности. В Греции эпохи Сократа он видел как
бы прообраз XIX столетия с его демосом, богатыми выскочками,
* Chamberlain Н. 5. Die Grundlagen des XIX Jahrhunderts, 2. Halfte.
Hauptwerke. Munchen, 1923, Bd. 3, S. 1105. Гёте, однако, замечает, что, не-
смотря на свое равнодушие к поэзии, Винкельман сам был по натуре поэтом
(о чем тенденциозно умалчивает Чемберлен). Еще г-жа де Сталь утверждала,
что идеи Винкельмана в самой Германии оказали большее влияние на литера-
туру, чем на изобразительное искусство.
уничтожением сословных границ, распространением дешевого обра-
зования и дешевой роскоши. Греческая цивилизация породила своих
просветителей и моралистов, которые не пользовались симпатиями
ницшеанского направления.
В личности Сократа Ницше видел первого гуманиста, предвест-
ника победы современного разложения над старым суровым аристо-
кратическим строем. Трагическая Греция времен Гераклита — вот
идеал, который ставится в пример позднейшей, более реалистиче-
ской эпохе. Победа демократии привела к расцвету пластического
искусства и повышению социальной роли художника-демиурга.
Общественная среда изобразительных искусств в древности более
демократична, чем истоки греческой поэзии, тесно связанной с ге-
роикой воинских колесниц и тяжеловооруженной пехоты.
Между тем Ницше привлекала именно досократовская, дофи- 91
Греция,— время, когда еще не сложилась субъективная
мораль, и канон не отграничивал пластические формы человеческого
тела от бурного дионисийского бытия остальной природы. В рас-
паде первоначальной субстанции на атомы — эти гордые маленькие
тельца, полные благородной простоты и спокойного величия,— Ниц-
ше видел победу аполлоновского начала, начала отдельности. Мо-
раль Сократа и эстетика совершенной формы были для него алле-
горическими фигурами, иносказанием демократического проклятия.
Движимый своим реакционным чутьем, которое также требует
особого таланта (правда, сильно преувеличенного многочисленными
поклонниками), Ницше прокладывал новые пути буржуазной об-
щественной мысли в направлении, прямо противоположном потоку
идей эпохи Винкельмана и его наследников.
Однако Фридрих Ницше был лишь самой яркой вечерней зве-
здой на горизонте буржуазной культуры. В том же духе писали
о Греции критик Ницше Виламовиц и друг философа Эрвин Роде*.
Богатая содержанием книга Теодора Гомперца «Греческие мысли-
тели» не принадлежит этому направлению, но она также содейство-
вала победе образа досократовской древности. Многочисленные от-
крытия в области изобразительных искусств архаической и поздней
Греции со своей стороны способствовали падению культа совершен-
ной античной формы. «Повсюду в истории греков и римлян на ме-
сто идеала, в который веровали раньше, стала земная действитель-
ность, где все шло в духе человеческом, иногда слишком человече-
ском» **.
Папирусы и надписи раскрыли множество подробностей эконо-
мической жизни античного общества и обнаружили далеко не клас-
* Виламовиц обращается против «грецизирующего классицизма», этого
«порождения рационализма и просвещения» (Griechischc Tragodien, 1900, Bd. 2,
S. 27). Эрвин Роде в своем известном сочинении о греческой религии «Psyche»
занят опровержением старого представления о светлом, посюстороннем язы-
честве.
** Cauer Р. Das Altertum im Leben der Gegenwart. 2. Auf 1. Lpz.— Berlin,
1915, S. 3.
сическую жажду обогащения древних наживал. В исторической
науке вошла в моду фраза об античном капитализме. Ученые, как
Эдуард Мейер, говорят о настоящих фабриках древности, на кото-
рых работали, по их подсчетам, толпы рабов. Уже было недалеко
то время, когда в катапультах и баллистах греческих армий открыли
тяжелую артиллерию древних, а в боевых машинах царя Демет-
рия — нечто подобное современному танку.
Это стремление обнаружить симптомы современного образа жиз-
ни в древности было ученой попыткой оправдания буржуазной ци-
вилизации. Вот что стремилась возвысить как нормальный порядок
мира историческая наука эпохи отрезвления буржуазии. Нельзя,
разумеется, отрицать превосходство этой трезвости над иллюзиями
президента древностей, но критическое рвение противников грече-
92 ского идеала никогда не было свободно от грубой тенденции. В этом
смысле особенно характерно известное сочинение об античном со-
циализме Пёльмана. Скрытая цель этой книги — доказать, что
сказки о полукоммунистическом добром старом времени во все вре-
мена рождались в головах способных демагогов и публицистов (как
Дикеарх или Руссо).
Так окончило свое существование то старомодное представление
о греческом мире, которое населяло его добродетельными гипсовыми
героями. «Если поверить этому взгляду, главное занятие греков и
римлян состояло, видимо, в прилежном чтении Винкельмана, точно
так же как дети природы Руссо, ’без сомнения, досконально знали
«Общественный договор» *.
Современники Винкельмана были уверены в том, что греки не
раскрашивали своих статуй. Это оказалось ошибкой, но ошибкой
не менее закономерной, чем неправильное истолкование Аристотеля
теоретиками классической трагедии. Люди эпохи Просвещения и
немецкой классики рисовали своих греков самыми общими отвле-
ченными линиями. Сила абстракции как бы символизировала для
них нормальный характер греческого образца. Бесцветность пласти-
ческих богов и героев свидетельствовала об их нравственной чи-
стоте, не запятнанной никаким соприкосновением с соблазнитель-
ной красочностью порока.
Историческая наука эпохи зрелости капитализма уже не изобра-
жала греков и римлян в виде бесцветных моральных статуй. Она
готова была, скорее, раскрашивать их подобно индейцам перед бит-
вой. Древние эллины предстали перед современным европейским
миром как лукавый, хищный народец, любящий грабеж и наживу,
трезвый и расчетливый в практических делах, романтически над-
ломленный в своих религиозных и художественных устремлениях.
Все последующие открытия в области античного барокко, эллини-
стического импрессионизма и экспрессионизма только прибавили
новые штрихи к этой, однажды изменившейся картине греческой
жизни. «Это уже не был праздничный день, это не был народ
* Friedell Е. Kulturgeschichte der Neuzeit. Munchen, 1928, Bd. 2, S. 378.
благородной простоты и спокойного величия. Здесь вставали перед
нами его серые будни, бесчисленные документы его «слишком чело-
веческого» *.
Так умерло старое представление о вершине классического со-
вершенства, возвышающейся над неразвитостью и упадком. Про-
дуктом его разложения явился всеобщий релятивизм норм и оценок.
Глубокая архаика и золотая осень искусства стоят теперь в центре
внимания исследователей. Они старательно реабилитируют те эпо-
хи, которые прежде были в тени как времена грубой неразвитости
или чрезмерной утонченности вкуса. Все несовершенное и прими-
тивное, рафинированное и упадочное также имеет свой аромат, не
уступающий дыханию классического искусства. Уже на исходе
XIX столетия в буржуазной литературе зарождается эта философия
жизни последних римлян, которая после мировой войны 1914—
1918 годов приобрела, по-видимому, всеобщее господство. Под влия-
нием таких настроений два венских ученых — Алоиз Ригль и
Франц Викгоф — в ясной противоположности к Винкельману и
всей старой истории искусства, еще сохранившей воспоминание о его
системе координат, создали общий тип современного буржуазного
искусствознания, основанный на относительности всех художест-
венных ценностей, всех эпох и стилей.
Их материалом были прежде всего позднеримская эпоха и па-
мятники первоначального христианства, но не только. Обладая
огромным знанием фактов и действительно превосходя своих со-
перников старой школы, они стали основателями истории искусства
без высшего и низшего, расцвета и упадка. Все одинаково хорошо
для исследователя. В каждом продукте искусства, будь то произве-
дение эскимоса или Фидия, действует своя особая сила, специфиче-
ское направление художественной воли, не подлежащей осуждению.
Можно ли представить себе что-нибудь более противоположное
принципам «Истории» Винкельмана? Действительно, из школы
Ригля вышли все последующие революции против старой эстетики,
эстетики разумного, доброго и прекрасного, выделявшей определен-
ные периоды искусства в качестве исторического воплощения этих
понятий.
В том же направлении, хотя и своими особыми путями, шел Ген-
рих Вёльфлин. История искусства обязана ему реабилитацией ба-
рокко, презрительно третируемого Винкельманом. Возвращаясь к
мысли, высказанной еще Шеллингом в речи «Об отношении искус-
ства к природе» (1806), Вёльфлин утверждал, что следующие за
классическими периодами эпохи должны быть поняты в своеобразии
их устремлений и особенностей, а не как простое отпадение от идеа-
ла. Последователи Вёльфлина распространили идею равноправия
классики и барокко на всю область истории изобразительных ис-
кусств, перенесли ее в историю литературы. Таким образом, старой
эстетической системе был нанесен последний удар.
93
* Immisch О. Das Nachleben der Antike. Lpz., 1919, S. 7.
Отсюда удивительный поворот современного вкуса. Для нового
поколения историков искусства примитивные и послеклассические
эпохи не только сравнялись в своем значении с веком Фидия — они
приобрели особое обаяние. Это несомненный факт, известный вся-
кому, кто дал себе труд проследить эволюцию истории искусства
в течение ряда последних десятилетий.
Здесь повторяется общий закон развития буржуазного мышле-
ния в период его заката. Старая демократическая идеология крепко
держалась за свои абстрактные понятия. Классическая красота
была для нее так же естественна, как свет, и вместе с тем так же
противоположна безобразию и варварству, как свобода противопо-
ложна рабству, просвещение — невежеству. Вместе с другими аб-
страктными противоположностями демократической буржуазной
94 идеологии эта антитеза была также основательно расшатана разви-
тием капитализма и классовой борьбы в XIX веке.
Сознание этого общего процесса на стороне пролетариата есть
то, что мы называем материалистической диалектикой. Но буржуаз-
ное мышление также усвоило опыт времени. От слишком абстракт-
ных истин буржуазной демократии оно переходит к отрицанию вся-
кой объективной истины, то есть к всеобщему релятивизму, софи-
стике многих субъективных истин. В искусстве, морали и
философии — всюду одно и то же. Старая демократическая мета-
физика словно вывернута наизнанку, так что подчеркивается ее
обратная, негативная сторона. Наука о прекрасном, как и сама худо-
жественная практика, вступает в ту странную полосу своего разви-
тия, которую Плеханов вслед за Моклером удачно назвал кри-
зисом безобразия.
Таким образом, в итоге всех этих перемен ясно обозначились две
исторические формы и две ступени развития буржуазной культу-
ры. Каждая из них относится к другой как к своему собственному
инобытию. Каждой из них соответствует особая форма сознания.
Классическая форма, отвечающая эпохе «нормального» развития
буржуазных отношений, построена на принципе закономерного
среднего. Она избегает противоречий. Чрезмерная сложность, не-
равенство, несоблюдение эквивалентности частей кажутся ей чем-то
неестественным, отклонением от нормы. Она стремится к отвлечен-
ной ясности, симметрии и простоте. В области практической жиз-
ни— это догматика права и равенства. В области жизни художест-
венной— эстетика ватиканского Аполлона и «Сикстинской мадон-
ны», сначала излюбленных образцов высокого вкуса старой
формации, впоследствии — банальных украшений мещанского жи-
лища. В основе своей эта историческая форма сознания, породив-
шая в лучшие времена Винкельмана и всю эстетику идеала, есть
совокупность понятий и принципов буржуазной демократии, кото-
рые, по выражению Ленина, являются слепками с отношений товар-
ного хозяйства.
Другая форма буржуазного сознания одерживает самые крупные
победы уже на закате капитализма. В мистическом и превратном
виде она воспроизводит его противоречия, его глубокий внутренний
хаос, прикрытый внешней оболочкой порядка, его анархию. Это
слепок с хищнической, стихийной, обратной стороны товарного хо-
зяйства. Здесь всюду господствуют случайность, неравенство экви-
валентов, неудовлетворенность* или пресыщение. Закономерное
среднее кажется пустым миражем, и более глубокий взгляд везде
открывает крайности, доведенные до антагонизма,— насилие или
страдание, излишек или недостаток. Отсюда мораль имморализма
и эстетика готического человека, как принято говорить в современ-
ной литературе об искусстве. Различные отражения анатомии этого
внутренне разорванного человека дают себя знать во всех проявле-
ниях распада буржуазной культуры последних десятилетий.
Итак, две формы сознания и, может быть, нечто большее — два
противоположных принципа космического масштаба, начало Апол-
лона и начало Диониса. Так по крайней мере представляет себе
эту коллизию современная буржуазная философия культуры, строя-
щая свои исторические схемы под властью этого дуализма.
В действительности противоположные принципы, столь изы-
сканно определенные и непримиримо враждебные, суть две сторо-
ны одной и той же медали. Скрытое внутреннее единство их общей
природы становится явным в течение третьего, последнего периода
истории буржуазной общественной мысли.
7
Начнем с того, что представление о двух изначально противопо-
ложных типах эстетической культуры, коренящихся в самой сущно-
сти природы и человека, является центральным для всей современ-
ной западной мифологии. Мы постоянно встречаем здесь Аполлона
и Диониса в самых разнообразных облачениях. На первый взгляд
это кажется странным. Откуда в наш технический и беспокойный
век берется интерес к подобным сюжетам? Что означают эти мифо-
логические красоты?
Образ Аполлона принадлежит к старым спутникам человече-
ства. Даже чеховские герои, провинциальные обыватели, слышали
о существовании Аполлона Бельведерского. Его популярность начи-
нается уже в XVIII столетии. Но здесь она лишена того оттенка
банальности, который отличает все, что имеет отношение к эстетике
образованного мещанина. С энтузиазмом подлинного поэта описы-
вает Винкельман красоту ватиканской статуи, в которой он видит
высший идеал искусства, образ из мира бестелесной красоты. Апол-
лон — бог света и солнца, юности и гармонии, изображенный ху-
дожником в момент победы над исчадием хаоса Пифоном. Винкель-
ман, как и вся его эпоха, видел в этом античном божестве символ
просвещения, побеждающего невежество, триумф красоты и свобо-
ды над варварством, произволом и беспорядком. Другими словами,
в мифе Аполлона перед нами аллегорическое выражение прогрес-
сивных сторон буржуазного строя.
95
Образ темного бога Диониса появляется в литературе позднее.
Впервые заговорили о нем немецкие романтики, широкий путь в
жизнь современного духа открыли ему Шопенгауэр и Ницше, но
только вместе с дальнейшим поворотом буржуазного мышления
к мистике и реакции дионисийскде начало торжествует во всех
областях буржуазной культуры. Современный мещанин, взбесив-
шийся под влиянием кризиса капитализма, уже не доволен «пло-
ской гармонией» Аполлона; свобода и просвещение также не
пользуются больше его симпатиями *. Банальность современного
мещанина состоит прежде всего в том, что он имеет претензию быть
оригинальным. Он видит причину всех несчастий человечества в
слишком большом распространении науки и скорбит об ушедших
в прошлое временах беспрекословного подчинения. Свои эстетиче-
96 ские идеалы он находит не у Фидия и Рафаэля, а в экстазах готики
и барокко.
Эти идеологические перемены являются прямым продолжением
тех процессов, которые начались уже в XIX столетии. Возвраща-
ясь к идейному наследию Винкельмана, мы замечаем, что с вступ-
лением в эпоху империализма его кривая продолжает падать. На-
против, линия, начатая Буркхардтом и Ницше, переживает полосу
гигантского подъема. Война и послевоенные потрясения создали
почву для нового роста дионисийских устремлений. Катастрофа
Германии в мировой войне привела немецкую буржуазную интел-
лигенцию к новой переоценке ценностей, которая зашла еще дальше
в применении лозунга Ницше: «Идеалы — опасность!» «Воздержа-
ние,— пишет известный историк литературы Оскар Вальцель,— есть
отличительная черта тех, кто идет от Винкельмана. Аскеза мира
строгого исполнения долга подсказывает подобное поведение. К это-
му примешивается одновременно какое-то похмелье. Похмелье, разу-
меется, после хмеля, который достался на долю другим. На заднем
плане стоит идеал добродетели эпохи Просвещения: воздержание
от всех удовольствий, которые вредят человеку» **.
Винкельман с его требованием строгой классической формы озна-
чает для современного немецкого литератора националистического
толка подчинение тому «идеалу добродетели», который навязан
германской буржуазии Версальским миром. Это для нее — «на чу-
жом пиру похмелье». В течение всего послевоенного периода немец-
кая профессорская политика делала постоянные усилия с целью
освободить национальный принцип формы от давления общезначи-
мых канонов.
Победители и побежденные! Для первых идеалы благородной
простоты и спокойного величия означают удовлетворенность своим
* Прошу читателя помнить, что статья написана в начале 30-х годов, когда,
по выражению одного современного автора, бурно проявилось добровольное
бегство из свободы.— Примсч. к наст. изд.
** IValzel О. Deutsche Dichtung von Cottsched bis zur Gegenwart, 1927,
Bd. 1, S. 22.
положением. Когда преимущество на твоей стороне, нетрудно про-
поведовать общие нормы права, добродетели, красоты. Это язык
так называемых западных демократий, язык Лиги наций. В после-
военном европейском концерте державы-победительницы постоянно
наигрывали идиллические мелодии XVIII века, между тем как с
германской стороны доносились резкие, инфернальные звуки музы-
ки Вагнера. Вообще немецкая буржуазия представляет неудовлет-
воренную, дисгармоничную сторону послевоенного концерта; она
охвачена ницшеанской жаждой власти. Благородная простота и
спокойное величие означали бы для нее воздержание, аскезу. Отсю-
да, может быть, эта настойчивая оппозиция против аполлоновского
начала.
Еще Эрнст Трёльч в статье «Гуманизм и национализм в нашем
образовании» превозгласил конец того периода, когда античность
сочеталась с немецким духом, конец эпохи гумбольдтовского гума-
низма и теории искусства Винкельмана — Гёте. Из старого синтеза
античности с германизмом выделился особый немецкий принцип,
которому принадлежит будущее *.
В более мелких и вульгарных формах этот отказ от общечелове-
ческого и античного служит теперь основанием для самых шовини-
стических выводов по отношению ко всей системе образования.
В современной гитлеровской Германии ведется нешуточная кампа-
ния против латинского шрифта (antiqua).
Отсюда понятно, что по крайней мере с одной стороны винкель-
мановская античность должна находиться в прямой противополож-
ности к так называемому национал-социалистическому мировоззре-
нию. И действительно, Винкельман не был забыт идеологами
нацизма. Так, один из наиболее известных представителей гитле-
ровских идеологов — Альфред Боймлер (в настоящее время про-
фессор политической педагогики в Берлине) предъявляет великому
антикварию свой обвинительный акт.
Винкельман с его положительным отвращением ко всякой ар-
хаике является антиподом современных фашистских теоретиков
мифа. В основе отрицательного отношения к мифологии лежит
у него, как верно заметил Боймлер, основная идея эпохи Просве-
щения — идея «свободного народа», свободного от деспотизма и вся-
кого суеверия. Именно в этой враждебности к религиозному мыш-
лению видит Боймлер главный недостаток эстетики идеала. «Цар-
ство Винкельмана начинается там, где появляется нечто формально
выраженное, так же как царство историков начинается вместе с пер-
вой надписью. Неизбежным следствием этого безусловного при-
соединения к свету и форме является то, что религиозное и все, что
с ним связано, полностью отступает на задний план... Этому вос-
приятию не хватает какого бы то ни было понятия религиозности».
97
* Troltsch Е. Humanismus und Nationalismus in unscrem Bildungswesen.—
Deutscher Geisl und Westeuropa, gesammelte kulturphilosophische Aufsatze und
Reden, hrsg. von Hans Baron. Tubingen, 1925, S. 211—243.
Винкельман предпочитает античную красоту всякой религии.
Боймлер, напротив, уверен в том, что без религиозного чувства
непонятно и греческое искусство. «Винкельман,— говорит он,— от-
резал «растение» греческого искусства от его корня. Он наблюдал
его лишь постольку, поскольку оно росло под солнцем: корни, таив-
шиеся в темном материнском царстве земли, ускользнули от его
взора» *.
В отсутствии материнского принципа седой, архаической древно-
сти, в этой безграничной любви к солнечному свету Боймлер видит
основной порок всякой науки (истории или эстетики — безразлич-
но). Программа фашистски настроенной интеллигенции требует
создания мифологической атмосферы. По крайней мере в этом при-
знаке она усматривает свое отличие от «интеллектуализма», «ра-
$8 ционализма» и «наукообразия» старого либерального мышления.
Не лишено интереса то обстоятельство, что официальный теоре-
тик национал-социализма, балтийский белогвардеец и авантюрист
Альфред Розенберг также приложил свою руку к наследству Вин-
кельмана. Он говорит о двух основных направлениях немецкой мыс-
ли до появления на свет его собственного бульварно-философского
произведения «Миф XX столетия»: «От Винкельмана через немец-
ких классиков вплоть до Преллера и Фосса проходит поклонение
светлому, мирооткрытому, наглядному, причем, однако, эта линия
исследования все более и более падает, ее кривая становится все
более и более плоской. Мыслители и художники превращаются уже
в оторванные от крови и почвы единицы и только исходя из «я»,
из «психологии» стараются объяснить аттическую трагедию или
критиковать ее: Гомер понимается лишь формально-эстетически, и
эллинистический поздний рационализм должен дать свое благосло-
вение бескровным, профессоральным многотомным писательствам».
И далее в еще более глубокомысленном стиле: «Другое — ро-
мантическое — течение погрузилось в подпочвенные душевные токи,
выступающие при конце Трои на тризне или у Эсхила в деятель-
ности Эриний. Оно проникает в души хтонических противобожеств
олимпийского Зевса, почитает, исходя из смерти и ее загадок, «ма-
теринских богов», с Деметрой во главе, и в конце концов предается
своим устремлениям в боге мертвых — Дионисе. Велькер, Роде,
Ницше указывают здесь на «землю-матерь» как на бесформенную
в себе самой родительницу жизни, которая, умирая, вновь сливает-
ся в единство материнского чрева. С почтительным ужасом чувст-
вует великая немецкая романтика, как словно все более темное
покрывало протягивается перед светлыми богами неба, и она погру-
жается глубоко в инстинктивное, бесформенное, демоническое, по-
ловое, экстатическое, хтоническое, в культ матери, называя все это
еще греческим» **.
* См.: Der Mythus von Orient und Occident. Eine Metaphysik der alten Welt.
Aus den Werken von I. I. Bachofen. Mit einer Einleilung von Alfred Baumler,
hrsg. von M. Schrdter. Munchen, 1926, S. XXIV—XCV.
** Rosenberg A. Der Mythus des XX Jahrhunderts. Munchen, 1930, S. 42—43.
Немецкая романтика открыла борьбу богов, мировой дуализм,
в котором скрывается изначальная противоположность рас. В нашу
эпоху массовых интернационалов, не устает повторять фашистский
оракул, нужно всячески распространять это открытие, освободив
романтику от некоторых «нервических подергиваний».
Чтобы сделать более ясным реальное содержание этой современ-
ной мифологии, имеющей в полном смысле слова эпидемическое
распространение, обратимся к одному из характерных для после-
военного немецкого развития наполовину искусствоведческих, напо-
ловину философских произведений — книге Карла Шефлера «Дух
готики». Книга эта вышла еще в первый период немецкой социаль-
ной истерии в 1923 году. Шефлер также принадлежит к критикам
Винкельмана, которого он объединяет с Лессингом и Гёте в главе
«Учение об идеале».
Обращаясь к известному нам вечному дуализму искусства, ав-
тор пользуется схемой греческого и готического, отождествляя свое
деление с аполлоновским и дионисийским у Ницше. «Однажды,—
рассказывает Шефлер,— я наблюдал две стаи голубей. Одна из них
взлетала и опускалась, образуя правильный круг, и движения ее
были плавно-гимнастичны. Другая группа состояла из птиц, раз-
бросанных в беспорядке по карнизам, сидящих в одиночку или
неистово преследующих друг друга под влиянием физического вле-
чения». И здесь, по словам Шефлера, ему раскрылась подлинная
тайна природы. Вселенной присущи как правильные, пластические,
«красивые» образования, так и гротеск, сила выражения и односто-
ронности. «Парадоксально выражаясь, природа носит в такой же
степени греческий, как и готический характер. Но подобно тому
как в самой природе оргиастической полноте творческой силы, из-
бытку побуждений противостоит регулирующий порядок, железная
необходимость, ограничивающая этот избыток и придающая ему
форму, а с другой стороны — элементарное стремление творческой
воли снова заботиться о том, чтобы этот священный, приводящий
в порядок закон никогда не приходил в состояние формальной
окаменелости; подобно тому как существует вечная борьба между
беспокойством и спокойствием, между опьянением и хладнокровием,
нетерпением и терпением, и подобно тому как результат этой борь-
бы без конца есть вселенная, которая всегда свежа и великолепна,
как будто она только что вышла из рук творца,— так и в искусстве
воздействуют друг на друга мера и безмерное, спокойствие и бес-
покойство, терпение и нетерпение, и здесь также только из этой
борьбы происходит значительное в своей оригинальности и разно-
образии».
С этой космической точки зрения красота означает «стремление
к радостной, спокойной гармонии», блаженству и наслаждению. «Но
в искусстве,— пишет Шефлер,— счастье так же не есть высшее, как
и в самой жизни». Красота охватывает только половину человече-
ского. «К миру художественного чувства относятся в такой же
99
100
степени и чувство ужаса, диссонансы характерного, монументаль-
ность возвышенного».
На этом, однако, типология Шефлера не останавливается, ибо
вторая половина для него больше первой. «Формы воли, произво-
дящие гротеск, также относятся к искусству, ибо искусство есть
прежде всего акт воли и поэтому по своей природе элементарно.
Искусство также полагает хаос прежде формы, избыток прежде
гармонии и первичную силу прежде красоты».
Многое в этом, разумеется, совсем не ново. Но характерно, что
если для писателей круга Винкельмана и Гёте примат гармонии
и красоты был чем-то естественным, то современные буржуазные
писатели переносят центр тяжести на прямо противоположное на-
чало. Здесь ясно чувствуется эпоха великой ломки, которую по-
своему отражает и буржуазная литература. Но именно по-своему.
Бунт против гармонии и счастья, который она поднимает, пахнет
кровью. Последнее слово этого бунта есть чаяние «героического
государства», изобретенного современным фашизмом, в противовес
либеральному «государству благополучия».
Вот откуда стремление к универсальной готике, создающей по-
всюду формы беспокойства и страданий. Готика, пишет Шефлер,
заключает в себе нечто дьявольское или демоническое. Готический
принцип есть принцип мужества. Но всякая мужественность остает-
ся по существу варварской. «Те народы, которым суждено культиви-
роваться, долго вынашивают проблемы искусства и в конце концов
рождают красоту. Это, в сущности говоря, женственные народы.
Готический дух выступает везде, где он выделяется как оплодотво-
рение и революционизирование; он должен предоставить культуру
счастья женственным греческим народам» (здесь, очевидно, имеют-
ся в виду французы).
Такое «революционизирование» мира целиком совпадает с про-
граммой нового архаически-монументального строя, отличающегося
прочной иерархией, жестоким отбором и прочими достоинствами
трагических эпох,— то есть с программой, которую уже давно вы-
нашивала западная философия искусства. Его центральной идеей
является обновление общества при помощи здоровой варваризации.
Шефлер пишет: «Варварское и готическое тождественны, они про-
тивоположны другому состоянию, в котором господствует норма,
где человек и природа подвержены тому оживленному формализму,
который принято называть культурой».
Состоянием культуры было, по мнению Шефлера, XIX столе-
тие. Оно развивало одностороннюю духовную дисциплину, возбуж-
дая критическую способность и заглушая инстинкт. «Вся природа
была механизирована, жизнь потеряла всякий нравственный
смысл». Такое же вырождение претерпело художественное творче-
ство. «Девятнадцатое столетие — это эпоха распавшегося в себе
подражания искусству и природе, эпоха вялости формы и сентимен-
тальной идеологии. В этом столетии господствовали художники
средней руки, тогда как истинно самостоятельные преследовались
или оставались в пренебрежении».
В конце XIX века начинается новый подъем готического и вар-
варского начал. Чувствуется переход от сентиментального настрое-
ния к грубой активности, новая заря «изначально-древних чувств,
ощущений, окрашенных в тона первозданного мира». Началось
крушение либерально-сентиментальной эпохи, и вот из-под внешней
гармонии показался страшный лик Горгоны. «Именно искусство
стало областью, в которой раскрыло себя это новейшее мировое
переживание». От классически-натуралистических приемов худож-
ник переходит к сильным готическим эффектам, которые, по мне-
нию Шефлера, наметились уже в импрессионизме. С этого начи-
нается уход от идеалов греческой нормальной красоты, и притом
в самых широких кругах интеллигенции. «Эта новая форма видения
не отворачивается от безобразного, а наоборот, старательно оты-
скивает всякого рода социальный гротеск. Она натуралистична и
романтична в одно и то же время». Таково последнее слово разви-
тия живописи в конце прошлого и начале нынешнего столетия*.
Книга Шефлера в высшей степени характерна для философии
искусства сегодняшнего дня. В этих откровениях присутствуют все
элементы буржуазной идеологии современной эпохи: превращение
кризиса старого общественного строя в роковую космическую про-
блему гармонии и хаоса, радикальная, слишком радикальная кри-
тика традиций либеральной буржуазии (вопреки историческим
фактам, доказывающим непрерывную преемственную связь совре-
менной реакции с падением старого либерализма), переход от идеа-
лов свободного и нормального, гармонического и прекрасного к
идеалам насилия, грубости, мощи во что бы то ни стало, апология
варварского героизма, бескорыстного, ничем не мотивированного
нарушения моральных и эстетических норм, принципиального
безобразия и, наконец, изображение этого реакционного экстре-
мизма, этого бунта буржуазного хамства против буржуазной циви-
лизации как явления величайшей революционной силы. Так выра-
жает себя в наши дни борьба аполлоновского и дионисийского на-
101
* Подобное же движение происходит, по словам Шефлера, и в архитек-
туре. «В строительном искусстве после классицизма и ренессансизма также
пришла новая готика. Она проявляется в интересе к задуманным в огромных
чертах и символически вздымающимся целесообразным постройкам, которые
воплощают черту мирового хозяйства, свойственную нашему времени; она вы-
ражается в стремлении к колоссальному, конструктивному и натуралистиче-
скому, в решительном подчеркивании вертикальности и далеких от хилости
обнаженных форм. Готическим является инженерное начало новой архитек-
туры. Наиболее революционное есть вместе с тем и наиболее готическое... Бес-
покойное стремление к мощности, наполняющее весь мир, получает образное
выражение в элеваторах, деловых зданиях, небоскребах, в инженерных соору-
жениях, вокзалах и мостах; в грубых целесообразных формах живет пафос
страдания, пафос готики» (Scheffler К. Der Geist der Gotik. Lpz., 1923, S. 12,
14, 21, 26, 31—32, 40, 52, 53, 105—109). Все это не лишено интереса для
понимания истинной тенденции так называемых левых течений в искусстве.
чал в мышлении современного буржуа. Нетрудно понять о чем идет
речь. При помощи условного языка излагаются разные оттенки
одного и того же общественного решения.
8
В основе современной «войны богов» лежит громадная метамор-
фоза всей идеологической среды буржуазного общества на почве
превращения его из старого капиталистического строя в капитализм
империалистический. «Империализм,— говорит Ленин,— вырос как
развитие и прямое продолжение основных свойств капитализма во-
обще. Но капитализм стал капиталистическим империализмом лишь
на определенной, очень высокой ступени своего развития, когда
102 некоторые основные свойства капитализма стали превращаться в
свою противоположность, когда по всей линии сложились и обнару-
жились черты переходной эпохи от капитализма к более высокому
общественно-экономическому укладу» *.
Вслед за экономическим процессом во всей духовной области
культуры происходит аналогичное явление перехода в противопо-
ложность. Но подобно тому как империалистические монополии не
устраняют противоречий капитализма, а, наоборот, усиливают и
развивают их по всем направлениям, так же точно и новые формы
идеологии, возникающие в империалистическую эпоху, не выходят
за пределы буржуазного кругозора, а только косвенно указывают
на этот выход. Они свидетельствуют о переходном характере со-
временной эпохи. В этом и только в этом их положительное зна-
чение.
Чем глубже противоречия буржуазного строя, тем более настой-
чивые попытки их решения вынуждена делать мысль, ограниченная
этим общественным горизонтом. Но тем безнадежнее ее попытки, и
тем яснее становится, что во всех областях теории и практики они
способны создать лишь реакционную карикатуру на исторически
необходимое и назревшее решение. Так, современная буржуазная
литература уже не изображает добродетельных героев, высоко стоя-
щих над человеческим муравейником; с другой стороны, никому
не придет в голову отстаивать право маленьких людей (в том смы-
сле, как это начал Лессинг своей драмой «Сарра Симпсон»). Совре-
менное западное искусство снова «героично». Оно вернулось к ге-
роике Haupt-und Staatsaktion. Такова, по крайней мере, официальная
эстетическая программа в государствах «тоталитарных», и она до
некоторой степени характерна.
Конечно, о старых героях гуманности и добродетели не может
быть больше речи. Перед умственным взором литераторов нового
покроя (каков, например, нацистский драматург Иост в Германии)
витает образ свирепого кондотьера, солдата мировой войны, утра-
тившего оседлость и сражающегося под знаменами всех реакцион-
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 27, с. 335.
ных армий — тип сильной личности, прокладывающей себе дорогу
к цели более радикальными средствами, чем все известные до сих
пор рецепты успеха. Кинематограф со своей стороны немало спо-
собствовал распространению нового буржуазного идеала, вынаши-
вая образ беззастенчивого борца за личное счастье, нередко плебея,
поднимающегося к богатству и после всех треволнений борьбы сры-
вающего приз жизни.
Так во всех областях и на всех уровнях современной буржуазной
культуры повторяется одно и то же явление. Картина мирной кон-
куренции отдельных лиц, интересы которых молчаливо признаются
допускающими согласие, ибо под небом места много всем, смени-
лась оправданием открытого хищничества, ницшеанской идеей бес-
пощадного соревнования — «агонистики». Эта новая картина мира
основана уже на признании того, что под небом места хватит толь-
ко для немногих.
Даже в изобразительном искусстве наступает конец эпохи оче-
ловечивания окружающей среды, основанного на чувстве симпатии
по отношению к изображаемому (эстетика вчувствования). Совре-
менный художник считает себя профессиональным солдатом искус-
ства. Высшей честью является для него полное отчуждение от изо-
бражаемого предмета, холодное отношение оператора. Природа
представляется ему абстрактной конструкцией, составленной из
кубов и цилиндров, или, согласно последней моде, из разнообраз-
ных округлостей. Даже изображая живые фигуры, он видит перед
собой лишь мертвую природу, nature morte. Таким образом, в обла-
сти искусства происходит своеобразный процесс обесчеловечива-
ния, как выразился популярный в Европе испанский философ Орте-
га-и-Гасет (вождь «Молодой Испании»).
Искусство буржуазной эпохи как бы завершило полный круг
своего развития. От абстрактных идеалов классицизма оно перешло
к страданиям и радостям живых людей, отстаиванию прав человека
в художественной форме. Но этот человек был только персонифика-
цией частной собственности. В эпоху подъема буржуазной демокра-
тии эта узость общественных условий скрыта под оболочкой гуман-
ной тенденции прогресса. В эпоху империализма стихийная хищни-
ческая основа буржуазного общества выступает наружу, и права
человека находят свое логическое завершение в праве на бесчело-
вечность.
Буржуазное общество как бы утратило свои прежние рациональ-
ные границы, оно возвращается к естественному состоянию. Но это
не мирное и добродушное естественное состояние просветителей
XVIII века. Для них законы морали и права человека так же не-
преложны, как отношение площади круга к произведению его ра-
диусов. Эпоха империализма означает полное и неограниченное
господство Status naturalis Гоббса, самой ожесточенной войны всех
против всех.
В международной борьбе империалистических клик находит
себе объяснение основной гераклитовский тон современной буржу-
103
азной литературы. Борьба за монополию, за новый раздел уже за-
крепленной добычи, неравномерность этой борьбы, постоянный
подъем снизу новых, еще более беззастенчивых хищников, борьба
этих «новаторов» с теми, кто может сказать о себе beati possidentes —
вот новый завет буржуазного мира. Отсюда стремление вернуть
человечество ко временам героической жестокости, трагическим эпо-
хам мировой истории, когда борьба страстей еще не укладывалась
в общие нормы права и общество не обременяло себя моральной
цензурой или эстетикой идеала.
Но рядом с этим брожением в рамках старого строя полоса им-
периализма рождает историческое столкновение другого порядка.
Задыхаясь в тисках колоссально растущих противоречий, капита-
лизм создает невозможные условия жизни для многих миллионов
104 своих белых и цветных рабов. Вместе с тем он практически подтал-
кивает их к международным объединениям против враждующих
между собой капиталистических сил. Империализм — это время,
когда прогрессивные возможности буржуазного общества уже ис-
черпаны и вера в вечные ценности, унаследованные от периода
национально-освободительной борьбы, находится на ущербе, когда
массы не могут больше жить по-старому и сами правящие классы
вынуждены применять новые методы господства.
Мировая война и Октябрьская революция привели в движение
громадные слои народа. Началась эра более глубокой, реалисти-
ческой демократии, основанной не на юридических гарантиях, а на
политическом подъеме пролетариата в его союзе со всем угнетен-
ным большинством человечества. В центре этой новой эпохи стоит
уже не буржуазия, а рабочий класс.
Этот исторический факт отражается во всех областях буржуаз-
ной общественной мысли и погружает ее в атмосферу заката. Про-
тиворечия политического господства современной буржуазии иск-
ренне воспринимаются ее мыслящими представителями как вечный
дуализм человеческой культуры. В теории и практике искусства,
естествознании и психологии, в политике и праве, философии и со-
циологии — повсюду обобщающее мышление буржуазного человече-
ства как бы расколото надвое и стоит перед решением. Это харак-
терная особенность третьей, последней ступени истории обществен-
ной мысли капиталистических классов.
С одной стороны — спокойствие вечных истин, под сенью кото-
рых так относительно мирно складывалась жизнь отцов и дедов,
с другой стороны — практическая необходимость действовать в
рамках современных сложных жизненных конфликтов и защищать
старое новыми средствами. Сохранить ли и в какой именно мере
сохранить традиции солидного либерально-буржуазного XIX сто-
летия или отдаться «дионисийскому» безумию реакционных аван-
тюр?
Вот противоречие, которое в образе неотвратимого, трагиче-
ского рока постоянно витает перед умственным взором литератур-
ных представителей реакции.
Здесь еще раз является перед нами старая тема буржуазного
мышления — тема борьбы между идеалом и жизнью. Мы как будто
присутствуем при возрождении былой антитезы, спора идей времен
Винкельмана и Лессинга, однако в новой, более крайней и пара**
доксальной форме. Современная буржуазная мысль постоянно ри-
сует конфликт между буйным многообразием жизни и мертвым спо-
койствием идеальных норм. «Только непродуктивные народы созда-
ют себе идеал»,— говорит известный уже нам Карл Шефлер.
Эта универсальная и допускающая многие оттенки «философия
жизни» является одним из популярных продуктов буржуазной идео-
логии, входящих в состав того, что немцы называют духовной
структурой политических партий. Она образует как бы общий язык
их внутреннего спора, происходящего в клубе господ. Поддержи-
вать ли власть идеальных ценностей над человеком или отказаться
от условностей и норм цивилизации? Таков вопрос.
В наши дни буржуа ощущает, что роль носителя культуры, ко-
торую он прежде с гордостью себе приписывал, становится ему
в тягость. Устами своих пророков он требует «этики без самоотре-
чения». Его привлекает невинная радость сына природы, давящего
свою жертву не смущаясь угрызениями совести, и ему хочется
испытывать свои переживания просто, без стеснения, не заботясь
даже о соблюдении собственного, однажды узаконенного порядка.
Неистовое желание любить себя во плоти, как проповедовал некогда
Штирнер, становится единственной заповедью современного сверх-
человека.
Его душа желает освободиться от духа, который, в глазах Люд-
вига Клагеса, как Тамерлан, уничтожает мириады жизней; ирра-
циональная творческая воля художника не мирится с догматикой
эстетических норм, в то время как его «бессознательное» возмущает-
ся против рационализма. Словом, по всем направлениям жизнь
ищет свободы от стесняющей ее формы. В этом, как сказал уже
Зиммель, трагический конфликт современной культуры.
Так или иначе кризис всех общественных норм старого куль-
турного и прогрессивного капитализма — яркий факт современно-
сти. Один из корифеев новейшей философии культуры — Алоиз
Демпф — делает следующее интересное признание: «Буржуазный
мир,— говорит он,— осужден на критическое бессилие именно в
силу своей связанности защитой существующего порядка. Разум
(ratio) не может больше давать ему абсолютных норм, ибо борьба
за существование стала для него иррациональным решением, кото-
рое приносит с собой действительность и, следовательно, может
вынести наверх и его собственного противника» *.
Вот почему властители дум современной буржуазной интелли-
генции все чаще обращаются к иррациональному, стихийному, бес-
сознательному— к мистической благодати темного бога Диониса.
105
* Dempf A. Kulturphilosophie.— Handbuch der Philosophic, hrsg. von Baumler
und Schrdter, 1932, Lief. 36, S. 107.
Никогда еще в сознании господствующих классов не было так раз-
вито чувство хтонических глубин под сводами официального днев-
ного мира классового общества. Чем сильнее движение масс, тем
более прозрачные намеки на подземных богов, на бунтующие силы
хаоса вынуждены делать литературные представители этого мира.
Но тем более сами они опускаются в царство «инстинктивного, бес-
форменного, демонического, полового, экстатического, хтонического
и т. д.», как об этом повествует Розенберг.
Перед лицом поднимающегося врага буржуазия связывает свою
судьбу с анархией, силами разложения. Борьба против всяких ка-
нонов и норм, стесняющих иррациональную стихию, приобретает
тем самым особый полемический привкус. Ясное, классическое,
правильное становится символом революционной дисциплины, под-
706 чинения частных интересов общим задачам демократической пуб-
личной власти. Вот основная причина того отвращения к ratio и
классической правильности форм, которым проникнуто современное
мышление капиталистического Запада.
Тенденциозная буржуазная литература всегда изображала ре-
волюционера в качестве личности, не сумевшей добиться могуще-
ства в жизни, неполноценной и отвергнутой в своих искательствах,
не принадлежащей к счастливой расе господ и потому вынужденной
удовлетворять свою злую память (ressentiment) в образах мститель-
ной фантазии или картинах тысячелетнего царства.
Но стоит лишь низшим классам протянуть руку к власти —
и маска удовлетворенного спокойствия сползает с объятой ужасом
физиономии прежнего господина. Каждая победа рабочего класса
приводит буржуазную аристократию в состояние неразрешимой
готической дисгармонии. По отношению к пролетарскому государ-
ству капиталистический мир полон затаенной злобы, неудовлетво-
ренности и злопамятства. Все эти рабские черты, которые, согласно
антропологии Ницше, присущи только низшим породам людей, бур-
но проявляются в самом господствующем классе буржуазного обще-
ства. Благородная простота и спокойное величие уже далеки от
него, преобладает общий тон беспокойства и активизма, переход от
идеалов устойчивости и порядка к демагогическим «революцион-
ным» эффектам.
Но, вынужденный придавать своим устремлениям видимость
шумного бунта против устаревших традиций («национальная рево-
люция», «консервативная революция», «революция справа»), бур-
жуазный мир начинает опасную игру. Противоречие между социаль-
ной демагогией и охранительным существом фашизма хорошо из-
вестно.
Такое же противоречие лежит в основе всей идеологии совре-
менной буржуазии. Если в рациональных нормах культуры бур-
жуазная мысль усматривает опасный намек на революционные тре-
бования, законы будущей пролетарской демократии, то, переходя
из области права в область силы, она чувствует перед собой еще
большую опасность.
Господство частной собственности столетиями основывалось на
соблюдении известных норм легальности и права. Расшатывая их
руками собственных телохранителей, имущие классы далеко не уве-
рены в том, каков будет конечный результат их реакционных экс-
периментов. Поэтому к восхвалению творческой дисгармонии готи-
ческого человека постоянно примешивается боязнь чрезмерного
развязывания дионисийских сил, которые могут повлечь за собой
все буржуазное общество в «пучину хаоса». Наиболее дальновид-
ные представители имущих классов отдают себе отчет в том, что
постоянно обостряющаяся борьба за место под солнцем ослабляет
общие позиции капиталистического строя. Они понимают, что реак-
ционное новаторство фашистских правительств, подобно действию
наркотиков, успокаивает, только разрушая основы организма. Фа-
шистская форма диктатуры капитала рассеивает буржуазно-демо-
кратические иллюзии масс и дает им жестокие уроки классовой
борьбы. Поэтому фашизм — это ultima ratio современной бур-
жуазии.
Но права выбора исторически осужденным классам не дано, и
в этом трагедия их положения. Отстаивая свои позиции при помощи
исключительных средств, буржуазный мир слишком близко подхо-
дит к самому краю пропасти. Отсюда постоянные колебания его
идеологического маятника от избытка побуждений к железной необ-
ходимости, ограничивающей этот избыток (по терминологии того
же Карла Шефлера). Отсюда внутренний спор между терпением
и нетерпением, опьянением и хладнокровием.
Нельзя ли остановиться где-то посредине между новаторством
и традицией? Старая мечта о среднем состоянии принимает для
современной буржуазии весьма осязательные и неотложные фор-
мы. Она означает теперь политическую эклектику — попытки соеди-
нить гражданскую войну против рабочего класса с «легальностью»,
подвиги штурмовых отрядов с «честным» судопроизводством тради-
ционной буржуазной юстиции, поворот к иррациональному с холод-
ным расчетом, другими словами — поиски синтеза готического на-
чала с классическим.
Картина современного состояния буржуазной идеологии была
бы неполной без этой особой черты — настойчивого стремления об-
уздать развитие дионисийской борьбы элементов наряду с пол-
ным признанием ее неотвратимости. Отсюда понятна другая черта
буржуазной философии империалистической эпохи — ее неутолимая
жажда новой догматики, новой прочной дисциплины ума, покоя-
щейся, однако, уже не на естественных законах разума и справед-
ливости, а на безразличной к этим критериям иррациональной
основе. В изобразительном искусстве этому соответствует тяготение
к новому стилю строгой формы, как это ярко сказывается, напри-
мер, в итальянском неоклассицизме Кирико, Фуни и других пред-
ставителей так называемого новеченто.
Более прагматическим выражением этих противоречий является
политика немецкого фашизма в области искусства. Соперничество
107
Аполлона и Диониса уже не относится здесь к философской мифо-
логии, оно непосредственно обнаруживает свое политическое зна-
чение. В период захвата власти национал-социалистическая партия
постоянно взывала к иррациональной творческой воле немецкого
народа, грозя уничтожить все устарелые «либерально-марксистские»
традиции XIX столетия. Но в тот момент, когда перед нацистскими
заправилами отчетливо выступила опасность «второй революции»,
правительство Гитлера поспешило внести в свою художественную
политику новый курс (возможность которого, разумеется, была за-
благовременно подготовлена в программных документах нацизма).
Одновременно с расправой над теми из своих сторонников, ко-
торые приняли всерьез социальную демагогию фашизма, национал-
социалистическое руководство начало широкую кампанию идеологи-
W8 ческой борьбы налево, причем некоторые, наиболее крайние
новаторские устремления в искусстве были объявлены попытками
«второй революции», а их сторонники — последователями Отто
Штрассера.
Главной причиной этого поворота к «традициям» было стремле-
ние доказать влиятельным кругам немецкого капитала, что нацио-
нал-социалистическая партия в состоянии не только возбуждать
массы несбыточными обещаниями, но и приводить их к «разуму»,
к немецкой дисциплине и строгости. С обычной для них легкостью
и размахом национал-социалисты объявили себя хранителями на-
следства от марксистского нигилизма и культурбольшевизма. Пар-
тия погромщиков и авантюристов, движимая естественным стрем-
лением к консолидации фашистского режима, объявила о своем
уважении к законно установленному порядку.
Здесь повторилось своеобразное явление, замеченное уже Марк-
сом. Наступает такой момент, когда «только воровство может еще
спасти собственность, клятвопреступление — религию, незаконно-
рожденность— семью, беспорядок — порядок!»* Так было уже
в эпоху Луи Бонапарта с его Обществом 10 декабря, состоявшим
из преступного сброда, так и сейчас — в обращении почтенных ка-
питанов индустрии к бандам погромщиков из гитлеровской черной
сотни.
Нечто подобное происходит в области искусства. Идеологи
нацизма берутся доказать, что один лишь бунт против классиче-
ской гармонии может еще спасти от разрушения великие традиции
классики. Мы сейчас увидим, что это значит.
В речи на тему «Революция в искусстве» главный специалист
по нацистской идеологии Розенберг изложил программу своей худо-
жественной политики следующим образом. Прежде всего он утверж-
дает, что с покрытым пылью классицизмом покончено. Искусство
Третьей империи не может быть возвращением к гуманистическим
традициям. «Это ясно из того, что наша эпоха стала трагической
и борющейся». Но значит ли это, что дух античной традиции умер?
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8. с. 214.
Нет, отвечает Розенберг. В его изображении греки — один из зеле-
ных побегов мощного древа германской расы. Они захватили с собой
в свои странствования частицу северной формирующей силы. Беда
греческого искусства заключалась в том, что оно должно было до-
пустить применение этого северного идеала красоты к особым усло-
виям Юга. «Этому способу выражения северной сущности,— про-
должает Розенберг,— конечно, следует предпочесть более подчерк-
нутую волевую струю специфически немецкого творчества, так что
никоим образом нельзя признать неправильным то, что последнее
в нашем роде экспрессионистично».
Отсюда, казалось бы, следует, что так называемая национальная
революция совпадает с постоянными бунтами против классических
традиций в искусстве эпохи импрессионизма. Однако употребление
понятия экспрессионизм для обозначения немецкой сущности в об-
ласти искусства не рекомендуется, и по следующим причинам. Но-
вое творчество германского народа не может породить искусство
экстаза. Напротив, в нем необходимо должны найти себе выражение
«строгость и простота» национал-социалистического движения. Тем
яснее сказывается, согласно тезисам Розенберга, близкое родство
истинно немецкого искусства с подлинным духом эллинской формы.
Здесь, разумеется, все очень прозрачно; нацисты любят пышные
аллегории, все у них что-нибудь значит. В этом обещании соеди-
нить экспрессионизм и традиции, иррациональное начало воли и
строгую форму ясно говорит о себе политика укрепления режима
на основе консолидации всех фракций правящей буржуазии (за
немногими исключениями), всех методов и путей поддержания ее
господства.
Речь Розенберга явилась сигналом для большой кампании на-
цистской печати за мифический новый немецкий стиль, преобразо-
ванный в духе реакционного эклектизма. Слишком горячим спор-
щикам, которых эта программа не убеждала, было предложено за-
молчать или готовиться к тому, что их обезвредят *.
Засим последовала речь самого Гитлера на специальном куль-
турном совещании в связи с мюнхенским съездом национал-социа-
листической партии. Перед избранной аудиторией, состоящей из
действительных хозяев германского государства в сопровождении
их свиты из ученых мракобесов, Гитлер объявил о начале нового
немецкого Ренессанса. Целью его доклада было доказать, что на-
ционал-социализм способен преодолеть уже известный нам вечный
дуализм искусства. «Только из прошлого и настоящего в равной
мере складывается будущее». Новое немецкое искусство будет по-
добно античному по строгости стиля, ясности и целесообразному
направлению, но при этом оно не будет простым возвращением
к прежнему классицизму. Так говорит новый Заратустра.
Все это, конечно, относится к обычным фанфаронадам фашист-
ских вождей и замечательно только как проявление тех противоре-
109
* См. обо всем этом отчет «Volkischer Beobachter» 16—17 июля 1933 г.
чий, которые имеют для них нешуточное значение. С одной сторо-
ны — признание кризиса всех идеалов и норм прежнего устойчивого
буржуазного общества, с другой — желание во чтобы то ни стало
обуздать развитие событий, укрепив основы старого порядка. Каким
образом можно решить это противоречие? Только с помощью тех
шарлатанских обещаний, на которые не скупятся риторы и софисты
национал-социалистической партии.
И тем не менее их бахвальство не так уже далеко от более респек-
табельных форм современной буржуазной мысли. Фразеология на-
цистских меценатов повторяет общую схему аполлоновского и
дионисийского начал, оказавшуюся товаром широкого потребления
буржуазной идеологии последних десятилетий. Мы уже знаем, что
она коренится в самой практике буржуазного миропорядка. Собст-
JJO венно говоря, уже у Ницше наряду с критическим анализом морали
Сократа есть возвращение к Аполлону с подчеркнуто аристократи-
ческим оттенком. Классическая ясность формы выступает в «его си-
стеме не только как продукт вырождения, но также как необходи-
мый принцип единства, способного обуздать восточный оргиазм
(крайнее и отрицательное выражение дионисийского начала).
И точно так же враг, с которым борется Ницше, выступает у него
то в образе «банального Винкельмана», то в виде иудеохристиан-
ского нигилизма и разложения строгих форм классического искус-
ства. Таким образом, этот политический миф уже в самом нача-
ле носит двусмысленный характер.
Ницше писал свои произведения во второй половине XIX сто-
летия. С тех пор буржуазная философия выдвинула немало новато-
ров, сумевших придать этим противоречиям более современную
форму. Но скрытое тяготение к ницшеанизированной античности
можно проследить во всей буржуазной мысли последнего пятидеся-
тилетия. Оно существует и в настоящее время, особенно в кругах,
близких к известному немецкому поэту Стефану Георге*.
Было бы странно, если бы в этих блужданиях вокруг проблемы
классицизма имя Винкельмана осталось незатронутым. Еще Уолтер
Патер, близкий во многом к идеям Ницше, посвятил Винкельману
восторженную статью**. Проблема, которую ставит Патер, нам
уже знакома: можно ли соединить стиль благородной простоты и
спокойного величия с пестрым освещением современной жизни?
Можно ли из современных сложных жизненных противоречий най-
ти дорогу к пластическому идеалу эстетики Винкельмана? Это
вечная проблема культуры, отвечает Патер, проблема, которую нам,
гражданам современного мира с его противоречивыми, запутанны-
ми интересами, решить гораздо труднее, чем древним грекам.
«Винкельман воплощает вечную проблему культуры — уравнове-
шенность, тождество с самим собой, законченную греческую пла-
стику».
* Умер в 1933 году.
** См.: Патер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. М.. 1912.
По мере того как противоречия современного мира становятся
более глубокими и запутанными, искомое тождество принимает все
более таинственный характер. Для некоторых современных поклон-
ников пластического покоя сам Винкельман уже не является про-
светителем и рационалистом. Все чаще встречаются истолкования
его идей в духе созерцательной мистики. Так, Эрнст Бергман пи-
шет об аристократизме Винкельмана и делает его предшественником
Шопенгауэра («последовательнейшего винкельманианца»). Аль-
брехт Шефер в полемике с Воррингером и Шефлером доказывает
необходимость слияния готического элемента с аполлоновским на-
чалом формы, которая должна преодолеть художественную болез-
ненность западного человека. Само собой разумеется, что благород-
ная простота и спокойное величие Винкельмана приобретает
у Шефера другое значение. Это теперь уже не отвлеченный идеал,
основанный на признании общезначимых границ искусства, а ми-
стическое жизнепроявление личности Винкельмана *. Для полноты
картины сошлемся на один отечественный источник. Еще Вячеслав
Иванов обнаружил в творческом принципе Винкельмана синтез пер-
воначального субстрата германо-кельто-славянской души с чистой
эллинской формой **.
Все эти толкования находятся в очевидном противоречии с об-
щим характером взглядов Винкельмана. Чтобы пережить род реак-
ционного возрождения, подобно тому как это случилось с романти-
ками, Бахофеном (и отчасти Гегелем), Винкельман слишком мало
национален и слишком отрицательно относится к религии. Но об-
щая идея благородной простоты и спокойного величия — эта глав-
ная мысль доктрины классицизма — придает имени ее основателя
значение символа, который многое говорит каждому мыслящему
представителю уходящего общественного порядка. Именно пласти-
ческого покоя недостает современному буржуазному строю, и мечта
о его достижении является одной из многих реакционных утопий,
которые в изобилии рождает эпоха империализма.
Таким образом, судьба идейного наследства Винкельмана по-
своему отражает эволюцию буржуазной общественной мысли. Мы
проследили в общих чертах историю одной проблемы, начиная с
революционной эпохи XVIII века и кончая общественной драмой
наших дней, когда эта история переходит в «трагический конфликт
современной культуры».
У Гёте есть следующий замечательный афоризм («Kunst und
Altertum», 1826): «Борьба старого, пребывающего, устойчивого с
развитием, образованием и преобразованием всегда остается одной
и той же. Из всякого порядка возникает в конце концов педантство,
и, чтобы от него освободиться, этот порядок ломают; так проходит
* См.: Bergmann Е. Das Leben und die Wunder J oh. Winckelmanns. Mime hen,
1928, S. 20, 35; Schaffer A. Dichter und Dichtung. Lpz., 1923; Aron E. Die
Wiedererweckung des Griechentums bei Winckelmann und Herder. 1929.
** См.: История западной литературы. Под ред. Ф. Д. Батюшкова. М.,
1912—1914.
111
некоторое время, пока появляется сознание того, что нужно снова
создать порядок. Классицизм и романтизм, принудительные ассо-
циации и свобода промысла, закрепление и раздел земли: всегда
один и тот же конфликт, который в конце концов порождает новый.
Самым умным со стороны правителей было бы так умерять эту
борьбу, чтобы дело обошлось без уничтожения одной из сторон; но
этого людям не дано, и бог, по-видимому, этого также не хочет».
Великий Гёте был прав и вместе с тем неправ. Порядок и бес-
порядок, покой и движение, благородная простота и спокойное ве-
личие в противовес бурным явлениям жизни — все это понятия,
относящиеся к вечным категориям действительности. Но поскольку
эти противоположности вечны, они не имеют того неразрешимого
характера, который придает им Гёте. Поскольку же оттенок траги-
112 ческого в них действительно присутствует, они не вечны, а истори-
чески обусловлены. Только в обществе, основанном на частной соб-
ственности, покой и порядок неизбежно принимают мертвый и от-
чужденный характер, господствуя в качестве консервативной силы
над живым развитием. С другой стороны — само восстание против
узости этих общественных норм, с точки зрения живого индивида,
принимает тот иррациональный оттенок и те лишенные разумных
границ стихийные формы, которые Ницше выразил в образе дио-
нисийского начала. Чем тяжелее бремя, тем более страшен бунт
подземных богов.
Пока прогрессивные силы капиталистического строя еще не были
исчерпаны, в борьбе между идеалом и жизнью было много истори-
ческой правды, много ценных культурных моментов. И сама эта
противоположность еще не приняла оттенок мистической фантасма-
гории. В основе духовного мира эпохи Просвещения лежали два
краеугольных камня демократической буржуазной идеологии: сво-
бодная индивидуальность, преследующая свои особые цели, и пред-
полагаемая одинаковость всех членов рода, закономерный порядок
самой природы. Частный интерес и равенство прав, различное и
общее в людях, оригинальное и типичное — вот круг понятий, в ко-
торых вращалась прогрессивная общественная мысль времен Вин-
кельмана и Лессинга. С тех пор многое изменилось.
Эпоха империализма углубляет до крайних пределов старые про-
тиворечия общественного бытия и сознания. На наших глазах «по-
рядок» свободной конкуренции превратился в «педантство» — пара-
зитическое господство монополий; мы видим наряду с этим, что
стихийная жизнь капиталистического способа производства приво-
дит к ожесточенной борьбе за место под солнцем и побуждает иму-
щие классы прибегать к самым зверским методам поддержания
своего господства. Мы видим также, что все это расшатывает тот
самый порядок, для укрепления которого приносятся гекатомбы
человеческих жертв. Отсюда новое, уродливое воспроизведение ста-
рого спора между отрицанием условностей и норм цивилизации,
с одной стороны, и возвращением к принципу классической строго-
сти и порядка — с другой.
Классицизм и романтизм, принудительные ассоциации и свобо-
да промысла — всегда один и тот же конфликт, который в конце
концов порождает новый, пока...
Но здесь бесконечно прав старый Гёте. Любые усилия правите-
лей не могут ослабить действие этих противоречий, и примирить
в утопическом среднем состоянии противоположные стороны от-
жившего строя людям не дано. Что же касается бога, то он явно
отвратил лицо свое от этой трагикомедии.
Только пролетарская культура социалистического общества,
основанная на уничтожении классов и пережитков капитализма, яв-
ляется подлинным решением современных противоречий.
1933
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО ГЕГЕЛЯ*
К столетию со дня смерти философа (1831—1931)
1
114 Во время одного из своих путешествий Гулливер попал на ост-
ров чудес, где среди множества умерших посредственностей ему яв-
ляются тени Гомера и Аристотеля. Проницательный англичанин
сразу заметил, что многочисленные издатели и комментаторы дер-
жатся вдали от великих людей древности. Они так обошлись с Го-
мером и Аристотелем, что им теперь стыдно встречаться с ними даже
в преисподней.
Это место из сатирического романа Свифта как бы нарочно при-
думано для душеприказчиков, издателей и комментаторов Гегеля.
Судьба литературного наследства великого немецкого философа
является лучшим примером того, как мало умела ценить своих ду-
ховных героев просвещенная буржуазия, как грубо и безразлично
обращалась она с драгоценным наследием ее классических деятелей.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель был, по известному выраже-
нию Розенкранца, осенней натурой. То, что он успел напечатать
при жизни, есть плод многолетней работы. Политические и фило-
софские взгляды Гегеля пережили длинный ряд изменений, следы
которых содержатся в рукописях и конспектах. Когда неожиданная
смерть прервала литературную деятельность философа, его архив
представлял собой обширное целое. Карл Розенкранц, которому
«школа» доверила составление биографии Гегеля, говорит о не-
скольких ящиках с рукописями **. Но по обычной для филологии
тех лет небрежности или по какой-нибудь другой причине, он не
оставил нам даже точной описи этих манускриптов. Как тщательно
сохранялись они в дальнейшем, показывает то обстоятельство, что
многие рукописи, цитированные Розенкранцем, в настоящее время
бесследно исчезли.
К числу навсегда утраченных документов относятся, например,
такие, как подробный комментарий к немецкому переводу Джемса
Стюарта — почти незаменимый источник для понимания взглядов
Гегеля в эпоху его перехода к примирению с буржуазной эконо-
мией. Утрачены также тетради, относящиеся к лекциям по филосо-
* Впервые опубликовано в «Литературном наследстве» (1932, кн. 2).
** См.: Rosenkranz К. G. W. F. Hegels Leben. Berlin, 1844, S. XI.
фии истории, которыми пользовались в свое время Эдуард Ганс и
Карл Гегель. Исчезли и другие материалы. Они пошли по рукам,
отправились вместе со своими владельцами в самые отдаленные ча-
сти света, погибли при пожарах (как, скажем, упомянутый ком-
ментарий к Стюарту или письма Гегеля к Борису фон Икскюлю)
и, наконец, были просто разорваны на части друзьями покойного,
из которых каждый хотел получить на память его автограф.
Но не только это беспощадное обращение с рукописями фило-
софа может напомнить сатиру Свифта. К столетней годовщине со
дня смерти Гегеля еще не существует вполне пригодного для науч-
ных целей собрания его сочинений. Дело в том, что произведения,
опубликованные самим философом, представляют собой не более
половины того, что обычно относят к сочинениям Гегеля. Ряд чрез-
вычайно существенных отраслей гегелевской системы, например
философия истории, история философии, эстетика, сохранился лишь
в записях слушателей и в виде отдельных тетрадей и заметок, по
которым Гегель в разное время на разных ступенях собственного
идейного развития читал свои лекции. Друзья и ученики Гегеля,
выпустившие в 1832—1840 годах первое издание его сочинений
(18 томов), пользовались этими материалами самым некритиче-
ским образом. Их целью было содействовать укреплению господ-
ства гегелевской школы в немецких университетах. А для этого
нужен был канонический Гегель, лишенный противоречий своего
развития, ибо в его развитии, как хорошо знали друзья покойного,
бывали и- революционно-демократические ступени. Издатели сочи-
нений Гегеля нашли возможным смешать тетради, относящиеся
к периодам, отделенным иногда 25-летним промежутком времени,
сюда же присоединили они записи слушателей и свои собственные
воспоминания.
Все это подверглось затем редактированию, причем выбрасыва-
лись и присоединялись целые отрывки, чтобы в конце концов по-
лучился искомый синтез, в котором нуждалась «школа». Такая
система работы имела, конечно, свою программу, свой идеал. В осно-
ве ее лежало условное изображение всей биографии Гегеля, его
отношения к правительствам, его университетской политики и всего
его образа жизни. Из Гегеля сделали идеальный тип немецкого
ученого, который в противоположность людям политической стра-
сти всегда спокойно следовал одному, заранее избранному пути, без
всяких переломов и скачков, без внутренней борьбы и противоречий
с окружающей средой.
Эта тенденция намечена уже в первой биографии Гегеля, напи-
санной Карлом Розенкранцем. «Наибольшая трудность моей рабо-
ты,— говорит автор этого сочинения,— была заложена в своеобра-
зии основной сущности гегелевского характера, которая состояла
в постоянном всестороннем и постепенном развитии. Его творчество
было тихим движением его ума, непрерывной поступательной рабо-
той всего его существа. Его биография лишена поэтому обаяния
больших контрастов, страстных прыжков и только благодаря напря-
115
женной значительности ее героя избавлена от полной монотонно-
сти» *.
С тех пор как была написана работа Розенкранца, многие тол-
кователи Гегеля возвращались к подобной аргументации. Подчерк-
нуто мещанский образ жизни философа, его стремление «соперни-
чать в немецкой серьезности» с прусской бюрократией, наконец,
просто педантичный характер всей философии Гегеля казались до-
статочной гарантией ее благонадежности. Против представления
о том, что взгляды Гегеля, по крайней мере В молодости философа,
имели революционный характер, еще в настоящее время пишут
объемистые трактаты. Таково, например, огромное по размерам
и заключенному в нем материалу, но тенденциозное сочинение Тео-
дора Л. Геринга. Автор этой книги — профессор Тюбингенского
776 университета, а в этом городе, по преданию, существовал револю-
ционный кружок, основанный Гегелем и друзьями его юности. В про-
тивовес столь неудобному историческому воспоминанию и в полном
противоречии с истиной, тюбингенский профессор выдвигает тезис
о природном консерватизме Гегеля, стараясь обосновать этот тезис
при помощи биографии своего героя. «Гегелевская «революция»,—
пишет Геринг,— всегда была реституцией и беспрепятственной эво-
люцией истинной живой сущности всех вещей» **.
Если так изображают Гегеля его поклонники, то нет ничего
удивительного в том, что писали многочисленные враги философа.
Гегель был представителем классической ступени в развитии миро-
воззрения буржуазного общества. С беспощадным научным стои-
цизмом изображает он противоречия христианско-буржуазного
мира, пытаясь решить их в идеалистическом культе государства.
Как в Англии против Рикардо, так в Германии против Гегеля вы-
ступала филантропическая оппозиция. Немецкие либералы, подго-
товившие примирение отечественной буржуазии с помещичьим зем-
левладением, находили философию Гегеля недостаточно гуманной,
а его учение о гекатомбах, приносимых человечеством в жертву
прогрессу, о мировом духе, ведущем свое дело еп gros,— слишком
жестоким и безрадостным. Читающей публике они доносили на
сервилизм Гегеля, на отрицание им индивидуальности и свободы;
правительства, напротив, пугали призраком Гегеля — атеиста и
революционера.
В этих нападках на гегельянство немецкие либералы, группиро-
вавшиеся вокруг энциклопедии Роттека-Велькера, соприкасались
с ученой дружиной политического консерватизма. Знаменитый
Юлиус фон Шталь также считал, что гегелевская система дает
слишком мало простора индивидуальной свободе на земле и божест-
венному произволу на небе. Вообще идеологи свободы воли, не огра-
ниченной никакой конституцией, и трубадуры свободной торговли
выступали против Гегеля солидарно.
* Rosenkranz К. G. W. F. Hegels Leben, S. X.
* * Haering Th. Hegel. Sein Wollen und sein Werk. Lpz.— Berlin, 1929, Bd. 1,
S. 285.
Революция 1848 года, в которой немецкая буржуазия утратила
свои радикальные порывы, но приобрела высокую конъюнктуру, по-
ложила конец господству умозрительной философии и открыла эру
позитивизма. В 50-х годах XIX столетия Юлиан Шмидт и Рудольф
Гайм объявили философию Гегеля достоянием истории. Полное
пренебрежение к спекулятивной философии считалось в течение
всего последующего пятидесятилетия признаком хорошего тона.
Само собой разумеется, что о каком-нибудь исследовании и систе-
матической публикации литературного наследства Гегеля в этот
период не могло быть и речи. Та нищенская эклектическая похлеб-
ка, по выражению Энгельса, которая преподносилась тогда в не-
мецких университетах, не оставляла места для подобных интересов.
В последнем счете единственными людьми, сохранившими в это
время лучшие традиции Гегеля, были именно Маркс и Энгельс.
Как мало понимали их в этом отношении даже близкие соратники,
например Вильгельм Либкнехт, показывает следующий эпизод,
следы которого были тщательно вытравлены Бернштейном в первом
издании переписки Маркса и Энгельса.
Когда «Крестьянская война» Энгельса печаталась в «Volkstaat»,
Вильгельм Либкнехт снабдил ее подстрочными примечаниями, ко-
торые привели Энгельса в бешенство. Особенное раздражение вы-
звало у него примечание Либкнехта к слову «Гегель». И не слу-
чайно: примечание содержало обычные либеральные нападки на
Гегеля, а эта музыка была слишком хорошо знакома основателям
марксизма. «По поводу Гегеля,— пишет Энгельс Марксу 8 мая
1870 года,— этот человек делает следующее примечание: «Более
широкой публике известен как открыватель (!) и апологет (!!)
королевско-прусской государственной идеи» (!!!). На этот раз я
высказал ему всю правду и послал для опубликования заявление,
выдержанное при данных условиях в максимально мягких тонах.
Болван, долгие годы беспомощно топтавшийся вокруг смехотворного
противоречия между правом и силой, напоминая пехотинца, которо-
го посадили на бешеную лошадь и заперли в манеже,— этот невеж-
да бесстыдно рассчитывает разделаться с таким парнем, как Гегель,
одним словом «пруссак» и при этом вводит в заблуждение публику,
которая может подумать, что это якобы сказал я. С меня теперь
хватит. Если Вильгельм не напечатает моего заявления,., то я за-
прещу дальнейшее печатание. Лучше совсем не печататься, чем та-
ким образом благодаря Вильгельму прослыть ослом» *.
Что именно либеральный характер примечания Либкнехта на-
влек на него гнев обоих основателей марксизма, видно из ответного
письма Маркса от 10 мая: «Я ему написал, что если он о Гегеле
способен лишь повторять старые глупости Роттека-Велькера, то
пусть лучше держит язык за зубами. Это он называет «на скорую
руку разделаться с Гегелем несколько бесцеремонным образом
и т. д.». И если он пишет нелепости в примечаниях к статьям Эн-
777
* Маркс K.t Энгельс Ф. Соч., т. 32, с. 413—414.
гельса, то «Энгельс может же (!) сказать более развернуто (!!)».
Этот человек действительно слишком глуп» *.
Не прошло и пяти лет после смерти Энгельса, как старые глу-
пости Роттека-Велькера снова выплыли на поверхность в социал-
демократической литературе. Эдуард Бернштейн в своих «Предпо-
сылках социализма» изобразил в качестве главной причины грехо-
падения Маркса и Энгельса их историческую связь с Гегелем. Нео-
кантианство, демократическая ветвь которого (идущая от
Ф. А. Ланге) уже давно искала пути к рабочему движению, каза-
лось Бернштейну и его сподвижникам более достойным сближения
с марксизмом. Кант в противоположность Гегелю надолго сделался
теоретическим святым II Интернационала. И это понятно. Учение
Канта о бесконечном прогрессе к недостижимому идеалу было удоб-
JJ8 нее для обоснования либерально-реформистского руководства рабо-
чим движением.
В настоящее время положение радикально изменилось. Либера-
лизм уже не является господствующей идеологией образованных
классов буржуазного общества. Послевоенный кризис подточил
веру в бесконечный прогресс, идеалы формальной демократии, а
вместе с ними потерпели поражение неокантианство, позитивизм и
весь букет разнообразных гносеологических течений, еще недавно
самых модных и злободневных. На сцену выступили преимущест-
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 32, с. 415. Для отношения Либкнехта к
вопросу о Гегеле характерно следующее письмо его к Марксу, опубликованное
в «Vor warts» 14 ноября 1931 года. Оно написано, видимо, тотчас же по полу-
чении отповеди Энгельса, но еще до получения аналогичного письма Маркса.
«Среда, 14 мая 1870 г.
Дорогой Мавр!
Вчера я получил от Энгельса свински грубое письмо (на которое я отвечу
в таком же стиле) с заявлением, в котором он третирует меня как школьника
и которого я, конечно, не принимаю. Поистине несуразно поднимать такой шум
из-за какого-то беглого примечания о Гегеле. Что оно не Энгельсом написано,
поймет всякий, кто знает Энгельса, и никто из знающих Энгельса не заподо-
зрит его в святотатстве по отношению к святому Гегелю. Да и вообще лишь
немногие сочтут это за святотатство.
Я не получил такого образования, как Энгельс; прежде чем я успел одо-
леть теорию, я был брошен в гущу практики, и вот уже 22 года непрерывно
веду беспокойную жизнь, без минуты досуга. Что прн таких условиях я не изу-
чал Гегеля так основательно, как Энгельс, это ясно само собой, но н нисколько
не позорно для меня. И если я даже немножко презираю эту учебу, то Энгельсу
придется оставить при мне это мое частное мнение. Во всяком случае с его
стороны безответственно оскорблять меня нз-за такой ерунды, ибо он оскорбил
меня. Как только я напншу ответное письмо, я пришлю его тебе.
Что касается его заявления, то я оговорю, что примечания написаны не
Энгельсом. Этим он должен удовлетвориться, если не хочет вызвать скандала.
Я думал, что наконец-то у меня с вами все улажено и вдруг это письмо...
В области теории я уступаю первенство Энгельсу, но в области практики я
считаю себя немного более искушенным, чем он.
Сердечные приветы тебе и твоим.
Твой верный Library (Либкнехт)
Моя жена благодарит за любезные поздравления. Когда я буду крестить
малыша, то дам ему твое имя. Ведь ты не возражаешь? Это было решено тот-
час же после его рождения».
венно вопросы политики и права, возникли модные поиски «новой
метафизики». В этой связи буржуазная мысль вспомнила о Гегеле,
а вслед за ней Заговорили о Гегеле и литературные представители
нынешнего «социализма».
Вожди немецкой социал-демократии были бы чрезвычайно
удивлены, если бы четверть века назад им сказали, что на столет-
нем юбилее со дня смерти великого идеалиста социал-демократи-
ческий прусский министр Гримме официально заявит: «Гегель —
это живейшая современность». Философский псевдоклассицизм,
именуемый возрождением Гегеля, есть явление новое, в нашей ли-
тературе еще недостаточно освещенное. С поразительной быстротой
гегельянство вновь выступило на первый план в немецкой — и не
только немецкой — идеалистической философии. Даже такие кори-
феи кантианства, как Риккерт, высказывают сегодня готовность //Р"
к развитию в новом направлении.
Неогегельянцы образовали Международный союз (Internationa-
ler Hegel-Bund), основной целью которого являлось «содействие
изучению философии в гегелевском духе». 19—20 октября 1931 года
в Берлине состоялся второй конгресс этого нового союза, посвя-
щенный столетию со дня смерти философа. Газеты печатали подроб-
ные отчеты о конгрессе, на книжном рынке появилось много новых
работ с именем Гегеля на титуле. Съезд прошел в торжественной
обстановке при участии всевозможных чинов и официальных пред-
ставителей государственной власти.
Что означает этот новый период в истории гегельянства и что
принесло с собой оживление интереса к Гегелю в смысле изучения
его литературного наследства?
2
Ружья мещане хватают.
Попы в набат ударяют.
Государства морального существо,
В опасности тяжкой — имущество.
Гейне
Говоря кратко, современное «возрождение» гегелевской филосо-
фии имеет три основные причины. Наиболее глубокой и общей из
них является сама эпоха империализма. Исторический поворот,
связанный с наступлением этой эпохи, вызвал соответствующие из-
менения в идеологической структуре буржуазного общества. Фило-
софские течения, подобные неогегельянству, представляют собой
только симптомы этих материальных и духовных процессов.
В период так называемой свободной конкуренции господствую-
щие идеалы буржуазного общества хорошо выражались формулой
Маркса: «Свобода, равенство, собственность и Бентам». Им соот-
ветствовала доктрина невмешательства государства в игру эконо-
мических интересов, идея двух истин — политической и хозяйствен-
ной, двух не соприкасающихся друг с другом сфер — формального
равенства и мира неравных частных лиц. Эти сферы были так же
принципиально различны с точки зрения либерализма XIX века,
как различны у Канта легальность и моральность.
Эпоха империализма сделала старую догму непригодной в ка-
честве идейного оружия буржуазии: «Монополии, олигархия, стрем-
ления к господству вместо стремлений к свободе, эксплуатация все
большего числа маленьких или слабых наций небольшой горсткой
богатейших или сильнейших наций — все это породило,— по словам
Ленина,— те отличительные черты империализма, которые застав-
ляют характеризовать его как паразитический или загнивающий
капитализм» *. Либерально-манчестерские доктрины отступили на
120 задний план, превратившись в ветхий завет буржуазного общества.
На смену им пришли воззрения, открыто провозглашающие и оправ-
дывающие стремления к господству вместо стремлений к свободе.
В империалистических странах буржуазная демократия завершила
свое превращение в лживую фразу, прикрывающую неограниченное
господство олигархии банков и промышленности. Поэтому могла
получить широкое распространение антидемократическая и анти-
либеральная фраза, назначение которой — подчинить интересам
правящего класса само разочарование масс в буржуазной демокра-
тии. Появились буржуазные критики либерализма и формальной
демократии **.
В конце XIX и в первом десятилетии XX века это течение вы-
ступало еще в качестве оригинального достояния некоторых дека-
дентствующих одиночек и свое полное развитие получило лишь
в послевоенное время в идеологии фашизма. Красноречивую крити-
ку манчестерства с точки зрения приукрашенного социалистически-
ми фразами государственного капитализма можно найти также у
представителей умеренного крыла современной буржуазии и социал-
демократии. Этот духовный товар встречается теперь на каждом
шагу в повседневной политической литературе.
Но не следует забывать, что новые пророки, обязанные своим
успехом эпохе империализма, «пришли не для того, чтобы отверг-
нуть закон, а для того, чтобы его подтвердить». Они вовсе не со-
бирались углублять свою критику либерализма до отрицания его
основ — капиталистической частной собственности и государствен-
ной власти буржуазии. С этой точки зрения интересны слова Гер-
мана Глокнера в его программной для немецкого неогегельянства
статье «Кризисы и перемены в истории гегельянства». «Ничто не
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 27, с. 422.
** Разумеется, корни этих течений уходят в XIX столетие. Вспомним хотя
бы Бруно Бауэра, оказавшего влияние на Ницше. В книге Ханса Файхингера
«Neitzsche als Philosophy (Langensalza, 1930) имеется интересное указание на за-
бытое теперь сочинение К. Теод. Гродека «De morbo democratic©» («О демокра-
тической болезни») 1849 года. Идеи Гродека также сыграли свою роль на пути
к ницшеанству.
должно быть утрачено, все принципы — следовательно, также и
принципы XIX столетия — должны быть сохранены!» *
Но однажды причислив себя к охранителям принципов XIX сто-
летия, представители новых течений применяют другие методы,
провозглашают иные доктрины. Апология силы и проповедь актив-
ного вмешательства государства в хозяйственную жизнь сменили
идеал договорных отношений и веру в стихийный разум биржи.
Через всю буржуазную литературу последних тридцати лет про-
ходит постепенно усиливающаяся тенденция идеализировать могу-
щественное национальное государство, обуздывающее противоречия
интересов и подчиняющее себе экономику.
Эти новые тендЛции можно проследить и в области филосо-
фии. Во времена старого либерального капитализма идеологические
составные части класса буржуазии (по выражению Маркса) были
одержимы духом критицизма и скепсиса. Их теоретико-познава-
тельный критицизм способствовал превращению всех жгучих со-
циальных проблем в неразрешимые антиномии, с отдаленной, но
часто заметной целью подорвать авторитет таких «догм», какой,
например, для культурного и чуждого метафизики буржуа был
социализм. Эта точка зрения видела своего наследственного врага
в философии Гегеля, одного из последних «догматиков» господства
всеобщего над единичным, государства над частной жизнью.
В империалистическую эпоху критика Гегеля в духе либерализ-
ма выходит из моды. Гигантские государственные образования, во-
оруженные до зубов и представляющие интересы монополистиче-
ских групп, нуждаются в подогревании политического идеализма
в массах. Они нуждаются в новом догматизме, вере в иллюзорную
национальную всеобщность. Прежняя тенденция защиты частного
лица от посягательств государства, извлеченная либералами в каче-
стве урока из ранних демократических революций, уже не имеет
цены для господствующих классов. Они заинтересованы именно
в том, чтобы расширить сферу непосредственного вмешательства
государства в область экономики, оправдать открытое применение
государственной машины в исторической тяжбе буржуазии с рабо-
чим классом, этой частью, имеющей дерзость восставать против
целого. Отсюда перемена направления у философствующих пред-
ставителей современной буржуазной мысли.
Пытаясь прийти к самопониманию, они наткнулись на старую
критику либерализма и свободной конкуренции, которая получила
свое выражение в некоторых философских и политических теориях
эпохи утверждения буржуазного государства. К таким теориям, еще
сохранившим в себе отзвуки революционного террора, относится
и гегелевская идеализация государства, стоящего над буржуазным
обществом как сферой эгоизма и борьбы интересов. Конечно, этот
культ государства по своему историческому значению так же мало
походит на современную апологию stato forte, как ассоциация «ин-
727
* См.: Logos, 1924, XIII, S. 357.
дустриалов» в духе Сен-Симона — на корпоративные союзы Муссо-
лини. Но здесь есть сходство идеологической формы, необходимое
для фальсификации. Вот один из источников современного философ-
ского ложноклассицизма, неотделимого от всей атмосферы дема-
гогии и лжи, окутывающей действительные черты капиталистическо-
го общества эпохи его упадка. Первые шаги в сторону неогегельян-
ства, связанные с работами Дильтея в Германии, даже
хронологически совпадают с началом новой эпохи *.
Вторым источником возрождения гегельянства является пос де-
военный кризис капиталистической системы и развившийся на его
основе современный мировой экономический кризис. Один из наи-
более дальновидных представителей университетской Германии
Юлиус Эббинггаус следующим образом рисует послевоенную ситуа-
122 цию в области философии: «Война, длившаяся четыре с половиной
года, потрясающее человечество ощущение того, что почва, на кото-
рой оно существует, колеблется под ним, и вот грезится, что чего-то
не хватает, чего-то такого, что может укрепить эту колеблющуюся
почву. Грезится, что нечто должно быть доступно познанию как
необходимо истинное, г. е. доступно в возможном познании a priori.
Тут вдруг вспоминают о свысока третированном ранее «обоснова-
нии»; теперь оно находит себе спрос, теперь оно должно затыкать
дыры, поддерживать колеблющееся, создать новый фундамент для
рушившегося. Осмысленность, оглядка, подлинность — таковы вол-
шебные слова, которым покоряются все; посредством представления
о том, что человек еще никогда не приходил к своей собственной
основе, новые устремления ставят перед своими глазами необычайно
заманчивую награду. Потоки искателей золота, которым часто не
хватает необходимейших принадлежностей научного бытия, текут
через все страны света в поисках самородного металла. Но посмот-
рите: что бы ни нашел отдельный человек, он не может сделать из
этого никакого употребления. Как только он предлагает свою на-
* О связи немецкого неогегельянства с «идеями 1914 года» хорошо писал
воинствующий пастор Лассон в самый разгар мировой войны: «Гегель поднял
на новую ступень познание государства. Он учил пониманию сущности госу-
дарства, отношения единичного лица к государству, положения и призвания
единичного и государства в исторической связи человечества; тем самым оказал
самое решающее влияние на вызревание государственной идеи, пришедшей в
течение последних столетий к своему политическому существованию в Герма-
нии: «идеи 1914 года» восходят, без всякого сомнения, к гегелевскому пони-
манию истории и его учению о государстве. Если в современной мировой войне,
посредством которой враги Германии хотели преградить дорогу или свести на
нет проникновение в мир немецкого духа, если в этой войне вместо медленного
расширения происходит резкая германизация мира, если одна за другой миро-
вые державы, для того чтобы спастись от поражения, должны усвоить себе
немецкое понимание государства и государственных обязанностей его граждан
и насильственно навязывать своим народам это понимание, то мы не должны
забывать, как велик был вклад Гегеля в то, чтобы сделать это понятие госу-
дарства свободной живой собственностью немецкого народа, собственностью,
которая сейчас в ужасающем мировом пожаре оказывается самой высокой и
самой истинной» (см.: С. fit. F. Hegel. Die Vemunft in der Geschichte, hrsg. von
Lasson, Vorwort des Herausgebers (июнь 1917 г.).
ходку другим, раздается единодушный крик: «Это не то, что мы
ищем, это не золото, это не происходит из глубин» *.
Всеобщий идейный распад, отражающий хозяйственные и поли-
тические конвульсии буржуазного общества, является одной из
причин современных поисков «новой метафизики». Борьба с крити-
цизмом и скептицизмом, ведущаяся на страницах философских жур-
налов, в университетских аудиториях и на конгрессах, как две капли
воды похожа на политику восстановления доверия, проводимую
руководителями банков. Философия, в которой нуждаются сейчас
имущие классы,— это философия оздоровления, философия нацио-
нальной концентрации. И так как современное мощное государство
связано посредством регрессивной метаморфозы с государством
гегелевской философии права, то обращение к последней вытекает
из самой сути дела. Это становится совершенно ясным при чтении
актов первого гегелевского конгресса, изданных евангелистом Ге-
гель-бунда — Вигерсмой **.
Главный докладчик первого конгресса Юлиус Биндер сосредо-
точил свою критику на общественном эгоизме, господствующем, по
его мнению, во всех проявлениях нашего индивидуалистического
века. Этот индивидуализм Биндер рассматривает как наследство
либеральной Германии, а эпоху либерализма вообще — как период
распавшегося в себе духа, эпоху разложения и упадка. Напротив,
в современной действительности докладчик замечает симптомы
отрезвления. «Отчужденный дух снова начинает осмысливать са-
мого себя, делает первую попытку, если можно так выразиться, сно-
ва прийти к себе». Такова причина «нового пробуждения гегелев-
ского духа», являющегося духом «сосредоточенности, самоосмысли-
вания».
Посмотрим, что означает эта сосредоточенность. «Если Просве-
щение смешивало государство с буржуазным обществом,— продол-
жает Биндер,— а либерализм в эпоху Гегеля подчинял государство
этому обществу, как это имеет место и теперь там, где государство
рассматривается как простое средство для целей хозяйства, то Ге-
гель, напротив, показывает, что этим путем интерес единичного, как
такового, берется в качестве конечной цели и что отсюда следует,
что участие или неучастие в государстве зависит от желания еди-
ничного. Действительно, нынешняя политическая усталость, неза-
интересованность по отношению к государству, халатность в ис-
полнении гражданского долга есть только следствие этого
понимания, которое в конце концов ведет к откреплению хозяйства
от государства и тем самым к отнятию у государства его матери-
ального содержания». Но государство, как неустанно подчеркивал
Гегель, находится в «совсем другом отношении к индивиду, по-
скольку оно является объективным духом; сам индивид обладает
* Ebbinghaus. J. Ueber die Fortschritte der Metaphysik. Tubingen, 1931, S. 6.
** Verhandlungen des ersten Hegelkongresses von 22 bis 25 April 1930 im
Haag. Im Auftrag des Intemationalen Hegelbundes, hrsg. von B. Wigersma. Tubin-
gen— Haarlem, 1931.
123
объективностью, истиной и нравственностью лишь постольку, по-
скольку он является его частью». Таким образом, «возрождение»
гегелевского духа несет с собой примат государства над частным
интересом.
Доклад Биндера всецело проникнут этой идеей, которая в былые
времена принадлежала не только Гегелю, но также Робеспьеру
и Бонапарту. Само собой разумеется, что в устах современных ге-
гельянцев она имеет совсем другой, глубоко реакционный смысл.
Критика частного интереса, которой предаются теперь гегельян-
ствующие профессора, нисколько не угрожает спокойствию имущих
классов. Нападки на индивидуализм и эгоизм, требование подчине-
ния отдельного лица всеобщему — все это не выходит за пределы
тех мер вмешательства политического государства в буржуазное
124 общество, которые применяет на практике любое империалистиче-
ское правительство (например, ограничение вывоза девиз и т. п.).
Более того, как уже говорилось выше, эта критика общественного
эгоизма может быть с удобством направлена против рабочего клас-
са, отказывающегося приносить жертвы Молоху государства.
Что именно классовый интерес пролетариата является главным
объектом критики Биндера, показывают его нападки на марксизм
и коммунизм. Следуя старой декадентской манере, он рассматри-
вает марксизм как разновидность индивидуалистического либераль-
ного мировоззрения. «Марксистское учение о государстве как ору-
дии власти в руках господствующего класса есть порождение этого
общественного субъективизма. Никакая теория, которая подобно со-
временному либерализму и демократизму имеет своей основой
субъективизм, никогда не может вступить в действенную борьбу
с этим учением».
В качестве антитезы Биндер выдвигает гегелевскую идею госу-
дарства. «Совершенное единство субъективного и объективного духа
и действительность свободы есть государство. Но это государство
не есть просто предмет единства, оно не есть также простой кол-
лектив, но некая «универсальность» самостоятельных частей, кото-
рые в своей единичности являются действительностью целого».
И для того чтобы не осталось ни малейшего сомнения в том, что
этот абстрактный «универсализм» при всем своем отличии от либе-
ральных идеалов является в то же время крайней противополож-
ностью коммунистической общности интересов, докладчик пояс-
няет: «Коллективизм есть только форма индивидуализма, и он не
имеет ничего общего с универсализмом».
То, что профессор Биндер называет универсализмом, социал-де-
мократический прусский министр исповеданий Гримме именует об-
ществом, организованным на товарищеских началах. В приветствен-
ной речи, обращенной ко второму конгрессу гегелевского интерна-
ционала, Адольф Гримме сказал: «Гегель — это живейшая
современность, ибо он подчеркивает примат всеобщего, государства
над индивидом. Государство было для Гегеля высшей нравствен-
ной силой общества, организованного на товарищеских началах».
Здесь тот же идеал мощного государства угадывается под социа-
листической фразой о товариществе, подобно тому как в статье
Гримме «Живой Гегель» капиталистическая программа оздоровле-
ния выступает под именем планового хозяйства*. Таким образом,
при всех возможных оттенках и уклонениях от общего типа примат
всеобщего над индивидом, вдохновляющий реакционных профессо-
ров и социал-демократических министров, есть не что иное, как
философский псевдоним современного буржуазного государства, го-
сударства железной пяты, от которого господствующие классы ждут
решительных действий против индивидуализма. Первым проявле-
нием такого антигосударственного индивидуализма является потреб-
ность рабочего жить, иметь пищу, жилище и все, что может обес-
печить ему сопротивление мнимой всеобщности государства.
Отсюда видно, что в современных условиях политический идеа-
лизм Гегеля служит орудием борьбы с коммунистическим движе-
нием. Это с элементарной ясностью вытекает из широкого распро-
странения гегельянства в фашистской Италии. Политическое
учение Гегеля является здесь как бы официальной доктриной. Вер-
ховный глава итальянского гегельянства Джованни Джентиле сам
в течение некоторого времени занимал пост министра просвещения
в правительстве Муссолини. Знаток итальянского фашизма и его
буржуазный критик Людвиг Бернгард следующим образом рисует
политические корни неогегельянского течения в Италии: «На пер-
вой, так сказать наивной, ступени фашистская доктрина состояла
просто-напросто из одной, образованной по принципу антитезы,
формулировки своего отношения к политическому либерализму. По-
литический либерализм был противоположностью, от которой диа-
лектически развивалось фашистское учение. Умственные ходы на
первой ступени заимствованы из учения Макиавелли. Сильное го-
сударство, state forte, как единственно жизнеспособное, противопо-
ставляется либеральному государству, являющемуся государством
слабым, разорванным. Основные понятия либерализма, каковы сво-
бода, воля народа, демократия, самоуправление, осмеиваются как
бессодержательные. Характерными для этой ступени являются про-
граммные заявления Муссолини в 1922 и 1923 годах, особенно его
противопоставление forza и consenso (силы и согласия) в официаль-
ном фашистском журнале «Guerarchia». После того, однако, как
горький опыт 1924 года показал ему, что жестокие вещи опасно вы-
ражать жестокими словами, обнажая произвол, диктатор стал при
усилении всех средств насилия искать диалектической маскировки».
Что же дальше?
«И вот наступил золотой век философов, этих певцов фашиз-
ма,— продолжает Бернгард.— Джованни Джентиле стал официаль-
ным провозвестником фашистской свободы. В то время как реали-
стический Муссолини только что сказал, что итальянские массы
желают не свободы, а хлеба, он услышал теперь к своему радостно-
12S
* См.: Vorwarts, 1931, 14 November.
му удивлению от Джентиле, что фашизм есть истинная свобода.
И то, что стремилась выразить вычурная диалектика Джентиле,
означало теперь в металлической формуле Муссолини: «Быть сво-
бодным — не есть право, но обязанность!»
Эту «диалектическую» демагогию, заложенную в самом харак-
тере эпохи империализма, Бернгард неудачно назвал узурпацией
либерализма. «Средство, с помощью которого официальная доктри-
на совершает эту узурпацию, есть диалектика Гегеля... Популярно-
политическое применение гегелевской диалектики Джентиле и
джентилеанцами в высшей степени пригодно для того, чтобы искус-
но запутать сами по себе простые и ясные, но совершенно одно-
сторонние и негибкие идейные мотивы фашизма, придав им оттенок
таинственного. К этому нужно прибавить, что с недавнего времени
126 в Риме стало очень модно украшать политические речи и статьи
непонятными обрывками этой сложной диалектики» *. Доклад
Джентиле на втором гегелевском конгрессе в Берлине может слу-
жить иллюстрацией к рассуждениям Бернгарда.
Перечень главных источников современного неогегельянства был
бы неполон без указания на третью — национально-немецкую —
причину его расцвета. Нужно вспомнить крушение германского им-
периализма в результате мировой войны и версальскую систему,
одно из существенных условий экономического падения Германии.
В поисках выхода немецкий капитализм навязывает народным
массам эфемерный идеал могущественной империалистической Гер-
мании. Для этой цели все может пригодиться, и вот националисти-
ческая агитация находит себе союзника в неогегельянском движе-
нии. Так называемое Интернациональное гегелевское общество
имеет своей действительной целью создание на родине философа
святилища великогерманского шовинизма. Как бы в доказательство
этого берлинский обер-бургомистр Зам привел на втором конгрессе
Гегель-бунда следующие слова младшего современника Гегеля
Пфицера: «Философия есть, в сущности, наша последняя и единст-
венная национальная святыня, последний и прочный пункт, от кото-
рого мы можем отправляться к новым духовным победам и снова
вернуть себе утерянное; только высшее и совершеннейшее образова-
ние духа может снова создать для немцев достойное их положение
в ряду других наций». Нужно поставить на место этих алгебраиче-
ских знаков их реальное значение, чтобы понять действительный
смысл берлинского спектакля. Но вернемся к первому гегелевскому
конгрессу, так как здесь мы располагаем полным собранием текстов,
изданных Вигерсмой.
Нет и не может быть никакого сомнения в истинной политиче-
ской природе новой философской организации. Первый гегелевский
конгресс торжественно провозгласил философию международного
права Гегеля немецкой теорией реванша. Мы уже знаем, что с точки
зрения Гегеля идея государства является решением противоречий
* Bernhard L. Der Staatsgedanke des Faschismus. Berlin. 1931. S. 7—9.
буржуазного общества. Но каково взаимоотношение между отдель-
ными нациями-государствами, составляющими в совокупности чело-
вечество? Подобно тому как на мировом рынке действительно толь-
ко золото, в международных отношениях имеет значение только
сила. Гегель с величайшим историческим реализмом изображает
фактическое отношение между национальными левиафанами бур-
жуазного общества, войну всех против всех. Однако сила является
в его глазах выражением исторического права. Нация, оказываю-
щаяся в данную эпоху носительницей мирового духгг, обладает- ic
мощью, необходимой для того, чтобы сделать другие народы своими
орудиями. Их тяжбу решает время. «История,— говорит Гегель,—
есть последний страшный суд» *.
Эта картина написана прежде всего с исторических судеб фран-
цузского народа в эпоху революционных войн и наполеоновского
режима в Европе. Когда Гегель говорит об историческом праве
насилия, он имеет в виду право самого прогрессивного народа его
времени употреблять военную силу для утверждения нового обще-
ственного строя на международной арене. В качестве возможности
это историческое право приписывается им и возрожденной из пепла
Пруссии. Однако революционный и национально-освободительный
патриотизм, являющийся в конечном счете действительным содер-
жанием этих идей, превратился у современных гегельянцев в реак-
ционный шовинизм. Об этом свидетельствует хотя бы цитирован-
ный выше доклад Юлиуса Биндера.
Биндер противопоставляет «дух Гегеля» пацифистскому движе-
нию. Главным противником теории международного права, выдер-
жанной в этом духе, является с его точки зрения учение Канта
о вечном мире. Отсюда естественно следует, что из двух конкури-
рующих судилищ — международного трибунала Лиги наций и
страшного суда истории — Биндер выбирает последнее. Он настой-
чиво подчеркивает, что у Гегеля нет ни малейшего намека на сверх-
государственное право, что, по мнению философа, нет претора меж-
ду народами. Гегелю чужда идея вечного мира, «гарантированная
союзом наций, с третейским судом и исполнительной властью, как
это соответствует Версальскому миру», и вообще идея «союза на-
ций, созданного посредством произвола, насилия и политики, пред-
назначенного для сохранения власти победителя над побежденны-
ми и тем самым для сохранения вечного мира для победителей».
В противовес этой идее, «Гегель слишком ясно высказался за
нравственную справедливость войны, чтобы его восприятию нрав-
ственности и свободы могла соответствовать мысль о некоем, хотя
бы и бесконечно отдаленном состоянии вечного мира, ибо как раз
война является для него необходимым средством защиты свободы
угрожаемой нации, и в замкнутости гегелевской системы нет вовсе
места для цели, лежащей в дурной бесконечности». И далее: «Не
127
* Die Weltgeschichte isl das Weltgericht (слова Шиллера).
только фактически в современных условиях нет судьи между наро-
дами» но и вообще его быть не может».
Единственное решение исходит от мирового духа, «творящего
свой суд над государствами в процессе мировой истории, то есть
в необходимой борьбе народов друг с другом за свою свободу, за
действительность их духа в мире, за выполнение их исторической
миссии». Проще говоря — кто победил, тот и прав. «Уверенность
в силе нравственности может быть всегда только уверенностью
в своем нравственном праве, в своей собственной нравственной
ценности», а эта ценность принадлежит государству, способному
отстоять себя в открытой схватке с другими государствами. «Миро-
вой дух обнаруживает в ней свою силу, которая поможет угрожае-
мой нации добиться победы».
128 Таковы ясные цели глубокомысленных лидеров немецкого нео-
гегельянства: воссоздать Германию как могущественную империа-
листическую державу, во что бы то ни стало добиться реванша.
Вот Гегель и книжная мудрость,
И смысл философии всей.
Но если действительное учение Гегеля о страшном суде истории
было отражением революционного периода в жизни буржуазного
общества, то современный культ милитаризма является ярким
симптомом его заката. Единственный прогрессивный смысл, кото-
рый сохранили еще в наши дни возвышенные слова философа о
страшном суде истории, состоит в том, что спор между рабочим
классом и классом капиталистических частных собственников не
может иметь другого исхода, кроме суда борьбы. Подлинный страш-
ный суд истории — это очистительное пламя коммунистической ре-
волюции. «Для того чтобы мстить за злодеяния правящих клас-
сов,— сказал Карл Маркс в своей замечательной речи на юбилее
чартистской «Народной газеты»,— в средние века в Германии су-
ществовало тайное судилище, так называемый «Vehmgericht». Если
на каком-нибудь доме был начертан красный крест, то люди уже
знали, что владелец его осужден «Vehm». Теперь таинственный
красный крест начертан на всех домах Европы. Сама история теперь
судья, а исполнитель ее приговора — пролетариат» *.
3
Из всего сказанного о причинах и характере современного воз-
рождения гегельянства естественно следует, каково может быть
наше отношение к этому идеологическому явлению. Можем ли мы
приветствовать возрождение классической философии и в частности
реабилитацию Гегеля, осмеянного либеральными теоретиками в про-
шлом, или, наоборот, должны оплакивать окончание либерально-
позитивистской и кантианско-реформистской эры как эры меньшего
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 5.
зла по сравнению с фашистским или близким к нему неогегельян-
ством? Разумеется, обе эти позиции были бы слабы со всех точек
зрения. Неогегельянство, как и неокантианство, принадлежит в оди-
наковой степени к продуктам буржуазной культуры эпохи ее упад-
ка. Было бы нетрудно показать, что оба эти течения при всей своей
противоположности взаимно питают друг друга, а в настоящее вре-
мя даже прямо ищут сближения. Отвергая по-прежнему идеализм
кантианского направления, мы не находим ничего исторически про-
грессивного и в современной неогегельянской моде.
Однако нет худа без добра, гласит одна рискованная, но все же
верная поговорка. Оживление интереса к Гегелю, распространив-
шееся за последние 30 лет, было причиной приведения в некоторый
относительный порядок рукописей философа (хранящихся в Бер-
лине) и даже опубликования значительной их части. Это и есть то
добро, которое все же не может уравновесить такого большого худа,
каким является современное реакционное гегельянство. Мы позво-
лим себе остановиться на одной из таких публикаций, стоящей сей-
час в центре спора о Гегеле и, к сожалению, мало у нас известной.
Речь идет о работах молодого Гегеля, написанных им в последнее
революционное десятилетие XVIII века. Они были опубликованы
еще в 1907 году учеником Дильтея Германом Нолем, правда, под
неуклюжим и явно односторонним заглавием «Теологические рабо-
ты молодого Гегеля» *.
При первом взгляде на эти работы, образующие в совокупно-
сти толстый том в 400 страниц, действительно может показаться,
что содержание их имеет чисто богословский характер. Здесь и на-
родная религия, и жизнь Иисуса, и позитивность христианства,—
словом, понятия и образы, способные создать впечатление, будто
в годы величайших революционных потрясений Гегель мирно пере-
листывал свой катехизис. Но это далеко не так. Работы, опублико-
ванные Нолем, показывают нам молодого Гегеля в качестве одного
из наиболее последовательных демократов тогдашней Германии.
И кто знает, не ждала ли его судьба революционного пораженца
Георга Форстера, если бы армия Кюстина, поднявшись вверх по
Рейну, вторглась в Швабию? Интерес к религиозным вопросам
нисколько не противоречит политическим симпатиям Гегеля. Если
вместе с Германом Нолем мы назовем эти юношеские произведения
теологическими работами, то придется, пожалуй, отнести к области
богословия не только «Исповедь савойского викария» Руссо, но и
декрет Конвента от 18 флореаля II года, устанавливающий публич-
ный культ Верховного Существа.
Излюбленным мотивом неогегельянцев является тезис о глубо-
129
* Hegels theologische Jugendschriften (nach den Handschriften der kgl. Biblio-
thek in Berlin, hrsg. von Dr. Hermann Nohl). Tubingen, 1907. Далее в статье в
скобках указаны страницы по этому изданию. Ранние произведения Гегеля
в советских изданиях: Гегель. Работы разных лет. М., 1972, т. 1; Гегель. Эсте-
тика. М., 1973, т. 4; Гегель. Философия религии. М., 1975, т. 1; Гегель. Поли-
тические произведения. М., 1978.— Примеч. ред.
ко религиозном духе всей философии Гегеля. Недаром на втором
конгрессе Гегель-бунда председательствовавший Лассон с презре-
нием говорил о некоей секте, написавшей на своем знамени: «Ге-
гель» и одновременно—«Религия есть опиум для народа». Понят-
но, что юношеские работы Гегеля были истолкованы именно в духе
религиозной мистики. Еще Дильтей писал о мистическом пантеизме
молодого Гегеля.
Нельзя отрицать, что в юношеских работах Гегеля политические
идеи выступают обычно в форме религиозных проблем. Здесь мож-
но видеть следствие отсталости Германии конца XVIII века, ре-
зультат особого развития в ней классовых противоположностей, не
похожего на то, что является перед нами во Франции. Но, с другой
стороны, религиозные проблемы и в частности вопрос об отношении
130 религии к государству* занимали три собрания народных предста-
вителей революционной Франции, и вообще решение этих проблем,
соответствующее основам буржуазного общества, в 90-х годах
XVIII века было еще искомым (по крайней мере для Европы).
Не следует упускать из виду и то своеобразное обстоятельство, что
последовательно-демократическая партия французской револю-
ции — партия якобинцев — была настроена антихристиански, но
отнюдь не атеистически. Известны слова Робеспьера, верного по-
следователя Руссо: «Атеизм аристократичен, между тем как идея
Верховного Существа, заботящегося о невинности, имеет целиком
народный характер». Руссо — против энциклопедистов, абстрактно-
возвышенный гражданин — против атеизма жирондистских салонов,
такова противоположность, с которой сталкивается всякий, желаю-
щий понять политическую и философскую литературу конца
XVIII века. Эта антитеза дает нам ключ и к пониманию религиоз-
ности молодого Гегеля.
Так же как деятели Конвента, Гегель рассматривает религию
в качестве средства для политико-социального воспитания масс (это
справедливо по крайней мере по отношению к фрагментам тюбин-
генского и бернского периодов). В центре его внимания стоит на-
родная религия, изображаемая в античных тонах и созданная для
того, чтобы поддерживать республиканские добродетели. «Народная
религия, порождающая и питающая великие помыслы, идет рука
об руку со свободой» (с. 27). «Человек есть нечто столь многосто-
роннее, что из него можно сделать все; многообразно переплетенная
ткань его ощущений имеет такое множество концов, что все может
быть с нею связано — если это не исходит от одного конца, то
исходит от другого. Поэтому человек способен к глупейшему суе-
верию, величайшему иерархическому и политическому рабству;
сплести эти прекрасные нити природы, сообразно последней, в один
благородный союз должно быть прежде всего делом народной ре-
лигии» (с. 19).
* См. обширные рассуждения на эту тему в рукописи Гегеля «Позитив-
ность христианской религии» (с. 183 и след.).
Совершенно очевидно, что эта народная религия представляет
собой прямую противоположность господствующей положительной
религии. Вот почему «теологические работы» молодого Гегеля на-
сквозь проникнуты критикой иудаизма и традиционного церковного
христианства. Против потусторонней и в то же время расчетливо
эгоистической основы так называемых мировых религий он выдви-
гает публичный культ красоты, жизнерадостное язычество. Иудей-
ство и христианство покоятся на равнодушной к общественному
делу природе частного лица, его погружении в самого себя. Мелоч-
ное исполнение религиозных обрядов вытекает из личных интересов
людей, уши которых закрыты для понимания долга. «Своекорыстие
есть маятник, колебания которого поддерживают их машину в дви-
жении» (с. 7).
Это своекорыстие, господство частного интереса над всеобщим
является источником веры в чудеса и загробное воздаяние. Сво-
бодный республиканец древнего мира не ждал утешения и награды
за добродетель в загробном царстве. «Сделать своей максимой сле-
пое послушание человека, подверженного злобным прихотям, мог
только народ величайшей испорченности, глубочайшего морального
бессилия, его могло привести к этому только продолжительное вре-
мя полного забвения лучшего состояния. Такой народ, оставленный
самим собой и всеми богами, ведущий частную жизнь, нуждается
в знамениях и чудесах, нуждается в гарантиях со стороны божества,
утверждающих его в том, что имеется будущая жизнь, ибо в самом
себе он уже не может иметь этой веры» (с. 70).
Рабство, бессилие, нищета — вот действительная основа веры в
загробное воздаяние. «Толпа, не обладающая больше публичными
добродетелями, униженная и живущая в состоянии угнетения, нуж-
дается теперь в иной поддержке, ином утешении, чтобы вознагра-
дить себя за эту нищету, которую она не смеет уменьшить» (с. 70).
Возникновение и распространение христианства является следст-
вием разложения античной общественной жизни, упадка свободы,
испорченности нравов. «Греческая и римская религия была религией
только для свободных народов, и вместе с утратой свободы должны
были исчезнуть также ее смысл и сила, ее приспособленность к лю-
дям. Что пушки для армии, расстрелявшей все свои заряды? Она
должна искать другое оружие. Зачем сети рыбаку, когда река пере-
сохла? Как свободные люди подчинялись они законам, которые
дали сами себе, слушались людей, которых сами избрали своими
начальниками, вели войны, задуманные ими самими, отказывались
от своей собственности, своих страстей, жертвовали тысячами жиз-
ней за дело, которое было их делом, не поучали и не поучались, но
осуществляли принципы добродетели в деяниях, которые они впол-
не могли назвать своими; в общественной, как и в частной и домаш-
ней жизни, каждый из них был свободным человеком, каждый жил
по собственным законам. Идея своего отечества, своего государства
была невидимым, высшим началом, ради чего он работал и что под-
талкивало его; это было его конечной целью в мире, конечной целью
131
его мира,— он находил ее воплощенной в действительности или сам
содействовал ее осуществлению и сохранению. Перед этой идеей
исчезала его индивидуальность, он претендовал только на сохране-
ние жизни и продолжительное существование ради этой идеи, и это
ему удавалось осуществить; но требовать продолжительного суще-
ствования или вечной жизни ради своей индивидуальности ему не
могло или очень редко могло прийти в голову» (с. 221).
С падением античной демократии возникла почва для религиоз-
ных умонастроений, подобных христианству. Гегель следующим об-
разом рисует взаимоотношение между индивидом и обществом в
позднеримскую эпоху. «Образ государства в качестве результата
своей деятельности исчез из души гражданина; забота о целом,
его обозрение покоились теперь в душе одного лица или немногих;
132 каждый имел свое предуказанное ему место, более или менее огра-
ниченное, отличающееся от мест других; незначительному числу
граждан было поручено управление государственной машиной, и
эти граждане служили лишь отдельными колесиками, приобретаю-
щими свое значение лишь в связи с другими; доверенная каждому
часть раздробленного на куски целого была настолько незначи-
тельна по сравнению со всем целым, что ему вовсе не было пользы
знать или видеть это соотношение,— полезность в государстве стала
главной целью, поставленной государством перед своими поддан-
ными, а целью, которую они сами ставили перед собой, был зара-
боток и поддержание своего существования и еще, пожалуй, тщесла-
вие. Всякая деятельность, всякая цель была направлена теперь на
индивидуальность, не стало больше деятельности ради целого, ради
идеи — каждый работал на себя или был вынужден работать на
другого.
Свободное подчинение собственным законам, следование за
властями и военачальниками, которых они сами избирали, осу-
ществление планов, которые они сами разработали,— все это отпа-
ло, отпала всякая политическая свобода; право гражданина теперь
давало лишь право на неприкосновенность собственности, которая
заполнила весь его мир; явление, обрывавшее все переплетение це-
лей и деятельность целой жизни, а именно — смерть, неизбежно
стало казаться ему чем-то ужасным, ибо ничто не переживало его,
тогда как республиканца переживала республика,— и вот ему на-
чала представляться мысль, что его душа есть нечто вечное»
(с. 223).
Этот взгляд, в котором сказывается, конечно, влияние револю-
ционных писателей XVIII века, сохранился у Гегеля и впоследст-
вии. Впрочем, у зрелого Гегеля он скрывается под иной, гораздо
более высокой оценкой христианства и частной собственности как
необходимой основы прогресса в новое время. Если мы, однако, об-
ратимся к антирелигиозной литературе левых гегельянцев, то обна-
ружим большое сходство между двумя периодами революционно-
демократического подъема — последним десятилетием XVIII века
и началом 40-х годов следующего столетия.
При всем том есть нечто, отличающее молодого Гегеля от позд-
нейших критиков христианства *. Отличие состоит в гораздо более
реалистическом характере его взгляда на политическую функцию
религии. Какими туманными кажутся все рассуждения левых ге-
гельянцев по сравнению с нижеследующим местом из юношеских
работ самого Гегеля, проникнутых духом революционного просвеще-
ния: «Первые христиане находили в своей религии утешение и на-
дежду на будущее вознаграждение для них и наказание для их
врагов — их угнетателей, которые были язычниками. Но подданный
монастыря или вообще подданный деспотического государства не
мог воззвать к своей религии о мести по отношению к роскошест-
вующему прелату, расточающему то, что добыто потными руками,
или к откупщику, ибо этот последний слушает те же мессы или
даже сам их служит. Такой подданный находил в своей механиче-
ской религии столь великое утешение и вознаграждение за утрату
человеческих прав, что он в своем животном бытии потерял всякое
понимание принадлежности к человечеству» (с. 365).
Мы уже видели, что критика религии у молодого Гегеля покоит-
ся на противопоставлении частного человека (bourgeois) — полити-
ческой всеобщности гражданина (citoyen), точно так же как это
имело место в идеологии якобинцев. Неравенство имуществ и част-
ная собственность подвергаются критике не в их специфически бур-
жуазной форме, но, скорее, наоборот — как следствие феодально-
иерархического общественного устройства, остаток политической
деспотии. Положительная религия является для молодого Гегеля
только отражением этой искаженной общественной формы. «Объ-
ективность божества развивалась параллельно испорченности и раб-
ству людей, и она есть, собственно, только проявление этого духа
времени» (с. 227).
Там, где центробежные силы частного интереса разлагают со-
циальный организм, человек не верит в самого себя и все, что есть
в нем хорошего, переносит в потусторонний мир. Наоборот, вместе
с уничтожением деспотии и подавлением личного эгоизма ему снова
становится понятным «прекрасное человеческой природы». Таково
всегда повторяющееся открытие революционных эпох. «Когда спу-
стя тысячелетия человечество снова становится способным иметь
идеи, интерес к индивидуальному исчезает, и хотя сознание испор-
ченности человека остается, но учение о его греховности идет на
убыль, и то, что привлекало нас в индивиде, все более выступает
в своей красоте в качестве идеи; мыслимое нами, оно становится на-
шей собственностью, мы снова познаем как свое творение, снова
133
* Наибольшее сходство с идеями молодого Гегеля обнаруживает содержа-
ние двух левогегельянских брошюр: «Трубный глас» и «Учение Гегеля о рели-
гии и искусстве с точки зрения верующего», в составлении которых принимал
участие Маркс (1841—1842). То же самое нужно сказать о конспектах моло-
дого Маркса, относящихся к периоду его работы над «Трактатом о христиан-
ском искусстве». Я позволю себе сослаться здесь на мою работу об эстетиче-
ских взглядах Маркса.— Примеч. к наст. изд.
присваиваем себе прекрасное человеческой природы, то, что мы
сами вкладывали в чужого индивида, оставляя для себя лишь самое
отвратительное, на что только способна человеческая природа; тем
самым мы снова учимся чувствовать уважение к себе, ибо до сего
времени мы полагали, что нам свойственно только то, что может
служить предлогом для презрения» (с. 71).
Таково действительное историческое содержание того, что Ге-
гель назвал народной религией. Не в церковных залах, а на пло-
щади совершаются таинства публичного культа этой религии, ре-
лигии свободных республиканцев. Богослужение ее — в общенарод-
ных, декоративно-возвышенных, устроенных на античный лад
торжествах в честь свободы и равенства. «Народ,— пишет Гегель,—
который учредит свое публичное богослужение таким, что будут
134 затронуты чувства, фантазия и сердце без того, чтобы разум остал-
ся при этом пустым, и таким образом, что благоговение произойдет
из согласной работы и подъема всех сил души, а представление
о строгом долге будет смягчено и сделано более доступным посред-
ством красоты и радости,— такой народ, чтобы не дать в руки
определенного класса людей вожжи, с помощью которых можно
держать его в зависимости, будет сам устраивать свои празднества,
сам будет распределять свои выдачи, и когда его ум будет занят
отечественными учреждениями, сила его воображения изумлена, его
сердце тронуто и его разум удовлетворен, то дух его не будет вовсе
чувствовать потребности или ему вовсе не будет доставлять удо-
вольствия выслушивать каждые семь дней фразы и образы, понят-
ные и уместные только несколько тысяч лет назад в Сирии»
(с. 39) *.
Народные празднества имеют большое объединяющее значение
во всякой революции, в том числе и пролетарской. Однако между
массовыми демонстрациями рабочего класса и помпезными праздне-
* Мы как будто слышим знаменитую речь Робеспьера о республиканской
религии Верховного Существа: «Граждане... есть такого рода учреждение, ко-
торое следует рассматривать как существенную часть публичного воспитания и
которое необходимо относится к его содержанию. Я буду говорить о нацио-
нальных празднествах. Соберите людей, и вы сделаете их лучше, ибо люди,
собравшиеся вместе, ищут удовольствия, а удовлетворение им могут доставить
только те вещи, которые делают их достойными уважения. Дайте их собранию
великую моральную и политическую тему, и любовь ко всему достойному про-
никнет в их сердца вместе с удовольствием, ибо люди не встречаются без
удовольствия. Человек — это самый великий предмет в природе, и самое вели-
чественное из всех зрелищ есть зрелище великого народа, собранного воедино.
Никогда не говорят без энтузиазма о народных празднествах Греции... Как
легко будет французскому народу дать нашим собраниям более широкий пред-
мет и более великий характер! Хорошо разработанная система празднеств
будет одновременно играть роль легчайших уз братства и самого мощного сред-
ства возрождения... Не ждите, однако, честолюбивые священнослужители, что
мы будем работать для восстановления вашего владычества!.. Истинный храм
Верховного Существа — это природа; его храмы — это вселенная; его культ —
добродетель; его праздники — радость великого народа, собранного пред его
очами, для того чтобы крепче стянуть узы всеобщего братства и чтобы воздать
ему благоговение чувствительных и чистых сердец».
ствами классической буржуазной революции XVIII века большая
разница. Ибо «там,— употребляя выражение Маркса,— фраза была
выше содержания, здесь содержание выше фразы» *. Революцион-
ные учреждения Франции уделяли вопросу об организации и рас-
порядке народных празднеств особенное внимание. Ремесленник и
богатый поставщик, рабочий и владелец мануфактуры должны были
по плану законодателей слиться в торжественном порыве к социаль-
ному единству, которое именно вследствие своего возвышения над
экономическим содержанием жизни обретало религиозный смысл.
При всем реализме якобинцев их политическая идеология была на-
сквозь идеалистической. Всякое проявление особых интересов она
бичует как эгоизм, объявляя непатриотичными материальные требо-
вания рабочих (достаточно вспомнить, что якобинская диктатура
сохранила принятый Национальным собранием закон Ле Шапелье,
запрещавший рабочие союзы). Тем самым эта идеология теряет
свой народный характер. Чтобы привязать массы к республикан-
ским добродетелям, которые их не кормят, чтобы сделать невоз-
можное, то есть устранить противоречия материальных интересов
внутри народа, разыгрываются грандиозные общественные спек-
такли, вызываются тени Гракхов и Публикол, заимствуется из
Древней Греции идея народного празднества. Дух как бы прими-
ряется с плотью, и абстрактная добродетель, парящая над матери-
альной жизнью, делает уступку человеческой чувственности. Так
в демократической революции, совершаемой в рамках буржуазного
мировоззрения, возникает эстетическая проблема.
Философия Канта была немецкой теорией Великой французской
революции. Это справедливо и по отношению к Гегелю, справедливо
не только в общих чертах. Ничто не мешает нам применить эту
параллель и по отношению к отдельным вопросам, привлекавшим
внимание немецких мыслителей. Эстетическое возвышение публич-
ной жизни играет большую роль у Шиллера. В юношеских работах
Гегеля тема гражданской эстетики также занимает одно из цент-
ральных мест, а это дает тенденциозным авторам возможность
эстетизировать автора «Теологических сочинений». Отклоняя «миф»
о его революционных идеях, они рисуют Гегеля 90-х годов погру-
женным в чисто эстетические интересы, фантазирующим энтузиа-
стом, отвергающим прозу жизни. Но мы уже видели, что в ранних
набросках Гегеля эстетическая критика своекорыстия по всем своим
основным мотивам совпадает с критикой аристократии капитала
у якобинцев. В известном смысле можно сказать, что Гегель раз-
делял все достоинства и недостатки революционно-демократической
идеологии конца XVIII века. Этим содержанием насквозь проник-
нута и его эстетика.
В юношеских работах Гегеля мы повсюду найдем противопо-
ставление античного искусства духу нового времени и западных
народов. «Уже в архитектуре,— пишет он в одном из набросков,
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8, с. 122.
135
приложенных к изданию Ноля,— обнаруживается различный гений
греков и немцев. Те жили свободно, на широких улицах, в их домах
были открытые, лишенные крыши дворы, в их городах часты боль-
шие площади, их храм построен в прекрасном благородном стиле —
простой, как греческий дух, возвышенный, как бог, которому он
посвящен». Напротив, «наши города имеют узкие, вонючие улицы,
комнаты узки, отделаны темным, с темными окнами, большие залы
низки и давят, когда находишься в них». Древние греки воспевали
тираноубийц Гармодия и Аристогитона, в новое время народная
фантазия не знает подобных сюжетов (с. 359).
У новых народов образование оторвано от народной почвы.
«Афинский гражданин, которого бедность лишила возможности по-
давать свой голос в публичном народном собрании, вынужденный
136 даже продавать себя в рабство, знал не хуже Перикла и Алкивиада,
кто такие были Агамемнон и Эдип, которых в благородных формах
прекрасного и возвышенного человечества выводили на сцену Со-
фокл и Эврипид, или Фидий и Апеллес изображали в чистых обра-
зах телесной красоты» (с. 216). Теперь дистанция между образо-
ванными людьми и народом гораздо более велика.
Вообще неравенство имуществ и сословий образует, по мнению
молодого Гегеля, главную причину упадка эстетической и торжества
религиозной фантазии. «Когда простота нравов, еще до большого
неравенства состояний, сохранилась в народе и история разыгры-
вается на собственно народной почве, то саги переходят от родите-
лей к детям, они являются в равной мере достоянием каждого. Но
как только внутри нации образуются особые сословия и отец се-
мейства перестает быть вместе с тем и первосвященником, то рано
появляется сословие, служащее хранителем саг, от которого исходит
и знание их в народе; это бывает особенно в тех случаях, когда эти
саги пришли из чуждой страны, возникли среди чуждых нравов
и на чуждом языке. Основа, содержание саг в своей первоначальной
форме уже не может быть здесь достоянием каждого, ибо, чтобы
изучить эту форму, нужно много времени и разнообразный аппарат
знаний. Таким образом, это сословие быстро достигает господства
над публичными верованиями, господства, которое может распро-
страниться до пределов весьма широкой власти или по крайней
мере всегда сохраняет в руках вожжи по отношению к народной
религии» (с. 65—66).
Рукописи, изданные Нолем, насыщены элегическим воспеванием
античности, выступающей в образе республики свободных граж-
дан, столь непохожей на современное христианское общество, где
на первый план выдвигаются интересы единичного. Греческая демо-
кратия неизмеримо превосходит государство нового времени, «забо-
тящееся лишь об охране собственности».
Уже в первой из рукописей, получившей у Ноля название «На-
родная религия и христианство», Гегель противополагает юноше-
ский гений греков стареющему гению Запада. Гений эллинской
древности «чувствует самого себя и ликует в своей силе, с неутоми-
мой жаждой набрасывается он на нечто новое и живейшим образом
заинтересован в нем, но оставляя его, снова овладевает чем-нибудь
другим. Этим никогда, однако, не может быть что-нибудь такое, что
угрожало бы наложить оковы на его гордую свободную шею». На-
против, стареющий гений во всех отношениях «отличается прежде
всего своей прочной привязанностью к исстари заведенному, и
поэтому он несет свои оковы, как старик подагру, который ворчит,
вспоминая ее, но не имеет силы ее сбросить; он позволяет бить себя
и трясти, как это вздумается его владыке, но наслаждается только
с неполным сознанием, не свободно, не открыто, не со светлой пре-
красной радостью, вызывающей у других симпатию; его праздне-
ства— это болтовня, подобно тому как для старика самое глав-
ное— это поговорить; нет ни громкого возгласа, ни полнокровного
наслаждения» (с. 6).
«Ах, из далеких дней прошлого перед душой, способной чувст-
вовать красоту и величие в великом, встает сияющий образ гения
народов — сына счастья, свободы, воспитанника прекрасной фанта-
зии. И его привязывала к матери-земле железная цепь по-
требностей, но он так обработал ее и с помощью своего чувства,
фантазии придал ей столь тонкий, прекрасный характер, так с по-
мощью граций оплел ее розами, что в этих цепях он мог найти себе
удовлетворение, как в своем собственном создании, как в части
самого себя... Мы знаем этого гения только из поэтических описа-
ний. Мы можем с любовью и удивлением судить лишь о некоторых
его чертах в оставшихся копиях его образа, которые пробуждают
мучительное стремление к оригиналу. Он — это прекрасный юноша,
которого мы любим и в легкомыслии, со всей свитой граций,—
с ними он впитывал бальзамическое дыхание природы, душу, кото-
рую они вдохнули и которую он всасывал в себя из каждого цвет-
ка. Увы, он оставил землю!» (с. 28—29).
Интересен также следующий отрывок, правда, перечеркнутый
и обрывающийся на самом существенном месте: «Другого гения
наций вывел Запад: его образ имеет старческий характер, прекрас-
ным он никогда не был, но некоторые слабые следы немногих черт
мужественности у него еще остались; его отец согбен,— он не осме-
ливается ни бодро оглянуться вокруг, ни возвысить в сознании
самого себя, он близорук и может видеть сразу лишь мелкие пред-
меты; лишенный храбрости, без уверенности в собственной силе, он
не осмеливается на смелый прыжок, (чтобы) железные цепи грубо
и» (с. 29).
Мы уже знаем Гегеля-теолога и Гегеля-эстета; нам остается
теперь понять его как энтузиаста греческой древности. В отношении
Гегеля к античному миру нет ничего отвлеченно-академического.
Обращение к античному образцу — характерная особенность рево-
люционного движения конца XVIII века, ее не избежали даже
такие люди, как Гракх Бабёф. Язык революции черпал свою рито-
рику в наследии древности. «Робеспьер и Сен-Жюст весьма опреде-
ленно говорят об античных, присущих только «народной сущности»,
137
«свободе, справедливости, добродетели». Спартанцы, афиняне, рим-
ляне в эпоху своего величия — «свободные, справедливые, доброде-
тельные народы» *. Эта политико-эстетическая фантастика свойст-
венна Гегелю в одинаковой степени с деятелями Комитета Общест-
венного Спасения, она образует их общую черту, равно как и выра-
жение их общей исторической ограниченности.
Но обратимся еще раз к Марксу: «Робеспьер, Сен-Жюст и их
партия погибли потому, что они смешали античную реалистически-
демократическую республику, основанную на действительном раб-
стве, с современным спиритуалистически-демократическим предста-
вительным государством, основанным на эмансипированном рабстве,
на буржуазном обществе. Какое колоссальное заблуждение — быть
вынужденными признать и санкционировать в правах человека
138 современное буржуазное общество, общество промышленности, все-
общей конкуренции, свободно преследующих свои цели частных
интересов, анархии, самоотчужденной природной и духовной инди-
видуальности,— быть вынужденными признать и санкционировать
все это и вместе с тем желать аннулировать вслед за тем в лице
отдельных индивидуумов жизненные проявления этого общества и
в то же время желать построить по античному образцу политиче-
скую верхушку этого общества!» **
И все же — сколько революционной правды в этом заблуждении!
То, что было ложно с точки зрения законов буржуазной экономии,
является истиной во всемирно-историческом смысле. Утопия сво-
бодного народа, изгоняющего из своих общественных отношений
бездушный формализм государства и холопство подданных, пассив-
ность и аполитизм большинства, своекорыстие и торгашество, двой-
ную бухгалтерию земли и неба,— этот идеальный образ революцио-
неров конца XVIII столетия был предвосхищением иной, более
глубокой формы демократии. Вот чем привлекательно мировоззре-
ние молодого Гегеля, его обращение к общинной жизни древних
республик.
Ошибка Гегеля, как и ошибка революционеров 1793 года, была
исторически необходима. «В классически строгих традициях Рим-
ской республики гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы
и художественные формы, иллюзии, необходимые им для того, что-
бы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей
борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой
исторической трагедии». Это «воскрешение мертвых,— по выраже-
нию Маркса,— служило... для того, чтобы возвеличить данную за-
дачу в воображении» ***.
Современные неогегельянцы берут у молодого Гегеля его яко-
бинское противопоставление всеобщего эгоистическим интересам
отдельного индивида, le particulier, частника. Но эта революционно-
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 135.
** Там же, с. 136.
*** Там же. т. 8. с. 120, 121.
демократическая идеология превращается у них в философское
обоснование борьбы буржуазного государства с эгоизмом трудя-
щейся массы. Политическая фикция надклассовой народности, идеа-
лизация язычества, юности, силы, попытки создать новую мифо-
логию — все это служит теперь не для того, чтобы преувеличить
исторически данную революционную задачу в фантазии, а, наоборот,
для того, чтобы отвлечь народные массы от их действительных
революционных задач.
Подлинным вождем народной революции в отечестве Гегеля мо-
жет быть только пролетариат. В будущем пролетарском государстве
ему придется вести последовательную борьбу с les particuliers, что
в переводе на язык XX столетия означает владельцев частного ка-
питала, продающих в настоящее время немецкий народ оптом и
в розницу. Поэтому все подлинно прогрессивное в литературном
наследстве Гегеля принадлежит революционному пролетариату,
хотя ему чуждо всякое воскрешение мертвых, всякое пародирование
старой борьбы. Задача рабочего класса так велика и обширна, что
ему нет никакой надобности преувеличивать ее значение в фантазии.
1931
ЭСТЕТИКА ГЕГЕЛЯ И ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛИЗМ*
1
140 Гегель только на один год пережил Июльскую революцию во
Франции. Он умер накануне великого общественного раскола, когда
социальная война между «двумя нациями в одном народе», проле-
тариатом и буржуазией, только начиналась. В июльские дни ученики
Политехнической школы, студенты идут во главе, хотя рабочие
образуют уже главную силу восстания. Так, на картине Делакруа
«Июль 1830 года» рядом с традиционным республиканцем в шляпе
видна почерневшая от дыма фигура парижского пролетария-блуз-
ника с обнаженной саблей в руке. Буржуазия имеет подрастающего
соперника — рабочая масса приближается к сознанию своих инте-
ресов и грозит ей углублением революции.
Июльский грохот звучал прощальным салютом гегелевской фи-
лософии в Германии — время ее миновало. Это было время первой
французской революции и реставрации, величайшего политического
напряжения 1789—1814 годов и последовавшего за ним периода
мирного, органического роста на почве буржуазной экономики. Но-
вая революция не входила в расчеты немецкого мыслителя. Она
нарушала выработанную им схему развития, в которой переход от
революции к успокоению имел абсолютный характер.
Впрочем, эта общая схема еще не могла быть иной, и царство
буржуазии казалось решением всех драматических конфликтов
прежней истории, единственным возможным завершением двадца-
типятилетия революционных войн и стихийных движений народов.
На время толстому кошельку удалось доказать, что все усилия
революционного терроризма принести буржуазное общество в
жертву античному политическому строю суть только крайности,
ведущие в тупик, что спекуляция и грюндерство лучше обеспечи-
вают общественное благо, чем спартанские добродетели граждан, и
что ни Гракхам, ни Цезарю нельзя безнаказанно вторгаться в свя-
тилище коммерции. «Трезво-практическое буржуазное общество,—
говорит Маркс,— нашло себе истинных истолкователей и глашатаев
в Сэях, Кузенах, Руайе-Колларах, Бенжаменах Констанах и Гизо;
* Впервые опубликовано в журнале «Пролетарская литература» (1931,
№ 5—6).
его настоящие полководцы сидели за конторскими столами, его
политическим главой был жирноголовый Людовик XVIII. Всецело
поглощенное созиданием богатства и мирной конкурентной борьбой,
оно уже не вспоминало, что его колыбель охраняли древнеримские
призраки» *.
Так героический период нового строя кончился. Задача теперь
состояла в том, чтобы конституировать буржуазное общество и бур-
жуазное государство, восстановить порядок, необходимый для пре-
успевания деловых людей. Пришло к своему прозаическому осуще-
ствлению обещанное Робеспьером конституционное управление;
явившись на смену революционной системе, оно должно было по-
заботиться главным образом о гражданской, а не о публичной сво-
боде и обеспечить частному лицу безопасность от покушений
власти.
«В буржуазных революциях,— писал Ленин,— главная задача
трудящихся масс состояла в выполнении отрицательной или разру-
шительной работы уничтожения феодализма, монархии, средневе-
ковья. Положительную или созидательную работу организации
нового общества выполняло имущее, буржуазное меньшинство на-
селения» **. В этой положительной или созидательной работе бур-
жуазного меньшинства следует различать два периода. Когда ра-
бочий класс уже сложился в самостоятельную силу, способную оспа-
ривать гегемонию в демократической революции, все рассуждения
о порядке и организации, исходящие от идеологов буржуазии, пред-
ставляют собой по общему правилу простую защиту угнетения
человека человеком. Напротив, в тот период, когда главная масса
революционеров еще складывается из людей, которые смотрят боль-
ше назад, чем вперед, защищая старые права трудящихся, или
подобно якобинцам стремятся увековечить равенство мелких со-
стояний,— в такой период созидательная работа буржуазного мень-
шинства еще овеяна дыханием всемирной истории.
Подобно тому как просветители XVIII столетия в своей борьбе
за освобождение буржуазного общества от пут феодализма взывали
к разуму и справедливости, передовые мыслители послереволю-
ционного переходного периода идеализируют созидательную работу
имущих классов. Им кажется, что речь идет о чем-то большем, чем
буржуазное завершение революции, они стремятся не к утвержде-
нию буржуазного миропорядка, а к организации человеческих от-
ношений вообще, их увлекает бесконечное развитие производитель-
ной силы человеческого духа. В этот период образованное
меньшинство еще способно вызвать к жизни всеобъемлющие си-
стемы, настоящие энциклопедии послереволюционного строитель-
ства, подобно тому как прежде оно создавало энциклопедии раз-
рушения. К таким синтетическим научным образованиям, выра-
жающим собой все исторически-прогрессивное в положительной или
141
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8. с. 120.
** Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 168.
созидательной работе буржуазного меньшинства принадлежит и фи-
лософия Гегеля. Она относится, по словам Ленина, к лучшему из
того, что создало человечество в XIX веке.
Великий мыслитель послереволюционной Франции Сен-Симон
писал в своей «Науке о человеке» (1813): «В последнее столетие
старались сделать наиболее отвлеченные вопросы доступными для
всего света, излагая их так, чтобы все могли о них судить. Этот
путь был очень хорош для того, чтобы вызвать революцию. Такова
именно и была цель, которую преследовали ученые. Но теперь един-
ственная задача, которую мыслитель может себе поставить,— это
работать для реорганизации системы моральной, системы религиоз-
ной, системы политической, словом, системы идей, с какой бы сто-
роны ее ни рассматривать. Старый путь должен быть оставлен.
142 Только те лица, которые специально изучили эти системы, могут
без вреда для общественного порядка, а напротив, в его интересах,
их исследовать и разбирать».
Человечество, по словам Сен-Симона, вступило в период поло-
жительной системы, следующей за революционными бурями, и те-
перь научные искания призваны заменить собой революционные
эксперименты. Поставить на место разложившейся системы новую,
примирить распавшиеся элементы общественного бытия и мышле-
ния — такова задача времени. В эту эпоху должна достигнуть небы-
валого расцвета та наука, которую Сен-Симон называет наиболее
важной,— наука о сравнении идей, «общая наука о сравнениях,
иначе говоря — логика» *.
Таким образом, Сен-Симон в достаточно точных выражениях
излагает задачу, стоявшую перед философией Гегеля. Но посмот-
рим, как понимал историческое место своей философии сам Гегель.
В предисловии к «Науке логики», написанной примерно в одно и то
же время с «Наукой о человеке» Сен-Симона, он говорит о разру-
шении всех устаревших форм действительности и человеческого
знания, происшедшем за последние двадцать пять лет, то есть в пе-
риод революционных потрясений и войн. «При изменении субстан-
циальной формы духа совершенно тщетно желание сохранить фор-
мы прежнего образования: они — увядшие листья, которые отбра-
сываются возникающими у их оснований новыми почками. Игнори-
рование этого общего изменения постепенно исчезает и в научной
сфере. Незаметно даже противники привыкают к новым представ-
лениям и усваивают их... С другой стороны, уже прошло, по-види-
мому, время брожения, с которого начинается создание нового.
При первом своем появлении оно относится к широко распростра-
ненной систематизации прежнего принципа с фанатической
враждебностью и отчасти боится утратить себя в пространных част-
ностях, отчасти избегает труда, требуемого для научной разработ-
ки, и в сознании этой потребности хватается сначала за пустой
формализм. Ввиду этого потребность разработки и развития со-
* Oeuvres de Saint-Simon et d’Enfantin. vol. 40, pp. 11—12, 39.
держания становится еще более настоятельной. В формировании
той или иной эпохи, как и в образовании личности, бывает период,
когда главною целью является приобретение и утверждение прин-
ципа во всей его еще неразвитой напряженности. Но более высокое
требование состоит в том, чтобы этот принцип стал наукой» *.
Этими словами взгляд Гегеля на смысл его собственной теоре-
тической деятельности очерчен с необычайной ясностью. Старая,
отжившая свой век полусредневековая логика представляла собой
широко распространенную систематизацию прежнего принципа. Она
подвергалась разложению вместе с упадком соответствующей ей
субстанциальной формы, то есть прежнего, феодально-патриархаль-
ного общества и государства старого режима. На смену им в теории
и практике выступил новый принцип. Однако последний, по мне-
нию Гегеля, еще слишком абстрактен, неразвит. В своей револю-
ционной прямолинейности новый принцип отвергает всякие попыт-
ки систематизации как измену своему делу. Между тем революция
закончена. Старая система разрушена, и на ее место должна быть
поставлена новая система, новая логика. Категория логики — это
формы, в которых отвердевает раскаленная лава революционных
событий.
Философия Гегеля является отвлеченным изображением истори-
ческой смены борьбы и порядка, разрушительного и созидательного
периодов буржуазной революции. Гегелевское раздвоение единого
списано с действительного процесса дифференциации интересов
в течение последнего революционного десятилетия XVIII века.
Развитие через противоречия является для него единственной воз-
можной формой движения, и ту ступень диалектического процесса,
когда противоречия уже обнаружились и выступают во всей их
остроте, он ценит выше первоначального идиллического тождества
(тенденций, интересов). Но это понимание движущей роли проти-
воречий Гегель не довел и не мог довести до конца. Замеченные
им общественные антагонизмы находят себе наиболее полное раз-
витие в противоположности пролетариата и буржуазии. Они ре-
шаются в реальной исторической борьбе этих противоположностей,
в движении к диктатуре пролетариата и уничтожению классов. По-
нять это — значит стоять уже на точке зрения Маркса.
Гегель является в известном смысле антиподом Маркса именно
потому, что этот путь решения противоречий для него не сущест-
вует. Мир Гегеля ограничен опытом французской революции, взя-
той вне связи с дальнейшим углублением революционного процес-
са. Политическое затишье эпохи Реставрации, которая на деле была
периодом скрытого расширения почвы для новых, более мощных со-
циальных конфликтов XIX столетия, является в изображении на-
шего философа ступенью абсолютного и всеобщего синтеза. Вслед
143
* Hegel. Wissenschaft der Logik, I. Teil (Lasson), S. 4—5. Здесь и далее
перевод Мих. Лифшица. Статья была написана до выхода в свет советских
изданий цитируемых произведений Гегеля.— Примеч. ред.
за отрицанием должно последовать отрицание отрицания, а эта
высшая ступень есть примирение противоположного в логическом
единстве. Таким образом, философия Гегеля является теоретиче-
ским оправданием остановки революционного процесса на буржуаз-
ном его этапе, утверждением новой, устойчивой системы взамен
утраченной во время революции. Правда, революция была необхо-
дима, ее нельзя вычеркнуть из мировоззрения Гегеля. И характер-
но, что на страницах «Феноменологии духа» эпоха террора изобра-
жается в качестве необходимой ступени развития самосознания
(die absolute Freiheit und der Schrecken). Этого никогда не могли
простить Гегелю такие люди, как Юлиус фон Шталь*. И все же
сама по себе революция представляет, с точки зрения Гегеля, только
фурию исчезания **.
144 С точки зрения международного опыта Гегель ясно сознает себя
философом послереволюционной, органической эпохи и считает вся-
кую попытку возобновления и углубления революции обращением
вспять. Отсюда его отрицательная оценка июльских дней 1830 года.
В начале нашего века, писал Герцен, раздалось слово примире-
ние, Это магическое слово было произнесено представителями клас-
сического идеализма в Германии. Отсюда оно перешло во Францию,
вдохновляя Кузена и его школу, с таким же успехом, как в
XVIII столетии революционные идеи двигались в обратном направ-
лении. Даже в царской России писатель из семинаристов, Надеж-
дин, сосланный в далекий Устьсысольск за напечатание известного
письма Чаадаева, бредил примирением противоположностей.
После этого уже не кажется странным, что родиной этого при-
мирительного мировоззрения стала Германия, где никакой револю-
ции не произошло и где буржуазия, по словам Маркса, в течение
всего периода революционных войн рисковала только своей собст-
венной шкурой. «Да, немецкая история кичится таким движением,
которого ни один народ не совершил на историческом горизонте
до нее и которому ни один народ не станет подражать в будущем.
Ведь мы разделяли с современными народами реставрации, не
разделяя с ними их революций» ***. В этом, конечно, специфиче-
ски немецкая причина идеализма Гегеля. Он сам видит превосход-
ство Германии над остальными народами в том, что его родная стра-
на создала особый способ решения противоречий — Реформацию.
Действительно, со времен Реформации немецкое развитие при-
няло мелкобуржуазный характер. «Бессилие каждой отдельной об-
* Критикуя гегелевское учение об исторической необходимости, он пи-
шет: «Если бы Робеспьер и его товарищи в силу своей свободы решились на
человечность и сострадание, то не был бы осуществлен диалектический мо-
мент — субъективная воля с ее абстрактным равенством, которая в углублении
в самое себя должна была бы как крайнее отрицание объективного миропо-
рядка прийти к величайшему напряжению противоположности, к ревнивой яро-
сти уничтожения,— и таким образом мировой дух был бы посрамлен»
(Stahl Fr. J. Die Philosophic des Rechts, 3. Aufl., Heidelberg, 1854, Bd. 2, S. 128).
** Hegel. Phanomenologie des Geistes, 3. Aufl. (Lasson), S. 417.
*** Маркс K.t Энгельс Ф, Соч., т. 1, с. 416.
ласти жизни (здесь нельзя говорить ни о сословиях, ни о классах,
а в крайнем случае лишь о бывших сословиях и неродившихся
классах) не позволяло ни одной из них завоевать исключительное
господство». Неизбежным следствием этого, писали Маркс и Эн-
гельс в «Немецкой идеологии», было возвышение бюрократии, стоя-
щей как бы над противоречиями общественных интересов. «Госу-
дарство конституировалось, таким образом, в мнимо самостоятель-
ную силу, и это положение, которое в других странах было
преходящим (переходной ступенью), сохранилось в Германии до
сих пор. Этим положением государства объясняется также нигде
больше не встречающийся добропорядочный чиновничий образ
мыслей и все иллюзии насчет государства, имеющие хождение в
Германии» *.
Вот почему то, что по другую сторону Рейна вызвало к жизни J45
произведения Сен-Симона, переходящего уже в конце своей жизни
на сторону пролетариата, для немцев означало расцвет спекулятив-
ной философии, в которой «положительная система», решающая
противоречия революции, выступает под знаком протестантизма и
добропорядочного чиновнического сознания. Именно это подчине-
ние революционно-критического элемента «положительному» было
скрытой движущей силой гегелевской системы. Отсюда ее глубокая
противоположность революционной логике Маркса и Ленина, за-
ложенной в их произведениях и в объективном опыте нашей богатой
историческим содержанием эпохи.
Мы также стоим перед задачей развития нового принципа как
в практической жизни, так и в зеркале общественного сознания. Но
пролетарская революция не знает резкой противоположности между
двумя стадиями своего развития — критической и созидательной.
На другой день после революции рабочий класс не может просто
усыновить старые формы и методы управления, «идеологические
сословия» старого общества, его культуру, привычки. История про-
должает свою революционно-критическую ломку, неотделимую от
ее положительной или созидательной работы. И в соответствии
с этим в противоположность гегелевской логике примирения мате-
риалистическая диалектика отражает всестороннее углубление ре-
волюции до уничтожения классов и окончательной победы социа-
лизма, до полного устранения всех многообразных последствий
прежней формы исторической действительности.
В борьбе за эту практическую цель, как и в процессе исследова-
ния внутренней логики новых форм бытия и сознания,— во всем
этом изучению гегелевского наследства принадлежит почетная роль.
Однако стирать противоположность между идеалистической фило-
софией Гегеля и диалектическим материализмом было бы глубокой
ошибкой.
Социал-демократическая газета «Vorwarts» в передовой, посвя-
щенной столетию со дня смерти Гегеля (1931, 14 ноября), пишет:
* Мирке К.. Энгельс Ф. Соч., т. 3. с. 183.
«Отличие Гегеля от Маркса заложено не в том, что Гегель видит
вершину исторического развития в абсолютном духе, ибо слова
Маркса и Энгельса о прыжке из необходимости в свободу оказы-
ваются при ближайшем рассмотрении близкими или даже родст-
венными по смыслу». Разница между Гегелем и Марксом состоит,
по мнению газеты, в том, что первый усматривал выход из противо-
речий буржуазного общества в колониальной системе и других от-
душинах, между тем как Маркс, признавая относительное значение
таких вспомогательных средств, провозглашает необходимость пла-
номерной организации хозяйства в целом.
Похоже на то, что здесь устранение принципиального различия
между двумя противоположными направлениями в философии ста-
новится одним из условных знаков, применяемых для подделки
J46 программы «оздоровления» капиталистического хозяйства под со-
циализм. Сегодня в западной журналистике стало модным утверж-
дать, что философия Гегеля жива и, собственно, никогда не умира-
ла. Но это по крайней мере двусмысленно, ибо гальванизация
мертвой ткани, предпринимаемая ныне философскими представите-
лями буржуазных партий, преследует весьма прагматические цели.
Между тем периодом, когда жил и мыслил Гегель, и современ-
ностью есть известное сходство. Как и тогда, почва, на которой
воздвигнуто здание собственности и порядка, колеблется от под-
земных толчков. Послевоенный кризис капиталистической системы
стал настолько осязательным фактом, что без него невозможно по-
нять самых отвлеченных построений буржуазных идеологов. Все
они более или менее явно проникнуты единой целью, единым
стремлением — найти рецепт перехода от современного критиче-
ского периода к новой органической эре, ослабить противоречия или
по крайней мере сплотить все силы буржуазного общества перед
лицом возможной революционной ситуации. Вот общая причина
обращения к Гегелю, в котором эти ученые господа видят философа
примирения и синтеза. Одни связывают это примирение с фашист-
ским идеалом Третьей империи, другие именуют его социализмом.
Но какая разница между действительным историческим Геге-
лем и его жалким подобием, намалеванным услужливой кистью
современного идеалиста-гегельянца! Гегель, так же как Сен-Симон,
может быть назван сыном Великой французской революции. Все его
учение проникнуто действительным пафосом послереволюционного
развития буржуазного общества. Вместе с английскими экономи-
стами, которых он изучал на пороге XIX столетия, Гегель признает
развитие капитализма неизбежным и в то же время без малейшего
прикрашивания изображает противоречие между богатством и бед-
ностью, неукротимую анархию производства и все отрицательные
черты цивилизации. Недостатки гегелевской философии являются
следствием ее исторической ограниченности. Напротив, современ-
ные гегельянцы — настоящие апологеты буржуазного миропорядка,
противники нового, более высокого общественного строя. Их сход-
ство с Гегелем есть сходство начала и конца.
2
То, что сказано о философском наследстве Гегеля в целом, от-
носится и к его эстетике. Взгляды Гегеля представляют собой
классический этап в развитии эстетической мысли до Маркса. Влия-
ние этой системы взглядов на художественную литературу, драму,
теорию искусства XIX века огромно. Правда, это влияние далеко
не всегда признавалось с достаточной честностью, и было время,
когда позитивисты и кантианцы объявили гегелевскую эстетику
смешным пережитком. Как после великих стилей в искусстве сле-
дует эпоха односторонне развивающихся жанров, так и в науке об
искусстве после гигантских и всеобъемлющих систем происходит
обособление отдельных категорий когда-то единого научного цело-
го. Начиная со второй половины XIX века, классическая эстетика 147
обращена в развалины, куда все отправляются за мрамором для
возведения построек в новом, вульгарном стиле. Этот вульгарный
период истории эстетической мысли продолжается, в сущности, по
настоящее время, несмотря на то что именно в наши дни эстетика
Гегеля переживает своего рода возрождение вместе с так называе-
мым ренессансом гегелевской философии вообще. Достаточно ука-
зать хотя бы на пропаганду гегельянства в эстетике одним из лиде-
ров этого движения Германом Глокнером.
' Само собой разумеется, что возродить философию искусства
Гегеля в ее действительном значении современным гегельянцам
не дано. Но это не значит, что вопросы, которые ставит в своих
лекциях по эстетике Гегель, отошли в область предания. В наши дни
речь идет о жизни и смерти глубочайших основ буржуазного миро-
порядка. Гегель играет по отношению к нему такую же роль, как
Данте по отношению к средним векам. Вот почему коренные про-
блемы гегелевской философии, в том числе и его эстетики, снова
выдвигаются на первый план как для противников старого обще-
ства, так и для тех, кто хотел бы остановить течение времени. Таков
прежде всего вопрос об исторических судьбах искусства.
Не так давно один из видных историков искусства Мейер-Грефе
прочел в Вене доклад на тему о гибели художественного творчества.
Машины, сказал почтенный историк, изгнали человека, а там, где
на место органической формы человеческого тела становится мерт-
вый механизм, искусство более невозможно. Сам Мейер-Грефе сму-
щен этим обстоятельством, но есть немало людей, которые усмат-
ривают в упадке искусства закон прогресса. К чему кудрявые
обороты поэтической речи, когда время требует алгебраической точ-
ности? Зачем ходить приплясывая, зигзагообразно, если прямая
линия короче всякой ломаной? В чувствах и образах есть немало
темного, а это противоречит техническому мышлению и, следова-
тельно, прогрессу. Не все, стоящие на этой точке зрения, читали
Гегеля. Но именно в эстетике Гегеля учение о закономерном падении
искусства было впервые выражено в самой общей теоретической
Форме.
Идея эта имеет у Гегеля свою историю. Противоречие между
поэзией и действительностью привлекало его внимание еще в тот
период, когда он вместе со своим другом Гёльдерлином мечтал о
восстановлении античного политического строя. Юношеские произ-
ведения Гегеля то в элегической, то в обличительной форме проти-
вопоставляют мир собственности и своекорыстия публичному куль-
ту красоты, возможному только на основе демократии. Подобно
идеологам якобинства во Франции, Гегель критикует неравенство
имуществ и частный интерес с абстрактно-возвышенной точки зре-
ния гражданина. Его решение вопроса о будущем искусства тесно
связано с идеей возрождения античности.
Однако время поставило вопрос иначе. Вслед за героическим
периодом французской революции наступает эпоха лихорадочного
148 развития буржуазного общества. Начинается, по словам Маркса,
«прозаическое осуществление политического просвещения, которое
раньше хотело превзойти само себя и ударялось в фантастику»*.
По мере того как яснее обозначаются действительные завоевания
буржуазной революции, ее эстетическая фантастика начинает рас-
сеиваться. Идея восстановления классических художественных форм
прошлого вступает в конфликт с победоносным шествием капитала,.
Она теряет свой революционный характер вместе с другими попыт-
ками увековечить основу античного общества — мелкую собствен-
ность. И Гегель после длительной внутренней борьбы приходит
к признанию капиталистического прогресса со всеми свойственными
ему противоречиями.
Глубокий реалист в своих взглядах на исторические тенденции
времени, он по-прежнему видит чуждый искусству и поэзии про-
заический характер наступающего столетия **. Он видит в буржу-
азном обществе зрелище излишества, нищеты и общей физической
и моральной порчи. Но это дно, по которому катятся волны всех
страстей, является для зрелого Гегеля единственной почвой про-
гресса. Грязь и кровь, покрывающие буржуазное общество в про-
цессе его нарождения, все отрицательные стороны, неотделимые от
его развития, окупаются завоеваниями мирового духа.
В своей «Философии права» Гегель с торжеством изображает
процесс образования всеобщности труда из множества частных ра-
бот, создание формы всеобщности через посредство различно на-
правленного действия множества эгоистических сил. В процессе
труда происходит образование (Bildung) человеческого рода.
«Практическое образование посредством труда состоит в создаю-
щейся потребности и привычке к занятию вообще, к ограничению
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 136.
** Вот как, например, освещает век буржуазии Гегель в своей «Системе
нравственности» 1802 года: «Некто реален, если он имеет деньги. Воображение
исчезло. Значение имеет непосредственная наличность. Сущность вещи есть
сама вещь. Ценность есть звонкая монета. Налицо формальный принцип ра-
зума. Это абстракция от всякой особенности, характера и т. д., искусности
единичного» (System der Sittlichkeit von Hegel. Hrsg. von Mollat, 1893, S. 63).
своего делания, отчасти согласно природе материала, преимущест-
венно, однако, по произволу другого, и в приобретаемой благодаря
этой дисциплине привычке к объективной деятельности и общезна-
чимым навыкам». Наряду с этим прогрессирует разделение труда,
упрощение отдельных функций, увеличение их зависимости друг от
друга, механизация производства. Вместе с практическим образова-
нием посредством труда, пишет Гегель, развивается и образование
теоретическое *.
Этой апологией жизненной прозы Гегель стремится укротить
свой собственный эстетический бунт против действительности. Вся-
кая попытка возродить искусство и поэзию в их прежнем значении
является для него обращением вспять, к однажды пройденному воз-
расту человечества. Так, в «Философии истории» Гегеля мы чи-
таем: «Я уже раньше сравнивал греческий мир с возрастом юноше- ]49
ства в том смысле, в каком юность еще не есть трудовая деятель-
ность, еще не есть старание достигнуть ограниченной цели рассуд-
ка. а, наоборот, конкретная свежесть жизни духа... Греция являет
нам светлое зрелище юношеской свежести духовной жизни. Именно
здесь впервые дух созрел для того, чтобы делать самого себя содер-
жанием своего хотения и знания, однако таким образом, что госу-
дарство, семья, право, религия суть равно и цели индивидуальности,
а последняя является индивидуальностью только через эти цели.
Мужчина, напротив, живет в работе над объективной целью, кото-
рую он последовательно преследует даже вопреки своей индивиду-
альности» **. В этих словах слышится грустный отзвук стихотворе-
ния Шиллера:
Крошка невинный, играй! Ты покуда в Аркадии светлой
Радость, лишь радость одна властно владеет тобой.
Силы кипучей прилив сам себе ставит пределы.
Чужды отваге слепой долг и житейская цель.
Смейся! Уж труд недалек, истощающий, тяжко гнетущий.
Долг, повелительный долг, пыл и отвагу убьет.
* См.: Hegel. Philosophic des Rechts. §§ 197, 198 и др. Юстус Мёзер в
своих «Патриотических фантазиях» выразил дух этого образования с откро-
венностью, достойной XVIII столетия: «Влияние примера, постоянная при-
вычка, моральное воспитание,— все это, направленное к определенной цели,—
rot что нужно для того, чтобы одна нация с радостью шла в море, другая —
с песнями спускалась в шахты. Путем воспитания надо отнять у народа, кото-
рый должен приспособить себя к определенной форме труда, все чувства, кроме
одного, нужного ему для его специальности, чтобы тем самым сделать из него
постоянного раба своей профессии. Нужно отнять у него ловкость, вкус и силу
для всякой другой профессии, чтобы лишить его навсегда возможности сбро-
сить с себя цепи своей специальности». «Ничто, я думаю,— восклицает по по-
воду этих слов Жорес,— не сравнится со спокойной жестокостью сильных вы-
ражений Мёзера, когда он говорит о систематической атрофии, отнимающей у
рабочего все чувства, кроме одного — специального, нужного для его специаль-
ного труда и делающего его иа всю жизнь рабом этого единственного оставлен-
ного ему чувства» (Histoire socialiste de la Revolution fran^aise, t. 5, p. 28).
** Hegel. Philosophic der Weltgeschichte. Hrsg. von Lasson, S. 528 f.;
CM. также S. 135-137, 230. 239. 572.
В переходе от игры к труду, от детской беззаботности к муже-
ственному примирению с «железной цепью потребностей» Гегель
видит последний итог всего исторического развития. Задача фило-
софа состоит в том, чтобы понять необходимость этой смены миро-
вых эпох. «Будем работать не размышляя»,— говорит один из ге-
роев Вольтера. Будем работать размышляя и размышлять работая,
гласит формула Гегеля.
И он, действительно, возвещает наступление эры труда и раз-
мышления. В упадке поэзии вместе с развитием цивилизации дает
себя знать прогрессивное явление — победа общественной дисцип-
лины над пестротой и многообразием «доброго старого времени»,
торжество серьезности над игрой, разума и воли над чувством и
фантазией. Особенно важно в этом отношении учение Гегеля о не-
150 возможности нового расцвета эпической поэзии.
Первоначальный народный эпос знаменует для него целую по-
лосу истории человечества. Эпос возникает в те эпохи, когда об-
щественные отношения достигли известного развития, но представ-
ляют собой еще нечто неустойчивое, колеблющееся, находящееся
в процессе нарождения. Он исчезает, когда эти отношения теряют
характер непосредственной самодеятельности и живой взаимной
связи индивидов. «Некоторое уже слишком организованное устрой-
ство развитого государственного состояния с разработанными зако-
нами, точной юрисдикцией, упорядоченной администрацией, ми-
нистерствами, государственными канцеляриями, полицией и т. д.
уже не может служить почвой для подлинного эпического дейст-
вия». Точно так же враждебен подлинному эпосу и созданный
буржуазным обществом способ материального производства. «Наша
современная машинная и фабричная система, так же как вообще
способ удовлетворения наших внешних жизненных потребностей,
были бы, подобно современной государственной организации, не-
подходящими в качестве жизненного фона, которого требует перво-
начальный эпос» (XIV, 341—342) *.
Как и его великий итальянский предшественник Джамбаттиста
Вико, Гегель хорошо понимал связь высоких художественных форм
прошлого с неразвитостью той общественной ступени, на которой
они возникли. И не его вина, если существовавшая до сих пор исто-
рически обусловленная форма прогресса всегда жестоко теснила
народную самодеятельность и фантазию, истребляя почти без остат-
ка богатую эстетическую культуру, выросшую на почве народной
жизни. Гегель прекрасно видит прогрессивный характер перехода
от поэзии к прозе вместе с движением цивилизации с Востока на
Запад, он оставляет за пределами своего мировоззрения только
одно — исторически преходящий характер этого процесса.
«У всякого народа,— говорит Гегель,— при прогрессирующем
образовании наступает такое время, когда искусство указывает ку-
* Здесь и далее в этой статье в скобках указаны том и страницы «Лекций
по эстетике» в издании: Hegel. Samtliche Werke. Jubilaumsausgabe in zwanzig
В an den, hrsg. von H. Glockner, Stuttgart, 1927—1930.
да-то вне себя». Тогда приходит время науки. «В наше время есть
еще большая потребность в науке об искусстве, чем в те времена,
когда искусство вполне удовлетворялось собой как искусством»
(XII, 150, 32). Когда в наступающих сумерках вылетает сова Ми-
нервы и философия начинает свою живопись серым по серому, для
настоящей живописи и, более широко, для всякой непосредственной
художественной деятельности наступают плохие времена. «Прошли
прекрасные дни греческого искусства и золотое время позднего
средневековья»,— с глубокой грустью замечает Гегель. «Ни Гомер,
Софокл и т. д., ни Данте, Ариосто или Шекспир не могут появиться
в наше время; все, что высоко поется, все, что свободно высказы-
вается,— высказано» (XII, 31; XIII, 236).
Современная мысль должна согласиться с тем, что детство че-
ловечества невозвратимо. «Наша современность по своему общему
состоянию неблагоприятна для искусства». Государство, право, мо-
раль не способствуют больше эстетическому восприятию действи-
тельности. «Во всех этих отношениях искусство в смысле своего
высшего назначения является и остается для нас чем-то прошед-
шим. Поэтому оно потеряло для нас свою высшую истину и жизнен-
ность и скорее перенесено в наше представление, чем действитель-
но поддерживает свою прежнюю необходимость и занимает по-преж-
нему свое высшее место» (XII, 32).
«Кому любо,— продолжает свои размышления Гегель,— преда-
ваться жалобам и порицанию, тот может приписывать это явление
испорченности, перевесу страстей и корыстолюбивых интересов, из-
гоняющих как серьезную сторону, так и радость искусства, тот мо-
жет жаловаться на нужды времени, запутанное состояние граждан-
ской и политической жизни, препятствующее охваченному мелкими
интересами сердцу освободиться для высших целей искусства» (XII,
31). Сам Гегель отрицательно относится к подобным причитаниям,
он осмеивает назарейскую идею искусственного возвращения худож-
нику утраченной наивности при помощи особого воспитания и ухода
от жизни (XIII, 231).
Есть только один путь к тому состоянию духа, которое способно
еще сохранить известное место для искусства в новых условиях.
Мы уже знаем его — это путь примирения с действительностью.
Для понимания общего смысла эстетики Гегеля особенно характер-
на его теория романа — «современной буржуазной эпопеи». Исход-
ным пунктом в развитии романа является сознание утраты подлин-
ной почвы для художественного творчества и особенно почвы для
героического эпоса. Но роман имеет, по мысли Гегеля, умозритель-
ную, спекулятивную задачу — превратить эту утрату в приобрете-
ние. Наиболее подходящей темой является для него изображение
конфликта между поэзией сердца и прозой противостоящих ему
отношений. Этот конфликт находит себе решение в том, что «харак-
теры, сначала борющиеся с обычным миропорядком, научаются
признавать в нем высшее и субстанциальное, научаются прими-
ряться с обычными отношениями и деятельно выступать в них, а
151
с другой стороны, научаются лишать то, что они делают, прозаиче-
ской формы и тем самым на место преднаходимой прозы ставят
действительность, близкую и дружественную красоте и искусству^
(XIV, 395—396).
Само собой разумеется, что в этом взгляде на задачи современ-
ной литературы Гегель не был одинок. Он высказывает, в сущности,
тайну «воспитательного романа» Гёте. Апология практической дея-
тельности как решение конфликта между требованиями бунтующего
сознания и суровой прозой жизненных отношений — не редкость в
классической литературе и философии этого времени. Через учени-
ческие и страннические годы, через период бурных стремлений
мысль классики ведет нас к идеализации спокойной работы, восхва-
лению производительного труда и технического прогресса. Таков,
152 например, в романе Гёте о жизни Вильгельма Мейстера эпизод
посещения долины ткачей и другие картины в духе индустриально-
педагогических утопий конца XVIII века. Так, у Шиллера:
В дружном пламенном стремленьи
Труд все руки братски слил —
И цветет союз в движенья
Проявленьем общих сил.
Мастер и работник равны,
Каждый горд своей судьбой.
Где законов щит державный.
Там отпор обиде злой.
Труд есть граждан украшенье.
Прибыль — плата их трудам,
Честь царям за их правленье.
За труды почет и нам.
Столь удивительным образом поворачивается идея труда в том
потоке типических представлений, из которого вышла философия
Гегеля. Поистине сильная и слабая стороны мировоззрения немец-
ких писателей классической поры неотделимы одна от другой. То,
что с одной стороны выступает как поворот к практике, демократи-
ческой деятельности, материальному производству, описанному
часто даже в его деталях, оказывается с другой стороны трезво-жи-
тейским и вместе с тем пошло-идеальным признанием высшей муд-
рости в мещанской обыденщине, безропотном отправлении своих
обязанностей, хорошем поведении, чиновной добропорядочности.
Нет надобности доказывать, что это погружение в практиче-
скую жизнь, принятое классическим представителем буржуазной
культуры в качестве возможного выхода из смущавших ум общест-
венных противоречий, не тождественно с практикой в смысле рево-
люционно-критической переделки мира. Такая идея неразрывно
связана уже с исторической миссией и мировоззрением пролетариа-
та. Напротив, труд или революция — вот дилемма, проникающая
идеологию классической ступени развития буржуазной культуры.
Как представитель той эпохи, когда мелкобуржуазная револю-
ционность, обращенная по своим идеалам к прошлому, вступает в
коллизию с прогрессивным характером капиталистического произ-
водства, Гегель видит в революционере образ современного Дон-
Кихота. «Случайность внешнего бытия превратилась в прочный,
обеспеченный порядок буржуазного общества и государства, так что
теперь полиция, суды, войско, государственное управление стали
на место химерических целей, которые ставил себе рыцарь. Тем са-
мым изменяется и рыцарство действующих в новых романах героев.
Они в качестве индивидов с их субъективными целями любви, че-
сти, честолюбия или с их идеалами улучшения мира противостоят
существующему порядку и прозе действительности, которая со всех
сторон ставит на их пути препятствия... Особенно юноши суть эти
новые рыцари, которые должны проложить себе дорогу сквозь те-
чение обстоятельств в мире, осуществляющихся вопреки их идеалам,
и которые считают несчастьем уже самое существование семьи,
буржуазного общества, государства, законов, деловых занятий /55
и т. д., ибо эти субстанциальные жизненные отношения с их рам-
ками жестко противопоставляют себя идеалам и бесконечному пра-
ву сердца. Тут, стало быть, речь идет о том, чтобы проделать дыру
в этом порядке вещей, изменить мир, улучшить его... Эта борьба,
однако, в современном мире есть не более как ученические годы,
воспитание индивида на существующей действительности... завер-
шение этих ученических лет состоит в том, что субъект приходит к
необходимости остепениться; он проникается в своих желаниях и
мнениях существующими отношениями и их разумностью, вступает
в сцепление обстоятельств в мире и завоевывает себе в нем соответ-
ствующее положение» (XIII, 216).
Эта ирония неплохо задевает известную категорию бунтарей,
Дон-Кихотов революции, но все же это ирония обыденной жизни
над лучшим порывом юности. От элемента филистерства не могли
отделаться даже такие люди, как Гегель или Гёте. Но, несмотря
на это печальное обстоятельство, Маркс и Энгельс хорошо понима-
ли прогрессивно-исторический дух произведений немецкой класси-
ки. Они ставили ее одиноких гениев бесконечно выше толпы либе-
рально-филантропических буржуа или вульгарных демократов и со-
циалистов типа Карла Грюна. И основатели марксизма были правы,
ибо в те времена, когда рабочий класс еще не сложился в самостоя-
тельную историческую силу, сама история на своем реальном языке
ничего лучшего по сравнению с диалектической мыслью гегелевско-
го примирения с действительностью предложить не могла.
Учение Гегеля о нисхождении искусства выражает, в сущности,
тот объективный факт, который с неотразимой ясностью указан
Марксом: «Так, капиталистическое производство враждебно из-
вестным отраслям духовного производства, например искусству и
поэзии. Не учитывая этого, можно прийти к иллюзии французов
XVIII века, так хорошо высмеянной Лессингом. Так как в меха-
нике и т. д. мы ушли дальше древних, то почему бы нам не создать
и свой эпос? И вот взамен «Илиады» появляется «Генриада»*.
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 1, с. 280.
Классики политической экономии высказывают это положение ве-
щей уже тем, что относят поэтов, музыкантов, актеров к непроиз-
водительным рабочим. Адам Смит не скрывает, что положение этих
людей в буржуазном обществе есть «своего рода общественная
проституция» *. Поэзия, литература, искусство, представ перед
судом объективных отношений буржуазного общества, должны
признать, что все их усилия по самой природе дела направлены на
создание ценностей, в которых преобладает качественная, потреби-
тельная сторона и которые поэтому противостоят капиталистиче-
ской этике самовозрастания стоимости и производства ради произ-
водства.
Гегель выражает этот факт в фантастической, умозрительной
форме. Для него речь идет о сумерках художественного творчества
154 вообще. Но уже то обстоятельство, что он не закрывает глаза на
противоречивый характер истории искусства, доказывает его при-
надлежность к великой, классической, а не вульгарной формации
идеологов буржуазного меньшинства. Позднее, когда, по словам
Маркса, классический капиталист превращается в капиталиста мо-
дернизированного, познавшего наслаждение (см.: Капитал, XXII,
3), мы уже не найдем в буржуазной литературе столь ясной поста-
новки вопроса.
Искусству и поэзии, прекрасным созданиям юности человече-
ства, в эстетике Гегеля вечно грозит абстракция прогресса. Все
роды художественной деятельности уместны в ту эпоху, когда дух
еще не порвал пуповины, соединяющей его с природой, когда все
отношения качественно разнообразны и сами по себе имеют чувст-
венный характер. Даже язык человечества в те времена был насы-
щен образами, и само мышление развивалось в осязательно-телес-
ных формах.
Позднее, «когда духовное достигает в сознании более адекват-
ной ему, более высокой формы и представляет собой свобод-
ный, чистый дух, искусство становится чем-то излишним» **.
Вместе с развитием буржуазного общества разлагается, исчезает
овеянное народной фантазией мифологическое отношение к действи-
тельности. Отныне дух свободен от подчинения естественному по-
рядку вещей, от местной и национальной ограниченности. Вместо
множества гомеровских героев и святых христианского искусства он
признает лишь одного героя и одного святого — св. Гумануса***.
Тогда наступает эпоха абсолютного самосознания и отвечающего
своему назначению умозрительного мышления. Земля уже стала
для человека шаром, культура приобретает мировой характер ****.
* Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.—
Л., 1931, т. 1, с. 117.
** Hegel. Philosophic der Weltgeschichte (Lasson), S. 449.
*** Выражение Гёте в стихотворении «Die Geheimnisse». Гегель употреб-
ляет его дважды (XIII, 235; XIV, 358).
**** См.: Hegel. Philosophic der Weltgeschichte (Lasson), S. 763.
Все, что препятствует этому процессу, мешает ему в качестве
патриархальной идиллии, достойной гибели. Мировой дух ведет
свой гешефт en gros, не стесняясь никакими жертвами. «Справед-
ливость и добродетель, несправедливость, насилие и порок, таланты
и их деяния, малые и великие страсти, вина и невинность, велико-
лепие индивидуальной и народной жизни, независимость, счастье
и несчастье государств и единичных лиц — все это имеет свое опре-
деленное значение и ценность в сфере осознанной действительности
и находит в ней свою оценку и свое, однако несовершенное, право.
Всемирная история находится вне этих точек зрения» *. Страдание
составляет ее необходимый элемент, страницы счастья в ней — пу-
стые страницы.
Философия истории Гегеля проникнута безграничным стоициз-
мом по отношению к противоречиям прогресса в исторически сло-
жившемся обществе, основанном на стихийном развитии и жестоких
социальных антагонизмах. В сущности говоря, эта философия яв-
ляется фантастическим отражением стихийной, безличной силы
капиталистического прогресса. Мировой дух гегелевской философии,
который, по словам Маркса, есть не что иное, как мировой рынок **,
отбрасывает не только устарелые формы жизни и сознания, но вы-
ступает также в качестве отрицания всякого жизненного благопо-
лучия, всякой удовлетворенности бытием вообще. В нем находит
свое теоретическое признание то обстоятельство, что движение ци-
вилизации было до сих пор прогрессом на черепах.
Материальная оболочка отчасти способствует, но в еще большей
мере препятствует саморазвитию духа, и он преодолевает ее. От-
сюда у Гегеля идея необходимости падения искусства не только в
его исторически отживших формах, но и как чувственно-телесной
формы духовной деятельности вообще. В этом отношении, как ни
странно звучит такая формула, можно сказать, что философия ис-
кусства Гегеля есть новая версия средневековой догмы о греховно-
сти плоти.
Абстракция движения, лежащая в основе этой философии, дви-
жения как аскетической противоположности всех плотских привя-
занностей человечества, является особенностью классической сту-
пени буржуазного сознания. Она представляет собой преувеличен-
ное отражение жизненного принципа этого общества — производства
ради производства. Все, что относится к непосредственному поль-
зованию, наслаждению материальными и культурными благами,
наконец, само индивидуальное потребление — выступает здесь в ка-
755
* Hegel. Philosophic des Rechts (Lasson), S. 345.
** «В предшествующей истории является безусловно эмпирическим фак-
том также и то обстоятельство, что отдельные индивиды, по мере расширения
их деятельности до всемирно-исторической деятельности, все более подпадали
под власть чуждой им силы (в этом гнете они усматривали козни так назы-
ваемого мирового духа и т. д.),— под власть силы, которая становится все бо-
лее массовой и в конечном счете проявляется как мировой рынок» (Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 36).
честве непроизводительных издержек, faux frais исторического раз-
вития.
В своем основном экономическом сочинении Маркс дал замеча-
тельную характеристику классического капиталиста. Не погоня за
возрастанием стоимости требует самоотречения, наоборот, инди-
видуальное потребление, роскошь, наслаждение эстетической сто-
роной богатства являются для буржуа классической поры грехов-
ным отречением от священной функции накопления. Эта постановка
вопроса характерна для классиков политической экономии, она в
более отвлеченной форме присутствует и в философии Гегеля.
Не холодная абстракция развития, попирающего на своем пути
все, что стремится увековечить счастье и благополучие народов, яв-
ляется отчужденной формой прогресса, напротив, сама жизнь, с
156 точки зрения Гегеля, есть отчуждение абсолютного субъекта. Со-
знание и воля, погруженные в непосредственную естественную
жизнь, исполнены в этом отчуждении «бесконечных притязаний,
силы и богатства». Но это только момент, одна из ступеней разви-
тия абсолютной духовной сущности. «Дух противоположен самому
себе, он должен преодолеть самого себя как подлинно враждебное
препятствие: развитие, которое, как таковое, есть спокойное про-
движение,— ибо оно и в проявлении равно самому себе и представ-
ляет пребывание в себе,— в духе, в едином есть жестокая бесконеч-
ная борьба с самим собой. То, чего хочет дух,— это достигнуть
своего собственного понятия; однако он сам закрывает его себе, он
горд и исполнен наслаждения в этом отчуждении самого себя». Тер-
нистый путь истории не похож на гармоническое, постепенное вос-
хождение, а, скорее, на «жестокую, невольную работу против самого
себя» *.
Поэтому трагична и судьба искусства по отношению к социаль-
ному прогрессу. «Круг, создающий искусство, охватывает формы
отречений абсолютной субстанции» **. Вот почему вместе с воз-
вращением абсолютного к самому себе необходимо происходит про-
цесс нисхождения жизненной силы искусства — оно теряет свое бы-
лое значение, уступая место философии искусства и познанию во-
обще. «То, что должно возродиться как целое в мышлении, должно
отцвести как целое в жизни»,— повторяет гегельянец Фр. Теодор
Фишер (с некоторыми изменениями) печальный вывод Шиллера.
Дух трагического рока господствует в истории: «Упование на
вечные законы богов угасло, так же как умолкли оракулы, знавшие
случайное. Статуи теперь — трупы, от которых отлетела оживляв-
шая их душа, а гимны — слова, покинутые верой; в яствах богов нет
духовной пищи и питья, в их играх и празднествах сознание не най-
дет для себя радостного единства с сущностью. Произведениям муз
недостает силы духа, которая получила уверенность в себе в борьбе
богов и людей. Они теперь то, что они суть для нас,— сорванные
* Hegel. Philosophic der Weltgeschichte (Lasson). S. 129 —138.
** Hegel. Phanomenologie des Geistes (Lasson), S. 524.
с дерева прекрасные плоды, посланные нам благоприятной судь-
бой, представляемой в образе девушки. Нет больше действитель-
ной жизни в их наличном бытии, нет дерева, на котором они росли,
нет земли и элементов, составляющих их субстанцию, ни климата,
который создавал их определенность, ни смены времен года, кото-
рая управляла процессом их возникновения. Итак, судьба дает
нам в произведениях искусства не их мир, не весну и лето нрав-
ственной жизни, когда они цвели и зрели, но лишь скрытое воспо-
минание об этой действительности. Наше наслаждение плодами
поэтому не есть дело, угодное богу, посредством которого открыва-
лась бы нашему сознанию совершенная и воплощающая его истина,
оно есть внешнее дело, стирающее с этих плодов дождевые капли
или пыль и вместо внутренних элементов окружающей, воспиты-
вающей и воодушевляющей нравственной действительности воздви-
гающее обширные леса из мертвых элементов их внешнего сущест-
вования: языка, истории и т. п., не для того чтобы пережить их, а
только для того чтобы их себе представить. Но девушка, подно-
сящая сорванные плоды, есть нечто большее, нежели природа их,
выражающаяся в их условиях и элементах, то есть в дереве, воз-
духе, свете и т. п., потому что девушка соединяет все это высшим
образом в лучах самосознательного взгляда и в жесте подношения.
Так же точно дух судьбы, предлагающий нам произведения искус-
ства, есть нечто большее, нежели нравственная жизнь и действи-
тельность народа, потому что он есть воспоминание, то есть само-
углубление (Er-innerung) духа, еще внешнего в них, он есть дух
трагического рока, собирающего все индивидуальные божества и
атрибуты субстанции в едином пантеоне, в духе, сознающем себя
духом» *.
Итак, гибель подлинного искусства неизбежна и прогрессивна.
Для Гегеля, как и для Гёте, вернуться к художественным формам
прошлого — это значит вернуться обратно в утробу матери. Но что
занимает место искусства в позднейшей современности, которую
стремится выразить Гегель своей философией? Высшая жизнь со-
стоит в воспоминании. Серый цвет теории разлагает красочный мир
искусства, а в практической жизни труд над объективной целью
поглощает все внимание индивида. Современность, о которой гово-
рит Гегель,— это в основе своей буржуазное общество, die burgerli-
che Gesellschaft, или, по выражению Шиллера, государство нужды
и рассудка, над которым реет бесплотное существо умозрительной
философии.
3
Эстетическое учение Гегеля находится в полном соответствии
с его философскими взглядами. Мы видим здесь тот же перелом от
революционного отрицания действительности к примирению с про*
157
* Hegel. Phanomenologie des Geistes (Lasson). S. 523—524.
зой и скукой так хорошо осмеянных Фурье буржуазных отношений.
Прогрессивно-исторический характер эстетики Гегеля — в его уче-
нии о развитии через отрицание всех отживших ступеней действи-
тельности и сознания. Но эта диалектическая мысль является здесь
в идеалистической форме, подобно тому как безграничное развитие
производительных сил человеческого общества выступает у класси-
ков буржуазной политической экономии в форме производства ради
производства.
Философия и эстетика Гегеля проникнуты убеждением в том,
что по странной превратности мирового закона все хорошее должно
погибнуть. Прогрессивное развитие может совершаться лишь за
счет бесконечных жертв и народных бедствий, нищеты, подавления
индивидуальности, драконовой дисциплины капитала, исчезновения
J$g всякой привлекательности труда, падения целых областей духовной
культуры, каковы искусство и поэзия. Другого выхода, кроме при-
мирения с этими отрицательными чертами прогресса, Гегель не
знает. Он требует от художника противоестественной любви к тем
жизненным отношениям, которые, по его же собственному призна-
нию, изгоняют всякую любовь.
Такова отрицательная сторона его эстетического мировоззрения,
в которой, разумеется, невозможно видеть только личную слабость
или простую ошибку. Тем не менее после смерти Гегеля значение
этого взгляда радикально меняется, и против него выступают демо-
кратические мыслители, как Фейербах и Чернышевский, отстаивая
право народных масс на хорошую жизнь, право чувственности во-
обще, а следовательно, и право искусства.
Эстетика Гегеля не избежала критических выпадов и со сторо-
ны либеральной буржуазии. Многочисленные либеральные против-
ники Гегеля всегда выдвигали против него обвинение в слишком
жестоком обращении с искусством. Это были уже представители
того поколения буржуазии, когда, по словам Маркса, она достаточ-
но просветилась для того, чтобы не отдаваться всецело производст-
ву, а стремиться также к просвещенному потреблению, когда даже
духовный труд все более совершался на пользу новому правящему
классу и когда, с другой стороны, убаюкивающие сказки о бесконеч-
но отдаленном светлом будущем стали более уместны, чем стоицизм
Гегеля. Отныне буржуазия уже не противостоит идеологическим
сословиям в качестве представителя производительного труда, ибо
«против нее поднимаются настоящие производительные рабочие и
точно так же заявляют ей, что она живет за счет труда других
людей» *.
Но история перевернула и эту страницу. К столетию со дня
смерти Гегеля мы являемся свидетелями неожиданного возрожде-
ния его философии, правда, в неузнаваемой форме. Легко понять,
что апофеоз труда, чуждого непосредственной самодеятельности,
жестокий закон, согласно которому страницы счастья суть пустые
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 1. с. 297.
страницы в истории, эта аскетическая программа гегелевского идеа-
лизма дает богатый материал для проповеди отречения от собст-
венных интересов, которую буржуазная мысль на пороге 30-х годов
нашего века несет трудящемуся большинству. Праздник всеобщего,
победа духа над его материальной оболочкой — все это может быть
переведено на обыкновенный человеческий язык. Читатели газет,
поместивших юбилейные статьи в честь великого немецкого идеа-
листа, поймут, что речь идет о наступлении на материальные по-
требности рабочих, о дрессировке толпы для «оздоровительных»
мероприятий буржуазных правительств, воспитании масс посред-
ством чрезвычайных декретов. Все это понятно, хотя и выражено
с подобающим философским глубокомыслием.
Впрочем, дело не только в современных попытках возрождения
классического идеализма. Идеи Гегеля объективно присутствуют
в самых различных умственных течениях эпохи умирающего капи-
тализма. И мы с удивлением видим, что не только цеховые филосо-
фы, участники международного гегелевского союза, но и люди, да-
лекие от всякой серьезной философии — многочисленные поклон-
ники техницизма, рациональной экономии, «организации психики»,
сами того не ведая, отдают дань этим идеям. Таковы, например,
ходячие представления о ненужности искусства в эпоху системы
Тэйлора и Форда — вульгарное повторение уже известного нам
взгляда Гегеля.
Поистине удивительна судьба идей! Насколько драгоценны
были мысли великого немецкого философа сто лет назад, настолько
же бессодержательны и реакционны подобные идеи в наши дни.
При изменившихся обстоятельствах одни и те же черты могут иметь
совсем другое значение. В эпоху Гегеля можно было думать, что
противоречие между искусством и прогрессивным развитием обще-
ства носит абсолютный характер, что прозаический порядок бур-
жуазной цивилизации (с некоторыми поправками, взятыми из
кунст-камеры дворянской монархии) является последним словом
разума. Это заблуждение, как бы ни было оно значительно, легко
объяснить и отчасти даже понять, исходя из реальных исторических
условий начала прошлого столетия. Напротив, современные теории,
стремящиеся увековечить кризис художественного сознания, свя-
занный с господством капиталистического способа производства,
перенести этот сложившийся стереотип в другую общественную
среду, не заслуживают никакого оправдания.
Глубокая обывательская иллюзия, лежащая в основе жертво-
приношения искусства на алтарь технического прогресса, имеет,
однако, более широкий смысл. Она является парадоксом, отвлечен-
ной идеологической формой реальной общественной тенденции.
В наши дни значительная часть образованных людей стремится
привести к одному знаменателю две разные величины — громадное
напряжение сил, которого требует от народных масс строительство
социализма, и чрезвычайные усилия буржуазных правительств, на-
правленные на то, чтобы удержать за собой господствующее поло-
759
жение в мире. Формальные точки соприкосновения, если не анало-
гии, могут быть найдены. И вот являются теории, в которых
индустриализация Советского Союза и опыт применения планового
хозяйства рассматриваются как признаки новой безлично-органи-
зованной и сверхрациональной технической эры.
В рамках подобных представлений может занять известное место
и гегелевская философия труда. Так называет эту систему взглядов
один из выдающихся представителей современной немецкой фило-
софской литературы Ганс Фрайер*. Но было бы грубой фальшью
навязывать такой порядок идей мировоззрению революционного
пролетариата. Философия труда, живущая в героическом порыве
народов, строящих социализм, не может иметь ничего общего с по-
давлением потребностей живого индивида, она не заключается в
J60 т°м, что чувство должно быть подчинено абстрактной схеме рацио-
нализации жизни или вообще отброшено как пережиток мещанства.
Между тем к этой плоской абстракции сводятся многие разно-
видности так называемых левых течений в искусстве, пуризм в ар-
хитектуре, устраняющий все живое во имя холодной геометрии
форм, и, наконец, обычный вывод всей этой, часто маниакальной
в своей последовательности схемы, а именно — полное отрицание
искусства, иконоборчество. К этому близок и более практический
род ходячих идей насчет того, что в эпоху темпов следует доволь-
ствоваться малым. Все эти представления играют роль в нашей
жизни, но мы вправе считать их пережитками старого общества.
Это отголоски той морали скупого рыцаря, которую буржуазия
выдвигает сначала против наслаждающейся аристократии, а затем
против демократической массы, стремящейся к хорошей жизни
здесь, на земле.
Мы уже говорили о том, что эстетика Гегеля — не случайный
узор отвлеченной мысли. В ней нашел себе выражение реальный
факт — неоспоримое и давно замеченное лучшими умами нового
времени отрицание искусства, внутренне присущее буржуазному
обществу. Этот факт нуждался в теоретическом обобщении, и
эстетика Гегеля дала его. Но, во-первых, Гегель вовсе не радуется
своему открытию. Напротив, он говорит о невозродимости класси-
ческих форм художественного творчества с глубокой болью. Во-вто-
рых, его анализ причин этого факта не сводится к простому уста-
новлению противоречия между рациональным мышлением и темным
чувством. Мысль Гегеля насыщена конкретными историческими
наблюдениями, она дает картину истории искусства в ее противо-
речивой реальности и полноте. Не удивительно, что при всех ее
недостатках, эта картина сама по себе приводит к мысли о возмож-
ности нового цикла развития.
Подлинные художественные эпохи остались позади — на чем
основано это убеждение Гегеля? Прежде всего на том, что у порога
* См. его «Die Bewertung der Wirtschaft im philosophischen Denken des
XIX Jahrhunderts», Lpz., 1921.
своего исторического бытия человек находит себе удовлетворение
в непосредственной жизни. Потребности его неразвиты, но в этих
ограниченных рамках, свободный от массы накопленной рефлексии,
он пользуется благами жизни интенсивно, создавая что-то закон-
ченное и цельное. Дальнейший прогресс, рождающий «неопределен-
ное умножение и специализацию потребностей, средств и наслаж-
дений», есть вместе с тем «дальнейший рост зависимости и
нищеты».
Гегель по-своему, но правдиво выразил трагический ход
прежней истории. Вот почему эта постановка вопроса подсказывает
революционную перспективу, оставшуюся за пределами его собст-
венного кругозора. Противоречие между ростом общественного бо-
гатства и удовлетворением потребностей живого человека, не желаю-
щего быть простым материалом развития, может решить только
социализм.
В эпохи расцвета искусства, например в Греции, существовала,
по словам Гегеля, неразвитая гармония между всеобщим и личным
интересом. Вместе с прогрессивным историческим развитием это
единство распалось. Всеобщее прокладывает себе дорогу сквозь ты-
сячи мелких страстей, а его прогресс во многом противоречит инте-
ресам отдельной личности. Не значит ли это, что социалистическое
общество, связывающее личное благо с количеством и качеством
труда, отдаваемого индивидом общественному производству, яв-
ляется единственным возможным путем к новому подъему более
гармонической формы сознания?
Мысль Гегеля о неизбежном закате искусства основана, между
прочим, на том историческом наблюдении, что высокие формы ху-
дожественного творчества в прошлом были связаны с расцветом
народной культуры. Напротив, вся противоречивость прогресса вы-
ражается в фактах упадка и даже гибели целых народов, с их
неповторимой идеальной личностью, вместе с развитием мирового
хозяйства и международной культуры. Эту особенность прогресса
в его исторически сложившихся прежних формах, которую на своем
философском языке выразил Гегель, впервые ставит под сомнение
социализм. Его задача — устранить самые глубокие корни подобных
противоречий во имя нового типа международной культуры, расту-
щей на почве действительного и всестороннего развития наций.
Противопоставляя эпоху искусства эпохе труда, Гегель просто
выражает тот факт, что в буржуазном обществе труд лишен всякой
привлекательности и представляет собой крайнюю противополож-
ность самодеятельной природе общественного человека. В нравст-
венном отношении, по выражению Маркса, капиталистический спо-
соб производства требует от рабочего лишь некоторых качеств
чисто негативного типа, каковы терпение, бесстрастие, способность
не отвлекаться во время работы. Напротив, дело нового общества,
насколько это возможно, соединить труд с увлечением творчества
и вызвать к жизни силы массовой инициативы, соревнования, са-
модеятельности.
161
Наконец, в общественной дисциплине, подчиняющей себе все
многообразие чувств и потребностей индивида, с такой достовер-
ностью описанной Гегелем, мы узнаём исторически ограниченную
форму всеобщей связи, созданную буржуазной эпохой. Рабочий
класс, прошедший школу капиталистической фабрики и строящий
здание нового, более высокого общественного порядка, также знает
необходимость дисциплины. Но есть разница в постановке этого
вопроса у Ленина по сравнению с тем, что несет в себе философия
труда классического идеализма.
Мы уже знаем, что для Гегеля нет другого выхода, кроме му-
жественного примирения с действительностью. Эта действитель-
ность включала в себя и экономическую власть — деспотию капита-
ла, господствующего над производительным трудом, и полицейское
государство, стоящее на страже общественного порядка, враждеб-
ного поэтической стороне жизни, мещанского, по свидетельству са-
мого Гегеля. Другое дело — сплочение народных масс, та проле-
тарская дисциплина, которую требует Ленин, не потому что это
идеал наш, а потому что без нее невозможна радикальная чистка
общества от мерзостей прошлого, борьба с паразитами, освобожде-
ние таящихся в народе способностей и талантов. Для Гегеля дис-
циплина есть отрицание революции, ее законченность. Для Ленина
она является необходимым спутником революционного подъема.
Философия Гегеля и диалектический материализм выражают со-
бой противоположность двух исторических путей, двух типов мате-
риального и духовного развития. Создавая широкую почву для
самодеятельности масс, осуществляя свободное сотрудничество
народов и разрушая цивилизованную ограниченность так же, как
капитализм разрушил ограниченность патриархальную, социалисти-
ческое общество ведет к устранению тех причин, которые побуж-
дали лучших представителей мыслящего человечества искать утеше-
ния в идее трагического рока.
1931
ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЧЕРНЫШЕВСКОГО*
Николай Гаврилович Чернышевский был родоначальником «со-
лидной материалистической традиции» на Руси **. Отсюда особое
значение его философских взглядов, изложенных в немногих ста-
тьях и так или иначе выраженных во всей совокупности его публи-
цистических произведений.
Правда, философский материализм был известен в России до
Чернышевского. Идеи просветителей XVIII века оставили глубокий
след в истории русской общественной мысли. Но даже такой чело-
век, как Радищев, еще не решился открыто принять учение этой
безбожной и преследуемой школы (он даже вслед за другом своей
молодости Ф. В. Ушаковым занимался опровержением Гельвеция).
Сановные вольнодумцы из числа покровителей Радищева и Ушако-
ва искали в материализме род «философии наслаждения». Русский
вельможа XVIII века посещал Вольтера и Дидро, прислушивался
к различным течениям просветительной философии, внимал
За чашей медленной афею иль деисту,
Как любопытный скиф афинскому софисту,
но собственное его отношение к этим идеям оставалось поверхност-
ным и непоследовательным.
Среди выдающихся произведений свободной мысли XIX века
выделяются «Письма об изучении природы» Герцена — блестящая
проповедь мировоззрения вполне материалистического и прибли-
жающегося в общих чертах к диалектическому материализму Марк-
са и Энгельса. У Герцена мы видим попытку представить природу
как нечто бесконечно живое, богатое внутренними противополож-
ностями, многообразное. Однако сознательная партийность в фило-
софии не была сильной стороной автора «Писем об изучении при-
роды». Он еще рассуждает о высшем синтезе, примиряющем одно-
сторонние крайности идеализма и естественных наук. Для того
чтобы два основных течения философии вполне и определенно раз-
163
* Расширенный вариант статьи, опубликованной в журнале «Литератур-
ный критик» (1939, № 10).
** См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 24.
межевались в русской литературе, понадобился мужицкий демокра-
тизм Чернышевского, как определяет его общественную позицию
Ленин.
Н. Г Чернышевский открыто причислил себя к гонимой школе
не-идеалистов. Познакомившись в конце 40-х годов с философией
Фейербаха, он не только усвоил себе это учение, но и придал ему
более последовательный и воинствующий характер. Деятельность
Чернышевского была предвестием великой «философской разбор-
ки», происшедшей в России после революции 1905 года. И недаром
Ленин в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм» прямо
ссылается на Чернышевского, называя его единственным действи-
тельно великим русским писателем, «который сумел с 50-х годов
вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского
164 материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитиви-
стов, махистов и прочих путаников» *.
В то время когда Чернышевский начал свою сознательную дея-
тельность, передовая общественная мысль еще находилась под влия-
нием философии Гегеля. Отдавая должное глубине и благородному
характеру этого учения, Чернышевский считал его устаревшим и
неспособным указать надежный путь к свободе и счастью народа.
Философия Гегеля была фантастическим отражением великой исто-
рической драмы старого общества. Она признавала страдания чело-
вечества нормальной расплатой за все достижения культуры и про-
гресса. Гегель осмеивал сентиментальные иллюзии, сладенькие
утопии людей, которые звали общество назад, к «естественному
состоянию», этой воображаемой первобытной идиллии на лоне
природы. Бессильные добрые пожелания! История совсем не похожа
на мирное прозябание Филемона и Бавкиды. Развитие требует
жертв, цивилизация возникает на развалинах множества местных и
национальных культур, богатство рождает бедность, фабрики и
мануфактуры утверждают свои успехи на нищете многочисленного
класса людей. Народы стремятся к счастью, но эпохи счастья в исто-
рии— пустые страницы. Так учит Гегель, и для него удовлетворе-
ние человеческих потребностей не может быть целью истории — она
охраняет своим всеобщим законом только интересы развития. Вся-
кая остановка на этом пути, всякая удовлетворенность материаль-
ным благополучием становится изменой мировому духу, соблазни-
тельным препятствием, которое ставит ему природа, вещественность.
Поэтому чем прекраснее расцветает жизнь, тем вернее осуждает
ее на гибель фатальный закон мирового развития:
Красота цветет лишь в песнопенье,
А свобода — в области мечты.
Эти слова Шиллера выражают общее положение немецкого идеа-
лизма, которое с известными изменениями принимала и философия
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 384. О «философской разборкеэ
в России см. статью В. И. Ленина «Наши упразднители» (там же. т. 20, с. 128—
129).
Гегеля. Но это положение было совершенно неприемлемо для Чер-
нышевского.
Идеализм приводит свободную мысль к самоотрицанию, ре-
зиньяции. Столь безнадежный итог философии Гегеля заметил уже
Белинский в последние годы своей литературной деятельности. Но
если таков результат диалектического мышления, то незачем брать-
ся за философию. Гораздо проще принять старую казенную рели-
гиозную догму, давно осудившую нашу грешную плоть на вечное
страдание. Нет, говорит Чернышевский, жизнь человечества —
не арена борьбы между духом и материей, и вообще в человеке нет
двух начал, а только одна реальная натура. «Философия видит
в нем то, что видят медицина, физиология, химия; эти науки дока-
зывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия
прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей нату- /65
ры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаружи-
лась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем,
так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит
по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет»
(7, 240)*.
Реальная природа, то есть материя, обладает бесконечным мно-
жеством свойств; среди них есть и особое свойство сознательности.
Явления душевной деятельности не более изумительны, чем горение
веществ, подверженных этому химическому процессу. Мы еще не
умеем объяснить многих качеств природы и не знаем многих явле-
ний, таящихся в недрах вещества, но мы отлично знаем, чего нет
и не может быть в природе. В ней нет ничего сверхъестественного,
не принадлежащего к бесконечно разнообразным явлениям материи.
Такой метод защиты материализма (быть может, усвоенный Черны-
шевским под влиянием Бэкона) он называет теорией отрицатель-
ных выводов, учение же о единстве человеческой натуры — антро-
пологическим принципом в философии.
Из этого принципа вытекало нечто очень важное для политиче-
ских целей Чернышевского. Если никакого дуализма в человеке
не видно, то мучительный характер исторического развития нельзя
оправдать жестоким законом подчинения материи духу. Счастье и
свобода вполне возможны здесь, на земле—это зависит от общест-
венных условий, которые являются делом самого человека. Мате-
риальные потребности народов естественны и заслуживают удов-
летворения. Красота цветет не только в песнопенье, ее основой
является хорошая жизнь, «жизнь, как она должна быть» — идеал
гармонического развития отдельного живого существа и целого
общества.
Точно так же не в отречении от своих интересов заключают-
ся требования подлинной нравственности. На место аскетиче-
ской морали, которую проповедуют массам лицемерные хищники
* Здесь и далее в этой статье в скобках указаны том и страницы по нзд.:
Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч., М., 1939—1953.
и наивные идеалисты, Чернышевский выдвигает жизнерадостную
философию разумного эгоизма.
Эта философия проходит сквозь все его экономические, полити-
ческие и литературно-критические произведения. Каждая страница
этой энциклопедии русского просвещения проникнута неизменной
верой в победу разума и вместе с тем осторожным пониманием
трудностей, встречающих его на историческом пути.
Основное содержание всей публицистики Чернышевского можно
выразить его собственными словами: «Добро и разумность — это
два термина в сущности равнозначащие. Это одно и то же качество
одних и тех же фактов, только рассматриваемое с разных точек зре-
ния: что с теоретической точки зрения разумность, то с практиче-
ской точки зрения — добро; и наоборот: что добро, то непременно
166 и разумно.— Это основная истина всех отраслей знания, относящих-
ся к человеческой жизни; потому это основная истина и всеобщей
истории. Это коренной закон природы всех разумных существ.
И если на какой-нибудь другой планете живут разумные существа,
это непреложный закон и их жизни, все равно как непреложны
наши земные законы механики или химии для движения тел и для
сочетания элементов и на той планете. Критериум исторических
фактов всех веков и народов — честь и совесть» (14, 645).
Так писал Н. Г Чернышевский сыну из занесенного снегом Ви-
люйска, глухого угла Сибири, куда он был водворен царским пра-
вительством после каторги. Не надо думать, что эта вера в неугаси-
мый светоч разума была у него свободна от всяких сомнений. Чер-
нышевский .хорошо понимал, как тяжелы и реальны железные
цепи, которыми скован критериум исторических фактов всех веков
и народов — честь и совесть. Но он понимал и другое: зло господ-
ствует не вследствие присущей ему неистребимой силы, а потому
что оно находит незаметную, но очень существенную поддержку со
стороны «обыкновенной деятельности обыкновенных слабостей
массы недурных людей» .
В другом письме из Сибири Чернышевский говорит: «Китайцы
ссорились между собою. Обыкновенная человеческая слабость. Но
без нее разве проник бы Дж[ингиз]-Хан в Китай?—Китайцы за-
давили бы его на границе, как много раз прогоняли его предместни-
ков.— Еще яснее ход дела на Западе.— Жители Маверранегра
увлеклись обыкновенною человеческою слабостью покорить сосе-
дов. И покорили. Но обессилили тем и покоренных соседей и самих
себя. Пышности стало много в Маверранегре, а прежней серьезной
силы стало гораздо поменьше прежнего. И легко стало Дж[ингиз]-
Хану прихлопнуть всех их вместе, и победителей, и побежденных»
(15, 27).
Таким образом, если в истории есть лестница зла, наказываю-
щая меньшее преступление еще большим, то из этого закона кары
вытекает и обратное следствие — недолговечность всякой насмешки
над критерием чести и совести. Грубый, нерасчетливый эгоизм, на-
правленный против сплоченности людей, их общественных интере-
сов, возвышающих одних над другими и подчиняющий их в конце
концов неограниченной власти какого-нибудь Чингис-хана, есть
коренное проклятие человеческой истории, ведущее ее от катастро-
фы к катастрофе.
Чем кончились походы монголов? Завоевательные народы все-
гда кончали тем, что истреблялись и порабощались сами, писал
Чернышевский в статье «Антропологический принцип в филосо-
фии». «Монголы Чингисхана жили в своих степях такими бедными
дикарями, что, по-видимому, трудно было им притти в положение,
худшее прежнего». Но в результате их разрушительных походов
против земледельческих стран Азии и Восточной Европы судьба
монголов стала еще более плачевной. То же самое произошло с та-
тарами Батыя. Они совершенно исчезли с лица земли, а те народы,
которые ныне известны под именем татар — потомки покоренных 167
ими народностей. То же самое было на Западе. «Испанцы, опусто-
шив Европу при Карле V и Филиппе II, сами разорились, впали
в рабство и наполовину вымерли от голода. Французы, опустошив
Европу при Наполеоне I, сами подверглись завоеванию и разоре-
нию в 1814 и 1815 годах» (7, 288).
Закон отрицания относится и к внутренним классовым отноше-
ниям людей. Собственники мануфактурных предприятий хотят
обогатиться за счет покровительственных пошлин, а это ведет на-
цию к бедности и сокращает доходы тех же капиталистов, которые
гораздо богаче в странах свободной торговли. Землевладельцы, жи-
вущие за счет рабского или крепостного труда, в конце концов
разоряются. Бюрократия, препятствующая умственному и общест-
венному развитию нации, становится бессильной и приводит все
дела страны в состояние расстройства. «Недаром сравнивают с
пиявками людей сословия, обогащающегося во вред своей нации».
Но пиявки, насосавшись человеческой крови, в большинстве случаев
гибнут.
Словом, понятие добра, продолжает Чернышевский, вовсе не рас-
шатывается от того, что мы замечаем его материальную природу,
напротив — оно укрепляется этим. «Только то, что составляет на-
туру человека, признается в науке за истину; только то, что полезно
для человека вообще, признается за истинное добро; всякое укло-
нение понятий известного народа или сословия от этой нормы со-
ставляет ошибку, галлюцинацию, которая может наделать много
вреда другим людям, но больше всех наделает вреда тому народу,
тому сословию, которое подверглось ей, заняв по своей или чужой
вине такое положение среди других народов, среди других сосло-
вий, что стало казаться выгодным ему то, что вредно для человека
вообще. «Погибоша аки Обре» — эти слова повторяет история над
каждым народом, над каждым сословием, впавшим в гибельную
для таких людей галлюцинацию о противоположности своих выгод
с общечеловеческим интересом» (7, 288—289).
Вслед за демократическими писателями XVIII века Чернышев-
ский находит, что в истории заложен некий автоматизм разума,
действующий, правда, стихийно и противоречиво, но доступный че-
ловеческому пониманию. Не может быть свободен и счастлив чело-
век, угнетающий других людей,— таков «критериум», норма истории
и личной жизни. Отсюда видно, что для Чернышевского разум
всемирной истории не устраняется начисто во имя стихии матери-
альных фактов, силы или выгоды, но он как бы лишается своей
всеоправдывающей способности и не требует больше подчинения
тому жестокому порядку вещей, который разумен лишь в очень
отдаленном смысле при самом широком растворе циркуля абстрак-
ции и через множество посредствующих звеньев.
Вообще говоря, не существует таких бессмысленных расточений
человеческих жизней и сил, которые не были бы в конечном счете
оправданы историческим развитием. Оправданы и походы Чингис-
168 хана, оправданы и бедствия Тридцатилетней войны, и гнусности
плантаторов или фабрикантов, обогащавшихся за счет детского
труда. Все это оправдано во имя тех результатов, которые достиг-
нуты или некогда будут достигнуты человечеством. Но такое оправ-
дание, не принимающее в расчет то обстоятельство, какой — боль-
шой или малой — кровью будут достигнуты эти результаты, есть
парадокс и скорее осуждение, чем оправдание, потому что лестница
зла бесконечна.
Мы не можем сказать, что у Чернышевского было верное знание
того, каким образом в конце концов произойдет поворот с одного
исторического пути на другой и где нужно искать ту развилку путей,
которая открывает возможность решить этот старый проклятый
вопрос вполне и настоящим образом. Да и сама история запутала
его надолго и отдалила срок совпадения работы человеческого
разума с практическими условиями и наличием общественных сил,
необходимых для положительного осуществления нормы всех веков
и народов. Но хорошо уже и то, что Чернышевский сумел сделать
важный шаг вперед по отношению к философии Гегеля и дополнил
его диалектический анализ различием двух форм единства противо-
положностей, двух путей прогресса — более тяжкого, страдатель-
ного для большинства людей и более демократического, свободного
и соответствующего своему понятию.
Из этого следует также преимущество Чернышевского как тео-
ретика по отношению к тем мыслящим деятелям демократической
русской культуры второй половины прошлого века, которые во имя
справедливого отвращения к прогрессу, основанному на страданиях
миллионов, повернули в сторону, обратную всякому прогрессу, то
есть в сторону консервативного идеала. Это было время, когда та-
кой выдающийся знаток русского языка, как В. И. Даль, писал
против обучения крестьянских детей грамоте, а зарождавшееся
народничество связывало цели революционной партии с возрожде-
нием народного прошлого. Нет ничего удивительного, что в такой
ситуации Чернышевский должен был особенно подчеркивать свою
веру в успехи разума. Его рассуждения часто кажутся слишком
рассудочными, и это принято относить за счет рационализма, свой-
ственного всем просветителям. Нужно, однако, принять во внимание
всегда присутствующий у Чернышевского элемент сократовской
иронии и склонность «эпатировать» своих противников *. На деле
его неизменная вера в прогресс и образование всегда имеет более
конкретный, то есть избирательный, дифференцированный, диалек-
тический характер. Смотря какой прогресс и какое образование!
«Я всегда был человеком, смеявшимся над прогрессистами всяких
сортов»,— писал он сыну (14, 551).
Превосходный урок диалектики — столкновение Н. Г Черны-
шевского с педагогическими идеями Льва Толстого, вернее, с отно-
шением писателя к цивилизации в целом. Народная школа, откры-
тая Толстым в Ясной Поляне, была образцом передовой педагоги-
ки, чуждой казенного принуждения, основанной на чувстве
морального равенства учителя с учеником. Чернышевский с полным
уважением относится к демократической идее подобных школ, но он
отвергает ложные рассуждения Толстого, сопроводившего описание
своего педагогического опыта выводами, несправедливыми прежде
всего по отношению к самому себе. Толстой писал, что никто не
знает, чему и как нужно учить народ. Все его рассуждения проник-
нуты полным скептицизмом по отношению к науке и просвещению.
Между тем описания занятий в яснополянской школе наглядно
показывали, что устроители ее прекрасно знали чему и как нужно
учить народ. Если же они в чем-нибудь заблуждались, то эти
ошибки были связаны с общим консервативным поворотом, который
старался придать своим педагогическим идеям Толстой. Здесь Чер-
нышевский вступает в решительное противоречие с ним, хотя одно-
временно подчеркивает, что позиция издателя журнала «Ясная по-
ляна» вытекает не из какого-нибудь нарочитого «мракобесия», а из
ошибки, искажающей самые благородные намерения. И Чернышев-
ский подвергает критическому анализу консервативный тезис Тол-
стого, согласно которому сам народ не хочет, чтобы его учили, про-
тивится просвещению.
Этот анализ, как уже было сказано,— прекрасный образец диа-
лектики Чернышевского. Если народ может быть против просвеще-
ния, то перед нами противоречие, парадокс, который возможен, но
не определяет собой общую меру вещей, общее правило. Никакого
общего правила из подобных случаев поведения народа вывести
нельзя. «При Иосифе II в Бельгии и в Венгрии он противодейство-
вал разрушению феодального порядка; при Аранде и Флориде
Бланке в Испании он противодействовал отменению инквизиции;
у нас он противодействовал попыткам ознакомить его с возделыва-
нием картофеля» (10, 506). Но отсюда нельзя сделать вывод, что
народ всегда противится уничтожению привилегий или преследо-
ваний и улучшению пищи. Чтобы разобрать, почему народ мог
вести себя в перечисленных случаях так странно и как бы против
169
* Некоторое сходство Н. Г. Чернышевского с Сократом было замечено
Плехановым (см.: Плеханов Г. В. Соч., т. 5, с. 217, 315).
своих собственных интересов, нужно исследовать конкретные при-
чины этих странностей, а не делать отсюда слишком поспешные об-
щие выводы. Может быть народ ошибался — ведь он также способен
на это, как представители любого другого класса. Может быть ме-
тод, которым благодетели хотели помочь народу, внушал ему опасе-
ние, что за ним скрывается не желание добра, а стремление к их
собственной выгоде. Но скорее всего в тех случаях, когда народ
противится мерам просвещения, причина состоит просто в том, что
он беден и ему не до того, чтобы учить детей.
Точно так же отвергает Чернышевский скептическое отношение
Толстого к научным методам обучения, поскольку все методы будто
бы и хороши и плохи. «Помилуйте, как скоро есть два способа
делать что-нибудь, то непременно один из этих способов вообще
170 лучше, а другой вообще хуже; а если есть исключительные обстоя-
тельства, в которых удобнее применяется менее совершенный спо-
соб, то знающий человек умеет в точности определить и перечис-
лить эти исключительные случаи. А кого эти исключительные слу-
чаи смущают так, что он не может разобрать разницу между их
особенностями и общим правилом, тот мало знаком с делом» (10,
513).
Толстой не был удовлетворен критикой Чернышевского и не
счел нужным отвечать на нее. Действительно, при всей общности
стремлений принести благо крестьянскому большинству населения
России, различие их подходов к этому делу слишком очевидно.
Толстой был идейным выразителем всей совокупности тех исклю-
чительных случаев, когда народная масса чувствует законное недо-
верие к прогрессивным нововведениям сверху, цивилизации
помещиков, чиновников и купцов, не делая разницы и для тех ин-
теллигентных представителей этих сословий, которые действительно
хотят ему добра. На другой день после крестьянской реформы глу-
бокая пропасть между наступающей массой юридических, денеж-
ных отношений и традиционным земледельческим бытом мужика
росла не по дням, а по часам. Что этот громадный переворот во
всех жизненных отношениях может принести и обязательно при-
несет со временем пользу всей крестьянской массе, вовсе не было так
очевидно, и ослепленная противоречиями прогресса часть русских
писателей, в том числе и Толстой, искала прочного якоря спасе-
ния в неизменных основах патриархального быта.
Чернышевский, напротив, прекрасно отдавая себе отчет в том,
что казенная и либерально-прогрессивная цивилизация означает
для большинства населения России бесконечные страдания, отка-
зывался признать ретроградные выводы из этого факта. Хотя ино-
гда и огниво может пригодиться, это не значит, что оно ничем не
хуже спичек; «как скоро есть два способа делать что-нибудь, то не-
пременно один из этих способов вообще лучше, а другой вообще
хуже». Из взаимной несовместимости традиционного народного
быта и просвещения следует не требование поворота к старине, а
то лучшее сочетание передовой науки с подлинной народностью, ко-
торое искал сам Толстой в своих педагогических опытах и притом
вопреки своим консервативным заблуждениям.
Таким образом, против старой формы прогресса, превратившей-*
ся в лицемерное оправдание эгоизма высших классов, Чернышев-
:кий повсюду выдвигает идею другого прогресса. В основе его
лежат разумно понятые выгоды большинства, то есть добра без
ладана и колокольного звона. Эта мысль о возможности другой
формы прогресса делала автора «Антропологического принципа в
философии» прямым предшественником Ленина. Впрочем, рацио-
нальный диалектический анализ доктрины Толстого отчасти пере-
ходит у Чернышевского в анализ рационалистический, рассудочный.
И трудно себе представить, чтобы это было не так в начале 60-х го-
дов прошлого века.
Толстой мог возразить Чернышевскому, что конфликт между
народом и просвещением (признаваемый и Герценом, но особенно
Бакуниным и его последователями) — слишком заметное явление
всемирной истории, чтобы его можно было бы отнести к категории
исключительных случаев. Не исключительными случаями были и
другие явления защиты темной старины от прогрессивного зла в
истории народов мира. Некоторые из этих фактов приводит сам
Чернышевский, говоря об эпохе просвещенного деспотизма в Испа-
нии, Австрии и России. Великим просветителям прошлого нечего
было выдвинуть против таких противоречий, кроме справедливых,
но слишком отвлеченных рассуждений о логической несообразности
превращения исключительных случаев в общее правило.
К несчастью, такие исключительные случаи сами нелепо вы-
страивались в общее правило. Так, русское революционное движе-
ние второй половины прошлого века долго искало выхода из подоб-
ной ситуации, сталкиваясь с глухим непониманием со стороны
народа, ради которого оно приносило бесчисленные жертвы. И толь-
ко подъем рабочего класса создал такую историческую среду, в ко-
торой сознание единства народных интересов и прогрессивного раз-
вития общества стало возможным. Это был одновременно конец
эпохи Толстого и классической поры революционного народниче-
ства.
Н. Г Чернышевский считается одним из основателей этого дви-
жения, но, даже допуская, что при известных условиях сохранение
патриархальной крестьянской общины может способствовать буду-
щему развитию коллективных форм народного хозяйства в России,
он решительно избегал тех выводов, которые вели бы к оправданию
исторической отсталости. Как революционный демократ он оспари-
вал и краснобайство прогрессистов, и романтическое воспевание
народной старины. Тому и другому противостоят у него разумно
понятые интересы народа. Поэтому историческое и нравственное
учение Чернышевского беспощадно не только по отношению к гру-
бому эгоизму верхов, но и по отношению к народной бестолковости.
Той веры в целительный источник наивного социализма царской
деревни, которая была созданием лондонского кружка, сложивше-
171
гося вокруг Герцена, Чернышевский не разделял. Оторванный от
русского общественного движения на каторге и в ссылке, он все же
предвидел опасность, заложенную в идеях, получивших большое
распространение среди революционной молодежи 70-х годов. Его
пугала чрезмерная критика буржуазной цивилизации в отсталой
монархической стране. Если западная демократия и другие прогрес-
сивные формы цивилизации могут наполниться реакционным содер-
жанием, враждебным народу, это вовсе не значит, что разумно
понятые народные интересы безразличны к выбору между самодер-
жавием и парламентом или даже противоречат политической борьбе
за более передовые и свободные формы жизни.
В. Н. Шаганов рассказывает в своих воспоминаниях, что когда
осужденным по делу Каракозова объявили царский указ об осво-
772 вождении от каторжных работ, Чернышевский в прощальной беседе
старался объяснить им, что главным несчастьем России является
самодержавие и возможные его повторения. Он говорил, что вся
история страны пошла бы иначе, если бы при воцарении Анны
Иоанновны победила партия «верховников», партия вельможества,
ибо «ни одна партия не может не делиться властью ради своего же
собственного спасения». Таким образом в России возникли бы по-
стоянные колебания правящего слоя, выгодные для народа.
Требуя более конкретного подхода к понятию прогресса и оцен-
ке его формальных завоеваний, Чернышевский был настолько глу-
боким демократом, что не останавливался и перед столь же трезвым
анализом народовластия. «Он говорил нам,— рассказывает Шага-
нов,— что со времени Руссо во Франции, а затем и в других евро-
пейских странах, демократические партии привыкли идеализировать
народ — возлагать на него такие надежды, которые никогда не осу-
ществлялись, а приводили еще к горшему разочарованию. Самодер-
жавие народа вело только к передаче этого самодержавия хоть
Наполеону I и, неисправленное этой ошибкой, многократно пере-
давало его плебесцитами Наполеону III. Всякая партия, на стороне
которой есть военная сила, может монополизировать в свою пользу
верховные права народа и, благодаря ловкой передержке, стать яко-
бы исключительной представительницей и защитницей нужд наро-
да— партией преимущественных народников. Он, Чернышевский,
знает, что центр тяжести лежит именно в народе, в его нуждах, от
игнорирования которых погибает и сам народ как нация или как
государство. Но только ни один народ до сих пор не спасал сам
себя и даже в счастливых случаях, приобретая себе самодержавие,
передавал его первому пройдохе. Это переданное — или не передан-
ное, а древле благоприобретенное — самодержавие уже не так-то
легко переходит к кому-либо другому. Становясь душеприказчиком
своего народа, оно именно распоряжается им, как мертвым, и с иму-
ществом народа поступает по своему благоусмотрению. И тогда горе
тому, кто захотел бы будить этого мнимоумершего,— вмешиваться
в его хозяйственные дела! По пути душится и слово, и совесть, ибо
из этих вещей выходят разные пакости для власти... И как заклю-
ценному в тюрьме обойти своего тюремщика? Не прежде ли всего
он единственно с ним должен иметь дело? Какой тюремщик по доб-
рой воле позволит заключенному делать воззвание к разрушению
тюрьмы? Конечно, формы — вещь ненадежная. Можно при всяких
формах выстроить крепкий острог для трудолюбивого земледельца.
С другой стороны, быть может, и хорошо, что формы ненадежны.
При них всегда возможна борьба партий и победа одной партии
другою,— и на практике побеждает всегда прогрессивная. Страш-
нее— бесформенное чудовище, всепоглощающий Левиафан»*.
Может быть, эти слова были откликом на позицию А. И. Гер-
цена, изложенную в его известной статье «Порядок торжествует!»
(1866): «Не смешно ли человеку второй половины XIX столетия,
вынесшему на своих плечах, стоптавшему своими ногами столько
правительственных форм, одних бояться, перед другими идолопо-
клонствовать? Форма, как ее разумеют на языке военных прика-
зов,— «мундир», и он поневоле прилаживается к живому содержа-
нию... а не прилаживается, так внутри слабо и пусто. Поправляйте
живое тело — мундир непременно лопнет, если узок. И будьте уве-
рены, что нет ни очень хороших, ни безусловно скверных мунди-
ров. Для нас мещанская камера народных представителей, не пред-
ставляющая народа, так же противна, как Правительствующий се-
нат, ничем не правящий» **. Чернышевский думал, что разница
между этими формами все же есть.
Если воспоминания Шаганова достоверны (а это похоже на
правду), то в словах Чернышевского перед нами не только отклик
на утопию социальной монархии Романова или Пугачева, но и про-
ницательная, наперед данная критика народнического бунтарства
70-х годов с его развившимся под влиянием Бакунина отрицанием
политики, точнее — политической борьбы за более передовые фор-
мы общественной жизни. Впрочем, идеализация стихийной народно-
сти в той или другой исторической форме, иногда даже классовой
и пролетарской, пережила само народничество, будучи, видимо, не-
отъемлемым идеологическим элементом разбуженной событиями
мелкобуржуазной стихии.
Но что мог противопоставить этой опасности в свое время чело-
век такого склада, как Чернышевский, кроме общего требования
рационального исчисления народных выгод, более разумного эгоиз-
ма? Из его рассуждений следует, что буржуазная демократия луч-
ше наследственного самодержавия, лучше бонапартизма — это так,
хотя и здесь возможны конкретные обстоятельства, исключитель-
ные случаи, исторические парадоксы. Тем не менее он безусловно
не был сторонником заурядного европейского парламентаризма с
обычной в таких случаях игрой политических партий, стремящихся
увлечь избирателя своими лозунгами и устранить его от влияния
173
* Николай Гаврилович Чернышевский иа каторге и в ссылке. СПб., 1907,
28.
** Гер цен А. И. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1960, т. 19, с. 191.
на общественные дела. Чернышевский хотел другого — это ясно
из его сочинений, но очертания этого другого пути еще скрывались
в тумане будущего. Понять мучительные искания глубоких умов
середины прошлого века можно только в свете более зрелого исто-
рического опыта.
Свои философские взгляды Чернышевский высказывал не толь-
ко в публицистической форме. Реальным фактом русской истории
стало влияние его романа «Что делать?», в котором революционная
молодежь искала решения вопросов общественной и нравственной
жизни. Эта книга представляет собой своеобразное сочетание публи-
цистики и художественного вымысла. Роман Чернышевского не без
основания сравнивали с произведениями Свифта и Вольтера, но ху-
дожественная сторона этой книги — другой вопрос. Так или иначе,
174 благодаря своему роману и всей своей легендарной истории Черны-
шевский стал учителем жизни многих поколений. Из этой школы
вышли те замечательные революционеры, которые удивили мир
своими рыцарскими подвигами в единоборстве с чудовищем цар-
ской реакции. И было время, когда ни одна студенческая пирушка
не обходилась без традиционного тоста:
Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал.
За героев его,
За его идеал!
В романе Чернышевского живут и действуют новые люди, кото-
рые отчасти были найдены писателем в окружавшей его среде, отча-
сти предвосхищены его фантазией, представлены им как идеальные
фигуры близкого будущего. Эти люди находят высшее наслаждение
в том, чтобы помогать развитию других, а не гасить чужую индй-
видуальность в угоду собственным интересам, нечаянно или даже
с особым удовольствием от своего дрянного поступка. Нравствен-
ный идеал книги «Что делать?» требует хорошей жизни, которая,
по определению Чернышевского, является основой красоты. Такой
идеал есть идеал силы, а не слабости, и вместе с тем он прямо про-
тивоположен мелким претензиям выросшего в ту эпоху «сверхчело-
вечества». Героев Чернышевского можно назвать положительными
именно потому, что они живут непосредственно общественной
жизнью, а не сухим расчетом или вечной рефлексией, тысячу раз
сгибающей нашу собственную личность туда и обратно, то в сто-
рону безвольного созерцания, то в сторону бесцельного действия.
Излагая свое учение о нравственности, Чернышевский иногда
приходит к очень странным выводам. Герои «Что делать?» — люди
необыкновенно благородные — постоянно толкуют о своем эгоизме.
«И не думал жертвовать,— говорит студент Лопухов, отказываясь
от ученой карьеры для того, чтобы помочь Вере Павловне выбрать-
ся из ее домашнего подвала.— Не был до сих пор так глуп, чтобы
приносить жертвы,— надеюсь, и никогда не буду. Как для меня
лучше, так и сделал. Не такой человек, чтобы приносить жертвы.
Да их и не бывает, никто их и не приносит; это фальшивое поня-
тие: жертва — сапоги всмятку. Как приятнее, так и поступаешь».
В общем, самые героические и самоотверженные поступки Черны-
шевский старается объяснить стремлением к собственной выгоде.
Г В. Плеханов прекрасно показал несостоятельность этой
теории. В полемике против аскетической морали идеалистов Черны-
шевский нередко называл эгоизмом то, что в обычной жизни из-
вестно под именем бескорыстия. Но, несмотря на логическое несо-
вершенство теории разумного эгоизма, она несет в себе глубокую
мысль. Предшественник Чернышевского Фейербах писал: «Где на-
чинается в истории новая эпоха? Всюду лишь там, где против ис-
ключительного эгоизма нации или касты угнетенная масса или
большинство выдвигает свой вполне законный эгоизм, где классы
людей или целые нации, одержав победу над высокомерным чван-
ством господствующего меньшинства, выходят из жалкого и угне-
тенного состояния пролетариата на свет исторической и славной
деятельности. Так и эгоизм ныне угнетенного большинства чело-
вечества должен осуществить и осуществит свое право и начнет
новую эпоху истории». Приведя этот отрывок в своем конспекте
«Лекций о сущности религии» Фейербаха, Ленин пишет: «Зачаток
исторического материализма, ср. Чернышевский» *.
Действительно, эгоизм в понимании Чернышевского означает
демократические требования большинства людей, стесненных казен-
ной опекой и тяжким грузом рабских понятий о жизни. Как настоя-
щий материалист, Чернышевский смотрит на человека трезвыми
глазами. Стремление к хорошей жизни — этот священный эгоизм
угнетенного большинства — является высшим нравственным прин-
ципом его философии. Мы уже знаем, что Чернышевский далек от
какой бы то ни было идеализации простых людей. Наоборот, в
статье «Не начало ли перемены?» (1861) он осуждает то направление
в русской литературе, которое началось с гоголевского Акакия Ака-
киевича и особенно ярко выразилось в рассказах из народного быта
Тургенева и Григоровича.
Много горьких слов по адресу русского простолюдина можно
найти у Чернышевского, но все это — слова настоящей любви к
народу, продиктованные не либеральным сочувствием к меньшой
братии, а живым пониманием интересов трудящегося человека. Для
того чтобы любить людей, нужно мало от них ждать, писал в
XVIII веке материалист Гельвеций. Только бездушные моралисты,
лишенные искры гуманности и веры в человека, могут требовать
невозможного. Человек — обыкновенное живое существо. Ему свой-
ственно удовлетворять свои потребности, защищать свои интересы
и строить счастливую жизнь вместе с другими людьми.
Но защищать свои интересы можно по-разному. Старуха Ро-
зальская, мать Веры Павловны, воспитана старым порядком, о кото-
ром в хороших книгах написано: «Старый порядок тот, чтоб обирать
175
* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 58.
да обманывать». Другие персонажи романа «Что делать?»—Лопу-
хов и Кирсанов, сама Вера Павловна и Рахметов — новые люди.
Эти люди потому новые, что они заботятся о своих интересах не
так, совсем не так, как это делали люди старого закала.
Ибо подлость и хищничество не дают настоящего удовлетворе-
ния; они оставляют в человеке вечно грызущую его душевную
муку — род мрачного озлобления, которое вином не зальешь и лада-
ном не разгонишь. Стало быть, старый порядок основан на плохом
расчете. Плохой расчет подсказывает людям: ты можешь добиться
счастья только за счет других, поэтому грабь и дави, лишь бы тебе
было хорошо. Более дальновидный расчет говорит иначе: пользуй-
ся жизнью, подымайся выше к свету и счастью и помогай другим
взбираться наверх той же дорогой. Этим ты прежде всего сделаешь
/7^ себе хорошо. Герои романа «Что делать?» — люди разумные, они
борются за новый порядок, основанный на хорошем расчете, и эта
борьба дает им счастье.
Конечно, в эпоху Чернышевского его хороший расчет был уто-
пией. В старых условиях личные интересы редко совпадали с инте-
ресами общества в прямом и непосредственном смысле — следова-
тельно, доказать, что работа на общую пользу более соответствует
интересам личности, чем обыкновенный эгоизм, было довольно труд-
но. Этим отчасти объясняется логическое несовершенство теории
разумного эгоизма, отмеченное Плехановым. Но к утопическим
проектам Чернышевского вполне применимо то, что Ленин писал
о кооперативных утопиях прошлого. «В мечтаниях старых коопера-
торов много фантазии. Они смешны часто своей фантастичностью.
Но в чем состоит их фантастичность? В том, что люди не понимают
основного, коренного значения политической борьбы рабочего клас-
са за свержение господства эксплуататоров. Теперь у нас это свер-
жение состоялось, и теперь многое из того, что было фантастиче-
ского, даже романтического, даже пошлого в мечтаниях старых
кооператоров, становится самой неподкрашенной действительно-
стью» *.
Такой именно неподкрашенной действительностью становится
в социалистическом обществе и совпадение правильно понятого лич-
ного интереса с интересом общественным (если не пренебрегать
значением хорошего расчета в жизни миллионов людей). При этих
условиях, очерченных Лениным, стремление урвать для себя по-
больше, привычка высчитывать с черствостью Шейлока, как бы не
переработать получаса против другого,— плохой расчет. Хороший
расчет наглядно убеждает в противном: старайся работать лучше,
помогай отстающим, и ты увеличишь свою собственную долю в об-
щественном богатстве, сумеешь подняться выше, расширить свои
потребности. Другими словами, социалистический принцип оплаты
по количеству и качеству труда становится практическим осуществ-
лением идеи хорошего расчета.
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 369.
Ленинизм унаследовал трезвую наблюдательность старых мате-
риалистов от Эпикура до Чернышевского. В годы величайшего на-
пряжения сил Ленин никогда не забывал о необходимости наглядно
показывать народу выгодность каждого нового шага политики боль-
шевиков. Он преследовал всякое верхоглядство, всякую попытку
отвлечься от элементарных потребностей масс. Нужно построить
коммунизм руками обыкновенных людей, вышедших из недр старого
общества, а не дожидаться, пока неизвестно откуда появятся чи-
стенькие идеальные коммунисты. Нужно уметь торговать, пользо-
ваться таким прозаическим рычагом, как деньги, хозяйственно рас-
считывать, умело применять материальное поощрение. Так не-
устанно повторял величайший мыслитель-материалист нашего
времени, отвергая сверхрадикальные фразы, административное хва-
стовство и всякое прожектерство — «сладенькое комвранье». Нико-
лай Гаврилович Чернышевский был одним из виднейших предшест-
венников Ленина в истории материализма.
И в настоящее время идейная традиция Чернышевского — тра-
диция мужицкого демократизма — полезное средство против опо-
шления марксистских понятий о народности, гуманизме и демокра-
тии, против смешения этих понятий с поверхностным, слащавым
народолюбием в духе блаженной памяти Антона Горемыки.
Но не только мужицкий демократизм содержится в идейном на-
следии Чернышевского. Положительные герои романа «Что де-
лать?», в сущности говоря, только стараются показать свою расчет-
ливость, а на деле они готовы пожертвовать всем для блага других.
Почему же |они не говорят этого прямо? Дело в том, что герои
Чернышевского не только благородные, хорошие люди. Их отноше-
ние к народу отличается необыкновенной деликатностью и чисто-
той. Вот почему они отклоняют понятие жертвы, делая вид, что
самоотверженные поступки вытекают из самых обыкновенных че-
ловеческих побуждений. Даже наедине с собой они не желают оста-
вить малейшего повода для тщеславия и гордости барина-благоде-
теля, представителя аристократии добрых, призванной исправить
недостатки злых.
Чернышевский отвергает мораль воздаяния и нравственного
комфорта. Нужно бороться за счастье людей, потому что нельзя
поступать иначе, потому что этого требует наше сознательное су-
щество— оно не может найти действительного удовлетворения вне
этой борьбы. Так при ближайшем рассмотрении эгоистическая мо-
раль Чернышевского оказывается высшей школой нравственного
бескорыстия, школой социалистического товарищества.
Но Чернышевский был представителем той эпохи, когда в об-
щественном движении социалистическая и демократическая тенден-
ции еще не размежевались. В силу отсталости русской жизни он
не мог подняться до пролетарского социализма Маркса и Энгельса.
Поэтому широкую идею социалистического товарищества автор ро-
мана «Что делать?» старается уложить в более узкие рамки своего
мужицкого демократизма. Отсюда рассудочный характер многих
177
положений Чернышевского, стремление судить обо всем с точки
зрения интересов отдельной личности. Отсюда также его риторика
разумного эгоизма, это странное противоречие — жертвуя всем для
счастья будущих поколений, Чернышевский из своего заключения
в крепости доказывал, что жертва — сапоги всмятку, фальшивое
понятие.
Чернышевский оспаривает принципы идеалистической филосо-
фии, которая приносит реальные потребности масс в жертву отвле-
ченной идее развития. Тем не менее он вынужден совершить проти-
воположную ошибку. Как все материалисты старой школы, Черны-
шевский понимал эти потребности в смысле естественного закона
природы, то есть вне исторического развития. Между тем история
(не только у Гегеля) требует жертв, и ее движение насыщено про-
178 тиворечиями. Чтобы решить эти противоречия, одного лишь хоро-
шего расчета или разумного понимания гармонии человека с приро-
дой (в духе философии Фейербаха) недостаточно. Таким образом,
как принято говорить, философские взгляды Чернышевского имели
свою ограниченность, общую всем материалистам до Маркса и
Энгельса.
Но во всяком серьезном философском учении ограниченные чер-
ты относительны, а положительное содержание — бессмертно. От по-
гружения в отвлеченную рассудочность старого материализма Чер-
нышевского избавила умственная энергия революционной демокра-
тии. Оканчивая портрет Рахметова, человека, целиком отдавшего
свою жизнь революции, он пишет полусерьезно, полуиронически:
«Да, смешные это люди, как Рахметов, очень забавны. Это я для
них самих говорю, что они смешны, говорю потому, что мне жалко
их; это я для тех благородных людей говорю, которые очаровы-
ваются ими: не следуйте за ними, благородные люди, говорю я, по-
тому что скуден личными радостями путь, на который они зовут
вас; но благородные люди не слушают меня и говорят: нет, не ску-
ден, очень богат, а хоть бы и был скуден в ином месте, так не длин-
но же оно, у нас достанет силы пройти это место, выйти на богатые
радостью, бесконечные места».
Эти рассуждения уже не так далеки от диалектики Гегеля с
определенной поправкой в сторону материализма (недаром Ленин
назвал Чернышевского великим русским гегельянцем и материали-
стом*). Противоречия между исторической необходимостью и
личными радостями, жертвы, скрытые иронией над собственным
рыцарством,— необходимый элемент борьбы за счастье всех, но
расточительность истории окупается положительным результатом —
выходом на богатые радостью бесконечные места, хотя посев и
жатва отделены друг от друга дистанцией, масштабы которой мы
заранее не знаем.
В статье «Критика философских предубеждений против общин-
ного владения» Чернышевский превосходно выразил диалектиче-
* См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 381.
скии символ веры настоящего революционера, человека широкого
ума и несгибаемой воли: «Вечная смена форм, вечное отвержение
формы, порожденной известным содержанием или стремлением
вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же
содержания,— кто понял этот великий, вечный, повсеместный закон,
кто приучился применять его ко всякому явлению, о, как спокойно
призывает он шансы, которыми смущаются другие! Повторяя
за поэтом:
Ich hab mein Sach auf Nichts gestellt
Und mir gehort die ganze Welt *,—
он не жалеет ни о чем, отживающем свое время, и говорит: «пусть
будет, что будет, а будет в конце концов все-таки на нашей улице
праздник!» (5, 391).
1939, 1943
* Я поставил все, что имею, на ничто,
И мне принадлежит теперь весь мир...
Гете. Vanitaa.
ПРИЛОЖ ЕНЙЕ
ФРАНЧЕСКО ГВИЧЧАРДИНИ*
180 Некоторые книги трудно отнести к той или другой специальной
отрасли «системы наук», определенной рубрике издательского или
библиотечного дела. Тем не менее среди этих метисов литератур-
ного мира встречаются произведения поистине замечательные. Их
не променяешь на сотни томов, принадлежность которых к филосо-
фии, истории или эстетике горделиво засвидетельствована уже на
титульном листе. Правда, недостаточная чистота крови создает для
этих произведений лишние затруднения. Почему, например, среди
множества классиков, выпускаемых нашими издательствами, не на-
ходят себе места такие авторы, как Мандевиль, Фергюсон, Ленге?
Вероятно, только потому, что их произведения, по отзывам Маркса,
замечательные или даже гениальные, потерялись где-то между ве-
домствами философии, экономии и литературы.
Издательство «Academia» несколько нарушает эту традицию, вы-
пуская время от времени сочинения, так сказать, неофициальных
представителей общественной философии. К ним относится и Фран-
ческо Гвиччардини**. Его «Заметки о делах политических и граж-
данских»— это кодекс «оперативного работника» XVI столетия.
Гвиччардини принадлежал к тем многосторонним личностям эпохи
Возрождения, о которых Энгельс писал: «Что особенно характерно
для них, так это то, что они почти все живут в самой гуще интересов
своего времени, принимают живое участие в практической борьбе,
становятся на сторону той или иной партии и борются кто словом
и пером, кто мечом, а кто и тем и другим вместе» ***.
Выдающийся политический деятель, неоднократно представляв-
ший интересы Флоренции в качестве посла и военного комиссара,
высший чиновник папского двора, правитель Романьи — Франческо
Гвиччардини был прежде всего проницательным наблюдателем нра-
вов своей эпохи. В его исторических сочинениях мы находим живую
картину величия и падения итальянской городской культуры XIV—
* Опубликовано в «Литературной газете» (1934, 10 июня).
** Франческо Гвиччардини. Сочинения (М.— Л., 1934).
*** Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 347.
XVI веков. О Гвиччардини можно было бы сказать то же самое,
что Карл Розенкранц сказал о Гегеле: это была осенняя натура.
Сова Минервы, сумрачная птица мудрости, прошелестела над ним
своими серыми крыльями. Гвиччардини не чужд диалектической
идеи единства противоположностей, хотя и в ограниченной форме
круговорота. Его суждения о человеке уже содержат многое из
того, что впоследствии вошло в систему эгоистической морали фран-
цузских материалистов XVIII века.
«Почти все без исключения действуют под влиянием интереса».
Страсти, честолюбие, алчность — вот истинные признаки человече-
ских поступков. «Кто глух к голосу страсти, тот бездарен»,— пишет
Гвиччардини, предвосхищая Гельвеция. Хуже всего мнимо-доброде-
тельные люди, которые пытаются все решать при помощи истин
прописной морали. «Великая ошибка говорить о делах человеческих,
не делая ни различий, ни оговорок, и рассуждая, так сказать, пра-
вилами: ведь почти во всех делах благодаря изменчивости условий
существуют различия и исключения, так что нельзя мерить их
одной и той же мерой; в книгах эти различия и исключения не за-
писаны, но познанию их должна служить рассудительность».
Все многообразно, относительно, изменчиво. «Человек в своих
решениях и поступках всегда сталкивается с одной трудностью,
именно: с правдой противоположного. Нет столь совершенного по-
рядка, в котором не скрывался бы беспорядок; нет зла, в котором
не было бы добра; нет добра, в котором не заключалось бы зла;
отсюда нерешительность многих людей, которых смущает всякое
маленькое затруднение. Людей с таким характером называют огля-
дывающимися, потому что они оглядываются на все. Не следует
так поступать, надо взвесить неудобства каждого решения и по-
мнить, что не может быть решения безукоризненного и совершен-
ного со всех сторон». Гвиччардини—скептик, но вместе с тем это
натура решительная и твердая. Его «Заметки» с живейшим интере-
сом прочтет не только читатель специфически книжный. В них
чувствуется дыхание действительной жизни, полной напряжения и
борьбы.
Вводная статья А. К. Дживелегова отличается обычной для ее
автора исторической основательностью. Лишь в истолковании
взглядов Гвиччардини, кажется мне, исторический смысл несколько
изменяет Дживелегову. Дело в том, что с «идеологией» у Гвиччар-
дини далеко неблагополучно. Он относится к флорентийской демо-
кратии с таким же проникнутым горечью сомнением, с каким вели-
кий пессимист античного мира Гераклит относился к демократии
греческих республик. И автор вступительной статьи старается пред-
ставить Гвиччардини морально дефективным субъектом, насквозь
проникнутым узкими интересами своей касты — группы флорентий-
ских «рантьеров».
Он заставляет Гвиччардини впадать в практицизм и вульгар-
ный утилитаризм, проповедовать философию беспринципности и
эгоизма. В «пессимистическом» характере мировоззрения Гвиччар-
181
дини и его аристократических принципах А. К. Дживелегов усмат-
ривает аналогию с явлениями современного нам упадка буржуазной
культуры.
Ошибка автора вступительной статьи типична и поучительна.
В предисловиях к многочисленным изданиям классиков мы постоян-
но сталкиваемся с подобным упрощением исторического процесса.
Нет ничего более легкого, чем составить обвинительный акт против
того или другого писателя, жившего за 400 лет до начала пролетар-
ской эры.
Но после того как все обвинения исчерпаны, остается вопрос:
для чего издавать этих «реакционеров» и «беспринципных эгои-
стов»? С этим вопросом А. К. Дживелегов, увы, не справился. Он
не сумел раскрыть те положительные элементы в мировоззрении
182 Гвиччардини, которые сохраняют свою ценность и для нас вопреки
исторической ограниченности флорентийского историка и политиче-
ского мыслителя XVI столетия. За неимением лучших аргументов
А. К. Дживелегову пришлось оправдывать актуальность своего
издания сомнительными, в высшей степени сомнительными анало-
гиями между Гвиччардини и фашизмом.
Большинство диалектических мыслителей прошлого относились
к развитию буржуазной цивилизации и ее необходимым послед-
ствиям — формальной свободе частного лица, господству денег —
в высшей степени критически. Современные нам реакционные и
даже фашистски настроенные писатели широко пользуются этой
критикой прогресса, пытаясь изобразить не только Гвиччардини, но
и таких людей, как Шекспир, Гегель, Бальзак, своими духовными
предками. Значит ли это, что все эти корифеи культуры действи-
тельно принадлежат фашизму?
Критиковать реакционные элементы в культуре прошлого, разу-
меется, необходимо. Но критиковать их нужно не с точки зрения
либерального свободолюбия и еще менее того с точки зрения до-
машней морали. Гвиччардини не жаловал флорентийских демокра-
тов. Это верно. Но не все в его отвращении к ним было ошибочно.
В доказательство этого приведем одно интересное место из его
«Заметок»:
«Не верьте тем, кто так горячо проповедует свободу, ибо почти
все они, а может быть, вообще все, думают при этом о частных
интересах: опыт же сплошь и рядом показывает, и это, разумеется,
так, что если бы они надеялись найти для себя лучшие условия
в самовластном государстве, они помчались бы туда на почто-
вых».
Советский читатель, воспитанный в духе ленинской критики бур-
жуазной демократии, едва ли оставит без внимания это замечатель-
ное место. Немало восторженных гимнов в честь свободы и про-
гресса можно отдать и за следующий афоризм Гвиччардини: «Нель-
зя править государствами по совести: если вдуматься в их
происхождение, то окажется, что все они порождены насилием,—
свободны от насилия только республики, да и то лишь в пределах
родного города и не дальше. Я не делаю из этого правила исклю-
чения для императора, а еще менее для духовенства, которое творит
двойное насилие, так как принуждает и светским, и духовным ору-
жием».
Здесь уместно будет вспомнить, что флорентийская демократия
была, в сущности, мелкобуржуазной аристократией, так же как ан-
тичная демократия была артелью рабовладельцев. Паразитический
характер расцвета городов, возникавших на народном теле как вол-
дыри, давно известен. Полноправные граждане Флорентийской рес-
публики желали лишь справедливого раздела выгод, проистекав-
ших из эксплуатации отсталых территорий. К настоящему народу,
крестьянству, подданным они относились с суверенным хамством.
Быть может, Гвиччардини имел основание записать: «Лучше быть
подданным князя, чем республики. Республики унижают всех под-
данных и приобщают к своему величию только собственных
граждан».
Правда, за флорентийской демократией при Никколо Каппони
и Франческо Кардуччи остается несомненная заслуга. Демократия
прижала мужей добрых и мудрых (к ним принадлежал и Гвиччар-
дини), разорила их тяжкой контрибуцией. Это было полезным
уроком плебейской диктатуры. Но положительная программа побе-
дителей оказалась ничтожна. Гвиччардини с полным основанием
видит в уравнительных стремлениях своих противников только за-
висть мелкой собственности к более крупной. Он ищет способ обуз-
дать всеобщую алчность и борьбу интересов внутри родного города,
критикуя не только «чужих», но и «своих». Он одинаково недоволен
правлением оптиматов, народным правлением, тиранией. И, в конце
концов, единственным выходом является для него древняя утопия
«смешанного правления».
Наши историки литературы часто повторяют одну и ту же
ошибку. Их мысль все еще слишком связана со старой либеральной
схемой истории литературы. Эта схема состоит в абстрактном про-
тивопоставлении демократии и аристократии, демократии и дикта-
туры, прогресса и реакции. Все писатели, у которых можно обна-
ружить фразеологию свободы и равенства, заносятся в раз-
ряд прогрессивных умов, прочие осуждаются как реакционеры
и крепостники. Вследствие этого вся история литературы пре-
вращается в вольную или невольную апологию буржуазной циви-
лизации.
Между тем развитие капитализма вовсе не является безуслов-
ным прогрессом, и торжество демократии буржуазной над более
примитивными историческими формами демократии далеко не во
всех отношениях можно считать торжеством народа. В умственном
и духовном отношении буржуазная культура точно так же прино-
сит с собой массу противоречий. Во всех этих случаях нельзя
рассуждать по схеме — прогрессивное здесь, реакционное там,
и чаще всего приходится признать, что бабушка истории надвое
сказала.
183
Без сомнения, в тесном историческом смысле Гвиччардини был
приверженцем верхов, врагом демократической революции. Но с
точки зрения всемирно-исторической — идеи великого итальянско-
го мыслителя представляли собой шаг вперед на пути к материа-
лизму и диалектике, двум могучим орудиям самой глубокой рево-
люции, предстоявшей человечеству в будущем. Именно это обстоя-
тельство, а вовсе не сомнительные соображения о том, что
Гвиччардини «поможет советскому читателю осмыслить и уяснить
моральный и интеллектуальный упадок современной буржуазии»
(предисловие, с. 8), оправдывает издание его сочинений на русском
языке.
1934
ВОПРОСЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КРИТИКИ
ЛЕНИНИЗМ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА*
186 С некоторых пор принято много писать о недостатках нашей
критической литературы. Недостатки ее действительно велики. Что-
бы помочь нашей критике, предлагалось немало различных средств.
Писали, например, что нужны только умные статьи, что всякий
критик должен обладать художественным вкусом, что он обязан
быть честным и смелым в обличении пороков, но пуще всего ему
следует быть талантливым.
Все это, конечно, верно. Если человек глуп и нечестен, его нель-
зя пускать даже на порог литературы. Если есть основание думать,
что он бездарен или труслив,— держите его подальше от общения
с читателем. Но это далеко не все. Разве мало честных и талантли-
вых людей? Странно было бы сомневаться в этом. Почему же
столько пишут о недостатках нашей критической литературы? Ви-
димо, здесь проявляется влияние других причин.
Слушая бесконечные разговоры об уме и таланте, невольно вспо-
минаешь одно из действующих лиц комедии Шекспира «Много
шума из ничего». Старый забавник Догберри поучает ночного сто-
рожа Сиколя: «Счастливая внешность есть дар обстоятельств, а
искусство читать и писать дается природой». Так рассуждают и
многие из наших литераторов. Они уверены в том, что ум и та-
лант— дело наживное, но молчаливо предполагают, что искусство
читать и писать дается природой. В действительности бывает ина-
че. Проповедуйте сколько угодно вкус и талант, если их нет, вся
ваша проповедь — пустая мораль, если же они налицо, эта пропо-
ведь столь же бесплодна и не нужна. На деле подобные рассужде-
ния приводят к тому, что критика начинает придавать себе «счаст-
ливую внешность» при помощи искусственных прикрас.
Но существует другая сторона — искусство читать и писать.
И вопреки изречению старого Догберри, это искусство не природой
дается, а только долгим упорным трудом. Сюда бы как раз и на-
править свое усердие нашим моралистам. Однако люди охотнее
сознаются в своей бездарности, чем в отсутствии знаний, хотя
последнее легче исправить.
* Опубликовано в «Литературной газете» (1936, № 4, 20 янв.).
Говоря кратко и без предисловий, нашей критике не хватает
искусства читать и писать в духе ленинизма. Вот настоящая при-
чина ее недостатков. Конечно, многие идеи Ленина, столь популяр-
ные у нас после Октября, широко известны в литературной среде.
Но по старому верному правилу — известное не есть еще познан-
ное. А ленинизм — это наука, и что ни говорите, она требует
точного знания.
Принято думать, что знание, или, скорее, какое-то чувство лени-
низма, дано нам природой, и только счастливую литературную
внешность нужно приобрести при помощи собственных усилий. Но,
как уже говорилось выше, это предрассудок. Если что-нибудь дано
нам природой или, точнее, старой-престарой, вошедшей в привычку
традицией, то скорее всего пережитки догматического марксизма,
марксизма старой социал-демократической школы, которые нужно
преодолеть посредством сознательного труда. Речь идет об остатках
того изложения исторического материализма, которое содержится
в брошюрах и книгах Каутского, Плеханова, Гортера, отчасти Ла-
фарга, отчасти Меринга *. Старшее поколение наших критиков
училось истолкованию идеологических явлений из этих брошюр и
книг. Вместе с зернами истины оно извлекло оттуда много ходячих,
неправильных догм. Более молодое поколение усвоило это наслед-
ство с прибавлением ультралевой схематики в духе Богданова, со-
циологических абстракций Бухарина или Фриче. Живому марксиз-
му все еще нужно прокладывать себе дорогу сквозь тучу подобных
искажений.
За последнее время наша печать уделяет много внимания кри-
тике всем надоевших социологических схем. Необходимо признать,
что головы многих литературных деятелей все еще засорены все-
возможными пустяками. То сущностью творчества Пушкина
объявят лакейство, то Гоголя сделают представителем помещиков-
барщинников, а недавно мы читали в газетах, что один не в меру
ретивый редактор запретил слово «юноша» как буржуазное. Приня-
то все это относить за счет обыкновенной человеческой глупости.
И действительно, глупости здесь немало, но в этой глупости есть
своя система.
Теперь уже недостаточно просто высмеивать отдельные карика-
туры вульгарно-социологического типа. Совершенно очевидно, что
они вытекают из одностороннего и неправильного понимания марк-
сизма. Социологическая дребедень не становится лучше там, где
она выражена в более умной, более осторожной, более обтекаемой
форме. В конце концов, что у трезвого на уме, то у пьяного на
языке.
Но что же у трезвого на уме? Какая система взглядов лежит
в основе всем надоевших социологических схем? Для ответа на
* В настоящее время автор выразил бы свое отношение к перечисленным
именам иначе. Полемическая односторонность не заслуживает одобрения, хотя
из таких односторонностей складывается реальный процесс жизни. Что было —
то было.— При меч. к наст. изд.
187
этот вопрос нужно обратиться к фактическому основателю социоло-
гической школы в марксистской критике—Г В. Плеханову. Собст-
венные писания Плеханова меньше всего можно назвать вульгар-
ными, и тем не менее схемы вульгарной социологии происходят
именно из этого источника.
Чтобы убедиться в правильности нашего предположения, возь-
мем следующий пример. Недавно на страницах «Литературной
газеты» был подвергнут публичному осмеянию учитель образцовой
школы в Улан-Удэ. Этот социолог дал своим ученикам следующую
характеристику Л. Н. Толстого: «Л. Н. Толстой — представитель
аристократического, патриархального, усадебного дворянства, не
втянутого в бюрократический аппарат самодержавия и стоящего
на пути постепенного хозяйственного оскудения». Можно сколько
188 угодно смеяться над этим определением, но дело в том, что учитель
из Улан-Удэ только повторяет в более плоской форме одну из ходя-
чих догм столичного литературоведения.
Интересно происхождение этой догмы. Еще покойный
В. М. Фриче определил творчество Толстого как «реализм светско-
го барства». Многочисленные последователи Фриче стали искать
более мелких подразделений внутри этого барства, а там — пошла
писать губерния. Несомненно, однако, что сам Фриче взял свое
определение у Плеханова. Для Плеханова Толстой остается «худо-
жественным бытописателем высшего сословия». Творческое лицо
великого писателя целиком выводится из психологии художника-
аристократа, Только социальные искания Толстого кажутся Пле-
ханову чем-то нарушающим эту историческую закономерность, и он
обрушивается на них, как на причуду нескладного барина-идеали-
ста. Если ты барином родился и воспитание получил в дворянской
среде, то и пиши, как жили в дворянских усадьбах, здесь ты вели-
кий художник. Но, ради бога, не суйся со своей критикой буржуаз-
ной цивилизации, ибо в социализме ты ничего не понимаешь. Та-
кова в конце концов основная идея статей Плеханова о Толстом,
как, впрочем, и всей его социологии литературы: «Всяк сверчок
знай свой шесток».
Ленин подходит к вопросу о творчестве Толстого иначе. Для
Плеханова произведения великого русского писателя были еще
одной иллюстрацией к общему правилу — общественная среда, из
которой вышел художник, влияет на его психику и направляет его
интересы. Для Ленина материалистическая формула «бытие опреде-
ляет сознание» имеет более глубокий смысл. Он не ищет у Тол-
стого психологических признаков житья-бытья определенного об-
щественного слоя, он вообще исходит в своем анализе не из эконо-
мического быта дворянского класса, а из общественного бытия
в широком историческом смысле, из взаимоотношения и борьбы
всех классов общества.
В чем значение Толстого? «Его мировое значение, как худож-
ника,— писал Ленин,— его мировая известность, как мыслителя и
проповедника, и то и другое отражает, по-своему, мировое значение
русской революции». Толстой — не только мастер художественного
слова, который будет всегда любим миллионами людей; само худо-
жественное величие его произведений покоится на том, что он
«сумел с замечательной силой передать настроение широких масс,
угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, вы-
разить их стихийное чувство протеста и негодования»*. Так писал
Ленин в 1910 году. Какая разница по сравнению с общей оценкой
Толстого в статьях Плеханова! Там — бытописатель дворянских
гнезд, здесь — художник, в произведениях которого слышен голос
всемирной истории. Произведения Толстого несут на себе печать
объективной драмы русской революции. В них — закономерное, как
естественный процесс, отражение силы и слабости крестьянского
массового движения и притом в стране, открывающей перспективу
ломки векового несправедливого уклада жизни в Азии, колыбели
человечества. «Чья же точка зрения отразилась в проповеди Льва
Толстого?—спрашивает Ленин в статье «Толстой и пролетарская
борьба».— Его устами говорила вся та многомиллионная масса
русского народа, которая уже ненавидит хозяев современной жизни,
но которая еще не дошла до сознательной, последовательной, иду-
щей до конца, непримиримой борьбы с ними» **
Может ли художник-аристократ отразить народное движение
в своей стране? С точки зрения Плеханова, такая мысль равно-
сильна отречению от марксизма. И действительно, этот взгляд на
произведения Толстого решительно не вяжется с догматическим
марксизмом эпохи Второго Интернационала. Зависимость литера-
туры от общественной жизни Плеханов понимал как психологиче-
скую зависимость художника от окружающей его среды. Эта сто-
рона материалистического понимания истории развита им настолько
односторонне, что она заслоняет тот коренной исторический факт,
согласно которому искусство и литература являются отражением
внешней действительности, зеркалом объективной, всесторонней че-
ловеческой практики. Между тем именно это целое является исход-
ным фактом для Ленина в его анализе творчества Толстого.
Односторонность плехановской «социологии искусства» оказала
и продолжает оказывать самое печальное влияние на историю лите-
ратуры и художественную критику в настоящее время. Это и есть
та совершенно трезвая схема, которая всегда на языке у опьяневшей
от легкости своих успехов вульгарной социологии. Всякий худож-
ник — гласит исходное положение этой социологии — только приво-
дит в порядок исконные психологические переживания, навязанные
ему его собственной средой, воспитанием или интересами его об-
щественной группы. Такие переживания возникают непроизвольно,
автоматически, как ощущение боли при порезе пальца. Каждый
класс ведет самостоятельную духовную жизнь — он печалится, ра-
дуется, беспокоится о своем здоровье (вспомните критику врачей
189
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 19, 20.
** Там же, с. 70.
у Мольера) и вообще поддается самым разнообразным настрое-
ниям. Искусство только собирает настроения своего класса в осо-
бые резервуары, называемые художественными произведениями.
В этом смысле каждый художник по-своему невменяем. Его нельзя
ни убеждать, ни разубеждать, и, строго говоря, бессмысленно даже
хвалить или ругать. Он является законным психологическим про-
дуктом своей среды. В конце концов каждый может выражать толь-
ко самого себя, свое бытие, бытие своего класса, своей группы, своей
прослойки. Чем крепче мы привяжем художника к его собственной
незначительности, тем точнее, научнее будет наш анализ. Так или
почти так рассуждают многочисленные представители современной
социологии искусства и литературы, неизмеримо более последова-
тельные, разумеется, в принятом ими направлении, чем Плеханов.
190 Что такое литература? Отражение действительности, картина
объективного мира, окружающего художника, его класс, его обще-
ственную прослойку? Вовсе нет. Литература есть особая форма
«классовой идеологии, выражающая в образах классовое познание
действительности, служащая задачам классового самоутвержде-
ния...» * Такое объяснение дает читателю наша «Литературная эн-
циклопедия». Итак, содержание литературы берется не из внешнего
мира, а из глубин определенной классовой психологии. Некоторые
историки литературы пошли еще дальше по этому пути и сделали
вывод, что художник вообще ничего кроме своего класса изобра-
жать не может. Если Гоголь писал о запорожцах, то для проница-
тельного взора — это вовсе не запорожцы, а переодетые в свитки
и жупаны мелкопоместные дворяне, как сам Гоголь.
Каждое произведение литературы превращается таким образом
в зашифрованную депешу, а вся история мирового искусства — в со-
брание ребусов и символических знаков, за которыми скрывается
определенный классовый смысл. Нужно разгадать эти иероглифы,
определить их социологический эквивалент. Отсюда та черта вуль-
гарной социологии, которая чаще всего бросается в глаза — ее сти-
хийная страсть к разоблачениям. Социолог старается схватить
писателя за руку в тот момент, когда он проговорился, нечаянно
выдал исконные тенденции своего классового сознания. Если, на-
пример, Джульетта у Шекспира восклицает: «Ах, мое сердце —
банкрот!», догадливый мастер подобного психоанализа непременно
воспользуется этим, чтобы связать великого драматурга с интере-
сами лондонских купцов, торгующих дворян или капитализирую-
щихся помещиков.
Ленинизм в истории литературы и критике не имеет ничего об-
щего с подобным социологическим анализом или, скорее, гаданием.
Люди вменяемы, их сознание не является только психологическим
знаком какой-нибудь субъективной точки зрения. Оно дает картину
объективного мира вокруг нас, отражает внешнюю нам реаль-
ность. Писатели и художники изображают ее в более или менее
* Литературная энциклопедия. М., 1932, т. 6, с. 419.
верной действительности более или менее художественной форме.
Первый недостаток столь распространенной у нас социологической
манеры заключается в том, что она заменяет теорию отражения
Ленина классовой символикой и в этом важнейшем пункте порывает
с марксизмом.
Но как совместить теорию отражения с классовой точкой зре-
ния?— недоумевает вульгарный социолог. Если литература отра-
жает внешнюю действительность, что остается на долю классового
анализа? Эти страхи целиком повторяют то, что говорили в свое
время так называемые экономисты, а затем и сам Г. В. Плеханов
в меньшевистской «Искре» по поводу книги Ленина «Что делать?».
Стоит напомнить читателю, что они обвиняли Ленина в идеализме
и забвении классовой природы сознания.
Марксизм догматический понимает под классовым анализом
установление исконных социально-психологических типов и стилей
мышления, одинаково истинных с точки зрения их собственных
классов и одинаково ошибочных с точки зрения классов противопо-
ложных. Социолог только объясняет эти типы, и его объяснения в
конце концов сводятся к философии доктора Панглоса: «Все есть
так, как есть, и не может быть иначе, чем оно есть».
Понятие об идеологии различных классов в произведениях
Ленина совсем другое. Классовая природа духовных явлений опре-
деляется в своей основе не их субъективной окраской, а глубиной
и верностью заключенного в них понимания действительности. От-
сюда, из объективного мира берется и сама субъективная окраска
классовой идеологии. Она является выводом, в большей степени
выводом, чем исходным пунктом. Человек, способный возвыситься
до ненависти к угнетению и лжи во всех проявлениях общественной
жизни его эпохи, становится идеологом революционного класса.
Человек, целиком погруженный в свое особое частичное бытие, в
свою исконную ограниченность, всегда остается под властью идей,
вернее, предрассудков, отвечающих интересам реакционных классов.
В противовес догматическому марксизму Ленин сумел показать,
что классовое сознание не возникает автоматически. Идеологом
определенного класса не рождаются, а становятся. Так, пролетар-
ская идеология, то есть марксизм, не является простым углубле-
нием психологии рабочего, и ее нельзя считать непосредственным
следствием фабрично-заводского быта. Истинно классовое сознание
вырабатывается только из наблюдения всех классов общества во
всех проявлениях умственной, нравственной и политической жизни
этих классов. Пролетарская идеология возникает именно в этой
сфере взаимоотношения различных классов общества, она является
закономерным выводом из всей исторической практики человече-
ства, итогом развития философии, политической экономии, социа-
лизма.
Наоборот, с точки зрения буржуазной социологии, заимствую-
щей некоторые свои положения из марксистской литературы, клас-
совая идеология носит тем более чистый характер, чем более она
191
слепа, замкнута в себе, чем больше в ней ограниченности и незна-
ния окружающего мира. Да, несомненно — всякая ограниченность
ведет в конечном счете к защите определенных классовых интересов,
а именно — интересов реакции. Но под властью реакционной идео-
логии господствующих классов остаются и сами трудящиеся массы
до тех пор, пока они не поняли окружающей их общественной дей-
ствительности и через это посредство внешнего мира не пришли
к пониманию своей собственной исторической роли, то есть к само-
сознанию. Ленин говорит: «Познание человека не есть (respective
не идет по) прямая линия, а кривая линия, бесконечно приближаю-
щаяся к ряду кругов, к спирали. Любой отрывок, обломок, кусочек
этой кривой линии может быть превращен (односторонне превра-
щен) в самостоятельную, целую, прямую линию, которая (если за
192 Деревьями не видеть леса) ведет тогда в болото, в поповщину (где
ее закрепляет классовый интерес господствующих классов)» *.
Сознательная революционность и сознательная или бессозна-
тельная защита мракобесия и лжи — эта антитеза сама по себе
очень важна, но недостаточна. Кроме прямой и ясной классовой про-
тивоположности всегда существовала многомиллионная масса лю-
дей, которые уже поднялись до возмущения против своих угнетате-
лей, но еще не дошли до сознательной и последовательной борьбы.
Эта объективная классовая путаница, этот недостаток размежевания
классов (как в России между 1861 и 1905 годами, во Франции и
Германии между 1789 и 1848 годами) и проистекающие отсюда ко-
лебания в самой народной массе лучше всего объясняют нам проти-
воречия великих писателей, художников, гуманистов прошлого. Сме-
шение революционных и реакционных черт в сознании лучших пред-
ставителей старой культуры есть определенный исторический
факт. Революционные идеалы редко отражались в литературе прямо
и непосредственно. Отрываясь от вековых устоев старого общества,
самые благородные умы еще не могли найти в окружающем их
внешнем мире решения сложных противоречий человеческой исто-
рии. Отсюда внутренняя капитуляция этих людей перед религией
и традиционной моралью, отсюда закрепление этой капитуляции
интересами господствующих классов.
Если бы Толстой выражал только психологию ущемленного дво-
рянина, если бы Пушкин воспевал только радости и затруднения
капитализирующихся помещиков, то история литературы молчала
бы о них, как молчит она о тысячах литературных Митрофанов и
писателей охранительного направления. Бывают, однако, другие
случаи. «Если перед нами действительно великий художник,— го-
ворит Ленин,— то некоторые хотя бы из существенных сторон
революции он должен был отразить в своих произведениях» **. И мы
видим в освещении Ленина, как великий художник побеждает пси-
хологическую ограниченность своей среды, становится рупором
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 322.
** Там же, т. 17, с. 206.
страданий и гнева миллионных народных масс. Толстой перенес
в свои произведения первоначально чуждую ему психологию прими-
тивной крестьянской демократии. В этом и состоял действительный
социальный эквивалент его художественного творчества, источник
духовного подъема великого писателя. С другой стороны, патриар-
хальная психология накладывала печать ограниченности на все
крестьянское массовое движение 1861—1905 годов. Когда русский
крестьянин хотел на своем языке выразить идею национализации
земли, он говорил: «Земля ничья, земля божья». Такой патриар-
хальный крестьянин не мог найти лучшего выразителя своих коле-
баний, чем Толстой.
С тем же критерием классовой борьбы подходит Ленин и к Гер-
цену. «Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и песси-
мизм после 1848 года был крахом буржуазных иллюзий в социа- 193
лизме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением
той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуаз-
ной демократии уже умирала (в Европе), а революционность со-
циалистического пролетариата еще не созрела» *.
И в современном капиталистическом мире есть много людей, ко-
торые уже разочаровались в буржуазной демократии, но еще не до-
шли до демократии пролетарской. Колебания миллионов людей
отражаются в художественных исканиях самых различных западных
писателей, классовая позиция которых определяется в конечном
итоге их отношением к основным борющимся силам нашего време-
ни, к центральной проблеме эпохи, к вопросу о собственности и
власти.
Отсюда видно, что широко распространенная у нас манера
выводить устремления этих людей из психологии какой-нибудь мел-
кой прослойки класса буржуазии не отвечает требованиям лениниз-
ма. В наших учебниках Анатоль Франс все еще фигурирует как
идеолог средней буржуазии, Ромен Роллан — как мелкобуржуазный
гуманист и так далее. Классификация этих психологических типов
совершенно заслоняет от многих критиков основной вопрос об отно-
шении писателя к революции. Здесь вульгарная социология непо-
средственно сливается с «самодовольным сектантством» в Комму-
нистическом Интернационале.
Вернемся, однако, к вопросу о классиках мировой литературы,
ибо с ними как представителями старого мира авторы учебников и
других сочинений, предназначенных для поучительного чтения, об-
ращаются самым беспощадным образом. Согласно этой литературе,
произведения Пушкина, Гоголя, Толстого должны быть поняты,
исходя из домашних дел российского дворянства, из оскудения или
буржуазного перерождения этого класса. Так же поступает история
западной литературы по отношению к Шекспиру, Мольеру, Гёте.
Но все это обесценивает художественную историю человечества, п
весь этот социологический поход против нее решительно отличается
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 21, с. 256.
от настоящего классового анализа, который дает возможность вы-
двинуть все истинно великое в истории искусства и показать его
связь с демократическими и социалистическими элементами старой
культуры. Ленинизм учит нас умению разобраться в историческом
содержании художественного наследия, чтобы отделить живое от
мертвого в нем и то, что принадлежит будущему, от того, что яв-
ляется печатью рабского прошлого.
Здесь мы подходим к главному недостатку нашей социологичен
ской школы. Люди, которые так много пишут и говорят о классо-
вом анализе, ничего не понимают в действительной борьбе классов.
По существу, они отделяют классовую борьбу от социализма.
В основе всех нелепостей вульгарной социологии лежит не ленин-
ское, а буржуазно-меньшевистское представление о классах.
194 В самом деле, чем заняты историки литературы, задетые этой
социологической манией? Они подыскивают незначительные верху-
шечные группы среди буржуазии и дворянства, которым затем при-
писывается творчество Шекспира или Бальзака. Если верить нашим
социологам, вся история мирового искусства выражала мелкую сва-
ру из-за куска добычи между паразитами разного толка. И в этом
состоит главное содержание классовой борьбы? Где же основные
классовые противоречия каждой исторической эпохи? Где вековая
борьба верхов и низов! Куда девался народ? Напрасно станете вы
задавать эти вопросы. Ничего похожего нет в исторических схемах
наших социологов. Самое большее, на что они способны,—- это славо-
словия в честь «прогрессивной», «молодой», «поднимающейся»,
«укрепляющейся», «зрелой» буржуазии. Таким образом, можно
видеть, что вульгарная и не вульгарная (по своим манерам) социо-
логия работает над тем, чтобы оторвать искусство от народа. Поэ-
зия Пушкина становится достоянием капитализирующихся поме-
щиков, произведения Гоголя отходят мелкопоместному дворянству,
а прочие старые писатели не могут претендовать на что-нибудь
лучшее.
Нам могут сказать, что народ не имел или почти не имел своих
непосредственных выразителей в искусстве прошлого. До некоторой
степени это действительно так, но это не значит, что искусство и
литература развивались без влияния основной массы человечества.
Салтыков-Щедрин здесь ближе к Ленину, чем десятки наших марк-
систов. Он пишет: «Кроме действующих сил добра и зла, в обще-
стве есть еще известная страдательная среда, которая преимущест-
венно служит ареной для всякого воздействия. Упускать эту среду
из виду невозможно, если бы даже писатель не имел других пре-
тензий, кроме собирания материалов. Очень часто о ней ни слова
не упоминается, и оттого она кажется как бы вычеркнутой, но эта
вычеркнутость мнимая, в сущности же, представление об этой стра-
дательной среде никогда не покидает мысли писателя. Это та самая
среда, в которой прячется «человек, питающийся лебедой». Живет
ли он или только прячется? Мне кажется, что, хотя он преимущест-
венно прячется, но все-таки и живет немного».
Человек, питающийся лебедой,— это крестьянин, то странное
существо, которое заметил Лабрюйер из окна кареты, то непости-
жимое, страдательное существо, которое все же, по словам Монтеня,
отличается от короля только фасоном штанов. Как можно утверж-
дать, что литература развивалась без влияния крестьянина, рабоче-
го, солдата, вернувшегося с полей империалистической войны?
Вспомните, с какой настойчивостью отвергает Ленин «веховских»
социологов, пытавшихся отделить русскую литературу и критику
XIX века от настроений крепостных крестьян. Мы знаем на приме-
ре Толстого, что духовные искания великого русского писателя, вы-
шедшего из дворянской среды, могли отразить противоречия жизни
самих народных масс. Еще демократические авторы XVIII столе-
тия, как Вико, Винкельман, Фергюсон, Гердер, справедливо указы-
вали на истинные народные корни искусства, на вырождение худо-
жественного творчества везде, где одаренные люди, теряя соприкос-
новение с демократической основой культуры, превращались в
идеологическую составную часть господствующего класса (по вы-
ражению Маркса в «Теориях прибавочной стоимости»). Это убеж-
дение было свойственно всем революционным мыслителям прошло-
го, оно вдохновляло Белинского, когда он писал свое письмо Гого-
лю. И та же мысль в ее дальнейшем развитии лежала в основе
статей Ленина о Толстом. «Искусство принадлежит народу,— ска-
зал Ленин Кларе Цеткин.— Оно должно уходить своими глубочай-
шими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно
должно быть понятно этим массам и любимо ими»*. Правдивое
отражение жизни и народность — вот два принципиальных крите-
рия ленинской критики, две стороны одного и того же целого.
Классовая борьба в литературе — это борьба народных тенден-
ций в ней против идеологии господства и рабства, против религиоз-
ной безжизненности, примитивной грубости, рафинированного хам-
ства, лакейской слащавости. И провести эту классовую точку зрения
через всю историю мирового искусства — это вовсе не значит рас-
пределить художественные произведения по полочкам различных
общественных групп. Нет, это значит подвергнуть наследие прошло-
го действительному, конкретному анализу и, оценив по достоинству
все великое в нем, понять и противоречия истории искусства, и тяж-
кие отступления его, чтобы судить о них с точки зрения последую-
щего, более ясного размежевания классов, с точки зрения совре-
менной пролетарской борьбы.
Так называемая социология, бездушное объяснительство, кото-
рое преподносится нам под видом марксистского классового анали-
за, гораздо ближе к новейшим продуктам современной буржуазной
мысли (например, к немецкой «социологии знания»), чем к лени-
низму. Оно порывает даже с лучшей традицией демократической
русской критики — традицией Белинского, Чернышевского, Добро-
195
* Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М., 1979, т. 5, с. 13.
любова. Существует определенное расхождение между творческим
марксизмом, лежащим в основе завоеваний Октябрьской револю*
ции, и той скучной мнимомарксистской схоластикой, которая все
еще засоряет нашу печать. Можно называть это отставанием кри-
тики или как угодно иначе — факт остается фактом. Существует
марксизм догматический и марксизм творческий — живой, разно-
сторонний, лишенный всякой профессорской или сектантской огра-
ниченности, марксизм, насквозь пропитанный духом революционной
диалектики. Мы стоим на почве последнего, то есть на почве лени-
низма. Но в критической литературе нашей, в журнальных статьях
и книгах по истории литературы это часто остается простой декла-
рацией.
Будем же работать над тем, чтобы овладеть искусством читать
и писать в духе ленинизма.
ПРОТИВ ВУЛЬГАРНОЙ социологии.
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ*
1
И. Нусинов оспаривает некоторые взгляды, высказанные мною 197
на страницах «Литературной газеты». В одном научном собрании
он выступил с грозной обличительной речью, обвиняя своих против-
ников во всех смертных грехах и прежде всего в отказе от изучения
литературы с точки зрения борьбы классов. Никаких письменных
свидетельств об этом событии не сохранилось, за исключением
обрывка папируса «Вечерней Москвы». Благожелательный репор-
тер этой газеты, пером которого водил без сомнения сам святой
дух И. Нусинова, сообщает в своем отчете следующие подробности:
«Заседание закончилось интересным докладом профессора Нусино-
ва о классовой природе творчества Шекспира. Свое сообщение
т. Нусинов построил в форме острой и резкой критики высказыва-
ний ряда литературоведов. Особенно подробно была им раскрити-
кована концепция т. Мих. Лифшица, выступившего недавно в «Ли-
тературной газете» с тезисом о том, что бесцельно пытаться опреде-
лить классовую природу великих классиков мировой литературы,
потому что якобы на Западе до 1848 года, а у нас до 1905 между
классами существовала путаница и массы колебались между рево-
люцией и реакцией».
Обвинение серьезное. Но всякий, кто захочет познакомиться со
статьей, которая так не нравится И. Нусинову, увидит ясно, что
подобного вздора в ней нет. Нигде не говорится о том, что бесцель-
но пытаться определить классовую природу великих классиков ми-
ровой литературы. Если верить каракулям благожелательного ре-
портера «Вечерней Москвы», то речь идет о следующем месте из
статьи «Ленинизм и художественная критика». Приведем его пол-
ностью: «Сознательная революционность и сознательная или бес-
сознательная защита мракобесия и лжи — эта антитеза сама по себе
очень важна, но недостаточна. Кроме прямой и ясной классовой про-
тивоположности всегда существовала многомиллионная масса лю-
дей, которые уже поднялись до возмущения против своих угнетате-
лей, но еще не дошли до сознательной и последовательной борьбы.
Эта объективная классовая путаница, этот недостаток размежева-
* Опубликованы в «Литературной газете» (1936, 24 мая, 15 июля, 15 авг.).
ния классов (как в России между 1861 и 1905 годами, во Франции
и Германии между 1789 и 1848 годами) и проистекающие отсюда
колебания в самой народной массе лучше всего объясняют нам
противоречия великих писателей, художников, гуманистов прошло-
го. Смешение революционных и реакционных черт в сознании луч-
ших представителей старой культуры есть определенный историче-
ский факт. Революционные идеалы редко отражались в литературе
прямо и непосредственно. Отрываясь от вековых устоев старого
общества, самые благородные умы еще не могли найти в окружаю-
щем их внешнем мире решения сложных противоречий человеческой
истории. Отсюда внутренняя капитуляция этих людей перед ре-
лигией и традиционной моралью, отсюда закрепление этой капиту-
ляции интересами господствующих классов».
jgg Где же здесь отрицание роли классовой борьбы в истории лите-
ратуры? В дальнейшем статья, которая так не понравилась И. Ну-
синову, содержит вполне определенные утверждения насчет классо-
вой природы литературных произведений. Эта природа определяет-
ся в конечном счете отношением писателя к двум коренным
вопросам его времени — к вопросу о собственности и вопросу о вла-
сти. Профессор И. Нусинов не согласен с подобным мерилом, он
предпочитает свои кустарные определения, добытые при помощи
социологического психоанализа; слово «природа» он понимает
слишком буквально, чуть ли не в физиологическом смысле. Все это
так. Но марксизм не знает иного критерия для определения классо-
вого характера идеологии, кроме отношения писателя к собственно-
сти и власти.
В чем же причина возмущения профессора И. Нусинова? Дело
ясное. В моей статье заключалась критика вульгарной социологии,
а критика вульгарно-социологического понимания общественных
классов равносильна, с его точки зрения, отказу от теории классо-
вой борьбы вообще. Это вполне естественно и логично.
Отношение писателя к основному содержанию классовой борьбы
в его эпоху часто бывает сложным, противоречивым, оно заключает
в себе различные тенденции. Голые определения в духе профессора
Нусинова — дворянин, средний помещик, мелкий буржуа — очень
мало дают именно для понимания классовой природы писателя. Та-
кие определения отмечают только личное социальное положение
писателя или верхнюю идеологическую границу, выше которой он
подняться не мог. Но то своеобразное и сложное развитие, которое
переживает художник внутри этих границ и которое делает его
Шекспиром или Толстым, остается для наших социологов книгой
за семью печатями.
«Литературная энциклопедия» попробовала было устами
И. Анисимова определить Андре Жида как рантье, но нечего кро-
ме конфуза не получилось. А почему? Разве этот писатель стоит
вне классовой борьбы, разве бесцельно пытаться определить его
классовую природу? Вовсе нет. Нужно только раз и навсегда от-
казаться от мысли, что сложную историю отношения писателя
к основным борющимся силам его времени можно выразить двумя
словами, в духе якобы точных и простых определений профессора
Нусинова. Такого рода простота хуже воровства.
Посмотрите на этих любителей точности! Наши историки лите-
ратуры сами иногда с ужасом признают, что существует двадцать
или тридцать различных «классовых определений» для характери-
стики одного и того же писателя. Это в самом деле смешно. Такое
изобилие одинаково точных и все же не сходных друг с другом
определений ничего кроме скептицизма вызвать не может. Откуда
же такое разнообразие определений? Оно имеет свои причины. Про-
стая, общеизвестная истина гласит, что Пушкин или Шекспир
стояли на позиции дворянского строя. Первое самое общее опреде-
ление их классовой природы уже содержится в этой истине. Но ее
далеко не достаточно. Идеологию дворянской монархии в разные
времена и совсем по-разному разделяло великое множество литера-
торов и нелитераторов, которые, однако, не становились благодаря
этому Шекспирами. Это понятно даже нашим социологам. Вот по-
чему они и стараются решить неразрешимую задачу: обнаружить
такую прослойку, которая целиком заключала бы в себе все свое-
образные черты и все поэтические достоинства Пушкина или
Шекспира. И вот появляются на свет до крайности сложные, бес-
смысленно точные определения-монстры: прогрессивное обуржуази-
вающееся дворянство, переходящее на рельсы капитализма, капита-
лизирующиеся помещики, смыкающиеся с торговой буржуазией,
правое крыло левой части среднепоместного дворянства и тому
подобное. Где же здесь собственно точность, любезные друзья?
Всякий человек, не потерявший рассудка, ясно видит, что стремле-
ние к точности переходит в свою собственную противоположность.
На словах простота и ясность, на деле путаница и туман.
Между тем история литературы остается нераскрытой. Ибо чем
глубже погружается исследователь в область все более узких, мел-
ких и мельчайших интересов отдельных групп в среде господствую-
щих классов, тем дальше он уходит от подлинного, всемирно-истори-
ческого содержания творчества великих художников прошлого. Про-
стое дело определения классовой позиции писателя превращается
у наших социологов в поиски синей птицы. Дайте нам такую про-
слойку, которая по своему значению равнялась бы поэзии Пушкина,
была бы эквивалентна этой поэзии! — Напрасное ожидание. Никто
вам ничего подобного не даст. Такой прослойки не сыскать в целом
свете. Ведь Пушкин был гениальным художником, а дворянство и
буржуазия, как их ни дели на части, как ни смешивай друг с дру-
гом в различных пропорциях,— только два паразитических общест-
венных слоя.
В качестве представителя дворянской идеологии Пушкин был
писателем классово ограниченным. Как великий художник он создал
в своих произведениях нечто такое, что возвышается не только над
интересами определенной прослойки русских помещиков, но даже
над всей исторической практикой дворянства, взятого в целом. Этот
19}
факт признает и сама вульгарная социология, но признает его в
высшей степени искаженно. Она вынуждена одалживаться у форма-
лизма. Определив с невероятным торжеством, что Пушкин был
обуржуазивающимся помещиком или капитализирующимся душе»
владельцем, угодником самодержавия, литературным дельцом, же-
лавшим при помощи поэзии поправить свои личные обстоятельства,
наши социологи сами чувствуют, что они зашли слишком далеко.
Еще Плеханов писал, что установить социальный эквивалент
произведения — это только первый акт марксистской критики, за
которым должна последовать оценка формы. Идея Плеханова полу-
чила своеобразное претворение в практике нашей социологии лите-
ратуры. Если Пушкин был только духовным выразителем узкоклас-
совых интересов одной из групп дворянства, в чем же его величие
200 как поэта и его значение для эпохи социализма? Чтобы ответить
на этот вопрос, социологической школе остается только один путь:
стереотипные фразы о мастерстве Пушкина, его виртуозности, не-
обыкновенном даровании.
Оказывается, что этот в социальном смысле беззастенчивый
субъект обладал величайшей ловкостью рук; из самой эгоистиче-
ской и мелкой идейки он умел создать нечто удивительно совер-
шенное в формальном смысле. Этому искусству выдавать ограни-
ченное и узкое за совершенное и прекрасное, этому умению пускать
пыль в глаза и нужно учиться у великих художников прошлого.
Таков единственно возможный вывод из всех рассуждений вульгар-
ной социологии. В высшей степени циничный взгляд на роль пи-
сателя в обществе, взгляд, который немало вреда приносит и в со-
временной литературной практике! Согласно этой теории художник
является равнодушным мастером-профессионалом, безразличным
к величию или низости содержания, которое дает ему его социаль-
ная среда. Задумал Пушкин угодить правительству — и написал
«Полтаву». Задумал Шекспир прославить абсолютизм или могуще-
ство «новой знати» — и появились его замечательные хроники.
Вульгарная социология переходит здесь в грубейший формализм.
Гениальность художника остается для нее чем-то стоящим вне вся-
ких исторических рамок. Социология, которая столько твердит о
классовом анализе, выносит художественную форму за пределы
социальных отношений, она берет ее как нечто в полном смысле
слова внеклассовое, а эстетический уровень художника рассматри-
вает как чисто формальную величину, не подлежащую историче-
скому объяснению. Задача художника — прятать определенное, уз-
коклассовое содержание своего творчества под внешним покровом
виртуозной формы. Задача проницательного социолога — разобла-
чать художника, обнаруживая его классовые поползновения под об-
манчивым покровом внеклассового мастерства.
Итак, поскольку вульгарная социология дает какие-то классовые
определения, она вовсе не занимается существом дела — художест-
венной ценностью памятников искусства. Они для нее лишь истори-
ческие иллюстрации к данной эпохе. Поскольку же вульгарная со-
циология обращается к эстетическому значению художественного
творчества, она совершенно забывает даже марксистские термины
и впадает в дешевый формальный анализ или самодельные восторги.
Кто же отказывается от классового анализа? Именно те литера-
туроведы, которые вместе с профессором Нусиновым денно и нощно
твердят о новом дворянстве, старом дворянстве, торгующих поме-
щиках и тому подобном, оставляя в стороне самую важную задачу
истории искусства и литературы — объяснить художественное раз-
витие человечества и притом объяснить его из всей реальной исто-
рии борьбы общественных классов.
Задача истории литературы была бы очень проста, если бы тре-
бовалось только изловить всех классиков мировой литературы на
месте преступления и доказать, что по своему рождению, воспита-
нию или, наконец, по непосредственному выражению своих поли-
тических взглядов они принадлежат к господствующим классам.
Для доказательства этой истины, вполне самоочевидной, незачем
было бы содержать целый штат профессоров литературы. Главное
противоречие научной деятельности этих профессоров заключается
именно в том, что своими разоблачениями они доказывают ненуж-
ность изучения мировой литературы, а следовательно, и собствен-
ную никчемность.
Вульгарно-социологические определения в духе профессора
И. Нусинова мало помогают при изучении художественного твор-
чества. Но помогают ли они по крайней мере при изучении места
этого художника в истории общественной мысли, при изучении его
политических идей, короче говоря — его классовой позиции?
По всей видимости они и здесь только сбивают с толку. В последнее
время наши вульгарные социологи особенно подчеркивают монар-
хизм Пушкина, усматривая в этом какой-то особенный вид преда-
тельства. Однако знают ли эти почтенные исследователи, что среди
идеологов революционной буржуазии XVIII века (а это были люди
типа Вольтера, Монтескьё, Руссо, Гельвеция) нельзя найти ни одно-
го последовательного республиканца? Известно ли им, что Вольтер
писал стихи более монархического содержания, чем «Стансы» Пуш-
кина, что просветители верили в самодержавие больше, чем верхуш-
ка аристократии или парламентской буржуазии? И тем не менее
в этом монархизме просветителей было гораздо больше республи-
канского духа, чем в свободолюбии просвещенных магнатов и горде-
ливых носителей судейской мантии. Такие противоречия в изобилии
встречаются на страницах истории.
Одно дело — патриархальная монархическая утопия Шекспира,
другое дело — политические подвиги «новой знати». Народные мас-
сы конца средних веков стремились повернуть общество назад к тем
временам, когда Адам пахал, а Ева пряла, и это было реакционно.
Но со всемирно-исторической точки зрения в этой реакционности
заключалось больше подлинного возмущения классовой цивилиза-
цией, чем в сочинениях многих прогрессивных писателей следующей
эпохи. Сравнивать же реакционность подобных патриархальных
201
утопий с реакционностью либеральных сладкопевцев — это, по вы-
ражению Ленина, все равно, что сравнивать аршины с пудами.
И. Нусинов до сих пор полагает, что для доказательства про-
грессивности какого-нибудь старого писателя его нужно зачислить
в разряд капитализирующихся помещиков. Подобной участи удо-
стоился недавно Шекспир. Его, так же как Пушкина, отнесли к
«выразителям интересов нового капитализирующегося дворянства»
(см. отчет о шекспировской сессии ИКП литературы в «Литера-
турной газете»). Любопытно, что отсюда выводится и гуманизм
Шекспира. Можно ли представить себе более чудовищную насмеш-
ку над историей культуры, чем это отождествление великой чело-
вечности гения с устремлениями самой враждебной народу, самой
разбойничьей «прослойки» имущих классов его эпохи. Зато какая
202 простота и точность!
Ленинизм требует другого подхода к творчеству классиков ми-
ровой литературы. Почему Ленин с такой настойчивостью и лю-
бовью возвращался к теме «Толстой»? Потому что в творчестве
Толстого он видел отражение противоречивого и сложного нараста-
ния массового народного движения в истории. Мы знаем, что глубо-
чайшие и подлинно революционные движения прошлого часто
носили в себе элементы патриархальных, религиозных, аскетических
идеологий (таковы, например, плебейские ереси средневековья, кре-
стьянская война в Германии). Мы знаем также, что гениальные
одиночки из дворянства и буржуазии нередко становились настоя-
щими народными писателями, несмотря на свои прирожденные и
благоприобретенные классовые предрассудки. В произведениях
Толстого или Шекспира живое и мертвое тесно переплетены между
собой. Но победа остается на стороне живого. Лишь по мере даль-
нейшего углубления классовой борьбы и размежевания обществен-
ных сил наивное сочетание консервативных и демократических черт
становится более невозможным. Теперь от писателя требуется со-
знательный переход на сторону борющегося народа, сознательная
партийность. На смену Толстому приходит Горький.
Быть великим писателем и одновременно реакционным утопи-
стом или даже умеренным консерватором — такого рода сочетания
были возможны лишь в неразвитых условиях классовой борьбы.
Маркс писал об эпохе Гёте и Шиллера в Германии: «Здесь нельзя
говорить ни о сословиях, нй о классах, а в крайнем случае лишь
о бывших сословиях и неродившихся классах» *. Ленин говори^
о Толстом, что в его эпоху все старое переворотилось, а новое ещё
не успело уложиться. Конечно, в таких исторических положениях
бывает немало путаницы (особенно в сознании широкой массы лю-
дей), немало сложных узлов, которые пришлось распутать поздней-
шей истории. Указывать на этот своеобразный и противоречивый
ход исторического развития было очень важно для Ленина в борьбе
против либерально-меньшевистской догматики.
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 183.
Профессор И. Нусинов, как видно из отчета «Вечерней Москвы»,
недоволен употреблением слова «путаница». Он видит в этом пря-
мой отказ от классовых определений. Но почему же? Абсолютной
путаницы, из которой нет выхода, история не знает, но относитель-
ная и временная встречается в ней не так уж редко. Если бы у нас
было место, мы привели бы профессору Нусинову и остальным
профессорам, разделяющим его недоумение, несколько примеров.
Однако, любезные друзья! Почему бы вам не выразить несогласие
с тем, что писал Ленин о революции 1905 года в статье «Еще один
поход на демократию»: «До этой поры в «простонародье» были дей-
ствительно «перепутаны и перемешаны» «во всеобщей бестолков-
щине» элементы патриархальной забитости и элементы демократиз-
ма. Об этом свидетельствуют такие объективные факты, как воз-
можность зубатовщины и «гапонады». 203
Мало вам? Читайте дальше. «Именно 1905 год этой «бестолков-
щине» положил раз навсегда конец. В истории России не бывало
еще эпохи, которая бы с такой исчерпывающей ясностью, не сло-
вами, а делами, распутывала запутанные вековым застоем и веко-
выми пережитками крепостничества отношения. Не бывало эпохи,
когда бы так отчетливо и «толково» размежевывались классы,
определяли себя массы населения, проверялись теории и программы
«интеллигентов» действиями миллионов» *. На этом основана вы-
сокая оценка Лениным 1905 года в истории русской революции.
Но имеет ли вопрос о путанице в общественных отношениях ка-
кое-нибудь значение для истории литературы? Имеет и очень боль-
шое. Из недостатка размежевания классов между 1861 и 1905 года-
ми Ленин выводит противоречия величайшего русского писателя —
Льва Толстого.
Если верить профессору Нусинову (и остальным профессорам,
разделяющим его точку зрения), то выходит, что Ленин отказы-
вался от классового анализа творчества Толстого. Ибо он полагал,
что в эпоху Толстого резкость разграничительных линий была
далеко недостаточна, а рыхлость и путаница в массах очень велика.
На этом построены все статьи Ленина о Толстом. В самом деле,
у Ленина мы нигде не найдем тех якобы точных, а на деле вульгар-
ных определений классовой природы Толстого, до которых так
падки наши социологи. Зато подобные определения можно найти,
например, у Троцкого. В своей статье о Толстом он прямо выводит
творчество великого русского писателя из помещичьих интересов
и барской психологии. От классового анализа этого типа отправ-
лялся в своих статьях о Толстом и В. Фриче, а за ним и прочие
авторитеты социологической школы.
Естественно, что людям этого склада недоступен взгляд Лени-
на, согласно которому гениальный художник, происходящий из дво-
рянства или буржуазии, может вопреки своим классовым предрас-
судкам или реакционным выводам отразить определенные стороны
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 22, с. 85.
народного движения своей эпохи. Ленин начинает свою статью
«Лев Толстой, как зеркало русской революции» следующими слова-
ми: «Сопоставление имени великого художника с революцией, кото-
рой он явно не понял, от которой он явно отстранился, может по-
казаться на первый взгляд странным и искусственным. Не называть
же зеркалом того, что очевидно не отражает явления правильно?
Но наша революция — явление чрезвычайно сложное; среди массы
ее непосредственных совершителей и участников есть много социаль-
ных элементов, которые тоже явно не понимали происходящего,
тоже отстранялись от настоящих исторических задач, поставлен-
ных перед ними ходом событий. И если перед нами действительно
великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон
революции он должен был отразить в своих произведениях» *.
204 И. Нусинова не удовлетворяет имеющаяся здесь «путаница».
Явный отказ от классового анализа — умозаключает профессор и
немедленно выкладывает свои соображения: «Талантом и гением
лишь того можно назвать, кто в состоянии с максимальной полнотой
и глубиной показать действительность такой, как ее видит его
класс. Но только так, как видит и понимает действительность его
класс. Сказать же, что гений по своим «художественным способно-
стям» отражает существеннейшие стороны действительности, хотя
бы он цх явно не понял — это значит отказаться от классовой ха-
рактеристики гения, его художественной практики, какие бы оговор-
ки и оговорочки при этом ни делались» **.
Довольно! И. Нусинов, поучающий Ленина «классовой характе-
ристике»,— это уж слишком. Интересно было бы знать, разделяют
ли его взгляды остальные профессора, выступившие вместе с ним
на вышеупомянутом заседании? Отделаться фигурой умолчания им,
пожалуй, будет неудобно. «Что пардон — то пардон», как говорит
один из героев Зощенко.
2
Нет, не любит, видно, черт табаку!
Гоголь. «Заколдованное место»
В предыдущей статье нам поневоле пришлось заняться литера-
турной деятельностью И. Нусинова. Строго говоря, нашему социо-
логу оставалось либо признать свое отступление от ленинизма, либо
открыто заявить о разрыве с ним. И. Нусинов предпочел тре-
тий, воображаемый выход. В его ответе нет ничего, кроме стремле-
ния запутать читателя и перекричать всех. Статья И. Нусинова
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 206.
** Нусинов И. М. Горький и проблема социалистического реализма.— Жур-
нал ИКП, 1934, Хе 1, с. 87.
интересна только в одном отношении — она показывает, как далеко
зашло обособление вульгарно-социологической секты от подлинно-
го, живого марксизма.
Остановимся на некоторых положениях этой статьи с единствен-
ной целью — дать читателю дополнительный материал для сужде-
ния о литературной деятельности наших социологов. В последнее
время они усиленно стараются не отстать от века. Прочтите, напри-
мер, следующий отрывок из статьи И. Нусинова: «Народ, народное
творчество, борьба народа против своих угнетателей оказали огром-
ное влияние на творчество Сервантеса и Шекспира, Вольтера и
Гюго, Стендаля и Бальзака, Пушкина и Гоголя, Толстого и До-
стоевского. Вне исследования значения народного творчества для
этих писателей, вне уточнения значения борьбы народных масс про-
тив своих угнетателей для этого творчества всякого рода писания 205
об их произведениях будут или формалистической чушью, или со-
циологическим шаблонизированием и пародией на марксизм».
Совершенно верно. Жаль только, что автор не договаривает: ведь
именно он и ему подобные марксисты в течение многих лет игно-
рировали народную основу искусства и презрительно третировали
Белинского за употребление таких ненаучных понятий, как народ
и народность. Стало быть, именно И. Нусинов и его друзья дурма-
нили голову читателю или формалистической чушью, или социоло-
гическим шаблонизированием и пародией на марксизм. Все это
можно было бы просто забыть в расчете на дальнейшие успехи
просвещения, если бы для нашего sociologus vulgaris просвещение
не оставалось только делом моды, прикрытием собственного неве-
жества.
Сделав оговорку насчет влияния народа, И. Нусинов бьет в на-
бат. Ему, видите ли, хотят навязать теорию, согласно которой Сер-
вантес, Шекспир, Вольтер, Гёте, Пушкин были идеологами пролета-
риата и крестьянства. А на самом деле, утверждает И. Нусинов, все
эти писэтели были «идеологами аристократии, буржуазии, реак-
ционного мещанства, мелкой буржуазии», короче говоря — идеоло-
гами эксплуататорских классов. Попробуйте доказать, иронизирует
И. Нусинов, что Пушкин и Гоголь были идеологами русского кре-
стьянства. «Мы предлагаем М. Лифшицу сделать вывод... Пусть
он имеет мужество заявить, что Бальзак был выразителем борьбы
пролетариата и крестьянства».
Страсти-мордасти! Ответим покуда Нусинову аналогичным
предложением. Пусть И. Нусинов имеет мужество заявить, что
«Утраченные иллюзии» Бальзака или «Борис Годунов» Пушкина —
это идеология эксплуатации, что именно поэтому указанные про-
изведения великих писателей имеют для нас такую ценность. По-
чему бы нам со своей стороны не предложить И. Нусинову сделать
вывод? Пусть он докажет, что наша страна превращает чествование
памяти Пушкина в народный праздник именно потому, что выше-_
означенный Пушкин, идеолог аристократии, неустанно защищал в
своих произведениях интересы эксплуататоров.
А было время (всего пять лет назад), когда И. Нусинов не стес-
нялся проявлять подобное мужество. «В чем объективный критерий
художественности?» — спрашивал он в специальной статье, посвя-
щенной указанному вопросу. Ответ таков: «Художественное твор-
чество служит классовому самосохранению, классовому самоутверж-
дению. Оно художественно совершенно или ущербно в зависимости
от того, в какой мере оно способно выполнить свою функцию, а не
в зависимости от того, какой идеей оно проникнуто» (с. 35) *.
Вот что мы называем последовательностью! Почему велик Го-
голь? Потому что он лучше, чем другие писатели, помогал самосо-
хранению помещиков. Чем замечательны классические писатели про-
шлого? Тем, что они были самыми последовательными и верными
идеологами эксплуататорских классов. Так отвечал имеющий муже-
206 ство И. Нусинов. «Классик — писатель, творчество которого дает
синтетическое, типизирующее выражение психоидеологии его
класса» (с. 17).
Возьмем пример: кто из современных западных писателей бли-
же к истинному искусству? Тот, который правдиво отражает дей-
ствительность, приближаясь своим путем к идеям коммунизма? Во-
все нет, отвечает И. Нусинов в полном согласии со своей теорией.
«Замечательно, что шедевры создают лишь писатели, дающие
синтетическое выражение самосозерцания уходящих из мира, само-
углубление осознавшего, что все — в прошлом, и создают писатели,
экклезиастически признающие суетность мира (Пруст, Джойс)»
(с. 28).
В этом выводе нет ничего неожиданного, он прямо вытекает из
основной посылки Нусинова. Классик разлагающегося класса —
тот писатель, который разлагается глубже всех. И наоборот: мень-
ше всего шансов на бессмертие имеют те современные западные ав-
торы, которые хотят порвать со своим классом, восстают против
старого мира и пытаются выйти на другую дорогу. Это явная ошиб-
ка с их стороны и даже преступление против теории базиса и над-
строек. Они не учли того обстоятельства, что лучшими писателями
прошлого были люди, наиболее полно выразившие идеологию экс-
плуататорских классов.
Веселая теория! Заметим покуда, что ее сторонники попали в
самое затруднительное положение. Перед ними немедленно возни-
кает вопрос: как должно поступить коммунистическое человечество
с «Дон-Кихотом», «Евгением Онегиным» и прочими художествен-
ными символами эксплуатации? Очень просто, отвечал в 1930 году
мужественный И. Нусинов и пояснял: «Сервантес, Шекспир, Моль-
ер, Пушкин, Гоголь^ Толстой, Достоевский создали образы, до
конца воплотившие в себе социальную сущность их класса... Конец
классового общества будет и концом этих образов. С утерей власти
человека над человеком, с уничтожением классов, собственности, эти
* См.: Литература и марксизм, 1931, № 1. В скобках указаны страницы
этого журнала. Курсив в цитатах — Мих. Лифшица.
образы потеряют их «общечеловеческую», по существу общеклассо-
вую значимость». После победы социализма, предсказывал Нуси-
нов, образы классической литературы утратят для человечества
всякий художественный интерес. Некоторое исключение он делает
лишь для «Фауста» и «Гамлета». Эти произведения «могут волно-
вать человечество еще в течение известного ряда поколений», а за-
тем вместе с окончательным уничтожением всех пережитков капита-
лизма в сознании людей они также «отойдут в прошлое, как и века,
их породившие» *.
Вышеизложенная теория имеет одно неоспоримое достоинство —
она последовательна. И если бы профессор Нусинов не был
профессором Нусиновым, он должен был бы открыто сказать: «То-
варищи! Теперь, когда создание социалистического общества — со-
вершившийся, признанный факт, пора наконец выбросить за борт 207
Пушкина и прочих классиков мировой литературы. Ведь мы иско-
реняем всякие остатки идеологии эксплуататорских классов, а вели-
кие писатели прошлого потому и назывались великими, что они
наиболее полно выразили в своих произведениях эту идеологию».
Впрочем, возможен и другой вариант этой воображаемой речи.
«Товарищи! —сказал бы еще более добросовестный Нусинов.— Все
мои рассуждения о будущем были только продуктом мещанского ни-
гилизма. Вышло как раз обратное тому, что я предрекал. Благодаря
уничтожению частной собственности и эксплуатации человека чело-
веком все великое в старой литературе не погибло, а напротив —
освободилось от ограниченной и узкой оболочки, получило новую
серьезную и глубокую жизнь в сердцах миллионов. Не умер Пуш-
кин, он только начинает по-настоящему жить.
Другими словами, величие классической литературы — это одно,
а идеология эксплуататорских классов — другое. Между этими яв-
лениями всегда существовало известное противоречие, которое
именно теперь выступает с полнейшей очевидностью. Вот чего я
никогда не мог понять, ибо позаимствовал весь мой багаж из сочи-
нений Фриче и других подобных источников».
Так сказал бы своим читателям воображаемый, добросовестный
Нусинов. Но, увы, это только сон.
Времена откровенности для вульгарной социологии прошли.
Свою позицию И. Нусинов выражает теперь в гораздо более осто-
рожной форме. Если Шекспир, Пушкин, Гоголь — только художни-
ки собственнических классов, то в чем их значение для людей, ко-
торые видят свою задачу в борьбе против всякого собственническо-
го свинства? Чтобы ответить на этот вопрос, И. Нусинов проводит
строгую грань между классовым характером художественного про-
изведения и его значением для классовой борьбы: «Я думаю,— пи-
шет он в своей последней статье,— что творчество Бальзака, Гоголя
для нас важно не потому, что они были писателями таких-то собст-
веннических классов или социальных групп, а потому, какое значе-
* См.: Литературная энциклопедия (М.. 1930, т. 2), ст. «Вековые образы».
ние их творчество объективно имеет для торжества социализма над
фашизмом и империализмом».
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Столько чернил было проли-
то, чтобы доказать собственнический, эксплуататорский характер
творений великих художников прошлого, а теперь оказывается, что
все это совсем не важно. Задачей истории литературы является изу-
чение объективного хода литературного развития. Но если верить
И. Нусинову, то именно в этой области вопрос о классовом харак-
тере литературной деятельности не имеет значения. Для чего же
вы так настойчиво разыскиваете пресловутую прослойку? Из чисто-
го любопытства, ради статистики или для того, чтобы на собствен-
ном примере доказать, что «витийство лишнее природе злейший
враг»?
208 Классовый анализ в понимании И. Нусинова — действительно
совершенно никчемная игра в бирюльки; нужна и полезна она толь-
ко тем, кто сделал из нее для себя пожизненную профессию. Для
борьбы за торжество социализма она бесполезна, как признает и
сам Нусинов. Настоящий классовый анализ начинается именно
там, где наши социологи складывают свое оружие. Мы уже указы-
вали на эту новейшую и вместе с тем очень старую тенденцию вуль-
гарной социологии. Как только речь заходит о том, какое значение
классическое искусство имеет для нашей современности или, выра-
жаясь словами самого И. Нусинова, какое значение оно «объективно
имеет для торжества социализма»,— эти люди поспешно открещи-
ваются от всякого классового анализа. Здесь якобы совершенно
неважно, что те или другие деятели литературы «были писателями
таких-то собственнических классов или социальных групп».
Почему же, собственно, неважно? Каким образом можно опреде-
лить объективное значение творчества писателя, минуя вопрос о его
отношении к угнетению и эксплуатации? Существует ли какая-ни-
будь разница между Пушкиным, Гоголем, Толстым или Чеховым,
с одной стороны, и писателями типа Булгарина, Каткова, Суворина,
веховцев, с другой? Для И. Нусинова все они одним миром мазаны.
Все это идеологи эксплуататорских классов или собственнических
классов. Но договаривайте же! Покажите, что и Булгарин с Катко-
вым «объективно» имеют большое значение для борьбы с фашиз-
мом. Ведь с вашей точки зрения неважно — выросло ли данное про-
изведение из защиты эксплуатации и угнетения человека человеком
или, наоборот, из протеста против этого угнетения.
В самом деле, еще в 1934 году для доказательства справедливо-
сти своей теории о разделении классового и объективного И. Нуси-
нов ссылался на произведение В. Шульгина «1920 год». Шульгин
писал свою книгу, исходя из интересов белой эмиграции, а получи-
лось очень поучительно и для пролетарского читателя. Так же об-
стоит дело с Гоголем, Пушкиным и остальными писателями собст-
веннических классов. Социальным эквивалентом их творчества был
некий, ныне ископаемый род белогвардейщины — объективно они
помогали и помогают борьбе против фашизма и империализма.
Не шутите, читатель! Надо думать, скоро нам покажут, что и Бул-
гарин с Гречем — классики мировой литературы. Не подлежит
никакому сомнению, что чтение их «произведений» очень поучи-
тельно и весьма помогает борьбе за идеалы социализма — следова-
тельно, их также нужно отнести к великим писателям. Идеологами
эксплуататорских классов они, безусловно, являются, объективное
значение их писания имеют. Все признаки налицо.
У Нусинова это называется противоречиями собственнических
классов. Его философия художественного творчества складывается
из следующих двух положений: во-первых, вся мировая литература
создана руками Шульгиных, и, во-вторых, эта эксплуататорская,
собственническая литература объективно имеет большое художест-
венное и революционное значение. Теперь понятны все полемиче-
ские доводы И. Нусинова.
В статье «Ленинизм и художественная критика» было сказано,
что незрелость массового движения в прошлом и его противоречи-
вое нарастание в истории лучше всего объясняют нам противоречия
великих писателей, художников, гуманистов прошлого. Приведя эти
слова, И. Нусинов скачет и играет: как? значит массы виноваты?
«По Лифшицу выходит, что Кавелины или Аксаковы и Феты не
были идеологами классовых эксплуататоров». Нет, не выходит. Ка-
велины, разумеется, были идеологами классовых эксплуататоров.
Но если вы так хотите опровергнуть вышеприведенное положение,
то докажите сначала, что Кавелины были великими писателями,
художниками, гуманистами прошлого. А пока вы будете при помощи
Кавелиных зачислять в идеологи классовых эксплуататоров таких
писателей, как Пушкин, Гоголь или Толстой,— простите, никто вас
слушать не станет.
В доказательство того, что великие писатели, художники, гума-
нисты прошлого были идеологами классовых эксплуататоров, Нуси-
нов ссылается далее на... Струве, ГЦепетовых, их предшественни-
ков, а также на меньшевиков, эсеров, литераторов из «Новой жиз-
ни» и даже на Богданова и Базарова. Все это, по-видимому, для
И. Нусинова — великие писатели, художники, гуманисты прошлого.
Прибавьте сюда В. Шульгина, и картина мировой литературы будет
полная. Увы, такими невероятными пустяками заполнена вся поле-
мика И. Нусинова. Он, например, ссылается на «Зараженное се-
мейство» Льва Толстого — памфлет против нигилистов, который
был так плох, что Толстой устыдился и не пожелал его напечатать.
Всуе поминаются также в его статье «Взбаламученное море» Писем-
ского и «На ножах» Лескова. Прибавим к коллекции нашего про-
фессора две неудачные комедии Гёте, написанные им против фран-
цузской революции. При некотором желании можно присоединить
сюда и министерские распоряжения того же Гёте, судебные доку-
менты по делу Вольтера о спекуляции саксонскими денежными бу-
магами или низкопоклонные прошения Петрарки о предоставлении
ему доходных бенефиций. В природе подобной письменности, если
не литературы, сомневаться не приходится.
209
И на солнце литературы есть пятна. Но солнце не состоит из
одних только пятен. О людях же, которые не хотят видеть другого,
прекрасно сказал Горький: «Какое-то хитрое, мещанское желаньице
смазать, стушевать все яркие цвета и краски, одеть весь мир в спо-
койный серый тон... Посмотрите, как долго мы помним, что Пушкин
писал лестные стихи Николаю I, Некрасов играл в карты, Лесков —
автор романа «На ножах» и т. д. Это злая память маленьких лю-
дей, которым приятно отметить проступок или недостаток большого
человека, чтобы тем принизить его до себя».
Всего забавнее, что, приведя свои примеры, И. Нусинов пишет
о классиках мировой литературы следующее: «Благодаря противо-
речиям собственнического мира, их творчество играло и играет
объективно огромное положительное значение, несмотря на то что
210 они были идеологами эксплуататорских классов. В этом их сила.
Но то, что они были идеологами эксплуататорских классов, было
источником их роковых недостатков, без учета которых невозможно
дать правильную оценку их произведениям».
Ну, вот видите! Значит «играет значение» в истории литерату-
ры то, что не вытекает из идеологии эксплуататорских классов.
Из этой идеологии вытекает именно то, что не «играет значения»,
роковые недостатки. Стало быть, великие художественные произве-
дения (состоящие, как известно, не из одних только недостатков)
созданы вопреки интересам эксплуататорских классов, несмотря на
эти интересы. Словом, классовый анализ и состоит в том, чтобы раз-
бирать, где в старом искусстве достоинства, а где роковые недо-
статки, что является защитой собственнических предрассудков и
что направлено против них, что художественно и что, наоборот,
нехудожественно. А вы говорите, что классовый характер идеоло-
гии, лежащий в основе данного произведения, не важен для опре-
деления объективного значения этого произведения.
Но, может быть, мы неправильно поняли И. Нусинова? Может
быть, он хочет сказать, что именно «Зараженное семейство» Толсто-
го «играет объективно огромное положительное значение»? Скорее
всего именно так и следует понимать нашего социолога. Ведь со-
ратники И. Нусинова считают, например, что «Мертвые души»
выросли из стремления укрепить эксплуатацию крепостного кре-
стьянства, и, несмотря на это, поэма Гоголя объективно «играет
значение» великого и прогрессивного художественного произве-
дения.
На языке наших социологов это называется противоречием
между генезисом и функцией. Крепостники и эксплуататоры созда-
вали в своих интересах высокие художественные произведения, а
функцией этих произведений, написанных в защиту эксплуатации,
стало служение делу рабочих и крестьян. По смыслу этой теории
разница между идеологией эксплуататоров и прогрессивной общест-
венной мыслью только субъективная, каждый прав и велик по-свое-
му; объективно эти противоположные устремления пересекаются и
совпадают в одних и тех же духовных ценностях.
Итак, объективность полная. Настолько полная, что поразитель-
но, откуда у И. Нусинова и его друзей хватает смелости объявлять
себя хранителями марксовой теории борьбы классов. Ведь Нусинов
и его друзья отрицают всякий объективный классовый критерий
при оценке художественного и социального значения памятников
литературы. Йо если так, то на каком основании они говорят, что
влияние идеологии эксплуататорских классов порождает в литера-
туре только роковые недостатки? Откуда же берутся достоинства?
Имеют ли они какой-нибудь социальный эквивалент? Или достоин-
ства никакого генезиса не имеют и являются чистым даром неба?
Одно из двух: либо утверждайте, что все художественное разви-
тие человечества, все достоинства классического искусства по гене-
зису своему являются законным выражением идеологии эксплуа-
таторских классов, то есть (чтобы не оставить никакой двусмыслен-
ности) идеологии эксплуатации, либо наконец поймите, что
великие завоевания искусства достигнуты в процессе борьбы с этой
идеологией, по мере приближения искусства к народу. И тогда
вместе с каждым марксистом и каждым порядочным человеком в
нашей стране вы можете считать, что тлетворный дух вышеозначен-
ной идеологии ничего, кроме роковых недостатков, в искусстве про-
извести не может.
Здесь надобно выбирать. И нечего разыгрывать доморощенных
диалектиков. Или — или, что сверх того, то от лукавого.
Для того чтобы оценить писания И. Нусинова, нужно знать его
исходную позицию. Он обрушивается на Г. В. Плеханова, который
справедливо считал, что между истинной и ложной идеей, между
идеологией эксплуатации и сочувствием угнетенным массам суще-
ствует объективная, а не только субъективная, воображаемая раз-
ница. Истинное и прогрессивное содержание является первоосновой
художественности. С этой точки зрения Плеханов осуждает идей-
ную деградацию буржуазного искусства. В изложении столь важной
мысли, принадлежащей всей демократической и социалистической
эстетике, у Плеханова были недостатки. Но в основном здесь ска-
зывалась лучшая сторона его эстетической теории, связанная с на-
следством Белинского, Чернышевского, Добролюбова и драгоценная
для всякого марксиста.
Профессор Нусинов мобилизует против этого взгляда худшие
стороны Плеханова — его социологический релятивизм. Раз все об-
условлено, полагает наш глубокомысленный социолог, то все оди-
наково закономерно. Реакция, эгоизм и ложь также могут служить
основой высокого искусства. Неверно, что произведение художест-
венно только в том случае, если оно правдиво передает действитель-
ность. «Художественность,— пишет Нусинов,— не есть мера реали-
стического изображения действительности, а мера выражения пред-
ставления данного класса о действительности» (с. 36).
Вы говорите, что ложь и защита эксплуатации не могут служить
основой настоящего художественного произведения, но что такое
истина? —спрашивает Нусинов, умывая руки. Истина — это только
211
inyвинное сознание автора. Произведение художественно, если оно
соответствует не внешней действительности, а доподлинному, глу-
бинному сознанию определенного класса. И для того чтобы не оста-
вить никаких сомнений, автор объясняет: «Понятие ложная идея
не есть понятие абсолютной истины, абсолютной справедливости.
Это — классовое понятие. Ложное и истинное здесь — мера данного
класса. Идея произведения ложна, если она ложна с точки зрения
сознания класса, творящего данное произведение; она верна, если
она соответствует доподлинному сознанию данного класса. Она
ложная, если автор, развивающий ее, не верит в нее; она — нелож-
ная, если автор продолжает быть глубоко уверенным в ее истинно-
сти. И все это независимо от того, является ли она реакционной или
прогрессивной, ведет ли она к искажению действительности или к
212 верному воспроизведению действительности» (с. 33—34).
Здесь совершенно очевидно, что вульгарная социология ведет
к чистейшему мракобесию. Она старается доказать, что самые чело-
веконенавистнические, хищнические, лживые идеи способны поро-
дить шедевры искусства, поскольку эти идеи содействуют самосо-
хранению имущих классов и поддерживают веру в необходимость
их господства. Теперь понятно, почему с точки зрения И. Нусинова
неважно — защищает данный писатель интересы эксплуататорских
классов или нет. В абстрактной социологической перспективе исти-
на и ложь, революция и реакция одинаково правы, одинаково хо-
роши. И в реакционные идеи можно верить, а в средние века люди
верили даже в черта.
Наши новоявленные защитники веры рассуждают, как Дон-Ки-
хот в минуту философского наития. Истин столько же, сколько то-
чек зрения. «То, что тебе представляется бритвенным тазом, мне
представляется шлемом Мамбрина, а другому представится еще
чем-нибудь». Другими словами, в основе всех рассуждений И. Ну-
синова лежит чистейший субъективизм. И обратно: этот субъекти-
визм (богдановского пошиба) приводит нашего социолога к не ме-
нее пошлому объективизму, он заставляет его вынести духовные
ценности за пределы классового анализа. И. Нусинов не видит ни-
какой разницы между шлемом Мамбрина и бритвенным тазом, меж-
ду Пушкиным и Кукольником, «Войной и миром» Толстого и его
же «Зараженным семейством», между истиной и ложью, прогрес-
сивными и реакционными устремлениями, между величием класси-
ческой литературы и защитой идеологии эксплуататорских классов.
Заметим, что эта насквозь гнилая и циничная теория отрицает
реалистическую основу искусства, отражение объективной реально-
сти в нем. Чтобы доказать полнейшую относительность различных
классовых точек зрения, И. Нусинов ссылается на ряд произведе-
ний, в которых различно обрисован один и тот же общественный
тип. Любопытно, что эти примеры наш автор уже приводил однаж-
ды и приводил их против теории отражения. В статье «Проблемы
объективной значимости художественного творчества» И. Нусинов
писал: «Чаще всего приходится встречаться с двумя в корне оши-
бочными, чуждыми диалектике ответами на вопрос об объективном
значении литературного произведения. Первый — это взгляд на ли-
тературу как на отражение действительности. Второй — это прове-
дение аналогии между ученым и писателем и признание, что оба
одинаково познают жизнь, отличаясь друг от друга средствами по-
знания: ученый познает методами исследования, писатель — обра-
зами... Писатель — не фотографический аппарат, художественное
произведение—не фотография, а литература — не зеркало». И да-
лее: «Сторонники теории отражения по существу являются сенсуа-
листами, а не диалектическими материалистами... Стоя на этой точ-
ке зрения, никак нельзя объяснить, почему великие писатели под-
час столь различно показывали одно и то же явление». Следуют те
же примеры: «Зараженное семейство» Толстого, «Бесы» Достоев-
ского, «Отцы и дети» Тургенева. «Если литература — объективное
«познание жизни», тогда никак не понять, как эти три великих пи-
сателя могли одно и то же современное им явление столь различно
показать» *.
Такова во всей ее последовательности психоидеология И. Ну-
синова. Необходимо было привести эти длинные выдержки, чтобы
убедиться в том, как понимают классовый анализ наши социоло-
ги. Впрочем, И. Нусинов будет, вероятно, отрицать, что в приве-
денных отрывках содержится прямая полемика с теорией отраже-
ния. Действительно, на этот счет у нашего социолога в запасе есть
необычайно убедительный аргумент: его статью пропустил редак-
тор журнала, читатели и критика не заметили этого факта — совер-
шенно очевидно, что никакой полемики с теорией отражения здесь
быть не может. Так рассуждает И. Нусинов. Он твердо помнит на-
ставление Козьмы Пруткова: «Если хочешь быть покоен, не при-
нимай горя и неприятностей на свой счет, но всегда относи их на
счет казенный».
В следующей статье попробуем более подробно разобрать вопрос
о классовой борьбе в истории литературы, а сейчас позвольте за-
метить следующее. Когда в начале первой пятилетки партия выдви-
нула лозунг ликвидации кулачества, некоторые историки литера-
туры кинулись влево и попали в объятия взбесившейся социологии
Богданова.
Сегодня климатические условия кажутся более мягкими, и
вот на место субъективно-идеалистического бреда о самоутверж-
дении класса и психоидеологии у них является своеобразная теория
двух истин: одно дело — классовая позиция писателя, другое — ху-
дожественная и социальная ценность его произведений. Так на
место социологии неистовой и ультралевой приходит социология
трезвенная, умеренная и половинчатая. Смотря по времени года,
одна и та же философия выступает то в напыщенно революцион-
ном, то в солидно академическом облачении. Но во всех своих ви-
дах она одинаково отвратительна и вредна.
213
* См.: Русский язык в советской школе, 1929, № 1, с. 9—12.
Если присмотреться к тем отрицательным чертам, которые про-
являлись в нашей критической литературе под влиянием буржуаз-
ных пережитков, то окажется, что все они, от пролеткультовских
теорий 1918—1920 годов до новейших изобретений вульгарной со-
циологии (в духе либеральной эклектики), имеют между собой мно-
го общего. Это какой-то единый комплекс понятий, умственных при-
емов, условностей и ходячих выражений. Было много шума и спо-
ров, масса течений и группировок, менялись слова, одно за другим
уходили со сцены поветрия и моды. И все же от учения Богданова
до социологии абстрактных классовых типов Переверзева и отсюда
до совсем уже незначительного умничания в духе плехановской
ортодоксии или в духе Фриче — только один шаг. Но все эти тече-
ния, вместе взятые, от живого марксизма отделяет пропасть.
214 В настоящее время маловероятно, чтобы какое-нибудь идеали-
стическое течение выступило открыто, без quasi-марксистской со-
циологической вывески. Посмотрите на бывших столпов формализ-
ма. Все они с некоторых пор охвачены социологическим зудом.
На примере И. Нусинова и его друзей определенные элементы ста-
рой профессуры поняли, что присвоить себе звание марксиста не
так уж трудно. Поняли они также, что классовый анализ этого типа
хорошо известен западным буржуазным социологам и ничего осо-
бенно коммунистического в себе не заключает. Так началось повсе-
местное засорение мозгов читателей и учащейся молодежи — на-
стоящий шабаш социологической псевдонауки, проникнутой, как мы
уже видели, всевозможной идейной чертовщиной.
Некоторые наивные люди полагают, что для напоминания о
классовой борьбе нужно сохранить в литературе некий, хотя бы и
небольшой, остаток вульгарной социологии. Правда, социологи не-
много загибают, зато намерения у них хорошие, революционные, и
для равновесия их нельзя критиковать слишком резко. Такое пред-
ставление, увы, совершенно ложно и основано на смешении столь
несходных между собой вещей, как примиренчество и борьба на два
фронта.
Нужно ли еще раз повторять, что вульгарная социология и фор-
мализм при всем своем различии тесно связаны друг с другом? Чем
полнее мы исключим из нашей литературы всякие пережитки бур-
жуазной социологии как в ее катедер-марксистском облачении, так
и в мнимо революционной форме мещанского радикализма, тем
яснее выступит перед нами реальное содержание борьбы обществен-
ных классов в истории, тем успешнее мы сами будем бороться за
развитие социалистической культуры.
3
В старые времена существовал один непривлекательный обычай.
Когда корабль, застигнутый бурей, готовился уже пойти ко дну,
находчивые мореплаватели выбрасывали кого-нибудь за борт, же-
лая откупиться от грозящей опасности.
В роли этой искупительной жертвы оказался в настоящее вре-
мя И. Нусинов. Его выбрасывают за борт вульгарно-социологиче-
ской галеры. Это ясно видно из статей Ф. Левина под сугубо ди-
рективным заглавием — «Выправить ход дискуссии». Нет сомнения
в том, что И. Нусинов примет свой жребий с кротостью и даже
с некоторым удовольствием. Он знает, что его наследство в верных
руках. По существу статьи Ф. Левина в несколько более туманной
форме повторяют то же самое, что И. Нусинов, enfant perdu социо-
логической школы, высказывает с наивной непосредственностью
сына природы.
Те же методы полемики, те же голословные обвинения и та же
обида человека, которого кто-то осмелился призвать к изучению
ленинизма. У нас слишком мало места, чтобы подробно разбирать
приемы Ф. Левина. Скажем кратко — все это неправда.
С самого начала нашего спора я подчеркивал, что критика вуль-
гарно-социологического понимания классового анализа необходима
прежде всего для того, чтобы этот анализ не превращался в про-
стую социологическую отписку, а сделался настоящим методом ис-
следования художественного развития человечества. Выдвигая про-
тив пишущего эти строки обвинение в отказе от классового анали-
за, наши литературные противники принимают желаемое за дейст-
вительное.
Но при помощи творимой легенды они убедят только тех, кто
заранее с ними согласен. А всякий непредубежденный читатель,
искренне заинтересованный в решении глубоких и сложных вопро-
сов истории литературы, сам разберется в прочитанном, и сила
правды свое возьмет.
Именно эту силу упустил из виду Ф. Левин в своих расчетах.
Вместо того чтобы как-нибудь содействовать решению поставлен-
ных вопросов, он взялся судить и рядить о том, что является за-
слугой пишущего эти строки и где мои воображаемые претензии
становятся неосновательными. Из всего этого видно, что претензии
самого Ф. Левина несоизмеримы прежде всего с его завоеваниями
в области теории.
В самом деле, что сказал наш уважаемый критик по существу
вопроса и какова его собственная точка зрения? В двух больших
статьях Ф. Левин сумел установить лишь следующие положитель-
ные истины: 1) что классические произведения искусства имеют
непреходящую художественную ценность, 2) что, с другой стороны,
не следует забывать о классовой природе всякой идеологии. Мысли
совершенно верные, но они настолько общеизвестны, что повторить
их — вовсе не значит помочь читателю. Спор шел именно о том, как
соединяются обе стороны дела в реальном процессе истории искус-
ства. Для того чтобы решить этот трудный вопрос, И. Нусинов по
крайней мере выдвигал определенную мысль. Наш спор носил рез-
кий характер, но в нем заключалось рациональное зерно. Теперь
это зерно совершенно утонуло в потоке благонамеренного праздно-
словия.
215
Попробуем вернуть читателя к существу вопроса и будем про-
должать свое дело, обращаясь к аргументам наших социологов
лишь по мере надобности. Просим их верить, что ни одно из вы-
двинутых ими возражений не останется без ответа, если только это
не чистая психоидеология.
Одним из краеугольных камней марксизма является учение о
борьбе классов и обусловленности всех форм сознания классовыми
интересами. В старом обществе со времени разложения родового
быта не было и не могло быть идеологии внеклассовой или надклас-
совой. Это общеизвестное и абсолютно правильное положение марк-
сизма. Но не всякий, кто признает указанное положение, становится
благодаря этому марксистом. Учение о борьбе классов возникло
задолго до Маркса и Энгельса. Буржуазный просветитель Гельве-
276 ций еще в середине XVIII века писал: «Если отдельные лица, со-
ставляющие общество, группируются в различные классы, которые,
для того чтобы слышать и видеть, обладают различным слухом и
различным зрением, то ясно, что один и тот же писатель, каким бы
он ни был гениальным, не может равно нравиться им всем» *. В на-
стоящее время в Европе и Америке существует ряд социологиче-
ских школ, признающих классовую борьбу основой истории куль-
туры.
Вот почему не мешает напомнить следующее замечание Ленина*
«Главное в учении Маркса есть классовая борьба. Так говорят и
пишут очень часто. Но это неверно. И из этой неверности сплошь
да рядом получается оппортунистическое искажение марксизма,
подделка его в духе приемлемости для буржуазии. Ибо учение о
классовой борьбе не Марксом, а буржуазией до Маркса создано и
для буржуазии, вообще говоря, приемлемо. Кто признает только
борьбу классов, тот еще не марксист, тот может оказаться еще не-
выходящим из рамок буржуазного мышления и буржуазной поли-
тики. Ограничивать марксизм учением о борьбе классов — значит
урезывать марксизм, искажать его, сводить его к тому, что прием-
лемо для буржуазии. Марксист лишь тот, кто распространяет при-
знание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата.
В этом самое глубокое отличие марксиста от дюжинного мелкого
(да и крупного) буржуа. На этом оселке надо испытывать действи-
тельное понимание и признание марксизма» **.
Все это нам известно, скажет читатель. Применять оселок дик-
татуры пролетариата к современной борьбе мы умеем. Но если речь
идет о прошлых эпохах, о древней или средневековой литературе,
поэмах Гомера или живописи Леонардо? Применим ли наш оселок
к тем временам, когда классовая борьба существовала, но о самом
пролетариате еще не могло быть и речи?
По нашему глубокому убеждению, в какие бы отдаленные вре-
мена ни уводила ученого историческая наука, разница между марк-
* Гельвеций. Об уме. Рассуждение IV, гл. VII.
** Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 34.
систем и дюжинным социологом сохраняется, оселок для определе-
ния этой разницы должен остаться тем же самым. Диктатура про-
летариата подготовляется долгой и упорной борьбой массы
народа, которая началась вместе с возникновением общественного
неравенства и всегда составляла главное содержание классовой
борьбы. В отличие от дюжинного социолога, марксист обязан про-
вести через всю историю мировой культуры общую перспективу
движения к пролетарской революции и социалистической теории,
выделить в каждую эпоху прогрессивный максимум общественной
мысли, в котором отразились условия жизни угнетенных классов,
найти ту черту, которая в данный исторический период отделяет
прогрессивные, демократические элементы культуры от элементов
реакции и защиты эксплуатации человека человеком. Всякое поня-
тие о классах, отвлекающееся от этого основного содержания исто-
рии, уводит нас в сторону от марксизма.
Возьмем сравнительно близкую к нам эпоху — начало 60-х годов
прошлого века. Либеральная историография трубит о победном ше-
ствии капитализма, о прогрессивной, нарождающейся, молодой, здо-
ровой и т. д. буржуазии. Марксист анализирует понятие прогресса
с помощью известного нам оселка. Он находит грань между про-
грессом либерально-помещичьим и другим вариантом прогресса,
буржуазным по своему содержанию, но гораздо более демократиче-
ским и выгодным для народных масс.
Современная вульгарная социология с грехом пополам усвоила
эту разницу применительно к периоду ясного размежевания либе-
ральной и демократической тенденции — периоду Кавелина и Чер-
нышевского. Но как быть со всей предшествующей историей лите-
ратуры, когда писали свои произведения Пушкин и Гоголь, Лессинг
и Дидро, Шекспир и Сервантес, когда последовательной демокра-
тии в литературе еще не существовало?
И. Нусинов остается образцом вульгарного социолога, после-
довательного и знающего, где раки зимуют. Он согласен с тем, что
нужно уточнить влияние народных масс на искусство и литературу
прошлого, но, уточняя, приходит к известному нам выводу: Пушкин
и Гоголь были предшественниками Кавелина, Струве, Щепетова,
то есть защитниками интересов, враждебных народной массе. Этот
вывод является чрезвычайно распространенным как в научной лите-
ратуре нашей, так и в школьном деле. Не только ограниченность
великих писателей прошлого выводится из корыстных интересов
эксплуататорских классов (что далеко не всегда справедливо), но
даже достоинства этих писателей, нередко глубокий и страстный
протест против уродства современной им общественной действи-
тельности рассматривается как скрытое, завуалированное, созна-
тельно или бессознательно отстаиваемое своекорыстие.
Ценнейшие прогрессивно-критические элементы старой литера-
туры вульгарная социология объявляет самокритикой класса, по-
рожденной сознанием его немощи и направленной к поддержанию
его господства. Читатель уже знает, что И. Нусинов, Ф. Левин и
217
другие выводят «Мертвые души» Гоголя из стремления укрепит*»
эксплуатацию крепостного крестьянства. Трагедию Гоголя они ви-
дят в ошибке человека, который слишком резкой критикой поме-
щиков невольно содействовал врагам своего класса (т. е. револю-
ционным демократам) *.
С. Мокульский ставит интересный вопрос: откуда идет у Молье-
ра сатирическое изображение медицины его времени, и немедленно
находит нужное объяснение: «Предостерегая от доверия к врачам,
Мольер защищал интересы своего класса, так сказать, заботился
о его социальной гигиене». Даже Абрам Эфрос рассуждает по по-
воду Данте о «раскулаченных патрициях».
Все эти историки литературы сходятся в одном: они очень крас-
норечивы, пока дело идет об истолковании каждого шага писателя
21g как художественной сублимации каких-нибудь особых, узких, спе-
циальных интересов определенной общественной группы. Но они
отделываются жалким лепетом, когда нужно объяснить художест-
венную и духовную ценность Шекспира или Пушкина для социали-
стической культуры. И здесь всякий читатель имеет право сказать:
если ваше применение материализма к истории литературы верно,
то вместе с уничтожением собственнических классов должно отме-
реть и художественное значение классической литературы. В этом
случае И. Нусинов дает вам урок последовательности. Если же
Пушкин и Шекспир не умирают в социалистическую эпоху, а, на-
оборот, впервые становятся достоянием широких народных масс,—
это значит, что ваше понимание исторического материализма не в
состоянии объяснить главного в Пушкине и Шекспире, то есть их
художественных достоинств, их всемирно-исторического значения.
Ф. Левин, занятый поисками золотой середины, не отвергает
этой постановки вопроса. Он требует лишь исторического подхода
к делу. Дворянство и буржуазия были не только паразитическим
меньшинством. Они выполняли прогрессивную функцию — заведо-
вали общественным хозяйством. Вот почему эти классы могли со-
здавать непреходящие художественные ценности. «Борьба буржуа-
зии и дворянства,— поучает Ф. Левин,— была не только борьбой
из-за добычи, но и формой, в которой происходило поступательное
движение человечества».
Спасибо за науку. Конечно, борьба буржуазии и дворянства не
была только борьбой из-за добычи, но всякий, кто отвлекается от
поступательного движения человечества, превращает классовую
борьбу в бессмысленное столкновение эгоистических социальных
групп. Вот о чем идет речь. А между тем так поступает и сам
Ф. Левин, пытаясь подтвердить свои рассуждения примером. По-
* Справедливость требует заметить, что во второй статье Ф. Левин с ба-
рабанным боем отступает от этого истолкования трагедии Гоголя. Он цели-
ком, хотя н в довольно плоской форме, принимает взгляды, высказанные его
рецензентами. А для того чтобы оправдать некоторую подвижность своих воз-
зрений, наш критик обвиняет своих противников в желании изобразить Гоголя
революционером.
чему же на деле он приходит к той же вульгарной социологии, от
которой открещивается на словах? Потому что его понимание про-
гресса отвлеченное и далекое от марксизма.
Русская буржуазия долго боролась с дворянством за право вла-
деть крепостными. Содержалось ли в этой борьбе поступательное
развитие человечества? Едва ли. Смешно было бы отрицать, что
борьба буржуазии и дворянства нередко принимала в истории ха-
рактер верхушечного столкновения двух привилегированных клас-
сов. Таковы, например, постоянные распри между буржуазной оли-
гархией вигов и землевладельческой аристократией в Англии
XVIII века. Это была борьба, совершавшаяся на основе полного
устранения народа от влияния на политические дела. Народность
гениального английского сатирика Свифта состояла, между про-
чим, в том, что он вопреки своим консервативно-церковным пред-
рассудкам осмеял обе борющиеся стороны под именем остроконеч-
ников и тупоконечников — двух партий, спорящих из-за того, с ка-
кого конца следует разбивать яйцо.
Существуют разные формы поступательного движения человече-
ства. Английская буржуазия, заключив союз с частью дворянства
против народа, избрала один путь прогресса. Французская буржуа-
зия, заключив союз со всей массой народа против дворянства, из-
брала другой путь. Теперь посмотрим, какие следствия проистекали
из этого для истории культуры. Английское просвещение
XVIII века имеет оттенок умеренности и консерватизма. Какая раз-
ница по сравнению с эпохой Шекспира, когда дух компромисса,
прикрытого религиозной елейностью, еще не утвердился в англий-
ской литературе! Даже великим реалистам XVIII века — Филдингу
и Смоллетту не хватает смелости Вольтера и Дидро.
Совсем другое мы видим во Франции. Замечательные преиму-
щества французской литературы XVIII века общеизвестны. Приве-
дем, однако, важное замечание Маркса: «Ничто так не задержива-
ло победу французской буржуазии, как то, что лишь в 1789 г. она
решилась действовать заодно с крестьянами» *. В самом деле, еще
за два столетия до первой французской революции, в эпоху штатов
в Блуа, крестьянство массами поднималось против короля и поме-
щиков. И в эту эпоху буржуазия могла решиться на общее дело, но
она отступила и предала крестьянство, договорившись с королев-
ской властью.
В награду за это французская история получила классический
век абсолютизма — период колоссальной придавленности угнетен-
ных классов, упадка жизнерадостной народной культуры эпохи Воз-
рождения, период метафизической узости в философии, холопского
классицизма в искусстве. Коснеющая в провинциальной тупости и
занятая только своими уэкоклассовыми привилегиями, французская
буржуазия XVII столетия была далека от руководящей роли в раз-
витии культуры. Центром культурной жизни на долгое время стал
219
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 28, с. 322.
двор короля и узкий круг образованной аристократии. Андре Жид
с полным основанием говорит об этой эпохе: «Искусство, потеряв
связь с действительностью, быстро становится искусственным.
За исключением литературы Древнего Рима, которая в этом отно-
шении даже превосходит классическую французскую, ни одна дру-
гая литература не кажется такой безжизненной, как французская,
настолько тяготеющей к неестественности, без конца, до упадочно-
сти. Литература набирается сил от корня, от почвы, от народа —
так она возрождается. Ее можно сравнить с Антеем, который, как
рассказывает нам глубоко поучительная легенда, теряет силы и
доблесть, как только его ноги перестают касаться земли».
Я вовсе не отрицаю исторически относительной прогрессивной
роли таких писателей, как Расин и Буало. Совершенно изолировать-
220 ся от корня, от почвы, от народа им так и не удалось. Даже Буало
призывал изучать не только «двор», но и «город», боролся против
чрезмерной изысканности речи, как еще до него Малерб призывал
писателей учиться французскому языку у носильщиков Сен-Жан-
ского порта.
Но есть прогресс и прогресс. Эпоха Возрождения создала воз-
можность глубоко народного искусства, а реакция XVII столетия
повсюду изолирует искусство от народной жизни, делая художника
придворным пенсионером королевской или княжеской власти. Пла-
стическое искусство слабеет в изысканной патетике Бернини, лите-
ратура — в галантной пустоте пасторальных романов. Если
бы Мольер и Лафонтен не перенесли в XVII столетие плебей-
ского наследия эпохи Возрождения, ее истинно народного юмора,—
от французской литературы их времени осталось бы гораздо
меньше.
Нельзя отрицать исторически относительную прогрессивность
абсолютизма. Однако борьба городов и крестьянских общин против
королевской власти в XVI столетии была еще более прогрессивна.
Без сопротивления угнетенных классов дорога поступательного раз-
вития человечества могла быть и более извилистой и более мучи-
тельной. Народные массы своим давлением всегда оказывали боль-
шое влияние на политику королей, и здесь нужно искать главную
пружину прогресса. Даже смена династий, узурпация престола,
столь частая в истории, не может быть понята без отношения к раз-
витию массового движения. Худое право делает короля хорошим,
гласит старая английская поговорка. Когда крестьяне и демократи-
ческая буржуазия требовали у французского короля Генриха III
реформы управления, судов и налогов, он неизменно отвечал: «Сде-
лать нельзя». Другой Генрих, из семейства Бурбонов, нашел, что
кое-что из того, что требовали массы, сделать можно. Он воцарился
во Франции под именем Генриха IV и был прославлен патриотиче-
ской легендой в качестве короля, желавшего, чтобы каждый кре-
стьянин имел курицу в супе.
Тирания древности и Ренессанса, подъем идеализированной
Шекспиром династии Тюдоров, образование центрахизованной на-
циональной монархии вообще — все эти факты были побочным ре-
зультатом противоречивого» но вполне реального движения снизу.
Массовые народные шаги к освобождению в эти эпохи — вот
суть прогресса. «Все революционные элементы, которые образовы-
вались под поверхностью феодализма,— пишет Энгельс,— тяготели
к королевской власти, точно так же, как королевская власть тяготела
к ним». Это не значит, что виды монархии были сами по себе ре-
волюционны. По существу она оставалась властью известного слоя
помещиков и, одержав окончательную победу, «поработила и огра-
била своего союзника» *. Но вместе с тем абсолютная монархия
утратила и свое прогрессивное значение. В XVIII столетии начи-
нается новый могучий прилив народного движения. Одновременно
с подъемом буржуазной демократии происходит расцвет буржуаз-
ного просвещения, которое в известной мере является палингенезом 221
философского материализма и реалистической эстетики эпохи Ре-
нессанса.
Даже в те периоды, когда по внешней видимости народ безмолв-
ствует, а рассуждают и движутся на авансцене истории только вла-
детельные персоны, немое, но мощное влияние народной массы не-
прерывно дает себя знать. Угнетенные классы создали современные
национальности, говорит Энгельс, анализируя европейскую исто-
рию.
Итак, поступательное развитие человечества измеряется тем, на-
сколько глубоко оно затрагивает широкие слои нации. Основатель-
ность исторического действия, писали Маркс и Энгельс в «Святом
семействе», пропорциональна объему массы, принимающей в нем
участие. Дворянство и буржуазия лишь там являются прогрессив-
ными классами, где действия их прямо или косвенно соответствуют
интересам народа. Во всех остальных случаях борьба между ними
остается верхушечным столкновением из-за раздела добычи, а сами
они являются только двумя паразитическими слоями.
Это верно, что буржуазия заведовала в свое время хозяйством.
С энергией, достойной всякого уважения, она двинула вперед раз-
витие производительных сил. Но как происходил этот процесс?
Действительная история гласит, что давление угнетенных классов
играло при этом огромную роль. Всякий, кто изучал экономическую
теорию Маркса, знает, что в начале своего исторического пути бур-
жуазия оставляет технический уровень производства без изменения.
И впоследствии везде, где сопротивление рабочих незначительно,
капиталисты предпочитают обогащаться при помощи удлинения
рабочего дня и уменьшения заработной платы (т. е. посредством
извлечения абсолютной прибавочной стоимости). Стать на прогрес-
сивный путь развития техники буржуазии помогает давление снизу.
Именно это давление изгнало в свое время «октябристский капи-
тал» из Европы в колонии и послужило главным двигателем про-
гресса.
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 411—412.
Вспомните, как Ленин объяснял Горькому отношение марксистов
к колониальному вопросу. Проникновение капитализма в отсталые
страны прогрессивно. Нам не подобает проливать слезы по поводу
разрушения патриархальной идиллии. Мы далеки от сентименталь-
ности народников, но не являемся и апологетами империализма
(как немецкие ревизионисты, сотрудники «Sozialistische Monats-
hefte»). Каждому свое, писал Ленин, пусть Ляховы завоевывают
Ближний Восток. Мы не только помогать им не станем, но даже, на-
оборот, будем всячески бороться против русского империализма.
И наша борьба станет главным двигателем прогресса, она заставит
капитал облечься в более демократические формы, избавит челове-
чество от множества лишних жертв, страданий, издержек *.
Марксист не может забывать, что во все времена существовали
222 Две формы поступательного развития человечества, две возможно-
сти прогресса. В определенные исторические периоды дворянство и
буржуазия были прогрессивны, но тем более прогрессивны, чем ме-
нее они защищали свои особые от народа и враждебные ему инте-
ресы, а коль скоро эти интересы выступали в своем чистом виде как
интересы эксплуататорской верхушки, дух поступательного разви-
тия человечества улетучивался из всей исторической деятельности
этих классов. И, далее, те идеологи дворянства или буржуазии, ко-
торые имели за собой только узкоклассовые интересы своей об-
щественной группы, никогда не могли подняться до создания духов-
ных ценностей непреходящего значения. Великие и действительно
прогрессивные завоевания литературы могли осуществить лишь те
писатели, которые умели защищать интересы поступательного раз-
вития человечества в его наиболее прогрессивных для данного вре-
мени формах, а интересы своего собственного класса отстаивали
лишь в той мере, в какой эти интересы сообразовывались с указан-
ным развитием. При этом многие из передовых художников преж-
них классов заблуждались, стараясь найти спасение в каком-нибудь
поповско-помещичьем социализме, как Гоголь, или в соединении
монархизма с некоторыми элементами учения Фурье, как Бальзак.
Это делало их невольными защитниками реакции и возвращало
к исходному пункту, увеличивая классовую ограниченность их про-
изведений. Но корень оставался здоровым. И Гоголь всегда отли-
чался от публицистов графа Уварова, а Бальзак — от подлинных
сторонников роялизма, описанных им хотя бы в «Утраченных ил-
люзиях».
Высказав несколько ходячих социологических истин, Ф. Левин
нисколько не помог решению вопроса, а только его запутал. Пока-
жем это на простом примере. Кто заведовал хозяйством в эпоху
Пушкина и Гоголя? Дворянство, помещики во главе с Николаем I
и его сотрудниками — министром финансов графом Канкриным, ми-
нистром государственных имуществ генералом Киселевым и други-
ми. Было бы, конечно, совершенно не исторично изображать этих
* См.: Лемцн В. И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 12—13.
людей прямыми ничтожествами или моральными чудовищами.
Очень возможно, что среди них были люди субъективно бескорыст-
ные. Возможно, что, заботясь о сохранении помещичьего строя, они
думали о благе народа. Нельзя отрицать и прогрессивных элемен-
тов их исторической деятельности. Наиболее диких помещиков они
брали под опеку или даже вовсе лишали имений. Николай I отста-
вил и предал суду известных реакционеров Магницкого и Рунича.
Из страха перед всеобщим крестьянским восстанием правительство
опубликовало ряд постановлений по крестьянскому вопросу («ин-
вентарные правила» и проч.), в том числе знаменитое распоряжение
Киселева о барщине придунайских крестьян, которое, по замеча-
нию Маркса, удовлетворило не только валашских бояр, но и либе-
ральных кретинов всей Европы. Чтобы употребить выражение, по-
нятное Ф. Левину, это была политика заботы о курице, несущей 223
золотые яйца.
Нетрудно обнаружить во всем этом «заведовании» предвестье
либерально-крепостнической реформы 1861 года. Даже указанную
реформу было бы неправильно считать совершенно реакционной.
Но нельзя забывать, что уже в первой половине XIX столетия в
России существовали люди, которые боролись за иные, гораздо бо-
лее демократические формы поступательного развития человечества.
Сюда относятся декабристы, Пушкиным (несмотря на все возраже-
ния моих противников) основатель гоголевского периода русской
литературы. На крайне левом фланге лагеря прогрессивной общест-
венной мысли стоял Белинский, прямой предшественник последова-
тельных демократов 60-х годов. От помещиков, которые заведовали
хозяйством в данную эпоху, всех этих людей отделяла*вполне опре-
деленная, хотя более или менее резкая для каждого в отдельности
грань. Существование этой грани было и оставалось часто неясным
для самих творцов передовой литературы XIX века, и, действи-
тельно, эта грань была исторически относительной. Но она все же
объективно существовала. При всей своей классовой ограниченности
Пушкин и Гоголь являются предшественниками Некрасова и Сал-
тыкова-Щедрина, а не Кавелина и Щепетова.
Вульгарная социология стирает важную черту между передовой
общественной мыслью и настоящими идеологами эксплуататорской
верхушки. Так, например, историки школы Покровского изобража-
ют декабристов защитниками прусского пути развития России. Ис-
торики литературы рисуют Пушкина еще более умеренным, чем
декабристы, капитализирующимся помещиком, а Гоголя — идеоло-
гом реформаторов барщины в духе генерала Киселева. И все это
покрывают диалектики типа Ф. Левина, ссылаясь на то, что экс-
плуататорские классы были, вообще говоря, прогрессивны.
Не кажется ли читателю, что это диалектика доктора Панглоса,
который считал, что даже сифилис и святая инквизиция хороши,
ибо они — законный продукт истории. Все прогрессивно в свое
время. Так рассуждают и наши социологи, заимствуя свое понима-
ние прогресса из старых социал-демократических книжек. «Классо-
вые интересы не грехопадение, не близорукость,— пишет Ф. Ле-
вин,— реальность, факт... Разве классовые взгляды — слепота, а не
зрение?» В двух больших статьях наш диалектик старается дока-
зать, что разница между зрением и слепотой, завоеваниями передо-
вой общественной мысли и защитой классовой ограниченности иму-
щих существует только в наше время, а проводить это различие
применительно к тем временам, когда буржуазия и дворянство за-
ведовали хозяйством, это значит, по мнению Левина, изменять диа-
лектике, переносить современные понятия в прошлое и т. д.
Забавная диалектика! Выходит, что в прежние времена и клас-
совых предрассудков не существовало, что не было разницы между
настоящими творцами культуры и теми людьми, которые выразили
в своих писаниях только близорукость, только слепоту своего клас-
224 са- Смешивая диалектику с софистикой, Ф. Левин не понимает, что
близорукость, слепота и грехопадение — тоже факты, которые во
всей прежней истории играли колоссальную роль. Даже само воз-
никновение классового общества было, по известному выражению
Энгельса, греховным отступлением от нравственной высоты древ-
него родового быта. Конечно, отрицательные стороны классового
общества неотделимы от поступательного развития человечества в
этот период. Самые низкие инстинкты, подлая алчность, страсть
к грубым наслаждениям, отвратительная скупость, разбойничье
присвоение общественного имущества — даже эти проявления ци-
вилизации, описанные Энгельсом, были орудием прогресса в старой
истории. Но отсюда вовсе не следует, что историк-марксист должен
стоять по ту сторону добра и зла, что историческая точка зрения
устраняет различие между передовыми идеалами лучших предста-
вителей старой культуры и защитой интересов имущих — между
зрением и слепотой в каждую данную эпоху.
Для оценки различных фактов у нас имеется свой критерий,
свой оселок. У вульгарной социологии и понятие прогресса иное.
Критерия народности, поступательного движения человечества к со-
циализму для нее не существует. Говоря о прогрессивности какого-
нибудь класса, вульгарная социология восхищается силой и здоро-
вьем краснощекой, мускулистой бестии. Здоровая буржуазия, моло-
дая буржуазия — с упоением твердят представители известного
нам направления. «Сильный класс — реалист»,— афористически вы-
ражается И. Нусинов. Такого рода социологическая диагностика,
как определил этот метод один из западных представителей ука-
занного направления Карл Мангейм, приближается скорее к новей-
шему культу силы, чем к революционному марксизму. Вульгарная
социология наделяет каждый прогрессивный класс ватерклозетным
оптимизмом в духе Бабичева из «Зависти» Олеши. Она находит, что
всякий, кто чем-нибудь «заведует», достоин уважения. И эти люди,
которые молчаливо допускают прозрачные аналогии между прогрес-
сивностью рабочего класса, заведующего хозяйством после социа-
листической революции, и прогрессивностью дворянства и буржуа-
зии в прежней истории, эти горе-марксисты поднимают страшный
шум, когда им говорят, что все истинно великое и прогрессивное
в старой культуре имело глубоко народные корни. Вы переносите
социалистическое понятие народности в эпоху Возрождения! — шу-
мят мыслители типа Ф. Левина и П. Рожкова.
Успокойтесь! Мы прекрасно понимаем, что социалистическое
общество впервые создает настоящее широкое народное основание
для художественного творчества. Но мы знаем также, что социали-
стическая культура является «закономерным развитием тех запасов
знания, которые человечество выработало под гнетом капиталисти-
ческого общества, помещичьего общества, чиновничьего общества» *.
И не в сохранении и поддержке этого гнета, как бы он ни был исто-
рически необходим и обусловлен, нужно искать источник художе-
ственных достижений лучших представителей старой культуры, а,
наоборот, в их причастности к историческому процессу освобожде-
ния от патриархальной и цивилизованной ограниченности.
Если вы с этим не согласны, то докажите, что высшие художест-
венные ценности созданы буржуазией в тот период, когда она до-
стигла полного «заведования» хозяйством и когда ее интересы
совершенно отделились от интересов народа. Докажите заодно, что
римские рабовладельцы создали более высокое искусство, чем
искусство Греции, где рабское хозяйство никогда не достигало та-
кой высоты развития, как в Риме. И вообще учитесь последователь-
ности у И. Нусинова.
Наш современный спор имеет старые корни. Когда-то Белин-
ский, приняв на время отвлеченное, гегелевское понимание прогрес-
са, воскликнул: погодите обвинять Омара за то, что он сжег алек-
сандрийскую библиотеку, погодите осуждать инквизицию за ее
жестокости. Это было исторически необходимо, это было действи-
тельно, а значит прогрессивно и разумно!
Да, отвечал на это Герцен. Царизм исторически необходим, он
действителен, значит в известной мере разумен. Но и борьба с ца-
ризмом действительна, следовательно и она разумна. Так умейте
различать между двумя сторонами исторической действительности,
двумя линиями поступательного развития человечества. Вот что не
мешает напомнить нашим социологам, которые любят обвинять
своих противников в гегельянщине.
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 304—305.
В ЧЕМ СУЩНОСТЬ СПОРА? *
226 С недавнего времени в нашей критической литературе можно
заметить отрицательное явление нового типа — вульгарное понима-
ние гуманизма и демократии. Откуда возникло это явление? Всем
известно, что наша страна защищает мир и культуру, подлинную
демократию, прогрессивное мировоззрение. Некоторые поверхност-
ные литераторы поняли эти идеи слишком односторонне и упро-
щенно. Полились сладкие речи о гуманизме. Началось восхваление
современных западных писателей, часто посредственных, но не ли-
шенных демократической фразеологии. Отвлеченное представление
о прогрессивном писателе было перенесено и в историю литературы.
Появились юбилейные сочинения о классиках — подражание либе-
ральному краснобайству покойного Нестора Котляревского.
Это возрождение либеральной историографии заменило собой
прежнюю страсть к вульгарно-социологическим разоблачениям. Та-
кая замена обнаружила скорее определенную изворотливость ума,
чем настоящее желание усвоить марксизм и освободиться от старых
предрассудков. Она не спасла перестроившихся вульгарных социо-
логов от новых неприятностей при первом серьезном повороте
истории.
В современной европейской ситуации буржуазная демократия
является ширмой для прикрытия реакционной политики. Легко по-
нять, что в такое время различие между живым языком марксизма
и пустой демократической фразой должно соблюдаться особенно
строго.
Если хотите, в этом различии — ключ к происходящей ли-
тературной дискуссии, к ее реальному политическому содержанию.
Люди, грешившие по части вульгарной социологии, бросились в
противоположную крайность и снова попали впросак. Вот почему
эти люди поднимают ужасный шум, они рассказывают сказки о
страшном течении, которое захватило монополию, угнетает беспо-
мощных просто критиков и вдобавок отрицает необходимость про-
грессивного мировоззрения для художественного творчества. Эти
сентенции — только демагогия, способ самозащиты.
* Опубликовано в «Литературной газете» (1940, № 9, 15 февр.).
Все великое в искусстве имеет своим основанием объективную
правду, народность, прогрессивное мировоззрение. В спорах против
вульгарной социологии мне не раз приходилось отстаивать эту аз-
бучную истину. Просто критикам это превосходно известно, так как
они-то и защищали вульгарно-социологические построения, согласно
которым реакционная идеология и классовое своекорыстие создава-
ли шедевры искусства. Отчего же теперь они обвиняют меня в от-
рицании роли передового мировоззрения? По той причине, что
значение передовых идей в художественном творчестве они усвоили
так же вульгарно, как прежде теорию классового анализа.
Что такое прогрессивное мировоззрение? Единственным после-
довательно и до конца прогрессивным мировоззрением является
марксизм. Именно это мировоззрение должно быть достоянием
каждого советского писателя. Но передовые идеи марксизма носят
партийный характер; это значит, что в любых вопросах истории и
современности марксист обязан сохранять особую, самостоятельную
позицию, не растворяя своих убеждений в общепрогрессивных фра-
зах и не отождествляя своих оценок с оценками других классов и
партий, даже самых передовых с точки зрения старого общества.
Буржуазная цивилизация прогрессивна по сравнению с предшест-
вующими формами жизни, но этот прогресс не является абсолют-
ным; столкновение буржуазной демократии с феодальной реак-
цией— не единственная форма, в которой осуществлялась борьба
за народные интересы и развитие передового мировоззрения. Исто-
рические понятия прогрессивного и консервативного относительны
с точки зрения марксизма.
В этом смысле нашими предшественниками являются револю-
ционные демократы, которые уже умели отстаивать особые интере-
сы народа в прогрессивном развитии буржуазного общества. «Про-
грессист,— писал Щедрин,— такой же идеолог, как и консерватор
или ретроград, и душа его так же мало откликается на дело, как и
душа самого заскорузлого ханжи-обскуранта». Великие народные
писатели и до Щедрина не были в существе своих воззрений ни
консерваторами, ни прогрессистами. Но по условиям времени они
склонялись к одной из сторон, к одной из борющихся партий в сре-
де господствующих классов. Интересы буржуазно-прогрессивной
партии иногда совпадали с интересами народа, но далеко не везде
и не целиком. Отсюда открывалась возможность для консерватив-
ной или даже реакционной критики прогресса, в которой содержа-
лось много ценных и даже социалистических элементов. С точки
зрения передовых идей буржуазной демократия вся эта критика
является мракобесием. Однако марксист не может разделять этой
оценки, он понимает, что передовые идеи часто выступали в самой
противоречивой и даже реакционной форме.
Гениальный английский памфлетист Уильям Ксббет был свое-
образным романтиком, он идеализировал добрые старые времена —
средневековье. Маркс пишет: «Он был одновременно и самым кон-
сервативным и самым радикальным человеком в Великобритании -
227
чистейшим воплощением старой Англии и наиболее смелым провоз-
вестником молодой Англии. Он считал, что упадок Англии начи-
нается с периода Реформации, а крайняя подавленность английского
народа — со времен так называемой славной революции 1688 года.
Революция была для него поэтому не переходом к новому, а воз-
вратом к старому,— не началом новой эры, а восстановлением «доб-
рого старого времени». И все же Уильям Коббет являлся «инстинк-
тивным защитником народных масс против посягательств буржуа-
зии... Как писатель, он остается непревзойденным».
В другой статье Маркс приходит к очень глубокому обобщению.
Он сравнивает английский XVIII век с эпохой Луи-Филиппа во
Франции. «Тут, как и в других случаях, мы имеем пример того, как
первая решительная победа буржуазии над феодальной аристокра-
228 тией сопровождается наиболее откровенной реакцией против наро-
да,— явление, побудившее не одного народного писателя, вроде
Коббета, искать народную свободу скорее в прошлом, чем в бу-
дущем» *.
Разве это не объясняет нам позицию Бальзака в эпоху Луи-Фи-
липпа? Плебей по рождению, Бальзак ненавидел буржуазную плу-
тократию, горечь наполнила его сердце и толкнула великого писате-
ля в сторону дворянской партии. Это была глубокая личная траге-
дия, но она не является случайностью в истории.
Один из самых серьезных мыслителей XVIII века Никола Лен-
ге пошел гораздо дальше просветителей. Он показал, что буржуаз-
ная свобода является худшей формой рабства: это свобода от вся-
кого стеснения в деле наживы за счет угнетенных наемных рабочих,
поденщиков. Ленге был одним из предшественников Маркса в тео-
рии прибавочной стоимости. «Ленге, однако, не социалист,— пишет
Маркс.— Его полемика против буржуазно-либеральных идеалов
современных ему просветителей, против начинающегося господства
буржуазии облекается — наполовину всерьез, наполовину ирониче-
ски — в реакционную оболочку. Он защищает азиатский деспотизм,
выступая против цивилизованных европейских форм деспотизма, от-
стаивает рабство, выступая против наемного труда... Уже одно его
замечание против Монтескьё: «Собственность — вот дух законов»—
показывает глубину его взгляда» **. Как видно, реакционная кри-
тика буржуазной цивилизации может иметь глубокое содержание.
У Маркса мы находим сравнение между передовыми людьми
XVIII века — просветителями и аристократом Джемсом Стюартом.
Защищая идеи прогрессивной демократии, просветители считали
буржуазные отношения законом природы. «Стюарт, который во
многих отношениях, в противоположность XVIII веку, как аристо-
крат, больше стоит на исторической почве, избежал этого заблуж-
дения» ***. Итак, дворянская культура, являясь чем-то консерва-
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 9, с. 196, 197, 152.
** Там же, т. 26, ч. 1, с. 347.
*** Там же. т. 12, с. 710.
тивным по сравнению с буржуазной демократией, имеет свои преи-
мущества. Достоинства Джемса Стюарта вытекают из его недо-
статков; уберите ограниченность Стюарта как представителя ари-
стократии и вы уничтожите его преимущества — превосходство над
ограниченностью буржуазно-прогрессивных писателей. Таково от-
ношение сильных и слабых сторон у выдающихся деятелей старой
культуры.
Идеализм является реакционным мировоззрением (в послед-
нем счете), но в истории философии до Маркса и Энгельса идеа-
листы развивали субъективную, деятельную сторону, иначе — диа-
лектический метод, а старый материализм неизбежно носил ограни-
ченный, метафизический характер. Шиллер обладал гораздо более
прогрессивным мировоззрением, чем Шекспир, его произведения
наполнены красноречивыми тирадами в честь свободы и братства. 229
Шекспир выводит на сцену весь феодальный хлам и всякую чер-
товщину. Тем не менее произведения Шекспира гораздо художест-
веннее, чем пьесы Шиллера, и неизмеримо выше всего, что сделано
в области драмы Просвещением XVIII века (Вольтером, Лессин-
гом и Дидро).
Все великие явления в искусстве основаны на передовых идеях,
глубоком и прогрессивном мировоззрении. И все же неправильно
думать, будто художественное развитие прямо пропорционально
прогрессу и просвещению. Маркс писал, что обаяние греческого
искусства и поэзии Шекспира тесно связано с неразвитой об-
щественной обстановкой, в которой сложились эти явления. Мои
оппоненты с пафосом осуждают веру в колдунов и ведьм, они
убеждают читателя в том, что суеверие вредно для художественно-
го творчества. Благое намерение! Однако народные сказки и были-
ны проникнуты верой в колдунов и ведьм, фей и волшебников вся-
кого рода. Скажите, можно ли удалить эти суеверные выдумки из
народной поэзии, не затронув ее обаяния и поэтической силы? Если
современный писатель ударится в суеверие, то это по меньшей мере
докажет его бездарность. В народной поэзии прошлого детское
представление о мире было естественно и заключало в себе глубо-
кую правду при самой фантастической и наивной форме выражения.
Всякая мифология — ложное отражение природы в человеческой
голове. Скажите, все-таки, реалистическое искусство Древней Гре-
ции возникло вопреки или благодаря античной мифологии?
По мнению поверхностных литераторов из этих примеров сле-
дует проповедь мракобесия, поповствующего пессимизма, суеверия,
идеализма, объективизма и т. д. По нашему мнению, из этих при-
меров следует совсем другое. Передовые идеи прежних классов и
партий, прогресс и культура, материализм и демократия в классо-
вом обществе неизбежно носили ограниченный и односторонний ха-
рактер. Отсюда известные преимущества, которыми обладали при-
митивные народы, определенные эпохи в искусстве, определенные
умственные течения, связанные с отсталостью или оппозицией про-
тив исторически-прогрессивного буржуазного общества. Ложное в
230
формально-экономическом смысле может быть истиной с точки зре-
ния всемирной истории. Разве вам не известно это замечание Эн-
гельса, которое большевики применяли к оценке реакционных уто-
пий крестьянства? Прогрессивное мировоззрение и величие (или
народность) искусства совпадают, но совпадают в конечном счете,
совпадают на почве социалистического строя жизни. В прежней
истории это совпадение осуществлялось очень своеобразно, в самых
противоречивых формах. Только социалистическая культура являет-
ся решением противоречий старого общества. А вы что делаете?
Делите всех представителей старой культуры на прогрессистов и
консерваторов, становитесь на сторону первых, а вторым читаете
нотации? Но это не большевистская точка зрения, а либерально*
буржуазная. И если таково прогрессивное мировоззрение, которому
вы беретесь учить советского писателя, то остается лишь пожелать,
чтобы ваши уроки пропали даром. Врач — исцелися сам!
Истинное и ложное, передовое и отсталое — исторические поня-
тия. Уравнительные утопии русского крестьянина были реакционны,
но эти утопии заключали в себе гораздо больше действительно пере-
дового содержания, чем прогрессивные фразы меньшевиков и либе-
ралов. Томас Мюнцер звал общество назад, к тем временам, когда
Адам пахал, а Ева пряла. Пусть лучше погибнут искусства и науки,
писал коммунист Бабёф, но восторжествует равенство. Что ни гово-
рите — это отнюдь не прогрессивные утверждения. Но хватит ли у
вас смелости отказать Бабёфу и Мюнцеру в праве принадлежать
к категории самых передовых людей их времени?
Мы очень высоко ставим просветителей. Они боролись с остат-
ками средневековья, верили в лучшее будущее, были историческими
оптимистами. Однако и здесь бабушка истории надвое сказала.
Когда просветитель Тюрго, министр Людовика XVI, хотел отме-
нить средневековые ограничения в торговле хлебом, то массы наро-
да ответили на это восстанием (мучная война 1775 г.). Тюрго, стя-
нув войска, жестоко расправился с бунтовщиками. Зато во время
французской революции мщение народа настигло другого просве-
тителя, Кондорсе, автора знаменитого сочинения «Эскиз историче-
ской картины прогресса человеческого разума». Этот человек был
жирондистом и заслужил свою печальную участь. Кто же является
прогрессивным мыслителем — Кондорсе, сложивший свой гимн про-
грессу в жирондистском подполье, или якобинец Робеспьер, который
мечтал о возвращении вспять, ко временам воображаемой Спарты и
примитивного равенства имуществ? Французские просветители
были материалистами или по крайней мере приближались к мате-
риализму. И все же во время революции, по мере развития соци-
альных конфликтов, религия Руссо отодвигает на задний план пере-
довые идеи просветителей. «Атеизм аристократичен,— сказал Ро-
беспьер в Конвенте.— Идея Верховного Существа, которое защи-
щает угнетенную невинность,— глубоко демократична». Теперь
определите, кто, по-вашему, поповствующий пессимист и кто про-
грессивный мыслитель в этой исторической коллизии?
Прогресс и демократия — великие идеи. Но к великим идеям и
следует в первую очередь применять марксистский анализ, иначе
они превращаются в тощие абстракции, либерально-буржуазные
фразы. Прогрессивные и демократические течения выступали в са-
мых различных, иногда диаметрально противоположных формах, ко-
торые можно понять, только применяя к истории марксистское уче-
ние о классах. История — это великая драма, в которой различные
прогрессивные силы прошлого в жестокой взаимной борьбе обнару-
живают все свое величие и ограниченность, не достигают абсолют-
ного превосходства и сходят со сцены, освобождая место для ком-
мунизма. А вы превращаете эту драму в плоскую нравоучительную
сказочку о пользе прогресса!
Реакционные утопии мешали Толстому, они объясняют недо-
статки его произведений. Задача историка — отделить достоинства 231
от недостатков. Но как это сделать? Простая арифметика здесь не
годится. Все, что написано Толстым, настолько проникнуто его ми-
ровоззрением, что если произвести вычитание недостатков по ме-
тоду либеральной историографии, много ли останется? Неужели в
произведениях Толстого, Бальзака, Шекспира, Данте, Гомера
столько же недостатков, сколько первобытных нелепостей и реак-
ционных утопий в их мировоззрении? В таком случае это далеко
не шедевры.
Но разве Толстой не мог написать «Воскресение» лучше, если
бы его идеи были более прогрессивны? Опять арифметика вместо
истории. Если бы старым материалистам придать диалектики, а
Гегелю — материализма, если бы Робеспьера сделать певцом про-
гресса, а Кондорсе — фанатичным поклонником равенства, если бы
удалить из Томаса Мюнцера все его библейские бредни, если бы,
если бы...
К сожалению, все эти рассуждения напоминают свадебные меч-
ты Агафьи Тихоновны: «Если бы губы Никанора Ивановича да
приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь раз-
вязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, приба-
вить к этому еще дородности Ивана Павловича»,— то-то получился
бы славный жених! Категория прогрессивного писателя в понима-
нии наших юбилейных сладкопевцев и является таким собиратель-
ным свадебным портретом, которому в эклектическом соединении
придаются красоты всех времен и народов. Однако им не приходит
в голову, что если бы губы Никанора Ивановича приставить к косу
Ивана Кузьмича (и обратно), то оба они перестали бы существо-
вать как живые индивидуальности.
Конечно, все великие писатели прошлого творили вопреки своей
ограниченности, но ограниченность эта — не внешний привесок, а
результат исторических, классовых условий, черта индивидуальной
физиономии писателя. Исторически ограниченная сторона имеет
ближайшее отношение к заслугам писателя перед всемирной исто-
рией. Кто этого не знает, тот не усвоил азбучных истин материали-
стического понимания истории, тот рассуждает отвлеченно.
Я не обвиняю моих противников в ревизии марксизма. Это
слишком громко. Просто критики принадлежали к некогда бывшим
литературным формациям, они не раз меняли свои воззрения, но
сохранили при всех переменах старые предрассудки. Я не обвиняю
их в том, что они образуют течение. Наоборот — они весьма разно-
родны по составу. Их объединяет только недоброе чувство к прояв-
лению творческой мысли, к новому слову, которое оскорбляет их
собственные отсталые взгляды.
Вы понимаете, товарищ читатель, что рассуждения таких кри-
тиков не способствуют повышению идейного уровня советской ли-
тературы. Создать произведения более совершенные, чем «Воскре-
сение» и «Отец Горио»,— непростая задача. Для этого нужно пре-
восходить Бальзака и Толстого в понимании жизни, не говоря о
232 чисто художественных условиях. Просто критики не верят в колду-
нов, они знают, что прогресс лучше отсталости. Но этого мало для
произнесения приговора над Толстым и Бальзаком. Даже опроверг-
нуть их теоретически и отделить рассудок от предрассудка в их
произведениях можно только с точки зрения марксизма; прогрес-
сивной фразеологии они не боятся.
ВУЛЬГАРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ*
Вульгарная социология — догматическое упрощение марксист-
ского метода главным образом в области истории, художественной
критики, теории искусства, литературы и других форм обществен-
ного сознания. Более широко — абстрактное понимание марксизма,
ведущее к утрате его подлинного богатства и ложным политическим
выводам, карикатура на марксизм, по выражению В. И. Ленина.
Термин вульгарная социология употребляется в советской печати
начиная с 30-х годов, но само это явление известно гораздо раньше.
Еще при жизни Маркса и Энгельса к рабочему движению при-
мкнуло много полуобразованных представителей буржуазной ин-
теллигенции, нашедших в марксизме легкий способ решить все
вопросы истории и современности без самостоятельного изучения
фактов. «Ясно одно, что сам я не марксист»,— сказал о таких по-
следователях своего учения Карл Маркс**. Письма Энгельса, от-
носящиеся к 90-м годам прошлого века (И. Блоху, В. Боргиусу,
Ф. Мерингу, К. Шмидту, Г. Штаркенбургу, П. Эрнсту и др.), сви-
детельствуют о том, что вульгаризация теории исторического
материализма приняла, в его глазах, угрожающие размеры.
Проблема вульгарной социологии связана с влиянием идей и
настроений мелкобуржуазной демократии. Уже в анархизме М. Ба-
кунина и С. Нечаева эта бесформенная, но обладающая громадным
потенциалом общественная сила привела к грубому искажению ма-
териалистического понимания истории. Отсюда бакунинская кри-
тика культуры как старого барства, связанного с образом жизни
имущих классов, или превращение общественных идей в простые
средства социальной борьбы. Другой пример карикатуры на метод
Маркса и Энгельса — статьи П. Ткачева второй половины 1860-х
годов, в которых так называемый экономический материализм со-
четается с утилитарной теорией Бентама.
Более важным фактом предыстории вульгарной социологии яв-
ляется распространение в литературе международной социал-демо-
кратии позитивистских взглядов. Наследие Маркса и Энгельса
233
* Болре полный вариант статьи, опубликованной в БСЭ (М., 1971, т. 5).
** М(фкс К., Энгельс Ф. Соч., т. 35, с. 324.
было в значительной мере испорчено примесью позитивизма, а ино-
гда и неокантианства. Нельзя не заметить, что даже в трудах Пле-
ханова, далеких от всякой вульгарности, был элемент влияния бур-
жуазной социологии второй половины XIX века (Микиэльс, Тэн
и др.). Отсюда одностороннее понимание истории культуры как
длинного ряда социально обусловленных психологических состоя-
ний, возникающих с такой же неизбежностью, как яблоня произво-
дит яблоки, а грушевое дерево — груши. Проблему соизмеримости
этих исторических продуктов Плеханов выносит за скобки истории
(формальная логика, художественное мастерство, нравственный за-
кон). Гораздо ниже работ Плеханова стояла большая социологиче-
ская литература, примыкавшая к легальному марксизму и к мень-
шевистскому направлению в социал-демократии.
234 Тенденция, более близкая к меньшевизму, нашла себе выраже-
ние в обширной литературе главным образом популяризаторского
характера. Как и на Западе, отдельные представители этой литера-
туры не заслуживают особого упоминания, кроме историка
Н. Рожкова и автора оригинальных в своем роде исследований
о русских писателях XIX века В. Переверзева. Под влиянием марк-
сизма социологический метод получил отражение в ученых трудах
далеко за пределами социал-демократического движения. Типичным
примером может служить курс истории русской литературы В. Кел-
туялы (1906—1911), а на Западе — историко-философский труд
А. Элевтеропулоса (1900). В обоих случаях перед нами вульгари-
зация материалистического понимания истории.
Реакцией на оппортунистические грехи социал-демократии был
подъем анархо-синдикализма, представленного в области социоло-
гии известным французским мыслителем Ж. Сорелем. Типичным
для этого направления является отказ от объективного критерия
истины в истории и переход социологического анализа в идею пол-
ной субъективности классовой точки зрения (теория социального
мифа). В России вульгарная социология ультралевого типа пред-
ставлена группой А. Богданова («Вперед»). К направлению Богда-
нова более или менее тесно примыкала группа историков и публи-
цистов, сыгравших большую, хотя и не всегда положительную роль
в пропаганде марксизма,— М. Покровский, В. Фриче, В. Шуляти-
ков. «Шулятиковщина» — термин, созданный Г. В. Плехановым
для характеристики подобной вульгарной социологии в области
истории философии (1909). Превращение фактов истории духовной
культуры в простые символы разных социальных групп и связан-
ный с этим релятивизм, то есть отказ от объективной истины, разу-
меется, чужды Плеханову, но он не сумел до конца решить этот
вопрос, оставаясь за пределами объективной исторической диалек-
тики, заключенной в ленинской теории отражения.
После Октябрьской революции быстрое распространение марк-
сизма вширь и приспособление к нему как господствующему миро-
воззрению части старой интеллигенции сделали вульгарную
социологию явлением массовым, практически ощутимым и пред-
ставляющим серьезную опасность для социалистическом культуры.
Особенно вредные формы приняла демагогия, основанная на зло-
употреблении понятием классовой борьбы в области культурного
строительства. Несомненно, что в 1920-х годах большое влияние
имело то понимание классового опыта и пролетарской культуры, ко-
торое вышло из школы Богданова. Вульгарная социология нередко
приводила к смешным, карикатурным, но в то же время разруши-
тельным последствиям. Достаточно вспомнить теорию отмирания
школы, сторонником которой был, например, М. Покровский. В об-
ласти русской истории вульгарная социология часто сводилась к
выворачиванию наизнанку официальных схем прежней историогра-
фии, «опрокидыванию политики в прошлое». С этой точки зрения
Лжедмитрий и Мазепа были представителями революционных сил
своего времени, а прогрессивное значение реформ Петра подверга-
лось резкому отрицанию. Вообще все связанное с национальной
традицией и старой государственностью было заранее осуждено
революционной фразой.
В самом начале революции, а затем снова в переломные годы
первых пятилеток вульгарная социология являлась общей питатель-
ной средой для различных левацких движений, отвергающих на-
следие старой культуры. Крайние формы ультралевого отрицания
принимали иногда фантастический характер — от проповеди уни-
чтожения музеев до теории растворения искусства в производстве
и самой жизни (ЛЕФ). Вульгарная социология часто сливалась с
разрушительными выводами модернистских течений или поддер-
живала одно из них. Так, например, считалось почти доказанным,
что наиболее созвучны пролетариату «организованные» направле-
ния в живописи, вышедшие из кубизма. Станковую живопись отри-
цали во имя монументальной. Литературные жанры, унаследован-
ные от старого общества, также были поставлены под сомнение —
существовали теории отмирания трагедии и комедии. Более умерен-
ное течение вульгарной социологии рассматривало старую культуру
как громадное кладбище формальных приемов, которыми победив-
ший пролетариат может .пользоваться для своих утилитарных це-
лей, соблюдая при этом известную осторожность.
В полном противоречии с духовным подъемом массы трудящих-
ся, которым революция открыла доступ к сокровищам мирового
искусства, вульгарная социология видела свою явную или тайную
цель в разоблачении писателей и художников прошлого как слу-
жителей господствующих классов. С этой точки зрения каждое
произведение искусства — зашифрованная идеограмма одной из об-
щественных групп, борющихся между собой за место под солнцем.
Задача пролетарского художника должна состоять в особом выра-
жении психоидеологии своего класса, более организованной, здоро-
вой, активной и оптимистической, чем всякая другая.
Отсюда множество смешных определений, которыми наделяла
вульгарная социология классиков литературы, превращая Пушкина
в идеолога оскудевшего барства или обуржуазившихся помещиков,
235
Гоголя — в мелкопоместного дворянина, Толстого—в представите-
ля среднего дворянства, смыкающегося с высшей аристократией,
и т. д. Считалось твердо установленной истиной, что декабристы
защищали не интересы народа, а дело помещиков, заинтересован-
ных в торговле хлебом. Крупицы истины, заключенные в наблю-
дениях такой социологии, превращались в нелепость, напыщенную
и воинственную.
Наивный фанатизм вульгарной социологии был отчасти неиз-
бежным следствием стихийного протеста против всего старого, пре-
увеличением революционного отрицания, присущим всякому глубо-
кому общественному перевороту. В нем проявился также низкий
культурный уровень масс и недостаток марксистски подготовленной
интеллигенции, способной дать научное объяснение и действительно
236 партийную, коммунистическую оценку сложным явлениям мировой
культуры. Задачи марксистской мысли были велики и обширны,
возникли они перед ней во всей своей широте немедленно, на дру-
гой день после революции. Между тем еще Энгельс указывал на
недостаточную разработку более конкретных сторон материалисти-
ческого анализа общественных явлений, что, разумеется, не могло
быть иначе в условиях революционной борьбы. Некоторые труд-
ные вопросы исторического материализма не были решены ближай-
шими наследниками Маркса и Энгельса, несмотря на талант и обра-
зованность таких пропагандистов марксизма, как Лафарг, Меринг,
Плеханов. А более высокий уровень решения этих вопросов, зало-
женный в теории и практике ленинизма, не был еще достаточно по-
нят. Привычные формулы социал-демократической литературы с
поправками в духе ультралевой «философии борьбы» (термин
Ст. Вольского) пользовались широким распространением в печати.
На этом фоне достойно удивления, с каким блеском решал вопросы
марксистского анализа художественного творчества А. В. Луначар-
ский, несмотря на то, что ему также, вольно или невольно, прихо-
дилось делать большие уступки вульгарной социологии.
С другой стороны, было бы ошибкой рассматривать вульгари-
зацию марксизма как простой недостаток марксистской культуры,
усердие не по разуму во имя хорошей цели. Многие представители
вульгарной социологии были вовсе не вульгарны, а, наоборот,
слишком изысканны — грубости вульгарно-социологического мето-
да были для них делом пресыщения, своего рода философией, созна-
тельно или бессознательно принимаемой. Вульгарная социология —
явление не личное, а историческое. Это примесь буржуазных идей,
влияние психологии тех общественных сил, которые принимали
участие в революции, но для себя и по-своему, психологии малень-
кого чумазого, которую Ленин считал самой большой опасностью
для подлинной пролетарской культуры, для марксизма*. Сильное
время вульгарной социологии было исчерпано к середине 30-х годов.
Отшумели и ее наиболее выдающиеся представители, часто люди
* См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 264.
талантливые и, во всяком случае, последовательные. Громадные
социальные и политические изменения, происшедшие к этому вре-
мени в Советском Союзе, сделали прямое выражение идей мелко-
буржуазной демократии более невозможным, и пережитки психо-
логии маленького чумазого, как бы ни были они велики, приняли
совсем другие формы.
Схемы вульгарной социологии относятся к тем идеологическим
представлениям, которые при известных условиях возникают сти-
хийно и независимо от желания самих людей. Свойственный ей осо-
бый склад мышления восходит к эпохе старого материализма, огра-
ниченного кругозором буржуазного общества. Отсюда его вырож-
дение в позитивизм второй половины XIX века (одним из типичных
представителей этого позитивизма был Тэн, создатель первой зна-
чительной «социологии искусства»). Если оставить в стороне клас-
совую фразеологию, то в основе вульгарной социологии лежат аб-
страктно понятые идеи пользы, интереса, целесообразности. В своем
одностороннем развитии эти идеи типичны для морального климата
буржуазной эры. Вся «идеальная» поверхность духовной жизни
представляется чистой иллюзией, скрывающей тайные или бессо-
знательные эгоистические цели. Все качественно-своеобразное, все
бесконечное сводится к действию элементарных сил в ограниченной
среде. Само собой разумеется, что такое понимание всемирной исто-
рии не имеет ничего общего с диалектическим материализмом Марк-
са и Энгельса.
В 20-х годах одним театром был поставлен «Дон-Жуан» Молье-
ра. По замыслу режиссера причиной смерти знаменитого искателя
наслаждений должен был стать не призрак командора, а выстрел
из толпы восставших крестьян. Конечно, призраков не бывает, но
в такой редакции произведение искусства пало жертвой рационали-
стической критики суеверий в духе старого буржуазного атеизма.
Другой режиссер превратил задумчивого Гамлета в хитрого, силь-
ного и беззастенчивого политика, охваченного волей к власти и
создающего в массах нужную ему мифологию при помощи мнимого
привидения. Этот переход от старой рационально-утилитарной схе-
мы к современному культу силы указывает уже на другой источник
вульгарной социологии. В наши дни представления, внутренне свя-
занные с кругозором буржуазного общества, пережили большие
сдвиги. Они выступают теперь в образе иррационалистической фи-
лософии и социологии XX века.
Действительно, основной принцип вульгарной социологии со-
стоит в отрицании объективной и абсолютной истины не только в
прямом, познавательном смысле слова, но и в смысле истины нрав-
ственной и эстетической, то есть отрицании добра и красоты. Имен-
но этой ложной философской позиции, а вовсе не злоупотреблению
понятиями класс или прослойка обязана вульгарная социология сво-
им существованием. Марксистская формула бытие определяет со-
знание становится здесь удобным средством для подавления созна-
тельности сознания, для превращения его в стихийный продукт
237
общественной среды и классовых интересов. С точки зрения вуль-
гарной социологии все исторические формы сознания одинаково
слепы, условны и замкнуты в своем общественном горизонте. Раз-
ница между ними есть, но она измеряется не отражением действи-
тельности, не содержанием исторического развития, выраженным
в тех или других ступенях и формах духовной жизни. Главный кри-
терий — жизненная сила общественной группы, имеющей свое
замкнутое в себе коллективное сознание (по терминологии школы
Дюркгейма), более или менее сильно выраженное. Все культуры
и стили обладают равной ценностью. Сравнивать их между собой
можно только посредством своего рода социальной диагностики
(термин основателя немецкой «социологии знания» Мангейма).
Одна общественная группа является более здоровой и сильной, чем
238 другая, одна мужает, другая падает, один писатель выразил идеоло-
гию своего класса сильнее, значительнее, чем другой.
Идея прогрессивного развития не чужда вульгарной социоло-
гии, но в чисто формальном, количественном смысле — она здесь
за пределами таких измерений, как объективная истина, обществен-
ная справедливость, художественное совершенство (см. признаки
расцвета искусства в социологии В. Фриче). Все хорошо для свое-
го времени, своего класса. В качестве заменителя объективного кри-
терия ценности вульгарная социология прибегает к абстрактному
представлению о борьбе нового и старого (плохо то, что устарело,
хорошо то, что ново), а также к типологическим аналогиям и анти-
тезам формально сходных или отталкивающихся друг от друга
культур и стилей. Таковы, например, аналогия между «монумен-
тально-организованной» культурой Древнего Египта и социализмом
у В. Гаузенштейна и В. Фриче, постоянная смена «абстрактных» и
«органических» форм у Бианки Балдинелли, параллель между ком-
мунистической эстетикой н романским стилем раннего средневе-
ковья у Франкастеля и Роже Гароди.
Таким образом, в основе вульгарной социологии лежит истори-
ческий релятивизм буржуазной мысли XX века, исключающий
объективное содержание истины, добра и красоты во имя чисто
формального анализа множества духовных позиций, идеологических
систем. Одним из важных источников вульгарной социологии в
России было влияние социологической схематики Авенариуса и
Петцольдта через Богданова и его последователей. На место истины
ставится коллективный опыт или классовое сознание, все осталь-
ное— только наивный реализм. Но, совершая свой переход от
субъекта-личности к субъекту-классу, вульгарная социология не
делает ни шагу вперед от идеалистической философии, подвергну-
той критике Лениным в его известной книге против русских махи-
стов. Если некоторая доля объективного содержания многими пред-
ставителями вульгарной социологии все же допускалась, то лишь
в порядке обычной эклектики, присущей подобным течениям. По су-
ществу, остаток реальности в их анализе общественного сознания
играет второстепенную роль по сравнению с «классовыми очками»
(по выражению А. Богданова), то есть «особым углом зрения, при-
дающим каждой идеологии ее условный тип.
Место отражения действительности, более или менее истинного,
глубокого, противоречивого, но объективного, для вульгарной со-
циологии занимает схема равновесия или нарушения равновесия
между историческим субъектом и окружающей его средой. Наруше-
ние может проистекать из напора жизненной силы молодого класса,
что дает начало революционной романтике, устремленной в буду-
щее, или из ущербности загнивающей социальной группы, откуда
присущие ей настроения утомленной созерцательности и декадент-
ства. Само собой разумеется, что эта схема, навеянная Авенариу-
сом и Петцольдтом, не может даже приблизительно охватить богат-
ство конкретной истории культуры. В силу общности буржуазного
кругозора она примыкает к ходячим шаблонам догматического марк-
сизма эпохи II Интернационала, согласно которым все историче-
ские конфликты сводятся, в общем, к борьбе поднимающейся про-
грессивной буржуазии против умирающей аристократии и обращен-
ной в прошлое мелкой буржуазии. Из этой абстракции вытекает
обычное для вульгарной социологии и связанное с меньшевистской
традицией желание поставить либеральную буржуазию выше кре-
стьянства, смешение реакционной формы крестьянских утопий с их
передовым содержанием (что особенно ярко сказалось в трактовке
сложной фигуры Л. Толстого), отнесение всякой критики капита-
лизма к реакционным идеям, непонимание глубоких противоре-
чий общественного прогресса и неравномерности развития миро-
вой культуры, отсутствие всякого чувства реальности в трактовке
таких великих представителей художественной литературы, как
Шекспир, Бальзак, Пушкин, чья историческая позиция не может
быть исчерпана ни защитой уходящего феодализма, ни апологией
новых буржуазных форм общественной жизни. Вообще позиция
борьбы на два фронта, образующая действительную основу худо-
жественного развития человечества и связывающая его с наличием
в обществе третьей силы — народа, казалась вульгарной социологии.
невозможной или реакционной.
Другая важная черта вульгарной социологии состоит в том, что
вслед за буржуазной философией после Ницше она ставит на пер-
вый план волю, а не сознание. Подобно большинству философских
течений современного Запада вульгарная социология проникнута
крайним активизмом. Ее классификация различных социально-пси-
хологических позиций (Standortgebundenheit общественного созна-
ния, по современной немецкой терминологии), внешне столь объек-
тивная, несет в себе принцип иррационального самовыражения
данного исторического субъекта. Отсюда громадное влияние на
вульгарную социологию школы Рнгля и Воррингера с их теорией
художественной воли. Остается только придать этой воле социаль-
ное направление (вместо расового у Воррингера). Исходным пунктом
всех построений вульгарной социологии становится самовыражение
класса. Разумеется, этот субъективизм часто бывает украшен пар-
239
тийной фразеологией (например, у подражающего Мальро и Фран-
кастелю Роже Гароди, для которого принцип партийности в жи-
вописи требует деформации реальных объектов, а реальные формы
изображения, созданные эпохой Ренессанса и связанные с перспек-
тивой, являются только выражением классовой воли буржуазии,
стремившейся к господству). Само понятие классовой борьбы в
ходячих представлениях вульгарной социологии — не марксистское,
а буржуазное. Оно гораздо ближе к агонистике сильных и слабых
Ницше, зоологической схватке обособленных социальных видов
Людвига Гумпловича, формальной теории групп Зиммеля, фон
Визе, бесчисленных американских социологов, изучающих поведе-
ние zoon politikon, политического животного в буквальном смысле
этого слова. Вульгарная социология превращает классовую борьбу
240 в роковую битву своекорыстных общественных сил за лучший ку-
сок, вне отношения к основному классовому противоречию каждой
эпохи.
Бесспорно, что материализм Маркса и Энгельса впервые создал
научную почву для объективного исторического анализа общест-
венного сознания. Но это не значит, что всякое сознание является
для них слепым продуктом узких классовых интересов. Маркс знает
относительную, но реальную грань между идеологическими состав-
ными частями господствующих классов и свободным духовным про-
изводством данной общественной формации *. Последнее всегда
бывает связано «невидимыми нитями с телом народа». Таким обра-
зом, разница между подлинными мыслителями, учеными, художни-
ками, с одной стороны, и ничтожными сикофантами паразитических
классов, с другой, существует, несмотря на то, что Пушкин был
дворянским поэтом, а Дидро и Гельвеций выражали подъем буржу-
азной демократии. Их деятельность потому и относится к беско-
нечно ценному наследию мировой культуры, что в ней отразилась
не борьба за раздел добычи на вершине общественной пирамиды,
а коренное противоречие между народной массой, чей интерес в по-
следнем счете совпадает с интересами общества в целом, и парази-
тической классовой верхушкой, временными хозяевами общества,
подчиняющими его известной форме частной собственности и
власти.
Для Маркса и Ленина нет классовой борьбы вне перспективы
движения к обществу коммунистическому. Этот путь ведет через
антагонизм общественных сил, развитие множества мелких и част-
ных интересов, но это все же путь к уничтожению классов и под-
линному, истинному человеческому общежитию. Необходимость его
всегда сознавалась или предчувствовалась лучшими представителя-
ми мировой культуры в форме общественного идеала, часто проти-
воречивой, иногда парадоксальной, но всегда имеющей свои реаль-
ные исторические корни. Грехопадение вульгарной социологии
состоит именно в том, что она не может соединить абсолютное со-
* См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26. ч. 1. с. 280.
держание духовной жизни людей с ее относительной, временной и
ограниченной стороной, которая также играет не только отрицатель-
ную роль. Решение этого вопроса возможно только на основе ленин-
ской теории отражения, его диалектики в истории познания, то есть
дальнейшего развития дела Гегеля и Маркса.
В полном противоречии с широким горизонтом философии исто-
рии, заложенной в марксизме, вульгарная социология придает об-
щественному сознанию чисто технический характер, нейтральный по
отношению к объективной истине мира. Формы сознания для нее —
простые орудия борьбы. Это знаки, иероглифы известных общест-
венных сил. Они не убеждают людей заключенным в них содер-
жанием объективной действительности, а гипнотически, суггестивно
воздействуют на массу, подчиняя ее сильной воле. Практика вуль-
гарной социологии в Советском Союзе создала в свое время немало
примеров сведения истории литературы к боксерским схваткам раз-
личных классовых прослоек. Впрочем, тот же взгляд на обществен-
ное сознание, рассматривающий его как продукт условности, внеш-
нее средство объединения и подчинения людей, возможен и без
всякого употребления классовой терминологии.
Вульгарная социология здесь полностью примыкает к буржуаз-
ной мысли XX века. Достаточно вспомнить различные теории со-
циации и коммуникации, где формы сознания суть нейтральные по
отношению к объективной истине орудия для достижения известных
целей. В теории Кеннета Берка искусство Служит подчинению
общества власти отдельной социальной группы посредством сим-
волических действий, поднимающих в глазах людей реальные задачи
определенной общественной иерархии и окружающей их священным
сиянием. Для Гелена наскальная живопись первобытного челове-
ка— дисциплинарные образы (Zuchtbilder). Для Коллингвуда про-
изведение искусства обеспечивает выживание общественной груп-
пы. Последователи Фрейда и Юнга видят в художественных
образах средство разрядки общественной напряженности, удовлет-
ворения подавленной массы посредством энантиодромии — симво-
лического переворачивания верха и низа, например в сатурналиях
и карнавалах. Большую роль в социологических теориях этого типа
играет магия как образец активного воздействия на массовое со-
знание, взятый из первобытного общества и перенесенный на всю
историю культуры. Выше уже говорилось о том, что крупицы исти-
ны, заложенные в таких социологических наблюдениях, принимают
грубо преувеличенные очертания и заслоняют более глубокое соде
жание духовной жизни общества как зеркала объективного мира,
бесконечной действительности.
Поскольку на место отражения действительности становятся
субъективное начало воли и действие на чужую психику, главный
интерес вульгарной социологии переносится с художественного про-
изведения на восприятие его. В качестве простого знака произведе-
ние искусства есть условность. Значение его меняется в зависимости
от рецептора, каждая эпоха и каждая общественная среда вклады-
247
вают в прочитанную строчку свой особый смысл. Таким образом,
истинный создатель картины — не художник, а зритель. Поскольку
точки социально обусловленного восприятия не совпадают, сама
коммуникация, то есть взаимопонимание, становится неразрешимой
проблемой. Либо произведение искусства и любое другое явление
духовной культуры имеет свое объективное ядро и сохраняет его
при всех изменениях восприятия (ибо в основе его лежит реальный
образ), либо общественная наука теряет всякий критерий и не мо-
жет отличить, например, факт литературы от любого другого арте-
факта, будь это создание графомании, бульварной печати или кан-
целярской словесности.
В более последовательных формах вульгарная социология сама
отвергает разницу между созданием человеческого гения и средним
242 продуктом социальной коммуникации. В качестве простого знака
среднее даже более типично. Отсюда не только полемика вульгар-
ной социологии против «биографического метода», стремление со-
здать историю искусства без художников, но и прямые требования
изучать не исключительные произведения, а среднюю продукцию.
На Западе эту точку зрения отстаивал известный историк француз-
ской общественной мысли Грутхойзен. В Советском Союзе был пе-
риод, когда в музеях возобладала так называемая марксистская
экспозиция. Посредственности как более типичные представители
среднего классового сознания оттеснили на стенах музея великих
мастеров.
Провести резкую грань между вульгаризацией марксизма и
обыкновенной буржуазной социологией трудно. Есть много ступеней
промежуточных и переходных. Они существуют также между социо-
логической абстракцией, выражающей только ограниченность бур-
жуазного кругозора, и реальным содержанием научных трудов, ис-
полненных во имя «социологического метода». Книги многих талант-
ливых и ученых авторов, как В. Гаузенштейн, А. Гаузер, Ф. Антал,
Бианки Бандинелли, П. Франкастель, в общем полезные, не выходят
за рамки вульгарной социологии. Правда, слово вульгарный в своем
уничижительном смысле здесь едва ли уместно. Очень может быть,
что книга В. Переверзева о Достоевском — одно из лучших иссле-
дований творчества этого писателя, хотя действительного марксиз-
ма, в духе Маркса и Ленина, в ней не больше, чем в книге В. Ро-
занова, резко враждебной марксизму и также не лишенной инте-
реса. Герой гражданской войны в Испании английский коммунист
Кристофер Кодуэлл является автором известного сочинения «Ил-
люзия и действительность» (1937), где в удивительном сочетании
смешаны принципы исторического материализма с антропологией
Карла Юнга. Как возможны такие противоречия — другой вопрос,
но они есть. Социологическая литература, задетая марксизмом, ча-
сто охватывает большой исторический материал, рассмотренный
с какой-нибудь новой точки зрения (таковы исследования Э. Циль-
зеля о понятии «гений», труды Корнфорда и Уэлсфорда о стихии
комического, «Социология Ренессанса» А. фон Мартина). Однако
общая ограниченность не-марксистского социологического метода
всегда дает себя знать. И это понятно — чем ближе к задаче науч-
ного изучения духовной жизни общества, поставленной Марксом,
тем выше требования, тем острее чувствуется всякая односторон-
ность. ч
Что касается вульгарной социологии в более тесном смысле сло-
ва, то при всем разнообразии переходных форм она остается бур-
жуазной редакцией материалистического понимания истории, если
не отражением марксизма в буржуазной литературе. Одностороннее
применение некоторых тезисов Маркса было главной пружиной об-
новления буржуазной социологии в нашем веке. Бесспорно влияние
марксизма на таких выдающихся социологов, как Макс Вебер или
Дюркгейм, не говоря о множестве других. Получив новое крещение
в этой купели, те же идеи, испорченные примесью ложных взглядов,
снова возвращаются в марксистскую литературу — вот суть процес-
са, лежащего в основе вульгарной социологии.
Есть нечто парадоксальное в том, что метод вульгарной социо-
логии более всего применим к ней самой. Это действительно коллек-
тивный сон, отражающий формы жизни, присущие известной со-
циальной среде. И не только потому, что ложная проницательность
вульгарной социологии превращает всю историю мировой культуры
в базарную свалку эгоистических социальных групп, погружая вер-
шины человеческого духа в моральную атмосферу, привычную вуль-
гарному социологу. Главный недостаток этой системы взглядов со-
стоит в том, что она несет в себе оправдание неравенства между
людьми.
Допустим, что все формы духовной жизни являются только
идеологией (ложным сознанием) — термин Маркса и Энгельса, при-
нятый Мангеймом, Хоркхаймером, Гаузером, другими западными
социологами, но истолкованный ими неправильно. Если так, то где
гарантия, что историческая картина, нарисованная пером социолога,
не является также определенным видом ложного сознания, то есть
чистой условностью? Чтобы выйти из этого порочного круга, наш
социолог должен сделать исключение для собственного сознания,
превратить его в сверхидеологию, метасознание. В современной за-
падной социологической литературе имеется много попыток обосно-
вать эту дезидеологизацию социолога, но все они способны вызвать
только улыбку. Если исходный пункт верен, то противоречие нераз-
решимо. Если оно разрешимо, то нужно признать в человеческом
мышлении возможность абсолютного содержания.
Вместе с тем дело имеет свою практическую сторону. Исключе-
ние, сделанное социологом для своего собственного сознания, дает
начало делению людей на два этажа. Одни являются слепым продук-
том своей среды и воздействия на них различных средств комму-
никации, как то — литературы, живописи, кинематографии, телеви-
дения и прочих мощных инструментов управления чужим созна-
нием, другие остаются за кулисами и управляют массой простых
существ. Это технократы, бихевиористы, инженеры по человеческим
243
отношениям, социологи — словом, египетские жрецы, стоящие во
главе общества.
Не говоря уже о моральной низости этого взгляда, отметим
только, что он действительно представляет собой коллективный сон,
датскую утопию маленького чумазого, получившего свой диплом.
Сочинения, подобные книгам-боевикам Фуко или Маклюэна,
утверждающие начало эпохи господства средств над содержанием,
условности над действительностью, свидетельствуют о том, что
отказ от принципа объективной истины, лежащей в основе всей
исторической лестницы культуры, ведет к тяжелому поражению
общественного сознания. Как и модернизм в искусстве, вульгарная
социология — это опиум интеллигенции.
К сожалению, в силу многих существенных причин за последние
244 годы мы снова сталкиваемся с ее оживлением и притом в двух не-
совпадающих, но способных к сближению формах. С одной стороны,
в литературных документах «новой левой» на Западе часто встре-
чается элемент абстрактного понимания классовой борьбы и рево-
люции как голого отрицания традиционных форм. С другой сторо-
ны, так называемая культурная революция на Востоке показывает
нам образец социальной демагогии, в которой большую роль играло
отталкивание от классической литературы и культурного наследства
вообще. Там, где истина, нравственность, искусство — простые сред-
ства, лишенные самостоятельного объективного значения, где клас-
совая борьба низводится до вульгарной теории насилия, нет больше
никаких моральных препятствий для культа сильной власти. Каково
будет при этом положение образованного меньшинства, имеющего
претензию управлять сознанием масс, понять нетрудно.
ПРИЛОЖЕНИЕ
НАРОДНОСТЬ ИСКУССТВА И БОРЬБА КЛАССОВ*
1
Товарищи! Проблема народности искусства — сложная, недо-
статочно разработанная проблема. Чтобы приблизиться к ее пони-
манию, необходимо рассмотреть разные ее стороны, разные ступени
народности, как они проявлялись в истории литературы и искусст-
ва, и постараться изложить существо дела возможно яснее. Но как
я ни пытался сжать материал, я должен все же предупредить, что
«иду на вы» с довольно громоздким, продолжительным докладом.
Факт публичного разоблачения вульгарной социологии ясен для
всех как факт прогрессивный, однако нельзя отрицать, что сегодня
заметно известное разочарование нашими достижениями в области
преодоления вульгарности в истолковании литературы и искусства.
Идея народности быстро превратилась в штамп, в новую вульгар-
ную отмычку, которая применяется всюду, прилагается ко всему
на свете. На это жалуются многие, жалуются и студенты ИФЛИ.
Люди видят, насколько элементарны и пусты эти модные приемы,
и у них зарождается естественный скептицизм. Можно даже услы-
шать остроты такого рода: «Еще одного классика изнародовали»...
Наши противники воспользовались утвердившимися в общей
форме идеями, их общим характером для того, чтобы превратить
их в ходячую банальность. Те же самые люди, не говоря ни слова,
не отказываясь от своих позиций, не подвергая критике то, что они
раньше писали, просто начали писать прямо противоположное, но
все в той же свойственной им абстрактной, односторонней форме.
Так, народность и гуманизм — демократические основы искусства—
были признаны необходимыми качествами подлинного духовного
творчества. Но в изложении наших противников они превращались
на глазах в сумму плоских абстракций.
* Доклад, прочитанный в московском Институте истории, философии и
литературы (ИФЛИ) 23 мая 1938 г.
Автор придавал значение этому докладу как определенному этапу разра-
ботки важных теоретических вопросов, но не успел подготовить текст к публи-
кации. Он печатается здесь в качестве приложения на основе авторского кон-
спекта, отдельных заметок к докладу и сохранившихся частей стенограммы.
Пропуски в стенографической записи обозначены многоточиями в угловых скоб-
ках. Неполнотой записи объясняются фрагментарность публикуемого текста,
истречающиеся в нем неровности изложения.— Примеч. ред.
245
Вместо прежних рассуждений о борьбе прогрессивной буржуа-
зии против мрачного средневековья, вместо попыток отыскивать у
писателей-классиков признаки их принадлежности к придворной
аристократии, торгующему пшеницей дворянству, мелким буржуа
или обедневшим идальго сегодня впадают в противоположную край-
ность, растворяя позиции мыслителей и художников прошлого в
мелких водах пустых, прекраснодушно-гуманистических фраз.
В период ожесточенных сражений с вульгарной социологией
было много людей, я сказал бы, злорадных скептиков, часто при-
надлежавших к лагерю вульгарных социологов, которые предсказы-
вали: ну что ж, перестанут писать, что Пушкин — представитель
капитализирующегося дворянства, станут писать, что все художни-
ки народны. На взгляд этих скептиков, вульгарная социология не
246 искоренена: не успели опрокинуть одну схему, согласно которой
классики мировой литературы были прислужниками интересов гос-
подствующих классов, как уже готова новая схема, новое отвлечен-
ное истолкование искусства, приводящее к вульгарному упрощению.
Против такого рода скептицизма наш долг самым решительным
образом возражать. Но для того чтобы осознать значение задачи
глубокого и верного понимания народности, нужно прежде всего
вдуматься во внутренний смысл нашей борьбы против вульгарно-
социологического извращения марксизма.
Вульгарная социология давала универсальный ключ к быстрому
и схематическому решению всех историко-литературных вопросов.
Возьмите «Литературную энциклопедию». Люди так поспешили,
что просто в алфавитном порядке всех художников разнесли по раз-
личным рубрикам, по соответствующим частям схемы. Откуда у нас
такое знание истории литературы? Можем ли мы сказать, что это
действительно было результатом исследования? Нет, этого, конеч-
но, не было. Увлекательность вульгарной социологии, то обстоятель-
ство, почему она имела много поклонников, объясняются именно
легкостью, с которой быстро разрешали все существовавшие вопро-
сы, немедленно классифицировали каждого писателя, определяли
его место и тем самым вообще устраняли действительные проблемы
из истории литературы и искусства.
С таким подходом, кажется, покончено, и этим завоеванием мож-
но гордиться. Но для того чтобы на почве, освобожденной от вуль-
гарной социологии, создать настоящую историю литературы и исто-
рию искусства, требуется много времени и труда. Наша точка зре-
ния тем и отличается от точки зрения вульгарных социологов, что
она отвергает схематизм. Действительно, марксистскую историю
литературы и искусства не построишь с такой быстротой, с какой
строилась вульгарно-социологическая схема. Но было бы непра-
вильно на этом основании предаваться скептицизму, огорчаться и
унывать по поводу того, что еще нередки случаи вульгаризации по-
нятия народности. Вспомните, что писал Энгельс Конраду Шмидту
(5 августа 1890 года): «Для многих молодых писателей в Германии
слово «материалистический» является простой фразой, которой на-
зывают все, что угодно, не давая себе труда заняться дальнейшим
изучением, то есть приклеивают этот ярлычок и считают, что этим
вопрос решен. Однако наше понимание истории есть прежде всего
руководство к изучению, а не рычаг для конструирования на манер
гегельянства. Всю историю надо изучать заново, надо исследовать
в деталях условия существования различных общественных форма-
ций, прежде чем пытаться вывести из них соответствующие им
политические, частноправовые, эстетические, философские, религи-
озные и т. п. воззрения. Сделано в этом отношении до сих пор не-
много, потому что очень немногие люди серьезно этим занима-
лись» *.
Перед марксистами стоит именно эта задача — изучать всю исто-
рию заново. Нужно прийти к такому положению, чтобы наши суж-
дения и выводы относительно определенных форм народности, су-
ществующих в истории, выводы, которые будут изменяться и уточ-
няться по мере дальнейшего развития нашей науки, действительно
опирались на глубокое изучение исторической почвы всей духовной
деятельности человечества. Поэтому борьба с вульгарной социоло-
гией была вовсе не бесплодна, она не была напрасной, она расчисти-
ла путь для научного исследования. Правда, многое мы еще не
знаем. Часто нам еще до конца не ясно, как надо судить о том или
ином художнике, но нам уже хорошо известно, как судить о нем не
надо. Мы знаем наверняка, что Пушкин не был защитником экс-
плуататорских интересов господствующего класса, не был при-
служником самодержавия. Если думать иначе и допустить, что про-
изведения Пушкина или Шекспира могут в самом деле выражать
реакционные цели и идеалы, прославлять своекорыстные интересы
классового господства и эксплуатации, то вообще было бы невоз-
можно связать концы с концами на этом свете. И едва ли стоило
бы вообще существовать, ибо это значило бы, что весь мир подвер-
жен какому-то неустранимому извращению.
Марксистское направление мысли не имеет ничего общего с этой
безнадежностью, не знает подобных тупиков. В сознании лучших
представителей старой культуры революционные черты нередко
сплетались с реакционными. Своеобразие их взглядов, например
позицию Пушкина, чью идею, или пафос, уже во многом разгадал
Белинский, марксисты должны уметь переводить на язык историче-
ского материализма и классовой борьбы. Без этого нельзя верно
представить себе социально-историческое значение творчества Пуш-
кина и вместе с тем подняться до истинного, не вульгарного понима-
ния критериев художественности. Ради этого мы отстаиваем идею
народности, ради этого пошли в бой против вульгарной социологии,
ее исторического пессимизма <•••>
В чем же было существо нашего спора с вульгарной социологи-
ей? Это необходимо хорошо понимать, чтобы стал яснее наш подход
к проблеме народности. Вульгарная социология — это не простая
247
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 371.
вульгарность. Она представляла собой отрицание всех прогрессив-
ных идеалов в истории, всех завоеваний мысли и духовного творче-
ства вообще, которые были достигнуты до марксизма лучшими ума-
ми человечества — философами, писателями, художниками добуржу-
азной и буржуазной эпох, включая передовых представителей
революционной демократии,— не говоря уже о том, что вульгарная
социология профанировала существо самой марксистской теории.
Известно, что буржуазная мысль, начиная с середины XIX века,
чем дальше, тем решительнее шла по пути пересмотра прогрессив-
ного демократического наследства, отказывалась от него, подверга-
ла его всяческим сомнениям. В основе этого отказа лежала идея
относительности всех ценностей, в том числе художественных. До-
казывалось, что каждая эпоха пб-своему хороша, каждая имеет свою
248 особую ценность. Был признан заблуждением взгляд, согласно ко-
торому прекрасно то искусство, которое отвечает потребностям на*
рода. Каждый общественный слой не обходится без собственных
потребностей, и все они естественны. Расцвет искусства, считали
идеологи этого направления, никак не связан с народной основой
человеческой истории. Наоборот, они утверждали, что он сродни
жестокому классовому господству, культу сильной личности и силь-
ной власти.
Вульгарная социология подхватила эту упадочную тенденцию
буржуазной мысли. Вместо народных потребностей она стала гово-
рить о витальной силе класса. Дело не в том, насколько истинно
искусство, а в том, насколько мощно оно выражает классовую энер-
гию. Нигилистическое отрицание передовых традиций общественной
мысли вульгарная социология довела до софистики, до отрицания
понятия «народ»: существуют только классы, народа нет, о нем
не приходится говорить.
Что такое эти суждения, эта полнейшая относительность, это
стирание всяких объективных границ, как не признание того, что
в искусстве, как вообще в истории, объективных критериев не су-
ществует, что истины в нем нет и все зависит от субъективной (ин-
дивидуальной или групповой) точки зрения. В этом релятивизме
коренной порок вульгарной социологии и последний реакционный
вывод из ее предпосылок. Народность искусства вульгарными со-
циологами отрицалась, так же как ими отрицалась всякая объектив-
ность истинного и ложного, а с ней и реальность передовых идеалов
человечества <•••>
Для нас в отличие от вульгарных социологов народность искус-
ства является объективной истиной. Нельзя согласиться с теми, кто
считает, что рядом с высоким народным искусством может суще-
ствовать высокое искусство, враждебное народу, антинародное. Это
так же невозможно, как невозможно выразить в художественной
форме эгоистические, эксплуататорские классовые интересы. Когда
мы ведем речь о подлинном искусстве, то есть применяем эстетиче-
скую оценку, мы вправе утверждать, что это искусство опирается
на действительно народные интересы.
Этот тезис не изобретен марксизмом. Он существовал и рань*
ше— это старое демократическое учение. Оно было выдвинуто
очень рано и разрабатывалось просветителями и писателями близ-
кого к ним направления в XVIII веке. Такие умы, как итальянский
философ Вико, немцы Лессинг и Винкельман, англичанин Фергю-
сон, которого высокб ценил Маркс, все представители немецкой
классической эстетики, в России вся плеяда наших великих крити-
ков — Белинский, Добролюбов, Чернышевский,— все утверждали
тезис о народности искусства. Как последователи марксистского
учения мы не имеем никаких оснований отказываться от этого поло-
жения, которое разделяли лучшие представители русской револю-
ционно-демократической мысли. Вслед за ними мы утверждаем, что
передовое в искусстве опирается на передовое в широком истори-
ческом смысле, на верное, исторически прогрессивное понимание
главных тенденций действительности, отвечающих интересам чело-
вечества и потому имеющих непреложную ценность для народа. Это
не значит, что художественное развитие прямо пропорционально
экономическому прогрессу. Дело обстоит не так — между развитием
высокого искусства и общим развитием классового общества и его
материальной основы прямого соответствия нет. Тем не менее выс-
шие классические достижения художественной культуры неотдели-
мы от судьбы народа. Их ценность для народа составляет то, что мы
можем назвать социальным эквивалентом народности подлинного
искусства.
Но если такой вывод был достаточен, для того чтобы бороться
с вульгарной социологией, его недостаточно для дальнейшего. Как
определить этот социальный эквивалент народности, как устано-
вить его формы в смене событий истории, в процессе художествен-
ного развития человечества?
Чтобы приблизиться к ответу на эти вопросы, необходимо при-
знать, что демократическое, домарксистское понимание народности
при всем его значении страдало существенным недостатком. В том
понимании народности, какое мы встречаем, например, у Винкель-
мана или Лессинга, недоставало диалектики. Марксистское понима-
ние народности, которое мы с вами стараемся усвоить и применять
в наших исследованиях, должно быть диалектическим. Интересы
народные, как и все другие факты истории, необходимо рассматри-
вать диалектически, в их историческом развитии.
В истории существовали различны0 формы и типы народности,
ее выражения были многообразны, нередко противоречивы, и под-
ходить к ним с единой меркой нельзя. В прямолинейном, отвлечен-
ном понимании народности заложены источники ошибочных выво-
дов, ложного противопоставления высоких форм искусства народ-
ным интересам, неверных представлений о том, что они несовмести-
мы и враждебны друг другу
Творчество Пушкина долго рассматривалось у нас многими ав-
торами, я бы сказал, без должного уважения к его художественным
достоинствам. Пушкина изображали как фигуру исторически эна-
249
чительную, но всецело принадлежащую со всеми своими чертами и
свойствами тому ушедшему классу, той верхушке старого обще-
ства, которой резко противопоставлялось крестьянство. Подвергну-
тый вульгарно-социологической обработке Пушкин подводился под
мерку, прилагаемую к Некрасову, разночинцам, просветителям.
Из сравнения с ними делали вывод, что Пушкин под эту мерку не
подходит, что его личность и творчество несут на себе отпечаток
дворянской культуры, и за это судили его довольно строго.
В настоящее время наблюдается другая тенденция. В юбилей-
ной литературе прошлого года, в книгах, появившихся после пуш-
кинских торжеств, великого поэта часто оценивали по-прежнему, по
той же мерке, какую прилагали к нему вульгарные социологи, но
стрелка указывала теперь в другую сторону. Если раньше писали,
250 что Раз Пушкин не Некрасов, значит он идеолог дворянства, слуга
самодержавия, то теперь в юбилейной литературе многие авторы
пошли по другому, еще более легкому пути: стали находить, что он,
в сущности, похож на Некрасова, не так уж далек от него, почти
до него дотягивается. Поэтому главное внимание уделяли юноше-
ским стихам поэта, таким, как «Вольность», «Деревня», «Кинжал»,
стали иначе изображать его отношение к декабризму. Те грани, ко-
торые отделяли Пушкина от декабризма в 20-е и особенно в 30-е
годы, теперь сглаживались и исчезали. Получался стилизованный
Пушкин. Пушкин представлялся маленьким Некрасовым. Такой
подход широко распространен в определенной части литературы.
Другие авторы настаивали на рационализме Пушкина, на узко про-
светительском характере его идеалов и так далее в том же роде.
Но подлинный просветитель, великий критик, который действи-
тельно боролся за народные интересы, Белинский оценивал Пушки-
на иначе. Будучи отчасти современником пушкинского периода рус-
ской литературы, Белинский столь же близко знал и те новые об-
щественные и художественные идеи, которые пришли на смену
этому периоду. Но ему, при всем его преклонении перед великим
поэтом-художником, никогда не приходило в голову основывать
оценку существа поэзии Пушкина на его юношеских вольнолюби-
вых, обличительных стихотворениях. Белинский подчеркивал эпи-
зодический характер увлечений поэта идеями тогдашней дворян-
ской революционности. Он считал, что, по мере того как Пушкин
достигал художественной зрелости, у него брали верх какие-то иные
общественные концепции, не те, что были заложены в энтузиазме
его юных лет. «Первыми своими произведениями он прослыл на
Руси за русского Байрона, за человека отрицания. Но ничего этого
не было: невозможно предположить более антибайронической, бо-
лее консервативной натуры, как натура Пушкина»,— писал Белин-
ский.
Если так думал просветитель Белинский, то позволительно ли
нам оценивать народное значение Пушкина для социалистической
культуры, опираясь главным образом на его юношеские произведе-
ния? Измерять такой мерой высокое значение Пушкина для совет-
ского народа, прошедшего великую революционную школу, было бы
странно и поверхностно. В наше время на революционную деятель-
ность мы смотрим глубже, не можем смешивать ее с тем граждан-
ским пафосом, каким дышала поэзия молодого Пушкина.
Нет, существа пушкинской поэзии не открыть, если следовать
только одной путеводной нити, которая ведет в лагерь дворянской
революционности. Белинский и вслед за ним Чернышевский видели
значение Пушкина в том, что он был по преимуществу художником
и создал в поэзии прекрасную, общезначимую форму. Разве этого
мало, разве это что-то отнимает у Пушкина? Ведь форма есть жизнь
содержания. Другое дело, что это не могло вполне удовлетворить
мысль и Белинского, и Чернышевского, на что существовали, конеч-
но, серьезные исторические причины.
Чернышевский был глубоко прав, говоря, что у Пушкина худо-
жественность не только оболочка, но и зерно и оболочка. И все же
он понимал это единство не в том смысле, что зерно и оболочка
пушкинской художественности неделимы, что противопоставить их
друг другу невозможно. В его глазах они совпадали не безусловно,
а относились между собой как известные противоположности, как
содержание и форма. Чернышевский писал: «Великое дело свое —
ввести в русскую литературу поэзию как прекрасную художествен-
ную форму — Пушкин совершил вполне, и, узнав поэзию как фор-
му, русское общество могло уже идти далее и искать в этой форме
содержания... Но художнический гений Пушкина так велик и пре-
красен, что, хотя эпоха безусловного удовлетворения чистою фор-
мою для нас миновалась, мы доселе не можем не увлекаться дивною
художественною красотою его созданий. Он истинный отец нашей
поэзии, он воспитатель эстетического чувства».
Взгляд Белинского на сущность поэзии Пушкина послужил ис-
ходным пунктом позиции Чернышевского. Но характеристики пуш-
кинского творчества у Белинского, пожалуй, более проникновенны.
«Муза Пушкина,— писал он,— это девушка-аристократка, в которой
обольстительная красота и грациозность непосредственности соче-
тались с изяществом тона и благородною простотою и в которой
прекрасные внутренние качества развиты и еще более возвышены
виртуозностью формы, до того усвоенной ею, что эта форма сдела-
лась ей второю природою».
Благородная простота поэзии Пушкина, в которой мы сегодня
видим ее народность, не почерпнута непосредственно из источников
народного творчества (хотя Пушкин их прекрасно знал и обращал-
ся к ним), как это бывает у художников менее развитого и изощрен-
ного склада, творящих как бы в силу естественной, прямой связи
со стихией народной жизни. Это простота вторичного порядка, ко-
торую Пушкин сознательно искал, возвышенная простота такого
искусства, которое вполне свободно от всего примитивного и гру-
бого, от всякой манерности, риторики, ложной позы, от чувстви-
тельности, свойственной допушкинской поэзии, от бремени роман-
тизма нового века. Это не народность в ее естественном выражении.
251
считал Белинский, а, скорее, плод классического художественного
такта и вкуса Пушкина, который обладал в величайшей степени тем,
что можно назвать тактом действительности, владел с поразитель-
ной свободой любой национальной народной формой — русской, ан-
глийской, испанской, немецкой, итальянской, польской, южносла-
вянской. Неподражаем он и в воссоздании форм античной поэзии.
Будем же брать Пушкина таким, каков он есть, а не обманывать
себя и других, выдавая его за того, кем он не был! Так честно по-
ступали наши великие просветители. Ни Белинский, ни Чернышев-
ский не закрывали глаза на идеальный, прямо аристократический,
дворянский, если хотите, характер пушкинской поэзии. «Так как
поэзия Пушкина,— писал Белинский,— вся заключается преимуще-
ственно в поэтическом созерцании мира и так как она безусловно
252 признает его настоящее положение если не всегда утешительным, то
всегда необходимо разумным,— поэтому она отличается характером
более созерцательным, нежели рефлектирующим, высказывается
более как чувство или как созерцание, нежели как мысль. Вся на-
сквозь проникнутая гуманностью, муза Пушкина умеет глубоко
страдать от диссонансов и противоречий жизни, но она смотрит на
них с каким-то самоотрицанием (resignatio), как бы признавая их
роковую неизбежность и не нося в душе своей идеала лучшей дей-
ствительности и веры в возможность его осуществления».
Белинский был убежден, что для последующих, более определен-
ных форм борьбы за народные интересы поэзия Пушкина слишком
покоится на созерцании, размышлении. Поэт страдает, он остро чув-
ствует противоречия времени, глубоко переживает трагедию челове-
чества, но его отношение к миру напоминает примирение с действи-
тельностью, известное из философии Гегеля. По мысли Белинского,
значение Пушкина не в том, что в своем творчестве он народен в
прямом и безусловном смысле. Он не мог быть народен в этом смы-
сле, поскольку его поэзия шла к народу сверху, а не исходила от
народа, поскольку культура, которой принадлежал Пушкин, была
отделена от него.
Когда эпигонская славянофильская критика 50-х годов стала
утверждать, что Пушкин ввел народность в нашу литературу, Чер-
нышевский прямо возразил, что Белинский был прав в своей оценке
поэзии Пушкина, что он видел ее такой, какой она была на самом
деле, в ее истинном совершенстве, но без прикрас, без прямого
отождествления ее с народностью, которое казалось Чернышевско-
му проблематичным. И Белинский, и его наследники — революцион-
ные демократы 50—60-х годов — считали, что время Пушкина,
пушкинский период русской литературы, закончилось, ушло в про-
шлое, что на смену должны прийти художники, которые выражали
более непосредственно народные идеалы, являлись прямыми пред-
ставителями народной борьбы.
Можем ли мы игнорировать мнение этих великих поборников
идеи народности в искусстве? Нет, не можем. Но значит ли это, что
мы должны отказаться от Пушкина, не признавать его поэтом на-
родным? Думаю, что и на этот вопрос мы ответим — нет, не долж-
ны. Не должны потому, что мы сознаем как бесспорную истину:
Пушкин величайший народный поэт в высшем смысле этого слова.
В чистоте и ясности формы, правде и простоте своей поэзии, ее со-
вершенном артистизме Пушкин шел навстречу огромной — потенци-
альной и реальной — народной потребности. Эта потребность созре-
вала в глубине народного сознания его эпохи, она существует и се-
годня, не до конца утоленная, в умах и чувствах современных
людей.
А как же быть с мнением наших просветителей? Не им ли, ка-
жется, все книги в руки? Ведь если бы они полагали, что поэзия
Пушкина прямо способна пойти на потребу тем общественным за-
дачам, которые они выдвигали в 40-е, 50-е* и 60-е годы, могли бы
Белинский и Чернышевский находить, что Лермонтов и Гоголь —
более высокая после Пушкина ступень художественного развития,
подчеркивать так настойчиво своеобразие и несовременность пуш-
кинского периода искусства? Это, конечно, не недоразумение, не
простая ошибка Белинского и Чернышевского. Здесь есть что-то
большее, есть какое-то историческое противоречие, чрезвычайно
важное для нашего понимания народности.
Чтобы показать, что мы стоим не только перед проблемой Пуш-
кина, но перед проблемой всего старого классического искусства, я
хочу привести некоторые исторические примеры. В них мы найдем
много сходного с тем, с чем сталкиваемся в русской литературе,
когда размышляем о роли и месте Пушкина.
Гейне в своей филосрфско-критической прозе не раз обращался
к эстетическому периоду в Германии, который он именовал перио-
дом искусства, die Kunstperiode, и связывал с годами жизни и твор-
чества Гёте. Он относил к высшим достижениям этой поры «вей-
марский классицизм» Гёте и Шиллера, созданные ими теории искус-
ства и великие произведения национальной литературы. То не-
повторимое и своеобразное, что принесло с собою творчество этих
гениев и что сделало честь Германии, считает Гейне, теперь, со
смертью Гёте, ушло в прошлое и вернуться не может. Теперь
дух времени требует более активного отношения к обществен-
ным вопросам, более острого, действенного искусства, более
определенных идеалов будущего. Для наступившей новой эпохи по-
эзия Гёте слишком индифферентна, слишком артистична, слишком
гармонически спокойна и замкнута в своих классических формах.
Литература периода искусства покоилась на каком-то безразличии,
даже прямом презрении к активному вмешательству в обществен-
ную действительность, в текущую жизнь.
Так писал Гейне о периоде Гёте в Германии. Почти в таких же
словах отзывался Белинский о пушкинском периоде в нашей лите-
ратуре.
В России Пушкин в последние годы его недолгой жизни служил
постоянной мишенью нападок со стороны литераторов типа Булга-
рина, Греча, Полевого, которые критиковали его за аристократизм
253
и обращали этот упрек также против небольшого круга людей, груп-
пировавшихся вокруг Пушкина. Для верноподданической охрани-
тельной журнальной критики Пушкин слишком независим, подо-
зрительно горд своим шестисотлетним дворянством, олицетворял
скрытую, но тем более опасную дворянскую оппозиционность ца-
ризму.
В Германии на Гёте в конце его долгой жизни смотрели как
на человека прошлого, пережившего собственное время. Немецкие
булгарины из полицейско-мещанского лагеря развенчивали Гёте,
возбуждая общественное мнение против артистической формы и
самодовлеющей гармонии его поэзии, обвиняли его в высокомерии
и безучастности к судьбам народа из-за проявленного поэтом пре-
зрения к пошлым мнениям черни.
254 Гейне, подобно Белинскому, не имел никакого отношения к этой
вульгарной критике искусства. Но о поэзии гётевского периода он
отзывался так: это был век аристократической литературы, этот
век окончился, начался век литературы буржуазно-демократиче-
ской. Сам Гёте глубоко сознавал свое отличие от писателей народ-
ных в прямом смысле слова. Более того, он даже стилизовал и за-
острял иронически эту противоположность, давая достаточно пово-
дов для позднейшей, определенным образом настроенной критики.
В одном из своих четверостиший Гёте говорит, что высокий дух и
совершенное искусство доступны только немногим избранным: «Ге-
ний в искусстве творит не для толпы площадной».
Как бы ни относиться к таким словам немецкого поэта, в них
звучат мотивы, знакомые из поэзии Пушкина. Действительно, у
Гёте можно встретить немало общего с требованиями высшей худо-
жественности, которые Пушкин объявляет своими в известных сти-
хотворениях на тему «поэт и чериь». У Пушкина поэт выступает
замкнутым в узком избранном кругу или одиноким среди непони-
мающей его толпы. Эта мысль у Пушкина развита яснее, чем у
Гёте. В его стихах можно встретить горькую мысль о том, что окру-
жающая поэта чернь — это и светская чернь, что круг людей, к ко-
торому вынужден обращаться в России поэт, не удовлетворяет его,
народ же пока далеко, он толпится где-то за дверями. В одном из
пушкинских поэтических набросков мы читаем:
Меж тем за тяжкими дверями.
Теснясь у черного крыльца,
Народ, гоняемый слугами,
Поодаль слушает певца.
Во всяком случае, Пушкину, как и Гёте, была близка мысль о
том, что в его время художник замкнут силой вещей в тесном кругу
ценителей изящного и не может поставить себя иначе. Таков был
взгляд Пушкина, и этот факт никаким прикрашиванием истории из-
менить нельзя. То, что сказано им в «Памятнике» за полгода до ги-
бели, как бы сказано из будущего — в современном ему мире он,
как известно, не был намерен «оспоривать глупца» <^...
Другой весьма показательный пример касается людей, которых
Энгельс называл титанами эпохи Возрождения, людей, активно уча-
ствовавших в мирских делах, стоявших в гуще событий своего вре-
мени, занимавших определенную позицию в борьбе политических,
художественных интересов. Но, вглядываясь в настроения и мнения
художников этой эпохи, мы не можем игнорировать факты, делаю-
щие период Высокого Возрождения в Италии в чем-то похожим на
период искусства в Германии или пушкинский период в России
XIX века.
Фигура великого художника Леонардо да Винчи вполне под
стать породе титанов, описанной Энгельсом. Действительно, трудно
превратить его в обитателя башни из слоновой кости. Он сильней-
шим образом связан с потоком исторической жизни, шедшим- в та
время через Италию. Но очевидно, что эта связь с действительно-
стью была у него довольно своеобразной, она не исключала чистого
художества в духе Гёте или Пушкина. Подобно Пушкину, Леонардо
был всецело устремлен к созданию в искусстве ясного, естественно-
го, прекрасного, воплощенного в простых, высокоартистических
формах. О Леонардо можно сказать, как о Пушкине, словами Бе-
линского: его муза — это прекрасная девушка-аристократка. Его
искусство, облеченное в тончайшую, совершенную форму, было
многими преградами отделено от народа. Ему было глубоко свой-
ственно стремление к поэтическому уединению, к позиции пушкин-
ского художника.
И вот мы видим, как Леонардо одиноким проходит сквозь пест-
рую общественную жизнь итальянских городов эпохи Возрождения.
Он не внушает доверия флорентийским республиканцам. В то время
как Боттичелли и другие живописцы примыкают к общественному
движению Савонаролы, гениальный Леонардо да Винчи, подобно
Гёте, занимается делами ничтожного миланского двора. Этот доктор
Фауст итальянского Ренессанса, занятый грандиозными проектами
каналов и машин, создатель «Тайной вечери» и «Джоконды», изо-
бретает изящную купальню для одной из владетельных дам. Вы-
ходец из республиканской Флоренции переходит на службу сначала
к миланскому герцогу, потом к более могущественному властителю
Чезаре Борджиа и, наконец, умирает во Франции, при дворе фран-
цузского короля. Великий художник, самоуглубленный, замкнутый
в своем одиночестве, сторонился общественных бурь эпохи, был
безразличен к тому, какому из властителей тогдашнего мира ему
приходилось служить. Всецело преданный искусству и наукам, он
достиг в них недосягаемого совершенства, но злоба дня, насущные
заботы момента не занимали внимания художника и ученого.
В рукописях, оставленных Леонардо, можно встретить свиде-
тельства испытанных им духовных противоречий. В его собственно-
ручном «Атлантическом кодексе» содержатся две басни. Одна из
них — о бритве, которая не пожелала брить «намыленные мужицкие
морды». Она закатилась в ящик стола, долго пролежала там, поте-
ряла блеск своей стали, свой сверкающий привлекательный вид и
255
стала никому не нужна. Это басня о необходимости деятельного
участия в жизни. Другая басня — о камне, который лежал одиноко
на склоне высокой горы среди мхов, в совершенном покое. Он ви-
дел, что внизу проходит дорога, вымощенная камнями, и ему захо-
телось оказаться среди своих собратьев. И вот он скатился вниз и
упал на проезжую дорогу. С той поры он испытывал все бедствия
своего положения: его топтали прохожие, дробили колесами тяже-
лые повозки. Это басня о том, что должен выносить человек, рас-
ставшийся с уединенной жизнью и оказавшийся среди толпы.
Таким сплетением противоречий Леонардо отличался от своего
младшего современника Микеланджело, который принимал горячее
участие в судьбах родной Тосканы, был патриотом, республикан-
цем, поборником блага Италии, с негодующим протестом служил
25g папе, который, хотя и давал ему возможность заниматься искус-
ством, в то же время жестоко стеснял ее. Это был человек беспри-
мерной творческой продуктивности, не созерцательного, как Лео-
нардо, но активного склада и практического темперамента. И тем не
менее в духовном облике Микеланджело мы также встречаем черты,
которые так поражают в Леонардо и напоминают то, что нам зна-
комо, хотя и в иной форме, по творчеству Пушкина или Гёте.
В своих сонетах, обращенных к восхищавшему его образу Данте,
в котором он видел прообраз самого себя, Микеланджело корит за
непонимание дантовской поэмы «неблагодарную чернь», неспособ-
ную ценить превосходное в искусстве, не расточающую похвал
только одному на свете — истинно высокому и справедливому. В дру-
гом сонете Микеланджело сетует, что истинное понимание дается
редко, но и тогда оно вынуждено таиться в глубине души от взоров
неистовой черни. Художник, который старается удовлетворить не-
вежд, а не собственное искусство, никогда не будет великим — та-
кие слова в духе воззрений эпохи приписывает Микеланджело один
из его современников.
Великий скульптор и живописец был самого скромного общест-
венного происхождения, но на основании каких-то ничтожных ге-
неалогических изысканий старался приписать себе дворянское до-
стоинство, окружал культом память своих предков, мечтал приобре-
сти в наследственное владение древний замок Каноссу, заботился
о том, чтобы войти в аристократическую среду. Старческие годы
Микеланджело прошли под знаком наступившей контрреформации,
были окрашены настроениями религиозного рвения.
Вполне в духе своих иллюзий Микеланджело, как рассказывает
его ученик Кондиви, заявлял, что искусством должны заниматься,
как в древности, люди благородного звания, а не плебейского. Эти
слова показывают, что Микеланджело не знал, какие люди занима-
лись искусством в античной Греции. Но они свидетельствуют и о
другой, более важной общей стороне дела, которую мы хотим прояс-
нить. Если подобным образом мог рассуждать такой могучий гений,
действительно всенародный, классический выразитель эпохи энер-
гичных, революционных устремлений в искусстве, как Микеландже-
ло, это показывает, что мы имеем дело не просто с характерной чер-
той воззрений века Высокого Возрождения, но с существенной об-
щей чертой всей философии классического искусства в целом.
Идея обособленного от общества искусства, замкнутого в совер-
шенной, исключительной по тонкости и изяществу форме, художе-
ственный аристократизм, противопоставление артиста народу, чер-
ни,— эти особенности миросозерцания классиков прошлого кажутся
препятствиями на пути понимания народности их искусства. Если
бы я захотел продолжить цепь примеров, доказывающих существо-
вание такой трудности, я легко нашел бы много убедительных под-
тверждений этого не только в искусстве Ренессанса, у Леонардо и
Микеланджело, не только у Гёте и Пушкина. Надо ли приводить в
пример Аристофана, воевавшего с афинским демосом, Эсхила и
Софокла, которых принято относить к аристократам, Шекспира с
его «Зимней сказкой», Мольера, Шиллера и других классиков?
Здесь для нас важно прежде всего то, что эти особенности ху-
дожественной классики резко отличают ее от того более демокра-
тического по своим задачам если не по своим формам искусства, ко-
торое преобладало в эпохи, следовавшие за классическими. Между
этим искусством и классикой проходит важная грань, разделитель-
ная черта, наблюдается разрыв, подчеркивающий противополож-
ность двух этапов. Творчество Леонардо и его учеников не менее
отличается от творчества сменивших их художественных поколений,
чем, например, пушкинский период в России от идеалов и устремле-
ний русских писателей и публицистов второй половины XIX сто-
летия. Конечно, художники, явившиеся позднее Леонардо и Микел-
анджело, принадлежали к совершенно иной артистической форма-
ции, чем наши художники-реалисты прошлого века. Но здесь я не
хочу сравнивать типы искусства двух столь различных эпох, меня
интересует сейчас только противоположность двух ступеней.
Очевидно, что проблема народности классического искусства,
искусства Фидия и Эсхила, Леонардо и Микеланджело, Шекспира и
Мольера, Гёте и Пушкина, того искусства, которое не подходит под
мерку, прилагаемую к открыто просветительскому, буржуазно-демо-
кратическому направлению литературы и изобразительного искус-
ства, требует иной оптики, иного рода объяснения, анализа иного
типа, представляющего собой искомую нами величину
Как же все-таки поступить с двумя столь отличными друг от
друга направлениями, двумя разными ступенями мирового искус-
ства? Возвращаясь к тому, о чем я говорил вначале, хочу вновь за-
дать вопрос: можно ли подвергать классических художников такой
операции, которой у нас подвергали Пушкина, когда пытались оты-
скать в нем признаки Некрасова? Можно ли задаться целью уви-
деть в Леонардо некоего предшественника живописи наших пере-
движников? Нет, подобная стилизация скроет действительную
проблему, не поможет разрешить ее, а лишь обойдет то поучитель-
ное, что заключается в народности Леонардо, Гёте, Пушкина.
Если они народны в своем искусстве, народны в глубоком смы-
257
еле, то это народность особого типа. Она не равна той народности,
которую имели в виду Белинский и Чернышевский, когда ставили
под сомнение народность Пушкина.
Белинскому и Чернышевскому были ясно видны задачи их вре-
мени, они хорошо понимали своеобразие пушкинского периода и
ставили вопрос так: в настоящее время, в сегодняшней борьбе
Пушкин имеет только художественное, а не практическое, револю-
ционное значение.
В наши дни, когда нам приходится решать тот же вопрос, мы
обязаны учитывать их позицию. Но мы не можем ограничиться их
взглядами, их оценками, не можем остановиться на них. Мы долж-
ны идти дальше. Надо постараться понять, нет ли в творчестве
Пушкина при всем его аристократизме, о котором писал Белинский,
258 нет ли в творчестве Микеланджело, Шекспира или Гёте такой глу-
бокой народности, которая может быть верно оценена только в
наше время, с точки зрения социалистической культуры.
2
В предшествующей части доклада моей задачей было показать,
что народность классического искусства прошлого не тождественна
народности в том смысле, какой вкладывал в это понятие Белин-
ский, говоря, например, о народности Кольцова. Народность высо-
кого искусства, аристократичного в своем формальном совершен-
стве— явление сложное, нелегко доступное пониманию. Во всяком
случае, в творчестве и мировоззрении художников этого типа мож-
но легко найти достаточно фактов, для того чтобы при желании тол-
ковать их искусство в духе его противопоставления народу, непо-
средственным народным интересам и потребностям.
Естественно, что такого рода факты давали пищу вульгарной
социологии. Ей нетрудно было использовать аристократическую по-
зицию Пушкина, его идею шестисотлетнего дворянства, его прямые
генеалогические предрассудки, его представление о художнике среди
враждебной ему черни, чтобы выдавать Пушкина за выразителя
своекорыстных интересов его класса. Таким же методом обрабаты-
вались и другие лучшие представители передовой духовной культу-
ры прошлого: ваятели античности, живописцы Возрождения, гении
драматургии и поэзии нового времени.
Само собою разумеется, я говорил об этом не для того, чтобы
согласиться с подобными выводами, встать на позицию отрицания
народности высокого классического искусства. Наоборот, я говорил
об этом, чтобы стало яснее своеобразие такого типа народности, ее
отличие от той суммы качеств, которые до сих пор служат у нас
основанием для причисления того или иного художника к категории
народных.
Поэтому теперь передо мной стоит задача — постараться пока-
зать, имеются ли вообще и в чем именно заключаются преимуще-
ства народности, понимаемой иначе, включающей иное содержание,
чем то, с каким мы имеем дело обычно. Тип высокой народности,
присущей творчеству Пушкина, Гёте, Леонардо, на самом деле
заключает в себе огромные преимущества, которые определяют вы-
сокое положение этих художников в нашем сознании, в нашей куль-
туре, делают их истинными представителями народного искусства
в его величии, в самом глубоком его понимании.
Чтобы уяснить эти преимущества, обратимся к некоторым срав-
нениям. В XVIII веке в Германии, во времена Гёте и ранее, суще-
ствовали писатели прогрессивные, буржуазно-демократического или
даже революционно-демократического направления. Они упорно бо-
ролись против религиозных предрассудков, суеверий, княжеской ти-
рании, боролись с аристократическим строем, его идеологией и куль-
турой. Словом, это были просветители. Если сравнивать их литера-
турную деятельность с поэзией Гёте, то, казалось бы, следовало
ожидать, что позиция этих писателей с точки зрения народности
их идеалов, их враждебности средневековью в делах и в мыслях
окажется выше, чем позиция Гёте. Действительно, у Гёте и Шилле-
ра многие мысли и чувства далеки от прогрессивных убеждений их
современников-просветителей, идеологов рождающейся буржуазной
демократии.
И все же общий взгляд на немецкую литературу этого столе-
тия сразу убеждает в том, что путь Гёте и Шиллера ц поэзии —
это путь к подлинной и высшей народности, к подлинной при-
частности к творческому духу народа, к его традициям и исто-
рии. Едва ли не вся немецкая литература XVIII века — нечто
чрезвычайно сухое, отвлеченное, подчас бесплодное, далекое от на-
родного понимания, рассчитанное на узкий круг грамотеев, ученых
людей литературного цеха, пусть прогрессивных, думающих в очень
передовом духе. В Германии XVIII век не имел поэзии в собствен-
ном смысле, ее поэты писали рассудочные, ученые произведения,
верифицировали в неподвижных, окостеневших формах на услов-
ном, неживом языке.
И только Гёте и отчасти Шиллер подняли поэзию немецкого на-
рода на общенародный уровень, утвердили ее национальный харак-
тер, прежде чем окончательно сформировалась сама нация, открыли
литературу для драгоценных источников фольклора и народной
фантазии, реабилитировали могучие образы средневекового про-
шлого, создали тонкую, одухотворенную лирику и песню на пре-
красном, простом и общезначимом языке. Я не говорю здесь о дра-
ме, эпосе, воскрешении форм античной поэзии на новой духовной
основе. Все это достигнуто Гёте и Шиллером вопреки тому, что в
своем мировоззрении, в своей жизненной позиции они отступали
от наследия Просвещения в сторону, казалось бы, антидемократи-
ческую, замыкались в своей артистической резиньяции. На самом
деле эпоха Просвещения, несмотря на ее демократические идейные
предпосылки, гораздо менее соприкасалась с телом народа, с народ-
ной мыслью и чувством, песнью и преданием, чем высокоартистиче-
ская классическая поэзия Гёте и Шиллера конца XVIII века.
259
Попробуем поставить рядом драмы Дидро и трагедии Шиллера,
и мы легко убедимся, что произведения немецкого поэта основаны
на много более широком историческом народном материале, чем дра-
матургия Просвещения. Возьмем роман XVIII века в сопоставле-
нии с реалистическим романом следующего столетия. Персонажи,
которых выводят Дефо или Филдинг — это тонко, не без абстракт-
ной морализации обрисованные образы, имеющие довольно
отдаленное отношение к народной жизни и социальной борьбе. Вос-
хищающие своим изяществом знатоков литературы, они кажутся
легкой игрой фантазии по сравнению с героями Бальзака или Стен-
даля. В романах Бальзака — этого лигитимиста и поклонника ари-
стократии— мы ощущаем жизнь грандиозных человеческих типов,
видим человечество, идущее своим неотвратимым путем через бес-
260 численные противоречия и трудности.
Леонардо да Винчи возвышается над чередой прекрасных живо-
писцев итальянского кватроченто, казалось бы, более близких, чем
он, к народной жизни. Такие художники, как Фра Анджелико или
Карпаччо, Пинтуриккио или Гирландайо, как многие их современ-
ники, отражали жизнь городов, маленьких итальянских республик
или княжеств, коммунальную жизнь цехов, носившую красочный
средневековый отпечаток. На их полотнах и фресках мы встречаем
дух городской демократии, ее типы, наполняющие улицы и площа-
ди, интерьеры мастерских художников и патрицианских домов, сце-
ны наивной набожности и чудес — словом все, чего нет у Леонардо,
но что принадлежало к демократической атмосфере эпохи.
Леонардо — артист, свободный от примитивных цеховых общест-
венных связей, художник, неподвластный канонам и предрассудкам
среды, над которой он поднялся. Мастер высочайшей артистической
формы, он оказывается во много раз народнее тех наивно-народ-
ных художников, чистых и простодушных в их обаятельном искус-
стве, которые предшествовали Высокому Возрождению. В Леонардо
мы видим, скорее, художника будущего, артиста грандиозных мас-
штабов, в чьих глазах ничто малое, красочное и интимное не засло-
няет масштабов большого мира, той глубокой исторической пер-
спективы, в которой находит свое место человек. Человек Леонардо
сбросил пестрые одежды средневековья, отверг печать сословности,
он прост и велик при всем своем аристократизме. Перед нами вы-
сокая простота, ставшая второй природой, естественным выраже-
нием человечности, народностью высшего порядка, присущей созда-
ниям классического искусства. В этом источник колоссальных преи-
муществ Леонардо перед лучшими художниками предшествовавшей
и отчасти современной ему эпохи.
Там, где Леонардо не впадает в трагическое одиночество, в дале-
ко заходящее противоречие со своей эпохой, он достигает величай-
шего равновесия и единства между аристократизмом и глубокой
простотой и народностью. Здесь та простота, о которой Пушкин
говорил, что на определенной ступени своего развития литература
приходит к естественному заключению — начинает пользоваться
языком честного простолюдина, а не отвлеченным, ученым языком
литературного клана
Но я должен продолжить мое сравнение с той целью, чтобы мы
увидели диалектику этого вопроса. Необходимо сопоставить худож-
ников Высокого Возрождения — Леонардо, Рафаэля, Микеландже-
ло — с еще более глубоким по времени слоем искусства, чем тот,
какой являют художники кватроченто — раннего Возрождения —
с их идеалами буржуазно-городской или патрицианской демократии.
Обратимся к той ступени искусства, от которой удалилось Возрож-
дение как от «дурной манеры». Искусству итальянской, немецкой
и других школ средневековья свойственна, пожалуй, еще большая
степень народности, чем художникам раннего Возрождения. В нем
есть нечто, что можно назвать безымянностью творчества, в нем
слышится бессознательный язык народа, художник еще не выде-
лился как индивидуальность из народной стихии, его творения —
это общее достояние, его песня анонимна, народна, коллективна.
Народность «примитивного» искусства полна глубоких противоре-
чий. Оно сковано веригами рабства, цепями покорности перед
вековечными образцами, перед «сплошным бытом», который держал
в плену массы людей.
Задумаемся над тем, как много народности в древнерусском ис-
кусстве. Нетрудно прийти к выводу, что народным содержанием оно
богаче искусства XVIII и XIX веков.Яне хочу преуменьшать его
художественное значение, его выразительную силу и своеобразное
величие. Но нельзя забывать, что безымянное искусство древнерус-
ских мастеров, так же как средневековое искусство Запада, слива-
ясь с народным сознанием своего времени, питалось всеми его
штампами и канонами, являлось по преимуществу искусством рели-
гиозным, голосом общей подавленности масс. Если здесь таился
своего рода демократизм, то он отражал демократию несвободы, как
называл это состояние Маркс.
А искусство Древнего Востока? Вульгарная социология развяз-
но возводила монументально-коллективистские художественные
формы Востока и средневековья в образец для искусства социали-
стического общества, игнорируя тот факт, что эти формы при всей
их близости к народным корням заключали в себе, как я уже отме-
чал, глубочайшее противоречие, которое было снято только искус-
ством, освобождающимся от рабских начал. Наиболее примитивное
религиозное искусство глубокой древности выступало, по существу,
как самое ненародное. Это звучит парадоксально, но несомненно,
что неразвитая, нераскрывшаяся народность, скованная узами угне-
тения, не прошедшая через культуру, через знание, исторически
сливается с антинародностью <С...^>
С диалектикой этих отношений приходится считаться. Подобно
тому как ранее мы доказывали противоположное положение о том,
что в творчестве и личности Гёте или Пушкина есть целый ряд осо-
бенностей, которые препятствуют признанию народности их искус-
ства, так теперь мы настаиваем на другом: мы доказываем, что на-
261
родность в ее обычном понимании как тесная, непосредственная
связь с народной стихией стоит на много ступеней ниже народно-
сти, присущей высшим классическим формам искусства в их пол-
ном, совершенном развитии.
Чем свободнее искусство от народности в примитивном значе-
нии этого слова, чем свободнее оно от узких, сковывающих рамок
исторического горизонта, тем полнее отвечает оно в своем высоком
артистизме конечным целям свободного человеческого развития,
высшим интересам человеческого рода, большого человечества, при-
ближаясь к социалистическому общественному идеалу, который мы
утверждаем в нашу эпоху. Леонардо — это пример художника, су-
мевшего в своем безверии, в своем свободном обращении с нормами
предшествующих ступеней искусства подняться на недосягаемую
262 художественную высоту, отвечающую потребностям большого чело-
вечества, человечества в широком родовом смысле этого слова, как
его понимают люди социалистических убеждений. Для каждой дан-
ной исторической ситуации разница между миром большого и миром
малого человечества, как бы ни была она относительна, объективно
существует
Что лежало в основе подъема искусства античной Греции, италь-
янского Высокого Возрождения? Разве демократия, составлявшая
предпосылку и почву этого расцвета, не была чрезвычайно узкой,
ограниченной? Известно, что это была демократия малой, обособ-
ленной части общества — рабовладельцев в первом случае, город-
ских буржуазных и патрицианских кругов — во втором, которые
развивали духовные ценности, культурные и материальные блага
за счет остального человечества, начинавшегося прямо за городски-
ми воротами. Подобно античным демократиям, которые жили за
счет покоренных народностей, за счет рабов, средневековые итальян-
ские города, мелкие республики и княжества существовали за счет
сельских массивов, за счет неразвитости окружающего мира, за счет
неимоверного разрыва в социальном и культурном уровне двух
миров. Большое человечество еще не заявляло о себе, его заботы и
чувства не достигали замкнутых городских демократий, не встреча-
ли у них ответа.
Высокое Возрождение разорвало этот замкнутый круг, правда,
в идеальном смысле, а не практически: сдвига в положении основ-
ных человеческих масс не произошло. Не была достигнута высшая
из доступных человечеству в прошлом форма слияния артистически
развитой культуры с народной основой, которая всегда присутствует
во всех человеческих делах, но полнее дает себя знать в немногие,
более счастливые моменты истории. С кульминацией Возрождения
высший артистизм и высшая народность совпадают, но развитие
этого единства сразу обнаруживает свою противоречивость. Куль-
тура этой эпохи оборачивается трагедией, потому что исторической
почвой и условием художественного расцвета остается угнетение
большинства. В сознании гениев Возрождения живет понимание
шаткости, проблематичности их идеала; отсюда ноты безнадежно-
сти и пессимизма, которые мы встречаем и у Леонардо, и у Микел-
анджело.
Для того и другого мир итальянских республик, мир малого че-
ловечества был слишком тесен и узок, они поднялись высоко над
его горизонтом, над изяществом наивной наготы и богатых одежд,
над праздничным блеском нарядов и убранства, изысканностью
поз и манер, составляющих очарование искусства великих худож-
ников кватроченто, каким был, например, Боттичелли. Художник
Высокого Возрождения освобождается от наивной и трогательной,
но в конце концов рабской привязанности к традиционным пра-
вилам ремесла, средневековые пестрота и путаница уступают место
закону прекрасной формы, интимный пейзаж сменяется грандиозной
картиной природы, окружающей человека, свободного от всяких
средневековых связей. Это искусство приобретает высокоартистиче-
ский и в такой же мере высоконародный, общечеловеческий ха-
рактер.
Можно сказать, что все то, что на этой ступени создает худож-
ник сверх эмпирически данного ему общественного материала, есть
уже гениальное предвосхищение, артистическая дедукция будущей,
более высокой народности. Это совершенно развитые художествен-
ное сознание и чувство, которые временами могут показаться бес-
почвенными, но которые именно в силу своей интенсивности дости-
гают кристальной простоты, становятся сгустком человеческой
культуры, им недостает лишь благоприятных исторических об-
стоятельств, чтобы глубоко войти в жизнь народа.
Сравним двух художников итальянского Возрождения — Гир-
ландайо и Леонардо да Винчи. Они современники, но первый отно-
сится к более ранней стадии искусства и более связан с городской
демократией Северной Италии. У Гирландайо мы видим сцены по-
вседневной жизни, внутренность обыкновенного жилища, кровать
роженицы, любовно и точно написанные бытовые детали, общест-
венные церемонии, толпу на площади — это сама народная жизнь в
своем непосредственном отражении. Ничего этого нет у Леонардо:
ни повседневного быта, ни семейных или уличных сцен. Его обви-
няли в холодности, в схоластическом интересе к совершенству фор-
мы. Но какая простота, даже бедность в произведениях Леонардо!
Мы не встретим у него ни роскошных одежд, ни изощренной ар-
хитектуры, ни пестрых узоров примитивной роскоши; его кра-
савиц не сопровождают грубоватые служанки, как разодетую
Джиневру Бенчи на известной фреске Гирландайо. Всюду реали-
стическая простота и скромность совершенного искусства, всюду
сам человек в своем простом, общепонятном виде, в сиянии прекрас-
ной народности <...>
Такие гении, как Леонардо, вопреки всем историческим препят-
ствиям ощущали огромные масштабы человечества, видели в нем
резервуар бесконечных творческих сил. Их искусство является под-
линным выразителем нравственного человеческого здоровья, что бы
263
ни пыталась приписывать творчеству Леонардо критика декадент-
ского толка, видящая повсюду ущербность.
Да, искусство Леонардо аристократично и вместе с тем глубоко
народно. Но в классовом обществе такое высокое развитие не могло
быть достигнуто даром. Оно требовало расплаты, и расплаты ско-
рой. Когда искусство в своем развитии достигает высокого нацио-
нального и всемирного уровня, переступает черту, отделяющую са-
мое честное, самое высокое ремесло от высшего, истинного художе-
ства, оно неизбежно теряет почву под ногами, вступает в противо-
речие с узкой общественной основой, из которой оно вышло, как бы
облекается в алмазную броню художественности, и мы слышим
горькие слова по адресу «черни». Произведения гениев, лучшие
творения искусства, сама артистическая активность великой эпохи
264 становятся добычей торговли, попадают в руки хищников и дель-
цов. Микеланджело, по словам Вазари, вырвал постройку храма
святого Петра из рук «шайки грабителей». Приблизительно таки-
ми же эпитетами награждал Пушкин литературных промышленни-
ков своего времени.
Путь Леонардо и Микеланджело — путь всего искусства Воз-
рождения. Освобождаясь от местной и цеховой, ограниченности, не
лишенной, однако, черт примитивного демократизма, искусство той
поры все более приближается к возникающим центрам абсолют-
ной власти, попадает в зависимость от папской курии и светских
князей
Эпохи классического искусства, слияния высшей художественно-
сти и народности, проходили в истории чрезвычайно быстро. Они
становились достоянием прошлого под влиянием их собственных
внутренних противоречий и заложенных в них трагедий. Период
Высокого Возрождения, период высшего подъема искусства был
краток и преходящ, как был краток и пушкинский период в России.
Итальянские художники Возрождения, как и раньше художники
Древней Греции времен утверждения Македонией своего господства
над античными общинами с их умиравшими свободами, пере-
живали глубокую трагедию столкновения с монархической вла-
стью, с преклонением перед иерархическим строем жизни, с угне-
тением и закрепощением огромных человеческих масс. Траге-
дией был переход Леонардо на службу от одного властителя
к другому, так же как была трагедией для Микеланджело его служ-
ба папе.
В истории классового общества такие переходы приобретали
катастрофический характер. В периоды эллинизма, маньеризма, ба-
рокко, последовавшими за эпохами высочайшего художественного
подъема, можно наблюдать признаки упадка, отхода искусства от
народности в ее высшем понимании, господства ложной виртуозно-
сти и внешнего артистизма, далеких от традиций простоты и клас-
сического величия. Художник, уже переставший быть средневеко-
вым мастером-ремесленииком, не мог оставаться и свободным
художником, то есть удерживаться в трудной, исключительной по-
зиции такого гения, как Леонардо; он становился королевским
пенсионером, членом придворного штата больших или малых вла-
стителей <...>
Задумаемся над положением Пушкина в России, при дворе. Ни-
колая I. Оно было во многих отношениях иным, но не менее труд-
ным и еще более трагичным. На службу придворной черни Пушкин
пойти не мог. В согласии со своими читателями, своей избранной
средой он находился только до середины своего короткого жизнен-
ного пути. Восторженная встреча, которую современники оказали
поэту в Москве по его возвращении из ссылки, была апогеем его
прижизненного успеха. Вслед за тем начинается разрыв с его об-
щественным кругом, как об этом с таким пониманием писал Белин-
ский, разгораются журнальные полемики с литературной кама-
рильей— прислужницей властей. Когда Пушкин создавал свои
самые зрелые, совершенные произведения, он жил в сознании пол-
ной отчужденности между истинными требованиями художествен-
ности, прекрасной артистической формы, которым он был предан
всей силой своего гения, и мнением широкой массы современников,
«толпы», и он открыто говорил об этом с чувством великой горечи
и самоотречения... Наш великий поэт — выразитель дворянской
демократии начала XIX века — глубоко сознавал историческую
ограниченность декабристского движения. Не правы те историки,
которые полагают, что они оказывают честь Пушкину, всецело
отождествляя его с декабризмом. Идейно он стоял ступенью выше
теоретических, программных убеждений декабристов, на основе
которых М. Покровскому было нетрудно доказывать, что декабри-
сты не революционеры. Покровский, конечно, заблуждался: декаб-
ристы были революционерами; в особых исторических формах, по-
дворянски, они выступали за дело народа, предвосхитив будущую
народную революцию. Пушкину история не дала возможности дей-
ствовать в согласии с его глубокими убеждениями. Отсюда у него
пессимизм и разочарованность, острая неудовлетворенность усло-
виями, которые стесняли его в искусстве, в литературной судьбе.
Такой человек, как Пушкин, не мог остановиться там, где вынуж-
дены были остановиться декабристы, он пошел дальше, иным, менее
иллюзорным путем углублявшейся оппозиционности царизму, оппо-
зиционности дворянской и аристократической, среди противоречий
нового, более сложного этапа истории России. И он пал жертвой
этих противоречий, убитый собственным классом в лице того верху-
шечного его слоя, который именовался «светом»...
Такова в ее реальных исторических выражениях трагедия исхода
классических эпох искусства, и затушевывать ее нельзя.
При всей относительности и схематичности предлагаемого деле-
ния я сделал бы такой вывод из изложенного до сих пор: суще-
ствуют три формы, три ступени народности в искусстве.
Во-первых, ступень примитивной народности, когда демократи-
ческие начала жизни, религиозные иллюзии, рабские тенденции под-
чинения идейному и социальному гнету настолько тесно сплетены
265
266
друг с другом в искусстве и одновременно с началами народной
фантазии, что различить их с полной ясностью невозможно. Эта
ситуация порождает не лишенные величия формы искусства, спо-
рящие с художественными формами последующих времен и столь
ценимые сегодняшним вкусом. В сплетении мифов, легенд, поверий,
фантазий и сказок этого искусства живет седое прошлое человече-
ства, заложена растущая из недр исторического быта народность
определенного, первоначального типа. Мы встречаем ее в искусстве
Древнего Востока, в глубоком западном средневековье, в древне-
русском искусстве. Она отлична от народности в леонардовском и
пушкинском смысле. Неразрывно связанная с жизнью масс, она
выражает их примитивное, неразвитое, угнетенное состояние. Это
первая ступень народности в искусстве.
Следующую ее историческую ступень можно назвать эпохой
классического искусства, искусства аристократической демократии.
Это ступень высших достижений художественной культуры, близ-
ких родовым интересам человечества. Она возникала в редкие мо-
менты истории, но оставляла след на века. Сюда можно отнести
искусство эпохи расцвета Древней Греции, искусство эпохи Высо-
кого Возрождения, поэзию периода искусства в Германии, дворян-
скую культуру пушкинского периода в России. На этой ступени мы
присутствуем при огромном прогрессе народности, однако дости-
гаемое здесь слияние совершенных артистических форм с народной
основой заключает в себе глубокое противоречие. Культура, покоя-
щаяся на рабстве, на угнетении, крепостничестве, капиталистиче-
ской эксплуатации, не бывает свободной. Об этом марксист не
может не помнить даже перед лицом наивысших достижений худо-
жественных способностей человечества. Аристократизм этой ступе-
ни искусства по необходимости двойствен, он говорит не только об
идеале художественного совершенства, но и о неизбежном в те вре-
мена условии высокого духовного развития, каким являлось угнете-
ние человека человеком. Мы уже отмечали, что эта историческая
ситуация порождала своеобразный пессимизм и резиньяцию, про-
низывающие все искусство высокой классики от Леонардо до Пуш-
кина. Такова вторая ступень народности в искусстве.
Но движение народности от ступени к ступени на этом не оста-
навливается. Наступает момент, когда с небывалой ранее силой
обнаруживается разрыв между народной жизнью и высоким искус-
ством. Складывается новая общественная ситуация, приходят но-
вые люди, сознающие историческую задачу соединения искусства
с народом на почве современной действительности. Они вступают
в борьбу от имени самого народа, его реальных материальных и
духовных потребностей за иную, иначе понимаемую народность.
В России это были разночинцы, в странах Западной Европы еще
ранее — представители третьего сословия, бюргерства. Образуется
третья ступень народности в искусстве <С...^>
Такая смена устремлений дает себя знать в истории на пере-
ломе общественного развития от феодального к капиталистическо-
му строю и происходит в целом в рамках буржуазного Просвещения.
В эту эпоху освобождение человека — социальное, личное, духов-
ное— совершается в форме буржуазной демократии. Оно носит на
себе по необходимости просветительскую печать.
Представление о новой ступени понимания народности могут
дать факты, которых я уже касался — отношение к Пушкину рус-
ской демократической критики середины XIX века. При всем вос-
хищении художественным совершенством пушкинской поэзии Бе-
линский в своих последних статьях и затем более определенно Чер-
нышевский ждали от искусства прежде всего революционного
содержания. Они исходили из сознания исторических задач народ-
ной жизни, и главной из них — уничтожения крепостного права.
Вообще говоря, Просвещение как образ мысли целой исторической
эпохи ставит нас на первый взгляд перед альтернативой: либо от-
бросить высокое искусство, либо расширить понятие народности,
которое у просветителей было еще недостаточно диалектическим
и гибким.
Прямолинейным, односложным ответом здесь не отделаешься.
Отвернуться от традиции просветительской мысли мы не можем,
хотя необходимость расширения рамок народности искусства в про-
светительском понимании для нас ясна. Этой дилеммы я уже
касался в первой части моего доклада. Здесь, чтобы полнее пред-
ставить себе значение того, что я называю третьей ступенью народ-
ности, необходимо обратить внимание на другие стороны дела.
Прежде всего просветительство на своем историческом пути да-
леко не было равно самому себе. Оно проходило разные фазы, и,
например, между просветителями XVIII века и русскими револю-
ционными демократами XIX лежала огромная дистанция. Револю-
ционные демократы питали недоверие к высшим формам художест-
венной классики пушкинского типа, но сами отступали от
абстрактной схемы передовых идей, которую им приписывали их
противники. В этом смысле у них были точки соприкосновения и
точки расхождения с их предшественниками в Англии, Франции,
Германии до французской буржуазной революции. Как принципи-
альные критики культуры и искусства, они не замыкались в узкой
сфере буржуазных интересов, они отстаивали интересы народа на
всех этапах исторического развития, не впадая, как оценивал их
позицию Ленин, ни в «романтические мечтания», ни в «фальшивую
идеализацию» *. Революционеры и демократы, они умели в своей
общественной и художественной критике становиться выше ходя-
чих просветительских предубеждений. Так, для них не составляло
тайны, что в сознании лучших представителей старой культуры
могли порой смешиваться передовые и консервативные черты.
В истории общественной мысли и художественного творчества
передовые, революционные идеалы редко находили прямое, непо-
средственное отражение. Отрываясь от вековых устоев старого об-
* См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 534.
267
щества, самые благородные умы прошлого еще не могли находить
в окружающей их действительности решения главных противоречий
человеческой истории. Это относится и к просветителям, и даже к
тем из них, кто принадлежит к высокой когорте революционных
демократов
Взятое в целом, за пределами круга революционно-демократи-
ческих идей, Просвещение было отмечено глубокими противоречия-
ми. На его счет существует немало превратных мнений. Полагают,
например, что просветители XVIII века были сплошь республи-
канцами, друзьями народа, атеистами. Это далеко не так. Среди
просветителей той эпохи были и республиканцы, и монархисты. Не-
которые просветители стояли, в сущности, далеко от народа, в их
мировоззрении давали себя знать даже антинародные черты.
268 И у Вольтера, и, как это ни странно, у Дидро можно встретить
свидетельства того, что они боялись народа, осуждали его, смотре-
ли на него без приязни. Вольтер считал необходимым и полезным
существование темных, неграмотных людей: кто бы иначе делал
всю черную работу? Дидро говорил, что он не встречал человека
более глупого и злого, чем человек из народа. Просветители
XVIII века далеко не были такими народными писателями, как
это принято считать. Во всяком случае, их книги — трактаты, сати-
ры, романы, драмы — не были столь же близки и понятны народу,
как была, скажем, классически ясная, открытая людям поэзия Гёте
или Пушкина.
Будучи сторонниками буржуазных форм жизни, прогрессивных
для той эпохи и отвечавших требованиям подъема широких слоев
народа, писатели-просветители не принадлежали, однако, к прямым
защитникам буржуазии — это глубокая черта исторического свое-
образия их воззрений. Многое отделяло просветительскую мысль
от идеологии имущей буржуазии — приверженцев свободной кон-
куренции. Отстаивая для народа новые буржуазные отношения и
формы жизни, просветители вступали в столкновение с новой бур-
жуазной финансовой элитой, обращались подчас за поддержкой
к аристократическим кругам, питали иллюзии о просвещенном мо-
нархе. Эти черты их взглядов марксистская литература нередко
оставляла в тени *<...>>
В истории общественной мысли марксистская литература обычно
выделяла одну сторону дела — борьбу прогрессивной буржуазии
против феодализма. Этот пример столкновения прогресса и реакции,
изложенный так ярко Плехановым (преимущественно на материале
Франции XVIII века), его подражатели распространили в качестве
схемы на всю мировую историю, вплоть до Древней Греции и Егип-
та. Повсюду искали прямого столкновения двух противоположных
начал. При этом прогрессивное начало наделялось чертами буржу-
азной демократии, исторического оптимизма, материалистической
философии, реализма в искусстве. Все остальное изображалось как
пережиток архаических и феодальных времен. Я не хочу сказать, что
эта схема совершенно неверна. В ней есть немало справедливого,
но она не находит полной, безоговорочной опоры в исторических
фактах. Столкновение прогресса и реакции выступает далеко не
всегда в таком ясном и чистом виде, как это можно было наблюдать
во Франции в XVIII веке. К тому же и в эту эпоху дело обстояло
гораздо сложнее.
Жан-Жак Руссо был наиболее радикальным из деятелей фран-
цузского Просвещения. Он находился в оппозиции к Вольтеру, Дид-
ро, энциклопедистам. Чем глубже становилась критика обществен-
ного неравенства в произведениях Руссо, тем более реакционные
ноты звучали в голосе этого плебея среди просветителей. Его обви-
нения против цивилизации, искусства и науки были своеобразным
толстовством XVIII века, в нем видят родоначальника европей-
ского романтизма. В отличие от других просветителей Руссо был
человеком религиозным, врагом атеизма. В этом он предвосхитил
идеи наиболее радикального крыла Конвента. «Мы не для того стре-
мились уничтожить царство суеверия, чтобы установить царство
атеизма»,— говорил в Конвенте Дантон. А лидер плебейского кры-
ла якобинцев Робеспьер тогда же произнес речь против безбожия,
во славу Верховного Существа. Робеспьер объяснял свое отноше-
ние к религии распространением религиозных верований в широких
массах народа и решительно осуждал «философов», то есть атеистов
и материалистов-просветителей. Бюст Гельвеция был вынесен из
якобинского клуба в Париже примерно в то самое время, когда
Екатерина II приказала удалить его из санкт-петербургского Эр-
митажа.
Известно, что материалисты и просветители подготовили бур-
жуазную революцию во Франции. Но по мере приближения к са-
мым драматическим моментам этой эпохи связь Просвещения и ре-
волюции становилась все более сложной, противоречивой. Мировоз-
зрение просветителей затемняется и тускнеет вместе с углублением
социальных конфликтов. Такова была запутанная духовная ситуа-
ция на вершине классической буржуазной революции <•••?>
Картина противоречий Просвещения в его конфликтах с феода-
лизмом, но одновременно и с имущей буржуазией, и с плебейской
массой в лице ее лидеров не могла пройти бесследно для великих
продолжателей Просвещения на русской почве — революционных
демократов XIX века. Их позиция, естественно, уже не несла на
себе печати стихийных идейных конфликтов, отражавших положе-
ние накануне французской революции, но отличалась тем не менее
большой независимостью. Лучшие люди нашей критики XIX века
поднимались над буржуазно-демократическим кругозором. Они со-
знавали, что времена изменились, обстоятельства жизни масс уже
не прежние, сами массы выросли и стало необходимым выражать
их требования и идеалы от их собственного имени. Но для этого
требовалась способность возвыситься над уровнем буржуазного
демократизма.
Представление классиков революционно-демократической кри-
тики о народности искусства, при всех его ограниченных чертах,
269
также не было столь примитивным и прямолинейным, как можно
подумать, если не попытаться глубже проникнуть в его смысл.
А для этого надо обратиться к их идеям о судьбах искусства в
прошлом и о его положении в современном мире.
Классикам передовой критики XIX века уже было известно,
что истина, измеряющая глубину художественного произведения,
не исчерпывается рамками мировоззрения художника, теми или
иными его взглядами; она раскрывается в более глубоком, конкрет-
но историческом плане как отражение художником известной сто*
роны жизни, определенной всемирно-исторической ситуации.
Белинский первый писал, что в новое время искусство и литера-
тура больше, чем когда-либо прежде, сделались выражением об-
щественных вопросов. «Это, разумеется, не могло не изменить
270 общего направления искусства во вред ему». Впрочем, вред этот он
объясняет не влиянием общественных вопросов, а тем, что писате-
ли заменяют реальность утопией, заставляя искусство изображать
мир, существующий только в воображении. Между тем верность
действительности есть первое требование, первая задача поэзии. Чи-
стое, отрешенное, безусловное или абсолютное искусство Белинский
отрицает. Но тут же допускает его возможность в произведениях
тех эпох, когда «искусство было главным интересом, исключительно
занимавшим образованнейшую часть общества», как, например,
итальянская живопись XVI века. Ее истинным предметом была
«красота как красота, больше в пластическом или классическом, не-
жели в романтическом смысле». Такова, например, мадонна Рафаэ-
ля, исполненная высшего артистического благородства. «Это дочь
царя, проникнутая сознанием и своего высокого сана, и своего лич-
ного достоинства»; во всем отчетливая, ясная определенность, окон-
ченность, строгая правильность и верность очертаний, изящество
кисти. И тем не менее, продолжает Белинский, классическое искус-
ство— искусство древних греков, Рафаэля, Шекспира, Гёте — нель-
зя считать абсолютным, то есть «независимым от других сторон
национальной жизни». «Шекспир все передает через поэзию, но
передаваемое им далеко от того, чтобы принадлежать одной по-
эзии». Характер классического искусства — идеальное равновесие
содержания и формы; в новейшем искусстве, удалившемся от клас-
сического идеала, важность содержания перевешивает важность
формы. И именно это составляет силу нового искусства, заключает
Белинский свое в высшей степени диалектическое рассуждение, как
будто противореча своей собственной посылке, но, по сути дела,
высказывая истину о природе нового искусства в отличие от высо-
кой классики прошлого <С...^>
В наследии русской демократической критики Плеханов выдви-
гал преимущественно одну из его сторон, а именно ту, которая де-
лала взгляды шестидесятников продолжением западничества —
исторический оптимизм, веру в прогрессивное значение европейских
форм жизни. Между тем наши великие мыслители — идейные пред-
ставители крестьянской революции в России, от Белинского и Гер-
цена до Чернышевского и Салтыкова-Щедрина,— сражаясь с остат-
ками средневековья, были, конечно, не только историческими опти-
мистами. В отличие от просветителей более заурядного типа они
принадлежали к скептикам буржуазной цивилизации. Скептицизм
Герцена был для него, по определению Ленина, формой перехода
от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к суровой
правде классовой борьбы *. Чернышевский и Добролюбов не пере-
жили духовной драмы Герцена, но и их отношение к иллюзиям бур-
жуазной демократии, к гимнам в честь цивилизации и прогресса
было скептическим, осторожным. Каждое достижение культуры,
каждое новое слово они старались проверить с точки зрения интере-
сов большой массы людей.
В борьбе идей своей эпохи ни тот ни другой не склонялся к за-
падничеству и не относился с безусловным пренебрежением и враж-
дебностью к славянофильству. Можно сказать, что они возвыша-
лись над крайностями этих двух воззрений, расколовших русскую
общественную мысль начиная с 40-х годов. Известны примиритель-
ные оценки славянофильства в статьях Чернышевского 50-х годов.
Ложность рассуждений славянофилов против европейской образо-
ванности для Чернышевского была ясна, но он не смешивал реак-
ционность славянофилов с вульгарной защитой угнетения и невеже-
ства. Эта позиция Чернышевского представляется особенно
многозначительной, если сравнить ее с враждебным отношением
мыслителя-революционера к либеральным разглагольствованиям
прогрессистов. По словам Ленина, Чернышевский был «замечатель-
но глубоким критиком капитализма, несмотря на свой утопический
социализм» ** <...>
Особенно примечательна позиция Добролюбова, который считал
славянофильские увлечения великого драматурга Островского его
ошибкой, имевшей, однако, относительное значение на фоне разно-
гласий между сторонниками западничества и славянофильства. Как
подлинный художник Островский стоял, в глазах Добролюбова,
выше этих журнальных раздоров. Островский-художник, считал
Добролюбов, отражал реальную жизнь во всей ее полноте, а жизнь
знает глубокие противоречия, содержит различные стороны. Даже
там, где, повинуясь славянофильским увлечениям, Островский ре-
шает изобразить в положительном свете старые формы жизни в
противовес новейшим соблазнам европейской культуры, его художе-
ственное чувство реальности превращает это намерение в нечто про-
тивоположное, а именно в разоблачение дикости и самодурства.
Вместе с Островским-художником Добролюбов признает только
один критерий: требование правды, верного отражения народной
жизни, ее реальных потребностей. Все остальное представляется
критику менее существенным. С этой точки зрения он осуждает
всякое проявление либеральной маниловщины, независимо от того,
271
* См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 21, с. 257.
** Там же, т. 25, с. 94.
впадает ли она в преклонение перед образованным Западом или в
прикрашивание «устоев» старины.
Осторожнее и скептичнее других своих единомышленников был
последовательный революционный демократ Салтыков-Щедрин.
Щедринская книга «За рубежом» — это картина, как бы созданная
пером Свифта, замечательная характеристика Третьей республики
во Франции как республики без республиканцев, с гниющей бур-
жуазией, публичным лицемерием и склоняющейся к упадку литера-
турой. Перспектива превращения русского Мальчика без штанов
в благовоспитанного западного Мальчика в штанах, готового про-
даться за грош, если эта продажа совершается по закону, мало
утешает великого сатирика. И вообще, утешает ли история? Пи-
сатель исполнен глубокой веры в лучшее будущее человечества, то
272 есть в социализм, но сам как художник предпочитает ставить себя
в положение среднего человека — жертвы отсталости и застоя, муче-
ника прогресса. Голосом такого человека, с которого история «сди-
рает кожу», он предупреждает читателя: «Дело в том, что история
дает приют в недрах своих не только прогрессивному нарастанию
правды и света, но и необычайной живучести лжи и тьмы. Правда
и ложь живут одновременно и рядом». При этом первая, добавляет
Щедрин, пока еще слабо защищена, а вторая снабжена всеми сред-
ствами самозащиты. Великий сатирик хорошо знал, насколько отно-
сительна прогрессивность буржуазного строя жизни. И это делает
совершенно понятным его отношение к вульгарным носителям идеи
прогресса. «Прогрессист,— писал он,— такой же идеолог, как и кон-
серватор или ретроград, и душа его так же мало откликается на
дело, как и душа самого заскорузлого ханжи-обскуранта». В этих
словах звучит настороженность реально мыслящего революционера
по отношению к поверхностной риторике свободолюбия, под фла-
гом которой скрываются вновь испеченные формы векового рабства.
Художественная взыскательность и суровая объективность при-
ближают Салтыкова-Щедрина, с одной стороны, к той критике либе-
рализма и его фразеологии, которая играет такую важную роль
в ленинизме, а с другой стороны, к высшим образцам художествен-
ности в повествовательной прозе, без дидактики, без морали.
Да, русские революционные демократы вели борьбу и против
старого, и против нового зла, и высшим критерием для них были
интересы народа. Сохраняя эту независимую позицию, они объек-
тивно, спокойно оценивали относительные преимущества и недостат-
ки западников и славянофилов, историческую роль дворянства и
буржуазии, средневековья и нового времени, классического и нового
реалистического искусства. Именно эта черта независимости воззре-
ний поднимала Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Некра-
сова, Салтыкова-Щедрина на уровень величайших представителей
мйровой культуры — греческих классиков, Шекспира, Бальзака,
Пушкина, Гёте. Они боролись за народность искусства, подобно
тому как в XVII веке брролись за сохранение высокой народности
Возрождения через ее отрицание, переработку и воскрешение вели-
кие живописцы Рембрандт, Веласкес или Рубенс; подобно тому как
великие народные писатели-реалисты России (Гоголь, Тургенев,
Толстой) или как живописцы-передвижники, Репин, Суриков
стали преемниками и продолжателями высокой народности пушкин-
ского масштаба. В этом смысле русские критики и писатели-демо-
краты, от Белинского и Герцена до Чернышевского и Щедрина, со
своей стороны также были действительными продолжателями в но-
вых исторических условиях дела Пушкина, всего классического эта-
па национального и мирового художественного и умственного раз-
вития вопреки тем оговоркам, которые они сами по этому поводу
высказывали
Высокий русский реализм XIX века, воплощенный в романе,
имел множество точек соприкосновения с революционно-демократи-
ческой критикой, несмотря на разногласия, разделявшие деятелей
двух течений. Реалистическая русская литература с ее мудростью,
ее поэтической справедливостью была широким зеркалом, отразив-
шим все главные стороны жизни. В этом зеркале мы можем уви-
деть просветительство и просветителей такими, какими они были
в гуще действительности, не в образах великих умов своего време-
ни, о которых я говорил раньше, а в облике рядовой народнической
интеллигенции, тех нигилистов, которые напоминали людей типа
Писарева. В прекрасном романе Тургенева выведен Базаров — про-
светитель абстрактных, предвзятых убеждений. Глаз художника-
реалиста увидел, насколько далек от народа этот человек, показан-
ный с объективностью и не без человеческого сочувствия. В «Отцах
и детях» есть сцена, говорящая о горечи отношений просветителя
и народа. Вот эта сцена:
«Иногда Базаров отправлялся в деревню и, подтрунивая по
обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну,—
говорил он ему,— излагай мне свои воззрения на жизнь, братец:
ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России, от вас начнется
новая эпоха в истории,— вы нам дадите и язык настоящий и зако-
ны». Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде
следующих: «А мы могим... тоже, потому, значит... какой положен
у нас, примерно, придел».— «Ты мне растолкуй, что такое есть ваш
мир?—перебивал его Базаров,— и тот ли это самый мир, что на
трех рыбах стоит?»
— Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах,— успокоительно,
с патриархально-добродушною певучестью объяснял мужик,—
а против нашего, то есть, миру, известно, господская воля; потому
вы наши отцы. А чем строже барин взыщет, теМ милее мужику.
Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно по-
жал плечами и отвернулся, а мужик побрел восвояси.
— О чем толковал?—спросил у него другой мужик средних
лет и угрюмого вида, издали, с порога своей избы, присутствовав-
ший при беседе его с Базаровым.— О недоимке, что-ль?
— Какое о недоимке, братец ты мой!—отвечал первый мужик,
и в голосе его уже не было следа патриархальной певучести, а, на-
273
против, слышалась какая-то небрежная суровость,— так, болтал
кое-что; язык почесать захотелось. Известно, барин; разве он что
понимает?
— Где понять!—отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками
и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и
нуждах. Увы! презрительно пожимавший плечом, умевший гово-
рить с мужиками Базаров (как хвалился он в споре с Павлом Пет-
ровичем), этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он
в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового...
Эта горько-комическая сцена стала темой, пронизавшей все
творчество Толстого. И Тургенев, и Толстой говорят о том, что они
почерпнули из жизни: просветительство еще далеко от народности,
в нем еще немало барства, самоуверенности, покровительственного
274 снисхождения к народу. Повторяю, что я не имею, конечно, в виду
великих критиков — революционных демократов. Просветительство
имело свою поросль Базаровых, и именно она, очень показательная
для идейного характера направления, запечатлена художниками-
реалистами. Их произведения помимо субъективного намерения
авторов доказывают, что народничество — это еще не народность,
учат понимать необходимость иного, более глубокого, подлинно
народного подхода к вопросам народной жизни, который позднее
стал подходом русского пролетариата, руководимого партией Лени-
на
Критика вульгарно-социологического толка противопоставляла
Пушкина просветителям как революционному направлению мысли.
Авторы, пишущие сегодня, поступают наоборот: всячески сближают
Пушкина с просветительством, думая, что таким образом возвыша-
ют его художественное и общественное достоинство. Напрасно они
прилагают свои усилия, Пушкин не поддается такой обработке.
Просвещение отчасти послужило почвой, взрастившей молодого
Пушкина, но его точка зрения всегда выше просветительской, а его
поэзия вообще несоизмерима с этим образом мысли.
Не поддается обработке в духе буржуазного демократизма так-
же Гейне — великий поэт и критик, объявивший законченным и
ушедшим в прошлое период искусства в Германии. Гейне по складу
своего гения приближается к типу классика. Опираясь на преиму-
щества, которые давала ему прогрессивно-демократическая точка
зрения, он сумел возвыситься над мещанским горизонтом буржуаз-
ной демократии, отвергнуть ложное пустомыслие и фразеологию
свободолюбия. В своей «Лютеции» он пишет:
«Что есть высшее в искусстве? То же, что является высшим и
во всех других проявлениях жизни: сознательная свобода духа.
Не только на музыкальную пьесу, возникшую из полноты этого са-
мосознания, но даже и на исполнение ее можно смотреть как на выс-
шее в искусстве, если мы чувствуем это дуновение бесконечности;
ибо оно явно свидетельствует, *что исполнитель стоит на той же
ступени высокой духовной свободы, что и композитор, что он тоже
свободен. Да, это сознание свободы искусства особенно сказывается
в обработке, в форме, а отнюдь не в теме, и мы, напротив, можем
утверждать, что художники, которые избирают своим предметом
свободу, бывают людьми с ограниченным скованным духом, людьми
несвободными. Это замечание находит себе сейчас особое подтверж-
дение в немецкой поэзии, где самые необузданно-мятежные певцы
свободы, если их рассматривать на свету, предстают к нашему ужа-
су большей частью лишь как ограниченные натуры, филистеры, чьи
косы выглядывают из-под красных колпаков, мухи-однодневки, о
которых Гёте сказал бы:
Мухи-дуры с зудом рьяным
Гордо ринулись в полет,
Чтоб мушиный свой помет
Сеять на носы тиранам.
Истинно великие поэты, выражая великие интересы своего вре-
мени, никогда не пользовались такими средствами, как рифмован-
ные газетные статьи, и их мало тревожило, что рабская толпа, гру-
бость которой им противна, упрекала их в аристократизме».
Это замечательное рассуждение направлено против немецких
политических лириков типа Гервега, приобретших популярность
накануне революции 1848 года в Германии. Гейне называет их
неистово-мятежными певцами за их бурные рифмованные излия-
ния о свободе, в которых было больше популярного краснобайства,
чем подлинной близости к народу. Маркс относился чрезвычайно
осторожно к подобным певцам свободы, окружавшим его в эмигра-
ции, где они обнаружили свое лицо узколобых филистеров. С го-
раздо большим уважением и симпатией Маркс относился к Гейне,
несмотря на всю непоследовательность его взглядов. Гейне и сам
сталкивался с этой эмигрантской демократией, состоявшей из «пере-
довых» мещан, тип которых он обессмертил в своей поэме под име-
нем медведя Атта Троля. Таких людей в приведенном отрывке Гей-
не награждает насмешливым четверостишием в подражание стихо-
творным изречениям старого Гёте.
Высказанная Гейне мысль поднимает его высоко над уровнем
буржуазной эпохи, ставит его в ряд с Гёте, сближает с позицией,
которую занимал Пушкин, когда обращался мыслью в своей поэзии
к художнику среди окружавшей его мещанской толпы, готовой само-
довольно снизойти к поэту со словами:
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.
Истинно великие поэты, действительно выражающие главные
интересы своего времени, выступают, по словам Гейне, носителями
сознательной свободы духа как высшего проявления жизни, выте-
кающего из полноты самосознания. Таких поэтов мало тревожит
то, что рабская толпа упрекает их в аристократизме. Эту позицию
художников-классиков, прежде всего Пушкина, я назвал аристокра-
275
тической, но меня поняли бы неверно, если бы эту черту их миро-
воззрения толковали в предосудительном смысле, как выражение
социального предрассудка. В действительности речь идет о дру-
гом — о народности исторической позиции классиков прошлого, на-
родности, понимаемой широко, в высоком гуманистическом значе-
нии, как результат процесса формирования индивида в интересах
рода. Такой процесс представляет собой, по словам Маркса, «разви-
тие богатства человеческой природы как самоцель»* <С...^>
3
В третьей части доклада я намерен рассмотреть тот же вопрос
о народности, но с другой его стороны, с точки зрения борьбы
276 классов и ее отражения на положении искусства. Сегодня многие
полагают, что если искусство народно, то классовая точка зрения
излишня, теряет всякое значение, может быть отброшена. Другие,
предпочитая застраховаться, относят ссылки на классовое содержа-
ние литературы в примечания, превращая их в бесполезные довески,
пустой предлог для ухода от действительного классового анализа.
Как видно по сочинениям многих авторов, твердящих зады вуль-
гарной социологии, отнести классовую борьбу в примечания — еще
не значит избавиться от вульгарно-социологических взглядов.
Очень важно дать ясный ответ на вопрос: какое значение для
интерпретации искусства имеет теория классовой борьбы — один
из основных элементов марксистского учения об обществе? При-
менима ли она вообще к вопросам искусства? Мы исходим из того,
что теория классовой борьбы должна играть роль орудия исследо-
вания, а не служить для отговорок или самостраховки, должна да-
вать критерий научного анализа. Здесь необходима полная ясность.
Либо теория классовой борьбы в истории литературы и искусства
ничего не решает, либо необходимо найти верный путь анализа
фактов этой истории в свете борьбы классов, как этого требует
изучение всех общественных явлений.
Ответ для нас не вызывает сомнений. Народность в искусстве
нельзя рассматривать вне реальной классовой борьбы. Понимае-
мая исторически, она не может быть вырвана из картины этой
борьбы; напротив, она объяснима только из диалектики обществен-
ных отношений, складывающихся в классовых конфликтах. Вуль-
гарная социология исходила не из действительной борьбы классов
в истории, а из каких-то схваток и склок в верхах обществен-
ной пирамиды. Мы же подчеркиваем, что главные противоречия
классовых позиций проявляются не в этой верхушечной сфере.
В марксистском понимании классовая борьба не есть слепая
потасовка интересов и психоидеологий. В ее основе лежит то, что
имеет прямое отношение к главному содержанию каждой историче-
ской эпохи, к судьбе общественных низов, широких человеческих
* Маркс К.. Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 2, с. 123.
масс, их борьбе против экономического насилия, социальной не-
справедливости. Классовая борьба может быть верно понята в
своем истинном значении лишь в перспективе конечного исхо-
да исторического дела рабочего класса — победы диктатуры
пролетариата, уничтожения классов, строительства социализма в
союзе с основной массой народа. Все это далеко от вульгарного
антиисторического представления о хищничестве разных прослоек,
истребляющих друг друга в борьбе за свои мелкокорыстные цели.
Классовую позицию великих художников прошлого невозможно
рассматривать помимо их отношения к основным проблемам каждой
исторической эпохи.
Многим нашим авторам ссылки на классовую принадлежность
Шекспира или Пушкина нужны только для доказательства их огра-
ниченности. Но разве Шекспир и Пушкин состоят из одних огра-
ниченностей? Разве Пушкин-художник может быть сведен к тем
следам и отпечаткам, которые наложила на него принадлежность
к помещичьему классу? В противовес этим ложным взглядам, уже
разоблаченным в дискуссиях последних лет, мы утверждаем, что
высокое искусство народно, что оно не принадлежит эксплуататор-
ской верхушке общества, не несет на себе всецело ее печать. Но мо-
жем ли мы при этом утверждать, что искусство всегда стояло по
правую сторону баррикады, то есть что оно вместе с народными ни-
зами всегда стояло на стороне массовых движений, против эксплуа-
тации? Нет, конечно, такого простого ответа дать нельзя. В дискус-
сии с вульгарной социологией перед нами ставили этот вопрос в
такой прямолинейной форме: если Пушкин народен, то значит ли
это, что он представлял интересы крестьян нерабочих? Вы хотите
рассматривать искусство с точки зрения борьбы народа против угне-
тателей? Докажите сначала, что Пушкин был идеологом крестьян-
ства, а не такой-то прослойки дворянства и т. д.
Мы, конечно, никогда не ставили перед собой задачу доказать,
будто все высокое искусство прошлого выражало интересы рабочих
и крестьян. Такой насмешки над диалектикой истории позволить
себе никто бы не мог. Можно сказать, что это искусство только в
конечном счете принадлежит рабочим и крестьянам в силу своей
народности, которую мы уже старались обрисовать.
Действительная проблема заключается в том, что высокое искус-
ство прошлого, искусство по своему значению народное, создавали
художники, принадлежавшие не к народу, а к господствующим клас-
сам, связанные с этими классами по своему воспитанию и положе-
нию в обществе. Если даже это были люди, вышедшие из народа,
то господствующий класс так или иначе ассимилировал их, подчи-
нял их своей системе воспитания, поскольку другой системы не
существовало, делал их частью своего культурного бытия. С одной
стороны, высшие достижения искусства по своему смыслу и значе-
нию народны; с другой стороны, известно, что искусство отделялось
от народа, развивалось вдалеке от него, искало своего пути к народу
через множество преград и препятствий <^...>
277
Эта реальная антиномия в положении искусства возвращает нас
к вопросу: было ли вообще возможно народное по своему значению
искусство, раз оно не существовало в прошлом как идеология наро-
да— крестьян и рабочих? Если же идеологи народа выходили из
дворянства или буржуазии, то как примирить классовый анализ
с народностью?
Решением этих противоречий, как и всех других общественных
противоречий, является история. История литературы и искусства
со всеми ее своеобразными положениями содержит решение проти-
воречий между народной основой высокого искусства и тем обстоя-
тельством, что культура принадлежала господствующим классам,
была их монополией, а великие художники не имели возможности
развивать и выражать свои гениальные дарования иначе, чем живя
278 жизнью господствующего класса, представляя собой какую-то его
особую ипостась. Таково было реальное положение в истории.
Что же из этого следует? Мы можем сказать, что Некрасов —
поэт, отразивший непосредственно чаяния, интересы разночинства,
крестьянства. Но как быть с Пушкиным? Ложно и неправомерно
рассматривать его с одной точки зрения, только в одной перспекти-
ве— как предшественника Некрасова или Льва Толстого. Пуш-
кин — «солнце русской поэзии» — был связан с дворянством всем
своим мировоззрением, культурой, образом жизни, любил эту
жизнь, знал в ней вкус и толк и никакими свойствами своей поэзии,
своих взглядов, своей личности не похож на людей эпохи Некрасо-
ва, Толстого, Достоевского, Чернышевского. Это совсем другой тип
художника, ценимый последующими поколениями, но от них глубо-
ко отличный. Как можно понять Пушкина без его аристократизма?
Между тем эта его особенность требует объяснения, так же как
объяснения требуют проявления монархизма, выступающие в пара-
доксальной форме в его воззрениях. И, несмотря на все это, в пози-
ции Пушкина было больше подлинного демократизма, чем в про-
граммной прогрессивности либеральной части тогдашнего общества.
Такой анализ мудрости Пушкина до сих пор еще не сделан <С...^>
Пушкин, так же как в близкую к нему эпоху Бальзак, относился
критически, неприязненно к прогрессистским идеалам современной
буржуазии, ее либеральным и демократическим течениям, чуждым
подлинно народным стремлениям. Об этом ясно говорят пушкин-
ская оценка американской демократии, английской фабричной си-
стемы, отвращение Бальзака к современным ему прогрессивным
буржуазным порядкам, его лигитимистские предубеждения. Были
ли эти писатели народными? В обоих случаях перед нами во весь
рост возникает противоречие между народностью творчества и
классовой позицией — черта заметная и неустранимая в духовном
облике великих художников и отдаленного, и более близкого про-
шлого
Марксистское положение о том, что такие гении, как Бальзак,
Пушкин и другие, равные им по масштабу, были великими худож-
никами вопреки своим классовым предрассудкам, совершенно верно.
Оно приобрело сегодня широкое гражданство в нашем обществен-
ном сознании. В творчестве Бальзака Энгельс видел одну из вели-
чайших побед реализма в искусстве между прочим потому, что пи-
сатель вынужден был идти против собственных классовых симпатий
и предрассудков. О Пушкине можно с таким же правом сказать, что
он был великим народным поэтом вопреки своим дворянским пред-
рассудкам, что эти предрассудки, хотя и были прочно в нем укоре-
нены, не застилали перед его духовным взором широкого историче-
ского, народного горизонта, ясного образа современного мира.
И тем не менее эти его предрассудки сбрасывать со счетов нель-
зя. Сталкиваясь с формирующимся буржуазным строем жизни, бур-
жуазной культурой XIX века, Пушкин обращался за поддержкой
против этих движений к трону, к просвещенному дворянству, веря,
что такое решение лучше отвечает народным интересам, нежели
власть множества мелких эгоистичных господ, финансовых тузов и
прочих стяжателей из числа нового барства. Подобное отношение
к монархической власти не должно вызывать удивления. Энгельс
указывал на аналогичное двойственное положение, которое занима-
ли в истории, например, принципы буржуазного права. Как отмече-
но Энгельсом в «Анти-Дюринге», буржуазное право представлялось
в истории в двух разных видах, как бы в двух редакциях — народ-
ной и буржуазной. Народные массы были на стороне права и ра-
венства, провозглашенных буржуазией во времена французской
революции, поскольку они видели в них выражение равного права
каждого на продукты своего труда. Буржуазия же отстаивала юри-
дическое правовое равенство потому, что без него не были бы воз-
можны контракт капиталиста с рабочим и, следовательно, возраста-
ние капиталистической прибавочной стоимости. Это были в опреде-
ленных исторических условиях две разные редакции буржуазных
форм жизни — одна демократическая, народная, другая реакцион-
ная, сугубо частнособственническая.
Тот же критерий различия двух редакций общественной жизни
может быть применен и к дворянской эпохе. С одной стороны, су-
ществовала культура дворянской демократии — декабристская
культура; с другой стороны, выступали противоположные дворян-
ские интересы, дворянские формы жизни, собственности и власти,
представленные Николаем I, его министрами Бенкендорфом, Уваро-
вым и другими. Революционная деятельность декабристов взрывала
их классовую дворянскую ограниченность. Формула «вопреки
классовым предрассудкам» применима и здесь
Противоречие между методом и мировоззрением, о котором се-
годня принято много писать в журналах, существует не только в
литературе, оно проявляется в самой истории. Якобинская дикта-
тура была плебейским методом осуществления буржуазной рево-
люции. Казалось бы, революцию совершает буржуазия. Но с точки
зрения* марксизма каждое такое движение может заключать в себе
две тенденции, две возможные формы, которые мы условно назвали
редакциями. Метод действия мог, как при якобинской власти, слу-
279
жить выражением решительной плебейской формы борьбы за требо-
вания, отвечавшие интересам народа на определенной, историче-
ски обусловленной ступени. Между тем идеологическая сторона
движения, его сюжет, или мировоззрение, могла быть в разрыве
с методом, как происходило, например, с фразами об устоях бур-
жуазной демократии — формальном равенстве и собственности в
устах вождей французской революции. Метод осуществления был
несравненно сильнее, реалистичнее сюжета — мировоззрения.
Такие раздвоения путей развития встречаются во всей прежней
истории. Они характеризуют не только эпоху буржуазной револю-
ции, в которой мы уже давно привыкли различать демократическое
и либеральное течения. Но и в более ранние эпохи, в эпохи Лео-
нардо или Пушкина, в какой-то очень противоречивой, своеобразной
280 форме выступала разница между двумя путями развития, двумя
редакциями одних и тех же общественных отношений. Такая разни-
ца существовала между двумя формами дворянской культуры: ре-
волюционной и демократической, представителями которой были
по-разному, на свой особый лад и декабристы, и Пушкин,— и дво-
рянско-помещичьей, крепостнической формой культуры, вернее
некультурности, которая стояла на страже эксплуататорских инте-
ресов своего класса. То обстоятельство, что эта разница бывала
иногда относительной, не делает ее менее важной и существенной.
Именно она делала возможным, что люди, разделявшие в той или
иной мере классовые предрассудки своего времени, выступали в
качестве великих художников, великих реалистов в искусстве <С...}>
Говорят, что Пушкин был дворянин. Что ж из того? — рассуж-
дают некоторые авторы. Ведь дворянство было прогрессивным, оно
выступало хозяином и организатором общества, стояло во главе об-
щества. Можно, разумеется, сказать, что это было прогрессивным
в какой-то очень относительной мере. Даже министры Николая I
предпринимали кое-какие административные акции, касавшиеся
крестьянского вопроса. Но стать на подобную апологетическую точ-
ку зрения значило бы опуститься до уровня вульгарной социоло-
гии. В несравнимо большей мере была прогрессивной та борьба,
которую вели против дворянского самодержавно-деспотического по-
рядка другая часть дворянского класса, иного типа русские дворяне.
Две линии развития, две редакции дворянской жизни — одна
демократическая, другая реакционная — отчетливо выявились в ни-
колаевскую эпоху внутри дворянского класса. И Пушкин, и рево-
люционеры-декабристы отличались от дворян, окружавших трон
Николая I, свободой и независимостью своей дворянской позиции.
Поэтому смысл классового анализа должен состоять в том, чтобы
уметь различать среди представителей одного класса противополож-
ные течения, две различные тенденции. Их борьба между собой
также есть классовая борьба. Все противоположности в истории су-
ществуют только в масштабах и пределах своего времени. Но они
достигают порой величайшей остроты, часто не в открытых, а в
подспудных, иногда тайных формах борьбы, вдруг выступающих на
свет дня. Такова непримиримая противоположность между дворя-
нином Пушкиным и теми дворянами, которые довели его до траги-
ческой гибели <...>
Среди людей, действующих в определенную эпоху, мы разли-
чаем тех, кого Маркс называет носителями свободного духовного
производства данной общественной формации в отличие от идеоло-
гических составных частей господствующего класса. Мы помним
слова Ленина о том, что абсолютно свободного духовного творчества
в классовом обществе нет и быть не может *. Однако относительная
свобода творчества, относительная, но объективная разница между
людьми, способными действовать творчески бескорыстно, и людь-
ми, прямо защищающими интересы господства своего класса,—
такая разница существовала во все времена. И она не могла не су-
ществовать, ибо без этого не было бы мировой культуры, не было
бы искусства Леонардо да Винчи, Шекспира, Гёте, Пушкина, всей
высокой художественной классики прошлого.
Выходит, что заключение, к которому мы приходим, должно
состоять в том, чтобы установить две ступени классового анализа.
Первая, начальная, дает ответ на вопрос о том, какие взгляды раз-
деляет художник, каков классовый сюжет его мировоззрения. Со-
циально-исторически это измеряется отношением данного художни-
ка к вопросам собственности и власти — других критериев принад-
лежности к определенному общественному классу марксизм не
знает. Если с этой точки зрения подойти к Пушкину, то его привер-
женность принципу дворянского строя вытекает с очевидностью из
его творчества и его собственных признаний. Опыт истории, ход
современных событий приводят его к убеждению в неизбежности
монархической власти в России. Такой была его позиция, во всяком
случае в годы зрелости, и отрицать это невозможно (что не ума-
ляет пушкинской непреклонной дворянской оппозиционности деспо-
тии самодержавия).
Но здесь мы находимся лишь на первой, элементарной, ступени
классового анализа. Буржуазная социология, включая и нашу вуль-
гарную, никогда не шла дальше этой ступени, дополняя «на глазок»
свои выводы разными определениями прослоек, будто бы отвечав-
ших позиции художника: капитализирующееся дворянство (для
Пушкина), старая буржуазия или промышленная буржуазия (для
Бальзака) и т. п. Ничего серьезного, никаких исторических основа-
ний в этих делениях не было. И вообще, сколько бы прослоек ни
нагромождать, ни Бальзак, ни Пушкин, ни любой другой из круп-
ных представителей классического искусства не может быть сведен
без остатка, без оговорок к идеологии своего класса или прослойки.
Если бы это было возможно, то никто и никогда не мог бы показать
в верном историческом освещении разницу между Пушкиным, с од-
ной стороны, и дворянскими министрами Николая I или светской
придворной чернью этой эпохи — с другой <...>
281
* См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 103—104 или прослойки.
Так мы снова оказываемся перед уже упомянутой проблемой
противоречия метода и мировоззрения. Важны не только выводы,
к которым в конце концов приходит дворянский художник, но те
пути, которыми он к ним идет. Пути эти бывают отличны по своей
природе от идейной окраски конечных выводов. У Пушкина была
своя утопия дворянского строя, дворянство в его понимании при-
звано было стоять на страже народных, национальных интересов,
защищать народную правду — идея чуждая, недоступная дворянам
из противоположного, придворного, царистского лагеря с их клас-
совым инстинктом крепостников. Плохо, что своим особым путем
Пушкин пришел не к иным, а все же к дворянским выводам, но это
была уже не его вина, а его историческая беда. Однако непредвзя-
тый взгляд открывает, насколько умен и глубок Пушкин в своем
282 особом подходе к решению проблем истории и современности, на-
сколько он широк, честен и бескорыстен в своих воззрениях и даже
ошибках и заблуждениях.
Так мы поднимаемся уже на вторую, более высокую ступень
классового анализа. На этой ступени мы устанавливаем различие
между дворянским писателем Пушкиным, носителем дворянской
культуры, и другими представителями дворянства, враждебными
Пушкину составными идеологическими частями дворянского класса.
Это также форма проявления классового конфликта, одна из сторон
классовой борьбы, однако не в том ее примитивном толковании,
с которым мы встречаемся у некоторых критиков, изображающих
Пушкина красками, более подходящими к образу некоего робкого
революционного демократа, исполненного благого желания не да-
вать крестьянство в обиду самодержавию. История не дает права
смотреть так на Пушкина, и тем не менее среди образованного дво-
рянства Пушкин представлял течение, прямо противоположное
тому, которое составляло опору царской власти в николаевскую
эпоху.
Что же это за течение, откуда оно могло возникнуть? Конечно
оно могло возникнуть только потому, что существовала народная
масса. В истории известны даже монархи, способные улавливать
потребности народа и идти им навстречу, чтобы оттянуть по воз-
можности взрыв назревших классовых конфликтов, народного воз-
мущения. Как писал Маркс, народ заставил в 1848 году даже не-
мецкую буржуазию бороться за народные интересы. Настроения
народа влияли в определенных условиях на государственных деяте-
лей прошлого, на целые классы.
Но одно дело — монарх или буржуазный класс как таковой, дру-
гое дело — писатель, человек способный бескорыстно ощущать и
понимать присутствие народной массы за пределами узкого образо-
ванного круга, к которому он сам принадлежит. Все творчество
Пушкина — свидетельство этого понимания. Он не мыслит ни о чем,
не проверяя свою мысль на оселке отношения к народу. Народ —
главная тема Пушкина-художника. Его точка зрения, его поэзия
отражают и связь с народом, и противоположность между народом
и той средой, которая была средой Пушкина-аристократа, дворя-
нина. Преодоление противоположности между этой средой и наро-
дом было предметом его постоянных забот и горьких размышлений.
Имея в виду личности такого масштаба, Маркс однажды заметил:
«Умы всегда связаны невидимыми нитями с телом народа»*.
Свободное духовное творчество, или, пользуясь выражением
Маркса, свободное духовное производство данной общественной
формации, имеет свой социальный эквивалент. Он реально выра-
жается как в идейной связи с телом народа, так и в борьбе верхов
и низов на верхушке общества, в рядах самого господствующего
класса. Анализ этого положения представляет собой особенность
той второй ступени классового анализа, той более глубокой его фор-
мы, которую я здесь имею в виду. В свою очередь, это углубление
классового анализа совпадает с углубленным пониманием проблемы
народности искусства, о чем речь уже шла ранее.
Там, где художник противостоит своему классу, там где он ве-
лик вопреки своей классовой природе и где между ним и его клас-
сом возникает противоречие, уводящее мысль за пределы идеоло-
гических классовых границ, там такой художник не может не опи-
раться на какой-то другой духовный материал, на иные идеологиче-
ские элементы, исходящие от народа, не может не отражать его
стремления и потребности, либо какую-то их часть. Бескорыстное
свободное творчество в науке и искусстве не способно опираться
на выражение классового интереса, если этот последний историче-
ски не совпадает с нуждами развития человечества как рода. Если
такого совпадения нет, хотя бы совпадения неполного, относитель-
ного, то нет и свободного духовного производства, либо оно обра-
щается против своего класса, опираясь на народные элементы.
Маркс раскрыл это положение в своих замечательно глубоких
высказываниях о Рикардо и Мальтусе, двух разных фигурах одной
эпохи. Из них второй — образец вульгарного апологета стремлений
господствующих классов. Его антипод Рикардо — великий беско-
рыстный ученый, человек несравненной добросовестности и без-
оглядной смелости в науке. С точки зрения отношения к проблемам
собственности и власти его взгляды совпадали с интересами про-
мышленной буржуазии. Однако эти интересы Рикардо выражал
только в тех пределах, в каких они отвечали конечным целям
промышленного развития, задачам безграничного умножения про-
изводительных сил. За этими пределами он не боялся выступать
против самой буржуазии, был безоглядно смелым, по выражению
Маркса, в последовательной защите ничем не стесненного развития
человеческого рода.
О Рикардо Маркс писал: «Если точка зрения Рикардо и соот-
ветствует в целом интересам промышленной буржуазии, то это лишь
потому, что ее интересы совпадают — и лишь в той мере, в какой
они совпадают,— с интересами производства, или с интересами раз-
* Маркс К.» Энгельс Ф. Соч., т. 33, с. 147.
283
вития производительности человеческого труда. Там, где буржуазия
вступает в противоречие с этим развитием, Рикардо столь же бес-
пощадно выступает против буржуазии, как в других случаях — про-
тив пролетариата и аристократии)» *. Так выглядит антагонизм сво-
бодного духовного производства с теми сторонами исторического
бытия класса, которые Маркс относил к другому его уровню — его
идеологическим составным частям
Возвращаясь к нити моего рассуждения, я должен подчеркнуть,
насколько мы были бы неправы, если бы, увлеченные нашей кон-
цепцией, вздумали утверждать, что Пушкин или другой великий
художник был способен творить вопреки своим классовым пред-
рассудкам только постольку, поскольку он преодолел эти предрас-
судки до конца, стал полностью от них свободен. Это, конечно, не
284 так. Даже такие великие своей художественной гениальностью,
нравственной чистотой и бескорыстием люди, как Пушкин, не могут
жить в обществе и быть свободными от общества, от своей классо-
вой природы. Гениальность и честность играют очень большую
роль, но только тогда, когда они как атрибуты свободного духов-
ного творчества имеют свой социальный эквивалент. Мы уже знаем,
что этот эквивалент должен рассматриваться сквозь призму теории
классовой борьбы, что сознание связи с народом в уме великого
художника несвободно от исторически определенных форм классо-
вых отношений в современную ему эпоху.
Вторая ступень классового анализа, о которой я веду речь,— это
еще не все, не последняя ступень нашего рассуждения. Известно,
что подлинно художественное произведение, достойное этого на-
звания, есть всегда выражение общественно-передового содержания,
что узкие, корыстные интересы господствующих классов привносят
в искусство недостатки и ограниченность. Известно, что в классо-
вом обществе искусство может быть народным, являть собою выс-
шее воплощение артистизма и реализма тогда, когда художник тво-
рит вопреки узким рамкам классовой идеологии и вопреки собст-
венным классовым предрассудкам. Но эту истину, как и всякую
другую, необходимо понимать диалектически, ни в коем случае
не абстрактно.
Если классовая природа Пушкина определяет только его недо-
статки или слабости, то имеет ли вообще классовый анализ теоре-
тическое значение? Если он ничего не объясняет в достоинствах
искусства, то нужен ли он здесь вообще? Зачем в таком случае
апеллировать к марксизму, претендовать на то, чтобы на основе
его положений объяснять содержание и форму художественного
творчества? Какой в этом смысл, если классовые критерии не помо-
гают пониманию народности творчества, а приложййы только к не-
достаткам и предрассудкам художников? Значит, на словах мы ссы-
лаемся на теорию классовой борьбы, но в самом деле, при подходе
к искусству, обходимся без нее?
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 2. с. 124.
Ставя эти вопросы, я подхожу к самому трудному пункту, к
третьей ступени классового анализа. Подняться на эту ступень мож-
но лишь тогда, когда логика нашего рассуждения приводит к необ-
ходимости уяснить, служила ли принадлежность к господствующим
классам прежнего общества всегда и во всех случаях источником
обособления художника от народа, преградой между ним и наро-
дом, или бывали особые случаи, когда это обстоятельство способст-
вовало приближению художника к народу, в известном смысле его
единению с ним. Другими словами, возможна ли народность твор-
чества только вопреки классовой принадлежности художника, или
она возможна при определенных условиях также и благодаря ей.
Вопрос этот труден для исследования. В действительности ни-
что безусловное не существует иначе, как в ограниченной форме,
ничто совершенное не возможно без того или иного ограничения.
Великий художник независим и свободен в образе мыслей и творче-
стве, его создания народны, но в то же время историческое положе-
ние личности художника в классовом обществе диктует определен-
ные границы и условия духовного, творческого развития. Идеали-
стическая критика, не видящая здесь объективных граней и ступе-
ней, отрицающая их, исторически слепа и беспомощна. Она про-
ходит мимо глубоких противоречий, вызывающих к жизни удиви-
тельную диалектику художественных достоинств и недостатков, пе-
редового и консервативного, прогрессивного и реакционного, кото-
рую мы наблюдаем в истории литературы и искусства. Но эта диа-
лектика не учит релятивизму, безразличию в теории. Наоборот, она
представляет собой необходимую почву для последовательной, прин-
ципиальной художественной критики
Бальзак — великий художник-реалист вопреки своим аристо-
кратическим и легитимистским симпатиям, то есть реакционным
чертам своих взглядов. Но мировоззрение и творчество (творче-
ский метод) художника механически разделить невозможно. Крити-
ка капитализма в романах Бальзака неотделима от идеализации им
аристократического строя. Эта идеализация иногда выступает у
него в явной, навязчивой форме как недостаток, иногда же сливает-
ся настолько тесно с достоинствами, что разорвать их нельзя, не
нарушив сущности и единства его искусства <С...>
Чтобы сделать это более ясным, возьмем другой пример — про-
изведение живописи ранней итальянской школы, созданное на заре
Возрождения, в XIV или начале XV века. Какой-нибудь простой
человеческий сюжет, скажем, сюжет материнства, обработан в нем
с наивной теплотой, проникнут благоговением. Этот трогательно-
бесхитростный дух, проникновенно выраженный художником, бес-
спорно, принадлежит искусству, не может быть исключен из него,
сливается с его достоинствами. Можно считать, что этот дух чи-
стоты и благоговения вообще составляет главное достоинство и
правду раннеренессансного искусства. Этот дух проистекает из ре-
лигиозной настроенности старого мастера, поэтому достоинство ёго
картины возникает в известной мере благодаря владеющей худож-
285
ником религиозности. Однако тот же самый источник может легко
и естественно порождать художественные недостатки, когда масте-
ру в его наивной набожности изменяет мера и человеческий образ
на его доске бывает искажен религиозной машинерией, сухой сим-
воликой ангельских ликов, ореолов, нимбов или другими атрибута-
ми святости. Можно сказать, что тот отпечаток, который религия
и церковь наложили на искусство старых мастеров, служил одно-
временно источником его достоинств и недостатков. В итоге недо-
статки спорили с достоинствами, могли перевешивать их, но от-
личать одни от других и проводить между ними грань необхо-
димо <...>
Мы видим, что черты народности возникают в искусстве отчасти
вопреки, отчасти благодаря его ограниченной, неразвитой историче-
286 ской основе. Те исторически ограниченные стороны, которые по-
рождают недостатки в искусстве прошлого, надо уметь отличать от
других сторон, связанных с достоинствами художественных произ-
ведений, способствующих безусловным достижениям творчества.
Эта мысль глубоко свойственна теоретическим положениям мар-
ксизма, она объясняет высокое значение, которое основоположники
научного социализма придавали классическому искусству. Именно
эта мысль лежит в основе известного суждения Маркса об искус-
стве Древней Греции, где детство человеческого общества, по его
словам, развилось всего прекраснее. Обаяние, которым обладает для
нас искусство древних греков, писал Маркс, «не находится в проти-
воречии с той неразвитой общественной ступенью, на которой оно
выросло. Наоборот, оно является ее результатом и неразрывно свя-
зано с тем, что незрелые общественные условия, при которых оно
возникло, и только и могло возникнуть, никогда не могут повторить-
ся снова» *.
Это положение Маркса позволяет нам яснее понять, каким об-
разом человечество бывало обязано в прошлом высшими достиже-
ниями культуры и искусства не только прогрессу их исторической
основы, но также отчасти и ее неразвитости. В классовом обществе
свободное духовное творчество могло быть обращено и против ста-
рого, и против нового зла, то есть выступать, по известному выра-
жению, на два фронта. Так, в условиях дворянского строя оно могло
быть направлено и против крепостничества, и против возникающей
буржуазной цивилизации. Прогрессивно ли оно или реакционно?
И да и нет, но без такой двойственности, такой светотени, оно не
могло обладать качеством народности, то есть способностью отве-
чать историческим интересам широкой народной, демократической
массы. Именно так и происходило в действительности, даже когда
эти формы свободного духовного производства, или, если восполь-
зоваться ленинским выражением, демократические и социалистиче-
ские элементы внутри культуры господствующего класса, носили
в определенных исторических условиях преобладающую дворянскую
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 738.
окраску (как у Пушкина) или окраску буржуазную (как у просве-
тителей) <...>
Вернемся к Пушкину в свете обрисованной мною третьей сту-
пени классового анализа. Попробуйте отделить в «Евгении Онеги-
не» критические элементы от любви поэта к дворянскому строю
жизни, любования им. Они тесно, неразрывно сплетены в каждой
главе романа, и их гармонию не портят ни шутка, ни легкая иро-
ния, ни тонкая насмешка. Эти черты всецело относятся к художе-
ственным достоинствам романа и остаются прекрасными в наших
глазах — людей другой исторической эпохи.
Белинский также высоко ценил их, хотя смотрел на «Евгения
Онегина» как на роман времени, от которого мы уже далеки.
Не только в «Евгении Онегине», но и в прозе Пушкина («Капитан-
ская дочка», «Дубровский») он видел пафос помещичьего принципа
и именно это считал устаревшим. Тем не менее самые недостатки
«Онегина» составляют в глазах Белинского величайшие достоинства
всей изображенной им поэтически верной картины действительно-
сти. Он одобряет Пушкина за то, что, презрев мещанские предрас-
судки, поэт сделал героем романа светского человека, ибо «высший
круг общества был в то время еще в апогее своего развития». Пуш-
кин изобразил русское общество, пишет Белинский, «в одном из
фазисов его образования, его развития, и с какою истиною, с какою
верностью, как полно и художественно изобразил он его. Везде
видите вы в нем человека, душою и телом принадлежащего к основ-
ному принципу, составляющему сущность изображаемого им клас-
са; короче, везде видите русского помещика. Он нападает в этом
классе на все, что противоречит гуманности, но принцип класса для
него — вечная истина. И потому в самой сатире его так много люб-
ви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение и любо-
вание».
Просветитель Белинский настойчиво указывал у Пушкина на его
дворянский принцип класса. Относясь к этому принципу, разумеет-
ся, критически, он тем не менее не мог отрицать за ним немалое
художественное значение, не мог считать, что принцип этот безраз-
личен для достоинств поэзии Пушкина, для верности и реализма
всей изображаемой картины жизни.
Вспомните заключение «Онегина», когда внезапно проясняется
главная тенденция пушкинского романа. Большая часть критики,
в том числе и вульгарно-социологическая, полагала, что последнее
решение Татьяны — это апология дворянской семейной чести, свя-
тости дворянского брака. Может быть, так казалось бедной Татья-
не, но Пушкин смотрел на дело, конечно, иначе, с несравненно более
высокой точки зрения. Иллюзорность семейного принципа в дворян-
ском обществе его времени не была тайной для Пушкина. В решении
Татьяны заложен более широкий, общечеловеческий, если позволено
такое высокопарное выражение, принцип достоинства женщины, не-
зыблемый во все времена.
Положение Татьяны трагично своей безысходностью. И «Оне-
287
гин» кончается именно так, как только и может окончиться — не-
счастьем двух героев романа. Но у Пушкина была попытка прове-
рить возможность иного решения той же проблемы. Это незакон-
ченный набросок в прозе «На углу маленькой площади...». Что было
бы, если бы Татьяна пошла навстречу чувствам Онегина? Пушкин
видит с беспощадной ясностью, что такой выход поставил бы жен-
щину в ложное, нетерпимо унизительное положение, ничем не луч-
шее, чем открытое подчинение обществу, которое уже было судьбой
Татьяны и которое она в минуту высшего нравственного испытания
еще раз выбрала для себя как альтернативу. Между чем и чем?
Не требуется особенной проницательности, чтобы понять, что перед
Пушкиным в эстетическом и этическом плане стояла альтернатива
дворянского строя жизни и буржуазной цивилизации. Приговор,
288 который по воле Пушкина выносит себе милая Татьяна, был в со-
гласии с дворянским принципом класса. Но был ли он поэтому
хуже? Нет, конечно, не был. Дворянская позиция Пушкина-худож-
ника была той объективной почвой, которая позволила ему сказать
высшее гуманное слово, драгоценное для мыслящих существ вчера,
сегодня и завтра.
Итак, дворянская культура, консервативная в сопоставлении с
буржуазным прогрессом, таит в себе определенные преимущества.
Если мы осудим то, что называют ограниченностью Пушкина как
дворянина, то мы осудим и те преимущества, которые он имеет как
художник, возвысившийся над прозой «прогрессивных» буржуаз-
ных общественных отношений.
Белинский, как известно, принял не без сомнений окончание
«Онегина». Его смущала сословная форма, в которую Пушкин облек
выраженный Татьяной высший нравственный принцип. Тем не ме-
нее, хотя пушкинская ступень развития искусства, по убеждению
Белинского, уже миновала, великий критик видел ее неповторимые
достоинства в полноте слияния высшей художественности с истори-
чески относительным и условным. Поэтому то, что выступало как
отражение дворянского принципа, оказывалось неотъемлемым от
гармонии и совершенства пушкинской поэзии <•••>
Пушкин был выразителем той части дворянской культуры, ко-
торая стремилась к совершенству аристократической формы, к ее
простоте и благородству, достойным духа «честного простолюдина».
Носитель лучшего, что было достигнуто дворянской культурой
в России за период, в течение которого она играла решающую исто-
рическую роль — от петровских времен до начала XIX века,— Пуш-
кин принадлежал к тем представителям свободного духовного твор-
чества, которых можно назвать гегелевским термином — всемирно-
историческая индивидуальность. Отношение такой индивидуально-
сти к своему классу иное, чем отношение его обычных представите-
лей. Индивидуальность такого типа обладает способностью выра-
жать максимум духовного содержания, отпущенного историей ее
классу, всю меру культурного богатства, накопленного им в ходе
мировой истории.
Всемирно-исторический масштаб фигуры Пушкина как закон-
ченного выразителя дворянской культуры в ее высшем проявлении
был несовместим с ничтожеством своекорыстного дворянского кру-
га, вступившего с ним в жестокую коллизию. Правда, уже в эпоху
Пушкина дворянская общественная верхушка деградировала, по-
рождала отщепенцев и выродков, которые быстро опускались до
уровня щедринских пошехонцев или господ Головлевых Не-
правы те критики, которые пытались представить Пушкина дворян-
ским отщепенцем, ушедшим от дворянства и пришедшим к кресть-
янству. Это историческая ложь, последнее прибежище вульгарной
социологии. Отщепенцем своего класса Пушкин не был. В свои зре-
лые годы он не отошел от дворянства, а даже искал какой-то опоры
для своей утопии хорошего дворянства. В его политической теории
дворянству отводилась особая роль. Правда, при этом Пушкин, на-
рушая историческую меру, идеализировал дворянство, но отщепен-
ство здесь не при чем. Если поверить рассуждениям этих критиков,
то недолго и всю историю мировой культуры свести к отщепенству.
Это была бы карикатура на действительную историю, однако
отсюда не следует, что эта проблема вообще не имеет серьезного
содержания в истории. Так, в более позднюю эпоху действительно
гениальным отщепенцем помещичьего класса можно назвать Льва
Толстого. Но для этого деградация дворянства должна была зайти
настолько далеко, а буржуазно-демократическая революция в Рос-
сии стать настолько неминуемой, что на таком историческом фоне
толстовское отрицание дворянского принципа класса приобретало
революционную силу, народный психологический облик, сливалось
с настроениями патриархальной крестьянской массы
На более раннем этапе дворянской культуры, в пушкинское вре-
мя, в отличие от времен Щедрина и Толстого дворянский принцип
класса, как мы старались показать, еще не играл целиком негатив-
ной роли. И Пушкин, и Гёте, и другие деятели их исторической
формации искали в этом принципе класса какую-то опору для своих
культурных позиций и утопий. Они думали обрести в нем защиту
против тенденций распада внутри собственного класса, против на-
плыва мещанской стихии, грозившей затопить и снести традицион-
ные нормы публичной жизни, устои общественной дисциплины и
личного достоинства. Низкая, мещанская оборотная сторона бур-
жуазного порядка выступала в начале XIX века тем раньше и оче-
виднее, чем выше была точка зрения всемирно-исторической инди-
видуальности.
В этом потоке идей Пушкин в 30-е годы пришел к своей консер-
вативной утопии. Это была консервативность личности, мыслящей
революционно, но не доверяющей прогрессивному развитию, кото-
рое отрицает высокие ценности аристократической культуры, а с
ними и истинные интересы большого человечества. На пороге пол-
ного торжества буржуазных отношений в их низменном, отврати-
тельном виде, с такой силой описанных у Бальзака, выдающиеся
художники той поры — и Пушкин, и Гёте, и романтики, и сам
289
Бальзак, и Стендаль и даже Гейне — приходили нередко к убеж-
дениям консервативного свойства, склонялись к иерархическому
строю мысли, примирению с неравенством, с извечным ходом ве-
щей. Это была парадоксальная черта их воззрений, не лишенная,
однако, глубокого значения. Она противоречила по видимости на-
родности их искусства, но в известном смысле и способствовала ей.
Этих великих людей вместе с их предшественниками периода рас-
цвета античной культуры, эпохи Возрождения и XVII—XVIII ве-
ков можно назвать, соблюдая необходимую осторожность, великими
консерваторами человечества в смысле сохранения лучшего из того,
что было завоевано мировой культурой, охраны этих завоеваний от
посягательств со стороны жестокой и тупой реакции, от профанации
со стороны мещанской уравнительности, буржуазного строя жизни.
290 Пушкину особенно были дороги те возможности, которые за-
ключала в себе аристократическая культура в ее апогее. Нельзя от-
рицать, что в этом сказывалась его классовая историческая ограни-
ченность. Но отчасти он был прав. Если сравнить дворянскую
культуру Пушкина, независимость его дворянской позиции с тем
мещанством, которое входило в свои права под прикрытием трех
принципов Николая I (самодержавия, православия, народности), то
нетрудно заметить, что здесь дело шло не просто о «вопреки», но и
о том, что мы понимаем под «благодаря» <С—>
Я много говорил о Пушкине, но был, конечно, далек от мысли,
что его пример единственный в своем роде. Выяснять значение
консервативных выводов, которые нередко примешивались в про-
шлом к идеям лучших представителей свободного духовного произ-
водства, необходимо для решения многих вопросов истории культу-
ры, мимо которых часто проходят по незнанию или из теоретическо-
го равнодушия.
Изучая историю социалистических идей, вернее их далекую
предысторию, мы сталкиваемся с тем, что в основе идеального уто-
пического государства Платона лежало рабовладение. Платоновская
утопия была отображением идеальной классической греческой об-
щины. Другими словами, Платон также придерживался принципа
класса. Но, если подойти к значению идей Платона конкретно-исто-
рически, можно понять, что в эпоху распада античной культуры,
среди разгула софистики, нигилистических и анархических теорий
защита Платоном античного общественного строя, тогда уже поги-
бающего, звучала как последнее слово великой античной культуры.
Будучи сторонником рабовладельческого принципа, Платон защи-
щал культурное величие Древней Греции, а не те формы рабовла-
дения, за которые держались в своей корысти эксплуататоры его
времени, хотя на словах они выступали предпочтительно как про-
грессивные проповедники свободолюбия, анархии и вседозволен-
ности.
В эпоху Возрождения у Кампанеллы и Мора мы встречаем по-
ложения, непримиримые с их общественными утопиями, отражаю-
щие принципы теократии, тирании и угнетения, отвечавшие их
жестокому времени. Это не была случайная примесь к их
утопическим воззрениям. Наоборот, в отрыве от реальной, истори-
ческой почвы эти утопии в то время вообще не могли бы возник-
нуть.
Идею романа Бальзака «Крестьяне» составляет осуждение мел-
кой крестьянской собственности, парцеллирования земель, лежаще-
го в основе развития капитализма в сельском хозяйстве. Дробление
земельной собственности, считает Бальзак, отнимает у крупных
земледельцев-аристократов и буржуа возможность употреблять
свои богатства для поощрения искусств и наук, воспитания утон-
ченного вкуса, создания замечательных памятников зодчества и т. д.
Менее народную, менее демократическую идею в XIX веке трудно
себе представить. Но в этой узости взгляда для Бальзака заклю-
чалась необходимость, его ограниченность отражала ограничен-
ность, присущую самому ходу истории. Разве он не был прав в при-
знании нивелирующего влияния мелкого землепользования? Он не
понял революционной роли дробления имуществ в его эпоху, но он
правильно увидел, что частное землевладение в том виде, в каком
оно сложилось в послереволюционной Франции вместе с утвержде-
нием буржуазных порядков, никогда не сможет стать основой буду-
щего высокого развития человечества.
Рикардо обвиняли в бессердечии за его приверженность идее
безграничного развития производительных сил человечества невзи-
рая на те жертвы, которых оно требовало. Однако Маркс отдавал
предпочтение идеям Рикардо перед идеями таких идеологов, как
Сисмонди, защищавших в политической экономии мелкую собст-
венность и трудящихся с филантропической точки зрения. В своих
заметках о Рикардо, на которые я уже ссылался, Маркс писал:
«Развитие способностей рода «человек», хотя оно вначале совер-
шается за счет большинства человеческих индивидов и даже целых
человеческих классов, в конце концов разрушит этот антагонизм и
совпадете развитием каждого отдельного индивида; что, стало быть,
более высокое развитие индивидуальности покупается только ценой
такого исторического процесса, в ходе которого индивиды прино-
сятся в жертву» *.
Вывод Маркса о том, что высшее развитие индивидуальности
покупается только реальным историческим процессом, освещает яр-
ким светом те запутанные исторические положения, которые я рас-
сматривал. Бывали особые индивидуальности, чьи интересы совпа-
дали с интересами человеческого рода, но даже их развитие на про-
тяжении всей истории классового общества совершалось дорогой
ценой — ценой той или иной формы связи свободного духовного
творчества с условиями классового господства в каждую данную
эпоху.
В этих условиях развитие культуры и искусства не могло не
быть чревато глубокими противоречиями, разрешение которых воз-
297
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 2, с. 123.
можно только в коммунистическом обществе. Только социализм соз-
дает предпосылки полного слияния народности и высокой культуры,
только он дает возможность стоящему у власти классу организо-
вать все силы народа, поддержать и обновить устои общественной
жизни, основные нормы общежития, высокую общественную дис-
циплину, устранив те противоречия, в тисках которых бились луч-
шие мыслящие, творческие индивидуальности истории. По мере
того как развитие каждого будет все полнее сливаться с развитием
способностей человечества как рода (что предвидел Маркс), будут
окончательно уходить в прошлое условия, делавшие трагическим
творчество художников мирового масштаба. Мы видели, что исто-
рическое положение объективно ставило таких художников в труд-
ные ситуации и перед противоречивыми решениями: высшая народ-
ность искусства была доступна им не только ценою творчества во-
преки стеснительным, ограничивающим условиям их бытия, но не-
редко и благодаря их консервативной позиции, объективный смысл
которой означал отрицание антинародных антагонистических форм
исторического прогресса.
Мой доклад закончен. Судите, удалось ли мне достичь моей
цели — показать, что диалектическое понимание народности и прин-
ципов классового анализа художественного творчества необходимо
для объяснения того удивительного факта, что в самых неблагопри-
ятных исторических условиях, под гнетом рабства, крепостничества,
капитализма лучшие представители человеческого рода могли созда-
вать бессмертные образцы высокого классического искусства.
ЛИТЕРАТУРНО-
Философские
очерки
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТОД БАЛЬЗАКА*
1
294 Коммунизм имеет свою точку зрения на прошлое человеческой
культуры, свои критерии для оценки различных представителей
истории общественной мысли, науки, искусства. Такие фигуры, как
Гегель в области философии, Рикардо в политической экономии,
Бальзак в художественной литературе, впервые были по-настояще-
му поняты лишь теоретиками коммунистического движения. Из-
вестно, что Маркс и Энгельс высоко ставили реализм Бальзака. Его
произведения служили для них одним из источников познания дей-
ствительности. Об этом с непререкаемой ясностью говорит Энгельс
в письме к английской писательнице Маргарет Гаркнесс. Не удиви-
тельно, что романы Бальзака пользуются особой популярностью в
нашей стране. Как настоящие произведения искусства они расши-
ряют кругозор читателя, помогая ему узнать реальный историче-
ский путь общественного бытия и сознания.
Бальзак написал очень много. Одна лишь «Человеческая коме-
дия» содержит свыше девяноста произведений. Это настоящая эн-
циклопедия буржуазного общества, целый мир, созданный вообра-
жением художника по образу и подобию мира действительного.
У Бальзака есть своя общественная иерархия: дворянские и бур-
жуазные династии, министры и генералы, банкиры и преступники,
нотариусы и прокуроры, попы и кокотки всех рангов, великие пи-
сатели и литературные шакалы, баррикадные бойцы и служители
полиции. В «Человеческой комедии» около двух тысяч действую-
щих лиц, многие из них переходят из романа в роман, постоянно
возвращаясь в поле зрения читателя.
* Статья была опубликована отдельными частями в разное время. См.: Ли-
тературная газета, 1939, 26 мая; Литературный критик, 1940, № 11—12;
Бальзак об искусстве, М., 1941 (предисл.). Четвертый и пятый разделы этой
статьи были написаны Михаилом Александровичем для заключительной главы
исследования о Бальзаке талантливого советского ученого В. Р. Грнба, которому
ранняя смерть в 1940 году не позволила довести свой труд до конца. Позднее
эта часть ошибочно была включена в изд.: Гриб В. Р. Избранные рабо-
ты. М., 1956. См. об этом: Литературный критик, 1940, № 9—10, с. 45 (при-
меч.); Фридлендер Г М. Русский классический реализм и проблема гума-
низма.— Русская литература, 1982, № 4, с. 91—92.— Примеч. ред.
Но, несмотря на такое разнообразие действующих лиц и поло-
жений, тема.произведений Бальзака всегда одна и та же. Он изо-
бражает трагедию человеческой личности под гнетом неумолимых
антагонистических законов буржуазного общества. Эта тема и соот-
ветствующий ей способ изображения есть самостоятельное открытие
Бальзака, его действительный шаг вперед в художественном разви-
тии человечества. Он понимал оригинальность своей литературной
позиции. В предисловии к сборнику своих произведений 1838 года
Бальзак излагает ее следующим образом: «Автор ждет других
упреков, среди них будет и упрек в безнравственности; но он уже
точно разъяснил, что одержим навязчивой идеей описать общество
целиком, таким, как оно есть: с его добродетельными, почетными,
великими, постыдными сторонами, с путаницей его смешанных сосло-
вий, с неразберихой принципов, с его новыми потребностями и
старыми противоречиями... Он подумал, что не оставалось больше
ничего удивительного, кроме описания великой социальной болезни,
а она могла быть описана только вместе с обществом, так как
больной — это сама болезнь» (281) *.
Историческим содержанием романов Бальзака была эпоха меж-
ду 1789 и 1848 годами, время первого, бурного взрыва противоре-
чий капиталистического строя. Чудовищная извращенность буржу-
азной цивилизации, причудливые контрасты между блеском и ни-
щетой, развитием промышленности и бедствиями прогресса впервые
с необычайной яркостью возникли перед сознанием народов. В бур-
жуазном обществе все превратно, все поставлено на голову. «Все
наши открытия и весь наш прогресс как бы приводят к тому, что
материальные силы наделяются интеллектуальной жизнью, а чело-
веческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, низво-
дится до степени простой материальной силы» **. Победа финансо-
вых плутней над честным трудом, талантом и силой характера, союз
богатства и преступления, победа низости на вершине общественной
пирамиды — таковы разнообразные признаки этой социальной бо-
лезни, которую Бальзак описывал с бесстрашием истинного худож-
ника.
Настоящее искусство обладает силой предвидения. Бальзак про-
рочески изобразил процесс разложения имущей верхушки, то обося-
чивание буржуазной политики, которое проходит в дальнейшем
через всю историю капиталистического общества, но достигает своей
высшей точки лишь в наше время. «Развращенность высших сфер,—
говорит Бальзак в романе «Блеск и нищета куртизанок»,— несмот-
ря на результаты, блещущие золотом, и их благовидные основания
не бесконечно ли гнуснее, чем отвратительная, почти личная раз-
вращенность низших сфер, некоторые черты которых делают коми-
ческой или, если угодно, ужасающей нашу повесть. Правительство,
295
* Здесь н далее в статье в скобках указаны страницы по изд.: Бальзак
об искусстве. Сост. В. Р. Гриб. М.— Л., 1941.
** Маркс K.t Энгельс Ф_ Соч., т. 12, с. 4.
пугающееся всякой новой мысли, изгнало из театра элемент
злободневного комизма. Буржуазия, менее либеральная, чем Людо-
вик XIV, дрожит в ожидании своей «Женитьбы Фигаро», запре-
щает играть политического Тартюфа и, конечно, не позволила бы
теперь играть Тюркаре, так как Тюркаре стал властелином. С тех
пор комедия рассказывается, и книга становится менее скорым, но
более верным оружием поэтов».
Сильнее всего Бальзак в описании психологических последствий
нечистого господства буржуазии («Крестьяне»). В романе «Евгения
Гранде» стяжательство настолько овладело старым ростовщиком,
что все его чувства, даже любовь к единственной дочери, как бы
омертвели под влиянием жажды золота. Умирая, старик Гранде
судорожно хватает золотое распятие, поднесенное ему священни-
ком. Жуткая, почти фантастическая сцена, как и многое у Бальзака.
Но чудовищность созданных им образов не противоречит глубокому
реализму «Человеческой комедии». Наоборот, этот гротеск, эта не-
мыслимая условность созданий Бальзака верно отражают злове-
щую, но вполне реальную фантастику всего товарного мира, мира
частной собственности и отчуждения человека. В фантастических
образах Бальзака больше правды, чем у целой дивизии писателей,
воображающих, что реализм заключается в так называемом ма-
стерстве показа, то есть в пустопорожней наблюдательности. Герои
Бальзака, как и сам художник,— выдающиеся люди, далекие от по-
средственности, настоящие гиганты мысли и дела; они поставлены
в положения глубоко типичные, но не обыденные, а исключитель-
ные. Бальзак не боится той правильной абстракции, которая, по
замечанию Ленина, отражает действительность глубже и полнее,
чем множество поверхностных наблюдений. В основе его картины
мира лежит реализм внутренней правды, а не внешнего правдопо-
добия.
Сейчас, когда время общих рассуждений в пользу реализма в
нашей литературе уже прошло, нужно учиться видеть разницу меж-
ду этими явлениями. Реализм, написанный на знамени социалисти-
ческого искусства,— это прежде всего любовь к правде, правде по-
знания и правде действия. Стремление к истине, не только истине
теории, но и к истине в смысле социальной справедливости, питало
таких людей, как Стендаль и Бальзак, Гоголь и Салтыков-Щедрин.
Они относятся к действительности с героической твердостью, в
этом их реализм. Правда, слово реализм нередко употребляется в
более узком, профессионально-ограниченном смысле — для обозна-
чения определенной литературной манеры, идущей в какой-то мере
от Флобера и еще более от Золя. Но разве можно назвать писате-
ля реалистом лишь потому, что он усвоил некоторые литературные
навыки и с безразличием профессионала готов применять их к лю-
бому предмету? С другой стороны, разве можно исключить из обла-
сти реализма такие произведения, как «Шагреневая кожа» Бальзака
или «Сказки» Салтыкова-Щедрина? Так называемый реализм вто-
рой половины XIX века, реализм как литературное направление,—
только одна из ветвей, и притом далеко не самая лучшая, на могу-
чем дереве мирового искусства; художественная литература реали-
стична, то есть правдива во всех своих высоких проявлениях.
У Бальзака (которого буржуазная критика вообще отказывается
признать реалистом) это стремление к правде настолько сильно, что
оно побеждает даже его собственные, отнюдь не революционные
убеждения. Подобно Гёте и. Гегелю, Бальзак не понял, да и не мог
понять значения первых шагов революционного пролетариата. Он
целиком относится к предшествующей эпохе, и творчество великого
реалиста несет на себе отпечаток ее противоречий. В поисках сред-
ства борьбы против развращающей силы буржуазии Бальзак ко-
леблется между аграрными утопиями Фурье и феодальным социа-
лизмом. Одна из самых реакционных партий современной Фран-
ции — Аксион Франсез — считает его своим предшественником. Но
достаточно прочесть роман «Крестьяне», чтобы убедиться в том,
как мало общего между старым французским писателем и современ-
ными трублионами реакции. «Крестьяне» — первое произведение
мировой литературы, в котором разрушены пасторальные идиллии
просветителей и романтиков, показана классовая борьба в деревне.
И как показана! В «Крестьянах» обитатели сельских лачуг рассуж-
дают, как политические мыслители, а богатые владельцы поместья
Эг, ослепленные своими классовыми иллюзиями, останавливаются
в молчаливом изумлении перед непонятной, почти мистической пре-
вратностью событий. Бальзак сочувствует им, он опасается гибели
всех ценностей старой культуры в разгуле собственнического свин-
ства, воспитанного буржуазией в душе французского крестьянина —
призрачного собственника своего маленького клочка земли. Одна-
ко, сочувствуя своим друзьям, Бальзак нередко показывает, как,
несмотря на благоприятные условия рождения и воспитания, любез-
ные его сердцу аристократы обнаруживают моральные качества
последнего разбора. Они — «труха, одетая в бархат».
2
В письме к Марксу от 4 октября 1852 года Энгельс издевается
над неким русским эмигрантом, настоящее имя которого осталось
неизвестным: «Что сказать о человечке, который, прочитав в первый
раз романы Бальзака (да к тому же еще «Музей древностей» и
«Отца Горио»), говорит об этом с беспредельным высокомерием и
величайшим презрением, как о чем-то обыденном и давным-давно
известном... Он не понял ни «Манифеста», ни Бальзака; это он мне
довольно часто доказывал» *. Сопоставление романов Бальзака с
Коммунистическим манифестом, которое содержится в этих строках,
не следует понимать буквально, и все же оно напоминает о некото-
297
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 28, с. 128. Сегодня это имя известно —
речь идет о выходце из России Эдуарде Пиндаре, который в начале 1850-х гг.
помогал Энгельсу в его занятиях русским языком.— Примеч. ред.
рых действительных отношениях между основателями марксизма
и великим французским романистом. Коммунистический мани-
фест Маркса и Энгельса выражает точку зрения нового класса —
пролетариата; это манифест коммунистической партии. У Бальзака
мы не найдем ничего подобного, он вообще принадлежит к тому
периоду мировой истории, который замыкается революцией
1848 года. Когда появился Коммунистический манифест, деятель-
ность Бальзака была на исходе, и сам он, неизлечимо больной, уже
стоял на краю могилы. Но в числе других литературных источни-
ков, послуживших материалом для гениальной картины обществен-
ного состояния, начертанной в Коммунистическом манифесте, была,
несомненно, и «Человеческая комедия». Кто не помнит замечатель-
ных слов манифеста: «Буржуазия, повсюду, где она достигла
господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идилличе-
ские отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные
путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям»,
и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого
интереса, бессердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистическо-
го расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза,
рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превра-
тила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила
на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод
одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, при-
крытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила
эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой.
Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности,
которые до тех пор считались почетными и на которые смотрели с
благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, чело-
века науки она превратила в своих платных наемных работников.
Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно-сенти-
ментальный покров и свела их к чисто денежным отношениям» *.
Самой глубокой и верной иллюстрацией к этому взгляду Маркса
и Энгельса является, без сомнения, «Человеческая комедия» с ее
фигурами финансовых деятелей, картинами падения сословной дво-
рянской чести, разложения семьи, подчинения печати и литератур-
ного творчества законам капиталистического мира. Все это показано
у Бальзака в глубокой исторической перспективе как длительный
процесс разложения патриархально-средневекового общества и во-
царения буржуазии, показано не только в художественных образах,
но и при помощи теоретического анализа — во множестве метких
замечаний, полных объективной иронии, глубокого исторического
сарказма.
Вспомним, например, описание старинного французского город-
ка Геранды, столь любезного сердцу художника и обреченного на
гибель в XIX веке. «Промышленность, работающая теперь для ши-
роких слоев населения, беспощадно истребляет создания средневе-
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 4. с. 426—427.
кового искусства, где на первом плане стояла индивидуальность
как художника, так и потребителя. Теперь у нас много ремесленных
изделий, но нет почти гениальных творений. Все древние памятни-
ки считаются в наши дни своего рода археологическими редкостя-
ми; с точки зрения промышленности важны только каменоломни,
копи селитры да склады хлопка. Пройдет еще несколько лет, и
последние своеобразные городки утратят свою оригинальную фи-
зиономию, и разве только на страницах этого очерка сохранится
точное описание этих памятников старины» (215).
Но, понимая враждебный искусству и поэзии характер капитали-
стического строя, Бальзак вместе с тем не остается в пределах ро-
мантической элегии, однообразного воспевания ушедшей в прошлое
поэтической старины. Он смотрит на мир не только глазами ху-
дожника. Его отношение к деятелям буржуазной эпохи и достиже- 299
ниям XIX века двойственно. Если фигуры его ростовщиков и често-
любцев ужасны, то, с другой стороны, в разрушительных силах
капиталистического общества его привлекает величие всемирно-
исторического потока, который уничтожает на своем пути всякую
мирную сословную, патриархальную ограниченность, рассеивает
иллюзии и придает обществу бешеное движение вперед в поисках
абсолюта.
«Беспрестанные перевороты в производстве, непрерывное потря-
сение всех общественных отношений, вечная неуверенность и дви-
жение отличают буржуазную эпоху от всех других. Все застывшие,
покрывшиеся ржавчиной отношения, вместе с сопутствующими им,
веками освященными представлениями и воззрениями, разрушают-
ся, все возникающие вновь оказываются устарелыми, прежде чем
успевают окостенеть. Все сословное и застойное исчезает, все свя-
щенное оскверняется, и люди приходят, наконец, к необходимости
взглянуть трезвыми глазами на свое жизненное положение и свои
взаимные отношения» *.
Едва ли возможна другая, более точная формула для определе-
ния исторической основы реализма Бальзака. Революционное зна-
чение «Человеческой комедии» заключалось именно в том, что она
отражала историческую потребность взглянуть трезвыми глазами
на человеческие отношения, прикрытые в прошлом цветами социаль-
ной мифологии и поэзии. И хотя упадок этой поэзии наносит со-
знанию Бальзака глубокую рану, писатель отдает должное буржуаз-
ному XIX столетию и понимает, что отрицание символической Ге-
ранды необходимо в конечном счете даже с точки зрения самого
искусства. Так, после описания прелести старинного бретонского
городка, описания, полного самой неподдельной грусти, Бальзак
переносит читателя в квартиру парижанки писательницы мадемуа-
зель де Туш. «Калист услыхал здесь поэтические аккорды чудной,
удивительной музыки девятнадцатого столетия, где мелодия и гар-
мония одинаково хороши, где пение и инструментовка достигли не-
* Маркс К.. Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 427.
обыкновенного совершенства. Он познакомился с произведениями
богатейшей живописи французской школы, заместительницы италь
янских, испанских и фландрских школ: талантливые произведения
стали встречаться так часто, что все глаза, все сердца, утомленные
лицезрением только талантов, громко требуют гениального творе-
ния. Он прочел богатые содержанием глубокие сочинения совре-
менной литературы, и они произвели большое впечатление на его
юное сердце. Словом, наш великий девятнадцатый век открылся
перед ним во всем своем блеске, со своими богатыми вкладами в
критику, со своими новыми идеями, с гениальными начинаниями,
достойными гиганта, который, спеленав юный век в знамена, укачи-
вал его под звуки военного гимна, под пушечный аккомпанемент...
Новый, современный мир со всей своей поэзией резко противопола-
300 гался скучному патриархальному миру Геранды. Калист мысленно
сопоставил их: с одной стороны, тысячи произведений искусства;
с другой — однообразие невежественной Бретани» (229—230).
Итак, дважды сравнивает Бальзак средневековые достоинства
Геранды с буржуазной цивилизацией XIX века, и оба раза итог
получается различный. Можно подумать, что перед нами два раз-
личных автора, настолько противоположны эти суждения. Но двой-
ственность выводов отражает реальные противоречия истории куль-
туры. Эта глубокая разносторонность, ни перед чем не останавли-
вающаяся диалектическая честность ума образует самое ценное в
искусстве Бальзака. Где еще можно найти такого художника, кото-
рому в одинаковой степени были открыты всемирно-исторические
перспективы движения общества вперед и мрачные картины ада,
изображенного великим французским романистом на страницах
«Человеческой комедии»? По глубине и художественной честности
своего понимания истории Бальзак напоминает величайших пред-
ставителей общественной мысли XIX века, представителей трех
источников марксизма, таких людей, как Гегель, Фурье и Рикардо.
Вот почему Энгельс упоминает Бальзака рядом с манифестом.
3
Романы Бальзака давно уже стали для нас образцом литератур-
ного реализма. Между тем представления о жизни, философия и
политические взгляды Бальзака по меньшей мере устарели. Что же
осталось? Осталось великое мастерство, которому нужно учиться.
Но мастерство — понятие отвлеченное. Во время битвы при Фон-
тенуа французы, сняв шляпы, вежливо обратились к английской
колонне: «Господа, стреляйте первыми». Для этих людей, говорит
Стендаль, была приспособлена поэзия Делиля. «И после этого тре-
буют, чтобы эта поэзия нравилась французу, который был в отступ-
лении из-под Москвы!»
Замечание Стендаля поистине гениально. Каждый шаг вперед
в художественном развитии человечества имеет свое историческое
содержание. Великое мастерство Толстого было отражением одной
из существенных сторон народного движения 1861—1905 годов. Во-
обще мастерство писателя не есть способность чисто субъективная.
В ней раскрывается язык вещей, объективный разум исторических
явлений.
Маркс говорит, что умы всегда связаны невидимыми нитями с
телом народа. Так, гений Шекспира был связан невидимыми нитя-
ми с народной массой «веселой старой Англии» — грубоватой, но
энергичной, не уважающей рабства, одаренной смелым воображе-
нием и демократическим чувством справедливости. Человек Шек-
спира имеет мало общего с позднейшим национальным типом, пред-
ставленным в произведениях Киплинга, Конан Дойла и Герберта
Уэллса. Между ними — столетия капиталистического развития, ко-
торые уничтожили «шекспировского гордого йомена» — эту основу
английской пехоты, полуфеодальной аграрной демократии XV сто-
летия, «Утопии» Томаса Мора и всей литературы Возрождения.
Так называемая славная революция 1689 года, в которой господ-
ствующие классы примирились друг с другом за счет народа, сде-
лала искусство Шекспира более невозможным. Сложились
ограниченные черты буржуазной цивилизации Англии: смесь гру-
бого эмпиризма и религиозного ханжества, дух компромисса, пар-
ламентский кретинизм, коварство внешней политики. И все же на-
стоящие адвокаты народа, такие фигуры, как поэт Роберт Бернс,
гениальный публицист Уильям Коббет, сохранили живые традиции
шекспировской Англии.
Энгельс однажды заметил, что итальянская история создала
«величественные характеры недосягаемого классического совершен-
ства, от Данте до Гарибальди» *. И та же история породила смеш-
ные и пошлые маски, которые из жизни перешли в комедию,— ма-
ски Сганареля и Дулькамары. В правильности этого замечания
легко убедиться, если сравнить классические традиции итальянской
культуры с фашистской трагикомедией. У каждого народа есть свои
великие традиции и свои комические маски, созданные столетиями
унижения и господства чужеземных или отечественных душителей.
Подобно всякому гениальному писателю, Бальзак принадлежи!
всему человечеству. Но вместе с тем его творчество заключает в себе
черты французского национального характера. Об этом националь-
ном характере можно получить превратное представление, если су-
дить о нем по дипломатической истории мюнхенского соглашения и
некоторым другим явлениям общественной жизни современной
Франции. Нельзя отрицать того, что в этих явлениях есть нечто
от Сганареля и Дулькамары в худшем и далеко не веселом издании.
Франция, которой принадлежит Бальзак, имеет другие тради-
ции. На исходе первой мировой войны вышла замечательная книга
Р. Роллана «Кола Брюньон». Этот Брюньон был представителем
целой династии Брюньонов — простых людей, жизнерадостных и
трудолюбивых, могучих, как великаны Рабле. Династия Брюньонов
301
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. 1, с. 25.
создала первый расцвет французской культуры в эпоху Возрожде-
ния, вынесла на своем горбу бремя религиозных войн, абсолютной
монархии и буржуазной цивилизации. Это были мирные люди, но
обладающие здоровенными кулаками и совсем не пацифисты во что
бы то ни стало. Потомки Кола Брюньона участвовали в разруше-
нии Бастилии 14 июля 1789 года, они защищали французскую зем-
лю от нашествия пруссаков и австрийцев. Главное, чем обладала
эта порода людей, в чем они были настоящими волшебниками,—
это талант к труду, труду, облагороженному искусством, беспокой-
ное стремление к высшему развитию всех заложенных в человеке
способностей. Без этой драгоценной черты французского народа мы
не имели бы архитектурных созданий Леско и Делорма, скульпту-
ры Гужона, колоннады Лувра, садов Ленотра, великолепной лите-
302 ратуры, которая в течение столетий служила образцом для подра-
жаний.
Таковы национальные традиции, унаследованные Бальзаком.
Одно из его произведений называется «Поиски Абсолюта». Это на-
звание может служить девизом всей «Человеческой комедии». Глав-
ное содержание романов Бальзака — ненасытное, безграничное
стремление к высшему во всех областях человеческой жизни. Его
Рафаэль из «Шагреневой кожи» охвачен желанием изведать все, что
может дать богатая наслаждениями жизнь. Он погибает вследствие
противоречия между двумя крайностями: хотеть и мочь. Отец Го-
рио — мученик совершенной родительской любви. Евгения Гран-
де— образец грандиозного самопожертвования. Художник Френго-
фер стремится к абсолютно верному изображению жизни, и эти
поиски совершенства становятся болезненной манией, которая гу-
бит его картину. Клаэс жертвует всем ради осуществления несбы-
точной научной фантазии. Растиньяк — гений честолюбия. Гобсек
накопляет сокровища, наслаждаясь потенциальной властью, кото-
рую заключает в себе золото, он работает, как художник, испове-
дующий принцип «искусство ради искусства».
В известном смысле можно сказать, что Бальзак ненавидит бур-
жуазное общество — это так. Он изображает чудовищные, односто
ронние формы, которые принимает в этом обществе развитие могу-
чей индивидуальности. Но он уважает в своих героях, даже наибо-
лее отрицательных, величие характера, виртуозное преодоление
трудностей любого жизненного материала, роковое стремление впе-
ред в достижении поставленной цели.
К Бальзаку вполне применимо то, что Маркс говорит о классике
политической экономии — Рикардо: «Рикардо рассматривает капи-
талистический способ производства как самый выгодный для про-
изводства вообще, как самый выгодный для создания богатства, и
Рикардо вполне прав для своей эпохи. Он хочет производства для
производства, и он прав. Возражать на это, как делали сентимен-
тальные противники Рикардо, указанием на то, что производство
как таковое не является же самоцелью, значит забывать, что про-
изводство ради производства есть не что иное, как развитие про-
иэводительных сил человечества, т. е. развитие богатства человече-
ской природы как самоцель. Если противопоставить этой цели бла-
го отдельных индивидов, как делал Сисмонди, то это значит утверж-
дать, что развитие всего человеческого рода должно быть задержано
ради обеспечения блага отдельных индивидов, что, следовательно,
нельзя вести, к примеру скажем, никакой войны, ибо война во вся-
ком случае ведет к гибели отдельных лиц» *.
Развитие богатства человеческой природы как самоцель — вот
формула для определения жизненной идеи Бальзака. Его герои не
могут довольствоваться растительным прозябанием, овечьим благо-
получием. Его возмущает варварское равнодушие, с которым, ры-
цари туго набитой мошны взирают на гибель великолепных сокро-
вищ культуры и драгоценных человеческих возможностей, посколь-
ку все это не затрагивает их сытого существования. Героический jQg
богатырский дух, превосходная мускулатура стиля проникают со-
бой произведения Бальзака. Он ненавидит от всей души миротвор-
цев-филантропов, которые, пугая человечество трудностями пути,
стремятся совлечь его с большой дороги истории и упрятать в ка-
кую-то призрачную хижину дяди Тома. Бальзак готов предпочесть
им деятелей революции. Он набрасывает идеальный образ Мишеля
Кретьена, героя баррикадной борьбы у монастыря Сен-Мери. Он
преклоняется перед фигурой Палла Ферранте, созданной воображе-
нием Стендаля. Бальзак говорит в одной из своих статей: «Пусть
мрачный и отважный гений напишет прекрасное произведение и
выведет в нем республиканца, заговорщика, который хочет превра-
тить всю Европу в великую республику и способен очаровать чи-
тателя,— я стану рукоплескать этой статуе, восхищаться ею, не
ставя автору в упрек, что он изобразил Спартака, а не Людови-
ка XIV» (85).
Однако почему же кажется странным, что это преклонение перед
развитием привело .его не к Спартаку, а именно к Людовику XIV?
Как это произошло? В «Крестьянах» Бальзак рассказывает исто-
рию одного поместья, принадлежащего когда-то фаворитке Генри-
ха IV. Впоследствии оно перешло к откупщику Буре, который
истратил однажды два миллиона на прием Людовика XV. Капита-
лист подарил его своей любовнице, актрисе Лагер. После смерти
отставной куртизанки имение купил разбогатевший генерал импе-
раторской гвардии Монкорне, которого местное население презри-
тельно окрестило «обойщиком». Замок, парк, каменная ограда, па-
вильоны — все это вместе было замечательным памятником искус-
ства и, несмотря на различные переделки, сохранилось во всем
своем совершенстве.
Затем наступил конец. Крестьяне окружающих деревень рас-
сматривали территорию поместья как свою законную собственность.
Им не удалось разделить ее между собой во время революции
1789—1793 годов, но, руководимые деревенским ростовщиком Ригу,
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 2, с. 123.
они ведут постоянную глухую борьбу против владельцев замка и в
конце концов побеждают. Поместье Эг распродается по частям, его
покупают сельские богачи и снова пускают в оборот, разделив на
много мелких участков. Крестьяне обмануты, буржуазная клика
торжествует, парк вырублен, замок разрушен. Вакханалия собствен-
нического свинства, как страшный смерч, уничтожила былое велико-
лепие.
Грядущая демократия казалась Бальзаку царством всеобщей
посредственности. «Какие оставим мы после себя дворцы, дома, ка-
кие шитые золотом ткани?.. Мы готовим вокруг Парижа вторую
римскую Кампанью к тому времени, когда пронесшийся с севера
ураган разрушит наши дворцы из гипса и все наше картонное вели-
колепие».
304 Чтобы избежать этой мрачной перспективы, Бальзак соглашает-
ся на любые условия. Власть королей и дворян, банкиров и даже
разбогатевших обойщиков кажется ему дешевой ценой, заплаченной
за сохранение большой культуры. Из элементов учения Фурье и
феодального социализма он создает несбыточную социальную уто-
пию. В «Сценах из сельской жизни» можно обнаружить даже бона-
партистские идеи. История зло посмеялась над этим доверием к
высшим классам. Империя Наполеона Ш явилась зловещей кари-
катурой на классовую идиллию, придуманную Бальзаком в романах
«Деревенский доктор» и «Сельский священник». Флобер, писавший
в эту эпоху, изобразил нам царство скуки и мещанского эгоизма,
гораздо более мелкого, чем эгоизм Растиньяка. После поражения
Парижской коммуны Сганарель и Дулькамара торжествуют в нра-
вах третьей республики. Чтобы понять дальнейшее загнивание выс-
ших классов Франции, нужно обратиться к ленинским тетрадям по
империализму.
Бальзак не знал, что первым условием для сохранения и разви-
тия культуры большого общественного масштаба является уничто-
жение классов. Но эту ошибку искупает превосходное искусство
Бальзака. Он посрамляет сегодняшних обойщиков, которые ради
своего картонного великолепия готовы спокойно смотреть на разру-
шение культуры.
Один из героев Бальзака говорит, обращаясь к посредственным
художникам: «Вы охватываете внешность жизни, но не выражаете
ее бьющего через край избытка» (166). Ощущение избытка жизни
образует тайну мастерства Бальзака. Развитие богатства человече-
ской природы как самоцель — вот завещание великого художника,
обращенное к современным людям, если его передать словами
Маркса.
4
Сочетание бесстрастного анализа и необыкновенной силы изо-
бражения является одной из главных особенностей Бальзака. В этом
отношении он подобен людям эпохи Возрождения. Когда Микел-
анджело спросили, где он видел, чтобы мать была моложе сына,
художник ответил: «Я видел это на небе». Между тем Pieta Микел-
анджело — произведение самого строгого реализма. Бальзак
старался увидеть «на небе» герцогиню де Ланже, Серафиту, д’Ар-
теза, социальных реформаторов, честных нотариусов и судей, иде-
альных аббатов. Быть может, эти идеальные фигуры удавались ему
гораздо менее, чем художникам эпохи Возрождения. Зато большин-
ство своих героев он действительно увидел в аду или — в чистили-
ще, и эти создания художественной фантазии описаны им с такой
изумительной точностью, которая не позволяет сомневаться в ре-
альности их существования. Впрочем, они действительно существо-
вали, после того как были описаны Бальзаком. Лафарг рассказывает
в своих воспоминаниях о Марксе: «Бальзака он ставил так высоко,
что собирался написать исследование о его крупнейшем произведе-
нии «Человеческая комедия», как только окончит свое сочинение
по политической экономии. Бальзак был не только историком об-
щества своего времени, но также творчески предвосхитил те фигуры,
которые при Луи-Филиппе находились еще в зародышевом состоя-
нии и только после смерти Бальзака, при Наполеоне III, достигли
полного развития» *. Так, публициста третьей империи Луи Верона
Маркс сравнивает с Кревелем из «Кузины Бетты».
Более точно выражаясь, главное обаяние или пафос «Челове-
ческой комедии» заложены именно в ее научном элементе: это по-
эзия знания. Фантастические «прообразы-типы» являются созда-
нием необычайно острого анализа реальных отношений. Это
социальные абстракции, но абстракции, богатые внутренним содер-
жанием, отлитые из металла самой жизни. Свою способность уга-
дывать эти конкретные абстракции Бальзак определяет как «второе
зрение».
Он говорит в предисловии к «Человеческой комедии»: «Прежде
всего такого рода персонажи, существование которых стало более
длительным, более несомненным, чем существование поколений, при
которых они были созданы, живут только в том случае, если они
являются полным отображением своего времени. Хотя они и зачаты
в утробе определенного века, но под их оболочкой бьется все же
человеческое сердце, в них часто скрыта целая философия... Слу-
чай— величайший романист мира: чтобы быть плодовитым, нужно
только его изучить. Самим историком должно было оказаться
французское общество, мне оставалось только быть его секрета-
рем» (7).
Буржуазная действительность преображается. Она мрачна, чу-
довищна, ио не мелка, не ничтожна; в ней есть величие, отталки-
вающее и притягательное. Даже пошлость и грязь импонируют
своей колоссальностью. Вожделения и страсти по-торгашески низ-
менны, но по-шекспировски грандиозны. Гнусная борьба из-за зо-
лота и наслаждений превращается в сражение гигантов, банальные
305
* К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. М., 1976, т. 2, с. 552.
мещанские несчастья — в античные трагедии. Ростовщики и скупцы
демонически величественны» бандиты и карьеристы титаничны, как
преступники Возрождения. Из черствой прозы буржуазного века
великий французский романист создает потрясающую поэму» мощ-
ное эпическое действо, где, как в античной мифологии, борются
мировые силы, стихии социального космоса. В этом «докторе со-
циальных наук» жила, быть может, самая могучая творческая фан-
тазия, какую видел мир после Шекспира. Удивительная точность
наблюдения и почти научная строгость анализа — это еще не весь
Бальзак, это только оправа, измеримая часть его гения. Настоящий
Бальзак там, где он состязается с действительностью, завершает в
идеальном мире искусства то, чего она не смогла и не успела докон-
чить; там, где он создает новые человеческие породы, реальные и
306 небывалые. Величайший критик буржуазной цивилизации, Бальзак
вместе с тем величайший ее поэт.
Нетрудно заметить, что в «Человеческой комедии» скрещивают-
ся два основных потока впечатлений и образов. Прежде всего мы
ощущаем упадок патриархальной поэзии вещей и обнажение болез-
ненно острых противоречий европейского общества первой полови-
ны XIX века. В романе «Отец Горио» представлен распад поколе-
ний и гибель провинциальных иллюзий. В «Крестьянах» мы видим
обратную сторону сельской идиллии. Святость домашнего очага,
рыцарские нравы и мещанские добродетели — все растворилось в
гигантской реторте Парижа, все превращается в суррогат, коммер-
ческую подделку. Уничтожение идиллических связей между людьми
и торжество чистогана («нет более близкого родственника, чем
стофранковый билет») имеют своим последствием господство рас-
чета над непосредственным чувством в общественной психологии —
явление, подробно обрисованное Бальзаком на страницах его
романов. Отсюда общая точка зрения великого французского пи-
сателя: иллюзии прежних поколений разрушены оргией частных ин-
тересов. Что остается на долю современного человечества? Бесстра-
стное наблюдение общественного процесса, в котором правда по-
беждает поэзию. Остается анализ прозаического содержания жизни,
наука о современных отношениях. У автора, писал Бальзак в пре-
дисловии к одному из сборников своих произведений, «не хватает
мужества сказать еще, что он скорей историк, чем романист, тем
более что критика станет упрекать его этим, словно он сам себя
похвалил. Он может только добавить, что в такое время, как наше,
когда все анализируется и изучается, когда нет веры ни священни-
ку, ни поэту, когда сегодня хулят то, что воспевали вчера,— поэзия
невозможна... Указать бедствия, вызванные изменением нравов,—
вот единственное назначение книг» (281—282).
И действительно, художественная абстракция Бальзака опирает-
ся на необъятную массу почти статистических наблюдений. Фран-
цузский писатель стремится к точному социальному диагнозу; он
считает свои романы столь же научно достоверными произведения-
ми, как исторические трактаты. Более того: он ставит себя выше
профессиональных историков, ибо последние изучают лишь поли-
тические события — официальный верхний слой общественной жиз-
ни, между тем как художник проникает глубже, и его задача — со-
здать историю нравов. Из этой задачи вытекает следующая, еще
более значительная. Чтобы не превратиться в «археолога общест-
венного быта», писатель должен изучить общую основу социальных
явлений, открыть разумный (или неразумный) смысл общественно-
го движения. Подобно Макиавелли, Гоббсу, Боссюэ, Лейбницу,
Канту, Монтескьё, он должен быть политическим мыслителем, даю-
щим знание для практической деятельности государственных лю-
дей.
Система — первое формальное условие науки, поэтому Бальзак
всячески старается внести в свою историю нравов методичность и
стройность системы. Все его романы должны были составить единое
целое, одну многотомную книгу о Франции — «Человеческую коме-
дию». Каждый из них сам по себе — законченное произведение, но,
кроме того, и часть художественного целого, раскрывающая свой
истинный смысл только в связи с другими частями здания. Нельзя
понять достаточно глубоко отдельный роман, повторяет Бальзак,
не зная его места и специального назначения в общей системе.
План «Человеческой комедии» внешне выдержан в строго индук-
тивном духе — это методическое восхождение от фактов к принци-
пам. Первая часть ее — «Этюды о нравах» — должна была дать уни-
версальное собрание фактов и наблюдений, чтобы ни одна жизнен-
ная ситуация, ни одна физиономия, ни один мужской или женский
характер, ни один образ жизни, ни одна профессия, ни один об-
щественный слой, ни один французский округ, ни что бы то ни
было, относящееся к детству, старости, зрелому возрасту, политике,
правосудию, войне,— не было бы забыто. «Этюды о нравах», самая
обширная часть «Человеческой комедии», в свою очередь разби-
ваются на шесть разделов:
сцены частной жизни, куда входят: «Тридцатилетняя женщи-
на», «Дом кошки, играющей в мяч», «Полковник Шабер», «Гоб-
сек», «Отец Горио» и др.;
сцены провинциальной жизни: «Евгения Гранде», «Жизнь холо-
стяка», «Провинциальная муза», «Музей древностей», «Лилия в
долине», «Утраченные иллюзии» и др.;
сцены парижской жизни: «История тринадцати», «Величие и
падение Цезаря Бирото», «Банкирский дом Нусингена», «Блеск и
нищета куртизанок», «Кузина Бетта», «Кузен Понс»;
сцены политической жизни: «Темное дело», «3. Маркас», неза-
конченный роман «Депутат от Арси» и др.;
сцены военной жизни: «Шуаны», «Страсть в пустыне» (этот
раздел остался самым неразработанным);
сцены крестьянской жизни: «Сельский врач», «Сельский свя-
щенник», «Крестьяне».
Внешний тематический принцип классификации имеет и фило-
софское значение: число и порядок разделов отражают главные
307
стадии человеческой жизни в их последовательности. Так, напри**
мер, «сцены частной жизни изображают детство, отрочество, их за-
блуждения, в то время как сцены провинциальной жизни — зрелый
возраст, страсти, расчеты, интересы и честолюбие... Наконец, сце-
ны сельской жизни представляют собой в некотором смысле вечер
длинного дня, если мне будет позволено так назвать социальную
драму. В этой части встречаются самые чистые характеры и вели-
кие начала порядка, политики и нравственности в их применении»
(15-16).
Следующая часть «Комедии» — «Философские этюды» — долж-
на дать определение и оценку основ общества, правила, условия, вне
которых ни общество, ни человек не существуют. «Суть писателя —
то, что его делает писателем... это некоторое определенное мнение
308 ° человеческих делах» (8). Здесь помещены «Шагреневая кожа»,
«Прощенный Мельмот», «Серафита», «Луи Ламбер», «Неведомый
шедевр», «Поиски Абсолюта» и др.
И, наконец, в «Аналитических этюдах» (третьей части «Челове-
ческой комедии») речь идет о вечных законах истории и мирозда-
ния, о «первоначалах». Это самая небольшая по числу произведе-
ний и незаконченная часть «Комедии». В нее входят «Физиология
брака» и «Мелкие невзгоды супружеской жизни».
Конечно, в этой странной классификации много фантастического.
Для того чтобы осуществить задуманный план грандиозной энци-
клопедии современной жизни (идея «Человеческой комедии» воз-
никла в середине 1830-х гг.), Бальзак старается уложить ранее на-
писанные произведения в рамки новой системы. Он меняет имена
своих героев, придумывает искусственные связи между отдельными
романами.
Само по себе деление системы на три части: наблюдение след-
ствий, выяснение причин и анализ оснований (принципов), а
также последующее деление этих отделов на серии («сцены»), ко-
ренится в популярной философии конца XVIII — начала XIX века,
весьма причудливой в своей систематической части. Оно не принад-
лежит специально ни Сведенборгу, ни Бональду, у которых будто
бы его заимствовал Бальзак, но встречается в разнообразных ва-
риантах у самых различных авторов, вплоть до Ретифа. Стремление
к универсальной системе является господствующей, почти маниа-
кальной страстью писателей эпохи 1789—1848 годов. В этом отно-
шении классификация «Человеческой комедии» не более научна,
чем фантастические схемы Фурье или немецких натурфилософов, и
не менее их богата внутренним содержанием. Это содержание по-
стоянно ломает искусственные подразделения и рамки системы.
Почему «Физиология брака» — аналитический этюд, а «Шагре-
невая кожа» — только философский? Разве в последнем произведе-
нии речь идет не о вечных началах всякого человеческого существо-
вания, не о схватке жизни с желанием, началом всякой страсти?
Неужели «Гобсек» менее философичен, чем «Шагреневая кожа»,
к которой он близок по духу и образам?
Истинные мотивы, побудившие Бальзака поместить тот или дру-
гой роман в одну из рубрик «Человеческой комедии», в настоящее
время неясны. Но это вопрос второстепенный. Действительное
единство «Человеческой комедии» — не в этикетках системы* она
опирается на единство картины, общность героев и связь событий,
переходящих из романа в роман. Почти необозримое фабульное и
типическое богатство «Комедии» сосредоточено вокруг центральной
группы действующих лиц, в которой каждый общественный класс,
каждое житейское положение имеют своих постоянных представи-
телей. Таковы, например, Растиньяк, Вотрен, Люсьен де Рюбампре,
барон Нусинген, г-жа д’Эспар. Каждый из них — главная фигура
в одном романе, а в других появляется в качестве лица второсте-
пенного. Так, Растиньяк — центральный персонаж «Отца Горио» —
фигурирует еще в четырнадцати романах. Этот прием позволяет
Бальзаку добиться большой рельефности и многосторонней характе-
ристики. Встречаясь с Растиньяком, мы каждый раз узнаем его с
новой стороны. Растиньяк «Отца Горио», неопытный и благород-
ный юноша,— совсем не то, что Растиньяк — биржевый спекулянт
в «Банкирском доме Нусингена», великосветский прожигатель жиз-
ни из «Шагреневой кожи», политический карьерист и циник в «Де-
путате от Арси». Но еще важнее сквозное построение «Комедии»
для иллюзии жизненности ее героев и событий, которая тем силь-
нее, чем больше мы вчитываемся в «Комедию». В каждом романе
мы вновь сталкиваемся с уже знакомыми лицами или слышим о них
из уст новых героев, узнаем новые детали их биографии; мы свы-
каемся с ними настолько, что по временам забываем о вымышлен-
ном существовании этих лиц. Они кажутся нам такой же действи-
тельной, необходимой частью жизни, описываемой Бальзаком, как
и города, в которых они живут, улицы, по которым они ходят.
И, наконец, единство «Человеческой комедии» заключается в
целостном отражении эпохи 1789—1848 годов во Франции. Романы
Бальзака дают живую картину истории буржуазного общества в его
зарождении, подъеме, первом великом социальном кризисе, за кото-
рым следует «вечер длинного дня». Каждая из этих ступеней имеет
особый исторический колорит, своеобразные нравы, свои приемы
обогащения, любви, убийства, политического возвышения, свои при-
чуды и фантазии. Хотя Бальзак иногда обращается к XVI или
XVII столетиям, но эти исторические экскурсы служат для него
лишь восстановлением родословного древа современной Франции.
Активный исторический фон «Человеческой комедии» отделен от
прежней истории Великой французской революцией. К этому вре-
мени восходит нечистое господство буржуазии, зарождение совре-
менных богатств, феодализма денег. Сокровища старого Гранде,
карьера сенатора Малена, могущество деревенского ростовщика
Ригу — все это зародилось в смутные времена падения монархии
и великого перераспределения собственности. Другой исторической
границей «Человеческой комедии» является грядущая социальная
катастрофа, которую Бальзак предчувствует, не уставая напоминать
309
о ней временным хозяевам Парижа. Эта катастрофа рисуется ему
как разрушительное восстание рабочего класса либо как растворе-
ние культуры в нирване мелкой крестьянской собственности или,
наконец, как «ураган, пронесшийся с севера» над Парижем и его
окрестностями — нечто подобное переселению народов и разруше-
нию Рима варварами. Таков исторический горизонт «Человеческой
комедии».
Между революцией 1789 года и грядущей социальной катастро-
фой кипит и волнуется житейское море. В нем «каждый слой об-
щества хочет метать икру в водах другого, более высокого». Здесь
замыкается круг величия и падения, которому Цезарь парфюмерной
промышленности подвержен так же, как император Франции, здесь
блеск и нищета ослепляют невыносимым контрастом, добро и зло
310 растворяются в потоке обстоятельств. Это изображение француз-
ского общества является самой правдивой картиной противоречий
буржуазного строя жизни, освобожденного от пут феодализма и
несцрсобного справиться с могущественным духом развития. Все
обаяние «Человеческой комедии» состоит в гениальной обработке
исторического опыта 1789—1848 годов. Художественная сила Баль-
зака — в правдивой передаче свежего, потрясающе острого чувства
превратности нового общественного строя, утвердившегося на раз-
валинах патриархальных порядков, чувства порочности закона,
управляющего развитием жизни и подчиняющего своей власти не-
обозримые толпы людей. Этот исторический опыт большой челове-
ческой массы замечательно выражен Марксом в речи на юбилее
чартистской «Народной газеты»: «Налицо великий факт, характер-
ный для нашего XIX века, факт, который не смеет отрицать ни одна
партия. С одной стороны, пробуждены к жизни такие промышлен-
ные и научные силы, о каких и не подозревали ни в одну из предше-
ствовавших эпох истории человечества. С другой стороны, видны
признаки упадка, далеко превосходящего все известные в истории
ужасы последних времен Римской империи.
В наше время все как бы чревато своей противоположностью.
Мы видим, что машины, обладающие чудесной силой сокращать и
делать плодотворнее человеческий труд, приносят людям голод и
изнурение. Новые, до сих пор неизвестные источники богатства бла-
годаря каким-то странным, непонятным чарам превращаются в
источники нищеты. Победы техники как бы куплены ценой мораль-
ной деградации. Кажется, что, по мере того как человечество подчи-
няет себе природу, человек становится рабом других людей либо же
рабом своей собственной подлости. Даже чистый свет науки не мо-
жет, по-видимому, сиять иначе, как только на мрачном фоне неве-
жества. Все наши открытия и весь наш прогресс как бы приводят
к тому, что материальные силы наделяются интеллектуальной жиз-
нью, а человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной
стороны, низводится до степени простой материальной силы.
Этот антагонизм между современной промышленностью и наукой,
с одной стороны, современной нищетой и упадком — с другой, этот
антагонизм между производительными силами и общественными
отношениями нашей эпохи есть осязаемый, неизбежный и неоспори-
мый факт» *. Такова основная тема «Человеческой комедии».
5
Маркс и Энгельс считали Бальзака величайшим романистом
мира, бесспорным победителем в состязании с профессиональными
историками. Приведем знаменитую характеристику Энгельса из
письма к М. Гаркнесс: «Бальзак, которого я считаю гораздо более
крупным мастером реализма, чем всех Золя прошлого, настоящего
и будущего, в «Человеческой комедии» дает нам самую замечатель-
ную реалистическую историю французского «общества», особенно
«парижского света», описывая в виде хроники, почти год за годом
с 1816 по 1848 г., усиливающееся проникновение поднимающейся
буржуазии в дворянское общество, которое после 1815 г. перестрои-
ло свои ряды и снова, насколько это было возможно, показало об-
разец старинной французской изысканности. Он описывает, как по-
следние остатки этого образцового, для него, общества либо посте-
пенно уступали натиску вульгарного богача-выскочки, либо были
им развращены; как на место великосветской дамы, супружеские
измены которой были лишь способом отстоять себя и вполне отве-
чали положению, отведенному ей в браке, пришла буржуазная жен-
щина, наставляющая мужу рога ради денег или нарядов. Вокруг
этой центральной картины Бальзак сосредоточивает всю историю
французского общества, из которой я даже в смысле экономических
деталей узнал больше (например, о перераспределении движимого
и недвижимого имущества после революции), чем из книг всех спе-
циалистов— историков, экономистов, статистиков этого периода,
вместе взятых» **.
Однако самые интересные экономические детали не составляют
еще художественного произведения. Между тем в «Человеческой
комедии» эти детали отнюдь не являются внешним прибавлением.
Они живут, представляя собой неотъемлемую часть драматического
действия, и нередко сами образуют запутанный узел интриги. Та-
ковы, например, спекулятивные опыты Цезаря Бирото, история
наследства графа де Ресто, похождения «короля коммивояжеров»
Годиссара. Как можно извлечь поэтическое обаяние из таких обы-
денных, прозаических отношений? В этом и заключается особен-
ность искусства Бальзака. Приняв мир таким, каков он есть — ли-
шенным поэтического ореола и утратившим прочные понятия о
добре и зле,— Бальзак извлекает из этого состояния могучую и
своеобразную поэзию. Здесь раскрывается перед нами вторая черта
«Человеческой комедии». Убивая своим анализом и без того вялую
патриархальную романтику прошлого, Бальзак находит в происхо-
311
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 3—4.
** Там же, т. 37, с. 36.
дящеи революции нравов, которую он отражает, источник великого
чувства — чувства возвышенного. Чтобы пояснить это эстетическое
состояние, напомним пушкинского «Скупого рыцаря». Что может
быть отвратительнее скупости? Но скупость, которая приводит к
обладанию сокровищем, заключающим в себе концентраты власти
и всех человеческих чувств — «обманов, слез, молений и прокля-
тий»,— эта скупость становится величественной. Эмоциональная
основа новеллы о Гобсеке близко подходит к пафосу «Скупого ры-
царя». Деньги рассеивают поэтический ореол вокруг отношений
людей друг к другу, и все-таки в своей демонической власти они
являются источником суровой, специфически новой поэзии.
Бальзак хорошо понимал внутреннюю ложность положения ху-
дожника в буржуазном мире. Об этом свидетельствуют многочис-
312 ленные замечания в его статьях и романах. В то же время, ощущая
неполноценность своей эпохи с точки зрения идеальной поэзии, он
инстинктивно чувствовал большую историческую трагедию, зало-
женную в современном ему состоянии. И, несомненно, подобная
трагедия также может служить источником поэтического чувства,
несовершенного — в силу прозаического характера жизненного ма-
териала буржуазного общества,— но не лишенного духовной энер-
гии и величия. В противном случае, как могла бы существовать
классическая литература XIX века? Она находит свою идею в изо-
бражении великой социальной болезни, ее художественный пафос —
в победе реализма, правды над всякой иллюзией, хотя бы и самой
заманчивой, самой прекрасной.
В сущности говоря, образы Бальзака — это «цветы зла». Глав-
ный эффект «Человеческой комедии» состоит в удивлении перед
контрастами парижской жизни, перед моральными чудовищами, ко-
торые шевелятся на дне большого города. Поэзия Бальзака — это
поэзия отрицательных величин: «Порок более заметен; он изобилен
и, как говорят торговцы о шали, очень выигрышен; добродетель,
напротив, являет для кисти лишь необычайно тонкие линии. Добро-
детель абсолютна, она едина и неделима, как была Республика; по-
рок же многообразен, многоцветен, неровен, причудлив» (169).
Конечно, Бальзак ненавидит капитализм. Значит ли это, что
выведенные им деятели буржуазного XIX столетия для него лишь
объекты разоблачения? Вовсе нет. Если в трактовке какого-нибудь
Матифа общий тон остается пренебрежительно-насмешливым, если
в изображении братьев Куэнте чувствуется действительная нена-
висть к пошлости и преступлению, то центральные образы «Челове-
ческой комедии» — Гобсек, Вотрен, Растиньяк — пользуются ува-
жением и даже любовью автора, несмотря на то что они отнюдь
не являются героями добродетели. Всякое эпическое произведение
привлекает сочувствие к главным действующим лицам — это спра-
ведливо и для романа. Вместе с тем именно это условие здесь по-
рождает наибольшие трудности. Роман — эпопея буржуазного
мира, по выражению Гегеля. Хотя Бальзак имеет таких предшест-
венников, как Гёте и Стендаль, он все же является действительным
основателем социального романа XIX века. Никто из его великих
современников и продолжателей не сумел вложить столько жизни
в самые прозаические обстоятельства. «Исследование» (etude) для
него равнозначно выявлению поэзии. Рядом с живописным мето-
дом Бальзака создания Золя кажутся результатом мертвого, меха-
нического наблюдения.
Художественный опыт Бальзака в этом отношении очень пока-
зателен. Трудно обвинить его в идеализации героев, подобных Гоб-
секу, а между тем старый ростовщик, фигура уродливая до чрезвы-
чайности, по-своему прекрасен. Он как будто сошел с картины
какого-либо голландца XVII века, с портрета школы Рембрандта.
Несмотря на чудовищное своекорыстие, в нем проявляются и симпа-
тичные черты, как об этом рассказывает в новелле душеприказчик
Гобсека честный поверенный Дервиль.
У Бальзака расчеты промотавшегося денди — героико-комиче-
ская поэма, банкротство — целая «Одиссея», несчастья обоих Биро-
то, священника и парфюмера,— несчастья всего человечества. В этом
отношении он также напоминает художников эпохи Возрождения.
«Что за удивительная вещь перспектива!» — воскликнул однаж-
ды Паоло Учелло. Кажется странным, что такие живописцы этого
времени, как Учелло, Пьеро делла Франческа и другие, могли фана-
тически увлекаться начертательной геометрией, теорией света, ана-
томией. Но чертежи итальянских художников содержат больше на-
стоящей поэзии, чем принципиально-поэтические создания Бёклина.
Это не удивительно. Возрождение в Европе было периодом юности
естественных и точных наук. Для человека XV—XVI столетий
цифры и линии не заключали в себе ничего сухого, враждебного
искусству. Напротив, открытие правильных пропорций человеческо-
го тела, законов перспективы, количественных отношений света и
тени внушало энтузиазм, преклонение перед чувственной гармонией
мироздания.
Время Бальзака было годами юности общественной науки. Фи-
лософия истории, утопические прогнозы будущего, экономический
анализ — все это породило в начале XIX века немало вдохновен-
ных, насыщенных высокой поэзией страниц. Французские историки
эпохи Реставрации следуют за Вальтером Скоттом, открывшим пре-
лесть исторического колорита, внутреннее богатство обычных отно-
шений («нравов»). Огюстен Тьерри пишет «Рассказы из времен
Меровингов», Сисмонди соединяет в себе историка литературы и
экономиста. Читая описание сорока двух способов банкротства у
Фурье, мы как бы находимся в преддверии «Человеческой коме-
дии». И обратно — в таких произведениях, как «Банкирский дом
Нусингена», невозможно отделить экономический трактат от дра-
матической истории и остроумного диалога. Умение найти поэзию
в прозе, разумное начало в действительной жизни — отличительный
признак классического реализма конца XVIII и первой половины
XIX века. Особенно ярко эта черта сказалась в романах Баль-
зака. Нигде в мировой литературе мы не найдем такого свободного
313
и живого переплетения экономического анализа и трогательной иль
возвышенной повести о человеческих отношениях. В романах Баль-
зака всеобщая борьба интересов образует эпический фон для вол-
нующего повествования. Социальная драма становится источником
оригинальной поэзии, по-новому освещает историю личного чувства,
семейные сцены, провинциальные странности, тайны прилавка и
конторы, деревенские добродетели и светские пороки — короче, весь
небольшой запас контрастов и положений, способных вызвать ин-
тересное действие на почве буржуазного общества, широко исполь-
зованный предшествующими романистами от Голдсмита до г-жи
Коттен.
В поисках животворящей силы для обновления большой эпиче*
ской формы Бальзак обращается к парадоксам общественной нау-
314 ки. Сочетание материальных отношений и личной страсти, эконо-
мии и психологии, железного закона обстоятельств и разнообразия
случайностей, статистики и авантюры — таков художественный
синтез «Человеческой комедии». Еще несколько шагов в сторону
чистой социологии, вычисления средних общественных типов —
и перед нами натурализм Золя. Немного меньше реального напол-
нения— и обнажится традиционный остов увлекательного романа:
сеть неоправданных случайностей, искусственных совпадений, не-
обычайных поступков, каприциозных живописных деталей, иначе
говоря — вся совокупность элементов выродившегося героического
эпоса, перенесенная на почву современной прозы и чуждая ей. В луч-
ших произведениях Бальзака фантастика вырастает из веществен-
ной реальности, в более слабых или незрелых вещах эти элементы
распадаются или с самого начала выступают раздельно. Так, напри-
мер, Гобсек — реальная фигура, несмотря на свою фантастичность,
наоборот, Феррагюс и разочарованные мстители из общества три-
надцати— искусственная фантастика, несмотря на множество пре-
красных деталей, обаятельных в своей реальности. В целом «Чело-
веческая комедия» Бальзака занимает в истории романа то
благодарное положение, которое можно назвать классическим. Она
отражает развитие капитализма в его период «бури и натиска», ко-
гда могущественные противоречия буржуазного строя уже внесли
в застойную жизнь миллионов лихорадочную энергию, а мрачная
давящая сила монополий еще не отравила общество своей мертвя-
щей скукой. Бальзак рисует общественное состояние, в котором сле-
пые безличные силы выступают в индивидуальной форме как лич-
ности и личные отношения. Капитализм непосредственно является
в образе денег — силы, уравновешивающей все различия и текучей,
но не лишенной исторических традиций, не абсолютно бесформенной
и абстрактной, как более сложные (и более простые) явления то-
варного мира. Деньги, рассеивающие поэтический ореол вокруг
человеческих отношений, которые вместе с тем в своей демонической
власти становятся важным источником специфически новой поэзии,
эти деньги в изображении Бальзака — не отвлеченное богат-
ство современных банков, а непосредственно золото (см., напр..
«Фачино Кане»), рождающее священную жажду aura sacra fames.
Богатство не потеряло еще своей эстетической формы, наоборот,
ему сопутствует роскошь, внешнее великолепие, оргия обладания,
стремление «угодить одному органу чувств, самому жадному и раз-
вращенному,— органу, который развивался у человека со времен
римского общества и чьи потребности стали безграничными благо-
даря усилиям утонченной цивилизации. Этот орган — глаз парижа-
нина» (230—231).
Бедность также не является еще рутиной, как в «Жерминале»
Золя. Это гнойная, кровоточащая рана, результат чрезмерных пре-
тензий общества, бедность от избытка. Само преступление, на кото-
ром основано господство имущих классов, выступает в своей непо-
средственной уголовной форме. Отсюда сближение финансового
мира с преступным в «Человеческой комедии», возрождение босяче-
ства на вершине общественной пирамиды. «Медицина и хирургия,—
говорит Бальзак,— наперсницы эксцессов, вызванных страстями,
как слуги закона — свидетели эксцессов, порожденных столкнове-
нием интересов. Весь драматизм и комизм нашего времени — в гос-
питале или в изучении служителей закона» (280). Естественным
основанием для этой картины буржуазного общества является фран-
цузская история с присущим ей видимым преобладанием политики
и финансов над промышленным производством, и особенно эпоха
Луи-Филиппа — период господства финансовой олигархии. В этой
исторической и национальной основе коренятся условия, которые
позволили великому французскому писателю преодолеть сопротив-
ление жизненного материала, враждебного поэзии. Здесь он нашел
источник живого движения, необходимого для возрождения эпоса
в прозаической форме романа. Отсюда замечательные литературные
достоинства «Человеческой комедии». Отсюда также и многие мел-
кие слабости гениального романиста, тесно связанные с достоинст-
вами и вытекающие из тех же исторических условий. Бальзак хоро-
шо понимал сложность своего положения, и все же он должен был
подчиниться объективному закону: без поэтического освещения не
бывает картины.
Однако, рисуя уродство даже самого поэтического свойства,
художник невольно переносит в свое произведение ложность изо-
бражаемого предмета. Нечто подобное можно наблюдать в поздней-
шей натуралистической и декадентской литературе, которая стре-
мится передать все отвратительные, жестокие, грязные стороны
жизни, но при этом сама становится жестокой и грязной.
«Человеческая комедия» еще далека от подобной ступени.
Изучая общественную болезнь, Бальзак не заражается ею сам: он
представляет вниманию читателя наблюдения врача, а не бред боль-
ного. Между тем опасность все же велика. Бальзак не хочет, чтобы
изображение сильных личностей, пренебрегающих узким горизон-
том буржуазного права, было воспринято как апология зла. Поэто-
му он постоянно оправдывается от обвинения в безнравственности
и делает это не только из страха перед официальным общественным
мнением, но и по собственному внутреннему убеждению. Отсюда
морализующие авторские вставки, которые должны ослабить силь-
ное впечатление, производимое личностью какого-нибудь Вотрена.
Бальзак убеждает читателя подождать с окончательным суждением,
обещая сохранить превосходство положительного над отрицатель-
ным в общих пропорциях «Человеческой комедии». И действитель-
но: он создает романы, в которых возвещается победа доброго
начала над злым,— в таких романах, как «Сельский врач» или
«Сельский священник», далеко не лучших его произведениях.
И, наконец, Бальзак занимается статистикой, для того чтобы до-
казать, что количество созданных им положительных героев пре-
вышает количество отрицательных. Плохое утешение! Ибо доста-
точно одного Гобсека, чтобы перевесить всех добродетельных дей-
316 ствующих лиц «Человеческой комедии».
На деле искусственные опоры морального равновесия лишь
умножали слабые стороны произведений Бальзака. Действительное
решение вопроса содержится в объективной логике развития цент-
ральных образов «Человеческой комедии». Гобсек, Растиньяк, Во-
трен, конечно, не могут быть названы положительными героями.
Правда, не менее ошибочно было бы видеть в этих фигурах только
воплощение злого начала. Центральные образы «Человеческой ко-
медии» символизируют исторические силы буржуазного общества,
раскованные французской революцией. Эти силы, разумеется, чудо-
вищны и безмерны; они стихийны и потому содержат в себе отчет-
ливые признаки внутреннего антагонизма, грядущего кризиса и
катастрофы. Но эти силы делают прогрессивное дело в объективном
историческом смысле слова.
Отвечая на рассуждения либеральных филантропов, которые хо-
тели бы устранить дурные стороны капитализма, сохранив одни
лишь хорошие, Маркс писал, что именно дурная сторона, порождая
борьбу, создает историческое движение. Буржуазия разрушает все
патриархальные отношения, превращает личное достоинство чело-
века в меновую стоимость и вместе с тем впервые показывает, чего
может достигнуть человеческая деятельность.
Такова жизненная основа реализма «Человеческой комедии».
Вполне естественно, что изображение оригинальных характеров
новой эпохи отличается у Бальзака объективной двойственностью.
Мы не можем симпатизировать таким человеческим типам, как Гоб-
сек, и в то же время не можем судить их с точки зрения идилличе-
ских отношений, которые они разрушают. В этом реальном противо-
речии— источник художественного обаяния «Человеческой коме-
дии», игра светотени, которая придает фигурам Бальзака такую
рельефность. Центральные образы его произведений — это искажен-
ные, уродливые формы развития могучих, объективно революцион-
ных общественных сил. В описании таких характеров концен-
трируется общее восприятие революции нравов, лежащее в основе
«Человеческой комедии». Вотрен, Гобсек, Растиньяк, подобно кон-
дотьерам эпохи Возрождения, представляют собой фигуры глубо-
кого нравственного напряжения, хотя итогом их общественной
деятельности является разложение всякой устойчивой нравствен-
ности. Их оправдание — в узости общественных норм, которые им
приходится нарушать. Невольно вспоминается характеристика од-
ного из действующих лиц «Парижских тайн», данная Марксом в
«Святом семействе»: «Мастак— преступник геркулесовского сло-
жения и большой духовной энергии. По воспитанию своему он обра-
зованный и знающий человек. Он, страстный атлет, приходит в
столкновение с законами и привычками буржуазного общества, для
которого общей меркой служит посредственность, хрупкая мораль
и тихая торговля. Он становится убийцей и предается всем изли-
шествам, на какие только способен сильный темперамент, нигде не
находящий для себя соответствующей человеческой деятельно-
сти» *.
В центральных образах «Человеческой комедии» личное начало
доведено до такой виртуозности, что они становятся почти безлич-
ными воплощениями принципов или страстей, которые служат дви-
жущим мотивом общественного развития в капиталистическую эпо-
ху. И подобно тому как во всех областях общественной жизни капи-
тализм не может создать ничего устойчивого и постоянно работает
против самого себя, разоблачая низость своих собственных отно-
шений, так в области нравственной жизни характеры, созданные
гением Бальзака, являются воплощением общественной бури, пред-
вещающей новые горизонты человеческой деятельности. В них есть
величие, устремленное к будущему, свобода от местной, патриар-
хальной, сословной, мещанской ограниченности. Сама история со-
единила в этих фигурах разрушение и творчество, положительное
и отрицательное, духовную энергию и нравственный маразм.
Поэтическая основа «Человеческой комедии» заложена в чувст-
ве возвышенного, которое возникает при виде распада всех устой-
чивых общественных форм и лихорадочного развития буржуазного
строя навстречу неведомой, но неизбежной социальной катастрофе.
В этой поэтической основе мы различаем два элемента. Прежде
всего, как заметил Энгельс в письме к М. Гаркнесс, произведения
Бальзака — непрестанная элегия по поводу разрушения старого
общественного порядка. Не следует рассматривать этот элегиче-
ский тон (поражающий читателя не только в «Музее древностей»,
но и в «Крестьянах» и даже в «Цезаре Бирото») как нечто относя-
щееся только к ограниченной стороне произведений Бальзака; по
крайней мере было бы неправильно отрицать глубокое чувство
возмущения нечистым господством буржуазии, заложенное в этой
бальзаковской элегии. Свое элегическое настроение Бальзак раз-
деляет с такими писателями, как Вальтер Скотт. Особенно близок
он в этом отношении к романтической школе в области поэзии,
исторической науки, политической экономии. Элегия выражает не-
посредственно острое чувство противоречия, дисгармонии в мире.
317
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 194.
которое отделяет Бальзака от грубых апологетов буржуазного
строя. Без элегического оттенка в изображении победы расчета над
патриархальной наивностью «Человеческая комедия» превратилась
бы в апофеоз Растиньяков, Вербрустов и дю Тийе.
Впрочем, само по себе элегическое чувство слишком однообразно
для мужественной натуры Бальзака. Жалобы романтиков, их со-
крушение по поводу окончательной модернизации общества кажут-
ся ему банальными. Непрестанная элегия посредством самоотрица-
ния развивается в широкую реалистическую картину действитель-
ной жизни. Художественный синтез «Человеческой комедии»
состоит в том, что элегия осложняется новым, не менее важным
элементом художественной манеры Бальзака, элементом иронии.
Именно ирония, характерное сопоставление иллюзии и реальности,
318 в котором умирает всякая наивность «и люди приходят, наконец,
к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свое жизненное
положение и свои взаимные отношения», эта изумительная бальза-
ковская ирония создает свободный всемирно-исторический горизонт
его произведений. Особенность Бальзака — в реалистической трак-
товке иронии, которая была известна романтикам и все же терялась
у них в чисто субъективной игре. Достаточно вспомнить новеллу
«Прощенный Мельмот», в которой Бальзак рассказывает забавную
историю о том, как средневековый договор с чертом попадает на
биржу и обесценивается благодаря перевесу предложения над
спросом. Этот оборот романтической традиции сближает Бальзака
с Гейне. Однако в силу национальных условий развития Гейне
остается превосходным лириком, между тем как в образах «Челове-
ческой комедии» раскрывается многообразие объективного общест-
венного мира.
Переплетение элегии и сарказма на почве истории современных
нравов — вот основной характер художественной манеры Бальзака.
Из столкновения этих элементов рождается драма буржуазных от-
ношений, или, вернее,— трагикомедия как определяющая форма вос-
приятия действительности. В статьях и предисловиях к своим про-
изведениям Бальзак нередко указывает на неизбежность развития
драматической формы в романе XIX века. Победа драматической
композиции отражает колоссальное напряжение общественных про-
тиворечий в период 1789—1848 годов. Но из этих противоречий не
было еще реального исхода.
Рабочий класс уже появился в качестве самостоятельной силы
на арене истории. И все-таки не следует забывать, что Коммунисти-
ческий манифест Маркса и Энгельса вышел из печати незадолго до
смерти Бальзака. Кругозор гениального романиста ограничен теми
условиями, которые создали и великие непреходящие достоинства
его произведений. Бальзак не раз пытался раздвинуть границы на-
меченной им трагикомической формы повествования. В некоторых
случаях он поднимается до трагизма, очищенного от всякой насмеш-
ки. Но здесь, на этом пути, его подстерегает опасность. Едва воз-
вышенное чувство освобождается от умеряющей трезвой иронии,
как возникают абстрактные, искусственные создания фантазии.
Бальзак неизменно попадает в невыгодное положение, стремясь
передать наиболее крайнее развитие социальных противоречий и об-
нажить борьбу общественных сил в непосредственно личной форме.
Это ему не удается. В похождениях Феррагюса и всех тринадцати
разочарованных мстителей много общего с бульварно-филантропи-
ческой романистикой 1830—1840-х годов. Художественный синтез
«Человеческой комедии» здесь распадается, искусственные ужасы,
сенсационные контрасты дворцов и подвалов ведут обратно в юно-
шескую лабораторию Бальзака, создателя «Пирата Аргоу» и
«Жана Луи».
В других случаях мы видим, наоборот, попытки расширить ху-
дожественный кругозор «Комедии» усилением иронического эле-
мента. Отсюда у Бальзака рождается другая опасность — специфи-
чески парижское балагурство «Физиологии брака» и некоторых но-
велл. Здесь также распадается высокий синтез «Человеческой ко-
медии». Новелла переходит в очерк, фельетон, восстанавливается
традиция «Кодексов» Рессона, буржуазный материал теряет возвы-
шенно-поэтическое освещение, которое способно сделать его инте-
ресным для читателя.
Отсюда также типичные недостатки литературного языка «Че-
ловеческой комедии». Вообще говоря, язык Бальзака превосходен,
полон воодушевления и драматизма, несмотря на перегруженность,
лишние отступления и другие изъяны (обычно упоминаемые
авторами историко-литературных исследований). И все же у Баль-
зака встречаются страницы, которые так же трудно переносимы, как
некоторые места из «Воскресения» или «Крейцеровой сонаты» Тол-
стого. Таковы в «Человеческой комедии» необыкновенные совер-
шенства светской жизни, описываемые языком изумленного плебея,
лазурные, розовые тона в изображении идеальных предметов и, на-
оборот, чрезмерная чернота а 1а Гверчино, которая необходима
писателю, для того чтобы выставить на свет лохмотья его крестьян.
Все эти элементы барочной грубости и маньеризма — неизбежная
дань общественным условиям его творчества.
6
Рассмотрим художественный синтез «Человеческой комедии» с
историко-литературной точки зрения. Как всякое оригинальное
историческое явление, Бальзак имеет своих непосредственных пред-
шественников, развивших отдельные стороны его литературной про-
граммы в малозначительной, карликовой форме. Так, с полным
основанием устанавливают связи между «Человеческой комедией»
и «готическим» романом Анны Радклиф, указывают на ближайших
учителей Бальзака — «бульварных» романистов Дюкре-Дюмениля
и Пиго Лебрена, обращаются к традиции «кодексов», урбанистиче-
ских очерков и сцен, восходящей еще к XVIII веку. Однако, до-
стигнув известных масштабов, всякое значительное явление литера-
319
туры выходит из ряда своих непосредственных предшественников
и становится продолжением большой классической традиции.
В этом смысле «Человеческая комедия» является прежде всего даль-
нейшим развитием реалистического классического романа
XVIII века с его девизом, начертанным рукою Филдинга: «Ро*
ман — это история частной жизни народов».
Для романистов просветительной эпохи история частной жизни
противоположна битвам гигантов и спорам царей. Это спокойная
область в отличие от мира высокой страсти, неразрешимых кон-
фликтов любви и долга, государственного разума и личной чести.
Конечно, история частной жизни также проникнута движением, без
движения роман невозможен, как и трагедия. И здесь действует
страсть, по крайней мере в самой обыкновенной и общедоступной
32/0 форме частного интереса. У романистов XVIII века заметен даже
избыток движения и многофигурность композиции — признаки,
свидетельствующие о незрелости жанра. Этот способ изображения
можно сравнить с перспективной («ведутной») гравюрой XVII—
XVIII веков, где в неизбежном сокращении представлены целые
области, города, армии, стоящие друг против друга в полном бое-
вом порядке, мирное население, занятое полезной работой. И все
это с точностью географической карты, наивно и правильно, условно
и трезво в одно и то же время.
Мы наслаждаемся приключениями Молль Флендерс или Робин-
зона Крузо. Но в этих фигурах есть что-то слишком далекое от нас,
какая-то игрушечность; кажется, будтр на жизненной сцене дви-
жутся искусно сделанные заводные куклы. Их душевная жизнь
проста, страдания не глубоки, и даже пессимизм — явление неред-
кое в XVIII веке—является как бы результатом неблагоприятных
внешних условий, которые сами вытекают из странностей мирозда-
ния (чтобы изложить сомнения своей эпохи Вольтеру понадоби-
лось лиссабонское землетрясение). Изображая историю частной
жизни народов, писатели XVIII века умели показывать общество
не только с парадной стороны. Они понимали относительность вы-
сокого и низкого, хорошего и дурного, разумного и случайного в
мире. Они заставляют своих героев взбираться вверх по черной
лестнице, проводят их через самые отчаянные положения. И все же
после всех треволнений жизни писатели XVIII века награждают
нас хорошим концом.
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.
Веселый Жиль-Блаз делается добродетельным секретарем гер-
цога де Лерма. Том Джонс, найденыш, после бурно проведенной
юности попадает, наконец, в тихую пристань брака и оказывается
вдобавок законным наследником достопочтенного сквайра Альвор-
та. В тех случаях, когда это счастливое увенчание отсутствует, рас-
сказ остается все же однообразной цепью приключений: различные
помехи возникают на жизненном пути героя и преодолеваются им.
Развитие повествования состоит в постоянном повторении этого эле-
ментарного задерживающего мотива. И, кажется, только внешние
препятствия мешают гармонии интересов всех людей, победе разум-
ного и доброго над беспорядочной стихией жизни.
Хотя моральное увенчание жизненной драмы является часто
внешней условностью, эта условность все же указывает на внут-
ренний недостаток литературы XVIII века — недостаток глубокого
драматизма; за исключением немногих произведений («Манон Ле-
ско», «Калеб Вильямс» и отчасти «Том Джонс»), в романах про-
светительной эпохи нет характерного для драматического напряже-
ния центральной мысли, нарастающего внутреннего горения, слож-
ного хора звуков; нет органического развития через внутреннюю
борьбу и раздвоение единого на противоположные элементы. Здесь 321
действует еще старинная однолинейность композиции, однообразие
рассказа, увлекательного, но бледного, как простая мелодия, испол-
ненная двумя или тремя голосами в унисон в отличие от могучей
гармонии симфонической музыки.
Читатель получает известия о судьбе интересующих его героев
извне, он не проникает в сценическое пространство романа. Это
пространство условно, оно не имеет достаточной глубины, измеряе-
мой расстоянием между фигурами обыкновенного человеческого
масштаба, которые вводят нас в действие, и поэтическим образом
дальнего плана — всемирно-исторической личностью, великим со-
бытием, могучей страстью. Действие развивается в одной и той же
плоскости, рассказчик поглощает самостоятельность действующих
лиц, средний человек заполняет собой весь видимый мир, и вели-
чина отклонения от этого уровня весьма незначительна, или она
представляется редким извращением.
Даже в таком гениальном шедевре диалектического мышления,
как «Племянник Рамо» Дидро, голос «честного сознания» звучит
еще слишком громко. В основе литературы XVIII века лежит
гражданская идиллия, фикция естественного человека, умеренной
середины между двумя противоречивыми крайностями. В этом смы-
сле можно сказать, что реализм просветительной эпохи носит объек-
тивно созерцательный характер, ему не хватает субъективного, дея-
тельного, исторического элемента.
Вот почему изображение страстей в произведениях Бальзака
нельзя непосредственно связывать с тем понятием страсти, которое
развивают просветители в своих моральных трактатах и философ-
ских романах. У романистов XVIII века человек буржуазного об-
щества выступает еще в состоянии невинности; несчастья людей
проистекают оттого, что они дурно воспитаны и подвержены внеш-
ним стеснениям. Уберите эти стеснения — и в обществе проявится
необходимый минимум страсти, оживляющий все отношения, разо-
вьются таланты, свободная конкуренция обеспечит каждому его ме-
сто под солнцем. В противном случае скопления подавленной стра-
сти могут прорваться в бурных эксцессах, способных вернуть обще-
ство к дикости или средневековью. Говоря о великом значении
страсти, просветители тут же составляют рецепты для удержания
ее в состоянии разумной умеренности.
Для Бальзака идеальное естественное состояние — утраченные
иллюзии. Зло, которое он рисует,— не простой недостаток добра и
не одно лишь наследие прошлого или результат посторонних стес-
нений. Это следствие свободного развития буржуазного строя, дья-
вольская насмешка над утопией XVIII века, здесь нет отвлеченной
противоположности между добром и злом. Несчастья человеческого
общества — результат его собственной трагической вины. Человече-
ство пожелало овладеть всеми благами цивилизации, заключив до-
говор с демоном «Шагреневой кожи». Оно хотело жить — и вот
готово умереть.
322 Бальзак изображает ступень глубокого внутреннего противоре-
чия, более высокую, чем идиллия XVIII века, и в то же время
лишенную счастья и неотвратимую, как судьба. Всеобщее развитие
личности убивает талант, мысль разрушает свою собственную ду-
ховную основу, страсть становится ужасающей манией. Нравствен-
ный кризис, изображаемый Бальзаком, это crise plethorique Фурье,
кризис от избытка. Драма страсти получает у Бальзака историче-
ское, а не моральное разрешение (как в литературе XVIII в.).
Более того, относительная неразрешимость драматической коллизии
представляется в ее полном, всестороннем движении и является
единственной формой решения противоречия. «Оставьте все нере-
шенным, как в действительности,— пишет Бальзак Стендалю 6 ап-
реля 1839 года,— все станет реально» (435).
Бальзак хорошо понимал отличие новой ступени в истории реа-
лизма. Он говорит в одной из своих статей 1840 года: «Литература
за последние двадцать пять лет испытала превращения, изменив-
шие законы поэтики. Драматическая форма, колоритность, наука
проникли во все жанры». И действительно, в это замечательное
двадцатилетие выросла новая европейская литература, более бога-
тая сознанием трагического содержания истории.
Добро и зло, счастье и несчастье, как их понимали писатели
просветительной эпохи, утратили самостоятельное значение; в них
видели теперь только отдельные стороны вечно развивающейся
жизни. Классическая литература первой половины XIX века вне
этих точек зрения, как выразился Гегель о всемирной истории.
Не скромное прозябание на лоне природы, а грандиозное развитие
всех человеческих сил в поисках абсолюта — таков горизонт «Чело-
веческой комедии», таков испытующий дух героев Бальзака, млад-
ших братьев гётевского Фауста:
Не радостей я жду,— прошу тебя понять!
Я брошусь в вихрь мучительной отрады,
Влюбленной злобы, сладостной досады;
Мой дух, от жажды знанья исцелен,
Откроется всем горестям отныне:
Что человечеству дано в его судьбине,
Все испытать, изведать должен он!
Я обниму в своем духовном взоре
Всю высоту его, всю глубину;
Все счастье человечества, все горе —
Все соберу я в грудь свою одну,
До широты его свой кругозор раздвину
И с ним в конце концов я разобьюсь и сгину!
Трагическая печать не является исключительной особенностью
Бальзака, она принадлежит всему периоду конца XVIII и первой
половины XIX столетия. Еще в просветительную эпоху граждан-
ская идиллия осложняется чувством ужаса перед тайнами природы
и общества. Неведомые страдания исторгают слезы, чувствитель-
ные души впадают в уныние при виде сельского кладбища, несчаст-
ная любовь служит достаточным основанием для возмущения про-
тив пороков общества и недостатков мироздания. 323
По рассказу Руссо, ощущение социальной несправедливости
укрепилось в нем после того, как в детстве его без всякой вины
высекли старшие. Неясное чувство общественных противоречий
возрастает по мере приближения к французской революции, но
именно в силу своей неопределенности оно отвлеченно и растворяет-
ся в сентиментальной условности. Сама мораль преображается в
социально-филантропическом духе и применяет сильные средства
для потрясения грубых нервов.
В 1800 году на выставке в Салоне женщины падали в обморок
перед картиной м-ль Лоримье «Молодая мать, которая не в состоя-
нии кормить свое дитя и смотрит, как оно сосет козу». Тогда же
мадам Шоде выставляет «Уснувшее дитя, которому угрожает змея,
и собака, которая убивает эту змею», а мадам Вийе пишет колыбель
с ребенком, унесенную наводнением. Дамская живопись — столь же
распространенное явление этого времени, как «женский роман».
Сентиментальная условность заменяет собой элемент поэзии, в
которой литература XVIII века испытывала большой недостаток.
Маркс говорит: «Фикция есть поэзия прозы, вполне соответствую-
щая прозаической натуре восемнадцатого века» *. Первые попытки
расширения поэтического горизонта неизбежно носили характер
условности или фикции. Ярким примером является возрождение
идиллии Бернарден де Сен-Пьером, идиллии, лишенной реальных
элементов XVIII века и полной скрытого ужаса, как образ цветка,
висящего над бездной.
Новая литература и живопись словно обращаются к трезвому
XVIII столетию со словами Гамлета:
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось твоей учености...
История частной жизни насыщается сильными переживаниями, а
то и вовсе отступает на задний план перед средневековыми битва-
ми, тайнами большого города, роковой поэзией света.
* Маркс К.. Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 86.
324
На месте моральной условности XVIII века утверждается ро-
мантическая фикция со всеми ее атрибутами — руинами старого
замка, волшебными туманами, демоническими фигурами. Жозеф
де Местр разрушает иллюзии счастья и справедливости, которые
еще сохранились после Вольтера. Кровавая роса покрывает землю.
Несправедливости составляют основу мироздания, все царства при-
роды живут убийством. Преступник и палач являются неотъемле-
мой частью самого просвещенного общества. Увлечение драмой в
литературе Бальзак связывает с политической историей Франции и
прежде всего с драматическими событиями времен революции и
наполеоновских войн.
Так или иначе, политические события конца XVIII — начала
XIX столетия и первый опыт свободного развития буржуазных от-
ношений расширяли рамки истории частной жизни и устраняли
условную грань между высокой трагической страстью и спокойным
миром обычных отношений. Частная жизнь вступила в тесную
связь с историей науки, социальным движением, действием великих
исторических личностей. Воображаемая изоляция Робинзона, от-
дельного среднего человека, устраивающего свое счастье по догово-
ру с другими общественными единицами, рухнула.
В этом кризисе старого реализма поэзия почерпнула новую
силу, ощущение тайных связей личности с окружающим социально-
вещественным миром, чувство единства бесконечного и конечного
в образах реального мира и человеческой фантазии. В отличие от
просветительской литературы идей Бальзак назвал новейшее, преи-
мущественно романтическое течение литературой образов. Но сам
он ясно ощущает коренной недостаток новой литературной формы,
хотя признает ее неизбежность и новаторский характер.
В самом деле, отношение литературы образов к современной дей-
ствительности остается еще отвлеченным, а потому во многом худо-
жественно фальшивым. Это все еще бледная фикция, безжизненная
поэзия, несмотря на страсти, «готические» ужасы, своеобразный
натурализм романтиков и даже вполне современные уголовные или
светские сюжеты. В предисловии к «Уэверли» Вальтер Скотт гово-
рит, что написать увлекательное произведение на сюжет из дале-
кого средневековья или из современной жизни большого света оди-
наково легко. Но то, что лежит посредине, и составляет главную
трудность.
На пути к углублению реалистической картины мира литература
начала XIX века испытала значительное отклонение в сторону от
реализма. Подобно тому как натурфилософия вырастает на почве
кризиса механического материализма, угадывает диалектику при-
роды, но растворяется в мистике, так романтическая литература
начала XIX века восстанавливает многие условности, разрушенные
уже реализмом просветительной эпохи, и создает искусственную
поэзию, составленную из всех идеальных абстракций, возвышенных
иллюзий, донкихотских представлений феодальной аристократии и
современного мещанства.
Это ложное уклонение на пути к истинной конкретности и за-
ставляет Бальзака совершить следующий шаг, который в известной
степени был возвращением к реализму XVIII века, но в совер-
шенно новой, обогащенной форме. Согласно модной терминологии
этого времени Бальзак определил свою литературную платформу
как эклектическую, преодолевающую крайности литературы идей и
литературы образов. В общих чертах это определение диалектиче-
ской позиции великого романиста можно считать вполне справедли-
вым, не говоря о самом названии (эклектическая литература), ко-
торое в настоящее время приобрело совершенно иное значение.
Время первой художественной зрелости Бальзака совпадает с на-
чалом царствования Луи-Филиппа. Июльская революция и последо-
вавшее за ней торжество финансовой буржуазии отбросили Баль-
зака вправо, но вместе с тем сделали более ясным его художествен-
ное зрение и завершили в его глазах картину современного состоя-
ния общества, представленную в «Человеческой комедии».
До начала 1830-х годов мы находим в творчестве Бальзака две
тенденции, не представляющие какого-нибудь органического един-
ства. С одной стороны — модные увлекательные романы с ужасами
типа «Наследницы Бирагского замка», с другой — современные бы-
товые зарисовки, комические сцены и наблюдения в духе «Физиоло-
гии брака». Взятые порознь, эти подвиги Роланда-оруженосца, со-
вершенные Бальзаком в годы молодости, были только образцами
«промышленной» литературы, исполненные по трафаретам и пропи-
сям бульварной поэтики. Но в истинном соединении, которое уже
налицо в новеллах философского цикла 1830—1831 годов («Гобсек»,
«Прощенный Мельмот») и особенно в «Шагреневой коже», роман-
тика и действительность, история и современность сливаются в еди-
ную картину. Бальзак находит самого себя, основную идею своей
творческой жизни.
На пути к этому зрелому синтезу лежит еще один важный узел
духовного развития Бальзака — исторический роман «Шуаны»
(нач. 1829 г.) и целая серия неосуществленных замыслов в духе
Вальтера Скотта. Позднейшее отношение самого Бальзака к «Шуа-
нам» очень двойственно. Роман включен в «Человеческую комедию»,
но, по-видимому, автор считал это подражание Вальтеру Скотту
не совершенно зрелым произведением, хотя усматривал в нем неко-
торые вполне оригинальные черты. Жанр Вальтера Скотта не сде-
лался жизненным призванием Бальзака, и это понятно, если срав-
нить национальные особенности обоих романистов.
Несомненно, что исторический реализм Вальтера Скотта стал
важным шагом вперед на пути к преодолению собственно романти-
ческой условности. Та научность, которой гордился Бальзак, в
очень большой степени присуща и его шотландскому предшествен-
нику. Неопределенное чувство всемирно-исторической среды, окру-
жающей отдельную личность, принимает у Вальтера Скотта кон-
кретные очертания; исключительные события, выходящие далеко
за пределы формальной логики рассудка, лишаются сверхчувствен-
325
ной основы, вступают в органическое соединение с прозой жизни
и освещают ее своим поэтическим светом. Это великие исторические
события, революционная борьба общественных сил, совершающаяся
на фоне обычных нравов большинства людей.
Такое решение вопроса Вальтер Скотт нашел в истории Анг-
лии — другая история, по меткому замечанию Гёте, не могла слу-
жить основой для развития исторического романа в его классиче-
ской форме. Вальтер Скотт удачно соединил элементы шекспиров-
ской трагедии с реалистическим романом нравов в духе английских
писателей XVIII века, но свести эти элементы воедино без ущерба
для поэзии можно было только благодаря особенностям английской
истории, в которой нравы средних классов издавна образовали не-
прерывную основу развития, а политическая драма на вершине
326 общественной пирамиды заканчивалась обычно компромиссом.
Средневековая история и буржуазная современность тесно пере-
плетаются в жизни английского народа. Отсюда сравнительная
легкость, с которой Вальтеру Скотту удавалось черпать эпический
элемент для истории частной жизни в самой действительности. От-
сюда проистекали и некоторые слабые стороны романов Вальтера
Скотта, отмеченные Бальзаком: подверженность традиционному
моральному ханжеству, однообразие женских характеров, недоста-
ток страсти (дух компромисса и постепенности). В письме к Ган-
ской (20 дек. 1843 г.) Бальзак говорит о «Шуанах»: «Здесь за-
ключается весь Купер и весь Вальтер Скотт, но кроме того страсть
и остроумие, которых нет ни у одного из них».
Идея создания романизированной истории Франции витала пе-
ред умственным взором Бальзака в пору его увлечения Вальтером
Скоттом, но осталась неосуществленной. Проблемы «Человеческой
комедии» нуждались в другом выражении. Далекая историческая
перспектива не поглощала исканий «современной души». Напротив,
сама история Франции растворялась в грандиозной драме совре-
менности, служила только преддверием к ней. Правда, во Франции,
как и повсюду, народная жизнь создала уходящую в глубь столетий
непрерывность национальной истории. Но эта непрерывность была
лишена непосредственно эпического характера.
Ранняя политическая централизация и развитие абсолютной
монархии вырыли глубокую пропасть между политической верхуш-
кой и народом. Французская история в гораздо большей степени,
чем история Англии и Шотландии, была историей двора и дина-
стии. Типичным народным жанром во Франции является не бал-
лада и сказка, а жизнерадостная скептическая шутка, фаблио, с
оттенком безразличия к тому, что делается наверху, и великолеп-
ной иронией по отношению к спесивым претензиям дворянства,
церковников и ученых. Эту традицию выразили в XVI веке Рабле
и Монтень, а в XVIII столетии возобновили просветители, особен-
но Вольтер и Дидро, в своих философских диалогах и рассказах.
Однако в традиционной форме, профанирующей иллюзии ры-
царства и схоластики, эта литература не могла возродиться снова;
проблемы ее устарели. «Озорные рассказы», написанные языком
XVI столетия,— шедевр литературной стилизации; подобно «Шуа-
нам» (но по другой причине) они остались второстепенным явле-
нием творческой жизни Бальзака. Унаследованный от эпохи Воз-
рождения принцип трагикомической профанации средневековья
должен был получить реальное прикосновение к современности.
Новеллу, философский диалог, параболу Бальзак наполняет исто-
рически точным описанием развития общественных отношений. Раб-
ле и Сервантес оживают в трагикомедии буржуазного строя.
Народная французская традиция (в переработке XVI—
XVIII столетий) заключала в себе элемент гуманной иронии над
установленными отношениями высокого и низкого, великого и смеш-
ного. Чувство относительности моральных величин лежало в основе
старого реализма. Но само по себе сознание относительности всех
устойчивых норм, убеждений, обычаев, суеверий, общественных
привилегий и нравственных преимуществ ограничено кругозором
«старого порядка». Это саморазложение сословной цивилизации,
скрытая насмешка над величием и падением земного тщеславия,
критика «вечных устоев» дворянского мира.
Вместе с тем ограниченность предмета критики создает и гра-
ницы понимания. Под разноцветным покровом условности литера-
тура XVI—XVIII столетий находит простую и вечную человече-
скую природу с ее неизменными страстями. Отсюда типичная
форма литературного выражения: моральный трактат, собрание на-
блюдений и афоризмов, философская повесть, басня или комедия
характеров.
Это богатое наследие французской литературы широко исполь-
зовано Бальзаком, но лишь в соединении с другим элементом —
историческим принципом Вальтера Скотта. То, что для старой
французской литературы было непреложным и вечным — граждан-
ская идиллия, восходящая к «естественным свойствам» человече-
ской личности,— в свою очередь становится относительным, раз-
лагается в исторической битве буржуазии с феодализмом. Бальзак
переносит психологический анализ старых моралистов на почву ре-
ального опыта буржуазного строя. «Человеческая природа» подвер-
гается испытанию огнем и обнаруживает все свои противоречия.
Решением этих противоречий уже не может быть «умеренность»
Монтеня или «среднее состояние» просветителей, а только сама
история как форма реального антагонизма сил.
Этим обрисовано, в сущности, и отношение Бальзака к автору
«Уэверли». Та же причина, которая заставляет Бальзака рассмат-
ривать человеческую природу в исторической перспективе, диктует
ему переход от исторической темы Вальтера Скотта к современной
жизни. В романах Вальтера Скотта история играет роль среднего,
примиряющего решения, сообразно реальным особенностям англий-
ского развития и еще целиком в духе прозы XVIII столетия. Смяг-
чающая историческая дымка придает романам Вальтера Скотта их
правдивый, здоровый и спокойный характер в отличие от лихора-
327
дочного волнения Бальзака, но вместе с тем сообщает им какой-то
оттенок сентиментального умиления.
Сталкивая историю и современность, поэзию и прозу жизни,
Бальзак разрушает все еще условную романтическую гармонию
Вальтера Скотта и с полной свободой развивает исторический прин-
цип как принцип драмы. При этом он опирается на французскую
литературную традицию, перенося ее, как уже было сказано выше,
на почву истории современного общества. Философский анализ, ги-
перболическое, чисто французское развитие характеров, изображе-
ние внутренней, взаимной борьбы отдельных сторон и определений
каждой жизненной ситуации, вся эта могучая диалектика образует
основу драматизма «Человеческой комедии». Бешеная критическая
работа истории разрушает последние иллюзии, разлагает до основа-
325 ния мещанскую моральную ограниченность и придает «Человече-
ской комедии» тот всемирно-исторический горизонт, которого не
достигают еще погруженные в атмосферу местной традиции Вальтер
Скотт и Манцони.
Таким образом, Бальзак является последовательным представи-
телем «литературной революции» XIX века. Романтическая лите-
ратура образов для него недостаточно романтична, в ней еще слиш-
ком много условности, бледной поэзии, лишенной плоти и крови,
несмотря на искусственные попытки создать иллюзии трепещущей
жизни. Романтики во многом так же рассудочны, как просветители.
В этом отношении весьма характерно, что Бальзак обвиняет главу
романтической школы во Франции Виктора Гюго в чрезмерном
почтении к условностям классицизма (статья об «Эрнани»). Для
того чтобы полностью преодолеть ограниченный кругозор
XVIII века, нужно вернуться к революционно-критической манере
французского просвещения.
В произведениях ранней зрелости 1830—1831 годов этот вывод
еще не вполне осознан; все же он налицо по крайней мере в «Ша-
греневой коже». Романтическая форма становится здесь тончайшей
лессировкой, которая позволяет просвечивать более плотной жи-
вописи нижнего слоя — философской повести в духе Вольтера.
По сравнению с XVIII веком разница в степени развития субъек-
тивного, драматического элемента очень велика. Однако источником
драматизма является деятельность рассудка в лучшем смысле этого
слова, то есть анализ, разложение простого понятия жизни на про-
тивоположные элементы. Как художественное произведение «Ша-
греневая кожа» представляет собой наглядное доказательство или
притчу — это развитие определенной идеи в лицах, краткий мо-
ральный трактат, изложенный большей частью в форме диалога
с введением подробно очерченных характеров и великолепных деко-
раций, которых еще не знала литература XVIII столетия.
Таков удивительный ход истории художественного мышления:
чтобы завершить революцию в мире искусства, литература образов
должна обратиться к литературе идей, подобно тому как всякая
хорошая живопись нуждается в уверенном, точном рисунке. В сущ-
ности говоря, любые произведения Бальзака — это расширенный
философский роман XVIII столетия с большим количеством описа-
ний, подробностей, с более связной и далекой картиной граждан-
ских условий, «естественной среды». Будучи продолжателем Воль-
тера, Бальзак развивает также нравоописательную манеру англий-
ских романистов. Он возвышает до уровня исторической трагедии
мещанскую драму Дидро.
Известное возвращение к литературе идей на основании более
широкого художественного опыта было общей чертой классиче-
ского реализма первой половины XIX века. Детальное описание
среды, увлекательные подробности, оригинальные характеры, потря-
сающие сцены, словесная живопись — все это еще не составляет
искусства без логически ясного рассказа. Конкретный художест-
венный образ создается движением идеи в богатом жизненном ма-
териале. Это движение имеет свою определенность, чередование
ступеней, оно невозможно без отрицания, распада, внутренней диф-
ференциации, без разложения на составные элементы, из которого
рождается логическая форма анализа. Без возвращения к праву
рассудка не может сложиться живая картина диалектического дви-
жения, хотя сама диалектика вырастает из разложения рассудоч-
ной ограниченности.
Это превосходно понимали такие люди, как Гегель и Гёте. Они
принимают то расширение горизонта, которое создала на грани
XIX века новая литература, литература образов, но отвергают
принципиальную неопределенность романтики. Подобно лучшим
представителям классической литературы в Англии, Германии и
России, Бальзак является наследником революционно-критической
манеры эпохи Просвещения, не разделяя ее ограниченных сторон —
рассудочной отвлеченности, морального догматизма, иллюзий фор-
мальной демократии.
Критика относила Бальзака к представителям наиболее край-
него, «неистового» романтизма. Между тем развитие субъективного,
деятельного элемента в творчестве Бальзака идет параллельно с
величайшей профанацией романтики. В «Изучении нравов по пер-
чаткам», в статьях о модных словах, о моде в литературе, о литера-
турных салонах и похвальных словах (январь — декабрь 1830 г.)
Бальзак высмеивает неопределенную мечтательность романтиков,
модную меланхолию.
Позднее, в предисловии к «Шагреневой коже», его ирония рас-
пространяется на «современный вандализм» неистового направле-
ния. Люди нагромождают камни, не создавая ни одного памятни-
ка. Кровавая окраска надоела, все превратилось в шутовство: «Не-
когда публика отказалась сочувствовать больным и выздоравливаю-
щим юношам и сладостным сокровищам меланхолии, скрытым в
литературном убожестве. Она сказала «прощай» печальным, прока-
женным, томным элегиям. Она устала от туманных бардов и силь-
фов, так же как сегодня пресытилась Испанией, Востоком, пытками,
пиратами и историей Франции по-вальтерскоттовски. Что же нам
329
остается?.. Если публика осудит усилия писателей, пытающихся
вернуть почетное место вольной литературе наших предков,— при-
дется пожелать нашествия варваров, сожжения библиотек, нового
средневековья; тогда авторы легче возобновят вечный круг, в кото-
ром кружит человеческий дух, как лошадь на манеже» (385).
Это ироническое приложение теории Вико к проблеме торгового
спроса на книги. Однако в насмешливой форме скрывается серьез-
ная мысль: идея обновления французской национальной тради-
ции— «вольной литературы наших предков». То, что составляет
специфическую особенность Бальзака, есть именно приложение
старофранцузского свободомыслия к истории общественной жизни,
переход от скептической улыбки XVIII века к реальной историче-
ской диалектике.
330 Бесспорной заслугой романтического направления является вы-
ход за пределы отвлеченной, внеисторической фикции буржуазного
человека, homo oeconomicus, выход в другие эпохи и страны с дру-
гим культурным ландшафтом. Но у романтиков прошлое неподвиж-
но, всемирная история еще не вышла из пеленок традиции, «преда-
ния», исторический принцип не совпадает с идеей свободного
диалектического развития и даже отчасти враждебен этой идее. Ли-
тература образов возродила, как мы уже знаем, всю феодальную
блажь, все исторические легенды, патриархальные иллюзии, дон-
кихотские идеалы и блуждания святого Гумануса.
Вальтер Скотт заставляет все это полчище теней вернуться об-
ратно в определенные условия места и времени. Историческая точ-
ность описания возвращает литературе реальное дневное освещение.
Исторический роман по самой своей природе доказывает, что про-
шлое более невозвратимо. В чувстве исторического расстояния
человек освобождается от своей собственной эмпирической ограни-
ченности. Поэтому реальное изображение прошлого даже у поэти-
ческого Вальтера Скотта неотделимо от легкой иронии, которая
особенно чувствуется в разговорах людей из народа: деревенских
жителей, второстепенных персонажей и слуг.
Таким образом, уже Вальтер Скотт возрождает наследие про-
светительной эпохи: хорошо понятый здравый смысл, драгоценную
свободу рассудка. Это и составляет отличие его произведений от
рыцарских и авантюрных романов в так называемом готическом
вкусе (которым он еще целиком подражает в неоконченном раннем
романе). Между тем сам Вальтер Скотт еще слишком близок к ан-
глийскому XVIII веку, поэтому здравый смысл только отчасти вы-
ступает у него в форме освобождающей иронии, но обнаруживает
и серьезные претензии, что в соединении с романтической поэзией
вносит фальшивый элемент традиционной английской ограничен-
ности. Впрочем, достоинства здесь неотделимы от недостатков.
По своему отношению к средневековой фантастике Вальтер
Скотт — рационалист. В романе «Монастырь» белая дама рода Аве-
нелей до конца сохраняет свое сверхъестественное значение, и толь-
ко ответственность за достоверный характер рассказа возлагается
на психологию людей XV века. Но в большинстве случаев Вальтер
Скотт поступает иначе. Народные поверья и легенды дают ему бо-
гатый запас всякого рода сюжетов, однако распоряжается он ими
по-своему. Во всяком легендарном сюжете Вальтер Скотт стремится
найти обычное человеческое содержание в лучшем смысле этого
слова, рациональное зерно, которое может быть понято и без вме-
шательства сверхъестественных сил. Героическая фантастика сред-
невековья выступает у него как особая мифологическая форма со-
знания нравственной правды человеческих отношений.
Это одна из существенных точек зрения, найденных классиче-
ской литературой начала XIX века. Так, например, исторически
убийство Борисом царевича Дмитрия могло быть действительным
фактом или выдумкой, но достаточно того, что эта ситуация в че-
ловеческом отношении типична для пришедшего к власти снизу
царя-узурпатора. Роковой колорит легенды может быть понят ра-
ционально— как выражение болезненной логики единовластия, а
нависающая над преступником небесная кара принимает психологи-
ческий облик мучений совести.
Точно также у Вальтера Скотта в «Кенилворте» убийство гра-
фом Лестером своей жены — эпизод, заимствованный из старин-
ной баллады,— получает реальное освещение, туманные видения
народной фантазии приобретают определенный исторический образ,
тени сгущаются, образ становится плотью, вступают в действие
обычные человеческие силы — честолюбие, эгоизм, и несколько
строк старинного стихотворения, приведенного в предисловии к ро-
ману, развиваются в широкую картину политической жизни Англии
при Елизавете. Ничто из сокровищ народной поэзии не утрачено, и
вместе с тем все получает светский, человеческий смысл. В этом осо-
бое искусство соединения поэзии и прозы на почве исторического
романа.
Д. Ф. Штраус назвал Иисуса Христа человеком, биография ко-
торого была написана задолго до его рождения. Нечто подобное
можно сказать о легендарных героях и даже отдельных эпизодах
романов Вальтера Скотта. Они обладают строго определенной
исторической физиономией, сложившейся в недрах народной фанта-
зии, и этот законченный образ более достоверен, чем самый факт
существования этих личностей и связанных с ними происшествий.
Такое отношение вполне естественно, ибо реальная историография
включает в себя перечисления и описания множества единичных и
случайных фактов, между тем как легендарная история, творимая
народной фантазией, создает исторические характеры, которые в
своей индивидуальности отражают более широкие формы общест-
венных отношений и политической жизни.
Искусство исторического романиста заключается именно в том,
чтобы наметить более определенную связь между преданием и его
реальной человеческой основой. Так, у Вальтера Скотта старинные
гаэльские легенды растворяются в подробном описании горного
клана, дикая поэзия первобытного образа жизни сталкивается с
331
прозаическим порядком цивилизации, и результатом этого столк-
новения является гуманный нравственный закон, воздающий долж-
ное величию прошлого и полезности современных установлений.
Собственно фантастический элемент патриархальной и рыцарской
поэзии исчезает постепенно и мирно, растворяясь в далекой исто-
рической перспективе, оставляя по себе одну лишь легкую туман-
ную дымку, которая придает поэтическое обаяние реальным фор-
мам истории.
Этот способ изображения нередко переходит в другой, более
элементарный прием. Подобно теологам-рационалистам, Вальтер
Скотт не отрицает чудес, но стремится найти им естественное объ-
яснение. Таинственные стоны из Камнорского подземелья недаром
поразили народное воображение. Быть может, в этой фантазии была
332 естественная основа — жалобы старого Фостера, умершего на своих
сундуках вследствие порчи замка в подземелье. Еще более яркий
пример — чудесные происшествия в замке Вудсток: привидение, ис-
пугавшее эмиссаров Кромвеля, хитрая выдумка сторонников короля.
Вообще говоря, у Вальтера Скотта имеются два направления свет-
ской обработки средневековых сюжетов: мораль и политика. Это
монета, на которую обмениваются все героические подвиги, необы-
чайные события, сверхъестественные явления его романов.
Загадочные ковы судьбы находят рациональное выражение в
нравственной логике человеческих отношений. Политические бури
озаряют поэтическим светом обычную жизнь людей, вносят в нее
авантюрный элемент, пробуждают героические силы, дремлющие
под сенью житейской рутины. И поскольку Вальтер Скотт рисует
процесс перехода от патриархально-героических порядков к обыч-
ным человеческим отношениям буржуазного общества, постольку
фантастика средневековья является у него туманной аллегорией,
поэтическим символом детства современной культуры. Это изобра-
жение обладает великими художественными достоинствами, и неда-
ром Карл Маркс и Фридрих Энгельс высоко ставили произведения
английского романиста. Упадок средневековья, бурный процесс раз-
ложения патриархальных общественных форм, победа буржуазного
мира над феодальным рассудком, над воображением, реального эле-
мента над первобытной фантазией — эта драматическая история,
представленная Вальтером Скоттом в живых и волнующих образах,
есть необходимая предпосылка воззрений научного коммунизма.
Однако у великого романиста есть и другая сторона. Изобра-
жая моральный и политический тип буржуазного человека законо-
мерным результатом истории, он незаметно для себя делает этот
результат общечеловеческим мерилом, критерием здравого смысла,
а современное ему политическое устройство Англии — целью всех
предшествующих эпох и поколений. Эту политическую ошибку, же-
лание судить о прошлых временах с точки зрения позднейших поня-
тий буржуазной цивилизации Вико назвал тщеславием ученых.
Вальтер Скотт разделил эту ошибку с плеядой французских
историков эпохи Реставрации. Изображение роста и созревания
третьего сословия в недрах средневековья у них превосходно и в
высшей степени поэтично, тем не менее буржуазная сфера как ре-
зультат истории остается неразложимым осадком. Результат ста-
новится мерилом, политическая и моральная форма выражения
имущественных институтов остается священной, ее поэтический
ореол не подлежит осмеянию. Дальнейшее углубление социальной
борьбы прекращается, и цивилизованный человек, утвердивший свое
благоденствие там, где еще недавно шумели бури средневековья и
революции, должен охраняться как величайшая ценность всеми
средствами, не исключая и мер полицейских. Такова приблизи-
тельно точка зрения Гизо и Тьерри.
Вальтер Скотт был основателем этой философии истории.
Его изображение распада шотландского клана превосходно, и все
же этой картине не хватает всемирно-исторической перспективы.
Тот взгляд на судьбы родового быта, который очерчен Энгельсом
на основании работ Бахофена и Моргана, английскому романисту
вовсе недоступен. Вальтер Скотт не мог сказать вместе с Марксом:
«В первобытную эпоху сестра была женой, и это было нравствен’
но» *. Напротив, в предисловиях к своим романам он не устает по-
вторять, что человеческая природа во все времена едина. А между
тем Вальтер Скотт является создателем «исторического колорита»
в литературе. Такое противоречие вполне естественно. Историче-
ский релятивизм обычаев, нравов, религиозных поверий был изве-
стен еще XVIII веку и превосходно сочетался с метафизикой «че-
ловеческой природы».
Исторический взгляд Вальтера Скотта широк и спокоен. Он не
совпадает с отвлеченностью философии истории аббата Баэена, но
отчасти соприкасается с нею или по крайней мере с гуманным скеп-
тицизмом английских историков XVIII века — Робертсона и Гиб-
бона. Этот взгляд не лишен понимания глубоких противоречий, но
рассматривает их как бы издалека, с хорошо защищенной позиции.
Восстания XVII века, французская революция — последние тучи
рассеянной бури. Вальтеру Скотту не приходит в голову, что совре-
менность явится почвой для грандиозной исторической драмы, что
скептицизм, вызываемый распадом древности и средневековья,—
ничто по сравнению с дьявольской насмешкой буржуазного строя
жизни над благороднейшими гуманными иллюзиями XVIII века.
Английский романист остается еще слишком чинным, по старин-
ке наивно верующим. Вот почему Бальзак упрекает своего бли-
жайшего предшественника в недостатке «страсти и остроумия».
По сравнению с Бальзаком Вальтер Скотт, несомненно, более ро-
мантичен, и вместе с тем он еще не свободен от созерцательной
метафизики XVIII века. Это сочетание вполне естественно для
английской литературы, достаточно вспомнить Эдмунда Бёрка.
Вальтер Скотт стал одним из представителей литературной
революции, которая дала Европе Гёте, Бальзака, Диккенса. Но по
333
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 42.
334
самой своей структуре исторический роман не может служить со-
вершенным выражением классического реализма XIX века. Он яв-
ляется, скорее, предтечей полного синтеза истории и современности
в так называемом социальном романе.
Английский писатель ищет в современной ему жизни прочной
опоры для созерцания прошлого. Бальзак идет дальше, он разла-
гает спокойный результат всемирной истории — мещанский осадок
прошедшей бури. Его беспощадная критика разрушает последнее
прибежище священной поэзии — домашний очаг. Семейная консти-
туция, которой обычно заканчивает Вальтер Скотт, становится у
Бальзака началом трагического происшествия. Царство шекспиров-
ской страсти не позади, а впереди нас.
7
Творчество Бальзака можно рассматривать как дальнейшее раз-
витие европейского романтизма, между тем законом этого развития
является саморазложение романтики. В этом смысле Бальзак более
всего подобен Гейне. Однако непосредственное значение для «Че-
ловеческой комедии» имеет творчество или, скорее, поэтика Гоф-
мана. Сами по себе произведения немецкого романтика не удовлет-
ворили Бальзака, Гофман показался ему ниже своей славы. Но ху-
дожественный принцип романтической иронии, насмешки над
собственной наивной иллюзией, трагикомическая смесь поэзии и
прозы — все это представляет неотделимый составной элемент про-
изведений Бальзака.
Идея Гофмана заключала в себе именно то, чего не было у Валь-
тера Скотта — возвышение над мещанской серьезностью, гибель
пиетета. Как просветители, так и романтики в своих положитель-
ных идеалах опирались на поэзию мелкой собственности; патриар-
хально-бюрократический уклад выступает у них в священном
ореоле свободы и мира. Это якорь спасения от извращенности выс-
шего света, от цинизма аристократии, от роскоши, искусственной и
ложной культуры. Можно ли себе представить мещанскую драму
Дидро в том ироническом освещении, которое он придает описанию
светской жизни в «Племяннике Рамо»? Романтическая ирония пере-
носит сомнение в мир буржуазной идиллии и тем продолжает крити-
ческую работу просветителей на другой день после французской
революции.
Таким образом, умирая в насмешке над собственной наивно-
стью, романтизм сам восстанавливает связь с лучшим наследием
прежней литературной эпохи. Так, Байрон непосредственно разви-
вает скептицизм Вольтера. Более ранним соединительным звеном
между двумя столетиями является Лоренс Стерн, который также
оказал известное влияние на создателя «Человеческой комедии».
И, наконец, у самого Бальзака романтическая ирония непосредст-
венно связана с традицией французских моралистов и просветите-
лей. Собственно романтическим элементом выступает в ней лириче-
ское начало, которого не было у просветителей.
Подобно Гофману и Гейне, Бальзак смеется над иллюзиями
собственного поколения и с каждой вспышкой остроумия наносит
себе жестокую рану. В отличие от насмешки XVIII века, направ-
ленной в сторону внешних условий или естественных странностей
человеческой природы, ирония Бальзака носит глубоко субъектив-
ный, внутренний характер. Она включает в сферу своей критиче-
ской работы сокровенные надежды человечества, весь круг граж-
данских идеалов буржуазной революции, иллюзии культуры и гума-
низма, романтику различных профессий, пафос индивидуальности,
короче говоря, все так называемые вечные, собственно человеческие
ценности, которые революционная мысль XVIII века настойчиво
искала под пестрой шутовской одеждой сословного общества.
В своих литературных манифестах Бальзак не раз возвращается
к мысли о выдающейся роли иронии для современного романа. Он
говорит: «Авторы часто правы, выступая против нынешнего вре-
мени. Общество требует от нас прекрасных картин. Но где же об-
разцы для них? Ваши жалкие одежды, ваши неудачные революции,
болтливые буржуа, мертвая религия, хиреющая власть, отставлен-
ные короли, неужели они так уж поэтичны, что нужно их еще
изображать?.. Сейчас мы можем только издеваться. Насмешка —
вот литература умирающего общества».
Эта ясность литературной доктрины настолько значительна, что
заставляет вспомнить публицистику Гейне. Бальзак выражает об-
щую черту искусства своего времени — усиленное внимание к безоб-
разному, комическому, переход от условий гармонии классицизма
к противоречиям и контрастам действительной жизни. При этом
насмешка Бальзака весьма отличается от субъективного разочаро-
вания в духе Байрона, от немецкой романтической иронии. Вернее,
оба момента присутствуют в идейной основе «Человеческой коме-
дии», но каждый из них сам по себе недостаточно объективен для
классического романа.
Так, целый ряд героев Бальзака несет на себе отпечаток бай-
роновского разочарования. Но только наиболее слабые образы (как
Феррагюс, благородный пират из «Тридцатилетней женщины»)
байроничны в собственном смысле слова. В лучших созданиях
Бальзака байронизм получает своеобразное объективное преломле-
ние. Разочарованность становится школой политического и мораль-
ного индифферентизма, и вместо монотонной лирической жалобы
возникает целая галерея разнообразных человеческих обществен-
ных типов — наглядная история общественной психологии после
французской революции.
К таким объективно-байроническим фигурам относятся прежде
всего Растиньяк — образец политического деятеля буржуазной эпо-
хи, и Вотрен — фигура, воплощающая в себе изнанку общественно-
го процесса, негативное движущее начало производительных сил
буржуазного общества. Сюда относятся также остроумные циники-
555
публицисты типа Блонде, Лусто и даже светские хищники, как
Максим де Трай.
Наконец, высшим классом, аристократией байронизма стали
у Бальзака его аскеты — старик философ из «Шагреневой кожи»
и ростовщик Гобсек. История Гобсека — наиболее яркий пример
типично бальзаковской манеры переводить литературные символы
на язык объективной человеческой практики. Английский сплин в
облике денежной стихии, лишающей пеструю иллюзию жизни ее
обаяния! Подобно тому как у Гегеля мировой дух нового времени
пишет свою картину серым по серому, меновая стоимость растворяет
в глазах Гобсека все своеобразные особенности предметов товарно-
го мира, все индивидуальные черты, качества, отношения, страсти
и оставляет только один вид наслаждения, самый абстрактный —
наслаждение обладанием.
В этом практическом преломлении Бальзак, несомненно, являет-
ся последователем Байрона; в более непосредственном смысле меж-
ду объективной манерой «Человеческой комедии» и лирическим од-
нообразием байронизма — целая пропасть. Отзыв Бальзака о Бай-
роне очень напоминает мнение Пушкина. Вальтер Скотт будет
жить, Байрона забудут, пишет Бальзак г-же Ганской (20 янв.
1838 г.). «Ум Байрона никогда не носил другой печати, кроме печа-
ти его личности, тогда как перед творческим' гением Скотта встал
весь мир и как бы загляделся на себя» (427).
Так же точно Бальзак во многом следует фантазии Гофмана, и
вместе с тем он признает в ней скорее величие принципа, чем совер-
шенство реального воплощения. Национальные особенности истори-
ческого развития Германии создали в этой стране образцовое цар-
ство мещанства с его патриархальной поэзией и болезненным рас-
падом, продолжавшимся несколько столетий; на этой почве выросла
и нежнейшая школа швабских поэтов, и беспощадная ирония Гейне.
История почти не оставила здесь объективного материала для со-
временной прозаической формы — романа, настолько бездейственны
были общественные силы, производившие легкую зыбь на поверхно-
сти этого мещанского моря.
Поэтому в немецкой литературе господствует лирическая форма,
подчиняя себе все остальное. Чтобы создать подобие эпоса в «Гер-
мане и Доротее», Гёте нужна была французская революция. Чтобы
поднять романтическую лирику на уровень современной Европы,
Гейне понадобился Париж, двоякая точка зрения французского пуб-
лициста и немецкого изгнанника. Гофман был менее счастлив. В не-
которых произведениях, как «Мадемуазель Скюдери», он вполне на
уровне лучших новелл Бальзака и Мериме.
Но обычно создания Гофмана очень значительны по мерцающей
в них идее, и вместе с тем чересчур символичны, игривы, беспоря-
дочны в своем реальном воплощении. Позиция Гофмана в истории
литературы подобна месту, занимаемому в ней Стерном и Жан-По-
лем Рихтером. Это значительные переходные фигуры, требующие
особого вкуса и понимания, но лишенные исторической силы, необ-
ходимой для превращения личной оригинальности в общезначимую
норму. Более полное раскрытие их литературного принципа часто
достается на долю других писателей.
Так, принцип, открытый Гофманом, имеет большое значение.
Что представляет собой пресловутое удвоение мира, романтическое
колебание между реальностью и фантастикой у Гофмана? В этом
разложении прочных устоев мещанского быта есть элемент значи-
тельный, которого не хватало реализму XVIII века и даже отчасти
новой романтической литературе (в ее положительном наивном ва-
рианте, лишенном иронической рефлексии). У Гофмана косный
предмет мещански устойчивой среды проделывает фантастические
курбеты, обретает самостоятельное существование и человеческий
облик. Наоборот, человеческое становится жалким, нравственно-ве-
ликое выглядит детски смешным, игрушечным, теряет субъективную 337
свободу и ясный свет сознания, делается вещественным для другого.
Это глубокая правда, и она, разумеется, гораздо шире мещанских
отношений немецкой истории. Но в результате национальных усло-
вий эта глубокая правда остается у Гофмана субъективной фанта-
зией. Он сам находится под воздействием волшебного дурмана, его
иронии не хватает определенных очертаний, реального историче-
ского содержания. Истинным бытием туманных предчувствий Гоф-
мана и всей его чертовщины является научно раскрытый Марксом и
гениально угаданный Бальзаком фантастический мир товарного
фетишизма.
Маркс говорит: «На первый взгляд товар кажется очень про-
стой и тривиальной вещью. Его анализ показывает, что это —
вещь, полная причуд, метафизических тонкостей и теологических
ухищрений. Как потребительная стоимость, он не заключает в себе
ничего загадочного, будем ли мы его рассматривать с той точки зре-
ния, что он своими свойствами удовлетворяет человеческие потреб-
ности, или с той точки зрения, что он приобретает эти свойства как
продукт человеческого труда. Само собой понятно, что человек
своей деятельностью изменяет формы веществ природы в полезном
для него направлении. Формы дерева изменяются, например, когда
из него делают стол. И, тем не менее, стол остается деревом — обы-
денной, чувственно воспринимаемой вещью. Но как только он де-
лается товаром, он превращается в чувственно-сверхчувственную
вещь. Он не только стоит на земле на своих ногах, но становится
перед лицом всех других товаров на голову, и эта его деревянная
башка порождает причуды, в которых гораздо более удивительно-
го, чем если бы стол пустился по собственному почину танцевать» *.
В буржуазном обществе вещественные условия жизни самостоя-
тельны и личны, а человеческие отношения вещественны и безлич-
ны. Зловещая алхимия буржуазного строя, пускающего в оборот
свои связи, отношения, качества, определенные характеры и чело-
веческие чувства, наиболее ярко проявилась во Франции после ре-
* Маркс К., Энгельс Ф- Соч., т. 23, с. 80—81.
волюции 1789 года. Именно здесь мелкие чудесные происшествия
мещанского мира выросли в грандиозные мистерии капитализма,
полные угрожающей силы и внутреннего сарказма. «Человеческая
комедия» отражает эту объективную фантастику буржуазного об-
щества.
Рисуя экономическую историю Франции первой половины
XIX века, Бальзак не нуждается в придуманных фантасмагориях.
Там, где его воображение остается в пределах чистого романтизма,
он опускается ниже собственного уровня или еще не владеет секре-
том своего обаяния. Романтизм Бальзака реален, в изображении
двойственности своей эпохи он опирается на эволюцию собствен-
ности и чудеса кредита.
Напомним драматическую историю поместья Эг, которая яв-
338 ляется центром романа «Крестьяне». Фаворитка Генриха IV, от-
купщик Буре, оперная дива XVIII века и ее наследники — одинна-
дцать оборванных крестьян из окрестностей Амьена, генерал вели-
кой армии, разбогатевший в Египте и Померании, триумвират
буржуазных хищников — Робертен, Ригу и Судри, «черная банда»
и множество мелких крестьянских участков на месте великолепных
созданий XVI века — разве эта галерея собственников, это родо-
словное древо земли не заключает в себе больше романтической
иронии, чем любая из сказок Гофмана?
В изображении эволюции человеческих чувств Бальзак соприка-
сается с исторической психологией «Капитала». Он описывает, в
сущности, развитие объективных представлений, связанных с опре-
деленными формами собственности, психологические следствия но-
вых условий господства и подчинения, подделку и порчу нравст-
венных качеств в буржуазном обществе, перетирание на гигантском
мельничном камне французской истории 1789—1848 годов всех
устойчивых принципов, определенных характеров, твердых убеж-
дений, устаревших идей и благородных предрассудков.
В «Златоокой девушке» есть превосходный отдел под названием
«Парижские физиономии». «Нет, то — не лица, то — личины,—
говорит Бальзак,— личины слабости, личины силы, личины нище-
ты, личины радости, личины лицемерия; все они — истощенные, от-
меченные неизгладимой печатью задыхающейся жадности! Чего
хотят они? Золота или наслаждений!» (231).
Да, именно личины, объективные психологические маски раз-
личных социальных положений рисует Бальзак в своих романах.
И эти химеры XIX века поднимаются над толпой как независимые
от человеческой воли и личного своеобразия вещественные формы
духовной жизни. Самый благородный металл человеческих качеств
плавится в адской реторте Парижа и, лишенный собственных черт,
безликой массой стекает в эти социальные формы. Все можно
механически повторить, искусственно создать, заменить сурро-
гатом.
«В Париже ни одно чувство не сопротивляется потоку вещей, и
их течение понуждает к борьбе, которая ослабляет напряжение
страстей; любовь там сводится к вожделению, ненависть остается
в пределах желания; там нет более близкого родственника, чем сто-
франковый билет, нет иного друга, кроме закладной конторы. Эта
общая податливость приносит свои плоды; в гостиной, как и на ули-
це, никто не является лишним, никто не бывает там ни до конца
полезным, ни до конца вредным — дураки и мошенники в той же
мере, как и люди умные и порядочные. Терпимость простирается на
все: на правительство и на гильотину, на религию и на холеру».
Таков порядок вещей «в этой стране без нравов, без верований,
без единого чувства, но где берут начало и где находят конец вся-
кие чувства, всякие верования и всяческие нравы» (232—233).
В романе «Отец Горио» превосходно изображение постепенного
компромисса личности с вещественными условиями жизни. Этот
компромисс не представляет собой обязательно чего-нибудь грубого
и неприличного. Юноше Растиньяку предстоит одолеть множество
незаметных ступеней, отделяющих его от Вотрена.
Убить человека, чтобы разбогатеть, или только санкциониро-
вать смерть неизвестного мандарина в далеком Китае — разница
существенная. Но результат один и тот же. Бедный студент рисует
себе привлекательный образ карьеры, сделанной посредством пре-
красной дочери макаронщика и ее мужа-банкира.
«Он не говорит себе этого прямо, он еще не был достаточно ис-
кушенным политиком, чтобы выразить ситуацию в цифрах, оценить
ее и рассчитать; эти помыслы легкими облаками витали на гори-
зонте; хоть они и не равнялись по грубости идеям Вотрена, все же
если бы их подвергнуть искусу совести, то^они оказались бы не
особенно чистыми. Через цепь сделок подобного рода люди прихо-
дят к той разнузданной морали, какой придерживается нынешняя
эпоха, где реже, чем когда-либо, встречаются прямолинейные люди,
люди высокой воли, которые никогда не сгибаются перед злом и
которым малейшее уклонение от прямого пути представляется пре-
ступлением: величественные образы честности, подарившие нам два
шедевра,— мольеровского Альцеста и, в более близкое время,
Дженни Динс и ее отца в романе Вальтера Скотта» (288).
Вотрен не просто преступник. Он выражает собой воплощен-
ное самосознание престутпгойттеноты~окружающего общества, оли^
цетворение морального безразличия, присущего буржуазной циви-
лизации. «Кто хвастается неизменностью убеждений, кто берет на
себя обязательство всегда идти прямым путем, тот глупец, верящий
в свою непогрешимость. Принципов нет, есть лишь события; зако-
нов нет, есть лишь обстоятельства; тот, кто выше толпы, принорав-
ливается к событиям и обстоятельствам, чтобы руководить ими.
Если бы существовали неизменные принципы и законы, нации нс
меняли бы их, как мы меняем сорочки. Отдельный человек не мо-
жет быть мудрее целой нации».
Стендаль также описывает историю морального компромисса
в общественной психологии после революции 1789 года. Но он еще
слишком близок к этому процессу, в его изображении чувствуется
339
тончайшая личная прикосновенность к переживаниям «погибшего
поколения» начала XIX века. Общий тон повествования усталый
и созерцательный. Стендаль менее социален, чем Бальзак, его пле-
няет исчезающе-малая красота души, стоящей на грани добра и зла;
психологическая сложность этого положения показана, впрочем,
превосходно. Ницше считал Стендаля вместе с Достоевским вели-
чайшими психологами, Бальзак является, в его глазах, вульгар-
ным плебеем. И в самом деле, «Человеческая комедия» опирается
больше на фактическую сторону уже созревшей психологии различ-
ных слоев буржуазного общества.
Анализ индивидуальной психологии в духе уходящего
XVIII столетия Бальзак заменяет наблюдением массовых форм об-
щественного сознания. Он создает объективную феноменологию
340 духа — духа наживы, своекорыстия, заботы, беспокойства, нравст-
венной агонии, преступления, отравленных радостей, проклятых на-
слаждений, утраченных иллюзий, мелких невзгод супружеской жиз-
ни, апатии, бунта. «Порог ощущения», лежащий где-то между дву-
мя этажами нашей души, светлым и темным, незаметные переходы
от вялости чувств к сверхчеловеческому напряжению воли интере-
суют его гораздо меньше. Манера Бальзака заключается в извлече-
нии психологического эффекта из действительных обстоятельств,
внешних условий жизни, которые он излагает тоном историка и
публициста.
Таким образом, мы подходим к определению наиболее сущест-
венного в Бальзаке, основной ситуации его гигантского произведе-
ния. Вспомним название одного из самых известных романов Баль-
зака— «Утраченные иллюзии». Редко удается писателю выразить
настолько сжато формулу века, духовную тайну своего поколения.
Утраченные иллюзии, переход от поэзии сердца к прозе действи-
тельной жизни — вот основной эффект, характерное освещение, по-
ворот, ситуация романов Бальзака. В этом отношении «Человече-
ская комедия» не является прямым продолжением реалистической
литературы XVIII века, но заключает в себе нечто принципиально
новое, и в то же время она теснейшим образом связана с более от-
даленным типом художественного мышления.
8
Бальзак возрождает старую тему эпохи Возрождения — тему
«Дон-Кихота». Он развивает ее на основе исторического опыта
1789—1848 годов. «Человеческая комедия» рисует не только упадок
дворянской фамильной чести, но и крушение отвлеченных идеалов
разума, справедливости и свободы — идеалов революционной бур-
жуазной демократии. Бальзак включает эти идеи в общую сумму
донкихотских иллюзий европейского гуманизма. Он сталкивает их
с прозой буржуазной жизни в образе пансиона мадам Воке, париж-
ской книготорговли, финансовых плутней Нусингена и дю Тийе,
полицейских проделок Корантена и К0, заменивших собою св. Эр-
мандаду и прочие символы испанской цивилизации времен Серван-
теса. Отношение Бальзака к иллюзиям своих героев двойственно,
как отношение Сервантеса к фантазиям Дон-Кихота. Оно включает
в себя сочувствие и насмешку в одно и то же время.
Собственно, Дон-Кихотами выступают у Бальзака только старые
аристократы — д’Эгриньон и д’Эспар. Рядом с ними с другой сто-
роны стоят честные республиканцы, как дядюшка Низерон («Крес-
тьяне»). Но в масштабе «Человеческой комедии» все это второсте-
пенные персонажи. Зато хозяин парфюмерного заведения, и кавалер
почетного легиона Цезарь Бирото, рыцарь коммерческой честности,
становится одной из наиболее освещенных фигур, в которой своеоб-
разие манеры Бальзака достигает наибольшей полноты. Еще у Сер-
вантеса в образе Санчо Пансы можно заметить некоторые черты,
сближающие достойного оруженосца с его господином. Цезарь
Бирото — настоящая смесь Дон-Кихота и Санчо Пансы.
Провинциальные молодые люди Бальзака, приезжающие в Па-
риж для участия в великом турнире столичной жизни (Люсьен
Шардон, он же де Рюбампре, Растиньяк в начале своей карьеры
и др.), также являются типичными странствующими рыцарями с
чисто книжными представлениями о жизни и хорошим мещанским
аппетитом. Трагикомическая история славного защитника справед-
ливости Дон-Кихота Ламанчского получает оригинальное заверше-
ние на почве социального романа XIX века.
Гегель говорит в своей «Эстетике»: «Случайность внешнего бы-
тия превратилась в прочный, обеспеченный порядок буржуазного
общества и государства, так что теперь полиция, суды, войско, госу-
дарственное управление стали на место химерических целей, кото-
рые ставил себе рыцарь. Тем самым изменяется и рыцарство дей-
ствующих в новых романах героев. Они в качестве индивидов с их
субъективными целями любви, чести, честолюбия или с их идеала-
ми улучшения мира противостоят существующему порядку и прозе
действительности, которая со всех сторон ставит на их пути препят-
ствия.
Субъективные желания и требования взвинчиваются благодаря
этой противоположности безмерно высоко. Каждый застает перед
собой зачарованный, для него совершенно не подходящий мир, с
которым он должен бороться, так как этот мир противится ему и,
в своей неподатливой прочности не уступая страстям героя, выдви-
гает как препятствие желание какого-нибудь отца, какой-нибудь
тетки, буржуазные отношения и т. д. Особенно юноши суть эти
новые рыцари, которые должны проложить себе дорогу сквозь
течение обстоятельств в мире, осуществляющихся вопреки их идеа-
лам, и которые считают несчастьем уже самое существование
семьи, буржуазного общества, государства, законов, деловых за-
нятий и т. д., ибо эти субстанциальные жизненные отношения
с их рамками жестоко противопоставляют себя идеалам и беско-
нечному праву сердца. Надо пробить брешь в этом порядке вещей,
изменить мир, улучшить его или по крайней мере, вопреки ему, со-
341
здать себе на земле небесный уголок, пуститься в поиски подходя-
щей девушки, найти ее и отвоевать наперекор злым родственникам
или другим неблагоприятным обстоятельствам.
Но эта борьба и эти битвы в современном мире суть не более
как ученические годы, воспитание индивида на существующей дей-
ствительности, и в этом приобретают они свой истинный смысл. Ибо
завершение этих ученических лет состоит в том, что субъект обла-
мывает себе рога; он проникается в своих желаниях и мнениях
существующими отношениями и их разумностью, вступает в сцеп-
ление обстоятельств в мире и завоевывает себе в нем соответствую-
щее положение» *.
Закон, установленный Гегелем, имеет в виду непосредственно
«Годы учения Вильгельма Мейстера». В более широком смысле он
342 wwwwkk не только к Гёте, но ко всей европейской литературе
классического реализма. «Большие ожидания» Диккенса могут слу-
жить одним из примеров осуществления той же педагогической
программы — программы воспитания индивида на существующей
действительности. Формула утраченных иллюзий является частным
случаем общего закона при сохранении некоторых существенных от-
личий, очень важных для понимания художественной индивидуаль-
ности Бальзака.
Эти особенности сказываются в композиции его романов, кото-
рую можно назвать открытой, в отличие от замкнутой и примиряю-
щей формы романов Гёте или Диккенса; каждое произведение Баль-
зака — проблелш, а не решение. Напротив, даже у Вальтера Скотта,
которого сравнивали с Шекспиром, воспитание индивида (представ-
ленное в широкой перспективе национальной истории Англии)
оканчивается готовым решением. Субъект примиряется с условиями
действительной жизни, и мирная эволюция сменяет период «бури и
натиска». «Роман моей жизни окончен»,— говорит Осбальдистон-
младший, принимаясь за торговую профессию своего отца, после
того как любовь к поэзии и склонность к рыцарским авантюрам
доставили ему знакомство с легендарным Робом Роем. Феодальные
битвы, пламя народных восстаний и бедствия гражданской вой-
ны— все это лишь ученические годы современного человечества;
постепенное развитие й процветание среднего "сословия— так&й
результат исторического воспитания, конечная формула Вальтера
Скотта.
Бальзак принимает эту идею в качестве одного из моментов «Че-
ловеческой комедии», имеющего также композиционное значение,
особенно в новеллах. Так, «Озорные рассказы» целиком сохра-
няют манеру старинных французских сборников, в которых господ-
ствует остроумие третьего сословия, tertium gauditur, по отношению
к неудачам дворянства и духовенства. В этом смысле характерна
также «Ведьма», превосходная новелда, заключающая в себе зна-
чительную часть написанного впоследствии Анатолем Франсом.
* См.: Гегедь. Эстетика. М., 1969. т. 2. с. 304—305.
Мэтр Турнебуш Бальзака — прообраз Турнеброша из «Харчевни
королевы Пэдок» — имел тщеславие в молодости выучиться гра-
моте и сделался даже письмоводителем капитула св. Маврикия в
Туре, но ужаснулся собственной смелости, заметив, какие опасности
ждут человека в более высоких сферах жизни. Потрясенный судьбой
прекрасной мавританки, сожженной согласно каноническим писани-
ям и законам contra daemonios, мэтр Гильом вернулся к профессии
своего отца и умер почтенным суконщиком. Его завещание потом-
ству — бессознательная историческая ирония над пеплом свободной
и светской мысли эпохи Возрождения.
«Я оставил духовное поприще и женился на вашей матери; с нею
изведал я сладость чувств и делил с ней жизнь, имущество и душу
мою — словом, все. И она согласилась со мной в справедливости сле-
дующих предписаний. Во-первых, чтоб жить счастливо, надо дер-
жаться подальше от служителей церкви. Их надо чтить, но не пу-
скать к себе в дом, равно как и всех, кои по праву, а то и без вся-
кого права, мнят себя выше нас. Во-вторых, занять надо скромное
положение, не стремясь возвыситься либо казаться богаче, чем ты
есть на самом деле. Не возбуждать ничьей зависти и не задевать
никого, ибо сразить завистника может лишь тот, кто силен подобно
дубу, глушащему кустарник у своего подножья. Да и то не избе-
жать гибели, ибо дубы в человеческой роще весьма редки, и не
следует Турнебушам называть себя дубами, ибо они просто Турне-
буши. В-третъих, не тратить больше четверти своего дохода, скры-
вать свой достаток, молчать о своей удаче, не брать на себя высо-
ких должностей, ходить в церковь наравне с другими и таить про
себя свои мысли, ибо таким образом они останутся при вас и не
попадут к иным прочим, кои присваивают их себе, перекраивают
на свой лад, так что оборачиваются они клеветой. В-четвертых, все-
гда оставаться Турнебушем и только, а Турнебуши суть суконщики
и пребудут таковыми во веки веков. Выдавать им дочерей за от-
менных суконщиков, сыновей посылать суконщиками в другие го-
рода Франции, снабдив сим наставлением в благоразумии, выра-
стить их во славу суконного дела, обуздывая их честолюбивые меч-
тания.
Суконщик, равный Турнебушу,— вот слава, к коей должны они
стремиться, вот их герб, их девиз, их титул, их жизнь. И, пребывая
навёки суконщиками, Турнебуши навсегда останутся безвестными,
ведя жизнь смиренную, как безобидные малые насекомые, кои, раз
угнездившись в деревянном столбе, просверливают себе дырочку и
в тиши и в мире разматывают до конца свою нить. В-пятых, нико-
гда не говорить ни о чем другом, как только о суконном деле, не
спорить ни о религии, ни о правительстве. И если даже правитель-
ство государства, наша провинция, наша религия и сам бог пере-
вернутся или вздумают шататься вправо или влево, вы, Турнебуши,
спокойно оставайтесь при своем сукне. И так, никому в городе не
мозоля глаза, Турнебуши будут жить скромно, окруженные Турне-
бушами-младшими, платя исправно церковную десятину и все, что
34?
их вынудят платить силой,— богу или королю, городу или приходу,
с коими никогда не следует ссориться. Итак, надо беречь отцовское
богатство, чтобы жить в мире, купить себе мир и никогда не дол-
жать, иметь всегда запас в доме и жить припеваючи, держа все две-
ри и окна на запоре.
Тогда никто не одолеет Турнебушей — ни государство, ни цер-
ковь, ни вельможи, коим при надобности давайте в долг по несколь-
ку золотых, не надеясь их увидеть вновь (я имею в виду золотые).
Зато все и во все времена года будут любить Турнебушей, будут
смеяться над Турнебушами, над мелкими людишками Турнебуша-
ми, над мелкотравчатыми Турнебушами, над безмозглыми Турне-
бушами... Пусть болтают глупцы что им вздумается! Турнебушей
не будут жечь и вешать на пользу короля, церкви или еще на чью-
344 нибудь пользу. И мудрые Турнебуши будут жить потихоньку, бе-
речь денежки, и будет у них золото в кубышке и радость в доме, от
всех сокрытая.
Итак, дражайший сын мой, следуй моему совету: живи скромно
и неприхотливо. Храни сие завещание в твоем семействе, как про-
винция хранит свои грамоты. И пусть после твоей смерти твой ро-
допродолжатель блюдет мое наставление, как святое евангелие
Турнебушей,— до тех пор пока сам бог не захочет, чтобы род Тур-
небушей перевелся на земле».
Это наставление потомству — исторически точный рецепт по-
степенного возвышения буржуазии. Бальзак отчасти сохраняет в
этой новелле средневековый бюргерский колорит «Пертской кра-
савицы» Вальтера Скотта. Но у французского писателя ирония
преобладает над патриархальным чувством. Правда, Турнебуши и
Турнебушики — безобидные маленькие насекомые, но такая реко-
мендация не прибавляет им лавров. Это эпигоны золотого века, ре-
зультат измельчания человеческой породы. Как поколение обык-
новенных людей у Гесиода, они с удивлением и страхом взирают на
своих могучих предшественников. Полная незначительность — ис-
точник их силы и могущества. Буря вырывает с корнем столетний
дуб, но гибкий тростник остается, прижавшись к земле.
Мораль Турнебушей сыграла печальную роль в критические
эпохи античности и Возрождения. Это убийственный эгоизм «хо-
роших людей», которые довольствуются собственной чистотой, бла-
горазумием частного человека и ни за что не изменят этому прин-
ципу, хотя бы в ближайшем соседстве с ними рушились великие цар-
ства и погибали сокровища культуры. Мэтр Гильом Турнебуш был
человеком умеренных страстей, мягких нравов третьего сословия, но
его завещание — манифест мещанской жестокости.
В новое время евангелие Турнебушей стало движущей силой
прогресса. Бальзак принимает это своеобразие истории с полной
покорностью и юмором. Но таинственным центром его социальной
философии и представлений о космосе по-прежнему остается эпоха
Возрождения, время героической человечности, великого подъема
страстей, виртуозного развития чувства. Буржуазия пользуется на-
следием этой эпохи, подобно тому как древние итальянцы снимали
богатый урожай на поле битвы Мария с кимврами.
Таким образом, примирение с действительностью как основная
тема европейского романа от Гёте до Диккенса приобретает у Баль-
зака своеобразный характер. В этом примирении отсутствует житей-
ский мотив, преклонение перед малой сферой жизни. Бальзак не
знает компромисса в собственном смысле слова, восстановления
разрушенной идиллии. Мы видим у него, скорее, примирение с тем,
что примирение более невозможно.
Подобно Гёте, Бальзак ведет своих героев к разрыву с объек-
тивным миром. Он заставляет их ощущать всю полноту страдания,
раздвоенность «современной души». В его глазах ступень противо-
речия гораздо выше предполагаемой гармонии исходного состояния.
Но Гёте — и в этом его отличие от Бальзака — еще способен вер-
нуть Вильгельма Мейстера к гармонии с окружающим миром. Та-
ков итог воспитания индивида на существующей действительности.
Бальзак уже не видит перед собой такого решения. В «Человеческой
комедии» нет прочных устоев жизни, которым обязана подчиниться
человеческая воля, а там, где эти устои выдвигаются в качестве
идеала, они остаются реакционной утопией.
Существующая действительность не может воспитать в человеке
уважения к установленному порядку. Напротив, она воспитывает
в нем острое чувство распада всех отношений. Это основная черта
Бальзака в отличие от Гёте. Герои «Человеческой комедии» не воз-
вращаются в тихую пристань после блужданий в мире действитель-
ном. Они не уходят с поля битвы — им некуда уйти. Антагонизм
сил уже не укладывается в относительно мирные рамки, безумная
вспышка страсти не покоряется разумной умеренности (согласно
традиции, которую свято хранили и Гёте, и Вальтер Скотт).
В чем, например, состоит примирение с существующей действи-
тельностью у наивно-возвышенного юноши Растиньяка? Похоронив
последние сомнения вместе с прахом отца Горио, он бросает Парижу
свой вызов: «А теперь мы поборемся с тобой!» Созерцание проис-
ходящей трагедии глазами Гобсека — единственный вид резинья-
ции, доступной создателю «Человеческой комедии». Здесь все на-
ходится в движении, все противоречиво. В этом движении теряются
абстрактные, устойчивые определения истины, и возникает чувство
реальной необходимости: все действительное—разумно. Примире-
ние с действительностью у Бальзака есть именно сознание необхо-
димости исторического движения. «Должно ли это быть? —Да, это
должно быть!» — вот формула, созданная гением Бетховена и при-
ложимая также к духовному миру Бальзака.
С известным правом можно сказать, что основная ситуация «Че-
ловеческой комедии» имеет много общего с другими положениями,
типичными для европейского романа XIX века. Вместе с тем свое-
образие Бальзака выступает при этом еще более ярко. Утраченные
иллюзии не восстанавливаются. Композиционная трактовка цент-
ральной драмы и заключительного решения в «Человеческой коме-
345
дии» такова, что первое бесконечно значительнее второго. Решение
вопросов, поставленных «Комедией», остается делом будущего, а те
рецепты, которые сам Бальзак предписывает обществу в некоторых
романах, слишком легковесны по сравнению с реалистическим изо-
бражением общественных противоречий.
Бальзак все время видоизменяет эти рецепты, излагая различ-
ные гипотетические случаи в форме реальных происшествий. Однако
идеал и действительность разделены у него гораздо глубже проре-
занной линией, чем, например, у Гёте, который почти не знает уто-
пий, но зато рассматривает существующую действительность в бо-
лее идеальном свете.
Удивительное по своей резкости отделение собственно утопиче-
ских романов («Сельский священник», «Деревенский врач») от
J46 всей остальной массы реалистических изображений у Бальзака да-
леко не случайно. Рисуя подлинное развитие определенной жизнен-
ной стихии (например, семейных отношений в сценах частной жиз-
ни), он не находит ничего успокоительного в тех или других реаль-
ных комбинациях. Для экспериментального воплощения его проек-
тов необходима особая область, особое напряжение веры и даже
особая экзальтация действующих лиц (кающаяся грешница — г-жа
Граслен). Впрочем, даже в сценах сельской жизни, которые заду-
маны как экономическая пастораль, венчающая здание «Комедии»,
последний роман («Крестьяне») опрокидывает все аграрные утопии,
созданные Бальзаком в 1830-х годах.
Из этих особенностей содержания «Человеческой комедии» сле-
дует господство открытой формы, отмеченное мною выше. Наиболее
типично в этом смысле построение «Шагреневой кожи». Обычный
для эпохи задерживающий мотив в самом начале произведения
переходит в быстрое драматическое движение к цели; роман окан-
чивается катастрофой, в которой обе борющиеся крайности (хотеть
и мочь) взаимно истребляют друг друга без остатка. В «Гобсеке»
мы видим некоторый «остаток» — это стряпчий Дервиль, друг и
поверенный старого ростовщика. По сравнению с главным дейст-
вующим лицом новеллы он — представитель обыкновенного чело-
вечества, которому фантастический образ папаши Гобсека внушает
трепет и простодушное удивление.
В других произведениях Бальзак ведет повествование от перво-
го лица. Здесь «остатком» жизненной драмы является сам автор,
рассказчик, изображенный средним, иногда неопытным и даже про-
стоватым человеком. Такова по необходимости должна быть его по-
зиция в художественном произведении, чтобы оставить достаточно
места для столкновения великих страстей, чтобы посредством кон-
траста между средней человеческой фигурой и обаянием централь-
ного поэтического характера установить надлежащие пропорции и
внушить нам чувство возвышенного.
Лучшие душевные качества, необходимые для рассказчика,—
это непосредственная свежесть чувства и впечатлительность, кото-
рая может возвыситься до настоящего понимания. Поэтому Баль-
зак иногда принимает позу автора воспоминании из времен своей
собственной юности. Характерно построение новелл «Фачино Кане»
и «3. Маркас», в которых неопытность повествователя делает осо-
бенно ярким процесс узнавания и заставляет читателя более остро
чувствовать эффекты света и тени на этих странных рембрандтов-
ских физиономиях, выступающих из мрака парижской жизни.
Вообще говоря, главная эмоциональная функция авторского
монолога в «Человеческой комедии» заложена в чувстве удивления
перед химерами XIX века. Это удивление разделяют люди среднего
уровня, хорошего среднего уровня, которым условно соответствует
автор в роли рассказчика. Вся эта сфера носит главным образом
рецептивный характер или представляется страдательной средой.
В первом случае — перед нами наблюдатели типа адвоката Дер-
виля в «Гобсеке», во втором — невинные посредственности, прине-
сенные в жертву великим страстям, как Филемон и Бавкида
в «Фаусте» Гёте. Таковы дети Бальтазара Клаэса («Поиски Абсо-
люта»), семейство Гранде, отчасти семейство Цезаря Бирото.
Люди этого уровня представляют собой раму для главной кар-
тины, они вводят нас в действие, а после его окончания снова яв-
ляются на авансцену. Малая сфера жизни долговечнее великих
фигур, отмеченных трагической печатью. В качестве остатка она
образует заключительную форму, род эпилога, последнего росчерка,
который напоминает о том, что обычная жизнь непрерывна и про-
должается даже после того, как протагонисты жизненной драмы
исчерпали свою ситуацию до конца.
Для открытой композиции романов Бальзака весьма характерна
малая выпуклость этой абсиды литературного здания. Совсем дру-
гое мы видим у Гёте или Вальтера Скотта. Удельный вес заклю-
чительной малой формы в произведениях этих писателей равняется
сумме иллюзий, которые они питают на счет спасительной роли
среднего состояния как выхода из противоречий прежней истории.
Конечно, все великие писатели XIX века понимали значение откры-
той композиции, то есть перенесения некоторых законов драмы в
эпическое повествование. Гёте и Вальтер Скотт были учите-
лями Бальзака в этом направлении. Однако не во всем и не до
конца.
Бальзак открыл источник художественного интереса там, где
трудно было его искать. Он показал, что есть своя оригинальная
поэзия и в прозе буржуазного общества. «Не оставалось больше
ничего удивительного, кроме описания великой социальной болез-
ни». Ну что ж1 Из этого описания он сделал нечто поистине удиви-
тельное. Можно ли упрекать Бальзака за то, что он иногда забы-
вает парадоксальный характер своей художественной позиции и
хочет поднять завесу над будущим, разгадать таинственные силы,
вызывающие великую социальную болезнь, усилить впечатление,
показать современному читателю рай и чистилище, испугать его му-
347
ками дантова ада, чтобы вылечить от «болезни», воспитать и ве-
сти вперед — куда?—он сам этого хорошо не знал. Из этой не-
определенности идеала неизбежно должны были вырасти некото-
рые искажения формы, химеры великого духа, заключенного в тес-
ную оболочку.
Но эти недостатки отступают на задний план, почти искупаются
оригинальностью и энергией изложения. Смешно обвинять Микел-
анджело за нарушение правил анатомии. Так же точно нельзя осуж-
дать Бальзака за недостатки рисунка и светотени, которые придир-
чивый глаз заметит в гигантской фреске, созданной гением фран-
цузского романиста.
1935—1941
ВОЛЬТЕР —МЫСЛИТЕЛЬ И ХУДОЖНИК*
1
В наши дни, когда идея мира находит отзвук в сердцах миллио-
нов людей, уставших от вечного страха перед призраком общей
гибели, имя Вольтера заслуживает доброго воспоминания. Он не
принадлежал к числу доктринеров пацифизма, занятых сочинением
проектов сверхгосударства, он не оставил плана европейской феде-
рации, как его старший современник аббат Сен-Пьер. Зато сколько
горячей ненависти к убийцам народов, гордящимся своими лаврами,
разлито в сочинениях и письмах Вольтера!
Несколькими штрихами он создает обличительные картины не-
повторимой силы, и мы действительно видим вооруженные толпы
наемников, режущих друг друга, видим отчаяние мирных жителей,
гибель крестьянских полей, дымящиеся развалины, обгорелые тру-
пы среди обломков, сцены убийства, насилия. Война, пишет Вольтер
в своем «Философском словаре», есть «бедствие и преступление,
заключающее в себе все бедствия и все преступления».
Где же виновники этого зла? «Голод, эпидемия и война — три
наиболее известные элемента нашего земного мира. Голод и эпиде-
мия суть дары провидения. Но война, объединяющая в себе все эти
блага, имеет своим источником лишь воображение трех или четырех
сот лиц, рассеянных на поверхности земного шара под именем госу-
дарей и министров. Вот почему во многих литературных посвяще-
ниях этих людей называют живыми подобиями божества».
Мы знаем теперь или по крайней мере должны знать, что пра-
вители государств, при всей их личной ответственности за содеян-
ные преступления, сами являются орудиями, а иногда и простыми
марионетками безличных общественных сил. Этот взгляд истори-
ческого материализма ничего не прощает, ничего не оправдывает, но
не внушает и преклонения перед кознями отдельных лиц, не при-
писывает им могущество сатаны. Мерить события из жизни народов
* Расширенный вариант статьи, опубликованной к 175-летию со дня смер-
ти Вольтера (Новый мир, 1953, № 6). В дальнейшем автор вернулся к ней,
осветив новые грани творчества великого французского писателя. Работа над
последними разделами (14, 15 и 16) завершена не была. Цитаты из Вольтера
даны в переводе Мих. Лифшица.— Нримеч. ред.
349
меркой домашней морали и абстрактной целесообразности после
всего, что было и не было в историческом опыте двух последних
столетий, может только ребенок. Другое дело — заблуждения Воль-
тера, они сами принадлежат истории. Было бы именно верхом ребя-
чества видеть в ошибках людей такого масштаба только личные сла-
бости. «Каким судом судите, таким и судимы будете».
В эпоху Вольтера экономический закон развития общества еще
не выступил из первичной туманности других человеческих отно-
шений, и фата-моргана абсолютной власти монарха витала в воздухе
над зачарованной толпой. Эта иллюзия была объективной формой
представления, свойственной определенным общественным услови-
ям, не пережитком или временным возрождением ее, возможным и
в другие времена.
350 Среди людей XVIII века, способных трезво смотреть на устрой-
ство жизни современного им человечества, никто не пошел дальше
Вольтера в объяснении причин постоянных войн, терзавших наро-
ды. Его ошибки всегда поучительны и часто сами являются только
особым способом выражения мысли, имеющей реальное основание.
Нельзя искать последние причины войн в династических распрях
и жажде завоеваний, но кто решится сказать, что слова Вольтера
об опасном воображении трех или четырех сот лиц утратили вся-
кую силу сегодня, в эпоху атомного оружия?
Как уже говорилось выше, Вольтер не пацифист. Он постоянно
внушает читателю, что война против узурпаторов священна. Его
стихотворные произведения содержат почти дословно всю револю-
ционную риторику «Марсельезы» Руже де Лиля. Вольтер пресле-
дует своей насмешкой обычные мотивы, которыми явно или тайно
оправдывает себя несправедливая политика государств,— расовые
предрассудки, национальное чванство, нелепую погоню за прести-
жем в международных отношениях.
Он любит Францию и пишет Руссо, что нужно любить свою
родину даже в тех случаях, когда она доставляет нам неприятности.
Однако никто не скажет, что перо Вольтера более милостиво к по-
рокам и преступлениям его соплеменников. Скорее наоборот. Как
подлинно демократический писатель, он обращается прежде всего
против недостатков своей собственной нации. Ближайший предшест-
венник «Философской истории обеих Индий» Рейналя, он ценит
преимущества цивилизованной жизни, но смело бросает в лицо
надменным носителям европейской культуры улики их собственной
дикости. Его сочувствие на стороне угнетенных народов.
В своем «Опыте о нравах» Вольтер приводит слова вождя одно-
го из индейских племен, теснимых белыми: «Мы родились на этой
земле, здесь лежат наши отцы. Можем ли мы сказать костям наших
предков: встаньте и ступайте с нами в чужие земли?» Лучшего от-
вета, писал Вольтер, не найти у героев Плутарха.
2
Настоящее имя великого французского писателя — Франсуа
Мари Аруэ. Он родился в 1694 году и, несмотря на все испытания
судьбы, прожил свою долгую жизнь счастливо. Счастье, выпавшее
на долю этого замечательного человека, состояло в том, что он был
нужен своему времени, а это не всегда дается людям в одинаковой
степени. Белинский назвал его критиком феодальной Европы. Дей-
ствительно, в эпоху Вольтера ветхое здание сословной монархии уже
клонилось к упадку. Свободное слово трудно было удержать, даже
среди аристократии многие понимали, что дальше так жить, нельзя.
Нужен был деятель, способный стать во главе растущей силы об-
щественного мнения. И такой деятель нашелся в лице Вольтера.
Философ, историк, поэт, человек гениально разносторонний и 351
энергичный, Вольтер играл главную роль в движении французских
просветителей. Смелая критика духовного рабства церкви, произ-
вола и беззакония светских властей сделала его воплощением рево-
люционного духа времени. Даже в эпоху Реставрации, за короткий
период с 1817 по 1825 год вышло полтора миллиона томов Воль-
тера. Несмотря на проклятия всей политической реакции и общее
движение европейской мысли начала XIX столетия, неблагоприят-
ное для писателей века Разума, он устоял. Свидетельством могут
служить слова таких людей, как Гёте, Байрон и Пушкин.
Существует легенда о демонизме Вольтера. Она имеет свое осно-
вание в многочисленных противоречиях его изменчивой жизни, об-
щественной деятельности и философских взглядов. Имя писателя
принадлежит определенному времени, но, повторяясь в тысяче отра-
жений, его легендарный образ, маска, почти гротеск становится веч-
ным спутником человека. Демон Вольтера не менее властен над
нами, чем демон Сократа.
Вольтер — гений критики. Его перо не останавливается перед
оскорблением кумиров, окруженных священным ореолом привычки.
Трудно найти пример более свободного отношения к любимым ил-
люзиям обывателя, его внутреннему комфорту, его благородной
позе. Создавая понятие неутомимой всеобщей отрицательности, дви-
жущего начала диалектического процесса, Гегель следует внушению
гигантской тени Вольтера, превращает в науку объективный исто-
рический пафос его разрушительной иронии.
Могучему духу отрицания тесно в застойной среде, где царст-
вуют умеренность и аккуратность. Вот почему мысль, выраженная
в духе Вольтера, кажется слишком острой, внушающей моральные
подозрения. Но это лишь острый привкус жизни, диалектика, кото-
рую он не знал, как поток электронов не знает, что он — электриче-
ство. Отсюда сложившиеся в некий фантастический цикл, общее
место, постоянные обвинения в таких грехах, как беззастенчивость,
суетность, двуличие. «Спокойного достоинства, тихой серьезности
в нем не было никогда»,— жаловался Д. Ф. Штраус. Славно сыграл
Вольтер свою историческую роль, сочиненную им самим и необхо-
димую для того, чтобы извлечь положительный урок из всеобщего
разложения, которое он выражает своей пресловутой беззастенчи-
востью! Личная жизнь Вольтера была притчей, поясняющей дер-
зость теории. Говорят, что Сократ женился на Ксантиппе с целью
доказать, что философ не должен жениться. Слова Вольтера и даже
дела его были иногда циничны, но это также принадлежит больше
теории, чем личности.
«Проклятие Вольтера — его мефистофельская натура»,— писал
либеральный историк Гетнер. Как будто можно себе представить
на месте Вольтера другую натуру, более обремененную семейными
добродетелями, менее полемическую, воинственную, умеющую дву-
мя словами так отомстить какому-нибудь литературному прохиндею
былых времен, что эти слова, на зависть более слабым потомкам,
352 всегда останутся примером гражданской казни. Уже одна непости-
жимая продуктивность Вольтера свидетельствует о том, что его перо
было свободным орудием содержания дела, а не авторского тщесла-
вия. Ради этого дела он готов был отречься от написанного, и на-
писанного превосходно (чтобы провести черта, как это делали даже
святые), но всегда оставался верен своему знамени. Его раздражи-
тельность, желчность вели иногда дальше цели, но это были ошиб-
ки, неотделимые от сильной стороны Вольтера — его убеждения
в том, что революционная целесообразность выше любой филантро-
пии и рыцарских жестов. Сколько пошлостей было сказано о дья-
вольщине Вольтера! Понадобилась «переоценка ценностей» Ницше,
чтобы превратить ее в нечто достойное восхищения — новую запо-
ведь агрессивной личности, свободную от всяких моральных прин-
ципов. Из одной крайности — в другую, лишь бы обойти лежащую
между ними полноту истины: таков закон господствующей идеоло-
гии буржуазного общества.
Все эти грани легенды о Вольтере имели свою стихийную клас-
совую целесообразность. Преувеличивая некоторые пикантные чер-
ты его биографии, сытая буржуазия XIX века стремилась ослабить
революционное значение борьбы Вольтера против средневековых
порядков, ибо полное разрушение их казалось ей теперь опасным
прецедентом на пути к социализму. То обстоятельство, что борьба
с «гадиной» была возможна лишь при известных условиях, которые
нужно было принимать для успеха самой борьбы, сделало образ
великого просветителя диалектически сложным, недоступным обы-
денному рассудку. Для просвещенного мещанина Вольтер был одно-
временно и слишком правым, и слишком левым — то королевским
gentilhomme de chambre, имеющим свои виды, то беспокойным воль-
нодумцем, потрясающим моральные святыни общества. Посредст-
венность не могла простить остроумному автору «Орлеанской дев-
ственницы» его непристойных выпадов против религии. С другой
стороны, его уличали в симпатии к иезуитам, желании играть роль
при дворе, презрении к лакеям и парикмахерам. А между тем сам
господин Купон гнул спину перед родовитой знатью. И чем уме-
реннее становилась европейская буржуазия, тем ниже падал в ее
глазах престиж Вольтера, пока, как уже было сказано, не совер-
шился поворот к новому типу буржуазной идеологии, и скептиче-
ская маска писателя XVIII века не стала достоянием реакционной
проповеди «человеческого, слишком человеческого».
Защита лучших традиций общественной мысли от этой двойной
системы кривых зеркал — задача партийной литературы марксизма.
В оценке исторических деятелей прошлого она имеет свои великие
образцы, свой собственный путь. Противоречия жизни и деятель-
ности Вольтера нельзя рассматривать как недостатки личности или
тайны ее роковой натуры. В них отражается более широкое общест-
венное содержание, всемирно-историческое, а потому и вечное.
3
Для герцога Сен-Симона, автора известных мемуаров, проис-
хождение Вольтера было темным. Но в XVIII веке деньги уже под-
рывали прочность сословных перегородок. Сын чиновника, потомок
торговцев сукном и кожей, Вольтер учился вместе с сыновьями вель-
мож. В юные годы он принадлежал к «Обществу Тампля» — круж-
ку образованной знати, которая с недовольством смотрела на за-
силье иезуитов и деспотизм Людовика XIV, особенно мрачный в
конце его долгого царствования.
Смерть старого короля, разорившего Францию своей манией
величия, стала большим событием. Она ослабила узы самодержав-
ной власти. Недовольство вышло наружу в виде множества печат-
ных и рукописных памфлетов. Первые акты регентства Филиппа
Орлеанского б^ли либеральны, но вскоре правящая клика верну-
лась к обычным методам поддержания порядка. Одной из жертв
этого поворота оказался Вольтер, которого в 1717 году отправили
в Бастилию.
Под сводами этой исторической тюрьмы он завершил свое первое
сценическое произведение — трагедию «Эдип». Поставленная в
1718 году, она имела шумный успех, может быть потому, что совре-
менники видели в ней легкий намек на разложение правящей вер-
хушки времен Регентства. Это была трагедия нового типа.
В XVII столетии Франция знала великих писателей, отдавших весь
свой гений театру. Но их система уже не могла удовлетворить по-
требности более передовой общественной мысли. Искусство Корне-
ля и Расина было отражением той эпохи, когда монархия, создав-
шая единое централизованное государство, еще имела за собой
историческую необходимость. Тот, кто спорил с ней во имя свобо-
ды. легко мог прийти в противоречие с национальными интересами
и стать изгоем, как Сент-Эвремон, типичный представитель дворян-
ского вольнодумства, проживший большую часть жизни в Англии.
Тут выбора не было. «Классическая трагедия» изображала этот
внутренний конфликт на разных ступенях его развития, с различ-
ными оттенками равновесия добра и зла, вмешательством галант-
ного эрос^ или без него. Отдавая должное чувству свободы и чело-
555
веческого достоинства^ она учила примирению с необходимостью
во имя трагического долга.
Для Вольтера такая система взглядов — пройденный этап. В его
глазах нет никакого конфликта между национальными интересами
и свободой личности (решение вопроса, уже намечавшееся отчасти
у Расина). Гибель трагического героя не искупает чью-то вину, а
возмущает душу, зовет к борьбе против векового зла. В пьесах
Корнеля еще звучит хриплый голос старинных вольностей, уступаю-
щих место более высоким интересам государства. Ради этих интере-
сов все строптивые головы должны склониться перед самодержав-
ным правителем как воплощением всеобщего, неподсудным морали
частных лиц. В пьесах Вольтера, напротив, речь идет об освобож-
дении государства от произвола и суеверия. Таким образом, весь
354 баланс «классической трагедии» был нарушен. Вольтер сделал фран-
цузский театр органом буржуазно-демократических идей. Трагедия
как особый литературный жанр, может быть, проиграла, но об-
щественное движение в целом выиграло, выиграла, в последнем
счете, и литература.
Новый период истории литературы, связанный с именем Воль-
тера, является отблеском общественного подъема, более широкого,
чем сословная оппозиция XVII века. Демократические идеи писате-
лей этого времени нельзя отделить от настроений народных масс,
так же как это было в России времен Белинского. Уже в 1720 году,
по случаю краха финансовой аферы Ло, в Париже ждали восстания.
С этого времени внутренняя история Франции совершалась на фоне
непрерывного брожения в столице и провинциях. Историческая за-
слуга Вольтера состоит в том, что он стал живым зеркалом подъема
национального самосознания. Его произведения открыли дорогу
партии союза буржуазии с народом, партии «просветителей», «фи-
лософов», «патриотов», пришедших на смену 'прежнему авангарду
этого класса — парламентской буржуазии, то есть образованных чи-
новников, администраторов и технократов былых времен.
Подобно тому как современный капитализм развращает часть
рабочего класса, создавая род «буржуазного пролетариата», дворян-
ское сословие на известных условиях принимало в свою среду
часть буржуазии, которая покупала должности в судебных учреж-
дениях (парламентах) и, таким образом, превращалась в «дворян-
ство мантии» или «дворянство пера». Этот слой буржуазного чи-
новничества с грехом пополам представлял интересы французской
нации до тех пор, пока буржуазия поднималась при помощи союза
с монархией. Но в XVIII веке лучшие времена «дворянства ман-
тии» были уже позади. В 1776 году парижский парламент проти-
вился отмене барщины. В общем чиновники были враждебны про-
стому народу и смотрели на него с опаской. Они хотели независи-
мости лишь для себя, защищая основы феодального строя в судах,
ибо, по верному замечанию Вольтера, эти господа сами владели
поместьями. По отношению к престолу парламенты были способны
лишь на мелкие интриги и пассивное сопротивление. Зато они про-
являли незаурядную энергию в преследовании передовой литера-
туры, направленной против казенной морали и веры в бога.
Вместе с появлением таких деятелей, как Вольтер, во Франции
началось размежевание между парламентской оппозицией, которая
все еще представляла средневековое прошлое буржуазии, и просве-
тителями. Они воплощали ее революционное будущее, то есть союз
с народом против старой монархии.
Это размежевание коснулось прежде всего вопросов религии, ибо
такие вопросы относятся к образу жизни людей в самой общей фор-
ме. Мрачный аскетизм церкви внушал покорность — убеждение в
том, что земная жизнь всегда останется долиной скорби, где душа
проходит испытание, установленное божеским законом. Чтобы из-
менить условия жизни, нужно было отбросить религиозную мораль
покорности.
Но борьба против религии имела свою традицию. До появления
литературы французских просветителей религиозное вольнодумство
было делом дворянских кружков. Во Франции называли либерте-
ном человека неверующего и вместе с тем разгульного. Дон-Жуан
Мольера был либертеном, и таких людей было много среди дворян-
ской богемы. Что же касается богатого мещанства, то за немногими
исключениями оно смотрело на образ жизни этих свободных мыс-
лителей с явным осуждением, не отступая от католического фана-
тизма отцов и дедов или стараясь примирить церковную ортодок-
сию с новыми учениями протестантской религии, более близкой
духу накопления. По словам Энгельса, материализм долгое время
был аристократическим учением для немногих избранных, ненавист-
ным буржуазии.
Этим в значительной мере объясняется дворянский камзол Воль-
тера, его привязанность к обществу просвещенной знати. Новое
мировоззрение, более родственное буржуазной демократии, росло в
привычной атмосфере светского вольнодумства. Столь очевидное
противоречие не было только признаком отсталости всей обществен-
ной обстановки XVIII века, и само по себе оно еще не доказывает
политической умеренности Вольтера и других просветителей. Самые
дерзкие идеи высказывались в этом веке под покровительством
знатных семейств, при кликах негодования со стороны парламент-
ских тупиц и готовых к услугам разбойников пера мещанской, ка-
бацкой и полицейской литературы, известных русскому читателю
по той печальной роли, которую эта свора играла в жизни Пушки-
на. Даже отшельник Руссо должен был искать себе покровителей
среди высшей аристократии. Но, разумеется, ярче всего это проти-
воречие является перед нами в деятельности Вольтера.
4
По выходе из Бастилии автор «Эдипа» становится модным поэ-
том светских гостиных. Опального литератора ласкает знать. Среди
адресатов его стихотворных посланий, стансов и мадригалов встре-
355
чаются самые звучные имена. Лирика Вольтера богата различными
оттенками мысли, но эти страницы из дневника мыслителя обле-
чены в традиционную форму жизнерадостной «легкой поэзии».
Даже грусть здесь — естественное пробуждение рассудка на другой
день после праздника жизни. Вот несколько строк в переводе
Пушкина:
Счастливцам резвым, молодым
Оставим страсти заблужденья;
Живем мы в мире два мгновенья —
Одно рассудку отдадим.
«Вольтер,— писал Герцен,— дворянин старого века, отворяю-
щий двери из раздушенной залы рококо в новый век». Двойствен-
556 ность этого положения автор «Эдипа» скоро почувствовал на своей
спине. Избитый слугами кавалера Рогана, он задумал отомстить
обидчику, но вместо этого снова попал в Бастилию с последующей
высылкой из Франции. Следствием нового поворота судьбы было
длительное пребывание писателя в Англии, игравшей большую роль
для всей французской культуры XVIII века как образец более
свободного национального развития. С 1726 по 1729 год Вольтер
живет в Лондоне и его окрестностях, изучая английскую общест-
венную жизнь, науку и литературу. Свои зарубежные впечатления
Вольтер изложил в знаменитых «Философских письмах» (француз-
ское издание 1734 г. было немедленно осуждено парламентом).
Основная тема писем — скрытое противопоставление новых, бо-
лее свободных буржуазных порядков Англии французскому обще-
ству старого режима. Но было бы по крайней мере неточно считать
Вольтера безусловным сторонником английского образца. Он сохра-
няет самостоятельную национальную точку зрения, надеясь, что его
родная страна пойдет своим, более широким и прогрессивным пу-
тем. Он одобряет общее развитие Англии в сторону буржуазно-де-
мократического строя жизни, но для него не проходит незамеченной
косность английского быта, «существование обычаев, во всем про-
тивных почитаемым законам». Вольтер замечает также контраст
между вольным духом народа и черствой узостью высших классов
(отрывки 1727 г., не вошедшие в текст «Философских писем»).
Имеет свое общественное значение и критика английского театра
в «Письмах» Вольтера. Принято смеяться над ошибкой великого
просветителя — он обвинял Шекспира в незнании правил хорошего
вкуса. Это на самом деле смешно. Однако такие ошибки имеют
свой исторический смысл и заслуживают более серьезного понима-
ния. Вольтер удивляется гению английского драматурга, создавше-
го свои колоссальные сценические образы в те времена, когда об*
щество еще верило в чудеса и не стеснялось самых крепких выра-
жений. Но в качестве просветителя он отвергает национальный
культ Шекспира как преклонение перед необузданной силой сред
них веков, а недостаток правил на английской сцене связывается
в его глазах с грубостью нравов и господством обычая.
Тот же ход мысли мы видим в решении других вопросов. Неко-
торые историки объясняли сдержанность Вольтера по отношению
к английскому образцу отсутствием чисто политического интереса.
Так думает, например, Морне. Другие обвиняли Вольтера в равно-
душии к гражданской свободе (мнение Морли и Рокена). Некото-
рые авторы, например Гетнер или Маренгольц, старались предста-
вить автора «Философских писем» сторонником английской консти-
туционной системы. Для подтверждения этих взглядов можно
собрать у Вольтера различные мелкие доказательства. Но все это
вовсе не основательно.
В «Философских письмах» Вольтер является горячим защитни-
ком освобождения народа — «наиболее многочисленной, наиболее
полезной и даже наиболее добродетельной части человечества». Мы
видим далее, что смелая защита интересов народа сочетается у него $57
с теорией просвещенного деспотизма, то есть неограниченной власти
монирха, способной осуществить прогрессивные реформы сверху,
устранить средневековую анархию, утвердить закон и порядок.
С этой точки зрения Вольтер идеализирует фигуру французского
короля Генриха IV в эпической поэме «Генриада», напечатанной
также за рубежом (1728).
Оба эти произведения Вольтера находятся между собой в из-
вестном противоречии, и вместе с тем они взаимно дополняют друг
друга. Характерно, что «Генриада» — поэма о религиозной терпи-
мости и политическом разуме основателя династии Бурбонов — не
могла быть издана во Франции, где правила эта династия. За пять-
десят лет до революционных событий 1789 года теория просвещен-
ного деспотизма считалась еще опасной политической водностью.
Своим распространением в XVIII веке она обязана именно фран-
цузской просветительской литературе.
Причин для этого было много. Передовое общественное мнение
требовало усиления королевской власти против враждебных на-
циональным интересам происков римской церкви, засилья вельмож
и произвола парламентской бюрократии. Масса народа видела в
личной власти основу обеспеченного порядка, она верила в то, что
монарх является исконным защитником ее прав, обязанным забо-
титься о пропитании простых людей. Вольтер мог сказать о себе
словами Анатоля Франса: «Я писал то же самое, что говорила моя
привратница».
Логика исторических противоречий, сделавшая Вольтера пред-
шественником французской революции и «дворянином старого
века», объясняет нам также его утопию союза с единовластием про-
тив засилья более мелких господ в общественной идеологии и прак-
тической жизни. Теория просвещенного деспотизма является отста-
лой теорией, если судить о ней с точки зрения революционной
демократии. Однако такая точка зрения возникла во Франции лишь
в последнем десятилетии XVIII века, в эпоху Конвента. Что же
касается французских просветителей, то в своих политических тео-
риях они не были последовательными демократами. Это относится
.358
и к Руссо, как это видно из его «Размышлений о методах управле-
ния Польшей», плана конституции для острова Корсики и даже из
самого «Общественного договора». Просветители глубоко сочувст-
вовали бедствиям народа и в то же время боялись стихийного бун-
та, «бессмысленного и беспощадного», хотя иногда предчувствовали
неизбежность взрыва долго сдерживаемой народной ярости и даже
упивались этой картиной.
Можно, пожалуй, великодушно простить им классовую ограни-
ченность. Но для того чтобы наше сравнение было вполне справед-
ливым, нужно сравнивать просветителей не с якобинцами, чья
деятельность развернулась в другой, более зрелый период общест-
венной борьбы, а с буржуазной парламентской партией середины
XVIII века. В этих масштабах, приблизительно между 1715 и
1789 годами, учение французских просветителей было наиболее ре-
волюционным, несмотря на свои исторические слабости.
Мысль о коренной ломке всех устаревших отношений, не бес-
смысленной, хотя и беспощадной, являлась им чаще всего в виде
плана революции сверху. Правда, просветители желали этой ломки
и тем отличались от парламентской оппозиции. Они понимали, что
отдельные, частные свободы и преимущества, которых добивается
буржуазия в рамках сословной монархии, враждебны народной сво-
боде в целом.
Среди просветителей были люди разных политических взглядов.
Одни, как Монтескьё, больше склонялись к идеалу английской кон-
ституции. Другие, напротив, возмущались продажностью англий-
ских политических деятелей XVIII века, мнимых избранников
народной воли. «Может ли свобода быть обеспеченной хотя бы на
один миг, если она находится в руках шайки коварных представи-
телей, которые предпочитают деньги чести и свободе?» — писал
Гольбах.
Позиция Вольтера недалека от этого взгляда его более моло-
дых друзей. Она не выражается, впрочем, в какой-нибудь ясно
изложенной доктрине. Сознавая всю неизбежность коренных пере-
мен в жизни французского общества, Вольтер не составляет про-
грамм, ибо не придает безусловного значения политической форме,
форме правления, отстаивая лишь основное содержание демократии
и ограничиваясь общими требованиями природы и разума, но преж-
де всего критикой, отрицанием. Это и образует его сильную сторону
на фоне многочисленных рецептов будущего, предложенных други-
ми писателями этого времени и ныне известных только историкам
политических учений.
Вольтер не питает симпатии к республиканским свободам в духе
польских магнатов и московских бояр, считавших крестьян своими
естественными рабами. Вот истинная причина его поисков просве-
щенного единовластия и склонности закрывать глаза на другую
сторону медали, его колебаний между ненавистью к тиранам и от-
вращением к лицемерной свободе для избранных, тех, кто стоит
между властью и громадным большинством. Мы уже знаем, что
традиция придворного вольнодумства связана у Вольтера с демо-
кратической критикой буржуазной олигархии (в известном смысле
даже более последовательной, чем у народника XVIII в., предтечи
романтизма — Руссо).
В этом направлении Вольтер шел так далеко, что готов был в
ущерб своей репутации поддерживать непопулярную реформу пар-
ламента, проведенную министром Мопу. Советников парижского
парламента, вступивших в конфликт с короной, он называет «высо-
комерными буржуа, которые хотели стать нашими тиранами». Рево-
люционное учение французских просветителей искало опоры в само-
державии хорошего короля — противоречие, известное не только
эпохе Вольтера.
5
Между тем реальному самодержавию не нужны были патриоты,
готовые служить его абсолютной власти, поскольку она сама го-
това служить общественному прогрессу. Ему нужны были верно-
подданные. Вот почему после выхода «Философских писем» Воль-
теру пришлось бежать в Голландию. Затем он поселился в замке
Сире на границе Лотарингии, у своей возлюбленной, маркизы дю
Шатле, женщины умной и образованной. Сирейский период жизни
Вольтера — десятилетие 1734—1744 годов — имеет большое значе-
ние в его биографии. Философские поэмы и научные сочинения это-
го времени содержат общий очерк нового мировоззрения.
Уже в «Философских письмах» Вольтер излагает успехи англий-
ской науки в лице ее выдающихся представителей — Локка и Нью-
тона. Важные сочинения сирейского периода «Трактат о метафи-
зике» (1734) и «Основы философии Ньютона» (1738) посвящены
развитию идей английского сенсуализма и естественно-научной тео-
рии мироздания.
Главным врагом Вольтера является метафизика XVII века с ее
«романами о душе». Метафизические системы были в его глазах
повторением казенной догмы о греховности плоти, обреченной на
страдания. Они утверждали неограниченную власть разумной души
в человеческом теле, ничтожество личности перед мировым зако-
ном, иерархию существ или врожденное превосходство одних людей
над другими. В общем эти системы обращали на все мироздание
принцип сословного строя.
Локк со своей буржуазной точки зрения перевернул старую
схему, сделав основой философии опыт отдельной личности с ее
интересами и страстями. В качестве последователя Локка Вольтер
отрицает существование врожденных идей, влекущих нас к хоро-
шему или плохому и создающих наследственную лестницу умов,
высоких и низких. Всякая мысль происходит из опыта, мышление
лишь перерабатывает материал, приносимый чувствами. Поэтому
различия между людьми относительны — любой человек есть то,
что делает из него окружающая среда и воспитание.
359
На этом пути Вольтер приходит к чисто материалистическим
выводам. Он думает, что для объяснения умственной деятельности
нет надобности принимать существование особой невещественной
субстанции. «Кто осмелится сказать, что невозможна возможность
мышления у материи?» Я тело, и я мыслю. Лукреций прав. «Мы
мыслим мозгом так же, как ходим ногами».
И все же, колеблясь и убеждая самого себя, Вольтер признает
существование бога. Откуда же этот неожиданный поворот его кри-
тической мысли? Деизм Вольтера — не внешний прием для обмана
врагов науки, а прямая непоследовательность; она рождается в уме
философа с некоторой иллюзией правдоподобия. Мозг мыслит, но
скала не мыслит. Стало быть, рассуждает Вольтер, должна суще-
ствовать особая причина для появления мыслящей материи. Где же
360 найти эту причину, которая представляется столь чудесной? Только
бог может наделить тела природы способностью думать и чувство-
вать, как он наделил их другими свойствами, например протяжен-
ностью.
Мы знаем теперь, что возникновение мысли имеет свои естест-
венные причины в развитии материи от неорганической природы до
человека. Но даже в наши ученые времена здесь остается еще много
неясного. Современная наука может с известным приближением
описать материальный процесс, совершающийся в мыслящем теле.
И пока речь идет о материальном процессе, ученый-физиолог изу-
чает его столь же объективными методами, как ученый-геолог изу
чает скалу. Разница велика, но не принципиальна. Не будет прин-
ципиальной разницы и в том случае, если исследованию подверг-
нется работа мозга самого ученого-исследователя. Представим, на-
конец, третьего ученого, изучающего мыслящее тело второго,— и так
далее, до бесконечности. На каждой ступени этой лестницы перед
нами открывается противоположность между материальным процес-
сом, происходящим в мыслящем теле, и мышлением как таковым.
Человек может быть нелогичен и даже глуп, но физиологически
его мышление — закономерный процесс. Логичность и глубина мыш-
ления возможны лишь потому, что мысль отражает внешний мир,
в том числе и физиологический процесс, совершающийся в мысля-
щем теле другого человека. Она не является только слепым про-
дуктом его собственных нейронов и синапсов. В нашем примере
каждый предшествующий ученый — объект, каждый последую-
щий — субъект. Короче, суть дела не столько в том, что на извест-
ной ступени развития природы скала превращается в мыслящее
тело, а в том, что с момента этого превращения происходит распад
на мыслящее тело и мыслимую им скалу. И в этом распаде заложе-
на для человека глубокая тайна, тайна его собственного мышления.
Спиноза, которому следует здесь Вольтер, выходит из затруд-
нения благодаря слишком широкой абстракции — его субстанция
(природа) обладает всеобщим атрибутом мышления. Это значит,
что в очень отдаленной перспективе не ученый-физиолог мыслит
объективный процесс, совершающийся в мозгу подопытного сущест-
ва, а сама природа (включая в нее и этот объективный процесс ра-
боты мозга) мыслит себя в лице физиолога.
Гегель не без основания назвал такое представление о природе
эстетическим. Действительно, как метафора эта унаследованная от
натурфилософии эпохи Возрождения картина очень хороша. Но при
переходе от столь широкой абстракции к миру конкретному при-
шлось бы установить некое равенство между физиологическим про-
цессом и вменяемым логическим мышлением. Между тем содержа-
ние работы нейронов и синапсов в мозгу Эйнштейна, установленное
самым тонким физиологом, не совпадает с теорией относительности,
ибо содержание его теории — истинна она или ложна — не в мысля-
щем теле ученого, а в более широком объективном мире.
Исключить это противоречие можно было бы только посред-
ством поэтической фикции «мировой души», объединяющей созна-
ние человека с жизнью внешней реальности. У Спинозы, как и у его
предшественников, мыслителей эпохи Возрождения, в самом деле
играет некоторую роль наследие платонизма, и его порядок идей,
отвечающий порядку вещей, есть отчасти логос материальной при-
роды, отчасти мысль человеческой головы.
При столь широкой абстракции Спинозе, естественно, понадо-
билось обожествление природы. Что касается Вольтера, то у него
идея бога приобретает более резкие очертания (оставаясь все же
общей логической закономерностью мира) именно потому, что он
ближе к материализму своего века. Вместо туманной массы, которая
вечно мыслит, у Вольтера на первый план выступает более опреде-
ленное мыслящее тело — сам человек. Если так, то мысль этого
тела есть либо эпифеномен, пассивный продукт определенного со-
стояния материи, род сновидения, либо вменяемый разум, способ-
ный понимать законы объективного мира, поскольку сам объектив-
ный мир при всей бессмыслице кипящих в нем случайностей имеет
разумное основание. Так родилась идея божества, правящего ми-
ром, в качестве его рационального основания — деизм Вольтера.
К этому нужно прибавить, что Вольтер имел перед глазами ме-
ханистическую физику своего времени, которая не могла удовлетво-
рить его до конца и в лице своего величайшего представителя Нью-
тона обошла главные препятствия, обратившись к чисто математи-
ческому описанию всеобщих связей вселенной. Вольтер следует
примеру Ньютона в своем признании необходимости божественного
порядка. Он видит, что существование животных и растений нельзя
объяснить механическим сочетанием частиц материи в пространст-
ве— сколько бы разнообразных, тончайших звеньев мы ни приняли
в этом сочетании, всегда конечном. Как отрицание механической
версии природы позиция Вольтера нисколько не устарела и в наши
дни. Тем не менее возможны другие попытки решить вопрос о жиз-
ни и разумном мышлении в рамках самой природы, решить его без
обращения к богу, на почве материализма.
В этом отношении Вольтер стоит позади своего младшего со-
временника и друга Дидро, искавшего ответ на загадку истинного,
361
доброго и прекрасного в понятии бесконечной целостности самой
материальной жизни. Впрочем, и Дидро, сделавший следующий
шаг к понятию «субъект», развитому немецкой диалектикой, не
чужд влияния платонизма. Недаром Вольтер в своей переписке с
Дидро называет его «брат Платон». Однако у самого Вольтера при-
сутствие разумного порядка в мире имеет еще более отвлеченный
вид. Не зная принципа развития — во всем богатстве и конкретной
полноте этого понятия,— он заменяет живую диалектику природы
традиционной классификацией форм, системой целей, ведущих к су-
ществованию бога (конечные причины). И все же этим обходным
путем в его систему возвращается отвергнутая метафизика.
Нетрудно видеть связь философских взглядов Вольтера с его по-
литической программой. Он следует за эмпиризмом Локка, учением
362 английских либералов. Но философская теория Локка, отражая
практику буржуазного строя в Англии, не годилась для более ре-
волюционных условий французского Просвещения. Вольтер и его
друзья нуждались в ясном общественном идеале и стройной систе-
ме взглядов на природу как целое. Философия Локка не давала
этой возможности. В глазах английского философа всякое обобще-
ние является делом условности. Чтобы ускорить бесконечный
процесс наблюдения единичных фактов, «душа связывает свои вос-
приятия в пучки и размещает их по классам». Так рассуждает Локк.
Отсюда можно сделать вывод, что в объективном мире, существую-
щем независимо от нашей души, нет оснований для такой класси-
фикации. За пределами субъективного восприятия остается только
механическое движение частиц материи, безразличное к видам и
родам вещей, возникающих в этом процессе.
Как сказано выше, принцип механического движения Вольтер
считал недостаточным для основание системы природы как объ-
ективного порядка (а не условной картины ее). Здесь многое в
рассуждениях Вольтера верно и проницательно. И все-таки со своей
стороны он не мог предложить ничего более близкого к действи-
тельному развитию природы. Чем определяется все объективное
богатство ступеней, форм и качеств движущейся материи, отноше-
ний общего и особенного в ней, генетической связи родов и видов?
Мы уже знаем, что, по мысли Вольтера, стройность природы яв-
ляется доказательством существования всемирного разума. Целое
как бы проистекает сверху, посредством эманации, а не рождается
снизу, посредством развития.
Другими словами, в этой системе натурфилософии порядок идей
остается тем же, что и в системе политических взглядов Вольте-
ра— повсюду всеобщее рассматривается как форма, охватывающая
и подчиняющая себе множество единичных фактов, отношений, слу-
чайностей, интересов, и это всеобщее, хотя оно уже не столь гео-
метрически властно подчиняет себе материал действительности, как
в метафизических учениях XVII века, должно быть все же чем-то
стоящим над реальной жизнью мира в качестве его разумной дис-
циплины.
Таким образом, при всем уважении к испытующей мысли ге-
ния, нужно признать, что философские взгляды Вольтера содержат
странную смесь передового и отсталого. Он отвергает мысль о сле-
пом, хаотическом движении частиц материи, но приходит к еще бо-
лее ложному выводу — мы можем допустить вечность первоначаль-
ной материи, однако стройный порядок ее естественных форм пред-
полагает деятельность художника-творца.
Здесь на помощь Вольтеру приходит учение Ньютона о всемир-
ном тяготении как системе, объясняющей рациональное устройство
мира в целом. У самого Ньютона механика также служила доказа-
тельством мудрости божественного начала. Вольтер дополняет Нью-
тона представлением о всеобщей мировой гармонии, взятым у Лейб-
ница и его последователей. Бог Вольтера — не жестокий тиран
средневековой религии, а просвещенный деспот, философ на троне
мира. Ему не нужно жертв и курений, их заменяет стоическая по-
корность судьбе. Спокойствие — молитва философа.
Теория познания и эстетика Вольтера также чреваты внутрен-
ним противоречием. Опыт людей различен, поэтому так удивитель-
но разнообразны мнения и вкусы народов, исторических эпох и от-
дельных личностей. Все относительно. Спросите у жабы, говорит
Вольтер, что такое красота, и она ответит вам, что красота — это
рот до ушей и выпученные глаза. По традиции всех французских
моралистов, начиная с Монтеня, сочинения Вольтера содержат
множество ссылок на всевозможные странности в обычаях, вкусах
и мнениях людей разных стран и народов. Но где же независимая
от нас объективная истина, и можем ли мы познать ее? Где общие
правила вкуса, одинаковые для всех, простые нормы нравственно-
сти и права?
Диалектическое решение этого вопроса было еще недоступно
эпохе Вольтера, ограниченной своим феодальным прошлым и своим
идеалом будущего, то есть буржуазной демократией. Поэтому он
постоянно колеблется между признанием полной относительности
наших идей и уступкой теории неизменных истин.
Легко заметить эти противоречия, но было бы пустым высоко-
мерием утверждать, что в XX веке люди давно забыли о них. Либо
задача сама по себе оказалась более сложной, чем можно было ожи-
дать, либо другие причины ведут к постоянному возвращению этих
антиномий общественного сознания даже в более развитой общест-
венной среде. Во всяком случае, для иронии над эпохой Просвеще-
ния, распространенной у просвещенных умов нашего времени, нет
никаких причин.
Философия, утверждающая многообразие взглядов и точек зре-
ния, легко может скатиться к отрицанию объективной реальности.
Такая опасность смущала теоретическую совесть Вольтера. Он
понимал, что она коренится в учении Локка, то есть в самой фило-
софии опыта. Развитие этой философии в сторону субъективного
идеализма было ему совершенно чуждо — систему Беркли Вольтер
считал абсурдной. Но как избежать идеалистических выводов из
363
сенсуализма, если наше сознание ограничено показаниями органов
чувств, если каждый имеет свой горизонт и замкнут в пределах
собственного опыта?
Перед лицом этой опасности Вольтер решительно покидает ан-
глийский образец и делает резкий поворот в сторону рационалисти-
ческих идей XVII века. Истины математики и морали, правила
вкуса и принципы «естественной религии» (очищенной от суеверия
средних веков) кажутся ему безусловными знаниями в последней
инстанции. Спасаясь от скептицизма, который в более консерватив-
ных английских условиях привел к ложным выводам Беркли и
Юма, Вольтер возвращается к традиционной метафизике в новой,
очищенной, но не менее догматической форме. Впрочем, кое-что в
этом отношении он мог бы найти у самого Локка и его последова-
364 телей.
Историческая задача французского Просвещения требовала яс-
ной системы взглядов, исключающей всякую уклончивость. Но про-
светители не понимали и по условиям времени еще не могли понять
действительное значение их собственной философской веры, которая
вовсе не была абсолютной истиной, а лишь относительной и прехо-
дящей ступенью в общем процессе революционной критики. Буржу-
азная демократия представлялась им не исторической формой об-
щества, а безусловным выводом из естественного закона. Это цар-
ство разума на земле, историческая аксиома, не менее очевидная,
чем аксиомы геометрии.
Чтобы доказать безусловную справедливость своего идеала,
Вольтер рассуждает с точки зрения вечных истин политики, мора-
ли и красоты. Правда, нет врожденных идей, как нет врожденных
преступников и нет естественного деления на благородных и небла-
городных. Но если мы не рождаемся с бородой, то в определенном
возрасте она может у нас вырасти. Так у всех людей и у всех наро-
дов на известной ступени возникают некоторые общие представле-
ния о праве и справедливости, о том, что хорошо и плохо, благород-
но и низко, красиво и некрасиво. Эти понятия так же естественны,
как законы тяготения, и так же очевидны, как истина «дважды
два — четыре». В основе мировоззрения Вольтера лежит свойствен-
ная всем теоретикам поднимающегося буржуазного строя идея общ-
ности человеческой природы.
Если люди не могут прийти к полному согласию относительно
содержания справедливости, то виною этому, по мнению Вольтера,
их невежество. Но и здесь благое провидение позаботилось о том,
чтобы из раздоров и несогласий вышла польза для естественного
порядка. Существование зла физического и морального не нару-
шает общей гармонии вещей; значение его относительно, думал
Вольтер. Смотрите на дело более широко, и вы увидите, что вселен-
ная представляет бесчисленное множество миров, в котором каждо-
му состоянию и каждому уровню есть свое место и своя мера. Мы
называем злом то, что с нашей ограниченной точки зрения кажется
таковым.
6
Все эти рассуждения были необходимы Вольтеру, чтобы убе-
дить самого себя в ничтожестве тех причин, которые мешают чело-
веку достигнуть счастья на земле. Напрасно церковные изуверы ри-
суют земную жизнь в самых мрачных красках — она существует
для радости. Не торопитесь осуждать эгоизм и слепые страсти лю-
дей! Борьба интересов ведет к успехам цивилизации, она явилась
причиной того порядка, который постепенно складывается в мире
общественном даже без вмешательства человеческого ума. Пусть
моралисты гремят против роскоши — бол’ыпие расходы богачей
дают работу множеству бедняков и тем поддерживают гармонию
частей единого целого.
Так все уравновешивается, все на своем месте: чувство и разум,
борьба страстей и рациональный порядок, естественное равенство
всех и различия общественного положения, забота о себе и любовь
к ближнему. Нужно только услышать голос природы и следовать
ему. Горе тем, кто нарушает естественный закон! Они всегда быва-
ют наказаны за свою ошибку.
С этой точки зрения Вольтер восхваляет п.юды цивилизации,
которая приносит наслаждения, неведомые людям в первобытном
состоянии (философская поэма «Светский человек», 1736). Он воз-
вращается к идеалу просвещенной монархии в своем «Веке Людо-
вика XIV» (1751) и с полным убеждением защищает идею прогрес-
са сверху, процветания искусств и наук. Как исторический оптимист
он отвергает утопию добродетельной бедности, смеется над поиска-
ми золотого века в прошлом. Тут многое у Вольтера взято из ан-
глийской просветительской литературы начала XVIII века или из
философии Лейбница, но переработано в более общие и наглядные
схемы пытливой мысли, исследующей объективные возможности
новой страницы всемирной истории.
И все же оптимизм ранних произведений Вольтера в известном
смысле был философией просвещенного барина. Формула «все хо-
рошо» слишком легко устраняет темные пятна на общем фоне подъ-
ема культуры. Идея естественной гармонии интересов имела более
определенное содержание — это литературный псевдоним буржуаз-
ной конкуренции, которая в те времена действительно играла про-
грессивную роль. По сравнению с эпохой первоначального накопле-
ния время Вольтера внушало надежды на мирное и автоматическое
развитие хозяйственной системы, основанной на буржуазной част-
ной собственности. Но эта форма прогресса также опиралась на
человеческие жертвоприношения. При всей исторической светотени
добра и зла фразой о гармонии мироздания нельзя отменить дейст-
вительных страданий народов, напротив, она сама, не хуже средне-
вековой религии, может служить оправданием покорности. Интерес-
но, что «Крестник» Толстого — рассказ, основанный на религиозной
морали непротивления злу насилием, во многом соприкасается с
365
веселой восточной повестью Вольтера «Задиг, или Судьба». Вот от-
рывок из беседы Задига с ангелом Иезродом.
— Что же,— спросил Задиг,— разве необходимо, чтобы в мире
существовали несчастия и преступления и чтобы они составляли
удел хороших людей?
— Преступные,— отвечал Иезрод,— всегда несчастны, и они су-
ществуют для испытания немногих справедливых людей, рассеян-
ных по земле. И нет такого зла, которое не порождало бы добра.
— А что,— сказал Задиг,— если бы совсем не было зла и было
бы одно добро?
— Тогда,— отвечал Иезрод,— этот мир был бы другим миром,
сцепление событий протекало бы в другом премудром порядке, ко-
торый был бы совершенен.
366 И далее ангел поясняет Задигу, что все происходящее на любом
атоме мироздания не может быть иным, чем оно есть.
— Люди думают, что это дитя упало в воду случайно, что так
же случайно сгорел тот дом, но случая не существует — все на этом
свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предзна-
менование... Слабый смертный, перестань бороться против того, пе-
ред чем ты должен благоговеть!
Вскоре Вольтеру представился случай проверить свой оптимизм
на практике. В 1744 году начался один из коротких периодов за-
игрывания с общественным мнением, которые время от времени
повторяются в истории каждой деспотической власти. Школьный
приятель Вольтера маркиз д’Аржансон был назначен министром
иностранных дел. Преследования литераторов на время прекрати-
лись. Сам Вольтер стал «историографом короля» и надел пожало-
ванный ему шутовской кафтан камергера. Год спустя он написал
в честь Людовика XV довольно плоский «Храм славы». Это было
унижением первого писателя Франции, но Вольтеру казалось, что
он поступает в духе Расина и Мольера — великих литературных
деятелей классического века, искавших союза с абсолютной монар-
хией во имя своих национальных и человеческих идеалов.
К счастью для французской литературы, в жизни Вольтера это
искушение продолжалось недолго. Король не жаловал своего исто-
риографа. И так как положение Вольтера снова стало шатким, ему
пришлось бежать из королевской резиденции. К этому времени
умерла маркиза дю Шатле. Поклонник новых идей прусский король
Фридрих II давно приглашал Вольтера в Берлин, обещая ему по-
кровительство и золотые горы. Фридрих даже втайне интриговал
против Вольтера при французском дворе, стараясь сделать его даль-
нейшее пребывание во Франции невозможным, чтобы таким обра-
зом заманить его к себе. После долгих колебаний Вольтер оставил
пределы родины и поселился у «Соломона Севера».
Отъезд в Пруссию был новым опытом применения теории про-
свещенного деспотизма. В своем сближении с прусским двором
Вольтер следовал традиционной французской политике, которая
опиралась на протестантских князей Германии в борьбе против ка-
толической империи Габсбургов. В качестве неофициального ди-
пломатического агента он уже с 1740 года принимал участие в по-
пытках склонить прусского короля на сторону Франции.
Вольтер и здесь имел свои расчеты или, скорее, иллюзии. Его
идеалом был прочный мир между народами. Но, как мы теперь
задним числом понимаем, этот гениальный ум самым жалким обра-
зом заблуждался. Он заблуждался, полагая, что такой мир можно
установить сверху, добившись влияния на умы правящих особ и
пользуясь для этого противоречиями их интересов. Большой лице-
мер, любитель театральных эффектов, Фридрих скорее притворял-
ся учеником просветителей, чем был им на самом деле. Однако
Вольтер даже после первых разочарований не терял веры в буду-
щее, полагая, что влияние просветительской философии на прусско-
го короля послужит делу мира в Европе, расшатанной династиче- 367
скими войнами. Между тем действительность еще раз посмеялась
над планами просветителей.
Вольтер поселился у Фридриха в 1750 году. Спустя три года
дружба с философом на троне Гогенцоллернов окончилась ссорой, и
так как Вольтер в этом споре представлял более слабую сторону,
ему досталась незавидная роль. Он рад был унести ноги из владе-
ний своего Соломона. Национальные и международные чаяния
Вольтера также были обмануты. Фридрих вскоре изменил союзу с
Францией; опираясь на англичан, он развязал Семилетнюю войну
и, по словам самого Вольтера, оказался врагом народов. С другой
стороны, французская монархия обнаружила все свое разложение
в бездарном ведении войны, несправедливость которой с обеих
сторон была ясна. Во Франции торжествовала реакция. Партия
«философов», усилившаяся в предшествующие годы, подверглась
новым гонениям. В 1757 году объявили указ о смертной казни за
всякое сочинение против религии и престола. В 1759 году была за-
прещена «Энциклопедия» Дидро.
Пятидесятые годы — время тяжелых сомнений в идейном раз-
витии Вольтера. Перед ним расстилалась картина произвола само-
державной власти, народных бедствий и нищеты, религиозного фа-
натизма, разорительных войн. Теперь зло уже не кажется ему столь
относительным и терпимым. Важнейшими произведениями Вольтера
50-х годов являются «Поэма о разрушении Лиссабона, или Провер-
ка аксиомы: «все хорошо» (1756) и философский роман «Кандид,
или Оптимизм» (1759). Здесь мир изображен как смесь кровавой
трагедии и пошлого фарса. Вольтер отвергает учение о всеобщей
мировой гармонии:
Мне Лейбниц не раскрыл, какой стезей незримой
В сей лучший из миров, в порядок нерушимый
Врывается разлад, извечный хаос бед.
Ведя живую скорбь пустой мечте вослед.
Зачем невинному, сродненному с виновным,
Склоняться перед злом, всеобщим и верховным;
Постигнуть не могу в том блага своего,
Я, как мудрец, увы! не знаю ничего.
368
Философы, рассуждающие о мировой гармонии, похожи на ка-
торжников, играющих своей цепью, писал Вольтер впоследствии.
На деле мир скорее напоминает бойню. Но если это так, то либо
бог бессилен устроить жизнь иначе, либо он бесконечно зол. Как
совместить существование зла с религией доброго и всемогущего
бога? Вольтер откровенно высказывает свои сомнения. Его филосо-
фия по-прежнему далека от прямой защиты атеизма, но допускает
возможность такой позиции. Во всяком случае, попытка сохранить
религию посредством протеза так называемой физикотеологии, то
есть ссылки на разумное устройство мира, изучаемого наукой, не
кажется ему теперь достаточно убедительной.
7
После разрыва с Фридрихом философ поселился сначала в
Швейцарии, у ворот Женевы, затем приобрел поместье Ферне на
рубеже двух государств — Швейцарии и Франции. Одной ногой он
стоял в монархии, другой — в республике, не доверяя до конца ни
той, ни другой. С этого времени начинается последний период его
деятельности, наиболее независимый и наиболее плодотворный.
Вольтер опирается на растущую силу печати, которая, правда, по
его собственному признанию, доставила ему много неприятностей.
В своем убежище он поддерживал тесную связь с молодым поколе-
нием просветителей-материалистов, вдохновляя их своим знамени-
тым лозунгом, направленным прежде всего против церковного мра-
кобесия: «Раздавите гадину!»
Его исторический оптимизм становится теперь более осторож-
ным, более мудрым и, можно сказать, более демократическим. Дви-
жение вперед существует, но кажется, что прогресс должен пробить
себе дорогу сквозь тысячи препятствий. Эта точка зрения изложена
Вольтером в «Опыте о нравах и духе народов», начатом еще при
жизни госпожи дю Шатле и по ее желанию, но впервые опублико-
ванном (если не считать частичных и «пиратских» изданий) только
в 1756 году. Впоследствии к этому обзору исторического пути чело-
вечества, начиная с эпохи Карла Великого, Вольтер прибавил в
качестве вступительной части свое сочинение «Философия исто-
рии», изданное первоначально под именем воображаемого аббата
Базена. Вообще же он продолжал работать над «Опытом» до самой
смерти.
В противовес ученой историографии своих предшественников,
занятых хроникой двора и церкви, Вольтер выдвигает на первый
план условия народной жизни, развитие торговли, земледелия, изо-
бретений. «Тот, кто изучал историю с пользой, видит, что бывает
столько же революций в торговле, сколько и в государстве». Не од-
ной политикой жив человек, он прежде всего — изобретающее жи-
вотное. «Есть в человеке технический инстинкт, который на наших
глазах ежедневно приводит к самым большим результатам у самых
грубых людей». В подтверждение этой мысли Вольтер ссылается
на жителей горных местностей Тироля или Вогезов, изобретающих
машины, способные удивить ученых, на совершенно невежественных
крестьян, превосходно разбирающихся в законах механики, когда
им нужно поднять груз.
История обыкновенных людей, которые своим трудом поддер-
живают существование государств, важнее, чем победы и пораже-
ния мнимых героев, заливающих кровью мирные поля. «Я хотел бы
лучше исследовать общество, каким оно было в прошлые време-
на,— пишет Вольтер,— раскрыть, как люди жили в их семьях, ка-
кие искусства они развивали, чем рассказывать о стольких несча-
стьях и битвах, этих зловещих сюжетах истории, и повторять общие
места о злобе людской». Ведь даже в средние века, среди величай-
шего варварства, анархии и бесконечных войн техническая изобре-
тательность не иссякла. Что же касается земледелия, то в своем
необходимом для пропитания людей постоянстве оно наряду с тор-
говлей всегда оставалось единственным спасением общества от пол-
ного разорения, его последним резервом и необходимой ступенью
к более цивилизованному, более устойчивому состоянию.
Правда, страниц, посвященных этой основе культуры (слово
«культура» еще означает у Вольтера прежде всего земледелие,
агрикультуру), как и другим мирным занятиям — летописи изо-
бретений, развитию науки, изящных искусств и поэзии, в его сочи*
нении не так много. Только особые, нечасто встречающиеся условия
могут открыть дорогу культурным завоеваниям народов, расцвету
их творческого гения. Великие века — великие исключения. Вольтер
не устает повторять, что его мало интересует генеалогия королей,
их бесконечные взаимные интриги, ссоры и примирения, что стоит
заниматься только историей тех властителей, которые сделали сво-
их подданных более счастливыми, предав забвению толпу «короно-
ванной черни». Но что может поделать добрая воля философа про-
тив реального хода вещей? Если придворные интриги меняют судь-
бу наций, пишет Вольтер по поводу домашних дел королевы Анны
Английской, то волей-неволей приходится о них говорить.
История нигде не являет нашему взору картину спокойного
подъема к цивилизованному состоянию, в котором общество людей
подчиняется только своим собственным, свободно принятым зако-
нам. Задолго до Канта и Гегеля автор «Опыта о нравах» уже пы-
тался изложить историю как драму, в которой условная гармония
рождается только из дисгармонии, жестокой борьбы интересов, ве-
дущей к подъему разума ценой печального опыта. Свою «необщи-
тельную общественность» Кант нашел,, вероятно, в сочинениях
Вольтера, хотя той остроты понимания антагонизма сил, которая
свойственна немецкой диалектике, еще не могло быть у писателей
эпохи Просвещения. В «Письме к господину де..., профессору исто-
рии» (1753) Вольтер так излагает свою задачу: «Я исследую, ка-
ким образом столько дурных людей под водительством самых дур-
ных государей создали все же длительно существующие общества,
в которых развились искусства, науки и даже добродетели».
369
Однако способствуют ли дурные цели людей прогрессивному
развитию общества или только мешают ему? Английский писатель
времен королевы Анны — Бернард Мандевиль взял на себя сме-
лость утверждать, что общественное благо рождается из эгоистиче-
ских целей, интересов и даже преступлений частных лиц. Все это
не мешает процветанию наций, напротив — способствует ему, и пло-
хо будет людям, если в один прекрасный день они станут доброде-
тельны. Что же произойдет? В этот день, скорее несчастный, утих-
нут страсти и воцарится тупая неподвижность — не будет больше
ветра, надувающего паруса общественного корабля. Легко понять,
что реальным основанием теории Мандевиля служит система бур-
жуазной конкуренции с ее стихийным прогрессом как следствием
беспощадной борьбы интересов, описанная парадоксально и все же
370 точно.
Нет никакого сомнения в том, что парадокс Мандевиля, очень
известный в XVIII веке, либо непосредственно, либо через труды
английских экономистов также оказал большое влияние на диалек-
тическую философию истории от Канта до Гегеля. Согласно этой
философии развитие человеческих обществ идет вперед не только
вопреки, но отчасти и благодаря дурным страстям. Неведомо для
самих участников исторического процесса их личные цели стано-
вятся, по выражению Канта, уловкой природы, идущей навстречу
нравственному идеалу без всякой надежды когда-нибудь слиться
с царством свободы, или слепыми орудиями хитрости разума, со-
гласно терминологии Гегеля. Люди стремятся к тому, что им вы-
годно, они борются между собой за власть и богатство, но в целом
за их спиной совершается поступательное движение истории. Непо-
средственное сознание людей бывает при этом дважды обмануто.
Сначала они испытывают глубокое разочарование, теряя свои луч-
шие иллюзии, потом еще раз понимают свою слепоту, приобретая
взамен героической утопии реальные достижения прогресса.
Вольтер, стоящий у порога этой диалектики, не идет так далеко,
хотя с удивлением останавливается перед сочетанием добра и зла,
заметным везде, где ступала нога человека. «Если в этом «Опы-
те»,— пишет Вольтер,— мне позволено высказать некоторые раз-
мышления по поводу истории нашего мира, я заметил бы, что он
управляется самым странным образом». Автор «Опыта» не видит,
чем можно было бы оправдать эти странности, и его осторожность
не лишена основания. Она как бы предвосхищает другой вопрос, по-
ставленный демократической общественной мыслью уже после Ге-
геля.
В самом деле, если ограниченные интересы и дурные цели
людей способствуют прогрессу, то где лежит та грань, которая
отделяет положительную оценку этого сочетания добра и зла в
пределах необходимости от простого согласия с окружающим миром
кровавых бедствий, ошибок и преступлений? Или все, что происхо-
дит в истории, заранее оправдано, и остается только все понять и
простить?
В глазах Вольтера дурные люди вынуждены ограничивать свою
алчность, спасаясь от общей гибели и создавая устойчивое обще-
житие, но в середине XVIII века он уже не мог принять ту фило-
софию истории, согласно которой зло существует только потому,
что мы не знаем сценария нашего исторического спектакля, не ви-
дим целого. Такая идея была бы отчасти возвращением к взгляду
Боссюэ, церковного мыслителя времен расцвета абсолютной монар-
хии,— к традиционной вере в провидение, которое пользуется стра-
стями и заблуждениями людей, чтобы вести их к высшей цели. Это
было бы также возвращением к отвергнутой Вольтером философии
доктора Панглоса: все благо, все к лучшему в этом лучшем из ми-
ров. Для демократической позиции просветительной эпохи этот
первый шаг понимающей мысли, открывшей мир исторической за-
кономерности ценою оправдания общественного зла, был бы шагом
назад или даже изменой делу народов и переходом на сторону их
угнетателей.
Вольтер далек от всякой идеализации прошлого. Что касается
настоящего, то он усматривает в нем некоторые признаки движения
вперед, в общем слабые, но позволяющие более уверенно смотреть
в будущее. Рассказывая, например, о какой-нибудь особенно жесто-
кой казни посредством сдирания кожи с живого, он иронически
покачивает головой — а вы еще жалуетесь на наше время! Таким
образом, его нельзя назвать слепым оптимистом. И все же, обра-
щаясь к порядку вещей, сложившемуся согласно законам необходи-
мости, Вольтер не сомневается в том, что возможен другой путь,
менее расточительный. Добро и зло тесно переплетены в этом
мире, однако выбор все-таки есть, и нет такого закона, чтобы каж-
дый шаг культурного общежития оплачивался так дорого. Все уди-
вительные перипетии человеческой истории — и подвиги доброде-
тели, и преступления против народов — в природе вещей, но одни
соответствуют высшей норме этой природы, а другие являются
обычными и тоже в своем роде естественными нарушениями ее
законов.
С точки зрения Вольтера историческая драма людей имеет два
главных действующих лица. Одно из них — это земледелец, куль-
тиватор, другое — захватчик, посягающий на его трудовую собст-
венность, узурпатор. Первый следует закону природы как норме,
лежащей в основе всех человеческих дел, второй нарушает этот
закон, следуя только своей ненасытной жадности. Иначе говоря,
классовые отношения выступают на страницах книги Вольтера в
виде отношений между меньшинством и большинством. Последнее
всегда было обмануто и ограблено. «Мы видим, как ловкие и удач-
ливые ввергают в оковы глупцов и давят несчастных, мы видим
также, что эти ловкие и удачливые в свою очередь являются только
игрушкой судьбы, подобно рабам, которыми они правят». Что же
такое эта темная сила, управляющая людьми? «Необходимая цепь
всех событий этого мира»,— отвечает Вольтер, говоря о капризной
судьбе французского короля Франциска I.
371
Само собой разумеется, что автор «Опыта о нравах» еще далек
от понимания реальных условий экономического развития, облег-
чающих меньшинству ловких и удачливых давить несчастное боль-
шинство. В его философии истории необходимая цепь событий
носит более абстрактный и прагматический характер. Борьба лич-
ных интересов совершается на очень общем нейтральном фоне, ко-
торому не хватает исторической конкретности, своеобразных черт
определенной, так или иначе сложившейся ступени экономической
жизни. Хитрый, расчетливый, жадный всегда побеждает более сла-
бого и простодушного. Такова человеческая натура, пока ее лучшие
внушения доступны только немногим просвещенным мыслителям.
Однако не следует преувеличивать наивность Вольтера, как это
часто делают по отношению к писателям века Просвещения. Они
не видели многое именно потому, что слишком ярко видели другое.
3'2 Такая относительная слепота отчасти неизбежна для каждой исто-
рической эпохи. Скажем еще раз — каким судом судите, таким и
судимы будете!
Не надо думать, что, придавая большое значение личным ка-
чествам и сознательности людей, Вольтер оставил в стороне зна-
чение материальных интересов. Напротив, именно интерес, всесиль-
ная жажда богатства и власти, играет в его «Опыте» главную роль.
«Плохо бы знали мы человеческое сердце,— пишет Вольтер,— если
бы допустили, что какой-нибудь языческий законодатель издал
один из своих законов, обнародованных во имя богов, с другой
целью, чем ради своего интереса. Людей не обманывают иначе, как
для собственной выгоды». Но христианские государи не хуже
языческих пользовались как религией, так и терпимостью в своих
интересах. «Эти интересы всегда определяли судьбу земли».
Большинство людей невежественно и доступно самым диким суе-
вериям, зато узурпаторы прекрасно знают свою цель. Главным
примером господства материальных интересов в истории является
для Вольтера система феодального землевладения. Описывая ее
возникновение в разных странах Европы, он отвергает традицион-
ную версию, согласно которой положение феодальных господ было
следствием их личных заслуг. Повсюду (кроме Венеции) принад-
лежность к дворянству зависела от раздела земли. «Подъем дина-
стии Сфорца,— пишет Вольтер,— есть одно из тех явлений счастья,
которые показывают, что земля принадлежит тому, кто может ее
захватить».
Так же было в других странах, например в Испании. «Бога-
тый— значило владелец земель, ибо в те времена у христианского
населения Испании не было никаких других богатств». Титул гран-
да появился значительно позднее, первоначально землевладелец
присваивал себе имя «богатый человек». Итак, правовое и полити-
ческое значение лица было следствием его господства над землей.
«Неггеп Германии, ricos hombres Испании, бароны Франции и Анг-
лии,— продолжает Вольтер,— пользовались наследственным дво-
рянством только потому, что их феодальные или нефеодальные чем-
ли оставались достоянием их семей». По поводу средневекового пра-
вила «нет земли без господина» он замечает: «Как будто было бы
недостаточно, чтобы она принадлежала родине». Похоже на то, что
этими словами Вольтер выражает идею национальной собственно-
сти на землю, вполне совместимую с другими идеями буржуазной
революции в ее наиболее демократическом развитии.
Он отвергает мнение Буленвилье, который идеализировал фео-
дальный строй в противовес деспотизму королей. Из «Опыта о нра-
вах» следует, что самодержавие было законным детищем средне-
вековой анархии. Бароны стремились ограничить произвол личной
власти монарха просто потому, что каждый землевладелец хотел
быть полным хозяином в своих владениях. Точно также оспаривает
Вольтер мысль Фенелона, согласно которой чиновники абсолютной
монархии вышли из крепостных благодаря своим личным способ-
ностям. На самом деле они вышли из буржуазии, ибо материаль-
ное положение этого сословия позволяло некоторым горожанам
овладеть необходимыми знаниями.
Все это и многое другое свидетельствует о верном чувстве ре-
альности. Мудрая проницательность не покидает Вольтера на всем
протяжении его «Опыта о нравах», но было бы, разумеется, странно
желать, чтобы трезвое понимание роли материальных интересов,
лежащих в основе политики и права, которое часто встречается на
страницах этой книги, перешло у Вольтера в род исторического
материализма. Прежде всего он настолько захвачен возмущающей
сердце картиной наглости немногих и глупой доверчивости боль-
шинства, что теряет из виду, как это часто бывает с людьми, свою
собственную мысль о необходимой цепи событий этого мира. Он
так далеко идет в своей боязни всякой исторической теории, спо-
собной оправдывать преступления господствующей касты посред-
ством анализа их причин, что ему остается одна лишь точка зрения
целесообразности и морали, более уместная в частных делах, чем
при оценке массовых явлений всемирной истории.
Моральное осуждение какого-нибудь варварского короля часто
мешает Вольтеру видеть своеобразные черты эпохи, столь увлекав-
шие в следующем столетии Огюстена Тьерри, и эта риторика, эти
умные, но жалкие слова кажутся только непрошенным советом,
адресованным правящей элите его собственного времени. Философ
как бы обращается к узурпаторам с назидательной речью: «Нельзя
быть такими жадными и жестокими, нельзя совершать столь гру-
бые злодеяния, не слушая голос разума». Но почему же, собствен-
но, не слушая? Ведь Васька слушает — да ест. Что же касается мо-
ральных назиданий, то их во все времена было достаточно.
Переход от покорности к возмущению неизбежно оканчивается
компромиссом — новым способом примирения с несправедливым
миропорядком, пока человеческий ум не сомкнется с идущей ему
навстречу революционной силой самой действительности. Целые
столетия бывают окрашены тщетными поисками этой силы, но в
свое время она придет. Возмущенное сознание деятелей буржуазно-
373
демократической эпохи с их обвинительными речами против тира-
нов теперь устарело. У наиболее глубоких писателей века Разума
оно насыщено чувством реальности, но истинный смысл историче-
ского движения, необходимой цепи всех событий этого мира еще
оставался для них великой тайной. И потому самое искреннее воз-
мущение, ведущее к глубокой и честной критике социальных поряд-
ков, часто оканчивалось в этом веке простой декламацией, а декла-
мация только способствует пищеварению узурпаторов.
Будучи естественным выражением еще ие прозрачной для самой
себя ступени мирового революционного процесса, мысль просвети-
телей как бы застряла между двумя позициями. Старое оправдание
грубых фактов реальности т^м; что они необходимы с точки зрения
конечной цели исторического развития и всей мировой гармонии,
было для них уже невозможно, а новая высшая конкретность мы-
шления, также основанная на фактах действительности, но извле-
кающая из них не консервативный, а революционный смысл, то есть
материалистическая диалектика, была еще впереди...
Обращаясь к потоку зла, терзающего народы,— бесконечным
династическим войнам, жестокостям массового фанатизма, неутоли-
мой жажде чужой земли — Вольтер не может найти для этих бед-
ствий другого объяснения, кроме невежества, произвола и злобы
властителей, то есть становится на почву исторического идеализма.
Он отвергает культ самодержавия королей, но остается в плену той
же идеи, полагая, что во всем виноваты ошибки и дурное направле-
ние мысли демонов политической власти. Движущими силами ис-
тории являются для него насилие и коварство деспотических лично-
стей, с одной стороны, глупость и суеверие большинства — с другой.
Так, по поводу эпохи возникновения феодализма он пишет:
«Вся эта история есть только история нескольких варварских вож-
дей, которые боролись с епископами за господство над тупыми сер-
бами». В средние века «громадное большинство было раздавлено
самым незначительным меньшинством, так что простой гражданин
никогда не мог бы подняться иначе, как посредством всеобщего
переворота». Почему же этого не произошло?
Византийский император Феодосий истребил четырнадцать ты-
сяч граждан города Фессалоники. «Это обдуманное преступление
могло бы навести на него мщение народа, который избрал его не
для того, чтобы быть задушенным». Но Феодосий отделался легким
церковным наказанием. Чем объяснить эту покорность? Ведь боль-
шинство в последнем счете сильнее меньшинства. Почему всегда и
во все времена «варварство и алчность немногих злоупотребляли
простотой других»? Причина состоит в том, что народ обращается
к восстанию редко и только доведенный до последней крайности.
Он пассивен. «Чтобы избавиться от этих ужасов, народу не хвата-
ло двух вещей — разума и храбрости». Таков последний вывод
Вольтера.
Вот почему история выглядит в его глазах громадным скопищем
человеческих глупостей и ошибок. Было бы жалким умозаключе-
нием сделать отсюда вывод, что эта скептическая философия — про-
стой результат недомыслия или незнания более глубоких идей. Та-
кая оценка слабостей гениального ума сама по себе недалека от
рассудочной абстракции XVIII века. В беспорядочной битве инте-
ресов, этом хаосе прагматических целей, печальном зрелище ни-
щеты и злобы Вольтер не нашел более глубокой связи вещей отча-
сти потому, что не искал ее и не хотел искать. Мы уже знаем, что
возможность установления подобной связи была чревата в его гла-
зах оправданием того, что есть. Отсюда необходимая цепь .всех со-
бытий этого мира часто является у него в виде игры случая, где
господствует прихоть судьбы. Один человеческий атом толкает дру-
гой, а в целом рождается вихрь, увлекающий за собой империи
и народы.
Весь прагматизм историографии просветителей вытекает из 575
отвращения к любой попытке найти в этой глупой драке какой-ни-
будь высший смысл. Римляне хотели ограбить варваров, варвары
хотели ограбить римлян — вот и все. Отказ от поисков высшего
смысла уже известной нам необходимой цепи всех событий этого
мира казался Вольтеру естественным результатом светского взгляда
на достоверные факты истории, в которых следует видеть только
действие и противодействие реальных сил.
Было бы неразумно оспаривать громадное освободительное зна-
чение такого взгляда на человеческую комедию. В других терминах,
в другом словесном уборе он пережил эпоху Вольтера и, кажется,
не утратил своего влияния даже в более зрелые времена, знакомые
с довольно глубокой исторической философией. Прочность таких
воззрений зависит от социальных условий, но если говорить о са-
мой теории, то, для того чтобы покончить с представлением о фак-
тах гражданской истории как простом скоплении случайностей,
имеющих свои причины, но в сущности бессмысленных, оставляющих
человеческое сознание наедине с понятием силы, нужно доказать
присутствие в этих фактах общего смысла, далекого от всяких ре-
лигиозных схем, но все же не выдуманного, а реально существую-
щего. Задача немалая. Во времена Вольтера присутствие этого
смысла еще не обозначилось в самой истории, ибо разум существо-
вал всегда, как сказал основатель исторического материализма, но
не всегда в разумной форме. А то, что не дано в разумной форме
самой действительностью, не может быть понято и человеческой
головой.
8
Согласно классификации Гегеля «Опыт о нравах» относится к
рефлектирующей истории. Этот род исторического понимания от-
крывает нашему взору зрелище страстей и «следствия их насиль-
ственного действия, неразумия, которое примешивается не только
к ним, но даже и преимущественно к тому, что представляет собой
добрые намерения и цели, оправданные справедливостью». Рефлек-
тирующая история рисует торжество зла, падение цветущих куль-
тур и «безымянные страдания» многих отдельных лиц. Она про-
буждает чувство печали и возмущения. «Без всяких риторических
крайностей,— пишет Гегель,— одним лишь перечислением всех не-
счастий, выпавших на долю всего прекраснейшего в образе жизни
народов и государств, можно поднять итоги этих несчастий на
уровень самой страшной картины и тем возвысить наше чувство
до глубочайшей и безысходной грусти, не знающей в качестве про-
тивовеса никакого примиряющего результата, и нам остается, что-
бы укрепить себя и выйти из этого состояния, только одна мысль:
так это было, такова судьба».
Гегель, конечно, считает такую исполненную чувства рефлексию
недостаточной, ибо она уходит в «пустые, бесплодные возвышенно-
376 сти этого негативного результата». Однако в своей справедливой
критике просветительской рефлексии XVIII века он оставляет
в тени тот факт, что некоторые интересные повороты рефлектирую-
щей истории рисуют необходимую цепь событий этого мира в более
осмысленном, то есть диалектическом виде. Эти элементы диалекти-
ки нельзя назвать «примиряющим результатом» в смысле Гегеля,
но они ведут за пределы абстрактной противоположности между
бессмысленной россыпью фактов гражданской истории и требова-
ниями человеческого сердца. Начнем с принятой Вольтером фор-
мулы духа времени. В этом отношении он, так же как Монтескьё,
был прямым предшественником Гегеля. Вместе с тем его философия
истории сохранила свое самостоятельное значение даже после того,
как она была превзойдена (в чем не может быть никакого сомне-
ния) диалектическим методом немецких мыслителей.
Мысль Вольтера нигде не отрывается от реальных интересов.
Его поражает легкость, с которой «коронованная чернь» и другие
шайки разбойников, господствующих над глупцами, умеют навязы-
вать массе людей свои собственные выгоды в качестве обществен-
ных. То обстоятельство, что народы покорно склоняют выю, прини-
мая за истину очевидное лицемерие их властителей, их наглую
ложь, нельзя объяснить простым недостатком ума и храбрости. Как
видно, глупость большинства имеет свою качественную сторону,
свой исторический стиль. Странная магическая сила подчиняет их
ум и волю немногим узурпаторам, толкает к участию в таких дико-
стях, как религиозные войны, делает их беспомощными перед ковар-
ством хитрых демагогов. Стараясь разгадать эту загадку — загадку
добровольного рабства, по известному выражению Ла Боэси,— наш
философ приближается иногда к идее своеобразия объективных
отношений, присущих каждой эпохе и объясняющих ее причудли-
вую, нередко фантастическую логику. Это и есть дух времени, свое-
образная форма целого, определенной ступени человеческой жизни.
Правило Вольтера гласит: «Моя цель — никогда не упускать из
виду дух времени; это он направляет великие события мира».
Стоит отметить, что приведенные слова были выбраны Пушки-
ным в качестве эпиграфа к его незаконченной, оставшейся в черно-
вике работе о французской революции. В более раннем письме, где
упоминается о французских и английских историках, Пушкин заме-
тил: «Если первенство чего-нибудь да стоит, то вспомните, что
Вольтер первый пошел по новой дороге — и внес светильник фило-
софии в темные архивы истории».
Под именем духа времени автор первой философии истории по-
нимает нечто большее, чем совокупность взглядов, принятых в дан-
ную эпоху, то есть сознание людей, или, во всяком случае, он имеет
в виду сознание отчужденное, получившее статус независимой от
самого органа мышления объективной силы. Родственным понятием
является у него мнение. Это что-то похожее на современную идео-
логию в дурном смысле этого слова — род превратного обществен-
ного сознания, имеющего свои корни в самой исторической прак-
тике. Несмотря на то что мнение может быть исправлено разумом,
оно является у Вольтера могущественной силой, действующей в
умах людей подобно стихии природы. В соответствии с этим и дух
времени рассматривается преимущественно как объективное оправ-
дание таких поступков людей, таких исторических фактов, которые
были бы невозможны в более развитые времена. К ним относятся
крестовые походы, оргии самобичевания или шутовские народные
празднества средних веков, допущенные в лоно самой церкви. Дух
времени объясняет припадки религиозного фанатизма, грозившего
ударом кинжала самим царям, жестокие нравы, зверства тиранов.
Что касается Гегеля, то его понимание духа времени было, ко-
нечно, шагом вперед по сравнению с «Опытом о нравах» Вольтера.
Объективное своеобразие эпохи несет в себе не только ограничен-
ные черты, и поступательное движение истории совершается нс
только вопреки этому своеобразию. Вот основное завоевание теории
духа времени в философии истории Гегеля. Отрицательное перехо-
дит в положительное. Без странных для нашего взора явлений мест-
ной и временной ограниченности, без зрелища страстей и неразу-
мия, которое возмущало душу Вольтера, не было бы и победного
хода цивилизации. Гегель строит на этом единстве противополож-
ностей всю свою теорию развития как жестокую, невольную работу
мирового духа против самого себя. Зато у Вольтера нет никакого
прощения за гекатомбы человеческих жертв, принесенных Молоху
прогресса. Он требует у истории отчета за каждое преступление,
содеянное узурпаторами.
Дух времени и мнение объясняют, с точки зрения Вольтера,
добровольное рабство большинства, ибо одним насилием господство
узурпаторов держаться не может. Вольтер здесь близок к тому, что
в «Феноменологии духа» Гегеля (и на другой основе в «Капитале»
Маркса) выступает под именем признание, Anerkennung. Чтобы
громадное большинство подчинялось меньшинству, неравное отно-
шение господства и рабства должно иметь взаимную, нравственную
или юридическую санкцию. Рабы видят в своих господах естествен-
ных и необходимых представителей, господствующих не только си-
лой руки, но в значительной степени также силой общественного
377
целого; они господствуют до тех пор, пока их признают господами.
С утратой соответствующего мнения падает все.
Вольтер останавливается на пороге идеи общественных отноше-
ний. И хотя в его «Опыте» есть верное зерно, а именно — смутное
понимание социальной структуры, в которой, как это ни парадок-
сально, принимает активное участие и пассивное большинство, сама
по себе, без экономического содержания, эта мысль склоняется в
сторону идеализма. Единственной опорой господства одних людей
над другими, кроме насилия, становится сила мнения, то есть пред-
рассудок, а потому и выход из классового неравенства переносится
в область успехов просвещенного разума. Люди эпохи Просвещения
высказывали эту надежду с твердостью, за которой скрывалось от-
чаяние.
378 Если, однако, рассматривать мысль Вольтера с более выгодной
стороны, то перед нами будет что-то похожее на известную форму-
лу Гегеля: каждый народ имеет такое правительство, какого он за-
служивает— народ и власть, при всей их возможной противопо-
ложности, образуют тождество. Формула эта, несмотря на прису-
щую ей лапидарность, допускает двоякое истолкование, ибо, с одной
стороны, она оправдывает господство правителей над косной массой,
терпящей их господство, а с другой — признает законность револю-
ционной власти, отвечающей истинным силам народа, если они у
него есть. Но при такой постановке вопроса, как у Гегеля, так и у
Вольтера (и еще раньше — у Гоббса) необходимая цепь всех собы-
тий этого мира только благословляет законченные, фактически сло-
жившиеся отношения, не указывая те реальные звенья истории, ко-
торые могли бы связать идеал с действительностью.
Что касается Вольтера, то понятие духа времени объясняет, со-
гласно его теории, консервативную сторону общественного движе-
ния, то есть все, что мешает этому движению в истории и современ-
ности. Оно допускает также, что возможно другое положение дел,
когда в результате соединенного действия разума и храбрости
слепая сила мнения, заставляющая народ склониться перед непра-
вой властью, будет свергнута. Но если бы у народа были разум и
храбрость, он никогда не терпел бы господства узурпаторов, а если
он так долго терпит — значит их нет. Другими словами, абстракт-
ное тождество господства и подчинения не дает никакого ключа к
переходу из одного состояния в другое, более свободное. «По пло-
дам их узнаете их», но узнаете только задним числом. Между тем
люди нуждаются в обоснованном взгляде на их собственное буду-
щее, и если понятие духа времени рассеивает их наивные идеалы, их
веру в мудрость провидения, ведущего человечество в земной или
небесный рай, как предрассудок, выгодный только правящему со-
словию, то где гарантия, что человеческое существование вообще
имеет какой-нибудь смысл, доступный нашему уму? В абстрактном
тождестве народа и власти должна быть щель, через которую в мир
может войти надежда на справедливость и счастье, иначе история
будет «сказкой, рассказанной дураком».
Но у Вольтера есть еще одна мысль, придающая необходимой
цепи событий более глубокий вид без превращения ее в либретто
нравственного спектакля, задуманного на небе. Речь идет о вели-
кой демократической идее, согласно которой преступления против
народов всегда наказываются — наказываются не божественной
справедливостью, а просто тем, что всякое насилие рождает еще
большее насилие, и узурпатор, в свою очередь, рискует подвергнуть-
ся узурпации со стороны более сильного хищника. «Сначала фео-
дальные сеньоры,— пишет Вольтер,— угнетали других, потому при
Людовике XI они сами были угнетены». Из подавления крестьян
выросла абсолютная власть короля, она в свою очередь обрушилась
на самих феодалов, пока не сломала хребет независимой знати.
Вольтер подробно описывает сцены величайшей жестокости и ко-
варства, сопровождавшие этот процесс.
Здесь действует только реальная логика вещей. Она показывает,
что общий ход событий, не направляемый ничьей мистической
дланью, имеет все же некоторый смысл, иначе говоря — идет на-
встречу сердцу и разуму человека. Недаром Вольтер писал в фило-
софском романе «Задиг», что все происходящее в этом мире есть
либо испытание, либо кара, либо воздаяние, либо предзнаменова-
ние. В своем «Опыте о нравах и духе народов» он старается приве-
сти объективную мораль истории к ее рациональному основанию.
С каким сарказмом изображает этот гений критики несчастья
какого-нибудь средневекового короля, которому его собственные
дети мстят за бесчинства, совершенные им в жизни! «История ве-
ликих событий этого мира никогда не была чем-нибудь другим, кро-
ме истории преступлений. Не было такого века, чтобы гордыня
светских лиц и церковников не наполнила его ужасами». Вот им-
ператор Генрих VI, известный своими злодействами. «Почти деспо-
тический правитель Германии, суверенный государь Ломбардии,
сюзерен города Рима. Жестокость погубила его. Собственная жена
императора, Констанция, семью которой он предал истреблению,
вступила в заговор против этого тирана и в конце концов, как гово-
рят, отравила его».
Мелкие итальянские государи в союзе с королем Сицилийским
или с гиббелинами городов ввергли страну в несчастья гражданской
войны. «Эти насилия могли быть закончены лишь еще более страш-
ными насилиями папы Александра VI более ста лет спустя». Буду-
щий французский король Карл VII, преследуемый сильной при
дворе его отца партией герцогов Бургундских, лишился своих за-
конных прав. Оскорбленный наследник престола «отомстил за это
преступление преступлением еще ужаснейшим, приказав умертвить
у себя на глазах своего родственника Жана Бургундского, которого
он предварительно заманил в ловушку при помощи ложной клят-
вы». Парижский парламент, стоявший на стороне бургундцев, мол-
чал, когда упомянутый Жан сам умертвил герцога Орлеанского, но
чиновники тотчас же подняли судебное дело против дофина, «чтобы
отомстить за убийство убийцы». По приговору парламента будущий
379
король был изгнан. Так одно преступление рождает другое, и кара,
хромая, спешит по следам преступника. Чезаре Борджиа всю жизнь
изменял всем, зато все сразу изменили ему, когда власть его по-
шатнулась.
Вольтер высказывает сомнение в том, что политические дела
когда-либо, особенно во Франции, решались законным путем. Они
решались всегда только силой и хитростью, расчетом. Но цепь узур-
паций при этом неизменно росла (подобно тому как у Маркса «один
капиталист убивает многих»). «Сила, сделавшая все в этом мире,
отдала Италию и Галлию во власть римлян,— пишет Вольтер,—
варвары узурпировали их завоевания, отец Карла Великого узур-
пировал Галлию у франкских королей, правители из династии Кар-
ла Великого узурпировали все, что могли». Из этих страшных
380 насилий без малейшего вмешательства провидения складывалась
реальная связь вещей, в которой есть свой урок. Где же он?
Сила и хитрость, вступая в необходимую цепь всех событий это-
го мира, коварно обманывают тех, кто полагается на их закон,— вот
наблюдение, сделанное Вольтером. Итак, нельзя сказать, что силе
и хитрости принадлежит последнее слово в истории или, по крайней
мере, что этому слову можно верить. В целом они создают что-то
другое, не поддающееся прямому расчету, обратное самим себе.
Одна из любимых мыслей философа заключается в том, что вла-
стители, вступающие в союз с фанатизмом во имя своих корыстных
целей и разжигающие его в народной массе или терпящие его, под-
вергают себя страшной опасности, как об этом свидетельствует
судьба королей, убитых религиозными фанатиками, подобными Ра-
вальяку. Вот в каком смысле Вольтер писал, что господа, утверж-
дающие свою власть над угнетенным большинством, сами стано-
вятся игрушкой в руках судьбы, напоминая рабов, которыми они
правят. Не может быть свободен и счастлив тот, кто угнетает
других.
Отсюда следует, что необходимая цепь всех событий этого мира
не является простой игрой случая. В этой игре можно заметить
также нечто доступное разумному пониманию, не совершенно ирра-
циональное и контингентное, по терминологии нашего времени. Ис-
торические факты складываются в хитрый узор, но в нем можно
прочесть диктат самой природы. У Вольтера есть своя формула
прогресса. Она гласит: все народы будут несчастны до тех пор, пока
не исчезнет начало всякого зла в человеческом мире — узурпация
плодов труда большинства людей жадным меньшинством.
Так на место божественного разума становится закон природы.
Он представляет собой естественный автоматизм, подтверждающий
свою власть над общественной жизнью масс самым беспощадным
образом. Все достижения цивилизации относительны и превратны,
кроме тех, которые опираются на общее правило взаимности — «от-
носись к другим так, как ты хотел бы, чтобы они относились к тебе».
В семнадцатом дополнительном примечании «Опыта о нравах»
Вольтер писал: «Из всех законов этот исполняется хуже всех, но он
всегда восстает против того, кто нарушает его. Похоже на то, что
господь вложил в человека этот закон, чтобы он служил противо-
весом закону более сильного и чтобы помешать человеческому роду
истребить самого себя войной, юридическим крючкотворством и
схоластическим богословием».
Отсюда видно, что на почве человеческой истории закон при-
роды раздваивается. Первая форма проявления этого закона есть
закон сильного, вторая — закон взаимности. Как аукнется, так и
откликнется; вторая закономерность столь же естественна, как
и первая. Если бы Вольтер проповедовал принцип взаимности от-
влеченно, в виде религиозной или нравственной заповеди, он упо-
добился бы тем фантазерам и ханжам, которые требуют от человека
самоотречения, хотя за этой моральной вывеской всегда скрывается
чей-то реальный интерес. Но речь идет о другом — нельзя ли пере-
вести мораль на язык фактов? Вольтер ищет ту общественную за-
кономерность, которая при известных обстоятельствах может сде-
лать отвлеченную заповедь взаимности чем-то более жизненным
и конкретным. Он думает, что реальный ход общественной жизни
возмущается против тех, кто хочет воспользоваться им для своих
узких, своекорыстных целей, а это уже другой поворот самих фак-
тов истории. Здесь выступает не консервативная, а революционная
сторона духа времени, идеальное становится более реальным.
То обстоятельство, что автор «Опыта о нравах» высказывает
некоторые догадки, приближающие его к теории исторического ма-
териализма, было уже замечено в постоянно растущей вольтеров-
ской литературе. Прежде всего бросается в глаза его понимание роли
материальных интересов в нашем мире, истории техники, торговли и
земледелия. Главное, впрочем, не в этом. Сам по себе так называе-
мый материальный фактор общественной жизни был широко из-
вестен в XVIII веке. В историческом сочинении Гоге анализ каж-
дой новой ступени начинается с описания экономического быта лю-
дей, откуда автор переходит к другим, более высоким укладам
культурного развития. Что касается Вольтера, то его участие в под-
готовке исторического материализма сказывается больше всего в
поисках общей логики материальных фактов, связывающей их еди-
ной цепью и не чуждой требованиям разума. При всей своей осто-
рожности он замечает признаки объективной тенденции, ведущей,
хотя и обратным путем, к общественным отношениям, более отве-
чающим своему понятию. Если такая тенденция действительно есть,
то она важнее и драгоценнее всех абстрактных картин идеального
царства на небе и на земле. В таком случае исторический процесс
имеет некоторый смысл, и общественный идеал не является пустой
утопией.
Закон разума и добра звучит в нашем сердце, но плохо испол-
няется на практике. И дело человека было бы безнадежно, если бы
сама природа не обладала особым механизмом, препятствующим
полному господству сильного. Такой механизм есть. Он не может
защитить сирых и убогих, как защищает их воображаемая забота
381
провидения, однако обращается против тех, кто нарушает элемен-
тарные основы совместной жизни людей, и с полной реальностью
выступает в качестве обратной силы, мстящей за преступления узур-
паторов. Точно ли падает меч карающего исторического правосудия
на головы виновных?—этого весьма существенного вопроса, для
решения которого Герцен впоследствии выдвинул мысль о круговой
поруке, Вольтер, кажется, не коснулся. Он вообще говорит о втором
законе природы с большой осторожностью и твердо держится толь-
ко одного правила — через парадную дверь доброе и разумное в
историю не входят. Если закон более сильного носит демонический
характер, то и второй закон природы, понятый как стихийная сила
общественного сотрудничества, также проявляет себя демонически
в этом страшном мире, обманывая людей коварством случая в на-
382 казание за их собственные дурные дела, их желание перехитрить
природу вещей в свою пользу.
Так или иначе философия истории Вольтера выходит за преде-
лы чистого прагматизма человеческих целей и рассматривает по-
следствия их как независимую от самого человека величину, в ко-
торой является не только «онтологический» характер общественного
бытия, но и его разумный и нравственный, хотя отнюдь не метафизи-
ческий смысл. После кризиса 50-х годов философ уже не настаивает
на очень разумном устройстве этого мира, и все же отмечает, что
грубые нарушения требований разума и совести по крайней мере не
прочны. «Подлинные завоеватели,— пишет Вольтер,— это те, кто
умеет создавать законы, а прочие уносятся вдаль, как поток».
В такой постановке вопроса иначе выглядит и значение дурной
взаимности господства и рабства. Всякий народ имеет такое пра-
вительство, какого он заслуживает. Если вы по природе рабы и
обыватели, набитые всякими предрассудками, если «для вашей глу-
пости и злобы имели вы до сей поры бичи, темницы, топоры», сту-
пайте прочь — какое дело философу и поэту до вас! Однако, со-
гласно Вольтеру, тождество господства и подчинения не безнадеж-
но скрывает будущее от глаз людей. Преследуя свои интересы,
власть узурпаторов вызывает последствия, обратные ее близоруким
целям, и рубит сук, на котором она сидит. Моральная сила, еще
более необходимая господствующему сословию, чем простое наси-
лие, сила мнения слабеет с каждым днем. Нетрудно заметить, что
эти мотивы философии истории Вольтера сыграли заметную роль
в демократической и социалистической литературе последующих
революционных движений, в ее полемике с защитниками классовых
привилегий.
Правда, с точки зрения Вольтера печальный опыт может чему-
нибудь научить и самих правителей — взгляд, также имеющий свое
основание, ибо нельзя отрицать роль самоограничения, доступного
более расчетливым узурпаторам перед лицом полной катастрофы.
Идея самоограничения частных интересов на основе печального
опыта была выдвинута еще Гоббсом. Если же взять всю совокуп-
ность политических взглядов Вольтера, то придется, пожалуй, еде-
лать вывод, что расчетливое отступление власть имущих является
для него самым благоприятным вариантом будущих событий. Пред-
видит ли он торжественную клятву в Jeu de ропппе, когда дворян-
ские представители отказались от своих сословных привилегий?
Может быть.
Во всяком случае, если господа положения окажутся неспособ-
ными совершить столь дальновидный шаг или сделают его слиш-
ком поздно — тем хуже для них. Это с непререкаемой ясностью
следует из второго закона природы, установленного Вольтером и
диктующего умеренность. Там, где узурпаторы, опьяненные своей
властью, знают только закон силы, они стоят перед жестокой ме-
стью истории, которая задушит их руками более свирепых хищни-
ков или вызовет бунт отчаявшегося народа — бессмысленный и бес-
пощадный, по известному выражению Пушкина.
Можно осуждать Вольтера за то, что он не предвидел более да-
леких возможностей революционного подъема народных масс, но
в своей ситуации он рассуждает не легкомысленно. Многие оттенки
его постановки вопроса мы найдем впоследствии не только у Гер-
цена и Лаврова, но и у Чернышевского, например в его изложении
антропологической философии истории, где действует тот же второй
закон природы «Опыта о нравах», закон обратных сил, карающих
за преступления против народов, или в его знаменитой статье «Рус-
ский человек на rendez-vous». Читатель помнит, что она оканчивает-
ся цитатой из евангелия от Матфея: «Старайся примириться с сво-
им противником, пока не дошли вы с ним до суда, а иначе отдаст
тебя противник судье, а судья отдаст тебя исполнителю пригово-
ров, и будешь ты ввергнут в темницу и не выйдешь из иее, пока
не расплатишься за все до последней мелочи».
9
«Опыт о нравах и духе народов» — важная узловая станция на
пути к демократии и научному социализму XIX века. Более близ-
ким источником этих идей была, разумеется, философия истории Ге-
геля. Однако, читая о его разуме в истории, мы всегда ощущаем
присутствие «Опыта о нравах» Вольтера в качестве первого грунта
и глубоко лежащего общего тона, на котором путем гармонии и
контраста построен весь колорит гегелевской диалектики.
То, что в борьбе за свои интересы люди практически создают
нечто другое, etwas anderes, часто совсем не то, к чему они стреми-
лись, общую цепь причин, в которой заметно что-то большее, чем
простое взаимодействие механических сил, есть величайшее откры-
тие европейского мышления. Без этой объективной почвы лишены
всякого основания все расчеты демократии и социализма; они пре-
вращаются в утешительную гуманную утопию, «принцип надежды»,
пригодный лишь для того, чтобы поддерживать хорошее пищева-
рение философа. Если же наличие объективных фактов, напоминаю-
щих людям о разуме и совести, не совершенная выдумка, а
383
реальное наблюдение, хотя бы и самое осторожное, это доказывает
возможность естественно-исторического развития той формы обще-
ства, которая отвечает своему содержанию, то есть подлинно челове-
ческого общежития. Вот, собственно, в чем Гегель и книжная муд-
рость, и смысл философии всей. Понятая материалистически, со-
гласно теории Маркса и Энгельса, идея разума в истории имеет
для современного общественного переворота более важное значение,
чем идея царства божия на земле и на небе для эпохи кризиса
древнего мира.
Сравнивая лекции по философии истории Гегеля с «Опытом
о нравах» Вольтера, мы видим, что процесс овладения исторической
диалектикой совершался неравномерно. В целом Гегель стоит на
новой, более высокой ступени ее анализа. Он рассматривает интере-
сы и страсти людей не только как признаки ограниченности челове-
ческого масштаба, препятствия на пути общественного развития. Он
384 видит в них тайные пружины стихийной разумности общего хода
вещей, то есть идет дальше Вольтера в признании диалектической
созидательной роли отрицательного начала на страницах всемирной
истории.
Так, честолюбие Цезаря, его стремление к личной власти было
движущей силой, необходимой для решения важной задачи време-
ни — победы нового принципа, искавшего себе дорогу в жизнь.
Благодаря установлению принципата Рим стал мировой импе-
рией, в которой все патриархальные, местные различия, все претен-
зии на ограниченную свободу были стерты железной рукой, и этот
деспотизм всеобщего открыл дорогу внутренней независимости ин-
дивида, отдельной личности, свободной от прежних органических,
но традиционных и косных связей, как это подробно описано в
знаменитой некогда книге «Христос и цезари» одного из учеников
Гегеля — Бруно Бауэна. Другими словами, цезаризм был необхо-
димой формой мирового развития, хотя основатель его не мог пред-
видеть всех отдаленных последствий установленного им единовла-
стия и только смутно чувствовал значительность своей историче-
ской миссии.
Вообще говоря, философия истории Гегеля несет в себе другой
общественный идеал. Он состоит не в одиночестве толпы отдельных
лиц, придавленных тяжким прессом государственной власти, а в
гармонии между личными интересами и общественным благом, наи-
более близкой к своему осуществлению в Древней Греции. Так по
крайней мере это представлялось немецким мыслителям и поэтам
классической поры и так действительно было в пределах города-го-
сударства греков. Но исключительность этого идеала заметна
только у раннего Гегеля. В зрелые годы он признает период внут-
реннего антагонизма более высокой, трагически необходимой сту-
пенью развития мирового духа. Уже начиная с увлечения лично-
стью Наполеона, Гегель не отступает перед высокой оценкой смелых
деяний выдающихся честолюбцев и узурпаторов, если они при всей
узости их личных целей объективно служили какому-нибудь важно-
му историческому делу, например, объединению страны или разру-
шению устаревших общественных отношений. Таким образом, диа-
лектика Гегеля открыла дорогу новому пониманию прогресса, кото-
рое видело в нем стихийное развитие, чреватое глубокими противо-
речиями и движимое самыми нечистыми страстями, но создающее
в последнем счете более широкий базис для осуществления гуман-
ности и решения общественных конфликтов.
Вопрос состоит в том, указывает ли эта теория прогресса, в об-
щем верная, реальные посредствующие звенья, способные на деле
устранить высокое напряжение общественного антагонизма, или она
предлагает только новый, более широкий и гуманный способ созер-
цания этих противоположностей, примиряя их в нашем уме. Послед-
нее есть именно метод Гегеля. Тем не менее без этого метода было
бы невозможно марксово понимание исторической роли капитализ-
ма как переходной ступени между патриархальной идиллией мелкого
производства и безграничным развитием производительных сил.
Впрочем, и сам Гегель вывел свою картину раздвоения единого и
борьбы противоположностей из наблюдения реального хода вещей
не только в политических битвах его времени, но и в экономическом
движении буржуазного общества *.
Для нас здесь важно, однако, другое. Поскольку Гегель остался
в рамках теоретического созерцания, его понимание истории как
драмы было не только великим успехом диалектического метода, но
и великим отступлением. В немецкой философии само конкретное
как тождество всеобщего и единичного еще абстрактно. Чтобы пояс-
нить, в чем состоит эта странная абстрактность конкретного, приве-
дем два примера, которыми великий немецкий мыслитель хочет сде-
лать более доступным свою историческую диалектику.
Один из них мы, собственно, уже привели — это пример Юлия
Цезаря. Его стремление к личной власти было орудием мирового
духа на пути к большому историческому сдвигу поздней антично-
сти. Другой пример ближе к закону фатальной цепи причин, второ-
му закону природы, согласно «Опыту о нравах» Вольтера. Допу-
стим, что кто-нибудь из чувства мести, может быть справедливой,
поджег дом своего соседа. Вспыхнул маленький огонек. Но место,
охваченное пламенем, связано с целым строением, а дом, окружен-
ный другими зданиями,— с деревней или городом. И вот пылает
все вокруг, гибнут имущество, скот, ни в чем не повинные люди.
Так из малых человеческих дел растет нечто другое, гораздо боль-
* Чтобы эти слова не были поняты как заимствование у других авторов
без указания источника, должен заметить, что краткий анализ отношения Ге-
геля к развитию капитализма был дан мною впервые в статьях 1931—32 гг.,
а затем Георгом Лукачем в его известной, переведенной на многие языки книге
«Молодой Гегель», написанной в конце 30-х годов и опубликованной в 1954 г.
(книга посвящена автору этих строк). Вся громадная мировая литература на
тему о критике буржуазного общества у Гегеля, появившаяся за последние де-
сятилетня, вышла фактически из книги Лукача, которая остается опорным пунк-
том марксистского анализа в этой области, несмотря на постоянные атаки со
стороны профессорской истории философии.— Примеч. к наст, изд.
385
шее, и, сверх того— возникает обратное действие, Riickschlag, кото-
рое в качестве кары за преступление обрушивается на голову само-
го поджигателя.
Этими двумя примерами Гегель хотел пояснить свою диалекти-
ческую мысль, согласно которой всеобщее не может развиваться из
самого себя, но всегда требует воплощения в нечто живое, единич-
ное, и, собственно говоря, становится действительным, реализуется
только в этом ограниченном материале. Первый исходный принцип
всей мировой истории, согласно Гегелю,— это принцип свободы,
борьба за освобождение. Но сначала свобода — только абстракция.
Ее конкретное осуществление возможно лишь в практической дея-
тельности людей, в движении их личных интересов и целей. Чтобы
любой шаг исторической жизни, любая программа или лозунг были
386 реализованы, они должны найти себе поддержку в самодеятельно-
сти -многих индивидов, приобрести свой окончательный облик при
их деятельном участии.
История делается людьми — иначе она вообще не делается.
Длительные периоды застоя также возможны, по Гегелю, который
различает моменты общественного подъема, озаряющие целые века,
и годы медленного гниения, ничтожества. Но рано или поздно жизнь
закипает снова, и, когда происходит такое возрождение, мелкая
зыбь человеческих интересов сливается в одну большую волну, ко-
торая оживляет все. В это время совершаются великие дела, остав-
ляющие глубокие следы. Но всякое дело, великое или малое, может
достигнуть цели лишь при одном условии — если оно дает человеку
удовлетворение своим трудом, делает его причастным к решению
своей судьбы.
Эта идея живой, телесной связи всеобщего развития, необходи-
мой для его действительной, а не формальной, как в старом казеи-
ном обществе, реализации, принадлежит эпохе Просвещения. Ге-
гелю делает честь то обстоятельство, что он оценил это наследие,
придавая особенное значение и материальной заинтересованности
индивидов, образующих «тело» его мирового духа, и роли страстей,
то есть тех же интересов, поскольку они захватывают не только рас-
судок человека, его прямой расчет, но и все человеческое существо,
например в чувстве собственного достоинства, поднимающем силы
людей. Мысль Гегеля, согласно которой истина жизни требует един-
ства всеобщего и единичного, разумного правила и собственного ре-
шения, не только, вообще говоря, верна; она является предвосхище-
нием того общественного строя, в котором правила общежития и
стихийные движения личности будут неотделимы друг от друга.
Но пока такого состояния нет, следует все же различать между дву-
мя реально возможными в обычных условиях типами этого един-
ства.
Честолюбие Цезаря и активная преданность греческого автохто-
на своей земле, своему роду и городу — не одно и то же, хотя и
в том и в другом случае общественное развитие так или иначе свя-
зано с интересами реальных лиц. Прогресс человеческого общества
всегда воплощается в стремлениях людей к их собственным целям,
но это не отменяет разницы между более широкими и более узкими,
своекорыстными целями, а следовательно и различия между двумя
типами прогресса, из которых один более выгоден большинству, а
другой ведет к закрепощению его той или другой элитой узурпато-
ров. Другими словами, для полной конкретности исторического по-
нимания единство всеобщего и единичного, провозглашенное Геге-
лем в слишком общей форме, требует более определенного и, можно
сказать, классового раздвоения — distinguo, я различаю. В против-
ном случае оно само становится абстракцией.
Два примера — апофеоз узурпатора и кара за преступление —
в равной мере служат Гегелю подтверждением его общей мысли: ра-
зум правит миром. Но в первом случае санкция разума является
слишком прямой и общей. Конечно, во времена Цезаря республика
уже внутренне сгнила. Она должна была умереть, чтобы римское
государство, гонимое внутренними противоречиями, хотя бы вре-
менно обрело равновесие и дальнейшую способность к внешней
экспансии под властью императоров. С другой стороны, согласно
Гегелю, историческое дело Цезаря не лишено оттенка трагической
вины и последующей кары в виде кинжала последних республи-
канцев. Но в целом Гегель на стороне победителя, хотя сердце фи-
лософа неспокойно. И дело не в том, что Цезарь поджег дома Пом-
пея и Красса. Они сделали бы то же самое с его собственным до-
мом, если б могли. Дело в том, что сама всемирная история не
вполне на стороне победителя. Она как бы сохраняет свою заднюю
мысль, возвращаясь к этому еще не раз.
Победа сильного может отвечать исторической необходимости в
качестве единственно возможного и даже лучшего выхода из создав-
шегося положения. Но она не только орудие всеобщего, она и
свидетельство его бессилия, его поражения. Успех победителя так
же способен вызвать всеобщий пожар и обратное действие, как
поступок мстительного соседа; исторический разум также является
здесь в своей неразумной форме. Тип совпадения личной страсти
и общественного блага, нашедший себе школьный образец в дея-
тельности Цезаря, так называемый цезаризм, всегда сохраняет от-
тенок демонической иррациональности. С ним можно примирить-
ся— во имя неотразимых фактов истории и потому что нет худа
без добра,— как примирялись великие римские писатели века Ав-
густа, но трудно оправдать, трудно приветствовать его с открытым
сердцем, ибо в форме господства узурпаторов, даже самых распо-
рядительных и дальновидных, прогресс только откладывает ката-
строфу, принимая оттенок именно катастрофический, роковой.
Здесь голос Вольтера слышен яснее. Это его «Опыт о нравах»
больше всего навеял немецкой философии верную мысль о роли
интересов и страстей в истории. Это верно, что история делается
не в белых перчатках, и для осуществления ее обширных дел нужны
сильные руки.'Однако Вольтер не без основания хотел бы провести
определенную грань между силой как таковой и растущим из ее воз-
557
можного применения насилием над неспособным к сопротивлению
большинством. Главная проблема для него состоит в том, что есте-
ственное стремление к своему интересу переходит в узурпацию чу-
жого права. Деяния римских императоров служат Вольтеру приме-
рами таких исторических преступлений, которые наказываются
логикой самой узурпации, и только этим путем как проявление фа-
тальной цепи причин, или обратного действия, по терминологии Ге-
геля, доказывают присутствие разума в истории.
Варвары не могли победить воинственную республику, писал
Вольтер, но история шла им навстречу. «Они подчинили Рим, изне-
могающий под властью жестоких, изнеженных и ханжеских импера-
торов». Падение всемирной империи было расплатой за внутреннюю
двойственность ее прогресса. «Италия, Галлия, Испания, Африка
388 стали добычей всякого, кто хотел ворваться в них. Вот каковы были
плоды насильственной политики Константина, перенесшего центр
Римской империи во Фракию. Не проявляется ли здесь со всей
очевидностью судьба, управляющая ростом и разрушением госу-
дарств? Если бы кто-нибудь предсказал императору Августу, что
в один прекрасный день Капитолий будет занят священнослужите-
лем той религии, которая вышла из религии евреев, он был бы
очень удивлен. И почему, собственно, этот священнослужитель за-
владел в конце концов городом Сципионов и Цезарей? Потому что
он нашел его в состоянии анархии. Он стал его хозяином почти без
всяких усилий, так же точно как немецкие епископы к XIII веку
стали господами своих народов, пастырями которых они были».
Отсюда последнее обобщение Вольтера: «Каждое событие ведет
за собой другое, которого никто не ожидал. Ромул, основатель Рима,
не знал, что он делает это для готских царей или епископов, Алек-
сандр не мог себе представить, что Александрия будет принадле-
жать туркам, а Константин не строил Константинополь для Мах-
муда II». Здесь гегелевская мысль о том, что действия людей, стре-
мящихся к своим собственным целям, складываются в нечто другое,
не входившее в их расчеты, выражена уже с достаточной ясностью.
Но у Вольтера господствует другой оттенок — победа сильного пе-
реходит в кару за поджог чужого дома.
Прошедший школу исторических событий эпохи французской
революции, наполеоновских войн и первых стихийных движений ка-
питализма, впитавший в свою систему и некоторые элементы исто-
рического понимания, односторонне развитые немецкой романтикой,
Гегель широкой кистью набрасывает картину прогресса, в которой
своекорыстные интересы людей и само зло в его мефистофельском
красном плаще служат добру. Это вовсе не значит, что он является
вульгарным поклонником силы или хотя бы мастером ее эстетиза-
ции, как Ницше. Дело еще не дошло до этого. Философия истории
Гегеля — это апофеоз великих исторических сдвигов, совершаемых
вопреки косной традиции, кто бы ни был их исполнителем — Со-
крат или Цезарь, Робеспьер или Наполеон, может быть даже на-
следственный государь эпохи Реставрации. Вот его взгляд. В гран-
диозном порыве всемирной истории Гегеля привлекает не формаль-
ное обаяние судьбы, стоящей По ту сторону добра и зла, а реальное
содержание дела. Он не раз повторяет, что содержанием человече-
ских страстей, способных участвовать в поступательном ходе исто-
рии, даже самых «животных», должна быть истина. И все же—что
означает это слово при столь широкой постановке вопроса? Только
абстрактное единство всеобщего и единичного, удобное для фило-
софского созерцания, но оставляющее в тумане разницу между
двумя формами развития этого единства, двумя типами прогресса,
двумя видами человеческих интересов и страстей, всегда ограничен-
ных, но по-разному.
В самом деле, если историческое содержание важных обществен-
ных перемен не может быть в силу каких-либо причин осуществлено
демократическим путем, выгодным для большинства людей, то хо-
рошо, если оно осуществляется хотя бы методами Цезаря или
Наполеона. Гегелевское конкретное, как уже было сказано, все еще
слишком абстрактно, и потому оно не освещает это различие, в
высшей степени важное для общественного развития. Ибо сущест-
венно не только то, что сделано в определенных масштабах, но и
то, как это сделано, какими методами получены те или другие до-
стижения общества. Отвергая рефлексию просветителей, их отвле-
ченную противоположность разума и глупости человеческого рода,
Гегель был прав, однако немецкий мыслитель не оставляет места
для более живого и связанного с массовой самодеятельностью демо-
кратического идеала. Он подчиняется сложившемуся на деле общему
ходу вещей, довольствуясь тем, что последний сложился при уча-
стии выдающейся человеческой энергии. Вот почему во второй по-
ловине XIX века его философия истории могла быть приспособлена
для неограниченного оправдания прусского пути развития немецкой
национальности — объединения Германии сверху империей Бисмар-
ка, после того как демократический путь национального единства
был закрыт поражением революции 1848 года.
Позицию Гегеля, разумеется, нельзя отождествлять с прусской
идеологией правого гегельянца Тройчке. И все же эта позиция была
бы отвергнута Вольтером. И не только потому, что она глубже его
собственного взгляда на историю и не могла быть им понята, но и
потому, что этой глубины недостаточно, чтобы сохранить историче-
скую мысль от возвращения к философии доктора Панглоса, возве-
щающей нам, что все несчастья и несправедливости сложившегося
порядка необходимы для достижения всемирной гармонии будуще-
го, как сильные тени нужны для яркости света. Чем хуже был бы
твой удел, когда бы ты менее терпел?
В своем «Опыте о нравах» Вольтер стоит за развитие цивили-
зации ценой меньшей крови — вот его преимущество. Было бы пре-
увеличением сказать, что он владеет искусством дифференцировать
явления общественного прогресса с точки зрения борьбы классов
определенной исторической формации. Это искусство было по-на-
стоящему создано только марксизмом и даже в марксистской лите-
389
ратуре часто оставляет желать лучшего. Что же касается писателя
XVIII века, даже гениального, как Вольтер, то достаточно и того,
что он всегда отличает справедливую, освободительную борьбу на-
родов от простой борьбы за власть, от узурпации чужого добра и
возвышения господствующих классов, племен и элит.
Так, в древности Вольтер явно предпочитает греческий путь
римскому. Римские цари для него — капитаны шайки пиратов.
В течение долгого времени история римлян была только историей
грабительских походов против окружающих деревень, жители кото-
рых защищали свою свободу. «Любить отчизну — это значило уби-
вать и грабить других людей». Правда, добыча делилась между
своими, и каждый защищал свою свободу как собственное достоя-
ние. Поэтому власть римских царей, подобно власти вождя какой-
нибудь разбойничьей шайки, не была слишком деспотической. Когда
же в Риме утвердилась республика, она способствовала развитию
высоких добродетелей. Достигнув известной ступени цивилизован-
ности, римляне постепенно перенесли свой законный порядок и на
побежденные народы. Однако сочувствие Вольтера все же на сто-
роне более свободной греческой культуры. Он пишет: «Греки отбро-
сили несметные армии великого персидского царя и восторжество-
вали над ним на суше и на море. Эти греки, победители, развивали
и совершенствовали все прекрасные искусства, тогда как римляне
их вовсе не знали вплоть до времен Сципиона Африканского». Ци-
вилизованность может прийти в этот мир и жестоким путем наси-
лия, но высшая культура рождается только на почве освободитель-
ной борьбы — так можно выразить общую мысль Вольтера, рас-
сеянную в бесчисленных мелких замечаниях и оттенках его изобра-
жения всемирной истории.
Вот почему, как уже было сказано, взгляд Вольтера сохраняет
самостоятельное значение даже после Гегеля, несмотря на неизме-
римое превосходство гегелевской диалектики. Можно даже сказать,
что взгляд этот необходим для ее собственной корректуры, ее даль-
нейшего развития в сторону конкретности. Диалектика сама разви-
валась диалектически, и ее рождение в истории философии было
процессом неравномерным, основанным на сложном счете приобре-
тений и утрат.
10
Так как Вольтер сводит законы истории к законам природы, то
можно сказать, что развитие общественных отношений как формы
особого, исторического бытия еще недоступно его философскому
анализу. Но это также требует некоторых ограничений. Подобно
Канту, он видит, что человек (вменяемое существо, ответственное
за свои поступки) принадлежит миру свободы, но в то же время
подчинен естественной необходимости. Понятие духа времени при-
ближает ум философа к единству того и другого в исторической
практике. У Гегеля это единство определяется именно как дух,
Geist. «Дух» Гегеля представляет собой воплощение разумного нача-
ла в природную оболочку, и в этом смысле он — не чистый дух, а
что-то неотделимое от стихийного элемента, образующее густую
ткань истории, вакхический танец ее различных формообразований.
Все это не простые метафоры или заблуждения умозрительной
философии, а различные попытки определить особый характер об-
щественной реальности, которая с каждым шагом цивилизации
делалась как бы более плотной, приобретая черты своеобразия, са-
мостийности по отношению к общему бытию природы. Без развито-
го Гегелем неопределенного и даже фантастического представления
о духе было бы трудно перейти к этому своеобразию, состоящему
именно в том, что историческая практика, труд и общение людей
между собой придают предметному миру второе, человеческое зна-
чение.
Теория объективного духа выносит это второе значение за пре-
делы чувственной реальности в качестве логического подтекста ми-
ровой истории. Здесь начинается коперниковский переворот исто-
рического материализма. В отличие от философии духа он опреде-
ляет своеобразие общественного бытия, исходя из первенства неза-
висимой от всякого духовного начала природы, как продолжение
ее естественно-исторического развития. Дух воплощается в пред-
метную оболочку, объективируется в практике человека лишь пото-
му, что он сам является высшей потенцией материального мира и
черпает из него свое разумное содержание. При такой постановке
вопроса мы возвращаемся отчасти к философии истории Вольтера.
Если не говорить о его пограничной гипотезе, допускающей су-
ществование бога где-то на краю физического или морального мира,
Вольтер нигде не выходит за пределы природы, но видит в при-
роде два полюса: с одной стороны — чувственную реальность мате-
рии, с другой — закономерную форму порядка ее процессов. Этот
порядок природы является началом универсальной разумности че-
ловека, который выражает его сознательно или даже бессознатель-
но, например, в присущем нашему роду техническом инстинкте или
в чувстве справедливости, на котором Вольтер настаивает. В поня-
тие справедливости входит у него и право трудящегося на продукт
его труда, трудовая собственность. В качестве диктата самой при-
роды разумное начало, закрепляемое в человеческом мире подража-
нием, неистребимо, «вопреки всем страстям, которые ему сопротив-
ляются, вопреки тиранам, желающим утопить его в крови, и обман-
щикам, желающим уничтожить его посредством суеверия».
Но сознание универсальной разумности, отражающее существо-
вание порядка природы, только дремлет в душе человека и нуждает-
ся для своего активного проявления в горьком опыте жадности и
самоограничения. Ибо, с другой стороны, дикость также в природе
человека, пока эта природа не будет изменена искусством, то есть
цивилизацией. Возможность такого изменения Вольтер допускает,
хотя предположение, согласно которому люди когда-нибудь пере-
станут быть людьми и в хорошем и в плохом, кажется ему несбы-
39Т
точным. Он оспаривает критику цивилизации, согласно которой
общество портит человеческую природу. Откуда вы знаете, что это
так? Быть может, те примеры деградации, которые обычно приво-
дят в доказательство теории регресса, вызванного чрезмерным раз-
витием, доказывают только, что человек зарвался слишком далеко и
отступает затем до границ, установленных для его вида самой при-
родой? Как бы он при этом не нарушил своих границ в другую сто-
рону и как бы в этом отталкивании от непосильной для них нагруз-
ки люди не проявили слишком грубой дикости, по примеру маят-
ника, качающегося из стороны в сторону. Вот забота Вольтера.
Постоянство человеческой природы означает для него не лишенное
всякого развития естественное бытие, а некую историческую середи-
ну между цивилизацией и природой прежде всего в смысле ограни-
392 ченности человека и неизбежного присутствия в его истории не
поддающегося контролю со стороны разума естественного начала,
которое легко превращает всякую активную силу в агрессию и
деспотизм. В этом отношении философия истории Вольтера подгото-
вила систематику Канта.
С другой стороны, природа в качестве последней основы идеи
порядка, присущей нашему разуму, всегда останется для человека
сдерживающим началом в его заносчивом стремлении оторваться
от матери-земли. Здесь, согласно «Опыту о нравах», уже не живот-
ное начало является источником зла, а, скорее, фантазмы челове-
ческого воображения. Ибо человек может быть помесью тигра и
обезьяны — в таких случаях он ужасен, но может быть также доб-
рым животным и не должен претендовать на роль ангела, что всегда
подозрительно.
В этом отношении Вольтер является наследником старой фран-
цузской традиции, идущей от Рабле и Монтеня. Все беспорядки и
смуты нашего мира проистекают из фантастического порыва в дру-
гой мир, способного оторвать человеческий ум от его телесного
основания и народной почвы. Из этой мании величия следует утра-
та спокойной мудрости земледельца, связанной с честным трудом,
и нечто обратное всей претензии мнимых спасителей человеческого
рода, самые жалкие черты духа времени, смесь дурного энтузиазма
с грубым своекорыстием, словом — все, что ведет к анархии, произ-
волу, религиозным распрям, гражданской войне. «Опыт о нравах»
Вольтера, не менее, чем трактаты Руссо, является призывом вер-
нуться к природе, но без утраты прочных завоеваний культуры.
Есть, таким образом, у Вольтера своя идея счастливого сред-
него состояния не только как святой посредственности, но и как
общей исторической нормы развития, лежащей между двумя край-
ностями. Эта диалектическая середина заложена уже, собственно,
в законе природы — втором законе ее, карающем за нарушение
меры. Вот один из примеров подобного нарушения. С обычной для
него широтой кругозора и отрицанием европейского чванства Воль-
тер описывает расцвет мусульманской культуры в Испании, завое-
ванной маврами, но видит в этом расцвете и семя упадка. «Кордо-
ва — страна радостей, орошаемая Гвадалквивиром, где лимонные,
апельсиновые и гранатовые рощи наполняют воздух ароматом и
где все располагает к изнеженности. Роскошь^ и наслаждения ис-
портили в конце концов мусульманских королей». Страна раздели-
лась на множество мелких государств, и если бы христиане не были
еще менее согласны между собой, чем арабы, они могли бы покорить
кордовский халифат уже в X веке.
Здесь молчаливо допускается, что существует некая мера циви-
лизации, достаточная для того, чтобы изменить человеческую при-
роду к лучшему, но неспособная еще ее снова испортить и повернуть
обратно — через изнеженность, избыток роскоши, потребления...
куда?—Быть может, к новой дикости. Полагают, что Вольтер не
знал «Новой науки» Вико с ее круговоротом вечной истории. Сам
он не высказывает с полной определенностью такого взгляда, но jpj
двойственный характер прогресса ему хорошо известен. Так, в дру-
гом месте «Опыта о нравах» мы читаем: «Нравы смягчились, не
причинив никакого вреда мужеству». Такие замечания нередки в
сочинениях Вольтера, они приближают его к Гельвецию и Дидро
с их идеалом среднего состояния между героическим детством ди-
каря и старческим увяданием слишком далеко зашедшей цивилиза-
ции.
В той главе «Опыта о нравах», где речь идет о борьбе швейцар-
ского народа за свою свободу, философ хочет представить читателю
образец более благоприятного равновесия между физическими ус-
ловиями жизни и духовным развитием. Он подчеркивает, что куль-
тура швейцарских кантонов недалеко ушла от материального полюса
нашей природы, но такое состояние при всех его преимуществах
возможно, в сущности, только для маленькой и небогатой страны,
защищенной естественными границами. Умы не должны отрывать-
ся от их естественного характера. Швейцарцы реже других наций
выходят из своей роли, нарушая характер, присвоенный им самой
природой, и в этом заключается их наибольшее счастье.
Отсюда видно, что для Вольтера норма исторического бытия, а
следовательно и его подлинное содержание, состоит в близости двух
полюсов природы — формы и материи, правильного и естественного,
рационального и чувственного. Общественное начало заключается
как бы в дальнейшей формализации порядка природы без крайнего
удаления от ее материальной жизни. Так и в своей эстетике Вольтер
озабочен сохранением равновесия между правдоподобием естествен-
ности, забытым французской трагедией XVII века, и необходимо;
стью формальных правил, еще неизвестных Шекспиру. Можно ука-
зать, что общественный идеал Вольтера сам еще слишком напоми-
нает абстрактное правило^ недостаточно связанное с исторической
конкретностью, не подготовленное ею, не выведенное из ее фактиче-
ского, неповторимого развития. И все же в наши дни, когда привыч-
ка к постоянному изучению объективных фактов заставляет иногда
забывать, что эти факты не безразличны к норме разума и совести,
мысль Вольтера напоминает о том, что определения бытия содержат
в себе и то, что должно быть,— го, ради чего, по выражению Ари-
стотеля.
Но вернемся к «Опыту о нравах». Пример швейцарцев показы-
вает, что союз природы, включая сюда и некоторый элемент дико-
сти, присущей человеку, с универсальной разумностью возможен.
Однако в больших государствах Европы такое равновесие мало
вероятно, ибо здесь гораздо сильнее развито противоречие между
простым человеком, культиватором, занятым своей нелегкой рабо-
той в поле, и всей громадной верхушкой общества, включающей в
себя и политические системы, и блестящие мундиры военных, и
крючкотворство чиновников, и заботы духовных лиц о поддержа-
нии господствующих предрассудков, и воздушные замки философов.
Народ представляет собой общую основу этого здания, его матери-
394 альный фундамент. Сила народа в инстинктивном чувстве справед-
ливости, слабость его в том, что этот инстинкт не озарен светом
разума и потому легко доступен извращению. Между тем само по
себе умственное развитие еще не делает человека лучше, пока оно
ограничено соображениями расчета, направленными к тому, чтобы
захватить чужой кусок. Следует ли предпочесть одностороннему
развитию человеческого ума простые движения сердца, согласно ре-
цепту Паскаля и Руссо — противника цивилизации, адвоката бла-
городной отсталости?
С точки зрения Вольтера такого выбора нет, но есть другой вы-
бор. Его антропология, унаследованная в значительной мере от ста-
рых мастеров этой науки, как Монтень, основана на возможности
двух противоположных типов единства развития и простоты. Народ
для него — это почва, природа, инстинкт, высшие классы — наука,
искусство, развитие умов. Как трезво мыслящий демократический
автор Вольтер не придает большого значения формальным ценно-
стям прогресса. Будучи человеком науки он самым презрительным
образом отзывается о монополии знания и находит, что чем неве-
жественнее и несчастнее народ, тем большую власть имеют в обще-
стве грамотеи, владеющие техникой культуры. Такой вид единства
отсталости и развития не имеет ничего общего с истинной середи-
ной между грубой природой и ложной цивилизацией. Невежество
не может быть лекарством от испорченности и хитрых расчетов
коварного меньшинства, ибо одно дополняет другое, господа нуж-
даются в рабах, и наоборот.
Если узурпаторы заинтересованы в том, чтобы утвердить в со-
знании толпы слепое мнение, то, с другой стороны, сами народы
отличаются удивительным легковерием, а присущее им чувство
справедливости легко превращается в источник нелепого фанатизма.
Поэтому в больших монархических государствах Европы суще-
ствует, согласно Вольтеру, не только резкий контраст противопо-
ложных крайностей .которого к счастью для себя избежала Швей-
цария, но и тождество их — совпадение обмана и суеверия, господ-
ства немногих и добровольного подчинения непросвещенной черни.
готовой разорвать всякого, кто укажет ей на существование истины.
«Люди хотят, чтобы их дурачили и обманывали».
Собственно говоря, и сами швейцарцы привлекают сочувствие
Вольтера только в исторической перспективе средних веков, в их
героической борьбе против империи. Протестантское ханжество
швейцарской буржуазии кажется ему не менее отвратительным, чем
дворянская спесь и фанатизм римской церкви. Для демократиче-
ской тенденции Вольтера характерно, что в споре женевских ремес-
ленников с буржуазной аристократией города он занял активную
позицию на стороне первых. Но никто не скажет, что Вольтер ког-
да-нибудь верил в успех самостоятельного движения угнетенных
масс. Этого и не могло быть, ибо такая вера еще не имела практиче-
ского основания. В лучшем случае она могла быть верой в справед-
ливую месть народа или сочувственным пониманием его безмолвия.
Вольтер видит в истории только отдельные очаги истинного
энтузиазма, который он, в духе Локка, отличает от ложного энтузи-
азма фанатиков. Благоприятное сочетание инстинкта и разума, чув-
ственной, страстной натуры человека и его универсальной разумно-
сти, материального интереса и общественного воодушевления, на-
родного подъема и свободы бывает редко, да и эти попытки выйти
из порочного круга добровольного рабства недолговечны.
Вот некоторые примеры более идеальных моментов историческо-
го движения, вызывающих искреннюю симпатию автора «Опыта о
нравах». Его сочувствие на стороне древних саксов, борющихся за
свое право жить свободно против полчищ Карла Великого, который
вел себя по отношению к ним «как разбойник». Вольтер сочувствует
независимости Венецианской республики, хотя ставит ей в вину
замкнутость, аристократический принцип ее сената. Для него совер-
шенно естественно право итальянских городов бороться за свою
свободу против императора-немца. Но особенно характерно то, что
пишет Вольтер о восстании Риенцо в Риме, этой вершине длинной
цепи народных движений, вдохновляемых старой идеей величия и
свободы римлян. «Они облачили в тогу трибуна простого горожа-
нина по имени Кола ди Риенцо, или просто Кола, человека, рож-
денного фанатиком и ставшего честолюбцем, способного вследствие
этого на великие дела — это о нем говорит Петрарка в одной из
своих прекрасных од, или canzoni». Вот редкий случай, когда Воль-
тер как бы признает полезную роль не только честолюбия, но даже
фанатизма, словом, тех личных страстей, которые обычно приносят
людям только бедствия. Здесь та же мысль, что и в сознании един-
ства природы и культуры, равновесия между инстинктом и разу-
мом, народным характером и развитием умов, идея среднего состоя-
ния, воплощающего всеобщее в определенном, доступном человеку
как природному существу ограниченном существовании.
Судьба римского трибуна была печальна. «Начав, как Гракхи,
Риенцо кончил так же, как они: он был убит в результате загово-
ра патрицианских семейств». Никто не вступился за него, победа и
здесь осталась за другой формой единства народа и власти. Реаль-
395
ные интересы восторжествовали над духом свободы, вместо того
чтобы поддерживать и воплощать его, фанатизм и честолюбие от-
делились от великих дел и вступили на .свой обычный кровавый
путь, создавая фатальную цепь причин. Вообще, по словам Вольте-
ра, «инстинкт больше, чем разум, ведет за собой человеческий род».
И это преобладание темной стихии является общей чертой всемир-
ной истории — «почти везде перед» нами крайняя степень безумия
в соединении с небольшой долей мудрости в законах, культах, обы-
чаях».
Вот почему, несмотря на желание основать свою веру в прогресс
человеческого рода на более прочном фундаменте, чем любовь к
порядку, Вольтер возвращается к абстрактной противоположности
света и тьмы. Его картина развития общества создана под тягост-
595 ным впечатлением разрыва между одиноким мышлением и чуждой
ему, непокорной нашему разуму необходимой цепью всех событий
этого мира. Исторические черты духа времени являются у Вольтера
главным образом в виде косности народных масс, которым он со-
чувствует, презирая их в то же время за рабскую пассивность и
взрывы дикого бунта. При всем своем отрицательном отношении
к господству меньшинства над большинством, он не доверяет и это-
му большинству, считая его доступным всяческой демагогии, гото-
вым поддерживать тиранию своих угнетателей и не умеющим отли-
чать друзей от врагов.
В сочинениях Вольтера можно собрать большую коллекцию са-
мых резких, даже оскорбительных выражений по адресу простого
народа. «Разве не знаете вы,— пишет автор «Опыта о нравах»,—
что во всех странах мира простолюдин глуп, суеверен, безумен?
Разве не было конвульсионеров в стране канцлера Лопиталя, Шар-
рона, Монтеня, Ламота Левайе, Декарта, Бейля, Фонтенеля, Мон-
тескьё? Разве не было методистов, моравских братьев, визионеров
тысячелетнего царства, фанатиков всякого рода в стране, имевшей
счастье быть родиной канцлера Бэкона, этих бессмертных гениев —
Локка и Ньютона, и целой толпы великих людей?»
Пугая правителей опасностью фанатизма, который сами они
поддерживают, Вольтер писал: «Остановитесь на минуту перед вы-
брошенными из могилы останками знаменитого императора Ген-
риха IV, более несчастного, чем наш Гейрих IV, король Франции.
Подумайте, откуда столько унижений и несчастий, с одной стороны,
столько дерзости, с другой, .столько ужасных дел, слывущих свя-
щенными, столько государей, принесенных в жертву религии,— и вы
увидите единственный источник этого в черни. Это она дает начало
движениям суеверия. Это ради кузнецов и мясников Германии им-
ператор пришел босиком к римскому епи&копу;. это простой народ,
р<аб суеверия, хочет, чтобы.и господа его были рабами того же суе-
верия».
Мы знаем, что посредством предрассудков народ удерживается
в подчинении властям и с этой точки зрения он заслуживает в гла-
зах Вольтера полного сочувствия. Но обстоятельства могут принять
другой оборот. Фанатизм, постоянно поддерживаемый в массах про-
стых людей их господами, может иметь обратное действие, и тогда
народ будет страшен, ибо «простолюдин везде свиреп».
Вольтер издевается над шутовскими праздниками народных
толп, их поклонением ослу и другими обрядами в духе сатурналий
и карнавалов, известными ему по сочинению Дюканжа. Он назы-
вает эпидемическим безумием массовые радения, сопровождаемые
конвульсиями, идет ли речь о припадках религиозной истерии на-
кануне тысячного года или в его собственное время на могиле дья-
кона-янсениста Париса. Простой народ везде является для Вольте-
ра оплотом средневековья, врагом свободных мыслителей, опорой
господствующих предрассудков или мнения, распространяющегося в
этой среде без всякой критики. Вы говорите, что это истинно, пото-
му что признано всеми?—спрашивает Вольтер. Нет, если этому
верит чернь — значит это ложь.
Такие речи, особенно вырванные из контекста, давно уже слу-
жат поводом для обвинения нашего философа в аристократизме.
Но... «Ты лжешь, Брут, ты лжешь, Кассий, и ты тоже лжешь, Ази-
нус». Есть достаточно исторических причин, объясняющих позицию
Вольтера. В его времена еще не был забыт единодушный возглас
одобрения, раздавшийся в толпе, когда на площади города Тулузы
палач вырвал язык у Лючилио Ванини. Перед умственным взором
Вольтера одно за другим проходят воспоминания о мерзостях рели-
гиозных демагогов вроде патера Гараса, возбуждавшего чернь про-
тив либертенов — людей свободной мысли и свободного образа
жизни, служившего им наглядным подтверждением их взглядов.
Судьбы таких людей, как Теофиль де Вио или поэт Клод ле Пти,
заплативший костром за несколько вольных строк в рукописи, слу-
чайно унесенной ветром в открытое окно, еще жили в памяти лю-
дей. Костры еще не погасли.
Мрачный призрак, именуемый согласно русской традиции чер-
носотенством, был хорошо известен в Париже, начиная по крайней
мере с 90-х годов XVI века. Такие настроения часто волновали
темные массы, направляя их справедливую социальную ненависть
в ложную сторону, против мнимых врагов народа, и потому каза-
лись реальнее, чем прогрессивные идеи, им мало известные. Только
в ходе революционных событий 1789—1793 годов французская на-
ция быстро и неожиданно выросла, открыв дорогу Европе.
За тридцать — сорок лет до этого будущее еще представлялось
смутным, и Вольтер, так же как остальные просветители, желал и
боялся предстоящей развязки одновременно. Впрочем, предупреж-
дения против грозящей анархии есть и у Руссо, которого часто от-
деляют от умеренного Вольтера слишком жирной чертой. Не сле-
дует также забывать, что в их времена буйное простонародье, спо-
собное драться с полицией из-за высоких цен на хлеб или повесить
изображение министра, было еще преисполнено обожания личности
короля. Несмотря на неудачную войну и разорение Франции, бо-
лезнь Людовика XV в 1744 году вызвала такой взрыв любви к
397
нему, особенно среди простого народа, и было заказано столько мо-
лебнов о его выздоровлении, что сам король был удивлен. Вообще
говоря, система абсолютной монархии не могла бы продержаться
и двух недель, если бы она не опиралась на молчаливое согласие
низов, смотревших без всякого сочувствия на вольности высшего
круга. Народ не слишком отделял от него опасное сословие «ли-
тераторов» и при случае мог бы воскликнуть словами одного из
шекспировских мятежников: «Он умеет читать и писать? На висе-
лицу его!»
Даже реставрация Бурбонов, совершившаяся при помощи ино-
странных армий, была бы невозможна без подъема вандейских на-
строений, которые отозвались и в общественном мнении, забывшем
идеи века Разума. Разрыв между прогрессивной теорией и психоло-
398 гией широких масс на время снова усилился. В изображении Баль-
зака французский крестьянин, которому он глубоко сочувствует,
есть тот же вольтеровский vulgaire, или, если угодно, ГЬопппе peuple
Дидро, свирепый и злой. Вот в какой исторической перспективе
нужно рассматривать слова Вольтера о черни.
Впрочем, при желании можно составить такой же обвинительный
акт против Гёте или Пушкина, и все это уже делалось. Вольтер
разделяет в этом смысле судьбу всех гуманистов прошлого. Трагич-
но положение одинокой личности, пришедшей в столкновение с ду-
хом времени, тогда как сама она уже принадлежит, по выражению
Вольтера, другим, лучшим векам. Еще более трагично ее положе-
ние, если речь идет не просто о развитой личности, но о борце, не-
понимаемом теми людьми, ради которых он жертвует своим благо-
получием, а иногда и самой жизнью. «Святая простота!» — сказал
Ян Гус при виде старушки, несущей вязанку хвороста для костра,
на котором его сожгли.
Мы знаем анекдот из жизни Гельвеция. Будучи генеральным от-
купщиком^он обращался к властям с просьбой понизить некоторые
налоги, которые должен был собирать с населения. Получив отказ,
Гельвеций ответил просителям: «Единственное, что я могу вам
посоветовать, состоит в следующем. Соберитесь толпой, вооружи-
тесь и нападите на нас. Я, конечно, стану во главе моих людей, но
вы нас побьете и, таким образом, может быть заставите услышать
вашу просьбу». Вольтер не был откупщиком налогов, его коммерче-
ские предприятия носили более спекулятивный характер, и мы не
знаем, как бы он вел себя в положении Гельвеция. Но сказать «свя-
тая простота!», подобно Яну Гусу, он явно не мог. Он посмеялся
бы также над тем русским народником, который, по рассказу Ми-
хайловского, сидя в царской тюрьме, сурово осуждал себя за то,
что ест народный хлеб даром.
В защите интересов народа, черте, которую нельзя отнять у
Вольтера, преобладает борьба за прогресс в широком смысле слова.
Это характерно для просветителей вообще и вдвойне характерно
для Вольтера. Он ценит большие дороги культуры без всякой или
почти без всякой сентиментальности, мелкобуржуазной идиллии.
Приходится поэтому простить ему резкие слова: «Бедняк повсюду
глуп и плутоват». По обычаю французских писателей XVII—
XVI11 веков Вольтер склонен идеализировать Древний Китай, стра-
ну религиозной терпимости, конфуцианской умеренности и порядка.
Вот общее замечание, которое он по этому поводу делает: «Говоря
о мудрости, которая господствовала в китайском государственном
устройстве в течение четырех тысяч лет, мы не хотим сказать, что
это относится к простонародью; оно во всех странах занято только
черной работой. Дух определенной нации воплощается всегда в не-
большом меньшинстве, которое заставляет работать большинство,
кормится его трудом и управляет им». Чтобы это состояние не было
принято за идеал, Вольтер отбросил первоначальный вариант
«должно быть занято только черной работой». Он высказывает то,
что есть, но странным образом сочетает свое обычное отвращение
к господству меньшинства узурпаторов с более спокойным отноше-
нием к существованию людей, занятых только физическим трудом,
чьи работают грубые руки, чтобы немногие развитые умы могли
погружаться в искусства, науки. Впрочем, это противоречие и в
наши дни не решается какой-нибудь более деликатной социологиче-
ской формулой.
При виде темных движений простонародья Вольтер не мог бы
сказать «святая простота!» еще и потому, что в его историческом
облике идея целесообразности преобладает над идеей мученичества.
Не щадя себя в постоянной войне с врагами просвещения, он
советует молодому Гельвецию наносить удары, думая о своей без-
опасности. Неосторожные слова, которые, разумеется, были истол-
кованы в самом неблагородном смысле! Но мы знаем, как подло
толкуют, например, слова Ленина о необходимости для коммунистов
проникать в профессиональные союзы и другие массовые органи-
зации. От моральной риторики сикофантов дешево не отделаешь-
ся! Между тем тот, кто думает о пользе ближнего, а не о спасении
души, должен, конечно, рассчитывать силы и сохранять свою голову
как в прямом, так и в переносном смысле. На войне, как на войне.
В этом отношении принцип целесообразности, развитый просвети-
телями, ближе к пролетарскому социализму XIX века, чем пафос
абстрактного самоотречения, свойственный средневековой идеологии
и перешедший оттуда в христианский социализм и анархическое
бунтарство. Переписка Маркса и Энгельса открывает нам много
примеров подлинно революционной этики, сочетающей бескорыст-
ную верность интересам народа с принципом целесообразности.
Народ унаследовал всех льстецов королевской власти, сказал
Бальзак. В этом грехе, конечно, Вольтер неповинен. Однако и более
последовательные демократы, чем он, например Чернышевский, пи-
сали горькие слова о народной бестолковости, не желая прикраши-
вать ее в сентиментально-либеральном духе. Сам по себе скептицизм
по отношению к так называемым исконным народным началам, то
есть к патриархальной средневековой традиции, реабилитированной
немецкими романтиками и русским народничеством, еще ничего дур-
399
ного в себе не заключает. Все зависит от содержания дела. Некото-
рые замечания Вольтера напоминают позднейшие пушкинские слова
о русском бунте, которые с таким же основанием могут быть отне-
сены и к французскому, немецкому и любому другому. Иногда
кажется, что Вольтер имеет в виду что-то похожее на образ Смер-
дякова, созданный великим русским писателем. Капля вольтерова
меда есть, разумеется, во всем многообразном развитии этой мысли.
Однако народная революция и смердяковский бунт против все-
го высокого и прекрасного — не одно и то же. Напротив, это две
непримиримые противоположности. И, говоря прямо, может быть
слишком прямо, историческая ограниченность Вольтера заключа-
лась именно в том, что он не сумел провести необходимый водораз-
дел между этими двумя явлениями. Вольтер не рассчитывает на то,
400 что универсальная разумность, отвечающая порядку природы (так
же как дикость отвечает ее стихийному беспорядку), когда-нибудь
посетит умы простонародья хотя бы в итоге самого печального опы-
та, и потому при всех своих разочарованиях он сохраняет идею
революции сверху. Чего опасался этот гениальный ум? Бессмыслен-
ной резни, которая может возникнуть, если среди правителей Фран-
ции не найдется деятеля, достаточно динамичного для того, чтобы
в новых условиях принять тот компромисс, который однажды при-
нял основатель династии Бурбонов — Генрих IV? Похоже на то.
Вольтер боится, что темная масса, далекая от критического мышле-
ния, замкнувшегося в тесных кружках, станет добычей социальной
демагогии худших узурпаторов или выдвинет новых пророков, осно-
вателей гнусных суеверий, оправдывающих ее собственное рабство.
Те черты, которыми философ описывает возникновение подобных
общественных движений, напоминают иногда фашизм.
Защитник равенства, Вольтер боится уравнительной волны, спо-
собной захлестнуть все достижения культуры, связанной с образом
жизни богатых классов и самодержавных властителей, как строи-
тель Версаля король Людовик XIV Он боится исчезновения вся-
ких стимулов к труду и цивилизации. «Те, кто говорят, что все
люди равны, говорят величайшую истину, если они понимают под
этим, что все люди имеют равное право быть свободными, быть
собственниками -своего добра и находиться под покровительством
законов. Но они сильно заблуждаются, если полагают, что люди
должны быть равны по своему занятию, ибо они не одинаковы по
своим талантам».
Вольтер стоит за равенство всех перед законом, то есть за бур-
жуазную демократию, но отвергает более глубокое социальное ра-
венство как абсурд, противоречащий интересам общества и его раз-
витию. Частная собственность вытекает для него из самой приро-
ды— земледелец имеет право пользоваться урожаем с того зерна,
которое он сам посеял. В таком повороте собственность выступает
как демократическое право угнетенных масс сопротивляться жадно-
сти узурпаторов. Само собой разумеется, что опыт классовой борь-
бы и социальной науки дает нам в настоящее время легкую возмож-
ность доказать ограниченность точки зрения Вольтера. Но из того
же опыта следуют и другие выводы.
В самом деле — оградить революционное движение от односто-
ронней уравнительности в силах только пролетарская революция,
основательно вооруженная революционной теорией, идеями науч-
ного коммунизма. Да и в этом случае верное сочетание двух прин-
ципов — принципа уравнительности и принципа поощрения людей
за их труд, осуществляемый по способностям и приобретенному
образованию,— нелегкое дело для многих поколений. В сущности,
только высшая форма коммунизма, развившегося на собственной
основе, свободная от «узкого горизонта буржуазного права» и остав-
ляющая позади всю проблему в целом, может окончательно устра-
нить всякое противоречие между двумя видами справедливости
Аристотеля — уравнивающей и распределяющей.
Из этого видно, что историческая вина Вольтера заслуживает
более мягкого приговора. Некоторые черты французской революции
действительно оправдали его опасения насчет кровавой каши и ее
наследников — тех, кто выигрывает в результате казарменного ра-
венства. Если Вольтер был ограничен рамками буржуазного круго-
зора, то не вышли из его пределов и революционные головы конца
XVIII века, мечтавшие решить социальный вопрос посредством
мещанской уравниловки, прикрашенной ссылками на «Законы»
Платона. Лишь в одном, хотя и существенном отношении револю-
ционная мысль этой эпохи пошла дальше Вольтера. Она покончила
с идеалом революции сверху или, во всяком случае, революции, со-
вершаемой без народа посредством самоограничения легитимных
властителей. Народное движение создает много проблем, но вопре-
ки всем нравоучительным сентенциям умеренных мещан только
дальнейший подъем этого движения может их решить.
Беспомощность Вольтера в поисках выхода из лабиринта пре-
ступлений и глупостей человеческого рода легко объяснить духом
его собственного времени, еще далекого от народного героизма
французской революции, которая оставила далеко позади и спра-
ведливую борьбу древних саксов, и подвиг Вильгельма Телля, и
восстание Кола ди Риенцо. Противоречия исторического процесса
находят себе решение в подъеме народных масс к самостоятельному
действию. Чем шире слой людей, захваченных этим историческим
творчеством, активностью, связанной с личным участием в об-
щественных делах, тем глубже и плодотворнее, тем прочнее в своих
результатах реальное движение, именуемое прогрессом. Этого, разу-
меется, Вольтер видеть не мог, а то, что он видел, и видел своими
глазами, внушало ему, скорее, недоверие к мужеству и разуму на-
родных масс, которые и в более развитые времена не так просто
восходят к вершинам революционного самосознания.
Но если на этом пути возникают темные страницы истории и
обратные движения ее, то причина этих отступлений лежит не в
чрезмерной широте демократии, переходящей в тиранию, как этому
учила вся европейская политическая наука, начиная с Платона и
401
Аристотеля, а в постоянном возрождении классовой узости, превра-
щении демократии в более или менее тесную аристократию хотя бы
самого плебейского толка, оставляющую за пределами равенства
элиты большинство людей.
Наследник старой политической мысли, Вольтер также боялся
чрезмерного расширения демократии как опоры тупого деспотизма.
Он смешивает или, вернее, еще не разделяет с достаточной ясно-
стью революционный демократизм, поднимающий сознательность
самых широких масс, и социальную демагогию, мобилизующую в
них темный инстинкт раба, слепую ненависть ко всему, что возвы-
шается над уровнем толпы. Не демократия превращает народ в
толпу, а ограниченность этой демократии, которая всегда таит в
себе грозную опасность реакционных движений, направляемых пле-
402 бисцитарной монархией или другими видами личной диктатуры.
Вольтер мог бы узнать в этом круговороте событий действие от-
крытого им второго закона природы, то есть кары за узурпацию
плодов чужого труда, включая сюда и невольную вину образован-
ных людей, разделяющих образ жизни богатых классов. Но трудно
было бы требовать такого понимания до опыта французской рево-
люции и, самое главное, до появления исторической возможности
массовых движений нового типа, которые ценою мучительных проб
и ошибок вынашивают союз революционной демократии с наиболее
развитой, высокой и свободной культурой.
То, что Вольтер два века назад не мог надеяться на существо-
вание такого выхода из своих блужданий между ненавистью к узур-
паторам и защитой права немногих избранных заниматься разви-
тием искусств и наук за счет физического труда других, между
презрением к монополии грамотеев и боязнью темного простона-
родья, указывает на его историческую слабость, бесспорную, хотя
и понятную в условиях XVIII столетия. Только лицемер скажет,
что здесь нет никаких проблем. Но современное нам вольтерьян-
ство, видящее главный источник всех несчастий человечества в
чрезмерном влиянии масс, охваченных фантастической мечтой о
тысячелетнем царстве и питающих своим конформизмом тоталитар-
ные теории, не может быть оправдано ничем. Сам Вольтер отнес бы
его к предрассудкам узурпаторов, ибо при всех своих колебаниях
он всегда оставался другом обманутого большинства. Позволяя себе
высказывать некоторые опасения насчет безумия черни, парадо-
ксальные даже в глазах его современников, он ненавидел всякое
чванство элиты, малого человечества. Из отвращения к этой гадо-
сти, особенно мерзкой у образованной публики, Вольтер готов был
терпеть сильную власть одного, способную обуздать претензии мно-
гих мелких господ. И в этих пределах, как уже было однажды ска-
зано, политическое мышление Вольтера не расходилось с настрое-
ниями подавляющей части французского народа.
Мы, безусловно, будем смотреть на его иллюзии более терпимо,
если вспомним, что еще полвека спустя Пушкин мог считать Рома-
новых революционерами, что он усматривал в победе самодержавия
над аристократией счастливую особенность русской истории, объ-
единившую интересы дворянства с интересами крепостного сосло-
вия, без чего «одно только страшное потрясение могло бы уничто-
жить в России закоренелое рабство». По словам Пушкина, указов
о вольности дворянства нужно стыдиться, вместо того чтобы гор-
диться ими. И Пушкин во многом был прав, как и Вольтер. Само-
властие отвратительно, это самая отвратительная вещь на свете, за
исключением аристократии, которая еще хуже.
11
Итак, философия истории Вольтера допускает две возможности.
Одна, неутешительная, но привычная, торжествует в виде судьбы,
вытекающей из необходимой связи причин. Другая содержит более 403
гармоническое сочетание программы разума с интересами и страстя-
ми людей, их личной жизнью, энтузиазмом и даже полезным фана-
тизмом, если такой существует. Эта вторая возможность, способная
только блеснуть перед нашим взором в исключительные, высокие
минуты истории, является как бы предзнаменованием идеального
общества, но в обычной истории, как мы уже знаем, правит игра
случая, или судьба.
Противоположность двух полюсов, материального интереса и
универсальной разумности, осуществляется здесь самым уродливым
образом — в отождествлении крайностей господства и подчинения.
Лишенный прямой поддержки со стороны стихийного начала, коре-
нящегося в народе, закон разума и взаимности имеет мало шансов
на осуществление. Поэтому автор «Опыта о нравах» не надеется
на прогресс в собственном смысле слова, каким он является спора-
дически в благородных порывах освободительного движения. Он
больше надеется на фатальную цепь причин, которая своим проти-
воречивым обходным путем может заставить жестокое меньшинство
проявить некоторую дальновидность и пойти на уступки.
Но это также не происходит гладко, само собой. Нужно, чтобы
власть попала в руки сильного человека, способного идти впереди
своего народа и заставить властвующую элиту подчиниться нацио-
нальным интересам. Поиски доброго государя рассматриваются
обычно как признак наивности просветителей XVIII века. Но это
не совсем так. История классового общества действительно предо-
ставила личной власти большую роль в осуществлении прогресса
сверху, согласно второму закону природы Вольтера. В качестве
необходимого условия всяких реформ среди меньшинства узурпа-
торов, ослепленных своей неуступчивой жадностью, должна воз-
никнуть «пятая колонна» разума, а это облегчается конфликтом
между единовластием и аристократией. На самой высокой точке об-
щественной пирамиды голос национального интереса и народных
бедствий может быть слышнее, чем на более низких ступенях, веду-
щих к ней, или, во всяком случае, опасность, грозящая всей со-
циальной лестнице, отсюда виднее. Это — реальный факт, который
имеет различные человеческие оттенки, от бескорыстной, хотя и
деспотической преданности благу своего народа, до хитрой дема-
гогии и коварных расчетов. Если бывают дворянские революционе-
ры и мятежные бароны, вымогающие у своего короля хартии воль-
ностей, то почему невозможны и революционеры на троне, разу-
меется, со всеми особенностями их сана и положения? Такие
действительно были — от мифических императоров-благодетелей
китайских «бамбуковых анналов», от фараона Эхнатона и шумерско-
го реформатора Урукагины до Петра Великого.
Однако среди властвующего меньшинства люди, искренне пре-
данные интересам народов, могут быть только редкими исключе-
ниями— иначе материальные интересы и право сильного не играли
бы такой роли в нашем мире. Но именно это меньшинство среди
4()4 меньшинства искупает, с точки зрения Вольтера, привилегии людей,
живущих за счет простонародья и управляющих им. Единственным
выходом из замкнутого круга господства и рабства, если не гово-
рить об отдельных периодах демократического подъема, является
для него деятельность героев культуры, выдающихся личностей.
Они всегда в центре внимания Вольтера, несмотря на все его рас-
суждения об исторической роли обыкновенного человека, занятого
полезным трудом. Универсальная разумность человеческой приро-
ды находит себе воплощение по ту сторону народной жизни, в
идеальных образах великих людей, высоко парящих над обществом.
При этом большей частью речь идет о государях, выражающих
единство нации, дух порядка и придающих определенную физионо-
мию своему веку.
Так как великая личность воплощает фатальный ход истории,
хотя и в лучших его чертах, образующих содержание прогресса
сверху, она сама имеет роковой характер. Нельзя слишком при-
сматриваться к ней, иначе в этой смеси хорошего и плохого мы
увидим что-нибудь такое, что заслонит от нас объективное значение
ее деятельности. Отсюда обычное у Вольтера нежелание углублять-
ся в частную жизнь государей, историю которых он пишет, напри-
мер Людовика XIV или Петра I. Он видит свою задачу в том, что-
бы нарисовать блестящие итоги их царствований, успехи нацио-
нального сплочения, экономической жизни, искусства и просвеще-
ния, но хорошо понимает, что движущие силы, толкавшие этих
монархов на их великие дела, были, возможно, не так идеальны.
Резкая светотень в личном облике великого человека есть неиз-
бежное следствие его положения как лучшего из породы узурпато-
ров в нашем мире, где прогресс чаще осуществляется непрогрессив-
ными средствами, силой и расчетом, чем гуманностью.
Так, работая над историей Петра, Вольтер отклоняет настойчи-
вые попытки Фридриха II внушить ему отвращение к частной жиз-
ни русского императора, которому суждено было произвести гро-
мадное впечатление на весь западный мир. Вольтер не хочет, чтобы
подробности, относящиеся к жестокой расправе над царевичем
Алексеем, помешали ему видеть главное — быстрый подъем России
под властью этого монарха. Он объясняет свою позицию в письме
к Фридриху следующим образом: «Из докладной записки о цареви-
че, которую Ваше Величество изволило мне прислать, я вижу с еще
большей ясностью, чем до сих пор, что история имеет свой пирро-
низм, так же как свою метафизику. Когда я писал историю Людо-
вика XIV, я старался не вникать больше, чем нужно, в тайны его
кабинета. Я рассматриваю великие события этого царствования как
положительные явления и описываю их, не восходя к первому осно-
ванию. Первопричина не существует для физика, так же как начало
интриги не существует для историка. Изображать нравы людей, из-
лагать историю искусств — вот моя единственная цель. Я безуслов-
но сумею сказать правду, пока речь идет о Декарте, Корнеле, Пус-
сене, Жирардоне, о всех предприятиях, полезных людям; но я стал
бы на путь лжи, если бы хотел передать разговоры Людовика XIV
с мадам де Ментенон».
Под именем пирронизма Вольтер имеет в виду скепсис, созна-
тельно ограничивающий себя в окончательных суждениях и слиш-
ком прямолинейных метафизических приговорах. У него это, так
сказать, заменитель диалектики, допускающей объективность про-
тиворечия, заложенного в самом факте. Некоторые пилюли нужно
глотать, не разжевывая, сказал Гоббс о догмах религии. Этот прин-
цип Вольтер применяет к великим историческим личностям. Он по-
нимает их двойственность, но закрывает глаза на эти противоречия,
на личную демонию героев исторической драмы, и мы понимаем,
почему это так — ведь речь идет о такой форме прогресса, которая
совершается не идиллическими средствами, но все же является
фактом, реальностью, доступной обычному ходу вещей. И если кру-
пицы разума находят себе поддержку в природном запасе дикости,
присущем человеку, даже поднятому на исключительную высоту,
это еще не так плохо. Лучше роковые личности, творящие прогресс
с примесью властолюбия и жестокости, чем обманщики, увлекаю-
щие людей призраком счастья на небе, чтобы покрепче привязать
их к своим земным интересам. Так рассуждает Вольтер.
Он является подлинным создателем теории всемирно-историче-
ских личностей, принятой Гегелем. В философии истории Гегеля
Эти воплощения мирового духа противостоят массе простых людей,
способных только поддерживать сложившийся ход вещей (erhaltende
Individuen). «Опыт о нравах» Вольтера содержит первое обобщение
Этого исторического феномена, который не может рассеяться оттого,
что мы будем повторять как магическое заклинание: историю дела-
ют не отдельные личности, а масса. Если судьба массы сосредото-
чена в жизни и смерти отдельной личности, как судьба пчелиного
роя в матке, то перед нами не простая ошибка или недомыслие, а
такое же объективное явление, как любое другое звено необходимой
цепи всех событий этого мира.
Вольтер преувеличил роль личности в истории — в известном
смысле это так, но этого недостаточно. Точнее было бы сказать,
что он верно или приблизительно верно изобразил преувеличенную
роль личности в истории — той личности, которая воплощает от-
чужденные силы общества и часто несет на себе отпечаток харизмы,
иррациональной благодати, согласно терминологии, принятой в со-
циологической литературе со времен Трёльча и Макса Вебера. Ра-
зумеется, это явление, эта смесь величия и мессианизма, освящаю-
щего собственные поступки, вплоть до сознания вседозволенности
на достигнутой высоте («гений нуждается в оргии»,— сказал Баль-
зак), это одиночество героя среди громадной толпы не является
полной истиной, а только одной из ее сторон, с особенной яркостью
выступающей там, где сама история идет трансцендентным путем,
по ту сторону воли и сознания людей, ценой погашения множества
средних человеческих индивидуальностей. Фатальный оттенок в
образе выдающейся личности есть метастаз раковой опухоли ста-
406 Рого общества — глубоко сидящего в нем общественного неравен-
ства людей.
Вольтер чувствует сложность вопроса и защищается от нее своим
пирронизмом, то есть воздержанием от окончательной оценки там,
где всемирно-историческая личность возникает перед нами в своих
пугающих ум противоречиях. Но пирронизма в таких случаях недо-
статочно, и Вольтер вынужден отчасти вернуться к старой мета-
физике. Его суждения о духовных способностях династов катего-
ричны, по крайней мере в таких формальных измерениях, как «ум-
ный» и «глупый», а эти качества имеют в его глазах решающее
влияние на дух самого народа. Форма господствует над материей.
Вольтер всегда защищал значение мирного труда обыкновенных
людей, способных нести на своем горбу всю тяжесть исторического
процесса, но он видит в них только пассивный материал для воз-
действия сверху, как бы всесильного.
Се n’est point le climat qui fait ce que nous sommes.
Pierre etait createur, il a forme des homines.
Tu formes des heros... Ce sont les souverains,
Qui font le caractere et les mceurs des humains.
Так пишет Вольтер в послании, обращенном к Екатерине II
(1771): «Не климат делает нас такими, какие мы есть. Петр был
творцом, он формировал людей. Ты создаешь героев... Своим ха-
рактером и своими нравами смертные обязаны государям». Трудно
выразить более определенно доктрину XVIII века — не столько
правительство зависит от народа, сколько народ от правительства.
Масса похожа на тесто, из которого хороший повар может лепить
все, что угодно. Впоследствии немецкое умственное движение, вклю-
чая сюда и Гердера, и романтиков, и Гегеля (разумеется, в каждом
случае на свой особенный лад), изменило это отношение народа и
власти, выдвинув на первый план идею народности, но не всегда и
не во всем в пользу истины.
Тезис Вольтера — своим характером и своими нравами смертные
обязаны государям — в целом, разумеется, несправедлив. Но бы-
вают моменты и даже отдельные продолжительные периоды, когда
это кажется очень похожим на правду. Эпоха абсолютной монархии
была именно такова. Все казалось бессильным перед волей государя
и зависящим от того, в какую сторону она направлена. Можно ска-
зать, что Вольтер заблуждался, что он был идеалистом не только
в своих общих надеждах на спасение, идущее сверху, но и в своей
лести правителям, рассчитанной на то, чтобы внушить им более
возвышенное представление об их долге перед народом. «Дожидай-
ся!»— сказал ерш карасю в сказке Щедрина. Но нельзя забывать
объективную ситуацию, нашедшую себе отражение в литературной
деятельности Вольтера. То было время, когда мысль о сознатель-
ной революции снизу еще не отделилась от картины слепого бунта,
и единственной сферой свободного выбора, не вполне зависимой от
фатальной цепи причин, казалась та вознесенная над миром сцени-
ческая площадка, на которой двигались вожди и герои.
В «Опыте о нравах» мы читаем: «Почти ничего великого не со-
вершалось в мире другим путем, чем благодаря гению и решимости
одного человека, борющегося против предрассудков толпы». Воль-
тер прибавил к этому месту на полях своего экземпляра: «Или вну-
шающего их ей». Это прибавление очень существенно, оно выражает
особенность точки зрения Вольтера. Ибо при всем его желании
найти точку схода идеального и реального если не в народном дви-
жении, то хотя бы в деятельности выдающейся личности, он всегда
возвращается к столкновению двух начал. И этот конфликт по
необходимости носит у него абстрактный характер, лишенный диа-
лектических посредствующих звеньев, еще не обозначенных самой
историей. Добрые и просвещенные властители основывают акаде-
мии, злые и жестокие разоряют подвластные им народы и сами ока-
зываются рабами своей судьбы.
Пассивность народных масс есть для Вольтера бесспорный исто-
рический факт, так же как склонность простого народа к диким
вспышкам слепого фанатизма, нарушающим время от времени раб-
ский порядок вещей. Но такое тождество крайностей не является
с его точки зрения нормой прогресса, его идеалом. Среди немногих
положительных героев «Опыта о нравах» первое место принадлежит
тем благородным людям, которые стремились поднять сознание
народа — единственное, что может сделать его способным к само-
стоятельной роли. «Подлинные благодетели человечества — это те,
кто рассеивает его заблуждения». Вот почему мудрого Конфуция
следует предпочесть пламенному Магомету. Последний также опи-
сан Вольтером как выдающийся человек. Но этот человек, согласно
Вольтеру, заметил легковерие своих современников и постарался
внушить им новые заблуждения, чтобы вести их за собой.
При всей светотени идеального и реального, заметной в харизме
великих людей, здесь, на вершине своей философии истории, Воль-
тер проводит важное внутреннее различие. Он знает, что успех
оправдывает любое насилие, но сам не является «жрецом минутного,
поклонником успеха» и далек от двойственной формулы немецкой
философии: сила есть право, и право есть сила. Он недвусмысленно
407
отдает предпочтение справедливости перед силой, хотя за вычетом
узурпации узурпаторов, то есть кары за нарушение чужого права,
ему остается только надежда на разум, понимающий законы приро-
ды, а этот разум в его противостоянии фатальному ходу истории,
эмбриогении жизни, по выражению Герцена, является только до-
стоянием отдельных, на этот раз действительно исключительных
личностей. С особенной теплотой отзывается Вольтер о царях-про-
светителях, как Альфред Великий. Описывая его образованность,
его заботу о благе народа, он оканчивает свою тираду словами: «Ис-
тория, которая ни в чем не может его упрекнуть, ни в слабости, ни
в каких-нибудь недостатках, ставит его в первый ряд героев, полез-
ных человеческому роду, который без этих исключительных людей
был бы похож на стадо диких животных».
408 Напротив, у глупого и жестокого господина подданные также
лишены всякого дарования:
Si le prince est un sot, le peuple est sans genie,
пишет Вольтер в том же стихотворном послании. Примером короля,
унизившего Францию, является для него Людовик XL Даже успе-
хи этого хитрого политика в объединении страны не подкупают
Вольтера. «Предшествующие времена создали нравы надменные и
варварские, среди которых временами блистали искры героизма.
Царствование Карла VII имело... своих магистратов высокого до-
стоинства. При Людовике XI — ни одного великого человека. Он
опошлил нацию. В ней не было больше ни тени добродетели. Под-
чинение заменило все, и народ в конце концов стал спокоен, как
каторжники на своей галере».
Такой приговор кажется устаревшей точкой зрения просветите-
ля. Мог ли один дурной человек так испортить целый народ? Од-
нако в наблюдении Вольтера есть зерно истины. Господа приходят
и уходят, а народ остается, но они приходят не по капризу случая,
и когда приходят в силу развития тех всеобщих сил, которые нуж-
даются в определенных характерах, часто весьма посредственных,
то от них уже нелегко отделаться. Примеров особого отпечатка, на-
ложенного на свое время определенной личностью, независимо от
ее нравственных достоинств и дарований, в истории было немало.
Если Вольтер везде предпочитает средневековой анархии «вкус
к порядку», то он заметил все же, что времена анархии способству-
ют героизму. Среди прочих примеров, которые можно было бы
привести, отметим его сочувственное отношение к восстанию укра-
инских казаков против Польши. Когда паны хотели превратить не-
которых казаков в своих крепостных, это привело к неожиданным
результатам. «Вся нация, у которой не было ничего, кроме свободы,
поднялась, как один человек, и долго разоряла польские земли».
Хотя Вольтер пишет об условиях жизни этих героических времен
без всякого энтузиазма, его «Опыт о нравах» не является книгой,
написанной в защиту мертвого порядка, навязанного сверху, даже
если этот порядок кажется более рациональным, чем хаотическая
стихия. Он желал бы просвещенного единовластия, способного обуз-
дать претензии знати и чиновников, но умеющего опираться на со-
знательное и живое сочувствие народа. Прекрасная мечта о един-
стве общественной воли в одном лице, но, увы — большей частью
только мечта! И потому, утомленный созерцанием драматической
истории героев первого плана, хороших и злых, но в конце концов
равно бессильных предотвратить странности судьбы, взор Вольтера
обращается к провозглашенной им главной задаче истинного фило-
софа— истории культуры. Чтобы там ни было, при всех феериче-
ских зрелищах, возникающих над согнутыми спинами людей и таю-
щих в эфире борьбы за власть, земледелие, торговля, промышлен-
ность, научные открытия, искусство должны идти своим путем.
Подобно тому как в политической области, несмотря на все свои
авансы просвещенному деспотизму, Вольтер питает особое влечение
к немногим эпохам подъема непосредственной демократии, освобо-
дительной борьбы народов, так, говоря о завоеваниях искусств и
наук, он подчеркивает, что культура может развиваться без вся-
кого покровительства сверху. По поводу расцвета искусства в Ита-
лии эпохи Возрождения (эти страницы «Опыта о нравах» написаны
с особым сочувствием) Вольтер заметил, что в лице Чимабуэ жи-
вопись поднялась из прежнего рабства без всякой помощи. Тоскан-
цы создали свои великие новшества в поэзии, музыке и архитектуре
одним лишь собственным гением. Флоренция стала новыми Афи-
нами. «Может показаться странным, что столько великих гениев
возникло в Италии без покровительства и без образца, среди меж-
доусобиц и войн. Однако Лукреций у римлян создал свою прекрас-
ную поэму «О природе», Вергилий написал свои «Буколики», а Ци-
церон — свои философские сочинения среди ужасов гражданской
войны. Когда язык начинает принимать определенную форму, он
становится инструментом, который великие художники находят уже
в готовом виде и которым они пользуются, не заботясь о том, кто
правит миром и кто чинит в нем всякие беспорядки». Здесь слышен
отзвук новой мысли Вольтера, растущей у него после возвращения
из Пруссии, точнее, старой мысли французских писателей эпохи
Возрождения — невзирая на политические бури, смены правителей
и систем будем возделывать наш сад.
«Нужно много веков, чтобы человеческое общество усовершен-
ствовалось». А пока этого нет, мысль Вольтера чувствует себя как
дома только там, где речь идет о великих деятелях культуры, фи-
лософах и ученых, писателях и художниках. «Опыт о нравах» со-
держит первое обобщение той продуктивной деятельности, которую
Маркс назвал свободным духовным творчеством определенной эпо-
хи в отличие от идеологических составных частей господствующих
классов, и это обобщение само по себе представляет важный шаг
истории культуры. Существование незаурядных личностей, способ-
ных бескорыстно, хотя и с примесью тех или других человеческих
страстей, развивать высшие формы культуры — непростой вопрос.
Почему эти исключения, выходящие за пределы круговорота мате-
409
рии и силы, бывают в нашем мире, где все подчиняется фатальной
цепи причин,— Вольтер прямо на говорит. Он исходит из предпо-
ложения, что свободный выбор есть, не углубляясь в то, что опреде-
ляет его возможность и границы.
Мы видели, что существует разница между хорошими и дурны-
ми господами, исключительными личностями, полезными челове-
ческому роду, как Альфред Великий, и хищными узурпаторами.
Вольтер неизменно стремится развеять сияние славы вокруг чела
какого-нибудь коронованного разбойника. От просвещенных царей
мало отличаются в его изложении великие художники и ученые. Это
тоже своего рода цари на троне культуры, и та же мегалопсихия
возносит их над массой обыкновенных смертных. Великие люди слу-
жат народу, сохраняя при этом дистанцию, необходимую для того,
4IQ чтобы толпа не растоптала их на горе самой себе.
Впоследствии эта картина олимпийской семьи великих людей
превратилась в иллюзию обыденного сознания, но даже в форме ба-
нальности она выражает некоторые реальные признаки классовой
цивилизации, создающие то, что можно назвать отчуждением все-
мирно-исторической личности. Отсюда, как уже говорилось выше,
эти причудливые, как бы сверхчеловеческие черты и трудные харак-
теры людей выдающейся судьбы, поражающие ученую посредствен-
ность и вызывающие всякие толки, часто неодобрительные. Это
относится, собственно, и к самому Вольтеру. Он не убивал царевича
Алексея, но, для того чтобы понять некоторые особенности его ха-
рактера, его собственной «дьявольщины)», также потребен извест-
ный пирронизм.
12
Влияние «Опыта о нравах» на теорию личности Гегеля очевид-
но. Тем не менее разница очень велика, и она не всегда в пользу
Гегеля. На первый взгляд кажется, что у Вольтера пафос дистанции
между протагонистами мировой истории и сплоченной толпой по-
средственностей, поддерживающих обычное течение жизни, но не-
способных к самостоятельному историческому творчеству, больше,
чем у Гегеля. Под впечатлением великого общественного подъема
французской революции и удивительной судьбы выдвинутых ею
главным образом на поле брани талантливых представителей воль-
теровского простонародья, Гегель в широкой исторической перспек-
тиве рисует единство личности и народа. Великие люди представ-
ляются ему уже не благодетелями человечества, несущими массам
семена разума, взращенные ими в теплицах просвещения. Это преж-
де всего практические деятели, меняющие облик мира посредством
военных побед и внутренней политики, основанной на необходимо-
сти осуществления идей, принадлежащих всем, но принадлежащих
им бессознательно, пока всемирно-историческая личность не объяс-
нит большинству, что ему нужно и в чем состоит его собственная
воля.
У Вольтера великий человек является носителем всеобщей ра-
зумности природы, подчиняющей себе центробежные силы матери-
альных интересов и страстей. У Гегеля всеобщее присутствует в
реальном мире сил, и раздвоение совершается именно в нем.
Не только люди делятся на грубую толпу рабов судьбы и светлые
умы, способные думать о благе других. Само всеобщее начало, вдох-
новляющее человека в его поступках, имеет два лица. С одной сто-
роны— оно есть то, что есть, и приняло уже законченную, косную
форму; с другой стороны — то, что только возможно, но представ-
ляет собой более широкий принцип, зреющий подспудно и требую-
щий воплощения в жизнь. Великий человек играет роль посредни-
ка. Сила его в том, что он способен «узреть», постигнуть сквозь
внешнюю скорлупу бытия всеобщее другого рода, отрицающее си-
стему дня ради истины будущего. Вступая в конфликт с тради-
ционной формой жизни, он навлекает на себя вину и несчастье.
По тем или другим причинам ему приходится уйти слишком
рано, герои долго не живут — зато их дело непобедимо. Другие объ-
единяются вокруг их знамени и должны подчиниться им во имя
победы нового.
Нельзя не признать, что из простой мелодии Вольтера, изло-
женной в рассудительном духе XVIII века, Гегель сделал грандиоз-
ную историческую поэму. Его великий человек — это революционер,
ломающий устаревшую форму жизни сильными средствами, освя-
щенными новым принципом, который он должен воплотить в дру-
гую жизнь. Пирронизм вольтеровской истории, то есть воздержа-
ние от морального суда над великими личностями, переходит у
Гегеля в полемику против мещанской зависти ко всему высокому,
против мнимой объективности ничтожества, роющегося в грязном
белье выдающегося человека. Нет героя для камердинера, гласит
французская поговорка. Не потому, прибавил Гегель, что герой —
это обыкновенный человек, и если заглянуть поглубже в скрытые
мотивы его деятельности и тайны его частной жизни, он такой же,
как все, а потому что камердинер — только камердинер. Вслед за
Гегелем его слова повторил Гёте.
Теория личности Гегеля имела громадный отзвук в марксист-
ской литературе, но не во всем это влияние равноценно. Гегель
пошел дальше Вольтера, ибо для всякого просветителя революция
сверху только благодеяние доброго и философски мыслящего госу-
даря. Напротив, у Гегеля великий человек действует как бы по до-
верию народных масс, от их имени, выражая их собственные по-
требности, еще не понятые ими. Он становится воплощением общей
вали Руссо. Но мы знаем из самого Руссо, что общая воля не обя-
зательно совпадает с волей всех, и провести ее в жизнь бывает не-
обходимо даже против этой суммы разрозненных воль. Вольтеров-
ская дистанция между разумом и толпой есть и здесь.
Под впечатлением диктатуры якобинцев и бонапартизма, двух
важных политических событий его времени, Гегель развил эту
мысль, не порывая, однако, с кругозором писателей XVIII века,
411
поскольку его всемирно-историческая личность в конце концов так-
же осуществляет революцию сверху, действуя во имя будущего
мира, необходимого всем и втайне ими желаемого. Общая воля, твер-
до выраженная волей одного, не только отличается у Гегеля от воли
всех, воплощенной в рутине жизни, которую эти одномерные чело-
веки (по терминологии современного философа) практически под-
держивают, но и находится с ней в явном противоречии. Великие
люди эгоцентричны. «В первую очередь, эти индивиды удовлетво-
ряют себя. Они действуют вовсе не для того, чтобы удовлетворить
других. Если бы они стремились к этому, у них было бы слишком
много хлопот; потому что другие не знают ни того, чего хочет вре-
мя, ни того, чего они сами хотят. Однако противостоять этим все-
мирно-историческим индивидам — безнадежное занятие. Что-то
412 непреодолимое заставляет других стремиться к осуществлению их
дела. Какая-то сила, имеющая власть над ними, действует в них,
если даже она кажется им внешней и чуждой и если она выступает
против мнимых движений их собственной воли».
В таких сильных выражениях рисует Гегель непреодолимое гип-
нотическое действие воли великого человека на окружающих. Здесь
дело не в убеждении, не в логических аргументах, не в просвещении
масс. Успех просветительных речей кажется немецкому мыслителю
еще менее обеспеченным, чем Вольтеру. Насколько философия Ге-
геля сближает деятельность великого человека с массовым фоном
истории, настолько же она удаляет эту исключительную личность
от рассудочно мыслящей толпы обыкновенных людей, окружая ее
мистическим ореолом. Явление разума в истории не лишено у Геге-
ля иррационального оттенка, как это заметили историки философии
определенного направления, начиная с Рихарда Кронера.
В изображении великого немецкого философа революционный
вождь ведет своих последователей вперед вопреки сопротивлению
всей массы обыкновенных людей, которые в борьбе нового против
старого остаются консервативными обывателями. Бакунин, Лассаль,
Штирнер и другие вдохновители анархизма вплоть до теоретиков
движения «новых левых» и прочих разносчиков современной мифо-
логии, в которой герои трагически гибнут, столкнувшись с тупым
конформизмом масс, чтобы их творческие идеи могли торжествовать
после смерти этих новаторов, в определенном отношении ближе
к Гегелю, чем марксизм. Однако какими бы сильными средствами
ни проводили новаторы общую волю, будь это бомбы или только
искусство шока, то есть какие-нибудь экстравагантные фокусы оди-
чавшего вкуса, борцы против косной традиции не могут просто
командовать массами. При всей своей авангардной роли они долж-
ны рассчитывать на сочувствие некоторой части двуногих, иметь за
собой известную поддержку со стороны воли всех, иначе их пред-
приятие превратится в трагикомический спектакль, развлекающий
узурпаторов. Так это, впрочем, часто и бывает.
Что касается Гегеля, то его всемирно-исторический индивид — не
простой отрицатель старого, не истерик, жаждущий гибели во имя
свободы. Как ни толкуй его философию, Гегель остается великим
диалектическим умом и не может довольствоваться абстрактной
схемой столкновения двух всеобщностей — нового и старого. По-
скольку же этот конфликт действительно принимает форму резкой
противоположности, Гегель рассматривает ее как преходящий мо-
мент исторического движения, стараясь найти более конкретное ре-
шение вопроса. Он понимает, что разрыв с рутинными индивидами
еще не делает личность более значительной. «Ибо все, что откло-
няется от существующего порядка вещей,— пишет Гегель,— наме-
рения, цели, мнения, так называемые идеалы—все это равно отли-
чается от того, что есть. Всевозможные авантюристы имеют подоб-
ные идеалы, и деятельность их восходит к таким представлениям,
которые находятся в полном разладе с существующими условиями.
Однако то обстоятельство, что эти представления, добрые намере-
ния, всеобщие принципы отличаются от существующего, еще нс
оправдывает их».
Где же разница? Как отличить тот конфликт с рутинными инди-
видами, в который вступает всемирно-историческая личность, от
простого авантюризма? Фантазеры и Дон-Кихоты также могут
иметь свои идеалы и самые лучшие намерения. Разница, по словам
Гегеля, определяется содержанием этих идеалов и целей — «всемир-
но-исторические индивиды суть те, которые желали и осуществили
не что-нибудь воображаемое, мнимое, а верное и необходимое». Это.
разумеется, так, и это отделяет диалектическое мышление от любого
авангардизма, считающего формальную новизну признаком истины.
Но этого еще недостаточно, ибо простое требование истины, без
всяких посредствующих исторических звеньев, может вернуть нас
к ситуации Вольтера. Мы уже знаем, что громадное расстояние
между передовой общественной мыслью, владеющей светом истины,
и темной силой массового сознания, ограниченного господствующим
порядком жизни, нередко вело его от исторического оптимизма к
полному отчаянию. У Гегеля всемирно-историческая личность не
так абстрактна, как идеальный тип эпохи Просвещения. Она высту-
пает в союзе с конкретной реальностью жизни против отвлеченных
идеалов. Но союз с массами не становится требованием этого
реализма, так как, согласно философии истории Гегеля, они состоят
из рутинных индивидов.
Что же такое реализм великого человека на вершине его одино-
чества? Чтобы понять Гегеля, нужно обратиться к примерам, пояс-
няющим эту мысль. Здесь опять на помощь философу приходит
тень Юлия Цезаря в сопровождении двух других всемирно-истори-
ческих индивидов, имеющих нечто общее с римским диктатором,—
Александра Македонского и Наполеона. Эти люди были револю-
ционерами, действующими вместо революции и даже против нее.
Они, бесспорно, ломали определенные формы жизни, сложившиеся
до них и утратившие свое оправдание, они вступили в конфликт
с рутиной, но во имя чего? Образцом конкретного деятеля, непо-
хожего на авантюристов и фантазеров, имеющих так называемые
413
идеалы, является у Гегеля тот же Цезарь. Его историческая миссия
состояла в том, чтобы упразднить республику. «Если бы он дер-
жался с Цицероном,— пишет Гегель,— из него ровно ничего бы не
вышло. Цезарь знал, что республика есть ложь, что Цицерон бол-
тает пустое и что на место этой опустошенной формы должна быть
поставлена другая». Цицерон выступает здесь в роли одного из тех
«идеологов», наследников французского Просвещения, которых тер-
петь не мог Наполеон.
Во времена Цицерона Римская республика действительно стала
ложью; эти слова отвечают историческим фактам. Республика уми-
рала в безнадежной междоусобице старой и новой знати, неспособ-
ная обеспечить интересы римского простонародья, привести в поря-
док сложную систему гражданских прав, приобщить к единому го-
414 сударственному порядку провинции. Однако Гегель не приводит ни
одного случая, в котором республика была бы не ложью, а истиной,
и если бы все же он привел, например, деятельность Перикла, что
для него вполне возможно, то, согласно своей теории всемирно-ис-
торических индивидов, он должен был бы подчеркнуть самовластие
вождя Афинской республики. Ибо тип личного величия, описанный
Гегелем в тоне трагического апофеоза, имеет своей основой дерзкое
упразднение выродившейся и лицемерной демократии человеком
сильной воли и беспощадного расчета. «Цезарь должен был осу-
ществить необходимое и покончить с прогнившей свободой; сам он
погиб в этой борьбе, и все же необходимое осталось: в соответствии
с идеей свобода пала под натиском происходившего».
Вот какой поворот принимает у Гегеля революционная роль все-
мирно-исторической личности, поскольку она стремится не к осу-
ществлению воображаемого — пустых цицероновских или вообще
идеологических фраз о правах гражданина и человека,— но дейст-
вует в соответствии с истинным и необходимым содержанием, кото-
рое не противоречит реальности, а слито с ней в единстве конкрет-
ного. При всей решительности своего характера по сравнению, на-
пример, с осторожным и более традиционно настроенным
Августом, Цезарь не был авантюристом или идеологом. Он был
реальным политиком, то есть стремился к осуществлению историче-
ски необходимого общественного содержания, не подрывая устои
Римского государства, в основе которого, как это признал четыре
века спустя христианский мыслитель Аврелий Августин, лежал за-
кон шайки разбойников.
Не следует торопиться, подозревая Гегеля в реакционных по-
ползновениях. Реальная политика исторических деятелей, прези-
рающих болтовню Цицеронов и прочих идеологов, начиная с вели-
кого оратора древности Демосфена, может иметь прогрессивное
содержание, несмотря на то что она осуществляется совсем не про-
грессивными методами. Но в ней всегда налицо объективная двой-
ственность, возможная только до поры до времени, в некотором
исторически «взвешенном» состоянии. Такова, например, реальная
политика бонапартизма. Рано или поздно внутренняя нескладица
прогрессивного движения, облеченного в форму автократии и осу-
ществляемого такими методами, которые заменяют «прогнившую
свободу» не широкой массовой самодеятельностью, а демократией
всеобщего рабства, должна выйти наружу, прогрессивное содержа-
ние будет утрачено, трагедия превратится в фарс, и процесс гниения
усилится — либо общество найдет другой выход из кризиса, отсро-
ченного только на время. Маркс показал эту эволюцию на примере
французской истории от генерала Бонапарта до Наполеона III.
Мы уже знаем, что главный недостаток гегелевского перехода
от абстракции формальной демократии к политической конкретно-
сти состоит в том, что само конкретное у него еще слишком фор-
мально и абстрактно, хотя иначе, не по Цицерону. Диалектическое
раздвоение единого проведено здесь недостаточно полно, что, впро-
чем, отвечает объективной неясности эпохи, ибо фатальный харак-
тер описанного Гегелем отсутствия выбора и двуликости выра-
жающих этот факт всемирно-исторических деятелей сохраняется
часто десятилетия, столетия, а в масштабе всей человеческой исто-
рии даже тысячелетия. Вольтер нашел бы у Гегеля явный отзвук
старой легенды о неизбежности страдания на земле. Но в филосо-
фии Гегеля эта тень ложится уже на глубокое историческое пони-
мание противоречий общественного процесса. Он близок к рево-
люционной диалектике, не хватает одного шага — впрочем, такого
шага, который привел бы к полному отказу от исторического идеа-
лизма.
В самом деле, у Гегеля всеобщее раздваивается на устаревшую
систему жизни и более передовое, более всеобщее начало будущего.
Это важный шаг в приближении к исторической конкретности. Но
для Гегеля всеобщее будущего само по себе бесплотно. Оно сопри-
касается, правда, с человеческим материалом, но только в одной
точке — реальной личности великого человека, способного разгадать
загадку сфинкса. История делается его руками. Он человек, у него
есть свои интересы и личные страсти, он погибает в непосильной
борьбе, хотя дело его продолжает жить. В чем же секрет этой
устойчивости? Дело великого человека продолжает жить, не потому
что оно прочно вошло в быт, привычки, личную деятельность мно-
жества людей, так что его уже никакими силами не повернешь на-
зад, а потому что оно осталось вне этой реальной среды, в полной
чистоте.
Свое отношение к дистанции между разумом истории и ее
материальной природой Гегель выразил следующими словами:
«Частное в большей своей доле незначительно перед лицом всеобще-
го, индивиды приносятся в жертву и лишены всякой защиты. Идея
платит дань наличному бытию и всему преходящему не за свой
счет, а за счет страстей индивидов». Таким образом, Гегель гипо-
стазирует, превращает в гигантскую тень всеобщего то расстояние
между универсальным разумом и несчастным, темным, не знающим
своей истинной роли человеком, которое достаточно велико уже
у Вольтера. Всеобщее будущего, всеобщее другого рода пользуется
415
для своего осуществления силами человека, но само остается вне
игры.
На деле это странное существо, именуемое всеобщим, не так не-
винно и не так свободно от всякой ответственности за действитель-
ный ход событий в нашем мире, как думал немецкий философ. Сво-
бодное от всяких пятен, имеющее свое пребывание вне материаль-
ной, физической среды, вне человеческих интересов и страстей, оно
есть не более, чем поэтическая фикция старого идеализма. Если же
за этим словом скрывается что-то реальное, его нельзя отделить от
всего происходящего, оно не существует вне наличного бытия и
потому несет свою долю ответственности за то, как сложится облик
мира, включая вопрос о том, достанется ли осуществленное в нем
необходимое и верное людям большой или малой кровью. Не может
416 быть вполне необходимым и верным то, что требует бессмысленного
расточения сил, поскольку само понятие смысла взято человеческим
разумом из окружающей его грешной действительности.
Известна гегелевская мысль о хитрости разума, который поль-
зуется борьбой людей для осуществления неведомых им расчетов,
оправданных в масштабе всемирной истории. Это глубокая, но су-
ровая мысль, вера в будущее, купленная дорогой ценой. Однако в
своих расчетах, слишком далеких от непосредственной жизни людей,
разум может перехитрить самого себя, и тогда цена станет слишком
велика. Ибо вопреки исторической философии Гегеля всеобщее пла-
тит дань не только за счет человеческих страстей и жертв, в кото-
рых оно, по словам Гегеля, не стесняется. Оно само может выиграть
или проиграть в этой игре.
Если общественное развитие слишком долго идет своим осо-
бым, таинственным и обратным путем, за спиной людей, сплачивая
их силой разъединения и освобождая посредством еще большего
рабства, приобщая их даже к благам культуры без их собственного
активного участия и понимания, оно создает растущую дистрофию
разума в истории. И эта отрицательная величина может накапли-
ваться, как углекислый газ в атмосфере. Если общая воля осуществ-
ляется вопреки воле всех, это бывает необходимо, как доказывал
уже великий демократ Руссо, но это не безразлично для нее самой.
Внутреннее несоответствие дает себя знать, и то необходимое, то
верное, что должно стать реальностью, отодвигается все дальше и
дальше в неясное будущее, пока ценою новых жертв и постоянного
повторения нерешенных задач два полюса общественной воли не
сойдутся и пока абстракция нового не перейдет в жизнь, плоть и
кровь людей, их собственное желание, привычку миллионов.
Теория хитрости разума — не пустая фантазия. Когда на исходе
грандиозного по тем временам спектакля французской революции
громадные массы людей были охвачены разочарованием в ее ре-
зультатах, «мировой скорбью», возрождением религиозных чувств
и другими ретроградными настроениями, эта теория стала единст-
венным прибежищем исторического оптимизма. Она давала некото-
рое объяснение тому морю зла, которое залило европейский мир
в результате освобождения экономических сил, скованных старым
режимом. Взамен утраченных иллюзий она открыла людям глаза на
реальный прогресс, обязанный своей быстротой лихорадочному
взрыву частных интересов и страстей, казавшихся надругательством
над священными идеалами века Разума. И философия Гегеля стала
зеркалом этой исторической диалектики, но вместе с тем и зеркалом
таившейся в ней объективной неясности. Разум открылся миру в
самой неразумной форме.
Гегель прочел в этой форме последнее слово истории, ее абсо-
лютный смысл. Все остальное для него — нечто воображаемое, ци-
цероново красноречие. Всеобщее начало человеческой жизни долж-
но обрасти живой плотью интересов и страстей, иначе оно останется
в сфере идеологии, презираемой таким человеком дела, как Напо-
леон, и ему подобными. Печально, что конкретность этой мысли не 417
доведена Гегелем до критической черты. Всеобщее не соединилось
в его изложении с человеческим материалом вплотную, до отказа.
И в эту щель проникает гной старого классового мира. Посредством
общей схемы конкретного понятия Гегель доказывает, например,
логическую необходимость наследственной монархии. Ведь общее
начало должно иметь своей реальностью плоть и кровь; идея сли-
вается с человеческим существом в нечто особенное, das Besondere,
так что даже производя наследника престола король совершает все-
мирно-исторический акт.
Все традиционное в самом темном и заскорузлом его выражении
приобретает, таким образом, новый блеск, все новое должно усвоить
прадедовские манеры старого — иначе оно не удержится на поверх-
ности земли и растает в голубом небе, как республиканские фразы
противников Цезаря — то есть нечто воображаемое, так называемые
идеалы. Всеобщее Гегеля сначала раскалывается надвое, потом соче-
тается вновь таким образом, что его авангард, всеобщее другого
рода, должно купить себе право на осуществление, вернувшись, по
крайней мере отчасти, к отвергнутой системе вчерашнего дня, пола-
див с ней. Собственно, Гегель только описывает практический ход
событий своей эпохи, дух реставрации, заметный уже у наследника
революционного терроризма Наполеона, каким считал его Карл
Маркс. Относительное и временное равновесие переходного времени
превращается в закон мироздания.
Но где написано, что плоть и кровь реальности может напол-
ниться всеобщим содержанием только одним-единственным спосо-
бом, а именно так, как совершалась прежняя история со всеми ее
глупостями и преступлениями, описанными Вольтером? Ведь в
рамках этой истории также бывали моменты симфонии, не только
какофонии противоположностей — всеобщего подъема и непосредст-
венной жизни людей, их малых человеческих целей и побуждений.
Не существует гарантии тысячелетнего царства разума на земле, но
нет и никаких причин утверждать, что будущее человеческих об-
ществ, всеобщее другого рода должно повторить крестный путь
прежней истории с ее бесчисленными страданиями лишенных защи-
ты людей, ее жестокой реальностью. Сама реализация разума в
истории, провозглашенная Гегелем, также требует дальнейших уточ-
нений.
История делит жизнь на два потока — старое и новое, всеобщее
законченных систем и всеобщее другого рода, но это последнее в
свою очередь делится на два типа нового, два типа прогресса. Ибо
всеобщее другого рода может войти в жизнь потусторонним и от-
чужденным путем, не отвечающим его собственному понятию, когда
человеческий материал становится только перегноем для новых
зигзагов всемирной истории, выгодных новому меньшинству, или
другим путем, пробуждающим неисчерпаемые силы миллионов лю-
дей, удовлетворенных своим трудом, своим непосредственным уча-
стием в историческом творчестве без традиционного подчинения
418 реальной политике узурпаторов. Здесь голос Вольтера слышится
громче прежнего. Само возникновение революционного марксизма
в середине прошлого века было бы невозможно без известного об-
ращения к вольтеровой метафизике, которая, разумеется, не мо-
жет быть поправкой к диалектике Гегеля, но остается напоминанием
о том, что еще более высокая конкретность мышления (после всех
тождеств и переходов из одной противоположности в другую) ведет
к недвусмысленной определенности последнего выбора.
Теория хитрости разума оттеснила на задний план второй закон
природы Вольтера. Однако более сложным путем, чем у просветите-
лей, этот закон все же осуществляется. Герои французской револю-
ции не знали, что они только расчищают дорогу Гобсекам и Тайе-
ферам Бальзака. А эти финансовые воротилы буржуазного мира,
возникшего из крови и грязи великой эпохи, в свою очередь не зна-
ли, что они создают основы капитализма, в недрах которого уже
созревает новый, еще более глубокий социальный переворот, самая
грозная узурпация узурпаторов.
13
Пушкин нашел, что деловая переписка Вольтера с президентом
де Броссом, в которой творец «Меропы» и «Кандида» выступает
как будущий помещик, рисует Вольтера с его «милой стороны». Но
даже Пушкин отзывается о сношениях Вольтера с прусским коро-
лем неодобрительно. В одной рецензии из «Современника» за
1836 год мы читаем: «Вся эта жалкая история мало приносит чести
философии. Вольтер, во все течение долгой своей жизни, никогда
не умел сохранить своего собственного достоинства. В его молодости
заключение в Бастилию, изгнание и преследование не могли при-
влечь на его особу сострадания и сочувствия, в которых почти ни-
когда не отказывали страждущему таланту. Наперсник государей,
идол Европы, первый писатель своего века, предводитель умов и
современного мнения, Вольтер и в старости не привлекал уважения
к своим сединам: лавры, их покрывающие, были обрызганы грязью.
Клевета, преследующая знаменитость, но всегда уничтожающаяся
перед лицом истины, вопреки общему закону, для него не исчезала,
ибо была всегда праводоподобна. Он не имел самоуважения и не
чувствовал необходимости в уважении людей. Что влекло его в
Берлин? Зачем ему было променивать свою независимость на свое-
нравные милости государя, ему чужого, не имевшего никакого пра-
ва его к тому принудить?..»
Следуя за издателем писем Вольтера, Пушкин готов даже от-
дать предпочтение Фридриху в его своенравной немилости, обру-
шившейся на Вольтера. «Что из этого заключить? что гений имеет
свои слабости, которые утешают посредственность, но печалят бла-
городные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества; что
настоящее место писателя есть его ученый кабинет и что, наконец,
независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мело-
чами жизни и над бурями судьбы».
Нетрудно заметить, что в этих словах великого поэта содер-
жится как бы укор самому себе. Ему самому пришлось вступить на
скользкий путь придворной жизни, покинув свой ученый кабинет
ради света, который он презирал и который не простил ему этого
презрения. За год до смерти, когда были написаны строки о Воль-
тере, Пушкин уже стоял на пороге самых глубоких унижений, свя-
занных с непосредственной зависимостью от царя и его сановников.
Но если личное содержание заметки Пушкина о Вольтере дей-
ствительно таково, то мысль, выраженная в ней, является ее
собственным опровержением. Эту игру ума, этот упрек творцу «Ме-
ропы» и «Кандида», делающий его примером несовершенства чело-
вечества, нельзя понимать буквально, в слишком прямом житейском
смысле. Зачем покинул Вольтер свой кабинет ученого? Вопрос ри-
торический. Зачем же сам Пушкин писал свою записку «О народ-
ном воспитании», которую граф Бенкендорф назвал «заметками
человека, возвращающегося к здравому смыслу»? Зачем писал он
стихи, обращенные к Николаю I, которые Вяземский называл «ши-
нельными»? Зачем приблизился к трону Романовых слишком близ-
ко для своего дворянского и человеческого достоинства? Неужели
все это по недостатку характера — из личного тщеславия и классо-
вых предрассудков или просто потому, что он был гениальный ху-
дожник, но слабый человек, способный гнуть спину, чтобы устроить
свои дела? В статье о Вольтере можно угадать оттенок ожесточе-
ния к самому себе, но ловить Пушкина на слове было бы именно
делом посредственности, ищущей себе утешения в слабостях гения.
Прав Герцен: «В мире ничего нет великого, поэтического, что бы
могло выдержать не глупый, да и не умный взгляд — взгляд обы-
денной жизненной мудрости. Это-то французы и выразили так мет-
ко своей пословицей, что «для камердинера — нет великого челове-
ка». Сколько чистой бумаги уже испорчено опытами такого психо-
анализа!
Не потому вступил великий поэт на свой трагический путь, что
он поддался личной человеческой слабости, а потому он стал жерт-
вой этой слабости, что вступил на путь примирения с действитель-
419
костью, или, говоря словами Белинского, гуманной резиньяции.
Такое примирение часто бывает единственной возможной в данных
исторических условиях формой непримирения. Так это было, напри-
мер, у Гёте и Гегеля, так это было — в другой национальной тональ-
ности — и у Пушкина.
Суть дела в том, что Пушкин пошел дальше декабризма своих
ранних лет, и все неизбежные компромиссы с окружающей средой,
столь трагически обернувшиеся против самого поэта, стали ценой,
уплаченной им за более глубокое и конкретное понимание действи-
тельности.
Его широкий шекспировский взгляд на противоречия истори-
ческой жизни включает в себя и торжество фатальной необходи-
мости над бунтом человеческого сердца. Но там, где ход истории
420 именно таков и где само историческое понимание, доступное дан-
ному времени, может быть достигнуто лишь путем гуманной ре-
зиньяции, требующей некоторого самоотречения, гётевской Entsa-
gung, необходимые компромиссы часто переходят в излишние, и не
достатки, связанные с достоинствами,— в недостатки, которые мо-
жет отделить от них каждый школьник. Вот единственно верная
основа для биографического анализа выдающейся личности, если
она достойна этого имени. К чести Пушкина нужно сказать, что та-
ких недостатков (или слабостей в собственном смысле слова) у него
немного, а то, что есть, и то, что было неотвратимым следствием его
исторического выбора, было им пережито с удивительным мужест-
вом, как может это пережить только высокий характер, знающий,
что он делает.
Несовершенство человечества — вовсе не в том, что у гения бы-
вают мелкие слабости, родственные лакейству обывателя; несовер-
шенство человечества — в стихийной исторической почве его разви-
тия. Драма истории требует жертв и выбирает их среди достойных,
а муки гениального писателя, вынужденного принять условия зада-
чи, которую ставит перед ним реальная обстановка времени, чтобы
извлечь из этих условий возможный максимум,— не самые ничтож-
ные среди других испытаний судьбы.
Когда Пушкин писал, что Вольтер покинул свой кабинет ученого
вследствие недостатка собственного достоинства, он был неспра-
ведлив к самому себе. Обстоятельства могут диктовать писателю
невыносимую жизненную позицию, и в этом отношении нельзя,
разумеется, сравнивать николаевскую эпоху с веком Просвещения
во Франции. Под влиянием растущей травмы Пушкин забыл на
время свое обычное стойкое презрение к низкопробной молве, ко-
торая его самого обвиняла в заискивании перед сильными мира сего
(см., например, «Опыт отражения некоторых нелитературных об-
винений»). Заметка о Вольтере уже несет на себе тень близкого
самоубийства-дуэли. Развязка была неотвратима, и мы понимаем
теперь, что в жизни Пушкина не могло быть иначе. Но, принимая
во внимание только суд поэта над самим собой, нельзя согласиться
с его приговором.
Где этот мифический кабинет ученого, в котором гений может
быть свободен от унижающих его отношений, если, конечно, он не
владелец Архангельского, засевший в роскошной мраморной щели,
следуя правилу римского жизнелюбия — сагре diem, хоть день, да
мой? У владельца Архангельского, князя Юсупова, был прекрас-
ный кабинет, но сам он не был Вольтером, хотя встречался с ним
во Франции. Он не был и Пушкиным, почтившим его посланием
«К вельможе». В этом послании, как и в статье, посвященной
письмам Вольтера, сквозит мечта о покое и независимости. Святая,
оправданная мечта! Как не сочувствовать ей? И все же трудно по-
верить, что Пушкин мог бы остаться самим собой, «не участвуя в
волнениях мирских» подобно доживающему свой век римскому пат-
рицию. Сочетать же участие в этих волнениях с покоем ученого
кабинета — слишком много для нашей земли.
Во всяком случае, этого было слишком много для эпохи Воль-
тера. Поклонник свободы, он должен был играть на противоречиях
королей, перебегая от одного короля к другому, по его собственным
словам. Какая сила влекла его в Берлин? Та же самая, которая
почти столетие спустя заставила Гегеля принять предложение прус-
ского министра фон Альтенштейна — сила необходимости, прокла-
дывающая дорогу прогрессу не так, как этого хочет сердце, а слож-
ным зигзагом, через мириады жертв, добровольное рабство и уни-
жение человеческого достоинства. Задолго до Вольтера эта удиви-
тельная, двусмысленная, но властная сила привлекала в Версаль
таких людей, как Расин и Мольер, несмотря на все опасности, таив-
шиеся для них в положении придворных. Великий человек может
корить самого себя, чувствуя ложность своего положения, странным
образом связанную с истинным содержанием его деятельности, его
исторической миссией, но мы не имеем права видеть в этой драме
только материал для плоского морального поучения, если не хотим
сыграть в ней роль камердинера, роющегося в грязном белье героя.
Некоторые ученики Гегеля искали в особых чертах его системы
желание приспособить философию к требованиям времени. Его об-
виняли в низкопоклонстве перед властью. И вот что Маркс ответил
на эту моральную критику, сопровождающую обычно переход от
дисциплины к свободе, но в сущности жалкую. «Вполне мыслимо,
что философ совершает ту или иную кажущуюся непоследователь-
ность в силу того или иного приспособления; он может даже созна-
вать это. Но одного он не сознает, а именно, что сама возможность
подобного кажущегося приспособления имеет свои наиболее глубо-
кие корни в недостаточности его принципа или в недостаточном
понимании философом своего принципа. И если бы философ дейст-
вительно приспособлялся, то дело его учеников — объяснить из его
внутреннего, существенного сознания то, что для него самого имело
форму экзотерического сознания. То, что является прогрессом со-
вести, представляет, таким образом, вместе с тем, прогресс знания.
Тут не заподазривается личная совесть философа, а конструируется
существенная форма его сознания; последняя приобретает опреде-
421
ленное очертание и значение,— и тем самым совершается выход за
ее пределы» *.
Таким и должен быть подлинный метод истории философии и
всей истории культуры, особенно там, где речь идет о так называе-
мых слабостях великих людей. Посредственные умы испытывают
при этом мелкое торжество, им кажется, что открытие этих слабо-
стей дает им право чваниться своим моральным превосходством или
приписывать гению обычную для обывательского сознания двойную
бухгалтерию, житейский цинизм. «Врете, подлецы: он и мал и мер-
зок— но не так, как вы — иначе!» Личная жизнь человека такого
масштаба, как Вольтер или Пушкин,— это функция его обществен-
ной роли. В его биографии все имеет символический смысл, малей-
ший анекдот рисует целое. И если такой человек заключает мир
477 с действительностью, это происходит не потому, что он обладает
слишком растяжимой совестью, а потому что таков его историче-
ский принцип, может быть, недостаточный или недостаточно по-
нятый.
Прогресс совести есть прогресс понимания — с той оговоркой,
что прогресс понимания зависит не только от логики. Это саморас-
крытие исторической действительности в головах людей. Она со-
здает существенную форму сознания философа, в отличие от того
что, может быть, представляется ему внешним компромиссом с окру-
жающей средой и отчасти действительно является таковым.
Не только отдельную личность, но и целый народ или обществен-
ный класс историческое движение может «занести» дальше того,
что оправдано внутренней логикой дела. И такое излишество также
имеет свою логику, также бывает необходимо, хотя не всегда и не
во всем оправдано. Нельзя пропускать отдельные ступени, когда
идешь по лестнице, сказал один человек церкви, нельзя пропускать
их, если не хочешь оступиться, но оступаться нельзя, если взялся
идти.
Поэтому Вольтер имел основание отправиться в Берлин. И это
было следствием не личной слабости его, а принятого им принци-
па — пользоваться всеми средствами для создания мыслящего
меньшинства и подготовки революции сверху в Европе. Мы пони-
маем теперь историческую ограниченность этого принципа, его не-
достаточность, как пишет Маркс. Возможно также, что Вольтер
недостаточно понял свой собственный принцип; что революция
сверху нуждалась в каком-нибудь Кромвеле, Бонапарте, а не в
легитимном короле из династии Бурбонов или Гогенцоллернов. Дей-
ствительно, практическое применение этой идеи у Вольтера носит
еще слишком камерный, традиционный характер, уже переживший
свое время по крайней мере в Западной Европе. Отсюда методы,
которые он применял, чтобы добиться ее осуществления, близкие
к придворной интриге и старой мечте о воспитании наследных прин-
цев. Комплекс наследника престола, преследуемого своим отцом и
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 40, с. 209.
потому более доступного голосу общественных потребностей,— ста-
рая фабула мировой истории, восходящая еще к мифологическим
временам. Одним из таких возможных носителей политической ди-
намики был наследный принц Бранденбург-Пруссии—Фридрих, по-
давленный своим мужланом-отцом. В его руках, казалось, находит-
ся будущее молодого государства, в котором все еще зависело от
монаршей воли. Воспользоваться его интересом к передовой фило-
софии, чтобы воздействовать на судьбы Европы,— это было иску-
шением, достаточно сильным даже для такой скептической головы,
как Вольтер.
Увы, прогресс совести есть прогресс понимания. Ради своей вер-
ховной цели вождь просветителей был способен на лесть, которая,
впрочем, у него всегда немного насмешлива. Вольтер говорит о сво-
их отношениях с Фридрихом: «Он называл меня божественным
мужем, я называл его Соломоном. Эпитеты нам ничего не стоили.
Кое-какие из этих пошлостей попали в собрание моих сочинений, но,
к счастью, в печать попала только одна тридцатая часть». Само со-
бой разумеется, что сохранить собственное достоинство в такой
ситуации нелегко, и условный поклон незаметно переходит в слиш-
ком искренний. Личное достоинство при этом страдает, ибо достой-
ное поведение в недостойных человека, неравных условиях больше
зависит от счастья, чем от личности. Поставить ее в невыгодное
положение, поймать на собственных ее лучших стремлениях и тем
унизить ее — нет ничего легче.
Гений имеет свои слабости? Но что говорить о гениях. Обыкно-
венный человек также имеет свои слабости. Увлекаясь каким-нибудь
делом, он забывает границы, предписанные его личности, свой ма-
ленький «кабинет ученого», и тем обнаруживает слабость очевид-
ную. Даже простая добросовестность делает его слабее более рас-
четливого житейского типа, который чувствует эту слабость, умеет
пользоваться ею и с насмешкой глядит на странные телодвижения,
которыми фантазер пытается сохранить равновесие. Действительно,
эти отчаянные жесты делают несовершенство человечества более
заметным и более жалким. Совершенно свободен от всяких слабо-
стей только тот, кто ничем не погрешил ради содержания дела хотя
бы самого малого, но имеющего общее значение.
Что касается умения себя вести, которого, по слухам, не хва-
тало Вольтеру, то нужно сказать, что эта черта, сама по себе до-
стойная уважения, не является обязательным спутником гения. Ско-
рее наоборот — гений неловок. Здесь дело обстоит так же, как с
почерком. Хороший почерк — каллиграфический или характер-
ный — доступен любой посредственности. Почерк гения можно
узнать, но, в сущности говоря, у него нет почерка, как нет и стиля
поведения в житейском смысле слова. Такие достоинства, весьма
почтенные и столь же необходимые в свете, легче даются людям, не
перегруженным содержанием дела и потому более ловким.
Однако Вольтера упрекали именно в ловкости, даже цинизме.
Легенда об этом возникла еще в XVIII веке, и, если даже она имела
423
свои основания, нужно признать, что враги писателя распростра-
няли ее с редкой настойчивостью. В этом они были единодушны с
его сомнительными друзьями. Ничуть не странно, что прямые за-
щитники реакционных идей, как Нонот или Фрерон, преследовали
Вольтера своими наветами — они не много могли возразить по су-
ществу любого вопроса, затронутого в сочинениях Вольтера, а там,
где нечего сказать, всегда остается только аргумент ad hominem.
Но тот же аргумент в устах какого-нибудь д’Аржанса, ученого
подражателя и завистника Вольтера, или в устах редактора «Ли-
тературной корреспонденции» Гримма, известного своей дипломати-
ческой пронырливостью, становится уже доказательством от про-
тивного. Слишком согласно звучит этот хор, слишком сомнитель-
ным доводом в пользу общественной морали, защищаемой честными
424 людьми, является тот факт, что гений отступает от нее. Почему же
вы не гении, господа честные люди?
Более сложное, но в сущности говоря, столь же сомнительное
впечатление возникает у нас при знакомстве с мемуарами маркиза
д’Аржансона, школьного товарища Вольтера по коллежу. Роль, ко-
торую он играл в жизни великого французского писателя, нельзя,
конечно, сравнивать с той, которую бывший «арзамасец» граф
Уваров играл по отношению к Пушкину. Будучи министром ино-
странных дел маркиз д'Аржансон (как и его брат, военный министр
Людовика XV — граф д’Аржансон) оказывал Вольтеру далеко
идущую поддержку при дворе. Преклонение перед его литератур-
ным талантом было у маркиза, видимо, искренним; как человек, од-
нако, Вольтер не был близок своему знатному покровителю, и, мо-
жет быть, прав Маренгольц, говоря, что он вызывал у него тайное
чувство антипатии.
Преданный слуга короля, сановник, близкий к парламентской
партии, автор доктринерской утопии «демократической монархии»,
опирающейся на местное самоуправление, д'Аржансон смотрел на
деятельность Вольтера сверху вниз, не подозревая, что она может
иметь самостоятельное политическое значение. Ему казалось, что
спокойное служение музам было бы более благородным занятием,
чем постоянные стычки с такими жалкими противниками, как аббат
Дефонтен. В этом духе он и давал советы Вольтеру, стараясь успо-
коить его критический темперамент. «Опытный эконом своего та-
ланта, но плохой хозяин своей репутации»,— пишет д’Аржансон
о Вольтере и присоединяет к этой сентенции несколько замечаний
о личности писателя, мало похожих на дружеские: Вольтер сам
виноват в своих несчастьях, он впечатлителен до крайности, остро
чувствует булавочные уколы, полон эгоизма. «Он весь нервы, весь
огонь».
В качестве вельможи, мудро ограниченного своей прогрессив-
ной ориентацией, презирающего клерикалов, но далекого от ак-
тивной битвы идей, д’Аржансон не мог понять плебейской заинте-
ресованности Вольтера в исходе его борьбы с врагами Просвеще-
ния» которые автоматически становились его личными. Светская
ловкость Вольтера была в глазах маркиза простой неловкостью
человека, лишенного знания света, а между тем во дворце короля
его самого не считали образцом хороших манер.
Главная роль в создании легенды о двух Вольтерах, писателе и
человеке, принадлежит все же Фридриху II. Заманив Вольтера в
свои пределы, где уже запуталось в его золотых сетях несколько
просвещенных умов иностранного происхождения, как Мопертюи,
д’Аржанс, Альгаротти, Ламетри, Фридрих забавлялся тем, что
раздувал их эмигрантскую склоку и, высказывая своему «божест-
венному мужу» знаки особого благоволения, поддерживал враж-
дебное ему большинство, оскорбленное гегемонией фаворита. Такая
политика равновесия сил, переносившая в рамки королевского за-
стольного общества нравы дипломатии XVIII века, не понравилась
Вольтеру, и так как он не скрывал своего презрения к ученому шта-
ту берлинского двора, то чрезмерные милости быстро преврати-
лись для него в опалу. Творец «Меропы» и «Кандида» не успел
вовремя ретироваться и должен был испить чашу унижения, под-
несенную ему самим Фридрихом. Несмотря на полученный урок,
Вольтер все же не смирился и чувствительно задел короля в лице
президента его собственной Академии наук — Мопертюи, высмеяв
своего противника по заслугам в анонимном памфлете. Когда кон-
фликт разгорелся до полного отчуждения с обеих сторон, король
выпустил против строптивого писателя всех литературных сателли-
тов берлинского двора, вроде бездомного аббата де Прада, побуж-
дая их к печатным инсинуациям против личности Вольтера.
Трудно сказать, сам Фридрих был создателем ходячей схемы,
согласно которой талант Вольтера следует отделить от низости его
нравственного облика, или он только утвердил скорый приговор
собранных им за своим столом придворных вольнодумцев, но кле-
вета сделала свое дело, и удачно найденная коварная формула име-
ла успех у публики. Король-философ делал вид, что более близкое
знакомство с личностью Вольтера вызвало у него разочарование.
На самом же деле еще до поселения Вольтера в Потсдаме, расточая
ему изысканные любезности, он называл его за глаза шутом и бра-
нил за жадность, хотя сам оплакивал три тысячи экю, потраченные
им на прием французского гостя в Рейнсберге.
Подлинный цинизм нужно искать у врагов Вольтера и мнимых
покровителей его. Все их моральные позы, которые им действитель-
но ничего не стоили, были фальшивы. Они вытекали из преиму-
щества -более сильной стороны, которая не нуждается в особых
усилиях для достижения ее обычных целей и потому не только
выигрывает тяжбу с противником, но и выглядит при этом более
благородно. Двусмысленное благородство сильных мира сего, при-
надлежавшее в XVIII веке королям и вельможам, согласно общему
историческому закону перешло к буржуазии следующего столетия,
подобно тому как рыцарская мораль былых времен превратилась
в мещанскую аффектацию, склонность к возвышенным чувствам.
Вместе с этим наследством перешло в буржуазную традицию
425
XIX века и деление Вольтера на писателя и человека. Отсюда все
ученые плоскости знаменитых историков литературы — Гетнера,
Фаге и Лансона.
Из несчастного эпизода с Фридрихом можно сделать вывод, что
Вольтеру не следовало искать убежища под кровом чужого короля,
хотя свои короли всегда относились к нему с холодным недове-
рием. Пушкин прав — только независимость и самоуважение могут
возвысить нас над мелочами жизни и бурями судьбы. Но как до-
стигнуть этой независимости, если не имеешь ее заранее по праву
рождения или счастья? Конечно, существует на свете и честный
литературный труд. Писатель может торговать своей рукописью, не
торгуя вдохновением. Но эта возможность также достаточно услов-
на— она лежит между чистой утопией и компромиссом, весьма
426 опасным. Ибо торговля рукописями легко переходит в торговлю
совестью, как показала вся история печати. В другой связи Пуш-
кин заметил, что положение писателя XVIII века, посвящающего
свои произведения знатному вельможе, было свободнее, чем поло-
жение литературных промышленников и дельцов его собственного
времени. Вот почему, если рассматривать мысль великого поэта с
должным вниманием, не придираясь к словам, нужно видеть в ней
поиски честного пути для свободной литературы, а не осуждение
Вольтера как прихлебателя королей.
Вольтер и сам искал такого пути. Мы знаем, что он отправился
к Фридриху, чтобы испытать возможность сотрудничества с про-
свещенным деспотом на троне еще не окрепшей Пруссии, страны
будущего, подобно тому как Платон хотел достигнуть своих утопи-
ческих целей в роли маркиза Позы при Дионисии, тиране Сиракуз-
ском. Сравнение Фридриха с Дионисием имеется у самого Вольте-
ра, и сходство действительно есть. Спасаясь бегством от своего
покровителя, Вольтер был схвачен агентами рассерженного короля
в свободном имперском городе Франкфурте-на-Майне. Платон,
согласно легенде, едва избежал продажи в рабство. Когда история
повторяет такие фабулы, можно ли говорить о личных ошибках?
Однако Вольтер не полагался вполне на покровительство власть
имущих, на их благодарность за те сокровища, которые могло им
дать общение с первым писателем века, или хотя бы за внешний
блеск, проистекающий из такого союза власти с литературой. Пи-
сателей в те времена было уже немало, и среди них были люди
более сговорчивые, согласные терпеть капризы и насмешки короля,
которыми он вознаграждал себя за расходы на содержание своей
философской капеллы. Одним из таких покорных умов был цели-
ком зависевший от прусских финансов Мопертюи. Фридриху до-
ставило бы удовлетворение сделать из Вольтера второго Мопер-
тюи, но, при всех «слабостях» гения, это было невозможно. По обы-
чаю своего времени Вольтер мог идти очень далеко в неискренних
комплиментах французским стихам короля, и все-таки всегда вы-
равнивал счет рассеянными между роз своего краснословия ко-
лючими терниями и просто тем, что его любезности, превышая вся-
кую меру, легко превращались в свою противоположность. Вольтер
был неуживчив. Эта черта, то есть неспособность ужиться с силь-
ными мира сего, рисует его, скорее, с хорошей стороны. Он хотел
льстить и не мог удержаться от колкостей, может быть, просто
в силу естественного чувства истины, заложенного в обычной чело-
веческой речи, мстящей за всякое насилие над ним.
Что касается литературного первенства, то Фридрих не был
оригинален, присуждая его Вольтеру при всех своих оговорках на
счет личности писателя, правда, он не был и верен своим словам, ибо
втайне заигрывал с его соперником, автором трагедий Кребильо-
ном. Все это с самого начала делало положение Вольтера при бер-
линском дворе непрочным. Зная немного жизнь и не рассчитывая
на свое литературное имя, он искал других путей к независимости,
столь необходимой для его общественных целей, но, увы, столь
опасной для его репутации. Одним из таких путей могло быть обла-
дание деньгами, которые в эпоху растущей силы буржуазных отно-
шений, более или менее независимых от государственной власти,
уже заменяли отчасти знатность происхождения. К счастью для
эпохи Вольтера, продажа рукописей еще не могла служить в те
времена источником богатства — большие гонорары Эжена Сю были
еще впереди. Задача, стоявшая перед независимым писателем про-
светительной эпохи, заключалась, скорее, и том, чтобы отделить
приобретение денег от литературной деятельности, если он не хотел
стать простым клиентом своих издателей. Вольтер действительно
осуществил эту независимость от чернильного рабства, уже хорошо
известного в XVIII веке, и даже описал свою стратегию с обычным
для него напускным цинизмом.
Он говорит в своих мемуарах: «Во Франции надо быть моло-
том или наковальней. Я был рожден наковальней. Скудное наследст-
венное достояние с каждым днем становилось все скуднее, потому что
цены растут, а правительство часто посягает на ваши доходы и на
наличное имущество. Нужно внимательно следить за всеми опера-
циями, которые министерство, вечно запутанное в долгах и непо-
стоянное, предпринимает по части государственных финансов. Все-
гда найдется такая операция, которой частное лицо может восполь-
зоваться, никому не обязываясь. Ничего нет приятнее, как самому
составить себе состояние. Первый шаг стоит некоторого труда; дру-
гие— легки. Надо быть бережливым в молодости; тогда в старости
у вас будут такие капиталы, что вы сами удивитесь. В это время
богатство всего нужнее, и я теперь им наслаждаюсь. Пожив в го-
стях у королей, я сам стал королем у себя дома, несмотря на громад-
ные издержки».
Эти слова, написанные много лет спустя после неудачного рома-
на с Фридрихом, являются сознательной и, можно сказать, злорад-
ной апологией своего жизненного пути со стороны человека, кото-
рого не удалось раздавить ничем. Будем же благодарны ему не
только за его бессмертные творения, но и за эту силу характера,
которая часто выглядит причудливой странностью. Принято жало-
427
ваться на средства, которыми он пользовался для достижения своей
цели,— в страшную минуту герои «Илиады» дрались камнями,
хотя это совсем не рыцарское оружие. В битве за жизнь идей, не
только за собственную жизнь, нельзя пренебрегать ничем. Спо-
койствие и свобода — драгоценные блага, которых нет в роскошных
жилищах королей,— достались Вольтеру только в конце его долгой
жизни. Они достались ему не даром. Лавры великого человека дей-
ствительно пострадали от грязи, в которой он шел, но шел своим
путем.
«Деньги были для него не целью, а средством»,— справедливо
заметил Меринг. К этому нужно прибавить, что всякое средство
само является целью, ибо прежде, чем пользоваться им, нужно его
добыть. Живя в золоченой клетке дворца Сан-Суси, Вольтер поль-
428 зуется услугами «королевско-прусского казенного еврея Гиршеля»
для устройства своих коммерческих дел. Но здесь нашла коса на
камень. Философа заманили в ловушку, соблазняя выгодной спеку-
ляцией саксонскими денежными бумагами, и хотя, прижатый к сте-
не, он отрицал свое участие в этом деле, не вполне законном, то
обстоятельство, что Вольтер рассказывает о подобных коммерче-
ских хитростях в своих мемуарах, как бы оправдываясь необходи-
мостью иметь обеспеченную старость, наводит на мысль, что его
свидетельство не было искренним.
Когда спекуляция провалилась или деньги писателя были пу-
щены в оборот не для него (документы, опубликованные в 1905 г.,
позволяют только строить предположения), Вольтер явно не рас-
считал своих сил, возбудив против наследника старого Гиршеля
судебное дело и грозя стереть Ветхий Завет в порошок. У Гиршеля
нашлись покровители, в том числе сам король. Фридрих решил вос-
пользоваться этой грязной историей, чтобы поставить на место
слишком свободно державшегося писателя. С этой целью он разы-
грывал возмущение неприличием денежных сделок королевского го-
стя с «казенным евреем», а между тем сам побуждал Гиршеля к су-
дебному крючкотворству.
Прусской Фемиде была дана возможность проявить полное бес-
пристрастие и показать, что обе стороны одинаково гадки. Лишь
один из членов особого присутствия, разбиравшего дело, связанный
с французской колонией, благоволил к писателю. Несмотря на
просьбу Вольтера, процесс получил широкую огласку, что, видимо,
тоже входило в расчеты его режиссеров. И только после того как
Вольтера изрядно помучили, ему разрешили выйти из игры посред-
ством сомнительной присяги, в которой христианин по закону имел
преимущество перед последователем Моисея. Вольтер делал вид,
что он выиграл процесс, но ему пришлось просить прощения у
Фридриха, который ответил моральной нотацией, более грязной,
чем все уловки еврея и христианина.
Суть дела прекрасно выражена в первой эпиграмме Лессинга,
напечатанной в «Фоссовой газете» вскоре после процесса (2 марта
1751 г.). Эпиграмма называлась «Жадный поэт».
Du fragst warum Semir ein reicher Geizhals isl?
Scmir, der Dichter, er, den Welt und Nachwell lies!?
W’eil nach des Schicksals ew’gen Schluss
Ein jeder Dichter darben muss.
«Ты спрашиваешь, почему Земир, поэт, которого читают все совре-
менники и будет читать потомство — богатый скряга? Потому что,
согласно вечному приговору судьбы, каждый поэт должен умирать
с голоду».
Вольтер имел все основания думать, что ему не следует умирать
с голоду. Он говорит о писателях: «Большинство из них бедны, а
бедность ослабляет мужество». Если с широкой исторической точки
зрения его общественная идея была «недостаточна», то коммерче-
ские дела, посредством которых он хотел создать ей прочное осно-
вание, ничем не хуже щедрости откупщиков и знатных дам, которой
пользовались другие писатели эпохи Просвещения. Правда, покуп-
ка саксонских бумаг была официально запрещена, но Вольтер, мо-
жет быть, думал, что не будет большого греха, если он слегка уве-
личит в свою пользу контрибуцию, взятую честным Фридрихом
с менее сильной Саксонии. И в самом деле — где здесь право, где
закон?
Что касается юридических уловок, которые ставят в упрек Воль-
теру, то смешно судить о них, отталкиваясь от высоких принципов.
Это просто война, где каждый знает, что пощады нет, а вся про-
цедура в целом — условная ложь. Самая большая ложь в таких
случаях — это мнимое беспристрастие, которым мажут обе стороны,
так что в конце концов уже нельзя узнать, кто прав, кто виноват.
К сожалению, в другой, более известной эпиграмме на берлин-
ский процесс Лессинг дал волю своей законной ненависти к при-
дворному Просвещению и присоединился к травле Вольтера с мо-
ральной позиции. Один жулик не лучше другого — таков вывод
Лессинга, увы, совпадающий с приговором прусского двора и
больше уместный в атмосфере немецкой мелкобуржуазной честно-
сти, чем в мировой перспективе голгофы великого писателя. Не за
это ли был наказан судьбой и сам Лессинг, чья биография также
пострадала от плоских суждений в духе мещанской морали? Лучше
понял Вольтера Гёте: «Нелегко было стать настолько зависимым,
чтобы достигнуть независимости».
Конечно, денежные дела презренны. Но Вольтер знал, что его
независимость, его положение профессионального защитника демо-
кратических идей будет сильнее, если за ним останется кабинет
ученого, купленный за деньги. Свободы сеятель пустынный, он вы-
шел рано, до звезды, и мог рассчитывать только на самого себя. Его
поклонники аплодировали таланту писателя, но не платили ему
членских взносов.
Такое положение диктовало Вольтеру личную стратегию, слиш-
ком гибкую. Он и здесь нашел противоядие от этой болезни в ней
самой. Подобно Гейне, который также любил набрасывать свой
образ кистью смелой, даже дерзкой, Вольтер рассчитывал на при-
429
говор умных людей, хотя этот расчет не всегда оправдывается и,
во всяком случае, требует для своего оправдания много времени.
Нужно неколебимо верить в себя, чтобы решиться на такое пре-
зрение к тому, чем ты кажешься. Твердо зная свою историческую
задачу, Вольтер на все остальное смотрел сквозь пальцы. Он понял,
что минус на минус дает плюс, что смелый вызов фатальной силе
мнения освобождает от мелких счетов с принятой общественной
моралью, что эта официальная мораль при всей своей благостной
внешности груба и беззастенчива, но более дерзкий уровень той же
беззастенчивости есть уже разоблачение, сарказм, который делает
ее честностью, теорией, самосознанием.
Вольтер сам способствовал легенде о своем цинизме и, кажется,
любовался ею. Он способствовал этой легенде тем, что говорил с
430 циничной откровенностью о вещах, которые общество его време-
ни замалчивало. Не кричите так громко против цинизма, сказал
Маркс. «Цинизм заключается не в словах, описывающих действи-
тельность, а в самой действительности!»* Нельзя верить на слово
исторической эпохе, нельзя верить на слово и личности, стоящей
на уровне всемирной истории. Нужно понять то, что скрывается за
ее словами, сокровенный смысл этих слов, часто противоположный
их собственному звучанию. Это скрытое содержание всегда несет
в себе положительное зерно, хотя историческая форма, в которой
оно выражается, часто бывает парадоксальной, даже отталкиваю-
щей.
Цинизм Вольтера есть способ исправить нравственный баланс
своей жизни, сделав из нее притчу целой эпохи. На сцене
XVIII века он играет роль циника, подобно тому как Сократ играл
роль простака. Если нельзя принять за чистую монету наивность
Сократа, то поза Вольтера также является не выражением личной
беззастенчивости, а наглядным уроком, игрой. И эта игра была
публичной демонстрацией падения общественных нравов, действи-
тельного цинизма господствующих отношений, «ничтожества тех,
кого мы называем великими мира сего».
Вот небольшой пример. Много писали о льстивом предисловии
к «Танкреду», в котором гений французской литературы унижался
перед маркизой Помпадур. Но Вольтер рассказывает в своих ме-
муарах, как ему удалось стать академиком и камергером благо-
даря знакомству с всесильной любовницей Людовика XV: «Отсюда
я сделал вывод, что если твоя цель — сделать маленькую карьеру,
гораздо целесообразнее сказать несколько слов королевской метрес-
се, чем написать сотню томов». Этот сюжет кажется эпизодом из
философского романа Вольтера. Грань между действительным фак-
том и его изображением, его «мимезисом», часто терялась в этом
веке условных форм.
Нельзя принимать творения искусства за реальность подобно
птицам Апеллеса, клюющим виноград, написанный художником.
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч, т. 4, с. 87.
Однако иная реальность настолько ничтожна, что ее можно рассма-
тривать как фантом, созданный воображением. Эпоха Вольтера
была именно такова. Он не относится к ней серьезно, ибо она сама
утратила свою былую готическую и барочную серьезность. Он мог
бы сказать о себе: «Все недостойное моей собственной жизни да-
леко от меня, грязь этого века коснулась только внешних лавров,
которыми вы же меня и наградили, но она не может запачкать меня
самого, потому что я несу в себе другой мир, потому что дистанция
между мною и этой комедией слишком велика и потому что все это
как бы нереально, а в сущности — ничто». Гегелевское понятие все-
общей отрицательности кажется слепком с модели Вольтера.
При этой умственной оговорке, имевшей реальное объективное
содержание, он мог низко кланяться королевской метрессе и другим
условным маскам своего века, забавным физиономиям этой пере-
ходной полосы, в которых иногда проявлялось что-то человече-
ское, не унижая свою идею и даже как бы возвышая ее. В био-
графии Вольтера, не только в его творениях, дает себя знать
сарказм могучего духа, свободного от всякого пиетета по отноше-
нию к павшим кумирам. Ирония возвышает его над мелочами лет
и бурями судьбы более надежно, чем ревниво охраняемое личное
достоинство, которого не могло быть в его положении, и под конец
спектакля превращает разменную монету жизни в чистое золото
литературы.
Его творения не умирают, ибо время создало в них необходи-
мый жанр человеческого духа, столь же относительно вечный, как
жанр трагедии или романа. При всяком падении устаревших ценно-
стей, при всякой мысли о том, что вчера еще величавые формы
бытия теперь ничтожны, что их логическое и нравственное основа-
ние было иллюзией, превратившейся в пустое лицемерие, мы слы-
шим смех Вольтера. Он видел ту ступень, когда разбогатевший
мужик, лакей Тюркаре уже поставил ногу на шею своих господ, а
новый, более свободный порядок жизни был еще далеко, когда воз-
вышенный образ личной власти и весь фантастический спектакль
феодальных времен уже превратился в живую карикатуру, еще ис-
точавшую кровь, но внутренне мертвую. Гегель назвал эту пере-
ходную полосу периодом разорванного сознания.
И все же время дает писателю только общие условия его форми-
рования— стиль эпохи может иметь неодинаковую ценность и раз-
ное направление в зависимости от позиции личности. Эпоха разо-
рванного сознания диктовала Вольтеру громадное расстояние меж-
ду словом и делом, между общественно признанным и его действи-
тельным значением, его подтекстом, как принято теперь говорить.
Все это не зависело от Вольтера. Тем не менее в рамках общих
условий он добился противоположного исхода своей борьбы — един-
ства личности и ее дела.
В конце концов, трудно найти более прямое выражение глав-
ных идей эпохи Просвещения, чем у Вольтера, которого осаждали
не только ханжи, но и такие слишком эмансипированные мелкие
431
анархические умы, как забытый теперь Ла Боммель. Вольтер часто
скрывал свое имя, пользовался множеством псевдонимов, ему при-
ходилось отрекаться от написанного, и это безразличие к личной
славе во имя объективной цели кажется теперь необычным. Но ге-
ний критики свободен от всякой мелкой рабулистики, хитрых наме-
ков и дерзостей в кармане. При всех предосторожностях, включая
сюда и оговорки, и необходимые условности, он говорит открыто и
говорит (по верному замечанию его современника Мариво) «то, что
говорил и думал весь мир».
Возражая против ходячей фразы о цинизме Вольтера, которая
вошла в обиход литературных защитников Реставрации. Флобер
писал: «Меня удивляет, что вы не преклоняетесь перед этим вели-
ким биением сердца, которое привело в движение мир. Разве мож-
432 но Достигнуть таких результатов, будучи неискренним? В своих
суждениях вы сами еще не вышли из школы XVIII века, которая
видела в религиозном энтузиазме обман жрецов. Склоним же наши
головы перед всеми алтарями. Короче, этот человек представляется
мне пламенным, страстным, убежденным, величественным. Его
«Раздавите гадину!» похоже на боевой клич крестового похода. Все
его мышление было военной машиной. Меня заставляет ценить его
именно то, что отталкивает от вольтерьянцев,— людей, смеющихся
над всем великим. Разве он смеялся? Он скрежетал зубами!»
Эти слова, приведенные новейшим исследователем Вольтера
Вестерманом, в сущности говоря, не требуют комментария. Мысль,
в них заключенная, настолько значительна, что она невольно
увлекает нас. Флобер понял романтику века Разума, но он понял
и нечто другое, прямо противоположное — зависимость врагов
Вольтера, доктринеров романтизма, от худших сторон «школы
XVIII века». Это совершенно точно и соответствует общественной
диалектике не только в те отдаленные от нас времена.
Еще более общее значение имеет другая мысль Флобера — раз-
ве можно достигнуть таких результатов, будучи неискренним?
Для распространенного в наши дни «инструментального» взгляда
на духовную жизнь, согласно которому любых итогов можно до-
биться, если имеется воля к их достижению, средства давления и
техника манипулирования другими людьми, это суждение выглядит
старомодным. И тем не менее моральный потенциал остается внут-
ренней мерой всех завоеваний человеческого духа. Нарушить это
правило, то есть взяться за объявленное дело, требующее бескоры-
стия, честности, убеждения, с мелкими целями, разумеется, можно,
но лишь для того, чтобы доказать полную справедливость мысли
Флобера. Результат может быть либо совершенно ничтожный, либо
временный, то есть, в конце концов, тоже ничтожный. Из ничего
ничего не бывает.
Третий случай есть именно тот, о котором речь идет в этой ста-
тье. Гений «и мал и мерзок — не так, как вы — иначе». Если он
мал и мерзок в каком бы то ни было смысле — это, конечно, печа-
лит благородные сердца, по выражению Пушкина. Но, может быть.
мы все-таки ошиблись? Может быть, эта малость и эта мерзость —
только парадоксальная форма, в которой выражается другое исто-
рическое содержание, и только там они действительно означают
пятна грязи на лаврах гения, где история берет с него лишнее, где
его «заносит» в однажды принятом направлении слишком далеко?
Судить обо всем нужно именно исходя из действительного, кон-
кретного содержания дела, а не из простой вывески или програм-
мы. «Вес и достоинство этой монеты здесь хорошо известны, но
имеется ли она в твоем кармане?» — сказал святой Петр, когда
Данте постучался в двери рая и на вопрос «Кто там?» ответил чте-
нием символа веры. Есть люди, знающие наизусть все молитвы, но
это не значит, что они обладают истинной верой в дело, за которое
они взялись. По плодам их узнаете их — вот что, в сущности, гово-
рит Флобер.
Сравним оправданные и неоправданные компромиссы Вольтера
с цинизмом его врагов и мнимых друзей. Что такое настоящий ци-
низм видно из следующего эпизода, также описанного в мемуарах
Вольтера. Будучи еще наследным принцем, его воспитанник Фрид-
рих сочинил трактат против Макиавелли, в котором опасные уче-
ния итальянского мыслителя отвергались с точки зрения строгой
морали. Трактат вышел из печати в тот самый момент, когда, став
королем, Фридрих показал себя первым макиавеллистом Европы.
Тем не менее остановить печатание книги он не пожелал, несмотря
на добрый совет своего Феникса. Кстати говоря, и сам Макиавелли
был циником больше в духе Вольтера, чем в духе Фридриха.
По мнению Руссо, он только притворялся таким, чтобы предупре-
дить народы о том, чего они могут ждать от своих правителей.
14
В фернейский период идеал просвещенной монархии приобре-
тает новые черты. Героем молодости Вольтера был Генрих IV —
укротитель религиозных споров. В период оптимизма, предшест-
вующий кризису 50-х годов, Вольтер создает образ Людови-
ка XIV — покровителя искусств и наук. Последним героем Вольте-
ра был Петр, царь-преобразователь, не останавливающийся перед
суровыми мерами для беспощадной ломки средневековых порядков.
Петр Великий стал для Вольтера идеальной фигурой, воплощающей
революцию сверху.
Невиданный подъем России в XVIII веке давно привлекал
внимание Вольтера. В 1746 году он добился избрания в по-
четные члены Российской Академии наук. В 1757 году ему было
поручено сочинение «Истории России при Петре Великом» («К сему
делу, по правде, г. Вольтера никто не может быть способ-
нее»,— писал Ломоносов). Материалы для этой истории достав-
лялись Вольтеру из Петербурга. Он поддерживал связь с наиболее
просвещенной и патриотической частью русской аристократии ели-
433
заветинского времени в лице И. Шувалова и других. Позднее Воль-
тер состоял в переписке с Екатериной II, которую он осыпает гра-
дом похвал и не без иронии сравнивает с самой богородицей.
Бесспорным фактом является то обстоятельство, что в между-
народных делах Вольтер и его сторонники во Франции поддержи-
вали политику русского двора, особенно после того, как выяснилось
истинное лицо Фридриха II. Вольтер оценил историческое значе-
ние прогрессивного подъема России и противодействовал ранним
попыткам изобразить ее в качестве силы, угрожающей западной
цивилизации. Была ли справедлива эта оценка с точки зрения меж-
дународных отношений XVIII века? Отчасти да. Появление новой
громадной империи на европейском горизонте ломало ограниченную
систему союзов, порочный круг реакционной политики баланса сил,
434 balance of power, который связывал буржуазную Англию с фео-
дальными дворами Европы и превращал эту часть света в источник
постоянных войн. В глазах Вольтера внешняя политика России
была фактором мира и стабилизации международных отношений.
Некоторые моменты истории XVIII века подтверждают эту оценку,
но, разумеется, он смотрел на политику царизма сквозь розовые
очки, подобно тому как Геродот идеализировал регулярную монар-
хию персидских царей. Вольтер, например, оправдывал первый раз-
дел Польши как поражение средневековой анархии и католической
церкви. Несмотря на такие ошибки, вытекающие из общей сла-
бости его исторической философии, взгляд Вольтера на междуна-
родные отношения нужно признать более передовым и проницатель-
ным, чем позицию врагов России среди французских просветителей
(как Руссо).
Если подвести итог всем этим исканиям, то в них обнаружится
одна общая тенденция — Вольтер и его друзья хотели воспользо-
ваться централизацией, созданной абсолютизмом, для коренной
ломки феодальных отношений. Это, разумеется, в конце концов
должно было привести их и действительно привело к жестокому
разочарованию. Вместо того чтобы оказывать решающее влияние
на международную и внутреннюю политику европейских государств,
они сами стали картой в политической игре королей. Венцом всех
ожиданий Вольтера было назначение одного из просветителей —
Тюрго — первым министром Людовика XVI. «Мне кажется, что
небеса и земля обновились»,— писал Вольтер о деятельности Тюрго.
Но торжество продолжалось недолго. Тюрго был свергнут придвор-
ной кликой, а в народе он не приобрел прочной опоры. Верный
духу Вольтера, Тюрго боролся против средневековых парламентов,
но не желал и национального собрания. Он действовал сверху,
именем короля. Когда повышение цен на хлеб вызвало голодный
бунт 1775 года, министр-просветитель подавил его вооруженной
рукой. Весь эпизод министерства Тюрго, желавшего провести бур-
жуазно-демократические реформы при помощи методов просвещен-
ного деспотизма, стал обычной в подобных случаях насмешкой
истории над политическими идеями Вольтера.
Во второй половине XVIII века самодержавные правители по-
няли, какое удобство представляет для них теория просвещенного
деспотизма, подчиняющая силу общественного мнения интересам
той или другой династии. Фридрих II прусский, Густав III швед-
ский, русская императрица Екатерина объявили себя друзьями
Вольтера и Просвещения. В самой Франции последние министры
Людовика XVI, Калон и Бриен, создали реакционную карикатуру
на политику просветителей, пользуясь их ораторскими фразами,
чтобы прикрыть грабеж народного достояния в пользу расточитель-
ного двора. Правда, эта игра заставила Калона созвать собрание
нотаблей, с которого началась французская революция, и, таким
образом, все же последний шаг просвещенного деспотизма оказался
первым актом падения самодержавия.
Вольтер и сам чувствовал шаткость всех политических на-
дежд на революцию сверху. Поэтому, собственно, он нигде не из-
лагает этих надежд в более связной и законченной форме. Неуло-
вимость политической системы Вольтера доставила много хлопот
исследователям его взглядов. Более солидный материал для исто-
рика дают авторы политических трактатов — Монтескьё, Руссо,
Гольбах. Но дело вовсе не в легкомыслии Вольтера. Дело в том,
что Вольтер не придает значения политическим утопиям и прожек-
там, столь распространенным в его время. Он уделяет больше
внимания критике феодальных порядков, а в остальном надеется
на общее развитие жизни, которая подскажет тот или другой путь
освобождения. Главное, чего он боится,— это духовная слепота, по-
гоня за погремушкой, новое суеверие, которое может помешать
реальному делу. И нужно признать, что в его опасениях было зало-
жено немало серьезного демократического содержания. Так и бы-
вает на свете.
После кризиса 50-х годов Вольтер не устает повторять, что
практическая деятельность простых людей важнее всех политиче-
ских благодеяний и философских доктрин. Под либеральной внеш-
ностью эти рецепты несут народу новые тягости. Не «светский че-
ловек» занимает теперь воображение Вольтера. Его беспокоит
судьба земледельца Андре, статистически средней величины, пре-
вращенной в литературный образ («Человек с сорока экю», 1768).
Вольтер говорит от лица всех средних величин, составляющих в его
представлении нацию. Он горячо защищает их интересы, и мирная
фраза: «Будем возделывать наш сад!» — превращается у него в
боевой клич буржуазной революции. В 1764 году ходило по рукам
письмо Вольтера аббату Шовелену, в котором немощный старец,
укрывшись в своем убежище на границе монархии и республики,
приветствовал приближение бури: «Счастлив тот, кто молод, он
еще увидит прекрасные вещи».
Шестидесятые годы XVIII века — время кипучей деятельности
Вольтера и его соратников в борьбе с последними припадками яро-
сти издыхающей «гадины». Одним из самых гнусных остатков сред-
435
невековья был религиозный фанатизм. Во Франции кровь невинных
еще лилась во имя бога. В своей защите жертв католической реак-
ции — Каласа, Сирвена, де Ла Барра — Вольтер проявляет великую
революционную энергию. «Умов и моды вождь пронырливый и сме-
лый» становится народным трибуном.
Пустив в ход все свое влияние, ему удается спасти одних, добить-
ся запоздалого оправдания для других. Эти знаменитые процессы
сыграли большую роль в подготовке французской революции, бу-
дучи ярким разоблачением тысячелетнего зла.
Отвергая тиранию католической церкви, Вольтер не жалует и
ее противников — лютеран и кальвинистов. Он с одинаковым омер-
зением говорит о всех системах духовного гнета. Ряд изданных под
вымышленными именами сочинений Вольтера содержит критиче-
436 ски** разбор религиозных преданий иудаизма и христианства. Воль-
тер вскрывает противоречия священных книг моисеева закона, и
его библейская критика является основой всех позднейших истори-
ческих исследований в этой области. Громадной известностью поль-
зуется «Орлеанская девственница» Вольтера (первое авторское
издание поэмы относится к 1762 г.) — в высшей степени остроум-
ная насмешка над всей средневековой церковной галиматьей и фео-
дальной бутафорией. Пушкину мы обязаны превосходным перево-
дом первых двадцати шести строк этой «библии харит».
Другим направлением деятельности Вольтера была агитация
против крепостничества и феодальных привилегий. В «Философ-
ском словаре» (осужден на сожжение французским парламентом в
1765 г.) он требует равенства граждан перед законом, равной обя-
занности всех платить налоги пропорционально имуществу, единст-
ва законов, мер и весов. Важное значение имела борьба Вольтера
против крепостного права в провинциях Жекс, Франш-Конте и дру-
гих. Замечательно его написанное от имени французских крестьян
«Прошение ко всем должностным лицам королевства» (1770). Сто-
ит привести несколько фраз из этого выдающегося документа: «Вам
известны те притеснения, благодаря которым кусок хлеба, добытый
нашими руками, часто отнимается у нас нашими угнетателями»,—
так начинается эта жалоба. Вольтер перечисляет все виды налогов
и средневековых повинностей, лежащих на крестьянском семействе.
«К концу года плоды наших трудов уже не существуют для нас.
Если выдается минута отдыха, нас тащат на барщину за два или
три лье от наших жилищ. И не только нас, но и наших жен, наших
детей, нашу скотину, так же задавленную трудом, как и мы, и ча-
стенько издыхающую в пути от усталости. Нас грабительски' ли-
шают наших полей и виноградников, превращая их в увеселитель-
ные дороги. Нас отрывают от сохи, чтобы разорить, и единственная
награда за весь наш труд состоит в том, что мы можем видеть, как
по нашей земле катят экипажи сборщика податей, епископа, аббата,
финансиста или знатного сеньора, и эти господа топчут ногами сво-
их коней землю, которая служит нам для пропитания». Я лишь то-
гда поверю в божественность феодальных прав, сказал однажды
Вольтер, когда увижу, что благородные рождаются со шпорами на
ногах, а крестьяне с седлами на спинах. В 1775 году он издает «От-
рывок из записки о полной отмене рабства во Франции».
Защита интересов крестьянства является одной из главных черт
всей исторической деятельности Вольтера как просветителя. Но не
следует забывать, что в лице крестьянина Вольтер защищает преж-
де всего собственника. Владение собственностью является в его
глазах отличительным признаком «здоровой части народной мас-
сы». Люди, лишенные собственности, говорит Вольтер, являются
опорой тирании и фанатизма. «Ведь отцы семейств, владеющие соб-
ственными домами, обыкновенно не разделяют религиозного оду-
шевления, а могущественные лица, часто издевающиеся над возни-
кающим суеверием, принимают его лишь тогда, когда могут вос-
пользоваться им в своих интересах и повести народ на привязи,
которую он сам для себя сделал».
Вольтер ссылается на социальную демагогию католической
церкви, и в этом страхе перед возрождением средневековой власти
духовенства над широкой массой забитых и темных людей — одна
из главных причин его недоверия к черни. Нельзя также упускать
из виду, что традиционное городское простонародье начала нового
времени при всех его анархических мятежах часто играло роль пре-
данной опоры самодержавия против вольнолюбивой знати и зажи-
точной буржуазии — отношение, до некоторой степени повторившее-
ся в плебисцитарных монархиях XIX века и далее.
Для Вольтера все вопросы сводятся к одному — уничтожению
феодальных порядков. Отсюда его обращение к самодержавной вла-
сти, просвещенному деспотизму, но отсюда также его боязнь тира-
нии, духовной или светской, опирающейся на фанатизм темных
масс. Всякое требование низов, идущее дальше формального равен-
ства перед законом (во имя уравнительного коммунизма или хотя
бы равенства мелкой собственности), является в его глазах реак-
ционным. Вместе с религиозной формой он отбрасывает также глу-
бокое социальное содержание первобытного христианства и других
подобных движений. Руссо с его обращением к религии страждущих
и угнетенных, с его критикой цивилизации, науки, театра кажется
Вольтеру основателем новой секты оборванцев, желающих разде-
лить имущество богачей и уничтожить блеск просвещения.
Не нужно доказывать, что этот взгляд несет на себе отпечаток
классовой ограниченности Вольтера. Среди просветителей именно
Руссо был человеком, ближе других стоявшим к плебейской массе.
Но, защищая прогрессивное мировоззрение, науку, искусство, веру
в успехи человеческого разума, Вольтер и его сторонники имели
свои основания. Ведь то, что думал Руссо, было народным по своим
истокам, но далеко не всегда народным по тем плодам, которые оно
несло французской нации. В его учении были и реакционные чер-
ты, а плебейское происхождение Руссо, его влияние на французскую
демократию конца XVIII века отнюдь не делают эти черты более
достойными уважения. Напомним, что Руссо требовал ссылки или
437
даже смертной казни для врагов религии. Это уродливое проявле-
ние социального протеста (спустя тридцать лет Конвент действи-
тельно казнил атеистов) поднимало ярость Вольтера против рели-
гиозного безумия.
15
В фернейский период Вольтер наиболее близок к французской
материалистической школе. «Философский словарь» является со-
бранием его статей, написанных для энциклопедии Дидро. Вольтер
поддерживал материалистическое учение о всеобщей закономерно-
сти в природе (вместо прежней «гармонии»). Естественные процес-
jgg сы совершаются по необходимым законам без всякого отношения
к нашим понятиям о добре и зле. Воля человека также определяет-
ся необходимостью. «Мы не более хозяева наших идей, чем крово-
обращения в жилах»,— пишет он мадам Дю Деффан в 1764 году.
Души не существует, а то, что мы называем сознанием, зависит
от устройства наших органов («Письма Меммия к Цицерону»,
1771).
Однако Вольтер не был полностью согласен и с материалиста-
ми своего времени. Все, что происходит в мире, имеет свою естест-
венную причину, но это не значит, что все оправдано. Теория есте-
ственной закономерности всего существующего в истории и природе
не должна переходить известной грани, которая делает ее только
оправданием того, что есть, апологией грубых фактов, лишенных
истины, нормы, идеального развития. Уже в полемике против опти-
мизма Лейбница и его английских последователей Вольтер писал:
«Если в моем мочевом пузыре образуется камень, то это образова-
ние происходит в полном согласии с природой, и точно так же в
согласии с природой действует врач при своем лечении; но если я
умираю при этом болезненном лечении, какая мне польза знать, что
я подчиняюсь неизменным естественным законам?» Преувеличивая
идею порядка в окружающем мире, сторонники Лейбница приходят
к оправданию зла, отказу от всякого недовольства жизнью. Ту же
опасность, но с другой стороны, Вольтер заметил в механистиче-
ском материализме XVIII века.
Материалисты стремились разрушить теологическое представле-
ние о разумном устройстве вселенной, которое часто служило дока-
зательством существования бога. В этом отношении их полемика
была справедлива и достигала замечательных результатов. Но во-
прос о взаимоотношении между человеческим разумом и природой
более сложен — его нельзя решить с точки зрения механистическо-
го материализма XVIII века.
Для Вольтера суть дела заключается в том, существуют ли в
самом ходе естественных процессов какие-то основания для наших
понятий положительного и отрицательного, нормального и болез-
ненного, извращенного, нарушающего порядок вещей? Гольбах в
«Системе природы» дает отрицательный ответ на этот вопрос. Он
отвергает всякую объективную разницу между порядком и беспо-
рядком, считая их только человеческими субъективными представ-
лениями, как субъективны, согласно теории механистического ма-
териализма, качества цвета, вкуса и запаха. Все в природе одина-
ково необходимо. Мы считаем что-либо нарушением правильности
лишь потому, что не знаем причин этого явления.
Вольтер заметил в теории Гольбаха род оправдания зла, капи-
туляции перед необходимостью. В 1771 году он возражает автору
«Системы природы»: «Как? В области физических явлений слепо-
рожденный ребенок, дитя без ног, урод разве не идет вразрез с
натурой человеческого рода? Этот беспорядок имеет, без сомнения,
свою причину: нет следствия без причины, но все-таки это следст-
вие представляет собой большое нарушение порядка». В области об-
щественных явлений Вольтер напоминает своему противнику Вар-
фоломеевскую ночь, резню в Ирландии, интриги и клевету служи-
телей разных сект и религий. «Разве это не гнусные беспорядки?
Эти преступления имеют свои причины в страстях, но их действие
отвратительно, причина их носит фатальный характер. Эта причи-
на заставляет нас содрогаться. Нужно лишь показать источник
этого беспорядка, но самый беспорядок налицо».
Пытаясь согласовать отрицательные явления жизни с материа-
листической системой всеобщей закономерности, Гольбах и его
друзья прибегали к старому софизму: зло необходимо для пользы
самих людей. В своих замечаниях на полях брошюры «Истинный
смысл системы природы» (1774) Вольтер отвергает эту идею, ко-
гда-то близкую ему самому. Другим обычным софизмом XVIII века
было оправдание бедности тем, что богачи страдают от пресыщения
и скуки. Бедные более счастливы, ибо у них нет подобных страда-
ний. «Тарабарщина»,— отвечает на это Вольтер.
Таким образом, ему удалось нащупать слабое место материа-
лизма XVIII века, его созерцательный характер, как принято вы-
ражать этот недостаток. Такой материализм легко превратить в
новое издание формулы доктора Панглоса — все хорошо, все оправ-
дано. Материализм является непобедимым оружием революции,
если он может доказать не только закономерную связь существую-
щих форм, но и необходимость их собственного отрицания, замены
их более высокими формами жизни. Таким революционным ору-
жием является материалистическая диалектика Маркса. До появле-
ния на исторической сцене рабочего класса, до Маркса и Энгельса
революционные партии не имели этого оружия. Вот почему мате-
риалистическая школа XVIII века, сыгравшая большую роль в деле
подготовки французской революции, была отвергнута партией Ма-
рата и Робеспьера. Вожди якобинской диктатуры считали материа-
лизм философией развратных богачей, и в этом преувеличении
была небольшая частица истины. Ведь именно жирондист Бриссо
и его соратники сохранили наследство материализма просветителей.
В таких противоречиях развивалась общественная мысль этой ре-
439
волюционной эпохи. Бюсты Гольбаха и Гельвеция были вынесены
из якобинского клуба примерно в то самое время, когда Екатерина
приказала удалить их из Эрмитажа.
Вольтер не более, чем его современники-материалисты, мог ука-
зать французской демократии ее действительное буржуазное со-
держание и семя классовой борьбы, которая неизбежно должна
была двинуть революцию дальше, за пределы буржуазного круго-
зора. Заметив слабую сторону «Системы природы», он отступает
назад, от материализма к религии. Его рассуждения о порядке и
беспорядке, добре и зле остаются в плоскости вечных проблем, а
в этой плоскости, как известно, все рассуждения бесплодны. Воль-
тер и сам это признает. Чтобы обосновать право человека на кри-
тику существующего порядка и возможность активного вмешатель-
440 ства людей в условия их собственной жизни, автор ответа на «Си-
стему природы» должен оставить почву материальной необходимо-
сти и обратиться к тем аргументам, которые он сам однажды назвал
бабьими аргументами.
Вольтер сознается в том, что у него не хватает научных доказа-
тельств против материализма. В теории он почти во всем согласен
с материалистами. Но дело, думает Вольтер, не в науке, а в сча-
стье. Для торжества справедливости на земле необходимо верить
в существование доброго бога, карающего людей за преступления
и награждающего их за хорошие поступки. Если исчезнет это уте-
шение, эта побудительная причина для действия, наш мир превра-
тится в настоящий ад. «Тот, кто кричит мне: «Вы плывете напрас-
но, гавани нет», лишает меня смелости и отнимает силы». Порази-
тельно, что рассуждения фернейского помещика очень близки к
доводам Робеспьера в пользу религии Верховного Существа. «Если
бы бога не было, его нужно было бы выдумать». Эту фразу Воль-
тера повторил Робеспьер в Конвенте.
Едва освободившись от веры в бога как просвещенного монарха
вселенной, управляющего посредством физических законов, Воль-
тер погружается в новую волну религиозных идей, которая подни-
малась накануне французской революции. Религиозный костыль
должен помочь философу перешагнуть через зияющую брешь в его
рассуждениях. Новая, буржуазная религия, пришедшая на смену
религии феодальной, носила менее добросовестный характер и до-
пускала, что существование бога не является фактом действитель-
ного мира. Это было утилитарное моральное богословие, которое
делит людей на две категории: умных и глупых, воспитателей чело-
веческого рода, или философов, которые втайне могут придержи-
ваться материализма, и всех остальных людей, которым подобный
уровень просвещения был бы, скорее, вреден.
Люди, стоявшие на левом фланге просветительского движения,
как Руссо, принимали новую моральную религию с энтузиазмом;
люди, подобные Вольтеру, далекие от уравнительных идеалов мел-
кобуржуазной демократии, выражали сущность дела* более откро-
венно и цинично. Так, у Вольтера моральный довод в пользу суще-
ствования бога нередко переходит в другой довод — полицейский.
Если «король-атеист более опасен, чем Равальяк-фанатик», если
придворные-атеисты — это хищные звери, то особенно следует опа-
саться проникновения подобных идей в народную массу. Философ,
проповедующий атеизм, говорит Вольтер, поступает неосторожно.
Это слишком тонкая музыка. В один прекрасный день публика
может разбить музыкальными инструментами головы самих му-
зыкантов.
Но, повторяя, что атеизм нужно держать в тайне от народа,
Вольтер говорил это слишком громко. Его рассуждения наглядны,
остроумны, подчеркнуты. Не так поступают настоящие циники и
лицемеры. Вспомним слова Маркса о Рикардо, которого либераль-
ные экономисты упрекали в безнравственности. Вольтера ненави-
дела феодальная реакция, его лицемерно осуждает и буржуазная 441
мысль. Это потому, что богатому мещанству всегда было неприятно
видеть, как изображаются во всей наготе отношения буржуазного
строя и раскрываются тайны имущего класса.
На основании собственных слов Вольтера легко составить про-
тив него обвинительный акт. Но характерно, что этим занимались
люди, далекие от классовой борьбы трудящихся или по крайней
мере не понимавшие ее действительного значения,— Луи Блан, ко-
торого Ленин сравнивал с нашим Керенским, умеренный немецкий
либерал Штраус, либеральный народник Михайловский. На родине
Вольтера, во Франции, до сих пор появляются сенсационные разоб-
лачения вроде биографии, изданной Шарпантье с целью доказать,
что Вольтер был трусливым маленьким буржуа, которого только
счастливый случай сделал «ремесленником буржуазной революции».
В 1944 году в реакционном журнале «Каррефур» была напеча-
тана статья «Здесь погребен Вольтер». Автор задает вопрос: «Как
мог этот злобный и ограниченный капиталист стать одним из куми-
ров революции, то есть исправления человечества, и почему он
остается кумиром до наших дней?» Современный капиталистиче-
ский класс поощряет эти декадентские выпады против революцион-
ной традиции в литературе и общественной мысли.
Действительную роль Вольтера можно определить словами
В. И. Ленина: «Нельзя забывать, что в ту пору, когда писали про-
светители XVIII века (которых общепризнанное мнение относит
к вожакам буржуазии), когда писали наши просветители от 40-х до
60-х годов, все общественные вопросы сводились к борьбе с кре-
постным правом и его остатками. Новые общественно-экономиче-
ские отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом
состоянии. Никакого своекорыстия поэтому тогда в идеологах бур-
жуазии не проявлялось; напротив, и на Западе и в России они со-
вершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно же-
лали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) про-
тиворечий в том строе, который вырастал из крепостного» *.
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 520.
Если Вольтер замечает темные стороны буржуазного строя, он
говорит об этом с откровенностью, недоступной позднейшим идео-
логам буржуазии. В обществе, основанном на частной собственно-
сти, просвещение является достоянием богатых. «Мне кажется
очень важным, чтобы существовали невежественные бедняки»,—
сказал однажды Вольтер. Буржуазное равенство перед законом
предполагает неравенство классов — в нашем несчастном мире,
пишет Вольтер, это зло неистребимо. Лучшая политическая фор-
ма— демократическая республика; тем не менее, по словам Воль-
тера, она, увы, является только мечтой — «в государстве деньги ре-
шают все». Вольтер превращает эти противоречия в неразрешимые
парадоксы человеческой природы и все же зовет вперед, хотя бы
слепо, на ощупь. Он признает, что за пределами буржуазного идеа-
442 ла остается много неясных вопросов, но лучше открыто сознаться
в своем невежестве, чем обманывать себя и других. Последнее сло-
во Вольтера обращено к практике, деятельности, однако практика
здесь — только убежище от душевного беспокойства: труд приносит
облегчение, он помогает забыть темные стороны жизни. «Будем ра-
ботать, не рассуждая, это единственное средство сделать жизнь
сносной»,— говорит один из героев романа «Кандид».
Бесспорно, что Вольтер гораздо слабее в своей положительной
программе, чем в своем отрицании. Его оружие — критика. Оружие
критики, созданное великим писателем, было слишком острым для
ограниченных буржуазных взглядов, которым оно пролагало доро-
гу. Самое ценное в наследстве Вольтера — неутомимый дух иссле-
дования, который пробует все, подрывает все устойчивые основания
для самодовольства, издевается над тупой односторонностью и не
щадит любимых иллюзий самого писателя. Его не раз обвиняли в
излишней склонности к отрицанию. Это несправедливо. Отрицание
Вольтера никогда не бывает пустым, подрывающим веру в суще-
ствование хотя далекой от нас, но безусловной и объективной исти-
ны. Он никогда не зовет назад, к утраченной простоте, твердо сто-
ит на почве реальности и остается историческим оптимистом даже
в своих сомнениях.
16
Та же высокая мужественность и революционная энергия отли-
чают Вольтера как писателя. Его главное оружие — смех, беспо-
щадный, уничтожающий. Все, что не выдерживает проверки смехом,
разоблачается как подделка истины. «Смех Вольтера разрушил
больше плача Руссо»,— справедливо заметил Герцен.
Со времен романтизма начала XIX века принято думать, что
Вольтер был чужд поэзии. Против этого взгляда (существующего
и в настоящее время) достаточно выдвинуть авторитет Пушкина
и Гёте — двух величайших поэтов мира. Оба они ценили лирику
Вольтера. Для более крупных литературных жанров поэтический
фон может дать только эпоха широких народных движений. Этот
источник поэзии оживил мировую литературу в годы французской
революции. Время Вольтера было невыгодно для поэтического твор-
чества, это так. Но в пределах возможностей своего времени он
сумел найти живое зерно действительности, которое придает свое-
образную прелесть его поэтическому искусству.
После суровой дисциплины классицизма XVII-гвека, связанного
с абсолютной монархией, Вольтер выдвигает на первый план чувст-
венный опыт отдельного человека, право наслаждения жизнью и
право восстания против несправедливости. В эпосе он переходит
на почву действительной истории, отбрасывая мифологические кра-
соты, в лирике требует движения мысли и отсутствия всякого же-
манства, в трагедии ищет сильных страстей, смелости и героическо-
го энтузиазма. Театр Вольтера создал тот ораторский стиль, кото-
рым пользовались деятели революции 1789 года. Трагедии «Брут»
и «Смерть Цезаря» имели громадный успех на сцене первой фран-
цузской республики. Шедевр всей драматургии Вольтера — траге-
дия «Заира» (1732) — отчасти напоминает «Отелло», но заключает
в себе другую мысль — конфликт гуманного чувства с предрассуд-
ками, разделяющими народы. Эти кровавые предрассудки были за-
креплены религией. Неудивительно, что пьесы Вольтера насыщены
полемикой против религиозного фанатизма. Его «Магомет» являет-
ся иллюстрацией к общей мысли философа, не лишенной историче-
ского основания. Важным источником возникновения религии яв-
ляется для него социальная демагогия властолюбивых спасителей
мира, ищущих себе опоры в невежестве черни, которую они обма-
нывают призраком общественной справедливости.
С нашей современной точки зрения пафос вольтеровских траге-
дий устарел, как устарели театральные эффекты, присущие буржу-
азной революции XVIII века. Гений Вольтера был скован классо-
вой узостью его идеала и мог возвыситься над прозой своего
содержания лишь посредством условности, формальной абстракции.
Отсюда возрождение классицизма в литературной деятельности ве-
ликого французского просветителя. Его эстетическая теория колеб-
лется между свободой чувства и рациональной системой норм пре-
красного.
С течением времени, особенно во вторую половину века, в поэти-
ческом мировоззрении Вольтера растет элемент «чувствительности».
Там, где передовая мысль эпохи Просвещения искала более глубо-
ких причин социальной несправедливости и зла, чем сословное угне-
тение, она расплывалась в неясном трагическом чувстве, которое
обычно зовут сентиментализмом XVIII столетия. Некоторые про-
изведения Вольтера, как философский роман «Простак», трагедии
«Олимпия», «Скифы», содержат развитие этого эстетического эле-
мента. Но вместе с ростом «чувствительности» растет и очищается
также классицизм Вольтера. Об этом свидетельствует ряд трагедий
на античные сюжеты (от «Меропы» до «Агафокла»).
Как художник Вольтер сильнее всего именно там, где на пер-
вый взгляд образ кажется только внешней оболочкой мысли —
443
в философских романах и повестях. Проза Вольтера является вы-
соким образцом реализма, близкого к реализму Свифта. Здесь
меньше всего можно говорить о внешнем правдоподобии картин,
изображающих явления природы и общества; образы Вольтера во-
площают реальность общих законов и отношений действительного
мира. Для литературного анализа этих абстрактных элементов ну-
жен, однако, чувственный материал. И Вольтер находит его в про-
стом перечислении фактов, которые только упоминаются, но созда-
ют необычайно пестрый и подвижный фон его повествования.
Проза жизни обильно снабжает Вольтера поэзией. Это поэзия
науки, бесконечная перспектива множества миров и хтран, разно-
образие обычаев, хроника событий, превратности современной по-
литики и личной судьбы. Сквозь весь этот поток чувственного мно-
444 гообразия просвечивает единство мысли. Каждый роман Вольтера
является превосходно рассказанной притчей и поучением, но при
всей насыщенности содержанием в этих наглядных уроках филосо-
фии нет ничего похожего на холодные аллегорические схемы. Мень-
ше всего сказываются в них обычные недостатки вкуса эпохи Про-
свещения— чувственное и рациональное, временное и постоянное
связаны в романах Вольтера более глубоко, более естественно.
Главным действующим лицом прозы Вольтера является необхо-
димость, закономерная связь вещей, которую он, в духе механисти-
ческого материализма XVIII века, отождествляет с могуществом
случая (или судьбы). В тисках необходимости трепещет и бьется
живое сердце разумного существа, способного задавать вопросы;
почему и зачем? Человек Вольтера прежде всего — чистая восковая
доска, на которой поток обстоятельств чертит свои письмена. Это
«опыт» Локка в образе простосердечного наблюдателя — как гу-
рон, попавший в страну французов, Кандид или господин Андре.
Человек удивляется несообразностям жизни, заставляющим его
страдать, он способен также выдвигать гипотезы и делать экспери-
менты, чтобы выяснить правильность той или другой философии.
В конце концов он приходит к выводу, что настоящее призвание
человека — не в пассивном созерцании, а в деятельном труде.
Но деятельность, собственно, остается за пределами романа; его
граница — это спокойная гавань, конец душевным волнениям. Толь-
ко в рамках исторического развития деятельность человека может
стать источником поэзии. События, описываемые Вольтером, соб-
ственно говоря, вне истории. Человек является здесь игрушкой есте-
ственных сил, малой песчинкой, затерянной среди величественного
пространства природы. Поэзия времени почти незнакома эпохе
Вольтера, как незнакомо ей историческое понимание природы и об-
щества. И все же классический реализм XIX века многим обязан
философскому роману Вольтера. Стендаль и Бальзак нашли в нем
зародыш своих психологических экспериментов — драму мысли сре-
ди антагонизма общественных сил и отношений.
В 70-х годах слава Вольтера достигла высших пределов. Коро-
левская власть была уже основательно расшатана, и «фернейский
отшельник» мог, невзирая на старое запрещение, совершить путе-
шествие в столицу Франции. Его пребывание в Париже весной
1778 года превратилось в настоящий триумф.
Среди радостных волнений этой весны Вольтер почувствовал
себя дурно. Он умер в Париже 30 мая 1778 года. Церковь сделала
все, чтобы отравить ему последние дни — она добивалась покаяния.
Но Вольтер, который всегда отказывался признать себя атеистом,
в последний момент отказался от услуг священника: «Дайте мне
спокойно умереть». Его похоронили тайком, вопреки церковному
запрещению, за пределами столицы. Во время французской рево-
люции прах Вольтера с торжеством был перенесен в Пантеон. Суще-
ствует легенда о том, что в 1814 году, когда реакция подняла голо-
ву, шайка «золотой молодежи» опустошила его гробницу.
Среди писателей XVIII века были люди, превосходившие Воль-
тера смелостью своих политических и философских идей. Но фран-
цузская литература, богатая революционными традициями, не знает
имени более оскорбительного для слуха врагов демократии, чем имя
Вольтера. Они ненавидят его, и книжные рассуждения об умерен-
ности великого просветителя не охладили эту ненависть.
Интересна судьба статуи Вольтера на набережной Малаке в Па-
риже. В 1870 году французские клерикалы подняли страшный шум
против открытия этого памятника — под тем предлогом, что Воль-
тер состоял на службе у немца Фридриха. А семьдесят лет спустя
статуя Вольтера была сброшена с пьедестала и отправлена в каче-
стве лома на военный завод. Когда возник вопрос о замене всех
снятых металлических памятников фигурами из камня, министр
петеновского правительства вычеркнул имя Вольтера с приложе-
нием следующей резолюции: «Вольтер?—Он не существует».
Среди громадных событий нашего века Вольтер продолжает вол-
новать сердца, вызывать любовь и ненависть. Значит, есть за что
любить и ненавидеть.
СОДЕРЖАНИЕ
ИЗ ИСТОРИИ ЭСТЕТИКИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
Джамбаттиста Вико 4
П р и л о ж е я и е
Дополнения к статье «Джамбаттиста Вико» 29
Иоганн Иоахим Винкельман и три эпохи буржуазного мировоззрения 57
Литературное наследство Гегеля 114
Эстетика Гегеля и диалектический материализм 140
Философские взгляды Чернышевского 163
Приложение
Франческо Гвиччардини 180
ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ
Ленинизм и художественная критика 186
Против вульгарной социологии. Критические заметки 197
В чем сущность спора? 226
Вульгарная социология 233
Приложение
Народность искусства и борьба классов 245
ЛИТЕРАТУРНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОЧЕРКИ
Художественный метод Бальзака 294
Вольтер — мыслитель и художник............................349
Лифшиц Мих.
Л 64 Собрание сочинений./В 3-х томах. Том 2.— М.: Иаобраз.
искусство, 1986. — 448 с.
В пер.: 2 р. 50 к. 15 000 экз.
Во второй том‘ вошли произведения, относящиеся к тому литературному жан-
ру, который можно назвать философско-исторической публицистикой. Они напи-
саны в основном за период с 1930 по 1940 год. Это очерки по истории общест-
венной мысли, причем главное место занимают в них вопросы искусства в широ-
ком смысле слова. Большинство статей касается различных сторон идейного
наследства прежних эпох. В отдельном разделе собраны статьи, сыгравшие боль-
шую положительную роль в борьбе с вульгарной социологией.
0302040000-114
024 (01)-86 подписное
ББК 87.8
7
Михаил Александрович Лифшиц
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ II
Зав. редакцией И, И. Березина
Редактор А. М. Ковалев
Художник А. И, Зазыкин
Художественный редактор В. М. Мельников
Технический редактор В. Ю. Осипов
Корректоры Л. Af. Гордеева, С, В. Козлова
ИБ № 821
Сдано в набор 27.11.84. Подписано к печати 25.10.85. А 10206. Изд.
X? 20-222. Формат бОхЭО1/^- Бумага тип. № 1. Гарнитура академическая.
Печать офсетная. Уел. печ. л. 28 4- прикл. 0,063 п. л. Уч.-изд. л. 31,47.
Тираж 15 000 экз. Заказ № 547. Цена 2 р. 50 к.
Издательство „Изобразительное искусство1*
129272, Москва, Сущевский вал, 64
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО
„Первая Образцовая типография’1 им. Жданова Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книж-
ной торговли. 113054, Москва, Валовая,28
Отпечатано с готового набора в Московской типографии № 4 Союзполиграф-
прома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полигра-
фии и книжной торговли. 129041, Москва, Б. Переяславская, 46. Заказ 2092.