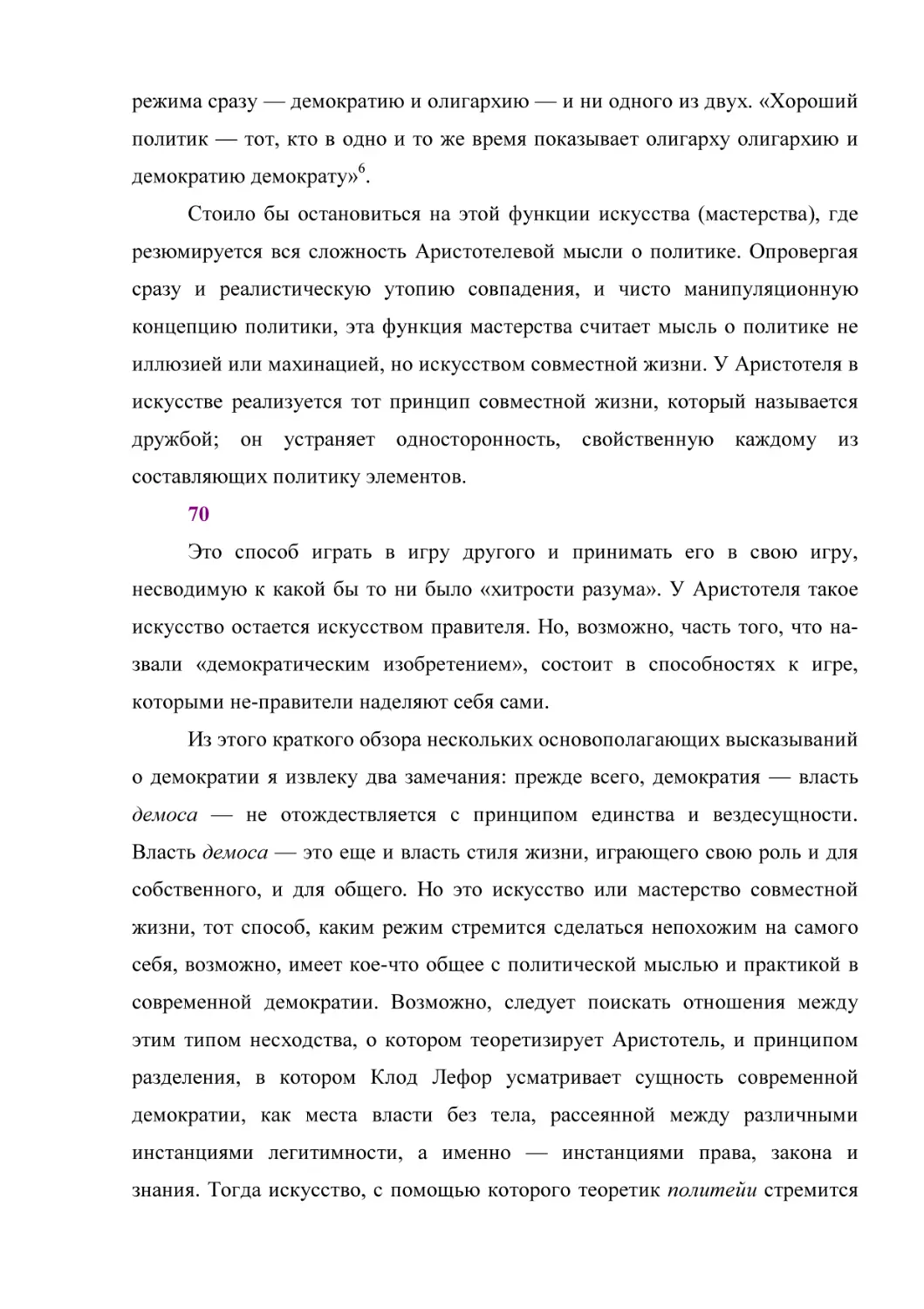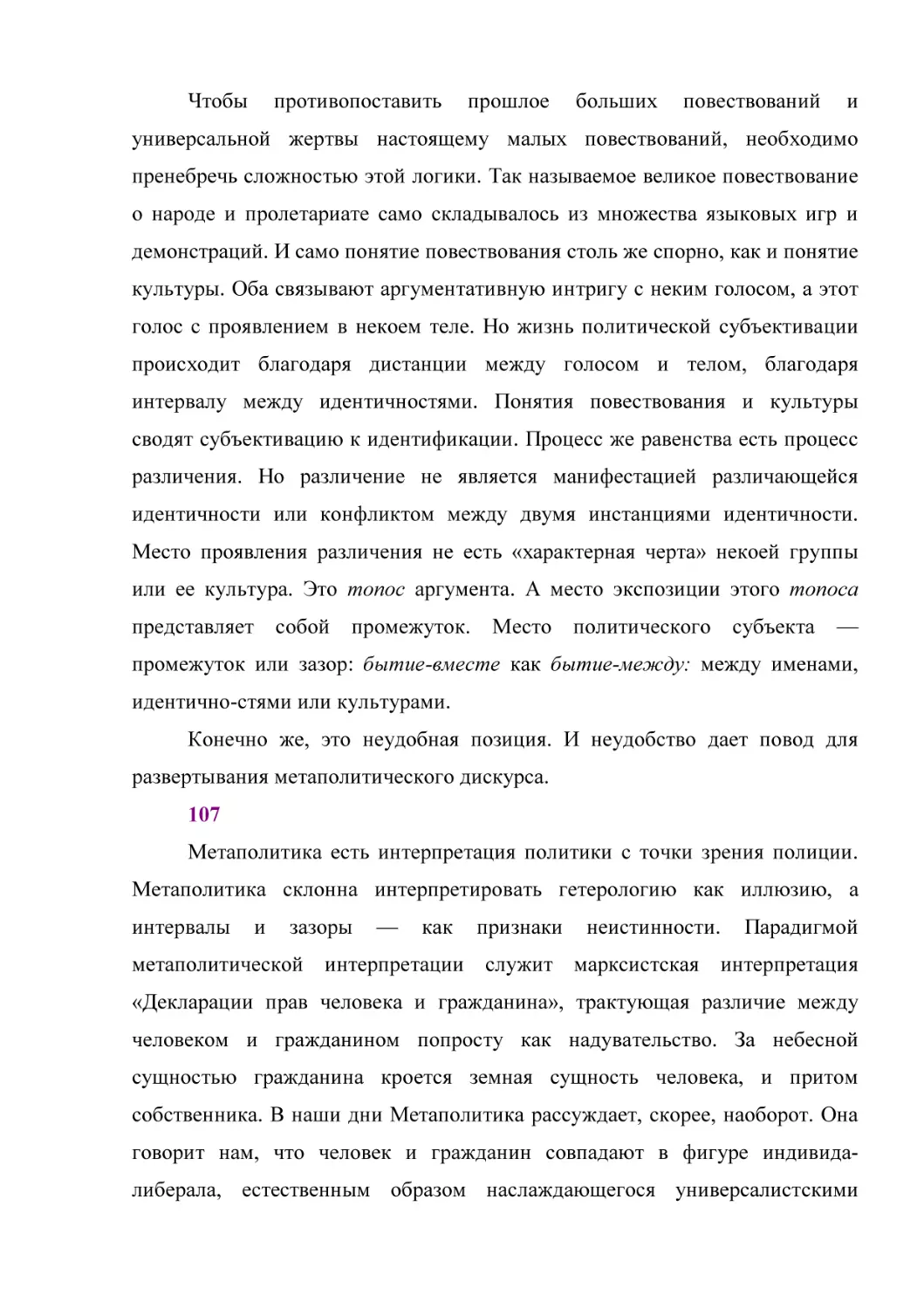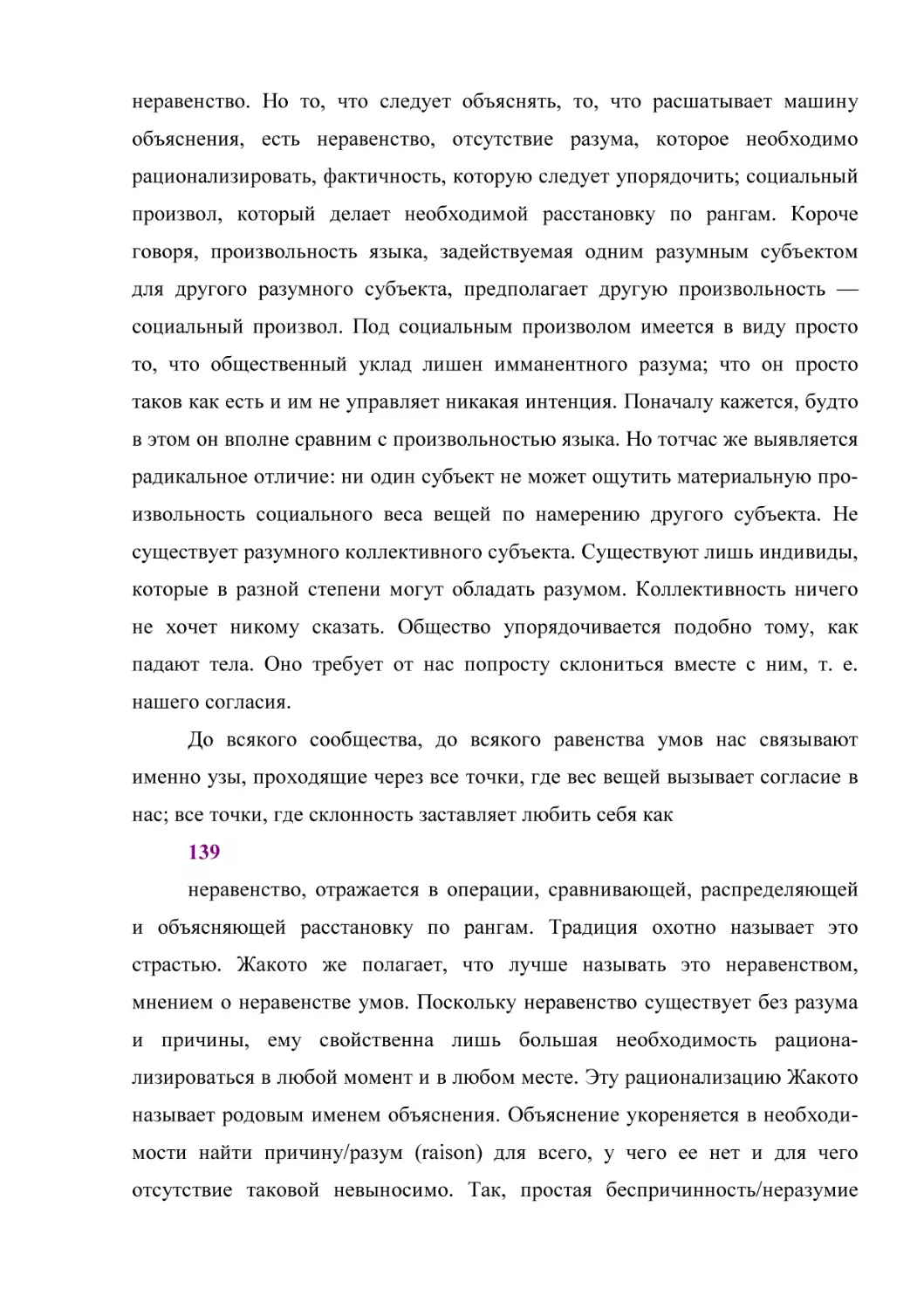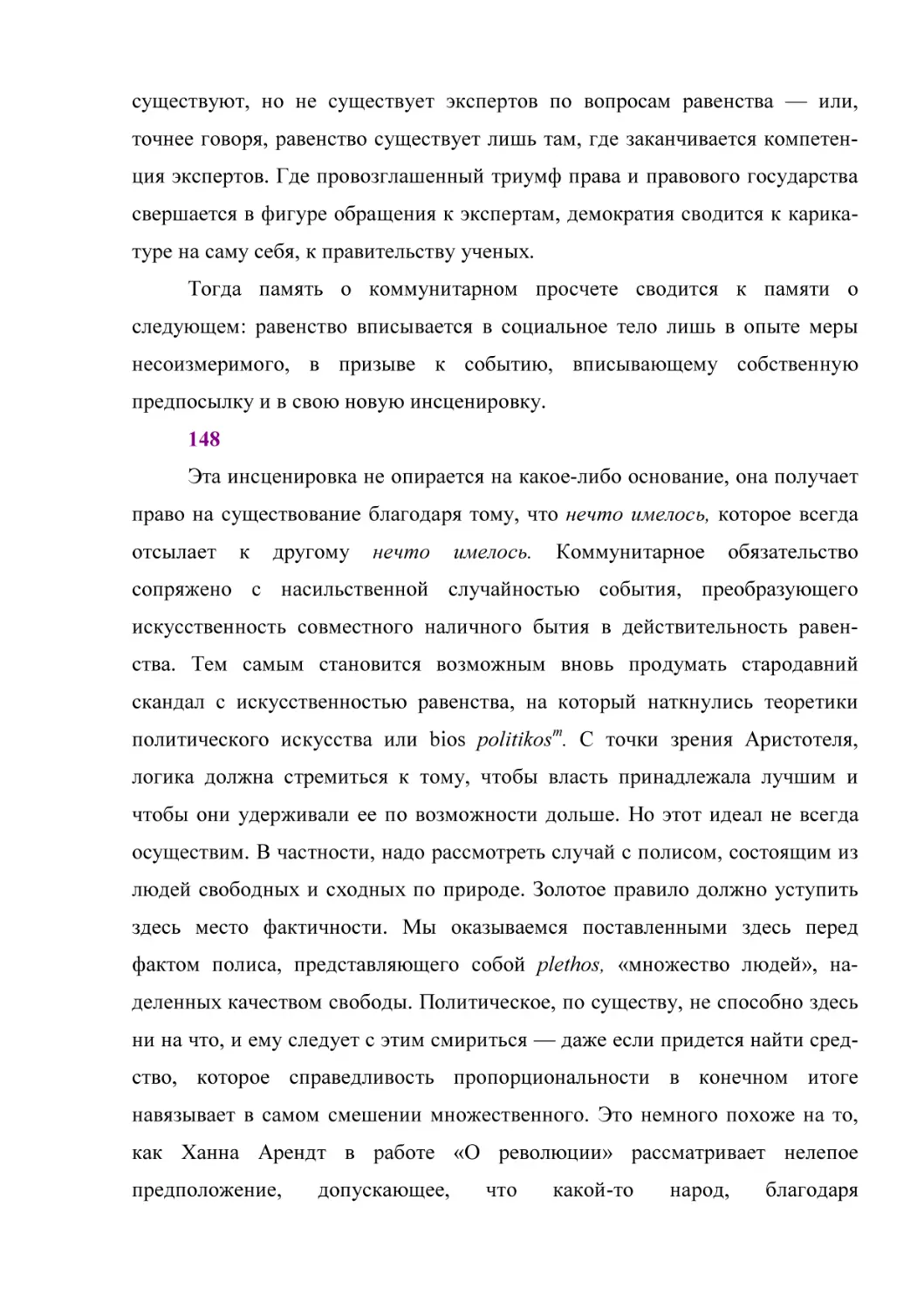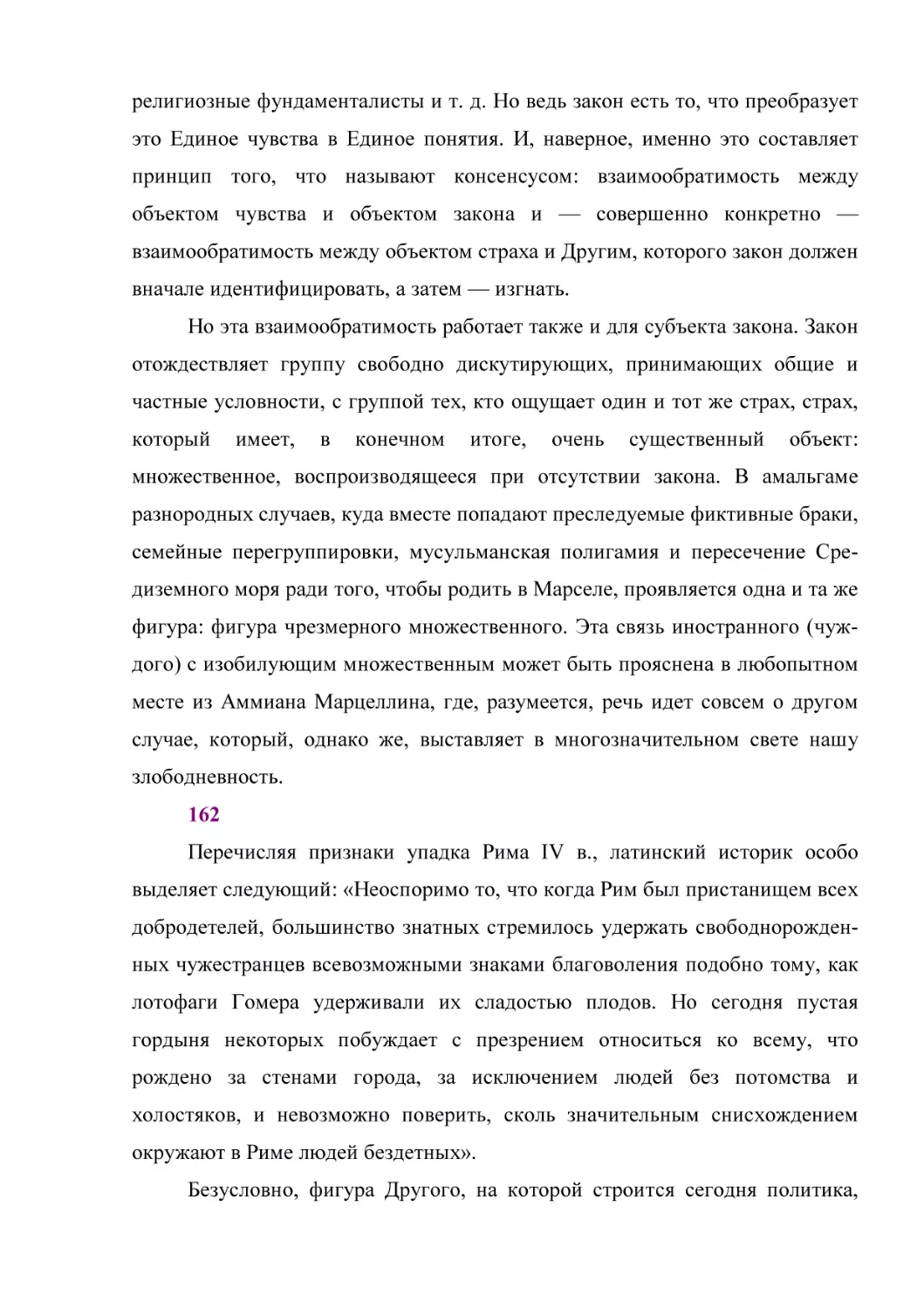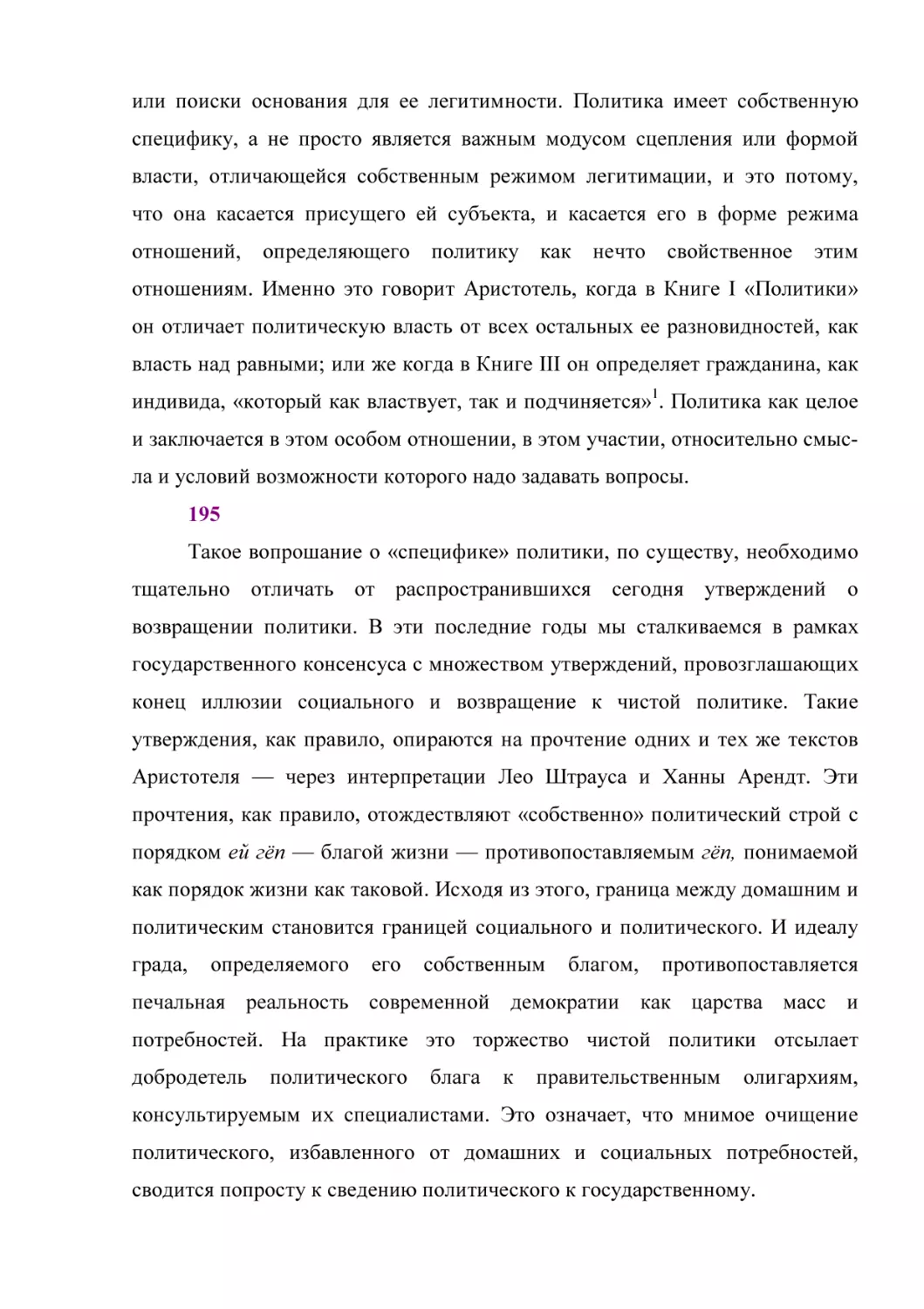Текст
Рансьер Жак
На краю политического
ББК 87.3 Р22
Р22
Рансьер Жак
На краю политического / Пер. с франц. Б. М.Скуратова. — М.: Праксис, 2006.
— 240 с.
ISBN 5-901574-55-9
Книга известного французского философа Жака Рансьера представляет собой
сборник очерков, посвященных ключевым проблемам современной политической мысли.
Через все рассматриваемые в сборнике проблемы красной нитью проходит мысль об
исчерпанности традиционных подходов к осмыслению политики и о необходимости такой
концептуализации этого феномена, которая не скатывалась бы ни в либеральное
самодовольство, ни в пожирающий самого себя пессимизм, провозглашающий тщетность
любого политического действия.
БВК 87.3
ISBN 5-901574-55-9
©
© La Fabrique editions, 1998 © Б. М. Скуратов, пер. с франц., 2006 © А. Кулагин,
оформление обложки, 2006 Издательская группа «Праксис», 2006
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
7
Часть первая. От политического к политике
19
Конец политики, или реалистическая утопия
21
Использование демократии
Политическое, идентификация, субъективация
Часть вторая. Сообщество и его внешнее
65
99
111
Сообщество равных
113
Недопустимое
153
Дело другого
177
Часть третья. Десять тезисов о политике
193
Источники текстов
223
Примечания
225
От переводчика
235
ПРЕДИСЛОВИЕ
Представляя данное переработанное и дополненное издание книги «На
краю политического», необходимо прежде всего охарактеризовать этапы
работы,
изменившей
сам
смысл
названия.
Первое
издание
книги,
опубликованное в 1990 г. и включавшее три текста, написанных между 1986
и 1988 гг., помещало вопрос о границах политического в контекст
политической и теоретической ситуации, отмеченный навязчивой темой
конца. В тысячах университетских речей и речах государственных деятелей
на все лады воспевался конец, которому суждено наступить после утраты
иллюзий истории или революции. Иногда в этих речах политическое
причислялось
к
числу
отживших
древностей.
Иногда,
наоборот,
провозглашалось возвращение политического. Но все это делалось ради того,
чтобы возвестить одно: отныне политика избавлена от всякого обетования
общественной эмансипации,
от
всякого горизонта
эсхатологического
ожидания. Она-де вернулась к своей природе осмотрительного управления
интересами сообщества. Губительное равенство уступало место расчету
экономически выгодного и социально терпимого равновесия. Демократия,
наконец-то преодолевшая свои революционные истоки, оказалась сведена к
основанному на мнении большинства консенсусу относительно равновесия
интересов сообщества и его различных частей.
Между
тем
этот
пресловутый
триумф
административного
благоразумия сопровождался странными явлениями.
7
В частности, во Франции новый разгул расистских и ксенофобских
страстей бестактно заглушал гул официальных речей, возвещавших конец
архаических конфликтов. Итак, на территории конца начала вырисовываться
новая сцена истоков. Это возвращение дополитической ненависти на сцену,
занятую хорами постполитической мудрости, изобличало приверженность
мыслителей «конца» тому телеологическому взгляду на историю, который
они собирались преодолеть. Оно свидетельствовало о том, что все эти
притязания на реалистичность вполне укладываются в определенную
метафорическую топографию политики. Тем самым возвращение дополитической ненависти приглашало нас сдвинуть вопрос об истоках и конце
политики по направлению к общему вопросу о ее «краях», т. е. о различных
способах наблюдения за разграничением ее территории, полаганием ее
границ, встречей с ее безднами. Это означало еще и возвращение к
основополагающим метафорам: к великой битве между морем демократии и
землей истинного у Платона; к Аристотелевым умозрениям о совпадении
между равновесием конститутивных принципов полиса и конкретным
распределением его пространств.
Исходя из этого, оказалось возможным пересмотреть понятийные и
временные разделения, навязывавшиеся дискурсами о конце в качестве само
собой разумеющихся вещей. Иными словами, появилась возможность
переосмыслить представления о демократии, равенстве или сообществе,
приняв двойную дистанцию: с одной стороны, по отношению к тем, кто
поздравлял себя с новым курсом разумной демократии, хороня безумные
эгалитарные утопии и распри классовой борьбы, а с другой сто8
роны, — по отношению к тем, кто видел здесь новое доказательство
лжи демократической формы и эгалитарной риторики, прикрывающих
реалии классовой эксплуатации. Речь шла о том, чтобы, дистанцируясь как от
тех, кто был удовлетворен деполи-тизацией, так и от тех, кто испытывал
ностальгию по изобличению политической лжи, нащупать третий путь —
путь критики господствующих идентификаций и оппозиций. В ответ на
изобличения эгалитарного тоталитаризма я задался целью в статье
«Сообщество равных» продемонстрировать внутренне проблематичный
характер связи между эгалитарным принципом и всякой инкорпорирующей
моделью сообщества. Столкнувшись с теми, кто испытывает ностальгию по
«власти народа», или с теми, кто обвинял ее в прошлых заблуждениях;
столкнувшись с изобличителями формальной демократии и с теми, кто был
удовлетворен демократией либеральной, я отметил в статье «Использование
демократии», что «власть народа» никогда не была явленностью самому себе
некоего тотализирующего субъекта и что формы или видимость демократии
не были ни покровом, наброшенным на эксплуатацию, ни юридическими
формами разумного управления общими интересами. А в статье «Конец
политики» было показано, в какой степени так называемый конкретный
анализ и новая мудрость нашего fin de siecle бесхитростно воспроизводили
самые что ни на есть стародавние формы описания и решения политической
философии. Модные речи о массовой демократии и о связях политического
плюрализма
с
приумножением
наслаждений,
предлагаемых
рынком,
попросту воплотили платоновский портрет демократического человека. А
новый реализм основанной на
9
консенсусе
демократии
просто
заменил
различные
формы
соглашений, посредством которых Аристотель стремился отделить демос от
него самого. «Конец политики» стал конечной формой деполитизации
политического, являвшейся с самых истоков парадоксальным принципом
политического искусства. Возникновение новых архаизмов, сопровождавшее
широковещательные декларации об умиротворенной современности, на
самом деле свидетельствовало всего-навсего о границах «психологии», на которой зиждилось само это искусство. В своем умиротворении политики
постмодернистская мудрость исходила из старой аристотелевской формулы:
из «социальной» полимеризации возмущающих аффектов множественности.
Но тогда научное управление рассредоточенными формами наслаждения
столкнулось с тем, что классическая психология политического не могла или
не хотела познавать: со страстями исключающего Единого, оказавшимися
примитивнее
и
множественностью.
опустошительнее,
И
вот,
апория
нежели
все
политического
неприятности
побудила
с
нас
переосмыслить политическое как топос мудрости, которой обладала
анархическая и конфликтная мощь множественного.
Но пересмотр политического не был простым возвращением к его
изначальным понятийным берегам; одновременно он оттенял еще и
свойственные
этому
понятию
двусмысленности.
Если
политическое
навязывало себя в качестве философского объекта мысли, то это
происходило, вероятно, потому, что это нейтральное прилагательное удобно
обозначало разрыв с существительным политика в его обычном смысле
борьбы партий за власть и осуществления этой власти.
10
Разговор о политическом, а не о политике, означает, что мы говорим о
принципах закона, власти и сообщества, а не о правительственной кухне. Но
нет никакого смысла в отделении философского прилагательного от
обычного
существительного,
если
это
происходит
для
усиления
двусмысленностей существительного. Заслуга слова политика, по крайней
мере, в том, что им обозначается некая деятельность. А вот политическое задает себе в качестве объекта инстанцию обыденной жизни. Но это по
видимости
скромное
положение
на
самом
деле
включает
в
себя
предположение, из-за которого возникает вся проблема. Оно предполагает,
что практика управления, юридические кодексы, управляющие жизнью
коллективов и действиями борющихся групп, подчиняются одному и тому же
принципу, одной и той же идее «совместной жизни». И тогда мы видим два
способа постижения этого единства. Либо мы объясняем его сущностью человеческого сообщества в целом, общим благом, к которому таковое
сообщество должно стремиться, или меньшим злом, защищающим его от
мучительных страстей. Либо же мы рассматриваем эту инстанцию как
выражение некоего образа жизни или какого-либо типа общества. В обоих
случаях узел политического вопроса оказывается сведенным к точке
пересечения между практиками управления и формами жизни, полагаемыми
в качестве их основания. Этот узел сводится к вопросу о власти, к
основополагающим страстям, поддерживающим отношения между го-
сподством и рабством, или к модусам жизни, наделяющим эти отношения
тем или иным стилем. И тогда мысль о политическом колеблется между
двумя полюсами: психологической трагедией страстей любви и ненависти,
страха и жалости, рабства и господства,
11
которую при случае сменяет великая теолого-политическая драма, — и
социологической комедией нравов, которые господствуют над той или иной
формой законов и власти, комедией, которую при случае сменяет этика или
феноменология «совместной жизни». Тем самым ход размышлений книги
«На краю политического» подчинился условиям своего объекта, тому, что
навязывала понятийная логика этого объекта; а навязывала она мысль
политического искусства, которое умиротворяет сообщество хитроумным
улаживанием страстей множественного, с одной стороны, и мысль
демократии как стиля жизни, руководящего известным стилем политической
сплоченности, с другой. Этот ход размышлений стремился довести до
собственного предела и даже перелицевать каждую из упомянутых мыслей: в
ухищрениях, с помощью которых Аристотель воображает, будто поправляет
демократию, он искал принцип уловок, посредством которых сама
демократическая практика сопротивляется законам господства и отвергает
страсти коллективной ненависти. Из платоновской теории демократии как
стиля жизни упомянутый ход размышлений стремился извлечь принцип общего опровержения
критики
«формальной
демократии» и
сведения
демократии к паре «либеральная демократия — правовое государство». Тем
самым была предпринята попытка обратить против нее самой логику,
присущую традиции политической философии в том виде, как ее можно
выразить в нескольких существенных положениях: политика есть искусство
управления жизнью сообществ; демократия есть стиль жизни людей
множественного;
политика
есть
искусство
преобразовывать
демократического множественного в принцип жизни сообщества.
12
закон
Но эта логика необратима. Ее переворачивание оборачивается
разрывом. Необходимо утверждать два основополагающих контрпринципа:
политика — не искусство управлять сообществами, это форма человеческого
действия, основанного на разногласии, исключение из правил, согласно
которым осуществляется сплочение человеческих групп и руководство ими.
Демократия не является ни формой управления, ни стилем общественной
жизни; это режим субъективации, в котором существуют политические
субъекты. Это двойное контрутверждение предполагает разрыв с идеей
политического как сущностью совместного бытия. Оно предполагает
отделение мысли о политике от мысли о власти. Именно такое отделение я
стремился обосновать в статье «Политика, идентификация, субъективация»,
отделяя полицию1, как искусство управления сообществами, от политики как
проведения
в
жизнь
идеи
равенства.
Эта
диссоциация
позволяла
предоставить политическому более отчетливо очерченный статус: политическое становилось местом противостояния двух принципов полиции и
политики, системой форм, в которых первая оказывается привязанной ко
второй.
Как раз эти понятия я пытался с тех пор разрабатывать в
систематической форме в книге «Разногласие»2. Именно их я попытался
резюмировать в десяти «Тезисах о политике», разработанных в 1996 г., т. е.
спустя десять лет после публикации самого раннего текста из этого сборника,
«Использование демократии». Тогда заглавие «На краю политического»
обозначает не просто движение, которое возводит темы воображаемого3
«конца
политики»
к
обобщенному
исследованию
метафорической
топографии политического. Тем самым оно обозначает эволюцию
13
мысли, вынужденной влачить за собой это двусмысленное понятие
политического и в конце концов отказывающейся от своего единства, ради
того, чтобы попытаться осмыслить условия возникновения и распада тех
конкретных форм субъективации, которые время от времени — поверх
законов господства и уставов, руководящих коллективами — способствуют
существованию
такой
сингулярной
фигуры
человеческого
действия:
политики как основанного на разногласии обозначения разделения ощутимого, используя которое, господство навязывает ощутимую очевидность своей
легитимности; демократии как парадоксальной власти тех, у кого нет права
осуществлять власть.
Между текстами, собранными восемь лет назад, и теми тезисами, в
каковых синтезируется то, что, как я полагаю, сегодня можно сказать о
политике, я вставил три эссе, опубликованные в промежутке в разных
местах. В «Политике, идентификации, субъективации», тексте, возникшем
благодаря приглашению к участию в 1991 г. в американской дискуссии по
вопросу
об
идентичностях,
я
предложил
несколько
принципов
перераспределения понятий политического и политики, а именно —
несколько принципов интерпретации политической субъективации как
специфического режима субъективации. Мыслить политическое фактически
означает мыслить природу и действия его особого субъекта — вместо того,
чтобы выводить их из некоей общей теории субъекта, которая всегда сводит
их к вопросу о субъекте власти. «Дело другого», текст, возникший в
результате дискуссии об Алжире, состоявшейся в 1995 г., рассматривает
частный случай принципов этой субъективации, то, что я назвал включением
невозможной идентификации.
14
Текст «Недопустимое» возник благодаря встрече двух, на первый
взгляд, независимых событий: дню чествования творчества Жана Боррея,
состоявшемуся в июне 1993 г., т. е. тогда, когда образовался обширный
консенсус вокруг законов Паскуа об иммиграции и национальности. Мне
показалось, что это совпадение благоприятствует размышлениям о границах
политики и литературы, о способах, какими одна и другая сходятся между
собой в противостоянии тому объекту, какой по определению невозможно
включить в нашу эпоху, — и его торжественно из нее исключают благодаря
мудрости некоего премьер-министра-социалиста: «вся нищета мира».
Были
также
тексты,
написанные
по
случаю,
как,
например,
«Использование демократии», — речь, произнесенная в 1986 г. на
коллоквиуме о демократии, проведенном в Чили, где еще действовал комендантский час; в это же время студенческое и лицейское движение против
отбора учащихся вывело сотни тысяч манифестантов на парижские улицы;
или еще «Конец политики», текст, прочитанный в 1988 г. на франкобразильском коллоквиуме на вневременную тему власти, текст, который
актуальные события превратили в конкретный комментарий к проведению
текущих президентских выборов. Аналогичным образом развитие нового
расизма во Франции или этническая война в Боснии послужили отправными
точками
для
нескольких
подобных
работ.
Давать
анализ
границ
политического означает также изучать способы, посредством которых
распорядители
общественного
мнения
используют
конкретные
обстоятельства ради того, чтобы остановить течение так называемых
политических дел, — дел, каса15
ющихся заинтересованных лиц в правительстве, — и поставить вопрос
о том, что может означать само «политическое». И, может быть, политика в
целом состоит в том, чтобы вычертить на поверхности, занятой непрерывным
управлением экономическими интересами и социальным равновесием,
контуры действий и целей, присущих политическому.
Эта идея обстоятельств предписывает определенное использование
собранных таким образом текстов. Каждый текст можно рассматривать как
особую сценическую постановку, цель которой состоит в том, чтобы
представить некий «вопрос дня», чтобы выявить то, что важно для самой
идеи политики как особого модуса человеческой деятельности. Тем самым
каждый текст зависит и от ситуации, из которой он исходит, и из
теоретической сценографии, разработанной по его поводу, возникшему
благодаря взаимодействию между конкретными эмпирическими фактами и
известным
способом
личной
трактовки
политического
вопроса.
Определенные факты ушли в прошлое, определенные формы их разработки
представляются мне сегодня несовершенными. Я не мог бы ретроспективно
видоизменить их, не избавившись от самого смысла работ. Но для меня не
было смысла оставлять двусмысленные формулировки там, где было
возможно сделать их яснее и точнее — в самих терминах вызвавшей их
проблемы. Не было смысла и оставлять рассуждения, отвлекающие внимание
от того, что было собственной целью анализа. Тем самым — не изменяя
организации этих текстов — я кое-где вносил исправления, которые, как мне
казалось, служат устранению некоторых двусмысленностей и позволяют
замечать движение перспектив, открытых для меня соответствующими
текстами.
16
Я больше, таким образом, заботился о том, чтобы сохранить
аутентичность текстов, нежели о том, чтобы сделать их полезными для тех,
кто прочтет их сегодня.
Первое издание «На краю политического» было опубликовано в 1990 г.
в издательстве «Озирис». Я благодарю директора этого издательства, ДаниэляЛе Биго, за то, что он дал этому новому варианту книги увидеть свет.
Благодарю также Стефани Гре-гуар и Эрика Азана, которые сочли, что эта
книга достойна новой жизни. Наконец, моя признательность обращена ко
всем, чье разнообразное участие в течение десяти лет побуждало меня
непрестанно возобновлять занятия моим ремеслом.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО К ПОЛИТИКЕ
КОНЕЦ ПОЛИТИКИ, ИЛИ РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ
1 КОНЕЦ ОБЕЩАНИЯ
Конец политики, слухи о котором сегодня разносятся повсюду,
зачастую описывается как конец определенного периода времени, которое
само отличается известным режимом использования времени, режимом
обещания. Во французском правительственном мире этот конец достаточно
отчетливо символизируется переходом от первого ко второму социалистическому семилетию. В 1981 г. социалистический кандидат в президенты дал сто
десять обещаний1. Не сто, а сто десять. Сущностью обещания является
избыток. В 1988 г. кандидат был переизбран, и никто не спрашивал его, как
он сдержал обещания. Напротив того, просвещенное общественное мнение
ставило ему в заслугу то, что за одним исключением, к которому я еще
вернусь, он больше не делал обещаний. Дело в том, — говорили мудрецы, —
что за семь лет мы вместе с ним разменяли столетие. Мы отбросили «пыльный философско-культурный корпус» прошедшего, XIX столетия, столетия
грез о народе, обетовании коммун и островов утопии; столетия такой политики будущего, которая разверзла бездну, куда едва не низверглось наше
столетие. Новая позиция нашего президента-кандидата состояла в том, что он
наконец-то усвоил урок, совершив поворот от одного века к другому. Ибо
злом оказалось как раз обещание: жест, выдвигающий коммунитарный
телос, осколки которого падают смертоносными камнями.
21
С
президентом,
не
дающим
обещаний,
политика
наконец-то
изобличила свою длительную сделку с идеями будущего и с идеями «другого
места». Политика перестала быть тайным путешествием к островам утопии,
отныне она отождествлялась с искусством вести судно и плыть по волнам; с
естественным и умиротворенным движением роста, этого производства, которое примиряет греческую physis с повседневным искусством продвигаться
шаг за шагом; с этим производством, в которое безумный век внес путаницу
смертоносным жестом обещания.
Известная идея конца политики формулируется таким образом:
секуляризовать политику, как секуляризовались все остальные виды
деятельности, касающиеся производства и воспроизводства индивидов и
групп; отбросить иллюзии, сопряженные с властью, с волюнтаристской
репрезентацией политического искусства как программы освобождения и
обетования
счастья.
Оставить
уподобление
политической
potestas2
imperium'y3 какой-либо идеи, тело-са какой-либо группы; приблизить
политику к мощи секуляризованных видов деятельности: труда, обмена и
наслаждения; помыслить осуществление политического синхронным с
ритмами мира, с шумом мира вещей, с круговоротом энергий, информации и
желаний: реализация политики должна быть всецело в настоящем, когда
будущее станет всего лишь экспансией настоящего, разумеется, ценой
соответствующей дисциплины и экономии. Такова новая темпоральность, к
которой нас теперь привели реалистические умы. Они считают, что мы,
опоздав на несколько десятилетий, наконец-то вступили в XX век.
Конечно же, все это происходит с запозданием.
22
В первую очередь, из-за странной конфигурации современных эпох.
Значительную часть нашего века, — утверждают реалистические умы, —
составляло всего лишь будущее (порою кошмарное) века прошедшего.
Умиротворение случилось само собой благодаря тому, что наш век
отождествился с веком XXI. Этот промежуток между двумя веками был временем, предназначенным для того, чтобы завершить революцию, т. е.
довершить сразу и разрушение королевского модуса политики, и разрушение
революционного образа этого разрушения, чтобы вступить, наконец, в
гомогенное
время,
в
темпоральность,
избавившуюся
от
бремени
королевского достоинства и прошлого, и будущего.
Этому времени, которое уже не разделено обещанием, должно
соответствовать
избавленное
от
разделения
пространство.
Правительственная идиома охотно называет такое пространство центром. И
это не название партии среди других партий, но родовое имя новой
конфигурации политического пространства, свободное развертывание некоей
силы консенсуса, адекватной свободному аполитичному развертыванию
производства и товарооборота. Но если и легко декретировать начало и конец
времен, то эмпирическое обнаружение этой конфигурации ставит другие
проблемы. Центр постоянно скрывается из виду. Кажется, будто конец
политики, скорее, разделяется на два не совпадающих между собой конца —
конец обещания и конец разделения, виртуально производящих две партии
«конца политики»: партию нового времени и партию нового консенсуса.
Президентские выборы во Франции в 1988 г. тоже можно рассмотреть
как притчу на описываемую тему.
23
Проигравший
кандидат,
премьер-министр
Ширак,
фактически
отождествлялся с идеей нового времени. Столкнувшись с кандидатом,
которого Ширак характеризовал как старого человека обещания и XIX века,
он отстаивал молодость грядущего века, динамизм предпринимательства,
способствующего развитию нового. Ширак приглашал нас попросту избрать
молодость против старости, признать очевидность, с которой сегодня
осуществление власти уподобляется простому развертыванию сил и
возможностей. Он стремился вновь замкнуть покаявшегося кандидата в
кругу обещания, заставить его высказать именно то, что покаявшийся
старался скрыть, не обещая больше ничего: он доказывал, что его соперник
является безнадежным человеком обещания, человеком, который возвещает
то, что он не в силах реализовать; который выкидывает старые вещи вместо
того, чтобы постепенно создавать новые. Человеку старого обещания,
обещающему старику, который уже не может или не осмеливается в этом
признаваться, противостоял тогда в лице кандидата-премьер-министра
динамичный человек, тот, кто проводит в жизнь новое, победитель,
способный ввести нас победителями в третье тысячелетие.
Акцент был сделан на дискурс мощи, которая естественным образом
должна осуществиться во власти, тогда как обещание делает власть
немощной или безумной. Причем, судя по всему, это единственный дискурс,
логически связанный с мыслью о конце обещания, о политике за пределами
идеологии, политике, безраздельно господствующей над учеными или
популярными органами общественного мнения. Это дискурс, царящий над
повседневностью улиц. Однако несмотря на это, или как раз из-за этого, он
действовал отнюдь не бесперебойно.
24
Господствующий социологический дискурс, как будто бы созданный
для того, чтобы господствовать вечно, не действовал, по крайней мере, один
день: день телевизионных дебатов, когда кандидаты играли ва-банк. В этот
день молодой и динамичный премьер-министр4 убедился на собственном
опыте: того, кто сам от этого отказался, невозможно обязать ни обещать, ни
предать обещание. Невозможно обязать его метать пагубные шары. Он
стремился обязать своего противника признать двоицу, состоящую из
обещания и могущества, из речей и реальности, из людей, никогда не выполняющих обещания, и людей непрерывно прогрессирующего динамизма. Но
существует по меньшей мере одна ситуация, когда это дискурсивное разделение, проникающее во все речи времени, услышано не было — ни теми, кому
оно адресуется, ни зрителями, судившими словесный поединок: ситуация момента вывода — когда речь идет о том, чтобы вывести власть из ее
возможности,
чтобы
преобразовать
«эксгибиционизм»
власти
в
доказательство способности к власти и права на власть.
Итак, что же произошло, и почему столь естественный вывод не сыграл
решающей роли? Случился сущий пустяк. Перед лицом кандидата, который
извлекал власть из могущества, чтобы помочь нам войти в грядущее
тысячелетие, его противнику оказалось достаточным показать другой берег
— берег не путешествия, а бездны; высказать не обещание, а его
противоположность, обещание худшего. Таким оказалось единственное в
своем роде обещание, о котором я только что говорил. Президент-кандидат в
данном случае не обещал ничего, кроме худшего: распри, гражданскую
войну — и все это, если поддаться соблазну двоицы.
25
Войну, которой мы как будто избежали, он возвратил на сцену
благодаря обещанию в качестве страшного горизонта выбора. Тем самым
президент-кандидат призвал политическое к другой цели, к иному пределу. И
этого оказалось достаточным, чтобы показать пустоту двоицы обещания и
могущества; чтобы утверждать, что в самом своем немотствовании он имеет
в виду одну вещь: собрать Единое, сохранить соединительную черту,
удерживающую общество на краю бездны. Политике как искусству
продвигать энергии мира вперед президент-кандидат противопоставил
политику как искусство препятствовать гражданской войне разумным применением соединительной черты. В самих формах правительственной
риторики слышалось вот что: неверно, что множественное успокоится само
собой, устранив старые дуализмы. Тем самым отношение единицы,
связанной с собранием, и двоицы разлада отсылалось теперь к такому
искусству, как политика, и к такой добродетели, как авторитет.
2 ВОЗВРАЩЕНИЕ АРХАИКИ
Итак, обещания худшего было достаточно, чтобы преобразовать
пространство конца политического; чтобы свести его к легендарному
ландшафту истоков политического. Это обещание извлекало potestas с
совсем другой стороны, не из чистой potentia производительных энергий,
которые, как утверждалось, являются будущим политического, но из тех
мифических оснований, что ему предшествуют, из auctoritas мудреца.
Претенденту, стремившемуся доказать свою мощь подведением счетов,
президент-кандидат ответил попросту следующее: оба мы одинаково неспособны продвигать дела вперед.
26
Но мы не равны по отношению к другому: к предварительному условию, которое следует принять во внимание перед всяким предприятием ради
того, чтобы заранее отвести угрозу разлада. Перед этой угрозой potestas совершенно естественно утверждалась со стороны того, по мнению которого
«дух» конституции нашей Пятой Республики признает высшую добродетель,
первую
добродетель,
auctoritas.
Auctoritas
—
это
добродетель,
существовавшая до закона и осуществления власти, добродетель, которая,
как говорит нам Тит Ливии, пришла к нам вместе с греком Евандром, сыном
Гермеса, оказавшимся на берегах Тибра, на территории латинян, до потомков
Энея-троянца, до основания Рима. Евандр — сообщает нам Тит Ливии —
принудил пастухов к повиновению auctori-tate magis quam imperio5, больше
признанным престижем личности, чем инсигниями и принуждающими
средствами командования. Тит Ливии тотчас же приводит нам причину этого
авторитета. Евандр был venerabilis miraculo litterarum6. Он внушал уважение
из-за чудесной соотнесенности с письменностью, с тем, что говорится и
пишется, что возвещается и истолковывается посредством букв.
Таково изначальное соотношение между auctoritas и буквой. Auctor —
это специалист по посланиям. Он — тот, кто умеет различать смысл в шуме
мира. Евандр, сын посланника богов и жрицы, очевидно, является
образцовым auctor'ou. В шуме ссоры волопасов на берегу реки из-за кражи
волов и убийства
он
умеет различать присутствие
божественного,
присутствие бога Геркулеса под видом волокрада. Евандр опознает
божественное послание и улаживает ссору. Это чудо о буквах.
Чудо, очевидно, внушает уважение.
27
Тем, кто стремился загнать президента-кандидата Миттерана в угол
обещания, заставить его в чем-то признаться, Миттеран ответить не сумел.
Он предпочел чудо о буквах. И называлось оно «Письмо ко всем французам».
Остроумцы тотчас же начали зубоскалить: кто же из тех, кому адресовано
такое толстое письмо, прочтет его? Бездонная наивность остроумцев, тех, для
кого слова на бумаге никогда не выдерживают столкновения с реальностью...
Между тем ответ очевиден. Количество прочитавших это письмо ничего не
значит. Существенно то, что оно адресовано и подписано. Я не
недооцениваю ни смысла демократической педагогики, вдохновлявшей это
письмо, ни гражданского смысла и желания произвести выбор со знанием
дела, которые могли вызвать внимание читателей. И все равно существенное
в другом. Встретившись со спортсменом с хорошими зубами, президентский
спичрайтер сделал очевидным, что противник этого спортсмена — совсем
иной персонаж, деятель, творящий miraculum litterarum, auctor.
Известна любовь президента Миттерана к писателям. Остроумцы, для
которых политика представляет собой зрелище, полагали, что он взращивает
интеллектуалов для галерки. Но auctor — нечто совершенно иное, нежели
интеллектуал. Auctor есть некий гарант. Это тот, кто владеет письмом, кто
может распутывать смысл и последовательно находить справедливость в
шуме мира; стало быть, это тот, кто способен умиротворить письмом крики
ссоры, объединить людей способностью различать смысл, приносить мир той
способностью, которая предшествует осуществлению власти. Это тот, кто
противопоставляет динамизму производительных энергий
28
символическую способность увеличения могущества посредством
расшифровки смысла, а значит — способность к гармонизации общества на
основе консенсуса. Итак, в великом консенсусе относительно модернизации,
по видимости предоставлявшей единственный выбор между молодым и
старым, выбор, который современная жизнь всегда делает в одном
направлении,
появилась черта
радикального
архаизма.
Молодому и
динамичному человеку, воплощающему производительные силы, не удалось
заставить нас признать свои способности, которые дали бы ему право на то,
чтобы
привести
нас
на
порог
третьего
тысячелетия,
тысячелетия
умиротворенного общества и секуляризованной политики. На предполагаемом острие современности, в провозглашенный решающим момент
дефляции политического пробивает себе путь архаизм старого политика,
каковому удается занять известное с незапамятных времен место auctor'a.,
создающего грань бездны, тревоги, рядом с которой он ведет себя как гарант;
гарант операции умиротворения, которой суждено было возникнуть из самой
спонтанности секуляризованного мира и которую он проводит, используя, в
свою очередь, секулярное искусство, архаическое искусство политики. Ибо
старый auctor предлагал задачу, провозглашаемую повсеместно именно как
задача современности: секуляризовать политическое, демилитаризовать его,
устранить в нем все, что функционально не предназначено для максимизации
шансов на успешную совместную жизнь, что не предназначено для простого
управления социальным.
Он превратил это умиротворение в задачу политики. Но — вместе с
ним — выявил сам парадокс политики, понимаемой как искусство
правителей, политики
29
в том виде, как стародавний союз малых правительственных практик и
великих философских теорий навязал ее нашему восприятию. Задача этой
политики определяется как вычитание политического. Это вычитание может
описываться двумя способами — в зависимости от способа, каким обыгрывают соотношение между категориями социального и политического. Вычитать
политическое означает, в одном смысле, сводить его к умиротворяющей
функции отношений между индивидами и коллективностью, разряжая от
нагрузки и символов социального разделения. В другом смысле это означает
упразднять символы политического разделения в пользу экспансии, чистого
динамизма общества. Но эта двойная замена социального на политическое, а
политического на социальное несовместима со спонтанностью эпохи и с
шумом деятельности, которая может провести эту замену. По логике
политического искусства Единое разумного собрания соотносится не с
требованиями предстоящей нам работы, но с представлением об архаической
бездне, которая всегда окружает нас. Взаимное умиротворение социального и
политического — дело для старика, стародавнее дело, всегда признававшееся
политическим искусством в качестве своей парадоксальной сущности.
Политическое
искусство
есть
искусство,
состоящее
в
подавлении
политического. Это операция по самовычитанию. В таком случае, возможно,
«конец политики» является всего-навсего ее свершением, всегда молодым
свершением, осуществленным вследствие ее архаичности. И, может быть,
как раз по поводу этой двойственности tekhne politike1 философия непрестанно теоретизировала, в обход оппозиции между «древними» и
«новыми».
30
И как раз этот вечно молодой «конец политического» философия
всегда располагала по соседству с мыслью об истоках.
3 АРИСТОТЕЛЬ И ЦЕНТРИСТСКАЯ УТОПИЯ
Доскональное рассмотрение этого соседства начала и конца потребует
пересмотра понятия классической политической философии в полном
объеме. Здесь я этого делать не буду8. Отмечу лишь одну проблему
мимоходом: характеризовать вслед за Лео Штраусом «Государство» или
«Политику» в качестве произведений и парадигм политической философии9
означает, может быть, затушевывать изначальное напряжение в отношениях
между философией и политикой: совпадение между стремлением «делать
взаправду всю политику», отстаиваемым в «Горгии», и желанием положить
конец политике, больше не слышать разговоров о ней. Во всяком случае,
положить конец политическому, как оно нам задается, его спонтанному
демократическому состоянию, а именно анархической саморегуляции
множественного посредством решения большинства. С точки зрения Платона
демос — это нестерпимая фактичность грубого животного, которое занимает
сцену политического сообщества, никогда не будучи, однако, при этом
субъектом. И точнее всего его квалифицирует имя охлос: толпа [tourbe]
народа, т. е. бесконечная турбулентность групп индивидов, индивидов,
всегда отличающихся от самих себя и живущих, предаваясь попеременно то
желанию,
то мучительным
страстям. Исходя из этой констатации,
определяется изначальная двойственность, а именно, одновременно и
полностью
имманентное,
и
радикально
трансцендентное
отношение
философии к политическому, которое препятствует существованию чеголибо похожего на «политическую философию».
31
Может быть, больше, чем в радикализме его платонического
переоснования, этот раскол являет свою сложность в более замаскированном
напряжении, одушевляющем «Политику» Аристотеля. Внешне простая цель
подчинения множественного закону Единого оказывается фактически
затушеванной из-за никогда не устраняемого разрыва между двумя
способами помыслить политическое искусство, подходить к вопросу
множественного: и как к организации человеческого сообщества согласно
telos'y разумного существа, и как к средству борьбы с самим фактом
социального разделения. Тем самым в «Политике» раскрываются два истока
политического: существует благой исток, изложенный в начале Книги I:
отличие животного phone10 от человеческого logos'а, присущее logos'y
свойство доносить до сообщества чувство полезного (sympheron) и наносящего ущерб (ЫаЪегоп), открывая тем самым общее признание справедливого и
несправедливого. Но существует и дурной исток, изложенный в Книге IV,
тот, что привязывает логику принципа противоречия к фактичности некоего
положения вещей. В каждом полисе имеются богачи и бедняки. Эти группы
par excellence образуют элементы, партии полиса, потому что они
обозначают единственные принципы, не являющиеся совместимыми. Всегда
можно вообразить земледельцев, становящихся воинами, или ремесленников,
заседающих в Boule11. Но никакой режим не может сделать так, чтобы одни и
те же люди были бы одновременно богатыми и бедными. В каждом полисе
политический вопрос начинается вместе с возникновением массы aporoi, тех,
у кого нет
32
средств, и небольшого количества euporoi, тех, у кого они есть.
Всякому
полису
ведомы
эти
два
несводимых
компонента,
всегда
находящихся в состоянии виртуальной войны, всегда представленных и
репрезентированных самим себе через имена, какими они себя называют, и
через принципы, в каких они узнают друг друга и которые они извлекают из
этих имен: свобода (eleutheria) для массы бедняков, добродетель (arete) для
небольшого количества богачей. Итак, богачи и бедняки постоянно берутся
за общее дело, за дело их среды, находясь в тисках прибыли и почестей,
материальных интересов и воображаемых денежных вложений.
Таков факт. После того как Солон отменил в Афинах долговое рабство,
всякий полис стал включать в себя массу бедняков, которые непригодны для
того, чтобы быть законниками и властвовать, но которые, тем не менее,
живут в полисе и являются свободными людьми, сохраняя за собой общее
имя, общее право на политическую общность, свободу. Отсюда второе
определение политического искусства, представляющего собой — в
современных терминах — искусство иметь дело с непримиримыми
компонентами, с этим соприсутствием богачей и бедняков, от которых
никогда невозможно избавиться и которые остаются связанными с центром
полиса.
Эту первую задачу политики можно очень точно описать в
современных
терминах
политической
редукции
социального
(т.
е.
распределения богатств) и социальной редукции политического (т. е.
распределения властей и связанных с ним воображаемых инвестиций). С
одной стороны, речь идет о том, чтобы посредством распределения прав,
нагрузок и контроля умиротворить конфликт между богачами и бедня33
ками; с другой — речь идет о том, чтобы в спонтанности социальных
действий найти умиротворение страстей, касающихся занятия центра.
Идеальное решение, идеальное сведение политического к социальному идет
от омонимии к изоморфности: нужно, чтобы центр был в центре, чтобы
политический центр (meson) полиса был занят средним классом (to meson),
классом тех, кто не являются ни богатыми, ни бедными, ни aporo'i, ни
euporo'i, кто не должен перемещаться, двигаться между своим социальным
пространством и политическим центром. Тогда центр — уже не центр
напряжений, распространяющихся от края или в сторону края. А нагрузки —
arkhai — между которыми распределяется arkhe (власть над полисом) — уже
не добыча, на которую набрасываются одни, и не бремя, от которого бегут
другие. В этом решении, изложенном в Книге TV, совершенная политика
тяготеет к самоустранению. Совпадение между центром и серединой приводит к тому, что становится «совсем легко» слушаться логоса, логоса, который
тем самым предстает не столько как топос дискуссии, сколько как некая сила, которой мы подчиняемся подобно тому, как живое существо подчиняется
законам своего организма. К несчастью, это позитивное решение остается
идеалом. Такого режима мы не находим нигде или почти нигде. Но и на это у
Аристотеля есть позитивное, социологическое объяснение. Полисы слишком
малы. Нет места, где бы развивался средний класс. Можно сказать, что здесь
мы имеем дело с интуицией будущего. Идеалу полисной демократии Аристотель противопоставляет подлинное будущее демократии, режим среднего
класса, свойственный государствам-нациям современной эпохи.
34
Но, возможно, здесь и утопия, утопия реалистическая: не пресловутая
утопия далекого острова, места, которого нигде нет, но неприметная утопия,
которая состоит в наложении двух разделенных пространств: пространства
среднего социального и пространства политического центра. Но ведь мы
прекрасно знаем, что наши общества в изобилии производят и средние
классы, и третичный сектор. Однако мы всегда ищем центра, совпадения
центров.
Центристское
правительство
остается
утопией
нашей
реалистической политики. И дело здесь в том, что реализм — тоже утопия; и
Аристотель это образцово нам показывает.
Ведь утопия не есть иное место или будущее неутоленной грезы. Она
представляет собой интеллектуальную конструкцию, способствующую
совпадению места мысли с интуитивно воспринятым или воспринимаемым
пространством. Реализм не является ни здравым отказом от утопии, ни
забвением telos'a. Это один из утопических способов конфигурировать telos,
находить розу разума в кресте настоящего. Способствовать наложению
философской идеи среды на средний класс и гражданское пространство —
это
опять-таки
реализовывать
платоническую
программу:
подчинять
множественное закону Единого, устанавливать царство меры вместо демократического
апейрона.
Философия
кладет
конец
политическому
разделению, подверстывая собственную разделенность к политическому,
пользуясь метафорическим ресурсом, который в то же время решительно
выбрасывает философию за пределы политической эмпирии и позволяет этой
эмпирии в точности совпадать с самой собой.
Разумеется, с той оговоркой, что середина всегда недостаточна для
того, чтобы занимать центр.
35
Если социальное не может умиротворять политическое, то вещи
следует поменять местами и изменить политическое, чтобы урегулировать
социальный конфликт. Но политическое может это сделать, лишь организовав собственное вычитание, устранив образ центра и воображаемые
напряжения, направленные к нему или от него. И тогда политическое
искусство пользуется
другим
взаимоналожением
политического про-
странства, социального пространства и пространства территориального:
совпадением дистанций. Политическое искусство есть искусство позитивно
использовать демократическое противоречие: демос для него — союз между
центростремительной и центробежной силой, живой парадокс политической
коллективности,
сформированной
аполитичными
индивидами.
Демос
непрестанно удаляется от самого себя, рассеивается в множественности
прерывистых очагов наслаждения и удовольствий. Политическое искусство
ставит перед собой цель преобразовывать прерывистый характер демоса в
интервалы, отдаляющие его могущество от его турбулентных движений, от
него самого.
Такова главная цель Книг IV и VI «Политики» — сравнение хороших
форм демократии с дурными. Дурная демократия есть та, что совпадает с ее
именем, та, при которой демос осуществляет власть, когда он обитает в
центре полиса и ему надо сделать лишь несколько шагов, чтобы начать
заседать в собрании и притязать на arkhai. Напротив того, хорошая
демократия, та, что по мере возможности приближается к идеальному
режиму polite'ia, принимает дистанцию по отношению к демосу. Она
отдаляет от центра aporoi — с помощью ценза или какого-либо другого
средства.
36
«В такого рода демократии властвуют законы, потому что для
необходимого досуга не хватает доходов» (prosodon)12.13
Prosodos — примечательное слово. В первом смысле оно означает
подступ, точку, где путь подходит к своему концу. На политическом языке
этот подступ наделяется более точным смыслом: это факт представления
себя с целью выступления перед народным собранием. Но prosodos
обозначает еще и избыток, позволяющий представить себя, отправиться в
дорогу; некий плюс по отношению к труду и к жизни, которые он
обеспечивает. Необязательно, чтобы это недостающее дополнение было
денежным. Оно может касаться попросту времени или досуга. Чтобы
добраться до центра, досуга недостает, потому что центр далеко и нам
приходится отказаться ехать туда, так как мы должны работать и
зарабатывать хлеб насущный.
Таковы — изложенные в Книге IV — преимущества сельской
демократии, особенно там, где поля достаточно отдалены от города.
Хорошую демократию, и даже хорошую роШеш можно иметь в сельской
местности именно по той причине, что у земледельцев не будет времени на
то, чтобы проводить много собраний, не будет времени занимать центр. Они
предпочтут скорее работать, нежели терять время на занятия политикой. У
них есть возможность (ехои-sia) заниматься политикой, но сами они
предпочтут поручать это тем, у кого есть ousia, богатство, позволяющее
посвящать время политике. Совершенство достигается тем, что отходят от
центра, оставляя его. Необходимо, чтобы граждане находились далеко от
центра своего суверенитета. Чтобы режим функционировал, требуется некое
качество (poion tina). Но это не качество граждан, но лишь свойство их
пространства.
37
Необходимо, чтобы поля не доходили до городских стен, чтобы
подступы были поделены между социальным и политическим, между
гражданами и местом их гражданства. Необходимо, чтобы у края
политического была пустота, промежуток.
Само собой разумеется, эта по man's land14 — опять-таки утопия. На
агоре всегда люди, всегда толпа, чернь (ох/юс), толпящаяся вокруг места народного собрания. Отсюда неукоснительное правило, которое должно
обеспечивать гражданство для отсутствующих. В тех демократиях, «где
народная масса бывает вынуждена селиться на полях, если даже и имеется
городская чернь (охлос), она все-таки не может получить преобладание в
народных собраниях... без народной массы, живущей на территории
государства»15. Скажем проще: не следует проводить собраний без тех, кого
на них нет. Превосходное правило полностью «самовычтенной» демократии,
ироническая инверсия принципа середины. Здесь речь идет о том, чтобы
гарантировать центр не через присутствие, но через отсутствие, посредством
функции интервала, способствующего дисперсии интересов. Но такой
реализм является опять-таки утопическим. Не существует класса, который —
посредством своего присутствия или отсутствия — мог бы умиротворить
место политического, выделив подступы к нему. В таком случае на долю
хорошего политика выпадает предусмотреть соглашения, регулирующие
подступы в двойном плане реальных диспозиций и воображаемого
восприятия. Ради этого, распределяя места, необходимо перераспределить
аффекты, устранить в том, что дают одним, его желательный характер для
других. Наилучший пример здесь — бесплатный характер магистратур.
38
Последний позволяет предоставить всем exousia, сохранив привилегии
ousia. Благодаря последнему каждый удовлетворится причитающимся ему
местом. Бедняки не захотят мест в магистратурах и не станут завидовать тем,
кто их занимает, потому что эти места не приносят прибыли. Они по
собственной воле пожертвуют публичной страстью честолюбия ради частной
страсти получать прибыли. Богачи будут работать в магистратурах, не
обогащаясь. Наверное, им придется даже слегка порастрясти свое богатство.
Ради удовлетворения собственной страсти, «коллективной чести», они
заплатят: поскольку они «лучшие», они не должны быть управляемыми
«теми, кто хуже». Тем самым частные и публичные страсти распределятся
должным образом. Кроме того, бедняки, aporoi, беспрепятственно посвящая
себя труду, найдут возможность самостоятельно стать богачами, euporoi.
Подводя итоги, можно было бы сказать, что тем самым они, в свою очередь,
смогут участвовать в прибылях и убытках arkhai. Аристотель же этого не
делает, будучи убежденным, что прибыль — подлинная страсть черни и что
чернь интересуется политикой лишь из-за невозможности получить прибыль.
А вот современные мыслители обещают беднякам — стоит лишь им начать
обогащаться — доступ в богоспасаемый средний класс. И все-таки
Аристотель додумывается до основного: до «модернизации», политики конца
политического, конца, совпадающего с его рождением: таково искусство
упразднения социального посредством политического и упразднения политического посредством социального. Перераспределяя места и страсти,
имеющие их в виду; перераспределяя восприятие мест и аффектов,
связанных с этим восприятием, политическое искусство организует
39
дефляцию политики; оно создает социальное, которого не хватает для
естественного осуществления этого конца. В конфликтности совместной
жизни
политическое
искусство
создает
интервалы
расходящихся
и
сосуществующих интересов. Оно пробуждает такое социальное, где частное
и публичное взаимно гармонизируются на расстоянии — в раздельном
проявлении публичных страстей чести и частных страстей прибыли.
Остается
лишь
проблема
другого
предела:
совершенство
самоустранившегося политического в конце концов начинает весьма
напоминать то отрицание политического и ту абсорбцию общественного
пространства в область частного распоряжения, которые называются
деспотизмом или тиранией. Не задействует ли лучшая из демократий, и даже
хорошая politem — та, где масса граждан удовлетворяет свое предпочтение
прибыльной деятельности над деятельностью гражданской, словом, тот
хороший политический режим, что согласуется с хорошим режимом
аполитичного удовлетворения граждан — те же пружины, что служат
тираническому уничтожению общего могущества, а именно: microphronem,
мелкие мыслишки индивидов, замкнувшихся в мелочности, в идиотии
частных интересов; adynamia, немощность тех, кто утратил энергию
коллективного действия? Мелкие мысли, вероломство и немощность граждан
— таковы средства тирании, тем более способные походить на средства
хорошего правительства, что существуют и хорошие тираны, по своей воле
расположенные применять должные средства сохранения общества, которые
перечислены в Книге V. Образец хорошего тирана — Писистрат, чьи средства управления, упомянутые в «Афинской политии», до смешения похожи
на правила хорошей сельской демократии.
40
Из собственного кармана он авансировал бедняков, чтобы те покупали
земли — ради двух целей: чтобы они не тратили время на дорогу в город, но
оставались рассеянными по сельской местности; чтобы тем самым, получив
богатство по своей мерке (euporountes ton metrion) и занявшись своими
частными делами, они утратили бы и желание, и досуг заниматься общими
делами.
Политика рассеяния, распыления... Тем, кого может смутить сходство
двух
«завершений»
политики,
Аристотель
протягивает
руку
с
успокаивающим объяснением: Писистрат правил скорее как политик, нежели
как тиран. Даже если это отсылает нас к парадоксу! Деполитизация — вот
древнейшее занятие политического искусства, то, что добивается достижений, приближаясь к своему концу; достигает совершенства у края обрыва.
Это политическое подавление политики — еще и средство для
философии реализовать образ, наиболее близкий к политическому Благу, под
сенью беспорядка эмпирической политики, демократического беспорядка.
Такая
реализация
проходит
через
особое
опосредование:
между
трансцендентностью te-los'a и политическим урегулированием Аристотель
оставляет место для реалистической утопии центра, для утопии такого
социального, которое может привести в порядок само себя; которое в то же
время устранит собственную разделенность и разделения между страстями,
нацеленными на
овладение
политическим
центром.
В философской
реализации политического искусства эта утопия представляет собой
исчезающий момент. Но современные усилия, возможно, состоят в том,
чтобы сделать ощутимым это исчезающее третье.
41
Такова
утопия
современности
—
часть
философской
утопии,
отделенная от нее, или освобожденный от нее средний член; социологическая утопия, полагающая собственную эмансипацию как эмансипацию
социального;
утопия
рациональности,
имманентной
социальному,
возвещающему в свой срок общий конец философии и политики.
4 ДЕМОКРАТИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
Социологическое завершение политического, наверное, мы можем
лучше всего наблюдать у Токвиля; в самом напряжении, которое его анализ
поддерживает между ностальгией по политическому героизму и признанием
демократии как мирной саморегуляции социального. Разве Токвиль в
«Демократии в Америке» предлагает нам что-то иное, нежели длительное
размышление
об
актуальности
Аристотеля?
Поскольку
социальное
равенство, мелочность мыслей и кроткие нравы благотворно «подправляют»
равенство политическое, захват народного собрания и arkhai детьми
демократической клоаки, то не приближается ли современный облик
умиротворенной демократии к тому, что было сотворено аристотелевской
интуицией? Присущий Токвилю гений заключается в том, что в современной
демократической социальности этот мыслитель обнаружил смешанную
фигуру — в промежутке между совпадением центра и совпадением
дистанций. Реализация аристотелевской программы зависит не столько от
какого-то социального класса (среднего класса в центре или гражданземледельцев
на
периферии),
сколько
от
определенного
состояния
социального. Умиротворение политического зависит от гораздо более
глубокой мутации, нежели управление «золотой середины», среднего класса.
42
Оно связано с той новой социальностью, которая называется
равенством условий. Последнее вносит в высшей степени благотворный
вклад в урегулирование отношений между политическим и социальным. То,
чего не удается сделать в высшей степени искусному политическому, — то
свершается благотворным движением по уравниванию условий жизни,
созданием саморегулирующейся социальности, спонтанно ограничивающей
выход политического за рамки социального и выход социального за рамки
политического.
Равенство
условий
обеспечивает
умиротворение
политических аффектов посредством их полимеризации16. Устранение
аффекта, подпитывающегося промежутком и различием, устранение чести
открывает социальное пространство, где стародавние напряжения вокруг
центра
упорядочиваются
разделением,
размножением
бесконечного
количества точек интереса, точек удовлетворения интереса. Инфляция
частной сферы, множественность сопряженных с ней удовлетворений, далеко
превосходя простую власть необходимого и только лишь желание заработка,
гарантируют
приверженность
коллективной
дисциплины,
правилу
мирного
обеспечивающей
сосуществования
со-возможность
и
таких
удовлетворений. Ключевое слово в этом диспозитиве, «кроткие нравы»,
представляет
собой
эквивалент
той
«ласковости»
(praoites),
высоко
оцениваемой в афинской демократии, которую резко критиковал Платон, а
Аристотель
стремился
гарантировать
уже
не
попустительством
по
отношению к народу, но естественным совпадением центра и середины.
«Кроткие нравы», умиротворение бурных страстей дистанции, обеспечивают
легкость отноше43
ний между правилами и удовлетворением желаний, коль скоро в том
же
движении
оппозиция
между
богачами
и
бедняками
перестает
поляризовать политическое пространство, а сопряженные между собой
выгоды для idion и komon, для частного и публичного, перераспределяются
по всей поверхности социального тела, обеспечивая легкость распространения этой квазидобродетели, которая, будучи одинаково распределенной
между всеми, гарантирует мир лучше, нежели показная и провокативная
добродетель некоторых. Это, несомненно, соответствует божественному
замыслу, даже если это печально для душ «высокого стремленья»,
сохранивших ностальгию по героической политике.
Тем самым свершение политики, реализация некоей меры под сенью
безмерного, демократического апейрона подлежит урегулированию под
эгидой упомянутого апейрона, в новом режиме его существования. И всетаки тут есть известный предел и известная обусловленность. Предел — это,
как у Аристотеля, точка, где самодистанцирование политического становится
весьма похожим на деспотизм, на господство той «покровительственной
власти», сама снисходительность которой зависит от того, что она может
безмятежно господствовать, оставляя общество в состоянии равенства,
удовлетворения частных интересов и саморегуляции страстей. Условием
здесь является существование провидения. Отказ от политики чести имеет
потребность в помощи провидения, которое лучше, чем испытывающие
ностальгию по героической эпохе, видит пути реализации Блага и
гарантирует их расхождение с путями деспотизма. Социологическая утопия
сумела эмансипироваться, прежде всего, именно посредством секуляризации
провидения, секуляризации, располагающейся по сю сторону идеи прогресса.
44
Социологический провиденциализм представляет собой, в первую
очередь,
не
мысль
о
переинтерпретировать
прогрессе,
то,
что
но
гарантию
традиция
от
упадка,
политического
способ
искусства
воспринимает как упадок.
Так называемая постмодернистская эпоха есть эпоха, когда деятели
этого «упадка» думают, будто могут освободиться от всяких отсылок к
провиденциальному. Нам говорят, что сегодня поляризация богачей и
бедняков упразднена в достаточной степени для того, чтобы покончить с
лихорадкой политической чести и героической демократии. Демократия-де
миновала эпоху собственных архаических фиксаций, преобразовывавших в
дело жизни и смерти ослабленное различие между богачами и бедняками.
Сегодня она тем более гарантирована, чем сильнее деполитизирована: ведь
она уже не воспринимается как объект политического выбора, но
переживается
как
окружающая
среда,
как
естественная
среда
для
постмодернистской индивидуальности, не навязывающая уже борьбы и
жертв, которые противоречили бы удовольствиям эгалитарной эпохи.
И тогда вопрос пространства регулируется через пустоту: отсутствие
видимого промежутка, обрывистого края, пропасти. «Эра пустоты» — таково
заглавие работы, наделавшей в свое время большой шум. Автор опровергал в
ней
пессимистические
гедонизмом
и
анализы
экономическими
противоречия
требованиями,
между
современным
касающимися
усилий,
ориентированных на равенство, и политики равенства. Наоборот, он уверял
нас во все более совершенствующейся гармонии между демократическим
плюрализмом и триумфом «процесса персонализации»,
45
продвигающей и обобщающей индивида, живущего в постоянной
атмосфере
свободы,
выбора
и юмористической расслабленности
по
отношению к самому выбору. «По мере того как растет нарциссизм, —
пишет Жиль Липовецкий, — побеждает демократическая легитимность,
пусть даже в режиме cool11. Демократические режимы с партийным плюрализмом, с выборами, с правом на информацию всё теснее сродняются с
персонализованным обществом свободной службы, тестов и свободы
комбинирования».
Отзвуком таких ученых рассуждений служат популярные темы
плюралистического общества, общества, где конкуренция товаров, половая
вседозволенность, смешанный характер музыки и дешевизна чартерных
рейсов для людей, живущих в разных концах земного шара, совершенно
естественно формируют индивидов, приверженных равенству и терпимых по
отношению к различиям. Мир, где все имеют потребность во всех; где
разрешено все из того, что провозглашается под знаком индивидуального
наслаждения;
где
перемешано
все
и
вся;
являет
собой
мир
самоумиротворенной множественности. Разум может реализоваться в нем в
своей наименее навязываемой форме: не как дисциплина, которой постоянно
угрожают
трансгрессия
и
фактическая
де-легитимация,
но
как
рациональность самого развития, как саморегуляция страстей через
консенсус. Плюрализм — так называется сегодня точка согласования, точка
утопии — в промежутке между упоением частными удовольствиями,
моралью сплошного равенства и республиканским политическим благоразумием.
46
5 ПОМЕХА КОНЦУ
Итак, мы отплыли к блаженным берегам свободного обмена товарами,
телами и кандидатами. Но у всякого счастья в этом мире есть конец — даже у
счастья конца. Реалистические утопии, как и прочие, подвержены сюрпризам
со стороны реального. Электоральная ситуация, продемонстрировавшая нам
молодого предпринимателя, которого разоружил старый аис-tor, имела и
другие средства научить нас тому, что триумф молодости, при котором
теперь мыслится умиротворение политики, определенно не слишком
пригоден для таких целей. Четыре миллиона избирательных бюллетеней за
кандидата
от
«Франции
для
французов»18
безжалостно
возвестили
следующее: там, где ослабевает политическое; где партия богатых и партия
бедных, очевидно, говорят об одном и том же — о модернизации; где — как
заверяют нас — остается всего лишь выбрать лучше очерченный рекламный
образ для почти тождественного предприятия — там, стало быть, во всем
блеске являет себя не консенсус, а исключение; не разум, превратившийся в
социальную рациональность сосуществования удовлетворений, но чистая
ненависть к Другому, единение ради исключения. Там, где политика призвана идти вровень с веком, упразднять догмы и табу, на авансцену вышло не
то, чего ожидали: не триумф современности без предрассудков, но
возвращение наиболее архаического, того, что предшествует всякому
суждению, беспримесная ненависть к другому. Партию «молодых» и
«динамичных» здесь ждало откровение шока: дискутировать о балансах и
обещаниях, о возрасте кандидатов и программ — не дело.
47
Не слишком мудрено притязать на победу, доказывая, что противник
стар, когда споришь с тем, кто занимает место отца. Все получается само собой. Отца выбирают не в речевых играх. В рассматриваемых ситуациях надо
плыть по волне не молодой предприимчивости, но старой ненависти. И тогда
мы увидим, как на улице вырисовывается черный силуэт отца — человека,
которого следует уложить наповал. Тем самым мы, несомненно, лучше
поймем тему. Против того, кто кичится miraculum littera-гит, наилучшее
оружие — «Ату!» взбесившейся своры. Против arkhaion умиротворяющего
авторитета встает arkhaioteron19, самая архаичная чистая ненависть.
Итак,
мирный
конец
политического
преобразовался
в
его
смертоносную предысторию. Тем самым нарушилась очевидность, согласно
которой общество свободного обмена товарами, телами и симулякрами
совершенно изоморфно обществу плюрализма, основанного на консенсусе.
Конечно, после «Неудовлетворенности культурой» в таком подозрении нет
ничего нового. Но — благодаря любопытному стечению обстоятельств —
пессимистический прогноз Фрейда, шестьдесят лет назад оспаривавшего
марксистское
обетование,
капитулировал
перед
умиротворенностью,
появившейся благодаря краху прогноза марксистского. И необходима
жестокость события, чтобы напомнить счастливым социологам великого
общества вседозволенного и толерантного наслаждения: «расслабленность»
и толерантность — возможно, отнюдь не то, что характеризует экономику
наслаждения. Последняя сталкивается, скорее, не с толерантностью, но с
неуправляемостью первозданного ужаса, с неуправляемостью тревоги и
ненависти, с чистым отвержением другого.
48
Правда, у неисправимого прекраснодушия реалистов есть еще средство
объяснить это отвержение, интерпретировав его как простую фрустрацию.
Реалисты считают, что ненависть рождается, когда просто оспаривают
имущество или место — когда другой обладает тем, чего нет у вас. К
примеру, вы ненавидите арабов, потому что вы безработный, а у них есть
работа. Опять-таки стечение обстоятельств, пусть даже неблагоприятных: в
этой гипотезе вы ненавидите, потому что чего-то лишены; вы исключаете,
так как исключены. Вот почему все так и происходит. Но тем не менее
повседневный опыт учит нас, что удовольствия исключения едва ли
проявляют тенденцию к ослаблению вместе с ростом комфорта и
стабильности занимаемых мест. Объяснять ненависть нехваткой означает
позволять себе думать, что дело всего лишь в отставании, недостаточном
усвоении идей прогресса, в пережитках оставшейся в прошлом войны между
богачами и бедняками. Говорят, при всяком продвижении вперед бывают
забытые. Они якобы застряли в прошлом веке, потому что нам пока не
хватило времени на то, чтобы плодами прогресса воспользовались все.
И тогда время — в стремительном продвижении вперед — становится
материей последней утопии. Достаточно, чтобы нам хватало времени;
достаточно, чтобы у нас его было достаточно — и тогда политика приходит к
благополучному концу. Мы притязаем на то, что век наивного прогрессизма
и обещаний закончился. Но на самом деле преодолена не столько
прогрессистская вера в могущество времени, сколько связь, которую она
сохраняла с идеей меры, telos'a, служившего сразу и для того, чтобы судить о
политическом
положении,
и
чтобы
придавать
движению
целенаправленность.
49
Отныне, утратив меру и конец, вера в чистую форму времени занимает
место последней утопии, той, что продолжает жить в обмане, на который
наталкивается всякое опространствливание утопии.
В этой утопии совпадают две характеристики времени. С одной
стороны, время есть форма бесконечного, апейрона, с которым можно
соотнести — как с их естественным местом — все проблемы меры безмерного. С другой стороны, время — принцип роста, противостоящего
единственному еще различимому злу — запозданию, источнику нехватки. И
тогда еще больше, нежели идея технического господства над миром,
начинает царствовать идея времени как чистой самоэкспансии. Новый
милленаризм возвещает нам, что в 2000 году мы вступим в непрерывное и
гомогенное время, бессобытийное время, которому ни одно событие больше
не сможет служить мерой. В связи с некрологическими двухсотлетиями20 эти
даты возвещают конец той эпохи, когда даты прерывали время, а события
запечатлевались в памяти. Вместо этого, не сходя с места, возвещается время, когда всякое политическое повеление принимает естественную форму
некоего «Вперед! Марш!». Время тогда становится универсальным врачом,
исцеляющим не только от сердечных недугов, но и от всякого политического
зла. «Нам необходимо лишь время, так дайте же нам время!» — вопиют все
наши правительства. Разумеется, всякое правительство склонно растягивать
пребывание у власти. Но в этом возгласе есть кое-что еще: перенос всех
утопических сил на время. Пример тому дает политика воспитания, когда она
приравнивает воспитание к формированию.
50
Это уравнение говорит гораздо больше, нежели его прямой смысл: дать
обучающейся молодежи квалификацию, которая будет соответствовать
требованиям рынка. В этом уравнении биологическое время созревания
ребенка во взрослого утопически приравнивается ко времени торговой
экспансии21. В последний период секуляризации провидения вера в природу,
в естественную продуктивность времени, отождествляется с верой в чудо.
Итак, на вызов известного возвращения архаического, на вызов какогото переустройства «конца» реалистическая утопия отвечает стремительным
продвижением вперед, задающим себе собственную теорию. Чтобы
противостоять беззаботности такого продвижения, необходимо перевернуть
вопрос, принять всерьез архаическое переустройство, новое буйство
ненависти
к
Другому и
повторы
оставленного
в
прошлом
жеста
умиротворения. Не свидетельствует ли все это о каком-то особом дрейфе,
связанном с крахом конфликтной репрезентации политики? Мы видим, как
бушует страсть исключающего Единого, там, где провозглашают, что с
войной между бедняками и богачами, с социальным принципом разделения
покончено. И тогда политическое искусство сталкивается с распрями, более
радикальными, нежели те, что рождаются из-за различий в богатстве и из-за
столкновений в борьбе за должности: эти распри — плод известной страсти к
единству — тому, что поддерживается сплачивающей мощью ненависти.
6 ФИЛОСОФ И ПОЛИТИК
Это слепое пятно реалистов, возможно, располагается и там, где
философия подступает к политическому; это слепое для философии пятно
зачастую является более «реалистичным», чем о нем думают.
51
Вернемся
к
двойному
истоку,
к
двоякой
обусловленности
политического у Аристотеля: к природе, которая превращает человека в
существо в высшей степени политическое, и к получающемуся при разделе
богатств факту разделения на богачей и бедняков. Отрыв первого от второго
заставляет спросить, понимается ли этот вопрос как сложение естественным
образом социального характера тех, кто разделяет между собой логос, и
изначальной оппозиции, в которую попадают неизбежно оказывающиеся
теми, кем не являются другие, — или не имеющие того, что имеют другие.
Эта проблема альтернативы может возникать, исходя из той странной
фигуры, что исподволь проглядывает в Книге I «Политики»: имеется в виду
некий аполитичный индивид, у которого нет ни кола, ни двора; это либо
существо высшее по отношению к человеку, либо существо отверженное
(phaulos). Такое существо, — говорит нам Аристотель, — существо, живущее
вне полиса, всегда алчет войны в той мере, в какой оно — azux, не
сцепленное, не сопряженное с другими, как при игре в триктрак.
Это положение является странным — даже для того, кто больше нас
привык к ходам и терминам этой игры22. Кроме того, это положение крепко
привязано к своему доказательству. Оно идет вслед за очевидностью
(phaneron), которую мы только что продемонстрировали, а именно — за тем,
что человек по природе — животное политическое. И оно влечет за собой
другую очевидность (delon), очевидность, которая как будто бы если не
вытекает полностью, то хотя бы укрепляется собственным аргументом —
опять-таки тем, что человек — это политическое животное, во всяком случае,
явно более политическое, нежели пчелы и стадные животные.
52
Как же в контексте этих двух «очевидностей» понимать — несмотря ни
на что — диковинное суждение, что желание войны есть свойство
изолированного человека? Кому же тогда этот одиночка может объявить
войну? Если, конечно, «состояние войны» не означает попросту «состояние
одиночества»... Вышеописанного примера с триктраком недостаточно для
того, чтобы вразумить нас. С гораздо большим основанием представляется,
что триктрак здесь для того, чтобы закрыть ворота перед другой гипотезой:
гипотезой совместного бытия, которое могло бы служить проводником
ненависти, фактором войны. Тем самым здесь рассматриваются всего лишь
две разновидности войны. Существует война, какую ведет асоциальное, то,
что больше или меньше человека. Но эта война, немыслимая и необъяснимая,
остается школьной гипотезой, так как она предполагает иную природу,
нежели человеческая. И существует другая война, война между группами на
основе распределения благ и прерогатив, которую политика может
умиротворить посредством перераспределения карт и нового восприятия
игры.
Итак, состояние одиночества или же коллективный конфликт из-за
того, чем обладает другая группа. Третье исключено, а промежуток
немыслим
—
такова
социализация
ненависти,
таково
сообщество,
формирующееся не для того, чтобы завладеть имуществом другого, но
попросту ради ненависти и с помощью ненависти. Таково это arkhaioteron, с
которым имеет дело arkhe — более древняя, чем все остальное, но вечно
молодая, — когда приближается новое тысячелетие, в котором классовая
борьба останется
53
в прошлом: слепое пятно на краю политического, слепое пятно для
философии, которая мыслит войну как разделение, а ненависть как зависть;
но ведь ненависть собирает и сплачивает, не имея другого основания, нежели
сам факт, что каждый ненавидит без основания, даже перед возможностью
вообразить
разумную
причину
или
основание;
согласно
природе,
производящей знаки (semeia, природные знаки, посредством которых
Аристотель демонстрирует политическое предназначение человеческого
животного), это ни для чего не предназначено. Подобную ненависть Спинозе
довелось встретить по меньшей мере в смертоносном буйстве ultimi
barbarorum23, т. е. граждан купеческой нации, являющихся пионерами эпохи
модерна без берегов. И все-таки разве не означала оценка современного
характера этого варварства признания некоего пробела во власти природы: не
смехотворную претензию на власть, свойственную человеческой воле, но,
наоборот, неукротимую область бедствий, противящихся познанию, превращающему печаль в радость?
Вот сюда-то философия в своем терпимом (Спиноза) или нетерпимом
(Платон) отношении к невежественной массе с трудом находит подход:
точка, где порядок своры отличается от беспорядка народных собраний; стык
единого и множественного, который не является ни собранием разлаженного
множества, ни улаживанием тяжбы, но точкой, где страхи единого
встречаются со страхами множественного, где тревога отверженного
субъекта, того самого субъекта-дитяти, о котором рассказывает один текст
Жан-Франсуа Лиотара24, набирает силу благодаря увлекающей ненависти,
когда средство, препятствующее разделению, оборачивается радикальным
злом.
54
Не является ли она еще и точкой, которой философия избегает даже
там, где она выдвигает против самой себя наиболее тяжкое обвинение; где
она превращает свою измену по отношению к собственной задаче в сам
принцип тоталитарной катастрофы?
Разве основное качество хайдеггерианской операции по отношению к
политике — не в том, чтобы потопить вопрос о сплачивающей ненависти в
бездне
предполагаемых
еще
более
радикальными
катастрофы
и
самонаказания философии? В ответ на страхи столетия философия не желает
признать никакого принципа, кроме собственного первородного греха:
стародавнее и всегда молодое предательство, называемое метафизикой,
которая преобразует задачу раскрытия сущего в угрожаемом свете бытия —
в складывание всемогущего субъекта, реализующего господство над миром
объектов, предоставленных в его распоряжение; принцип всемогущества
субъекта и опустошения мира, завершающийся властью техники; принцип
политического террора, предстающего в виде конкретного свершения (трупы
в газовой камере, или же земля, опустошенная агропромышленным
комплексом).
Известно, насколько радикально эта мысль о принципе-бездне
управляет подступами к политике. Определяющей единство эпохи эта мысль
полагает сущность, слагаемую из господства, буйства разбушевавшейся
техники и нормализации человека без корней. Из-за этого якобы исчезают
сингулярность
исключающих
собраний
и
их
сингулярная
точка
уничтожающей радикальности. Общий край бездны, по мнению некоторых
политиков, оставляет место лишь для двух возможностей: для добровольного
metanoia25, которая поворачивается спиной к морю и
55
противостоит общему дрейфу льдин с американскими и советскими
гребцами, стремясь высадить здравых людей на сушу, на эту землю
ценностей,
противостоящую
земле,
подверженной
всевозможным
омонимическим превращениям; или для перелицовки столетия, для света на
дне бездны, мысль о котором руководит ожиданием, расставляя все по
местам и неустанно вычитая философское — при философии, которая
подражает
самовычитанию
политического
в
диковинной
страсти
к
самоумерщвлению. Это зрелищное искупление, по существу, оставляет
практикам государственного дела заботу по конкретному урегулированию
ненависти, с целью провести соединяющую черту так, чтобы уменьшить
дисперсию, не заражая толпы ненавистью.
И все-таки вместо того, чтобы оставлять заботу об общем катарсисе
страстей Единого и множественного правому мнению правителей, не
следовало ли вернуться к анализу той изначальной точки, где философия —
чтобы заклясть беспорядочность охло-са и недуг разделения — изобрела для
самой себя и для грядущих политиков политику конца политики? В этом
отправном пункте философия в целом обманулась в радикальном зле,
неправильно оценив подлинный облик охлоса. Ибо этот подлинный облик —
не разнузданная неугомонность множественного, но злобная сплоченность
вокруг
страсти
исключающего
Единого.
Не
возвращается
ли
этот
первоначальный недочет, когда — вместо преодоленного разделения —
заново слышится вопль бешеной своры? И, может быть, тогда следует вновь
продумать смысл демократического разделения, предположив, что политическая война партий и социальная война между бедняками и богачами, с
окончанием которой мы
56
поздравляли друг друга — и сама по себе, и в своем конфликтном
переплетении — обладала плохо понятыми нами свойствами исцелять от
радикального зла. Дело выглядит так, будто война между бедняками и
богачами на свой лад умиротворяла более архаическую войну. Как если бы
двойное разделение политического и социального обладало регулятивной
функцией по отношению к тем более радикальным распрям, которые
провоцируются известной страстью к единству, так что возвращение
архаичных умиротворяющих жестов и архаичной умиротворяющей харизмы
связывается с самим устранением разделения.
7 ДЕМОКРАТИЯ
И
ОХЛОКРАТИЯ.
ОТ
ПЛАТОНА
К
ПОСТСОЦИАЛИЗМУ
Итак, мыслить нынешнее значение «конца политики» обязывает к
пересмотру установленных греческой мыслью отношений между демосом и
охлосом, между властью народа и турбулентным собранием индивидуальных
турбулентных движений. Современная мысль о демократии, как правило,
придавала непосредственное или косвенное значение этой изначальной
схеме, отождествляя демократию либо с саморегуляцией дисперсных очагов
наслаждения, либо с властью закона, который устанавливает суверенную
коллективность, подчиняя частное универсальному. Но если охлос, в
принципе, является не беспорядочным нагромождением стремлений, но
страстью исключающего Единого — ужасающим скопищем испытывающих
ужас людей, — то об упомянутых отношениях следует мыслить иначе.
57
Демос вполне может быть не чем иным, как движением, посредством
которого множественное отрывается от участи тяготения, увлекающей его и
превращающей в охлос, при непреложности его инкорпорации в образ
целого. Демократия не есть ни саморегуляция посредством консенсуса
множественных страстей множества индивидов, ни царство коллективности,
объединенной законом под сенью Декларации прав. В обществе имеется
демократия постольку, поскольку демос в нем существует как сила
разделения охлоса. Эта сила разделения реализуется через случайную
историческую систему событий, дискурсов и практик, посредством которых
какое угодно множество провозглашается и проявляется как таковое, отрицая
в то же время собственную инкорпорацию в Единое коллективности,
распределяющей ранги, идентичности и полный отход от индивидуальных
очагов наслаждения и страха26.27 Не бывает демократии на одном том
основании, что закон провозглашает индивидов равными, провозглашая
коллективность хозяйкой самой себя. Здесь необходима еще та мощь демоса,
каковая не является ни сложением социальных партнеров, ни накоплением
различий, но совсем наоборот — является способностью уничтожать
партнерство, накопление и отменять порядковость.
Эту мощь анонимного множественного как такового гений Платона
точно уразумел как бунт количественного против порядкового. Разумеется,
для него такой бунт не мог быть ничем иным, как только слепой
манифестацией масс, беспорядочным сложением беспорядочных очагов
стремлений. Но утверждение современной демократии переворачивает постулат.
58
Современная
демократия
противопоставляет
себя
всякой
порядковости — всякому «геометрическому» равенству, — полагая демос
как возможность его самоотделения от охлоса, т. е. от животного царства
политики в ее смежных или разрозненных обличьях: Единое коллективности,
распределение социальных разновидностей личности или же изоляция
индивидов. Это характерное свойство демоса, ускользающее от всякой
власти законодателя, есть, в своей элементарной формуле, собирающаяразделяющая сила первого множественного, сила двух при разделении.
Двоица разделения есть путь, по которому идет Единое, относящееся уже не
к коллективной инкорпорации28, но к равенству чего угодно одного чему
угодно иному.
Характерная черта равенства, по существу, не столько в том, чтобы
объединять,
сколько
в
том,
чтобы
деклассифицировать,
разрушать
предполагаемую естественность порядков, заменяя ее полемическими
фигурами
разделения.
Это
свойство
непоследовательного
и
всегда
переигрываемого разделения, отрывающего политику от различных фигур
животности: от крупного коллективного тела, от зоологии порядков,
обоснованной в кругу природы и функции, от ненависти, зарождающейся
среди озверелых людей. Непоследовательное разделение эгалитарной
полемики реализует эту гуманизаторскую потенцию через конкретные
исторические
формы.
деклассифицирующее
В
современную
разделение
демократическую
эпоху
приобрело одну привилегированную
форму, название которой сегодня вышло из моды, однако же надо отдать
себе в этом отчет, чтобы знать, где мы находимся. Эта привилегированная
форма называется классовой борьбой.
Против стародавней феодальной грезы о великом коллективном теле,
разделенном на ордены — с ее
59
новыми учеными или популистскими вариантами; против новой
«либеральной» грезы о весах и противовесах в плюралистичном обществе,
управляемом элитами, — классовая борьба провозгласила и поставила в
центр демократического конфликта гуманизирующую силу разделения. Быть
членом борющегося класса, прежде всего, не означает ничего, кроме
следующего: перестать быть представителем низшего порядка. Признавать
оппозицию между буржуа и пролетариями означает определить место № 1
для полемического разделения с целью утвердить отсутствие всякого
неэгалитарного распределения, всякой фиксации социальных разновидностей
человека по образцу видов животных. Итак, декларация классовой борьбы,
прежде всего, предстает в двух разрозненных фигурах, которые, однако, в
равной степени способны сбить с толку зоологов, ищущих ее секрет в
глубинах образов жизни народа или в различиях между слоями рабочих —
отсталых или передовых, квалифицированных или неквалифицированных.
Первая фигура сформулирована в «наивных» брошюрах для рабочих, где в
качестве боевого знамени выставляется утверждение, что классов нет;
вторая — в умствованиях теоретика, провозглашающего пролетариат неклассом общества, продуктом распада всех классов. Трудная встреча Маркса
с пролетариями-социалистами разыгрывается на лезвии бритвы следующего
парадоксального вопроса: как помыслить оператор этого действия —
деклассификации? Как назвать его, если не именем класса? Тогда это имя
означает две противоречивые вещи. С одной стороны, действующее
уничтожение классов — т. е. еще и уничтожение рабочего класса, осуществляемое им самим; работа на себя, отрывающая
60
рабочий класс одновременно и от животности корпораций, и от
животности своры. Но в то же время эта работа зафиксировала в его
субстантивности класс, проводящий деклассификацию, воскрешая тем самым химеру должного распределения социальных функций, т. е. — в
конечном счете — новую фигуру химеры хорошо упорядоченного Единого.
В центре всевозможных конфликтов «рабочего движения» лежит то,
что рабочий класс признается не-классом, а его субстанциальность — не
субстанциальной.
адекватную
Маркс
форму
в
полагал,
фигуре
что
придал
партии,
этому
противоречию
объединяющей
пролетариев
посредством разделения класса, чьей партией она является. То, что эта фигура
исторически
проявляется
как
наиболее
устрашающая
из
фигур
порабощающего Единого, способного совместно субстантифицировать все
остальные, объединив силы воображаемой инкорпорации, феодальной
стратификации и одиноких запуганных индивидов, — ни в коей мере не
способствует
исчезновению
проблемы.
Забвение
Маркса
—
сколь
грандиозным ни был бы вес доводов, которым оно руководствуется, —
крайне рискует вызвать в то же время забвение и другой стороны
противоречия:
движения,
подпитывавшего
демократии
деклассифицирующей власти, демассифицируя классовую борьбу. Итак, как
бы
ни
старалась
демократия
свести
классовую
борьбу
к
некоей
несообразности в порядке свободы, равенства и братства; как бы ни
стремилась классовая борьба изобличать демократию как алиби господства
— классовая борьба и демократия оказываются привязанными одна к другой,
обмениваясь силами отрицающего исключение Единого и двоицы, которая
обнаруживает исключение и возобновляет
61
конфликт;
каждая
наделяет
другую
своей
культурой,
каждая
формирует и цивилизует другую лучше, нежели всевозможные «кроткие
нравы», свободные услуги и свободный обмен телами и товарами. Тогда
забвение Маркса является забвением следующего простого вопроса: что —
помимо классовой борьбы — может сыграть роль стены, отделяющей демос
от охлоса?
Подобно тому как чистый прогрессизм — чистая вера в благотворность
времени — приходит на смену прогрессизму общества, движущегося к
реализации своего telos'a, — на смену забытому марксизму приходит
выродившееся
гегельянство:
правительством
ученых
на
мирная
фоне
победа
разума,
потребительской
и
одержанная
консенсусной
демократии. Охлократия реализуется в форме правительства ученых,
единственного
способного
управлять
дисгармоничной
гармонией
множественных очагов наслаждения. Постдемократия — это, возможно,
полное совпадение охлократии с ее предполагаемой противоположностью,
эпистемократией:
правительство самых умных, совершенно естественно
возникающее из правил научной институции, чтобы как следует провести
точно рассчитанное управление бесконечным множеством больших и малых
очагов наслаждения. Но все-таки, как известно, пределом для администраторов наслаждения является
трудность управлять двумя-тремя
взаимосвязанными чувствами, не так уж легко выражаемыми количественно
и индексируемыми: фрустрацией, страхом и ненавистью. И как раз такая
невозможность способствует вмешательству архаической фигуры, фигуры
доброго царя, демократического короля, способного объединить два жеста в
одном, обозначить черту справедливого
62
Единого, которое необходимо, чтобы умиротворить страсти бешеной
своры и тем самым сохранить демос как вместилище двойственности.
Что позволяет возникнуть карикатурной фигуре демократического
короля, тем самым приводя нас к постмодернизму без берегов, основанному
на повторении архаических жестов, — так это новая форма конфликта между
демократией и охлократией. И недопонимание значения этого факта,
наверное, выведет правителей конца политики на путь других форм возврата
архаического. Но вопрос, поставленный перед политиками, встает и в
философии, в той начальной позиции, что поставила ее перед лицом
демократии, как перед другим ее абсолютом — когда сама скандальность
фактичности множественного превращается в закон. Возможно, карикатура
демократии на саму себя, ставшая сегодня общим местом, обязывает ее вновь
— и более решительно — переосмысливать демократическую фактичность.
Ибо, разумеется, чрезвычайным скандалом для философии, чрезмерной
платой за высокомерие платоников по отношению к эмпирикам было бы
предоставить единственно мудрости правительственной кухни не только
ведение дел народа, но и, может быть, самое интимное дело народа:
улаживание страха и ненависти.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕМОКРАТИИ
Современные размышления о демократии представляют ее как бы на
дистанции от нее самой, отделяя демократию от ее истины. Те, кто очень
шумно поздравляют друг друга с тем, что пользуются демократией, охотно
сводят ее к консенсусу относительно неэгалитарного порядка, наиболее
подходящего для того, чтобы наделить менее зажиточные слои достаточной
долей власти и благополучия. Зато те, кто подчеркивают эгалитарный
характер своей жизни, склонны противопоставлять демократии сохраняющуюся реальность неравенства, которое опровергает эту эгалитарность.
Социалистическая
традиция
длительное
время
изобличала
в
представительной демократии и в поддерживающих ее теориях фикцию
идеального
сообщества,
скрывающего
эгоистическую
реальность
и
классовую эксплуатацию. И крах социалистической модели еще позволяет
существовать подозрению, что почитаемая у нас демократия — лишь тень
подлинной. Последняя предполагала бы, что демос складывается как
субъект, явленный самому себе, на всей поверхности социального тела. Эмпирическая фигура демократа как будто бы противоречит полностью
развернутой идее демократического сообщества. Этот взгляд выражается,
например,
в
книге
Макферсона
«Жизнь
и
времена
либеральной
демократии»1. Либеральная демократия предстает в ней как несколько
противоестественный союз между коммунитарной сущностью демократии и
индивидуальным расчетом затрат и прибылей в либеральном мироздании,
невидимой рукой, сочетающей одни интересы с другими.
65
Сами по себе демократия и индивидуализм как будто бы движутся в
противоположных направлениях. А при наших нынешних разочарованиях
нам вряд ли остается что-либо, помимо выбора между двумя позициями.
Первая из них заключается в том, чтобы, принимая к сведению либеральную
демократию, надо вновь связать смысл демократии с коллективностью.
Отсюда поиск «гуманистических» дополнений демократии. Вторая: надо
сказать начистоту, что то, что мы зовем демократией, есть не что иное, как
либерализм; что все грезы о блаженных городах всегда были всего лишь
грезами, ложью для внутреннего употребления в обществе мелких и крупных
капиталистов, в конечном счете являющихся сообщниками и работающих
ради пришествия царства имущих.
Я задаюсь вопросом, не предполагают ли такие дилеммы каких-либо
ложных, но в то же самое время кажущихся нам очевидными представлений
о природе демократии. Центральную роль среди таких ложных, но
кажущихся
очевидными
представлений
играет
странная
идея
о
первоначальной демократии, о демократии античной — как если бы эта
последняя была системой непрерывной самоявленности народа как субъекта,
и как если бы этой разрушаемой изнутри системе противоречило
возникновение капиталистического индивидуализма и порождение прирученного этим индивидуализмом
субъекта, пусть даже в обличье
пролетария. В этом представлении революционная и романтическая
ностальгия по прекрасной гражданской тотальности любопытным образом
удостоверяет либеральную уверенность в том, что индивид был изобретен
именно ею; тем самым
66
строится такой образ греческой демократии, в котором ничто уже не
напоминает о тех ее характерных чертах, в которых она действительно
находила свое проявление.
1 РЕЖИМ МНОЖЕСТВЕННОГО
Напомним только текст, открывающий рефлексию демократии о самой
себе, — погребальную речь, произнесенную Периклом в книге II «Истории
Пелопоннесской войны» Фукидида. В этой речи сразу же выдвигается
ключевое понятие, понятие свободы как единства двух вещей: определенной
идеи общего и определенной идеи собственного. Перикл — на языке,
которым его заставляет говорить Фукидид, — говорит примерно следующее:
дела полиса мы ведем сообща, а что касается собственного, дел каждого, то
мы предоставляем каждому вести их на свой лад.
Тем самым в понятии свободы объединяются собственное и общее, но
понятие свободы объединяет их, даже сохраняя между ними дистанцию. Наш
политический режим — по существу, говорит Перикл — не является
мобилизационным режимом. Мы не готовимся к войне, как это делают в
Спарте. Наша военная подготовка — это наша жизнь, жизнь без
принуждения и секретов. Политический демократический субъект попадает в
сферу общего, дистанцируясь от своего общего образа жизни, характеризующегося
двумя
основными
чертами: отсутствием
принуждения
и
отсутствием подозрений. Подозрение — на фукидидовском греческом языке
— обозначается словом hypopsia, взгляд снизу2. Демократию характеризует
именно отказ от такого взгляда искоса, который социальные знания
современной эпохи
67
возведут на уровень способности к теоретизированию, дающей
возможность ее
обладателю улавливать под
заурядной внешностью
опровергающую ее истину.
Разумеется, ничто не обязывает нас верить на слово Периклу или
Фукидиду и отождествлять афинскую демократию с речью, которую
произносят о ней ее вожди при подобных весьма определенных обстоятельствах. Николь Лоро напоминает нам в «Изобретении Афин», что это как
раз и есть мобилизующая речь. С одной стороны, в этой речи упраздняется
антагонизм, формирующий само понятие демос. С другой, мы знаем, что
афинские
практики
доносов
или
обычай
антидосии3
предполагали
достаточно внимательный взгляд как на дела и жесты соседа, так и на
инвентарь его собственности. Тем не менее остается идея — идеальный тип
демократии, — которая носит достаточно последовательный характер для того, чтобы противники демократии разделили ее с ее адептами: демократия
сразу же связывает известную практику политического сообщества со стилем
жизни,
характеризующимся
дискретностью,
прерывистостью.
Житель
демократического полиса не является солдатом, непрерывно воюющим за
демократию. Именно такую прерывистость высмеял противник демократии
Платон в Книге VIII «Государства», говоря о равенстве, как его понимает
демократ: с точки зрения Платона, это — неспособность иерар-хизировать
необходимое и избыточное, равное и неравное. Демократический человек
хочет равенства во всем, включая неравное; он не признает различия между
необходимым и избыточным, он воспринимает все — включая демократию
— в режиме вожделения, изменения, моды. «Сегодня, — говорит нам
68
Платон, — он будет пьянствовать под звуки флейты, завтра он
перейдет на диету; сегодня он будет делать телесные упражнения, завтра
предастся лени; сегодня он будет заниматься политикой, завтра — философией; некоторое время он посвятит войне, некоторое — делам и т. д.»4.
Мы без труда дадим современное толкование этого портрета:
демократический человек, переходящий от политики к питью воды и
самоизнурению или от гимнастики к философии, весьма похож на то, что мы
описываем как индивида эпохи постмодерна. Платон до возникновения
общества потребления рисует нам портрет шизофренического индивида из
этого общества, о котором нам любят говорить, что оно олицетворяет собой
крушение демократии или понижение ее ставок, но даже в своей
карикатурности этот индивид предстает как само воплощение демократии.
Демократия, по существу, является для этого индивида упомянутой системой
разнообразия, что касается также и политического спроса и предложения:
«Демократия, — говорит Платон, — это не государственное устройство, но
рынок государственных устройств, содержащий их всех, где каждый может
увидеть то, что ему нравится»5.
Итак — с точки зрения ее противника, — демократия представляет
собой режим множественного приспособления. Эта идея режима, который
каждый может рассматривать по-разному, обнаруживается и у Аристотеля.
Но Аристотель мыслит эту способность к множественному приспособлению
не как признак неполноценности, но как политическую добродетель.
Пожалуй, эта добродетель не является для Аристотеля демократической. Как
и.для Платона, демократия для него является всего лишь наименее дурным из
69
дурных режимов; это режим искаженный, и сравнивать его следует с
режимом правильным, с политейей или — если угодно — с-республикой. Но,
с другой стороны, хороший режим характеризуется как раз вот этим: он
всегда представляет собой смесь государственных устройств, их рынок.
Режим не смешанный, — говорит нам Аристотель, — режим, стремящийся
сделать все законы и институты похожими на свой принцип, обрекает себя на
гражданскую войну и крах из-за односторонности самого этого принципа.
Следовательно, чтобы приблизиться к совершенству, каждый режим должен
исправить себя, постараться принять противоположный принцип, сделать
себя непохожим на самого себя. Хорошего режима не бывает никогда,
бывают лишь извращенные режимы, подлежащие постоянной самокорректировке, можно даже сказать — самомаскировке. Итак, насмешкам
Платона
над
рынком
режимов можно противопоставить Книгу IV
«Политики», где Аристотель поясняет: необходимо, чтобы мы видели два
режима сразу — демократию и олигархию — и ни одного из двух. «Хороший
политик — тот, кто в одно и то же время показывает олигарху олигархию и
демократию демократу»6.
Стоило бы остановиться на этой функции искусства (мастерства), где
резюмируется вся сложность Аристотелевой мысли о политике. Опровергая
сразу и реалистическую утопию совпадения, и чисто манипуляционную
концепцию политики, эта функция мастерства считает мысль о политике не
иллюзией или махинацией, но искусством совместной жизни. У Аристотеля в
искусстве реализуется тот принцип совместной жизни, который называется
дружбой; он устраняет односторонность, свойственную каждому из
составляющих политику элементов.
70
Это способ играть в игру другого и принимать его в свою игру,
несводимую к какой бы то ни было «хитрости разума». У Аристотеля такое
искусство остается искусством правителя. Но, возможно, часть того, что назвали «демократическим изобретением», состоит в способностях к игре,
которыми не-правители наделяют себя сами.
Из этого краткого обзора нескольких основополагающих высказываний
о демократии я извлеку два замечания: прежде всего, демократия — власть
демоса — не отождествляется с принципом единства и вездесущности.
Власть демоса — это еще и власть стиля жизни, играющего свою роль и для
собственного, и для общего. Но это искусство или мастерство совместной
жизни, тот способ, каким режим стремится сделаться непохожим на самого
себя, возможно, имеет кое-что общее с политической мыслью и практикой в
современной демократии. Возможно, следует поискать отношения между
этим типом несходства, о котором теоретизирует Аристотель, и принципом
разделения, в котором Клод Лефор усматривает сущность современной
демократии, как места власти без тела, рассеянной между различными
инстанциями легитимности, а именно — инстанциями права, закона и
знания. Тогда искусство, с помощью которого теоретик политейи стремится
принять и исправить пороки демократии, могло бы помочь нам понять
собственные
свойства
этого
теоретика,
не
являющиеся
свойствами
художника, но все-таки представляющие собой также способ регулировать
отношения того, что говорится, с тем, что видится.
На самом деле мы знаем, что свойственное демократическому режиму
разделение, как правило, мыслилось негативно, как манифестация некоего
разрыва, неистинности демократии.
71
Мысль
социальной
критики
любопытно
контаминировалась
с
проблематикой, порожденной теократической контрреволюционной мыслью,
которая рассматривает возникновение демократии как утрату единства,
разрыв социальных уз. Я не настаиваю на всех аспектах этой химеры
утраченной тотальности и ее восстановления — что контрреволюция
великодушно связывала с социализмом и социальной наукой. Я хочу просто
подчеркнуть, как эта мысль о разделении как неистинности — иллюзии или
лжи — переводится на язык социальной науки и в формы социальной критики и политического восприятия, вводимые демократическим дискурсом.
Фактически именно демократия придала социальной науке ее изначальный
характер науки подозрения, мысля гетерогенность демократических форм
как нечто неадекватное самому себе, а пространство демократической речи и
демократического представительства как сцену тра-вестирования, искажения
истины.
Тем самым на демократическую практику накладывается мысль о
подозрении, о взгляде искоса, что отсылает всякое демократическое
высказывание к замаскированной истине неравенства, эксплуатации или
разрыва. Тут заключается альянс между двумя темами: темой формальной
демократии, которая противостоит демократии реальной; и темой иллюзии,
присущей спонтанному сознанию социальных действователей — и особенно
спонтанному сознанию эксплуатируемых, не понимающих смысла собственной практики. Отсюда родился двойственный дискурс: догматизма
сокровенной истины и скептицизма необходимого непонимания.
72
Этот теоретический диспозитив обладает потрясающей способностью к
выживанию при обрушении его политических моделей. Даже там, где
потерпели крах великие модели социалистического упования, где мы больше
не смеем ничего противопоставлять демократии как лучшей форме
коллективности, догматизм выживает в форме скептицизма. Неопределенная
рутина
демистификации
всегда
навязывает
способ
мыслить
—
и
практиковать — демократию в режиме подозрения, как если бы всегда
следовало признавать, что демократия — не то, за что она себя выдает; что
те, кто практикуют ее, всегда предаются иллюзии относительно того, что они
делают.
Эти
дискурсы
в
конечном
итоге
затемнили
сам
смысл
социалистического опыта и, в частности, смысл социалистического рабочего
опыта
тем,
что
такой
опыт
неправильно
объясняют
воздействием
демократии. Именно это я и хотел бы показать, рассматривая некоторые
аспекты того, что я назову vita democratica7, в том духе, в каком Ханна
Арендт говорит о vita activa8. Я выделю здесь два аспекта: словоупотребление и использование форм.
2
СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЕ
И
СИЛЛОГИЗМ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
Я рассмотрю здесь историю одной идеи и одной практики во Франции
XIX века, идеи и практики освобождения трудящихся. Эта идея проходит
красной нитью сквозь целую систему дискурсов и практик, которые
полностью отвергают дискурс сокровенной истины и ее демистификации.
Воинствующий опыт рабочих предстает здесь в весьма непривычном для
наших мыслительных привычек виде, как опыт своего рода верификации
равенства.
73
Известно, что социальная наука фундаментальным образом занималась
одним: верификацией неравенства. И фактически она всегда доказывала его
необходимость. В связи с этой наукой социальной критики, которая
непрерывно переоткрывает неравенство, мне кажется интересным вновь
обратиться
к
рассмотрению
практик,
преследующих
прямо
противоположные цели. Исходя из этого, мы сможем спросить себя — если
угодно, — кто наивнее: те, кто способствует верификации равенства, или те,
кто способствует верификации неравенства — и уместно ли здесь само
понятие наивности?
Сразу же после французской революции 1830 года публикации,
брошюры и рабочие газеты в изобилии муссируют единственный вопрос:
равны ли французы или нет? Эти тексты, зачастую сопровождающие
забастовочные движения и политические конфликты, представляют себя в
большей или меньшей степени как доказательство нижеследующего силлогизма.
Большая
посылка
силлогизма
проста.
Хартия,
только
что
провозглашенная в 1830 году, утверждает в преамбуле, что все французы
равны перед законом. Это равенство задает большую посылку силлогизма. А
вот малая посылка силлогизма почерпнута из непосредственного опыта.
Например, в 1833 году парижские рабочие-портные устроили забастовку,
потому что портные-хозяева отказались удовлетворять их требованиям,
касающимся тарифов, рабочего времени и некоторых условий труда. Стало
быть, малая посылка силлогизма развертывается приблизительно так: вот г-н
Шварц,
возглавляющий
коалицию
портных-хозяев,
отказывается
выслушивать наши доводы.
74
Фактически мы высказываем ему доводы в пользу того, чтобы
пересмотреть тарифы. Он может верифицировать эти доводы. Но отказывается делать это. Значит, он не обращается с нами, как с равными. Он
противоречит равенству, вписанному в Хартию.
Другая форма того же силлогизма: тот же г-н Шварц объединяется с
коллегами и договаривается с ними противодействовать требованиям
рабочих. Стало быть, он организует коалицию между хозяевами. А ведь
закон говорит, что коалиции хозяев подлежат порицанию на том же
основании, что и коалиции рабочих. И все-таки правосудие преследует только рабочих. Это опять-таки противоречит равенству. Другой пример того же
времени: закон утверждает, что французы равны, но вот г-н Персиль,
королевский прокурор, только что сказал в обвинительной речи против
глашатая: «Все, что Правосудие сделало в отношении прессы и политических
ассоциаций, было бы потеряно, если бы мы могли ежедневно живописать
рабочим их положение, сравнивая его с положением людей более высокого
класса в обществе и повторяя рабочим, что они такие же люди, как и вышестоящие, и что они вправе пользоваться тем же». Итак, вот новая малая
посылка силлогизма: представитель закона, говорящий, что рабочие — не
такие же люди, как прочие.
Следовательно, силлогизм прост: в большой посылке присутствует то,
что говорит закон; в малой посылке — то, что говорится или делается в
других местах, факт или фраза, противоречащие основополагающему
юридическо-политическому утверждению равенства. Но существуют два
способа мыслить противоречие между большой и малой посылками.
75
Первый способ — тот, к которому мы привыкли. Он состоит просто в
заключении, что юридическо-политическая фраза является иллюзией, что
утверждаемое равенство — видимость, нужная всего лишь для того, чтобы
замаскировать реальность неравенства.
Так рассуждает здравый смысл демистификации. Но не этот путь
избран в рассуждениях рабочих. Обычно берется следующий вывод:
необходимо согласовать большую и малую посылки, а для этого — изменить
одну или другую. Если г-н Персиль или г-н Шварц имеет основание говорить
то, что он говорит, и делать то, что он делает, необходимо поменять
преамбулу к Хартии. Следует говорить: французы не равны. Зато если мы
будем утверждать большую посылку и сохраним преамбулу, то необходимо,
чтобы г-н Персиль или г-н Шварц говорил или действовал иначе. Интерес
этого
способа
рассуждения
состоит
в
том,
что
в
нем
уже
не
противопоставляется фраза факту или форма — реальности. Фраза
противопоставляется фразе, а факт факту. Из того, что обыкновенно
мыслится как разрыв или алиби [non-lieu], этот способ рассуждений создает
именно место в двойном смысле слова: систему доводов и полемическое
пространство.
Эгалитарная
фраза
—
не
пустяк.
Фраза
наделяется
способностью, какую ей придают. Эта способность, прежде всего, в том,
чтобы создать тот топос [lieu], где равенство могло бы само заявить о своих
правах: где-то имеется равенство; это сказано, это написано. Стало быть, это
должно иметь возможность верификации. Отсюда должна брать начало
практика, ставящая перед собой задачу верифицировать такое равенство.
Как мы можем верифицировать фразу? В сущности, действиями,
которые мы производим сами.
76
Эти действия надо организовать как доказательство, систему доводов.
В избранном нами примере это приводит к определяющей трансформации
забастовочной практики. Последняя принимает новую форму демонстрации
(доказательства)9. Прежде отказ работать воспринимался в логике силовых
отношений, находивших кульминацию в том, что участники движения
называли проклятьем: когда они были недовольны работодателями из какоголибо города, они подвергали город проклятью, т. е. покидали его с оружием
и багажом и мешали другим заменять себя. Но вот этой логике алиби
противопоставляется новая практика забастовки, когда производится попытка трансформировать силовые отношения в отношения разума. Это означает
не замену действий словами, но превращение силовых отношений в практику
демонстраций.
И продемонстрировать надо как раз равенство. Среди требований,
которые отстаивали рабочие-портные в ходе этой забастовки, фигурирует
странная для нас формула: они требуют «отношений равенства» с хозяевами.
Это требование может казаться нам наивным или причудливым, но смысл его
ясен: имеются рабочие, имеются хозяева; но хозяева не являются хозяевами
своих рабочих. Иначе говоря, следует принимать во внимание два типа отношений. С одной стороны, существуют отношения экономической
зависимости, которая порождает известное «социальное» — определенную
дистрибуцию ролей, отражающуюся на повседневном порядке условий труда
и личных отношений: это и есть «социальное» неравенства. С другой
стороны, существуют юридическо-политические отношения, фиксация
равенства, фигурирующего в основополагающих текстах — в Декларации
прав человека в преамбуле Хартии.
77
Эти другие отношения обладают способностью порождать другое
«социальное», социального равенства: в данном случае это означает
внедрение переговоров в политический обиход, а также определенные
правила вежливости для хозяев или право для рабочих читать газеты в
мастерской.
Такое
социальное
равенство
не
является
ни
простым
юридическо-политическим равенством, ни экономической уравниловкой.
Это
потенциальное
равенство
в
юридическо-политической
записи,
переведенной на язык повседневной жизни, перемещенной в повседневную
жизнь и максимизированной в ней. Подобное социальное равенство — еще
не все равенство; это способ проживать отношения равенства и неравенства,
переживать их и в то же время производить в них позитивные сдвиги.
Тем самым определяется работа равенства, которое никогда не может
быть попросту требованием к другому или оказываемым на него давлением,
но в то же время должно быть еще и доказательством, предъявляемым
человеком самому себе. Вот что означает эмансипация. Эмансипация — это
выход из положения меньшинства. Но из социального меньшинства можно
выйти лишь по собственной воле. Эмансипировать трудящихся не означает
представить труд в качестве основополагающего принципа нового общества,
но означает вывести трудящихся из состояния меньшинства, доказать, что
они действительно принадлежат к обществу, что они действительно
сообщаются со всеми в общем пространстве; что они не только
нуждающиеся, сетующие или вопиющие существа, но и существа, умеющие
разумно рассуждать, что они умеют противопоставлять довод доводу и
строить свое действие как доказательство (демонстрацию).
78
Поэтому и сама забастовка оформляется как система доводов:
доказательство правильности предлагаемых тарифов, комментарий на тексты
противников с целью доказать их неразумие, экономическая организация
забастовки в процессе создания мастерской, управляемой самими трудящимися, — не столько как зародыш «рабочей власти» в будущем, сколько как
распространение республиканского принципа на область, которая оставалась
ему чуждой, на мастерскую. Может быть, трудящимся на самом деле нет
необходимости для того, чтобы быть равными, владеть своим заводом и
руководить его работой. Может быть, достаточно, чтобы они от случая к
случаю демонстрировали, что могут это делать. Речь идет не столько о том,
чтобы основывать некую контрвласть, которая творила бы законы для
грядущего общества; речь идет о демонстрации способности, о демонстрации
возможности сообщества. Эмансипироваться означает не
отпасть,
а
утвердить себя в качестве сопричастных к общему миру, предполагать —
даже если внешне ситуация выглядит не так, — что эмансипирующийся
может играть в ту же игру, что и его противник. Отсюда изобилие — в
литературе об эмансипации рабочих, а также о женской эмансипации —
аргументов, стремящихся доказать, что те, кто требуют равенства,
действительно имеют на него право; что они сопричастны общему миру, где
могут доказывать свою правоту и необходимость для других признать ее.
Естественно, факт доказанности чьей-либо правоты никогда не
обязывал другого признать свою неправоту. И чтобы доказать свою правоту,
всегда требовались и другие аргументы.
79
Ведь само это право черпает силу самоутверждения из собственного
насильственного закрепления. Разумную аргументацию забастовщиков в
1833 году услышали, а их демонстрацию — увидели постольку, поскольку
революционные события 1830 года, напомнив о революционных событиях
1789 года, извлекли забастовщиков из инфрамира смутных шумов, возникших при случайном вторжении забастовщиков в мир смысла и видимости.
Повторение эгалитарной фразы представляет собой повторение этого
вторжения. Вот почему открываемое им пространство общего смысла не
является пространством консенсуса. Демократия есть сообщество разделения
в двойном смысле этого термина: принадлежность к одному и тому же миру,
которая может выразиться только в полемике; сплоченность, которая может
сложиться только в бою. Постулат общего (здравого) смысла10 всегда
трансгрессивен. Он предполагает символическое насилие как по отношению
к другому, так и по отношению к себе. Субъект права, для обоснования
какового ни один текст не является достаточным, только и существует, что в
акте этого двойного насилия. Доказать другому, что существует одинединственный мир и что мы можем дать отчет за свои действия, означает,
прежде всего, доказать это самому себе. Ханна Арендт полагает в качестве
первого права право иметь права. Мы можем сюда добавить, что права имеет
тот, кто может навязать другому рациональную обязанность признавать их.
То, что другой чаще всего отказывается выполнять эту обязанность, ничего
не меняет в сути проблемы. Кто из принципа говорит, что другой ничего не
поймет, что у них нет общего языка, — утрачивает основание признавать
права за самим собой. Зато кто признает, что другой всегда способен понять
его дискурс, увеличивает свои возможности — и не только в плане дискурса.
80
Существование субъекта права полагает, что юридическая фраза
верифицируема
в
пространстве
общего
(здравого)
смысла.
Такое
пространство виртуально, что не означает «иллюзорно». Кто принимает
виртуальное за иллюзорное — разоружается, и совершенно так же
разоружается
принимающий
сообщество
разделения
за
сообщество
консенсуса. Равенство никогда не реализуется иначе, нежели вычерчивая
линии собственного пространства. Тесный путь эмансипации проходит
между примирением разделенных миров и иллюзией консенсуса. Как раз это
напряжение
карикатурно
изображается
в
рассуждениях,
противопоставляющих формальное реальному, или в покаяниях, сменяющих
одну позицию на противоположную. Рассуждения вчерашнего дня, противопоставляющие
реальные
свободу
и
равенство
их
формальной
декларации; рассуждения завтрашнего дня, противопоставляющие хорошие и
разумные революции свободы утопическим и смертоносным революциям
равенства, одинаково забывают о следующем: равенство и свобода суть
силы, порождающие сами себя и возрастающие благодаря самому своему
действию. И это-то и предполагает идея эмансипации, утверждая, что не
бывает иллюзорной свободы и иллюзорного равенства; что и свобода, и
равенство
всегда
суть
потенции,
воздействие
которых
полагается
верифицировать.
Это означает еще, что не существует групповой потенции, независимой
от потенции, благодаря которой индивиды извлекают себя из инфрамира
смутных шумов, самоутверждаются как сопричастные общему миру.
81
Итак, идея эмансипации прошла сквозь индивидуальный опыт
множества индивидов. Образцовые для бессчетных разновидностей такого
сингулярного опыта, архивы столяра Гони показывают нам способ, каким он
разработал для самого себя целую этику и даже экономию эмансипации, целую систему расчета свободы — как политической контрэкономии, где речь
идет о том, чтобы в каждом акте повседневной жизни рассчитывать
максимум уже не благ, но свободы11. Отсюда изобретение стиля жизни,
целью которого является постепенное уменьшение количества потребностей,
их непрестанный обмен на свободу. Было бы интересным сравнить эту
аскетическую экономию — экономию «киновийную»12, по словам самого
Гони, — с современными теориями индивидуального актора и расчетом «затрат».
На
этом
примере
можно
увидеть,
как
экстремальность
индивидуальной эмансипации сообщается со смыслом общего. Так, одним
из важнейших пунктов бюджета Гони являлись расходы на обувь:
эмансипированный человек — это тот, кто непрестанно ходит, вращается в
различных кругах и беседует, способствует круговороту смысла и движению
эмансипации. С одной стороны, эмансипация рабочего осуществляется через
изменение стиля жизни, через эстетизацию его жизни. С другой — точка стыка человека и гражданина, индивида, рассчитывающего свою жизнь, и члена
сообщества состоит в том, что человек есть, в первую очередь, существо слова: главным образом, в качестве говорящего существа он находит себя
равным всякому другому. К тому же именно через философов языка слово
«эмансипация» обрело во Франции новый смысл, выйдя за рамки своего
юридического
определения
навстречу
новому
индивидуальному
и
коллективному опыту.
82
Главный смысл этой новой идеи эмансипации заключается в том,
чтобы постулировать равенство умов, как общее условие умопостигаемости
и общности, как предположение, которое каждый должен постараться
верифицировать для себя13.
Тем самым демократический опыт представляет собой определенную
эстетику политики. Демократический человек является существом слова, т. е.
еще и поэтическим существом, способным установить дистанцию между
словами и вещами, каковая есть не обман или надувательство, но гуманность,
способная взять на себя ответственность за нереальность репрезентации.
Подобная поэтическая добродетель есть добродетель доверия. Речь идет о
том, чтобы исходить из точки зрения равенства, утверждать его, работать,
отправляясь от им предполагаемого, с целью увидеть все, что оно может
произвести для максимизации возможностей свободы и равенства. Наоборот,
кто исходит из недоверия, кто отправляется от неравенства и задается целью
его уменьшить, тот иерархизирует неравенства, приоритеты и умы и до
бесконечности воспроизводит неравенство.
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ
То же разделение интерпретаций присутствует в анализе другого
существенного аспекта демократической жизни, а именно использования
форм. Именно об этом свидетельствует анализ одной из существенных форм
опосредования между индивидами и политической системой в современных
обществах, формы-школы. Школа есть привилегированное место, где
осуществляется
подозрение
демократии
на
неистинность,
критика
расхождения между формой и ее реальностью.
83
Критическая рефлексия по поводу демократической школы связана с
одной основополагающей темой: с темой провала, той неудачи, которую
терпит в школе подавляющее большинство детей, являющихся выходцами из
простонародной среды, — что доказывает несостоятельность школы в
решении задачи реализации равенства в обществе.
Демократическая школа тем самым мыслится как место постоянно
обманывающегося, введенного в заблуждение обещания — согласно двойной
игре социальной критики: с одной стороны, неудачу критикуют, предлагают
педагогические,
психологические
и
социологические
средства
для
устранения этого провала. Но тотчас же доказательство расщепляется:
доказать провал означает также (и преимущественно) то, что демократия
лжет самой себе; что если она плохо приспособлена к провозглашаемому ею
равенству,
то
дело
в
том,
что
она
втихомолку
превосходно
приспосабливается к скрываемому ею неравенству, что неравенство
действительно служит ее основополагающим принципом.
Работы Бурдье и Пассерона о школе иллюстрируют на примерах такую
логику, в которой социолог и социальный критик всякий раз выигрывают,
показывая, что демократия всякий раз проигрывает. Фактически они желают
показать, что если школа не сдержала эгалитарных обещаний, то дело не в
нехватке средств, но в сути самой школы; дело в символической логике, на
которой школа основана14. В книге «Наследники» образцово задействовано
то, что я назову силлогизмом подозрения.
84
Книга фактически не довольствуется противопоставлением большой
посылки (школа, равная для всех) посылке малой (крах детей из
простонародных классов), чтобы извлечь отсюда обвинение. Она стремится
показать, что школа творит неравенство, как раз заставляя верить в
Равенство. Заставляя детей бедняков верить в то, что в школе все равны; что
учеников отмечают, классифицируют и отбирают на основании одних только
дарований, одного только ума каждого из них, школа обязывает детей
бедняков признать, что если они не добиваются успеха, то дело в том, что у
них нет дарований, что они не умны и что им, следовательно, лучше было бы
пойти в другое место. Тем самым школа полагается в качестве места
основополагающего символического насилия, являющегося не чем иным, как
самой иллюзией равенства. Чтобы внушить веру в то, что успех сопряжен
только с дарованиями ученика, школа ставит в привилегированное
положение все, что выходит за рамки простой передачи знания; все, что
считается обращающимся к личности, к оригинальности ученика. Таким
образом, школа производит отбор способа существования, являющийся на
самом деле стилем жизни, режимом приобщения к культуре; этому режиму,
режиму наследников, в школе не обучаются. Тем самым обнаруживается, что
школа лжет относительно своих обещаний и оказывается верной по отношению к своей сокровенной сущности: к греческому слову skhole16,
которое дало школе свое имя и поначалу означало стиль жизни людей, у
которых есть досуг, которые равны как досужие люди, и при случае, когда
им заблагорассудится, используют эту социальную привилегию для
образования.
Итак, школа как форма образует совершенный круг: конвертацию
социально-экономического капитала
85
в культурный и — через маскировку в процессе такой конвертации —
столь же действенное, сколь и невидимое разделение между теми, у кого есть
средства этой конвертации, и теми, у кого нет средств такового. Тем самым
демократическая форма в более широком смысле может поддерживать
иллюзию равенства
и непонимание
основополагающего неравенства:
неравенства между людьми skhole и людьми необходимости, между теми, кто
могут, и теми, кто не могут позволить себе роскошь времяпрепровождения,
посвященного толкованию символов. Демократию можно считать таким
лживым режимом, который предполагает за бедными возможность инвестиций в роскошь. Выходит, что наш анализ доводит до крайности мысль о
подозрении, превращающем демократического человека в человека, которого
вводят
в
заблуждение
формы,
посредством
которых
разделение
увековечивается с помощью маскировки.
Правда, такой нигилистической интерпретации мысли о подозрении
соответствует интерпретация позитивная, называющаяся «уменьшение неравенств». Из критических замечаний Бурдье и Пассерона педагогиреформаторы и политики-реформаторы, по существу, взяли три идеи:
необходимость
эксплицировать
необходимость
бороться
с
имплицитные
формализацией
факторы
большой
неравенства,
культуры
и
необходимость принимать во внимание важность социального, габитусов и
способов социализации, свойственных неимущим классам. Результат таких
разновидностей политики, по крайней мере, во Франции, теперь едва ли
оспаривается: притязая на эксплицирование неравенства, его сделали
закостенелым.
86
С
одной
стороны,
выявление
социально-культурных
различий
проявляло тенденцию трансформировать их в судьбу, сдвигать школьный
институт по направлению к институту содействия — со всеми ориентациями
и
перегруппировками,
просеивающими
детей
иммигрантов
через
вспомогательные испытания, где они не рискуют потерпеть провал. С другой
стороны, погоня за «имплицитными» критериями чрезвычайно повысила
важность в высшей степени эксплицитных критериев: неистовой гонки,
начинающейся с детского сада и вскоре глубоко усваиваемой детьми; гонки с
целью поступить в престижную начальную школу, дающую право поступить
в престижный коллеж, что открывает «хорошим» классам престижные лицеи,
расположенные в престижной социально-культурной среде престижных
столичных кварталов.
Тем самым нигилистический взгляд на школу как на форму
воспроизводства неравенства и прогрессистский взгляд на школу как на
инструмент, уменьшающий неравенства, объединяются как в последствиях,
так и в принципах: исходя из неравенства, они возвращаются к нему. Требуя
школы, приспособленной к потребностям трудящихся, или изобличая школу,
приспособленную к воспроизводству господства, они вновь подтверждают
существенное
предположение,
которое
контрреволюционная
критика
демократии завещала ее социалистической демистификации: идею о том, что
разлад между конститутивными формами социально-политического режима
представляет
собой
симптом
некоего
основополагающего
зла
или
основополагающей лжи. Но ведь как раз это — клеймо, наложенное
демократией на современные экономические и государственные системы:
гетерогенность форм и, в частности, отсутствие схождений между школьной
логикой и логикой производства.
87
В каком-то смысле верно, что демократическая школа является
парадоксальной наследницей аристократической skhole. Это означает, что
она делает равными тех, кого принимает — не столько универсальностью
знания,
которое
она
распределяет,
или
последствиями
социального
перераспределения, сколько самой ее формой, каковая является формой
отпадения от производительной жизни. У древних сословных обществ
демократия заимствует форму, отделяющую интеллектуальный досуг от
производственной необходимости. Но — перераспределяя отношения досуга
и необходимости, — она превращает это когда-то естественное разделение в
движущееся противоречие, в ловушку которого один за другим попадают
многие политики, выступающие за равенство. Двойственность школы как
формы открывает ее множеству выборов и смыслов: для одних школа
представляет собой реализацию гражданского равенства, для других —
средство социального продвижения; кое для кого еще — право, не зависящее
даже
от
его
более
или
менее
успешного
использования,
нечто
предоставляемое демократическими государствами даже самым смутным
желаниям их граждан. Чаще всего все эти смыслы смешиваются, превращая
школу не в маску неравенства и не в инструмент его уменьшения, но в место
символической видимости равенства и в то же время его эмпирического
выторговывания. Вот почему не бывает школьных «реформ», которые не
представали бы в форме решения, касающегося равенства.
Среди
многочисленных
движений,
вызванных
во
Франции
правительственным поощрением школьной реформы, одним из наиболее
значительных останется студенческая забастовка, состоявшаяся в ноябре
1986 года.
88
Правительство
представило
в
парламент
законопроект
об
университетах, вызванный — как и другие — необходимостью лучше приспособить их к экономической жизни. Говорили, что каждый третий,
получивший дипломы, оказывается безработным. Значит, в университетах
нужно было бы ввести «селективную ориентацию», которая направила бы
студентов по путям, где их способности могли бы найти применение. Закон
был весьма осторожным: немного — но не слишком много — селективной
ориентации; университетам разрешалось дать больше прав принимать
студентов, но тоже не слишком. Казалось, этот безобидный закон будет
принят при всеобщей апатии по отношению к мерам, определяющим новый
курс, проводимый новым консервативным большинством. Однако же за
несколько дней на улицы Парижа вышло двести тысяч студентов и
лицеистов, чтобы заявить о своем протесте. Дело выглядело так, как если бы
— несмотря на осторожность закона — заинтересованные лица обратили
внимание на одно-единственное слово, на слово, невыносимое само по себе,
а именно — «селекция». Но ведь их реакция развертывалась в контексте, где
уже не было никакого заднего плана культурной революции, а всевозможные
велеречивые рассуждения о соревновании в капиталистической школе
прекратились. Противостоявшие закону студенты и лицеисты сами (и
поодиночке) в значительной мере — в поисках престижных классов и
престижных карьер — оказались в сетях селективной логики. И все-таки дело
выглядело так, как если бы это преобразование верований и практических
позиций не препятствовало
89
сохранению в неизменности системы коллективной идентификации
школы как формы, где бесплатность и открытость университетской системы
рассматривались
как
неприкосновенные
приобретения
французской
демократии: в университете, где кто угодно может изучать что угодно, с
вытекающими отсюда рисками и потерями для индивидов и государства —
словом (заимствуя платоновский образ) ярмарка знания оказалась возможной
благодаря коллективности и каждому из ее членов.
Но это не следует понимать так, будто беспорядочные желания и
расчеты
демократического
базара
обязывают
распоряжающихся
коллективной рациональностью к компромиссу. Демократия фактически не
была бы чем-то большим, нежели то, что в ней видел Платон, если бы она
была просто беспорядком господства, раздором между формами господства,
отражающим беспорядочность желаний народа. Демократия заключается не
в компромиссах и беспорядочности государственной системы. Сама
беспорядочность — всего лишь следствие эгалитарного разделения,
случайные
исторические
конфигурации,
где
она
может обнаружить
подобающее себе место и утвердить свои возможности, возможности
деклассификации.
Ведь
как
раз
таков
смысл
протестовавшие
инстинктивно
предвосхищения
эгоистической
слова
уловили
пользы
«селекция».
именно
слово
В
это.
селекция
сущности,
До
всякого
доставляет
удовольствие тем, кто его используют. Оно нравится им попросту потому,
что утверждает, что основой общественного порядка является неравенство.
Вроде бы мало политизированная молодежь, которая хлынула на улицы,
возмущенная одним этим словом, как будто бы достаточно
90
хорошо прочувствовала: речь идет попросту о равенстве и неравенстве,
речь идет просто о том, чтобы узнать, образует ли равенство или неравенство
закон в последней инстанции при компромиссе форм, наделяющем закон
смыслом: смыслом права множества или смыслом ученого управления
охлосом.
Именно эта точка зрения позволяет судить о противоречивых оценках,
объектом которых стало это спокойное и неромантичное движение. Одни
приветствовали реализм молодежи, которая — в отличие от революционеров
1968 года — сумела точно очертить свои цели и мирно организовать отряды.
Другие, наоборот, обвиняли в мелочности движение, обратившееся только к
непосредственным, ближайшим интересам и до смешного заботившееся о
респектабельности. Но, может быть, тем самым никто из них не уловил один
из наиболее своеобразных аспектов того, что произвольно называли
образцовым реализмом или мелочным реформизмом. С этим движением
случилась одна весьма необычная вещь. В университетах повсюду
распространяли текст закона. Студенты покупали, читали и комментировали
его. В 1968 году текст законов в университетах почти не читали. Ведь
студенты заранее знали, о чем там написано: о подчинении университета
капиталистической власти. Студенты ничего не имели сказать министрам,
предлагавшим эти законы, кроме того, что их устами глаголет капитализм и
что министры не могли бы сделать ничего иного, кроме того, что сделали.
Сами министры не ожидали другой реакции, и поэтому у них не было иных
трудностей, кроме трудности поддержания порядка.
91
Однако в движении 1986 года возникло явление, которое привело к
полному переполоху в рядах правительства и консервативного большинства:
студенты комментировали закон, они говорили, что этот закон плох. Они
обращались к членам правительства как к людям, которые — в конце концов
— могли создавать хорошие законы с таким же успехом, что и плохие.
Правительство и парламент рассчитывали на привычную песенку: «Вашими
устами глаголет капитализм». Но вместо этого получилось, что их приняли
всерьез как законодателей; студенты считали, что власть может превосходно
писать законы в общих интересах, так как она была для этого избрана. Такая
«наивность» студентов 1986 года, рассуждавших подобно рабочим-портным
1830 года и создавших, играя в игру другого, невиданное пространство
полемики, застала власть врасплох, выбила ее из колеи. Власть попала в
ловушку обновленного силлогизма равенства.
Правда, сила этого силлогизма вовсе не равнозначна превосходству
реализма над утопией или мирных путей над насильственными средствами.
Характерная черта силлогизма равенства не в том, что он заменяет бои
словом. Дело в том, что он создает общее пространство как пространство
разделения. Поднявшись над закатом великих фигур классовой борьбы и
революционного упования, скромность демонстрантов 1986 года затрагивала
то чувствительное место, уязвимость которого спровоцировала неистовство
восставших
в
1968
году.
Она
подтверждала
силу
разделяющего
множественного, направленного против основанного на консенсусе —
охлократического — вырождения демократии: против правительства элит,
должным образом селекционированных для гармоничного управления
разрозненными желаниями масс.
92
Перегораживание
улицы
анонимным
множеством,
направленное
против иерархий консенсуса и страстей к исключению, вновь подтверждало
существование сообщества разделения. А подтвердить его вновь оно могло,
только вновь свернув на тропы неистовства, превратившего «школьноуниверситетский» вопрос в сцену верификации равенства.
4
ДЕМОКРАТИЯ СЕГОДНЯ
Я
взял
два
примера
из
демократической
практики.
Один
я
позаимствовал из героической эпохи воинствующей демократии, другой —
из двусмысленной эпохи такой демократии, которая — в самой банализации
ее господства и саморегуляции — позволяет разглядеть обличье своего
свертывания. Мне представляется, что эти два примера позволяют бросить
новый взгляд на некоторые современные рассуждения о демократических
фактах.
Прежде всего я думаю о мировоззрении, которое Жан-Франсуа Лиотар
подытожил в понятии постмодернизма. Когда прошла эпоха великих
повествований о социальном, центрированных вокруг темы абсолютной
несправедливости
и
универсальной
жертвы,
демократическая
неопределенность может раскрыться, как — в принципе — тождественная
той
«инстанциации
бесконечного
вокруг
воли»,
что
характеризует
бесконечную суматоху капитала16. Логика капитала всегда состоит в
создании
некоего
разногласия,
гетерогенности
между языками.
Эта
гетерогенность налагает запрет на дискурс универсальной жертвы, но
позволяет тому же опыту до бесконечности выражаться в различных фразах:
таков опыт рабочих в гетерогенных фразах переговоров о контрактах и
дискурса о Труде.
93
Заслуга этой интерпретации — в том, что она устраняет дистанцию
подозрения. Но делает она это, исходя из категорий подозрения. Подобно
тому, как у Маркса буржуазный прогрессизм развеивал иллюзии рыцарских
эпох,
так и демократия
капитала
развеивает
у Лиотара
иллюзию
пролетарскую. Вместе с крахом политической химеры Единого, в своей позитивности
утверждается
одна-единственная
экономическая
суматоха
различия, которую можно безразлично называть капиталом или демократией.
Если выражаться кратко, то можно сказать, что анализ Лиотара обращает в
позитивность различные фигуры подозрения, касающиеся демократии. Именно так Лиотар прочитывает платоновское осуждение демократической
неопределенности, демократического апейрона обратным образом; он
наделяет позитивной ценностью тему демократии как базара. Опять-таки
аналогично он прочитывает современные темы «конца идеологий» или
«деполитизации» в обществах развитой демократии. Но этот перевернутый
платонизм
всегда
идентифицирующего
остается
в
рамках
демократический
платонизма,
апейрон
по
восприятия,
одной
лишь
турбулентности, завихренности различных стремлений, с риском двойного
прочтения понятия свободы: экзотерического прочтения, которое склоняется
к нарциссическому самоудовлетворению «плюралистического» общества, и
прочтения эзотерического, которое вновь обнаруживает бесконечный разрыв
между республикой и демократией и признает в империи административной
рациональности мягкую разновидность тоталитаризма.
Не обнаруживает ли такой поворот, несмотря на всю сложность
ситуации, отсутствие демократического факта?
94
К примеру, необычность забастовки французских студентов 1986 года
заключается в постоянстве некоторых означающих при самом крахе великих
инкорпорации17; в признании несправедливости при самом отсутствии какой
бы то ни было идентификации с жертвой. В ситуации, когда очевидно, что
требования экономического соревнования и геополитического равновесия
теперь
оставляют
весьма
тесное
пространство
для
альтернатив,
а
индивидуальные формы расчета жизни соотносятся в значительной мере с
ценностями, по поводу которых в обществе существует консенсус, достаточно бывает внезапности пустяка, какого-то лишнего слова, чтобы вновь
обрисовалось пространство полемики, где разногласия выражаются в
возможностях преимущественного выбора, где система возможностей с
пренебрежимо
малыми
переменными
открывается
в
сторону
основополагающей альтернативы, когда надо произвести выбор между эгалитарной фразой, которая подтверждает демократию, и фразой неэгалитарной,
которая противоречит ей. Тяжба по-прежнему принята в политике. А там, где
она уже не принята, проявляется не постмодернистская логика разногласий,
но возвращение архаического, обычная брутальность в разных обличьях —
от предположительного языка цифр до слишком уж реальных криков
озлобленной своры, когда жертва вновь предстает в качестве неименуемого,
того, что чуждо правилам дискурса. И тогда внешняя логика постмодернизма
разрывается между двумя «архаизмами». Столкнувшись с возвращением
животного
обличья
политики,
демократическая
добродетель
доверия
воссоздает полемическое пространство общего (здравого) смысла.
95
И как раз сама потенция равенства действует через небольшое
различение, способное придать радикально иной смысл одному и тому же
опыту. Я охотно сказал бы, что то, что здесь происходит, принадлежит —
если оставаться в пределах платоновского лексикона — к порядку воспоминания. Совершенно внезапно, в самом сне политического дискурса,
равенство предстает в виде того, что наделяет общим (здравым) смыслом
бесконечное разнообразие индивидуальных, «эгоистических» способов
использования демократической формы.
Многим кажется, что это воспоминание вот-вот исчезнет. Они считают,
что ему необходимо придать отчетливости. Именно смысл такого иного анализа современной демократии выражается через тему участия. И все-таки я
задумываюсь над тем, не является ли это понятие, которое приводят в качестве решения проблем демократии, скорее решением проблем ее критики,
разменной монетой великих альтернатив, потерпевших крах. В идее участия
смешиваются две идеи разного происхождения: реформаторская идея
необходимого
опосредования
между
центром
и
периферией
и
революционная идея постоянной активности гражданских субъектов во всех
сферах. Смешение этих двух идей производит ту незаконнорожденную идею,
каковая дает основание считать местом реализации устойчивой демократии
заполняемые пустые места власти. Но разве гарантией постоянства
демократии с гораздо большим основанием нельзя считать ее мобильность,
ее возможность менять локусы и формы участия? Зачем стремиться, чтобы
эта возможность, — которую рабочие проявили, показав во время
забастовки, что они при случае могут управлять своим заводом, — обрела
совершенство, постоянно реализуясь в форме самоуправления?
96
Аналогично этому во время студенческой забастовки слышались речи
типа: «Необходимо было предварительное согласование заинтересованных
сторон». Но ведь это совершенно ретроспективные речи. Для консультаций,
которые «должны были» состояться прежде, не было другого партнера,
кроме эфемерной власти, родившейся уже потом. Подлинное участие — это
изобретение того непредусмотренного субъекта, который сегодня перегораживает улицу; того движения, которое не может родиться из чего-либо,
кроме самой демократии. Гарантия устойчивости демократии — не
заполнение всех пустых времен и пространств формами участия или
контрвласти; это обновление деятелей и форм их действий, это всегда
открытая возможность для нового появления то возникающего, то
исчезающего субъекта. Контроль над демократией может осуществляться
только по ее образу и подобию, будучи гибким и ненавязчивым, т. е.
основанным на доверии.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, СУБЪЕКТИВАЦИЯ
У нас спрашивают: что такое политическое? Я отвечу как можно
короче: политическое есть встреча двух гетерогенных процессов. Первый —
это процесс управления. Он состоит в организации собрания людей в
сообщество и консенсуса между ними и основан на иерархическом
распределении мест и функций. Такой процесс я назову полицией.
Второй процесс связан с равенством. Он состоит во взаимодействии
практик, направляемых предположением равенства кого угодно с кем угодно
и заботой о верификации этого равенства. Наиболее подходящим термином
для обозначения этого взаимодействия является эмансипация. Вопреки
выводам Лиотара, я не усматриваю необходимой связи между идеей
эмансипации и великим повествованием об универсальной несправедливости
и универсальной жертве. Верно, что рассмотрение несправедливости
является универсальной формой встречи между полицейским процессом и
процессом эгалитарным. Но ведь сама эта встреча вызывает сомнение.
Фактически возможно доказать, что всякая полиция отрицает равенство и что
два процесса несоизмеримы между собой. Таков тезис великого мыслителя
интеллектуальной эмансипации, Жозефа Жакото, который я развил в книге
«Невежественный наставник». Согласно этому тезису, возможна лишь
интеллектуальная эмансипация индивидов. Это означает, что политической
сцены не существует.
99
Существует лишь закон полиции и закон равенства. Чтобы такая сцена
существовала, нам необходимо изменить формулу. Вместо того чтобы
сказать, что всякая полиция отрицает равенство, мы скажем, что всякая
полиция несправедлива к равенству. Этим самым мы скажем, что
политическое есть сцена, на которой верификация равенства должна принять
форму разбора несправедливости.
Тогда мы имеем три термина: полиция, эмансипация и политическое.
Если мы захотим настаивать на их переплетении, то процесс эмансипации
можно назвать политикой. Тогда мы будем различать полицию, политику и
политическое. Политическое будет областью встречи между политикой и
полицией при разборе несправедливости.
Отсюда извлекается одно важное последствие: политика не есть
актуализация принципа, закона или «характерной черты» сообщества. У
политики нет ар-хе1. Она анархична в строгом смысле слова. Именно на это
указывает само слово демократия. Как подчеркивал Платон, у демократии
нет архе, нет меры. Сингулярность действий демоса, кратейн2 вместо
архейн3, свидетельствует о некоем изначальном беспорядке или просчете.
Демос является сразу и именем сообщества, и именем его разделения;
именем анализа несправедливости. Отвлекаясь от всяких конкретных споров,
«политика
народа»
несправедлива
по
отношению
к
полицейскому
распределению мест и функций, потому что народ всегда больше и меньше
самого себя. И как раз эта сила «одним больше» запутывает полицейский
порядок.
Нынешний тупик политической рефлексии и политического действия,
по-моему,
объясняется
отождествлением
политики
с
проявлением
характерной черты некоего сообщества.
100
Это сообщество может быть большим или совокупностью малых.
Отождествление принципа правительства с характерной чертой сообщества
может проходить на основе универсального, закона или правового
государства. И наоборот, оно может быть отстаиванием идентичности
«меньшинств»
против
гегемонии
господствующей
культуры
и
господствующей идентичности. Большое сообщество и малые сообщества
могут обмениваться обвинениями в «трайбализме» или «варварстве». И то, и
другие могут быть правыми в обвинениях и неправыми в претензиях. Я не
утверждаю, что обвинения эквивалентны претензиям или что те и другие
вызывают аналогичные последствия. Я просто хочу сказать, что они
зиждутся на одной и той же спорной идентификации. Ибо свойство принципа
полиции состоит в том, что он предстает как актуализация характерной
черты сообщества, преобразуя правила управления в естественные законы
общества. Но если политика отличается от полиции, то она не может
зиждиться на такой идентификации. Нам, возможно, возразят, что сама идея
эмансипации исторически предстает в форме самоэмансипации трудящихся.
Но мы также знаем, что главным лозунгом этой «самоэмансипации» была
борьба против «эгоизма». И преданность индивида сообществу — не только
дело морали. Это еще и дело логики: политика эмансипации является
политикой «свойственного несвойственного». Логика эмансипации есть
гетерология.
Выразим это иначе: процесс эмансипации есть верификация равенства
какого угодно говорящего существа с каким угодно другим. Этот процесс
всегда работает от имени такой категории, за которой отрицают принцип
равенства или его последствия, — категории трудящихся, женщин,
чернокожих или других.
101
Но отсюда не следует, что задействованность равенства является
манифестацией характерных черт или атрибутов разбираемой категории. Имя
категории «жертва несправедливости», которая всегда ссылается на свои
права, есть всегда имя анонима, имя кого угодно.
Именно так можно преодолеть безысходные дебаты, вращающиеся
вокруг
понятий
универсальности
и
идентичности.
Единственной
политической универсалией является равенство. Но равенство — не такая
ценность, которая вписана в сущность гуманизма или разума. Равенство
существует и производит воздействие универсальности всякий раз, как оно
задействуется. Это не ценность, которую заклинают, но универсалия,
которую всякий раз следует предполагать, верифицировать и доказывать.
Универсальность не является таким принципом сообщества, которому можно
противопоставить конкретные ситуации. Универсальность — это оператор
доказательства.
Способом
ее
действия
в
политическом
является
дискурсивное и практическое построение полемической верификации,
конкретный случай, конкретное доказательство. Место истины не есть место
обоснования
или
идеала.
Место
истины
—
всегда
топос,
место
субъективации в процедуре аргументации. Язык истины всегда идиоматичен.
Но идиоматичность не имеет отношения к трайбализму. Скорее наоборот.
Когда группы, ставшие жертвами несправедливости, начинают разбор чьейто неправоты, они, как правило, ссылаются на гуманизм и права человека. Но
в понятиях, на которые тогда ссылаются, нет универсальности.
102
Универсальность
содержится
в
аргументативном
процессе,
доказывающем последствия этих понятий, говорящем о том, что вытекает из
того факта, что рабочий является гражданином, чернокожий — человеческим
существом, и т. д. Логическую схему социального протеста можно
обобщенно резюмировать так: принадлежим ли мы или нет к такой-то
категории — граждан, людей и т. д. — и что из этого следует? Политическая
универсальность содержится не в человеке и не в гражданине. Она — в «что
из этого получается?», в дискурсивном и практическом задействовании
этого вопроса.
Такая универсальность может развертываться через посредство
конкретных категорий. Например, во Франции XIX столетия рабочие могут
выстраивать забастовку в форме вопроса: принадлежат ли французские
рабочие к известному множеству, к французам, коих Конституция объявляет
равными перед законом? Вопрос может стать еще более парадоксальным. К
примеру, первые воинствующие французские феминистки формулировали
его так: француз ли француженка? Эта формулировка может показаться
бессмысленной или скандальной. Но «бессмысленные» фразы такого типа
могут стать гораздо более продуктивными — в процессе создания равенства,
— нежели простое утверждение, что рабочие — это рабочие, а женщины —
женщины. Они не только дают возможность показать логический пробел,
который сам разоблачает хитрости социального неравенства. Они еще и
позволяют выразить этот пробел в виде отношения, преобразовать
логическое алиби в место полемической демонстрации. Построение таких
случаев равенства не есть идентичность в действии или же демонстрация
ценностей, присущих какой-либо группе. Это процесс субъективации.
103
Что же такое процесс субъективации? Это формирование некоей
единичности, каковая является не самостью, но отношением самости к
кому-либо другому. Именно это можно образцово продемонстрировать на
имени «пролетарий», вроде бы обозначающем определенную идентичность.
Одним из первых случаев применения имени «пролетарий» в современной
Франции стал судебный процесс над Огюстом Бланки в 1832 году. На вопрос
прокурора о его профессии Бланки отвечает: «Пролетарий». Прокурор
возражает: «Это не профессия». А Бланки, в свою очередь: «Это профессия
большей части нашего народа, которая лишена политических прав». С
полицейской точки зрения, прокурор был прав: пролетарий — не ремесло, а
Бланки — не тот, кого обыкновенно называют трудящимся. Но с
политической точки зрения, прав был как раз Бланки: пролетарий — не имя
социологически идентифицируемой общественной группы. Это имя того, кто
не учтен, outcast'a4. По-латыни proletarii означает попросту: те, кто
воспроизводят себя; те, кто просто живут и воспроизводят себя, не обладая
именем и не передавая его; не учитываясь в качестве стороны в
субъективном формировании города. Итак, пролетарий было именем,
подходящим для трудящихся в качестве имени кого угодно, имени outcasts,
под которыми имеются в виду не парии, но те, кто не принадлежит к
классовому строю и тем самым несет в себе виртуальное уничтожение этого
строя (класс, ведущий дело к уничтожению всех классов, как говорил
Маркс).
Тем
самым
процесс
субъективации
является
и
процессом
деидентификации или деклассификации.
Иначе говоря, субъект есть некое in-between, нечто промежуточное.
104
Пролетарии было именем «собственным» людей, которые жили
вместе, поскольку они находились между: между несколькими именами,
статусами и идентичностями; между гуманностью и негуманностью,
гражданством и его отрицанием; между статусом человека, выполняющим
работу с помощью орудий, и статусом существа говорящего и мыслящего.
Политическая субъективация представляет собой осуществление равенства
— или исправление несправедливости — людьми, которые живут вместе
постольку, поскольку они располагаются в промежутке. Это пересечение
идентичностей, зиждущееся на пересечении имен: имен, которые связывают
имя группы или класса во имя неучтенного; имен, связывающих сущее с несущим или с грядущим сущим.
Эта сеть обладает примечательным свойством: она всегда влечет за
собой невозможную идентификацию; идентификацию, которая не может
быть
воплощена
теми,
кто
ее
высказывает.
«Мы
—
проклятьем
заклейменные» является типом фразы, какую ни один проклятьем
заклейменный никогда не произнесет. Если взять пример более нам близкий:
политика для моего поколения зиждилась на невозможной идентификации —
на идентификации с телами алжирцев, забитых до смерти и брошенных в
Сену французской полицией от имени французского народа в октябре 1961
года. Мы не могли идентифицироваться с этими алжирцами, но могли
поставить под сомнение нашу идентификацию с «французским народом», от
имени которого они были преданы смерти. Итак, мы могли действовать как
политические субъекты в промежутке или в зазоре между двумя
идентичностями, из которых не могли взять себе ни одну.
105
У этого процесса субъективации не было имени собственного, но,
возможно, «подлинное» имя он нашел в лозунге 1968 года: «Все мы — не-
мецкие евреи» — ошибочная идентификация; идентификация, невозможная
на взгляд тех, кто так себя называл, как и на взгляд тех, кого они так называли. Если движение началось с этой фразы, то его закат может
символизироваться в контр-утверждений, высказанном спустя несколько лет
в заглавии статьи, опубликованной одним из его прежних лидеров: «Не все
мы родились пролетариями». Разумеется, не все. Однако что из этого
получается? Получилась из этого невозможность извлечь последствия для
«сущего», которое было бы не-сущим, невозможность идентификации с кем
угодно, не имеющим тела. Но ведь демонстрация равенства всегда привязывает силлогистическую логику или/или (граждане, человеческие существа мы
или нет и т. д.) к логике паратаксиса5: «мы таковы и мы не таковы».
Итак, логика политической субъективации есть гетерология, логика
другого — согласно трем определениям другости. Во-первых, она никогда не
является простым утверждением некоей идентичности; она всегда в то же
время является отрицанием идентичности, которую навязывает другой и
фиксирует полицейская логика. Полиция фактически желает «точных» имен,
отмечающих прикомандированность людей к их месту и работе. А вот
политика представляет собой дело имен «несобственных», misnomers6,
обозначающих пробел и свидетельствующих о несправедливости. Во-вторых,
политика есть демонстрация (доказательство), а демонстрация всегда
предполагает другого, к которому она обращена, даже если этот другой
отрицает последствия.
106
Демонстрация есть конституирование некоего общего места, даже если
оно не является местом диалога или местом поисков консенсуса в духе
Хабермаса.
Ни
несправедливости
консенсуса,
не
бывает
ни
без
коммуникации,
издержек.
Но
ни
улаживания
существует
некое
полемическое общее место для разбора несправедливости и демонстрации
равенства. В-третьих, логика субъективации всегда предполагает невозможность идентификации.
Чтобы
противопоставить
прошлое
больших
повествований
и
универсальной жертвы настоящему малых повествований, необходимо
пренебречь сложностью этой логики. Так называемое великое повествование
о народе и пролетариате само складывалось из множества языковых игр и
демонстраций. И само понятие повествования столь же спорно, как и понятие
культуры. Оба связывают аргументативную интригу с неким голосом, а этот
голос с проявлением в некоем теле. Но жизнь политической субъективации
происходит благодаря дистанции между голосом и телом, благодаря
интервалу между идентичностями. Понятия повествования и культуры
сводят субъективацию к идентификации. Процесс же равенства есть процесс
различения. Но различение не является манифестацией различающейся
идентичности или конфликтом между двумя инстанциями идентичности.
Место проявления различения не есть «характерная черта» некоей группы
или ее культура. Это топос аргумента. А место экспозиции этого топоса
представляет собой промежуток.
Место политического субъекта
—
промежуток или зазор: бытие-вместе как бытие-между: между именами,
идентично-стями или культурами.
Конечно же, это неудобная позиция. И неудобство дает повод для
развертывания метаполитического дискурса.
107
Метаполитика есть интерпретация политики с точки зрения полиции.
Метаполитика склонна интерпретировать гетерологию как иллюзию, а
интервалы
и
зазоры
—
как
признаки
неистинности.
Парадигмой
метаполитической интерпретации служит марксистская интерпретация
«Декларации прав человека и гражданина», трактующая различие между
человеком и гражданином попросту как надувательство. За небесной
сущностью гражданина кроется земная сущность человека, и притом
собственника. В наши дни Метаполитика рассуждает, скорее, наоборот. Она
говорит нам, что человек и гражданин совпадают в фигуре индивидалиберала, естественным образом наслаждающегося универсалистскими
ценностями прав человека, воплощенными в институтах наших демократий.
Политика эмансипации отвергает оба уподобления. Она утверждает, что
универсальность деклараций прав представляет собой универсальность
содержащейся в них аргументации. Но, что касается Франции, таковая
аргументация стала возможной благодаря самому промежутку между двумя
терминами «человек» и «гражданин», что тем самым позволяет переходить
от одного к другому и проводить бесчисленные демонстрации прав, включая
права тех, кто не причисляется ни к людям, ни к гражданам.
Отсюда можно извлечь контрастные выводы, касающиеся настоящего
времени. С одной стороны, мы не замкнулись в рамках альтернативы между
универсализмом и утверждением идентичности. Альтернатива, скорее,
присутствует между субъек-тивацией и идентификацией. В этой альтернативе противопоставляются не универсализм и партикуляризм, но две идеи
множественности.
108
Кроме того, «универсалистский» дискурс может оказываться столь же
«трайбалистским», как и дискурс коммунитарный. Именно так, например, в
период Войны в заливе не один певец универсализма превратился в соловья
милитаризма, воспевающего использование «должного» оружия и тактику
смерти без подробностей. Подлинное противопоставление отделяет, скорее,
трайбализм от идиоматики. «Идиоматическая» политика строит некое место
универсального, место демонстрации равенства. Она отбрасывает безнадежную дилемму, которая отвергает большое сообщество и малые
сообщества во имя какого-то сообщества промежутков.
Но преодолеть эту дилемму означает еще и точно определить меру
новых форм расизма и ксенофобии. Например, во Франции их нельзя
попросту списывать на счет объективных социальных проблем, возникших в
результате роста иммигрантского населения. Они, скорее, представляют
собой следствие краха политической гетерологии. Тридцать лет назад все мы
были «немецкими евреями», т. е. носили «неподобающие» имена в
политической культуре конфликта. Сегодня у нас «престижные» имена: мы
европейцы и ксенофобы. И как раз крах полиморфной политической формы,
крах другости оставляет место новой инфраполитической фигуре другого.
Объективно говоря, у нас едва ли больше иммигрантов, чем было тридцать
лет назад. Субъективно же их у нас гораздо больше. Дело в том, что тогда
они
носили
другое,
политическое
имя:
они
были
пролетариями.
Впоследствии же они утратили это имя, относящееся к политической
субъективации, и сохранили только «объективное» имя, т. е. имя
идентичности. И другой, у которого нет иного имени, становится в таких
случаях чистым объектом ненависти и отвержения.
109
«Новый» расизм — это ненависть к другому, которая одерживает верх,
когда
прекращается
политическая
полемика.
Политическая
культура
конфликта действительно могла повлечь за собой разочаровывающие
последствия. Но она также была средством упорядочивания того, что
находится по сю сторону политики: идентификации фигуры другого с объектом ненависти. Страсть к утверждению идентичности есть объект страха:
неопределенного
страха,
находящего
свой
объект
в
теле
другого.
Политическая, гетерологическая мизансцена другого была также средством,
цивилизовавшим этот страх. Нынешние же рецидивы расизма и ксенофобии
означают крах политики, возвращение от политического рассмотрения
несправедливости к первобытной ненависти. И тогда вопрос уже не в том,
чтобы попросту повернуться лицом к «политической проблеме». Он в том,
чтобы переизобрести политику.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СООБЩЕСТВО И ЕГО ВНЕШНЕЕ
СООБЩЕСТВО РАВНЫХ
Тема сообщества равных сегодня обычно вызывает два типа самых
печальных чувств. Одно из них — облегчение, вызванное чувством
злопамятности. Целый поток литературы заставляет нас вздрагивать,
оглядываясь назад при мысли об опасности, которой подвергло нас —
вернее, которой подвергло бы нас, если бы мы были менее благоразумными,
— сочетание рубящего с плеча нового с великим Целым, куда проваливаются
индивидуальные воли и разумы. Разновидность слегка выродившегося
катарсиса оправдывает предприятия, считающие полезным постоянно
демонстрировать нам фантазм великого тела, которое очаровывало нас с тем,
чтобы вернее нас погубить. Другое чувство — разумная ностальгия. Мы
прекрасно знаем, что в итоге произошло во имя этого сочетания. Тем не
менее оно продолжает рисовать для нас образ того, что мы не хотели бы потерять: определенную конфигурацию совместного бытия, без которого мысль
и действие оказываются лишенными той добродетели великодушия, которая
отличает
политическое
менеджмента.
явление
Посредством
от
просто
обратного
расчетливого
заклинания
(affairiste)
минувший
и
преодоленный характер той фигуры, что перестала быть объектом страха и
упования, служит для поддержания неощутимого промежутка, зазора,
допускающего,
что
над
банальностью
управления
индексами
и
реструктуризация-ми все еще парит переливающееся разными цветами
облако эгалитарной чести сообщества.
113
Существует два способа связывать ту или иную понятийную фигуру с
историческими прибылями и потерями. Чтобы не отступать, вопрос,
возможно, следует слегка переформулировать: уже не сводить наши счеты с
сообществом равных, но поразмыслить о способе, каким оно само подводит
свои счеты, или, точнее говоря, поразмыслить о типе счета, посредством
которого порождается облик этого сообщества. Тем самым я имею в виду
предпринять исследование двоякого рода. Наиболее фундаментальное, то,
что дожидается здесь своей очереди, касается связи идеи сообщества с самой
идеей утраты, с тем, что поддерживается потерей или вычерчивается вокруг
нее. Вспоминая это качество утраты, я думаю о четверостишии Рильке,
извещающего нас, что «Потеря тоже принадлежит нам» («Auch noch verlieren
ist unsern»)1, связывая тему утраты с темой общей собственности. Мы можем
еще проще думать о связи коммунитарной идеи с евангельским изречением:
«Кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее» [Мк. 8, 35; Лк. 9, 24] — с
изречением, которое без труда сочетается с платоновской темой невидимой
стороны вещей и имеет следующий примечательный характер: крах
репрезентации другой жизни сделал ее не напрасной, но в полном смысле
головокружительной. А равенство, желание быть сопричастным равенству
располагается в самом средоточии этого головокружения.
Я оставляю этот сущностный вопрос в стороне, чтобы заняться здесь
лишь тем, что из него следует. Великие счеты Целого с утратой фактически
размениваются на ряд мелких счетов, счетов равенства, которые невозможно
без принуждения свести к счетам, основанным на правилах и уровне; это
способы
114
подсчитывать, учитывать себя и быть учтенным, определять интересы,
одинаково
несводимые
к
простому
подсчету
удовольствий
и
бед:
подсчитывать прибыли, каковые в то же время являются способами бытьвместе — походить друг на друга и друг от друга отличаться, — определять
те интервалы, в которых Ханна Арендт усматривала сами правила политического интереса2; интересы, вписанные в большее количество строк и
книг, чем строки и книги, учитывающие отчасти двойную бухгалтерию
реального и утопического, или науки и идеологии. Тогда исследования
должны перестать быть множественными: что всякий раз вкладывается в
приобретение или утрату такого-то интереса в такой-то или такой-то строке
подсчета, если постулировать равенство или сообщество? Сколькими
способами можно подсчитать равных? Каким образом они должны уже быть
подсчитанными, чтобы произвести этот подсчет, а затем — и дальнейшие?
Следуя некоторым из этих подсчетов, мы будем вынуждены вновь
поставить под сомнение идею, превращающую эгалитарную тему в принцип
коммунитарного тела. Возможно, сами отношения между равенством и
сообществом представляют собой всего лишь непрестанное улаживание
счетов. Рассмотреть пристальнее эти отношения между равенством и
сообществом значит — увидеть, как дробится образ великого тела,
столкнуться с дефицитом или разладом, из-за которого сообщество равных
не может предстать в виде единого тела без скрепления и замазывания
щелей, не чувствуя обязательства вновь пересчитать членов и их ранги,
заткнуть трещины в образе, перетолковать высказывания в формулировках.
115
Я буду исходить из примера, позаимствованного из одной из наиболее
значительных конфигураций коммунитарной мысли, той, какую обычно
называют именем «утопического социализма». В 1838 году Пьер Леру
публикует работу «О равенстве», а затем, в 1840 году, «О человечестве» —
два сочинения, цель которых — обосновать современное сообщество равных
традицией столь же долгой, как и вся история человечества, с привлечением
и законов Моисея, и законов Миноса, опираясь на античный полис и Отцов
Церкви. Доказательство осуществляется под знаком господствующего
образа, образа братской трапезы, и под знаком господствующей фразы,
фразы из Послания к Римлянам, которое учит нас, что «так мы, многие,
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены»3. Образ
и фраза, способные в определенное время символизировать социалистический
и
коммунистический
энтузиазм
—
ведь
рабочая
печать,
социалистическая и коммунистическая, в изобилии заимствовала у Леру его
цитаты, а то и мысль, — могут сегодня вызвать ужас перед фантазмом
великого всепоглощающего Целого. Тем не менее, когда мы увидим, как
работают эти господствующие образ и формула, мы вскоре признаем их
разделенность, необходимость какого-то пересчета, ремонта, переписывания.
Так, например, Леру обнаруживает уникальную проблему филологии в
своем изложении античной традиции братской трапезы4. Он анализирует институт братской трапезы в его двойственном аспекте или в его двойственных
истоках: как практику военного братства или практику периодического
перераспределения
116
богатств, где Моисеева традиция объединяется с греческой в
непрерывной истории, которая находит кульминацию в общине ессеев5,
откуда, по мнению Леру, вышел основатель евхаристии. Тем не менее Леру
сталкивается с вроде бы незначительной проблемой названия, которая
останавливала уже его вдохновителя Плутарха в «Жизни Ликурга». Спартанские братские трапезы назывались «фидитиес». Правильным же их
названием — как рассуждал уже Плутарх — должно было быть «филитиес»,
т. е. дружеская трапеза. «Фидитиес», по существу, приписывает братству
менее благородное происхождение. Ведь Pheidem по-гречески означает
«экономить». И дружеские трапезы, если рассуждать так, будут прежде всего
трапезами экономичными. Спартанцы, как известно, слыли скупыми, и
Платон напомнил об этом в портрете тимократического человека. Вот
почему Плутарх, а вслед за ним Леру делают вывод: с ламбдой вместо
дельты спартанские экономичные трапезы стали больше соответствовать
своему понятию: они становятся дружескими трапезами, подготавливая
христианскую евхаристию и грядущий социализм.
И это не просто вопрос удобства рассуждения. У Леру фактически
имеется отчетливый теоретический замысел: он стремится найти в закрытом
сообществе пока еще закрытый — и односторонне реализуемый — принцип
открытого сообщества. В небольшом спартанском братстве он ищет закон
великого человеческого сообщества. Аристократическая каста должна стать
ограниченной и односторонней реализацией братства, обществом равных или
друзей,
основанным
на
исключении,
но
совершенством в самом себе, — так что прорыв
117
исключении,
обладающем
замкнутости становится необходимым и достаточным условием для
перехода от касты к человечеству. Кроме того, Леру стремится к тому, чтобы
не запятнать аристократическую касту скуповатой ти-мократией6. Это в то
же время обязывает его игнорировать другое направление рефлексии,
являющееся производным от убранной дельты и переносящее нас из Спарты
в
Афины,
от
отношения
аристократия/ти-мократия
к
отношению
сообщество/демократия.
Я хотел бы обозначить это направление, отправляясь от одного абзаца
«Риторики», взятого из главы «Изящные и удачные выражения». Аристотель
там мимоходом упоминает шутку Диогена, в которой тоже связываются
политический режим, застольные манеры и способ существования полиса.
Аристотель сообщает нам, что Диоген говорил, будто афиняне находят свои
«фидитии» в харчевнях. Тем самым мы будем иметь в виду, что именно
благодаря дешевым харчевням и открытым для прохожих общественным
местам осуществляются сразу и личная экономия, и коллективное равенство
— тогда как спартанцы ищут все это в институте «фидитии». Это еще один
способ противопоставлять, подобно Периклу у Фукидида, афинскую школу
свободы и непринужденной жизни военным тренировкам спартанцев.
Разумеется, анекдот заслуживает здесь того, чтобы его рассказал теоретик
филии1 и политических обществ. К тому же анекдот этот напоминает тот
раздел «Политики», где — чтобы реабилитировать демократическую
мудрость перед сторонниками правительства мудрецов — Аристотель
использует еще один аргумент, заимствованный из гастрономии. Он говорит
нам, что «обеды в складчину бывают лучше обедов, устроенных на средства
одного человека»8.
118
Так же должны обстоять дела в политических рассуждениях: вклад той
способности
к
рассуждениям,
которой
обладает
совокупность
незначительных разумов афинян, будет всегда превосходить то, что может
дать собрание ученых умов9.
Выбросив неудобную дельту, Леру выбрасывает линию размышлений
о взаиморасчетах равенства с сообществом10. Он решает игнорировать тот
укол, который тимократия наносит аристократии, а демократия сообществу.
Как тимократия — для аристократии, демократия слишком скупа для
сообщества. Она спутывает счеты сообщества. Демократия есть то, что
запутывает идею сообщества. Демократия есть его немыслимое.
Платон пытается помыслить это немыслимое, разлад сообщества с
демократией. Мыслители же Нового времени, как правило, отказываются
делать
это.
Они
перераспределяют
распределения,
меняют
буквы,
накладывают образы друг на друга. Так в политической традиции эпохи
модерна складывается странная модель античного братства. Посредством
взаимоналожения образов она показывает нам спартанские Афины или
афинскую Спарту: Афины более героические, братские и аристократические,
чем на самом деле; Спарту более демократическую и культурную, чем на
самом деле: в ней чаще произносят блестящие речи, чем совершают
блестящие поступки. Таковы, например, Спарта у Руссо или Леру, или же
Афины у Ханны Арендт. Эта последняя извлекает небольшой отрывок из
речи, которую произносит у Фукидида Перикл, и пренебрегает в ней как раз
отмеченной Периклом и стержневой для отрывка оппозицией между
афинской «свободой» и спартанским милитаризмом; она рисует образцовую
политическую
119
сцену: сцену, где подобные — homoioi — стараются отличиться
прекрасными речами и поступками, которые наделяют блистательным
бессмертием хрупкость человеческих действий.
2 ВОПРОС ОБРАЗА: ТЕЛО СООБЩЕСТВА
Возможно, всегда необходимы две Греции, чтобы сделать из них одну.
Только этой ценой здесь держится
господствующий
образ
братской
трапезы. Но и христианская формула, и христианский образ братского тела
ставят аналогичную проблему. «Так мы, многие, — говорит апостол Павел,
— составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены».
Популяризованная
Леру,
эта
формула
была
без
проблем
усвоена
коммунистами его времени и снабдила девизом главный орган рабочихкоммунистов, La Fraternite u. Однако же ни те, кто ставят на братстве акцент,
ни те, кто уже в эпоху Леру изобличают фантазм великого пантеистического
Целого, как будто бы не проявляют чувствительность к точному контексту
формулы в тексте апостола. А ведь образ членов тела выступает у Павла для
того, чтобы решить весьма определенную проблему: проблему распределения и иерархии харизм в христианской общине. Вопрос о харизмах — это
вопрос о разделении труда в духовном сообществе. Необходимо, чтобы дар
глаголать языками и дар творить чудеса, дар совершать исцеления и дар
изрекать пророчества распределялись между собой подобно членам в теле,
когда каждый играет свою роль и помогает или же подчиняется другим.
Но из этого сравнения в самом тексте апостола Павла делаются два
слегка отличающихся друг от друга вывода, в зависимости от того, что
принимается за точку отсчета.
120
Говоря о членах Церкви, апостол показывает две вещи: между ними
действует функция взаимопомощи, но также устанавливается определенное
равенство через взаимную компенсацию. Кому свойственны более низкая
природа и функция, тому выпадает некая компенсирующая честь. Именно
поэтому более благородные части тела предстают обнаженными, а более
постыдные — покрыты одеяниями. А если говорить строже, то когда речь
идет о харизмах, вывод таков, что они не в одинаковой степени полезны,
неодинаково достойны исследования. Необходима классификация, принципом которой следует установить справедливость целого. Но как понимать
такую справедливость? Здесь противостоят друг другу как раз два типа
интерпретаций и налагающихся друг на друга комментариев. «Господь, —
говорит коммунистический журнал «Фратерните», — установил подобный
порядок (совершенного равенства), дабы не было ни раскола, ни разделения,
но дабы члены оказывали друг другу помощь»12. Однако этот эгалитарный
комментарий — если превратить христианский образ в коммунистический —
пренебрегает
длительной
традицией
комментариев
Отцов
Церкви;
традицией, которую Григорий Назианзин резюмирует в рассуждении, недвусмысленно озаглавленном: «О должном порядке в спорах. Да не подобает
всякому человеку при всяких обстоятельствах рассуждать о божестве»:
«Одна часть (meros) повелевает и председательствует. Другая ведома и
руководима. Так не будем же все языком, не будем все пророками,
апостолами, толковниками и т. д.»13 Формула «равенства» здесь — скорее
формула церковной иерархии.
121
В таком случае асимметричность интерпретаций приглашает нас
рассмотреть
другое
взаимоналожение
образов.
Образ
великого
коммунистического тела Христова наложен на образ тела Церкви, сформулированный св. Павлом. Однако сам этот образ наложен еще на другой
образ. За притчей о распределении харизм вырисовывается другая притча,
образцовый рассказ о разделении труда в социальном теле: басня о членах и
о центре жизненной силы, рассказанная Менением Агриппой плебеям,
удалившимся на Авентин14. За образом великого Целого присутствует
фигура разделения и его маскировки. Простая притча Менения Агриппы если
и
наделяет
сообщество
его
формулой,
то
происходит
это
ценой
возникновения двойной дилеммы.
Прежде всего, это дилемма для верхов. Сенатский оратор улаживает
бунт плебеев. Он объясняет им закон существования сообществ, каковой
является также законом иерархической субординации. Плебеи — члены тела,
часть города, обязанная заниматься материальным производством. Но они —
безвластные люди, отделенные от сердца города, от жизненного начала,
воплощенного в патрициях. Однако же проблема в том, что Менений
Агриппа должен рассказать им эту притчу. Превосходство разрушается уже в
самой своей основе, когда низшим требуется объяснить, отчего они низшие.
Рассказ об этом предполагает взаимопонимание равных. И Менений Агриппа
обрисовывает другое сообщество, отличающееся от того, о котором он
рассказывает; сообщество, законом которого служит равенство15.
Но эта дилемма травестируется, когда нижестоящие стремятся
заимствовать эту притчу, чтобы самостоятельно выразить собственное
равенство.
122
И как раз это делают современники Леру и рабочие из «Фратерните».
Они воспринимают притчу, изменяя идентификации: они — рабочие руки,
которые
питают
бесполезные
животы.
Но
травестирование
притчи
фактически подчеркивает ее двойственность. Иерархия вышеотмеченных
функций предполагает уже сложившуюся иерархию сходного и несходного.
В сообщество равных мы входим не потому, что мы для них полезны, но
потому, что мы им подобны. Чтобы быть причисленным к равным, надо
всего-навсего отразить им их образ. Равный есть тот, кто несет в себе образ
равного. Заявлять же о своей полезности, принимать игру функций означает
утверждать свою непохожесть, брать на себя роль членов, которые должны
повиноваться. Никакое перераспределение членов, функций и ценностей не
может преобразовать несходное в сходное. Здесь требуется подобие иного
рода, нежели то, что делает замкнутой касту aristoi'16.
3 СООБЩЕСТВО ГОСПОД И СООБЩЕСТВО РАБОВ
Похоже, эгалитарность в 1840 году пользуется как раз другой моделью
подобного, той, какую высказывает все тот же апостол Павел для великого
человеческого сообщества: больше нет ни эллина ни иудея, ни свободного
человека ни раба, ни обрезанного ни необрезанного, — есть только люди, в
равной степени несущие в себе образ Божий. Проблема в том, что это новое
подобие подразумевает двойную кривизну подобного, когда то, что
приобретается, тотчас же стремится вновь исчезнуть. Первая кривизна
действует внутри самой коммунитарной парадигмы, какую представляет
сообщество трех лиц Божества.
123
Здесь опять-таки основополагающие для сообщества отношения
зависят от различия в одной букве. Можно ли назвать Сына образом и
подобием Отца? Или же он единосущен Отцу? Две формулы разделены
между собой йотой, в которой наполненная кровью пропасть между
еретиками
подобия
(homoiousia)
и
ортодоксами
единосущности
(homoousia)11. Позиция ортодоксов аргументируется от имени равенства.
Сказать, что Сын подобен Отцу, означает, что он является внешним по
отношению к Отцу, что он ему не равен. Обосновать равенство Отца и Сына
означает представить последнего как отраженную форму Отца. И тогда
единство Отца и его образа утверждается по сю сторону всякого подобия. Те,
кто образцово равны, не являются подобными. Но эта первая кривизна,
которая утверждает равенство за счет подобия, тотчас же сопровождается
обратной кривизной. Марий Викторин во фразе, заимствованной у апостола
Павла, обобщает радикальное становление-другим, в которое вовлекает Сына
его равенство Отцу: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу [Флп 2, б]»18. Единство Отца и его образа помимо всякого
подобия свершается в самом что ни на есть радикальном несходстве, в той
покорности до самой смерти и в смерти на кресте, через которую только и
проявляется равенство воли Отца и Сына.
Формулу, заимствованную Марием Викторином у апостола Павла,
можно наделить обобщенной ценностью: равенство не есть хищение добычи,
которую следует ревностно сохранять. Те, кого воля Отца и жертва Сына
возвышают или восстанавливают на уровне образов Бога, тем самым
являются «освобожденными в рабстве» от всех своих братьев.
124
Двойная кривизна подобного имеет устрашающие последствия для
евхаристического братства, которое нам хотелось бы извлечь из нового
провозглашения единства подобных.
Та безукоризненная генеалогия, что следует от братской античной
трапезы к Вечере и к евхаристическому богослужению, в действительности
сталкивается со следующей проблемой: в христианской мысли о сообществе
евхаристия занимает поразительным образом скромное место. Изначальная
практика и теория монашеских общин — т. е. общин одиноких людей —
основана не на братстве евхаристии, не на счастье раздела по-братски, а на
покорности кресту. Само сообщество служителей божественного равенства
не ведает равенства. Тому пример — глоссарий к «Уставу святого
Бенедикта». Там прилагательное aequalis19 употребляется только в двух
контекстах: один — когда говорится о равной милости настоятеля по
отношению к тем, кто ему вверен; другой — когда утверждается равное в
своей покорности служение (servitutis militium), назначаемое всем монахам20.
Речь здесь не идет о феномене нормализации института монашества.
Назначаемый послушанию смысл и формы его осуществления могли
варьировать, но, начиная с суровой дисциплины первых отцов-пустынников,
— через устав Пахомия и «Установления» Иоанна Кассиана — вплоть до
устава бенедиктинцев утверждается одна и та же мысль: послушание не есть
простое соблюдение иерархии, послушание есть общая форма отношений,
которые
должны
поддерживать
между
собой
служители
Господа.
Отказываться от собственной воли означает — по словам апостола Павла —
отдаваться другим в рабство.
125
Опять-таки комментируя Первое Послание к Коринфянам, Василий
Великий в «Письме о совершенстве монашеской жизни» напоминает:
«Необходимо мыслить и действовать подобно тому, кто предается Господом
в рабство своим братьям по душе (homopsykhois adelphois)»21, но — добавляет он — каждому надо действовать по собственному рангу (en tagmati).
Точнее говоря, применение этого закона в «Письме» касается обязанностей
молодых монахов по отношению к престарелым. Но вся монашеская
практика и мысль признают здесь более основополагающий образ:
homopsykhos — это hom-odoulos, товарищ по рабству. Община монахов, христианская община par excellence, состоит не из равных, но из людей, одни из
которых являются рабами других.
В истории коммунитарной практики и мысли этот образ приобретает
гнетущую и тяжелую силу. Он представляется малоподходящим для
основания
«прекрасного»
социалистического
или
коммунистического
братства. Зато он как нельзя более подходит для того, чтобы повторяться в
форме жертвы — или самоубийства — воинствующего сторонника равенства, отказывающегося от своей новой эмансипации, чтобы предаться в
рабство братьям.
И тогда возникает парадокс: на то время, когда сообщество благ
объявляет, что оно представляет собой реализацию равенства, эгалитарное
решение «социального вопроса», оказывается, что существуют две основных
модели такого сообщества, но ни одно из них не притязает на равенство.
Строго говоря, они предлагают либо сообщество господ, либо сообщество
рабов. Говоря о господах и рабах, я осознанно слегка добавил симметрии.
126
Выражение «сообщество», по правде говоря, годится только для второй
модели, для монашеской общины братьев по душе, обреченных на взаимное
рабство. Тогда как первая модель, коммунитарная парадигма par excellence,
платоновское Государство, как известно, представляет собой сообщество не
господ, а стражей. Но важно то, что и платоновские стражи равными тоже не
являются. Их сообщество не основано на какой-либо собственности, которой
они обладали бы на равных основаниях; наоборот, оно держится на том, что
вся их собственность — общая. Знаменитое противопоставление подлинного
равенства — геометрического — равенству ложному — арифметическому —
подразумевает
следующее:
подлинное
равенство,
равенство
пропорциональное, заслуживающее того, чтобы называться дружбой,
устанавливается только ценой полного отвержения ложного: равенства граждан-ремесленников,
которые
утверждают
свои
права
на
равенство,
одновременно выставляя на весы свои товары. Сообщество стражей есть,
прежде всего, отвержение всякой принадлежности или сопринадлежности,
всякой формы сравнения или союза между индивидами, каждый из которых
подчеркивал бы собственное право на равенство; на собрание как на рынок.
Сообщество понимается именно как некое «отсутствие самообладания» или,
точнее говоря, «непринадлежность себе», которая служит королларием к
господству. Знаменательна в этом смысле полемика из Книги IV
«Государства» против «смехотворного понятия» самообладания (maitrise de
soi)22. Ведь господство (maitrise) не имеет возвратной формы, оно просто
осуществляется. Причудливое понятие самообладания следует свести к его
подлинному смыслу: к господству высшего над низшим, лучшего над не
столь хорошим; души над телом, разума
127
над страстями, стражей над ремесленниками. Не существует в строгом
смысле слова «хозяина самого себя», что равносильно тому, что не
существует равных. Только иерархия хорошо упорядоченного полиса
соответствует категории isotes'23. Она способствует тому, что каждый
наслаждается плодами своего «равенства». Но она не ведает равных и сама
ничему не равна, но лишь подобна божественному образцу.
Строго говоря, сообщество связывает непринадлежность с отсутствием
равенства. Сообщество бывает сообществом господ или рабов, а в
предельном случае два этих понятия эквивалентны друг другу. Что оно
исключает, так это третьего незаконнорожденного, равенство свободных
субъектов. Мы можем найти соответствие платонической полемике в
христианстве в странной ярости, которая одушевляет Василия Великого в
борьбе с полуарианами или скрытыми арианами, считающими, что Святой
Дух — не господин и не раб, но свободный24. Необходимо делать выбор —
заявляет Василий Великий: Святой Дух должен быть господином,
причастным природе несотворенного, или же рабом, причастным природе
сотворенного. Все, что создано, есть homo-doulos. Значит, Святой Дух будет
господином, но он не будет «свободным». Он может быть только в сообществе Господа. Что же касается монахов, повинующихся воле Господина,
то мы знаем, что их сообщество благ является всего лишь следствием их
непринадлежности самим себе. Именно это точно подытоживается в уставе
святого Бенедикта, когда на вопрос о том, должны ли монахи обладать собственностью, дается ответ: очевидно, нет, так как им не дозволено обладать
ни телом своим, ни волей26.
128
Итак, два великих образца сообщества, с какими соотносится
«утопический социализм», фактически полагают сообщество как нечто
исключающее равенство. Что же тогда позволяет преодолеть это двойное
исключение? Позволяет сделать это сопряжение двух тем: анализ разделения
как причины неравенства и складывание новой фигуры равного. В первую
очередь,
такой
эгоистическим
анализ
и
должен
асоциальным
отождествить
принципом
неэгалитарное
разделения.
зло
с
Принцип
воспроизводства неравенства уподобляется принципу разделения, которое
изолирует одних индивидов от других. Разделение эгоистично, эгоизм
разделяет. Затем сообщество восстанавливает равенство постольку, поскольку оно устанавливает братство. Остается определить идентичность братьев в
их отличии от платоновских стражей и от рабов Божьих. Чтобы братья не
были ни господами, ни рабами, необходимо, чтобы фигура подобного могла
воплощаться в новой социальной индивидуальности, которая бы обладала
равенством как принципом. Пьер Леру стремится помыслить эту новую
индивидуальность,
сформировать
новую
антиплатоновскую
триаду,
определить энергию, удерживающую вместе равноправных членов рода
человеческого. Современники Леру были склонны насмехаться над его
умозрениями. Подобно Сократу из Книги IV «Государства», они полагали,
что Леру зашел слишком далеко в поисках принципа справедливости, тогда
как этот принцип, так сказать, лежит под ногами. Сократ распознавал этот
принцип в грубом благоразумии разделения труда. А вот современники Леру
находили его в труде, не подвергаемом разделению, в труде как унитарном
принципе.
129
Фактически труд и предлагает им это двойное качество. С одной
стороны, он образует идентичность. Времена излияния чувств, когда пели
«все
мы
—
рабочие»,
противопоставление
и
между
времена
конфликта,
трудящимися
и
когда
ужесточается
праздными
людьми,
подтверждают одну и ту же непреложность: отныне труд — родовое имя
человеческой деятельности как таковой. С другой стороны, эта идентичность
является принципом меры. В фигуре трудящегося воплощается мера труда:
признание факта, что отныне труд оценивается в качестве источника благ и
меры их стоимости. Если мы способны забыть иерархическое значение
платоновского сообщества или братства св. Павла, то дело здесь в том, что
учет
труда
в
эпоху
политической
экономии
упраздняет
басни
о
распределении людей и функций в соответствии с унитарным законом
производства и распределения благ.
Тогда идея сообщества трудящихся-братьев может сложиться, включив
в себя три идеи. Прежде всего, имеется некая arkhe сообщества, принцип №
1, касающийся того, что общество обобществляет: трудящихся, рабочую силу
и продукты труда. Затем есть некая точная мера, позволяющая принципу
братства быть непосредственно принципом распределения функций и плодов
труда. Наконец, существует идея добродетели, способной сохранять
сообщество и воплощенной в некоем персонаже. Трудящиеся братья
трудятся. Кто производит материю, которой владеют все, сохраняет в
повседневном поведении верность закону.
130
Так под знаком трудового равенства складывается союз между
принципом политической экономии и принципом братского сообщества.
Теперь мы знаем, что труд, который производит то, что подлежит
обобществлению, неизбежно приводит к солидарности; что, работая на себя,
мы производим для других. Радикальность эгалитарного коммунизма втискивается в чрезвычайно узкий интервал между собственностью на труд в
эпоху
политической
экономии
и
добродетелью
преданности
общечеловеческому делу у трудящегося-коммуниста. Но проблема сообщества братьев-трудящихся состоит в том, что, будучи основанным, оно тотчас
же разрушает идентификацию. Трудящийся коммунист тотчас же разделяется на трудящегося и коммуниста, на рабочего и брата. Эта драматизация
образцово предстает в истории сообщества, которое Кабе располагает в
США, чтобы основать там коммунистическую Икарию. И в одной странной
статье газета икарийцев «Ле Попюлер» резюмирует проблему в тех
терминах, в каких ее воспринимают действующие лица истории: во всем
человечестве существует всего-навсего три типа персонажей: трудящиеся,
братья-монахи и воры. Трудящиеся и братья-монахи всегда находят взаимопонимание, чтобы жить в одной семье. Что же касается воров, то их следует
выставить за ворота. И — заключает газета — наше братское сообщество
только и делает, что применяет этот принцип, выставляя бездельников за
ворота26.
Каждый термин и каждое положение здесь могут разверзнуться
настоящей бездной под ногами рассуждающих таким образом. Пока что
обратим внимание на простой вопрос: кто судит о лени, которая дает
основание отождествлять плохого трудящегося с вором? Может быть, братмонах?
131
Разве не напрашивается, что это, скорее, трудящийся: только он способен трансформировать меньшее, или меньшее благо в труде в не-труд или в
антитруд, т. е. в кражу — логический ход, который можно описать и как
кражу братства? Выражаясь иначе, не является ли слово «вор» здесь именно
способом обозначения глубинного раскола трудящегося и брата-монаха? С
одной стороны, брат-монах принимает облик бездельника, для которого
трудится трудящийся. С другой — трудящийся наделяется обликом эгоиста,
жертвующего
братством
ради
труда,
производительности
труда
и
дополняющего труд наслаждения. Лозунг, повторяемый на всем протяжении
истории описываемого сообщества, учит икарийцев, что они приплыли для
того, чтобы основать Икарию, а не для того, чтобы наслаждаться ею. Но кто
наслаждается и кто основывает? Что означает это «чтобы»? И для кого оно
это означает? Подобные вопросы акцентируются распределением ролей,
характеризующим икарийское братство. С одной стороны, существует
большое
семейство французских коммунистов-икарийцев.
Существует
авангардный икарийский отряд, отправившийся в США основывать
коммунистическую колонию. И существует отец Кабе, объединивший первое
со вторым, обобщивший закон братства, учредивший солидарность малой
общины в единстве с общиной большой. Получается так, что эта трехчастная
структура допускает непрерывную смену ролей основателя и пожинателя
плодов, трудящегося и брата-монаха, вора и того, кого обворовывают.
С одной стороны, те, кто отправляется в Америку, сжигают свои
корабли. Они покидают родину и отдают все имущество общине, чтобы
основать Икарию на пустом месте.
132
А те, кто остается во Франции, получают от этого двоякую выгоду.
Они уже радуются, так как видят, что их мечта о братстве осуществилась
благодаря труду других. Если впоследствии они приплывут в Икарию, они
будут пожинать плоды этого основополагающего труда. Значит, они всегда
будут в проигрыше по отношению к пожинающим плоды их труда. Но эти
отношения можно рассматривать и с другой стороны: те, кто отправляется в
Америку, бегут от нищеты и репрессий старого мира. Остающимся выпадает
на долю быть коммунистами и братьями в мире эксплуатации, а также
трудиться там так, чтобы поддерживать субсидиями икарийских братьев до
тех пор, пока те не достигнут таких трудовых успехов в своем братском деле,
что смогут материально насладиться плодами своего труда. Эти обратимые
отношения эксплуатации еще более осложняются, когда основатели Икарии
пишут послание своим братьям во Франции, стремясь описать икарийские
наслаждения. Делая это, они вызывают энтузиазм и привлекают деньги
новых
основателей.
По
прибытии
в
Америку,
новые
основатели
обнаруживают, что реальность отнюдь не радует взор, и их обвиняют в том,
что они приехали наслаждаться, и что в своем эпикурействе они
злоупотребили братством икарийцев, чтобы ограбить их. Итак, перекрестные
обвинения могут умножаться до бесконечности. Но суть вещей не в том, что
существуют ложные братья. Суть, скорее, в том, что труд сам по себе
безразличен к братству; что с братством как с братством трудящемуся как
трудящемуся делать нечего (что, разумеется, нисколько не препятствует
тому, что в качестве коммуниста трудящийся может любить братство и даже
умереть за него). Тем самым сообщество братьев-трудящихся приходит как
раз к разделению на партию труда и партию братства.
133
В общине икарийцев партия труда представлена первопроходцами,
осознающими, что они «отданы в рабство» своим предполагаемым братьям.
Считая себя эксплуатируемыми братьями-бездельниками, они требуют
больше труда и равенства. Сталкиваясь с партией труда, партия братства,
которую воплощает отец Кабе, изобличает отсутствие братства у рабочихэгалитарианцев как разрушительный для общины фермент. А зачем ее
разрушать, — спрашивает Кабе, — если не для того, чтобы разделить общинные пожитки и преспокойно жить в небольшой общине трудящихся, много
работая и много наслаждаясь; работая на самих себя и на свои семьи, а не на
великую семью человечества? Вот что открывает Кабе, по-настоящему не
осознавая этого: трудящийся-коммунист есть, прежде всего, распределитель,
с двойной обусловленностью — или двойной необусловленностью — в
зависимости от того, является ли он дающим или получающим. Равенство,
свойственное братскому сообществу трудящихся, представляет собой
нескончаемую компенсацию долгов и займов по двум линиям — труда и
братства; бесконечную взаимозависимость ролей заимодавца и должника.
Кабе обнаруживает это, по-настоящему этого не понимая: он думает
лишь о том, что недостаточно проповедовал братство своим сторонникам.
Суть же вещей от него ускользает: логический скачок, заключающийся в
простом выведении из труда как меры сообщества трудящихся, в котором
осуществляется правосудие. Будучи скорее оратором, чем философом, Кабе
не видит, что — по сути — здесь берет реванш старик Платон.
134
Дела фактически складываются так, как будто крах общины икарийцев
а contrario21 обосновывает организационный принцип платоновского полиса:
радикальное разделение между действием, обосновывающим функцию стражей, и действием, способствующим возможности их содержания. Для того
чтобы стражи осуществляли свою деятельность, необходимо, чтобы
материальные условия этого содержания полностью сохранялись независимо
от них, не соотносясь с их деятельностью. И это не просто потому, что в
хорошо упорядоченном полисе невозможно делать сразу больше одной вещи.
Или же, скорее, эта невозможность зиждется на более основополагающем
принципе: необходимо, чтобы сообщество стражей, помимо всего прочего,
было радикально защищено, по меньшей мере, от тех, кто полностью
привязан к материальному производству и к категориям «моего» и «не моего».
Радикальное
зло
для
Платона
и
есть
этот
апей-рон,
эта
неопределенность/неограниченность желаний, противостоящая всякой мере
равного. Но ведь как раз это имеется в виду в дурном равенстве труда. Мера
труда строго соотносится с безмерностью желания. Нет оснований
согласиться на равенство меры труда, если бы не тот избыток, что
добавляется на содержание трудящегося. Всякий трудящийся — это
потенциальный олигарх, мелкий капиталист.
Платоновская радикальность позволяет увидеть то парадоксальное, что
выводится из производительного труда, и отмеряет богатство для рабочегоремесленника, принадлежащего к сообществу. Царство равноправных
трудящихся — это не братская община, это — если снова заимствовать точку
отсчета из «Государства» — окончательно не установленная граница между
олигархией
и
демократией,
сингулярный
момент,
когда
принцип
необходимости
135
и экономии начинает колебаться в неопределенности желаний; когда
свойственное
сыну
трудящегося
желание
наслаждаться
начинает
рассеиваться во множестве предметов любви. А равенство, братство и
сообщество — тоже предметы любви. В сообществе желание пожинать
плоды его труда переплетается без всякой меры с наслаждением от речей о
равноправии и с наслаждением от братской любви; и эти речи, и эта любовь
могут быть искренними до самоубийства, до отвращения или до
предательства. Коммунизм — не справедливость трудящегося, но его страсть
и даже его крест, его воля к распятию самого себя.
5 СООБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВО: ЭГАЛИТАРНЫЙ ПАРАДОКС
Могли ли знать об этом педагоги, волнуемые стремлением к братскому
равенству? Один из них, по меньшей мере, предупреждал их: Жозеф Жакото,
который был профессором римского права в Дижоне у студента Кабе;
большинство икарийцев объявляли себя учениками Жакото, философа
равенства разумов. За двадцать лет до того, как икарийцы отплыли в
Америку, он предложил им и всем эгалитаристам в высшей степени
радикально пересмотреть их предпосылку: тождественность между принципом сообщества равных и принципом социального тела. Равенство, учил он,
есть мнение, предполагаемое самой идеей разума. Это мнение — завоеванное
или отвоеванное — способствует созданию сообщества равных, сообщества
эмансипированных людей. Но это сообщество общества не образует. Идея
социального равенства представляет собой противоречие in adjecto2B.
136
Стремясь осуществить социальное равенство, можно способствовать
лишь забвению равенства.
Точнее говоря, Жакото предупредил о невозможном сплетении двух
противоречивых логик: логики эгалитарной, подразумеваемой в речевом
акте, и логики неэгалитарной, присущей социальным связям. Никогда не
могут
совпасть
различные
способы,
какими
говорящим
существом
овладевает двоякая произвольность: произвольность языка и произвольность
социальных уз.
Под произвольностью языка будем иметь в виду попросту то, что
языку не имманентна никакая причинность, что не существует ни
божественного языка, ни языка универсального, но имеется всего лишь
звучащая масса, которую каждый — и каждый раз — должен наделять
значением. Эта произвольность превращает всякое высказывание, как и всякое
его
восприятие,
в
приключение,
предполагающее
операцию,
направляемую двумя волями: волей к говорению и волей к слушанию,
причем обеим всегда грозит возможность в очередной раз погрузиться в
бездну отвлечения, поверх которой натянута жесткая нить воли к созиданию
смысла. Это напряжение предполагает — но предполагает лишь при условии,
что оно само непрерывно это полагает, — виртуальность другого
напряжения, напряжения другого.
Можно
по-разному
называть
возобновляющиеся
усилия,
способствующие действию этого предположения. Некоторые называют их
просто разумом. Жакото полагает, что остается более верным природе и
работе таких усилий, называя их равенством, или, скорее, мнением о
равенстве умов.
137
Выражение
«равенство
умов»
включает
в
себя
здесь
два
основополагающих значения: во-первых, что всякая произнесенная или
написанная фраза наделяется смыслом лишь при постулировании субъекта,
способного в соответствующем приключении разгадать ее смысл, истинность
которого не обеспечивается никаким кодом или первичным словарем; вовторых, что не существует двух способов быть разумным, что всякая
интеллектуальная операция пользуется одним и тем же способом, когда
материальность
пронизывается
формой
или
смыслом;
что
очагом
интеллектуальной операции всегда служит предполагаемое равенство между
волей к говорению и волей к пониманию.
Оно-то и подразумевалось в поступке Менения Агриппы, вышедшего
на Авентин проповедовать плебеям свою притчу. За моралью притчи,
иллюстрировавшей неравенство функций в социальном теле, стояла совсем
иная мораль, присущая самому факту сочинения притчи. Это сочинение
имело в виду, что необходимо говорить и что эти слова будут услышаны и
поняты. Оно предполагало предустановленное равенство между волей к
говорению и волей к слушанию. Но, прежде всего, в этом сочинении была
задействована разбираемая предпосылка. Отношения представителя высшего
класса к членам класса низшего зависели от других отношений, отношений
рассказчика к слушателям — отношений не только эгалитарных, но и таких,
равенство между которыми постулируется благодаря самому искусству
рассказчика; отношений, над которыми необходимо работать, чтобы сделать
их эгалитарными. Итак, мораль самого действия сочинения басни —
равенство умов. И это равенство определяет и обрисовывает некое
сообщество лишь при условии понимания того, что у этого сообщества нет
устойчивости.
138
Всякий раз у него есть некий носитель, работающий для кого-либо
другого, для виртуального бесконечного множества других. Это равенство
уместно, но места не имеет.
Ибо, конечно же, сплетение двух отношений происходит в двух
направлениях. Полагать равенство необходимо для того, чтобы объяснять
неравенство. Но то, что следует объяснять, то, что расшатывает машину
объяснения, есть неравенство, отсутствие разума, которое необходимо
рационализировать, фактичность, которую следует упорядочить; социальный
произвол, который делает необходимой расстановку по рангам. Короче
говоря, произвольность языка, задействуемая одним разумным субъектом
для другого разумного субъекта, предполагает другую произвольность —
социальный произвол. Под социальным произволом имеется в виду просто
то, что общественный уклад лишен имманентного разума; что он просто
таков как есть и им не управляет никакая интенция. Поначалу кажется, будто
в этом он вполне сравним с произвольностью языка. Но тотчас же выявляется
радикальное отличие: ни один субъект не может ощутить материальную произвольность социального веса вещей по намерению другого субъекта. Не
существует разумного коллективного субъекта. Существуют лишь индивиды,
которые в разной степени могут обладать разумом. Коллективность ничего
не хочет никому сказать. Общество упорядочивается подобно тому, как
падают тела. Оно требует от нас попросту склониться вместе с ним, т. е.
нашего согласия.
До всякого сообщества, до всякого равенства умов нас связывают
именно узы, проходящие через все точки, где вес вещей вызывает согласие в
нас; все точки, где склонность заставляет любить себя как
139
неравенство, отражается в операции, сравнивающей, распределяющей
и объясняющей расстановку по рангам. Традиция охотно называет это
страстью. Жакото же полагает, что лучше называть это неравенством,
мнением о неравенстве умов. Поскольку неравенство существует без разума
и причины, ему свойственна лишь большая необходимость рационализироваться в любой момент и в любом месте. Эту рационализацию Жакото
называет родовым именем объяснения. Объяснение укореняется в необходимости найти причину/разум (raison) для всего, у чего ее нет и для чего
отсутствие таковой невыносимо. Так, простая беспричинность/неразумие
(non-raison), случайность вещей преобразуется в неразумие (deraison)
действующее. И такой «исток неравенства» повторяется при каждом
объяснении: всякое объяснение есть фикция неравенства. Я объясняю комулибо какую-нибудь фразу, потому что предполагаю, что если я ему не
объясню, то он ее не поймет. Т. е. я объясняю ему, что если бы я ему не
объяснял, то он не понял бы. Словом, я объясняю ему, что он не столь умен,
как я, и что поэтому он заслуживает быть там, где он находится, а я — там,
где нахожусь я. Социальные узы держатся благодаря той бесконечной и
приводящей к согласию операции, которая называется объяснением в школах
и убеждением на собраниях и в судах. Объяснение превращает всякую волю
к говорению в секрет ученого, риторика преобразует всякую волю к
слушанию в умение понимать.
Даже перед тем, как Кабе и икарийцы вступили в конфликт по поводу
принципов сообщества — труд или братство, — Жакото отправил им
следующее сбивающее с толку сообщение: не существует принципа
сообщества равных, который был бы принципом социальной организации.
140
Не существует такого ratio cognoscendi29, которое было бы в то же
время
ratio
essendi30.
Существует
только
два
способа
овладевать
произвольностью, первичной безосновностью вещей и языка: с помощью
эгалитарного разума сообщества умов либо с помощью неэгалитарного неразумия социальных тел. Сообщество равных всегда актуализуемо, но при
двух условиях. Во-первых, оно не цель, которой следует достичь, но
предположение, которое необходимо выдвигать вначале и непрестанно
продолжать выдвигать. Всякая стратегия или педагогика сообщества равных
может лишь располагать это сообщество в круге действующего неразумия,
безосновности, объясняющего/объясняемого неравенства, каковое всегда
стремится себя выдать за медленный путь примирения возможных вариантов
будущего. Второе условие, весьма сходное с первым, формулируется так:
сообщество не может обрести устойчивость в форме социального института.
Сообщество
зависит
от
всегда
возобновляемого
акта
собственной
верификации. Можно освободить сколько угодно индивидов, но общество
освободить
невозможно.
Если
равенство
представляет
собой
закон
сообщества, то общество принадлежит к сфере неравенства. Стремиться
установить сообщество труда или братства означает опустить воображаемое
покрывало Единого на радикальную разделенность двух порядков и на их
узел, который невозможно распутать. Сообщество равных никогда не
покроет собой общество неравных, но все-таки они друг без друга не
существуют. Они являются столь же взаимоисключающими по своим
принципам, сколь и неразрывными по своему существованию.
141
Всякому, кто задается целью задействовать принцип их союза, сделать
общество равным, следует ответить такой дилеммой: необходимо выбирать
между бытием равных людей в неравном обществе или неравных людей в
«равном»
обществе,
в
обществе,
преобразующем
равенство
в
его
противоположность. Сообщество равных представляет собой неустойчивое
сообщество людей, работающих над непрерывным созданием равенства. Все
остальное, что может крыться под этим именем, есть всего лишь манеж,
школа или батальон, по-разному перекрашенные в цвета прогресса31.
6 СООБЩЕСТВО РАЗДЕЛЕНИЯ
Именно это предостережение не хотят слышать молодые по-братски
настроенные трудящиеся. Точнее говоря, можно сказать, что они не
слушают, а еще можно сказать, что они слушают не так, как надо,
перетолковывая на свой лад. Итак, с одной стороны, молодые трудящиеся
этого не слушают. Они стремятся преобразовать регулятивную идею
сообщества в организационное понятие социального опыта. Они мнят себя
наставниками народа и мучениками братства: ситуация, в которой отец Кабе
намного опередил их. Они обрекают себя сразу и на горе разочарованных
наставников, и на недисциплинированность буйных учеников.
Но их педагогическо-апостольская страсть не является просто
бессознательной. Дело в том, что она основывается на определенном
понимании Авентинской притчи, показывающей трудящимся — сторонникам братства, что равенство наделенных речью существ имеет массу
последствий для социальной реальности.
142
Такое понимание еще дальше перемещает акцент, подчеркнутый
момент с содержания притчи уже не только на речевую ситуацию,
способствующую ее проговариванию, но и на событие, вызвавшее и
навязавшее речевую ситуацию. Чтобы Менений Агриппа сочинил свою
притчу, прежде всего, понадобилось, чтобы плебеи удалились на Авентин, но
необходимо было также, чтобы они говорили, называли себя, давали понять,
что они тоже — существа, наделенные речью, с которыми можно разговаривать. Эгалитарная предпосылка, коммунитарное изобретение дискурса
предполагает первый слом перегородок, вводящий в сообщество существ,
наделенных речью, тех, кто к таковым не причислялись. Это вторжение
вводит другую экономию эгалитарной предпосылки. И тогда сообщество
существ, наделенных речью, основывает свою действенность на некоем
предварительном насилии. Сущность этого насилия — странного по
отношению к мертвым или раненым — в том, что оно делает видимым невидимое, наделяет именем безымянное, дает услышать речь там, где
воспринимался только шум. Но это изначальное насилие, которым создается
разделение, полемический локус сообщества, возможно лишь тогда, когда
оно проецирует позади себя эгалитарную предпосылку. Тем самым равенство
— не только предпосылка, в конечном итоге отсылающая общественную
сплоченность к сообществу существ, наделенных речью, как к принципу,
который с необходимостью забывается. Равенство провозглашается при
многократном повторении вторжения, которое, проецируя эгалитарную
предпосылку,
вписывает
ее
в
рамки
социальной
действительности.
Эгалитарная предпосылка не просто ткет нематериальную и поэтическую
143
нить сообщества равных на всем протяжении воображаемой толстой
веревки неравного общества. Эта предпосылка вводит социальные процедуры верификации равенства, т. е. процедуры верификации сообщества в
обществе.
В таком случае можно понять, отчего молодые братья-трудящиеся не
слушают голоса, который предупреждает их о разладе между социальной и
комму-нитарной логиками. Дело в том, что у этих трудящихся был опыт
неслыханной прежде верификации эгалитарной декларации, которую
оправдала реализация революционного претворения этой верификации в
июле 1830 года32. Выше я проанализировал упорядоченные процедуры
доказательства, которые характеризуют переход от прежнего товарищеского
осуждения к современной забастовке, делая зримой идею социальной
эмансипации. Я показал, как организация материального конфликта,
принимающая форму разумного доказательства, взяла в качестве ядра
процедуру силлогистического типа, которая обязательно выводит из
провозглашения равенства его действенность. Противопоставляя факт записи
равенства фактам неравенства, эта процедура создавала место, исходя из
разрыва и алиби, отсутствия места: принцип аргументации и полемическое
пространство, пространство, где могли бы разыгрываться отношения
сходного к несходному, где эгалитарная фраза задавала себя как подлежащая
верификации. Эта процедура создавала сообщество разделения в двойном
смысле слова: некое пространство, предполагающее разделение одного и
того же разума, но также и место, единство которого существует только в
операции разделения; полемическое сообщество, появившееся для того,
чтобы навязать непризнанное последствие эгалитарной фразы.
144
Если жакотистская критика включала верификацию равенства во
всякий раз воссоздаваемые отношения воли к говорению к воле к слушанию,
то эта верификация делается «социальной», производит социальный факт
равенства, выводя на сцену обязанность слушать. Молодой пролетарийжакотист был вынужден верифицировать равенство существ, наделенных
речью,
пробивая
собственный
путь,
собственное
интеллектуальное
приключение в книге «Телемах». Равенство существ, наделенных речью,
прочитывается здесь в весьма специфическом тексте, в тексте, призыв
которого образует обязательство, поскольку сам текст напоминает о событии,
повлекшем за собой его запись, и обретает смысл в действии, которое, реактивируя событие, выносит его за пределы его самого. Текст в упомянутой
ситуации — не столько Хартия, сколько преамбула к ней; не столько
конституционный закон, сколько декларация, этот закон обосновывающая,
— подразумевая, что само это обоснование укоренено не в чем ином, как в
структуре повторения события. Декларация повторяет событие, которое
имело место и способствовало ее формированию как чего-то уже
написанного, уже обязательного. Сама она написана для того, чтобы служить
повторению и тому, что повторение может произвести в качестве нового
события равенства. Тем самым и эгалитарная полемика изобретает
неустойчивое сообщество, зависящее от случайности и от решительности
своих действий. Это эгалитарное изобретение сообщества отвергает
дилемму,
которая
нематериальностью
обязывала
сообщество
эгалитарной
произвести
коммуникации
и
выбор
между
неэгалитарной
тяжеловесностью социальных тел.
145
Социальная материальность — это не только тяжеловесность тел,
описываемая одним лишь дискурсом неэгалитарной рационализации. Ее
тоже может пронизывать некая воля к слову, постулирующая сообщество,
предполагая выслушивание в специфической форме, в форме обязательства
слушать. Само понятие «имеется», относящееся к событию, подчеркивает
искусственность
совместного
наличного
бытия.
В
движении
вновь
разыгрываемого события и вновь поставленного на сцене текста сообщество
равных порою находит средство вычертить в виде контура свое воздействие
на поверхность социального тела.
Коммунистическая страсть, стало быть, не сводится к движению в
противоположном направлении по сравнению с «Государством» Платона или
с мистическим телом христиан; не сводится она и к неспособности молодой
демократии трудящихся упорядочивать неопределенность и безграничность
собственных желаний. Коммунитарный просчет находит первое основание в
сингулярном
опыте
трансгрессии.
Выше
мы
охарактеризовали
эту
трансгрессию в платоновских терминах как бунт количественного против
порядкового. Но этот бунт есть нечто совершенно отличное от платоновской
оппозиции между арифметической множественностью желаний и геометрической пропорциональностью хорошо упорядоченного сообщества.
Он укоренен в логическом опыте, представляющем собой опыт общей меры
несоизмеримых величин. Равенство и неравенство несоизмеримы по
отношению друг к другу, и однако же они соизмеримы в контуре
эгалитарного события и коммунитарного изобретения. Опыт этой меры есть
предельный опыт. Равенство есть нечто исключительное.
146
Его необходимость зависит от случайности и решительности, которые
записывают предпосылку равенства в терминах вторжения, каковые можно
толковать
с
помощью
коммунитарного
изобретения,
изобретения
доказательств его действенности. И мы понимаем то, что вводит нас в
соблазн вновь вернуться к грезе о сообществе как теле, объединенном
благодаря некоему принципу жизни (любви, братству или труду), который
направляет движение членов этого сообщества или помогает измерить
дистрибуцию его функций. Принятая мера эгалитарного исключения — мера
насилия, постоянно воспроизводимого в напряжении, стремящемся к невозможной отмене этого насилия. Практика сообщества разделения сама
подпитывает страсть к разделению без деления, к устойчивому равенству в
социальном теле, измеряемом этой устойчивостью. Коммунистическая
страсть
стремится
извлечь
исключительности,
равенство
из
собственного
состояния
подавить амбивалентность разделения, преобразовать
полемическое пространство здравого смысла в пространство консенсуса.
Помимо всяческих недоразумений относительно идеи коммунитарного тела,
коммунистическая
греза
эгалитарному опыту,
XIX
столетия
придает
большое
значение
мере несоизмеримого точно так же, как Кантова
трансцендентальная видимость чрезвычайно дорожит подобающим назначением разума.
Кроме того, удовлетворение от преодоления тупиков и безумств
сообщества, в свою очередь, рискует свестись просто-напросто к забвению
эгалитарной
исключительности.
Помимо
коммунитарных
просчетов,
зачастую предлагается простой расчет, усматривающий равенство в царстве
закона, объединяющего множество людей под общим законом Единого.
147
Поскольку прошел период, когда честь брала слово, участвуя в
прославлении новых начинаний, мы, дескать, могли бы обрести твердую
почву, на которой справедливость сводится к общей мере jus33. Тем не менее
это возвращение вскоре сталкивается с необходимостью, из-за которой
правовое государство может основать какое
равенство,
лишь
спроецировав
позади
себя
угодно коммунитарное
юридико-политическую
инстанцию — в метаюридичности Прав Человека — и встретившись на этом
уровне с неразрешимым вопросом: сообщество ли основано на равенстве или
наоборот. Неразрешимый вопрос, который поддерживает нескончаемую
полемику
сторонников
равенства
общей
мерой
универсального,
а
сторонников неравенства — призывом уважать даже самое малое различие...
Сама эта бесконечная полемика была бы безрезультатной, если бы
неразрешимость не служила аргументом в пользу практики, которая вновь и
вновь доверяет любой вопрос о применимости равенства, записанного в
юридико-политических текстах, благоразумию экспертов по правовым
вопросам. Проблема же в том, что эксперты по правовым вопросам
существуют, но не существует экспертов по вопросам равенства — или,
точнее говоря, равенство существует лишь там, где заканчивается компетенция экспертов. Где провозглашенный триумф права и правового государства
свершается в фигуре обращения к экспертам, демократия сводится к карикатуре на саму себя, к правительству ученых.
Тогда память о коммунитарном просчете сводится к памяти о
следующем: равенство вписывается в социальное тело лишь в опыте меры
несоизмеримого, в призыве к событию, вписывающему собственную
предпосылку и в свою новую инсценировку.
148
Эта инсценировка не опирается на какое-либо основание, она получает
право на существование благодаря тому, что нечто имелось, которое всегда
отсылает
к
другому
нечто
имелось.
Коммунитарное
обязательство
сопряжено с насильственной случайностью события, преобразующего
искусственность совместного наличного бытия в действительность равенства. Тем самым становится возможным вновь продумать стародавний
скандал с искусственностью равенства, на который наткнулись теоретики
политического искусства или bios politikosm. С точки зрения Аристотеля,
логика должна стремиться к тому, чтобы власть принадлежала лучшим и
чтобы они удерживали ее по возможности дольше. Но этот идеал не всегда
осуществим. В частности, надо рассмотреть случай с полисом, состоящим из
людей свободных и сходных по природе. Золотое правило должно уступить
здесь место фактичности. Мы оказываемся поставленными здесь перед
фактом полиса, представляющего собой plethos, «множество людей», наделенных качеством свободы. Политическое, по существу, не способно здесь
ни на что, и ему следует с этим смириться — даже если придется найти средство, которое справедливость пропорциональности в конечном итоге
навязывает в самом смешении множественного. Это немного похоже на то,
как Ханна Арендт в работе «О революции» рассматривает нелепое
предположение,
допускающее,
что
какой-то
народ,
благодаря
географической случайности, оказываясь свободным и равноправным, тем
самым приходит к тому состоянию или к совокупности атрибутов, которые
могут применяться только к субъекту в действии. Но ведь не природная
случайность наделила искусственность plethos'a атрибутом свободы.
149
И как раз эгалитарное событие, его запись, инсценировка этой записи
преобразуют случайность совместного наличного бытия, вписывают в это
бытие лишающее всяких оснований право множественности.
Коммунитарное изобретение, всегда подлежащее возобновлению
изобретение сообщества равных находит свой очаг в расшатанных и
случайных отношениях между тем, что наличествует, и тем, что обязывает; в
том, что соотносит искусственность совместного участия в разделении с
контуром эгалитарного события и эгалитарного текста. Так устанавливаются
конкретные отношения между изобретением равенства и состоянием
социального. Из изобретения равенства выводится определенное количество
последствий, которые вписываются в ткань социального в форме смешанных
феноменов, которые можно ad libitum35 представить как завоевание
трудящихся, как новое средство сделать отношения господства более
тесными, или же как саморегулирование на основе консенсуса социальной
машины, которая проходит свой путь, не ставя больше перед собой никаких
вопросов. Эти подсчеты прибылей и убытков упускают существенное, т. е.
то, что эти смешанные феномены определяют некую топологию, случайное
распределение мест и случаев, положений и ситуаций, каковые в самом
своем распылении предоставляют удобные возможности для нового
возникновения эгалитарного означаемого36, для нового контура верификации
сообщества равных. Демократия не есть ни простое царство общего закона,
вписанного в юридико-политический текст, ни плюралистическое царство
страстей. Она представляет собой, в первую очередь, топос всех этих
топосов, искусственность которого зависит от случайности и решительности
эгалитарного контура.
150
Тем самым улица, завод или университет могут стать местом этого нового возникновения — согласно случайности внешне незначительной
государственной меры, случайности какого-то лишнего слова или какойнибудь неудачной позиции, которые создают возможность для новой
полемической верификации сообщества, возможность для уточнения записи
эгалитарного означающего37, для призыва к событию, обеспечивающему, что
его запишут в это место. Так, осенью 1986 года мы увидели силу одного
слова «селекция» для того, чтобы установить новую коммуникацию между
эгалитарным означающим и состоянием фактов во Франции, когда
университеты открыты для всех совершенно независимо от всякой
экономической рациональности. И тогда те, кто противопоставлял успех
движения,
придерживающегося
собственных
целей
и
собственной
организации, пустым революционным грезам 1968 года, наверное, забыли,
что триумфальное спокойствие 1986 года оказалось возможным только
благодаря предшествовавшей насиль-ственности события, выдвижению
университетов в качестве типичного примера; благодаря инсценированной на
улице коммуникации между университетским локусом и обществом в целом.
Итак, вполне можно допустить существование таких моментов в жизни
сообщества (это не те праздничные моменты, что иногда описываются, но
моменты
диалогические),
когда
люди
поступают
вопреки
уставу,
выдвинутому Григорием Назианзином; когда неуместной диалектикой
занимаются те, кто права на это не имеет, но полагает свои права в отношении между насильственностью начала и утверждением уже-сказанного,
уже-записанного.
151
Существуют моменты, когда сообщество равных предстает как то, что
в конечном итоге поддерживает распределение институтов и обязательств,
которые творят общество, где равные заявляют о себе, зная, что у них нет
права делать это первыми, если бы не это уже-вписанное, которое
спроецировано действием позади самого себя, где равные обретают опыт
всего искусственного, сопряженного с этой возможностью, в том смысле, в
каком искусственное означает в одно и то же время то, что не является
необходимым, и то, что предстоит сделать.
НЕДОПУСТИМОЕ
Под этим заголовком я не собираюсь говорить о моральном чувстве,
которое заставляет нас отказываться от чего-либо. Я буду говорить о
суждениях, побуждающих нас констатировать, что некий элемент невозможно принять в известный класс существ или сущностей потому, что он
не соответствует определяющим его критериям включения. А значит, я буду
говорить о привилегированном сегодня типе рациональности — в политике и
не только, — о рациональности разочарованной, которая побуждает нас вернуться от громких слов и туманных идей к отчетливо определенным словам и
к
точным
классификациям
объектов
мысли.
Итак,
я
сравню
два
высказывания, объект и статус которых внешне друг от друга отдалены, но
которые, тем не менее, имеют общую точку: в обоих работает некое
различение и оба подразумевают идею критериев различения. Одно
относится к теории литературы, другое находится на среднем уровне
политического дискурса. Одно сделано в гипотетическом и релятивистском
модусе, другое — в модусе категорическом.
Первое высказывание я заимствую у философа, уделяющего особое
внимание проблемам вымысла. В работе «Смысл и выражение» Джон Сёрль
перед тем, как установить отличительные критерии актов вымысла,
предоставляет нам предварительное разграничение, имеющее следствием
вывести из игры одну категорию, категорию литературы, использование
которой соотносится не с языковыми актами,
153
задействованными автором, но с суждением, которое делает читатель:
«Словом, дело автора — решать, принадлежит ли текст к* области вымысла,
но дело читателя — решать, принадлежит ли текст к области литературы или
нет».
С
этим
теоретическим
текстом,
полагающим
различительную
способность для принятия решения как такового, я сопоставлю политическое
высказывание, полагающее различительную способность для принятия
политического решения. Произнесенное государственным деятелем-социалистом1 и многократно повторенное руководителями социалистического
правительства как залог возвышенного смысла в том, что подразумевают
политические смелость и здравомыслие, это высказывание говорит нам
следующее: «Франция не может принять в себя всю нищету мира».
Обе фразы имеют в виду различительную способность и принятие
решения. Обе относятся к той порожденной разочарованием мысли, которая
больше не хочет попадаться на удочку широковещательных слов и смутных
идей, когда смешиваются термины философского анализа и реалии
политического решения. Тем не менее, если исходить из этого общего
горизонта, то кажется, будто мы имеем дело с двумя независимыми
логиками, не имеющими ничего общего между собой и пользующимися
процедурами, функционирующими в противоположном направлении друг к
другу.
1 ДЖОН
СЁРЛЬ
И
РАЗЛИЧИТЕЛЬНАЯ
СПОСОБНОСТЬ
ЛИТЕРАТУРЫ
Сёрль ставит следующий вопрос: как мы признаём акты вымысла за то,
чем они являются?
154
Но ведь ставить вопрос так означает, прежде всего, отграничивать
сомнительное от несомненного, отделять то, что служит объектом вопроса,
так как предъявляет нам различительные качества или свойства, от того, что
из-за отсутствия таких качеств или свойств не таково. Стремиться различить
постоянные характеристики «актов вымысла» означает выводить из игры две
частных
инстанции
различительных
черт.
Первая
таким
образом
исключенная инстанция — понятие литературы. Это понятие, по Сёрлю,
обозначает позицию, занимаемую по отношению к определенным текстам;
ценностное суждение, произведенное сообществом читателей или его
авторитетными представителями, но не совокупность черт, свойственных
конкретному объекту. Вторая исключенная инстанция — сам текст. Сёрль
говорит нам, что литературный текст не предоставляет особых отметок его
выдуманности,
таких
критериев,
которые
отличают
его
от
текста
информативного2.
Если вынести за скобки идею литературы и текстуру текста, то что
остается для различительного суждения? Остаются намерения, условности,
выборы. Писатель, по Сёрлю, пользуется намерением, заключающимся в том,
что он делает вид, будто выдвигает серьезные утверждения. Писатель и читатель
вместе
условливаются
приостановить
действие
условностей,
обыкновенно руководящих высказыванием и восприятием утверждений. А
читатель, и особенно известный тип «авторитетного» читателя, выбирает
рассмотрение той или иной последовательности «несерьезных» утверждений
этого типа как принадлежащих к семейству «литературы».
Здесь мы встречаемся с рассуждением, выдвигающим альтернативу:
либо свойства есть, либо же их нет.
155
Это можно выразить иначе: либо имеется внутренняя обусловленность,
и это свойство; либо же имеется обусловленность внешняя, и речь идет о
суждении, об условности, об условной приостановке действия условности и
т. д. Здесь исключается именно то, что я назвал бы чистым не-свойством:
обусловленность, которая не была бы ни внутренней, ни внешней, ни
свойством вещи, ни характером суждения о вещи. Отвергается один тип
существования: тот, что «плавал» бы между внутренним и внешним, между
телесностью
и
отсутствием
тела.
Мы
можем
понимать
этот
тип
существования, по меньшей мере, по аналогии: он напоминает то, как
существует безусловно немая и неисправимо болтливая буква, которую
Платон противопоставляет живому логосу. Нам известно, каким образом у
Платона оппозиция между живой речью и мертвой буквой усложняет
простое обличение поэтического мимесиса, задевает перверсию, более
опасную, чем та, что касается приличествующих театральной сцене дурных
историй и маскировки поэта. Такая имплицитная иерархия превращает букву
с неотчетливым телом в зло более страшное, нежели обманчивое тело
вымысла. Отсюда в высшей степени логично проистекает явно необычная
привилегия,
каковую Сёрль
в своем
анализе
жалует театральному
представлению. Театр, традиционно характеризующийся как место, где
симулякры обманывают, а души попадают в опасность, становится, по сути,
«хорошим», типичным случаем, местом, где условности обнаруживаются
открыто, а текст как таковой исчезает, более не задавая себя в неотчетливой
телесности случайностям прочтения, — но становится аналогичным некоему
«рецепту», служащему для того, чтобы устроить представление, т. е.
организовать ясные
156
отношения между тремя группами говорящих, которые совместно
действуют согласно условностям: автором, выдающим рецепт; актерами,
поддерживающими вымысел своего телесного существования; и зрителями,
собирающимися в определенное пространство-время представления.
Такая перестановка, превращающая театр в благое место, в место
ясного различения между языковыми операциями, не кажется мне случайной.
Так, в книге «Царь-артист»3 Жан Боррей притязает на то, что он использует
«Платона против Платона». Возможно, нашу философскую ситуацию
следует представлять себе так: мы видим, что в ней противопоставляются
друг другу различные способы избирать Платона против Платона. И как раз
такой выбор совершает Сёрль в анализе актов вымысла. Избирать «против»
Платона театр как хорошую ситуацию с управляемой речью означает
избирать «вместе с» Платоном известную идею «живой речи», противостоящей той «мертвой букве», которая, очевидно, ставит перед трезвыми
мыслителями либеральной демократии проблемы того же рода, какие она
ставила перед автором «Федра». Буква — это та неотчетливая телесность, что
создает
беспокойство4
между
телами,
создает
«среду»,
чреватую
беспокойством, отделяющим каждое тело от него самого. Теория актов
вымысла представляет собой ответ на это беспокойство. Она являет утопию
такого общества, о котором многие грезят под именем «либерализма»: это
общество, где есть одни лишь собеседники, которые ведут спор и
договариваются, варьируя правила, используя нормативные правила и
исключительные условности, каковые имеют отношение к вымыслу в той же
степени, в какой они имеют отношение к масличным культурам.
157
Эта утопия вписывает акт говорящего существа в рамки двоякой
банальности: свойств вещей и общих или частных условий, выдвигаемых
говорящими субъектами как субъектами договаривающимися. Эта утопия
консенсуса предполагает решительную битву с другим «платонизмом против
Платона»: с тем платонизмом, который — во время своей работы и сделок —
стремится установить отношения с идеей истины, как бы истина ни
выглядела.
И как раз эта цель находится в сердцевине сёрлевского анализа
вымысла, а также и весьма распространенных ныне речей, намеревающихся
избавить искусство от его «подчинения» философии. Вспоминая заглавие
одной работы Артура Данто6, я имею в виду не столько самого автора —
мысль которого по этому вопросу зачастую остается весьма двойственной, —
сколько более обширное критическое течение, эксплуатирующее эту тему.
Существенный аргумент здесь состоит в том, что искусство якобы перегружено,
обременено
той
«сущностью
искусства»,
которую
идеалистическая философия — с ее ползучим неоплатонизмом — назначила
ей ради целей, подобающих одной лишь философии. Нам говорят, что
следует избавиться от этой подчиненности. И, в частности, задача
беспредпосылочной
художественные
эстетики
практики
в
заключается
в
специфичности
том,
чтобы
философского
выделить
понятия
искусства, которое их подчинило бы. Проблема в том, что художественные
практики, получающие высокую оценку при этом «освобождении», чаще
всего сводятся к упражнениям по созданию неразличимого, касающегося
двойственного существования писсуаров и коробок из-под супа6 как
предметов обихода и как произведений искусства.
158
Это «освобождение» искусства фактически замыкает «собственную»
мысль в хорошо определенной общественной игре, где хранитель музея,
критик и зритель, каждый в свою очередь, являются инстанциями,
решающими: «вот это — произведение искусства», под двойственным —
одновременно исследующим и забавляющимся — взглядом аналитического
философа и социолога культуры, которые неопределенно долго бросают друг
другу мяч, символизирующий знание о различении неразличимого.
2 ИЗЛИШНЕЕ МНОЖЕСТВЕННОЕ: ОТ МИШЕЛЯ РОКАРА ДО
ШАРЛЯ ПАСКУА
Строгий анализ актов вымысла и нескончаемые грубые шутки о
двойственной природе писсуаров могут предоставить нам некоторые данные,
чтобы помыслить языковую ситуацию, характерную для высказывания
второй анализируемой фразы, той, что говорит нам, что мы, французы, не в
состоянии принять всю нищету мира; фразы, которая фактически выражает
на литературном языке то, что, как правило, выражается на хорошо
определенном языке и в весьма определенном искусстве: в граффити общественных туалетов. Это высказывание, безусловно, относится к совершенно
иному типу, нежели первое. Это — фигуральное высказывание, и если в нем
и работает какое-то различение, то в этом высказывании не различается такое
свойство, на присутствии или отсутствии которого это различение основано.
А между тем, речь идет о том, чтобы сформировать нечто «собственное»,
прочертив линию разделения между тем, что можно и чего нельзя принять.
159
Так чего же нельзя принять? «Всю нищету мира»? Наверное, можно
довольствоваться тем, чтобы отослать эту фразу в логический ад
неопределенных суждений. Но тогда нам попросту будет недоставать сути
дела: силы исключения, связываемого с той «дурной партией» нищеты,
которую обозначает выражение «всю нельзя». Разумеется, никто не знает,
что это за «партия нищеты», которую мы не можем принять; каковы
свойства, отличающие хорошую и дурную части целого. Итак, проблема противоположна той, что только что нас занимала. Анализ Сёрля полагал
отсутствие объективных свойств именно там, где отличительные свойства
обнаруживаются с достаточной очевидностью. Здесь же — наоборот: речь
идет о том, чтобы установить те неявные свойства, что отличают партию
нищеты, или нищету, образующую тотальность, которую мы не можем
принять. Что проделывает эту операцию? Закон, инстанция универсального,
руководящая частным. Но делает она это весьма особенным способом: не
различая свойств, но разрабатывая особую категорию множественного, как
категорию Другого, которого невозможно принять.
Чтобы уразуметь это, мы можем исходить из суждений, обычно
выносимых по поводу законодательного арсенала законов Паскуа-Меэньери
об иммиграции и безопасности. Зачастую утверждают, что диспозитив
законов Паскуа-Меэньери об иммиграции и безопасности всего лишь
устанавливал гармонию в дисперсии уже существующих диспозиций, чтобы
подчинить их универсальности закона.
Но, в первую очередь, речь шла об ином: не столько запечатлеть
коллективную
волю
на
эмпирических
мероприятиях,
диктуемых
реальностью, сколько в собственном смысле сформировать объект закона и
переопределить его субъект.
160
Диспозиции
закона
Паскуа
и
кодекса
национальности
имели
предметом, прежде всего, формирование самого объекта, к которому
применялся закон: это неопределимое «нельзя принять всю» нищету, этого
Другого, чьи свойства отличаются от наших и, следовательно, не могут быть
приняты концептом нашей идентичности. Этой-то разработке прежде всего и
служит
«универсальное»
применение
закона
закона.
сегодня:
Впрочем,
отвечать
таково
за
довольно
немыслимое,
частое
заниматься
невообразимой, дикой онтологией. Один из предшествовавших парламентов
—
на
основании
мер,
которые
необходимо
принять
против
«фальсификаторов истории», — проголосовал за подлинный закон о
несуществующем. Следующий парламент — на основании мер, необходимых
для того, чтобы регламентировать иммиграцию, — принял закон о Другом и
о невозможности того, чтобы Тот Же Самый принял его к себе в сообщество.
Закон
создает
предусмотренные
Другого,
как
статьями
раз
законов
объединяя
или
разнородные
разрозненных
свойства,
регламентов,
приуроченных к обстоятельствам, — и нам говорят, например, что один и тот
же субъект незаконно внедряется ради поисков работы и законно — но
нелегитимно — в качестве супруга, вступающего в фиктивный брак. Закон
собирает все режимы другости в один, ставя, к примеру, предикат
«подпольный» в положение среднего члена между предикатом «иммигрант»
и предикатом «правонарушитель».
Это можно выразить и иначе, назвав объективным законом то, что до
сих пор было содержанием чувства, известного как «неуверенность».
161
Это чувство уже обладало свойством превращать в один и тот же
объект страха множество групп и случаев, причиняющих на разных
основаниях беспокойство или неприятности в разных местах и разным
частям
населения:
здесь
и
лицеисты
с
проблемами,
и
мелкие
правонарушители, и наркоторговцы, и невостребованная рабочая сила, и
религиозные фундаменталисты и т. д. Но ведь закон есть то, что преобразует
это Единое чувства в Единое понятия. И, наверное, именно это составляет
принцип того, что называют консенсусом: взаимообратимость между
объектом чувства и объектом закона и — совершенно конкретно —
взаимообратимость между объектом страха и Другим, которого закон должен
вначале идентифицировать, а затем — изгнать.
Но эта взаимообратимость работает также и для субъекта закона. Закон
отождествляет группу свободно дискутирующих, принимающих общие и
частные условности, с группой тех, кто ощущает один и тот же страх, страх,
который
имеет,
в
конечном
итоге,
очень
существенный
объект:
множественное, воспроизводящееся при отсутствии закона. В амальгаме
разнородных случаев, куда вместе попадают преследуемые фиктивные браки,
семейные перегруппировки, мусульманская полигамия и пересечение Средиземного моря ради того, чтобы родить в Марселе, проявляется одна и та же
фигура: фигура чрезмерного множественного. Эта связь иностранного (чуждого) с изобилующим множественным может быть прояснена в любопытном
месте из Аммиана Марцеллина, где, разумеется, речь идет совсем о другом
случае, который, однако же, выставляет в многозначительном свете нашу
злободневность.
162
Перечисляя признаки упадка Рима IV в., латинский историк особо
выделяет следующий: «Неоспоримо то, что когда Рим был пристанищем всех
добродетелей, большинство знатных стремилось удержать свободнорожденных чужестранцев всевозможными знаками благоволения подобно тому, как
лотофаги Гомера удерживали их сладостью плодов. Но сегодня пустая
гордыня некоторых побуждает с презрением относиться ко всему, что
рождено за стенами города, за исключением людей без потомства и
холостяков, и невозможно поверить, сколь значительным снисхождением
окружают в Риме людей бездетных».
Безусловно, фигура Другого, на которой строится сегодня политика,
основанная на консенсусе, отличается от той, которую упоминает Аммиан
Марцеллин. Речь не идет о знатных чужестранцах, коим знатные античные
семьи оказывали гостеприимство. Речь идет о гораздо более «подлой» и
одновременно чистой фигуре другости: о том безымянном множественном,
которое зовется на латыни proles и proletarius1 и которое современная эпоха
выделила в омонимии слова «пролетарий», сделав из него имя не столько
общественной категории, сколько некоего единственного-множественного
числа,
анализатора
бытия-вместе,
дистанционного
оператора
тел,
производящих и воспроизводящих самих себя. Сегодня эта «дурная часть»
целого изобилует при объявленном исчезновении сингулярной множественности: множественного, которое воспроизводится непрестанно и
беззаконно и поэтому должно исключаться из консенсуса, исключаться ради
существования
консенсуса.
Тогда
помимо
отсылки
к
закону
и
к
универсальному завязывается странный узел между physis и nomos, когда
первая определяется как способность со-чувствовать, а второй — как
способность уславливаться и договариваться.
163
Консенсус есть определенное отношение между природой и законом,
передающее закону задачу очертить территорию дурной природы, или
противоестественности. Необходимо попросту, чтобы от physis как силы
произрастающего отделилось изобилующее множественное, антиприрода,
являющаяся силой того, что изобилует. Закон завершает, дополняет природу,
подавляя бескачественное «кишащее» множественное. Тем самым закон
гармонирует с условностями, которые отбрасывают способы существования
без свойств, пример которым — «литературное бытие». К обоим случаям
подходит одно и то же знаменитое изречение: Entia поп sunt praeter necessitatem multiplicanda8. В одном случае речь идет о том, чтобы устранить слово и
существование, «зависящее» от слова без свойств. В другом — о том, чтобы
определить посредством закона природу того другого, которого невозможно
принять. Это расхожее изречение служит для обоснования того, что можно
назвать ограниченным сообществом, употребляя слово «сообщество» как в
логическом смысле софистов, так и в смысле политическом. Сообщество
консенсуса есть такое сообщество, где имеется ровно столько существ,
сколько нужно — ив терминах индивидов, и в терминах понятий; сгущенное
общество, где тел ровно столько, сколько нужно, а количество слов —
необходимо и достаточно для того, чтобы обозначить и их, и различные
способы, какими они пользуются, чтобы вместе принимать условности и
чувствовать.
Вторая
по
значимости
польза
закона,
объединяющего
разрозненные предрасположенности, состоит в том, чтобы создавать
субъекта, который соглашается, чувствует совместно, чувствует свое
множество учтенным в количестве, исключающем абсцесс кишащего
множественного.
164
3 СИНГУЛЯРНОЕ И БАНАЛЬНОЕ: ЛИТЕРАТУРА И НИЩЕТА
МИРА
Можно ли, наоборот, определить позитивные узы, связывающие
существование без свойств такого модуса дискурса, как литература, с
беззаконным размножением множественного? Это предполагает известную
идею литературного «анархизма», который можно было бы резюмировать
так: литература есть такой модус дискурса, который разрушает ситуации, где
реальность
отличается
от
вымысла,
поэтическое
от
прозаического,
подобающее (собственное) от неподобающего (несобственного). Именно
такую «измену» пытается заклясть Сёрль, связывая литературу с вынесением
оценки и сопрягая с ней вымысел, условность и институт. Именно поэтому
он отдает предпочтение отсылающему к вымыслу институту театра. В связи
с этим резюмировать несобственное собственное литературы можно в ударе
шпаги Дон-Кихота, рассекающего марионеток маэстро Педро. Маэстро
Педро — сёрлианец. Устройство его театра имеет в виду такую условность,
как приостановка действия обычных условностей референции. И все-таки во
время представления, только для того, чтобы поразвлечься, жнецы,
собравшиеся вокруг содержателя постоялого двора, веселятся, слушая про
подвиги странствующих рыцарей, которые, как они знают, жили в минувшую
эпоху. А вот Дон-Кихот нарушает все эти условности и их условную
приостановку. Он ломает установленные циклы вымысла и представления и
утверждает действием, что все истории и тексты совместно и сингулярно
имеют определенное отношение к истине.
165
Либо
злоключения
принцессы-христианки,
столкнувшейся
с
жестокостью сара-цинов, истинны, и к ней необходимо прийти на помощь.
Либо же они ложны, и тогда собираться и наслаждаться представлением
неблагоразумно.
Как реакция на театральные условности и на словесные договоры
вообще,
удар
шпаги
странствующего
рыцаря
в
полном
смысле
символизирует модус бытия литературы как модус приостановленной речи.
Обобщенно я называю приостановленным такое существование, которое не
имеет места при распределении свойств и тел. Кроме того, оно не может
постулироваться, не нарушая соотношения между порядком свойств и
порядком обозначений. Приостановленное существование обладает статусом
дополнительного единства без собственного тела; оно вписывается в
совокупность тел и свойств, «надпеча-тываясь» на нее. Стало быть, оно с
необходимостью вводит разлад, беспокойство в перцептивный опыт, в
отношения между высказываемым и видимым. Кроме того, это —
существование, разыгрывающееся от случая к случаю, в акте, в котором
всякий раз реализуется сила, не имеющая другой аттестации. К несчастью
для всех, кто хочет различать формы суждения и реальные свойства,
литература
представляет
собой
существование,
которое
невозможно
отличить от его доказательства, а следовательно, есть необходимость
непрерывно повторять это доказательство. Литература должна непрерывно
заниматься исключительным, а делать она это может лишь с помощью
банального.
Эту-то
исключительность
Жан
Боррей
анализирует
в
двух
отношениях9: во-первых, исследует оппозицию
166
между моделью, свойственной миметической традиции, и примером,
который обнаруживает единственную способность искусства, в то же время
выстраиваясь в горизонтальном ряду примеров, с его повторениями и
разрывами; во-вторых, изучает отношения этой беспримерной образцовости
современного произведения с банальностью его субъекта: Такой-то и Такойто из «Погребения в Орнане»10, или ничем не примечательные жизни Эммы
Бовари или Бувара и Пекюше11. Без сомнения, эти двойственные отношения
охотно украшает красками великий художник, преобразующий всякую
материю в золото одной лишь мощью гения. Но флоберовская парадигма
показывает, что речь идет о совершенно ином: «исключительные»
способности художника, не признающего ни образцов, ни канонов, по
существу, являются всего лишь обычным могуществом языка, разрушающего
собственную суть. А «царственность» художника представляет собой
двойное изгнание того, кому приходится в одно и то же время погружаться и
в одиночество письма, и в «безумное» предприятие по мимесису по
отношению ко всем безмолвным жизням, жизням, не имеющим решительно
никакого значения.
Вот как это безумие может пониматься в противовес некоторым
философским анализам литературы. В работе «Случайность, ирония и
солидарность»12 Ричард
Рорти
представляет
творчество
Пруста
как
предприятие по завоеванию самостоятельности способами переописания.
Переописывая «фигуры авторитета», которые описали его самого, Пруст —
или рассказчик — может обрести автономию, сведя авторитет к сослучайности.
167
Такой анализ, фиксированный вокруг привилегированной точки — на
уроках, которые Шарлю дает рассказчику, и на переворачивании позиции
авторитета — зацикливается на описании и поворачивает в обратную
сторону смысл самого движения эпопеи. Ибо последняя описывает не
обретение себя, но окольный путь, длинный «крюк» через фигуры лжи,
посредством которого исправляется некая приманка или первое «отречение»:
приманка, состоящая в известном употреблении письма, письма, тайно
написанного своей матери ребенком, ждущим ее
ответа
в форме
доказательства любви, успокаивающего поцелуя. Именно это изначальное
«отречение»
требует
долгого
окольного
пути;
сопоставления
с
иероглифическими знаками, написанными на телах; потери себя среди лжи
тел, необходимой для того, чтобы написать книгу вовсе не обретенной
самости, но экспроприирующей истины. Чтобы превратить литературное
«переописание» в парадигму либерального «иронизма», анализу Ричарда
Рорти приходится свести писателя Пруста, рассказчика «Поисков» и героя
книги к одной-един-ственной личности, к одному из тех договаривающихся/условливающихся в сообществе, кто ради собственной выгоды
видоизменяет правила игры и тем самым устанавливает новые условности,
создавая, согласно терминам Рорти, вкус, в соответствии с которым будут
производиться суждения. В этом переопределении договора пропадает
операция, производимая самим текстом: обретение не себя, но позиции
пишущего Я, введение некоего «Он» в отношения между Я и Я.
Ведь проблематичная и интересная неразличимость — это не
интенциональная или конвенциональная неотличимость одного писсуара от
другого. Это неотличимость пишущего Я от Я рассказывающего.
168
Характерным моментом произведения является вписывание некоего
«Он» между двумя Я, гетерономии в отношения одного с другим. Если
литература и свидетельствует о чем-то важном для сообщества, то только
через диспозитив, вводящий гетерономию в «Я». И как раз здесь вопрос
литературы сплетается с вопросом о демократии: обе, производя «надпечатку», касающуюся счета сторон в сообществе и полноты соблюдающих
консенсус и условливающихся тел, учреждают существование бестелесных
существ, существ, состоящих из слов, которые не совпадают ни с каким
телом, а также не являются ни свойствами обмениваемых вещей, ни
условиями отношений обмена. В сердцевине подобного сингулярного существования — та черта гетерономии, которая отделяет всякую самость от нее
самой. А ведь эта черта гетерономии — не что иное, как черта равенства,
того равенства, которое всегда исподволь проницает сообщество, потому что
у равенства нет легитимированного места ни в каком распределении тел в
сообществе; потому что равенство может лишь — всегда точечно и локально
— расположить в сообществе тела не на своем месте, за пределами того, что
им свойственно. Равенство в социальном теле осуществляется в форме
приостановленных существований, которые могут называться литературой
или пролетариатом13; существований, каковые можно отрицать, хотя ни одно
свойство не исчезает, — но которые способствуют существованию
сингулярных множественностей, с помощью коих система отношений между
телами и их обозначениями оказывается смещенной в ту или иную сторону.
Анализ Ричарда Рорти вписывается в традицию, наделяющую
литературу политической добродетелью сопротивления или осмеяния
властей.
169
Но, по существу, литература не имеет с этим ничего общего.
Литература не имеет дела с властью, она имеет дело с консенсусом. Она
разрушает консенсус, проницая «Я», которое соглашается, условливается и
договаривается с помощью некоего «он». Я не считаю, что инстанцию этого
«он» следует идентифицировать по тому погружению в нейтральное, во
внутреннее языка, которое, согласно анализу Бланшо, оборачивается
внешним. Опыт «нейтрального», этого «он», проницающего отношения «Я»
с самим собой, не относится к бытию языка. Этот опыт относится, скорее, к
конфронтации
между
возражающего
тела:
потенцией
лежачие
языка
рабочие,
и
опытом
которые
сингулярности
в
«Конфликте»
перехватывают отношения поэта с небесными созвездиями и запрещают их
проекцию на белизне страницы14; тупые тела госпожи Бовари или Бувара и
Пекюше, с которыми необходимо идентифицироваться, чтобы создать неслыханный шедевр, «книгу ни о чем»; ускользающие тела, которые у Пруста
скрывают обещания других и сами уходят от откровения истины: такова
Альбер-тина, чья ложь обязывает нас возвратиться к иероглифическому
состоянию языка и чье тело, отрицаемое в экипаже рассказчика, преграждает
воображаемое обещание маленьких продавщиц, стоящих, подобно «Венерамслужанкам», за каждым прилавком, скрывая от того, кто описывает,
обетованные плоть и аромат неведомых миров, которые рассказчик
превращает в плоть и аромат единственной в своем роде книги. Между
обещанием предоставить в распоряжение тело народа и актом письма, в котором некое Я должно совпасть с самим собой, имеется это «ускользающее
существо», тело, похищенное для того,
170
чтобы оно раскрыло свою истину, тело, непрестанно ускользающее от
раскрытия секрета, который, по правде говоря, является не секретом, но попросту множественностью точек контакта и встреч, из коих ткется некая
сингулярность.
Литература обнаруживает именно подобный опыт множественности и
разлада, этот опыт «обычного-необычайного», о котором говорит Жан
Боррей в «Кочевом разуме»16; это «обычное-необычайное» может нарушать
консенсус в любом месте. Это известный опыт изгнания, начинающегося с
того опыта собственного языка как языка чужого, о котором говорит Пруст.
Нетерпимое высокомерие представляет собой, прежде всего, отказ от этого
обычного изгнания, от этого отличия от самих себя говорящих тел,
сингулярностей, вытканных из тысяч встреч, сингулярностей, непрестанно
сингуляризующихся от контакта с другими сингулярностями, с другими
сериями серий. Объект расизма — говорит нам Жан Боррей — это свидетель,
«квазидругой», тот, кто является недостаточно другим, чтобы слыть другой
фигурой того же самого; тот, кого мы не можем отправить «к себе», потому
что он и так у себя. Объект расизма невыносим, потому что он отсылает нас к
нашему собственному уделу изгнанников в родном языке и на родной
«земле». Отсюда изобретение «порогов», по ту сторону которых больше
невозможно принять всю нищету мира.
Не
будет
ли
тогда
собственным-несобственным
(подобающим-
неподобающим) литературы, фактором, связывающим ее с демократией, то,
что в свое квазисуществование, которое каждый раз приходится доказывать
вновь, литература непрестанно вписывает опыт квазидругого и опыт разлада,
опыт головокружительного
171
размножения банального, говорящего и ускользающего банального,
банального необычайного? Это можно высказать и иначе: литература есть
опыт необитания, бездомности. «Письмо не обитает в самом себе», —
говорит нам Кафка. Опыт несобственности и изгнания, связывающий
литературу с беспокойством множественного, нигде не выражен с большей
силой, нежели на тех страницах «Записок Мальте Лауридса Бригге»16, что
представляют собой размышление о том, что такое «обитать» и «не обитать»;
имеется в виду размышление о крайней близости и крайней отдаленности,
которые выделяют молодого поэта-иностранца без дома и денег в массе
парижан без имени и лица, выставляющих свое страдание в больнице для
бедных и греющихся на скамьях Лувра, подающих ему на улице знаки,
которых он не понимает; один из них устраивается за тем, что обычно
называется столом поэта, там виднеется его лицо, черты которого начинают
удаляться, лицо с расплывающимися чертами, уже опрокидывающимися в
несуществование: словом, вся нищета мира.
Смысл этого отрывка — понять расстояние, отмечаемое между тем, что
должно быть — должно было быть — «домом поэта», домом тишины, где
сменяются дни и времена года, принося свои плоды, и этим полотнищем
стены, последним остатком выпотрошенного дома, чьи осиротевшие бумаги
еще хранят всевозможные следы того, что означало «обитание», его
«упрямое, ленивое и густое дыхание, еще не развеянное никаким ветром»17.
Подлинное «преображение банального» — вот где оно разыгрывается, на
этом огромном полотнище разноцветной стены, где «ничто не добавлено и
ничто не спрятано».
172
Оно
разыгрывается
там,
где
бесприютность
в
стихотворении
смешивается с бесприютностью тех polloiia, которые отправляются спать
неизвестно куда, в точку квазиисчезновения, где утрата мира анонима («Еще
миг, и все утратит смысл: стол, чашка, стул, в который он вцепился, все
будничное и привычное станет непредвосхитимым, трудным и дальним»19)
отсылает нас к утрате навыков письма: «Покамест я могу все это писать и
говорить. Но настанет день, когда рука моя отдалится от меня и собственной
волей будет чертить слова, которые мне неподвластны. Настанет день иных
постижений, когда слова раздружатся, смыслы растают, как облака, и
прольются на землю дождем»20.
Речь здесь идет именно о том, что такое принять «всю нищету мира».
Прием нищеты — это как раз опыт утраты навыков письма. Именно этот
опыт сводит счеты Мальте со страхом, вписывая в отношения самости с
самостью тревожное «он». Ибо «Записки Мальте» говорят нам, по существу,
о страхе, и притом о том самом, что стоит для нас на повестке дня: о страхе
перед тревожным множественным, перед нищетой мира. Письмо Рильке
располагается прямо на линии раздела, где страх должен разрешиться либо в
консенсусе достаточного числа соглашающихся/договаривающихся, либо в
разладе, учреждающем письмо как расставание некоего Я с самим собой. Это
место страха есть общее место, где решается судьба «квазидругого», где
происходит отделение человека консенсуса от человека разногласия.
Никто не обязан принимать всю нищету мира. Но мы можем, по
меньшей мере, учиться говорить о ней, говорить с ней, рождаться с ней в
сингулярности слова,
173
изобретающего имена, сингулярности, новые множественности. Это
означает точно измерить равенство, и мерой этой будет искусство регулировать близость и отдаленность. Категорический императив, с которым здесь
происходит эксперимент, можно выразить таким образом: всегда действуй
так, чтобы полагать в одно и то же время и близость, и отдаленность. Это
означает непрестанно учиться измерять и оценивать, в каждое мгновение
воссоздавать то близкое и то далекое, которые определяются интервалами
сообщества равных.
Раз уж я здесь попытался увязать несколько положений о литературе с
несколькими положениями о «нищете мира», никто не удивится тому, что
последнее слово я заимствую из одной фразы «Отверженных». «Демоны
нападали. Призраки оборонялись»21, — написано там для характеристики последнего штурма баррикад Сен-Мерри. По правде говоря, существует
множество разновидностей демонов и призраков. Существуют демоны,
которых определяют точно, но всегда слишком поздно или слишком
отдаленно: демоны всевозможных диктатур столетия и всевозможных
безумств, относящихся к идентичности. И затем, существуют более тайные
демоны, которые говорят нам, что демоническое всегда представляет собой
всего лишь следствие веры в призраков, а самый верный способ их ликвидации состоит в том, чтобы решительно отбросить эту веру, избавиться от
всяческих приостановленных существований, познавать только реальные
сущности: тела и свойства тел; субъекты и способы объединять их через
консенсус и соглашения. «Чем больше призраков, тем больше демонов», —
говорят они.
174
Что касается меня, то я слышу в их формуле нечто совсем иное: конец
«призраков» — это конец свидетелей, тех квазидругих, о которых говорит
нам Жан Боррей, квазидругих, свидетельствующих об отличии каждого от
самого себя. Формулам исключающего консенсуса необходимо больше, чем
когда-либо, противопоставлять формулу сообщества, знающего лишь тех
индивидов, которые держатся за бесконечную возможность «одним-болыне».
Держаться за эту возможность означает продолжать мыслить призраками.
ДЕЛО ДРУГОГО
Говорить о деле другого, очевидно, означает отсылать политику к
тому, чем она не стремится быть и к чему у нее нет оснований стремиться, а
именно — к морали. Но я хотел бы показать, что существует такое
включение другого в политику, которое не является включением ни морали,
ни ее противоположности, но именно опровергает слишком уж простую
оппозицию между политикой, понимаемой как дело самосохранения
сообщества, и морали, понимаемой как принцип уважения другого, стоящий
превыше политических интересов.
Итак, я буду говорить о способе, коим некий привилегированный
«другой»,
алжирец,
не
так
давно
сумел
модифицировать
смысл
прилагательного «французский» и отбросить от самого себя политический
субъект «француз». Стало быть, речь здесь пойдет о том, что Алжир можно
назвать без всякой провокации «французским», потому что государственный
узел, завязанный и развязанный между двумя этими терминами, сумел
повлечь за собой их политическую связь, специфическую структуру
отношений между такими терминами, как «гражданин», «француз», «народ»,
«человек» или «пролетарий». Я попытаюсь показать, как этот узел смог
обусловить некий режим другости, особые отношения между тем же самым и
иным в средоточии нашего гражданства: не этическую, но чисто
политическую заботу об ином.
Итак, тем самым речь пойдет о размышлении об отношениях между
недавним прошлым и нашим
177
настоящим, о сравнении между двумя диспозициями отношений между
тем же самым и иным, национальным и иностранным, включенным и
исключенным. Рассмотрение франко-алжирского узла может фактически
помочь нам проанализировать сегодняшнюю диспозицию фигур другости
(бомж, иммигрант, исключенный, фундаменталист, человек и гуманист),
которая определяет наше политическое поле или его отсутствие. Говорить об
этих отношениях сегодня трудно — настолько бросается в глаза видимость
радикального разрыва между двумя космологиями политического: двух
систем отношений между миром, историей, истиной и человечностью;
отношений,
определяющих
рациональность
политического.
Если
мы
перечитаем сегодня статьи тех, кто в 1960 году поддерживал дело алжирцев,
мы будем поражены, увидев, что философ Жан-Поль Сартр, комментируя
тезисы Франца Фанона, и социолог Пьер Бурдье, когда он рассуждает,
исходя из своего локального опыта, используют категории одинаковой
космологии. Война предстает у них как язык, высказывающий истину
исторического процесса. И этот процесс истины уподобляется определенной
системе отношений между тем же самым и другим: народ, оторванный от
своей идентичности колониальным угнетением, становится в борьбе другим
этой другости. Он не возвращается к своей отвергаемой особости, но
обретает в ней новую человечность. После того как разоблачается и
перевертывается истина угнетения, война завершает работу по разрыву с
первоначальной идентичностью народа. По окончании колониального
отрицания война выступает в роли отрицания этого отрицания. По окончании
радикального отчуждения происходит обретение новой
178
самости, каковая больше не может вернуться к стародавнему
партикуляризму, но прорывается к новому универсальному гражданству.
«Подобно адской машине, — пишет, например, Пьер Бурдье, —война
превращает социальные реальности в tabula rasa; она перемалывает,
распыляет
традиционные
крестьянская
масса,
сообщества,
которая
деревню,
противопоставляла
клан
живые
или
семью...
традицию
и
консерватизм предлагаемым Западом новациям, оказалась унесенной вихрем
насилия, которое стирает следы прошлого»1.
Таким образом, и голос революционного бойца, и голос человека
науки, и голос философа-универсалиста, и голос ученого-специалиста смогли
прийти к согласию, так как их высказывания отсылали к одной и той же
системе координат. В этой системе война представляет собой становлениенародом; становление-народом отождествляется с собственным голосом
некоей истины; война есть время истины, подтверждающей завершенность
определенной исторической формы (колониализма) через становлениеголосом и становление-народом субъекта, которого война оторвала от него
самого. Разумеется, эта система отношений между истиной, временем,
идентичностью и другостью весьма далека от отношений, управляющих
подобными рассуждениями сегодня. Чтобы убедить нас в этом, достаточно
выслушать, как современный социолог ислама описывает и интерпретирует
нам относящийся к тому же порядку феномен «утраты корней». В самом
деле, вот как Брюно Этьен объясняет нам сегодня рост радикального
исламизма: «Государство-нация разрушает коммунитарные структуры,
ускоряет исход из сельской местности, не противопоставляя этому
заслуживающей доверия ответственности за индивида, ставшего анонимным
гражданином.
179
А
вот
гостеприимные
структуры
благочестивых
и
набожных
сообществ, как сообществ духовных, позволяют преодолеть эту утрату
корней и сублимировать это ущемление»2.
Этот текст описывает нам процесс разрыва с традицией, подобный
тому, который Бурдье и Сартр утверждали за тридцать лет до Этьена. Но
способ, каким в этом тексте устанавливается причина и выводятся из нее
следствия,
опрокидывает
отношения
между
политикой
и
истиной,
высказанные в статьях Бурдье и Сартра: отношения между тем, что о мире
может засвидетельствовать знание, и тем, что может воспринять отсюда
политика. Причина «утраты корней» состоит уже не в угнетении и
освобождении. Она — эквивалентный результат того и другого: государствонация, типичная для современности форма модальности социальных связей.
В таком случае утрата корней не есть уже универсальность дезаппроприации,
обернувщаяся
аппроприацией
универсального.
Это
просто
утрата
идентичности и потребность обрести таковую, чему и отвечает духовное сообщество. Таким образом, тот же процесс, который, как считалось тридцать
лет назад, создает революционера, — как считается сегодня — создает
человека,
чающего
преображения
религиозного
закона
в
закон
политического мира. Это переворачивание последствий представляет собой
переворачивание политического статуса объекта социальной науки: на месте
истории как процесса, в котором выявляется истина отчуждения, остаются
только сообщества кровных связей и верований. Социальное в настоящее
время — уже не инстанция «явленного», не место, где истина наделяется
смыслом как политическое движение.
180
Социальное становится вновь инстанцией смутного. Но это присущее
верованию смутное, которое образует кровные связи, вновь предстает в качестве того, что только и способно наделять смыслом; того, что образует
одновременно
и
материю,
и
правомочность
социальной
науки,
относительность, отделяющая ее от философских телеологии истинного.
«Смысл имеется потому, что сплоченность групп необходима для того,
чтобы они выжили, — а не наоборот», — пишет еще Брюно Этьен3.
Можно довольствоваться принятием к сведению этого изменения мира,
невозможностью сегодня связать между собой четыре терма — историю,
истину, народ и универсальное — в процессе формирования мира истинного.
Тем самым можно констатировать, что возможность конституировать
политические объекты и высказывания была сопряжена с такой космологией
и с таким режимом истины, которые стали для нас чуждыми. Тогда мы будем
вынуждены говорить о подобной политической конфигурации только с точки
зрения историка. И все-таки я полагаю, что мы можем определить и другой
угол рассмотрения, который удержит данный вопрос в терминах политики.
Основная гипотеза здесь такова: вера в некий режим истины есть — по
меньшей мере — в такой же степени следствие, что и причина конкретного
режима политической субъективации. И тогда речь пойдет не только о
сравнении иллюзий и разочарований отношения истории к истине,
обусловливающих возможности высказываний о политике. Речь пойдет о
сравнении позиций политических отношений между тем же самым и иным,
позиций, определяющих веру в тот или иной режим истинности или
неистинности истории.
181
Итак, я предложу некоторое смещение «исторического» анализа,
центрированного вокруг отношения война/истина и вокруг вопроса об
универсальном, который производится двойным отрицанием другости
другого, — в сторону политического анализа, центрированного вокруг того,
что может вписать борьбу против войны в здешнюю политическую практику,
т. е. вокруг определенного дела другого, понимаемого не как требование
морали, ограничивающее права политики, но как элемент политического
диспозитива субъективации.
Вопрос о борьбе с алжирской войной, со способом, каким ее вели
французские
правительства,
фактически
весьма
отчетливо
ставил
следующую дилемму: в чем дело алжирцев могло бы стать нашим делом не в
моральном плане, а как-нибудь еще? Напомним о предисловии Сартра к
«Проклятьем заклейменным» Франца Фанона. Это предисловие было парадоксальным, так как оно предъявляло нам книгу, извещая нас, что эта книга
адресована не нам. Война за освобождение колоний — это война самих народов колоний, — говорил нам Сартр. Эта книга обращена к ним. Жители
колоний не имеют ничего общего с нами, и особенно с нашими
прекраснодушными гуманистическими протестами. Эти протесты представляют собой последнюю форму колониальной лжи, которую война
выстреливает целыми залпами; насилие противопоставляет лжи свою истину.
Тем самым истина войны постулировалась как изобличение лжи морали.
Парадокс этого антиморального утверждения состоит в том, что, исключая
дело другого, оно фактически определяло чисто моральные и чисто
индивидуальные отношения к войне как таковой.
182
Так, дезертир Морис Маскино легитимировал свое действие моралью
абсолютной свободы и абсолютной ответственности, обоснованных тем же
Сартром в книге «Бытие и Ничто»: «Если я мобилизован на войну, эта война
является моей войной, она в моем образе, и я ее заслуживаю»4. Тем самым
сопрягаются два противоположных тезиса Сартра: мысль об истории-истине,
упраздняющей всякую мораль заботы о другом; и мысль о свободе,
превращающей войну французского государства в собственное дело каждого
как такового. Возможность чисто политической мобилизации, нарушающей
единственный диалог между войной и моралью, была тогда привязана к
третьему высказыванию, к высказыванию, где говорится: эта война — наша,
и она не наша.
Работы историков недавно напомнили нам, что отправной точкой
великих манифестаций конца алжирской войны стало 17 октября 1961 года:
день парижской манифестации алжирцев по призыву Национальной
Федерации Труда, манифестации, отмеченной зверскими репрессиями и
полным замалчиванием относительно количества жертв. Этот день с его
двумя — явным и тайным — аспектами, по существу, стал поворотным
пунктом, моментом, когда этические апории отношений между моим и
другим трансформировались в политическую субъ-ективацию отношений
включения другости в общество. И получилось так, что основополагающим
последствием этого дня был способ, каким вопросы о видимости и
невидимости репрессий оказались переплетенными с тремя разновидностями
существовавших
отношений:
между
алжирскими
повстанцами
и
французским государством; между французским государством и нами;
между алжирскими повстанцами и нами5.
183
С
точки
зрения
французского
государства,
эта
манифестация
знаменовала собой вступление алжирцев в борьбу в качестве политических
демонстрантов в политическом пространстве Франции и — некоторым
образом — как французских граждан. Этот недопустимый акт привел к известному нам результату: к зверским избиениям и утоплениям; словом, к
полицейской чистке публичного пространства, упраздняющей посредством
информационной блокады саму видимость собственной работы. Для нас это
означало, что у нас произошло нечто, сделанное от нашего имени; нечто
отняли у нас в двух смыслах. Сам подсчет пропавших без вести был в те
годы невозможным. Что означало это двойное исчезновение — мы можем
понять как бы a contrario, исходя из фразы Сартра в предисловии к
«Проклятьем заклейменным»: «Сегодня слепящее солнце пытки находится в
зените, оно освещает всю страну»6. Но ведь на самом деле это слепящее
солнце никогда ничего не освещало. Клеймимые и мучимые тела не светят.
Недавно мы вновь смогли увидеть это, глядя на кадры и фотографии,
приходящие из Боснии, Руанды и других мест. Эти образы вызывают в
лучшем случае моральное негодование, боль от того, что происходит с
другим, тщетную ненависть к мучителям; исподволь же они зачастую вызывают ощущение безопасности от того, что мы не оказались вместе с этими
другими, а порою и раздражение в адрес тех, кто нескромно напоминает нам
о существовании страдания. Страх и жалость — не политические
переживания.
Стало быть, политическую сцену здесь осветило отнюдь не слепящее
солнце. Скорее, это была, наоборот, тьма и выпадение из жизни,
произведенное полицейской операцией.
184
Но ведь полиция перед тем, как стать силой физического подавления,
является в первую очередь формой вмешательства, предписывающего
видимое и невидимое, выражаемое и невыразимое. И как раз по отношению к
такому предписанию конституируется политика. Политика не декларируется
по отношению к войне, воспринимаемой как истинное проявление
характерных черт истории. Она декларируется по отношению к полиции,
понимаемой как закон того, что видится и слышится; того, что идет в счет, и
того, что в счет не идет. Но ведь надо напомнить, что алжирская война официально войной не была. Это была крупномасштабная полицейская
операция. Политическим ответом на нее, следовательно, была реакция на эту
полицейскую природу войны, отличающаяся от оценки исторической
значимости освободительных войн. Исходя из этого, стала возможной
политическая субъективация, не бывшая помощью борьбе других или отождествлением с другими, когда их война становится нашей. Эта политическая
субъективация была проделана, прежде всего, через деидентификацию по
отношению к французскому государству, начавшему войну от нашего имени
и не позволившему нам это увидеть. Мы не могли отождествлять себя с теми
алжирцами, что внезапно появились в публичном пространстве Франции в
качестве
манифестантов
и
исчезли
из
него.
Зато
мы
могли
деидентифицироваться по отношению к государству, убившему их и
убравшему из всех подсчетов.
Но ведь дело другого как политическая фигура есть, прежде всего,
деидентификация по отношению к некоторой самости. Это производство
народа, отличающегося от народа, который государство видит и учитывает, о
котором государство говорит; этот народ выражает
185
себя
в
манифестации
против
несправедливости,
причиненной
складыванию всеобщего, когда строится иное пространство сообщества. Как
я попытался показать, политическая субъективация всегда подразумевает
некий «дискурс другого», и в трояком смысле. Во-первых, это отказ от
идентичности,
зафиксированной
кем-то
другим,
искажение
этой
идентичности, а стало быть, разрыв с известной самостью. Во-вторых, это
демонстрация, которая обращается к другому и образует общность,
объединяемую претерпеваемой несправедливостью. В-третьих, политическая
субъективация
всегда
содержит
невозможную
идентификацию,
идентификацию с тем другим, с каким мы в то же время не можем идентифицироваться — будь то «проклятьем заклейменные» или кто-нибудь еще. В
данном случае отсутствовала идентификация с теми борцами, чьи основания
для борьбы не совпадали с нашими; с теми жертвами, сами лица которых
были
для
нас
представлявшую
невидимы.
собой
Но
в
политическую
де-идентификацию,
включалась
субъективацию,
идентичность,
которую невозможно принять на себя. Эта идентификация смогла стать
принципом политического действия, а не только жалости, в силу отчетливой
причины: она политически отличалась от самости, реагировавшей на другое
различие, на юридико-государственное различие, зафиксированное век назад
как отличие французской идентичности от самой себя. Я хочу говорить об
этом отличии между французским субъектом и французским гражданином,
которое зафиксировано колониальным завоеванием как внутреннее отличие,
присущее юридическому определению принадлежности к французской
нации. Французское государство провозгласило, что такое отличие перестало
существовать в начале июня 1958 года.
186
Но как раз полицейские в тот октябрьский день 1961 года заново
разметили всю дистанцию, отделив репрессиями одних «французов» от
других, а тем самым выделив тех, кто имеет и кто не имеет право представать
в публичном пространстве Франции. И в силу этого сделалась возможной
субъективация отличия гражданства от самого себя, субъективация разрыва
между юридическим и политическим гражданством. Правда, этот отрыв
алжирско-французского гражданина от самого себя не субъективировался
для бойца освободительной войны, отныне связанного с завоеванием своей
алжирской идентичности. Зато он субъективировался для нас, для тех, кто
оказался зажатым между двумя определениями гражданства: национальным
определением принадлежности к французам и политическим определением
гражданства как учета неучтенных. Этот отрыв не создавал политики для
алжирцев. Но он создавал политическую субъективацию для Франции,
отношения включенного к исключенному без особого имени субъекта. И
возможно,
эта
безымянная
субъективация
разрыва
между
двумя
гражданствами имелась в виду несколько лет спустя в образцовой формуле
невозможной идентификации, во «Все мы — немецкие евреи» 1968 года:
невозможная идентификация, возвратившая нам клеймящую кличку, чтобы
превратить ее в принцип открытой субъективации неучтенных, без
политического
смешения
со
всякой
репрезентацией
какой-либо
идентифицируемой социальной группы. Что же на самом деле образует
специфичность политической последовательности7, кульминацию которой
образует май 1968 года; последовательности, каковую глупцы стараются
истолковать в терминах мутации нравов и ментальностей?
187
Ее образует переоткрытие того, что лежало в основе великих
субъективаций рабочего движения — и что утратилось в промежутке между
социологической
идентификацией
класса
и
бюрократической
идентификацией его партии. Это переоткрытие того, чем является политический субъект — пролетарский или иной: манифестации вины, подсчета
неучтенных, формы видимости того, что считается невидимым или изъятым
из видимости. Но необходимо также очертить конкретную форму отношений
между включением и исключением, образовывавших собственную границу
подобной политической субъективации. Аппроприация невидимости убитых
и изъятых людей была также способом их не видеть, строя такую алжирскую
идентичность, которая была всего лишь категорией политического действия
во Франции. Правда, само такое затемнение строго соотносилось с дискурсом алжирской революции. Этот дискурс показывал алжирскому бойцу
только лицо войны, побеждающей гнет, и возникающего отсюда светлого
будущего. Абстракция другого, таким образом, соответствовала абстракции
того же самого. С одной стороны, дискурс реаппроприирующей войны
способствовал только внешним отношениям помощи складывавшейся
идентичности.
С
другой
гражданства
определяла
—
французская
субъективация
отношения
отрыва
интериоризации
от
другого,
складывавшиеся на политической сцене Франции. И тогда война ради
присвоения
исторической
идентичности
и
политика
субъективации
невозможной идентичности остались без крепкой политической связи между
собой. Руководители борьбы алжирцев и борцы с алжирской войной
оказались сообщниками в одном и том же политическом упразднении
сингулярности борьбы.
188
Но
такое
упразднение
имело
противоположные
политические
последствия с каждой из сторон. В том Алжире, который обретал
независимость, оно означало жестокое столкновение речей и реальности, а
также всевозможные формы возвращения того, что отрицалось или
подавлялось. Оно означало конфронтацию без посредничества, без сцены
политической субъективации, между народом государственного дискурса и
населением, возвращавшимся к своей социологической и культурной
реальности. Во Франции же, со стороны проигравших войну, оно, наоборот,
способствовало новому определению сцены политической субъективации
неучтенных. В таком случае можно сказать, что политическая прибыль этого
«дела» другого здесь достигнута, и выразить парадокс в моральных терминах
невыплаченного долга. Но было бы интереснее помыслить вещи в терминах
забвения и измерить долгосрочные масштабы этого конфликта в нашем
настоящем.
Ведь
для
того,
чтобы
сравнить
наше
настоящее
с
эпохой
антиколониалистской и антиимпериалистической борьбы, самое интересное
— не противопоставлять время исторической веры времени общего
релятивизма. Ибо одна из заурядных черт господствующего дискурса
состоит в том, что нам показывают, как политическое действие непрерывно
подрывается присущими такой вере разочарованиями. Перед нами в
обратную сторону прокручивают систему зубчатых передач истории и,
восстанавливая факт за фактом, убирают почву исторического доверия ко
всякому политическому действию. От мгновенной утраты иллюзий в странах
третьего мира в 1960-е годы — в 1970-е годы мы перешли к открытию
ГУЛАГа,
189
в 1980-е — к тому, что не все французы участвовали в движении
Сопротивления, а на пороге 1989 года — к тому, что Французская революция
была не тем, за что ее принимали. В итоге политическое действие оказалось
лишенным всего, что составляло его особый мир. Эти хроники разочарования
неспособны завести далеко. И вместо того чтобы сравнивать режим
побеждающей истины с режимом истины развенчанной, лучше было бы
сравнить один статус другости с другим. Политика существует не потому,
что имеется вера в триумфальное будущее эмансипации. Политика
существует потому, что имеется некое дело другого, отличие гражданства от
него самого.
Повсюду мы констатируем следствие забвения этого отличия. Именно
консенсус отождествляет политический субъект «народ» с населением, разложенным и вновь составленным на свои группы, служащие носителями
конкретного интереса или конкретной идентичности, — а политического
гражданина
с
экономическому
субъектом
субъекту,
права,
тенденциозно
микрокосму
великого
уподобленного
круговорота
и
непрерывного обмена прав и способностей, благ, поддающихся денежному
выражению, и общего Блага. Кроме консенсуса, имеется еще и следствие,
или дополнение утопии консенсуса: точка разрыва, где малая экономикоюридическая машина наделяется обликом исключенного, того, кого утрата
благ приводит к утрате «идентичности» и к выморочности «социальных уз».
Это поиски идентичности, которая отрицает включение гражданства другого,
и притом в двойственной форме: в коммунитарной форме утверждения
единственных прав Того же самого и в религиозной форме подчинения
единственному закону Иного.
190
Кроме
того,
здесь
наличествует
смехотворное
дополнение
к
коммунитаризму и фундаментализму: такой «универсализм», который
полностью отождествляет гражданство с государственной юридической
принадлежностью и редко не пользуется возможностью ассоциировать с
принципами светского государства скрытое содрогание расизма, а с защитой
прав народов — лихорадку освободительных войн. Есть еще, наконец,
«гуманитарием», защищающий обездоленное человечество, защита прав
человека, отчетливо идентифицируемых с правами жертв, с правами тех, у
кого нет средств воспользоваться своими правами, нет средств превратить их
в аргумент политики: словом, «дело другого», выведенное из политики на
уровень морали, полностью превращенное в долг по отношению к тем, кто
страдает; «делу другого» в конечном счете суждено сопровождать
геостратегическую полицию великих держав8.
Тем самым мы можем мыслить франко-алжирское прошлое в простых
терминах распределения прибылей и убытков. Свойственная алжирскому
вопросу асимметрия имела непосредственные противоречивые последствия.
Но асимметрия — это не только невыполненная задача. Она неотъемлемо
присуща военно-политической логике, характерной для деколонизации. В
войне не существует дела другого. Дело другого имеется только в политике,
где оно функционирует как невозможная идентификация. Но и само забвение
этого противоречия, называемого «алжирской войной», является забвением
внутренней другости, свойственной политике отличия гражданства от самого
себя. Мы знаем, как во Франции забытое возвращается в форме «проблемы
иммигрантов» и нового разгула расизма.
191
Как и прочие, я отмечал, что «иммигрант», служащий мишенью этого
разгула, вчера был рабочим-иммигрантом, который утратил второе имя, имя
рабочего или пролетария, и тем самым оказался сведенным к простой
идентичности другого, не ассимилируемого и угрожающего. Я полагаю,
анализ этот следует дополнить. Политическую идентичность «рабочего» или
«пролетария» делала действенной именно дизъюнкция между политической
субъективностью и социальной группой. Но ведь эта дизъюнкция проходит
через приятие дела другого. Как раз посредством дела другого такой субъект,
как «рабочий» или «пролетарий», отделяется от идентичности социальной
группы, ведущей борьбу интересов с некоей другой группой, и становится
одной из фигур гражданства. В таком случае забвение Алжира является
забвением одного из тех переломов, посредством которых социальные идентичности раскалываются, давая повод для политических субъективаций.
Трудно делать политику «с помощью» войны. Но политику трудно делать
вообще. И эти пограничные ситуации, когда политика, война и мораль
трактуют вопрос другого как апорию, являются также существенными
ситуациями для того, чтобы понять всю хрупкость политики.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ДЕСЯТЬ ТЕЗИСОВ О ПОЛИТИКЕ
ТЕЗИС 1
Политика
не
есть
осуществление
власти.
Политика
должна
определяться сама собой, как особый образ действия, используемый
соответствующим
субъектом
и
подлежащий
ведению
особой
рациональности. Именно политические отношения позволяют помыслить
политический субъект, а не наоборот.
Мы сразу же опускаем политику, «перескакиваем» через нее, если
отождествляем ее с практикой власти и с борьбой за обладание ею. Но мы
опускаем, обходим и мысль о политике, если понимаем ее как теорию власти
или поиски основания для ее легитимности. Политика имеет собственную
специфику, а не просто является важным модусом сцепления или формой
власти, отличающейся собственным режимом легитимации, и это потому,
что она касается присущего ей субъекта, и касается его в форме режима
отношений,
определяющего политику как нечто свойственное
этим
отношениям. Именно это говорит Аристотель, когда в Книге I «Политики»
он отличает политическую власть от всех остальных ее разновидностей, как
власть над равными; или же когда в Книге III он определяет гражданина, как
индивида, «который как властвует, так и подчиняется»1. Политика как целое
и заключается в этом особом отношении, в этом участии, относительно смысла и условий возможности которого надо задавать вопросы.
195
Такое вопрошание о «специфике» политики, по существу, необходимо
тщательно отличать от распространившихся сегодня утверждений о
возвращении политики. В эти последние годы мы сталкиваемся в рамках
государственного консенсуса с множеством утверждений, провозглашающих
конец иллюзии социального и возвращение к чистой политике. Такие
утверждения, как правило, опираются на прочтение одних и тех же текстов
Аристотеля — через интерпретации Лео Штрауса и Ханны Арендт. Эти
прочтения, как правило, отождествляют «собственно» политический строй с
порядком ей гёп — благой жизни — противопоставляемым гёп, понимаемой
как порядок жизни как таковой. Исходя из этого, граница между домашним и
политическим становится границей социального и политического. И идеалу
града,
определяемого
его
собственным
благом,
противопоставляется
печальная реальность современной демократии как царства масс и
потребностей. На практике это торжество чистой политики отсылает
добродетель
политического
блага
к
правительственным
олигархиям,
консультируемым их специалистами. Это означает, что мнимое очищение
политического, избавленного от домашних и социальных потребностей,
сводится попросту к сведению политического к государственному.
За нынешней буффонадой «возвращений» политики или политической
философии необходимо распознавать основополагающий порочный круг, в
котором вращается политическая философия. Этот порочный круг касается
интерпретации связей между политическими отношениями и политическим
субъектом. Он состоит в полагании режима жизни, свойственного
политическому существованию.
196
И тогда политические отношения выводятся из свойств этого
специфически переживаемого мира. Мы объясняем их через существование
персонажа, обладающего благом или универсальностью как специфическим
элементом, противостоящим частному или домашнему миру потребностей
или интересов. Словом, политику интерпретируют как ведение образа жизни,
свойственного тем, кто для этого образа жизни предназначен. В качестве
основания политики полагают это разделение, фактически являющееся ее
объектом.
Тем самым характерная черта политики сразу же утрачивается, если
политику мыслят как специфически переживаемый мир. Политика не может
определяться никаким субъектом, который ей предшествовал бы. Именно в
форме политических отношений следует искать политическое «различие»,
позволяющее
мыслить
субъект
политики.
Если
мы
вернемся
к
аристотелевскому определению гражданина, то будем иметь имя субъекта
(polites), который определяется участием (metexis) в некоем способе действия
(arkhein) и соответствующего этому действию претерпевания (arkhestai).
Если имеется характерная черта политики, то вся она содержится в
отношении, каковое является отношением не между субъектами, но между
двумя противоречивыми термами; отношением, которым определяется
субъект. Как только мы начинаем распутывать этот узел субъекта и отношения, политика исчезает. Именно это происходит во всевозможных вымыслах
— спекулятивных или эмпирических, — которые ищут исток политических
отношений в свойствах субъектов этих отношений и в условиях их
сплочения.
197
Традиционный вопрос: «На каком основании люди сплачиваются в
политические сообщества?» — всегда является уже и ответом, и ответ этот
способствует исчезновению объекта, на объяснение или обоснование
которого он притязает, т. е. форма политического участия тотчас исчезает во
взаимодействии элементов или атомов общительности.
ТЕЗИС 2
Характерной чертой политики является существование субъекта,
определяемое через его причастность противоположностям. Политика есть
тип парадоксального действия.
В формулах, согласно которым политика есть власть над равными, а
гражданин — тот, кто участвует в факте властвования и подвластности,
высказывается парадокс, подлежащий осмыслению во всей его непреложности.
Следует
отбросить
банальные
репрезентации
доксы
парламентских систем, где говорится о взаимности обязанностей и прав,
чтобы услышать то необычное, что говорится в Аристотелевой формуле. А
говорится в ней о бытии или существе, которое в одно и то же время является
и агентом некоего действия, и материей, на которую это действие
воздействует. Эта формула противоречит нормальной логике действия,
стремящейся, чтобы агент, наделенный особой способностью, произвел
воздействие на материю или объект, обладающие особой способностью
воспринимать это воздействие — и более ничем. Это проблема, которую
совершенно невозможно разрешить классическим противопоставлением двух
режимов
пойесиса,
действия,
управляемого
моделью
изготовления,
наделяющего материю
198
формой,
—
и
праксиса,
убирающего
из
этого
отношения
интерперсональное бытие людей, посвятивших себя политике. Известно, что
это противопоставление, подхватывающее противопоставление между гёп и
ей zen, сохраняет известную идею политической чистоты. Так, у Ханны
Арендт порядок праксиса является порядком равных, наделенных потенцией
arkhein, что понимается как способность начинать. «Слово arkhein, — пишет
Ханна Арендт в работе «Что такое политика?», — означает начинать и
властвовать,
а
следовательно,
быть
свободным».
Тем
самым
это
головокружительное сокращение — стоит лишь определить свойственные
действию режим и мир — позволяет постулировать ряд уравнений между
«начинать», «властвовать», «быть свободным» и «жить в полисе» («Быть
свободным и жить в полисе — одно и то же», — говорится в этом же тексте).
Ряд уравнений находит эквивалент в движении, порождающем гражданское
равенство, начиная с сообщества гомеровских героев, равных в причастности
к потенции архе.
Против этой гомеровской идиллии первым свидетелем является сам
Гомер. Осаживая бахвала Терсита, ловко ведущего речи в собрании, хотя у
него нет ни малейшего права говорить, Одиссей напоминает, что у войска
ахейцев один-единственный военачальник, Агамемнон. Тем самым он
напоминает нам, что означает arkhein: шагать впереди. Если же существует
тот, кто шагает впереди, то прочие с необходимостью идут позади. Между
потенцией arkhein, свободой и полисом линия не прямая, но ломаная. Чтобы
убедиться в этом, достаточно посмотреть, как Аристотель составляет свой
полис из трех классов, каждый из которых обладает особым «правом»: на
добродетель для aristoi, на богатство для oligo'i и на свободу для демоса.
199
В этом разделении свобода предстает как парадоксальное достояние
того демоса, о котором гомеровский герой говорил нам, что ему следует
делать всего-навсего одно: молчать и гнуть спину.
Словом, оппозиция между праксисом и пойесисом совершенно не
разрешает парадокса определения polites. В материи архе, как и во всякой
другой, нормальная логика стремится к тому, чтобы существовала особая
предрасположенность
к
действию,
влияющая
на
особую
предрасположенность к претерпеванию. Тем самым логика архе предполагает определенное превосходство, которое воздействует на определенную
неполноценность. Чтобы существовал субъект политики, а следовательно, и
сама политика, необходимо, чтобы в такой логике был разрыв.
ТЕЗИС 3
Политика есть специфический разрыв логики архе. Фактически она
предполагает не просто разрыв «нормального» распределения позиций
между тем, кто осуществляет власть, и тем, кто ее претерпевает, но и разрыв
в идее предрасположенностей, подводящих к этим позициям.
Книгу III «Законов» (690 е) Платон посвящает систематическому
перечислению прав (axiomata) управлять и соотносительных с ними прав
быть управляемым. Из семи сохраненных им прав четыре являются
традиционными правами авторитета, основанными на различии по природе,
т. е. по рождению.
200
Право властвовать имеют те, кто родились прежде или как-то иначе,
чем обычные люди. Тем самым обосновывается власть родителей над
детьми, старых над молодыми, хозяев над рабами и благородных над простолюдинами. Пятый же принцип предстает в виде принципа принципов,
обобщающего все различия по природе. Это власть высшей природы, власть
сильнейших над слабейшими, власть, у которой есть одно неудобство,
подробно аргументированное в «Горгии»: она совершенно ничем не
обусловлена. Шестое право имеет в виду единственное различие, имеющее
вес на взгляд Платона: это власть знающих над незнающими. Тем самым
существуют четыре пары традиционных прав и две пары прав теоретических,
притязающих сменить первые: превосходство по природе и власть науки.
Перечисление можно было бы здесь и остановить. Но все-таки существует и
седьмое право. Это «выбор бога», иными словами — решение судьбы,
жребий, который выпадает тому, кому причитается осуществление архе.
Платон по этому поводу не распространяется. Но ясно, что этот выбор,
иронически названный выбором бога, обозначает такой режим, о котором
Платон в другом месте говорит нам, что его может спасти лишь один бог, демократия. Что характеризует демократию — так это выпадение жребия при
отсутствии права управлять. Это состояние исключения, при котором не
функционирует ни одна пара противоположностей, ни один принцип
распределения ролей. «Участвовать в факте властвования и подвластности»
— в таком случае нечто совсем иное, нежели дело взаимности. Напротив,
сущность этого отношения образуется через отсутствие взаимности. И это
отсутствие
взаимности
зиждется
на
парадоксе
права,
являющемся
отсутствием права.
201
Демократия есть особая ситуация, где именно отсутствие права дает
право на осуществление архе. Демократия является началом без начала,
властью того, что не властвует. Этим разрушается характерная черта архе, ее
удвоение, способствующее тому, что она всегда предшествует самой себе —
зацикливаясь на предрасположенности к ней и ее осуществлении. Но эта
исключительная ситуация тождественна самому условию особости политики
вообще.
ТЕЗИС 4
Демократия не есть политический режим. Будучи разрывом логики
архе, т. е. предвосхищения власти в распоряжении ею, она представляет
собой сам режим политики как форму отношения, определяющего некоего
специфического субъекта.
Свойственный политике метексис делается возможным благодаря
разрыву всех логик распределения долей в осуществлении архе. Образующая
аксиому демократии «свобода» народа имеет реальным содержанием разрыв
аксиоматики господства, т. е. соотношения между способностью властвовать
и способностью быть подвластным. Гражданин, принимающий участие «в
факте властвования и факте подвластности» мыслим, только исходя из
демоса, как фигуры разрыва соответствия между соотносимыми способностями.
Стало быть, демократия никоим образом не является политическим
режимом, в смысле конкретной конституции — среди различных способов
собирать людей под общей властью.
202
Демократия есть сам институт политики, институт ее субъекта и
формы ее отношений.
Демократия, как известно, представляет собой термин, изобретенный
ее противниками, всеми, кто имел «право» управлять — будь то по
старшинству, по рождению, по богатству, по добродетели, по знанию. В этом
термине, изобретенном в насмешку, противники выражают неслыханное
переворачивание порядка вещей: «власть демоса» есть факт, что властвуют
именно те, общей особенностью коих является отсутствие всякого права
управлять. Перед тем как стать именем сообщества, демос является именем
части сообщества, а именно — бедняков. Но вот «бедняки» — это отнюдь не
экономически обездоленная часть населения. Это просто люди, которые не
учитываются; те, у кого нет права осуществлять потенцию архе, нет права
приниматься в расчет.
Как раз об этом говорит нам Гомер в уже упомянутом эпизоде с
Терситом. Одиссей бьет скипетром по спинам тех, кто хочет говорить, если
они принадлежат к демосу; если они принадлежат к недифференцированной
массе тех, кто «не считается» (enarith-mioi). И это не вывод, но определение.
К демосу принадлежит тот, кто не принимается в расчет, кто не имеет права
произносить речь и претендовать, чтобы его выслушали. Это положение
иллюстрируется в примечательном месте XII Песни. Полидам сетует в нем на
то, что Гектор пренебрег его мнением. «Ты считаешь, — говорит он, — что
тот, кто принадлежит к демосу, не имеет права говорить». А ведь Полидам —
в отличие от Терсита — не мужлан, но брат Гектора. Демос не обозначает
низшую социальную категорию. К демосу принадлежит тот, кто говорит,
когда не имеет права говорить; кто принимает участие в том, в чем он не
имеет права принимать участие.
203
ТЕЗИС 5
Народ, являющийся субъектом демократии, а стало быть, матричным
субъектом политики — не совокупность членов сообщества и не трудящийся
класс населения. Это дополнительная часть по отношению ко всякому
подсчету частей населения, позволяющая идентифицировать с сообществом
в целом подсчет неучтенных.
Народ (демос) существует только как разрыв в логике архе, разрыв в
логике начала/властвования. Он не может отождествляться ни с расой тех,
кто признает друг друга по тому факту, что они имеют один и тот же генезис,
одно и то же рождение, — ни с какой-либо частью или суммой частей
населения. Народ — это дополнение, отделяющее население от самого себя,
приостанавливая действие логик легитимного господства. Эта дизъюнкция
иллюстрируется, в частности, в сущностной реформе, наделяющей афинскую
демократию собственным местом; в реформе, которую осуществляет
Клисфен, перераспределяя демы2 на территории полиса. Формируя каждое
племя посредством сложения трех отдельных округов — округ полиса, округ
побережья и округ тыла — Клисфен взломал архический принцип,
державший племена под властью местных собраний вождей-аристократов,
чья власть, освященная и легитимизированная легендарным рождением, все
больше
имела
реальным
содержанием
экономическую
мощь
зем-
левладельцев.
204
Народ,
по
существу,
представляет
собой
некий
артефакт,
препятствующий логике, которая руководствуется принципом богатства,
наследующим принцип рождения. Народ есть абстрактное дополнение по
отношению ко всякому действительному подсчету частей населения, их прав
на участие в сообществе и частей того общего, которое выпадает им в
зависимости от этих прав. Народ — это дополнительное существование, в
которое вписывается подсчет неучтенных или доля обездоленных, т. е., в
конечном итоге, равенство существ, наделенных даром речи, без какового
немыслимо само неравенство. Эти выражения следует воспринимать не в
популистском, а в структурном смысле. Отнюдь не чернь, трудолюбивая и
страдающая, занимает территорию политического действия и отождествляет
свое имя с именем сообщества.
Что отождествляется посредством
демократии с сообществом в целом, так это некая пустая дополнительная
часть, которая отделяет сообщество от суммы частей социального тела. Это
первичное отделение обосновывает политику как действие дополнительных
субъектов, которые вписываются в качестве излишка по отношению ко
всякому подсчету частей общества.
Итак, вся суть политического вопроса состоит в интерпретации
подобной пустоты или подобного излишка. Очерняющая демократию
критика непрестанно сводила «ничто», образующее политический народ, к
чрезмерности алчных масс или невежественной черни. Интерпретация
демократии,
предложенная
Клодом
Лефором,
наделяет
эту пустоту
структурным характером. Но саму эту теорию пустоты можно толковать
двояко. Согласно первому способу, эта пустота есть анархия, отсутствие легитимности власти, образующее само пространство политики.
205
Согласно второму, это продукт дезинкорпорации двоякого
—
человеческого и божественного — тела царя. Демократия могла бы
начинаться с убийства царя, т. е. с краха символического, который порождает
дезинкорпорированное социальное. И эти изначальные узы влекут за собой
изначальный соблазн воображаемого восстановления славного тела народа,
унаследовавшего трансцендентность бессмертного тела царя и принцип всех
разновидностей
тоталитаризма.
противопоставить
то,
что
Такой
двойственное
интерпретации
тело
народа
не
можно
является
современным последствием пожертвования тела монарха, но является
конститутивной данностью политики. Первоначально двойственное тело
было у народа, а не у царя. И эта двойственность — не что иное, как пустое
дополнение, благодаря которому существует политика — в добавление ко
всякому социальному подсчету и в качестве исключения из всех логик
господства.
Седьмое право, как говорит Платон, есть «доля бога». Можно
утверждать, что эта доля бога — право того, кто бесправен, — содержит в
себе все «теологическое», что есть в политике. Акцент, который делает
современность
на
теме
«теолого-политическо-го»,
растворяет
вопрос
политики в вопросе власти и обосновывающей власть изначальной ситуации.
Тем самым либеральная фикция общественного договора удваивается
репрезентацией изначальной жертвы. Но разделение архе, обосновывающее
демократическую политику, не является основополагающей жертвой. Это
нейтрализация всякого жертвенного тела. И нейтрализация эта могла бы
найти для себя точную притчу в конце «Эдипа в Колоне»: именно ценой
исчезновения жертвенного тела, ценой ненахождения тела Эдипа афинская
демократия принимает благодеяние его погребения.
206
Желать откопать труп — это значит не только ассоциировать демократическую форму с неким сценарием первородного греха или проклятия.
Говоря радикальнее, это означает сводить логику политики к вопросу первоначальной сцены власти, т. е. сводить политическое к государственному.
Драматургия
изначальной
символической
катастрофы,
интерпретируя
пустую часть в терминах психоза, преобразует политическое исключение в
жертвенный симптом демократии. В одном из многочисленных заменителей
вины или изначального убийства она выражает свойственную политике
тяжбу.
ТЕЗИС 6
Если политика представляет собой след некоего исчезающего различия
с распределением социальных частей, то в итоге получается, что ее
существование ни в чем не является необходимым, но что она приходит в
истории форм господства как всегда временная случайность. Получается
также, что политическая тяжба имеет сущностным объектом само существование политики.
Политика никоим образом не является реальностью, обусловленной
необходимостью сплочения людей в сообщество. Она — исключение из
принципов, по которым действует такое сплочение. «Нормальный» порядок
вещей состоит в том, что человеческие сообщества собираются под властью
тех, кто имеет права властвовать; права, доказанные самим фактом, что
властители властвуют.
207
Разнообразные права на управление в конечном счете сводятся к двум
великим правам. Первое право отсылает общество к порядку филиации —
человеческой и божественной. Это власть по рождению. Второе отсылает общество к жизненному принципу его деятельности. Это власть богатства.
«Нормальная» эволюция обществ — это переход от правления по рождению
к правлению богатства. Политика существует как отклонение от этого
нормального хода эволюции вещей. И как раз эта аномалия выражается в
природе политических субъектов, которые являются не социальными
группами, но формами учета неучтенных.
Политика существует постольку, поскольку народ — не раса и не
население, бедняки — не обездоленная часть населения, пролетарии — не
группа промышленных трудящихся и т. д., но субъекты, вписывающие в
приложение всякого подсчета частей общества особую фигуру учета
неучтенных, или же доли обездоленных. То, что эта часть существует,
представляет собой саму ставку политики. И это объект политической
тяжбы. Политический конфликт не противопоставляет группы, имеющие
разные интересы. Он противопоставляет логики, по-разному учитывающие
части сообщества. Бой между «богачами» и «бедняками» есть бой по поводу
самой возможности того, что эти слова могут раздваиваться, что они
устанавливают категории другого подсчета частей сообщества. Политическая
тяжба имеет в виду спор характерных черт политики с тем, как она разграничивает части и пространства сообщества. Существует два способа
учитывать части сообщества. Первый учитывает только реальные части,
действительные группы, определяемые различиями по рождению, по
функциям, местам и интересам, составляющим социальное тело — при
исключении всяких добавлений.
208
Второй «вдобавок» учитывает долю обездоленных. Назовем первый
способ полицией, а второй — политикой.
ТЕЗИС 7
Политика специфическим образом противостоит полиции.
Полиция есть разделение ощутимого, и принципом ее служит
отсутствие пустоты и дополнения.
Полиция — не социальная функция, но символическое складывание
социального. Сущность полиции — не подавление, и даже не контроль над
живым. Ее сущность — определенное разделение ощутимого. Назовем
разделением ощутимого имплицитный, как правило, закон, определяющий
формы участия, выделяя, в первую очередь, режимы восприятия, в которые
эти формы вписываются. Разделение ощутимого есть разрезание природного
и социального мира, nemein3, на котором основываются nomoi* сообщества.
Это разделение следует понимать в двояком смысле слова: с одной стороны,
как то, что разделяет и исключает; с другой — как то, что способствует
участию. Разделение ощутимого — это способ, каким в ощутимом
определяются отношения между разделяемым общим и распределением ис-
ключительных частей. Это распределение, предвосхищающее по своей
ощутимой сущности распределение частей и сторон, само предполагает
разделение
видимого
и
невидимого,
подразумеваемого
и
не
подразумеваемого.
209
Сущность полиции заключается в том, что она является разделением
ощутимого, характеризующегося отсутствием пустоты и добавлений:
согласно полиции, общество состоит из групп, посвящающих себя
специфическим образам действия, — на местах, где такие занятия
осуществляются
в
способах существования,
соответствующих своим
занятиям и местам. При такой адекватности друг другу функций, мест и
способов существования не существует места ни для какой пустоты.
Исключение
«того,
чего
нет»,
является
полицейским
принципом,
находящимся в центре государственной практики. Сущность политики —
вносить
возмущение
обездоленных,
в
это
устройство,
отождествляемых с
дополняя
его
со
стороны
тотальностью самого сообщества.
Политическая тяжба — это такая тяжба, которая способствует существованию политики, отделяя ее от полиции, которая постоянно стремится
уничтожить политику — либо попросту отрицая ее, либо отождествляя ее логику с собственной. Политика есть, в первую очередь, вмешательство в
видимое и высказываемое.
ТЕЗИС 8
Сущностная работа политики состоит в конфигурировании ее
собственного пространства. Она стремится явить взору мир своих субъектов
и операций.
Сущность
политики
—
обнаружение
разногласия
как
присутствия двух миров в одном.
Будем исходить из одной эмпирической данности: полицейское
вмешательство в публичное пространство состоит, прежде всего, не в
окриках, обращенных к манифестантам, но в рассеивании манифестаций.
210
Полиция — не закон, который окликает индивидов («эй вы там!»
Альтюссера) и который разве что не смешивают с религиозной покорностью.
Это, прежде всего, призыв к очевидности того, что есть, или, скорее, того,
чего нет: «Проходите! Здесь не на что смотреть». Полиция говорит, что на
шоссе не на что смотреть и нечего делать, кроме как проходить или
проезжать. Она утверждает, что пространство движения есть пространство
движения — и только. Политика состоит в преобразовании этого
пространства движения в пространство манифестации некоего субъекта —
народа, трудящихся, граждан. Она заключается в реконфигурировании пространства, того, что в нем следует делать, видеть, называть. Она представляет
собой институционализированную тяжбу о разделении ощутимого, о том
nemein, на котором основан всякий коммунитарный nomos.
Это составляющее политику разделение никогда не задается в форме
судьбы, свойства, причитающегося политике или обязывающего ее. Эти
свойства — как раз предмет спора, как по содержанию, так и по
протяженности. Образцом здесь могут быть свойства, которые у Аристотеля
определяют политическую способность или предназначение к «благой
жизни» отделенной от жизни как таковой. Вроде бы нет ничего яснее, чем
взятое из Книги I «Политики» выведение знака, который образует
человеческую привилегию логоса, знака, способного выявить некое
сообщество в эстесисе5 справедливого и несправедливого, вокруг фонэв,
которое только и способно выражать ощущения испытанного удовольствия и
неудовольствия. Кто находится в присутствии животного, обладающего
даром членораздельной речи и способностью к ее манифестации, знает, что
он имеет дело с животным человеческим, а стало быть, политическим.
211
Единственная практическая трудность — как узнать, по какому знаку
мы распознаем знак; как мы удостоверяемся, что человеческое животное,
производящее своими устами перед вами некий шум, действительно
артикулирует речь, а не просто выражает некое состояние. Кого мы не хотим
признавать в качестве политического существа, мы начинаем не видеть как
носителя знаков политичности; мы начинаем не понимать, что он говорит, не
слышать, что из его уст исходит речь. То же самое происходит и тогда, когда
мы мысленно часто возвращаемся к оппозиции между смутной домашней
частной жизнью и светозарной публичной жизнью равных. Чтобы отказать
какой-либо категории, например, трудящимся или женщинам, в возможности
быть политическими субъектами, традиционно требовалось констатировать,
что они принадлежат к «домашнему» пространству, к пространству,
отделенному от публичной жизни, откуда якобы могут доноситься лишь
стоны или крики, выражающие страдание, голод или гнев, но где не
услышишь речей, обнаруживающих общий эстесис. И политика тех, кто
входил в такие категории, всегда состояла в том, чтобы реквалифицировать
эти пространства, явить в них место сообщества, пусть даже сообщества
простой тяжбы; дать себя увидеть и выслушать как говорящих существ,
причастных некоему общему эстесису. Эта политика состояла в том, чтобы
дать увидеть то, чего не видно; услышать как речь то, что было слышно
только как шум; проявить как чувство общего блага и общего зла то, что
предъявлялось только как выражение конкретного удовольствия или
конкретных горестей.
212
Сущность политики заключается в разногласии. Разногласие — это не
столкновение интересов или мнений. Это проявление нетождественности
ощутимого самому себе. Политическая манифестация дает увидеть то, у чего
нет оснований быть увиденным; она вкладывает один мир в другой, к
примеру, мир, где завод представляет собой публичное место, в тот, где завод
— место частное; мир, где трудящиеся говорят, и говорят о сообществе, в тот
мир, где они вопиют, чтобы выразить свою боль. Это основание, в силу
которого политика не может отождествляться с моделью коммуникативного
действия. Данная модель предполагает партнеров, уже сложившихся в
качестве таковых, и дискурсивные формы обмена, как имплицирующие
сообщество дискурса, принуждение к которому всегда объяснимо. Но ведь
характерная черта политического разногласия заключается в том, что
партнеры не сформированы точно так же, как предмет и сама сцена
дискуссии. Кто показывает, что он принадлежит к некоему общему миру,
какого другой не видит, — не может получать преимущество, исходя из
логики, вытекающей из какой-либо прагматики коммуникации. Рабочий,
аргументирующий публичный характер «домашнего» дела заработной платы,
должен свидетельствовать о мире, где его аргумент является аргументом, и
свидетельствовать о нем для того, у кого нет рамок и контекста, чтобы
увидеть его. Политическая аргументация представляет собой в то же время
манифестацию мира, где она — аргумент, обращенный компетентным в
своем деле субъектом, по поводу некоего идентифицируемого объекта, тому
адресату, от которого требуется увидеть объект и выслушать аргумент,
видеть и слышать который «в нормальном случае» у него нет оснований.
213
Это построение парадоксального мира, объединяющего совершенно
разрозненные миры.
Тем
самым
политика
не
имеет ни собственного локуса,
ни
естественных субъектов. Манифестация является политической не потому,
что она наделяется таким-то местом и касается такого-то объекта, но потому,
что ее форма есть форма столкновения между двумя разновидностями
разделения
ощутимого.
Политический субъект не
является
группой
интересов или идей. Это оператор особого диспозитива субъективации
тяжбы, благодаря которой существует политика. Тем самым политическая
манифестация является всегда точечной, а ее субъекты — кратковременными. Политическое различие всегда находится на грани исчезновения:
народ почти растворен в населении или в расе, пролетарии почти
смешиваются с трудящимися, защищающими свои интересы, пространство
публичной манифестации народа — с агорой купцов и т. д.
Итак, выведение политики, исходя из особого мира равных или
свободных людей, противопоставленного миру необходимости, берет за
основу политики как раз то, что служит предметом ее тяжбы. Тем самым
сама политика обязана слепоте тех, кто «не видит» того, у чего нет повода и
локуса, чтобы быть видимым. Об этом образцово свидетельствует место из
книги «О революции», где Ханна Арендт комментирует текст Джона Адамса,
отождествляющий горести народа с тем, что «его не видят». Само такое
отождествление — комментирует она — может исходить только от человека,
принадлежащего к привилегированному сообществу равных. Зато его «с
трудом смогут понять» люди иных категорий.
214
Можно удивляться необычайной глухоте, которую это утверждение
противопоставляет множественности дискурсов и манифестаций «бедняков»,
ориентированных как раз на модус их видимости. Но в этой глухоте нет ничего случайного. Она образует цикл с допущением обосновывающего
политику изначального разделения того, что как раз является постоянным
объектом образующей политику тяжбы. Она образует цикл с дефиницией
homo laborans1 в разделении «образов» жизни. Этот круг вычертила не
политический теоретик Ханна Арендт. Это сам круг «политической философии».
ТЕЗИС 9
Поскольку
характерная
черта
политической
философии
есть
обоснование политического действия в модусе свойственного ему бытия,
характерная черта политической философии заключается в устранении
тяжбы, составляющей политику.
И как раз в самом описании мира политики философия осуществляет
это устранение. Ее эффективность увековечивается как раз в нефилософских
или антифилософских описаниях мира политики.
То, что характерная черта политики — быть делом субъекта, который
«властвует» самим фактом того, что не имеет права властвовать; то, что
принцип начала/власти тем самым становится непоправимо разделенным, а
политическое сообщество превращается как раз в сообщество тяжбы — вот
секрет той политики, с которой изначально сталкивается политическая
философия. Если у «древних» и имеется какая-то привилегия по отношению
к «новым», то состоит
215
она в восприятии этого секрета, а не в противопоставлении сообщества
блага сообществу полезности. Под безобидным термином «политическая
философия» кроется драматическая встреча философии с политикой как
исключением из закона архе и со стремлением философии заменить
политику, подчиняясь этому закону. «Горгий», «Государство», «Политика»,
«Законы» свидетельствуют об одном и том же стремлении устранить
парадокс или скандальность «седьмого права», чтобы превратить демократию просто в разновидность неопределимого принципа «правительства
сильнейшего», которому с этих пор противостоит только правительство
ученых. Эти диалоги свидетельствуют об одном и том же стремлении
подчинить сообщество единственному закону разделения и изгнать пустую
часть коммунитарного тела, которую образует демос.
Но это изгнание происходит не в простой форме оппозиции между
хорошим режимом единого сообщества,
иерархизированного
согласно
принципу единства, и дурным режимом разделения и беспорядка. Оно
происходит
соответствующие
согласно
предположению,
отождествляющему
политические формы с соответствующими образами
жизни. И это предположение уже действует в процедурах описания
«дурных» режимов, в частности, демократии. Как мы сказали, политика в
целом
развертывается
в
интерпретации
демократической
«анархии».
Отождествляя ее с рассеянностью желаний демократического человека,
Платон преобразует форму политики в способ существования, а пустоту — в
избыток. Прежде чем быть теоретиком «идеального», или «замкнутого
полиса», Платон является основоположником антропологической концепции
политического, той, что отождествляет политику с развитием свойств
некоего типа человека или образа жизни.
216
Такой-то «человек», такой-то «образ жизни», такой-то город — вот где
прежде всяких рассуждений о законах или способах воспитания в идеальном
полисе, даже прежде разделения сообщества на классы, происходит
разделение ощутимого, отменяющее политическую сингулярность.
Таким образом, начальный жест «политической философии» имеет
двойную значимость. С одной стороны, Платон обосновывает сообщество,
являющееся осуществлением принципа нераздельности; сообщество, строго
определенное как тело, общее с его местами и функциями и с его формами
интериоризации общего. Платон обосновывает некую архиполитику как
закон единства между «занятиями» в полисе, его этос, т. е. способ обитать в
некоем месте, и его номос — как закон, но еще и как особый оттенок, согласно которому подобный этос проявляется. Такая этология сообщества
вновь делает неразличимыми политику и полицию. А политическая
философия
поскольку
она
стремится
наделить
сообщество
единым
основанием — обречена заново отождествлять политику и полицию,
упразднять политику в обосновывающем ее жесте.
Но Платон изобретает еще и способ «конкретного» описания
производства политических форм. По существу, он изобретает сами формы
отвержения «идеального полиса», управляемые формы оппозиции между
философским «априоризмом» и социологическим анализом или конкретной
политологией форм политики как выражений образа жизни. Это второе
наследие глубже и долговечнее первого.
217
Социология политического — второй ресурс политической философии,
который, зачастую «против» нее, свершает свой основополагающий проект:
обосновать сообщество однозначным разделением ощутимого. В частности,
токвилевский анализ демократии, бесчисленные варианты и суррогаты
которого подпитывают рассуждения о современной демократии, об эпохе
масс, об индивиде масс и т. д., вписывается в непрерывность теоретического
жеста, отменяющего структурную сингулярность права без права и доли
обездоленных,
переописывая
демократию
как
социальный
феномен,
коллективное осуществление свойств определенного типа человека.
И наоборот, отстаивание чистоты bios politikos6, республиканской
конституции сообщества против индивида или демократической массы,
оппозиция политического и социального сопричастны действительности того
же
узла
между
социологическим
априоризмом
описанием
«республиканского»
демократии.
переоснования
Противопоставление
и
поли-
тического социальному — с какой стороны за него ни взяться —
представляет собой дело, полностью определенное в рамках политической
философии, т. е. при вытеснении политики философией. Провозглашенное
сегодня «возвращение» политики и политической философии имитирует
начальный жест политической философии, не улавливая ни ее принципа, ни
цели. В этом смысле оно представляет собой радикальное забвение политики
и напряженного отношения философии к политике. Социологическая тема
конца политики в обществе постмодерна и политологическая тема
возвращения политики порождают друг друга в двойном начальном жесте
политической философии и конкурируют между собой в одном и том же
забвении политики.
218
Конец политики и возвращение политики — два взаимодополняющих
способа упразднять политику в простом отношении между социальным государством и государством этатического диспозитива. Расхожим обозначением
этого упразднения служит «консенсус».
Сущность политики состоит в основанных на разногласиях модусах
субъективации, которые манифестируют отличие общества от самого себя.
Сущность консенсуса — не мирная дискуссия и разумное согласие,
противопоставленные конфликту и насилию. Сущность консенсуса есть
упразднение разногласия как отрыва ощутимого от самого себя, упразднение
избыточных субъектов, сведение народа к сумме частей социального тела, а
политического сообщества — к отношениям между интересами и чаяниями
подобных различных частей. Консенсус есть сведение политики к полиции.
Это конец политики, т. е. не свершение ее целей, но попросту возвращение
нормального положения вещей, положения несуществования политики.
Конец политики есть всегда присутствующий край политики, каковая
является всегда точечной и временной деятельностью. Возвращение
политики и конец политики — две симметричных интерпретации, имеющих
одно и то же последствие: устранение самого понятия политики, а также
недолговечности,
хрупкости,
представляющей
собой
один
из
ее
существенных элементов. Возвращение политики, провозглашая конец
узурпации социального и возвращение к чистой политике, попросту
затемняет тот факт, что социальное
219
никоим образом не имеет сферы собственного существования, но
является объектом политической тяжбы о разделении миров. Возвращение
политики тогда представляет собой утверждение того, что существует
собственный локус политики. Тем самым выделяемый собственный локус
политики не может быть ничем иным, кроме локуса этатического. Теоретики
возвращения политики фактически утверждают ее непреходящий характер.
Они отождествляют ее с государственной практикой, принцип которой
заключается в вытеснении политики.
Социологический тезис о конце политики симметрично полагает
существование социального государства, где у политики уже нет оснований
существовать — потому ли, что она уже добилась целей, создав именно такое
государство (экзотерический, гегеле-фукуямовский американский вариант),
либо потому, что эти формы уже не приспособлены к текучести и
искусственности сегодняшних экономических отношений (эзотерический,
хайдеггеро-ситуационистский европейский вариант). Тогда этот тезис
сводится к декларации о том, что капитализм, если исчерпать его логику до
конца, приводит к увековечению политики. И тогда в нем делается вывод
либо
о
поражении
политики
перед
лицом
Левиафана,
ставшего
нематериальным, либо о ее преобразовании в разрозненные, сегментарные,
кибернетические, игровые и т. д. формы, приспособленные к тем формам
социального, что соответствуют высшей стадии капитализма. Тем самым в
этом тезисе обнаруживается непонимание того, что у политики как раз нет
никаких оснований присутствовать в каком бы то ни было социальном
государстве, а противоречие между двумя логиками является постоянной
данностью, которая определяет свойственные политике случайность и
хрупкость.
220
Это означает, что окольным марксистским путем он на свой лад
подтверждает тезис политической философии, который обосновывает
политику особым образом жизни, и основанный на консенсусе тезис,
который отождествляет политическое сообщество с социальным телом, а
следовательно, политическую практику с практикой государственной. Споры
между философами возвращения политики и социологами ее конца тем
самым представляют собой просто споры о порядке, в котором необходимо
принимать предпосылки политической философии, чтобы интерпретировать
основанную на консенсусе практику упразднения политики.
ИСТОЧНИКИ ТЕКСТОВ
«Конец политики» — переработанное сообщение, сделанное на
франко-бразильском коллоквиуме о власти, проведенном в Международном
философском коллеже в мае 1988 г., по приглашению Пьер-Жана
Лабаррьера.
«Использование демократии» — доклад на коллоквиуме «Демократия,
социальная демократия и участие» [Democratic,, democracies social у
participacidn], организованном в Сантьяго-де-Чили в декабре 1986 г.
Центром изучения современной действительности [Centra de Estudios de la
realidad contempordned], под руководством Родриго Альваяя и Карлоса
Руиса-Шнейдера.
«Политика, идентификация и субъективация» — перевод доклада,
сделанного на коллоквиуме «Вопрошание идентичности» [.Questioning
Identity], организованного в ноябре 1991 года журналом October. Английский
вариант доклада фигурирует в коллективном сборнике под редакцией Джона
Райхмана [Rajchman] (Routledge, 1995).
«Сообщество равных» — доклад, сделанный на конференции,
проведенной в 1987 году в рамках форума Международного философского
коллежа, по приглашению Мигеля Абенсура и с участием Алена Бадью.
«Недопустимое» — воспроизведение сообщения, сделанного на
коллоквиуме «Жан Боррей. Разум другого», проведенном в июне 1993 г. в
рамках Международного философского коллежа. Труды этого коллоквиума
опубликованы под тем же заглавием в издательстве L'Harmattan под
руководством Патриса Вермерена [Vermeren]. Первое издание этого текста
вышло в 1995 г. в номере 29 журнала Genre humain, посвященном «добрым
чувствам».
«Дело другого» — доклад, прочитанный на встрече «Франция-Алжир.
Перекрестные взгляды», организованной в мае 1995 г. в Доме писателей
Франсуазой Пруст и Мохаммедом Сиди Бархатом. Он был опубликован в
феврале 1997 г. в номере 30 журнала Lignes.
«Тезисы о политике» первоначально прочитаны в октябре 1996 г. в
Институте Грамши в Болонье, в рамках мероприятия «Ландшафты
современной
французской
мысли»,
культурными службами во Франции.
223
организованной
французскими
Тогда их было одиннадцать, так же как и в их первой публикации пофранцузски в журнале Filozofski Vestnik/Acta Philosophica, № XVII (2/1997),
журнале люблянского Института философии. Объединив тезисы 5 и 6, я
уменьшил их количество до десяти.
Первый, второй и четвертый тексты фигурировали в первом издании
этой книги, Aux bords dupolitique (Osiris, 1990). Все тексты были
переработаны по случаю этого нового издания.
ПРИМЕЧАНИЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. Ж. Рансьер употребляет слово «полиция» в архаическом для
французской традиции и не свойственном русской традиции смысле. Оно
приблизительно соответствует тому, что у немцев в XVIII в. называлось
«Polizeiwissenschaft», полицейской наукой. — Прим. пер.
2. La Mesentente. Politique et philosophie, Paris, Galilee, 1995.
3. В оригинале стоит французское слово doxique, т. е. прилагательное,
образованное от древнегреческого слова doxa, из многочисленных значений
которого в данном случае здесь, по-видимому, имеется в виду «нечто
утверждаемое, но не доказанное» или «мнение других». — Прим. пер.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО К ПОЛИТИКЕ
Конец политики, или реалистическая утопия,
1. Имеется в виду Франсуа Миттеран. — Прим. пер.
2. Власти (лат.). —Прим. пер.
3. Власти (лат.). —Прим. пер.
4. В оригинале игра слов: jeune-Premier — «первый любовник как
актерское амплуа». —Прим. пер.
5. Скорее авторитетом, нежели повелениями (лат.). — Прим. пер.
6. Почтенный благодаря чуду письменности (лат.). — Прим. пер.
1. Политического искусства (др.-греч.). —Прим. пер.
8. Я попытался представить принципы этого пересмотра в четвертой
главе книги La Mesentente. Politique et philosophie, Galilee, 1995.
9. См. об этом, например: Штраус Л. О классической политической
философии // Штраус Л. Введение в политическую философию. М.: Праксис,
2000. С. 50—68. — Прим. пер.
10. Крика, голоса (др.-греч.). —Прим. пер.
225
11. Совете (др.-греч.). —Прим. пер.
12. «Политика», 1, Щ 1292 b 37/38. Цит. по: Аристотель. Политика /
Пер. с др.-греч. С. А. Жебелева //Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. TV. M.: Мысль,
1984. С. 499.
13. В данном случае Аристотель имеет в виду такую разновидность
демократического правления, при котором формально в управлении
государственными делами могут участвовать все люди, имеющие статус
граждан, однако на деле в управлении участвуют только те из них, кто может
иметь досуг. — Прим. пер.
14. Ничейная земля (англ.). —Прим. пер.
15. «Политика», 1, VI, 1319 b 36/38. Цит. по: Аристотель. Политика /
Пер. с др.-греч. С. А. Жебелева. С. 576.
16. Здесь под «полимеризацией» имеется в виду рассредоточение
аффектов по всему обществу с целью ослабления их интенсивности. —
Прим. пер.
17. Английское слово «cool» — «прохладный» — здесь обыгрывается в
значении
«не
требующий
особого
напряжения
душевных
сил»
и
одновременно как жаргонное выражение «классный», «тот, что надо». —
Прим. пер.
18. Имеется в виду лидер Национального фронта Франции, один из
крайне правых французских политиков Жан-Мари Ле Пен. —Прим. пер.
19. Архаичнейшее
—Прим. пер.
(др.-греч.),
превосходная
степень
от arkha'ion.
20. Вероятно, имеются в виду двухсотлетие Великой Французской
революции и некролог начинающейся с нее революционной эпохе, которая,
по мнению некоторых западных историков и философов, завершилась с
падением Берлинской стены в 1989 году. — Прим. пер.
21. Кроме того, эта утопия сказывается на средствах, предлагаемых для
успешного осуществления этого уравнения. В обширных планах реформы
образования, которые готовит любое министерство, осознающее свои
обязанности, с упорством повторяется одна и та же совокупность
предложений. Это предложения по организации времени: предлагается
укоротить учебный день и удлинить учебный год, сократить уроки на пять
минут или перераспределить периоды труда и каникул.
Конечно же, эти меры находят обоснование в трудах психологов и
педагогов — и их дополнительная привлекательность заключается в
экономии средств; но настойчивость, с какой они предлагаются, гораздо
больше свидетельствует о вере в магические силы времени: в такие силы, что
уже не кажется невозможным достижение чудесного результата при
манипулировании временем даже вслепую.
226
22. Триктрак или шашки дают лишь приблизительные эквиваленты для
pettoi (камушки), использовавшихся во многих играх у греков. Подлинная
природа упомянутой здесь игры обсуждалась Бек де Фукьером (Becq de
Fouquieres, Les Jeux des an-ciens, Paris 1869) и X. Джексоном (Н. Jackson,
Journal
of
Philology,
7,
1877).
Продираясь
сквозь
разногласия
и
несообразности комментариев, самым логичным было бы предположить, что
фигура azux — неподвижная и способная напасть на любую фигуру,
встающую на соседнюю клетку, а не фигура, изолированная и окружаемая в
процессе игры (поскольку это вопрос различия по природе).
Весь отрывок — хороший материал для дискуссии по установлению
текста и его синтаксическому членению.
23. Последних из варваров (лат.). — Прим. пер.
24. Jean-Frangois Lyotard, «Le survivant», in Ontologie etpoliti-que.
Hannah Arendt, Editions Tierce, 1989.
25. Покаяния (др.-греч.). —Прим. пер.
26. Проблемы воображаемой инкорпорации и демократического
разделения находятся в центре внимания работ Клода Лефора [Lefort].
Понятие какого угодно множества стало предметом систематической
философской разработки в «Бытии и событии» Алена Бадью.
Необходимая ссылка на два — хотя и весьма различных —
мыслительных предприятия наделяет автора этих строк ответственностью за
то, что мыслится здесь в тех же терминах.
27. Рансьер противопоставляет «инкорпорированные сообщества»,
которые, по его мнению, не являются подлинно демократическими, «каким
угодно сообществам», «не учитываемым сообществам», которые, на его
взгляд, способствуют демократическому преобразованию общества. — Прим.
пер.
28. Инкорпорацию сообществ в «исключающее Единое» Рансьер
противопоставляет свободному разделению «каких угодно сообществ»,
возникающих в связи с конкретными задачами классовой борьбы и быстро
преобразующихся при изменении этих задач. — Прим. пер.
Использование демократии
1. Переведено на французский язык под менее многозначительным
заглавием: Principes et limites de la democratic moderne [«Принципы и
границы современной демократии»], La Decouverte, 1985.
227
2. Т. е. искоса, исподтишка. — Прим. пер.
3. Обмен богатствами. Когда богатый афинянин отказывался от
публичного финансового поручения, утверждая о недостаточных размерах
своего состояния, заменяющий его мог потребовать такого обмена (способ
недопущения мошенничества).
4. Цит. по: Платон. Государство // Платон. Соч.: В 3 т. М.: Мысль,
1971. Т. 3. Ч. 1. С. 378. — Прим. пер.
5. Там же. С. 373. — Прим. пер.
6. «Политика», 1, Щ 1294 b 35/36. Цит. по: Аристотель. Политика /
Пер. с др.-греч. С. А. Жебелева. С. 505.
7. Демократической жизнью (лат.). — Прим. пер.
8. Деятельной жизни (лат.). —Прим. пер.
9.
Французское
слово
«demonstration»
имеет
значение
как
«доказательство», так и «демонстрация», что обыгрывается в рассуждениях
Рансьера. — Прим. пер.
10. Sens commun, словосочетание, означающее «здравый смысл», в
данном контексте переводится как «общий смысл», поскольку Рансьер имеет
под ним в виду «смысл, навязываемый всем группой, борющейся за свободу
и равенство». — Прим. пер.
11. См. Gabriel Gauny, Le Philosophe plebeien, textes assembles et
presentes par J. Rancieres, Paris, La Decouverte/Presses univer-sitaires de
Vincennes, 1983.
12. Т. е. экономию общежития. — Прим. пер.
13. См. Jacques Ranciere, Le Maitre ignorant, Paris, Fayard, 1987, и здесь
же «La communaute des egaux».
14. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Heritiers, а также La
Reproduction, Paris, Editions de Minuit, 1964; 1970. Я рассматриваю здесь эти
тезисы на уровне обобщенности, которая стала известной в политической
doxa, независимо от последующей эволюции каждого из двух авторов.
15. Досуг, праздность (др.-греч.). —Прим. пер.
16. Jean-Francois Lyotard, Tombeau de I'intellectuel et autres papiers, Paris,
Galilee, 1984. Здесь я опять-таки имею в виду тезисы, в которых
систематизировалась мысль определенной эпохи. Тогда как в последующих
произведениях
Жан-Франсуа
Ли-отар
непрестанно
подрывал
всякую
оптимистическую интерпретацию постмодернизма.
17. В других местах своей книги Рансьер подчеркивает, что демос,
инкорпорируясь в фиксированную социальную структуру, вырождается в
охлос.
228
Всякая
инкорпорация,
по
Рансьеру,
чревата
обездвижением,
вырождением, архаизацией. — Прим. пер.
Политическое, идентификация, субъективация
1. Первые значения этого древнегреческого слова — «начальство» или
«начало». — Прим. пер.
2. В данном случае: быть сильным (др.-греч.). —Прим. пер.
3. В данном случае: начальствовать (др.-греч.). — Прим. пер.
4. Отверженного (англ.). —Прим. пер.
5. В грамматике — связь с помощью союза «и» логически несовместимых фактов. — Прим. пер.
6. Неточного употребления имени или термина (англ.). — Прим. пер.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ СООБЩЕСТВО И ЕГО ВНЕШНЕЕ
Сообщество равных
1. Из «Посвящения Гансу Кароссе» (Rilke R. M. Werke in drei Banden,
II, 76, Leipzig, 1978). — Прим. пер.
2. Рансьер пишет inter-esse, «быть-между». —Прим. пер.
3. Рим, XII, 5, что дополняется I Кор, XII, 12.
4. Pierre Leroux, De I'Egalite, Paris, 1838.
5.
Общественно-религиозное
течение,
конгломерат
общин,
су-
ществовавших в Палестине во II в. до н. э.—I в. н. э. — Прим. пер.
6. Тимократия у Платона («Государство», VIII) есть та воинственная
монархия, которая незаметно соскальзывает к олигархии, к правлению денег.
7. Дружбы, любви (др.-греч.). —Прим. пер.
8. Цит. по: Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1984. С. 464. —
Прим. пер.
9. «Политика», 1, III, 1281 b 1/3.
10. Имеется в виду то, что Леру намеренно заменяет слово «фидитиес»
(скупые обеды) на слово «филитиес» (дружеские обеды), желая искусственно
вписать своеобразную греческую традицию в последующую христианскую.
— Прим. пер.
11. Братство (франц.). —Прим. пер.
12. Перифраза апостола Павла, / к Коринфянам, XII, 12, in:
229
«Traditions communistes», La Fraternite, decembre 1842, p. 110.
13. «Discours 32», in: Gregoire de Nazianze, Discours de 32 a 37, Paris,
Editions du Cerf, 1985, pp. 109—111.
14. Один из семи холмов, на котором расположен Рим. — Прим. пер.
15. Я разбирал притчу именно в этом смысле, анализируя во второй
главе La Mesentente интерпретацию Балланша.
16. Лучших (др.-греч.). —Прим. пер.
17. А. В. Карташев в книге «Вселенские соборы» (М., 1994) называет
их, соответственно, «омиусианами» и «омоусианами». — Прим. пер.
18. Послание Павла к Филиппийцам, обильно цитируемое Марием
Викториной в трактате «Против Ария», особенно в разделах 1, 9, 13, 21 и т.
д., in Traites theologiques sur la trinite, Paris, Editions du Cerf, 1960, t. II.
19. Равный (лат.). —Прим. пер.
20. La Regie de saint Benoit, traduit et commentee par A. de Vogue, Paris,
Editions du Cerf, 1960, t. 1.
21. Saint Basile, Lettres, Paris, Les Belles Lettres, 1957, t. I, p. 54.
22. В переводе С. А. Жебелева — «преодоление самого себя» (Платон.
Соч.: В 3 т. М.: Мысль, 1971. Т. 3. Ч. 1. С. 221). — Прим. пер.
23. Равенства (др.-греч.). —Прим. пер.
24. Saint Basile, Traite du Saint Esprit, Paris, Editions du Cerf, 1946,1.1,
pp. 204—206.
25. La Regie de saint Benoit, op. cit., p. 562.
26. Le Populaire, 21 Janvier 1849. По поводу истории сообщества
икарийцев я позволяю себе рекомендовать отсылку к моей книге «Ночь
пролетариев», La Nuit des proletaires, collection «Pluriel», Paris, Hachette, 1997.
27. От противного (лат.). —Прим. пер.
28. В определении (лат.). —Прим. пер.
29. Основания познания (лат.). —Прим. пер.
30. Основания бытия (лат.). —Прим. пер.
31. Относительно более обширных соображений на эту тему позволю
себе отсылку к моей книге Le Maitre ignorant, Paris, Fayard, 1987.
32. Имеется в виду Июльская революция 1830 года во Франции,
которая навсегда свергла династию Бурбонов во Франции. — Прим. пер.
33. Права (лат.). —Прим. пер.
230
34. Политической жизни (лат.). —Прим. пер.
35. По выбору (лат.). — Прим. пер.
36. Т. е. равенства в действительности (лат.). —Прим. пер.
37. Т. е. равенства «на бумаге» (лат.). —Прим. пер.
Недопустимое
1. Мишелем Рокаром. — Прим. пер.
2. Такое отсутствие критериев, согласно Сёрлю, дает предпосылку, в
высшей степени безразличную к сингулярности приведенного им примера.
Как доказала Кэте Гамбюргер, несколько строчек из Айрис Мёрдок,
процитированные Сёрлем в качестве совершенно неотличимых от строк из
газетной статьи, наоборот, изобилуют признаками выдуманности или
литературности.
3. Joan Borrel (Jean Borreil), L'Artiste-roi, Aubier, 1990.
4. В оригинале — trouble, не только «беспокойство», но и «мутность»,
«непрозрачность». —Прим. пер.
5. Arthur Danto, L'Assujetissementphilosophique de I'art, Paris, Editions du
Seuil, 1993.
6. Имеются в виду инсталляции Марселя Дюшана и поп-арт Энди
Уорхола. —Прим. пер.
I. Proles — по-латыни «потомство», а слово proletarius первоначально
означало «производящий потомство», и лишь в системе Сервия Туллия оно
стало обозначать «гражданин, принадлежавший к неимущему и неподатному
сословию, но юридически свободный». — Прим. пер.
8. Сущности не следует приумножать без необходимости (лат.).
—Прим. пер.
9. L'artiste-roi, op. cit.
10. Имеется в виду картина Гюстава Курбе (1849), охарактеризованная
Бодлером как одно из первых произведений реалистической живописи. —
Прим. пер.
II. Герои одноименного романа Гюстава Флобера. — Прим. пер.
12. Richard Rorty, Contingence, ironie et solidarite, Paris, Arma-nd Colin,
1992.
13. По мнению Рансьера, такие сущности, как литература и
пролетариат, не вписываются в «арифметическую концепцию общества»,
чего, на его взгляд, не понимают Рорти и Сёрль. — Прим. пер.
14. См. J. Ranciere, Mallarme. La politique de la sirene, Paris, Hachette,
1996.
231
15. Jean Borreil, La Raison nomade, Payot, 1993.
16. Имеется в виду роман Р. М. Рильке. — Прим. пер.
17. Имеется в виду французский поэт Франсис Жамм (1868— 1938), об
уютном доме которого в Пиренеях рассуждает нищий герой романа Рильке
(Рильке Р. М. Записки Мальте Лауридса Вригге. М., 2000. С. 37—38). —
Прим. пер.
18. Многих (др.-греч.). —Прим. пер.
19. Рильке Р. М. Записки Мальте Лауридса Бригге. С. 44. — Прим. пер.
20. Там же. С. 45. — Прим. пер.
21. Рансьер считает, что мыслить призраками, т. е. понятиями, не
поддающимися однозначному определению, предпочтительнее, нежели
упрощать мир посредством консенсуса. — Прим. пер.
Дело другого
1. Pierre Bourdieu, «Revolution dans la revolution», Esprit, Janvier 1961.
2. Bruno Etienne, L'Islamisme radical, Hachette, 1987, p. 142.
3. Ibid., p. 143.
4. Сартр Ж. П. Бытие и ничто. М.: Республика, 2004. С. 558. — Прим.
пер.
5. «Мы» — в продолжении этого текста — будет обозначать попросту
политическое поколение, взятое в его глобальности.
6. Les Damnes de la terre, Paris, Editions Maspero, 1960, p. 26.
7. Слово «последовательность» Рансьер, по-видимому, употребляет
здесь в том же смысле, что и А. Бадью, — как последовательность событий
между точками, определяющими границы эпохи. — Прим. пер.
8. Боснийский вопрос был образцовым для этого сдвига позиции
другого. Он продемонстрировал, что фигура страдающего другого сама по
себе не порождала никакой политики, потому что этот другой, в отличие от
алжирского или вьетнамского другого, не был нашим другим, и он не
определял никаких отношений нашего гражданства к самому себе. Все
усилия политической борьбы относительно Боснии состояли в том, чтобы
отойти от простого требования помощи жертвам, определить общий интерес,
исходя из противопоставления в самой страдающей Боснии двух идей
сообщества: идеи равновесного распределения населения и идентичностей,
еще вписывающейся в полицейскую логику агрессора, — и идеи сообщества,
к которому не принадле232
жат те, кто в силу простой случайности живет вместе, без иного
принципа дистрибуции, нежели основополагающий принцип политики,
принцип равенства кого угодно с кем угодно.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ДЕСЯТЬ ТЕЗИСОВ О ПОЛИТИКЕ
1.
«Добродетель гражданина, по-видимому, и заключается в
способности прекрасно и властвовать, и подчиняться» (Аристотель. Соч.: В 4
т. Т. 4. М.: Мысль, 1984. С. 451). — Прим. пер.
2. Дем — округ или участок в Аттике. — Прим. пер.
3. 1) Разделять; 2) владеть, управлять; 3) обитать (др.-греч.). — Прим.
пер.
4. Законы (лат.). — Прим. пер.
5. Чувствовании (др.-греч.). — Прим. пер.
6. Звуке, речи, языке (др.-греч.). —Прим. пер. 1. Человека трудящегося
(лат.). — Прим. пер. 8. Политической жизни (др.-греч.). —Прим. пер.
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Название книги Ж. Рансьера «На краю политического» перекликается с
названием знаменитой книги Л.-Ф. Селина «Путешествие на край ночи». Это
проницательно подметил В. Лапицкий, озаглавив послесловие к своему
переводу книги Рансьера «Эстетическое бессознательное»1 «Путешествие на
край политики». Между тем Ж. Рансьер считает, что наши общества
подошли к краю не только политики (как ее понимает Рансьер, исследуя
генезис и герменевтику этого понятия, начиная с Аристотеля), но и всего
сколько-нибудь серьезного, что ее могло бы напоминать.
Всякий субъект политического действия, по мнению Рансьера, должен
понимать, что «политика приходит как всегда временная случайность в истории форм господства»2, и не должен стремиться «инкорпорироваться в
исключающее Единое», т. е. в структуру господства. А. Бадью в «Кратком
трактате по метаполитике»3 истолковывает политические воззрения Рансьера
следующим образом. По Рансьеру, политику в полном смысле слова делают
только «какие угодно группы», «не принимаемые во внимание группы и
индивиды». «Кто был ничем», тот добивается признания, но, становясь всем,
утрачивает способность заниматься политикой. Следовательно, чтобы
продолжать заниматься политикой, он должен вновь стать ничем. Но такого
почти никогда не бывает, а если и бывает, то только в «политических акциях
чистого самопредъявления», которые, на взгляд Рансьера, и являются
политикой в чистом виде.
235
Цель таких акций, напоминающих акции художников-авангардистов
(может быть, имеет смысл сравнить их с ситуационизмом Ги Дебора), — на
короткое время, буквально на миг продемонстрировать альтернативную
структуру общества, «структуру не-господства», в которой одни «какие
угодно группы» находятся в состоянии вечной борьбы с другими, равными
им «какими угодно группами». Это броуновское движение «сообществ
равных», по мнению Рансьера, предпочтительнее, нежели любые попытки
его регулировать со стороны государства, т. е. «исключающего Единого».
Итак,
по
Рансьеру,
существует
три
разновидности
субъектов
политического действия:
1)
«Не принимаемые во внимание группы», которые добиваются
признания, инкорпорируются в фиксированные социальные структуры и
перестают заниматься политикой;
2)
«Не принимаемые во внимание группы», которые занимаются
политикой как искусством, ради «чистого самопредъявления»;
3) Ничем не связанные активисты типа Че Гевары (см. рассуждения
Рансьера об играющей по особым правилам фигуре azux из триктрака). На
эту категорию делает ставку А. Бадью, упрекающий Рансьера в том, что он
уделяет ей недостаточное внимание.
Все остальное, претендующее быть политикой, является лишь ее
видимостью либо относится к сфере полиции, либо — в лучшем случае — к
сфере политического (презираемая Рансьером парламентская говорильня),
которое уже тоже подошло к своему краю.
236
Может быть, читатель будет несколько озадачен, встретившись с
термином
«полимеризация
аффектов
множественности».
Употребляя
химический термин (в химии «полимеризация» — объединение нескольких
малых молекул в одну большую при ослаблении межатомных связей),
Рансьер с беспощадной иронией оценивает попытки «заменить политику
химией». Речь идет о «создании целой сети очагов наслаждения и
удовольствия», в конечном счете ради того, чтобы отвлечь население от
классовой борьбы и от ощущения социального неравенства. (Кстати,
субъектом
классовой
борьбы
у
Рансьера
является
«демос»,
или
«пролетариат», понимаемый в расширенном смысле: это все творческие
люди, которым близка идея равенства). Государство и то, что Рансьер
называет «структурами полиции», прямо или косвенно поощряют массовую
киноиндустрию, поп-музыку, функционирование игровых автоматов и
казино, клубы спортивных фанатов и т. д. Но все эти организации и процессы
руководствуются «страстью исключающего Единого» и способствуют распространению архаических аффектов ксенофобии и «чистой ненависти».
(Получается, что от лозунга «„Спартак" — чемпион!» до лозунга «Россия —
для русских!» один шаг, так как оба движимы «страстью исключающего
Единого»).
Поэтому «свободная игра конфликтов» и разногласий; анархическое
начало процессов, спонтанно протекающих во множественности, с точки
зрения
Рансьера,
предпочтительнее,
нежели
«научное
управление
множественностью» с позиции исключающего Единого. И опять-таки
следует подчеркнуть, что благотворными Рансьер считает лишь те
конфликты, в которых утверждается не господство, но равенство одних
«каких угодно групп» другим таким группам.
237
Политическую и классовую борьбу Рансьер понимает именно как
демонстрацию (т. е. доказательство) общественной структуры не-господства
(пусть даже посредством лозунга «Мы — немецкие евреи!», звучавшего в
1968 г., или ценой отказа считать себя французом в годы алжирской войны).
Выходит, что Рансьер ищет политику в стихии ее отсутствия. Так ли
уж важны все его тончайшие выкладки для реальной политики? —
спрашивает А. Бадью. Они, разумеется, важны для критики парламентской
демократии
(«капитало-парламентариз-ма»)
и
для
исторической
герменевтики понятий (таких, как пролетарий, рабочий, иммигрант и т. д.).
Но позитивную программу Рансьера Бадью считает путаной и недостаточно
внятной, из-за чего возникает мысль о том, что Рансьер — вольно или
невольно — принадлежит к тем самым отрицателям политики, против
которых выступает сам. Рансьер пытается заменить политику хитроумной и
изящной политической философией, попадая тем самым в почтенную
компанию критикуемых им политических философов, например, таких, как
Ханна Арендт.
Б. М. Скуратов
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное. СПб.; М.: Machi-па, 2004.
2
Наст. изд. С. 207.
3
Бадью А. Можно ли мыслить метаполитику? Краткий курс по
метаполитике. М.: Логос, 2005. С. 189—203.
Жак Рансьер НА КРАЮ ПОЛИТИЧЕСКОГО
Перевод с франц. Б. М. Скуратова
Редактор А. Большаков Оформление обложки А. Кулагин Макет и верстка А. В.
Иванченко
Издательская группа «Праксис» ИД № 02945 от 03.10.2000
Подписано в печать 08.02.2006. Формат 84 х 108/32
Бумага офсетная. Печать офсетная
Тираж 2000 экз. Заказ 420
ООО «Издательская и консалтинговая группа „ПРАКСИС": 127486, Москва,
Коровинское шоссе, д. 9, корп. 2
http://www.praxis.su
http://www.politizdat.ru
e-mail: praxis@hotbox.ru
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Типография „Новости"» 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 46
ISBN 5-901574-55-9