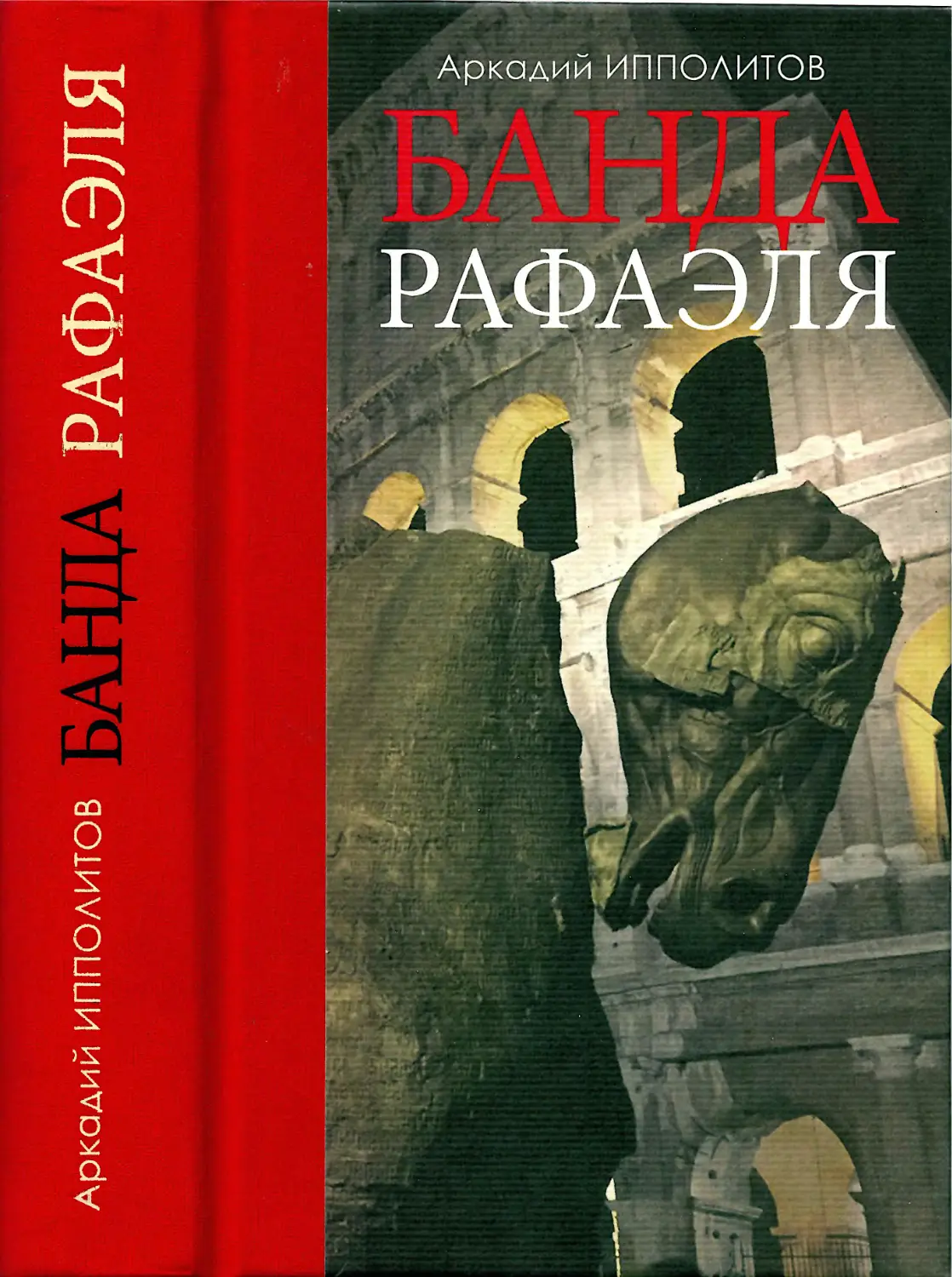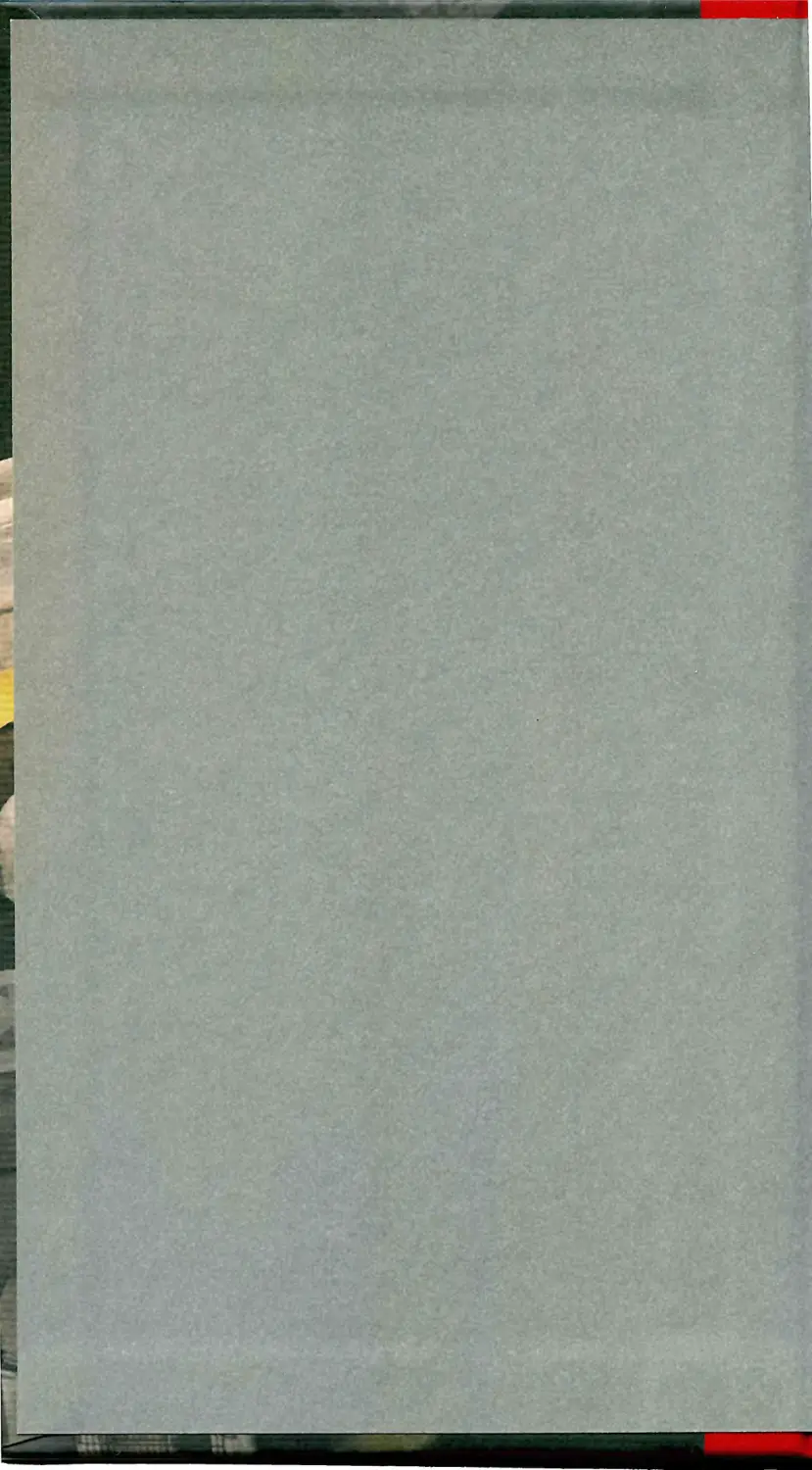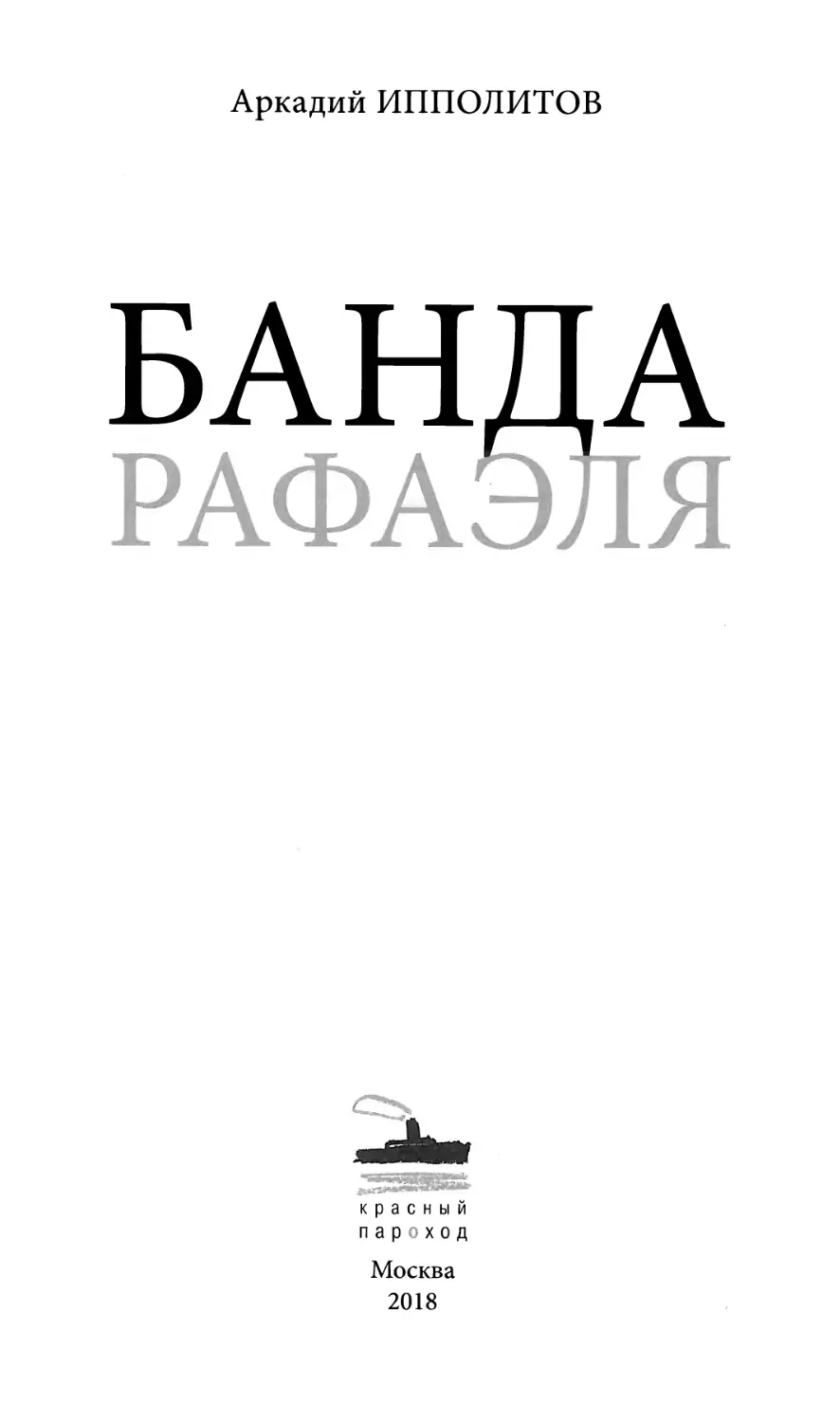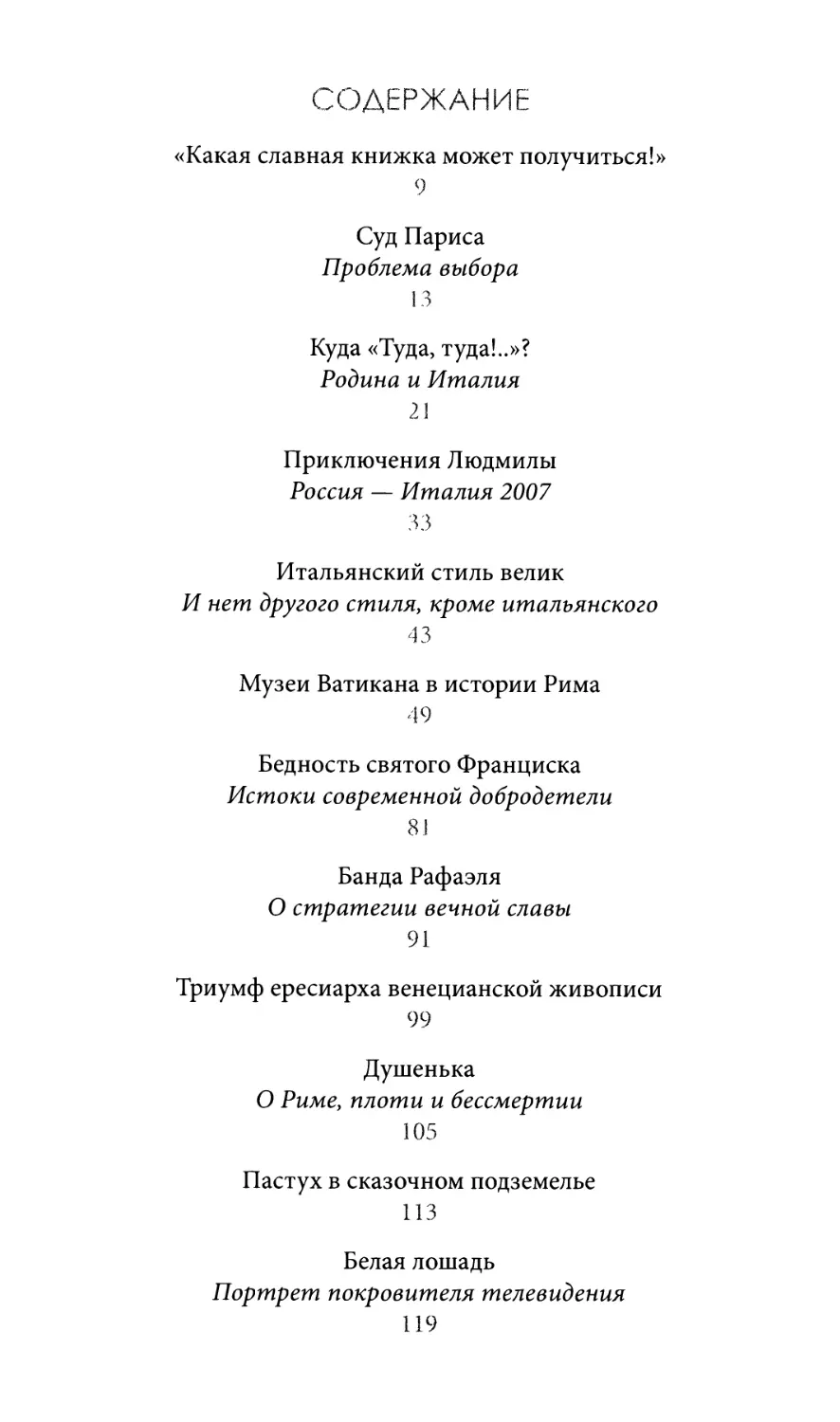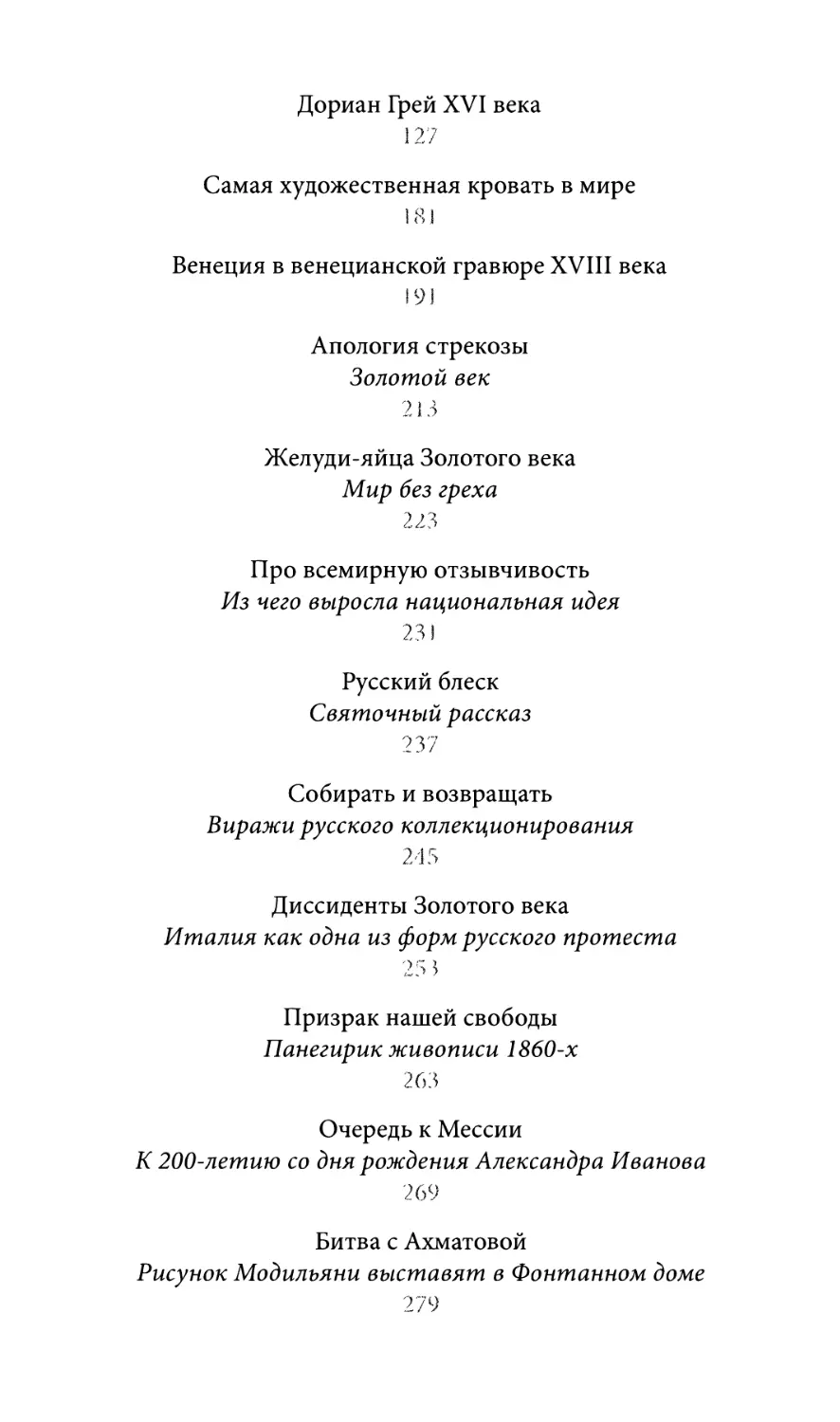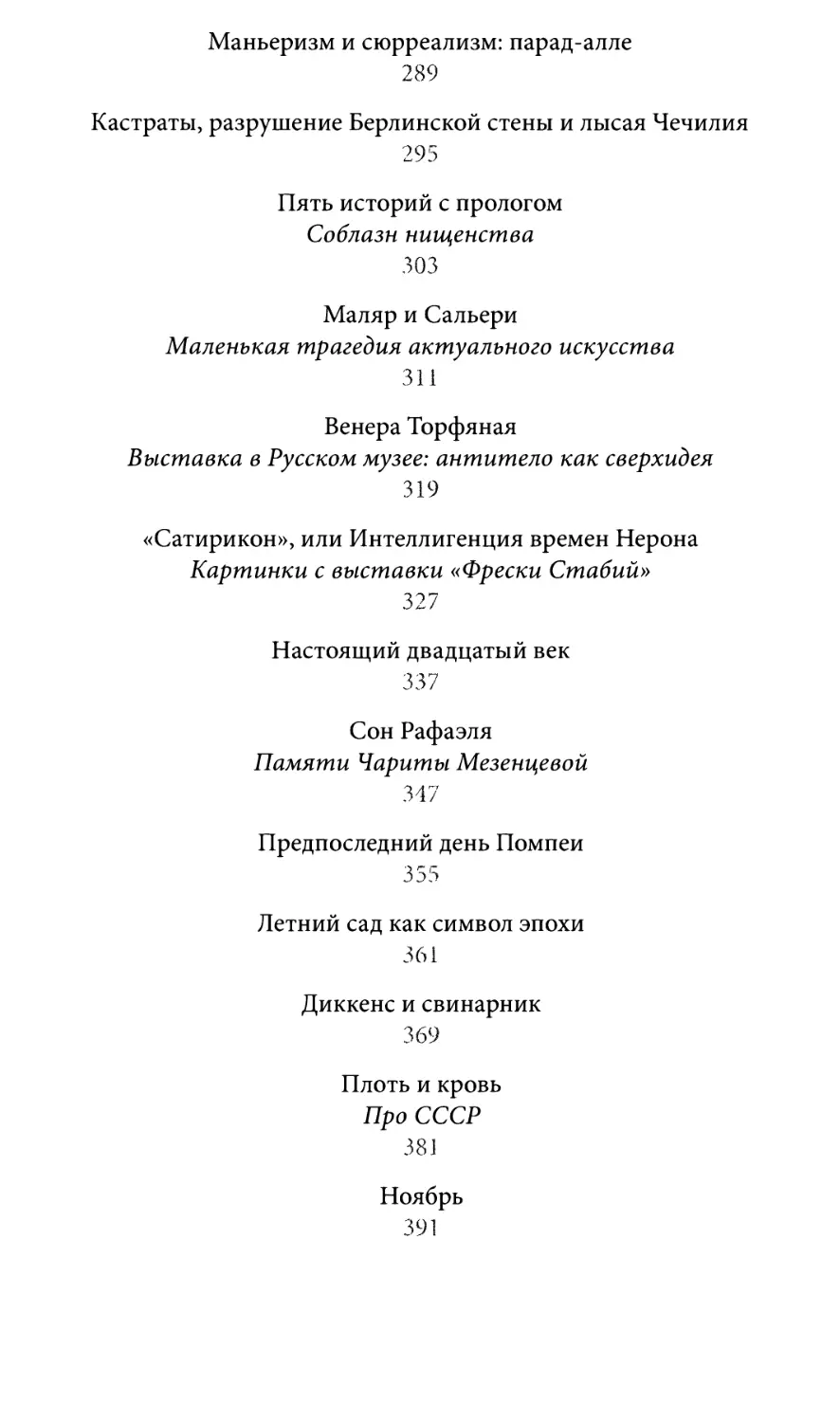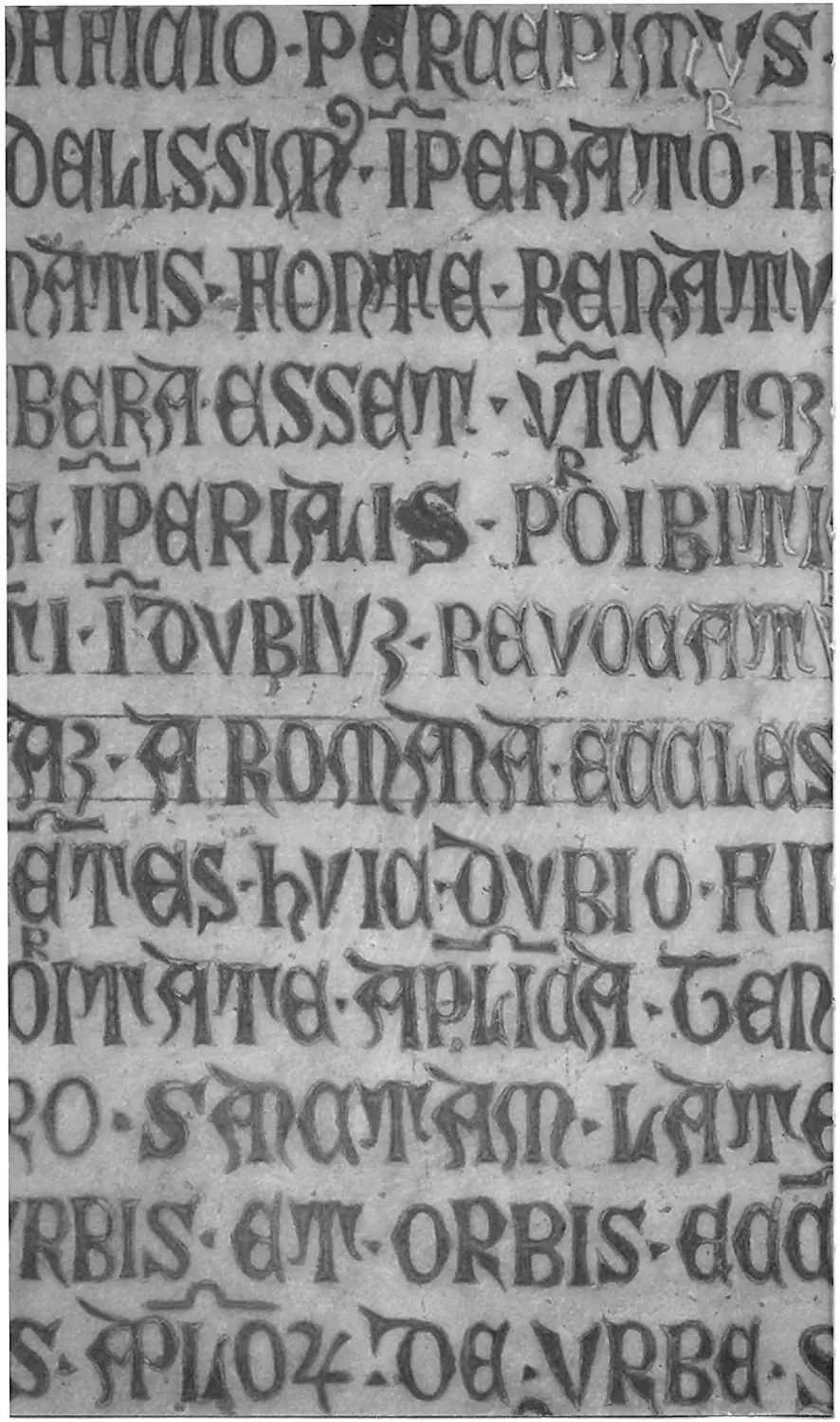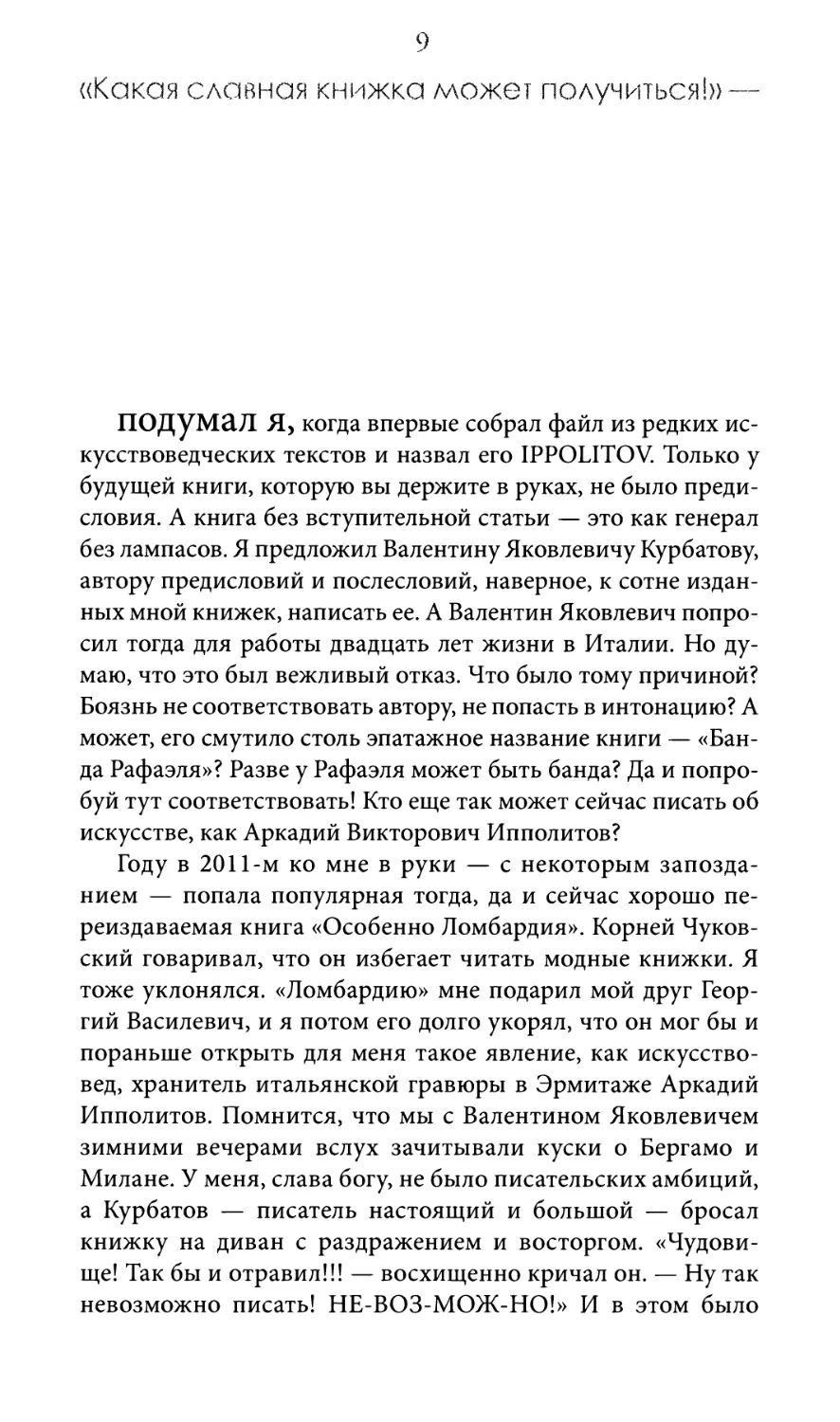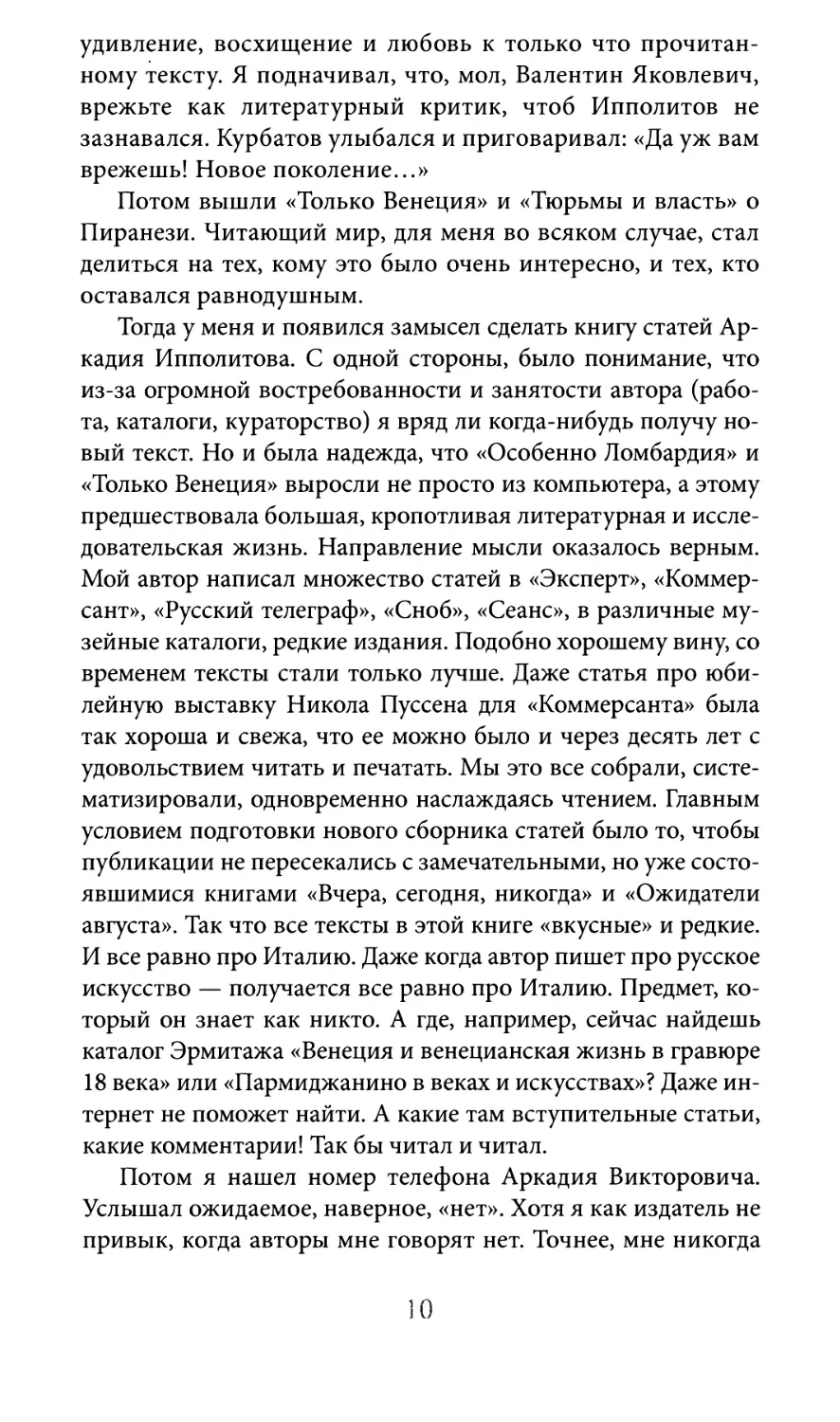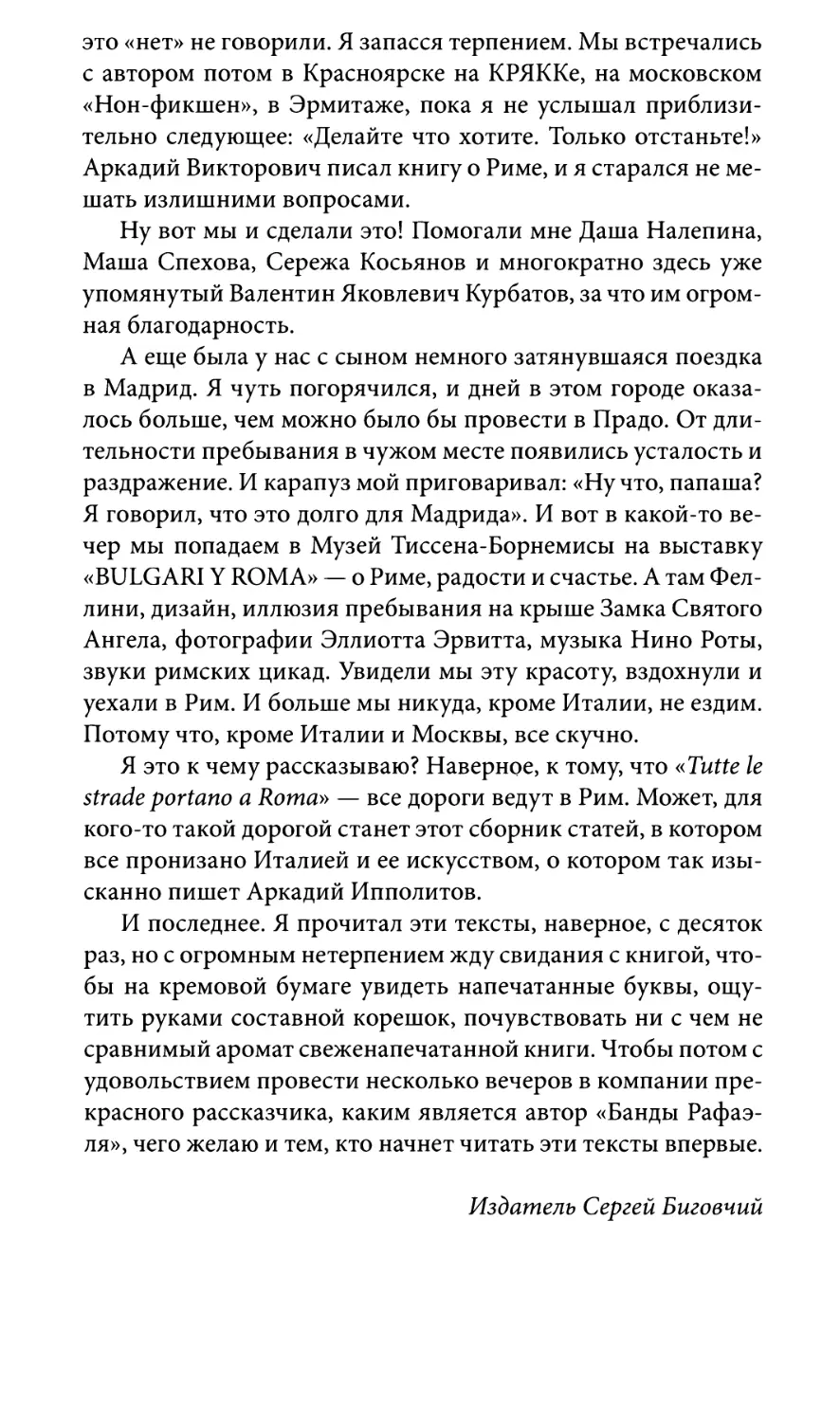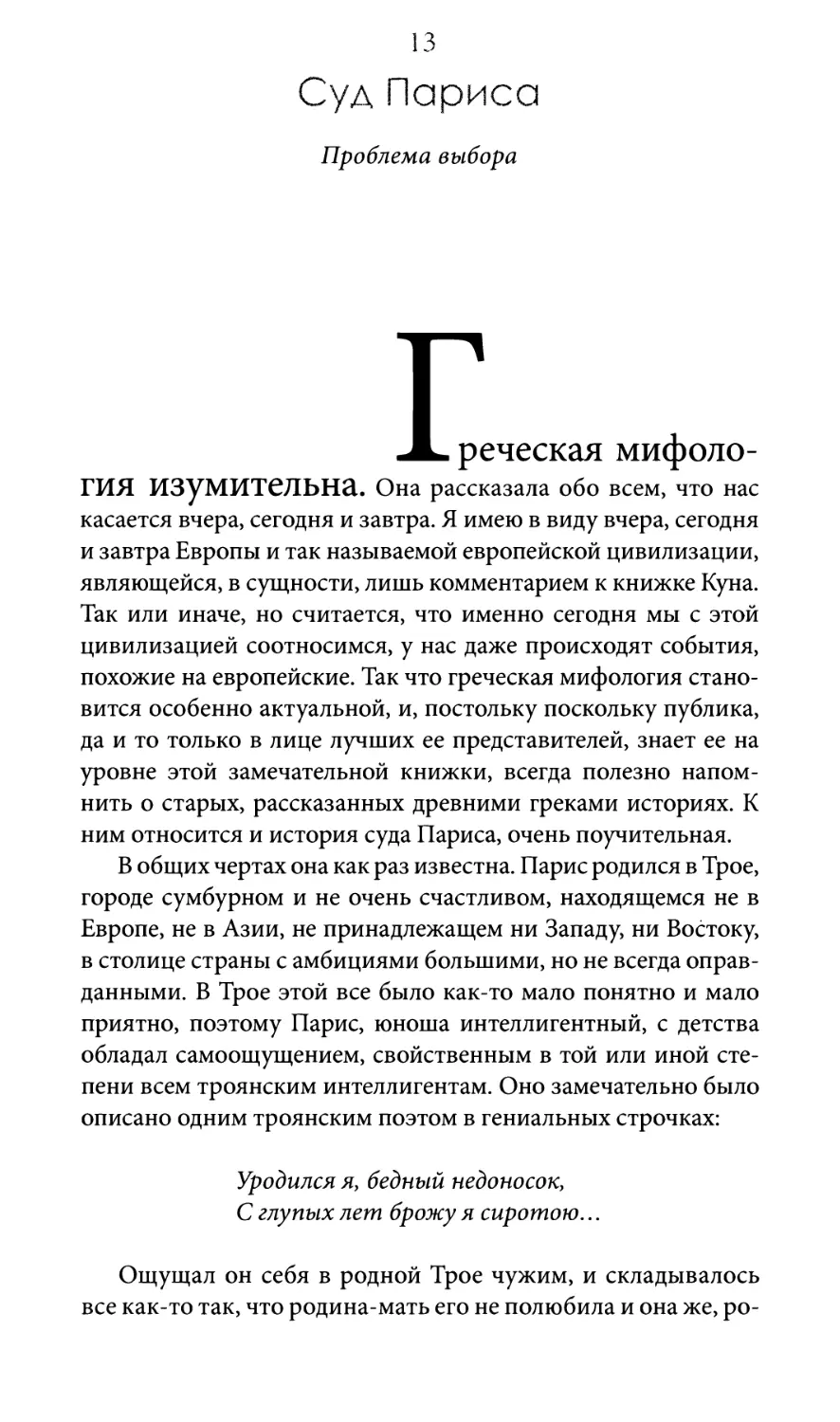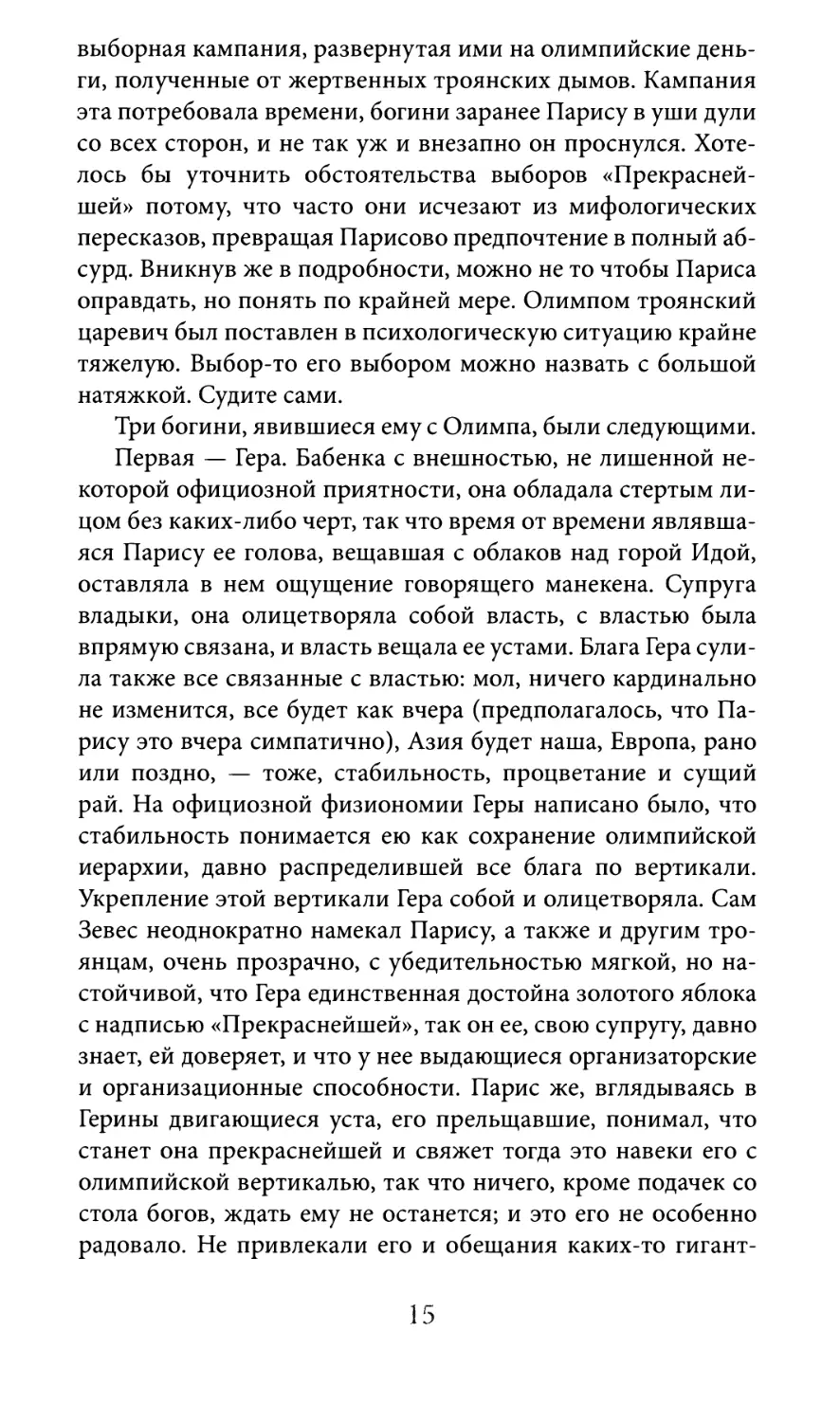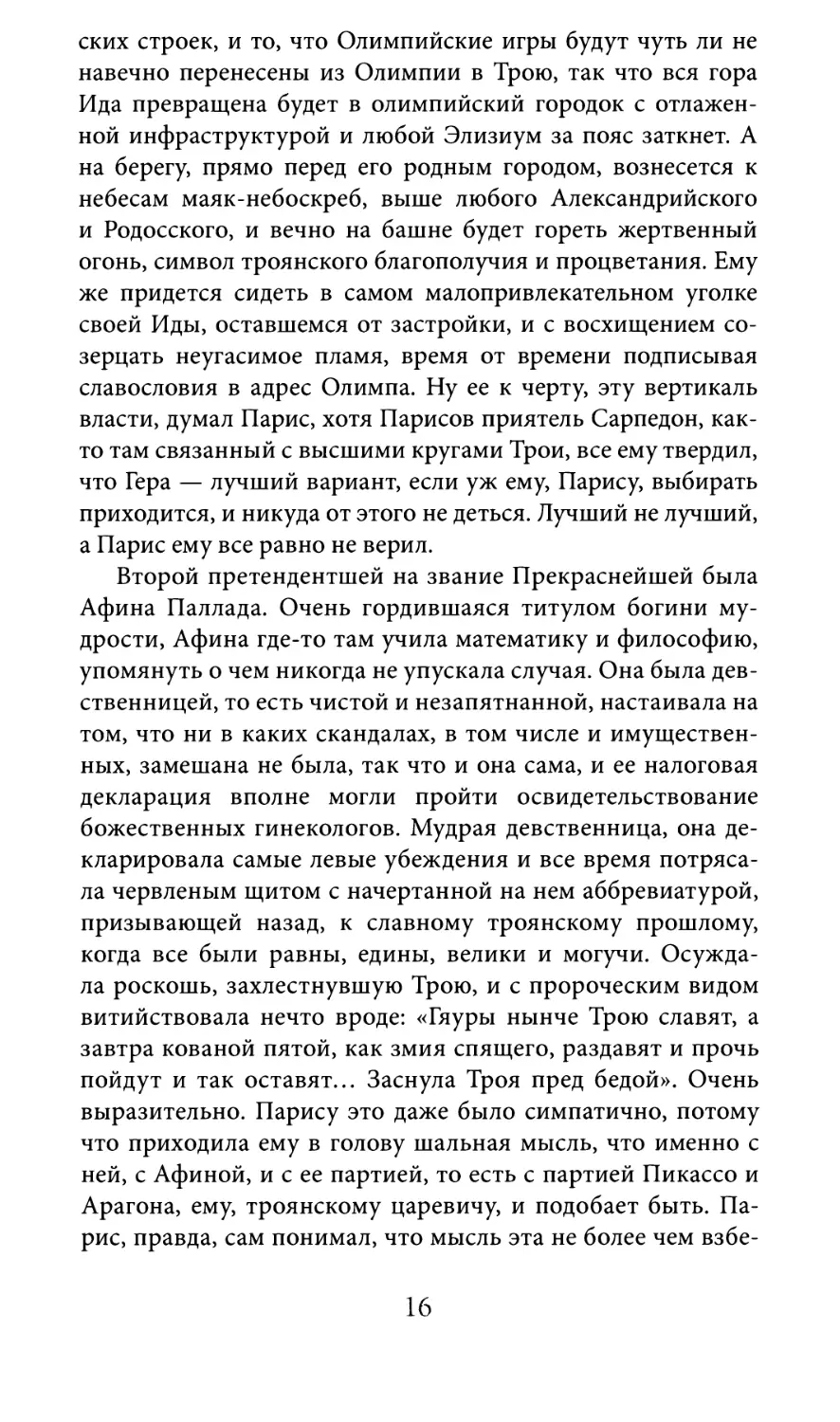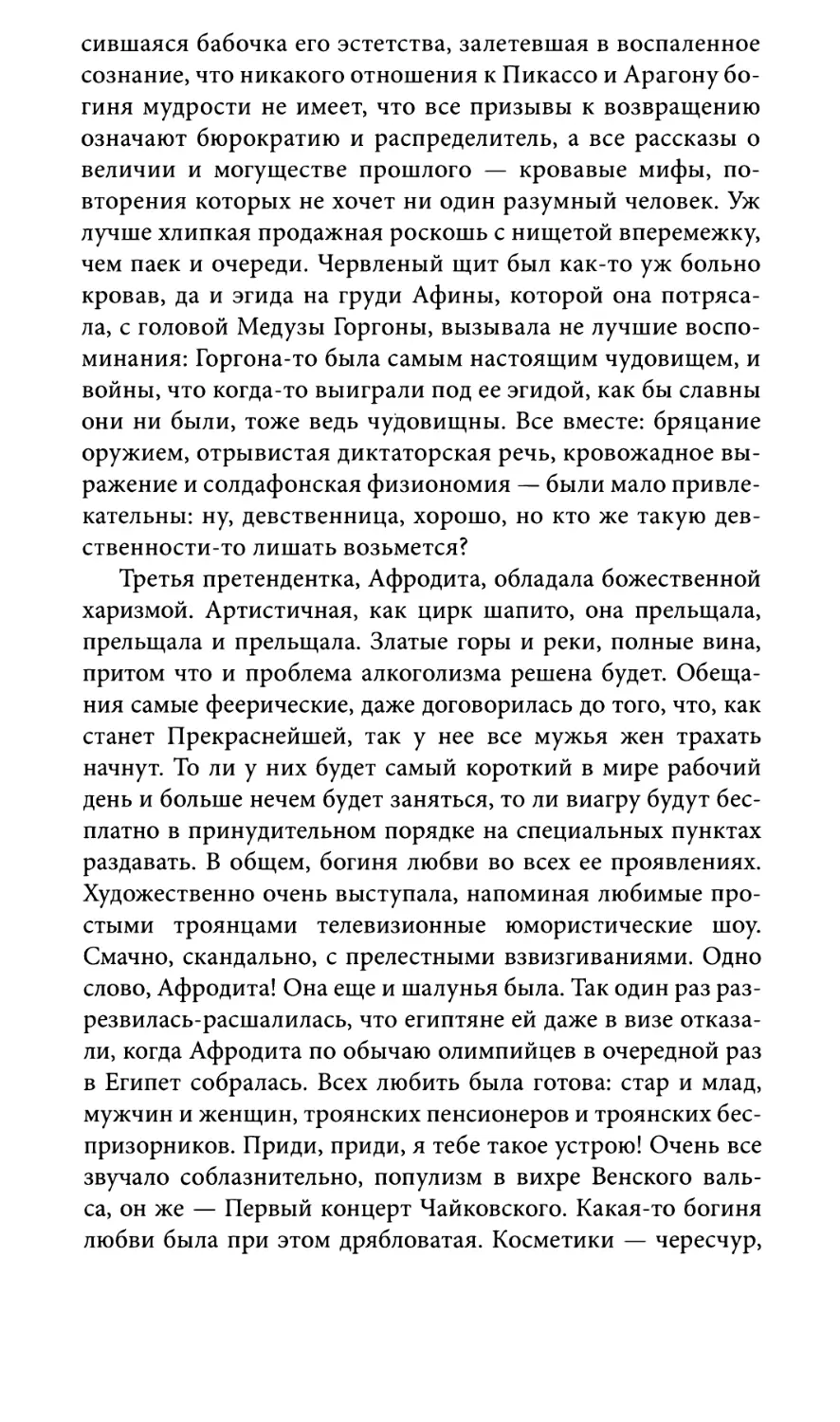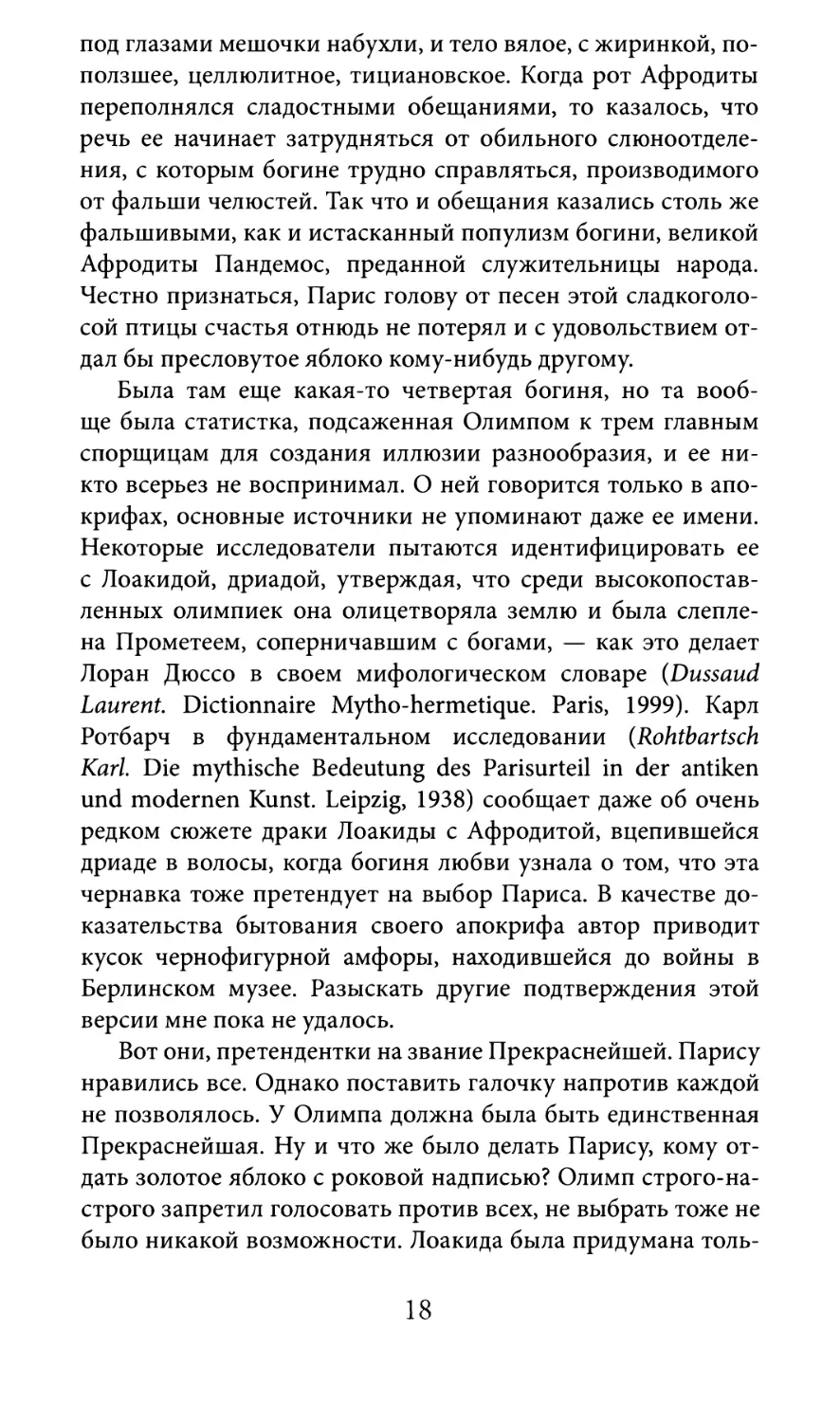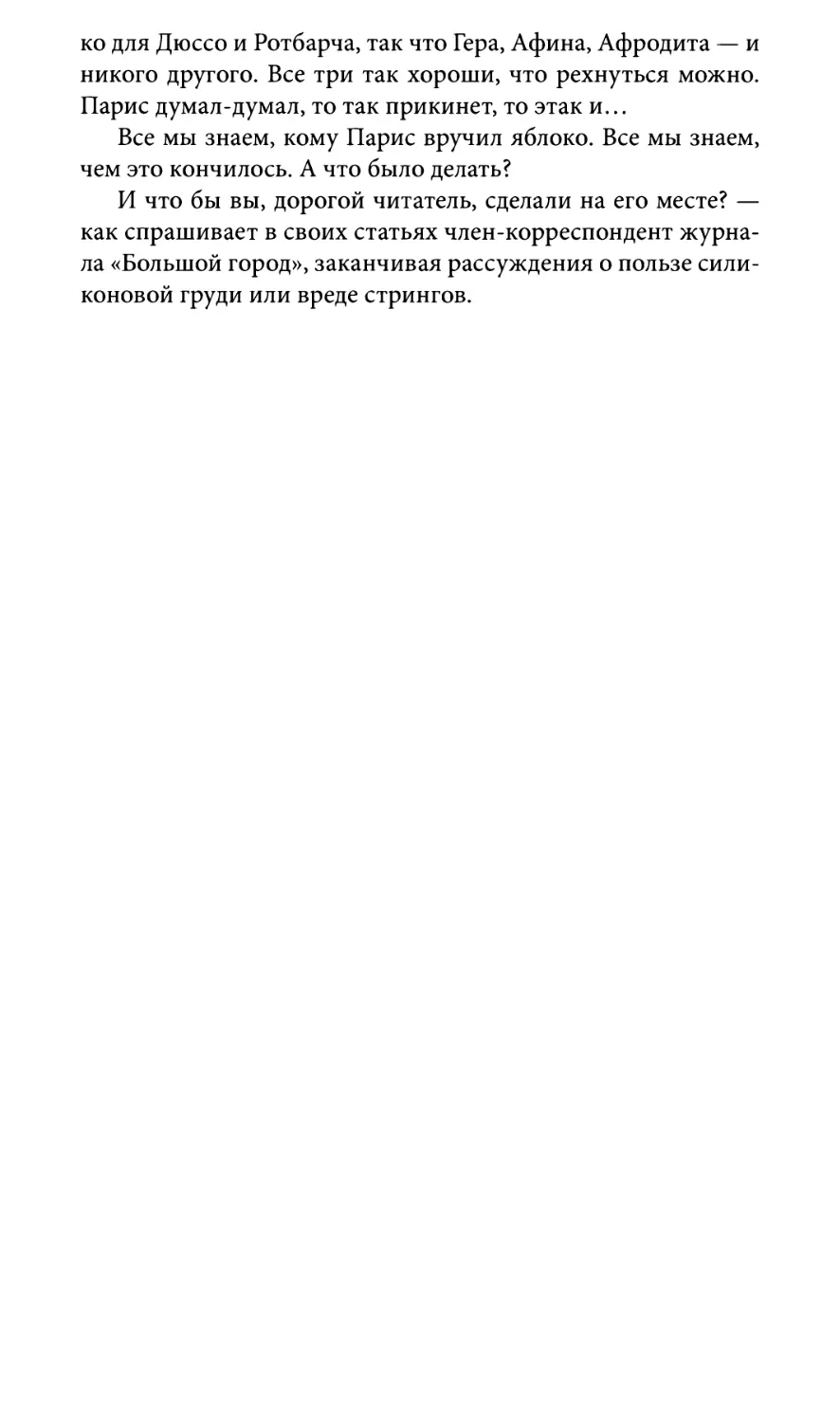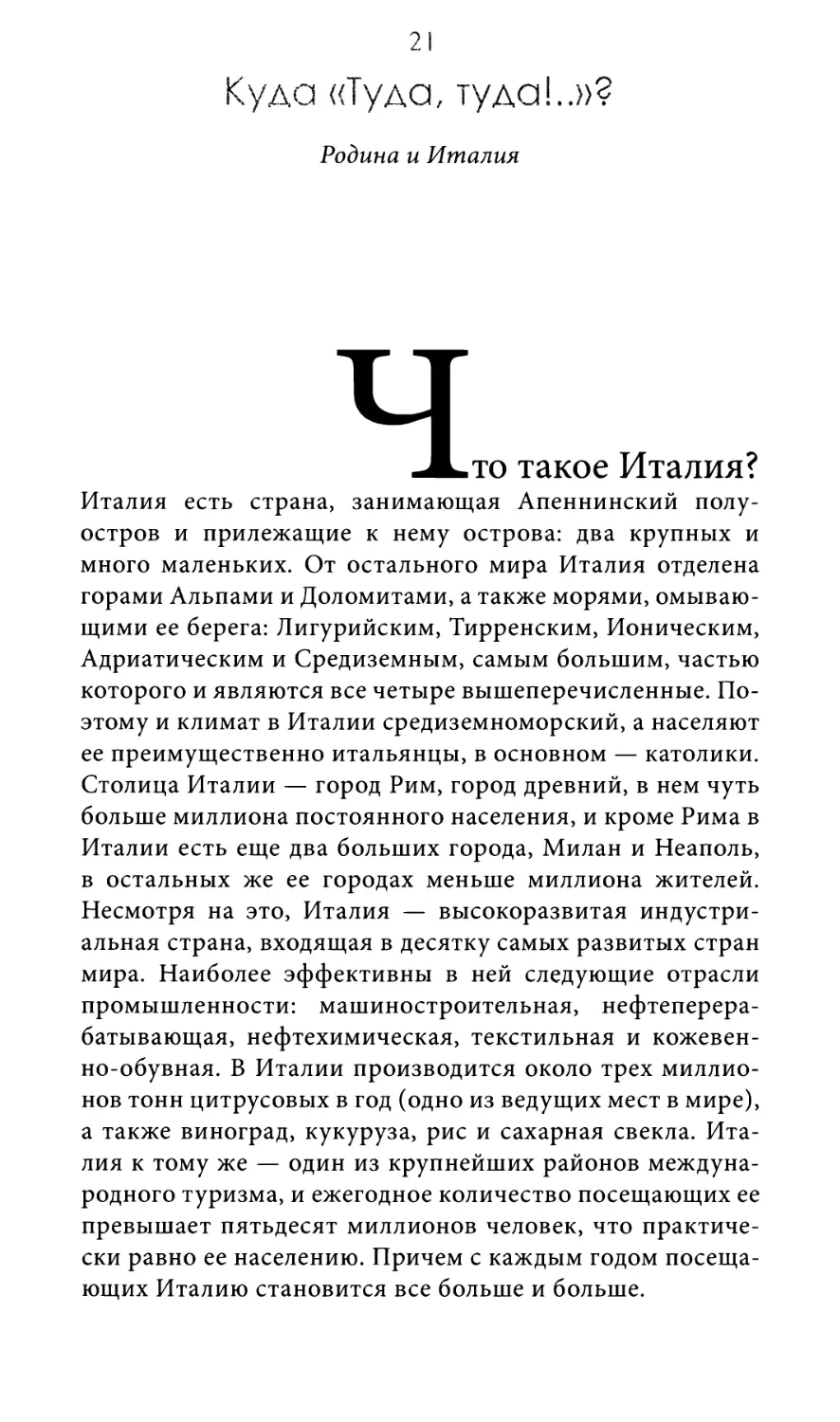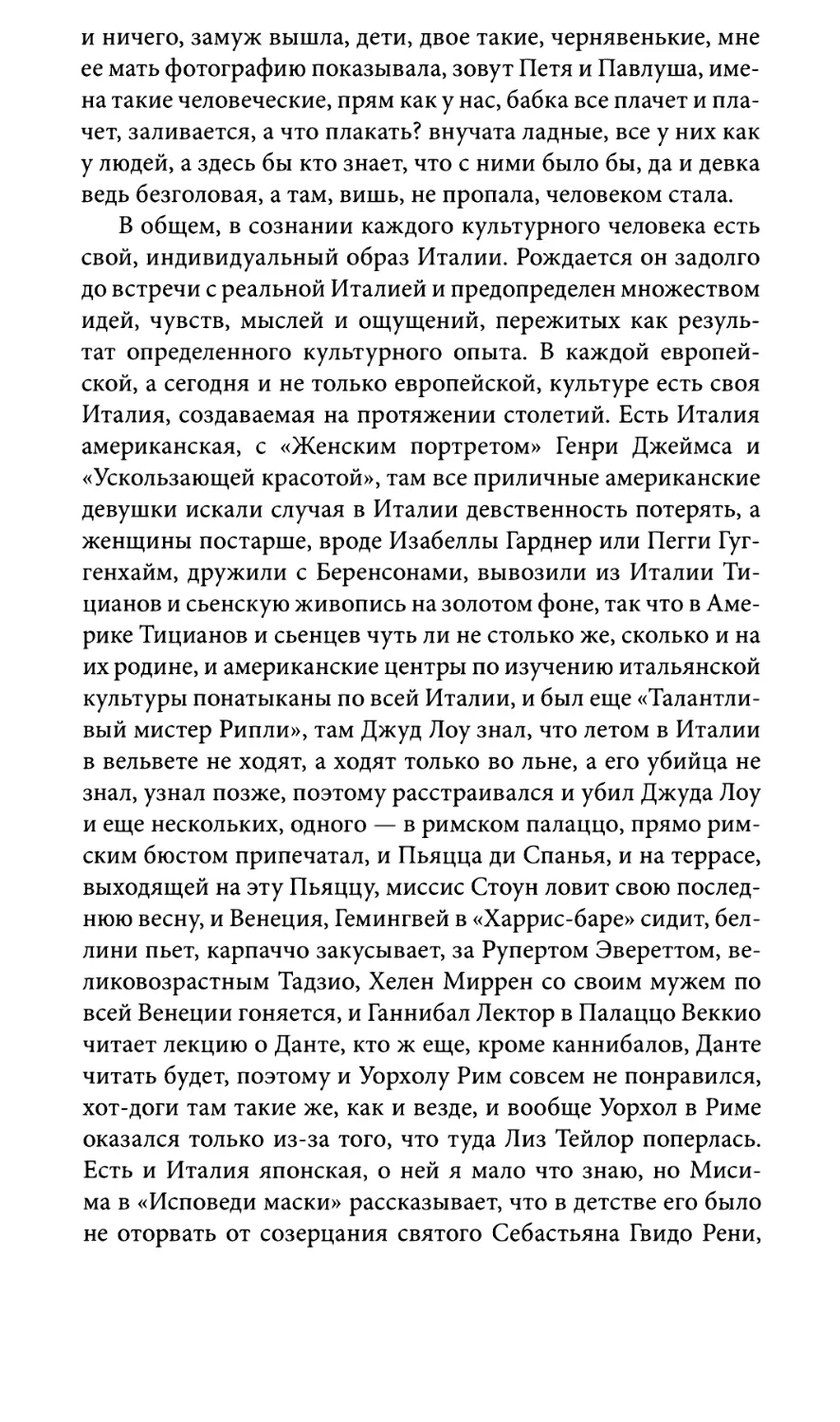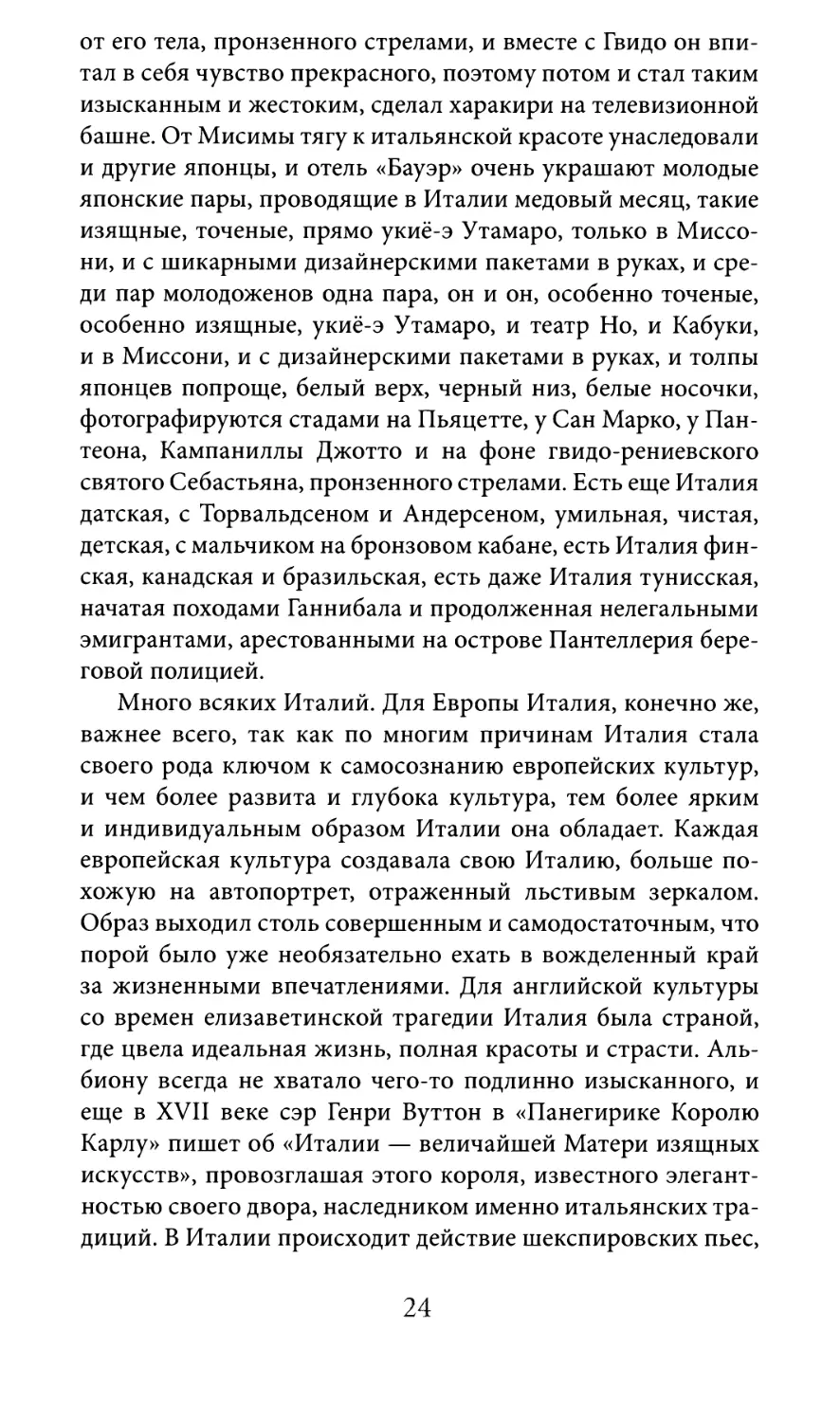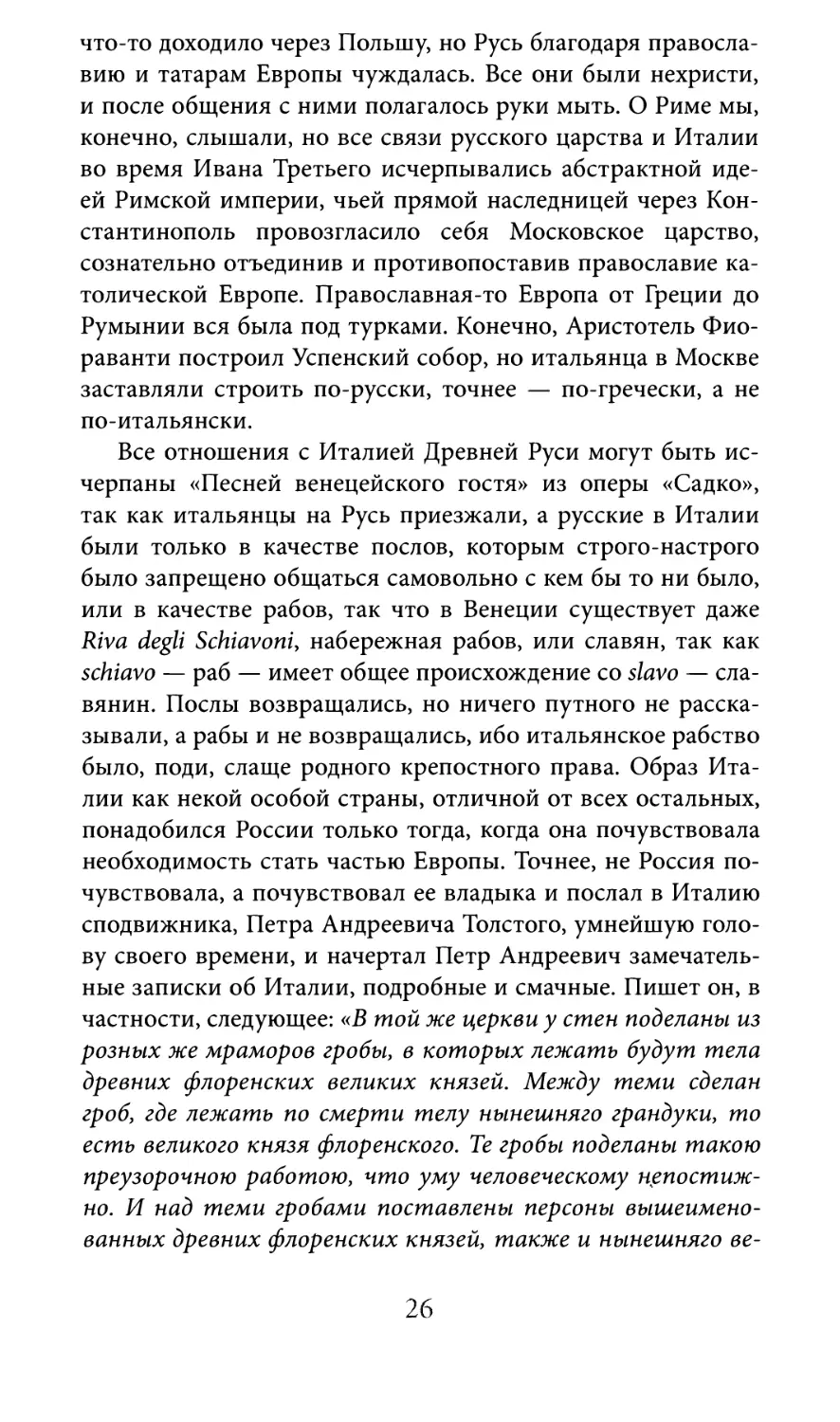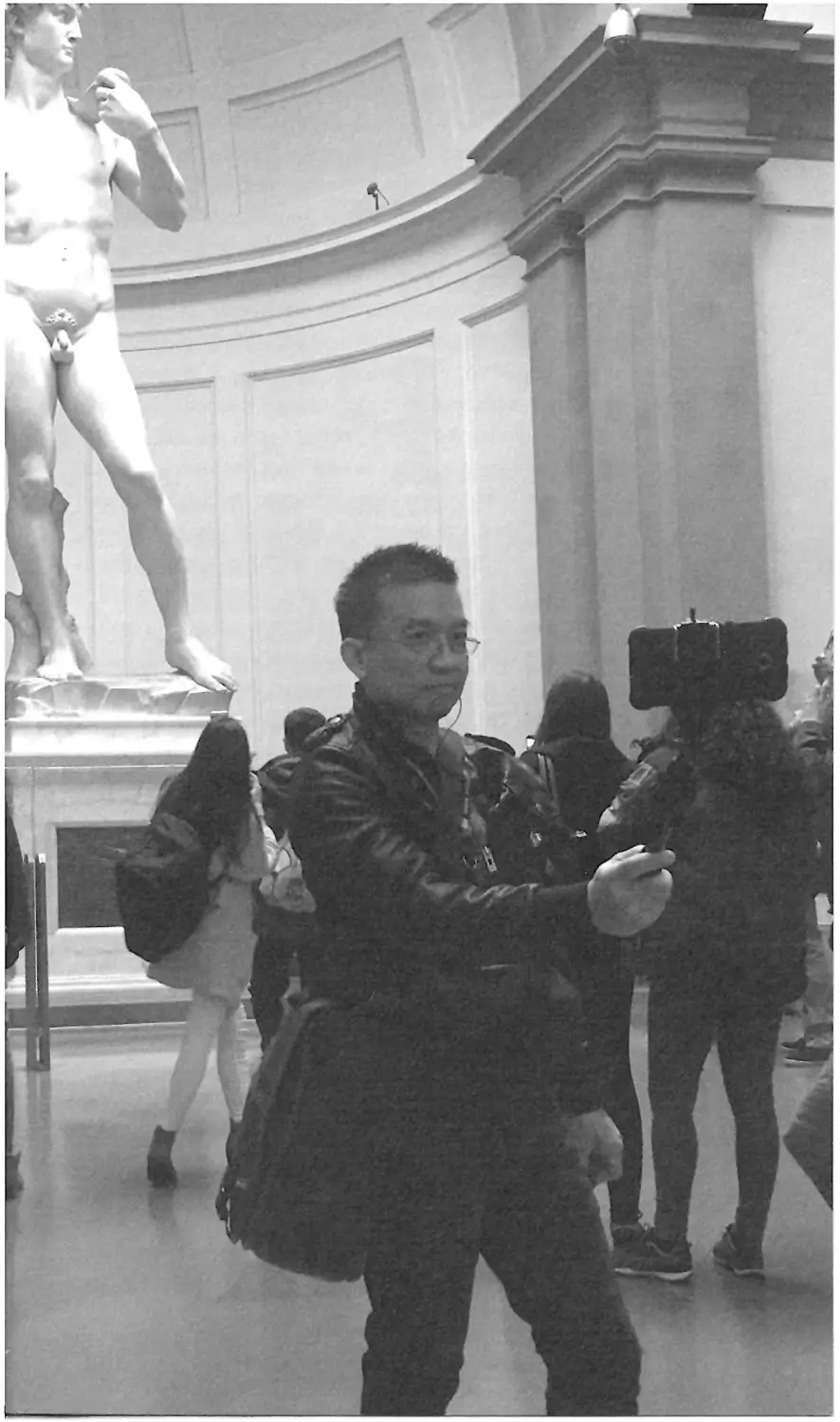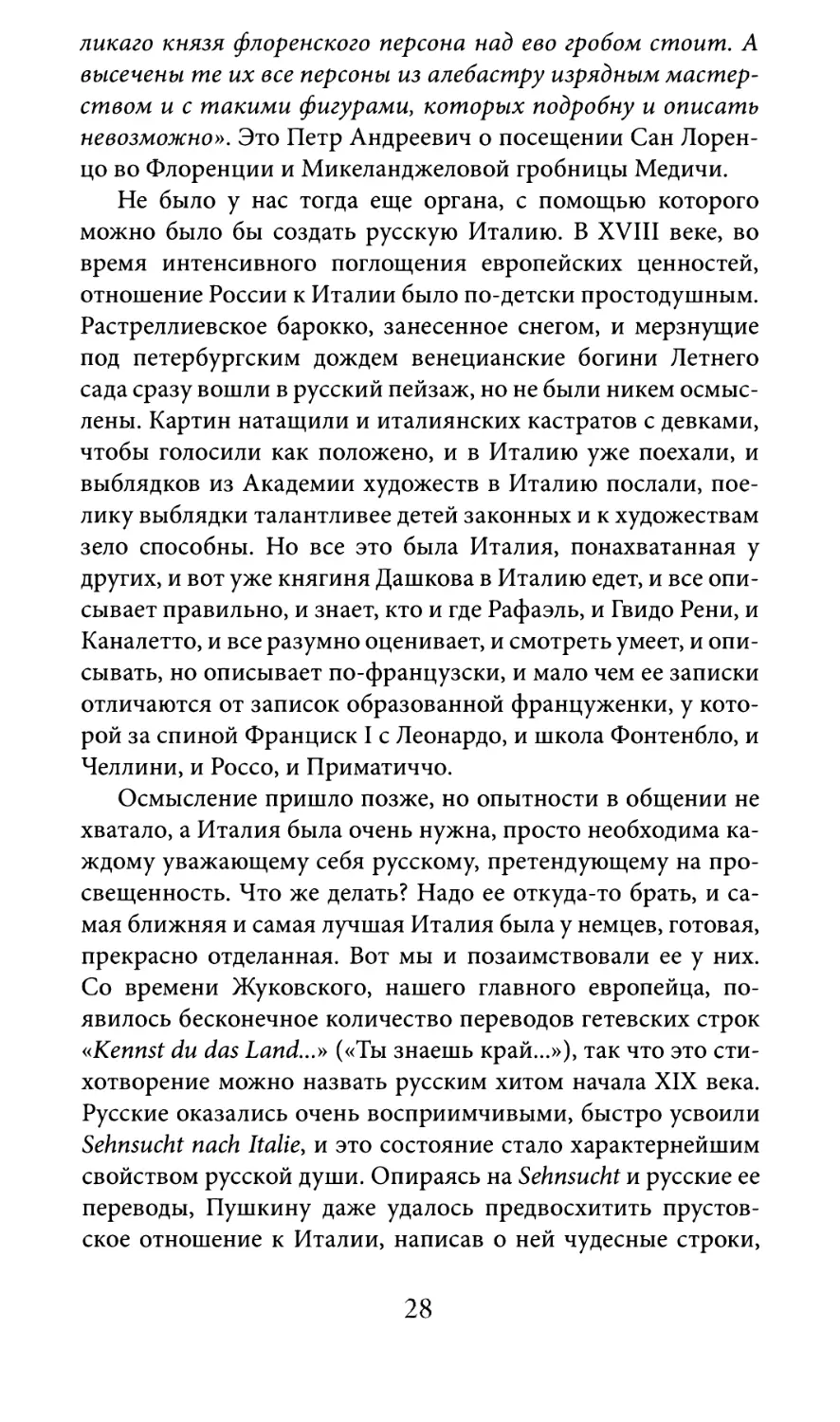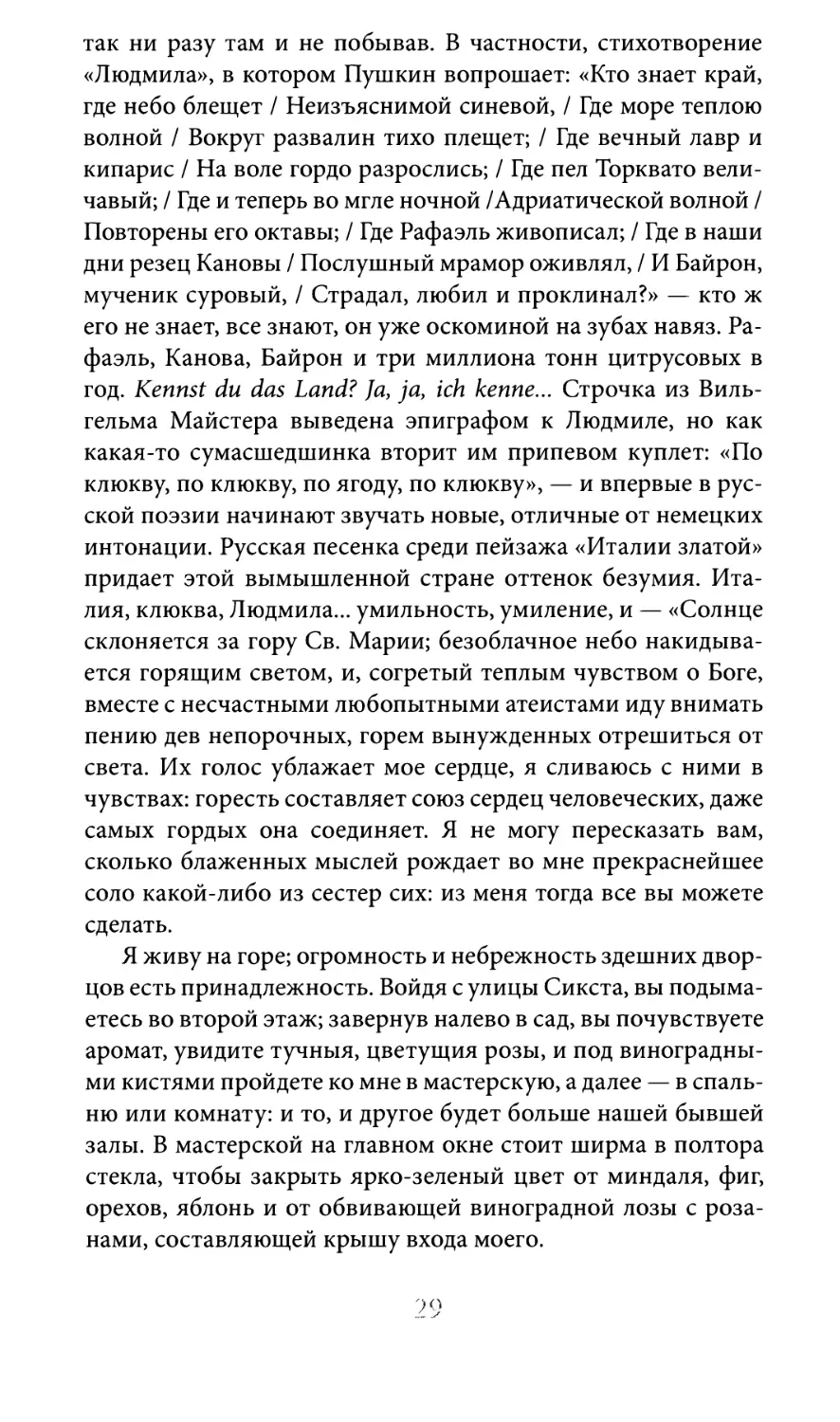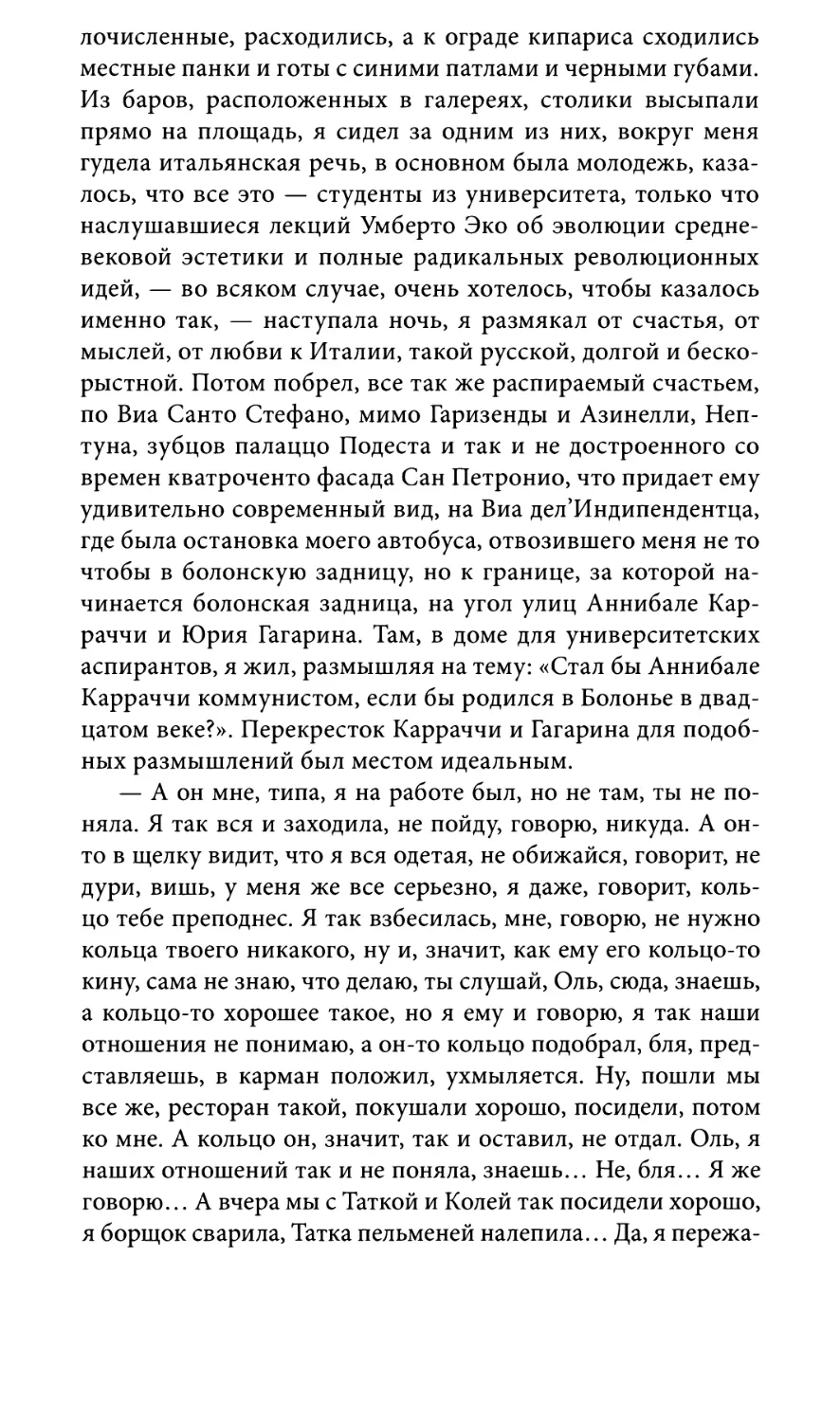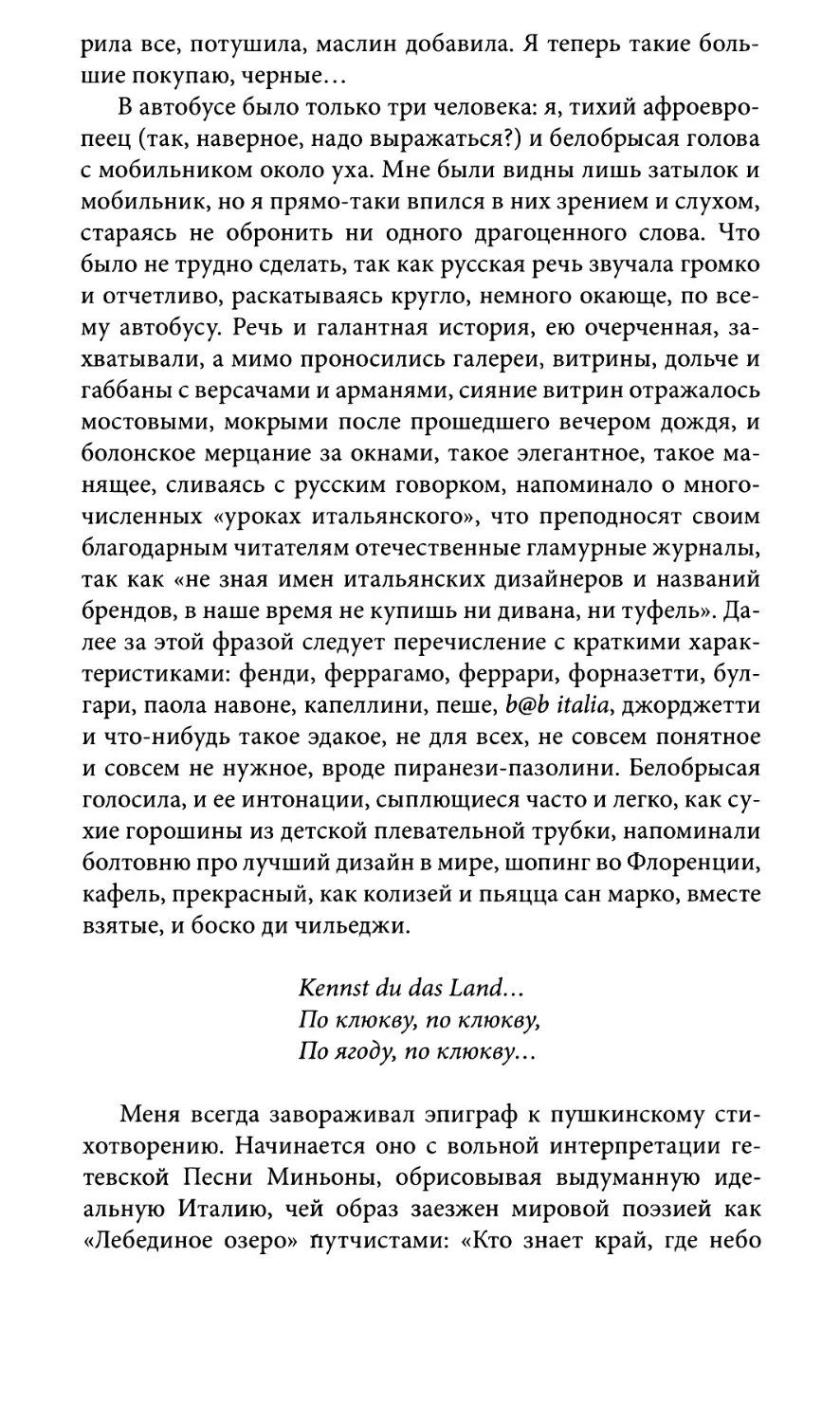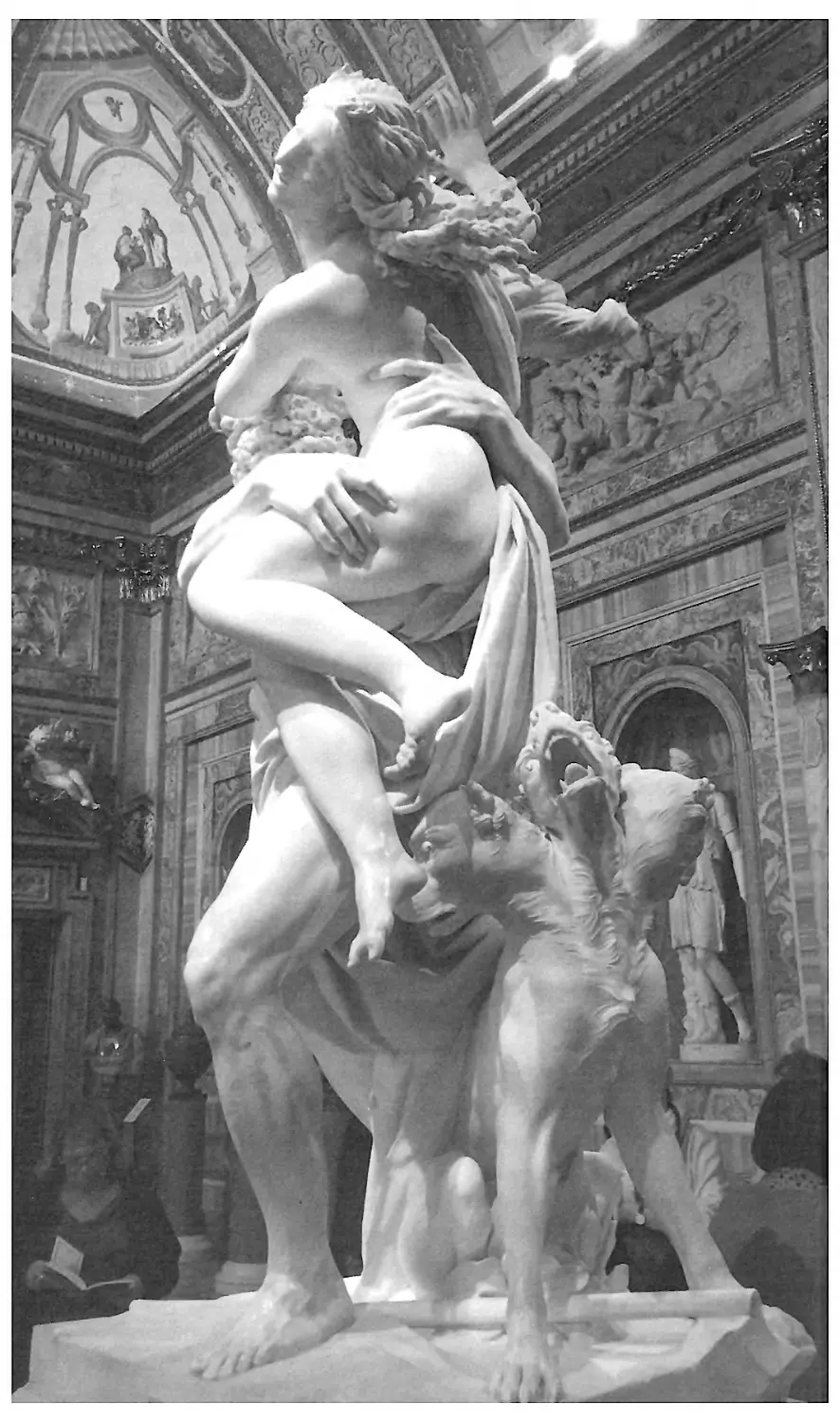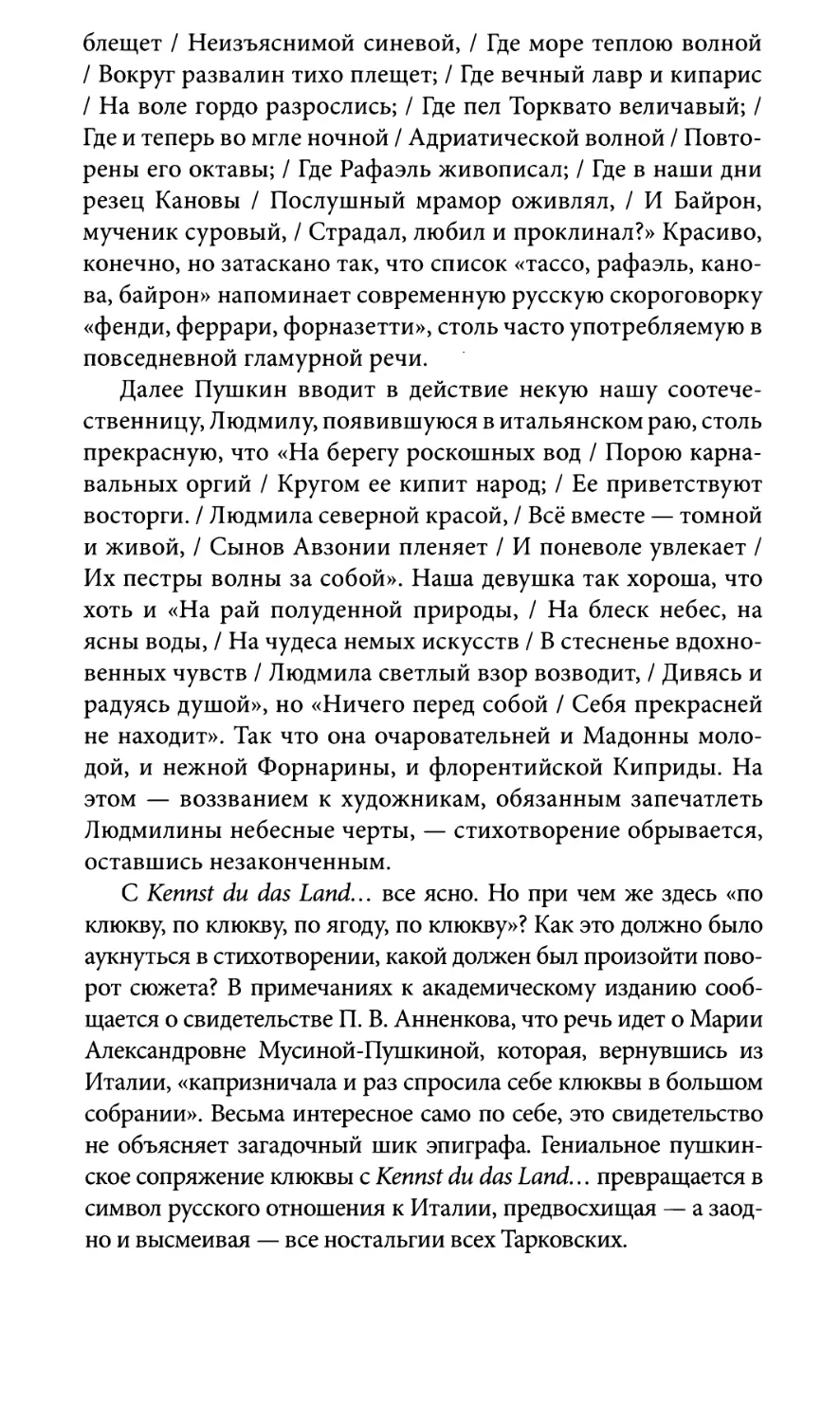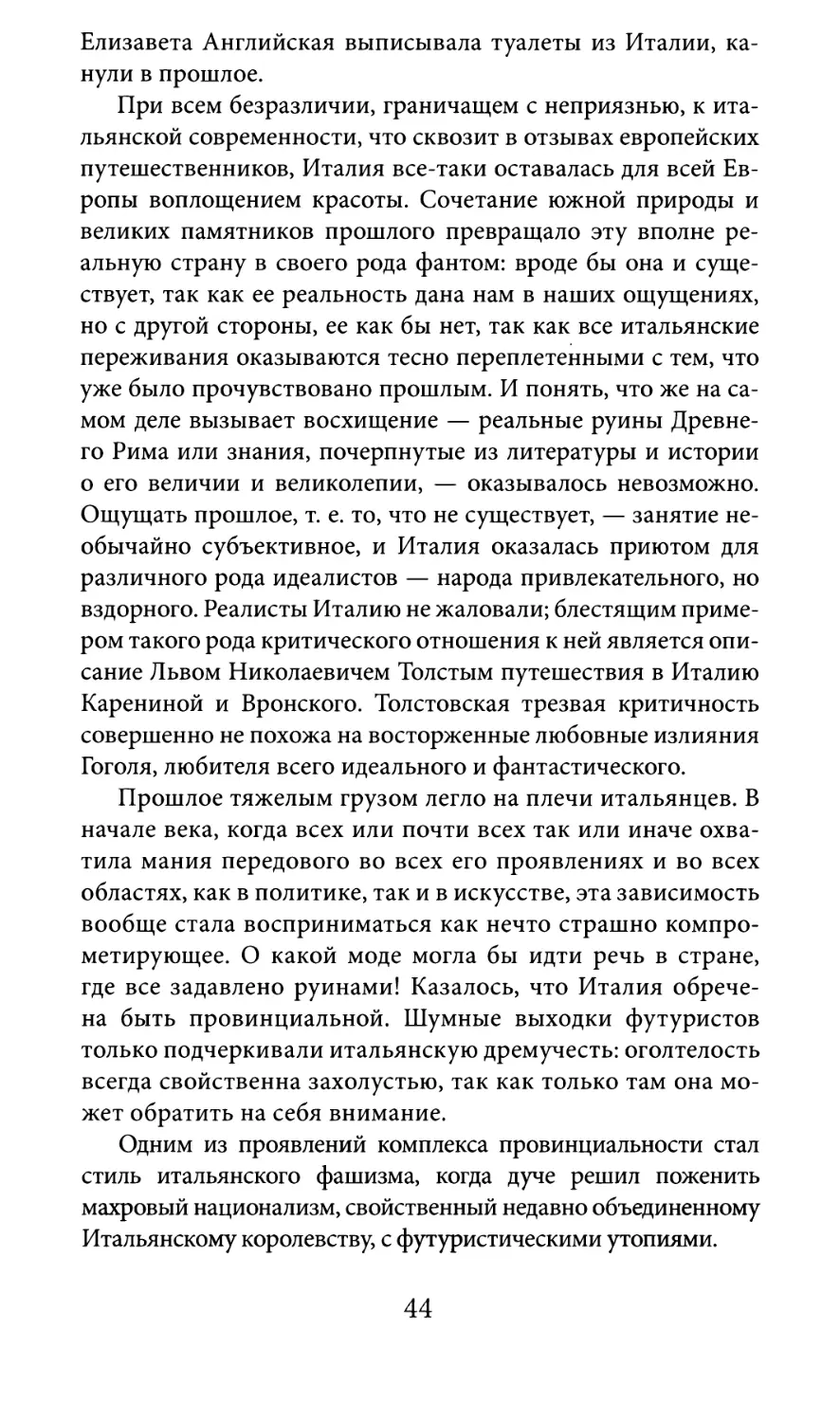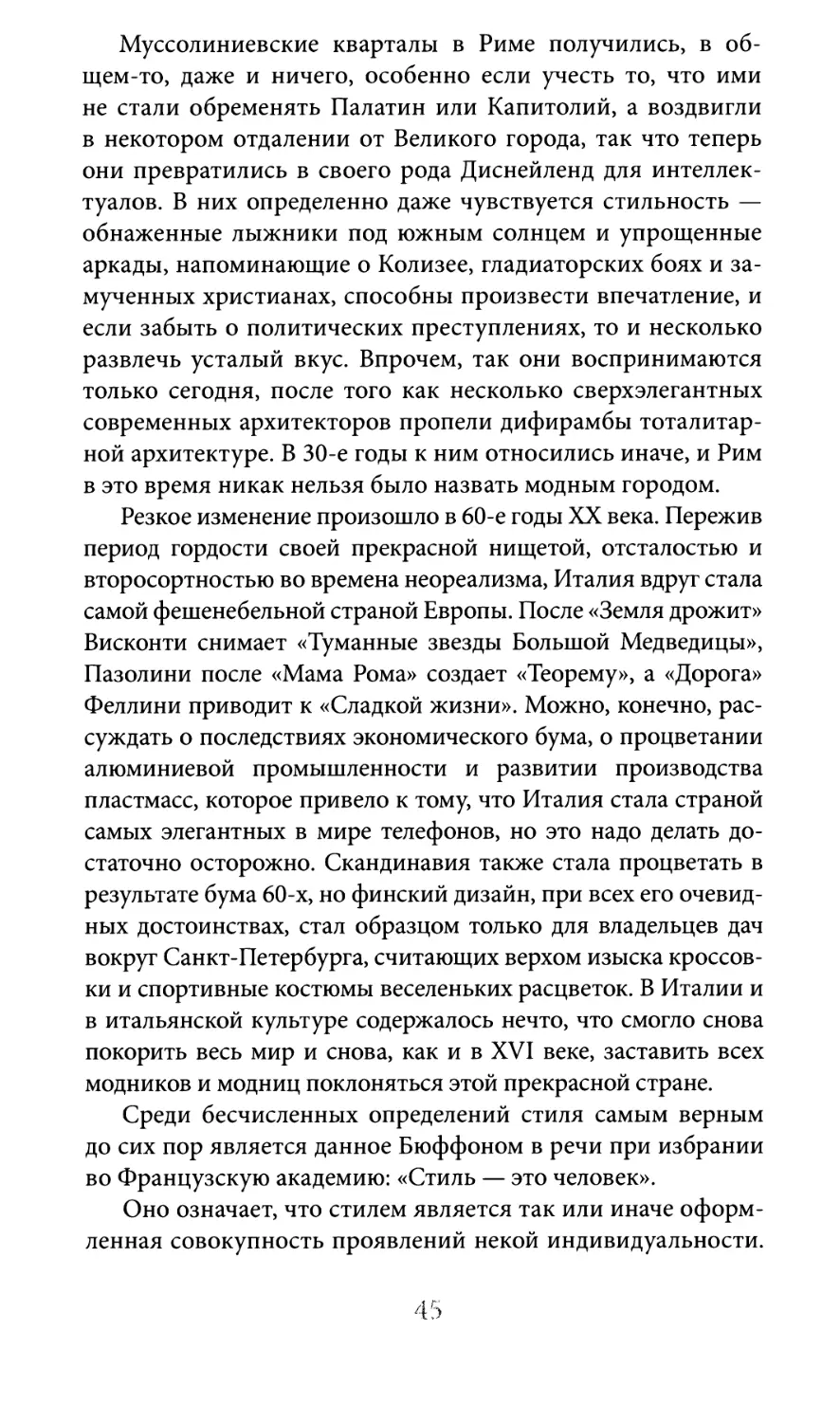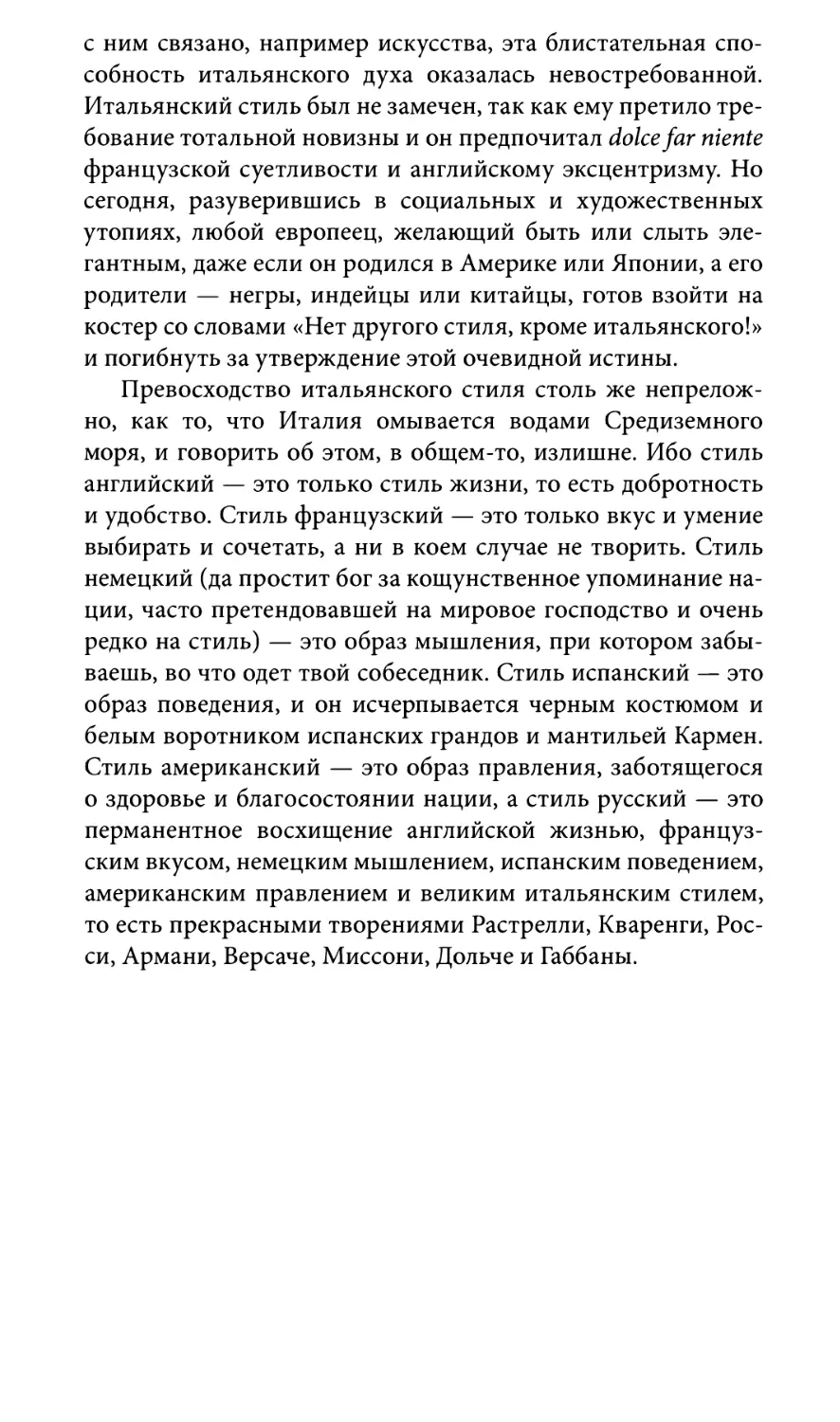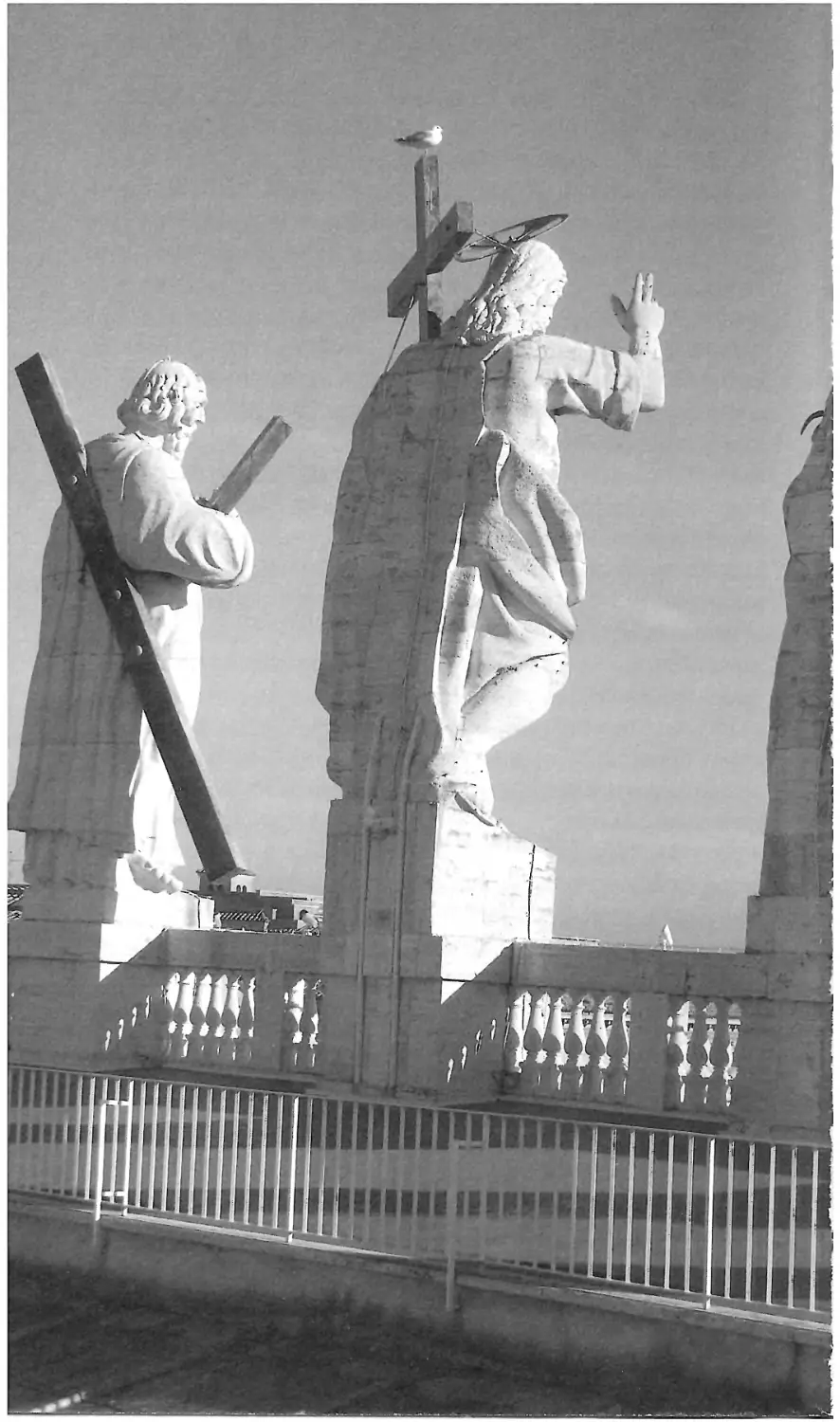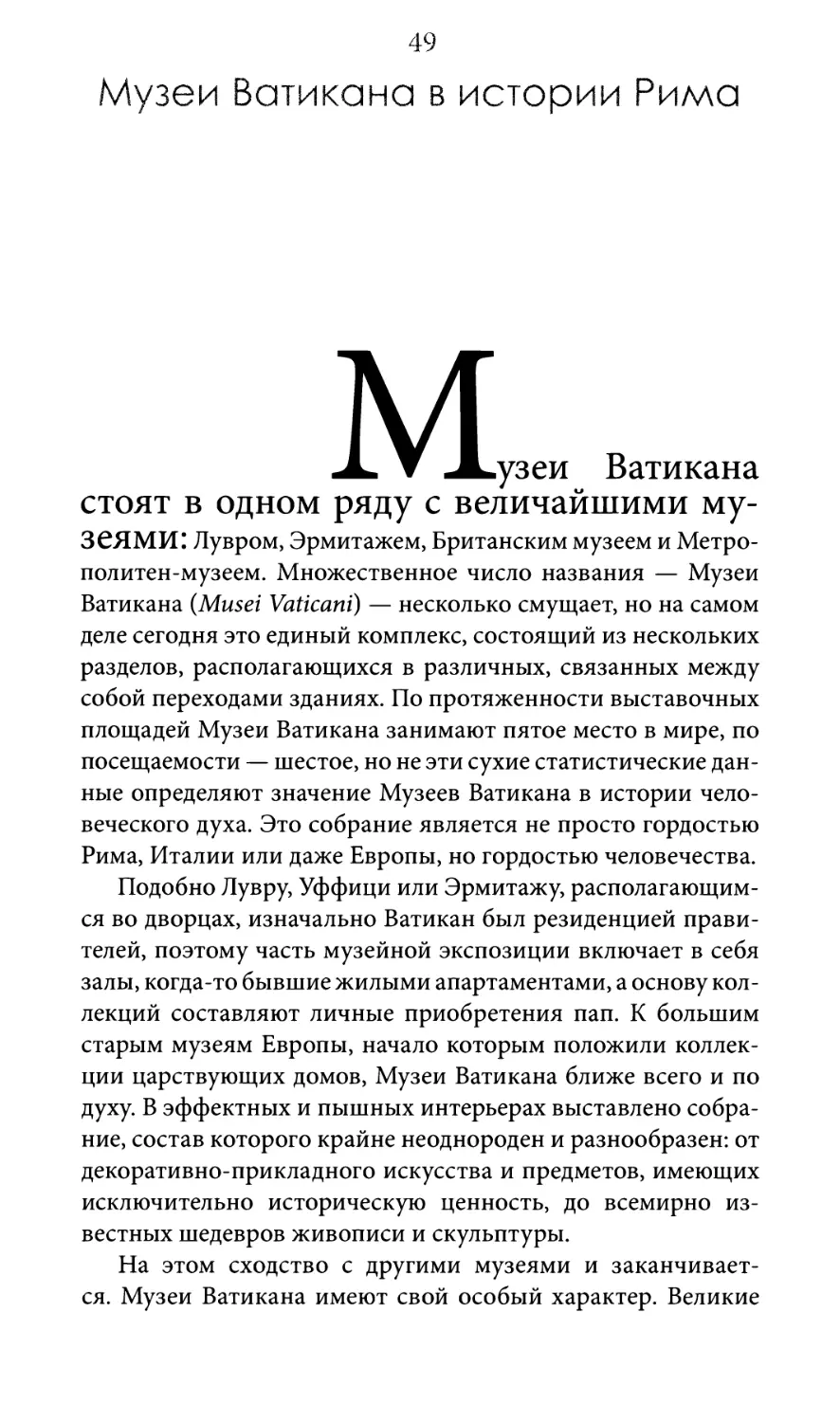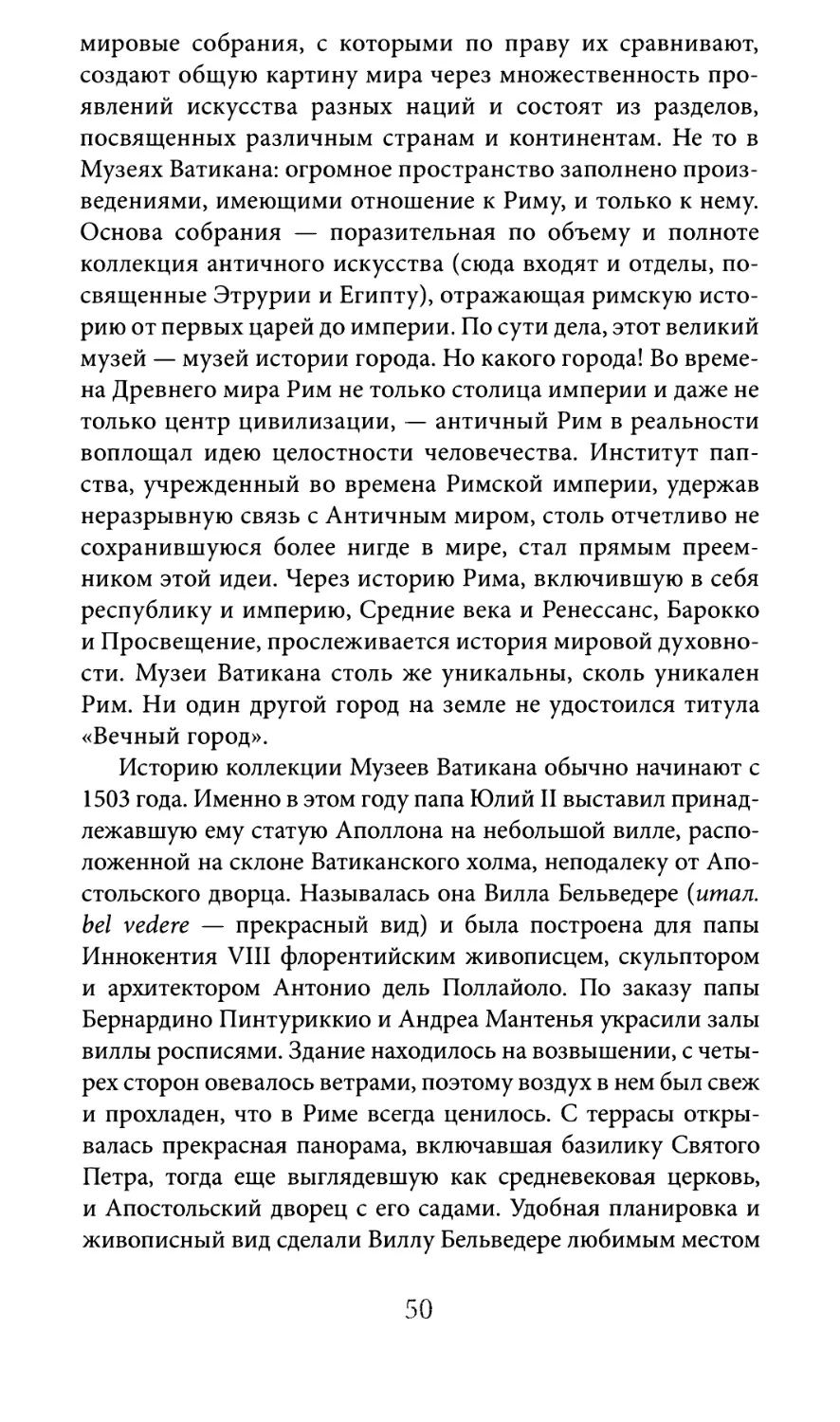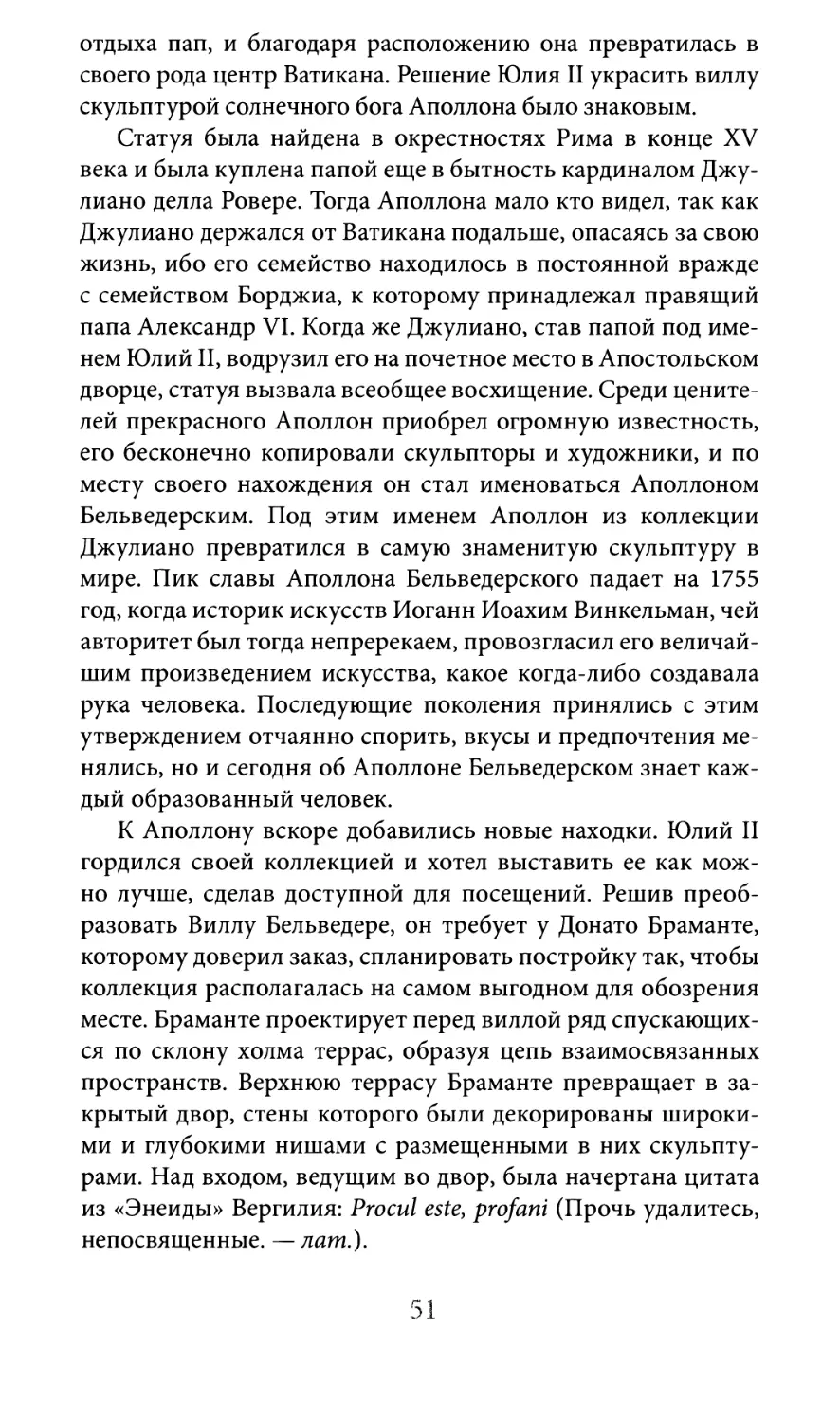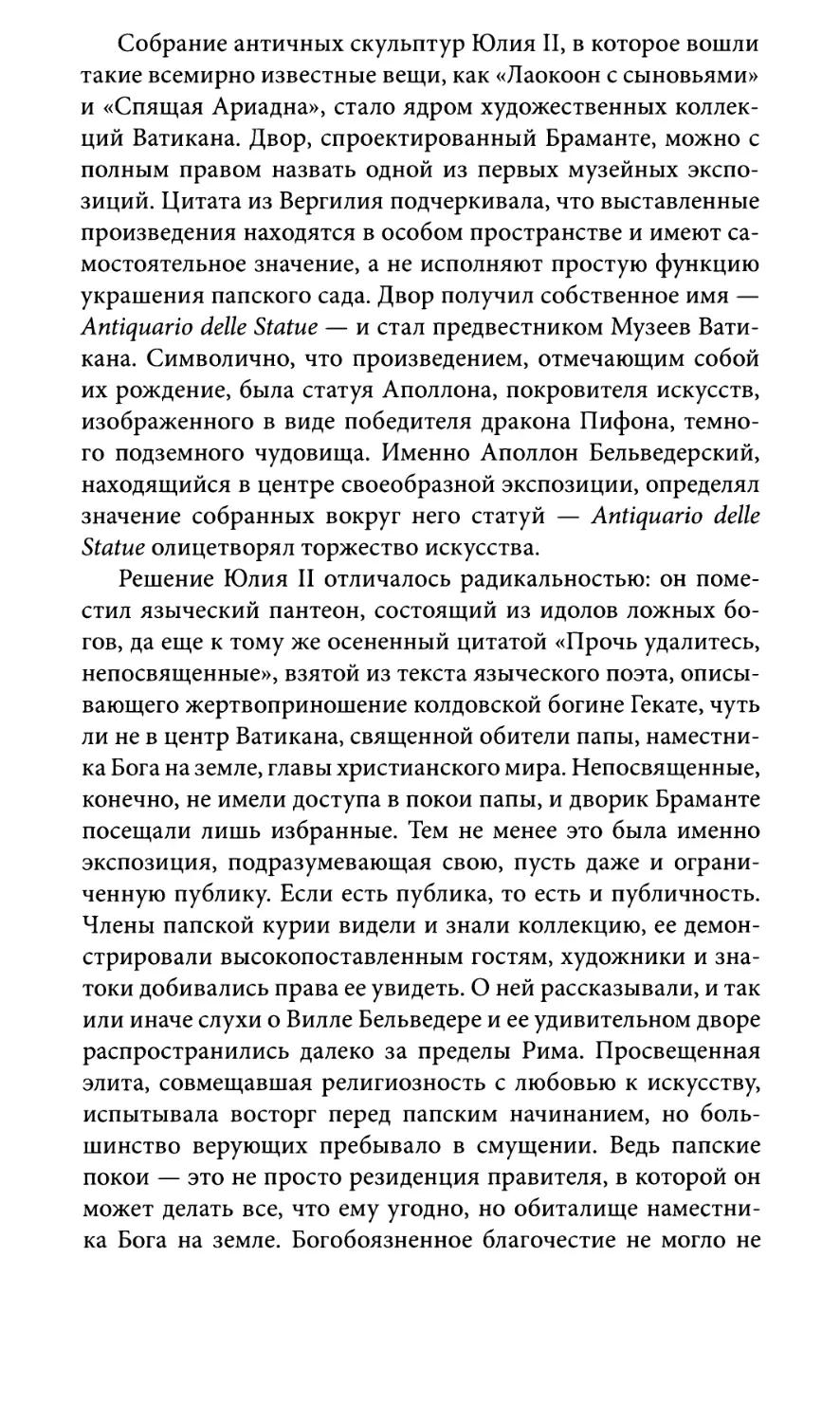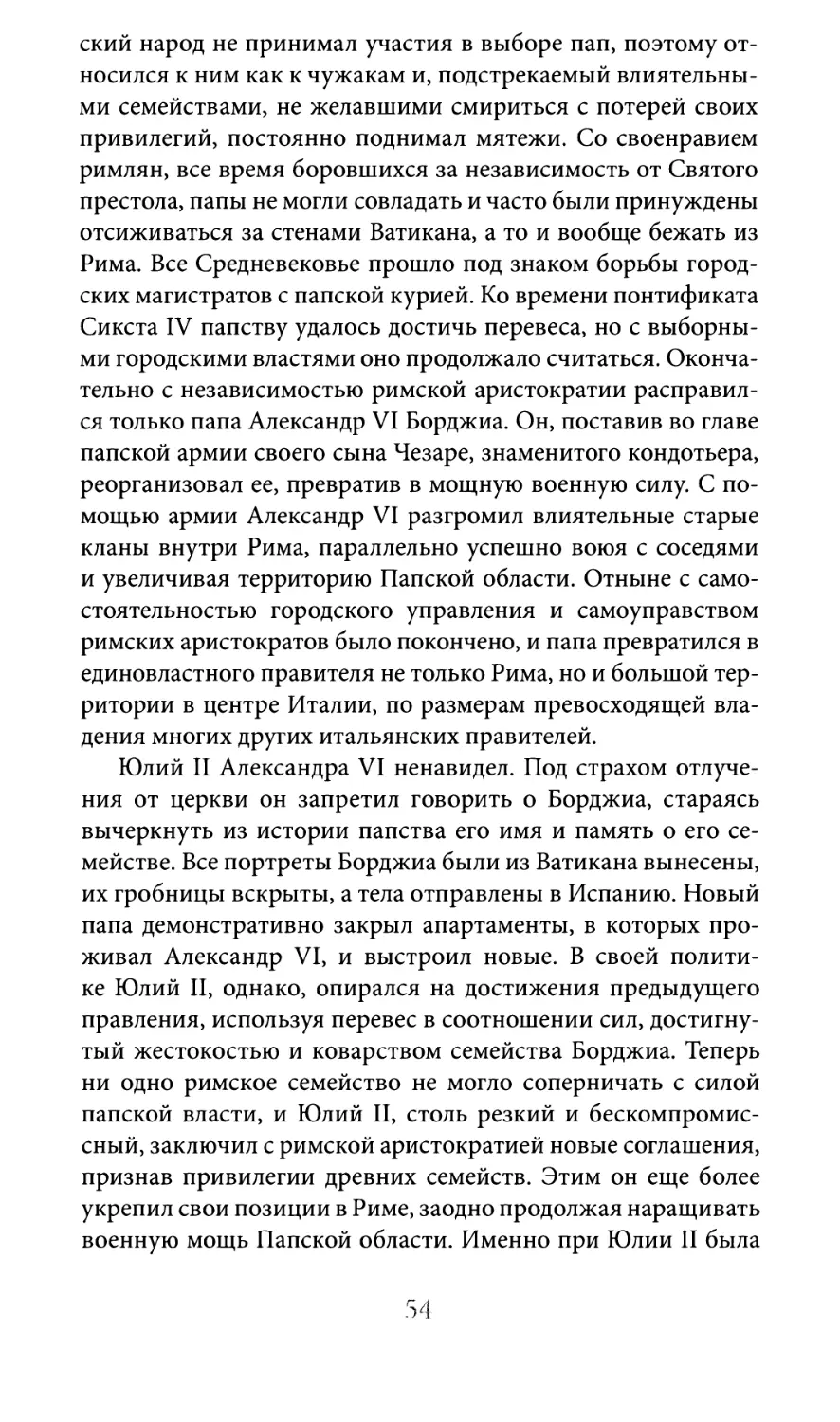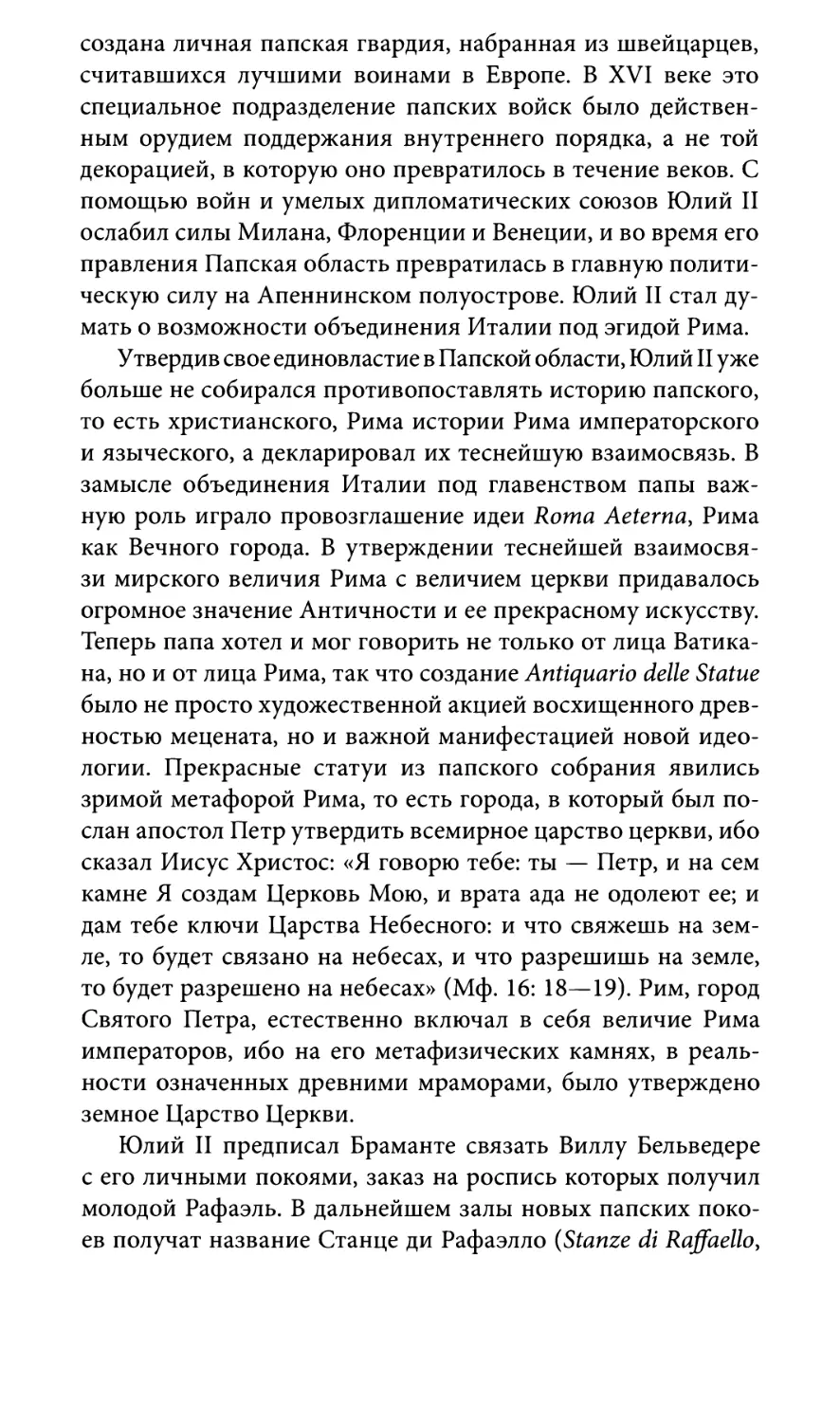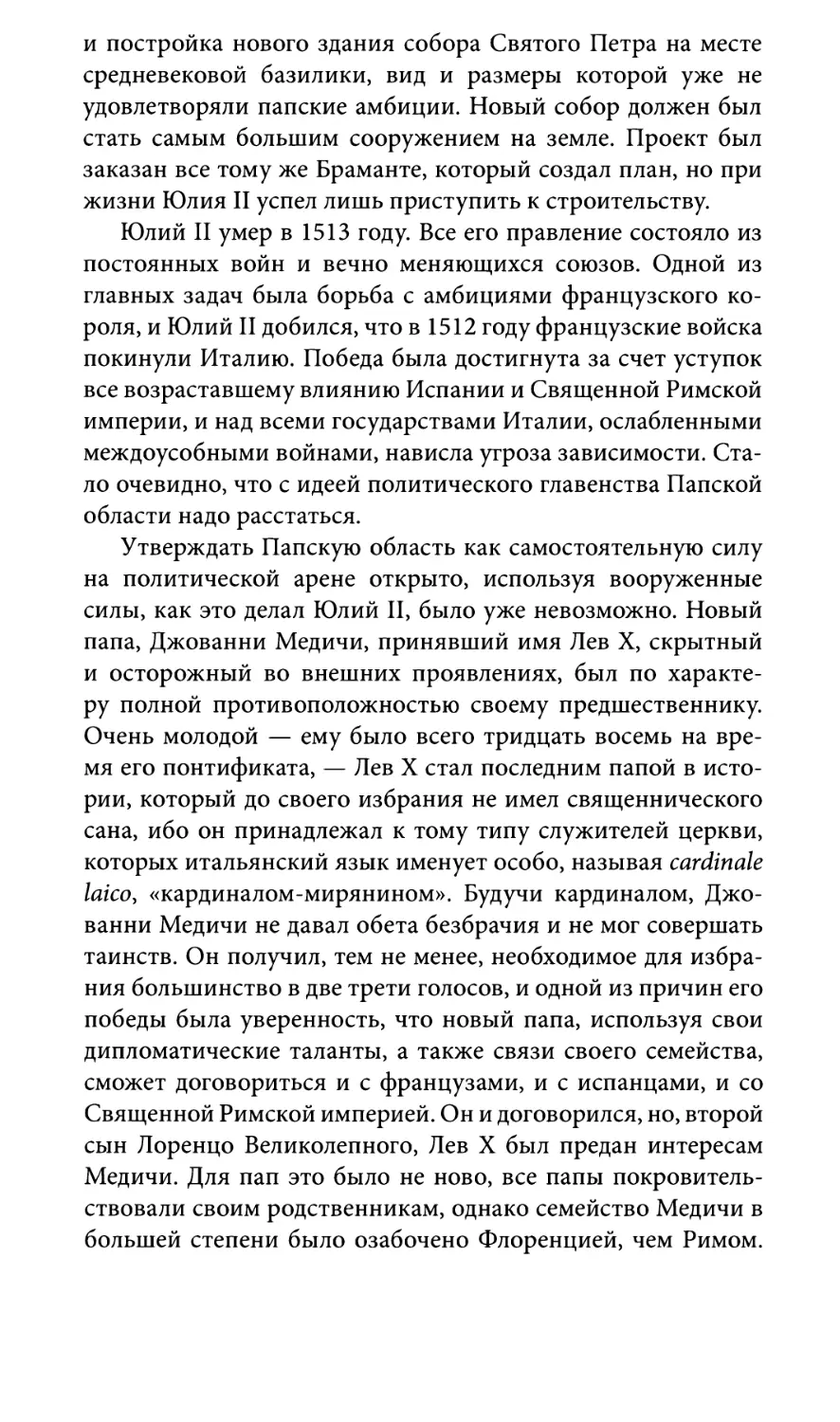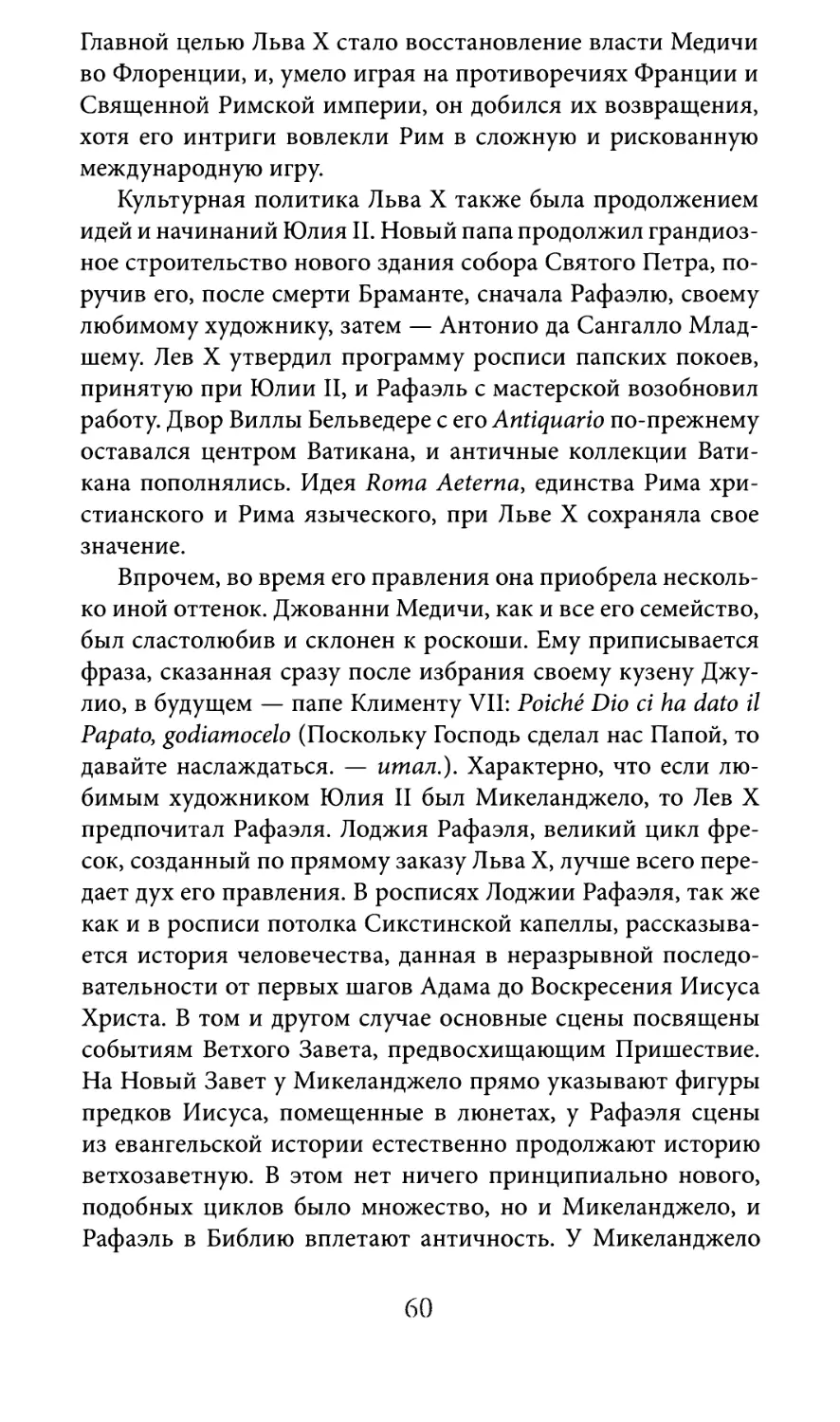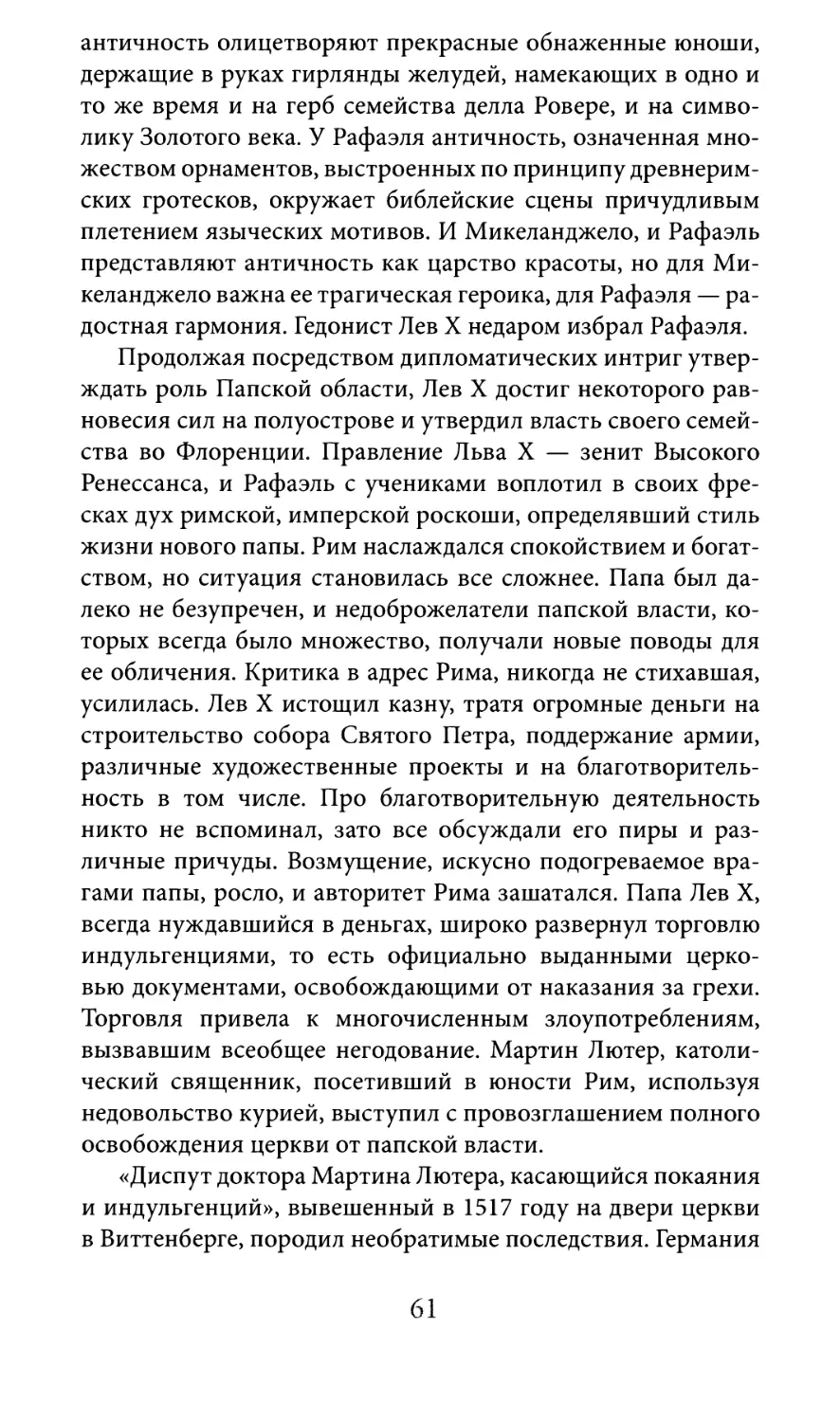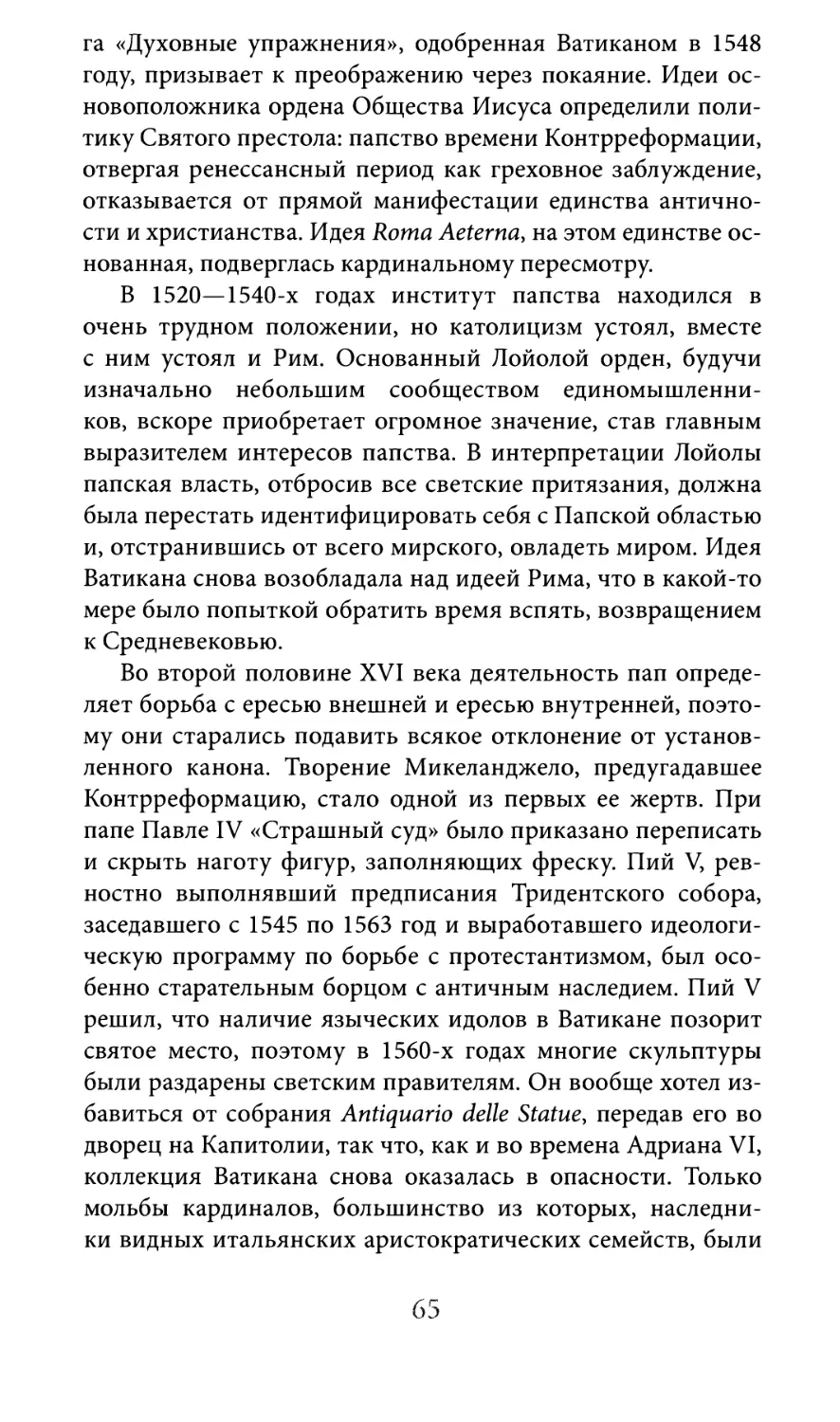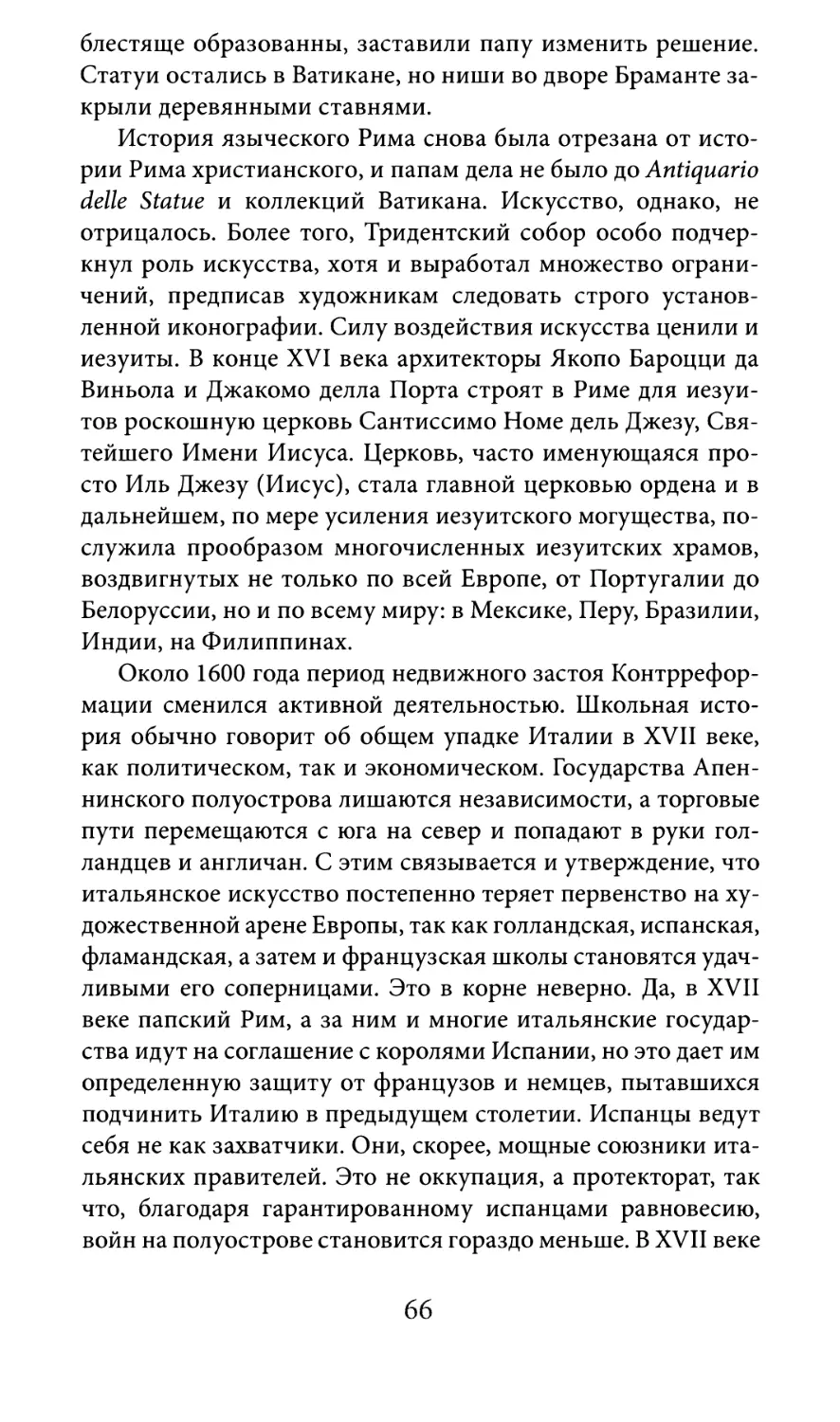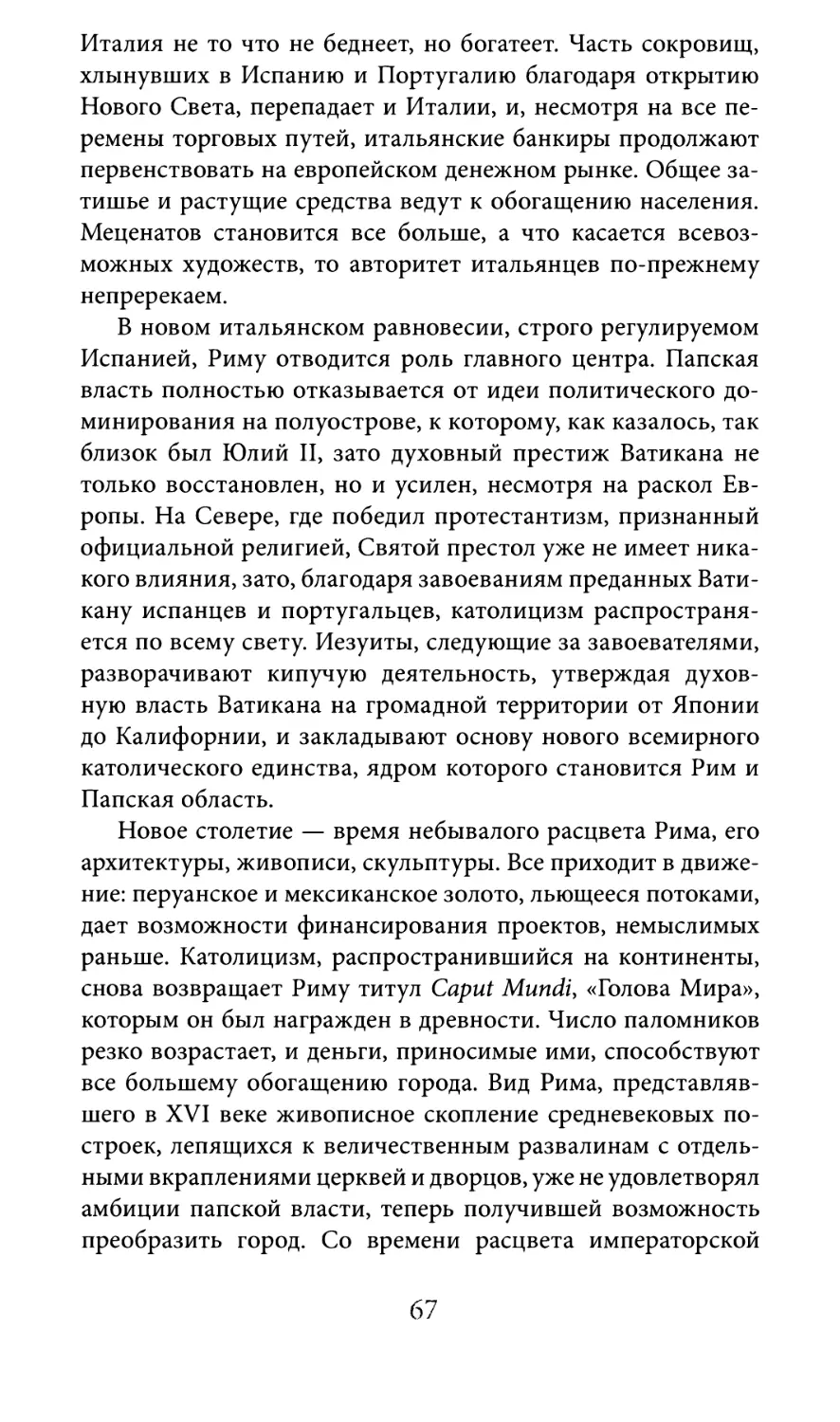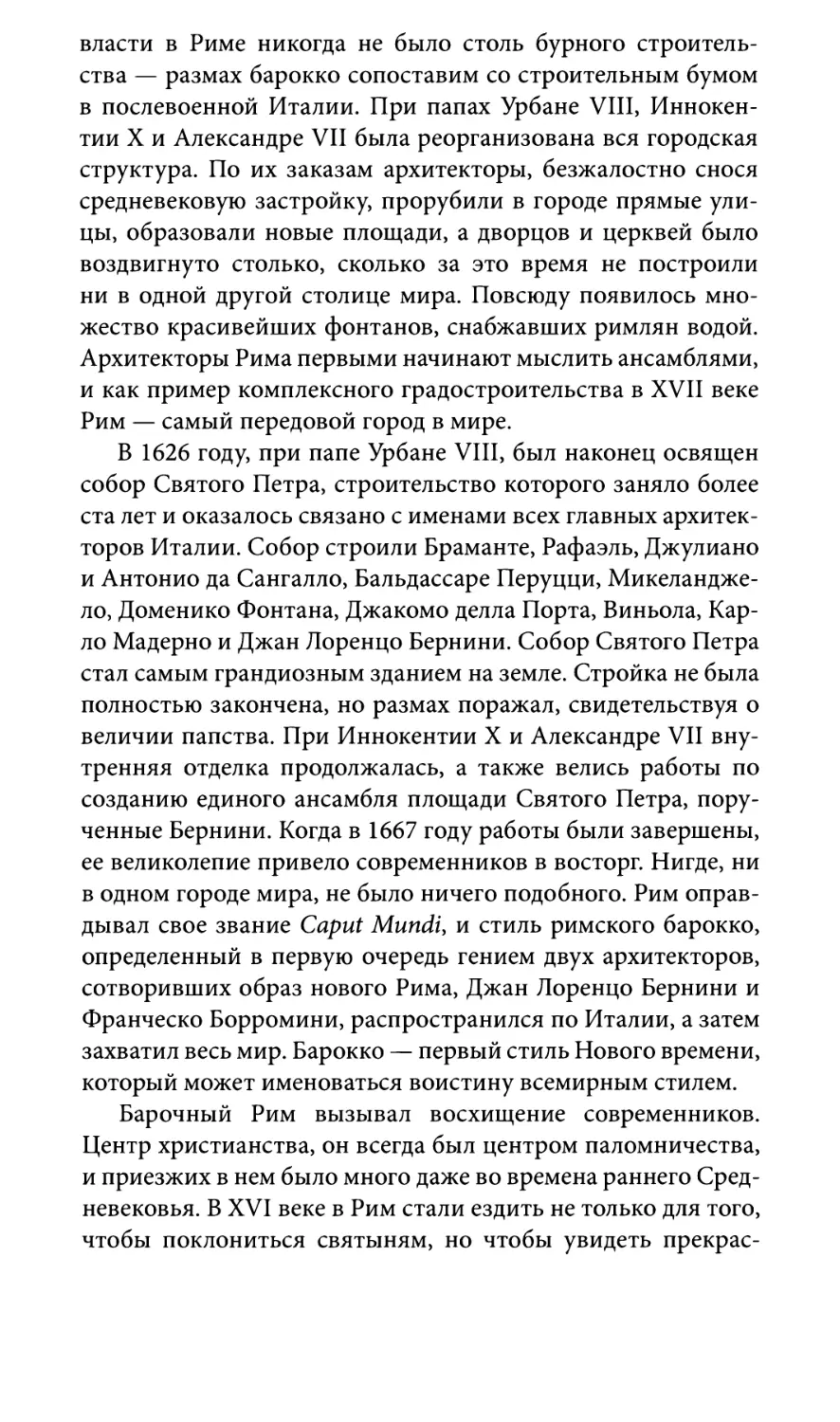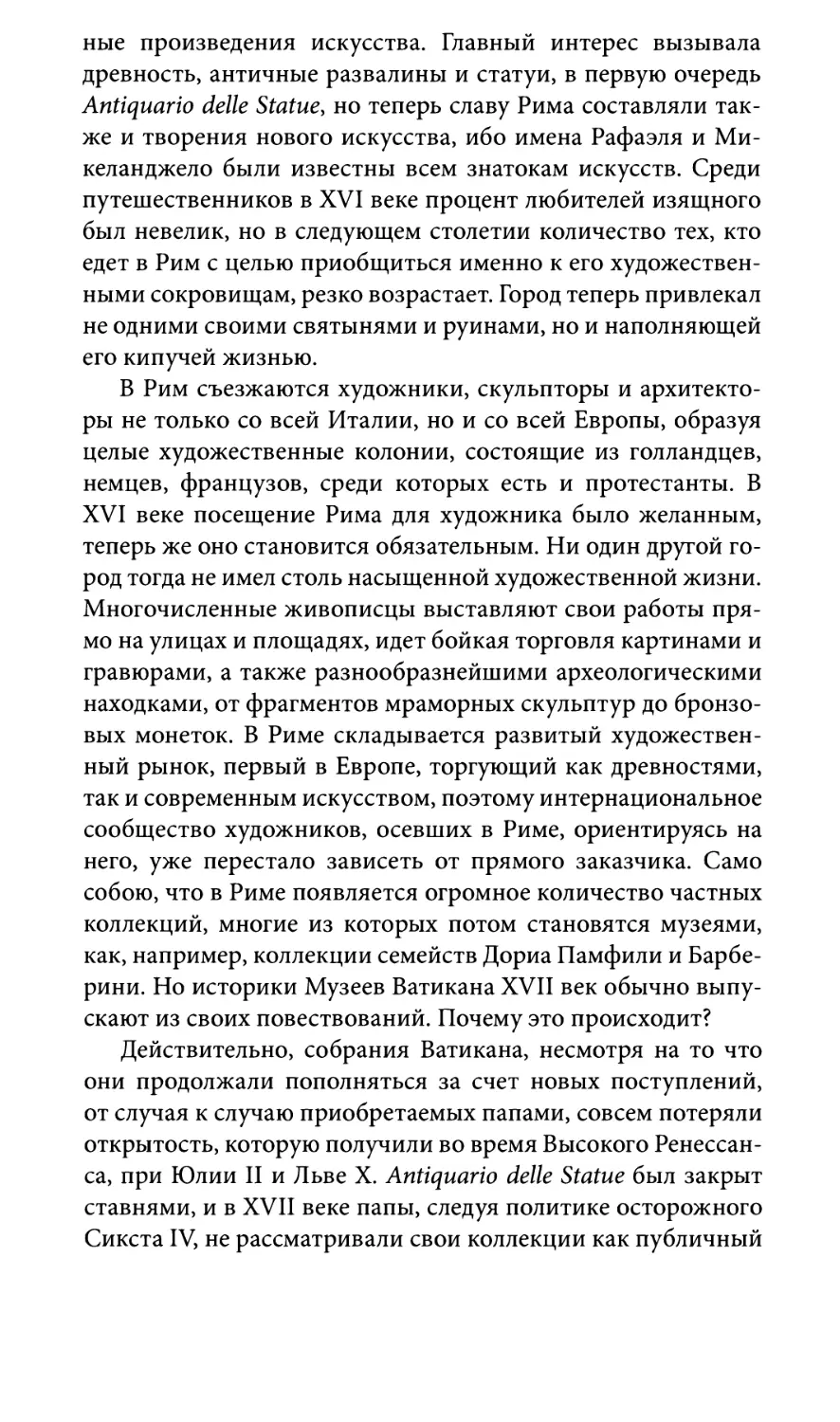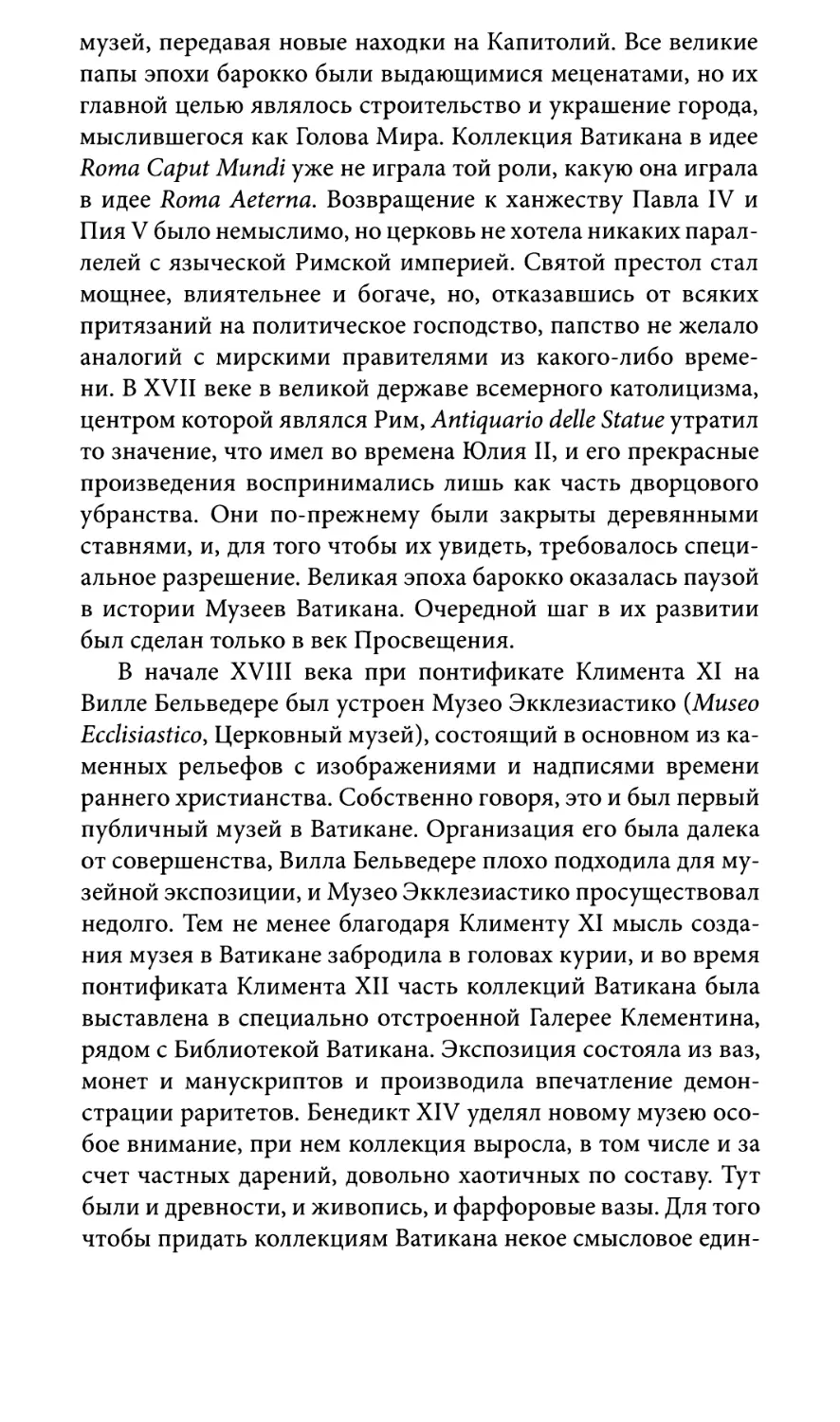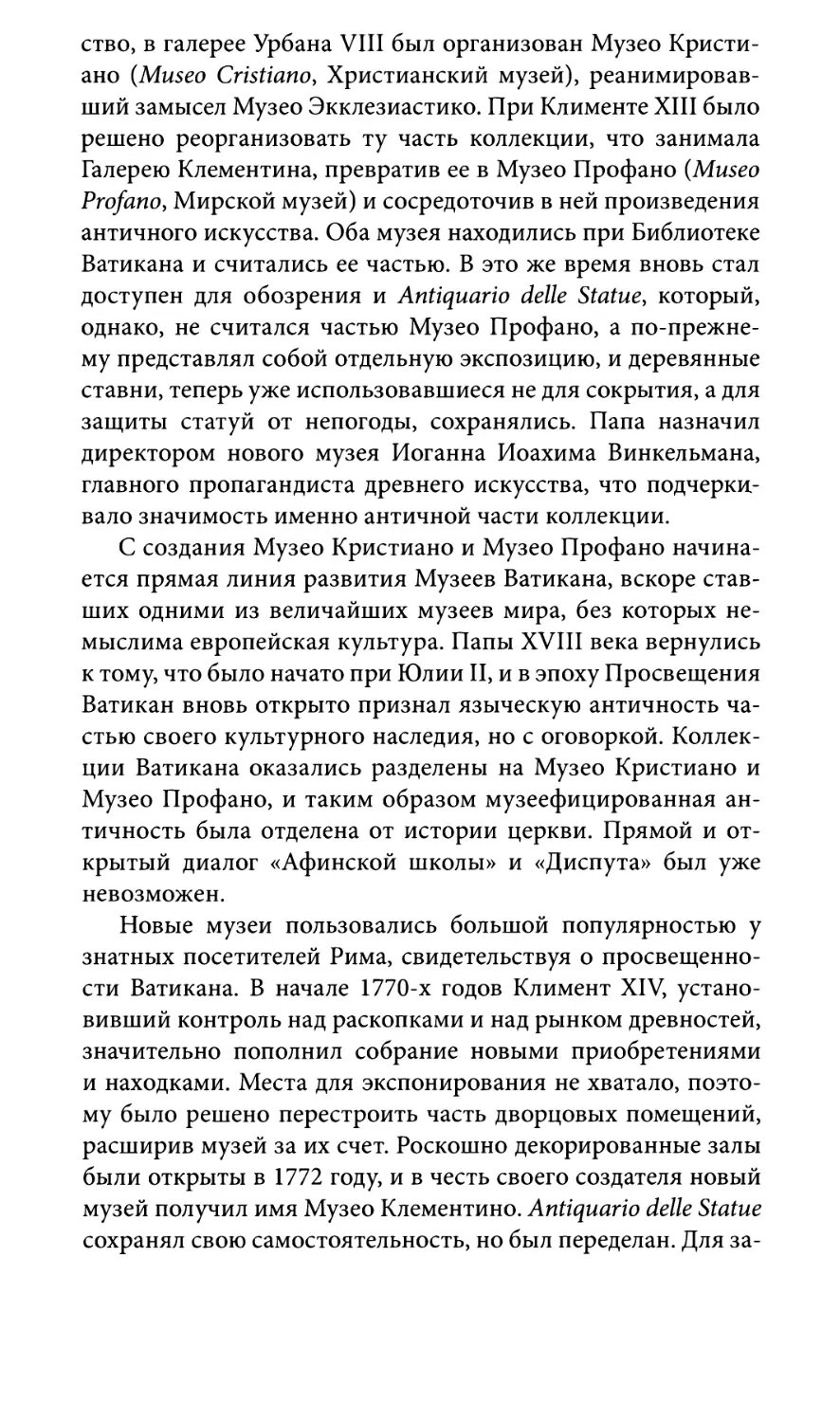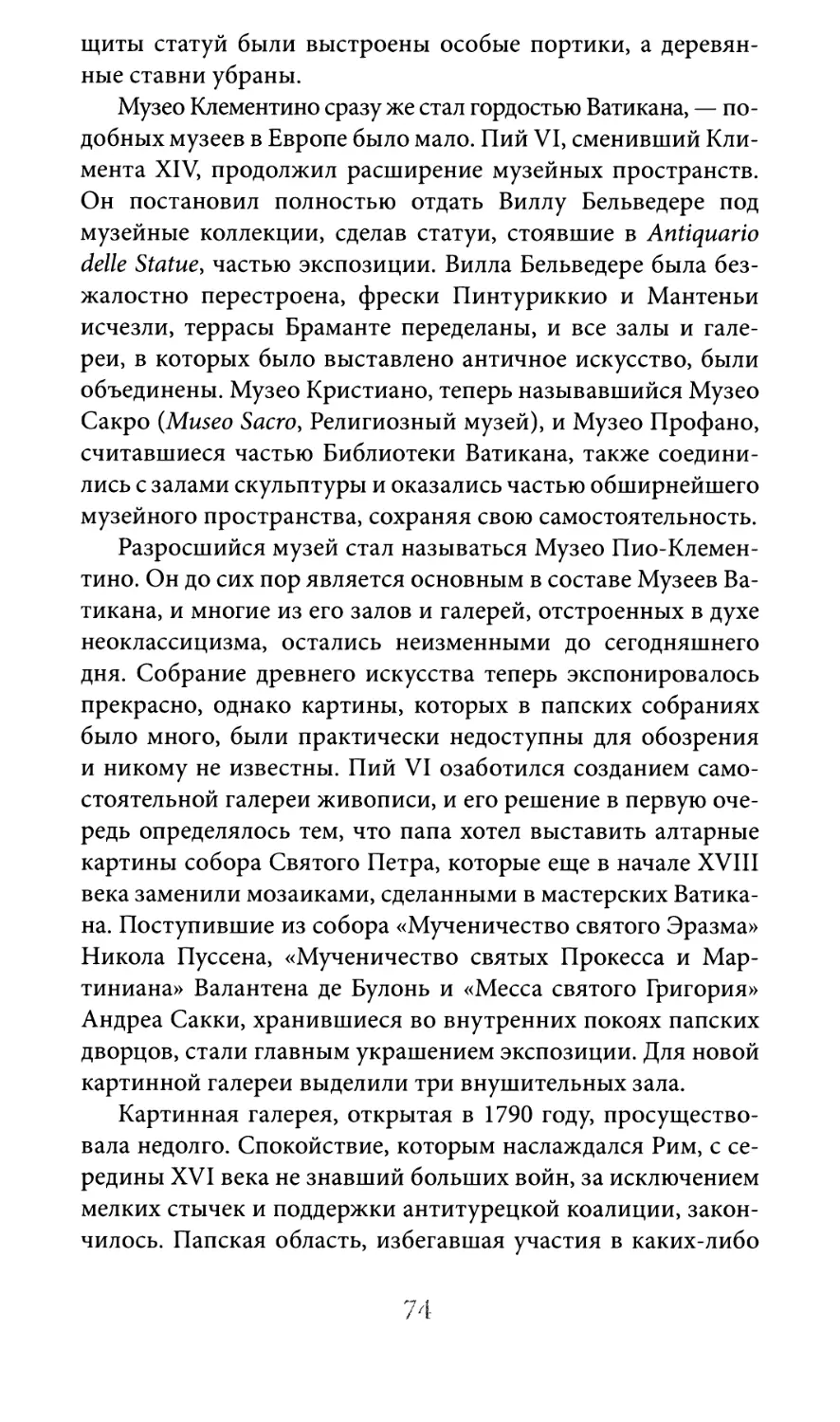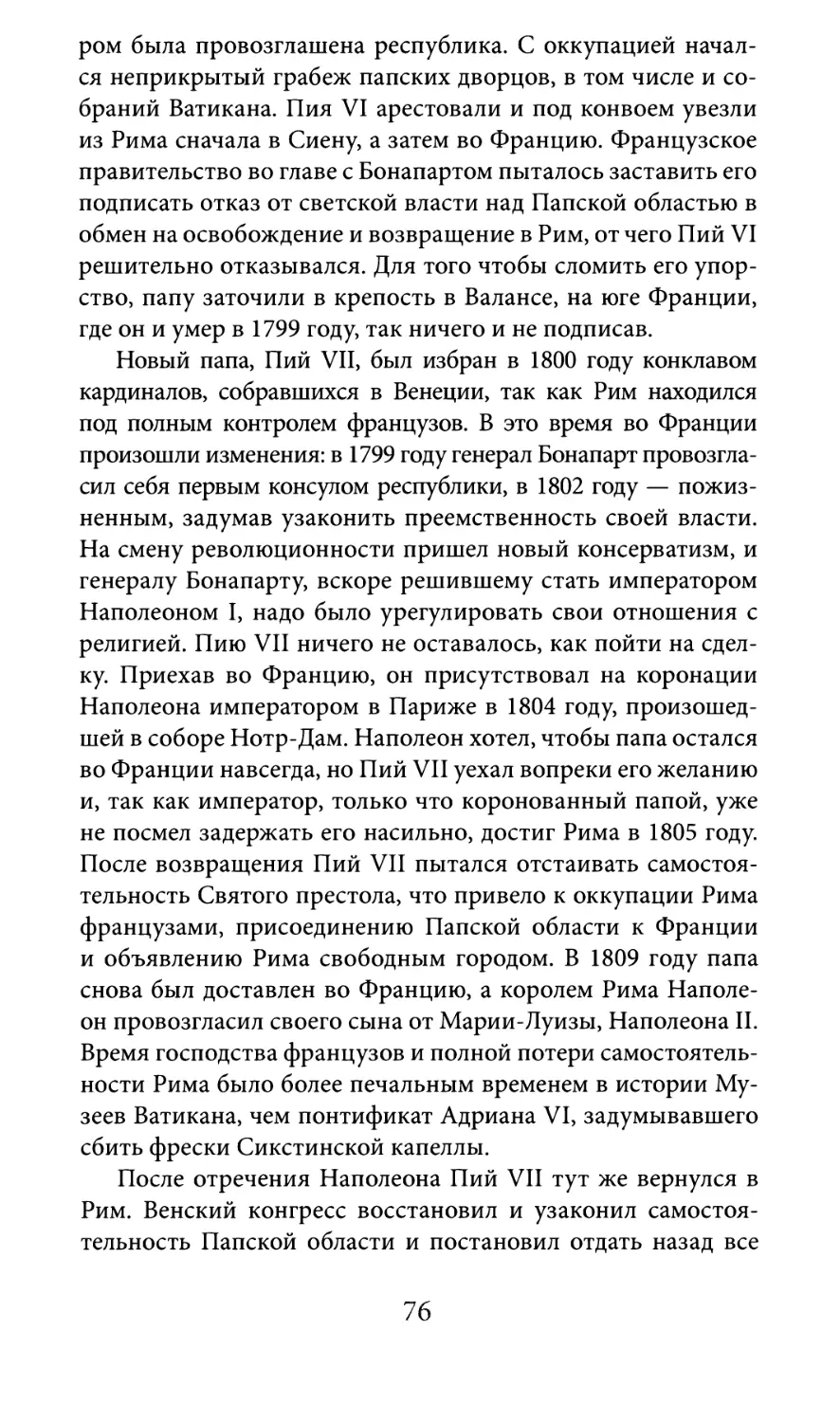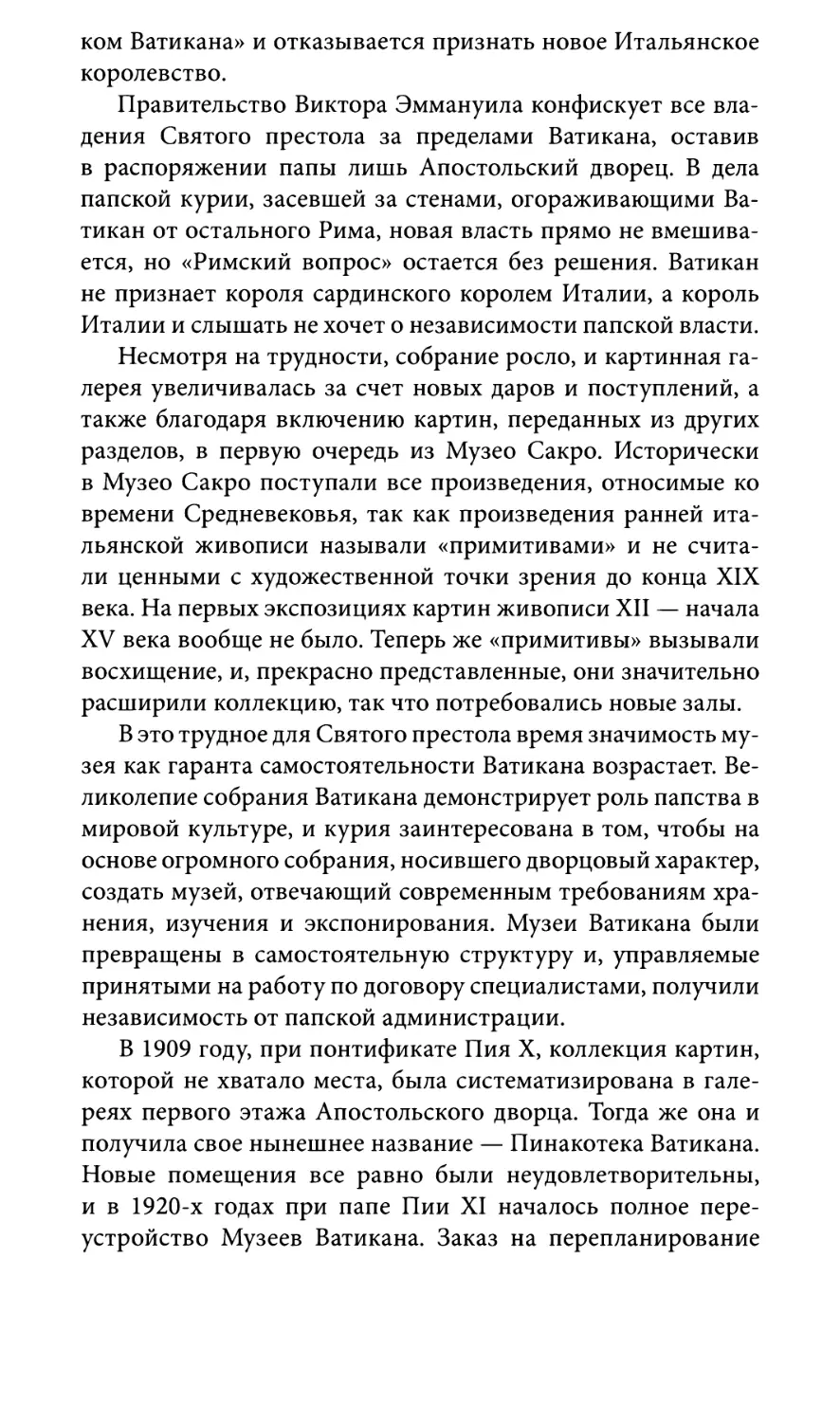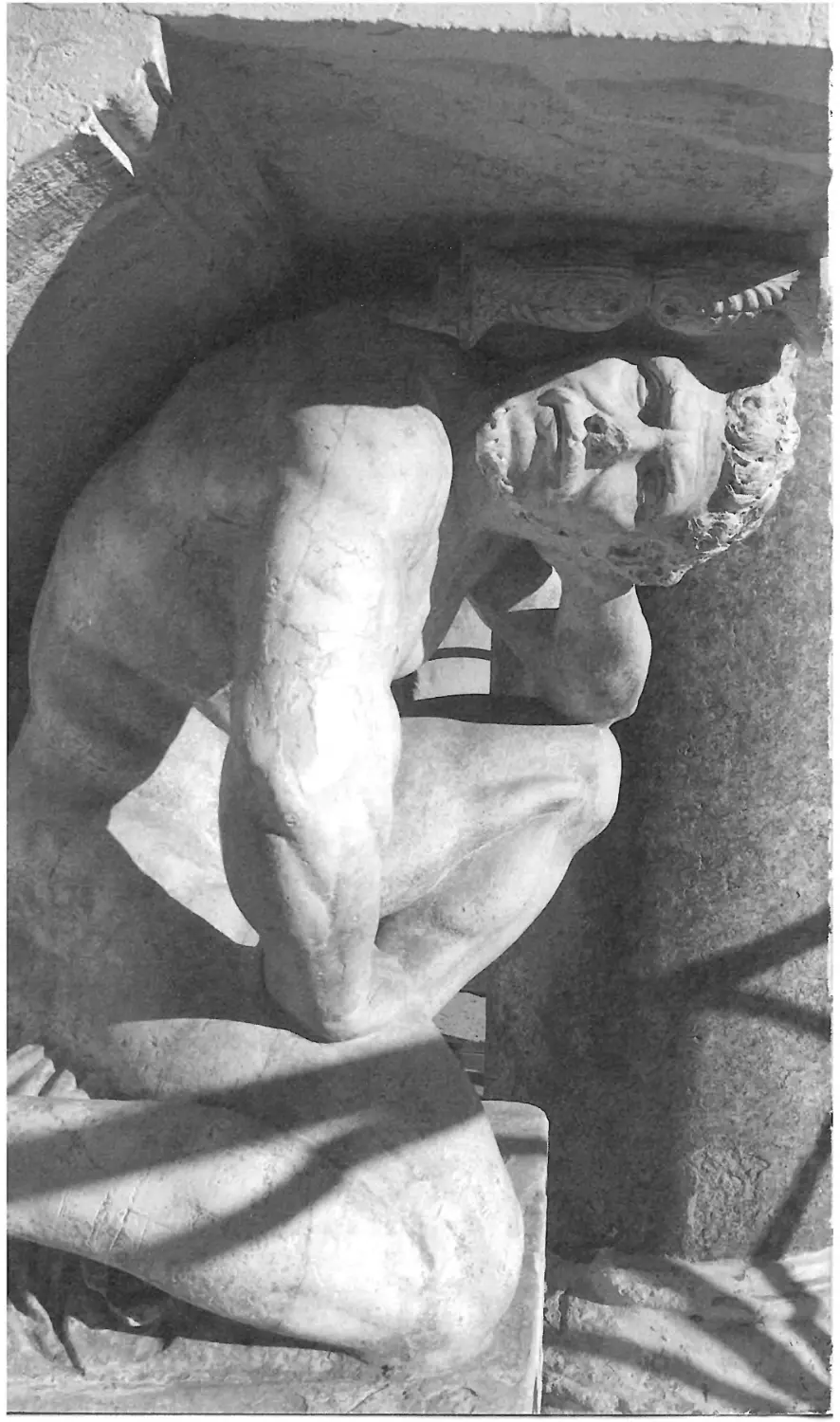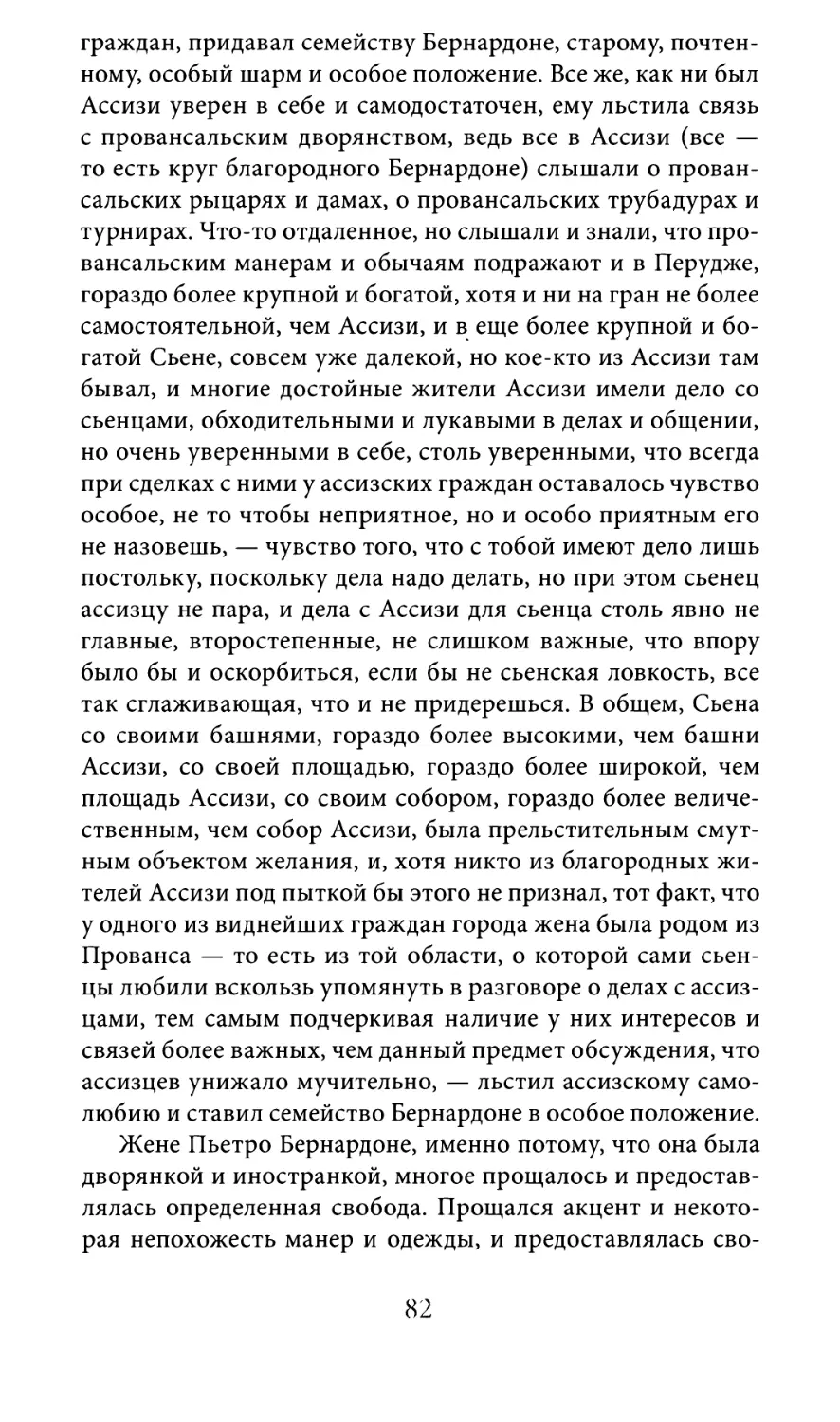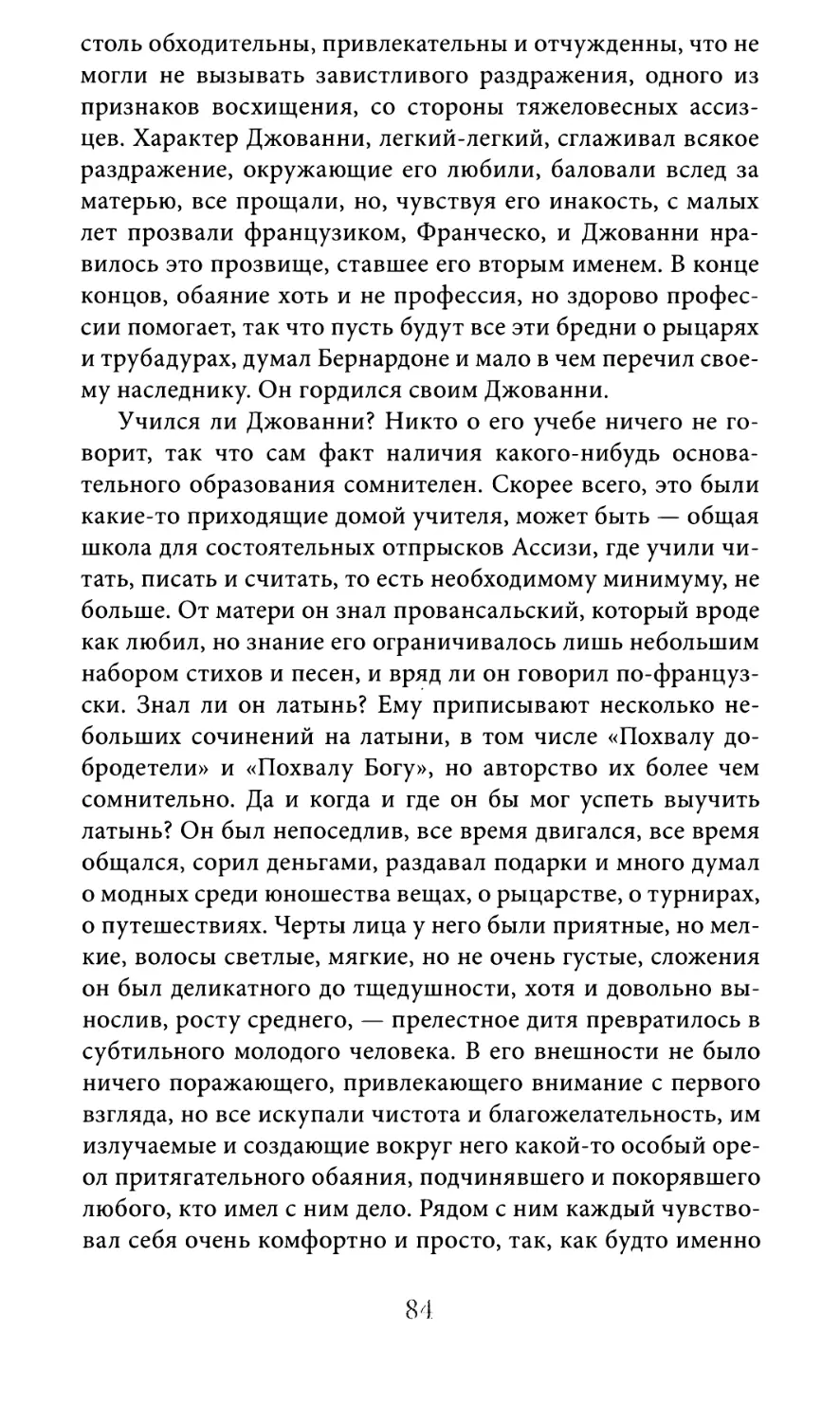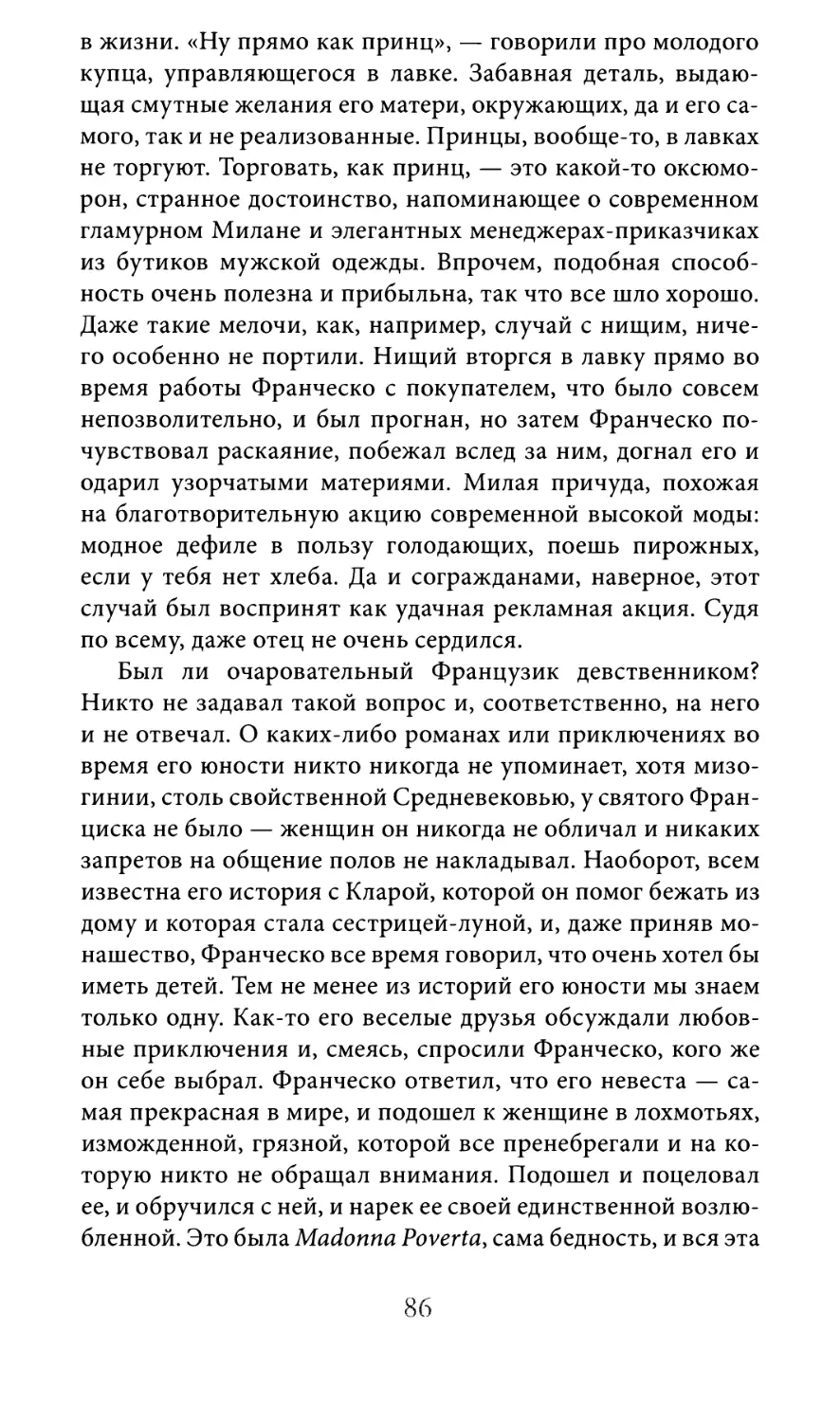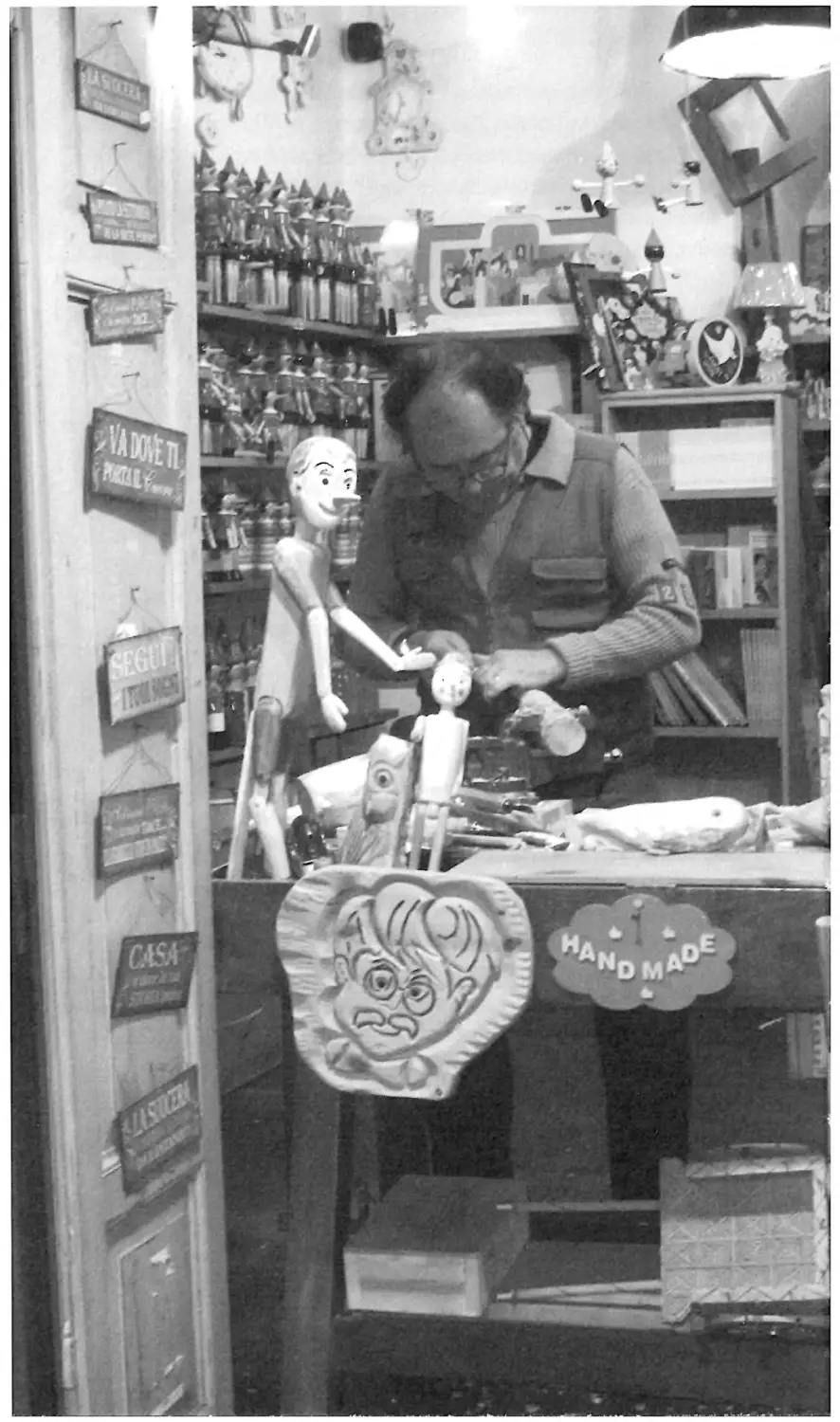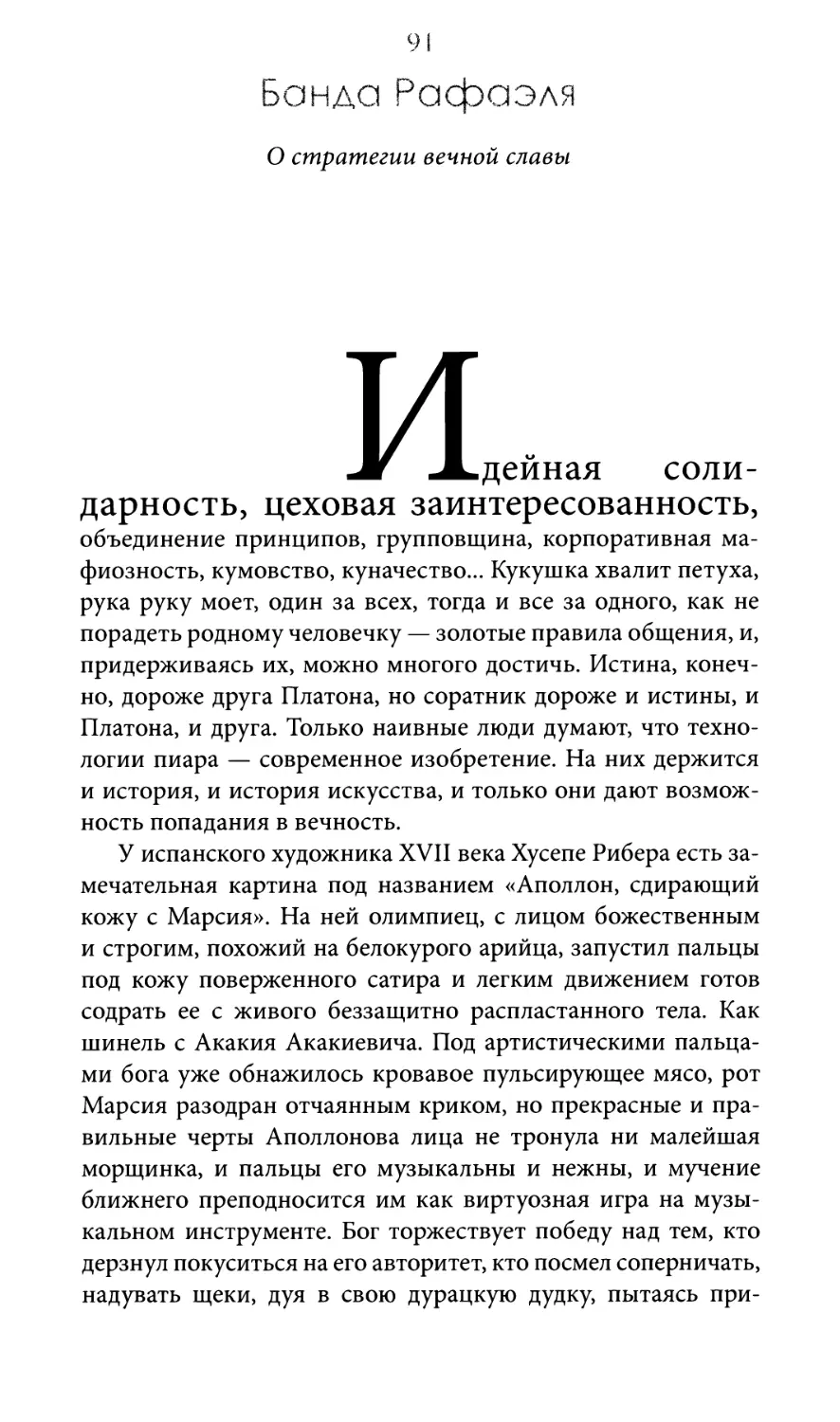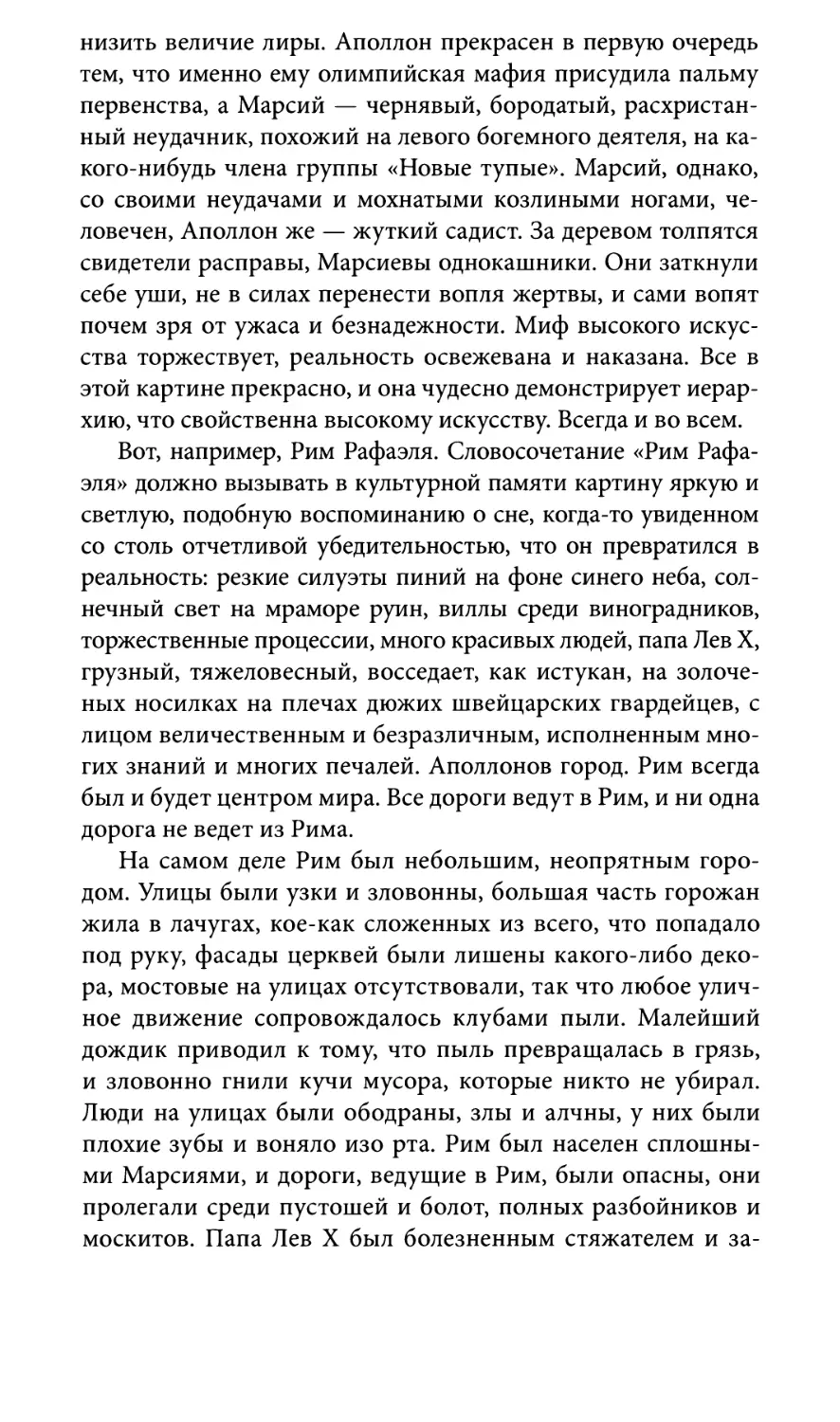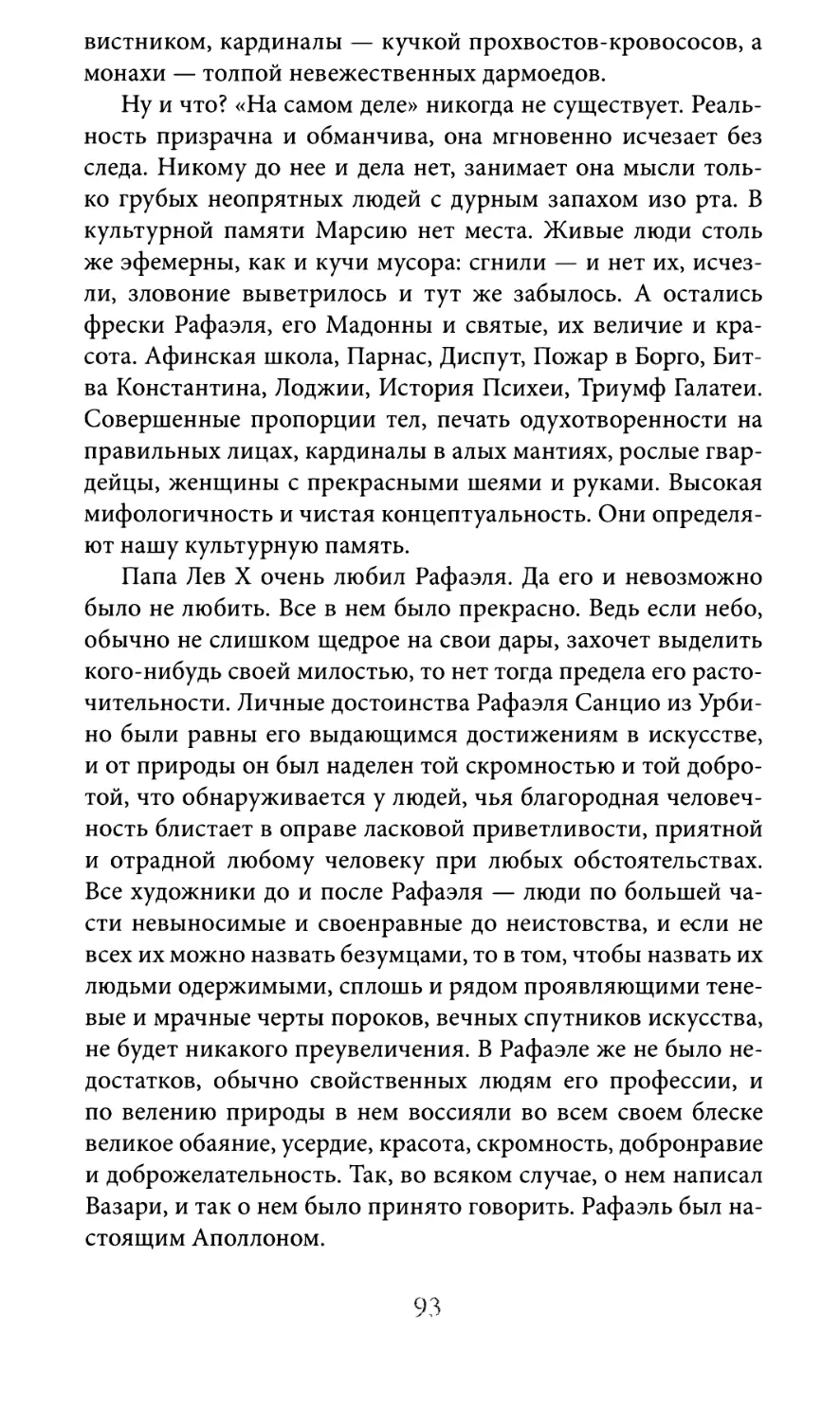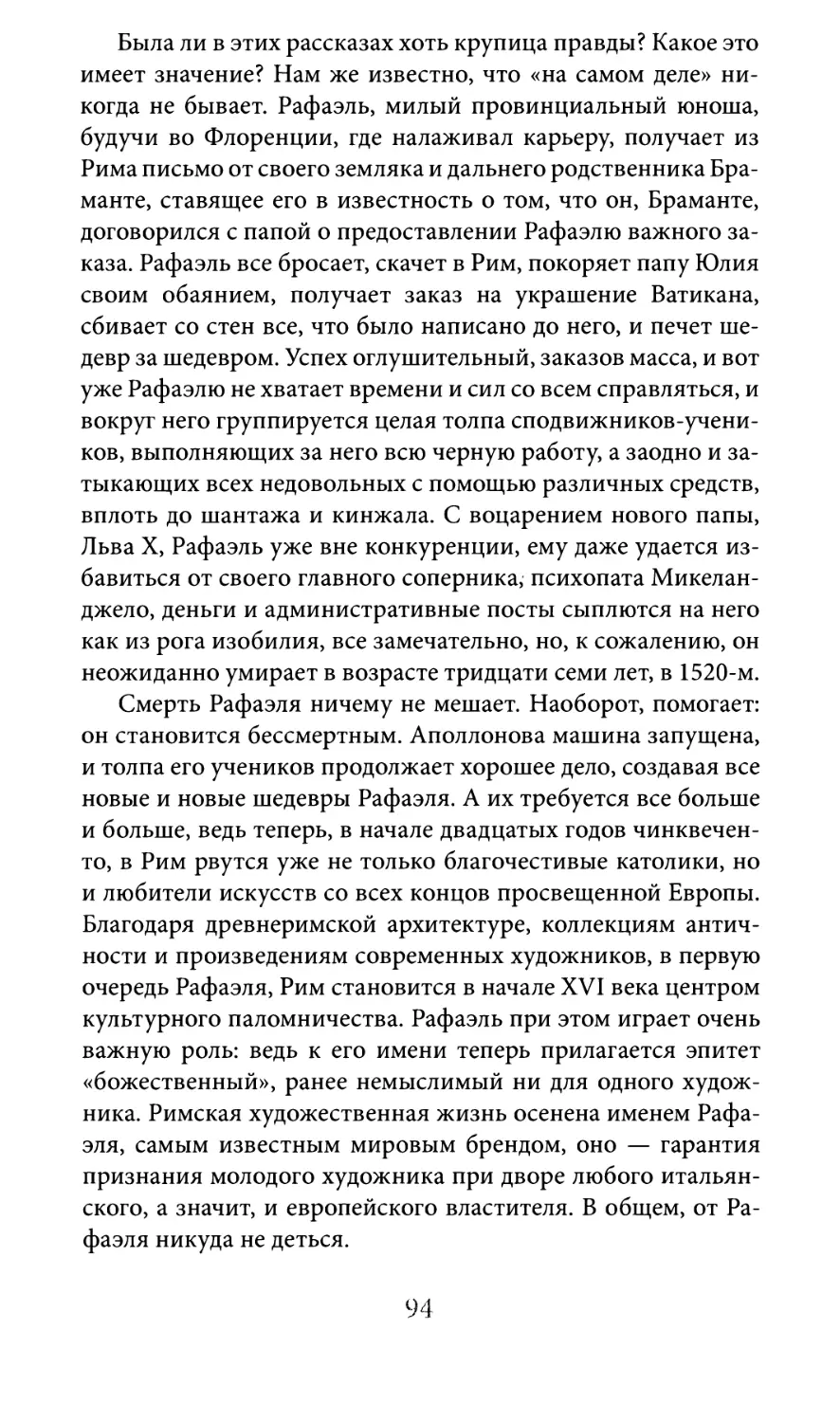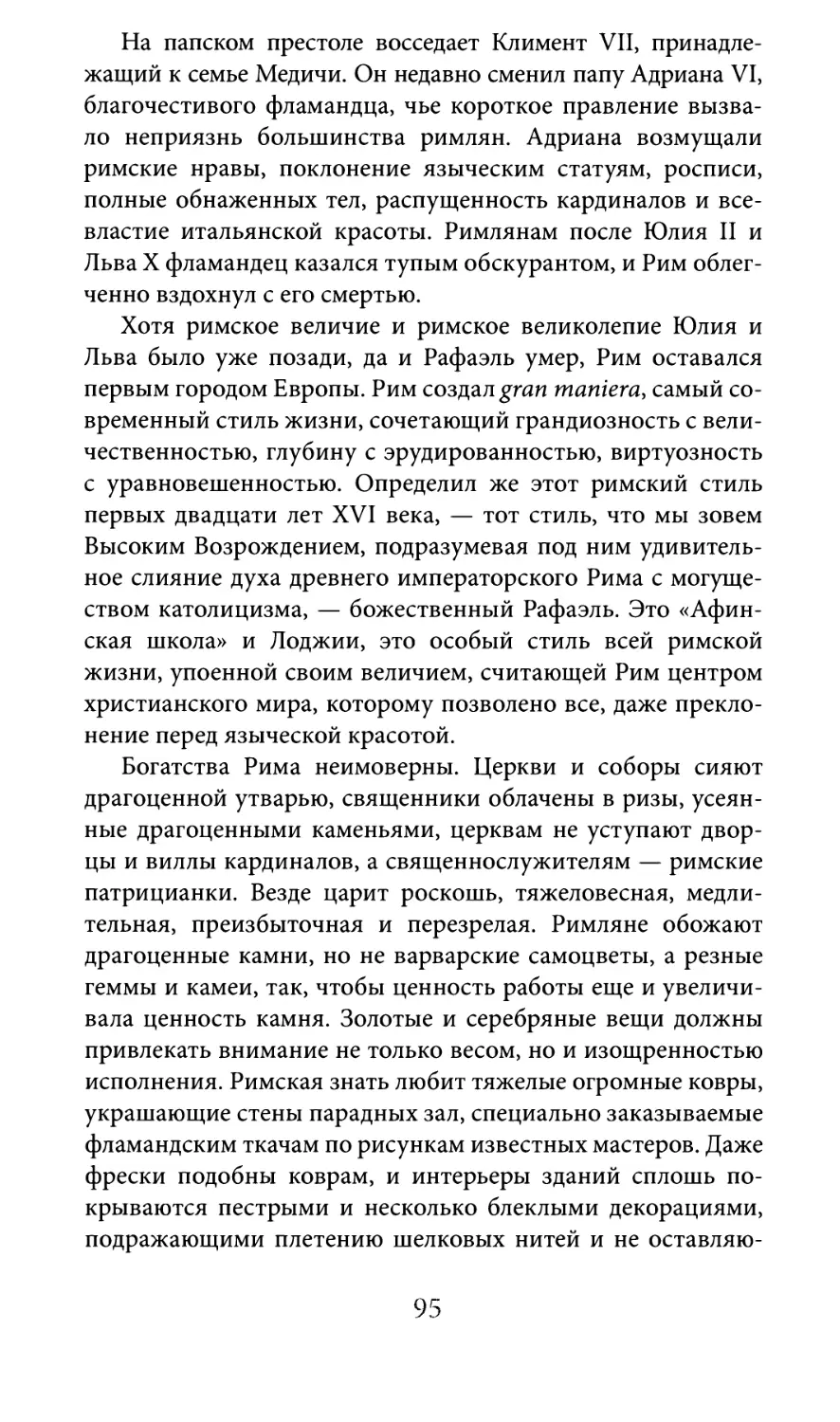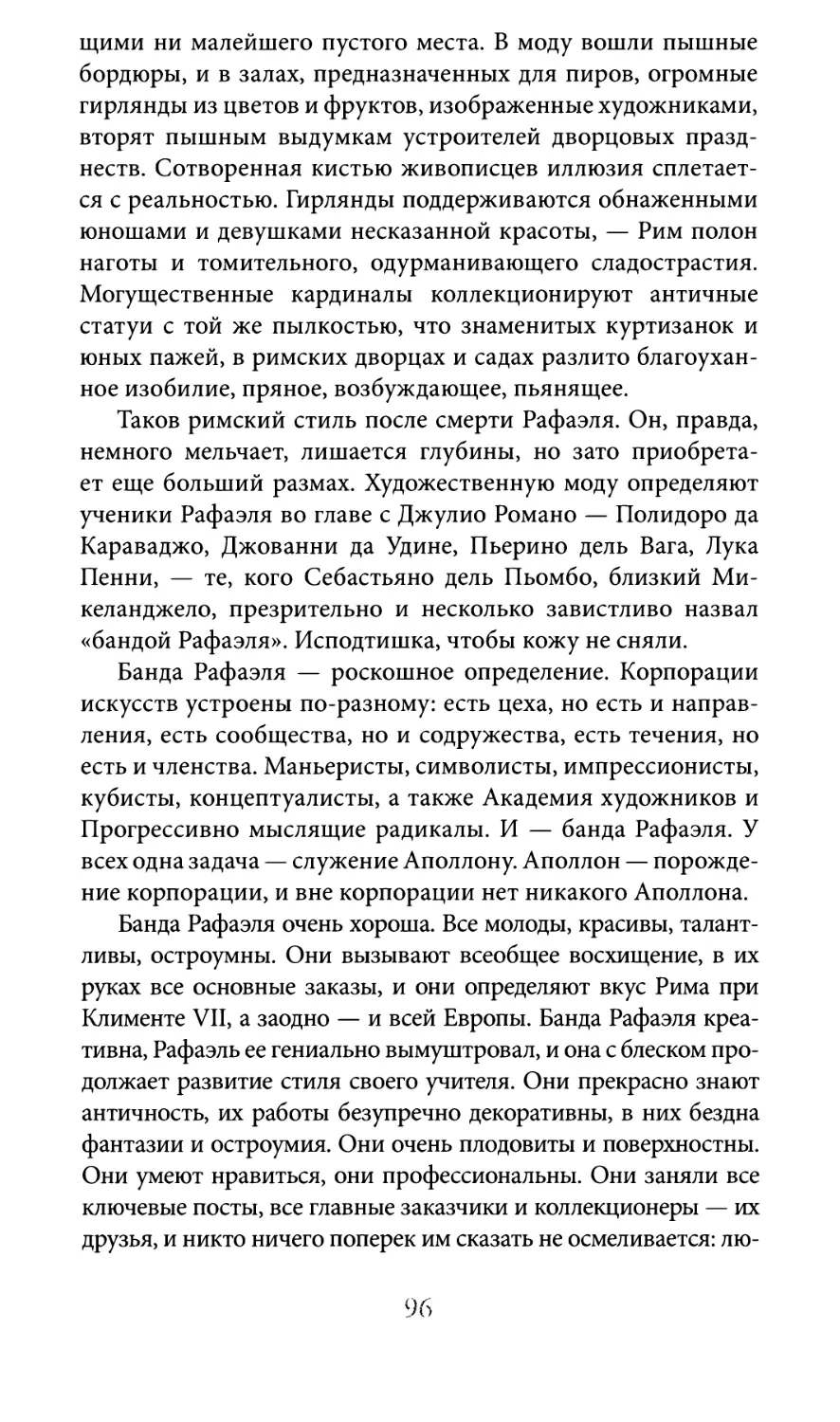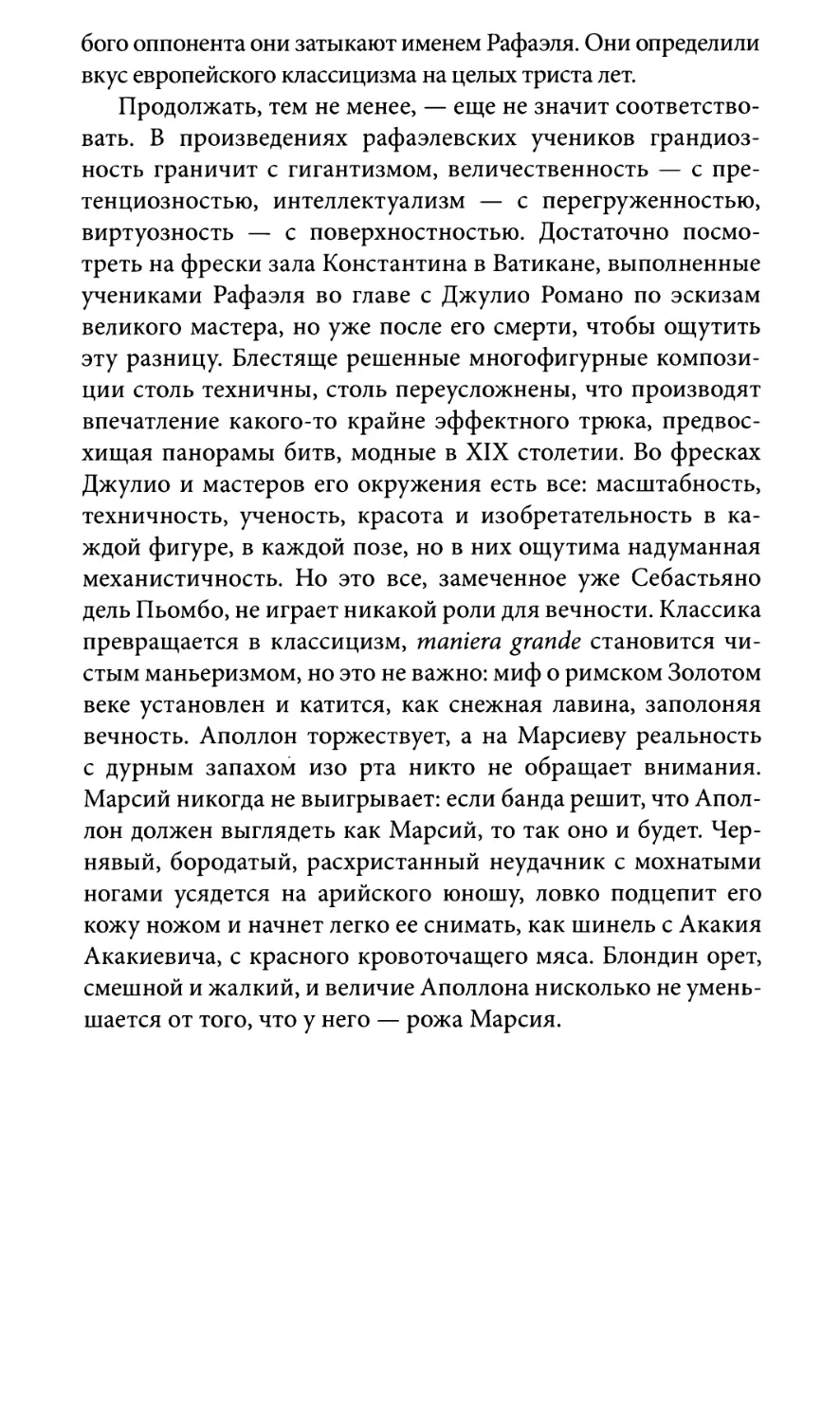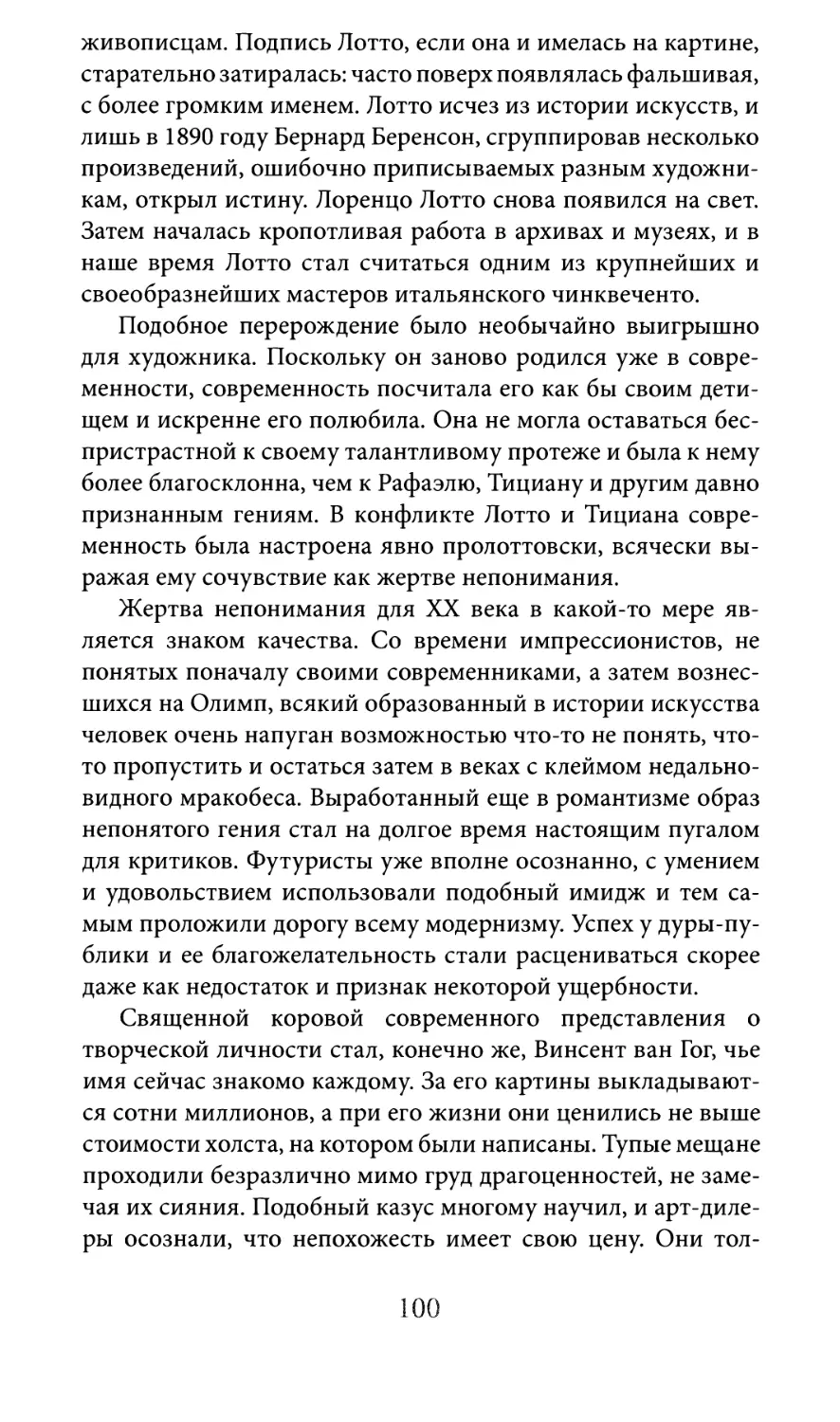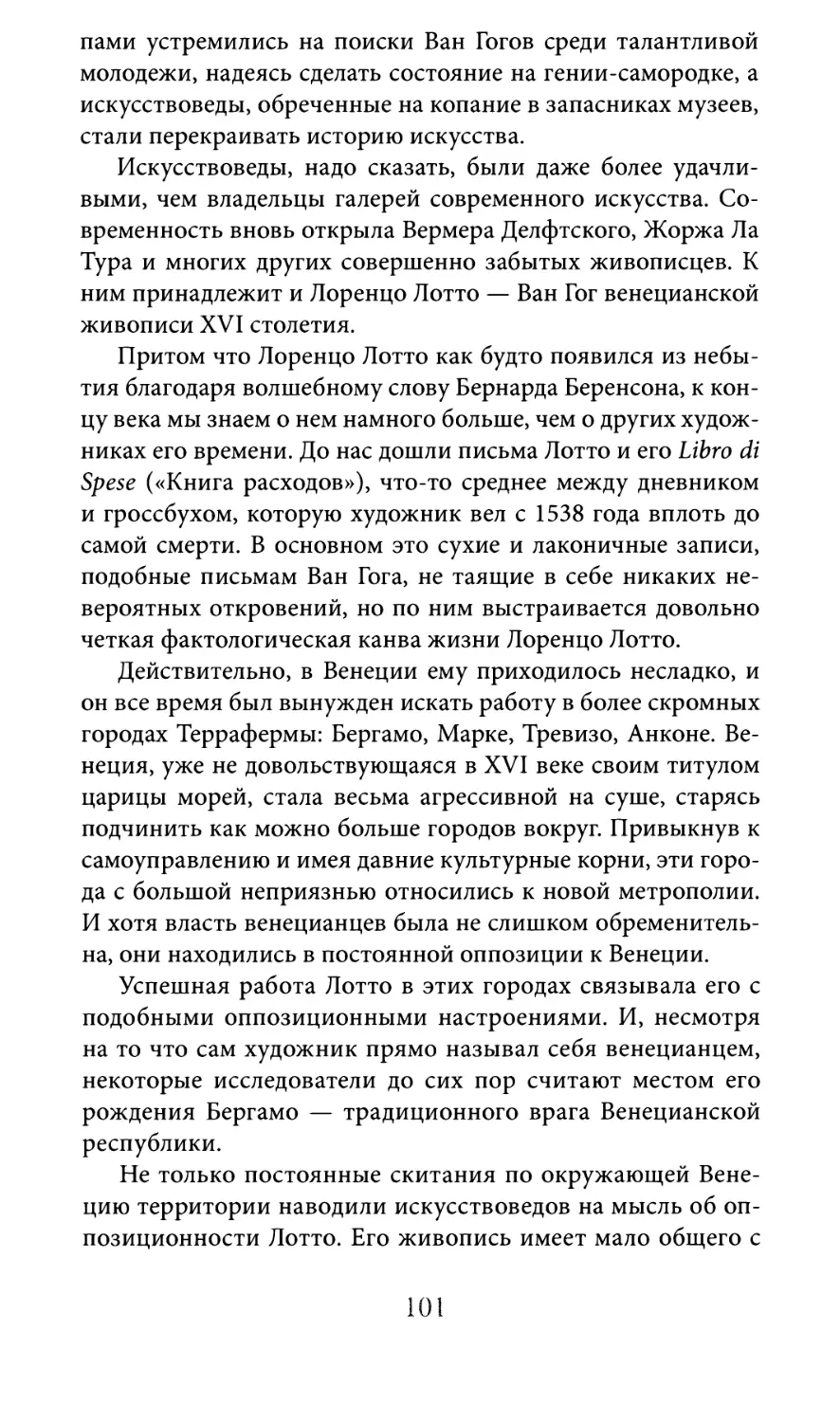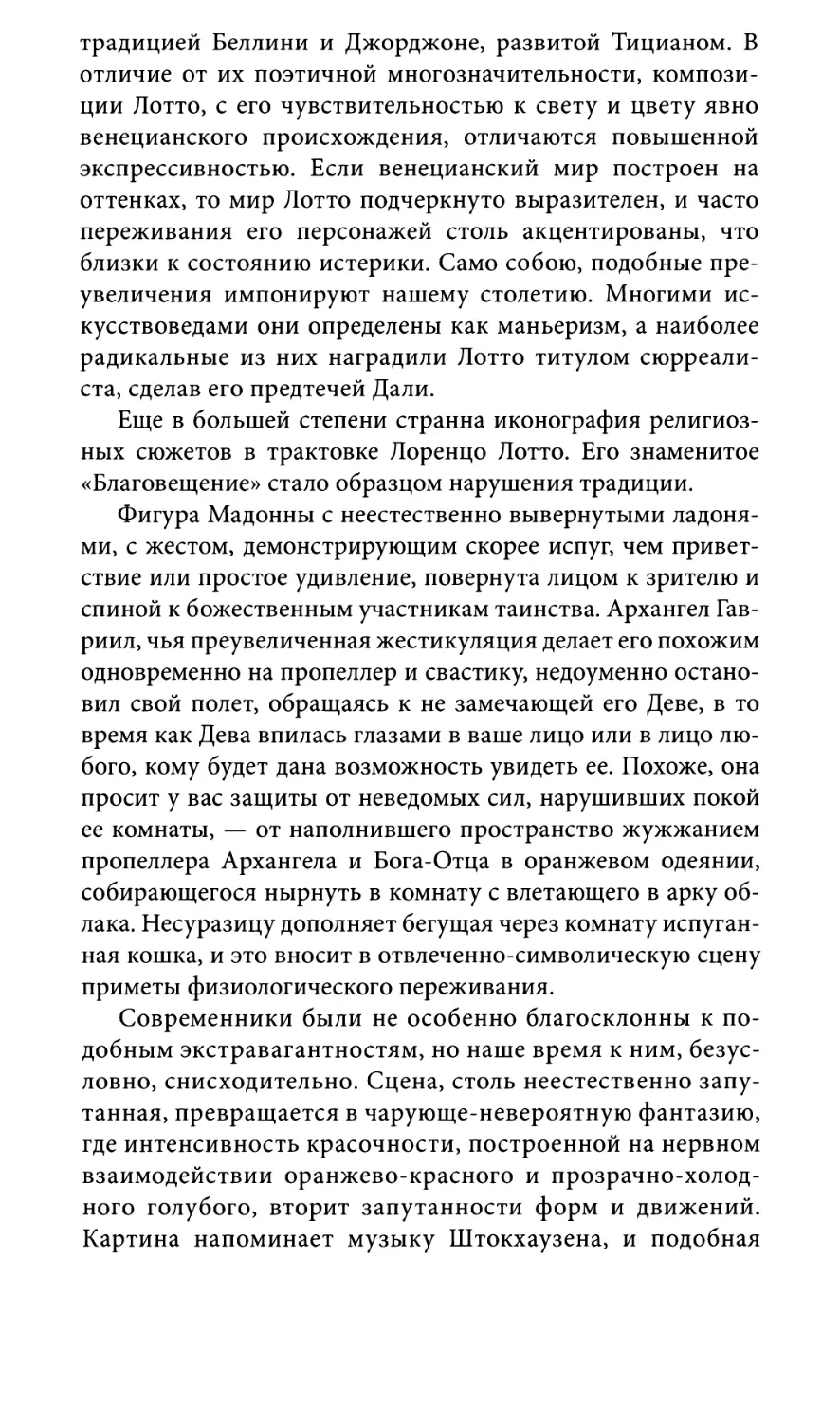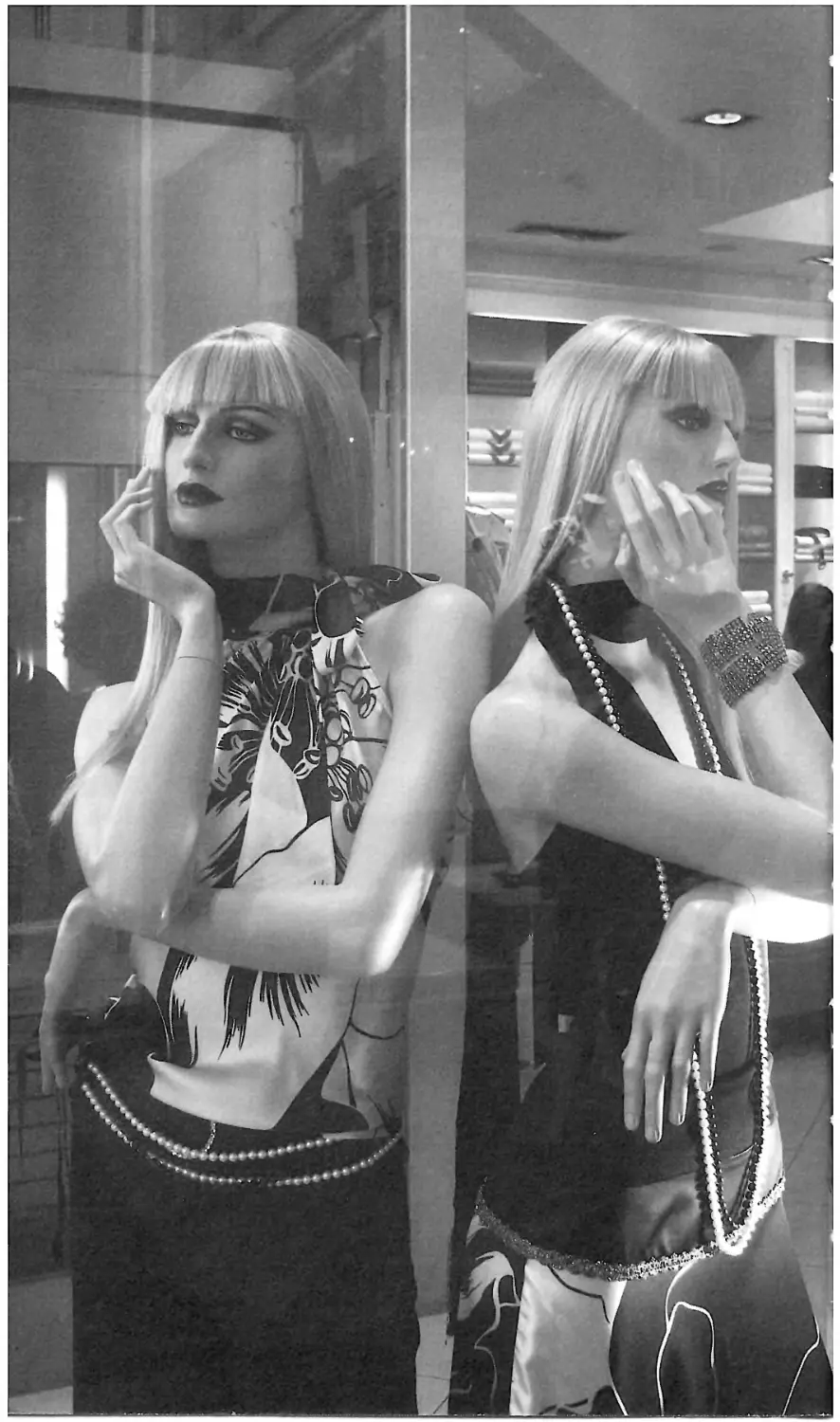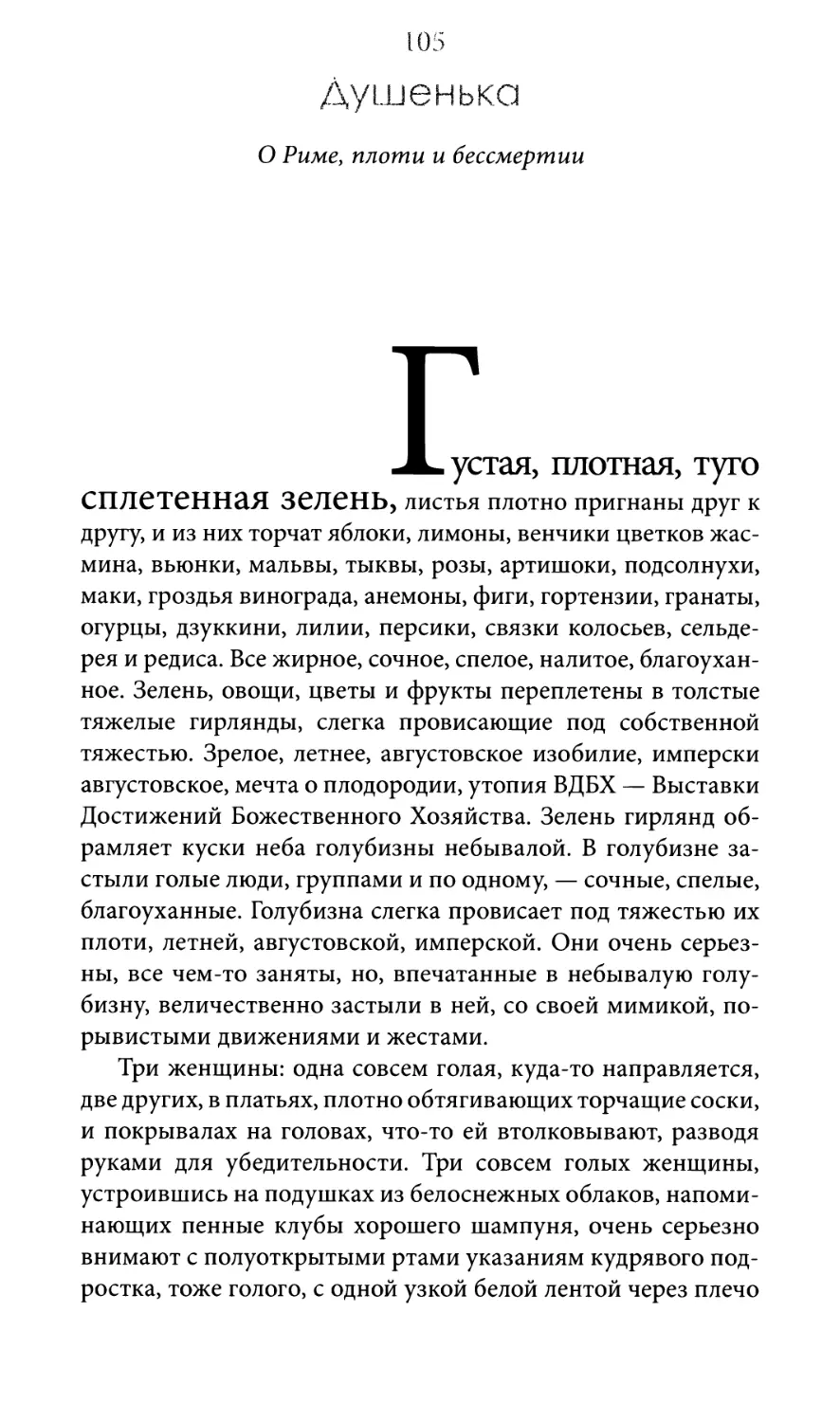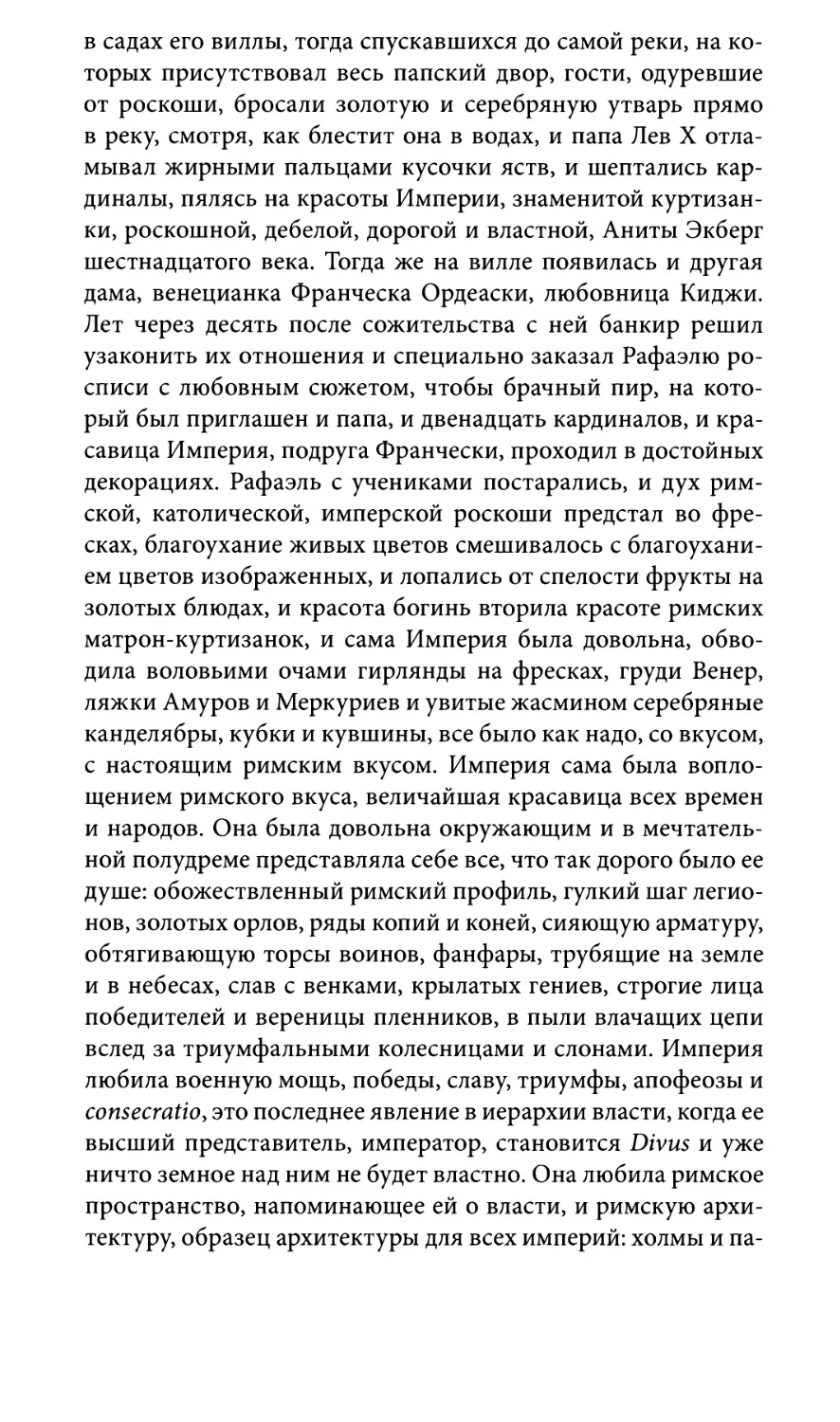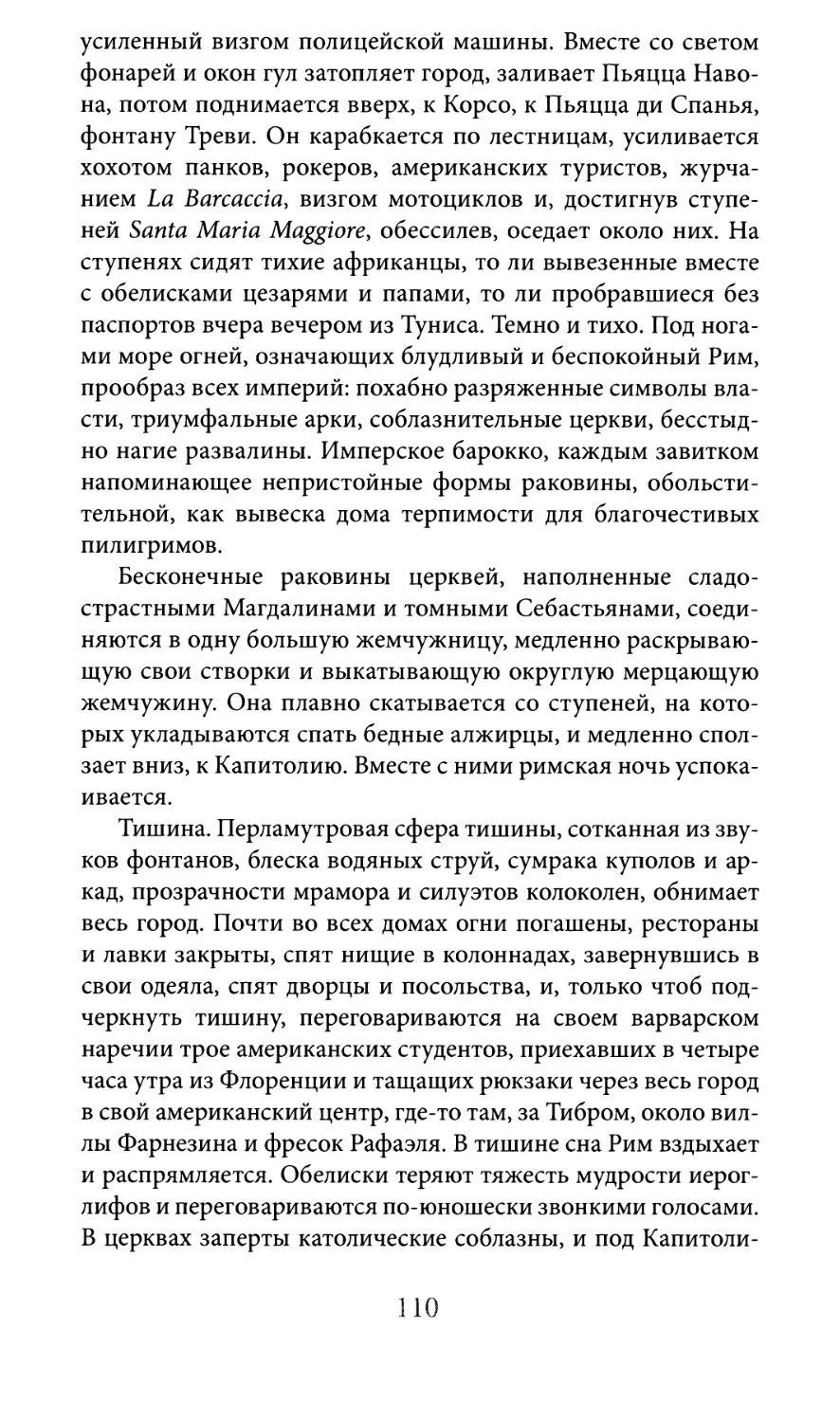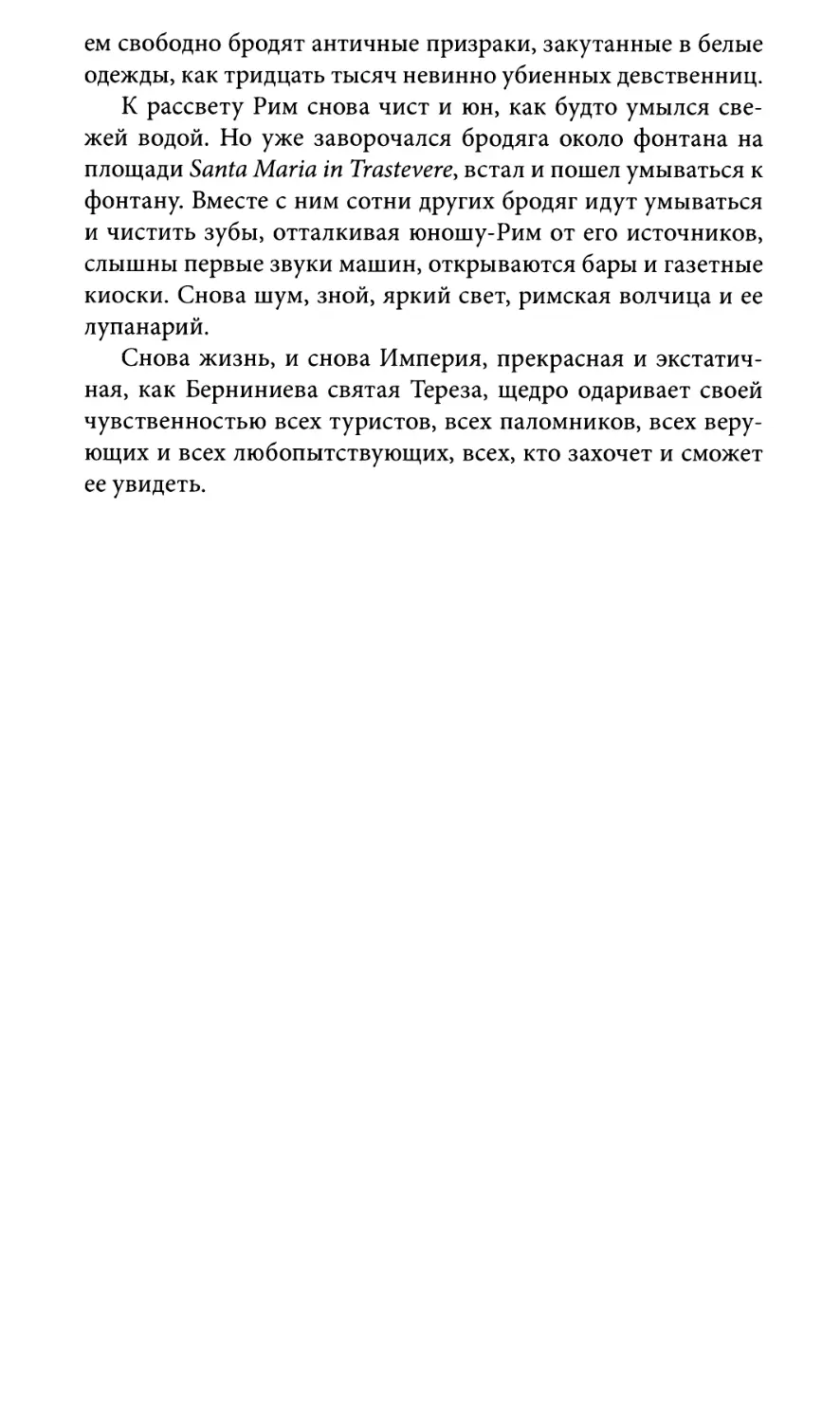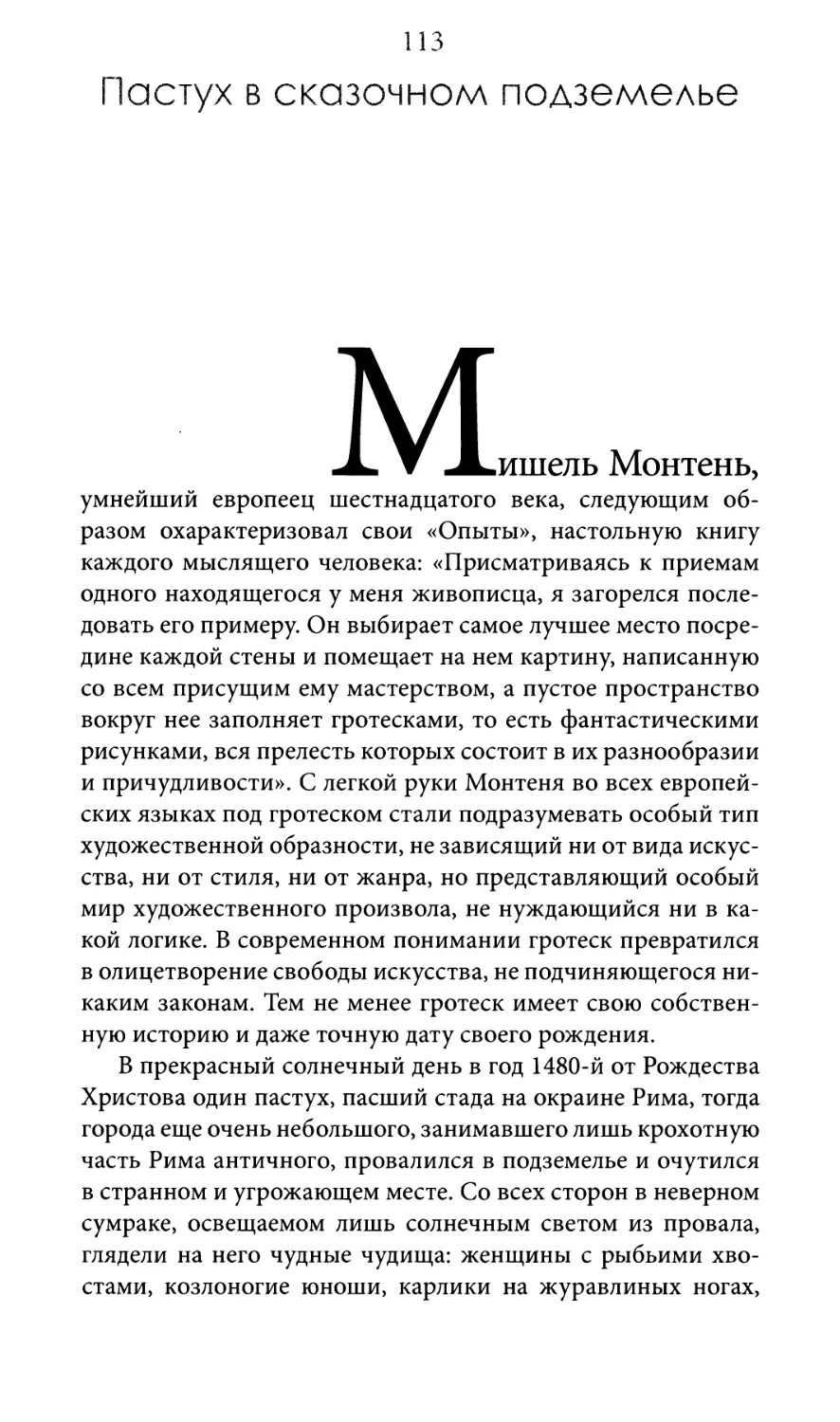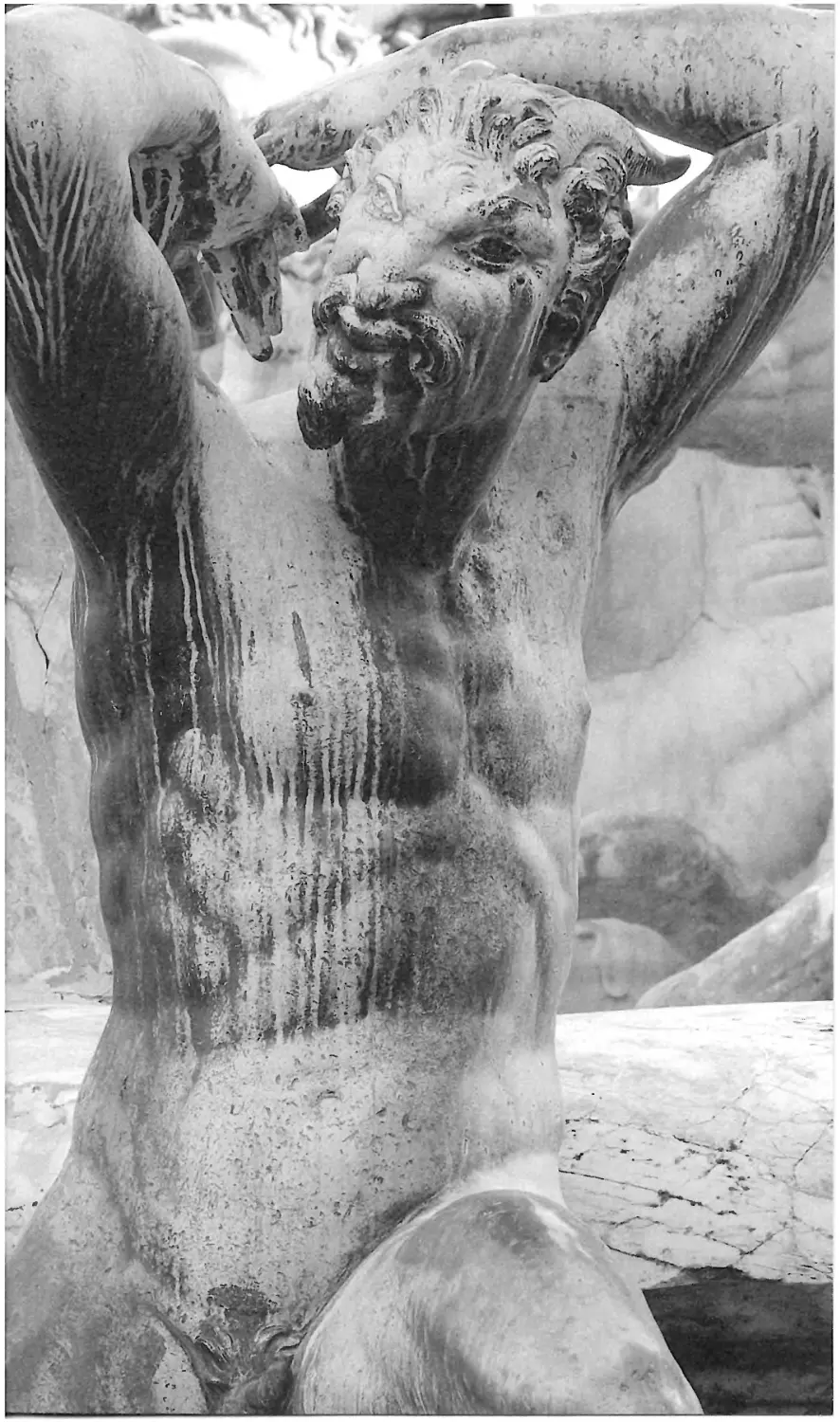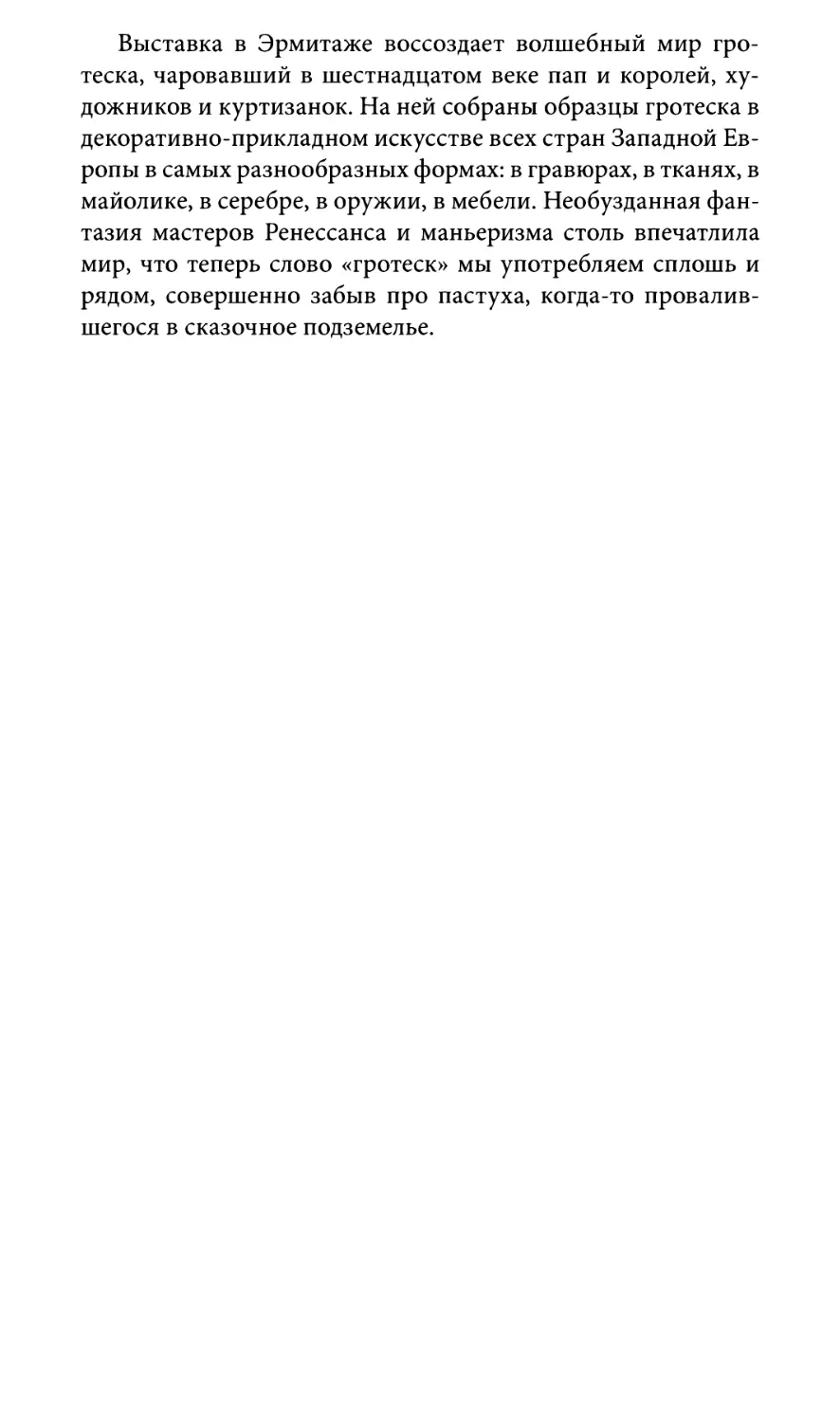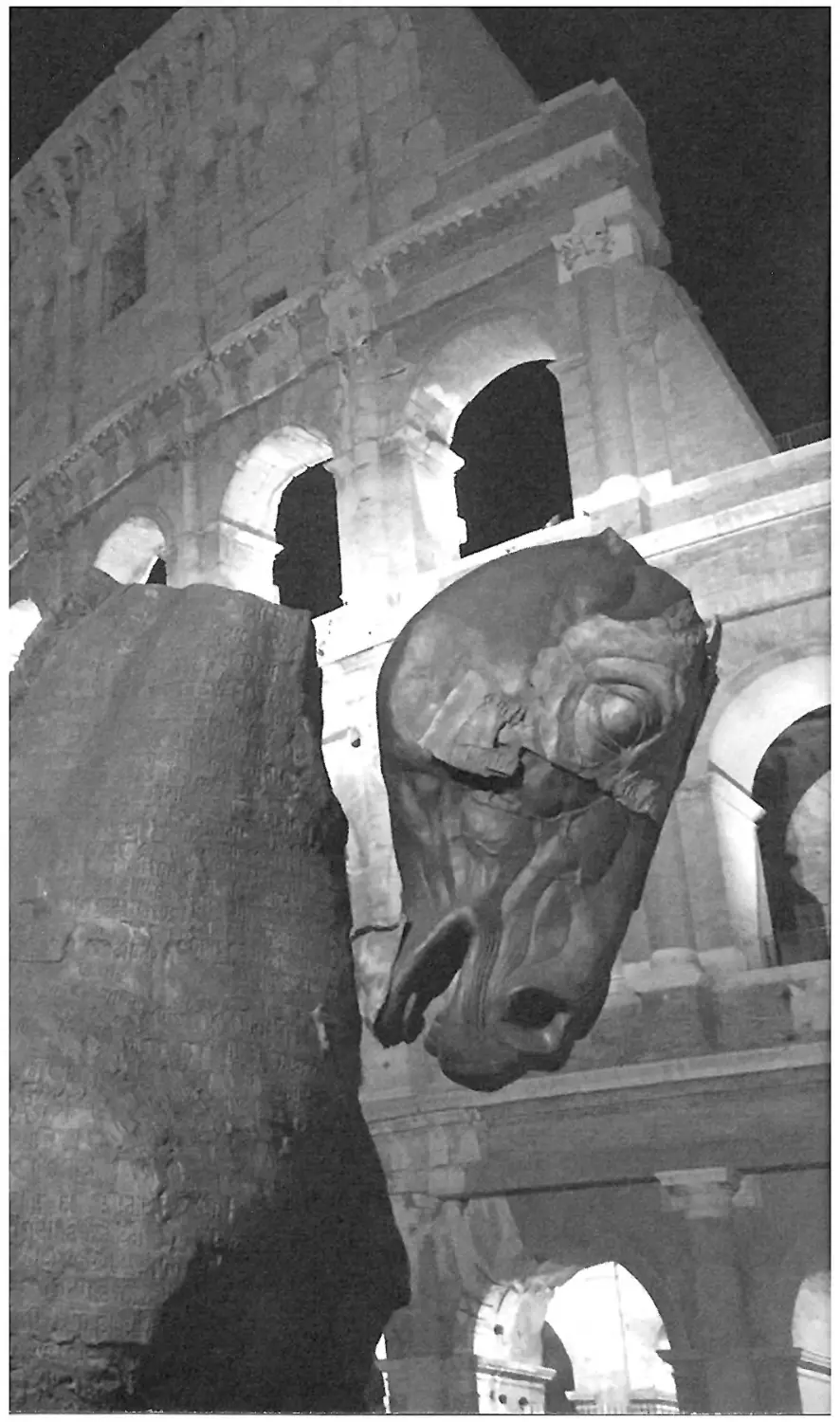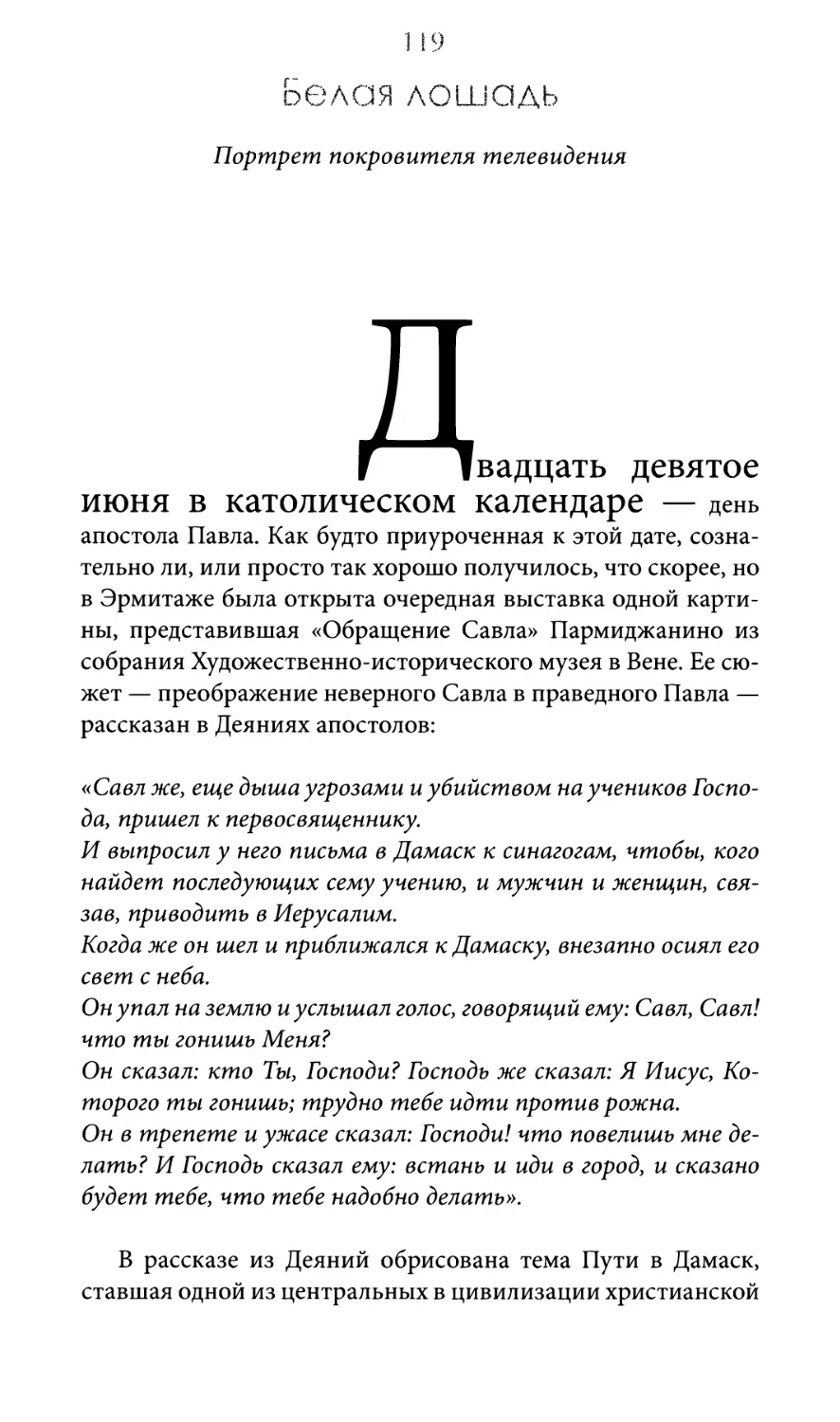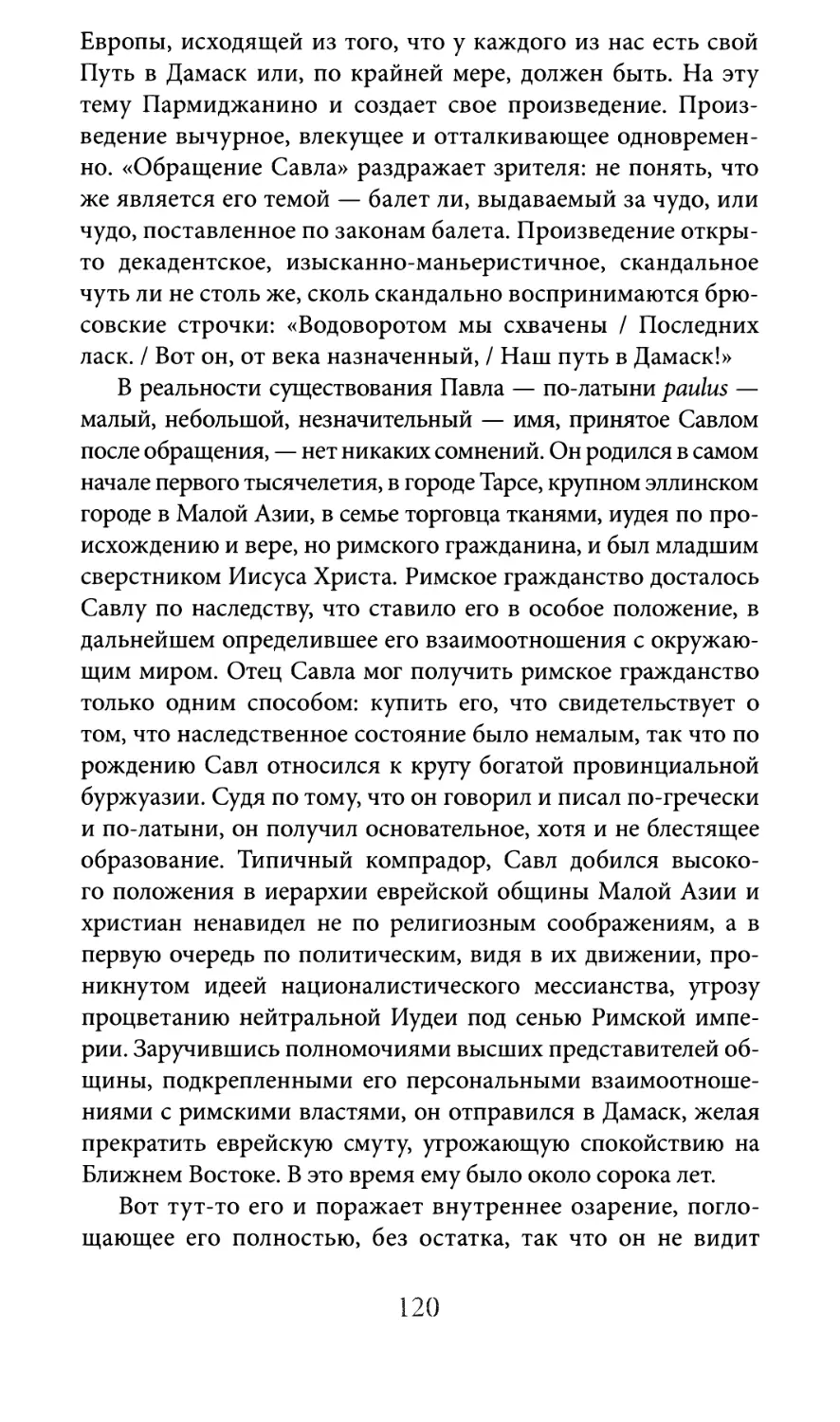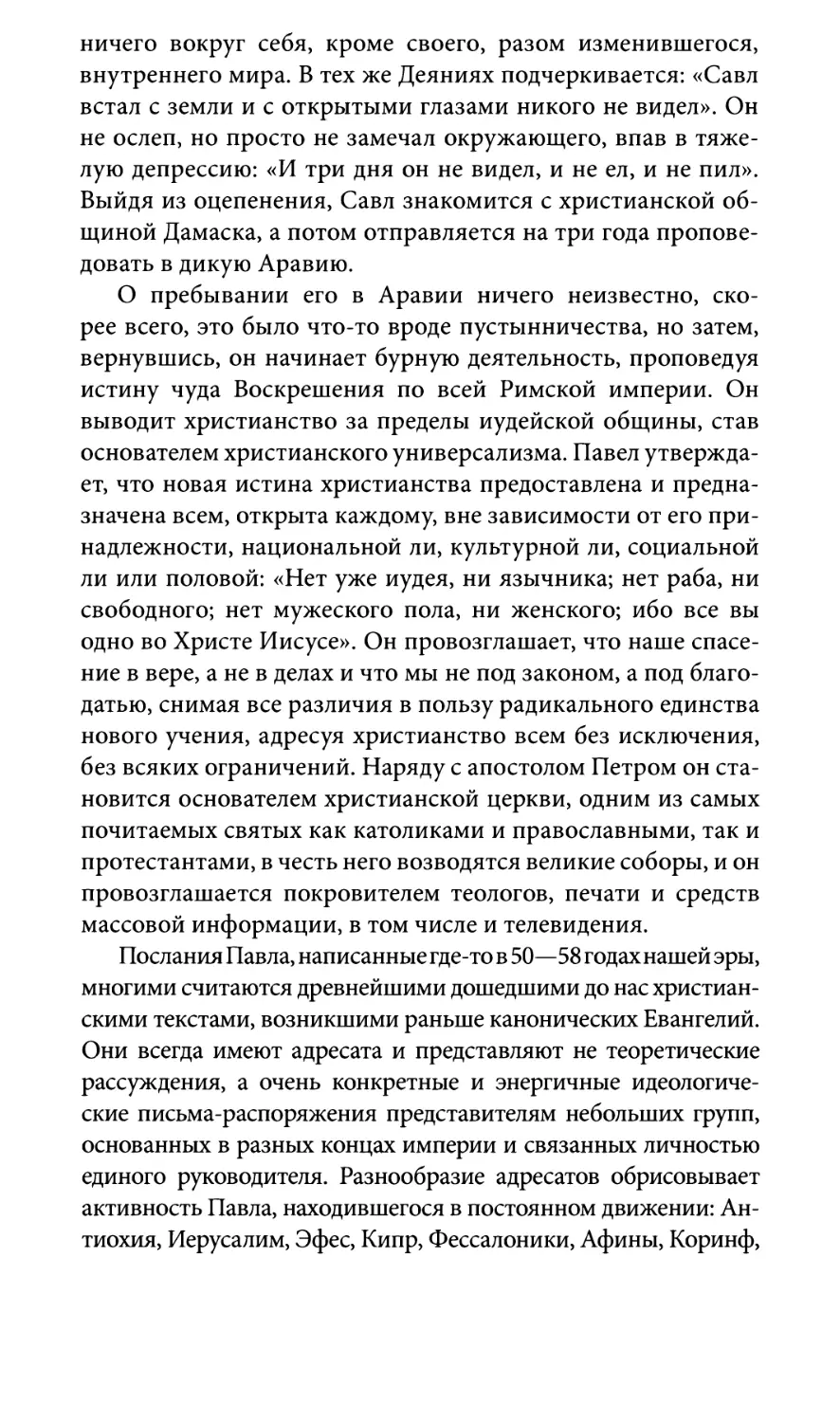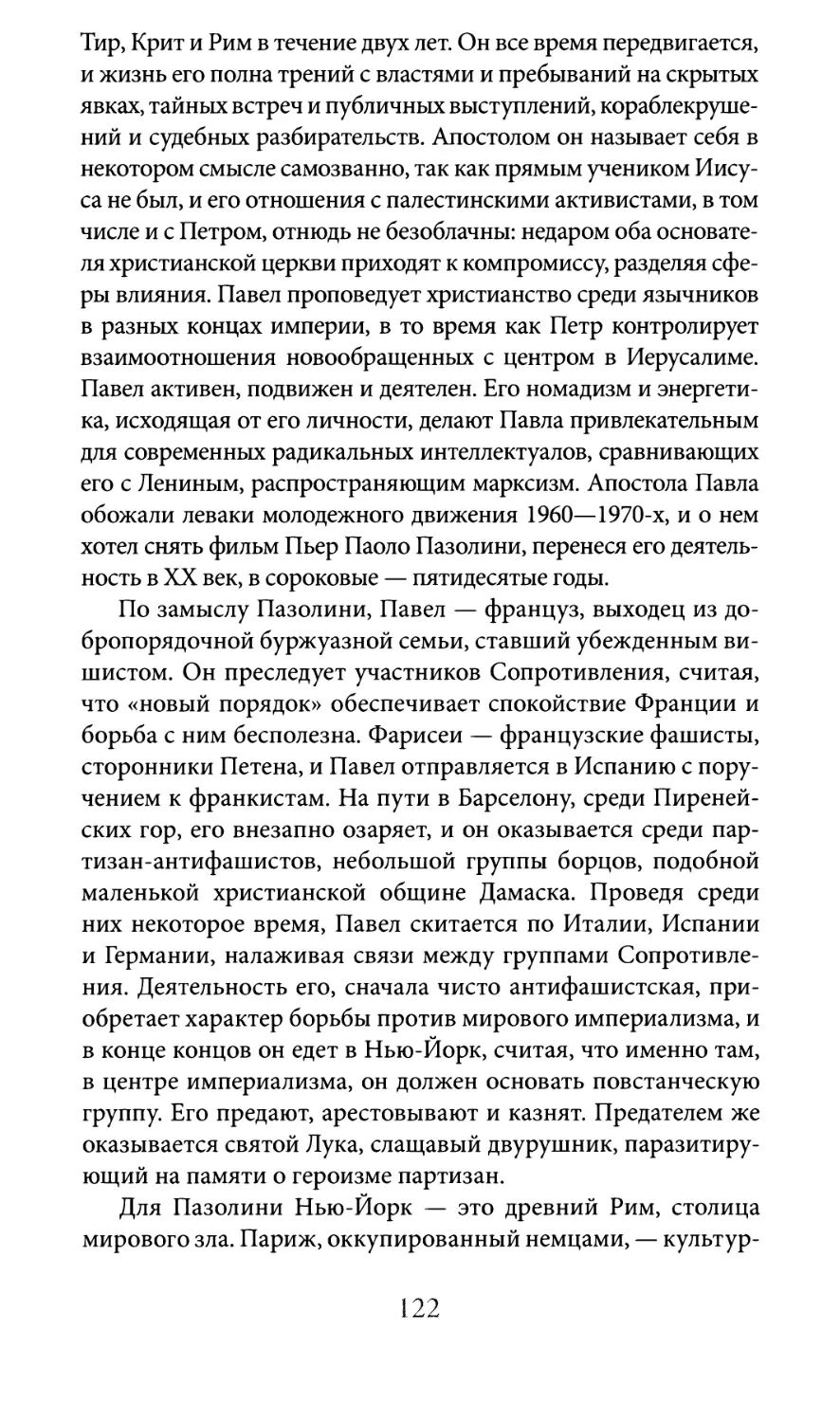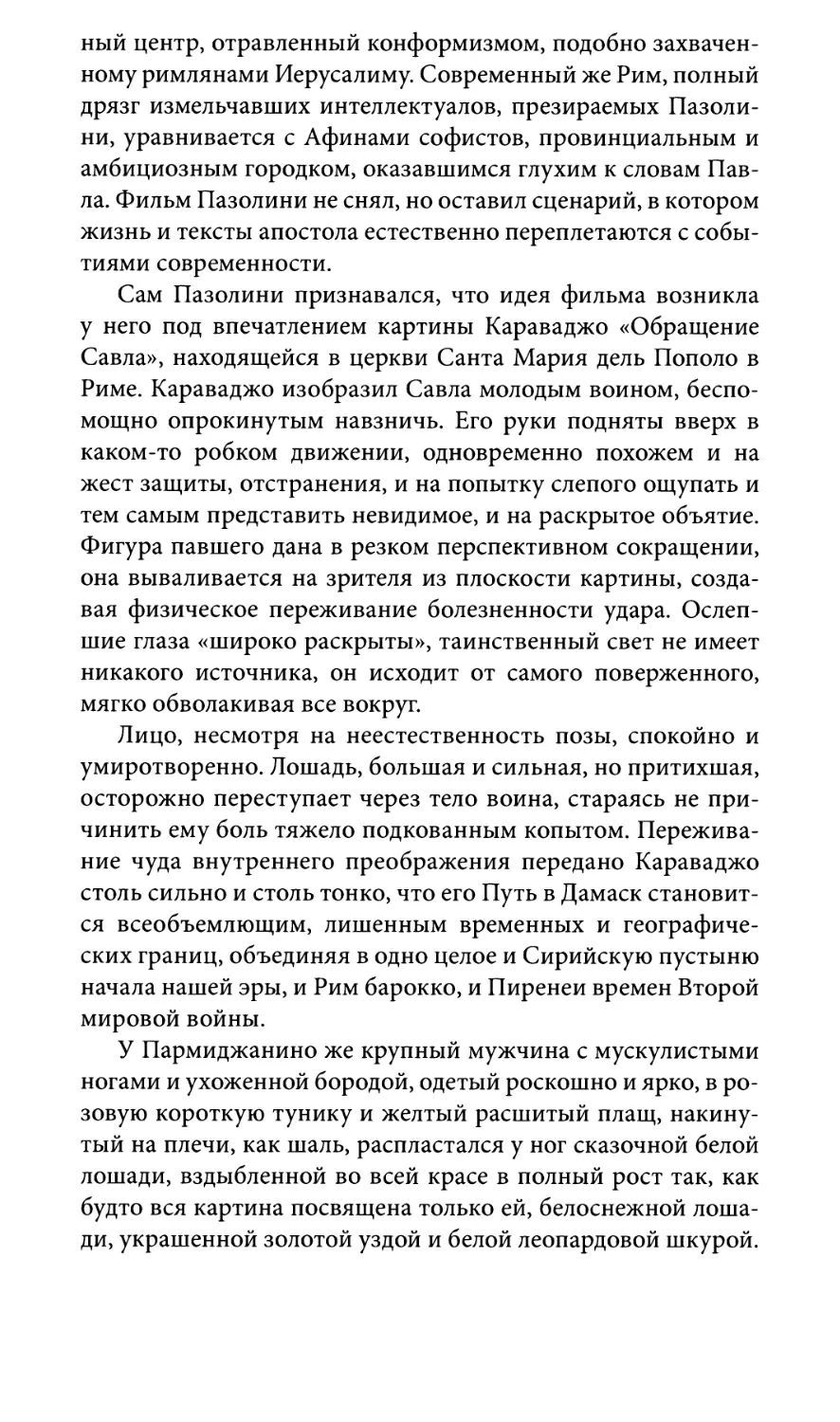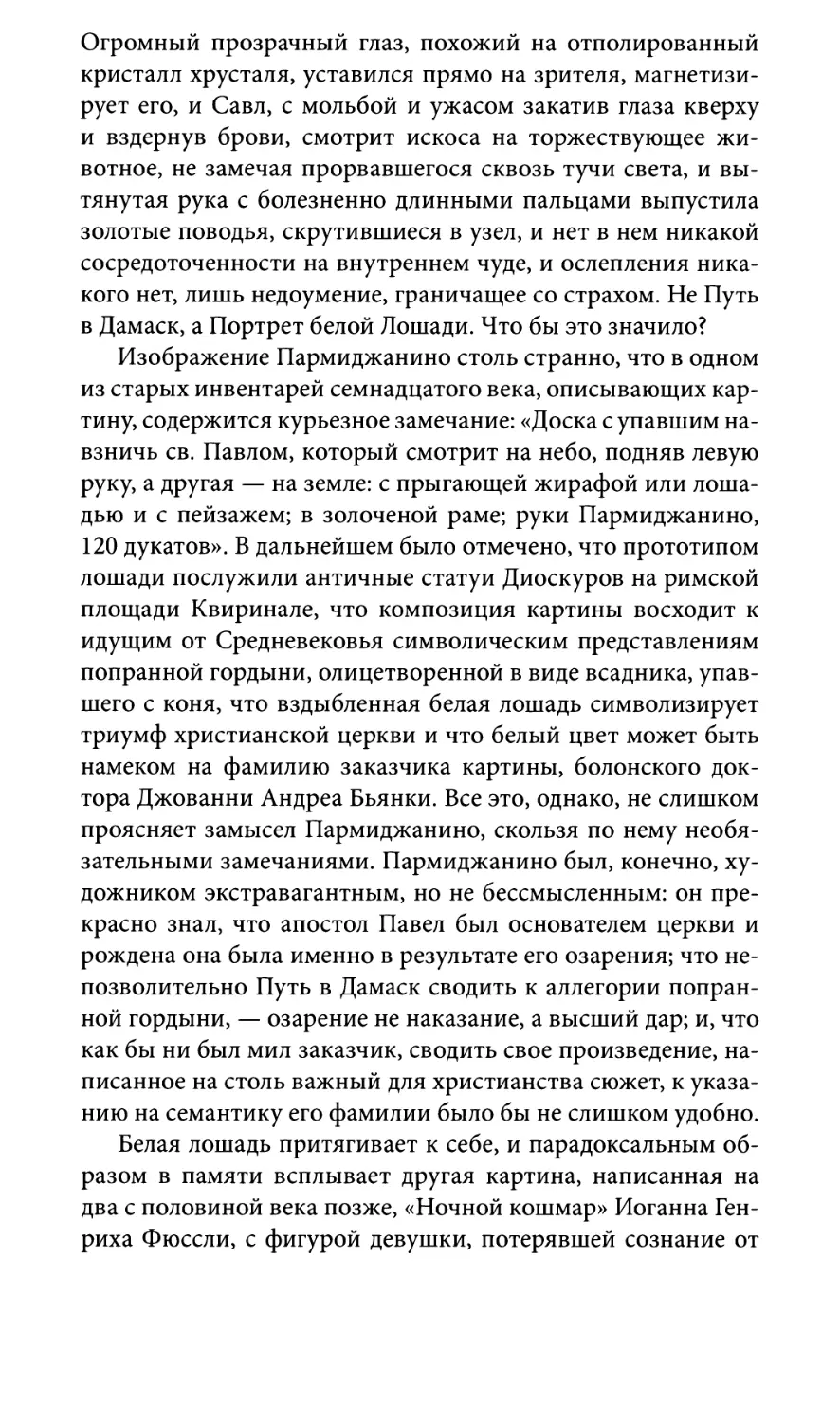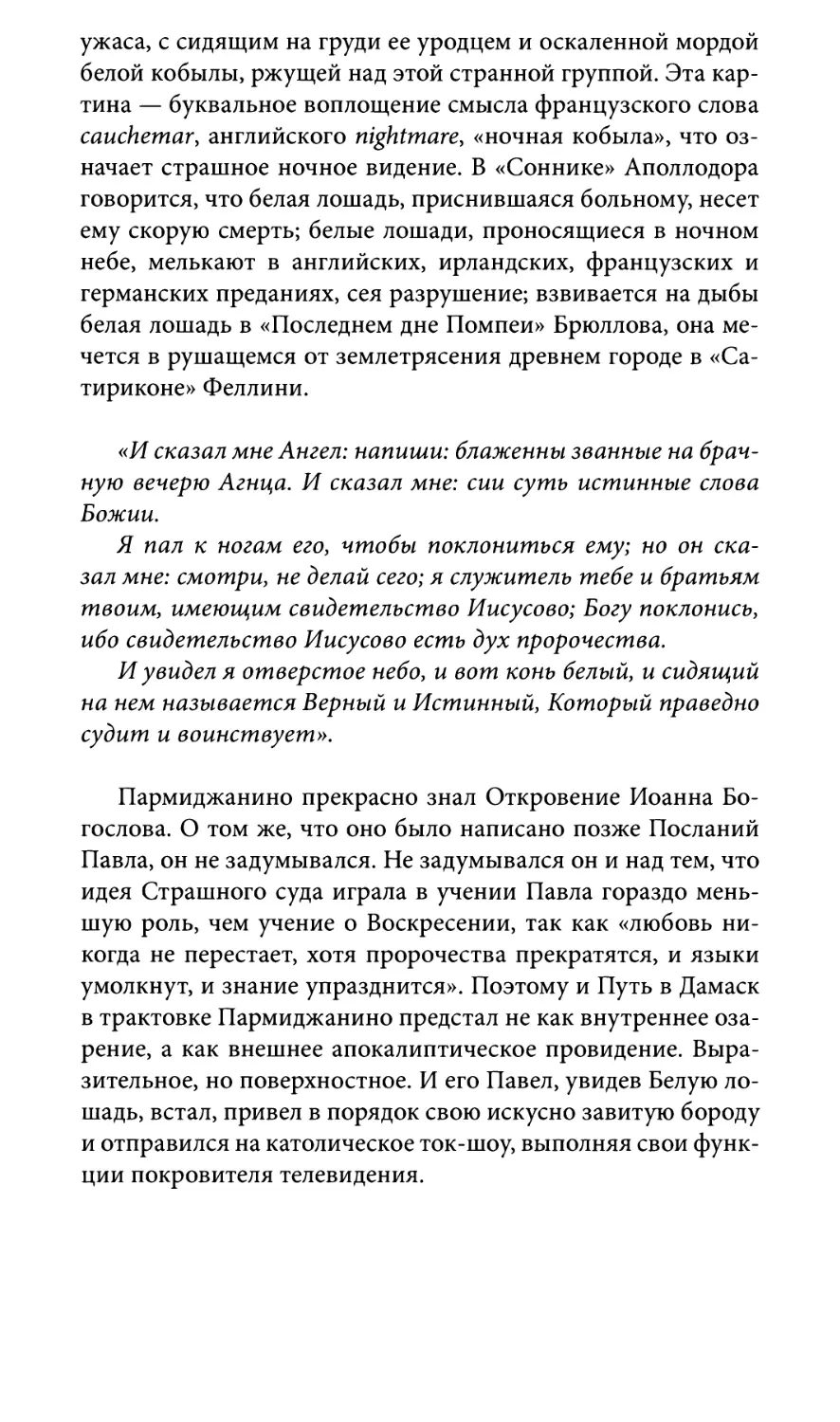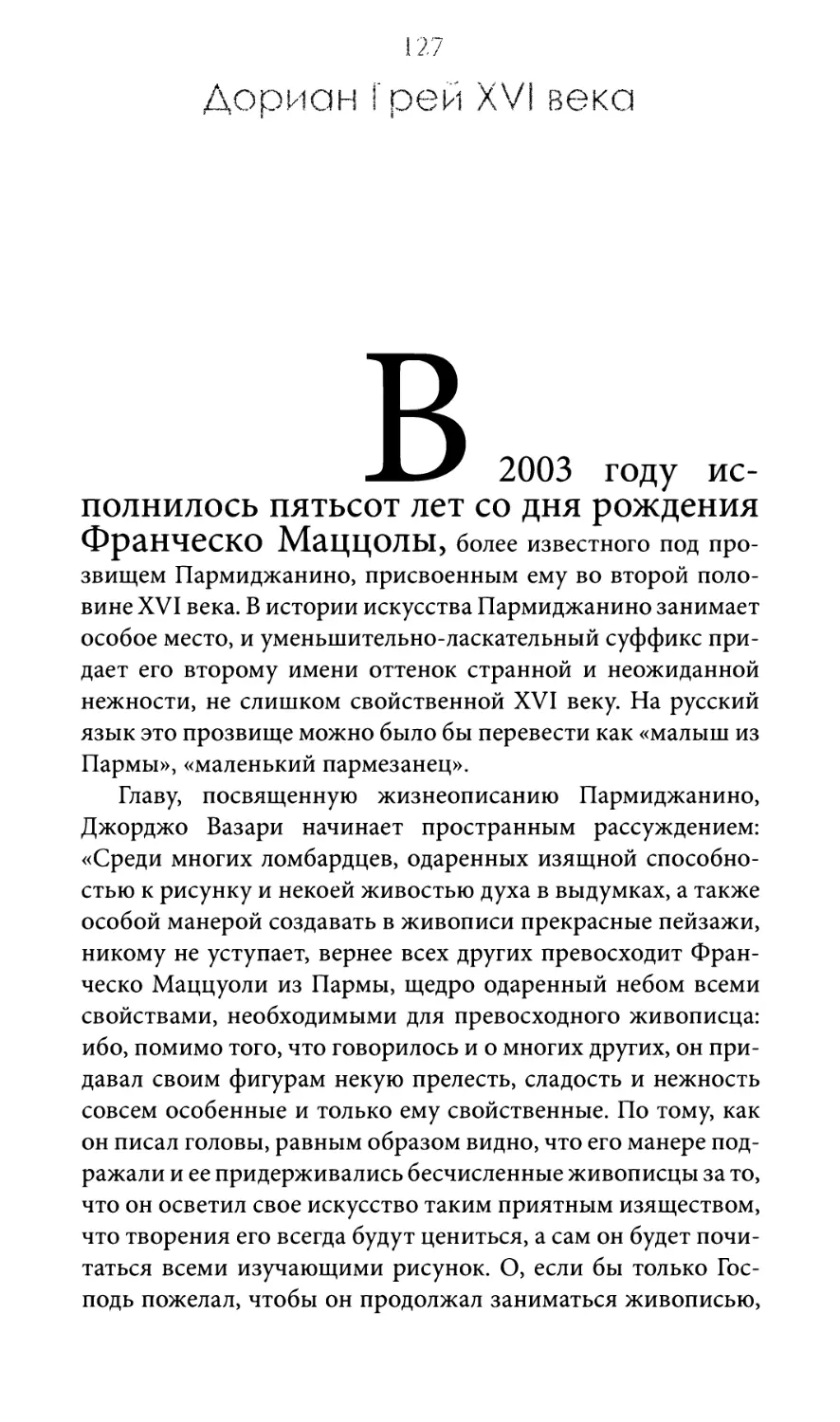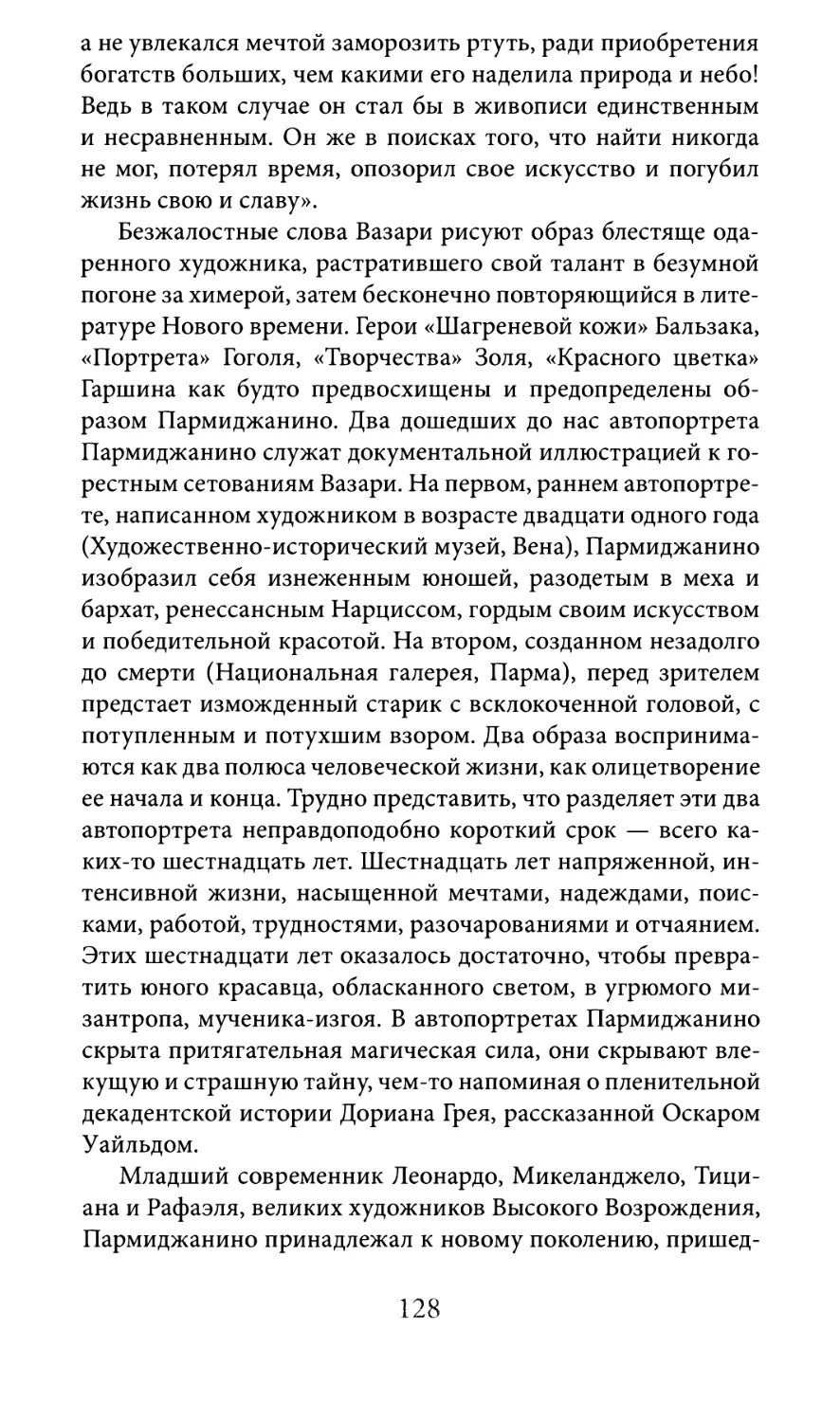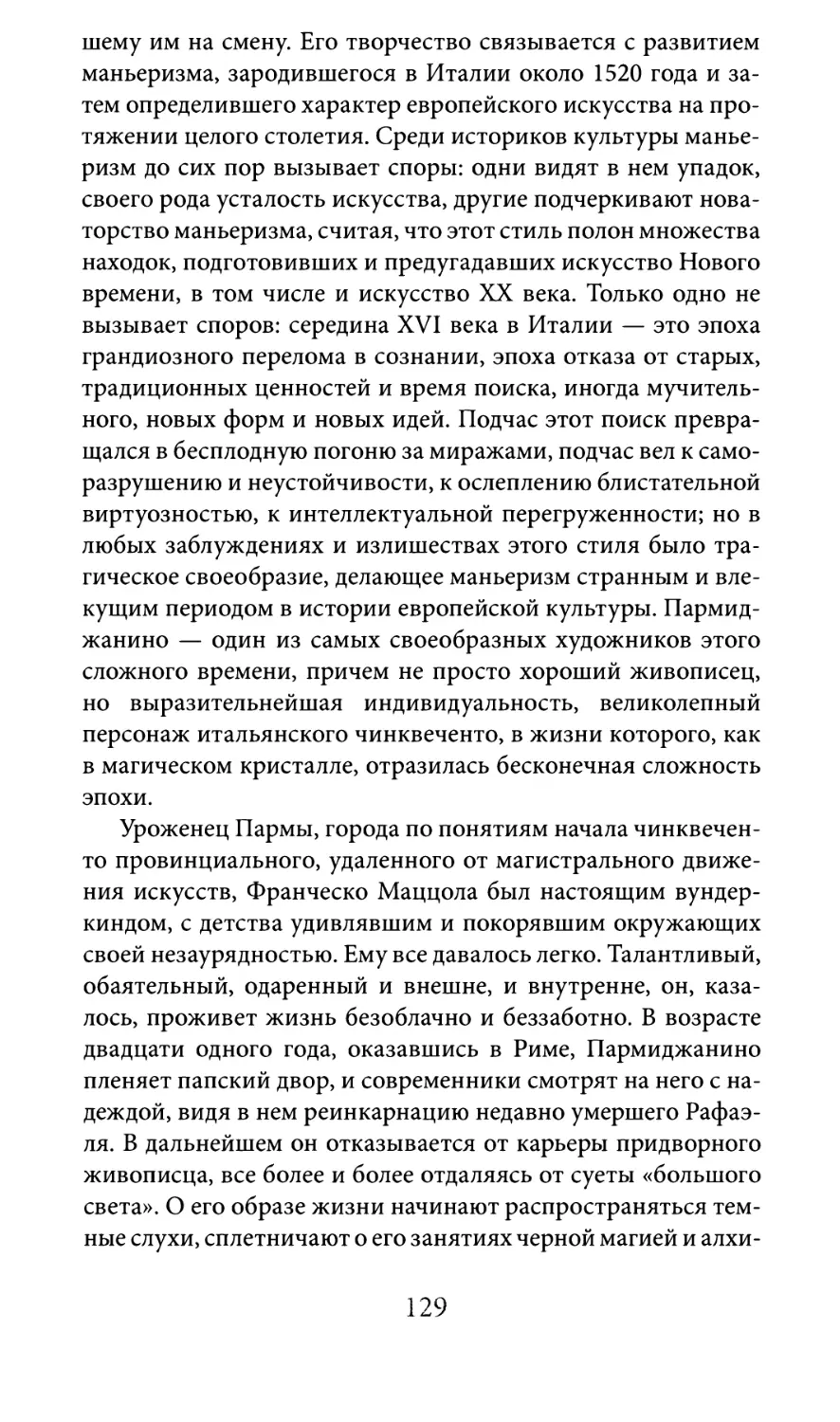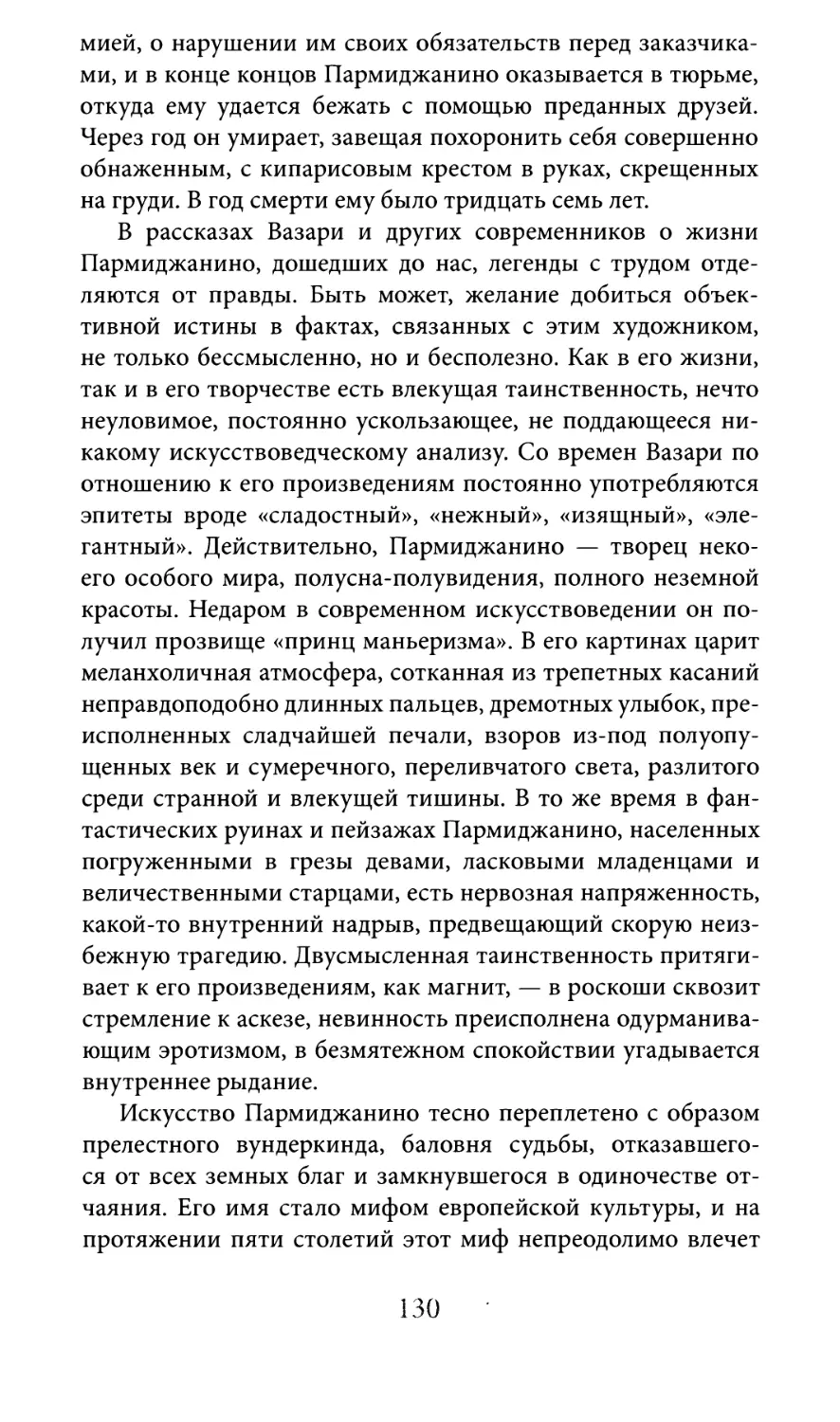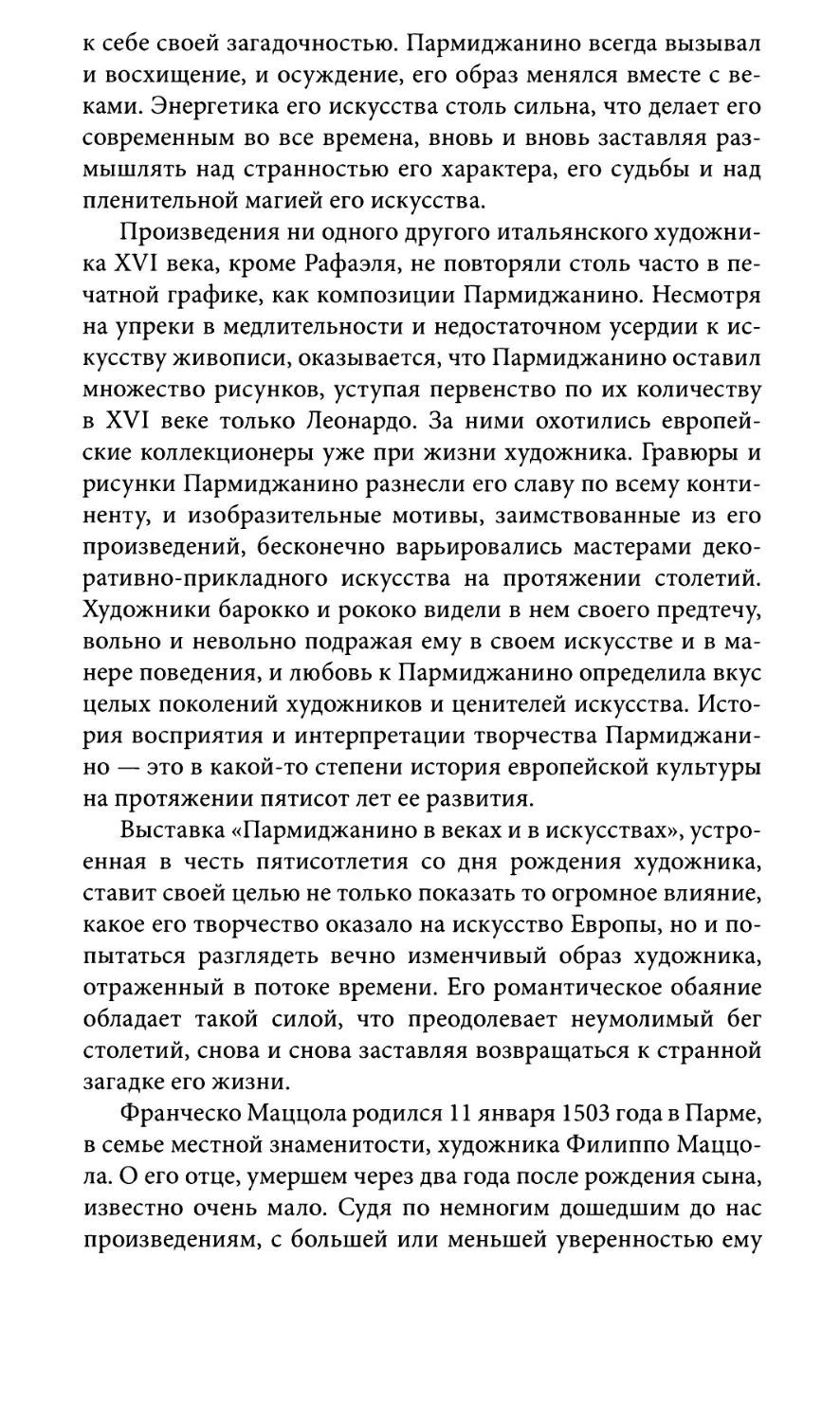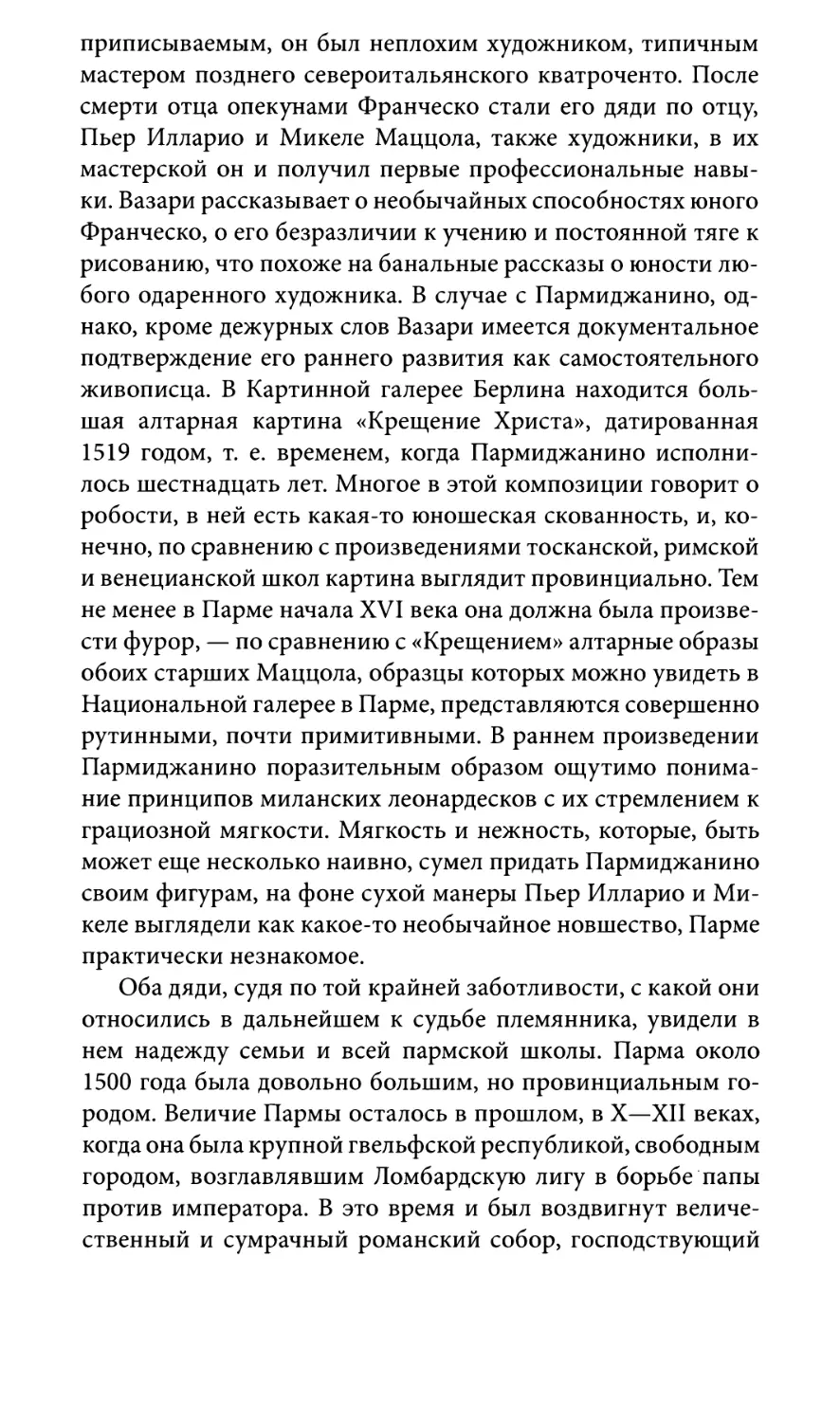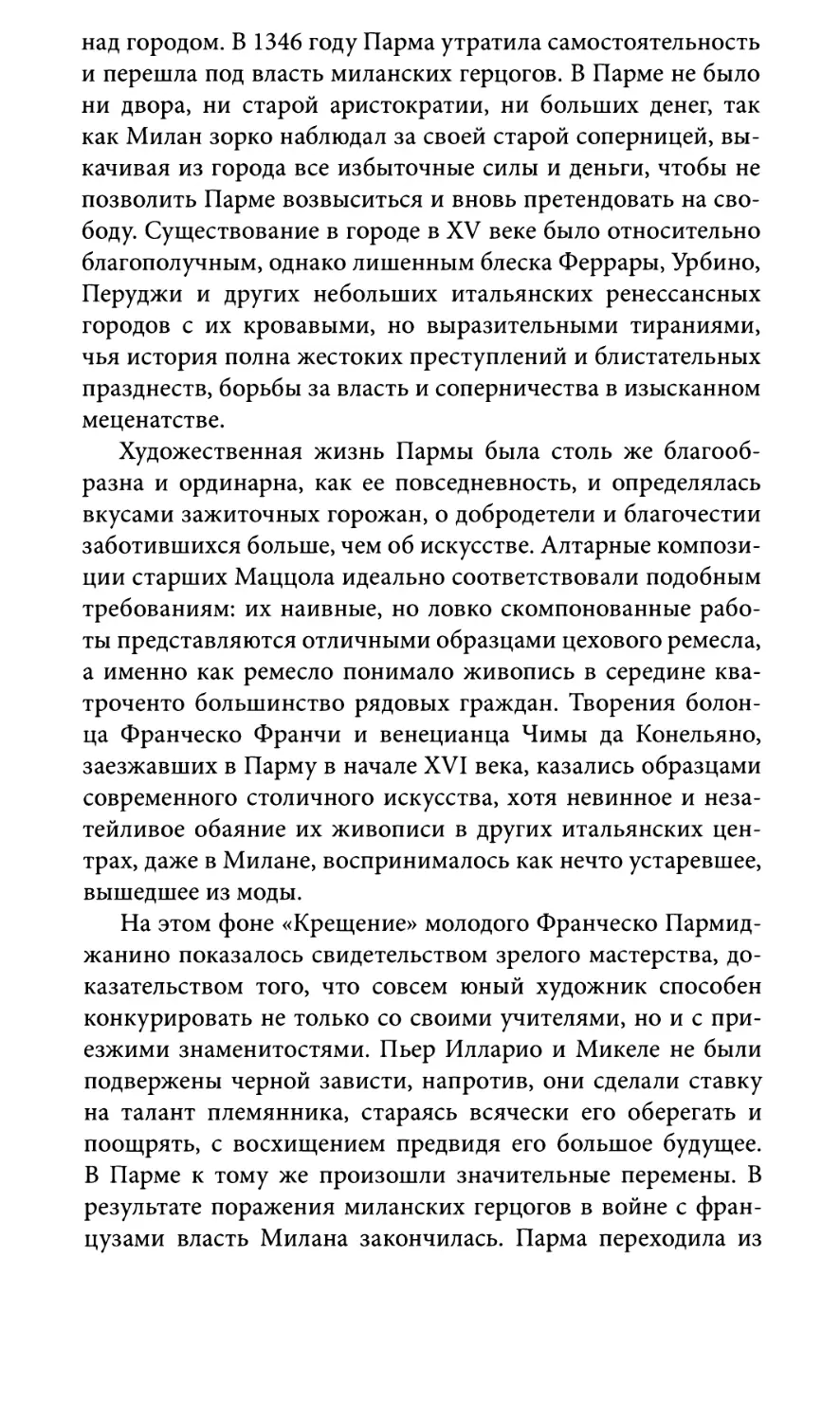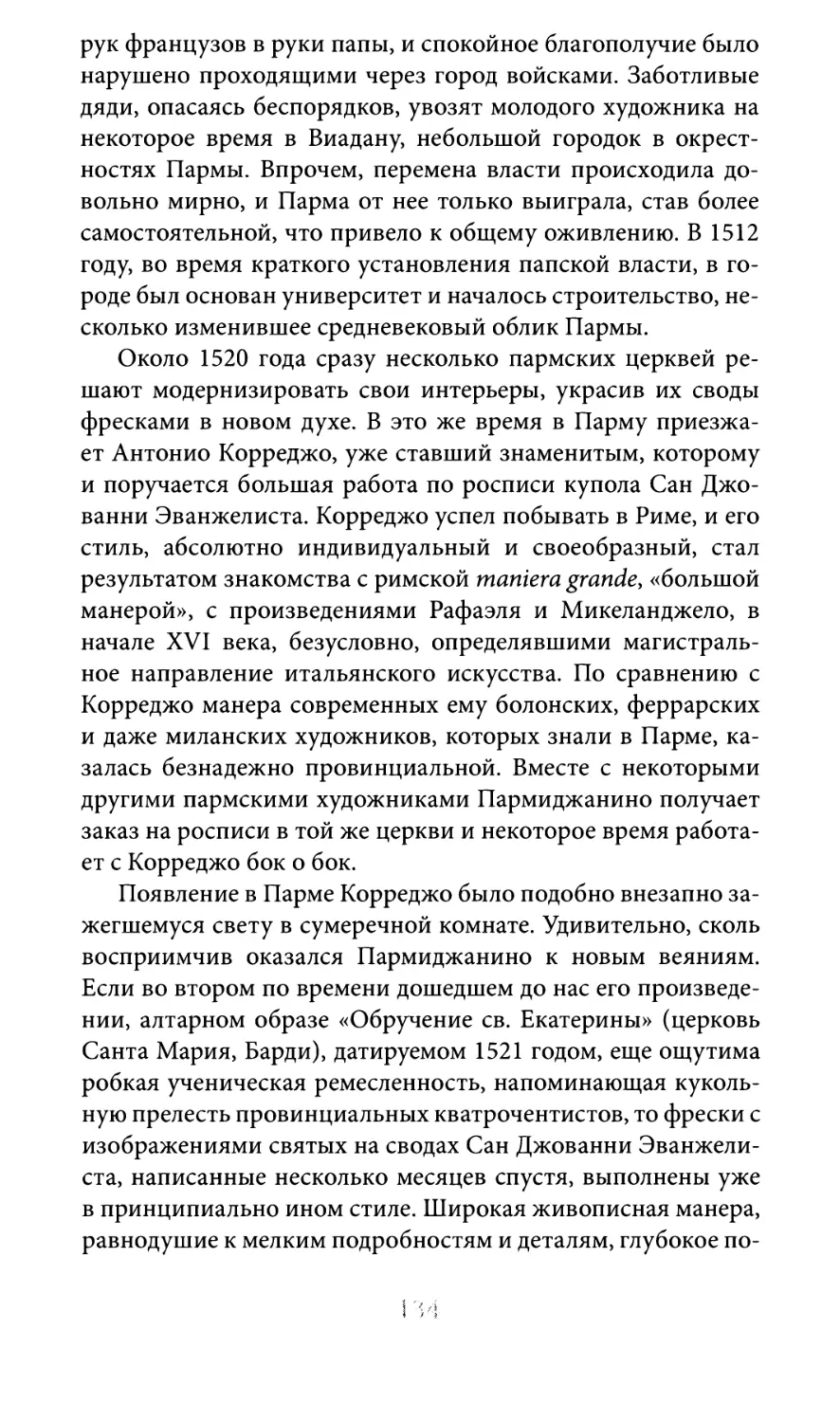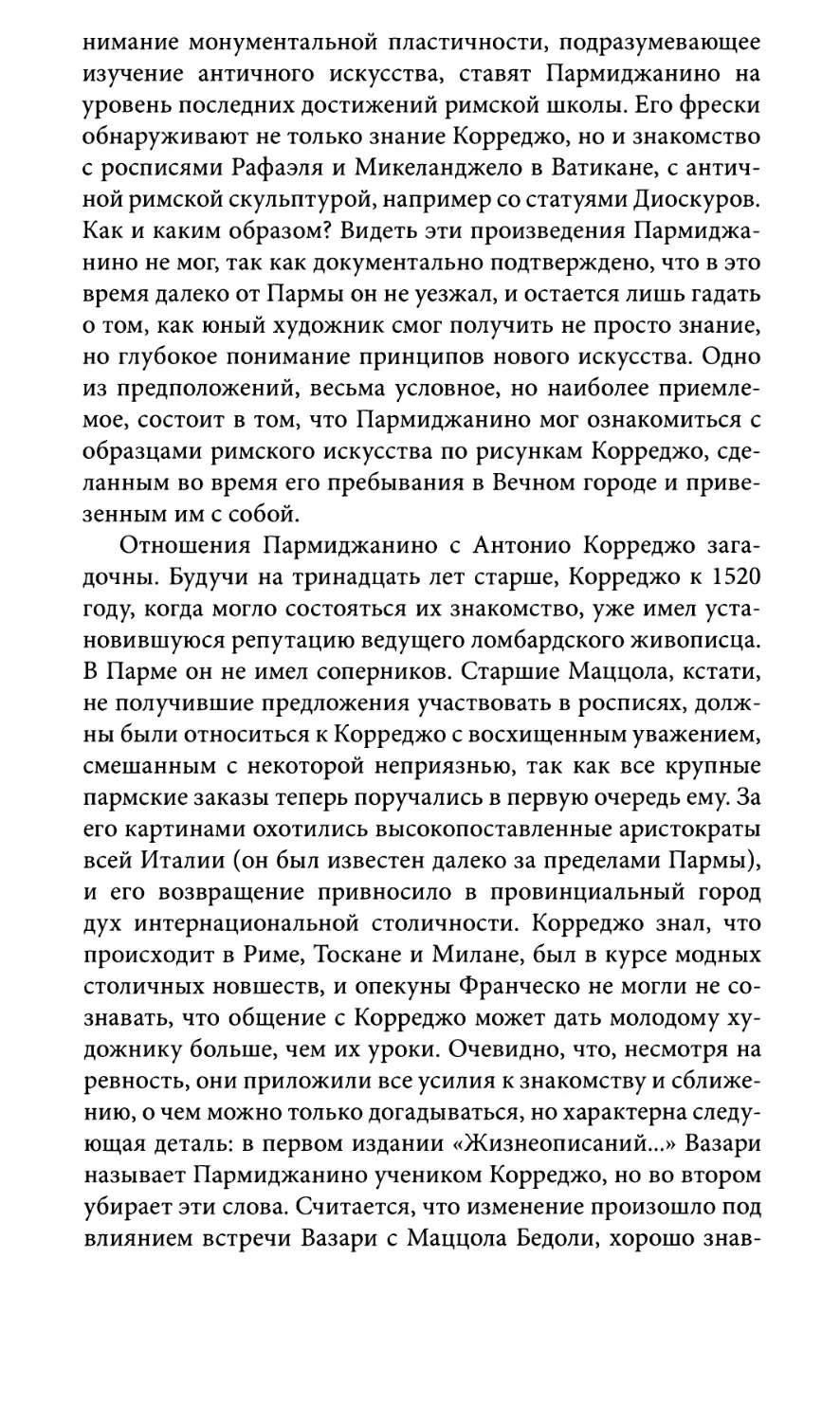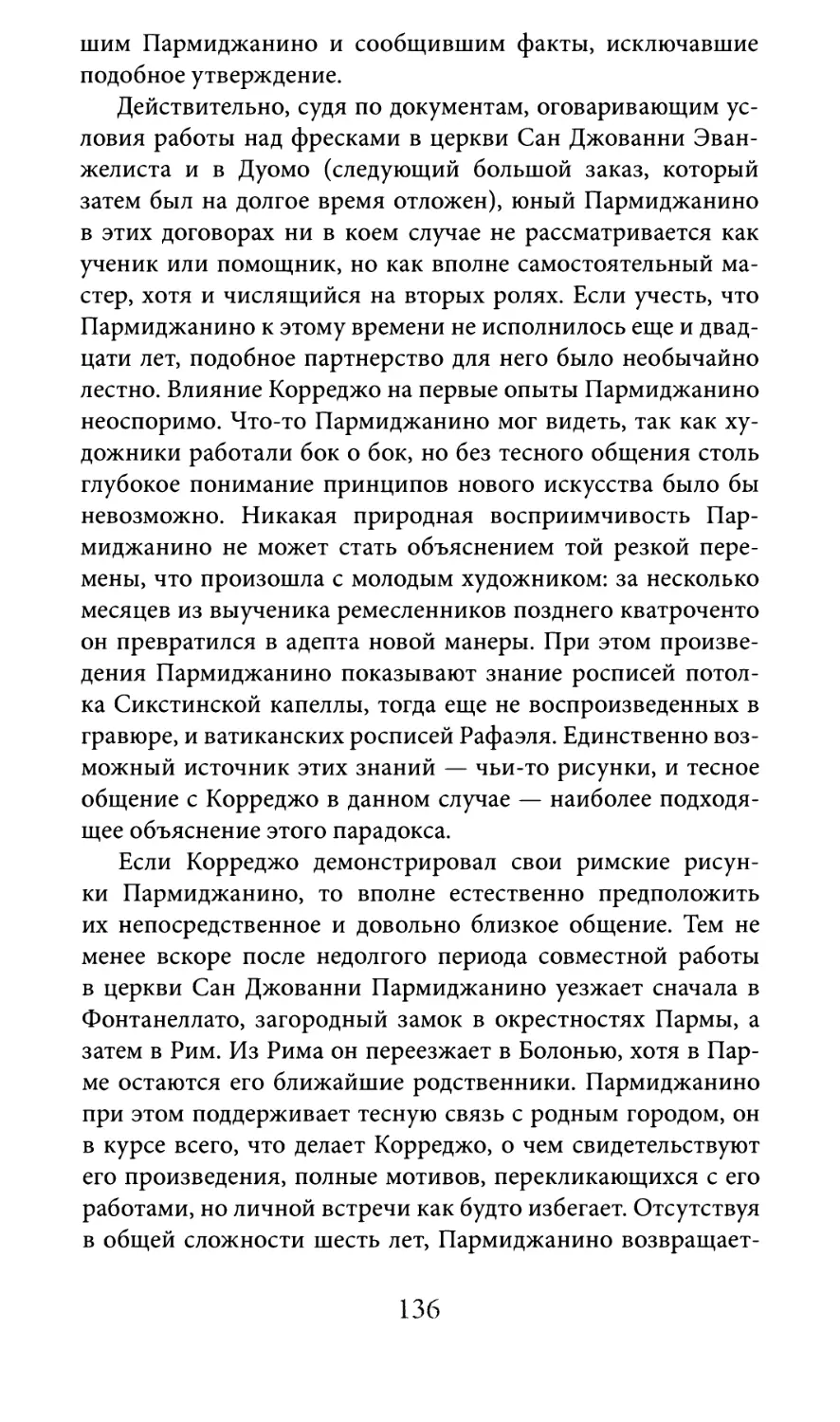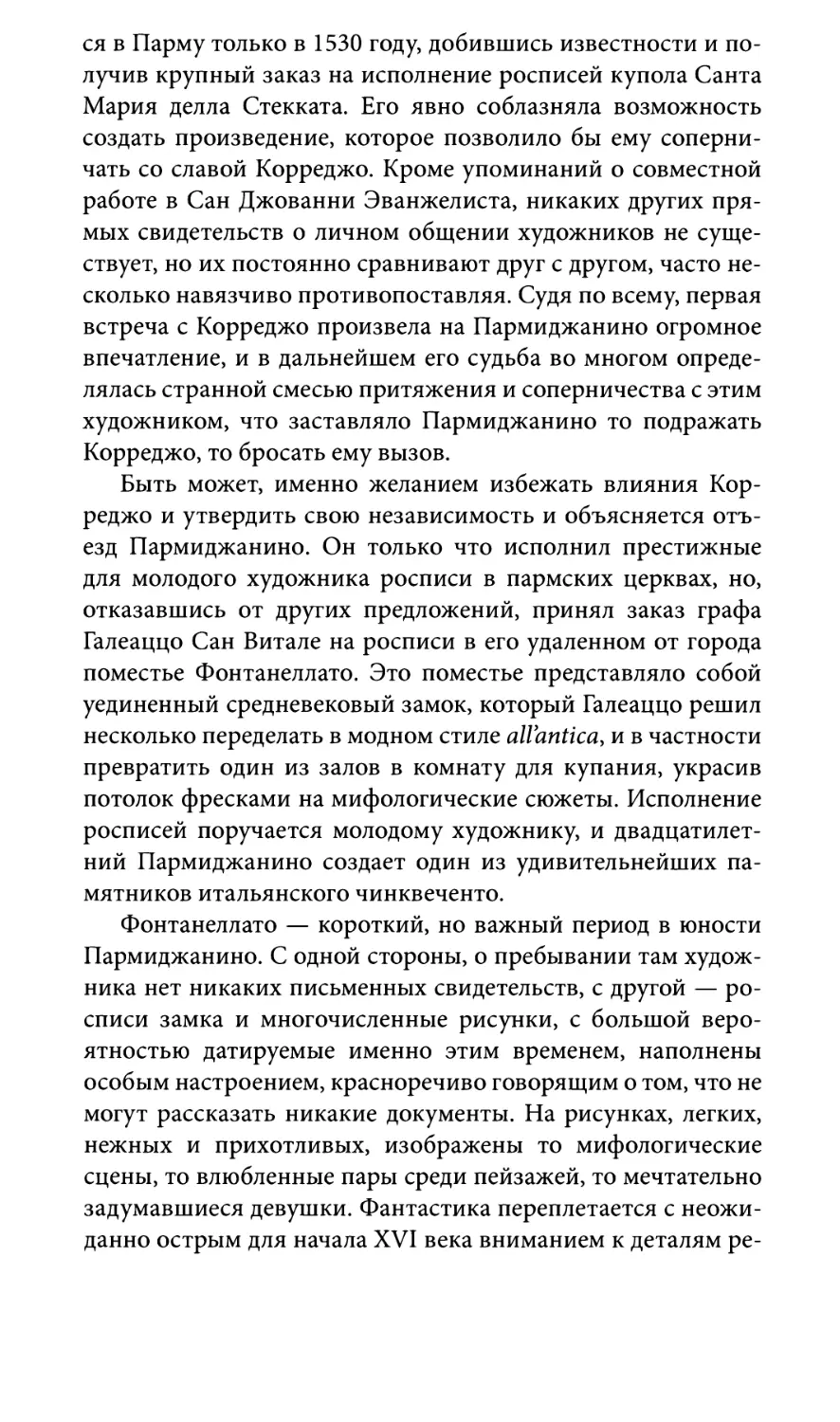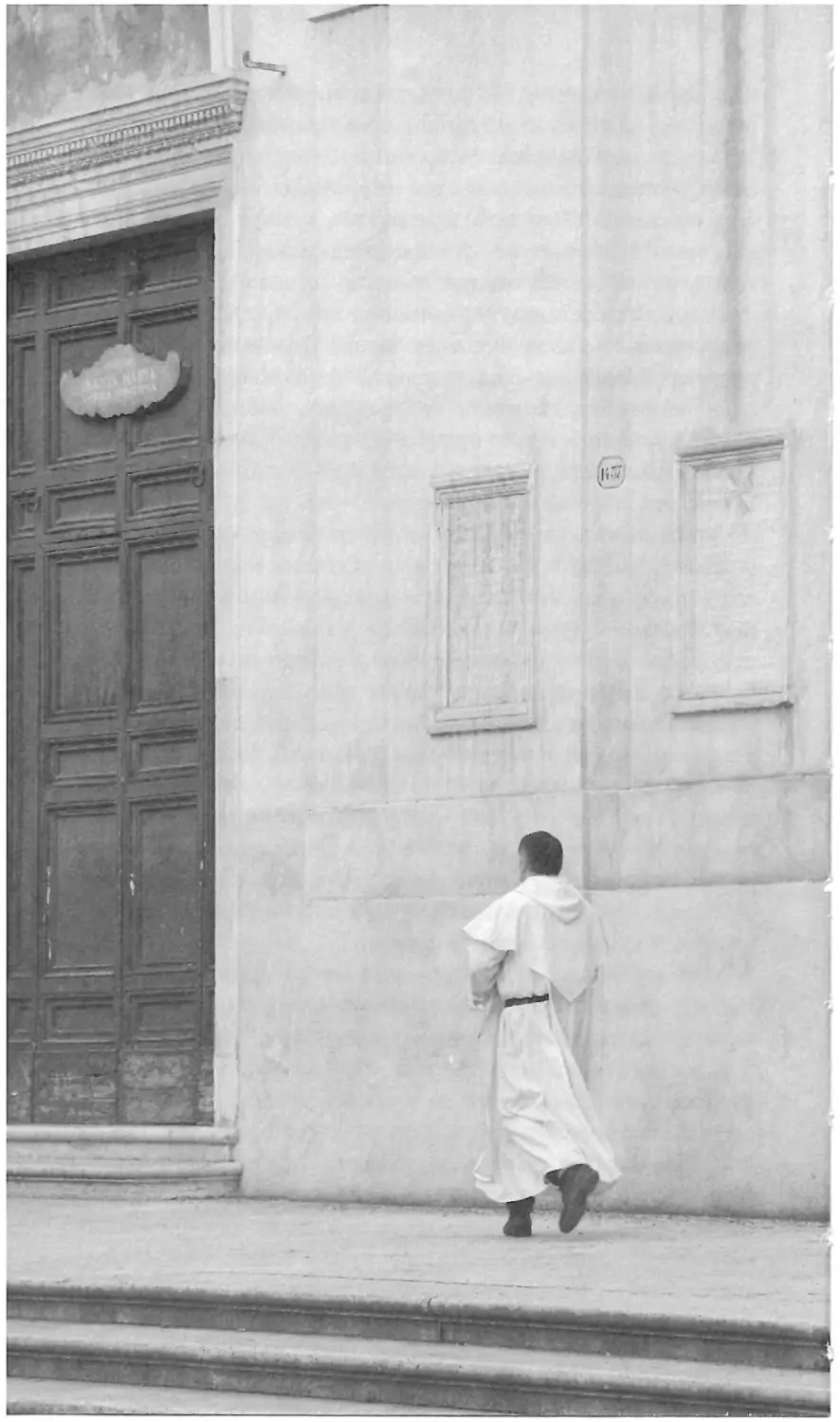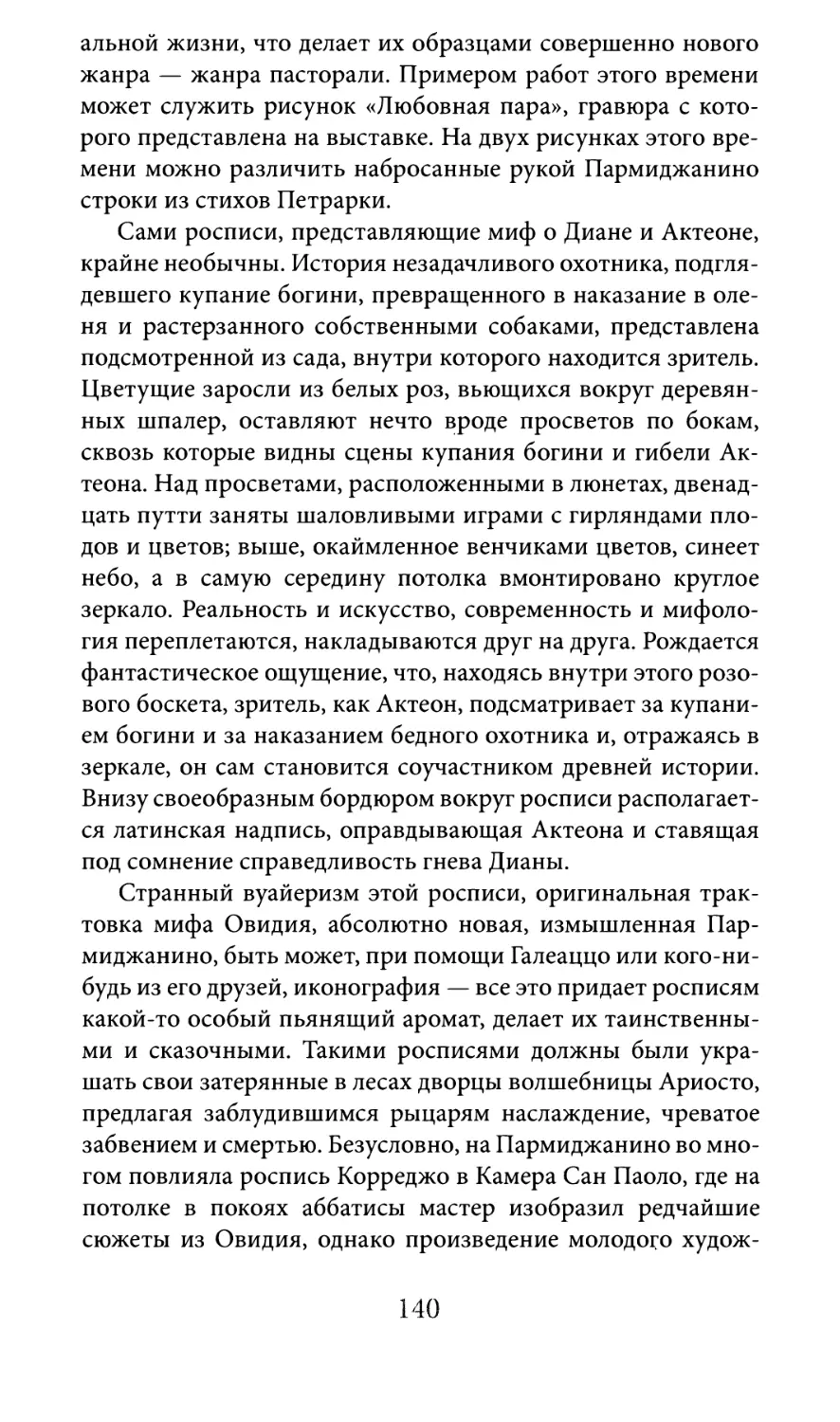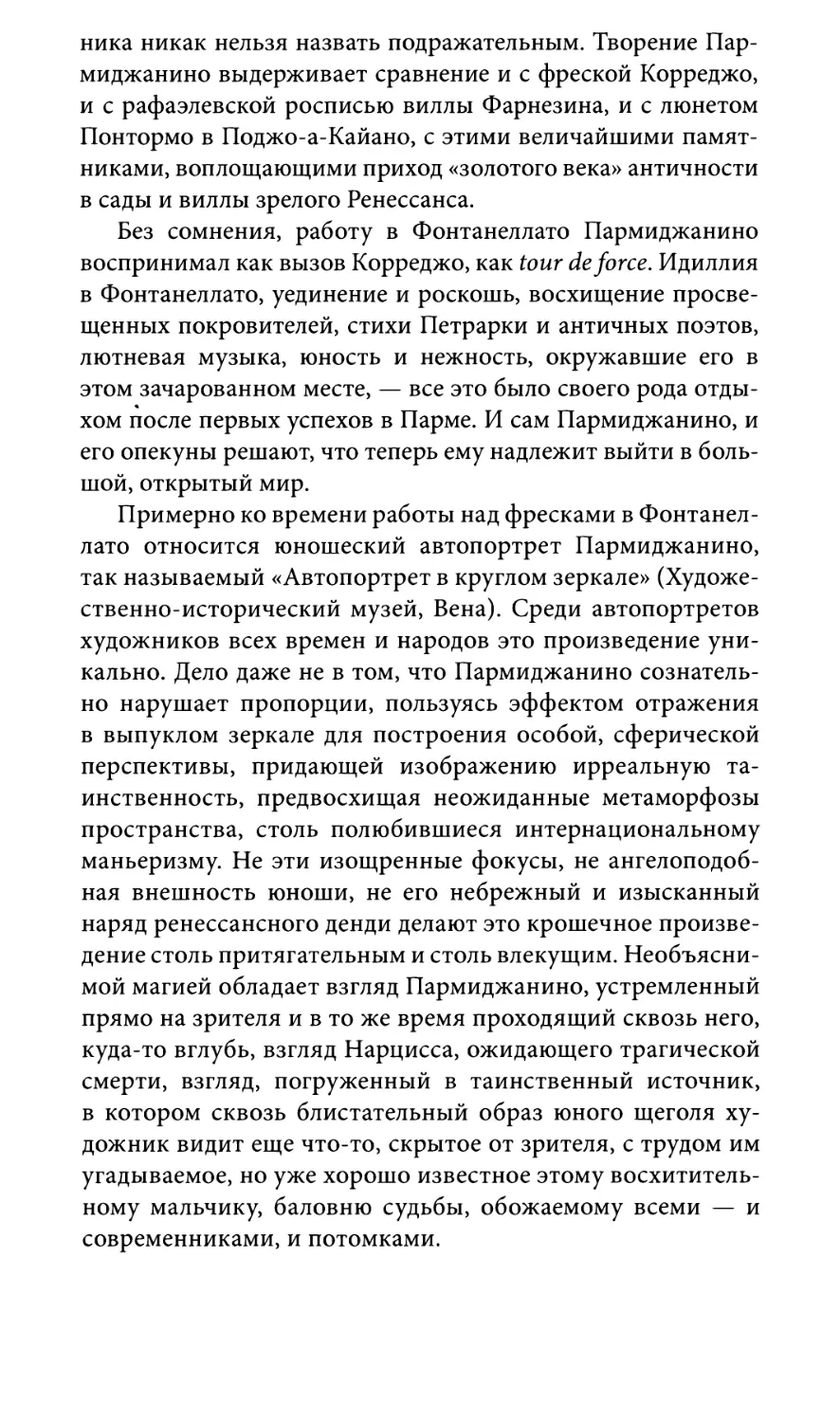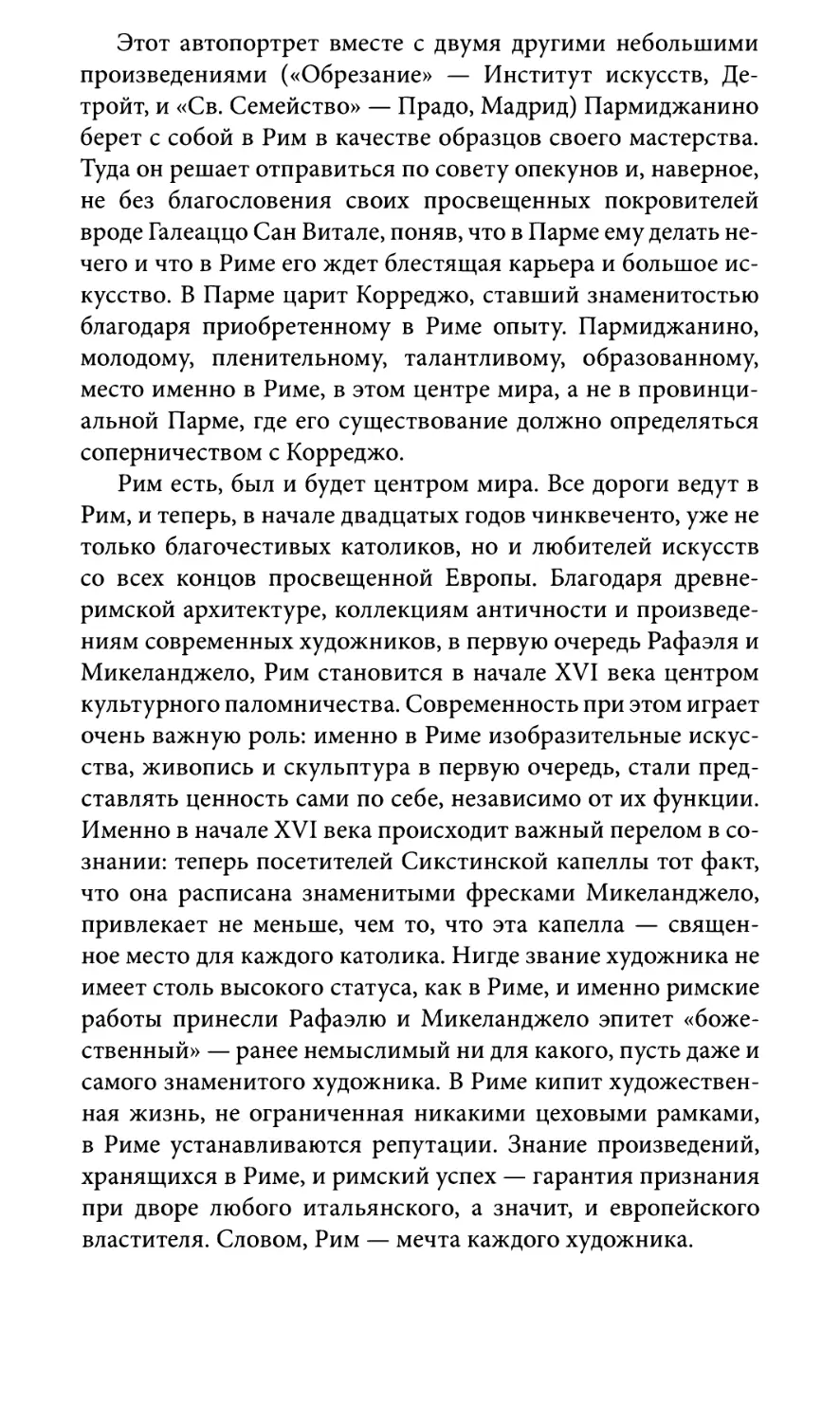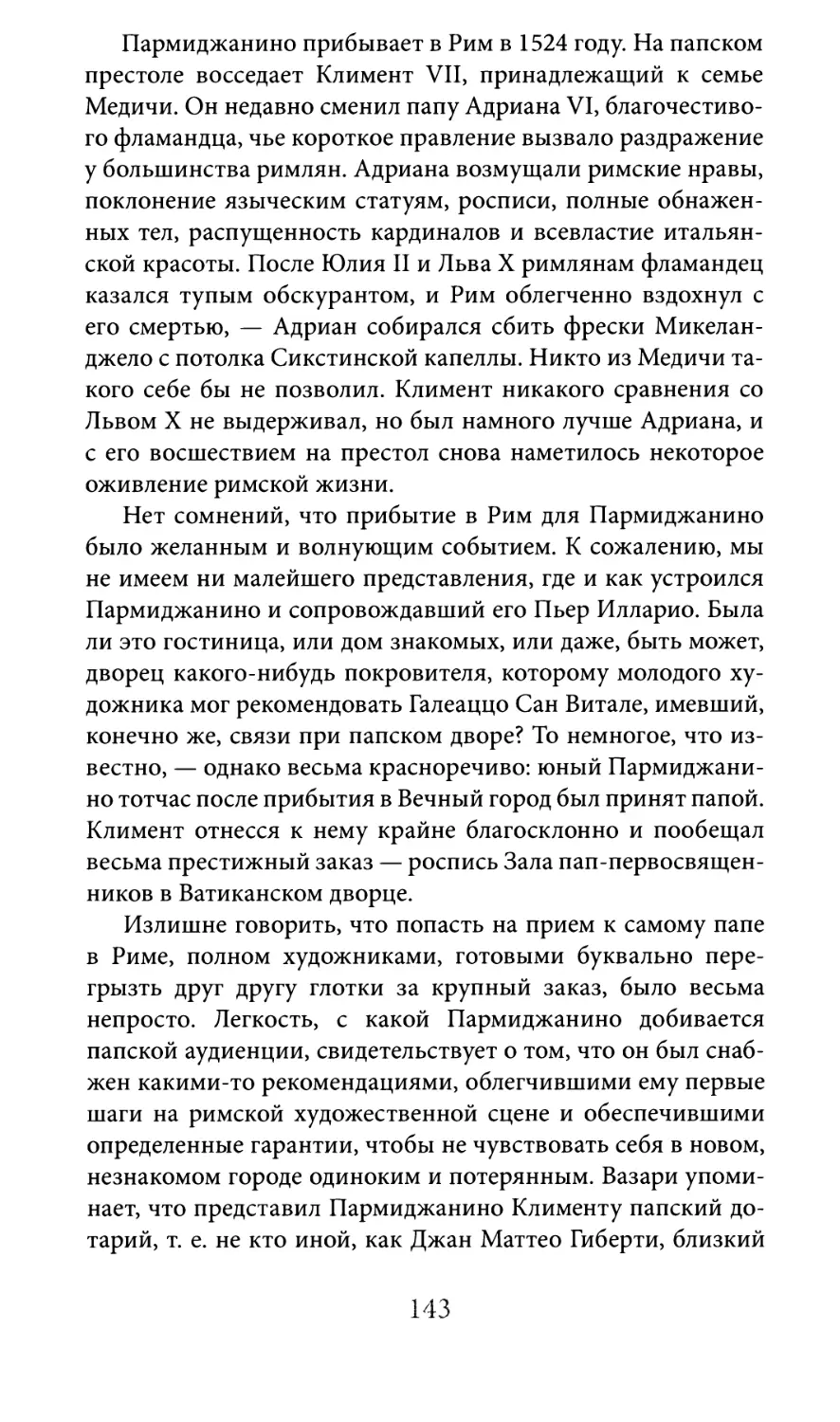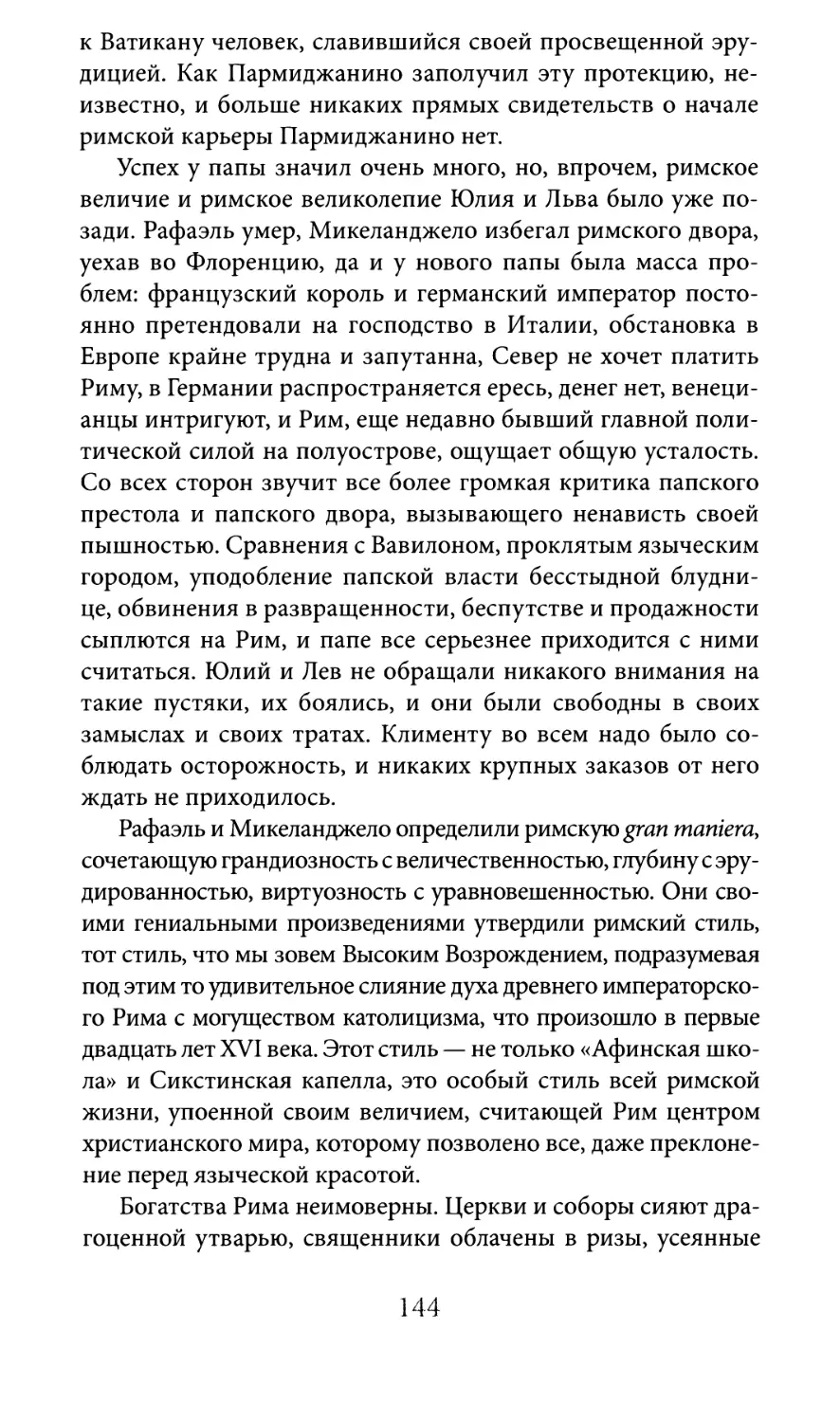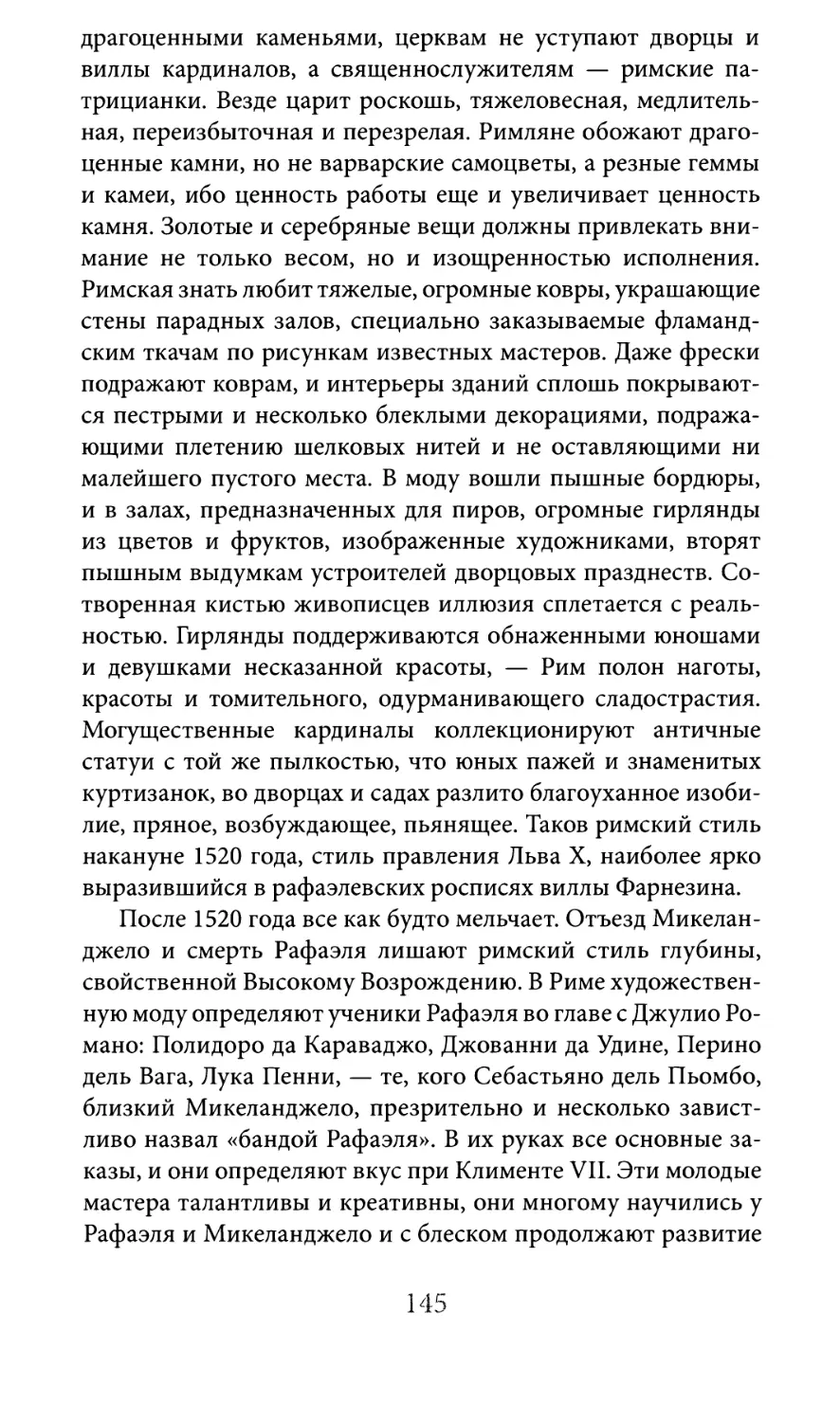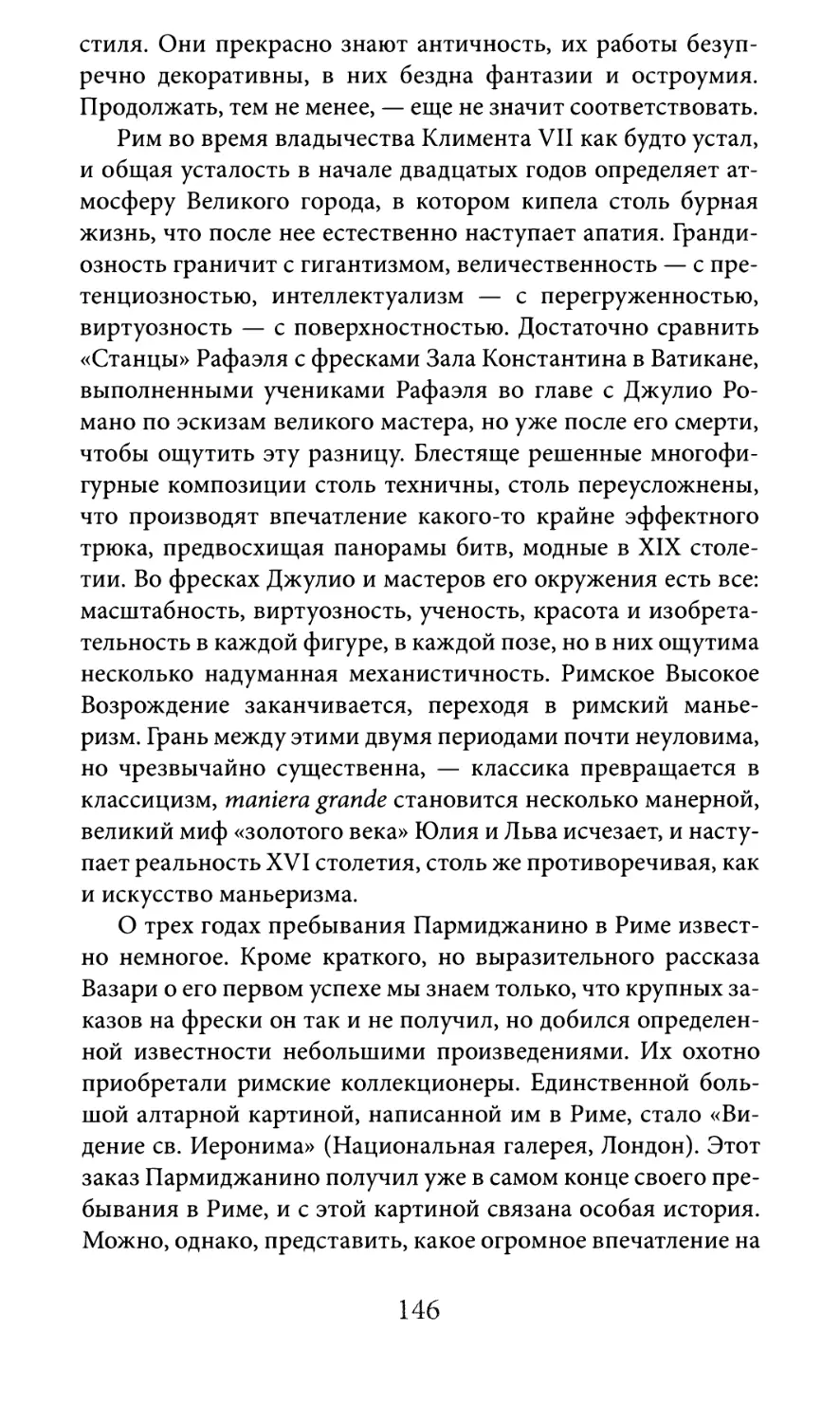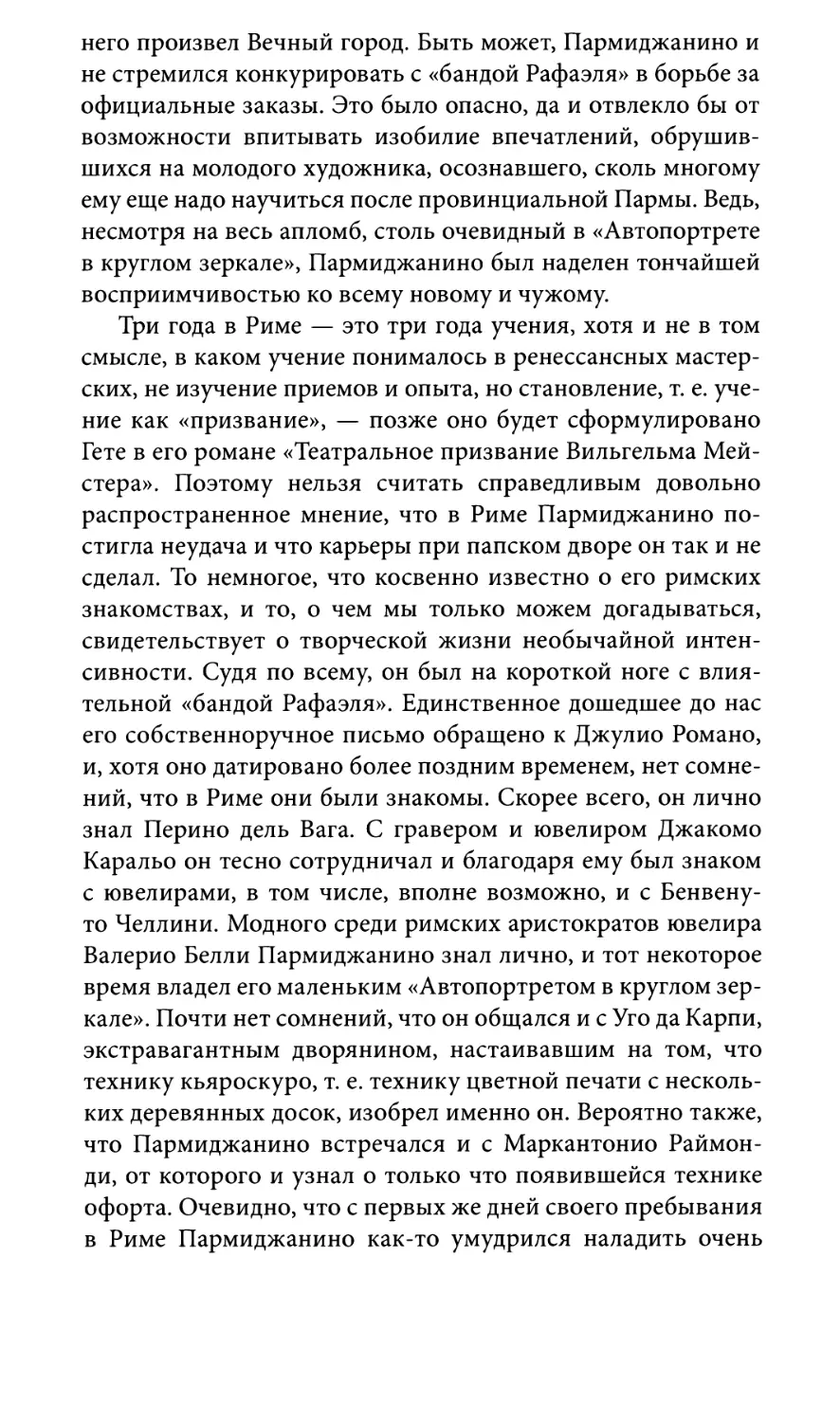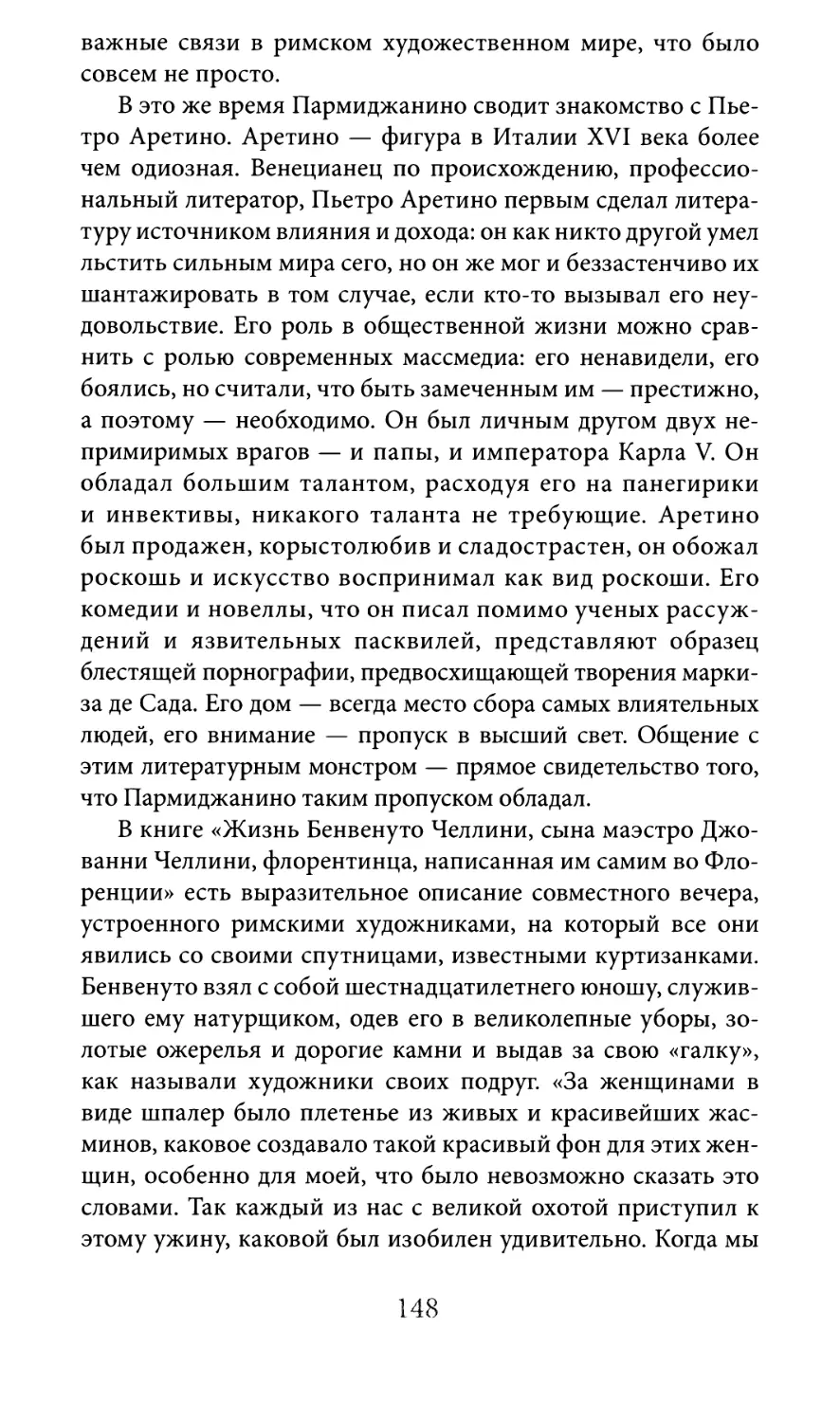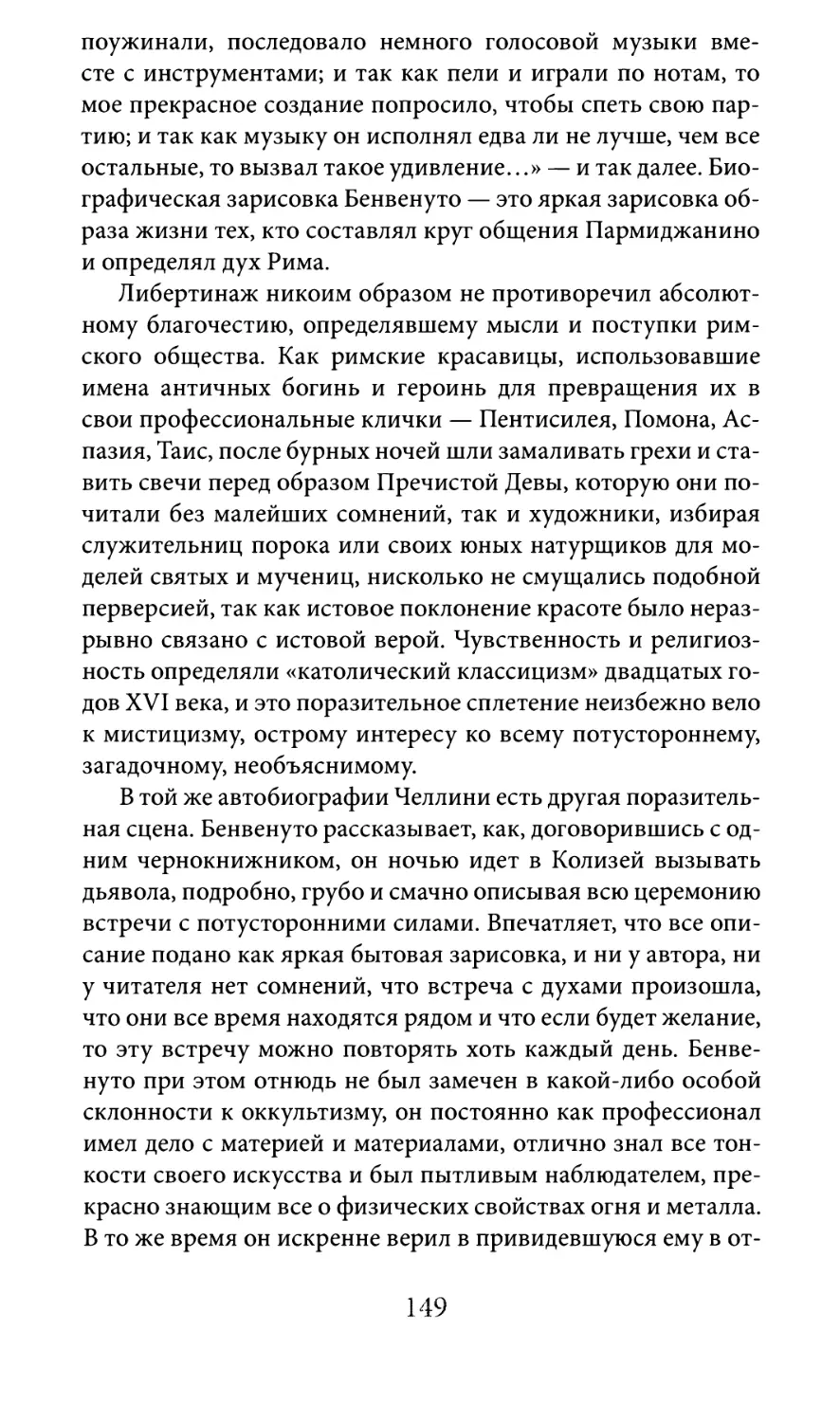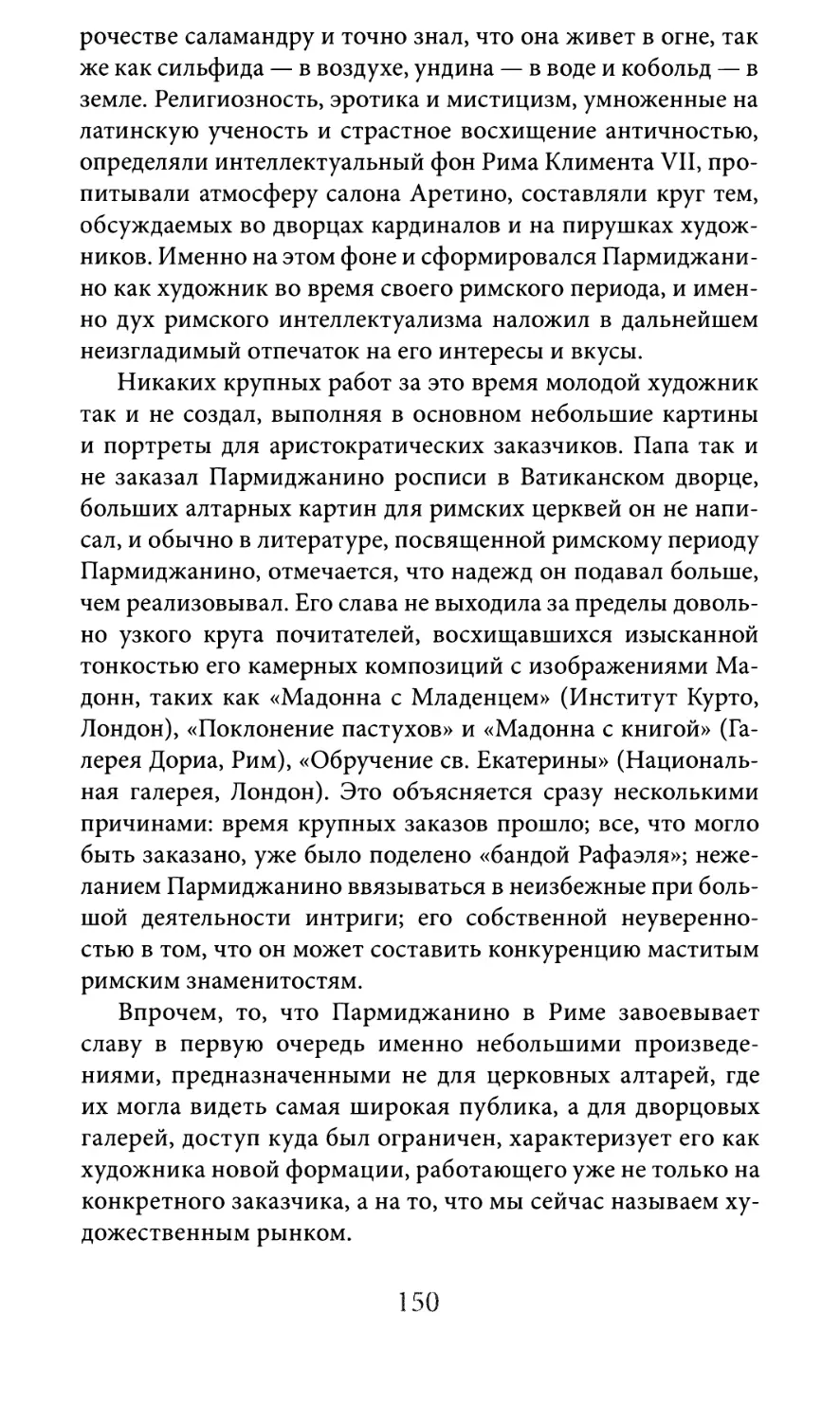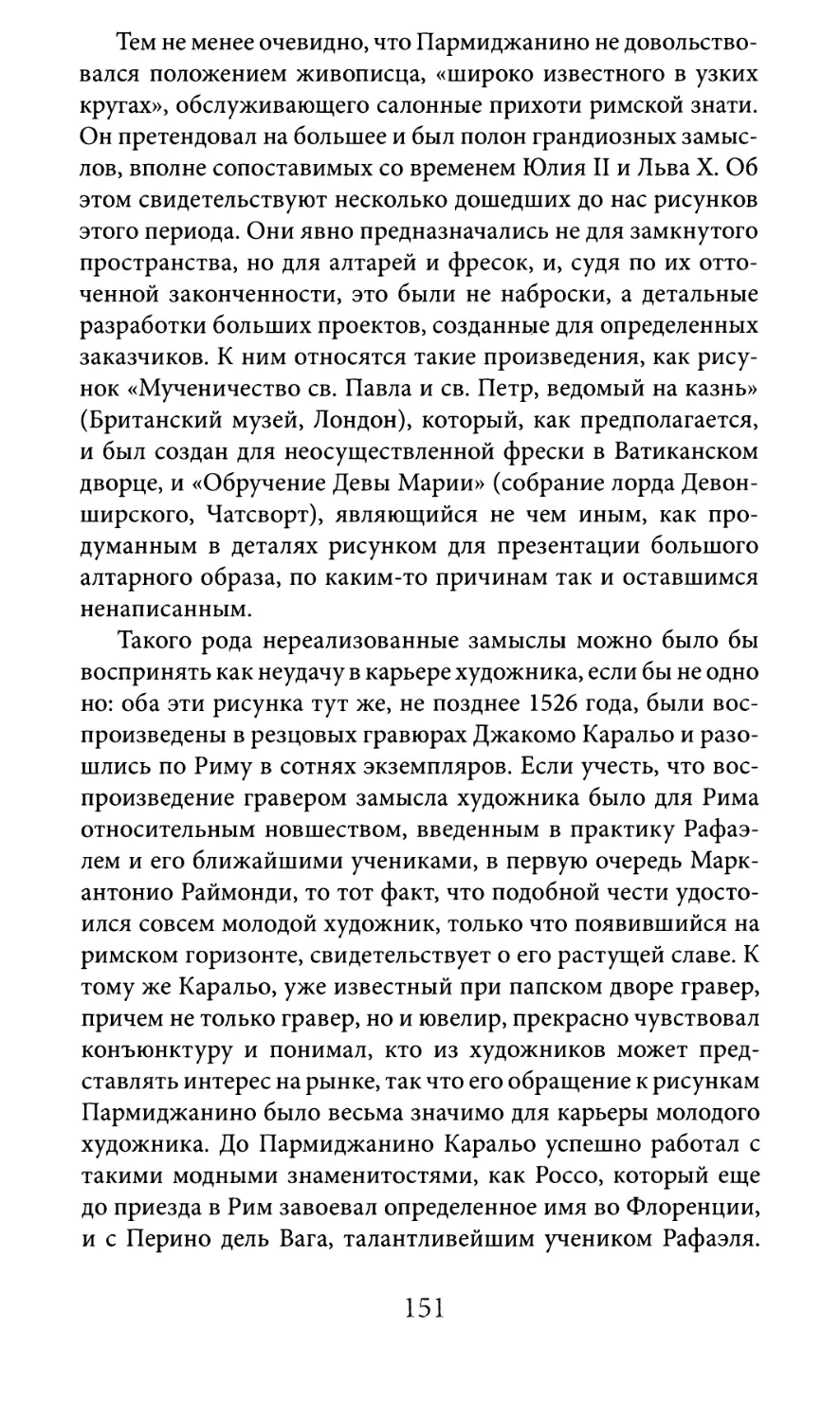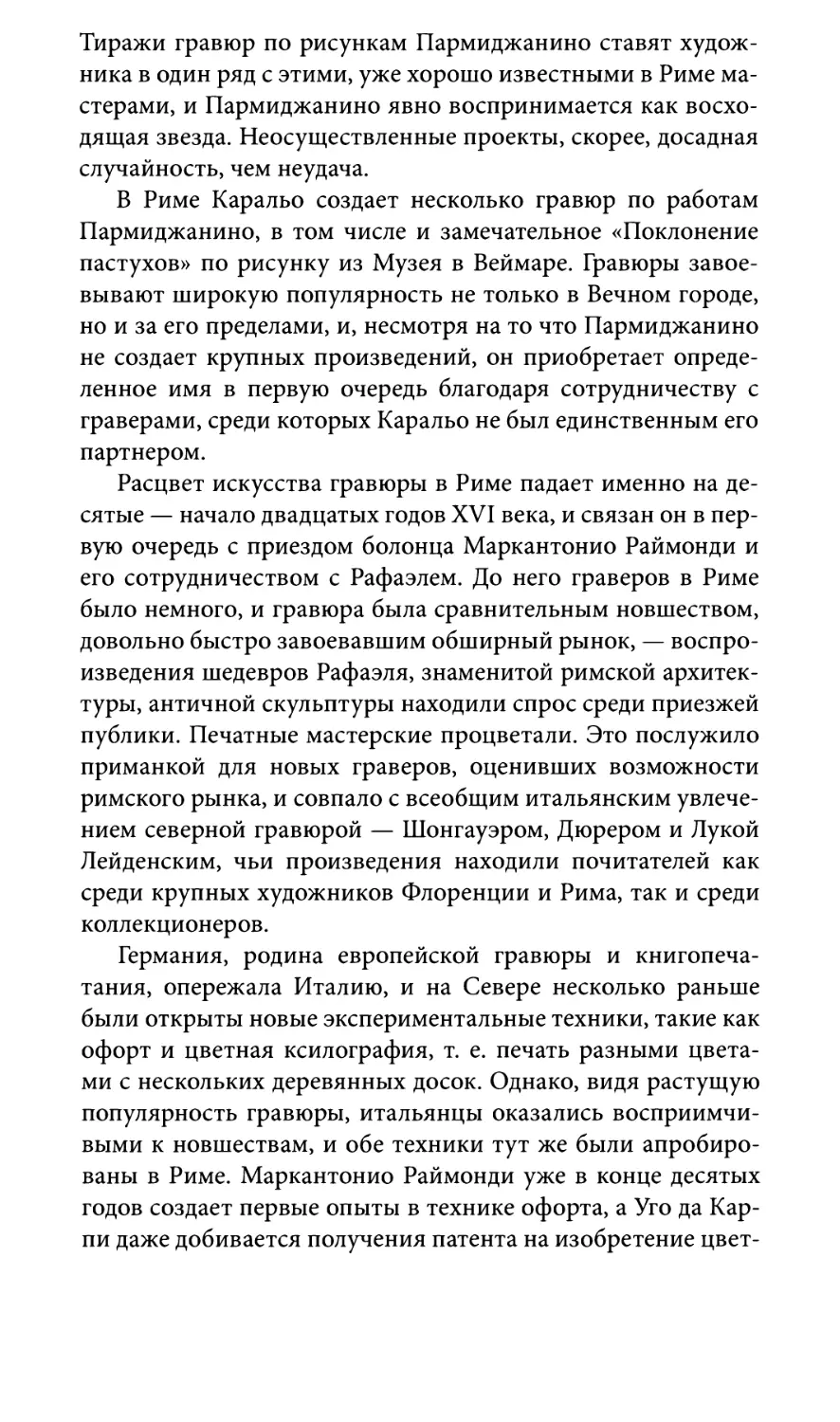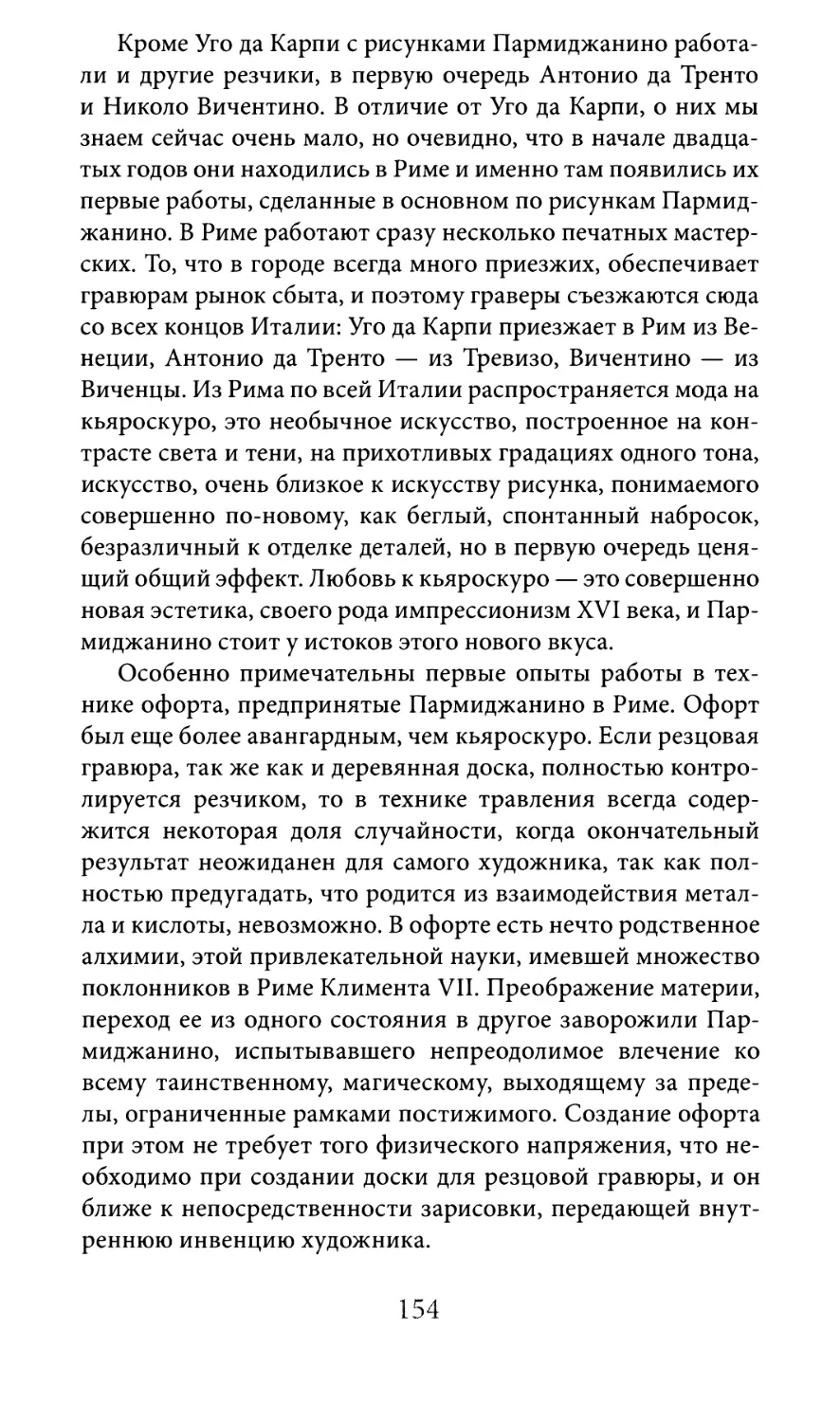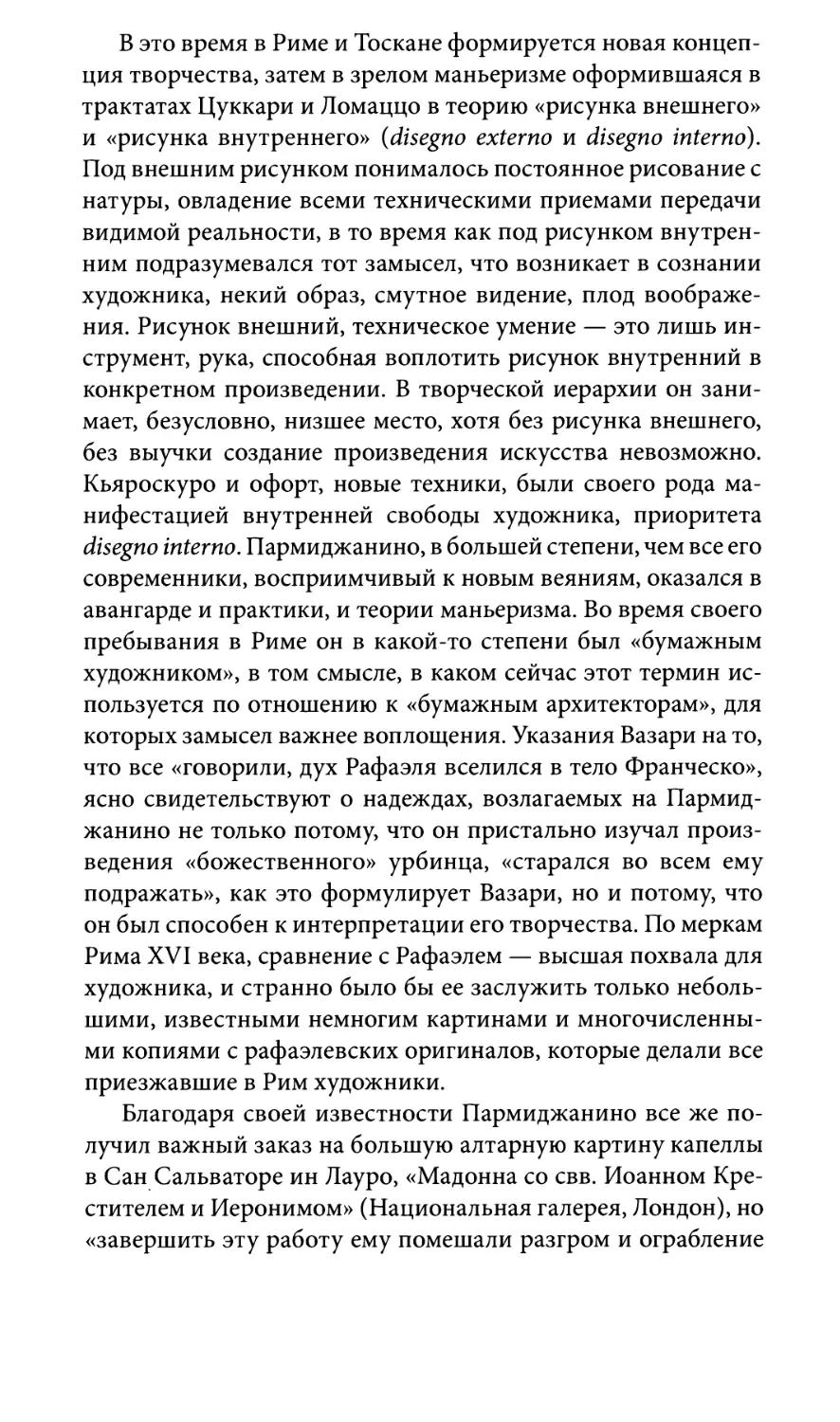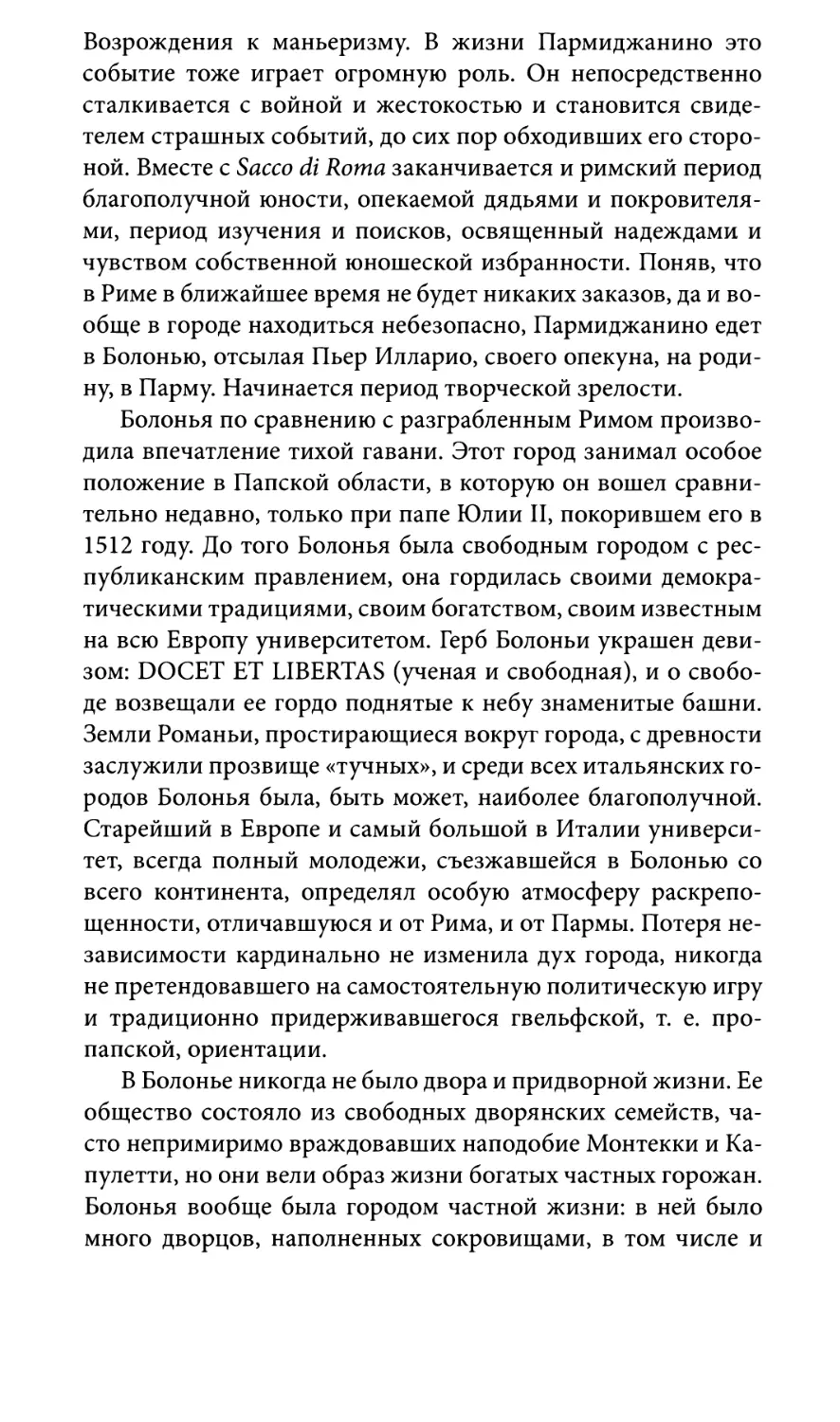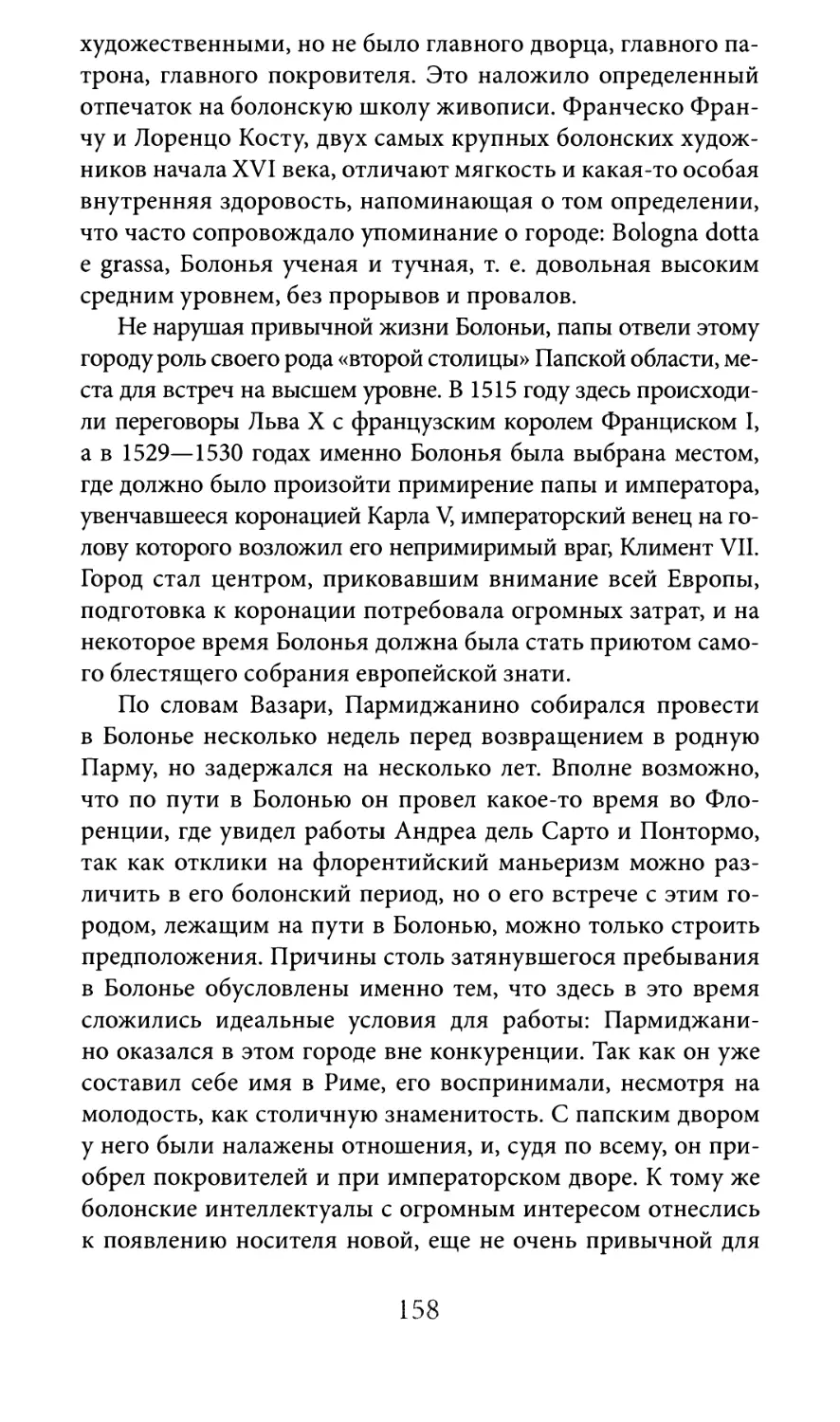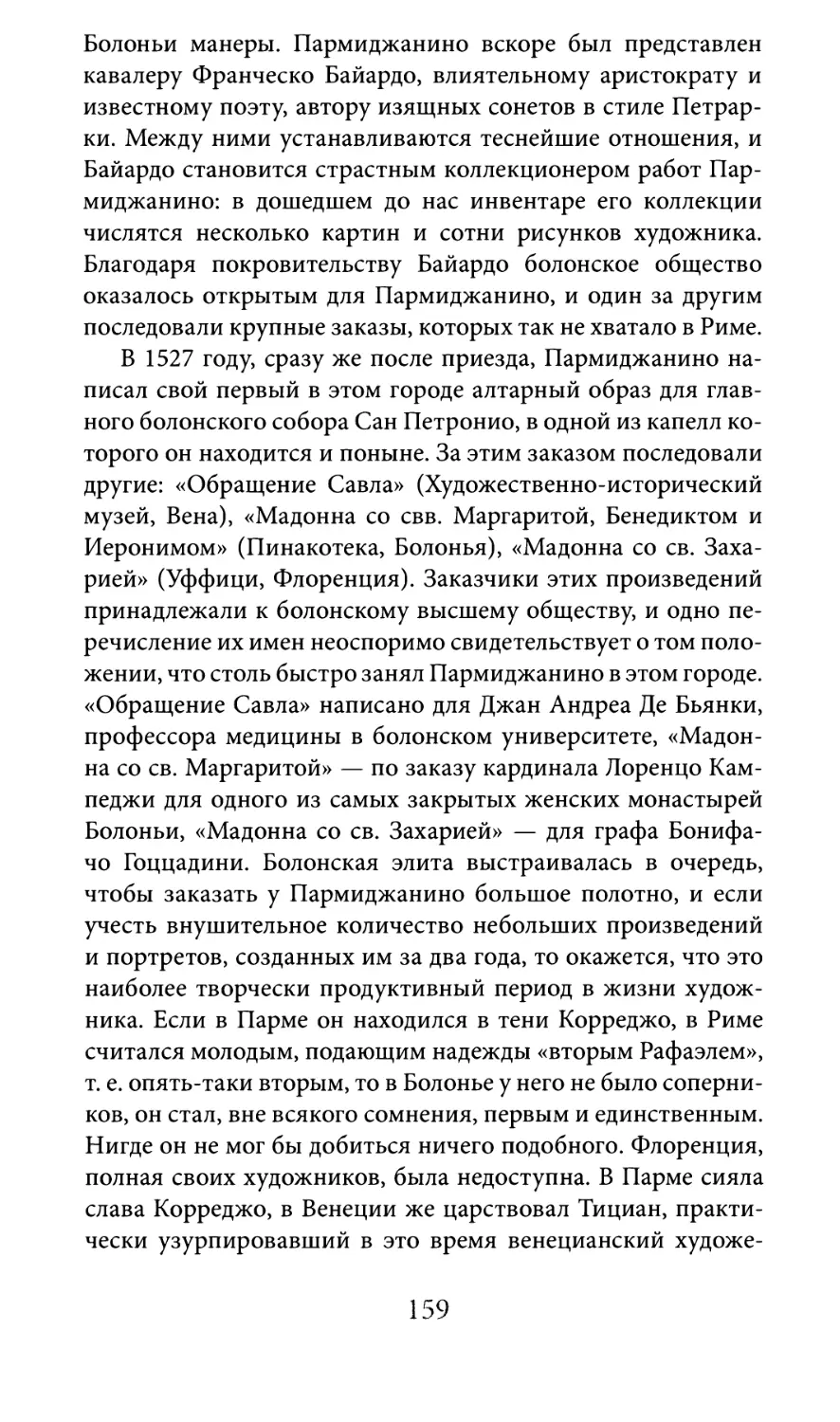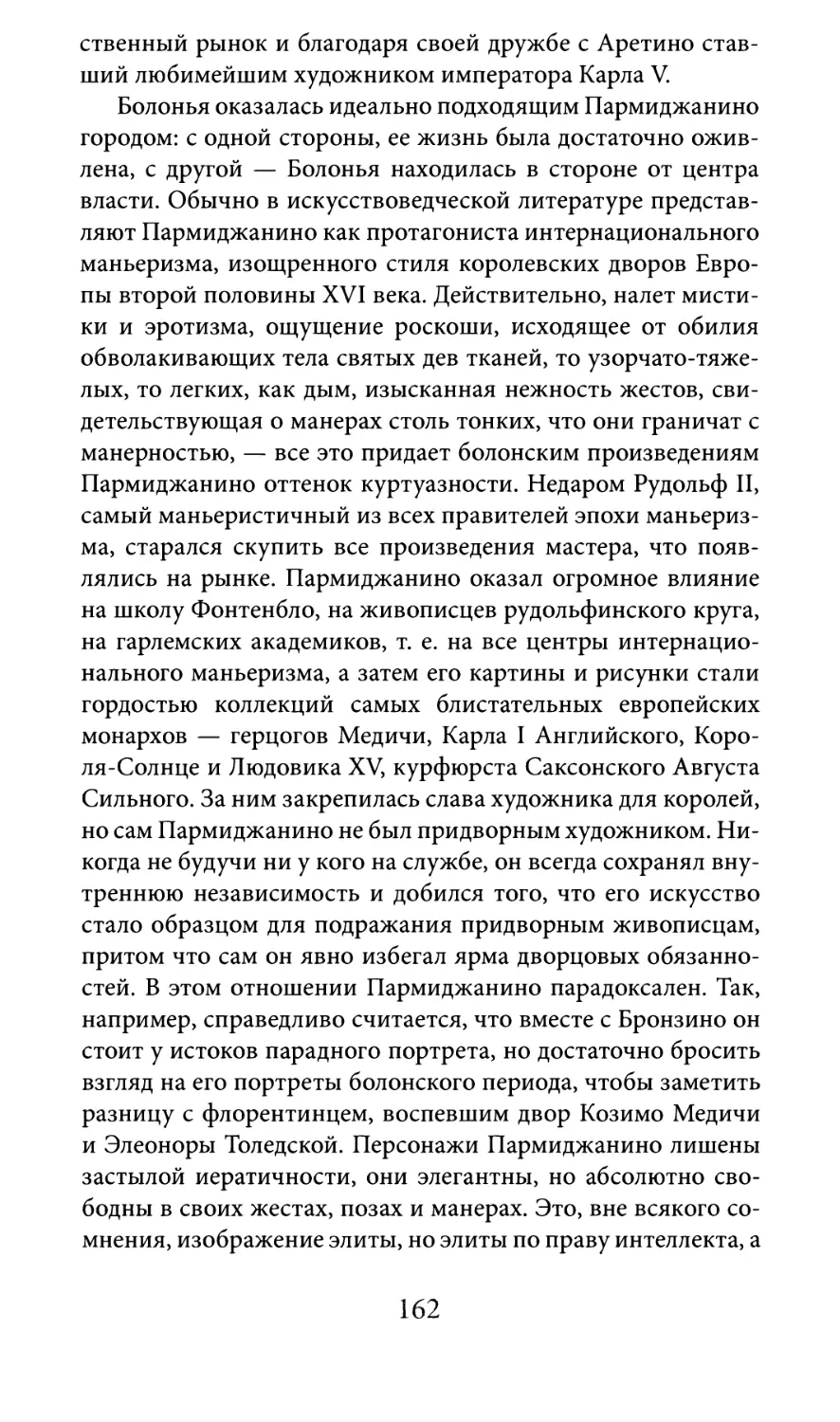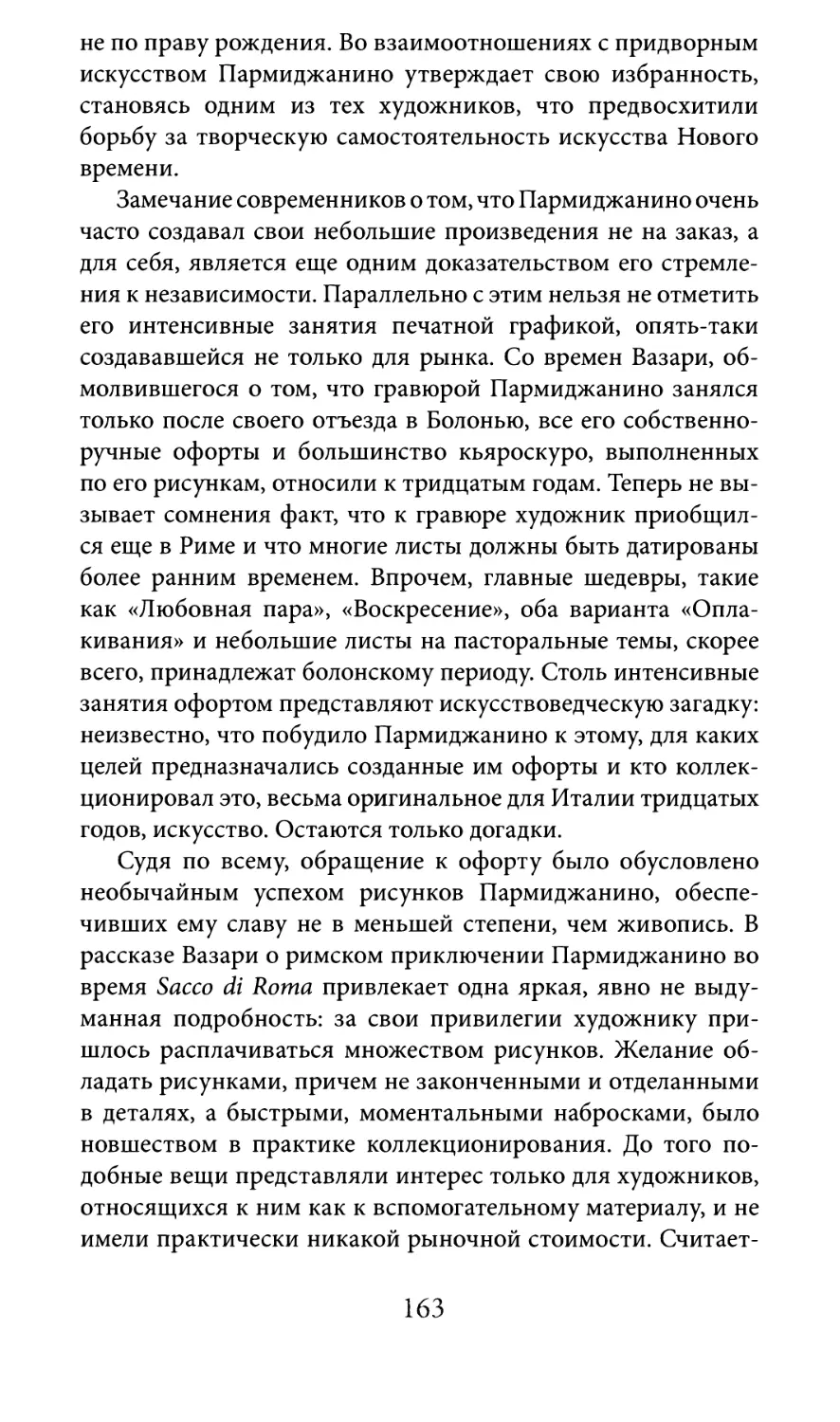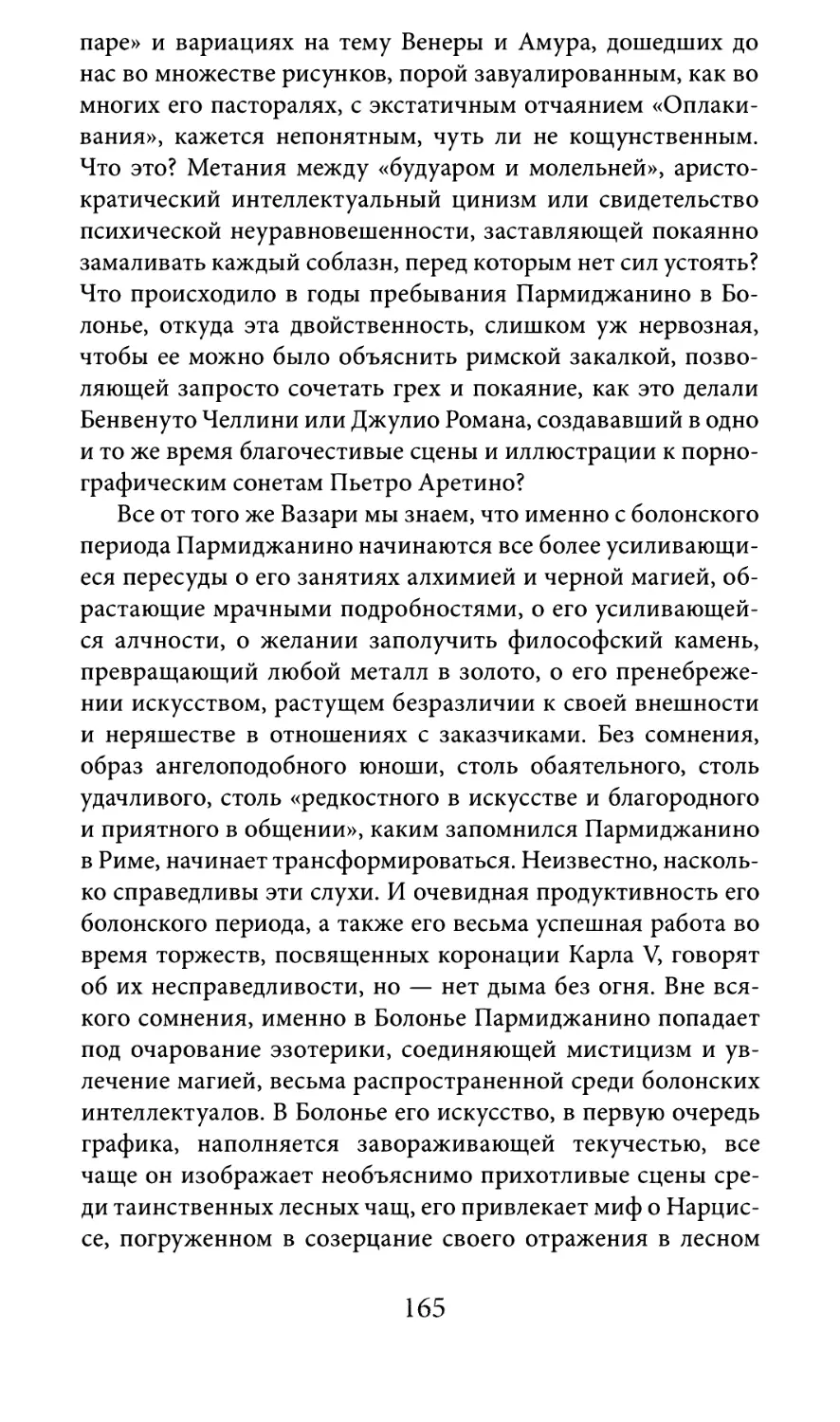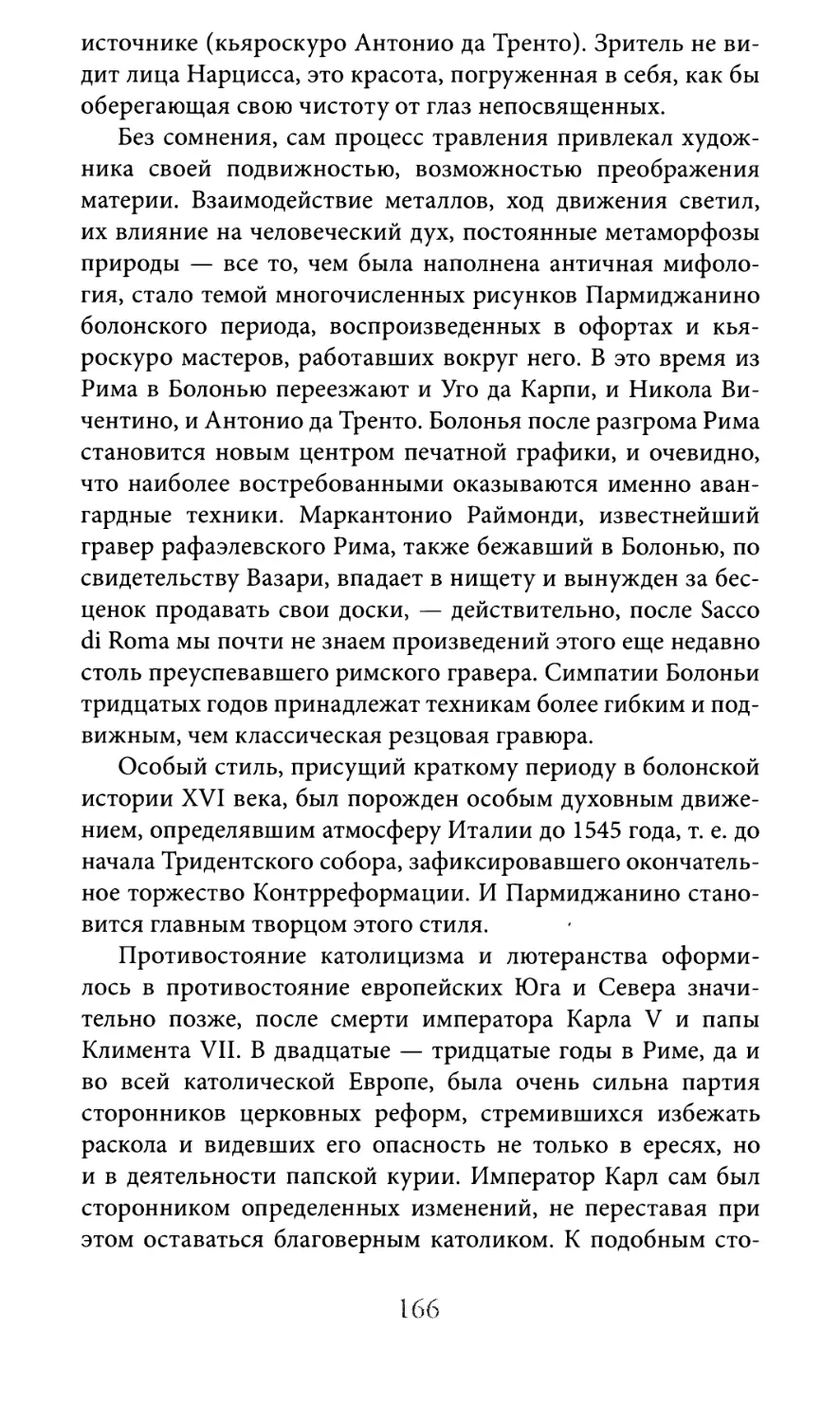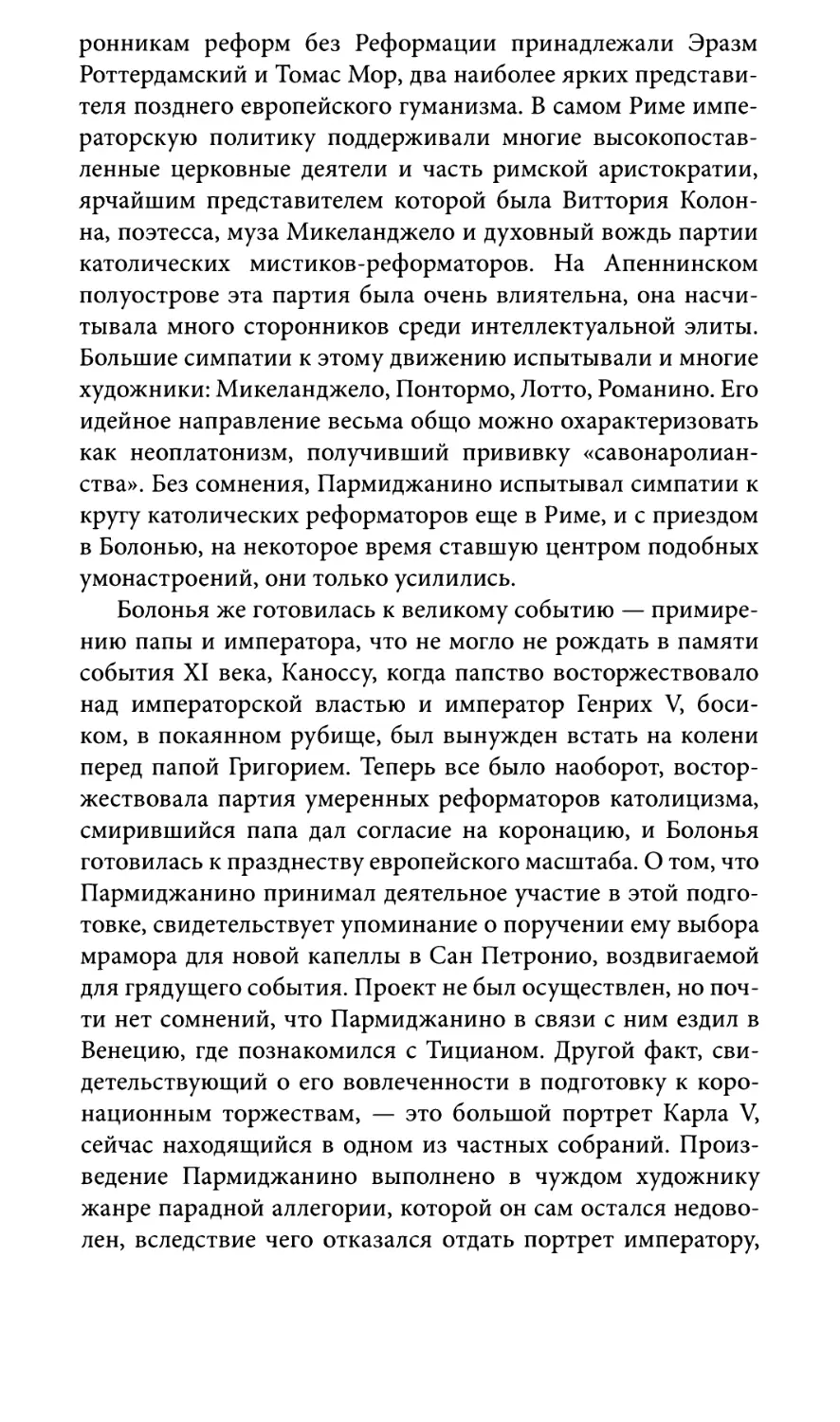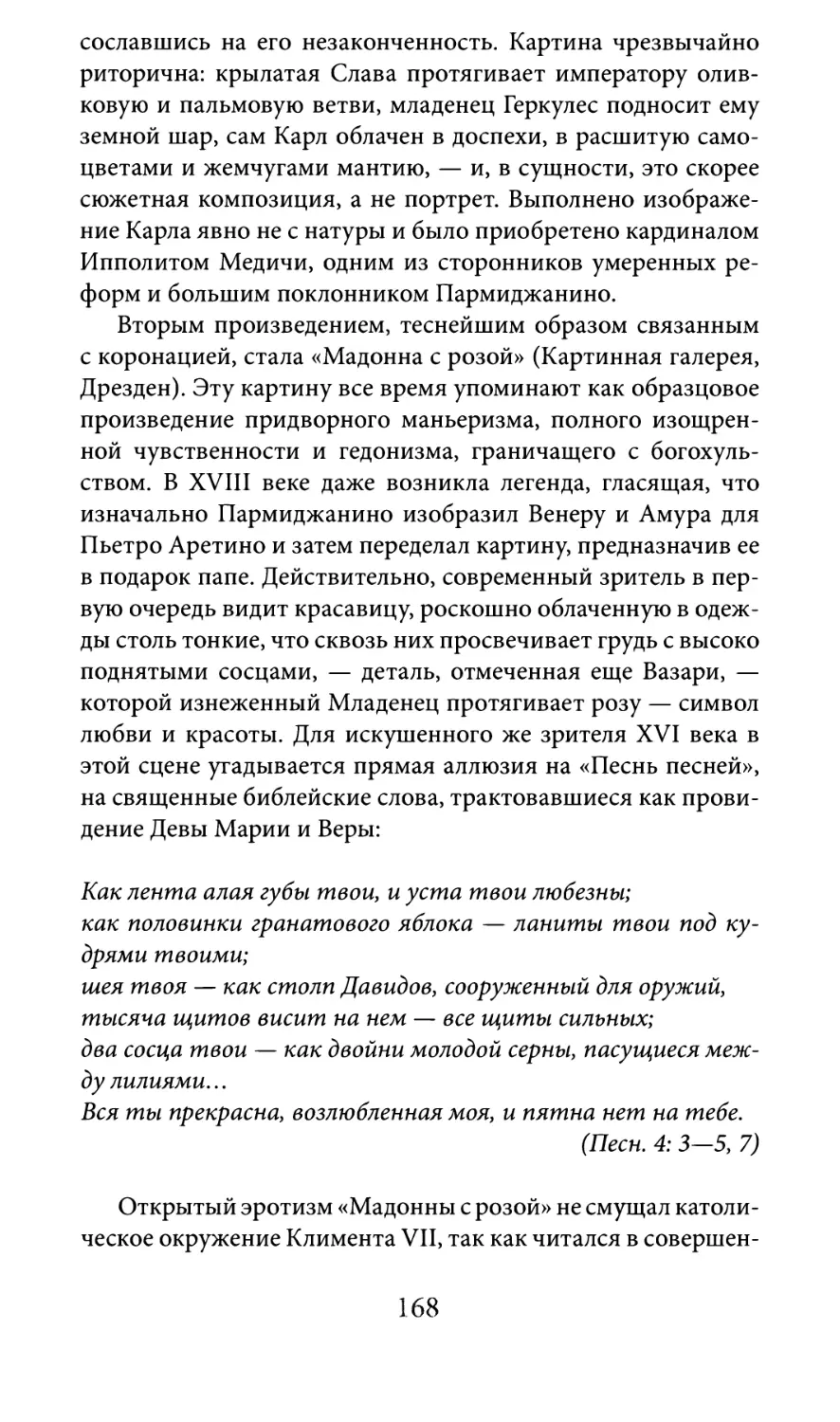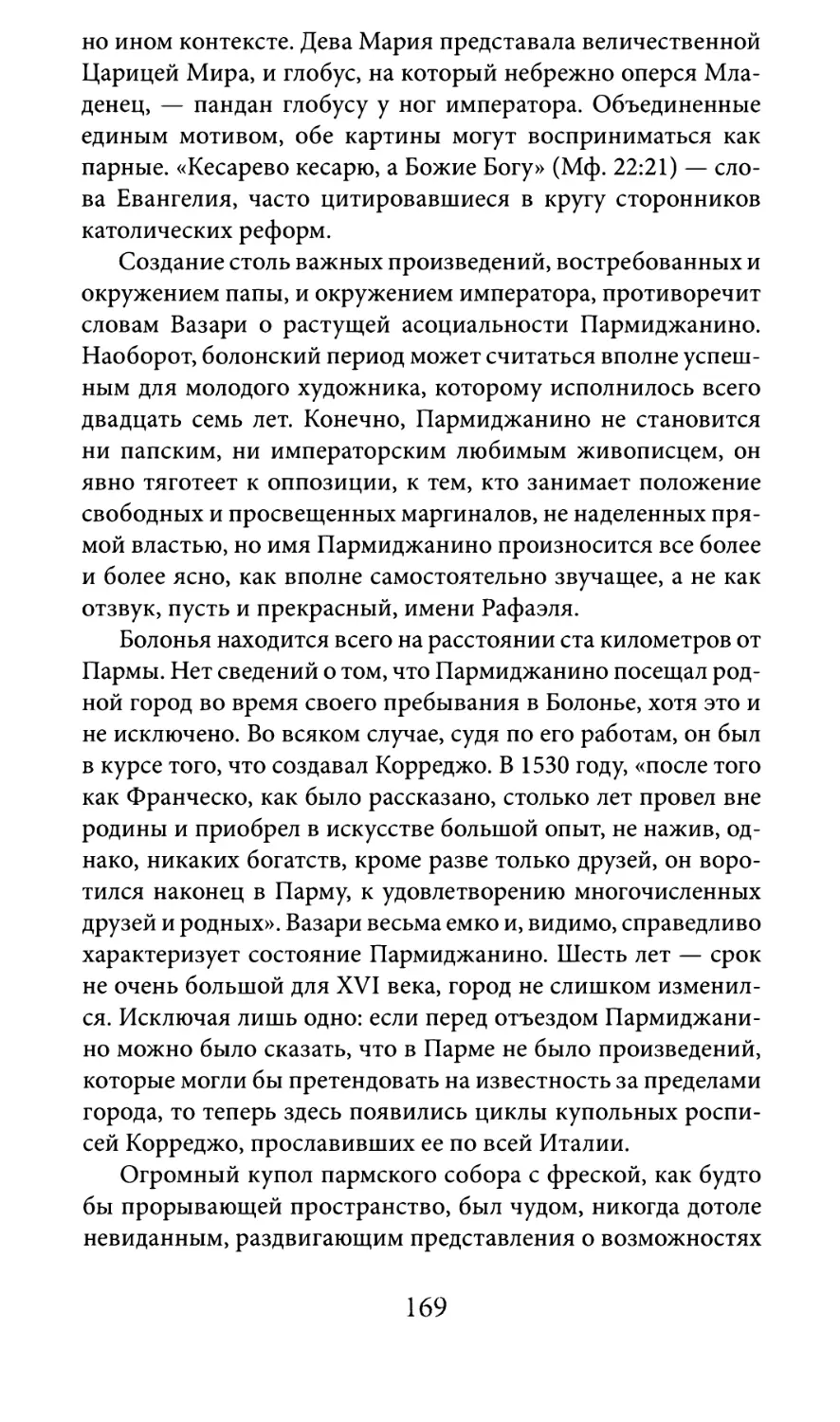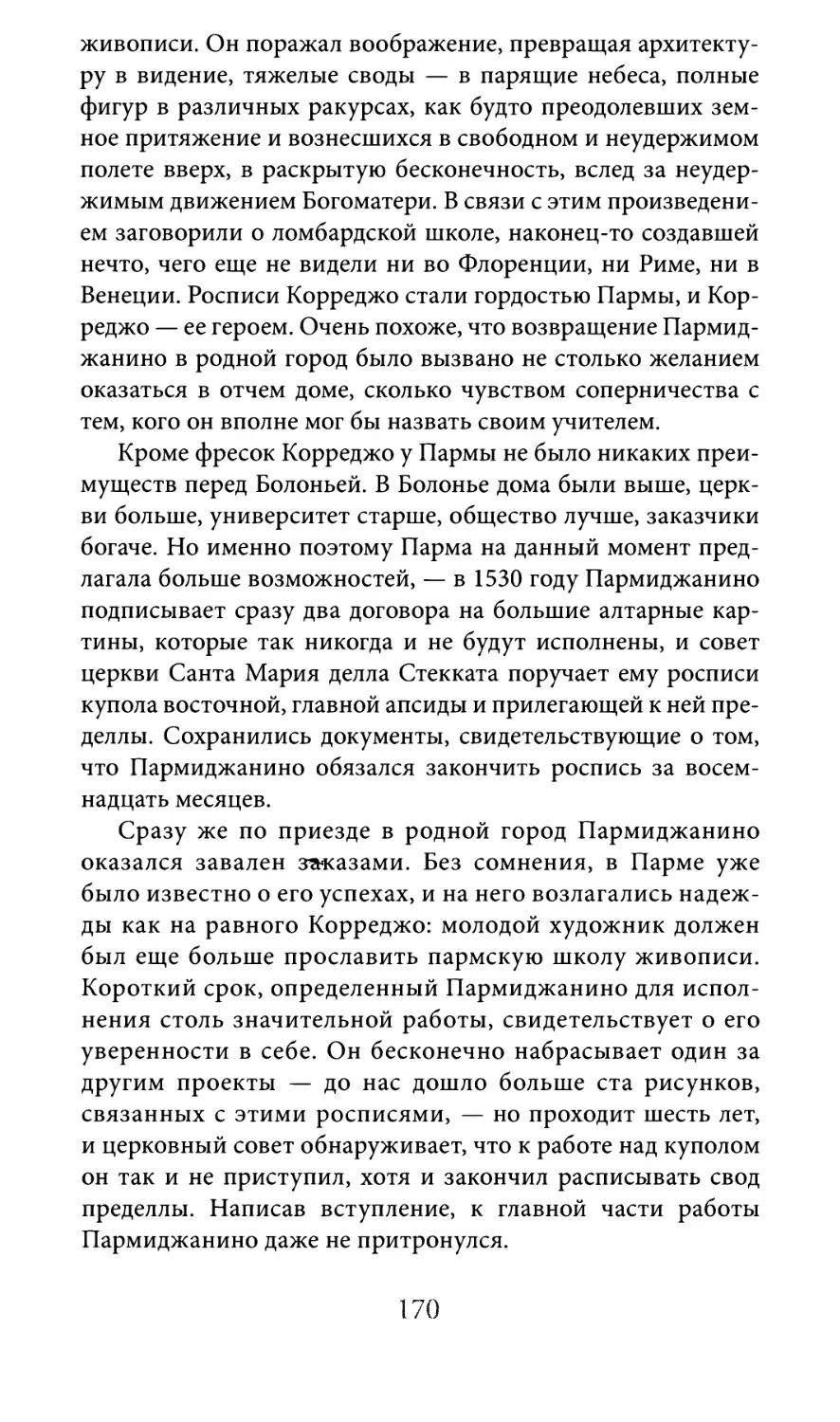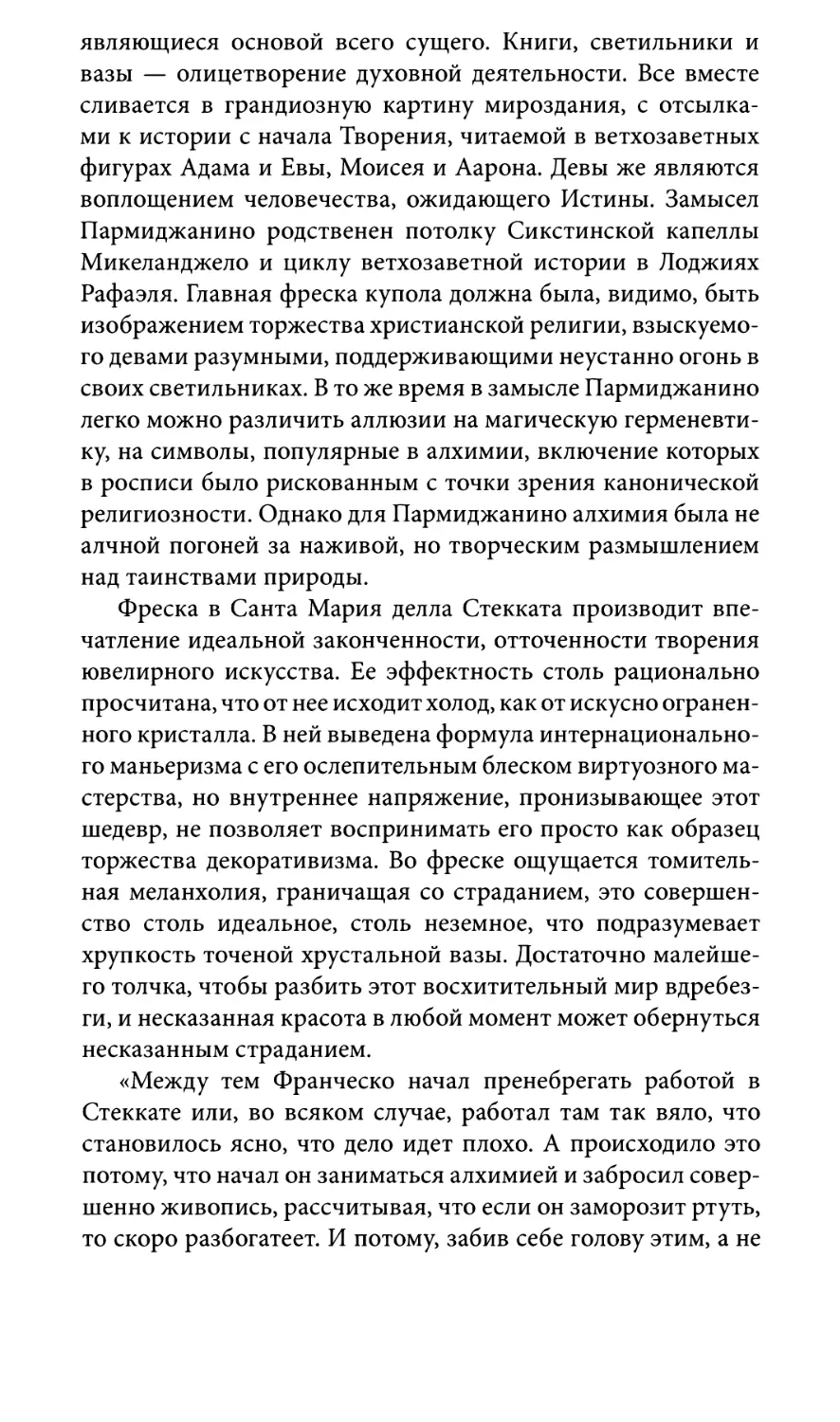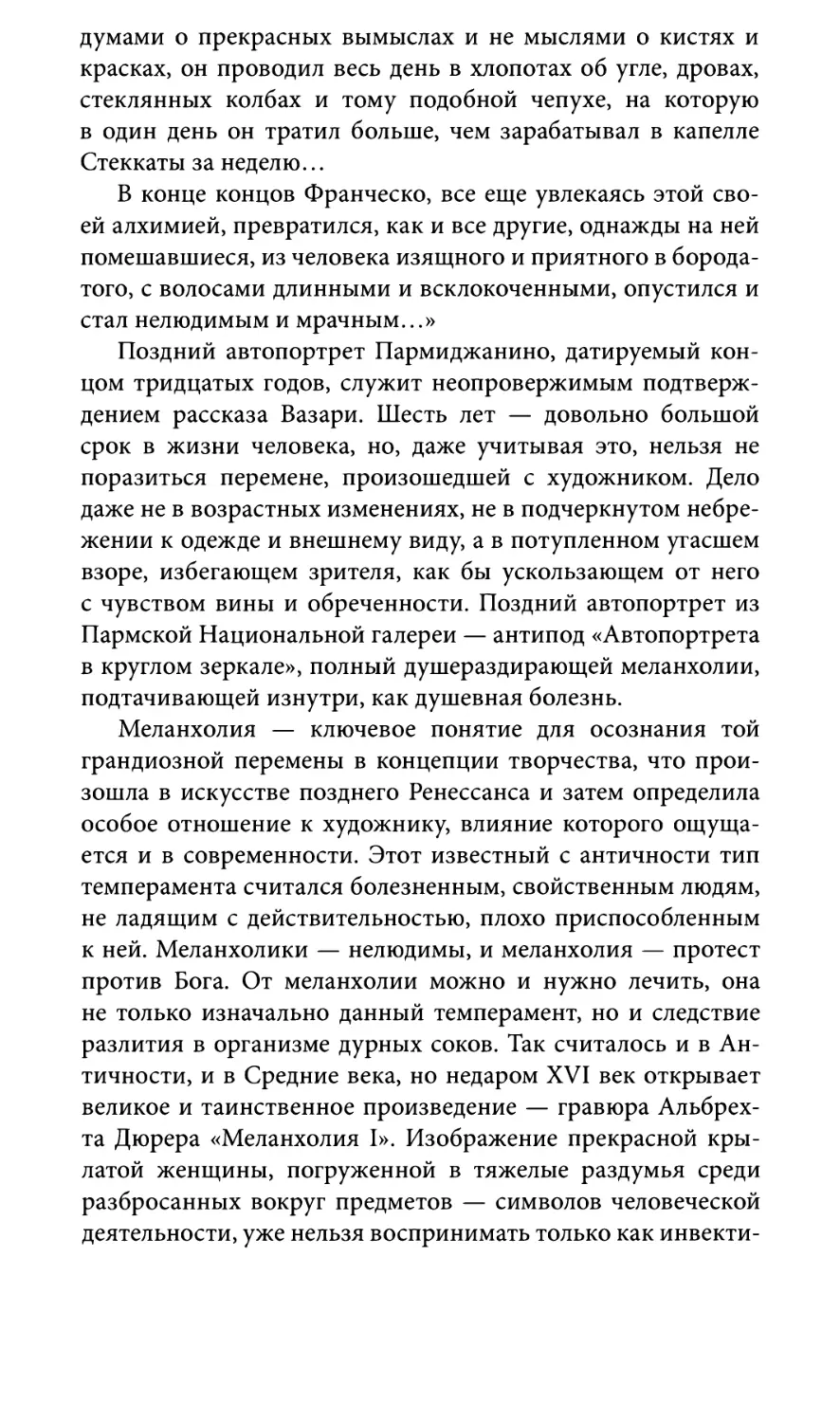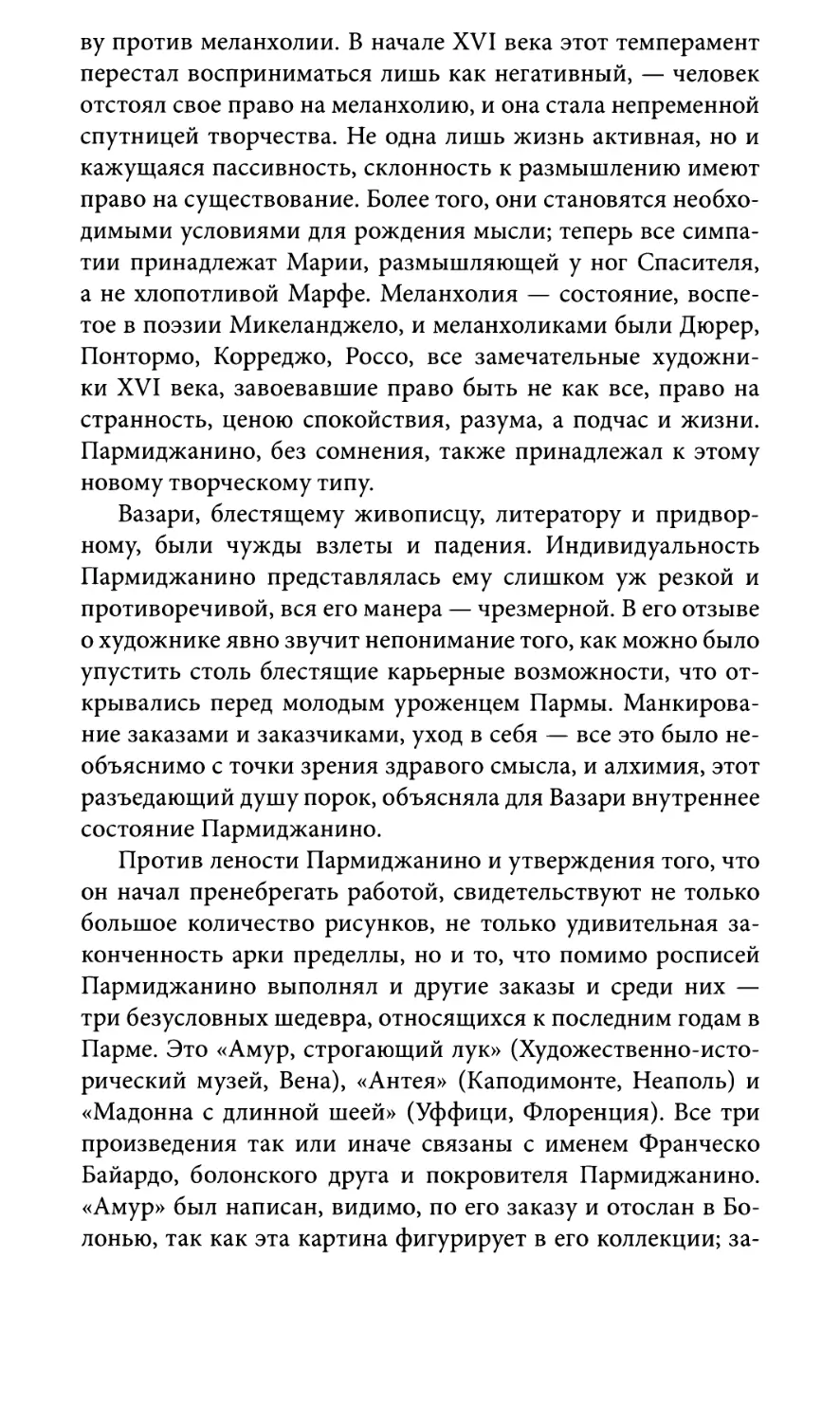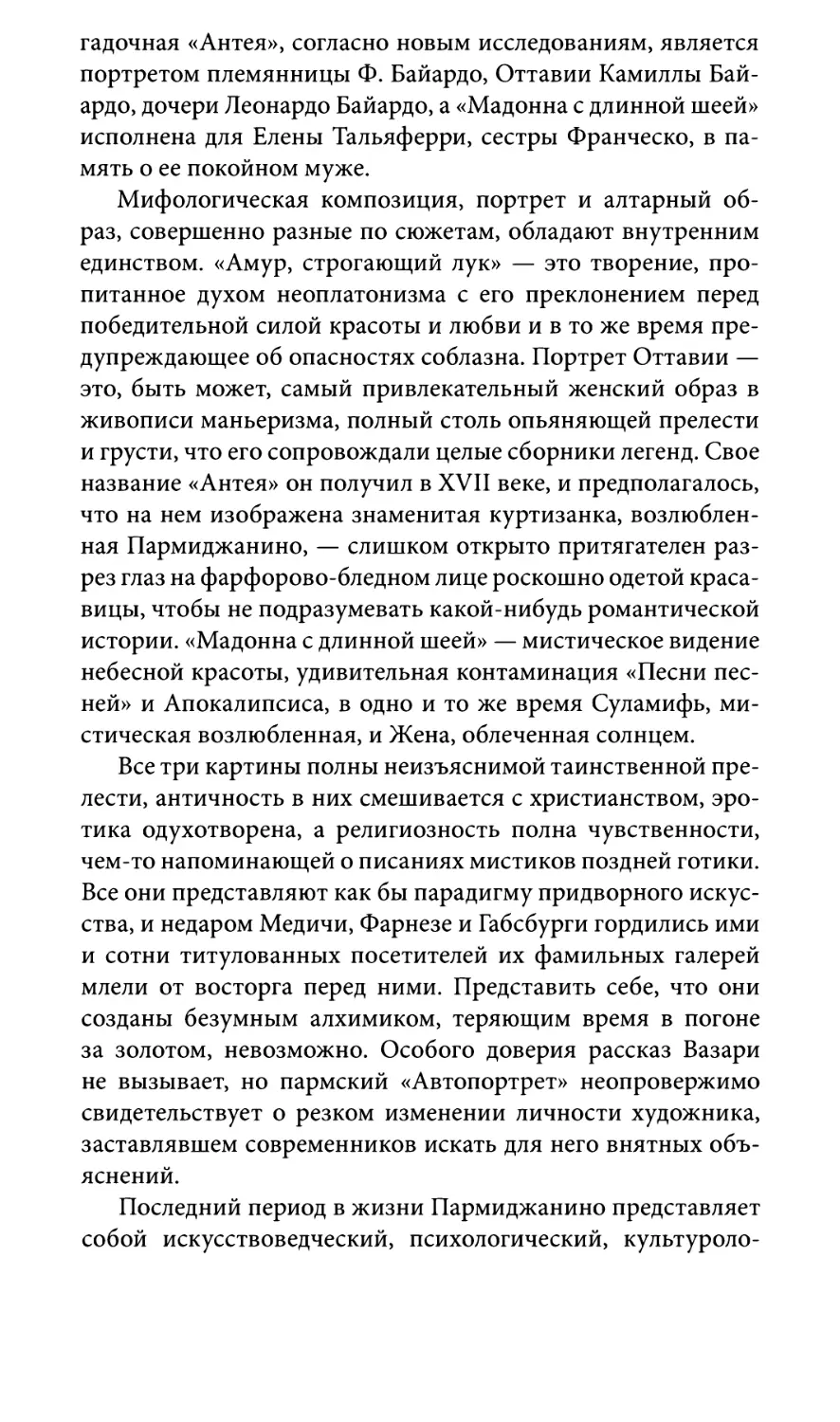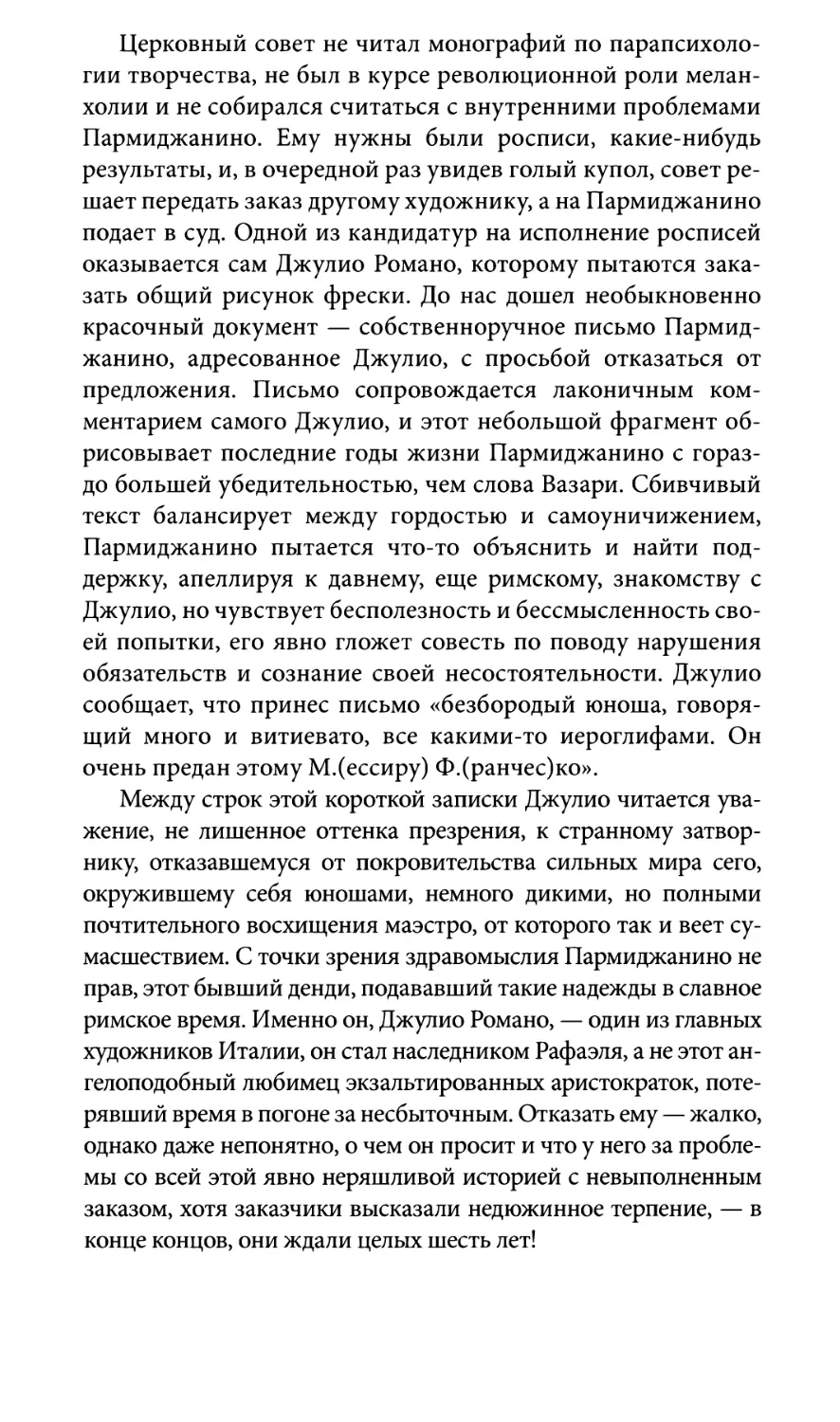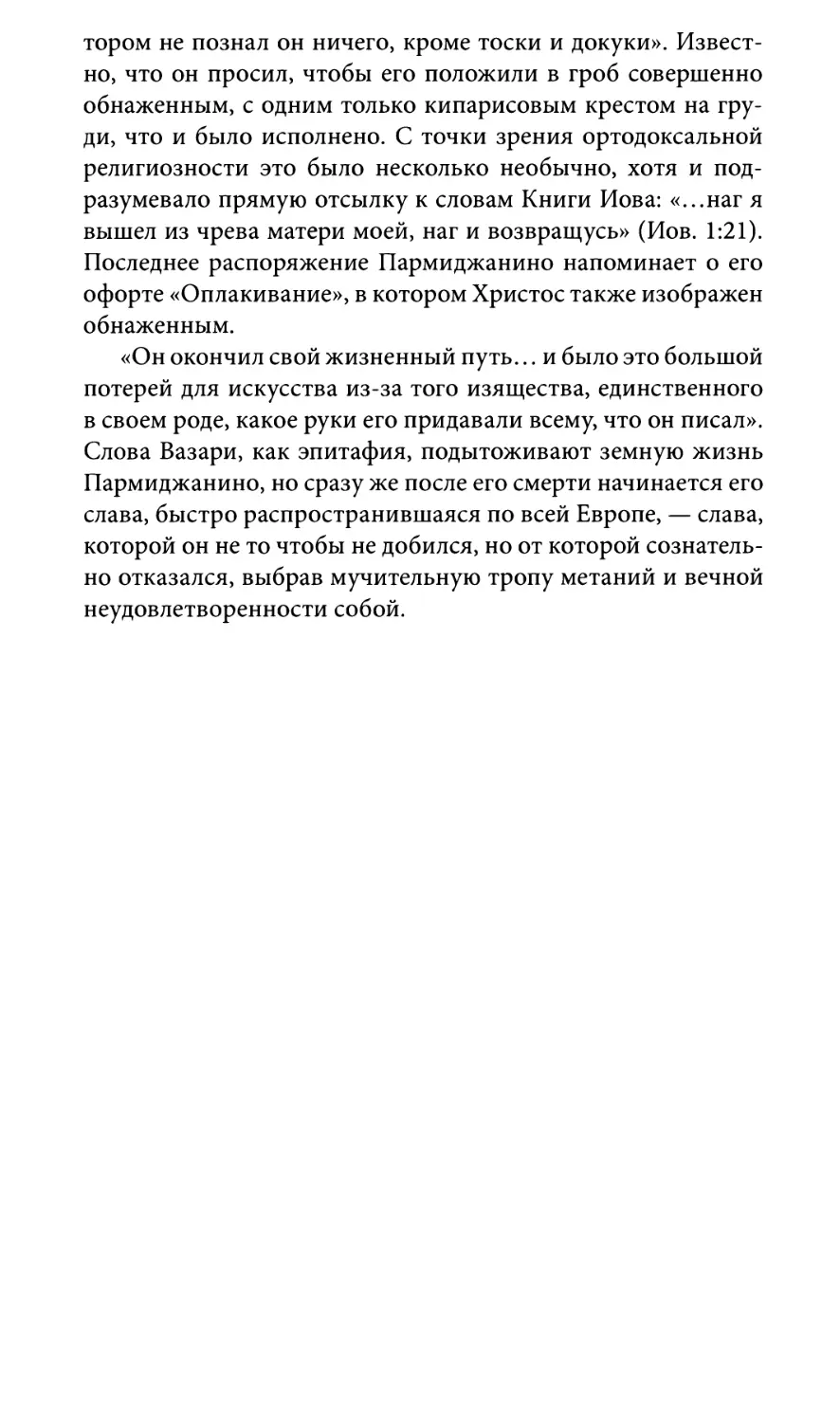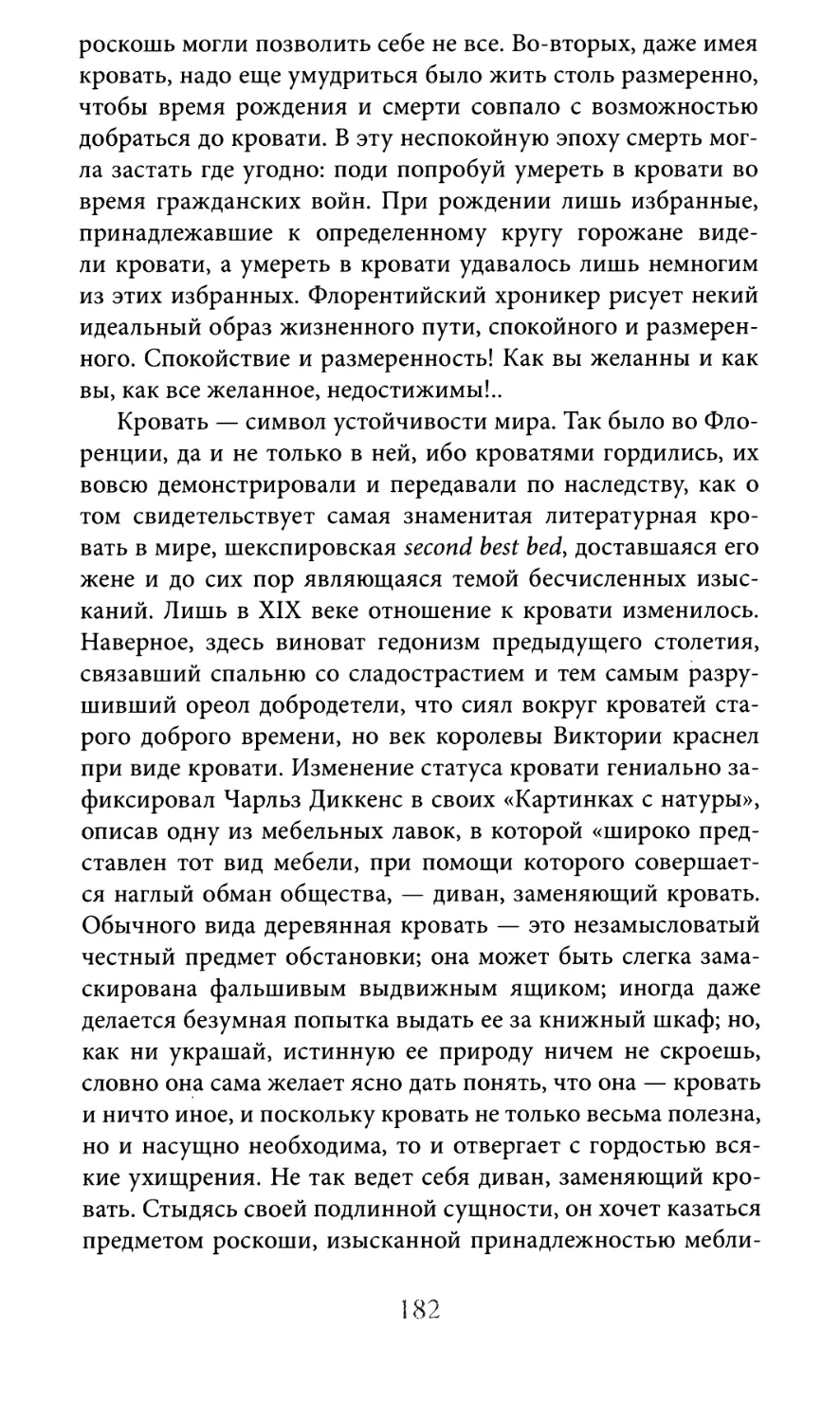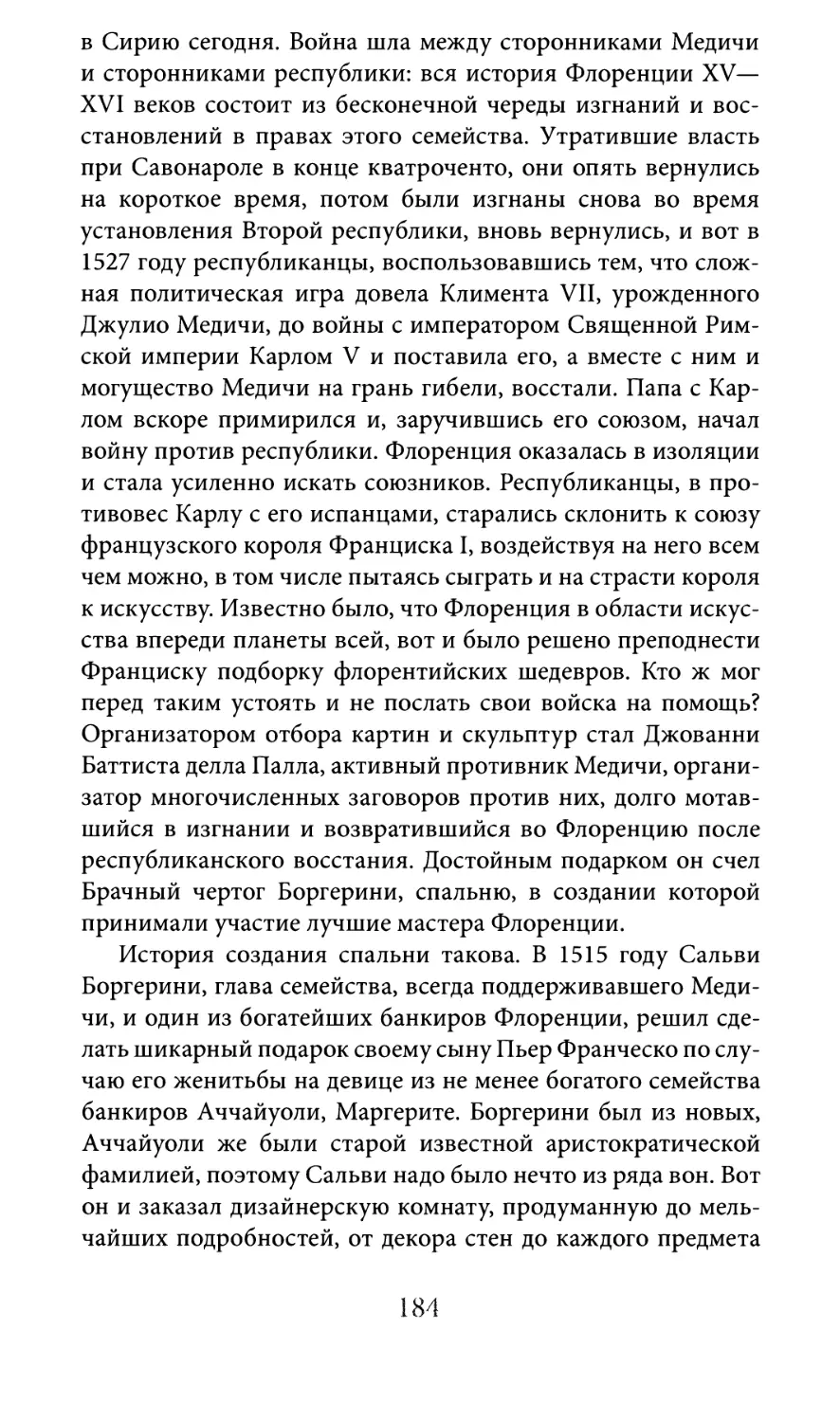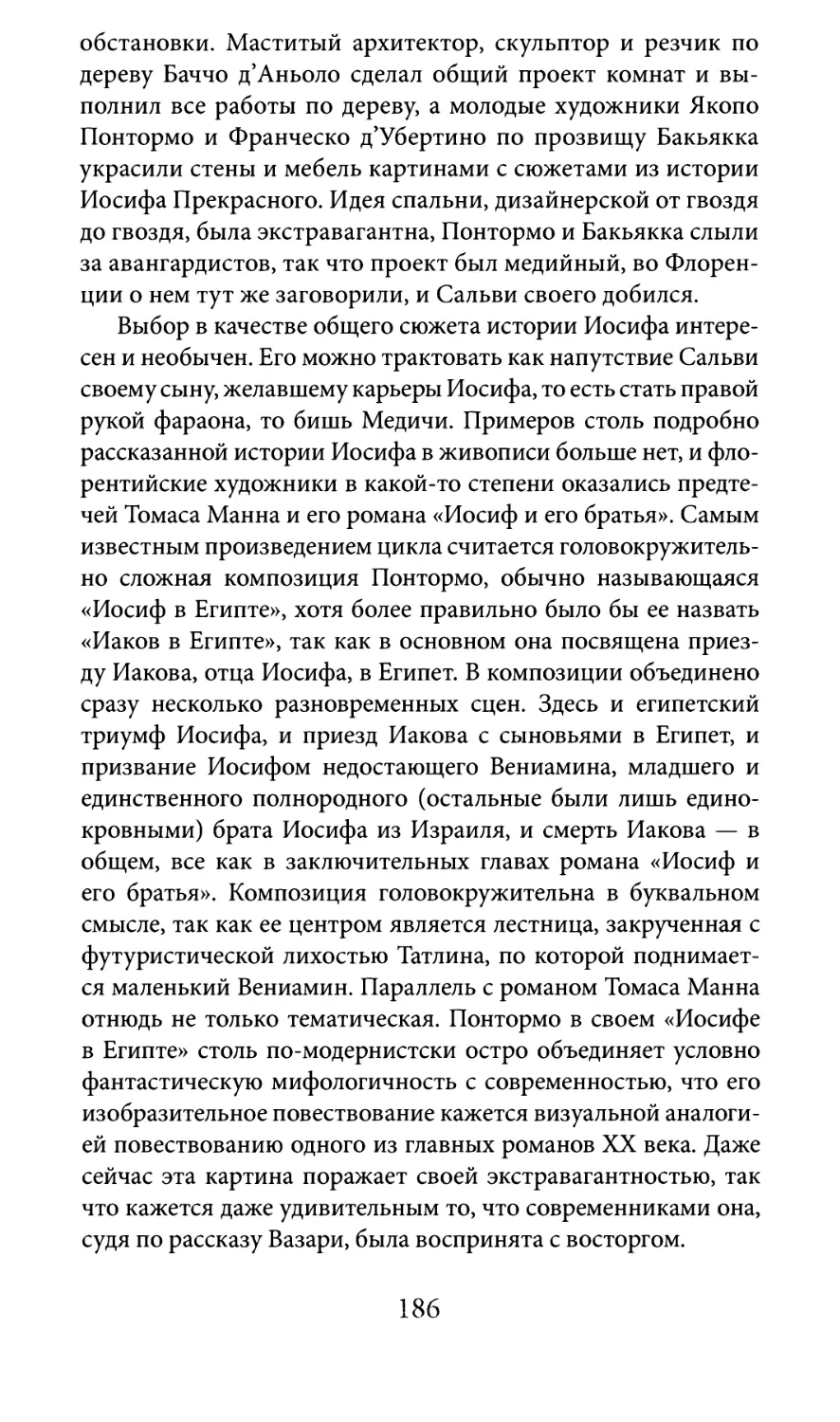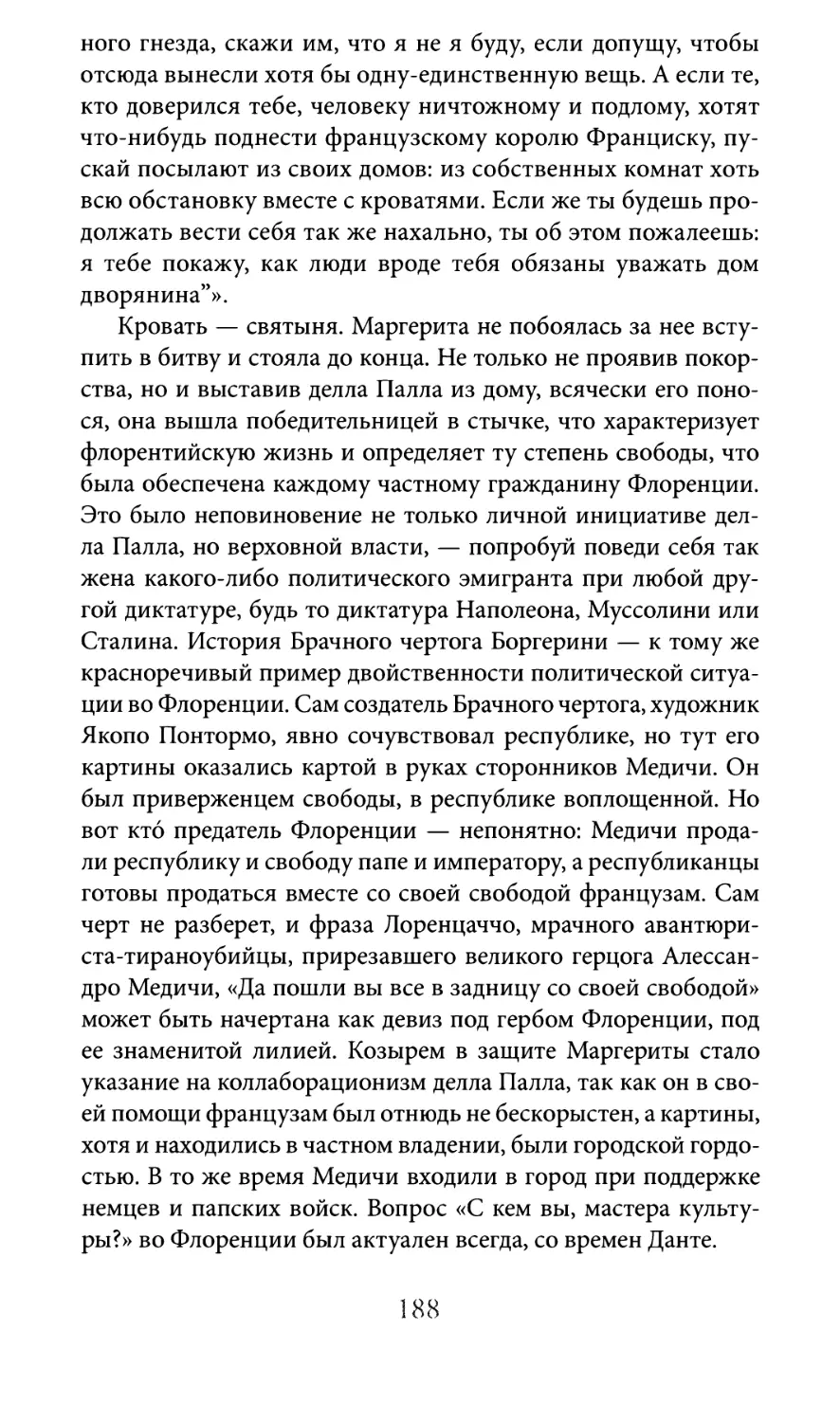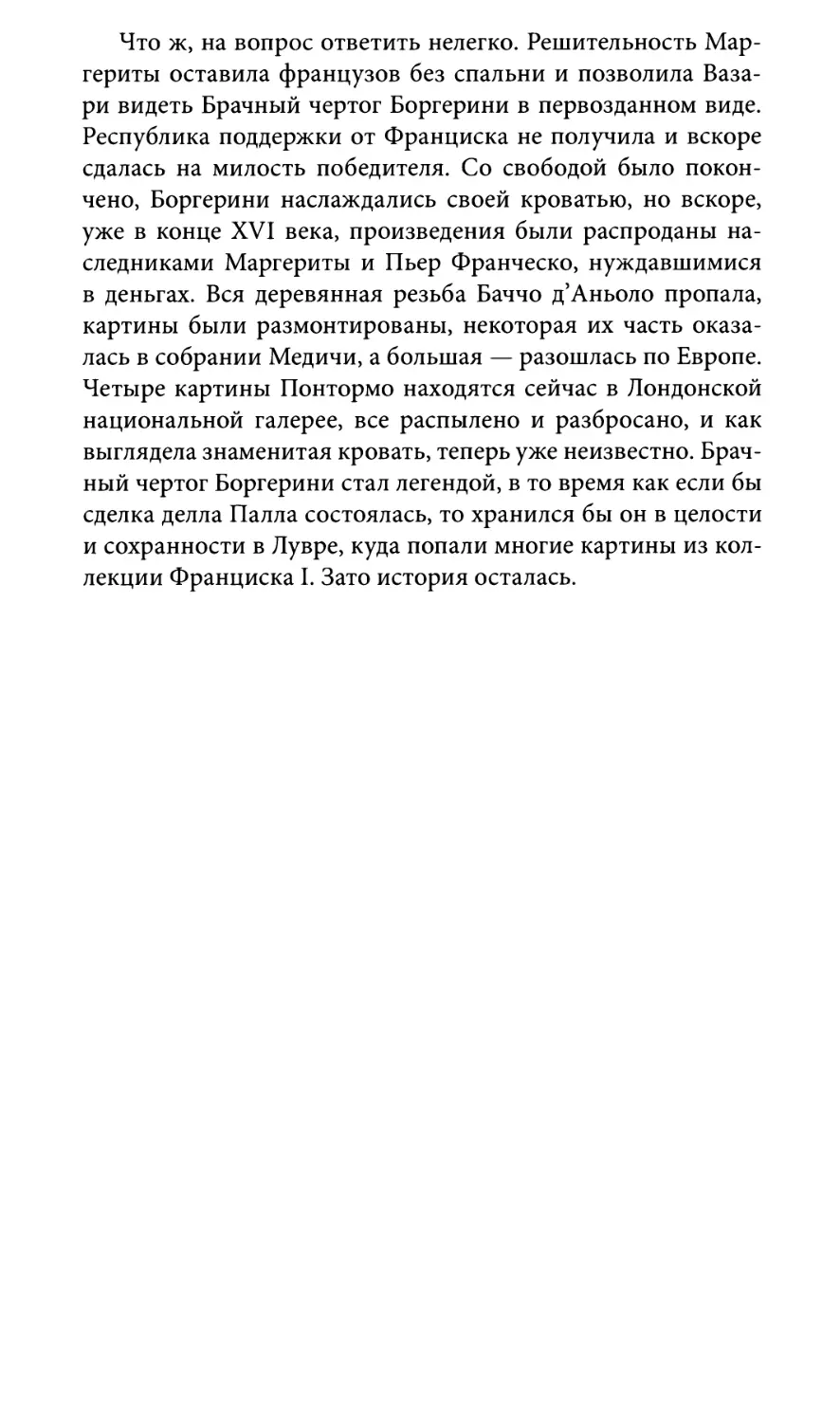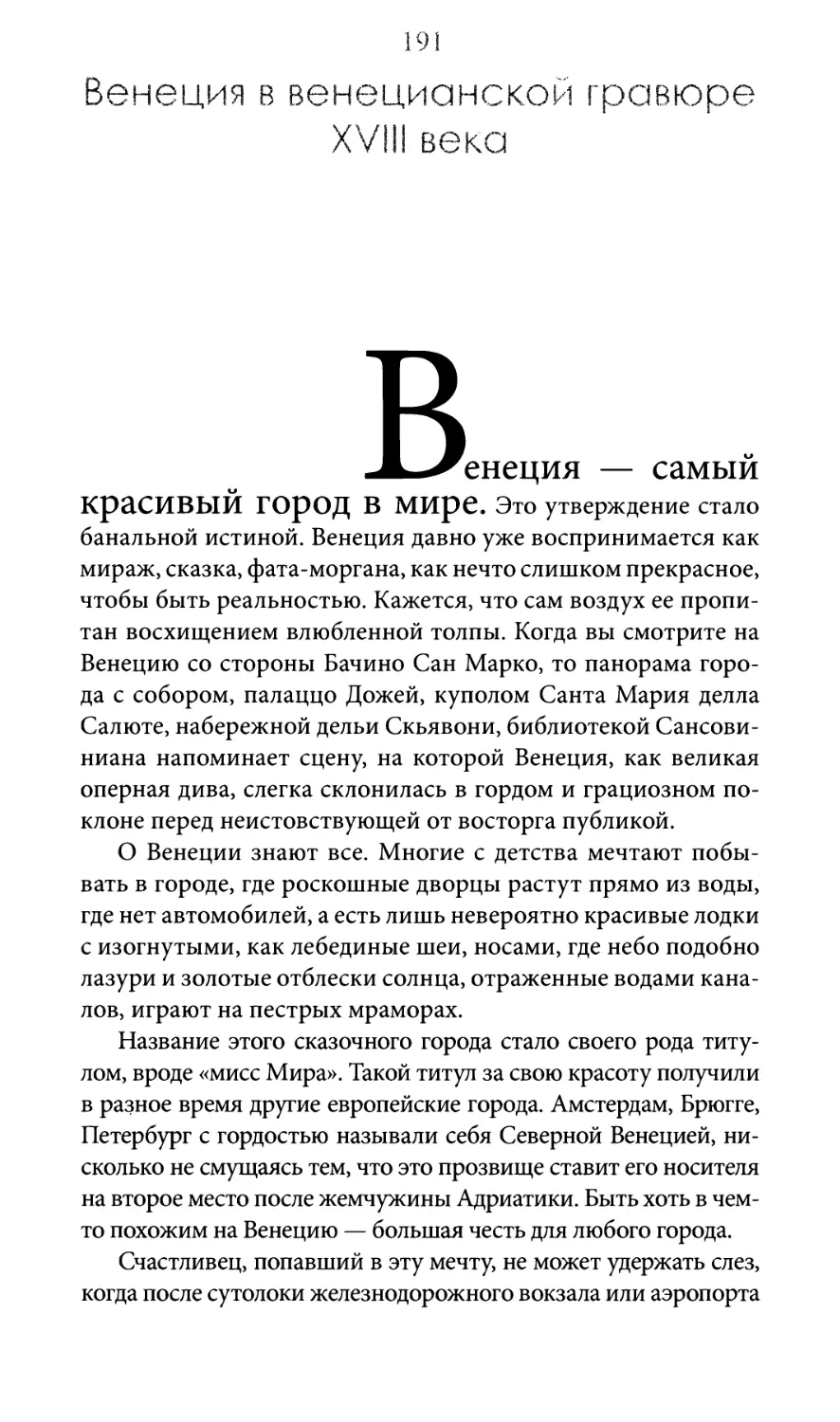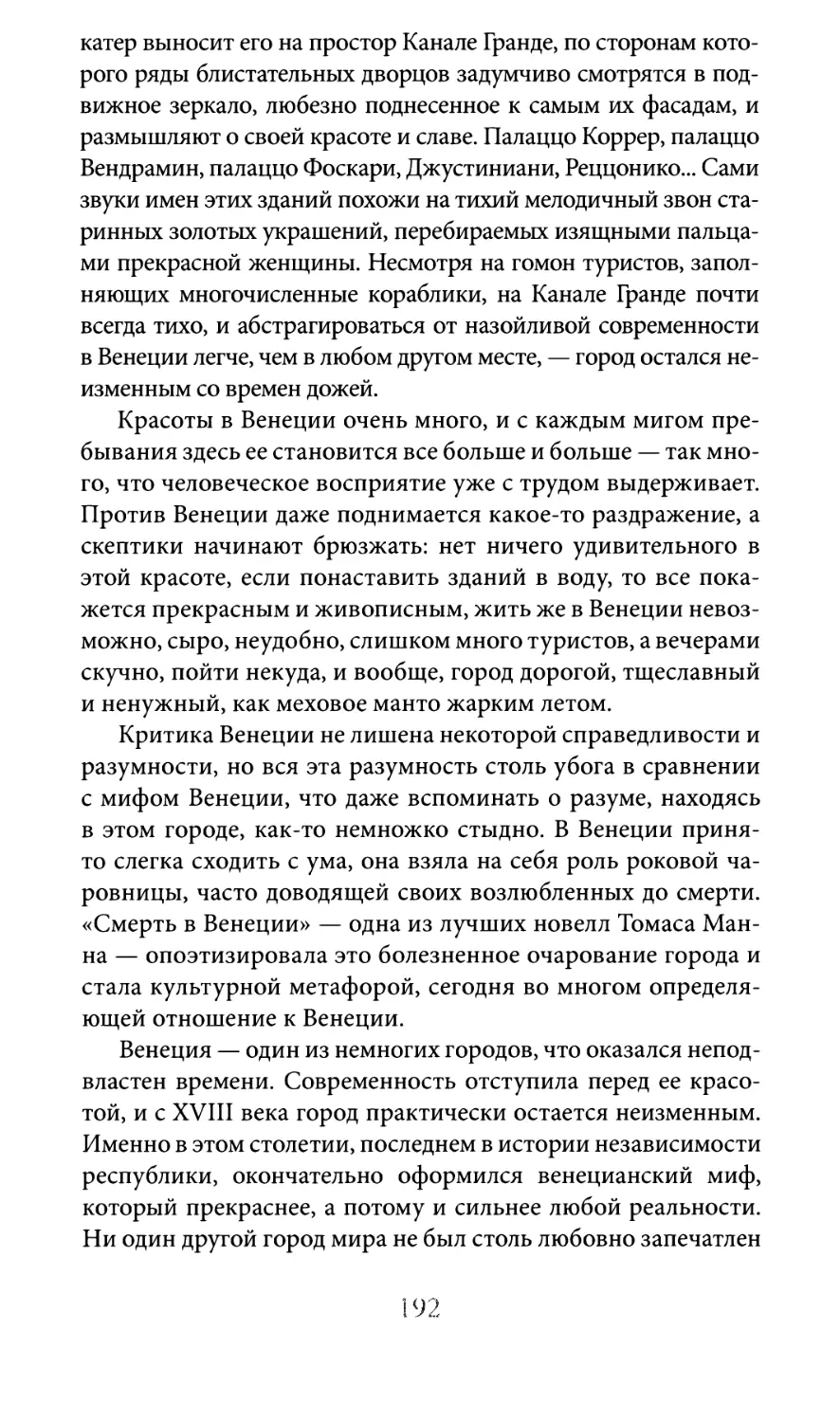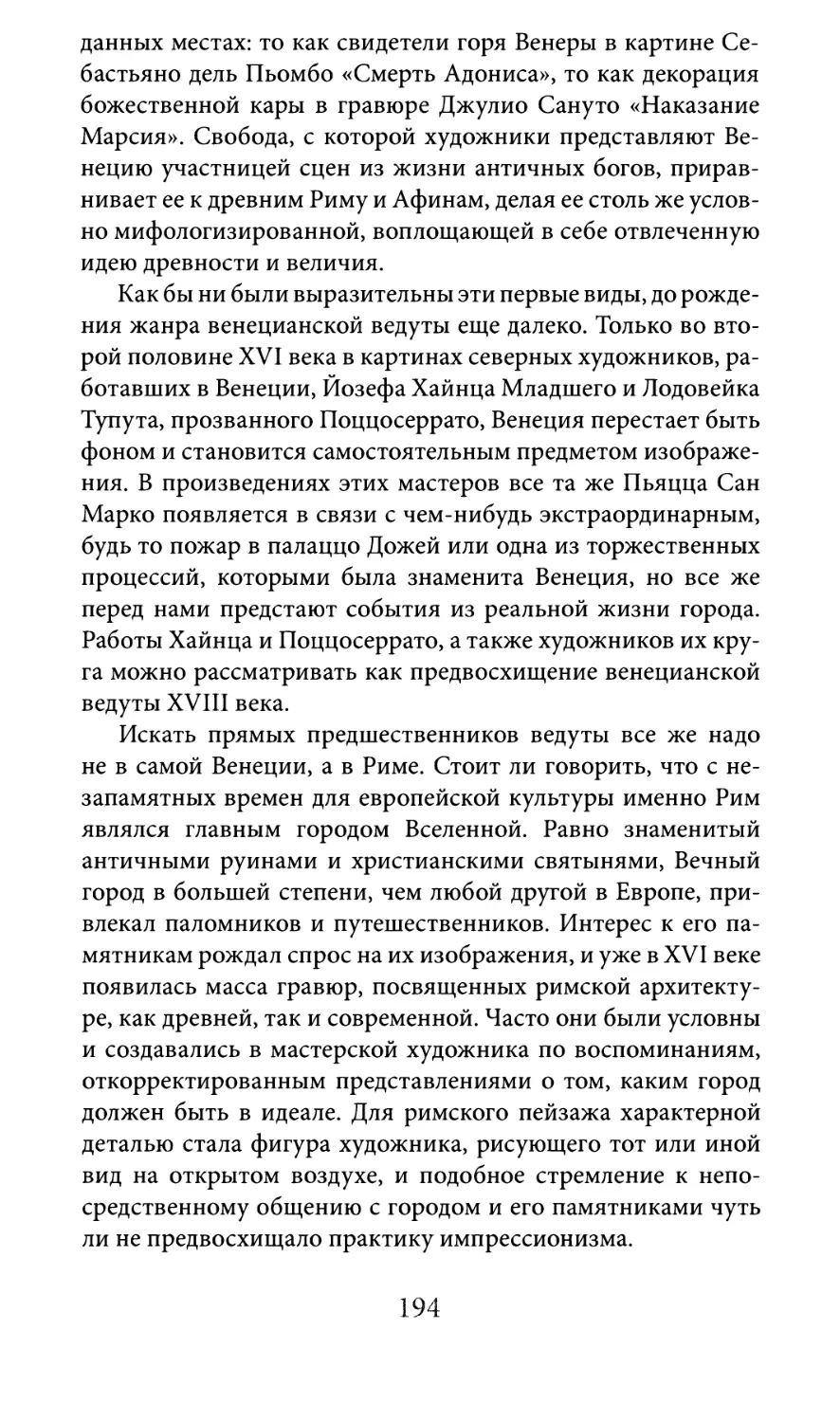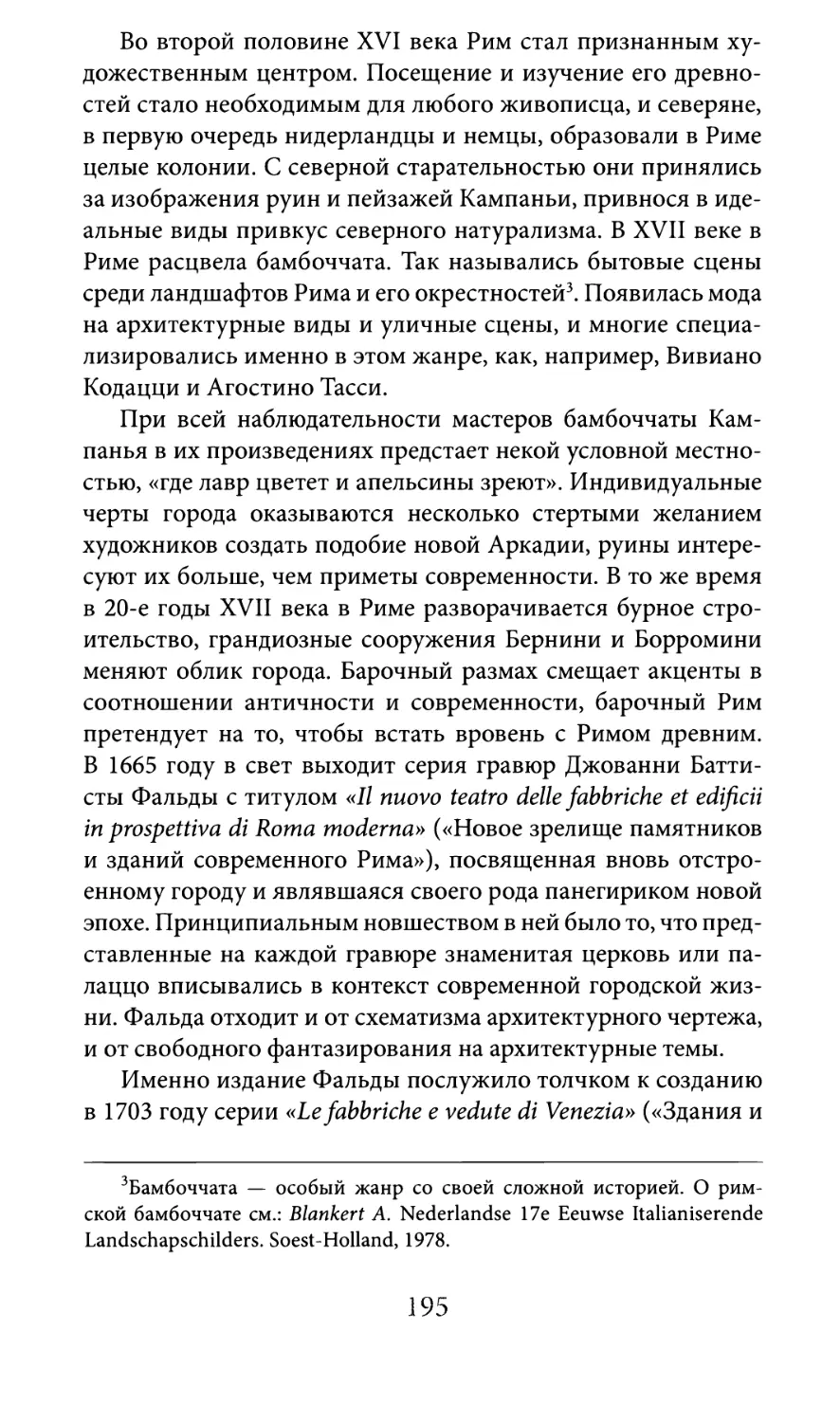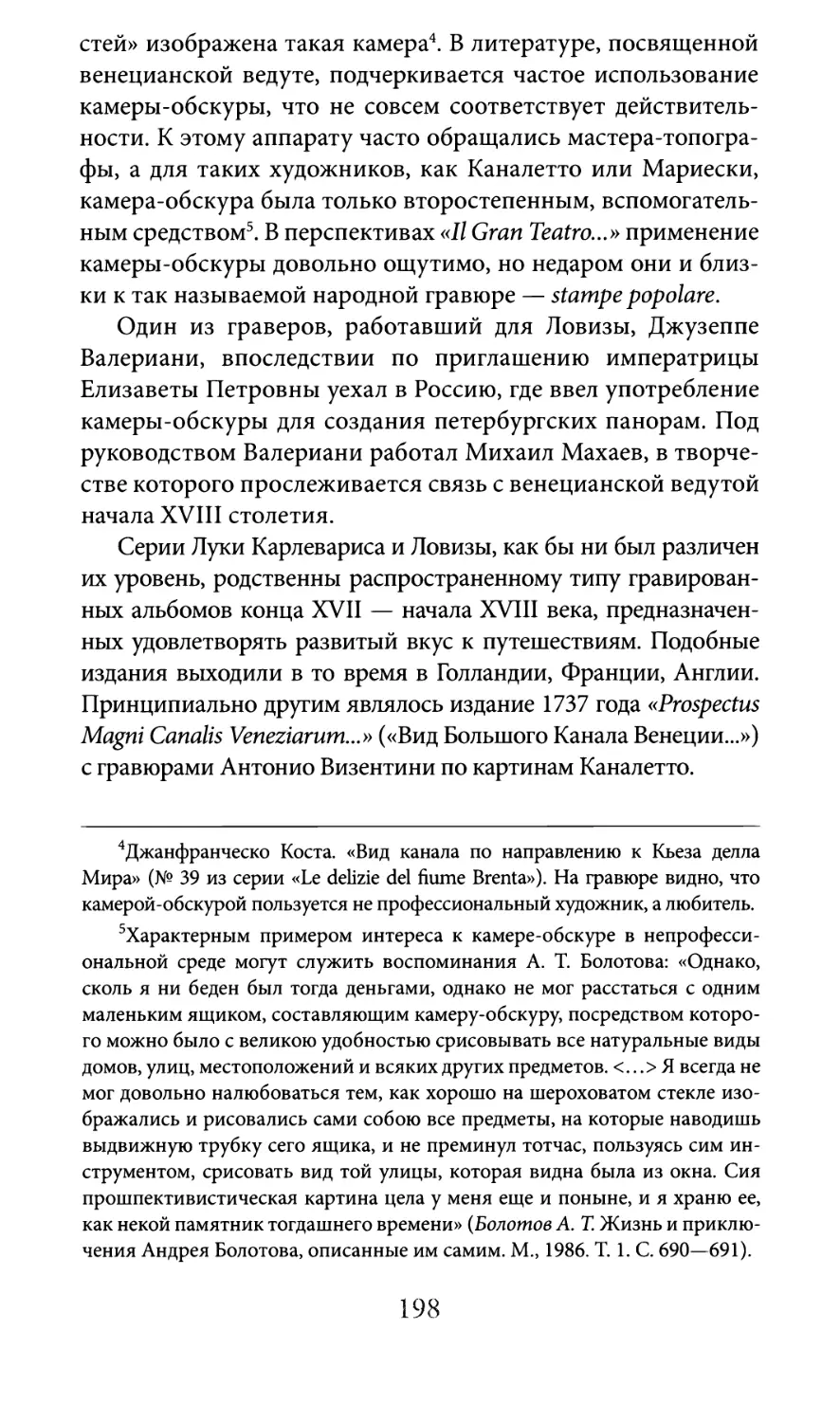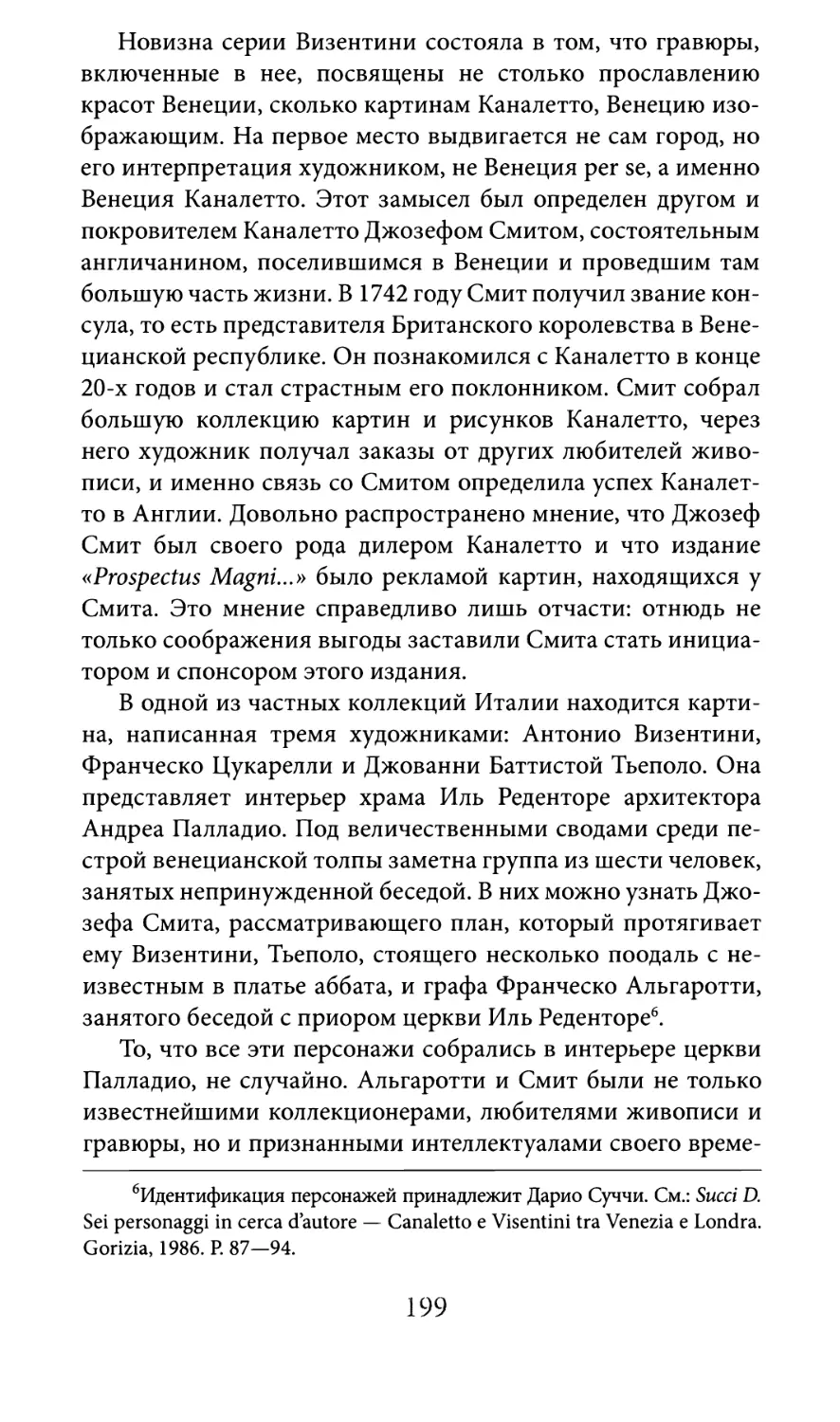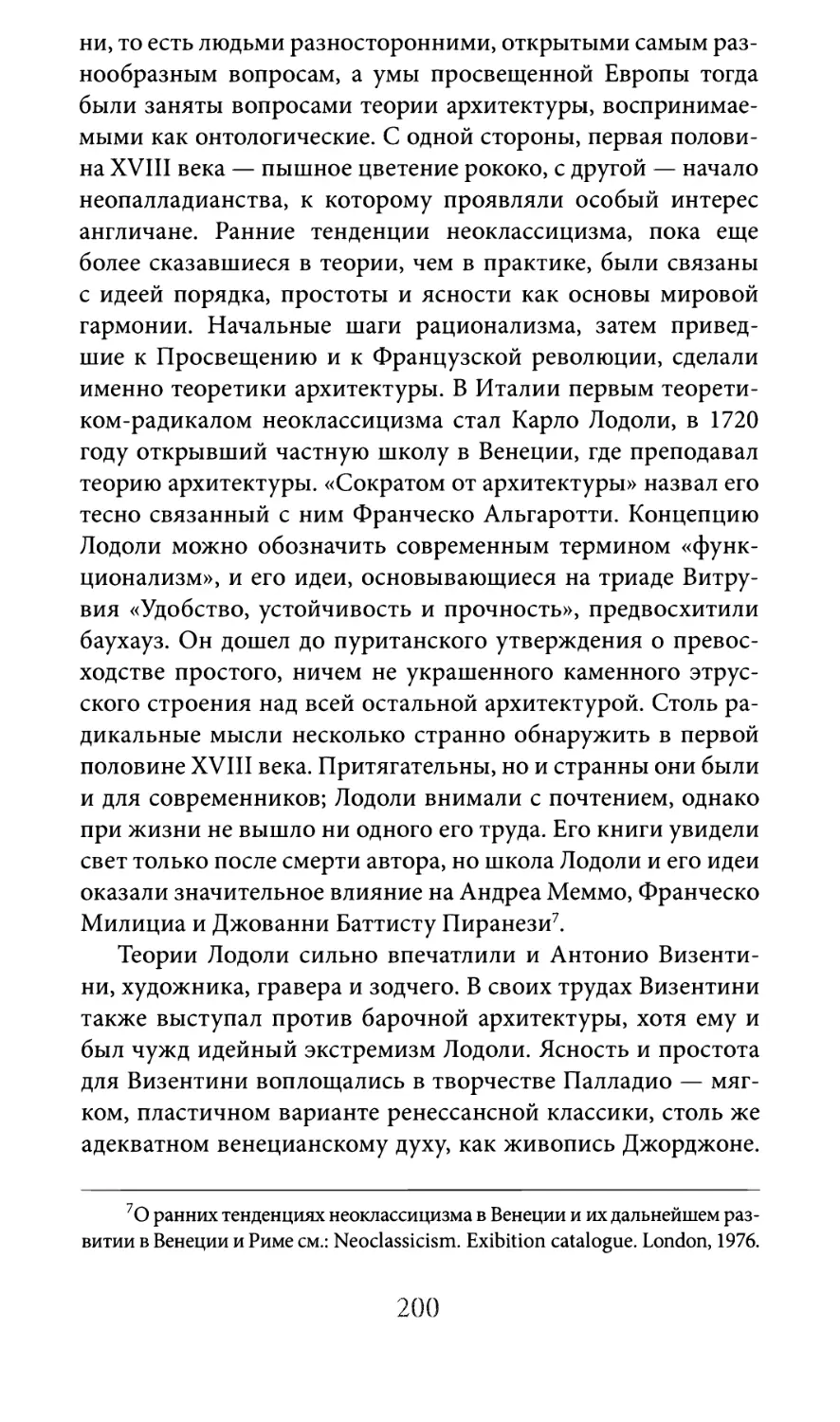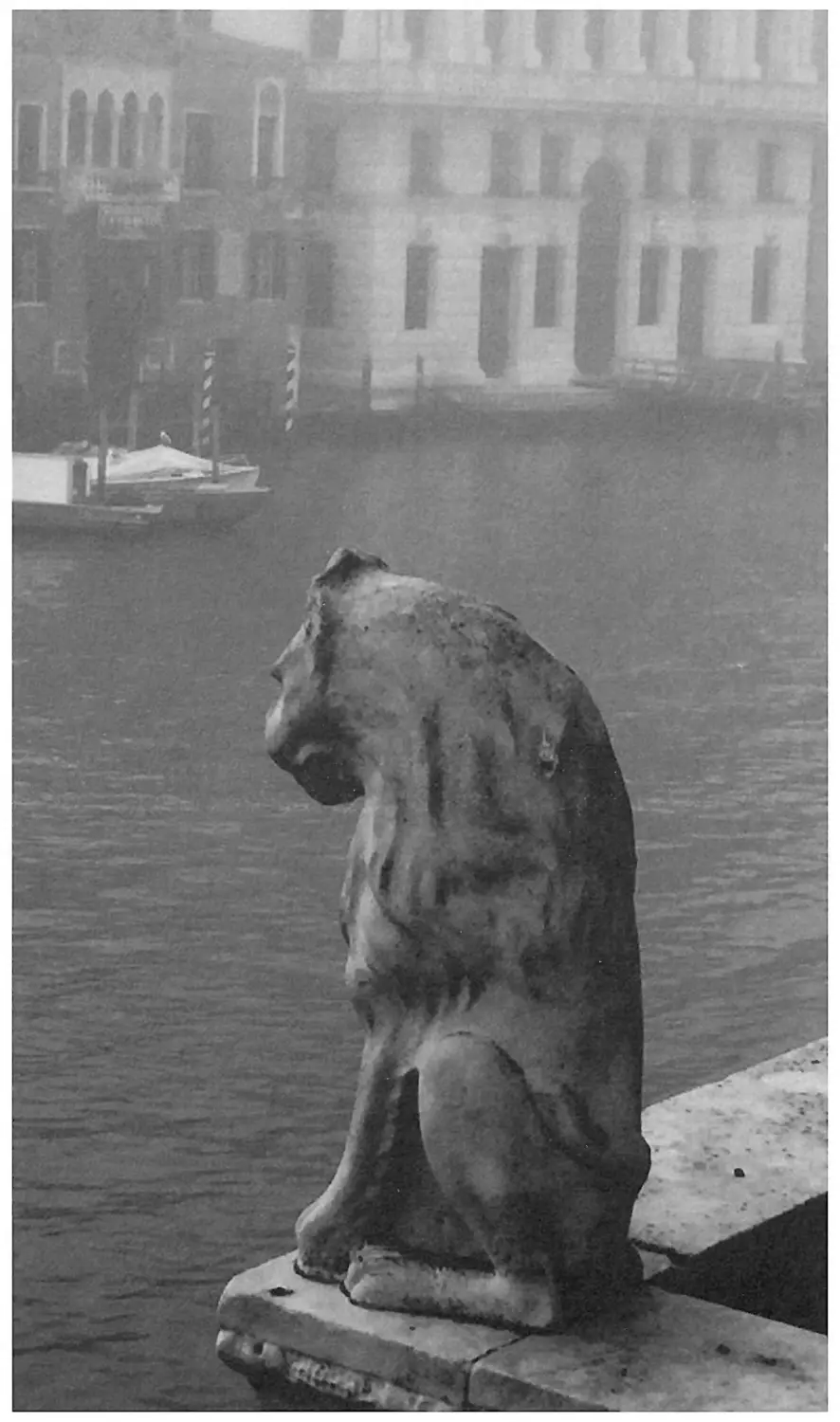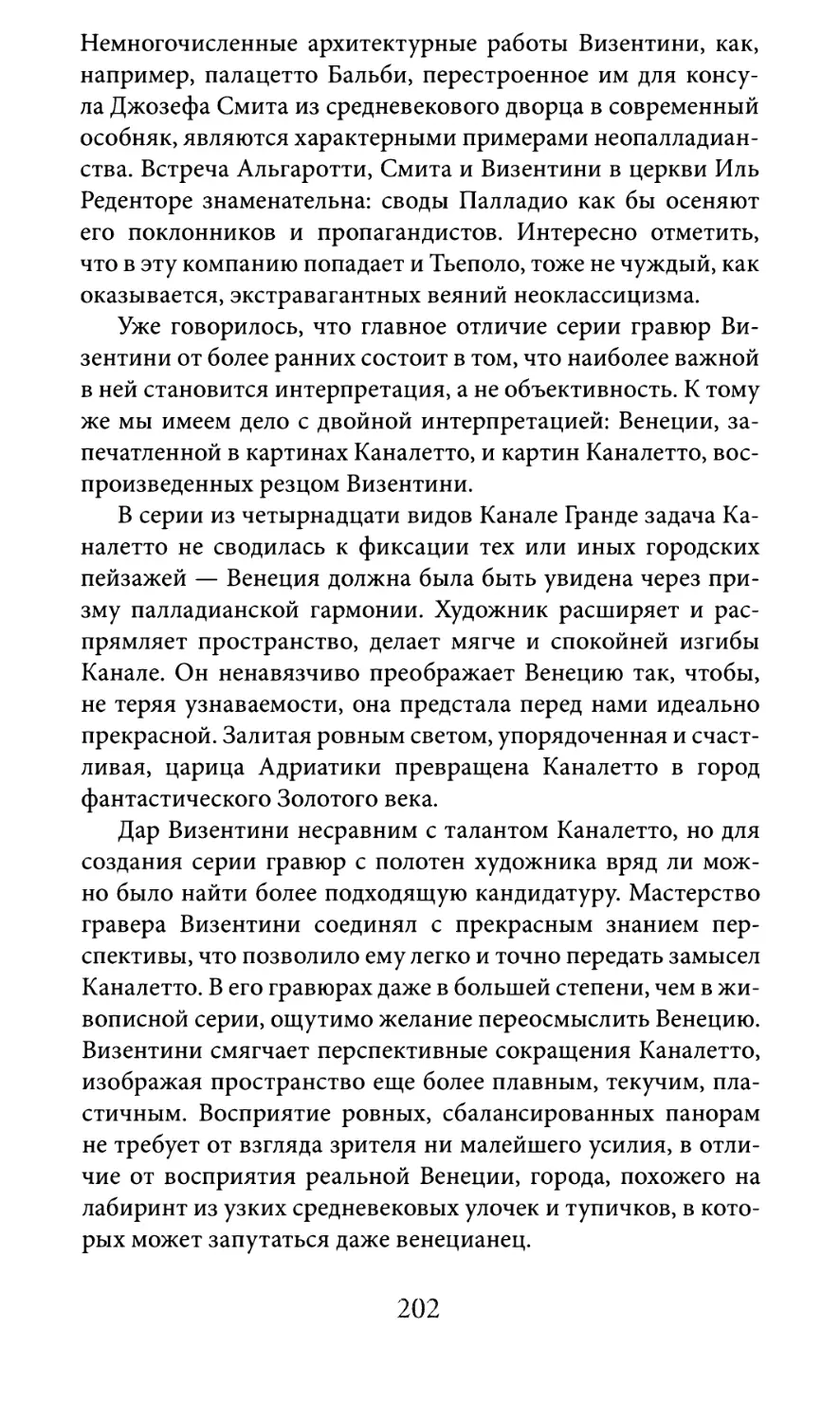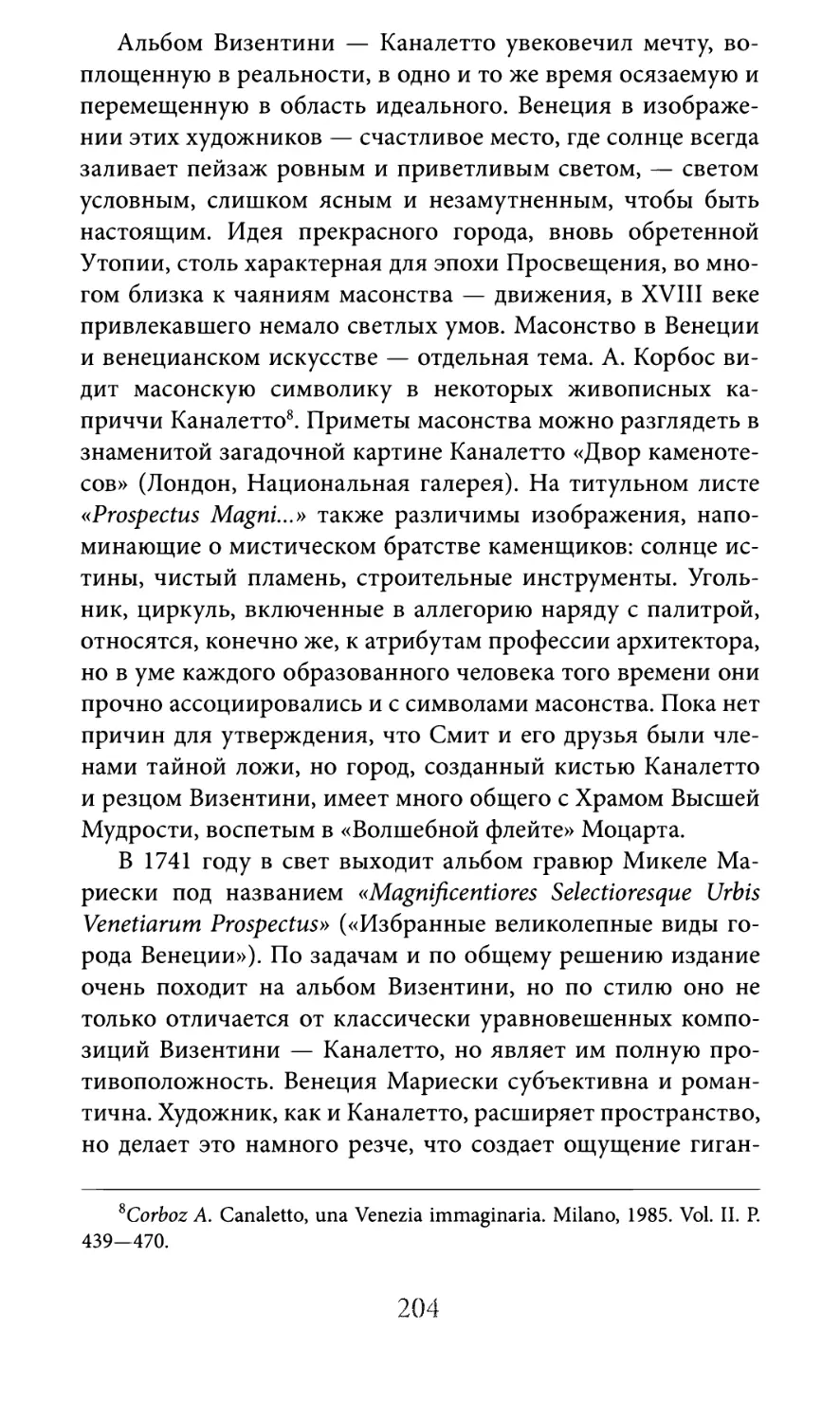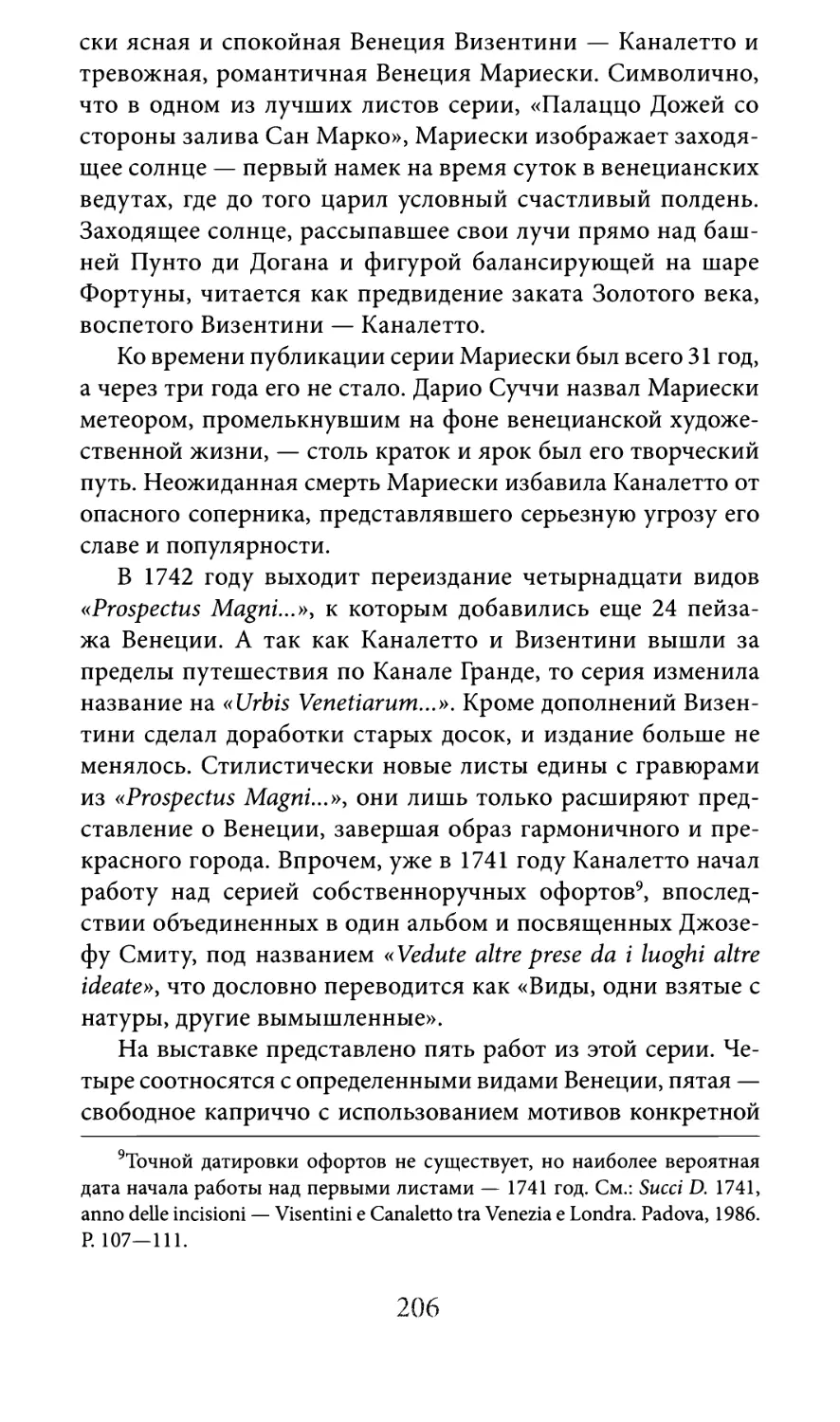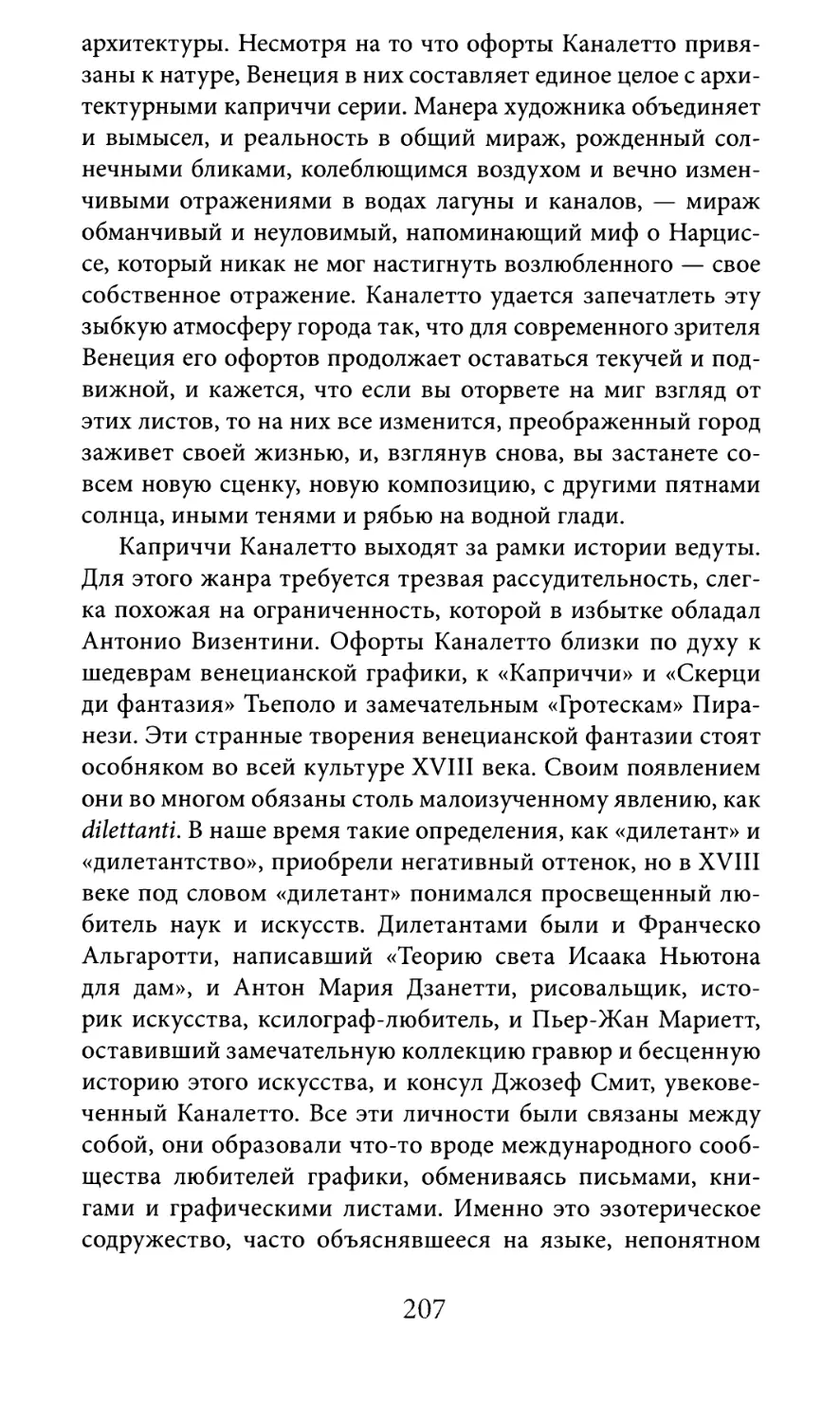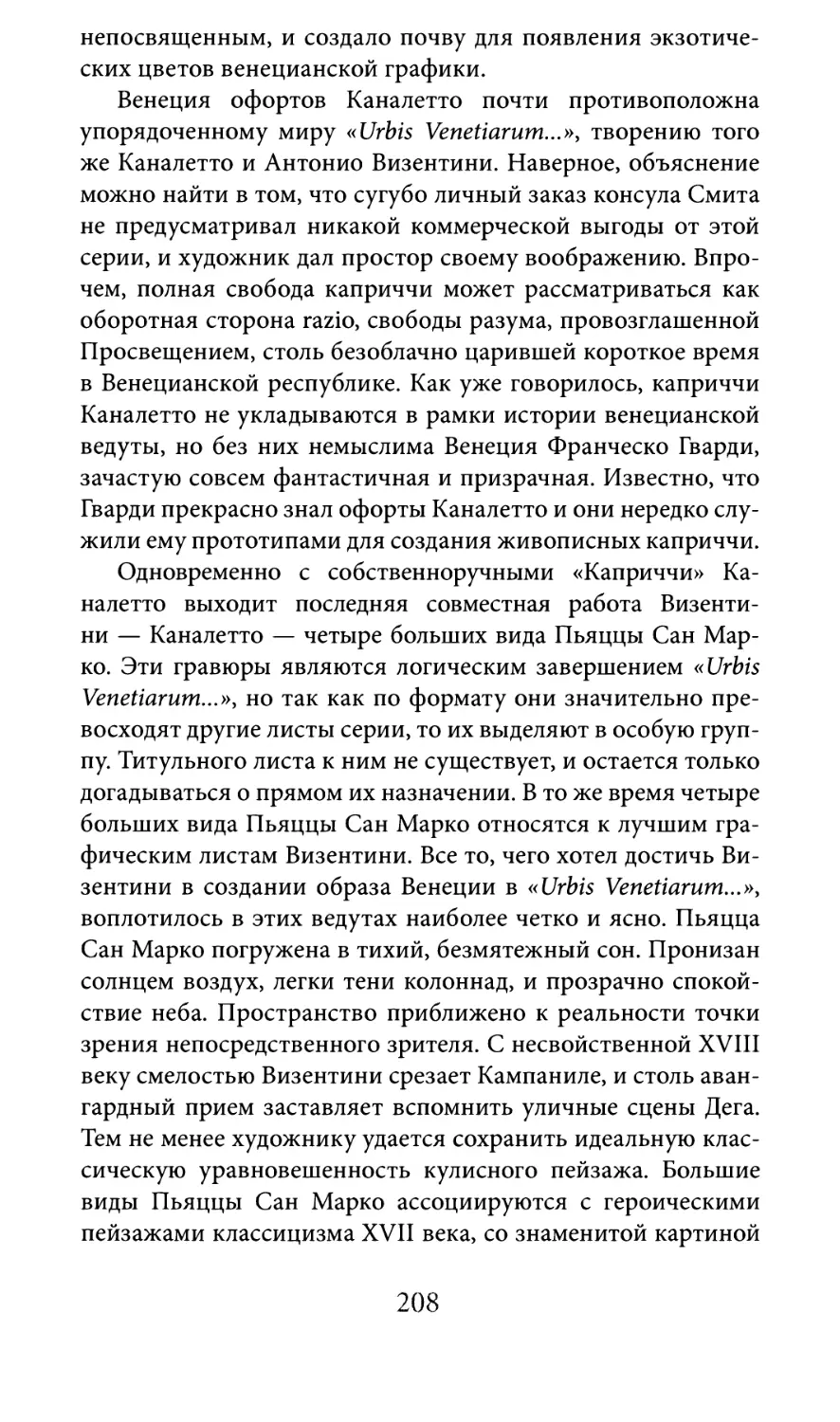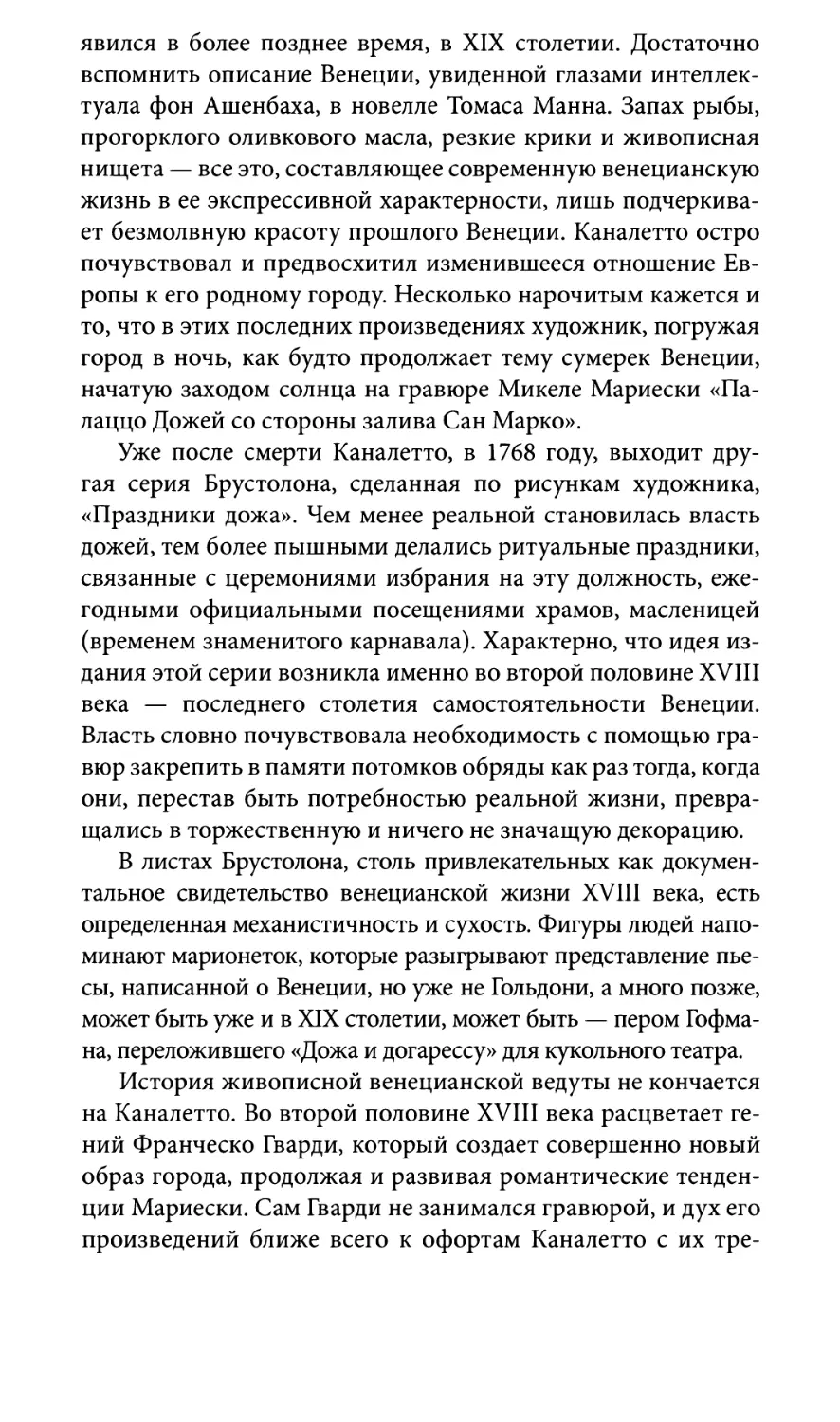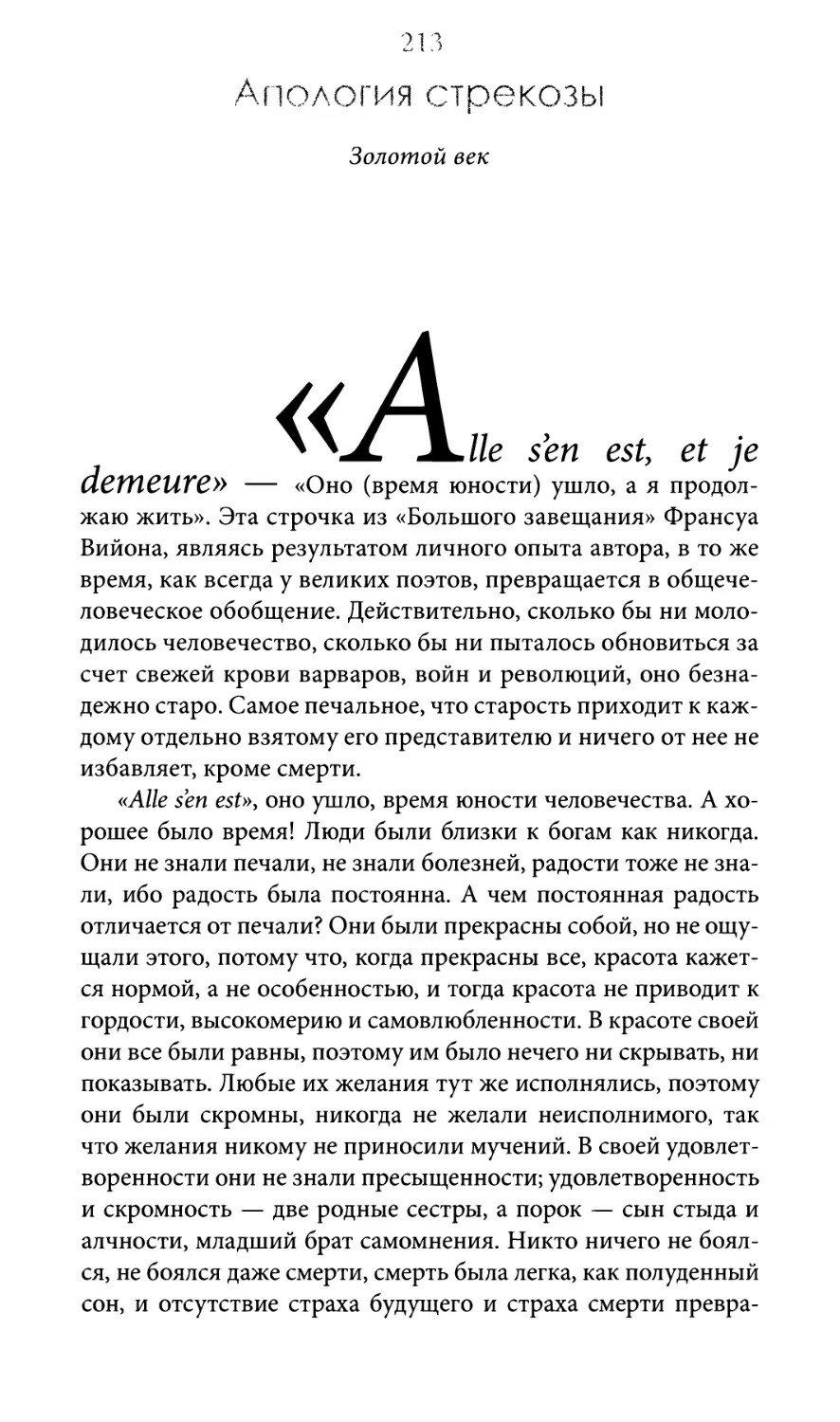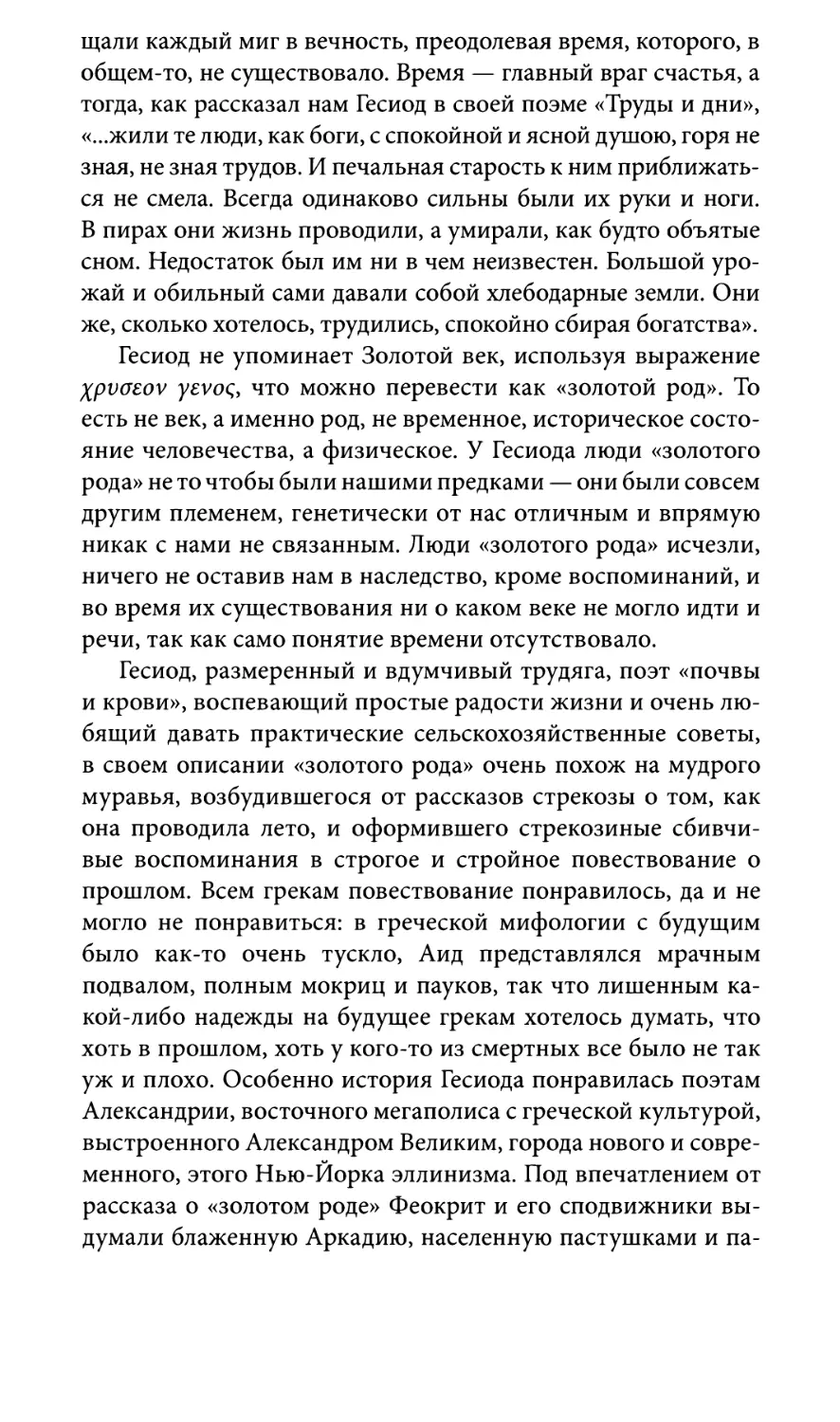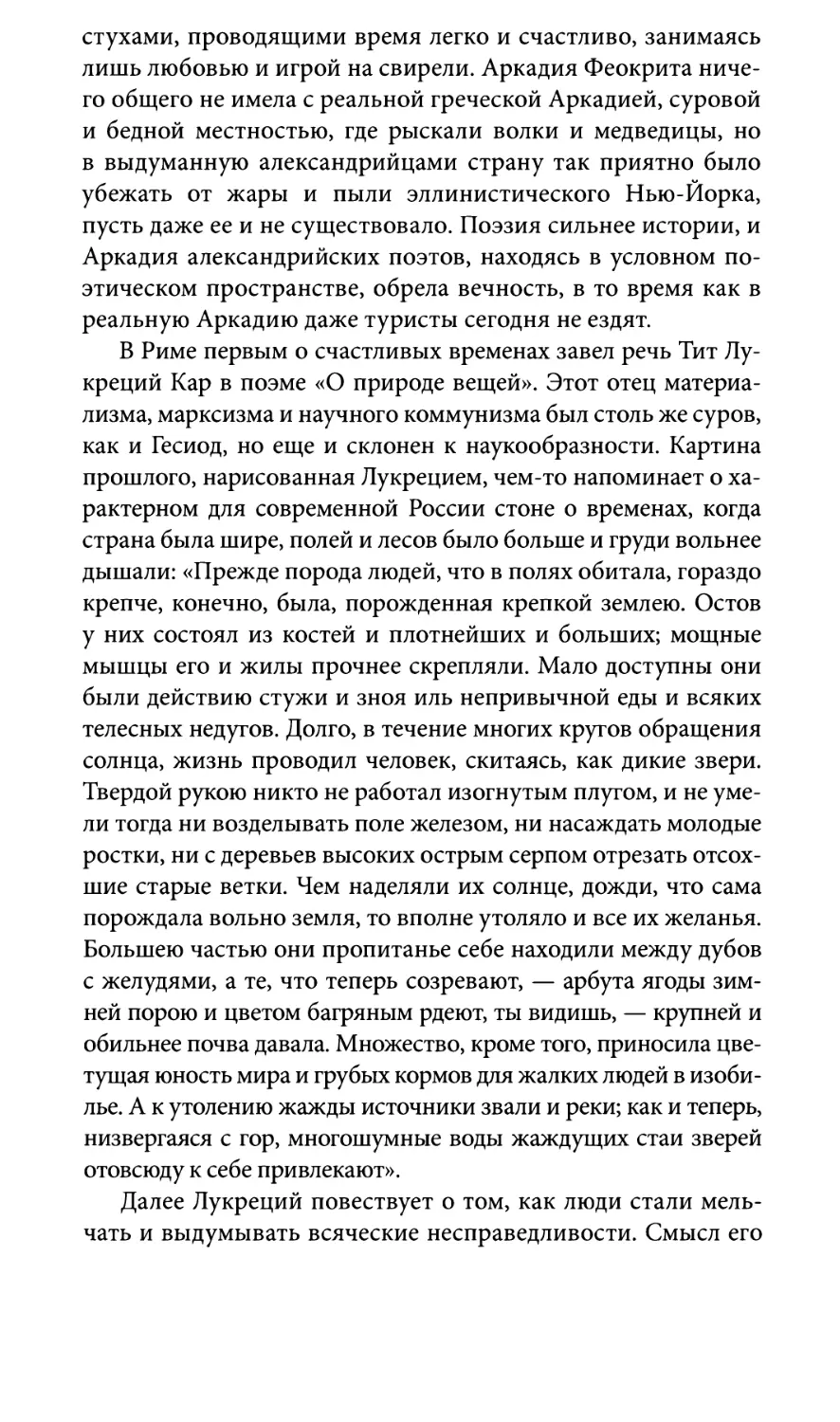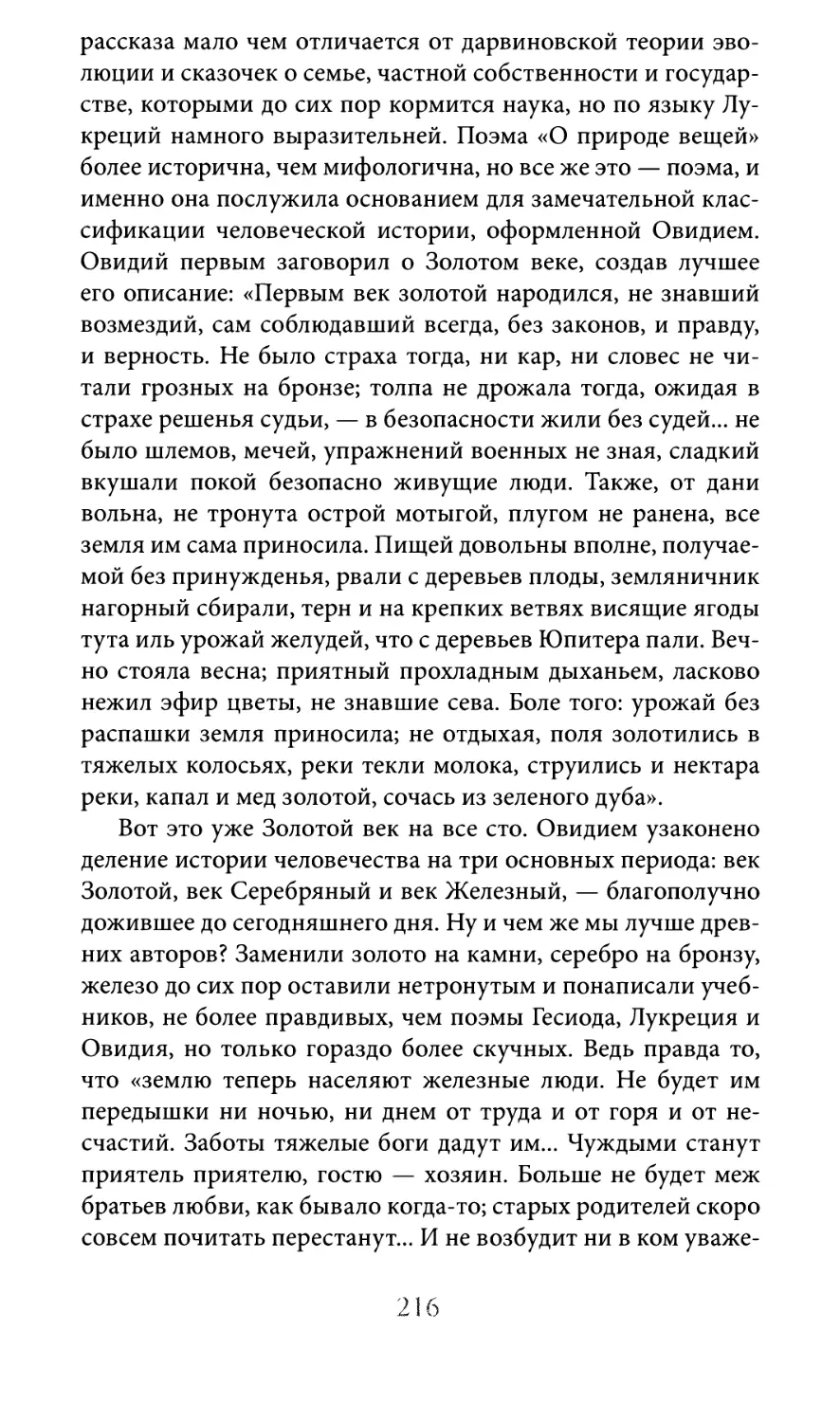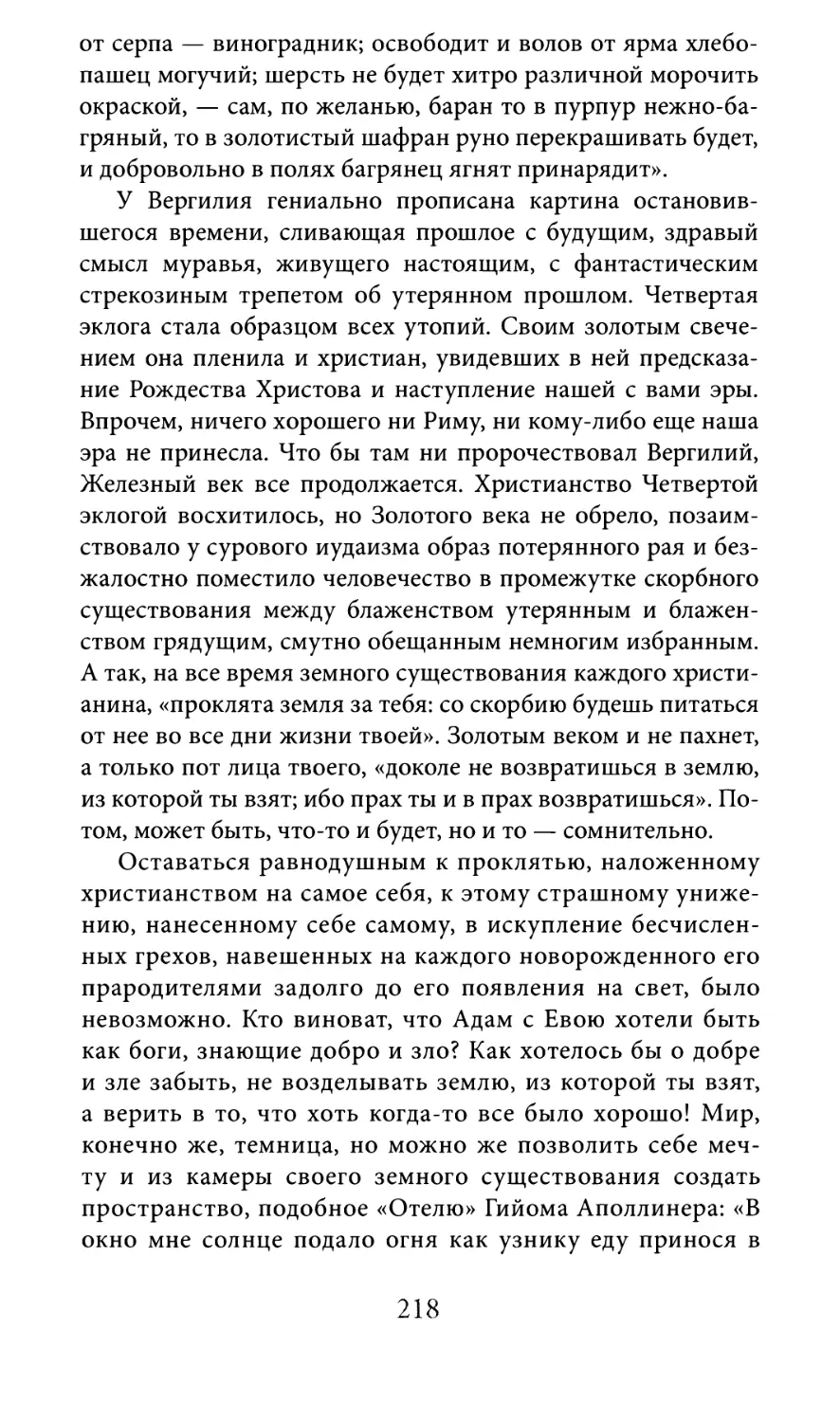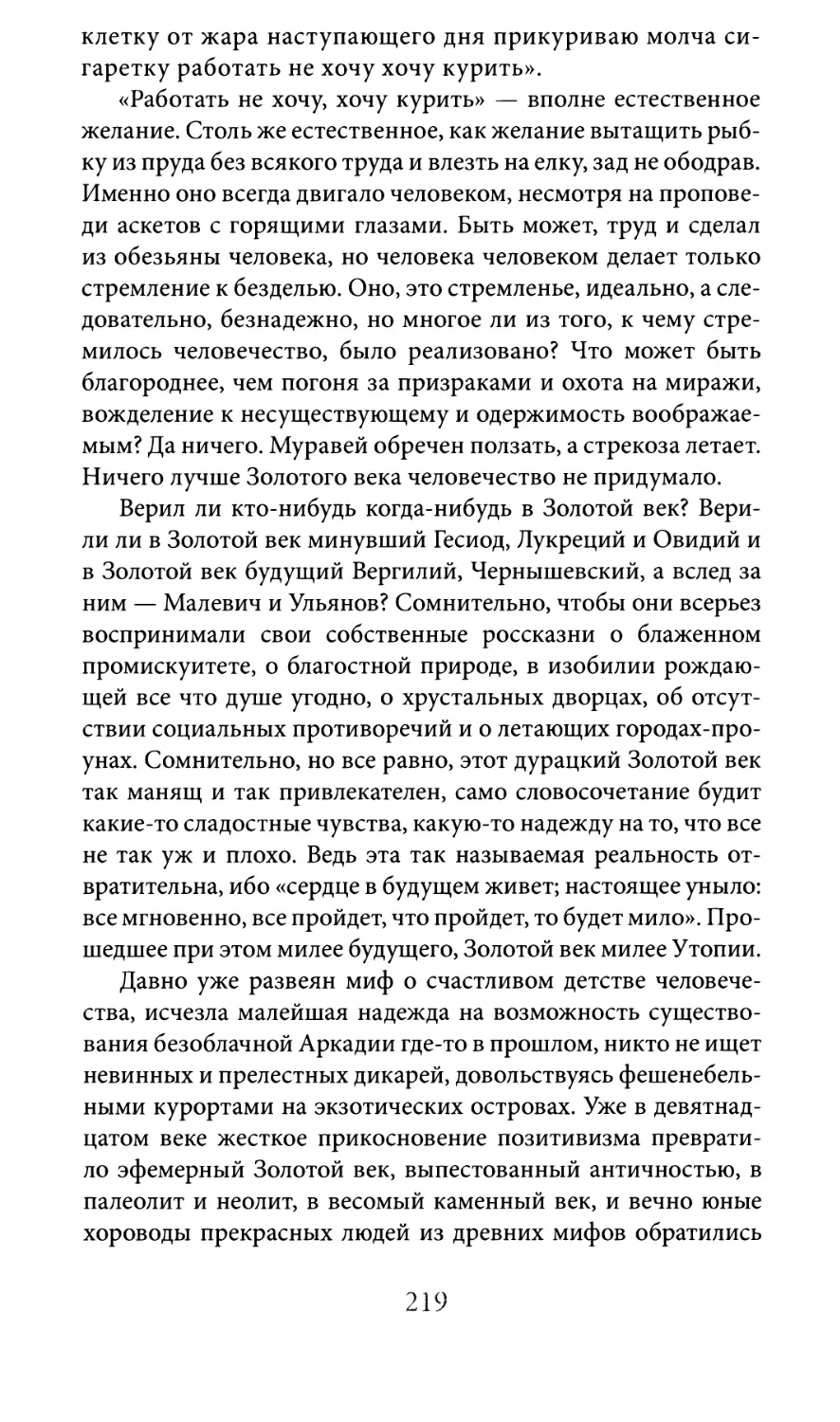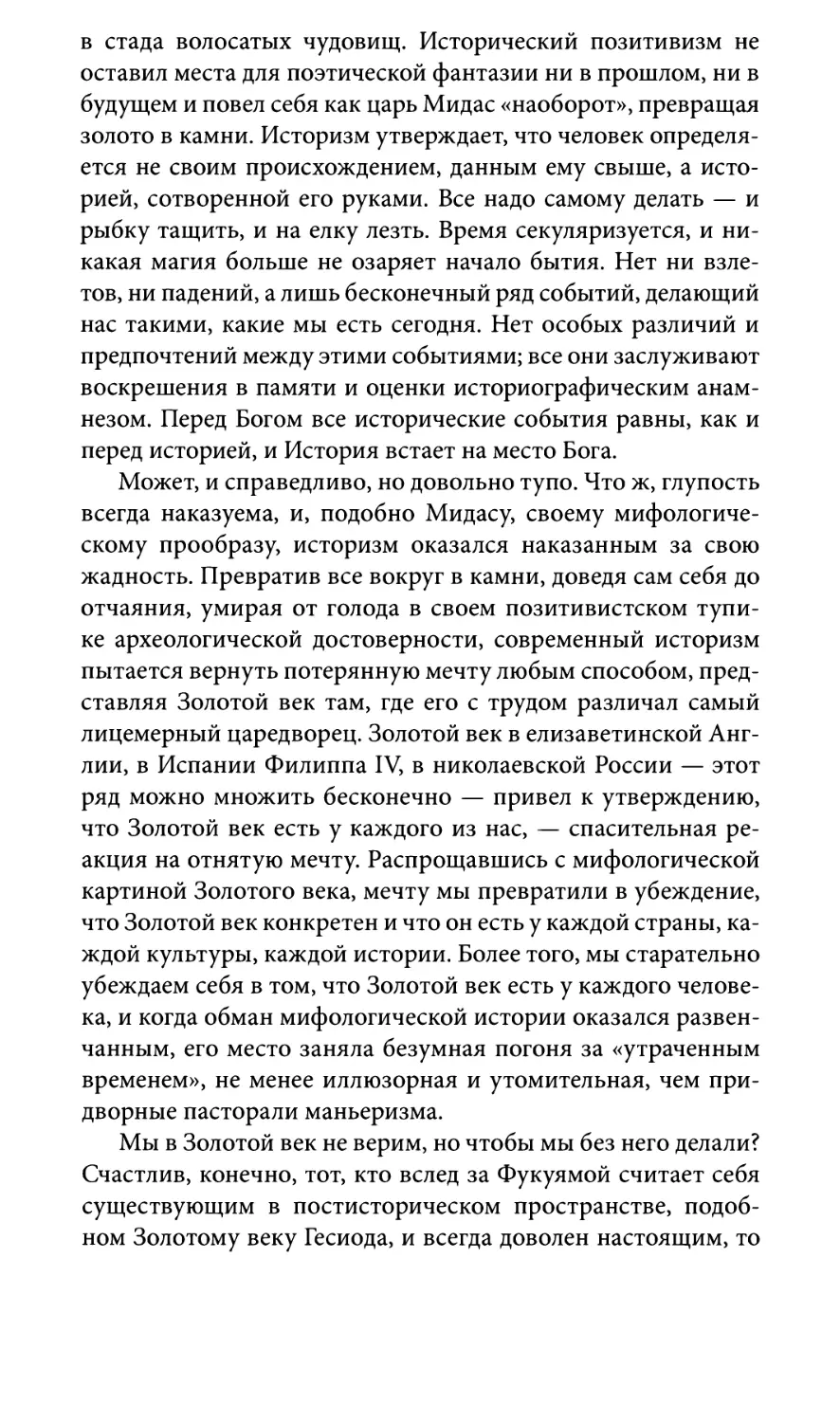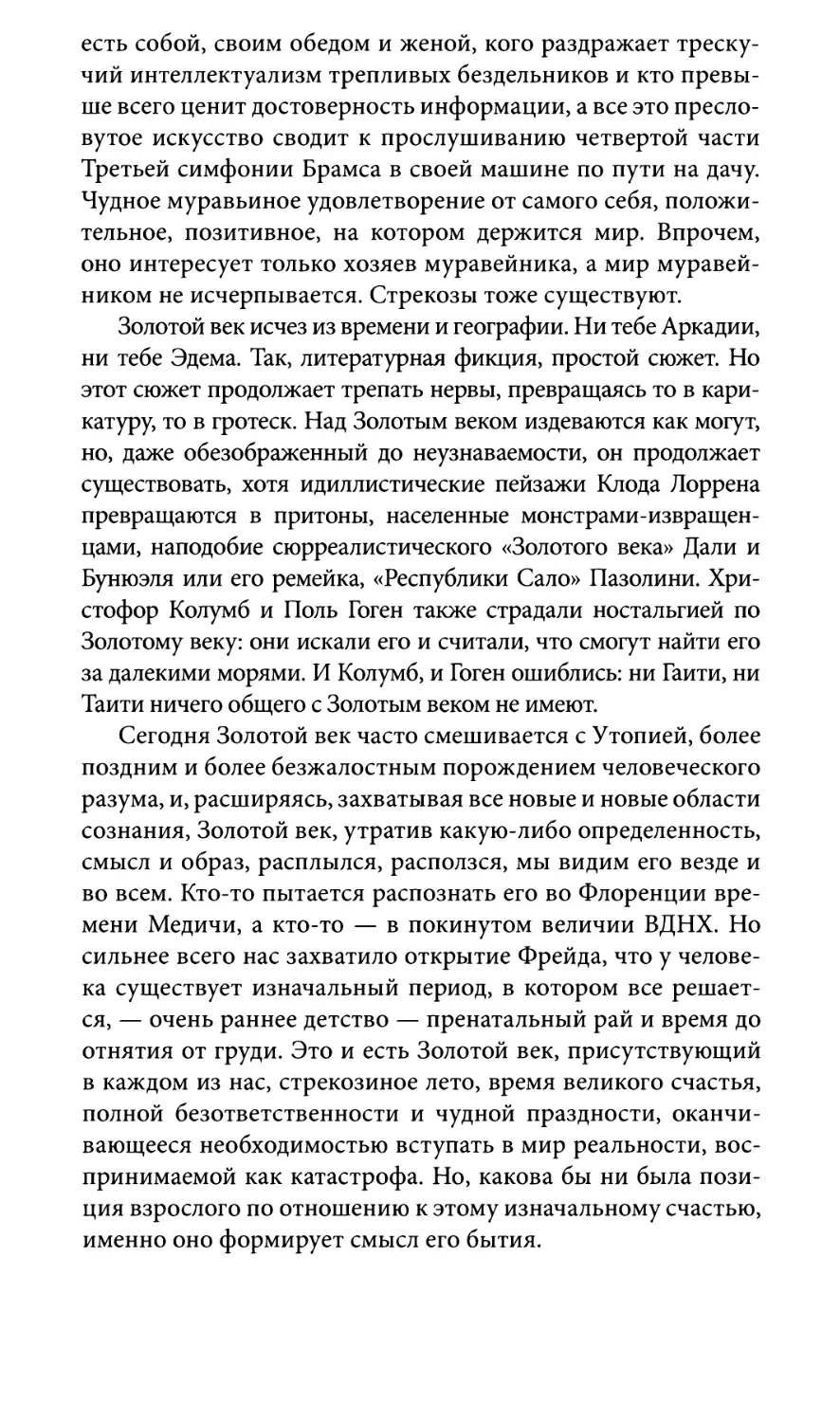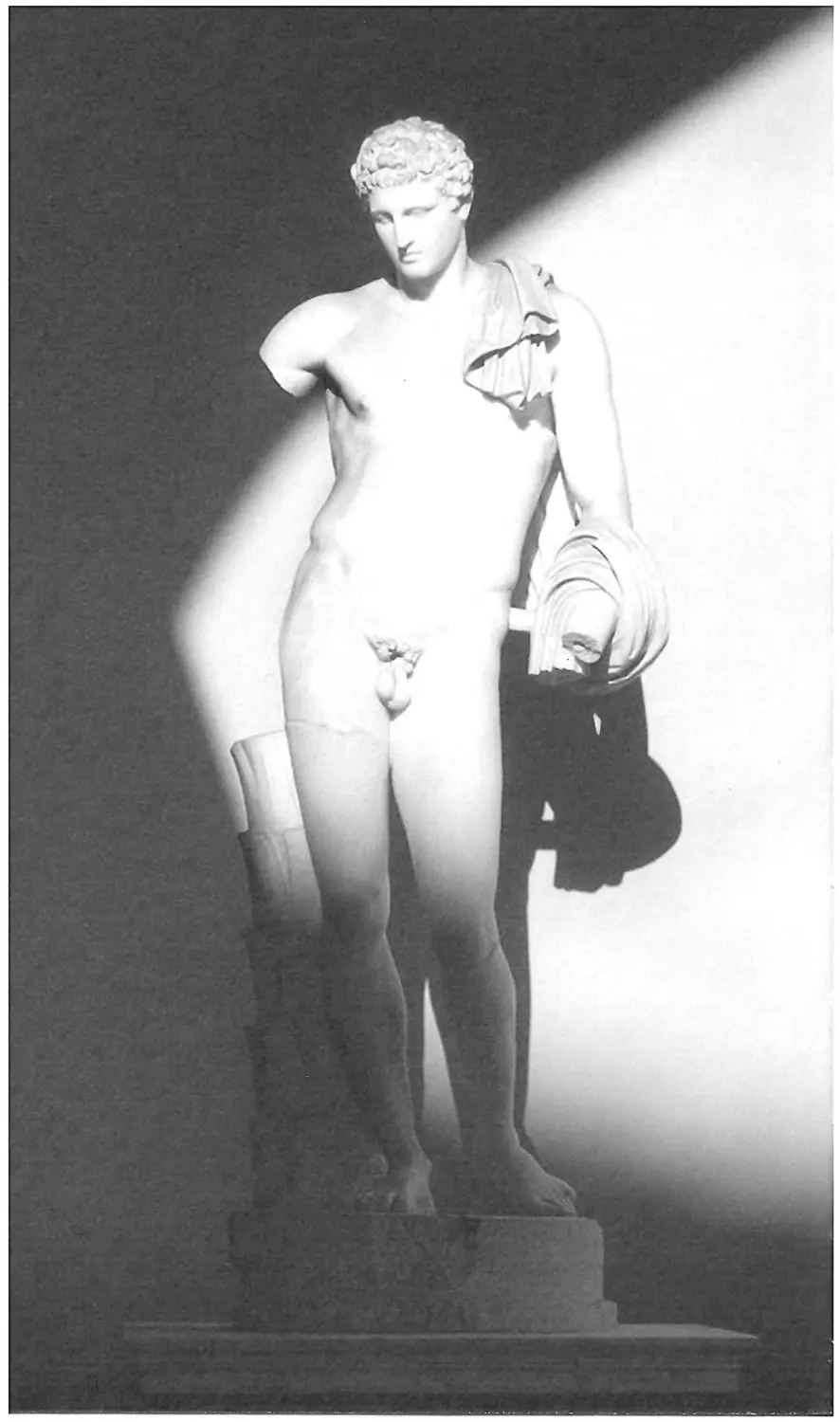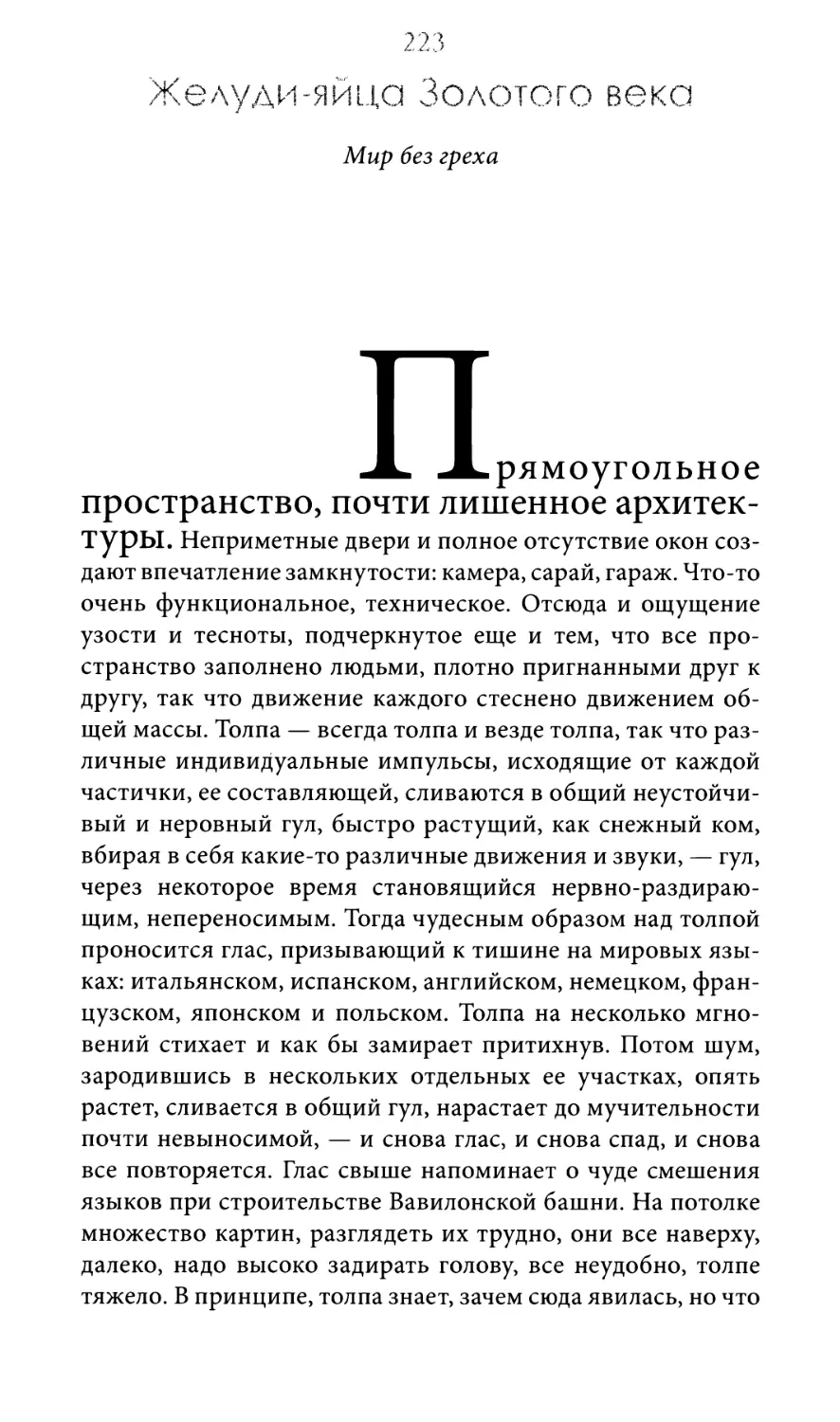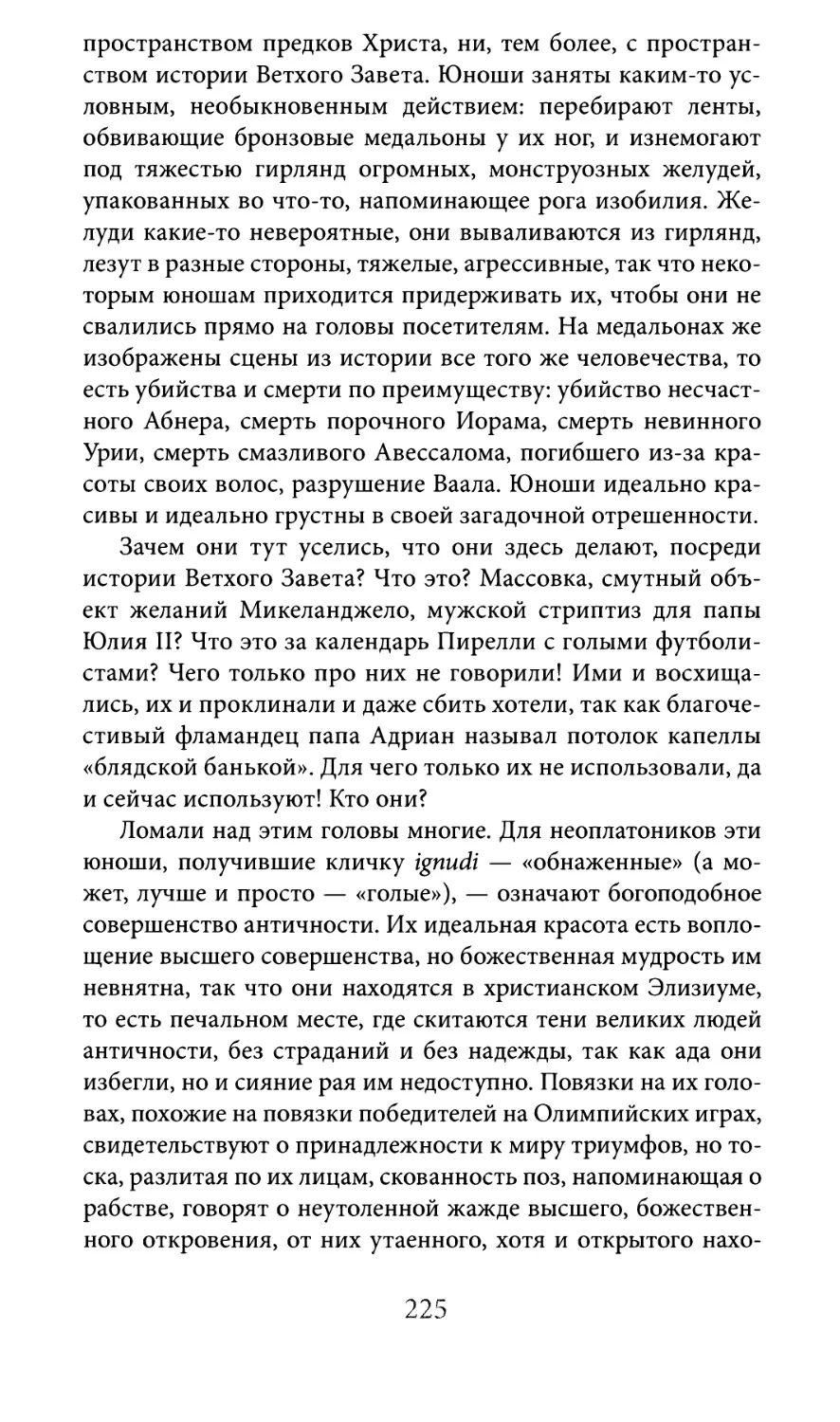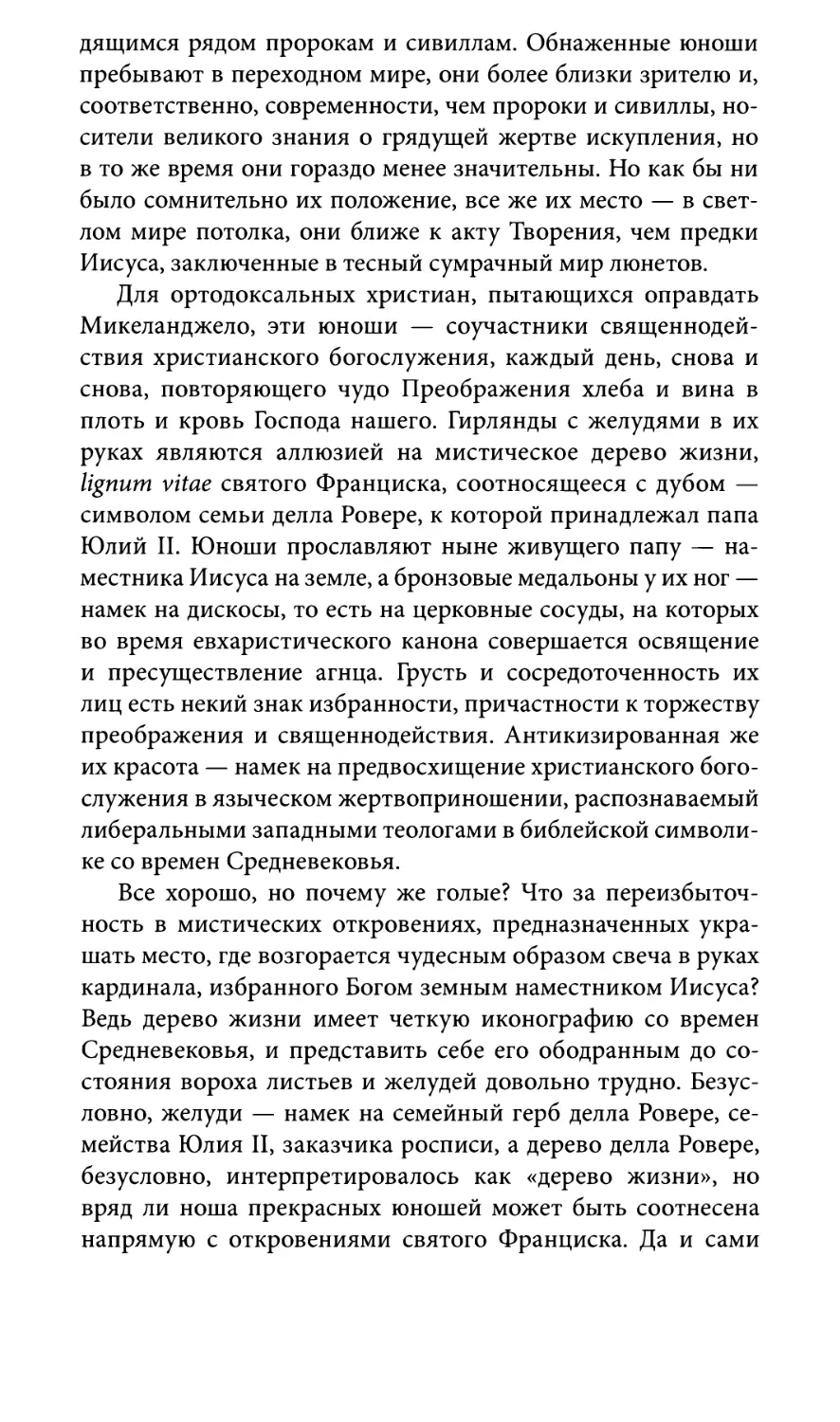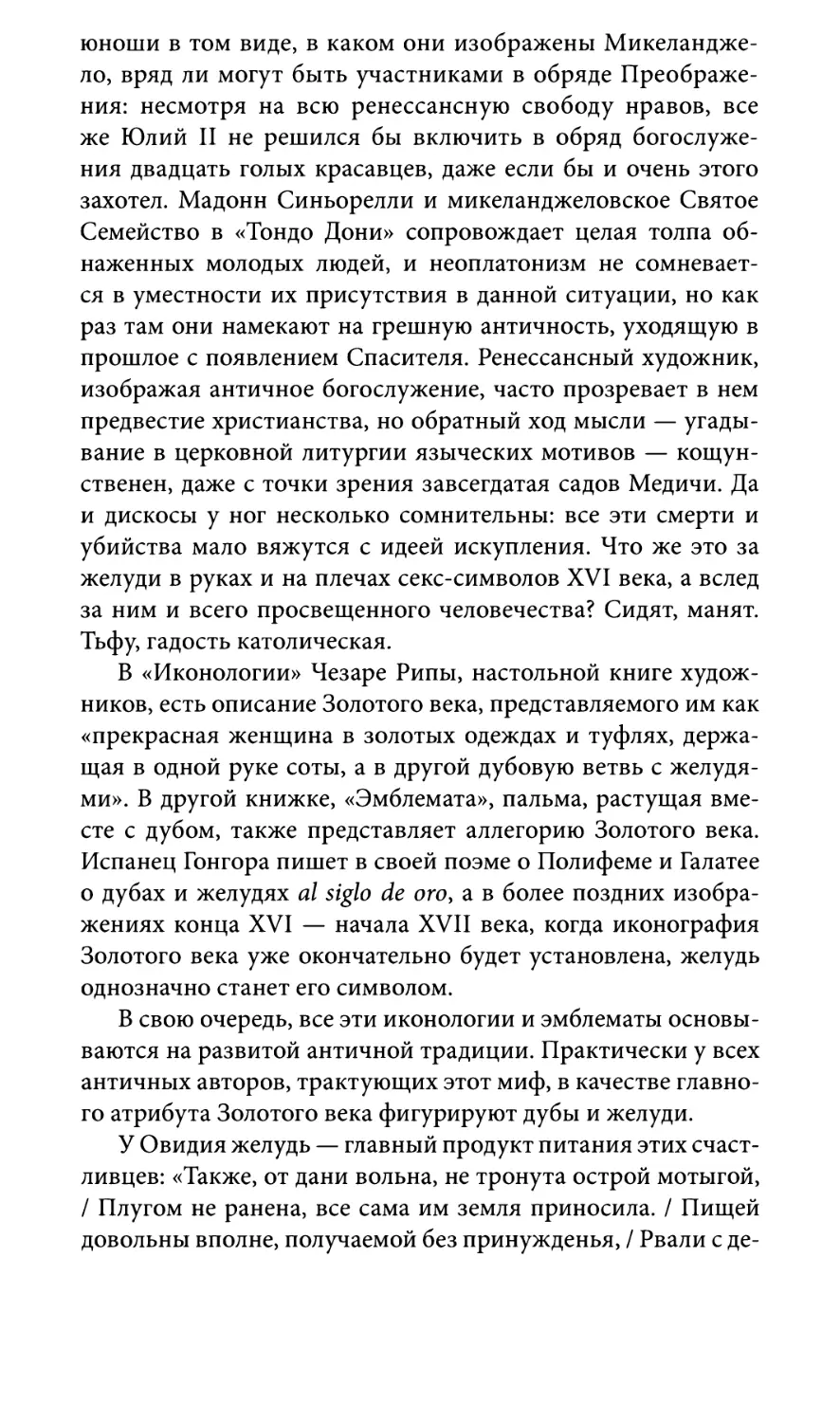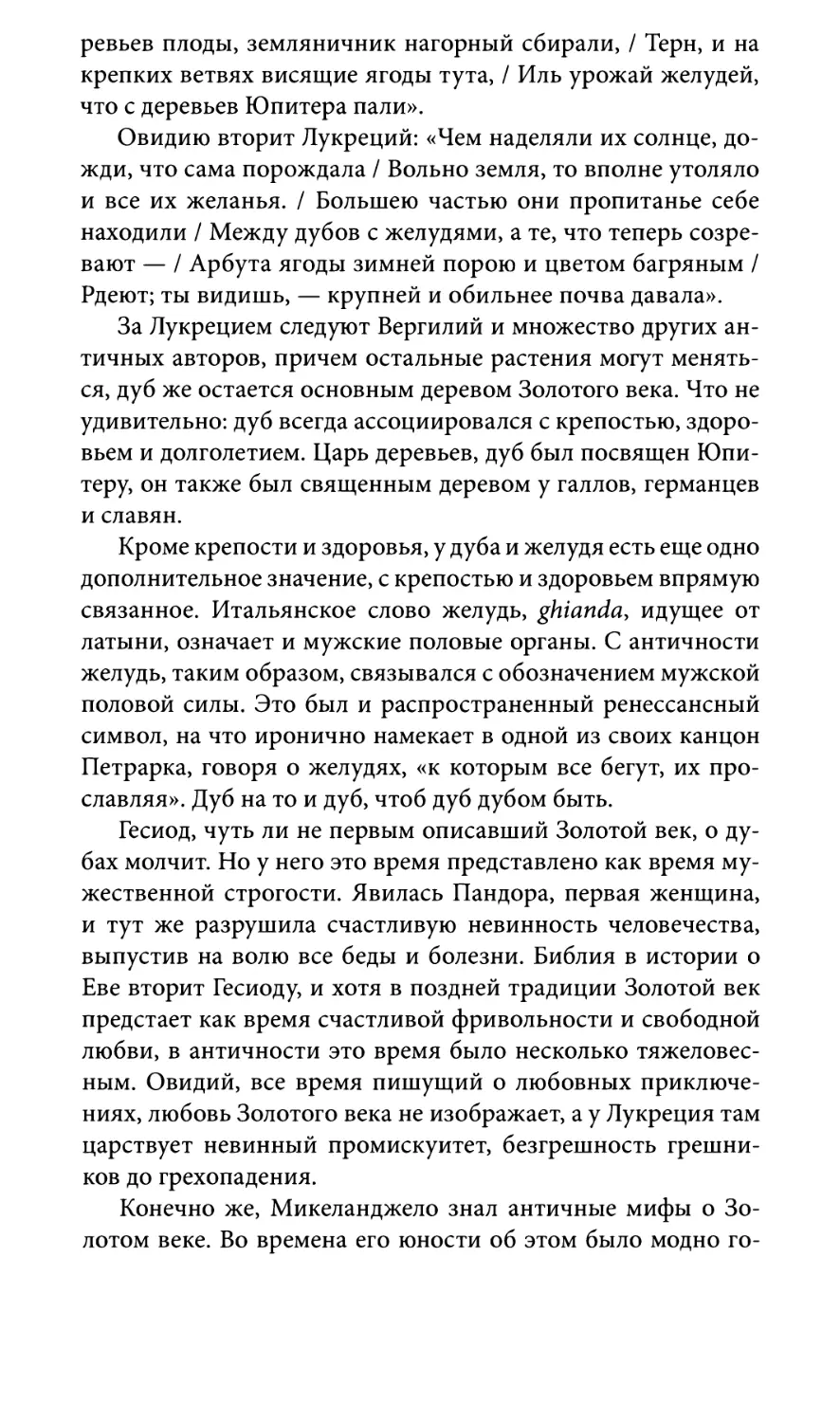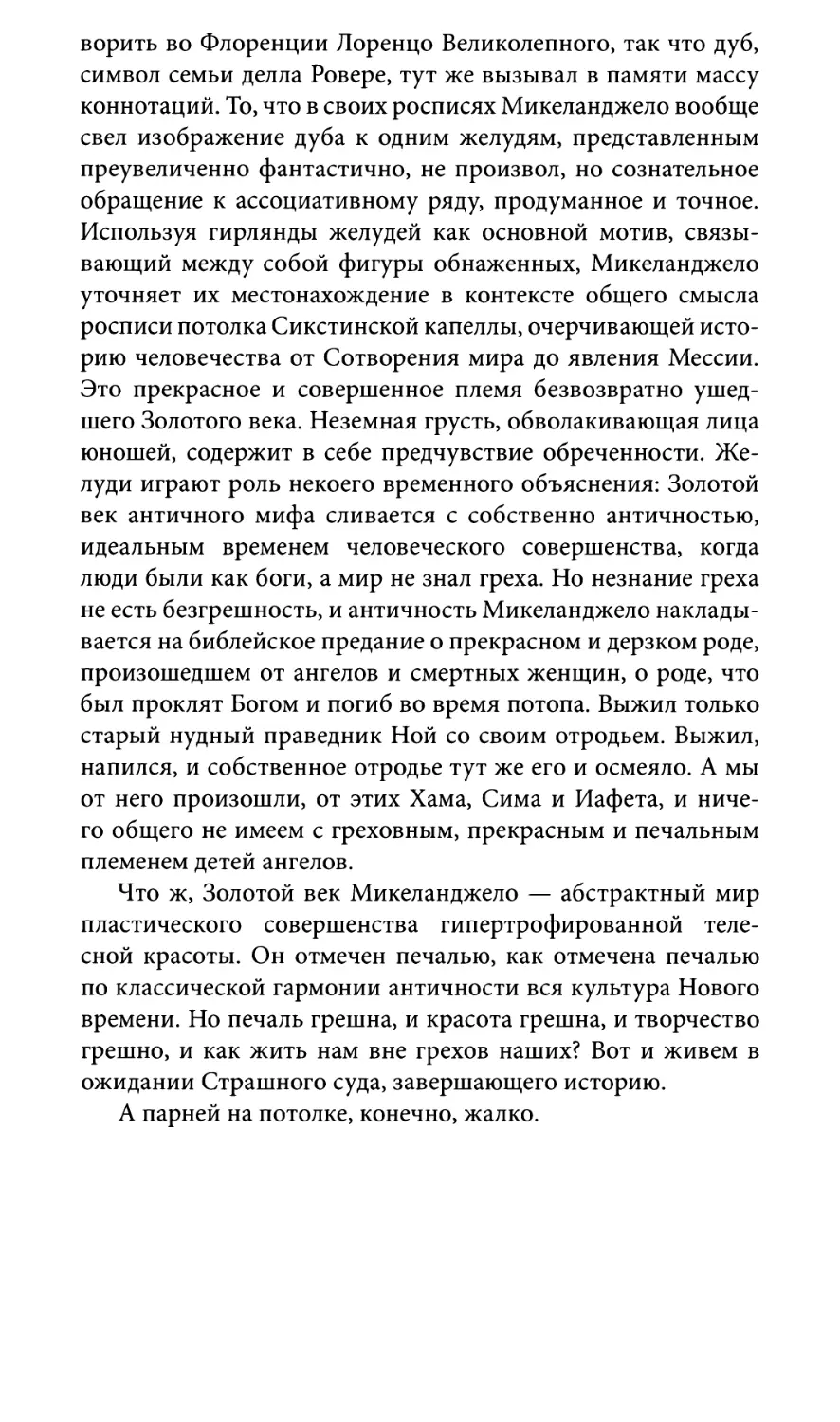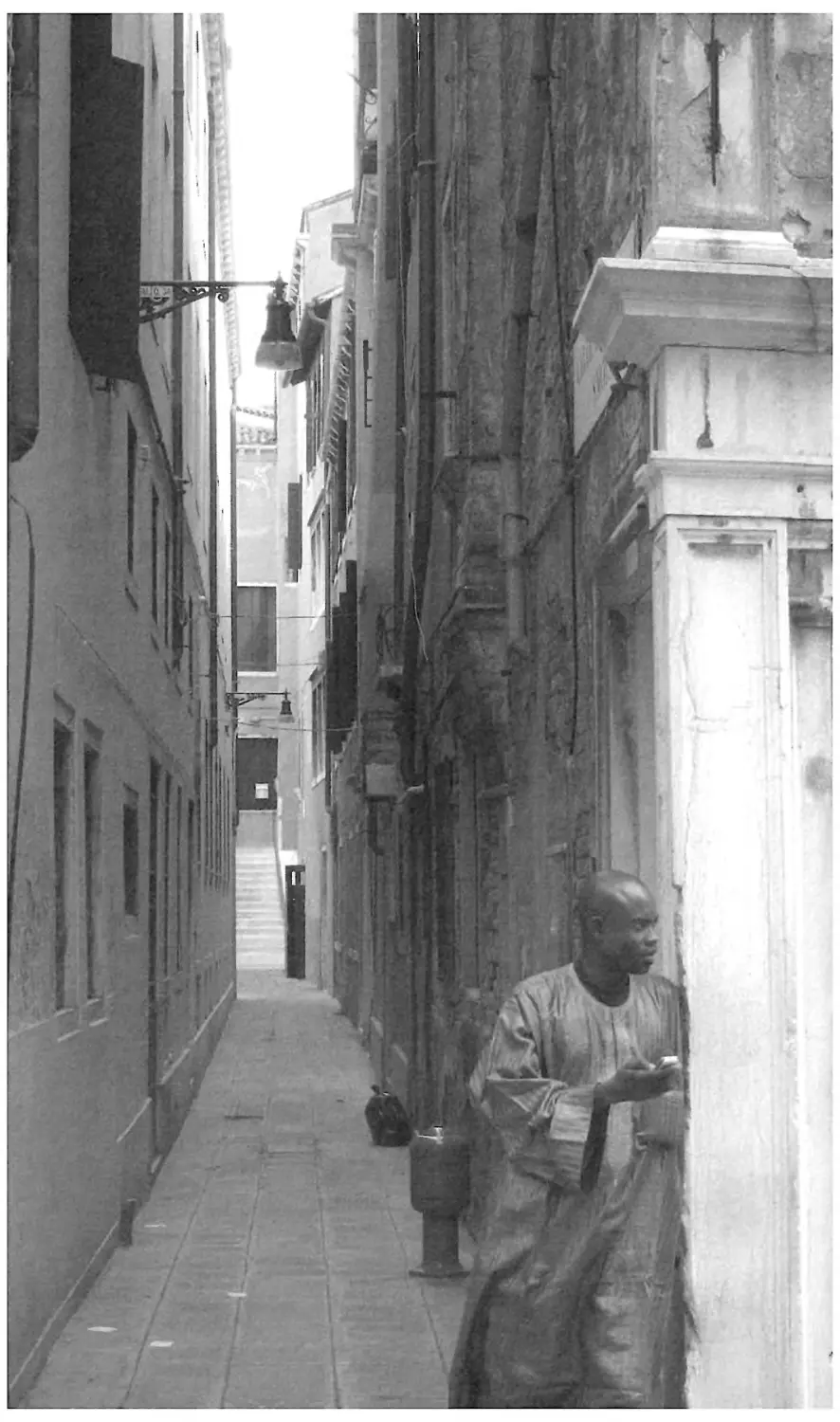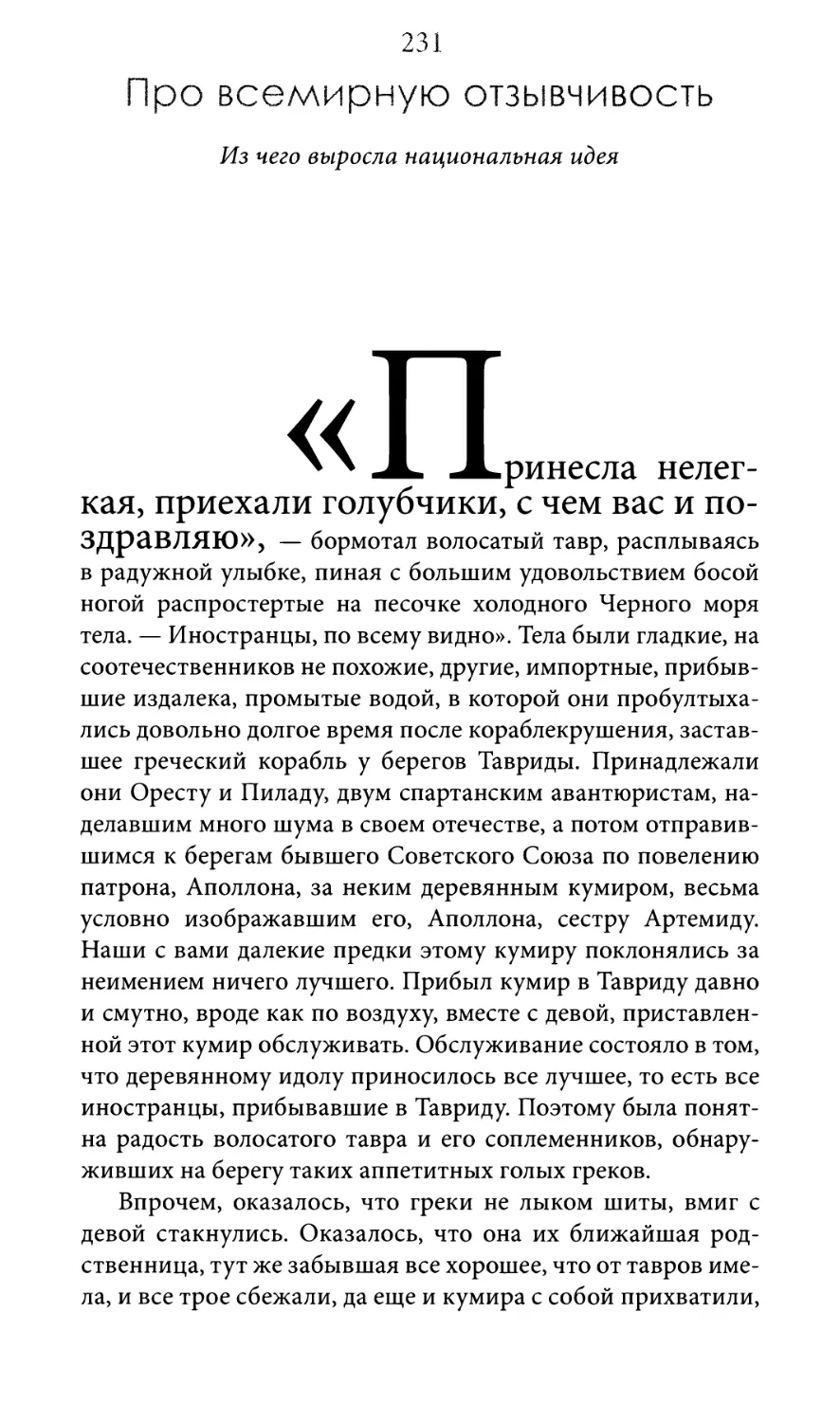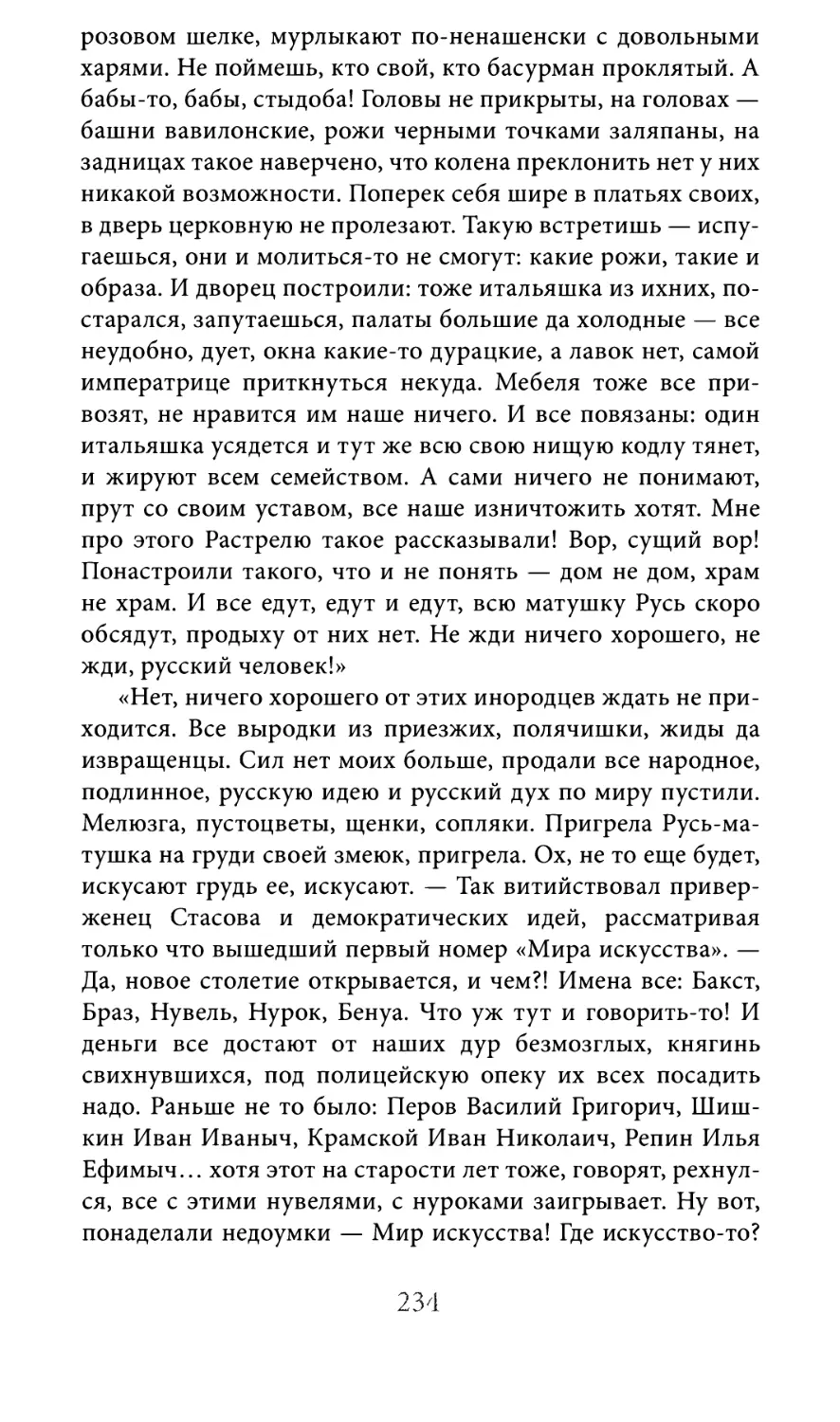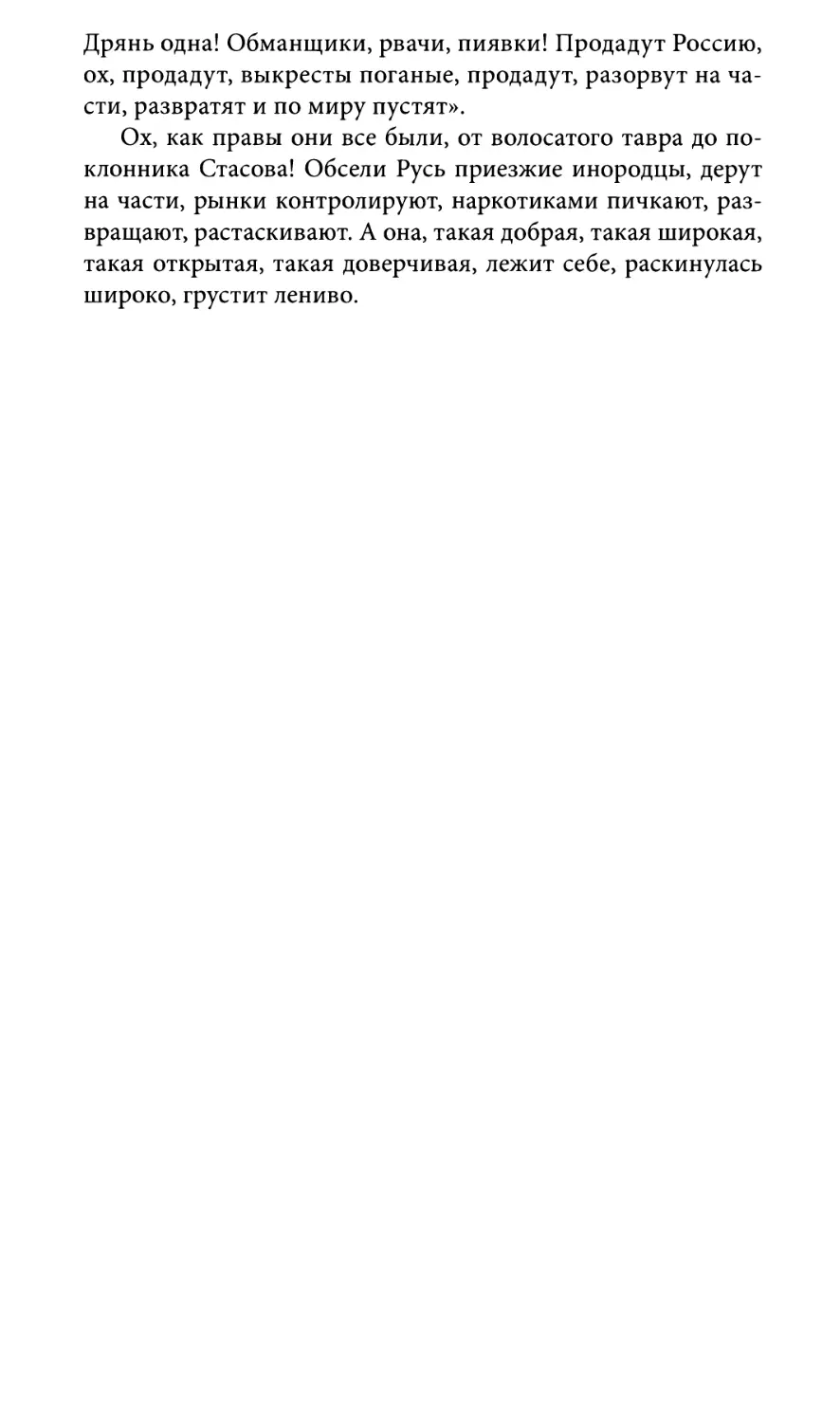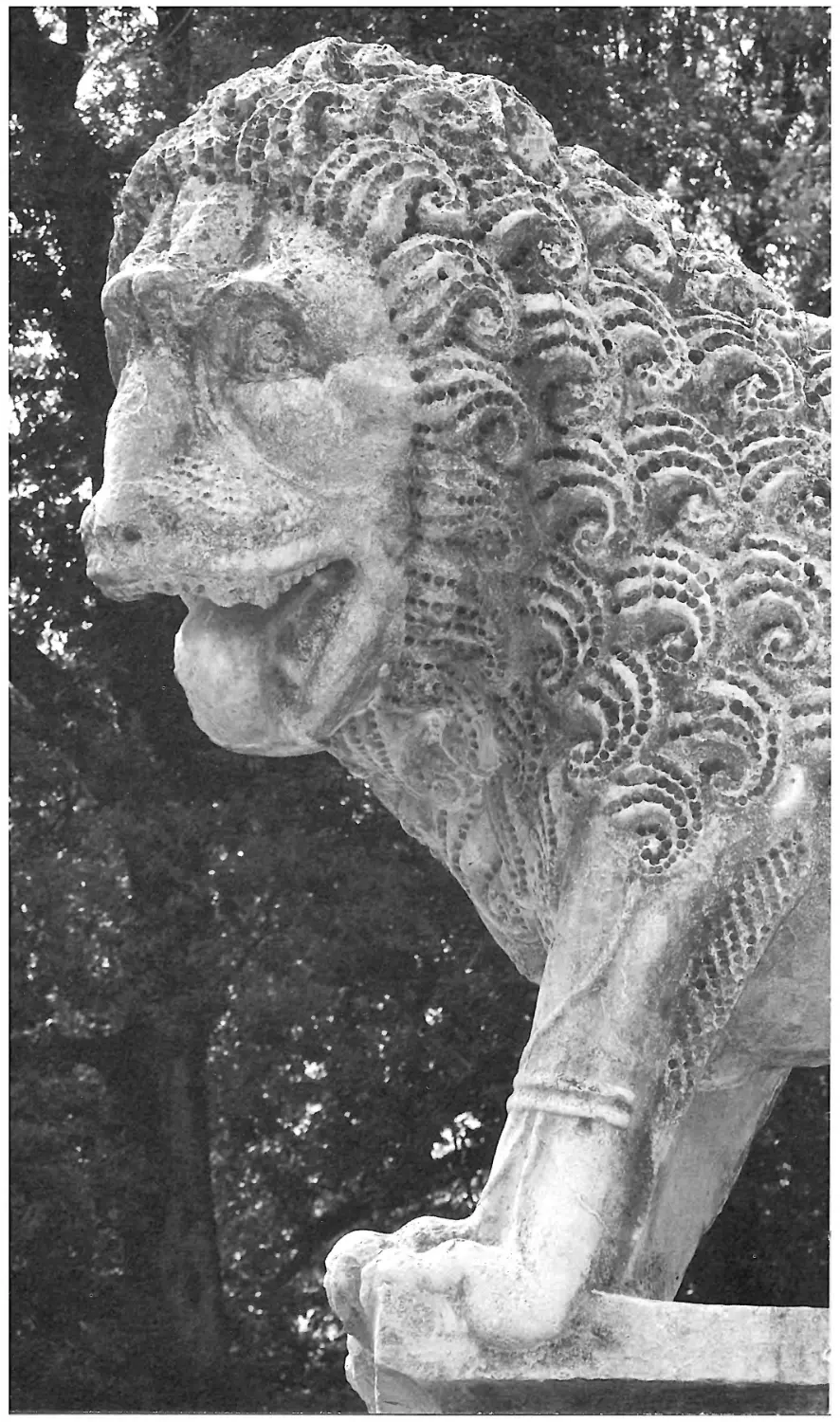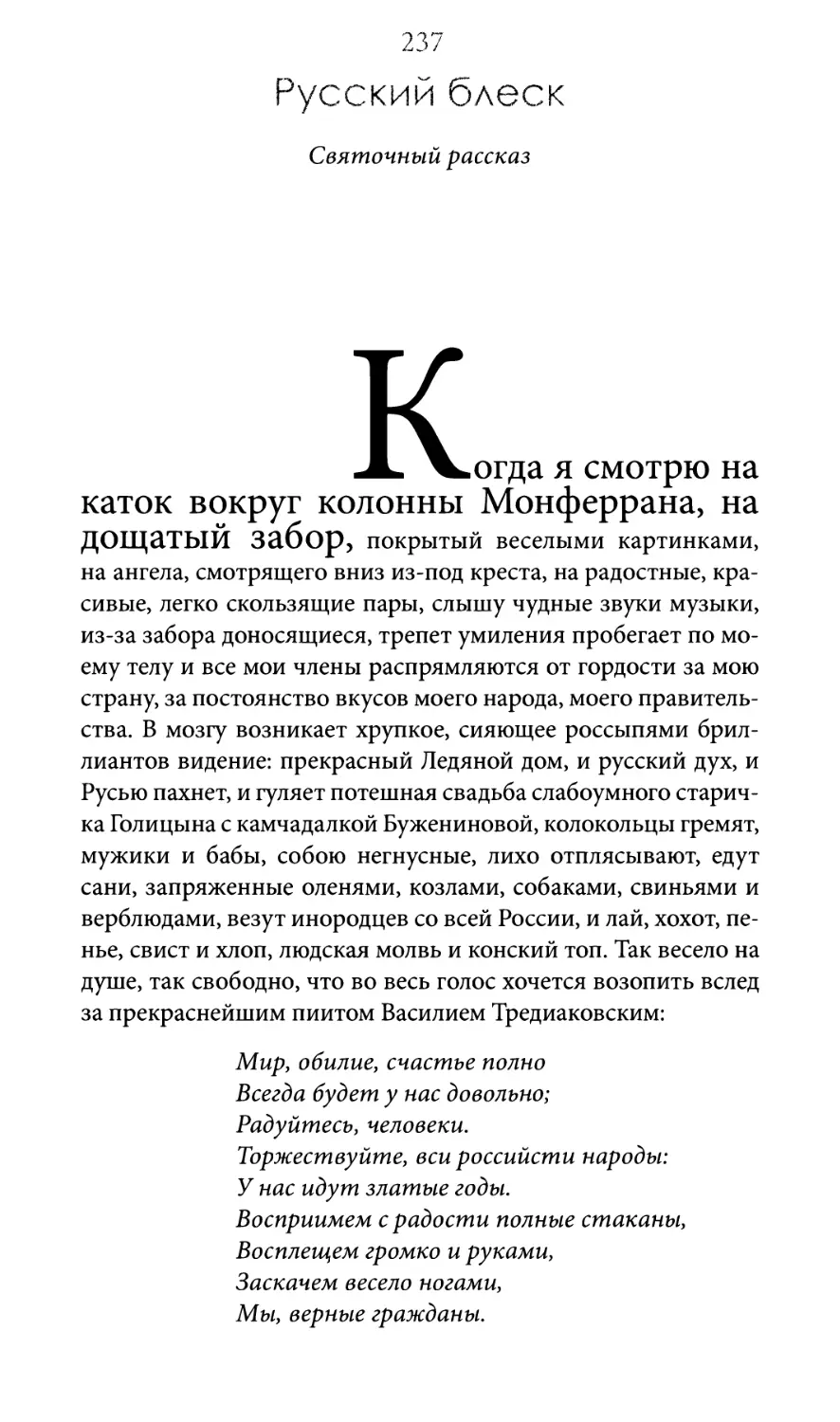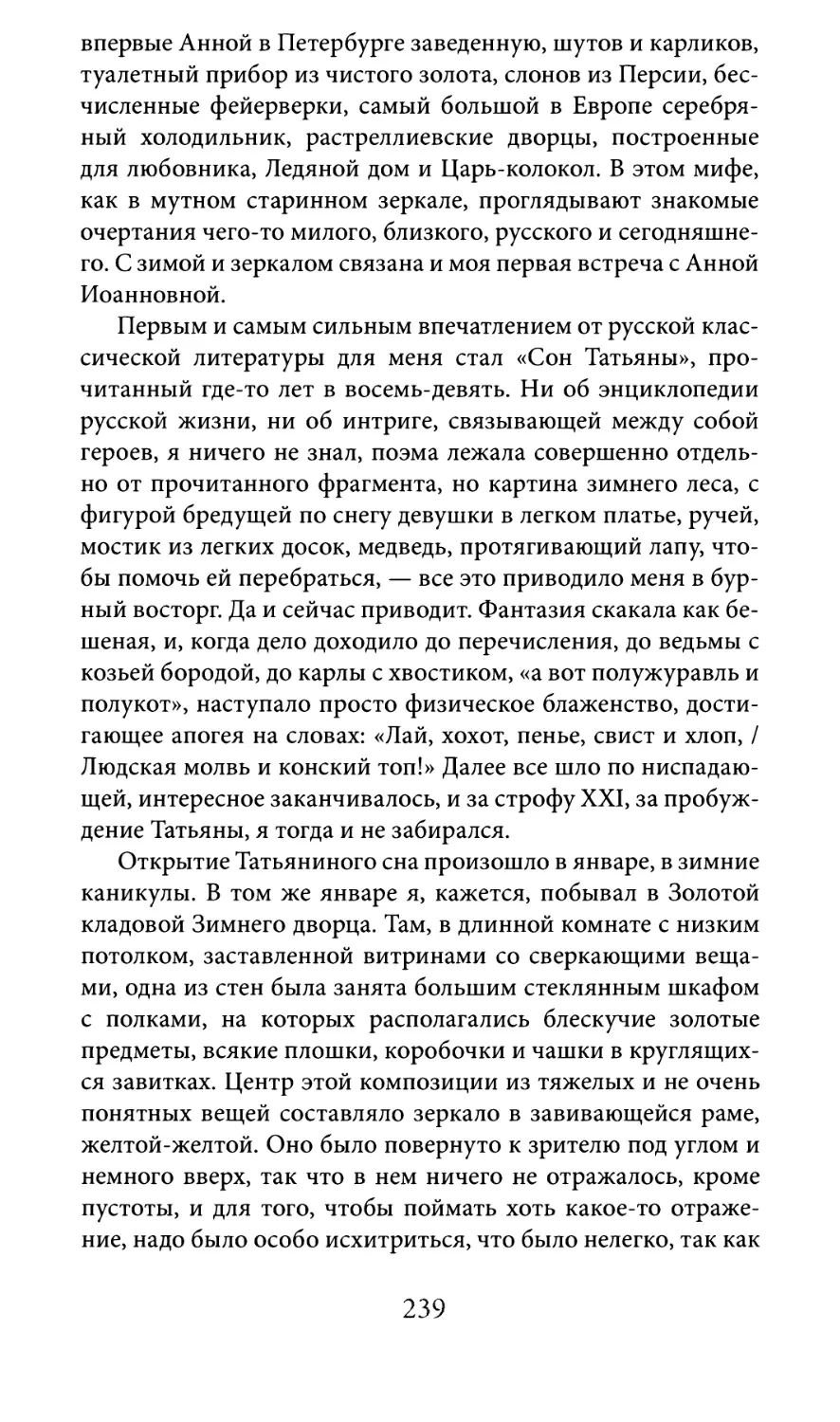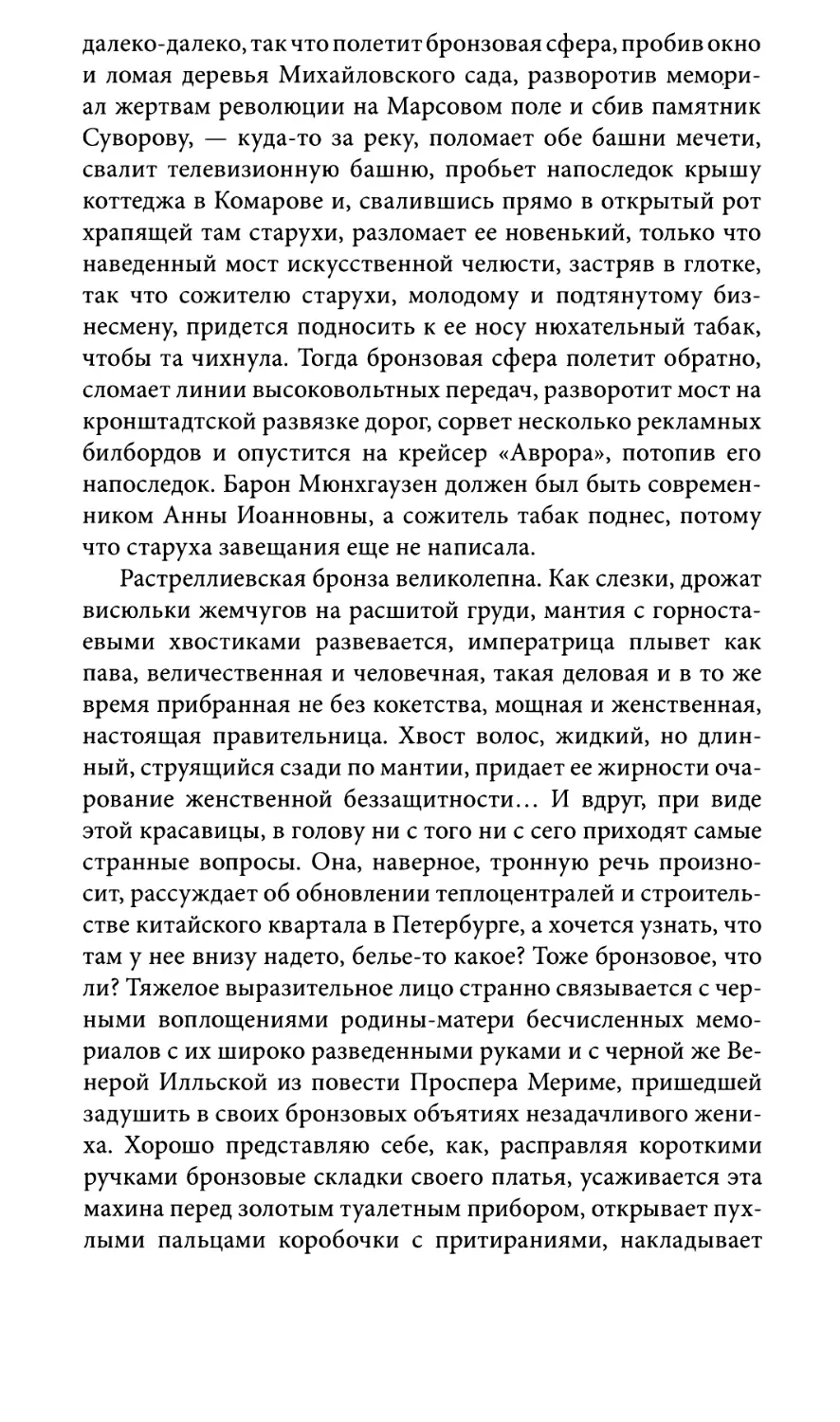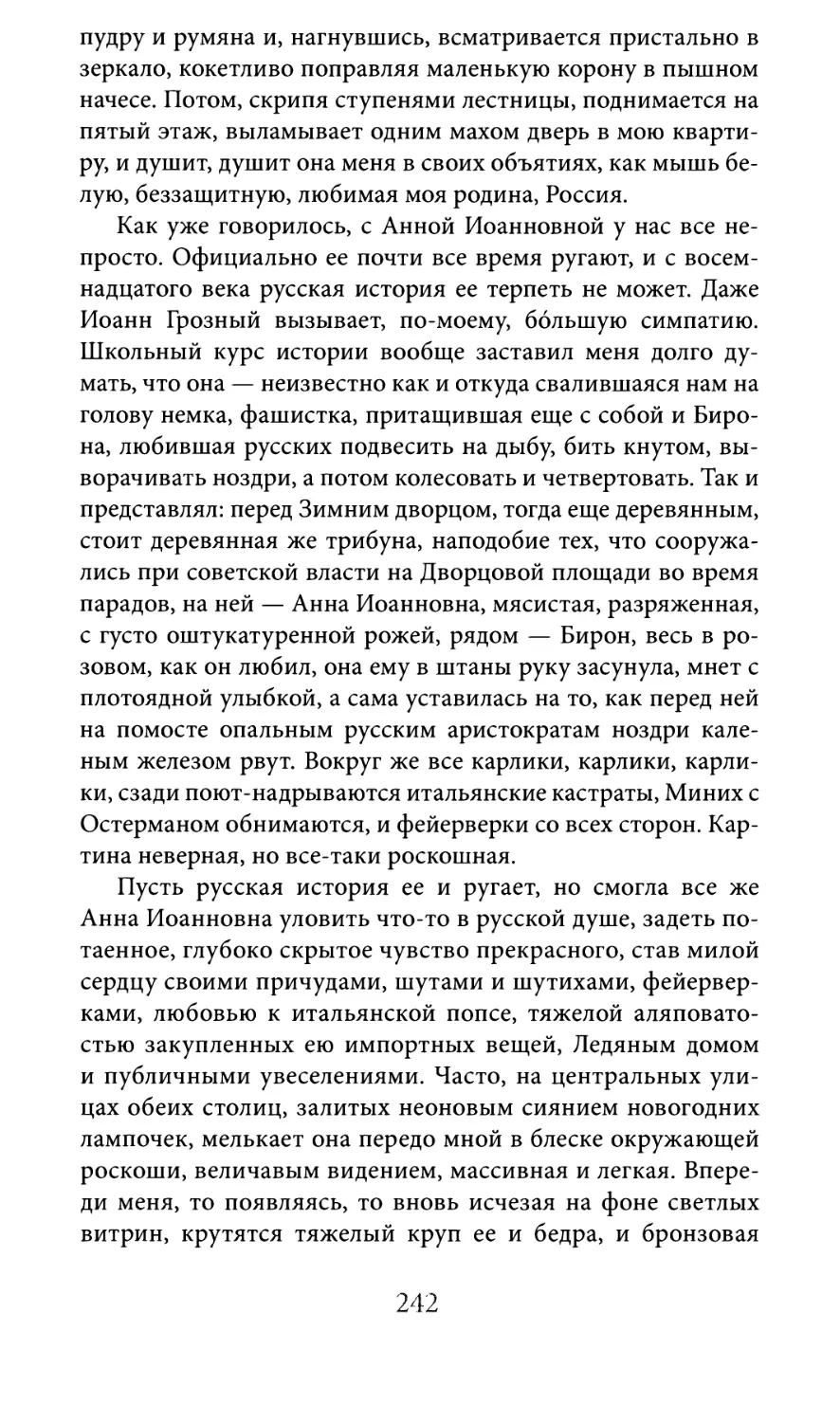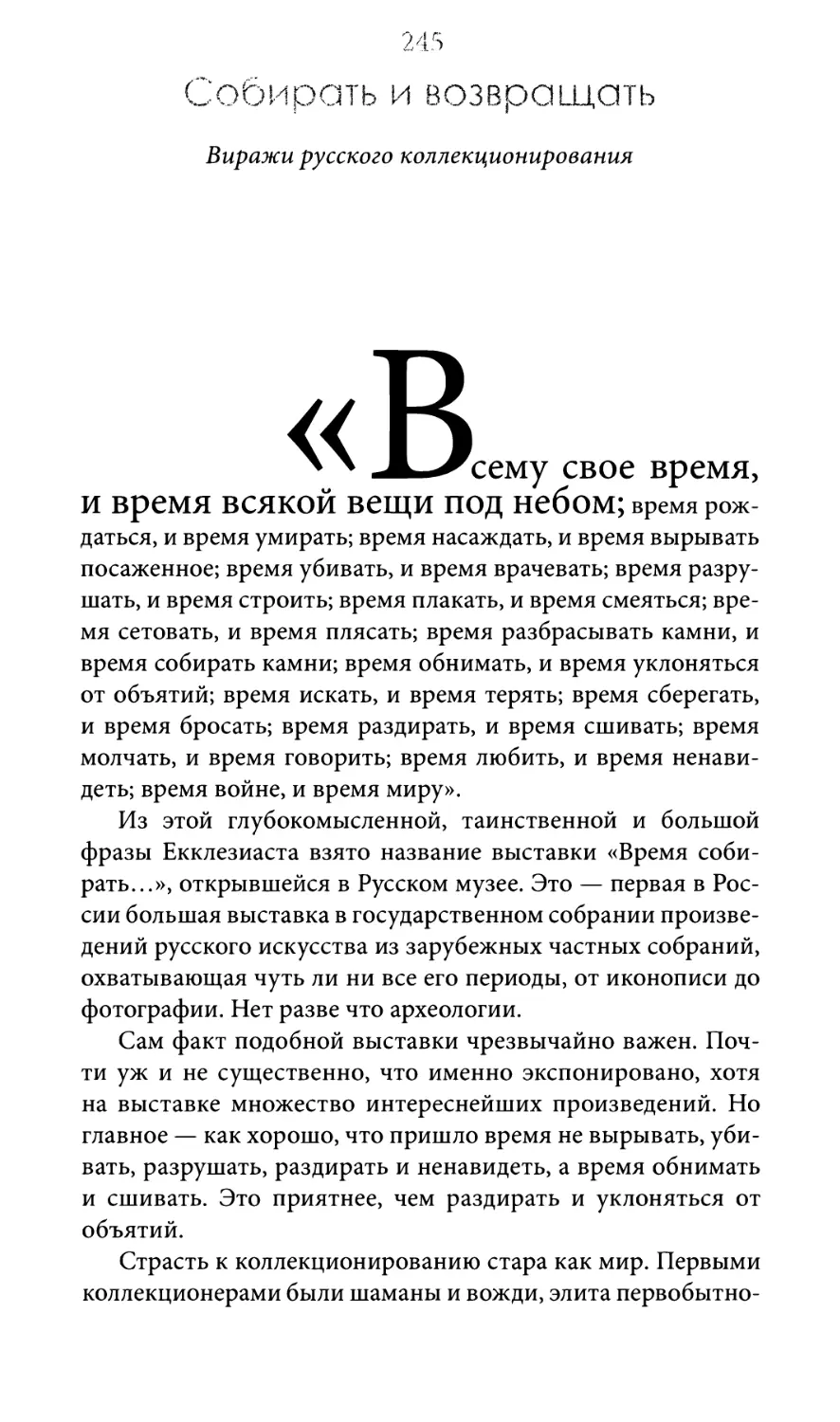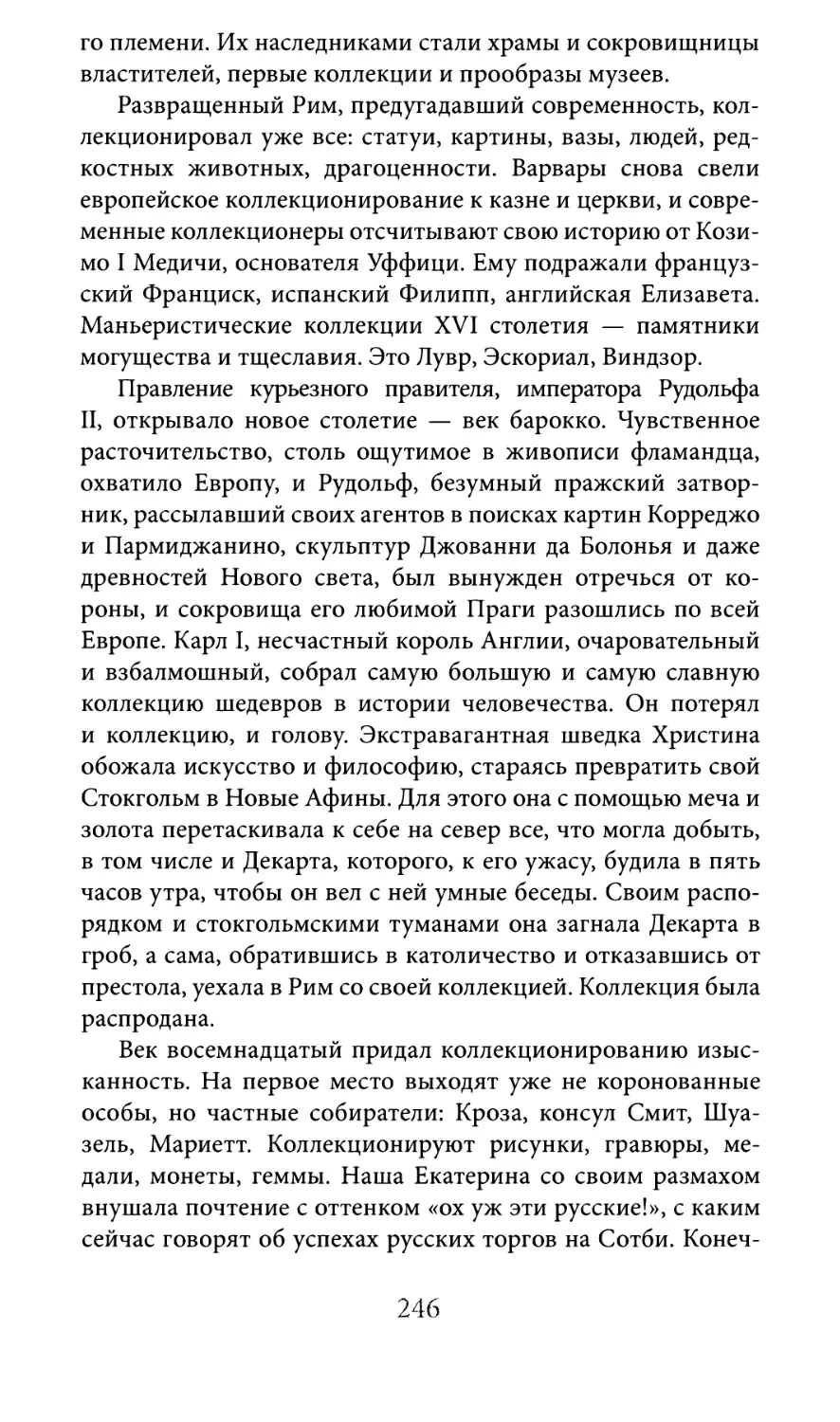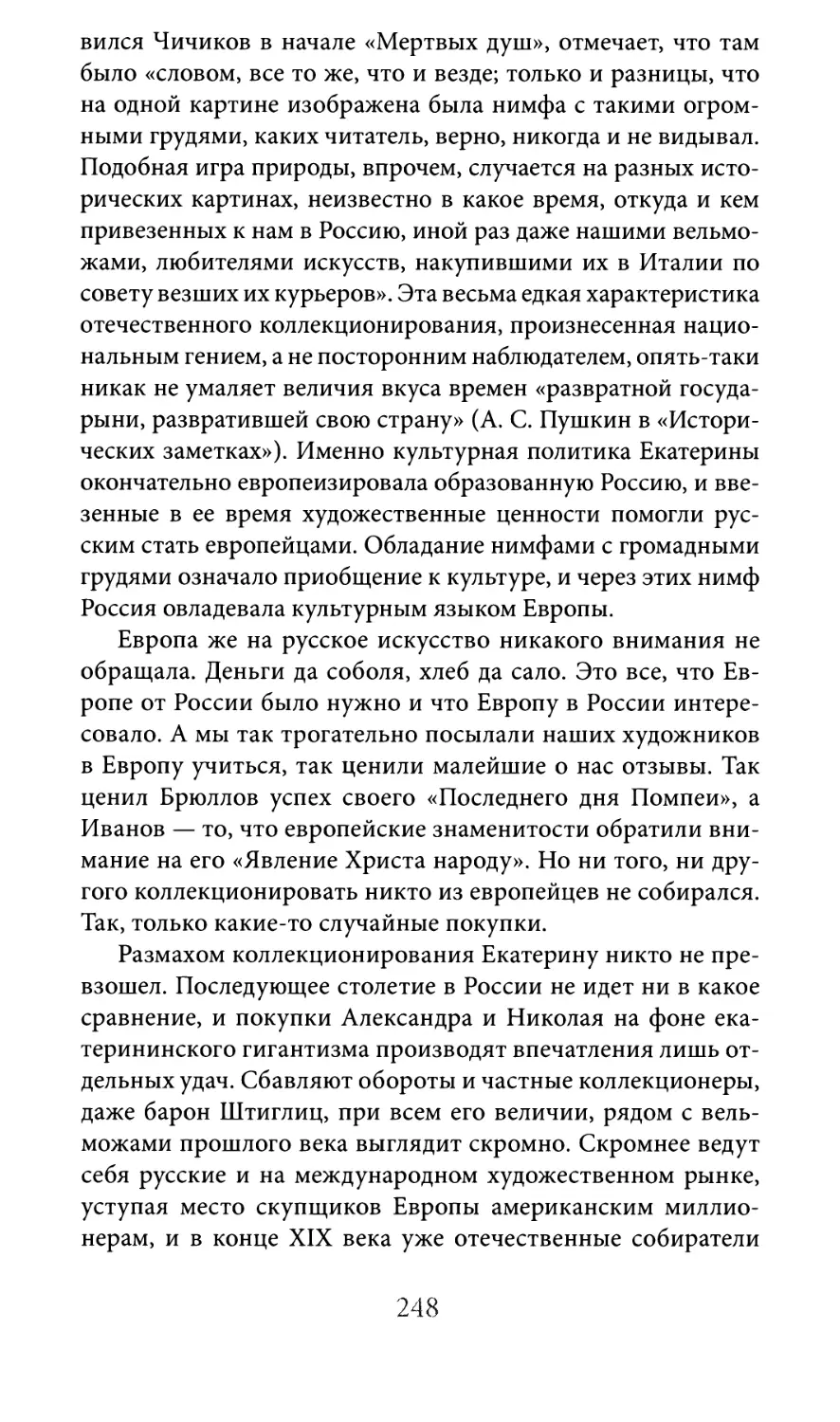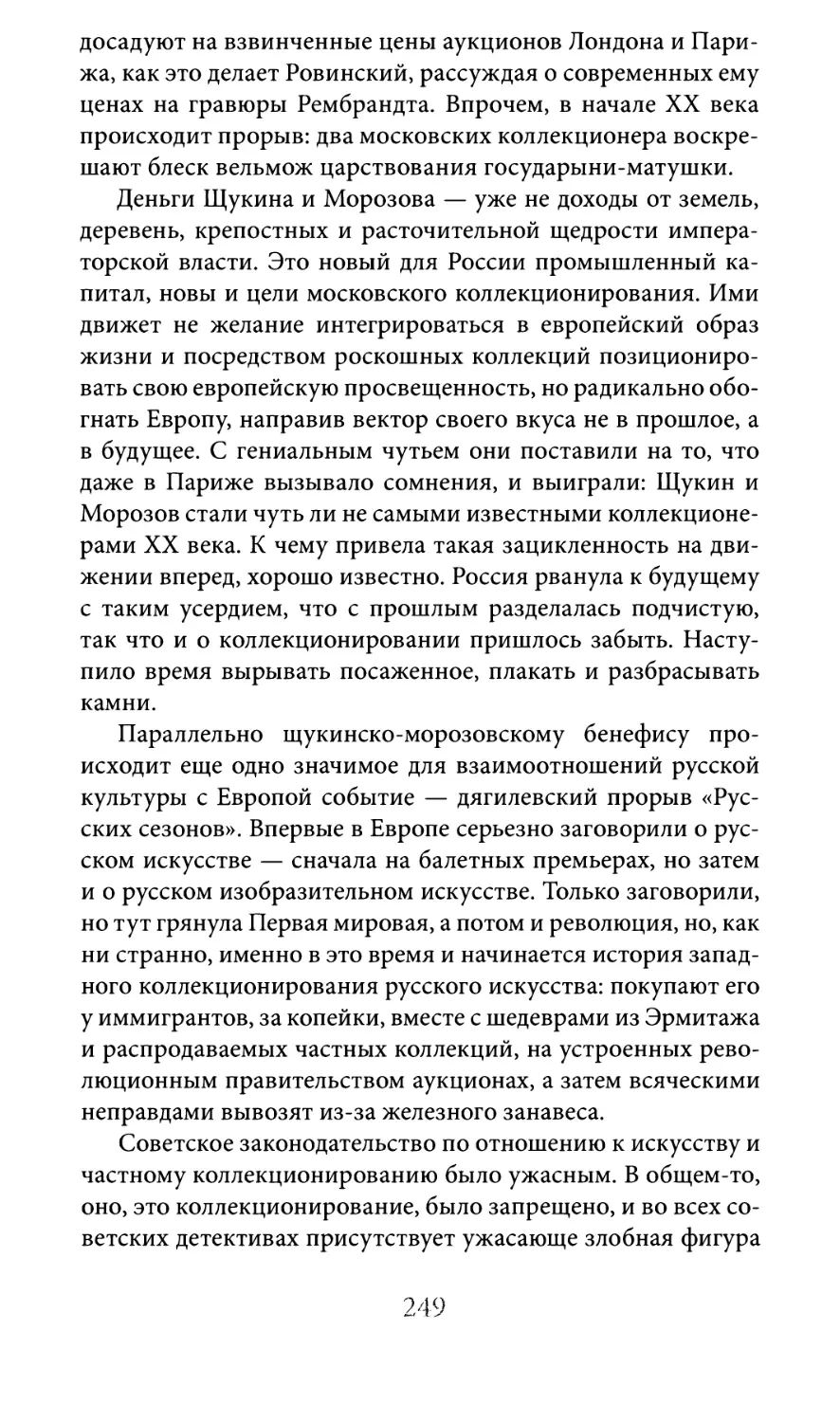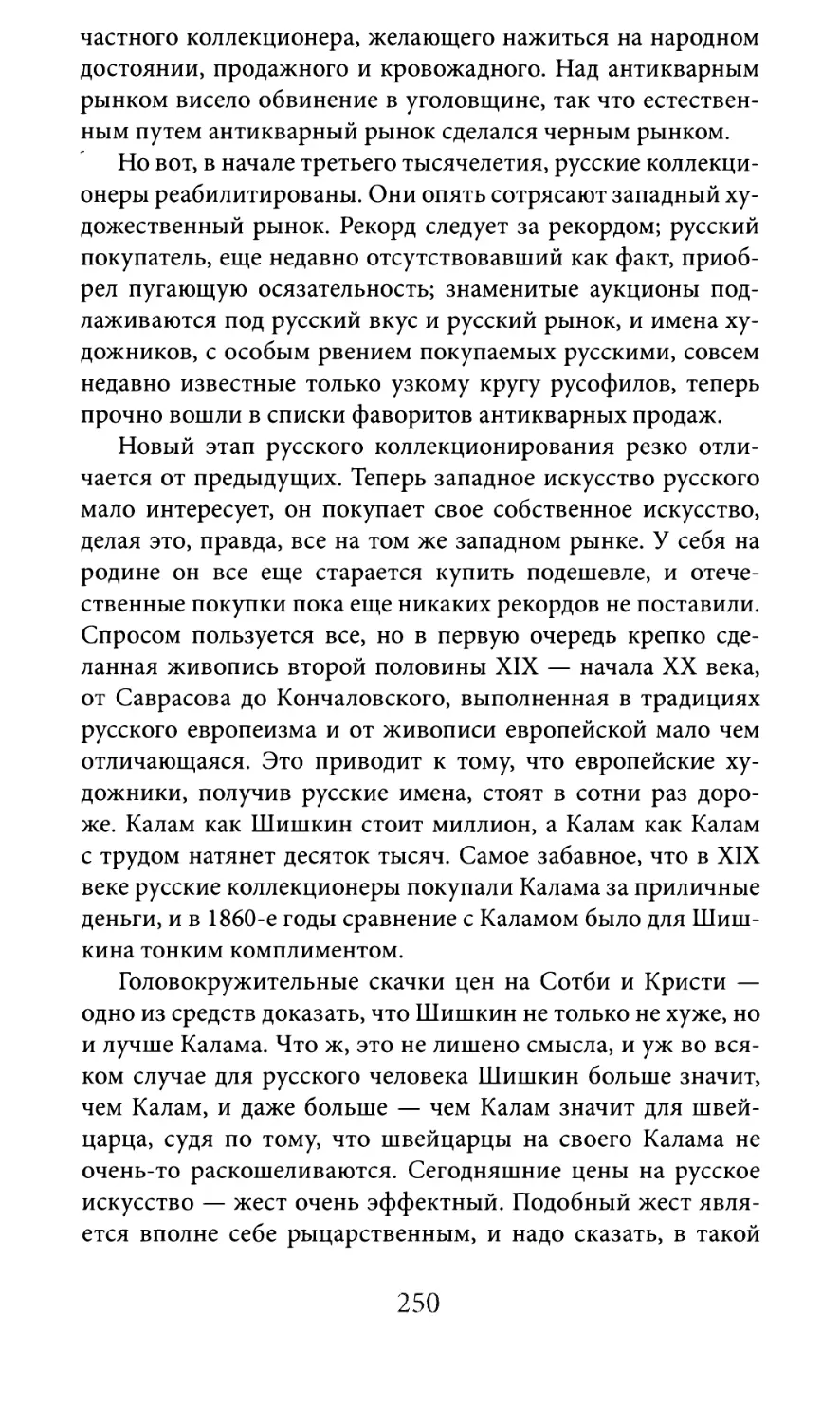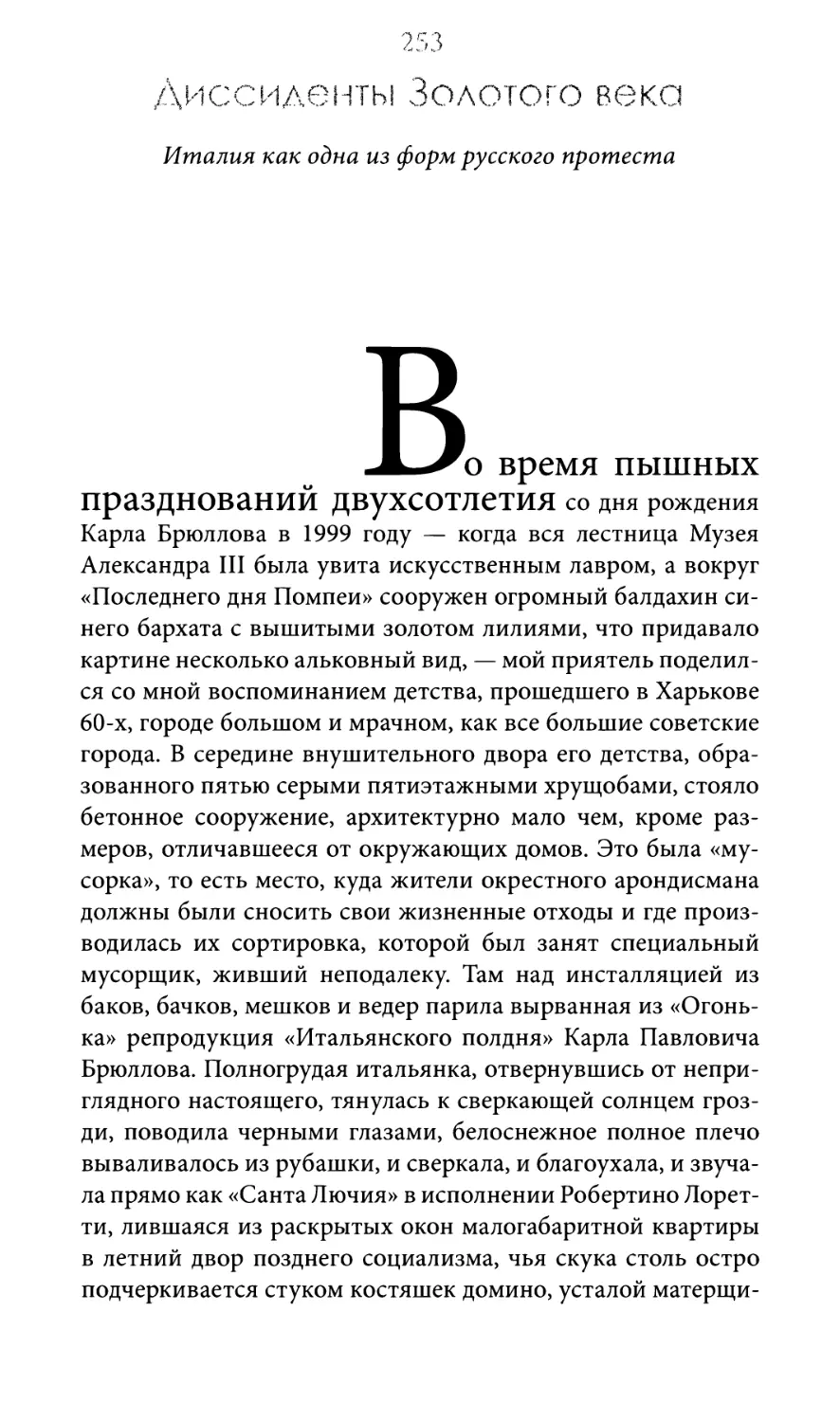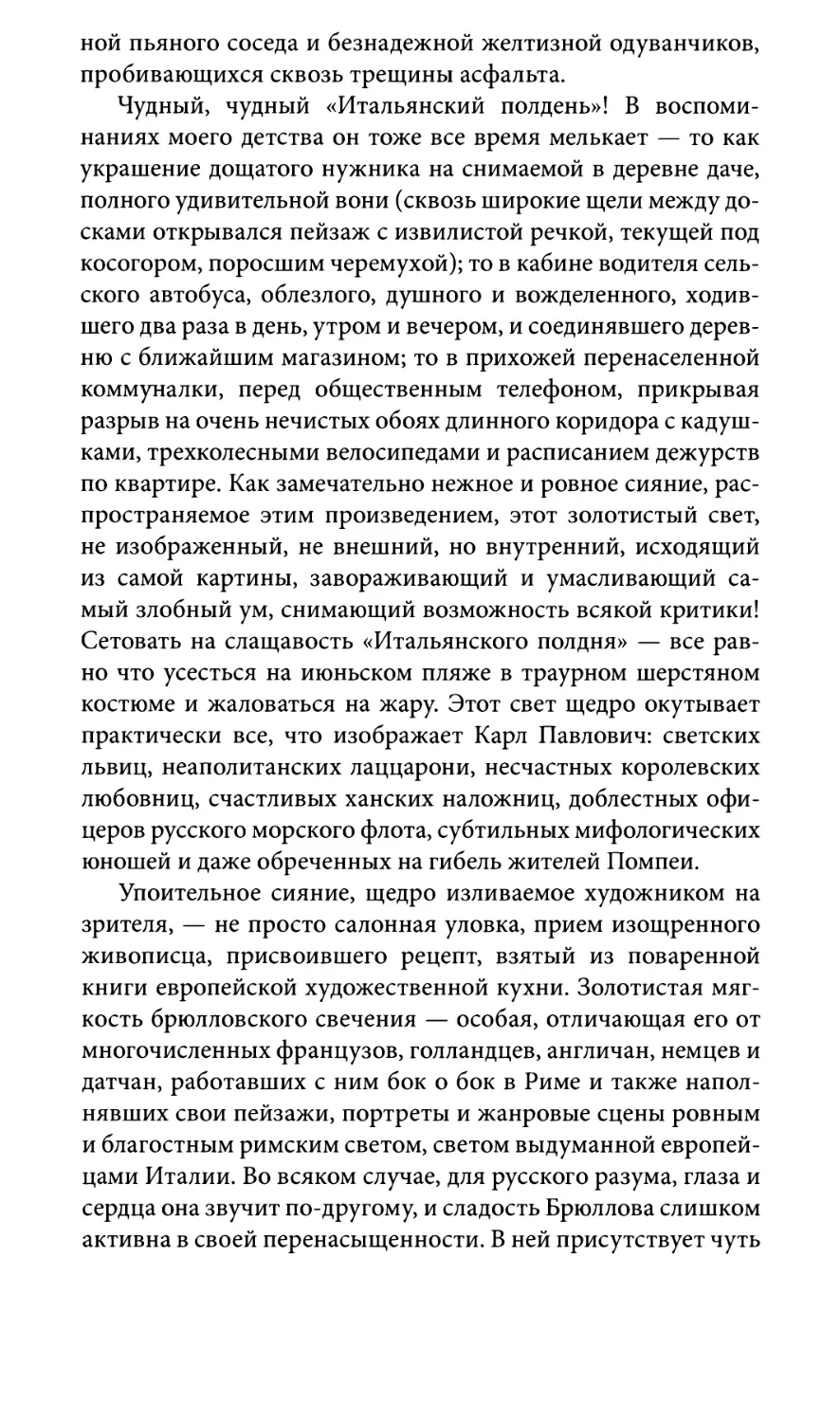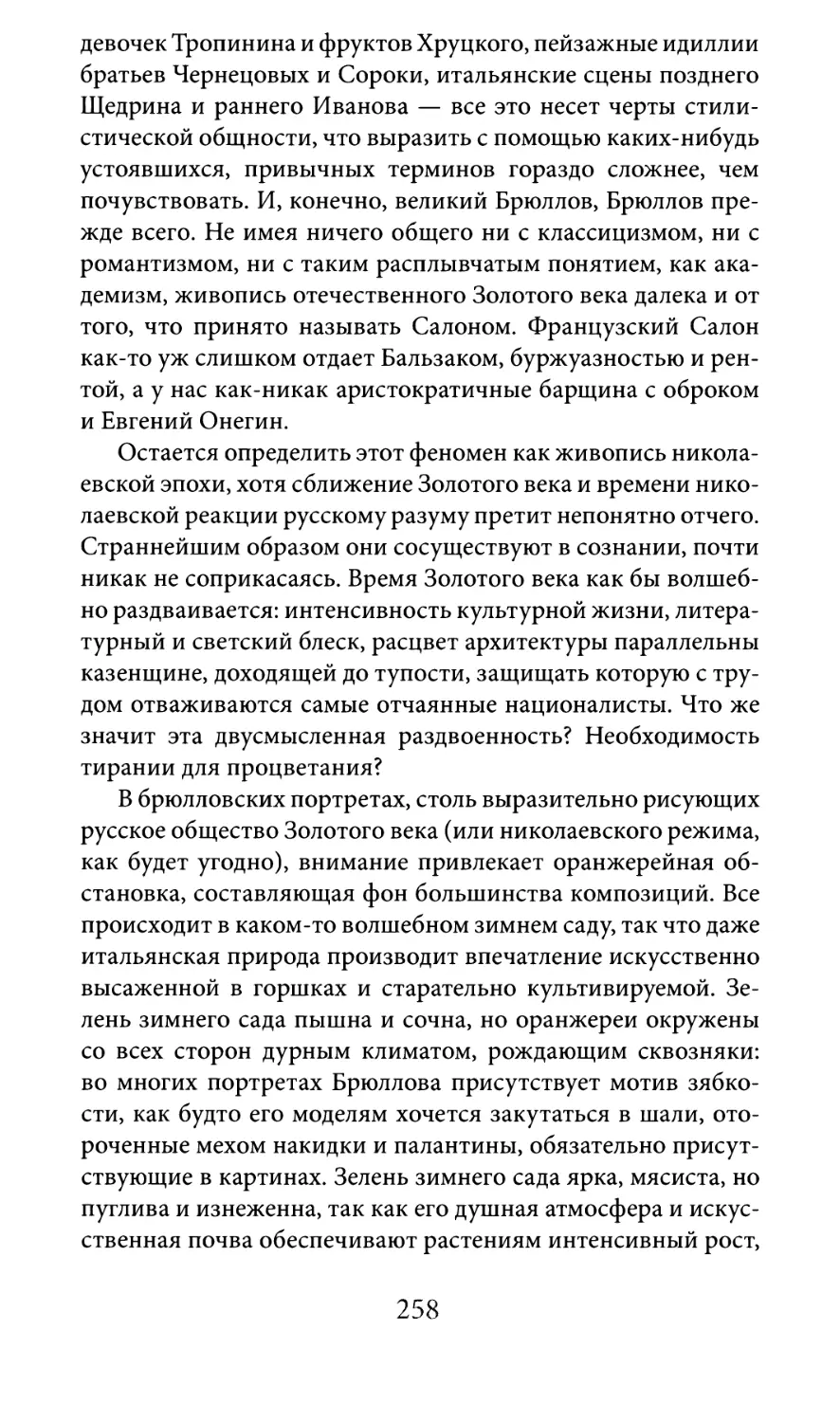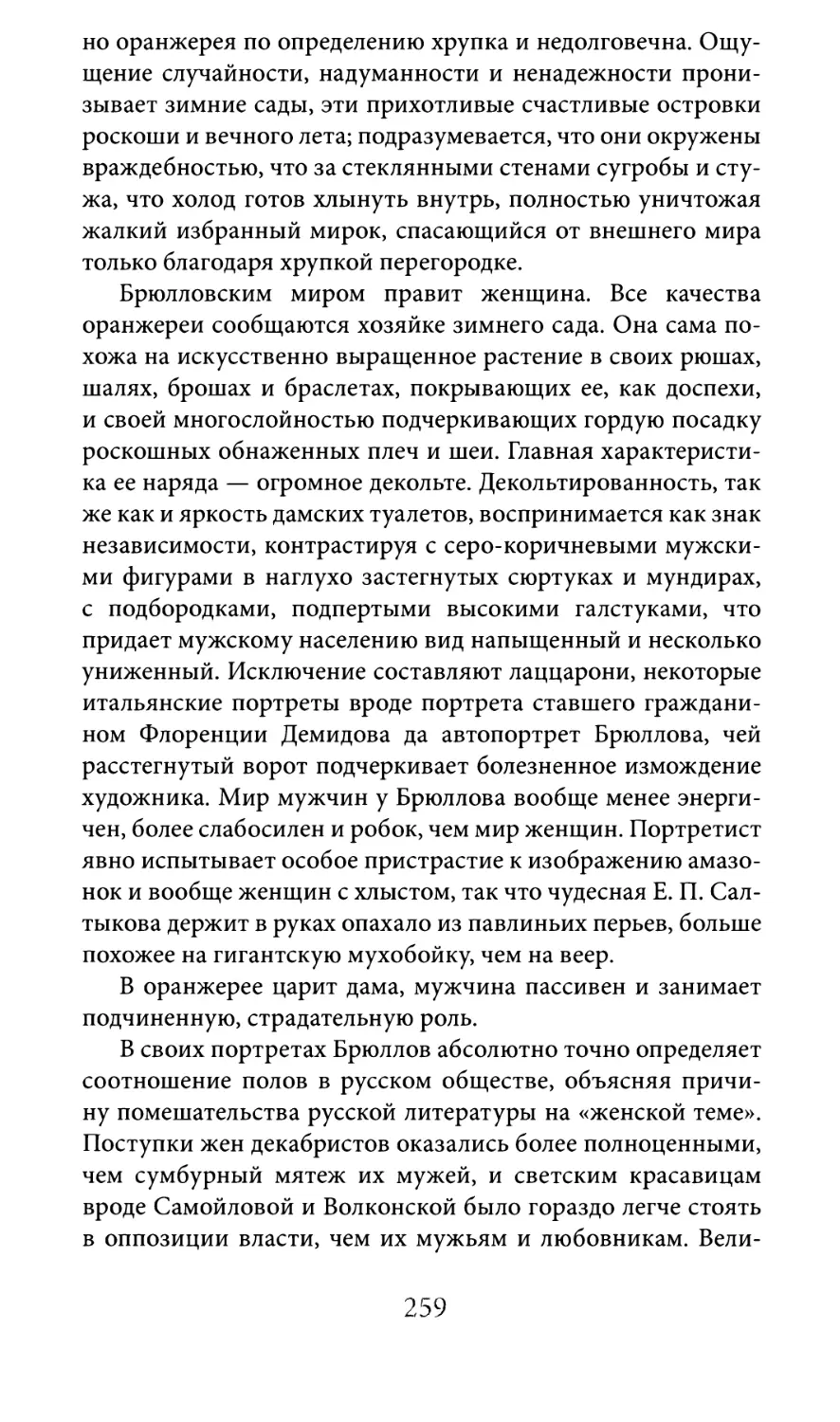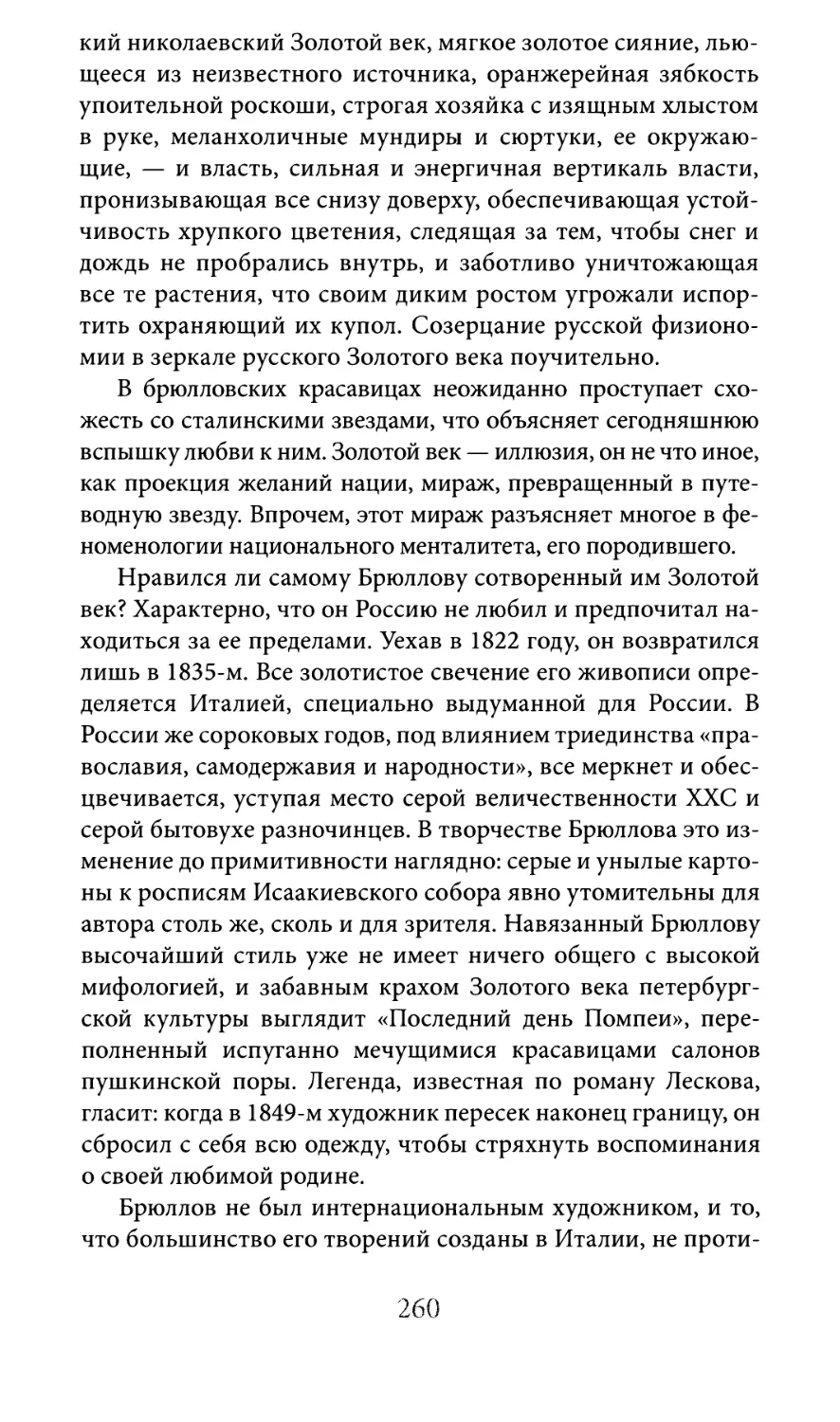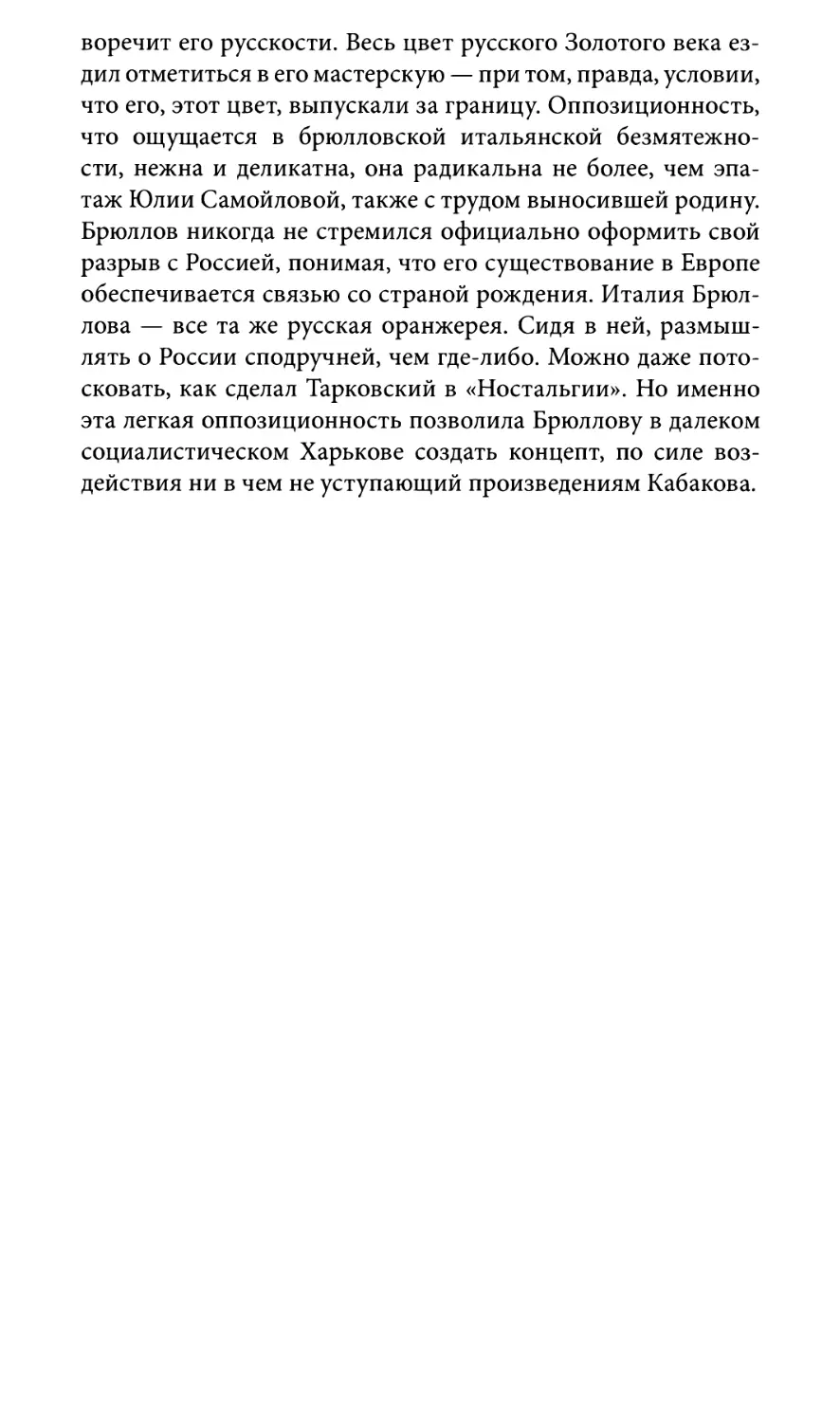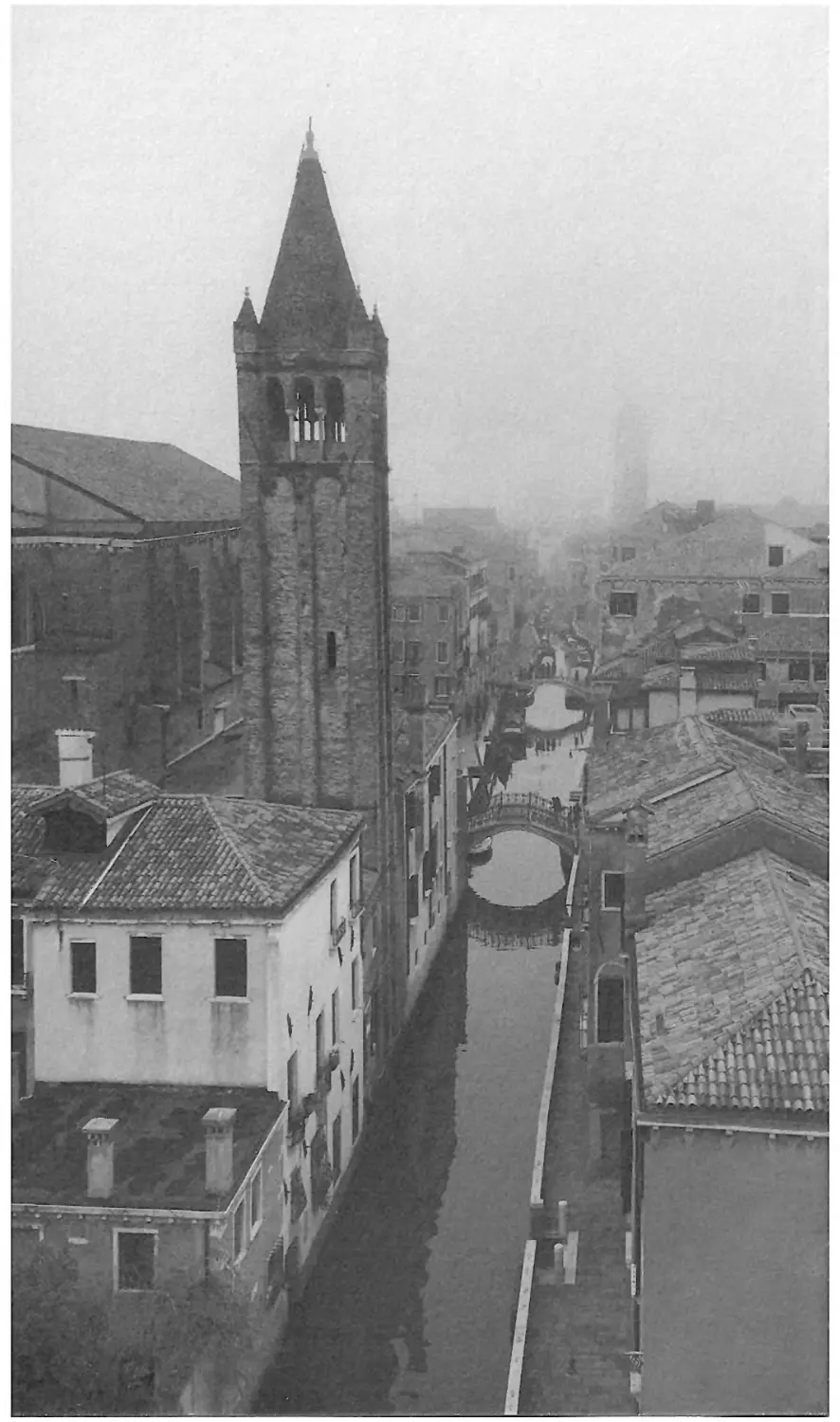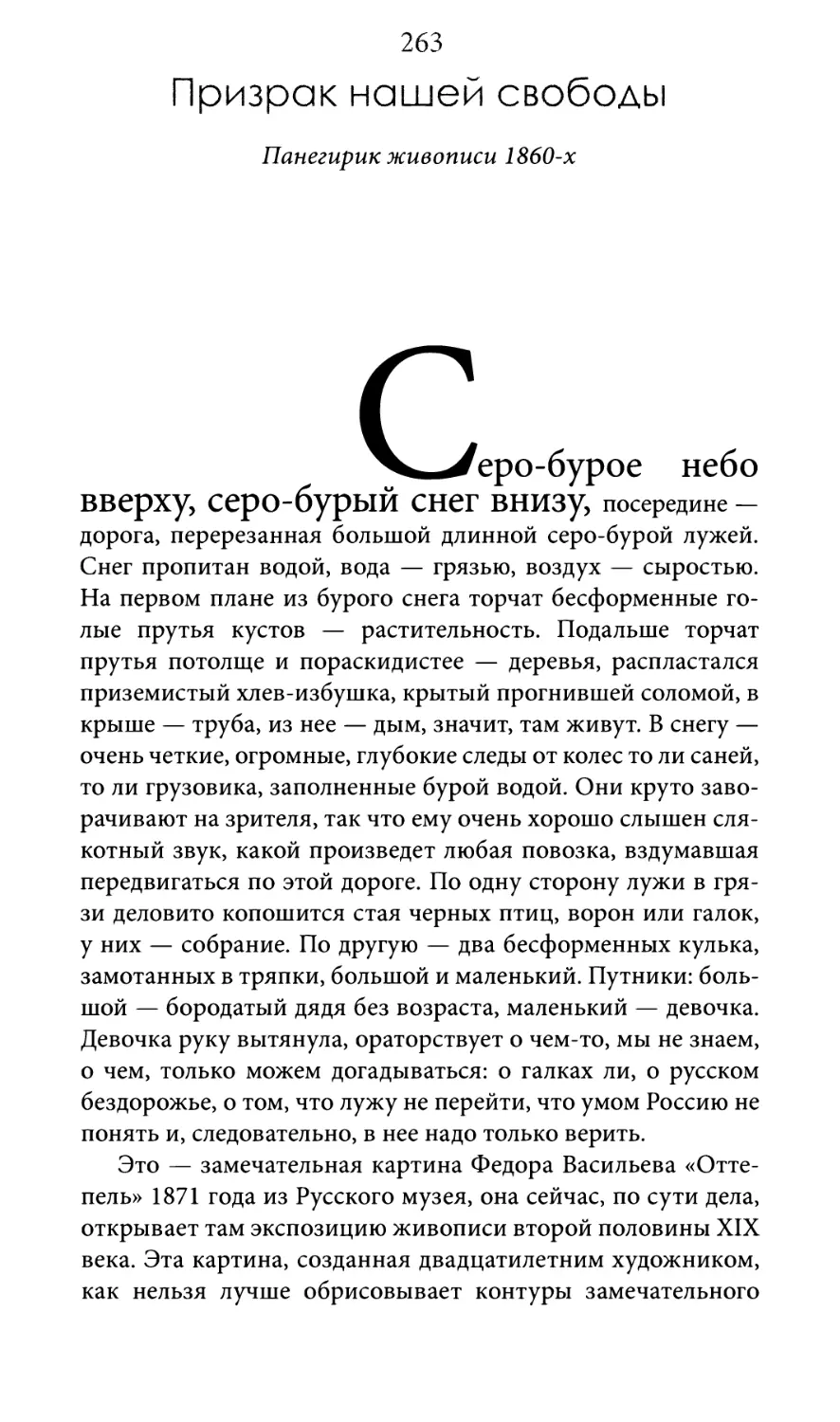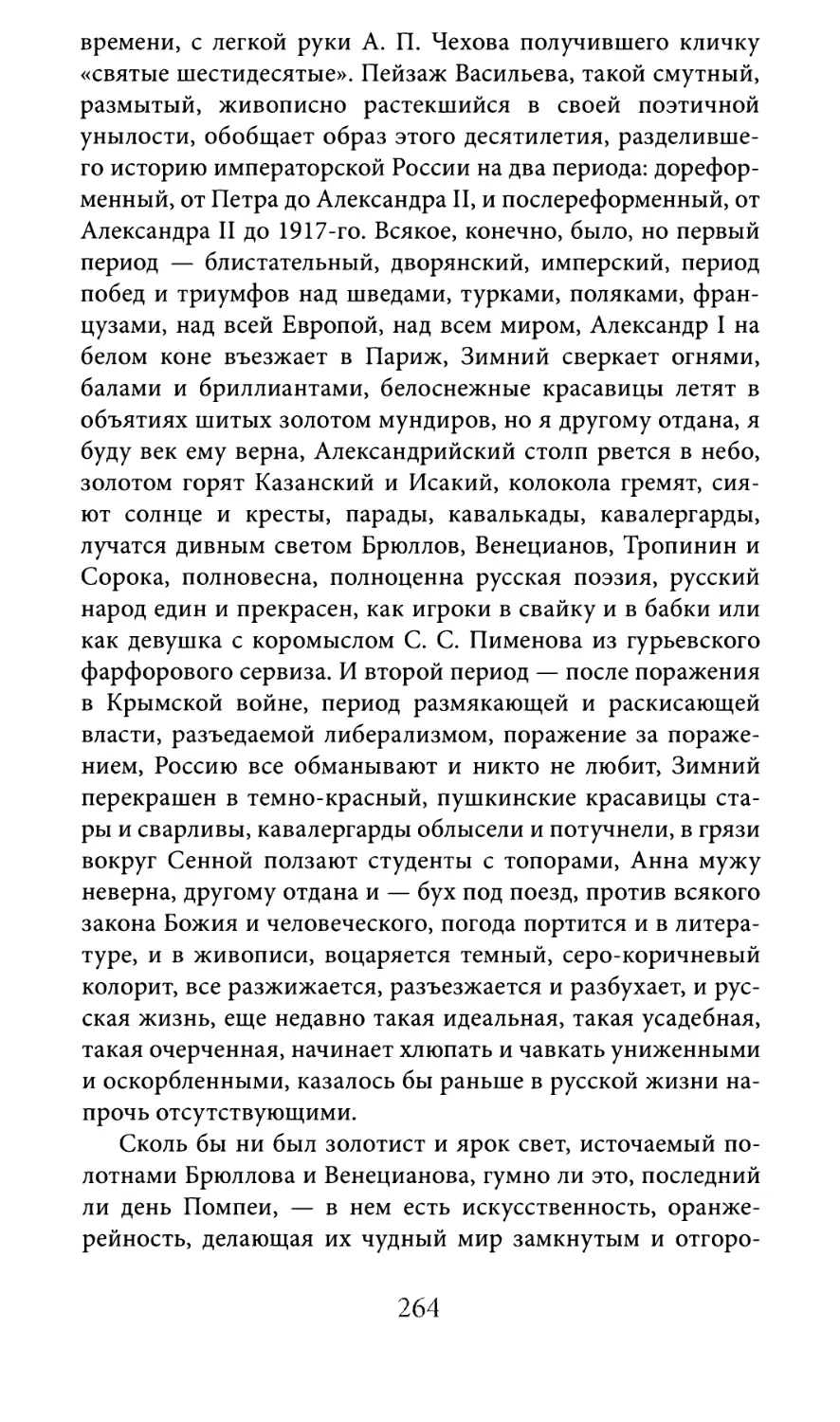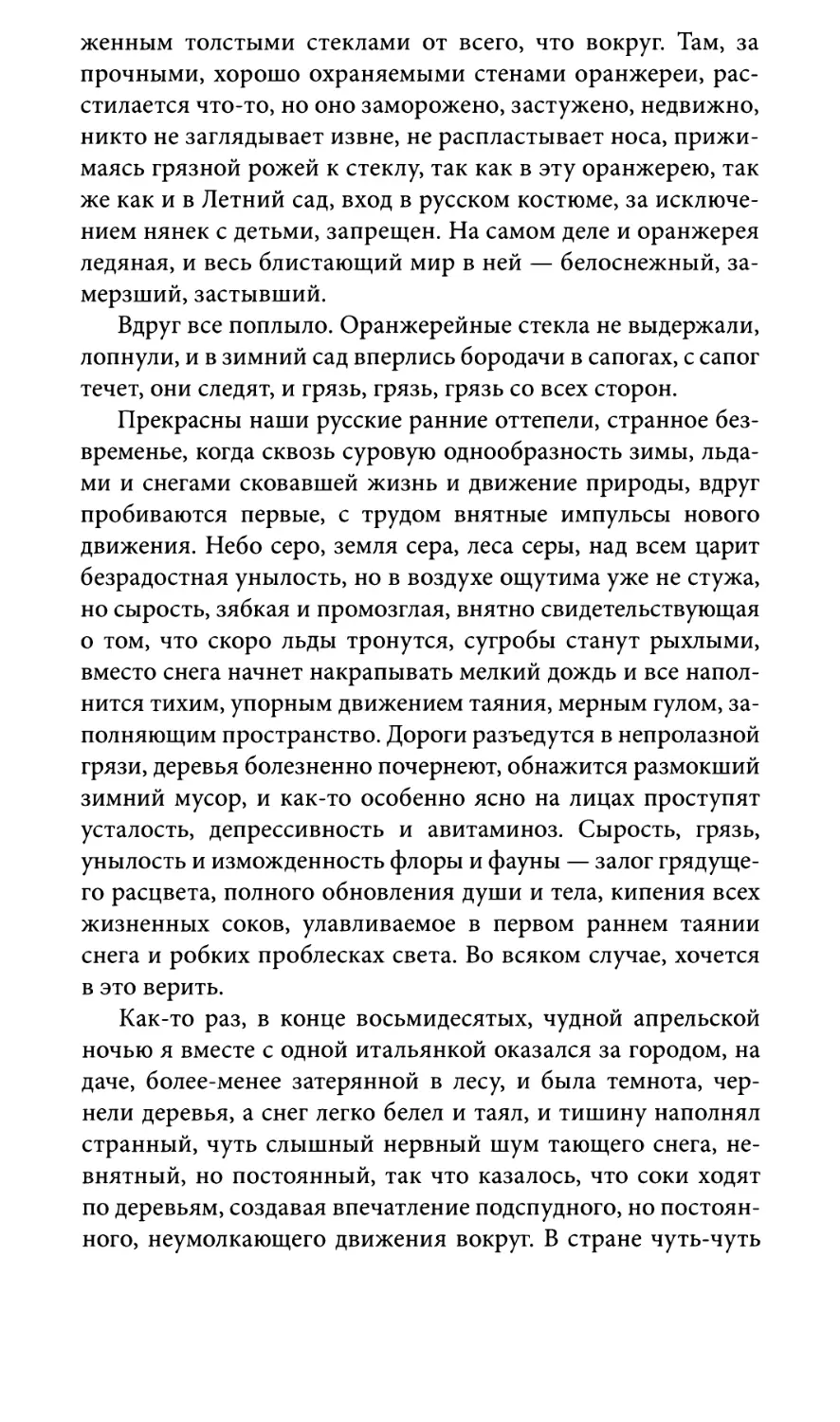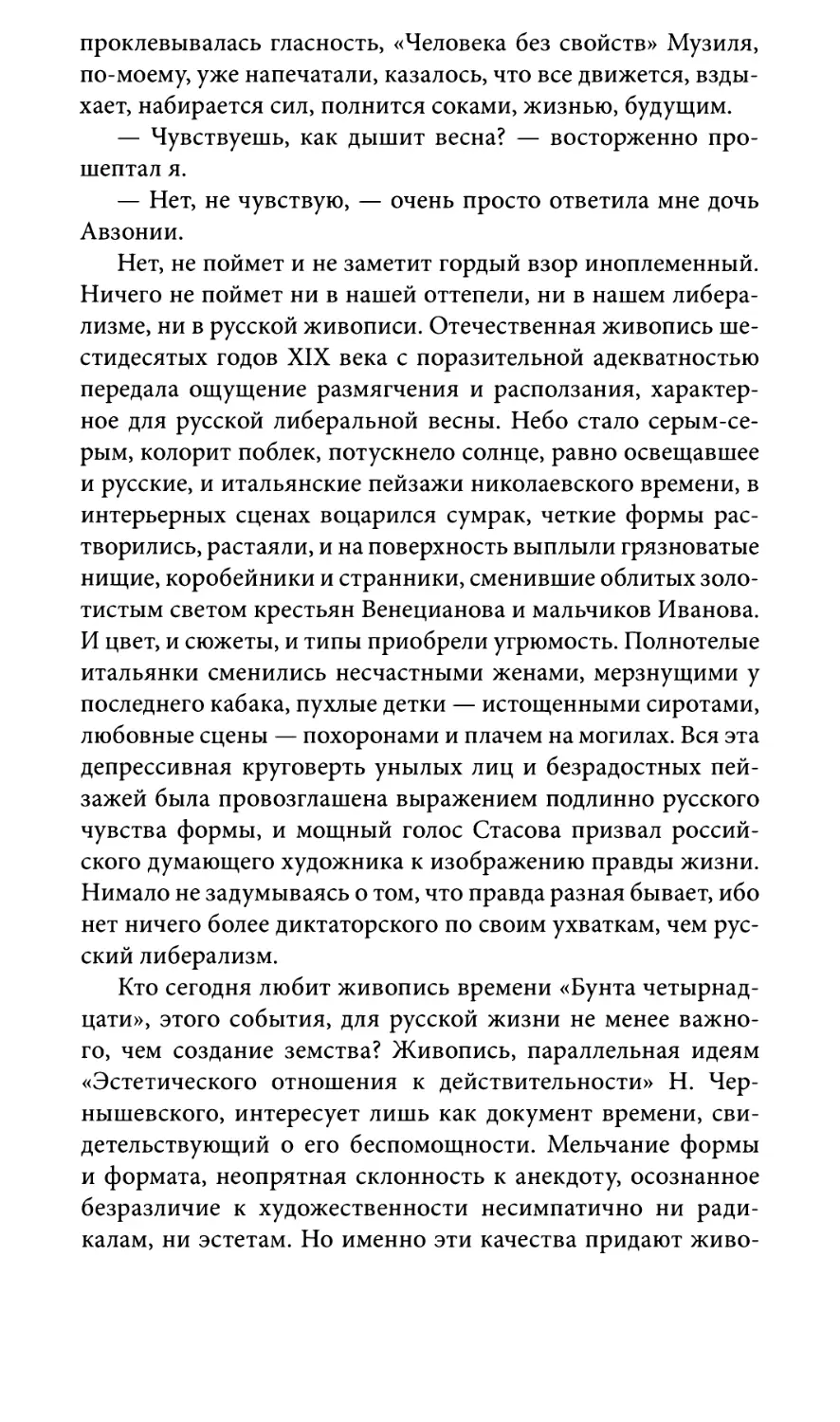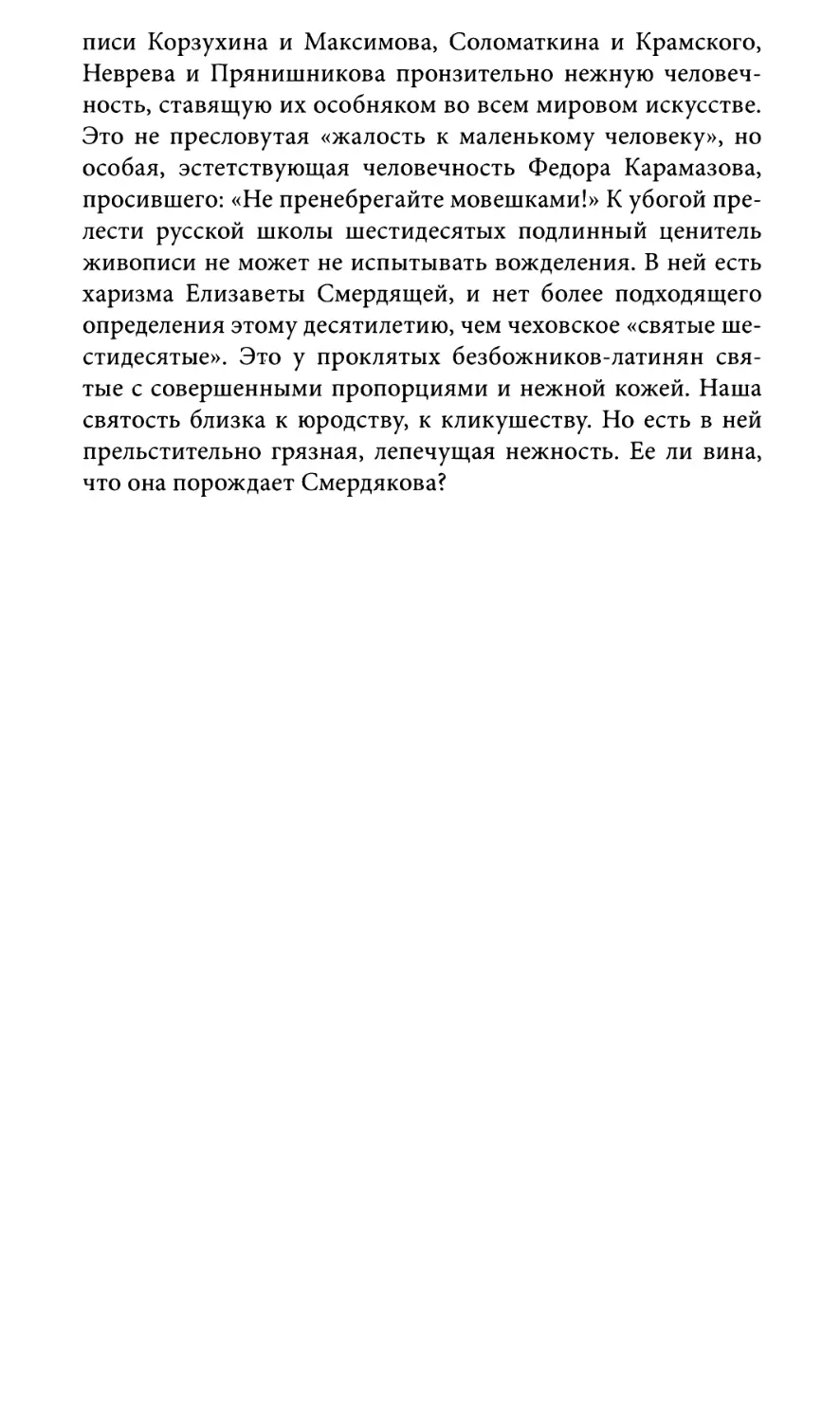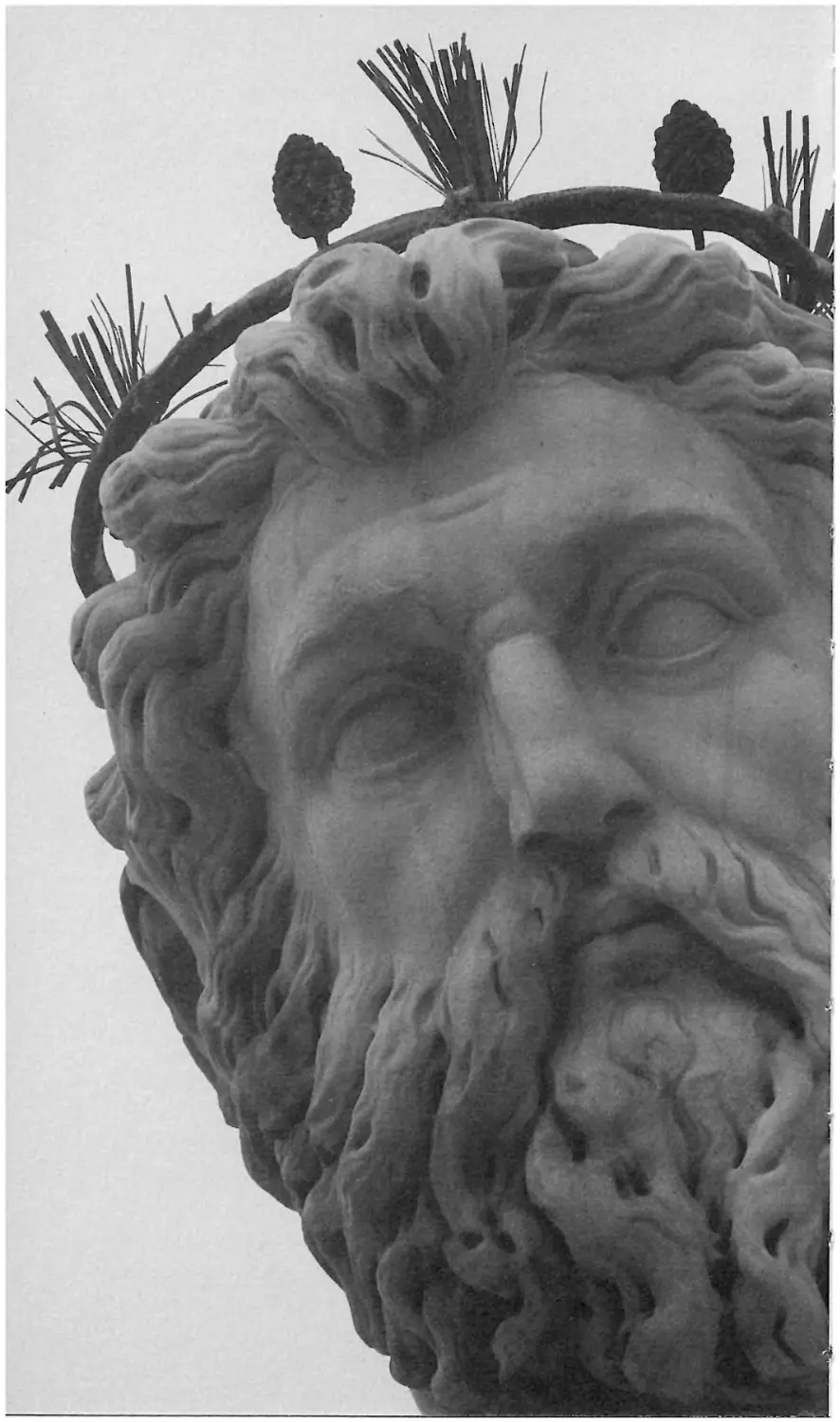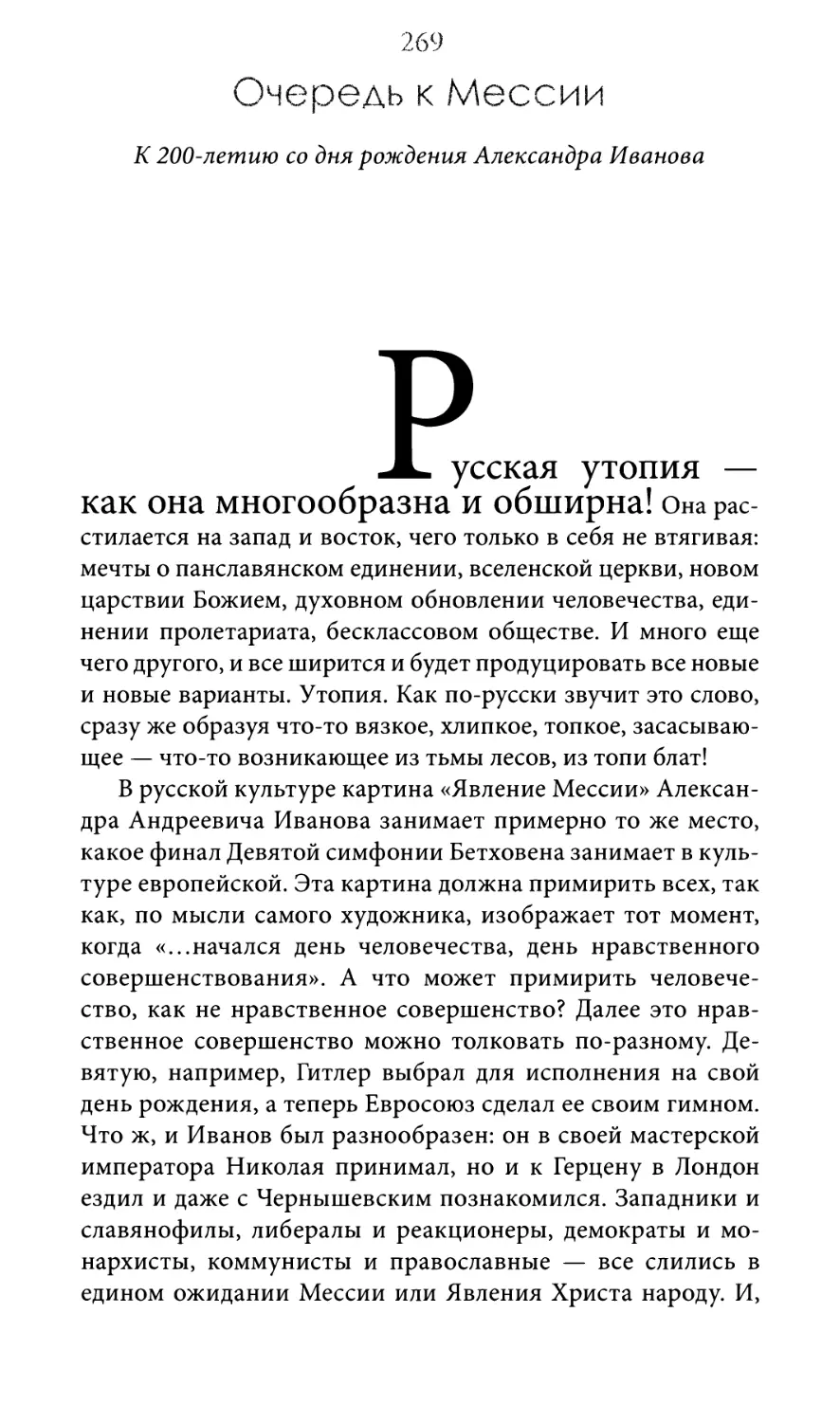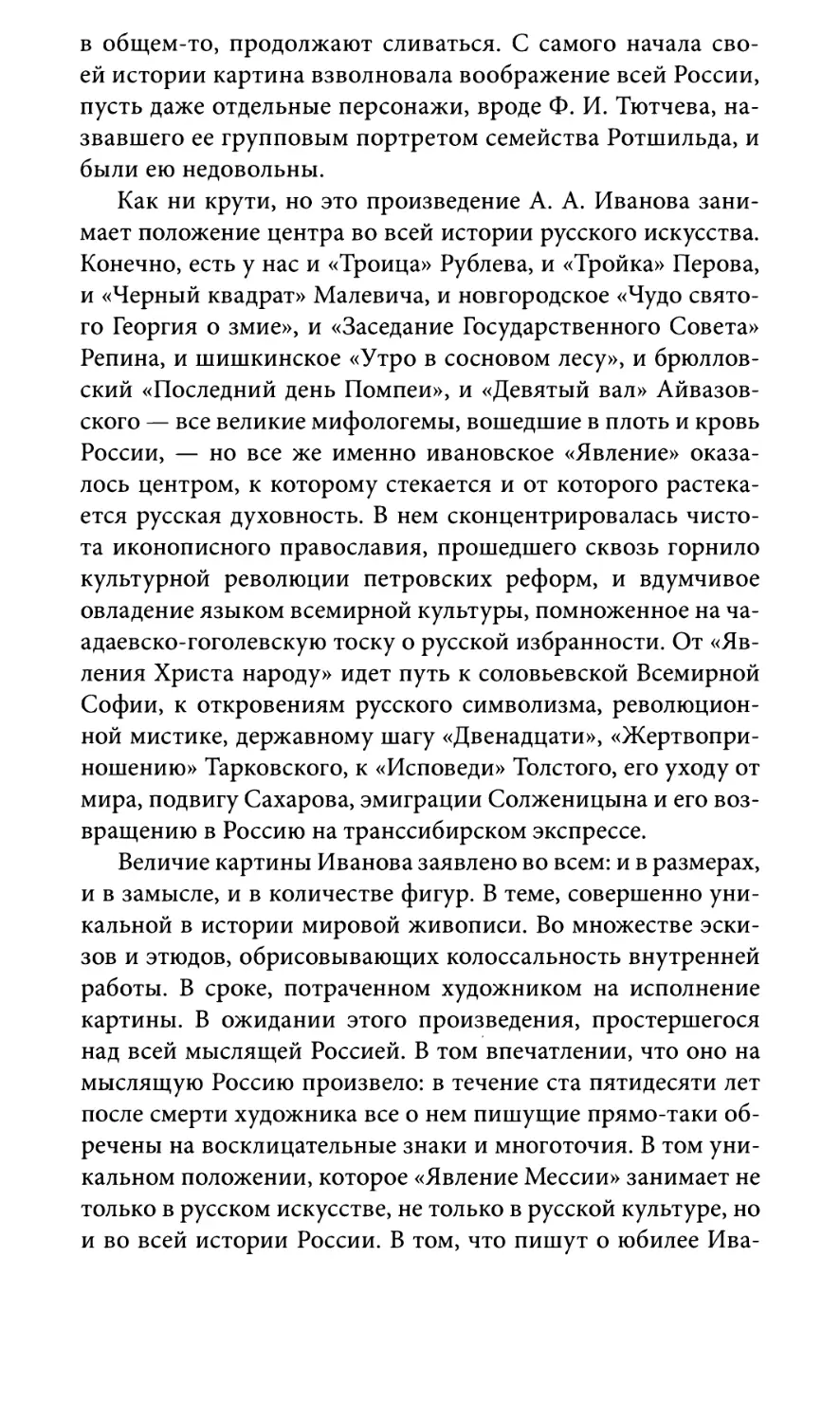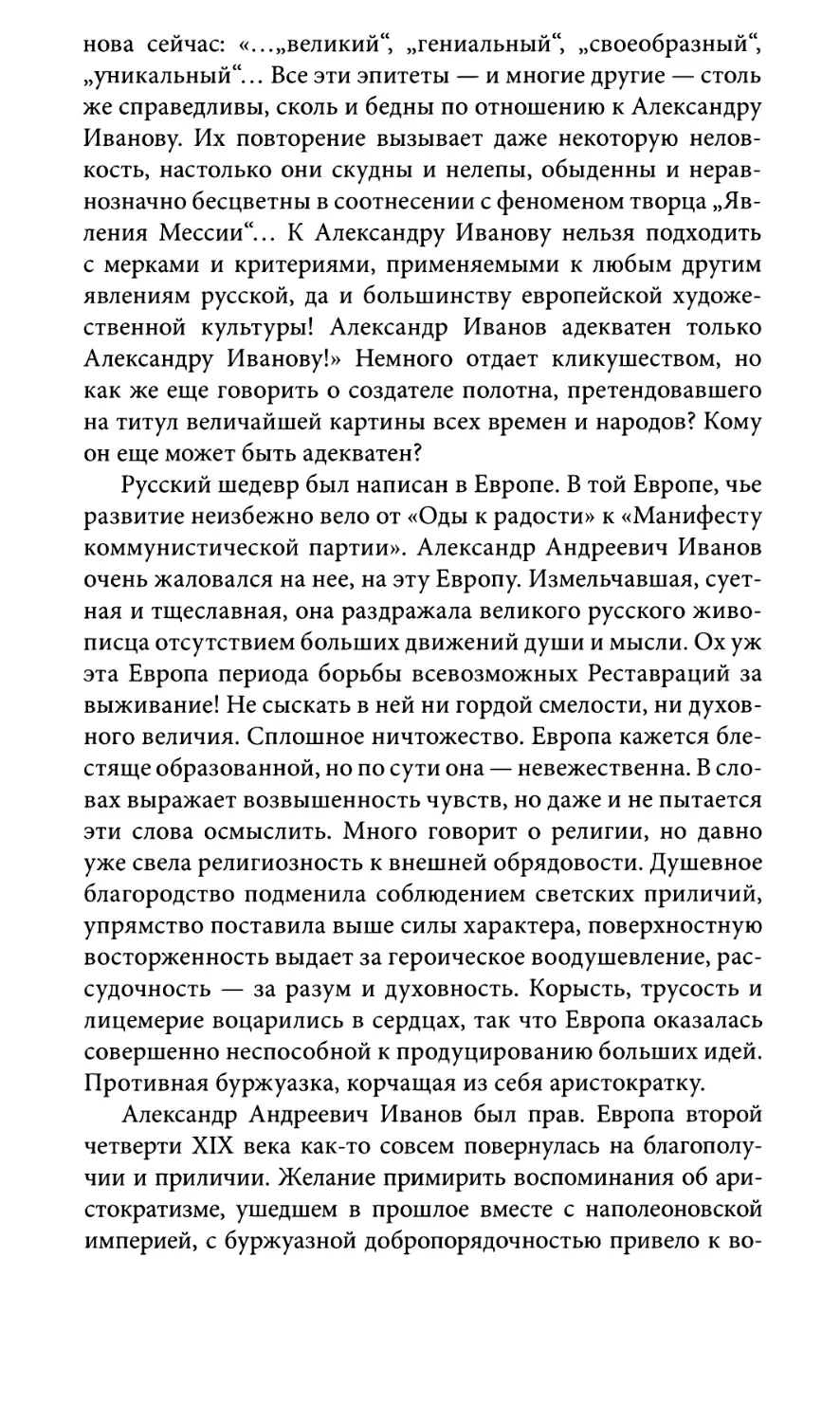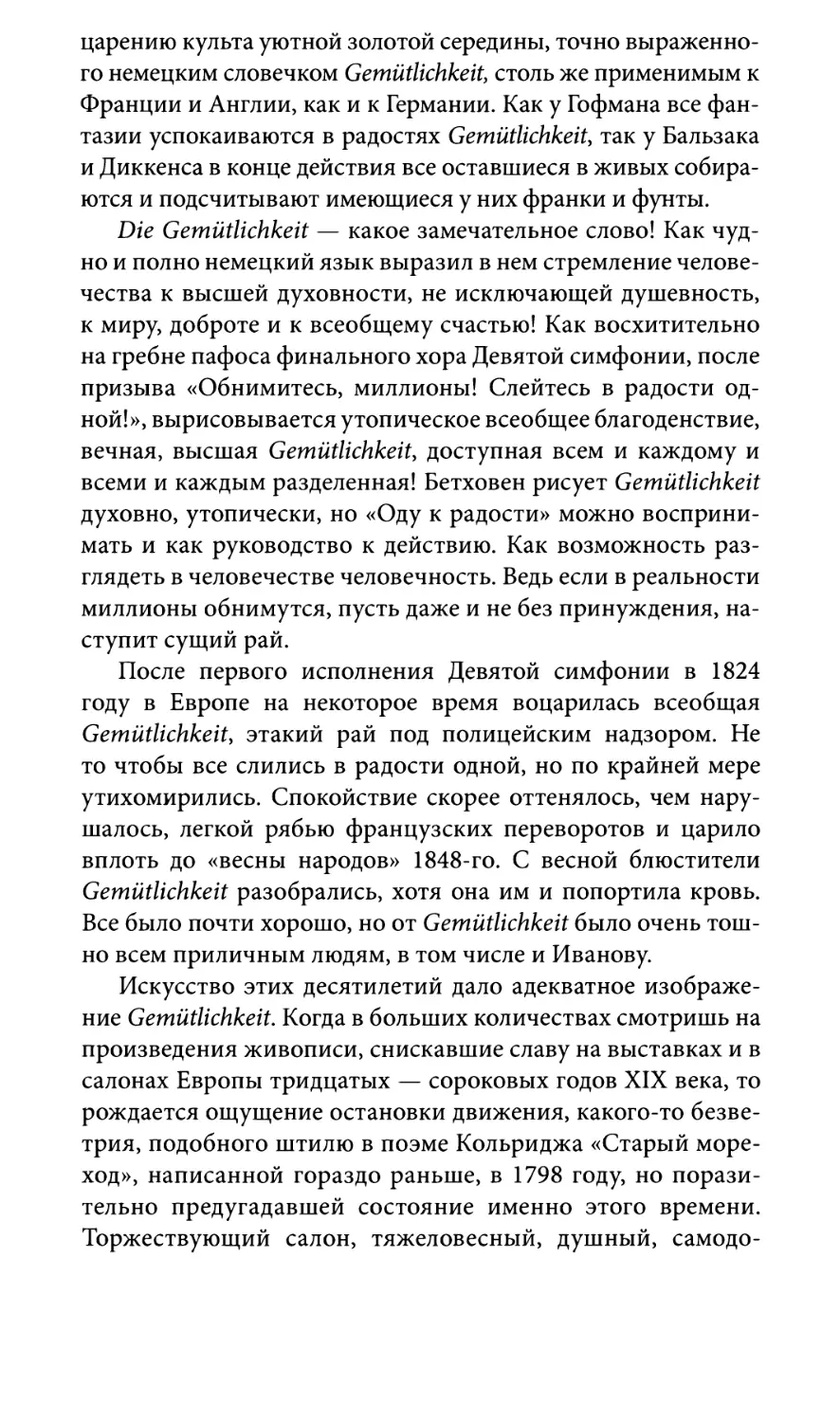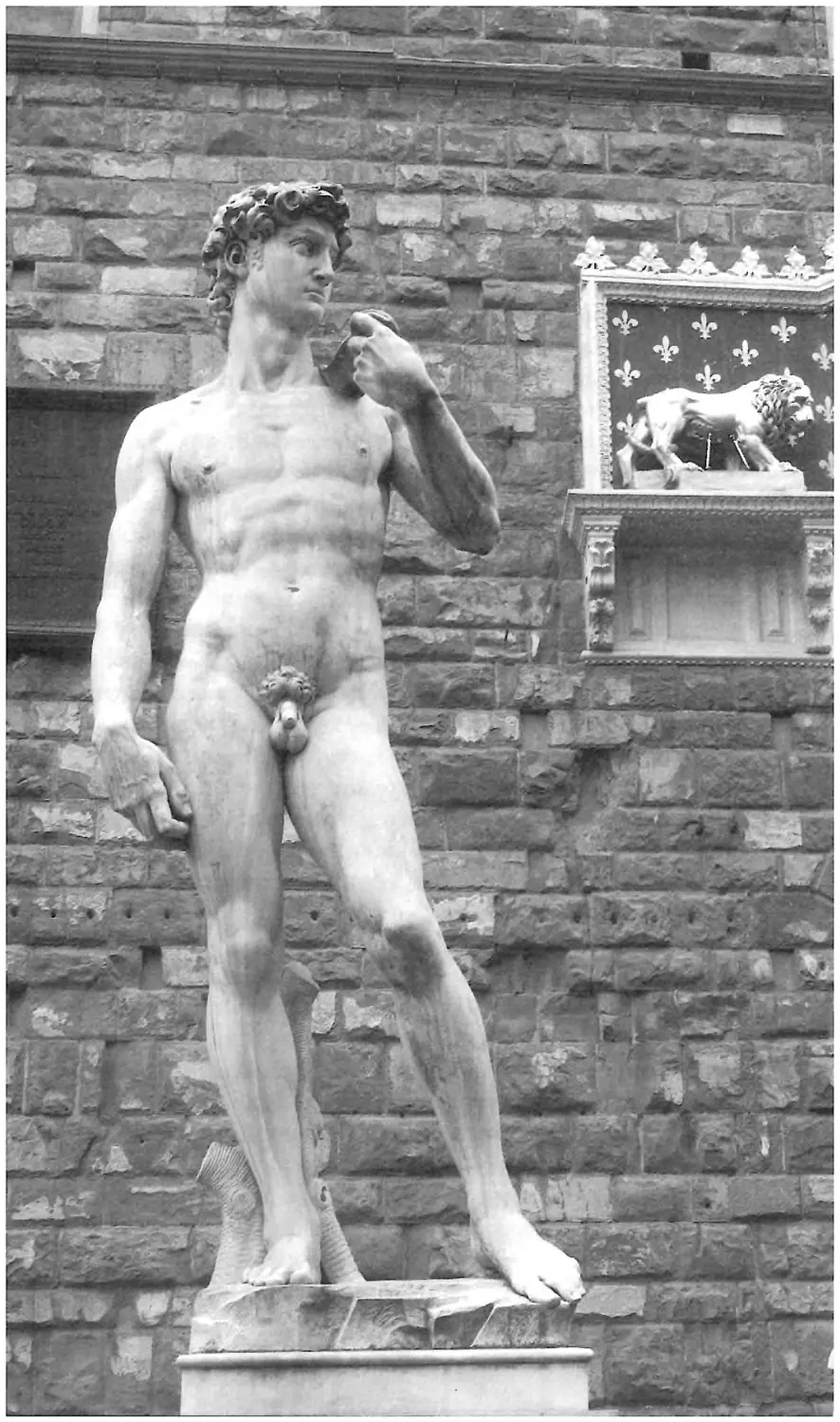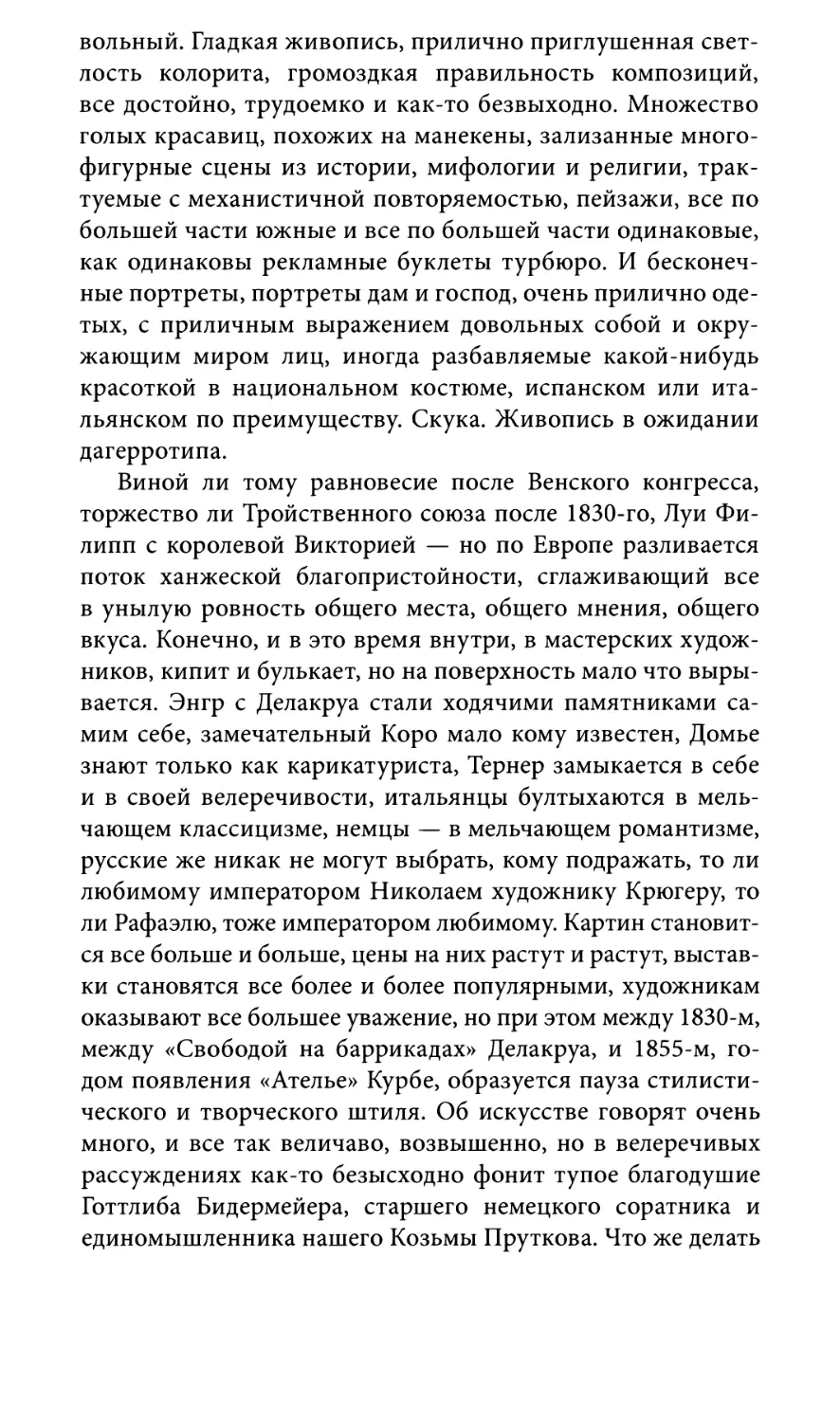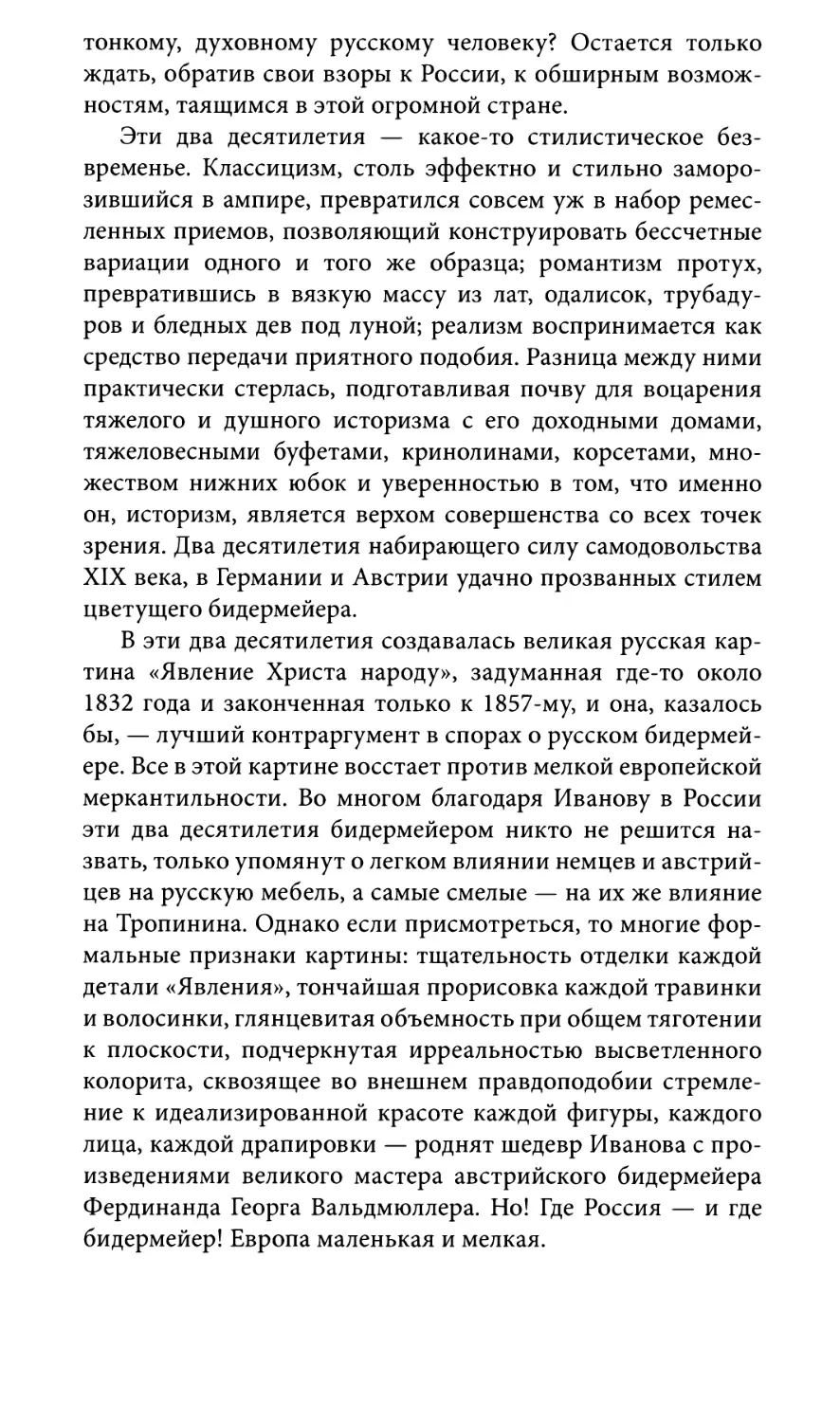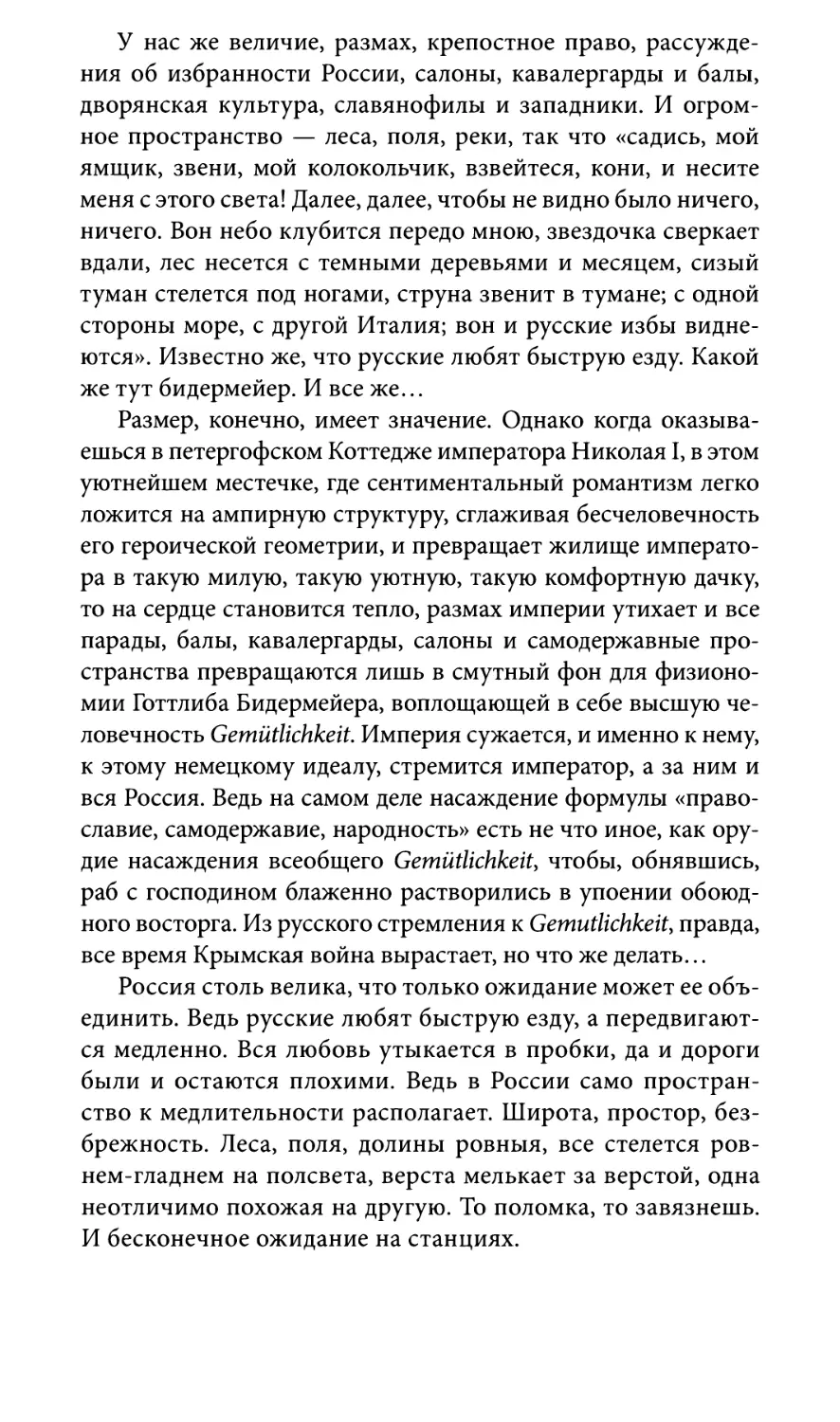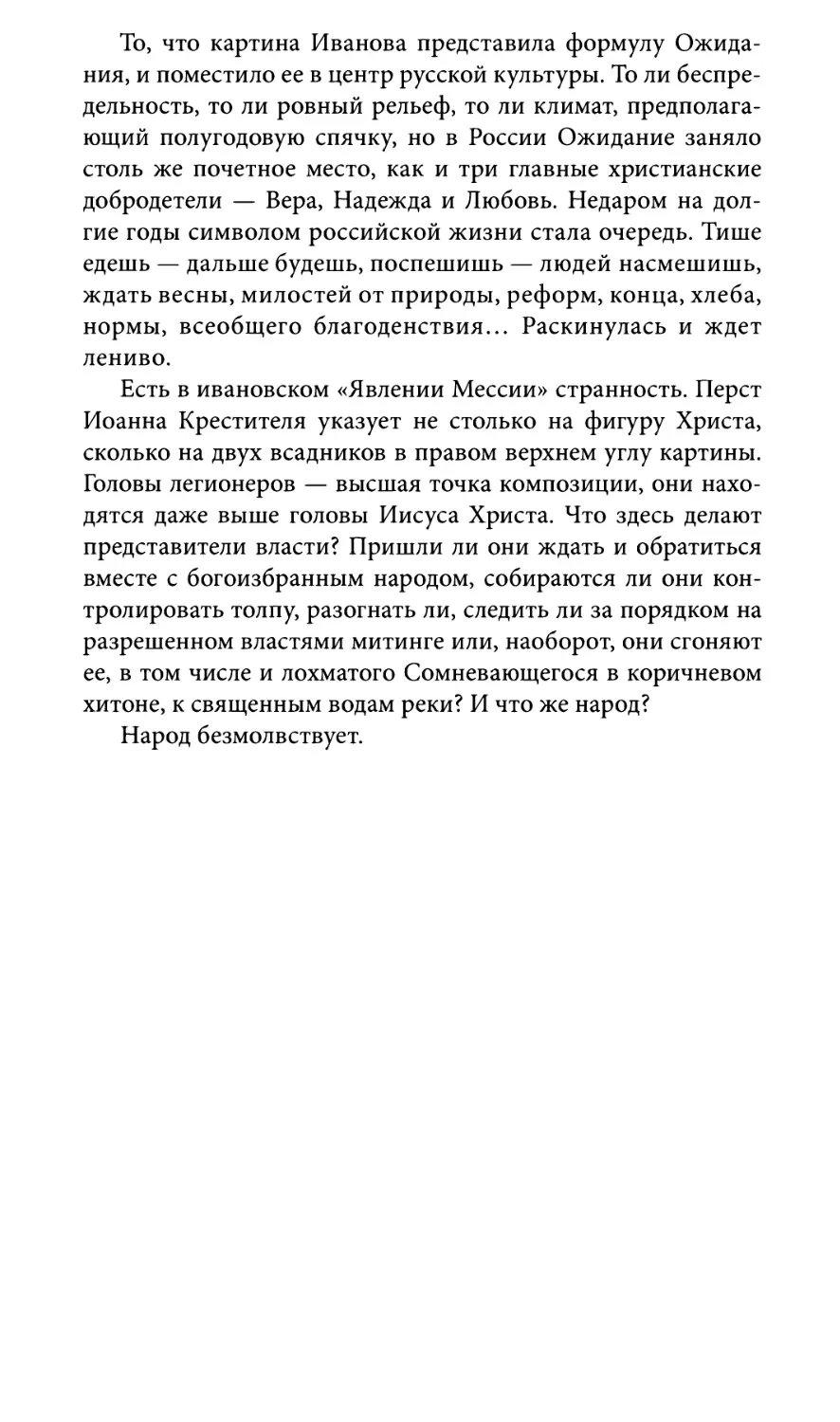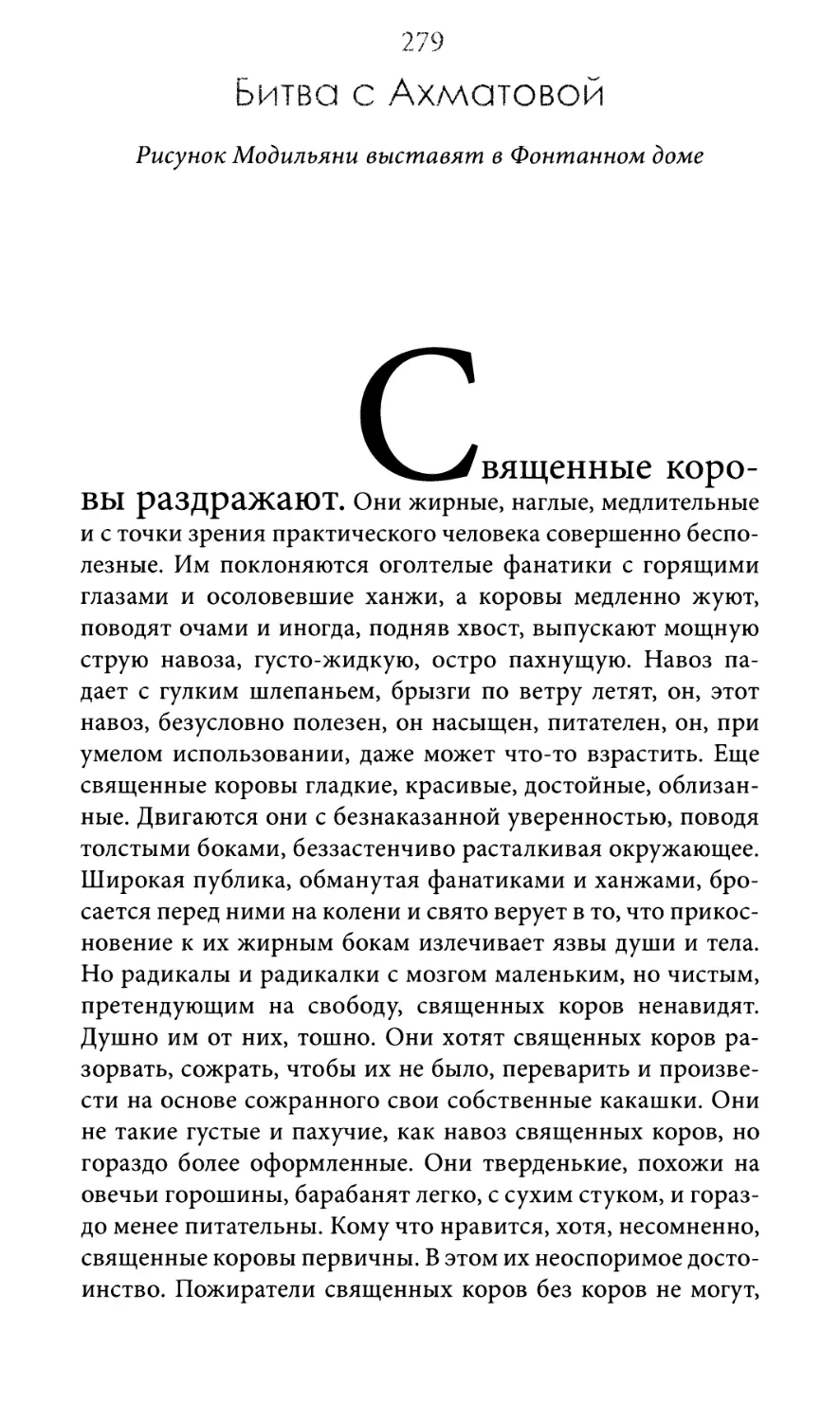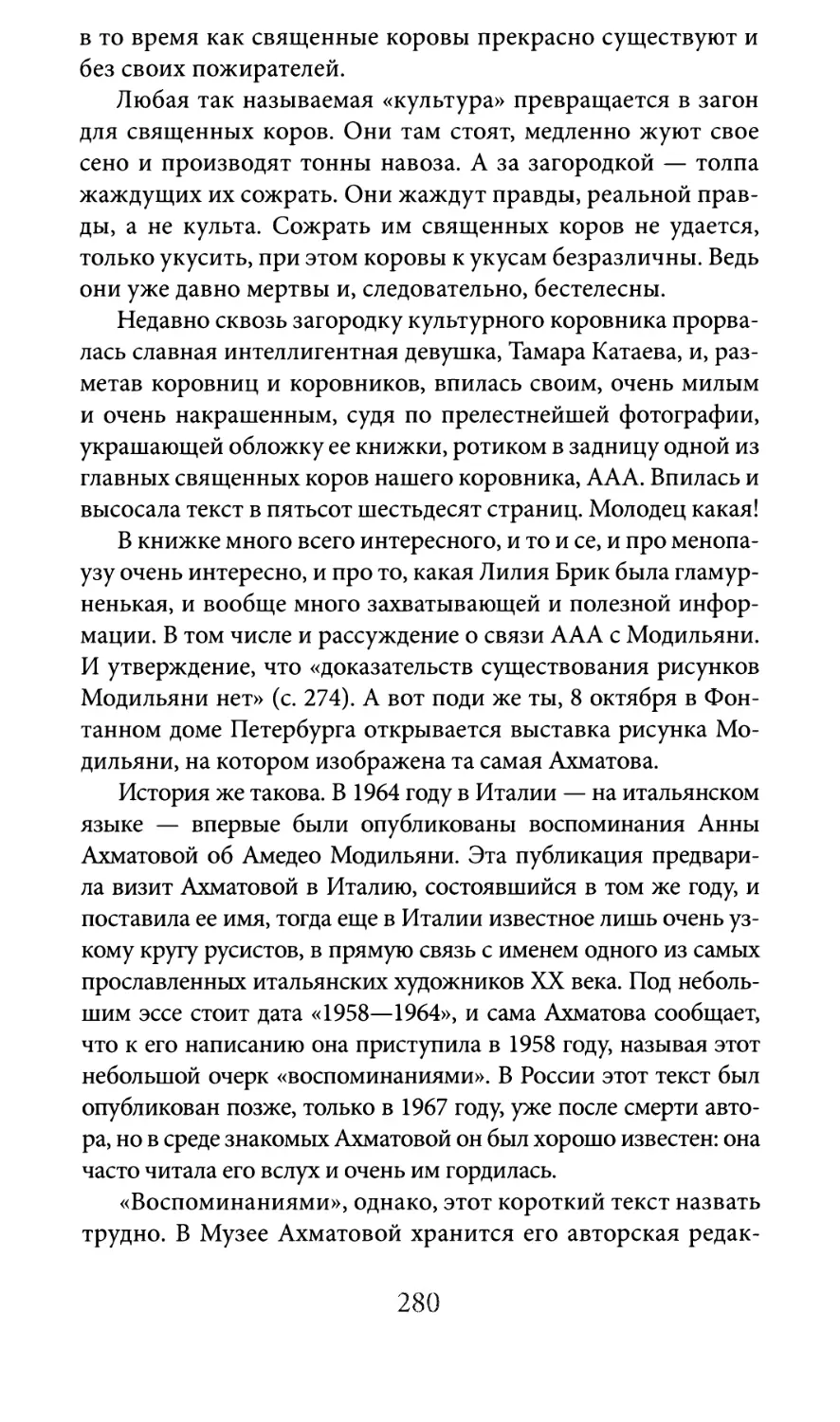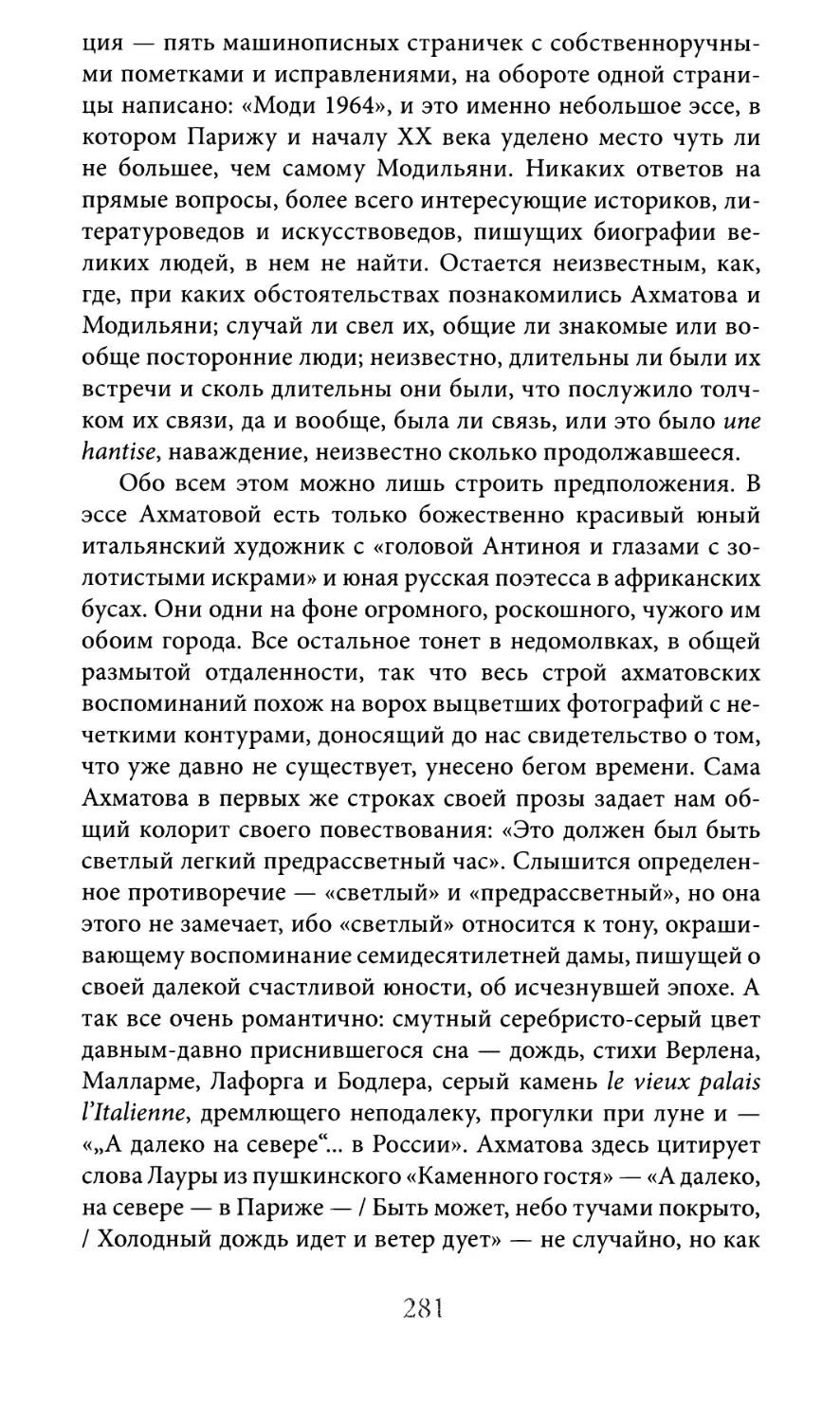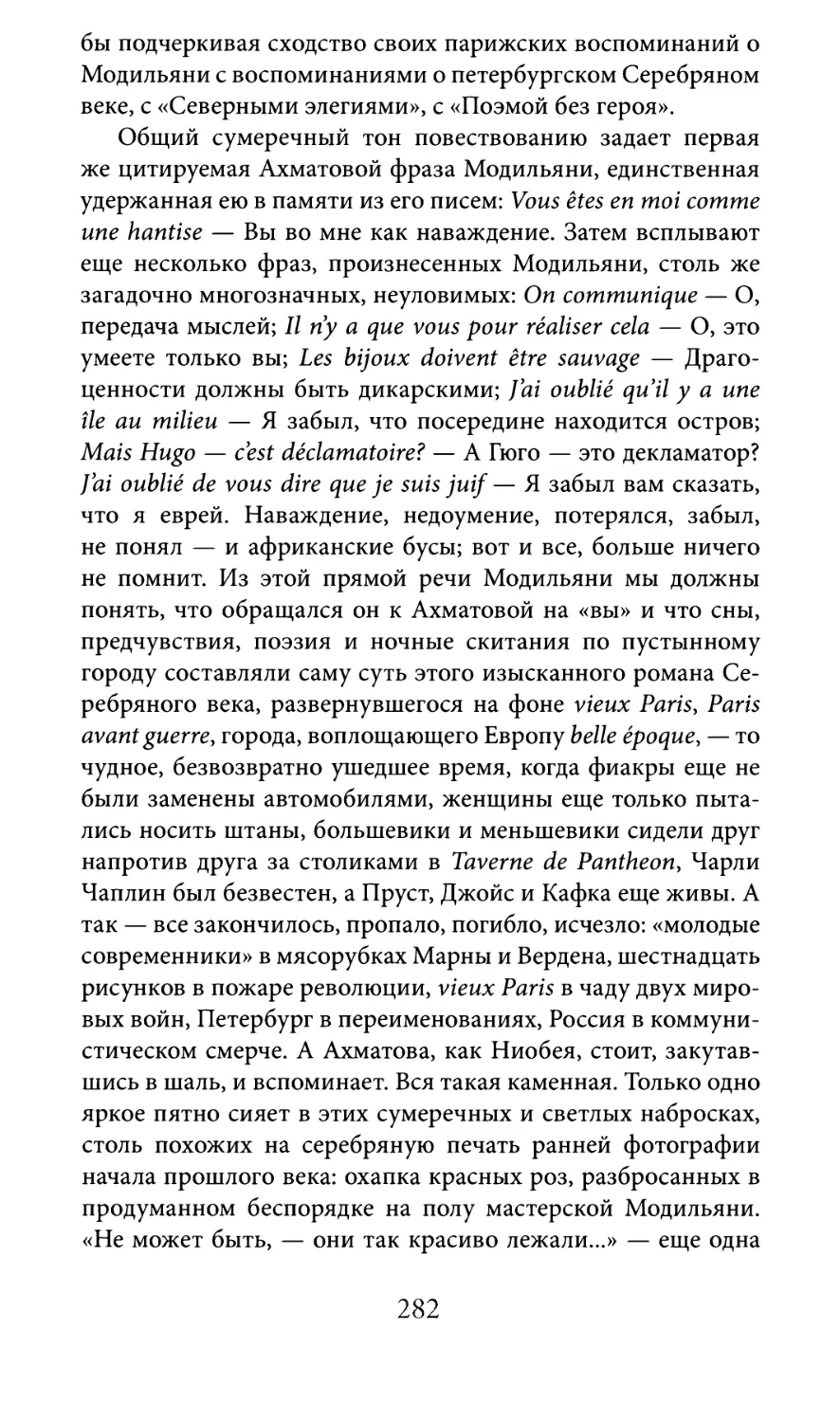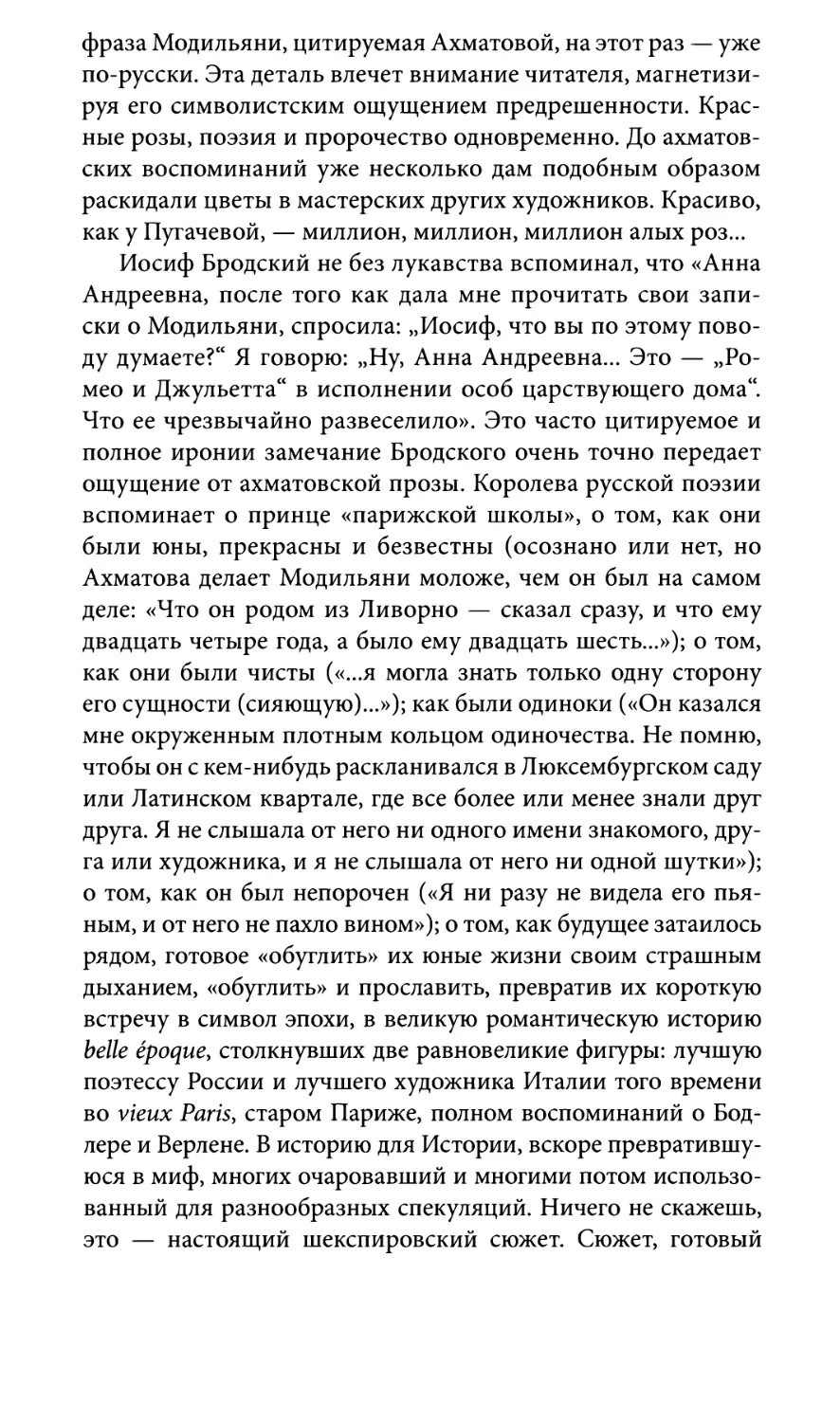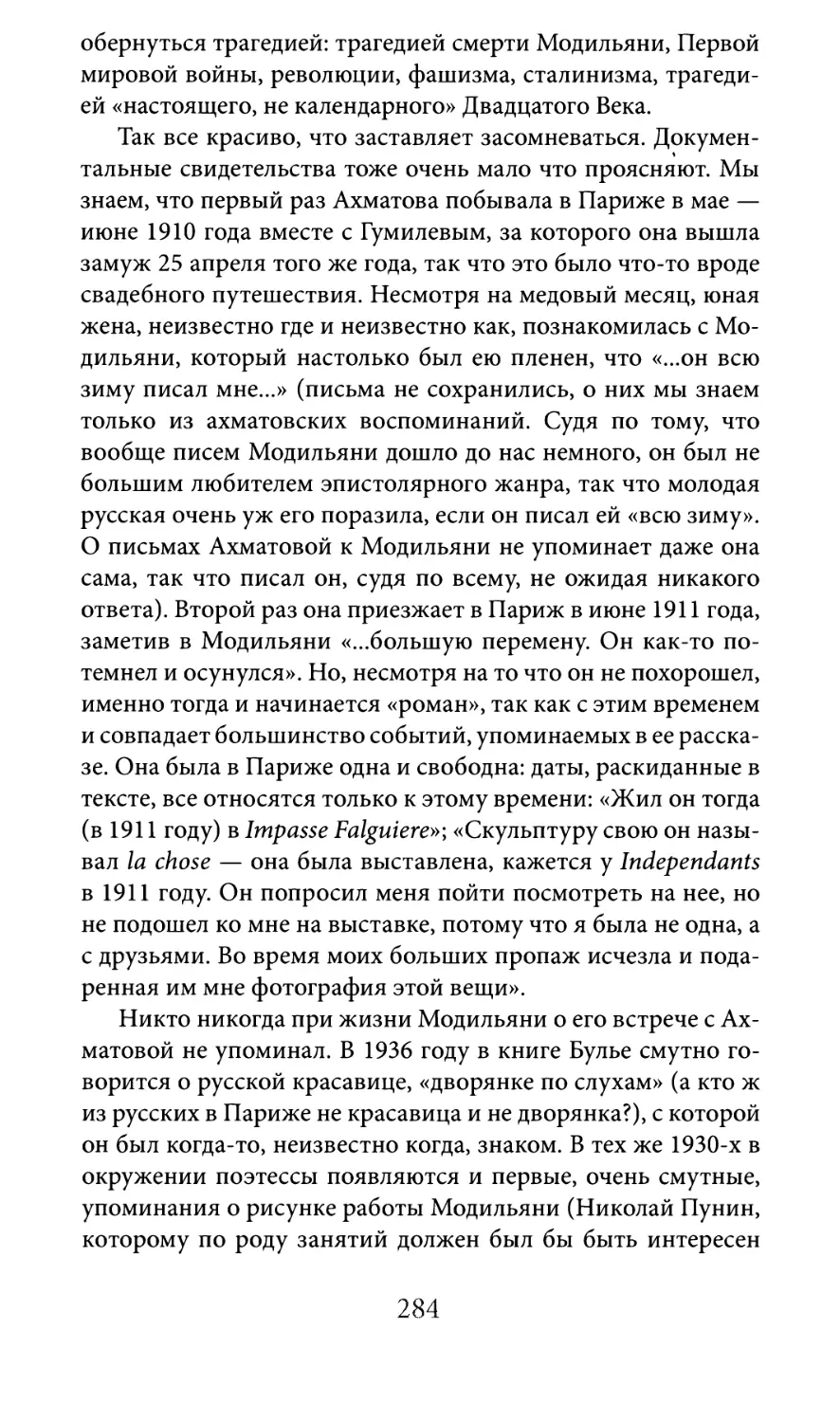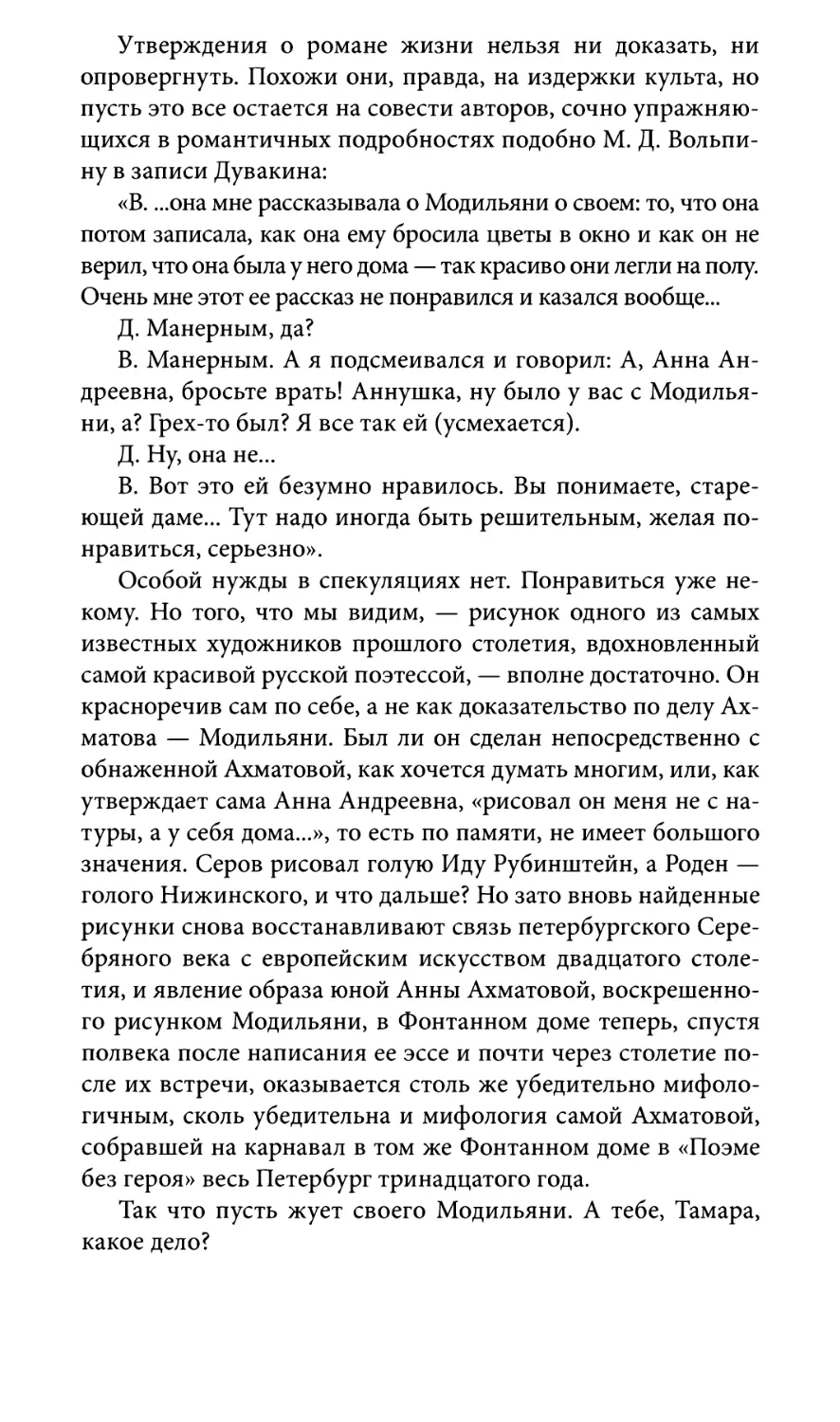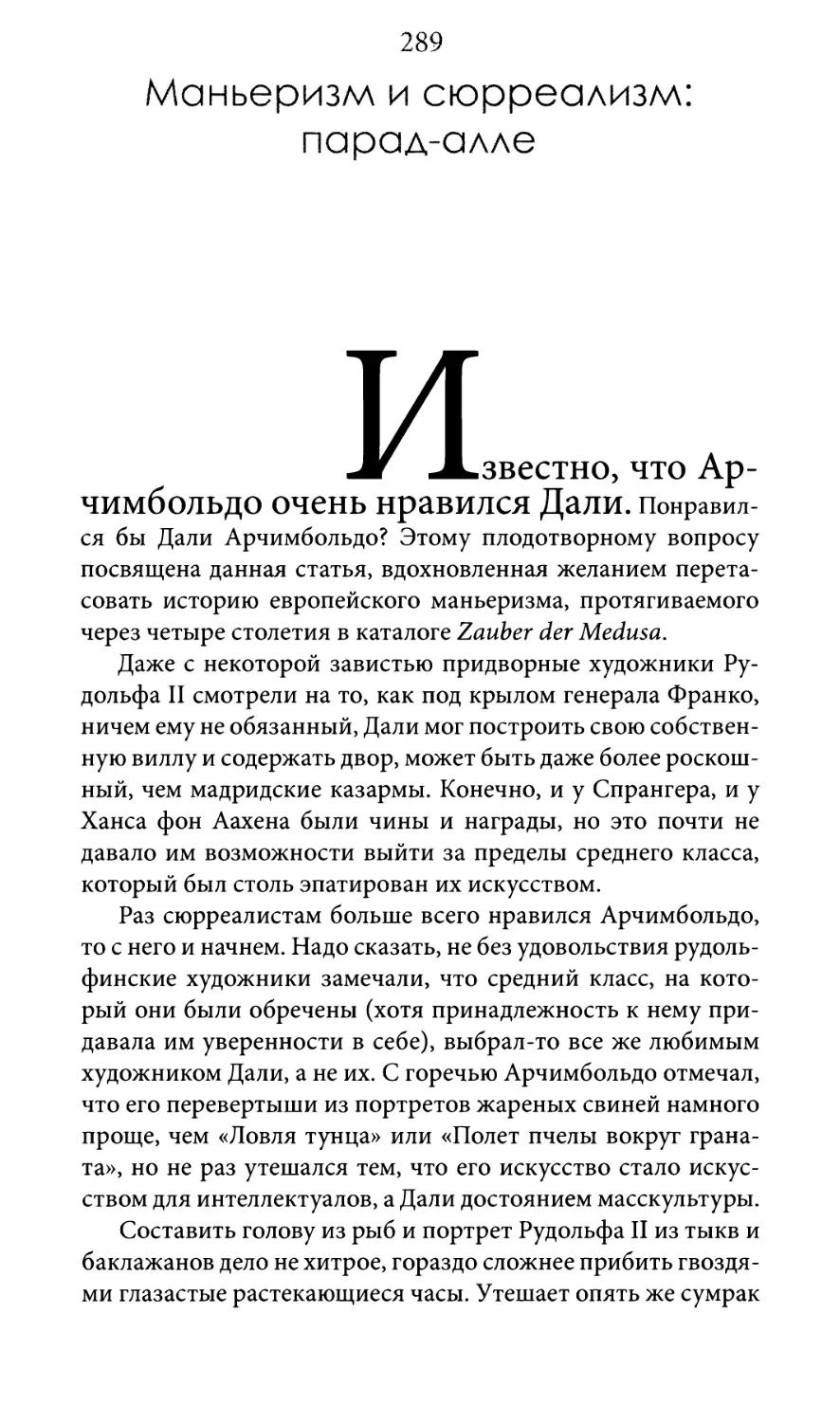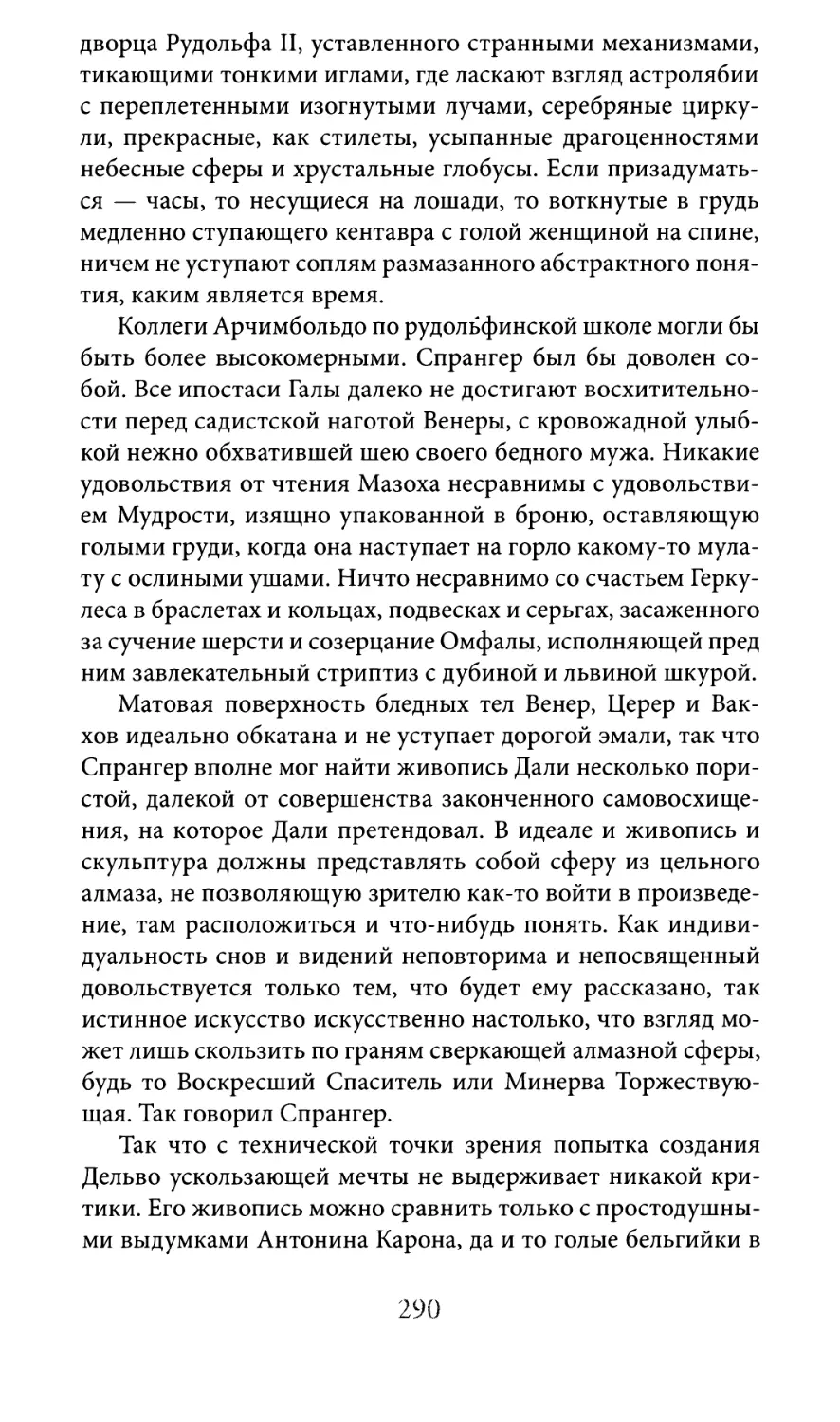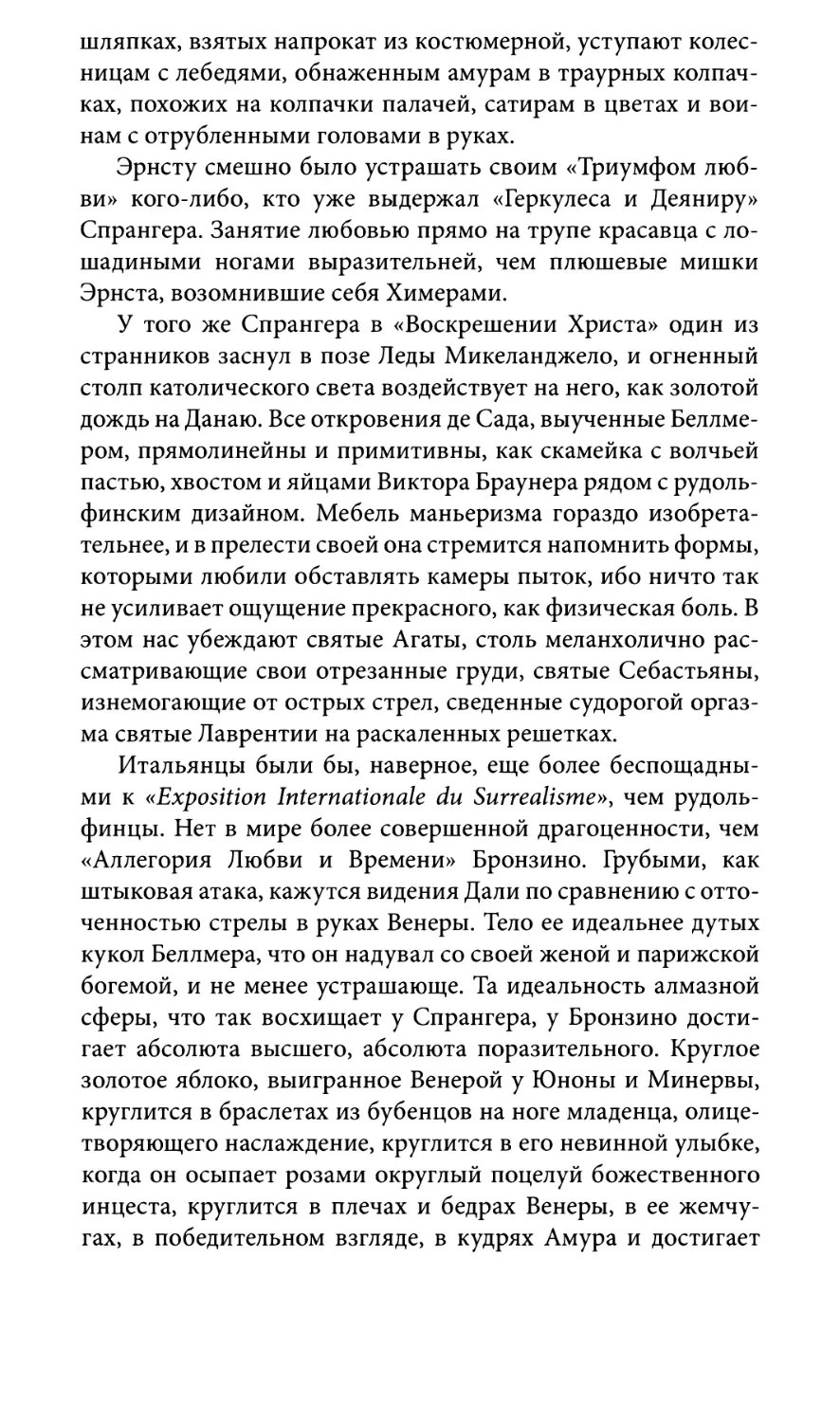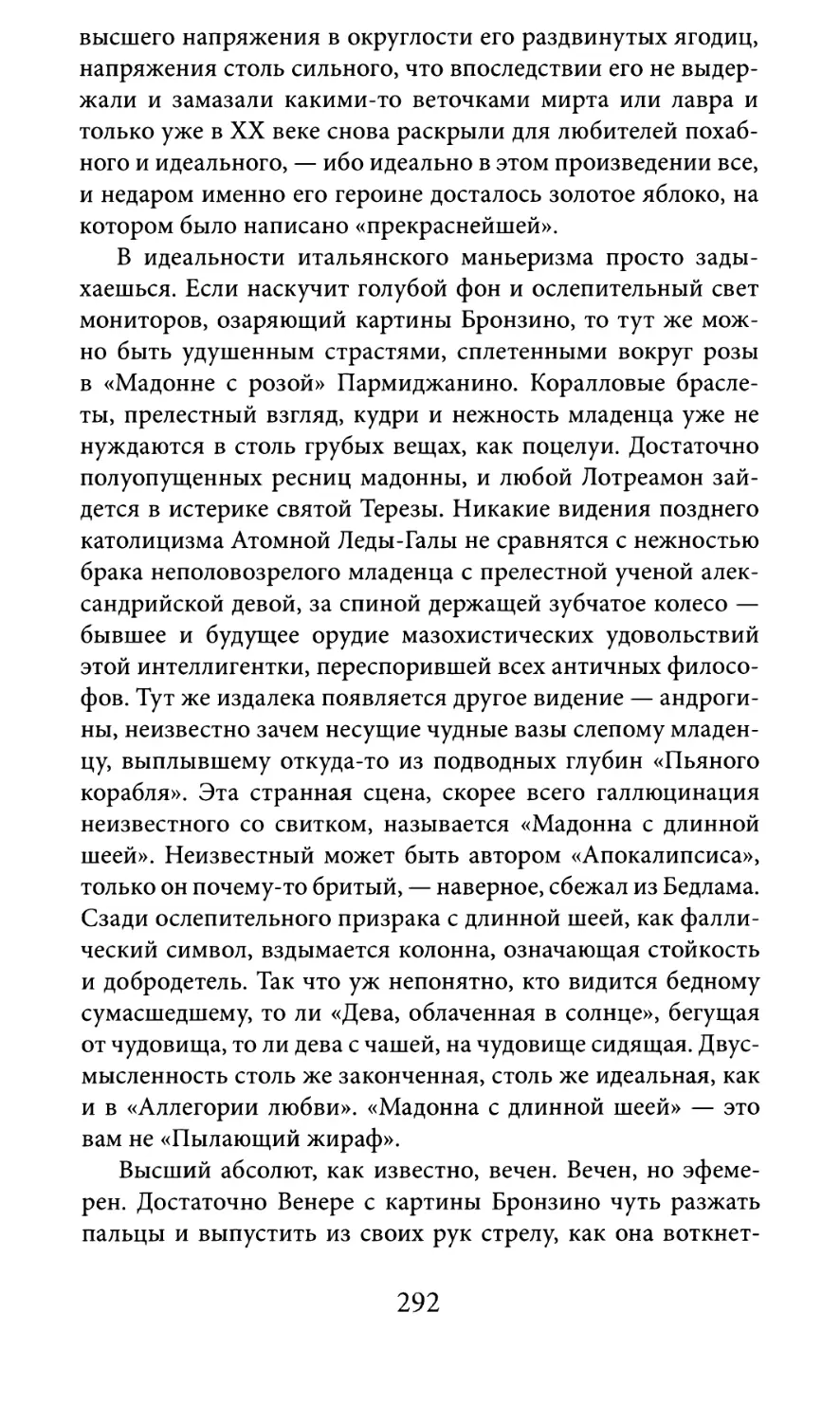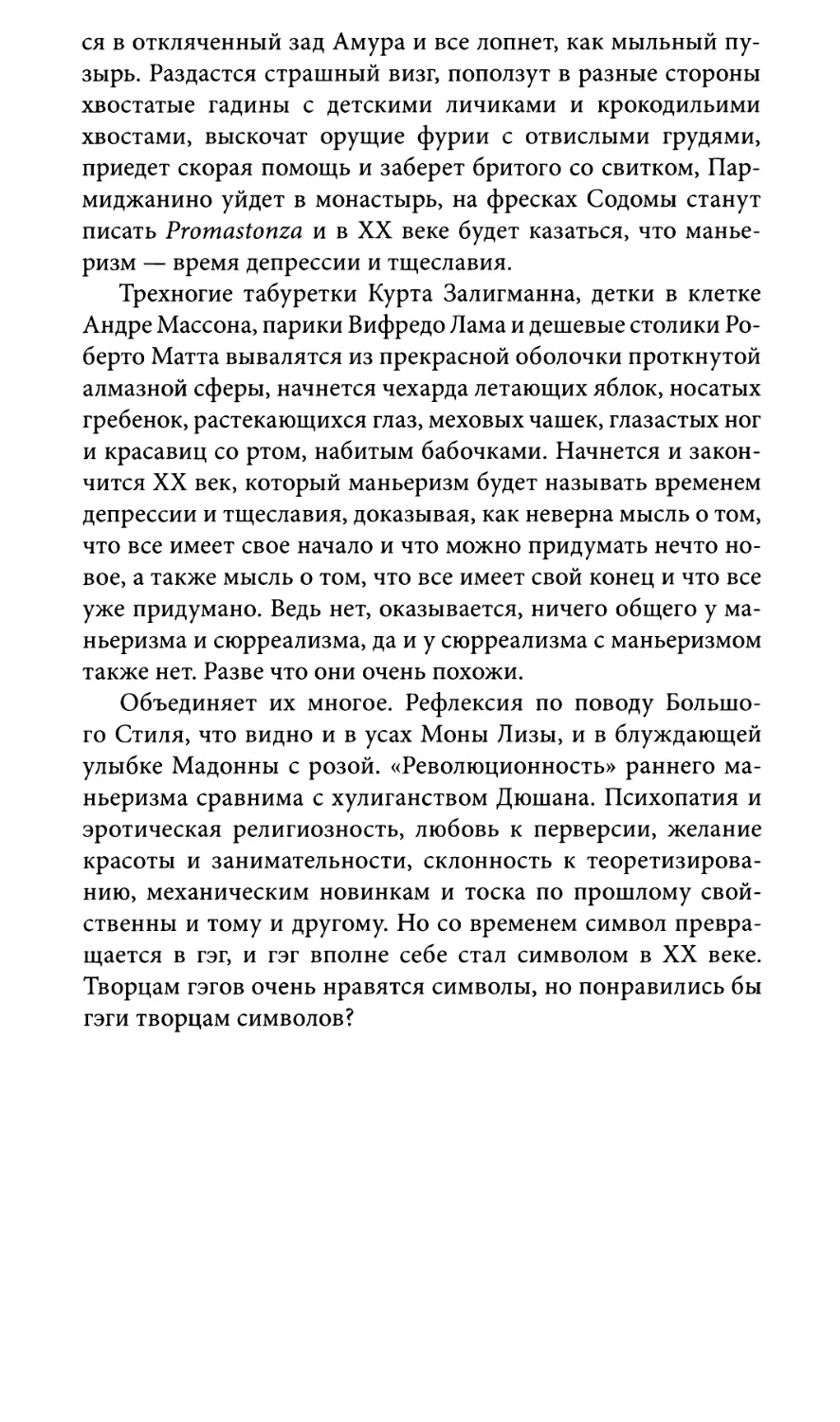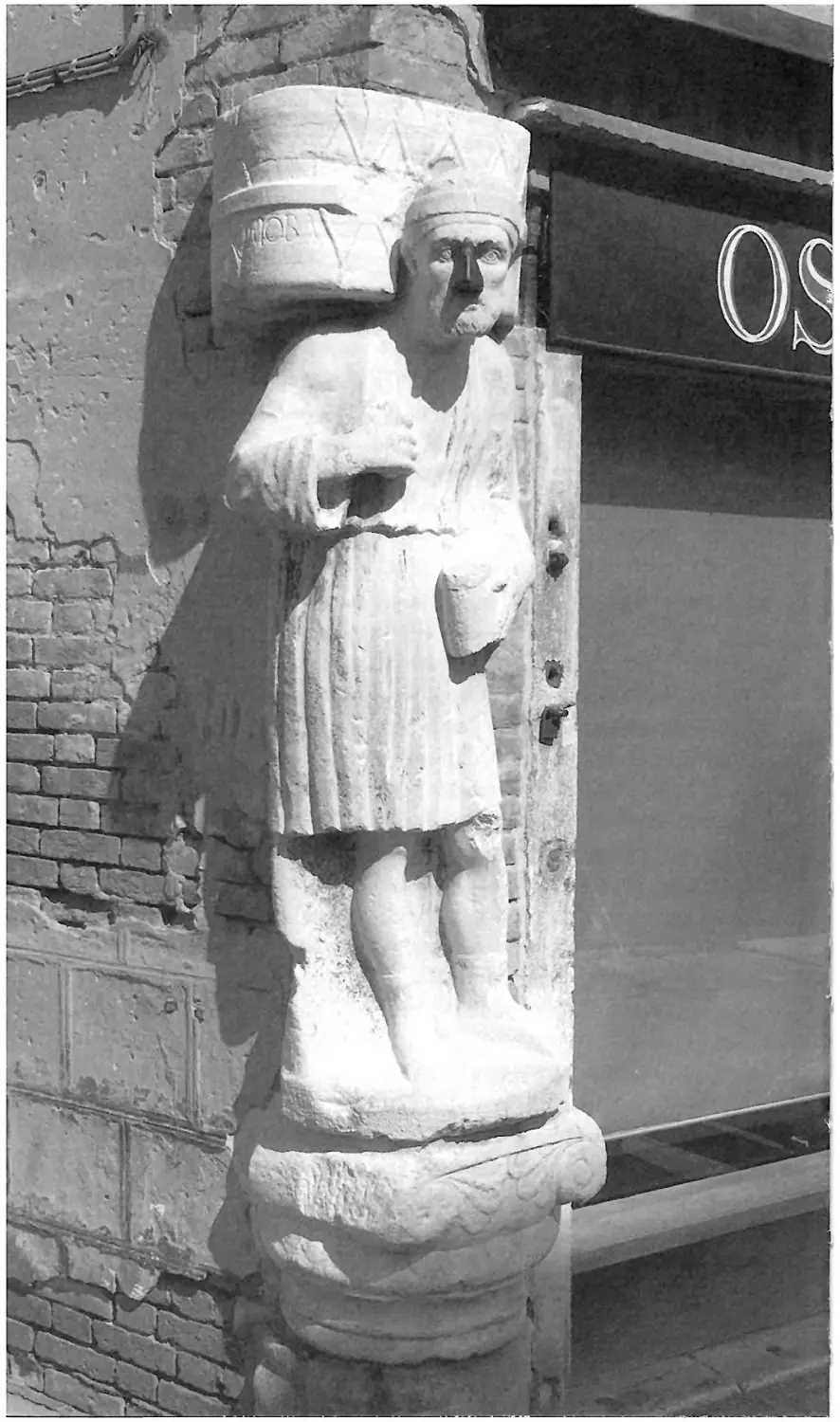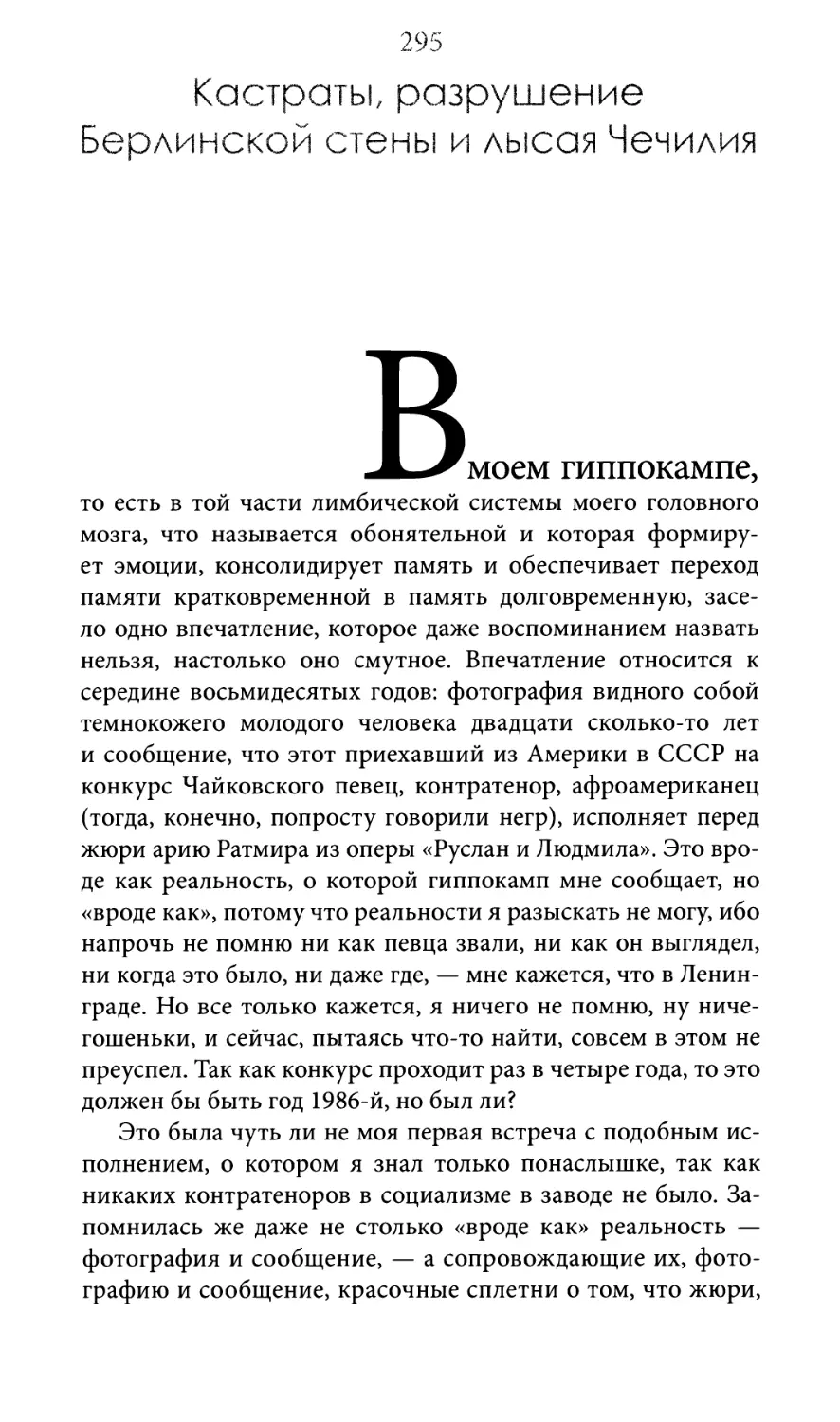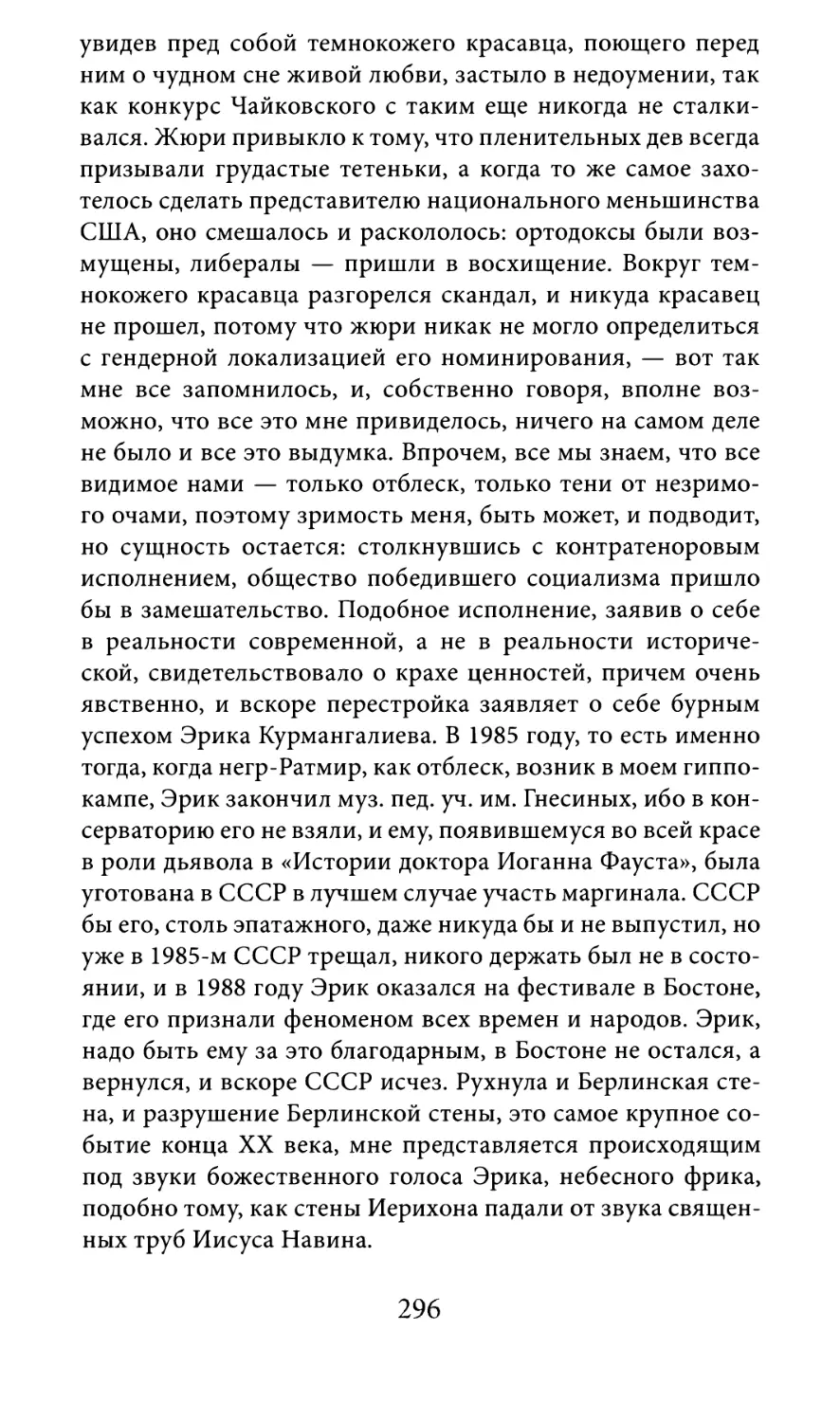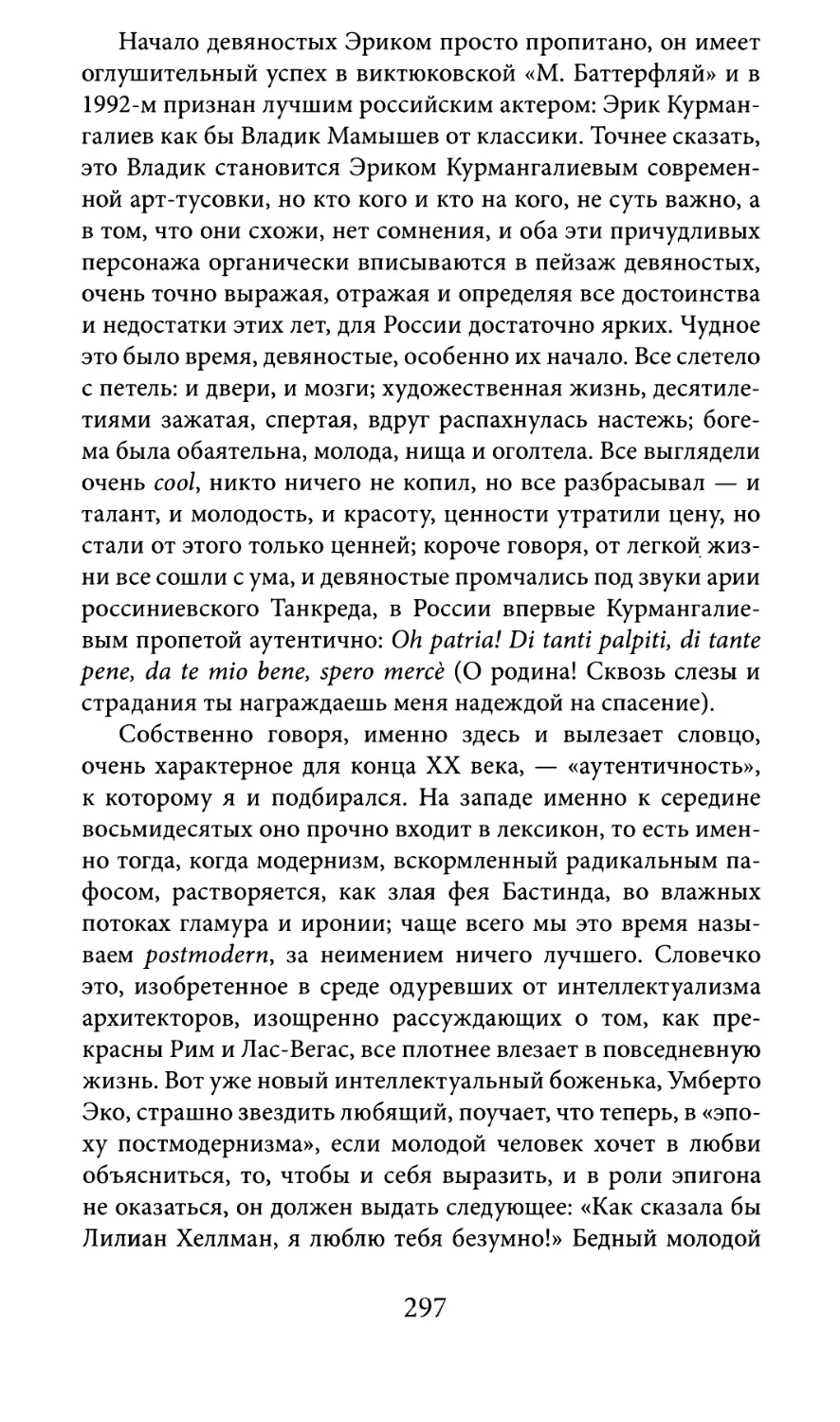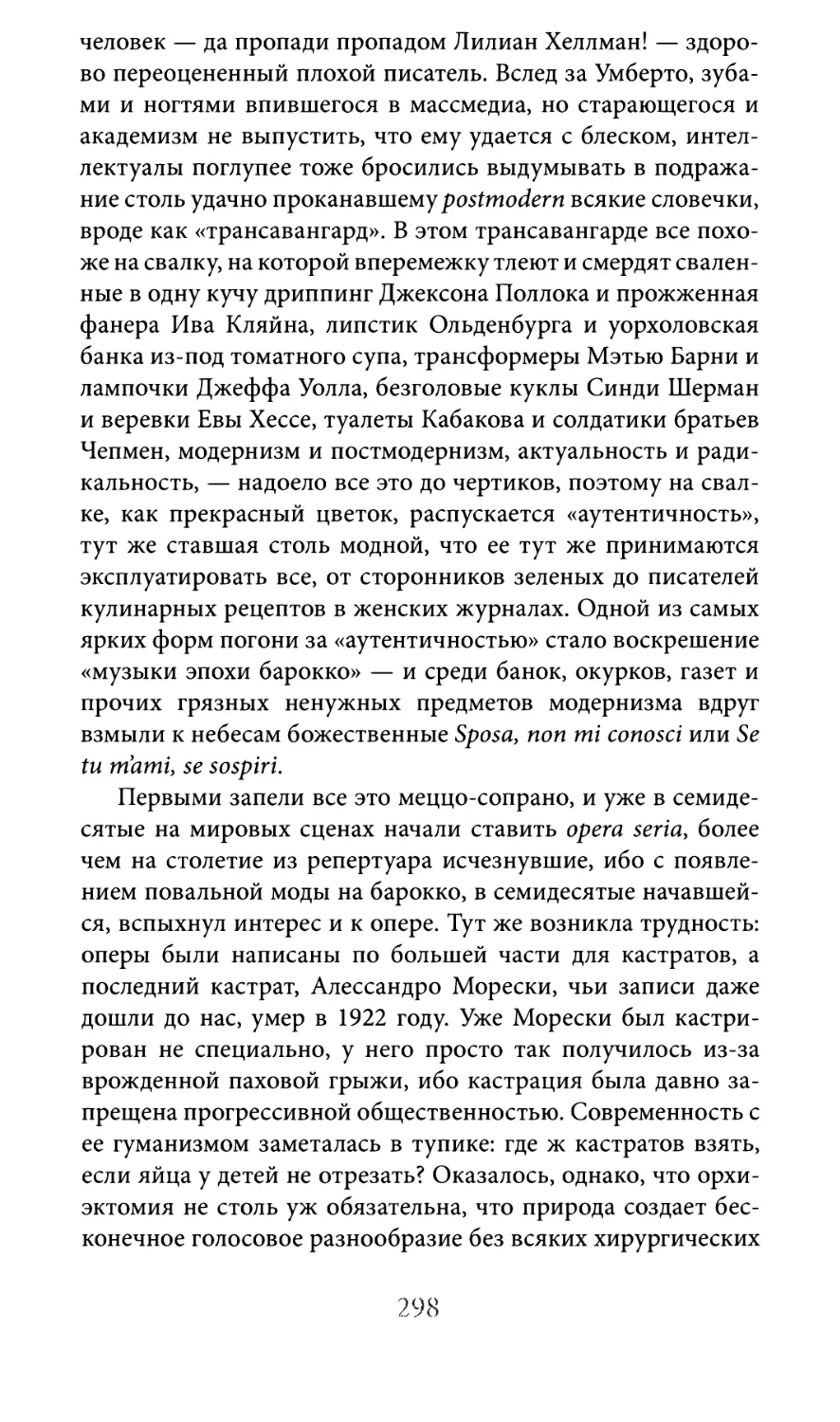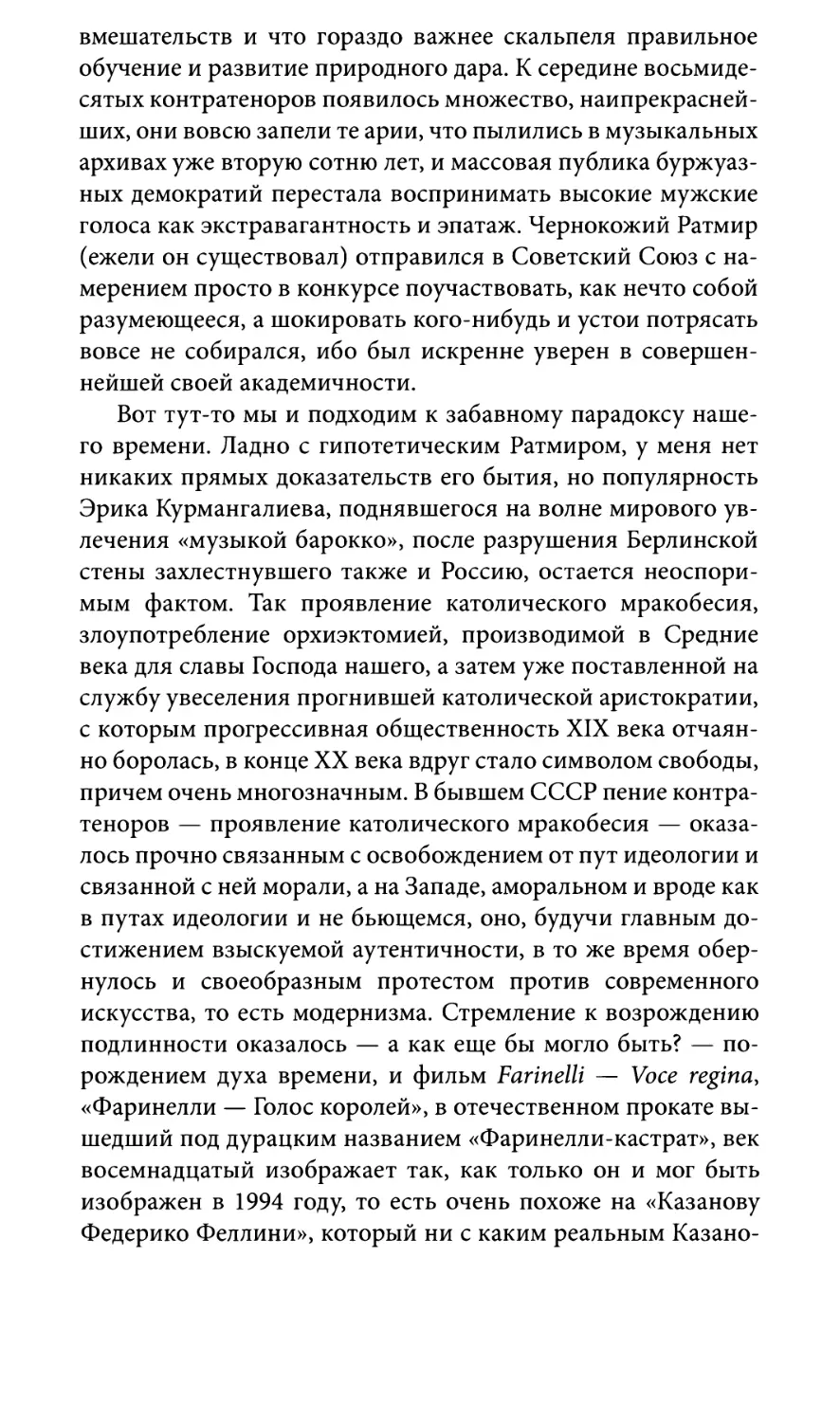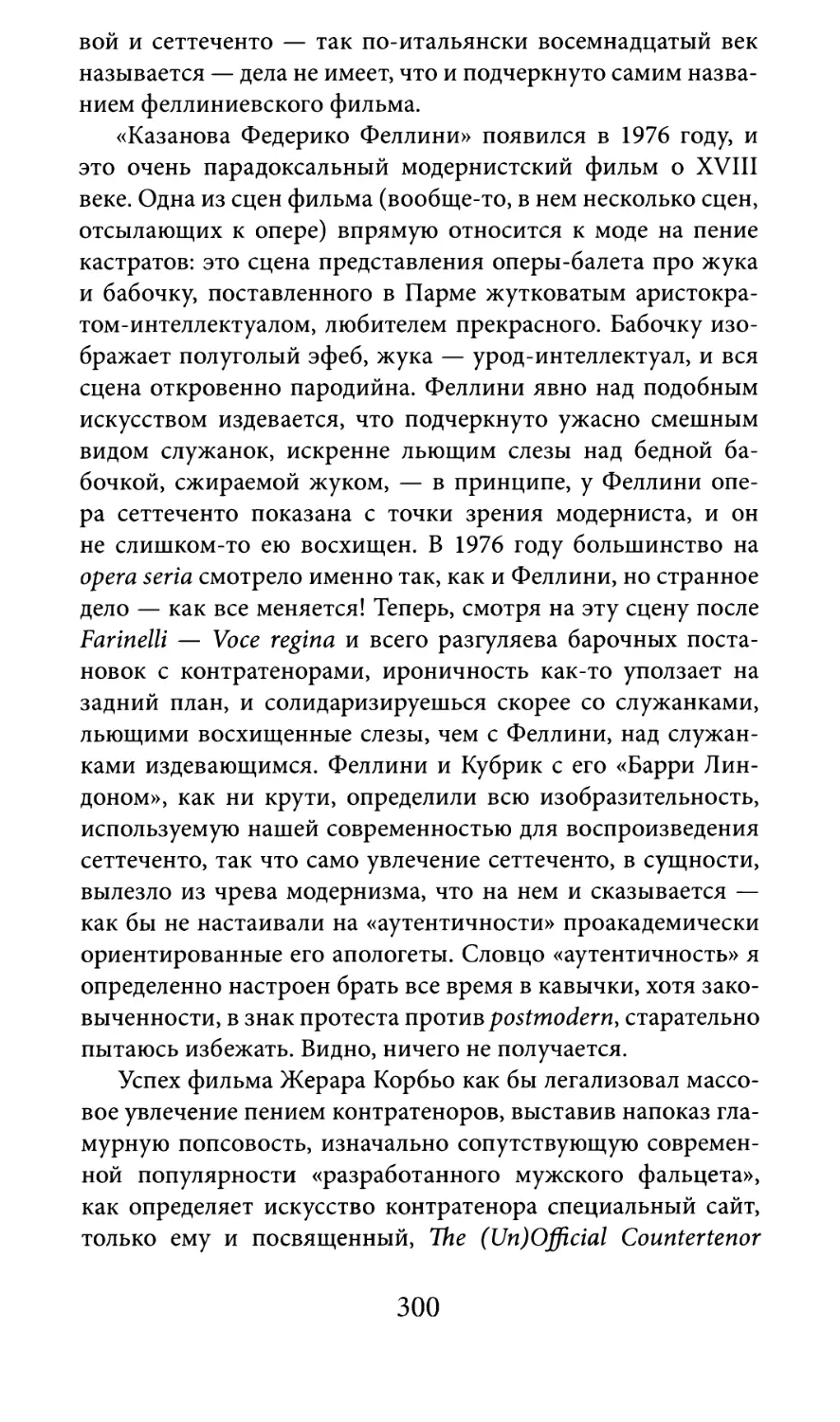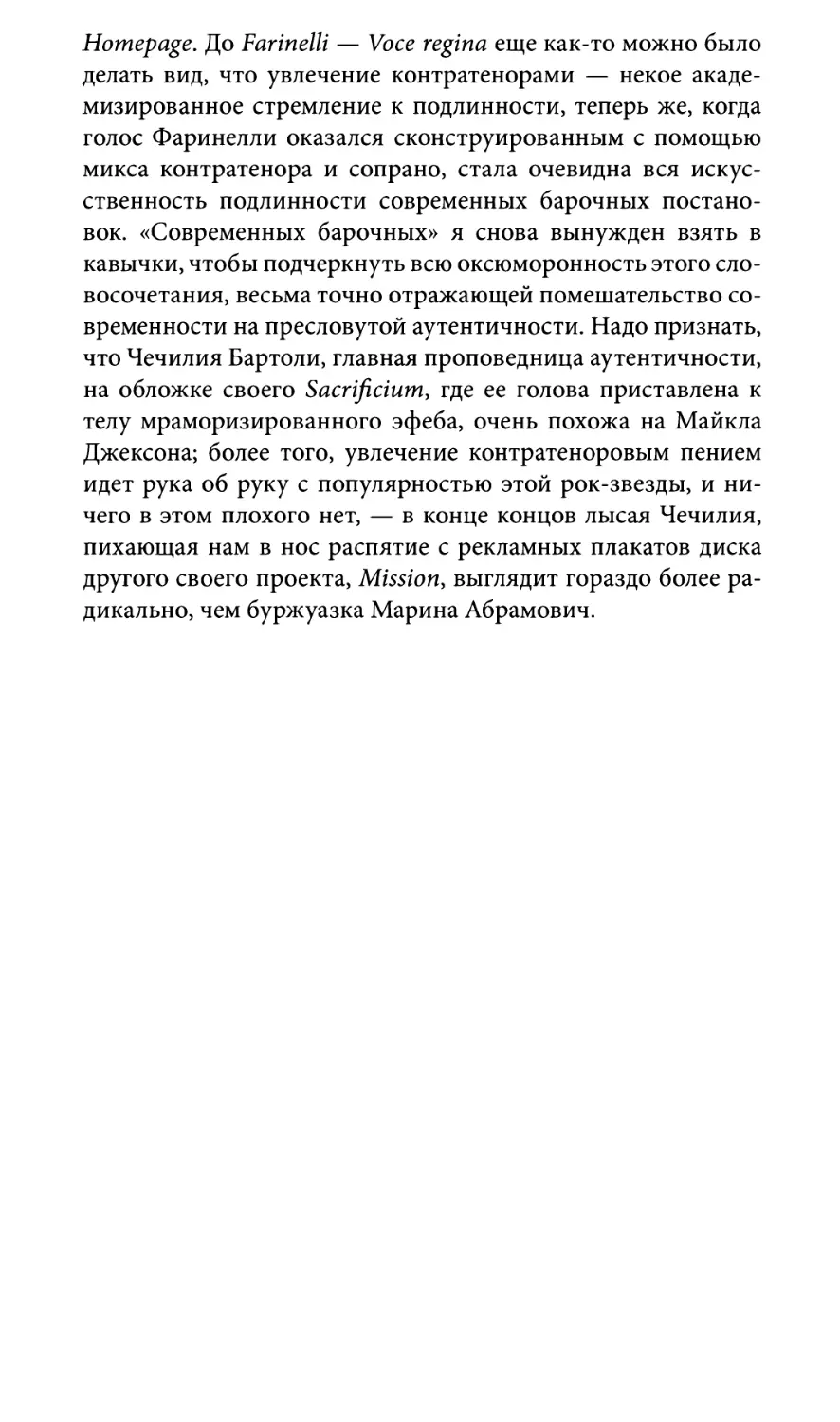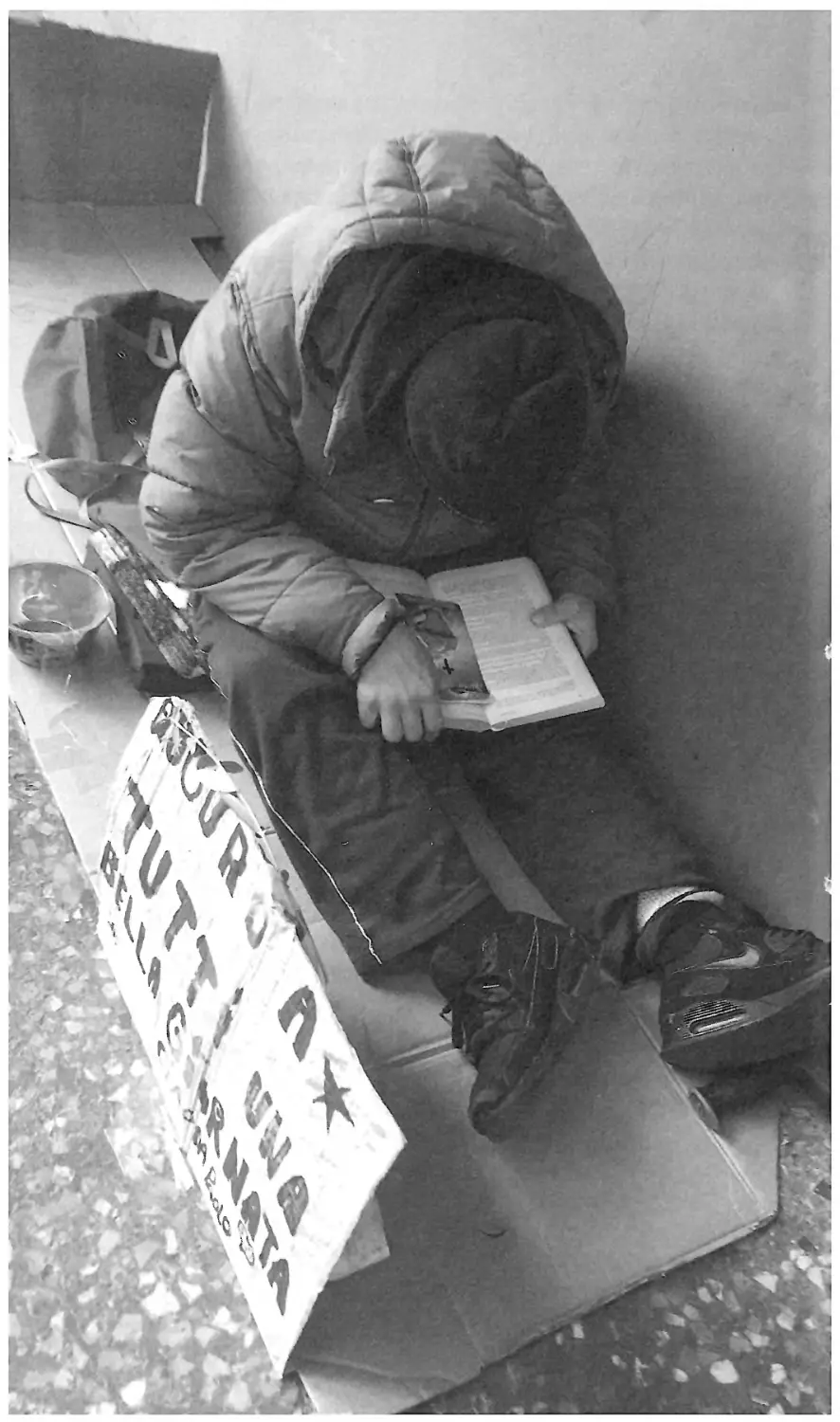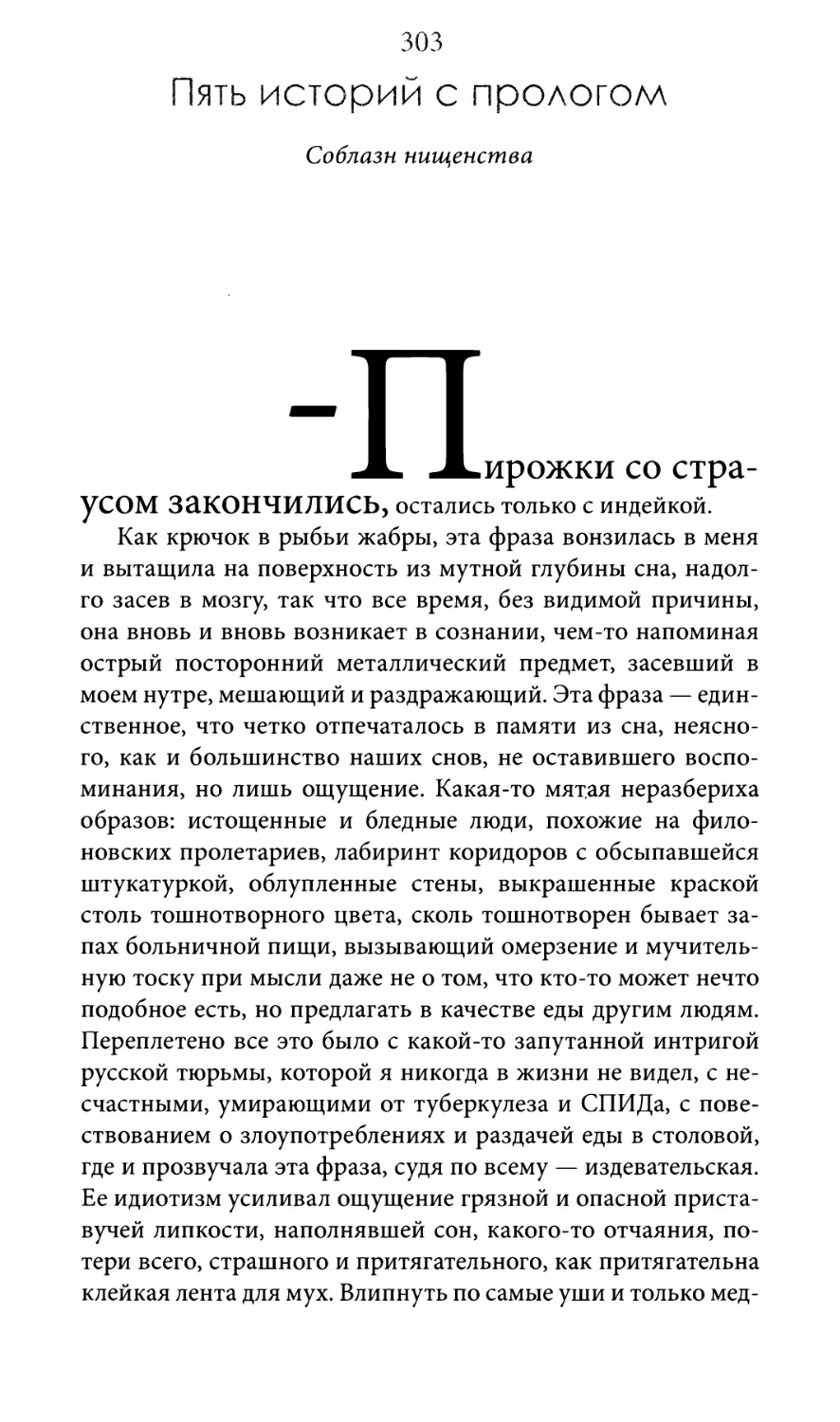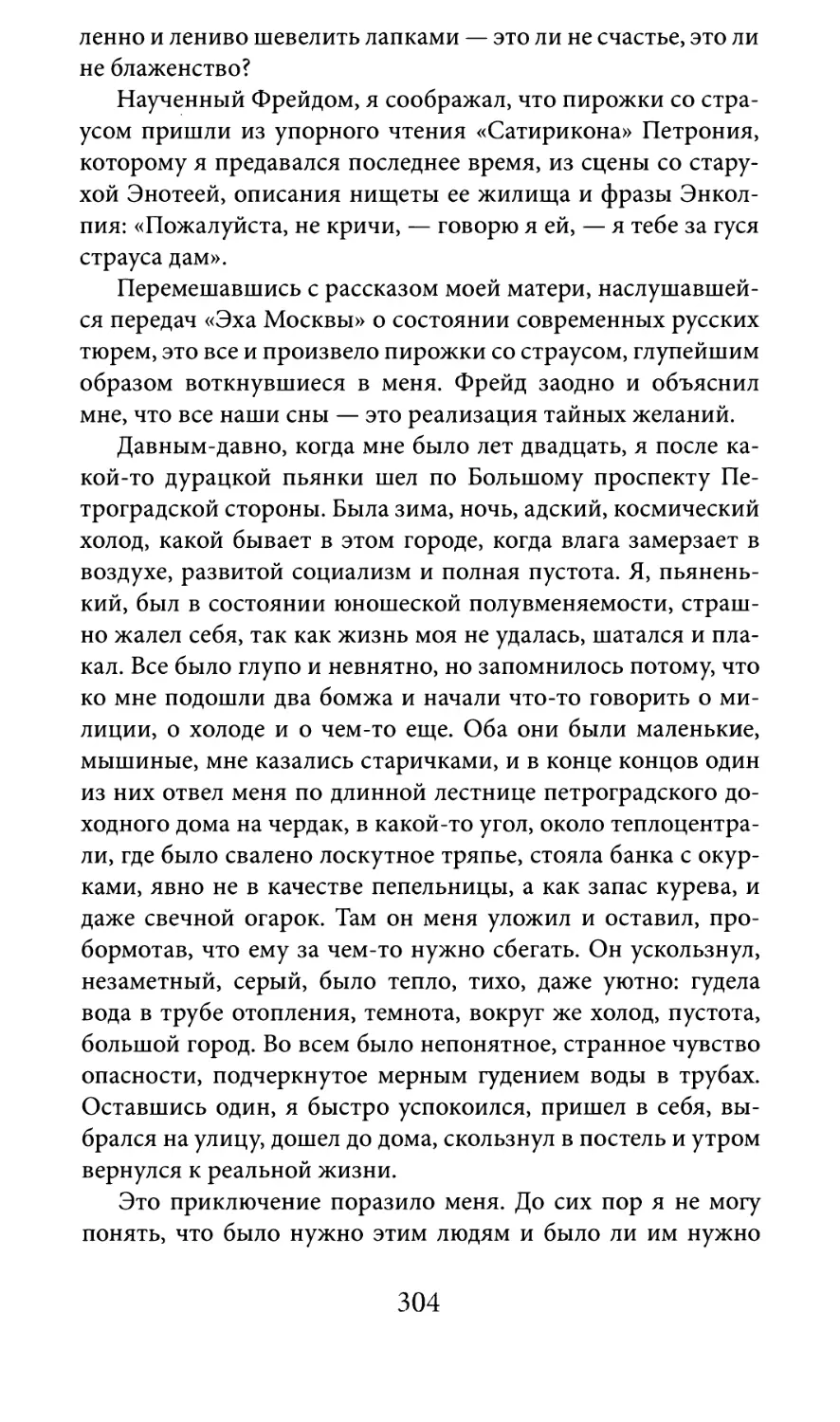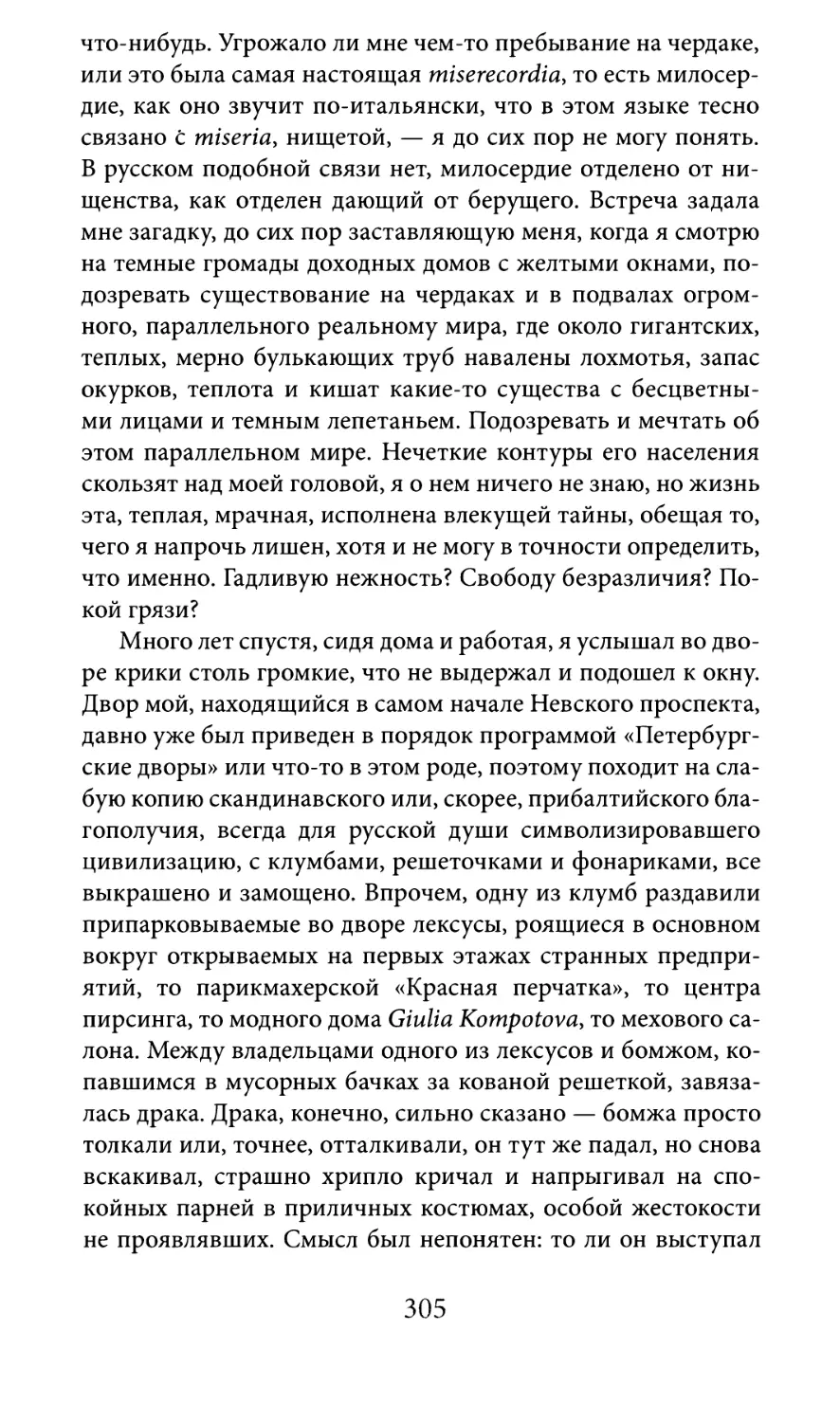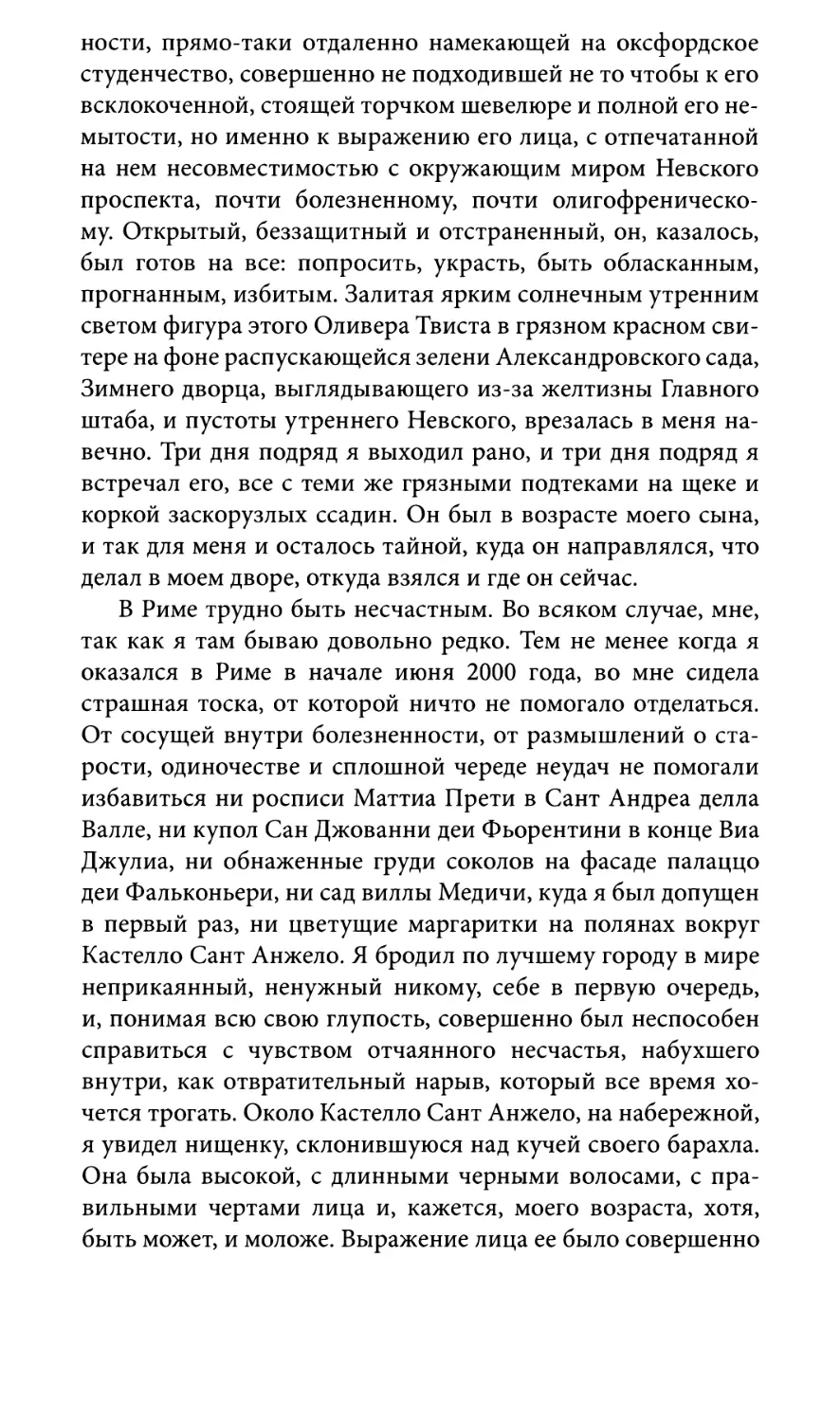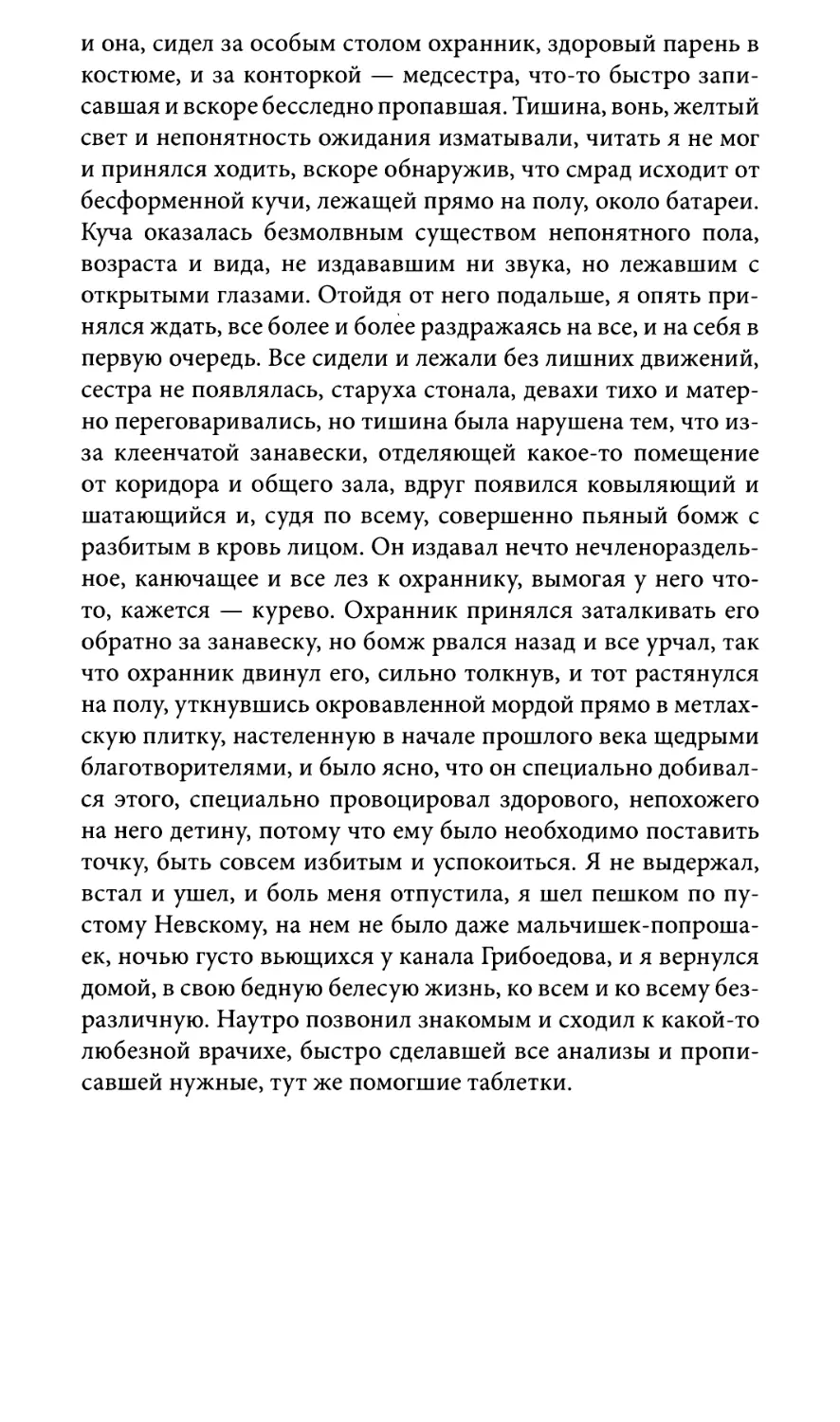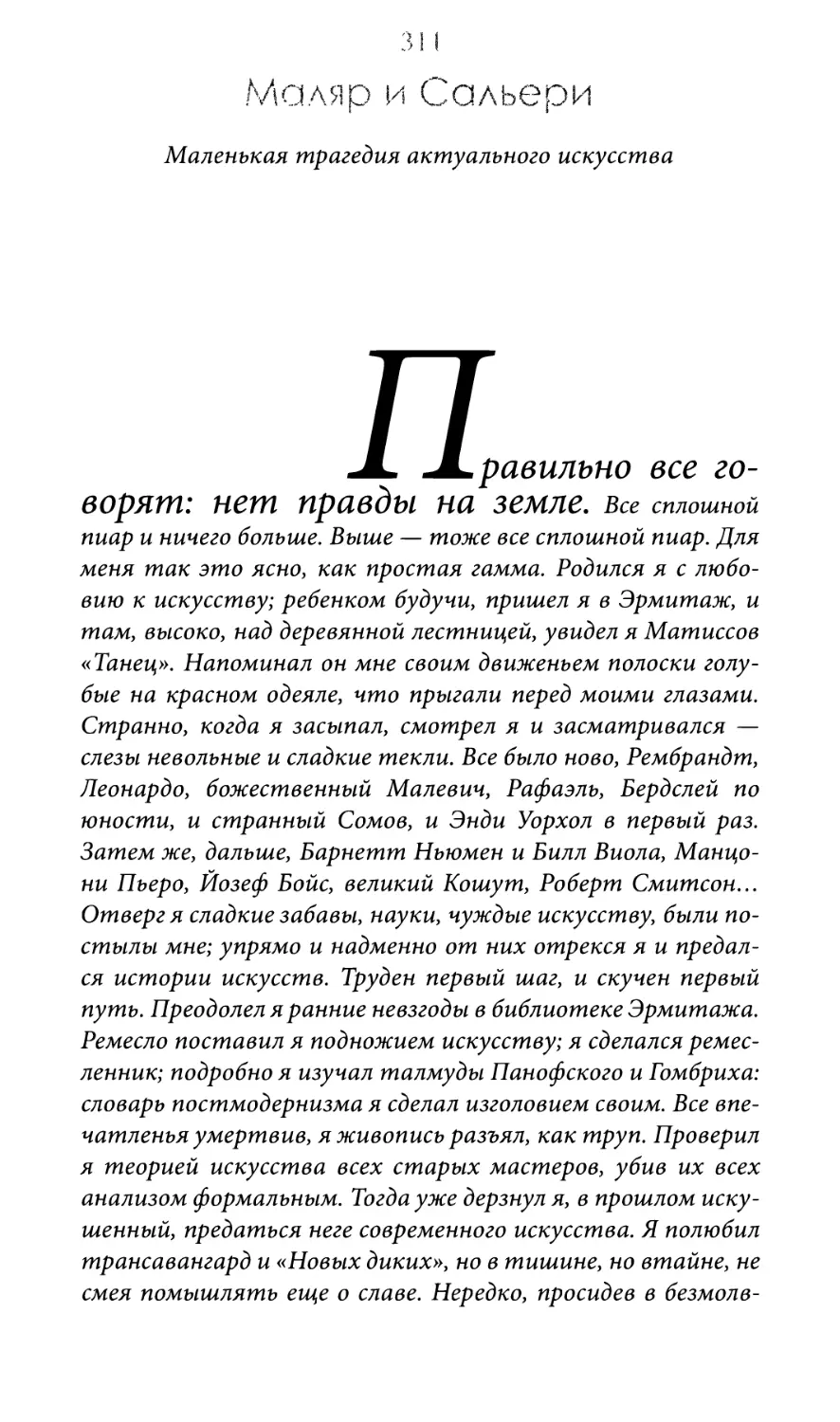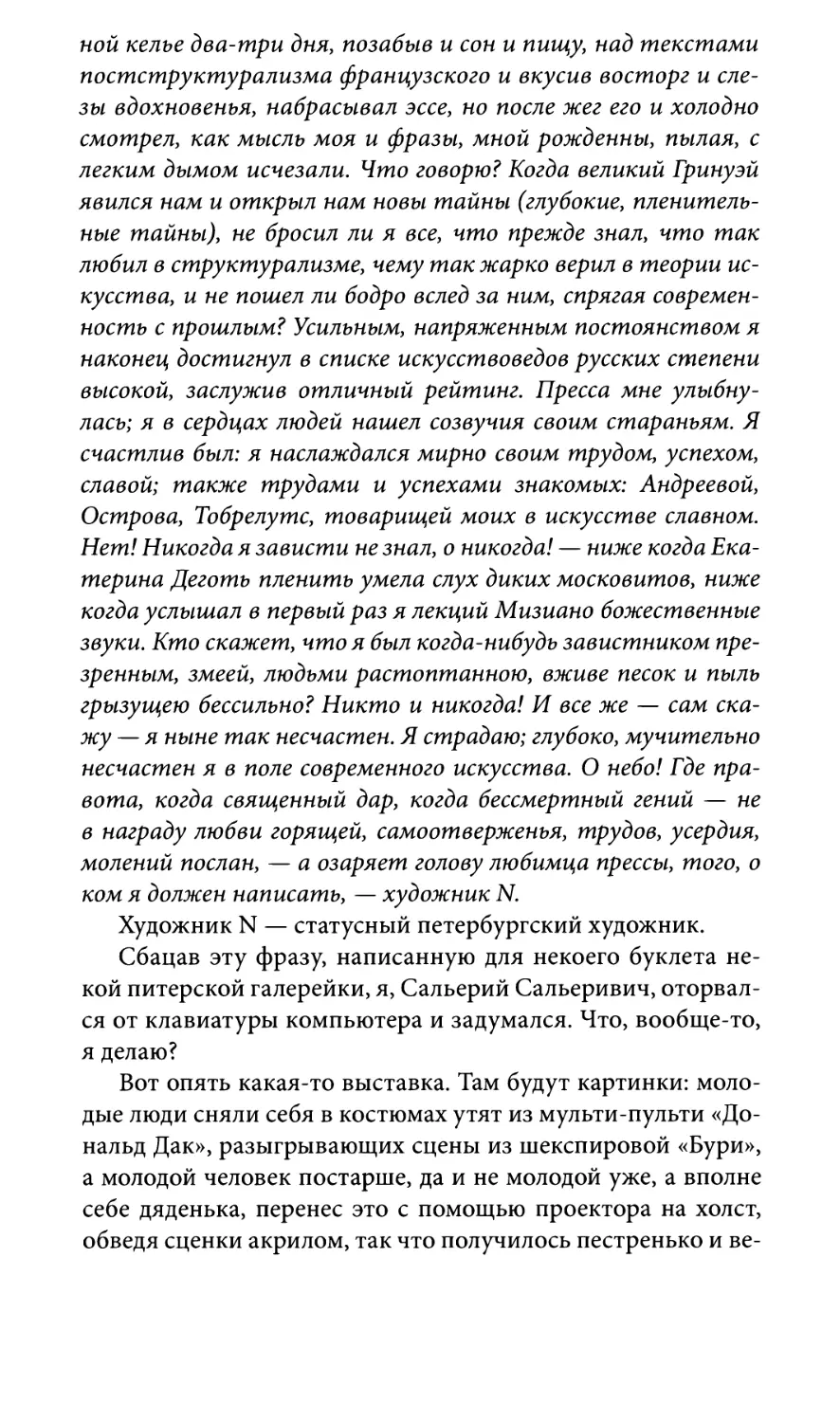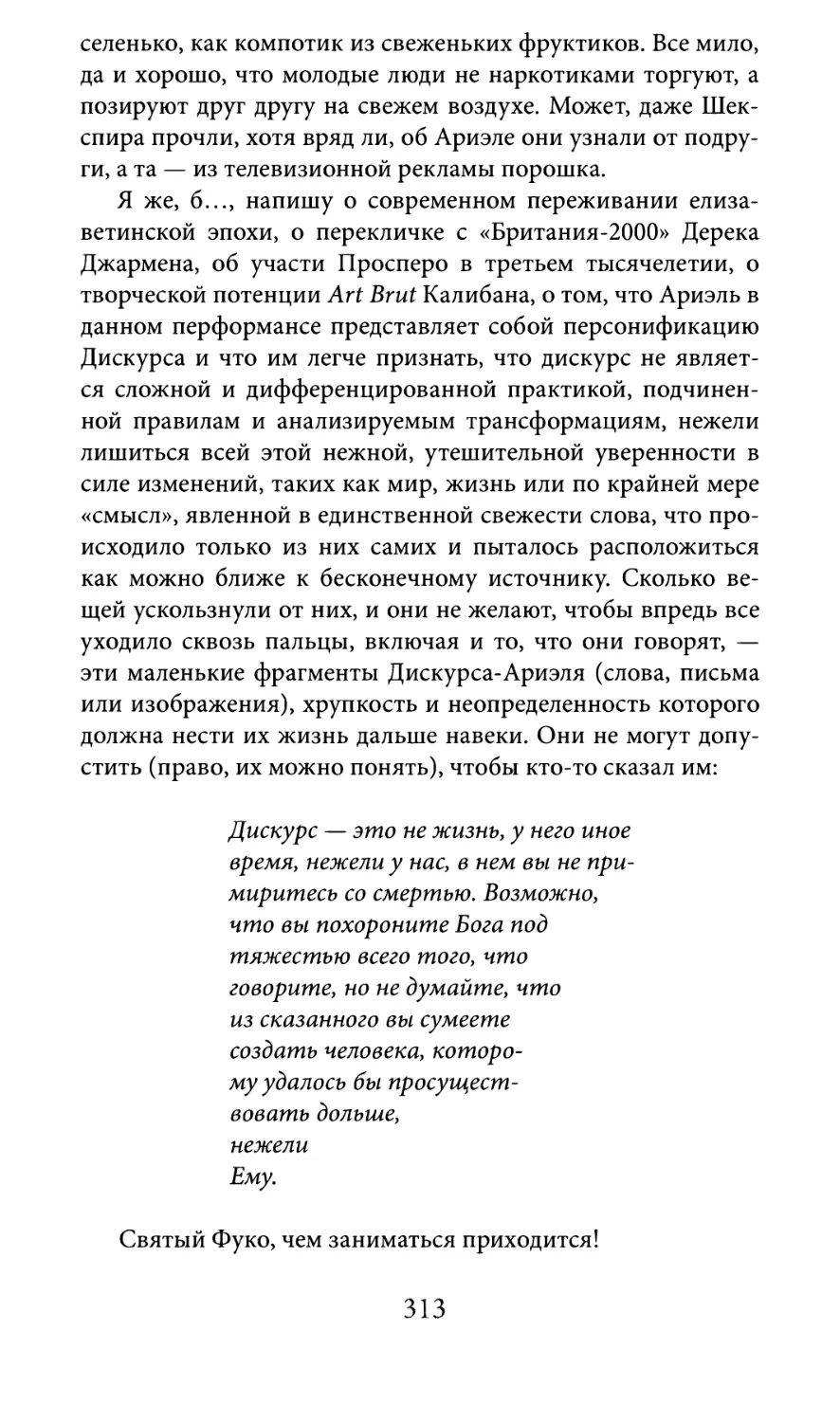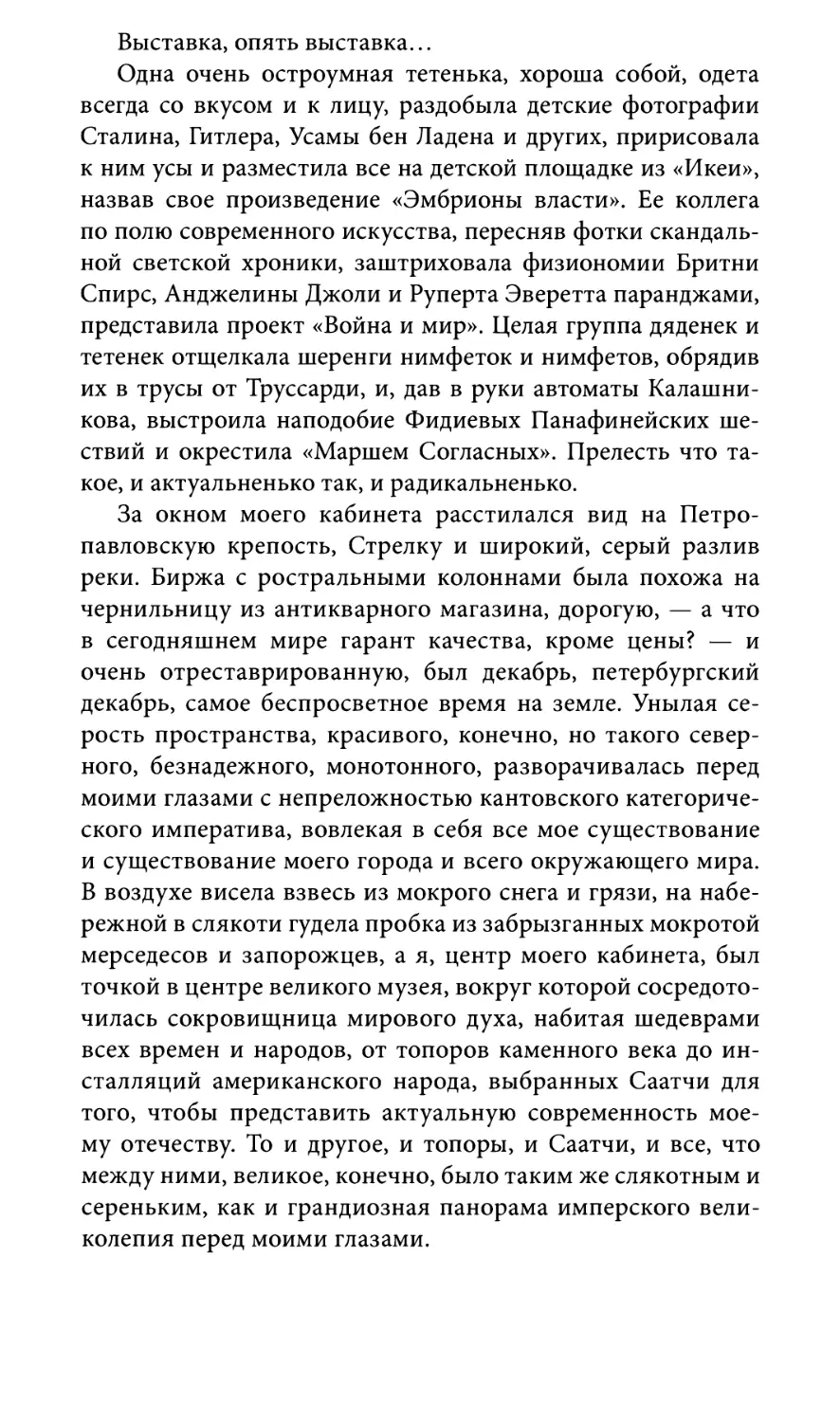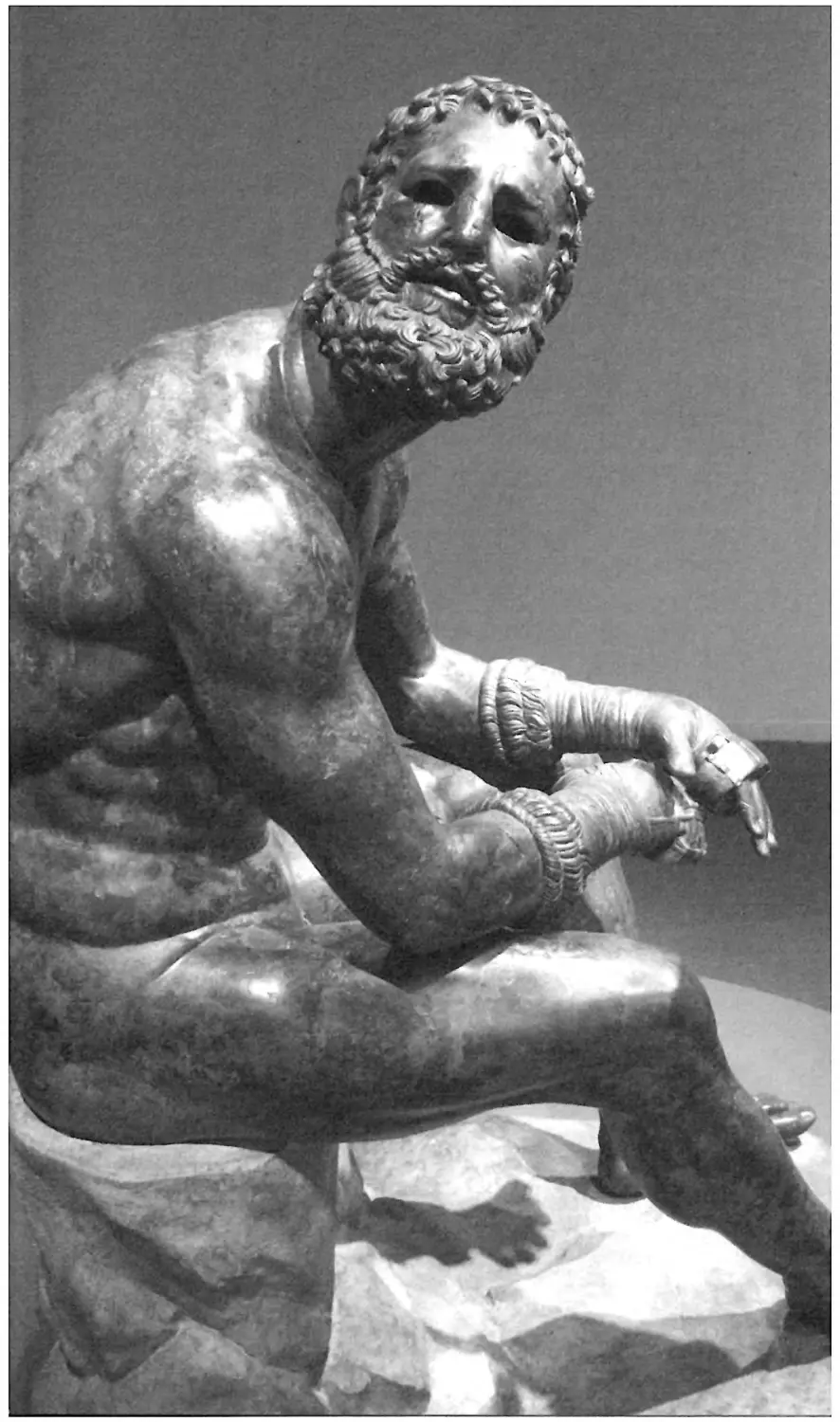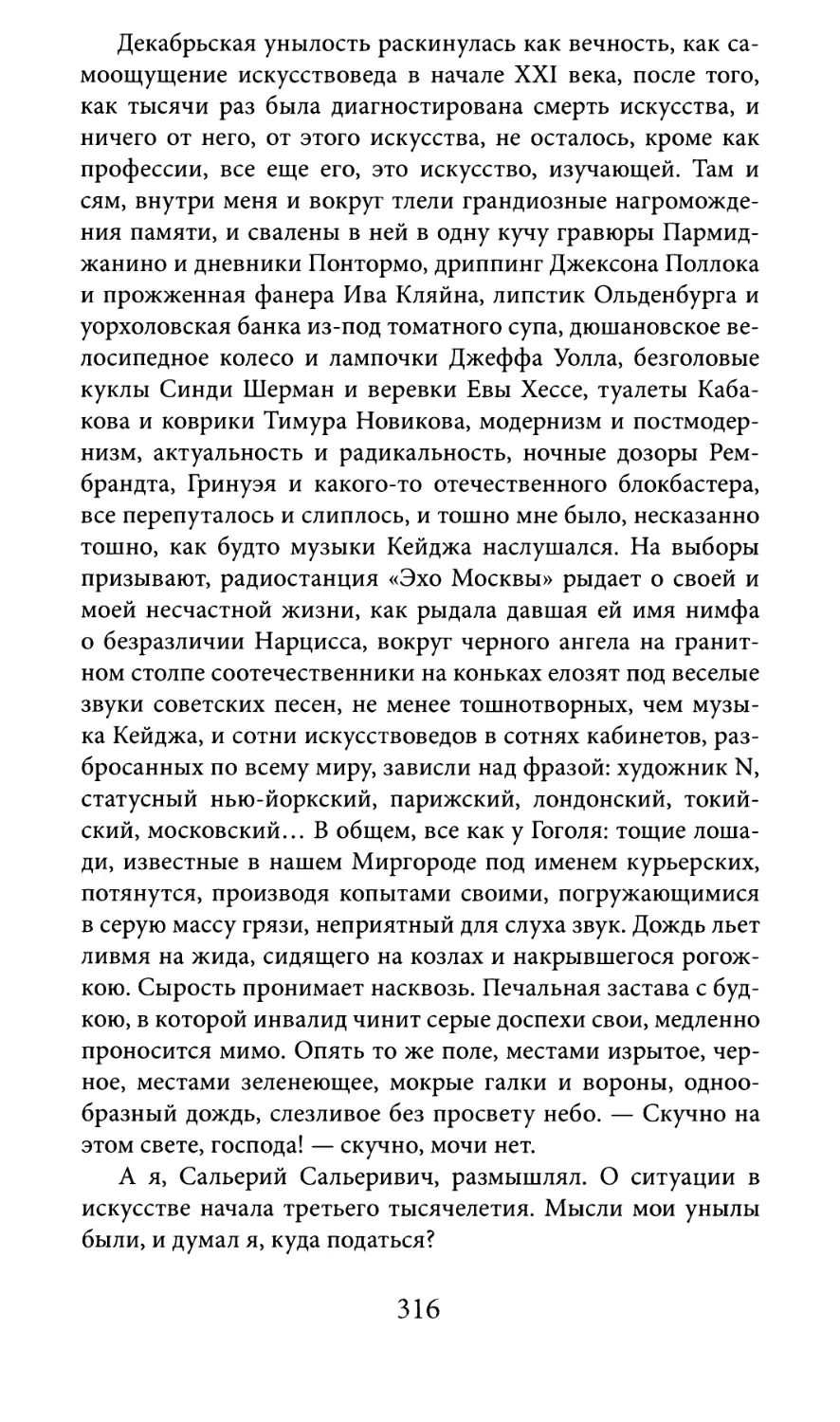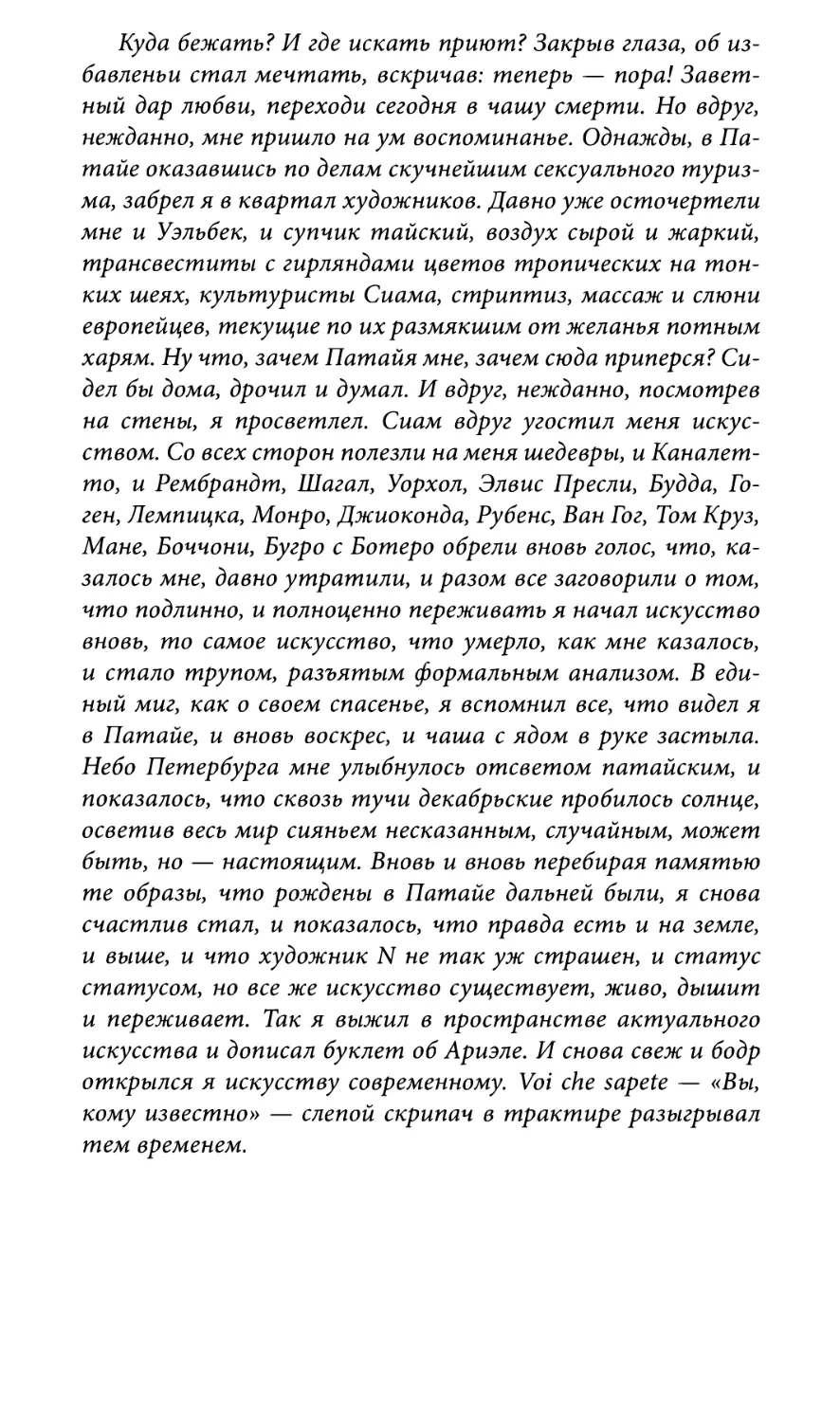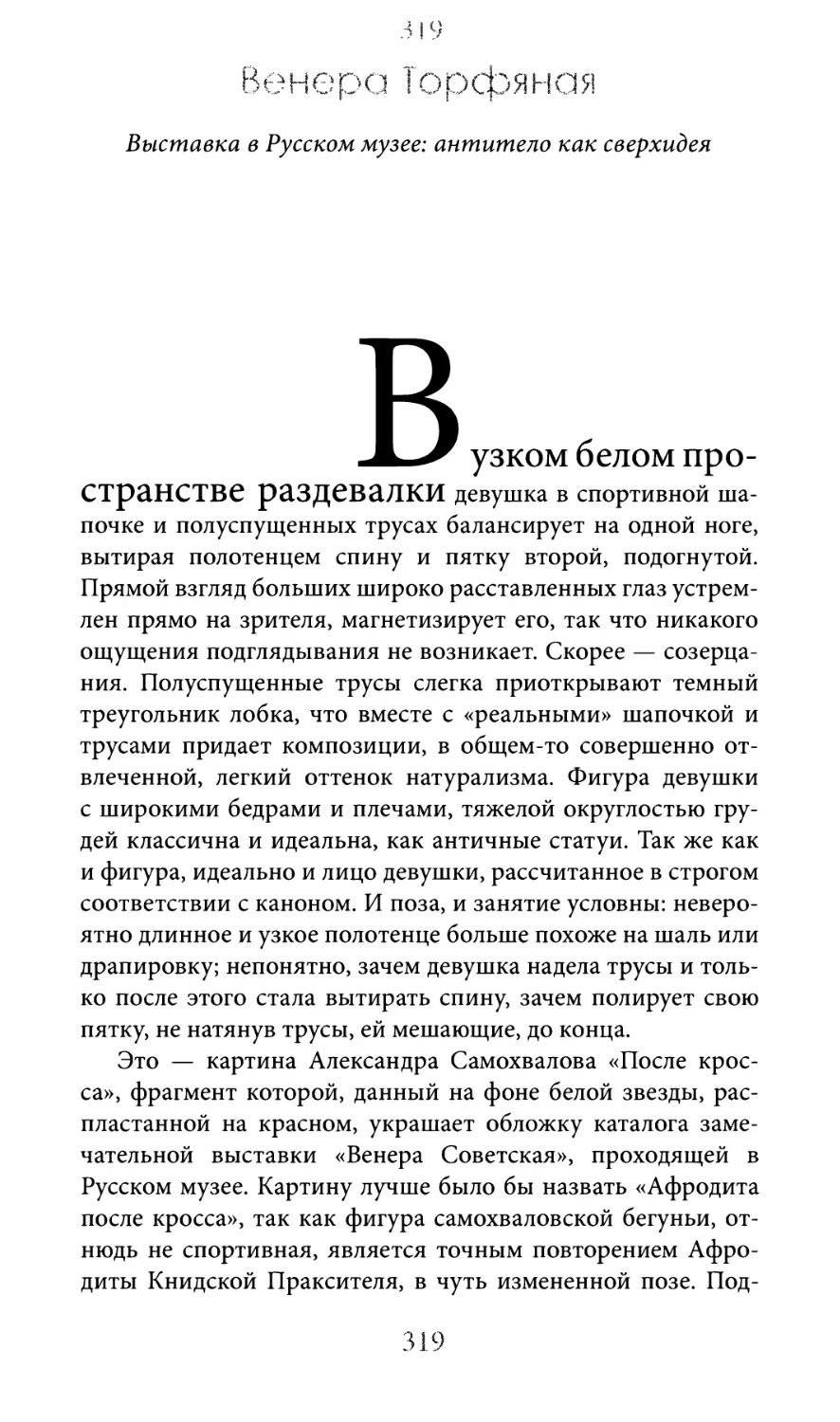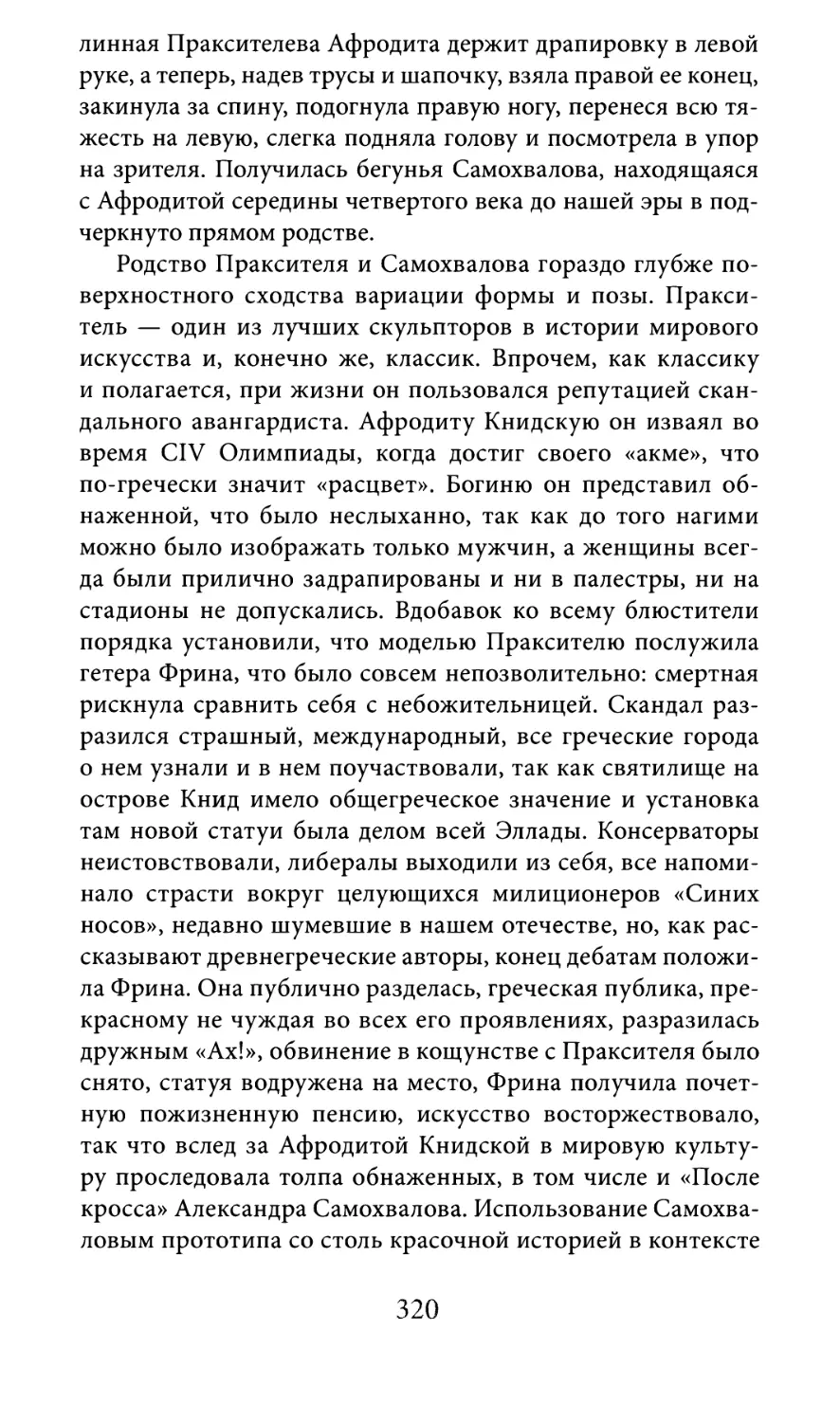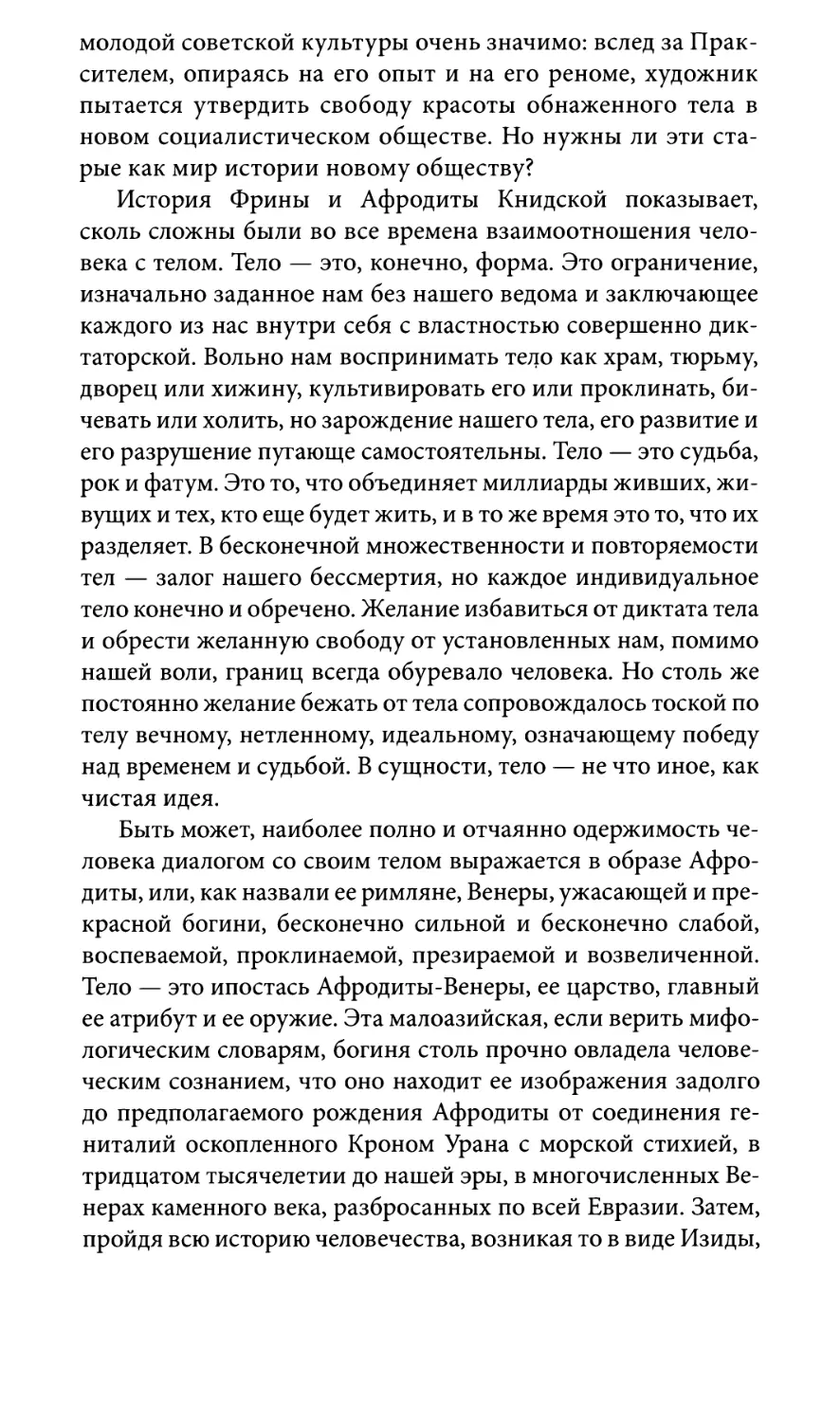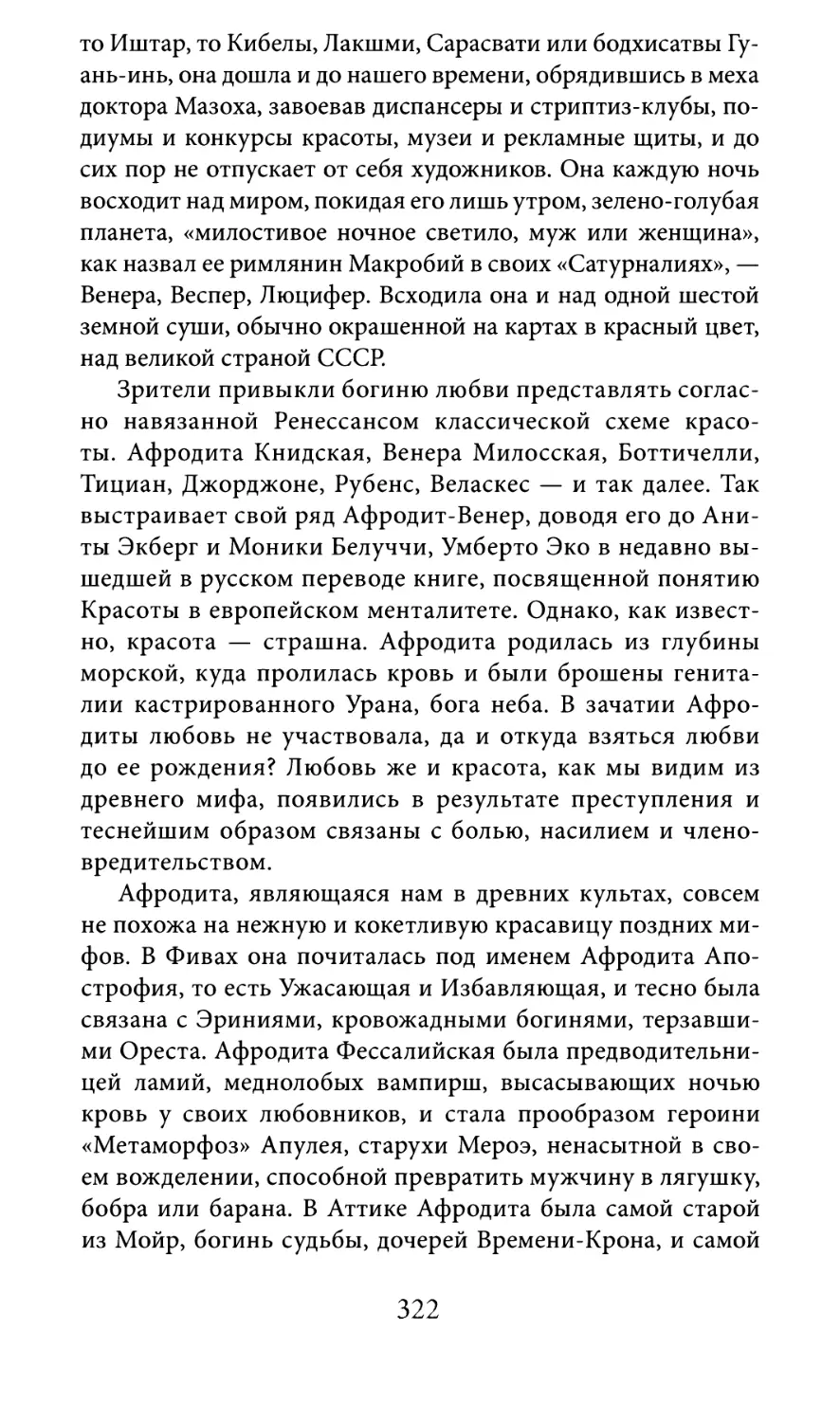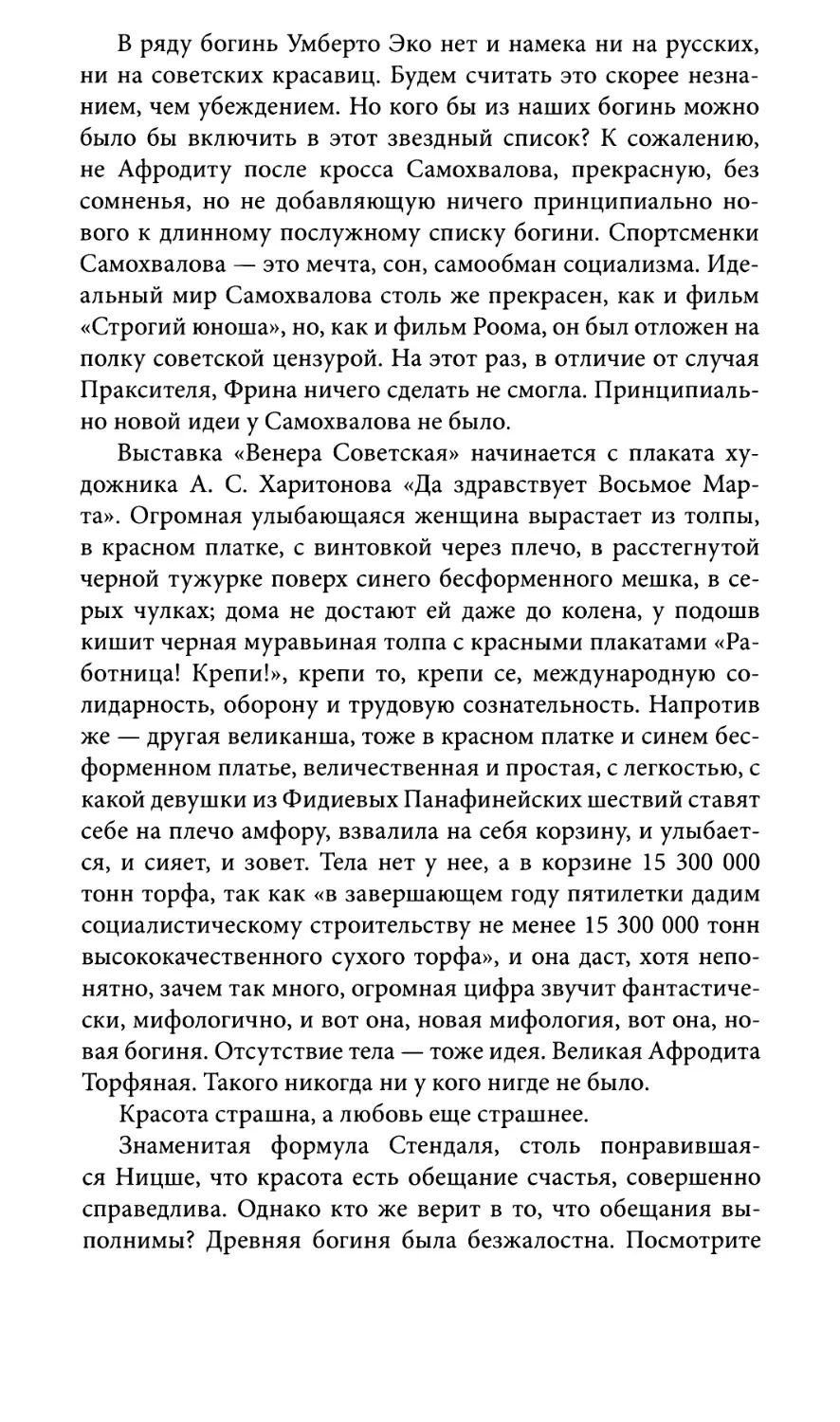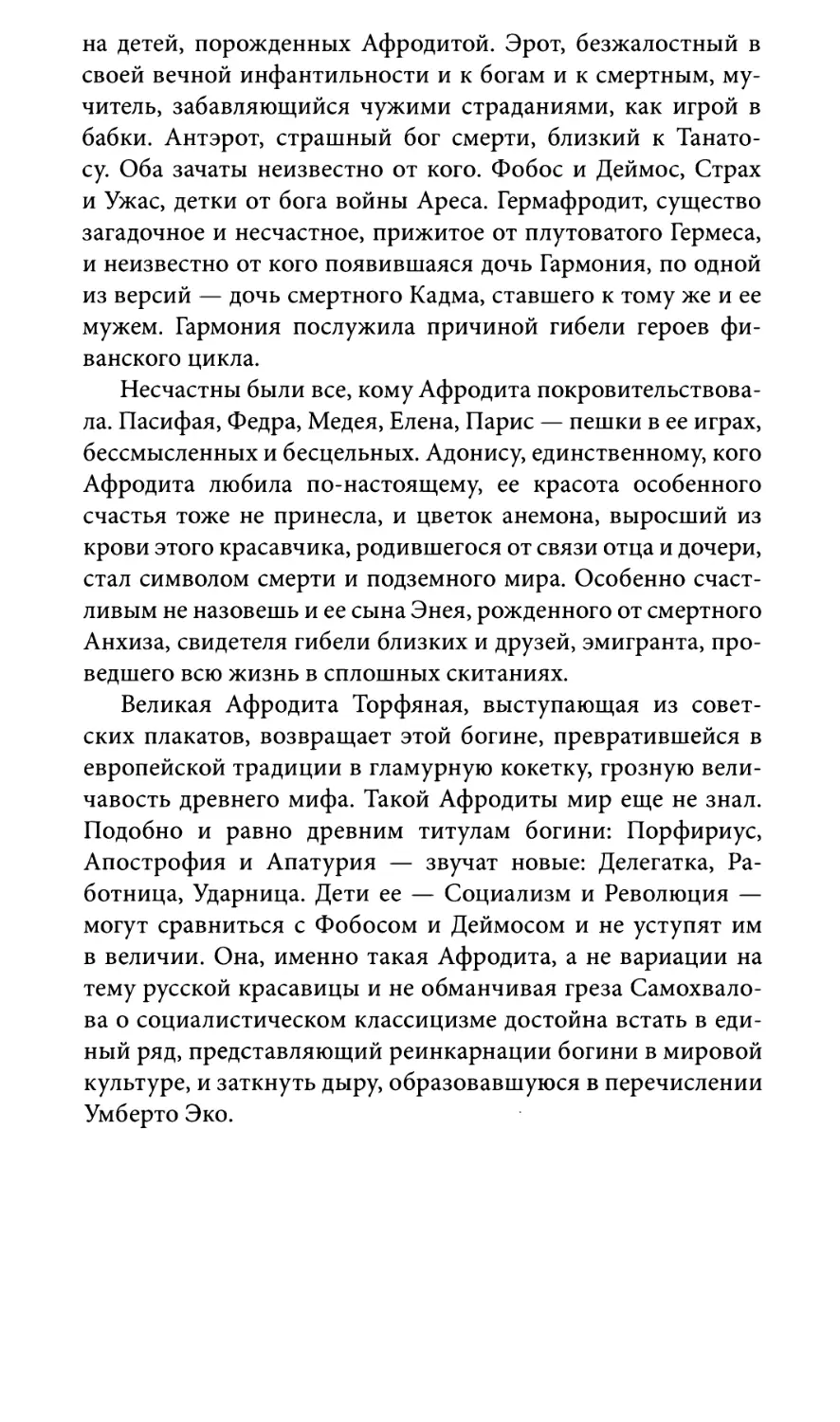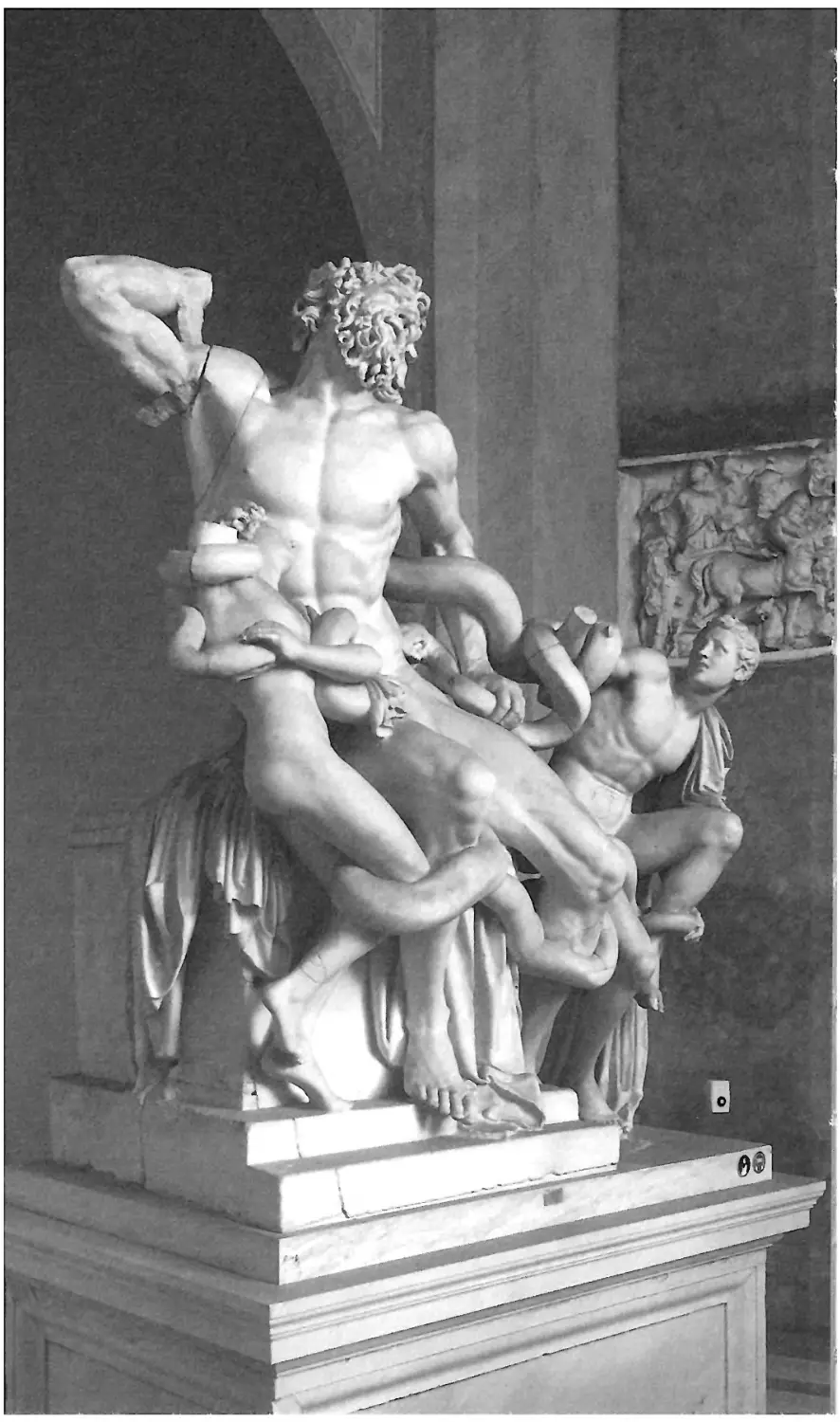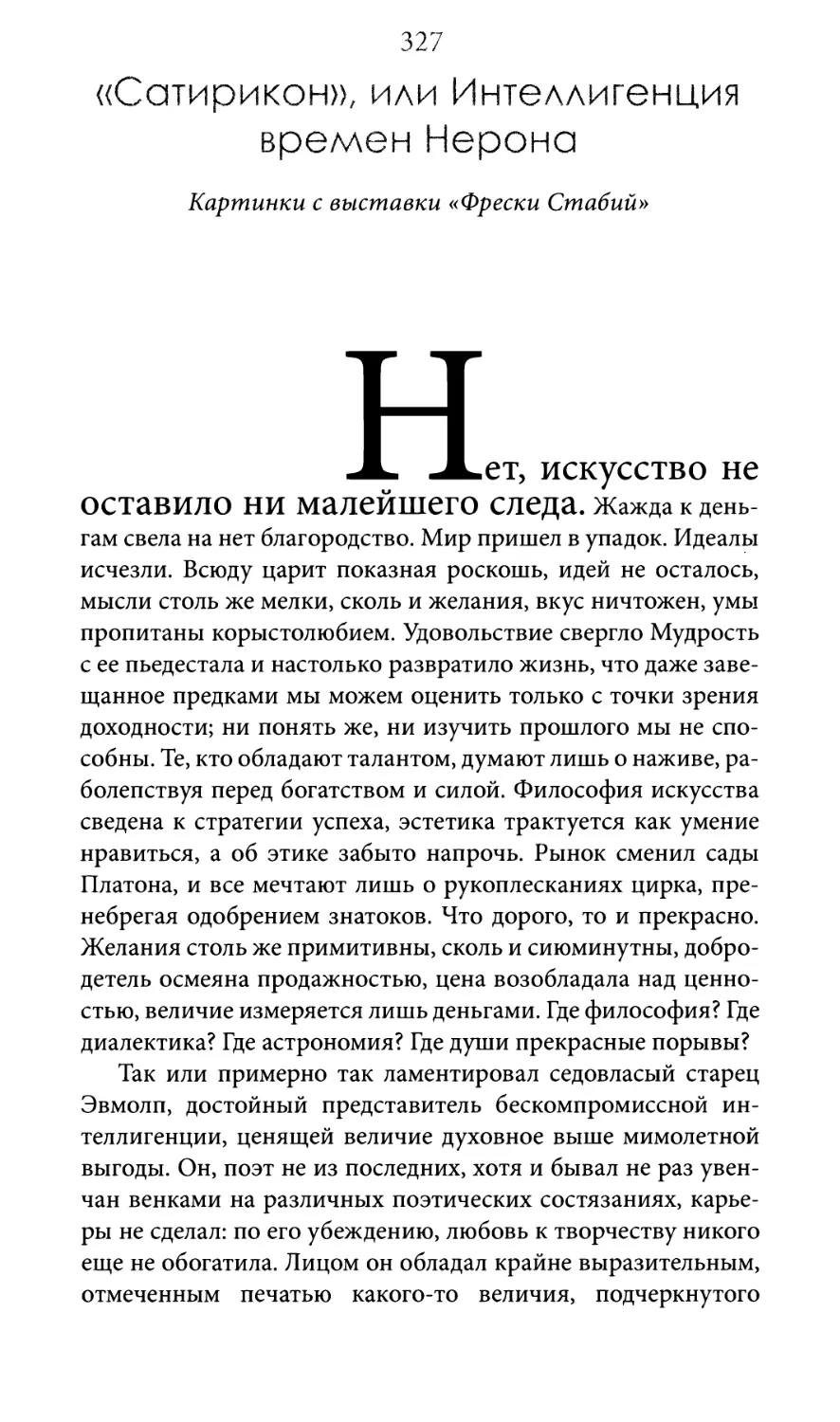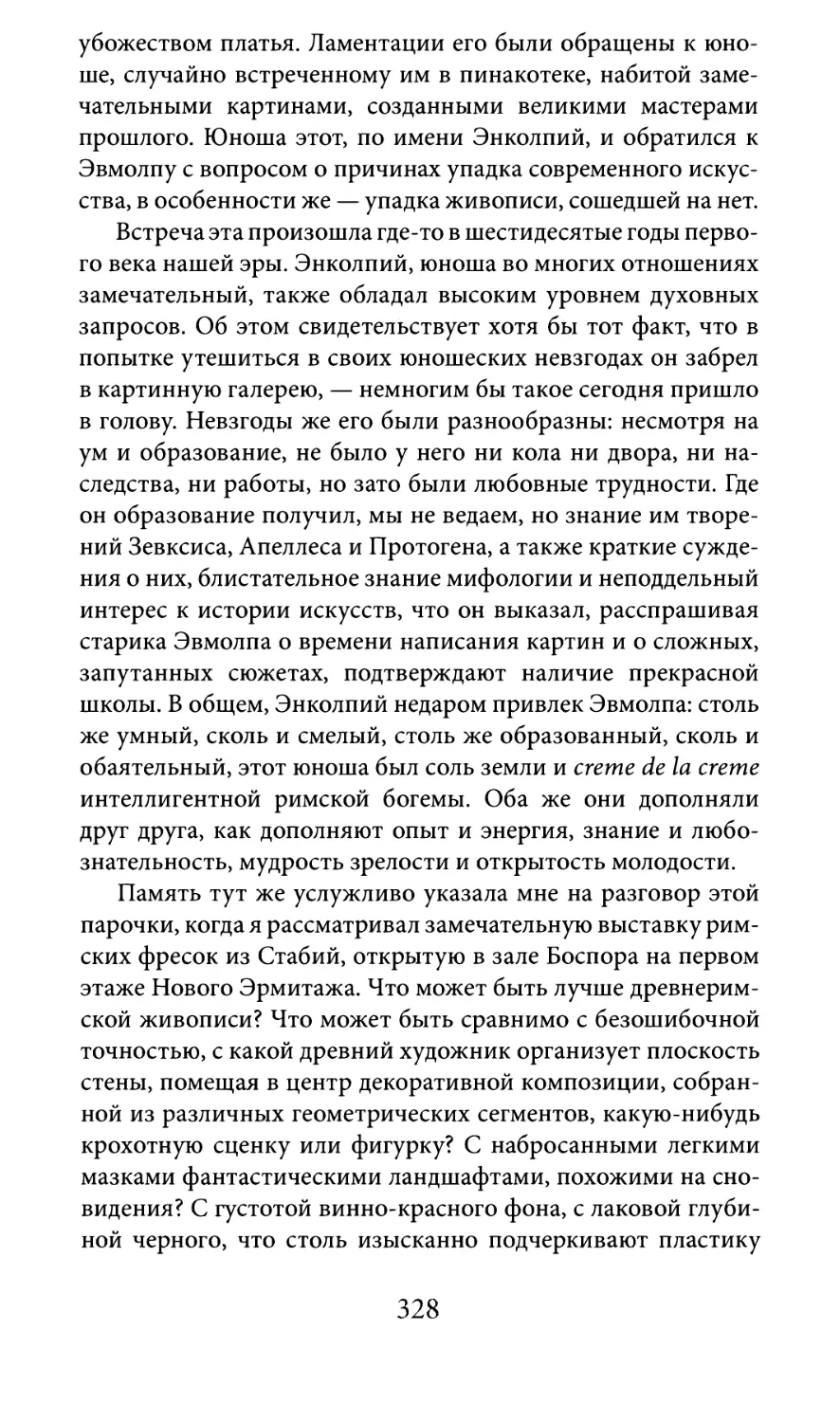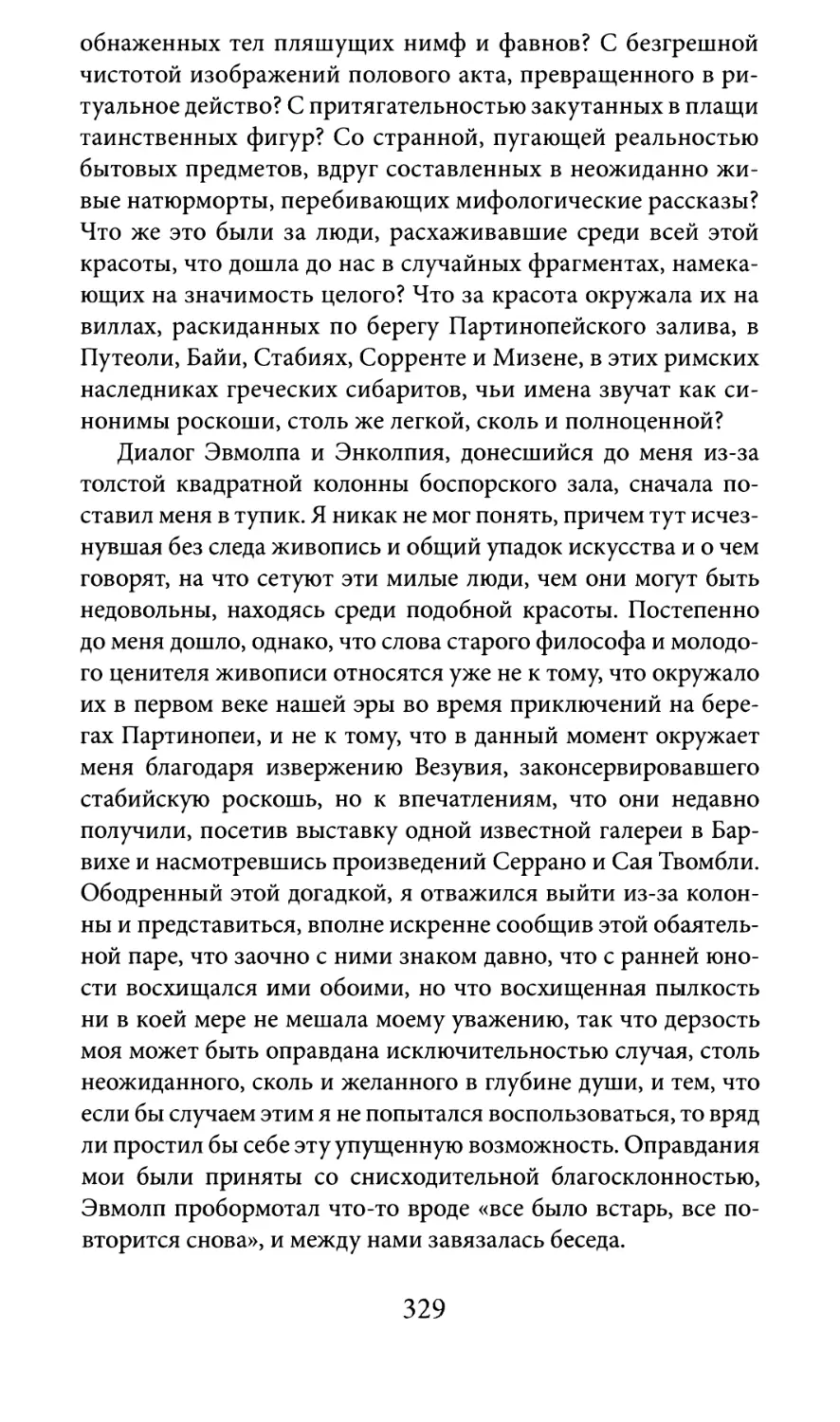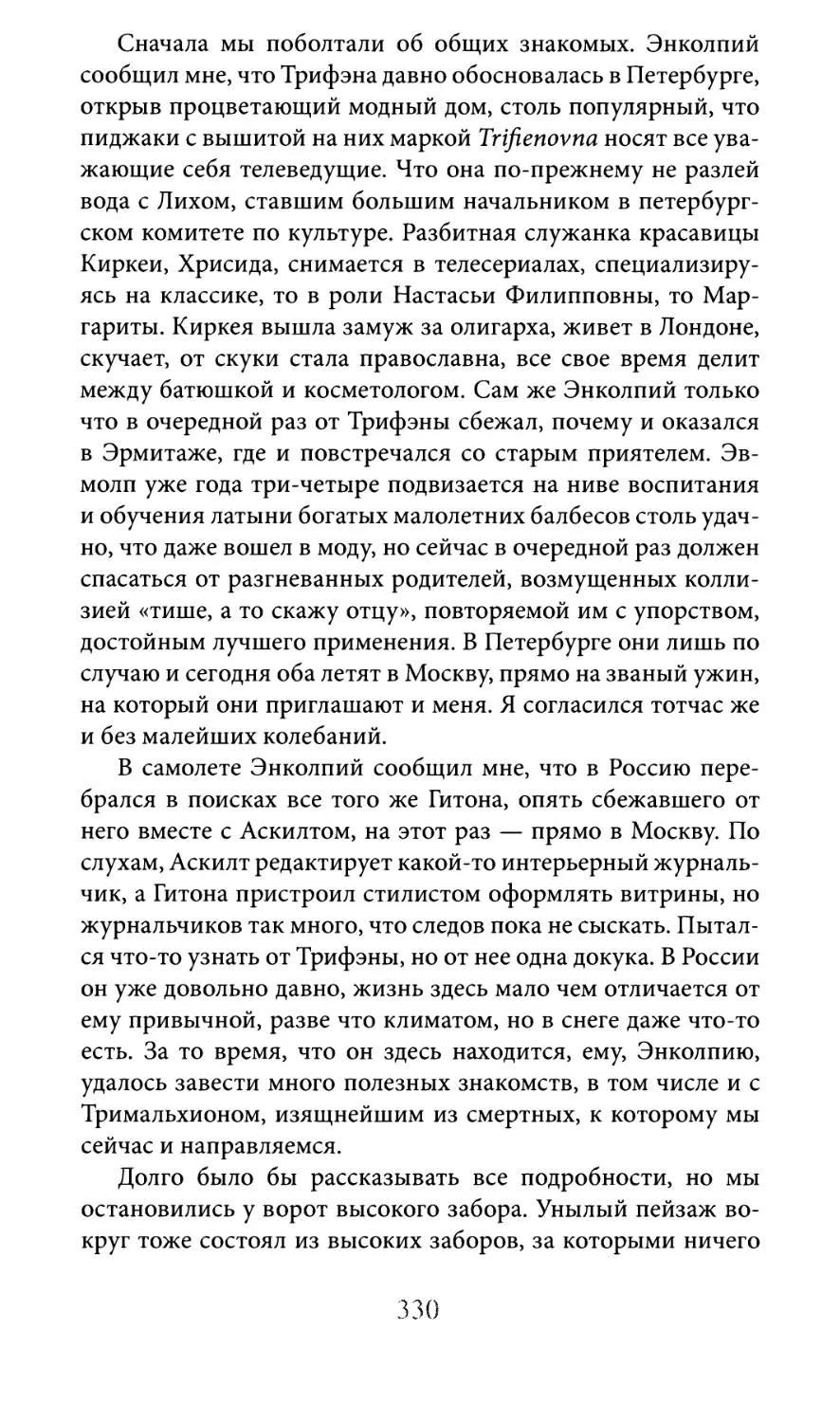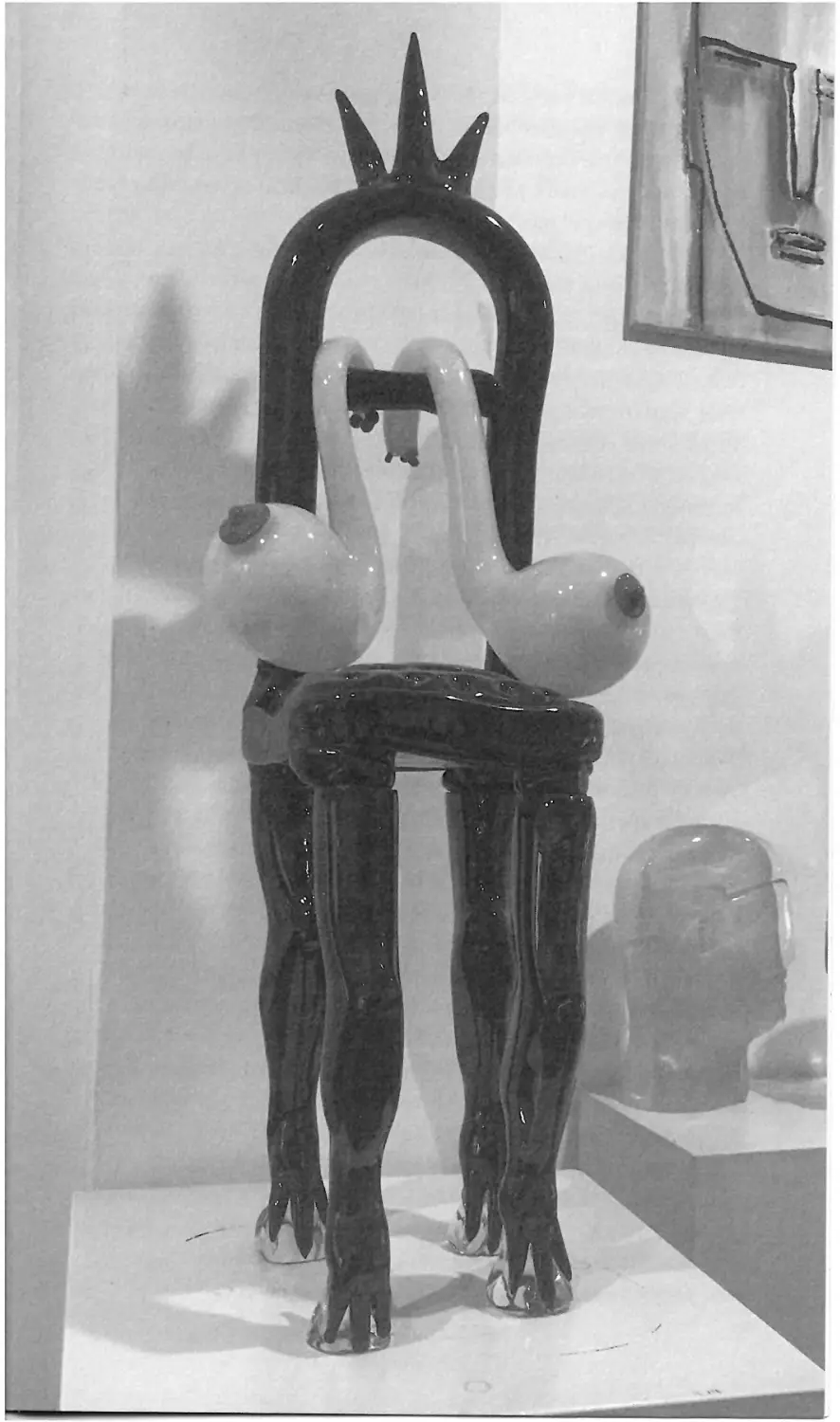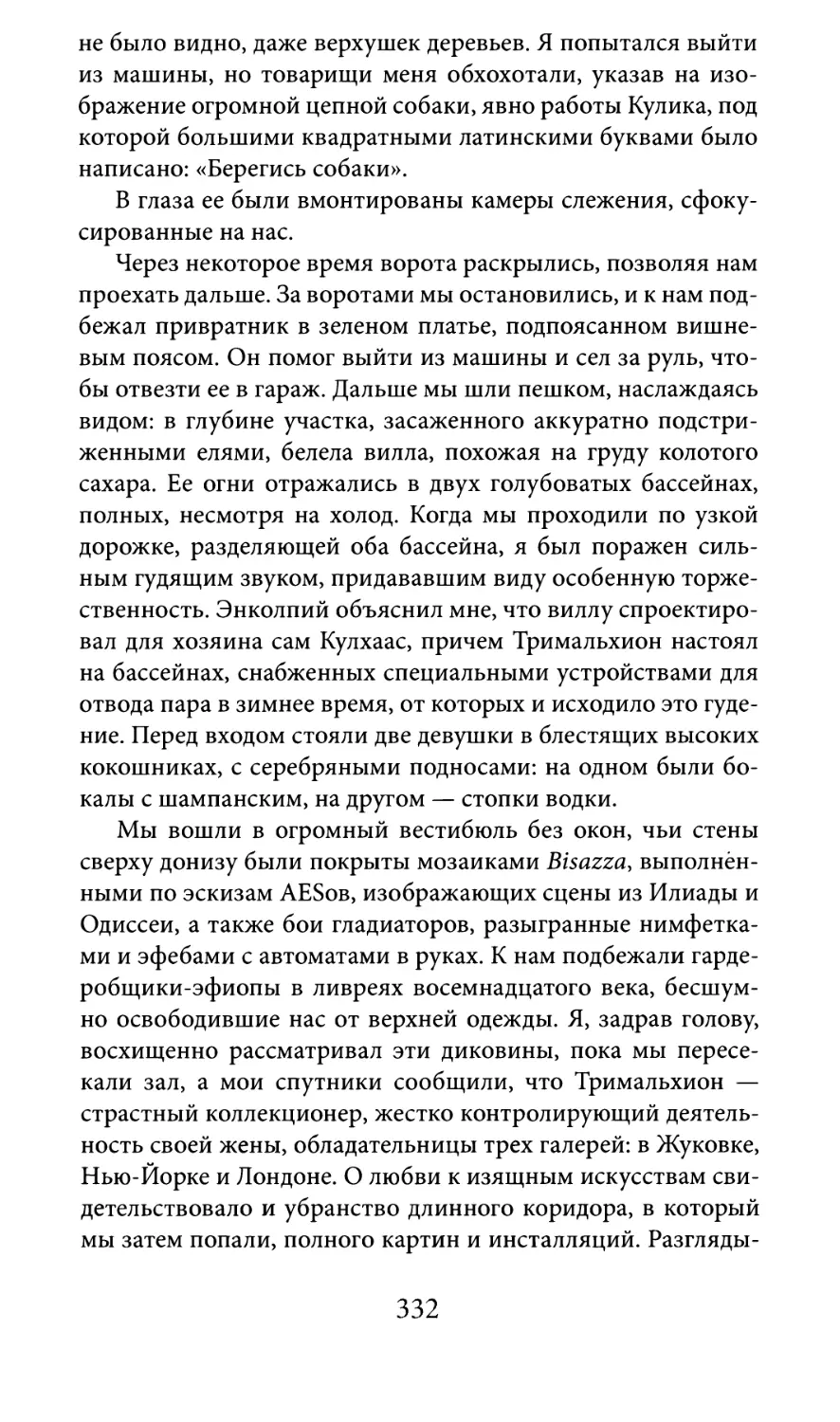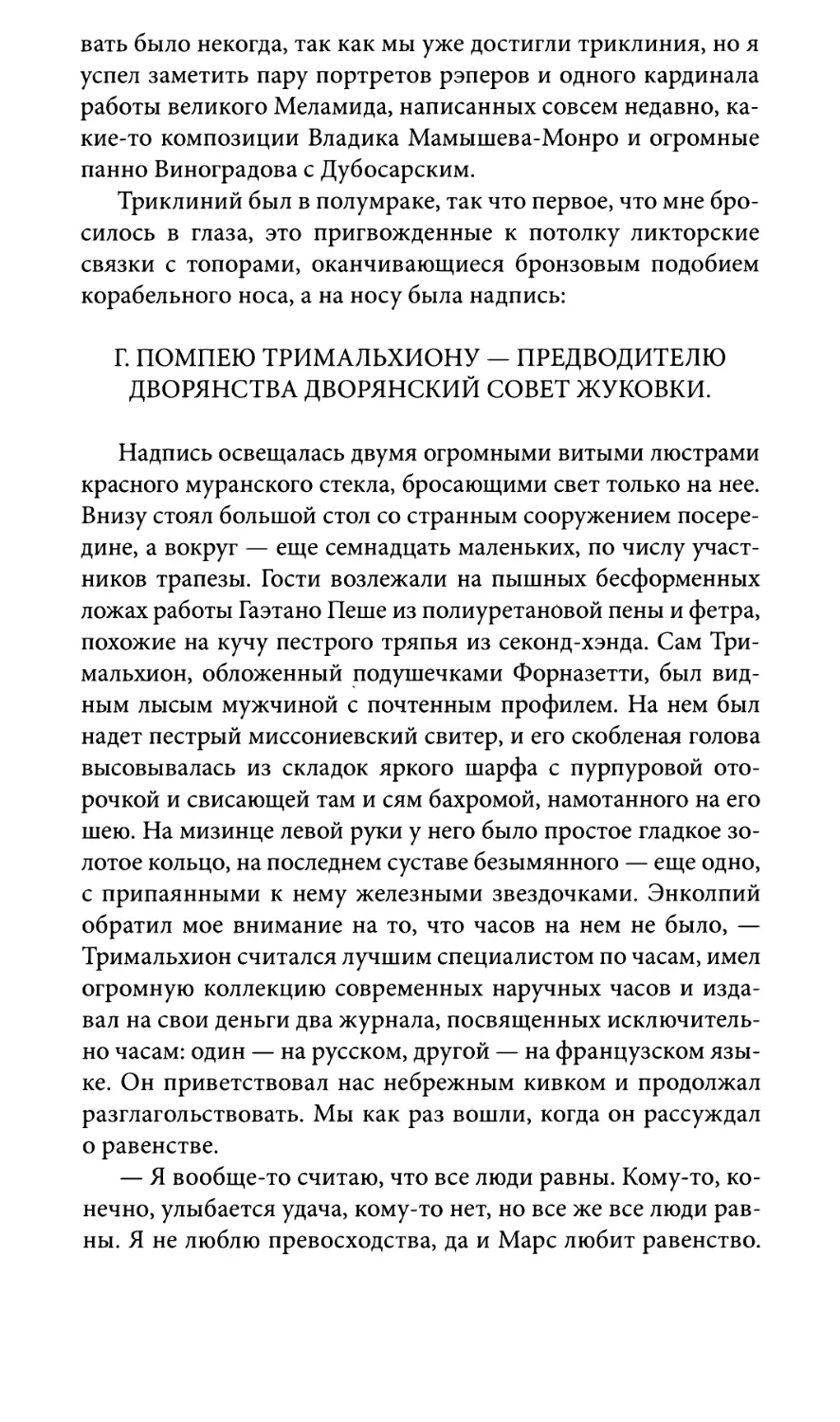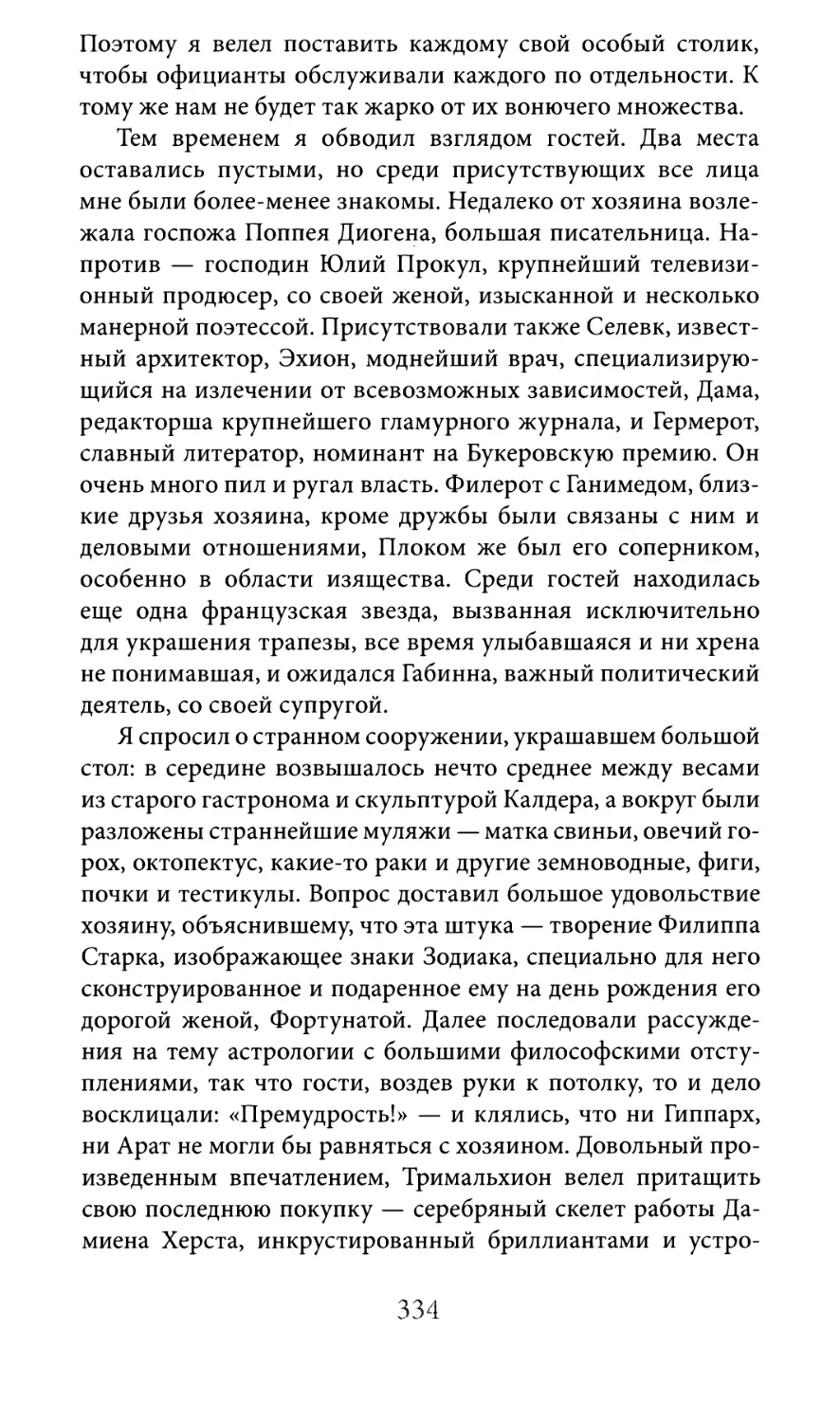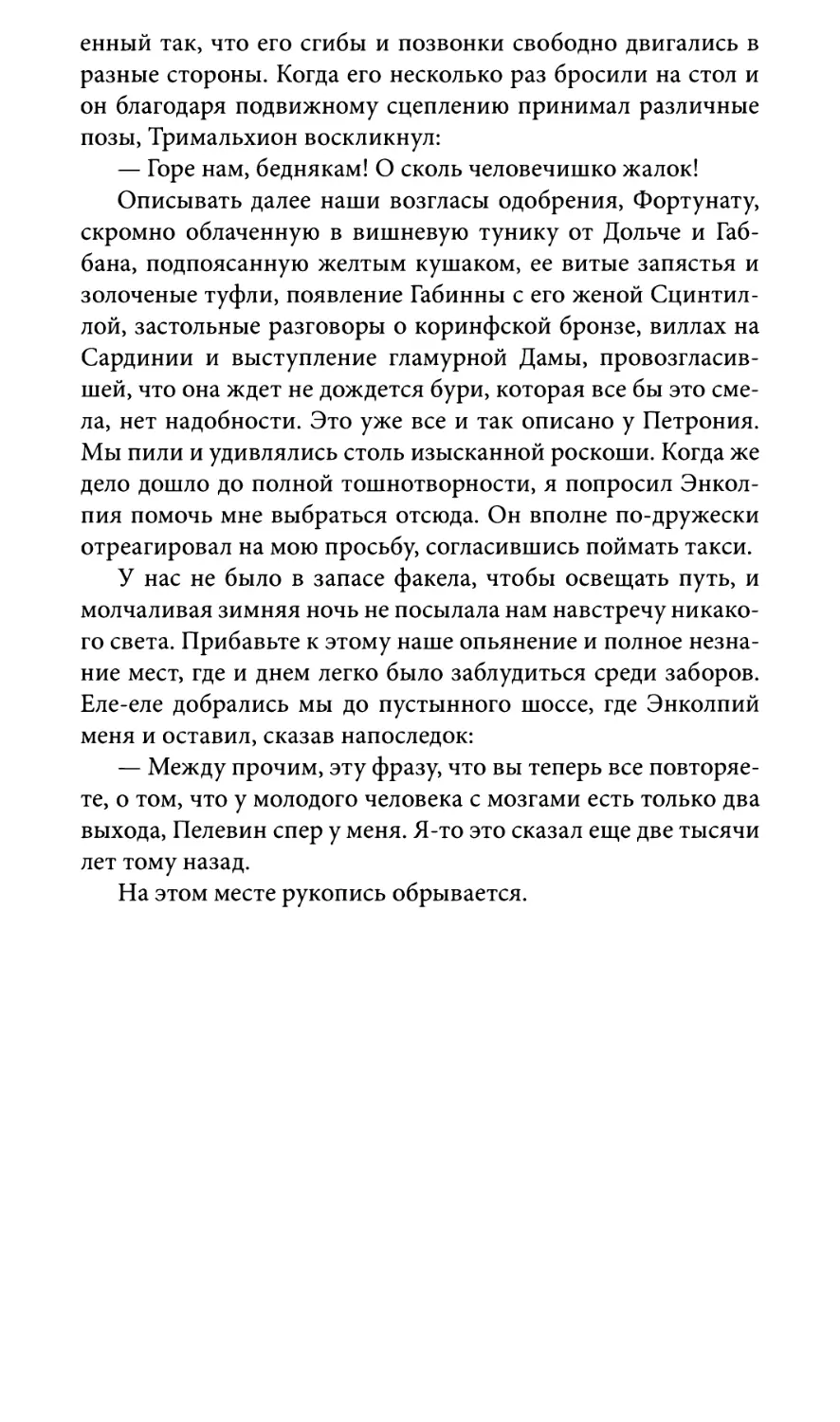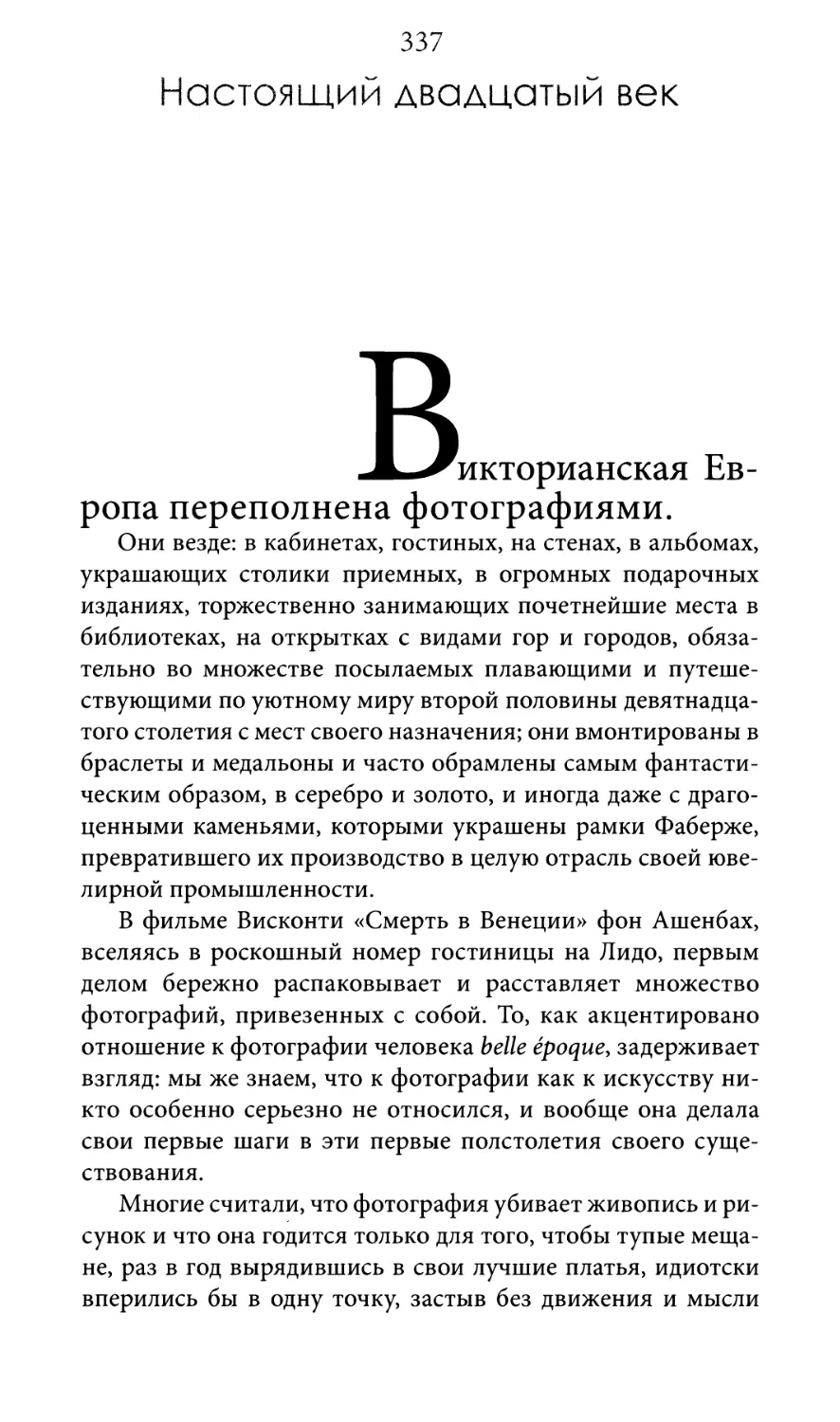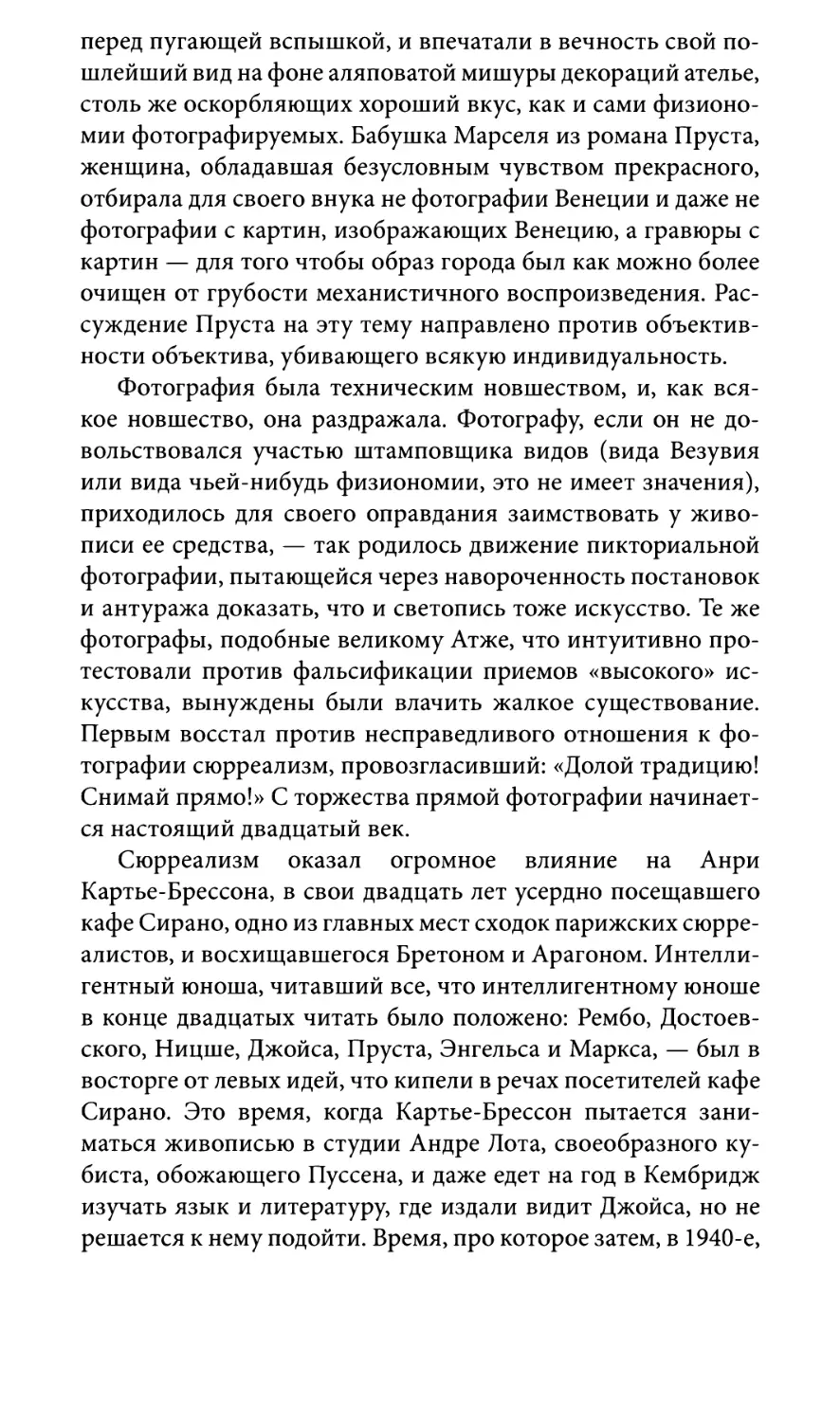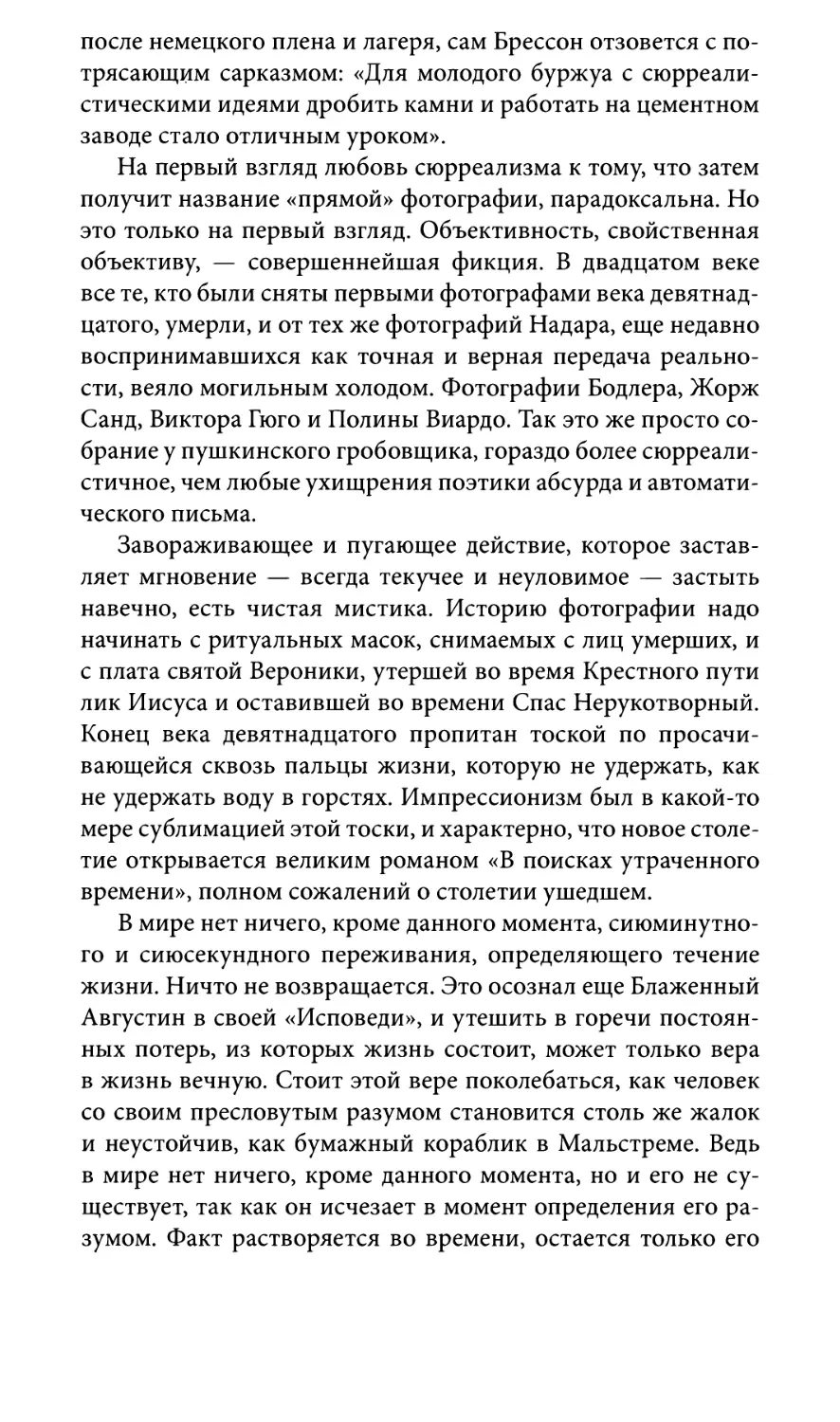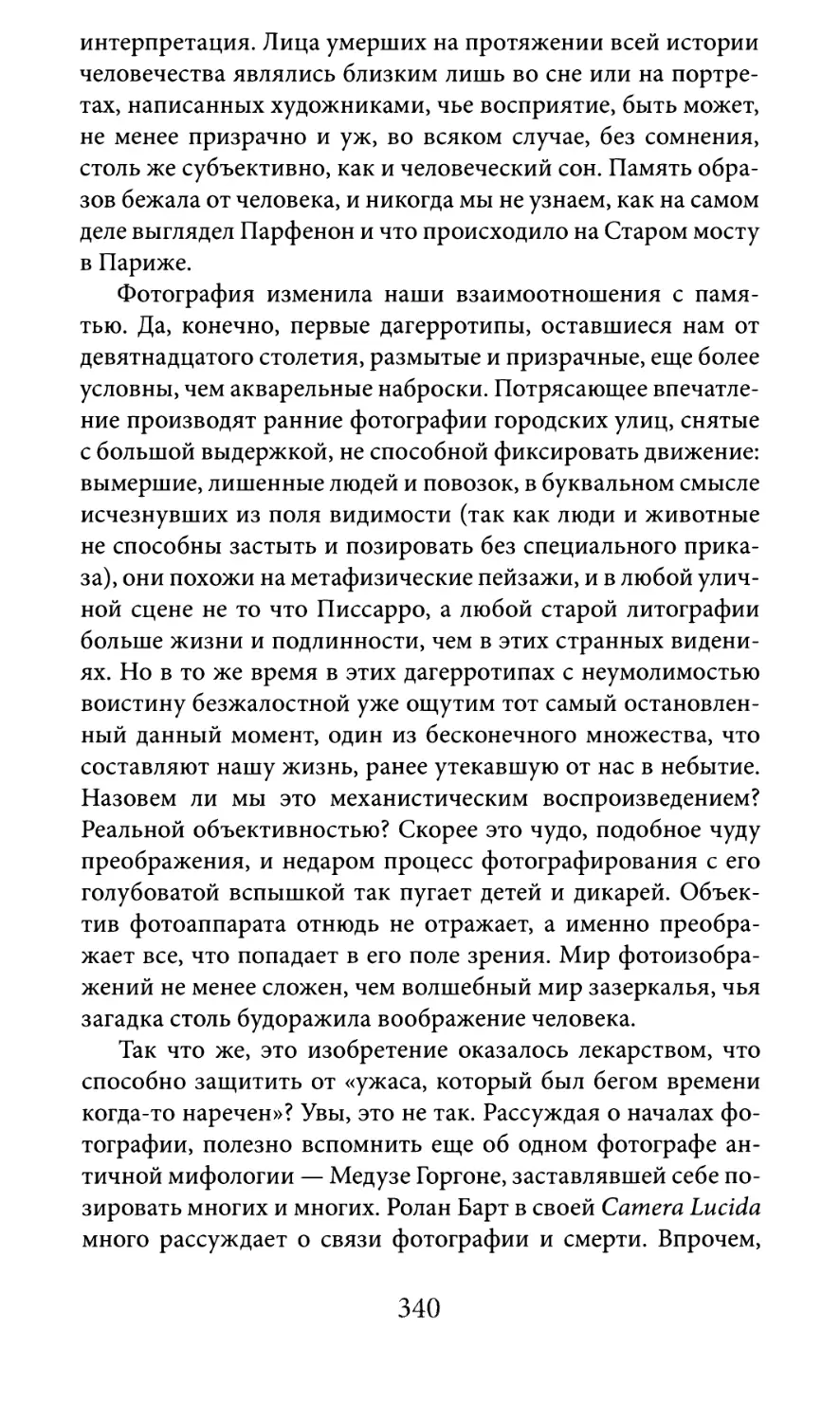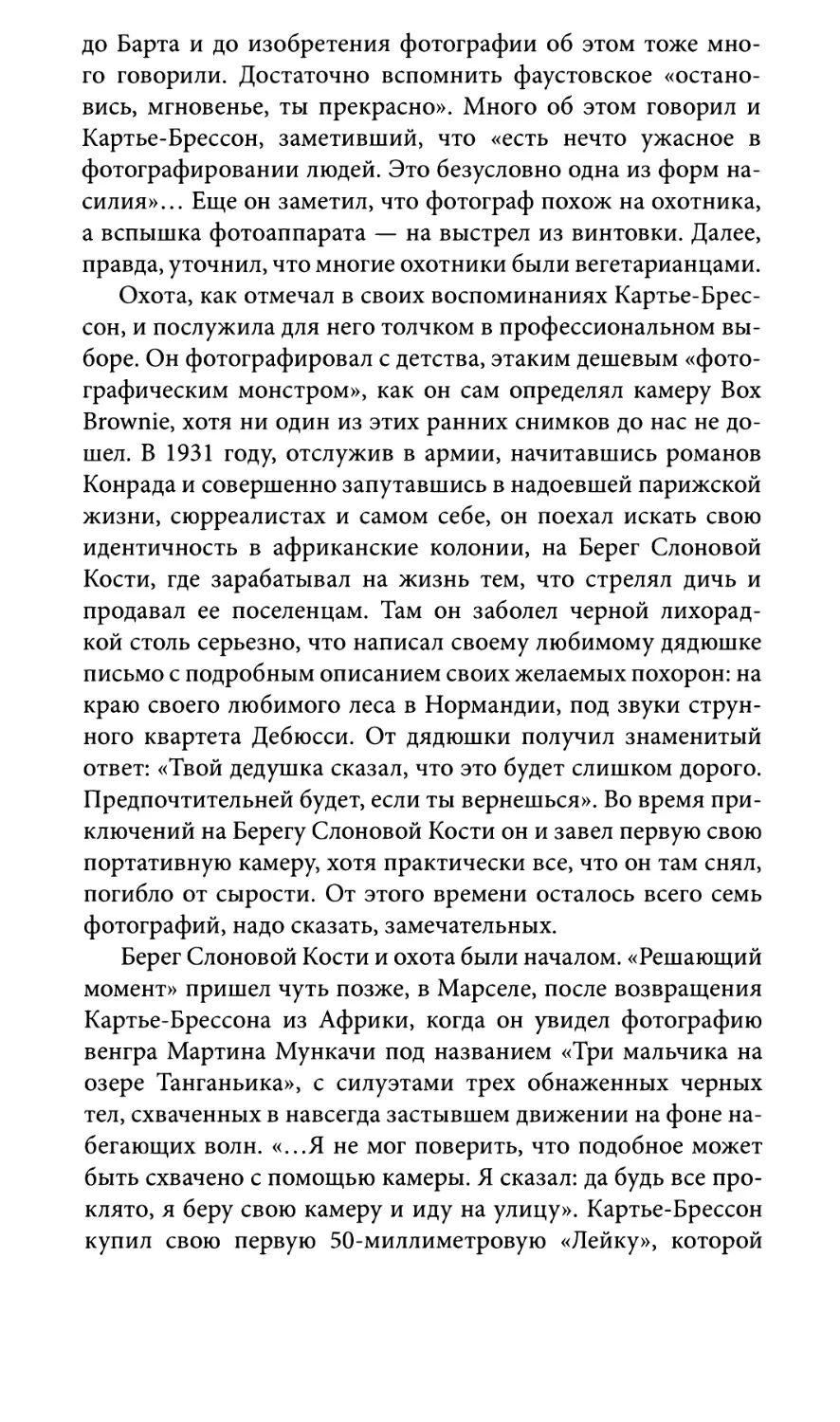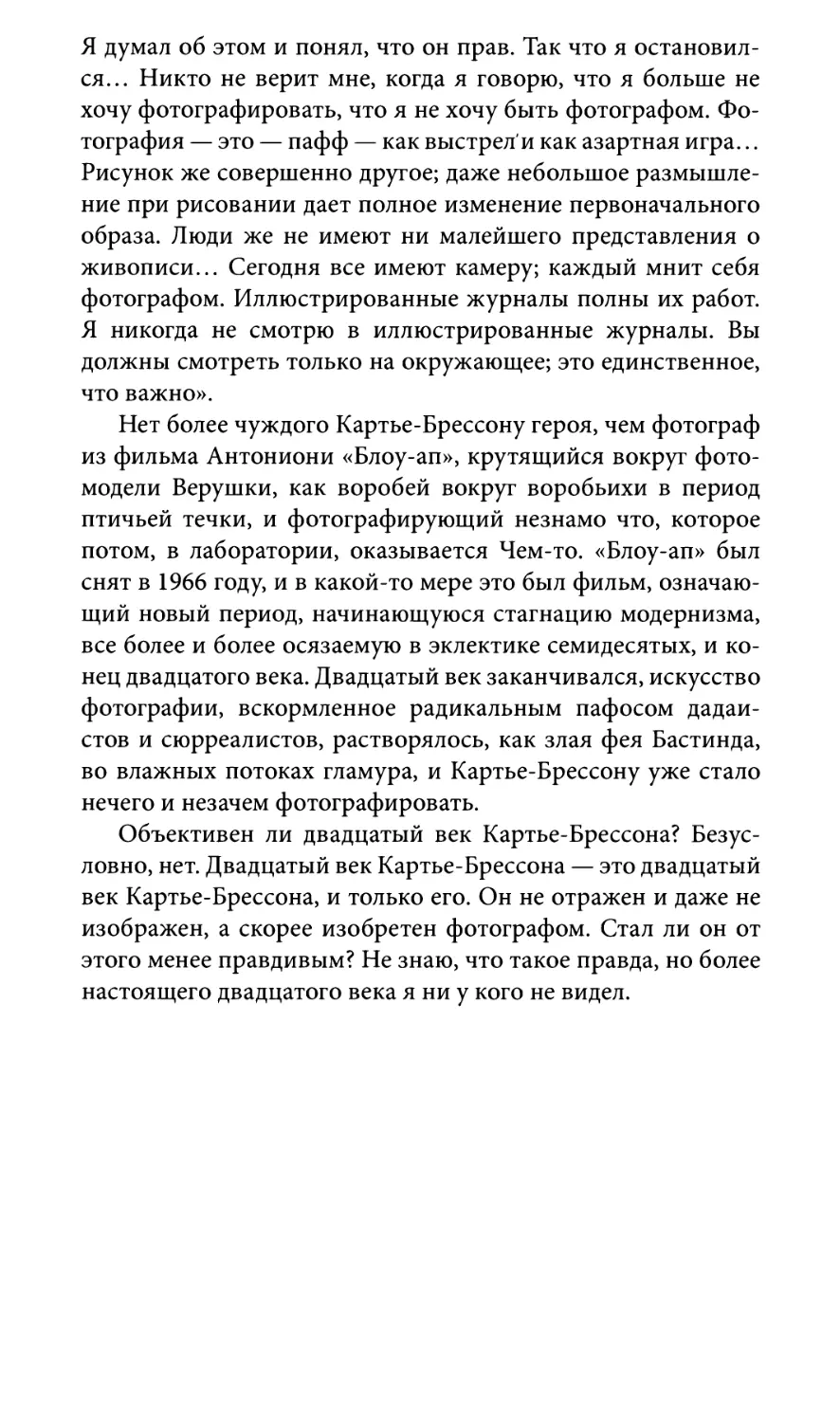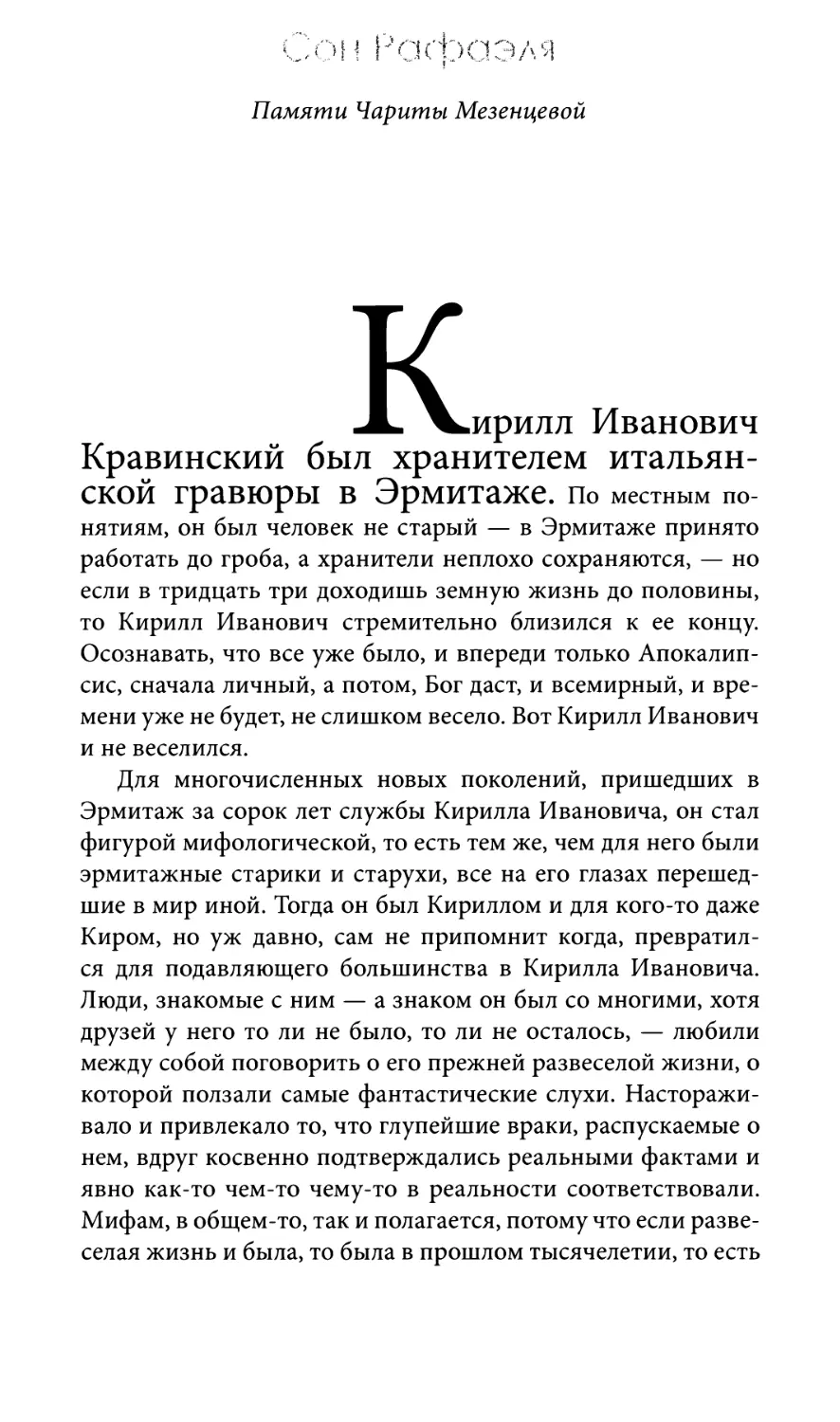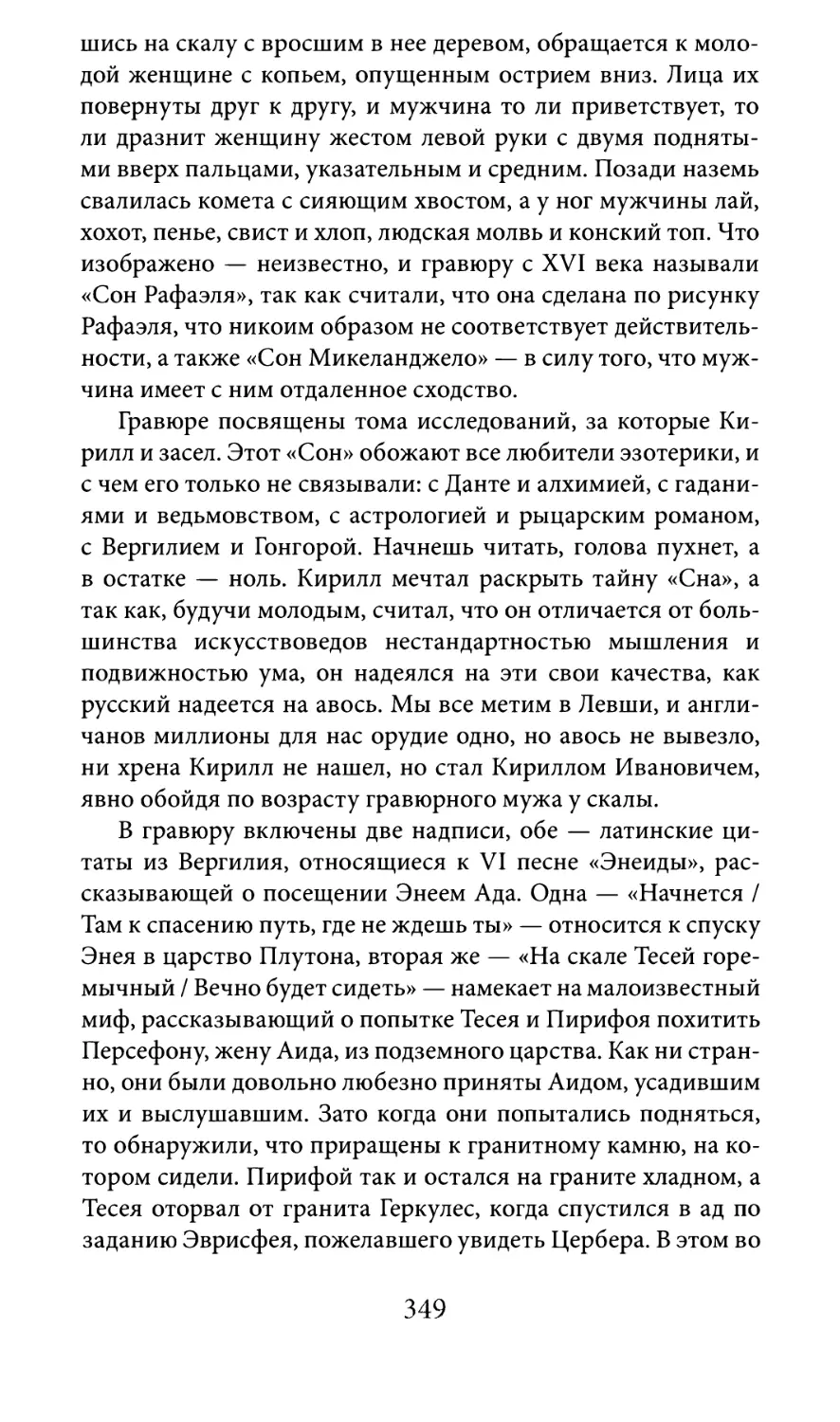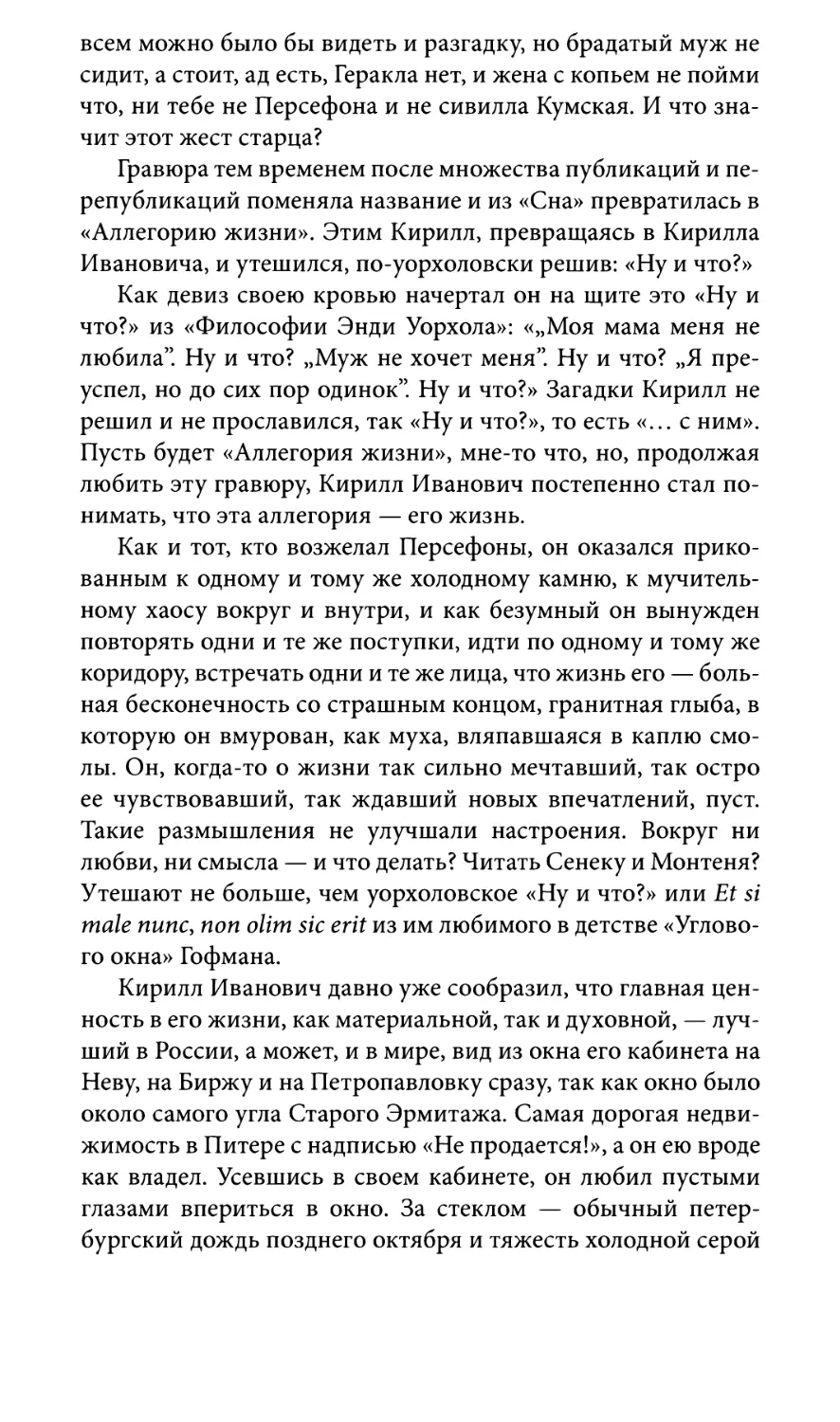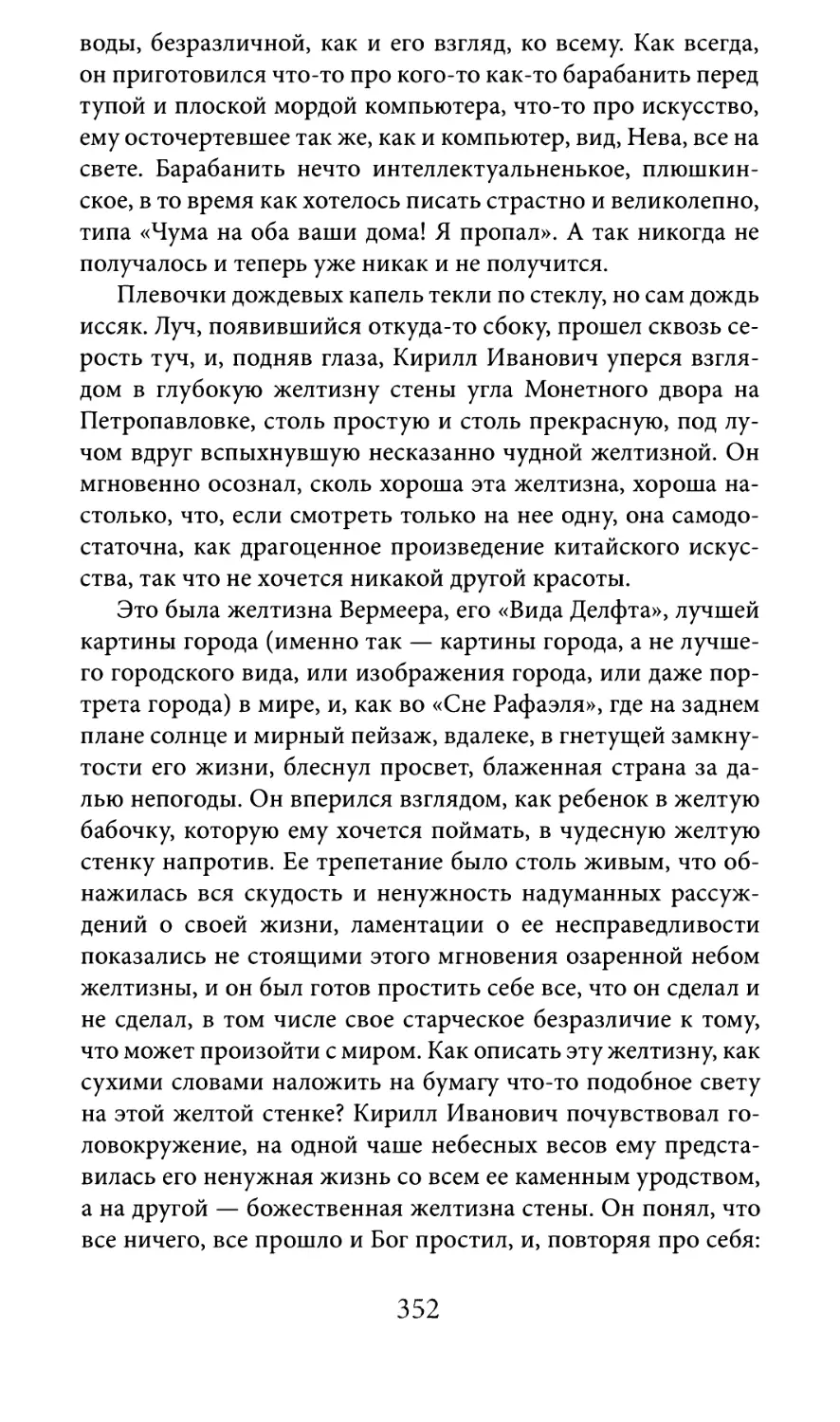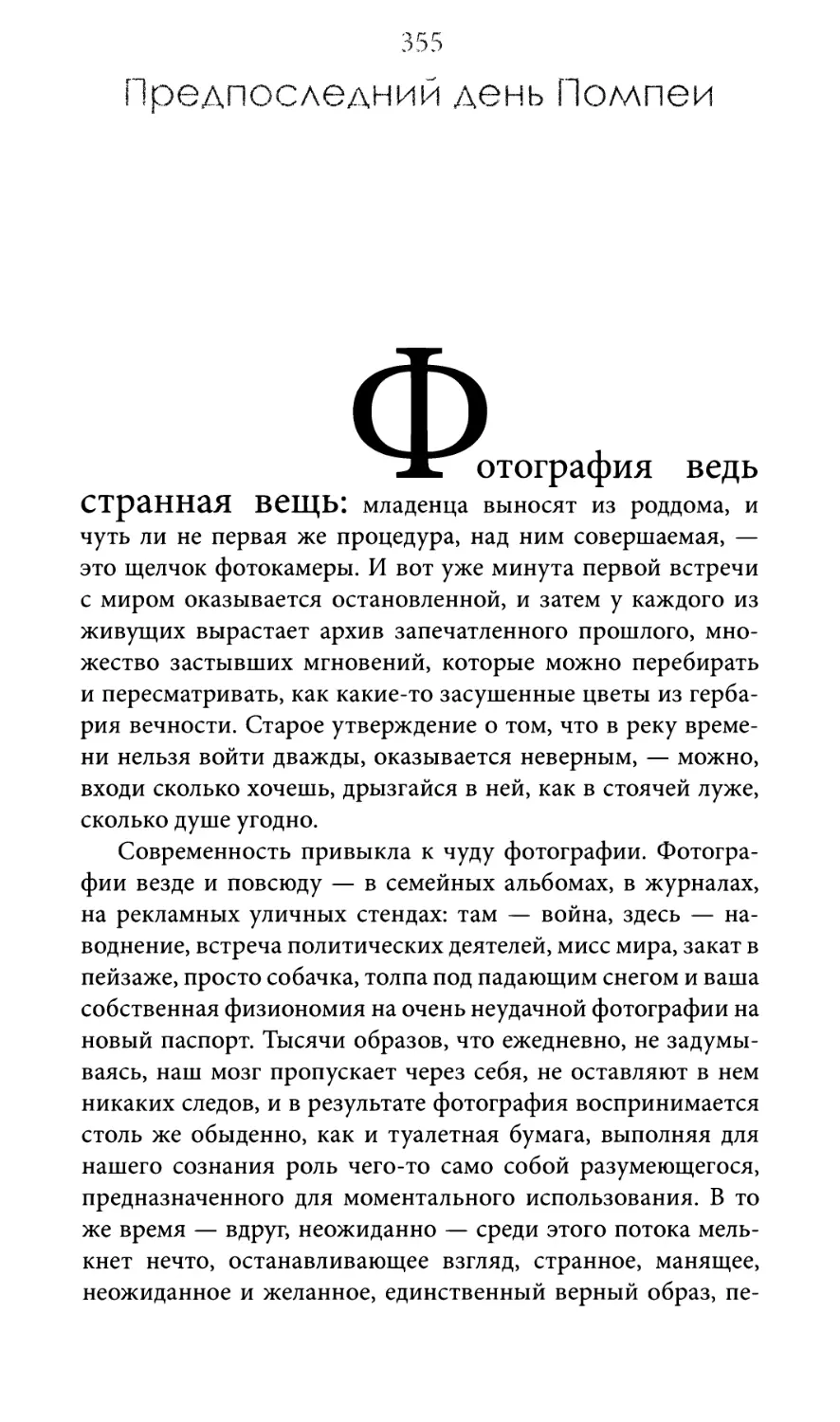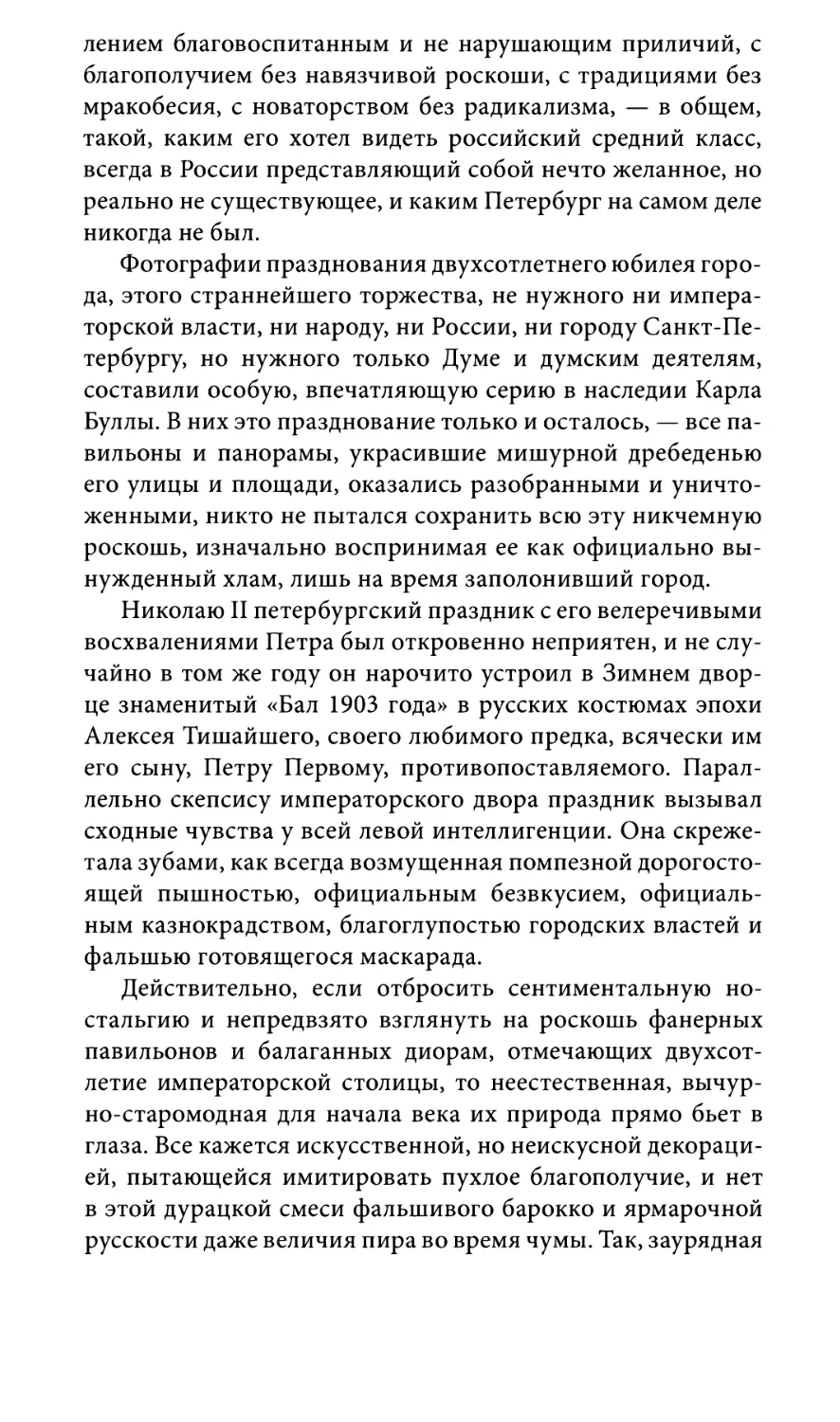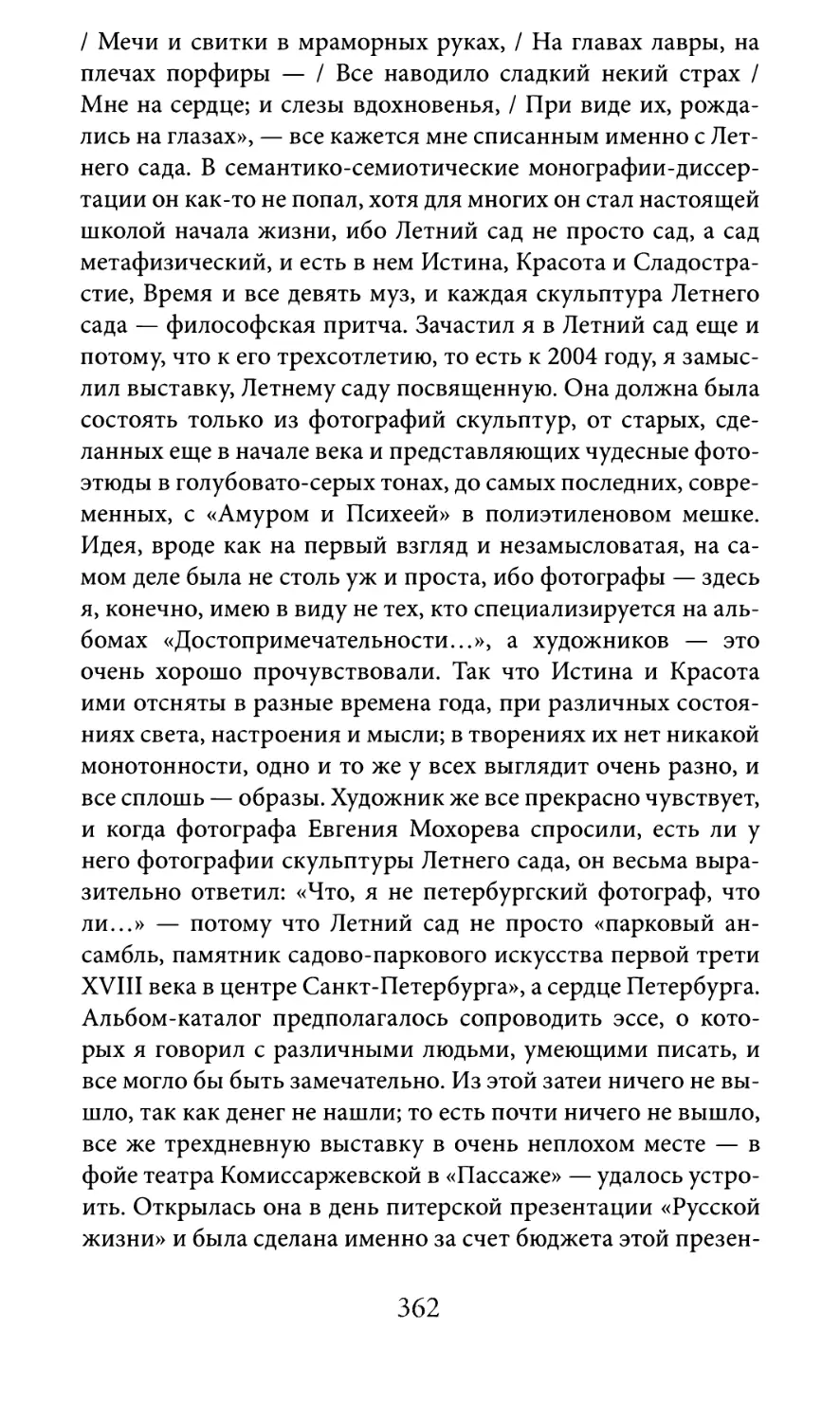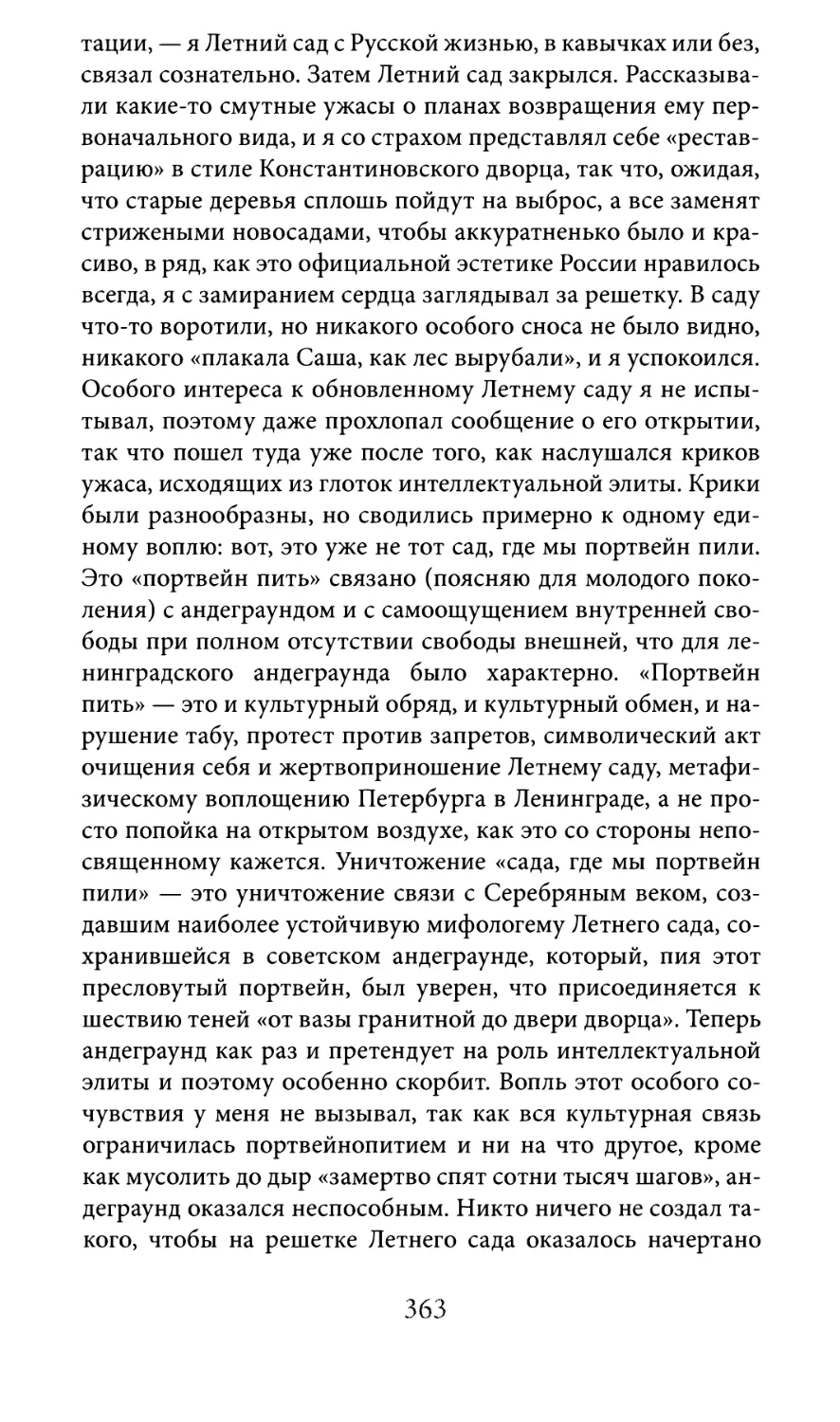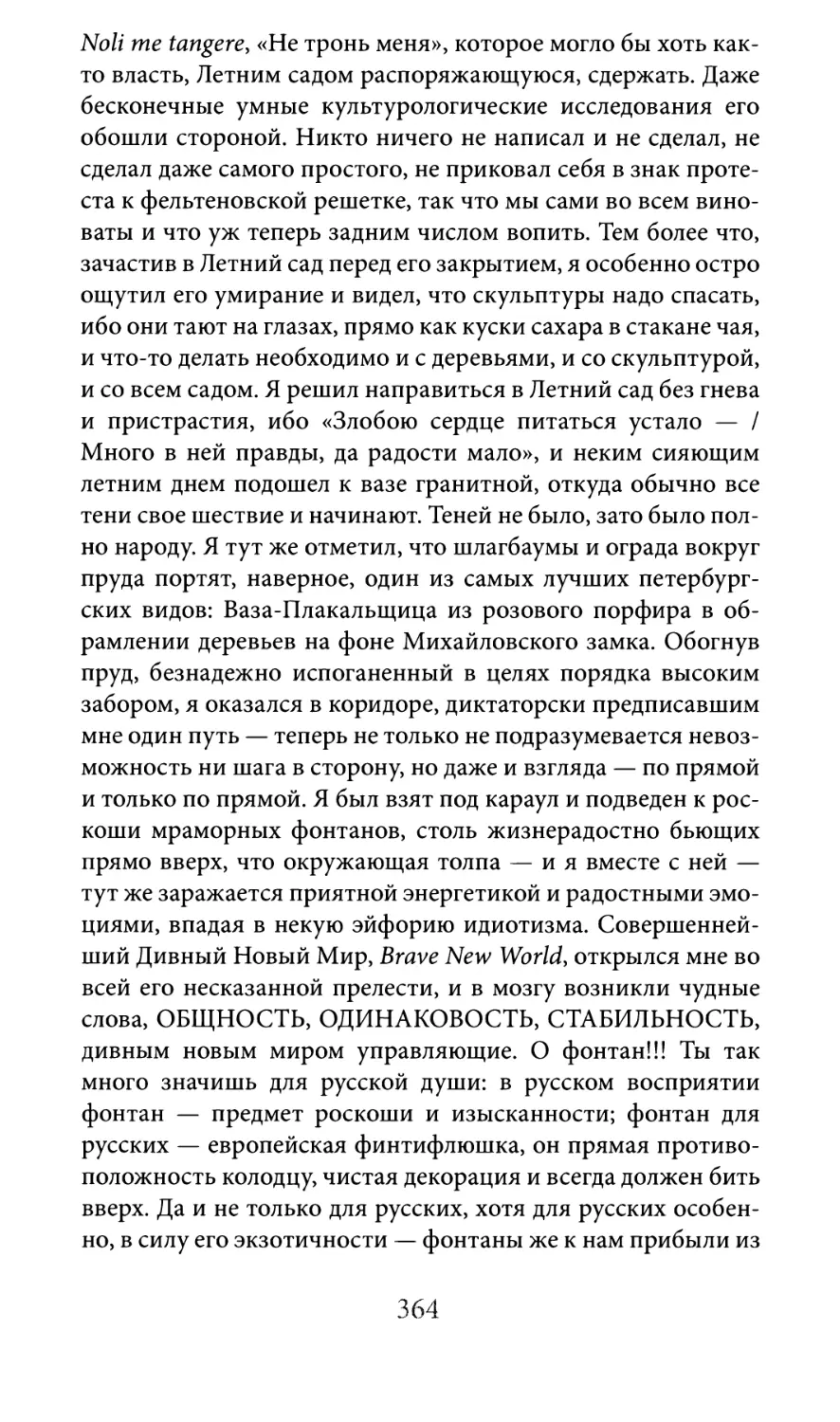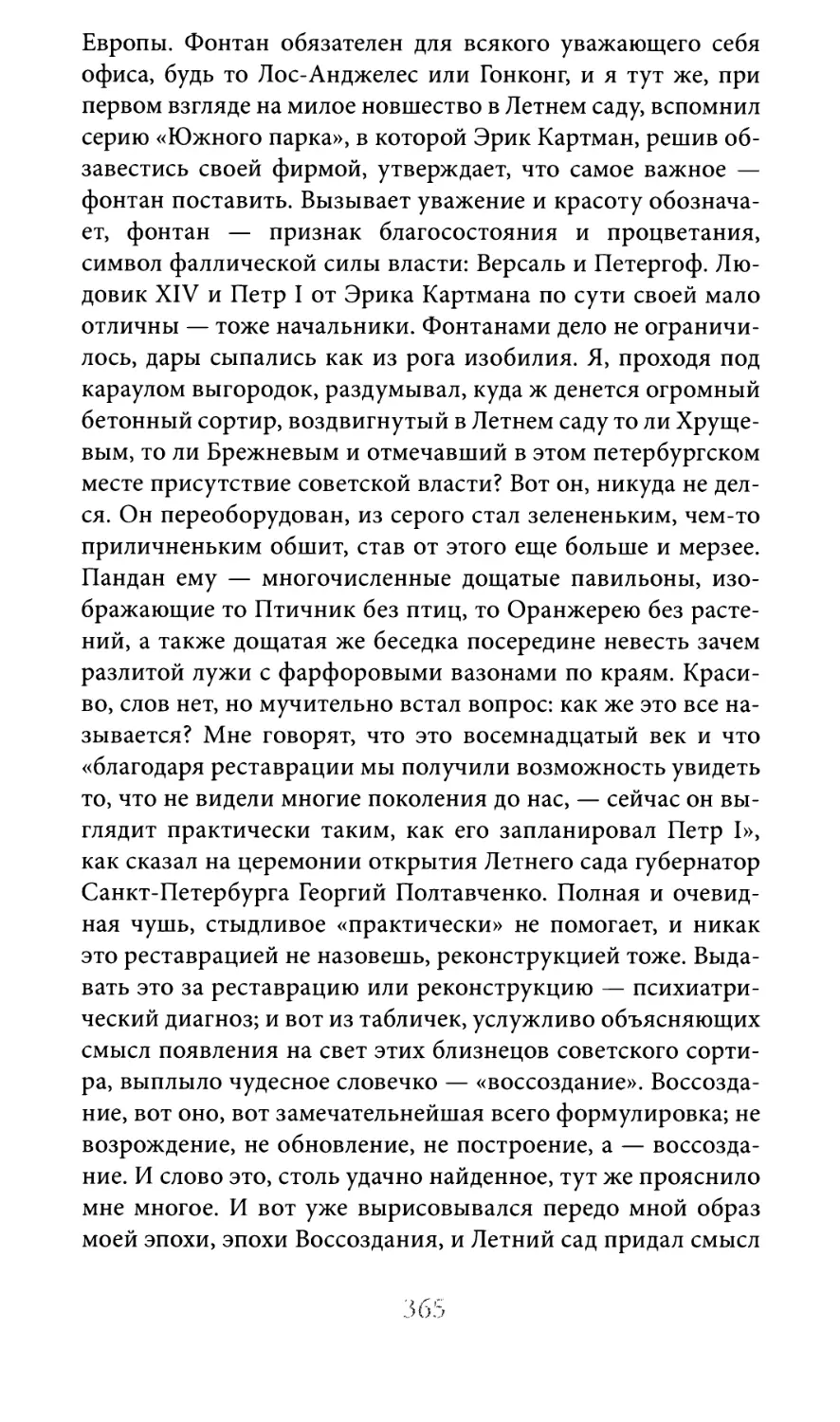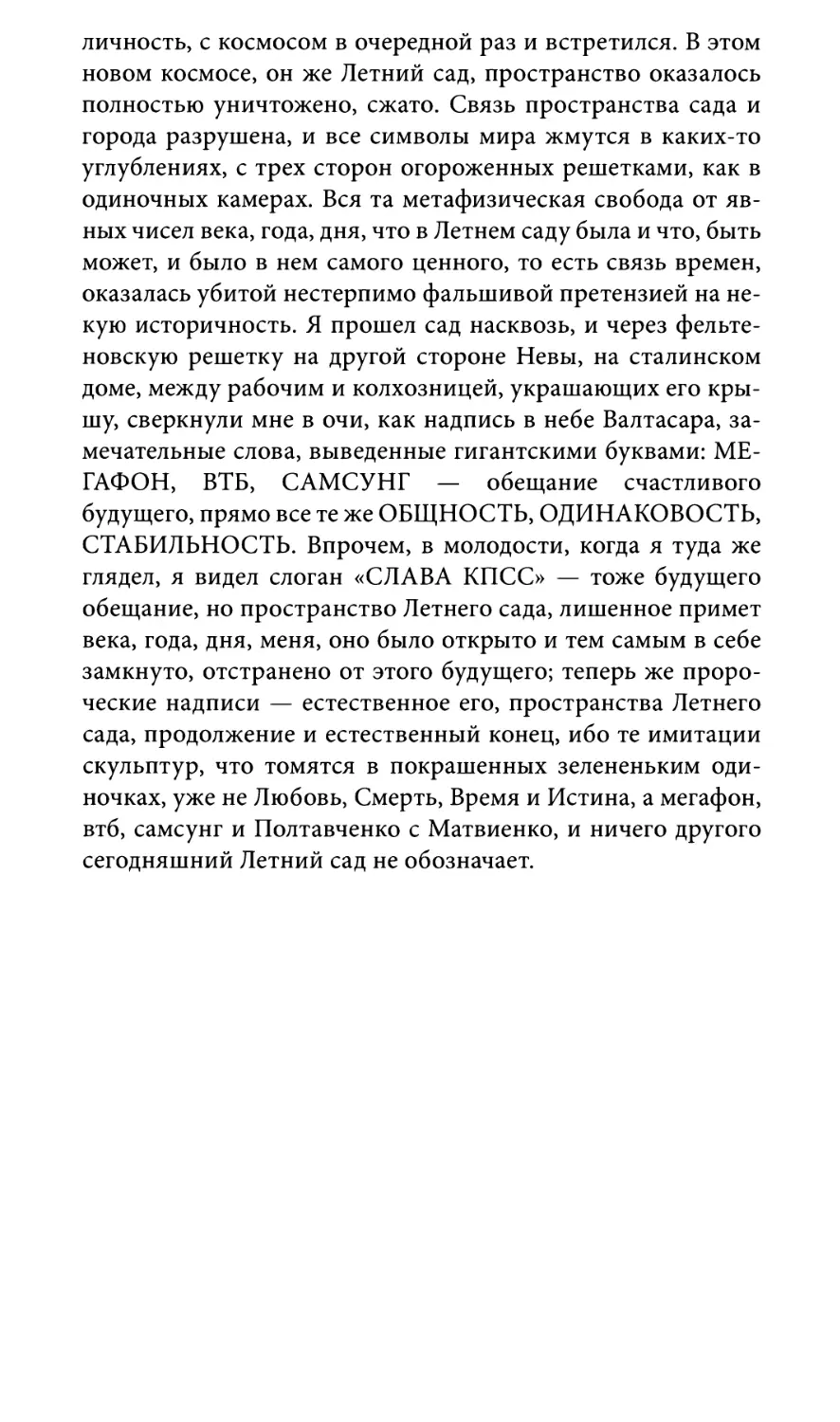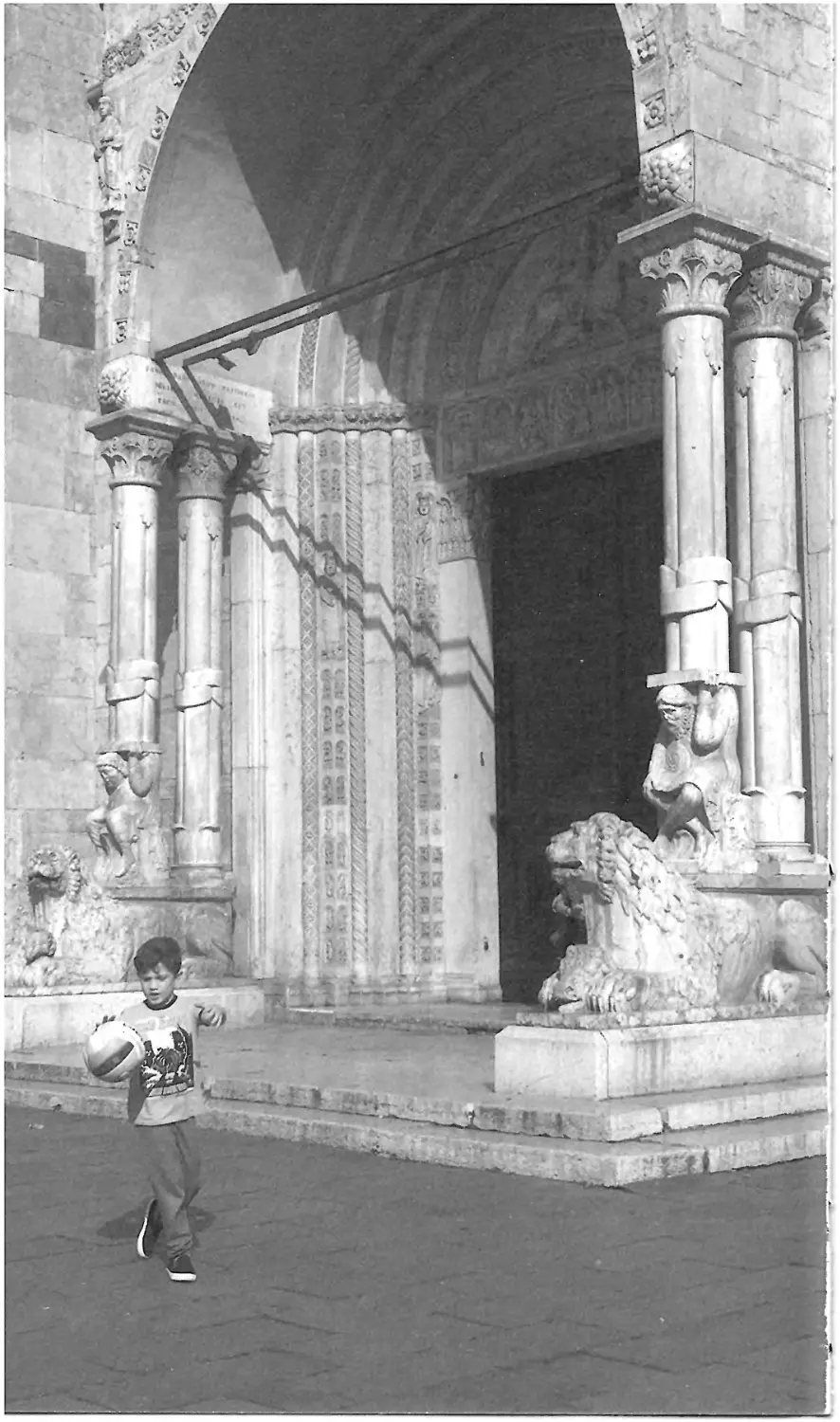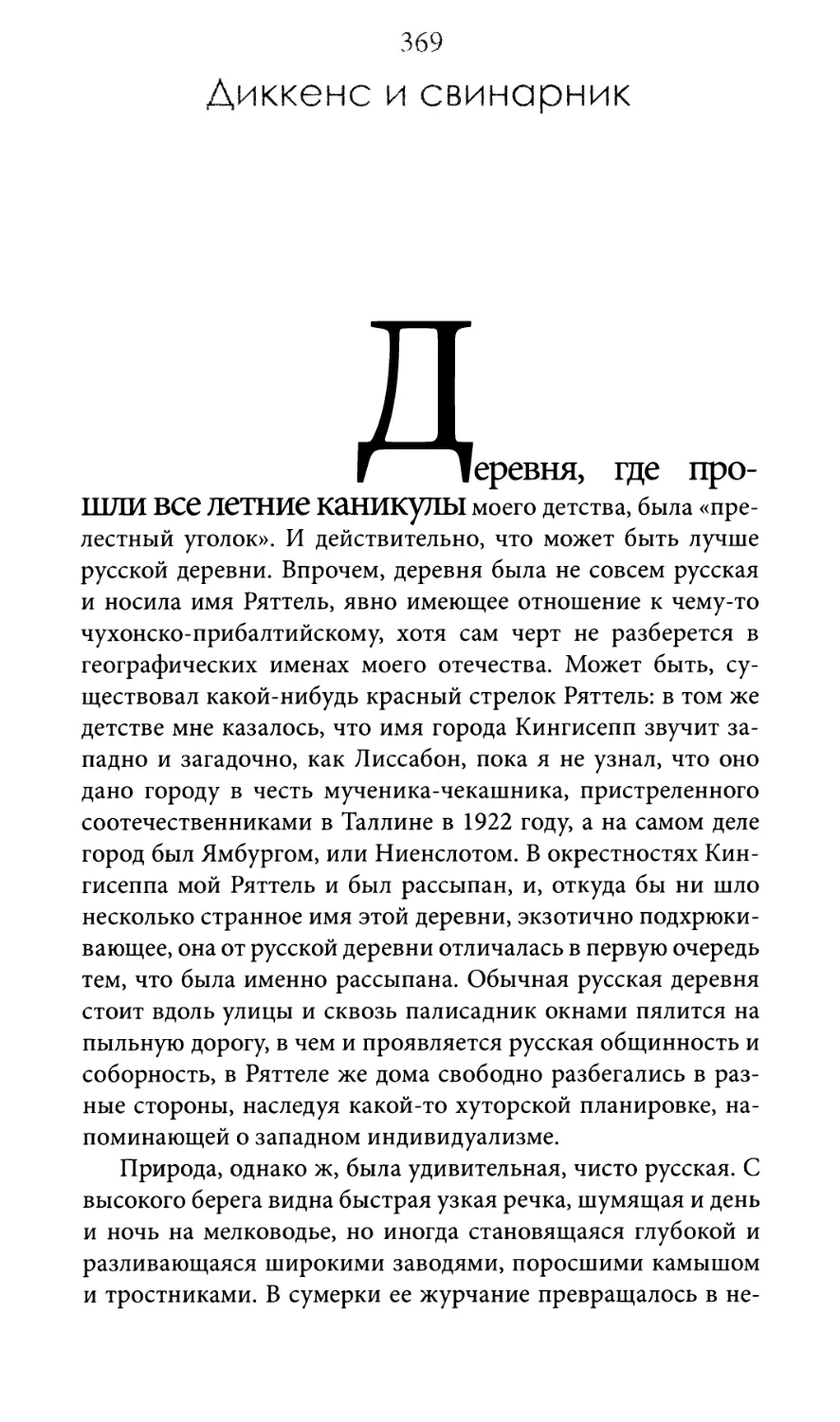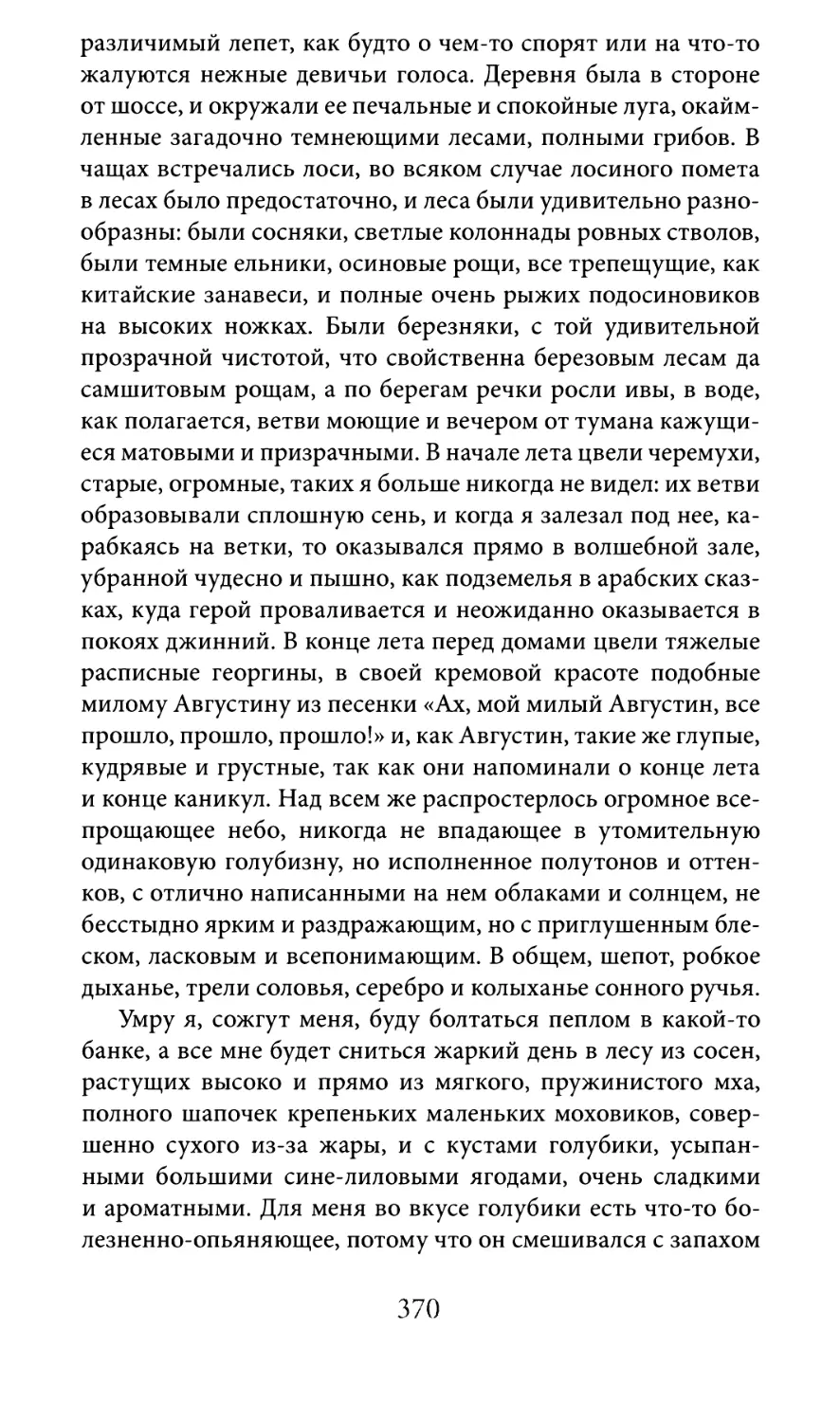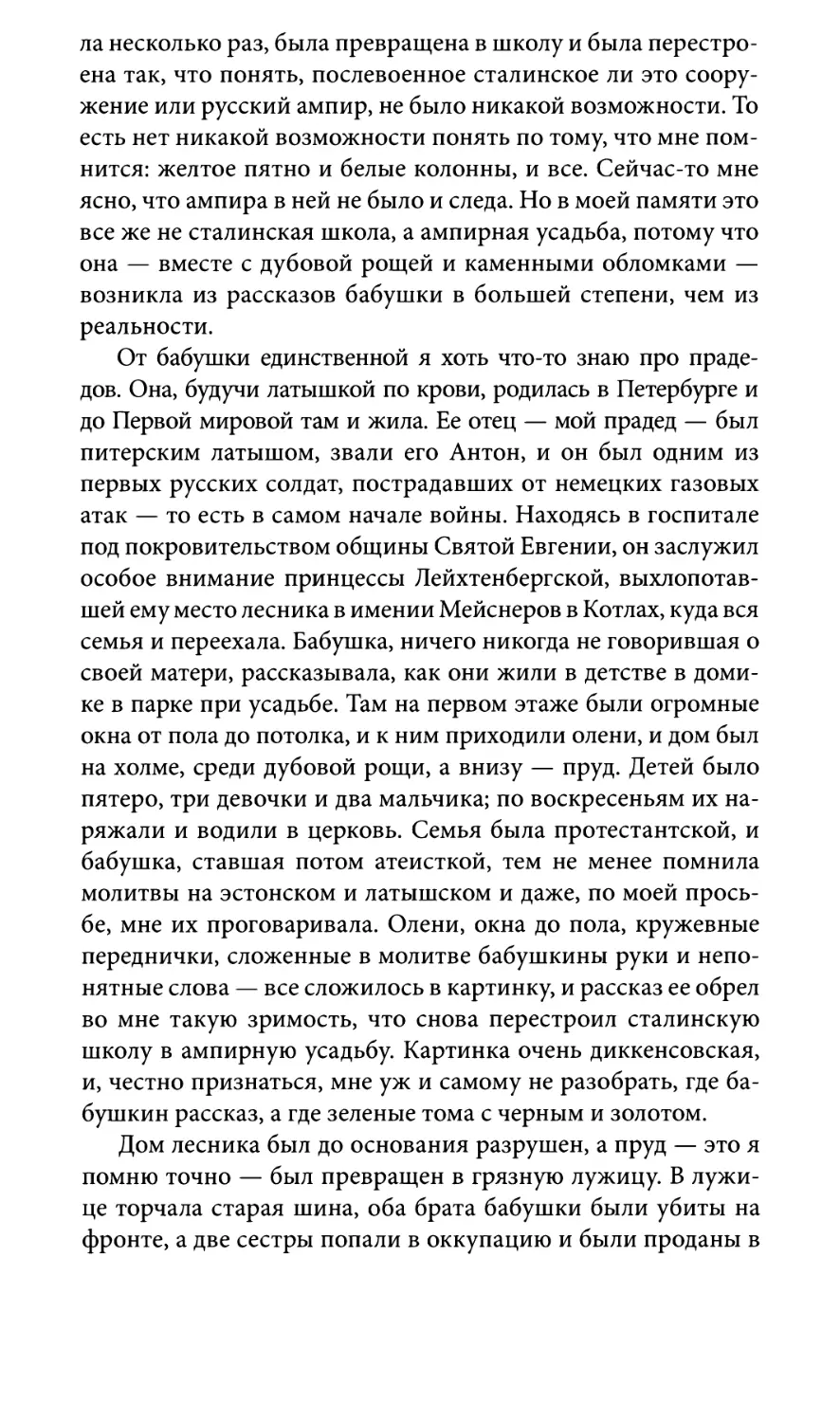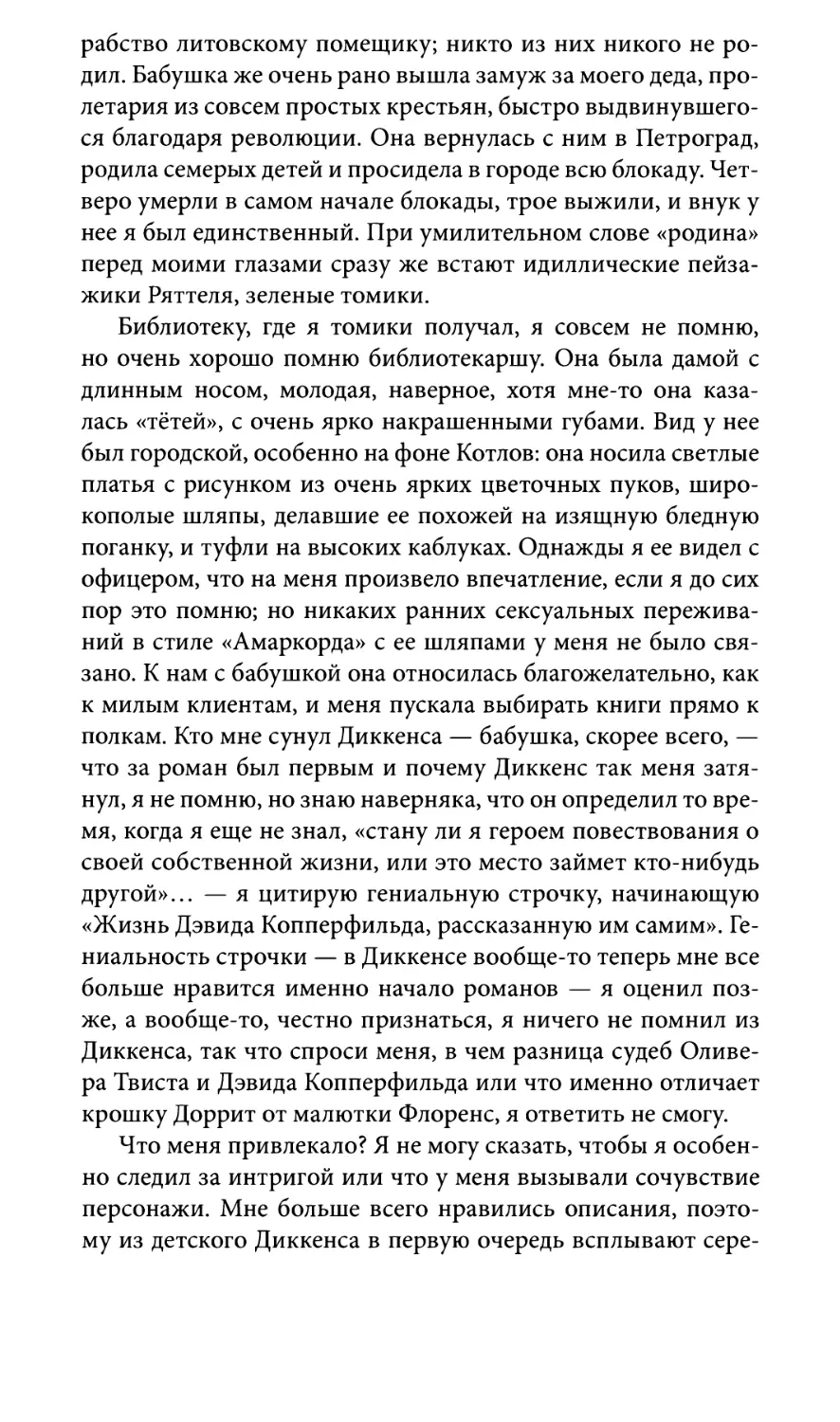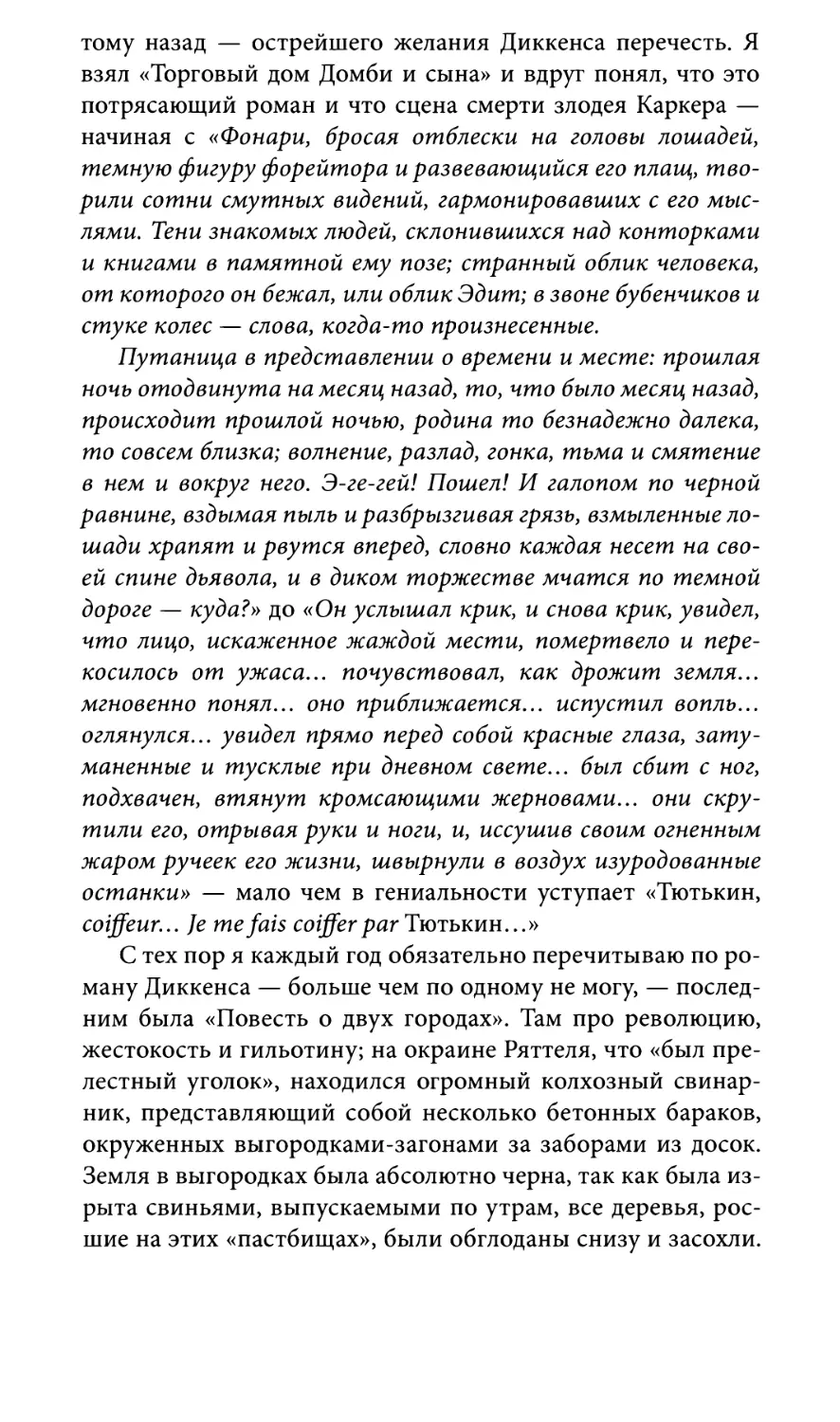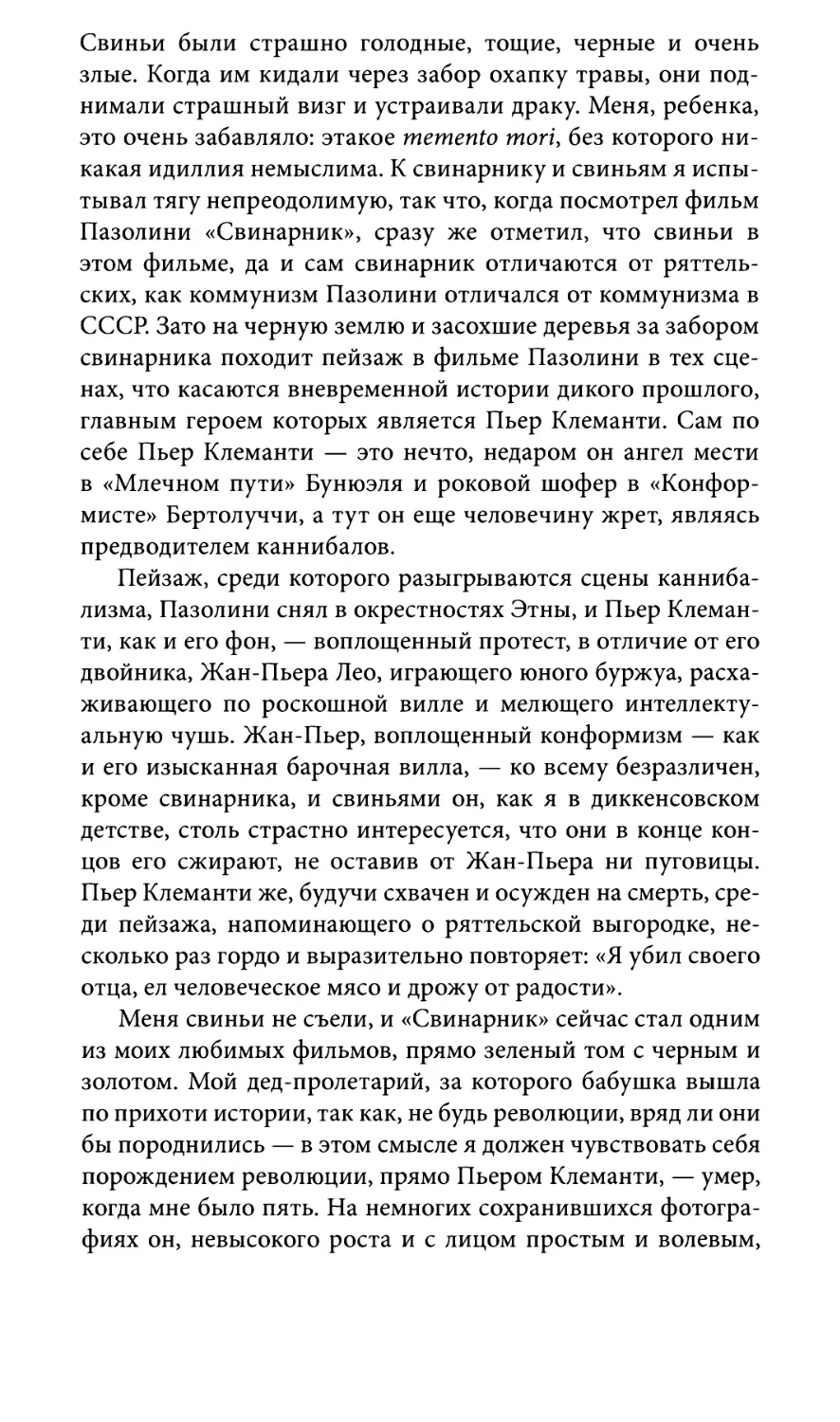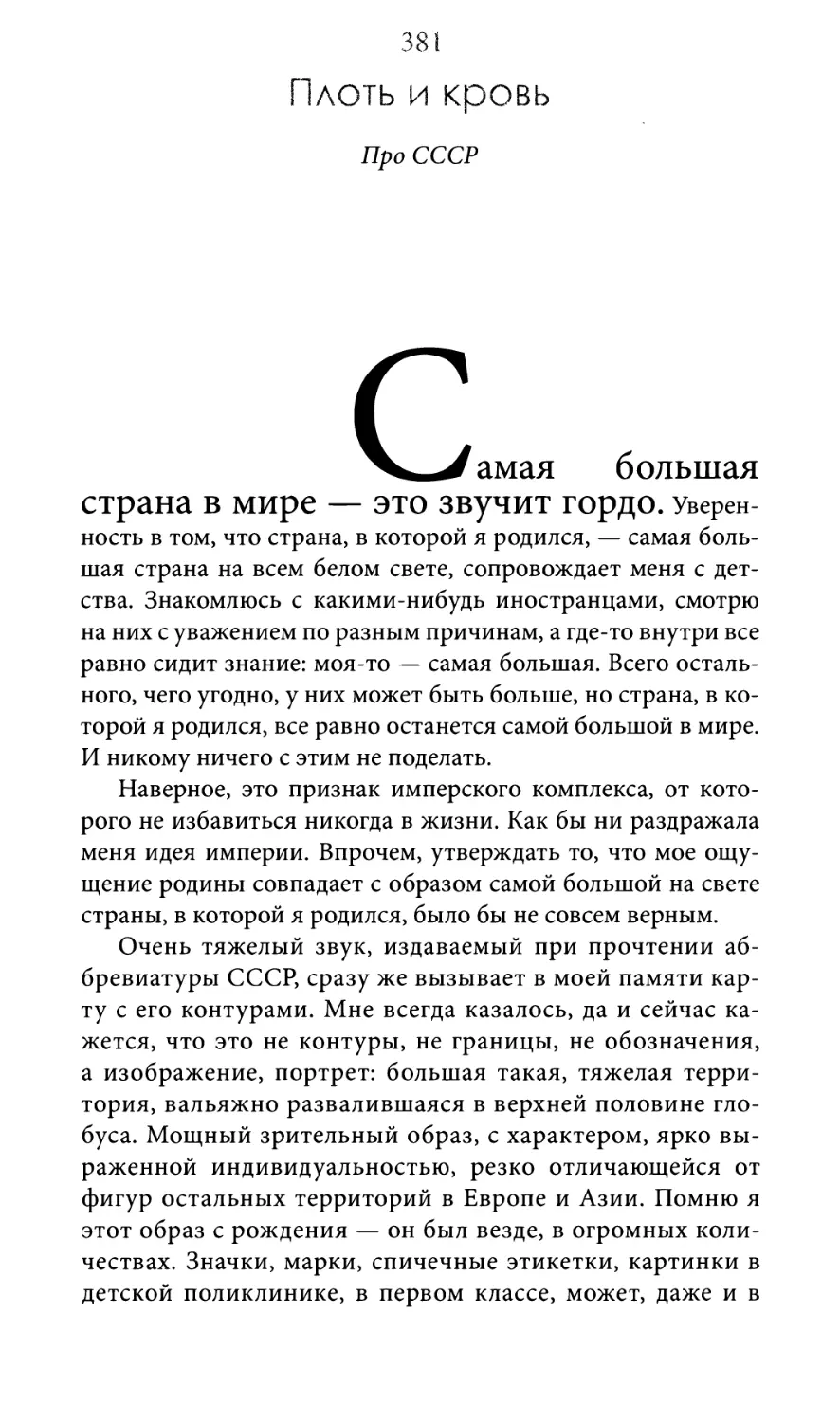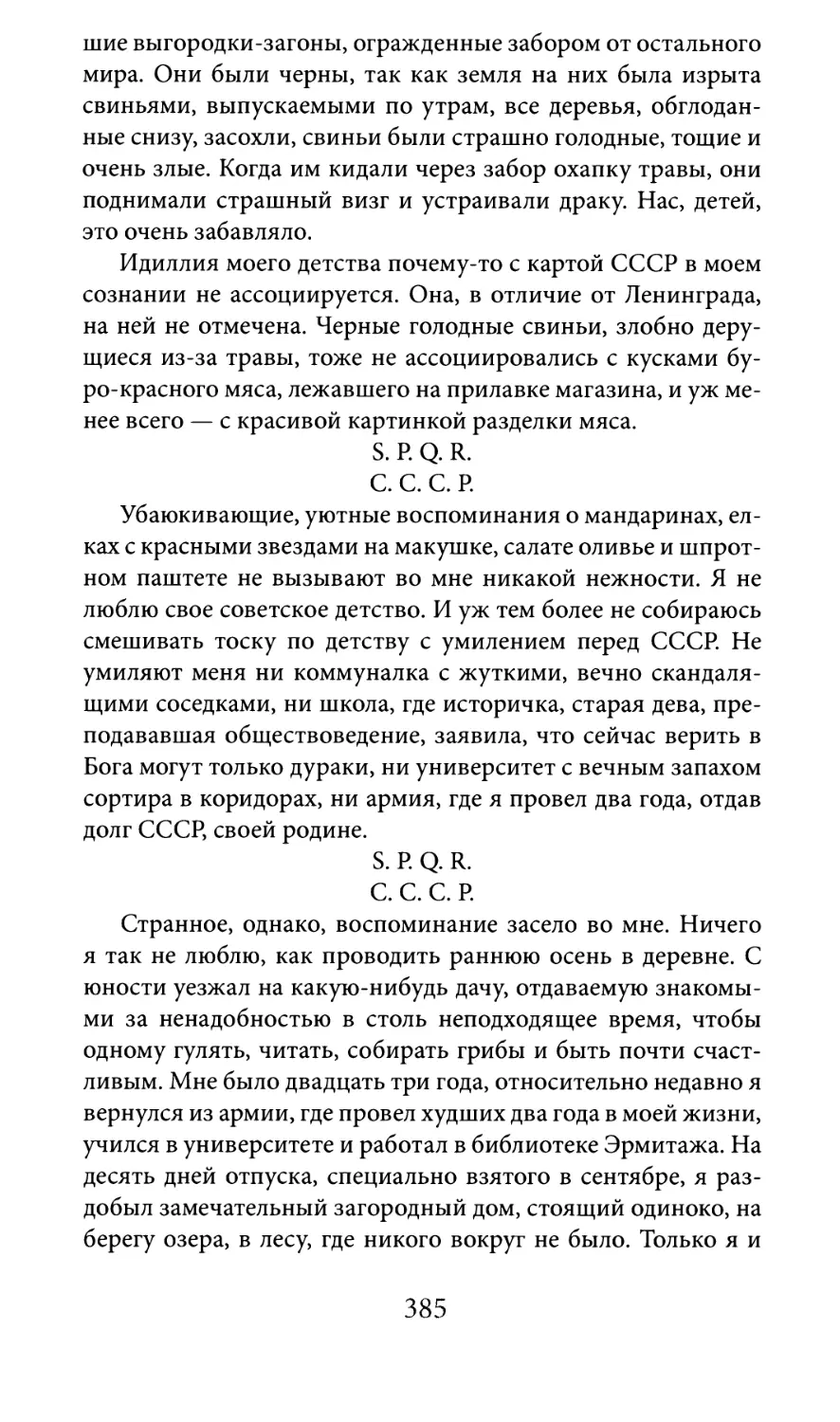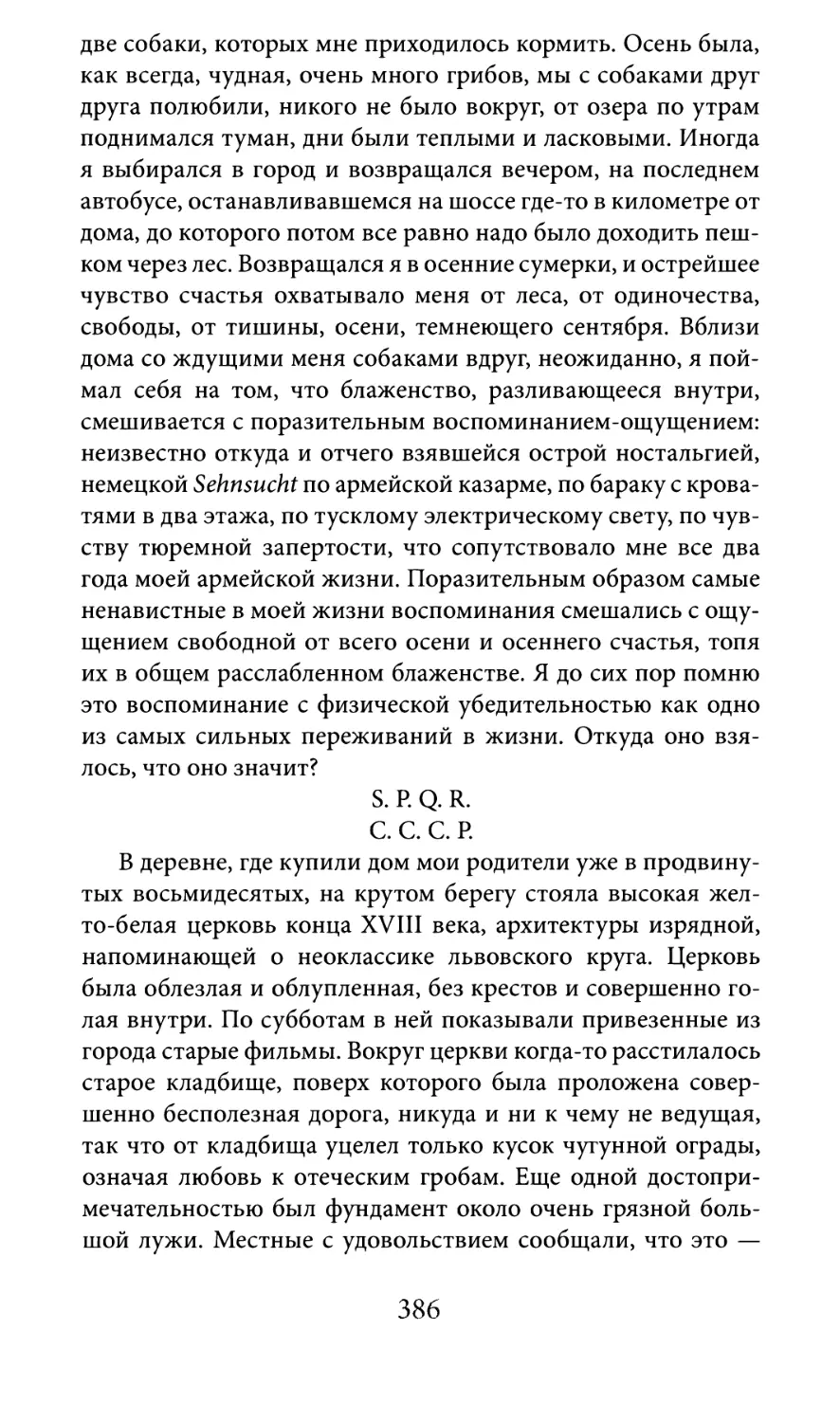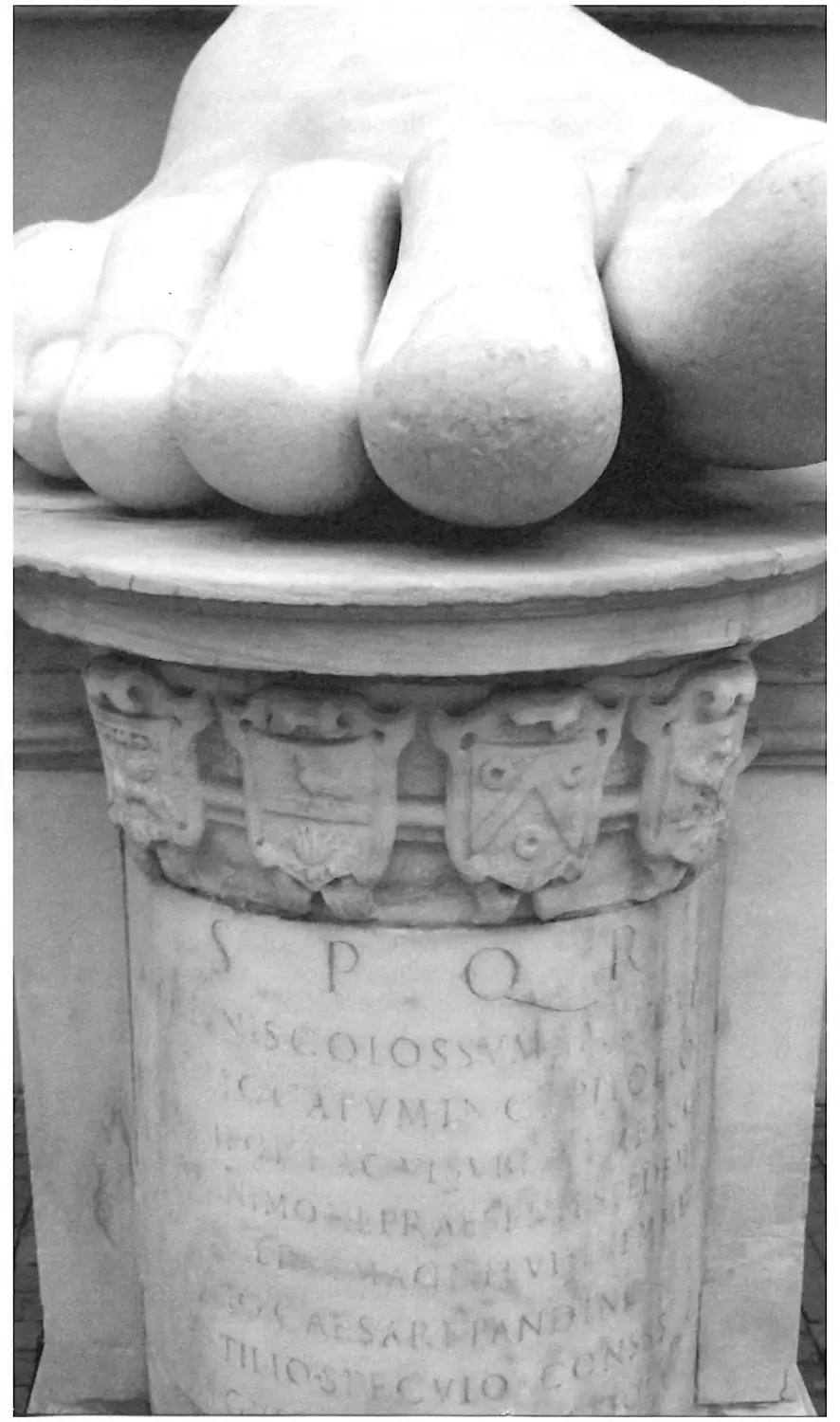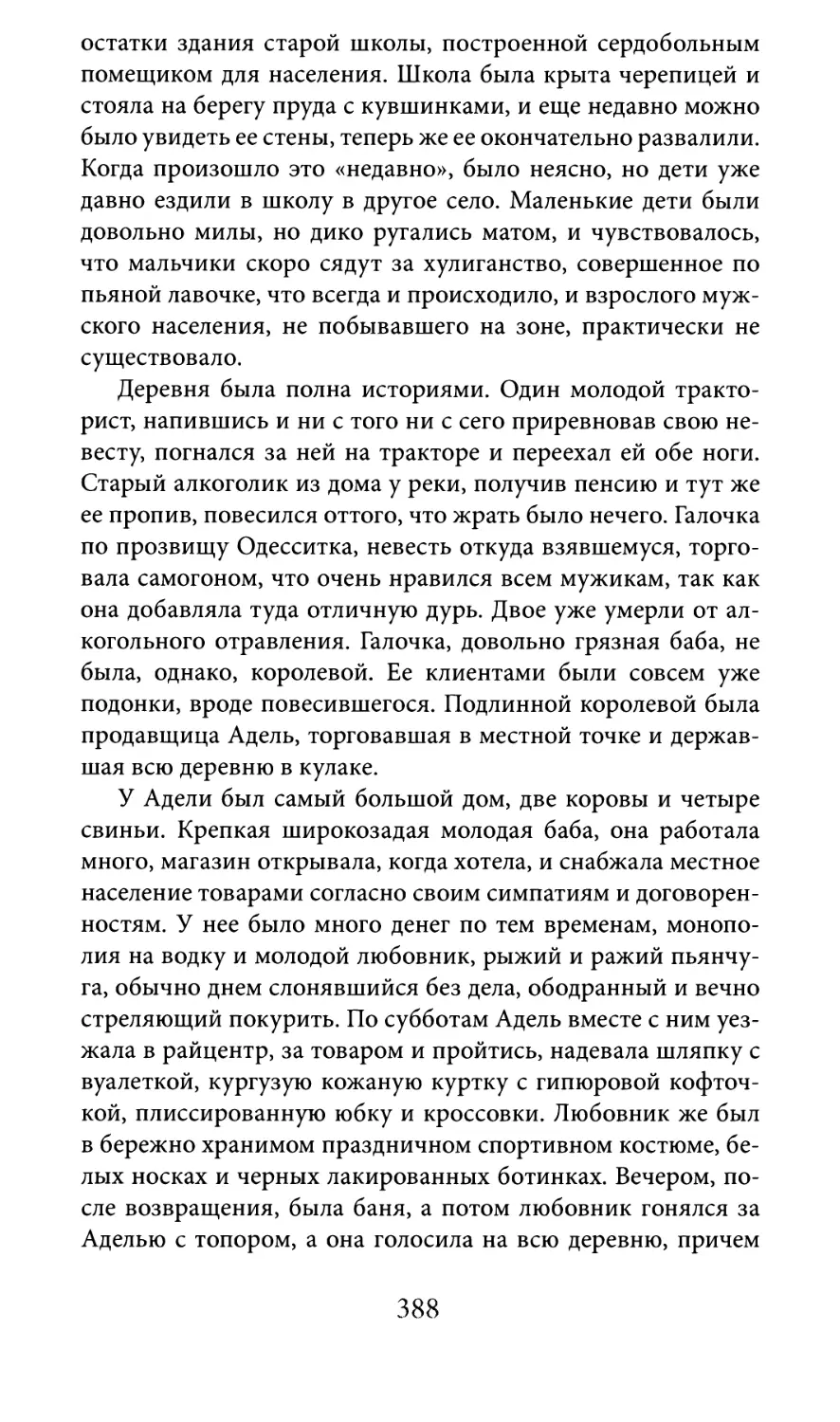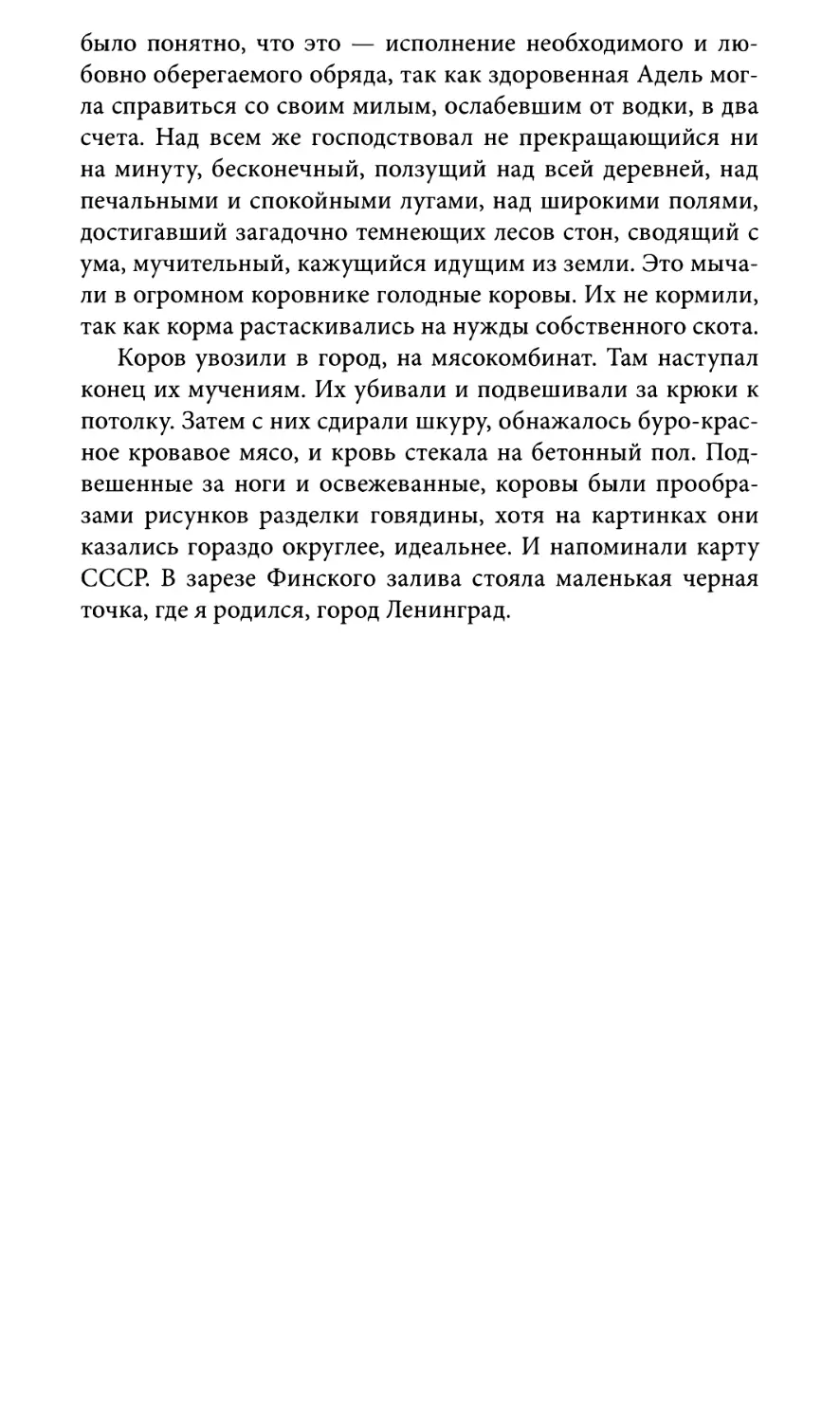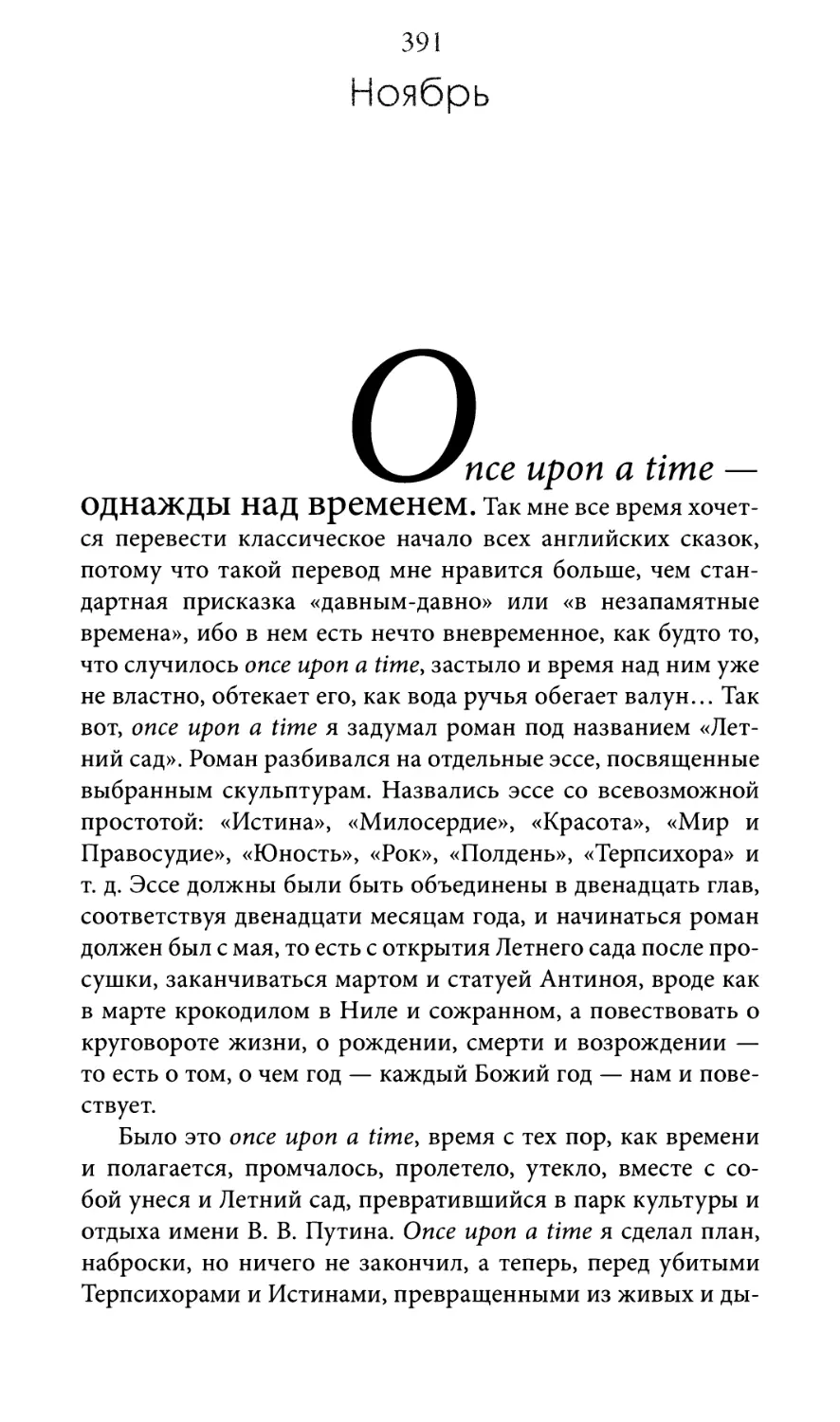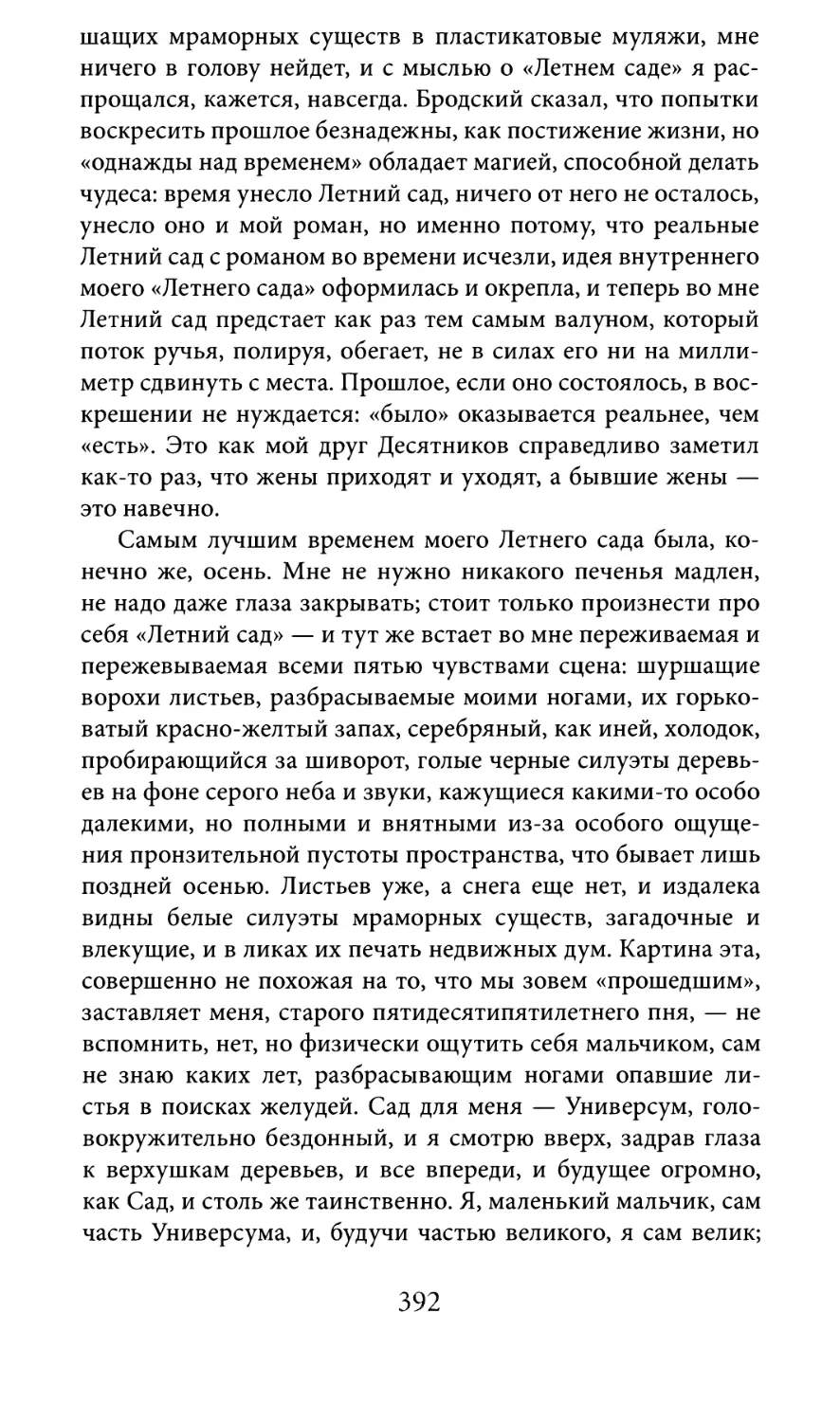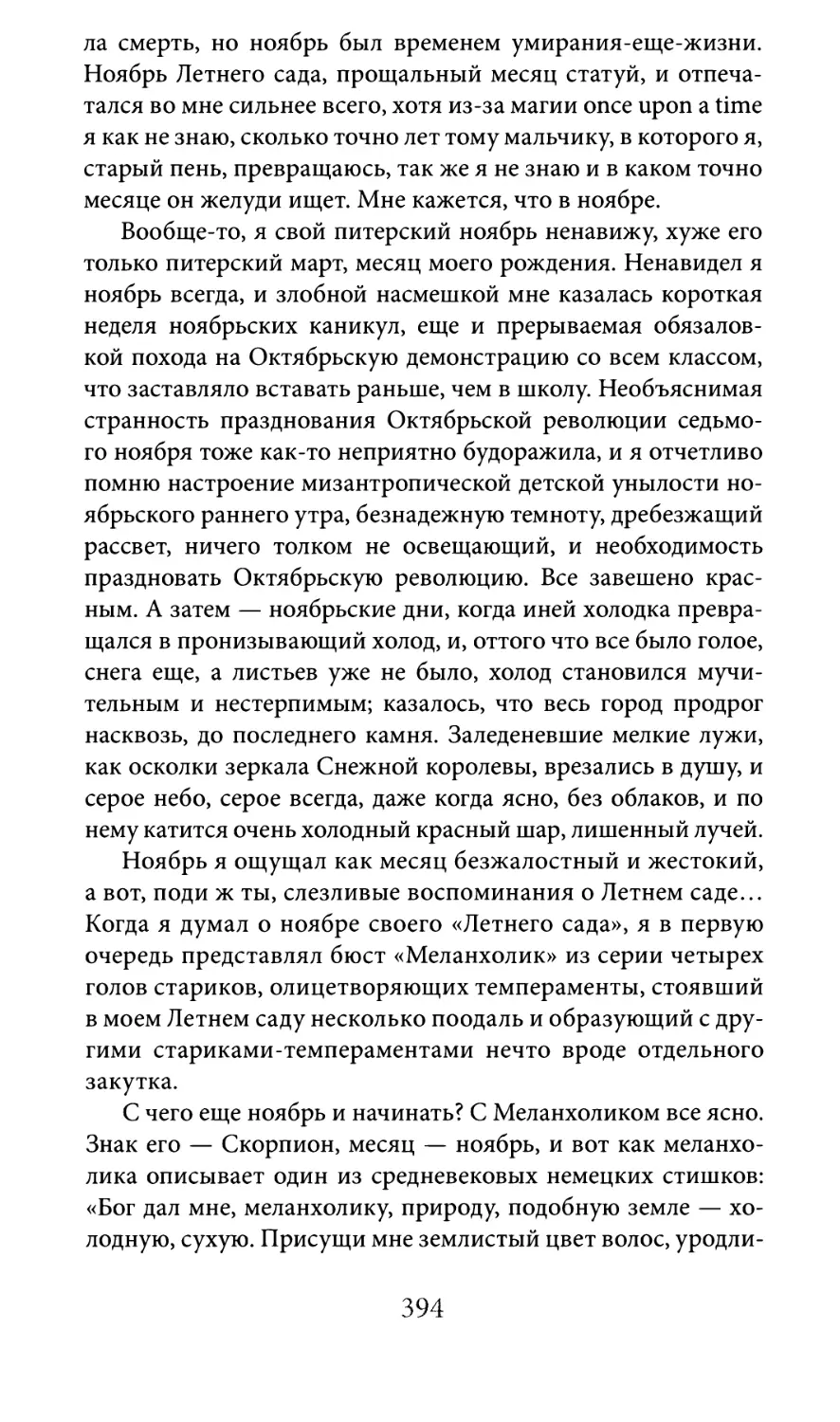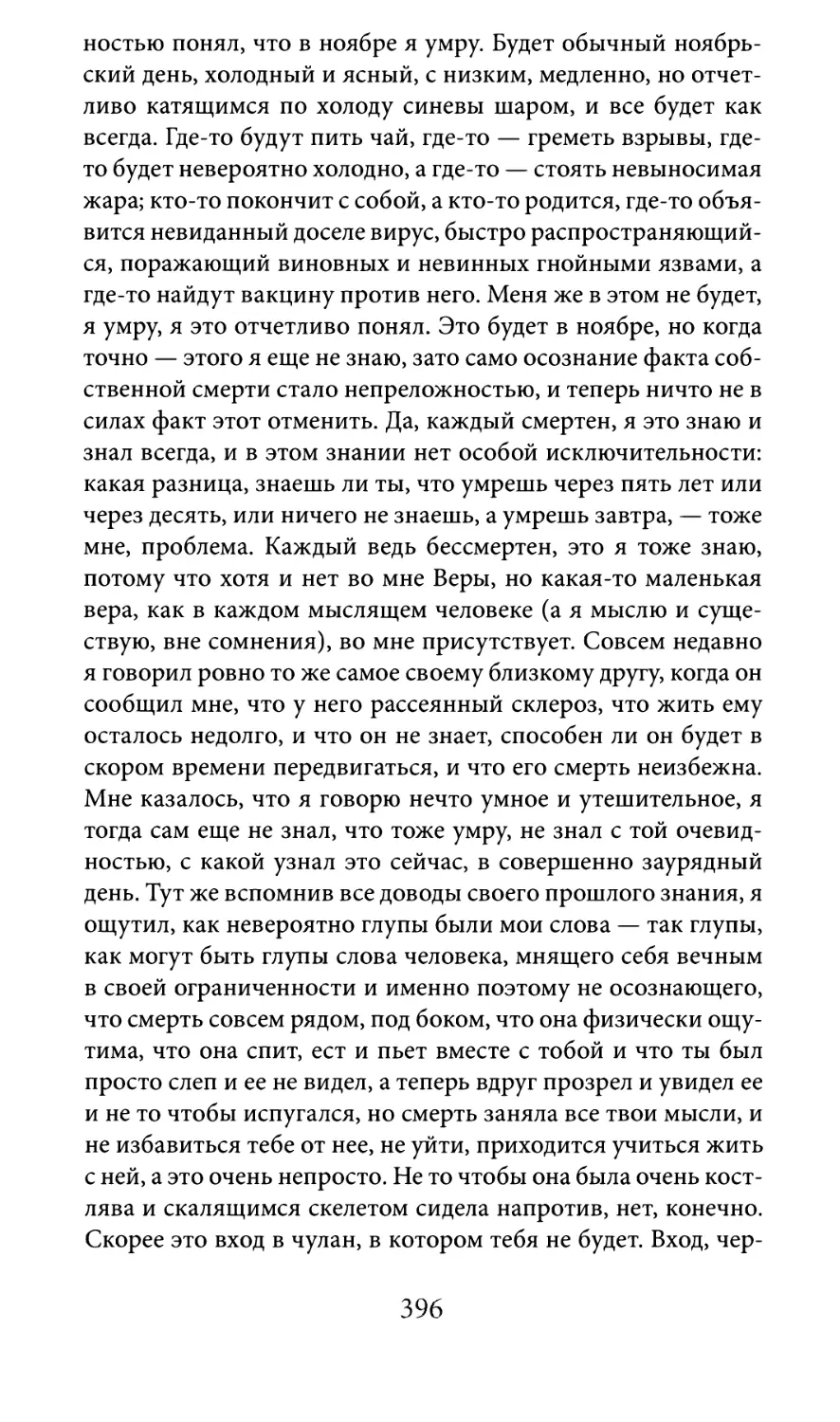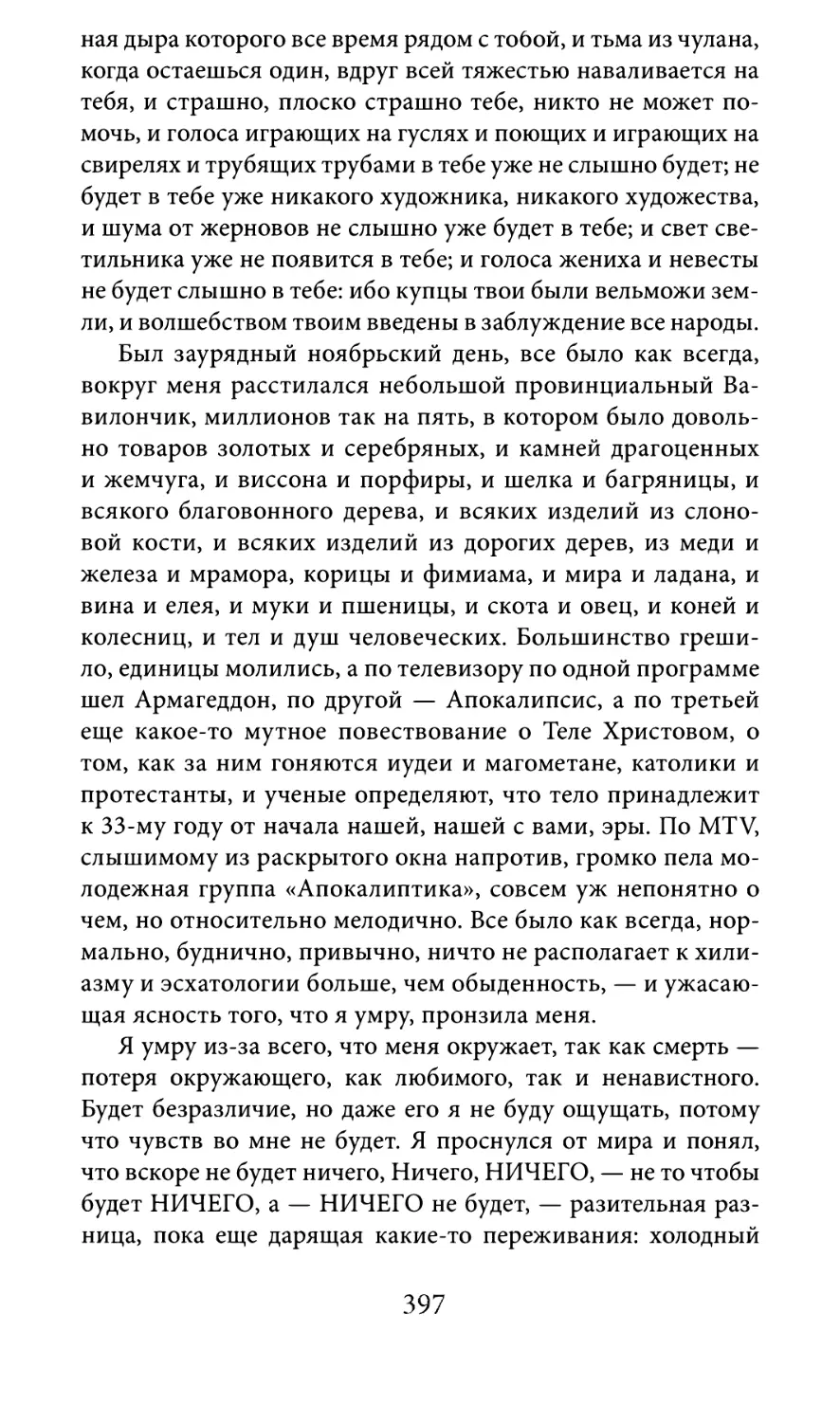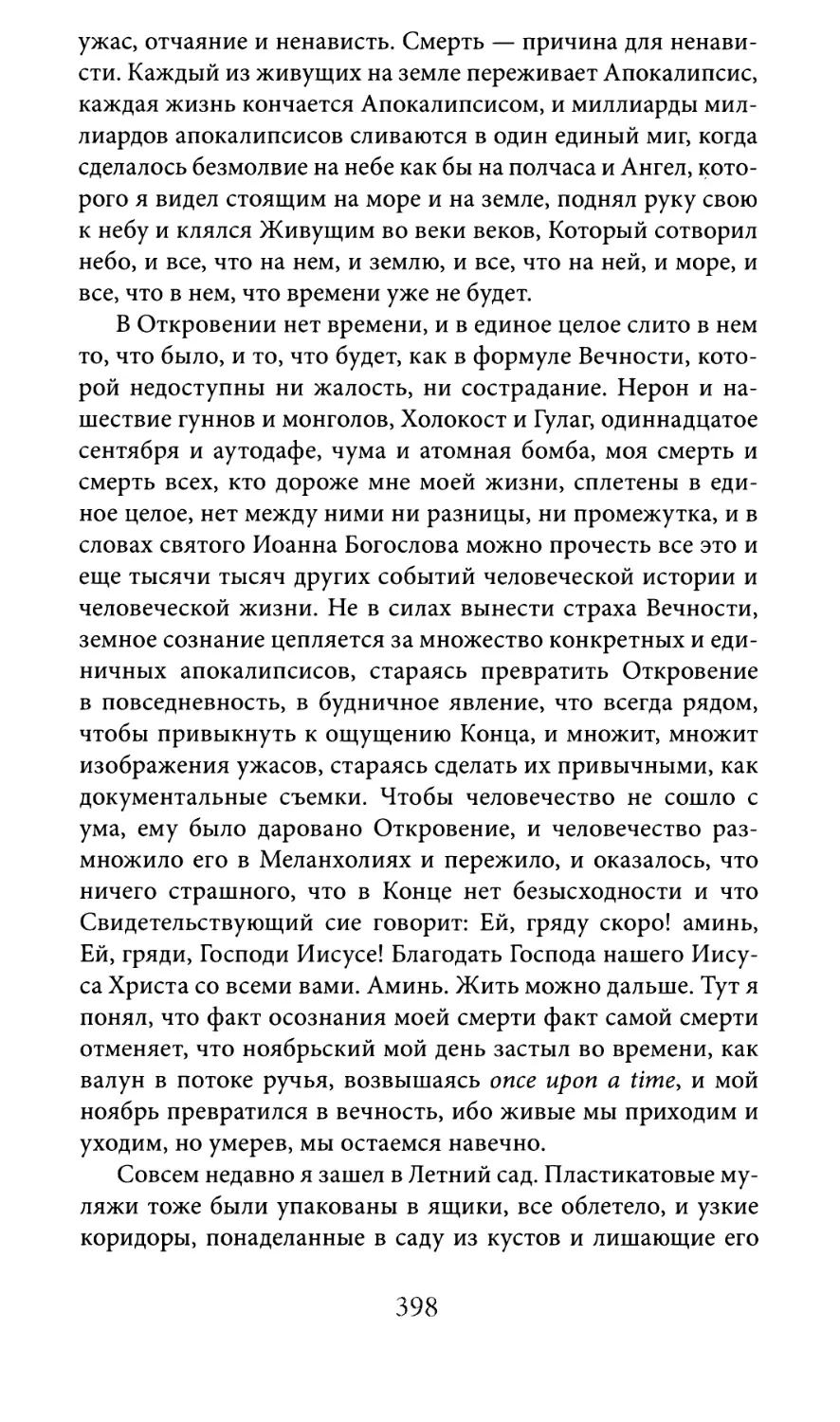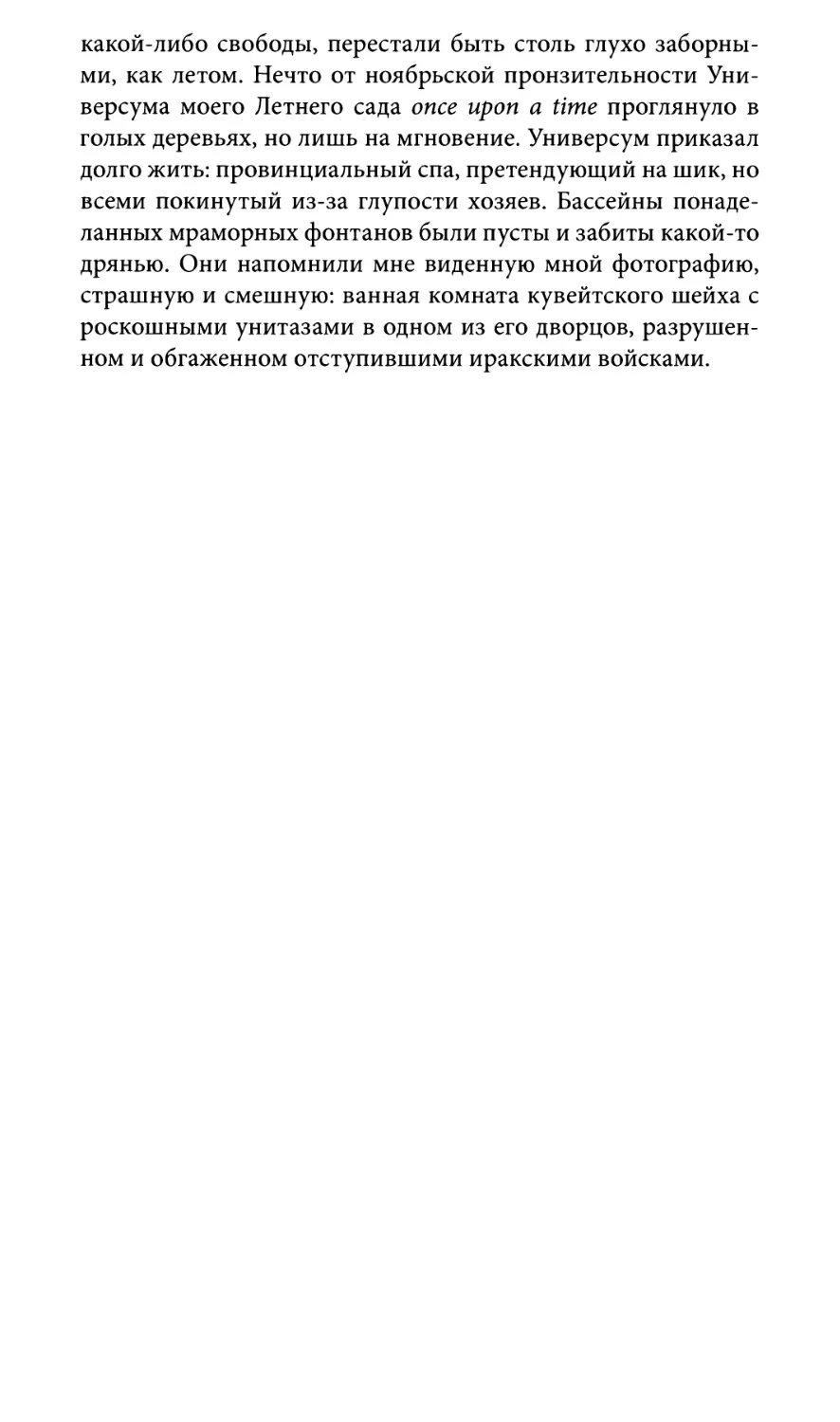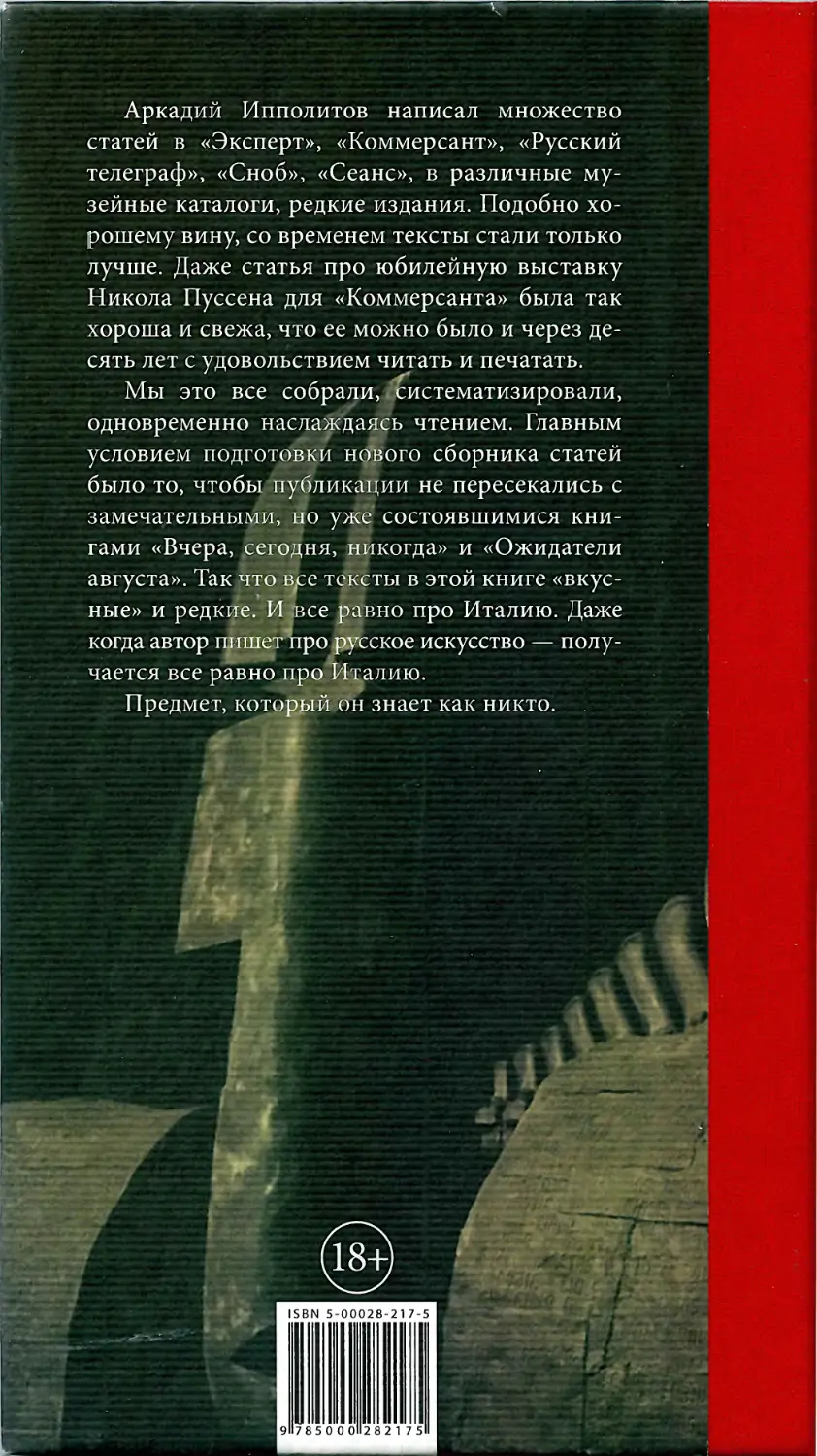Автор: Ипполитов А.
Теги: живопись изобразительное искусство искусствоведение культурология
ISBN: 978-5-00028-217-5
Год: 2018
Текст
"Проект £&£)1?иго6>чих
! л''1Ш
\ -'ЛИ
Аркадий ИППОЛИТОВ
чвсЕвтнаш
красный
пароход
Москва
2018
Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012—2018 годы)»
СОДЕРЖАНИЕ
«Какая славная книжка может получиться!»
9
Суд Париса Проблема выбора
13
Куда «Туда, туда!..»?
Родина и Италия
21
Приключения Людмилы Россия — Италия 2007
33
Итальянский стиль велик И нет другого стиля, кроме итальянского
43
Музеи Ватикана в истории Рима
49
Бедность святого Франциска Истоки современной добродетели
81
Банда Рафаэля О стратегии вечной славы 91
Триумф ересиарха венецианской живописи
99
Душенька
О Риме, плоти и бессмертии 105
Пастух в сказочном подземелье
113
Белая лошадь
Портрет покровителя телевидения 119
Дориан Грей XVI века
127
Самая художественная кровать в мире
181
Венеция в венецианской гравюре XVIII века 191
Апология стрекозы Золотой век
213
Желуди-яйца Золотого века Мир без греха
223
Про всемирную отзывчивость Из чего выросла национальная идея
23)
Русский блеск Святочный рассказ
237
Собирать и возвращать Виражи русского коллекционирования
243
Диссиденты Золотого века Италия как одна из форм русского протеста
25 5
Призрак нашей свободы Панегирик живописи 1860-х
263
Очередь к Мессии
К 200-летию со дня рождения Александра Иванова
269
Битва с Ахматовой
Рисунок Модильяни выставят в Фонтанном доме
279
Маньеризм и сюрреализм: парад-алле
289
Кастраты, разрушение Берлинской стены и лысая Чечилия
295
Пять историй с прологом Соблазн нищенства
303
Маляр и Сальери
Маленькая трагедия актуального искусства
311
Венера Торфяная
Выставка в Русском музее: антитело как сверхидея
319
«Сатирикон», или Интеллигенция времен Нерона Картинки с выставки «Фрески Стадий»
327
Настоящий двадцатый век
337
Сон Рафаэля
Памяти Чариты Мезенцевой
347
Предпоследний день Помпеи
355
Летний сад как символ эпохи 361
Диккенс и свинарник
369
Плоть и кровь Про СССР
381
Ноябрь
391
9
«Какая славная книжка может получиться!» —
подумал я, когда впервые собрал файл из редких искусствоведческих текстов и назвал его IPPOLITOV. Только у будущей книги, которую вы держите в руках, не было предисловия. А книга без вступительной статьи — это как генерал без лампасов. Я предложил Валентину Яковлевичу Курбатову, автору предисловий и послесловий, наверное, к сотне изданных мной книжек, написать ее. А Валентин Яковлевич попросил тогда для работы двадцать лет жизни в Италии. Но думаю, что это был вежливый отказ. Что было тому причиной? Боязнь не соответствовать автору, не попасть в интонацию? А может, его смутило столь эпатажное название книги — «Банда Рафаэля»? Разве у Рафаэля может быть банда? Да и попробуй тут соответствовать! Кто еще так может сейчас писать об искусстве, как Аркадий Викторович Ипполитов?
Году в 2011-м ко мне в руки — с некоторым запозданием — попала популярная тогда, да и сейчас хорошо переиздаваемая книга «Особенно Ломбардия». Корней Чуковский говаривал, что он избегает читать модные книжки. Я тоже уклонялся. «Ломбардию» мне подарил мой друг Георгий Василевич, и я потом его долго укорял, что он мог бы и пораньше открыть для меня такое явление, как искусствовед, хранитель итальянской гравюры в Эрмитаже Аркадий Ипполитов. Помнится, что мы с Валентином Яковлевичем зимними вечерами вслух зачитывали куски о Бергамо и Милане. У меня, слава богу, не было писательских амбиций, а Курбатов — писатель настоящий и большой — бросал книжку на диван с раздражением и восторгом. «Чудовище! Так бы и отравил!!! — восхищенно кричал он. — Ну так невозможно писать! НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО!» И в этом было
удивление, восхищение и любовь к только что прочитанному тексту. Я подначивал, что, мол, Валентин Яковлевич, врежьте как литературный критик, чтоб Ипполитов не зазнавался. Курбатов улыбался и приговаривал: «Да уж вам врежешь! Новое поколение...»
Потом вышли «Только Венеция» и «Тюрьмы и власть» о Пиранези. Читающий мир, для меня во всяком случае, стал делиться на тех, кому это было очень интересно, и тех, кто оставался равнодушным.
Тогда у меня и появился замысел сделать книгу статей Аркадия Ипполитова. С одной стороны, было понимание, что из-за огромной востребованности и занятости автора (работа, каталоги, кураторство) я вряд ли когда-нибудь получу новый текст. Но и была надежда, что «Особенно Ломбардия» и «Только Венеция» выросли не просто из компьютера, а этому предшествовала большая, кропотливая литературная и исследовательская жизнь. Направление мысли оказалось верным. Мой автор написал множество статей в «Эксперт», «Коммерсант», «Русский телеграф», «Сноб», «Сеанс», в различные музейные каталоги, редкие издания. Подобно хорошему вину, со временем тексты стали только лучше. Даже статья про юбилейную выставку Никола Пуссена для «Коммерсанта» была так хороша и свежа, что ее можно было и через десять лет с удовольствием читать и печатать. Мы это все собрали, систематизировали, одновременно наслаждаясь чтением. Главным условием подготовки нового сборника статей было то, чтобы публикации не пересекались с замечательными, но уже состоявшимися книгами «Вчера, сегодня, никогда» и «Ожидатели августа». Так что все тексты в этой книге «вкусные» и редкие. И все равно про Италию. Даже когда автор пишет про русское искусство — получается все равно про Италию. Предмет, который он знает как никто. А где, например, сейчас найдешь каталог Эрмитажа «Венеция и венецианская жизнь в гравюре 18 века» или «Пармиджанино в веках и искусствах»? Даже интернет не поможет найти. А какие там вступительные статьи, какие комментарии! Так бы читал и читал.
Потом я нашел номер телефона Аркадия Викторовича. Услышал ожидаемое, наверное, «нет». Хотя я как издатель не привык, когда авторы мне говорят нет. Точнее, мне никогда
10
это «нет» не говорили. Я запасся терпением. Мы встречались с автором потом в Красноярске на КРЯККе, на московском «Нон-фикшен», в Эрмитаже, пока я не услышал приблизительно следующее: «Делайте что хотите. Только отстаньте!» Аркадий Викторович писал книгу о Риме, и я старался не мешать излишними вопросами.
Ну вот мы и сделали это! Помогали мне Даша Налепина, Маша Спехова, Сережа Косьянов и многократно здесь уже упомянутый Валентин Яковлевич Курбатов, за что им огромная благодарность.
А еще была у нас с сыном немного затянувшаяся поездка в Мадрид. Я чуть погорячился, и дней в этом городе оказалось больше, чем можно было бы провести в Прадо. От длительности пребывания в чужом месте появились усталость и раздражение. И карапуз мой приговаривал: «Ну что, папаша? Я говорил, что это долго для Мадрида». И вот в какой-то вечер мы попадаем в Музей Тиссена-Борнемисы на выставку «BULGARIY ROMA» — о Риме, радости и счастье. А там Феллини, дизайн, иллюзия пребывания на крыше Замка Святого Ангела, фотографии Эллиотта Эрвитта, музыка Нино Роты, звуки римских цикад. Увидели мы эту красоту, вздохнули и уехали в Рим. И больше мы никуда, кроме Италии, не ездим. Потому что, кроме Италии и Москвы, все скучно.
Я это к чему рассказываю? Наверное, к тому, что «Tutte le strade portano a Roma» — все дороги ведут в Рим. Может, для кого-то такой дорогой станет этот сборник статей, в котором все пронизано Италией и ее искусством, о котором так изысканно пишет Аркадий Ипполитов.
И последнее. Я прочитал эти тексты, наверное, с десяток раз, но с огромным нетерпением жду свидания с книгой, чтобы на кремовой бумаге увидеть напечатанные буквы, ощутить руками составной корешок, почувствовать ни с чем не сравнимый аромат свеженапечатанной книги. Чтобы потом с удовольствием провести несколько вечеров в компании прекрасного рассказчика, каким является автор «Банды Рафаэля», чего желаю и тем, кто начнет читать эти тексты впервые.
Издатель Сергей Биговчий
13
Суд Париса
Проблема выбора
реческая мифология изумительна. Она рассказала обо всем, что нас касается вчера, сегодня и завтра. Я имею в виду вчера, сегодня и завтра Европы и так называемой европейской цивилизации, являющейся, в сущности, лишь комментарием к книжке Куна. Так или иначе, но считается, что именно сегодня мы с этой цивилизацией соотносимся, у нас даже происходят события, похожие на европейские. Так что греческая мифология становится особенно актуальной, и, постольку поскольку публика, да и то только в лице лучших ее представителей, знает ее на уровне этой замечательной книжки, всегда полезно напомнить о старых, рассказанных древними греками историях. К ним относится и история суда Париса, очень поучительная.
В общих чертах она как раз известна. Парис родился в Трое, городе сумбурном и не очень счастливом, находящемся не в Европе, не в Азии, не принадлежащем ни Западу, ни Востоку, в столице страны с амбициями большими, но не всегда оправданными. В Трое этой все было как-то мало понятно и мало приятно, поэтому Парис, юноша интеллигентный, с детства обладал самоощущением, свойственным в той или иной степени всем троянским интеллигентам. Оно замечательно было описано одним троянским поэтом в гениальных строчках:
Уродился я, бедный недоносок,
С глупых лет брожу я сиротою...
Ощущал он себя в родной Трое чужим, и складывалось все как-то так, что родина-мать его не полюбила и она же, ро-
дина сударыня-жена, не приласкала. Парис делал вид — а что еще оставалось? — что это ему безразлично, жил на Иде-го- ре, то есть как бы и в Трое и в то же время не совсем в ней, и пастушествовал.
В Трое все шумело и гудело, то то, то се, то финансовый крах, то еще один, то свободы слова нет, то свобода слова есть, то все плохо, то все еще хуже, а в общем-то — ничего и с Троей жить можно. Пастушество его выражалось в том, что он ходил, и думал, и стада пас, читал то Пруста, то Джойса, то всяких троянских писателей, за что даже деньги получал, так что они, деньги, даже иногда и были. Плохо ли это или хорошо, что он вел себя подобным образом, мы сейчас не обсуждаем, не о том речь, а дело вот в чем.
Вдруг, ни с того ни сего, как показалось Парису (мы-то с вами знаем, что это не так, что все это не так уж и неожиданно было, но Парису казалось, что все произошло неожиданно), с небес раздался божественный глас, громовой и непреклонный: «Все, хватит. Хватит прохлаждаться, вставай, иди и выбирай!»
Многие источники мифа, а также поздние интерпретации рисуют ситуацию как произошедшую мгновенно. Божественный глас персонифицируется в фигуре Гермеса, слетевшего с Олимпа и Париса прямо-таки чуть ли не разбудившего. За плечо трясет, золотое яблоко в физиономию тычет, а тут же, прямо за гермесовой спиной, три богини раздеваются перед обалдевшим пастухом-царевичем. Глаза протереть еще не успел, а три роскошные красавицы уже напирают, грудями толкают, очами вращают, бедрами поводят, по плечам власы струятся, и верещат они, бог мой: «Мне, мне, мне дай, мне, прекраснейшей, давай, я тебе и то, и другое, и третье сделаю, дай только мне, мне одной, единственной и несравненной».
Так примерно очерчено это событие в различных сборниках мифов, и примерно так же его изображают художники. Все же на самом деле было совсем по-другому. Даже мы знаем, что Суду Париса предшествовали обещания богинь: одна, мол, ему обещала власть, другая — славу, третья — любовь. Каждому ясно, что не могли голые богини выкрикивать свои посулы прямо перед Парисом, давя и перебивая друг друга. Несомненно, что богиням была необходима обширная пред¬
выборная кампания, развернутая ими на олимпийские деньги, полученные от жертвенных троянских дымов. Кампания эта потребовала времени, богини заранее Парису в уши дули со всех сторон, и не так уж и внезапно он проснулся. Хотелось бы уточнить обстоятельства выборов «Прекраснейшей» потому, что часто они исчезают из мифологических пересказов, превращая Парисово предпочтение в полный абсурд. Вникнув же в подробности, можно не то чтобы Париса оправдать, но понять по крайней мере. Олимпом троянский царевич был поставлен в психологическую ситуацию крайне тяжелую. Выбор-то его выбором можно назвать с большой натяжкой. Судите сами.
Три богини, явившиеся ему с Олимпа, были следующими.
Первая — Гера. Бабенка с внешностью, не лишенной некоторой официозной приятности, она обладала стертым лицом без каких-либо черт, так что время от времени являвшаяся Парису ее голова, вещавшая с облаков над горой Идой, оставляла в нем ощущение говорящего манекена. Супруга владыки, она олицетворяла собой власть, с властью была впрямую связана, и власть вещала ее устами. Блага Гера сулила также все связанные с властью: мол, ничего кардинально не изменится, все будет как вчера (предполагалось, что Парису это вчера симпатично), Азия будет наша, Европа, рано или поздно, — тоже, стабильность, процветание и сущий рай. На официозной физиономии Геры написано было, что стабильность понимается ею как сохранение олимпийской иерархии, давно распределившей все блага по вертикали. Укрепление этой вертикали Гера собой и олицетворяла. Сам Зевес неоднократно намекал Парису, а также и другим троянцам, очень прозрачно, с убедительностью мягкой, но настойчивой, что Гера единственная достойна золотого яблока с надписью «Прекраснейшей», так он ее, свою супругу, давно знает, ей доверяет, и что у нее выдающиеся организаторские и организационные способности. Парис же, вглядываясь в Герины двигающиеся уста, его прельщавшие, понимал, что станет она прекраснейшей и свяжет тогда это навеки его с олимпийской вертикалью, так что ничего, кроме подачек со стола богов, ждать ему не останется; и это его не особенно радовало. Не привлекали его и обещания каких-то гигант¬
15
ских строек, и то, что Олимпийские игры будут чуть ли не навечно перенесены из Олимпии в Трою, так что вся гора Ида превращена будет в олимпийский городок с отлаженной инфраструктурой и любой Элизиум за пояс заткнет. А на берегу, прямо перед его родным городом, вознесется к небесам маяк-небоскреб, выше любого Александрийского и Родосского, и вечно на башне будет гореть жертвенный огонь, символ троянского благополучия и процветания. Ему же придется сидеть в самом малопривлекательном уголке своей Иды, оставшемся от застройки, и с восхищением созерцать неугасимое пламя, время от времени подписывая славословия в адрес Олимпа. Ну ее к черту, эту вертикаль власти, думал Парис, хотя Парисов приятель Сарпедон, как- то там связанный с высшими кругами Трои, все ему твердил, что Гера — лучший вариант, если уж ему, Парису, выбирать приходится, и никуда от этого не деться. Лучший не лучший, а Парис ему все равно не верил.
Второй претендентшей на звание Прекраснейшей была Афина Паллада. Очень гордившаяся титулом богини мудрости, Афина где-то там учила математику и философию, упомянуть о чем никогда не упускала случая. Она была девственницей, то есть чистой и незапятнанной, настаивала на том, что ни в каких скандалах, в том числе и имущественных, замешана не была, так что и она сама, и ее налоговая декларация вполне могли пройти освидетельствование божественных гинекологов. Мудрая девственница, она декларировала самые левые убеждения и все время потрясала червленым щитом с начертанной на нем аббревиатурой, призывающей назад, к славному троянскому прошлому, когда все были равны, едины, велики и могучи. Осуждала роскошь, захлестнувшую Трою, и с пророческим видом витийствовала нечто вроде: «Гяуры нынче Трою славят, а завтра кованой пятой, как змия спящего, раздавят и прочь пойдут и так оставят... Заснула Троя пред бедой». Очень выразительно. Парису это даже было симпатично, потому что приходила ему в голову шальная мысль, что именно с ней, с Афиной, и с ее партией, то есть с партией Пикассо и Арагона, ему, троянскому царевичу, и подобает быть. Парис, правда, сам понимал, что мысль эта не более чем взбе¬
16
сившаяся бабочка его эстетства, залетевшая в воспаленное сознание, что никакого отношения к Пикассо и Арагону богиня мудрости не имеет, что все призывы к возвращению означают бюрократию и распределитель, а все рассказы о величии и могуществе прошлого — кровавые мифы, повторения которых не хочет ни один разумный человек. Уж лучше хлипкая продажная роскошь с нищетой вперемежку, чем паек и очереди. Червленый щит был как-то уж больно кровав, да и эгида на груди Афины, которой она потрясала, с головой Медузы Горгоны, вызывала не лучшие воспоминания: Горгона-то была самым настоящим чудовищем, и войны, что когда-то выиграли под ее эгидой, как бы славны они ни были, тоже ведь чудовищны. Все вместе: бряцание оружием, отрывистая диктаторская речь, кровожадное выражение и солдафонская физиономия — были мало привлекательны: ну, девственница, хорошо, но кто же такую девственности-то лишать возьмется?
Третья претендентка, Афродита, обладала божественной харизмой. Артистичная, как цирк шапито, она прельщала, прельщала и прельщала. Златые горы и реки, полные вина, притом что и проблема алкоголизма решена будет. Обещания самые феерические, даже договорилась до того, что, как станет Прекраснейшей, так у нее все мужья жен трахать начнут. То ли у них будет самый короткий в мире рабочий день и больше нечем будет заняться, то ли виагру будут бесплатно в принудительном порядке на специальных пунктах раздавать. В общем, богиня любви во всех ее проявлениях. Художественно очень выступала, напоминая любимые простыми троянцами телевизионные юмористические шоу. Смачно, скандально, с прелестными взвизгиваниями. Одно слово, Афродита! Она еще и шалунья была. Так один раз раз- резвилась-расшалилась, что египтяне ей даже в визе отказали, когда Афродита по обычаю олимпийцев в очередной раз в Египет собралась. Всех любить была готова: стар и млад, мужчин и женщин, троянских пенсионеров и троянских беспризорников. Приди, приди, я тебе такое устрою! Очень все звучало соблазнительно, популизм в вихре Венского вальса, он же — Первый концерт Чайковского. Какая-то богиня любви была при этом дрябловатая. Косметики — чересчур,
под глазами мешочки набухли, и тело вялое, с жиринкой, поползшее, целлюлитное, тициановское. Когда рот Афродиты переполнялся сладостными обещаниями, то казалось, что речь ее начинает затрудняться от обильного слюноотделения, с которым богине трудно справляться, производимого от фальши челюстей. Так что и обещания казались столь же фальшивыми, как и истасканный популизм богини, великой Афродиты Пандемос, преданной служительницы народа. Честно признаться, Парис голову от песен этой сладкоголосой птицы счастья отнюдь не потерял и с удовольствием отдал бы пресловутое яблоко кому-нибудь другому.
Была там еще какая-то четвертая богиня, но та вообще была статистка, подсаженная Олимпом к трем главным спорщицам для создания иллюзии разнообразия, и ее никто всерьез не воспринимал. О ней говорится только в апокрифах, основные источники не упоминают даже ее имени. Некоторые исследователи пытаются идентифицировать ее с Лоакидой, дриадой, утверждая, что среди высокопоставленных олимпиек она олицетворяла землю и была слеплена Прометеем, соперничавшим с богами, — как это делает Лоран Дюссо в своем мифологическом словаре (Dussaud Laurent. Dictionnaire Mytho-hermetique. Paris, 1999). Карл Ротбарч в фундаментальном исследовании (Rohtbartsch Karl. Die mythische Bedeutung des Parisurteil in der antiken und modernen Kunst. Leipzig, 1938) сообщает даже об очень редком сюжете драки Лоакиды с Афродитой, вцепившейся дриаде в волосы, когда богиня любви узнала о том, что эта чернавка тоже претендует на выбор Париса. В качестве доказательства бытования своего апокрифа автор приводит кусок чернофигурной амфоры, находившейся до войны в Берлинском музее. Разыскать другие подтверждения этой версии мне пока не удалось.
Вот они, претендентки на звание Прекраснейшей. Парису нравились все. Однако поставить галочку напротив каждой не позволялось. У Олимпа должна была быть единственная Прекраснейшая. Ну и что же было делать Парису, кому отдать золотое яблоко с роковой надписью? Олимп строго-настрого запретил голосовать против всех, не выбрать тоже не было никакой возможности. Лоакида была придумана толь¬
18
ко для Дюссо и Ротбарча, так что Гера, Афина, Афродита — и никого другого. Все три так хороши, что рехнуться можно. Парис думал-думал, то так прикинет, то этак и...
Все мы знаем, кому Парис вручил яблоко. Все мы знаем, чем это кончилось. А что было делать?
И что бы вы, дорогой читатель, сделали на его месте? — как спрашивает в своих статьях член-корреспондент журнала «Большой город», заканчивая рассуждения о пользе силиконовой груди или вреде стрингов.
21
Куда «Туда, туда!..»?
Родина и Италия
ч
-^то такое Италия?
Италия есть страна, занимающая Апеннинский полуостров и прилежащие к нему острова: два крупных и много маленьких. От остального мира Италия отделена горами Альпами и Доломитами, а также морями, омывающими ее берега: Лигурийским, Тирренским, Ионическим, Адриатическим и Средиземным, самым большим, частью которого и являются все четыре вышеперечисленные. Поэтому и климат в Италии средиземноморский, а населяют ее преимущественно итальянцы, в основном — католики. Столица Италии — город Рим, город древний, в нем чуть больше миллиона постоянного населения, и кроме Рима в Италии есть еще два больших города, Милан и Неаполь, в остальных же ее городах меньше миллиона жителей. Несмотря на это, Италия — высокоразвитая индустриальная страна, входящая в десятку самых развитых стран мира. Наиболее эффективны в ней следующие отрасли промышленности: машиностроительная, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, текстильная и кожевенно-обувная. В Италии производится около трех миллионов тонн цитрусовых в год (одно из ведущих мест в мире), а также виноград, кукуруза, рис и сахарная свекла. Италия к тому же — один из крупнейших районов международного туризма, и ежегодное количество посещающих ее превышает пятьдесят миллионов человек, что практически равно ее населению. Причем с каждым годом посещающих Италию становится все больше и больше.
И что же этим ежегодным пятидесяти миллионам от Италии надо? Куда и зачем они едут? За средиземноморским климатом, на шопинг, за какими-то неведомыми удовольствиями? Едут и ехали, уже несколько тысячелетий подряд, подбираясь к Италии по морям, как Одиссей и следовавшие за ним греки, переваливая через заснеженные Альпы, как галлы, карфагеняне, германцы и бесчисленные христианские паломники, несясь по воздуху, как американцы, японцы и русские. В Италию едут и Сквозник-Дмухановский, и Артемий Филиппович Земляника, и Чичиков, и Хлестаков, Манилов с Ноздревым, Анна Андреевна с Марьей Антоновной, дама приятная во всех отношениях и просто приятная дама, и даже Акакий Акакиевич откладывает свои премиальные для того, чтобы побывать в стране, производящей около трех миллионов тонн цитрусовых в год. Вся Россия рвется туда, туда, где лавр цветет и апельсины зреют.
Географическая Италия — неоспоримый, конкретный, реально существующий факт. Столь же конкретный и реальный факт, как и то, что у алжирского дея под самым носом шишка. Однако у каждого — своя Италия. У Сквозник-Дму- хановского Италия состоит из родных русскому сердцу лиц окружения Берлускони и основательности отдыха на лигурийских курортах; у Хлестакова — Италия, нарисованная статейками в GQ и Mens Health, страна Прады и Дольче с Габбаною; у Чичикова Италия — страна самых лучших панталон брусничного цвета с искрой, отличнейших морских гадов, официантов-пройдох и хороших возможностей для разумной деятельности; Манилов грезит об Италии Боттичелли, фра Анжелико и дольче виты; а у Акакия Акакиевича Италия связана с тряской в автобусе, гостиницей в районе вокзала Термини с одним душем на этаже, общими, заранее оплаченными обедами, где вместо супа дают макароны, плавающие в чем-то красном, и с августовской жарой на Форуме, от которой плавятся и мозги, и камни, и ящерицы на камнях, а экскурсоводша что-то талдычит о цезарях, триумфах и каком-то Тите. У Коробочки же заезжие итальянцы одну девку завезли, так ничего, девка устроилась, сначала помыкалась, правда, ничего об этом и не рассказывает, а потом и на фабрике работала, и в ихнем госпитале горшки выносила,
22
и ничего, замуж вышла, дети, двое такие, чернявенькие, мне ее мать фотографию показывала, зовут Петя и Павлуша, имена такие человеческие, прям как у нас, бабка все плачет и плачет, заливается, а что плакать? внучата ладные, все у них как у людей, а здесь бы кто знает, что с ними было бы, да и девка ведь безголовая, а там, вишь, не пропала, человеком стала.
В общем, в сознании каждого культурного человека есть свой, индивидуальный образ Италии. Рождается он задолго до встречи с реальной Италией и предопределен множеством идей, чувств, мыслей и ощущений, пережитых как результат определенного культурного опыта. В каждой европейской, а сегодня и не только европейской, культуре есть своя Италия, создаваемая на протяжении столетий. Есть Италия американская, с «Женским портретом» Генри Джеймса и «Ускользающей красотой», там все приличные американские девушки искали случая в Италии девственность потерять, а женщины постарше, вроде Изабеллы Гарднер или Пегги Гуггенхайм, дружили с Беренсонами, вывозили из Италии Тицианов и сьенскую живопись на золотом фоне, так что в Америке Тицианов и сьенцев чуть ли не столько же, сколько и на их родине, и американские центры по изучению итальянской культуры понатыканы по всей Италии, и был еще «Талантливый мистер Рипли», там Джуд Лоу знал, что летом в Италии в вельвете не ходят, а ходят только во льне, а его убийца не знал, узнал позже, поэтому расстраивался и убил Джуда Лоу и еще нескольких, одного — в римском палаццо, прямо римским бюстом припечатал, и Пьяцца ди Спанья, и на террасе, выходящей на эту Пьяццу, миссис Стоун ловит свою последнюю весну, и Венеция, Гемингвей в «Харрис-баре» сидит, бел- лини пьет, карпаччо закусывает, за Рупертом Эвереттом, великовозрастным Тадзио, Хелен Миррен со своим мужем по всей Венеции гоняется, и Ганнибал Лектор в Палаццо Веккио читает лекцию о Данте, кто ж еще, кроме каннибалов, Данте читать будет, поэтому и Уорхолу Рим совсем не понравился, хот-доги там такие же, как и везде, и вообще Уорхол в Риме оказался только из-за того, что туда Лиз Тейлор поперлась. Есть и Италия японская, о ней я мало что знаю, но Миси- ма в «Исповеди маски» рассказывает, что в детстве его было не оторвать от созерцания святого Себастьяна Гвидо Рени,
от его тела, пронзенного стрелами, и вместе с Гвидо он впитал в себя чувство прекрасного, поэтому потом и стал таким изысканным и жестоким, сделал харакири на телевизионной башне. От Мисимы тягу к итальянской красоте унаследовали и другие японцы, и отель «Бауэр» очень украшают молодые японские пары, проводящие в Италии медовый месяц, такие изящные, точеные, прямо укиё-э Утамаро, только в Миссони, и с шикарными дизайнерскими пакетами в руках, и среди пар молодоженов одна пара, он и он, особенно точеные, особенно изящные, укиё-э Утамаро, и театр Но, и Кабуки, и в Миссони, и с дизайнерскими пакетами в руках, и толпы японцев попроще, белый верх, черный низ, белые носочки, фотографируются стадами на Пьяцетте, у Сан Марко, у Пантеона, Кампаниллы Джотто и на фоне гвидо-рениевского святого Себастьяна, пронзенного стрелами. Есть еще Италия датская, с Торвальдсеном и Андерсеном, умильная, чистая, детская, с мальчиком на бронзовом кабане, есть Италия финская, канадская и бразильская, есть даже Италия тунисская, начатая походами Ганнибала и продолженная нелегальными эмигрантами, арестованными на острове Пантеллерия береговой полицией.
Много всяких Италий. Для Европы Италия, конечно же, важнее всего, так как по многим причинам Италия стала своего рода ключом к самосознанию европейских культур, и чем более развита и глубока культура, тем более ярким и индивидуальным образом Италии она обладает. Каждая европейская культура создавала свою Италию, больше похожую на автопортрет, отраженный льстивым зеркалом. Образ выходил столь совершенным и самодостаточным, что порой было уже необязательно ехать в вожделенный край за жизненными впечатлениями. Для английской культуры со времен елизаветинской трагедии Италия была страной, где цвела идеальная жизнь, полная красоты и страсти. Альбиону всегда не хватало чего-то подлинно изысканного, и еще в XVII веке сэр Генри Вуттон в «Панегирике Королю Карлу» пишет об «Италии — величайшей Матери изящных искусств», провозглашая этого короля, известного элегантностью своего двора, наследником именно итальянских традиций. В Италии происходит действие шекспировских пьес,
24
в Италии разыгрывается чисто английская история леди Гамильтон, с Италией связаны романтические мечты Блейка и Фюссли, а в наши дни культурологические построения Питера Гринуэя. И все это о любви, любви и крови.
Франция к Италии относилась спокойней, осознавая себя законной наследницей итальянского пластицизма. Со времен Франциска I, заглотившего Леонардо, и школы Фонтенбло, когда французы экспроприировали Челлини, Россо и При- матиччо, Франция уверенно ориентировалась в итальянской культуре. Время от времени она завоевывала Италию, французы очень любили там жить, и один из самых блистательных представителей острого галльского смысла, Никола Пуссен, провел в Риме почти всю свою жизнь. Столь же естественно чувствовали себя в Италии Фрагонар, Стендаль, Энгр, Коро, Дега и Пруст. Причем последний устами главного героя «В поисках утраченного времени» признавался, что поездки в Парму, Флоренцию и Венецию даже и не обязательны, так как одно произнесение имени города делает картину осязаемой. Так он хорошо чувствовал Парму по «Пармской обители», Венецию по Мюссе и Рим по Шатобриану.
Но самые сильные чувства к Италии испытывали немцы. Со времени варваров германский дух мучился Италией. Штауфены вообще из Сицилии и Неаполя старались не выезжать, Рим был столицей Священной Римской империи, и уже даже без Рима немцы еще долго жили в границах этого призрачного образования. Германия постоянно устремлялась к Италии, посвящая ей лучшие порывы своей взволнованной немецкой души. Любовь к Италии носила у немцев несколько садомазохистский характер, в ней было и желание обладания, и желание разрушения, и, вслед за Гете, романтики окрестили ее Sehnsucht nach Italie. Чудесное выражение, в нем и тоска, и нежность, и болезнь души, и «страстное ожиданье, горькая зависть, малая толика презрения и вся полнота целомудренного блаженства». Ни англичане, ни французы ничего такого не придумали.
В большинстве европейских культур образ Италии ясно обрисовался уже в XVI веке. Россия здесь сильно запоздала. В силу своей отдаленности от Запада, из-за всех этих лесов и снегов, у России было не из чего лепить свою Италию. Так,
25
что-то доходило через Польшу, но Русь благодаря православию и татарам Европы чуждалась. Все они были нехристи, и после общения с ними полагалось руки мыть. О Риме мы, конечно, слышали, но все связи русского царства и Италии во время Ивана Третьего исчерпывались абстрактной идеей Римской империи, чьей прямой наследницей через Константинополь провозгласило себя Московское царство, сознательно отъединив и противопоставив православие католической Европе. Православная-то Европа от Греции до Румынии вся была под турками. Конечно, Аристотель Фио- раванти построил Успенский собор, но итальянца в Москве заставляли строить по-русски, точнее — по-гречески, а не по-итальянски.
Все отношения с Италией Древней Руси могут быть исчерпаны «Песней венецейского гостя» из оперы «Садко», так как итальянцы на Русь приезжали, а русские в Италии были только в качестве послов, которым строго-настрого было запрещено общаться самовольно с кем бы то ни было, или в качестве рабов, так что в Венеции существует даже Riva degli Schiavoni, набережная рабов, или славян, так как schiavo — раб — имеет общее происхождение со slavo — славянин. Послы возвращались, но ничего путного не рассказывали, а рабы и не возвращались, ибо итальянское рабство было, поди, слаще родного крепостного права. Образ Италии как некой особой страны, отличной от всех остальных, понадобился России только тогда, когда она почувствовала необходимость стать частью Европы. Точнее, не Россия почувствовала, а почувствовал ее владыка и послал в Италию сподвижника, Петра Андреевича Толстого, умнейшую голову своего времени, и начертал Петр Андреевич замечательные записки об Италии, подробные и смачные. Пишет он, в частности, следующее: «В той же церкви у стен поделаны из розных же мраморов гробы, в которых лежать будут тела древних Флоренских великих князей. Между теми сделан гроб, где лежать по смерти телу нынешняго грандуки, то есть великого князя Флоренского. Те гробы поделаны такою преузорочною работою, что уму человеческому непостижно. И над теми гробами поставлены персоны вышеимено- ванных древних Флоренских князей, также и нынешняго ве-
26
ликаго князя Флоренского персона над ево гробом стоит. А высечены те их все персоны из алебастру изрядным мастерством и с такими фигурами, которых подробну и описать невозможно». Это Петр Андреевич о посещении Сан Лоренцо во Флоренции и Микеланджеловой гробницы Медичи.
Не было у нас тогда еще органа, с помощью которого можно было бы создать русскую Италию. В XVIII веке, во время интенсивного поглощения европейских ценностей, отношение России к Италии было по-детски простодушным. Растреллиевское барокко, занесенное снегом, и мерзнущие под петербургским дождем венецианские богини Летнего сада сразу вошли в русский пейзаж, но не были никем осмыслены. Картин натащили и италиянских кастратов с девками, чтобы голосили как положено, и в Италию уже поехали, и выблядков из Академии художеств в Италию послали, поелику выблядки талантливее детей законных и к художествам зело способны. Но все это была Италия, понахватанная у других, и вот уже княгиня Дашкова в Италию едет, и все описывает правильно, и знает, кто и где Рафаэль, и Гвидо Рени, и Каналетто, и все разумно оценивает, и смотреть умеет, и описывать, но описывает по-французски, и мало чем ее записки отличаются от записок образованной француженки, у которой за спиной Франциск I с Леонардо, и школа Фонтенбло, и Челлини, и Россо, и Приматиччо.
Осмысление пришло позже, но опытности в общении не хватало, а Италия была очень нужна, просто необходима каждому уважающему себя русскому, претендующему на просвещенность. Что же делать? Надо ее откуда-то брать, и самая ближняя и самая лучшая Италия была у немцев, готовая, прекрасно отделанная. Вот мы и позаимствовали ее у них. Со времени Жуковского, нашего главного европейца, появилось бесконечное количество переводов гетевских строк «Kennst du das Land...» («Ты знаешь край...»), так что это стихотворение можно назвать русским хитом начала XIX века. Русские оказались очень восприимчивыми, быстро усвоили Sehnsucht nach Italie, и это состояние стало характернейшим свойством русской души. Опираясь на Sehnsucht и русские ее переводы, Пушкину даже удалось предвосхитить прустов- ское отношение к Италии, написав о ней чудесные строки,
28
так ни разу там и не побывав. В частности, стихотворение «Людмила», в котором Пушкин вопрошает: «Кто знает край, где небо блещет / Неизъяснимой синевой, / Где море теплою волной / Вокруг развалин тихо плещет; / Где вечный лавр и кипарис / На воле гордо разрослись; / Где пел Торквато величавый; / Где и теперь во мгле ночной /Адриатической волной / Повторены его октавы; / Где Рафаэль живописал; / Где в наши дни резец Кановы / Послушный мрамор оживлял, / И Байрон, мученик суровый, / Страдал, любил и проклинал?» — кто ж его не знает, все знают, он уже оскоминой на зубах навяз. Рафаэль, Канова, Байрон и три миллиона тонн цитрусовых в год. Kennst du das Land? Ja, ja, ich kenne... Строчка из Вильгельма Майстера выведена эпиграфом к Людмиле, но как какая-то сумасшедшинка вторит им припевом куплет: «По клюкву, по клюкву, по ягоду, по клюкву», — и впервые в русской поэзии начинают звучать новые, отличные от немецких интонации. Русская песенка среди пейзажа «Италии златой» придает этой вымышленной стране оттенок безумия. Италия, клюква, Людмила... умильность, умиление, и — «Солнце склоняется за гору Св. Марии; безоблачное небо накидывается горящим светом, и, согретый теплым чувством о Боге, вместе с несчастными любопытными атеистами иду внимать пению дев непорочных, горем вынужденных отрешиться от света. Их голос ублажает мое сердце, я сливаюсь с ними в чувствах: горесть составляет союз сердец человеческих, даже самых гордых она соединяет. Я не могу пересказать вам, сколько блаженных мыслей рождает во мне прекраснейшее соло какой-либо из сестер сих: из меня тогда все вы можете сделать.
Я живу на горе; огромность и небрежность здешних дворцов есть принадлежность. Войдя с улицы Сикста, вы подымаетесь во второй этаж; завернув налево в сад, вы почувствуете аромат, увидите тучныя, цветущия розы, и под виноградными кистями пройдете ко мне в мастерскую, а далее — в спальню или комнату: и то, и другое будет больше нашей бывшей залы. В мастерской на главном окне стоит ширма в полтора стекла, чтобы закрыть ярко-зеленый цвет от миндаля, фиг, орехов, яблонь и от обвивающей виноградной лозы с розанами, составляющей крышу входа моего.
Во время отсутствия скорби о доме моем родительском, я бываю до такой степени восхищен, что не бываю в состоянии ничего делать: как же тут не согласиться с итальянским бездействием, которое мы привыкли называть ленью?
Из окон с одной стороны моей унылой спальни виден другой сад, нижний; дорожки все имеют кровлею виноградные кисти, а в середине их — или чудные цветы, или померанцы, апельсины, груши и т. д. Сзади сада живописной рукой выстроены дома: то угол карниза выдается из чьей-либо мастерской, то сушило, арками красующееся, то бельведер, высоко поднимающийся». Это из римского письма А. А. Иванова 1831 года.
Описание совершенно гоголевское. Русская душа слишком глубоко переняла немецкую Sehnsucht и уже плакать готова с благочестивыми сестрами, и молиться, и биться над картиной всех времен и романом всех народов, Иванов и Гоголь становятся пленниками Рима и только о России там и думают, и вот уже: «Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Что хотят они от меня, бедного? Что могу я дать им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем бедном дитятке!..» Пережив и осмыслив встречу с Италией, русская душа угодила в сумасшедший дом.
Вот и все. С одной стороны море, с другой Италия, не лейте мне на голову холодную воду. Потом будет еще мно-
30
го чего, и Санин из «Вешних вод» предпочтет всю такую невозможную Полозову сладчайшей Джемме, и Анна Каренина с Вронским снимут палаццо с плафоном Тинторетто, Дягилева, Стравинского и Бродского похоронят в Венеции, Ленин с Горьким будут играть в шахматы на Капри, Муратов напишет об Италии лучшую книгу на русском языке, господин из Сан-Франциско в трюме международного лайнера лежать будет бревно бревном. Но ничего решительно в русской Италии, оформленной Гоголем, это уже не изменит, только прибавит. Так что и Сквозник-Дмухановский со своим Берлускони и правильным пониманием значения России для Европы, и Хлестаков со своим снобизмом, заимствованным из статеек в GQ и Mens Health о сардинских курортах, и Чичиков со своим безупречным вкусом, и Манилов со своими грезами, и Акакий Акакиевич со своей человечностью — все они направляются в страну, где «звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют», хотя они сами об этом и не подозревают, и у них даже может быть свое какое-то собственное мнение.
33
Приключения Людмилы
Россия — Италия 2007
Kennst du das Land...
Wilh. Meist.
По клюкву, по клюкву,
По ягоду, по клюкву...
.X. -Хет, Оль, ты слушай сюда... Я тебе сейчас такое расскажу. В прошлую среду он мне ужин назначил, в особом таком, говорит, ресторане, и чтобы были только мы вдвоем. Кольцо подарил, хорошее. Я собралась вся, жду, расфуфырилась, ногти накрасила. Сижу, значит, вся готовая, нет и нет. Я, значит, звоню на работу, там нет никого. Я ему на телефон звоню, там никто не отвечает. Оль, бля, мне так обидно стало. Я, значит, сижу жду, вся на нервах, два часа проходит, ну, думаю, никуда я и не пойду. Уже десять стало, я уж и переодеться решила, ну, думаю, их... с ним. А вдруг слышу, машина подъезжает. Я так вся взволновалась, даже свет погасила, а он звонит. Я, говорю, сплю уже. А он — открой да открой. Я, говорю, сплю, но все же открыла, в щелку-то гляжу, он там стоит, улыбается. Я, говорит, на работе был, поздно кончил. На какой, бля, такой работе, если я звонила, никого там не было. Нет, я ему говорю, так дело не пойдет. Я так не желаю, я тебе не какая-нибудь, так прямо ему и сказала. Хочешь отношений, так тоже себя веди. Оль, ну слушай сюда...
Голос, резкий и сухой, отчетливо звучал в салоне небольшого, вечернего, последнего автобуса, залитого желтым светом. За окном был сумрак итальянской октябрьской ночи, стихшие улицы, палаццо Подеста со сказочными зубцами, фонтан с голым и бородатым Нептуном, сжимающим правой рукой огромную трезубую вилку, — бог взгромоздился на мраморный изукрашенный постамент, чем-то похожий на гробницу, а вокруг него, стоящего высокомерно, гордо рас-
прямившись в своей мужественной голости, уселись нимфы по краям гроба, оживленные и кокетливые, непринужденно болтая ногами в воздухе, — из нимф вода течет, Нептун же взирает на шевелящихся внизу людишек вопросительно и строго; башни Азинелли и Гаризенда, воткнутые в темное небо небрежно и косо, как булавки в бархатную подушечку, напоминали о заточенных красавицах, спускающих свои роскошные волосы возлюбленным сквозь узкие бойницы, дабы помочь им вкусить мгновения блаженства; темнели дворцы с залами, чье пространство кажется необъятным благодаря густо и пышно нарисованной на стенах архитектуре, помноженной на свое отражение в старинных огромных мутных зеркалах; суровые монастыри и соборы с готическими сводами капелл, приютивших жеманных святых и мучениц маньеризма, строящих глазки посетителям из-под благочестивых стрельчатых арок; мадонны, нимфы, проповедники, монахи, аристократы, свихнувшиеся на коллекционировании чудес мира, их кабинеты и библиотеки, полные окаменелостей, этрусских бронз и книг в белых переплетах из телячьей кожи; студенты, анархисты, коммунисты, богословы и великие художники раннего барокко. За окном автобуса лежала Болонья, grassa, dotta г torrita, жирная, ученая и башенная, как называли ее в шестнадцатом веке, город бесконечных галерей, красноватых кирпичных стен, цветом похожих на болонскую мортаделлу, автомобильных пробок на узких улицах центра и уродливых рабочих предместий. Герб Болоньи был украшен девизом: DOCET ЕТ LIBERTAS (ученая и свободная), и этот город всегда, с самого Средневековья и до наших дней, считался чуть ли не самым леводемократическим среди итальянских городов, так что даже заслужил кличку Bologna Rossa, Красная Болонья. Теперь Болонья сильно обуржуазилась, особенно по сравнению с шестидесятыми — началом семидесятых, но и сейчас, благодаря огромному, занимающему чуть ли не большую часть старого центра университету, производит особое, среди всех остальных итальянских городов, впечатление. Узкие галереи около университетских зданий полны молодежи, гудящей и галдящей, что старинным камням очень к лицу: город полон плещущейся жизни, так что Болонье не свойственна туристическая отчужденность,
34
так или иначе испытываемая заезжим иностранцем почти в каждом итальянском городе. Болонью никак нельзя назвать городом-музеем, и именно в Болонье с особым смаком ощущается пресловутая непрерывность итальянской культуры, «итальянскость итальянского духа», гудящего и галдящего так красиво, так выразительно всегда, даже тогда, когда он истыкан пирсингом, курит марихуану и разрисовывает яркими дурацкими лозунгами древние кирпичные стены красного цвета различных оттенков, столь благородных, что они напоминают о дорогущей мортаделле, такой соблазнительной, знаменитой и аппетитной, возлежащей томно и важно, как венеры и Клеопатры братьев Карраччи и Гвидо Рени среди смятых драпировок, на прилавках гурманских лавок Болоньи, занимающих чуть ли ни целый квартал.
Мои размышления о непрерывности итальянской культуры, столь же благостные, сколь и неверные, были следствием чудесного ужина на Пьяцца Сан Стефано, одной из лучших площадей мира. Эта треугольная площадь с двух сторон окаймлена старинными дворцами с открытыми галереями, легкими колоннами и бюстами каких-то античных героев, украшающих их фризы, а с третьей — четырьмя связанными воедино романскими церквами, фасадами выходящими на площадь. Низкие скромные церкви, очень простые, с хаотично раскиданными пробоинами окон, дышат аскезой раннего христианства, бедного, с привкусом варварского благородства. Одна из церквей, Сан Сеполькро, представляет собой круглую ротонду. Она несколько отступила от площади вглубь, так что перед ней образовался небольшой дворик, огороженный старой чугунной решеткой, и в нем растет черный печальный кипарис, очень красиво смотрящийся на фоне красного кирпича. Внутри — переплетение двориков и переходов, колодец Понтия Пилата, гробница святого Петрония, саркофаги мучеников, ренессансные и барочные картины и скульптуры — и красивый негр в черно-белых доминиканских одеждах. Он так выразительно стоял в одном из двориков, на зеленой траве в быстро сгущающихся итальянских сумерках, что я принял его в первую секунду за раскрашенную деревянную скульптуру. Церкви уже закрывались, прихожане и туристы, очень ма¬
лочисленные, расходились, а к ограде кипариса сходились местные панки и готы с синими патлами и черными губами. Из баров, расположенных в галереях, столики высыпали прямо на площадь, я сидел за одним из них, вокруг меня гудела итальянская речь, в основном была молодежь, казалось, что все это — студенты из университета, только что наслушавшиеся лекций Умберто Эко об эволюции средневековой эстетики и полные радикальных революционных идей, — во всяком случае, очень хотелось, чтобы казалось именно так, — наступала ночь, я размякал от счастья, от мыслей, от любви к Италии, такой русской, долгой и бескорыстной. Потом побрел, все так же распираемый счастьем, по Виа Санто Стефано, мимо Гаризенды и Азинелли, Нептуна, зубцов палаццо Подеста и так и не достроенного со времен кватроченто фасада Сан Петронио, что придает ему удивительно современный вид, на Виа дел’Индипендентца, где была остановка моего автобуса, отвозившего меня не то чтобы в болонскую задницу, но к границе, за которой начинается болонская задница, на угол улиц Аннибале Карраччи и Юрия Гагарина. Там, в доме для университетских аспирантов, я жил, размышляя на тему: «Стал бы Аннибале Карраччи коммунистом, если бы родился в Болонье в двадцатом веке?». Перекресток Карраччи и Гагарина для подобных размышлений был местом идеальным.
— А он мне, типа, я на работе был, но не там, ты не поняла. Я так вся и заходила, не пойду, говорю, никуда. А онто в щелку видит, что я вся одетая, не обижайся, говорит, не дури, вишь, у меня же все серьезно, я даже, говорит, кольцо тебе преподнес. Я так взбесилась, мне, говорю, не нужно кольца твоего никакого, ну и, значит, как ему его кольцо-то кину, сама не знаю, что делаю, ты слушай, Оль, сюда, знаешь, а кольцо-то хорошее такое, но я ему и говорю, я так наши отношения не понимаю, а он-то кольцо подобрал, бля, представляешь, в карман положил, ухмыляется. Ну, пошли мы все же, ресторан такой, покушали хорошо, посидели, потом ко мне. А кольцо он, значит, так и оставил, не отдал. Оль, я наших отношений так и не поняла, знаешь... Не, бля... Я же говорю... А вчера мы с Таткой и Колей так посидели хорошо, я борщок сварила, Татка пельменей налепила... Да, я пережа¬
рила все, потушила, маслин добавила. Я теперь такие большие покупаю, черные...
В автобусе было только три человека: я, тихий афроевро- пеец (так, наверное, надо выражаться?) и белобрысая голова с мобильником около уха. Мне были видны лишь затылок и мобильник, но я прямо-таки впился в них зрением и слухом, стараясь не обронить ни одного драгоценного слова. Что было не трудно сделать, так как русская речь звучала громко и отчетливо, раскатываясь кругло, немного окающе, по всему автобусу. Речь и галантная история, ею очерченная, захватывали, а мимо проносились галереи, витрины, дольче и габбаны с версачами и арманями, сияние витрин отражалось мостовыми, мокрыми после прошедшего вечером дождя, и болонское мерцание за окнами, такое элегантное, такое манящее, сливаясь с русским говорком, напоминало о многочисленных «уроках итальянского», что преподносят своим благодарным читателям отечественные гламурные журналы, так как «не зная имен итальянских дизайнеров и названий брендов, в наше время не купишь ни дивана, ни туфель». Далее за этой фразой следует перечисление с краткими характеристиками: фенди, феррагамо, феррари, форназетти, бул- гари, паола навоне, капеллини, пеше, Ъ@Ь italia, джорджетти и что-нибудь такое эдакое, не для всех, не совсем понятное и совсем не нужное, вроде пиранези-пазолини. Белобрысая голосила, и ее интонации, сыплющиеся часто и легко, как сухие горошины из детской плевательной трубки, напоминали болтовню про лучший дизайн в мире, шопинг во Флоренции, кафель, прекрасный, как колизей и пьяцца сан марко, вместе взятые, и боско ди чильеджи.
Kennst du das Land...
По клюкву, по клюкву,
По ягоду, по клюкву...
Меня всегда завораживал эпиграф к пушкинскому стихотворению. Начинается оно с вольной интерпретации ге- тевской Песни Миньоны, обрисовывая выдуманную идеальную Италию, чей образ заезжен мировой поэзией как «Лебединое озеро» Путчистами: «Кто знает край, где небо
блещет / Неизъяснимой синевой, / Где море теплою волной / Вокруг развалин тихо плещет; / Где вечный лавр и кипарис / На воле гордо разрослись; / Где пел Торквато величавый; / Где и теперь во мгле ночной / Адриатической волной / Повторены его октавы; / Где Рафаэль живописал; / Где в наши дни резец Кановы / Послушный мрамор оживлял, / И Байрон, мученик суровый, / Страдал, любил и проклинал?» Красиво, конечно, но затаскано так, что список «тассо, рафаэль, кано- ва, байрон» напоминает современную русскую скороговорку «фенди, феррари, форназетти», столь часто употребляемую в повседневной гламурной речи.
Далее Пушкин вводит в действие некую нашу соотечественницу, Людмилу, появившуюся в итальянском раю, столь прекрасную, что «На берегу роскошных вод / Порою карнавальных оргий / Кругом ее кипит народ; / Ее приветствуют восторги. / Людмила северной красой, / Всё вместе — томной и живой, / Сынов Авзонии пленяет / И поневоле увлекает / Их пестры волны за собой». Наша девушка так хороша, что хоть и «На рай полуденной природы, / На блеск небес, на ясны воды, / На чудеса немых искусств / В стесненье вдохновенных чувств / Людмила светлый взор возводит, / Дивясь и радуясь душой», но «Ничего перед собой / Себя прекрасней не находит». Так что она очаровательней и Мадонны молодой, и нежной Форнарины, и флорентийской Киприды. На этом — воззванием к художникам, обязанным запечатлеть Людмилины небесные черты, — стихотворение обрывается, оставшись незаконченным.
С Kennst du das Land... все ясно. Но при чем же здесь «по клюкву, по клюкву, по ягоду, по клюкву»? Как это должно было аукнуться в стихотворении, какой должен был произойти поворот сюжета? В примечаниях к академическому изданию сообщается о свидетельстве П. В. Анненкова, что речь идет о Марии Александровне Мусиной-Пушкиной, которая, вернувшись из Италии, «капризничала и раз спросила себе клюквы в большом собрании». Весьма интересное само по себе, это свидетельство не объясняет загадочный шик эпиграфа. Гениальное пушкинское сопряжение клюквы с Kennst du das Land... превращается в символ русского отношения к Италии, предвосхищая — а заодно и высмеивая — все ностальгии всех Тарковских.
— Знаешь, Оль, а я с той-то работы-то ушла. За триста пятьдесят евро в неделю я им и нянечкой и санитаркой вкалывать не собираюсь. Я прямо им так и сказала. Мною все так довольны были, значит, просили еще побыть. Ну, то да се, а я ни в какую — ухожу и все. Ну, я другую уже давно нашла, да. Чисто так. Да столько же. За две недели-то я получила. Нет, они мне не нравятся. Нет уж, знаешь, я не собираюсь...
Белобрысый затылок притягивал меня не меньше, чем пушкинский эпиграф. Больше всего меня интересовал загадочный «он». Из сынов ли Авзонии? Судя по рассказу — да, хотя имя его ни разу не было упомянуто. На каком языке новая Людмила с ним разговаривала? На авзонском ли? Как, интересно, по-авзонски звучит: «Я наших отношений не понимаю»? Non capisco i nostri rapporti? Мне-то трудно это сформулировать, как же она справлялась с такими тонкими материями?
К сожалению, автобус приближался к границе, за которой начиналась задница, к углу Гагарина и Карраччи, и мне нужно было выходить. Снедаемый любопытством, я специально прошел к выходу около кабины, чтобы разглядеть Незнакомку. Ничем не запоминающееся лицо, белесенькое, без всяких черт, даже без особой косметики. Единственное, что выделялось, — это щеки, большие такие, гладкие, голубиные. Или Альбертиновы, только без румянца. Лет тридцать пять, но не определенно, как это у тридцатипятилетних бывает. Одета тоже неприметно, средняя служащая средней конторы, брючки, кофточка, курточка, обтягивающие крепко сбитый жирок тельца, где все на месте: ручки, ножки, сиськи. На все про все — одна экстравагантная деталь, чтобы запомнить: на стрижке спереди выпущена длинная прядь челки, панковская, ярко окрашенная.
Я вышел, а моя Людмила понеслась дальше, еще глубже в болонскую задницу, не выпуская мобилы из рук и продолжая рассказывать Оле о том, как она «ничего перед собой себя прекрасней не находит». Такая манящая, такая энигматичная. Окончательное разъяснение тайны пушкинского эпиграфа я получил через два дня, когда поехал смотреть одну удаленную от центра церковь, о которой говорилось, что в ее строительстве принимал участие аж сам Франческо дель
40
Косса. Церковь была хороша, не считая двух недостатков: во-первых, она была сто раз перестроена, а во-вторых, она была закрыта. Послонявшись по площади около церкви, вполне современной, я наткнулся на плакат с огромной матрешкой. Текст плаката гласил: «Дорогие женщины России, Украины, Белоруссии... Спасибо вам за ваш труд, за вашу теплоту и нежность»... и еще что-то, очень длинно. Подписано чем-то вроде главы муниципалитета.
Теперь у меня нет никаких сомнений, что вторая часть пушкинского стихотворения должна была быть посвящена моей автобусной Людмиле. Он прекрасно понимал, что именно за ней побежит пестрая волна сынов Авзонии и что она намного глубже, интереснее и серьезней, чем ее соотечественницы, восседающие на миланских показах и, высунув язык, бегающие с вуиттоновскими авоськами по флорентийским бутикам туда-сюда-обратно, мимо фасадов палаццо Питти, оно же — Уффици. Что ж, моя культура тоже не прерывается, что бы вы там ни говорили.
Итальянский стиль велик
И нет другого стиля, кроме итальянского
П оследние два столетия Европа была несправедлива и жестока к
Италии. После наполеоновских войн просвещенные северяне стали рассматривать Апеннинский полуостров как континентальный парк отдыха и культуры. В своей гордости и своих предубеждениях европейцы прогрессировали очень быстро. Если в начале прошлого века Стендаль неподдельно восхищался нравом и характером живых итальянцев, то Томас Манн уже воспринимал местное население как навязчивых представителей местной фауны, досадно портящих окружающий культурно-исторический пейзаж.
Александр Блок и другие русские путешественники начала века рассмотрели в современной Италии лишь пыль да выхлопные газы, оставив все свое восхищение истории.
Для восприятия прошлого столетия Италия отжившая была определенно лучше Италии современной. Тот же Стендаль, искренне восхищаясь красотой миланских дам, не без надменности указывал на скудость их туалетов, передававшихся по наследству.
Скука пыльной провинциальной жизни, нарушаемая лишь появлением иностранцев, стала уделом великой нации. Ни о каком итальянском стиле не могло быть и речи, он был ограничен национальным костюмом и плясанием тарантеллы, то есть для приличных людей он был годен лишь во время карнавала. Высший итальянский свет зависел от французской моды; те золотые дни, когда венецианки и флорентийки были образцом для подражания всей Европы и
Елизавета Английская выписывала туалеты из Италии, канули в прошлое.
При всем безразличии, граничащем с неприязнью, к итальянской современности, что сквозит в отзывах европейских путешественников, Италия все-таки оставалась для всей Европы воплощением красоты. Сочетание южной природы и великих памятников прошлого превращало эту вполне реальную страну в своего рода фантом: вроде бы она и существует, так как ее реальность дана нам в наших ощущениях, но с другой стороны, ее как бы нет, так как все итальянские переживания оказываются тесно переплетенными с тем, что уже было прочувствовано прошлым. И понять, что же на самом деле вызывает восхищение — реальные руины Древнего Рима или знания, почерпнутые из литературы и истории о его величии и великолепии, — оказывалось невозможно. Ощущать прошлое, т. е. то, что не существует, — занятие необычайно субъективное, и Италия оказалась приютом для различного рода идеалистов — народа привлекательного, но вздорного. Реалисты Италию не жаловали; блестящим примером такого рода критического отношения к ней является описание Львом Николаевичем Толстым путешествия в Италию Карениной и Вронского. Толстовская трезвая критичность совершенно не похожа на восторженные любовные излияния Гоголя, любителя всего идеального и фантастического.
Прошлое тяжелым грузом легло на плечи итальянцев. В начале века, когда всех или почти всех так или иначе охватила мания передового во всех его проявлениях и во всех областях, как в политике, так и в искусстве, эта зависимость вообще стала восприниматься как нечто страшно компрометирующее. О какой моде могла бы идти речь в стране, где все задавлено руинами! Казалось, что Италия обречена быть провинциальной. Шумные выходки футуристов только подчеркивали итальянскую дремучесть: оголтелость всегда свойственна захолустью, так как только там она может обратить на себя внимание.
Одним из проявлений комплекса провинциальности стал стиль итальянского фашизма, когда дуче решил поженить махровый национализм, свойственный недавно объединенному Итальянскому королевству, с футуристическими утопиями.
44
Муссолиниевские кварталы в Риме получились, в об- щем-то, даже и ничего, особенно если учесть то, что ими не стали обременять Палатин или Капитолий, а воздвигли в некотором отдалении от Великого города, так что теперь они превратились в своего рода Диснейленд для интеллектуалов. В них определенно даже чувствуется стильность — обнаженные лыжники под южным солнцем и упрощенные аркады, напоминающие о Колизее, гладиаторских боях и замученных христианах, способны произвести впечатление, и если забыть о политических преступлениях, то и несколько развлечь усталый вкус. Впрочем, так они воспринимаются только сегодня, после того как несколько сверхэлегантных современных архитекторов пропели дифирамбы тоталитарной архитектуре. В 30-е годы к ним относились иначе, и Рим в это время никак нельзя было назвать модным городом.
Резкое изменение произошло в 60-е годы XX века. Пережив период гордости своей прекрасной нищетой, отсталостью и второсортностью во времена неореализма, Италия вдруг стала самой фешенебельной страной Европы. После «Земля дрожит» Висконти снимает «Туманные звезды Большой Медведицы», Пазолини после «Мама Рома» создает «Теорему», а «Дорога» Феллини приводит к «Сладкой жизни». Можно, конечно, рассуждать о последствиях экономического бума, о процветании алюминиевой промышленности и развитии производства пластмасс, которое привело к тому, что Италия стала страной самых элегантных в мире телефонов, но это надо делать достаточно осторожно. Скандинавия также стала процветать в результате бума 60-х, но финский дизайн, при всех его очевидных достоинствах, стал образцом только для владельцев дач вокруг Санкт-Петербурга, считающих верхом изыска кроссовки и спортивные костюмы веселеньких расцветок. В Италии и в итальянской культуре содержалось нечто, что смогло снова покорить весь мир и снова, как и в XVI веке, заставить всех модников и модниц поклоняться этой прекрасной стране.
Среди бесчисленных определений стиля самым верным до сих пор является данное Бюффоном в речи при избрании во Французскую академию: «Стиль — это человек».
Оно означает, что стилем является так или иначе оформленная совокупность проявлений некой индивидуальности.
Чем более осознанным будет это проявление и чем более яркой будет индивидуальность, с тем большим основанием стиль может претендовать на звание стиля. Любой период времени оказывается оформленным в нечто, что можно назвать «духом времени» благодаря совокупности различных индивидуальных поступков и действий, объединенных чем-то общим, так что любое десятилетие — даже если оно декларативно бесстильно или разностильно — имеет свой собственный стиль. То же самое можно сказать и о каждой нации.
Такие определения, как «плохой» или «хороший», по отношению к стилю явно не работают. Ведь стиль кроссовок и тренировочных костюмов может быть очень даже хорош, а стиль Дольче и Габбана вполне может быть плох, как стал плох стиль Армани и Валентино, годный теперь разве что для бандитов. Более того, стиль тренировочных костюмов вполне может стать стильным, дело только в аранжировке.
Вот здесь итальянцы не знают себе равных, так как их великая страна накопила столь много стилей и индивидуальностей, что итальянцу даже не требуется вкус в выборе, он может себе позволить просто следовать одной или нескольким многочисленным линиям, намеченным родной культурой, будь то античный классицизм, нежное кватроченто, пышная Византия, красочный Восток, неореалистическая нищета или религиозный кич. Более того, обращаясь к той или иной теме, итальянец, используя накопленный за века опыт образования стилей, совершенно не боится вторично- сти и остается свободным от строгих законов хорошего вкуса, так как, только нарушая их, и можно делать стиль. Для любого художественно одаренного итальянца существуют два ориентира: эпоха Возрождения — первый европейский стиль, декларативно вторичный и созданный на основе переработки великого прошлого и покоривший всю Европу, и Караваджо — первый художник, смело опрокинувший сложившуюся систему вкусов, что было принято считать хорошей, и тоже завоевавший всю Европу.
В девятнадцатом веке и первой половине двадцатого, когда царила наивная вера в прогресс человечества и всего, что
46
с ним связано, например искусства, эта блистательная способность итальянского духа оказалась невостребованной. Итальянский стиль был не замечен, так как ему претило требование тотальной новизны и он предпочитал dolcefar niente французской суетливости и английскому эксцентризму. Но сегодня, разуверившись в социальных и художественных утопиях, любой европеец, желающий быть или слыть элегантным, даже если он родился в Америке или Японии, а его родители — негры, индейцы или китайцы, готов взойти на костер со словами «Нет другого стиля, кроме итальянского!» и погибнуть за утверждение этой очевидной истины.
Превосходство итальянского стиля столь же непреложно, как то, что Италия омывается водами Средиземного моря, и говорить об этом, в общем-то, излишне. Ибо стиль английский — это только стиль жизни, то есть добротность и удобство. Стиль французский — это только вкус и умение выбирать и сочетать, а ни в коем случае не творить. Стиль немецкий (да простит бог за кощунственное упоминание нации, часто претендовавшей на мировое господство и очень редко на стиль) — это образ мышления, при котором забываешь, во что одет твой собеседник. Стиль испанский — это образ поведения, и он исчерпывается черным костюмом и белым воротником испанских грандов и мантильей Кармен. Стиль американский — это образ правления, заботящегося о здоровье и благосостоянии нации, а стиль русский — это перманентное восхищение английской жизнью, французским вкусом, немецким мышлением, испанским поведением, американским правлением и великим итальянским стилем, то есть прекрасными творениями Растрелли, Кваренги, Росси, Армани, Версаче, Миссони, Дольче и Габбаны.
49
Музеи Ватикана в истории Рима
м„ _
стоят в одном ряду с величайшими музеями; Лувром, Эрмитажем, Британским музеем и Метрополитен-музеем. Множественное число названия — Музеи Ватикана (Musei Vaticani) — несколько смущает, но на самом деле сегодня это единый комплекс, состоящий из нескольких разделов, располагающихся в различных, связанных между собой переходами зданиях. По протяженности выставочных площадей Музеи Ватикана занимают пятое место в мире, по посещаемости — шестое, но не эти сухие статистические данные определяют значение Музеев Ватикана в истории человеческого духа. Это собрание является не просто гордостью Рима, Италии или даже Европы, но гордостью человечества.
Подобно Лувру, Уффици или Эрмитажу, располагающимся во дворцах, изначально Ватикан был резиденцией правителей, поэтому часть музейной экспозиции включает в себя залы, когда-то бывшие жилыми апартаментами, а основу коллекций составляют личные приобретения пап. К большим старым музеям Европы, начало которым положили коллекции царствующих домов, Музеи Ватикана ближе всего и по духу. В эффектных и пышных интерьерах выставлено собрание, состав которого крайне неоднороден и разнообразен: от декоративно-прикладного искусства и предметов, имеющих исключительно историческую ценность, до всемирно известных шедевров живописи и скульптуры.
На этом сходство с другими музеями и заканчивается. Музеи Ватикана имеют свой особый характер. Великие
мировые собрания, с которыми по праву их сравнивают, создают общую картину мира через множественность проявлений искусства разных наций и состоят из разделов, посвященных различным странам и континентам. Не то в Музеях Ватикана: огромное пространство заполнено произведениями, имеющими отношение к Риму, и только к нему. Основа собрания — поразительная по объему и полноте коллекция античного искусства (сюда входят и отделы, посвященные Этрурии и Египту), отражающая римскую историю от первых царей до империи. По сути дела, этот великий музей — музей истории города. Но какого города! Во времена Древнего мира Рим не только столица империи и даже не только центр цивилизации, — античный Рим в реальности воплощал идею целостности человечества. Институт папства, учрежденный во времена Римской империи, удержав неразрывную связь с Античным миром, столь отчетливо не сохранившуюся более нигде в мире, стал прямым преемником этой идеи. Через историю Рима, включившую в себя республику и империю, Средние века и Ренессанс, Барокко и Просвещение, прослеживается история мировой духовности. Музеи Ватикана столь же уникальны, сколь уникален Рим. Ни один другой город на земле не удостоился титула «Вечный город».
Историю коллекции Музеев Ватикана обычно начинают с 1503 года. Именно в этом году папа Юлий II выставил принадлежавшую ему статую Аполлона на небольшой вилле, расположенной на склоне Ватиканского холма, неподалеку от Апостольского дворца. Называлась она Вилла Бельведере (итал. bel vedere — прекрасный вид) и была построена для папы Иннокентия VIII флорентийским живописцем, скульптором и архитектором Антонио дель Поллайоло. По заказу папы Бернардино Пинтуриккио и Андреа Мантенья украсили залы виллы росписями. Здание находилось на возвышении, с четырех сторон овевалось ветрами, поэтому воздух в нем был свеж и прохладен, что в Риме всегда ценилось. С террасы открывалась прекрасная панорама, включавшая базилику Святого Петра, тогда еще выглядевшую как средневековая церковь, и Апостольский дворец с его садами. Удобная планировка и живописный вид сделали Виллу Бельведере любимым местом
50
отдыха пап, и благодаря расположению она превратилась в своего рода центр Ватикана. Решение Юлия II украсить виллу скульптурой солнечного бога Аполлона было знаковым.
Статуя была найдена в окрестностях Рима в конце XV века и была куплена папой еще в бытность кардиналом Джу- лиано делла Ровере. Тогда Аполлона мало кто видел, так как Джулиано держался от Ватикана подальше, опасаясь за свою жизнь, ибо его семейство находилось в постоянной вражде с семейством Борджиа, к которому принадлежал правящий папа Александр VI. Когда же Джулиано, став папой под именем Юлий II, водрузил его на почетное место в Апостольском дворце, статуя вызвала всеобщее восхищение. Среди ценителей прекрасного Аполлон приобрел огромную известность, его бесконечно копировали скульпторы и художники, и по месту своего нахождения он стал именоваться Аполлоном Бельведерским. Под этим именем Аполлон из коллекции Джулиано превратился в самую знаменитую скульптуру в мире. Пик славы Аполлона Бельведерского падает на 1755 год, когда историк искусств Иоганн Иоахим Винкельман, чей авторитет был тогда непререкаем, провозгласил его величайшим произведением искусства, какое когда-либо создавала рука человека. Последующие поколения принялись с этим утверждением отчаянно спорить, вкусы и предпочтения менялись, но и сегодня об Аполлоне Бельведерском знает каждый образованный человек.
К Аполлону вскоре добавились новые находки. Юлий II гордился своей коллекцией и хотел выставить ее как можно лучше, сделав доступной для посещений. Решив преобразовать Виллу Бельведере, он требует у Донато Браманте, которому доверил заказ, спланировать постройку так, чтобы коллекция располагалась на самом выгодном для обозрения месте. Браманте проектирует перед виллой ряд спускающихся по склону холма террас, образуя цепь взаимосвязанных пространств. Верхнюю террасу Браманте превращает в закрытый двор, стены которого были декорированы широкими и глубокими нишами с размещенными в них скульптурами. Над входом, ведущим во двор, была начертана цитата из «Энеиды» Вергилия: Procul este, profani (Прочь удалитесь, непосвященные. — лат.).
51
Собрание античных скульптур Юлия II, в которое вошли такие всемирно известные вещи, как «Лаокоон с сыновьями» и «Спящая Ариадна», стало ядром художественных коллекций Ватикана. Двор, спроектированный Браманте, можно с полным правом назвать одной из первых музейных экспозиций. Цитата из Вергилия подчеркивала, что выставленные произведения находятся в особом пространстве и имеют самостоятельное значение, а не исполняют простую функцию украшения папского сада. Двор получил собственное имя — Antiquario delle Statue — и стал предвестником Музеев Ватикана. Символично, что произведением, отмечающим собой их рождение, была статуя Аполлона, покровителя искусств, изображенного в виде победителя дракона Пифона, темного подземного чудовища. Именно Аполлон Бельведерский, находящийся в центре своеобразной экспозиции, определял значение собранных вокруг него статуй — Antiquario delle Statue олицетворял торжество искусства.
Решение Юлия II отличалось радикальностью: он поместил языческий пантеон, состоящий из идолов ложных богов, да еще к тому же осененный цитатой «Прочь удалитесь, непосвященные», взятой из текста языческого поэта, описывающего жертвоприношение колдовской богине Гекате, чуть ли не в центр Ватикана, священной обители папы, наместника Бога на земле, главы христианского мира. Непосвященные, конечно, не имели доступа в покои папы, и дворик Браманте посещали лишь избранные. Тем не менее это была именно экспозиция, подразумевающая свою, пусть даже и ограниченную публику. Если есть публика, то есть и публичность. Члены папской курии видели и знали коллекцию, ее демонстрировали высокопоставленным гостям, художники и знатоки добивались права ее увидеть. О ней рассказывали, и так или иначе слухи о Вилле Бельведере и ее удивительном дворе распространились далеко за пределы Рима. Просвещенная элита, совмещавшая религиозность с любовью к искусству, испытывала восторг перед папским начинанием, но большинство верующих пребывало в смущении. Ведь папские покои — это не просто резиденция правителя, в которой он может делать все, что ему угодно, но обиталище наместника Бога на земле. Богобоязненное благочестие не могло не
почувствовать себя оскорбленным тем, что по соседству с базиликой Святого Петра, главной церковью христианского мира, устроено нечто вроде капища многобожию. Встает естественный вопрос: как получилось, что глава католической церкви решился на поступок, способный вызвать неодобрение большинства и клира, и паствы?
Папа Юлий II обладал мощным характером, упрямым и резким. Он очень любил античность, и он, первый обладатель Аполлона, первым его и оценил, решив поместить на Вилле Бельведере, что прославило статую. Дело, однако, не только в характере и личных желаниях папы. Его родственник и предшественник Сикст IV, в миру — Франческо дел- ла Ровере, занимавший папский престол в 1471—1484 годах, также любил античность. Сикст IV тоже был страстным почитателем древности, однако коллекцию разместил во дворце на Капитолии, в котором заседала городская магистратура. Водворить любимые им античные статуи в Апостольский дворец он не решился, подчеркнув своим жестом разделение истории: языческая империя являлась частью прошлого города Рима, центром которого был Капитолий, а Ватикан, центр нового царства духа, ни с империей, ни с язычеством не имел ничего общего.
Папа Юлий II, несмотря на воинственность и упорство, был тонким политиком, прекрасно чувствующим свои возможности. Нет сомнений, что он принес бы в жертву свои личные вкусы, если бы обстоятельства того потребовали. Дело было не только в личных пристрастиях, но и в том, что ко времени его понтификата сложилась такая ситуация, что античный мир, полностью реабилитированный флорентийскими гуманистами и ставший частью обихода культурной элиты, не просто мог, но и должен был стать частью истории Ватикана.
С самого своего зарождения история Папской области определялась непрекращающейся борьбой пап и автохтонной римской аристократии, пытавшейся утвердить свою самостоятельность. В Европе папы обладали огромной властью, но она покоилась лишь на престиже их священного сана. В самом Риме папы не могли распоряжаться так, как распоряжались в своих владениях светские правители. Рим¬
ский народ не принимал участия в выборе пап, поэтому относился к ним как к чужакам и, подстрекаемый влиятельными семействами, не желавшими смириться с потерей своих привилегий, постоянно поднимал мятежи. Со своенравием римлян, все время боровшихся за независимость от Святого престола, папы не могли совладать и часто были принуждены отсиживаться за стенами Ватикана, а то и вообще бежать из Рима. Все Средневековье прошло под знаком борьбы городских магистратов с папской курией. Ко времени понтификата Сикста IV папству удалось достичь перевеса, но с выборными городскими властями оно продолжало считаться. Окончательно с независимостью римской аристократии расправился только папа Александр VI Борджиа. Он, поставив во главе папской армии своего сына Чезаре, знаменитого кондотьера, реорганизовал ее, превратив в мощную военную силу. С помощью армии Александр VI разгромил влиятельные старые кланы внутри Рима, параллельно успешно воюя с соседями и увеличивая территорию Папской области. Отныне с самостоятельностью городского управления и самоуправством римских аристократов было покончено, и папа превратился в единовластного правителя не только Рима, но и большой территории в центре Италии, по размерам превосходящей владения многих других итальянских правителей.
Юлий II Александра VI ненавидел. Под страхом отлучения от церкви он запретил говорить о Борджиа, стараясь вычеркнуть из истории папства его имя и память о его семействе. Все портреты Борджиа были из Ватикана вынесены, их гробницы вскрыты, а тела отправлены в Испанию. Новый папа демонстративно закрыл апартаменты, в которых проживал Александр VI, и выстроил новые. В своей политике Юлий II, однако, опирался на достижения предыдущего правления, используя перевес в соотношении сил, достигнутый жестокостью и коварством семейства Борджиа. Теперь ни одно римское семейство не могло соперничать с силой папской власти, и Юлий II, столь резкий и бескомпромиссный, заключил с римской аристократией новые соглашения, признав привилегии древних семейств. Этим он еще более укрепил свои позиции в Риме, заодно продолжая наращивать военную мощь Папской области. Именно при Юлии II была
создана личная папская гвардия, набранная из швейцарцев, считавшихся лучшими воинами в Европе. В XVI веке это специальное подразделение папских войск было действенным орудием поддержания внутреннего порядка, а не той декорацией, в которую оно превратилось в течение веков. С помощью войн и умелых дипломатических союзов Юлий II ослабил силы Милана, Флоренции и Венеции, и во время его правления Папская область превратилась в главную политическую силу на Апеннинском полуострове. Юлий II стал думать о возможности объединения Италии под эгидой Рима.
Утвердив свое единовластие в Папской области, Юлий II уже больше не собирался противопоставлять историю папского, то есть христианского, Рима истории Рима императорского и языческого, а декларировал их теснейшую взаимосвязь. В замысле объединения Италии под главенством папы важную роль играло провозглашение идеи Roma Aeterna, Рима как Вечного города. В утверждении теснейшей взаимосвязи мирского величия Рима с величием церкви придавалось огромное значение Античности и ее прекрасному искусству. Теперь папа хотел и мог говорить не только от лица Ватикана, но и от лица Рима, так что создание Antiquario delle Statue было не просто художественной акцией восхищенного древностью мецената, но и важной манифестацией новой идеологии. Прекрасные статуи из папского собрания явились зримой метафорой Рима, то есть города, в который был послан апостол Петр утвердить всемирное царство церкви, ибо сказал Иисус Христос: «Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16: 18—19). Рим, город Святого Петра, естественно включал в себя величие Рима императоров, ибо на его метафизических камнях, в реальности означенных древними мраморами, было утверждено земное Царство Церкви.
Юлий II предписал Браманте связать Виллу Бельведере с его личными покоями, заказ на роспись которых получил молодой Рафаэль. В дальнейшем залы новых папских покоев получат название Станце ди Рафаэлло (Stanze di Raffaello,
Комнаты Рафаэля). При жизни Юлия II была закончена роспись только одной из зал — Станца делла Сеньятура (Stanza della Segnatura, Комната Подписи), но смысл четырех фресок, ее украшающих, определил весь цикл. В Станца делла Сеньятура, в которой, по всей видимости, Юлий II собирался расположить свой кабинет, Вера, то есть фреска «Диспут», и Разум, то есть фреска «Афинская школа», глядятся друг в друга, как в зеркало. В «Диспуте» представлены Иисус Христос с силами небесными и все деятели церкви, в «Афинской школе» — Аполлон с Афиной Палладой и все античные философы. Подобное сопоставление еще недавно показалось бы кощунственным, теперь же Ватикан утверждает, что Вера и Разум — в равной степени проявления величия Божьего. Вся история человечества — единый процесс, и христианство более не отъединено от античности, а включает ее в себя. Власть папы, наместника Бога на земле, есть олицетворение целостности мира. Великая мысль, без которой Ренессанс не смог бы стать поворотным пунктом в сознании, а, наверное, задохнулся, как задохнулись до него многие попытки воскресить античность, оставшиеся утехой узкого круга интеллектуалов. Юлий II — ключевая фигура того периода, что именуется Высоким Ренессансом, и все современное мышление Европы покоится на идее единства человеческой истории, сформированной во время его правления, получившей отражение не только в Станце ди Рафаэлло, но и в росписях потолка Сикстинской капеллы Микеланджело.
Папу Юлия II нельзя назвать основателем Музеев Ватикана, но то, что было создано по его указаниям, определило их характер и их всемирное значение. От террас Браманте остались лишь общие очертания планировки, с трудом угадываемые, но дух грандиозной личности главного папы Ренессанса чувствуется во всем. Собранные Юлием II скульптуры с Аполлоном Бельведерским во главе — и сейчас центр античной экспозиции. Величайшие творения мирового искусства, Станца делла Сеньятура и потолок Сикстинской капеллы, работу над росписью которого Юлий II поручил Микеланджело, своему любимому художнику, — главные и наиболее посещаемые достопримечательности Музеев Ватикана, составляющие его всемирную славу. Юлием II была задумана
56
и постройка нового здания собора Святого Петра на месте средневековой базилики, вид и размеры которой уже не удовлетворяли папские амбиции. Новый собор должен был стать самым большим сооружением на земле. Проект был заказан все тому же Браманте, который создал план, но при жизни Юлия II успел лишь приступить к строительству.
Юлий II умер в 1513 году. Все его правление состояло из постоянных войн и вечно меняющихся союзов. Одной из главных задач была борьба с амбициями французского короля, и Юлий II добился, что в 1512 году французские войска покинули Италию. Победа была достигнута за счет уступок все возраставшему влиянию Испании и Священной Римской империи, и над всеми государствами Италии, ослабленными междоусобными войнами, нависла угроза зависимости. Стало очевидно, что с идеей политического главенства Папской области надо расстаться.
Утверждать Папскую область как самостоятельную силу на политической арене открыто, используя вооруженные силы, как это делал Юлий II, было уже невозможно. Новый папа, Джованни Медичи, принявший имя Лев X, скрытный и осторожный во внешних проявлениях, был по характеру полной противоположностью своему предшественнику. Очень молодой — ему было всего тридцать восемь на время его понтификата, — Лев X стал последним папой в истории, который до своего избрания не имел священнического сана, ибо он принадлежал к тому типу служителей церкви, которых итальянский язык именует особо, называя cardinale laico, «кардиналом-мирянином». Будучи кардиналом, Джованни Медичи не давал обета безбрачия и не мог совершать таинств. Он получил, тем не менее, необходимое для избрания большинство в две трети голосов, и одной из причин его победы была уверенность, что новый папа, используя свои дипломатические таланты, а также связи своего семейства, сможет договориться и с французами, и с испанцами, и со Священной Римской империей. Он и договорился, но, второй сын Лоренцо Великолепного, Лев X был предан интересам Медичи. Для пап это было не ново, все папы покровительствовали своим родственникам, однако семейство Медичи в большей степени было озабочено Флоренцией, чем Римом.
Главной целью Льва X стало восстановление власти Медичи во Флоренции, и, умело играя на противоречиях Франции и Священной Римской империи, он добился их возвращения, хотя его интриги вовлекли Рим в сложную и рискованную международную игру.
Культурная политика Льва X также была продолжением идей и начинаний Юлия II. Новый папа продолжил грандиозное строительство нового здания собора Святого Петра, поручив его, после смерти Браманте, сначала Рафаэлю, своему любимому художнику, затем — Антонио да Сангалло Младшему. Лев X утвердил программу росписи папских покоев, принятую при Юлии II, и Рафаэль с мастерской возобновил работу. Двор Виллы Бельведере с его Antiquario по-прежнему оставался центром Ватикана, и античные коллекции Ватикана пополнялись. Идея Roma Aeterna, единства Рима христианского и Рима языческого, при Льве X сохраняла свое значение.
Впрочем, во время его правления она приобрела несколько иной оттенок. Джованни Медичи, как и все его семейство, был сластолюбив и склонен к роскоши. Ему приписывается фраза, сказанная сразу после избрания своему кузену Джу- лио, в будущем — папе Клименту VII: Poiche Dio ci ha dato il Papato, godiamocelo (Поскольку Господь сделал нас Папой, то давайте наслаждаться. — итал.). Характерно, что если любимым художником Юлия II был Микеланджело, то Лев X предпочитал Рафаэля. Лоджия Рафаэля, великий цикл фресок, созданный по прямому заказу Льва X, лучше всего передает дух его правления. В росписях Лоджии Рафаэля, так же как и в росписи потолка Сикстинской капеллы, рассказывается история человечества, данная в неразрывной последовательности от первых шагов Адама до Воскресения Иисуса Христа. В том и другом случае основные сцены посвящены событиям Ветхого Завета, предвосхищающим Пришествие. На Новый Завет у Микеланджело прямо указывают фигуры предков Иисуса, помещенные в люнетах, у Рафаэля сцены из евангельской истории естественно продолжают историю ветхозаветную. В этом нет ничего принципиально нового, подобных циклов было множество, но и Микеланджело, и Рафаэль в Библию вплетают античность. У Микеланджело
60
античность олицетворяют прекрасные обнаженные юноши, держащие в руках гирлянды желудей, намекающих в одно и то же время и на герб семейства делла Ровере, и на символику Золотого века. У Рафаэля античность, означенная множеством орнаментов, выстроенных по принципу древнеримских гротесков, окружает библейские сцены причудливым плетением языческих мотивов. И Микеланджело, и Рафаэль представляют античность как царство красоты, но для Микеланджело важна ее трагическая героика, для Рафаэля — радостная гармония. Гедонист Лев X недаром избрал Рафаэля.
Продолжая посредством дипломатических интриг утверждать роль Папской области, Лев X достиг некоторого равновесия сил на полуострове и утвердил власть своего семейства во Флоренции. Правление Льва X — зенит Высокого Ренессанса, и Рафаэль с учениками воплотил в своих фресках дух римской, имперской роскоши, определявший стиль жизни нового папы. Рим наслаждался спокойствием и богатством, но ситуация становилась все сложнее. Папа был далеко не безупречен, и недоброжелатели папской власти, которых всегда было множество, получали новые поводы для ее обличения. Критика в адрес Рима, никогда не стихавшая, усилилась. Лев X истощил казну, тратя огромные деньги на строительство собора Святого Петра, поддержание армии, различные художественные проекты и на благотворительность в том числе. Про благотворительную деятельность никто не вспоминал, зато все обсуждали его пиры и различные причуды. Возмущение, искусно подогреваемое врагами папы, росло, и авторитет Рима зашатался. Папа Лев X, всегда нуждавшийся в деньгах, широко развернул торговлю индульгенциями, то есть официально выданными церковью документами, освобождающими от наказания за грехи. Торговля привела к многочисленным злоупотреблениям, вызвавшим всеобщее негодование. Мартин Лютер, католический священник, посетивший в юности Рим, используя недовольство курией, выступил с провозглашением полного освобождения церкви от папской власти.
«Диспут доктора Мартина Лютера, касающийся покаяния и индульгенций», вывешенный в 1517 году на двери церкви в Виттенберге, породил необратимые последствия. Германия
61
взорвалась. Папский престол попытался трактовать виттен- бергское выступление как очередную ересь, но вскоре стало ясно, что лютеранство представляет не какое-то локальное движение, с которым при усилии будет можно справиться. Лютера поддержали многие немецкие князья, что привело к резкому расколу, разделившему Европу, до того мыслившуюся как единое целое с одним единым духовным центром в Риме. Подняла голову Реформация, угрожавшая существованию института папства. Виттенберг был за Альпами, не близко, но Рим лихорадило, и в последние годы Льву X было не до наслаждений.
Неожиданная смерть папы в 1521 году привела курию в смятение, и, желая как-то поправить положение, кардиналы выбрали фламандца Адриана Буйенса, принявшего имя Адриана VI. Одной из причин его избрания была близость к испанскому престолу, на помощь которого Ватикан рассчитывал, а с его личными качествами курия связывала надежды на внутренние реформы, способные спасти Ватикан от угрозы внешней, то есть от Реформации. Новый папа, родившийся в бедности, имел незапятнанную репутацию, его характер был прям и прост, а строгость его жизни и нрава импонировала критикам излишеств последних правлений. Привлекало даже то, что до своего избрания Адриан VI никогда в Риме не был и, следовательно, не имел любимцев.
Результаты не заставили себя ждать. Адриан VI тут же закрыл наглухо вход во двор Браманте, а в папских покоях убрал с глаз долой все языческие статуи. В дальнейшем он планировал уничтожить Antiquario и сбить потолок Сикстинской капеллы, ибо нагота была ему оскорбительна. Идея Roma Aeterna папе-фламандцу была чужда, и будущее собрания Ватикана оказалось под угрозой. Папа Адриан VI умер спустя год с небольшим после своего избрания, не успев осуществить задуманного. Смерть папы стала радостью для Рима, ибо римляне Адриана VI, чужака и варвара, ненавидели. Итальянские кардиналы решили, что реформистская политика, подобная курсу Адриана VI, для них страшнее внешней угрозы, исходящей из далекой Германии, поэтому избрали двоюродного брата Льва X, Джулио Медичи, воссевшего на папский престол под именем Климента VII. Новый папа про-
62
должал дело кузена, утверждая блеск Рима и интригуя в пользу интересов Медичи в Тоскане, и все, казалось, шло по-прежнему, как при Льве X. Римляне вздохнули с облегчением, но опасности теперь подстерегали Рим на каждом шагу. Святой престол продолжал стремительно терять свой авторитет, никакие дипломатические хитрости уже не помогали, и перед лицом своих врагов, готовых физически с ним расправиться, папа оказался беззащитен. Когда Климент VII рассорился с Карлом V, императором Священной Римской империи, то, пользуясь этим, императорские наемники в 1527 году вошли в Папскую область, осадили Рим и вскоре приступом взяли город. Жестокое разграбление, последовавшее вслед за штурмом, в истории получило название Sacco di Roma.
Бедствие, постигшее папский город, современники восприняли по-разному. Многие посчитали его преступлением, сравнивая его с нашествием варваров, но многие и злорадствовали, считая его заслуженным наказанием за грехи римской курии. Сторонники и противники Рима были едины в одном: вся Европа восприняла Sacco di Roma как кару Господню. Огромные материальные потери, постигшие Рим, были несравнимы с моральным ущербом, нанесенным престижу Святого престола убеждением, что гнев Божий вызвал сам папа. Клименту VII удалось сохранить власть над Папской областью и даже выпутаться из кризиса, урегулировав свои отношения с императором, но стремлениям Юлия II утвердить Папскую область как самостоятельную военно-политическую силу на европейской арене был положен конец. Стало очевидно, что Рим не способен претендовать на объединение под своей эгидой всех государств Апеннинского полуострова и политика Святого престола уже не могла быть прежней.
Климент VII после Sacco di Roma прожил еще семь лет, правя Римом. Внешне вкусы его правления совпадали со вкусами Льва X, он продолжал коллекционировать античность, однако двор Виллы Бельведере уже перестал восприниматься как царство искусства.
Папы, следовавшие за Климентом VII, стали относиться к собранию древних статуй как к обыкновенному набору красивых предметов, предназначенному декорировать принадлежащие им помещения. Целостность Antiquario delle Statue
63
была нарушена, и знаменитые скульптуры все время переносились с места на место. Ренессанс пошел на убыль, и идея Roma Aeterna должна была подвергнуться изменениям.
Наступление новой эпохи обозначил шедевр, сейчас являющийся главной гордостью Музеев Ватикана наравне с потолком Сикстинской капеллы и росписями Рафаэля. Это фреска «Страшный суд». Клименту VII первому пришло в голову украсить алтарную стену Сикстинской капеллы росписью и заказать ее Микеланджело. Договоренность была достигнута, но как только художник прибыл из Флоренции для заключения контракта, Климент VII умер. Избранный после него Павел III подтвердил заказ, и в течение нескольких лет Микеланджело создал грандиозную фреску, повествующую о последнем дне земного существования, когда «времени уже не будет». Если нет времени, то нет и Roma Aeterna. В вечности, наступившей после конца истории, Вечный город перестает существовать.
Произведение Микеланджело предугадало Контрреформацию, положившую конец идее слитности древнего мира и мира современного в единое целое, определившей Ренессанс. Симптоматично, что в 1540 году, то есть во время работы Микеланджело над «Страшным судом», папа Павел III подтверждает учреждение ордена Общества Иисуса, основанного Игнатием Лойолой, члены которого будут именоваться иезуитами, ставшими главными идеологами Контрреформации. Что может быть общего у Микеланджело и Игнатия Лойолы? Однако и ренессансный художник, воспитанный на поклонении античности, и основатель организации, стремившейся вычистить из идеи папства малейшие намеки на язычество, жили в Апостольском дворце практически одновременно.
Федерико Дзери назвал искусство Контрреформации Varte senza tempo, «искусство без времени», очень точно охарактеризовав не только произведения мастеров этого времени, но и общее настроение католицизма второй половины XVI века. Новый дух Ватикана воплотился в личности Игнатия Лойолы. Он, когда-то ведший жизнь Дон Жуана, прошел сквозь страдания, был близок к гибели и, разорвав с прошлым, обратился на новый путь. Написанная Игнатием Лойолой кни¬
64
га «Духовные упражнения», одобренная Ватиканом в 1548 году, призывает к преображению через покаяние. Идеи основоположника ордена Общества Иисуса определили политику Святого престола: папство времени Контрреформации, отвергая ренессансный период как греховное заблуждение, отказывается от прямой манифестации единства античности и христианства. Идея Roma Aeterna, на этом единстве основанная, подверглась кардинальному пересмотру.
В 1520—1540-х годах институт папства находился в очень трудном положении, но католицизм устоял, вместе с ним устоял и Рим. Основанный Лойолой орден, будучи изначально небольшим сообществом единомышленников, вскоре приобретает огромное значение, став главным выразителем интересов папства. В интерпретации Лойолы папская власть, отбросив все светские притязания, должна была перестать идентифицировать себя с Папской областью и, отстранившись от всего мирского, овладеть миром. Идея Ватикана снова возобладала над идеей Рима, что в какой-то мере было попыткой обратить время вспять, возвращением к Средневековью.
Во второй половине XVI века деятельность пап определяет борьба с ересью внешней и ересью внутренней, поэтому они старались подавить всякое отклонение от установленного канона. Творение Микеланджело, предугадавшее Контрреформацию, стало одной из первых ее жертв. При папе Павле IV «Страшный суд» было приказано переписать и скрыть наготу фигур, заполняющих фреску. Пий V, ревностно выполнявший предписания Тридентского собора, заседавшего с 1545 по 1563 год и выработавшего идеологическую программу по борьбе с протестантизмом, был особенно старательным борцом с античным наследием. Пий V решил, что наличие языческих идолов в Ватикане позорит святое место, поэтому в 1560-х годах многие скульптуры были раздарены светским правителям. Он вообще хотел избавиться от собрания Antiquario delle Statue, передав его во дворец на Капитолии, так что, как и во времена Адриана VI, коллекция Ватикана снова оказалась в опасности. Только мольбы кардиналов, большинство из которых, наследники видных итальянских аристократических семейств, были
65
блестяще образованны, заставили папу изменить решение. Статуи остались в Ватикане, но ниши во дворе Браманте закрыли деревянными ставнями.
История языческого Рима снова была отрезана от истории Рима христианского, и папам дела не было до Antiquario delle Statue и коллекций Ватикана. Искусство, однако, не отрицалось. Более того, Тридентский собор особо подчеркнул роль искусства, хотя и выработал множество ограничений, предписав художникам следовать строго установленной иконографии. Силу воздействия искусства ценили и иезуиты. В конце XVI века архитекторы Якопо Бароцци да Виньола и Джакомо делла Порта строят в Риме для иезуитов роскошную церковь Сантиссимо Номе дель Джезу, Святейшего Имени Иисуса. Церковь, часто именующаяся просто Иль Джезу (Иисус), стала главной церковью ордена и в дальнейшем, по мере усиления иезуитского могущества, послужила прообразом многочисленных иезуитских храмов, воздвигнутых не только по всей Европе, от Португалии до Белоруссии, но и по всему миру: в Мексике, Перу, Бразилии, Индии, на Филиппинах.
Около 1600 года период недвижного застоя Контрреформации сменился активной деятельностью. Школьная история обычно говорит об общем упадке Италии в XVII веке, как политическом, так и экономическом. Государства Апеннинского полуострова лишаются независимости, а торговые пути перемещаются с юга на север и попадают в руки голландцев и англичан. С этим связывается и утверждение, что итальянское искусство постепенно теряет первенство на художественной арене Европы, так как голландская, испанская, фламандская, а затем и французская школы становятся удачливыми его соперницами. Это в корне неверно. Да, в XVII веке папский Рим, а за ним и многие итальянские государства идут на соглашение с королями Испании, но это дает им определенную защиту от французов и немцев, пытавшихся подчинить Италию в предыдущем столетии. Испанцы ведут себя не как захватчики. Они, скорее, мощные союзники итальянских правителей. Это не оккупация, а протекторат, так что, благодаря гарантированному испанцами равновесию, войн на полуострове становится гораздо меньше. В XVII веке
66
Италия не то что не беднеет, но богатеет. Часть сокровищ, хлынувших в Испанию и Португалию благодаря открытию Нового Света, перепадает и Италии, и, несмотря на все перемены торговых путей, итальянские банкиры продолжают первенствовать на европейском денежном рынке. Общее затишье и растущие средства ведут к обогащению населения. Меценатов становится все больше, а что касается всевозможных художеств, то авторитет итальянцев по-прежнему непререкаем.
В новом итальянском равновесии, строго регулируемом Испанией, Риму отводится роль главного центра. Папская власть полностью отказывается от идеи политического доминирования на полуострове, к которому, как казалось, так близок был Юлий II, зато духовный престиж Ватикана не только восстановлен, но и усилен, несмотря на раскол Европы. На Севере, где победил протестантизм, признанный официальной религией, Святой престол уже не имеет никакого влияния, зато, благодаря завоеваниям преданных Ватикану испанцев и португальцев, католицизм распространяется по всему свету. Иезуиты, следующие за завоевателями, разворачивают кипучую деятельность, утверждая духовную власть Ватикана на громадной территории от Японии до Калифорнии, и закладывают основу нового всемирного католического единства, ядром которого становится Рим и Папская область.
Новое столетие — время небывалого расцвета Рима, его архитектуры, живописи, скульптуры. Все приходит в движение: перуанское и мексиканское золото, льющееся потоками, дает возможности финансирования проектов, немыслимых раньше. Католицизм, распространившийся на континенты, снова возвращает Риму титул Caput Mundi, «Голова Мира», которым он был награжден в древности. Число паломников резко возрастает, и деньги, приносимые ими, способствуют все большему обогащению города. Вид Рима, представлявшего в XVI веке живописное скопление средневековых построек, лепящихся к величественным развалинам с отдельными вкраплениями церквей и дворцов, уже не удовлетворял амбиции папской власти, теперь получившей возможность преобразить город. Со времени расцвета императорской
67
власти в Риме никогда не было столь бурного строительства — размах барокко сопоставим со строительным бумом в послевоенной Италии. При папах Урбане VIII, Иннокентии X и Александре VII была реорганизована вся городская структура. По их заказам архитекторы, безжалостно снося средневековую застройку, прорубили в городе прямые улицы, образовали новые площади, а дворцов и церквей было воздвигнуто столько, сколько за это время не построили ни в одной другой столице мира. Повсюду появилось множество красивейших фонтанов, снабжавших римлян водой. Архитекторы Рима первыми начинают мыслить ансамблями, и как пример комплексного градостроительства в XVII веке Рим — самый передовой город в мире.
В 1626 году, при папе Урбане VIII, был наконец освящен собор Святого Петра, строительство которого заняло более ста лет и оказалось связано с именами всех главных архитекторов Италии. Собор строили Браманте, Рафаэль, Джулиано и Антонио да Сангалло, Бальдассаре Перуцци, Микеланджело, Доменико Фонтана, Джакомо делла Порта, Виньола, Карло Мадерно и Джан Лоренцо Бернини. Собор Святого Петра стал самым грандиозным зданием на земле. Стройка не была полностью закончена, но размах поражал, свидетельствуя о величии папства. При Иннокентии X и Александре VII внутренняя отделка продолжалась, а также велись работы по созданию единого ансамбля площади Святого Петра, порученные Бернини. Когда в 1667 году работы были завершены, ее великолепие привело современников в восторг. Нигде, ни в одном городе мира, не было ничего подобного. Рим оправдывал свое звание Caput Mundi, и стиль римского барокко, определенный в первую очередь гением двух архитекторов, сотворивших образ нового Рима, Джан Лоренцо Бернини и Франческо Борромини, распространился по Италии, а затем захватил весь мир. Барокко — первый стиль Нового времени, который может именоваться воистину всемирным стилем.
Барочный Рим вызывал восхищение современников. Центр христианства, он всегда был центром паломничества, и приезжих в нем было много даже во времена раннего Средневековья. В XVI веке в Рим стали ездить не только для того, чтобы поклониться святыням, но чтобы увидеть прекрас¬
ные произведения искусства. Главный интерес вызывала древность, античные развалины и статуи, в первую очередь Antiquario delle Statue, но теперь славу Рима составляли также и творения нового искусства, ибо имена Рафаэля и Микеланджело были известны всем знатокам искусств. Среди путешественников в XVI веке процент любителей изящного был невелик, но в следующем столетии количество тех, кто едет в Рим с целью приобщиться именно к его художественными сокровищам, резко возрастает. Город теперь привлекал не одними своими святынями и руинами, но и наполняющей его кипучей жизнью.
В Рим съезжаются художники, скульпторы и архитекторы не только со всей Италии, но и со всей Европы, образуя целые художественные колонии, состоящие из голландцев, немцев, французов, среди которых есть и протестанты. В XVI веке посещение Рима для художника было желанным, теперь же оно становится обязательным. Ни один другой город тогда не имел столь насыщенной художественной жизни. Многочисленные живописцы выставляют свои работы прямо на улицах и площадях, идет бойкая торговля картинами и гравюрами, а также разнообразнейшими археологическими находками, от фрагментов мраморных скульптур до бронзовых монеток. В Риме складывается развитый художественный рынок, первый в Европе, торгующий как древностями, так и современным искусством, поэтому интернациональное сообщество художников, осевших в Риме, ориентируясь на него, уже перестало зависеть от прямого заказчика. Само собою, что в Риме появляется огромное количество частных коллекций, многие из которых потом становятся музеями, как, например, коллекции семейств Дориа Памфили и Барбе- рини. Но историки Музеев Ватикана XVII век обычно выпускают из своих повествований. Почему это происходит?
Действительно, собрания Ватикана, несмотря на то что они продолжали пополняться за счет новых поступлений, от случая к случаю приобретаемых папами, совсем потеряли открытость, которую получили во время Высокого Ренессанса, при Юлии II и Льве X. Antiquario delle Statue был закрыт ставнями, и в XVII веке папы, следуя политике осторожного Сикста IV, не рассматривали свои коллекции как публичный
музей, передавая новые находки на Капитолий. Все великие папы эпохи барокко были выдающимися меценатами, но их главной целью являлось строительство и украшение города, мыслившегося как Голова Мира. Коллекция Ватикана в идее Roma Caput Mundi уже не играла той роли, какую она играла в идее Roma Aeterna. Возвращение к ханжеству Павла IV и Пия V было немыслимо, но церковь не хотела никаких параллелей с языческой Римской империей. Святой престол стал мощнее, влиятельнее и богаче, но, отказавшись от всяких притязаний на политическое господство, папство не желало аналогий с мирскими правителями из какого-либо времени. В XVII веке в великой державе всемерного католицизма, центром которой являлся Рим, Antiquario delle Statue утратил то значение, что имел во времена Юлия II, и его прекрасные произведения воспринимались лишь как часть дворцового убранства. Они по-прежнему были закрыты деревянными ставнями, и, для того чтобы их увидеть, требовалось специальное разрешение. Великая эпоха барокко оказалась паузой в истории Музеев Ватикана. Очередной шаг в их развитии был сделан только в век Просвещения.
В начале XVIII века при понтификате Климента XI на Вилле Бельведере был устроен Музео Экклезиастико (Museo Ecclisiastico, Церковный музей), состоящий в основном из каменных рельефов с изображениями и надписями времени раннего христианства. Собственно говоря, это и был первый публичный музей в Ватикане. Организация его была далека от совершенства, Вилла Бельведере плохо подходила для музейной экспозиции, и Музео Экклезиастико просуществовал недолго. Тем не менее благодаря Клименту XI мысль создания музея в Ватикане забродила в головах курии, и во время понтификата Климента XII часть коллекций Ватикана была выставлена в специально отстроенной Галерее Клементина, рядом с Библиотекой Ватикана. Экспозиция состояла из ваз, монет и манускриптов и производила впечатление демонстрации раритетов. Бенедикт XIV уделял новому музею особое внимание, при нем коллекция выросла, в том числе и за счет частных дарений, довольно хаотичных по составу. Тут были и древности, и живопись, и фарфоровые вазы. Для того чтобы придать коллекциям Ватикана некое смысловое един¬
ство, в галерее Урбана VIII был организован Музео Кристи- ано (Museo Cristiano, Христианский музей), реанимировавший замысел Музео Экклезиастико. При Клименте XIII было решено реорганизовать ту часть коллекции, что занимала Галерею Клементина, превратив ее в Музео Профано (Museo Profano, Мирской музей) и сосредоточив в ней произведения античного искусства. Оба музея находились при Библиотеке Ватикана и считались ее частью. В это же время вновь стал доступен для обозрения и Antiquario delle Statue, который, однако, не считался частью Музео Профано, а по-прежнему представлял собой отдельную экспозицию, и деревянные ставни, теперь уже использовавшиеся не для сокрытия, а для защиты статуй от непогоды, сохранялись. Папа назначил директором нового музея Иоганна Иоахима Винкельмана, главного пропагандиста древнего искусства, что подчеркивало значимость именно античной части коллекции.
С создания Музео Кристиано и Музео Профано начинается прямая линия развития Музеев Ватикана, вскоре ставших одними из величайших музеев мира, без которых немыслима европейская культура. Папы XVIII века вернулись к тому, что было начато при Юлии II, и в эпоху Просвещения Ватикан вновь открыто признал языческую античность частью своего культурного наследия, но с оговоркой. Коллекции Ватикана оказались разделены на Музео Кристиано и Музео Профано, и таким образом музеефицированная античность была отделена от истории церкви. Прямой и открытый диалог «Афинской школы» и «Диспута» был уже невозможен.
Новые музеи пользовались большой популярностью у знатных посетителей Рима, свидетельствуя о просвещенности Ватикана. В начале 1770-х годов Климент XIV, установивший контроль над раскопками и над рынком древностей, значительно пополнил собрание новыми приобретениями и находками. Места для экспонирования не хватало, поэтому было решено перестроить часть дворцовых помещений, расширив музей за их счет. Роскошно декорированные залы были открыты в 1772 году, и в честь своего создателя новый музей получил имя Музео Клементино. Antiquario delle Statue сохранял свою самостоятельность, но был переделан. Для за¬
щиты статуй были выстроены особые портики, а деревянные ставни убраны.
Музео Клементино сразу же стал гордостью Ватикана, — подобных музеев в Европе было мало. Пий VI, сменивший Климента XIV, продолжил расширение музейных пространств. Он постановил полностью отдать Виллу Бельведере под музейные коллекции, сделав статуи, стоявшие в Antiquario delle Statue, частью экспозиции. Вилла Бельведере была безжалостно перестроена, фрески Пинтуриккио и Мантеньи исчезли, террасы Браманте переделаны, и все залы и галереи, в которых было выставлено античное искусство, были объединены. Музео Кристиано, теперь называвшийся Музео Сакро (Museo Sacro, Религиозный музей), и Музео Профано, считавшиеся частью Библиотеки Ватикана, также соединились с залами скульптуры и оказались частью обширнейшего музейного пространства, сохраняя свою самостоятельность.
Разросшийся музей стал называться Музео Пио-Клемен- тино. Он до сих пор является основным в составе Музеев Ватикана, и многие из его залов и галерей, отстроенных в духе неоклассицизма, остались неизменными до сегодняшнего дня. Собрание древнего искусства теперь экспонировалось прекрасно, однако картины, которых в папских собраниях было много, были практически недоступны для обозрения и никому не известны. Пий VI озаботился созданием самостоятельной галереи живописи, и его решение в первую очередь определялось тем, что папа хотел выставить алтарные картины собора Святого Петра, которые еще в начале XVIII века заменили мозаиками, сделанными в мастерских Ватикана. Поступившие из собора «Мученичество святого Эразма» Никола Пуссена, «Мученичество святых Прокесса и Мар- тиниана» Валантена де Булонь и «Месса святого Григория» Андреа Сакки, хранившиеся во внутренних покоях папских дворцов, стали главным украшением экспозиции. Для новой картинной галереи выделили три внушительных зала.
Картинная галерея, открытая в 1790 году, просуществовала недолго. Спокойствие, которым наслаждался Рим, с середины XVI века не знавший больших войн, за исключением мелких стычек и поддержки антитурецкой коалиции, закончилось. Папская область, избегавшая участия в каких-либо
прямых вооруженных столкновениях на протяжении двух столетий, оказалась втянутой в водоворот общеевропейского конфликта, вызванного Французской революцией. В 1796 году французы, как во время итальянских войн Ренессанса, перешли Альпы и, разбив союзных папе австрийцев, вторглись в Папскую область. У пап, давно отказавшихся от военного вмешательства в политику, не было ни малейшей возможности противостоять революционным войскам. Спасая Рим от разгрома, Пий VI в 1797 году вынужден был подписать с Францией унизительный Толентинский трактат. Условия мирного договора, продиктованные генералом Бонапартом, командовавшим французскими войсками в Италии, были крайне тяжелы для Ватикана. Независимость Папской области была ограничена, Пия VI заставили пойти на большие территориальные уступки в пользу образованной французами Цизальпинской республики и выплатить огромную контрибуцию. Кроме этого, договор обязал папу отдать Франции сокровища искусства из церквей Рима и собраний Ватикана. Все знаменитые античные скульптуры были вывезены, так что Antiquario delle Statue опустел. Коллекция Юлия II, в том числе и Аполлон Бельведерский, в первый и последний раз покинула Рим. Картины собора Святого Петра также были конфискованы французами, и ограбленная картинная галерея была закрыта. После того как произведения искусства после долгого пути прибыли в Париж в 1798 году, Наполеон Бонапарт устроил нечто вроде древнеримского триумфа, провезя отнятые у законных владельцев картины и статуи в открытых повозках по всему городу и с помпой водрузив их в Лувр, вскоре переименованный в Музей Наполеона.
История Музеев Ватикана, как всегда, оказалась тесней- ше переплетена с историей папства. Опустевшие залы Музео Пио-Клементино производили удручающее впечатление. На месте Аполлона Бельведерского, Лаокоона и других всемирно известных шедевров теперь стояли второстепенные, мало кому известные произведения, заполняя пустоты. Трагична была и судьба Пия VI, как будто разделившего судьбу сокровищ Ватикана. Воспользовавшись стихийно возникшим мятежом папской гвардии, убившей нескольких французов, генерал Бонапарт отдал приказ оккупировать Рим, в кото-
ром была провозглашена республика. С оккупацией начался неприкрытый грабеж папских дворцов, в том числе и собраний Ватикана. Пия VI арестовали и под конвоем увезли из Рима сначала в Сиену, а затем во Францию. Французское правительство во главе с Бонапартом пыталось заставить его подписать отказ от светской власти над Папской областью в обмен на освобождение и возвращение в Рим, от чего Пий VI решительно отказывался. Для того чтобы сломить его упорство, папу заточили в крепость в Балансе, на юге Франции, где он и умер в 1799 году, так ничего и не подписав.
Новый папа, Пий VII, был избран в 1800 году конклавом кардиналов, собравшихся в Венеции, так как Рим находился под полным контролем французов. В это время во Франции произошли изменения: в 1799 году генерал Бонапарт провозгласил себя первым консулом республики, в 1802 году — пожизненным, задумав узаконить преемственность своей власти. На смену революционности пришел новый консерватизм, и генералу Бонапарту, вскоре решившему стать императором Наполеоном I, надо было урегулировать свои отношения с религией. Пию VII ничего не оставалось, как пойти на сделку. Приехав во Францию, он присутствовал на коронации Наполеона императором в Париже в 1804 году, произошедшей в соборе Нотр-Дам. Наполеон хотел, чтобы папа остался во Франции навсегда, но Пий VII уехал вопреки его желанию и, так как император, только что коронованный папой, уже не посмел задержать его насильно, достиг Рима в 1805 году. После возвращения Пий VII пытался отстаивать самостоятельность Святого престола, что привело к оккупации Рима французами, присоединению Папской области к Франции и объявлению Рима свободным городом. В 1809 году папа снова был доставлен во Францию, а королем Рима Наполеон провозгласил своего сына от Марии-Луизы, Наполеона II. Время господства французов и полной потери самостоятельности Рима было более печальным временем в истории Музеев Ватикана, чем понтификат Адриана VI, задумывавшего сбить фрески Сикстинской капеллы.
После отречения Наполеона Пий VII тут же вернулся в Рим. Венский конгресс восстановил и узаконил самостоятельность Папской области и постановил отдать назад все
76
произведения искусства, конфискованные Наполеоном. Уже в 1815 году большая часть предметов, вывезенных во Францию, прибыла в Рим. Пий VII придавал большое значение восстановлению Музеев Ватикана, и в начале 1816 года была открыта обновленная экспозиция Музео Пио-Клементи- но. Несмотря на то что некоторые вещи были оставлены во Франции, она увеличилась, в особенности собрание живописи, так как по папскому распоряжению картины, экспроприированные у церквей Рима и других городов Папской области, по возвращении были оставлены в собрании Ватикана. Многие возражали против такого самоуправства, но папа обосновывал свое решение тем, что соглашение о реституции было достигнуто благодаря его усилиям и он вправе распоряжаться его результатом. Новые поступления увеличили как число экспонатов картинной галереи, так и ее ценность, ибо среди них оказались такие шедевры, как «Преображение» Рафаэля и «Положение во гроб» Караваджо. Новая коллекция расположилась в не использовавшихся со времени Юлия II апартаментах Борджиа и была открыта для посещения в 1817 году. Эти комнаты, однако, были неудобны и тесны, поэтому в дальнейшем галерея неоднократно перемещалась.
Растущая известность Музеев Ватикана играла все большую роль в международном престиже Рима, и папы заботились об их дальнейшем устройстве и расширении. При Григории XVI на основе старых коллекций были образованы Грегорианский Этрусский музей в 1837 году и Грегори- анский Египетский музей в 1839 году, ставшие самостоятельными разделами в общей структуре Музеев Ватикана. Однако XIX век, начало которого совпало с огромными трудностями, выпавшими на долю папства, готовил дальнейшие испытания. Объединение Италии положило конец независимости Папской области. В 1861 году сардинский король Виктор Эммануил был провозглашен королем объединенной Италии, со столицей в Риме. Возникает так называемый «Римский вопрос»: de jure Рим объявляется частью нового королевства, но de facto им владеет папа Пий IX, отказывающийся это решение принять. Дело опять доходит до вооруженного столкновения, и в 1870 году сардинские войска с боем входят в Рим. Папа объявляет себя «пленни¬
ком Ватикана» и отказывается признать новое Итальянское королевство.
Правительство Виктора Эммануила конфискует все владения Святого престола за пределами Ватикана, оставив в распоряжении папы лишь Апостольский дворец. В дела папской курии, засевшей за стенами, огораживающими Ватикан от остального Рима, новая власть прямо не вмешивается, но «Римский вопрос» остается без решения. Ватикан не признает короля сардинского королем Италии, а король Италии и слышать не хочет о независимости папской власти.
Несмотря на трудности, собрание росло, и картинная галерея увеличивалась за счет новых даров и поступлений, а также благодаря включению картин, переданных из других разделов, в первую очередь из Музео Сакро. Исторически в Музео Сакро поступали все произведения, относимые ко времени Средневековья, так как произведения ранней итальянской живописи называли «примитивами» и не считали ценными с художественной точки зрения до конца XIX века. На первых экспозициях картин живописи XII — начала XV века вообще не было. Теперь же «примитивы» вызывали восхищение, и, прекрасно представленные, они значительно расширили коллекцию, так что потребовались новые залы.
В это трудное для Святого престола время значимость музея как гаранта самостоятельности Ватикана возрастает. Великолепие собрания Ватикана демонстрирует роль папства в мировой культуре, и курия заинтересована в том, чтобы на основе огромного собрания, носившего дворцовый характер, создать музей, отвечающий современным требованиям хранения, изучения и экспонирования. Музеи Ватикана были превращены в самостоятельную структуру и, управляемые принятыми на работу по договору специалистами, получили независимость от папской администрации.
В 1909 году, при понтификате Пия X, коллекция картин, которой не хватало места, была систематизирована в галереях первого этажа Апостольского дворца. Тогда же она и получила свое нынешнее название — Пинакотека Ватикана. Новые помещения все равно были неудовлетворительны, и в 1920-х годах при папе Пии XI началось полное переустройство Музеев Ватикана. Заказ на перепланирование
и перестройку складывавшейся в течение веков и поэтому слишком запутанной музейной системы был поручен архитектору Луке Бельтрами.
В 1929 году были выработаны и утверждены Латеранские соглашения между правительством Италии и папой, окончательно разрешившие «Римский вопрос». Новый договор утвердил право владения Святым престолом территорией Ватикана и его суверенитет в международных отношениях. Один из пунктов, входивших в Латеранские соглашения, обязывал Ватикан сделать свои собрания доступными для итальянского народа. Это соответствовало и пожеланиям папы, и музей был реорганизован и получил свой современный вид. В первую очередь был спланирован отдельный вход с Виале Ватикано, находящейся за пределами окружающей Ватикан стены, что позволяло войти в музей с территории, принадлежащей Италии. Сикстинская капелла и Стан- це ди Рафаэлло стали частью музея, и к ним, как и ко всем коллекциям, разбросанным в разных частях дворца, для посетителей был обеспечен единый проход. Для собрания живописи Лукой Бельтрами было выстроено новое здание, соответствующее всем техническим музейным требованиям своего времени. В 1932 году Пинакотека Ватикана, занявшая то здание, в котором она расположена и по сей день, была торжественно открыта.
*1
{^■НВВ№ <
■
■ ' г f >
i
• 1 г '
пШЯЩг _
|7- -
*v* **
fT/fe
_i 1
81
Бедность святого Франциска
Истоки современной добродетели
Д
Г Тжованни, раб и друг Всевышнего, родился в Ассизи, городе по тому времени не то чтобы маленьком, хотя и не большом, но, тем не менее, были у него и стены, и башни, и дома, и улицы, и бедные, и богатые, и всяческие лавки, полные товаров, и площадь, и своя жизнь, не слишком насыщенная событиями, но и не то чтобы пустая, как жизнь итальянской провинции, столь красочно изображенная в «Амаркорде» Феллини. Дело даже не в том, что Ассизи был больше или богаче города детства Феллини, но в том, что не было тогда еще Италии, а следовательно, не было у нее признанного центра, не было столицы, и в сознании отсутствовало само понятие провинциальности, так как Ассизи был независим, никому не подчинялся, сам ощущал себя центром хотя бы для прилегающих к нему селений и деревушек и даже вел войны со своими соседями, с Перуджей, например, не в пример более большой и богатой, но ни на гран не более центральной, чем Ассизи. Самостоятельность и независимость очень были важны для Джованни, они определяли его детское самоощущение баловня, которому многое доступно и многое позволено. Доступно и позволено же ему многое было с рождения, так как его отцом был один из самых богатых купцов Ассизи, принадлежавший к почтенному семейству Бернардоне, а мать — французской дворянкой из Прованса, изысканной иностранкой. Пьетро Бернардоне вывез свою жену из путешествий, и этот брак, несколько экзотический с точки зрения добропорядочных
граждан, придавал семейству Бернардоне, старому, почтенному, особый шарм и особое положение. Все же, как ни был Ассизи уверен в себе и самодостаточен, ему льстила связь с провансальским дворянством, ведь все в Ассизи (все — то есть круг благородного Бернардоне) слышали о провансальских рыцарях и дамах, о провансальских трубадурах и турнирах. Что-то отдаленное, но слышали и знали, что провансальским манерам и обычаям подражают и в Перудже, гораздо более крупной и богатой, хотя и ни на гран не более самостоятельной, чем Ассизи, и в еще более крупной и богатой Сьене, совсем уже далекой, но кое-кто из Ассизи там бывал, и многие достойные жители Ассизи имели дело со сьенцами, обходительными и лукавыми в делах и общении, но очень уверенными в себе, столь уверенными, что всегда при сделках с ними у ассизских граждан оставалось чувство особое, не то чтобы неприятное, но и особо приятным его не назовешь, — чувство того, что с тобой имеют дело лишь постольку, поскольку дела надо делать, но при этом сьенец ассизцу не пара, и дела с Ассизи для сьенца столь явно не главные, второстепенные, не слишком важные, что впору было бы и оскорбиться, если бы не сьенская ловкость, все так сглаживающая, что и не придерешься. В общем, Сьена со своими башнями, гораздо более высокими, чем башни Ассизи, со своей площадью, гораздо более широкой, чем площадь Ассизи, со своим собором, гораздо более величественным, чем собор Ассизи, была прельстительным смутным объектом желания, и, хотя никто из благородных жителей Ассизи под пыткой бы этого не признал, тот факт, что у одного из виднейших граждан города жена была родом из Прованса — то есть из той области, о которой сами сьен- цы любили вскользь упомянуть в разговоре о делах с ассиз- цами, тем самым подчеркивая наличие у них интересов и связей более важных, чем данный предмет обсуждения, что ассизцев унижало мучительно, — льстил ассизскому самолюбию и ставил семейство Бернардоне в особое положение.
Жене Пьетро Бернардоне, именно потому, что она была дворянкой и иностранкой, многое прощалось и предоставлялась определенная свобода. Прощался акцент и некоторая непохожесть манер и одежды, и предоставлялась сво¬
82
бода быть одной и как бы в стороне от жизни благородных семейств Ассизи, против нее не только ничего не имевших, но даже, как было уже сказано, ею гордившихся и все же относившихся к ней с некоторой опаской, как к посторонней, подглядывающей, составляющей свое мнение об их жизни, и Бог знает что она там себе составить может. Поэтому у нее оставалось гораздо больше свободного времени, чем у остальных ассизских дам, бывших всегда с ней любезными, может быть даже слишком любезными, но избегавшими близости. А она на ней и не настаивала.
Будучи более свободной, она была и более независимой. Настороженное уважение, оказываемое ей чинным ассизским обществом, влияло и на Бернардоне, так что он легко позволял ей многое, что другим ассизским женщинам даже и не приходило в голову требовать. Например, он позволял ей страстно любить своего сына, проводить с ним гораздо больше времени, чем обычно матери проводят с сыновьями, разговаривать с ним на своем языке, ему, отцу, почти непонятном, почти тайном для него, обучать своим стихам и песням. Снисходительно смотрел он на то, как мать балует своего сына, как называет его своим маленьким принцем — его, купеческого отпрыска, — как прививает ему привычку к тратам, а не к счету, как учит его чему-то совсем бесполезному, поверхностному, пустяковому, какому-то легкому, пестрому и изменчивому, а не постоянному и основательному. Так же, как Бернардоне льстило, что его брак вызывает всеобщее внимание, не лишенное, правда, некоего привкуса зависти, — зависть же высшая степень внимания, Пьетро Бернардоне, будучи умным человеком, прекрасно это понимал и понимал, что зависть ставит его над, хотя и немного вне, общества, — так же льстило ему и то, что его сын Джованни с самого младенчества был отмечен знаком некой инакости, отличающей его от других отпрысков благородных семейств. Пеленки у него были как-то тоньше, и рубашки белее, и вышивки ярче, и волосы нежнее, и глаза светлее, и кожа бледнее и чище, чем у других детей, и на нем лежала печать особой избранности, признаваемой всеми, даже его сверстниками, так что был он больше похож на детей богатых сьенцев, тех самых сьенцев, что были
83
столь обходительны, привлекательны и отчужденны, что не могли не вызывать завистливого раздражения, одного из признаков восхищения, со стороны тяжеловесных ассиз- цев. Характер Джованни, легкий-легкий, сглаживал всякое раздражение, окружающие его любили, баловали вслед за матерью, все прощали, но, чувствуя его инакость, с малых лет прозвали французиком, Франческо, и Джованни нравилось это прозвище, ставшее его вторым именем. В конце концов, обаяние хоть и не профессия, но здорово профессии помогает, так что пусть будут все эти бредни о рыцарях и трубадурах, думал Бернардоне и мало в чем перечил своему наследнику. Он гордился своим Джованни.
Учился ли Джованни? Никто о его учебе ничего не говорит, так что сам факт наличия какого-нибудь основательного образования сомнителен. Скорее всего, это были какие-то приходящие домой учителя, может быть — общая школа для состоятельных отпрысков Ассизи, где учили читать, писать и считать, то есть необходимому минимуму, не больше. От матери он знал провансальский, который вроде как любил, но знание его ограничивалось лишь небольшим набором стихов и песен, и вряд ли он говорил по-французски. Знал ли он латынь? Ему приписывают несколько небольших сочинений на латыни, в том числе «Похвалу добродетели» и «Похвалу Богу», но авторство их более чем сомнительно. Да и когда и где он бы мог успеть выучить латынь? Он был непоседлив, все время двигался, все время общался, сорил деньгами, раздавал подарки и много думал о модных среди юношества вещах, о рыцарстве, о турнирах, о путешествиях. Черты лица у него были приятные, но мелкие, волосы светлые, мягкие, но не очень густые, сложения он был деликатного до тщедушности, хотя и довольно вынослив, росту среднего, — прелестное дитя превратилось в субтильного молодого человека. В его внешности не было ничего поражающего, привлекающего внимание с первого взгляда, но все искупали чистота и благожелательность, им излучаемые и создающие вокруг него какой-то особый ореол притягательного обаяния, подчинявшего и покорявшего любого, кто имел с ним дело. Рядом с ним каждый чувствовал себя очень комфортно и просто, так, как будто именно
он — единственный, избранный, приближенный, как будто именно ему, и только ему принадлежит все внимание этого чудесного, славного и простого юноши, Французика Джованни, Джованни Франческо, просто Франческо, как все чаще и чаще его называли. Так, во всяком случае, рассказывают о его юности: он был обожаем сверстниками, согражданами, нравился женщинам. Казалось, что у него нет врагов. Что-то среднее между князем Мышкиным и Себастьяном Флайтом.
Как уже говорилось, он был очень подвижен и много путешествовал с самой ранней юности. К девятнадцати годам он побывал на войне с Перуджей, в Риме, что было по тому времени далеким заграничным путешествием, собирался даже в далекую Апулию, воевать за права некоего Готье де Бриенна, француза, на корону Сицилии. Какое ему было дело до французского претендента? Да никакого, просто увлечение рыцарственностью и рыцарством да воспоминания о провансальской поэзии. Впрочем, за отсутствие патриотизма Джованни Франческо упрекать незачем, — Италии тогда не существовало, да и папа призвал всех католиков поддержать Готье де Бриенну. Однако его свалила тяжелая болезнь, из-за которой он вынужден был отложить свой поход и остаться в родном городе. К этому же времени, примерно к 1200 году, относится и первый рассказ о сне святого Франциска: он увидел горы оружия, сверкающего крестами. Восприняв это видение как призыв, он выехал из Ассизи, решив сделаться великим вождем крестоносцев, но тут же, в воротах, услышал голос: «Ты не понял. Вернись в Ассизи». Это был первый сон и первое видение в жизни Джованни Бернардоне, известные нам, — ничего особенного, типичная юношеская греза о подвигах, о доблести, о славе. Потом их будет очень много, святой Франциск вообще часто будет видеть сны и еще чаще — во снах являться. Но это произойдет несколько позже.
Что ж, пришлось вернуться к обыкновенной жизни, встать за прилавок и торговать в лавке отца. Несмотря на то что щедрость его граничила с мотовством, что раздражало его отца все больше и больше, торговля у Французика шла довольно бойко. Обаяние — все же большое подспорье
85
в жизни. «Ну прямо как принц», — говорили про молодого купца, управляющегося в лавке. Забавная деталь, выдающая смутные желания его матери, окружающих, да и его самого, так и не реализованные. Принцы, вообще-то, в лавках не торгуют. Торговать, как принц, — это какой-то оксюморон, странное достоинство, напоминающее о современном гламурном Милане и элегантных менеджерах-приказчиках из бутиков мужской одежды. Впрочем, подобная способность очень полезна и прибыльна, так что все шло хорошо. Даже такие мелочи, как, например, случай с нищим, ничего особенно не портили. Нищий вторгся в лавку прямо во время работы Франческо с покупателем, что было совсем непозволительно, и был прогнан, но затем Франческо почувствовал раскаяние, побежал вслед за ним, догнал его и одарил узорчатыми материями. Милая причуда, похожая на благотворительную акцию современной высокой моды: модное дефиле в пользу голодающих, поешь пирожных, если у тебя нет хлеба. Да и согражданами, наверное, этот случай был воспринят как удачная рекламная акция. Судя по всему, даже отец не очень сердился.
Был ли очаровательный Французик девственником? Никто не задавал такой вопрос и, соответственно, на него и не отвечал. О каких-либо романах или приключениях во время его юности никто никогда не упоминает, хотя мизо- гинии, столь свойственной Средневековью, у святого Франциска не было — женщин он никогда не обличал и никаких запретов на общение полов не накладывал. Наоборот, всем известна его история с Кларой, которой он помог бежать из дому и которая стала сестрицей-луной, и, даже приняв монашество, Франческо все время говорил, что очень хотел бы иметь детей. Тем не менее из историй его юности мы знаем только одну. Как-то его веселые друзья обсуждали любовные приключения и, смеясь, спросили Франческо, кого же он себе выбрал. Франческо ответил, что его невеста — самая прекрасная в мире, и подошел к женщине в лохмотьях, изможденной, грязной, которой все пренебрегали и на которую никто не обращал внимания. Подошел и поцеловал ее, и обручился с ней, и нарек ее своей единственной возлюбленной. Это была Madonna Poverta, сама бедность, и вся эта
86
история, придуманная позже, аллегорическая, удивительно напоминает две русские любовные истории: швейцарский роман князя Мышкина с Марией и Федора Карамазова с Елизаветой Смердящей. Не пренебрегайте моветками!
У художника Сассетты, славного примитивиста кватроченто, есть прелестная картинка «Обручение святого Франциска». На ней Франческо, уже принявший монашество, склонился перед тремя девами, блондинками, похожими друг на друга, в одинаковых трикотажных платьях разных цветов: белого, красного и коричневого. Платья достойно, но изящно облегают фигуры, у дев все на месте, но все просто, прямо Прада какая-то. Франческо надевает колечко на пальчик той, что в коричневом, после чего тут же, на той же картине, девы резко, но так же достойно, без лишних движений, взмывают вверх. И, удовлетворенные, улетают. Джованни Франческо Бернардоне выбрал стиль гранж. С безошибочным вкусом. Потом бедность назовут «болезнью святого Франциска» — Mai de st. Francis.
Нормальная, несколько заурядная жизнь обаятельного буржуазного принца. Перелом наступает в 1206 году, когда Франческо исполняется двадцать пять лет. Он опять видит сон и слышит призыв к строительству храма. Наутро он берет из кассы отца деньги, со склада — несколько тюков лучших материй и относит все епископу. Этого уже Пьетро Бернардоне не выдерживает. Он обвиняет сына в воровстве и вызывает в суд. Епископ, уже принявший пожертвование, попадает в сложное положение. Вызванный на публичное разбирательство, он отказывается от подношения Франческо на том основании, что благое дело не может быть основано на нарушении права собственности, то есть — преступлении. Отец в ярости: он и так потакал всем прихотям сына, угрохал кучу денег на его причуды, но все должно иметь пределы. Никаких особых репрессий против Франческо, однако, предпринимать не собираются, отец лишь требует вернуть то, что у него взято без спросу. Но Франческо поступает довольно решительно. Он отказывается от всего, снимает с себя все одежды, оставшись абсолютно голым посреди площади, заполненной народом, и отрекается от отца и матери. Некоторые авторы, правда, сообщают, что
87
под одеждой у него была власяница, им себе оставленная в качестве нижнего белья, но на фресках в Капелле Арена в Падуе, приписывавшихся Джотто, событие изображено именно так: святой Франциск — а именно с этого момента Французик превращается в святого Франциска — голый стоит посреди толпы, и кто-то из сердобольных горожан окутывает его плечи простым темным плащом. Потом Франческо нищенствует, выпрашивает у всех камни в качестве милостыни, потом к нему присоединяются двое единомышленников, он основывает братство миноритов, слава его растет, он встречается с папой, со святым Домиником, со многими важными персонами, едет проповедовать маврам в Испанию, едет с крестоносцами в Египет, там спорит с видными деятелями ислама, имеет закрытую аудиенцию у султана, совершает множество чудес, имеет много видений, вводит в обиход стигматы, проповедует людям, птицам и цветам, в общем — основывает францисканство, означающее окончательный переход от Темных веков к развитому Средневековью. Определяет европейское мышление вплоть до сегодняшнего дня. Но кульминацией его жизни становится сцена на площади, тщедушное белое тело, очень голое, беззащитное, среди жадной любопытной толпы.
В этой сцене, на которую мы смотрим сквозь толстенное стекло времени, удивляет то, сколь прозрачна на самом деле плотность тысячелетия. Она как-то резко отчетлива и современна, эта сцена, гораздо более отчетлива и современна, чем последующее житие святого Франциска, чем жизнь Абеляра, Арнольда Брешианского, Иоахима Флорского, даже более близких нам по времени Савонаролы или Терезы Авильской. Она очень сильно похожа на финал «Теоремы» Пазолини. То есть, конечно, «Теорема» похожа на нее, но отречение святого Франциска представляется с такой же визуальной четкостью. Это могло бы сейчас произойти в Милане, Нью-Йорке, Москве. Могло бы, но не происходит.
Быть может, магия приближенности этого эпизода из жизни Джованни Франческо Бернардоне к нашему времени заключается в том, что он — первый представитель скромного обаяния буржуазии, отказывающийся от своей буржуазности. Восемьсот лет назад случилась победа, как говорил
88
Томас Манн, «влажного очажка» над маленьким буржуа, победа, обернувшаяся чудом добродетели. Добродетели отказа в эпоху накопления. Одно только настораживает: отказываться можно, только когда имеешь, когда «стыдно быть бедным». Когда же бедным быть не стыдно, отказываться не от чего. Так не является ли отказ просто соблазном?
91
Банда Рафаэля
О стратегии вечной славы
И
Л -Ж-деиная солидарность, цеховая заинтересованность,
объединение принципов, групповщина, корпоративная ма- фиозность, кумовство, куначество... Кукушка хвалит петуха, рука руку моет, один за всех, тогда и все за одного, как не порадеть родному человечку — золотые правила общения, и, придерживаясь их, можно многого достичь. Истина, конечно, дороже друга Платона, но соратник дороже и истины, и Платона, и друга. Только наивные люди думают, что технологии пиара — современное изобретение. На них держится и история, и история искусства, и только они дают возможность попадания в вечность.
У испанского художника XVII века Хусепе Рибера есть замечательная картина под названием «Аполлон, сдирающий кожу с Марсия». На ней олимпиец, с лицом божественным и строгим, похожий на белокурого арийца, запустил пальцы под кожу поверженного сатира и легким движением готов содрать ее с живого беззащитно распластанного тела. Как шинель с Акакия Акакиевича. Под артистическими пальцами бога уже обнажилось кровавое пульсирующее мясо, рот Марсия разодран отчаянным криком, но прекрасные и правильные черты Аполлонова лица не тронула ни малейшая морщинка, и пальцы его музыкальны и нежны, и мучение ближнего преподносится им как виртуозная игра на музыкальном инструменте. Бог торжествует победу над тем, кто дерзнул покуситься на его авторитет, кто посмел соперничать, надувать щеки, дуя в свою дурацкую дудку, пытаясь при-
низить величие лиры. Аполлон прекрасен в первую очередь тем, что именно ему олимпийская мафия присудила пальму первенства, а Марсий — чернявый, бородатый, расхристанный неудачник, похожий на левого богемного деятеля, на какого-нибудь члена группы «Новые тупые». Марсий, однако, со своими неудачами и мохнатыми козлиными ногами, человечен, Аполлон же — жуткий садист. За деревом толпятся свидетели расправы, Марсиевы однокашники. Они заткнули себе уши, не в силах перенести вопля жертвы, и сами вопят почем зря от ужаса и безнадежности. Миф высокого искусства торжествует, реальность освежевана и наказана. Все в этой картине прекрасно, и она чудесно демонстрирует иерархию, что свойственна высокому искусству. Всегда и во всем.
Вот, например, Рим Рафаэля. Словосочетание «Рим Рафаэля» должно вызывать в культурной памяти картину яркую и светлую, подобную воспоминанию о сне, когда-то увиденном со столь отчетливой убедительностью, что он превратился в реальность: резкие силуэты пиний на фоне синего неба, солнечный свет на мраморе руин, виллы среди виноградников, торжественные процессии, много красивых людей, папа Лев X, грузный, тяжеловесный, восседает, как истукан, на золоченых носилках на плечах дюжих швейцарских гвардейцев, с лицом величественным и безразличным, исполненным многих знаний и многих печалей. Аполлонов город. Рим всегда был и будет центром мира. Все дороги ведут в Рим, и ни одна дорога не ведет из Рима.
На самом деле Рим был небольшим, неопрятным городом. Улицы были узки и зловонны, большая часть горожан жила в лачугах, кое-как сложенных из всего, что попадало под руку, фасады церквей были лишены какого-либо декора, мостовые на улицах отсутствовали, так что любое уличное движение сопровождалось клубами пыли. Малейший дождик приводил к тому, что пыль превращалась в грязь, и зловонно гнили кучи мусора, которые никто не убирал. Люди на улицах были ободраны, злы и алчны, у них были плохие зубы и воняло изо рта. Рим был населен сплошными Марсиями, и дороги, ведущие в Рим, были опасны, они пролегали среди пустошей и болот, полных разбойников и москитов. Папа Лев X был болезненным стяжателем и за¬
вистником, кардиналы — кучкой прохвостов-кровососов, а монахи — толпой невежественных дармоедов.
Ну и что? «На самом деле» никогда не существует. Реальность призрачна и обманчива, она мгновенно исчезает без следа. Никому до нее и дела нет, занимает она мысли только грубых неопрятных людей с дурным запахом изо рта. В культурной памяти Марсию нет места. Живые люди столь же эфемерны, как и кучи мусора: сгнили — и нет их, исчезли, зловоние выветрилось и тут же забылось. А остались фрески Рафаэля, его Мадонны и святые, их величие и красота. Афинская школа, Парнас, Диспут, Пожар в Борго, Битва Константина, Лоджии, История Психеи, Триумф Галатеи. Совершенные пропорции тел, печать одухотворенности на правильных лицах, кардиналы в алых мантиях, рослые гвардейцы, женщины с прекрасными шеями и руками. Высокая мифологичность и чистая концептуальность. Они определяют нашу культурную память.
Папа Лев X очень любил Рафаэля. Да его и невозможно было не любить. Все в нем было прекрасно. Ведь если небо, обычно не слишком щедрое на свои дары, захочет выделить кого-нибудь своей милостью, то нет тогда предела его расточительности. Личные достоинства Рафаэля Санцио из Урби- но были равны его выдающимся достижениям в искусстве, и от природы он был наделен той скромностью и той добротой, что обнаруживается у людей, чья благородная человечность блистает в оправе ласковой приветливости, приятной и отрадной любому человеку при любых обстоятельствах. Все художники до и после Рафаэля — люди по большей части невыносимые и своенравные до неистовства, и если не всех их можно назвать безумцами, то в том, чтобы назвать их людьми одержимыми, сплошь и рядом проявляющими теневые и мрачные черты пороков, вечных спутников искусства, не будет никакого преувеличения. В Рафаэле же не было недостатков, обычно свойственных людям его профессии, и по велению природы в нем воссияли во всем своем блеске великое обаяние, усердие, красота, скромность, добронравие и доброжелательность. Так, во всяком случае, о нем написал Вазари, и так о нем было принято говорить. Рафаэль был настоящим Аполлоном.
93
Была ли в этих рассказах хоть крупица правды? Какое это имеет значение? Нам же известно, что «на самом деле» никогда не бывает. Рафаэль, милый провинциальный юноша, будучи во Флоренции, где налаживал карьеру, получает из Рима письмо от своего земляка и дальнего родственника Бра- манте, ставящее его в известность о том, что он, Браманте, договорился с папой о предоставлении Рафаэлю важного заказа. Рафаэль все бросает, скачет в Рим, покоряет папу Юлия своим обаянием, получает заказ на украшение Ватикана, сбивает со стен все, что было написано до него, и печет шедевр за шедевром. Успех оглушительный, заказов масса, и вот уже Рафаэлю не хватает времени и сил со всем справляться, и вокруг него группируется целая толпа сподвижников-учени- ков, выполняющих за него всю черную работу, а заодно и затыкающих всех недовольных с помощью различных средств, вплоть до шантажа и кинжала. С воцарением нового папы, Льва X, Рафаэль уже вне конкуренции, ему даже удается избавиться от своего главного соперника, психопата Микеланджело, деньги и административные посты сыплются на него как из рога изобилия, все замечательно, но, к сожалению, он неожиданно умирает в возрасте тридцати семи лет, в 1520-м.
Смерть Рафаэля ничему не мешает. Наоборот, помогает: он становится бессмертным. Аполлонова машина запущена, и толпа его учеников продолжает хорошее дело, создавая все новые и новые шедевры Рафаэля. А их требуется все больше и больше, ведь теперь, в начале двадцатых годов чинквечен- то, в Рим рвутся уже не только благочестивые католики, но и любители искусств со всех концов просвещенной Европы. Благодаря древнеримской архитектуре, коллекциям античности и произведениям современных художников, в первую очередь Рафаэля, Рим становится в начале XVI века центром культурного паломничества. Рафаэль при этом играет очень важную роль: ведь к его имени теперь прилагается эпитет «божественный», ранее немыслимый ни для одного художника. Римская художественная жизнь осенена именем Рафаэля, самым известным мировым брендом, оно — гарантия признания молодого художника при дворе любого итальянского, а значит, и европейского властителя. В общем, от Рафаэля никуда не деться.
94
На папском престоле восседает Климент VII, принадлежащий к семье Медичи. Он недавно сменил папу Адриана VI, благочестивого фламандца, чье короткое правление вызвало неприязнь большинства римлян. Адриана возмущали римские нравы, поклонение языческим статуям, росписи, полные обнаженных тел, распущенность кардиналов и всевластие итальянской красоты. Римлянам после Юлия II и Льва X фламандец казался тупым обскурантом, и Рим облегченно вздохнул с его смертью.
Хотя римское величие и римское великолепие Юлия и Льва было уже позади, да и Рафаэль умер, Рим оставался первым городом Европы. Рим создал gran maniera, самый современный стиль жизни, сочетающий грандиозность с величественностью, глубину с эрудированностью, виртуозность с уравновешенностью. Определил же этот римский стиль первых двадцати лет XVI века, — тот стиль, что мы зовем Высоким Возрождением, подразумевая под ним удивительное слияние духа древнего императорского Рима с могуществом католицизма, — божественный Рафаэль. Это «Афинская школа» и Лоджии, это особый стиль всей римской жизни, упоенной своим величием, считающей Рим центром христианского мира, которому позволено все, даже преклонение перед языческой красотой.
Богатства Рима неимоверны. Церкви и соборы сияют драгоценной утварью, священники облачены в ризы, усеянные драгоценными каменьями, церквам не уступают дворцы и виллы кардиналов, а священнослужителям — римские патрицианки. Везде царит роскошь, тяжеловесная, медлительная, преизбыточная и перезрелая. Римляне обожают драгоценные камни, но не варварские самоцветы, а резные геммы и камеи, так, чтобы ценность работы еще и увеличивала ценность камня. Золотые и серебряные вещи должны привлекать внимание не только весом, но и изощренностью исполнения. Римская знать любит тяжелые огромные ковры, украшающие стены парадных зал, специально заказываемые фламандским ткачам по рисункам известных мастеров. Даже фрески подобны коврам, и интерьеры зданий сплошь покрываются пестрыми и несколько блеклыми декорациями, подражающими плетению шелковых нитей и не оставляю¬
95
щими ни малейшего пустого места. В моду вошли пышные бордюры, и в залах, предназначенных для пиров, огромные гирлянды из цветов и фруктов, изображенные художниками, вторят пышным выдумкам устроителей дворцовых празднеств. Сотворенная кистью живописцев иллюзия сплетается с реальностью. Гирлянды поддерживаются обнаженными юношами и девушками несказанной красоты, — Рим полон наготы и томительного, одурманивающего сладострастия. Могущественные кардиналы коллекционируют античные статуи с той же пылкостью, что знаменитых куртизанок и юных пажей, в римских дворцах и садах разлито благоуханное изобилие, пряное, возбуждающее, пьянящее.
Таков римский стиль после смерти Рафаэля. Он, правда, немного мельчает, лишается глубины, но зато приобретает еще больший размах. Художественную моду определяют ученики Рафаэля во главе с Джулио Романо — Полидоро да Караваджо, Джованни да Удине, Пьерино дель Вага, Лука Пенни, — те, кого Себастьяно дель Пьомбо, близкий Микеланджело, презрительно и несколько завистливо назвал «бандой Рафаэля». Исподтишка, чтобы кожу не сняли.
Банда Рафаэля — роскошное определение. Корпорации искусств устроены по-разному: есть цеха, но есть и направления, есть сообщества, но и содружества, есть течения, но есть и членства. Маньеристы, символисты, импрессионисты, кубисты, концептуалисты, а также Академия художников и Прогрессивно мыслящие радикалы. И — банда Рафаэля. У всех одна задача — служение Аполлону. Аполлон — порождение корпорации, и вне корпорации нет никакого Аполлона.
Банда Рафаэля очень хороша. Все молоды, красивы, талантливы, остроумны. Они вызывают всеобщее восхищение, в их руках все основные заказы, и они определяют вкус Рима при Клименте VII, а заодно — и всей Европы. Банда Рафаэля креативна, Рафаэль ее гениально вымуштровал, и она с блеском продолжает развитие стиля своего учителя. Они прекрасно знают античность, их работы безупречно декоративны, в них бездна фантазии и остроумия. Они очень плодовиты и поверхностны. Они умеют нравиться, они профессиональны. Они заняли все ключевые посты, все главные заказчики и коллекционеры — их друзья, и никто ничего поперек им сказать не осмеливается: лю¬
96
бого оппонента они затыкают именем Рафаэля. Они определили вкус европейского классицизма на целых триста лет.
Продолжать, тем не менее, — еще не значит соответствовать. В произведениях рафаэлевских учеников грандиозность граничит с гигантизмом, величественность — с претенциозностью, интеллектуализм — с перегруженностью, виртуозность — с поверхностностью. Достаточно посмотреть на фрески зала Константина в Ватикане, выполненные учениками Рафаэля во главе с Джулио Романо по эскизам великого мастера, но уже после его смерти, чтобы ощутить эту разницу. Блестяще решенные многофигурные композиции столь техничны, столь переусложнены, что производят впечатление какого-то крайне эффектного трюка, предвосхищая панорамы битв, модные в XIX столетии. Во фресках Джулио и мастеров его окружения есть все: масштабность, техничность, ученость, красота и изобретательность в каждой фигуре, в каждой позе, но в них ощутима надуманная механистичность. Но это все, замеченное уже Себастьяно дель Пьомбо, не играет никакой роли для вечности. Классика превращается в классицизм, maniera grande становится чистым маньеризмом, но это не важно: миф о римском Золотом веке установлен и катится, как снежная лавина, заполоняя вечность. Аполлон торжествует, а на Марсиеву реальность с дурным запахом изо рта никто не обращает внимания. Марсий никогда не выигрывает: если банда решит, что Аполлон должен выглядеть как Марсий, то так оно и будет. Чернявый, бородатый, расхристанный неудачник с мохнатыми ногами усядется на арийского юношу, ловко подцепит его кожу ножом и начнет легко ее снимать, как шинель с Акакия Акакиевича, с красного кровоточащего мяса. Блондин орет, смешной и жалкий, и величие Аполлона нисколько не уменьшается от того, что у него — рожа Марсия.
живописцам. Подпись Лотто, если она и имелась на картине, старательно затиралась: часто поверх появлялась фальшивая, с более громким именем. Лотто исчез из истории искусств, и лишь в 1890 году Бернард Беренсон, сгруппировав несколько произведений, ошибочно приписываемых разным художникам, открыл истину. Лоренцо Лотто снова появился на свет. Затем началась кропотливая работа в архивах и музеях, и в наше время Лотто стал считаться одним из крупнейших и своеобразнейших мастеров итальянского чинквеченто.
Подобное перерождение было необычайно выигрышно для художника. Поскольку он заново родился уже в современности, современность посчитала его как бы своим детищем и искренне его полюбила. Она не могла оставаться беспристрастной к своему талантливому протеже и была к нему более благосклонна, чем к Рафаэлю, Тициану и другим давно признанным гениям. В конфликте Лотто и Тициана современность была настроена явно пролоттовски, всячески выражая ему сочувствие как жертве непонимания.
Жертва непонимания для XX века в какой-то мере является знаком качества. Со времени импрессионистов, не понятых поначалу своими современниками, а затем вознесшихся на Олимп, всякий образованный в истории искусства человек очень напуган возможностью что-то не понять, что- то пропустить и остаться затем в веках с клеймом недальновидного мракобеса. Выработанный еще в романтизме образ непонятого гения стал на долгое время настоящим пугалом для критиков. Футуристы уже вполне осознанно, с умением и удовольствием использовали подобный имидж и тем самым проложили дорогу всему модернизму. Успех у дуры-пу- блики и ее благожелательность стали расцениваться скорее даже как недостаток и признак некоторой ущербности.
Священной коровой современного представления о творческой личности стал, конечно же, Винсент ван Гог, чье имя сейчас знакомо каждому. За его картины выкладываются сотни миллионов, а при его жизни они ценились не выше стоимости холста, на котором были написаны. Тупые мещане проходили безразлично мимо груд драгоценностей, не замечая их сияния. Подобный казус многому научил, и арт-дилеры осознали, что непохожесть имеет свою цену. Они тол¬
100
пами устремились на поиски Ван Гогов среди талантливой молодежи, надеясь сделать состояние на гении-самородке, а искусствоведы, обреченные на копание в запасниках музеев, стали перекраивать историю искусства.
Искусствоведы, надо сказать, были даже более удачливыми, чем владельцы галерей современного искусства. Современность вновь открыла Вермера Делфтского, Жоржа Да Тура и многих других совершенно забытых живописцев. К ним принадлежит и Лоренцо Лотто — Ван Гог венецианской живописи XVI столетия.
Притом что Лоренцо Лотто как будто появился из небытия благодаря волшебному слову Бернарда Беренсона, к концу века мы знаем о нем намного больше, чем о других художниках его времени. До нас дошли письма Лотто и его Libro di Spese («Книга расходов»), что-то среднее между дневником и гроссбухом, которую художник вел с 1538 года вплоть до самой смерти. В основном это сухие и лаконичные записи, подобные письмам Ван Гога, не таящие в себе никаких невероятных откровений, но по ним выстраивается довольно четкая фактологическая канва жизни Лоренцо Лотто.
Действительно, в Венеции ему приходилось несладко, и он все время был вынужден искать работу в более скромных городах Террафермы: Бергамо, Марке, Тревизо, Анконе. Венеция, уже не довольствующаяся в XVI веке своим титулом царицы морей, стала весьма агрессивной на суше, старясь подчинить как можно больше городов вокруг. Привыкнув к самоуправлению и имея давние культурные корни, эти города с большой неприязнью относились к новой метрополии. И хотя власть венецианцев была не слишком обременительна, они находились в постоянной оппозиции к Венеции.
Успешная работа Лотто в этих городах связывала его с подобными оппозиционными настроениями. И, несмотря на то что сам художник прямо называл себя венецианцем, некоторые исследователи до сих пор считают местом его рождения Бергамо — традиционного врага Венецианской республики.
Не только постоянные скитания по окружающей Венецию территории наводили искусствоведов на мысль об оппозиционности Лотто. Его живопись имеет мало общего с
101
традицией Беллини и Джорджоне, развитой Тицианом. В отличие от их поэтичной многозначительности, композиции Лотто, с его чувствительностью к свету и цвету явно венецианского происхождения, отличаются повышенной экспрессивностью. Если венецианский мир построен на оттенках, то мир Лотто подчеркнуто выразителен, и часто переживания его персонажей столь акцентированы, что близки к состоянию истерики. Само собою, подобные преувеличения импонируют нашему столетию. Многими искусствоведами они определены как маньеризм, а наиболее радикальные из них наградили Лотто титулом сюрреалиста, сделав его предтечей Дали.
Еще в большей степени странна иконография религиозных сюжетов в трактовке Лоренцо Лотто. Его знаменитое «Благовещение» стало образцом нарушения традиции.
Фигура Мадонны с неестественно вывернутыми ладонями, с жестом, демонстрирующим скорее испуг, чем приветствие или простое удивление, повернута лицом к зрителю и спиной к божественным участникам таинства. Архангел Гавриил, чья преувеличенная жестикуляция делает его похожим одновременно на пропеллер и свастику, недоуменно остановил свой полет, обращаясь к не замечающей его Деве, в то время как Дева впилась глазами в ваше лицо или в лицо любого, кому будет дана возможность увидеть ее. Похоже, она просит у вас защиты от неведомых сил, нарушивших покой ее комнаты, — от наполнившего пространство жужжанием пропеллера Архангела и Бога-Отца в оранжевом одеянии, собирающегося нырнуть в комнату с влетающего в арку облака. Несуразицу дополняет бегущая через комнату испуганная кошка, и это вносит в отвлеченно-символическую сцену приметы физиологического переживания.
Современники были не особенно благосклонны к подобным экстравагантностям, но наше время к ним, безусловно, снисходительно. Сцена, столь неестественно запутанная, превращается в чарующе-невероятную фантазию, где интенсивность красочности, построенной на нервном взаимодействии оранжево-красного и прозрачно-холодного голубого, вторит запутанности форм и движений. Картина напоминает музыку Штокхаузена, и подобная
гармония, слишком сложная для современников, создана как будто специально для поклонников модернизма.
Штокхаузен не единственное немецкое имя, всплывающее в памяти при изучении искусства Лоренцо Лотто. Как уже говорилось, у Бериксона многие картины Лотто приписывались Дюреру и Гольбейну. Очевидные немецкие влияния, различимые в его живописи, вызывали предположения о симпатии Лотто к протестантизму и другим северным ересям, что также подчеркивало его оппозиционность вполне католической, хотя и довольно терпимой по тем временам Венеции. Этому противоречат замечания современников, в первую очередь литератора Аретино, признанного в Италии XVI века арбитром вкуса, отдававшего должное необычайному благочестию Лотто и его человеческим качествам, но весьма холодно отозвавшегося о его достоинствах как художника. К тому же, с точки зрения сторонников протестантизма, удаление в конце жизни в Лорето — этот центр католического благочестия — было странным решением. Очевидно, что в своей религиозности Лотто был столь же искренне экстравагантен, как и в своей живописи.
Выставка в Вашингтоне называется «Лоренцо Лотто: вновь открытый мастер Ренессанса». Если учесть, что со времени открытия Лотто прошло сто лет, это название немного удивляет: Лотто давно уже стал признанным классиком ан- тиклассического искусства. Название выставки проясняет характер ее экспозиции — устроителей не интересуют фактологические детали. Они представляют Лотто, как представили бы современного художника, заботясь больше об эффектности, чем об исторической правде. Как живописец, свободный от условностей исторической иерархии, Лотто должен быть благодарен подобной экспозиции — непризнанный своим временем, он органически вошел в художественную культуру модернизма.
душенька
О Риме, плоти и бессмертии
устая, плотная, туго сплетенная зелень, листья плотно пригнаны друг к другу, и из них торчат яблоки, лимоны, венчики цветков жасмина, вьюнки, мальвы, тыквы, розы, артишоки, подсолнухи, маки, гроздья винограда, анемоны, фиги, гортензии, гранаты, огурцы, дзуккини, лилии, персики, связки колосьев, сельдерея и редиса. Все жирное, сочное, спелое, налитое, благоуханное. Зелень, овощи, цветы и фрукты переплетены в толстые тяжелые гирлянды, слегка провисающие под собственной тяжестью. Зрелое, летнее, августовское изобилие, имперски августовское, мечта о плодородии, утопия ВДБХ — Выставки Достижений Божественного Хозяйства. Зелень гирлянд обрамляет куски неба голубизны небывалой. В голубизне застыли голые люди, группами и по одному, — сочные, спелые, благоуханные. Голубизна слегка провисает под тяжестью их плоти, летней, августовской, имперской. Они очень серьезны, все чем-то заняты, но, впечатанные в небывалую голубизну, величественно застыли в ней, со своей мимикой, порывистыми движениями и жестами.
Три женщины: одна совсем голая, куда-то направляется, две других, в платьях, плотно обтягивающих торчащие соски, и покрывалах на головах, что-то ей втолковывают, разводя руками для убедительности. Три совсем голых женщины, устроившись на подушках из белоснежных облаков, напоминающих пенные клубы хорошего шампуня, очень серьезно внимают с полуоткрытыми ртами указаниям кудрявого подростка, тоже голого, с одной узкой белой лентой через плечо
и с луком в руке. Очень красивый парень, голый, но в шляпе и шейном платке, раскинул руки, широко раскрыл глазища и рот, яйца набок, платок развевается, в правой руке зачем-то трубу зажал, что-то нам сообщить хочет, на что-то указывает. Оперный мужчина с белой бородой и белыми кудрями, делающими его похожим на карточного короля, внимает абсолютно голой девице, убеждающей его в чем-то, с видом притворной невинности, но внятно, с напором, прическа скромная, со странным хвостиком, глазки слегка вытаращены, губы в трубочку. Мужчина тоже голый, но низ завернут простыней, правой рукой сжимает какую-то странную мочалку, и уселся он на орла, у которого от напряжения клюв раскрылся, так что он уставился прямо на зрителя выпученными глазами, производя впечатление запредельной птичьей глупости. На самом же верху, над гирляндами, над голубизной и над голыми фигурами, растянуты две многофигурные сцены: прием и пир. Там уже всех много, все вместе, одетые и голые, все красивые, здоровые, улыбающиеся, счастливые. Собрание Божественных Спасателей Малибу.
Это — история Психеи. Рассказана она была одной пьяненькой, выжившей из ума старушонкой в самом начале нашей с вами эры, где-то лет через сто пятьдесят после рождения Господа нашего Иисуса Христа. Рассказывала пьянчужка о том, о чем пьяницам рассказывать свойственно, — о душе несчастной, о том, как она, эта душенька, бедненькая, маленькая, голенькая, слонялась по миру, жестокому, безжалостному, лишения терпела, побои и надругательства, оскорбления и унижения, все перенесла, все преодолела и упокоилась наконец на веки вечные в небесах голубых, кущах райских, в покое, довольстве и счастии. Рассказ античной Арины Родионовны прочно вошел в мировую культуру, став аллегорией пути духовных исканий и переживаний.
Душа, душенька, римская душа, душа богини Рима, Dea Roma. Вилла Фарнезина, где расположилась история Психеи, рассказанная Рафаэлем и его учениками, — чистейшее, быть может, ее воплощение. Вилла, построенная для миллионера Агостино Киджи недалеко от Тибра около 1510 года, была одной из самых роскошных римских вилл. Предания рассказывают об умопомрачительных пирах, устраиваемых Киджи
в садах его виллы, тогда спускавшихся до самой реки, на которых присутствовал весь папский двор, гости, одуревшие от роскоши, бросали золотую и серебряную утварь прямо в реку, смотря, как блестит она в водах, и папа Лев X отламывал жирными пальцами кусочки яств, и шептались кардиналы, пялясь на красоты Империи, знаменитой куртизанки, роскошной, дебелой, дорогой и властной, Аниты Экберг шестнадцатого века. Тогда же на вилле появилась и другая дама, венецианка Франческа Ордеаски, любовница Киджи. Лет через десять после сожительства с ней банкир решил узаконить их отношения и специально заказал Рафаэлю росписи с любовным сюжетом, чтобы брачный пир, на который был приглашен и папа, и двенадцать кардиналов, и красавица Империя, подруга Франчески, проходил в достойных декорациях. Рафаэль с учениками постарались, и дух римской, католической, имперской роскоши предстал во фресках, благоухание живых цветов смешивалось с благоуханием цветов изображенных, и лопались от спелости фрукты на золотых блюдах, и красота богинь вторила красоте римских матрон-куртизанок, и сама Империя была довольна, обводила воловьими очами гирлянды на фресках, груди Венер, ляжки Амуров и Меркуриев и увитые жасмином серебряные канделябры, кубки и кувшины, все было как надо, со вкусом, с настоящим римским вкусом. Империя сама была воплощением римского вкуса, величайшая красавица всех времен и народов. Она была довольна окружающим и в мечтательной полудреме представляла себе все, что так дорого было ее душе: обожествленный римский профиль, гулкий шаг легионов, золотых орлов, ряды копий и коней, сияющую арматуру, обтягивающую торсы воинов, фанфары, трубящие на земле и в небесах, слав с венками, крылатых гениев, строгие лица победителей и вереницы пленников, в пыли влачащих цепи вслед за триумфальными колесницами и слонами. Империя любила военную мощь, победы, славу, триумфы, апофеозы и consecratio, это последнее явление в иерархии власти, когда ее высший представитель, император, становится Divus и уже ничто земное над ним не будет властно. Она любила римское пространство, напоминающее ей о власти, и римскую архитектуру, образец архитектуры для всех империй: холмы и па-
потаскуха, потаскуха... Тысячи лет покрывают эти надписи римские стены. Со времен цезарей до наших дней рабы, варвары, легионеры, ландскнехты, паломники, арабы, негры, филиппинцы, сумасшедшие, туристы, нищие и придурки не могут сдержать страсть, похожую на ненависть, к этому городу, столь влекущему, столь обольстительному, столь засасывающему, и пачкают своим сквернословием, столь похожим на семяизвержение, его стены, дворцы, церкви, фонтаны, камни, небо, воздух, историю. И на втором этаже виллы Фар- незина, на фреске художника Содомы, изображающей брак Александра Македонского с персидской царевной Роксаной, в 1527 году, через семь лет после свадьбы Агостино Киджи, во время разграбления Рима войсками императора Карла V, какие-то ландскнехты вырезали ругательства своим варварским готическим шрифтом, и они остались навеки и теперь тщательно охраняются под плексигласом.
В Риме огромное количество прекраснейших видов, чье созерцание заставляет по-гоголевски забыть «и себя, и красоту Аннунциаты, и таинственную судьбу своего народа, и все что ни на есть на свете»: Belvedere Gianniccolo, Belvedere Pincio, Belvedere San Trinita dei Monti. Но они подобны специально развернутой перед зрителем панораме, придуманы талантливым ведутистом. В центре Рима, рядом с площадью Цветов, где был сожжен Джордано Бруно и где располагается рынок, торчит девятиэтажный муссолиниевский дом, с фашистской наглостью врезавшийся в плоть старого города. С его последнего этажа открывается удивительный вид, вид из чрева Рима. Здесь взгляд проникает внутрь Рима: на крыше, в сколоченном из досок душе, моется человек, детский велосипед на террасе, салон, устланный персидскими коврами, женщина прикуривает, в детской катится мяч и гасится свет, палаццо кватроченто, купол San Giovanni dei Fiorentini, еще купол, еще один, еще... Нутро, терпкая жизнь, звучащие, видимые запахи, запах рыбы на площади Цветов. Нутро, чрево... The belly of an Architect, чрево архитектуры, нутряная жизнь, физиология, бесформенная путаница звуков, пространств, домов, жизней, запахов, людей, красок.
Внизу, в наступающих сумерках, нарастает гул города, тысячи слов, движений, шорохов сливаются в один звук, резко
1.09
усиленный визгом полицейской машины. Вместе со светом фонарей и окон гул затопляет город, заливает Пьяцца Наво- на, потом поднимается вверх, к Корсо, к Пьяцца ди Спанья, фонтану Треви. Он карабкается по лестницам, усиливается хохотом панков, рокеров, американских туристов, журчанием La Barcaccia, визгом мотоциклов и, достигнув ступеней Santa Maria Maggiore, обессилев, оседает около них. На ступенях сидят тихие африканцы, то ли вывезенные вместе с обелисками цезарями и папами, то ли пробравшиеся без паспортов вчера вечером из Туниса. Темно и тихо. Под ногами море огней, означающих блудливый и беспокойный Рим, прообраз всех империй: похабно разряженные символы власти, триумфальные арки, соблазнительные церкви, бесстыдно нагие развалины. Имперское барокко, каждым завитком напоминающее непристойные формы раковины, обольстительной, как вывеска дома терпимости для благочестивых пилигримов.
Бесконечные раковины церквей, наполненные сладострастными Магдалинами и томными Себастьянами, соединяются в одну большую жемчужницу, медленно раскрывающую свои створки и выкатывающую округлую мерцающую жемчужину. Она плавно скатывается со ступеней, на которых укладываются спать бедные алжирцы, и медленно сползает вниз, к Капитолию. Вместе с ними римская ночь успокаивается.
Тишина. Перламутровая сфера тишины, сотканная из звуков фонтанов, блеска водяных струй, сумрака куполов и аркад, прозрачности мрамора и силуэтов колоколен, обнимает весь город. Почти во всех домах огни погашены, рестораны и лавки закрыты, спят нищие в колоннадах, завернувшись в свои одеяла, спят дворцы и посольства, и, только чтоб подчеркнуть тишину, переговариваются на своем варварском наречии трое американских студентов, приехавших в четыре часа утра из Флоренции и тащащих рюкзаки через весь город в свой американский центр, где-то там, за Тибром, около виллы Фарнезина и фресок Рафаэля. В тишине сна Рим вздыхает и распрямляется. Обелиски теряют тяжесть мудрости иероглифов и переговариваются по-юношески звонкими голосами. В церквах заперты католические соблазны, и под Капитоли¬
110
ем свободно бродят античные призраки, закутанные в белые одежды, как тридцать тысяч невинно убиенных девственниц.
К рассвету Рим снова чист и юн, как будто умылся свежей водой. Но уже заворочался бродяга около фонтана на площади Santa Maria in Trastevere, встал и пошел умываться к фонтану. Вместе с ним сотни других бродяг идут умываться и чистить зубы, отталкивая юношу-Рим от его источников, слышны первые звуки машин, открываются бары и газетные киоски. Снова шум, зной, яркий свет, римская волчица и ее лупанарий.
Снова жизнь, и снова Империя, прекрасная и экстатичная, как Берниниева святая Тереза, щедро одаривает своей чувственностью всех туристов, всех паломников, всех верующих и всех любопытствующих, всех, кто захочет и сможет ее увидеть.
113
Пастух в сказочном подземелье
М_—
умнейший европеец шестнадцатого века, следующим образом охарактеризовал свои «Опыты», настольную книгу каждого мыслящего человека: «Присматриваясь к приемам одного находящегося у меня живописца, я загорелся последовать его примеру. Он выбирает самое лучшее место посредине каждой стены и помещает на нем картину, написанную со всем присущим ему мастерством, а пустое пространство вокруг нее заполняет гротесками, то есть фантастическими рисунками, вся прелесть которых состоит в их разнообразии и причудливости». С легкой руки Монтеня во всех европейских языках под гротеском стали подразумевать особый тип художественной образности, не зависящий ни от вида искусства, ни от стиля, ни от жанра, но представляющий особый мир художественного произвола, не нуждающийся ни в какой логике. В современном понимании гротеск превратился в олицетворение свободы искусства, не подчиняющегося никаким законам. Тем не менее гротеск имеет свою собственную историю и даже точную дату своего рождения.
В прекрасный солнечный день в год 1480-й от Рождества Христова один пастух, пасший стада на окраине Рима, тогда города еще очень небольшого, занимавшего лишь крохотную часть Рима античного, провалился в подземелье и очутился в странном и угрожающем месте. Со всех сторон в неверном сумраке, освещаемом лишь солнечным светом из провала, глядели на него чудные чудища: женщины с рыбьими хвостами, козлоногие юноши, карлики на журавлиных ногах,
кувыркающиеся крылатые дети, лошади с ногами в виде листьев, крылатые львы с лицами прекрасных дев и бородатые воины с обнаженным торсом и змеиными ногами. В ужасе выбрался пастух из проклятого места и побежал по Риму рассказывать о страшном приключении. Наверное, произойди это на сто лет раньше, уничтожили бы правоверные христиане проклятое место как приют дьявола, но Рим 1480 года уже был горд своим просвещением, и весть о находке быстро дошла до ушей любителей искусств, быстро сообразивших, что пастух наткнулся на какую-то диковинную античную редкость.
Просвещенные любители искусств прибежали к провалу, спустились вниз, в темное подземелье, запасшись смоляными факелами, и ахнули: перед ними предстал целый лабиринт помещений, сплошь покрытый фресками и лепниной несказанной красоты, с узорами из цветов и фруктов, в которые вплетались фантастические сцены и фигуры. Собравшись вместе, поговорив и поразмыслив о находке, поняли они, что открыли ни больше ни меньше, как знаменитый Золотой Дом императора Нерона, Domus Аигеа, о котором много чего рассказывали древние историки. Особенно полюбился Domus Аигеа художникам, стекавшимся со всех концов Италии, чтобы изучать древнюю живопись, дотоле известную только по описаниям. Настолько полюбился, что толпами спускались в подземелье зарисовывать фрески, иногда даже оставляя на них выцарапанные надписи, вроде «Джованни был здесь», дошедшие до сегодняшнего дня вместе с сильно поблекшими по сравнению с 1480 годом античными росписями. Хранятся теперь эти надписи, образец художественного хулиганства эпохи Возрождения, с не меньшей тщательностью, чем древнеримские фрески.
Подземелье по-итальянски называется гротом, и росписи прозвали гротесками. Они мгновенно вошли в моду, так как каждый просвещенный любитель или считавший себя таковым почел своим долгом украсить покои в подражание античным образцам, чтобы чуть-чуть почувствовать себя Нероном. Этот император хотя и был личностью скандальной, но обладал тонким и изысканным вкусом, а за то, чтобы прослыть тонким и изысканным в ту милую эпоху, в конце
£
пятнадцатого века в Италии, не то чтобы родного отца продали, но и родную мать бы убили, наподобие того же Нерона. Достаточно вспомнить папу Александра VI Борджиа, сожительствовавшего со своей дочерью Лукрецией, или его сыночка Чезаре, прославившегося в веках самыми изощренными убийствами и отравлениями, какие только человек может себе вообразить. Оба, надо сказать, были большими любителями гротесков.
Мода захватывала современный Рим все больше и больше, и уже не только стены, но и шкафы, сундуки, ткани, блюда, вазы, ручки мечей и ножей, переплеты книг и даже посуда самого интимного свойства покрылись гротесками. Каждая уважающая себя римская куртизанка требовала от содержащего ее кардинала юбку с новомодным орнаментом или какую-нибудь подвесочку позабористее, чтобы там в виде сфинкса, или химеры, или как это у вас там называется... Даже церковную утварь стали украшать гротесками в античном духе, и самому папе Льву X сам великий Рафаэль расписал гротесками целую галерею, названную «Лоджии Рафаэля». Папа прогуливался по ней и гордо демонстрировал восхищенным приезжим всякие презабавнейшие штуковины. Приезжие, люди известные, знатные и богатые, благоговейно внимали: ай да папа, ай да молодец, какая свобода, какое изящество, мы тоже такое хотим, чтобы все гротесками, гротесками, и с грифонами, и со сфинксами, и с Дианами Эфесскими, чтобы много-много грудей со всех боков было, — и пошли гротески из Рима по всей Европе шестнадцатого века, дойдя даже до самой Англии, страны тогда дикой и в общем-то мало обученной тонкости вкуса. На Севере, за Альпами, итальянские причуды смешались с причудами готическими, с воспоминаниями о страшилищах на соборах, о ведьмах и инкубах, на изображения которых северяне были мастера, и расцвел гротеск пышным цветом. Художники этого времени в своих буйных фантазиях оставили далеко позади всех сюрреалистов, и кафкиан- ские превращения для них — просто детский сад, Дали — недоучка со скудной фантазией, а режиссура «Звездных войн» и «Чужих» — продукт всеобщего усыхания мозгов, ни на что уже не годных, кроме как ублажать зрителей, считающих, что попкорн — верх чревоугодия.
116
Выставка в Эрмитаже воссоздает волшебный мир гротеска, чаровавший в шестнадцатом веке пап и королей, художников и куртизанок. На ней собраны образцы гротеска в декоративно-прикладном искусстве всех стран Западной Европы в самых разнообразных формах: в гравюрах, в тканях, в майолике, в серебре, в оружии, в мебели. Необузданная фантазия мастеров Ренессанса и маньеризма столь впечатлила мир, что теперь слово «гротеск» мы употребляем сплошь и рядом, совершенно забыв про пастуха, когда-то провалившегося в сказочное подземелье.
Белая лошадь
Портрет покровителя телевидения
Д
ГДвадцать девятое июня в католическом календаре — день
апостола Павла. Как будто приуроченная к этой дате, сознательно ли, или просто так хорошо получилось, что скорее, но в Эрмитаже была открыта очередная выставка одной картины, представившая «Обращение Савла» Пармиджанино из собрания Художественно-исторического музея в Вене. Ее сюжет — преображение неверного Савла в праведного Павла — рассказан в Деяниях апостолов:
«Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику.
И выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим.
Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба.
Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь; трудно тебе идти против рожна.
Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать».
В рассказе из Деяний обрисована тема Пути в Дамаск, ставшая одной из центральных в цивилизации христианской
Европы, исходящей из того, что у каждого из нас есть свой Путь в Дамаск или, по крайней мере, должен быть. На эту тему Пармиджанино и создает свое произведение. Произведение вычурное, влекущее и отталкивающее одновременно. «Обращение Савла» раздражает зрителя: не понять, что же является его темой — балет ли, выдаваемый за чудо, или чудо, поставленное по законам балета. Произведение открыто декадентское, изысканно-маньеристичное, скандальное чуть ли не столь же, сколь скандально воспринимаются брю- совские строчки: «Водоворотом мы схвачены / Последних ласк. / Вот он, от века назначенный, / Наш путь в Дамаск!»
В реальности существования Павла — по-латыни paulus — малый, небольшой, незначительный — имя, принятое Савлом после обращения, — нет никаких сомнений. Он родился в самом начале первого тысячелетия, в городе Тарсе, крупном эллинском городе в Малой Азии, в семье торговца тканями, иудея по происхождению и вере, но римского гражданина, и был младшим сверстником Иисуса Христа. Римское гражданство досталось Савлу по наследству, что ставило его в особое положение, в дальнейшем определившее его взаимоотношения с окружающим миром. Отец Савла мог получить римское гражданство только одним способом: купить его, что свидетельствует о том, что наследственное состояние было немалым, так что по рождению Савл относился к кругу богатой провинциальной буржуазии. Судя по тому, что он говорил и писал по-гречески и по-латыни, он получил основательное, хотя и не блестящее образование. Типичный компрадор, Савл добился высокого положения в иерархии еврейской общины Малой Азии и христиан ненавидел не по религиозным соображениям, а в первую очередь по политическим, видя в их движении, проникнутом идеей националистического мессианства, угрозу процветанию нейтральной Иудеи под сенью Римской империи. Заручившись полномочиями высших представителей общины, подкрепленными его персональными взаимоотношениями с римскими властями, он отправился в Дамаск, желая прекратить еврейскую смуту, угрожающую спокойствию на Ближнем Востоке. В это время ему было около сорока лет.
Вот тут-то его и поражает внутреннее озарение, поглощающее его полностью, без остатка, так что он не видит
120
ничего вокруг себя, кроме своего, разом изменившегося, внутреннего мира. В тех же Деяниях подчеркивается: «Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел». Он не ослеп, но просто не замечал окружающего, впав в тяжелую депрессию: «И три дня он не видел, и не ел, и не пил». Выйдя из оцепенения, Савл знакомится с христианской общиной Дамаска, а потом отправляется на три года проповедовать в дикую Аравию.
О пребывании его в Аравии ничего неизвестно, скорее всего, это было что-то вроде пустынничества, но затем, вернувшись, он начинает бурную деятельность, проповедуя истину чуда Воскрешения по всей Римской империи. Он выводит христианство за пределы иудейской общины, став основателем христианского универсализма. Павел утверждает, что новая истина христианства предоставлена и предназначена всем, открыта каждому, вне зависимости от его принадлежности, национальной ли, культурной ли, социальной ли или половой: «Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе». Он провозглашает, что наше спасение в вере, а не в делах и что мы не под законом, а под благодатью, снимая все различия в пользу радикального единства нового учения, адресуя христианство всем без исключения, без всяких ограничений. Наряду с апостолом Петром он становится основателем христианской церкви, одним из самых почитаемых святых как католиками и православными, так и протестантами, в честь него возводятся великие соборы, и он провозглашается покровителем теологов, печати и средств массовой информации, в том числе и телевидения.
Послания Павла, написанные где-то в 50—58 годах нашей эры, многими считаются древнейшими дошедшими до нас христианскими текстами, возникшими раньше канонических Евангелий. Они всегда имеют адресата и представляют не теоретические рассуждения, а очень конкретные и энергичные идеологические письма-распоряжения представителям небольших групп, основанных в разных концах империи и связанных личностью единого руководителя. Разнообразие адресатов обрисовывает активность Павла, находившегося в постоянном движении: Антиохия, Иерусалим, Эфес, Кипр, Фессалоники, Афины, Коринф,
Тир, Крит и Рим в течение двух лет. Он все время передвигается, и жизнь его полна трений с властями и пребываний на скрытых явках, тайных встреч и публичных выступлений, кораблекрушений и судебных разбирательств. Апостолом он называет себя в некотором смысле самозванно, так как прямым учеником Иисуса не был, и его отношения с палестинскими активистами, в том числе и с Петром, отнюдь не безоблачны: недаром оба основателя христианской церкви приходят к компромиссу, разделяя сферы влияния. Павел проповедует христианство среди язычников в разных концах империи, в то время как Петр контролирует взаимоотношения новообращенных с центром в Иерусалиме. Павел активен, подвижен и деятелен. Его номадизм и энергетика, исходящая от его личности, делают Павла привлекательным для современных радикальных интеллектуалов, сравнивающих его с Лениным, распространяющим марксизм. Апостола Павла обожали леваки молодежного движения 1960—1970-х, и о нем хотел снять фильм Пьер Паоло Пазолини, перенеся его деятельность в XX век, в сороковые — пятидесятые годы.
По замыслу Пазолини, Павел — француз, выходец из добропорядочной буржуазной семьи, ставший убежденным ви- шистом. Он преследует участников Сопротивления, считая, что «новый порядок» обеспечивает спокойствие Франции и борьба с ним бесполезна. Фарисеи — французские фашисты, сторонники Петена, и Павел отправляется в Испанию с поручением к франкистам. На пути в Барселону, среди Пиренейских гор, его внезапно озаряет, и он оказывается среди партизан-антифашистов, небольшой группы борцов, подобной маленькой христианской общине Дамаска. Проведя среди них некоторое время, Павел скитается по Италии, Испании и Германии, налаживая связи между группами Сопротивления. Деятельность его, сначала чисто антифашистская, приобретает характер борьбы против мирового империализма, и в конце концов он едет в Нью-Йорк, считая, что именно там, в центре империализма, он должен основать повстанческую группу. Его предают, арестовывают и казнят. Предателем же оказывается святой Лука, слащавый двурушник, паразитирующий на памяти о героизме партизан.
Для Пазолини Нью-Йорк — это древний Рим, столица мирового зла. Париж, оккупированный немцами, — культур¬
122
ный центр, отравленный конформизмом, подобно захваченному римлянами Иерусалиму. Современный же Рим, полный дрязг измельчавших интеллектуалов, презираемых Пазолини, уравнивается с Афинами софистов, провинциальным и амбициозным городком, оказавшимся глухим к словам Павла. Фильм Пазолини не снял, но оставил сценарий, в котором жизнь и тексты апостола естественно переплетаются с событиями современности.
Сам Пазолини признавался, что идея фильма возникла у него под впечатлением картины Караваджо «Обращение Савла», находящейся в церкви Санта Мария дель Пополо в Риме. Караваджо изобразил Савла молодым воином, беспомощно опрокинутым навзничь. Его руки подняты вверх в каком-то робком движении, одновременно похожем и на жест защиты, отстранения, и на попытку слепого ощупать и тем самым представить невидимое, и на раскрытое объятие. Фигура павшего дана в резком перспективном сокращении, она вываливается на зрителя из плоскости картины, создавая физическое переживание болезненности удара. Ослепшие глаза «широко раскрыты», таинственный свет не имеет никакого источника, он исходит от самого поверженного, мягко обволакивая все вокруг.
Лицо, несмотря на неестественность позы, спокойно и умиротворенно. Лошадь, большая и сильная, но притихшая, осторожно переступает через тело воина, стараясь не причинить ему боль тяжело подкованным копытом. Переживание чуда внутреннего преображения передано Караваджо столь сильно и столь тонко, что его Путь в Дамаск становится всеобъемлющим, лишенным временных и географических границ, объединяя в одно целое и Сирийскую пустыню начала нашей эры, и Рим барокко, и Пиренеи времен Второй мировой войны.
У Пармиджанино же крупный мужчина с мускулистыми ногами и ухоженной бородой, одетый роскошно и ярко, в розовую короткую тунику и желтый расшитый плащ, накинутый на плечи, как шаль, распластался у ног сказочной белой лошади, вздыбленной во всей красе в полный рост так, как будто вся картина посвящена только ей, белоснежной лошади, украшенной золотой уздой и белой леопардовой шкурой.
Огромный прозрачный глаз, похожий на отполированный кристалл хрусталя, уставился прямо на зрителя, магнетизирует его, и Савл, с мольбой и ужасом закатив глаза кверху и вздернув брови, смотрит искоса на торжествующее животное, не замечая прорвавшегося сквозь тучи света, и вытянутая рука с болезненно длинными пальцами выпустила золотые поводья, скрутившиеся в узел, и нет в нем никакой сосредоточенности на внутреннем чуде, и ослепления никакого нет, лишь недоумение, граничащее со страхом. Не Путь в Дамаск, а Портрет белой Лошади. Что бы это значило?
Изображение Пармиджанино столь странно, что в одном из старых инвентарей семнадцатого века, описывающих картину, содержится курьезное замечание: «Доска с упавшим навзничь св. Павлом, который смотрит на небо, подняв левую руку, а другая — на земле: с прыгающей жирафой или лошадью и с пейзажем; в золоченой раме; руки Пармиджанино, 120 дукатов». В дальнейшем было отмечено, что прототипом лошади послужили античные статуи Диоскуров на римской площади Квиринале, что композиция картины восходит к идущим от Средневековья символическим представлениям попранной гордыни, олицетворенной в виде всадника, упавшего с коня, что вздыбленная белая лошадь символизирует триумф христианской церкви и что белый цвет может быть намеком на фамилию заказчика картины, болонского доктора Джованни Андреа Бьянки. Все это, однако, не слишком проясняет замысел Пармиджанино, скользя по нему необязательными замечаниями. Пармиджанино был, конечно, художником экстравагантным, но не бессмысленным: он прекрасно знал, что апостол Павел был основателем церкви и рождена она была именно в результате его озарения; что непозволительно Путь в Дамаск сводить к аллегории попранной гордыни, — озарение не наказание, а высший дар; и, что как бы ни был мил заказчик, сводить свое произведение, написанное на столь важный для христианства сюжет, к указанию на семантику его фамилии было бы не слишком удобно.
Белая лошадь притягивает к себе, и парадоксальным образом в памяти всплывает другая картина, написанная на два с половиной века позже, «Ночной кошмар» Иоганна Генриха Фюссли, с фигурой девушки, потерявшей сознание от
ужаса, с сидящим на груди ее уродцем и оскаленной мордой белой кобылы, ржущей над этой странной группой. Эта картина — буквальное воплощение смысла французского слова cauchemar, английского nightmare, «ночная кобыла», что означает страшное ночное видение. В «Соннике» Аполлодора говорится, что белая лошадь, приснившаяся больному, несет ему скорую смерть; белые лошади, проносящиеся в ночном небе, мелькают в английских, ирландских, французских и германских преданиях, сея разрушение; взвивается на дыбы белая лошадь в «Последнем дне Помпеи» Брюллова, она мечется в рушащемся от землетрясения древнем городе в «Сатириконе» Феллини.
«И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии.
Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я служитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества.
И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует».
Пармиджанино прекрасно знал Откровение Иоанна Богослова. О том же, что оно было написано позже Посланий Павла, он не задумывался. Не задумывался он и над тем, что идея Страшного суда играла в учении Павла гораздо меньшую роль, чем учение о Воскресении, так как «любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Поэтому и Путь в Дамаск в трактовке Пармиджанино предстал не как внутреннее озарение, а как внешнее апокалиптическое провидение. Выразительное, но поверхностное. И его Павел, увидев Белую лошадь, встал, привел в порядок свою искусно завитую бороду и отправился на католическое ток-шоу, выполняя свои функции покровителя телевидения.
Дориан I'рей XVI века
ТУ
1J 2003 году исполнилось пятьсот лет со дня рождения Франческо Маццолы, более известного под прозвищем Пармиджанино, присвоенным ему во второй половине XVI века. В истории искусства Пармиджанино занимает особое место, и уменьшительно-ласкательный суффикс придает его второму имени оттенок странной и неожиданной нежности, не слишком свойственной XVI веку. На русский язык это прозвище можно было бы перевести как «малыш из Пармы», «маленький пармезанец».
Главу, посвященную жизнеописанию Пармиджанино, Джорджо Вазари начинает пространным рассуждением: «Среди многих ломбардцев, одаренных изящной способностью к рисунку и некоей живостью духа в выдумках, а также особой манерой создавать в живописи прекрасные пейзажи, никому не уступает, вернее всех других превосходит Франческо Маццуоли из Пармы, щедро одаренный небом всеми свойствами, необходимыми для превосходного живописца: ибо, помимо того, что говорилось и о многих других, он придавал своим фигурам некую прелесть, сладость и нежность совсем особенные и только ему свойственные. По тому, как он писал головы, равным образом видно, что его манере подражали и ее придерживались бесчисленные живописцы за то, что он осветил свое искусство таким приятным изяществом, что творения его всегда будут цениться, а сам он будет почитаться всеми изучающими рисунок. О, если бы только Господь пожелал, чтобы он продолжал заниматься живописью,
а не увлекался мечтой заморозить ртуть, ради приобретения богатств больших, чем какими его наделила природа и небо! Ведь в таком случае он стал бы в живописи единственным и несравненным. Он же в поисках того, что найти никогда не мог, потерял время, опозорил свое искусство и погубил жизнь свою и славу».
Безжалостные слова Вазари рисуют образ блестяще одаренного художника, растратившего свой талант в безумной погоне за химерой, затем бесконечно повторяющийся в литературе Нового времени. Герои «Шагреневой кожи» Бальзака, «Портрета» Гоголя, «Творчества» Золя, «Красного цветка» Гаршина как будто предвосхищены и предопределены образом Пармиджанино. Два дошедших до нас автопортрета Пармиджанино служат документальной иллюстрацией к горестным сетованиям Вазари. На первом, раннем автопортрете, написанном художником в возрасте двадцати одного года (Художественно-исторический музей, Вена), Пармиджанино изобразил себя изнеженным юношей, разодетым в меха и бархат, ренессансным Нарциссом, гордым своим искусством и победительной красотой. На втором, созданном незадолго до смерти (Национальная галерея, Парма), перед зрителем предстает изможденный старик с всклокоченной головой, с потупленным и потухшим взором. Два образа воспринимаются как два полюса человеческой жизни, как олицетворение ее начала и конца. Трудно представить, что разделяет эти два автопортрета неправдоподобно короткий срок — всего каких-то шестнадцать лет. Шестнадцать лет напряженной, интенсивной жизни, насыщенной мечтами, надеждами, поисками, работой, трудностями, разочарованиями и отчаянием. Этих шестнадцати лет оказалось достаточно, чтобы превратить юного красавца, обласканного светом, в угрюмого мизантропа, мученика-изгоя. В автопортретах Пармиджанино скрыта притягательная магическая сила, они скрывают влекущую и страшную тайну, чем-то напоминая о пленительной декадентской истории Дориана Грея, рассказанной Оскаром Уайльдом.
Младший современник Леонардо, Микеланджело, Тициана и Рафаэля, великих художников Высокого Возрождения, Пармиджанино принадлежал к новому поколению, пришед-
128
шему им на смену. Его творчество связывается с развитием маньеризма, зародившегося в Италии около 1520 года и затем определившего характер европейского искусства на протяжении целого столетия. Среди историков культуры маньеризм до сих пор вызывает споры: одни видят в нем упадок, своего рода усталость искусства, другие подчеркивают новаторство маньеризма, считая, что этот стиль полон множества находок, подготовивших и предугадавших искусство Нового времени, в том числе и искусство XX века. Только одно не вызывает споров: середина XVI века в Италии — это эпоха грандиозного перелома в сознании, эпоха отказа от старых, традиционных ценностей и время поиска, иногда мучительного, новых форм и новых идей. Подчас этот поиск превращался в бесплодную погоню за миражами, подчас вел к саморазрушению и неустойчивости, к ослеплению блистательной виртуозностью, к интеллектуальной перегруженности; но в любых заблуждениях и излишествах этого стиля было трагическое своеобразие, делающее маньеризм странным и влекущим периодом в истории европейской культуры. Пармиджанино — один из самых своеобразных художников этого сложного времени, причем не просто хороший живописец, но выразительнейшая индивидуальность, великолепный персонаж итальянского чинквеченто, в жизни которого, как в магическом кристалле, отразилась бесконечная сложность эпохи.
Уроженец Пармы, города по понятиям начала чинквеченто провинциального, удаленного от магистрального движения искусств, Франческо Маццола был настоящим вундеркиндом, с детства удивлявшим и покорявшим окружающих своей незаурядностью. Ему все давалось легко. Талантливый, обаятельный, одаренный и внешне, и внутренне, он, казалось, проживет жизнь безоблачно и беззаботно. В возрасте двадцати одного года, оказавшись в Риме, Пармиджанино пленяет папский двор, и современники смотрят на него с надеждой, видя в нем реинкарнацию недавно умершего Рафаэля. В дальнейшем он отказывается от карьеры придворного живописца, все более и более отдаляясь от суеты «большого света». О его образе жизни начинают распространяться темные слухи, сплетничают о его занятиях черной магией и алхи¬
129
мией, о нарушении им своих обязательств перед заказчиками, и в конце концов Пармиджанино оказывается в тюрьме, откуда ему удается бежать с помощью преданных друзей. Через год он умирает, завещая похоронить себя совершенно обнаженным, с кипарисовым крестом в руках, скрещенных на груди. В год смерти ему было тридцать семь лет.
В рассказах Вазари и других современников о жизни Пармиджанино, дошедших до нас, легенды с трудом отделяются от правды. Быть может, желание добиться объективной истины в фактах, связанных с этим художником, не только бессмысленно, но и бесполезно. Как в его жизни, так и в его творчестве есть влекущая таинственность, нечто неуловимое, постоянно ускользающее, не поддающееся никакому искусствоведческому анализу. Со времен Вазари по отношению к его произведениям постоянно употребляются эпитеты вроде «сладостный», «нежный», «изящный», «элегантный». Действительно, Пармиджанино — творец некоего особого мира, полусна-полувидения, полного неземной красоты. Недаром в современном искусствоведении он получил прозвище «принц маньеризма». В его картинах царит меланхоличная атмосфера, сотканная из трепетных касаний неправдоподобно длинных пальцев, дремотных улыбок, преисполненных сладчайшей печали, взоров из-под полуопущенных век и сумеречного, переливчатого света, разлитого среди странной и влекущей тишины. В то же время в фантастических руинах и пейзажах Пармиджанино, населенных погруженными в грезы девами, ласковыми младенцами и величественными старцами, есть нервозная напряженность, какой-то внутренний надрыв, предвещающий скорую неизбежную трагедию. Двусмысленная таинственность притягивает к его произведениям, как магнит, — в роскоши сквозит стремление к аскезе, невинность преисполнена одурманивающим эротизмом, в безмятежном спокойствии угадывается внутреннее рыдание.
Искусство Пармиджанино тесно переплетено с образом прелестного вундеркинда, баловня судьбы, отказавшегося от всех земных благ и замкнувшегося в одиночестве отчаяния. Его имя стало мифом европейской культуры, и на протяжении пяти столетий этот миф непреодолимо влечет
130
к себе своей загадочностью. Пармиджанино всегда вызывал и восхищение, и осуждение, его образ менялся вместе с веками. Энергетика его искусства столь сильна, что делает его современным во все времена, вновь и вновь заставляя размышлять над странностью его характера, его судьбы и над пленительной магией его искусства.
Произведения ни одного другого итальянского художника XVI века, кроме Рафаэля, не повторяли столь часто в печатной графике, как композиции Пармиджанино. Несмотря на упреки в медлительности и недостаточном усердии к искусству живописи, оказывается, что Пармиджанино оставил множество рисунков, уступая первенство по их количеству в XVI веке только Леонардо. За ними охотились европейские коллекционеры уже при жизни художника. Гравюры и рисунки Пармиджанино разнесли его славу по всему континенту, и изобразительные мотивы, заимствованные из его произведений, бесконечно варьировались мастерами декоративно-прикладного искусства на протяжении столетий. Художники барокко и рококо видели в нем своего предтечу, вольно и невольно подражая ему в своем искусстве и в манере поведения, и любовь к Пармиджанино определила вкус целых поколений художников и ценителей искусства. История восприятия и интерпретации творчества Пармиджанино — это в какой-то степени история европейской культуры на протяжении пятисот лет ее развития.
Выставка «Пармиджанино в веках и в искусствах», устроенная в честь пятисотлетия со дня рождения художника, ставит своей целью не только показать то огромное влияние, какое его творчество оказало на искусство Европы, но и попытаться разглядеть вечно изменчивый образ художника, отраженный в потоке времени. Его романтическое обаяние обладает такой силой, что преодолевает неумолимый бег столетий, снова и снова заставляя возвращаться к странной загадке его жизни.
Франческо Маццола родился 11 января 1503 года в Парме, в семье местной знаменитости, художника Филиппо Маццола. О его отце, умершем через два года после рождения сына, известно очень мало. Судя по немногим дошедшим до нас произведениям, с большей или меньшей уверенностью ему
приписываемым, он был неплохим художником, типичным мастером позднего североитальянского кватроченто. После смерти отца опекунами Франческо стали его дяди по отцу, Пьер Илларио и Микеле Маццола, также художники, в их мастерской он и получил первые профессиональные навыки. Вазари рассказывает о необычайных способностях юного Франческо, о его безразличии к учению и постоянной тяге к рисованию, что похоже на банальные рассказы о юности любого одаренного художника. В случае с Пармиджанино, однако, кроме дежурных слов Вазари имеется документальное подтверждение его раннего развития как самостоятельного живописца. В Картинной галерее Берлина находится большая алтарная картина «Крещение Христа», датированная 1519 годом, т. е. временем, когда Пармиджанино исполнилось шестнадцать лет. Многое в этой композиции говорит о робости, в ней есть какая-то юношеская скованность, и, конечно, по сравнению с произведениями тосканской, римской и венецианской школ картина выглядит провинциально. Тем не менее в Парме начала XVI века она должна была произвести фурор, — по сравнению с «Крещением» алтарные образы обоих старших Маццола, образцы которых можно увидеть в Национальной галерее в Парме, представляются совершенно рутинными, почти примитивными. В раннем произведении Пармиджанино поразительным образом ощутимо понимание принципов миланских леонардесков с их стремлением к грациозной мягкости. Мягкость и нежность, которые, быть может еще несколько наивно, сумел придать Пармиджанино своим фигурам, на фоне сухой манеры Пьер Илларио и Микеле выглядели как какое-то необычайное новшество, Парме практически незнакомое.
Оба дяди, судя по той крайней заботливости, с какой они относились в дальнейшем к судьбе племянника, увидели в нем надежду семьи и всей пармской школы. Парма около 1500 года была довольно большим, но провинциальным городом. Величие Пармы осталось в прошлом, в X—XII веках, когда она была крупной гвельфской республикой, свободным городом, возглавлявшим Ломбардскую лигу в борьбе папы против императора. В это время и был воздвигнут величественный и сумрачный романский собор, господствующий
над городом. В 1346 году Парма утратила самостоятельность и перешла под власть миланских герцогов. В Парме не было ни двора, ни старой аристократии, ни больших денег, так как Милан зорко наблюдал за своей старой соперницей, выкачивая из города все избыточные силы и деньги, чтобы не позволить Парме возвыситься и вновь претендовать на свободу. Существование в городе в XV веке было относительно благополучным, однако лишенным блеска Феррары, Урбино, Перуджи и других небольших итальянских ренессансных городов с их кровавыми, но выразительными тираниями, чья история полна жестоких преступлений и блистательных празднеств, борьбы за власть и соперничества в изысканном меценатстве.
Художественная жизнь Пармы была столь же благообразна и ординарна, как ее повседневность, и определялась вкусами зажиточных горожан, о добродетели и благочестии заботившихся больше, чем об искусстве. Алтарные композиции старших Маццола идеально соответствовали подобным требованиям: их наивные, но ловко скомпонованные работы представляются отличными образцами цехового ремесла, а именно как ремесло понимало живопись в середине кватроченто большинство рядовых граждан. Творения болонца Франческо Франчи и венецианца Чимы да Конельяно, заезжавших в Парму в начале XVI века, казались образцами современного столичного искусства, хотя невинное и незатейливое обаяние их живописи в других итальянских центрах, даже в Милане, воспринималось как нечто устаревшее, вышедшее из моды.
На этом фоне «Крещение» молодого Франческо Пармиджанино показалось свидетельством зрелого мастерства, доказательством того, что совсем юный художник способен конкурировать не только со своими учителями, но и с приезжими знаменитостями. Пьер Илларио и Микеле не были подвержены черной зависти, напротив, они сделали ставку на талант племянника, стараясь всячески его оберегать и поощрять, с восхищением предвидя его большое будущее. В Парме к тому же произошли значительные перемены. В результате поражения миланских герцогов в войне с французами власть Милана закончилась. Парма переходила из
рук французов в руки папы, и спокойное благополучие было нарушено проходящими через город войсками. Заботливые дяди, опасаясь беспорядков, увозят молодого художника на некоторое время в Виадану, небольшой городок в окрестностях Пармы. Впрочем, перемена власти происходила довольно мирно, и Парма от нее только выиграла, став более самостоятельной, что привело к общему оживлению. В 1512 году, во время краткого установления папской власти, в городе был основан университет и началось строительство, несколько изменившее средневековый облик Пармы.
Около 1520 года сразу несколько пармских церквей решают модернизировать свои интерьеры, украсив их своды фресками в новом духе. В это же время в Парму приезжает Антонио Корреджо, уже ставший знаменитым, которому и поручается большая работа по росписи купола Сан Джованни Эванжелиста. Корреджо успел побывать в Риме, и его стиль, абсолютно индивидуальный и своеобразный, стал результатом знакомства с римской maniera grande, «большой манерой», с произведениями Рафаэля и Микеланджело, в начале XVI века, безусловно, определявшими магистральное направление итальянского искусства. По сравнению с Корреджо манера современных ему болонских, феррарских и даже миланских художников, которых знали в Парме, казалась безнадежно провинциальной. Вместе с некоторыми другими пармскими художниками Пармиджанино получает заказ на росписи в той же церкви и некоторое время работает с Корреджо бок о бок.
Появление в Парме Корреджо было подобно внезапно зажегшемуся свету в сумеречной комнате. Удивительно, сколь восприимчив оказался Пармиджанино к новым веяниям. Если во втором по времени дошедшем до нас его произведении, алтарном образе «Обручение св. Екатерины» (церковь Санта Мария, Барди), датируемом 1521 годом, еще ощутима робкая ученическая ремесленность, напоминающая кукольную прелесть провинциальных кватрочентистов, то фрески с изображениями святых на сводах Сан Джованни Эванжелиста, написанные несколько месяцев спустя, выполнены уже в принципиально ином стиле. Широкая живописная манера, равнодушие к мелким подробностям и деталям, глубокое по¬
нимание монументальной пластичности, подразумевающее изучение античного искусства, ставят Пармиджанино на уровень последних достижений римской школы. Его фрески обнаруживают не только знание Корреджо, но и знакомство с росписями Рафаэля и Микеланджело в Ватикане, с античной римской скульптурой, например со статуями Диоскуров. Как и каким образом? Видеть эти произведения Пармиджанино не мог, так как документально подтверждено, что в это время далеко от Пармы он не уезжал, и остается лишь гадать о том, как юный художник смог получить не просто знание, но глубокое понимание принципов нового искусства. Одно из предположений, весьма условное, но наиболее приемлемое, состоит в том, что Пармиджанино мог ознакомиться с образцами римского искусства по рисункам Корреджо, сделанным во время его пребывания в Вечном городе и привезенным им с собой.
Отношения Пармиджанино с Антонио Корреджо загадочны. Будучи на тринадцать лет старше, Корреджо к 1520 году, когда могло состояться их знакомство, уже имел установившуюся репутацию ведущего ломбардского живописца. В Парме он не имел соперников. Старшие Маццола, кстати, не получившие предложения участвовать в росписях, должны были относиться к Корреджо с восхищенным уважением, смешанным с некоторой неприязнью, так как все крупные пармские заказы теперь поручались в первую очередь ему. За его картинами охотились высокопоставленные аристократы всей Италии (он был известен далеко за пределами Пармы), и его возвращение привносило в провинциальный город дух интернациональной столичности. Корреджо знал, что происходит в Риме, Тоскане и Милане, был в курсе модных столичных новшеств, и опекуны Франческо не могли не сознавать, что общение с Корреджо может дать молодому художнику больше, чем их уроки. Очевидно, что, несмотря на ревность, они приложили все усилия к знакомству и сближению, о чем можно только догадываться, но характерна следующая деталь: в первом издании «Жизнеописаний...» Вазари называет Пармиджанино учеником Корреджо, но во втором убирает эти слова. Считается, что изменение произошло под влиянием встречи Вазари с Маццола Бедоли, хорошо знав¬
шим Пармиджанино и сообщившим факты, исключавшие подобное утверждение.
Действительно, судя по документам, оговаривающим условия работы над фресками в церкви Сан Джованни Эван- желиста и в Дуомо (следующий большой заказ, который затем был на долгое время отложен), юный Пармиджанино в этих договорах ни в коем случае не рассматривается как ученик или помощник, но как вполне самостоятельный мастер, хотя и числящийся на вторых ролях. Если учесть, что Пармиджанино к этому времени не исполнилось еще и двадцати лет, подобное партнерство для него было необычайно лестно. Влияние Корреджо на первые опыты Пармиджанино неоспоримо. Что-то Пармиджанино мог видеть, так как художники работали бок о бок, но без тесного общения столь глубокое понимание принципов нового искусства было бы невозможно. Никакая природная восприимчивость Пармиджанино не может стать объяснением той резкой перемены, что произошла с молодым художником: за несколько месяцев из выученика ремесленников позднего кватроченто он превратился в адепта новой манеры. При этом произведения Пармиджанино показывают знание росписей потолка Сикстинской капеллы, тогда еще не воспроизведенных в гравюре, и ватиканских росписей Рафаэля. Единственно возможный источник этих знаний — чьи-то рисунки, и тесное общение с Корреджо в данном случае — наиболее подходящее объяснение этого парадокса.
Если Корреджо демонстрировал свои римские рисунки Пармиджанино, то вполне естественно предположить их непосредственное и довольно близкое общение. Тем не менее вскоре после недолгого периода совместной работы в церкви Сан Джованни Пармиджанино уезжает сначала в Фонтанеллато, загородный замок в окрестностях Пармы, а затем в Рим. Из Рима он переезжает в Болонью, хотя в Парме остаются его ближайшие родственники. Пармиджанино при этом поддерживает тесную связь с родным городом, он в курсе всего, что делает Корреджо, о чем свидетельствуют его произведения, полные мотивов, перекликающихся с его работами, но личной встречи как будто избегает. Отсутствуя в общей сложности шесть лет, Пармиджанино возвращает¬
136
ся в Парму только в 1530 году, добившись известности и получив крупный заказ на исполнение росписей купола Санта Мария делла Стекката. Его явно соблазняла возможность создать произведение, которое позволило бы ему соперничать со славой Корреджо. Кроме упоминаний о совместной работе в Сан Джованни Эванжелиста, никаких других прямых свидетельств о личном общении художников не существует, но их постоянно сравнивают друг с другом, часто несколько навязчиво противопоставляя. Судя по всему, первая встреча с Корреджо произвела на Пармиджанино огромное впечатление, и в дальнейшем его судьба во многом определялась странной смесью притяжения и соперничества с этим художником, что заставляло Пармиджанино то подражать Корреджо, то бросать ему вызов.
Быть может, именно желанием избежать влияния Корреджо и утвердить свою независимость и объясняется отъезд Пармиджанино. Он только что исполнил престижные для молодого художника росписи в пармских церквах, но, отказавшись от других предложений, принял заказ графа Галеаццо Сан Витале на росписи в его удаленном от города поместье Фонтанеллато. Это поместье представляло собой уединенный средневековый замок, который Галеаццо решил несколько переделать в модном стиле allantica, и в частности превратить один из залов в комнату для купания, украсив потолок фресками на мифологические сюжеты. Исполнение росписей поручается молодому художнику, и двадцатилетний Пармиджанино создает один из удивительнейших памятников итальянского чинквеченто.
Фонтанеллато — короткий, но важный период в юности Пармиджанино. С одной стороны, о пребывании там художника нет никаких письменных свидетельств, с другой — росписи замка и многочисленные рисунки, с большой вероятностью датируемые именно этим временем, наполнены особым настроением, красноречиво говорящим о том, что не могут рассказать никакие документы. На рисунках, легких, нежных и прихотливых, изображены то мифологические сцены, то влюбленные пары среди пейзажей, то мечтательно задумавшиеся девушки. Фантастика переплетается с неожиданно острым для начала XVI века вниманием к деталям ре-
альной жизни, что делает их образцами совершенно нового жанра — жанра пасторали. Примером работ этого времени может служить рисунок «Любовная пара», гравюра с которого представлена на выставке. На двух рисунках этого времени можно различить набросанные рукой Пармиджанино строки из стихов Петрарки.
Сами росписи, представляющие миф о Диане и Актеоне, крайне необычны. История незадачливого охотника, подглядевшего купание богини, превращенного в наказание в оленя и растерзанного собственными собаками, представлена подсмотренной из сада, внутри которого находится зритель. Цветущие заросли из белых роз, вьющихся вокруг деревянных шпалер, оставляют нечто вроде просветов по бокам, сквозь которые видны сцены купания богини и гибели Ак- теона. Над просветами, расположенными в люнетах, двенадцать путти заняты шаловливыми играми с гирляндами плодов и цветов; выше, окаймленное венчиками цветов, синеет небо, а в самую середину потолка вмонтировано круглое зеркало. Реальность и искусство, современность и мифология переплетаются, накладываются друг на друга. Рождается фантастическое ощущение, что, находясь внутри этого розового боскета, зритель, как Актеон, подсматривает за купанием богини и за наказанием бедного охотника и, отражаясь в зеркале, он сам становится соучастником древней истории. Внизу своеобразным бордюром вокруг росписи располагается латинская надпись, оправдывающая Актеона и ставящая под сомнение справедливость гнева Дианы.
Странный вуайеризм этой росписи, оригинальная трактовка мифа Овидия, абсолютно новая, измышленная Пармиджанино, быть может, при помощи Галеаццо или кого-нибудь из его друзей, иконография — все это придает росписям какой-то особый пьянящий аромат, делает их таинственными и сказочными. Такими росписями должны были украшать свои затерянные в лесах дворцы волшебницы Ариосто, предлагая заблудившимся рыцарям наслаждение, чреватое забвением и смертью. Безусловно, на Пармиджанино во многом повлияла роспись Корреджо в Камера Сан Паоло, где на потолке в покоях аббатисы мастер изобразил редчайшие сюжеты из Овидия, однако произведение молодого худож¬
140
ника никак нельзя назвать подражательным. Творение Пармиджанино выдерживает сравнение и с фреской Корреджо, и с рафаэлевской росписью виллы Фарнезина, и с люнетом Понтормо в Поджо-а-Кайано, с этими величайшими памятниками, воплощающими приход «золотого века» античности в сады и виллы зрелого Ренессанса.
Без сомнения, работу в Фонтанеллато Пармиджанино воспринимал как вызов Корреджо, как tour deforce. Идиллия в Фонтанеллато, уединение и роскошь, восхищение просвещенных покровителей, стихи Петрарки и античных поэтов, лютневая музыка, юность и нежность, окружавшие его в этом зачарованном месте, — все это было своего рода отдыхом после первых успехов в Парме. И сам Пармиджанино, и его опекуны решают, что теперь ему надлежит выйти в большой, открытый мир.
Примерно ко времени работы над фресками в Фонтанеллато относится юношеский автопортрет Пармиджанино, так называемый «Автопортрет в круглом зеркале» (Художественно-исторический музей, Вена). Среди автопортретов художников всех времен и народов это произведение уникально. Дело даже не в том, что Пармиджанино сознательно нарушает пропорции, пользуясь эффектом отражения в выпуклом зеркале для построения особой, сферической перспективы, придающей изображению ирреальную таинственность, предвосхищая неожиданные метаморфозы пространства, столь полюбившиеся интернациональному маньеризму. Не эти изощренные фокусы, не ангелоподобная внешность юноши, не его небрежный и изысканный наряд ренессансного денди делают это крошечное произведение столь притягательным и столь влекущим. Необъяснимой магией обладает взгляд Пармиджанино, устремленный прямо на зрителя и в то же время проходящий сквозь него, куда-то вглубь, взгляд Нарцисса, ожидающего трагической смерти, взгляд, погруженный в таинственный источник, в котором сквозь блистательный образ юного щеголя художник видит еще что-то, скрытое от зрителя, с трудом им угадываемое, но уже хорошо известное этому восхитительному мальчику, баловню судьбы, обожаемому всеми — и современниками, и потомками.
Этот автопортрет вместе с двумя другими небольшими произведениями («Обрезание» — Институт искусств, Детройт, и «Св. Семейство» — Прадо, Мадрид) Пармиджанино берет с собой в Рим в качестве образцов своего мастерства. Туда он решает отправиться по совету опекунов и, наверное, не без благословения своих просвещенных покровителей вроде Галеаццо Сан Витале, поняв, что в Парме ему делать нечего и что в Риме его ждет блестящая карьера и большое искусство. В Парме царит Корреджо, ставший знаменитостью благодаря приобретенному в Риме опыту. Пармиджанино, молодому, пленительному, талантливому, образованному, место именно в Риме, в этом центре мира, а не в провинциальной Парме, где его существование должно определяться соперничеством с Корреджо.
Рим есть, был и будет центром мира. Все дороги ведут в Рим, и теперь, в начале двадцатых годов чинквеченто, уже не только благочестивых католиков, но и любителей искусств со всех концов просвещенной Европы. Благодаря древнеримской архитектуре, коллекциям античности и произведениям современных художников, в первую очередь Рафаэля и Микеланджело, Рим становится в начале XVI века центром культурного паломничества. Современность при этом играет очень важную роль: именно в Риме изобразительные искусства, живопись и скульптура в первую очередь, стали представлять ценность сами по себе, независимо от их функции. Именно в начале XVI века происходит важный перелом в сознании: теперь посетителей Сикстинской капеллы тот факт, что она расписана знаменитыми фресками Микеланджело, привлекает не меньше, чем то, что эта капелла — священное место для каждого католика. Нигде звание художника не имеет столь высокого статуса, как в Риме, и именно римские работы принесли Рафаэлю и Микеланджело эпитет «божественный» — ранее немыслимый ни для какого, пусть даже и самого знаменитого художника. В Риме кипит художественная жизнь, не ограниченная никакими цеховыми рамками, в Риме устанавливаются репутации. Знание произведений, хранящихся в Риме, и римский успех — гарантия признания при дворе любого итальянского, а значит, и европейского властителя. Словом, Рим — мечта каждого художника.
Пармиджанино прибывает в Рим в 1524 году. На папском престоле восседает Климент VII, принадлежащий к семье Медичи. Он недавно сменил папу Адриана VI, благочестивого фламандца, чье короткое правление вызвало раздражение у большинства римлян. Адриана возмущали римские нравы, поклонение языческим статуям, росписи, полные обнаженных тел, распущенность кардиналов и всевластие итальянской красоты. После Юлия II и Льва X римлянам фламандец казался тупым обскурантом, и Рим облегченно вздохнул с его смертью, — Адриан собирался сбить фрески Микеланджело с потолка Сикстинской капеллы. Никто из Медичи такого себе бы не позволил. Климент никакого сравнения со Львом X не выдерживал, но был намного лучше Адриана, и с его восшествием на престол снова наметилось некоторое оживление римской жизни.
Нет сомнений, что прибытие в Рим для Пармиджанино было желанным и волнующим событием. К сожалению, мы не имеем ни малейшего представления, где и как устроился Пармиджанино и сопровождавший его Пьер Илларио. Была ли это гостиница, или дом знакомых, или даже, быть может, дворец какого-нибудь покровителя, которому молодого художника мог рекомендовать Галеаццо Сан Витале, имевший, конечно же, связи при папском дворе? То немногое, что известно, — однако весьма красноречиво: юный Пармиджанино тотчас после прибытия в Вечный город был принят папой. Климент отнесся к нему крайне благосклонно и пообещал весьма престижный заказ — роспись Зала пап-первосвящен- ников в Ватиканском дворце.
Излишне говорить, что попасть на прием к самому папе в Риме, полном художниками, готовыми буквально перегрызть друг другу глотки за крупный заказ, было весьма непросто. Легкость, с какой Пармиджанино добивается папской аудиенции, свидетельствует о том, что он был снабжен какими-то рекомендациями, облегчившими ему первые шаги на римской художественной сцене и обеспечившими определенные гарантии, чтобы не чувствовать себя в новом, незнакомом городе одиноким и потерянным. Вазари упоминает, что представил Пармиджанино Клименту папский до- тарий, т. е. не кто иной, как Джан Маттео Гиберти, близкий
143
к Ватикану человек, славившийся своей просвещенной эрудицией. Как Пармиджанино заполучил эту протекцию, неизвестно, и больше никаких прямых свидетельств о начале римской карьеры Пармиджанино нет.
Успех у папы значил очень много, но, впрочем, римское величие и римское великолепие Юлия и Льва было уже позади. Рафаэль умер, Микеланджело избегал римского двора, уехав во Флоренцию, да и у нового папы была масса проблем: французский король и германский император постоянно претендовали на господство в Италии, обстановка в Европе крайне трудна и запутанна, Север не хочет платить Риму, в Германии распространяется ересь, денег нет, венецианцы интригуют, и Рим, еще недавно бывший главной политической силой на полуострове, ощущает общую усталость. Со всех сторон звучит все более громкая критика папского престола и папского двора, вызывающего ненависть своей пышностью. Сравнения с Вавилоном, проклятым языческим городом, уподобление папской власти бесстыдной блуднице, обвинения в развращенности, беспутстве и продажности сыплются на Рим, и папе все серьезнее приходится с ними считаться. Юлий и Лев не обращали никакого внимания на такие пустяки, их боялись, и они были свободны в своих замыслах и своих тратах. Клименту во всем надо было соблюдать осторожность, и никаких крупных заказов от него ждать не приходилось.
Рафаэль и Микеланджело определили римскую gran maniera, сочетающую грандиозность с величественностью, глубину с эрудированностью, виртуозность с уравновешенностью. Они своими гениальными произведениями утвердили римский стиль, тот стиль, что мы зовем Высоким Возрождением, подразумевая под этим то удивительное слияние духа древнего императорского Рима с могуществом католицизма, что произошло в первые двадцать лет XVI века. Этот стиль — не только «Афинская школа» и Сикстинская капелла, это особый стиль всей римской жизни, упоенной своим величием, считающей Рим центром христианского мира, которому позволено все, даже преклонение перед языческой красотой.
Богатства Рима неимоверны. Церкви и соборы сияют драгоценной утварью, священники облачены в ризы, усеянные
144
драгоценными каменьями, церквам не уступают дворцы и виллы кардиналов, а священнослужителям — римские патрицианки. Везде царит роскошь, тяжеловесная, медлительная, переизбыточная и перезрелая. Римляне обожают драгоценные камни, но не варварские самоцветы, а резные геммы и камеи, ибо ценность работы еще и увеличивает ценность камня. Золотые и серебряные вещи должны привлекать внимание не только весом, но и изощренностью исполнения. Римская знать любит тяжелые, огромные ковры, украшающие стены парадных залов, специально заказываемые фламандским ткачам по рисункам известных мастеров. Даже фрески подражают коврам, и интерьеры зданий сплошь покрываются пестрыми и несколько блеклыми декорациями, подражающими плетению шелковых нитей и не оставляющими ни малейшего пустого места. В моду вошли пышные бордюры, и в залах, предназначенных для пиров, огромные гирлянды из цветов и фруктов, изображенные художниками, вторят пышным выдумкам устроителей дворцовых празднеств. Сотворенная кистью живописцев иллюзия сплетается с реальностью. Гирлянды поддерживаются обнаженными юношами и девушками несказанной красоты, — Рим полон наготы, красоты и томительного, одурманивающего сладострастия. Могущественные кардиналы коллекционируют античные статуи с той же пылкостью, что юных пажей и знаменитых куртизанок, во дворцах и садах разлито благоуханное изобилие, пряное, возбуждающее, пьянящее. Таков римский стиль накануне 1520 года, стиль правления Льва X, наиболее ярко выразившийся в рафаэлевских росписях виллы Фарнезина.
После 1520 года все как будто мельчает. Отъезд Микеланджело и смерть Рафаэля лишают римский стиль глубины, свойственной Высокому Возрождению. В Риме художественную моду определяют ученики Рафаэля во главе с Джулио Романо: Полидоро да Караваджо, Джованни да Удине, Перино дель Вага, Лука Пенни, — те, кого Себастьяно дель Пьомбо, близкий Микеланджело, презрительно и несколько завистливо назвал «бандой Рафаэля». В их руках все основные заказы, и они определяют вкус при Клименте VII. Эти молодые мастера талантливы и креативны, они многому научились у Рафаэля и Микеланджело и с блеском продолжают развитие
145
стиля. Они прекрасно знают античность, их работы безупречно декоративны, в них бездна фантазии и остроумия. Продолжать, тем не менее, — еще не значит соответствовать.
Рим во время владычества Климента VII как будто устал, и общая усталость в начале двадцатых годов определяет атмосферу Великого города, в котором кипела столь бурная жизнь, что после нее естественно наступает апатия. Грандиозность граничит с гигантизмом, величественность — с претенциозностью, интеллектуализм — с перегруженностью, виртуозность — с поверхностностью. Достаточно сравнить «Станцы» Рафаэля с фресками Зала Константина в Ватикане, выполненными учениками Рафаэля во главе с Джулио Романо по эскизам великого мастера, но уже после его смерти, чтобы ощутить эту разницу. Блестяще решенные многофигурные композиции столь техничны, столь переусложнены, что производят впечатление какого-то крайне эффектного трюка, предвосхищая панорамы битв, модные в XIX столетии. Во фресках Джулио и мастеров его окружения есть все: масштабность, виртуозность, ученость, красота и изобретательность в каждой фигуре, в каждой позе, но в них ощутима несколько надуманная механистичность. Римское Высокое Возрождение заканчивается, переходя в римский маньеризм. Грань между этими двумя периодами почти неуловима, но чрезвычайно существенна, — классика превращается в классицизм, maniera grande становится несколько манерной, великий миф «золотого века» Юлия и Льва исчезает, и наступает реальность XVI столетия, столь же противоречивая, как и искусство маньеризма.
О трех годах пребывания Пармиджанино в Риме известно немногое. Кроме краткого, но выразительного рассказа Вазари о его первом успехе мы знаем только, что крупных заказов на фрески он так и не получил, но добился определенной известности небольшими произведениями. Их охотно приобретали римские коллекционеры. Единственной большой алтарной картиной, написанной им в Риме, стало «Видение св. Иеронима» (Национальная галерея, Лондон). Этот заказ Пармиджанино получил уже в самом конце своего пребывания в Риме, и с этой картиной связана особая история. Можно, однако, представить, какое огромное впечатление на
146
него произвел Вечный город. Быть может, Пармиджанино и не стремился конкурировать с «бандой Рафаэля» в борьбе за официальные заказы. Это было опасно, да и отвлекло бы от возможности впитывать изобилие впечатлений, обрушившихся на молодого художника, осознавшего, сколь многому ему еще надо научиться после провинциальной Пармы. Ведь, несмотря на весь апломб, столь очевидный в «Автопортрете в круглом зеркале», Пармиджанино был наделен тончайшей восприимчивостью ко всему новому и чужому.
Три года в Риме — это три года учения, хотя и не в том смысле, в каком учение понималось в ренессансных мастерских, не изучение приемов и опыта, но становление, т. е. учение как «призвание», — позже оно будет сформулировано Гете в его романе «Театральное призвание Вильгельма Мей- стера». Поэтому нельзя считать справедливым довольно распространенное мнение, что в Риме Пармиджанино постигла неудача и что карьеры при папском дворе он так и не сделал. То немногое, что косвенно известно о его римских знакомствах, и то, о чем мы только можем догадываться, свидетельствует о творческой жизни необычайной интенсивности. Судя по всему, он был на короткой ноге с влиятельной «бандой Рафаэля». Единственное дошедшее до нас его собственноручное письмо обращено к Джулио Романо, и, хотя оно датировано более поздним временем, нет сомнений, что в Риме они были знакомы. Скорее всего, он лично знал Перино дель Вага. С гравером и ювелиром Джакомо Каральо он тесно сотрудничал и благодаря ему был знаком с ювелирами, в том числе, вполне возможно, и с Бенвенуто Челлини. Модного среди римских аристократов ювелира Валерио Белли Пармиджанино знал лично, и тот некоторое время владел его маленьким «Автопортретом в круглом зеркале». Почти нет сомнений, что он общался и с Уго да Карпи, экстравагантным дворянином, настаивавшим на том, что технику кьяроскуро, т. е. технику цветной печати с нескольких деревянных досок, изобрел именно он. Вероятно также, что Пармиджанино встречался и с Маркантонио Раймонди, от которого и узнал о только что появившейся технике офорта. Очевидно, что с первых же дней своего пребывания в Риме Пармиджанино как-то умудрился наладить очень
важные связи в римском художественном мире, что было совсем не просто.
В это же время Пармиджанино сводит знакомство с Пьетро Аретино. Аретино — фигура в Италии XVI века более чем одиозная. Венецианец по происхождению, профессиональный литератор, Пьетро Аретино первым сделал литературу источником влияния и дохода: он как никто другой умел льстить сильным мира сего, но он же мог и беззастенчиво их шантажировать в том случае, если кто-то вызывал его неудовольствие. Его роль в общественной жизни можно сравнить с ролью современных массмедиа: его ненавидели, его боялись, но считали, что быть замеченным им — престижно, а поэтому — необходимо. Он был личным другом двух непримиримых врагов — и папы, и императора Карла V. Он обладал большим талантом, расходуя его на панегирики и инвективы, никакого таланта не требующие. Аретино был продажен, корыстолюбив и сладострастен, он обожал роскошь и искусство воспринимал как вид роскоши. Его комедии и новеллы, что он писал помимо ученых рассуждений и язвительных пасквилей, представляют образец блестящей порнографии, предвосхищающей творения маркиза де Сада. Его дом — всегда место сбора самых влиятельных людей, его внимание — пропуск в высший свет. Общение с этим литературным монстром — прямое свидетельство того, что Пармиджанино таким пропуском обладал.
В книге «Жизнь Бенвенуто Челлини, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, написанная им самим во Флоренции» есть выразительное описание совместного вечера, устроенного римскими художниками, на который все они явились со своими спутницами, известными куртизанками. Бенвенуто взял с собой шестнадцатилетнего юношу, служившего ему натурщиком, одев его в великолепные уборы, золотые ожерелья и дорогие камни и выдав за свою «галку», как называли художники своих подруг. «За женщинами в виде шпалер было плетенье из живых и красивейших жасминов, каковое создавало такой красивый фон для этих женщин, особенно для моей, что было невозможно сказать это словами. Так каждый из нас с великой охотой приступил к этому ужину, каковой был изобилен удивительно. Когда мы
148
поужинали, последовало немного голосовой музыки вместе с инструментами; и так как пели и играли по нотам, то мое прекрасное создание попросило, чтобы спеть свою партию; и так как музыку он исполнял едва ли не лучше, чем все остальные, то вызвал такое удивление...» — и так далее. Биографическая зарисовка Бенвенуто — это яркая зарисовка образа жизни тех, кто составлял круг общения Пармиджанино и определял дух Рима.
Либертинаж никоим образом не противоречил абсолютному благочестию, определявшему мысли и поступки римского общества. Как римские красавицы, использовавшие имена античных богинь и героинь для превращения их в свои профессиональные клички — Пентисилея, Помона, Ас- пазия, Тайс, после бурных ночей шли замаливать грехи и ставить свечи перед образом Пречистой Девы, которую они почитали без малейших сомнений, так и художники, избирая служительниц порока или своих юных натурщиков для моделей святых и мучениц, нисколько не смущались подобной перверсией, так как истовое поклонение красоте было неразрывно связано с истовой верой. Чувственность и религиозность определяли «католический классицизм» двадцатых годов XVI века, и это поразительное сплетение неизбежно вело к мистицизму, острому интересу ко всему потустороннему, загадочному, необъяснимому.
В той же автобиографии Челлини есть другая поразительная сцена. Бенвенуто рассказывает, как, договорившись с одним чернокнижником, он ночью идет в Колизей вызывать дьявола, подробно, грубо и смачно описывая всю церемонию встречи с потусторонними силами. Впечатляет, что все описание подано как яркая бытовая зарисовка, и ни у автора, ни у читателя нет сомнений, что встреча с духами произошла, что они все время находятся рядом и что если будет желание, то эту встречу можно повторять хоть каждый день. Бенвенуто при этом отнюдь не был замечен в какой-либо особой склонности к оккультизму, он постоянно как профессионал имел дело с материей и материалами, отлично знал все тонкости своего искусства и был пытливым наблюдателем, прекрасно знающим все о физических свойствах огня и металла. В то же время он искренне верил в привидевшуюся ему в от¬
149
рочестве саламандру и точно знал, что она живет в огне, так же как сильфида — в воздухе, ундина — в воде и кобольд — в земле. Религиозность, эротика и мистицизм, умноженные на латинскую ученость и страстное восхищение античностью, определяли интеллектуальный фон Рима Климента VII, пропитывали атмосферу салона Аретино, составляли круг тем, обсуждаемых во дворцах кардиналов и на пирушках художников. Именно на этом фоне и сформировался Пармиджанино как художник во время своего римского периода, и именно дух римского интеллектуализма наложил в дальнейшем неизгладимый отпечаток на его интересы и вкусы.
Никаких крупных работ за это время молодой художник так и не создал, выполняя в основном небольшие картины и портреты для аристократических заказчиков. Папа так и не заказал Пармиджанино росписи в Ватиканском дворце, больших алтарных картин для римских церквей он не написал, и обычно в литературе, посвященной римскому периоду Пармиджанино, отмечается, что надежд он подавал больше, чем реализовывал. Его слава не выходила за пределы довольно узкого круга почитателей, восхищавшихся изысканной тонкостью его камерных композиций с изображениями Мадонн, таких как «Мадонна с Младенцем» (Институт Курто, Лондон), «Поклонение пастухов» и «Мадонна с книгой» (Галерея Дориа, Рим), «Обручение св. Екатерины» (Национальная галерея, Лондон). Это объясняется сразу несколькими причинами: время крупных заказов прошло; все, что могло быть заказано, уже было поделено «бандой Рафаэля»; нежеланием Пармиджанино ввязываться в неизбежные при большой деятельности интриги; его собственной неуверенностью в том, что он может составить конкуренцию маститым римским знаменитостям.
Впрочем, то, что Пармиджанино в Риме завоевывает славу в первую очередь именно небольшими произведениями, предназначенными не для церковных алтарей, где их могла видеть самая широкая публика, а для дворцовых галерей, доступ куда был ограничен, характеризует его как художника новой формации, работающего уже не только на конкретного заказчика, а на то, что мы сейчас называем художественным рынком.
150
Тем не менее очевидно, что Пармиджанино не довольствовался положением живописца, «широко известного в узких кругах», обслуживающего салонные прихоти римской знати. Он претендовал на большее и был полон грандиозных замыслов, вполне сопоставимых со временем Юлия II и Льва X. Об этом свидетельствуют несколько дошедших до нас рисунков этого периода. Они явно предназначались не для замкнутого пространства, но для алтарей и фресок, и, судя по их отточенной законченности, это были не наброски, а детальные разработки больших проектов, созданные для определенных заказчиков. К ним относятся такие произведения, как рисунок «Мученичество св. Павла и св. Петр, ведомый на казнь» (Британский музей, Лондон), который, как предполагается, и был создан для неосуществленной фрески в Ватиканском дворце, и «Обручение Девы Марии» (собрание лорда Девонширского, Чатсворт), являющийся не чем иным, как продуманным в деталях рисунком для презентации большого алтарного образа, по каким-то причинам так и оставшимся ненаписанным.
Такого рода нереализованные замыслы можно было бы воспринять как неудачу в карьере художника, если бы не одно но: оба эти рисунка тут же, не позднее 1526 года, были воспроизведены в резцовых гравюрах Джакомо Каральо и разошлись по Риму в сотнях экземпляров. Если учесть, что воспроизведение гравером замысла художника было для Рима относительным новшеством, введенным в практику Рафаэлем и его ближайшими учениками, в первую очередь Марк- антонио Раймонди, то тот факт, что подобной чести удостоился совсем молодой художник, только что появившийся на римском горизонте, свидетельствует о его растущей славе. К тому же Каральо, уже известный при папском дворе гравер, причем не только гравер, но и ювелир, прекрасно чувствовал конъюнктуру и понимал, кто из художников может представлять интерес на рынке, так что его обращение к рисункам Пармиджанино было весьма значимо для карьеры молодого художника. До Пармиджанино Каральо успешно работал с такими модными знаменитостями, как Россо, который еще до приезда в Рим завоевал определенное имя во Флоренции, и с Перино дель Вага, талантливейшим учеником Рафаэля.
151
Тиражи гравюр по рисункам Пармиджанино ставят художника в один ряд с этими, уже хорошо известными в Риме мастерами, и Пармиджанино явно воспринимается как восходящая звезда. Неосуществленные проекты, скорее, досадная случайность, чем неудача.
В Риме Каральо создает несколько гравюр по работам Пармиджанино, в том числе и замечательное «Поклонение пастухов» по рисунку из Музея в Веймаре. Гравюры завоевывают широкую популярность не только в Вечном городе, но и за его пределами, и, несмотря на то что Пармиджанино не создает крупных произведений, он приобретает определенное имя в первую очередь благодаря сотрудничеству с граверами, среди которых Каральо не был единственным его партнером.
Расцвет искусства гравюры в Риме падает именно на десятые — начало двадцатых годов XVI века, и связан он в первую очередь с приездом болонца Маркантонио Раймонди и его сотрудничеством с Рафаэлем. До него граверов в Риме было немного, и гравюра была сравнительным новшеством, довольно быстро завоевавшим обширный рынок, — воспроизведения шедевров Рафаэля, знаменитой римской архитектуры, античной скульптуры находили спрос среди приезжей публики. Печатные мастерские процветали. Это послужило приманкой для новых граверов, оценивших возможности римского рынка, и совпало с всеобщим итальянским увлечением северной гравюрой — Шонгауэром, Дюрером и Лукой Лейденским, чьи произведения находили почитателей как среди крупных художников Флоренции и Рима, так и среди коллекционеров.
Германия, родина европейской гравюры и книгопечатания, опережала Италию, и на Севере несколько раньше были открыты новые экспериментальные техники, такие как офорт и цветная ксилография, т. е. печать разными цветами с нескольких деревянных досок. Однако, видя растущую популярность гравюры, итальянцы оказались восприимчивыми к новшествам, и обе техники тут же были апробированы в Риме. Маркантонио Раймонди уже в конце десятых годов создает первые опыты в технике офорта, а Уго да Кар- пи даже добивается получения патента на изобретение цвет¬
ной ксилографии, по-итальянски называемой техникой кья- роскуро, «темное светлое», быстро распространившейся на полуострове. В начале двадцатых годов, ко времени приезда Пармиджанино в Рим, и кьяроскуро, и офорт были экстравагантным новшеством, и примечательно, что юный провинциал сразу же обратил на них внимание. Римским периодом можно датировать первые офорты Пармиджанино, и в Риме по его рисунку создано самое знаменитое итальянское кьяроскуро XVI века — «Диоген» Уго да Карпи.
Недавно вошедшие в обиход техники привлекали Пармиджанино не только возможностью добиться широкой известности с помощью репродуцирования, но и новыми стилистическими возможностями. Если классическая резцовая гравюра требовала точности и четкости, ясной уравновешенности и расчета почти ремесленного, то офорт и кьяроскуро позволяли большую свободу, они соответствовали современному римскому вкусу, построенному на прихотливом изяществе, что отмечало переход от классичности Высокого Возрождения к маньеристичной подвижной грации, к нервозной изысканности, отличающей стиль времени кли- ментинского Рима от Рима Юлия II и Льва X. Чтобы понять разницу, достаточно сравнить фреску «Давид и Голиаф» Рафаэля из цикла в Лоджиях и кьяроскуро Уго да Карпи с нее. Героическая композиция Рафаэля наполняется мерцанием, и ее строгое построение превращается в подобие призрачного балета, таинственного и грациозного, как мистерия. Рисунок Пармиджанино, воспроизводящий фреску Рафаэля, стилистически близок к Уго да Карпи, и считается, что он воспроизводит гравюру. Вполне возможно, однако, предположение, что не гравюра Уго да Карпи послужила образцом для Пармиджанино, но, наоборот, свободная интерпретация Рафаэля, выполненная художником, который много копировал рафаэлевские работы, легла в основу кьяроскуро и Уго да Карпи резал доску по рисунку Пармиджанино. Это один из многочисленных примеров сотрудничества обоих мастеров, и за достаточно короткое время своего пребывания в Риме Пармиджанино создал несколько десятков рисунков, тут же переведенных на доски и отпечатанных весьма внушительными тиражами.
Кроме Уго да Карпи с рисунками Пармиджанино работали и другие резчики, в первую очередь Антонио да Тренто и Николо Вичентино. В отличие от Уго да Карпи, о них мы знаем сейчас очень мало, но очевидно, что в начале двадцатых годов они находились в Риме и именно там появились их первые работы, сделанные в основном по рисункам Пармиджанино. В Риме работают сразу несколько печатных мастерских. То, что в городе всегда много приезжих, обеспечивает гравюрам рынок сбыта, и поэтому граверы съезжаются сюда со всех концов Италии: Уго да Карпи приезжает в Рим из Венеции, Антонио да Тренто — из Тревизо, Вичентино — из Виченцы. Из Рима по всей Италии распространяется мода на кьяроскуро, это необычное искусство, построенное на контрасте света и тени, на прихотливых градациях одного тона, искусство, очень близкое к искусству рисунка, понимаемого совершенно по-новому, как беглый, спонтанный набросок, безразличный к отделке деталей, но в первую очередь ценящий общий эффект. Любовь к кьяроскуро — это совершенно новая эстетика, своего рода импрессионизм XVI века, и Пармиджанино стоит у истоков этого нового вкуса.
Особенно примечательны первые опыты работы в технике офорта, предпринятые Пармиджанино в Риме. Офорт был еще более авангардным, чем кьяроскуро. Если резцовая гравюра, так же как и деревянная доска, полностью контролируется резчиком, то в технике травления всегда содержится некоторая доля случайности, когда окончательный результат неожиданен для самого художника, так как полностью предугадать, что родится из взаимодействия металла и кислоты, невозможно. В офорте есть нечто родственное алхимии, этой привлекательной науки, имевшей множество поклонников в Риме Климента VII. Преображение материи, переход ее из одного состояния в другое заворожили Пармиджанино, испытывавшего непреодолимое влечение ко всему таинственному, магическому, выходящему за пределы, ограниченные рамками постижимого. Создание офорта при этом не требует того физического напряжения, что необходимо при создании доски для резцовой гравюры, и он ближе к непосредственности зарисовки, передающей внутреннюю инвенцию художника.
154
В это время в Риме и Тоскане формируется новая концепция творчества, затем в зрелом маньеризме оформившаяся в трактатах Цуккари и Ломаццо в теорию «рисунка внешнего» и «рисунка внутреннего» (disegno externo и disegno interne). Под внешним рисунком понималось постоянное рисование с натуры, овладение всеми техническими приемами передачи видимой реальности, в то время как под рисунком внутренним подразумевался тот замысел, что возникает в сознании художника, некий образ, смутное видение, плод воображения. Рисунок внешний, техническое умение — это лишь инструмент, рука, способная воплотить рисунок внутренний в конкретном произведении. В творческой иерархии он занимает, безусловно, низшее место, хотя без рисунка внешнего, без выучки создание произведения искусства невозможно. Кьяроскуро и офорт, новые техники, были своего рода манифестацией внутренней свободы художника, приоритета disegno interno. Пармиджанино, в большей степени, чем все его современники, восприимчивый к новым веяниям, оказался в авангарде и практики, и теории маньеризма. Во время своего пребывания в Риме он в какой-то степени был «бумажным художником», в том смысле, в каком сейчас этот термин используется по отношению к «бумажным архитекторам», для которых замысел важнее воплощения. Указания Вазари на то, что все «говорили, дух Рафаэля вселился в тело Франческо», ясно свидетельствуют о надеждах, возлагаемых на Пармиджанино не только потому, что он пристально изучал произведения «божественного» урбинца, «старался во всем ему подражать», как это формулирует Вазари, но и потому, что он был способен к интерпретации его творчества. По меркам Рима XVI века, сравнение с Рафаэлем — высшая похвала для художника, и странно было бы ее заслужить только небольшими, известными немногим картинами и многочисленными копиями с рафаэлевских оригиналов, которые делали все приезжавшие в Рим художники.
Благодаря своей известности Пармиджанино все же получил важный заказ на большую алтарную картину капеллы в Сан Сальваторе ин Лауро, «Мадонна со свв. Иоанном Крестителем и Иеронимом» (Национальная галерея, Лондон), но «завершить эту работу ему помешали разгром и ограбление
Рима в 1527 году, что стало причиной не только тому, что на некоторое время искусства были заброшены, но также и тому, что у многих художников отнята была жизнь, и чуть не лишился ее и Франческо, ибо, когда начался разгром, он так был поглощен работой, что, когда солдаты ломились в дома и несколько немцев было уже в его доме, он, несмотря на производимый ими шум, не отрывался от работы. Когда же они ворвались и увидели, как он работает, они были так поражены его творением, что повели себя как люди благородные, какими им и полагалось быть, и оставили его в покое. Итак, в то время как нечестивейшей жестокостью этих варварских народов разрушался и несчастный город, и творения светские наравне со священными, без почтения ни к Богу, ни к людям, те же самые немцы его охраняли и весьма уважали и защищали от всякой обиды. Одной лишь докукой для него было тогда лишь то, что один из них оказался большим любителем живописных произведений и пришлось делать ему бесконечное количество рисунков пером и акварелью, которыми он как бы расплачивался».
Современные исследователи скептически относятся к красочному рассказу Вазари, замечая его сходство с многочисленными, известными со времен античности, историями о мудрецах и художниках, занимающихся своим делом посреди всеобщего разгрома. Впрочем, факт остается фактом, в 1527 году папский Рим подвергся разграблению войсками императора Карла V, состоявшими преимущественно из немецких наемников-ландскнехтов, и римское цветение закончилось. Многие художники спаслись бегством, «банда Рафаэля» рассеялась по всей Италии, и знаменитый Маркантонио Раймонди бежал в Болонью, где прозябал в нищете и забвении, вынужденный продавать свои гравированные доски и рисунки за бесценок. Пармиджанино же Sacco di Roma, как было названо это событие, потрясшее всю Италию, практически не коснулось. Видимо, он нашел покровителей среди окружения императора, что в дальнейшем обеспечило ему заказ на портрет Карла V, и его отъезд из Рима не похож на поспешное бегство.
Sacco di Roma заканчивает целый период итальянской истории и отмечает окончательный переход от Высокого
156
Возрождения к маньеризму. В жизни Пармиджанино это событие тоже играет огромную роль. Он непосредственно сталкивается с войной и жестокостью и становится свидетелем страшных событий, до сих пор обходивших его стороной. Вместе с Sacco di Roma заканчивается и римский период благополучной юности, опекаемой дядьями и покровителями, период изучения и поисков, освященный надеждами и чувством собственной юношеской избранности. Поняв, что в Риме в ближайшее время не будет никаких заказов, да и вообще в городе находиться небезопасно, Пармиджанино едет в Болонью, отсылая Пьер Илларио, своего опекуна, на родину, в Парму. Начинается период творческой зрелости.
Болонья по сравнению с разграбленным Римом производила впечатление тихой гавани. Этот город занимал особое положение в Папской области, в которую он вошел сравнительно недавно, только при папе Юлии II, покорившем его в 1512 году. До того Болонья была свободным городом с республиканским правлением, она гордилась своими демократическими традициями, своим богатством, своим известным на всю Европу университетом. Герб Болоньи украшен девизом: DOCET ЕТ LIBERTAS (ученая и свободная), и о свободе возвещали ее гордо поднятые к небу знаменитые башни. Земли Романьи, простирающиеся вокруг города, с древности заслужили прозвище «тучных», и среди всех итальянских городов Болонья была, быть может, наиболее благополучной. Старейший в Европе и самый большой в Италии университет, всегда полный молодежи, съезжавшейся в Болонью со всего континента, определял особую атмосферу раскрепощенности, отличавшуюся и от Рима, и от Пармы. Потеря независимости кардинально не изменила дух города, никогда не претендовавшего на самостоятельную политическую игру и традиционно придерживавшегося гвельфской, т. е. про- папской, ориентации.
В Болонье никогда не было двора и придворной жизни. Ее общество состояло из свободных дворянских семейств, часто непримиримо враждовавших наподобие Монтекки и Ка- пулетти, но они вели образ жизни богатых частных горожан. Болонья вообще была городом частной жизни: в ней было много дворцов, наполненных сокровищами, в том числе и
художественными, но не было главного дворца, главного патрона, главного покровителя. Это наложило определенный отпечаток на болонскую школу живописи. Франческо Франчу и Лоренцо Косту, двух самых крупных болонских художников начала XVI века, отличают мягкость и какая-то особая внутренняя здоровость, напоминающая о том определении, что часто сопровождало упоминание о городе: Bologna dotta е grassa, Болонья ученая и тучная, т. е. довольная высоким средним уровнем, без прорывов и провалов.
Не нарушая привычной жизни Болоньи, папы отвели этому городу роль своего рода «второй столицы» Папской области, места для встреч на высшем уровне. В 1515 году здесь происходили переговоры Льва X с французским королем Франциском I, а в 1529—1530 годах именно Болонья была выбрана местом, где должно было произойти примирение папы и императора, увенчавшееся коронацией Карла V, императорский венец на голову которого возложил его непримиримый враг, Климент VII. Город стал центром, приковавшим внимание всей Европы, подготовка к коронации потребовала огромных затрат, и на некоторое время Болонья должна была стать приютом самого блестящего собрания европейской знати.
По словам Вазари, Пармиджанино собирался провести в Болонье несколько недель перед возвращением в родную Парму, но задержался на несколько лет. Вполне возможно, что по пути в Болонью он провел какое-то время во Флоренции, где увидел работы Андреа дель Сарто и Понтормо, так как отклики на флорентийский маньеризм можно различить в его болонский период, но о его встрече с этим городом, лежащим на пути в Болонью, можно только строить предположения. Причины столь затянувшегося пребывания в Болонье обусловлены именно тем, что здесь в это время сложились идеальные условия для работы: Пармиджанино оказался в этом городе вне конкуренции. Так как он уже составил себе имя в Риме, его воспринимали, несмотря на молодость, как столичную знаменитость. С папским двором у него были налажены отношения, и, судя по всему, он приобрел покровителей и при императорском дворе. К тому же болонские интеллектуалы с огромным интересом отнеслись к появлению носителя новой, еще не очень привычной для
158
Болоньи манеры. Пармиджанино вскоре был представлен кавалеру Франческо Байардо, влиятельному аристократу и известному поэту, автору изящных сонетов в стиле Петрарки. Между ними устанавливаются теснейшие отношения, и Байардо становится страстным коллекционером работ Пармиджанино: в дошедшем до нас инвентаре его коллекции числятся несколько картин и сотни рисунков художника. Благодаря покровительству Байардо болонское общество оказалось открытым для Пармиджанино, и один за другим последовали крупные заказы, которых так не хватало в Риме.
В 1527 году, сразу же после приезда, Пармиджанино написал свой первый в этом городе алтарный образ для главного болонского собора Сан Петронио, в одной из капелл которого он находится и поныне. За этим заказом последовали другие: «Обращение Савла» (Художественно-исторический музей, Вена), «Мадонна со свв. Маргаритой, Бенедиктом и Иеронимом» (Пинакотека, Болонья), «Мадонна со св. Заха- рией» (Уффици, Флоренция). Заказчики этих произведений принадлежали к болонскому высшему обществу, и одно перечисление их имен неоспоримо свидетельствует о том положении, что столь быстро занял Пармиджанино в этом городе. «Обращение Савла» написано для Джан Андреа Де Бьянки, профессора медицины в болонском университете, «Мадонна со св. Маргаритой» — по заказу кардинала Лоренцо Кам- педжи для одного из самых закрытых женских монастырей Болоньи, «Мадонна со св. Захарией» — для графа Бонифачо Гоццадини. Болонская элита выстраивалась в очередь, чтобы заказать у Пармиджанино большое полотно, и если учесть внушительное количество небольших произведений и портретов, созданных им за два года, то окажется, что это наиболее творчески продуктивный период в жизни художника. Если в Парме он находился в тени Корреджо, в Риме считался молодым, подающим надежды «вторым Рафаэлем», т. е. опять-таки вторым, то в Болонье у него не было соперников, он стал, вне всякого сомнения, первым и единственным. Нигде он не мог бы добиться ничего подобного. Флоренция, полная своих художников, была недоступна. В Парме сияла слава Корреджо, в Венеции же царствовал Тициан, практически узурпировавший в это время венецианский художе-
159
ственный рынок и благодаря своей дружбе с Аретино ставший любимейшим художником императора Карла V.
Болонья оказалась идеально подходящим Пармиджанино городом: с одной стороны, ее жизнь была достаточно оживлена, с другой — Болонья находилась в стороне от центра власти. Обычно в искусствоведческой литературе представляют Пармиджанино как протагониста интернационального маньеризма, изощренного стиля королевских дворов Европы второй половины XVI века. Действительно, налет мистики и эротизма, ощущение роскоши, исходящее от обилия обволакивающих тела святых дев тканей, то узорчато-тяжелых, то легких, как дым, изысканная нежность жестов, свидетельствующая о манерах столь тонких, что они граничат с манерностью, — все это придает болонским произведениям Пармиджанино оттенок куртуазности. Недаром Рудольф II, самый маньеристичный из всех правителей эпохи маньеризма, старался скупить все произведения мастера, что появлялись на рынке. Пармиджанино оказал огромное влияние на школу Фонтенбло, на живописцев рудольфинского круга, на гарлемских академиков, т. е. на все центры интернационального маньеризма, а затем его картины и рисунки стали гордостью коллекций самых блистательных европейских монархов — герцогов Медичи, Карла I Английского, Коро- ля-Солнце и Людовика XV, курфюрста Саксонского Августа Сильного. За ним закрепилась слава художника для королей, но сам Пармиджанино не был придворным художником. Никогда не будучи ни у кого на службе, он всегда сохранял внутреннюю независимость и добился того, что его искусство стало образцом для подражания придворным живописцам, притом что сам он явно избегал ярма дворцовых обязанностей. В этом отношении Пармиджанино парадоксален. Так, например, справедливо считается, что вместе с Бронзино он стоит у истоков парадного портрета, но достаточно бросить взгляд на его портреты болонского периода, чтобы заметить разницу с флорентинцем, воспевшим двор Козимо Медичи и Элеоноры Толедской. Персонажи Пармиджанино лишены застылой иератичности, они элегантны, но абсолютно свободны в своих жестах, позах и манерах. Это, вне всякого сомнения, изображение элиты, но элиты по праву интеллекта, а
162
не по праву рождения. Во взаимоотношениях с придворным искусством Пармиджанино утверждает свою избранность, становясь одним из тех художников, что предвосхитили борьбу за творческую самостоятельность искусства Нового времени.
Замечание современников о том, что Пармиджанино очень часто создавал свои небольшие произведения не на заказ, а для себя, является еще одним доказательством его стремления к независимости. Параллельно с этим нельзя не отметить его интенсивные занятия печатной графикой, опять-таки создававшейся не только для рынка. Со времен Вазари, обмолвившегося о том, что гравюрой Пармиджанино занялся только после своего отъезда в Болонью, все его собственноручные офорты и большинство кьяроскуро, выполненных по его рисункам, относили к тридцатым годам. Теперь не вызывает сомнения факт, что к гравюре художник приобщился еще в Риме и что многие листы должны быть датированы более ранним временем. Впрочем, главные шедевры, такие как «Любовная пара», «Воскресение», оба варианта «Оплакивания» и небольшие листы на пасторальные темы, скорее всего, принадлежат болонскому периоду. Столь интенсивные занятия офортом представляют искусствоведческую загадку: неизвестно, что побудило Пармиджанино к этому, для каких целей предназначались созданные им офорты и кто коллекционировал это, весьма оригинальное для Италии тридцатых годов, искусство. Остаются только догадки.
Судя по всему, обращение к офорту было обусловлено необычайным успехом рисунков Пармиджанино, обеспечивших ему славу не в меньшей степени, чем живопись. В рассказе Вазари о римском приключении Пармиджанино во время Sacco di Roma привлекает одна яркая, явно не выдуманная подробность: за свои привилегии художнику пришлось расплачиваться множеством рисунков. Желание обладать рисунками, причем не законченными и отделанными в деталях, а быстрыми, моментальными набросками, было новшеством в практике коллекционирования. До того подобные вещи представляли интерес только для художников, относящихся к ним как к вспомогательному материалу, и не имели практически никакой рыночной стоимости. Считает¬
163
ся, что моду на коллекционирование рисунков утвердил Вазари, любовно собиравший даже рисунки треченто и убедивший в их ценности Козимо Медичи. Герцог затем приобрел большую часть его собрания, что положило начало знаменитому Gabinetto в Уффици, первой в Европе крупной графической коллекции, уже не принадлежащей частному лицу. Не отрицая роли Вазари, надо отметить, что самые ранние дошедшие до нас сведения о крупных коллекциях рисунков связаны именно с Пармиджанино. В инвентаре Франческо Байардо, покровителя и друга художника, насчитывалось 559 рисунков Пармиджанино, многие из них были совсем небольшими, но бережно хранились и учитывались. Интерес не к законченному произведению, но к инвенции, к легкому, виртуозному фантазированию, расцениваемому в качестве самодостаточной ценности, был признаком не только вкусового изменения, но и радикальной переоценки смысла и роли всего изобразительного искусства.
Офорты Пармиджанино, эти своего рода тиражированные рисунки, предназначались, скорее всего, для знатоков вроде Байардо, т. е. для болонской интеллектуальной элиты, находившей удовольствие в рассматривании быстрых, хрупких штрихов, рождающих образ особого мира, полного недомолвок, иконографических странностей. Настроение этих композиций было близко к особому жанру живописи, распространенному среди последователей Джорджоне, к так называемой венецианской poesia. Именно о poesia напоминают многие рисунки и офорты Пармиджанино, изображающие условные идиллические сцены с трудно определимыми сюжетами, вроде офортов «Любовная пара», «Два старца и сидящий юноша», «Пастушок» и многих других. Эти композиции напоминают о росписях в Фонтанеллато, о самом раннем и, по всей видимости, самом безоблачном периоде в жизни Пармиджанино.
В то же время именно в технике офорта Пармиджанино создает в Болонье свои самые поразительные религиозные композиции, полные мистического напряжения — «Воскресение» — или трагической скорби — оба варианта «Оплакивания». Подобное близкое соседство сцен, посвященных эротическим переживаниям, порой открытым, как в «Любовной
L64
паре» и вариациях на тему Венеры и Амура, дошедших до нас во множестве рисунков, порой завуалированным, как во многих его пасторалях, с экстатичным отчаянием «Оплакивания», кажется непонятным, чуть ли не кощунственным. Что это? Метания между «будуаром и молельней», аристократический интеллектуальный цинизм или свидетельство психической неуравновешенности, заставляющей покаянно замаливать каждый соблазн, перед которым нет сил устоять? Что происходило в годы пребывания Пармиджанино в Болонье, откуда эта двойственность, слишком уж нервозная, чтобы ее можно было объяснить римской закалкой, позволяющей запросто сочетать грех и покаяние, как это делали Бенвенуто Челлини или Джулио Романа, создававший в одно и то же время благочестивые сцены и иллюстрации к порнографическим сонетам Пьетро Аретино?
Все от того же Вазари мы знаем, что именно с болонского периода Пармиджанино начинаются все более усиливающиеся пересуды о его занятиях алхимией и черной магией, обрастающие мрачными подробностями, о его усиливающейся алчности, о желании заполучить философский камень, превращающий любой металл в золото, о его пренебрежении искусством, растущем безразличии к своей внешности и неряшестве в отношениях с заказчиками. Без сомнения, образ ангелоподобного юноши, столь обаятельного, столь удачливого, столь «редкостного в искусстве и благородного и приятного в общении», каким запомнился Пармиджанино в Риме, начинает трансформироваться. Неизвестно, насколько справедливы эти слухи. И очевидная продуктивность его болонского периода, а также его весьма успешная работа во время торжеств, посвященных коронации Карла V, говорят об их несправедливости, но — нет дыма без огня. Вне всякого сомнения, именно в Болонье Пармиджанино попадает под очарование эзотерики, соединяющей мистицизм и увлечение магией, весьма распространенной среди болонских интеллектуалов. В Болонье его искусство, в первую очередь графика, наполняется завораживающей текучестью, все чаще он изображает необъяснимо прихотливые сцены среди таинственных лесных чащ, его привлекает миф о Нарциссе, погруженном в созерцание своего отражения в лесном
165
источнике (кьяроскуро Антонио да Тренто). Зритель не видит лица Нарцисса, это красота, погруженная в себя, как бы оберегающая свою чистоту от глаз непосвященных.
Без сомнения, сам процесс травления привлекал художника своей подвижностью, возможностью преображения материи. Взаимодействие металлов, ход движения светил, их влияние на человеческий дух, постоянные метаморфозы природы — все то, чем была наполнена античная мифология, стало темой многочисленных рисунков Пармиджанино болонского периода, воспроизведенных в офортах и кьяроскуро мастеров, работавших вокруг него. В это время из Рима в Болонью переезжают и Уго да Карпи, и Никола Ви- чентино, и Антонио да Тренто. Болонья после разгрома Рима становится новым центром печатной графики, и очевидно, что наиболее востребованными оказываются именно авангардные техники. Маркантонио Раймонди, известнейший гравер рафаэлевского Рима, также бежавший в Болонью, по свидетельству Вазари, впадает в нищету и вынужден за бесценок продавать свои доски, — действительно, после Sacco di Roma мы почти не знаем произведений этого еще недавно столь преуспевавшего римского гравера. Симпатии Болоньи тридцатых годов принадлежат техникам более гибким и подвижным, чем классическая резцовая гравюра.
Особый стиль, присущий краткому периоду в болонской истории XVI века, был порожден особым духовным движением, определявшим атмосферу Италии до 1545 года, т. е. до начала Тридентского собора, зафиксировавшего окончательное торжество Контрреформации. И Пармиджанино становится главным творцом этого стиля.
Противостояние католицизма и лютеранства оформилось в противостояние европейских Юга и Севера значительно позже, после смерти императора Карла V и папы Климента VII. В двадцатые — тридцатые годы в Риме, да и во всей католической Европе, была очень сильна партия сторонников церковных реформ, стремившихся избежать раскола и видевших его опасность не только в ересях, но и в деятельности папской курии. Император Карл сам был сторонником определенных изменений, не переставая при этом оставаться благоверным католиком. К подобным сто¬
166
ронникам реформ без Реформации принадлежали Эразм Роттердамский и Томас Мор, два наиболее ярких представителя позднего европейского гуманизма. В самом Риме императорскую политику поддерживали многие высокопоставленные церковные деятели и часть римской аристократии, ярчайшим представителем которой была Виттория Колонна, поэтесса, муза Микеланджело и духовный вождь партии католических мистиков-реформаторов. На Апеннинском полуострове эта партия была очень влиятельна, она насчитывала много сторонников среди интеллектуальной элиты. Большие симпатии к этому движению испытывали и многие художники: Микеланджело, Понтормо, Лотто, Романино. Его идейное направление весьма общо можно охарактеризовать как неоплатонизм, получивший прививку «савонаролиан- ства». Без сомнения, Пармиджанино испытывал симпатии к кругу католических реформаторов еще в Риме, и с приездом в Болонью, на некоторое время ставшую центром подобных умонастроений, они только усилились.
Болонья же готовилась к великому событию — примирению папы и императора, что не могло не рождать в памяти события XI века, Каноссу, когда папство восторжествовало над императорской властью и император Генрих V, босиком, в покаянном рубище, был вынужден встать на колени перед папой Григорием. Теперь все было наоборот, восторжествовала партия умеренных реформаторов католицизма, смирившийся папа дал согласие на коронацию, и Болонья готовилась к празднеству европейского масштаба. О том, что Пармиджанино принимал деятельное участие в этой подготовке, свидетельствует упоминание о поручении ему выбора мрамора для новой капеллы в Сан Петронио, воздвигаемой для грядущего события. Проект не был осуществлен, но почти нет сомнений, что Пармиджанино в связи с ним ездил в Венецию, где познакомился с Тицианом. Другой факт, свидетельствующий о его вовлеченности в подготовку к коронационным торжествам, — это большой портрет Карла V, сейчас находящийся в одном из частных собраний. Произведение Пармиджанино выполнено в чуждом художнику жанре парадной аллегории, которой он сам остался недоволен, вследствие чего отказался отдать портрет императору,
сославшись на его незаконченность. Картина чрезвычайно риторична: крылатая Слава протягивает императору оливковую и пальмовую ветви, младенец Геркулес подносит ему земной шар, сам Карл облачен в доспехи, в расшитую самоцветами и жемчугами мантию, — и, в сущности, это скорее сюжетная композиция, а не портрет. Выполнено изображение Карла явно не с натуры и было приобретено кардиналом Ипполитом Медичи, одним из сторонников умеренных реформ и большим поклонником Пармиджанино.
Вторым произведением, теснейшим образом связанным с коронацией, стала «Мадонна с розой» (Картинная галерея, Дрезден). Эту картину все время упоминают как образцовое произведение придворного маньеризма, полного изощренной чувственности и гедонизма, граничащего с богохульством. В XVIII веке даже возникла легенда, гласящая, что изначально Пармиджанино изобразил Венеру и Амура для Пьетро Аретино и затем переделал картину, предназначив ее в подарок папе. Действительно, современный зритель в первую очередь видит красавицу, роскошно облаченную в одежды столь тонкие, что сквозь них просвечивает грудь с высоко поднятыми сосцами, — деталь, отмеченная еще Вазари, — которой изнеженный Младенец протягивает розу — символ любви и красоты. Для искушенного же зрителя XVI века в этой сцене угадывается прямая аллюзия на «Песнь песней», на священные библейские слова, трактовавшиеся как провидение Девы Марии и Веры:
Как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими;
шея твоя — как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем — все щиты сильных; два сосца твои — как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями...
Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе.
(Песн. 4: 3—5, 7)
Открытый эротизм «Мадонны с розой» не смущал католическое окружение Климента VII, так как читался в совершен¬
168
но ином контексте. Дева Мария представала величественной Царицей Мира, и глобус, на который небрежно оперся Младенец, — пандан глобусу у ног императора. Объединенные единым мотивом, обе картины могут восприниматься как парные. «Кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21) — слова Евангелия, часто цитировавшиеся в кругу сторонников католических реформ.
Создание столь важных произведений, востребованных и окружением папы, и окружением императора, противоречит словам Вазари о растущей асоциальности Пармиджанино. Наоборот, болонский период может считаться вполне успешным для молодого художника, которому исполнилось всего двадцать семь лет. Конечно, Пармиджанино не становится ни папским, ни императорским любимым живописцем, он явно тяготеет к оппозиции, к тем, кто занимает положение свободных и просвещенных маргиналов, не наделенных прямой властью, но имя Пармиджанино произносится все более и более ясно, как вполне самостоятельно звучащее, а не как отзвук, пусть и прекрасный, имени Рафаэля.
Болонья находится всего на расстоянии ста километров от Пармы. Нет сведений о том, что Пармиджанино посещал родной город во время своего пребывания в Болонье, хотя это и не исключено. Во всяком случае, судя по его работам, он был в курсе того, что создавал Корреджо. В 1530 году, «после того как Франческо, как было рассказано, столько лет провел вне родины и приобрел в искусстве большой опыт, не нажив, однако, никаких богатств, кроме разве только друзей, он воротился наконец в Парму, к удовлетворению многочисленных друзей и родных». Вазари весьма емко и, видимо, справедливо характеризует состояние Пармиджанино. Шесть лет — срок не очень большой для XVI века, город не слишком изменился. Исключая лишь одно: если перед отъездом Пармиджанино можно было сказать, что в Парме не было произведений, которые могли бы претендовать на известность за пределами города, то теперь здесь появились циклы купольных росписей Корреджо, прославивших ее по всей Италии.
Огромный купол пармского собора с фреской, как будто бы прорывающей пространство, был чудом, никогда дотоле невиданным, раздвигающим представления о возможностях
169
живописи. Он поражал воображение, превращая архитектуру в видение, тяжелые своды — в парящие небеса, полные фигур в различных ракурсах, как будто преодолевших земное притяжение и вознесшихся в свободном и неудержимом полете вверх, в раскрытую бесконечность, вслед за неудержимым движением Богоматери. В связи с этим произведением заговорили о ломбардской школе, наконец-то создавшей нечто, чего еще не видели ни во Флоренции, ни Риме, ни в Венеции. Росписи Корреджо стали гордостью Пармы, и Корреджо — ее героем. Очень похоже, что возвращение Пармиджанино в родной город было вызвано не столько желанием оказаться в отчем доме, сколько чувством соперничества с тем, кого он вполне мог бы назвать своим учителем.
Кроме фресок Корреджо у Пармы не было никаких преимуществ перед Болоньей. В Болонье дома были выше, церкви больше, университет старше, общество лучше, заказчики богаче. Но именно поэтому Парма на данный момент предлагала больше возможностей, — в 1530 году Пармиджанино подписывает сразу два договора на большие алтарные картины, которые так никогда и не будут исполнены, и совет церкви Санта Мария делла Стекката поручает ему росписи купола восточной, главной апсиды и прилегающей к ней пре- деллы. Сохранились документы, свидетельствующие о том, что Пармиджанино обязался закончить роспись за восемнадцать месяцев.
Сразу же по приезде в родной город Пармиджанино оказался завален заказами. Без сомнения, в Парме уже было известно о его успехах, и на него возлагались надежды как на равного Корреджо: молодой художник должен был еще больше прославить пармскую школу живописи. Короткий срок, определенный Пармиджанино для исполнения столь значительной работы, свидетельствует о его уверенности в себе. Он бесконечно набрасывает один за другим проекты — до нас дошло больше ста рисунков, связанных с этими росписями, — но проходит шесть лет, и церковный совет обнаруживает, что к работе над куполом он так и не приступил, хотя и закончил расписывать свод пределлы. Написав вступление, к главной части работы Пармиджанино даже не притронулся.
170
Роспись пределлы в Санта Мария делла Стекката представляет именно вступление. Удивительно единый декоративный организм, она, тем не менее, лишена какого-нибудь самостоятельного сюжета и распадается на фрагменты, весьма прихотливо связанные друг с другом. Это изображение дев разумных и неразумных из притчи Евангелия от Матфея, трактованной весьма вольно. В Евангелии речь идет о десяти девах, Пармиджанино же сократил каноническое число до шести, изобразив их передающими друг другу зажженные и угасшие светильники в каком-то странном отвлеченном танце, напоминающем об античных орах, грациях и харитах. На головах девы держат вазы с растущими из них лилиями. Этот мотив изобретен самим Пармиджанино и нигде больше в иконографии притчи не встречается. По бокам расположены написанные гризайлью фигуры Адама, Евы, Моисея и Аарона, имитирующие скульптуру и помещенные в некие подобия ниш. Масштаб и пространственное решение этих фигур отличны от фигур дев разумных и неразумных, так что прародители и ветхозаветные пророки воспринимаются как отдельный мотив. Все фигуры расположены по краям фрески, потолок же поделен на большие красно-синие квадраты, и большую часть пространства занимают орнаменты, составленные из различных, порой неожиданных изображений: бараньи головы, огромные крабы, обнаженные вакханты, вазы, гирлянды овощей и фруктов, огромные книги. Все это столь необычно, что многие исследователи считали, что Пармиджанино преследовал исключительно декоративные цели.
Роспись напоминает огромную шпалеру, натянутую на свод. В ней явно прочитываются воспоминания о рафаэлевских фресках на вилле Фарнезина, о Лоджиях и о столь модных в Риме Климента VII гротесках. Пармиджанино создает шедевр орнаментального искусства, однако все разнообразие предметного, растительного и животного мира подчиняется символической интерпретации и отнюдь не случайно Белые голуби, связанные с представлением о Святом Духе, так же как и агнцы — с представлением о христианском искуплении, были библейскими жертвенными животными, и в то же время, вместе с плодами земли, морскими гадами и раковинами, они читаются как указание на четыре стихии,
являющиеся основой всего сущего. Книги, светильники и вазы — олицетворение духовной деятельности. Все вместе сливается в грандиозную картину мироздания, с отсылками к истории с начала Творения, читаемой в ветхозаветных фигурах Адама и Евы, Моисея и Аарона. Девы же являются воплощением человечества, ожидающего Истины. Замысел Пармиджанино родственен потолку Сикстинской капеллы Микеланджело и циклу ветхозаветной истории в Лоджиях Рафаэля. Главная фреска купола должна была, видимо, быть изображением торжества христианской религии, взыскуемо- го девами разумными, поддерживающими неустанно огонь в своих светильниках. В то же время в замысле Пармиджанино легко можно различить аллюзии на магическую герменевтику, на символы, популярные в алхимии, включение которых в росписи было рискованным с точки зрения канонической религиозности. Однако для Пармиджанино алхимия была не алчной погоней за наживой, но творческим размышлением над таинствами природы.
Фреска в Санта Мария делла Стекката производит впечатление идеальной законченности, отточенности творения ювелирного искусства. Ее эффектность столь рационально просчитана, что от нее исходит холод, как от искусно ограненного кристалла. В ней выведена формула интернационального маньеризма с его ослепительным блеском виртуозного мастерства, но внутреннее напряжение, пронизывающее этот шедевр, не позволяет воспринимать его просто как образец торжества декоративизма. Во фреске ощущается томительная меланхолия, граничащая со страданием, это совершенство столь идеальное, столь неземное, что подразумевает хрупкость точеной хрустальной вазы. Достаточно малейшего толчка, чтобы разбить этот восхитительный мир вдребезги, и несказанная красота в любой момент может обернуться несказанным страданием.
«Между тем Франческо начал пренебрегать работой в Стеккате или, во всяком случае, работал там так вяло, что становилось ясно, что дело идет плохо. А происходило это потому, что начал он заниматься алхимией и забросил совершенно живопись, рассчитывая, что если он заморозит ртуть, то скоро разбогатеет. И потому, забив себе голову этим, а не
думами о прекрасных вымыслах и не мыслями о кистях и красках, он проводил весь день в хлопотах об угле, дровах, стеклянных колбах и тому подобной чепухе, на которую в один день он тратил больше, чем зарабатывал в капелле Стеккаты за неделю...
В конце концов Франческо, все еще увлекаясь этой своей алхимией, превратился, как и все другие, однажды на ней помешавшиеся, из человека изящного и приятного в бородатого, с волосами длинными и всклокоченными, опустился и стал нелюдимым и мрачным...»
Поздний автопортрет Пармиджанино, датируемый концом тридцатых годов, служит неопровержимым подтверждением рассказа Вазари. Шесть лет — довольно большой срок в жизни человека, но, даже учитывая это, нельзя не поразиться перемене, произошедшей с художником. Дело даже не в возрастных изменениях, не в подчеркнутом небрежении к одежде и внешнему виду, а в потупленном угасшем взоре, избегающем зрителя, как бы ускользающем от него с чувством вины и обреченности. Поздний автопортрет из Пармской Национальной галереи — антипод «Автопортрета в круглом зеркале», полный душераздирающей меланхолии, подтачивающей изнутри, как душевная болезнь.
Меланхолия — ключевое понятие для осознания той грандиозной перемены в концепции творчества, что произошла в искусстве позднего Ренессанса и затем определила особое отношение к художнику, влияние которого ощущается и в современности. Этот известный с античности тип темперамента считался болезненным, свойственным людям, не ладящим с действительностью, плохо приспособленным к ней. Меланхолики — нелюдимы, и меланхолия — протест против Бога. От меланхолии можно и нужно лечить, она не только изначально данный темперамент, но и следствие разлития в организме дурных соков. Так считалось и в Античности, и в Средние века, но недаром XVI век открывает великое и таинственное произведение — гравюра Альбрехта Дюрера «Меланхолия I». Изображение прекрасной крылатой женщины, погруженной в тяжелые раздумья среди разбросанных вокруг предметов — символов человеческой деятельности, уже нельзя воспринимать только как инвекти¬
ву против меланхолии. В начале XVI века этот темперамент перестал восприниматься лишь как негативный, — человек отстоял свое право на меланхолию, и она стала непременной спутницей творчества. Не одна лишь жизнь активная, но и кажущаяся пассивность, склонность к размышлению имеют право на существование. Более того, они становятся необходимыми условиями для рождения мысли; теперь все симпатии принадлежат Марии, размышляющей у ног Спасителя, а не хлопотливой Марфе. Меланхолия — состояние, воспетое в поэзии Микеланджело, и меланхоликами были Дюрер, Понтормо, Корреджо, Россо, все замечательные художники XVI века, завоевавшие право быть не как все, право на странность, ценою спокойствия, разума, а подчас и жизни. Пармиджанино, без сомнения, также принадлежал к этому новому творческому типу.
Вазари, блестящему живописцу, литератору и придворному, были чужды взлеты и падения. Индивидуальность Пармиджанино представлялась ему слишком уж резкой и противоречивой, вся его манера — чрезмерной. В его отзыве о художнике явно звучит непонимание того, как можно было упустить столь блестящие карьерные возможности, что открывались перед молодым уроженцем Пармы. Манкирование заказами и заказчиками, уход в себя — все это было необъяснимо с точки зрения здравого смысла, и алхимия, этот разъедающий душу порок, объясняла для Вазари внутреннее состояние Пармиджанино.
Против лености Пармиджанино и утверждения того, что он начал пренебрегать работой, свидетельствуют не только большое количество рисунков, не только удивительная законченность арки пределлы, но и то, что помимо росписей Пармиджанино выполнял и другие заказы и среди них — три безусловных шедевра, относящихся к последним годам в Парме. Это «Амур, строгающий лук» (Художественно-исторический музей, Вена), «Антея» (Каподимонте, Неаполь) и «Мадонна с длинной шеей» (Уффици, Флоренция). Все три произведения так или иначе связаны с именем Франческо Байардо, болонского друга и покровителя Пармиджанино. «Амур» был написан, видимо, по его заказу и отослан в Болонью, так как эта картина фигурирует в его коллекции; за¬
гадочная «Антея», согласно новым исследованиям, является портретом племянницы Ф. Байардо, Оттавии Камиллы Бай- ардо, дочери Леонардо Байардо, а «Мадонна с длинной шеей» исполнена для Елены Тальяферри, сестры Франческо, в память о ее покойном муже.
Мифологическая композиция, портрет и алтарный образ, совершенно разные по сюжетам, обладают внутренним единством. «Амур, строгающий лук» — это творение, пропитанное духом неоплатонизма с его преклонением перед победительной силой красоты и любви и в то же время предупреждающее об опасностях соблазна. Портрет Оттавии — это, быть может, самый привлекательный женский образ в живописи маньеризма, полный столь опьяняющей прелести и грусти, что его сопровождали целые сборники легенд. Свое название «Антея» он получил в XVII веке, и предполагалось, что на нем изображена знаменитая куртизанка, возлюбленная Пармиджанино, — слишком открыто притягателен разрез глаз на фарфорово-бледном лице роскошно одетой красавицы, чтобы не подразумевать какой-нибудь романтической истории. «Мадонна с длинной шеей» — мистическое видение небесной красоты, удивительная контаминация «Песни песней» и Апокалипсиса, в одно и то же время Суламифь, мистическая возлюбленная, и Жена, облеченная солнцем.
Все три картины полны неизъяснимой таинственной прелести, античность в них смешивается с христианством, эротика одухотворена, а религиозность полна чувственности, чем-то напоминающей о писаниях мистиков поздней готики. Все они представляют как бы парадигму придворного искусства, и недаром Медичи, Фарнезе и Габсбурги гордились ими и сотни титулованных посетителей их фамильных галерей млели от восторга перед ними. Представить себе, что они созданы безумным алхимиком, теряющим время в погоне за золотом, невозможно. Особого доверия рассказ Вазари не вызывает, но пармский «Автопортрет» неопровержимо свидетельствует о резком изменении личности художника, заставлявшем современников искать для него внятных объяснений.
Последний период в жизни Пармиджанино представляет собой искусствоведческий, психологический, культуроло¬
гический парадокс. Как мог этот измученный внутренним страданием, преждевременно состарившийся человек, обрекший себя на отшельничество, создавать столь виртуозно элегантные произведения, снискавшие ему впоследствии прозвище «принца маньеризма»? Что происходило на самом деле? Откуда взялись алхимия, черная магия, равнодушие к себе, боязнь заказов, как это совмещалось с интенсивной внутренней жизнью, с тем, что именно в это время Пармиджанино удается выкристаллизировать стиль, затем определивший весь зрелый и поздний маньеризм, создать «Амура» и «Мадонну с длинной шеей»?
Промедление с росписью апсиды в Санта Мария делла Стекката было вызвано не отсутствием опыта во фресковой живописи (против этого свидетельствует блестящее исполнение фрески пределлы), не леностью и медлительностью (множество рисунков говорит об интенсивности работы над замыслом) и уж отнюдь не алчностью и алхимией (сам же Вазари упоминает о бескорыстии Пармиджанино, который за свой счет золотил великолепные розетки, украшающие потолок Стеккаты). Скорее, это проблема психологическая: Пармиджанино, судя по тщательности отделки пределлы, замышлял главной фреской потрясти мир, был постоянно недоволен результатом, боялся приступить к началу и, со дня на день откладывая работу, загнал себя в непреодолимый тупик, из которого не мог найти выхода. Рисунки пармского периода удивляют тем, что, помимо великолепных набросков различных замыслов, среди них попадаются поразительные по свободе фантазии композиции на темы переосмысленной мифологии вроде «Мести Вулкана»; соседствующие с необычайно острыми набросками, сделанными непосредственно с натуры и предвосхищающими искусство XVII века, вроде «Мальчика, преследуемого псом». В сознании художника явно намечался перелом в оценке себя и своего искусства, он был в преддверии новых открытий и не удовлетворялся тем, что было сделано. Это был творческий кризис, ведущий к безмерной меланхолии, к отчаянию, но нет ничего более продуктивного для творца, чем подобное состояние духа, хотя оно мучительно и для него, и для окружающих.
176
Церковный совет не читал монографий по парапсихологии творчества, не был в курсе революционной роли меланхолии и не собирался считаться с внутренними проблемами Пармиджанино. Ему нужны были росписи, какие-нибудь результаты, и, в очередной раз увидев голый купол, совет решает передать заказ другому художнику, а на Пармиджанино подает в суд. Одной из кандидатур на исполнение росписей оказывается сам Джулио Романо, которому пытаются заказать общий рисунок фрески. До нас дошел необыкновенно красочный документ — собственноручное письмо Пармиджанино, адресованное Джулио, с просьбой отказаться от предложения. Письмо сопровождается лаконичным комментарием самого Джулио, и этот небольшой фрагмент обрисовывает последние годы жизни Пармиджанино с гораздо большей убедительностью, чем слова Вазари. Сбивчивый текст балансирует между гордостью и самоуничижением, Пармиджанино пытается что-то объяснить и найти поддержку, апеллируя к давнему, еще римскому, знакомству с Джулио, но чувствует бесполезность и бессмысленность своей попытки, его явно гложет совесть по поводу нарушения обязательств и сознание своей несостоятельности. Джулио сообщает, что принес письмо «безбородый юноша, говорящий много и витиевато, все какими-то иероглифами. Он очень предан этому М.(ессиру) Ф.(ранчес)ко».
Между строк этой короткой записки Джулио читается уважение, не лишенное оттенка презрения, к странному затворнику, отказавшемуся от покровительства сильных мира сего, окружившему себя юношами, немного дикими, но полными почтительного восхищения маэстро, от которого так и веет сумасшествием. С точки зрения здравомыслия Пармиджанино не прав, этот бывший денди, подававший такие надежды в славное римское время. Именно он, Джулио Романо, — один из главных художников Италии, он стал наследником Рафаэля, а не этот ангелоподобный любимец экзальтированных аристократок, потерявший время в погоне за несбыточным. Отказать ему — жалко, однако даже непонятно, о чем он просит и что у него за проблемы со всей этой явно неряшливой историей с невыполненным заказом, хотя заказчики высказали недюжинное терпение, — в конце концов, они ждали целых шесть лет!
Совет начинает судебный процесс, Пармиджанино даже оказывается в тюрьме как несостоятельный должник, но бежит с помощью преданных друзей за пределы Пармской области, останавливаясь в небольшом монастыре Казаль- маджоре, всего в нескольких километрах от границы. Бегство не было особенно трудным, так же как и заключение было не настоящей тюрьмой, а скорее мерой воздействия — никто Пармиджанино за преступника не держал. Это было унижением в первую очередь, огромной душевной травмой, заключающей последний, пармский период в жизни Пармиджанино, начавшийся с ожидания великих свершений и великой славы.
В Казальмаджоре Пармиджанино создает свое последнее произведение, алтарный образ «Мадонна с Младенцем и свв. Стефаном и Иоанном Крестителем» (Картинная галерея, Дрезден) для церкви Сан Стефано в этом небольшом городке. В небесном сиянии, в пространстве, отделенном от пространства реального, где располагаются фигуры обоих святых и донатора, возникает видение Девы Марии со Спасителем на руках. Картина полна меланхоличного ожидания, грустной, почти трагичной нежности, овеянной надеждой. Она неотступно напоминает о «Сикстинской Мадонне» Рафаэля, находившейся в это время всего в сорока пяти километрах от Казальмаджоре, в Пьяченце.
Картина сейчас воспринимается как завещание Пармиджанино, как прощание с реальным миром. Многие видят в ней алхимическую символику: сияние, исходящее от Мадонны, почти нестерпимо, оно напоминает огонь в алхимическом горне, в котором является фигурка мистической саламандры. Это представляется большим преувеличением, так как в благочестии Пармиджанино сомневаться не приходится, и вряд ли он на пороге вечности стал бы в алтарном образе зашифровывать алхимическое послание.
Пармиджанино умер в тридцать семь лет, 24 августа 1540 года, в монастыре Казальмаджоре, где и завещал себя похоронить. Скончался он быстро, но не неожиданно, так как долго болел, и «напали на него горячка и жестокий понос, вследствие чего через несколько дней он отошел к лучшей жизни, положив тем самым конец тягостям мира сего, в ко¬
178
тором не познал он ничего, кроме тоски и докуки». Известно, что он просил, чтобы его положили в гроб совершенно обнаженным, с одним только кипарисовым крестом на груди, что и было исполнено. С точки зрения ортодоксальной религиозности это было несколько необычно, хотя и подразумевало прямую отсылку к словам Книги Иова: «...наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь» (Иов. 1:21). Последнее распоряжение Пармиджанино напоминает о его офорте «Оплакивание», в котором Христос также изображен обнаженным.
«Он окончил свой жизненный путь... и было это большой потерей для искусства из-за того изящества, единственного в своем роде, какое руки его придавали всему, что он писал». Слова Вазари, как эпитафия, подытоживают земную жизнь Пармиджанино, но сразу же после его смерти начинается его слава, быстро распространившаяся по всей Европе, — слава, которой он не то чтобы не добился, но от которой сознательно отказался, выбрав мучительную тропу метаний и вечной неудовлетворенности собой.
181
Самая художественная кровать
в мире
Т/
кровать есть то, что мы первым видим в своей жизни, и она же — наше последнее пристанище».
Фраза эта, вставленная неким флорентийцем XIV века в свой дневник посреди обыденных записей о дебетах и кредитах, тут же заставляет вспомнить знаменитые фрески, изображающие роды в домах Флоренции, «Рождество Иоанна Крестителя» Доменико Гирландайо и «Рождество Девы Марии» Андреа дель Сарто. В просторной светлой комнате полно прекрасных и хорошо одетых женщин, младенец тихо нежится на руках кормилицы, а роженица покоится на чисто застеленной кровати, и мир кружится вокруг нее, как пчелы вокруг матки. К кровати ведут, словно к трону, ступени, она поднята вверх, и возлежащая на ней женщина величественна, как фигуры на этрусских саркофагах. Кровать — центр мироздания.
Все обман, все ложь искусства. Только очень наивное сознание верит тому, что Гирландайо с Андреа дель Сарто изобразили в своих фресках подлинную флорентийскую жизнь. Ничего подобного, все придумано. Где суета и страдание, свойственные каждому акту рождения? Они начисто изгнаны из композиций, представляющих идеальное появление на свет идеального новорожденного у идеальной роженицы. Вот так же и запись в дневнике. Претендуя на всеобщность, фраза из анонимной флорентийской хроники XIV века выдает желаемое за действительное. Во-первых, для того чтобы на кровати родиться или умереть, надо кровать иметь, а такую
роскошь могли позволить себе не все. Во-вторых, даже имея кровать, надо еще умудриться было жить столь размеренно, чтобы время рождения и смерти совпало с возможностью добраться до кровати. В эту неспокойную эпоху смерть могла застать где угодно: поди попробуй умереть в кровати во время гражданских войн. При рождении лишь избранные, принадлежавшие к определенному кругу горожане видели кровати, а умереть в кровати удавалось лишь немногим из этих избранных. Флорентийский хроникер рисует некий идеальный образ жизненного пути, спокойного и размеренного. Спокойствие и размеренность! Как вы желанны и как вы, как все желанное, недостижимы!..
Кровать — символ устойчивости мира. Так было во Флоренции, да и не только в ней, ибо кроватями гордились, их вовсю демонстрировали и передавали по наследству, как о том свидетельствует самая знаменитая литературная кровать в мире, шекспировская second best bed, доставшаяся его жене и до сих пор являющаяся темой бесчисленных изысканий. Лишь в XIX веке отношение к кровати изменилось. Наверное, здесь виноват гедонизм предыдущего столетия, связавший спальню со сладострастием и тем самым разрушивший ореол добродетели, что сиял вокруг кроватей старого доброго времени, но век королевы Виктории краснел при виде кровати. Изменение статуса кровати гениально зафиксировал Чарльз Диккенс в своих «Картинках с натуры», описав одну из мебельных лавок, в которой «широко представлен тот вид мебели, при помощи которого совершается наглый обман общества, — диван, заменяющий кровать. Обычного вида деревянная кровать — это незамысловатый честный предмет обстановки; она может быть слегка замаскирована фальшивым выдвижным ящиком; иногда даже делается безумная попытка выдать ее за книжный шкаф; но, как ни украшай, истинную ее природу ничем не скроешь, словно она сама желает ясно дать понять, что она — кровать и ничто иное, и поскольку кровать не только весьма полезна, но и насущно необходима, то и отвергает с гордостью всякие ухищрения. Не так ведет себя диван, заменяющий кровать. Стыдясь своей подлинной сущности, он хочет казаться предметом роскоши, изысканной принадлежностью мебли¬
182
ровки, но все его потуги обречены на позорный провал. Он не обладает ни благообразием, ни достоинствами кровати; каждый, кто обзавелся таким ублюдком, вступает на путь предумышленного и коварного обмана: попробуйте только намекнуть, что вы смутно догадываетесь о цели, коей служит этот предмет, — с каким видом оскорбленной невинности будут встречены ваши слова!»
Диккенсову зарисовку можно назвать агонией кровати. Замысловатое сооружение со спинками, ножками, колонками, горами перин и подушек (и стаями клопов и блох, конечно) исчезало, уходя в прошлое вместе с нерушимостью брака и священностью фамильных уз. Кровать, выставляемая напоказ, уже в позапрошлом веке стала символом мещанской убогости. В нашем отечестве кровать доживала последние дни в советское время, но и то была изгнана на периферию, в деревню, еще хранившую память о добродетельной роскоши купеческих перин. Сегодня кровать окончательно умерла — теперь уже не представить себе кровати, передаваемые по наследству. Кровать умерла — да здравствует кровать! — кровать теперь увидишь разве что в музее, где она столь же удивительна, как скелет мастодонта. Удивительна и ужасающа, зато и привлекательна, как представитель иного бытия. В литературном мире, конечно, знаменита Шекспирова уже упомянутая «вторая лучшая кровать», но она, как и сам Шекспир, некий fiction. Самой художественной, а потому и самой главной кроватью в мире является кровать флорентийская, дошедшая до наших дней хотя и в разобранном виде, зато с персональной историей. Кровать эта, над созданием которой работали лучшие флорентийские художники XVI века, оказалась включенной не только в историю искусств, но и в политику.
19 ноября 1529 года в разделах всех поисковиков, озаглавленных «Новости из Тосканы», запестрели заголовки вроде: «Французы нацелились на спальню», «Флорентийская аристократка не позволила республиканцам залезть в свою постель», «Французы не получили желанную кровать» и т. д. К Тоскане тогда было приковано внимание всего мира. Она в очередной раз была охвачена гражданской войной, в которую влезли главные державы христианского мира — как
183
в Сирию сегодня. Война шла между сторонниками Медичи и сторонниками республики: вся история Флоренции XV— XVI веков состоит из бесконечной череды изгнаний и восстановлений в правах этого семейства. Утратившие власть при Савонароле в конце кватроченто, они опять вернулись на короткое время, потом были изгнаны снова во время установления Второй республики, вновь вернулись, и вот в 1527 году республиканцы, воспользовавшись тем, что сложная политическая игра довела Климента VII, урожденного Джулио Медичи, до войны с императором Священной Римской империи Карлом V и поставила его, а вместе с ним и могущество Медичи на грань гибели, восстали. Папа с Карлом вскоре примирился и, заручившись его союзом, начал войну против республики. Флоренция оказалась в изоляции и стала усиленно искать союзников. Республиканцы, в противовес Карлу с его испанцами, старались склонить к союзу французского короля Франциска I, воздействуя на него всем чем можно, в том числе пытаясь сыграть и на страсти короля к искусству. Известно было, что Флоренция в области искусства впереди планеты всей, вот и было решено преподнести Франциску подборку флорентийских шедевров. Кто ж мог перед таким устоять и не послать свои войска на помощь? Организатором отбора картин и скульптур стал Джованни Баттиста делла Палла, активный противник Медичи, организатор многочисленных заговоров против них, долго мотавшийся в изгнании и возвратившийся во Флоренцию после республиканского восстания. Достойным подарком он счел Брачный чертог Боргерини, спальню, в создании которой принимали участие лучшие мастера Флоренции.
История создания спальни такова. В 1515 году Сальви Боргерини, глава семейства, всегда поддерживавшего Медичи, и один из богатейших банкиров Флоренции, решил сделать шикарный подарок своему сыну Пьер Франческо по случаю его женитьбы на девице из не менее богатого семейства банкиров Аччайуоли, Маргерите. Боргерини был из новых, Аччайуоли же были старой известной аристократической фамилией, поэтому Сальви надо было нечто из ряда вон. Вот он и заказал дизайнерскую комнату, продуманную до мельчайших подробностей, от декора стен до каждого предмета
184
обстановки. Маститый архитектор, скульптор и резчик по дереву Баччо д’Аньоло сделал общий проект комнат и выполнил все работы по дереву, а молодые художники Якопо Понтормо и Франческо д’Убертино по прозвищу Бакьякка украсили стены и мебель картинами с сюжетами из истории Иосифа Прекрасного. Идея спальни, дизайнерской от гвоздя до гвоздя, была экстравагантна, Понтормо и Бакьякка слыли за авангардистов, так что проект был медийный, во Флоренции о нем тут же заговорили, и Сальви своего добился.
Выбор в качестве общего сюжета истории Иосифа интересен и необычен. Его можно трактовать как напутствие Сальви своему сыну, желавшему карьеры Иосифа, то есть стать правой рукой фараона, то бишь Медичи. Примеров столь подробно рассказанной истории Иосифа в живописи больше нет, и флорентийские художники в какой-то степени оказались предтечей Томаса Манна и его романа «Иосиф и его братья». Самым известным произведением цикла считается головокружительно сложная композиция Понтормо, обычно называющаяся «Иосиф в Египте», хотя более правильно было бы ее назвать «Иаков в Египте», так как в основном она посвящена приезду Иакова, отца Иосифа, в Египет. В композиции объединено сразу несколько разновременных сцен. Здесь и египетский триумф Иосифа, и приезд Иакова с сыновьями в Египет, и призвание Иосифом недостающего Вениамина, младшего и единственного полнородного (остальные были лишь единокровными) брата Иосифа из Израиля, и смерть Иакова — в общем, все как в заключительных главах романа «Иосиф и его братья». Композиция головокружительна в буквальном смысле, так как ее центром является лестница, закрученная с футуристической лихостью Татлина, по которой поднимается маленький Вениамин. Параллель с романом Томаса Манна отнюдь не только тематическая. Понтормо в своем «Иосифе в Египте» столь по-модернистски остро объединяет условно фантастическую мифологичность с современностью, что его изобразительное повествование кажется визуальной аналогией повествованию одного из главных романов XX века. Даже сейчас эта картина поражает своей экстравагантностью, так что кажется даже удивительным то, что современниками она, судя по рассказу Вазари, была воспринята с восторгом.
186
Работа над циклом продолжалась пять лет. В процессе к ней были подключены художники старшего поколения, Андреа дель Сарто и Франческо Граначчи, и результатом стал цельный художественный проект. Спальня Боргерини тут же вошла в число достопримечательностей города, ею хвастались перед приезжими, и она чуть ли не первая известная нам европейская парадная спальня. Вот эту-то спальню и решил заполучить делла Палла. После очередного свержения Медичи их сторонник Пьер Франческо Боргерини бежал вместе с ними, оставив дом и семью в республиканской Флоренции. Ограбить оставленное семейство вроде как ничего и не стоило, так что делла Палла, заручившись официальной поддержкой Синьории, отправился к Маргерите, жене, по сути дела, политического эмигранта, и потребовал продать за сумму, им же установленную, семейное сокровище. Но все оказалось не так уж просто, что мы знаем из красочного рассказа Вазари: «Когда исполнители воли Синьории вместе с Джованбаттистой явились в дом к Пьерфранческо, его жена, оказавшаяся дома, осыпала Джованбаттисту величайшими оскорблениями, какие только когда-либо кому-нибудь другому приходилось выслушивать. „Так-то, — кричала она, — ты, Джованбаттиста, подлейший перекупщик, трехгрошовый купчишка, смеешь обдирать всю обстановку покоев, в которых живет дворянин, смеешь грабить город, лишая его самых ценных и самых почтенных вещей, и делаешь ты это, как уже делал и раньше, чтобы разукрасить чужие страны и наших врагов? Не ты меня удивляешь, подлый человек и враг своего отечества, а удивляют меня отцы этого города, которые разрешают тебе столь омерзительные преступления. Эта кровать, за которой ты гонишься ради личной выгоды и жадности, — сколько бы ты свои подлые помыслы ни прикрывал притворной жалостью, — эта кровать — мое брачное ложе, подаренное мне в день нашей свадьбы, в ознаменование которой мой свекр Сальви и создал все это великолепное и царственное убранство; кровать эту я почитаю в память о нем и из любви к мужу и буду защищать ее до последней капли крови, ценой собственной жизни. Убирайся из этого дома, Джованбаттиста, вместе с этими грабителями, пойди к тем, кто послал тебя, позволив унести эти вещи из их род¬
ного гнезда, скажи им, что я не я буду, если допущу, чтобы отсюда вынесли хотя бы одну-единственную вещь. А если те, кто доверился тебе, человеку ничтожному и подлому, хотят что-нибудь поднести французскому королю Франциску, пускай посылают из своих домов: из собственных комнат хоть всю обстановку вместе с кроватями. Если же ты будешь продолжать вести себя так же нахально, ты об этом пожалеешь: я тебе покажу, как люди вроде тебя обязаны уважать дом дворянина”».
Кровать — святыня. Маргерита не побоялась за нее вступить в битву и стояла до конца. Не только не проявив покор- ства, но и выставив делла Палла из дому, всячески его понося, она вышла победительницей в стычке, что характеризует флорентийскую жизнь и определяет ту степень свободы, что была обеспечена каждому частному гражданину Флоренции. Это было неповиновение не только личной инициативе делла Палла, но верховной власти, — попробуй поведи себя так жена какого-либо политического эмигранта при любой другой диктатуре, будь то диктатура Наполеона, Муссолини или Сталина. История Брачного чертога Боргерини — к тому же красноречивый пример двойственности политической ситуации во Флоренции. Сам создатель Брачного чертога, художник Якопо Понтормо, явно сочувствовал республике, но тут его картины оказались картой в руках сторонников Медичи. Он был приверженцем свободы, в республике воплощенной. Но вот кто предатель Флоренции — непонятно: Медичи продали республику и свободу папе и императору, а республиканцы готовы продаться вместе со своей свободой французам. Сам черт не разберет, и фраза Лоренцаччо, мрачного авантюри- ста-тираноубийцы, прирезавшего великого герцога Алессандро Медичи, «Да пошли вы все в задницу со своей свободой» может быть начертана как девиз под гербом Флоренции, под ее знаменитой лилией. Козырем в защите Маргериты стало указание на коллаборационизм делла Палла, так как он в своей помощи французам был отнюдь не бескорыстен, а картины, хотя и находились в частном владении, были городской гордостью. В то же время Медичи входили в город при поддержке немцев и папских войск. Вопрос «С кем вы, мастера культуры?» во Флоренции был актуален всегда, со времен Данте.
188
Что ж, на вопрос ответить нелегко. Решительность Мар- гериты оставила французов без спальни и позволила Вазари видеть Брачный чертог Боргерини в первозданном виде. Республика поддержки от Франциска не получила и вскоре сдалась на милость победителя. Со свободой было покончено, Боргерини наслаждались своей кроватью, но вскоре, уже в конце XVI века, произведения были распроданы наследниками Маргериты и Пьер Франческо, нуждавшимися в деньгах. Вся деревянная резьба Баччо д’Аньоло пропала, картины были размонтированы, некоторая их часть оказалась в собрании Медичи, а большая — разошлась по Европе. Четыре картины Понтормо находятся сейчас в Лондонской национальной галерее, все распылено и разбросано, и как выглядела знаменитая кровать, теперь уже неизвестно. Брачный чертог Боргерини стал легендой, в то время как если бы сделка делла Палла состоялась, то хранился бы он в целости и сохранности в Лувре, куда попали многие картины из коллекции Франциска I. Зато история осталась.
191
Венеция в венецианской гравюре
XVIII века
В
-^^енеция — самый красивый город в мире. Это утверждение стало банальной истиной. Венеция давно уже воспринимается как мираж, сказка, фата-моргана, как нечто слишком прекрасное, чтобы быть реальностью. Кажется, что сам воздух ее пропитан восхищением влюбленной толпы. Когда вы смотрите на Венецию со стороны Бачино Сан Марко, то панорама города с собором, палаццо Дожей, куполом Санта Мария делла Салюте, набережной дельи Скьявони, библиотекой Сансови- ниана напоминает сцену, на которой Венеция, как великая оперная дива, слегка склонилась в гордом и грациозном поклоне перед неистовствующей от восторга публикой.
О Венеции знают все. Многие с детства мечтают побывать в городе, где роскошные дворцы растут прямо из воды, где нет автомобилей, а есть лишь невероятно красивые лодки с изогнутыми, как лебединые шеи, носами, где небо подобно лазури и золотые отблески солнца, отраженные водами каналов, играют на пестрых мраморах.
Название этого сказочного города стало своего рода титулом, вроде «мисс Мира». Такой титул за свою красоту получили в разное время другие европейские города. Амстердам, Брюгге, Петербург с гордостью называли себя Северной Венецией, нисколько не смущаясь тем, что это прозвище ставит его носителя на второе место после жемчужины Адриатики. Быть хоть в чем- то похожим на Венецию — большая честь для любого города.
Счастливец, попавший в эту мечту, не может удержать слез, когда после сутолоки железнодорожного вокзала или аэропорта
катер выносит его на простор Канале Гранде, по сторонам которого ряды блистательных дворцов задумчиво смотрятся в подвижное зеркало, любезно поднесенное к самым их фасадам, и размышляют о своей красоте и славе. Палаццо Коррер, палаццо Вендрамин, палаццо Фоскари, Джустиниани, Реццонико... Сами звуки имен этих зданий похожи на тихий мелодичный звон старинных золотых украшений, перебираемых изящными пальцами прекрасной женщины. Несмотря на гомон туристов, заполняющих многочисленные кораблики, на Канале Гранде почти всегда тихо, и абстрагироваться от назойливой современности в Венеции легче, чем в любом другом месте, — город остался неизменным со времен дожей.
Красоты в Венеции очень много, и с каждым мигом пребывания здесь ее становится все больше и больше — так много, что человеческое восприятие уже с трудом выдерживает. Против Венеции даже поднимается какое-то раздражение, а скептики начинают брюзжать: нет ничего удивительного в этой красоте, если понаставить зданий в воду, то все покажется прекрасным и живописным, жить же в Венеции невозможно, сыро, неудобно, слишком много туристов, а вечерами скучно, пойти некуда, и вообще, город дорогой, тщеславный и ненужный, как меховое манто жарким летом.
Критика Венеции не лишена некоторой справедливости и разумности, но вся эта разумность столь убога в сравнении с мифом Венеции, что даже вспоминать о разуме, находясь в этом городе, как-то немножко стыдно. В Венеции принято слегка сходить с ума, она взяла на себя роль роковой чаровницы, часто доводящей своих возлюбленных до смерти. «Смерть в Венеции» — одна из лучших новелл Томаса Манна — опоэтизировала это болезненное очарование города и стала культурной метафорой, сегодня во многом определяющей отношение к Венеции.
Венеция — один из немногих городов, что оказался неподвластен времени. Современность отступила перед ее красотой, и с XVIII века город практически остается неизменным. Именно в этом столетии, последнем в истории независимости республики, окончательно оформился венецианский миф, который прекраснее, а потому и сильнее любой реальности. Ни один другой город мира не был столь любовно запечатлен
кистью художников, как Венеция, и теперь он неотделим от образа, созданного Мариески, Каналетто, Гварди.
Венецианцы всегда были влюблены в свой город. Первые изображения Венеции, дошедшие до нас, относятся к XV веку1. Несмотря на узнаваемость, они отвлеченно символич- ны, как вся средневековая миниатюра с ее условными городами, восходящими к идеальному прообразу «божественного града». На панорамах в инкунабулах и ранних печатных изданиях повторяется один и тот же вид — Пьяцца Сан Марко. В кватроченто венецианские художники чуть ли не первыми в европейской живописи стали портретировать родной город с поразительной точностью, как это можно видеть на картинах братьев Беллини и Витторе Карпаччо, но все же и в их произведениях Венеция — лишь фон для изображения чуда, а не самостоятельный мотив2. Город становится самодостаточным, не занимающим второстепенного положения по отношению к какому-нибудь событию сюжетом в огромной (135 х 282 см) гравюре на дереве Якопо де Барбари «Панорама Венеции с птичьего полета», вышедшей в 1500 году. Но и в ней заметно желание мифологизировать реальность: Нептун, размерами превышающий палаццо Дожей, въезжает на дельфине в залив Сан Марко и, задрав голову, непринужденно переговаривается с повисшим в небе Меркурием.
Именно потому, что собор Сан Марко и палаццо Дожей стали символами Венеции, они возникают в самых неожи-
1 Вопрос о зарождении ведуты — жанра архитектурных пейзажей — необычайно сложен. Вне пределов рассмотрения остаются северные истоки этого жанра, а также северные параллели итальянской ведуте XVII и XVIII веков. О более ранних изображениях Венеции см. каталог: Venice Panorama. An Exhibition of Views of Venice in Graphic arts from the Late 15th through 18th century. Los Angeles, 1968. Интересно отметить, что первые графические изображения Венеции принадлежали по преимуществу северным авторам, как, например, знаменитая ксилография Эрхарда Ревиха в книге «Sanctae Peregrinationes» («Путешествие в Святую Землю») Бернарда фон Брейденбаха, изданной в 1490 году в Майнце.
венецианские художники чаще, чем художники других итальянских школ, делали родной город фоном для религиозных событий. Достаточно вспомнить «Чудо Креста на мосту Сан Лоренцо» и «Процессию на Пьяцца Сан Марко» Джентиле Беллини, «Чудо с одержимым на мосту Риальто» и «Лев св. Марка» Витторе Карпаччо.
193
данных местах: то как свидетели горя Венеры в картине Се- бастьяно дель Пьомбо «Смерть Адониса», то как декорация божественной кары в гравюре Джулио Сануто «Наказание Марсия». Свобода, с которой художники представляют Венецию участницей сцен из жизни античных богов, приравнивает ее к древним Риму и Афинам, делая ее столь же условно мифологизированной, воплощающей в себе отвлеченную идею древности и величия.
Как бы ни были выразительны эти первые виды, до рождения жанра венецианской ведуты еще далеко. Только во второй половине XVI века в картинах северных художников, работавших в Венеции, Йозефа Хайнца Младшего и Лодовейка Тупута, прозванного Поццосеррато, Венеция перестает быть фоном и становится самостоятельным предметом изображения. В произведениях этих мастеров все та же Пьяцца Сан Марко появляется в связи с чем-нибудь экстраординарным, будь то пожар в палаццо Дожей или одна из торжественных процессий, которыми была знаменита Венеция, но все же перед нами предстают события из реальной жизни города. Работы Хайнца и Поццосеррато, а также художников их круга можно рассматривать как предвосхищение венецианской ведуты XVIII века.
Искать прямых предшественников ведуты все же надо не в самой Венеции, а в Риме. Стоит ли говорить, что с незапамятных времен для европейской культуры именно Рим являлся главным городом Вселенной. Равно знаменитый античными руинами и христианскими святынями, Вечный город в большей степени, чем любой другой в Европе, привлекал паломников и путешественников. Интерес к его памятникам рождал спрос на их изображения, и уже в XVI веке появилась масса гравюр, посвященных римской архитектуре, как древней, так и современной. Часто они были условны и создавались в мастерской художника по воспоминаниям, откорректированным представлениями о том, каким город должен быть в идеале. Для римского пейзажа характерной деталью стала фигура художника, рисующего тот или иной вид на открытом воздухе, и подобное стремление к непосредственному общению с городом и его памятниками чуть ли не предвосхищало практику импрессионизма.
194
Во второй половине XVI века Рим стал признанным художественным центром. Посещение и изучение его древностей стало необходимым для любого живописца, и северяне, в первую очередь нидерландцы и немцы, образовали в Риме целые колонии. С северной старательностью они принялись за изображения руин и пейзажей Кампаньи, привнося в идеальные виды привкус северного натурализма. В XVII веке в Риме расцвела бамбоччата. Так назывались бытовые сцены среди ландшафтов Рима и его окрестностей3. Появилась мода на архитектурные виды и уличные сцены, и многие специализировались именно в этом жанре, как, например, Вивиано Кодацци и Агостино Тасси.
При всей наблюдательности мастеров бамбоччаты Кам- панья в их произведениях предстает некой условной местностью, «где лавр цветет и апельсины зреют». Индивидуальные черты города оказываются несколько стертыми желанием художников создать подобие новой Аркадии, руины интересуют их больше, чем приметы современности. В то же время в 20-е годы XVII века в Риме разворачивается бурное строительство, грандиозные сооружения Бернини и Борромини меняют облик города. Барочный размах смещает акценты в соотношении античности и современности, барочный Рим претендует на то, чтобы встать вровень с Римом древним. В 1665 году в свет выходит серия гравюр Джованни Баттисты Фальды с титулом «II nuovo teatro delle fabbriche et edificii in prospettiva di Roma moderna» («Новое зрелище памятников и зданий современного Рима»), посвященная вновь отстроенному городу и являвшаяся своего рода панегириком новой эпохе. Принципиальным новшеством в ней было то, что представленные на каждой гравюре знаменитая церковь или палаццо вписывались в контекст современной городской жизни. Фальда отходит и от схематизма архитектурного чертежа, и от свободного фантазирования на архитектурные темы.
Именно издание Фальды послужило толчком к созданию в 1703 году серии «Ье fabbriche е vedute di Venezia» («Здания и
3Бамбоччата — особый жанр со своей сложной историей. О римской бамбоччате см.: Blankert A. Nederlandse 17е Eeuwse Italianiserende Landschapschilders. Soest-Holland, 1978.
195
виды Венеции») Луки Карлевариса (1665—1731), с которой и начинается история венецианской гравированной веду- ты. Карлеварис был первым, кто начал писать и гравировать виды Венеции. Его живописные работы имеют аналоги в римской живописи: во многом они напоминают произведения Гаспара ван Виттеля, голландского художника конца XVII — начала XVIII века, большая часть жизни которого прошла в Риме. Ван Виттель создал серию римских видов, которую можно считать чистыми ведутами, а также, во время поездки в Венецию, исполнил несколько панорам залива Сан Марко, оказавших большое влияние на венецианскую живопись, и в первую очередь на Карлевариса.
Как и у римских ведутистов XVII века, у Карлевариса в его композициях, также посвященных какому-нибудь одному сооружению и несколько напоминающих архитектурные штудии, очевидна тенденция к фронтальности. И Фальда и Карлеварис при создании своих серий руководствовались практическими соображениями. Их издания заменяли собой путеводители и памятные альбомы, поэтому некоторая сухость и монотонность офортов обоих граверов объясняется утилитарными соображениями. Они внеэмоционально точно «перечисляют» здания, буквально следуя тексту под изображением: «Церковь Санта Мария делла Салюте», «Другой вид церкви», «Церковь Сан Джорджа Маджоре», «Другой вид церкви» и т. д. Однако при сравнении произведений Фальды и Карлевариса становится очевидной разница между римской и венецианской школами. Как ни близки офорты Карлевариса римским ведутам XVII века, Венеция диктовала художнику особый стиль. В его произведениях помимо воли автора переданы неуловимые колебания воздуха, делающие линии менее четкими и ровными, более нервными и текучими. Несмотря на старание Карлевариса придать своей серии строгую определенность, свойственную римским образцам, воздух Венеции, вечно струящаяся стихия воды, полная отблесков отражений солнца, неожиданные повороты каналов, изгибы мостов и арок, сама атмосфера города требовали от художника большей подвижности и свободы, чем ясно очерченные перспективы Рима.
В видах Карлевариса, само собой, большую роль играет вода. И то, что реальный город предстает перед зрителем по¬
196
вторенным в зеркале каналов, придает реальности оттенок причудливой игры, неустойчивости, столь свойственных венецианскому восприятию. Это сказывается и на манере гравера: его штрихи неровны, часто создают впечатление прихотливой случайности, предвосхищая «Каприччи» Каналетто.
Вдохновленный успехом Карлевариса, издатель Доменико Ловиза в 1715 году готовит к изданию похожий альбом, посвященный Венеции. В 1717 году выходит в свет новый том гравюр «II Gran Teatro di Venezia» («Большая панорама Венеции»), В отличие от «Le fabbriche...» Карлевариса он был результатом работы многих граверов: Джузеппе Валериани, Филиппо Васкони, Карло и Андреа Цукки, а также нескольких мастеров, оставшихся анонимными. Несмотря на авторские различия, издание обладает определенным стилистическим единством. Предполагалось, что «II Gran Teatro...» будет официальным заказом, профинансированным властями, и в своих письмах к Венецианскому Сенату Ловиза всячески рекламирует свое издание, которое должно было служить пропагандой мощи республики и красоты города. Хотя полной правительственной поддержки Ловиза не получил, на серии лежит некоторый отпечаток официозности. Венеция в «II Gran Teatro...» намного схематичнее Венеции Карлевариса, который кажется импрессионистом в сравнении с граверами, работавшими для Ловизы. В то же время именно в последнем собрании гравюр сильнее всего чувствуется интерес к жанровым сценкам, во множестве представленным здесь. Внимание к простонародной жизни, к несколько грубоватым проявлениям нравов, не слишком характерное для венецианской ведуты, выдает зависимость художников «II Gran Teatro...» от влияния римской бамбоччаты.
Использование камеры-обскуры — особый вопрос в истории венецианской ведуты. Этот аппарат, изобретенный в XVI веке, являл собой темный ящик с маленьким отверстием, через которое проникали лучи света, отражавшиеся в зеркале на крышке. Благодаря оптическому преломлению лучи создавали на задней стенке отражение пейзажа, видимого через отверстие-оконце. В XVIII веке этот прибор вошел в моду, им увлекались и художники, и любители. На одном из пейзажей Джанфранческо Косты в серии «Виды Бренты и ее окрестно¬
197
стей» изображена такая камера4. В литературе, посвященной венецианской ведуте, подчеркивается частое использование камеры-обскуры, что не совсем соответствует действительности. К этому аппарату часто обращались мастера-топографы, а для таких художников, как Каналетто или Мариески, камера-обскура была только второстепенным, вспомогательным средством5. В перспективах «II Gran Teatro...» применение камеры-обскуры довольно ощутимо, но недаром они и близки к так называемой народной гравюре — stampe popolare.
Один из граверов, работавший для Ловизы, Джузеппе Валериани, впоследствии по приглашению императрицы Елизаветы Петровны уехал в Россию, где ввел употребление камеры-обскуры для создания петербургских панорам. Под руководством Валериани работал Михаил Махаев, в творчестве которого прослеживается связь с венецианской ведутой начала XVIII столетия.
Серии Луки Карлевариса и Ловизы, как бы ни был различен их уровень, родственны распространенному типу гравированных альбомов конца XVII — начала XVIII века, предназначенных удовлетворять развитый вкус к путешествиям. Подобные издания выходили в то время в Голландии, Франции, Англии. Принципиально другим являлось издание 1737 года «Prospectus Magni Canalis Veneziarum...» («Вид Большого Канала Венеции...») с гравюрами Антонио Визентини по картинам Каналетто.
4Джанфранческо Коста. «Вид канала по направлению к Кьеза делла Мира» (№ 39 из серии «Le delizie del flume Brenta»). На гравюре видно, что камерой-обскурой пользуется не профессиональный художник, а любитель.
Характерным примером интереса к камере-обскуре в непрофессиональной среде могут служить воспоминания А. Т. Болотова: «Однако, сколь я ни беден был тогда деньгами, однако не мог расстаться с одним маленьким ящиком, составляющим камеру-обскуру, посредством которого можно было с великою удобностью срисовывать все натуральные виды домов, улиц, местоположений и всяких других предметов. <...> Я всегда не мог довольно налюбоваться тем, как хорошо на шероховатом стекле изображались и рисовались сами собою все предметы, на которые наводишь выдвижную трубку сего ящика, и не преминул тотчас, пользуясь сим инструментом, срисовать вид той улицы, которая видна была из окна. Сия прошпективистическая картина цела у меня еще и поныне, и я храню ее, как некой памятник тогдашнего времени» (Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим. М., 1986. Т. 1. С. 690—691).
198
Новизна серии Визентини состояла в том, что гравюры, включенные в нее, посвящены не столько прославлению красот Венеции, сколько картинам Каналетто, Венецию изображающим. На первое место выдвигается не сам город, но его интерпретация художником, не Венеция per se, а именно Венеция Каналетто. Этот замысел был определен другом и покровителем Каналетто Джозефом Смитом, состоятельным англичанином, поселившимся в Венеции и проведшим там большую часть жизни. В 1742 году Смит получил звание консула, то есть представителя Британского королевства в Венецианской республике. Он познакомился с Каналетто в конце 20-х годов и стал страстным его поклонником. Смит собрал большую коллекцию картин и рисунков Каналетто, через него художник получал заказы от других любителей живописи, и именно связь со Смитом определила успех Каналетто в Англии. Довольно распространено мнение, что Джозеф Смит был своего рода дилером Каналетто и что издание «Prospectus Magni...» было рекламой картин, находящихся у Смита. Это мнение справедливо лишь отчасти: отнюдь не только соображения выгоды заставили Смита стать инициатором и спонсором этого издания.
В одной из частных коллекций Италии находится картина, написанная тремя художниками: Антонио Визентини, Франческо Цукарелли и Джованни Баттистой Тьеполо. Она представляет интерьер храма Иль Реденторе архитектора Андреа Палладио. Под величественными сводами среди пестрой венецианской толпы заметна группа из шести человек, занятых непринужденной беседой. В них можно узнать Джозефа Смита, рассматривающего план, который протягивает ему Визентини, Тьеполо, стоящего несколько поодаль с неизвестным в платье аббата, и графа Франческо Альгаротти, занятого беседой с приором церкви Иль Реденторе6.
То, что все эти персонажи собрались в интерьере церкви Палладио, не случайно. Альгаротти и Смит были не только известнейшими коллекционерами, любителями живописи и гравюры, но и признанными интеллектуалами своего време¬
бИдентификация персонажей принадлежит Дарио Суччи. См.: Sued D. Sei personaggi in cerca d’autore — Canaletto e Visentini tra Venezia e Londra. Gorizia, 1986. P. 87—94.
199
ни, то есть людьми разносторонними, открытыми самым разнообразным вопросам, а умы просвещенной Европы тогда были заняты вопросами теории архитектуры, воспринимаемыми как онтологические. С одной стороны, первая половина XVIII века — пышное цветение рококо, с другой — начало неопалладианства, к которому проявляли особый интерес англичане. Ранние тенденции неоклассицизма, пока еще более сказавшиеся в теории, чем в практике, были связаны с идеей порядка, простоты и ясности как основы мировой гармонии. Начальные шаги рационализма, затем приведшие к Просвещению и к Французской революции, сделали именно теоретики архитектуры. В Италии первым теорети- ком-радикалом неоклассицизма стал Карло Лодоли, в 1720 году открывший частную школу в Венеции, где преподавал теорию архитектуры. «Сократом от архитектуры» назвал его тесно связанный с ним Франческо Альгаротти. Концепцию Лодоли можно обозначить современным термином «функционализм», и его идеи, основывающиеся на триаде Витрувия «Удобство, устойчивость и прочность», предвосхитили баухауз. Он дошел до пуританского утверждения о превосходстве простого, ничем не украшенного каменного этрусского строения над всей остальной архитектурой. Столь радикальные мысли несколько странно обнаружить в первой половине XVIII века. Притягательны, но и странны они были и для современников; Лодоли внимали с почтением, однако при жизни не вышло ни одного его труда. Его книги увидели свет только после смерти автора, но школа Лодоли и его идеи оказали значительное влияние на Андреа Меммо, Франческо Милиция и Джованни Баттисту Пиранези7.
Теории Лодоли сильно впечатлили и Антонио Визенти- ни, художника, гравера и зодчего. В своих трудах Визентини также выступал против барочной архитектуры, хотя ему и был чужд идейный экстремизм Лодоли. Ясность и простота для Визентини воплощались в творчестве Палладио — мягком, пластичном варианте ренессансной классики, столь же адекватном венецианскому духу, как живопись Джорджоне.
7 О ранних тенденциях неоклассицизма в Венеции и их дальнейшем развитии в Венеции и Риме см.: Neoclassicism. Exibition catalogue. London, 1976.
200
Немногочисленные архитектурные работы Визентини, как, например, палацетто Бальби, перестроенное им для консула Джозефа Смита из средневекового дворца в современный особняк, являются характерными примерами неопалладиан- ства. Встреча Альгаротти, Смита и Визентини в церкви Иль Реденторе знаменательна: своды Палладио как бы осеняют его поклонников и пропагандистов. Интересно отметить, что в эту компанию попадает и Тьеполо, тоже не чуждый, как оказывается, экстравагантных веяний неоклассицизма.
Уже говорилось, что главное отличие серии гравюр Визентини от более ранних состоит в том, что наиболее важной в ней становится интерпретация, а не объективность. К тому же мы имеем дело с двойной интерпретацией: Венеции, запечатленной в картинах Каналетто, и картин Каналетто, воспроизведенных резцом Визентини.
В серии из четырнадцати видов Канале Гранде задача Каналетто не сводилась к фиксации тех или иных городских пейзажей — Венеция должна была быть увидена через призму палладианской гармонии. Художник расширяет и распрямляет пространство, делает мягче и спокойней изгибы Канале. Он ненавязчиво преображает Венецию так, чтобы, не теряя узнаваемости, она предстала перед нами идеально прекрасной. Залитая ровным светом, упорядоченная и счастливая, царица Адриатики превращена Каналетто в город фантастического Золотого века.
Дар Визентини несравним с талантом Каналетто, но для создания серии гравюр с полотен художника вряд ли можно было найти более подходящую кандидатуру. Мастерство гравера Визентини соединял с прекрасным знанием перспективы, что позволило ему легко и точно передать замысел Каналетто. В его гравюрах даже в большей степени, чем в живописной серии, ощутимо желание переосмыслить Венецию. Визентини смягчает перспективные сокращения Каналетто, изображая пространство еще более плавным, текучим, пластичным. Восприятие ровных, сбалансированных панорам не требует от взгляда зрителя ни малейшего усилия, в отличие от восприятия реальной Венеции, города, похожего на лабиринт из узких средневековых улочек и тупичков, в которых может запутаться даже венецианец.
202
На вопрос о цели издания Смита однозначного ответа нет. Четырнадцать видов Каналетто, воспроизведенных в «Prospectus Magni...», оставались в его коллекции до самой смерти, и, по всей видимости, расставаться с ними консул вовсе не хотел. Нет никаких подтверждений и тому, что серия была выпущена как изысканное подарочное издание для друзей Смита. Скорее всего, Смит стремился создать hommage своим вкусам и вкусу своих друзей; в картинах идеальной Венеции воплотились идеи и мечты того интеллектуального кружка, к которому он принадлежал.
Венеция не случайно оказалась подходящим городом для мечтаний неопалладианцев о Золотом веке. В то время как республика переживала политический и военный упадок, ее финансовая и коммерческая деятельность оставалась в относительном порядке. Более того, отказ от большой политики обеспечивал республике возможность достаточно больших капиталовложений в строительство и градоустрой- ство. Правление, не чуждое либеральности, давало свободу мысли и печати, сравнимую только со свободой в Голландии. Остальной континентальной Европе оставалось только завидовать венецианской раскрепощенности и мечтать о чем-то хотя бы подобном. О славе венецианской живописи не приходится говорить: венецианские художники были нарасхват, все европейские дворы, от Испании до России, стремились к тому, чтобы для них работали именно венецианцы. В Венеции процветало книгоиздательство, выходили самые известные в Италии журналы, были самые знаменитые театры и драматурги, самые блистательные примадонны, композиторы и музыканты. Слава красивейшего города, обилие знаменитостей и разнообразие праздников делали Венецию привлекательной для всей Европы. В первой половине XVIII века она имела репутацию центра интернациональной интеллектуальной жизни подобно Риму эпохи неоклассицизма или Парижу эпохи модерна. В то же время, далекая от серьезной европейской политики, с Сенатом, не обладавшим реальной властью и поэтому не слишком назойливо досаждавшим согражданам и приезжим, не обремененная ни религиозным фанатизмом, ни национализмом, Венеция была городом легким, спокойным и радостным, землей обетованной для просвещенного ума.
203
Альбом Визентини — Каналетто увековечил мечту, воплощенную в реальности, в одно и то же время осязаемую и перемещенную в область идеального. Венеция в изображении этих художников — счастливое место, где солнце всегда заливает пейзаж ровным и приветливым светом, — светом условным, слишком ясным и незамутненным, чтобы быть настоящим. Идея прекрасного города, вновь обретенной Утопии, столь характерная для эпохи Просвещения, во многом близка к чаяниям масонства — движения, в XVIII веке привлекавшего немало светлых умов. Масонство в Венеции и венецианском искусстве — отдельная тема. А. Корбос видит масонскую символику в некоторых живописных ка- приччи Каналетто8. Приметы масонства можно разглядеть в знаменитой загадочной картине Каналетто «Двор каменотесов» (Лондон, Национальная галерея). На титульном листе «Prospectus Magni...» также различимы изображения, напоминающие о мистическом братстве каменщиков: солнце истины, чистый пламень, строительные инструменты. Угольник, циркуль, включенные в аллегорию наряду с палитрой, относятся, конечно же, к атрибутам профессии архитектора, но в уме каждого образованного человека того времени они прочно ассоциировались и с символами масонства. Пока нет причин для утверждения, что Смит и его друзья были членами тайной ложи, но город, созданный кистью Каналетто и резцом Визентини, имеет много общего с Храмом Высшей Мудрости, воспетым в «Волшебной флейте» Моцарта.
В 1741 году в свет выходит альбом гравюр Микеле Ма- риески под названием «Magnificentiores Selectioresque Urbis Venetiarum Prospectus» («Избранные великолепные виды города Венеции»). По задачам и по общему решению издание очень походит на альбом Визентини, но по стилю оно не только отличается от классически уравновешенных композиций Визентини — Каналетто, но являет им полную противоположность. Венеция Мариески субъективна и романтична. Художник, как и Каналетто, расширяет пространство, но делает это намного резче, что создает ощущение гиган¬
sCorboz A. Canaletto, una Venezia immaginaria. Milano, 1985. Vol. II. P. 439—470.
204
тизма, Венеции мало свойственного. Мариески преувеличивает размеры зданий, иногда изменяя пропорции, как он это делает с собором Сан Марко и палаццо Дожей, которые в его гравюрах становятся невероятными громадами, похожими на фантастические видения Джованни Баттисты Пиранези.
Конкретным примером романтического субъективизма Мариески может служить гравюра «Кампо Сан Рокко». Во время создания гравюры церковь была лишена декоративной отделки, и Мариески украсил ее по своему вкусу. Фантастическое сооружение, не имеющее ничего общего с реальной церковью Сан Рокко, становится камертоном манеры Мариески. Прихотливое архитектурное каприччо выполнено в стиле рококо, но рококо Мариески отличается от своего французского варианта. Вольная и причудливая игра архитектурных форм французского рококо всегда подчинена плоскости. Архитектор сколько угодно может расшивать невероятными гирляндами стены здания, но основой всегда останется гладкая поверхность, не нарушаемая движением. Плоскость — своего рода архитектурная константа, не позволяющая фантазии превратить здание в иррациональное видение. У Мариески огромные скульптурные рельефы разрывают плоскость, в архитектуре главным становится внутреннее напряжение, динамизм почти физиологический. Сюжеты рельефов не читаются, но по общему впечатлению они напоминают о видениях и триумфах росписей Пьетро да Кортона и Бачиччо. Рококо Мариески, с одной стороны, связано с мистицизмом и мощью барокко, с другой — предвосхищает мятежность и беспокойство романтизма. Мариески-гравер оказал сильнейшее влияние на Пиранези, венецианца по происхождению, и его «Vedute di Roma», столь восхищавшие Теофиля Готье и Виктора Гюго, немыслимы без знания офортов Мариески.
В гравюре «Скуола ди Сан Рокко» (№ 5 из части III «Urbis Venetiarum...») Визентини создает свой вариант этой церкви. Различия разительны: палладианский фасад с коринфскими колоннами, статуи в нишах и строгий фронтон, изображенные Визентини, ничего общего не имеют с фантазией Мариески, и трудно представить, что оба варианта были созданы буквально в одно и то же время в одном и том же городе. Столь же различны и две Венеции — классиче¬
205
ски ясная и спокойная Венеция Визентини — Каналетто и тревожная, романтичная Венеция Мариески. Символично, что в одном из лучших листов серии, «Палаццо Дожей со стороны залива Сан Марко», Мариески изображает заходящее солнце — первый намек на время суток в венецианских ведутах, где до того царил условный счастливый полдень. Заходящее солнце, рассыпавшее свои лучи прямо над башней Пунто ди Догана и фигурой балансирующей на шаре Фортуны, читается как предвидение заката Золотого века, воспетого Визентини — Каналетто.
Ко времени публикации серии Мариески был всего 31 год, а через три года его не стало. Дарио Суччи назвал Мариески метеором, промелькнувшим на фоне венецианской художественной жизни, — столь краток и ярок был его творческий путь. Неожиданная смерть Мариески избавила Каналетто от опасного соперника, представлявшего серьезную угрозу его славе и популярности.
В 1742 году выходит переиздание четырнадцати видов «Prospectus Magni...», к которым добавились еще 24 пейзажа Венеции. А так как Каналетто и Визентини вышли за пределы путешествия по Канале Гранде, то серия изменила название на «Urbis Venetiarum...». Кроме дополнений Визентини сделал доработки старых досок, и издание больше не менялось. Стилистически новые листы едины с гравюрами из «Prospectus Magni...», они лишь только расширяют представление о Венеции, завершая образ гармоничного и прекрасного города. Впрочем, уже в 1741 году Каналетто начал работу над серией собственноручных офортов9, впоследствии объединенных в один альбом и посвященных Джозефу Смиту, под названием «Vedute altre prese da i luoghi altre ideate», что дословно переводится как «Виды, одни взятые с натуры, другие вымышленные».
На выставке представлено пять работ из этой серии. Четыре соотносятся с определенными видами Венеции, пятая — свободное каприччо с использованием мотивов конкретной
9Точной датировки офортов не существует, но наиболее вероятная дата начала работы над первыми листами — 1741 год. См.: Sued D. 1741, anno delle incisioni — Visentini e Canaletto tra Venezia e Londra. Padova, 1986. P. 107—111.
206
архитектуры. Несмотря на то что офорты Каналетто привязаны к натуре, Венеция в них составляет единое целое с архитектурными каприччи серии. Манера художника объединяет и вымысел, и реальность в общий мираж, рожденный солнечными бликами, колеблющимся воздухом и вечно изменчивыми отражениями в водах лагуны и каналов, — мираж обманчивый и неуловимый, напоминающий миф о Нарциссе, который никак не мог настигнуть возлюбленного — свое собственное отражение. Каналетто удается запечатлеть эту зыбкую атмосферу города так, что для современного зрителя Венеция его офортов продолжает оставаться текучей и подвижной, и кажется, что если вы оторвете на миг взгляд от этих листов, то на них все изменится, преображенный город заживет своей жизнью, и, взглянув снова, вы застанете совсем новую сценку, новую композицию, с другими пятнами солнца, иными тенями и рябью на водной глади.
Каприччи Каналетто выходят за рамки истории ведуты. Для этого жанра требуется трезвая рассудительность, слегка похожая на ограниченность, которой в избытке обладал Антонио Визентини. Офорты Каналетто близки по духу к шедеврам венецианской графики, к «Каприччи» и «Скерци ди фантазия» Тьеполо и замечательным «Гротескам» Пиранези. Эти странные творения венецианской фантазии стоят особняком во всей культуре XVIII века. Своим появлением они во многом обязаны столь малоизученному явлению, как dilettanti. В наше время такие определения, как «дилетант» и «дилетантство», приобрели негативный оттенок, но в XVIII веке под словом «дилетант» понимался просвещенный любитель наук и искусств. Дилетантами были и Франческо Альгаротти, написавший «Теорию света Исаака Ньютона для дам», и Антон Мария Дзанетти, рисовальщик, историк искусства, ксилограф-любитель, и Пьер-Жан Мариетт, оставивший замечательную коллекцию гравюр и бесценную историю этого искусства, и консул Джозеф Смит, увековеченный Каналетто. Все эти личности были связаны между собой, они образовали что-то вроде международного сообщества любителей графики, обмениваясь письмами, книгами и графическими листами. Именно это эзотерическое содружество, часто объяснявшееся на языке, непонятном
207
непосвященным, и создало почву для появления экзотических цветов венецианской графики.
Венеция офортов Каналетто почти противоположна упорядоченному миру «Urbis Venetiarum...», творению того же Каналетто и Антонио Визентини. Наверное, объяснение можно найти в том, что сугубо личный заказ консула Смита не предусматривал никакой коммерческой выгоды от этой серии, и художник дал простор своему воображению. Впрочем, полная свобода каприччи может рассматриваться как оборотная сторона razio, свободы разума, провозглашенной Просвещением, столь безоблачно царившей короткое время в Венецианской республике. Как уже говорилось, каприччи Каналетто не укладываются в рамки истории венецианской ведуты, но без них немыслима Венеция Франческо Гварди, зачастую совсем фантастичная и призрачная. Известно, что Гварди прекрасно знал офорты Каналетто и они нередко служили ему прототипами для создания живописных каприччи.
Одновременно с собственноручными «Каприччи» Каналетто выходит последняя совместная работа Визентини — Каналетто — четыре больших вида Пьяццы Сан Марко. Эти гравюры являются логическим завершением «Urbis Venetiarum...», но так как по формату они значительно превосходят другие листы серии, то их выделяют в особую группу. Титульного листа к ним не существует, и остается только догадываться о прямом их назначении. В то же время четыре больших вида Пьяццы Сан Марко относятся к лучшим графическим листам Визентини. Все то, чего хотел достичь Визентини в создании образа Венеции в «Urbis Venetiarum...», воплотилось в этих ведутах наиболее четко и ясно. Пьяцца Сан Марко погружена в тихий, безмятежный сон. Пронизан солнцем воздух, легки тени колоннад, и прозрачно спокойствие неба. Пространство приближено к реальности точки зрения непосредственного зрителя. С несвойственной XVIII веку смелостью Визентини срезает Кампаниле, и столь авангардный прием заставляет вспомнить уличные сцены Дега. Тем не менее художнику удается сохранить идеальную классическую уравновешенность кулисного пейзажа. Большие виды Пьяццы Сан Марко ассоциируются с героическими пейзажами классицизма XVII века, со знаменитой картиной
208
«Ацис и Галатея» Клода Лоррена из Дрезденской галереи, которую Ф. М. Достоевский назвал «Сном Золотого века».
В 1746 году Каналетто уезжает в Англию и возвращается в родной город только через девять лет. С его отъездом в истории венецианской ведуты наступает некоторое затишье, и лишь в 1763 году выходит новая серия гравюр Джамбаттисты Брустолона по картинам Каналетто. Она близка к сериям Ви- зентини, но во многом уступает своему прообразу. Это творение Брустолона можно отнести к репродукционной гравюре, мастерской, но ремесленной, ничего не прибавляющей к живописному оригиналу и никак не интерпретирующей его. Позже Брустолон присоединил к изданию несколько листов, сделанных с Мариески и Моретти, причем, как и в случае с Каналетто (воспроизведенным им по гравюрам Визентини), он пользовался не картинами, а гравюрами или рисунками-копиями, созданными Джованни Баттистой Моретти. Альбом Брустолона прекрасно соответствовал своему значению — быть сувениром для многочисленных путешественников. С досок Брустолона выполнено множество оттисков, так что и сейчас в венецианских лавочках вместе со стеклянными бусами и моделями гондол можно найти листы серии в отпечатках XIX века и купить их за сравнительно небольшие деньги.
В весьма ординарной работе Брустолона есть четыре замечательных листа с изображением ночных праздников. Впервые в печатной графике Венеция предстает перед зрителем не в ослепительном солнечном сиянии, а во тьме, лишь слегка освещенная луной и огнями праздничных факелов. То, что Брустолон создает четыре вида, в то время как до нас дошли лишь две ночных картины Каналетто, послужило причиной многих атрибуционных дискуссий. Несомненным остается то, что их заказал Каналетто немецкий коллекционер Сигиз- мунд Штрейт для берлинского Гимназиума и они должны были знакомить немецкую молодежь с бытом и нравами Венеции. Именно поэтому в пейзажах поставлен акцент не на архитектуре города, а на изображении жанровых сцен. Гордая царица Адриатики из идеального города превращается в место простых и незатейливых развлечений. На первый план выступает не торжественный мир Золотого века, а этнографическая характерность, интерес к которой столь ярко про¬
209
явился в более позднее время, в XIX столетии. Достаточно вспомнить описание Венеции, увиденной глазами интеллектуала фон Ашенбаха, в новелле Томаса Манна. Запах рыбы, прогорклого оливкового масла, резкие крики и живописная нищета — все это, составляющее современную венецианскую жизнь в ее экспрессивной характерности, лишь подчеркивает безмолвную красоту прошлого Венеции. Каналетто остро почувствовал и предвосхитил изменившееся отношение Европы к его родному городу. Несколько нарочитым кажется и то, что в этих последних произведениях художник, погружая город в ночь, как будто продолжает тему сумерек Венеции, начатую заходом солнца на гравюре Микеле Мариески «Палаццо Дожей со стороны залива Сан Марко».
Уже после смерти Каналетто, в 1768 году, выходит другая серия Брустолона, сделанная по рисункам художника, «Праздники дожа». Чем менее реальной становилась власть дожей, тем более пышными делались ритуальные праздники, связанные с церемониями избрания на эту должность, ежегодными официальными посещениями храмов, масленицей (временем знаменитого карнавала). Характерно, что идея издания этой серии возникла именно во второй половине XVIII века — последнего столетия самостоятельности Венеции. Власть словно почувствовала необходимость с помощью гравюр закрепить в памяти потомков обряды как раз тогда, когда они, перестав быть потребностью реальной жизни, превращались в торжественную и ничего не значащую декорацию.
В листах Брустолона, столь привлекательных как документальное свидетельство венецианской жизни XVIII века, есть определенная механистичность и сухость. Фигуры людей напоминают марионеток, которые разыгрывают представление пьесы, написанной о Венеции, но уже не Гольдони, а много позже, может быть уже и в XIX столетии, может быть — пером Гофмана, переложившего «Дожа и догарессу» для кукольного театра.
История живописной венецианской ведуты не кончается на Каналетто. Во второй половине XVIII века расцветает гений Франческо Гварди, который создает совершенно новый образ города, продолжая и развивая романтические тенденции Мариески. Сам Гварди не занимался гравюрой, и дух его произведений ближе всего к офортам Каналетто с их тре¬
петаньем коротких и нервных штрихов. Однако те возможности, что открывала серия «Каприччи», не были использованы последующими граверами. Впрочем, вокруг Гварди работали талантливые мастера, и хотя листы Антонио Санди и Диониджио Валези не передают всей прелести живописи художника, они достаточно интересны как последний этап венецианской ведуты XVIII века. Для этих граверов нет никакой разницы между реальным городом и импровизацией на венецианские темы — они превращают город в сказку, в пленительный вымысел, стирающий грань между прошлым и настоящим, между действительностью и воображением.
Картина Венеции была бы не полной без включения в нее сцен городского быта, привлекавшего своим своеобразием многочисленных путешественников. Граф Бекфорд так описывает в своей книге «Италия и очерки Испании и Португалии» венецианскую жизнь: «Я никогда не решился бы ставить венецианцев примером живости. Их нервы, ослабленные ранними излишествами, не производят потока душевных сил, но, самое большое, доставляют только отдельные минуты обманчивого и лихорадочного подъема. Приближение сна, отгоняемого неумеренным употреблением кофе, делает их вялыми и тихими, а легкость, с которой зыбкая гондола переносит их с места на место, еще увеличивает их склонность к неге. Одним словом, они кажутся мне не менее преданными праздности и бездействию, чем их восточные соседи, которые, благодаря своему опиуму и своим гаремам, проводят всю жизнь в одной непрерывной дреме»10. Гравюры Франческо Бартолоцци, Джузеппе Флипара и Джакомо Леонардиса с картин Пьетро Лонги и Доменико Тьеполо иллюстрируют этот вальяжный быт, эту смесь роскоши и живописной нищеты, лени и живости, непринужденности и ритуальности. И как знак блестящего и ветреного венецианского XVIII века, столь привлекательного для всей европейской культуры последующего времени, может рассматриваться гравюра Леонардиса с чудного произведения Джованни Доменико Тьеполо, называющаяся «Allegria di carnavale» — «Веселье карнавала».
10 Цит. по: Бекфорд У. Ватек. М., 1992. С. 12.
213
Апология стрекозы
Золотой век
«А
lie sen est, et je
demeure»
— «Оно (время юности) ушло, а я продол¬
жаю жить». Эта строчка из «Большого завещания» Франсуа Вийона, являясь результатом личного опыта автора, в то же время, как всегда у великих поэтов, превращается в общечеловеческое обобщение. Действительно, сколько бы ни молодилось человечество, сколько бы ни пыталось обновиться за счет свежей крови варваров, войн и революций, оно безнадежно старо. Самое печальное, что старость приходит к каждому отдельно взятому его представителю и ничего от нее не избавляет, кроме смерти.
«Alle sen est», оно ушло, время юности человечества. А хорошее было время! Люди были близки к богам как никогда. Они не знали печали, не знали болезней, радости тоже не знали, ибо радость была постоянна. А чем постоянная радость отличается от печали? Они были прекрасны собой, но не ощущали этого, потому что, когда прекрасны все, красота кажется нормой, а не особенностью, и тогда красота не приводит к гордости, высокомерию и самовлюбленности. В красоте своей они все были равны, поэтому им было нечего ни скрывать, ни показывать. Любые их желания тут же исполнялись, поэтому они были скромны, никогда не желали неисполнимого, так что желания никому не приносили мучений. В своей удовлетворенности они не знали пресыщенности; удовлетворенность и скромность — две родные сестры, а порок — сын стыда и алчности, младший брат самомнения. Никто ничего не боялся, не боялся даже смерти, смерть была легка, как полуденный сон, и отсутствие страха будущего и страха смерти превра-
щали каждый миг в вечность, преодолевая время, которого, в общем-то, не существовало. Время — главный враг счастья, а тогда, как рассказал нам Гесиод в своей поэме «Труды и дни», «...жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою, горя не зная, не зная трудов. И печальная старость к ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили, а умирали, как будто объятые сном. Недостаток был им ни в чем неизвестен. Большой урожай и обильный сами давали собой хлебодарные земли. Они же, сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства».
Гесиод не упоминает Золотой век, используя выражение Xpvaeov yevoq, что можно перевести как «золотой род». То есть не век, а именно род, не временное, историческое состояние человечества, а физическое. У Гесиода люди «золотого рода» не то чтобы были нашими предками — они были совсем другим племенем, генетически от нас отличным и впрямую никак с нами не связанным. Люди «золотого рода» исчезли, ничего не оставив нам в наследство, кроме воспоминаний, и во время их существования ни о каком веке не могло идти и речи, так как само понятие времени отсутствовало.
Гесиод, размеренный и вдумчивый трудяга, поэт «почвы и крови», воспевающий простые радости жизни и очень любящий давать практические сельскохозяйственные советы, в своем описании «золотого рода» очень похож на мудрого муравья, возбудившегося от рассказов стрекозы о том, как она проводила лето, и оформившего стрекозиные сбивчивые воспоминания в строгое и стройное повествование о прошлом. Всем грекам повествование понравилось, да и не могло не понравиться: в греческой мифологии с будущим было как-то очень тускло, Аид представлялся мрачным подвалом, полным мокриц и пауков, так что лишенным какой-либо надежды на будущее грекам хотелось думать, что хоть в прошлом, хоть у кого-то из смертных все было не так уж и плохо. Особенно история Гесиода понравилась поэтам Александрии, восточного мегаполиса с греческой культурой, выстроенного Александром Великим, города нового и современного, этого Нью-Йорка эллинизма. Под впечатлением от рассказа о «золотом роде» Феокрит и его сподвижники выдумали блаженную Аркадию, населенную пастушками и па¬
стухами, проводящими время легко и счастливо, занимаясь лишь любовью и игрой на свирели. Аркадия Феокрита ничего общего не имела с реальной греческой Аркадией, суровой и бедной местностью, где рыскали волки и медведицы, но в выдуманную александрийцами страну так приятно было убежать от жары и пыли эллинистического Нью-Йорка, пусть даже ее и не существовало. Поэзия сильнее истории, и Аркадия александрийских поэтов, находясь в условном поэтическом пространстве, обрела вечность, в то время как в реальную Аркадию даже туристы сегодня не ездят.
В Риме первым о счастливых временах завел речь Тит Лукреций Кар в поэме «О природе вещей». Этот отец материализма, марксизма и научного коммунизма был столь же суров, как и Гесиод, но еще и склонен к наукообразности. Картина прошлого, нарисованная Лукрецием, чем-то напоминает о характерном для современной России стоне о временах, когда страна была шире, полей и лесов было больше и груди вольнее дышали: «Прежде порода людей, что в полях обитала, гораздо крепче, конечно, была, порожденная крепкой землею. Остов у них состоял из костей и плотнейших и больших; мощные мышцы его и жилы прочнее скрепляли. Мало доступны они были действию стужи и зноя иль непривычной еды и всяких телесных недугов. Долго, в течение многих кругов обращения солнца, жизнь проводил человек, скитаясь, как дикие звери. Твердой рукою никто не работал изогнутым плугом, и не умели тогда ни возделывать поле железом, ни насаждать молодые ростки, ни с деревьев высоких острым серпом отрезать отсохшие старые ветки. Чем наделяли их солнце, дожди, что сама порождала вольно земля, то вполне утоляло и все их желанья. Большею частью они пропитанье себе находили между дубов с желудями, а те, что теперь созревают, — арбута ягоды зимней порою и цветом багряным рдеют, ты видишь, — крупней и обильнее почва давала. Множество, кроме того, приносила цветущая юность мира и грубых кормов для жалких людей в изобилье. А к утолению жажды источники звали и реки; как и теперь, низвергался с гор, многошумные воды жаждущих стаи зверей отовсюду к себе привлекают».
Далее Лукреций повествует о том, как люди стали мельчать и выдумывать всяческие несправедливости. Смысл его
рассказа мало чем отличается от дарвиновской теории эволюции и сказочек о семье, частной собственности и государстве, которыми до сих пор кормится наука, но по языку Лукреций намного выразительней. Поэма «О природе вещей» более исторична, чем мифологична, но все же это — поэма, и именно она послужила основанием для замечательной классификации человеческой истории, оформленной Овидием. Овидий первым заговорил о Золотом веке, создав лучшее его описание: «Первым век золотой народился, не знавший возмездий, сам соблюдавший всегда, без законов, и правду, и верность. Не было страха тогда, ни кар, ни словес не читали грозных на бронзе; толпа не дрожала тогда, ожидая в страхе решенья судьи, — в безопасности жили без судей... не было шлемов, мечей, упражнений военных не зная, сладкий вкушали покой безопасно живущие люди. Также, от дани вольна, не тронута острой мотыгой, плугом не ранена, все земля им сама приносила. Пищей довольны вполне, получаемой без принужденья, рвали с деревьев плоды, земляничник нагорный сбирали, терн и на крепких ветвях висящие ягоды тута иль урожай желудей, что с деревьев Юпитера пали. Вечно стояла весна; приятный прохладным дыханьем, ласково нежил эфир цветы, не знавшие сева. Боле того: урожай без распашки земля приносила; не отдыхая, поля золотились в тяжелых колосьях, реки текли молока, струились и нектара реки, капал и мед золотой, сочась из зеленого дуба».
Вот это уже Золотой век на все сто. Овидием узаконено деление истории человечества на три основных периода: век Золотой, век Серебряный и век Железный, — благополучно дожившее до сегодняшнего дня. Ну и чем же мы лучше древних авторов? Заменили золото на камни, серебро на бронзу, железо до сих пор оставили нетронутым и понаписали учебников, не более правдивых, чем поэмы Гесиода, Лукреция и Овидия, но только гораздо более скучных. Ведь правда то, что «землю теперь населяют железные люди. Не будет им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя и от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им... Чуждыми станут приятель приятелю, гостю — хозяин. Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то; старых родителей скоро совсем почитать перестанут... И не возбудит ни в ком уваже¬
216
нья ни клятвохранитель, ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право. Стыд пропадет»... Это тоже Гесиод написал — как в воду глядел.
Но главным певцом Золотого века стал поэт всех поэтов Вергилий, в IV эклоге своих «Буколик» перенесший Золотой век из прошлого в будущее:
«Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской, сызнова ныне времен зачинается строй величавый, Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство. Снова с высоких небес посылается новое племя. К новорожденному будь благосклонна, с которым на смену роду железному род золотой по земле расселится. Дева Луцина! Уже Аполлон твой над миром владыка. При консулате твоем тот век благодатный настанет, о Поллион! — и пойдут чередою великие годы. Если в правленье твое преступленья не вовсе исчезнут, то обессилят и мир от всечасного страха избавят. Жить ему жизнью богов, он увидит богов и героев сонмы, они же его увидят к себе приобщенным. Будет он миром владеть, успокоенным доблестью отчей. Мальчик, в подарок тебе земля, не возделана вовсе, лучших первин принесет, с плющом блуждающий баккар перемешав и цветы колокассий с аканфом веселым. Сами домой понесут молоком отягченное вымя козы, и грозные львы стадам уже страшны не будут.
Будет сама колыбель услаждать тебя щедро цветами. Сгинет навеки змея, и трава с предательским ядом сгинет, но будет расти повсеместно аммом ассирийский. А как научишься ты читать про доблесть героев и про деянья отца, познавать, что есть добродетель, колосом нежным уже понемногу поля зажелтеют, и с невозделанных лоз повиснут алые гроздья; дуб с его крепкой корой засочится медом росистым. Все же толика еще сохранится прежних пороков и повелит на судах Фетиду испытывать, грады поясом стен окружать и землю взрезать бороздами. Явится новый Тифис и Арго, судно героев избранных. Боле того: возникнут и новые войны, и на троянцев опять Ахилл будет послан великий. После же, мужем когда тебя сделает возраст окрепший, море покинут гребцы, и плавучие сосны не будут мену товаров вести — все всюду земля обеспечит. Почва не будет страдать от мотыг,
от серпа — виноградник; освободит и волов от ярма хлебопашец могучий; шерсть не будет хитро различной морочить окраской, — сам, по желанью, баран то в пурпур нежно-багряный, то в золотистый шафран руно перекрашивать будет, и добровольно в полях багрянец ягнят принарядит».
У Вергилия гениально прописана картина остановившегося времени, сливающая прошлое с будущим, здравый смысл муравья, живущего настоящим, с фантастическим стрекозиным трепетом об утерянном прошлом. Четвертая эклога стала образцом всех утопий. Своим золотым свечением она пленила и христиан, увидевших в ней предсказание Рождества Христова и наступление нашей с вами эры. Впрочем, ничего хорошего ни Риму, ни кому-либо еще наша эра не принесла. Что бы там ни пророчествовал Вергилий, Железный век все продолжается. Христианство Четвертой эклогой восхитилось, но Золотого века не обрело, позаимствовало у сурового иудаизма образ потерянного рая и безжалостно поместило человечество в промежутке скорбного существования между блаженством утерянным и блаженством грядущим, смутно обещанным немногим избранным. А так, на все время земного существования каждого христианина, «проклята земля за тебя: со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Золотым веком и не пахнет, а только пот лица твоего, «доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься». Потом, может быть, что-то и будет, но и то — сомнительно.
Оставаться равнодушным к проклятью, наложенному христианством на самое себя, к этому страшному унижению, нанесенному себе самому, в искупление бесчисленных грехов, навешенных на каждого новорожденного его прародителями задолго до его появления на свет, было невозможно. Кто виноват, что Адам с Евою хотели быть как боги, знающие добро и зло? Как хотелось бы о добре и зле забыть, не возделывать землю, из которой ты взят, а верить в то, что хоть когда-то все было хорошо! Мир, конечно же, темница, но можно же позволить себе мечту и из камеры своего земного существования создать пространство, подобное «Отелю» Гийома Аполлинера: «В окно мне солнце подало огня как узнику еду принося в
218
клетку от жара наступающего дня прикуриваю молча сигаретку работать не хочу хочу курить».
«Работать не хочу, хочу курить» — вполне естественное желание. Столь же естественное, как желание вытащить рыбку из пруда без всякого труда и влезть на елку, зад не ободрав. Именно оно всегда двигало человеком, несмотря на проповеди аскетов с горящими глазами. Быть может, труд и сделал из обезьяны человека, но человека человеком делает только стремление к безделью. Оно, это стремленье, идеально, а следовательно, безнадежно, но многое ли из того, к чему стремилось человечество, было реализовано? Что может быть благороднее, чем погоня за призраками и охота на миражи, вожделение к несуществующему и одержимость воображаемым? Да ничего. Муравей обречен ползать, а стрекоза летает. Ничего лучше Золотого века человечество не придумало.
Верил ли кто-нибудь когда-нибудь в Золотой век? Верили ли в Золотой век минувший Гесиод, Лукреций и Овидий и в Золотой век будущий Вергилий, Чернышевский, а вслед за ним — Малевич и Ульянов? Сомнительно, чтобы они всерьез воспринимали свои собственные россказни о блаженном промискуитете, о благостной природе, в изобилии рождающей все что душе угодно, о хрустальных дворцах, об отсутствии социальных противоречий и о летающих городах-про- унах. Сомнительно, но все равно, этот дурацкий Золотой век так манящ и так привлекателен, само словосочетание будит какие-то сладостные чувства, какую-то надежду на то, что все не так уж и плохо. Ведь эта так называемая реальность отвратительна, ибо «сердце в будущем живет; настоящее уныло: все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило». Прошедшее при этом милее будущего, Золотой век милее Утопии.
Давно уже развеян миф о счастливом детстве человечества, исчезла малейшая надежда на возможность существования безоблачной Аркадии где-то в прошлом, никто не ищет невинных и прелестных дикарей, довольствуясь фешенебельными курортами на экзотических островах. Уже в девятнадцатом веке жесткое прикосновение позитивизма превратило эфемерный Золотой век, выпестованный античностью, в палеолит и неолит, в весомый каменный век, и вечно юные хороводы прекрасных людей из древних мифов обратились
219
в стада волосатых чудовищ. Исторический позитивизм не оставил места для поэтической фантазии ни в прошлом, ни в будущем и повел себя как царь Мидас «наоборот», превращая золото в камни. Историзм утверждает, что человек определяется не своим происхождением, данным ему свыше, а историей, сотворенной его руками. Все надо самому делать — и рыбку тащить, и на елку лезть. Время секуляризуется, и никакая магия больше не озаряет начало бытия. Нет ни взлетов, ни падений, а лишь бесконечный ряд событий, делающий нас такими, какие мы есть сегодня. Нет особых различий и предпочтений между этими событиями; все они заслуживают воскрешения в памяти и оценки историографическим анамнезом. Перед Богом все исторические события равны, как и перед историей, и История встает на место Бога.
Может, и справедливо, но довольно тупо. Что ж, глупость всегда наказуема, и, подобно Мидасу, своему мифологическому прообразу, историзм оказался наказанным за свою жадность. Превратив все вокруг в камни, доведя сам себя до отчаяния, умирая от голода в своем позитивистском тупике археологической достоверности, современный историзм пытается вернуть потерянную мечту любым способом, представляя Золотой век там, где его с трудом различал самый лицемерный царедворец. Золотой век в елизаветинской Англии, в Испании Филиппа IV, в николаевской России — этот ряд можно множить бесконечно — привел к утверждению, что Золотой век есть у каждого из нас, — спасительная реакция на отнятую мечту. Распрощавшись с мифологической картиной Золотого века, мечту мы превратили в убеждение, что Золотой век конкретен и что он есть у каждой страны, каждой культуры, каждой истории. Более того, мы старательно убеждаем себя в том, что Золотой век есть у каждого человека, и когда обман мифологической истории оказался развенчанным, его место заняла безумная погоня за «утраченным временем», не менее иллюзорная и утомительная, чем придворные пасторали маньеризма.
Мы в Золотой век не верим, но чтобы мы без него делали? Счастлив, конечно, тот, кто вслед за Фукуямой считает себя существующим в постисторическом пространстве, подобном Золотому веку Гесиода, и всегда доволен настоящим, то
есть собой, своим обедом и женой, кого раздражает трескучий интеллектуализм трепливых бездельников и кто превыше всего ценит достоверность информации, а все это пресловутое искусство сводит к прослушиванию четвертой части Третьей симфонии Брамса в своей машине по пути на дачу. Чудное муравьиное удовлетворение от самого себя, положительное, позитивное, на котором держится мир. Впрочем, оно интересует только хозяев муравейника, а мир муравейником не исчерпывается. Стрекозы тоже существуют.
Золотой век исчез из времени и географии. Ни тебе Аркадии, ни тебе Эдема. Так, литературная фикция, простой сюжет. Но этот сюжет продолжает трепать нервы, превращаясь то в карикатуру, то в гротеск. Над Золотым веком издеваются как могут, но, даже обезображенный до неузнаваемости, он продолжает существовать, хотя идиллистические пейзажи Клода Лоррена превращаются в притоны, населенные монстрами-извращен- цами, наподобие сюрреалистического «Золотого века» Дали и Бунюэля или его ремейка, «Республики Сало» Пазолини. Христофор Колумб и Поль Гоген также страдали ностальгией по Золотому веку: они искали его и считали, что смогут найти его за далекими морями. И Колумб, и Гоген ошиблись: ни Гаити, ни Таити ничего общего с Золотым веком не имеют.
Сегодня Золотой век часто смешивается с Утопией, более поздним и более безжалостным порождением человеческого разума, и, расширяясь, захватывая все новые и новые области сознания, Золотой век, утратив какую-либо определенность, смысл и образ, расплылся, расползся, мы видим его везде и во всем. Кто-то пытается распознать его во Флоренции времени Медичи, а кто-то — в покинутом величии ВДНХ. Но сильнее всего нас захватило открытие Фрейда, что у человека существует изначальный период, в котором все решается, — очень раннее детство — пренатальный рай и время до отнятия от груди. Это и есть Золотой век, присутствующий в каждом из нас, стрекозиное лето, время великого счастья, полной безответственности и чудной праздности, оканчивающееся необходимостью вступать в мир реальности, воспринимаемой как катастрофа. Но, какова бы ни была позиция взрослого по отношению к этому изначальному счастью, именно оно формирует смысл его бытия.
223
Желуди-яйца Золотого века
Мир без греха
П рямоугольное
пространство, почти лишенное архитектуры. Неприметные двери и полное отсутствие окон создают впечатление замкнутости: камера, сарай, гараж. Что-то очень функциональное, техническое. Отсюда и ощущение узости и тесноты, подчеркнутое еще и тем, что все пространство заполнено людьми, плотно пригнанными друг к другу, так что движение каждого стеснено движением общей массы. Толпа — всегда толпа и везде толпа, так что различные индивидуальные импульсы, исходящие от каждой частички, ее составляющей, сливаются в общий неустойчивый и неровный гул, быстро растущий, как снежный ком, вбирая в себя какие-то различные движения и звуки, — гул, через некоторое время становящийся нервно-раздирающим, непереносимым. Тогда чудесным образом над толпой проносится глас, призывающий к тишине на мировых языках: итальянском, испанском, английском, немецком, французском, японском и польском. Толпа на несколько мгновений стихает и как бы замирает притихнув. Потом шум, зародившись в нескольких отдельных ее участках, опять растет, сливается в общий гул, нарастает до мучительности почти невыносимой, — и снова глас, и снова спад, и снова все повторяется. Глас свыше напоминает о чуде смешения языков при строительстве Вавилонской башни. На потолке множество картин, разглядеть их трудно, они все наверху, далеко, надо высоко задирать голову, все неудобно, толпе тяжело. В принципе, толпа знает, зачем сюда явилась, но что
дальше? Что это? Это — самое священное место западной европейской цивилизации, Сикстинская капелла. И что с того? На фоне потолка Сикстинской капеллы невозможно сфотографироваться.
Кому, на что нужна Гекуба? А вот, поди же, все рыдают. По крайней мере, толпятся.
В пространство Сикстинской капеллы втиснута вся история человечества, от момента его сотворения до последнего дня. Пещеры Альтамиры, цивилизации Междуречья, Инда, Волги и Янцзы, древней Мексики и острова Пасхи, Эллада эллинов, императорский Рим, готы, вандалы и гунны, завоевания Чингисхана, битва на Калке, крестовые походы, наполеоновские войны, все революции, все перевороты, Холокост, Гулаг, Хиросима и Нагасаки, одиннадцатое сентября, война в Осетии, ты, я, наши дети и дети детей наших. На самом деле в капелле тесно от мира, а не от реальной толпы, лишь покрывающей пол капеллы. Пространство перенасыщено историей человечества. Свершения же человеческие — грехи его, и о грехах и наказаниях за грехи и повествуют картины капеллы. О чем, кроме греха, еще можно говорить, говоря о человечестве? Вот оно, творение Бога, от легкого прикосновения Духа пробудилось к жизни, и первое дыхание неуверенно и смутно пробежало робким движением по совершенному телу, и пробудился человек, и встал, и начал грешить. Тут же. Его изгоняют, и потоп обрушивается на него, и в распалубках секут человекам головы, и извивается человек, распятый за грехи свои и клевету свою, и яд от змей терзает тело его, и сумрачны предки Иисуса в своих тесных треугольных темницах, задумчивы и грозны пророки и сивиллы, и никто из них ничего хорошего не предвидит. В прошлом — грехи, в будущем — расплата.
Среди этого повествования о грехах и наказаниях на постаменты пилястр, отделяющих друг от друга сивилл и пророков, занятых поиском указаний на явление грядущего Искупителя, уселись двадцать обнаженных юношей. Странны они и непонятны. Кто это, откуда пришли? Юноши отделены от сцен на потолке, изображающих допотопную историю, они существуют в своем собственном пространстве, не имеющем ничего общего ни с пространством сивилл и пророков, ни с
пространством предков Христа, ни, тем более, с пространством истории Ветхого Завета. Юноши заняты каким-то условным, необыкновенным действием: перебирают ленты, обвивающие бронзовые медальоны у их ног, и изнемогают под тяжестью гирлянд огромных, монструозных желудей, упакованных во что-то, напоминающее рога изобилия. Желуди какие-то невероятные, они вываливаются из гирлянд, лезут в разные стороны, тяжелые, агрессивные, так что некоторым юношам приходится придерживать их, чтобы они не свалились прямо на головы посетителям. На медальонах же изображены сцены из истории все того же человечества, то есть убийства и смерти по преимуществу: убийство несчастного Абнера, смерть порочного Иорама, смерть невинного Урии, смерть смазливого Авессалома, погибшего из-за красоты своих волос, разрушение Ваала. Юноши идеально красивы и идеально грустны в своей загадочной отрешенности.
Зачем они тут уселись, что они здесь делают, посреди истории Ветхого Завета? Что это? Массовка, смутный объект желаний Микеланджело, мужской стриптиз для папы Юлия II? Что это за календарь Пирелли с голыми футболистами? Чего только про них не говорили! Ими и восхищались, их и проклинали и даже сбить хотели, так как благочестивый фламандец папа Адриан называл потолок капеллы «блядской банькой». Для чего только их не использовали, да и сейчас используют! Кто они?
Ломали над этим головы многие. Для неоплатоников эти юноши, получившие кличку ignudi — «обнаженные» (а может, лучше и просто — «голые»), — означают богоподобное совершенство античности. Их идеальная красота есть воплощение высшего совершенства, но божественная мудрость им невнятна, так что они находятся в христианском Элизиуме, то есть печальном месте, где скитаются тени великих людей античности, без страданий и без надежды, так как ада они избегли, но и сияние рая им недоступно. Повязки на их головах, похожие на повязки победителей на Олимпийских играх, свидетельствуют о принадлежности к миру триумфов, но тоска, разлитая по их лицам, скованность поз, напоминающая о рабстве, говорят о неутоленной жажде высшего, божественного откровения, от них утаенного, хотя и открытого нахо-
225
дящимся рядом пророкам и сивиллам. Обнаженные юноши пребывают в переходном мире, они более близки зрителю и, соответственно, современности, чем пророки и сивиллы, носители великого знания о грядущей жертве искупления, но в то же время они гораздо менее значительны. Но как бы ни было сомнительно их положение, все же их место — в светлом мире потолка, они ближе к акту Творения, чем предки Иисуса, заключенные в тесный сумрачный мир люнетов.
Для ортодоксальных христиан, пытающихся оправдать Микеланджело, эти юноши — соучастники священнодействия христианского богослужения, каждый день, снова и снова, повторяющего чудо Преображения хлеба и вина в плоть и кровь Господа нашего. Гирлянды с желудями в их руках являются аллюзией на мистическое дерево жизни, lignum vitae святого Франциска, соотносящееся с дубом — символом семьи делла Ровере, к которой принадлежал папа Юлий II. Юноши прославляют ныне живущего папу — наместника Иисуса на земле, а бронзовые медальоны у их ног — намек на дискосы, то есть на церковные сосуды, на которых во время евхаристического канона совершается освящение и пресуществление агнца. Грусть и сосредоточенность их лиц есть некий знак избранности, причастности к торжеству преображения и священнодействия. Антикизированная же их красота — намек на предвосхищение христианского богослужения в языческом жертвоприношении, распознаваемый либеральными западными теологами в библейской символике со времен Средневековья.
Все хорошо, но почему же голые? Что за переизбыточ- ность в мистических откровениях, предназначенных украшать место, где возгорается чудесным образом свеча в руках кардинала, избранного Богом земным наместником Иисуса? Ведь дерево жизни имеет четкую иконографию со времен Средневековья, и представить себе его ободранным до состояния вороха листьев и желудей довольно трудно. Безусловно, желуди — намек на семейный герб делла Ровере, семейства Юлия II, заказчика росписи, а дерево делла Ровере, безусловно, интерпретировалось как «дерево жизни», но вряд ли ноша прекрасных юношей может быть соотнесена напрямую с откровениями святого Франциска. Да и сами
юноши в том виде, в каком они изображены Микеланджело, вряд ли могут быть участниками в обряде Преображения: несмотря на всю ренессансную свободу нравов, все же Юлий II не решился бы включить в обряд богослужения двадцать голых красавцев, даже если бы и очень этого захотел. Мадонн Синьорелли и микеланджеловское Святое Семейство в «Тондо Дони» сопровождает целая толпа обнаженных молодых людей, и неоплатонизм не сомневается в уместности их присутствия в данной ситуации, но как раз там они намекают на грешную античность, уходящую в прошлое с появлением Спасителя. Ренессансный художник, изображая античное богослужение, часто прозревает в нем предвестие христианства, но обратный ход мысли — угадывание в церковной литургии языческих мотивов — кощунственен, даже с точки зрения завсегдатая садов Медичи. Да и дискосы у ног несколько сомнительны: все эти смерти и убийства мало вяжутся с идеей искупления. Что же это за желуди в руках и на плечах секс-символов XVI века, а вслед за ним и всего просвещенного человечества? Сидят, манят. Тьфу, гадость католическая.
В «Иконологии» Чезаре Рипы, настольной книге художников, есть описание Золотого века, представляемого им как «прекрасная женщина в золотых одеждах и туфлях, держащая в одной руке соты, а в другой дубовую ветвь с желудями». В другой книжке, «Эмблемата», пальма, растущая вместе с дубом, также представляет аллегорию Золотого века. Испанец Гонгора пишет в своей поэме о Полифеме и Галатее о дубах и желудях al siglo de ого, а в более поздних изображениях конца XVI — начала XVII века, когда иконография Золотого века уже окончательно будет установлена, желудь однозначно станет его символом.
В свою очередь, все эти иконологии и эмблематы основываются на развитой античной традиции. Практически у всех античных авторов, трактующих этот миф, в качестве главного атрибута Золотого века фигурируют дубы и желуди.
У Овидия желудь — главный продукт питания этих счастливцев: «Также, от дани вольна, не тронута острой мотыгой, / Плугом не ранена, все сама им земля приносила. / Пищей довольны вполне, получаемой без принужденья, / Рвали с де¬
ревьев плоды, земляничник нагорный сбирали, / Терн, и на крепких ветвях висящие ягоды тута, / Иль урожай желудей, что с деревьев Юпитера пали».
Овидию вторит Лукреций: «Чем наделяли их солнце, дожди, что сама порождала / Вольно земля, то вполне утоляло и все их желанья. / Большею частью они пропитанье себе находили / Между дубов с желудями, а те, что теперь созревают — / Арбута ягоды зимней порою и цветом багряным / Рдеют; ты видишь, — крупней и обильнее почва давала».
За Лукрецием следуют Вергилий и множество других античных авторов, причем остальные растения могут меняться, дуб же остается основным деревом Золотого века. Что не удивительно: дуб всегда ассоциировался с крепостью, здоровьем и долголетием. Царь деревьев, дуб был посвящен Юпитеру, он также был священным деревом у галлов, германцев и славян.
Кроме крепости и здоровья, у дуба и желудя есть еще одно дополнительное значение, с крепостью и здоровьем впрямую связанное. Итальянское слово желудь, ghianda, идущее от латыни, означает и мужские половые органы. С античности желудь, таким образом, связывался с обозначением мужской половой силы. Это был и распространенный ренессансный символ, на что иронично намекает в одной из своих канцон Петрарка, говоря о желудях, «к которым все бегут, их прославляя». Дуб на то и дуб, чтоб дуб дубом быть.
Гесиод, чуть ли не первым описавший Золотой век, о дубах молчит. Но у него это время представлено как время мужественной строгости. Явилась Пандора, первая женщина, и тут же разрушила счастливую невинность человечества, выпустив на волю все беды и болезни. Библия в истории о Еве вторит Гесиоду, и хотя в поздней традиции Золотой век предстает как время счастливой фривольности и свободной любви, в античности это время было несколько тяжеловесным. Овидий, все время пишущий о любовных приключениях, любовь Золотого века не изображает, а у Лукреция там царствует невинный промискуитет, безгрешность грешников до грехопадения.
Конечно же, Микеланджело знал античные мифы о Золотом веке. Во времена его юности об этом было модно го¬
ворить во Флоренции Лоренцо Великолепного, так что дуб, символ семьи делла Ровере, тут же вызывал в памяти массу коннотаций. То, что в своих росписях Микеланджело вообще свел изображение дуба к одним желудям, представленным преувеличенно фантастично, не произвол, но сознательное обращение к ассоциативному ряду, продуманное и точное. Используя гирлянды желудей как основной мотив, связывающий между собой фигуры обнаженных, Микеланджело уточняет их местонахождение в контексте общего смысла росписи потолка Сикстинской капеллы, очерчивающей историю человечества от Сотворения мира до явления Мессии. Это прекрасное и совершенное племя безвозвратно ушедшего Золотого века. Неземная грусть, обволакивающая лица юношей, содержит в себе предчувствие обреченности. Желуди играют роль некоего временного объяснения: Золотой век античного мифа сливается с собственно античностью, идеальным временем человеческого совершенства, когда люди были как боги, а мир не знал греха. Но незнание греха не есть безгрешность, и античность Микеланджело накладывается на библейское предание о прекрасном и дерзком роде, произошедшем от ангелов и смертных женщин, о роде, что был проклят Богом и погиб во время потопа. Выжил только старый нудный праведник Ной со своим отродьем. Выжил, напился, и собственное отродье тут же его и осмеяло. А мы от него произошли, от этих Хама, Сима и Иафета, и ничего общего не имеем с греховным, прекрасным и печальным племенем детей ангелов.
Что ж, Золотой век Микеланджело — абстрактный мир пластического совершенства гипертрофированной телесной красоты. Он отмечен печалью, как отмечена печалью по классической гармонии античности вся культура Нового времени. Но печаль грешна, и красота грешна, и творчество грешно, и как жить нам вне грехов наших? Вот и живем в ожидании Страшного суда, завершающего историю.
А парней на потолке, конечно, жалко.
231
Про всемирную отзывчивость
Из чего выросла национальная идея
П ринесла нелегкая, приехали голубчики, с чем вас и поздравляю», — бормотал волосатый тавр, расплываясь в радужной улыбке, пиная с большим удовольствием босой ногой распростертые на песочке холодного Черного моря тела. — Иностранцы, по всему видно». Тела были гладкие, на соотечественников не похожие, другие, импортные, прибывшие издалека, промытые водой, в которой они пробултыха- лись довольно долгое время после кораблекрушения, заставшее греческий корабль у берегов Тавриды. Принадлежали они Оресту и Пиладу, двум спартанским авантюристам, наделавшим много шума в своем отечестве, а потом отправившимся к берегам бывшего Советского Союза по повелению патрона, Аполлона, за неким деревянным кумиром, весьма условно изображавшим его, Аполлона, сестру Артемиду. Наши с вами далекие предки этому кумиру поклонялись за неимением ничего лучшего. Прибыл кумир в Тавриду давно и смутно, вроде как по воздуху, вместе с девой, приставленной этот кумир обслуживать. Обслуживание состояло в том, что деревянному идолу приносилось все лучшее, то есть все иностранцы, прибывавшие в Тавриду. Поэтому была понятна радость волосатого тавра и его соплеменников, обнаруживших на берегу таких аппетитных голых греков.
Впрочем, оказалось, что греки не лыком шиты, вмиг с девой стакнулись. Оказалось, что она их ближайшая родственница, тут же забывшая все хорошее, что от тавров имела, и все трое сбежали, да еще и кумира с собой прихватили,
так что тавры потом, собравшись и обсуждая это происшествие, долго и вдумчиво матерились, почесывая волосатые макушки. Кумир забылся, как и вся эта история греческих матереубийц. Но осадок остался. Ох, остался. Плюнули ведь в душу и девица, и эти греки-обманщики, и как-то распространился он, тяжелый и мутный, над обширной Тавридой, над ее степями и холмами, неприятный такой осадок горечи от встречи с чужаками, все стремящимися обмануть нас, простодушных, спереть что-нибудь, нажиться, разжиться, урвать. Мы-то смотрим в мир с такой доверчивостью! Обманывали нас, обманывают и будут обманывать веки вечные.
«Понаехали здесь, понастроили, — почесывая спутанную бороду, пробурчал про себя пожилой скиф, рассматривая панораму Ольвии, расстилавшуюся перед ним на берегу все того же холодного Черного моря. — Правда неприятно. У нас тут чисто было, ничего не было, а у них — дома, гавань, по воде на деревяшках снуют, какие-то там колонны, храмы, экологию нарушают. Вино, правда, у них есть, дело хорошее, хотя выпить его очень уж много надо, чтобы что-нибудь почувствовать, а дерут за него — будьте-нате. И все хитророжие такие, считают без пальцев, быстро-быстро так, обманывают, это точно, а ведь и не поймаешь никак, насколько обманывают, и все по-своему, по-гречески: кляк, кляк, кляк, — быстро так, ничего не разберешь, де еще что-то на табличках помечают. Разогнать бы их, разнести эту Ольвию по камушку, чтоб не раздражала, так ведь и вина не будет... Не принесет это все ничего хорошего, ой не принесет, все наша слабость виновата».
«Вишь понаехали, выступают-то как гордо, — думали кривичи с мерею, смотря на варягов, на их льняные волосья и на сверкающие кольчуги. — Эти-то уж порядок заведут, по рожам видно, такой порядок, мало не покажется. Тьфу-ты ну-ты, ну и морды, разъелись на наших харчах, белок всех постреляли, а рост-то, рост-то какой! Ой обожрут они нас, обожрут, самим-то жрать нечего, а тут еще этих корми... Приперлись на все готовенькое. Порядок! Сволочи, одно слово — сволочи. И баба с ними, вся в каких-то побрякушках, стыдоба-то какая, не дай Перун моя такие же захочет. Уж я ей покажу! Ох, ничего хорошего ждать не приходится, помяните потом мое слово!»
«Ну вот, понаехали, — думал несчастный киевлянин, загнанный в холодную днепровскую воду по самую шею неизвестно зачем, смотря вверх, на холм, где восседал князь с дружиной и с греческими монахами, обвешанными непонятными штуками на цепях. Вокруг недовольно и заунывно гудели соотечественники, простужаясь неизвестно по какой такой прихоти начальства, а вниз по течению плыли родные идолы, доставшиеся от дедов и прадедов. — Наслушался князь этих греков с их грамотой! Жили без нее, и хорошо жили, правильно, так все свободно было, так нет же, теперь поклоняйся какой-то Софии, родившей неизвестно от кого Веру, Надежду и Любовь. Ничего не понятно, сосед давеча сказал, что теперь Христосу какому-то надо поклоны бить, лбом об камни, а он, Христос этот, и не бог вовсе, и не управляет ничем, и вообще человек из каких-то иудеев, из хазар, что ли? А про остальных и не вспомни, про родных-то, привычных. И стройки затеяли каменные, отродясь такого не бывало. Там тоже всем греки заправляют, все указывают нам, что делать, сами-то только в какие-то клочки со знаками заглядывают и все кляк-кляк-кляк, а камни таскай все наш брат ни за что, потей, чуть что — подзатыльник, а у них зарплата о-го-го. Жируют, будь они прокляты, воры греческие, разбазаривают нами нажитое неизвестно зачем и на что. Да будь они прокляты со своим крещением. Грядут времена страшные, грядут!»
«Ох, достали приезжие, до самых кишок достали, — думал молодой иконописец, отданный в помощники итальянцу Франческо Фонтебассо, пишущему иконы для церкви только что отстроенного императрицей Елизаветой Петровной Зимнего дворца. — Итальяшка писать-то не умеет, никакого благолепия, ничего в иконах не понимает, мазюкает левой задней пяткой черт знает что. Ни терпения, ни тщательности! Привык плафоны с голыми бабами малевать для залов игрищ позорных за гигантские деньги, и такому — иконы доверили! Ни чина не знает, ни приличия, все какую-нибудь голую ногу норовит выпихнуть у святого апостола. А Дева-то, Дева! Ну вылитая девка, голосящая из оперы итальянской. А все заходят эти-то, что дворец заполонили, в париках своих бабских, мукой обсыпанные, в кружевах да
розовом шелке, мурлыкают по-ненашенски с довольными харями. Не поймешь, кто свой, кто басурман проклятый. А бабы-то, бабы, стыдоба! Головы не прикрыты, на головах — башни вавилонские, рожи черными точками заляпаны, на задницах такое наверчено, что колена преклонить нет у них никакой возможности. Поперек себя шире в платьях своих, в дверь церковную не пролезают. Такую встретишь — испугаешься, они и молиться-то не смогут: какие рожи, такие и образа. И дворец построили: тоже итальяшка из ихних, постарался, запутаешься, палаты большие да холодные — все неудобно, дует, окна какие-то дурацкие, а лавок нет, самой императрице приткнуться некуда. Мебеля тоже все привозят, не нравится им наше ничего. И все повязаны: один итальяшка усядется и тут же всю свою нищую кодлу тянет, и жируют всем семейством. А сами ничего не понимают, прут со своим уставом, все наше изничтожить хотят. Мне про этого Растрелю такое рассказывали! Вор, сущий вор! Понастроили такого, что и не понять — дом не дом, храм не храм. И все едут, едут и едут, всю матушку Русь скоро обсядут, продыху от них нет. Не жди ничего хорошего, не жди, русский человек!»
«Нет, ничего хорошего от этих инородцев ждать не приходится. Все выродки из приезжих, полячишки, жиды да извращенцы. Сил нет моих больше, продали все народное, подлинное, русскую идею и русский дух по миру пустили. Мелюзга, пустоцветы, щенки, сопляки. Пригрела Русь-ма- тушка на груди своей змеюк, пригрела. Ох, не то еще будет, искусают грудь ее, искусают. — Так витийствовал приверженец Стасова и демократических идей, рассматривая только что вышедший первый номер «Мира искусства». — Да, новое столетие открывается, и чем?! Имена все: Бакст, Враз, Нувель, Нурок, Бенуа. Что уж тут и говорить-то! И деньги все достают от наших дур безмозглых, княгинь свихнувшихся, под полицейскую опеку их всех посадить надо. Раньше не то было: Перов Василий Григория, Шишкин Иван Иваныч, Крамской Иван Николаич, Репин Илья Ефимыч... хотя этот на старости лет тоже, говорят, рехнулся, все с этими нувелями, с нуроками заигрывает. Ну вот, понаделали недоумки — Мир искусства! Где искусство-то?
234
Дрянь одна! Обманщики, рвачи, пиявки! Продадут Россию, ох, продадут, выкресты поганые, продадут, разорвут на части, развратят и по миру пустят».
Ох, как правы они все были, от волосатого тавра до поклонника Стасова! Обсели Русь приезжие инородцы, дерут на части, рынки контролируют, наркотиками пичкают, развращают, растаскивают. А она, такая добрая, такая широкая, такая открытая, такая доверчивая, лежит себе, раскинулась широко, грустит лениво.
237
Русский блеск
Святочный рассказ
!/■
X. ^огда я смотрю на каток вокруг колонны Монферрана, на
на ангела, смотрящего вниз из-под креста, на радостные, красивые, легко скользящие пары, слышу чудные звуки музыки, из-за забора доносящиеся, трепет умиления пробегает по моему телу и все мои члены распрямляются от гордости за мою страну, за постоянство вкусов моего народа, моего правительства. В мозгу возникает хрупкое, сияющее россыпями бриллиантов видение: прекрасный Ледяной дом, и русский дух, и Русью пахнет, и гуляет потешная свадьба слабоумного старичка Голицына с камчадалкой Бужениновой, колокольцы гремят, мужики и бабы, собою негнусные, лихо отплясывают, едут сани, запряженные оленями, козлами, собаками, свиньями и верблюдами, везут инородцев со всей России, и лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молвь и конский топ. Так весело на душе, так свободно, что во весь голос хочется возопить вслед за прекраснейшим пиитом Василием Тредиаковским:
Мир, обилие, счастье полно Всегда будет у нас довольно;
Радуйтесь, человеки.
Торжествуйте, ecu российсти народы:
У нас идут златые годы.
Восприимем с радости полные стаканы, Восплещем громко и руками,
Заскачем весело ногами,
Мы, верные гражданы.
дощатый
покрытый веселыми картинками,
Да, да, заскачем, восплещем, восприимем! О Русь моя, жена моя!
Шикарная женщина была Анна Иоанновна. Зимняя она царица, каникулярная: и родилась зимой, и воцарилась, и Ледяным домом больше всего прославилась. Десять лет ее правления представляют, правда, своего рода дырку в русской истории: мало кому из историков она симпатична, и все рисуют ее как бабу страшную, жестокую и бездарную. Историки больше всего интересуются лишь началом ее правления — разбирательством с Верховным советом да концом — жесткостью по отношению к заговору Волынского и делом о наследии престола. Об остальном говорят немного, все больше об обнищании страны и о засилье немцев. Кражи, взятки, злоупотребления, вялые войны, гниющий флот.
Да еще рассказы о роскоши ее двора, поражающей «своим великолепием даже привычный глаз придворных виндзорского и версальского дворов». «Жена английского резидента леди Рондо приходит в восторг от великолепия придворных праздников в Петербурге, переносивших ее своей волшебной обстановкой в страну фей и напоминавших шекспировский „Сон в летнюю ночь“. Этими праздниками восхищался и избалованный маркиз двора Людовика XV, его посол в России, де ла Шетарди: „Балы, маскарады, куртажи, рауты, итальянская опера, парадные обеды, торжественные приемы послов, военные парады, свадьбы, фейерверки пестрым калейдоскопом сменяли один другой и поглощали золотой дождь червонцев, щедрой рукой падавший из казначейства*1».
Современник леди и маркиза, немец Манштейн, добавляет: «Часто при богатейшем кафтане парик был прегадко вычесан, или если туалет был безукоризнен, то экипаж был из рук вон плох... Тот же вкус господствовал в убранстве и чистоте русских домов: с одной стороны — обилие золота и серебра, с другой — страшная нечистоплотность. Женские наряды соответствовали мужским: на один изящный туалет здесь встречаешь десять безобразных».
Где эта роскошь, куда все делось? Остались лишь намеки на обстановку, окружавшую царицу. Но отдельные предметы и памятники складываются в общую картину, в своеобразный миф, сплетающий в единое целое итальянскую оперу,
238
впервые Анной в Петербурге заведенную, шутов и карликов, туалетный прибор из чистого золота, слонов из Персии, бесчисленные фейерверки, самый большой в Европе серебряный холодильник, растреллиевские дворцы, построенные для любовника, Ледяной дом и Царь-колокол. В этом мифе, как в мутном старинном зеркале, проглядывают знакомые очертания чего-то милого, близкого, русского и сегодняшнего. С зимой и зеркалом связана и моя первая встреча с Анной Иоанновной.
Первым и самым сильным впечатлением от русской классической литературы для меня стал «Сон Татьяны», прочитанный где-то лет в восемь-девять. Ни об энциклопедии русской жизни, ни об интриге, связывающей между собой героев, я ничего не знал, поэма лежала совершенно отдельно от прочитанного фрагмента, но картина зимнего леса, с фигурой бредущей по снегу девушки в легком платье, ручей, мостик из легких досок, медведь, протягивающий лапу, чтобы помочь ей перебраться, — все это приводило меня в бурный восторг. Да и сейчас приводит. Фантазия скакала как бешеная, и, когда дело доходило до перечисления, до ведьмы с козьей бородой, до карлы с хвостиком, «а вот полужуравль и полукот», наступало просто физическое блаженство, достигающее апогея на словах: «Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, / Людская молвь и конский топ!» Далее все шло по ниспадающей, интересное заканчивалось, и за строфу XXI, за пробуждение Татьяны, я тогда и не забирался.
Открытие Татьяниного сна произошло в январе, в зимние каникулы. В том же январе я, кажется, побывал в Золотой кладовой Зимнего дворца. Там, в длинной комнате с низким потолком, заставленной витринами со сверкающими вещами, одна из стен была занята большим стеклянным шкафом с полками, на которых располагались блескучие золотые предметы, всякие плошки, коробочки и чашки в круглящихся завитках. Центр этой композиции из тяжелых и не очень понятных вещей составляло зеркало в завивающейся раме, желтой-желтой. Оно было повернуто к зрителю под углом и немного вверх, так что в нем ничего не отражалось, кроме пустоты, и для того, чтобы поймать хоть какое-то отражение, надо было особо исхитриться, что было нелегко, так как
239
витрину обступала толпа, мешавшая двигаться. Среди очень конкретных, объемных предметов, обладающих своим, присущим им как данность, цветом и формой, ничего не отражающее зеркало выглядело как-то чуждо и странно. В нем что-то колыхалось, в его глубине была разлита подвижная манящая неопределенность, сонная, бесформенная, и для меня это зеркало сразу же оказалось связано со сном Татьяны, с ее гаданием, напоминая о том, что «Над нею вьется Лель, / А под подушкой пуховой / Девичье зеркало лежит». Кто такой Лель, я совершенно не представлял, зеркало же было чем-то более знакомым, была понятна его связь со всем, что последовало в поэме далее, с явлением медведя, пляшущей вприсядку мельницей, раком верхом на пауке.
Экскурсоводша перед витриной рассказывала о какой-то императрице Анне Иоанновне, не менее для меня загадочной, чем Лель, про стиль барокко и что, по старинному преданию, девушки, если повезет, могут в нем увидеть своего суженого. Это, видно, и произвело на меня наибольшее впечатление, поэтому-то я в своих фантазиях и засунул тяжелое и дорогое творение аугсбургских ювелиров под подушку в деревенской бане. Имя Анны Иоанновны также запало мне в память, связавшись с мерцанием старинной амальгамы, зимой, смутными снами и гаданием. С тех пор неизъяснимой прелести полна для меня эта эпоха, и я всегда старался отложить в своем сознании все впечатления, что связывали современность со временем Зимней царицы, таким темным, неопределенным, неясным...
Впрочем, весомость моим мечтам об Анне Иоанновне вскоре придала встреча с великой скульптурой Бартоломео Карло Растрелли в Русском музее. Огромная черная баба с растопыренными короткими ручками тяжело парит в пространстве, как гигантская ворона, гордо вздымаются полушарии грудей, дрожат дряблые щеки и подбородки, пульсирует короткая шея, и маленький негритенок с натугой подтаскивает ей тяжелую, как ядро, державу, обхватив шар двумя руками, и императрица вот-вот, широко размахнувшись скипетром с двуглавым орлом, легко подбросит державу на руке, вмажет по ней эмблемой российского самодержавия, как ракеткой по мячику, и запузырит державу
240
далеко-далеко, так что полетит бронзовая сфера, пробив окно и ломая деревья Михайловского сада, разворотив мемориал жертвам революции на Марсовом поле и сбив памятник Суворову, — куда-то за реку, поломает обе башни мечети, свалит телевизионную башню, пробьет напоследок крышу коттеджа в Комарове и, свалившись прямо в открытый рот храпящей там старухи, разломает ее новенький, только что наведенный мост искусственной челюсти, застряв в глотке, так что сожителю старухи, молодому и подтянутому бизнесмену, придется подносить к ее носу нюхательный табак, чтобы та чихнула. Тогда бронзовая сфера полетит обратно, сломает линии высоковольтных передач, разворотит мост на кронштадтской развязке дорог, сорвет несколько рекламных билбордов и опустится на крейсер «Аврора», потопив его напоследок. Барон Мюнхгаузен должен был быть современником Анны Иоанновны, а сожитель табак поднес, потому что старуха завещания еще не написала.
Растреллиевская бронза великолепна. Как слезки, дрожат висюльки жемчугов на расшитой груди, мантия с горностаевыми хвостиками развевается, императрица плывет как пава, величественная и человечная, такая деловая и в то же время прибранная не без кокетства, мощная и женственная, настоящая правительница. Хвост волос, жидкий, но длинный, струящийся сзади по мантии, придает ее жирности очарование женственной беззащитности... И вдруг, при виде этой красавицы, в голову ни с того ни с сего приходят самые странные вопросы. Она, наверное, тронную речь произносит, рассуждает об обновлении теплоцентралей и строительстве китайского квартала в Петербурге, а хочется узнать, что там у нее внизу надето, белье-то какое? Тоже бронзовое, что ли? Тяжелое выразительное лицо странно связывается с черными воплощениями родины-матери бесчисленных мемориалов с их широко разведенными руками и с черной же Венерой Илльской из повести Проспера Мериме, пришедшей задушить в своих бронзовых объятиях незадачливого жениха. Хорошо представляю себе, как, расправляя короткими ручками бронзовые складки своего платья, усаживается эта махина перед золотым туалетным прибором, открывает пухлыми пальцами коробочки с притираниями, накладывает
пудру и румяна и, нагнувшись, всматривается пристально в зеркало, кокетливо поправляя маленькую корону в пышном начесе. Потом, скрипя ступенями лестницы, поднимается на пятый этаж, выламывает одним махом дверь в мою квартиру, и душит, душит она меня в своих объятиях, как мышь белую, беззащитную, любимая моя родина, Россия.
Как уже говорилось, с Анной Иоанновной у нас все непросто. Официально ее почти все время ругают, и с восемнадцатого века русская история ее терпеть не может. Даже Иоанн Грозный вызывает, по-моему, большую симпатию. Школьный курс истории вообще заставил меня долго думать, что она — неизвестно как и откуда свалившаяся нам на голову немка, фашистка, притащившая еще с собой и Бирона, любившая русских подвесить на дыбу, бить кнутом, выворачивать ноздри, а потом колесовать и четвертовать. Так и представлял: перед Зимним дворцом, тогда еще деревянным, стоит деревянная же трибуна, наподобие тех, что сооружались при советской власти на Дворцовой площади во время парадов, на ней — Анна Иоанновна, мясистая, разряженная, с густо оштукатуренной рожей, рядом — Бирон, весь в розовом, как он любил, она ему в штаны руку засунула, мнет с плотоядной улыбкой, а сама уставилась на то, как перед ней на помосте опальным русским аристократам ноздри каленым железом рвут. Вокруг же все карлики, карлики, карлики, сзади поют-надрываются итальянские кастраты, Миних с Остерманом обнимаются, и фейерверки со всех сторон. Картина неверная, но все-таки роскошная.
Пусть русская история ее и ругает, но смогла все же Анна Иоанновна уловить что-то в русской душе, задеть потаенное, глубоко скрытое чувство прекрасного, став милой сердцу своими причудами, шутами и шутихами, фейерверками, любовью к итальянской попсе, тяжелой аляповатостью закупленных ею импортных вещей, Ледяным домом и публичными увеселениями. Часто, на центральных улицах обеих столиц, залитых неоновым сиянием новогодних лампочек, мелькает она передо мной в блеске окружающей роскоши, величавым видением, массивная и легкая. Впереди меня, то появляясь, то вновь исчезая на фоне светлых витрин, крутятся тяжелый круп ее и бедра, и бронзовая
242
горностаевая мантия превращается в норковое манто, отливающее металлическим блеском, и острые лакированные туфли торчат из-под широких версачиевских штанин в узкую белую полоску, сияет бюст, обтянутый кофточкой со стразами, а на начесе подрагивает маленькая корона. Непринужденно играет она скипетром в руке, озабоченная, деловитая, а рядом семенит негритенок коротенькими ножками в мягких сапожках и тянет, тянет из последних сил к ней ручки с лежащей на подушке державой, такой круглой, весомой, внушительной, пышной.
A A 14$S
245
Собирать и возвращать
Виражи русского коллекционирования
Г>
А-^сему свое время,
И ВреМЯ ВСЯКОЙ ВеЩИ ПОД Небом; время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру».
Из этой глубокомысленной, таинственной и большой фразы Екклезиаста взято название выставки «Время собирать...», открывшейся в Русском музее. Это — первая в России большая выставка в государственном собрании произведений русского искусства из зарубежных частных собраний, охватывающая чуть ли ни все его периоды, от иконописи до фотографии. Нет разве что археологии.
Сам факт подобной выставки чрезвычайно важен. Почти уж и не существенно, что именно экспонировано, хотя на выставке множество интереснейших произведений. Но главное — как хорошо, что пришло время не вырывать, убивать, разрушать, раздирать и ненавидеть, а время обнимать и сшивать. Это приятнее, чем раздирать и уклоняться от объятий.
Страсть к коллекционированию стара как мир. Первыми коллекционерами были шаманы и вожди, элита первобытно-
го племени. Их наследниками стали храмы и сокровищницы властителей, первые коллекции и прообразы музеев.
Развращенный Рим, предугадавший современность, коллекционировал уже все: статуи, картины, вазы, людей, редкостных животных, драгоценности. Варвары снова свели европейское коллекционирование к казне и церкви, и современные коллекционеры отсчитывают свою историю от Кози- мо I Медичи, основателя Уффици. Ему подражали французский Франциск, испанский Филипп, английская Елизавета. Маньеристические коллекции XVI столетия — памятники могущества и тщеславия. Это Лувр, Эскориал, Виндзор.
Правление курьезного правителя, императора Рудольфа II, открывало новое столетие — век барокко. Чувственное расточительство, столь ощутимое в живописи фламандца, охватило Европу, и Рудольф, безумный пражский затворник, рассылавший своих агентов в поисках картин Корреджо и Пармиджанино, скульптур Джованни да Болонья и даже древностей Нового света, был вынужден отречься от короны, и сокровища его любимой Праги разошлись по всей Европе. Карл I, несчастный король Англии, очаровательный и взбалмошный, собрал самую большую и самую славную коллекцию шедевров в истории человечества. Он потерял и коллекцию, и голову. Экстравагантная шведка Христина обожала искусство и философию, стараясь превратить свой Стокгольм в Новые Афины. Для этого она с помощью меча и золота перетаскивала к себе на север все, что могла добыть, в том числе и Декарта, которого, к его ужасу, будила в пять часов утра, чтобы он вел с ней умные беседы. Своим распорядком и стокгольмскими туманами она загнала Декарта в гроб, а сама, обратившись в католичество и отказавшись от престола, уехала в Рим со своей коллекцией. Коллекция была распродана.
Век восемнадцатый придал коллекционированию изысканность. На первое место выходят уже не коронованные особы, но частные собиратели: Кроза, консул Смит, Шуа- зель, Мариетт. Коллекционируют рисунки, гравюры, медали, монеты, геммы. Наша Екатерина со своим размахом внушала почтение с оттенком «ох уж эти русские!», с каким сейчас говорят об успехах русских торгов на Сотби. Конеч¬
246
но, историю русского коллекционирования нужно начинать с Петра I, а может, и раньше, со времен его отца, царя Алексея Тишайшего, но только во время Екатерины оно приобретает блеск и размах. Вообще-то, коллекционирование — дело особенное. Ни ислам, ни буддизм подобного феномена не создали. Это — роман европейской цивилизации с самой собой, со своим историческим прошлым и с окружающими культурами. В какой-то мере коллекционирование — прямое следствие этого романа, музеи — порождение западной, европейской агрессивности и жадности. Они же — открытость и всеядность. В России голод по культуре проснулся поздно, но он был столь сильным, что в конце XVIII века, во время правления Екатерины Великой, Европа наполнилась стонами. Просвещенные любители искусств жаловались, что с появлением русских, наводнивших европейские столицы, разыскать приличные вещи на антикварном рынке стало все труднее и труднее, так как русские сметают все по несусветным ценам. Ничего не понимая и ни в чем не разбираясь, они хватают что ни попадя, вздувают цены, перевалившие за пределы разумного, принимают за первый класс второразрядный сор и сметают все подчистую, так что подлинным знатокам остается довольствоваться только объедками, остающимися после этих варваров. Подобные инсинуации обиженных европейских коллекционеров не могут, конечно же, бросить тень на великую русскую эпоху Просвещения, когда Россия добрела и богатела под эгидой мудрой и доброй государыни и когда и были собраны величайшие сокровища мирового искусства, которыми столь славен Петербург до сих пор. Не говоря уж об Эрмитаже, именно в екатерининское время появились коллекции Юсупова, Строганова, Шереметева, и множество русских усадеб оказались набитыми западной живописью, мебелью и фарфором, так что именно благодаря щедрости ее культурных инициатив, вызвавших подражание двора, в России даже и сейчас, несмотря на отмену крепостного права и социализм, кое-что осталось.
Размах екатерининского коллекционирования был столь внушителен, что его хватило на то, чтобы образцы европейской цивилизации достигли бы и отдаленных уголков империи. Гоголь, описывая гостиницу города NN, где остано¬
вился Чичиков в начале «Мертвых душ», отмечает, что там было «словом, все то же, что и везде; только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда и не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусств, накупившими их в Италии по совету везших их курьеров». Эта весьма едкая характеристика отечественного коллекционирования, произнесенная национальным гением, а не посторонним наблюдателем, опять-таки никак не умаляет величия вкуса времен «развратной государыни, развратившей свою страну» (А. С. Пушкин в «Исторических заметках»). Именно культурная политика Екатерины окончательно европеизировала образованную Россию, и ввезенные в ее время художественные ценности помогли русским стать европейцами. Обладание нимфами с громадными грудями означало приобщение к культуре, и через этих нимф Россия овладевала культурным языком Европы.
Европа же на русское искусство никакого внимания не обращала. Деньги да соболя, хлеб да сало. Это все, что Европе от России было нужно и что Европу в России интересовало. А мы так трогательно посылали наших художников в Европу учиться, так ценили малейшие о нас отзывы. Так ценил Брюллов успех своего «Последнего дня Помпеи», а Иванов — то, что европейские знаменитости обратили внимание на его «Явление Христа народу». Но ни того, ни другого коллекционировать никто из европейцев не собирался. Так, только какие-то случайные покупки.
Размахом коллекционирования Екатерину никто не превзошел. Последующее столетие в России не идет ни в какое сравнение, и покупки Александра и Николая на фоне екатерининского гигантизма производят впечатления лишь отдельных удач. Сбавляют обороты и частные коллекционеры, даже барон Штиглиц, при всем его величии, рядом с вельможами прошлого века выглядит скромно. Скромнее ведут себя русские и на международном художественном рынке, уступая место скупщиков Европы американским миллионерам, и в конце XIX века уже отечественные собиратели
248
досадуют на взвинченные цены аукционов Лондона и Парижа, как это делает Ровинский, рассуждая о современных ему ценах на гравюры Рембрандта. Впрочем, в начале XX века происходит прорыв: два московских коллекционера воскрешают блеск вельмож царствования государыни-матушки.
Деньги Щукина и Морозова — уже не доходы от земель, деревень, крепостных и расточительной щедрости императорской власти. Это новый для России промышленный капитал, новы и цели московского коллекционирования. Ими движет не желание интегрироваться в европейский образ жизни и посредством роскошных коллекций позиционировать свою европейскую просвещенность, но радикально обогнать Европу, направив вектор своего вкуса не в прошлое, а в будущее. С гениальным чутьем они поставили на то, что даже в Париже вызывало сомнения, и выиграли: Щукин и Морозов стали чуть ли не самыми известными коллекционерами XX века. К чему привела такая зацикленность на движении вперед, хорошо известно. Россия рванула к будущему с таким усердием, что с прошлым разделалась подчистую, так что и о коллекционировании пришлось забыть. Наступило время вырывать посаженное, плакать и разбрасывать камни.
Параллельно щукинско-морозовскому бенефису происходит еще одно значимое для взаимоотношений русской культуры с Европой событие — дягилевский прорыв «Русских сезонов». Впервые в Европе серьезно заговорили о русском искусстве — сначала на балетных премьерах, но затем и о русском изобразительном искусстве. Только заговорили, но тут грянула Первая мировая, а потом и революция, но, как ни странно, именно в это время и начинается история западного коллекционирования русского искусства: покупают его у иммигрантов, за копейки, вместе с шедеврами из Эрмитажа и распродаваемых частных коллекций, на устроенных революционным правительством аукционах, а затем всяческими неправдами вывозят из-за железного занавеса.
Советское законодательство по отношению к искусству и частному коллекционированию было ужасным. В общем-то, оно, это коллекционирование, было запрещено, и во всех советских детективах присутствует ужасающе злобная фигура
249
частного коллекционера, желающего нажиться на народном достоянии, продажного и кровожадного. Над антикварным рынком висело обвинение в уголовщине, так что естественным путем антикварный рынок сделался черным рынком.
Но вот, в начале третьего тысячелетия, русские коллекционеры реабилитированы. Они опять сотрясают западный художественный рынок. Рекорд следует за рекордом; русский покупатель, еще недавно отсутствовавший как факт, приобрел пугающую осязательность; знаменитые аукционы подлаживаются под русский вкус и русский рынок, и имена художников, с особым рвением покупаемых русскими, совсем недавно известные только узкому кругу русофилов, теперь прочно вошли в списки фаворитов антикварных продаж.
Новый этап русского коллекционирования резко отличается от предыдущих. Теперь западное искусство русского мало интересует, он покупает свое собственное искусство, делая это, правда, все на том же западном рынке. У себя на родине он все еще старается купить подешевле, и отечественные покупки пока еще никаких рекордов не поставили. Спросом пользуется все, но в первую очередь крепко сделанная живопись второй половины XIX — начала XX века, от Саврасова до Кончаловского, выполненная в традициях русского европеизма и от живописи европейской мало чем отличающаяся. Это приводит к тому, что европейские художники, получив русские имена, стоят в сотни раз дороже. Калам как Шишкин стоит миллион, а Калам как Калам с трудом натянет десяток тысяч. Самое забавное, что в XIX веке русские коллекционеры покупали Калама за приличные деньги, и в 1860-е годы сравнение с Каламом было для Шишкина тонким комплиментом.
Головокружительные скачки цен на Сотби и Кристи — одно из средств доказать, что Шишкин не только не хуже, но и лучше Калама. Что ж, это не лишено смысла, и уж во всяком случае для русского человека Шишкин больше значит, чем Калам, и даже больше — чем Калам значит для швейцарца, судя по тому, что швейцарцы на своего Калама не очень-то раскошеливаются. Сегодняшние цены на русское искусство — жест очень эффектный. Подобный жест является вполне себе рыцарственным, и надо сказать, в такой
250
реабилитации национальных ценностей русские отнюдь не одиноки. Столько миллионов, сколько выкладывают американцы за родных им, но больше никому неведомых Рафаэля Пиля или Томаса Коула, не снилось пока ни Шишкину, ни Айвазовскому. Делают это американцы, правда, не покидая своего континента, так как за океан ни Пиля, ни Коула вывозить никому не приходило в голову.
В русском варианте к национальной гордости еще примешивается мотив тоски по утраченному. Он вполне метафизичен и благороден: крепко сделанная живопись второй половины XIX — начала XX века ассоциируется с тем блаженным временем, когда свободной была Русь и три копейки стоил гусь, то есть с утраченным Россией Золотым веком. К тому же купленные в Лондоне произведения как бы и в самом деле возвращаются, что опять же чрезвычайно благородно.
Все это хорошо и радостно. Только не хотелось бы, чтобы русское коллекционирование, описав дугу, замкнулось исключительно на «своем», снова отметив ограниченность русского национализма. Замечательно же, что Екатерина собрала так много Рубенсов и Рембрандтов и никакая советская власть их распродать всех не успела. Замечательно, что русская живопись есть в музее д’Орсе, и в музее Метрополитен, и в частных собраниях Европы и Америки. Замечательно, конечно, и то, что коллекционеры предстают уже не спеку- лянтами-грабителями, а благородной элитой и что ту же выставку в Русском музее украшают огромные, подвешенные к потолку фотографии, представляющие их жилища как своего рода фата-моргану, этакий воздушный идеал. Все чудесно, главное — помнить, что «наше наследие» — это не только то, что произведено на нашей территории и нашими уроженцами, но и искусство французское и японское, искусство ацтеков и тибетцев. Понимание этого и дало феномен искусства русского. И оно должно быть представлено не только в Москве и Петербурге, но и в Лондоне, и в Париже — если, в самом деле, собирать, а не зацикливаться на «возвращении».
253
Диссиденты Золотого века
Италия как одна из форм русского протеста
ТУ
.^L^o время пышных Празднований двухсотлетия со дня рождения
Карла Брюллова в 1999 году — когда вся лестница Музея Александра III была увита искусственным лавром, а вокруг «Последнего дня Помпеи» сооружен огромный балдахин синего бархата с вышитыми золотом лилиями, что придавало картине несколько альковный вид, — мой приятель поделился со мной воспоминанием детства, прошедшего в Харькове 60-х, городе большом и мрачном, как все большие советские города. В середине внушительного двора его детства, образованного пятью серыми пятиэтажными хрущобами, стояло бетонное сооружение, архитектурно мало чем, кроме размеров, отличавшееся от окружающих домов. Это была «мусорка», то есть место, куда жители окрестного арондисмана должны были сносить свои жизненные отходы и где производилась их сортировка, которой был занят специальный мусорщик, живший неподалеку. Там над инсталляцией из баков, бачков, мешков и ведер парила вырванная из «Огонька» репродукция «Итальянского полдня» Карла Павловича Брюллова. Полногрудая итальянка, отвернувшись от неприглядного настоящего, тянулась к сверкающей солнцем грозди, поводила черными глазами, белоснежное полное плечо вываливалось из рубашки, и сверкала, и благоухала, и звучала прямо как «Санта Лючия» в исполнении Робертино Лорет- ти, лившаяся из раскрытых окон малогабаритной квартиры в летний двор позднего социализма, чья скука столь остро подчеркивается стуком костяшек домино, усталой матерщи-
ной пьяного соседа и безнадежной желтизной одуванчиков, пробивающихся сквозь трещины асфальта.
Чудный, чудный «Итальянский полдень»! В воспоминаниях моего детства он тоже все время мелькает — то как украшение дощатого нужника на снимаемой в деревне даче, полного удивительной вони (сквозь широкие щели между досками открывался пейзаж с извилистой речкой, текущей под косогором, поросшим черемухой); то в кабине водителя сельского автобуса, облезлого, душного и вожделенного, ходившего два раза в день, утром и вечером, и соединявшего деревню с ближайшим магазином; то в прихожей перенаселенной коммуналки, перед общественным телефоном, прикрывая разрыв на очень нечистых обоях длинного коридора с кадушками, трехколесными велосипедами и расписанием дежурств по квартире. Как замечательно нежное и ровное сияние, распространяемое этим произведением, этот золотистый свет, не изображенный, не внешний, но внутренний, исходящий из самой картины, завораживающий и умасливающий самый злобный ум, снимающий возможность всякой критики! Сетовать на слащавость «Итальянского полдня» — все равно что усесться на июньском пляже в траурном шерстяном костюме и жаловаться на жару. Этот свет щедро окутывает практически все, что изображает Карл Павлович: светских львиц, неаполитанских лаццарони, несчастных королевских любовниц, счастливых ханских наложниц, доблестных офицеров русского морского флота, субтильных мифологических юношей и даже обреченных на гибель жителей Помпеи.
Упоительное сияние, щедро изливаемое художником на зрителя, — не просто салонная уловка, прием изощренного живописца, присвоившего рецепт, взятый из поваренной книги европейской художественной кухни. Золотистая мягкость брюлловского свечения — особая, отличающая его от многочисленных французов, голландцев, англичан, немцев и датчан, работавших с ним бок о бок в Риме и также наполнявших свои пейзажи, портреты и жанровые сцены ровным и благостным римским светом, светом выдуманной европейцами Италии. Во всяком случае, для русского разума, глаза и сердца она звучит по-другому, и сладость Брюллова слишком активна в своей перенасыщенности. В ней присутствует чуть
ли не проповедническая назидательность, так что она больше напоминает сладость лекарства, чем сладость десерта. Не тирамису, а раствор глюкозы. Чего только стоят блеск лаковых туфель и бантики на портрете В. А. Корнилова на борту брига «Фемистокл»: перед изысканностью бравого матроса душа испытывает некоторое смущение, вздрагивает и начинает стыдливо томиться по чему-то далекому, ирреальному, ушедшему безвозвратно, но тем не менее несомненному, родному, невероятно драгоценному. Короче говоря, по русскому Золотому веку, времени мифическому, но России совершенно необходимому: надо же ей по чему-то тосковать в своей истории. Вот и тоскует уж второе столетие русский интеллигент по николаевской России.
Словосочетание «золотой век русской культуры» давно и прочно вошло в обиход. Так как русский менталитет слово- центричен, в первую очередь оно относится к литературе — к Пушкину и пушкинской плеяде, захватывая 20—30-е годы. Золотее Пушкина в отечественной словесности ничего нет и не будет, и появление Серебряного века лишь подчеркнуло полновесность золота пушкинской поры. Забавно, что время Tolstoy, Dostoevsky и Chekhov, представляющих куда более важные статьи нашего духовного экспорта, чем Пушкин и Баратынский, никто и не думает называть золотым, так как определение «золотой век» не обязательно означает творческое величие и интеллектуальное разнообразие. Разница века Татьяны Лариной и Анны Карениной разительна, и пропасть между ними не меньшая, чем между Татьяной и Эммой Бовари с ее поэтикой плесени, столь дорогой сердцу Флобера. Поведение Татьяны на петербургском приеме воистину мифологично, недаром она там затмевает «Клеопатру Невы», в то время как прелесть Анны Карениной на балу московском — всего лишь прелесть очень красивой смертной. Да и великие слова «Но я другому отдана; я буду век ему верна» могли быть произнесены только в мифологическое время. Обыкновенное время сплошь заселено дамами с собачками, и их отличие от Татьяны Лариной и есть отличие Золотого века от всей остальной истории России. Так что золото остается золотом, а Толстой, Чехов и Достоевский — это скорее «хлеб и сало».
255
Каков же наш Золотой век? Примерно обозначая царствование Александра I и раннего Николая, он открывается жужжанием прялки светского разговора в салоне Анны Павловны Шерер, продолжается в праздниках семьи Ростовых; это роскошные плечи Элен Безуховой, возвращение с победой, чепчики в воздух, лицейские годы, морозной пылью серебрится его бобровый воротник, beef-steak и страсбургский пирог шампанской облиты бутылкой, салоны Волконской и Смирновой-Россет, осень в усадьбе и дамы с соколовских акварелей с охренительными жемчугами. Лучшая архитектура, лучшие парки, лучшая мебель, балы и обеды, приемы и дуэли, стихи и красавицы, драгоценности и кавалергарды; русские дошли до Парижа, установив рекорд глубины своего проникновения в Европу. Первая треть XIX века представляется нам окруженной ровным и ясным светом. Каждый образ русского ампира, возникающий в нашей памяти, излучает внутренний блеск, будь то парадный дворцовый прием в зале, наполненном белыми платьями, расшитыми мундирами и сиянием грандиозных люстр, или скромный кабинет усадебного дома, освещенный лишь мерцающим на письменном столе светильником с фигурой весталки. Всеобщая гармония, великолепно описанная Герценом: «Разврат в России вообще не глубок, он больше дик и сален, шумен и груб, растрепан и бесстыден, чем глубок. Духовенство, запершись дома, пьянствует и обжирается с купечеством. Дворянство пьянствует на белом свете, играет напропалую в карты, дерется со слугами, развратничает с горничными, ведет дурно дела свои и еще хуже семейную жизнь. Чиновники делают то же, но грязнее, да сверх того подличают перед начальством и воруют по мелочи. Дворяне, собственно, меньше воруют, они открыто берут чужое, впрочем, где случится, похулы на руку не кладут».
Русский Золотой век обязан своим существованием литературе, но магическое его свечение нагляднее всего отражено именно в изобразительном искусстве. Светлый интеллектуализм портретов Кипренского, античные складки сарафанов Венецианова, «Гумно» как «Афинская школа», «Спящий пастушок» как послеполуденный отдых фавна, игроки в бабки как Адонисы и Антинои, марципановая сладость муляжных
девочек Тропинина и фруктов Хруцкого, пейзажные идиллии братьев Чернецовых и Сороки, итальянские сцены позднего Щедрина и раннего Иванова — все это несет черты стилистической общности, что выразить с помощью каких-нибудь устоявшихся, привычных терминов гораздо сложнее, чем почувствовать. И, конечно, великий Брюллов, Брюллов прежде всего. Не имея ничего общего ни с классицизмом, ни с романтизмом, ни с таким расплывчатым понятием, как академизм, живопись отечественного Золотого века далека и от того, что принято называть Салоном. Французский Салон как-то уж слишком отдает Бальзаком, буржуазностью и рентой, а у нас как-никак аристократичные барщина с оброком и Евгений Онегин.
Остается определить этот феномен как живопись николаевской эпохи, хотя сближение Золотого века и времени николаевской реакции русскому разуму претит непонятно отчего. Страннейшим образом они сосуществуют в сознании, почти никак не соприкасаясь. Время Золотого века как бы волшебно раздваивается: интенсивность культурной жизни, литературный и светский блеск, расцвет архитектуры параллельны казенщине, доходящей до тупости, защищать которую с трудом отваживаются самые отчаянные националисты. Что же значит эта двусмысленная раздвоенность? Необходимость тирании для процветания?
В брюлловских портретах, столь выразительно рисующих русское общество Золотого века (или николаевского режима, как будет угодно), внимание привлекает оранжерейная обстановка, составляющая фон большинства композиций. Все происходит в каком-то волшебном зимнем саду, так что даже итальянская природа производит впечатление искусственно высаженной в горшках и старательно культивируемой. Зелень зимнего сада пышна и сочна, но оранжереи окружены со всех сторон дурным климатом, рождающим сквозняки: во многих портретах Брюллова присутствует мотив зябкости, как будто его моделям хочется закутаться в шали, отороченные мехом накидки и палантины, обязательно присутствующие в картинах. Зелень зимнего сада ярка, мясиста, но пуглива и изнеженна, так как его душная атмосфера и искусственная почва обеспечивают растениям интенсивный рост,
258
но оранжерея по определению хрупка и недолговечна. Ощущение случайности, надуманности и ненадежности пронизывает зимние сады, эти прихотливые счастливые островки роскоши и вечного лета; подразумевается, что они окружены враждебностью, что за стеклянными стенами сугробы и стужа, что холод готов хлынуть внутрь, полностью уничтожая жалкий избранный мирок, спасающийся от внешнего мира только благодаря хрупкой перегородке.
Брюлловским миром правит женщина. Все качества оранжереи сообщаются хозяйке зимнего сада. Она сама похожа на искусственно выращенное растение в своих рюшах, шалях, брошах и браслетах, покрывающих ее, как доспехи, и своей многослойностью подчеркивающих гордую посадку роскошных обнаженных плеч и шеи. Главная характеристика ее наряда — огромное декольте. Декольтированность, так же как и яркость дамских туалетов, воспринимается как знак независимости, контрастируя с серо-коричневыми мужскими фигурами в наглухо застегнутых сюртуках и мундирах, с подбородками, подпертыми высокими галстуками, что придает мужскому населению вид напыщенный и несколько униженный. Исключение составляют лаццарони, некоторые итальянские портреты вроде портрета ставшего гражданином Флоренции Демидова да автопортрет Брюллова, чей расстегнутый ворот подчеркивает болезненное измождение художника. Мир мужчин у Брюллова вообще менее энергичен, более слабосилен и робок, чем мир женщин. Портретист явно испытывает особое пристрастие к изображению амазонок и вообще женщин с хлыстом, так что чудесная Е. П. Салтыкова держит в руках опахало из павлиньих перьев, больше похожее на гигантскую мухобойку, чем на веер.
В оранжерее царит дама, мужчина пассивен и занимает подчиненную, страдательную роль.
В своих портретах Брюллов абсолютно точно определяет соотношение полов в русском обществе, объясняя причину помешательства русской литературы на «женской теме». Поступки жен декабристов оказались более полноценными, чем сумбурный мятеж их мужей, и светским красавицам вроде Самойловой и Волконской было гораздо легче стоять в оппозиции власти, чем их мужьям и любовникам. Вели¬
259
кий николаевский Золотой век, мягкое золотое сияние, льющееся из неизвестного источника, оранжерейная зябкость упоительной роскоши, строгая хозяйка с изящным хлыстом в руке, меланхоличные мундиры и сюртуки, ее окружающие, — и власть, сильная и энергичная вертикаль власти, пронизывающая все снизу доверху, обеспечивающая устойчивость хрупкого цветения, следящая за тем, чтобы снег и дождь не пробрались внутрь, и заботливо уничтожающая все те растения, что своим диким ростом угрожали испортить охраняющий их купол. Созерцание русской физиономии в зеркале русского Золотого века поучительно.
В брюлловских красавицах неожиданно проступает схожесть со сталинскими звездами, что объясняет сегодняшнюю вспышку любви к ним. Золотой век — иллюзия, он не что иное, как проекция желаний нации, мираж, превращенный в путеводную звезду. Впрочем, этот мираж разъясняет многое в феноменологии национального менталитета, его породившего.
Нравился ли самому Брюллову сотворенный им Золотой век? Характерно, что он Россию не любил и предпочитал находиться за ее пределами. Уехав в 1822 году, он возвратился лишь в 1835-м. Все золотистое свечение его живописи определяется Италией, специально выдуманной для России. В России же сороковых годов, под влиянием триединства «православия, самодержавия и народности», все меркнет и обесцвечивается, уступая место серой величественности ХХС и серой бытовухе разночинцев. В творчестве Брюллова это изменение до примитивности наглядно: серые и унылые картоны к росписям Исаакиевского собора явно утомительны для автора столь же, сколь и для зрителя. Навязанный Брюллову высочайший стиль уже не имеет ничего общего с высокой мифологией, и забавным крахом Золотого века петербургской культуры выглядит «Последний день Помпеи», переполненный испуганно мечущимися красавицами салонов пушкинской поры. Легенда, известная по роману Лескова, гласит: когда в 1849-м художник пересек наконец границу, он сбросил с себя всю одежду, чтобы стряхнуть воспоминания о своей любимой родине.
Брюллов не был интернациональным художником, и то, что большинство его творений созданы в Италии, не проти¬
260
воречит его русскости. Весь цвет русского Золотого века ездил отметиться в его мастерскую — при том, правда, условии, что его, этот цвет, выпускали за границу. Оппозиционность, что ощущается в брюлловской итальянской безмятежности, нежна и деликатна, она радикальна не более, чем эпатаж Юлии Самойловой, также с трудом выносившей родину. Брюллов никогда не стремился официально оформить свой разрыв с Россией, понимая, что его существование в Европе обеспечивается связью со страной рождения. Италия Брюллова — все та же русская оранжерея. Сидя в ней, размышлять о России сподручней, чем где-либо. Можно даже потосковать, как сделал Тарковский в «Ностальгии». Но именно эта легкая оппозиционность позволила Брюллову в далеком социалистическом Харькове создать концепт, по силе воздействия ни в чем не уступающий произведениям Кабакова.
263
Призрак нашей свободы
Панегирик живописи 1860-х
с
^^^еро-бурое небо вверху, серо-бурый снег внизу, посередине —
дорога, перерезанная большой длинной серо-бурой лужей. Снег пропитан водой, вода — грязью, воздух — сыростью. На первом плане из бурого снега торчат бесформенные голые прутья кустов — растительность. Подальше торчат прутья потолще и пораскидистее — деревья, распластался приземистый хлев-избушка, крытый прогнившей соломой, в крыше — труба, из нее — дым, значит, там живут. В снегу — очень четкие, огромные, глубокие следы от колес то ли саней, то ли грузовика, заполненные бурой водой. Они круто заворачивают на зрителя, так что ему очень хорошо слышен слякотный звук, какой произведет любая повозка, вздумавшая передвигаться по этой дороге. По одну сторону лужи в грязи деловито копошится стая черных птиц, ворон или галок, у них — собрание. По другую — два бесформенных кулька, замотанных в тряпки, большой и маленький. Путники: большой — бородатый дядя без возраста, маленький — девочка. Девочка руку вытянула, ораторствует о чем-то, мы не знаем, о чем, только можем догадываться: о галках ли, о русском бездорожье, о том, что лужу не перейти, что умом Россию не понять и, следовательно, в нее надо только верить.
Это — замечательная картина Федора Васильева «Оттепель» 1871 года из Русского музея, она сейчас, по сути дела, открывает там экспозицию живописи второй половины XIX века. Эта картина, созданная двадцатилетним художником, как нельзя лучше обрисовывает контуры замечательного
времени, с легкой руки А. П. Чехова получившего кличку «святые шестидесятые». Пейзаж Васильева, такой смутный, размытый, живописно растекшийся в своей поэтичной унылости, обобщает образ этого десятилетия, разделившего историю императорской России на два периода: дореформенный, от Петра до Александра II, и послереформенный, от Александра II до 1917-го. Всякое, конечно, было, но первый период — блистательный, дворянский, имперский, период побед и триумфов над шведами, турками, поляками, французами, над всей Европой, над всем миром, Александр I на белом коне въезжает в Париж, Зимний сверкает огнями, балами и бриллиантами, белоснежные красавицы летят в объятиях шитых золотом мундиров, но я другому отдана, я буду век ему верна, Александрийский столп рвется в небо, золотом горят Казанский и Исакий, колокола гремят, сияют солнце и кресты, парады, кавалькады, кавалергарды, лучатся дивным светом Брюллов, Венецианов, Тропинин и Сорока, полновесна, полноценна русская поэзия, русский народ един и прекрасен, как игроки в свайку и в бабки или как девушка с коромыслом С. С. Пименова из гурьевского фарфорового сервиза. И второй период — после поражения в Крымской войне, период размякающей и раскисающей власти, разъедаемой либерализмом, поражение за поражением, Россию все обманывают и никто не любит, Зимний перекрашен в темно-красный, пушкинские красавицы стары и сварливы, кавалергарды облысели и потучнели, в грязи вокруг Сенной ползают студенты с топорами, Анна мужу неверна, другому отдана и — бух под поезд, против всякого закона Божия и человеческого, погода портится и в литературе, и в живописи, воцаряется темный, серо-коричневый колорит, все разжижается, разъезжается и разбухает, и русская жизнь, еще недавно такая идеальная, такая усадебная, такая очерченная, начинает хлюпать и чавкать униженными и оскорбленными, казалось бы раньше в русской жизни напрочь отсутствующими.
Сколь бы ни был золотист и ярок свет, источаемый полотнами Брюллова и Венецианова, гумно ли это, последний ли день Помпеи, — в нем есть искусственность, оранже- рейность, делающая их чудный мир замкнутым и отгоро¬
264
женным толстыми стеклами от всего, что вокруг. Там, за прочными, хорошо охраняемыми стенами оранжереи, расстилается что-то, но оно заморожено, застужено, недвижно, никто не заглядывает извне, не распластывает носа, прижимаясь грязной рожей к стеклу, так как в эту оранжерею, так же как и в Летний сад, вход в русском костюме, за исключением нянек с детьми, запрещен. На самом деле и оранжерея ледяная, и весь блистающий мир в ней — белоснежный, замерзший, застывший.
Вдруг все поплыло. Оранжерейные стекла не выдержали, лопнули, и в зимний сад вперлись бородачи в сапогах, с сапог течет, они следят, и грязь, грязь, грязь со всех сторон.
Прекрасны наши русские ранние оттепели, странное безвременье, когда сквозь суровую однообразность зимы, льдами и снегами сковавшей жизнь и движение природы, вдруг пробиваются первые, с трудом внятные импульсы нового движения. Небо серо, земля сера, леса серы, над всем царит безрадостная унылость, но в воздухе ощутима уже не стужа, но сырость, зябкая и промозглая, внятно свидетельствующая о том, что скоро льды тронутся, сугробы станут рыхлыми, вместо снега начнет накрапывать мелкий дождь и все наполнится тихим, упорным движением таяния, мерным гулом, заполняющим пространство. Дороги разъедутся в непролазной грязи, деревья болезненно почернеют, обнажится размокший зимний мусор, и как-то особенно ясно на лицах проступят усталость, депрессивность и авитаминоз. Сырость, грязь, унылость и изможденность флоры и фауны — залог грядущего расцвета, полного обновления души и тела, кипения всех жизненных соков, улавливаемое в первом раннем таянии снега и робких проблесках света. Во всяком случае, хочется в это верить.
Как-то раз, в конце восьмидесятых, чудной апрельской ночью я вместе с одной итальянкой оказался за городом, на даче, более-менее затерянной в лесу, и была темнота, чернели деревья, а снег легко белел и таял, и тишину наполнял странный, чуть слышный нервный шум тающего снега, невнятный, но постоянный, так что казалось, что соки ходят по деревьям, создавая впечатление подспудного, но постоянного, неумолкающего движения вокруг. В стране чуть-чуть
проклевывалась гласность, «Человека без свойств» Музиля, по-моему, уже напечатали, казалось, что все движется, вздыхает, набирается сил, полнится соками, жизнью, будущим.
— Чувствуешь, как дышит весна? — восторженно прошептал я.
— Нет, не чувствую, — очень просто ответила мне дочь Авзонии.
Нет, не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный. Ничего не поймет ни в нашей оттепели, ни в нашем либерализме, ни в русской живописи. Отечественная живопись шестидесятых годов XIX века с поразительной адекватностью передала ощущение размягчения и расползания, характерное для русской либеральной весны. Небо стало серым-се- рым, колорит поблек, потускнело солнце, равно освещавшее и русские, и итальянские пейзажи николаевского времени, в интерьерных сценах воцарился сумрак, четкие формы растворились, растаяли, и на поверхность выплыли грязноватые нищие, коробейники и странники, сменившие облитых золотистым светом крестьян Венецианова и мальчиков Иванова. И цвет, и сюжеты, и типы приобрели угрюмость. Полнотелые итальянки сменились несчастными женами, мерзнущими у последнего кабака, пухлые детки — истощенными сиротами, любовные сцены — похоронами и плачем на могилах. Вся эта депрессивная круговерть унылых лиц и безрадостных пейзажей была провозглашена выражением подлинно русского чувства формы, и мощный голос Стасова призвал российского думающего художника к изображению правды жизни. Нимало не задумываясь о том, что правда разная бывает, ибо нет ничего более диктаторского по своим ухваткам, чем русский либерализм.
Кто сегодня любит живопись времени «Бунта четырнадцати», этого события, для русской жизни не менее важного, чем создание земства? Живопись, параллельная идеям «Эстетического отношения к действительности» Н. Чернышевского, интересует лишь как документ времени, свидетельствующий о его беспомощности. Мельчание формы и формата, неопрятная склонность к анекдоту, осознанное безразличие к художественности несимпатично ни радикалам, ни эстетам. Но именно эти качества придают живо¬
писи Корзухина и Максимова, Соломаткина и Крамского, Неврева и Прянишникова пронзительно нежную человечность, ставящую их особняком во всем мировом искусстве. Это не пресловутая «жалость к маленькому человеку», но особая, эстетствующая человечность Федора Карамазова, просившего: «Не пренебрегайте мовешками!» К убогой прелести русской школы шестидесятых подлинный ценитель живописи не может не испытывать вожделения. В ней есть харизма Елизаветы Смердящей, и нет более подходящего определения этому десятилетию, чем чеховское «святые шестидесятые». Это у проклятых безбожников-латинян святые с совершенными пропорциями и нежной кожей. Наша святость близка к юродству, к кликушеству. Но есть в ней прельстительно грязная, лепечущая нежность. Ее ли вина, что она порождает Смердякова?
269
Очередь к Мессии
К 200-летию со дня рождения Александра Иванова
Р
усекая утопия — как она многообразна и обширна! Она расстилается на запад и восток, чего только в себя не втягивая: мечты о панславянском единении, вселенской церкви, новом царствии Божием, духовном обновлении человечества, единении пролетариата, бесклассовом обществе. И много еще чего другого, и все ширится и будет продуцировать все новые и новые варианты. Утопия. Как по-русски звучит это слово, сразу же образуя что-то вязкое, хлипкое, топкое, засасывающее — что-то возникающее из тьмы лесов, из топи блат!
В русской культуре картина «Явление Мессии» Александра Андреевича Иванова занимает примерно то же место, какое финал Девятой симфонии Бетховена занимает в культуре европейской. Эта картина должна примирить всех, так как, по мысли самого художника, изображает тот момент, когда «...начался день человечества, день нравственного совершенствования». А что может примирить человечество, как не нравственное совершенство? Далее это нравственное совершенство можно толковать по-разному. Девятую, например, Гитлер выбрал для исполнения на свой день рождения, а теперь Евросоюз сделал ее своим гимном. Что ж, и Иванов был разнообразен: он в своей мастерской императора Николая принимал, но и к Герцену в Лондон ездил и даже с Чернышевским познакомился. Западники и славянофилы, либералы и реакционеры, демократы и монархисты, коммунисты и православные — все слились в едином ожидании Мессии или Явления Христа народу. И,
в общем-то, продолжают сливаться. С самого начала своей истории картина взволновала воображение всей России, пусть даже отдельные персонажи, вроде Ф. И. Тютчева, назвавшего ее групповым портретом семейства Ротшильда, и были ею недовольны.
Как ни крути, но это произведение А. А. Иванова занимает положение центра во всей истории русского искусства. Конечно, есть у нас и «Троица» Рублева, и «Тройка» Перова, и «Черный квадрат» Малевича, и новгородское «Чудо святого Георгия о змие», и «Заседание Государственного Совета» Репина, и шишкинское «Утро в сосновом лесу», и брюллов- ский «Последний день Помпеи», и «Девятый вал» Айвазовского — все великие мифологемы, вошедшие в плоть и кровь России, — но все же именно ивановское «Явление» оказалось центром, к которому стекается и от которого растекается русская духовность. В нем сконцентрировалась чистота иконописного православия, прошедшего сквозь горнило культурной революции петровских реформ, и вдумчивое овладение языком всемирной культуры, помноженное на ча- адаевско-гоголевскую тоску о русской избранности. От «Явления Христа народу» идет путь к соловьевской Всемирной Софии, к откровениям русского символизма, революционной мистике, державному шагу «Двенадцати», «Жертвоприношению» Тарковского, к «Исповеди» Толстого, его уходу от мира, подвигу Сахарова, эмиграции Солженицына и его возвращению в Россию на транссибирском экспрессе.
Величие картины Иванова заявлено во всем: и в размерах, и в замысле, и в количестве фигур. В теме, совершенно уникальной в истории мировой живописи. Во множестве эскизов и этюдов, обрисовывающих колоссальность внутренней работы. В сроке, потраченном художником на исполнение картины. В ожидании этого произведения, простершегося над всей мыслящей Россией. В том впечатлении, что оно на мыслящую Россию произвело: в течение ста пятидесяти лет после смерти художника все о нем пишущие прямо-таки обречены на восклицательные знаки и многоточия. В том уникальном положении, которое «Явление Мессии» занимает не только в русском искусстве, не только в русской культуре, но и во всей истории России. В том, что пишут о юбилее Ива¬
нова сейчас: «...„великий", „гениальный", „своеобразный", „уникальный"... Все эти эпитеты — и многие другие — столь же справедливы, сколь и бедны по отношению к Александру Иванову. Их повторение вызывает даже некоторую неловкость, настолько они скудны и нелепы, обыденны и неравнозначно бесцветны в соотнесении с феноменом творца „Явления Мессии"... К Александру Иванову нельзя подходить с мерками и критериями, применяемыми к любым другим явлениям русской, да и большинству европейской художественной культуры! Александр Иванов адекватен только Александру Иванову!» Немного отдает кликушеством, но как же еще говорить о создателе полотна, претендовавшего на титул величайшей картины всех времен и народов? Кому он еще может быть адекватен?
Русский шедевр был написан в Европе. В той Европе, чье развитие неизбежно вело от «Оды к радости» к «Манифесту коммунистической партии». Александр Андреевич Иванов очень жаловался на нее, на эту Европу. Измельчавшая, суетная и тщеславная, она раздражала великого русского живописца отсутствием больших движений души и мысли. Ох уж эта Европа периода борьбы всевозможных Реставраций за выживание! Не сыскать в ней ни гордой смелости, ни духовного величия. Сплошное ничтожество. Европа кажется блестяще образованной, но по сути она — невежественна. В словах выражает возвышенность чувств, но даже и не пытается эти слова осмыслить. Много говорит о религии, но давно уже свела религиозность к внешней обрядовости. Душевное благородство подменила соблюдением светских приличий, упрямство поставила выше силы характера, поверхностную восторженность выдает за героическое воодушевление, рассудочность — за разум и духовность. Корысть, трусость и лицемерие воцарились в сердцах, так что Европа оказалась совершенно неспособной к продуцированию больших идей. Противная буржуазка, корчащая из себя аристократку.
Александр Андреевич Иванов был прав. Европа второй четверти XIX века как-то совсем повернулась на благополучии и приличии. Желание примирить воспоминания об аристократизме, ушедшем в прошлое вместе с наполеоновской империей, с буржуазной добропорядочностью привело к во-
дарению культа уютной золотой середины, точно выраженного немецким словечком Gemtitlichkeit, столь же применимым к Франции и Англии, как и к Германии. Как у Гофмана все фантазии успокаиваются в радостях Gemtitlichkeit, так у Бальзака и Диккенса в конце действия все оставшиеся в живых собираются и подсчитывают имеющиеся у них франки и фунты.
Die Gemtitlichkeit — какое замечательное слово! Как чудно и полно немецкий язык выразил в нем стремление человечества к высшей духовности, не исключающей душевность, к миру, доброте и к всеобщему счастью! Как восхитительно на гребне пафоса финального хора Девятой симфонии, после призыва «Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!», вырисовывается утопическое всеобщее благоденствие, вечная, высшая Gemtitlichkeit, доступная всем и каждому и всеми и каждым разделенная! Бетховен рисует Gemtitlichkeit духовно, утопически, но «Оду к радости» можно воспринимать и как руководство к действию. Как возможность разглядеть в человечестве человечность. Ведь если в реальности миллионы обнимутся, пусть даже и не без принуждения, наступит сущий рай.
После первого исполнения Девятой симфонии в 1824 году в Европе на некоторое время воцарилась всеобщая Gemtitlichkeit, этакий рай под полицейским надзором. Не то чтобы все слились в радости одной, но по крайней мере утихомирились. Спокойствие скорее оттенялось, чем нарушалось, легкой рябью французских переворотов и царило вплоть до «весны народов» 1848-го. С весной блюстители Gemtitlichkeit разобрались, хотя она им и попортила кровь. Все было почти хорошо, но от Gemtitlichkeit было очень тошно всем приличным людям, в том числе и Иванову.
Искусство этих десятилетий дало адекватное изображение Gemtitlichkeit. Когда в больших количествах смотришь на произведения живописи, снискавшие славу на выставках и в салонах Европы тридцатых — сороковых годов XIX века, то рождается ощущение остановки движения, какого-то безветрия, подобного штилю в поэме Кольриджа «Старый мореход», написанной гораздо раньше, в 1798 году, но поразительно предугадавшей состояние именно этого времени. Торжествующий салон, тяжеловесный, душный, самодо-
вольный. Гладкая живопись, прилично приглушенная светлость колорита, громоздкая правильность композиций, все достойно, трудоемко и как-то безвыходно. Множество голых красавиц, похожих на манекены, зализанные многофигурные сцены из истории, мифологии и религии, трактуемые с механистичной повторяемостью, пейзажи, все по большей части южные и все по большей части одинаковые, как одинаковы рекламные буклеты турбюро. И бесконечные портреты, портреты дам и господ, очень прилично одетых, с приличным выражением довольных собой и окружающим миром лиц, иногда разбавляемые какой-нибудь красоткой в национальном костюме, испанском или итальянском по преимуществу. Скука. Живопись в ожидании дагерротипа.
Виной ли тому равновесие после Венского конгресса, торжество ли Тройственного союза после 1830-го, Луи Филипп с королевой Викторией — но по Европе разливается поток ханжеской благопристойности, сглаживающий все в унылую ровность общего места, общего мнения, общего вкуса. Конечно, и в это время внутри, в мастерских художников, кипит и булькает, но на поверхность мало что вырывается. Энгр с Делакруа стали ходячими памятниками самим себе, замечательный Коро мало кому известен, Домье знают только как карикатуриста, Тернер замыкается в себе и в своей велеречивости, итальянцы бултыхаются в мельчающем классицизме, немцы — в мельчающем романтизме, русские же никак не могут выбрать, кому подражать, то ли любимому императором Николаем художнику Крюгеру, то ли Рафаэлю, тоже императором любимому. Картин становится все больше и больше, цены на них растут и растут, выставки становятся все более и более популярными, художникам оказывают все большее уважение, но при этом между 1830-м, между «Свободой на баррикадах» Делакруа, и 1855-м, годом появления «Ателье» Курбе, образуется пауза стилистического и творческого штиля. Об искусстве говорят очень много, и все так величаво, возвышенно, но в велеречивых рассуждениях как-то безысходно фонит тупое благодушие Готтлиба Бидермейера, старшего немецкого соратника и единомышленника нашего Козьмы Пруткова. Что же делать
тонкому, духовному русскому человеку? Остается только ждать, обратив свои взоры к России, к обширным возможностям, таящимся в этой огромной стране.
Эти два десятилетия — какое-то стилистическое безвременье. Классицизм, столь эффектно и стильно заморозившийся в ампире, превратился совсем уж в набор ремесленных приемов, позволяющий конструировать бессчетные вариации одного и того же образца; романтизм протух, превратившись в вязкую массу из лат, одалисок, трубадуров и бледных дев под луной; реализм воспринимается как средство передачи приятного подобия. Разница между ними практически стерлась, подготавливая почву для воцарения тяжелого и душного историзма с его доходными домами, тяжеловесными буфетами, кринолинами, корсетами, множеством нижних юбок и уверенностью в том, что именно он, историзм, является верхом совершенства со всех точек зрения. Два десятилетия набирающего силу самодовольства XIX века, в Германии и Австрии удачно прозванных стилем цветущего бидермейера.
В эти два десятилетия создавалась великая русская картина «Явление Христа народу», задуманная где-то около 1832 года и законченная только к 1857-му, и она, казалось бы, — лучший контраргумент в спорах о русском бидермей- ере. Все в этой картине восстает против мелкой европейской меркантильности. Во многом благодаря Иванову в России эти два десятилетия бидермейером никто не решится назвать, только упомянут о легком влиянии немцев и австрийцев на русскую мебель, а самые смелые — на их же влияние на Тропинина. Однако если присмотреться, то многие формальные признаки картины: тщательность отделки каждой детали «Явления», тончайшая прорисовка каждой травинки и волосинки, глянцевитая объемность при общем тяготении к плоскости, подчеркнутая ирреальностью высветленного колорита, сквозящее во внешнем правдоподобии стремление к идеализированной красоте каждой фигуры, каждого лица, каждой драпировки — роднят шедевр Иванова с произведениями великого мастера австрийского бидермейера Фердинанда Георга Вальдмюллера. Но! Где Россия — и где бидермейер! Европа маленькая и мелкая.
У нас же величие, размах, крепостное право, рассуждения об избранности России, салоны, кавалергарды и балы, дворянская культура, славянофилы и западники. И огромное пространство — леса, поля, реки, так что «садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною, звездочка сверкает вдали, лес несется с темными деревьями и месяцем, сизый туман стелется под ногами, струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеются». Известно же, что русские любят быструю езду. Какой же тут бидермейер. И все же...
Размер, конечно, имеет значение. Однако когда оказываешься в петергофском Коттедже императора Николая I, в этом уютнейшем местечке, где сентиментальный романтизм легко ложится на ампирную структуру, сглаживая бесчеловечность его героической геометрии, и превращает жилище императора в такую милую, такую уютную, такую комфортную дачку, то на сердце становится тепло, размах империи утихает и все парады, балы, кавалергарды, салоны и самодержавные пространства превращаются лишь в смутный фон для физиономии Готтлиба Бидермейера, воплощающей в себе высшую человечность Gemtitlichkeit. Империя сужается, и именно к нему, к этому немецкому идеалу, стремится император, а за ним и вся Россия. Ведь на самом деле насаждение формулы «православие, самодержавие, народность» есть не что иное, как орудие насаждения всеобщего Gemtitlichkeit, чтобы, обнявшись, раб с господином блаженно растворились в упоении обоюдного восторга. Из русского стремления к Gemutlichkeit, правда, все время Крымская война вырастает, но что же делать...
Россия столь велика, что только ожидание может ее объединить. Ведь русские любят быструю езду, а передвигаются медленно. Вся любовь утыкается в пробки, да и дороги были и остаются плохими. Ведь в России само пространство к медлительности располагает. Широта, простор, безбрежность. Леса, поля, долины ровныя, все стелется ров- нем-гладнем на полсвета, верста мелькает за верстой, одна неотличимо похожая на другую. То поломка, то завязнешь. И бесконечное ожидание на станциях.
То, что картина Иванова представила формулу Ожидания, и поместило ее в центр русской культуры. То ли беспредельность, то ли ровный рельеф, то ли климат, предполагающий полугодовую спячку, но в России Ожидание заняло столь же почетное место, как и три главные христианские добродетели — Вера, Надежда и Любовь. Недаром на долгие годы символом российской жизни стала очередь. Тише едешь — дальше будешь, поспешишь — людей насмешишь, ждать весны, милостей от природы, реформ, конца, хлеба, нормы, всеобщего благоденствия... Раскинулась и ждет лениво.
Есть в ивановском «Явлении Мессии» странность. Перст Иоанна Крестителя указует не столько на фигуру Христа, сколько на двух всадников в правом верхнем углу картины. Головы легионеров — высшая точка композиции, они находятся даже выше головы Иисуса Христа. Что здесь делают представители власти? Пришли ли они ждать и обратиться вместе с богоизбранным народом, собираются ли они контролировать толпу, разогнать ли, следить ли за порядком на разрешенном властями митинге или, наоборот, они сгоняют ее, в том числе и лохматого Сомневающегося в коричневом хитоне, к священным водам реки? И что же народ?
Народ безмолвствует.
279
Битва с Ахматовой
Рисунок Модильяни выставят в Фонтанном доме
с
^<«^вященные коровы раздражают. Они жирные, наглые, медлительные и с точки зрения практического человека совершенно бесполезные. Им поклоняются оголтелые фанатики с горящими глазами и осоловевшие ханжи, а коровы медленно жуют, поводят очами и иногда, подняв хвост, выпускают мощную струю навоза, густо-жидкую, остро пахнущую. Навоз падает с гулким шлепаньем, брызги по ветру летят, он, этот навоз, безусловно полезен, он насыщен, питателен, он, при умелом использовании, даже может что-то взрастить. Еще священные коровы гладкие, красивые, достойные, облизанные. Двигаются они с безнаказанной уверенностью, поводя толстыми боками, беззастенчиво расталкивая окружающее. Широкая публика, обманутая фанатиками и ханжами, бросается перед ними на колени и свято верует в то, что прикосновение к их жирным бокам излечивает язвы души и тела. Но радикалы и радикалки с мозгом маленьким, но чистым, претендующим на свободу, священных коров ненавидят. Душно им от них, тошно. Они хотят священных коров разорвать, сожрать, чтобы их не было, переварить и произвести на основе сожранного свои собственные какашки. Они не такие густые и пахучие, как навоз священных коров, но гораздо более оформленные. Они тверденькие, похожи на овечьи горошины, барабанят легко, с сухим стуком, и гораздо менее питательны. Кому что нравится, хотя, несомненно, священные коровы первичны. В этом их неоспоримое достоинство. Пожиратели священных коров без коров не могут,
в то время как священные коровы прекрасно существуют и без своих пожирателей.
Любая так называемая «культура» превращается в загон для священных коров. Они там стоят, медленно жуют свое сено и производят тонны навоза. А за загородкой — толпа жаждущих их сожрать. Они жаждут правды, реальной правды, а не культа. Сожрать им священных коров не удается, только укусить, при этом коровы к укусам безразличны. Ведь они уже давно мертвы и, следовательно, бестелесны.
Недавно сквозь загородку культурного коровника прорвалась славная интеллигентная девушка, Тамара Катаева, и, разметав коровниц и коровников, впилась своим, очень милым и очень накрашенным, судя по прелестнейшей фотографии, украшающей обложку ее книжки, ротиком в задницу одной из главных священных коров нашего коровника, ААА. Впилась и высосала текст в пятьсот шестьдесят страниц. Молодец какая!
В книжке много всего интересного, и то и се, и про менопаузу очень интересно, и про то, какая Лилия Брик была гламур- ненькая, и вообще много захватывающей и полезной информации. В том числе и рассуждение о связи ААА с Модильяни. И утверждение, что «доказательств существования рисунков Модильяни нет» (с. 274). А вот поди же ты, 8 октября в Фонтанном доме Петербурга открывается выставка рисунка Модильяни, на котором изображена та самая Ахматова.
История же такова. В 1964 году в Италии — на итальянском языке — впервые были опубликованы воспоминания Анны Ахматовой об Амедео Модильяни. Эта публикация предварила визит Ахматовой в Италию, состоявшийся в том же году, и поставила ее имя, тогда еще в Италии известное лишь очень узкому кругу русистов, в прямую связь с именем одного из самых прославленных итальянских художников XX века. Под небольшим эссе стоит дата «1958—1964», и сама Ахматова сообщает, что к его написанию она приступила в 1958 году, называя этот небольшой очерк «воспоминаниями». В России этот текст был опубликован позже, только в 1967 году, уже после смерти автора, но в среде знакомых Ахматовой он был хорошо известен: она часто читала его вслух и очень им гордилась.
«Воспоминаниями», однако, этот короткий текст назвать трудно. В Музее Ахматовой хранится его авторская редак¬
280
ция — пять машинописных страничек с собственноручными пометками и исправлениями, на обороте одной страницы написано: «Моди 1964», и это именно небольшое эссе, в котором Парижу и началу XX века уделено место чуть ли не большее, чем самому Модильяни. Никаких ответов на прямые вопросы, более всего интересующие историков, литературоведов и искусствоведов, пишущих биографии великих людей, в нем не найти. Остается неизвестным, как, где, при каких обстоятельствах познакомились Ахматова и Модильяни; случай ли свел их, общие ли знакомые или вообще посторонние люди; неизвестно, длительны ли были их встречи и сколь длительны они были, что послужило толчком их связи, да и вообще, была ли связь, или это было ипе hantise, наваждение, неизвестно сколько продолжавшееся.
Обо всем этом можно лишь строить предположения. В эссе Ахматовой есть только божественно красивый юный итальянский художник с «головой Антиноя и глазами с золотистыми искрами» и юная русская поэтесса в африканских бусах. Они одни на фоне огромного, роскошного, чужого им обоим города. Все остальное тонет в недомолвках, в общей размытой отдаленности, так что весь строй ахматовских воспоминаний похож на ворох выцветших фотографий с нечеткими контурами, доносящий до нас свидетельство о том, что уже давно не существует, унесено бегом времени. Сама Ахматова в первых же строках своей прозы задает нам общий колорит своего повествования: «Это должен был быть светлый легкий предрассветный час». Слышится определенное противоречие — «светлый» и «предрассветный», но она этого не замечает, ибо «светлый» относится к тону, окрашивающему воспоминание семидесятилетней дамы, пишущей о своей далекой счастливой юности, об исчезнувшей эпохе. А так все очень романтично: смутный серебристо-серый цвет давным-давно приснившегося сна — дождь, стихи Верлена, Малларме, Лафорга и Бодлера, серый камень le vieux palais I’ltalienne, дремлющего неподалеку, прогулки при луне и — «„А далеко на севере"... в России». Ахматова здесь цитирует слова Лауры из пушкинского «Каменного гостя» — «А далеко, на севере — в Париже — / Быть может, небо тучами покрыто, / Холодный дождь идет и ветер дует» — не случайно, но как
281
бы подчеркивая сходство своих парижских воспоминаний о Модильяни с воспоминаниями о петербургском Серебряном веке, с «Северными элегиями», с «Поэмой без героя».
Общий сумеречный тон повествованию задает первая же цитируемая Ахматовой фраза Модильяни, единственная удержанная ею в памяти из его писем: Vous etes еп moi сотте ипе hantise — Вы во мне как наваждение. Затем всплывают еще несколько фраз, произнесенных Модильяни, столь же загадочно многозначных, неуловимых: On communique — О, передача мыслей; II п’у a que vous pour realiser cela — О, это умеете только вы; Les bijoux doivent etre sauvage — Драгоценности должны быть дикарскими; Jai oublie quil у а ипе ile au milieu — Я забыл, что посередине находится остров; Mais Hugo — c’est declamatoire? — А Гюго — это декламатор? Jai oublie de vous dire que je suis juif — Я забыл вам сказать, что я еврей. Наваждение, недоумение, потерялся, забыл, не понял — и африканские бусы; вот и все, больше ничего не помнит. Из этой прямой речи Модильяни мы должны понять, что обращался он к Ахматовой на «вы» и что сны, предчувствия, поэзия и ночные скитания по пустынному городу составляли саму суть этого изысканного романа Серебряного века, развернувшегося на фоне vieux Paris, Paris avant guerre, города, воплощающего Европу belle epoque, — то чудное, безвозвратно ушедшее время, когда фиакры еще не были заменены автомобилями, женщины еще только пытались носить штаны, большевики и меньшевики сидели друг напротив друга за столиками в Taverne de Pantheon, Чарли Чаплин был безвестен, а Пруст, Джойс и Кафка еще живы. А так — все закончилось, пропало, погибло, исчезло: «молодые современники» в мясорубках Марны и Вердена, шестнадцать рисунков в пожаре революции, vieux Paris в чаду двух мировых войн, Петербург в переименованиях, Россия в коммунистическом смерче. А Ахматова, как Ниобея, стоит, закутавшись в шаль, и вспоминает. Вся такая каменная. Только одно яркое пятно сияет в этих сумеречных и светлых набросках, столь похожих на серебряную печать ранней фотографии начала прошлого века: охапка красных роз, разбросанных в продуманном беспорядке на полу мастерской Модильяни. «Не может быть, — они так красиво лежали...» — еще одна
282
фраза Модильяни, цитируемая Ахматовой, на этот раз — уже по-русски. Эта деталь влечет внимание читателя, магнетизируя его символистским ощущением предрешенности. Красные розы, поэзия и пророчество одновременно. До ахматов- ских воспоминаний уже несколько дам подобным образом раскидали цветы в мастерских других художников. Красиво, как у Пугачевой, — миллион, миллион, миллион алых роз...
Иосиф Бродский не без лукавства вспоминал, что «Анна Андреевна, после того как дала мне прочитать свои записки о Модильяни, спросила: „Иосиф, что вы по этому поводу думаете?'* Я говорю: „Ну, Анна Андреевна... Это — „Ромео и Джульетта" в исполнении особ царствующего дома". Что ее чрезвычайно развеселило». Это часто цитируемое и полное иронии замечание Бродского очень точно передает ощущение от ахматовской прозы. Королева русской поэзии вспоминает о принце «парижской школы», о том, как они были юны, прекрасны и безвестны (осознано или нет, но Ахматова делает Модильяни моложе, чем он был на самом деле: «Что он родом из Ливорно — сказал сразу, и что ему двадцать четыре года, а было ему двадцать шесть...»); о том, как они были чисты («...я могла знать только одну сторону его сущности (сияющую)...»); как были одиноки («Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника, и я не слышала от него ни одной шутки»); о том, как он был непорочен («Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином»); о том, как будущее затаилось рядом, готовое «обуглить» их юные жизни своим страшным дыханием, «обуглить» и прославить, превратив их короткую встречу в символ эпохи, в великую романтическую историю belle epoque, столкнувших две равновеликие фигуры: лучшую поэтессу России и лучшего художника Италии того времени во vieux Paris, старом Париже, полном воспоминаний о Бодлере и Верлене. В историю для Истории, вскоре превратившуюся в миф, многих очаровавший и многими потом использованный для разнообразных спекуляций. Ничего не скажешь, это — настоящий шекспировский сюжет. Сюжет, готовый
обернуться трагедией: трагедией смерти Модильяни, Первой мировой войны, революции, фашизма, сталинизма, трагедией «настоящего, не календарного» Двадцатого Века.
Так все красиво, что заставляет засомневаться. Документальные свидетельства тоже очень мало что проясняют. Мы знаем, что первый раз Ахматова побывала в Париже в мае — июне 1910 года вместе с Гумилевым, за которого она вышла замуж 25 апреля того же года, так что это было что-то вроде свадебного путешествия. Несмотря на медовый месяц, юная жена, неизвестно где и неизвестно как, познакомилась с Модильяни, который настолько был ею пленен, что «...он всю зиму писал мне...» (письма не сохранились, о них мы знаем только из ахматовских воспоминаний. Судя по тому, что вообще писем Модильяни дошло до нас немного, он был не большим любителем эпистолярного жанра, так что молодая русская очень уж его поразила, если он писал ей «всю зиму». О письмах Ахматовой к Модильяни не упоминает даже она сама, так что писал он, судя по всему, не ожидая никакого ответа). Второй раз она приезжает в Париж в июне 1911 года, заметив в Модильяни «...большую перемену. Он как-то потемнел и осунулся». Но, несмотря на то что он не похорошел, именно тогда и начинается «роман», так как с этим временем и совпадает большинство событий, упоминаемых в ее рассказе. Она была в Париже одна и свободна: даты, раскиданные в тексте, все относятся только к этому времени: «Жил он тогда (в 1911 году) в Impasse Falguiere»; «Скульптуру свою он называл la chose — она была выставлена, кажется у Independants в 1911 году. Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна, а с друзьями. Во время моих больших пропаж исчезла и подаренная им мне фотография этой вещи».
Никто никогда при жизни Модильяни о его встрече с Ахматовой не упоминал. В 1936 году в книге Булье смутно говорится о русской красавице, «дворянке по слухам» (а кто ж из русских в Париже не красавица и не дворянка?), с которой он был когда-то, неизвестно когда, знаком. В тех же 1930-х в окружении поэтессы появляются и первые, очень смутные, упоминания о рисунке работы Модильяни (Николай Лунин, которому по роду занятий должен был бы быть интересен
284
рисунок Модильяни, не обронил о нем ни слова). Считается, что именно с конца тридцатых он и висит постоянно в ее комнате, после того, как «кто-то (во время заседания) передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла — фотография Модильяни... Крестик... Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он — великий художник XX века (помнится, там его сравнивали с Боттичелли), что о нем уже есть монографии по-английски и по-итальянски». В книге же Аманды Хейт, написанной под чутким руководством самой Анны Андреевны, по поводу встречи с Исаией Берлиным в 1946 году сказано следующее: «Комната Ахматовой была почти пустой. В ней стоял комод, еле вмещавший рукописи, а на стене висел рисунок Модильяни. Когда Берлин поведал ей о нынешней славе Модильяни, Ахматова была удивлена — она не знала об этом». Поэты все же очень не точны, до противоречивости.
До 1964 года о рисунке ничего не говорит и Харджиев, и, судя по тому, что записка Ахматовой к нему от 2 мая 1964 года содержит просьбу взглянуть на рисунок, который специально везет ему Александр Павлович Нилин, он его до того никогда и не видел. В своих воспоминаниях Ахматова говорит, что всего рисунков было шестнадцать, остальные же «...погибли в царскосельском доме в первые годы Революции». Иосиф Бродский и Лев Озеров оба сообщают, что в частных беседах она высказывалась определенней: из рисунков Модильяни понаделали козьих ножек красноармейцы. Вообще-то, для козьих ножек бумага, употребляемая Модильяни для рисования, толстовата, и оба слушателя воспринимают рассказ как апокриф.
Впрочем, скудость фактов никак не мешала красоте становящегося все более и более популярным мифа о романе двух прекрасных юных существ начала века, художника и поэтессы. В 1970—1980-е годы в Советском Союзе многие зачитывались поэтичным описанием Парижа и Серебряного века, набросанным в ахматовском «Амедео Модильяни». Это эссе восстанавливало, как тогда казалось, связь убогой советской современности с русской культурой начала века, свободной, европейской, богатой, изощренной, а заодно, через поэтический рассказ о любви итальянского гения и русской поэтессы, такой нежный, такой красивый, выводило
петербургский декаданс десятых годов, воплощением которого стали акмеизм и гордый профиль Анны Ахматовой, за рамки чисто русского явления, лишало его несколько нафталинного душка запоздавшего местного fine de siecle и придавало ему размах европейской грандиозности, связывало с искусством «настоящего» Двадцатого Века, одним из героев которого был Амедео Модильяни. Роман короткий, но значительный, и, как сказал Вольтер о Боге, если бы даже его и не существовало, его бы надо было выдумать.
Все оплакивали уничтоженные революцией рисунки Модильяни. В этом была даже какая-то символика: потеря непосредственной связи с авангардом, с «парижской школой», с Европой, с культурой вообще. Но вот на выставке произведений Модильяни из коллекции его близкого друга Поля Александра, состоявшейся в Венеции в 1993 году, демонстрируется целая серия ранних, малоизвестных его рисунков, и А. Докукина-Бобель пишет в «Русской мысли», что среди них целых восемь, несомненно изображающих Анну Ахматову. Блеклый образ небесной любви двух юных гениев, обрисованный в эссе семидесятилетней поэтессы, вдруг оказался выхваченным из сумерек подвала памяти ярким светом. Расплывчатая фраза «Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие ню...» обрела убедительную осязаемость: вот они, эти ню, с непреложностью того, что Модильяни рисовал Ахматову обнаженной, того, что те, упоминаемые Ахматовой, шестнадцать существовали и что их, судя по тому, что Полю Александру эти восемь достались прямо от Модильяни, могло существовать и больше, много больше. Было, точно было! Радости поклонников поэтессы нет границ: и вот уже появляются книги, доказывающие, что чуть ли не все ранние любовные стихи Анны Андреевны посвящены Амедео, что Модильяни чуть ли не всю жизнь рисовал Анну. С ней связываются уже не только его рисунки, но скульптура и живопись. Доказывается, что Анна была романом жизни и постоянной музой Модильяни, а Амедео — романом жизни и постоянным вдохновителем Ахматовой, так что парижская школа многим обязана одесситке Ане Горенко, а русская поэзия — еврею из Ливорно.
286
Утверждения о романе жизни нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Похожи они, правда, на издержки культа, но пусть это все остается на совести авторов, сочно упражняющихся в романтичных подробностях подобно М. Д. Вольпи- ну в записи Дувакина:
«В. ...она мне рассказывала о Модильяни о своем: то, что она потом записала, как она ему бросила цветы в окно и как он не верил, что она была у него дома — так красиво они легли на полу. Очень мне этот ее рассказ не понравился и казался вообще...
Д. Манерным, да?
В. Манерным. А я подсмеивался и говорил: А, Анна Андреевна, бросьте врать! Аннушка, ну было у вас с Модильяни, а? Грех-то был? Я все так ей (усмехается).
Д. Ну, она не...
В. Вот это ей безумно нравилось. Вы понимаете, стареющей даме... Тут надо иногда быть решительным, желая понравиться, серьезно».
Особой нужды в спекуляциях нет. Понравиться уже некому. Но того, что мы видим, — рисунок одного из самых известных художников прошлого столетия, вдохновленный самой красивой русской поэтессой, — вполне достаточно. Он красноречив сам по себе, а не как доказательство по делу Ахматова — Модильяни. Был ли он сделан непосредственно с обнаженной Ахматовой, как хочется думать многим, или, как утверждает сама Анна Андреевна, «рисовал он меня не с натуры, а у себя дома...», то есть по памяти, не имеет большого значения. Серов рисовал голую Иду Рубинштейн, а Роден — голого Нижинского, и что дальше? Но зато вновь найденные рисунки снова восстанавливают связь петербургского Серебряного века с европейским искусством двадцатого столетия, и явление образа юной Анны Ахматовой, воскрешенного рисунком Модильяни, в Фонтанном доме теперь, спустя полвека после написания ее эссе и почти через столетие после их встречи, оказывается столь же убедительно мифологичным, сколь убедительна и мифология самой Ахматовой, собравшей на карнавал в том же Фонтанном доме в «Поэме без героя» весь Петербург тринадцатого года.
Так что пусть жует своего Модильяни. А тебе, Тамара, какое дело?
289
Маньеризм и сюрреализм: парад-алле
и звестно, что Ар-
чимбольдо очень нравился Дали. Понравился бы Дали Арчимбольдо? Этому плодотворному вопросу посвящена данная статья, вдохновленная желанием перетасовать историю европейского маньеризма, протягиваемого через четыре столетия в каталоге Zauber der Medusa.
Даже с некоторой завистью придворные художники Рудольфа II смотрели на то, как под крылом генерала Франко, ничем ему не обязанный, Дали мог построить свою собственную виллу и содержать двор, может быть даже более роскошный, чем мадридские казармы. Конечно, и у Спрангера, и у Ханса фон Аахена были чины и награды, но это почти не давало им возможности выйти за пределы среднего класса, который был столь эпатирован их искусством.
Раз сюрреалистам больше всего нравился Арчимбольдо, то с него и начнем. Надо сказать, не без удовольствия рудоль- финские художники замечали, что средний класс, на который они были обречены (хотя принадлежность к нему придавала им уверенности в себе), выбрал-то все же любимым художником Дали, а не их. С горечью Арчимбольдо отмечал, что его перевертыши из портретов жареных свиней намного проще, чем «Ловля тунца» или «Полет пчелы вокруг граната», но не раз утешался тем, что его искусство стало искусством для интеллектуалов, а Дали достоянием масскультуры.
Составить голову из рыб и портрет Рудольфа II из тыкв и баклажанов дело не хитрое, гораздо сложнее прибить гвоздями глазастые растекающиеся часы. Утешает опять же сумрак
дворца Рудольфа II, уставленного странными механизмами, тикающими тонкими иглами, где ласкают взгляд астролябии с переплетенными изогнутыми лучами, серебряные циркули, прекрасные, как стилеты, усыпанные драгоценностями небесные сферы и хрустальные глобусы. Если призадуматься — часы, то несущиеся на лошади, то воткнутые в грудь медленно ступающего кентавра с голой женщиной на спине, ничем не уступают соплям размазанного абстрактного понятия, каким является время.
Коллеги Арчимбольдо по рудольфинской школе могли бы быть более высокомерными. Спрангер был бы доволен собой. Все ипостаси Галы далеко не достигают восхитительности перед садистской наготой Венеры, с кровожадной улыбкой нежно обхватившей шею своего бедного мужа. Никакие удовольствия от чтения Мазоха несравнимы с удовольствием Мудрости, изящно упакованной в броню, оставляющую голыми груди, когда она наступает на горло какому-то мулату с ослиными ушами. Ничто несравнимо со счастьем Геркулеса в браслетах и кольцах, подвесках и серьгах, засаженного за сучение шерсти и созерцание Омфалы, исполняющей пред ним завлекательный стриптиз с дубиной и львиной шкурой.
Матовая поверхность бледных тел Венер, Церер и Вакхов идеально обкатана и не уступает дорогой эмали, так что Спрангер вполне мог найти живопись Дали несколько пористой, далекой от совершенства законченного самовосхище- ния, на которое Дали претендовал. В идеале и живопись и скульптура должны представлять собой сферу из цельного алмаза, не позволяющую зрителю как-то войти в произведение, там расположиться и что-нибудь понять. Как индивидуальность снов и видений неповторима и непосвященный довольствуется только тем, что будет ему рассказано, так истинное искусство искусственно настолько, что взгляд может лишь скользить по граням сверкающей алмазной сферы, будь то Воскресший Спаситель или Минерва Торжествующая. Так говорил Спрангер.
Так что с технической точки зрения попытка создания Дельво ускользающей мечты не выдерживает никакой критики. Его живопись можно сравнить только с простодушными выдумками Антонина Карона, да и то голые бельгийки в
290
шляпках, взятых напрокат из костюмерной, уступают колесницам с лебедями, обнаженным амурам в траурных колпачках, похожих на колпачки палачей, сатирам в цветах и воинам с отрубленными головами в руках.
Эрнсту смешно было устрашать своим «Триумфом любви» кого-либо, кто уже выдержал «Геркулеса и Деяниру» Спрангера. Занятие любовью прямо на трупе красавца с лошадиными ногами выразительней, чем плюшевые мишки Эрнста, возомнившие себя Химерами.
У того же Спрангера в «Воскрешении Христа» один из странников заснул в позе Леды Микеланджело, и огненный столп католического света воздействует на него, как золотой дождь на Данаю. Все откровения де Сада, выученные Беллме- ром, прямолинейны и примитивны, как скамейка с волчьей пастью, хвостом и яйцами Виктора Браунера рядом с рудоль- финским дизайном. Мебель маньеризма гораздо изобретательнее, и в прелести своей она стремится напомнить формы, которыми любили обставлять камеры пыток, ибо ничто так не усиливает ощущение прекрасного, как физическая боль. В этом нас убеждают святые Агаты, столь меланхолично рассматривающие свои отрезанные груди, святые Себастьяны, изнемогающие от острых стрел, сведенные судорогой оргазма святые Лаврентии на раскаленных решетках.
Итальянцы были бы, наверное, еще более беспощадными к «Exposition Internationale du Surrealisme», чем рудоль- финцы. Нет в мире более совершенной драгоценности, чем «Аллегория Любви и Времени» Бронзино. Грубыми, как штыковая атака, кажутся видения Дали по сравнению с отточенностью стрелы в руках Венеры. Тело ее идеальнее дутых кукол Беллмера, что он надувал со своей женой и парижской богемой, и не менее устрашающе. Та идеальность алмазной сферы, что так восхищает у Спрангера, у Бронзино достигает абсолюта высшего, абсолюта поразительного. Круглое золотое яблоко, выигранное Венерой у Юноны и Минервы, круглится в браслетах из бубенцов на ноге младенца, олицетворяющего наслаждение, круглится в его невинной улыбке, когда он осыпает розами округлый поцелуй божественного инцеста, круглится в плечах и бедрах Венеры, в ее жемчугах, в победительном взгляде, в кудрях Амура и достигает
высшего напряжения в округлости его раздвинутых ягодиц, напряжения столь сильного, что впоследствии его не выдержали и замазали какими-то веточками мирта или лавра и только уже в XX веке снова раскрыли для любителей похабного и идеального, — ибо идеально в этом произведении все, и недаром именно его героине досталось золотое яблоко, на котором было написано «прекраснейшей».
В идеальности итальянского маньеризма просто задыхаешься. Если наскучит голубой фон и ослепительный свет мониторов, озаряющий картины Бронзино, то тут же можно быть удушенным страстями, сплетенными вокруг розы в «Мадонне с розой» Пармиджанино. Коралловые браслеты, прелестный взгляд, кудри и нежность младенца уже не нуждаются в столь грубых вещах, как поцелуи. Достаточно полуопущенных ресниц мадонны, и любой Лотреамон зайдется в истерике святой Терезы. Никакие видения позднего католицизма Атомной Леды-Галы не сравнятся с нежностью брака неполовозрелого младенца с прелестной ученой александрийской девой, за спиной держащей зубчатое колесо — бывшее и будущее орудие мазохистических удовольствий этой интеллигентки, переспорившей всех античных философов. Тут же издалека появляется другое видение — андроги- ны, неизвестно зачем несущие чудные вазы слепому младенцу, выплывшему откуда-то из подводных глубин «Пьяного корабля». Эта странная сцена, скорее всего галлюцинация неизвестного со свитком, называется «Мадонна с длинной шеей». Неизвестный может быть автором «Апокалипсиса», только он почему-то бритый, — наверное, сбежал из Бедлама. Сзади ослепительного призрака с длинной шеей, как фаллический символ, вздымается колонна, означающая стойкость и добродетель. Так что уж непонятно, кто видится бедному сумасшедшему, то ли «Дева, облаченная в солнце», бегущая от чудовища, то ли дева с чашей, на чудовище сидящая. Двусмысленность столь же законченная, столь же идеальная, как и в «Аллегории любви». «Мадонна с длинной шеей» — это вам не «Пылающий жираф».
Высший абсолют, как известно, вечен. Вечен, но эфемерен. Достаточно Венере с картины Бронзино чуть разжать пальцы и выпустить из своих рук стрелу, как она воткнет¬
292
ся в откляченный зад Амура и все лопнет, как мыльный пузырь. Раздастся страшный визг, поползут в разные стороны хвостатые гадины с детскими личиками и крокодильими хвостами, выскочат орущие фурии с отвислыми грудями, приедет скорая помощь и заберет бритого со свитком, Пармиджанино уйдет в монастырь, на фресках Содомы станут писать Promastonza и в XX веке будет казаться, что маньеризм — время депрессии и тщеславия.
Трехногие табуретки Курта Залигманна, детки в клетке Андре Массона, парики Вифредо Лама и дешевые столики Роберто Матта вывалятся из прекрасной оболочки проткнутой алмазной сферы, начнется чехарда летающих яблок, носатых гребенок, растекающихся глаз, меховых чашек, глазастых ног и красавиц со ртом, набитым бабочками. Начнется и закончится XX век, который маньеризм будет называть временем депрессии и тщеславия, доказывая, как неверна мысль о том, что все имеет свое начало и что можно придумать нечто новое, а также мысль о том, что все имеет свой конец и что все уже придумано. Ведь нет, оказывается, ничего общего у маньеризма и сюрреализма, да и у сюрреализма с маньеризмом также нет. Разве что они очень похожи.
Объединяет их многое. Рефлексия по поводу Большого Стиля, что видно и в усах Моны Лизы, и в блуждающей улыбке Мадонны с розой. «Революционность» раннего маньеризма сравнима с хулиганством Дюшана. Психопатия и эротическая религиозность, любовь к перверсии, желание красоты и занимательности, склонность к теоретизированию, механическим новинкам и тоска по прошлому свойственны и тому и другому. Но со временем символ превращается в гэг, и гэг вполне себе стал символом в XX веке. Творцам гэгов очень нравятся символы, но понравились бы гэги творцам символов?
295
Кастраты, разрушение Берлинской стены и лысая Чечилия
ТУ
-L^MoeM гиппокампе,
то есть в той части лимбической системы моего головного мозга, что называется обонятельной и которая формирует эмоции, консолидирует память и обеспечивает переход памяти кратковременной в память долговременную, засело одно впечатление, которое даже воспоминанием назвать нельзя, настолько оно смутное. Впечатление относится к середине восьмидесятых годов: фотография видного собой темнокожего молодого человека двадцати сколько-то лет и сообщение, что этот приехавший из Америки в СССР на конкурс Чайковского певец, контратенор, афроамериканец (тогда, конечно, попросту говорили негр), исполняет перед жюри арию Ратмира из оперы «Руслан и Людмила». Это вроде как реальность, о которой гиппокамп мне сообщает, но «вроде как», потому что реальности я разыскать не могу, ибо напрочь не помню ни как певца звали, ни как он выглядел, ни когда это было, ни даже где, — мне кажется, что в Ленинграде. Но все только кажется, я ничего не помню, ну ничегошеньки, и сейчас, пытаясь что-то найти, совсем в этом не преуспел. Так как конкурс проходит раз в четыре года, то это должен бы быть год 1986-й, но был ли?
Это была чуть ли не моя первая встреча с подобным исполнением, о котором я знал только понаслышке, так как никаких контратеноров в социализме в заводе не было. Запомнилась же даже не столько «вроде как» реальность — фотография и сообщение, — а сопровождающие их, фотографию и сообщение, красочные сплетни о том, что жюри,
увидев пред собой темнокожего красавца, поющего перед ним о чудном сне живой любви, застыло в недоумении, так как конкурс Чайковского с таким еще никогда не сталкивался. Жюри привыкло к тому, что пленительных дев всегда призывали грудастые тетеньки, а когда то же самое захотелось сделать представителю национального меньшинства США, оно смешалось и раскололось: ортодоксы были возмущены, либералы — пришли в восхищение. Вокруг темнокожего красавца разгорелся скандал, и никуда красавец не прошел, потому что жюри никак не могло определиться с гендерной локализацией его номинирования, — вот так мне все запомнилось, и, собственно говоря, вполне возможно, что все это мне привиделось, ничего на самом деле не было и все это выдумка. Впрочем, все мы знаем, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами, поэтому зримость меня, быть может, и подводит, но сущность остается: столкнувшись с контратеноровым исполнением, общество победившего социализма пришло бы в замешательство. Подобное исполнение, заявив о себе в реальности современной, а не в реальности исторической, свидетельствовало о крахе ценностей, причем очень явственно, и вскоре перестройка заявляет о себе бурным успехом Эрика Курмангалиева. В 1985 году, то есть именно тогда, когда негр-Ратмир, как отблеск, возник в моем гиппокампе, Эрик закончил муз. пед. уч. им. Гнесиных, ибо в консерваторию его не взяли, и ему, появившемуся во всей красе в роли дьявола в «Истории доктора Иоганна Фауста», была уготована в СССР в лучшем случае участь маргинала. СССР бы его, столь эпатажного, даже никуда бы и не выпустил, но уже в 1985-м СССР трещал, никого держать был не в состоянии, и в 1988 году Эрик оказался на фестивале в Бостоне, где его признали феноменом всех времен и народов. Эрик, надо быть ему за это благодарным, в Бостоне не остался, а вернулся, и вскоре СССР исчез. Рухнула и Берлинская стена, и разрушение Берлинской стены, это самое крупное событие конца XX века, мне представляется происходящим под звуки божественного голоса Эрика, небесного фрика, подобно тому, как стены Иерихона падали от звука священных труб Иисуса Навина.
296
Начало девяностых Эриком просто пропитано, он имеет оглушительный успех в виктюковской «М. Баттерфляй» и в 1992-м признан лучшим российским актером: Эрик Курман- галиев как бы Владик Мамышев от классики. Точнее сказать, это Владик становится Эриком Курмангалиевым современной арт-тусовки, но кто кого и кто на кого, не суть важно, а в том, что они схожи, нет сомнения, и оба эти причудливых персонажа органически вписываются в пейзаж девяностых, очень точно выражая, отражая и определяя все достоинства и недостатки этих лет, для России достаточно ярких. Чудное это было время, девяностые, особенно их начало. Все слетело с петель: и двери, и мозги; художественная жизнь, десятилетиями зажатая, спертая, вдруг распахнулась настежь; богема была обаятельна, молода, нища и оголтела. Все выглядели очень cool, никто ничего не копил, но все разбрасывал — и талант, и молодость, и красоту, ценности утратили цену, но стали от этого только ценней; короче говоря, от легкой жизни все сошли с ума, и девяностые промчались под звуки арии россиниевского Танкреда, в России впервые Курмангалиевым пропетой аутентично: Oh patria! Di tanti palpiti, di tante репе, da te mio bene, spero merce (О родина! Сквозь слезы и страдания ты награждаешь меня надеждой на спасение).
Собственно говоря, именно здесь и вылезает словцо, очень характерное для конца XX века, — «аутентичность», к которому я и подбирался. На западе именно к середине восьмидесятых оно прочно входит в лексикон, то есть именно тогда, когда модернизм, вскормленный радикальным пафосом, растворяется, как злая фея Бастинда, во влажных потоках гламура и иронии; чаще всего мы это время называем postmodern, за неимением ничего лучшего. Словечко это, изобретенное в среде одуревших от интеллектуализма архитекторов, изощренно рассуждающих о том, как прекрасны Рим и Лас-Вегас, все плотнее влезает в повседневную жизнь. Вот уже новый интеллектуальный боженька, Умберто Эко, страшно звездить любящий, поучает, что теперь, в «эпоху постмодернизма», если молодой человек хочет в любви объясниться, то, чтобы и себя выразить, и в роли эпигона не оказаться, он должен выдать следующее: «Как сказала бы Лилиан Хеллман, я люблю тебя безумно!» Бедный молодой
297
человек — да пропади пропадом Лилиан Хеллман! — здорово переоцененный плохой писатель. Вслед за Умберто, зубами и ногтями впившегося в массмедиа, но старающегося и академизм не выпустить, что ему удается с блеском, интеллектуалы поглупее тоже бросились выдумывать в подражание столь удачно проканавшему postmodern всякие словечки, вроде как «трансавангард». В этом трансавангарде все похоже на свалку, на которой вперемежку тлеют и смердят сваленные в одну кучу дриппинг Джексона Поллока и прожженная фанера Ива Кляйна, липстик Ольденбурга и уорхоловская банка из-под томатного супа, трансформеры Мэтью Барни и лампочки Джеффа Уолла, безголовые куклы Синди Шерман и веревки Евы Хессе, туалеты Кабакова и солдатики братьев Чепмен, модернизм и постмодернизм, актуальность и радикальность, — надоело все это до чертиков, поэтому на свалке, как прекрасный цветок, распускается «аутентичность», тут же ставшая столь модной, что ее тут же принимаются эксплуатировать все, от сторонников зеленых до писателей кулинарных рецептов в женских журналах. Одной из самых ярких форм погони за «аутентичностью» стало воскрешение «музыки эпохи барокко» — и среди банок, окурков, газет и прочих грязных ненужных предметов модернизма вдруг взмыли к небесам божественные Sposa, non mi conosci или Se tu mami, se sospiri.
Первыми запели все это меццо-сопрано, и уже в семидесятые на мировых сценах начали ставить opera seria, более чем на столетие из репертуара исчезнувшие, ибо с появлением повальной моды на барокко, в семидесятые начавшейся, вспыхнул интерес и к опере. Тут же возникла трудность: оперы были написаны по большей части для кастратов, а последний кастрат, Алессандро Морески, чьи записи даже дошли до нас, умер в 1922 году. Уже Морески был кастрирован не специально, у него просто так получилось из-за врожденной паховой грыжи, ибо кастрация была давно запрещена прогрессивной общественностью. Современность с ее гуманизмом заметалась в тупике: где ж кастратов взять, если яйца у детей не отрезать? Оказалось, однако, что орхи- эктомия не столь уж обязательна, что природа создает бесконечное голосовое разнообразие без всяких хирургических
вмешательств и что гораздо важнее скальпеля правильное обучение и развитие природного дара. К середине восьмидесятых контратеноров появилось множество, наипрекраснейших, они вовсю запели те арии, что пылились в музыкальных архивах уже вторую сотню лет, и массовая публика буржуазных демократий перестала воспринимать высокие мужские голоса как экстравагантность и эпатаж. Чернокожий Ратмир (ежели он существовал) отправился в Советский Союз с намерением просто в конкурсе поучаствовать, как нечто собой разумеющееся, а шокировать кого-нибудь и устои потрясать вовсе не собирался, ибо был искренне уверен в совершеннейшей своей академичности.
Вот тут-то мы и подходим к забавному парадоксу нашего времени. Ладно с гипотетическим Ратмиром, у меня нет никаких прямых доказательств его бытия, но популярность Эрика Курмангалиева, поднявшегося на волне мирового увлечения «музыкой барокко», после разрушения Берлинской стены захлестнувшего также и Россию, остается неоспоримым фактом. Так проявление католического мракобесия, злоупотребление орхиэктомией, производимой в Средние века для славы Господа нашего, а затем уже поставленной на службу увеселения прогнившей католической аристократии, с которым прогрессивная общественность XIX века отчаянно боролась, в конце XX века вдруг стало символом свободы, причем очень многозначным. В бывшем СССР пение контратеноров — проявление католического мракобесия — оказалось прочно связанным с освобождением от пут идеологии и связанной с ней морали, а на Западе, аморальном и вроде как в путах идеологии и не бьющемся, оно, будучи главным достижением взыскуемой аутентичности, в то же время обернулось и своеобразным протестом против современного искусства, то есть модернизма. Стремление к возрождению подлинности оказалось — а как еще бы могло быть? — порождением духа времени, и фильм Farinelli — Voce regina, «Фаринелли — Голос королей», в отечественном прокате вышедший под дурацким названием «Фаринелли-кастрат», век восемнадцатый изображает так, как только он и мог быть изображен в 1994 году, то есть очень похоже на «Казанову Федерико Феллини», который ни с каким реальным Казано¬
вой и сеттеченто — так по-итальянски восемнадцатый век называется — дела не имеет, что и подчеркнуто самим названием феллиниевского фильма.
«Казанова Федерико Феллини» появился в 1976 году, и это очень парадоксальный модернистский фильм о XVIII веке. Одна из сцен фильма (вообще-то, в нем несколько сцен, отсылающих к опере) впрямую относится к моде на пение кастратов: это сцена представления оперы-балета про жука и бабочку, поставленного в Парме жутковатым аристокра- том-интеллектуалом, любителем прекрасного. Бабочку изображает полуголый эфеб, жука — урод-интеллектуал, и вся сцена откровенно пародийна. Феллини явно над подобным искусством издевается, что подчеркнуто ужасно смешным видом служанок, искренне льющим слезы над бедной бабочкой, сжираемой жуком, — в принципе, у Феллини опера сеттеченто показана с точки зрения модерниста, и он не слишком-то ею восхищен. В 1976 году большинство на opera seria смотрело именно так, как и Феллини, но странное дело — как все меняется! Теперь, смотря на эту сцену после Farinelli — Voce regina и всего разгуляева барочных постановок с контратенорами, ироничность как-то уползает на задний план, и солидаризируешься скорее со служанками, льющими восхищенные слезы, чем с Феллини, над служанками издевающимся. Феллини и Кубрик с его «Барри Линдоном», как ни крути, определили всю изобразительность, используемую нашей современностью для воспроизведения сеттеченто, так что само увлечение сеттеченто, в сущности, вылезло из чрева модернизма, что на нем и сказывается — как бы не настаивали на «аутентичности» проакадемически ориентированные его апологеты. Словцо «аутентичность» я определенно настроен брать все время в кавычки, хотя зако- выченности, в знак протеста против postmodern, старательно пытаюсь избежать. Видно, ничего не получается.
Успех фильма Жерара Корбьо как бы легализовал массовое увлечение пением контратеноров, выставив напоказ гламурную попсовость, изначально сопутствующую современной популярности «разработанного мужского фальцета», как определяет искусство контратенора специальный сайт, только ему и посвященный, The (Un)Official Countertenor
300
Homepage. До Farinelli — Voce regina еще как-то можно было делать вид, что увлечение контратенорами — некое акаде- мизированное стремление к подлинности, теперь же, когда голос Фаринелли оказался сконструированным с помощью микса контратенора и сопрано, стала очевидна вся искусственность подлинности современных барочных постановок. «Современных барочных» я снова вынужден взять в кавычки, чтобы подчеркнуть всю оксюморонность этого словосочетания, весьма точно отражающей помешательство современности на пресловутой аутентичности. Надо признать, что Чечилия Бартоли, главная проповедница аутентичности, на обложке своего Sacrificium, где ее голова приставлена к телу мраморизированного эфеба, очень похожа на Майкла Джексона; более того, увлечение контратеноровым пением идет рука об руку с популярностью этой рок-звезды, и ничего в этом плохого нет, — в конце концов лысая Чечилия, пихающая нам в нос распятие с рекламных плакатов диска другого своего проекта, Mission, выглядит гораздо более радикально, чем буржуазка Марина Абрамович.
303
Пять историй с прологом
Соблазн нищенства
-П ирожки со страусом ЗаКОНЧИЛИСЬ, остались только с индейкой.
Как крючок в рыбьи жабры, эта фраза вонзилась в меня и вытащила на поверхность из мутной глубины сна, надолго засев в мозгу, так что все время, без видимой причины, она вновь и вновь возникает в сознании, чем-то напоминая острый посторонний металлический предмет, засевший в моем нутре, мешающий и раздражающий. Эта фраза — единственное, что четко отпечаталось в памяти из сна, неясного, как и большинство наших снов, не оставившего воспоминания, но лишь ощущение. Какая-то мятая неразбериха образов: истощенные и бледные люди, похожие на фило- новских пролетариев, лабиринт коридоров с обсыпавшейся штукатуркой, облупленные стены, выкрашенные краской столь тошнотворного цвета, сколь тошнотворен бывает запах больничной пищи, вызывающий омерзение и мучительную тоску при мысли даже не о том, что кто-то может нечто подобное есть, но предлагать в качестве еды другим людям. Переплетено все это было с какой-то запутанной интригой русской тюрьмы, которой я никогда в жизни не видел, с несчастными, умирающими от туберкулеза и СПИДа, с повествованием о злоупотреблениях и раздачей еды в столовой, где и прозвучала эта фраза, судя по всему — издевательская. Ее идиотизм усиливал ощущение грязной и опасной приставучей липкости, наполнявшей сон, какого-то отчаяния, потери всего, страшного и притягательного, как притягательна клейкая лента для мух. Влипнуть по самые уши и только мед-
ленно и лениво шевелить лапками — это ли не счастье, это ли не блаженство?
Наученный Фрейдом, я соображал, что пирожки со страусом пришли из упорного чтения «Сатирикона» Петрония, которому я предавался последнее время, из сцены со старухой Энотеей, описания нищеты ее жилища и фразы Энкол- пия: «Пожалуйста, не кричи, — говорю я ей, — я тебе за гуся страуса дам».
Перемешавшись с рассказом моей матери, наслушавшейся передач «Эха Москвы» о состоянии современных русских тюрем, это все и произвело пирожки со страусом, глупейшим образом воткнувшиеся в меня. Фрейд заодно и объяснил мне, что все наши сны — это реализация тайных желаний.
Давным-давно, когда мне было лет двадцать, я после какой-то дурацкой пьянки шел по Большому проспекту Петроградской стороны. Была зима, ночь, адский, космический холод, какой бывает в этом городе, когда влага замерзает в воздухе, развитой социализм и полная пустота. Я, пьяненький, был в состоянии юношеской полувменяемости, страшно жалел себя, так как жизнь моя не удалась, шатался и плакал. Все было глупо и невнятно, но запомнилось потому, что ко мне подошли два бомжа и начали что-то говорить о милиции, о холоде и о чем-то еще. Оба они были маленькие, мышиные, мне казались старичками, и в конце концов один из них отвел меня по длинной лестнице петроградского доходного дома на чердак, в какой-то угол, около теплоцентрали, где было свалено лоскутное тряпье, стояла банка с окурками, явно не в качестве пепельницы, а как запас курева, и даже свечной огарок. Там он меня уложил и оставил, пробормотав, что ему за чем-то нужно сбегать. Он ускользнул, незаметный, серый, было тепло, тихо, даже уютно: гудела вода в трубе отопления, темнота, вокруг же холод, пустота, большой город. Во всем было непонятное, странное чувство опасности, подчеркнутое мерным гудением воды в трубах. Оставшись один, я быстро успокоился, пришел в себя, выбрался на улицу, дошел до дома, скользнул в постель и утром вернулся к реальной жизни.
Это приключение поразило меня. До сих пор я не могу понять, что было нужно этим людям и было ли им нужно
304
что-нибудь. Угрожало ли мне чем-то пребывание на чердаке, или это была самая настоящая miserecordia, то есть милосердие, как оно звучит по-итальянски, что в этом языке тесно связано i miseria, нищетой, — я до сих пор не могу понять. В русском подобной связи нет, милосердие отделено от нищенства, как отделен дающий от берущего. Встреча задала мне загадку, до сих пор заставляющую меня, когда я смотрю на темные громады доходных домов с желтыми окнами, подозревать существование на чердаках и в подвалах огромного, параллельного реальному мира, где около гигантских, теплых, мерно булькающих труб навалены лохмотья, запас окурков, теплота и кишат какие-то существа с бесцветными лицами и темным лепетаньем. Подозревать и мечтать об этом параллельном мире. Нечеткие контуры его населения скользят над моей головой, я о нем ничего не знаю, но жизнь эта, теплая, мрачная, исполнена влекущей тайны, обещая то, чего я напрочь лишен, хотя и не могу в точности определить, что именно. Гадливую нежность? Свободу безразличия? Покой грязи?
Много лет спустя, сидя дома и работая, я услышал во дворе крики столь громкие, что не выдержал и подошел к окну. Двор мой, находящийся в самом начале Невского проспекта, давно уже был приведен в порядок программой «Петербургские дворы» или что-то в этом роде, поэтому походит на слабую копию скандинавского или, скорее, прибалтийского благополучия, всегда для русской души символизировавшего цивилизацию, с клумбами, решеточками и фонариками, все выкрашено и замощено. Впрочем, одну из клумб раздавили припарковываемые во дворе лексусы, роящиеся в основном вокруг открываемых на первых этажах странных предприятий, то парикмахерской «Красная перчатка», то центра пирсинга, то модного дома Giulia Kompotova, то мехового салона. Между владельцами одного из лексусов и бомжом, копавшимся в мусорных бачках за кованой решеткой, завязалась драка. Драка, конечно, сильно сказано — бомжа просто толкали или, точнее, отталкивали, он тут же падал, но снова вскакивал, страшно хрипло кричал и напрыгивал на спокойных парней в приличных костюмах, особой жестокости не проявлявших. Смысл был непонятен: то ли он выступал
305
против лексусов, то ли лексус задел; кто прав, кто виноват, было неясно, но звук его старческого надтреснутого голоса, полного жалкой ненависти и жалкого отчаяния, царапал до крови. Я стоял и смотрел, и несчастная старческая фигурка напомнила мне моего деда, умершего, когда мне было пять. Он был контуженным на войне инвалидом, плохо соображавшим сталинистом, вечно на всех оравшим, что предали революцию, но со мной ладил, так что нас даже оставляли вдвоем. Он ничего не делал, но сохранил пристрастие к переплетам, все время подклеивая своих Марксов и Энгельсов, изводя на это огромное количество клея и тряпья. Мне было года три-четыре, я ничего не помню, кроме сладострастия грязи, когда я ползал вокруг него, мажась в липком клее, к которому так здорово прилипали бумажки и тряпочки. Как мне потом говорили, я и какал прямо в штаны, так как на горшок дед не обращал никакого внимания. Срал в штаны, видимо, от общего ощущения счастья. Потом с работы приходила бабушка и отмывала меня, а потом дед умер и его похоронили. Моего деда били, а я стоял и смотрел, пока все не кончилось, и опять сел за свой компьютер.
Двор, хотя и приведен в порядок городской программой, видно, еще хранит связь с таинственным миром, где я как- то случайно побывал в свои двадцать лет. Во всяком случае, когда мне пришлось несколько дней подряд очень рано выходить из дома, что мне несвойственно, около семи утра, я тут же приметил, что вместе со мной выходит из моего двора молодой человек, юноша лет пятнадцати-семнадцати от роду. По его виду я сразу угадал, что он ночевал где-то здесь, то ли на чердаке, то ли в подвале, и только что проснулся. Он был светловолос и светлокож и покрыт каким-то густым слоем сальной грязи, как столик привокзальной столовки советского времени, такой въевшейся, неизбывной, составившей часть его естества, так что свежая грязь, подтеками размазанная по его лицу, была нанесена уже не на поверхность кожи, а на поверхность этого налета. Лицо его не было лишено некоторой приятности, но поразительным было выражение безразличной готовности ко всему, тупое, сонное и беззащитное. На нем был ярко-красный свитер и в прошлом светлые брюки; наряд поражал странностью изначальной прилич¬
306
ности, прямо-таки отдаленно намекающей на оксфордское студенчество, совершенно не подходившей не то чтобы к его всклокоченной, стоящей торчком шевелюре и полной его не- мытости, но именно к выражению его лица, с отпечатанной на нем несовместимостью с окружающим миром Невского проспекта, почти болезненному, почти олигофреническому. Открытый, беззащитный и отстраненный, он, казалось, был готов на все: попросить, украсть, быть обласканным, прогнанным, избитым. Залитая ярким солнечным утренним светом фигура этого Оливера Твиста в грязном красном свитере на фоне распускающейся зелени Александровского сада, Зимнего дворца, выглядывающего из-за желтизны Главного штаба, и пустоты утреннего Невского, врезалась в меня навечно. Три дня подряд я выходил рано, и три дня подряд я встречал его, все с теми же грязными подтеками на щеке и коркой заскорузлых ссадин. Он был в возрасте моего сына, и так для меня и осталось тайной, куда он направлялся, что делал в моем дворе, откуда взялся и где он сейчас.
В Риме трудно быть несчастным. Во всяком случае, мне, так как я там бываю довольно редко. Тем не менее когда я оказался в Риме в начале июня 2000 года, во мне сидела страшная тоска, от которой ничто не помогало отделаться. От сосущей внутри болезненности, от размышлений о старости, одиночестве и сплошной череде неудач не помогали избавиться ни росписи Маттиа Прети в Сайт Андреа делла Валле, ни купол Сан Джованни деи Фьорентини в конце Виа Джулиа, ни обнаженные груди соколов на фасаде палаццо деи Фальконьери, ни сад виллы Медичи, куда я был допущен в первый раз, ни цветущие маргаритки на полянах вокруг Кастелло Сайт Анжело. Я бродил по лучшему городу в мире неприкаянный, ненужный никому, себе в первую очередь, и, понимая всю свою глупость, совершенно был неспособен справиться с чувством отчаянного несчастья, набухшего внутри, как отвратительный нарыв, который все время хочется трогать. Около Кастелло Сайт Анжело, на набережной, я увидел нищенку, склонившуюся над кучей своего барахла. Она была высокой, с длинными черными волосами, с правильными чертами лица и, кажется, моего возраста, хотя, быть может, и моложе. Выражение лица ее было совершенно
спокойное и отрешенное, она все время что-то бормотала, погруженная в диалог с собой, и особенно бросался в глаза цвет ее кожи, какой-то неестественный, буро-красный, но не от римского загара, а от внутренней болезни, наливавшейся внутри нее и как будто отравлявшей все вокруг нее тяжелым, несносным страданием. Смотря на нее, вдруг, неожиданно для себя самого, я с непреодолимой ясностью осознал то, что должен был понимать всегда: свое родство с этой несчастной, занятой только собой и ни на кого и ни на что не обращающей внимания. Не то чтобы я увидел себя со стороны, как в зеркале, нет, я не увидел, а ощутил себя таким же буро-красным, налитым гноем, отравленным болезнью, тяжелым, с гнусно-гнилой плотью и кровью. Ощущение было поразительно, как озарение. Никогда и ни с кем я не испытывал такой физической, тактильной схожести, привыкнув всегда отделять себя от другого. Я прошел мимо, с дурацким букетиком маргариток в руках, зачем-то нарванных вокруг Кастелло Сайт Анжело.
Совсем недавно, в воскресную ночь, меня скрутила сильная внутренняя боль, с которой я не мог справиться до такой степени, что, не соображая, что делаю, вызвал простую скорую помощь. Взяв всего триста рублей, молодой врач осмотрел меня и, успокоительно сообщив, что ничего определенного он сказать не может, то ли холецистит, то ли еще что, стал уговаривать меня ехать в больницу прямо сейчас, делать УЗИ по крайней мере, а так он ни за что поручиться не может. Мне было очень больно, так что меня удалось убедить влезть в скорую, отвезшую меня на Литейный, в дежурную Мариинскую больницу. Где я и был оставлен в старом просторном вестибюле с метлахской плиткой, построенном когда-то сердобольной благотворительностью для неимущих соотечественников. Все было чисто, где-то в стороне нянечка терла плитку шваброй, народу было немного, но в желтом свете больничных ламп висел непереносимый смрад, курсирующий по всему вестибюлю особыми потоками. Кроме нянечки, в углу шушукались две бывалые девахи, стояла коляска со старухой, беспомощной и явно ничего не соображающей, закутанной в халат и в тапочках, в сопровождении несчастного родственника, столь же жалко выглядящего, как
308
и она, сидел за особым столом охранник, здоровый парень в костюме, и за конторкой — медсестра, что-то быстро записавшая и вскоре бесследно пропавшая. Тишина, вонь, желтый свет и непонятность ожидания изматывали, читать я не мог и принялся ходить, вскоре обнаружив, что смрад исходит от бесформенной кучи, лежащей прямо на полу, около батареи. Куча оказалась безмолвным существом непонятного пола, возраста и вида, не издававшим ни звука, но лежавшим с открытыми глазами. Отойдя от него подальше, я опять принялся ждать, все более и более раздражаясь на все, и на себя в первую очередь. Все сидели и лежали без лишних движений, сестра не появлялась, старуха стонала, девахи тихо и матер- но переговаривались, но тишина была нарушена тем, что из- за клеенчатой занавески, отделяющей какое-то помещение от коридора и общего зала, вдруг появился ковыляющий и шатающийся и, судя по всему, совершенно пьяный бомж с разбитым в кровь лицом. Он издавал нечто нечленораздельное, канючащее и все лез к охраннику, вымогая у него что- то, кажется — курево. Охранник принялся заталкивать его обратно за занавеску, но бомж рвался назад и все урчал, так что охранник двинул его, сильно толкнув, и тот растянулся на полу, уткнувшись окровавленной мордой прямо в метлахскую плитку, настеленную в начале прошлого века щедрыми благотворителями, и было ясно, что он специально добивался этого, специально провоцировал здорового, непохожего на него детину, потому что ему было необходимо поставить точку, быть совсем избитым и успокоиться. Я не выдержал, встал и ушел, и боль меня отпустила, я шел пешком по пустому Невскому, на нем не было даже мальчишек-попроша- ек, ночью густо вьющихся у канала Грибоедова, и я вернулся домой, в свою бедную белесую жизнь, ко всем и ко всему безразличную. Наутро позвонил знакомым и сходил к какой-то любезной врачихе, быстро сделавшей все анализы и прописавшей нужные, тут же помогшие таблетки.
Маляр и Сальери
Маленькая трагедия актуального искусства
^равилъно все говорят: нет правды на земле. Все сплошной
пиар и ничего больше. Выше — тоже все сплошной пиар. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любо- вию к искусству; ребенком будучи, пришел я в Эрмитаж, и там, высоко, над деревянной лестницей, увидел я Матиссов «Танец». Напоминал он мне своим движеньем полоски голубые на красном одеяле, что прыгали перед моими глазами. Странно, когда я засыпал, смотрел я и засматривался — слезы невольные и сладкие текли. Все было ново, Рембрандт, Леонардо, божественный Малевич, Рафаэль, Бердслей по юности, и странный Сомов, и Энди Уорхол в первый раз. Затем же, дальше, Барнетт Ньюмен и Билл Виола, Манцо- ни Пьеро, Йозеф Бойс, великий Кошут, Роберт Смитсон... Отверг я сладкие забавы, науки, чуждые искусству, были постылы мне; упрямо и надменно от них отрекся я и предался истории искусств. Труден первый шаг, и скучен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды в библиотеке Эрмитажа. Ремесло поставил я подножием искусству; я сделался ремесленник; подробно я изучал талмуды Панофского и Гомбриха: словарь постмодернизма я сделал изголовием своим. Все впечатленья умертвив, я живопись разъял, как труп. Проверил я теорией искусства всех старых мастеров, убив их всех анализом формальным. Тогда уже дерзнул я, в прошлом искушенный, предаться неге современного искусства. Я полюбил трансавангард и «Новых диких», но в тишине, но втайне, не смея помышлять еще о славе. Нередко, просидев в безмолв¬
ной келье два-три дня, позабыв и сон и пищу, над текстами постструктурализма французского и вкусив восторг и слезы вдохновенья, набрасывал эссе, но после жег его и холодно смотрел, как мысль моя и фразы, мной рожденны, пылая, с легким дымом исчезали. Что говорю? Когда великий Гринуэй явился нам и открыл нам новы тайны (глубокие, пленительные тайны), не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил в структурализме, чему так жарко верил в теории искусства, и не пошел ли бодро вслед за ним, спрягая современность с прошлым? Усильным, напряженным постоянством я наконец достигнул в списке искусствоведов русских степени высокой, заслужив отличный рейтинг. Пресса мне улыбнулась; я в сердцах людей нашел созвучия своим стараньям. Я счастлив был: я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой; также трудами и успехами знакомых: Андреевой, Острова, Тобрелутс, товарищей моих в искусстве славном. Нет! Никогда я зависти не знал, о никогда! — ниже когда Екатерина Деготь пленить умела слух диких московитов, ниже когда услышал в первый раз я лекций Мизиано божественные звуки. Кто скажет, что я был когда-нибудь завистником презренным, змеей, людьми растоптанною, вживе песок и пыль грызущею бессильно? Никто и никогда! И все же — сам скажу — я ныне так несчастен. Я страдаю; глубоко, мучительно несчастен я в поле современного искусства. О небо! Где правота, когда священный дар, когда бессмертный гений — не в награду любви горящей, самоотверженья, трудов, усердия, молений послан, — а озаряет голову любимца прессы, того, о ком я должен написать, — художник N.
Художник N — статусный петербургский художник.
Сбацав эту фразу, написанную для некоего буклета некой питерской галерейки, я, Сальерий Сальеривич, оторвался от клавиатуры компьютера и задумался. Что, вообще-то, я делаю?
Вот опять какая-то выставка. Там будут картинки: молодые люди сняли себя в костюмах утят из мульти-пульти «Дональд Дак», разыгрывающих сцены из шекспировой «Бури», а молодой человек постарше, да и не молодой уже, а вполне себе дяденька, перенес это с помощью проектора на холст, обведя сценки акрилом, так что получилось пестренько и ве-
селенько, как компотик из свеженьких фруктиков. Все мило, да и хорошо, что молодые люди не наркотиками торгуют, а позируют друг другу на свежем воздухе. Может, даже Шекспира прочли, хотя вряд ли, об Ариэле они узнали от подруги, а та — из телевизионной рекламы порошка.
Я же, 6..., напишу о современном переживании елизаветинской эпохи, о перекличке с «Британия-2000» Дерека Джармена, об участи Просперо в третьем тысячелетии, о творческой потенции Art Brut Калибана, о том, что Ариэль в данном перформансе представляет собой персонификацию Дискурса и что им легче признать, что дискурс не является сложной и дифференцированной практикой, подчиненной правилам и анализируемым трансформациям, нежели лишиться всей этой нежной, утешительной уверенности в силе изменений, таких как мир, жизнь или по крайней мере «смысл», явленной в единственной свежести слова, что происходило только из них самих и пыталось расположиться как можно ближе к бесконечному источнику. Сколько вещей ускользнули от них, и они не желают, чтобы впредь все уходило сквозь пальцы, включая и то, что они говорят, — эти маленькие фрагменты Дискурса-Ариэля (слова, письма или изображения), хрупкость и неопределенность которого должна нести их жизнь дальше навеки. Они не могут допустить (право, их можно понять), чтобы кто-то сказал им:
Дискурс — это не жизнь, у него иное время, нежели у нас, в нем вы не примиритесь со смертью. Возможно, что вы похороните Бога под тяжестью всего того, что говорите, но не думайте, что из сказанного вы сумеете создать человека, которому удалось бы просуществовать дольше, нежели Ему.
Святый Фуко, чем заниматься приходится!
313
Выставка, опять выставка...
Одна очень остроумная тетенька, хороша собой, одета всегда со вкусом и к лицу, раздобыла детские фотографии Сталина, Гитлера, Усамы бен Ладена и других, пририсовала к ним усы и разместила все на детской площадке из «Икеи», назвав свое произведение «Эмбрионы власти». Ее коллега по полю современного искусства, пересняв фотки скандальной светской хроники, заштриховала физиономии Бритни Спирс, Анджелины Джоли и Руперта Эверетта паранджами, представила проект «Война и мир». Целая группа дяденек и тетенек отщелкала шеренги нимфеток и нимфетов, обрядив их в трусы от Труссарди, и, дав в руки автоматы Калашникова, выстроила наподобие Фидиевых Панафинейских шествий и окрестила «Маршем Согласных». Прелесть что такое, и актуальненько так, и радикальненько.
За окном моего кабинета расстилался вид на Петропавловскую крепость, Стрелку и широкий, серый разлив реки. Биржа с ростральными колоннами была похожа на чернильницу из антикварного магазина, дорогую, — а что в сегодняшнем мире гарант качества, кроме цены? — и очень отреставрированную, был декабрь, петербургский декабрь, самое беспросветное время на земле. Унылая серость пространства, красивого, конечно, но такого северного, безнадежного, монотонного, разворачивалась перед моими глазами с непреложностью кантовского категорического императива, вовлекая в себя все мое существование и существование моего города и всего окружающего мира. В воздухе висела взвесь из мокрого снега и грязи, на набережной в слякоти гудела пробка из забрызганных мокротой мерседесов и запорожцев, а я, центр моего кабинета, был точкой в центре великого музея, вокруг которой сосредоточилась сокровищница мирового духа, набитая шедеврами всех времен и народов, от топоров каменного века до инсталляций американского народа, выбранных Саатчи для того, чтобы представить актуальную современность моему отечеству. То и другое, и топоры, и Саатчи, и все, что между ними, великое, конечно, было таким же слякотным и сереньким, как и грандиозная панорама имперского великолепия перед моими глазами.
Декабрьская унылость раскинулась как вечность, как самоощущение искусствоведа в начале XXI века, после того, как тысячи раз была диагностирована смерть искусства, и ничего от него, от этого искусства, не осталось, кроме как профессии, все еще его, это искусство, изучающей. Там и сям, внутри меня и вокруг тлели грандиозные нагромождения памяти, и свалены в ней в одну кучу гравюры Пармиджанино и дневники Понтормо, дриппинг Джексона Поллока и прожженная фанера Ива Кляйна, липстик Ольденбурга и уорхоловская банка из-под томатного супа, дюшановское велосипедное колесо и лампочки Джеффа Уолла, безголовые куклы Синди Шерман и веревки Евы Хессе, туалеты Кабакова и коврики Тимура Новикова, модернизм и постмодернизм, актуальность и радикальность, ночные дозоры Рембрандта, Гринуэя и какого-то отечественного блокбастера, все перепуталось и слиплось, и тошно мне было, несказанно тошно, как будто музыки Кейджа наслушался. На выборы призывают, радиостанция «Эхо Москвы» рыдает о своей и моей несчастной жизни, как рыдала давшая ей имя нимфа о безразличии Нарцисса, вокруг черного ангела на гранитном столпе соотечественники на коньках елозят под веселые звуки советских песен, не менее тошнотворных, чем музыка Кейджа, и сотни искусствоведов в сотнях кабинетов, разбросанных по всему миру, зависли над фразой: художник N, статусный нью-йоркский, парижский, лондонский, токийский, московский... В общем, все как у Гоголя: тощие лошади, известные в нашем Миргороде под именем курьерских, потянутся, производя копытами своими, погружающимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Дождь льет ливмя на жида, сидящего на козлах и накрывшегося рогожкою. Сырость пронимает насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинит серые доспехи свои, медленно проносится мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. — Скучно на этом свете, господа! — скучно, мочи нет.
А я, Сальерий Сальеривич, размышлял. О ситуации в искусстве начала третьего тысячелетия. Мысли мои унылы были, и думал я, куда податься?
316
Куда бежать? И где искать приют? Закрыв глаза, об из- бавленьи стал мечтать, вскричав: теперь — пора! Заветный дар любви, переходи сегодня в чашу смерти. Но вдруг, нежданно, мне пришло на ум воспоминанье. Однажды, в Па- тайе оказавшись по делам скучнейшим сексуального туризма, забрел я в квартал художников. Давно уже осточертели мне и Уэльбек, и супчик тайский, воздух сырой и жаркий, трансвеститы с гирляндами цветов тропических на тонких шеях, культуристы Сиама, стриптиз, массаж и слюни европейцев, текущие по их размякшим от желанья потным харям. Ну что, зачем Патайя мне, зачем сюда приперся? Сидел бы дома, дрочил и думал. И вдруг, нежданно, посмотрев на стены, я просветлел. Сиам вдруг угостил меня искусством. Со всех сторон полезли на меня шедевры, и Каналетто, и Рембрандт, Шагал, Уорхол, Элвис Пресли, Будда, Гоген, Лемпицка, Монро, Джиоконда, Рубенс, Ван Гог, Том Круз, Мане, Боччони, Бугро с Ботеро обрели вновь голос, что, казалось мне, давно утратили, и разом все заговорили о том, что подлинно, и полноценно переживать я начал искусство вновь, то самое искусство, что умерло, как мне казалось, и стало трупом, разъятым формальным анализом. В единый миг, как о своем спасенье, я вспомнил все, что видел я в Патайе, и вновь воскрес, и чаша с ядом в руке застыла. Небо Петербурга мне улыбнулось отсветом патайским, и показалось, что сквозь тучи декабрьские пробилось солнце, осветив весь мир сияньем несказанным, случайным, может быть, но — настоящим. Вновь и вновь перебирая памятью те образы, что рождены в Патайе дальней были, я снова счастлив стал, и показалось, что правда есть и на земле, и выше, и что художник N не так уж страшен, и статус статусом, но все же искусство существует, живо, дышит и переживает. Так я выжил в пространстве актуального искусства и дописал буклет об Ариэле. И снова свеж и бодр открылся я искусству современному. Voi che sapete — «Вы, кому известно» — слепой скрипач в трактире разыгрывал тем временем.
319
Be н e pa To рфя н a я
Выставка в Русском музее: антитело как сверхидея
ТУ
узком белом пространстве раЗДеваЛКИ девушка в спортивной шапочке и полуспущенных трусах балансирует на одной ноге, вытирая полотенцем спину и пятку второй, подогнутой. Прямой взгляд больших широко расставленных глаз устремлен прямо на зрителя, магнетизирует его, так что никакого ощущения подглядывания не возникает. Скорее — созерцания. Полуспущенные трусы слегка приоткрывают темный треугольник лобка, что вместе с «реальными» шапочкой и трусами придает композиции, в общем-то совершенно отвлеченной, легкий оттенок натурализма. Фигура девушки с широкими бедрами и плечами, тяжелой округлостью грудей классична и идеальна, как античные статуи. Так же как и фигура, идеально и лицо девушки, рассчитанное в строгом соответствии с каноном. И поза, и занятие условны: невероятно длинное и узкое полотенце больше похоже на шаль или драпировку; непонятно, зачем девушка надела трусы и только после этого стала вытирать спину, зачем полирует свою пятку, не натянув трусы, ей мешающие, до конца.
Это — картина Александра Самохвалова «После кросса», фрагмент которой, данный на фоне белой звезды, распластанной на красном, украшает обложку каталога замечательной выставки «Венера Советская», проходящей в Русском музее. Картину лучше было бы назвать «Афродита после кросса», так как фигура самохваловской бегуньи, отнюдь не спортивная, является точным повторением Афродиты Книдской Праксителя, в чуть измененной позе. Под¬
319
линная Праксителева Афродита держит драпировку в левой руке, а теперь, надев трусы и шапочку, взяла правой ее конец, закинула за спину, подогнула правую ногу, перенеся всю тяжесть на левую, слегка подняла голову и посмотрела в упор на зрителя. Получилась бегунья Самохвалова, находящаяся с Афродитой середины четвертого века до нашей эры в подчеркнуто прямом родстве.
Родство Праксителя и Самохвалова гораздо глубже поверхностного сходства вариации формы и позы. Пракситель — один из лучших скульпторов в истории мирового искусства и, конечно же, классик. Впрочем, как классику и полагается, при жизни он пользовался репутацией скандального авангардиста. Афродиту Книдскую он изваял во время CIV Олимпиады, когда достиг своего «акме», что по-гречески значит «расцвет». Богиню он представил обнаженной, что было неслыханно, так как до того нагими можно было изображать только мужчин, а женщины всегда были прилично задрапированы и ни в палестры, ни на стадионы не допускались. Вдобавок ко всему блюстители порядка установили, что моделью Праксителю послужила гетера Фрина, что было совсем непозволительно: смертная рискнула сравнить себя с небожительницей. Скандал разразился страшный, международный, все греческие города о нем узнали и в нем поучаствовали, так как святилище на острове Книд имело общегреческое значение и установка там новой статуи была делом всей Эллады. Консерваторы неистовствовали, либералы выходили из себя, все напоминало страсти вокруг целующихся милиционеров «Синих носов», недавно шумевшие в нашем отечестве, но, как рассказывают древнегреческие авторы, конец дебатам положила Фрина. Она публично разделась, греческая публика, прекрасному не чуждая во всех его проявлениях, разразилась дружным «Ах!», обвинение в кощунстве с Праксителя было снято, статуя водружена на место, Фрина получила почетную пожизненную пенсию, искусство восторжествовало, так что вслед за Афродитой Книдской в мировую культуру проследовала толпа обнаженных, в том числе и «После кросса» Александра Самохвалова. Использование Самохваловым прототипа со столь красочной историей в контексте
320
молодой советской культуры очень значимо: вслед за Праксителем, опираясь на его опыт и на его реноме, художник пытается утвердить свободу красоты обнаженного тела в новом социалистическом обществе. Но нужны ли эти старые как мир истории новому обществу?
История Фрины и Афродиты Книдской показывает, сколь сложны были во все времена взаимоотношения человека с телом. Тело — это, конечно, форма. Это ограничение, изначально заданное нам без нашего ведома и заключающее каждого из нас внутри себя с властностью совершенно диктаторской. Вольно нам воспринимать тело как храм, тюрьму, дворец или хижину, культивировать его или проклинать, бичевать или холить, но зарождение нашего тела, его развитие и его разрушение пугающе самостоятельны. Тело — это судьба, рок и фатум. Это то, что объединяет миллиарды живших, живущих и тех, кто еще будет жить, и в то же время это то, что их разделяет. В бесконечной множественности и повторяемости тел — залог нашего бессмертия, но каждое индивидуальное тело конечно и обречено. Желание избавиться от диктата тела и обрести желанную свободу от установленных нам, помимо нашей воли, границ всегда обуревало человека. Но столь же постоянно желание бежать от тела сопровождалось тоской по телу вечному, нетленному, идеальному, означающему победу над временем и судьбой. В сущности, тело — не что иное, как чистая идея.
Быть может, наиболее полно и отчаянно одержимость человека диалогом со своим телом выражается в образе Афродиты, или, как назвали ее римляне, Венеры, ужасающей и прекрасной богини, бесконечно сильной и бесконечно слабой, воспеваемой, проклинаемой, презираемой и возвеличенной. Тело — это ипостась Афродиты-Венеры, ее царство, главный ее атрибут и ее оружие. Эта малоазийская, если верить мифологическим словарям, богиня столь прочно овладела человеческим сознанием, что оно находит ее изображения задолго до предполагаемого рождения Афродиты от соединения гениталий оскопленного Кроном Урана с морской стихией, в тридцатом тысячелетии до нашей эры, в многочисленных Венерах каменного века, разбросанных по всей Евразии. Затем, пройдя всю историю человечества, возникая то в виде Изиды,
то Иштар, то Кибелы, Лакшми, Сарасвати или бодхисатвы Гу- ань-инь, она дошла и до нашего времени, обрядившись в меха доктора Мазоха, завоевав диспансеры и стриптиз-клубы, подиумы и конкурсы красоты, музеи и рекламные щиты, и до сих пор не отпускает от себя художников. Она каждую ночь восходит над миром, покидая его лишь утром, зелено-голубая планета, «милостивое ночное светило, муж или женщина», как назвал ее римлянин Макробий в своих «Сатурналиях», — Венера, Веспер, Люцифер. Всходила она и над одной шестой земной суши, обычно окрашенной на картах в красный цвет, над великой страной СССР.
Зрители привыкли богиню любви представлять согласно навязанной Ренессансом классической схеме красоты. Афродита Книдская, Венера Милосская, Боттичелли, Тициан, Джорджоне, Рубенс, Веласкес — и так далее. Так выстраивает свой ряд Афродит-Венер, доводя его до Аниты Экберг и Моники Белуччи, Умберто Эко в недавно вышедшей в русском переводе книге, посвященной понятию Красоты в европейском менталитете. Однако, как известно, красота — страшна. Афродита родилась из глубины морской, куда пролилась кровь и были брошены гениталии кастрированного Урана, бога неба. В зачатии Афродиты любовь не участвовала, да и откуда взяться любви до ее рождения? Любовь же и красота, как мы видим из древнего мифа, появились в результате преступления и теснейшим образом связаны с болью, насилием и членовредительством.
Афродита, являющаяся нам в древних культах, совсем не похожа на нежную и кокетливую красавицу поздних мифов. В Фивах она почиталась под именем Афродита Апо- строфия, то есть Ужасающая и Избавляющая, и тесно была связана с Эриниями, кровожадными богинями, терзавшими Ореста. Афродита Фессалийская была предводительницей ламий, меднолобых вампирш, высасывающих ночью кровь у своих любовников, и стала прообразом героини «Метаморфоз» Апулея, старухи Мероэ, ненасытной в своем вожделении, способной превратить мужчину в лягушку, бобра или барана. В Аттике Афродита была самой старой из Мойр, богинь судьбы, дочерей Времени-Крона, и самой
322
безжалостной из них. В Мегаре ее почитали наравне с Нокс, темной богиней ночи, и Гекатой, чудовищем с тремя собачьими головами.
Во Фракии Афродите приносили в жертву собаку, и она была богиней собачьих свадеб. На Кипре и во многих других местах был распространен таинственный культ Афродиты Бородатой, по характеру похожей на самку богомола и ответственной за убийство Данаидами своих пятидесяти юных мужей в первую брачную ночь. В Арголиде, где и произошло это событие, празднества в честь Афродиты назывались истериями, на них богине приносилась в жертву свинья, так что этимология слова «истерика» впрямую связана с культом Афродиты и происходит от «юстеры» или «истеры», что означает матку. От аргосской богини, благословившей подвиг Данаид, происходит латинская Венус Ар- гива, богиня маленьких девочек, еще не вступивших в брак, и в Риме были распространены изображения Венус Аргивы в виде куколки, предназначенной для игр крошек-девствен- ниц, дабы приготовить их к замужеству, — хороший образец отношения к супругу для будущих жен. На побережье Ионического моря Афродита почиталась как Порфириус, что значит Багряная или Пурпурная, но также и Вздувшаяся, Мрачная, Черная, Кровавая.
В греческих колониях на Понтийских берегах Афродита получила титул Апатурия (то есть Лишившаяся Отца или Отцом Отвергнутая, а также от Отца Отвернувшаяся), тесным образом связанный и с ее происхождением, с кастрацией Урана и с обычаями скифов и амазонок, населявших соседние районы, для которых отцовство не играло никакой роли. В греческих же поселениях Италии богиня носила имя Эноплиос, Объединяющая и Вооруженная, обладала характером воинственным и кровожадным, от нее ведет свое происхождение римская Беллона, покровительствующая войне разнузданной и безжалостной, то есть такой, какую римляне и вели по преимуществу, в чем отличие этой римлянки от Афины-Минервы, разумной и трудолюбивой девственницы. В своем имени Беллона соединила существительное bellum — война и прилагательное bellos — милый, прелестный, великолепный.
В ряду богинь Умберто Эко нет и намека ни на русских, ни на советских красавиц. Будем считать это скорее незнанием, чем убеждением. Но кого бы из наших богинь можно было бы включить в этот звездный список? К сожалению, не Афродиту после кросса Самохвалова, прекрасную, без сомненья, но не добавляющую ничего принципиально нового к длинному послужному списку богини. Спортсменки Самохвалова — это мечта, сон, самообман социализма. Идеальный мир Самохвалова столь же прекрасен, как и фильм «Строгий юноша», но, как и фильм Роома, он был отложен на полку советской цензурой. На этот раз, в отличие от случая Праксителя, Фрина ничего сделать не смогла. Принципиально новой идеи у Самохвалова не было.
Выставка «Венера Советская» начинается с плаката художника А. С. Харитонова «Да здравствует Восьмое Марта». Огромная улыбающаяся женщина вырастает из толпы, в красном платке, с винтовкой через плечо, в расстегнутой черной тужурке поверх синего бесформенного мешка, в серых чулках; дома не достают ей даже до колена, у подошв кишит черная муравьиная толпа с красными плакатами «Работница! Крепи!», крепи то, крепи се, международную солидарность, оборону и трудовую сознательность. Напротив же — другая великанша, тоже в красном платке и синем бесформенном платье, величественная и простая, с легкостью, с какой девушки из Фидиевых Панафинейских шествий ставят себе на плечо амфору, взвалила на себя корзину, и улыбается, и сияет, и зовет. Тела нет у нее, а в корзине 15 300 000 тонн торфа, так как «в завершающем году пятилетки дадим социалистическому строительству не менее 15 300 000 тонн высококачественного сухого торфа», и она даст, хотя непонятно, зачем так много, огромная цифра звучит фантастически, мифологично, и вот она, новая мифология, вот она, новая богиня. Отсутствие тела — тоже идея. Великая Афродита Торфяная. Такого никогда ни у кого нигде не было.
Красота страшна, а любовь еще страшнее.
Знаменитая формула Стендаля, столь понравившаяся Ницше, что красота есть обещание счастья, совершенно справедлива. Однако кто же верит в то, что обещания выполнимы? Древняя богиня была безжалостна. Посмотрите
на детей, порожденных Афродитой. Эрот, безжалостный в своей вечной инфантильности и к богам и к смертным, мучитель, забавляющийся чужими страданиями, как игрой в бабки. Антэрот, страшный бог смерти, близкий к Танато- су. Оба зачаты неизвестно от кого. Фобос и Деймос, Страх и Ужас, детки от бога войны Ареса. Гермафродит, существо загадочное и несчастное, прижитое от плутоватого Гермеса, и неизвестно от кого появившаяся дочь Гармония, по одной из версий — дочь смертного Кадма, ставшего к тому же и ее мужем. Гармония послужила причиной гибели героев фиванского цикла.
Несчастны были все, кому Афродита покровительствовала. Пасифая, Федра, Медея, Елена, Парис — пешки в ее играх, бессмысленных и бесцельных. Адонису, единственному, кого Афродита любила по-настоящему, ее красота особенного счастья тоже не принесла, и цветок анемона, выросший из крови этого красавчика, родившегося от связи отца и дочери, стал символом смерти и подземного мира. Особенно счастливым не назовешь и ее сына Энея, рожденного от смертного Анхиза, свидетеля гибели близких и друзей, эмигранта, проведшего всю жизнь в сплошных скитаниях.
Великая Афродита Торфяная, выступающая из советских плакатов, возвращает этой богине, превратившейся в европейской традиции в гламурную кокетку, грозную величавость древнего мифа. Такой Афродиты мир еще не знал. Подобно и равно древним титулам богини: Порфириус, Апострофия и Апатурия — звучат новые: Делегатка, Работница, Ударница. Дети ее — Социализм и Революция — могут сравниться с Фобосом и Деймосом и не уступят им в величии. Она, именно такая Афродита, а не вариации на тему русской красавицы и не обманчивая греза Самохвалова о социалистическом классицизме достойна встать в единый ряд, представляющий реинкарнации богини в мировой культуре, и заткнуть дыру, образовавшуюся в перечислении Умберто Эко.
327
«Сатирикон», или Интеллигенция времен Нерона
Картинки с выставки «Фрески Стабий»
тиг
.X. -Хет, искусство не оставило НИ малейшего следа. Жажда к деньгам свела на нет благородство. Мир пришел в упадок. Идеалы исчезли. Всюду царит показная роскошь, идей не осталось, мысли столь же мелки, сколь и желания, вкус ничтожен, умы пропитаны корыстолюбием. Удовольствие свергло Мудрость с ее пьедестала и настолько развратило жизнь, что даже завещанное предками мы можем оценить только с точки зрения доходности; ни понять же, ни изучить прошлого мы не способны. Те, кто обладают талантом, думают лишь о наживе, раболепствуя перед богатством и силой. Философия искусства сведена к стратегии успеха, эстетика трактуется как умение нравиться, а об этике забыто напрочь. Рынок сменил сады Платона, и все мечтают лишь о рукоплесканиях цирка, пренебрегая одобрением знатоков. Что дорого, то и прекрасно. Желания столь же примитивны, сколь и сиюминутны, добродетель осмеяна продажностью, цена возобладала над ценностью, величие измеряется лишь деньгами. Где философия? Где диалектика? Где астрономия? Где души прекрасные порывы?
Так или примерно так ламентировал седовласый старец Эвмолп, достойный представитель бескомпромиссной интеллигенции, ценящей величие духовное выше мимолетной выгоды. Он, поэт не из последних, хотя и бывал не раз увенчан венками на различных поэтических состязаниях, карьеры не сделал: по его убеждению, любовь к творчеству никого еще не обогатила. Лицом он обладал крайне выразительным, отмеченным печатью какого-то величия, подчеркнутого
убожеством платья. Ламентации его были обращены к юноше, случайно встреченному им в пинакотеке, набитой замечательными картинами, созданными великими мастерами прошлого. Юноша этот, по имени Энколпий, и обратился к Эвмолпу с вопросом о причинах упадка современного искусства, в особенности же — упадка живописи, сошедшей на нет.
Встреча эта произошла где-то в шестидесятые годы первого века нашей эры. Энколпий, юноша во многих отношениях замечательный, также обладал высоким уровнем духовных запросов. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в попытке утешиться в своих юношеских невзгодах он забрел в картинную галерею, — немногим бы такое сегодня пришло в голову. Невзгоды же его были разнообразны: несмотря на ум и образование, не было у него ни кола ни двора, ни наследства, ни работы, но зато были любовные трудности. Где он образование получил, мы не ведаем, но знание им творений Зевксиса, Апеллеса и Протогена, а также краткие суждения о них, блистательное знание мифологии и неподдельный интерес к истории искусств, что он выказал, расспрашивая старика Эвмолпа о времени написания картин и о сложных, запутанных сюжетах, подтверждают наличие прекрасной школы. В общем, Энколпий недаром привлек Эвмолпа: столь же умный, сколь и смелый, столь же образованный, сколь и обаятельный, этот юноша был соль земли и creme de la creme интеллигентной римской богемы. Оба же они дополняли друг друга, как дополняют опыт и энергия, знание и любознательность, мудрость зрелости и открытость молодости.
Память тут же услужливо указала мне на разговор этой парочки, когда я рассматривал замечательную выставку римских фресок из Стабий, открытую в зале Боспора на первом этаже Нового Эрмитажа. Что может быть лучше древнеримской живописи? Что может быть сравнимо с безошибочной точностью, с какой древний художник организует плоскость стены, помещая в центр декоративной композиции, собранной из различных геометрических сегментов, какую-нибудь крохотную сценку или фигурку? С набросанными легкими мазками фантастическими ландшафтами, похожими на сновидения? С густотой винно-красного фона, с лаковой глубиной черного, что столь изысканно подчеркивают пластику
328
обнаженных тел пляшущих нимф и фавнов? С безгрешной чистотой изображений полового акта, превращенного в ритуальное действо? С притягательностью закутанных в плащи таинственных фигур? Со странной, пугающей реальностью бытовых предметов, вдруг составленных в неожиданно живые натюрморты, перебивающих мифологические рассказы? Что же это были за люди, расхаживавшие среди всей этой красоты, что дошла до нас в случайных фрагментах, намекающих на значимость целого? Что за красота окружала их на виллах, раскиданных по берегу Партинопейского залива, в Путеоли, Байи, Стабиях, Сорренте и Мизене, в этих римских наследниках греческих сибаритов, чьи имена звучат как синонимы роскоши, столь же легкой, сколь и полноценной?
Диалог Эвмолпа и Энколпия, донесшийся до меня из-за толстой квадратной колонны боспорского зала, сначала поставил меня в тупик. Я никак не мог понять, причем тут исчезнувшая без следа живопись и общий упадок искусства и о чем говорят, на что сетуют эти милые люди, чем они могут быть недовольны, находясь среди подобной красоты. Постепенно до меня дошло, однако, что слова старого философа и молодого ценителя живописи относятся уже не к тому, что окружало их в первом веке нашей эры во время приключений на берегах Партинопеи, и не к тому, что в данный момент окружает меня благодаря извержению Везувия, законсервировавшего стабийскую роскошь, но к впечатлениям, что они недавно получили, посетив выставку одной известной галереи в Барвихе и насмотревшись произведений Серрано и Сая Твомбли. Ободренный этой догадкой, я отважился выйти из-за колонны и представиться, вполне искренне сообщив этой обаятельной паре, что заочно с ними знаком давно, что с ранней юности восхищался ими обоими, но что восхищенная пылкость ни в коей мере не мешала моему уважению, так что дерзость моя может быть оправдана исключительностью случая, столь неожиданного, сколь и желанного в глубине души, и тем, что если бы случаем этим я не попытался воспользоваться, то вряд ли простил бы себе эту упущенную возможность. Оправдания мои были приняты со снисходительной благосклонностью, Эвмолп пробормотал что-то вроде «все было встарь, все повторится снова», и между нами завязалась беседа.
329
Сначала мы поболтали об общих знакомых. Энколпий сообщил мне, что Трифэна давно обосновалась в Петербурге, открыв процветающий модный дом, столь популярный, что пиджаки с вышитой на них маркой Trifienovna носят все уважающие себя телеведущие. Что она по-прежнему не разлей вода с Лихом, ставшим большим начальником в петербургском комитете по культуре. Разбитная служанка красавицы Киркеи, Хрисида, снимается в телесериалах, специализируясь на классике, то в роли Настасьи Филипповны, то Маргариты. Киркея вышла замуж за олигарха, живет в Лондоне, скучает, от скуки стала православна, все свое время делит между батюшкой и косметологом. Сам же Энколпий только что в очередной раз от Трифэны сбежал, почему и оказался в Эрмитаже, где и повстречался со старым приятелем. Эв- молп уже года три-четыре подвизается на ниве воспитания и обучения латыни богатых малолетних балбесов столь удачно, что даже вошел в моду, но сейчас в очередной раз должен спасаться от разгневанных родителей, возмущенных коллизией «тише, а то скажу отцу», повторяемой им с упорством, достойным лучшего применения. В Петербурге они лишь по случаю и сегодня оба летят в Москву, прямо на званый ужин, на который они приглашают и меня. Я согласился тотчас же и без малейших колебаний.
В самолете Энколпий сообщил мне, что в Россию перебрался в поисках все того же Гитона, опять сбежавшего от него вместе с Аскилтом, на этот раз — прямо в Москву. По слухам, Аскилт редактирует какой-то интерьерный журнальчик, а Гитона пристроил стилистом оформлять витрины, но журнальчиков так много, что следов пока не сыскать. Пытался что-то узнать от Трифэны, но от нее одна докука. В России он уже довольно давно, жизнь здесь мало чем отличается от ему привычной, разве что климатом, но в снеге даже что-то есть. За то время, что он здесь находится, ему, Энколпию, удалось завести много полезных знакомств, в том числе и с Тримальхионом, изящнейшим из смертных, к которому мы сейчас и направляемся.
Долго было бы рассказывать все подробности, но мы остановились у ворот высокого забора. Унылый пейзаж вокруг тоже состоял из высоких заборов, за которыми ничего
330
не было видно, даже верхушек деревьев. Я попытался выйти из машины, но товарищи меня обхохотали, указав на изображение огромной цепной собаки, явно работы Кулика, под которой большими квадратными латинскими буквами было написано: «Берегись собаки».
В глаза ее были вмонтированы камеры слежения, сфокусированные на нас.
Через некоторое время ворота раскрылись, позволяя нам проехать дальше. За воротами мы остановились, и к нам подбежал привратник в зеленом платье, подпоясанном вишневым поясом. Он помог выйти из машины и сел за руль, чтобы отвезти ее в гараж. Дальше мы шли пешком, наслаждаясь видом: в глубине участка, засаженного аккуратно подстриженными елями, белела вилла, похожая на груду колотого сахара. Ее огни отражались в двух голубоватых бассейнах, полных, несмотря на холод. Когда мы проходили по узкой дорожке, разделяющей оба бассейна, я был поражен сильным гудящим звуком, придававшим виду особенную торжественность. Энколпий объяснил мне, что виллу спроектировал для хозяина сам Кулхаас, причем Тримальхион настоял на бассейнах, снабженных специальными устройствами для отвода пара в зимнее время, от которых и исходило это гудение. Перед входом стояли две девушки в блестящих высоких кокошниках, с серебряными подносами: на одном были бокалы с шампанским, на другом — стопки водки.
Мы вошли в огромный вестибюль без окон, чьи стены сверху донизу были покрыты мозаиками Bisazza, выполненными по эскизам AESob, изображающих сцены из Илиады и Одиссеи, а также бои гладиаторов, разыгранные нимфетками и эфебами с автоматами в руках. К нам подбежали гардеробщики-эфиопы в ливреях восемнадцатого века, бесшумно освободившие нас от верхней одежды. Я, задрав голову, восхищенно рассматривал эти диковины, пока мы пересекали зал, а мои спутники сообщили, что Тримальхион — страстный коллекционер, жестко контролирующий деятельность своей жены, обладательницы трех галерей: в Жуковке, Нью-Йорке и Лондоне. О любви к изящным искусствам свидетельствовало и убранство длинного коридора, в который мы затем попали, полного картин и инсталляций. Разгляды¬
332
вать было некогда, так как мы уже достигли триклиния, но я успел заметить пару портретов рэперов и одного кардинала работы великого Меламида, написанных совсем недавно, какие-то композиции Владика Мамышева-Монро и огромные панно Виноградова с Дубосарским.
Триклиний был в полумраке, так что первое, что мне бросилось в глаза, это пригвожденные к потолку ликторские связки с топорами, оканчивающиеся бронзовым подобием корабельного носа, а на носу была надпись:
Г. ПОМПЕЮ ТРИМАЛЬХИОНУ — ПРЕДВОДИТЕЛЮ ДВОРЯНСТВА ДВОРЯНСКИЙ СОВЕТ ЖУКОВКИ.
Надпись освещалась двумя огромными витыми люстрами красного муранского стекла, бросающими свет только на нее. Внизу стоял большой стол со странным сооружением посередине, а вокруг — еще семнадцать маленьких, по числу участников трапезы. Гости возлежали на пышных бесформенных ложах работы Гаэтано Пеше из полиуретановой пены и фетра, похожие на кучу пестрого тряпья из секонд-хэнда. Сам Три- мальхион, обложенный подушечками Форназетти, был видным лысым мужчиной с почтенным профилем. На нем был надет пестрый миссониевский свитер, и его скобленая голова высовывалась из складок яркого шарфа с пурпуровой оторочкой и свисающей там и сям бахромой, намотанного на его шею. На мизинце левой руки у него было простое гладкое золотое кольцо, на последнем суставе безымянного — еще одно, с припаянными к нему железными звездочками. Энколпий обратил мое внимание на то, что часов на нем не было, — Тримальхион считался лучшим специалистом по часам, имел огромную коллекцию современных наручных часов и издавал на свои деньги два журнала, посвященных исключительно часам: один — на русском, другой — на французском языке. Он приветствовал нас небрежным кивком и продолжал разглагольствовать. Мы как раз вошли, когда он рассуждал о равенстве.
— Я вообще-то считаю, что все люди равны. Кому-то, конечно, улыбается удача, кому-то нет, но все же все люди равны. Я не люблю превосходства, да и Марс любит равенство.
Поэтому я велел поставить каждому свой особый столик, чтобы официанты обслуживали каждого по отдельности. К тому же нам не будет так жарко от их вонючего множества.
Тем временем я обводил взглядом гостей. Два места оставались пустыми, но среди присутствующих все лица мне были более-менее знакомы. Недалеко от хозяина возлежала госпожа Поппея Диогена, большая писательница. Напротив — господин Юлий Прокул, крупнейший телевизионный продюсер, со своей женой, изысканной и несколько манерной поэтессой. Присутствовали также Селевк, известный архитектор, Эхион, моднейший врач, специализирующийся на излечении от всевозможных зависимостей, Дама, редакторша крупнейшего гламурного журнала, и Гермерот, славный литератор, номинант на Букеровскую премию. Он очень много пил и ругал власть. Филерот с Ганимедом, близкие друзья хозяина, кроме дружбы были связаны с ним и деловыми отношениями, Плоком же был его соперником, особенно в области изящества. Среди гостей находилась еще одна французская звезда, вызванная исключительно для украшения трапезы, все время улыбавшаяся и ни хрена не понимавшая, и ожидался Габинна, важный политический деятель, со своей супругой.
Я спросил о странном сооружении, украшавшем большой стол: в середине возвышалось нечто среднее между весами из старого гастронома и скульптурой Калдера, а вокруг были разложены страннейшие муляжи — матка свиньи, овечий горох, октопектус, какие-то раки и другие земноводные, фиги, почки и тестикулы. Вопрос доставил большое удовольствие хозяину, объяснившему, что эта штука — творение Филиппа Старка, изображающее знаки Зодиака, специально для него сконструированное и подаренное ему на день рождения его дорогой женой, Фортунатой. Далее последовали рассуждения на тему астрологии с большими философскими отступлениями, так что гости, воздев руки к потолку, то и дело восклицали: «Премудрость!» — и клялись, что ни Гиппарх, ни Арат не могли бы равняться с хозяином. Довольный произведенным впечатлением, Тримальхион велел притащить свою последнюю покупку — серебряный скелет работы Дамиена Херста, инкрустированный бриллиантами и устро¬
334
енный так, что его сгибы и позвонки свободно двигались в разные стороны. Когда его несколько раз бросили на стол и он благодаря подвижному сцеплению принимал различные позы, Тримальхион воскликнул:
— Горе нам, беднякам! О сколь человечишко жалок!
Описывать далее наши возгласы одобрения, Фортунату,
скромно облаченную в вишневую тунику от Дольче и Габ- бана, подпоясанную желтым кушаком, ее витые запястья и золоченые туфли, появление Габинны с его женой Сцинтил- лой, застольные разговоры о коринфской бронзе, виллах на Сардинии и выступление гламурной Дамы, провозгласившей, что она ждет не дождется бури, которая все бы это смела, нет надобности. Это уже все и так описано у Петрония. Мы пили и удивлялись столь изысканной роскоши. Когда же дело дошло до полной тошнотворности, я попросил Энкол- пия помочь мне выбраться отсюда. Он вполне по-дружески отреагировал на мою просьбу, согласившись поймать такси.
У нас не было в запасе факела, чтобы освещать путь, и молчаливая зимняя ночь не посылала нам навстречу никакого света. Прибавьте к этому наше опьянение и полное незнание мест, где и днем легко было заблудиться среди заборов. Еле-еле добрались мы до пустынного шоссе, где Энколпий меня и оставил, сказав напоследок:
— Между прочим, эту фразу, что вы теперь все повторяете, о том, что у молодого человека с мозгами есть только два выхода, Пелевин спер у меня. Я-то это сказал еще две тысячи лет тому назад.
На этом месте рукопись обрывается.
—
1 ^
1ГП
' нВЩЕуР В: 1 Г л '•
■В
337
Настоящий двадцатый век
В .
-^викторианская Европа переполнена фотографиями.
Они везде: в кабинетах, гостиных, на стенах, в альбомах, украшающих столики приемных, в огромных подарочных изданиях, торжественно занимающих почетнейшие места в библиотеках, на открытках с видами гор и городов, обязательно во множестве посылаемых плавающими и путешествующими по уютному миру второй половины девятнадцатого столетия с мест своего назначения; они вмонтированы в браслеты и медальоны и часто обрамлены самым фантастическим образом, в серебро и золото, и иногда даже с драгоценными каменьями, которыми украшены рамки Фаберже, превратившего их производство в целую отрасль своей ювелирной промышленности.
В фильме Висконти «Смерть в Венеции» фон Ашенбах, вселяясь в роскошный номер гостиницы на Лидо, первым делом бережно распаковывает и расставляет множество фотографий, привезенных с собой. То, как акцентировано отношение к фотографии человека belle epoque, задерживает взгляд: мы же знаем, что к фотографии как к искусству никто особенно серьезно не относился, и вообще она делала свои первые шаги в эти первые полстолетия своего существования.
Многие считали, что фотография убивает живопись и рисунок и что она годится только для того, чтобы тупые мещане, раз в год вырядившись в свои лучшие платья, идиотски вперились бы в одну точку, застыв без движения и мысли
перед пугающей вспышкой, и впечатали в вечность свой пошлейший вид на фоне аляповатой мишуры декораций ателье, столь же оскорбляющих хороший вкус, как и сами физиономии фотографируемых. Бабушка Марселя из романа Пруста, женщина, обладавшая безусловным чувством прекрасного, отбирала для своего внука не фотографии Венеции и даже не фотографии с картин, изображающих Венецию, а гравюры с картин — для того чтобы образ города был как можно более очищен от грубости механистичного воспроизведения. Рассуждение Пруста на эту тему направлено против объективности объектива, убивающего всякую индивидуальность.
Фотография была техническим новшеством, и, как всякое новшество, она раздражала. Фотографу, если он не довольствовался участью штамповщика видов (вида Везувия или вида чьей-нибудь физиономии, это не имеет значения), приходилось для своего оправдания заимствовать у живописи ее средства, — так родилось движение пикториальной фотографии, пытающейся через навороченность постановок и антуража доказать, что и светопись тоже искусство. Те же фотографы, подобные великому Атже, что интуитивно протестовали против фальсификации приемов «высокого» искусства, вынуждены были влачить жалкое существование. Первым восстал против несправедливого отношения к фотографии сюрреализм, провозгласивший: «Долой традицию! Снимай прямо!» С торжества прямой фотографии начинается настоящий двадцатый век.
Сюрреализм оказал огромное влияние на Анри Картье-Брессона, в свои двадцать лет усердно посещавшего кафе Сирано, одно из главных мест сходок парижских сюрреалистов, и восхищавшегося Бретоном и Арагоном. Интеллигентный юноша, читавший все, что интеллигентному юноше в конце двадцатых читать было положено: Рембо, Достоевского, Ницше, Джойса, Пруста, Энгельса и Маркса, — был в восторге от левых идей, что кипели в речах посетителей кафе Сирано. Это время, когда Картье-Брессон пытается заниматься живописью в студии Андре Лота, своеобразного кубиста, обожающего Пуссена, и даже едет на год в Кембридж изучать язык и литературу, где издали видит Джойса, но не решается к нему подойти. Время, про которое затем, в 1940-е,
после немецкого плена и лагеря, сам Брессон отзовется с потрясающим сарказмом: «Для молодого буржуа с сюрреалистическими идеями дробить камни и работать на цементном заводе стало отличным уроком».
На первый взгляд любовь сюрреализма к тому, что затем получит название «прямой» фотографии, парадоксальна. Но это только на первый взгляд. Объективность, свойственная объективу, — совершеннейшая фикция. В двадцатом веке все те, кто были сняты первыми фотографами века девятнадцатого, умерли, и от тех же фотографий Надара, еще недавно воспринимавшихся как точная и верная передача реальности, веяло могильным холодом. Фотографии Бодлера, Жорж Санд, Виктора Гюго и Полины Виардо. Так это же просто собрание у пушкинского гробовщика, гораздо более сюрреалистичное, чем любые ухищрения поэтики абсурда и автоматического письма.
Завораживающее и пугающее действие, которое заставляет мгновение — всегда текучее и неуловимое — застыть навечно, есть чистая мистика. Историю фотографии надо начинать с ритуальных масок, снимаемых с лиц умерших, и с плата святой Вероники, утершей во время Крестного пути лик Иисуса и оставившей во времени Спас Нерукотворный. Конец века девятнадцатого пропитан тоской по просачивающейся сквозь пальцы жизни, которую не удержать, как не удержать воду в горстях. Импрессионизм был в какой-то мере сублимацией этой тоски, и характерно, что новое столетие открывается великим романом «В поисках утраченного времени», полном сожалений о столетии ушедшем.
В мире нет ничего, кроме данного момента, сиюминутного и сиюсекундного переживания, определяющего течение жизни. Ничто не возвращается. Это осознал еще Блаженный Августин в своей «Исповеди», и утешить в горечи постоянных потерь, из которых жизнь состоит, может только вера в жизнь вечную. Стоит этой вере поколебаться, как человек со своим пресловутым разумом становится столь же жалок и неустойчив, как бумажный кораблик в Мальстреме. Ведь в мире нет ничего, кроме данного момента, но и его не существует, так как он исчезает в момент определения его разумом. Факт растворяется во времени, остается только его
интерпретация. Лица умерших на протяжении всей истории человечества являлись близким лишь во сне или на портретах, написанных художниками, чье восприятие, быть может, не менее призрачно и уж, во всяком случае, без сомнения, столь же субъективно, как и человеческий сон. Память образов бежала от человека, и никогда мы не узнаем, как на самом деле выглядел Парфенон и что происходило на Старом мосту в Париже.
Фотография изменила наши взаимоотношения с памятью. Да, конечно, первые дагерротипы, оставшиеся нам от девятнадцатого столетия, размытые и призрачные, еще более условны, чем акварельные наброски. Потрясающее впечатление производят ранние фотографии городских улиц, снятые с большой выдержкой, не способной фиксировать движение: вымершие, лишенные людей и повозок, в буквальном смысле исчезнувших из поля видимости (так как люди и животные не способны застыть и позировать без специального приказа), они похожи на метафизические пейзажи, и в любой уличной сцене не то что Писсарро, а любой старой литографии больше жизни и подлинности, чем в этих странных видениях. Но в то же время в этих дагерротипах с неумолимостью воистину безжалостной уже ощутим тот самый остановленный данный момент, один из бесконечного множества, что составляют нашу жизнь, ранее утекавшую от нас в небытие. Назовем ли мы это механистическим воспроизведением? Реальной объективностью? Скорее это чудо, подобное чуду преображения, и недаром процесс фотографирования с его голубоватой вспышкой так пугает детей и дикарей. Объектив фотоаппарата отнюдь не отражает, а именно преображает все, что попадает в его поле зрения. Мир фотоизображений не менее сложен, чем волшебный мир Зазеркалья, чья загадка столь будоражила воображение человека.
Так что же, это изобретение оказалось лекарством, что способно защитить от «ужаса, который был бегом времени когда-то наречен»? Увы, это не так. Рассуждая о началах фотографии, полезно вспомнить еще об одном фотографе античной мифологии — Медузе Горгоне, заставлявшей себе позировать многих и многих. Ролан Барт в своей Camera Lucida много рассуждает о связи фотографии и смерти. Впрочем,
340
до Барта и до изобретения фотографии об этом тоже много говорили. Достаточно вспомнить фаустовское «остановись, мгновенье, ты прекрасно». Много об этом говорил и Картье-Брессон, заметивший, что «есть нечто ужасное в фотографировании людей. Это безусловно одна из форм насилия»... Еще он заметил, что фотограф похож на охотника, а вспышка фотоаппарата — на выстрел из винтовки. Далее, правда, уточнил, что многие охотники были вегетарианцами.
Охота, как отмечал в своих воспоминаниях Картье-Брессон, и послужила для него толчком в профессиональном выборе. Он фотографировал с детства, этаким дешевым «фотографическим монстром», как он сам определял камеру Box Brownie, хотя ни один из этих ранних снимков до нас не дошел. В 1931 году, отслужив в армии, начитавшись романов Конрада и совершенно запутавшись в надоевшей парижской жизни, сюрреалистах и самом себе, он поехал искать свою идентичность в африканские колонии, на Берег Слоновой Кости, где зарабатывал на жизнь тем, что стрелял дичь и продавал ее поселенцам. Там он заболел черной лихорадкой столь серьезно, что написал своему любимому дядюшке письмо с подробным описанием своих желаемых похорон: на краю своего любимого леса в Нормандии, под звуки струнного квартета Дебюсси. От дядюшки получил знаменитый ответ: «Твой дедушка сказал, что это будет слишком дорого. Предпочтительней будет, если ты вернешься». Во время приключений на Берегу Слоновой Кости он и завел первую свою портативную камеру, хотя практически все, что он там снял, погибло от сырости. От этого времени осталось всего семь фотографий, надо сказать, замечательных.
Берег Слоновой Кости и охота были началом. «Решающий момент» пришел чуть позже, в Марселе, после возвращения Картье-Брессона из Африки, когда он увидел фотографию венгра Мартина Мункачи под названием «Три мальчика на озере Танганьика», с силуэтами трех обнаженных черных тел, схваченных в навсегда застывшем движении на фоне набегающих волн. «...Я не мог поверить, что подобное может быть схвачено с помощью камеры. Я сказал: да будь все проклято, я беру свою камеру и иду на улицу». Картье-Брессон купил свою первую 50-миллиметровую «Лейку», которой
остался верен всю свою жизнь, и стал величайшим фотографом двадцатого века. Затем были теснейшие отношения с сюрреалистами, период тесной работы с коммунистической газетой Се Soir, поездки по Европе, в Мексику и Америку, первые выставки фотографий в галереях, война, плен и бегство, связь с Сопротивлением, работа с Жаном Ренуаром, престижные заказы, растущая слава, работа для различных изданий, агентство Magnum Photos, охватившее своей деятельностью весь мир, работа на Востоке, музейные экспозиции, деньги и слава. Картье-Брессон снимал гражданскую войну в Испании, освобождение Франции, послевоенную Германию, строительство Берлинской стены, Китай в первые дни установления коммунистического режима, Индию после освобождения; он был первым западным фотографом, допущенным в СССР после смерти Сталина, и снял парижские события 1968 года. Среди его фотографий портреты Махатмы Ганди за час до смерти и последнего евнуха китайского императорского двора; Эзры Паунда, Анри Матисса, Эдит Пиаф, Сартра, Игоря Стравинского, Мартина Лютера Кинга, Джакометти, Коко Шанель, Трумэна Капоте, Альбера Камю, Ричарда Никсона и Мэрилин Монро. Весь двадцатый век нанизан, как бусины на одну нитку, отборными событиями и знаменитостями, но существуют еще сотни и сотни фотографий безымянных людей, проституток в Мехико, играющих детей в Севилье, курсантов в Москве, бездомных в Париже, улиц Токио, Бухареста, Рима, Праги, Мадрида, Лондона, Нью-Йорка, Дели и Гаваны. Практически все — шедевры.
Что делает фотографии Картье-Брессона столь удивительными, что позволяет говорить о нем как о лучшем фотографе двадцатого века? Конечно же, не географический охват и не объем событий, которые скорее следствие, а не причина. Хотя Картье-Брессон считается лучшим репортажным фотографом, его снимки нисколько не похожи на хронику событий. Каждый из них существует отдельно, каждый закончен и завершен, каждый относится к тому, что фотограф определил как «решающий момент». По большому счету в них нет никакой документальности, так как каждое его произведение — образ, а не фиксация. Камера Картье-Брессона не ловит мгновение, но пронзает его, становясь не менее ак-
тивным участником события, чем свет, воздух, время суток и время года, культура, история и география. Образ для него — это не просто глаз, а в первую очередь мозг, разум и сознание. От фотографий Картье-Брессона рождается ощущение, что они не увидены, а изобретены, хотя в них нет ни малейшего следа постановки и практически ни одна из них не сделана в ателье. Образ, в отличие от впечатления, — результат размышлений, а не наблюдений, и те моменты, что запечатлены Картье-Брессоном, создают впечатление вечности, сохраненной в мгновении, а не мгновения, застывшего в вечности.
Большинство фотографий Картье-Брессона не имеют другого названия, кроме имени собственного персонажа, если оно известно, а также указания на место и дату. Поразителен его снимок с названием «Мишель Габриэль, Рю Муффетар. 1952» с широко улыбающимся куда-то несущимся мальчишкой с двумя огромными бутылями вина в руках. В его глазах и улыбке, в движении его фигуры, пронзенном камерой в один-единственный данный момент существования всего мира, а может быть, и всей Вселенной, столь непосредственном, столь безыскусном, столь скользяще-живом, сказано так много о гаврошах, Париже, пятидесятых годах двадцатого века, Франции, Европе, детстве и человечестве вообще, что прибавить к этому что-либо еще, кроме лаконичной подписи, — попросту нечего. Образы Картье-Брессона перерастают действительность именно в силу непосредственной уникальности: так, например, его снимок 1933 года играющих детей на улице Севильи, снятый сквозь пролом стены, стал таким же олицетворением предчувствия испанских событий, как картина Сальвадора Дали «Осеннее каннибальство», потом получившая название «Предчувствие гражданской войны».
Одним из наиболее замечательных фактов в биографии Картье-Брессона является то, что в начале семидесятых он перестал заниматься фотографией, дожив при этом до 2003 года и скончавшись в девяносто пять лет во вполне вменяемом состоянии. Сам он следующим образом объяснял свой отказ: «Я перестал фотографировать. Я теперь только рисую. Несколько лет тому назад один мой друг сказал мне: „Ты все сказал, что должен был сказать; теперь время остановиться".
344
Я думал об этом и понял, что он прав. Так что я остановился... Никто не верит мне, когда я говорю, что я больше не хочу фотографировать, что я не хочу быть фотографом. Фотография — это — пафф — как выстрел и как азартная игра... Рисунок же совершенно другое; даже небольшое размышление при рисовании дает полное изменение первоначального образа. Люди же не имеют ни малейшего представления о живописи... Сегодня все имеют камеру; каждый мнит себя фотографом. Иллюстрированные журналы полны их работ. Я никогда не смотрю в иллюстрированные журналы. Вы должны смотреть только на окружающее; это единственное, что важно».
Нет более чуждого Картье-Брессону героя, чем фотограф из фильма Антониони «Блоу-ап», крутящийся вокруг фото- модели Верушки, как воробей вокруг воробьихи в период птичьей течки, и фотографирующий незнамо что, которое потом, в лаборатории, оказывается Чем-то. «Блоу-ап» был снят в 1966 году, и в какой-то мере это был фильм, означающий новый период, начинающуюся стагнацию модернизма, все более и более осязаемую в эклектике семидесятых, и конец двадцатого века. Двадцатый век заканчивался, искусство фотографии, вскормленное радикальным пафосом дадаистов и сюрреалистов, растворялось, как злая фея Бастинда, во влажных потоках гламура, и Картье-Брессону уже стало нечего и незачем фотографировать.
Объективен ли двадцатый век Картье-Брессона? Безусловно, нет. Двадцатый век Картье-Брессона — это двадцатый век Картье-Брессона, и только его. Он не отражен и даже не изображен, а скорее изобретен фотографом. Стал ли он от этого менее правдивым? Не знаю, что такое правда, но более настоящего двадцатого века я ни у кого не видел.
Сон Рафаэля
Памяти Чариты Мезенцевой
Т/
.X. Кирилл Иванович Кравинский был хранителем итальянской Гравюры В Эрмитаже. По местным понятиям, он был человек не старый — в Эрмитаже принято работать до гроба, а хранители неплохо сохраняются, — но если в тридцать три доходишь земную жизнь до половины, то Кирилл Иванович стремительно близился к ее концу. Осознавать, что все уже было, и впереди только Апокалипсис, сначала личный, а потом, Бог даст, и всемирный, и времени уже не будет, не слишком весело. Вот Кирилл Иванович и не веселился.
Для многочисленных новых поколений, пришедших в Эрмитаж за сорок лет службы Кирилла Ивановича, он стал фигурой мифологической, то есть тем же, чем для него были эрмитажные старики и старухи, все на его глазах перешедшие в мир иной. Тогда он был Кириллом и для кого-то даже Киром, но уж давно, сам не припомнит когда, превратился для подавляющего большинства в Кирилла Ивановича. Люди, знакомые с ним — а знаком он был со многими, хотя друзей у него то ли не было, то ли не осталось, — любили между собой поговорить о его прежней развеселой жизни, о которой ползали самые фантастические слухи. Настораживало и привлекало то, что глупейшие враки, распускаемые о нем, вдруг косвенно подтверждались реальными фактами и явно как-то чем-то чему-то в реальности соответствовали. Мифам, в общем-то, так и полагается, потому что если развеселая жизнь и была, то была в прошлом тысячелетии, то есть
до сотворения мира. Новые поколения, с которыми у Кирилла Ивановича сложились отношения сносные, но совершенно поверхностные, в его частный мир не допускались, а даже с теми немногими сверстниками, с коими он был на «ты», он был формален и холоден.
А был ли у него частный мир? В хаосе его кабинетов, как домашнего, так и рабочего, какое-то понятие о частности терялось: как-то слишком много всего, все разное, а потому индивидуальность сложно считывалась. Хаос, впрочем, был очень чистенький. Кирилл Иванович давно жил одиноко, но дома его обхаживала приходящая женщина по имени Маргарита, а на работе — целых две, убиравшие его кабинет раз в неделю и терпеливо составлявшие лежащие на полу книги в аккуратные стопки, так как хорошо к нему относились из- за его вежливости и импозантного вида. Кабинеты отражали сущность Кирилла Ивановича: он всю жизнь разумом стремился к порядку, против которого восставало его естество. К порядку во всем, в работе в первую очередь, но также в размышлениях и в быту, в повседневности и в отношениях, как с близким и живым, так и с далеким и абстрактным. Ничего не получалось, все рассыпалось. Он старался, расписывал, раскладывал, расставлял, но все вываливалось, падало, терялось и путалось. Везде и во всем ничего не получилось. Пример — его сложнейшие отношения со сном: всю жизнь он пытался лечь пораньше и пораньше проснуться, а засыпал в четыре-пять утра и просыпался в одиннадцать, а то и позже. Разбитый. Вот и живи с постоянным нарушением данного слова. К тому же Кирилл Иванович был Плюшкин, он с дотошностью собирал всякие веревочки и пуговички, ему было горько выкинуть любую мыслишку, потерять любое чувствочко, и их, мыслишек и чувствочек, скопилось слишком много. Мешали. Сам-то он считал, что у него ни частной жизни, ни индивидуальности: человек без свойств, но человек без свойств состарившийся, занесший уже одну ногу далеко за рубеж, с которого долго на поприще глядел и скромно кланялся прохожим.
Одной из любимейших гравюр Кирилла, когда он только засел за изучение своего хранения, была гравюра Джорджо Гизи «Сон Рафаэля». На ней брадатый муж в центре, опер¬
348
шись на скалу с вросшим в нее деревом, обращается к молодой женщине с копьем, опущенным острием вниз. Лица их повернуты друг к другу, и мужчина то ли приветствует, то ли дразнит женщину жестом левой руки с двумя поднятыми вверх пальцами, указательным и средним. Позади наземь свалилась комета с сияющим хвостом, а у ног мужчины лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молвь и конский топ. Что изображено — неизвестно, и гравюру с XVI века называли «Сон Рафаэля», так как считали, что она сделана по рисунку Рафаэля, что никоим образом не соответствует действительности, а также «Сон Микеланджело» — в силу того, что мужчина имеет с ним отдаленное сходство.
Гравюре посвящены тома исследований, за которые Кирилл и засел. Этот «Сон» обожают все любители эзотерики, и с чем его только не связывали: с Данте и алхимией, с гаданиями и ведьмовством, с астрологией и рыцарским романом, с Вергилием и Гонгорой. Начнешь читать, голова пухнет, а в остатке — ноль. Кирилл мечтал раскрыть тайну «Сна», а так как, будучи молодым, считал, что он отличается от большинства искусствоведов нестандартностью мышления и подвижностью ума, он надеялся на эти свои качества, как русский надеется на авось. Мы все метим в Левши, и англи- чанов миллионы для нас орудие одно, но авось не вывезло, ни хрена Кирилл не нашел, но стал Кириллом Ивановичем, явно обойдя по возрасту гравюрного мужа у скалы.
В гравюру включены две надписи, обе — латинские цитаты из Вергилия, относящиеся к VI песне «Энеиды», рассказывающей о посещении Энеем Ада. Одна — «Начнется / Там к спасению путь, где не ждешь ты» — относится к спуску Энея в царство Плутона, вторая же — «На скале Тесей горемычный / Вечно будет сидеть» — намекает на малоизвестный миф, рассказывающий о попытке Тесея и Пирифоя похитить Персефону, жену Аида, из подземного царства. Как ни странно, они были довольно любезно приняты Аидом, усадившим их и выслушавшим. Зато когда они попытались подняться, то обнаружили, что приращены к гранитному камню, на котором сидели. Пирифой так и остался на граните хладном, а Тесея оторвал от гранита Геркулес, когда спустился в ад по заданию Эврисфея, пожелавшего увидеть Цербера. В этом во
349
всем можно было бы видеть и разгадку, но брадатый муж не сидит, а стоит, ад есть, Геракла нет, и жена с копьем не пойми что, ни тебе не Персефона и не сивилла Кумекая. И что значит этот жест старца?
Гравюра тем временем после множества публикаций и пе- републикаций поменяла название и из «Сна» превратилась в «Аллегорию жизни». Этим Кирилл, превращаясь в Кирилла Ивановича, и утешился, по-уорхоловски решив: «Ну и что?»
Как девиз своею кровью начертал он на щите это «Ну и что?» из «Философии Энди Уорхола»: «„Моя мама меня не любила”. Ну и что? „Муж не хочет меня”. Ну и что? „Я преуспел, но до сих пор одинок”. Ну и что?» Загадки Кирилл не решил и не прославился, так «Ну и что?», то есть «... с ним». Пусть будет «Аллегория жизни», мне-то что, но, продолжая любить эту гравюру, Кирилл Иванович постепенно стал понимать, что эта аллегория — его жизнь.
Как и тот, кто возжелал Персефоны, он оказался прикованным к одному и тому же холодному камню, к мучительному хаосу вокруг и внутри, и как безумный он вынужден повторять одни и те же поступки, идти по одному и тому же коридору, встречать одни и те же лица, что жизнь его — больная бесконечность со страшным концом, гранитная глыба, в которую он вмурован, как муха, вляпавшаяся в каплю смолы. Он, когда-то о жизни так сильно мечтавший, так остро ее чувствовавший, так ждавший новых впечатлений, пуст. Такие размышления не улучшали настроения. Вокруг ни любви, ни смысла — и что делать? Читать Сенеку и Монтеня? Утешают не больше, чем уорхоловское «Ну и что?» или Et si male пипс, non olim sic erit из им любимого в детстве «Углового окна» Гофмана.
Кирилл Иванович давно уже сообразил, что главная ценность в его жизни, как материальной, так и духовной, — лучший в России, а может, и в мире, вид из окна его кабинета на Неву, на Биржу и на Петропавловку сразу, так как окно было около самого угла Старого Эрмитажа. Самая дорогая недвижимость в Питере с надписью «Не продается!», а он ею вроде как владел. Усевшись в своем кабинете, он любил пустыми глазами впериться в окно. За стеклом — обычный петербургский дождь позднего октября и тяжесть холодной серой
•f*
1 * * &+У&' 1шни;ч«
воды, безразличной, как и его взгляд, ко всему. Как всегда, он приготовился что-то про кого-то как-то барабанить перед тупой и плоской мордой компьютера, что-то про искусство, ему осточертевшее так же, как и компьютер, вид, Нева, все на свете. Барабанить нечто интеллектуальненькое, плюшкин- ское, в то время как хотелось писать страстно и великолепно, типа «Чума на оба ваши дома! Я пропал». А так никогда не получалось и теперь уже никак и не получится.
Плевочки дождевых капель текли по стеклу, но сам дождь иссяк. Луч, появившийся откуда-то сбоку, прошел сквозь серость туч, и, подняв глаза, Кирилл Иванович уперся взглядом в глубокую желтизну стены угла Монетного двора на Петропавловке, столь простую и столь прекрасную, под лучом вдруг вспыхнувшую несказанно чудной желтизной. Он мгновенно осознал, сколь хороша эта желтизна, хороша настолько, что, если смотреть только на нее одну, она самодостаточна, как драгоценное произведение китайского искусства, так что не хочется никакой другой красоты.
Это была желтизна Вермеера, его «Вида Делфта», лучшей картины города (именно так — картины города, а не лучшего городского вида, или изображения города, или даже портрета города) в мире, и, как во «Сне Рафаэля», где на заднем плане солнце и мирный пейзаж, вдалеке, в гнетущей замкнутости его жизни, блеснул просвет, блаженная страна за далью непогоды. Он вперился взглядом, как ребенок в желтую бабочку, которую ему хочется поймать, в чудесную желтую стенку напротив. Ее трепетание было столь живым, что обнажилась вся скудость и ненужность надуманных рассуждений о своей жизни, ламентации о ее несправедливости показались не стоящими этого мгновения озаренной небом желтизны, и он был готов простить себе все, что он сделал и не сделал, в том числе свое старческое безразличие к тому, что может произойти с миром. Как описать эту желтизну, как сухими словами наложить на бумагу что-то подобное свету на этой желтой стенке? Кирилл Иванович почувствовал головокружение, на одной чаше небесных весов ему представилась его ненужная жизнь со всем ее каменным уродством, а на другой — божественная желтизна стены. Он понял, что все ничего, все прошло и Бог простил, и, повторяя про себя:
352
«Желтый, желтая стенка без окон, небольшая часть желтой стены», рухнул и сильно ударился лбом о край стола. Тут же очнулся и пришел в себя. Ну и что, что я буду мертв, подумал он. «Мертв весь?» Так не бывает, и никто не может ответить на вопрос, что мы собой представляем, когда мертвы, даже церковь. Что ж, мы вошли в жизнь с грузом обязательств, но нет никакой непременное™ в том, чтобы находить в жизни смысл, считать себя обязанным творить, жертвовать собой, сеять добро. Все, что надо, — это умереть у желтой стены, и пусть обвиняют в плагиате, что мне до этого, если сам жест великолепен.
Умер Кирилл Иванович много лет спустя, превратившись в довольно элегантную мумию, плохо что соображавшую, но по-прежнему вежливую. В своем завещании он запретил гражданскую панихиду, поэтому те из молодых поколений, что захотели посмотреть на мифологического старца в гробу, пришли на отпевание в Конюшенную церковь. Там, в неоклассическом интерьере Стасова, он и лежал, на себя не похожий и, с провалившимся ртом, очень уродливый. Народу было немного, но цветов достаточно, и очень все было благочинно.
д
я
J
355
Предпоследний день Помпеи
Ф ♦
.а. отография ведь
странная вещь: младенца выносят из роддома, и чуть ли не первая же процедура, над ним совершаемая, — это щелчок фотокамеры. И вот уже минута первой встречи с миром оказывается остановленной, и затем у каждого из живущих вырастает архив запечатленного прошлого, множество застывших мгновений, которые можно перебирать и пересматривать, как какие-то засушенные цветы из гербария вечности. Старое утверждение о том, что в реку времени нельзя войти дважды, оказывается неверным, — можно, входи сколько хочешь, дрызгайся в ней, как в стоячей луже, сколько душе угодно.
Современность привыкла к чуду фотографии. Фотографии везде и повсюду — в семейных альбомах, в журналах, на рекламных уличных стендах: там — война, здесь — наводнение, встреча политических деятелей, мисс мира, закат в пейзаже, просто собачка, толпа под падающим снегом и ваша собственная физиономия на очень неудачной фотографии на новый паспорт. Тысячи образов, что ежедневно, не задумываясь, наш мозг пропускает через себя, не оставляют в нем никаких следов, и в результате фотография воспринимается столь же обыденно, как и туалетная бумага, выполняя для нашего сознания роль чего-то само собой разумеющегося, предназначенного для моментального использования. В то же время — вдруг, неожиданно — среди этого потока мелькнет нечто, останавливающее взгляд, странное, манящее, неожиданное и желанное, единственный верный образ, пе-
редающий не привычную поверхностную информацию, но некую внутреннюю суть явления, — и становится ясным, что фотография отнюдь не механическое отражение действительности, но сложнейшее и мудрейшее искусство. Это нечто, никем еще до сих пор не определенное, и отличает простой снимок от произведения, так как подлинная фотография — не клон реальности, но преображенное и чудным образом остановленное время.
Именно чувство остановленного мгновения Петербурга, до того как он с сумасшедшей скоростью стал менять свои имена, и делает выставку фотографий Карла Буллы интересной и актуальной. Пруссак Булла, приехавший в Россию около 1865 года в нежнейшем возрасте десяти лет, молниеносно сделал карьеру в фирме по изготовлению и продаже фотопринадлежностей «Дюнант» и уже в 1875 году открыл свое первое собственное фотоателье на Садовой улице, дом № 61. С этого времени с прусской дотошностью он фиксировал городскую жизнь, и Петербург конца девятнадцатого — начала двадцатого века, вплоть до 1916 года, когда фотограф вдруг, неожиданно, как будто что-то предчувствуя, бросил все и уехал в Эстонию, воспринимается сегодня под знаком Буллы, и никуда от этого не деться. Нельзя сказать, что его работы отличаются каким-либо особым настроением, в первую очередь они привлекательны техничной безошибочностью и кажущейся непредвзятостью, когда индивидуальность снимающего сосредоточена на самоустранении, на том, чтобы объектив фотокамеры производил впечатление объективности. Этот несколько отстраненный, претендующий на то, чтобы показать «все, как было на самом деле», взгляд Буллы и сообщает его фотографиям магическую привлекательность, имитирующую вожделенное путешествие на машине времени. В действительности Булла избирателен, как всякий художник, и его Петербург — это большой буржуазный город, в меру современный и в меру либеральный, то есть такой Петербург, каким его хотели видеть прогрессивные думские консерваторы — с самодержавием впечатляюще декоративным, но лишенным жестокости, со свободой, достаточной для того, чтобы высказывать свое мнение, но не переходить границы и не вдаваться в анархию, с насе¬
лением благовоспитанным и не нарушающим приличий, с благополучием без навязчивой роскоши, с традициями без мракобесия, с новаторством без радикализма, — в общем, такой, каким его хотел видеть российский средний класс, всегда в России представляющий собой нечто желанное, но реально не существующее, и каким Петербург на самом деле никогда не был.
Фотографии празднования двухсотлетнего юбилея города, этого страннейшего торжества, не нужного ни императорской власти, ни народу, ни России, ни городу Санкт-Петербургу, но нужного только Думе и думским деятелям, составили особую, впечатляющую серию в наследии Карла Буллы. В них это празднование только и осталось, — все павильоны и панорамы, украсившие мишурной дребеденью его улицы и площади, оказались разобранными и уничтоженными, никто не пытался сохранить всю эту никчемную роскошь, изначально воспринимая ее как официально вынужденный хлам, лишь на время заполонивший город.
Николаю II петербургский праздник с его велеречивыми восхвалениями Петра был откровенно неприятен, и не случайно в том же году он нарочито устроил в Зимнем дворце знаменитый «Бал 1903 года» в русских костюмах эпохи Алексея Тишайшего, своего любимого предка, всячески им его сыну, Петру Первому, противопоставляемого. Параллельно скепсису императорского двора праздник вызывал сходные чувства у всей левой интеллигенции. Она скрежетала зубами, как всегда возмущенная помпезной дорогостоящей пышностью, официальным безвкусием, официальным казнокрадством, благоглупостью городских властей и фальшью готовящегося маскарада.
Действительно, если отбросить сентиментальную ностальгию и непредвзято взглянуть на роскошь фанерных павильонов и балаганных диорам, отмечающих двухсотлетие императорской столицы, то неестественная, вычурно-старомодная для начала века их природа прямо бьет в глаза. Все кажется искусственной, но неискусной декорацией, пытающейся имитировать пухлое благополучие, и нет в этой дурацкой смеси фальшивого барокко и ярмарочной русскости даже величия пира во время чумы. Так, заурядная
пьянка с усатыми орденоносцами, урвавшими свою пайку от бюджета, с безликой толпой, вяло волочащейся по улицам в поисках зрелищ и дармового хлеба, пьянка с плохой закуской, неизбежным мордобитием, коллективной блевотиной и головной болью наутро. Мордобитие и головная боль не заставили себя ждать: через два года разразилось Кровавое воскресенье и революция 1905 года, а блевать от голода и обжорства одновременно Россию тянуло, тянет и тянуть будет.
Блеск и треск юбилеев различных организаций, слабоумие украшательства, тупое обжорство официальных обедов и бессмысленность натужного ликования запечатлены в фотографиях Буллы с поразительной отчетливостью наваждения. На самом деле Булла так не хотел, просто так получилось, потому что хотели как лучше, а получилось как всегда. Ничего не улучшили, ничего не построили, все замусорили, всех обокрали, кой-кого задавили, всех обидели, и сами недовольны. Правда, Троицкий мост открыли, приурочили к юбилею — удалось. Даже хваленая петербургская архитектура на фоне этого безобразия кажется выморочен- ной неестественной декорацией. В общем — типичный русский праздник, хотя и по поводу открытия окна в Европу. И все же, вдруг...
Быть может, и не стоит столь решительно отбрасывать розовые очки сентиментализма и не столь уж они и искажают картину, — и все бездарное празднество лучится последним проблеском благополучия девятнадцатого, самого счастливого для Петербурга столетия, глуповатого в своем позитивизме, но добродушного, способного лить слезы, как толстая купчиха после пасхальной службы при виде нищих на паперти, любящего всякие банты и финтифлюшки, сытость и тепло, уют и громоздкую мебель, раскаяние после преступления и тяжеловесные праздники, будь то похороны или свадьбы. На фотографиях Буллы дни Санкт-Петербурга, справляющего свое двухсотлетие, оборачиваются последними днями Помпеи, не подозревающей о своей гибели, и толпа состоит из тех, кому завтра суждено исчезнуть в войнах, в петроградском голоде и холоде, в революционных чистках, в блокадном Ленинграде, в сталинских лагерях; и
358
невообразимая печаль, помноженная на наше знание будущего, осеняет бездумный и безалаберный город, бесящийся с жиру в неведении совсем близкого безжалостного грядущего. В этом смертельном и щемящем ощущении тоскливой безысходности, необратимости времени и содержится искусство фотографии, способной остановить на ходу поток столетий и позволить любому вновь и вновь совершить чудо вечного возвращения, уничтожив разницу времен.
Летний сад как символ эпохи
^ мных книжек про
сады, коих последнее время появилась тьма, не счесть. Их много, уж даже и слишком: сады в русском символизме, сады в немецком средневековье, сады в постнеклассическом дискурсе. Сад как метафора того, сад как метафора сего, а также «метафора тайного сада в работе с клиентами, имеющими опыт созависимости» — найдешь и такое. Сад — рай, сад — мир, сад — душа, сад — жизнь. А в сущности, что про немецкое средневековье, что про постнеклассический дискурс, все одно и то же, везде сад — рай да сад — мир. Когда в 1982 году вышла «Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей» Д. С. Лихачева, она читалась запоем. Все казалось новым, и слово такое неординарное, с-е-м-а-н-т-и-к-а, влекло своей полузапрещенностью. Теперь же семиотика с семантикой звучат как «Антропос!» человека в футляре. Диссертаций-монографий понаписали много, а вот главную метафору европейскости в России, Летнего сада, не уберегли. Я, перед тем как Летний сад закрыли на ремонт, туда зачастил. В нем я всегда проводил много времени, с детства, и считаю его одним из важнейших мест в моей жизни, и как только я в него заходил, тут же вспоминал гениальное пушкинское «В начале жизни школу помню я». «Великолепный мрак чужого сада» я всегда связывал именно с Летним садом, несмотря на то что до сих пор неизвестно, имел ли в виду Пушкин в своем стихотворении нечто конкретное или нет. «...Светлых вод и листьев шум, / И белые в тени дерев кумиры, /Ив ликах их печать недвижных дум. / Все — мраморные циркули и лиры,
/ Мечи и свитки в мраморных руках, / На главах лавры, на плечах порфиры — / Все наводило сладкий некий страх / Мне на сердце; и слезы вдохновенья, / При виде их, рождались на глазах», — все кажется мне списанным именно с Летнего сада. В семантико-семиотические монографии-диссертации он как-то не попал, хотя для многих он стал настоящей школой начала жизни, ибо Летний сад не просто сад, а сад метафизический, и есть в нем Истина, Красота и Сладострастие, Время и все девять муз, и каждая скульптура Летнего сада — философская притча. Зачастил я в Летний сад еще и потому, что к его трехсотлетию, то есть к 2004 году, я замыслил выставку, Летнему саду посвященную. Она должна была состоять только из фотографий скульптур, от старых, сделанных еще в начале века и представляющих чудесные фотоэтюды в голубовато-серых тонах, до самых последних, современных, с «Амуром и Психеей» в полиэтиленовом мешке. Идея, вроде как на первый взгляд и незамысловатая, на самом деле была не столь уж и проста, ибо фотографы — здесь я, конечно, имею в виду не тех, кто специализируется на альбомах «Достопримечательности...», а художников — это очень хорошо прочувствовали. Так что Истина и Красота ими отсняты в разные времена года, при различных состояниях света, настроения и мысли; в творениях их нет никакой монотонности, одно и то же у всех выглядит очень разно, и все сплошь — образы. Художник же все прекрасно чувствует, и когда фотографа Евгения Мохорева спросили, есть ли у него фотографии скульптуры Летнего сада, он весьма выразительно ответил: «Что, я не петербургский фотограф, что ли...» — потому что Летний сад не просто «парковый ансамбль, памятник садово-паркового искусства первой трети XVIII века в центре Санкт-Петербурга», а сердце Петербурга. Альбом-каталог предполагалось сопроводить эссе, о которых я говорил с различными людьми, умеющими писать, и все могло бы быть замечательно. Из этой затеи ничего не вышло, так как денег не нашли; то есть почти ничего не вышло, все же трехдневную выставку в очень неплохом месте — в фойе театра Комиссаржевской в «Пассаже» — удалось устроить. Открылась она в день питерской презентации «Русской жизни» и была сделана именно за счет бюджета этой презен¬
362
тации, — я Летний сад с Русской жизнью, в кавычках или без, связал сознательно. Затем Летний сад закрылся. Рассказывали какие-то смутные ужасы о планах возвращения ему первоначального вида, и я со страхом представлял себе «реставрацию» в стиле Константиновского дворца, так что, ожидая, что старые деревья сплошь пойдут на выброс, а все заменят стрижеными новосадами, чтобы аккуратненько было и красиво, в ряд, как это официальной эстетике России нравилось всегда, я с замиранием сердца заглядывал за решетку. В саду что-то воротили, но никакого особого сноса не было видно, никакого «плакала Саша, как лес вырубали», и я успокоился. Особого интереса к обновленному Летнему саду я не испытывал, поэтому даже прохлопал сообщение о его открытии, так что пошел туда уже после того, как наслушался криков ужаса, исходящих из глоток интеллектуальной элиты. Крики были разнообразны, но сводились примерно к одному единому воплю: вот, это уже не тот сад, где мы портвейн пили. Это «портвейн пить» связано (поясняю для молодого поколения) с андеграундом и с самоощущением внутренней свободы при полном отсутствии свободы внешней, что для ленинградского андеграунда было характерно. «Портвейн пить» — это и культурный обряд, и культурный обмен, и нарушение табу, протест против запретов, символический акт очищения себя и жертвоприношение Летнему саду, метафизическому воплощению Петербурга в Ленинграде, а не просто попойка на открытом воздухе, как это со стороны непосвященному кажется. Уничтожение «сада, где мы портвейн пили» — это уничтожение связи с Серебряным веком, создавшим наиболее устойчивую мифологему Летнего сада, сохранившейся в советском андеграунде, который, пия этот пресловутый портвейн, был уверен, что присоединяется к шествию теней «от вазы гранитной до двери дворца». Теперь андеграунд как раз и претендует на роль интеллектуальной элиты и поэтому особенно скорбит. Вопль этот особого сочувствия у меня не вызывал, так как вся культурная связь ограничилась портвейнопитием и ни на что другое, кроме как мусолить до дыр «замертво спят сотни тысяч шагов», андеграунд оказался неспособным. Никто ничего не создал такого, чтобы на решетке Летнего сада оказалось начертано
363
Noli me tangere, «Не тронь меня», которое могло бы хоть как- то власть, Летним садом распоряжающуюся, сдержать. Даже бесконечные умные культурологические исследования его обошли стороной. Никто ничего не написал и не сделал, не сделал даже самого простого, не приковал себя в знак протеста к фельтеновской решетке, так что мы сами во всем виноваты и что уж теперь задним числом вопить. Тем более что, зачастив в Летний сад перед его закрытием, я особенно остро ощутил его умирание и видел, что скульптуры надо спасать, ибо они тают на глазах, прямо как куски сахара в стакане чая, и что-то делать необходимо и с деревьями, и со скульптурой, и со всем садом. Я решил направиться в Летний сад без гнева и пристрастия, ибо «Злобою сердце питаться устало — / Много в ней правды, да радости мало», и неким сияющим летним днем подошел к вазе гранитной, откуда обычно все тени свое шествие и начинают. Теней не было, зато было полно народу. Я тут же отметил, что шлагбаумы и ограда вокруг пруда портят, наверное, один из самых лучших петербургских видов: Ваза-Плакальщица из розового порфира в обрамлении деревьев на фоне Михайловского замка. Обогнув пруд, безнадежно испоганенный в целях порядка высоким забором, я оказался в коридоре, диктаторски предписавшим мне один путь — теперь не только не подразумевается невозможность ни шага в сторону, но даже и взгляда — по прямой и только по прямой. Я был взят под караул и подведен к роскоши мраморных фонтанов, столь жизнерадостно бьющих прямо вверх, что окружающая толпа — и я вместе с ней — тут же заражается приятной энергетикой и радостными эмоциями, впадая в некую эйфорию идиотизма. Совершеннейший Дивный Новый Мир, Brave New World, открылся мне во всей его несказанной прелести, и в мозгу возникли чудные слова, ОБЩНОСТЬ, ОДИНАКОВОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ, дивным новым миром управляющие. О фонтан!!! Ты так много значишь для русской души: в русском восприятии фонтан — предмет роскоши и изысканности; фонтан для русских — европейская финтифлюшка, он прямая противоположность колодцу, чистая декорация и всегда должен бить вверх. Да и не только для русских, хотя для русских особенно, в силу его экзотичности — фонтаны же к нам прибыли из
364
Европы. Фонтан обязателен для всякого уважающего себя офиса, будь то Лос-Анджелес или Гонконг, и я тут же, при первом взгляде на милое новшество в Летнем саду, вспомнил серию «Южного парка», в которой Эрик Картман, решив обзавестись своей фирмой, утверждает, что самое важное — фонтан поставить. Вызывает уважение и красоту обозначает, фонтан — признак благосостояния и процветания, символ фаллической силы власти: Версаль и Петергоф. Людовик XIV и Петр I от Эрика Картмана по сути своей мало отличны — тоже начальники. Фонтанами дело не ограничилось, дары сыпались как из рога изобилия. Я, проходя под караулом выгородок, раздумывал, куда ж денется огромный бетонный сортир, воздвигнутый в Летнем саду то ли Хрущевым, то ли Брежневым и отмечавший в этом петербургском месте присутствие советской власти? Вот он, никуда не делся. Он переоборудован, из серого стал зелененьким, чем-то приличненьким обшит, став от этого еще больше и мерзее. Пандан ему — многочисленные дощатые павильоны, изображающие то Птичник без птиц, то Оранжерею без растений, а также дощатая же беседка посередине невесть зачем разлитой лужи с фарфоровыми вазонами по краям. Красиво, слов нет, но мучительно встал вопрос: как же это все называется? Мне говорят, что это восемнадцатый век и что «благодаря реставрации мы получили возможность увидеть то, что не видели многие поколения до нас, — сейчас он выглядит практически таким, как его запланировал Петр I», как сказал на церемонии открытия Летнего сада губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Полная и очевидная чушь, стыдливое «практически» не помогает, и никак это реставрацией не назовешь, реконструкцией тоже. Выдавать это за реставрацию или реконструкцию — психиатрический диагноз; и вот из табличек, услужливо объясняющих смысл появления на свет этих близнецов советского сортира, выплыло чудесное словечко — «воссоздание». Воссоздание, вот оно, вот замечательнейшая всего формулировка; не возрождение, не обновление, не построение, а — воссоздание. И слово это, столь удачно найденное, тут же прояснило мне многое. И вот уже вырисовывался передо мной образ моей эпохи, эпохи Воссоздания, и Летний сад придал смысл
3()Ь
многим явлениям сегодняшнего дня, до того от меня ускользавший. И грандиозная эпоха Воссоздания встала передо мной в череде великих строений: Царицына, Константинов- ского дворца, Храма Христа Спасителя — этих порождений современного гения власти, ибо Летний сад уникален и уникальность его — пророческая. Все проясняет. Летний сад изначально был создан как модель Вселенной, всеобъемлющей и всеопределяющей, и именно поэтому Летний сад всегда был и всегда есть современность — его скульптура не может состариться и превратиться в памятник прошлого, пусть даже ее и имитацией заменят. Летний сад является для истории Петербурга и России камертоном, определяющим чистоту ее звучания. Статуи, в нем живущие, — не памятники, а зашифрованное представление о мире, где в символической форме представлено все его многообразие: Мир и Война, Любовь и Смерть, Время и Истина, Красота и Бренность, Времена года, Темпераменты, Времена суток, Континенты, Искусства, Страны света. Никто не знает и не узнает, как выглядел Летний сад при Петре I. При нем там Венера Таврическая стояла и около нее — часовой, а деревья были в кадках. При Петре Летний сад был частью придуманного города, маленького, искусственного и очень хрупкого. Город был нов, вызывающе авангарден даже для Европы, а для России — авангарден прямо-таки пугающе. Рос город, рос и сад, тот и другой старели. Петровская радикальность из Петербурга ушла, город застыл имперским шагом, и сад разросся. Казанова, как известно, издевался над скульптурными аллегориями, казавшимися ему старомодными до дикости, но Любовь, Смерть, Время, Истина и весь сонм белых в тени дерев кумиров стал частью пространства Петербурга, ибо Летний сад не только макрокосм, но и микрокосм для каждого мыслящего человека, хоть как-то связанного с этим городом. Каждого связывают с Летним садом какие-то сугубо личные, но определяющие всю жизнь воспоминания: детские прогулки, промокшие ноги, первые признаки весны, осенние листья, чувство одиночества, первые и последние встречи, ожидания, разочарования, — многообразная гамма чувств и ощущений, что и делают существование Бытием. В Летнем саду космос встречается с личностью. Вот я,
366
личность, с космосом в очередной раз и встретился. В этом новом космосе, он же Летний сад, пространство оказалось полностью уничтожено, сжато. Связь пространства сада и города разрушена, и все символы мира жмутся в каких-то углублениях, с трех сторон огороженных решетками, как в одиночных камерах. Вся та метафизическая свобода от явных чисел века, года, дня, что в Летнем саду была и что, быть может, и было в нем самого ценного, то есть связь времен, оказалась убитой нестерпимо фальшивой претензией на некую историчность. Я прошел сад насквозь, и через фельте- новскую решетку на другой стороне Невы, на сталинском доме, между рабочим и колхозницей, украшающих его крышу, сверкнули мне в очи, как надпись в небе Валтасара, замечательные слова, выведенные гигантскими буквами: МЕГАФОН, ВТБ, САМСУНГ — обещание счастливого будущего, прямо все те же ОБЩНОСТЬ, ОДИНАКОВОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ. Впрочем, в молодости, когда я туда же глядел, я видел слоган «СЛАВА КПСС» — тоже будущего обещание, но пространство Летнего сада, лишенное примет века, года, дня, меня, оно было открыто и тем самым в себе замкнуто, отстранено от этого будущего; теперь же пророческие надписи — естественное его, пространства Летнего сада, продолжение и естественный конец, ибо те имитации скульптур, что томятся в покрашенных зелененьким одиночках, уже не Любовь, Смерть, Время и Истина, а мегафон, втб, самсунг и Полтавченко с Матвиенко, и ничего другого сегодняшний Летний сад не обозначает.
369
Диккенс и свинарник
д
Г Теревня, ще проищи ВСС ЛСТНИС ЮШИКуЛЫ моего детства, была «прелестный уголок». И действительно, что может быть лучше русской деревни. Впрочем, деревня была не совсем русская и носила имя Ряттель, явно имеющее отношение к чему-то чухонско-прибалтийскому, хотя сам черт не разберется в географических именах моего отечества. Может быть, существовал какой-нибудь красный стрелок Ряттель: в том же детстве мне казалось, что имя города Кингисепп звучит за- падно и загадочно, как Лиссабон, пока я не узнал, что оно дано городу в честь мученика-чекашника, пристреленного соотечественниками в Таллине в 1922 году, а на самом деле город был Ямбургом, или Ниенслотом. В окрестностях Кингисеппа мой Ряттель и был рассыпан, и, откуда бы ни шло несколько странное имя этой деревни, экзотично подхрюки- вающее, она от русской деревни отличалась в первую очередь тем, что была именно рассыпана. Обычная русская деревня стоит вдоль улицы и сквозь палисадник окнами пялится на пыльную дорогу, в чем и проявляется русская общинность и соборность, в Ряттеле же дома свободно разбегались в разные стороны, наследуя какой-то хуторской планировке, напоминающей о западном индивидуализме.
Природа, однако ж, была удивительная, чисто русская. С высокого берега видна быстрая узкая речка, шумящая и день и ночь на мелководье, но иногда становящаяся глубокой и разливающаяся широкими заводями, поросшими камышом и тростниками. В сумерки ее журчание превращалось в не-
различимый лепет, как будто о чем-то спорят или на что-то жалуются нежные девичьи голоса. Деревня была в стороне от шоссе, и окружали ее печальные и спокойные луга, окаймленные загадочно темнеющими лесами, полными грибов. В чащах встречались лоси, во всяком случае лосиного помета в лесах было предостаточно, и леса были удивительно разнообразны: были сосняки, светлые колоннады ровных стволов, были темные ельники, осиновые рощи, все трепещущие, как китайские занавеси, и полные очень рыжих подосиновиков на высоких ножках. Были березняки, с той удивительной прозрачной чистотой, что свойственна березовым лесам да самшитовым рощам, а по берегам речки росли ивы, в воде, как полагается, ветви моющие и вечером от тумана кажущиеся матовыми и призрачными. В начале лета цвели черемухи, старые, огромные, таких я больше никогда не видел: их ветви образовывали сплошную сень, и когда я залезал под нее, карабкаясь на ветки, то оказывался прямо в волшебной зале, убранной чудесно и пышно, как подземелья в арабских сказках, куда герой проваливается и неожиданно оказывается в покоях джинний. В конце лета перед домами цвели тяжелые расписные георгины, в своей кремовой красоте подобные милому Августину из песенки «Ах, мой милый Августин, все прошло, прошло, прошло!» и, как Августин, такие же глупые, кудрявые и грустные, так как они напоминали о конце лета и конце каникул. Над всем же распростерлось огромное всепрощающее небо, никогда не впадающее в утомительную одинаковую голубизну, но исполненное полутонов и оттенков, с отлично написанными на нем облаками и солнцем, не бесстыдно ярким и раздражающим, но с приглушенным блеском, ласковым и всепонимающим. В общем, шепот, робкое дыханье, трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья.
Умру я, сожгут меня, буду болтаться пеплом в какой-то банке, а все мне будет сниться жаркий день в лесу из сосен, растущих высоко и прямо из мягкого, пружинистого мха, полного шапочек крепеньких маленьких моховиков, совершенно сухого из-за жары, и с кустами голубики, усыпанными большими сине-лиловыми ягодами, очень сладкими и ароматными. Для меня во вкусе голубики есть что-то болезненно-опьяняющее, потому что он смешивался с запахом
370
странного растения, в изобилии встречающегося в сосновых лесах, с очень жесткими и ароматными листьями, в деревне именовавшегося болиголовом, хотя к настоящему болиголову оно отношения, насколько я теперь знаю, не имеет. От резкого запаха я одуревал, сосны звучали в моем мозгу, звучал и вкус голубики, и ее цвет, и синева неба, в которую упирались неимоверно высокие стволы, прямо-таки рвавшиеся вверх, если смотреть на них снизу, как делал это я, валяясь в мягком мху, и «Башня старинного английского собора? Откуда тут взялась башня английского собора?» — первые слова «Тайны Эдвина Друда» прямо-таки врезаны в моем мозгу, как эпитафия на каменной плите, так как сосны, жара, вкус и цвет голубики, мягкость мха и одурение прочно связаны у меня с зелеными с черным и золотом томиками Диккенса, которые я, уходя в лес один — а ходить в лес один я начал очень рано, с восьми лет, совершенно не боясь заблудиться, — таскал с собой, чтобы, наскучив собиранием грибов, поваляться и почитать. Диккенса ж я в это время читал беспрестанно, даже приспособился с фонариком читать ночью под одеялом, когда бабушка загоняла меня в постель и тушила свет. Теперь, пока я еще не пепел в банке, когда я вспоминаю детство, то оно для меня — Ряттель, и в памяти, рядом с небом, соснами и сумеречным шепотом девичьих голосов на мелководье, лежат и зеленые томики Диккенса, прямо как часть природы какая-то, а не литературы. К тому же в звуке слова «Диккенс» есть что-то подхрюкивающее, как в слове «Ряттель».
Томики я брал в библиотеке в Котлах, местном райцентре. Там были библиотека и магазин; в Ряттель же два раза в неделю приезжала автолавка, привозила хлеб, в очередь за которым выстраивалась вся деревня. В Котлы мы с бабушкой, пасшей меня летом, ездили в переполненном автобусе, в магазин и в библиотеку. Котлы я плохо помню, они мне казались просто мегаполисом по сравнению с Ряттелем; помню только, что они как-то были на холме, высоко, и высоко стоял барский желтый дом с белым портиком-фронтоном, а от него был спуск, красиво ведущий к пруду внизу, со старыми дубами, остатками парка, и среди дубов можно было наткнуться на торчащие из земли каменные обломки каких-то постаментов-капителей, чуть ли не скульптур. Усадьба горе¬
ла несколько раз, была превращена в школу и была перестроена так, что понять, послевоенное сталинское ли это сооружение или русский ампир, не было никакой возможности. То есть нет никакой возможности понять по тому, что мне помнится: желтое пятно и белые колонны, и все. Сейчас-то мне ясно, что ампира в ней не было и следа. Но в моей памяти это все же не сталинская школа, а ампирная усадьба, потому что она — вместе с дубовой рощей и каменными обломками — возникла из рассказов бабушки в большей степени, чем из реальности.
От бабушки единственной я хоть что-то знаю про прадедов. Она, будучи латышкой по крови, родилась в Петербурге и до Первой мировой там и жила. Ее отец — мой прадед — был питерским латышом, звали его Антон, и он был одним из первых русских солдат, пострадавших от немецких газовых атак — то есть в самом начале войны. Находясь в госпитале под покровительством общины Святой Евгении, он заслужил особое внимание принцессы Лейхтенбергской, выхлопотавшей ему место лесника в имении Мейснеров в Котлах, куда вся семья и переехала. Бабушка, ничего никогда не говорившая о своей матери, рассказывала, как они жили в детстве в домике в парке при усадьбе. Там на первом этаже были огромные окна от пола до потолка, и к ним приходили олени, и дом был на холме, среди дубовой рощи, а внизу — пруд. Детей было пятеро, три девочки и два мальчика; по воскресеньям их наряжали и водили в церковь. Семья была протестантской, и бабушка, ставшая потом атеисткой, тем не менее помнила молитвы на эстонском и латышском и даже, по моей просьбе, мне их проговаривала. Олени, окна до пола, кружевные переднички, сложенные в молитве бабушкины руки и непонятные слова — все сложилось в картинку, и рассказ ее обрел во мне такую зримость, что снова перестроил сталинскую школу в ампирную усадьбу. Картинка очень диккенсовская, и, честно признаться, мне уж и самому не разобрать, где бабушкин рассказ, а где зеленые тома с черным и золотом.
Дом лесника был до основания разрушен, а пруд — это я помню точно — был превращен в грязную лужицу. В лужице торчала старая шина, оба брата бабушки были убиты на фронте, а две сестры попали в оккупацию и были проданы в
рабство литовскому помещику; никто из них никого не родил. Бабушка же очень рано вышла замуж за моего деда, пролетария из совсем простых крестьян, быстро выдвинувшегося благодаря революции. Она вернулась с ним в Петроград, родила семерых детей и просидела в городе всю блокаду. Четверо умерли в самом начале блокады, трое выжили, и внук у нее я был единственный. При умилительном слове «родина» перед моими глазами сразу же встают идиллические пейза- жики Ряттеля, зеленые томики.
Библиотеку, где я томики получал, я совсем не помню, но очень хорошо помню библиотекаршу. Она была дамой с длинным носом, молодая, наверное, хотя мне-то она казалась «тётей», с очень ярко накрашенными губами. Вид у нее был городской, особенно на фоне Котлов: она носила светлые платья с рисунком из очень ярких цветочных пуков, широкополые шляпы, делавшие ее похожей на изящную бледную поганку, и туфли на высоких каблуках. Однажды я ее видел с офицером, что на меня произвело впечатление, если я до сих пор это помню; но никаких ранних сексуальных переживаний в стиле «Амаркорда» с ее шляпами у меня не было связано. К нам с бабушкой она относилась благожелательно, как к милым клиентам, и меня пускала выбирать книги прямо к полкам. Кто мне сунул Диккенса — бабушка, скорее всего, — что за роман был первым и почему Диккенс так меня затянул, я не помню, но знаю наверняка, что он определил то время, когда я еще не знал, «стану ли я героем повествования о своей собственной жизни, или это место займет кто-нибудь другой»... — я цитирую гениальную строчку, начинающую «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанную им самим». Гениальность строчки — в Диккенсе вообще-то теперь мне все больше нравится именно начало романов — я оценил позже, а вообще-то, честно признаться, я ничего не помнил из Диккенса, так что спроси меня, в чем разница судеб Оливера Твиста и Дэвида Копперфильда или что именно отличает крошку Доррит от малютки Флоренс, я ответить не смогу.
Что меня привлекало? Я не могу сказать, чтобы я особенно следил за интригой или что у меня вызывали сочувствие персонажи. Мне больше всего нравились описания, поэтому из детского Диккенса в первую очередь всплывают сере¬
бряные сахарницы, мебель красного дерева в темных лавках и кружочки, что оставляли ликерные рюмки на столиках в стиле Буль, — совсем не помню, в каком романе именно. Сентиментальность сюжета и драма меня оставляли безразличным, а привлекал уют. Короче говоря, то, что обычно про Диккенса в России помнят, а именно мандельштамовское «и клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь...», меня-то как раз меньше всего цепляло, и лет в четырнадцать, взяв, как обычно, летний том Диккенса, я вдруг почувствовал, что читать его невозможно.
Ну никакого кайфа. Высчитать, когда это произошло, я могу лишь примерно, так как детство, отрочество, юность слиплись для меня в какой-то общий ком, в котором даты не выделяются. Так как мы снимали дачу в Ряттеле пять лет, с моих восьми до тринадцати, то мой развод с Диккенсом лет в тринадцать-четырнадцать и произошел. Диккенс показался мне сентиментальным и пустым. Как я теперь понимаю, во многом из-за того, что он лишен прямолинейной сексуальности и вожделение у него отсутствует начисто, есть одна любовь, а объекты любви — все «куклы с желтыми волосами», как сам Диккенс и определил свою главную лирическую героиню в «Повести о двух городах». Зеленые с черным и золотом томики сменили коричневые с красным, Бальзака. С Бальзаком вскоре, гораздо скорее, чем с Диккенсом, произошло то же самое: года через два я понял, что читать его невозможно. В семнадцать лет я впервые взял в руки «В поисках утраченного времени», и со мной случился удар, как с Жаном Жене, наткнувшимся в библиотеке на «Под сенью девушек в цвету», или как с Хокни, в своих воспоминаниях написавшим, что, когда он, нищий парень из заводского города, впервые взял в руки Пруста, был так им всосан, что не мог оторваться от его книг в течение двух месяцев, хотя не имел ни малейшего понятия, что такое «спаржа». То есть после «В поисках утраченного времени» я стал героем повествования о своей собственной жизни.
Затем, в молодости, я сохранял такой же снобистский настрой к Диккенсу, отделываясь в своем отношении к нему рыданиями обнимающей клетчатые панталоны дочери, пока вдруг не почувствовал — это произошло лет так пятнадцать
374
тому назад — острейшего желания Диккенса перечесть. Я взял «Торговый дом Домби и сына» и вдруг понял, что это потрясающий роман и что сцена смерти злодея Каркера — начиная с «Фонари, бросая отблески на головы лошадей, темную фигуру форейтора и развевающийся его плащ, творили сотни смутных видений, гармонировавших с его мыслями. Тени знакомых людей, склонившихся над конторками и книгами в памятной ему позе; странный облик человека, от которого он бежал, или облик Эдит; в звоне бубенчиков и стуке колес — слова, когда-то произнесенные.
Путаница в представлении о времени и месте: прошлая ночь отодвинута на месяц назад, то, что было месяц назад, происходит прошлой ночью, родина то безнадежно далека, то совсем близка; волнение, разлад, гонка, тьма и смятение в нем и вокруг него. Э-ге-гей! Пошел! И галопом по черной равнине, вздымая пыль и разбрызгивая грязь, взмыленные лошади храпят и рвутся вперед, словно каждая несет на своей спине дьявола, и в диком торжестве мчатся по темной дороге — куда?» до «Он услышал крик, и снова крик, увидел, что лицо, искаженное жаждой мести, помертвело и перекосилось от ужаса... почувствовал, как дрожит земля... мгновенно понял... оно приближается... испустил вопль... оглянулся... увидел прямо перед собой красные глаза, затуманенные и тусклые при дневном свете... был сбит с ног, подхвачен, втянут кромсающими жерновами... они скрутили его, отрывая руки и ноги, и, иссушив своим огненным жаром ручеек его жизни, швырнули в воздух изуродованные останки» — мало чем в гениальности уступает «Тютькин, coiffeur... Je mefais coifferpar Тютькин...»
С тех пор я каждый год обязательно перечитываю по роману Диккенса — больше чем по одному не могу, — последним была «Повесть о двух городах». Там про революцию, жестокость и гильотину; на окраине Ряттеля, что «был прелестный уголок», находился огромный колхозный свинарник, представляющий собой несколько бетонных бараков, окруженных выгородками-загонами за заборами из досок. Земля в выгородках была абсолютно черна, так как была изрыта свиньями, выпускаемыми по утрам, все деревья, росшие на этих «пастбищах», были обглоданы снизу и засохли.
Свиньи были страшно голодные, тощие, черные и очень злые. Когда им кидали через забор охапку травы, они поднимали страшный визг и устраивали драку. Меня, ребенка, это очень забавляло: этакое memento mori, без которого никакая идиллия немыслима. К свинарнику и свиньям я испытывал тягу непреодолимую, так что, когда посмотрел фильм Пазолини «Свинарник», сразу же отметил, что свиньи в этом фильме, да и сам свинарник отличаются от ряттель- ских, как коммунизм Пазолини отличался от коммунизма в СССР. Зато на черную землю и засохшие деревья за забором свинарника походит пейзаж в фильме Пазолини в тех сценах, что касаются вневременной истории дикого прошлого, главным героем которых является Пьер Клеманти. Сам по себе Пьер Клеманти — это нечто, недаром он ангел мести в «Млечном пути» Бунюэля и роковой шофер в «Конформисте» Бертолуччи, а тут он еще человечину жрет, являясь предводителем каннибалов.
Пейзаж, среди которого разыгрываются сцены каннибализма, Пазолини снял в окрестностях Этны, и Пьер Клеманти, как и его фон, — воплощенный протест, в отличие от его двойника, Жан-Пьера Лео, играющего юного буржуа, расхаживающего по роскошной вилле и мелющего интеллектуальную чушь. Жан-Пьер, воплощенный конформизм — как и его изысканная барочная вилла, — ко всему безразличен, кроме свинарника, и свиньями он, как я в диккенсовском детстве, столь страстно интересуется, что они в конце концов его сжирают, не оставив от Жан-Пьера ни пуговицы. Пьер Клеманти же, будучи схвачен и осужден на смерть, среди пейзажа, напоминающего о ряттельской выгородке, несколько раз гордо и выразительно повторяет: «Я убил своего отца, ел человеческое мясо и дрожу от радости».
Меня свиньи не съели, и «Свинарник» сейчас стал одним из моих любимых фильмов, прямо зеленый том с черным и золотом. Мой дед-пролетарий, за которого бабушка вышла по прихоти истории, так как, не будь революции, вряд ли они бы породнились — в этом смысле я должен чувствовать себя порождением революции, прямо Пьером Клеманти, — умер, когда мне было пять. На немногих сохранившихся фотографиях он, невысокого роста и с лицом простым и волевым,
предстает этаким воплощением советское™, не без некоторой стильности двадцатых-тридцатых, в костюме, отутюженных рубашках с пристегивающимися воротничками и манжетами, — сейчас это кажется элегантным, тогда же было санитарной необходимостью. Я помню деда контуженным на войне инвалидом, плохо соображавшим сталинистом, оравшим матери и выжившим после блокады ее сестрам, что зажрались, обуржуазились и предали революцию. Прошлого он никогда не вспоминал, но со мной, будущим, он, однако, ладил, так что нас даже оставляли вдвоем. Он уже ничего не мог делать, но сохранил пристрастие к переплетам, все время подклеивал старые книги, Марксов и Энгельсов, теперь исчезнувших, и старую «Историю гражданской войны», которую я храню как зеницу ока. На это он изводил огромное количество клея и тряпья, вокруг него была все время какая-то дратва, шпунтики и гвоздики, много ненужных вещей. Мне было года три-четыре, и я смутно помню сладострастие грязи, царившее вокруг деда. Я ползал, мажась в липком клее, к которому так здорово прилипали бумажки и тряпочки, среди всего этого мусора, в который дед мне играть не препятствовал, и был очень счастлив. Как мне потом говорили, я и срал прямо в штаны, так как на горшок дед не обращал никакого внимания. Срал в штаны, видимо, от общего ощущения счастья, а бабушка забегала с работы в обеденный перерыв и отмывала мне задницу. Потом дед умер и его похоронили.
Много лет спустя, будучи к возрасту деда ближе, чем к своему младенческому, я, сидя дома за своим компьютером и печатая что-то, услышал во дворе шум столь громкий, что не выдержал и подошел к окну. Двор мой, находящийся в самом начале Невского проспекта, давно уже приведен в порядок программой «Петербургские дворы» или что-то в этом роде, поэтому походит на слабую копию скандинавского или, скорее, прибалтийского благополучия, с которым связали меня накрепко детские молитвы бабушки. Скандинавия для русской души, как Прибалтика для советской, всегда символизировала цивилизацию. Во дворе разбиты клумбочки, наставлены решеточки и фонарики, все выкрашено и замощено. Впрочем, клумбы раздавлены, а решеточки поломаны припарковываемыми во дворе лексусами, роящимися вокруг
378
открываемых на первых этажах странных предприятий: то парикмахерской «Красная перчатка», то центра пирсинга, то модного дома Giulia Kompotova, то мехового салона. Шум был следствием драки, завязавшейся у владельцев лексуса с бомжом, копавшимся в мусорных бачках. Дракой это, конечно, нельзя было назвать, драка — это слишком сильно сказано, бомжа просто толкали, или — точнее — отталкивали, он тут же падал, но снова вскакивал, страшно хрипло кричал и напрыгивал на спокойных парней в приличных костюмах, особой жестокости не проявлявших. Смысл был непонятен: то ли он выступал против лексусов, его задевших, то ли он лексус задел и владельцы выступили против нищеты в принципе; кто прав, кто виноват, было неясно, но звук его старческого надтреснутого голоса, полного жалкой ненависти и жалкого отчаяния, царапал до крови. Я стоял и смотрел, и несчастная старческая фигурка напомнила мне моего деда, такого же перед смертью старчески беспомощного и в то же время вредного, настырного, агрессивного. Моего деда били, а я стоял и смотрел, пока все не кончилось, а потом опять сел за свой компьютер печатать что-то вроде «я убил своего отца, ел человеческое мясо и дрожу от радости».
381
Плоть и кровь
Про СССР
с
амая большая страна в мире — это звучит гордо. Уверенность в том, что страна, в которой я родился, — самая большая страна на всем белом свете, сопровождает меня с детства. Знакомлюсь с какими-нибудь иностранцами, смотрю на них с уважением по разным причинам, а где-то внутри все равно сидит знание: моя-то — самая большая. Всего остального, чего угодно, у них может быть больше, но страна, в которой я родился, все равно останется самой большой в мире. И никому ничего с этим не поделать.
Наверное, это признак имперского комплекса, от которого не избавиться никогда в жизни. Как бы ни раздражала меня идея империи. Впрочем, утверждать то, что мое ощущение родины совпадает с образом самой большой на свете страны, в которой я родился, было бы не совсем верным.
Очень тяжелый звук, издаваемый при прочтении аббревиатуры СССР, сразу же вызывает в моей памяти карту с его контурами. Мне всегда казалось, да и сейчас кажется, что это не контуры, не границы, не обозначения, а изображение, портрет: большая такая, тяжелая территория, вальяжно развалившаяся в верхней половине глобуса. Мощный зрительный образ, с характером, ярко выраженной индивидуальностью, резко отличающейся от фигур остальных территорий в Европе и Азии. Помню я этот образ с рождения — он был везде, в огромных количествах. Значки, марки, спичечные этикетки, картинки в детской поликлинике, в первом классе, может, даже и в
яслях. Носили ли меня туда? Не помню, но карту помню. Самая большая страна в мире.
Изображение СССР на картах было всегда выкрашено в красный цвет, темного оттенка. Напоминало оно мне картинку в мясном магазине, посвященную разделке говядины, висевшую на стене. Мы туда ходили с мамой, она стояла в очереди, а я ждал в сторонке, под этой картинкой с большой красной тушей, распластанной на ней, разделенной на сегменты, каждый из которых был отмечен цифрой. Вокруг эти сегменты уже были нарисованы отдельно, и вслед за цифрой стояло название части: оковалок, филей, челышко-соколок. Их было ровно пятнадцать, но соответствие с количеством республик я осознал много позже. Впрочем, четырнадцатый и пятнадцатый куски были объединены вместе и назывались голяшки. Все в мясном магазине, из-за неприятных кусков мяса, валявшихся на прилавке, окрашивалось в красно-бурый цвет несвежей крови и раздражало, но картинка с тушей мне нравилась, так же как нравились и географические карты. Там, где-то в районе зареза, я родился и жил. Это место было отмечено точкой с надписью «Ленинград».
Большая туша СССР. Чувствовал ли я ее своей родиной?
Нет, определенно не чувствовал. Не могу понять, как можно чувствовать своей родиной какую-то аббревиатуру: СССР ли, США ли, ЕС. России же в сознании моего детства не было, она была заменена на РСФСР, что-то уж совсем непонятное, даже сейчас затрудняюсь с ходу правильно расшифровать все буквы, что составляют это название, и понятие Россия появилось позже, став уж чем-то совсем умозрительным, из старой поэзии, тютчевским каким-то.
В детстве с СССР у меня было связано одно эстетическое переживание. В большом дворце, в центре белого зала с очень красивым наборным полом, чей рисунок повторялся в бронзовых украшениях потолка (на это мне сразу указали взрослые, и это меня восхитило), с большими тяжелыми люстрами, с потолка свисающими, стояла несказанно прекрасная картина, выложенная из разноцветных камней: яшмы, лазурита, малахита, родонита и уж не знаю чего еще. Картина изображала мою родину, СССР. Чуть выше, на мраморном рельефе над изображением СССР, гарцевал белоснежный
382
всадник, который почему-то тыкал в карту копьем. Его агрессивность была несколько загадочна, но вскоре я узнал, что этот всадник — святой Георгий, и что зал называется Георгиевский, и что это был главный приемный зал императоров, живших в Зимнем дворце. Святой Георгий же был покровителем России, а не Советского Союза и копьем тыкал в змею под ногами коня, с трудом различимую в высоте, а не в карту. СССР, собранный из различных самоцветов, с горящей рубинами звездой, означающей Москву, сердце Вселенной, с лазуритовыми морями, малахитовыми полями, яшмовыми горами, несмотря на всю свою роскошь и красоту, обнаруживал родство с говяжьей тушей из мясного магазина и очень мне нравился. Да и сейчас нравится, хотя и только как воспоминание, так как карта из Георгиевского зала исчезла.
Много позже после переживаний, связанных с тушей и с картой, когда мне уже было за двадцать, мне довелось поехать с двумя итальянцами в Царское Село, тогда более известное под названием Пушкин. Выйдя из электрички, итальянцы озадачили меня следующим вопросом, который я не сразу понял:
— Почему на каждом вагоне написано Чи-Чи-Чи-Пэ?
Только через целую минуту я сообразил, что подобным образом итальянский менталитет прочел священную аббревиатуру СССР, начертанную под изображением моей любимой мясной туши, украшающей каждый вагон. На вагоне она представала вырезанной из мирового контекста, в обрамлении из каких-то веточек, с перекрещивающимися под ней то ли серпом и молотом, то ли гаечными ключами, очень сложный геральдический образ. Забавное транскрибирование мощного русского эС-эС-эС-эР в мягкое и дурацкое итальянское чи-чи-чи-пэ, дойдя до меня, тронуло и умилило. Правда, что за прелесть эта чичичипэ!
Я объяснил, что такое С. С. С. Р. и что это такой же знак нашего величия, как S. Р. Q. R., аббревиатура, что и сейчас украшает не только арку Тита, но и каждый римский булыжник, каждую римскую канализационную решетку, свидетельствуя о непреходящем обаянии власти.
S. Р. Q. R.
С. С. С. Р.
383
Senatus Populus Quiritium Romanus. Союз Советских Социалистических Республик. Какая великая перекличка звуков, исполненных громоподобного блеска, взвейтесь кострами, синие ночи, знамена развеваются, фанфары взрывают воздух, божественные профили владык, гулкий шаг легионе- ров-комсомольцев, мускулистых, прекрасных, победительных, золотые орлы и золотые звезды, ряды копий и штыков, сияющая арматура, славы с венками летят в небесах, кто в лифчике, кто так, рядом с ними самолеты, крылатые гении в трусах и без спешат венчать героев, и вереницы пленников, в пыли влачащих цепи вслед за триумфальными слонами и танками. Империя... Можно ли империю прочувствовать как свою родину?
Мне не удалось. Но имперское наследство мне, безусловно, досталось. Чувствую я это или нет, но рожден на свет я этой тушей темно-красного цвета, самой большой в мире. Если бы я был рожден крошкой-оковалком Люксембургом, я бы был другим. Точнее — меня бы не было.
S. Р. Q. R.
С. С. С. Р.
При умилительном слове «родина» — слово «СССР» меня совсем не умиляет — перед моими глазами сразу же встают идиллические пейзажики деревеньки, где я проводил лето несколько лет кряду, с моих семи лет до двенадцати. Это было в окрестностях Копорья, удивительно красивая местность, с извилистой речкой, косогорами, поросшими старыми черемухами, с разнообразными лесами, и осиновыми, и березовыми, и ельниками, и стройными соснами. Под соснами, в очень сухой и мягкой почве, росли голубика и болиголов, удивительно, одуряюще пахнущий, и его раздражающе-терпкий аромат сливался с винным вкусом спелой голубики, черно-синей, глубокой, вызывавшей блаженное изнеможение позднего лета, голова слегка болела, а сосны, ровные-ров- ные, высоко вонзались в небо. Деревня была не совсем русская, поэтому не представляла собой улицу, как это бывает обычно, но была раскидана отдельными домами. Вергилиево место, для буколик и георгик, а на окраине деревни располагался огромный колхозный свинарник, представляющий из себя несколько бетонных бараков, и вокруг них — боль¬
384
шие выгородки-загоны, огражденные забором от остального мира. Они были черны, так как земля на них была изрыта свиньями, выпускаемыми по утрам, все деревья, обглоданные снизу, засохли, свиньи были страшно голодные, тощие и очень злые. Когда им кидали через забор охапку травы, они поднимали страшный визг и устраивали драку. Нас, детей, это очень забавляло.
Идиллия моего детства почему-то с картой СССР в моем сознании не ассоциируется. Она, в отличие от Ленинграда, на ней не отмечена. Черные голодные свиньи, злобно дерущиеся из-за травы, тоже не ассоциировались с кусками буро-красного мяса, лежавшего на прилавке магазина, и уж менее всего — с красивой картинкой разделки мяса.
S. Р. Q. R.
С. С. С. Р.
Убаюкивающие, уютные воспоминания о мандаринах, елках с красными звездами на макушке, салате оливье и шпротном паштете не вызывают во мне никакой нежности. Я не люблю свое советское детство. И уж тем более не собираюсь смешивать тоску по детству с умилением перед СССР. Не умиляют меня ни коммуналка с жуткими, вечно скандалящими соседками, ни школа, где историчка, старая дева, преподававшая обществоведение, заявила, что сейчас верить в Бога могут только дураки, ни университет с вечным запахом сортира в коридорах, ни армия, где я провел два года, отдав долг СССР, своей родине.
S. Р. Q. R.
С. С. С. Р.
Странное, однако, воспоминание засело во мне. Ничего я так не люблю, как проводить раннюю осень в деревне. С юности уезжал на какую-нибудь дачу, отдаваемую знакомыми за ненадобностью в столь неподходящее время, чтобы одному гулять, читать, собирать грибы и быть почти счастливым. Мне было двадцать три года, относительно недавно я вернулся из армии, где провел худших два года в моей жизни, учился в университете и работал в библиотеке Эрмитажа. На десять дней отпуска, специально взятого в сентябре, я раздобыл замечательный загородный дом, стоящий одиноко, на берегу озера, в лесу, где никого вокруг не было. Только я и
385
две собаки, которых мне приходилось кормить. Осень была, как всегда, чудная, очень много грибов, мы с собаками друг друга полюбили, никого не было вокруг, от озера по утрам поднимался туман, дни были теплыми и ласковыми. Иногда я выбирался в город и возвращался вечером, на последнем автобусе, останавливавшемся на шоссе где-то в километре от дома, до которого потом все равно надо было доходить пешком через лес. Возвращался я в осенние сумерки, и острейшее чувство счастья охватывало меня от леса, от одиночества, свободы, от тишины, осени, темнеющего сентября. Вблизи дома со ждущими меня собаками вдруг, неожиданно, я поймал себя на том, что блаженство, разливающееся внутри, смешивается с поразительным воспоминанием-ощущением: неизвестно откуда и отчего взявшейся острой ностальгией, немецкой Sehnsucht по армейской казарме, по бараку с кроватями в два этажа, по тусклому электрическому свету, по чувству тюремной запертости, что сопутствовало мне все два года моей армейской жизни. Поразительным образом самые ненавистные в моей жизни воспоминания смешались с ощущением свободной от всего осени и осеннего счастья, топя их в общем расслабленном блаженстве. Я до сих пор помню это воспоминание с физической убедительностью как одно из самых сильных переживаний в жизни. Откуда оно взялось, что оно значит?
S. Р. Q. R.
С. С. С. Р.
В деревне, где купили дом мои родители уже в продвинутых восьмидесятых, на крутом берегу стояла высокая желто-белая церковь конца XVIII века, архитектуры изрядной, напоминающей о неоклассике львовского круга. Церковь была облезлая и облупленная, без крестов и совершенно голая внутри. По субботам в ней показывали привезенные из города старые фильмы. Вокруг церкви когда-то расстилалось старое кладбище, поверх которого была проложена совершенно бесполезная дорога, никуда и ни к чему не ведущая, так что от кладбища уцелел только кусок чугунной ограды, означая любовь к отеческим гробам. Еще одной достопримечательностью был фундамент около очень грязной большой лужи. Местные с удовольствием сообщали, что это —
386
остатки здания старой школы, построенной сердобольным помещиком для населения. Школа была крыта черепицей и стояла на берегу пруда с кувшинками, и еще недавно можно было увидеть ее стены, теперь же ее окончательно развалили. Когда произошло это «недавно», было неясно, но дети уже давно ездили в школу в другое село. Маленькие дети были довольно милы, но дико ругались матом, и чувствовалось, что мальчики скоро сядут за хулиганство, совершенное по пьяной лавочке, что всегда и происходило, и взрослого мужского населения, не побывавшего на зоне, практически не существовало.
Деревня была полна историями. Один молодой тракторист, напившись и ни с того ни с сего приревновав свою невесту, погнался за ней на тракторе и переехал ей обе ноги. Старый алкоголик из дома у реки, получив пенсию и тут же ее пропив, повесился оттого, что жрать было нечего. Галочка по прозвищу Одесситка, невесть откуда взявшемуся, торговала самогоном, что очень нравился всем мужикам, так как она добавляла туда отличную дурь. Двое уже умерли от алкогольного отравления. Галочка, довольно грязная баба, не была, однако, королевой. Ее клиентами были совсем уже подонки, вроде повесившегося. Подлинной королевой была продавщица Адель, торговавшая в местной точке и державшая всю деревню в кулаке.
У Адели был самый большой дом, две коровы и четыре свиньи. Крепкая широкозадая молодая баба, она работала много, магазин открывала, когда хотела, и снабжала местное население товарами согласно своим симпатиям и договоренностям. У нее было много денег по тем временам, монополия на водку и молодой любовник, рыжий и ражий пьянчуга, обычно днем слонявшийся без дела, ободранный и вечно стреляющий покурить. По субботам Адель вместе с ним уезжала в райцентр, за товаром и пройтись, надевала шляпку с вуалеткой, кургузую кожаную куртку с гипюровой кофточкой, плиссированную юбку и кроссовки. Любовник же был в бережно хранимом праздничном спортивном костюме, белых носках и черных лакированных ботинках. Вечером, после возвращения, была баня, а потом любовник гонялся за Аделью с топором, а она голосила на всю деревню, причем
388
было понятно, что это — исполнение необходимого и любовно оберегаемого обряда, так как здоровенная Адель могла справиться со своим милым, ослабевшим от водки, в два счета. Над всем же господствовал не прекращающийся ни на минуту, бесконечный, ползущий над всей деревней, над печальными и спокойными лугами, над широкими полями, достигавший загадочно темнеющих лесов стон, сводящий с ума, мучительный, кажущийся идущим из земли. Это мычали в огромном коровнике голодные коровы. Их не кормили, так как корма растаскивались на нужды собственного скота.
Коров увозили в город, на мясокомбинат. Там наступал конец их мучениям. Их убивали и подвешивали за крюки к потолку. Затем с них сдирали шкуру, обнажалось буро-красное кровавое мясо, и кровь стекала на бетонный пол. Подвешенные за ноги и освежеванные, коровы были прообразами рисунков разделки говядины, хотя на картинках они казались гораздо округлее, идеальнее. И напоминали карту СССР. В зарезе Финского залива стояла маленькая черная точка, где я родился, город Ленинград.
391
Ноябрь
о ,
V-^ псе upon a time — однажды над временем. Так мне все время хочется перевести классическое начало всех английских сказок, потому что такой перевод мне нравится больше, чем стандартная присказка «давным-давно» или «в незапамятные времена», ибо в нем есть нечто вневременное, как будто то, что случилось once upon a time, застыло и время над ним уже не властно, обтекает его, как вода ручья обегает валун... Так вот, once upon a time я задумал роман под названием «Летний сад». Роман разбивался на отдельные эссе, посвященные выбранным скульптурам. Назвались эссе со всевозможной простотой: «Истина», «Милосердие», «Красота», «Мир и Правосудие», «Юность», «Рок», «Полдень», «Терпсихора» и т. д. Эссе должны были быть объединены в двенадцать глав, соответствуя двенадцати месяцам года, и начинаться роман должен был с мая, то есть с открытия Летнего сада после просушки, заканчиваться мартом и статуей Антиноя, вроде как в марте крокодилом в Ниле и сожранном, а повествовать о круговороте жизни, о рождении, смерти и возрождении — то есть о том, о чем год — каждый Божий год — нам и повествует.
Было это once upon a time, время с тех пор, как времени и полагается, промчалось, пролетело, утекло, вместе с собой унеся и Летний сад, превратившийся в парк культуры и отдыха имени В. В. Путина. Once upon a time я сделал план, наброски, но ничего не закончил, а теперь, перед убитыми Терпсихорами и Истинами, превращенными из живых и ды-
шащих мраморных существ в пластикатовые муляжи, мне ничего в голову нейдет, и с мыслью о «Летнем саде» я распрощался, кажется, навсегда. Бродский сказал, что попытки воскресить прошлое безнадежны, как постижение жизни, но «однажды над временем» обладает магией, способной делать чудеса: время унесло Летний сад, ничего от него не осталось, унесло оно и мой роман, но именно потому, что реальные Летний сад с романом во времени исчезли, идея внутреннего моего «Летнего сада» оформилась и окрепла, и теперь во мне Летний сад предстает как раз тем самым валуном, который поток ручья, полируя, обегает, не в силах его ни на миллиметр сдвинуть с места. Прошлое, если оно состоялось, в воскрешении не нуждается: «было» оказывается реальнее, чем «есть». Это как мой друг Десятников справедливо заметил как-то раз, что жены приходят и уходят, а бывшие жены — это навечно.
Самым лучшим временем моего Летнего сада была, конечно же, осень. Мне не нужно никакого печенья мадлен, не надо даже глаза закрывать; стоит только произнести про себя «Летний сад» — и тут же встает во мне переживаемая и пережевываемая всеми пятью чувствами сцена: шуршащие ворохи листьев, разбрасываемые моими ногами, их горьковатый красно-желтый запах, серебряный, как иней, холодок, пробирающийся за шиворот, голые черные силуэты деревьев на фоне серого неба и звуки, кажущиеся какими-то особо далекими, но полными и внятными из-за особого ощущения пронзительной пустоты пространства, что бывает лишь поздней осенью. Листьев уже, а снега еще нет, и издалека видны белые силуэты мраморных существ, загадочные и влекущие, и в ликах их печать недвижных дум. Картина эта, совершенно не похожая на то, что мы зовем «прошедшим», заставляет меня, старого пятидесятипятилетнего пня, — не вспомнить, нет, но физически ощутить себя мальчиком, сам не знаю каких лет, разбрасывающим ногами опавшие листья в поисках желудей. Сад для меня — Универсум, головокружительно бездонный, и я смотрю вверх, задрав глаза к верхушкам деревьев, и все впереди, и будущее огромно, как Сад, и столь же таинственно. Я, маленький мальчик, сам часть Универсума, и, будучи частью великого, я сам велик;
392
теперь я вырос и измельчал, и маленький мальчик в Летнем саду — это единственное, что меня связывает с Универсумом. В фильме Тарковского «Зеркало» есть замечательная сцена: поздней осенью, в облетевшем дачном саду, ребенок рассматривает огромную старую книгу о Леонардо да Винчи. Леонардо и осень, звучит Stabat Mater Перголези, воздух колок и холоден, слегка озябшие пальцы мальчика с видимым усилием отдирают тонкую папиросную бумагу от чудных ликов, ну и лик леонардовской Джиневры ди Бенчи во весь экран, документальные кадры запуска аэростата в разреженное холодное пространство Арктики: полет Леонардо. Голоса католического песнопения звучат мучительно прекрасно, а микрокосм в макрокосм перетекает и обратно. Маленький мальчик, листающий книгу о Леонардо в осеннем саду, — это наше все, это символ России, это главная ее ценность, встреча прошлого и будущего, дитя и титан, традиция и современность и бла-бла-бла. То же самое и моя ипостась в Летнем саду, мальчик с листьями, такое же бла-бла-бла вечности и России, только вместо книги о Леонардо — венецианские скульптуры восемнадцатого века.
Ноябрь должен был играть в моем романе чуть ли не самую главную роль. В ноябре, как раз после того как деревья превращались в черные силуэты, угрожающе голые и жалкие, как голы и жалки шеи грифов, клюющих мертвечину, в Летнем саду скульптуры убирали в ящики-гробы. Происходило это как-то не то чтобы каждый год в точно назначенный день, но то так то сяк и постепенно. Какие-то скульптуры были уже упакованы, какие-то нет, кто-то стоит во всей красе, а кто-то высовывает из еще не забитых наглухо черных досок мраморные руки, выставляя наружу мраморные циркули и лиры. В течение ноября черные ящики замыкали собой чудесных белых бесов, и вид их темниц, стоящих на фоне начинающего гнить желто-красного ковра, был страшен: гробы повапленные.
Вскоре выпадал снег, милосердно все перебинтовывая, и Летний сад превращался в стильную черно-белую кладбищенскую фотографию. Сад замирал торжественно и чинно, зимой наступало время покоя и смерти, и силуэт порфировой Вазы-Плакальщицы был особенно горек. В декабре наступа¬
393
ла смерть, но ноябрь был временем умирания-еще-жизни. Ноябрь Летнего сада, прощальный месяц статуй, и отпечатался во мне сильнее всего, хотя из-за магии once upon a time я как не знаю, сколько точно лет тому мальчику, в которого я, старый пень, превращаюсь, так же я не знаю и в каком точно месяце он желуди ищет. Мне кажется, что в ноябре.
Вообще-то, я свой питерский ноябрь ненавижу, хуже его только питерский март, месяц моего рождения. Ненавидел я ноябрь всегда, и злобной насмешкой мне казалась короткая неделя ноябрьских каникул, еще и прерываемая обязаловкой похода на Октябрьскую демонстрацию со всем классом, что заставляло вставать раньше, чем в школу. Необъяснимая странность празднования Октябрьской революции седьмого ноября тоже как-то неприятно будоражила, и я отчетливо помню настроение мизантропической детской унылости ноябрьского раннего утра, безнадежную темноту, дребезжащий рассвет, ничего толком не освещающий, и необходимость праздновать Октябрьскую революцию. Все завешено красным. А затем — ноябрьские дни, когда иней холодка превращался в пронизывающий холод, и, оттого что все было голое, снега еще, а листьев уже не было, холод становился мучительным и нестерпимым; казалось, что весь город продрог насквозь, до последнего камня. Заледеневшие мелкие лужи, как осколки зеркала Снежной королевы, врезались в душу, и серое небо, серое всегда, даже когда ясно, без облаков, и по нему катится очень холодный красный шар, лишенный лучей.
Ноябрь я ощущал как месяц безжалостный и жестокий, а вот, поди ж ты, слезливые воспоминания о Летнем саде... Когда я думал о ноябре своего «Летнего сада», я в первую очередь представлял бюст «Меланхолик» из серии четырех голов стариков, олицетворяющих темпераменты, стоявший в моем Летнем саду несколько поодаль и образующий с другими стариками-темпераментами нечто вроде отдельного закутка.
С чего еще ноябрь и начинать? С Меланхоликом все ясно. Знак его — Скорпион, месяц — ноябрь, и вот как меланхолика описывает один из средневековых немецких стишков: «Бог дал мне, меланхолику, природу, подобную земле — холодную, сухую. Присущи мне землистый цвет волос, уродли¬
394
вость и скупость, жадность, злоба, фальшь, малодушье, хитрость, робость, презрение к вопросам чести и женщинам. Повинны в этом всем Сатурн и осень». Портрет ноября и ноябрьского состояния.
В бюсте Меланхолика, а заодно и в немецком стишке я, как мартышка в зеркале, вижу свое отражение. Малоприятное, но верное, и я утешаюсь тем, что Дюрер своей знаменитой гравюрой недостатки меланхоликов сгладил, а меланхолию возвеличил. Теперь, с его легкой руки, они, до того презираемые, стали солью земли: не то чтобы фальшь, малодушье, хитрость, злоба и презрение к вопросам чести из них исчезли, но меланхолия была объявлена Дюрером спутницей размышления и матерью творчества, и это решило все. Теперь меланхолика никто не обидит, он — уважаемое меньшинство, и Дюреру вторит большое произведение двадцать первого века, фильм Ларса фон Триера. У Триера главная героиня, обладая всеми недостатками, перечисленными средневековым поэтом, в то же время оказывается оправданной во вселенском масштабе: она единственная понимает, что на самом деле с миром происходит.
Я нигде не наталкивался на упоминания о гравюре Дюрера в связи с фильмом, хотя очевидно, что «Меланхолия» XXI века — великая интерпретация Melencolia 11514 года. Фильм, несомненно, Дюрером предопределен в не меньшей степени, чем Вагнером. Впрочем, и Вагнер без Дюрера никуда, и пейзаж на заднем плане гравюры, пустой, водный и очень искусственный, совпадает со странным парком у моря в Три- еровом фильме, и гравюре вторит вся стилистика фильма, тяжелая самопогруженность интровертности, совмещающей Апокалипсис личный с всемирным. Звезда, что следует за летучей мышью, роковая звезда, обещающая все уничтожить, неумолимо приближается к нам, становясь с каждой минутой все ближе и ближе, — Дюрер отметил ее появление, Триер продолжил наблюдение и довел смысл Melencolia I до логического конца. Да и Кирстен Данст — вылитая крылатая женщина из Дюреровой гравюры, только стрижена чуть короче да похудела.
Однажды, глядя в ноябрьское небо, в гравюрной серости схожее с небом в Melencolia I, я с устрашающе отчетливой яс¬
395
ностью понял, что в ноябре я умру. Будет обычный ноябрьский день, холодный и ясный, с низким, медленно, но отчетливо катящимся по холоду синевы шаром, и все будет как всегда. Где-то будут пить чай, где-то — греметь взрывы, где- то будет невероятно холодно, а где-то — стоять невыносимая жара; кто-то покончит с собой, а кто-то родится, где-то объявится невиданный доселе вирус, быстро распространяющийся, поражающий виновных и невинных гнойными язвами, а где-то найдут вакцину против него. Меня же в этом не будет, я умру, я это отчетливо понял. Это будет в ноябре, но когда точно — этого я еще не знаю, зато само осознание факта собственной смерти стало непреложностью, и теперь ничто не в силах факт этот отменить. Да, каждый смертен, я это знаю и знал всегда, и в этом знании нет особой исключительности: какая разница, знаешь ли ты, что умрешь через пять лет или через десять, или ничего не знаешь, а умрешь завтра, — тоже мне, проблема. Каждый ведь бессмертен, это я тоже знаю, потому что хотя и нет во мне Веры, но какая-то маленькая вера, как в каждом мыслящем человеке (а я мыслю и существую, вне сомнения), во мне присутствует. Совсем недавно я говорил ровно то же самое своему близкому другу, когда он сообщил мне, что у него рассеянный склероз, что жить ему осталось недолго, и что он не знает, способен ли он будет в скором времени передвигаться, и что его смерть неизбежна. Мне казалось, что я говорю нечто умное и утешительное, я тогда сам еще не знал, что тоже умру, не знал с той очевидностью, с какой узнал это сейчас, в совершенно заурядный день. Тут же вспомнив все доводы своего прошлого знания, я ощутил, как невероятно глупы были мои слова — так глупы, как могут быть глупы слова человека, мнящего себя вечным в своей ограниченности и именно поэтому не осознающего, что смерть совсем рядом, под боком, что она физически ощутима, что она спит, ест и пьет вместе с тобой и что ты был просто слеп и ее не видел, а теперь вдруг прозрел и увидел ее и не то чтобы испугался, но смерть заняла все твои мысли, и не избавиться тебе от нее, не уйти, приходится учиться жить с ней, а это очень непросто. Не то чтобы она была очень костлява и скалящимся скелетом сидела напротив, нет, конечно. Скорее это вход в чулан, в котором тебя не будет. Вход, чер¬
396
ная дыра которого все время рядом с тобой, и тьма из чулана, когда остаешься один, вдруг всей тяжестью наваливается на тебя, и страшно, плоско страшно тебе, никто не может помочь, и голоса играющих на гуслях и поющих и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет в тебе уже никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не будет слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы.
Был заурядный ноябрьский день, все было как всегда, вокруг меня расстилался небольшой провинциальный Ва- вилончик, миллионов так на пять, в котором было довольно товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих. Большинство грешило, единицы молились, а по телевизору по одной программе шел Армагеддон, по другой — Апокалипсис, а по третьей еще какое-то мутное повествование о Теле Христовом, о том, как за ним гоняются иудеи и магометане, католики и протестанты, и ученые определяют, что тело принадлежит к 33-му году от начала нашей, нашей с вами, эры. По MTV, слышимому из раскрытого окна напротив, громко пела молодежная группа «Апокалиптика», совсем уж непонятно о чем, но относительно мелодично. Все было как всегда, нормально, буднично, привычно, ничто не располагает к хилиазму и эсхатологии больше, чем обыденность, — и ужасающая ясность того, что я умру, пронзила меня.
Я умру из-за всего, что меня окружает, так как смерть — потеря окружающего, как любимого, так и ненавистного. Будет безразличие, но даже его я не буду ощущать, потому что чувств во мне не будет. Я проснулся от мира и понял, что вскоре не будет ничего, Ничего, НИЧЕГО, — не то чтобы будет НИЧЕГО, а — НИЧЕГО не будет, — разительная разница, пока еще дарящая какие-то переживания: холодный
397
ужас, отчаяние и ненависть. Смерть — причина для ненависти. Каждый из живущих на земле переживает Апокалипсис, каждая жизнь кончается Апокалипсисом, и миллиарды миллиардов апокалипсисов сливаются в один единый миг, когда сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса и Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо, и все, что на нем, и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет.
В Откровении нет времени, и в единое целое слито в нем то, что было, и то, что будет, как в формуле Вечности, которой недоступны ни жалость, ни сострадание. Нерон и нашествие гуннов и монголов, Холокост и Гулаг, одиннадцатое сентября и аутодафе, чума и атомная бомба, моя смерть и смерть всех, кто дороже мне моей жизни, сплетены в единое целое, нет между ними ни разницы, ни промежутка, и в словах святого Иоанна Богослова можно прочесть все это и еще тысячи тысяч других событий человеческой истории и человеческой жизни. Не в силах вынести страха Вечности, земное сознание цепляется за множество конкретных и единичных апокалипсисов, стараясь превратить Откровение в повседневность, в будничное явление, что всегда рядом, чтобы привыкнуть к ощущению Конца, и множит, множит изображения ужасов, стараясь сделать их привычными, как документальные съемки. Чтобы человечество не сошло с ума, ему было даровано Откровение, и человечество размножило его в Меланхолиях и пережило, и оказалось, что ничего страшного, что в Конце нет безысходности и что Свидетельствующий сие говорит: Ей, гряду скоро! аминь, Ей, гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Жить можно дальше. Тут я понял, что факт осознания моей смерти факт самой смерти отменяет, что ноябрьский мой день застыл во времени, как валун в потоке ручья, возвышаясь once upon a time, и мой ноябрь превратился в вечность, ибо живые мы приходим и уходим, но умерев, мы остаемся навечно.
Совсем недавно я зашел в Летний сад. Пластикатовые муляжи тоже были упакованы в ящики, все облетело, и узкие коридоры, понаделанные в саду из кустов и лишающие его
398
какой-либо свободы, перестали быть столь глухо заборными, как летом. Нечто от ноябрьской пронзительности Универсума моего Летнего сада once upon a time проглянуло в голых деревьях, но лишь на мгновение. Универсум приказал долго жить: провинциальный спа, претендующий на шик, но всеми покинутый из-за глупости хозяев. Бассейны понаделанных мраморных фонтанов были пусты и забиты какой-то дрянью. Они напомнили мне виденную мной фотографию, страшную и смешную: ванная комната кувейтского шейха с роскошными унитазами в одном из его дворцов, разрушенном и обгаженном отступившими иракскими войсками.
УДК 75.03(450) ББК 85.103(3) И76
Ипполитов, А.
Банда Рафаэля : [сб. ст.] / Аркадий Ипполитов; [фото С. Биговчего, С. Косьянова, Г. Василевича]. — М.: Красный пароход, 2018. — 400 с.
Перед вами новая книга известного искусствоведа, писателя, сотрудника Государственного Эрмитажа Аркадия Ипполитова. Большинство вошедших в нее статей посвящены художественной культуре Италии и ее представителям — от великих живописцев Ренессанса до мастеров неоклассицизма XVIII века. Кроме того, в книгу вошли статьи о русской культуре, о современных выставках в Эрмитаже и Русском музее, а также автобиографические эссе.
ISBN 978-5-00028-217-5
Путешествовали по Италии и фотографировали Сергей Биговчий, Сергей Косъянов, Георгий Василевич
"Проект C&Qbmbmx
Корректор Т. Николаева Дизайн, верстка: М. Спехова
Отпечатано в типографии «Парето-Принт» Адрес: 170546, Тверская обл., промышленная зона Боровлёво-1, комплекс № 3 «А»
Тираж 1000 экз. Заказ 7381/18
Подписано в печать 01.09.2018.
Формат 60 х 90 1/16.
Печать офсетная. Объем 25 физ. п. л.
ISBN 5-00028-217-5
9 785 0 0 0 2 8 2 1 7 5
© А. Ипполитов, 2018 © «Красный пароход», 2018 © М. Спехова, дизайн, верстка, 2018
18+
Аркадий Ипполитов написал множество статей в «Эксперт», «Коммерсант», «Русский телеграф», «Сноб», «Сеанс», в различные музейные каталоги, редкие издания. Подобно хорошему вину, со временем тексты стали только лучше. Даже статья про юбилейную выставку Никола Пуссена для «Коммерсанта» была так хороша и свежа, что ее можно было и через десять лет с удовольствием читать и печатать.
Мы это все собрали, систематизировали, одновременно наслаждаясь чтением. Главным условием подготовки нового сборника статей было то, чтобы Публикации не пересекались с замечательными, но уже состоявшимися книгами «Вчера, сегодня, никогда» и «Ожидатели августа». Так что в,се тексты в этой книге «вкусные» и редкие. И все равно про Италию. Даже когда автор гшшетттро русское искусство — получается все равно про Италию.
Предмет, которой он знает как никто.
V**"