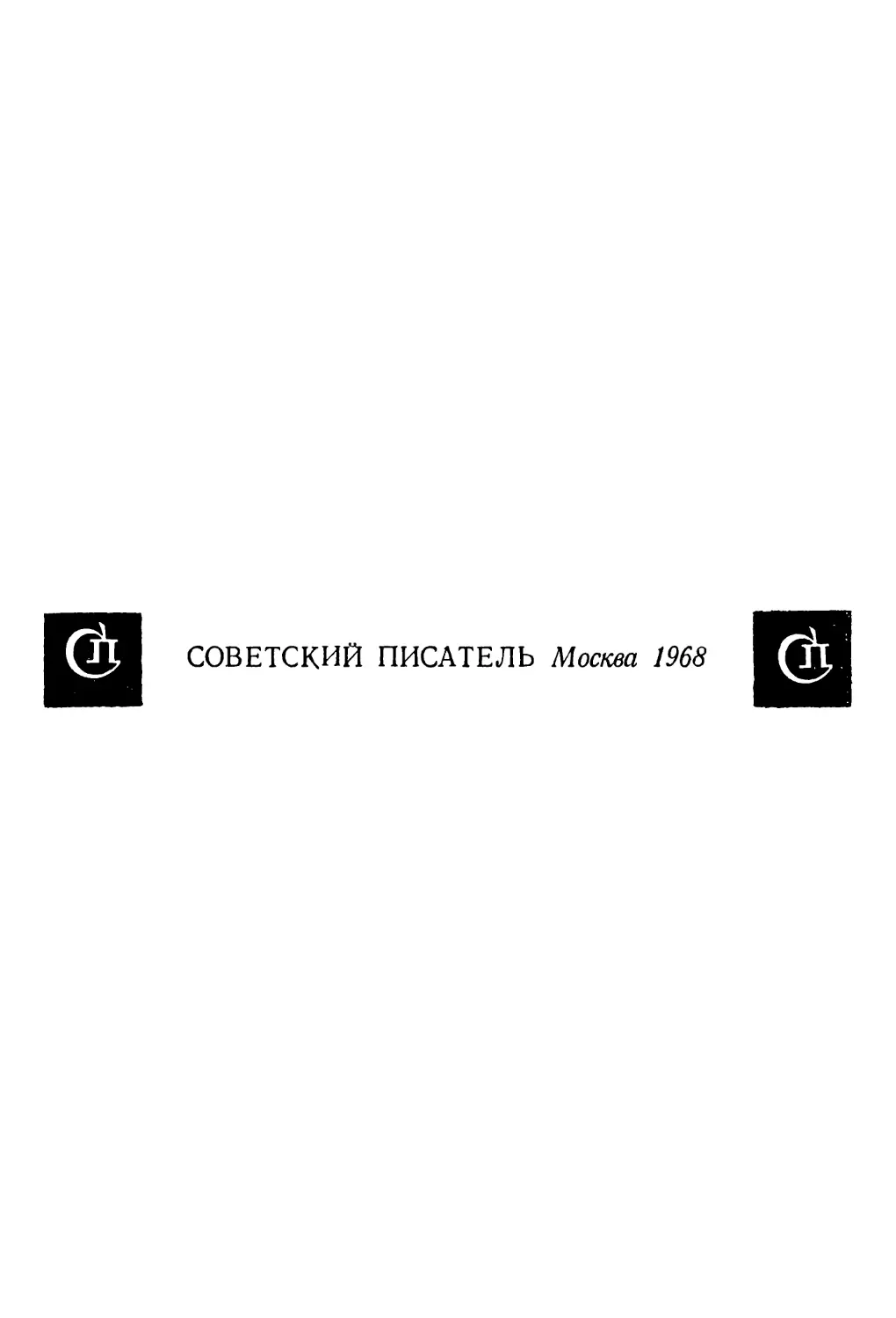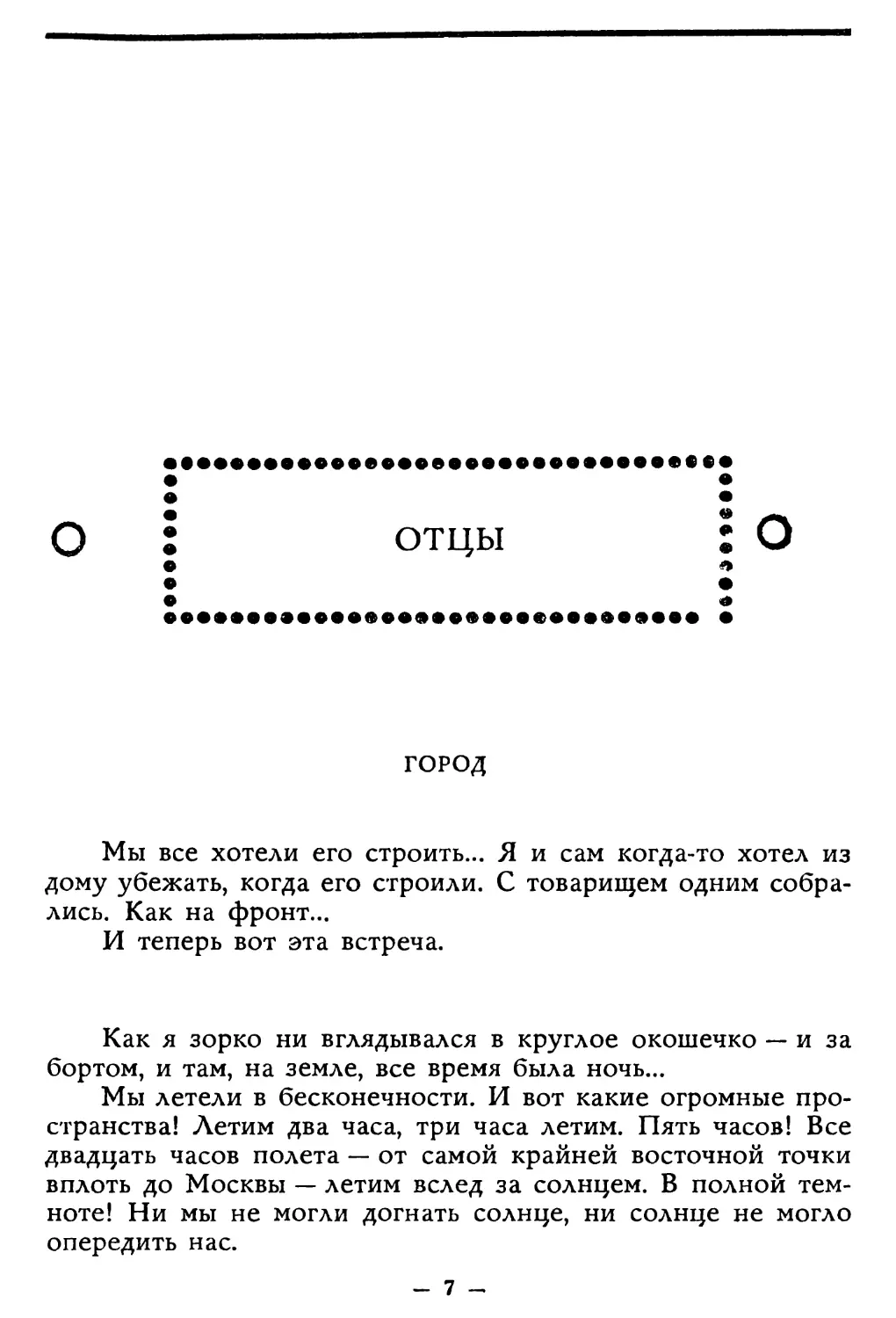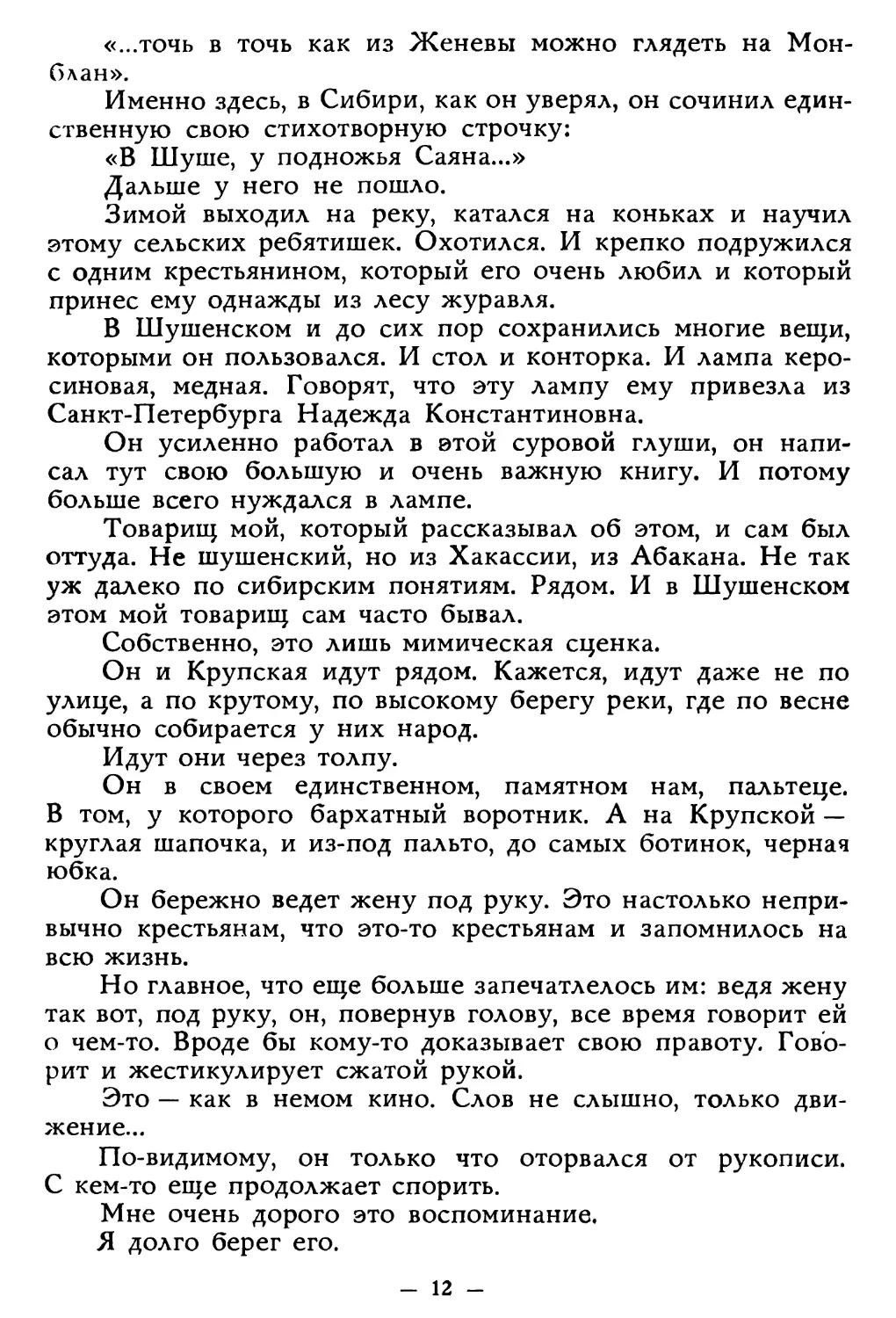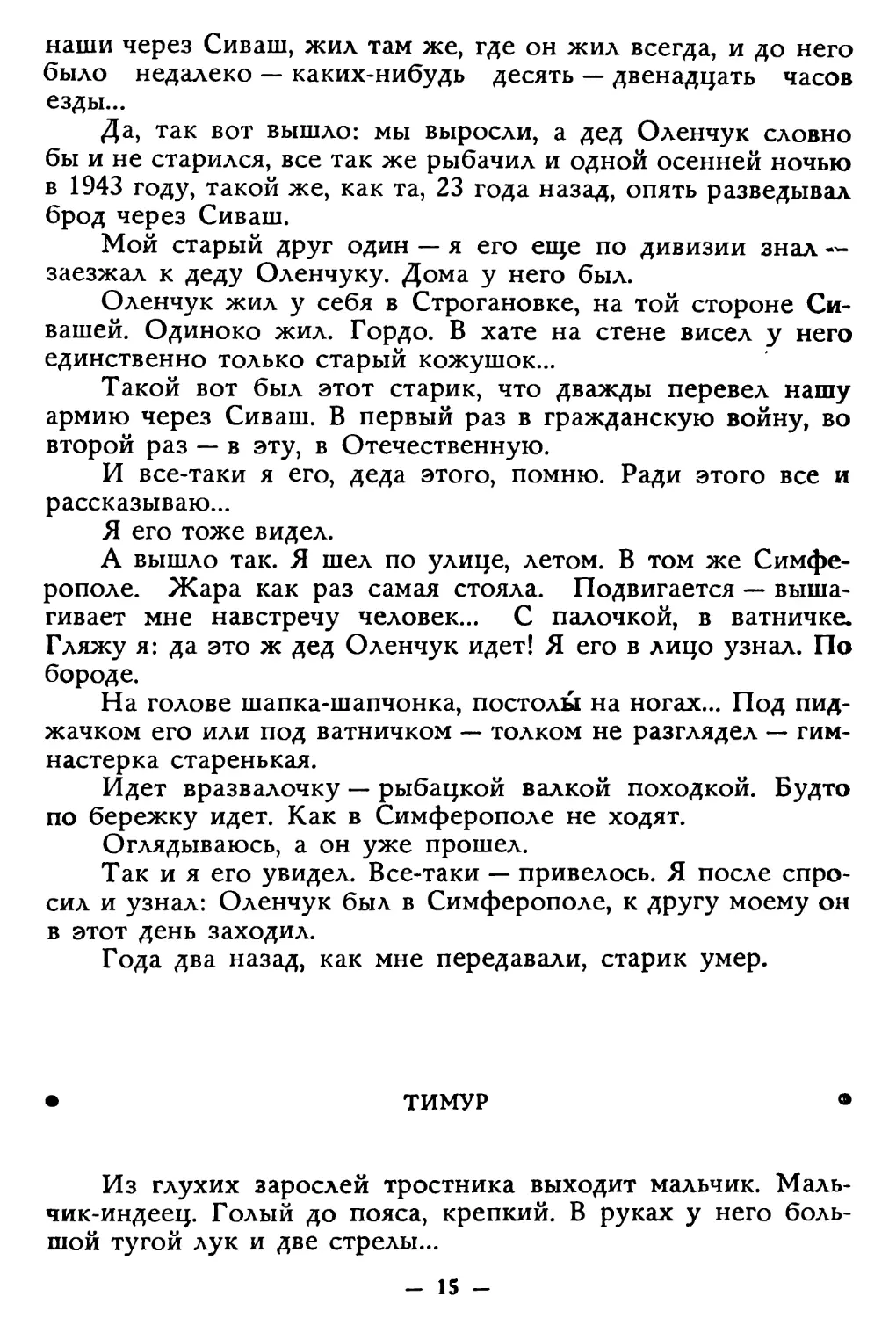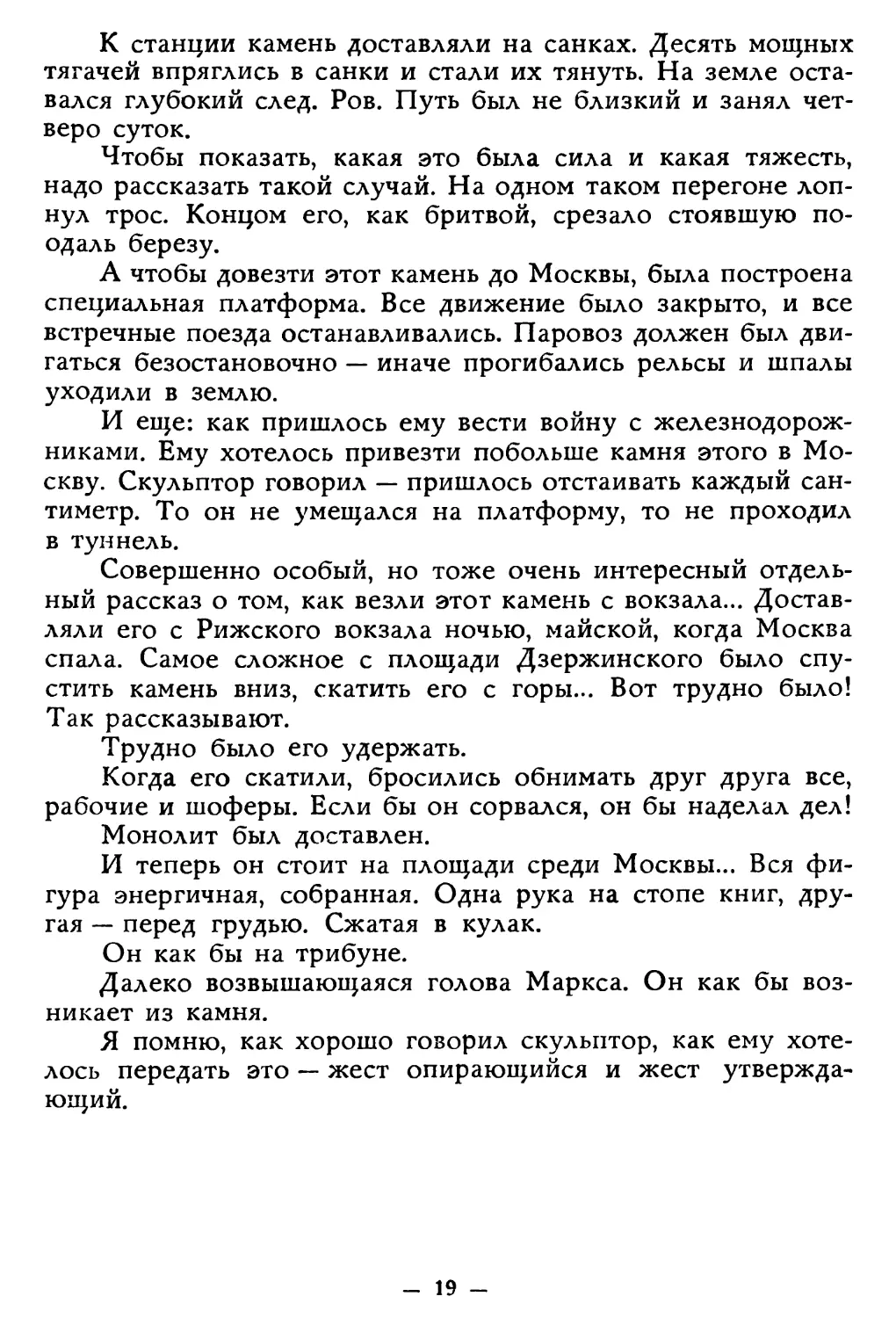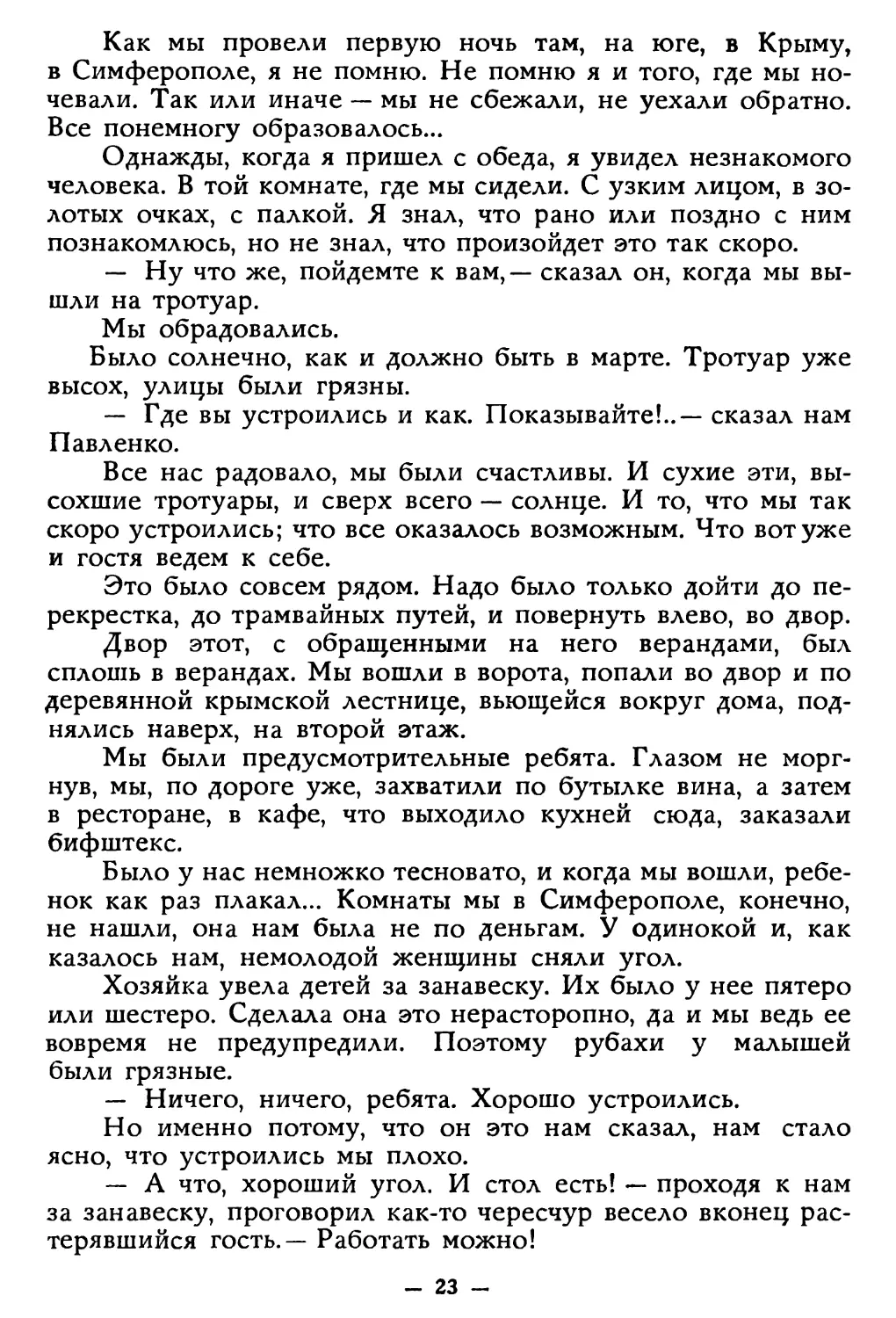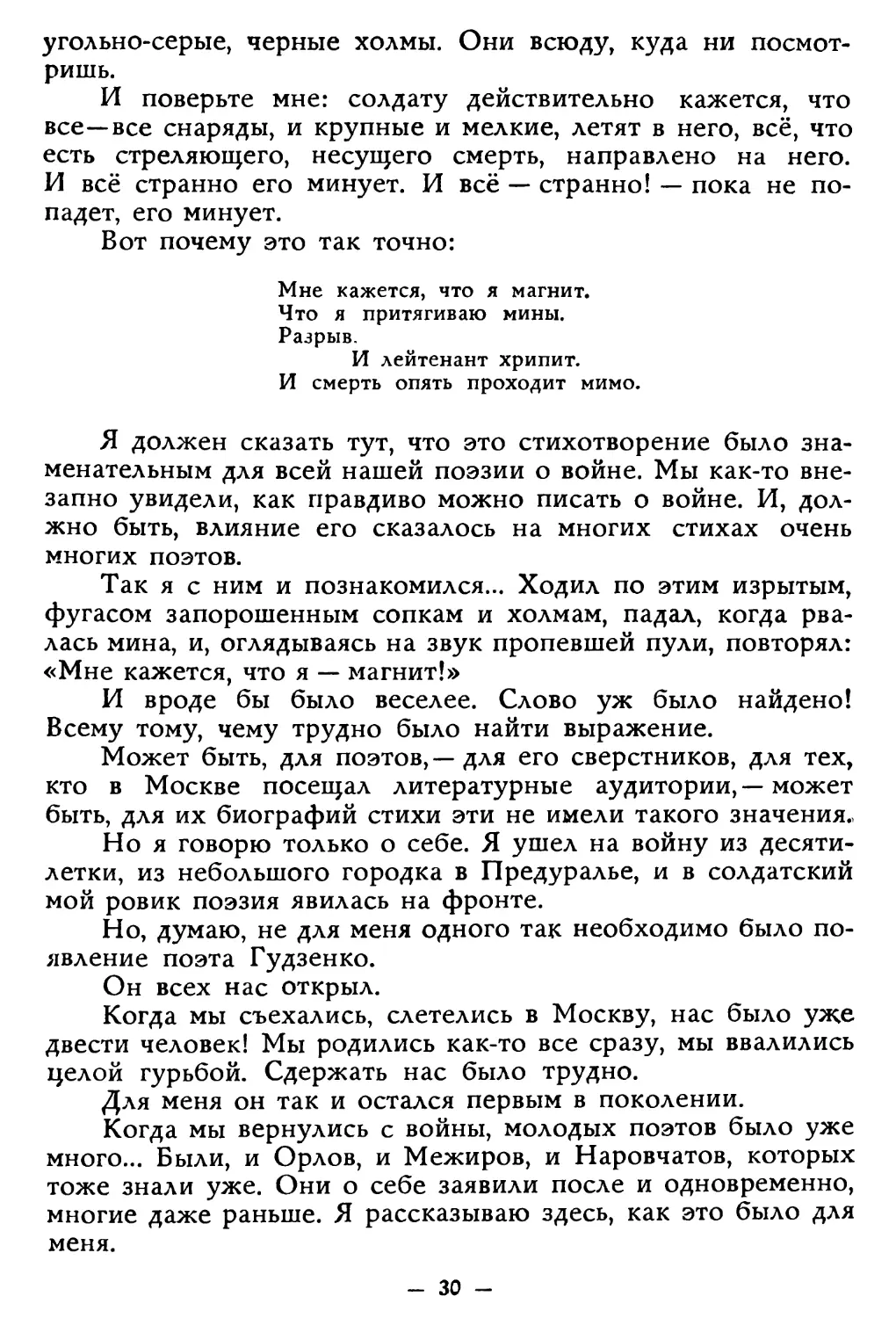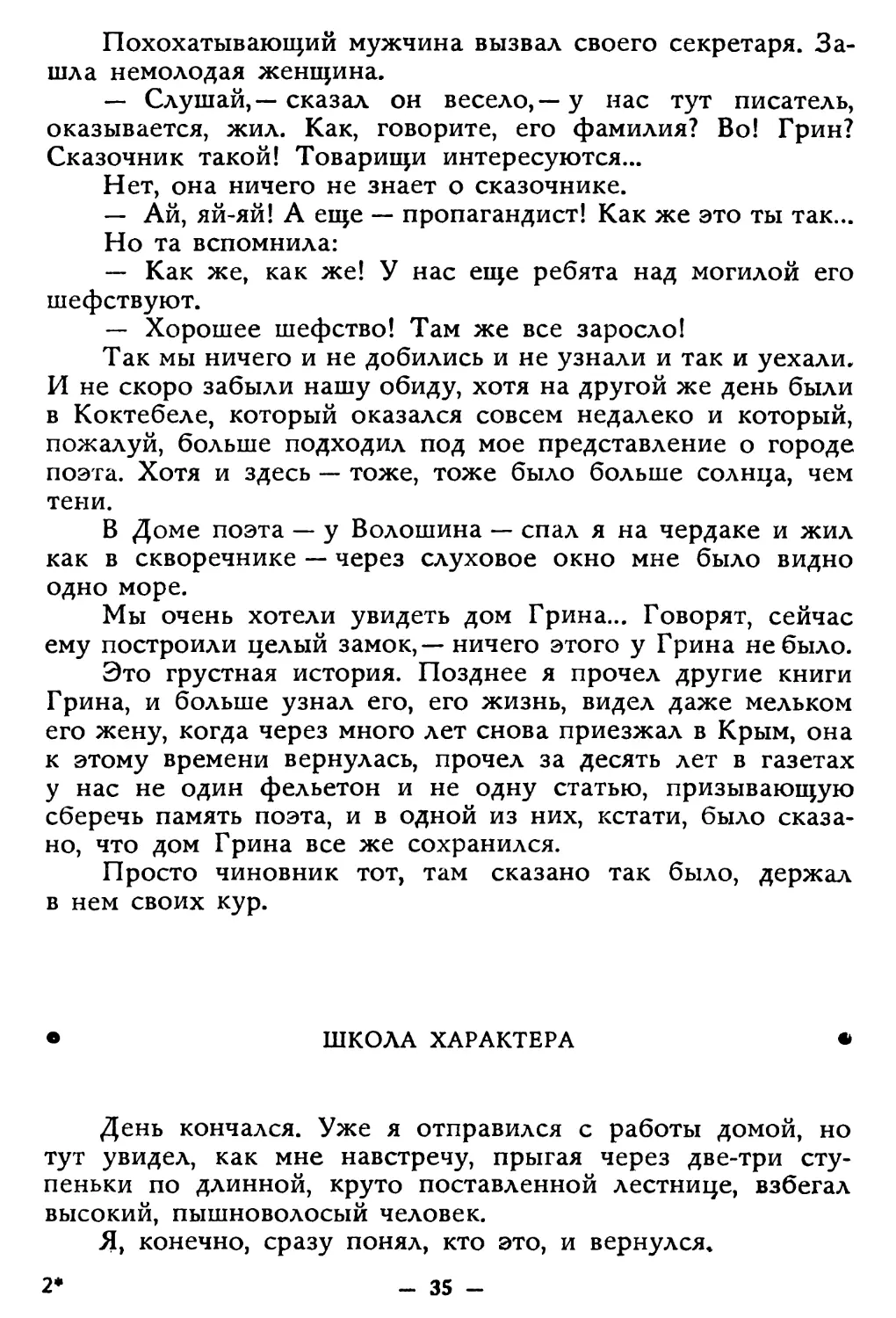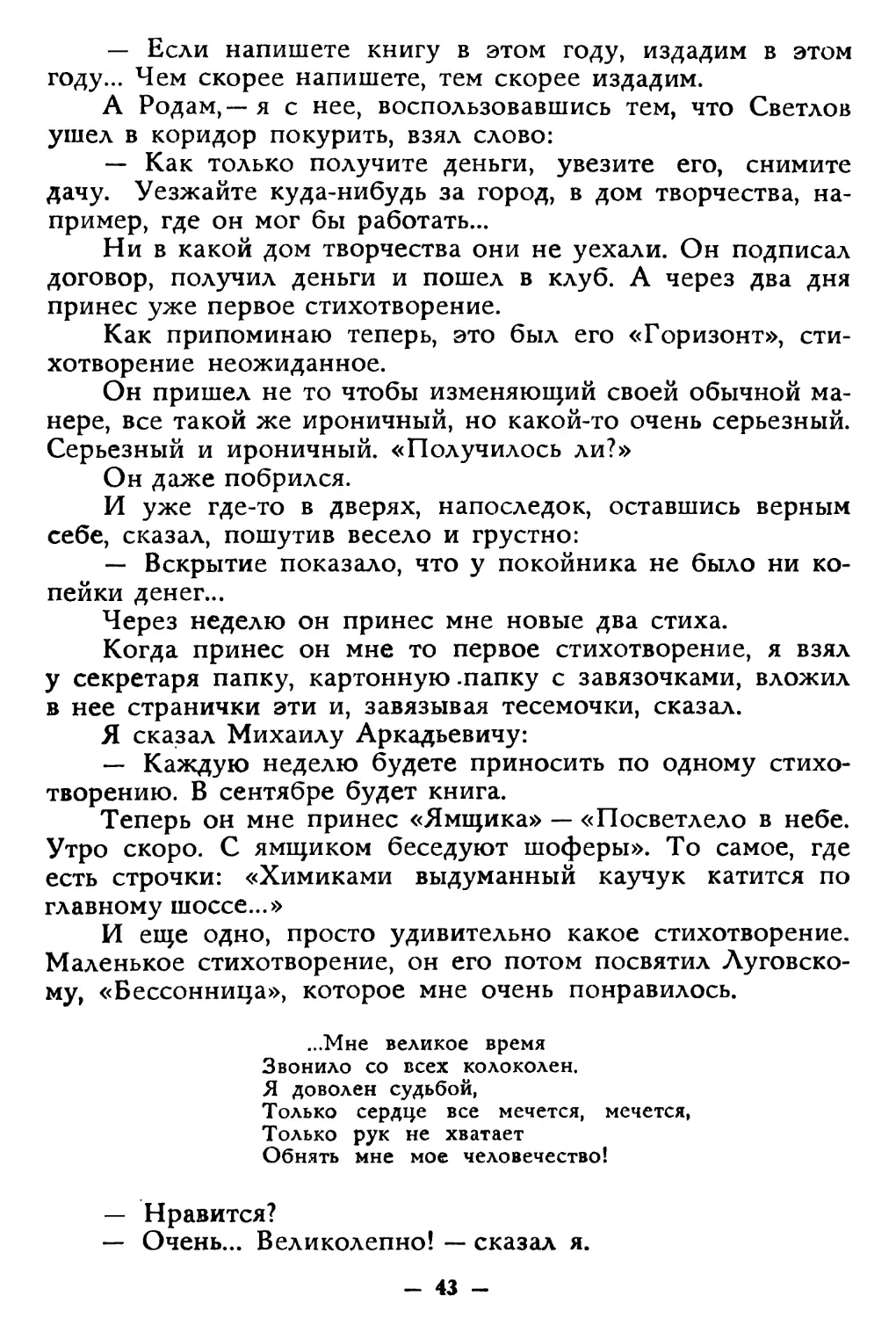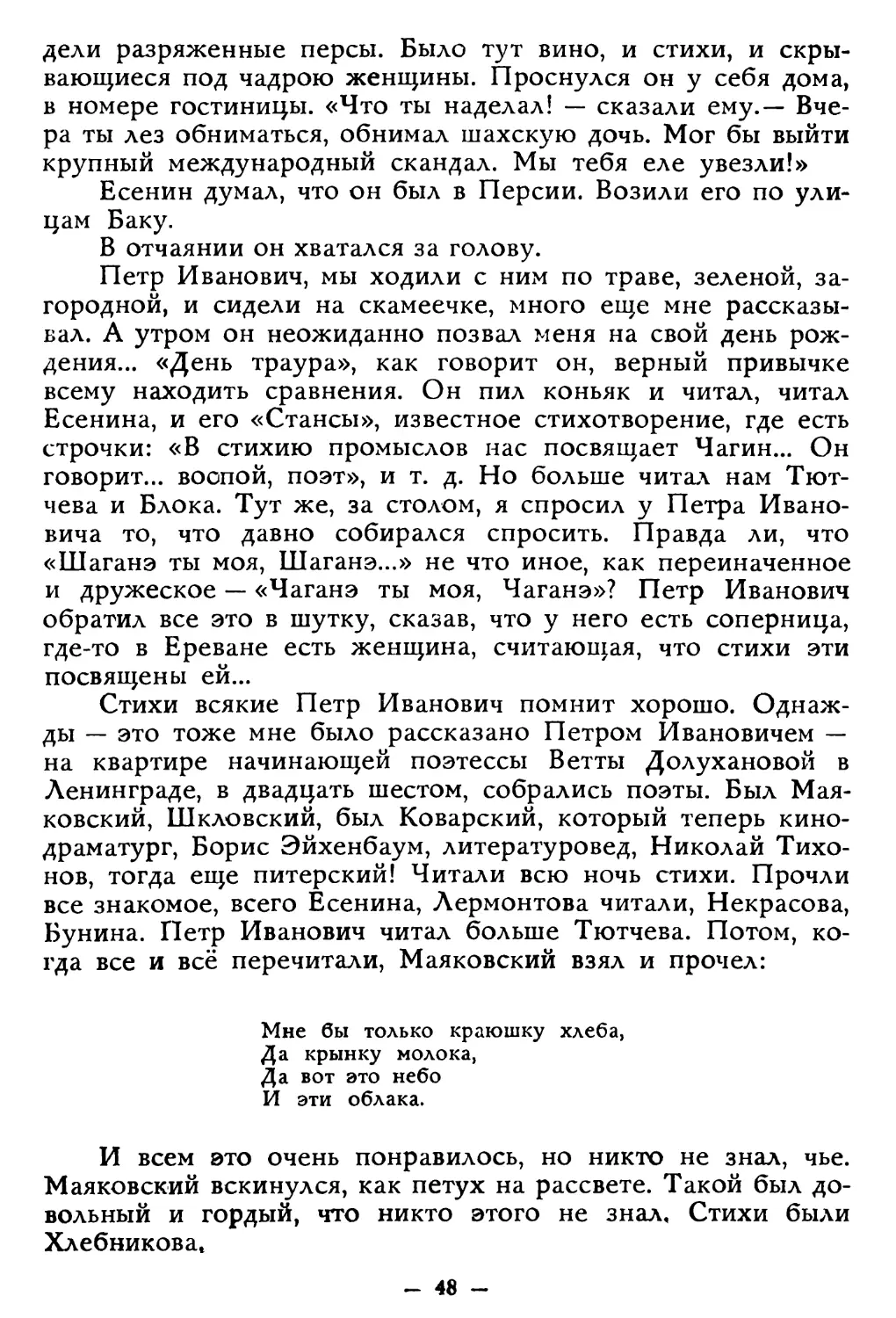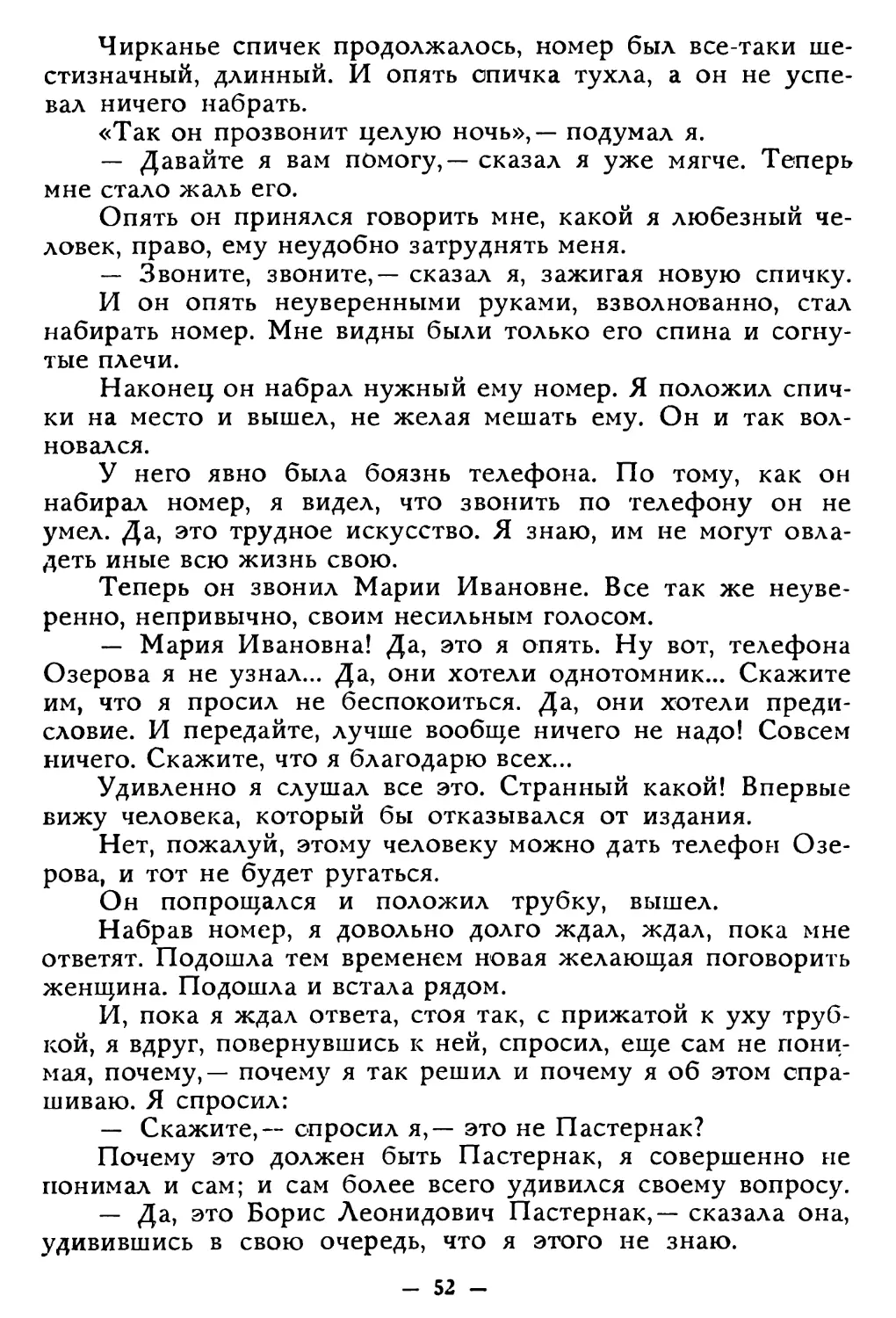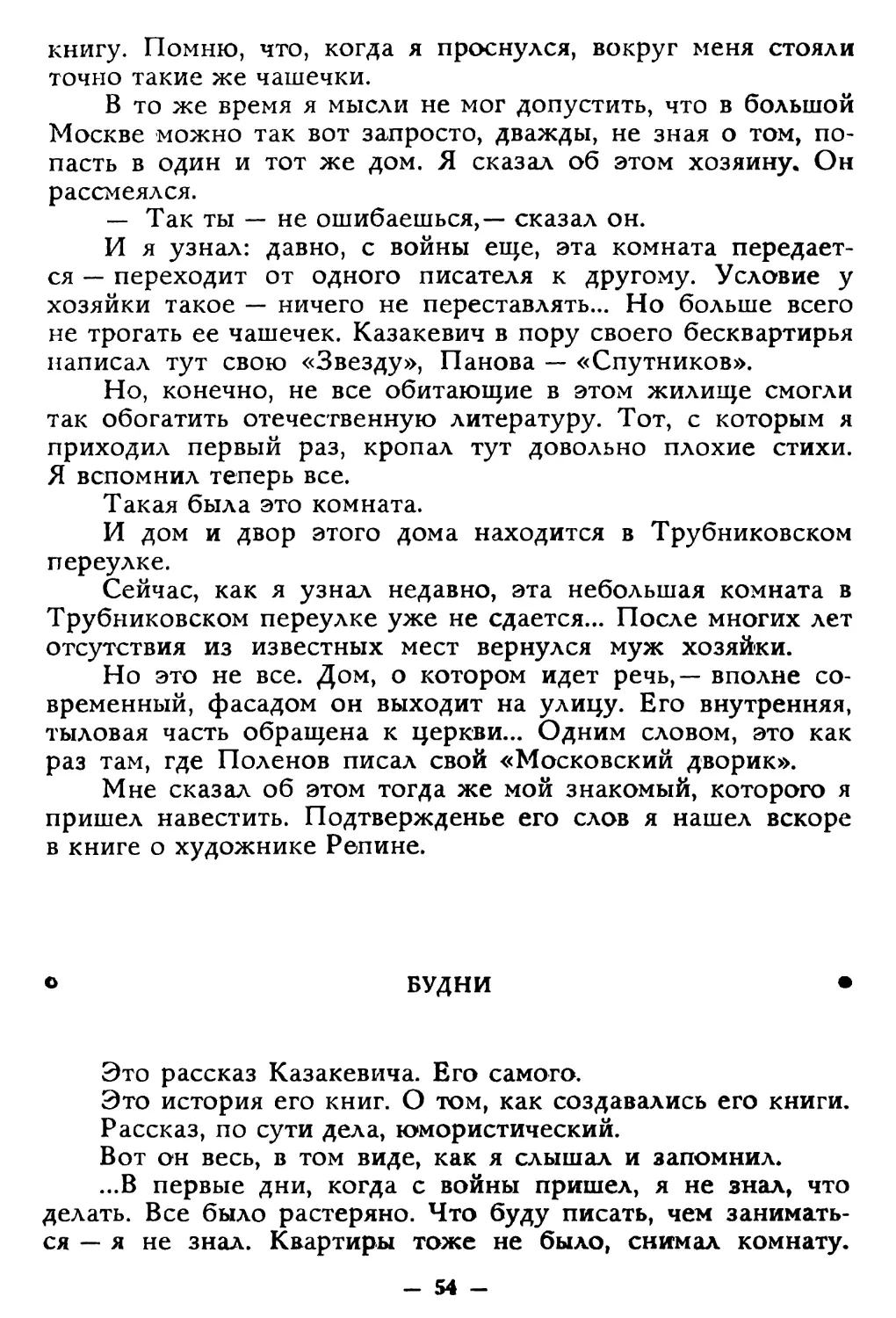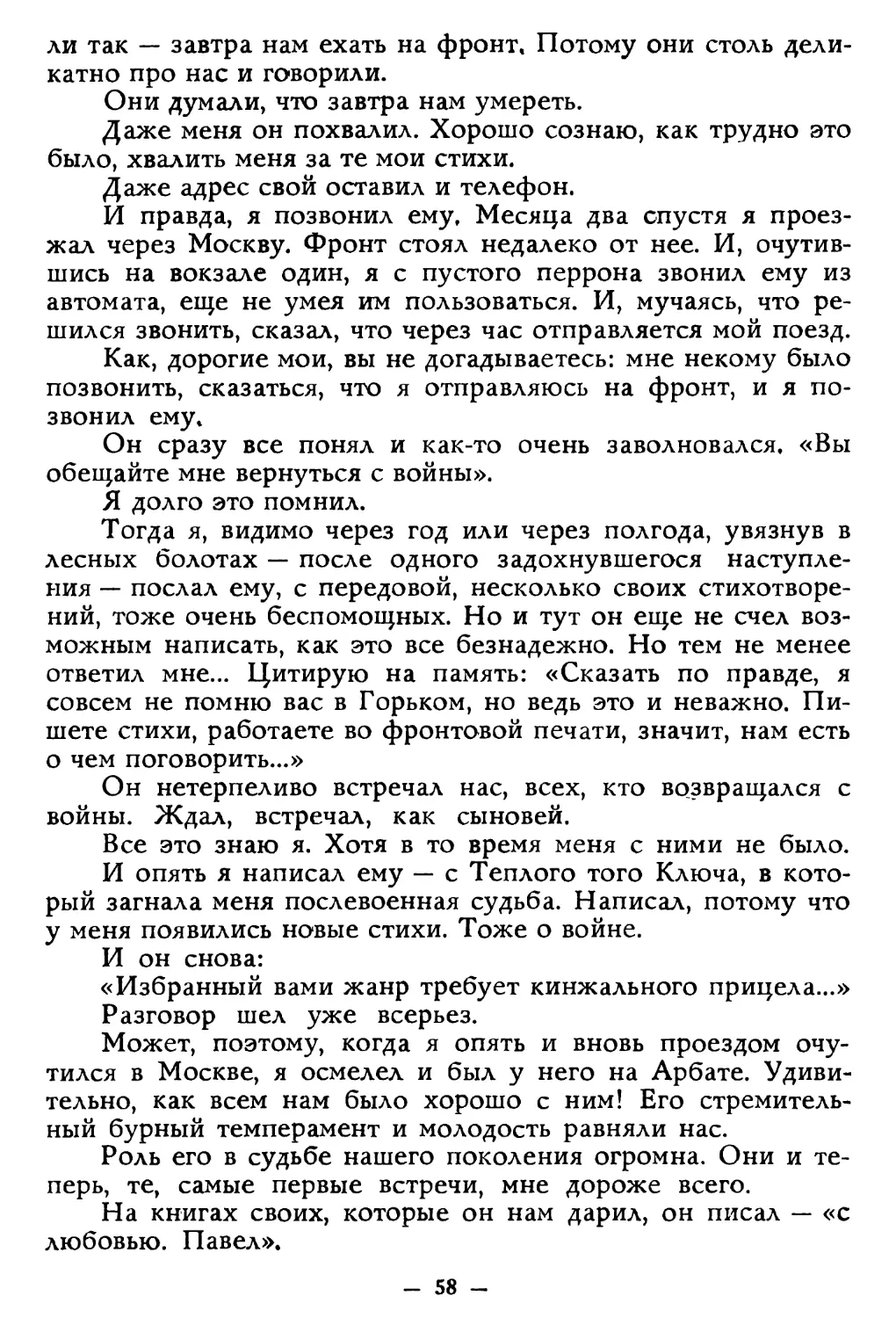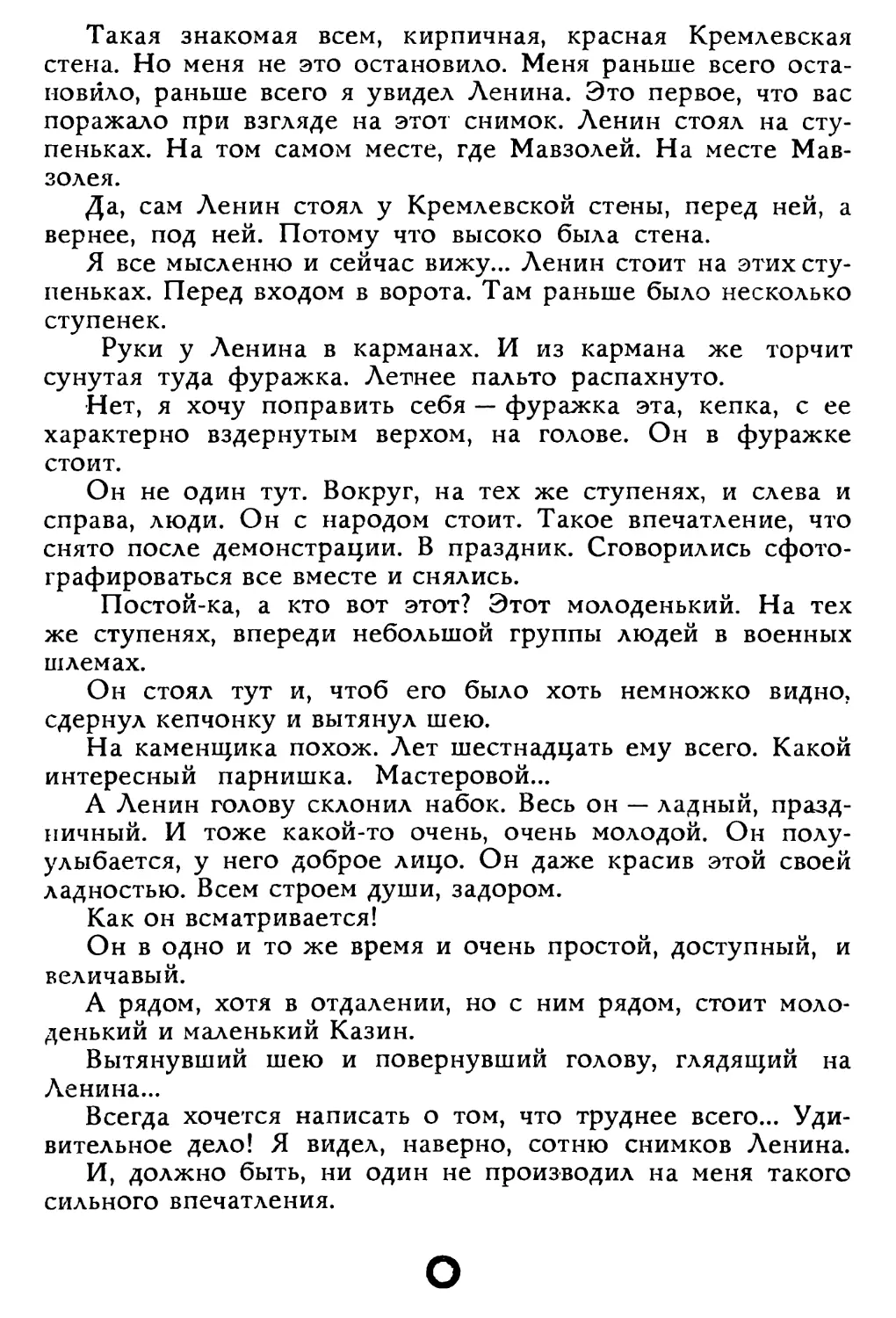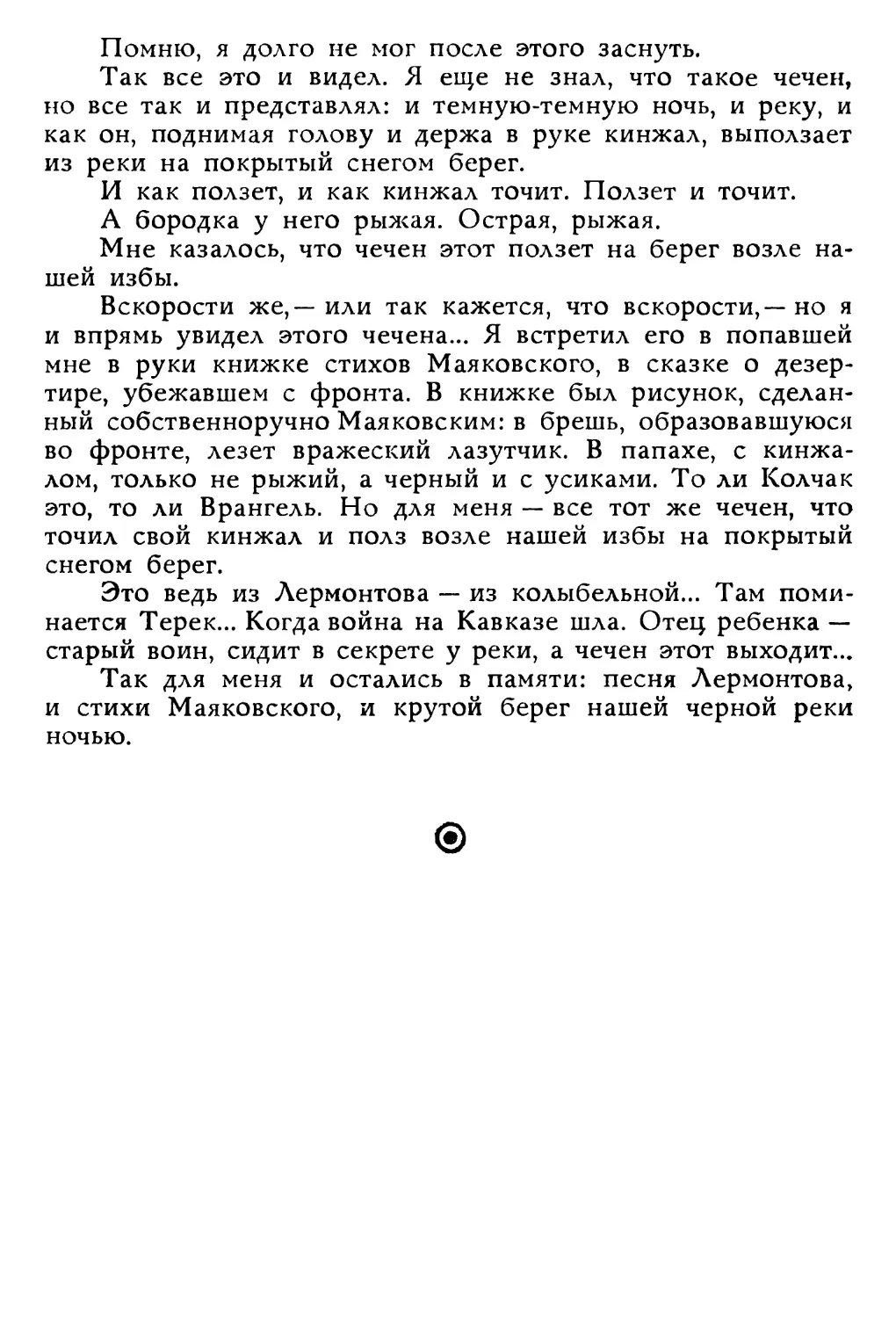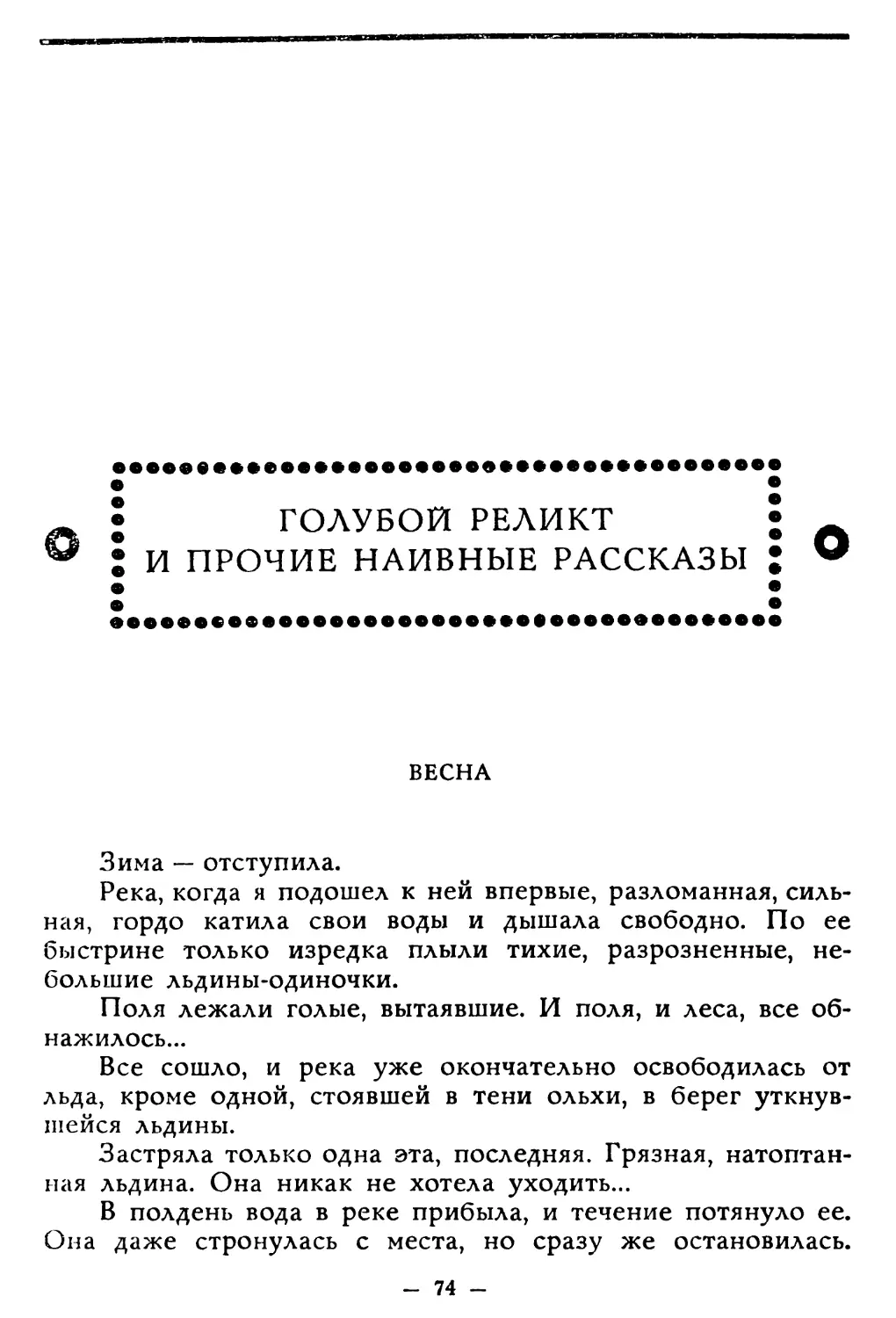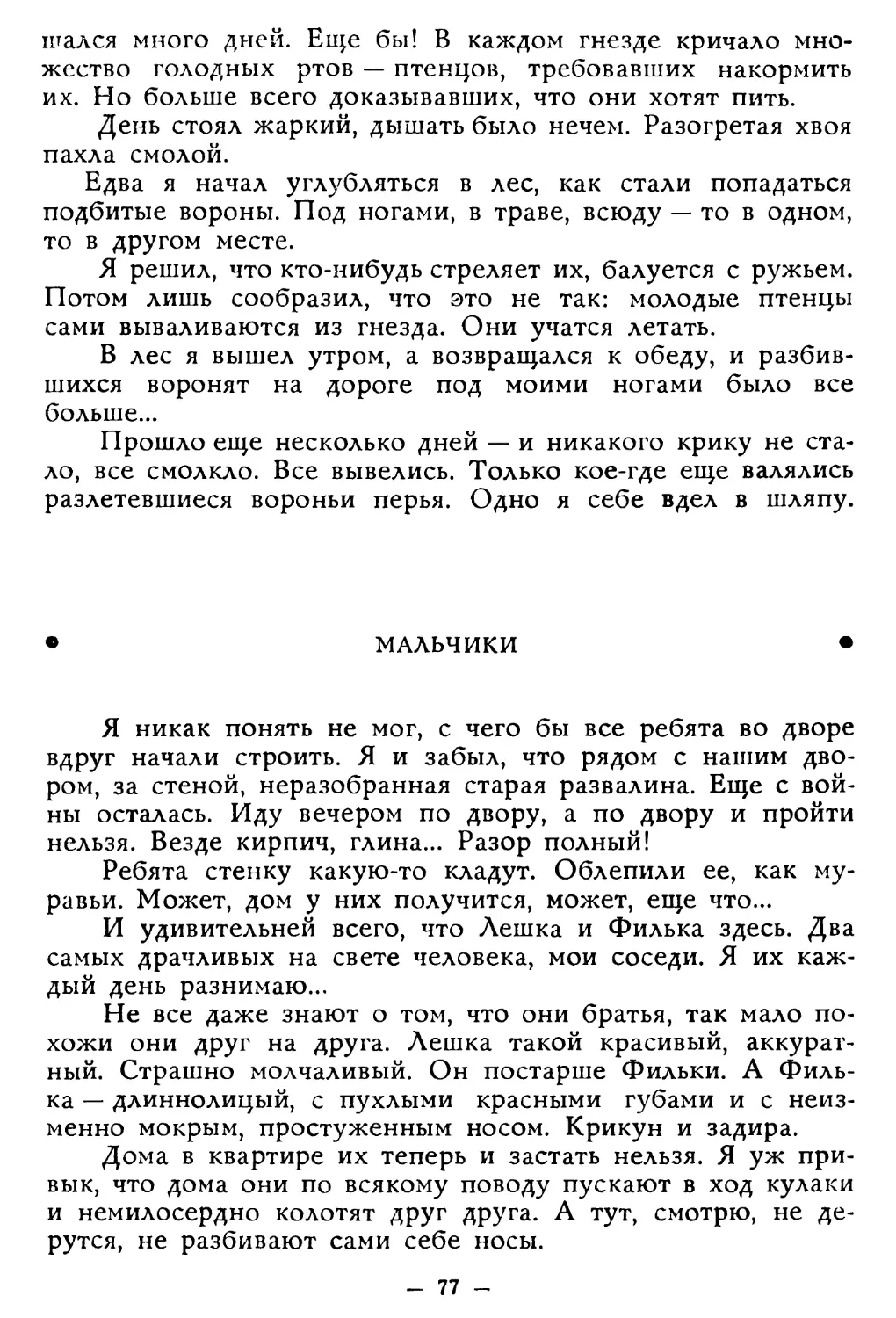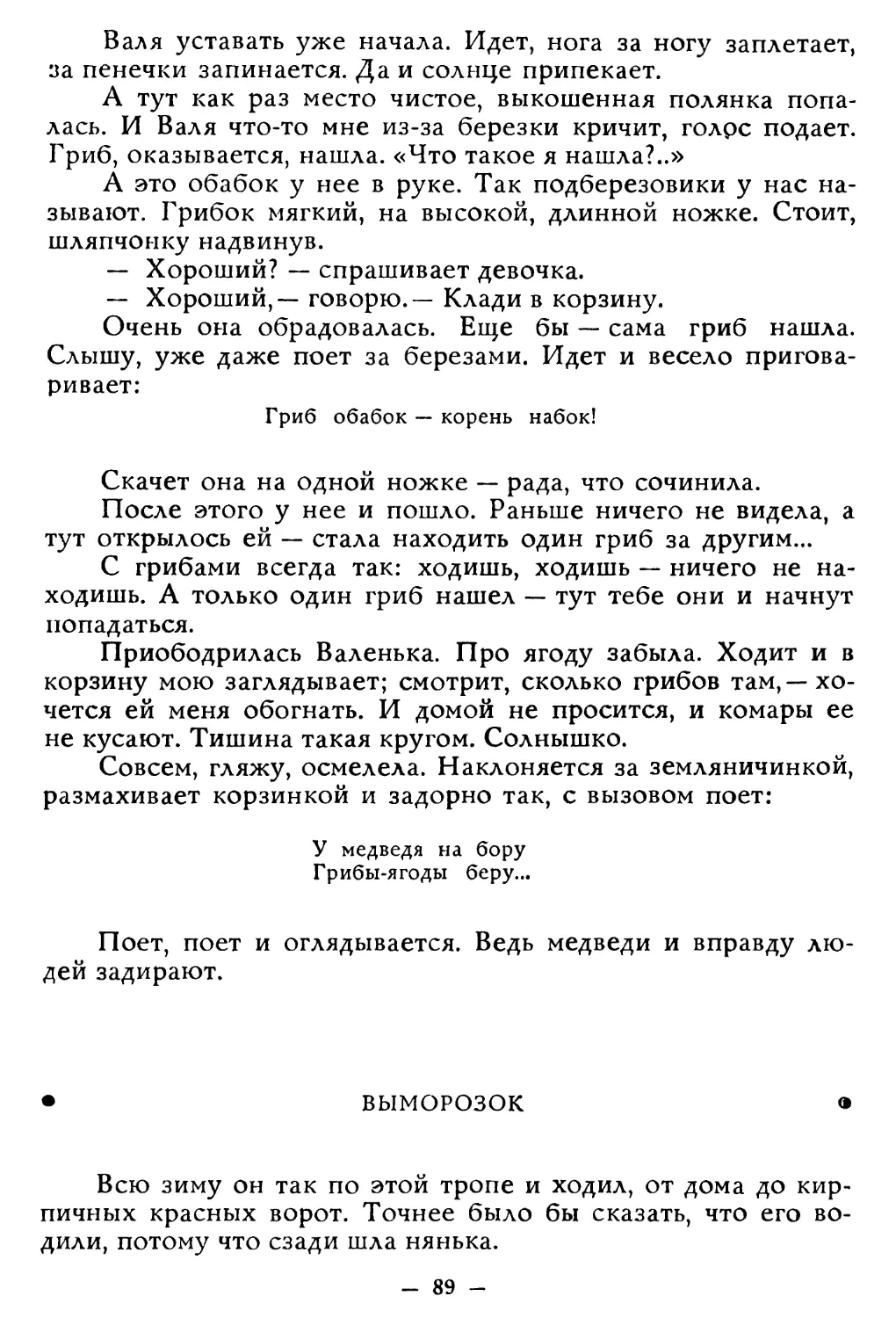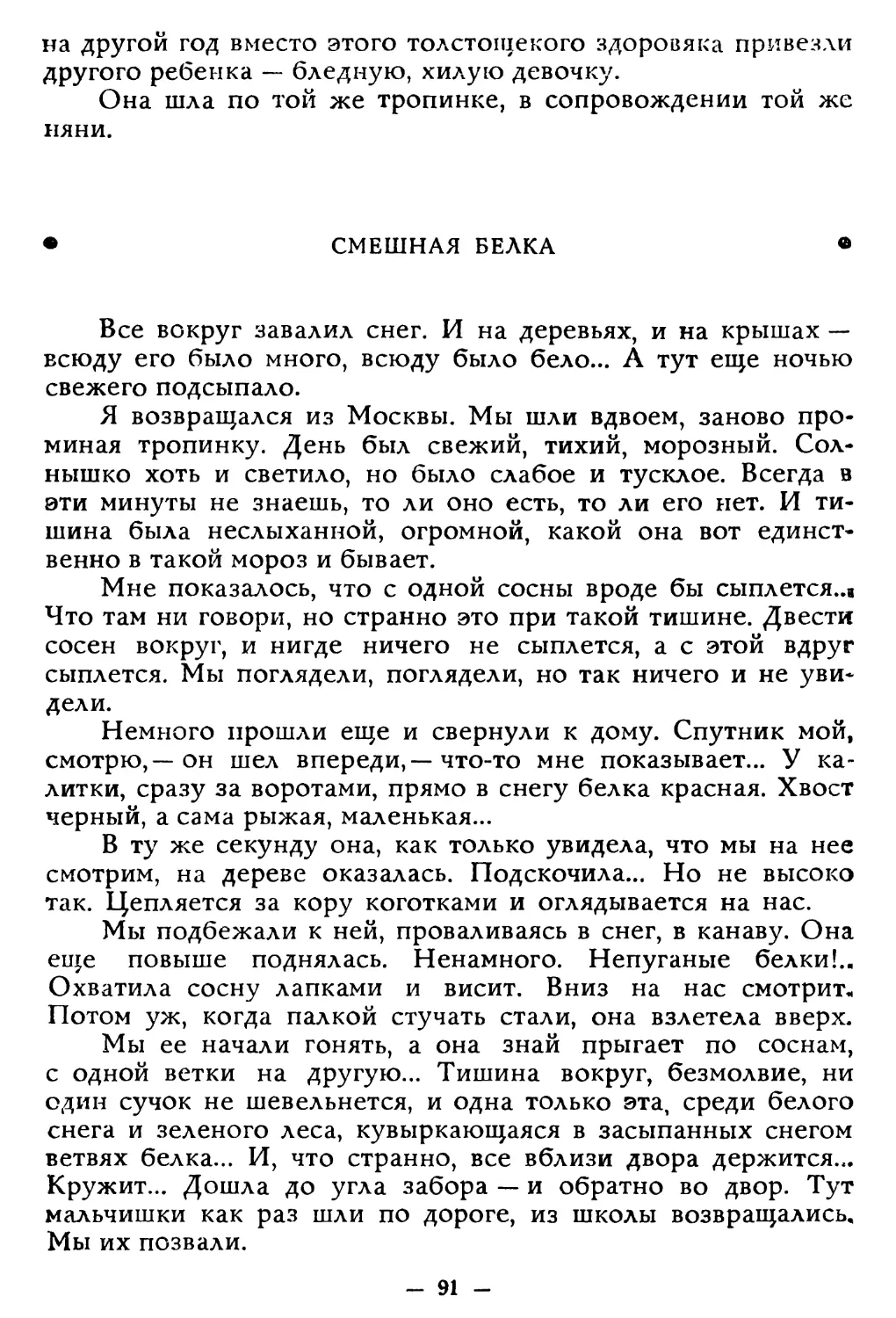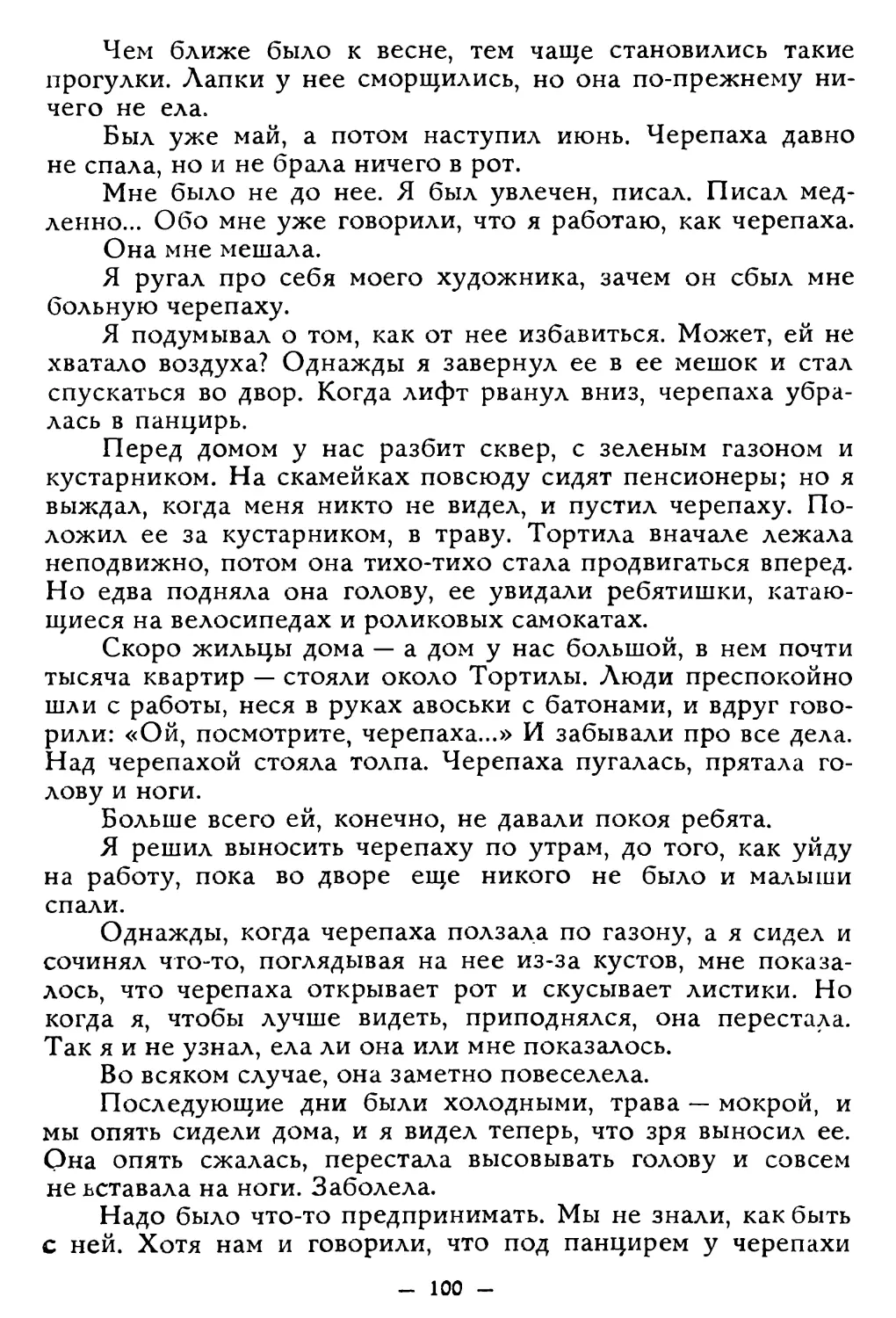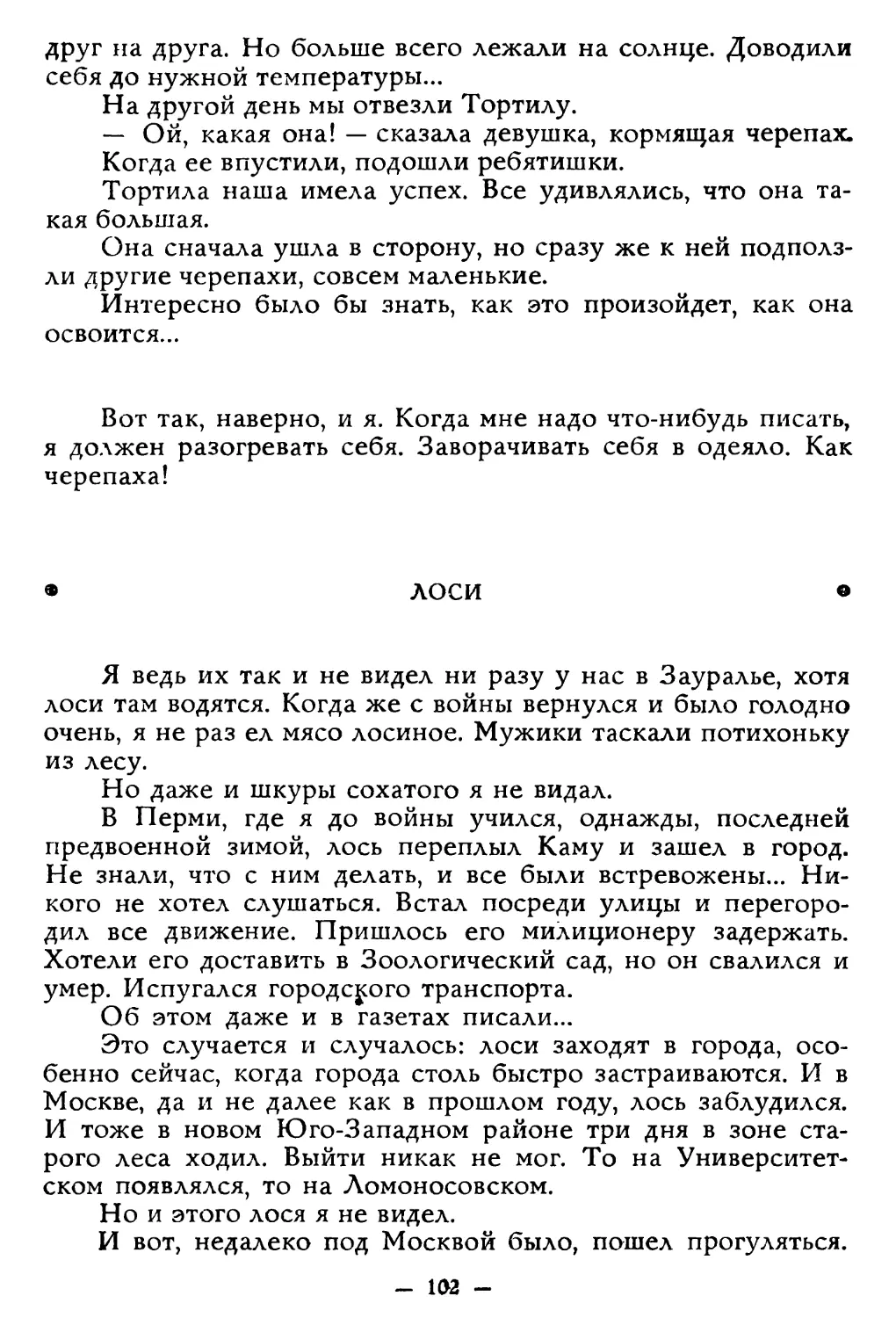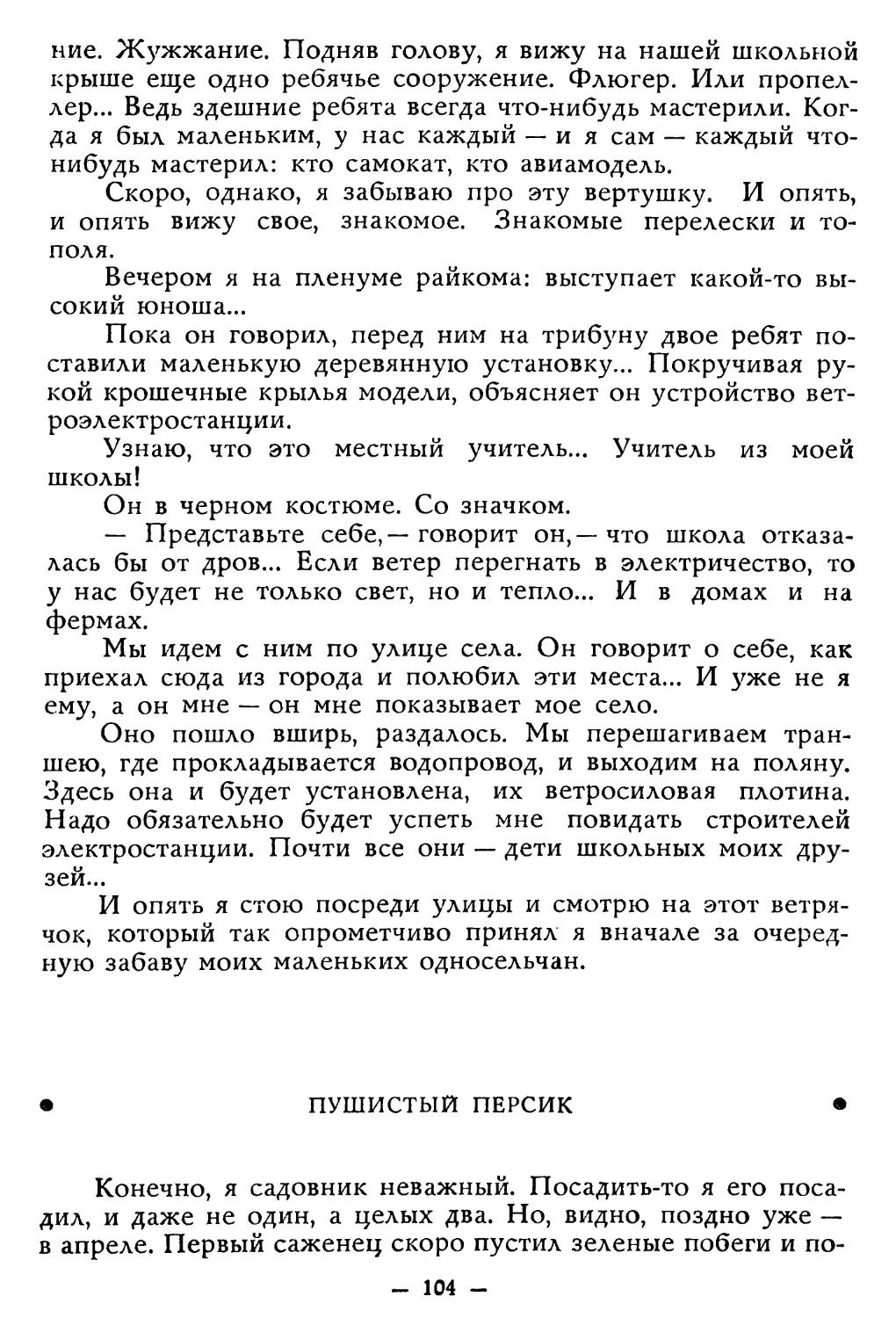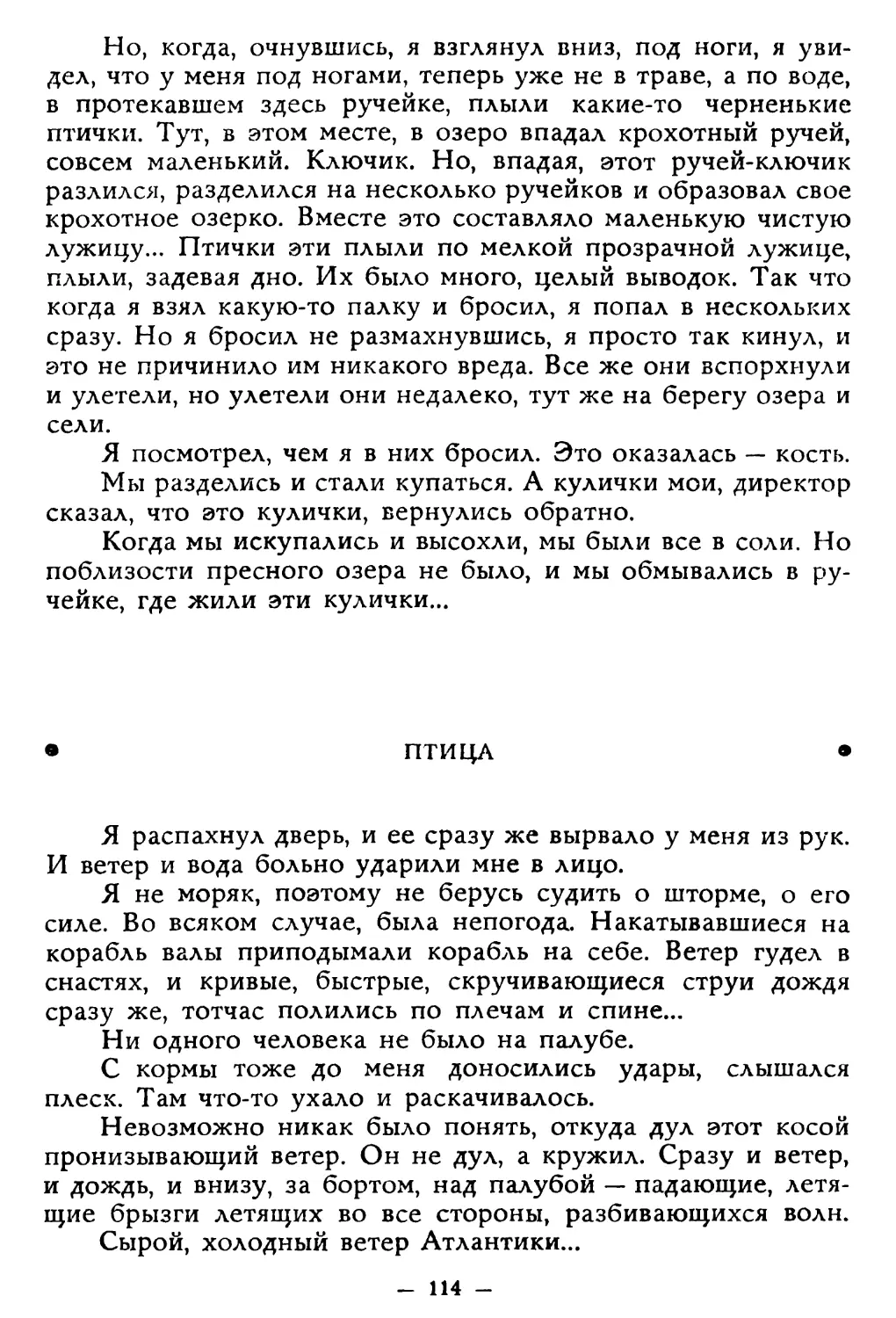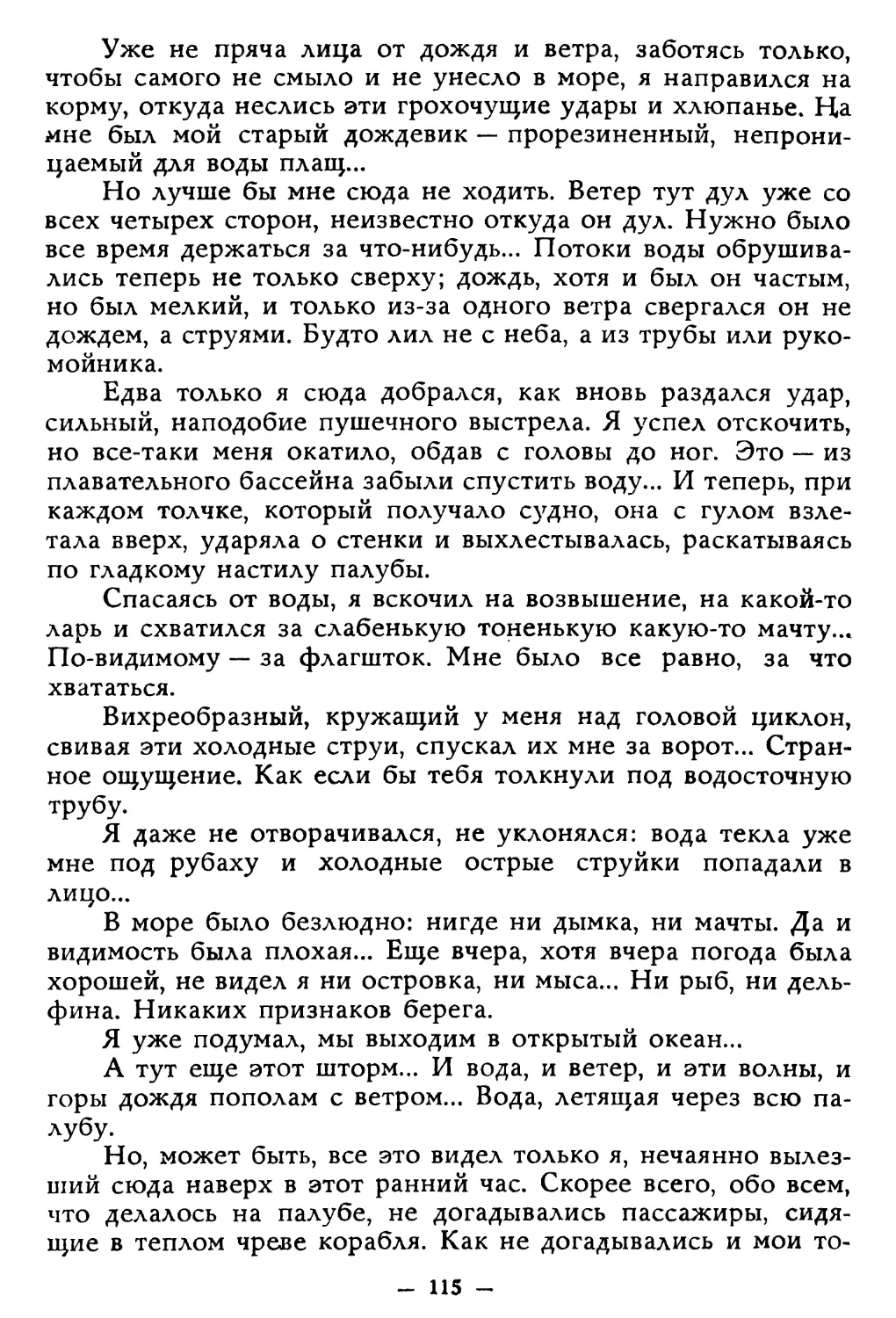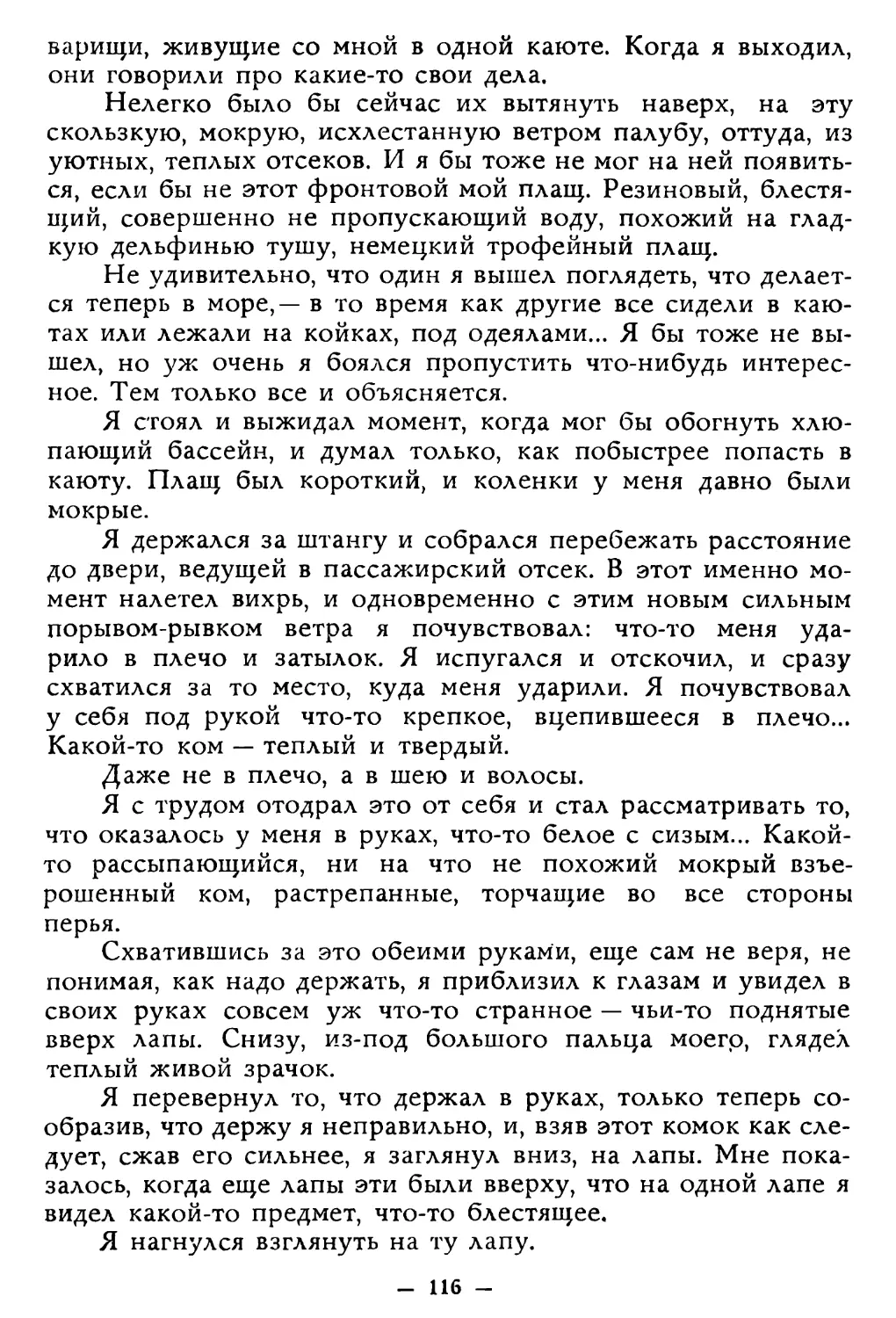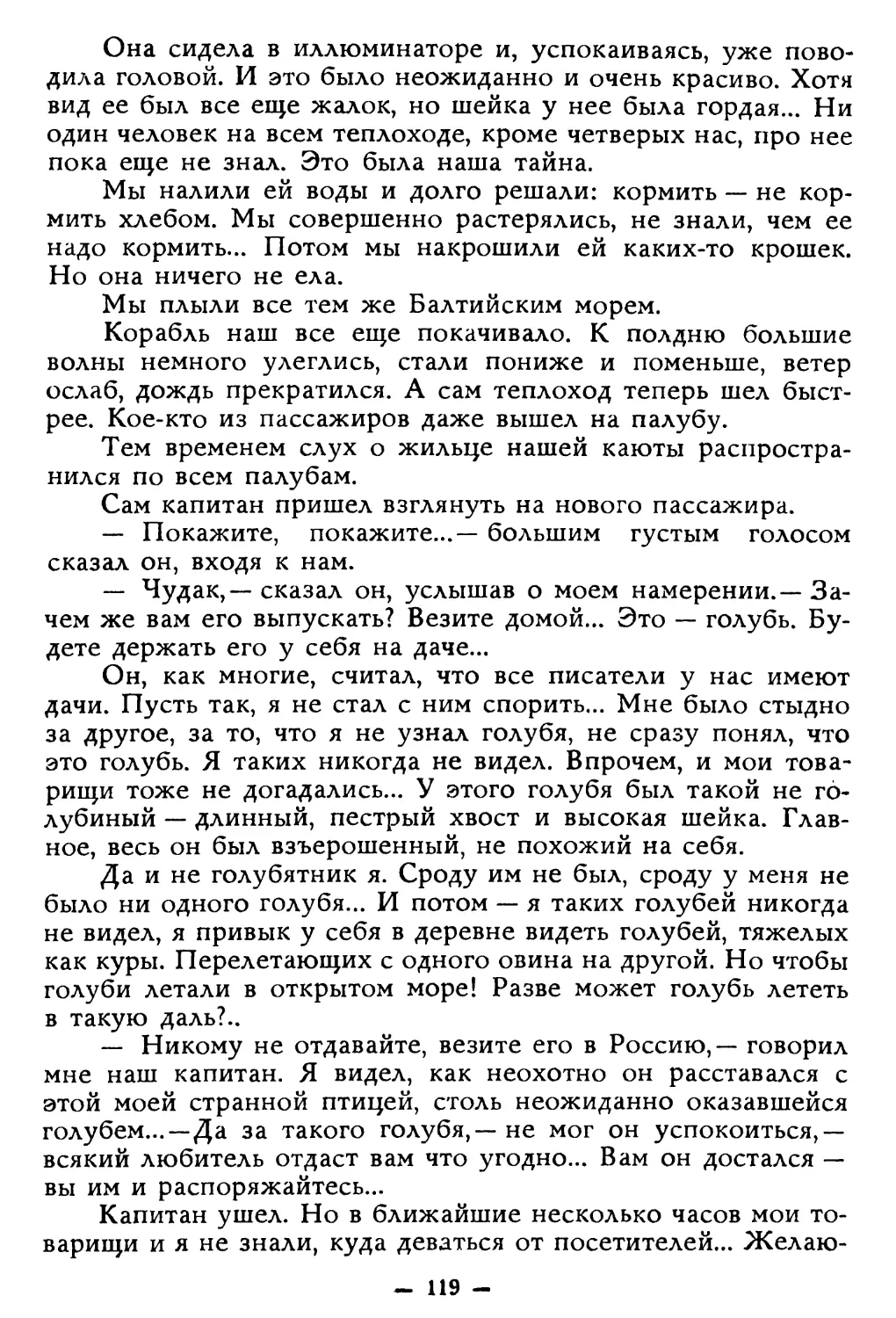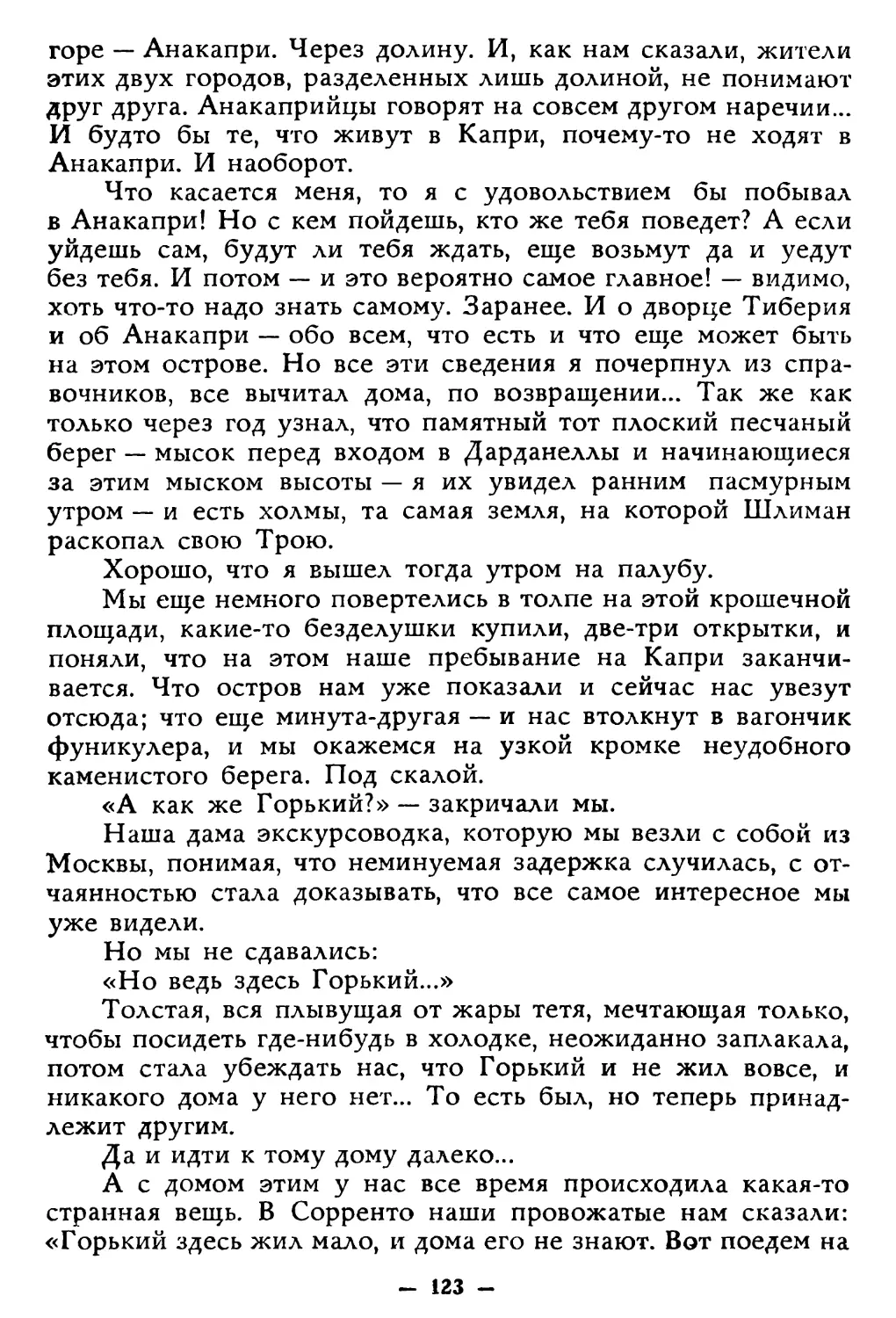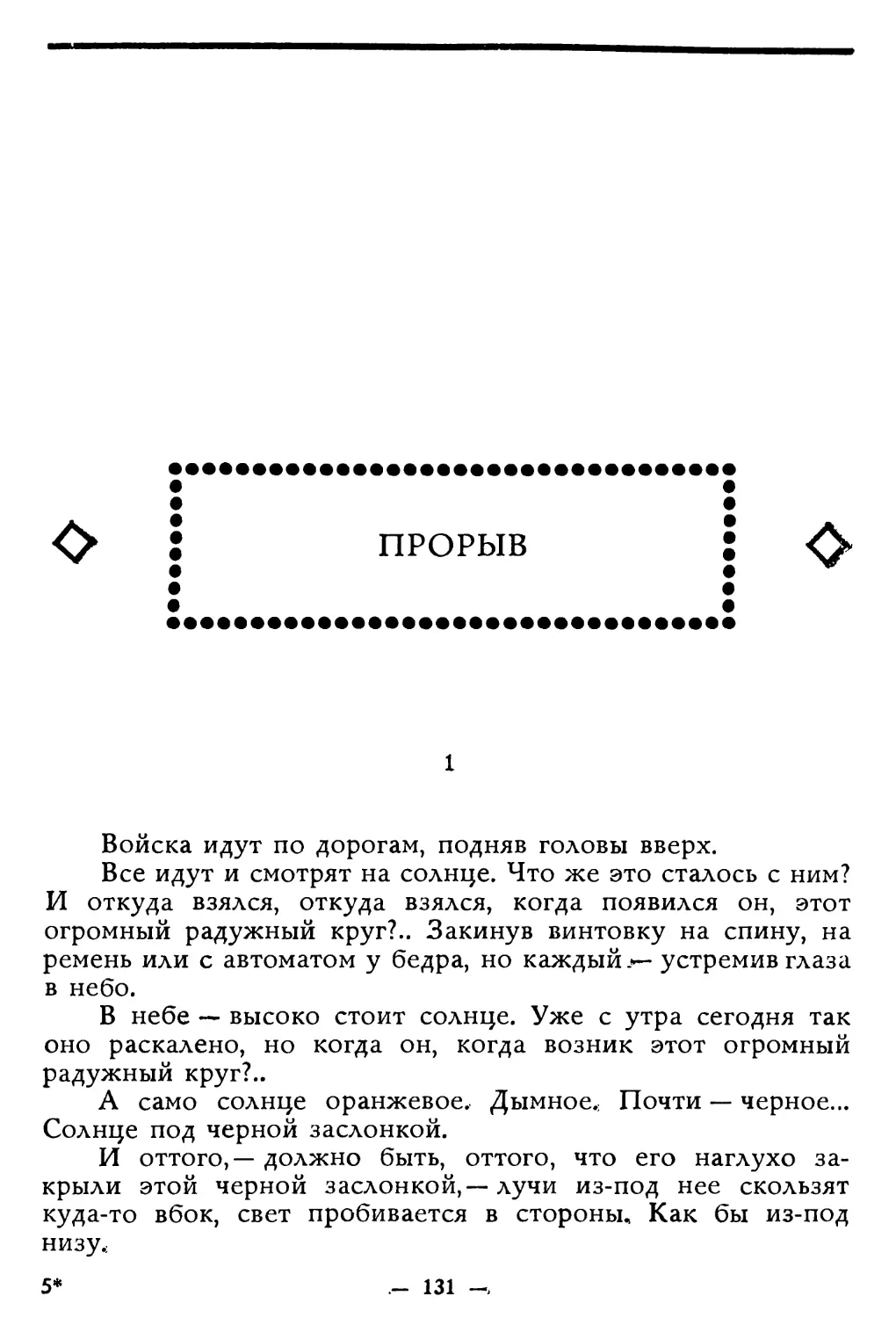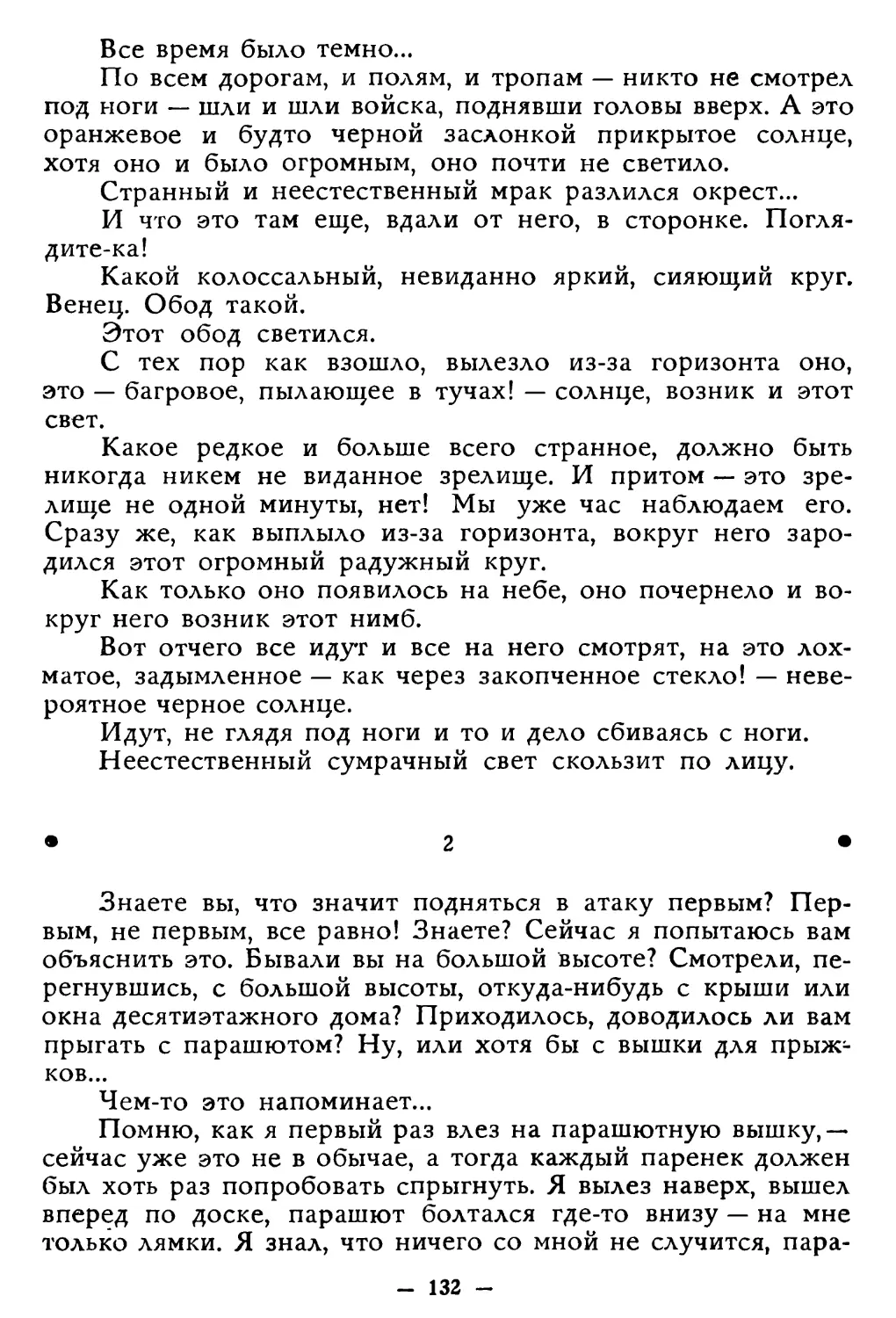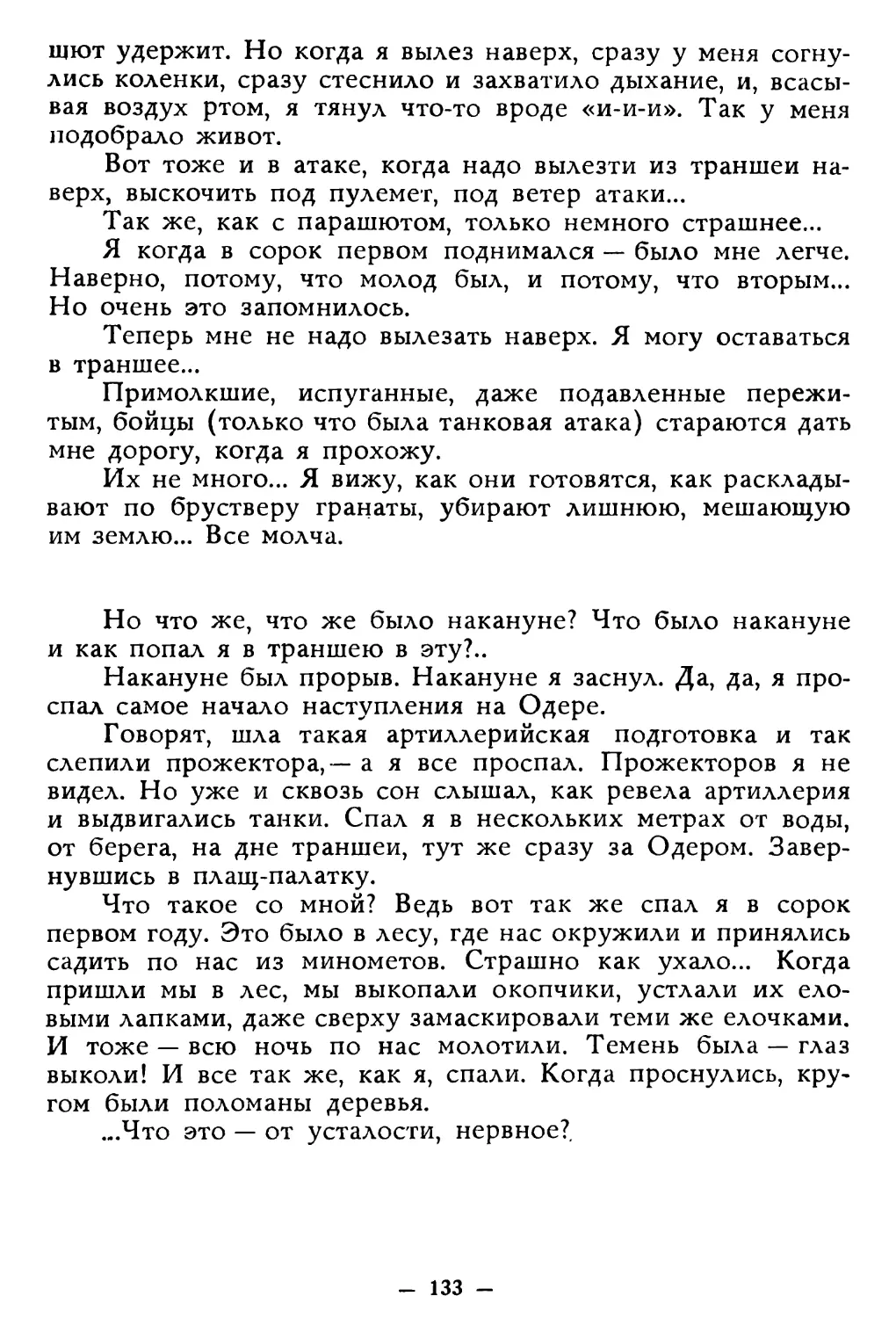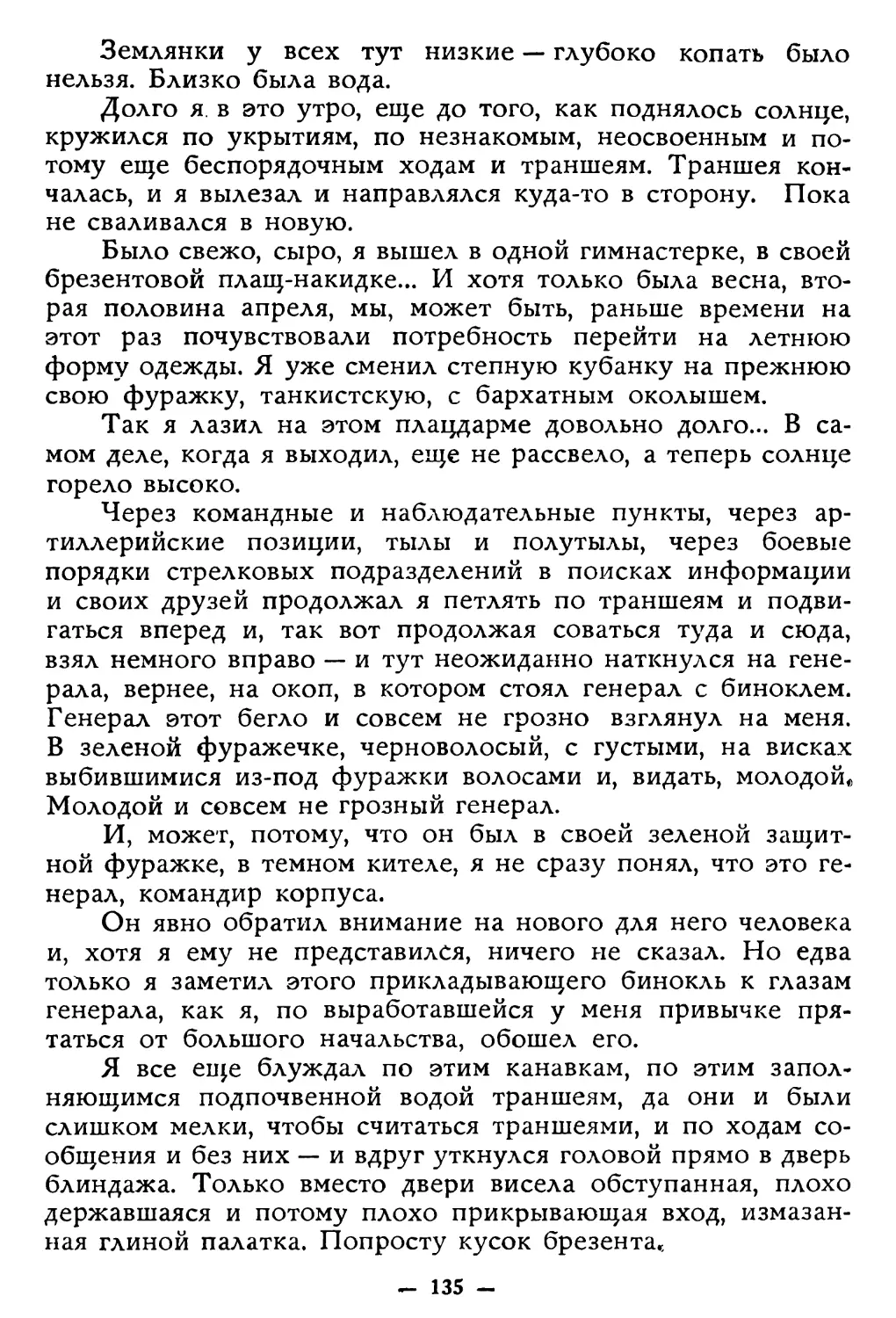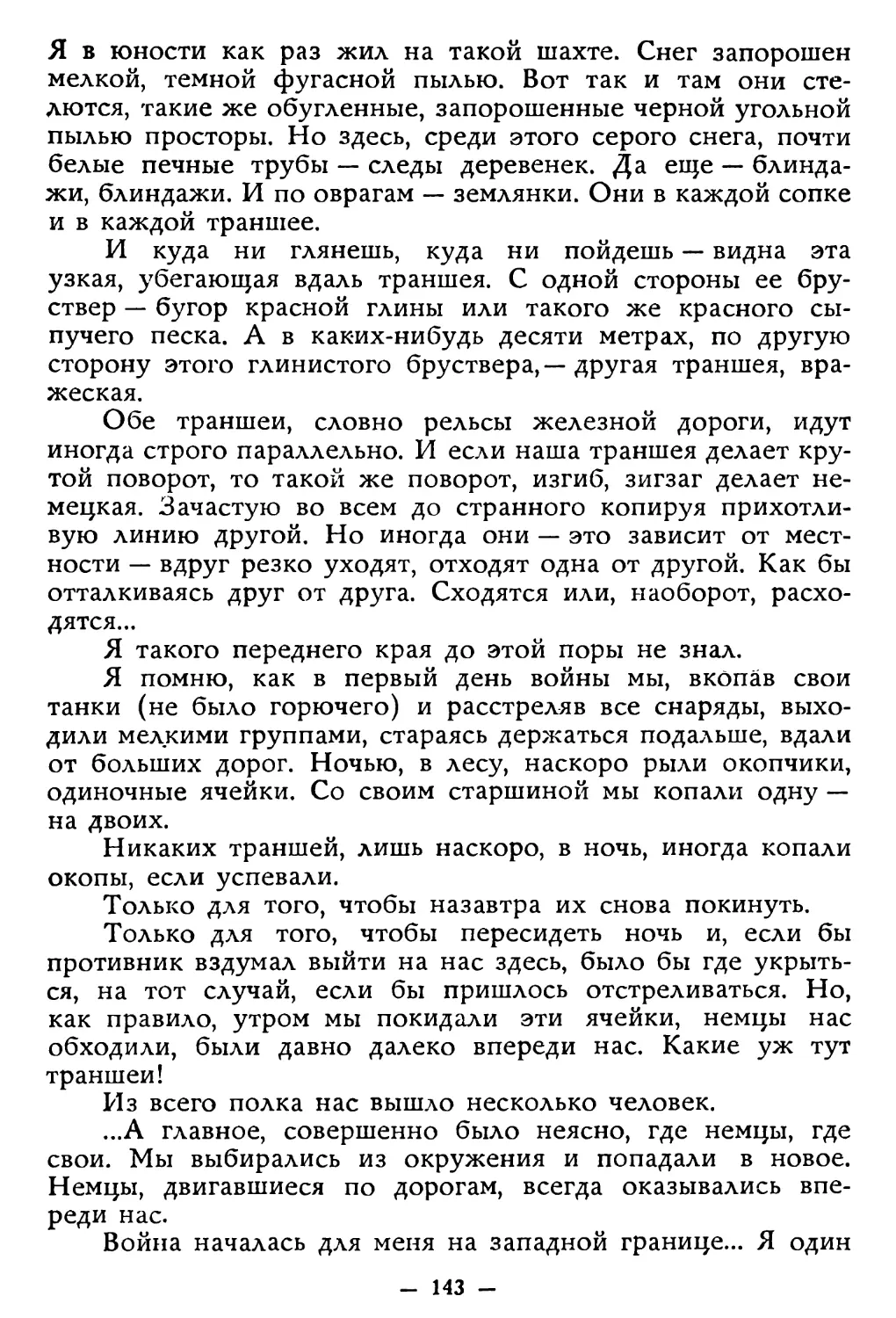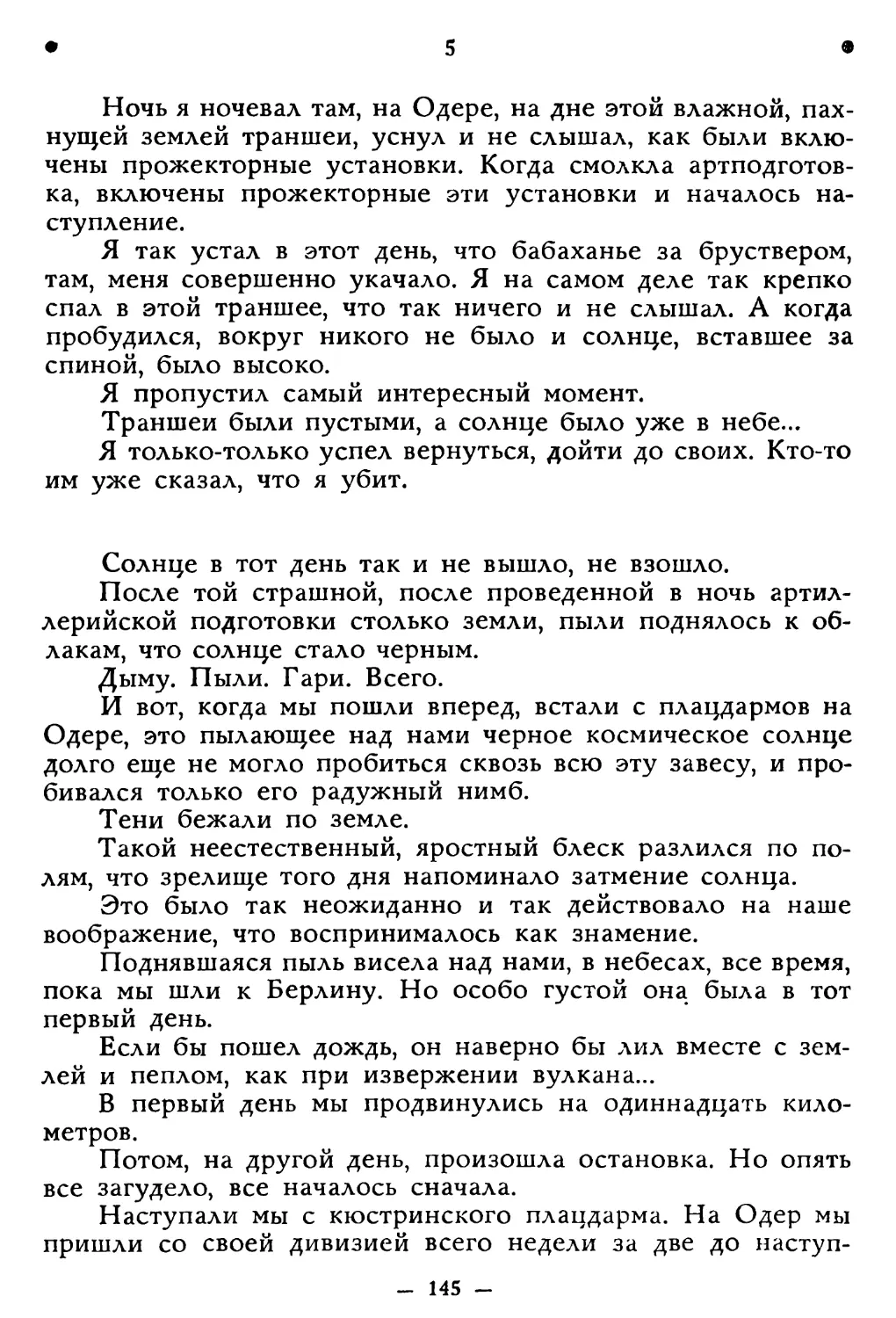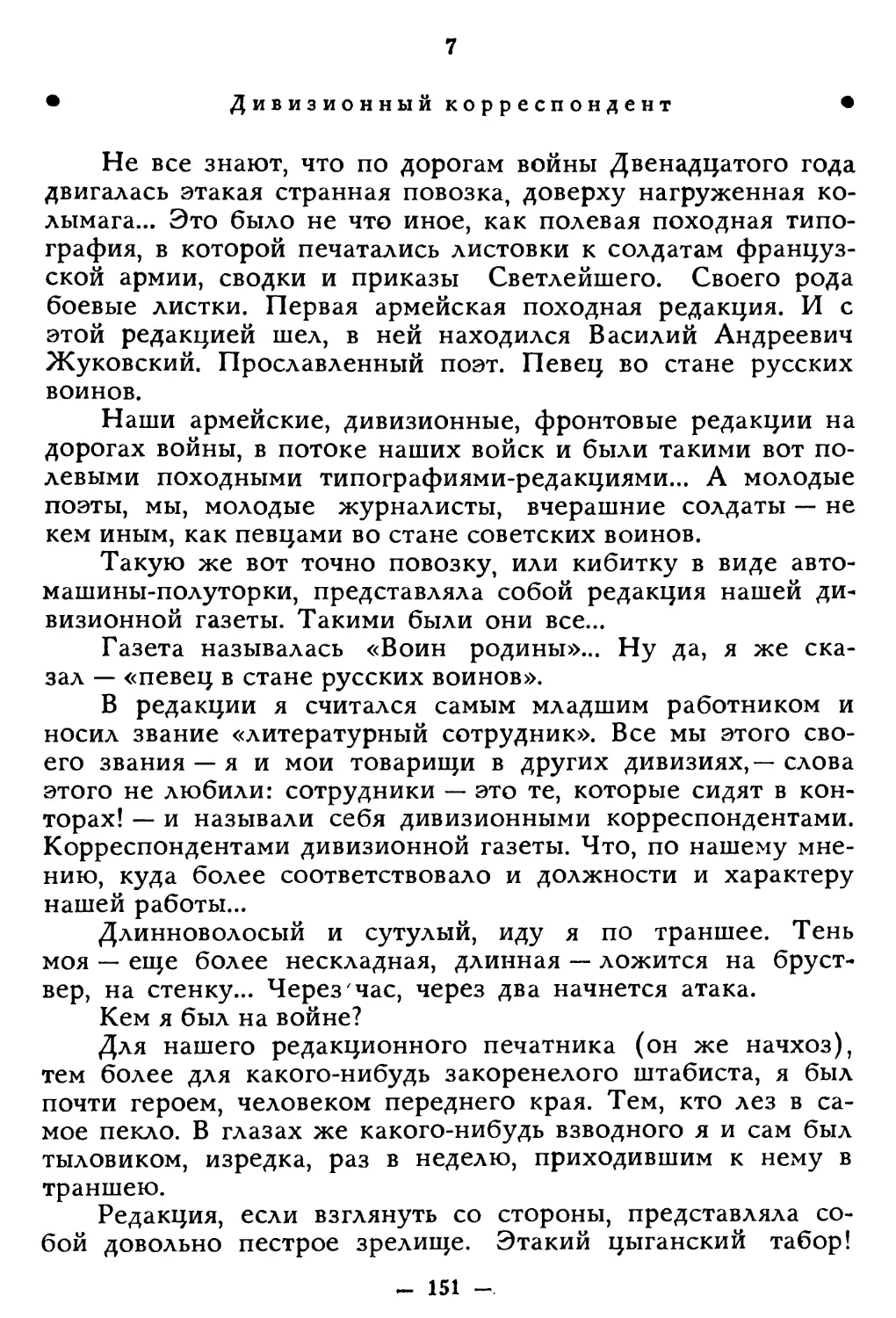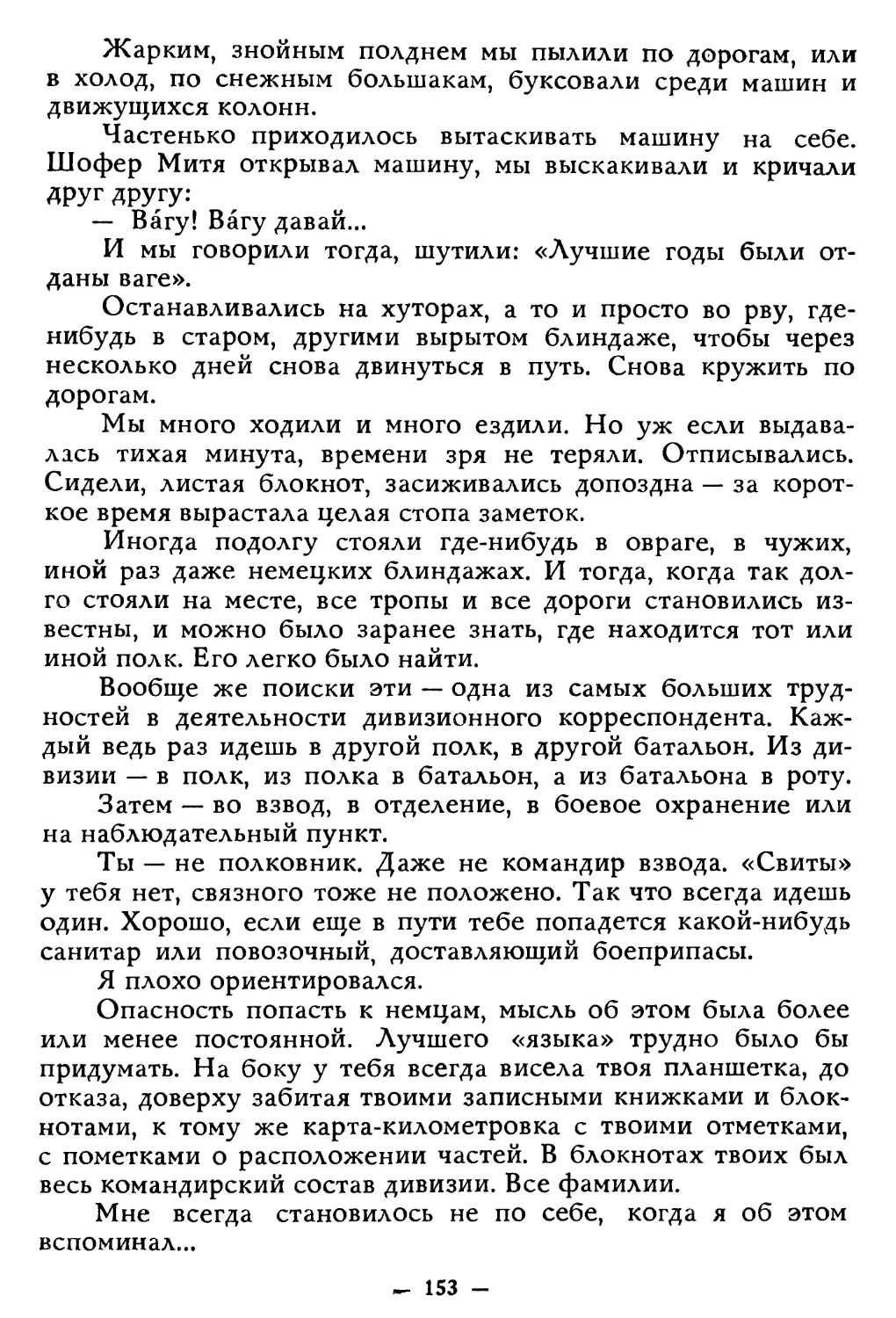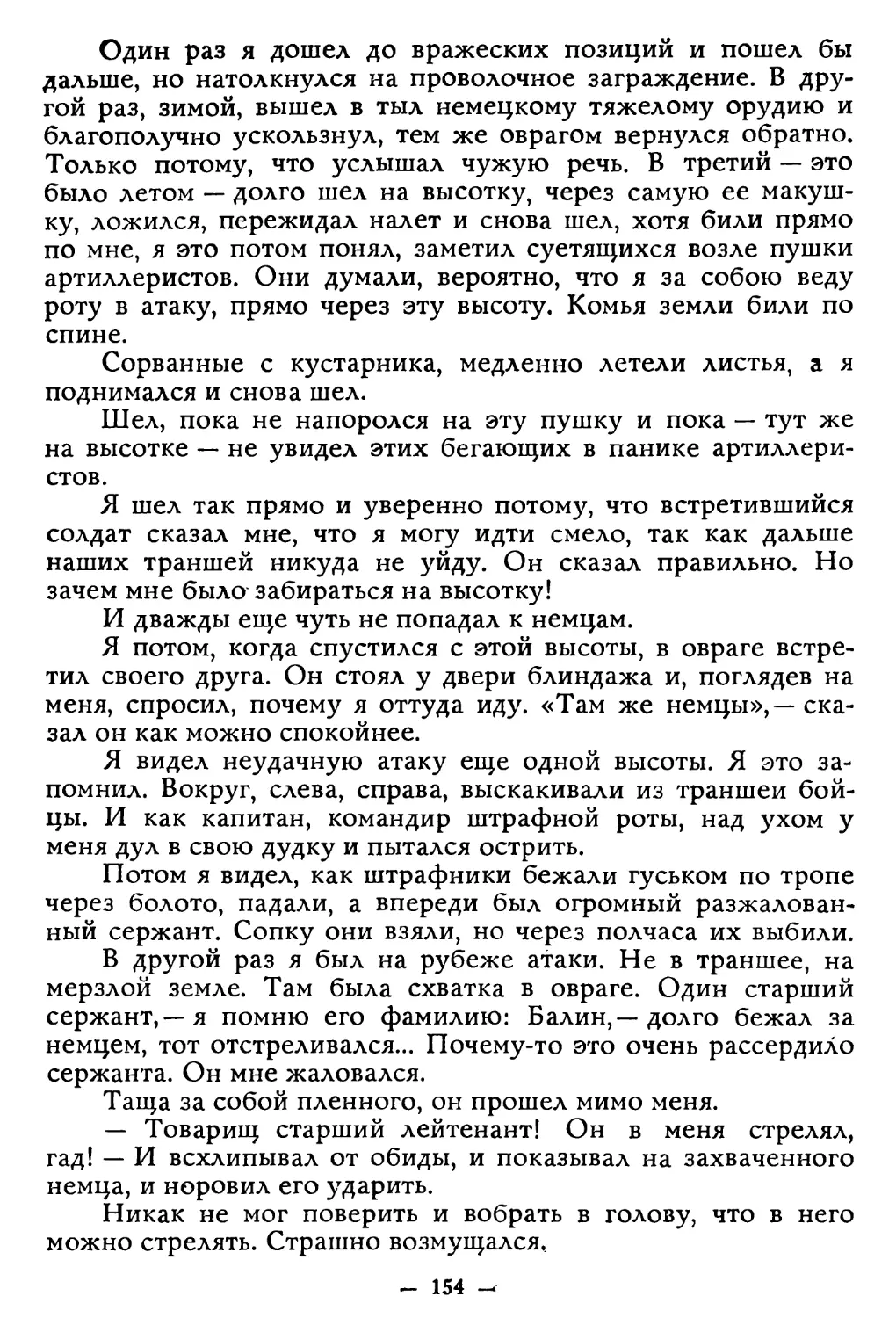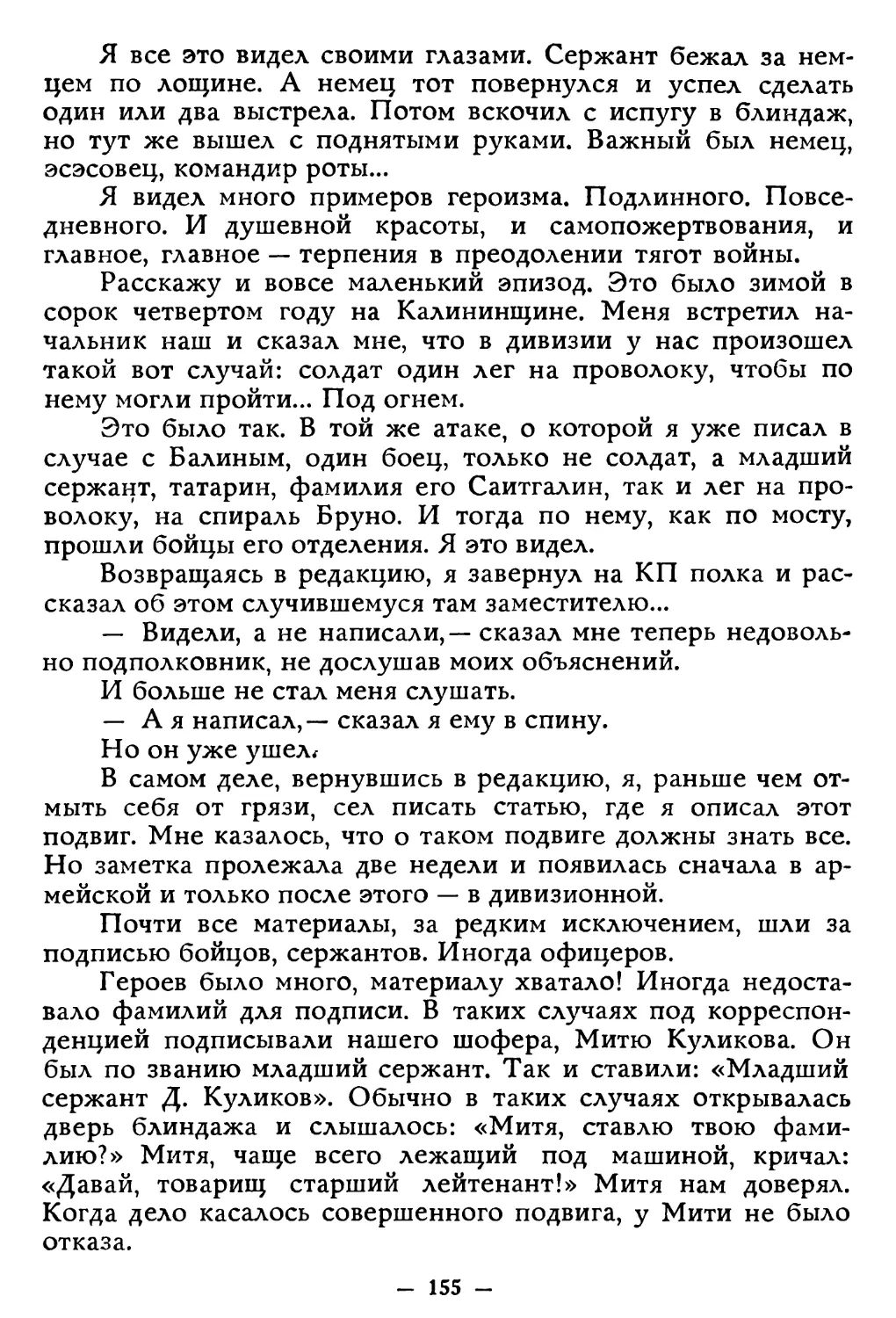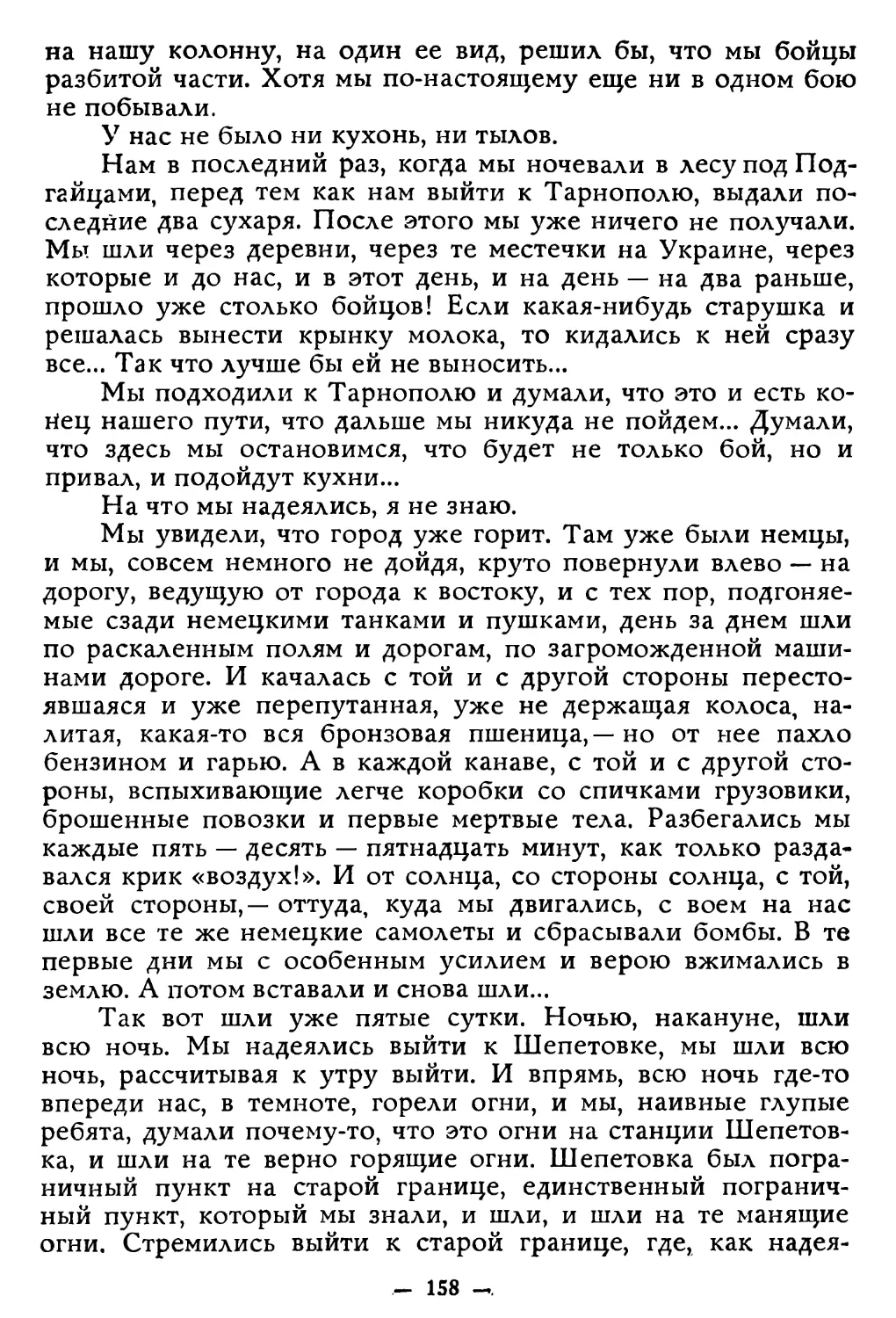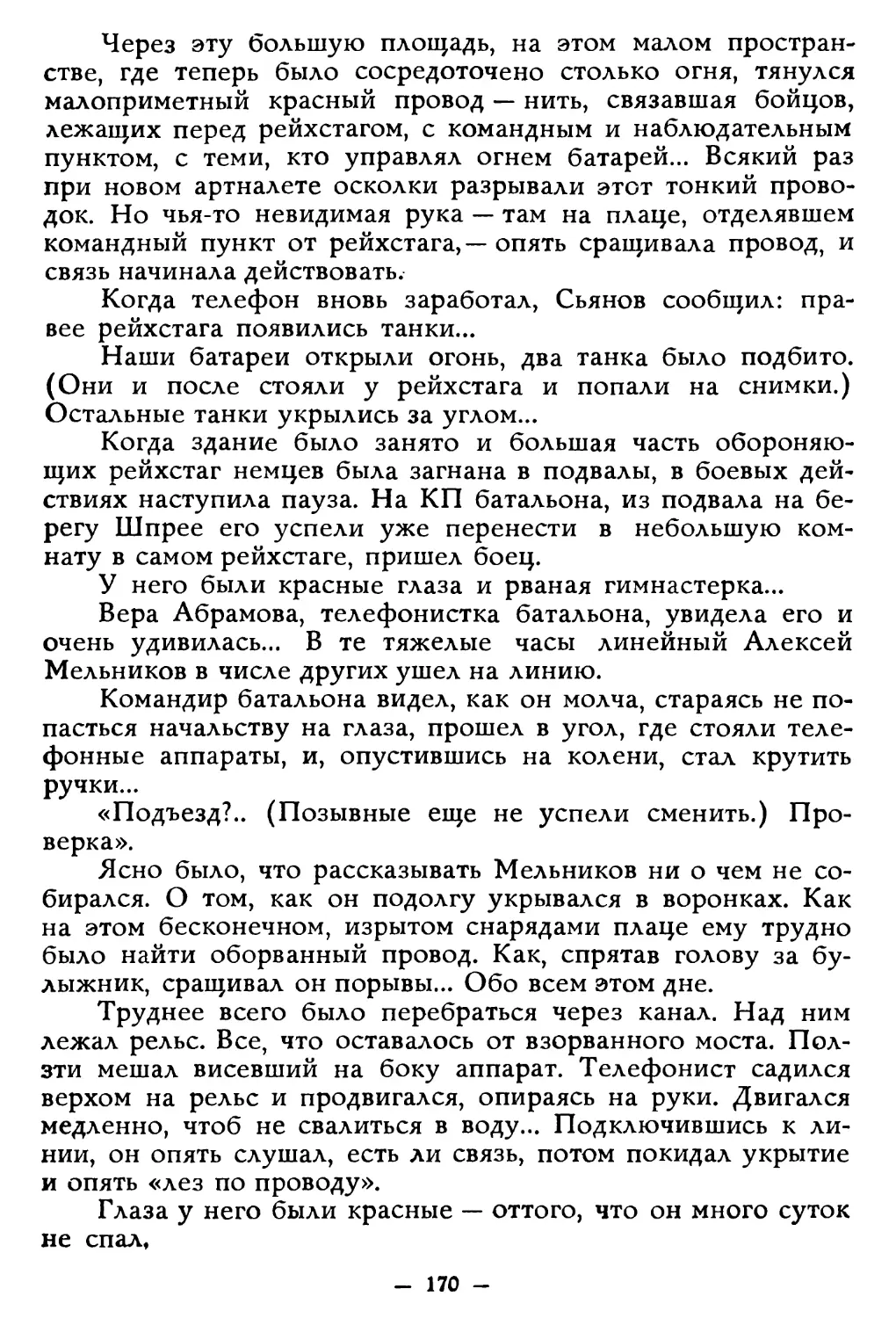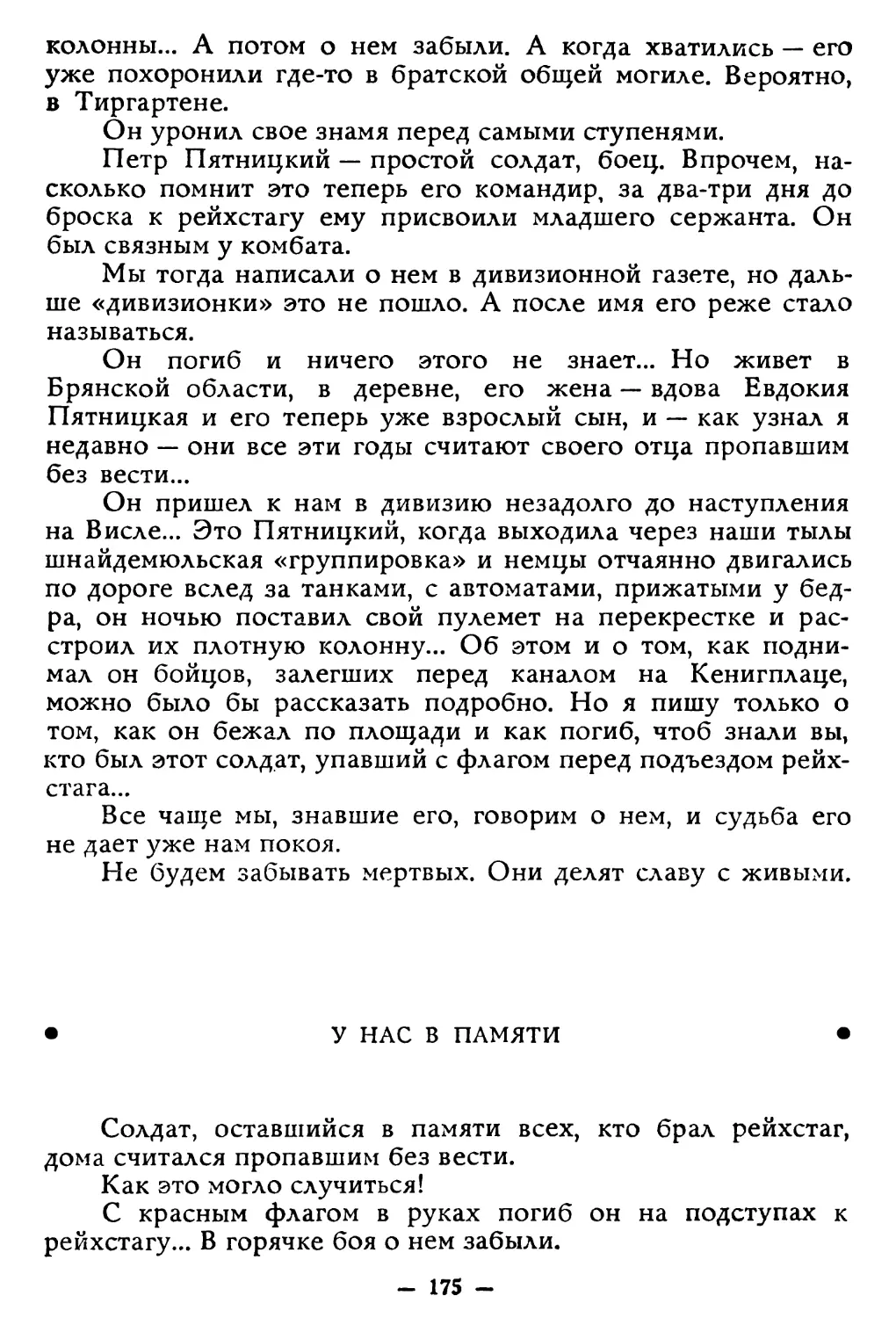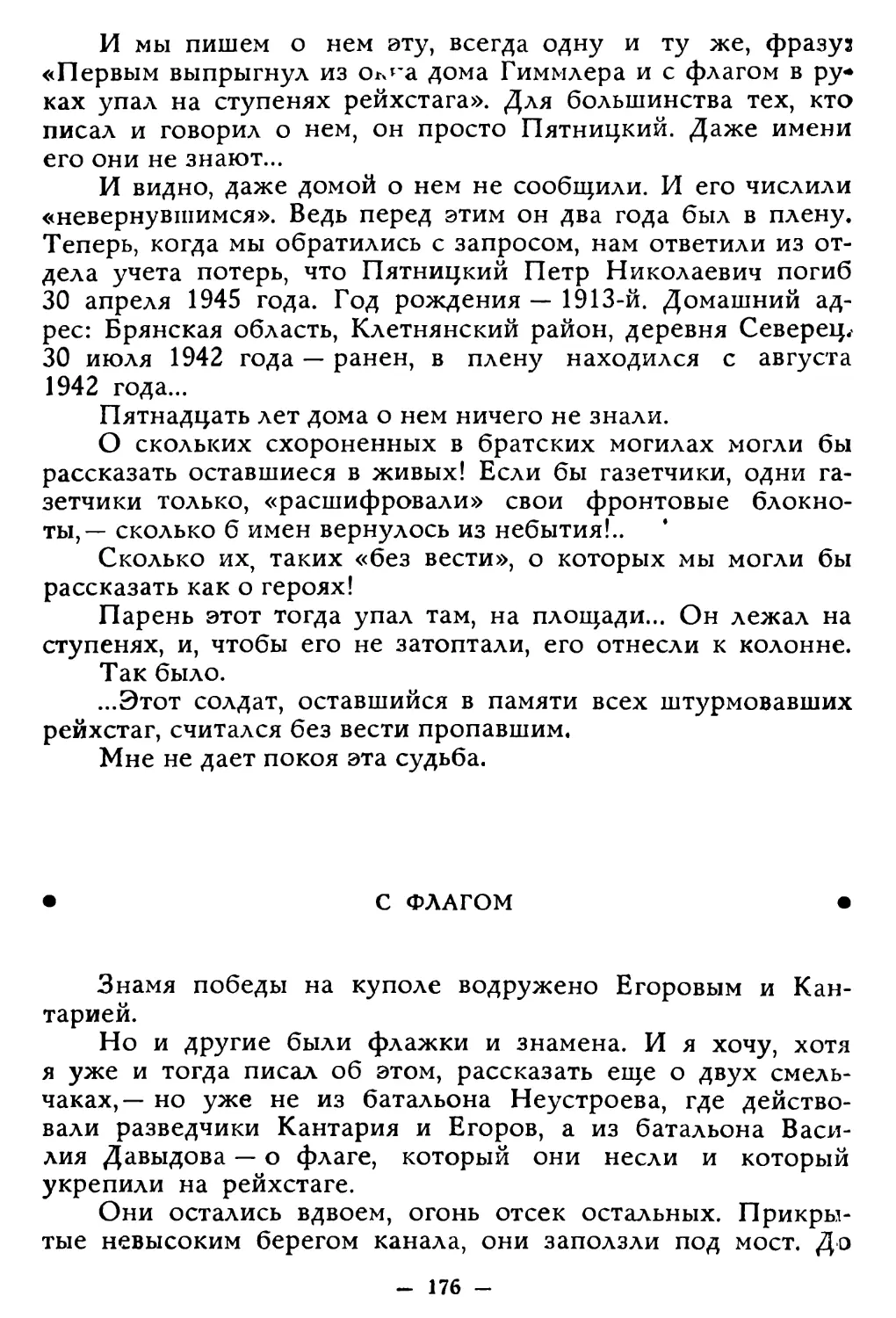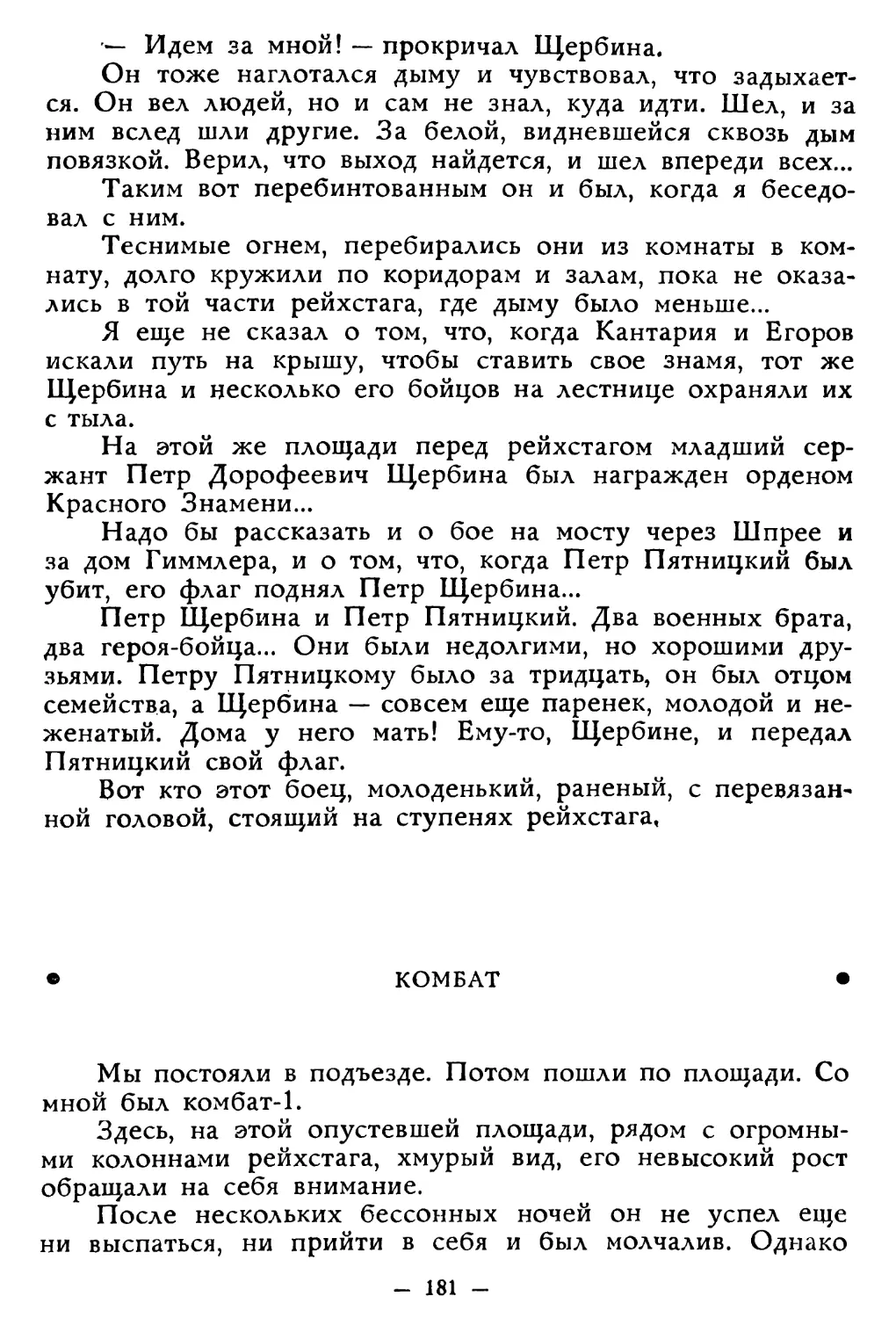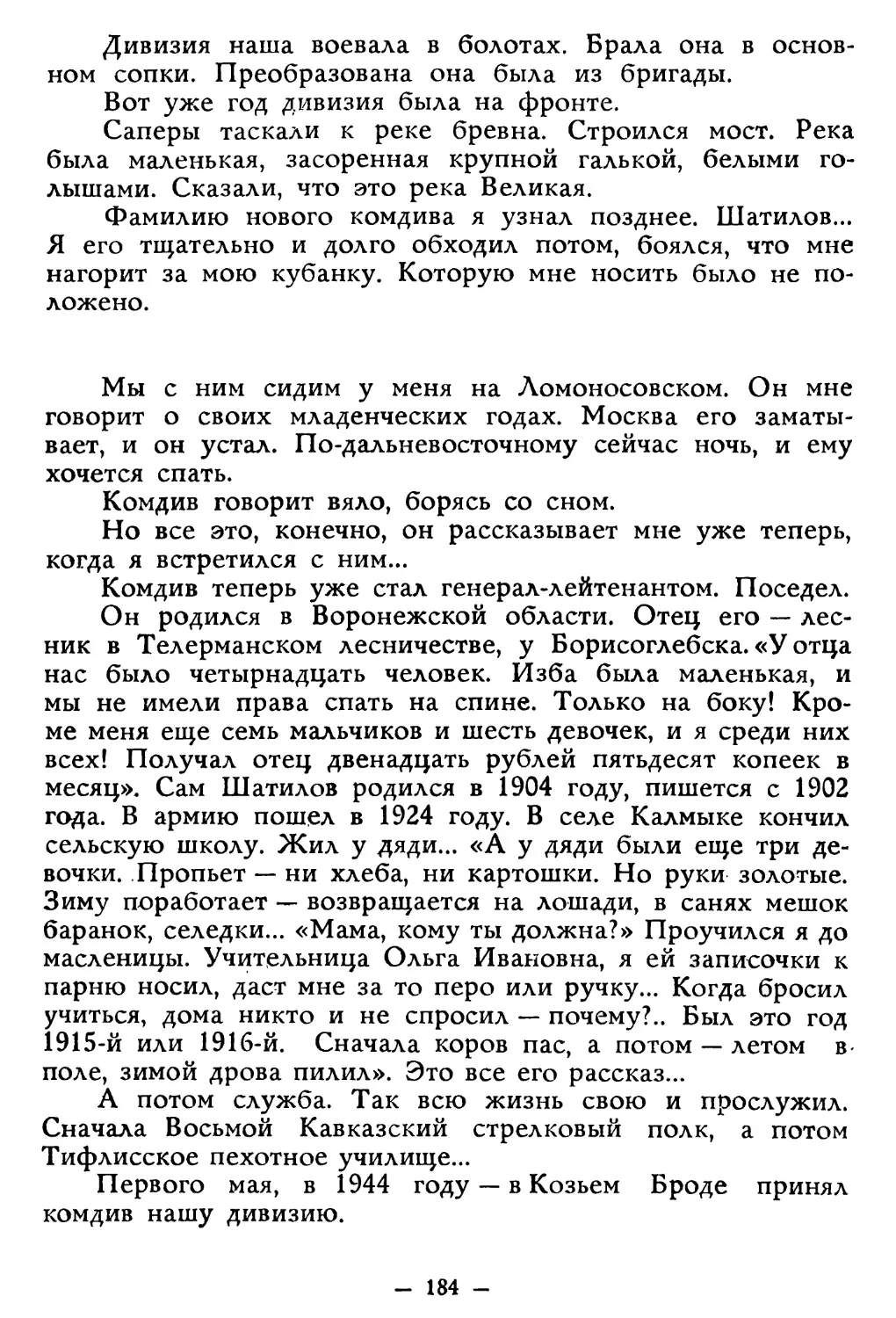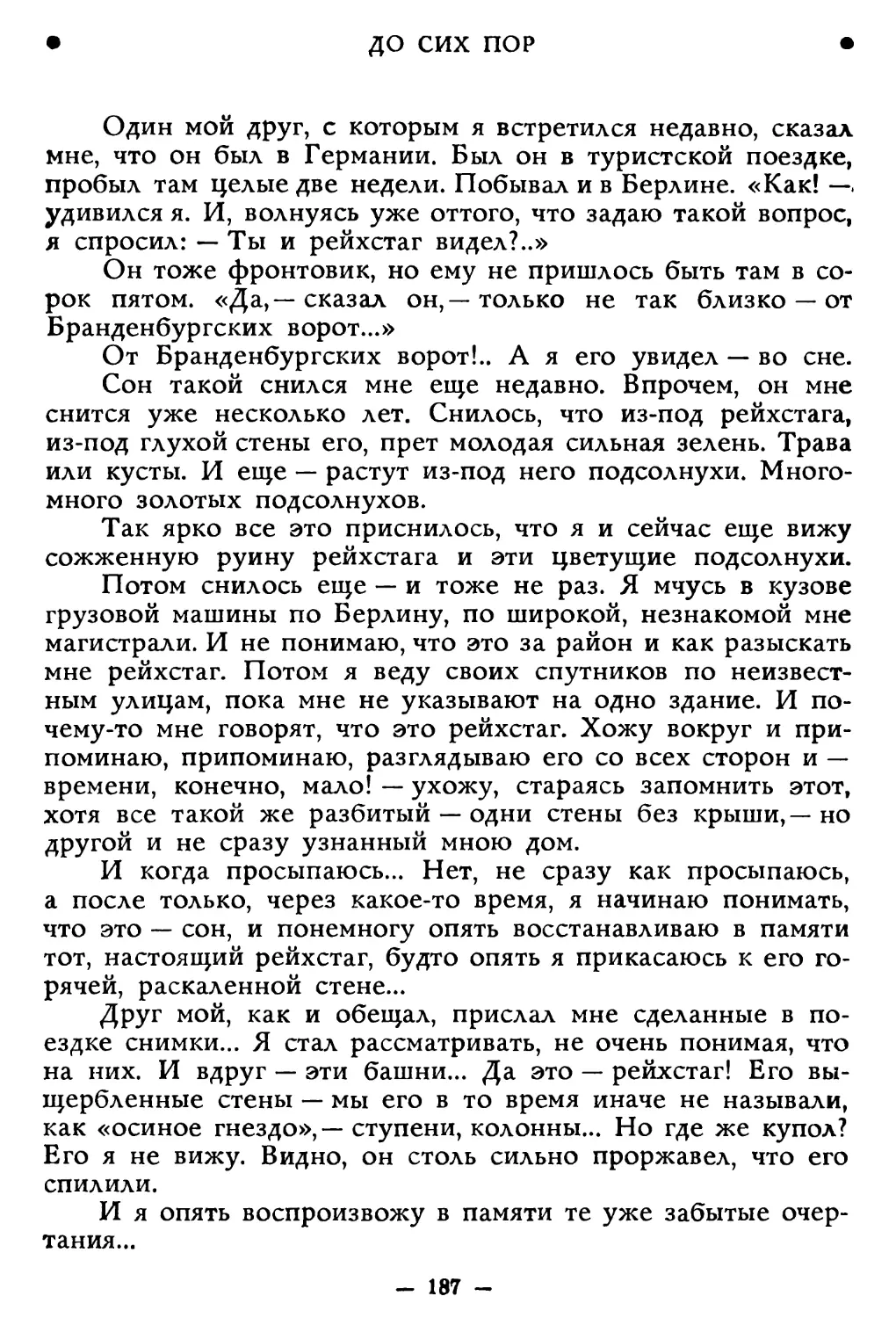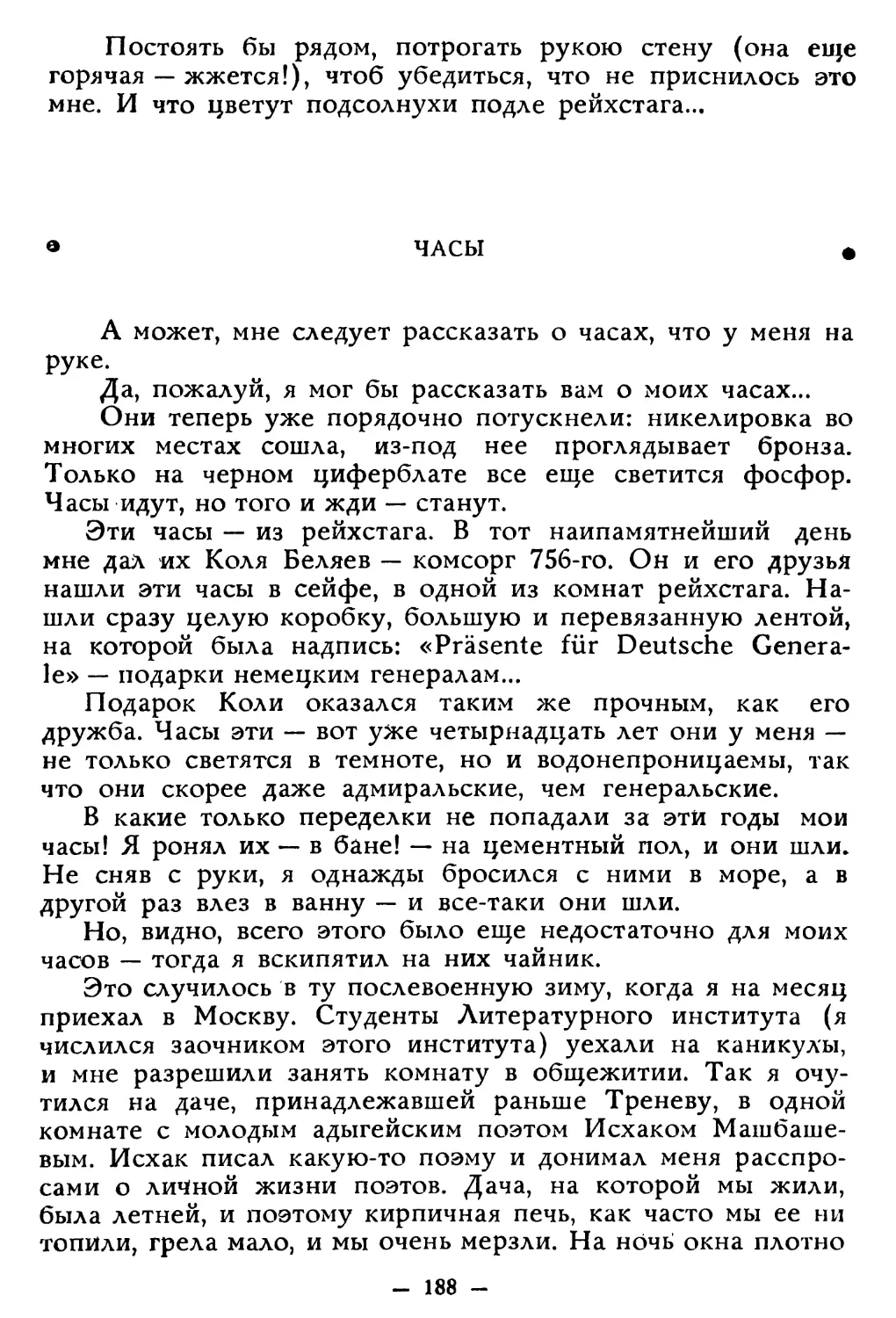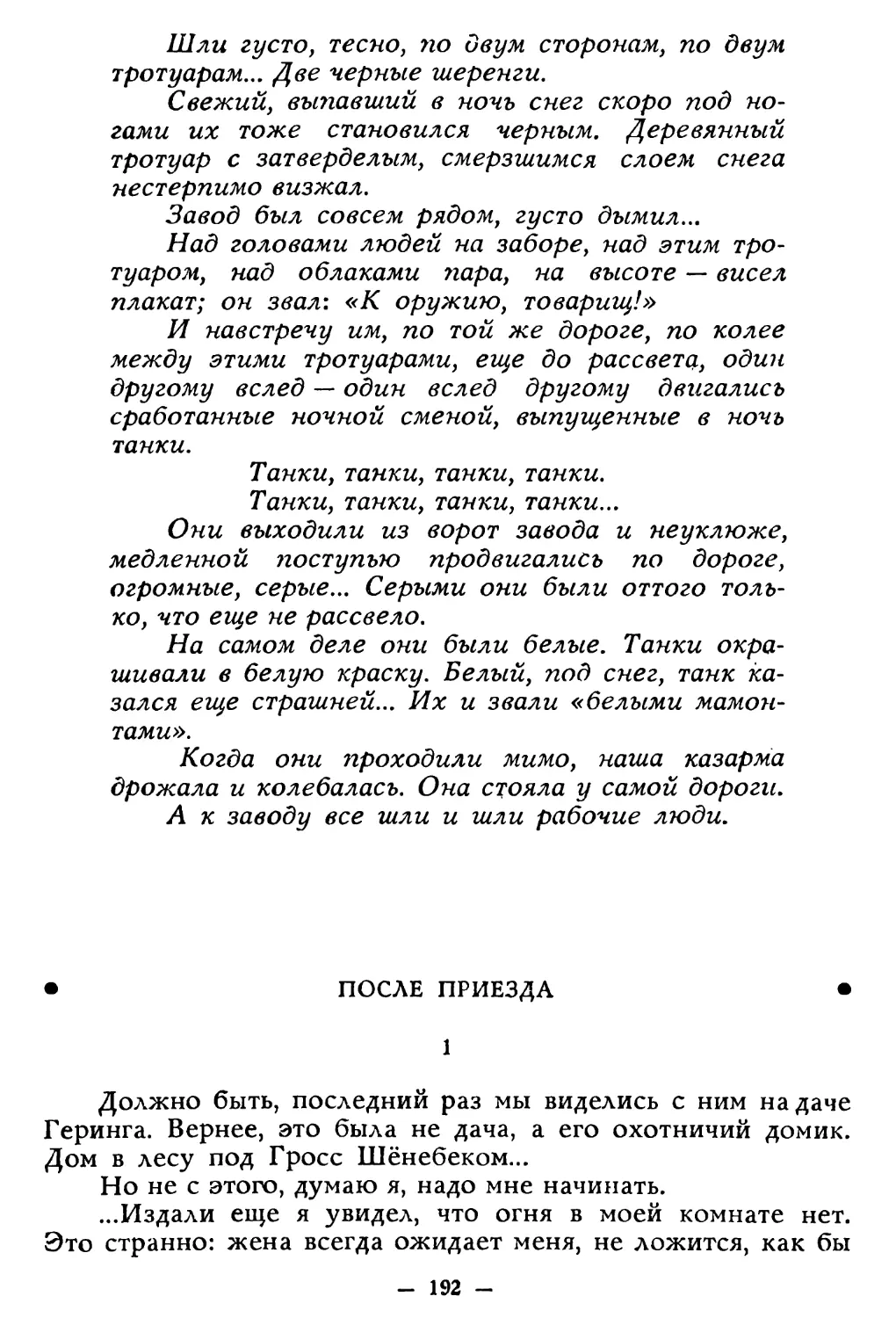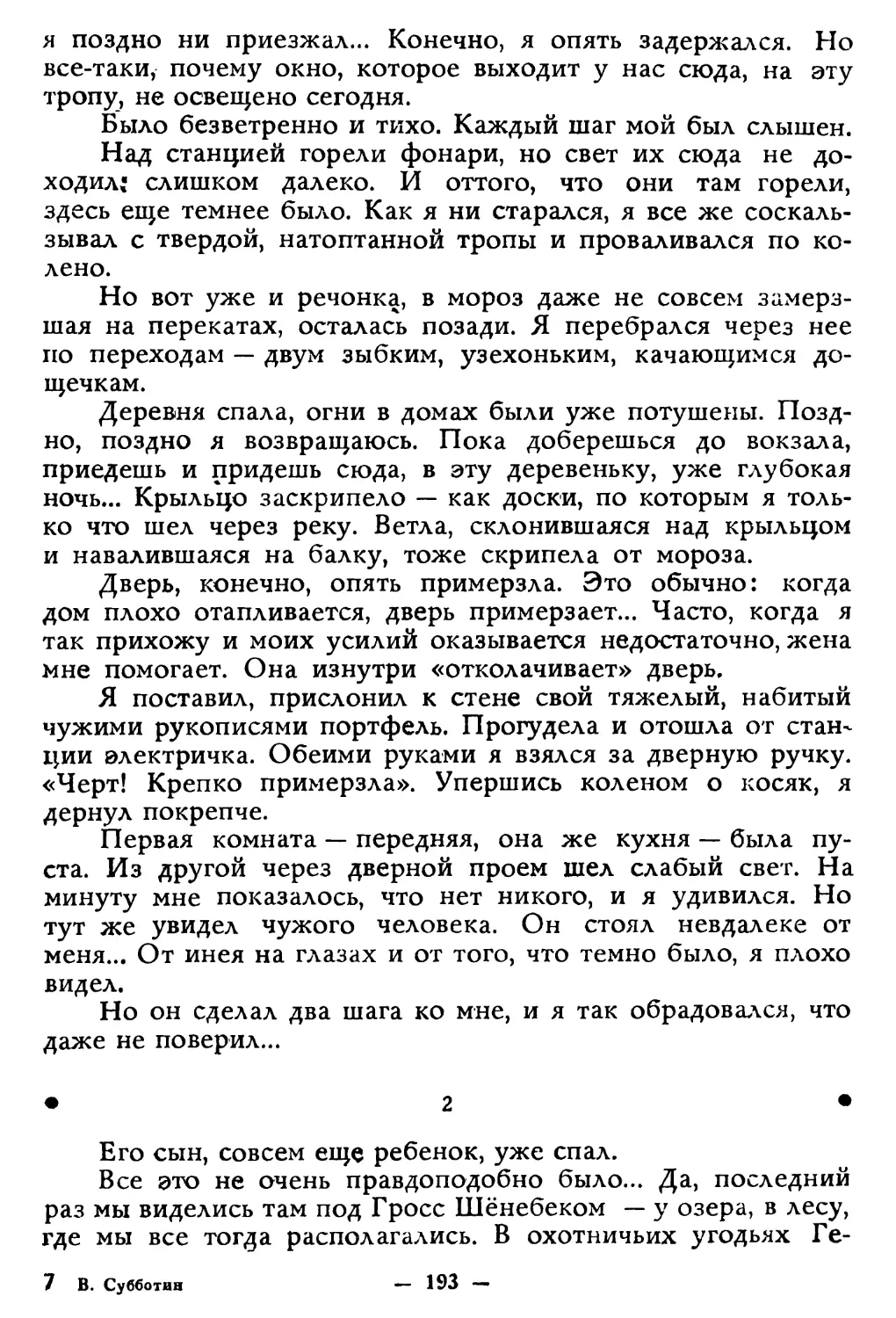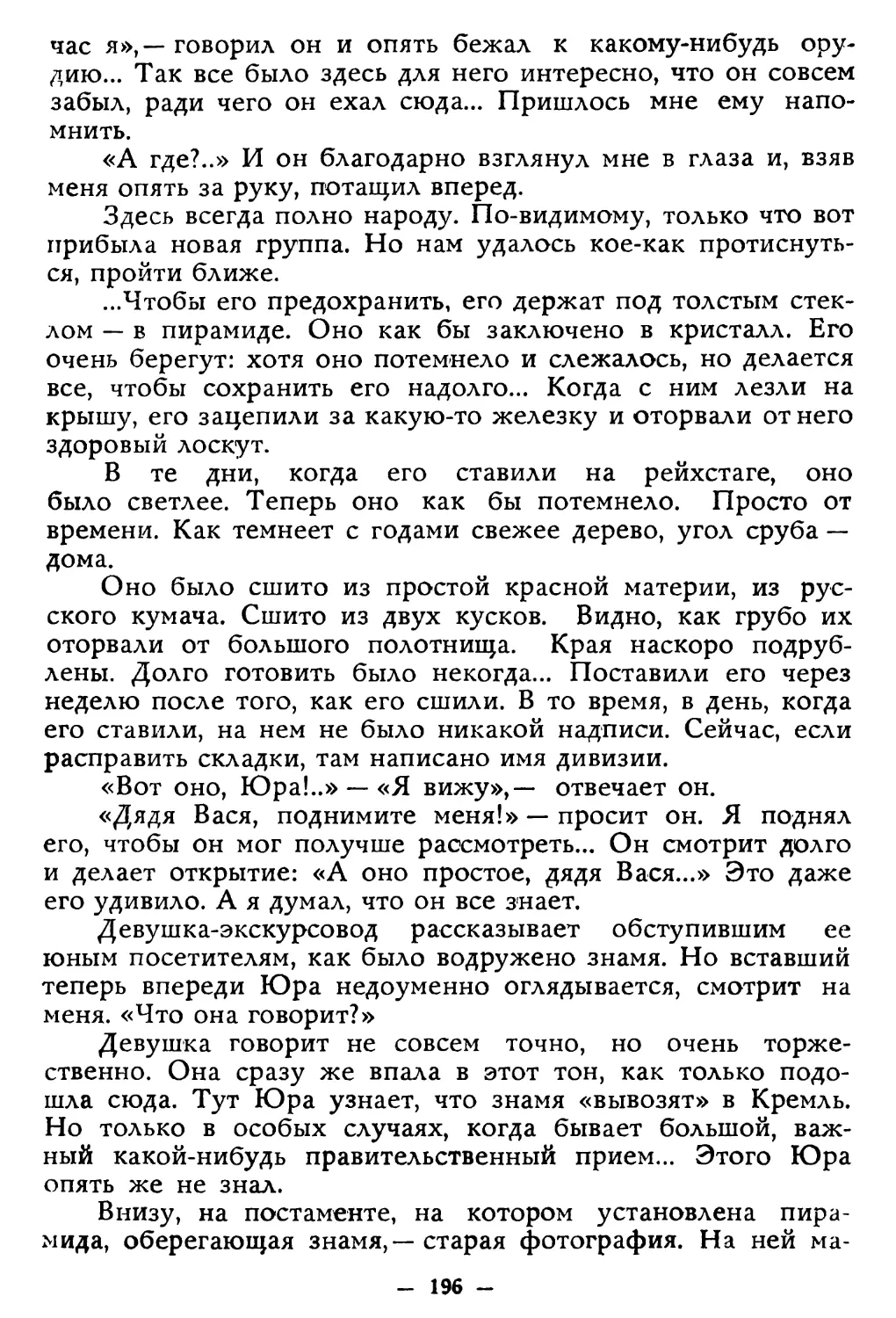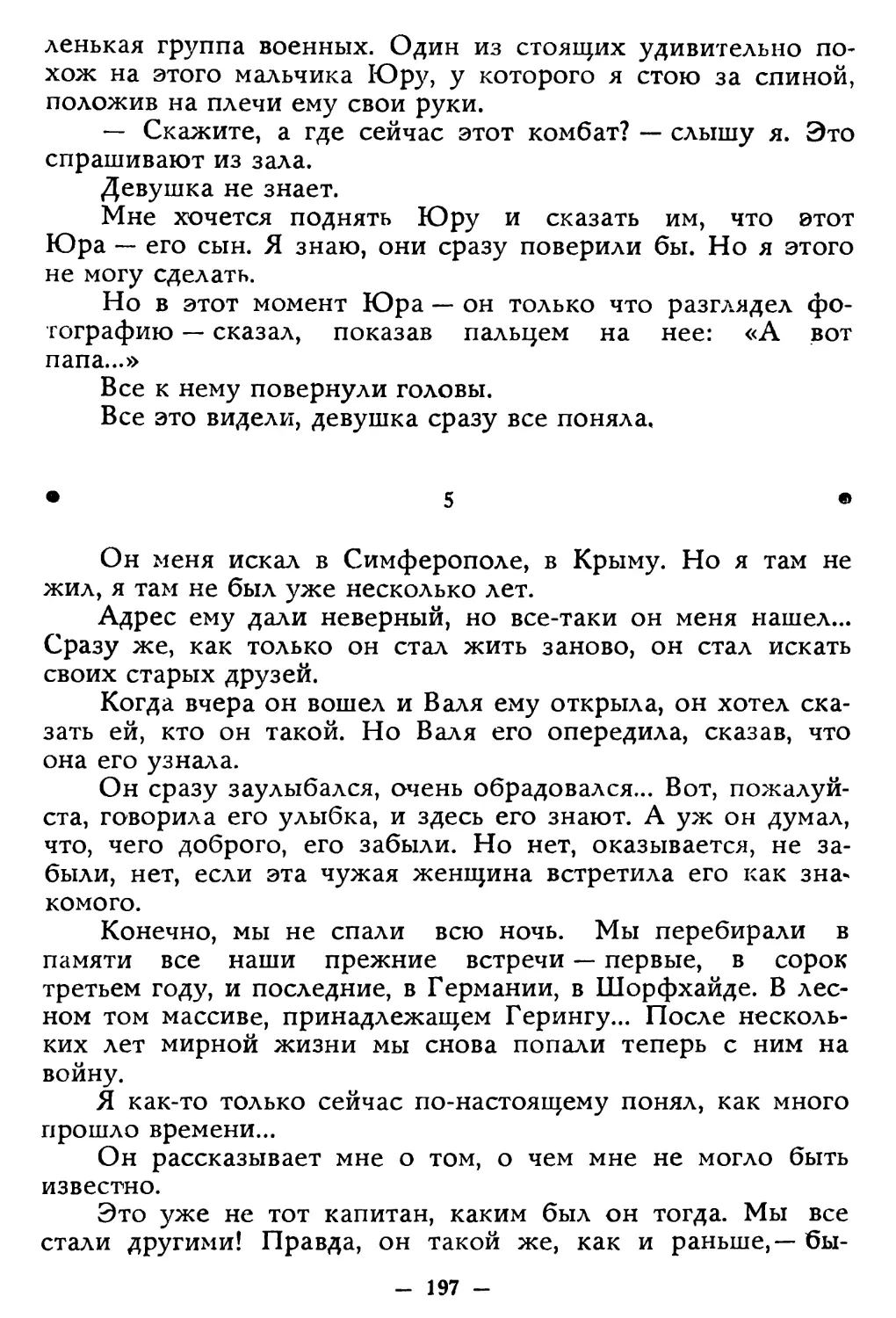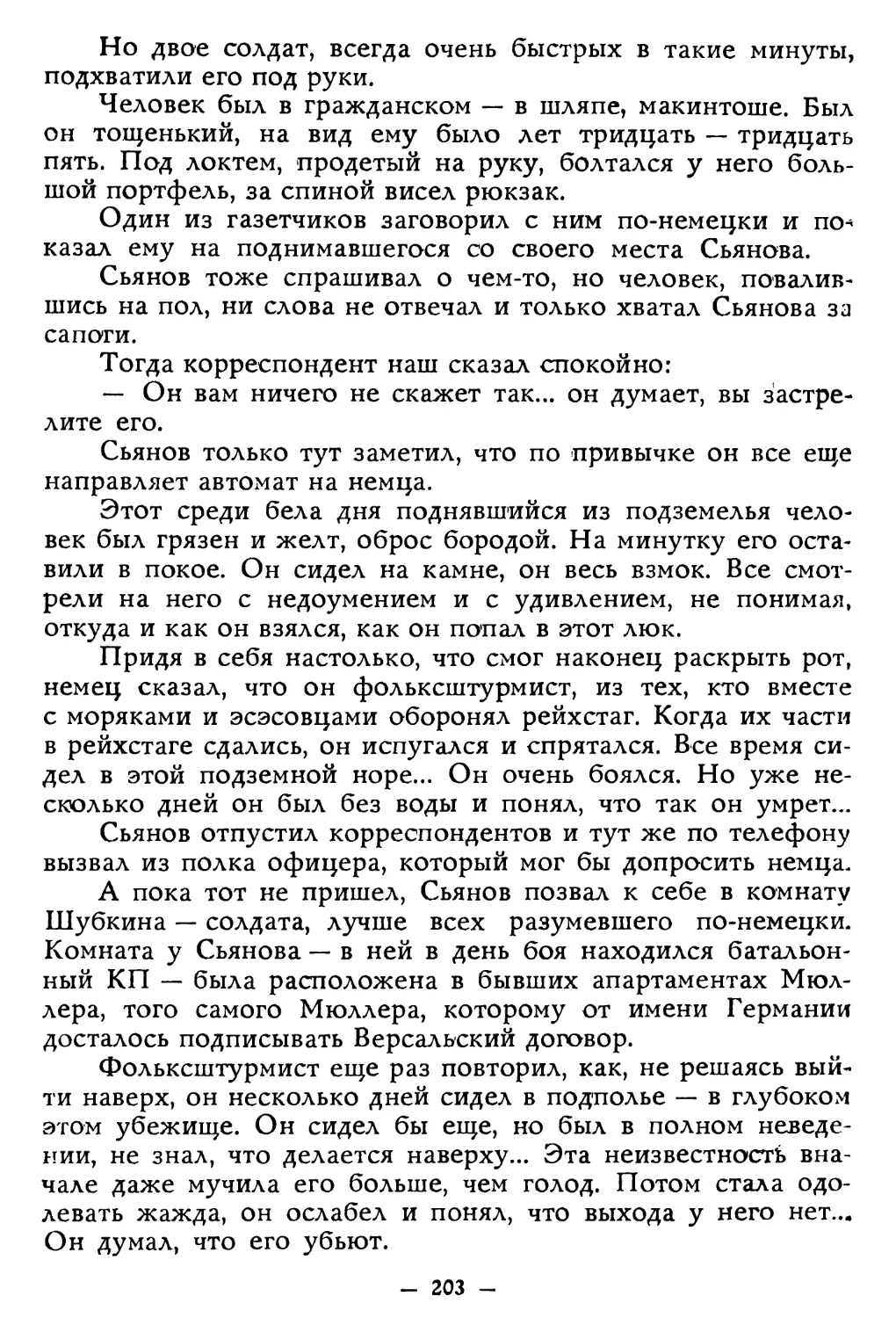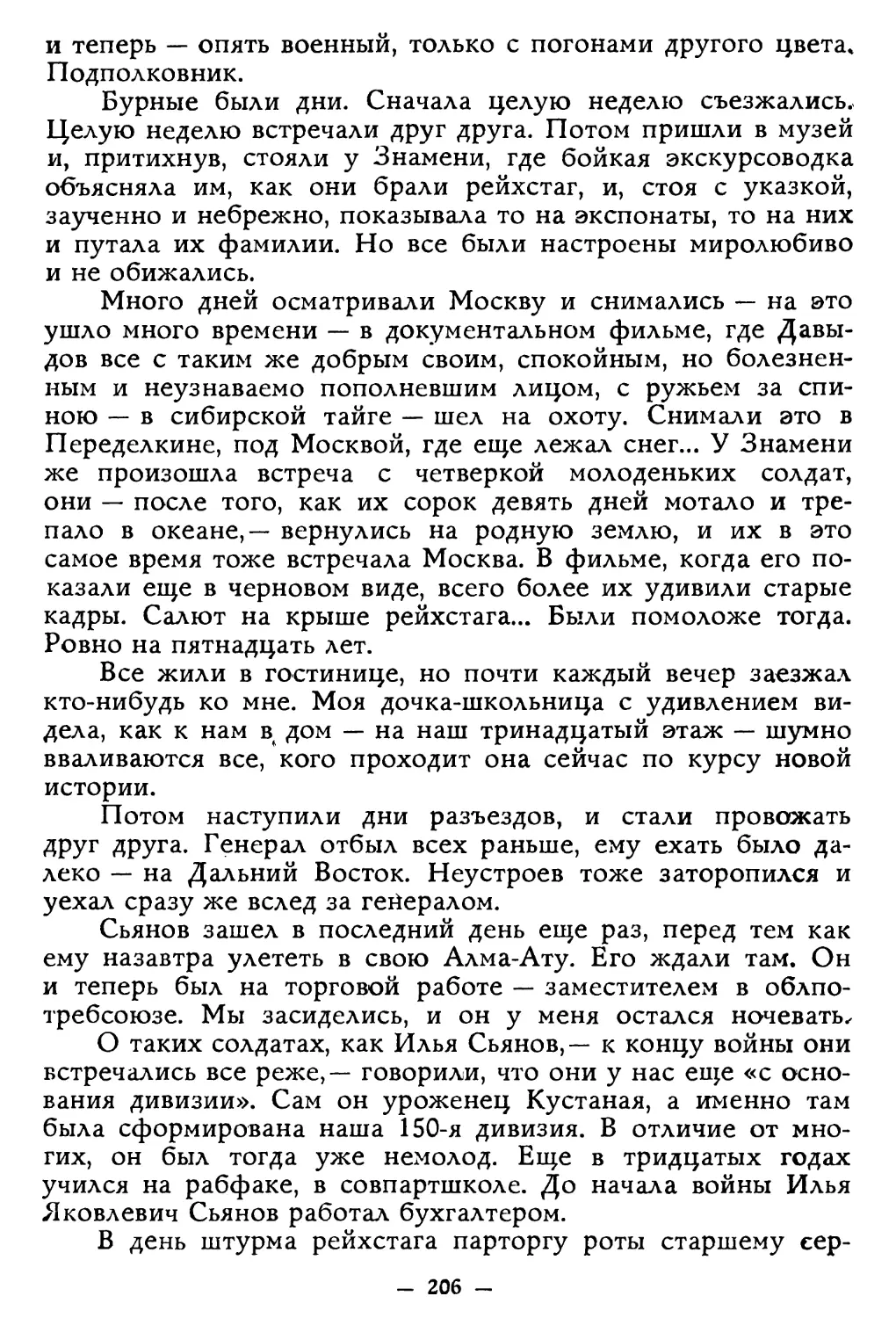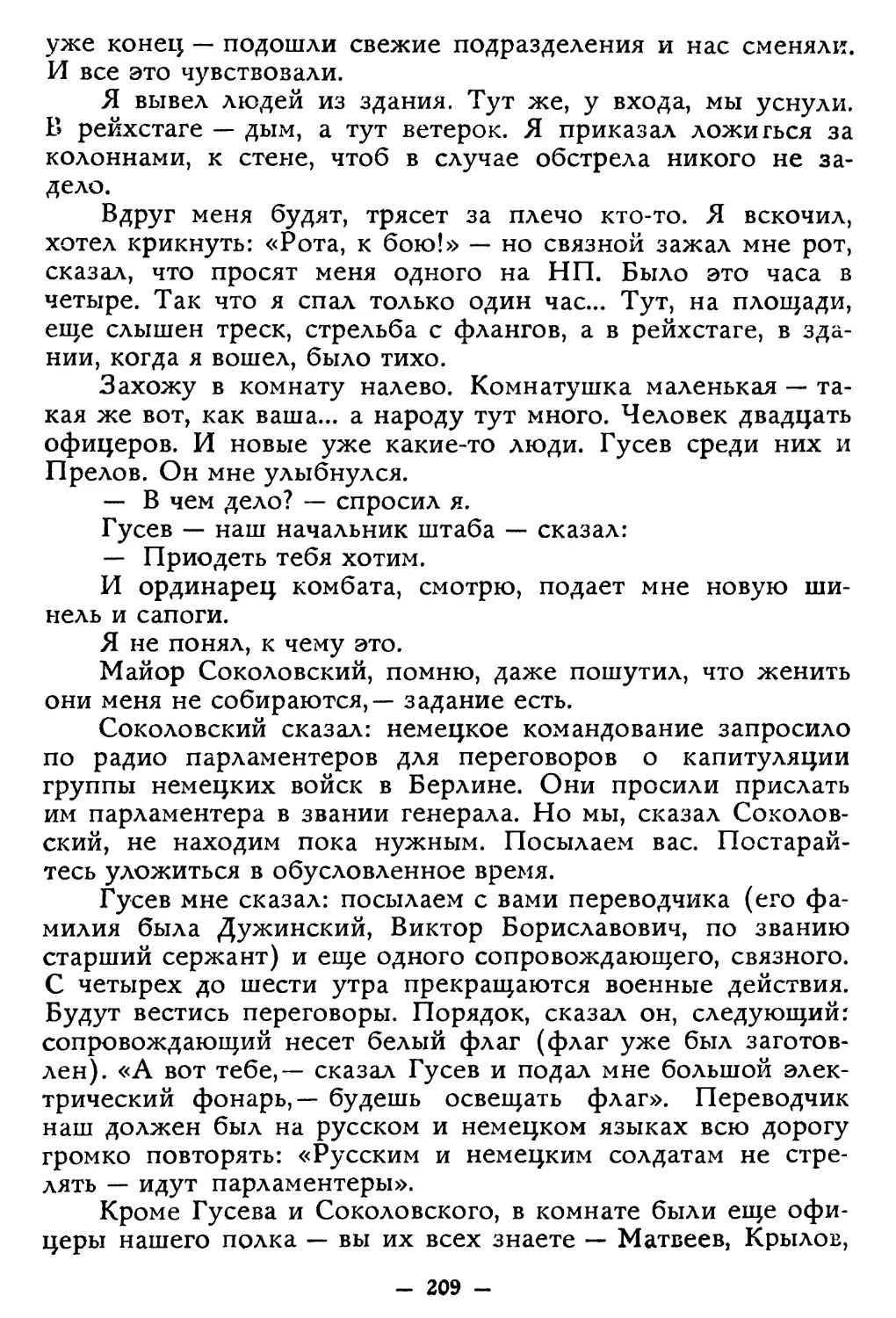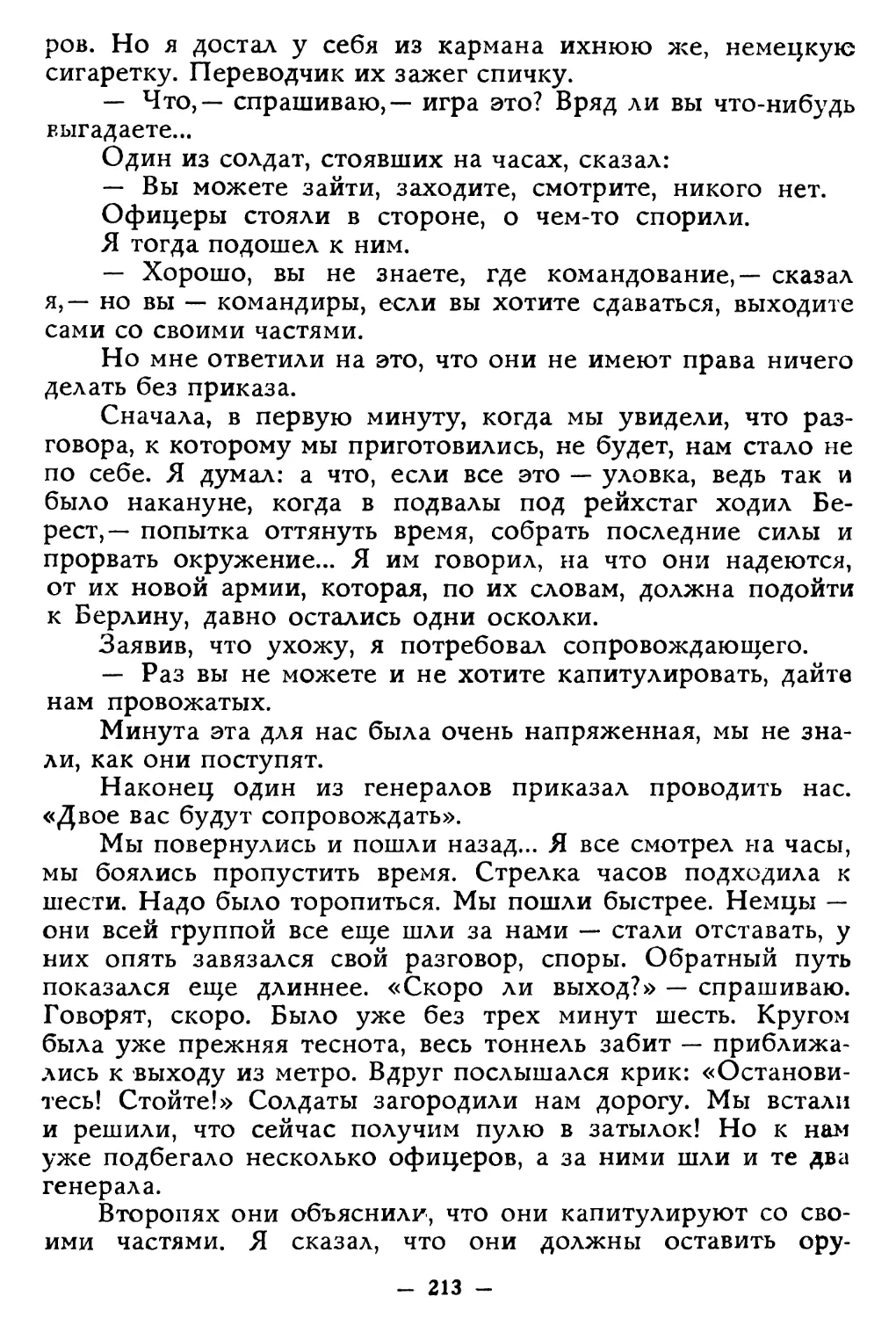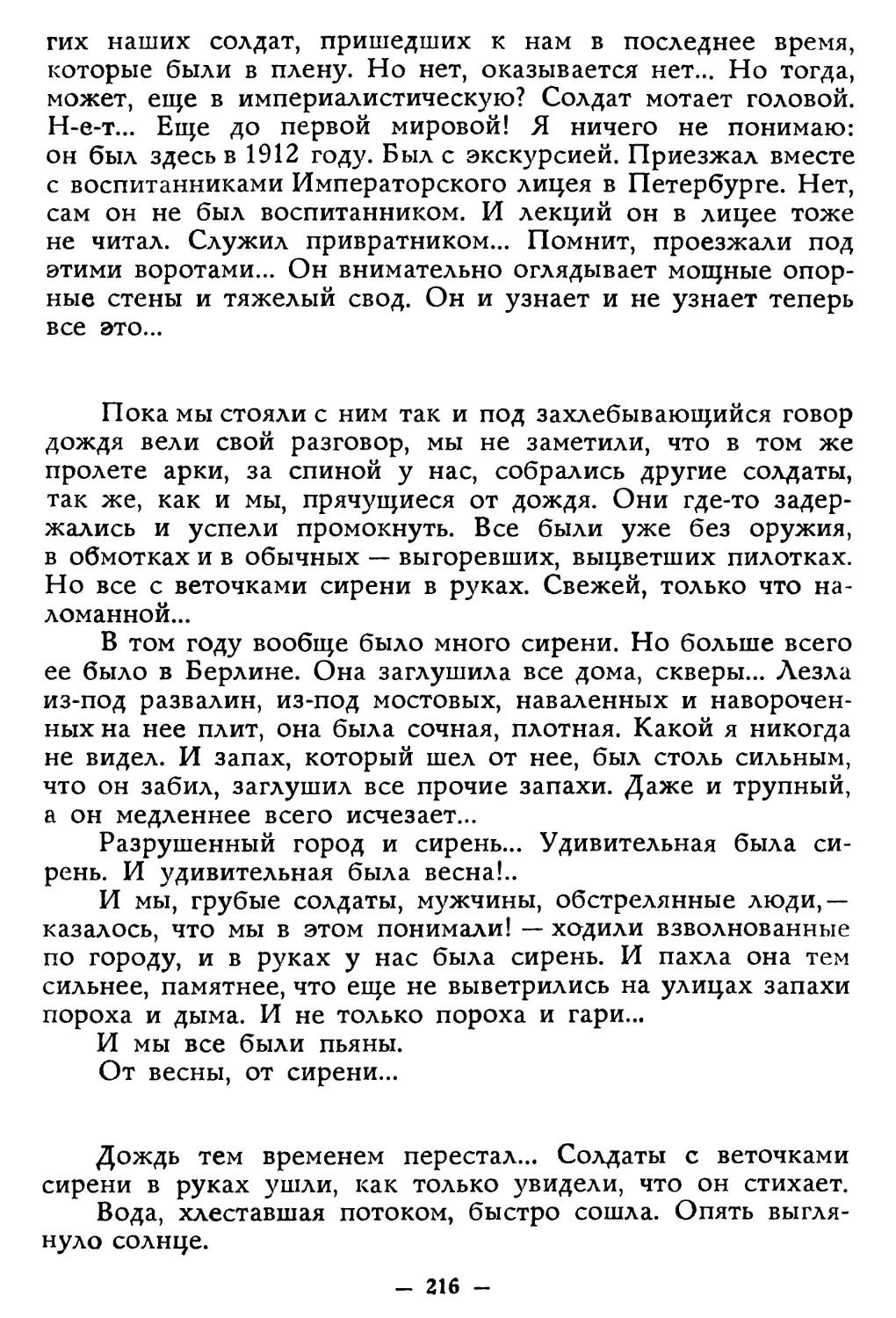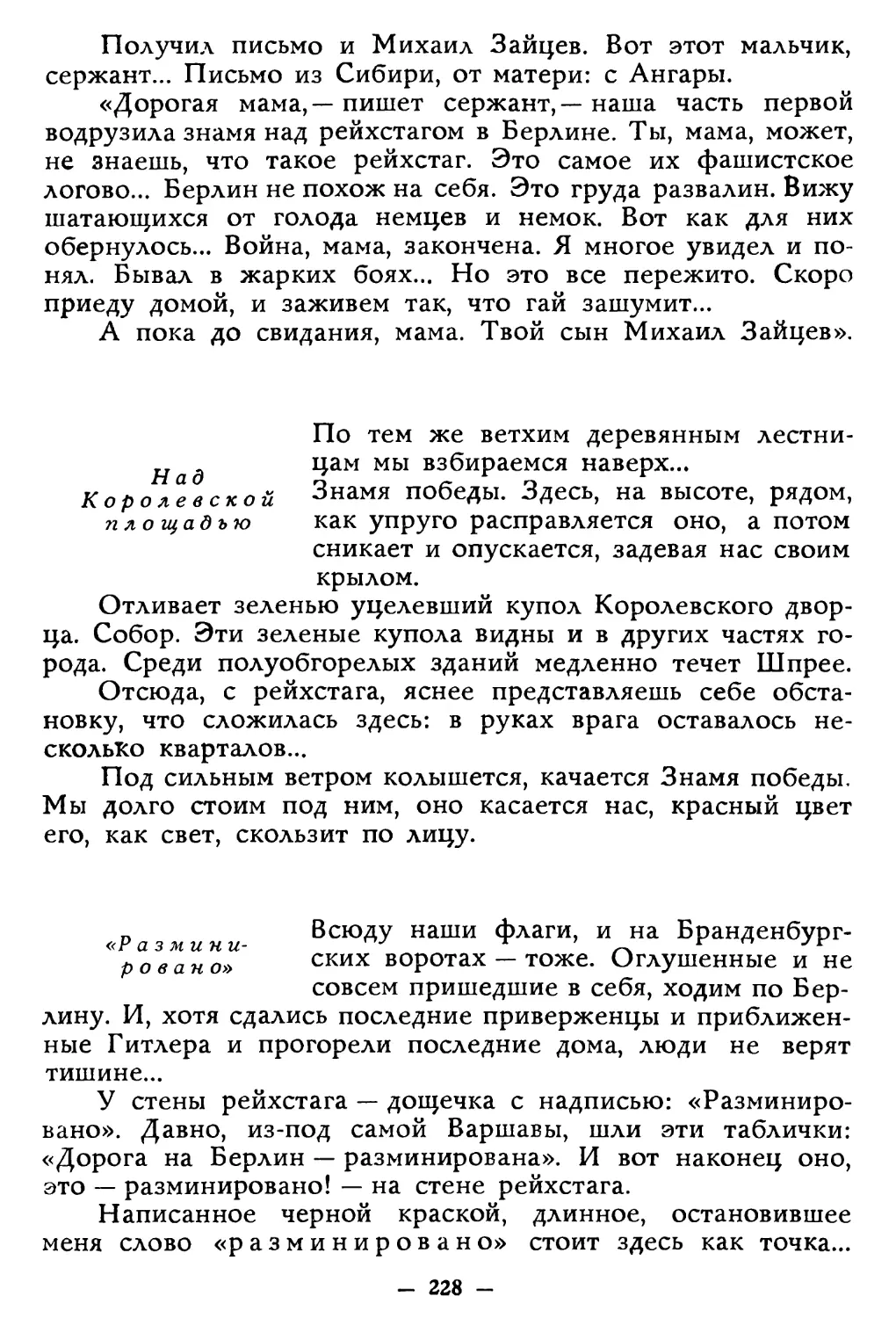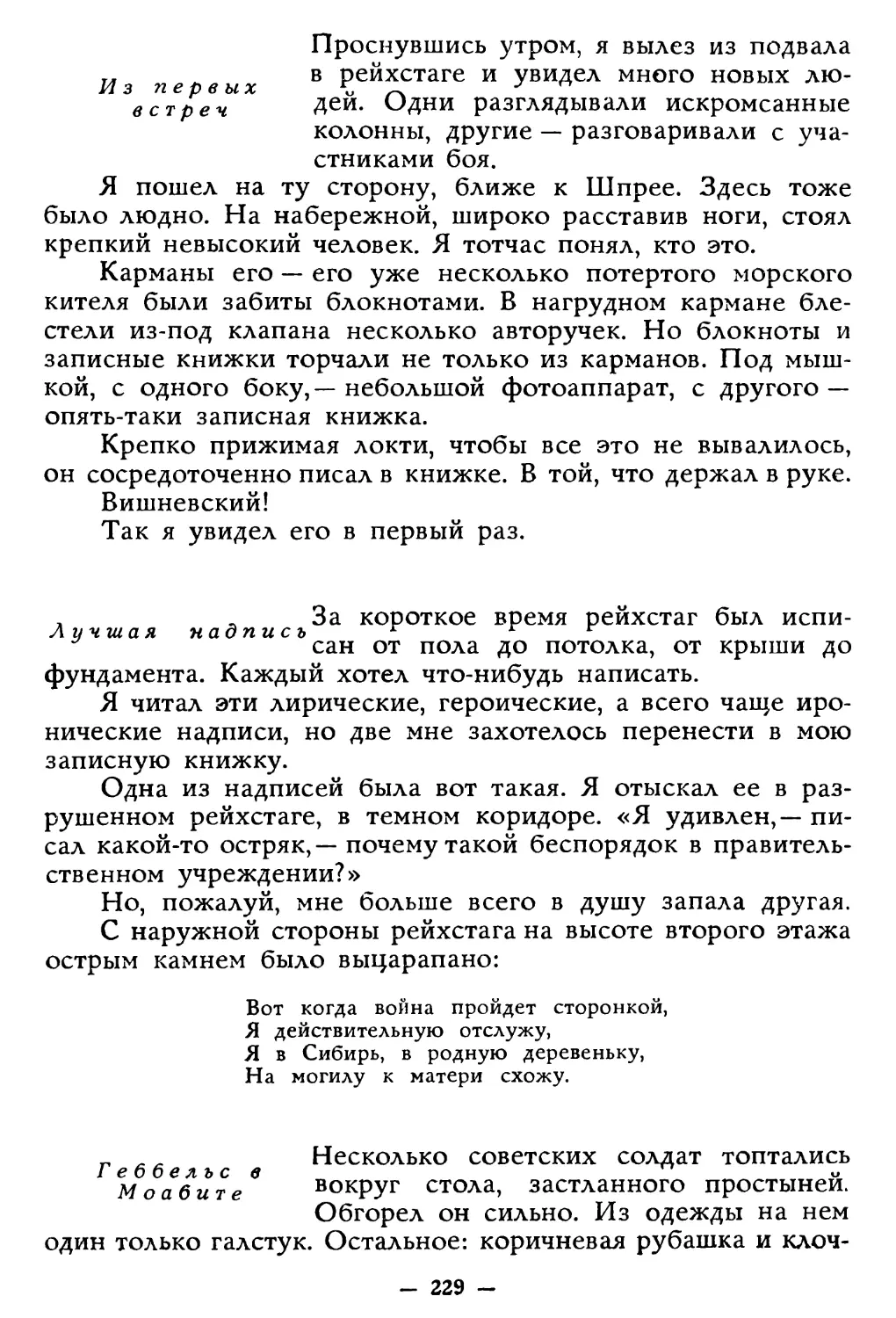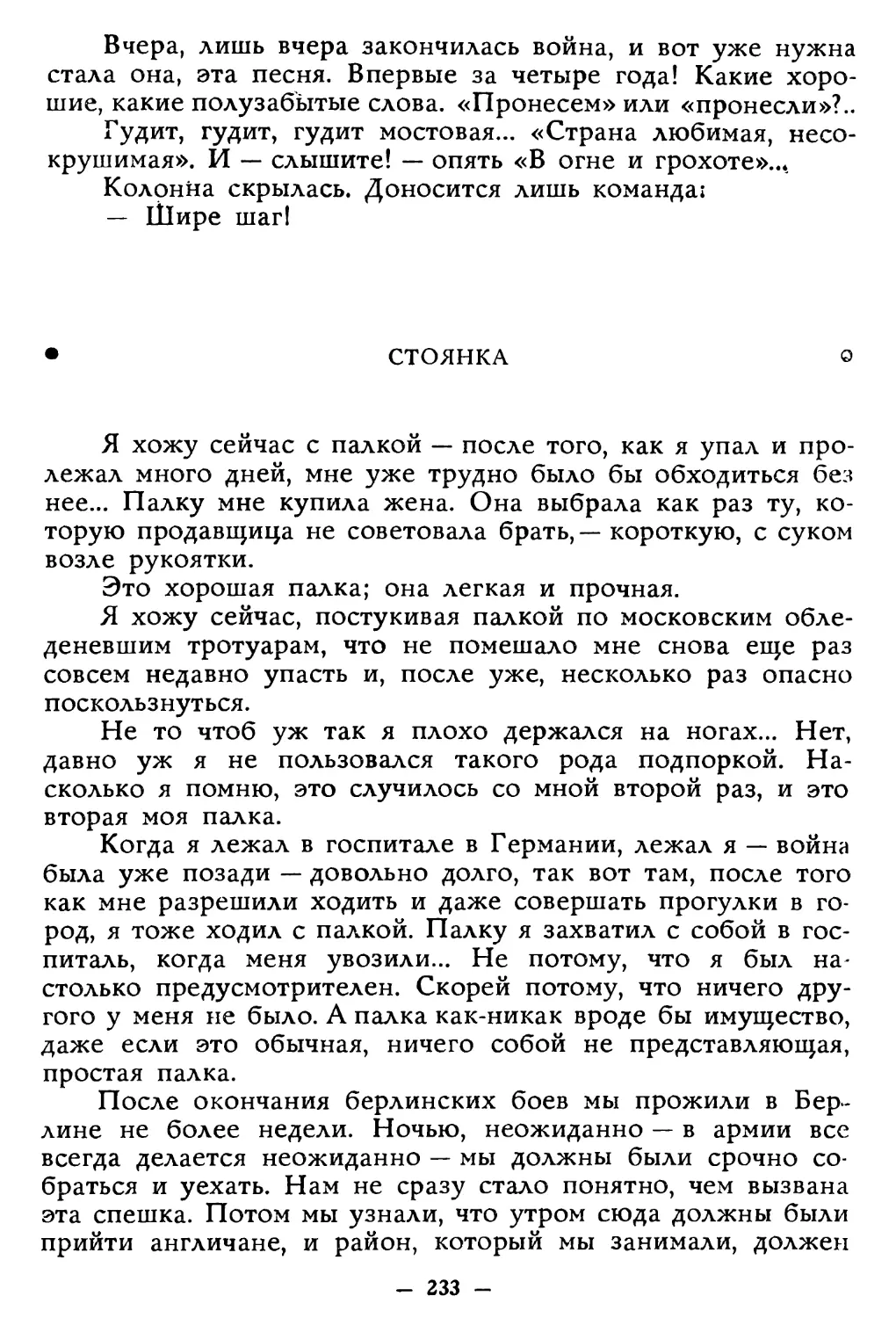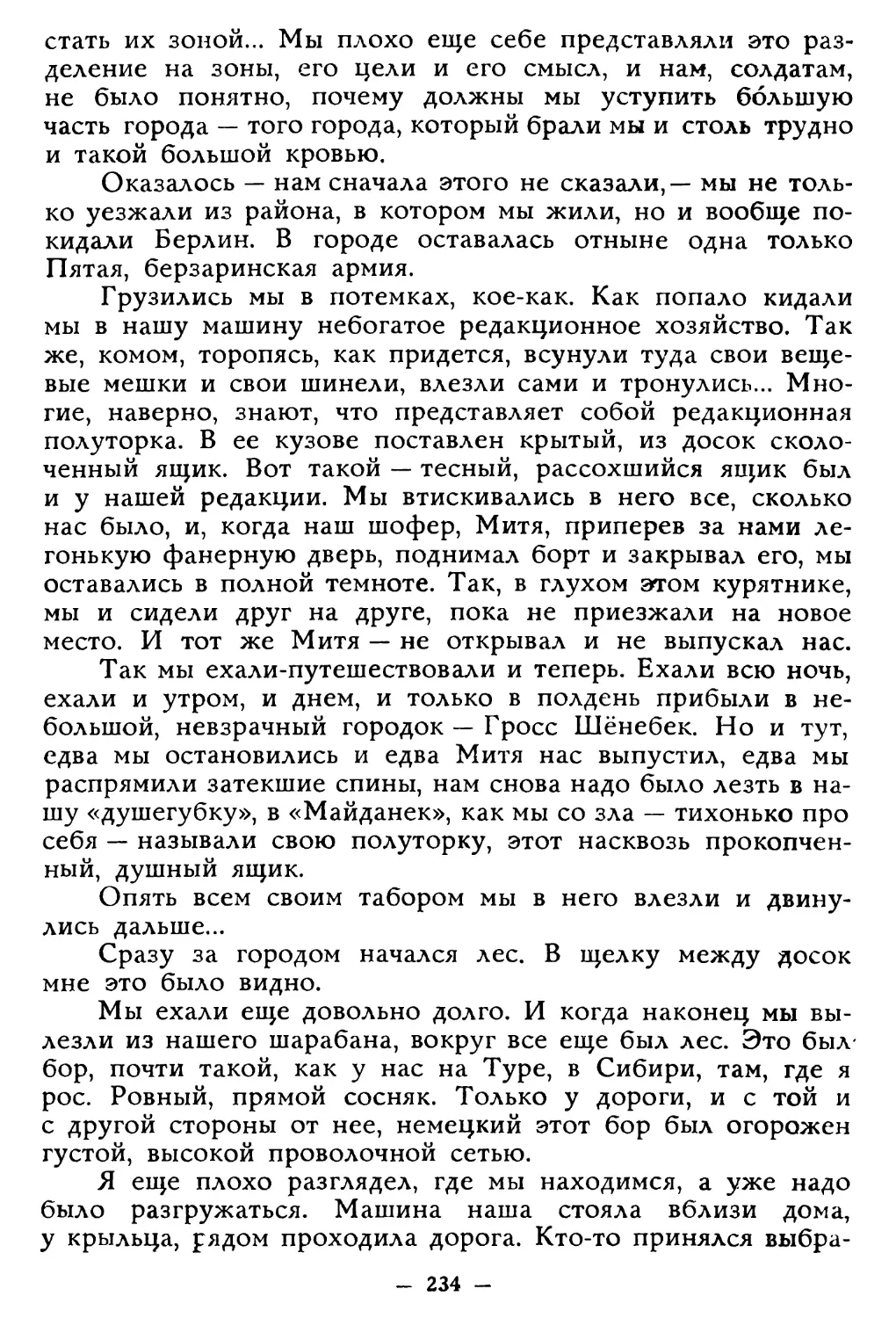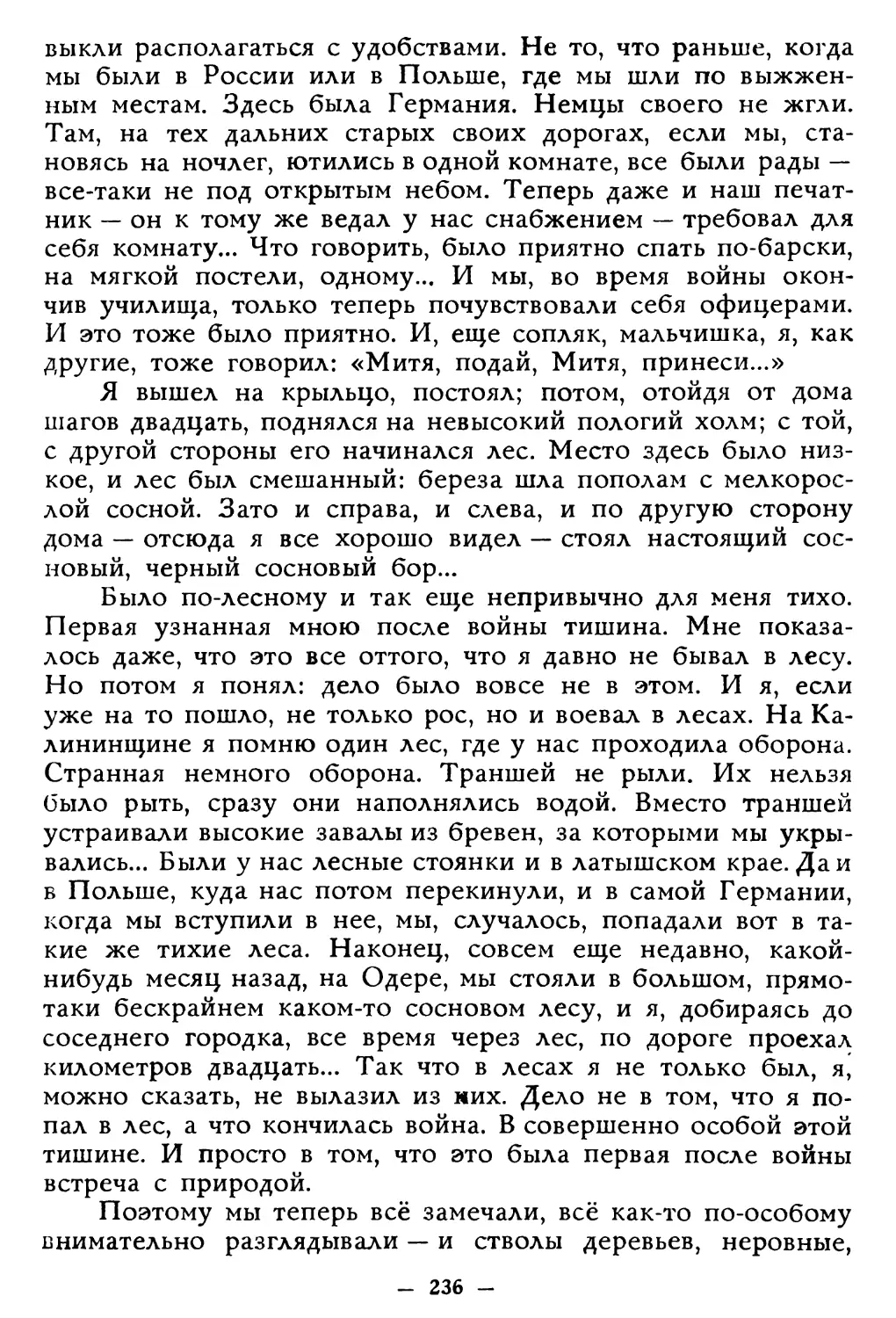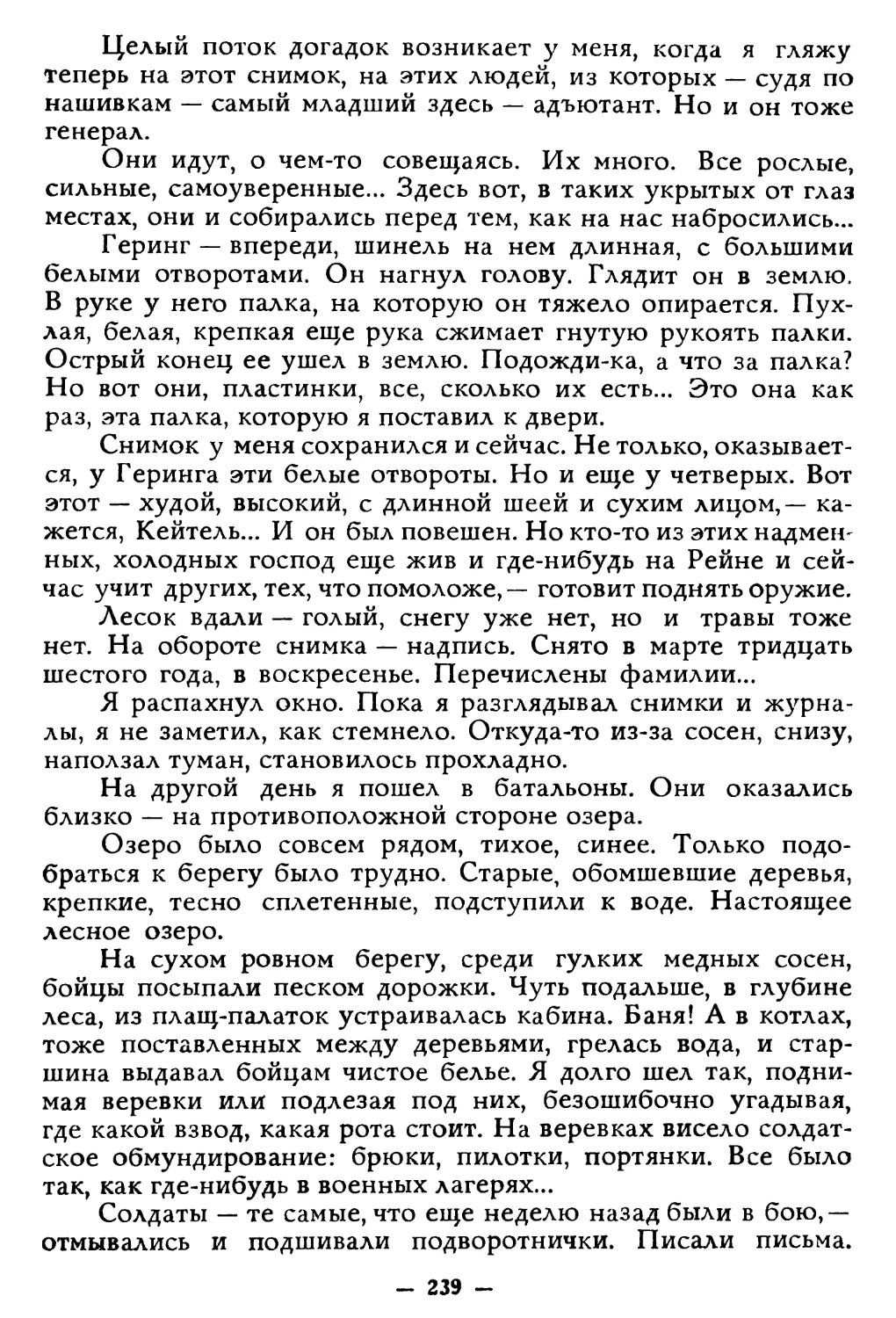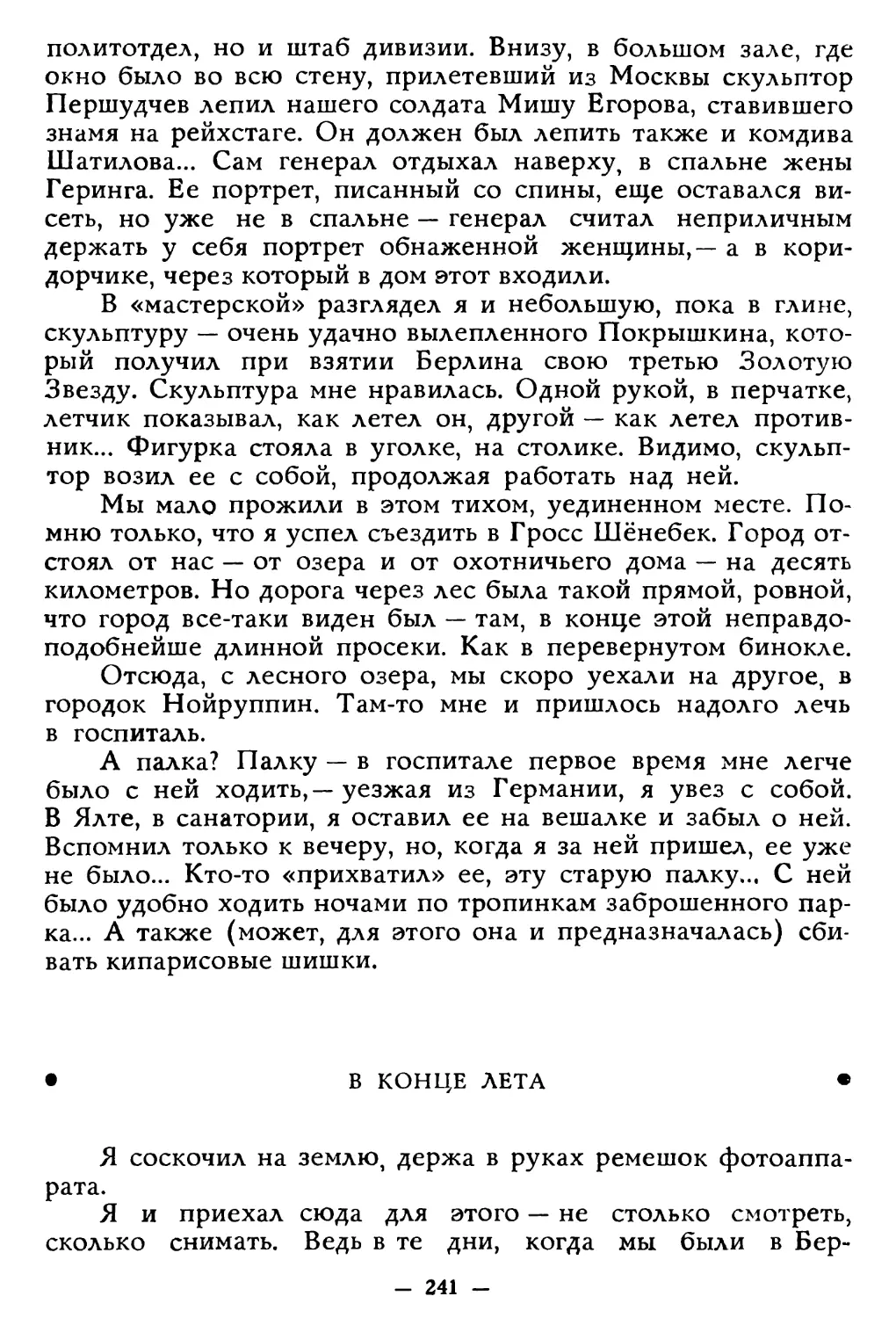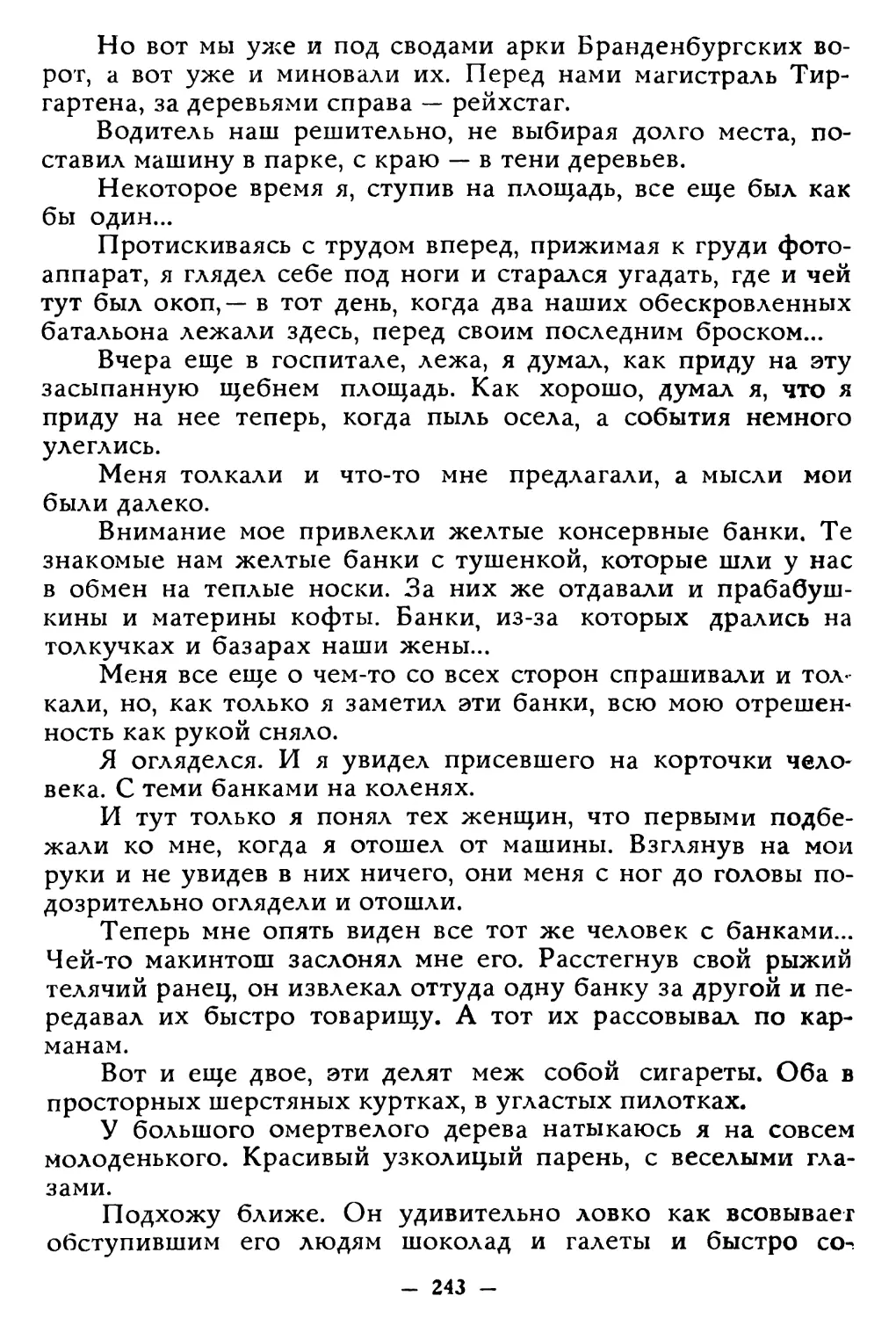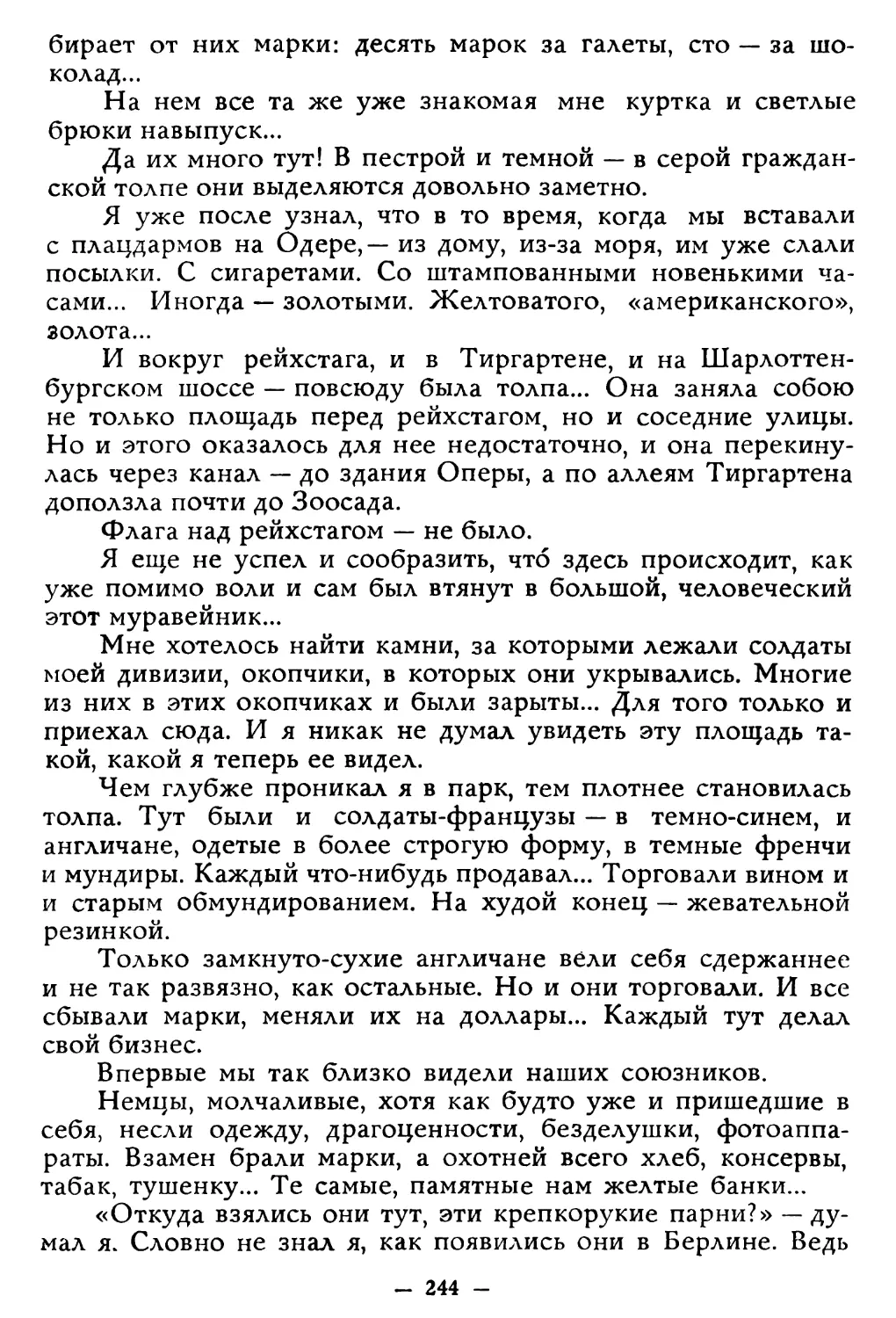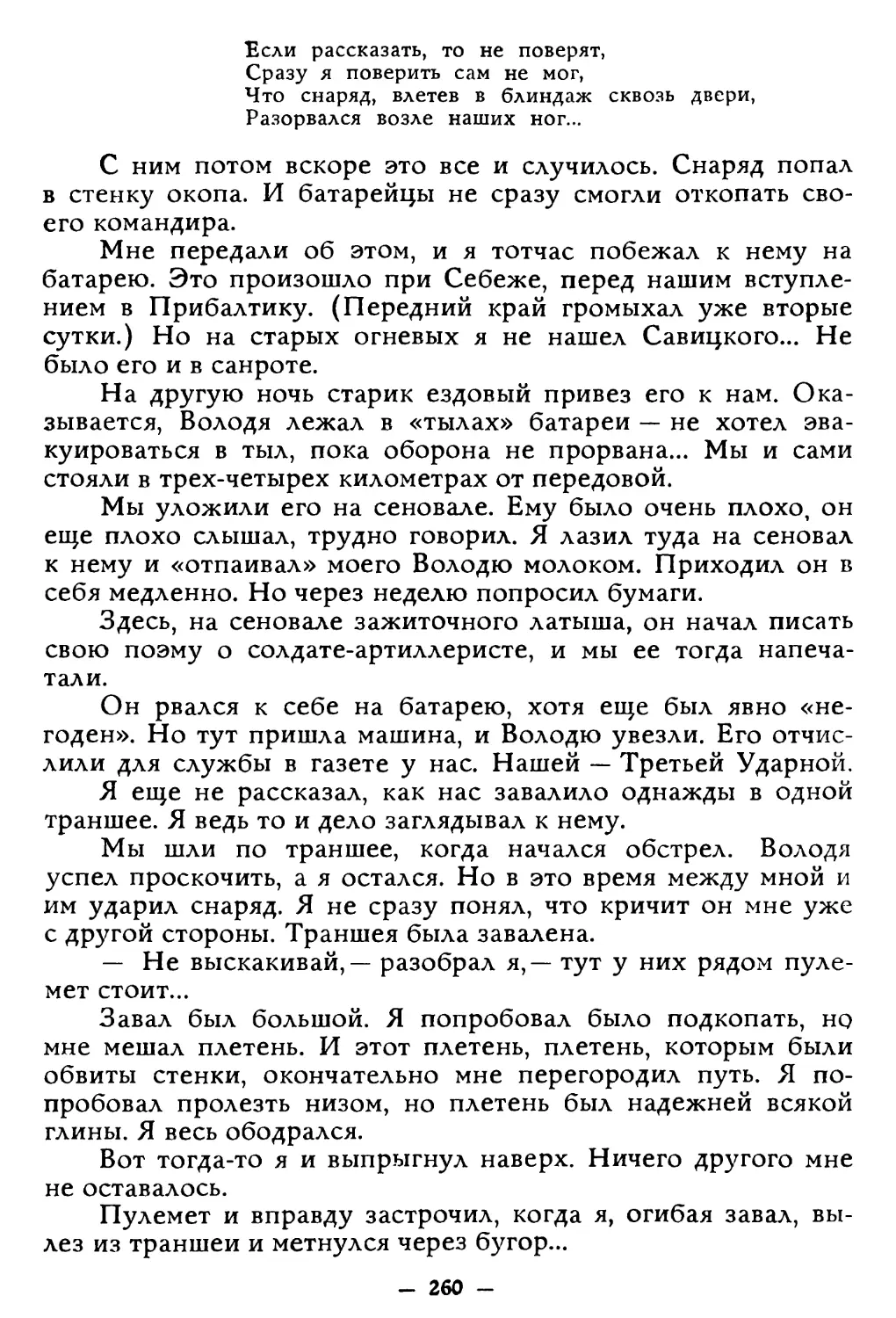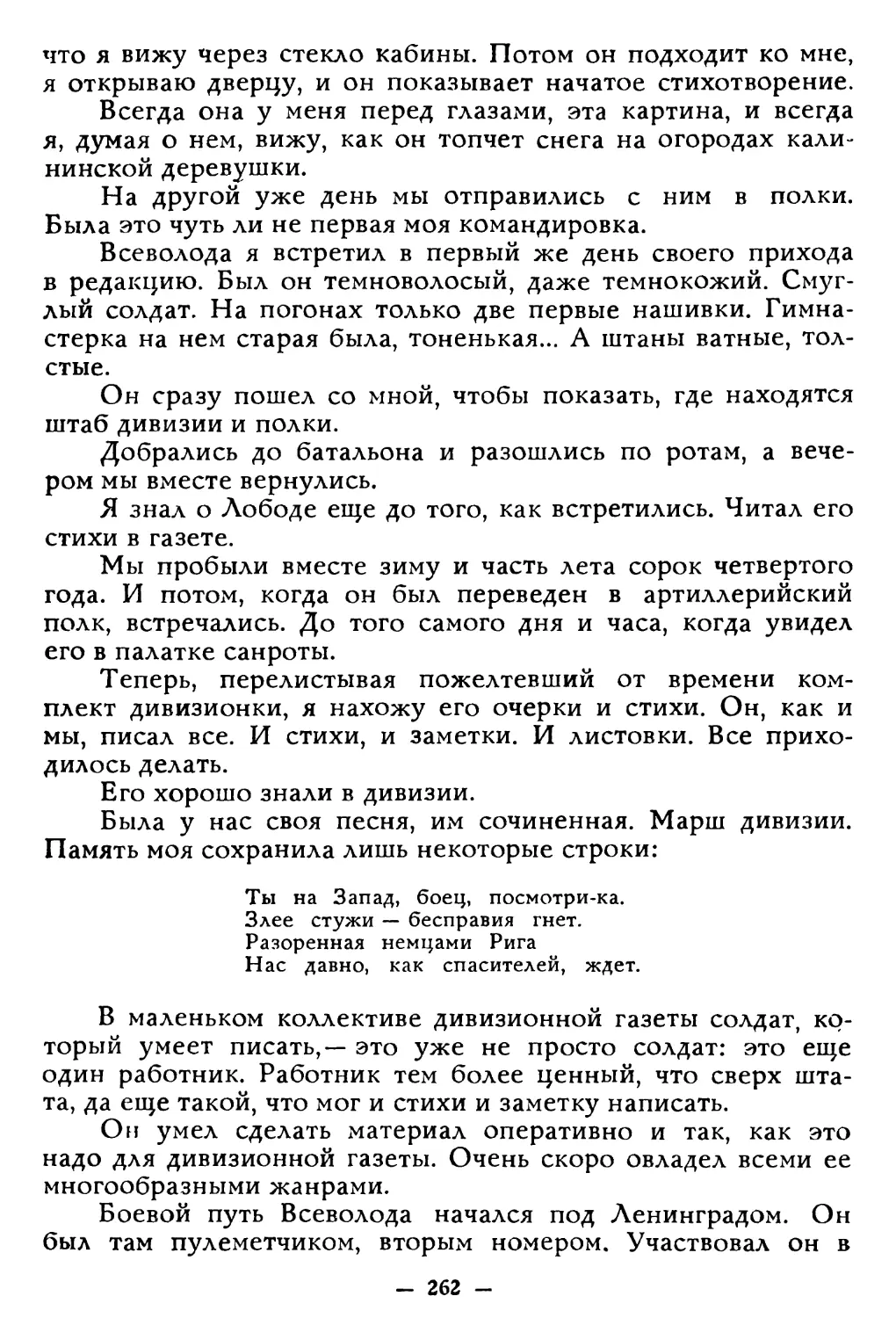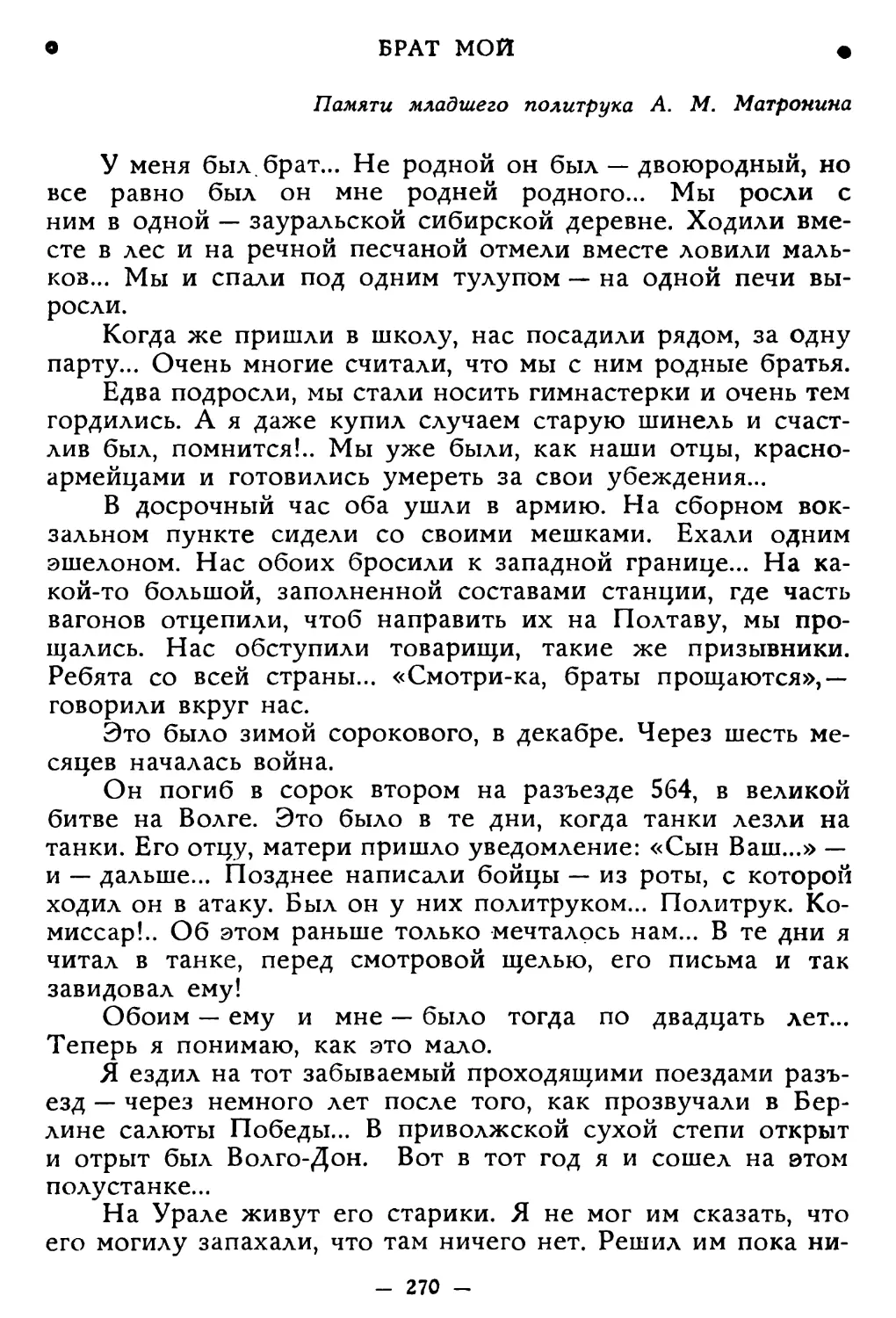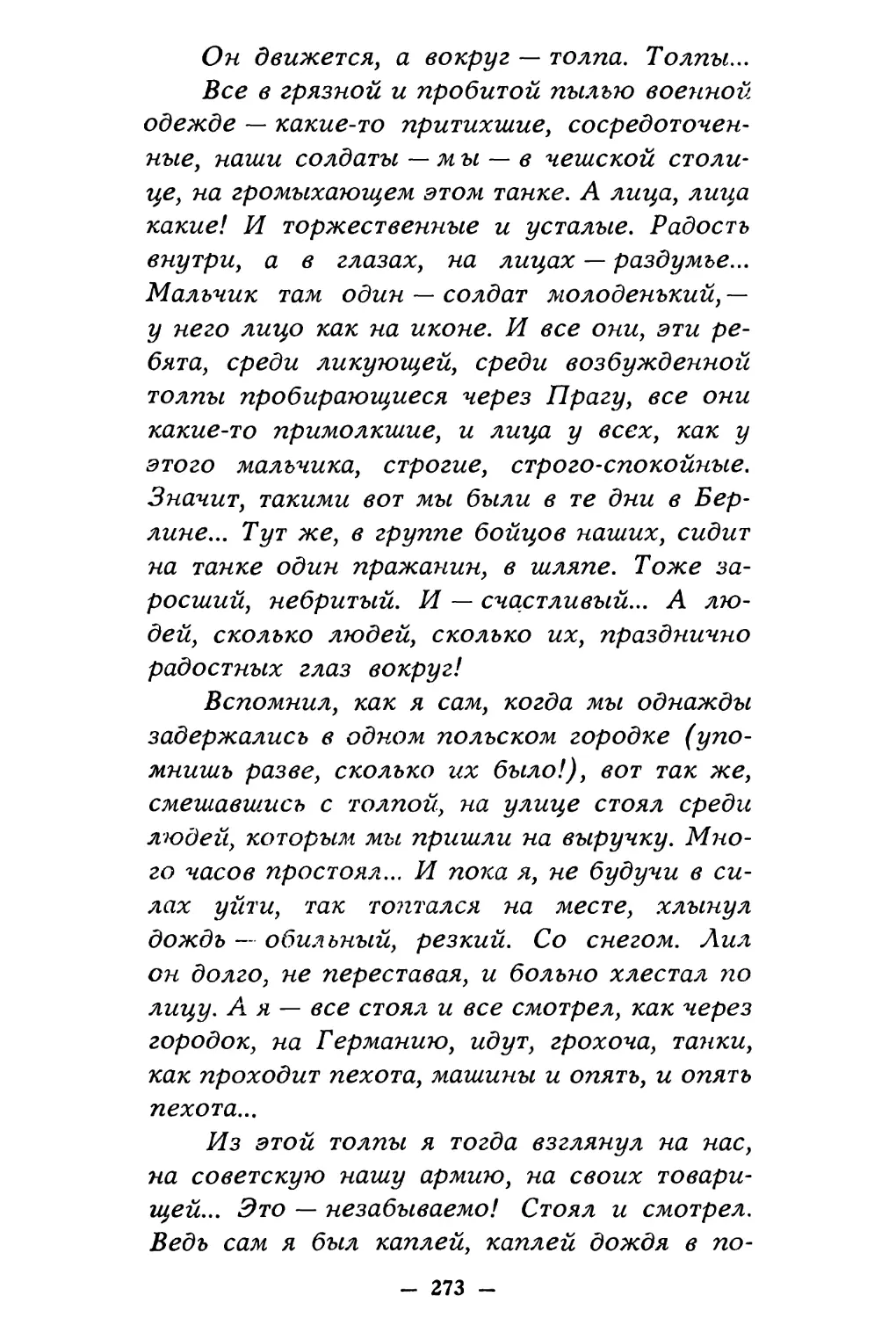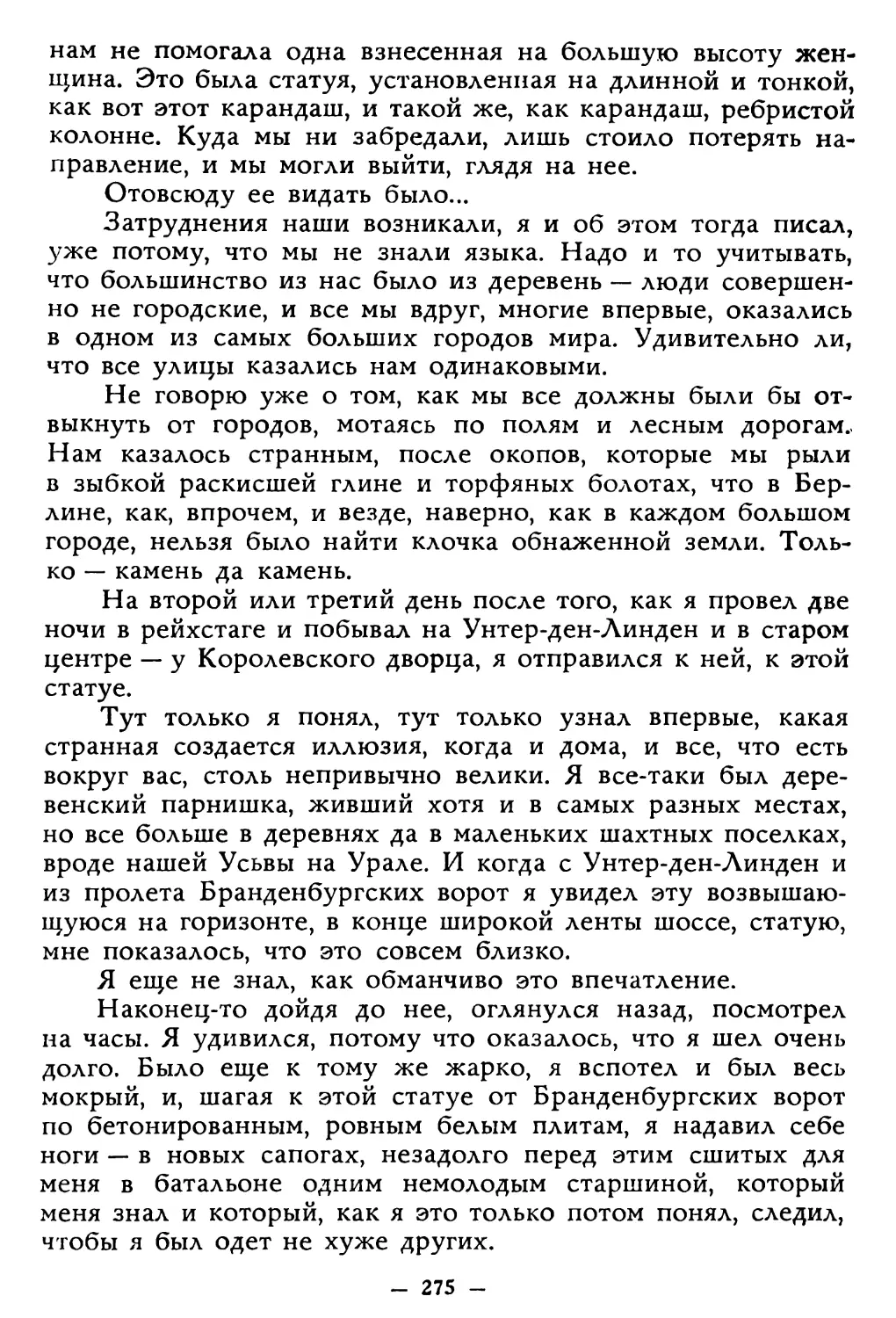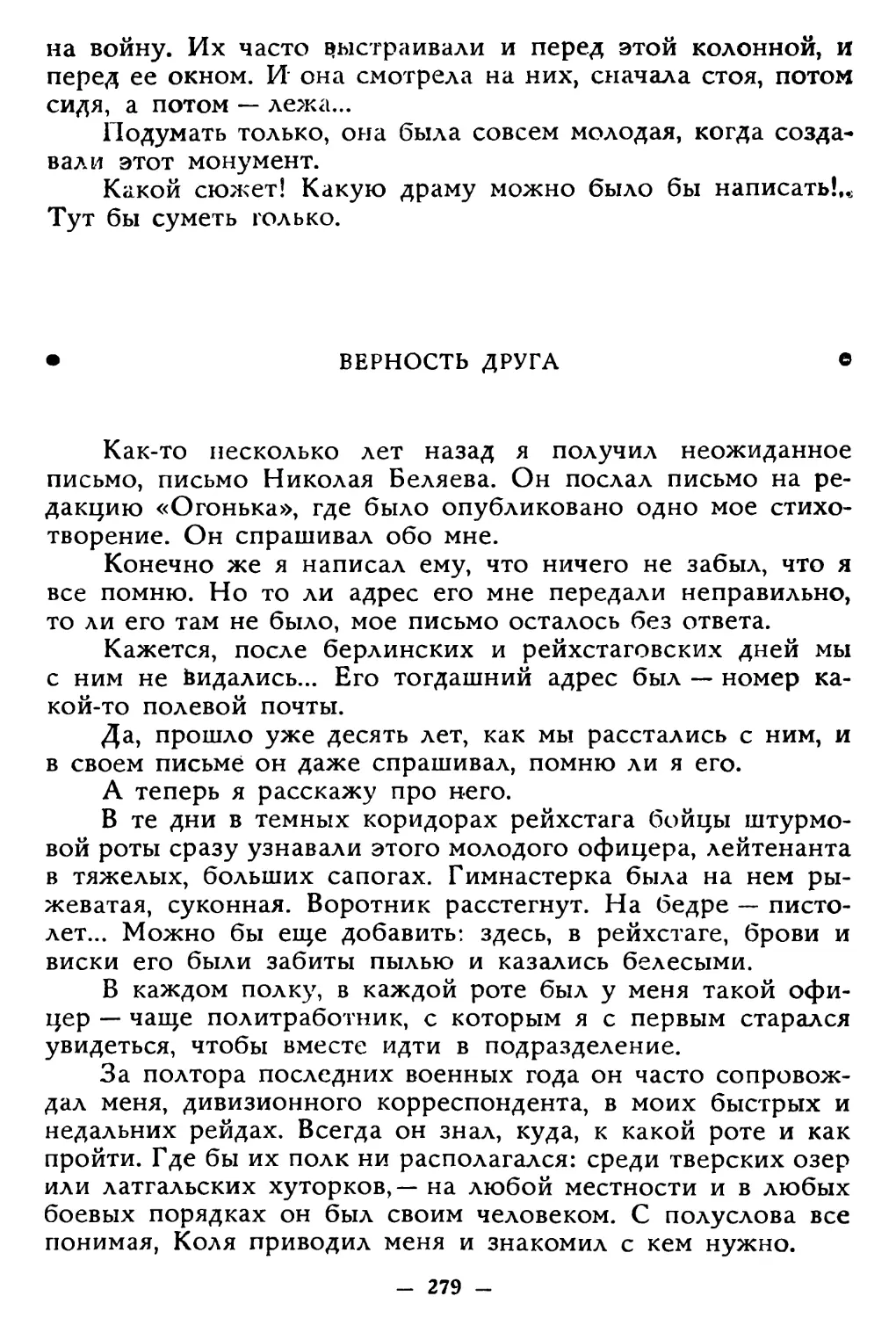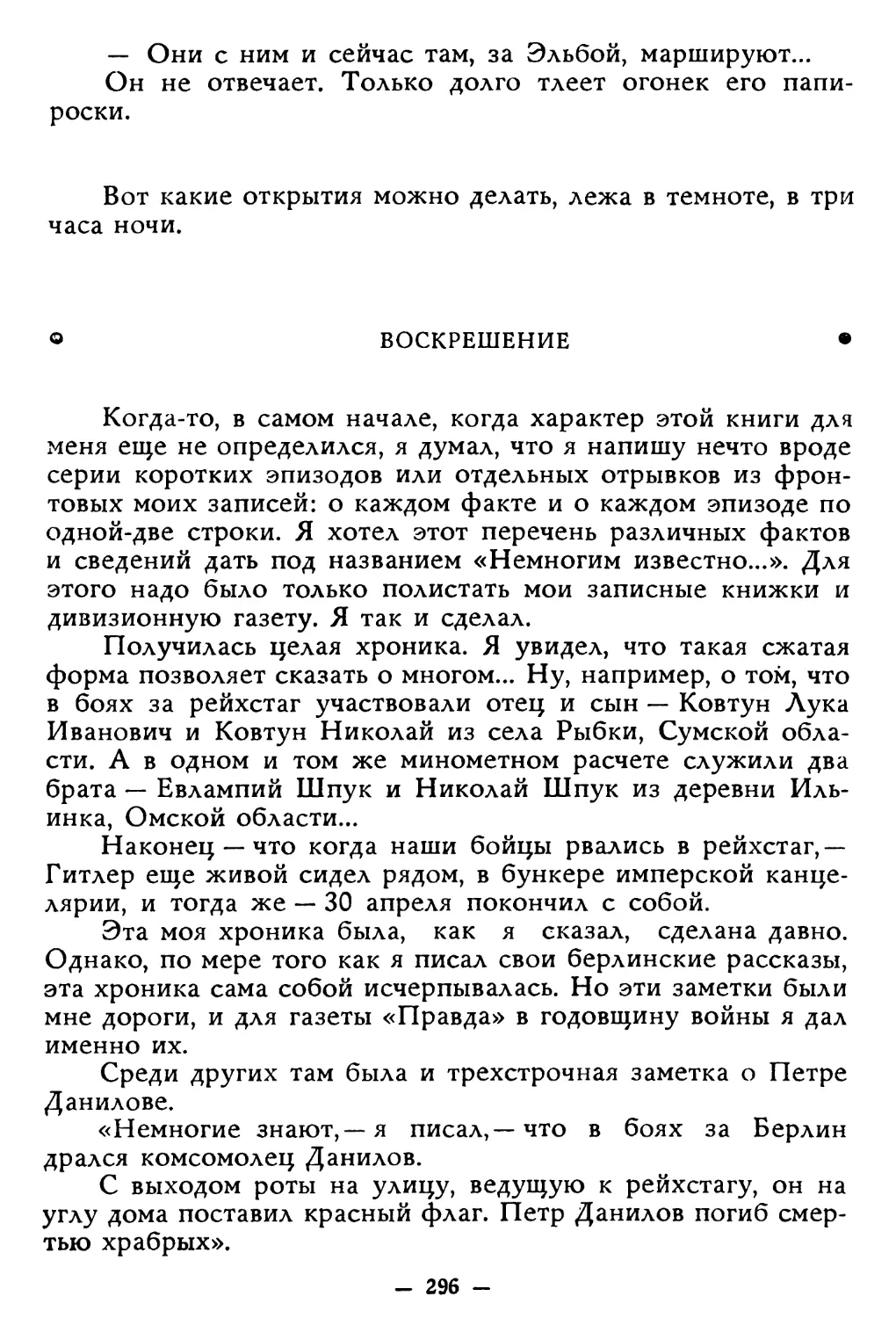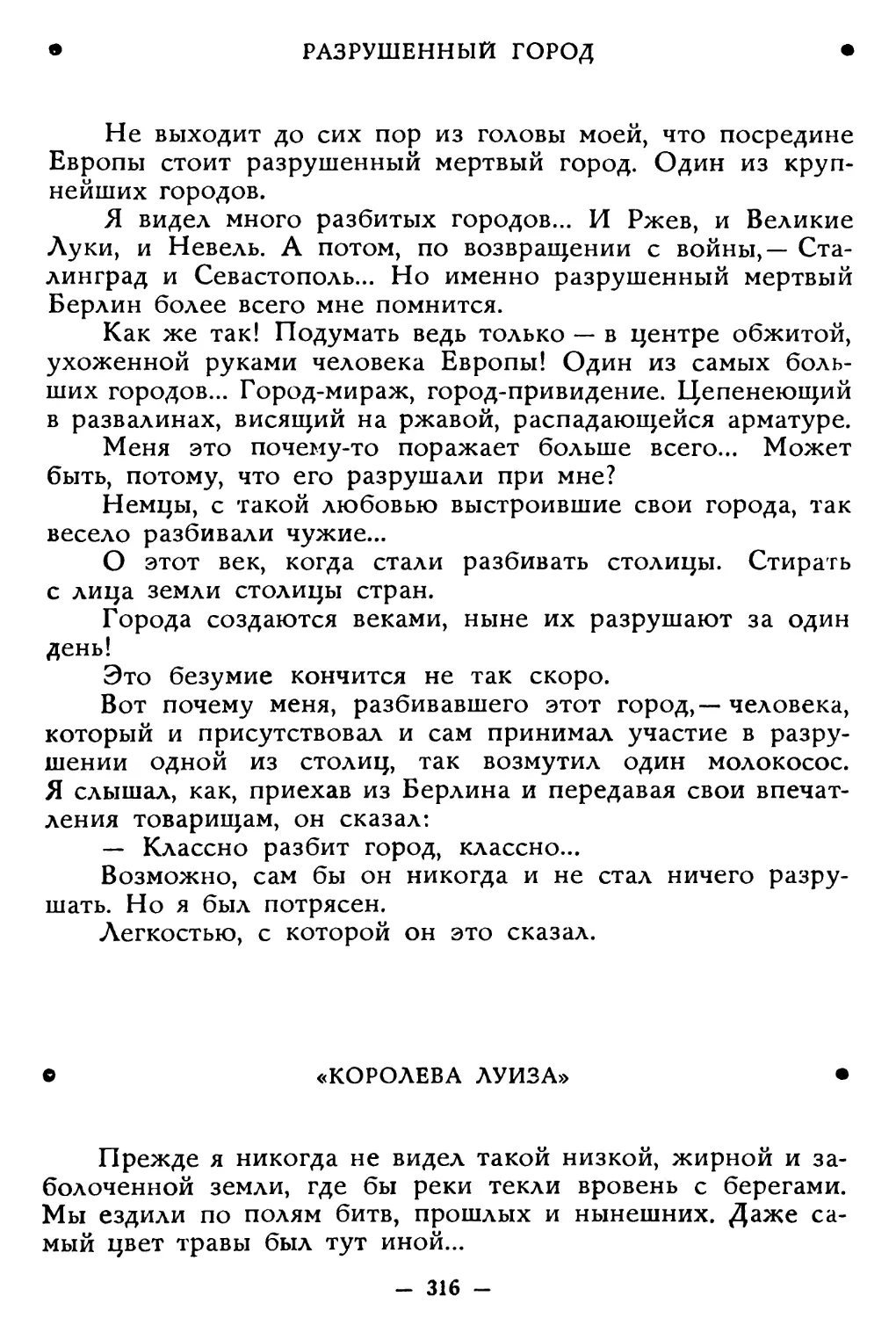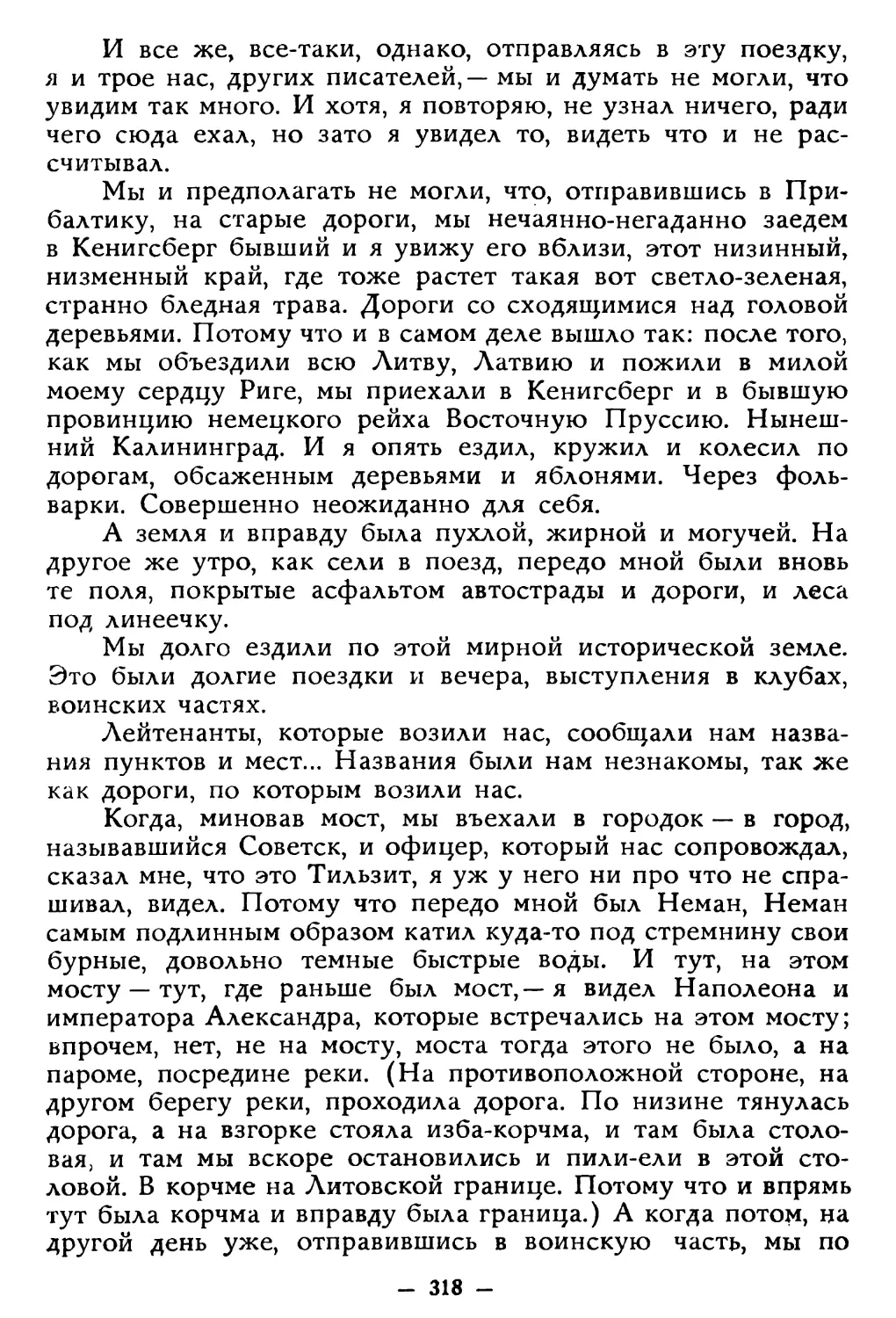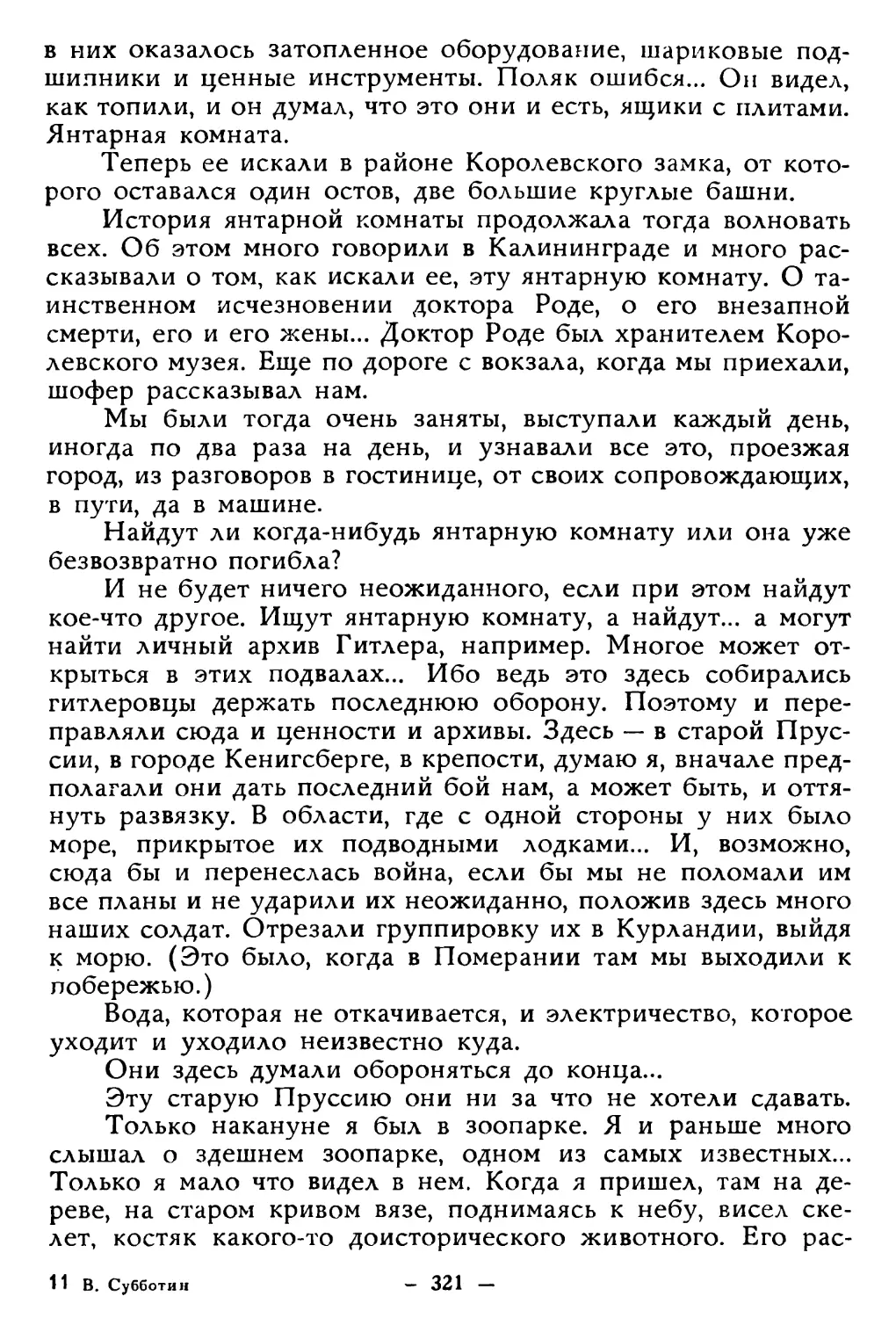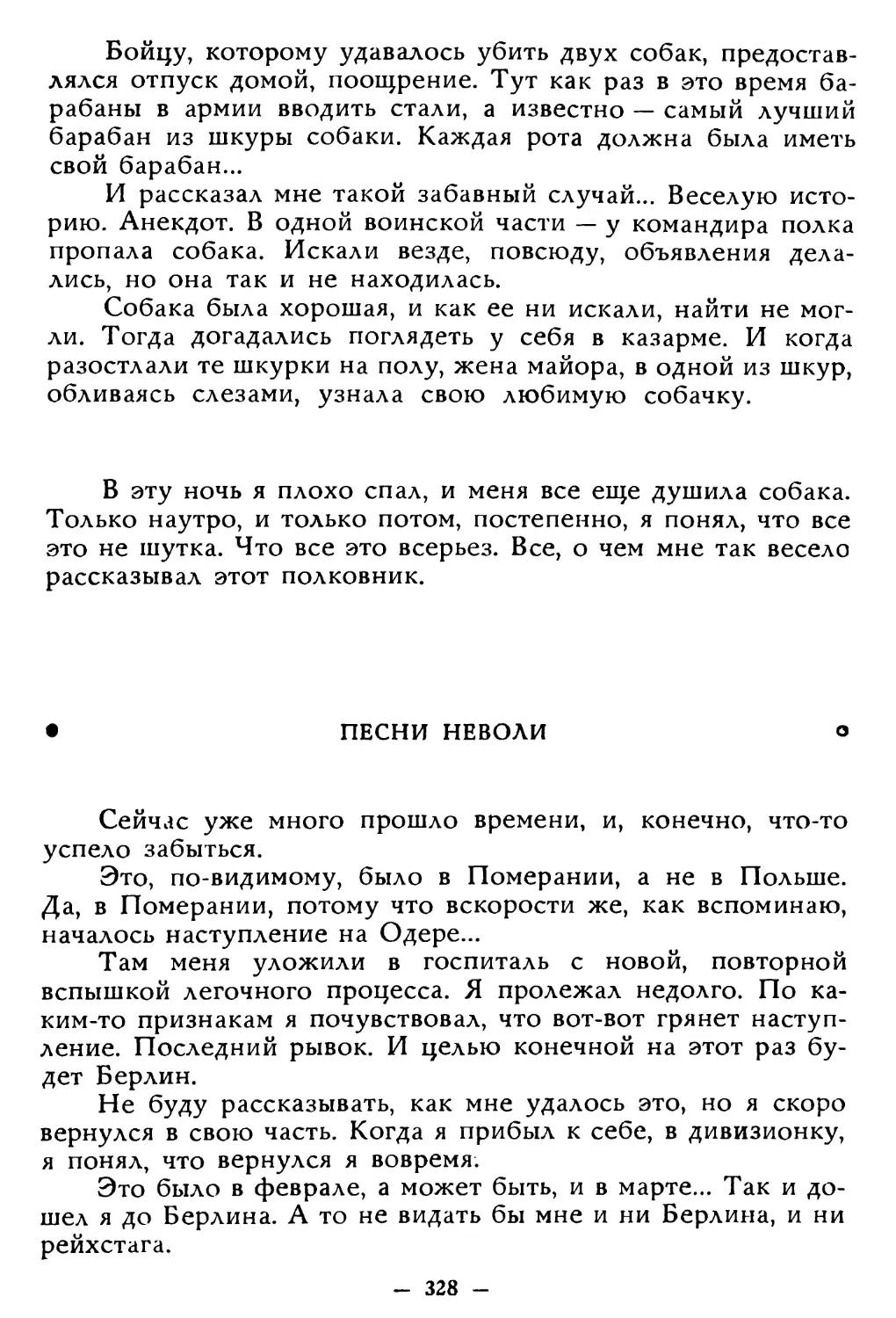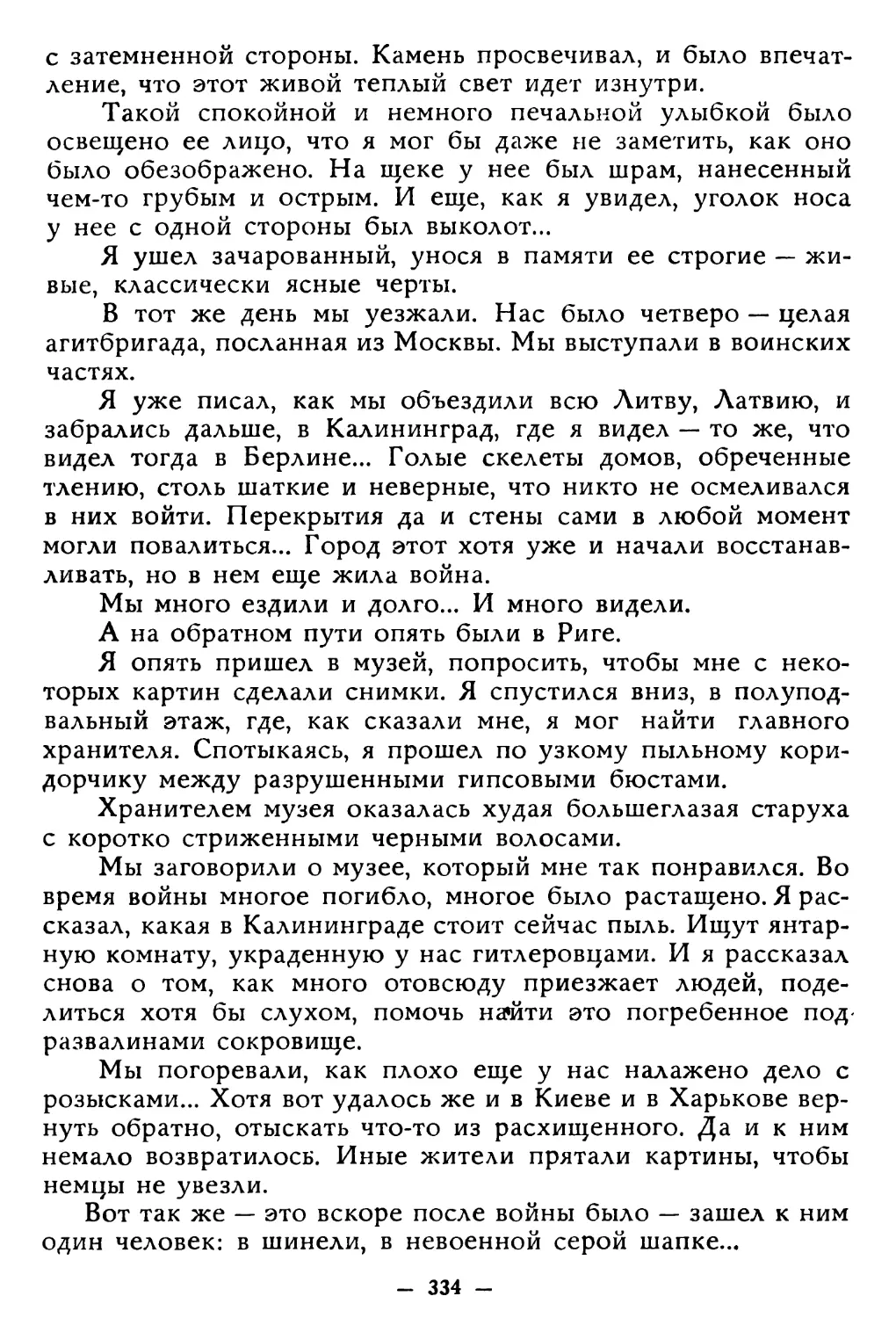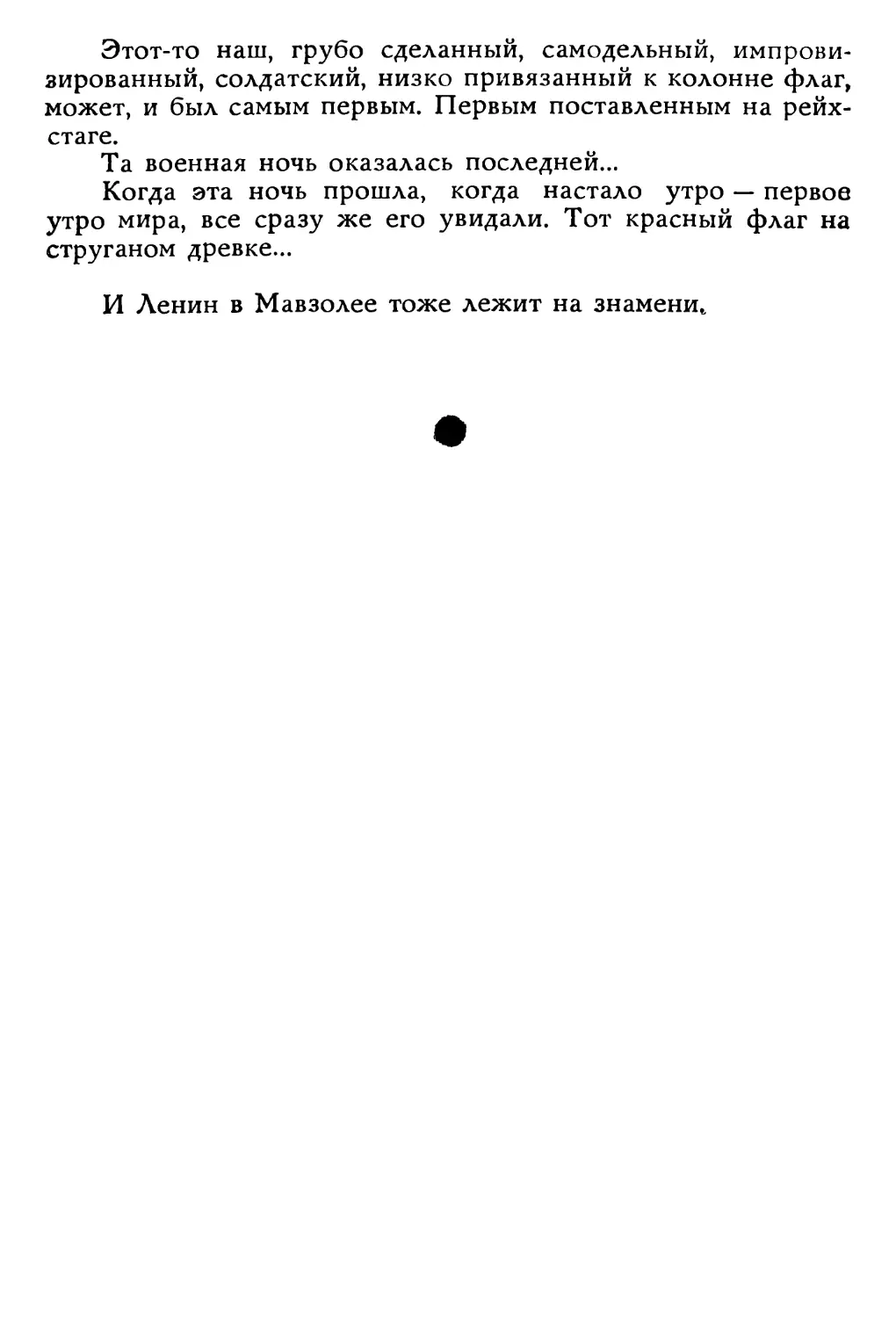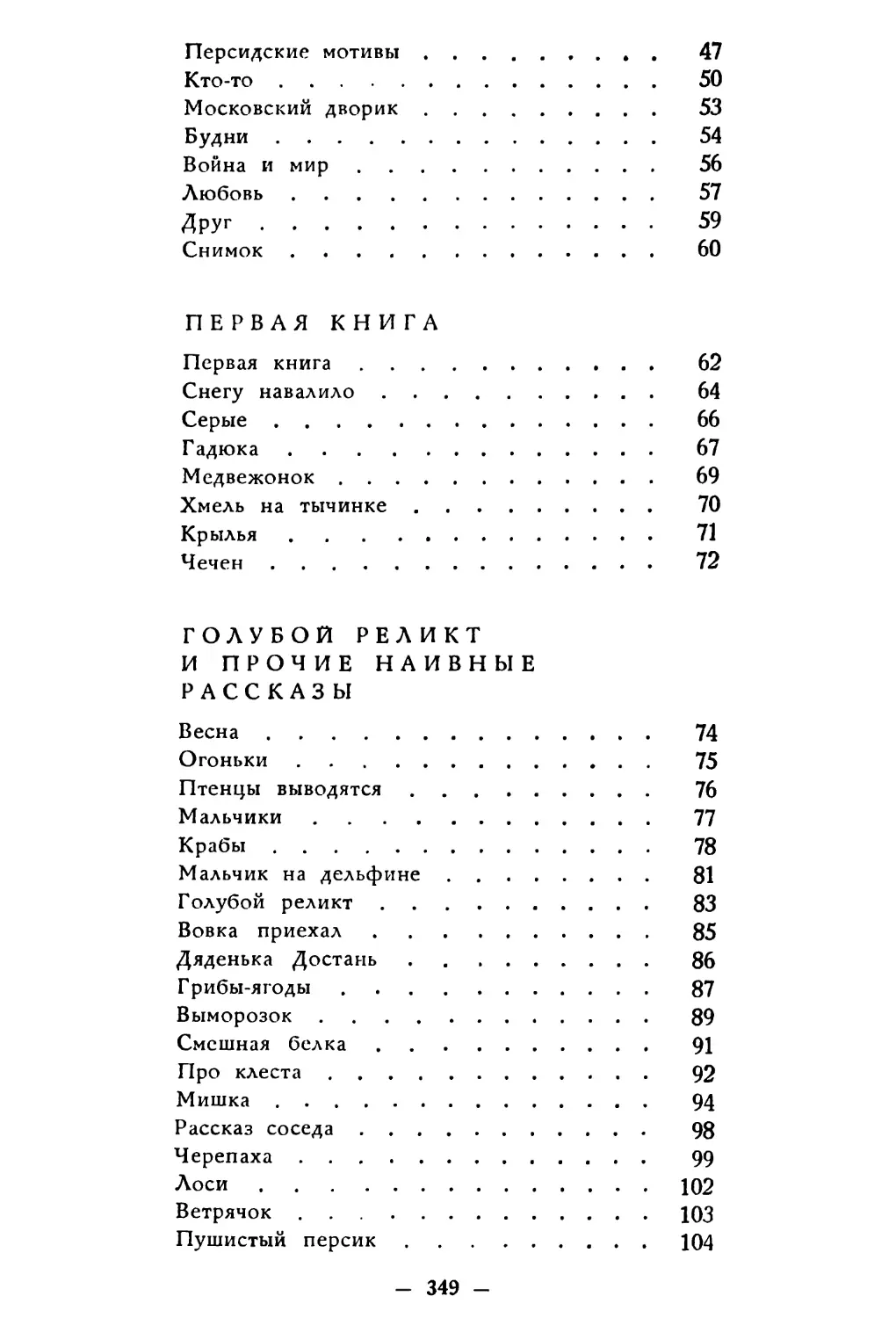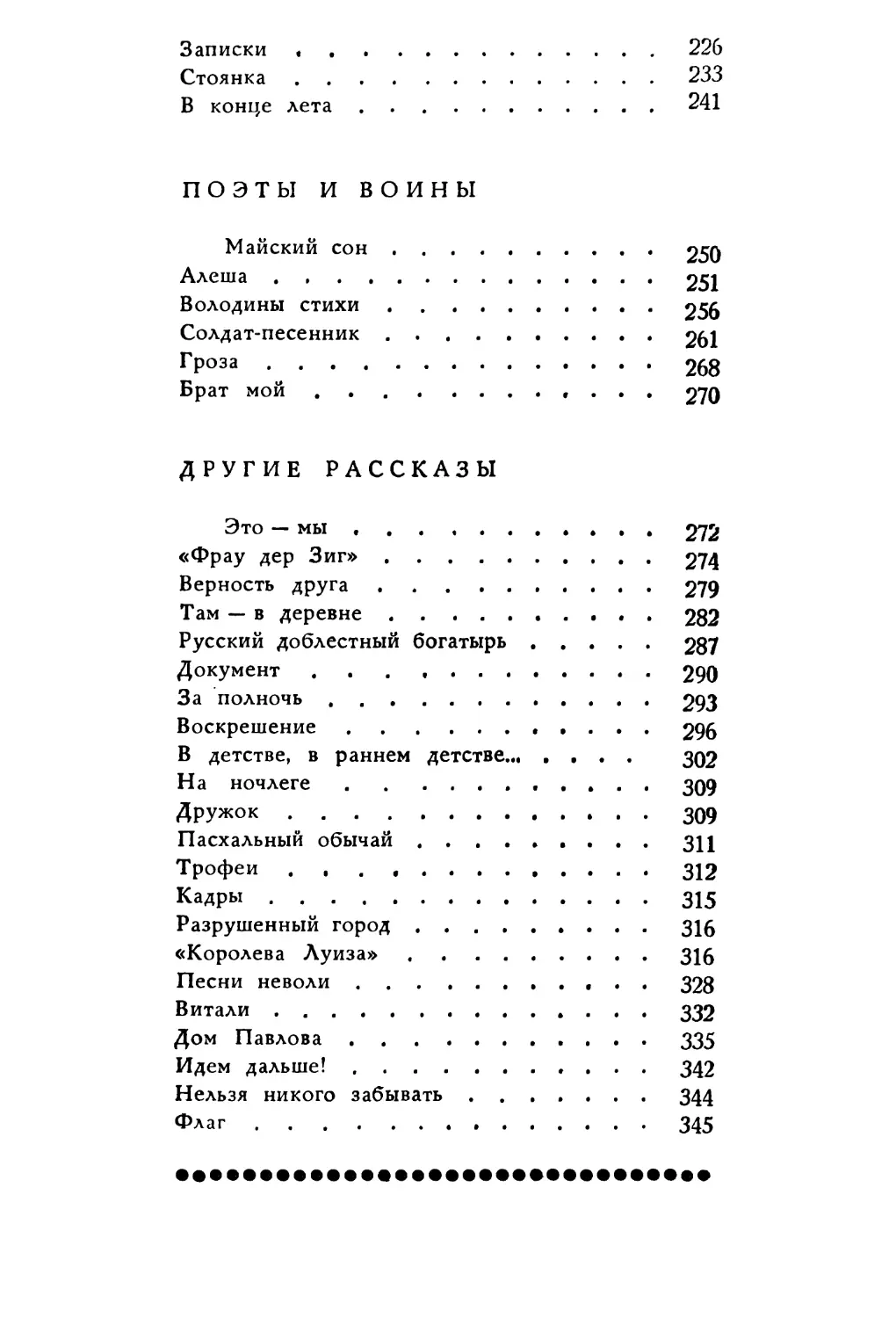Текст
© Василий • ЖИЗНЬ ПОЭТА • субботин ♦
ВАСИЛИЙ СУББОТИН ♦
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ Москва 1968
ЖИЗНЬ ПОЭТА
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ВАСИЛИЙ СУББОТИН
Избранная проза Василия Субботина публикуется впер-
вые. В настоящее издание входят две книги — «Жизнь
поэта» и «Как кончаются войны». Книги Василия Суб-
ботина написаны в форме коротких лирических новелл
и миниатюр. Это своего рода главы единого повество-
вания о времени и о судьбе целого поколения.
ЖИЗНЬ ПОЭТА
••••••••••••••••«••••••••••••••с••
О : отцы : О
•
• •
О Ф
••••••••••о•»©•«•©»•©•«•••&••••• •
ГОРОД
Мы все хотели его строить... Я и сам когда-то хотел из
дому убежать, когда его строили. С товарищем одним собра-
лись. Как на фронт...
И теперь вот эта встреча.
Как я зорко ни вглядывался в круглое окошечко — и за
бортом, и там, на земле, все время была ночь...
Мы летели в бесконечности. И вот какие огромные про-
странства! Летим два часа, три часа летим. Пять часов! Все
двадцать часов полета — от самой крайней восточной точки
вплоть до Москвы — летим вслед за солнцем. В полной тем-
ноте! Ни мы не могли догнать солнце, ни солнце не могло
опередить нас.
- 7 -
И ни знака, ни огонька. Видно, одна только тайга, бо-
лота и топи... Глухотища какая.
Нам сказали, что там даже снег выпал. И мороз стоит,
и снег... И — довольно большой мороз, градусов десять.
Как над океаном летели: нигде ни огонька...
Вдруг будто окно открылось в туче, и неожиданно я уви-
дел скопление огней... Я и представить себе не мог, что
столько света могло бы быть брошено в небо. Я думал сна-
чала, что это Млечный Путь. Это действительно было как
Млечный Путь!
А перед тем тьма была тьмущая и ни одного огонька.
И вдруг остров какой-то...
Внизу там.
Остров огней...
Только теперь, по этим огням, я понял, на какой большой
высоте мы летим. Будто из космоса я глядел.
Мы летели и летели, и под крылом у нас рождались,
возникали все новые огни. И конца этому, казалось, не будет.
Это как зерна жизни, вброшенные во Вселенную.
В этом еще потому было для меня столько таинственно-
сти, что никто этого не видел.
Я сидел, прижавшись к окну, а кругом меня все спали.
В самолете горела одна только синяя лампочка.
Большая, погруженная в темноту машина, воздушная,
плавная, будто рыба, машина, приостановившая свой полет.
И эта редкостная картина внизу, на глубине. Всплывающие
из-под самолета огни.
Я был единственный, кто это видел.
Все — спали.
Потом разом вдруг все кончилось, и, как и раньше, как
десять минут назад, настала прежняя плотная мгла, прежняя
темнота. И в самолете, и за окном. Но потом еще раз, когда
мы пролетели немного и самолет развернулся, я увидел это
скопление огней. Еще больше удаленные, все такие же яркие,
собранные уже в одном месте.
Как высыпанная на снег горсть углей...
Теперь, однако, этот раскаленный огненный островок как
бы взлетел вверх, очутился на крутом темном плато, на вы-
сокой горе... Как бы навис над обрывистым берегом. И был
не под нами, а сбоку. Даже выше нас... И словно тонул в сне-
гах. Но, конечно, это только так казалось, что вокруг глухие
зыбучие снега. Потому что никаких сугробов, конечно, не
было. Только так казалось...
- 8 -
Потом уже я сообразил, что самолет наш просто-напро-
сто навалился на крыло и огни и снега от этого очутились
на горе. Когда же самолет выровнялся — опять все встало на
место, и этот остров огня опять оказался под нами — опять
на равнине оказался.
Мы летели еще часа полтора или два, пока не сели в Ха-
баровске и пока вдали, все еще в темноте, не блеснула река.
Амур.
Оказалось, — когда мы заправлялись, я узнал: этот город,
внизу, на равнине, в тайге скорее всего — был Комсомольск.
Комсомольск-на-Амуре.
ЖИЗНЬ ПОЭТА
Я знал о нем мало или почти ничего. Только то, что, едва
сойдя с поезда, бросился он на Пресню...
Только то, что в девятьсот пятом году — в день начала
вооруженного восстания, в этот именно день он вернулся из
политической ссылки с Севера и с вокзала прямо пришел на
баррикаду.
Я даже портрета его не видел. И о том, что как дружин-
ник боролся он на Красной Пресне, узнал совершенно слу-
чайно.
Но право же, не так уж мало я о нем знаю.
Они опять попались мне на глаза, эти стихи. Нет, ника-
кие не особенные! Просто у каждого человека есть они —
слова, которые не можешь произнести без сердечной дрожи.
Они и у меня тоже есть, вот эти... Не многие другие волно-
вали меня больше.
Все, что днем у нас разрушено,
Выстроим во мгле.
Жажда битвы не задушена
В раненом орле.
Ночью снова баррикадами
Город обовьем.
Утром свежими отрядами
Новый бой начнем...
Я думал, что эти стихи существовали всегда. Во всяком
случае, я знал их столько же времени, сколько сам жил на
- 9 -
свете,— и любил их не меньше, чем «Заре навстречу»,
и наравне с «Отречемся от старого мира»... Раньше, чем
какие-нибудь другие впервые мною слышанные стихи-
слова.
Я бы удивился, если бы мне сказали, что они кому-ни-
будь принадлежат.
Как я их запомнил?
Далеко отсюда, в сибирской деревне, мы шли на демон-
страцию. Весной, в мае, а может быть и осенью — на Октябрь-
скую, всей нашей маленькой школой, маленькой колонной
под красным флагом. Воспоминание... По мосту переходили
речку, а на опушке старого бора, где было несколько могил,
останавливались. Здесь у памятника жертв революции, встав
кружком, обступив простую деревянную ограду, мы пели их
песни... И от песен этих, от тех слов, у меня до сих пор
щемит в горле.
Доныне все вижу: и могилы на окраине деревни, и пла-
кат, висевший у нас в классе, высоко, под самым потолком..,
(Будто я в этот класс с улицы заглядываю. Через окно.) Пла-
кат, висящий в школьном классе, на котором написано:
«Мир — хижинам, война — дворцам!»
И вот... В стенной газете жилищного управления — лет
тридцать или лет двадцать пять спустя я прочел стихотворе-
ние, посвященное дням и событиям Пятого года, стихотво-
рение, начинающееся словами — «Вечер веет над скелетами
павших баррикад...». Так впервые я встретил эти стихи напе-
чатанными.
Имя поэта было для меня неизвестно, а стихи — знакомы.
Я сначала стоял перед заметками, но в них ничего ин-
тересного не было. В темном коридоре читать мне было не-
удобно, а потом, внизу, я увидел эти стихи.
Тут же из редакционного предисловия узнал я то, как
с вокзала бросился он на Пресню. Евгений Тарасов...
Все это настолько не выходило у меня из головы, что я
долгое время думал, что я обязательно напишу книгу о нем.
Роман, например.
Может быть, даже роман...
Что я, казалось бы, знал о его жизни! Однако мне виде-
лось все так зримо.
Будто я был с ним рядом.
Потом уж я узнал, что у него выходила книжка. Она
была издана в 1906 году («Стихи 1903—1905»), и сразу же
была она арестована...
- 10 -
И вот еще что. Оказывается, я мог бы увидеть Тарасова,
я мог бы даже встретиться с ним. Он умер уже в наше время,
в сорок третьем году.
Наверное, живы еще люди, которые о нем помнят, кото-
рые знали его и по дням восстания. Да и сохранились, я ду-
маю, какие-нибудь бумаги.
Вот так и сталкиваемся мы с людьми, когда они уже
уходят...
Когда выступление рабочих на Пресне было подавлено,
ему помогли скрыться. Он стал певцом восстания. Поэтом
гнева восставших:
«...Смолкли залпы запоздалые. Смолк орудий гром. Чу^ь дымятся
лужи алые, спят кругом бойцы усталые, спят последним сном...
Спите, братья и товарищи! Близок судный час — на неслыхан-
ном пожарище мы помянем вас!»
Жаль, что я не узнал о нем ничего! Ничего так и не
удалось узнать...
Но иной раз мне кажется, что я знаю о нем все.
• ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ®
Нам видеть его не довелось — мы не застали его.
Тогда, когда мы выросли, этот человек — не он сам, а
его образ — был уже как тот материк, от которого отплы-
ваешь. Чем дальше, тем он выше и величавее.
Но однажды и я увидел его очень близко.
Я услышал один рассказ. Было это лет десять назад
в студенческом общежитии. Вечером однажды после лекции
мы заговорили о Шушенском.
Все, наверно, знают, что это сибирское старое село, рас-
положенное на берегу Енисея.
Он писал о нем в письмах к родным. В первые же дни,
когда он туда приехал. Писал, успокаивая: «Шу-шу-шу —
село недурное... К Енисею прохода нет, но река Шушь течет
около самого села... На горизонте — Саянские горы или от-
роги их: некоторые совсем белые, и снег на них едва ли
когда-либо стаивает».
И продолжал так:
И -
«...точь в точь как из Женевы можно глядеть на Мон-
блан».
Именно здесь, в Сибири, как он уверял, он сочинил един-
ственную свою стихотворную строчку:
«В Шуше, у подножья Саяна...»
Дальше у него не пошло.
Зимой выходил на реку, катался на коньках и научил
этому сельских ребятишек. Охотился. И крепко подружился
с одним крестьянином, который его очень любил и который
принес ему однажды из лесу журавля.
В Шушенском и до сих пор сохранились многие вещи,
которыми он пользовался. И стол и конторка. И лампа керо-
синовая, медная. Говорят, что эту лампу ему привезла из
Санкт-Петербурга Надежда Константиновна.
Он усиленно работал в этой суровой глуши, он напи-
сал тут свою большую и очень важную книгу. И потому
больше всего нуждался в лампе.
Товарищ мой, который рассказывал об этом, и сам был
оттуда. Не шушенский, но из Хакассии, из Абакана. Не так
уж далеко по сибирским понятиям. Рядом. И в Шушенском
этом мой товарищ сам часто бывал.
Собственно, это лишь мимическая сценка.
Он и Крупская идут рядом. Кажется, идут даже не по
улице, а по крутому, по высокому берегу реки, где по весне
обычно собирается у них народ.
Идут они через толпу.
Он в своем единственном, памятном нам, пальтеце.
В том, у которого бархатный воротник. А на Крупской —
круглая шапочка, и из-под пальто, до самых ботинок, черная
юбка.
Он бережно ведет жену под руку. Это настолько непри-
вычно крестьянам, что это-то крестьянам и запомнилось на
всю жизнь.
Но главное, что еще больше запечатлелось им: ведя жену
так вот, под руку, он, повернув голову, все время говорит ей
о чем-то. Вроде бы кому-то доказывает свою правоту. Гово-
рит и жестикулирует сжатой рукой.
Это — как в немом кино. Слов не слышно, только дви-
жение...
По-видимому, он только что оторвался от рукописи.
С кем-то еще продолжает спорить.
Мне очень дорого это воспоминание.
Я долго берег его.
12 -
...И еще такой же один рассказ, тоже небольшой.
Тоже сибирский, тоже шушенский.
Это вскорости после революции было.
Один старик, из Шушенского же, пришел в волость.
Снял шапку и в угол глядит, глянул и удивился.
Человек на портрете какой-то знакомый. Одет в черный
пиджак. Бородка небольшая, клинышком. Взгляд уж больно
знакомый!
Кто это такой?
Председатель объясняет ему, кто.
А старик ему:
— Прокоп! Да ведь это же тот самый мужик. Что у нас
тут, в Шушенском, жил...
Вот все. Может быть, все это не столь значительно. Да,
вероятно, это так. Но все же эти два или три случайных,
мимолетных штриха помогли мне увидеть его.
Таким он у меня и в памяти жив. Ленин, увиденный
глазами шушенцев.
НОВЫЙ ГОД
Кто-то придумал встретить его на Красной площади.
Мы разлили уже было вино, когда эта мысль возникла.
За дверью лишь, на улице, почувствовали, какой мороз.
Ночь была точно вырублена... У нас оставалось только пять
минут. Обидно было бы уйти так из-за стола и не встретить
этот Новый год, вторую половину века.
Мы бежали, закрывая варежкой рты, хватая себя за ко-
ленки. Должно быть, из глаз у нас сыпались искры... На уме
вертелись одни и те же назойливо повторяющиеся, давно,
казалось бы, ушедшие из памяти слова:
Тишина холодной ночи
Занимает дух...
Мы успели.
Здесь, несмотря на редкостно сильный холод, стояло
много людей... Едва успели мы подбежать, как возле дверей
входа произошло движение и одновременно с этим начали
бить часы.
- 13 -
Солдат с винтовкой встал на порожек...
Стараясь разглядеть что-нибудь из-за голов людей, сдви-
нувшихся у гранитных плит, мы торопили наших отставших
товарищей.
Забили часы. Удар, два удара... Солдат сменял солдата.
Строго, под удары, один уступал место другому...
Стук, стук. По плитам, по граниту.
Оба бойца были в полушубках — в шинелях с меховыми
воротниками.
Солдат, вставший на каменный порог, сделал поворот,
еще поворот и занял положенное ему место.
Вот тут и бросилось в глаза: заступивший на пост сол-
дат был молоденький, первого года службы, а что сменился,
тот был старый, усатый солдат...
Молодой — молча приткнул ружье к ноге и — остался
у гробницы Ленина.
Возбужденные, вовсе не чувствуя мороза, уходили мы
с площади.
о ДЕД ОЛЕНЧУК •
Он жил где-то со мной рядом, на Сиваше. Мне страстно
хотелось повидать его, и я собирался съездить к нему, да
так и не собрался.
Не помню уж, право, когда я в первый раз о нем услы-
шал. Но думаю, что с самого детства я знал о нем. Знал не
меньше, чем о Буденном...
Нам — маленьким — об этом отцы рассказывали. И вот
мы выросли, мы сами стали солдатами, а дед Оленчук все
еще жив.
Он уже и тогда был дедом...
Это было в 1920 году, когда брали Перекоп. Этот самый
дед Оленчук перевел Красную Армию через Сиваш, когда
из Крыма Врангеля гнали.
Он самому Фрунзе показывал, где надо переходить.
Я даже и снимок такой помню: Иван Иванович Оленчук
показывает рукой через Сиваш.
Все я хотел до него добраться... Я и сам жил теперь
в Крыму, а дед Оленчук, второй раз уже проведший войска
14 -
наши через Сиваш, жил там же, где он жил всегда, и до него
было недалеко — каких-нибудь десять — двенадцать часов
езды...
Да, так вот вышло: мы выросли, а дед Оленчук словно
бы и не старился, все так же рыбачил и одной осенней ночью
в 1943 году, такой же, как та, 23 года назад, опять разведывал
брод через Сиваш.
Мой старый друг один — я его еще по дивизии знал —
заезжал к деду Оленчуку. Дома у него был.
Оленчук жил у себя в Строгановке, на той стороне Си-
вашей. Одиноко жил. Гордо. В хате на стене висел у него
единственно только старый кожушок...
Такой вот был этот старик, что дважды перевел нашу
армию через Сиваш. В первый раз в гражданскую войну, во
второй раз — в эту, в Отечественную.
И все-таки я его, деда этого, помню. Ради этого все и
рассказываю...
Я его тоже видел.
А вышло так. Я шел по улице, летом. В том же Симфе-
рополе. Жара как раз самая стояла. Подвигается — выша-
гивает мне навстречу человек... С палочкой, в ватничке.
Гляжу я: да это ж дед Оленчук идет! Я его в лицо узнал. По
бороде.
На голове шапка-шапчонка, постолы на ногах... Под пид-
жачком его или под ватничком — толком не разглядел — гим-
настерка старенькая.
Идет вразвалочку — рыбацкой валкой походкой. Будто
по бережку идет. Как в Симферополе не ходят.
Оглядываюсь, а он уже прошел.
Так и я его увидел. Все-таки — привелось. Я после спро-
сил и узнал: Оленчук был в Симферополе, к Другу моему он
в этот день заходил.
Года два назад, как мне передавали, старик умер.
ТИМУР
Из глухих зарослей тростника выходит мальчик. Маль-
чик-индеец. Голый до пояса, крепкий. В руках у него боль-
шой тугой лук и две стрелы...
- 15 -
Предводитель, коновод сельской ребятни, видимо, очень
похожий на того, который организовывал свою команду.
Вид у него столь воинственный, что даже его белая ма-
ленькая, слегка выгоревшая на солнце челочка кажется укра-
шением из перьев...
Снято давно. Еще до войны. Еще был жив отец.
Мальчику здесь лет около десяти. Два передних зуба
у него выпали, он щербат.
Это — Тимур.
Я смотрел на фотографию, Тимур мне сам ее показал.
Мы встретились с Тимуром на Балтийском море, на песча-
ный берег которого до сих пор выносит комочки твердого
янтаря. Я видел, он часто становился задумчивым. Ему хоте-
лось самому ответить на все те вопросы, которые ставила
перед ним жизнь.
Мы много бродили, много купались...
Однажды мы разожгли костер дружбы и просидели
возле него всю ночь.
Тимур рассказывал об отце, о том, что он сам знал.
Костер наш разгорался... О том, как в четырнадцать лет
отец ушел на фронт, драться за светлое царство всех лю-
дей.
Жизнь у Тимура пестрая. Он сам моряк. Долго служил
во флоте, плавал на подводной лодке. Он журна-
лист...
Лицо у него все такое же озорное и смелое. Погляды-
вая на Тимура, я думал, как похож он на того, малень-
кого...
Мальчик, облазивший все окрестные сады и огороды.
Я сказал тогда Тимуру, как однажды я сам, в Сибири,
в детстве, в детстве моем, в деревне у себя, в обмен на мной
собранное блюдо земляники получил книгу.
«Школу».
И я с ней не расставался два года подряд...
Там, на берегу холодного моря, у чадящего жаркого
костра, я глядел на эту фотографию. Голый, улыбающийся
малыш, с луком и двумя оперенными стрелами в руке.
Снимок истрепался и обломался по краям...
Я после долго был в отъезде и долго не виделся с ним.
Я лишь потом узнал: Тимур поехал на Кубу.
16 -
монолит
е
Впечатление было такое, как если бы посреди города
возникла гора.
Камень-утес этот в Москве появился недавно, но к нему
уже успели привыкнуть. Няни прогуливают вокруг него де-
тей, на лавочках сидят старики. Просто однажды за досками
забора и стропилами смутно обозначились очертания воз-
никающей из камня фигуры.
Потом состоялось открытие. Правда, в то время,
когда памятник открывали, дома меня не было, но, когда
месяц спустя я вернулся, на площади все еще стояло много
людей...
Карл Маркс!
В основе лежит образ.
Что прежде всего хотел передать художник, что более
всего хотел он подметить — это жест. Жест опирающийся
и жест утверждающий. И еще не зная, каким будет его па-
мятник, он, наверно, уже знал, что памятник будет из мо-
нолита.
Должно быть, и сам образ родился так, из фразы: несо-
крушим, как монолит!
Проезжая в те дни мимо, я видел лишь, как он соору-
жался. За загородкой стучали пневматические молотки, и
все отчетливее угадывались его черты.
Недавно я опять был там и сидел на скамейке. Памят-
ник Марксу был у меня за спиной. А вокруг меня кричали
и носились ребятишки, и они, конечно, не знали, откуда та-
кой большой камень.
Впрочем, если подойдешь ближе, встанешь лицом к нему,
может показаться, не такой уж он и большой... Но однажды
я сидел в кафе, в том, которое выходит окнами на площадь,
на втором этаже. Открылась внезапно дверь, и я увидел в
стекле знакомые мне очертания. И тогда я узнал, что голова
Маркса достигает крыш противоположного дома... Так-то!
А если иной раз памятник кажется маленьким, невысоким, то
только потому, что сама площадь эта, на которой он стоит,
велика.
Хороший памятник! И мне жаль, что столько людей
не знают его истории, хотя помнят те дни, когда его ста-
вили.
Чтобы был памятник, требовался камень. А искали его
долго. Искали всюду и долго не могли найти. Я и сам про
17 -
то, как его разыскали, узнал совершенно случайно. Однажды
работники печати пригласили меня у них выступить. Я силь-
но опоздал. Когда я приехал, рядом со мной, в президиуме,
сидел красивый, темноволосый человек. Я не успел познако-
миться, как его уже вызвали на трибуну.
Когда же он начал рассказывать о монументе, я подумал,
что слушать его не станут. Кому, думаю, это интересно! Он
очень волновался, но, хотя он говорил неровно и поначалу
не очень складно, я жалею, что не записал. Не знал, что мне
захочется писать... Потом уж спохватился!
Рассказывал он, как глыбу памятника везли в Москву.
И как ее искали.
Как нашли.
Все сколько-нибудь значительные имеющиеся камни дав-
но описаны, известны. И все-таки были снаряжены экспе-
диции в самые разные места, на Кавказ даже, кажется. В Крым.
И вот как раз в Крыму нашли хорошую скалу. Был найден
нужный камень, диорит, из какого в Алупке построен Ворон-
цовский дворец. Нашли его где-то между Алуштой и Гур-
зуфом.
Камень этот был хорошего оттенка, зеленоватый, очень
крепкий.
Но он дал трещину, при первых же ударах, когда его
стали долбить.
Опять начались поиски. Искали везде, в Карелию ездили.
Ничего не находилось.
И вот наконец, после многих новых поисков,—нашли
то, что нужно, как раз такой камень, какой нужен. Хорошую
скалу. И нашли ее не в горах, не на Кавказе, и не на Урале
нашли, не в тайге. И не там, где искали сначала, а на равнине.
В Днепропетровской области, в степи. Ну не то, что в сте-
пи — прямо так наверху. А все-таки в степи, Днепропетров-
ской. Его прямо из породы выпиливали.
Я только потом узнал, что это выступает Кербель, сам
скульптор.
А он стал рассказывать... Огромная глыба была! Вот от
нее-то и взяли кусочек.
Нелегкое это дело было.
Чтобы доставить этот камень к железнодорожному по-
лотну, требовалось проложить специальную дорогу. Люди
соседних сел скоро узнали, что здесь у них нашли камень,
из которого будут в Москве сооружать памятник Марксу.
И всем и каждому хотелось принять участие.
- 18 -
К станции камень доставляли на санках. Десять мощных
тягачей впряглись в санки и стали их тянуть. На земле оста-
вался глубокий след. Ров. Путь был не близкий и занял чет-
веро суток.
Чтобы показать, какая это была сила и какая тяжесть,
надо рассказать такой случай. На одном таком перегоне лоп-
нул трос. Концом его, как бритвой, срезало стоявшую по-
одаль березу.
А чтобы довезти этот камень до Москвы, была построена
специальная платформа. Все движение было закрыто, и все
встречные поезда останавливались. Паровоз должен был дви-
гаться безостановочно — иначе прогибались рельсы и шпалы
уходили в землю.
И еще: как пришлось ему вести войну с железнодорож-
никами. Ему хотелось привезти побольше камня этого в Мо-
скву. Скульптор говорил — пришлось отстаивать каждый сан-
тиметр. То он не умещался на платформу, то не проходил
в туннель.
Совершенно особый, но тоже очень интересный отдель-
ный рассказ о том, как везли этот камень с вокзала... Достав-
ляли его с Рижского вокзала ночью, майской, когда Москва
спала. Самое сложное с площади Дзержинского было спу-
стить камень вниз, скатить его с горы... Вот трудно было!
Так рассказывают.
Трудно было его удержать.
Когда его скатили, бросились обнимать друг друга все,
рабочие и шоферы. Если бы он сорвался, он бы наделал дел!
Монолит был доставлен.
И теперь он стоит на площади среди Москвы... Вся фи-
гура энергичная, собранная. Одна рука на стопе книг, дру-
гая — перед грудью. Сжатая в кулак.
Он как бы на трибуне.
Далеко возвышающаяся голова Маркса. Он как бы воз-
никает из камня.
Я помню, как хорошо говорил скульптор, как ему хоте-
лось передать это — жест опирающийся и жест утвержда-
ющий.
19 -
ЛАВКА КАЛАНДАДЗЕ
о
Я когда в Москву приехал, первый год на Палихе рабо-
тал. И на работу каждое утро трамваем ездил. Трамвай этот,
наверно оттого, что все время на подъем идет, в гору, идет
очень медленно.
Идет он по Большой Грузинской, потом по переулку
Александра Невского, по 2-й Тверской-Ямской и потом уже —
по Лесной... Должно быть, самый медленный маршрут.
Один раз я так ехал — окна трамвая были открыты,—и
вдруг я увидел какую-то странную вывеску. Над маленькой
остекленной дверью было написано: «Оптовая торговля кав-
казскими фруктами. Каландадзе».
Наверно, я сто раз — не меньше — проезжал мимо этой
вывески, но только теперь ее заметил... Только теперь дошло
это до меня.
За стеклом лавки, в ее окне, горкой лежали орехи, фрук-
ты разные, инжир сушеный...
Трамвай давно миновал этот трехэтажный кирпичный
домик и уже отстоял остановку и медленно полз дальше, а я
все сидел на своем месте и думал, что за Каландадзе за такой,
откуда он взялся.
Чушь какая? В Москве оптовая торговля какого-то Ка-
ландадзе! Нелепость.
Потом я вышел и забыл про вывеску. Но теперь она уже
сама каждое утро попадалась мне на глаза, и, не в состоянии
будучи объяснить появление столь странной вывески в со-
временной Москве, я начал строить всякие догадки и пред-
положения.
И не мог ничего придумать другого: решил, что это ста-
рый — дореволюционный частный магазин. Частный мага-
зин, который каким-то образом забыли ликвидировать... А что
еще могло быть! Единственный частный магазин в Москве.
Чепуха, конечно... Но дальше этого фантазия моя не шла.
Я долго еще ездил по маршруту этого моего трамвая и,
замотанный, занятый по горло, заваленный работой, так и
не удосужился слезть однажды с трамвая, посмотреть, что
же там такое, почему Каландадзе открыл в Москве частную
лавочку. Помню, несколько раз обещал себе встать пораньше,
чтобы сойти на той остановке...
Может быть, я все-таки бы это сделал, но вскоре я оста-
вил прежнюю работу и теперь по преимуществу пользовался
троллейбусом и ездил другими маршрутами.
- 20 -
Я позабыл бы о необыкновенной и необъяснимой вы-
веске на домике по Лесной улице, но дочка моя, которая те-
перь учится в том же районе, рассказала мне, как она однаж-
ды шла и увидела в окне все эти сладости — и урюк, и фи-
ники, и орехи-фисташки, и инжир, и чернослив — все, что
она так любит, и не утерпела, зашла. Зашла и даже расте-
рялась. В это время в лавке никого не было, а сладости прямо
на полу в ящиках стояли...
Странный дом.
Я так бы и не знал, что это такое, но, перелистывая один
школьный старый учебник, прочел о большевистской, неле-
гальной, подпольной типографии, в дни Пятого года устроен-
ной в Москве — в лавке Каландадзе.
Вот ведь в чем дело-то... Значит, там музей!
• СВЕРСТНИК •
В деревне у нас их называли долгогривыми... Но разве
то были попы! Старые. Оборванные. Замурзанные. Погля-
деть-то не на что! Наш батюшка деревенский, тот, которого
я знал в детстве, был как все. Робкий, запуганный сель-
ский поп...
А этого я встретил на станции, весной этой, когда при-
шел к поезду.
Он стоял у края платформы, и я увидел его, когда под-
нялся по ступеням. Даже не самого, а сначала его роскошные
ботинки на каучуковой толстой подошве.
Это было прекрасное зрелище! Я на минуту даже оста-
новился...
Это, несомненно, был еще очень молодой человек. Бо-
рода у него была огромная, рыжая, ухоженная. А лицо кра-
сивое, нежное. Поставив раскрытый саквояж на перила, он
доставал из него большие спелые апельсины, очищал и ел их.
Но всего больше мне запомнились его ноги, в ботинках на
белой каучуковой подошве...
Он вполне мог ходить со мной в один пионерский от-
ряд... Может, он даже в антирелигиозных пьесках играл?
Долго, пока не подошел поезд, я наблюдал за ним. Как,
полуотвернувшись, он стоит на платформе и, поставя рас-
- 21
крытый саквояж на перила, красивыми полными пальцами
умело чистит апельсин.
Я и до сих пор, приходя на станцию, боюсь встретить
попа в ботинках на каучуке.
• КОГДА МЫ ПРИШЛИ С ВОЙНЫ •
В Крым я уехал потому, что в госпитале мне и моему
товарищу не дали теплой одежды. Вот мы и решили с ним
отправиться в Крым.
Правда, мой товарищ меня тянул в Одессу. Его манила
Одесса... Уж не потому ли, что в Одессе все начинали? Но
скорей потому, что об Одессе он больше читал.
Но, должно быть, мое влияние оказалось сильнее, ибо
мы приехали в Таврию.
Когда мы ехали, мы очень мерзли и даже боялись выхо-
дить из вагона. Морозы в тот год и вправду стояли страшные.
Когда мы сидели в поезде, стекло в вагоне так заледенело,
что сделалось мохнатым.
А на вокзале в Симферополе была весна.
У нас тут не было ни родственников, ни знакомых. Де-
ваться нам все равно было некуда. Так можно было ездить
только после войны.
В гостинице с нами даже не стали разговаривать. Тем не
менее мы решили остановиться именно в Симферополе.
Дальше — не поехали...
Все понемногу наладилось. Через неделю или две, а мо-
жет, через день уже или два, мы оба работали, оба мы си-
дели в учреждении, в издательстве. Нас взяли туда без осо-
бого энтузиазма, но работники требовались. Мой товарищ
стал даже чем-то вроде заведующего. А я даже и не знаю
точно, чем я там тогда занимался. Кажется, был я — по пла-
катам. Помню только, что я остро чувствовал временность
и непрочность своего положения.
Так я прожил в Крыму около месяца и уже столько же
пробыл на своей работе в издательстве, а так и не побывал
еще на Южном берегу. Мы все еще собирались. Нам очень
хотелось.
- 22 -
Как мы провели первую ночь там, на юге, в Крыму,
в Симферополе, я не помню. Не помню я и того, где мы но-
чевали. Так или иначе — мы не сбежали, не уехали обратно.
Все понемногу образовалось...
Однажды, когда я пришел с обеда, я увидел незнакомого
человека. В той комнате, где мы сидели. С узким лицом, в зо-
лотых очках, с палкой. Я знал, что рано или поздно с ним
познакомлюсь, но не знал, что произойдет это так скоро.
— Ну что же, пойдемте к вам, — сказал он, когда мы вы-
шли на тротуар.
Мы обрадовались.
Было солнечно, как и должно быть в марте. Тротуар уже
высох, улицы были грязны.
— Где вы устроились и как. Показывайте!.. — сказал нам
Павленко.
Все нас радовало, мы были счастливы. И сухие эти, вы-
сохшие тротуары, и сверх всего — солнце. И то, что мы так
скоро устроились; что все оказалось возможным. Что вот уже
и гостя ведем к себе.
Это было совсем рядом. Надо было только дойти до пе-
рекрестка, до трамвайных путей, и повернуть влево, во двор.
Двор этот, с обращенными на него верандами, был
сплошь в верандах. Мы вошли в ворота, попали во двор и по
деревянной крымской лестнице, вьющейся вокруг дома, под-
нялись наверх, на второй этаж.
Мы были предусмотрительные ребята. Глазом не морг-
нув, мы, по дороге уже, захватили по бутылке вина, а затем
в ресторане, в кафе, что выходило кухней сюда, заказали
бифштекс.
Было у нас немножко тесновато, и когда мы вошли, ребе-
нок как раз плакал... Комнаты мы в Симферополе, конечно,
не нашли, она нам была не по деньгам. У одинокой и, как
казалось нам, немолодой женщины сняли угол.
Хозяйка увела детей за занавеску. Их было у нее пятеро
или шестеро. Сделала она это нерасторопно, да и мы ведь ее
вовремя не предупредили. Поэтому рубахи у малышей
были грязные.
— Ничего, ничего, ребята. Хорошо устроились.
Но именно потому, что он это нам сказал, нам стало
ясно, что устроились мы плохо.
— А что, хороший угол. И стол есть! — проходя к нам
за занавеску, проговорил как-то чересчур весело вконец рас-
терявшийся гость. — Работать можно!
- 23 -
Да, стол, небольшой и шаткий, был. Хозяйка отдала свой.
И две койки, старые и ржавые. А сама хозяйка наша осталась
с детьми на большой кровати, в углу.
Свет сюда шел через двор, сквозь остекленную, перепач-
канную замазкой веранду... Если подвести итог, то картина
в целом получалась такая. Мы — за занавеской, хозяйка за
занавеской. Посредине нейтральная территория... Ничья зем-
ля, как мы говорили недавно.
Две занавески, за одной — мы, за другой — хозяйка. По-
середине нейтральная территория, на которой — дети.
Ребятишки пищали и выглядывали из-за занавески.
— Отлично устроились! Великолепная кровать,—твер-
дил гость, тыча в твердый, набитый жесткой соломой матрац.
И — остался ночевать.
Мы еще не знали, какой забалованный человек наш
гость.
Но теперь, теперь, когда он пришел, он не хотел и не
мог уйти. Остался с нами... Конечно, положение спасла еще
и бутылка кислого вина и этот послевоенный, хорошо заду-
манный бифштекс. Постарался наш полузнакомый директор.
Небось понял он, кто у нас. А может, и наоборот, не понял.
И сейчас еще, когда я вспоминаю об этом, я думаю, что
гость наш не предполагал, куда он идет. Виноваты сами мы,
что его не предупредили. А он, хотя это и застало его врас-
плох, подавать виду не стал. Понял, что деваться некуда.
Никогда после он у нас не останавливался.
Во всяком случае, бифштекс был большой, широкий, на
всю тарелку. Это Петра Андреевича даже удивило.
Стемнело. Лампочка горела одна, одна на всех, под са-
мым потолком. Но в этот час, за столом, была минута обще-
ния. Дорогая минута общения, возникающего за столом.
Вспомнили войну. И Берлин тоже немного вспомнили. Он
уже тогда собирался писать, а возможно, и делать фильм, и
ему было интересно.
Еще через час, когда разговор уже совсем налаживался,
я взялся за ручку чемодана.
Именно в этот день, а вернее — в эту ночь, я уезжал.
Меня вызывали. Накануне пришла телеграмма. Неожиданно.
Как всегда все телеграммы.
Павленко остался. Оставался ночевать.
Я уезжал в Москву...
Все у меня уже было собрано... Да мне и собирать было
нечего. Я просто переписал себе заново в мою записную
- 24 -
книжку стихи. Те, которые к этому времени мной уже были
написаны. А вернее, даже и не стихи я переписал. Я так
хорошо помнил их, те свои первые стихи, что переписывать
их мне было совершенно не к чему. Я переписал одни первые
строчки, одни названия. Чтоб знать, что читать.
Так по записной книжке моей я их там и читал.
Действительно, пора, пора уже мне было ехать. До от-
хода поезда оставалось мало времени.
Я поднялся.
— Ложитесь здесь.
Я показал на одну из кроватей, свою. Потрогал матрац,
набитый свежей соломой. Жестковато, конечно.
— Ложитесь.
Мы, улыбаясь, переглянулись с товарищем. Мы были
донельзя довольны. В самом деле, как удачно получилось, что
освободилось место. Еще вчера мы бы не знали, что делать,
и так хорошо не вышли бы из положения.
...Как там они спали, не знаю. Кажется, плохо. Ребенок,
как после мне говорили, кричал всю ночь во сне.
Бедная наша хозяйка! Кого мы к ней привели. Если бы
она знала! Если бы она знала, она и не пускала бы нас.
Четыре лауреатских знака!
Я в это время преспокойно лежал на верхней полке.
Ехал. Ехал и ехал. Думал. Воспоминания набегали одно за
другим. Думал, что меня ждет.
Как всегда это бывает в дороге и перед неизвестным...
Два месяца прошло, я вот так же лежал на верхней полке и
ехал в Крым с Урала. И не мог уснуть...
Я ехал навстречу своим воспоминаниям.
Когда выходили из вагона, воздух был теплый и чуть
влажный. Большие вороньи лохматые гнезда нависали на
пристанционных тополях. Вспомнилась первая наша ночь
в Симферополе, когда мы не знали, где ночевать.
Потом перекинулся на другое.
Припомнил, как писал стихотворение «Бранденбургские
ворота». Нет, не там, не в Берлине, не в сорок пятом году,
а на оставленном мной Урале. На — возу сена. Хорошо это
помню: я стоял на возу сена, а вокруг был глубокий снег.
Федор Никитич, еще молодой тогда, сильный, подавал
мне снизу вилами, а я укладывал. Мой воз был уже довольно
высокий, а зарод, разрытый стог сена, сделался меньше.
Я стоял на возу сена, а вокруг были снега, снега и су-
гробы. Стог внизу, и вокруг него изгородь, он огорожен.
- 25 -
Я стою на возу сена выше леса* Ах, какой высокий воз я
сложил!
Леса вдали и где-то как бы внизу*
Все это было сдвинуто.
Стог был маленький, внизу... Мы были на разных линиях.
Чем я выше поднимался, тем стог сена делался меньше.
Стог сена и — воз. А вокруг снега, и тихий лес, безмолвный...
И вдруг, стоя на возу сена, я это написал. То есть, ко-
нечно, я не написал, а я пробормотал, что ли, что-то. Я ска-
зал это про себя.
Что же вы не ушли от погони,
Наверху бранденбургской стены
Боевые немецкие кони?
У ее триумфальных коней
Перебиты железные ноги.
...Почему «стены», на этот вопрос я не мог бы ответить.
Никакой стены там тогда не было.
Лишь это написал. Еще не знал, что будет дальше.
То есть что раньше будет, как заполнятся остальные строч-
ки. Столь велико было заданное перед этим, перед всем, что
сейчас произошло, напряжение, что я не верил, что выжму,
выскажу хотя бы что-нибудь еще.
Я чуть не свалился с воза. Чуть вилы не выпустил.
Только эти вот строчки мне и пришли там, на высоте,
и мне стоило большого труда, чтобы удержать вилы в руках,
не забыть их, эти строчки, и не свалиться сверху...
Но не только эти, и другие были у меня в эту зиму стихи,
другие и стихи и строчки. Они как бы прорвались. Но это я
теперь так говорю, что прорвались. На самом деле они очень
трудно рождались. Только теперь это так видится, а тогда
они очень трудно рождались.
И все же они именно рождались. Рождались каждый день
и почти каждый час. Я уже не знал, что делать...
Я жил на своем Теплом Ключе, утром выходил во двор
колоть дрова, и только брался за топор и размахивался, как
тут же бежал обратно в дом. Бросив топор, я вбегал в избу,
в сени, чтобы записать набежавшую строчку. Которую даже
править было нельзя. Которую лучше было не править рукой,
так она сразу была точна.
Которая хороша была именно тем, что пришла сама.
- 26 -
Воспоминания, как это и бывает в дороге, набегали одно
за другим...
Я шел на лыжах в лес, и вдруг опять это начиналось.
Опять во мне возникали какие-то слова. И, блокнотов у меня
с собой не было, я записывал их лыжной палкой на снегу.
А потом — так трудно переписывал. Возвращался сюда, в бор,
в темноте, к вечеру, или на другой день, чтобы переписать.
Если за ночь строку мою не заносило.
Белые строчки на белых снегах.
А на перроне, на станционных путях, в Симферополе,
кричали во все горло вороны. Их большие лохматые гнезда,
должно быть, самое первое и больше всего мне запомнив-
шееся...
Заснуть я не мог и все думал и думал, что там впереди.
И — опять перекидывался на что-нибудь другое.
Как там, на Урале, ездил я время от времени в город. Мне
приходилось ездить в библиотеку. Билет мне давали, но в ва-
гон меня не пускали. Тогда всюду не пускали. Билеты на
станции продавали, а в вагон не пускали. Один раз ночью,
стоя на подножке, я почувствовал, что замерзаю, и понял,
что не доеду, стал стрелять в воздух. Я ведь еще не был демо-
билизован, числился только в отпуску, и пистолет у меня еще
не сдан был. Все-таки пустили, а то — замерз бы. Я правильно
сделал, что начал стрелять.
Я им чуть вагон не разнес.
И так еще было однажды, тоже зимой. Шинель моя за-
хлестнула столб, и меня сорвало с подножки... Я мог бы без
конца рассказывать так, мешая воспоминания, вспоминать,
как я жил там, на Урале своем, на холодном Теплом Ключе.
Но я вижу, что это ни к чему.
В Москве меня похвалили. Друг мой, по доброте сердца,
даже сказал, что я приехал на белом коне. Еще бы!
Я долго работал, там — в Крыму, в издательстве местном.
Работа эта отнимала все время, связывая чем дальше, тем
больше...
Я так и не сказал, как провели мы ту первую слякотную
ночь. Жили — всяко. Мы долго еще ютились у этой хозяйки,
потом перешли в гостиницу. Жили по-всякому. Было трудно.
Одно и такое было испытание — никогда не забуду. Не брали
на работу.
Я думал, вспоминал. Как уехал в Крым, потому только,
что было холодно. Как на подножке ездил, стоял, добираясь
до своего полустанка, и как, стоя на возу сена, написал
- 27 -
«Бранденбургские ворота». Как уходил далеко в лес на лы-
жах. И как стрелял из пистолета. И как кричали вороны на
пристанционных путях.
Какие воспоминания я вызвал к жизни!
В Крыму я прожил не много лет, прожил трудно и маят-
но. И все равно ни на какие другие я не сменяю их, эти
годы.
Я помню, как через много лет я приехал сюда и пришел
в дом. Я прошел по глухому, знакомому и незнакомому ко-
ридору... У меня сжало дыхание.
Поклонись твоей молодости!
Я ей кланяюсь. Низко кланяюсь.
• ПОКОЛЕНИЕ •
Если не ошибаюсь, речь идет о сорок четвертом. О зиме.
Прекрасно и отчетливо все помню. Сначала, однако, о сти-
хах. И лучше, если я расскажу обо всем по порядку.
Мы разместились где-то на самом дне глубокого, заме-
тенного снегом оврага, в старых, в мокрых, похожих на
стойла землянках.
Свечерело. И снег, и небо — все, что было видно в окне,
через маленький осколок стекла, — сделались фиолетовыми.
Передний край был подальше, однако — хотя и с переры-
вами — его говор сюда все же доносился. Я недавно только
начал работать сотрудником в дивизионной газете и почти
каждый день туда ходил. Теперь тоже я только-только
пришел.
Тут в землянке мы жили вдвоем. Мы всегда так жили.
Так же, как редактор и секретарь, всегда особо. Товарищ
мой был постарше меня, поопытнее. Он давно писал стихи —
и тоже к нашей крохотной редакции был приписан.
Почти каждый день, с утра, нам приходилось отправ-
ляться с ним на передовую — оттого в земляночке нашей
было так холодно и необжито.
Вот в этой-то землянке в этот вечер мы и прочли их, эти
стихи. И конечно же мне дал их мой товарищ. Я, право, не
- 28 -
знаю, где ему удалось достать и этот журнал, и стихи... Это
все какая-то случайность. Потому что никогда прежде ника-
кой журнал сюда, до переднего края, не доходил.
Едва я увидел те стихи, как понял, что слышал уже о по-
эте. (Тогда с первого раза я даже не запомнил его фамилии.)
Год назад в танковом училище приехавший туда человек нам
сказал, что появился в Москве новый поэт... Фамилия не за-
помнилась, а может быть, даже и не называлась.
Говорилось так, что он солдат, какой-то еще совсем мо-
лодой парень. До войны учился, то ли в школе, то ли в вузе,
писал плохие стихи. Такие, как все. Стихи, пришедшие от
литературы, от книг. Но началась война, и попал этот парень
на фронт, под Сталинград попал, был контужен, ранен. Ле-
жал в госпитале. Он-то и написал первые стихи о войне...
Настоящие, солдатские.
Мне это запомнилось, хотя для первого раза, может
быть, и прозвучало чересчур таинственно.
Очевидно, уже тогда я и товарищи мои по курсам и по
казарме восприняли все так, что появился поэт наш. Вы-
ращенный войной. Мы знали — он придет, хотя до сего дня
видели только творящих подвиг. Теперь за каждую побывку
свою на переднем я их видел, этих солдат, творивших по-
двиг. Но не было певца. Не было творящего песню. Того, кто
бы рассказал обо всем.
Вот почему так хорош был этот рассказ, в котором было
что-то от легенды.
И вдруг в холодный вечер зимы в необжитой, в старой,
покинутой другими землянке попался томик лучшего нашего
военного журнала. Я увидел заверстанные в средину стихи
поэта. Я сразу понял, что речь шла о нем.
Когда на смерть идут — поют.
А перед этим— можно плакать...
Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной...
Я сразу понял, что это он.
Как это точно все было передано! Все то, что знал и я.
И как раз так, как я сам видел, — покрытые минною копотью
склоны.
Сразу подумалось, что я тоже так мог бы показать. Ведь
и я, я тоже ходил по этим холмам, овитым фугасной серо-
желтой пылью. Везде, пока не доберешься до траншеи,—
- 29 -
угольно-серые, черные холмы. Они всюду, куда ни посмот-
ришь.
И поверьте мне: солдату действительно кажется, что
все—все снаряды, и крупные и мелкие, летят в него, всё, что
есть стреляющего, несущего смерть, направлено на него.
14 всё странно его минует. И всё — странно! — пока не по-
падет, его минует.
Вот почему это так точно:
Мне кажется, что я магнит.
Что я притягиваю мины.
Разрыв.
И лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Я должен сказать тут, что это стихотворение было зна-
менательным для всей нашей поэзии о войне. Мы как-то вне-
запно увидели, как правдиво можно писать о войне. И, дол-
жно быть, влияние его сказалось на многих стихах очень
многих поэтов.
Так я с ним и познакомился... Ходил по этим изрытым,
фугасом запорошенным сопкам и холмам, падал, когда рва-
лась мина, и, оглядываясь на звук пропевшей пули, повторял:
«Мне кажется, что я — магнит!»
И вроде бы было веселее. Слово уж было найдено!
Всему тому, чему трудно было найти выражение.
Может быть, для поэтов,—для его сверстников, для тех,
кто в Москве посещал литературные аудитории, — может
быть, для их биографий стихи эти не имели такого значения..
Но я говорю только о себе. Я ушел на войну из десяти-
летки, из небольшого городка в Предуралье, и в солдатский
мой ровик поэзия явилась на фронте.
Но, думаю, не для меня одного так необходимо было по-
явление поэта Гудзенко.
Он всех нас открыл.
Когда мы съехались, слетелись в Москву, нас было уже
двести человек! Мы родились как-то все сразу, мы ввалились
целой гурьбой. Сдержать нас было трудно.
Для меня он так и остался первым в поколении.
Когда мы вернулись с войны, молодых поэтов было уже
много... Были, и Орлов, и Межиров, и Наровчатов, которых
тоже знали уже. Они о себе заявили после и одновременно,
многие даже раньше. Я рассказываю здесь, как это было для
меня.
- 30 -
Но тогда, на войне, я прочел только эти несколько сти-
хотворений, из случайно попавшей на фронт книжки жур-
нала.
«Однополчан» его там, на фронте, в условиях переднего
края, прочесть я, конечно, не мог.
Эту его первую книжку, как и многое другое. Как и пер-
вые стихи, стихи уже появившихся в журналах молодых,
статьи о них, о молодых, вернувшихся с войны, я прочитать
не мог. Все это я прочел, когда сам вернулся с войны, с фрон-
та. Только зимой, в сорок пятом году. Может быть, даже
в сорок шестом. С полустанка, на котором я тогда жил, я по-
ехал в город.
Я получил эту его первую книжку в читальном зале биб-
лиотеки и долго искал свободный, незанятый стул. Она ока-
залась маленькой, тоненькой, эта книжка. В ней было не бо-
лее десяти стихотворений.
Конечно, я их все помню.
Тяжелый шаг.
Как будто пыль дороги
колотят стопудовым колуном...
И это:
Пепел костров
и пепел волос —
это солдатских кочевий следы.
Так вышло, что в первую же минуту я познакомился
с Лукониным, которого его стихотворение «Пришедшим с
войны» сразу сделало не только известным, но и сразу по-
казало, как бывает всегда, его человеческий характер.
Я ведь был в гимнастерке, и ему нетрудно было узнать
во мне одного из вернувшихся. Первое, что я сделал,—я
спросил его о Гудзенко, и, взяв за руку, он подвел меня
к высокому, рослому парню, который стоял на ступеньках
лестницы. Помню, в сапогах был.
— Ну, пойдем, старшой,—я был старший лейтенант.—
Почитаешь,— сказал тот очень громогласно, хотя я не успел
еще его рассмотреть.
Мы уселись за один из столиков. Сколько мы раз потом
за ними сидели. С ним и все вместе. Все, сколько нас было!
Никогда уже это не повторится. Едва мы сели, я стал ему
читать. (Откуда смелость бралась!) Они похвалили, перегля-
нулись, опять переглянулись. И Луконин тоже похвалил.
И сразу я себя почувствовал младшим. У меня это — надолго
- 31 -
осталось. С Гудзенко мне было проще: мы ведь были давно
знакомы!
Я его очень любил.
Помню, в печати ругалось даже «Быть под началом у
старшин». Но особенно ополчились все на всех раздражив-
шее — «В каких я замках ночевал, мечтать вам и мечтать!».
— Не надо устраивать хиханьки да хаханьки по слиш-
ком серьезным поводам, — помню, он сказал.
Я видел, что ему очень горько.
Я уехал, стал переключаться на мирные темы, как нам
было сказано. Довольно решительно нас переключали на эти
мирные темы... Я вернулся в Крым, работал, собирал лите-
ратурное объединение. Сразу, перед счастливым месяцем,
проведенным им в Крыму, я получил от него открытку. Он
писал в ней: «хорошо, что молодая поэзия имеет своего пол-
преда в Крыму».
И самую первую рецензию на свою первую книгу я по-
лучил тоже от него. Очень быстро, едва книга вышла, он
о ней написал.
Мне не забыть всего.
И как его хоронили, я тоже помню. Но об этом я не
хочу, не стану. Перед смертью он писал, как врачи высажи-
вались и, словно десантники, спасали его. Вытаскивая его
с того света.
И даже уже с той даты прошло много лет.
Четко все помню: раньше, чем я услышал его стихи, я
знал уже о нем самом...
Теперь все становится на свои места. И наш путь, и
наше войною испытанное поколение... И то, как мы сидели
в мокрых, похожих на стойла блиндажах и землянках, чи-
тали его стихи.
И будет порох словом заменен.
Мы тогда еще не понимали, как это хорошо!
о
ДОМ ГРИНА
Уже само это название казалось мне нисколько не похо-
жим на название города. Старый Крым. И потом, отчего он
старый! Почему старый именно этот Старый Крым? А тот,
32
который я видел каждый день и который был стар, как эти
горы, разве он молодой?
Само название было очень загадочным.
Может, потому все и вышло. Старый этот Крым был уди-
вительным городком и лежал, всего скорее, в темном ущелье.
Гигантские вековые деревья в беспорядке росли вокруг него.
Кроны деревьев были настолько мощные, что белые домики,
внизу там, в тени, должны быть как спичечные коробочки.
Как вигвамы в индейском поселке. Круглый год не выходил
из тени сомкнувшихся вокруг него деревьев.
Много тени и много воды. Горы, скалы и вековые де-
ревья.
Мне мерещились уже целые водопады.
Этот идеальный старотатарский Старый Крым смогла,
должно быть, создать только моя фантазия, буйная фантазия
влюбленного в Крым человека. Как был в него влюблен я.
Когда же я его связал с Грином, тут и вовсе... Кто-кто,
а уж Грин понимал, Грин знал, что выбрать.
И вот я в Старом Крыму. Приехал ночью, а утром его
увидел. Однако и ночью эта ведущая к Старому Крыму и об-
саженная старыми акациями дорога чуть меня не задушила...
Ночевали мы в хате — доме у человека, которого нам
порекомендовали. И в первый же день, в эту ночь, за нашим
ужином поздним, пока мы сидели за столом, и Старый Крым
еще прятался во тьме, за чернотой окна, хозяин нам показы-
вал книги самого Грина: несколько истрепанных томиков.
А потом вытащил и рукопись. Извлек ее из простой, некра-
шеной тумбочки. Видно было, что показывает он далеко не
все. Что у него там есть, возможно, еще кое-что. На листе,
который он мне дал, лист большой, с оторванным углом, сти-
хотворение какое-то.
Заканчивалось оно шутливо:
Благополучнейшему мужу —
Благополучная жена.
Проснувшись утром, я увидел тот настоящий Старый
Крым, каким он, должно быть, и был всегда,—маленький
городок на известковой каменистой земле, где мало воды
и мало тени. Край, где поселился Грин.
Глинобитный поселок на плоскогорье.
Утром, когда рассвело, оказалось, что это был просто по-
селок, в котором деревьев было очень мало, маленький, чах-
2 В. Субботин
- 33 -
лый. Несколько улиц и несколько десятков белых домов,
ничем не примечательных. Все равно как где-нибудь в степи.
Домики стояли близко один к другому.
Не нужно было много времени, чтобы увидеть, что это
совсем не тот Старый Крым.
Я приехал вместе со своим товарищем, с другом, который
здесь прежде был, но, может быть, проезжал только. Теперь,
как и я, он впервые остановился в этом прославленном Ста-
ром Крыму.
Мы подошли к церкви, как и всюду здесь в Крыму — ско-
рее к бывшей татарской мечети, где теперь размещался му-
зей, но в котором пока ничего не было. Одни стены. Рядом,
среди пустой улицы, лежал ноздреватый, съеденный, весь
обглоданный временем камень, только он был большой, це-
лая скала, с дом. Единственные горы, которые я застал здесь.
Оставшиеся здесь, в Старом Крыму, от тех.
После этого отправились мы с другом на кладбище.
Нам не пришлось долго искать. Кладбище было малень-
кое, находилось на невысоком глинистом кургане и заросло
диким, голым терном.
Могилу мы нашли сразу. Над ней, в траве, сохранилась
еще потемневшая, старая, деревянная поваленная загородка,
и стоял крест, а может, просто столб, и одна — вделанная в
него, свежая, чистая, теперь уже расколотая, когда-то, на-
верно, хорошая мраморная плита, на которой легко можно
прочесть, его рукой: «А. Грин».
Стоя у креста, я посмотрел в ту сторону, где должно
было быть море, и там на горизонте, за холмами, я, кажется,
и впрямь увидел полоску реки. Капельку воды. Так, самую
малость. Может быть, мне это только показалось. Ее, навер-
но, можно увидеть только с этой могилы. Она такая узкая
была... Никакого паруса! Видать её только внутренним
взором.
Постояли, склонили головы, пытались, как могли, по-
править крест. И ушли.
Мы сразу же зашли в контору. Теперь нам больше всего
хотелось увидеть дом Грина.
— Разве вы не знаете, — говорил мой товарищ над чем-то
все время похохатывающему мужчине, — разве вы не знаете,
что у вас здесь жил такой замечательный писатель? Ска-
зочник.
Сказочника мой друг приплел единственно, должно быть,
для того, чтобы быть понятным. Он думал, так лучше дойдет.
- 34 -
Похохатывающий мужчина вызвал своего секретаря. За-
шла немолодая женщина.
— Слушай,—сказал он весело,—у нас тут писатель,
оказывается, жил. Как, говорите, его фамилия? Во! Грин?
Сказочник такой! Товарищи интересуются...
Нет, она ничего не знает о сказочнике.
— Ай, яй-яй! А еще — пропагандист! Как же это ты так...
Но та вспомнила:
— Как же, как же! У нас еще ребята над могилой его
шефствуют.
— Хорошее шефство! Там же все заросло!
Так мы ничего и не добились и не узнали и так и уехали.
14 не скоро забыли нашу обиду, хотя на другой же день были
в Коктебеле, который оказался совсем недалеко и который,
пожалуй, больше подходил под мое представление о городе
поэта. Хотя и здесь — тоже, тоже было больше солнца, чем
тени.
В Доме поэта — у Волошина — спал я на чердаке и жил
как в скворечнике — через слуховое окно мне было видно
одно море.
Мы очень хотели увидеть дом Грина... Говорят, сейчас
ему построили целый замок, — ничего этого у Грина не было.
Это грустная история. Позднее я прочел другие книги
Грина, и больше узнал его, его жизнь, видел даже мельком
его жену, когда через много лет снова приезжал в Крым, она
к этому времени вернулась, прочел за десять лет в газетах
у нас не один фельетон и не одну статью, призывающую
сберечь память поэта, и в одной из них, кстати, было сказа-
но, что дом Грина все же сохранился.
Просто чиновник тот, там сказано так было, держал
в нем своих кур.
ШКОЛА ХАРАКТЕРА
День кончался. Уже я отправился с работы домой, но
тут увидел, как мне навстречу, прыгая через две-три сту-
пеньки по длинной, круто поставленной лестнице, взбегал
высокий, пышноволосый человек.
Я, конечно, сразу понял, кто это, и вернулся.
2*
- 35 -
Прежде лишь всего один раз он приезжал в Симферо-
поль, но так никто об этом и не узнал. Только передали, что
он ждет внизу в машине и просит к нему спуститься. И что
он очень торопится.
Но в этот раз, правда, опять-таки проездом, он снова
был в городе, и на этот раз по-настоящему заглянул к нам.
У нас издавался его однотомник. Шла бесконечная, нерви-
рующая всех переписка и длительные споры, что включать,
что нет... Старик успел поругаться уже с несколькими своими
составителями и редакторами. Попало и мне. В одном письме
(поделом — не вмешивайся!) он написал вновь назначенному
редактору (и по справедливости): «Почему считает, что в
книгу должно быть включено то-то и то-то, и почему этот
неизвестный мне...» Очень сердитое написал письмо. Из не-
ловко составленного к нему письма редактора он решил, что
я — еще одна инстанция. Еще одна преграда книге.
Конечно, я старался помочь, помочь сдвинуть дело с
мертвой точки.
Теперь, когда он приехал и здоровался, весело на меня
смотрел из-под своей запушенной мохнатой брови, я ему ни-
чего не сказал. Не припомнил ему того неизвестного ему
указчика. Он был оживлен, рассказывал смешные истории.
Сердился, что его не знают в Алуште, что алуштинские те-
леграфистки перевирают его телеграммы. Что, прожив в
Алуште сорок лет, он до сих пор получает телеграммы, ему
адресованные так: «Сергееву, копия Ценскому». Или, что
еще хуже, когда они, вместо «Сергеев-Ценский», передают —
«Сергей, целую».
Была эта встреча моя с ним первой и единственной.
Я прочел недавно его воспоминания о Горьком. Самое
их начало. Они в основе своей состоят из писем Горького.
В них всего интереснее именно начало это, а даже не его
рассказ о встречах с Горьким.
Он пишет, что в 1906 году был уже довольно известным
в России писателем. Печатался в лучших журналах его вре-
мени. Даже выходило уже собрание его произведений. Но до
той поры никогда, ни разу не был он ни в одном издатель-
стве и не видел ни одного живого писателя. Просто, говорит
он, он посылал в журнал или в книгоиздательство свои вещи.
И их или печатали, или не печатали.
К тому времени, добавляет Сергеев-Ценский, я уже до-
вольно неплохо знал Россию, забирался в самые глухие ее
- 36 -
уголки... Бывал, конечно, и в столицах. Но ни разу не был я
ни в одном из тех мест, где можно видеть литераторов.
Первый живой писатель, которого я увидел, пишет Цен-
ский, был Куприн. Он приехал ко мне, отыскал мою писа-
тельскую мастерскую, которую я к тому времени построил
в Алуште. Вторым был Горький, приехавший для встречи со
мной... И т. д.
Не все, наверно, здесь точно и, наверно, многое было
не так, но прекрасно само настаивание на этом. Само жела-
ние жить крупно. (Не то что вы, сволочи! Ничего еще не на-
пишете, а уже с Фадеевым водку пьете!)
Что вам еще сказать о нем? Конечно, он был домосед.
В письмах, которые мы получали от него, он так и подпи-
сывался: «Сергеев-Ценский, домовладелец». Но категориче-
ски я отвергаю все бредни о его уединенности, оторванности.
Это все — ерунда!
Просто он жил, как хотел.
Да, алуштинский адрес его знали не многие, не все.
Только один из наших товарищей был у него. Как раз в тот
день, когда ему вручали орден. Он мне потом рассказывал.
Они все сидели за столом, накрытым по этому случаю,
и он разговаривал с ними, учил. Так никто ни к чему и не
прикоснулся.
Когда наконец они вышли на крыльцо, он, закинув го-
лову, у них спросил:
— А вы умеете смотреть на солнце?
И уставил — надолго уставил на солнце свой стариков-
ский глаз.
• ОТЦЫ •
Я все еще жил на юге, в Крыму, хотя я давно уже учился
в Москве. Приехал на каникулы и заболел. Лежал в постели
и читал книжку, купленную где-то, я ее давно хотел прочесть.
Она называлась «Моя страна». В ней очаровал меня волшеб-
ный язык, ее языческая душа. Мне он кажется недосягаемым
и теперь, недосягаемым и недооцененным... Непонятым.
Я читал и «Жень-шень» и «Заполярный мед» и, читая очерк
«Большая звезда», неожиданно встретил одно имя — отца
моей Вали. Сначала просто упоминание о нем и маленькая
- 37 -
одна, запомнившаяся мне характеристика — «самому рассу-
дительному из нас».
Валя вернулась с работы и вошла в дом.
— А я тут прочел о твоем отце. Он, оказывается, Приш-
вина знал.
Жена нисколько не удивилась. «Да, кажется, они дру-
жили. Когда я была маленькая — говорилось об этом...»
— А почему бы нет, — проговорила она, и опять рас-
сказала о своем отце, Петре Николаевиче Ланине, земском
враче, которого хорошо знали в Крыму, главном враче аль-
минской больницы, где и выросла Валя. Сам я знал его только
по фотографии, единственной до нас дошедшей фотографии,
где он похож на Чехова, только не такой изящный, а боль-
шой и массивный. А вернее даже, похож — на Пришвина.
Все они тогда были такие. Он умер в 1923 году, оперировал
зараженного тифом и заболел сам. Видели, как он колол
себя, пытался еще спасти себя и не спас. Базаровская исто-
рия. Осталась моя Валя одна, потому что через год или два
умерла мать. Видать, умерла от горя.
Вот какие воспоминания навеяла эта статья, в которой
Пришвин вспоминает о своих молодых товарищах, о Риге,
где они учились в Политехникуме, Пришвин — на химиче-
ском, Ланин — на естественном. Их арестовали и судили по
одному и тому же делу — за участие в марксистском кружке.
Петр Ланин после суда бежал за границу и жил в Женеве,
Лозанне. Был знаком с Лениным, Плехановым. («У Плеха-
нова к чаю подавали булочки; ничего этого у Ленина по бед-
ности не было».) Это уже воспоминания Вали со слов ма-
тери.
Пришвин был сослан в Елец. После об этом периоде,
о времени, когда они сидели в тюрьме, Алпатовым — Приш-
виным был написан роман «Кащеева цепь»...
Но мне надо рассказывать дальше.
Вскоре, вскоре после того, как я заново прочел Приш-
вина, попал я на очередной слет в Москву. Уже перед самым
окончанием, когда семинары закончили работу, объявили
выступающим Пришвина — как одного из старейших. До
этого я его видел всегда только в президиумах — в высоком
президиуме, на сцене, откуда мне снизу взглядом нельзя
было его достать. Он вышел — уже очень белый, седой, с
красными, казалось, налитыми здоровьем щечками — и ска-
зал речь.
- 38 -
Перед этим говорили мертвые, казенные речи. Как при
церковной службе. А он вышел и, улыбаясь, сказал что-то
очень простое. Что вчера был в лесу, хоть уже крепко болят
его стариковские плечи. И так же все улыбаясь:
— Вы знаете... С утра на асфальте потекли ручьи.,
А вчера ко мне пришел внук и сказал, уже прилетел скворец*
Весна!
Зал грохнул аплодисментами.
— Я поздравляю вас, товарищи! С весной!
И все зааплодировали, оживились.
Всех разбудил.
Очень смелая была речь.
На этом заседании — последняя. То ли список исчер-
пался, то ли другие ораторы не захотели выступать.
В заседаниях — объявили перерыв.
Мы стояли в раздевалке, в тесном фойе, в клубе на улице
«Правды». Я оказался рядом с Михаилом Михайловичем. Ему
как раз в это время помогали надеть его красивую и дорогую
шубу.
Глаза его лучились. Я сказал ему, — он в эту минуту к мо-
лодежи, которая так его приветствовала, настроен был хо-
рошо. Сказал, что хотел бы с ним переговорить. «А вы при-
езжайте ко мне. Приезжайте!» И дал адрес. «Запишите».
И он опять сказал, чтобы я приезжал, поскольку гово-
рить здесь трудно.
Я тогда сказал, что одна девочка просила меня узнать,
тот ли это Ланин...
Старик сразу переменился. «Это Петина дочка, — сказал
он, обрадовавшись. — Я ее знаю... Они — в Крыму».
Он взял с меня слово, что я приеду, и он мне все рас-
скажет. Покажет снимки.
Назавтра я позвонил. К телефону подошла его жена.
Михаил Михайлович плохо слышал. Она сказала, что он —
сидит рядом и просит меня приезжать. Он ждет меня... Я от-
ветил, что хочу приехать вдвоем. Может быть, весной. Я пред-
чувствую, сказал я, что разговор будет интересный... Но
боюсь, что его нельзя будет повторить.
Так я и не поехал.
И потом, когда ко мне приехала Валя, Пришвины все
еще были в Москве. Ей хотелось, но она стеснялась...
Прошел еще год. Так мы у него и не побывали.,
В январе — Михаил Михайлович умер..
- 39 -
НА УЧЕТ
Шел обмен военных билетов.
День был солнечный, теплый. Я пришел в мой москов-
ский военкомат, то ли вставать, то ли сниматься с учета.
Военкомат мой находился в самом центре.
Я сошел с залитой светом улицы Горького. И едва-едва
лишь я соступил с тротуара и с нарядной, оживленной
улицы, едва открыл дощатую дверь, как я сразу вспомнил,
какой за дверью там день, яркий, солнечный, и какая тут
темнота. Может быть, темнота всего была для меня неожи-
данней.
Я с порога прямо куда-то провалился.
Я почему-то решил, что я не туда попал, и хотел уйти,
но, пройдя чуть вперед, пригляделся, пригляделся и понял,
что нахожусь в маленьком, вовсе не освещенном дневным
светом помещении. Под ногами у меня был неровный пол,
половицы в котором были плохо пригнаны.
Одним словом, когда я пригляделся, я увидел, что я стою
в узком, ветхом коридорчике. Они все, эти военкоматы, та-
кие. (Денег им, что ли, на ремонт не дают!)
Обитая сползающим войлоком дверь, закуренные, мрач-
новатые стены, потолок.
Единственная лампочка горела слабо. Но у стены я уви-
дел в одно скрепленные между собой стулья. Возле окошеч-
ка, того, в котором расположился дежурный офицер. Он
сказал, что мне надо подождать. Я — сел. Сел на скамейку,
оказалось, что это именно военкомат.
И вдруг увидел — рядом со мной, локоть к локтю, сидит
он. Его не спутаешь — все тот же. Видный. Седой, с молодым,
выразительным лицом. В роскошной шубе с меховым ворот-
ником.
Надо же мне было угадать и прийти с ним в одно время.
Сначала я не понял. Почему он тут сидит, в этом полупод-
вале, в его темноте.
Больно уж разителен был контраст слепящего мартов-
ского солнца, мостовой, залитой горячим, жарким, еще мар-
товским, зимним солнцем, и этой комнатой... И тем более не
ожидал я встретить тут эту его яркую, огненную, известную
всему миру седину. (К тому времени «Молодая гвардия»
уже была написана.) Это — привычное, красноватое, знако-
мое лицо.
- 40 -
Контраст между человеком и комнатой.
Мы так сидели с ним, ожидая, пока нас вызовут. Скоро
вышла девушка, назвала его фамилию. Я остался один. Си-
дел я, наверно, с час или больше.
Проходил обмен военных билетов. Это целый опрос.
Но вот и он. Седой и легкий, полуоглянувшись и натя-
гивая перчатку, открыл скрипучую, тяжелую громоздкую
дверь и ушел.
Она проводила его и вызвала меня... Со мной все
было проще — поставить в моем воинском билете несколь-
ко штампов. Милая девушка быстро сделала все необходи-
мое.
Весь распираемый изнутри неожиданностью этой встре-
чи, я сказал:
— Какие у вас тут посетители бывают, — сказал я ей.
Она не поняла меня, потом она подумала и спросила:
— А какие?
— Ну как же,— сказал я, — вот только что Фадеев у вас
был... Александр Александрович.
Она вопросительно взглянула на меня.
— Ну, который «Молодую гвардию» написал...
И удивленно раскрыла глаза.
— Так а разве он?
Она перед этим заполняла разные анкеты с его слов. И о
службе и о гражданской войне все выяснила. А потом и вы-
писывала воинский билет.
Ей и в голову не пришло.
Пока не скажешь, не поверят...
Немало всем этим удивленный, я пошел к военкому. Так
полагалось — билет полагалось подписать у него... Это был
старичок, интеллигентный. С приятным лицом. Он не только
подписывает, но и любит по душам поговорить. Усадив меня,
он сразу стал жаловаться. Такой район у него — все и лау-
реаты и герои, всё важные люди, а вот сейчас билеты меня-
ют — и никого не вызовешь...
— Да, да, — согласился я. Я сказал: — Я знаю. Только что
у вас был Фадеев...
— Здесь у меня был? — спросил он.— Да, да, Фадеев...—
проговорил он и незаметно опустил глаза.
Я видел, что сказал он это машинально. Совершенно его
не запомнил...
- 41
КРЕДИТ
Сейчас уж не много найдется людей, которые помнят,
что было время, когда Светлов ничего не писал, Я не мог бы
сказать вам, что случилось, но, видимо, это началось у него
еще в войну. Об этом как-то не принято говорить, но и та-
кая его вещь, как поэма о двадцати восьми, тоже была ниже
его возможностей.
Я говорю, что я даже не знаю, как вышло это. Только и
вправду он в течение долгого времени совсем ничего не пи-
сал. Совсем, разумеется, если не считать стихов для газеты
к датам.
Махнул на себя рукой человек и жил, как нам казалось,
безалаберно.
Светлова там, в тех стихах, не было — ни в одной
строчке.
Надо ли напоминать, что в жизни полоса такая была не
у одного Светлова. Писал, чтобы заработать на жизнь... Не-
мало появилось у него стихов подобного рода. Из всего, что
было тогда написано им, он не смог потом поставить в свою
книгу ни одного стихотворения.
Может быть, сначала это было по нужде, из-за куска
хлеба, а потом обратилось в привычку.
Впрочем, он все так же мило острил и бывал каждый
день, каждый день регулярно бывал в клубе. И молодые так
же все считали за честь посидеть с ним рядом.
Так шла эта жизнь.
— Приходите, Михаил Аркадьевич,—сказал я. Я встре-
тил его в клубе. — Приходите, и мы заключим с вами дого-
вор...— Право, я ничего не хотел. Просто хотелось мне, чтобы
он был сыт. Мы знаем ведь: эти затычки в мелких газетах
никого не могут прокормить...
Он не поверил. И, вопрошающе глянув, спросил, непри-
вычно, без шутки:
— А разве можно? А? Ведь стихов еще нет...
И взялся меня уверять, что он — напишет. Чтобы вдруг
я не передумал. И сказал, видимо обрадованный этим не
испрашиваемым им актом доверия:
— А что? — уверяя себя.— И напишу!
На другой день, решив все-таки про себя, что издатель-
ство раздумает, он привел жену, Родам Ираклиевну.
Ему я сказал:
- 42
— Если напишете книгу в этом году, издадим в этом
году... Чем скорее напишете, тем скорее издадим.
А Родам,—я с нее, воспользовавшись тем, что Светлов
ушел в коридор покурить, взял слово:
— Как только получите деньги, увезите его, снимите
дачу. Уезжайте куда-нибудь за город, в дом творчества, на-
пример, где он мог бы работать...
Ни в какой дом творчества они не уехали. Он подписал
договор, получил деньги и пошел в клуб. А через два дня
принес уже первое стихотворение.
Как припоминаю теперь, это был его «Горизонт», сти-
хотворение неожиданное.
Он пришел не то чтобы изменяющий своей обычной ма-
нере, все такой же ироничный, но какой-то очень серьезный.
Серьезный и ироничный. «Получилось ли?»
Он даже побрился.
И уже где-то в дверях, напоследок, оставшись верным
себе, сказал, пошутив весело и грустно:
— Вскрытие показало, что у покойника не было ни ко-
пейки денег...
Через неделю он принес мне новые два стиха.
Когда принес он мне то первое стихотворение, я взял
у секретаря папку, картонную .папку с завязочками, вложил
в нее странички эти и, завязывая тесемочки, сказал.
Я сказал Михаилу Аркадьевичу:
— Каждую неделю будете приносить по одному стихо-
творению. В сентябре будет книга.
Теперь он мне принес «Ямщика» — «Посветлело в небе.
Утро скоро. С ямщиком беседуют шоферы». То самое, где
есть строчки: «Химиками выдуманный каучук катится по
главному шоссе...»
И еще одно, просто удивительно какое стихотворение.
Маленькое стихотворение, он его потом посвятил Луговско-
му, «Бессонница», которое мне очень понравилось.
...Мне великое время
Звонило со всех колоколен.
Я доволен судьбой,
Только сердце все мечется, мечется,
Только рук не хватает
Обнять мне мое человечество!
— Нравится?
— Очень... Великолепно! — сказал я.
- 43 -
Он сиял, как влюбленный. И тут же, выдерживая при-
вычного себя и тонко усмехаясь, сказал смущенно:
— Я последний, еле живой классик...
С новыми стихами приходил он все чаще и чаще. Чаще
сам, а иногда присылал жену...
А может, просто время приспело! Обстоятельства совпа-
ли, изменились обстоятельства, и стало хорошо писаться.
Он приходил иногда каждый день, папка моя по-
полнялась. На фоне окна я видел часто у нас его сутулую
фигуру.
— Вы понимаете, что произошло, — говорила однажды
мне Родам Ираклиевна. — Утром, когда ему еще плохо, я под-
кладываю ему бумагу и карандаш, и он пишет. Я потом все
это отбираю у него и перепечатываю... Там все бывает хо-
рошо! — уверяла она меня.—Написать плохо он не умеет.
Я сказал ей:
— Подкладывайте ему побольше бумаги...
В иной день он приносил даже по пять, по шесть стихо-
творений сразу. Расписывался.
Родам, видимо, подкладывала бумаги все больше.
И стихи были все лучше и лучше... Вскоре они стали по-
являться в журналах, многие в литературных газетах.
В книгу его, я ее редактировал, попало и несколько сти-
хотворений старых, из прежних его книг, как-то примыкаю-
щих к тому, что теперь он писал. Чтобы книга была поболь-
ше. Кроме того, включили в нее и его пьесу о целинниках,
но только она называлась «С новым счастьем», а ее окрести-
ли в «Молодое поколение». Он согласился. Всю книжку он
назвал — «Горизонт».
Я только теперь на этой его книге разглядел надпись:
«С катастрофической любовью».
© ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЬЯВОЛ
В этом старом литфондовоком доме он жил в одной и
той же всегда — в угловой, самой неудобной 13-й комнате.
Нравилась цифра! Он жил там всегда, всякий раз, до самой
смерти. И только в ней.
- 44 -
Случилось что-то непостижимо таинственное, когда сно-
ва начал он писать свои прекрасные стихи. Писать много. За
«Солнцеворотом» — «Синюю весну». Книгу за книгой.
Эта его последняя весна была очень плодотворной.
Там, в Переделкине, он писал по нескольку стихотво-
рений в день и напоминал заново начинающего жить чело-
века.
Мы с ним вместе однажды отвозили к машинистке, жив-
шей в деревне Чоботах, написанное им только за ночь. Целую
пачку бумаг. Тогда же он перекомпоновывал «Середину
века». Все это помнят, потому что это у всех на глазах
было.
Я как-то пришел туда, в дом Литфонда, чтобы прочесть
ему несколько стихотворений. Было это в одну из таких ве-
сен. Что-то в нем уже происходило. Хотя он еще и не начал
писать, но был тихий.
Я ему показал эти несколько стихотворений. Немно-
го позднее напечатали их в первом номере «Дня поэ-
зии».
Там было такое стихотворение и такие строчки:
«Я, как медведь, очнувшийся от спячки. Меня еще качает
поневоле».
Стихи эти Луговскому почему-то очень запомнились.
Я и не знал, что они ему так западут! С тех самых пор,
встречаясь со мной, он никогда не забывал спросить меня:
«Как это у вас там:
«Через лесные прохожу овраги, мне этот запах пробуж-
денья мил». ...Ах!»
Должно быть, и сам в эти годы он напоминал медведя,
очнувшегося от спячки...
Слышу — кони храпят,
Слышу — запах горячих коней...
Дрожь степного простора,
Махновских тачанок
Следы
И под конским копытом
Холодная пленка
Воды.
Эти кони истлели.
И сны эти очень стары...
Впервые я в спешном порядке собирался за границу, и
мне передали, что меня ищет Луговской. У меня же не оста-
- 45 -
валось времени даже на то, чтобы собраться. В самую по-
следнюю минуту он меня все-таки нашел. Успел.
«Привезите мне печального дьявола. Вы там узнаете, что
это такое. Вам скажут».
Изъездил я всю Италию, Грецию, был в Швеции, в Гол-*
ландии... Печальный дьявол! В Париже я тоже спрашивал
о нем. И, не зная сам, что это такое, я говорил: Черт, Дья-
вол, Сатана, Мефистофель, Тейфель. Траурих, мюде — пе-
чальный, грустный и даже нежный... Трист! Фаде! — кричал
я. Меня никто не понимал.
«Вот — это»,— сказали мне в одной лавчонке.
Это оказалась одна из химер Собора Парижской бого-
матери. Одна из выглядывающих из-за карниза фигур. Одна
из бесчисленных, такая, как все. И вместе с тем — не такая.
Произведение искусства среди поделок. Печальный дья-
вол — действительно печальный, очень печальный, смотрит
на город сверху, оттуда, с огромной высоты Нотр-Дам...
Я его купил и в открытке и в глине. В гипсе. Открытка
была хорошая, в коричневых тонах. И даже не открытка, а
гравюра.
Я пришел в этот дом, где он всегда жил, все в той же
тринадцатой комнате. Но его не застал. Тогда я попросил
хозяйку открыть мне комнату и положил снимок ему в кон-
верте на столе.
Встретились лишь через несколько дней. Он тихо шел
по другой стороне улицы, и тут же я увидел его, больного,
одинокого. И он увидел меня. Он взмахнул палкой, своей
большой, массивной палкой, и, легко перескочив канаву,
пошел мне навстречу.
«То самое, что нужно. Он самый! Ты не представляешь
даже, как это важно для меня было...»
Стал меня очень нежно целовать.
Умер он в Ялте. В железном гробу его привезли в Мо-
скву, во Внуково. Мы все поехали встретить. И когда ссажи-
вали его, из люка, из самолета, он нас всех придавил. Мы
так и присели. А было нас человек десять, здоровых молодых
парней-поэтов. С гробом на плечах.
Помню я, как плыл гроб на руках друзей, уже не же-
лезный, а деревянный, двигался, плыл на вытянутых руках
друзей, в яркий, солнечный день, среди деревьев Новоде-
вичьего. Его летящий, орлиный, прекрасный белый профиль,
плывущий среди аллей, на фоне молодой и темной зелени*
- 46 -
Потом я узнал, что того, старого Мефистофеля, лет три-
дцать висевшего у него в доме, самим им привезенного от-
туда, смыла домработница. Она протерла его мокрой тряп-
кой, и он пожелтел, исчез.
Сказали еще мне, что Печального моего дьявола нико-
гда никто не трогает с места. Стоит он, как стоял при нем.
Только он не на стене теперь, а на столе. В рамке.
Стоит у него на письменном столе.
И еще я узнал, что и самого его, молодого, так звали.
У него было такое лицо, такие же крупные надбровные дуги.
И поза. Подперев рукою подбородок, он любил так сидеть.
Вот за это свои, домашние, и прозвали его так.
• ПЕРСИДСКИЕ МОТИВЫ е
Я долго и в упор разглядывал знакомого и незнакомого
человека, добродушного и толстого, с детскими губами и гла-
зами навыкат: не знал — кто это.
Я уже раньше слышал, как один человек, так же вот,
как я, увидав Чагина и даже не зная о его дружбе с Есени-
ным, сказал, что Чагин — Есенин, отраженный в самоваре...
— Я был моложе его на три года, мне было тогда два-
дцать пять,— сказал Петр Иванович, когда мы встретились.
У меня это никак не укладывалось! Не укладывается и сей-
час, если вспомнить памятное, есенинское: «С любовью и
дружбою П. И. Чагину».
Еще с детских лет мне знаком снимок, он опубликован
был в собрании Есенина,— молодой Чагин и Есенин, обняв-
шись, сидят вместе. Да и все мы знаем, что персидские мо-
тивы посвящены были Сергеем Есениным Петру Ивановичу
Чагину. Эту поездку в Персию ему, Есенину, решили
устроить там, в Баку, его друзья. Они однажды разбудили
его в полночь — Есенину давно хотелось побывать в Пер-
сии — и, сказав ему, что разрешение уже получено, втолкну-
ли его в автомобиль. Непроспавшегося и сонного еще, Есе-
нина долго везли в машине. «Уже переезжаем границу»,—
сказали ему тихо. И снова везли в кромешной тьме, кружили,
пока наконец не привезли в квартиру. Комната была убрана
коврами. Ковры на стенах, ковры на полу, и на коврах си-
- 47 -
дели разряженные персы. Было тут вино, и стихи, и скры-
вающиеся под чадрою женщины. Проснулся он у себя дома,
в номере гостиницы. «Что ты наделал! — сказали ему.— Вче-
ра ты лез обниматься, обнимал шахскую дочь. Мог бы выйти
крупный международный скандал. Мы тебя еле увезли!»
Есенин думал, что он был в Персии. Возили его по ули-
цам Баку.
В отчаянии он хватался за голову.
Петр Иванович, мы ходили с ним по траве, зеленой, за-
городной, и сидели на скамеечке, много еще мне рассказы-
вал. А утром он неожиданно позвал меня на свой день рож-
дения... «День траура», как говорит он, верный привычке
всему находить сравнения. Он пил коньяк и читал, читал
Есенина, и его «Стансы», известное стихотворение, где есть
строчки: «В стихию промыслов нас посвящает Чагин... Он
говорит... воспой, поэт», и т. д. Но больше читал нам Тют-
чева и Блока. Тут же, за столом, я спросил у Петра Ивано-
вича то, что давно собирался спросить. Правда ли, что
«Шаганэ ты моя, Шаганэ...» не что иное, как переиначенное
и дружеское — «Чаганэ ты моя, Чаганэ»? Петр Иванович
обратил все это в шутку, сказав, что у него есть соперница,
где-то в Ереване есть женщина, считающая, что стихи эти
посвящены ей...
Стихи всякие Петр Иванович помнит хорошо. Однаж-
ды — это тоже мне было рассказано Петром Ивановичем —
на квартире начинающей поэтессы Ветты Долухановой в
Ленинграде, в двадцать шестом, собрались поэты. Был Мая-
ковский, Шкловский, был Коварский, который теперь кино-
драматург, Борис Эйхенбаум, литературовед, Николай Тихо-
нов, тогда еще питерский! Читали всю ночь стихи. Прочли
все знакомое, всего Есенина, Лермонтова читали, Некрасова,
Бунина. Петр Иванович читал больше Тютчева. Потом, ко-
гда все и всё перечитали, Маяковский взял и прочел:
Мне бы только краюшку хлеба,
Да крынку молока,
Да вот это небо
И эти облака.
И всем это очень понравилось, но никто не знал, чье.
Маяковский вскинулся, как петух на рассвете. Такой был до-
вольный и гордый, что никто этого не знал. Стихи были
Хлебникова,
- 48 -
О «Стансах» Петр Иванович говорит так: что когда Есе-
нин принес ему там в Баку их, «я сказал, что не помещу,
скажут, что Чагин печатает стихи о самом себе». Предлагал
еще убрать «Демьяна». Потому что Бедный Демьян — его
друг... Есенин ответил, что напечатает и так. И действитель-
но, поехал в Тбилиси (они появились в «Заре Востока»)
и привез их Чагину.
Услыхав от меня легенду эту о поездке Есенина в Пер-
сию, Чагин поулыбался, помолчал. Как бы решая, надо ли
ему рассказывать. Потом — неохотно, но так же обстоятель-
но — стал говорить, как дело было.
— Я был в то время вторым секретарем ЦК Азербай-
джана. Первым был Киров, Сергей Миронович. Одновремен-
но я был редактором «Бакинского рабочего»... Так вот.
В двадцать третьем я приехал в Москву и делал отчет на
Оргбюро ЦК партии. Был Сталин. (Сидел, кутаясь зябко
в меховую куртку. Был болен.) Доклад мой понравился, мне
говорили, что сделал я хороший доклад. Я жил в «Гранд-
отеле», недалеко от теперешней гостиницы «Москва»... Ве-
черком пошел к Качалову, с которым давно был знаком.
У Качалова собрались гости. Была у него, как вы знаете,
собака Джим, всем известная. И жена. Из МХАТа, Литов-
цева. Сидел у них — Есенин. С Есениным я знаком был рань-
ше, но шапочно. Я много им рассказывал. О Баку, о Персии.
У меня одно время в Персии брат работал в посольстве. Ему
Есенин потом посвятил стихотворение «Прощай, Баку»...
Разошлись.
Наутро ко мне в номер кто-то стучит. Открываю.
Есенин!
«Петр Иванович?»
«Да».
«Вы извините, Петр Иванович! Вчера мы галошами об-
менялись с вами...»
Мы рассмеялись.
Потом мы долго бродили по городу. Я сказал ему: «Что,
Сергей Александрович, право? Ну зачем тебе все это! Ты
устал. Приезжай ты лучше к нам, в Баку! Мы тебе Персию
покажем, посмотришь... Может, даже и в Индию пущу!»
Однако увезти его с собой не удалось.
Месяца через три Есенин неожиданно приезжает. Оста-
новился у нас в гостинице. Был у нас в Баку тогда такой
«Отель Европа». Я ему показал промысла, город показал.
- 49 -
Все ему сначала понравилось. А потом, смотрю, заскучал
Есенин...
Тогда я, не долго думая, выношу на секретариат вопрос
не более не менёе как о поездке поэта Сергея Есенина в
Персию...
Тогда, надо сказать, все это проще было. Никаких там
виз! Послом в Тегеране в это время был у нас Шумяцкий.
А мы с ним держали непосредственную связь. Надо было
только предупредить его...
Но Сергей Миронович Киров, услышав, что я выношу
на обсуждение такое, сказал:
«Как! Петр Иванович! Разве можно Есенина в Тегеран
пускать. Ты подумал об этом? Он там в красотку влюбится,
и его прирежут, как прирезали нашего Грибоедова... Разве
мы не можем создать Есенину иллюзию Персии здесь, у нас
в Баку? Он же поэт! Он все довообразит!»
Я пригласил тогда Есенина к себе, была у нас дача од-
ного нефтепромышленника, Мухтарова... Глинобитные сте-
ны, фонтаны во дворе. Бассейн там был, ковры... Я иногда
читал ему персидских лириков, Хафиза, Саади... Ну, и Омара
Хайяма читал ему, конечно.
Приехал он к нам осенью, в октябре двадцать четвер-
того, и прожил около года... Есенину у нас очень нравилось.
Голубые поля, и розы, и сам Баку того времени — все это
очень близко подходило к старой Персии, к ее колориту.
Скоро он выписал Софью Толстую свою, быстро с ней
там обкрутился, жил как хан и чувствовал себя как в Персии.
Писал стихи.
КТО-ТО
В тот год я жил в общежитии, в Переделкине. Телефо-
нов у нас в Переделкине не было. Единственный телефон
находился в конторе. Туда мы все и ходили, когда нужно
было.
При входе в контору эту —- в глухих сенях.
Я тоже раз туда пришел. Помню, это было весной, в
сумерках. А потом и вовсе сделалось темно. Я поднялся на
крылечко, но дверь в сени оказалась открыта. Кто-то уж
там был. Кто-то там уже звонил. В темноте слышался шорох.
Чтобы не помешать, я остался на крыльце.
- 50 -
Стоя к выходу спиной, я слушал — слышал, как чело-
век, там, в глубине коридора, присвечивая себе спичкой,
пытается набрать номер.
Я решил терпеливо дожидаться. Сначала я просто стоял,
не обращая ни на что внимания. Я простоял так минут пять.
Это безрезультатное там, за моей спиной, чирканье спичек
продолжалось. Спичка гасла раньше, чем человек набирал
номер. Он успевал набрать только первые цифры.
Я подумал, что это песенка долгая и что я никогда не
позвоню, если так. И решительно направился в коридор.
Я почти вырвал у этого субъекта спички.
— Давайте я вам помогу! — решил я вмешаться. И, чирк-
нув спичкой, сказал: — Набирайте! А то вы так никогда не
позвоните...
Он меня стал благодарить, говорить, какой я любезный.
Бормотать что-то насчет моей любезности. «Звоните, звони-
те»,— прикрикнул я на него, и он неуверенно набрал номер.
Лица мне его не было видно, но показалось, что стоит
старик. В чем-то белом.
Я положил спички на столик возле телефона, а сам вер-
нулся. Снова встал на крыльце. Вышел, чтобы не мешать ему.
Разговор тем не менее мне был слышен.
Слабым голосом человек добивался телефона писателя
Озерова Льва. Ему это очень нужно. (Упоминание знакомой
фамилии заставило меня прислушаться.)
Первым душевным движением моим было помочь этому
человеку. Записная книжка была у меня с собой. Я даже
опустил руку в карман... Но нет, я не дам ему телефона!
Графоману такому... Приехал небось пробиться к писателю
какому-нибудь! Много их тут в это Переделкино приезжает.
Прямо на дачу. К Всеволоду Иванову, к Федину... Небось
роман привез или мешок стихов.
Хотел попасть к Федину, но не сумел. Графоманы не-
счастные! Пожалуй, Озеров не поблагодарит, если узнает...
— Как жаль, он мне очень нужен. Я позвоню вам еще
раз!
Ну конечно, еще раз позвонит. Будет каждый день зво-
нить.
Я уже думал, что он сейчас уйдет. Я очень торопился.
Я, прислушиваясь, ждал его шагов. Между тем человек
в темноте коридора закончил разговор и пробовал набрать
новый номер. Опять я узнал эти попытки зажечь спичку.
Он еще раз собирается звонить.
- 51 -
Чирканье спичек продолжалось, номер был все-таки ше-
стизначный, длинный. И опять спичка тухла, а он не успе-
вал ничего набрать.
«Так он прозвонит целую ночь», — подумал я.
— Давайте я вам помогу, — сказал я уже мягче. Теперь
мне стало жаль его.
Опять он принялся говорить мне, какой я любезный че-
ловек, право, ему неудобно затруднять меня.
— Звоните, звоните,— сказал я, зажигая новую спичку.
И он опять неуверенными руками, взволнованно, стал
набирать номер. Мне видны были только его спина и согну-
тые плечи.
Наконец он набрал нужный ему номер. Я положил спич-
ки на место и вышел, не желая мешать ему. Он и так вол-
новался.
У него явно была боязнь телефона. По тому, как он
набирал номер, я видел, что звонить по телефону он не
умел. Да, это трудное искусство. Я знаю, им не могут овла-
деть иные всю жизнь свою.
Теперь он звонил Марии Ивановне. Все так же неуве-
ренно, непривычно, своим несильным голосом.
— Мария Ивановна! Да, это я опять. Ну вот, телефона
Озерова я не узнал... Да, они хотели однотомник... Скажите
им, что я просил не беспокоиться. Да, они хотели преди-
словие. И передайте, лучше вообще ничего не надо! Совсем
ничего. Скажите, что я благодарю всех...
Удивленно я слушал все это. Странный какой! Впервые
вижу человека, который бы отказывался от издания.
Нет, пожалуй, этому человеку можно дать телефон Озе-
рова, и тот не будет ругаться.
Он попрощался и положил трубку, вышел.
Набрав номер, я довольно долго ждал, ждал, пока мне
ответят. Подошла тем временем новая желающая поговорить
женщина. Подошла и встала рядом.
И, пока я ждал ответа, стоя так, с прижатой к уху труб-
кой, я вдруг, повернувшись к ней, спросил, еще сам не пони-
мая, почему, — почему я так решил и почему я об этом спра-
шиваю. Я спросил:
— Скажите,— спросил я,— это не Пастернак?
Почему это должен быть Пастернак, я совершенно не
понимал и сам; и сам более всего удивился своему вопросу.
— Да, это Борис Леонидович Пастернак,— сказала она,
удивившись в свою очередь, что я этого не знаю.
- 52 -
МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
Было это, что ни говори, хорошее время! Мы помногу,
помногу и подолгу ходили по Москве, часто и помногу си-
дели в те годы в маленьком трактире на улице Воровского,
пили и читали друг другу стихи... Мы все тогда только еще
приходили с фронтов...
Так это и осталось никем не описанным.
Мы проводили много времени в метро тогда, в метро
и на улицах. Еще и теперь, когда я оказываюсь в метро, я с
отчетливостью вспоминаю, какими мы были... Почему-то ост-
рей всего я это чувствую в метро на Маяковской.
Жить нам было негде. Все мы были бесквартирными.
А в лучшем случае — снимали углы...
В те годы один мой друг ходил по Москве с женой, и,
об этом было известно всем, когда мы сидели в нашем зале
на Воровского, в свертке, на виду, на подоконнике, у них
лежала простыня. Они ее повсюду с собой возили. Ноче-
вать ведь все равно было негде, и ночевали мы где придется.
Кто позовет! Вспоминали об этом лишь в тот момент, когда
уже нужно было расходиться. Из ближайшего автомата при-
нимались обзванивать знакомых. Чаще всего оказывалось: у
этого сегодня нельзя, у того — тоже нельзя...
И тогда оставалось одно — делить одну постель. Идти
к тому, с тем, кто сам снимал чужие хозяйские углы.
Спустя семь лет (как раз в дни, когда Сталина хоро-
нили) я пришел к своему другу, заболевшему поэту. Я знал
его и прежде, по Свердловску, и в послевоенное время я ча-
стенько находил у него там приют. То у него — то у кого-
нибудь еще.
Теперь, перебравшись в Москву, старый поэт и сам
очутился на таком положении. Жил по чужим углам. Войдя
в комнату, я остановился на пороге. Мне показалось, что
здесь я уже бывал. На столе лежал раскрытый том — боль-
шая, в кожаном переплете книга славянского письма. На пол-
ках и полочках повсюду тут были расставлены всякие при-
чудливые и престранные статуэтки и чашечки.
Не комната, а антикварная лавка.
Я с жаром принялся доказывать хозяину, моему това-
рищу, что я здесь был. Возможно, ночевал даже. Я не мог бы
припомнить, когда именно, но мне казалось, что я видел эту
- 53 -
книгу. Помню, что, когда я проснулся, вокруг меня стояли
точно такие же чашечки.
В то же время я мысли не мог допустить, что в большой
Москве можно так вот запросто, дважды, не зная о том, по-
пасть в один и тот же дом. Я сказал об этом хозяину. Он
рассмеялся.
— Так ты — не ошибаешься,— сказал он.
И я узнал: давно, с войны еще, эта комната передает-
ся — переходит от одного писателя к другому. Условие у
хозяйки такое — ничего не переставлять... Но больше всего
не трогать ее чашечек. Казакевич в пору своего бесквартирья
написал тут свою «Звезду», Панова — «Спутников».
Но, конечно, не все обитающие в этом жилище смогли
так обогатить отечественную литературу. Тот, с которым я
приходил первый раз, кропал тут довольно плохие стихи.
Я вспомнил теперь все.
Такая была это комната.
И дом и двор этого дома находится в Трубниковском
переулке.
Сейчас, как я узнал недавно, эта небольшая комната в
Трубниковском переулке уже не сдается... После многих лет
отсутствия из известных мест вернулся муж хозяйки.
Но это не все. Дом, о котором идет речь,— вполне со-
временный, фасадом он выходит на улицу. Его внутренняя,
тыловая часть обращена к церкви... Одним словом, это как
раз там, где Поленов писал свой «Московский дворик».
Мне сказал об этом тогда же мой знакомый, которого я
пришел навестить. Подтвержденье его слов я нашел вскоре
в книге о художнике Репине.
о БУДНИ
Это рассказ Казакевича. Его самого.
Это история его книг. О том, как создавались его книги.
Рассказ, по сути дела, юмористический.
Вот он весь, в том виде, как я слышал и запомнил.
...В первые дни, когда с войны пришел, я не знал, что
делать. Все было растеряно. Что буду писать, чем занимать-
ся — я не знал. Квартиры тоже не было, снимал комнату.
- 54 -
Начал писать я мою «Звезду». Жизнь была трудная. Си-
дел на чужом стуле, в чужих стенах. Я был большой, пайка
мне не хватало...
Как бы то ни было, но я написал эту книгу. Повесть
вышла. Раздавались, конечно, голоса — называли книгу по-
всякому. Но потом передумали и дали премию... Напечатали
ее в журнале, выпустили отдельным изданием. И я в довер-
шение ко всему даже комнату получил.
Комнатку, правда, мне дали маленькую, раньше в ней
жил другой. Комната была длинная, узкая. Все равно я был
доволен. Обзавелся, обставился. Попался мне хороший риж-
ский стол, купил еще очень хороший книжный шкаф, остек-
ленный, зеркальный. Придвинул я этот стол поближе к шка-
фу, а в шкаф поставил я мою «Звезду». Книжечка тонень-
кая, но я разом купил себе сто экземпляров. Но больше ни
на что денег не хватило. Сижу я, довольный, и отражаюсь
в этом самом шкапе.
А моя новая и между тем давно уже задуманная по-
весть — не пишется. Все вроде бы так хорошо... И комната
есть, и в журнале повесть мою ждут, торопиться велят, а я
сижу за письменным полированным столом, гляжусь в этот
зеркальный шкаф и отражаюсь в нем, как неизвестно кто.
Жизнью доволен, а с повестью не ладится. И чем больше
сижу, тем хуже.
Что тут делать будешь!
Сидел так, сидел, наконец разозлился, взял да и развер-
нул стол, поворотил его к стене, а сам сел спиной к дурац-
кому этому шкафу.
Может, так будет лучше.
Повернул я стол на 180°, обернулся к этой вечно темной
стене, немного посидел, гляжу — пошло! Много лучше стало
писаться.
Написал я так повесть мою новую и был доволен. Были
это несчастные мои «Двое в степи»... Что тут началось! Луч-
ше бы мне и не писать. Как дали мне! И то, и сё... И «оправ-
дание», и «проповедь», и еще раз «оправдание». И я уже
забыл, что еще. Ну, думаю, крышка!
Было мне тяжело, но надо было писать и надо было
жить дальше.
Задумал роман.
Долго опять сидел я за своим письменным столом пе-
ред стеной. На душе было пасмурно, и дело не клеилось.
Скверно на душе. Прошло вновь немного дней, а роман мой
- 55 -
не писался, хоть плачь. Такое зло тут меня взяло, что я
взял и опять развернул стол. Поставил его опять к шкапу.
Повернулся я к шкапу этому лицом, и что же вы думаете
(опять передо мной шкаф! как ни говори — обстановка),
едва я это сделал, дело пошло. Работа закипела, дело пошло,
и тогда я написал «Весну на Одере». Ну, вы знаете, принят
был роман хорошо. И критика мной была довольна, и роман
хвалили. Опять премию получил!
Но вскоре все началось сначала, и опять не клеилась
работа, пока я вновь не отвернулся от этого глупо сияющего
шкафа к своей повседневной серой стене и не написал
пока — как тут меня взгрели! — «Сердце друга». Да, опять
мне не поздоровилось и опять мне тяжело было, пока я не
догадался повернуть стол к тому же шкафу, к стеклу, — пока
не написал «Дом на площади». Которым опять все были
довольны. И т. д.
Вот какая ведь история...
Почаще надо переворачивать столы!
® ВОЙНА И МИР •
Я только недавно с ним познакомился, хотя мы встреча-
лись и раньше. В сорок пятом году он вернулся с фронта
и привез с собой рукопись... В его однотомнике есть, между
прочим, один его новый военный рассказ, немецкий. О ста-
ром саксонском или баварском короле, которого Некрасов,
живя в Германии, из жалости подкармливал... Передавал ему
консервы, иначе бы тот умер.
Некрасов, написавший одну из лучших книг о войне —
знаменитую свою книгу «В окопах Сталинграда». И вот, ко-
гда я возвращал ему этот его однотомник, он мне рассказал
еще одну историю. Ему ее самому рассказывали.
В редакцию нашего журнала «Знамя», журнала военного
по тому времени, зашел солдат. Году в сорок четвертом это
было... Его товарищи на вокзале ждали.
Принес солдат рукопись. Оставил человек адрес своей
полевой почты, и рукопись оставил. И — ушел.
Он прямо с поезда забежал и очень торопился. Полк его
где-то на переформировке стоял, через Москву он проезжал
только.
- 56 -
Стали в редакции эту рукопись читать, а читать ее не-
возможно... Дамы, те, впрочем, совсем не могли! Настоя-
щая — война и мир! Один сплошной мат. Жаргон солдат-
ский.
Но — написано! Ничего плохого не скажешь. Здорово
написано!
Что делать, как быть —- никто не знает. Пробовали пра-
вить, ничего не получается. Все пропадает... Одним сло-
вом — печатать нельзя, но и не печатать жалко. И тогда ре-
шили послать в СП, там разберут...
Там почитали и тоже умные затылки зачесали. Сразу
ведь видно, как человек это писал!
Думали-думали, сказали:
— Надо поработать с товарищем...
Пока искали, кто бы мог поработать с товарищем, това-
рища уже не стало, не нашли... Так и затерялся он.
Пропал парень!
В те годы я много слышал, говорили об этом... О сол-
дате, который в Москву привез с фронта в вещевом мешке
свою рукопись... Но тогда я считал, что солдат этот и есть
Виктор Некрасов.
• ЛЮБОВЬ е
Нет, не могу похвалиться: сам я никогда не принадлежал
к людям, ему лично близким. Но все поколение в целом, мы
все ему очень обязаны.
Я впервые встретился с ним тогда, в сорок третьем году,
в Горьком — в танковом училище. Антокольский приехал в
этот город на Волгу.
Он только что тогда потерял сына.
В большом холодном зале шел пар от дыхания солдат.
Как будто он отрывал куски сердца. Читал пласты поэ-
мы своей. Мне никогда не забыть скорбную ту минуту, этот
плач отца: «Прощай! Поезда не приходят оттуда...»
Они, он и его спутники, приехали к нам перед самым
выпуском. Собрали всех в клубе, а потом нас пригласили и
к себе, всех пишущих.
Теперь я понимаю: мы были в гимнастерочках солдат-
ских, и они нас жалели. Обидеть — боялись. Ведь они дума-
- 57
ли так — завтра нам ехать на фронт. Потому они столь дели-
катно про нас и говорили.
Они думали, что завтра нам умереть.
Даже меня он похвалил. Хорошо сознаю, как трудно это
было, хвалить меня за те мои стихи.
Даже адрес свой оставил и телефон.
И правда, я позвонил ему. Месяца два спустя я проез-
жал через Москву. Фронт стоял недалеко от нее. И, очутив-
шись на вокзале один, я с пустого перрона звонил ему из
автомата, еще не умея им пользоваться. И, мучаясь, что ре-
шился звонить, сказал, что через час отправляется мой поезд.
Как, дорогие мои, вы не догадываетесь: мне некому было
позвонить, сказаться, что я отправляюсь на фронт, и я по-
звонил ему.
Он сразу все понял и как-то очень заволновался. «Вы
обещайте мне вернуться с войны».
Я долго это помнил.
Тогда я, видимо через год или через полгода, увязнув в
лесных болотах — после одного задохнувшегося наступле-
ния — послал ему, с передовой, несколько своих стихотворе-
ний, тоже очень беспомощных. Но и тут он еще не счел воз-
можным написать, как это все безнадежно. Но тем не менее
ответил мне... Цитирую на память: «Сказать по правде, я
совсем не помню вас в Горьком, но ведь это и неважно. Пи-
шете стихи, работаете во фронтовой печати, значит, нам есть
о чем поговорить...»
Он нетерпеливо встречал нас, всех, кто возвращался с
войны. Ждал, встречал, как сыновей.
Все это знаю я. Хотя в то время меня с ними не было.
И опять я написал ему — с Теплого того Ключа, в кото-
рый загнала меня послевоенная судьба. Написал, потому что
у меня появились новые стихи. Тоже о войне.
И он снова:
«Избранный вами жанр требует кинжального прицела...»
Разговор шел уже всерьез.
Может, поэтому, когда я опять и вновь проездом очу-
тился в Москве, я осмелел и был у него на Арбате. Удиви-
тельно, как всем нам было хорошо с ним! Его стремитель-
ный бурный темперамент и молодость равняли нас.
Роль его в судьбе нашего поколения огромна. Они и те-
перь, те, самые первые встречи, мне дороже всего.
На книгах своих, которые он нам дарил, он писал — «с
любовью. Павел».
- 58 -
Так было всегда. Молодые всегда его первые товарищи.
Когда были молоды мы, он был сверстником нашим. Но про-
шло десять лет, и, должно быть, мы состарились для него.
Сейчас уже не мы, сейчас уже самые молодые ему ближе. Из
нынешних молодых.
И, как нам, когда мы приходили, он крупно чертил каж-
дому — Павел.
• ДРУГ ©
Как недоуменно смотрит он на свои руки...
В холодном Челябинске, в запасном полку, — ах, какая
была зима, как все обледенело! — в сорок первом, сорок
втором году увидел я эту книжку с красной фронтовой,
огненной обложкой цвета пожара. Она и называлась
«Фронт»... Книжка Сергея Орлова, вышедшая тогда в Челя-
бинске.
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат.
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград...
Мы были где-то рядом, в одной казарме. Может быть,
даже на одном этаже, но в разных ротах. Я бы мог застать
его там. Я мог бы даже встретить его там — одним из этих
солдат в шлеме.
Мы все были одинаковы, в холодных танковых шлемах,
в полушубках, у кого они были, в валенках и полушубках,
вымазанных в тавоте и газойле.
Когда я приехал, он был еще в полку, но когда книжка
вышла, он уже отправился с маршевой ротой. Кажется,
командиром взвода танков.
Встретил я его уже в сорок седьмом, в Москве. Он был
уже обгоревший, сильно сожженный...
Там, в Челябинске, я мог увидеть его еще таким, каким
его я знаю только по мальчишеским снимкам. Небольшого
роста, огненно-рыжий вологодский мальчик, сын учитель-
ницы.
С каким недоумением иной раз, как удивленно, покачивая
головой, смотрит он на свои сожженные, обгоревшие руки.
«Мать честная! Как же это!?»
- 59 -
Я всегда вижу его в одной позе, всегда вижу его так.
Танкист, ни разу не написавший в своих стихах, что он
горел в танке.
СНИМОК
Всегда рискуешь быть непонятым. Что, казалось бы, тут
особенного. Тебя что-то тронуло, но никогда не знаешь, бу-
дет ли это понятно другим... Просто, когда собрались гости,
хозяин захотел мне показать квартиру. Вот тут я ее и уви-
дел, эту фотографию.
Она была единственной. Одна на всей стене.
Но сначала я скажу о нем самом. Его волшебные стихи
я прочел еще там, в детстве. Может быть, в первой книге
для чтения.
Бреду я домой на Пресню,
Сочится усталость в плечах,
И фартук красную песню
Потемкам поет о кирпичах.
Поет он, как выше, выше
Я с ношей красной лез.
Казалось — до самой крыши,
До синей крыши небес.
Наверно, еще в букваре было.
Казин. Я рано узнал это имя. Что написал: «Живей, ру-
банок, шибче шаркай...» и «Стучу, стучу я молотком...» Но —
лучше всего было это:
Утро — тоже взносило,
Взносило красный кирпич.
Чудесный человек и поэт!
Я только потом, прожив несколько лет в Москве, понял,
почему я не встречал его ни разу. Человека более тихого
нельзя себе представить. Он и сам когда-то сказал о себе,
что по земле он катится, как горошинка. Это сказано сильно!
В день, когда меня ждало это переживание, я впервые
был у него дома. Снимок, показавшийся мне столь неверо-
ятным, висел у него в кабинете и был как лист, не больше
листа школьной тетради. Я не поверил глазам своим.
- 60 -
Такая знакомая всем, кирпичная, красная Кремлевская
стена. Но меня не это остановило. Меня раньше всего оста-
новило, раньше всего я увидел Ленина. Это первое, что вас
поражало при взгляде на этот снимок. Ленин стоял на сту-
пеньках. На том самом месте, где Мавзолей. На месте Мав-
золея.
Да, сам Ленин стоял у Кремлевской стены, перед ней, а
вернее, под ней. Потому что высоко была стена.
Я все мысленно и сейчас вижу... Ленин стоит на этих сту-
пеньках. Перед входом в ворота. Там раньше было несколько
ступенек.
Руки у Ленина в карманах. И из кармана же торчит
сунутая туда фуражка. Летнее пальто распахнуто.
Нет, я хочу поправить себя — фуражка эта, кепка, с ее
характерно вздернутым верхом, на голове. Он в фуражке
стоит.
Он не один тут. Вокруг, на тех же ступенях, и слева и
справа, люди. Он с народом стоит. Такое впечатление, что
снято после демонстрации. В праздник. Сговорились сфото-
графироваться все вместе и снялись.
Постой-ка, а кто вот этот? Этот молоденький. На тех
же ступенях, впереди небольшой группы людей в военных
шлемах.
Он стоял тут и, чтоб его было хоть немножко видно,
сдернул кепчонку и вытянул шею.
На каменщика похож. Лет шестнадцать ему всего. Какой
интересный парнишка. Мастеровой...
А Ленин голову склонил набок. Весь он — ладный, празд-
ничный. И тоже какой-то очень, очень молодой. Он полу-
улыбается, у него доброе лицо. Он даже красив этой своей
ладностью. Всем строем души, задором.
Как он всматривается!
Он в одно и то же время и очень простой, доступный, и
величавый.
А рядом, хотя в отдалении, но с ним рядом, стоит моло-
денький и маленький Казин.
Вытянувший шею и повернувший голову, глядящий на
Ленина...
Всегда хочется написать о том, что труднее всего... Уди-
вительное дело! Я видел, наверно, сотню снимков Ленина.
И, должно быть, ни один не производил на меня такого
сильного впечатления.
О
J ПЕРВАЯ КНИГА J
•••••••••••••••••••••••••••••••••О
ПЕРВАЯ КНИГА
Отец уехал в город. Или я только думал, что в город.,
Может, он ездил в село, в ближайшее от нас. Я еще не по-
нимал — куда. Только знал, что уехал, что на этот раз он
привезет мне не увитую цветной ленточкой конфету и не
мячик резиновый. Эта радость уже была мной испытана...
Отец сказал, уезжая, что привезет мне книгу.
Один такой день на всю жизнь бывает! Забравшись на
печку, я подлез под дырявый старый тулуп и спрятался...
Лежал и думал, что такое мне привезут...
Ни одной книжки у меня пока не было.
Это был трудный день... Я думал, отец приедет скоро.
Я не понимал еще, где этот город — далеко он или близко^
Но время шло, а отца все не было. И я опять лез под
тулуп и закрывал глаза, чтобы мне быть наедине с моей
книгой. Я мысленно держал уже ее в руках. Я думал, что
- 62 -
она будет как букварь, по которому я научился читать. Но
только толще. Толстая настолько, насколько толстой может
быть книга.
О многом я собирался из нее узнать: и про море, и про
вулкан, и про пустыню. И обязательно про животных, про
разные страны.
Я придумал очень интересную книгу.
Давно уж выстыло в избе, давно был вечер. Я сидел на
остывающей голой печи и видел, как побелело окно в
избе — меркло и покрывалось слоем белой наледи. Мать по-
доила корову и наносила дров...
Когда я проснулся, то было светло, и было уже утро. Как
вчера я ни крепился, как ни боролся долго со сном, а все-
таки я заснул.
Отец меня не обманул, привез... И даже не одну, а це-
лых две. Но какие они были маленькие! Одна, тоненькая
желтенькая книжечка с картинками, — про первобытного че-
ловека, про то, как он охотился. Другая, в переплете, но та-
кая же тоненькая,— про черепаху... Нет, не про черепаху, а
про портных. В ней и стихи были: «Наши-то портные —
храбрые какие!..» Как портные шли, шли, встретили боль-
шую черепаху и уселись на нее. Думали, что это камень.
Потом увидели: черепаха! — и перепугались...
Теперь я знаю, чем я был огорчен.
Книжки были хорошие, и мне их хватило надолго. Но
совсем не про то...
Я не хотел себе двух книг, я хотел одну — с картинками
или без них, но обязательно толстую: чтобы она никогда не
кончалась, сколько ее ни читай... Которая рассказала бы мне,
деревенскому пареньку, обо всем, о чем я не знал: о мире,
что лежал за околицей нашего поселка, за березовой его
загородкой...
Я вырос, прочел много книг, но той так и не встретил.
Часто теперь я, посмеиваясь над собой, вспоминаю, как си-
дел я на нашей печке и видел уже в руках своих книгу...
Я о ней не забыл. Только она все больше менялась, все
больше росла. Она должна была уже рассказывать не только
про жаркие страны и не только про обезьян. В ней была
уже и война, о которой я тогда еще не знал... Чтобы про-
честь такую книгу, надо было много повидать. Надо было
прожить жизнь.
Она у каждого своя, эта книга...
- 63 -
Я до сих пор вижу того нетерпеливого паренька... Как
скачет он босым по холодному полу избы. Как подбегает
к окну, влезает на лавку и, подышав на стекло, расчистив
зеркальце, смотрит: не едет ли?
Все еще она живет у меня в памяти, эта книга... Не та,
которую получил, а та, которую выдумал.
СНЕГУ НАВАЛИЛО
Как ни странно, но это одно из первых, самых сильных
впечатлений... Что же тут удивительного! Я рос не в городе
и не в деревушке даже, а в починке. Починок, или поселок
этот наш, стоял в лесном глухом углу. В тайге.
И надо сказать так: я долго еще, даже когда и школу
окончил, не имел понятия о горизонте. Даже не знал, что
это такое — горизонт... Вот как люди не знают моря. Или
всю жизнь живут в степи и не видели никогда леса. Они
могут его лишь вообразить. Но, сколько я себя помнил, во-
круг меня всегда был лес, и как бы это я ни старался, я не
мог бы представить себе, что за горизонт такой. Как это
все — земля, земля, и вдруг она кончается... Горизонт! Все,
что для меня существовало,— синяя, а чаще серая невысокая
крыша.
Небольшой клочок света и неба над вершинками де-
ревьев. Как в дымоходе...
Так было и в том совсем маленьком поселке, где я жил,
и в деревне побольше, где я учился и куда ходил, проби-
раясь по малой тропе через большое, труднопроходимое бо-
лото.
Всюду — лес.
Но, конечно, были и в лесу у нас небольшие прогалы.
Полянки. Да и пашни у нас были — полоски раскорчеван-
ной земли, освобожденной от леса, от деревьев. Пшеница,
кажется, росла хорошо... Да еще лен.
Вот лен этот и убирали мы с матерью.
Это уж осенью было, поздней осенью. Мать расстелила
лен за поселком, на выгоне для скота. Среди берез... Лен
стелют для того, чтобы его потом легче обрабатывать. На-
- 64 -
кануне расстелила, а в ночь выпал снег и все завалил. При-
шлось его нам из-под снега выгребать.
А снег большой, толстый — много навалило его! Мы де-
лали так. Я скатывал ком, и катил его по ряду, по льну. За
спиной у меня оставалась дорожка, чистая... Когда ком ста-
новился большим настолько, что я не мог уже с ним сла-
дить, я старался отвалить его в сторону. Но комы были
больше меня...
Погода стояла тихая, без ветра. Сначала от снега у меня
мерзли руки, но скоро я весь взмок. Руки у меня горели.
Мать собирала лежащий на земле, высвобожденный
мною лен и связывала его в снопики.
Так мы проработали чуть не полдня и выскребли почти
что весь наш лен... Я их много накатал, этих комов.
Чем больше я их катал и чем больше мы работали, тем
тяжелей становился снег... Неожиданно появилось солнце,
и под деревьями стала понемногу обнажаться земля.
Мы с мамой очень устали, спины у нас болели. Когда я
распрямил свою уже совсем занемевшую спину, увидел —
собака бежит... Она бежала под деревьями, среди леса...
Большая. Серая. В нашем поселке такой не было.
Я на нее крикнул. Она остановилась, оборотилась ко
мне и, поджав хвост, побежала дальше. Но не очень торо-
пилась.
Мать тоже глядела из-под руки.
Опять мы принялись убирать наш лен, связывать его
в снопы... Снег становился все тоньше: от тепла ли, от
солнца ли, он быстро таял. А когда мы закончили работу,
он совсем сошел на нет.
Только кое-где еще в ямках остался.
Пониже повязав платком голову, мать сказала мне:
— Давай теперь опять стелить будем. Видно, не зима
еще.
Я чуть ли не заплакал. Столько мы трудов положили,
чтобы выручить ленок наш из-под снега, и вот начинай все
сначала... Мы опять стали расстилать наш только что со-
бранный лен, небольшими тонкими прядями раскладывать его
по земле. И, когда стелили, мать мне сказала:
— Вась, а ведь это волк был. Я тебе не хотела гово-
рить...
Да неужто волк? Ах, кабы знал я, что волк! Я бы на
него получше поглядел... Я все приставал к матери — вправ-
ду ли волк? Все никак поверить не мог.
3 В. Субботин
- 65 -
Хоть и в лесу рос, а в первый раз видел волка.
Я очень устал и, когда мы домой возвращались, еле но-
гами передвигал.
Но зато вот волка видел!
И хоть трудный был день, но хороший...
• СЕРЫЕ •
Еще одно, очень памятное для меня воспоминание.
Дело уж к осени было.
Отец меня впервые взял на пашню. Когда мы приехали,
он впряг коня нашего в борону и усадил меня на него. И я
впервые начал боронить.
Сидя на покойной, широкой, как печь, спине нашего
Егорки, я бойко из конца в конец гонял по свежей пахоте и
даже пытался что-то петь... Шутка ли: меня не только поса-
дили на лошадь, а и доверили настоящую, взрослую работу!
Отец же с телегой оставался на дороге. Он что-то там
делал.
Сначала все у меня шло хорошо. Егорка меня слушался.
Он вообще был очень чутким...
Я на первых порах, правда, криулял, как у нас говори-
лось, ездил неровно, отчего один след у меня не сходился
с другим. Но постепенно я приноровился, и у меня стало
получаться намного лучше.
Однако же время близилось к вечеру, и Егор мой, ви-
димо, устал: он охотно возвращался к дороге, где стояла
у нас телега, и все неохотнее к лесу. Участок пашни у нас
здесь почти вплотную подходил к заросшему частым берез-
нячком болоту.
Чтобы мне легче было управляться с конем, отец, ко-
гда я к нему подъехал, дал мне крепкий березовый сук.
Продолжая подсвистывать, я ездил туда-обратно, но все
трудней было мне заставить Егорку идти к лесу. С каждой
минутой он становился непослушней. Он переступал с ноги
на ногу, упрямился и норовил повернуть назад. Раньше, чем
мы достигали болота. Он всячески сопротивлялся и все де-
лал, чтобы туда не идти, а у меня не хватало в руках силы
с ним справиться... Он дергал, борона скакала по пашне, а
- 66 -
он даже моего березового сука не слушался. Зато с какой
быстротой поворачивал, когда нам удавалось достигнуть края
пашни. И как, бегом почти, бежал обратно.
Все же, когда я делал последний круг, он так и не до-
шел до леса, а, повернув где-то среди прогона, скоком по-
мчался назад. Я чуть с него не свалился.
Когда же мы подскакали к дороге, отец, до того чем-то
занятый, а в эту минуту сильно обеспокоенный, помог мне
слезть и спросил меня:
— Ты что, ничего не слышишь?
И уши у меня проткнулись. Я вдруг услышал то, что
должен был слышать намного раньше... Как они выли! На
разные голоса. Старые — густо, протяжно; молодые — под-
вывая им... Помолчат и опять завоют.
Мы запрягли, поскорее погрузили борону в телегу, и
Егорка рванул. Телега сейчас же затарахтела по затвердев-
шей, затравеневшей дороге. А они, вслед нам, сильней еще
принялись выть.
Подбрасываемый в телеге, я понял наконец, почему ар-
тачился мой Егорка. Я вспоминал, как старался во что бы то
ни стало заставить лошадь подойти к краю поля. И я уже
видел всю их стаю — как сидят они один возле другого
в нескольких шагах от меня. Горячие, в темноте среди бо-
лота, угольки.
Большие, маленькие.
• ГАДЮКА о
Поселок был совсем маленький — десяток изб и кругом
лес... Даже огород и тот в лесу, среди деревьев. Место это,
сразу позади избы, называлось Лужком или Лужками.
В этом лужке, за грядками — их было две или три, и за
узенькой полоской овса и ржи, высеваемых поочередно,
была у нас старая, ежегодно зарастающая лебедой угольная
яма. За нею поднимались одинокие мелкие березки и осин-
ки, а уж далее, за ними, настоящий лес.
Я направился в эти Лужки... Земля уже прогрелась и
пахла первыми цветами. Среди жесткой, колючей скошен-
ной прошлогодней травы и первых редких зеленых травинок
белели обломки распадавшихся и уже сгнивших толстых бе-
резовых сучьев. Они были полые, пустые внутри. От них
3*
- 67 -
оставалась одна берестовая кора... Хорошо было ступать бо-
сой ногой.
И вот я шел, ступал так, и у самой этой угольной ямы
наскочил на змею. Это была гадюка... Я чудом только на
нее не наступил. Она лежала в ряд с таким вот берестовым
березовым суком. Грелась... Я так испугался! Но и она тоже
испугалась и отвильнула в сторону и в то же мгновение
мелькнула мимо моей ноги... Она промахнулась. Может
быть, потому, что я успел отскочить.
Когда я пришел в себя, то видел: гадюка, вжимаясь в
землю и извиваясь, вроде бы переворачиваясь с боку на бок,
медленно уползала по редкой, не успевшей еще вырасти
траве.
Я хорошо помню тот испуг, который я пережил.
С безумно колотящимся сердцем я перелез изгородь, от-
деляющую деревню от леса, от пашни и от огородов, подбе-
жал к моим товарищам, к ребятишкам, игравшим здесь же,
и все им рассказал. С ними были и парни постарше, взрос-
лые... День был воскресный, и они собирались пойти за де-
ревню, стрелять из большого старого дробовика.
Я думал, они не пойдут. Но они тут же, довольные, что
нашлось какое-то занятие, отправились за мной.
Я сразу отыскал место, где я на нее наскочил. Это было
возле угольной ямы.
Никакой змеи не было.
Все повернули обратно. Мне стало совестно, что я зря
сюда привел. Могли еще подумать, что я все наврал. Но
меня кто-то выручил, сказав, что змея могла заползти в по-
ленницу. Действительно, между двух берез, чтобы дрова не
рассыпались, недалеко от этой угольной ямы, была сложена
поленница дров.
Мы все с радостью принялись ее разбирать.
Большие парни брали два и даже три полена, а мы — те,
кто поменьше, — по одному. Дрова были тяжелые, берёзо-
вые, намокшие, заготовленные еще с прошлого года, и мы
с трудом ссаживали их сверху.
Старая поленница постепенно таяла, а рядом, метрах в
десяти, росла новая...
Чем меньше дров оставалось в той, прежней поленнице,
тем осторожнее мы ее разбирали.
Мы брали все осторожнее. А так как именно я столь не-
ожиданно перед этим встретился со змеей, то теперь за
каждым поленом, за которое я брался, мне виделась змея.
- 68 -
Дров оставалось уже совсем мало, когда я, схватив одно
небольшое полено, тотчас же его выпустил.
Она под ним и лежала.
Все сразу ее увидели: свернувшись в кольцо, она лежала
на полене и вдруг скользнула на землю, в траву.
Она все-таки ушла. Кто-то испугался и не наступил на
нее. И она ушла, ускользнула...
Я потом боялся ходить к этой угольной яме.
• МЕДВЕЖОНОК •
Сидел я у окна, отца с матерью поджидал. По зимам
они уходили на целый день в лес, пилить дрова, оставляли
меня одного.
Это было трудно — ожидать, когда они вернутся. Ино-
гда, вечером, я не выдерживал и подбегал, кричал в печку, в
трубу: «Мама! Приходи скорей...»
Однажды, когда я вот так, оставшись один, сидел и смо-
трел в окно, я увидел: медведь ко мне в окно лезет.
Молодой, но уже не маленький медведь. Черный весь.
Сразу я понять не мог даже. Место у нас, правда, глу-
хое, а все-таки чудно, что медвежонок этот ко мне в окно
лезет. Лапу вверх поднял, когтями по стеклу задевает: вид-
но, никак на завалинку не встанет, ухватиться ему не за что.
Разобьет он, думаю, нам раму.
Забрался он все-таки. Морду поднял, пасть раскры-
вает — она у него красная — и в окно смотрит.
Я в сторонку отошел.
Он видит, никого в комнате нет, и давай — оттепель
была — сосульки с наличника обламывать. Лапой держится,
лапой сосульку ломает. Отломил — в рот кладет. Хрустит
сосулькой, как леденцом, а сам все в окно смотрит... Много
он этих сосулек съел. Головой мотал,— видно, нравились
они ему.
Он, оказывается, за этими сосульками и лез. Нарочно за
ними из лесу шел. Пить захотел!
Очень я напугался... Что это он под окнами зимой
бродит?
Известно, у страха глаза велики... Да тем более, когда
один в избе остаешься.
- 69
ХМЕЛЬ НЛ ТЫЧИНКЕ
о
Каждая песня, даже если это обрывок песни, много го-
ворит душе. Особенно если была она слышана в детстве. Так
вот, казалось бы, и Потетень мой. Я от отца впервые слышал:
Тень-тень-потетень,
Выше города плетень...
Я думал тогда, что этот Потетень, большой и толстый —
белый, бородатый мужик, наш мельник. Не кто иной, как
он... Весной у нас на реке плотину прорвало и мельницу
его унесло. Я сам своими глазами видел: и белые льдины, и
этот домик — плывущую посредине реки мельницу.
Но сейчас вот она, опять шумит...
Не могу сказать, почему это так вышло, почему и Поте-
тень и мельник мне запомнились и долго после были на
одно лицо.
Мельница — как раз напротив окна, на другом берегу.
Под обрывом река, а на ней мельница... Однако это не та
деревня, где я рос: там ведь был один только лес. Другая...
За двором здесь был крепкий заплот — изгородь. И зеленые
натоптанные лужайки, и выгон для скота.
Как раз такой же город в песне.
С мельником Потетень у меня соединялся еще потому,
что далыпе-то такие слова шли:
Толчет, мелет,
По воду ходит...
Вода — на болоте,
Мука — не молота.
И с тем же местом у меня другая песня связалась. Опять
же несколько слов и, может быть, даже из того же стишка.
За рекой, сразу как перейти плотину, бор стоит. От бе-
рега лезут наверх многочисленные тропинки, они выводят
на большую трактовую дорогу. Канавы усыпаны хвоей и раз-
мыты. Одуряющие запахи голубики и можжевельника.
А если углубиться в лес, там среди липняка и сосен по-
падается черемуха, которую оплетает хмель. Я любил там
бывать и любил забираться в черемуховые заросли. И от че-
ремухи и от хмеля всегда у меня кружилась голова...
- 70 -
Может, потому и запомнил я так крепко его, вьющийся
этот хмель4
Хмель па тычинке —
На самой вершинке!
® КРЫЛЬЯ о
Мне не спалось, хотя давно уже была поздняя ночь.
Откуда-то со двора доносилось однообразное, однотонное
не то жужжание, не то журчание. Полуотворенное окно ды-
шало прохладой... Будто большие синие крылья невидимо
качались и гнали в окно новые струи воздуха.
Дождь начался еще на рассвете. Вчера, когда утром от-
крыл глаза, я испугался и сразу же понял, что проспал...
В избе однако ж было еще темно, и, только взглянув за
окно, я понял, почему я проспал. Радостное предощущение,
с которым я просыпался, исчезло.
На улице шел дождь, и, как видно, он шел давно уже.
Под окнами и посреди улицы стояли лужи... Повсюду, как
реки, клокотали ручейки. Настроение было у меня вконец
испорчено.
Нехотя натягивал я штаны. Не глядя в чашку, хлебал
молоко, мрачно накрошив в него хлеб. Надеялся еще, что
дождь перестанет и погода наладится.
Не утерпев, я пошел в сени. На стене в сенях, оклеен-
ная бумагой, висела модель самолета. Не без досады я взгля-
нул на нее. Моторчик, сделанный из резины от старой га-
лоши, опустился, провис...
Я лежал теперь и вспоминал, как я строил модель.
Как, когда другие ребята шли в лес, я оставался дома.
Строгал, пилил! Ничего не видел и не слышал...
Теперь эта моделька сиротливо и одиноко висела на
стене... Модель была простенькая — крыло да пропеллер, со-
единенный с хвостом модели резинкой, вырезанной из га-
лоши. Вот и вся конструкция. Однако потратил я на это целых
два дня. Вчера, когда все закончил, я сразу хотел испытать
модель. Но когда оклеил киль и стабилизатор и вышел во
двор, на крыльцо,—было уже совсем поздно, стемнело. При-
шлось отложить испытание до утра.
- 71 -
14 вот этот дождь теперь, как назло, целый день...
День тянулся тягуче и одноообразно. Я толкался во все
углы, без цели ходил по избе, пробовал заняться каким-
нибудь делом, но ничего у меня не получалось, все валилось
у меня из рук. Дождь все лил, и нечего было даже надеяться,
что он скоро перестанет, наоборот, он все усиливался.
В полдни заявился мой отец. Папа работал на колхозном
дворе, он был конюхом. С дождевика у него текло, он от-
фыркивался, отряхивался от холодной воды, от капель, бле-
стевших у него на щеках и на усах. Дождевик свой отец
снял еще в сенях...
Дождь все шел, постегивал, похлестывая землю... Тяже-
лые, большие капли стучали в стекло окна и по краю под-
ставленной под самое окно, давно уже полной бочки.
Не было надежды, что ливень этот в скором времени
прекратится.
Так я и заснул.
А утром, когда я проснулся, я увидел: в оба окна вхо-
дило в избу солнце... Я даже в окно выглядывать не стал.
Сразу бросился в сени, накручивать свою модель.
ЧЕЧЕН
Я ее потом видел, ту избу, в которой мы жили. Она
в несколько бревен. В нее и не пролезешь! Она вроде зем-
ляночки или тех времянок, что ставятся на охоте да на
пастбище...
Внизу, под окнами, под обрывом, текла река. Вода в реке
мне всегда казалась почему-то черной и темной. Особенно
черной была она вечерами, а также осенью, когда выпадал
снег и вода не успевала замерзнуть. Да и сами ночи тогда
становились темнее.
Я боялся в такое время смотреть на реку.
Как-то, в одну из таких ночей, мать моя качала зыбку,
в которой лежала сестренка, и, призывая ее угомонить-
ся, пела:
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал...
72
Помню, я долго не мог после этого заснуть.
Так все это и видел. Я еще не знал, что такое чечен,
но все так и представлял: и темную-темную ночь, и реку, и
как он, поднимая голову и держа в руке кинжал, выползает
из реки на покрытый снегом берег.
И как ползет, и как кинжал точит. Ползет и точит.
А бородка у него рыжая. Острая, рыжая.
Мне казалось, что чечен этот ползет на берег возле на-
шей избы.
Вскорости же,—или так кажется, что вскорости,—но я
и впрямь увидел этого чечена... Я встретил его в попавшей
мне в руки книжке стихов Маяковского, в сказке о дезер-
тире, убежавшем с фронта. В книжке был рисунок, сделан-
ный собственноручно Маяковским: в брешь, образовавшуюся
во фронте, лезет вражеский лазутчик. В папахе, с кинжа-
лом, только не рыжий, а черный и с усиками. То ли Колчак
это, то ли Врангель. Но для меня — все тот же чечен, что
точил свой кинжал и полз возле нашей избы на покрытый
снегом берег.
Это ведь из Лермонтова — из колыбельной... Там поми-
нается Терек... Когда война на Кавказе шла. Отец ребенка —
старый воин, сидит в секрете у реки, а чечен этот выходит...
Так для меня и остались в памяти: песня Лермонтова,
и стихи Маяковского, и крутой берег нашей черной реки
ночью.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• ГОЛУБОЙ РЕЛИКТ •
• И ПРОЧИЕ НАИВНЫЕ РАССКАЗЫ X
• •
• •
ВЕСНА
Зима — отступила.
Река, когда я подошел к ней впервые, разломанная, силь-
ная, гордо катила свои воды и дышала свободно. По ее
быстрине только изредка плыли тихие, разрозненные, не-
большие льдины-одиночки.
Поля лежали голые, вытаявшие. И поля, и леса, все об-
нажилось...
Все сошло, и река уже окончательно освободилась от
льда, кроме одной, стоявшей в тени ольхи, в берег уткнув-
шейся льдины.
Застряла только одна эта, последняя. Грязная, натоптан-
ная льдина. Она никак не хотела уходить...
В полдень вода в реке прибыла, и течение потянуло ее.
Она даже стронулась с места, но сразу же остановилась.
74 -
Река тащила ее, но она упиралась. Как видно, за что-то
зацепилась. Может быть, ее держала снизу осока или она
села на мель.
И тогда смотревшие ледоход люди стали помогать реке...
Всем хотелось толкнуть старую эту, застрявшую тут льдину.
Каждый действовал чем мог. Кто палкой. Кто багром.
А кто — обычной жердью.
Я тоже ее толкнул.
Не скоро, но нам удалось и раскачать и сдвинуть ее
с места.
Льдина медленно отворачивала от берега. Сначала ушла
под воду, потом всплыла. И, подхваченная течением, пошла.
Огромная, неповоротливая, она уходила на середину
реки.
Будто два берега разошлись и один стал удаляться.
• ОГОНЬКИ ©
В один весенний солнечный день мы были в прибреж-
ном приморском селенье и, когда шли по улице, вдруг уви-
дели синюю каплю... Для меня-то это знакомо, а те, что со
мною шли, ее еще никогда не видели.
Как же в первый раз ее я сам увидел?
Если не забыл я, в Истре это было. Весна бурная была,
все таяло уже. Таяли снега... Молодые тонкие согнутые
в дугу березки, приморозя к земле вершинки свои, еще не
распрямились.
Я шагал по дороге. Каждый день я ходил по ней, по
этой дороге.
Солнце склонялось все ниже, шло на закат... И вот тут
я вдруг увидел, как в кустарнике, в метрах десяти, засве-
тился маленький синий огонек. Как пылающий уголь.
Я стоял и не двигался с места. Прямо на глазах моих
уголек этот все разгорался. Из синего он превратился в зе-
леный, потом — в красный и — опять в синий. Все время ме-
нялся. Иногда почти уже потухал, но потом опять вспы-
хивал.
Я боялся спугнуть его, даже дыхание затаил, боялся,
чтобы этот непонятный огонек не исчез.
- 75 -
Потом, медленно ступая, не сводя глаз, шаг за шагом я
стал приближаться к кусту и осторожно раздвинул ветви.
Никакого огонька не было.
Я внимательно оглядывал каждый листок, каждую ветку,
но ничего так и не нашел... Только там, где горел этот ого-
нек, с кривого сучка свисала капля дождя... Обыкновенная
белая капля.
...Я в первый раз долго не хотел верить, что я и впрямь
видел эти волшебные огоньки.
Но после, в Березовке, опять наткнулся на нее, на эту
изумрудную и рубиновую, бриллиантовую меняющуюся кап-
лю. На этот раз в каком-то можжевеловом кусту. Так же,
как в первый раз, крадучись, я стал подбираться к ней.
Но это оказалась — капля смолы. Потом, в третий уже раз —
в лесах под Москвой, когда я собирал грибы...
Что это за огонек такой и что нужно, чтобы уви-
деть его?
Капли для этого недостаточно...
Для этого: 1 — нужно необходимое — удачное сочетание
тени и света; 2 — солнце должно быть яркое... и 3 — надо
смотреть против солнца — зайти к этой капле с противопо-
ложной от солнца стороны.
Только тогда этот огонек будет гореть.
...Не все его видят.
• ПТЕНЦЫ ВЫВОДЯТСЯ •
На другой же день, как я приехал в эти места, я пошел
в лес. Лес и тут, как это было в моем детстве, был за ре-
кой, на другом, крутом берегу. День стоял жаркий, и когда
переходил я мельничную плотину, до меня донесся ужа-'
сающе резкий крик ворон. Я вошел в лес, и крик этот был
настолько сильный, что прямо хоть уши зажимай...
Вороны раскричались. Вначале я подумал, что это перед
дождем. И лишь попав в лес, понял, что не в этом дело. Весь
этот гам оттого лишь, что вывелись молодые птенцы. Они
поднимают этот истошный крик.
И вправду — на каждой сосне было по нескольку гнезд,
одни выше, другие ниже. Надрывный вороний крик слы-
- 76 -
шалея много дней. Еще бы! В каждом гнезде кричало мно-
жество голодных ртов — птенцов, требовавших накормить
их. Но больше всего доказывавших, что они хотят пить.
День стоял жаркий, дышать было нечем. Разогретая хвоя
пахла смолой.
Едва я начал углубляться в лес, как стали попадаться
подбитые вороны. Под ногами, в траве, всюду — то в одном,
то в другом месте.
Я решил, что кто-нибудь стреляет их, балуется с ружьем.
Потом лишь сообразил, что это не так: молодые птенцы
сами вываливаются из гнезда. Они учатся летать.
В лес я вышел утром, а возвращался к обеду, и разбив-
шихся воронят на дороге под моими ногами было все
больше...
Прошло еще несколько дней — и никакого крику не ста-
ло, все смолкло. Все вывелись. Только кое-где еще валялись
разлетевшиеся вороньи перья. Одно я себе вдел в шляпу.
• МАЛЬЧИКИ •
Я никак понять не мог, с чего бы все ребята во дворе
вдруг начали строить. Я и забыл, что рядом с нашим дво-
ром, за стеной, неразобранная старая развалина. Еще с вой-
ны осталась. Иду вечером по двору, а по двору и пройти
нельзя. Везде кирпич, глина... Разор полный!
Ребята стенку какую-то кладут. Облепили ее, как му-
равьи. Может, дом у них получится, может, еще что...
И удивительней всего, что Лешка и Филька здесь. Два
самых драчливых на свете человека, мои соседи. Я их каж-
дый день разнимаю...
Не все даже знают о том, что они братья, так мало по-
хожи они друг на друга. Лешка такой красивый, аккурат-
ный. Страшно молчаливый. Он постарше Фильки. А Филь-
ка — длиннолицый, с пухлыми красными губами и с неиз-
менно мокрым, простуженным носом. Крикун и задира.
Дома в квартире их теперь и застать нельзя. Я уж при-
вык, что дома они по всякому поводу пускают в ход кулаки
и немилосердно колотят друг друга. А тут, смотрю, не де-
рутся, не разбивают сами себе носы.
- 77 -
Лешка наверх, на кладку влез, а Филька, он долговязый,
сумел и тут перехитрить и перерасти брата старшего — >
услужливо подает ему кирпичи.
Мигом забыли все обиды. Забросили игрушки и са-
мокаты.
Бабка им обед уже прямо на стройку приносит.
Особенно Филька меня поразил... О Лешке я не говорю.
Лешка всегда был трудолюбив, вечно ковырялся в песочке.
Ну, а от Фильки я этого не ожидал. Несмотря на драчли-
вый свой характер, он больше дома сидел.
А утром сегодня выхожу, а Филька этот, маленький, уже
во дворе... В такую рань. Я иду, а он с ведром и совком
стоит возле этой ихней кладки. Шмыгает своим красным
носом и говорит мне:
— Я — первый. Никого еще детей нет...
Так и сказал — детей.
Долго я не понимал, в чем дело: с чего бы у ребят та-
кой подъем?
А оказывается, экскаватор за стеной у нас вторую не-
делю копает...
» КРАБЫ •
Ах, эти мальчишки, живущие у моря! И те, что ловят
бычков в Стрелецкой бухте, и те, что облепили отдаленные
и ближние прибрежные камни...
Мальчишки Севастополя, Сухуми, Неаполя. Все равно
какие. Они везде одинаковы.
Намотав леску на палец, сидят они где-нибудь в Гагре
на скале. Надо любить море так, как любят они, чтобы це-
лыми днями простаивать с удочкой у пирса, чутко прислу-
шиваться к ее неверному дрожанию и возвращаться домой
с двумя бычками на шнурке.
...Я лез вверх по откосу. Было душно, жгло, и слепило
солнце, и, хотя я только что выкупался, подниматься стано-
вилось тяжело — каждый шаг давался мне с трудом.
Наконец я добрался до грани: обрыв кончился. Пахла
нагретая хвоя, звенела трава, в окружении зелени невдалеке
белели домики, начинался пригород.
Здесь, на самом гребне горы, у обрыва, росла сосна —
раскидистая, кривая.
- 78 -
В ее тени, под пригнувшейся веткой, стоял с поднятой
вверх головой парнишка.
Я не успел стереть пот со лба, как передо мной вместо
одного их оказалось двое. Второй, спустившийся как раз
в эту минуту с дерева, был в незастегнутой отцовской робе.
Весь как воронье яичко. Я думал сначала, что это он от
веснушек такой. Но потом увидел, что веснушек на его носу
было не больше, чем полагается. Так что дело и тут, оказы-
вается, не столько было в веснушках, сколько в смоле... Его
товарищ был маленький, с заботливой белой челочкой, а
он — босоногий, крепкий. С черной головой, со сросшимися
бровями.
В руках парня, свалившегося с дерева, был краб. Краб
был багровый. Краб был красный, розовый. Очень краси-
вый. Я до того только один раз видел такого краба.
Хотя помню, как я сам тоже пытался ловить крабов.
Стянув с себя брюки и укрыв свои пожитки на берегу»
сидел и разбирал омываемые прибоем камни. Иной раз мне
везло. Только отворачивал от скалы скользкую глыбу, как
из-под нее выскакивал краб. Он отплывал — боком, боком,
гребя клешней в сторону. Я хватал его рукой. Но вода моря
так обманчива, мои движения оказывались неверными.
Двух я все же поймал. Посадил их в стеклянную ба-
ночку с водой, а потом ходил всем показывал. Правда, эти
крабы не были столь большими. Это были мелкие крабы»
они были довольно невзрачные: серые, под цвет камня, ма-
ленькие. Но все равно я их ловил и боялся. Так щипнуть
может! Ведь и такой, маленький, еле видный крабик давит
ох как крепко.
Краб, которого держал парнишка, был большой, круп-
ный. И был он красный-красный. Пунцовый краб.
Я попросил уступить его мне.
Дружки переглянулись. Конопатый, с лицом в темных
пятнах смолы, тот, который лазил на сосну, поглядел на
своего товарища. Он ему что-то сказал, и они мне отказа-
ли... Затем они еще раз между собой посовещались и ска-
зали, что дадут мне другого краба.
— Где же вы возьмете? — с недоверием спросил я.
— А у нас еще есть, — ответил веснушчатый.
Его добрый белый брат, тот, что сам на дерево не ла-
зил, с усмешечкой поглядел на меня и пальцем указал вверх,
на сосну:
Там... Поглядите вот.
79 -
Крабы на сосне? Этого еще не хватало! Я ничего не
понимал. Хотя уже видел, что там пристроена какая-то до-
щечка.
Но паренек вместо ответа дал мне подержать краба.
Я взял краба. Он — пел!
Удивленно, с опаской я взглянул на руки свои. В моих
руках была чудесная тонкая вещь — живая музыкальная ко-
робочка.
Краб был полый, поэтому он весь звенел... Он не шеле-
стел даже. Нет, именно пел. Видимо, в него сочился воз-
дух, оттого-то и был он такой звучный. Гудящий краб.
Как же так это сделано?
Я вертел в руках волшебную маленькую игрушку и с
недоумением оглядывал ребят. Почему же он пустой? Ведь
крабы, которых я ловил сам, сгнивали на другой день. Пор-
тились. А этот целый был... Впрочем, я однажды видел уже
на рынке такого же пустого, позванивающего краба... Но
за него просили много денег.
Ребятишки только ухмылялись.
И все же, под большим секретом, я все узнал..
Ну конечно, все дело в доске! Я сразу должен был до-
гадаться.
Они их, этих крабов, ловят и с доской с этой лезут на
сосну. (Предварительно их варят: краб краснеет, когда его
кладут в кипяток.) Сначала варят, потом кладут на доску.
Потом — лезут на сосну.
Очень скоро про эту дощечку узнают муравьи. Муравьи
ведь живут не так, чтобы каждый муравей сам по себе.
Если один муравей узнал, то и все узнают.
И уже ползут один за другим муравьи. Ползут по од-
ному и тому же месту. Дорога целая прокладывается...
Скоро от краба остается один остов.
Получаются такие вот пустые крабовые коробки. Пре-
красная память о лете, о побережье... Память о Кавказе или
Крыме, об этой круглой и жесткой островной земле...
Не много нужно дней, чтобы от вашего краба остался
один только костяк.
Хитроумные эти ребята, мои новые знакомцы, когда
мне стало нужно уже уезжать, принесли мне в последний
день одного такого краба. Я его увез.
Они сказали мне, что муравьи выедают только больших,
или каменных, крабов. Маленьких же они съедают вместе
с панцирем. Так что от краба остаются одни дырочки.
- 80 -
МАЛЬЧИК НА ДЕЛЬФИНЕ
в
На чем можно проехать? На подножке трамвая. На
задке грузовика. На загривке у лошади.
Когда я был маленький, я ездил на козле.
А был один мальчик — он катался на дельфине верхом.
Я знал этого мальчика. Когда появлялся он на набереж-
ной, за ним толпа, как за Гагариным, шла...
Мальчик? На дельфине? Как же это может быть?
Да я думаю, что не он один и не он первый... Дельфи-
ны издавна дружат с человеком. Иначе бы откуда этот
миф о поэте, который так вот с моря приплыл однажды к
людям на дельфине?
Я даже слышал, как в каком-то море, когда тонул ко-
рабль, дельфин спас ребенка. Если верить многим и мно-
гим рассказам, дельфины спасали людей, терпевших кора-
блекрушение.
Правда, это было в те времена, когда человек и дель-
фин жили в дружбе, когда человек еще не убивал дельфи-
на... Но дельфин по сей день, как видно, помнит о своей
дружбе с человеком и верен ей.
Сколько раз было: купаешься в море, заплывешь по-
дальше, и дельфин уже рядом — боится, как бы ты не уто-
нул.
Дельфины очень заботливы. И не надо думать, что по-
добные этим случаи спасения могли происходить, когда по
морям ходили парусники и когда, отправляясь в плавание,
люди не брали спасательных кругов... Еще недавно боль-
шой дельфин-афалина в течение тридцати лет сопровождал
суда, направлявшиеся в Новую Зеландию.
Мне на всю жизнь запомнился слышанный мною в дет-
стве рассказ про одного дельфина и одного мальчика —
про мальчика и дельфина, любивших друг друга...
Однажды, когда этот мальчик и дельфин купались и иг-
рали друг с другом, дельфин по неосторожности ранил
мальчика. Задел его плавником.
Я даже позднее в Ленинграде видел такую скульптуру.
Испуганный дельфин со смертельно раненным мальчиком
на спине плывет к берегу. Мальчик лежит у дельфина на
спине, челка мальчика в зубах дельфина.
Меня поразил тоскующий глаз дельфина.
Возможно, это все легенды. Одно ясно — дельфины
смышленые и необыкновенно добрые существа. Даже ког-
- 81 -
да дельфинов убивают, дельфин в это не верит, он вни-
мательно смотрит на то, что делает человек.
Я не говорю уж об их удивительных странностях и, я
даже сказал бы, склонностях.
Однажды, лет десять назад, довелось мне переплывать
Керченский пролив. И вот когда на мачте вдруг взвыл ре-
продуктор, из-под кормы тотчас же стали высовываться
дельфины.
Слух у них очень хороший.
Я их впервые тогда увидел. Появлявшиеся над водой
их фантастические зыбкие спины. Крутые колеса! Черные.
Будто лакированные... Я стоял на палубе, следил за раско-
лыхавшимися волнами. Неожиданно над головой у меня из
подвешенного к рубке репродуктора раздалась музыка.
И тут же, сразу, из-под катера, отфыркиваясь, стали вы-
скакивать дельфины. Круглые и ловкие животные... Стадо
голов на пятьдесят было. Чуть корабль не потопили.
Музыку пришлось выключить.
Считается, что дельфины способны воспринимать че-
ловеческую речь. Тут бы многое можно было рассказать...
Иногда они даже наши слова повторяют. Я вот читал не-
давно, сейчас дельфинами ученые специально заниматься
стали... Записывают под водой их разговоры.
Но обо всем этом можно было бы не говорить, если бы
не этот случай, если бы не этот купавшийся в бухте в южном
море голенький мальчишка.
Не все, может, поняли, что произошло... Он и сам,
наверно, одуматься не успел, как очутился верхом на дель-
фине, и тот несет уже его в море.
Вот что произошло...
Этот малый вместе со своими дружками бултыхался
в море, у берега. На минуту он почувствовал под собою
ускользавшее тело черного дельфина. Смотрят все кругом
и не понимают, что же такое там... Как глиссер... Вместо
того чтоб ему поглубже нырнуть и тем отделаться от не-
прошено вцепившегося в него седока, дельфин взял на-
правление прямо в море.
Быть может, смышленый и добрый дельфин и сам ис-
пугался, а может, он и увезти хотел... Ведь бывали же и в
прежние времена случаи, когда детей, которых они так лю-
бят, дельфины увозили в море. Ребенок ведь не понимает,
а он его увозит.
- 82 -
Правда, и дельфин, может, того сам тоже не пони-
мает...
Дельфин на всю жизнь остается ребенком.
Когда мальчик увидел, что дельфин уносит его в от-
крытое море, он отцепился.
Говорят, удалось заснять его, дурного этого дельфина
с мальчиком на спине...
Это дело нешуточное — промчаться верхом на дельфи-
не. Дельфин может быть и добрым и ласковым, но это жи-
вотное бешеной силы. Попробуй-ка вскочить на него! Он
так тебя понесет! Это тебе не на козла! На козле и то
страшно.
Когда дельфин как сумасшедший принимается кружить-
ся вокруг лодки, и то становится не по себе...
Чем мне так дорог этот рассказ?
Там, у себя в лесу, в деревне, я на дельфине не катал-
ся. Я даже толком не знал, какие они, дельфины. Но право
же, этот пролетающий на дельфине с поднятой головой
мальчик — такой прямой пример удальства... Как на кос-
мическом корабле летел!
Для меня это как детская мечта. Как само мое детство.
Потому что, хотя я на дельфине и не катался, но и я
всегда хотел быть таким. Лететь навстречу опасности...
Как этот мальчик, который не испугался. Мальчик на дель-
фине.
© ГОЛУБОЙ РЕЛИКТ •
К нам в Крым издалека, из Сибири, приехала девочка
гостья. Всегда, когда кто-нибудь приезжает, мы стремимся
показать все, что можно. Так и на этот раз: на другой же
день отправились мы с ней на Южный берег.
Я сам решил ехать: известно, что нет большего удоволь-
ствия, как показывать знакомые и любимые места...
Вот и мы поехали. И до перевала еще не добрались, как
я уже вошел в роль экскурсовода, показывал и на то и на это.
И все это так, с таким гордым видом, будто все это я сам по
меньшей мере создал. И эти горы, и деревья, и скалы. И хоть
тыщу раз, может, все это видел, но уже и сам жадно глядел
на знакомую дорогу.
- 83 -
И только мы сошли с автобуса и очутились на берегу
моря, гостья моя — ей лет десять было — подняла голову и
куда-то пальцем вверх показала:
— Что это?
Показывает она на невысокое крепкое дерево с круглой,
почти шаровидной кроной. Листья очень большие. Вернее,
это и не листья даже, а огромные зеленые лопухи. А всего
удивительнее плод — белые сверкающие стаканчики; малень-
кая такая пенящаяся чашечка в зелени лопухов.
— Это, — отвечаю я ей, — сливочное мороженое.
Она так удивилась, взглянула, не зная, как понимать то,
что я ей говорю. «Разве может быть?»
Я говорю тогда:
— Это самое лучшее сливочное мороженое, какое может
быть. Всегда растет так. Если его сейчас сорвать, оно холод-
ное-холодное. Какая бы жара ни была, оно всегда холодное...
— А достать нельзя? — она спрашивает.
— Нет, достать нельзя,—говорю.—Ругать будут.
Мы так прошли еще немного.
— А это, — показываю на куст с маленькими черными и
синими ягодами, — это чернильная ягода. Из которой чернила
делают...
Она опять смущенно на меня посмотрела, опять не зная,
как верить мне.
— Да, да, — говорю я, — это из него как раз, из этого де-
рева, чернила делаются, которыми вы пишете...
Кивнула головой. Потрогала одну ягоду. И правда чер-
нильные — пальчик весь запачкала.
Возил я ее, возил. Все ей было интересно...
— Где я — в Ялте или Алупке? — спрашивала она иногда
меня.
Наконец мы пришли в Воронцовский парк. Парк, как из-
вестно, огромный, старинный. Очень тенистый. Сквозь него
даже крымское солнце не проникает. Всегда в нем держится
на земле тень под деревьями.
Опять спрашивает моя девочка:
— Что за дерево такое?
И показывает на дерево — неровное, с коричневой потре-
скавшейся корой.
А дерево и впрямь любопытное. Оно такое, как стрела.
Внизу оно толстое, массивное, а вверх идет клином.
— Это, — говорю, — мамонтово дерево. Разве ты никогда
не слышала?
- 84 -
Она опять удивилась: «Как так?» Ни капельки мне не
верит.
А это такая ель... И похожа на ель, только громадная.
Во много раз больше. Дерево как дерево, да не совсем обык-
новенное. Непонятное в нем есть что-то: оно и хвойное и
лиственное. И не то и не другое. Какие-то зубчики, голубо-
ватые и странные. Как у какой-нибудь древней рыбы.
— Эти деревья,—говорю я самоуверенно,—жили еще
тогда, когда человека на земле не было, а бродили динозавры
и бронтозавры, ящеры всякие... И росли такие вот деревья.
Триста метров высоты... Те животные давно уже вымерли, а
деревья остались. Одно только это дерево осталось. Реликт
называется.
Долго я еще ей так сочинял...
У него, говорю, и хвоя не такая, как у всех. Это на вид
только как будто хвоя, а в действительности это чешуйки
такие...
Много мы в тот день ездили и много интересного видели.
Конечно, что касается сливочного мороженого и этих
кустиков, из которых чернила делают, я это придумал. А все,
что про голубой реликт, все правда.
Мы привезли домой шишку этой необыкновенной ели.
• ВОВКА ПРИЕХАЛ •
В одном южном селе живет у меня маленький племян-
ник. Очень хороший, умный, но довольно упрямый парнишка.
Его зовут Вовкой. Целый день он играет где-нибудь в углу
двора, возле своего дома. Всегда один и всегда молча.
Этим летом Вовка с отцом приехал в Москву. С вокзала
мы взяли такси и поехали к нам, на Ленинские горы. Вовку
мы нарочно посадили рядом с водителем, впереди, чтобы
лучше видел. Спрашиваю я, нравится ли ему Москва. Он сна-
чала промолчал, вроде как раздумывал, отвечать ли ему, по-
том сказал, что дома маленькие. Но в это время как раз при-
ехали мы в район, где дома восьмиэтажные и выше. Тут уж
и он не мог сказать, что они маленькие.
Подъехали к шестнадцатиэтажному нашему дому и под-
нялись на наш тринадцатый этаж... Сразу же я подвел Вовку
- 85 -
к окну. С высоты Воробьевых гор и с высоты дома — как из
самолета — видна вся Москва. Вовка внимательно-долго гля-
дел. Потом улыбнулся, ничего не сказал. Пошел осматривать
квартиру, крутил краны и проверял отопление. Потом мылся
в ванной, плескался и только ухмылялся про себя...
Назавтра Вовке показывали Москву. Вернулся он уста-
лый. Я ждал от него рассказов о впечатлениях, но он молчал.
И я не выдержал — спросил, что он видел, был ли он в
Кремле.
— А, ничего, — протянул разочарованно Вовка.
— Как так ничего! — удивленно вскричал я.—А Царь-
пушку разве не видел?
— Видел...
— Так что же ты! Царь-колокол видел?
Да, он видел и Царь-колокол.
— Понравилось? — спросил я у него нетерпеливо.—
Правда, какой большой?
— Да-а,—сказал он, глотая слезы,—угол один отбит...
И тогда я понял, что Вовку ничем не прошибешь.
И еще я вспомнил, что я и сам был таким...
ДЯДЕНЬКА ДОСТАНЬ
Я только-только приехал на Кавказ и ничего еще здесь
не знал и не видел. Первый раз приехал.
День выдался жаркий, и все вокруг было раскалено. Что-
бы мне не идти по солнцепеку, я держался за деревьями, ста-
рался идти, прячась в тени.
На пути моем, на тротуаре, — я не сразу разглядел его,—
лежал маленький толстый голыш. Я чуть было не наступил
на него. Он поднял вверх голову и взглянул на меня.
— Дядя, — сказал он, уставя в меня свои голубые глаза,—
достань мне мушмулу.
Я никогда еще не ел мушмулы и даже не знал, что это
такое. Поэтому я наклонился и спрашиваю его глупо:
— Мушмулу? Какую тебе, зачем?
Он поднял на меня свои удивленные глаза:
.— Чтобы я кушал...
- 86 -
Смотрю я, над головой у меня какие-то плоды. Неболь-
шие и желтые.
Ну как откажешь! Боязливо оглядываюсь на хозяйские
окна. Подскакиваю и нагибаю ветку.
— И Тане, — сказал он, когда я подал ему маленькую не-
зрелую ягодку.
А ну тебя, парень! Я из-за тебя на обед опоздаю... А глав-
ное же — каждую минуту на окна поглядываю... Хозяина
боюсь.
Хотя опасность и велика, лезу еще раз, чтобы и Тане
сорвать... Где же она? Я не сразу ее увидел... Стоит, такая ма-
ленькая, тут же, возле заборчика. Руки за спину прячет...
Дал я этой Тане и хотел уже идти, а малыш все с той же
своей улыбкой говорит мне:
— Еще...
Что за ребенок такой! Я давай скорей убегать...
И выждал ведь! И к тем, что ростом были поменьше,— не
обращался.
Сидел выжидал — пока я подойду.
ГРИБЫ-ЯГОДЫ
После обеда отправились мы с девочкой нашей, с Ва-
ленькой, в лес. Идет моя Валенька и в руках корзину несет,
обеими руками ее держит.
Пахнет лесом, летом. У дороги брусники гладкие листки.
Цветы. Солнце.
А в лес вошли — сосной и земляникой пахнет, смолой
разогретой. Чайным листом...
Одуряющие запахи!
Лиловая морошка зреет, и белки по соснам прыгают.
Скоро нам и грибы стали встречаться. Сначала подорож-
ник попался, твердый такой, что ногой нельзя раздавить. По-
том бычок и несколько синявок. А Валенька идет озабочен-
ная. Ей ничего не попадается. Тащит свою корзину, а кор-
зина больше нее...
Идет-идет и назад оглянется. Тащит она свою громозд-
кую корзину и ягодки собирает. А ягодки в это время извест-
87 -
но какие — земляника. И опять, смотрю, нет-нет да и огля-
нется назад. Сорвет земляничинку и оглянется.
— Что ты? — спрашиваю.
— Медведя боюсь...
— Здесь медведей нет, — говорю.
Не верит.
Стал я говорить, как это глупо — медведей бояться. Ну
что он, медведь, может сделать! Медведей в этих местах
давно и нет. Если бы даже медведь нас увидел, он бы первый
от нас убежал. Зачем ему Валенька? Он малиной питается.
И очень любит муравьев! Сунет лапу в муравьиную кучу и
облизывает.
Конечно, в прежние времена и медведей было больше.
И лесу. Когда жив был мой дед и сам я еще без штанов бе-
гал, этот самый лес прямо к дому подступал. Боялись далеко
отходить от избы. Тут липняк был, густой. Сколько раз
было — уйдет человек, а обратно дорогу отыскать не может.
Девочка однажды одна потерялась. Выйти не могла. За-
игралась она, мы вокруг избы в прятки играли. Отбежала и
не вернулась. На другой год уж нашли. Под хворостом...
Топтыгин всегда так делает. Хворостом завалит тебя и
уйдет.
Мне так всегда говорили: «Смотри, медведь задерет...»
Но я этого ничего Валеньке не рассказываю. А то домой
запросится.
Грибов, как нарочно, все больше попадаться стало.
У меня уже корзина полная — красный подосиновик, не-
сколько маслят, рыжики, валуи. Потом и белый пошел. Толь-
ко Валя моя никак ничего найти не может. Она все больше
корзину таскала. Ее увлекла земляника.
Гриб ведь надо искать. Грибы прячутся. Гриб, моя ми-
лая, это не ягоды. Гриб — всегда находка. Найти гриб — все-
гда событие. Гриб надо высмотреть. В самом деле: идешь,
идешь — и вдруг белый гриб. На поляне, на виду... Он все-
гда на виду, когда его найдешь. А вроде бы только прошел.
И ничего не было.
Всегда это так неожиданно, врасплох. Это как игра ка-
кая. Прошел — его не было, а вернулся — он появился.
Поляна за поляной, каждое дерево обходишь. Ничего.
И вдруг — еще одно дерево обошел, а они тут и есть. Прямо
перед тобой.
Гриб, говорят, будто бы за семь минут вырастает. Наду-
вается, надувается, и раз — вырос. Будто вспыхивает...
- 88 -
Валя уставать уже начала. Идет, нога за ногу заплетает,
за пенечки запинается. Да и солнце припекает.
А тут как раз место чистое, выкошенная полянка попа-
лась. И Валя что-то мне из-за березки кричит, голрс подает.
Гриб, оказывается, нашла. «Что такое я нашла?..»
А это обабок у нее в руке. Так подберезовики у нас на-
зывают. Грибок мягкий, на высокой, длинной ножке. Стоит,
шляпчонку надвинув.
— Хороший? — спрашивает девочка.
— Хороший, — говорю. — Клади в корзину.
Очень она обрадовалась. Еще бы — сама гриб нашла.
Слышу, уже даже поет за березами. Идет и весело пригова-
ривает:
Гриб обабок — корень набок!
Скачет она на одной ножке — рада, что сочинила.
После этого у нее и пошло. Раньше ничего не видела, а
тут открылось ей — стала находить один гриб за другим...
С грибами всегда так: ходишь, ходишь — ничего не на-
ходишь. А только один гриб нашел — тут тебе они и начнут
попадаться.
Приободрилась Валенька. Про ягоду забыла. Ходит и в
корзину мою заглядывает; смотрит, сколько грибов там,—хо-
чется ей меня обогнать. И домой не просится, и комары ее
не кусают. Тишина такая кругом. Солнышко.
Совсем, гляжу, осмелела. Наклоняется за земляничинкой,
размахивает корзинкой и задорно так, с вызовом поет:
У медведя на бору
Грибы-ягоды беру...
Поет, поет и оглядывается. Ведь медведи и вправду лю-
дей задирают.
ВЫМОРОЗОК
Всю зиму он так по этой тропе и ходил, от дома до кир-
пичных красных ворот. Точнее было бы сказать, что его во-
дили, потому что сзади шла нянька.
- 89 -
Я уж думал, что это его наказывают...
Помню, как я удивился, в самый первый раз встретив его
на улице,—зима в тот год была довольно суровой. Я едва
успел сойти с поезда, только-только приехал. Я уже не шел,
а бежал, спрятав нос в воротник старой собачьей дохи. От
холода у меня даже коленки сводило. Тут-то я и заметил его
у себя на тропе, под ногами. И тотчас уступил ему дорогу.
Маленький, краснолицый, похожий на бодливого бычка,
он сердито прошел мимо меня. Прошел так, что даже брови
сдвинул.
Нос у него был пуговкой.
На другой же день я спросил у няньки — она стояла на
крыльце и, как видно, очень мерзла, — спросил, что происхо-
дит: за что его держат на улице? Оказывается, так и надо,
нужно, чтобы он так вот ходил... Дома он часто болеет. И вот
его отправили из Москвы сюда, в эту деревню.
Каждый день я теперь сталкивался с ним на нашей тропе.
В самую лютую стужу, когда мы сидели по домам, не
смея даже высунуться за дверь, он по протоптанной, узкой,
утонувшей в снегу тропинке, большелобый, толстенький, под-
вязанный красным кушачком, закутанный в стеганую поддев-
ку, расхаживал преспокойно со своей лопаточкой.
Кажется, на морозе положено было его держать часов
десять.
Он так привык быть на холоде, что дома, в комнате, он
жить уже не мог. Как только с ним приходили в дом и он
оказывался в тепле, он начинал плакать. Оттаивал и начинал
плакать.
Так что на морозе надо было держать его круглые сутки.
Один раз я выезжал в Москву рано и встал еще до света
и думал, что его еще нет, но, когда я вышел на крыльцо, его
уже выводили.
Так он всю зиму и прожил на улице... Забрать домой его
было почти невозможно.
Он уже красный был весь. Весь, как стручок перца,
красный...
Всегда ходил по одной и той же тропинке и всегда дер-
жал в руках эту свою лопаточку. Обморозившаяся нянька
все чаще убегала греться.
Посмеиваясь, мы говорили, что по утрам, когда он вста-
ет, еще, чего доброго, его садят в ведро со льдом.
Пришла весна, и нашего парня от нас увезли, и скоро
мы даже забыли о нем. Но как же мы были удивлены, когда
- 90 -
на другой год вместо этого толстощекого здоровяка привезли
другого ребенка — бледную, хилую девочку.
Она шла по той же тропинке, в сопровождении той же
няни.
• СМЕШНАЯ БЕЛКА •
Все вокруг завалил снег. И на деревьях, и на крышах —
всюду его было много, всюду было бело... А тут еще ночью
свежего подсыпало.
Я возвращался из Москвы. Мы шли вдвоем, заново про-
миная тропинку. День был свежий, тихий, морозный. Сол-
нышко хоть и светило, но было слабое и тусклое. Всегда в
эти минуты не знаешь, то ли оно есть, то ли его нет. И ти-
шина была неслыханной, огромной, какой она вот единст-
венно в такой мороз и бывает.
Мне показалось, что с одной сосны вроде бы сыплется..я
Что там ни говори, но странно это при такой тишине. Двести
сосен вокруг, и нигде ничего не сыплется, а с этой вдруг
сыплется. Мы поглядели, поглядели, но так ничего и не уви-
дели.
Немного прошли еще и свернули к дому. Спутник мой,
смотрю,—он шел впереди,—что-то мне показывает... У ка-
литки, сразу за воротами, прямо в снегу белка красная. Хвост
черный, а сама рыжая, маленькая...
В ту же секунду она, как только увидела, что мы на нее
смотрим, на дереве оказалась. Подскочила... Но не высоко
так. Цепляется за кору коготками и оглядывается на нас.
Мы подбежали к ней, проваливаясь в снег, в канаву. Она
еще повыше поднялась. Ненамного. Непуганые белки!..
Охватила сосну лапками и висит. Вниз на нас смотрит*
Потом уж, когда палкой стучать стали, она взлетела вверх.
Мы ее начали гонять, а она знай прыгает по соснам,
с одной ветки на другую... Тишина вокруг, безмолвие, ни
один сучок не шевельнется, и одна только эта, среди белого
снега и зеленого леса, кувыркающаяся в засыпанных снегом
ветвях белка... И, что странно, все вблизи двора держится...
Кружит... Дошла до угла забора — и обратно во двор. Тут
мальчишки как раз шли по дороге, из школы возвращались.
Мы их позвали.
- 91
— Ребята, хотите белку поглядеть?
Им, конечно, интересно! А они отмахнулись: подумаешь,
мол, что мы, не видели?.. Она тут живет, на башне... Их там
много.
Да, во дворе у нас водонапорная башня, кирпичная.
Прямо в соснах, в самой густоте, в зелени краснеет; даже
чуть выше этих сосен. Мы когда подошли ближе и взглянули
вверх, там, на стене башни, — под крышей, под карнизом,—
этих рыжих белок как муравьев...
Мы вернулись на тропу. Те равнодушные мальчишки
ушли, и белки нашей тоже не было. Она, видно, скрыто до-
бралась до своего гнезда, под крышу башни...
И тут только мы вспомнили и удивились, что белка такая
неправильная. Красная. Теперь мы даже удивились тому, что
не сразу обратили внимание на это.
В самом деле, почему же не серебристая, не серенькая,
почему она не вылиняла? Ведь пора бы! Давно уже середина
зимы. Выходит, что даже на зиму белки, живущие в этой кир-
пичной красной башне, в отличие от тех, что живут в лесах,
остаются красными...
• ПРО КЛЕСТА •
Зима выдалась холодная, а два или три дня даже держал-
ся большой мороз. Но и в такие дни я ходил на лыжах. Я да-
же зашел дальше, чем всегда, и, возвращаясь, к тому же за-
блудился. Попал в самую глушь леса.
А мороз и вправду был сильный. Рот пришлось зажимать
рукавицей. Хорошо еще, что колея была старая, натоптан-
ная... Через недолгое время я выбрался на прежнюю дорогу,
на свою прежнюю, знакомую колею. Снег скрипел, лыжи хо-
рошо скользили. Я шел и шел под навесом длинных низких
веток. И вдруг я увидел, как впереди что-то тихо перелетело
с одной ели на другую. Я тотчас придержал лыжи и вглядел-
ся: внизу, на темной коре, у самого комля, сидела какая-то
серая птица. Как дятел, держалась за дерево. Стоймя.
Я взмахнул лыжной палкой, чтобы ее спугнуть, но она
не улетела. Я подумал: «Замерзает она, что ли?» И, переки-
нувшись с лыжами ближе к дереву, как можно осторожнее
сгреб птичку. Захватил ее на стволе.
- 92 -
Она и не пыталась улететь: как видно, совсем замерзла.
Я сначала ее держал в руках, палки пришлось мне взять
под мышку. Но идти долго так я не мог, руки у меня мерзли.
Я посадил было птицу за пазуху, но едва только я пошел впе-
ред, как испугался и остановился, — боялся, что задушу.
Тогда, сняв с себя шарф, я закутал ее. Но и так идти
было неудобно; и тогда по-другому сделал. Снял с головы
шапку, шарф надел на голову, а птичку посадил в шапку.
Шапку привязал тесемками за пуговицы, сунул руки в
карманы и так пришел домой.
Шел и все думал: что за птицу я такую везу? Почему
она не летает?
Хотя птичка была довольно большой, мне показалось,
что это птенец. Ножки тоненькие-тоненькие. И желтые.
И коготки узкие, длинные... Но откуда же зимой-то ему
взяться! Зима — и птенец. Зимой вроде бы птенцов не бы-
вает. И решил, что во всем этом надо разобраться...
Пришел я домой. Шапку с птицей положил на кровать,
сам стал раздеваться.
Но едва положил на кровать шапку, как птица оказалась
на стене. Странная какая птица! В тот же миг перескочила
на ковер над кроватью.
И сразу забарабанила, сразу стала долбить стену. До-
вольно сильно застучала.
Клюв у нее был тонкий, кривой. Белое такое шильце.
Вот же голова! Живу рядом с лесом, а ничего не знаю.
Что такое я притащил? Смешное что-то... Должно быть,
недавно родившееся. Похоже все-таки, что птенец! Но от-
куда же зимой, в конце февраля? Из гнезда, что ли, он выва-
лился?
Совсем беспомощный... Взрослый и не замерз бы! Конеч-
но же это птенец, растрепанный, пухлый, но почему же зи-
мой?! Так я сидел и рассуждал. Какой же детеныш зимой?..
Я попробовал было дать ему простокваши, но он ничего
не ел.
Это лишний раз только убедило меня в том, насколько он
мал и беспомощен.
Я уже себя ругал, что унес его от гнезда.
Заранее принялся создавать ему обстановку: сунул ело-
вую веточку за ковер, чтобы ему было за что держаться, легче
сидеть. И чтоб было как в лесу!
Но птенец мой ничего не ел, на ветке сидеть не стал да
и за ковер держался слабо.
- 93 -
Я уж хотел было тащить обратно. Надо же было сделать
так неосмотрительно: взялся спасать птицу, не зная о ней ре-
шительно ничего, и унес ее от матери.
Я бы, наверно, так и поступил, но довольно быстро, че-
рез час после того, как я его принес, он вовсе отцепился от
ковра... Он еще был жив и сидел на кровати, но через час я
уже вынес его и положил в коробке под елку в снег. Он
умер.
Я хотел ведь сделать как лучше, хотел помочь ему..ч
И вот как неладно получилось...
А это клёст был! Я все узнал позднее в книжке, в кален-
даре прочел, и сразу понял, что это клёст был. «Клесты-ело-
вики — «беличья птица» — помогают белке добывать корм.
Они сбрасывают шишки... Если зимой клесты поют и весело
дерутся на вершинах елей, к осени надо ждать урожая белки».
Клесты, оказывается, и вправду выводятся в феврале, в самый
лютый мороз. Вот что сказано в том же календаре: «Февраль.
У клестов в это суровое время выводятся птенцы». Так что
это птенец был и самый настоящий клёст! Вот так<
И мороз никакой ему не страшен.
А я-то с улицы нес его в тепло.
А ведь слышал когда-то, слышал, что клёст и белка со-
дружествуют. Клёст среди зимы набивает белке шишки, а
белка тащит в дупло зерна...
Не надо мне было его спасать^
МИШКА
Я почему-то кошек не люблю. Да я и не любил их нико-
гда. Если в чужом доме вскакивала ко мне на колени кошка,
мне было не по себе. С детства еще я невзлюбил их. Собак,
тех ничего, а кошек терпеть не могу. Но так вышло, что я с
год, наверно, не мог забыть одного котенка. Еще он и выра-
сти не успел...
Снимал я в то время комнату в Подмосковье. В летней
даче, где и печей-то не было. Но я ждал, нам обещали, вот-
вот должны были дать квартиру, и не съезжал. Керосинкой
обогревался.
Наконец долгожданный сигнал о вселении был получен.
- 94 -
Мы уже тронулись, когда из дома выскочила женщина и
сунула нам котеночка.
— Без котенка нельзя, — сказала она.
Мы не знали этого. Забыли, что прежде чем войти в но-
вое жилище, надо пустить в него кошку.
Котеночек был крохотный. Я видел его и раньше, в кори-
доре, их было в гнезде немало, таких маленьких: кошка ро-
дила неделю назад. Проходя мимо, всякий раз заглядывал за
лестницу, и всякий раз кошка шипела и бросалась на меня...
Он еще ничего не понимал, даже, кажется, и не видел.
Я посадил его за пазуху, под пиджак, и, пока доехали до
Москвы, он и через рубашку сильно поцарапал меня.
Мы назвали котенка Мишкой, хотя даже потом, когда он
подрос, он не походил на медведя. Через денек-другой после
того, как мы вселились, мы поняли, что рано взяли его от ма-
тери, что Мишка не просто мал, но и совершенно беспо-
мощен.
Я подставлял ему молоко, а он на него даже и не глядел.
Он еще не умел лакать. Я думал, он научится, но прошло дня
два, а он так и не прикоснулся к блюдечку, к молоку. Я не
спал ночь, но утром я придумал: отправился в аптеку, купил
обыкновенную капельницу — пипетку. Я разжимал Мишке
рот и давал ему молоко. Хотя ему было трудно, он поне-
многу глотал.
Он долго еще не умел питаться самостоятельно, и мне
пришлось повозиться с ним. И надо сказать, что Мишка по-
том за все отплатил мне самой нежной привязанностью...
Прошло еще несколько дней, и оказалось, что у Мишки
что-то с животом случилось. Мишка стал вялым, лежал, не
бегал. Животик у него сделался толстым, твердым, и я боял-
ся, что он умрет.
Но и эту беду мы преодолели, помогли Мишке... Скоро
дела у него поправились, и он воспрял духом, забегал. Сразу
стал ласковым.
Только не наладились отношения у Мишки с кошкой со-
седей, с той, что жила в одной квартире. У этой кошки были
зеленющие злые глаза, и Мишка ее сразу невзлюбил. Мы за-
метили это и решили, что Мишке нашему худо придется. Но
наш котенок повел себя так храбро, что кошка стала боять-
ся его. Мы один раз даже видели, как позорно она убегала.
Большая злая кошка от маленького Мишки... Мы и не знали,
что Мишка такой отчаянный.
- 95 -
После того Мишке стоило только появиться на кухне,
как она мгновенно исчезала.
Он удивительно понятливый был! Скажешь ему одно
ласковое слово, и он уж лезет на колени и норовит добрать-
ся до лица, до шеи. Так же понятлив был, если в чем-нибудь
упрекали. Стоило сказать: «Ай-яй-яй, как нехорошо! Не-
хорошо, Мишка...» — и он принимался бегать по комнате
или носиться кругами по дивану, по ковру. От смущения.
При этом издавал своими коготками этакие щелкающие
звуки...
Спал Мишка чаще со мной, а если засыпал отдельно, то
утром он все равно оказывался внизу, подо мною... Днем я
иной раз любил прилечь, и Мишка меня охранял. Он при-
страивался на затылке у меня и лежал, мурлыкал. Но если я
засыпал, он лежал тихо, не шевелясь...
Еще одна неприятность у нас вышла. Я заметил, что
Мишка на животе своем начал выкусывать блох. Я поглядел,
что у него там, и увидел, что блохи его прямо-таки заедают.
Где он их столько набрал? Вроде такой маленький, чистень-
кий! Сколько сам он ни пытался от них избавиться, ничего у
него не получалось.
Тогда я решил помочь Мишке и вымыть его.
Он царапал меня, боялся, но все-таки я намылил его и
выкупал.
После этого Мишка мой захворал... Я не знал, что котят
маленьких не купают, что они погибают от этого. Не выдер-
живают.
Мишке плохо было, он лежал в своем углу и не поднимал
головы. Очень я себя ругал...
Но Мишка и тут одолел, выкарабкался и из этой беды.
Скоро мы даже стали с ним выходить на улицу. Тепло
уже было, трава вовсю зеленела. Я оставлял Мишку на
газоне. Он долго бродил, пытался выбраться из высокой
травы и не знал, куда идти. И таким он в эту минуту бывал
беспомощным, что мне сразу становилось его жалко и я не
выдерживал, подавал голос, звал его к себе. Так он был рад,
когда преодолевал эту страшную густую траву и видел
меня...
Мишка подрос, но все еще был мал. Он серенький весь
был. Только животик белый. И мордочка у него была смеш-
ная: одна сторона серая, а другая белая совсем. Сам он, ко-
нечно, не знал этого. Не знал, что он такой смешной, неоди-
наковый.
- 96 -
Вздумалось Мишке затеять нехорошую одну шутку: он
взялся выбегать на лестничную клетку. Первый раз, когда
он убежал, я его поймал. Ему понравилось, он воспринял
это так, что с ним играют. После того началось... Стоило
открыть дверь, Мишка выскакивал, и приходилось за ним
гнаться.
Он оглядывался, прыгал по ступенькам... Один раз я
поймал его на пятом этаже.
Прошел день, и он опять выскочил. У меня сидел гость, и
я сразу за Мишкой не погнался. Решил, что придет сам...
Но на сердце было неспокойно. Когда я вышел на лест-
ничную клетку, Мишки не было. Поднялся этажом выше, но
и здесь его не нашел. Я забеспокоился и спустился вниз,
до первого этажа. Никого. Опять полез наверх, до девятого...
Даже забрался на чердак. С полчаса ходил я там, в каждую
щель заглядывал. Разыскивал Мишку во дворе, но нигде его
не было.
Не появился Мишка и на другое утро, хотя я надеялся,
что он придет.
Снова я отправился на поиски. Исходил весь наш район,
заглядывал под бревна, под доски. Повсюду вокруг домов еще
был сложен строительный материал. Я заглядывал под шта-
беля досок и видел: там горели десятки зеленоватых голод-
ных глаз... Те самые кошки и котята, которых брали для но-
воселья... Ведь одновременно заселялось много новых домов,
весь район был новый.
Было их жаль.
Вечером, пересекая один газон, где траву успели скосить,
я спугнул котенка. И, хотя темно было, мне показалось, что
это Мишка. Но котенок так был напуган улицей, что не под-
пустил и близко. Даже не разобрав, кто его зовет, он мет-
нулся в сторону. Когда же я побежал за ним, он пересек
трамвайную линию и затерялся на другой стороне улицы...
Я еще дня два искал...
Мишка исчез.
Долго еще раздавались у нас в передней звонки, и дети
нам показывали разных котят и спрашивали, не наш ли это.
Одного и того же котенка они приносили по нескольку раз.
Но даже отдаленно не были они похожи...
Глупый Мишка: он думал, я за ним сразу погонюсь, по-
бегу... Потому он и выскочил. А потом, когда он хотел вер-
нуться, не узнал, а может быть, и не нашел дверь. Они ведь
теперь все одинаковые...
4 В. Субботин
- 97 -
РАССКАЗ СОСЕДА
Как-то, в детстве еще, я слышал, как одного человека
змея преследовала. Конечно, много и чепухи рассказывают,
но кто знает...
Известно, что в деревне мужики ходят покурить друг к
другу. Чего только не говорят! Я совсем еще был мал, когда
я услышал это, но запало в память.
Человек этот шел куда-то... Не помню, кто он был. Стран-
ник, что ли, какой. Или путник обыкновенный, прохожий...
Раньше много ходили. С узелком, с палочкой.
Летним днем шел этот человек по дороге. Он, видимо,
устал и решил отдохнуть. Сел под дерево, посидел и опять
пошел. Оглядывается, и что же видит: по его пятам змея пол-
зет... По колее. Голову подняла.
Он испугался, давай бежать от нее. Бежит, оглядывается,
а змея не отстает. Оглянется, — а она ползет, оглянется, — а
она ползет. Смотрит ему в затылок и ползет, ползет, торопит-
ся. Он обомлел.
Он остановится — и змея поглядит на него и остановится.
Он прибавит шагу — и змея прибавит, не отстает от него...
Совсем близко, правда, не подползает, но и убежать от нее
нельзя.
Как он ни спешит, как он ни торопится, никак он не мо-
жет избавиться от нее. Ему даже жарко стало. Он даже шля-
пу свою войлочную снял. Взмок весь.
Змея дошла до этого места и дальше не поползла.
Помню, я даже замер, слушая это...
Оказалось вот что. Когда этот дядька сидел под де-
ревом, змея уронила на него свои змеиные яйца. Сверху на
шляпу ему уронила. Или он сам их стряхнул с веток, на го-
лову себе.
Она только за ними и ползла, за змеенышами за своими...
Когда он махнул шляпой и увидел под ногами эти ма-
ленькие, серые, мягкие яйца, он сразу догадался, почему она
ползла.
В то время я еще не знал, вправду ли змеи выводятся из
яиц... И когда я это слышал, я еще не видел змей — не знал
даже, какая она, змея, есть, и представлял их большими, не
такими, как те, что водились в наших местах... Но я и теперь
уверен, что я в точности передаю рассказ сидевшего у нас
мужика.
- 98 -
ЧЕРЕПАХА
У меня один знакомый художник под Москвой живет,
в деревне. Однажды он спросил меня:
— Хотите, я вам привезу черепаху?
Я отнесся к его предложению безразлично и забыл о нем,
но однажды в доме у нас в самом деле появилась черепаха.
Я на нее наткнулся сразу.
Черепаха оказалась большой, никогда прежде таких не
видел. Как тарелка большая. Мне сказали, что ее зовут Тор-
тила. Оказывается, так звали черепаху в «Золотом ключике».
Тортила к нам медленно привыкала. Она не любила по-
казываться. Пряталась под диван или под шкаф, а больше си-
дела под батареей парового отопления. Прошло довольно
много времени, пока она стала выходить. Только есть ничего
не ела. Правда, мы и сами не знали, что ей можно давать. Но
зашла однажды девочка, подружка нашей дочки, и сказала,
что черепахи едят все, всяческую зелень: и капусту, и мор-
ковку тертую. Даже мясо едят, пропущенное через мясоруб-
ку. Мы всего сразу накупили, побольше, того и другого. И по-
ближе ей подложили. Но Тортила ничего не ела, ни к чему
не прикоснулась. По-прежнему она лежала неподвижно,
дремала.
Но иногда на нее что-то находило, и она принималась
вышагивать по комнате. Особенно это случалось, когда по
полу начинали скользить лучики солнца. Ворочала головой,
слушала, смотрела на нас. Лапы у нее стучали.
Высоко поднимала панцирь и шагала медленно, затруд-
ненно. Странно было на нее смотреть.
Но это случалось с ней редко, больше она лежала, пря-
чась в каком-нибудь укромном месте. Иногда под диваном:
там она забиралась в мешок. Чтобы теплее ей было.
Нам тревожно было, что она ничего не ела. Без конца
ей подставляли воду, молоко, но все оставалось цело. Потом
нам сказали, что сейчас зима и черепахи зимой не едят. Зи-
мой вроде бы они как в спячке.
Это и правда: черепаха была вялая, она больше спала.
Но один раз, когда опять выглянуло солнце и по полу задви-
гались солнечные лучики, Тортила выползла из своего укры-
тия и принялась беспокойно ходить по комнате. Но солнце
зашло, и тут же она влезла в свой мешок.
4* - 99 -
Чем ближе было к весне, тем чаще становились такие
прогулки. Лапки у нее сморщились, но она по-прежнему ни-
чего не ела.
Был уже май, а потом наступил июнь. Черепаха давно
не спала, но и не брала ничего в рот.
Мне было не до нее. Я был увлечен, писал. Писал мед-
ленно... Обо мне уже говорили, что я работаю, как черепаха.
Она мне мешала.
Я ругал про себя моего художника, зачем он сбыл мне
больную черепаху.
Я подумывал о том, как от нее избавиться. Может, ей не
хватало воздуха? Однажды я завернул ее в ее мешок и стал
спускаться во двор. Когда лифт рванул вниз, черепаха убра-
лась в панцирь.
Перед домом у нас разбит сквер, с зеленым газоном и
кустарником. На скамейках повсюду сидят пенсионеры; но я
выждал, когда меня никто не видел, и пустил черепаху. По-
ложил ее за кустарником, в траву. Тортила вначале лежала
неподвижно, потом она тихо-тихо стала продвигаться вперед.
Но едва подняла она голову, ее увидали ребятишки, катаю-
щиеся на велосипедах и роликовых самокатах.
Скоро жильцы дома — а дом у нас большой, в нем почти
тысяча квартир — стояли около Тортилы. Люди преспокойно
шли с работы, неся в руках авоськи с батонами, и вдруг гово-
рили: «Ой, посмотрите, черепаха...» И забывали про все дела.
Над черепахой стояла толпа. Черепаха пугалась, прятала го-
лову и ноги.
Больше всего ей, конечно, не давали покоя ребята.
Я решил выносить черепаху по утрам, до того, как уйду
на работу, пока во дворе еще никого не было и малыши
спали.
Однажды, когда черепаха ползала по газону, а я сидел и
сочинял что-то, поглядывая на нее из-за кустов, мне показа-
лось, что черепаха открывает рот и скусывает листики. Но
когда я, чтобы лучше видеть, приподнялся, она перестала.
Так я и не узнал, ела ли она или мне показалось.
Во всяком случае, она заметно повеселела.
Последующие дни были холодными, трава — мокрой, и
мы опять сидели дома, и я видел теперь, что зря выносил ее.
Она опять сжалась, перестала высовывать голову и совсем
не вставала на ноги. Заболела.
Надо было что-то предпринимать. Мы не знали, как быть
с ней. Хотя нам и говорили, что под панцирем у черепахи
юо
скоплены запасы жира и потому она может долго не есть,
но прошло семь месяцев, как она у нас поселилась, и за все
это время она ничего не съела. К тому же наставало лето:
дочка должна была сдать экзамены и уехать за город, у меня
тоже предвиделся отпуск.
Кому-то из нас пришла мысль сходить в Зоопарк и спро-
сить, что с нашей черепахой, что надо делать с ней, как она
должна питаться.
Вскоре я был в районе Пресни.
Я взял билет и прошел в террариум, на старую или, на-
оборот, на новую территорию. Однако террариум этот ока-
зался закрытым на ремонт, вход был перегорожен доской.
Я все-таки пролез под нее. Но когда я вошел в неосвещен-
ное помещение террариума, большинство клеток в котором
было открыто, сразу подумалось: может наброситься удав
или, что еще хуже, схватит крокодил.
Я вернулся обратно.
Спасибо, какой-то мальчик шел туда же, к матери шел,
и взялся меня проводить.
В террариуме воняло. Мы прошли через все эти крохот-
ные малоосвещенные комнаты и наконец попали в еще одну,
где клеток никаких не было, но зато было одно небольшое
оконце. За столом здесь сидели две женщины, они держали
в руках ножи и быстро резали на мелкие кусочки мясо.
Тут я узнал, что ни мой салат, ни самую лучшую морковь
черепаха не станет есть. Оказывается, чтобы черепаха ела,
надо ей, черепахе, нагреться до температуры тридцать граду-
сов. Только тогда она в состоянии принять пищу. И потом
надо еще некоторое время поддержать эту температуру, что-
бы пища могла перевариться. Если холодная черепаха съест
что-нибудь, она погибнет...
Так что дома черепаху держать и нельзя. Другое дело —
в террариуме, где круглый год черепахи сидят под светом
ламп. Только летом могут они жить под солнцем — на улице.
Да на песке, на камнях.
— Если у вас большая,—сказали мне,—привозите ее
нам. Большую мы возьмем. Пусть у нас поживет. Она, кро-
ме того, и в обществе нуждается... Если захотите, сможете
забрать ее обратно...
Мы вышли из террариума, и заведующая подвела меня
к загончику, куда на лето были «высажены» черепахи. Десят-
ка три их было. Они ползали по земле и камням, забирались
101
друг на друга. Но больше всего лежали на солнце. Доводили
себя до нужной температуры...
На другой день мы отвезли Тортилу.
— Ой, какая она! — сказала девушка, кормящая черепах.
Когда ее впустили, подошли ребятишки.
Тортила наша имела успех. Все удивлялись, что она та-
кая большая.
Она сначала ушла в сторону, но сразу же к ней подполз-
ли другие черепахи, совсем маленькие.
Интересно было бы знать, как это произойдет, как она
освоится...
Вот так, наверно, и я. Когда мне надо что-нибудь писать,
я должен разогревать себя. Заворачивать себя в одеяло. Как
черепаха!
® ЛОСИ о
Я ведь их так и не видел ни разу у нас в Зауралье, хотя
лоси там водятся. Когда же с войны вернулся и было голодно
очень, я не раз ел мясо лосиное. Мужики таскали потихоньку
из лесу.
Но даже и шкуры сохатого я не видал.
В Перми, где я до войны учился, однажды, последней
предвоенной зимой, лось переплыл Каму и зашел в город.
Не знали, что с ним делать, и все были встревожены... Ни-
кого не хотел слушаться. Встал посреди улицы и перегоро-
дил все движение. Пришлось его милиционеру задержать.
Хотели его доставить в Зоологический сад, но он свалился и
умер. Испугался городского транспорта.
Об этом даже и в газетах писали...
Это случается и случалось: лоси заходят в города, осо-
бенно сейчас, когда города столь быстро застраиваются. И в
Москве, да и не далее как в прошлом году, лось заблудился.
И тоже в новом Юго-Западном районе три дня в зоне ста-
рого леса ходил. Выйти никак не мог. То на Университет-
ском появлялся, то на Ломоносовском.
Но и этого лося я не видел.
И вот, недалеко под Москвой было, пошел прогуляться.
- 102 -
Весной... Все уж растаяло, но сильная еще капель дер-
жалась. Канавы с верхом были наполнены черной торфяной
водой.
Мы с товарищем, помню, были... По асфальтовой дороге
шли, по шоссе, с полкилометра, наверно, прошли.
Смотрим, а за деревьями, возле самой дороги, они стоят.
Двое. Длинноносые, с могучим загривком...
Вроде б никаких рогов у них не было. Лбы только
большие...
Задумчивые такие! Спокойно так стоят. Смирно... И не
подумали даже уходить, когда мы к ним приблизились. В на-
шу сторону смотрят.
Мы уж совсем рядом, только канава нас разделяет. А они
не уходят, глядят на нас.
Очень меня это удивило.
Я думал обойти канаву, но вода всюду так разлилась, и
близко обхода нигде не было...
Я снял шляпу — очень хотелось их как-нибудь подма-
нуть — и протянул шляпу к ним...
Но они недовольно так на меня поглядели и ушли в ча-
стый ельник. Внимательно так на меня поглядели. Увидели,
что человек как-то странно себя ведет, и на всякий случай
ушли.
Ох и ругал же я себя!
Мне говорили, что там заповедник и их там каждый день
видеть можно. Но сколько я ни ходил, больше я их так и не
увидел.
• ВЕТРЯНОК ®
Родные места! Те же оврагами изрезанные поля, те же
еловые лески, вдалеке, за полями. Речка подбежала к селу
сбоку, а на ее отлогом берегу знакомая мне гурьба домиков...
Вот и школа — где учился. Здание деревянное, двухэтажное
и уже потемневшее.
Так хочется коснуться рукою этих стен. Хочется до са-
мого конца пройти по улице... Как много тут всего памятного!
Когда вернешься в свои родные места, сначала ищешь при-
меты старого...
Сверху до меня доносится громкое напряженное гуде-
103 -
ние. Жужжание. Подняв голову, я вижу на нашей школьной
крыше еще одно ребячье сооружение. Флюгер. Или пропел-
лер... Ведь здешние ребята всегда что-нибудь мастерили. Ког-
да я был маленьким, у нас каждый — и я сам — каждый что-
нибудь мастерил: кто самокат, кто авиамодель.
Скоро, однако, я забываю про эту вертушку. И опять,
и опять вижу свое, знакомое. Знакомые перелески и то-
поля.
Вечером я на пленуме райкома: выступает какой-то вы-
сокий юноша...
Пока он говорил, перед ним на трибуну двое ребят по-
ставили маленькую деревянную установку... Покручивая ру-
кой крошечные крылья модели, объясняет он устройство вет-
роэлектростанции.
Узнаю, что это местный учитель... Учитель из моей
школы!
Он в черном костюме. Со значком.
— Представьте себе,—говорит он,—что школа отказа-
лась бы от дров... Если ветер перегнать в электричество, то
у нас будет не только свет, но и тепло... И в домах и на
фермах.
Мы идем с ним по улице села. Он говорит о себе, как
приехал сюда из города и полюбил эти места... И уже не я
ему, а он мне — он мне показывает мое село.
Оно пошло вширь, раздалось. Мы перешагиваем тран-
шею, где прокладывается водопровод, и выходим на поляну.
Здесь она и будет установлена, их ветросиловая плотина.
Надо обязательно будет успеть мне повидать строителей
электростанции. Почти все они — дети школьных моих дру-
зей...
И опять я стою посреди улицы и смотрю на этот ветря-
чок, который так опрометчиво принял я вначале за очеред-
ную забаву моих маленьких односельчан.
• ПУШИСТЫЙ ПЕРСИК •
Конечно, я садовник неважный. Посадить-то я его поса-
дил, и даже не один, а целых два. Но, видно, поздно уже —
в апреле. Первый саженец скоро пустил зеленые побеги и по-
- 104 -
шел нормально развиваться, а потом и зацвел. Через неделю
во дворе горел уже этакий дымный костерик... А второй —
второй долго не подавал никаких признаков жизни. Я думал,
отойдет, а он уж засыхать начал. Гляжу, совсем погибает мой
персик. Я тут всполошился, давай его отпаивать. Перво-на-
перво воду таскать стал. Утром и вечером. Ведер по два-
дцать... Но он как был, так и есть. Палка и палка. Дрючок
голый.
У него, у саженца этого, корни плохие были. Я понял
это, когда еще сажал. Да и земля оказалась никудышной —
почвы плодородной не было вовсе. Один кирпич. Раньше на
этом месте, где я их сажал, дом стоял, во время войны его
разрушили, а фундамент остался.
Вижу я, что дела у меня не будет. Никак он силу не на-
берет: веток много, а корни маленькие.
Давай я его обрезать. Сначала только самые верхушки
срезал, а потом — жалеть нечего, совсем пропадет иначе —
взял я да и обкорнал его. Обстриг у него все ветки, один
ствол оставил. И опять поливаю, опять поливаю. А когда
увидел, что у моего саженца все никак почка раскрыться не
может, срезал я ему ствол до половины. Почти под корень
срубил.
Через два дня он мне дал листву и пошел и пошел распу-
скать побеги, пошел оформляться, вроде как принялся наго-
нять упущенное...
Удивительное деревцо было! Весной я его посадил, а к
осени, в сентябре, сняли мы семьдесят четыре плода. И что
главное — персик-то крохотный. У самой земли рос. Карлик
вовсе. А плодов на нем столько, что непонятно, как они уме-
стились на таком маленьком кустике. Уж ни листвы, ни ве-
ток — один сплошной персик... На земле лежат.
Я когда самый первенький в руки взял, он был как цып-
ленок. Желтый, мохнатенький...
Очень смешной. Мы их, сколько их было, все в комнате
сложили. Прямо на пол, на газеты... А сочный какой он, этот
персик, ароматный! Такой запах держался, в комнату войти
нельзя: зайдешь — дух захватывало.
Вот ведь сорт удачный попался!
Я потом ни разу уж не пробовал такого персика.
Еще не сказал, как и почему он мне попался, где я взял
этот персик...
Я на базаре был. За капустой, да за картошкой для бор-
ща, да за сливами для компота ходил. Когда я возвращался
- 105 -
назад через толкучку, я вдруг услышал: «Кому абрикосы!
Абрикосы кому!..»
Смотрю, мужик с возу сучки какие-то продает... Неболь-
шие такие прутики. И никто их у него не берет. Думаю,
дай-ка я у него возьму... Мелочь у меня какая-то оставалась,
я и взял два саженца.
Сразу их оба посадил. Место свободное во дворе было —
недалеко от сараев.
Один саженец — тот, что получше, подлинней,—побли-
же к дому посадил, а другой, поплоше,—у сарая, возле
стенки.
Вот этот последний саженец абрикоса и оказался не
абрикосом, а самым настоящим, сочным, сладостным перси-
ком.
Сколько мы жили, год от году приносил он все больше
и больше. Каждый год плодоносил и каждый год давал бога-
тый урожай.
Только зимой он у нас на девочку больше похож был.
Мы на него одеяние такое от холода придумали: платье се-
ренькое ему сшили и халатик...
Мы уехали из того города. Но лет через пять, через
шесть мне довелось снова приехать туда, и я зашел в свой
Двор.
Что такое, я смотрю... Как-то уж очень хорошо меня
встречают! Обступили, расспрашивают... А когда вместе жи-
ли — всяко бывало. Даже один отставной, мной не любимый,
тот, что на своем участке вечно курочек пас, и тот прибежал,
интересуется:
«А ваш-то персик, говорит, теперь уж у деда Мороза,
К нему перешел...»
Морозом называли у нас в доме Морозова — соседа на-
шего.
Что это, думаю, за персик такой... Я уж, признаться, за-
был о нем.
«Мы,—они мне говорят,—все с него собираем. Всем
понемногу достается. Ребятишки еще и до сих пор его ва-
шим зовут...»
Меня даже слезы прошибли...
А тот, первый-то прутик, хотя он и превратился в очень
высокое, стройное дерево, но оказался самым обыкновенным
мелким абрикосом.
- 106 -
ЖИВИЦА
Бывает, какое-нибудь дерево заденут нечаянно, сдерут с
него кору, а то по стволу и топором ударят, и к поранен-
ному месту тут же сразу начнет поступать смола. Дерево
само ее гонит, само лечит себя...
Даже если и совсем его спилят... То есть когда уж пенек
один остается.
Не все, может, знают, как старые эти пни корчуют...
От этих старых пней большая получается польза.
Когда сосну срезают, то из глубины — от корня — все
время безостановочно поступает смола... Тоже для того, что-
бы место среза залить.
Ведь дерево, оно как: чувствует, что рана глубокая, но
не знает того, что оно вовсе срублено. Думает, это только
рана, и гонит, гонит, гонит живицу.
Не знает, что верхушки у него нет.
Гонит живицу, гонит смолу.
Пенек такой с каждым днем все более смолистым ста-
новится.
Первое время, когда пень молодой, он никакой ценно-
сти из себя не представляет. Обыкновенный белый пень. Но
чем дальше, тем больше он накачивается смолой. Так что
если старый, здоровый, нормальный пень лет двадцать про-
стоит, так это уж и не пень, смола одна...
Все время ведь врачует себя!
И вот, когда пень доспеет, его извлекают из земли.
С корнем его выдирают... После чего разделывают этот пе-
нек на мелкие щепки и вытапливают смолу. То есть — опять-
таки живицу. Гонят из нее не только скипидар, но и кам-
фору и камфорное масло.
И из живицы, той, что бежит по живой сосне, — может,
видели, бывают такие желобки и стрелы вырезаны на сос-
нах,— и из нее тоже камфору получить можно. Живица ожив-
ляет...
Даже когда человеку вовсе плохо, ему делают укол кам-
форы, и сердце начинает работать.
- 107 -
ЛОДОЧКА
Вот что случилось один раз, утром, когда я шел по улице.
Я шел неторопливо, задумавшись, и вдруг позади меня что-
то застрекотало, затрещало. И так близко, что я испугался,
думал, не успею уклониться.
Но когда оглянулся, позади себя ничего не увидел.
Только двух или трех человек, мужчин, одиноко бредущих
по тротуару. Да в дальнем конце улицы телега по булыжнику
постукивала.
Тут опять началось. Опять застрекотало и затрещало. За
плечом моим. Оглянулся я опять... Та же все телега, два-три
пешехода и велосипед.
Тихая, малооживленная улица.
И в тишине этой, за спиной, звук, напоминающий ро-
кот автомашины, прерывистый, резкий, стрекочущий.
Я шел, и что-то такое, чего я не видел, упрямо трещало,
следуя по пятам. Я оглядывался все с тем же успехом. Сколь-
ко ни оглядывался, ничего не было... Что это за дьявол!
Я пришел домой и стал тебе рассказывать все. Ты всплес-
нула руками:
— Лодочка!
— Да, лодочка, — сразу согласился я. И — каюсь — ска-
зал тебе. Как, послышав звук мотора, поднял голову и как
высоко надо мной, над домами, над крышами летела лодочка.
Как в тишине утра за спиной рождалось стрекотанье ее лег-
кого мотора... Как долго не понимал, что за рокот я слышу
над собой. И наконец: как лодочка перелетела через улицу
и опустилась... на балконе.
Она перелетела с одного балкона на другой.
— Как интересно! — ты сказала. — Я об этом только в
книгах читала. В голубых городах... Но догадалась, когда ты
начал рассказывать...
И мне уже не захотелось разуверять тебя. Надо ли гово-
рить, что, когда я оглядывался и ровно ничего не видел, мимо
меня промчал велосипед... Обыкновенный велосипед. На-
столько обыкновенный, что в первую минуту я не обратил на
него внимания.
Он обдал меня гарью и пропал, как провалился. Но я
заметил, что возле колеса прикреплено что-то. Вроде грязной
консервной банки... Велосипедист не двигал педалями и ехал.
Велосипед сам ехал. Он был с мотором, с самодельным мо-
тором.
- 108 -
Стрекотал, пускал дым и все-таки ехал. Первый раз я это
увидел.
А лодочки, они еще полетят...
Говорят, в скором времени у каждого будет свой инди-
видуальный маленький летательный аппаратик.
ВЕРЕВОЧКА
Я стоял на палубе, на носу парохода. Дело было во вто-
рой половине дня. Через бурный и неширокий Керченский
пролив мы плыли верных три часа. Не меньше.
Битком набитый пароход нас вез из Керчи на станцию
Сенную.
Я так-таки ни разу и не спустился вниз. Я стоял, опер-
шись о борт, и смотрел в море, в воду, куда чаще всего и
смотрят, когда стоят вот так, опершись о борт.
Вдали уже вырисовывался белеющий на солнце городок-
поселок. Он уместился весь в раковине круто изогнутой круг-
лой бухты. Уже даже видна была его длинная, далеко уходя-
щая в море эстакада.
День был чудный, и небо, и море... Всё в самом лучшем
виде.
Тут-то вот, оберегая глаза от солнца и всматриваясь в
нежно-зеленую, притененную внизу воду, я увидел этот ко-
рень. Он плавал в море, но плавал он не на поверхности, а в
глубине. То есть как бы уже потонул. Длинный, темноватый,
намокший корень.
Волна, ударявшая о наш пароходик, немного этот корень
поворачивала, переворачивала с боку на бок, и можно было
видеть, что бока у него светлые, почти белые...
Я полагал, что это канат или даже просто кусок веревки.
И только подольше приглядясь, я признал этот невиннейший
корень, а лучше сказать — водоросль. «Бодяга» — как мы в
детстве называли эти прочные, как жгуты, такие выросшие в
воде и пропитанные водой, быстро высыхающие на берегу
растения.
Должно быть, мы все на нее уставились — все, кто был
на палубе, разом увидели эту водоросль. Так ведь редко уви-
- 109 -
дишь в прозрачной морской воде что-нибудь еще, кроме са-
мой воды, — тяжелой, по-разному освещенной.
Что же это за корень такой?
И вдруг эта бодяга зашевелилась. Я спервоначалу думал,
что мне показалось. Потому что она только еле-еле пошеве-
лилась. Но затем вильнула еще раз и сделала еще несколько
энергичных движений...
Нет уж, никакая это не бодяга и не водоросль. И уж
тем более — не корень. Менее всего это было похоже на
корень.
Я считал, я один только видел, как она зашевелилась.
Но и другие стали показывать руками. Тогда-то она и стала
уходить на дно, в глубину, напоминая то ли спрута, то ли
созвездие или что-то еще, более необыкновенное, нигде до
того не встречавшееся.
Через двадцать минут мы подошли к пристани, к при-
чалу. Скинули трап и стали сходить... Надо было думать о
том, как нам сесть в поезд и добраться до Тамани.
Что это было: рыба, змея? Или что-нибудь еще?.. Так
для меня и осталось невыясненным.
Возможно, я забыл бы об этом случае и никогда бы о
нем не вспомнил, но вот на днях я был крайне удивлен,
узнав, что у нас, в дельте Волги, в ее низовье, цветет лотос
и водится фламинго...
Мало ли что может выплыть наверх из глубин моря.
• ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ •
Куда ни глянешь — горы сырой, красноватой, вытащен-
ной на поверхность земли.
Какой-то марсианский пейзаж.
И ни одного нигде человека. Как вымерло.
Пока еще нельзя было определить, что тут было. Холмы
земли, выброшенной наверх, балки, бревна. И в складках
между гор — тихие, таинственные малахитовые озера, скорее
всего та помеха-вода, которая выступает, когда разрушен
водоносный слой.
Именно тут, у какого-то загадочного надводного недо-
строенного сооружения, мы увидели эту туфельку. Прямо
на земле, в траве, скафандр, а рядом эти ботинки...
110 -
Но раньше, чем на них наткнуться, мы увидели стрелу
экскаватора стокубового. Шагающего.
Виноват, четырнадцатикубового.
Заметили ее еще издали. Лезли наверх, поднимались,
преодолевая взгорья разъятой и еще не раскиданной земли,
и тут увидали экскаватор. Не требовалось большой сообра-
зительности, чтобы понять, что это он-то и вынул и взгро-
моздил здесь так высоко эту землю, роя, прорывая русло ка-
нала; то ли водоем, то ли канал... Это снаряд такой, что па-
дает с большой высоты. Взрывает сначала землю, рвет ее на
комки, а потом забирает себе в горсть.
Над горбом красной глины поднял он свою стрелу...
Сносившийся, совсем беззубый ковш экскаватора лежал
тут же, мы сначала даже приняли его за кузов самосвала...
А то я уж было подумал, что это не на нашей земле!
Но когда до водолазной туфельки добрели, я тоже не
знал, что это такое.
Я решил, что это какой-нибудь механизм.
Пригляделся повнимательнее. И шнурок, и дырочки для
шнурка... Да это туфля водолазная! А вот и скафандр с круг-
лыми стеклами...
Да тут полный водолазный костюм!
Я, конечно, сразу же надел себе на голову марсианский
этот синий шлем, а мой спутник хотел надеть ботинок, но
попробовал его поднять и не смог.
Он оказался налитым свинцом. Подошвы-то у этой туф-
ли — свинцовые. Пальца три толщина... Такой вот башмачок!
Я даже подумал, что сделано нарочно, когда я увидел
этот ботинок. Подумал: какой великан тут ходил... Потом
уже мне сказали, что это всего лишь водолазная туфля.
• КУЛИЧКИ •
На землях Алтая, в степи, где теперь целина распахана,
удивительно как там много озер. Вот уж действительно край
озер, а не только чернозема.
Там есть, например, село, в котором сразу два озера: со-
леное и пресное. Одно соленое, другое — пресное. Их только
дорога разделяет, улица деревенская... То, которое пресное,
111
оно зеленое, с водорослями, а соленое — белое, без всякой
растительности.
Я сам купался в озере. Соленом. Дно у него — горячее.
На дне этого озера, в черном вязком иле, есть свои микро-
организмы, они-то и нагревают почву. Так мне сказали...
Смешное вышло купание! Я лег на воду и так лежал
поверх воды. Как на доске. Почти не погружался... А потом
перевернулся и сел. Как в кресле. Коленки кверху! Странная
вода: в ней совершенно не тонешь — выкидывает. Погру-
жаешься в нее, конечно, но мало, так что один только зад в
воде, а коленки наружу торчат.
Я так сидел, и чтобы не перевернуться, ладошками по
воде пошлепывал.
Вот какая вода, до чего плотная!
Мы, когда пожили там, узнали: жители села этого, они
так делают — в одном озере купаются, в другом — обмы-
ваются.
Но больше всего мне запомнилась поездка на Большое
Яровое озеро... Правда, странное ведь название для мест, где
никогда не рос хлеб?
Я этих мест никогда раньше не знал, попал сюда уже
после того, как сюда молодые поселенцы приехали. Все было
уже распахано. На первых порах так увлеклись, что даже и
выпаса распахали: скот пасти было совершенно негде.
На озеро нас директор возил.
Удивительный край! Я никогда не видел, чтобы орлы ле-
тали так низко и чтобы они садились невдалеке. Прямо на
дорогу, на глазах.
Рядом, километрах в пятидесяти,—высокие горы, тем-
ные, густо поросшие лесом, горы и ледники. А тут эта голая
и ровная, как стол, жесткая сухая степь. И растет на ней са-
мая прекрасная, самая лучшая, какая есть, пшеница.
Я говорил уже, что мы приехали на второй год. Тогда,
когда все уже было распахано. Домов, правда, успели по-
строить мало. В палатках жили. Трудно в этих палатках...
Среди дня эта палатка так раскаляется, что в нее войти
нельзя.
Но хлеб уже рос, и это — главное. В первый же год его
народилось столько, что весь не успели убрать. Не справи-
лись. И теперь еще, на прошлогодних токах, и в траве, возле
гнилых прошлогодних, прозеленевших буртов, валялась от-
равленная порченным зерном мертвая птица.
Директор сам вел самосвал. В кузове сидели еще двое
- 112 -
рабочих, решивших воспользоваться выходным днем, чтобы
съездить на озеро. Мы сидели на охапке брошенной на дни-
ще грузовика соломы, и наши спутники весело рассказывали
нам, мне и моему товарищу, работавшему на уборке, как они
приехали сюда, как сгоняли лис и волков с насиженных мест
и забивали первые колы.
Только по нетронутым, непаханым бороздам, да возле
дорог, там, где остались кусты ковыля и типчак, можно было
догадаться, какой эта земля была раньше, когда она была це-
линой. Она была пегая, сивая. Как борода старого казаха.
Долго мы кружили по отбеленной солнцем степи. Нето-
ропливо перебегали дорогу суслики. Поля, засеянные рожью
и черной пшеницей, перемежались полями, засеянными про-
сто пшеницей. Об этой черноголовой, черноусой, угольно-
черной пшенице нужно сказать подробней. Я и не подозре-
вал, что есть такая пшеница, если бы сам ее не увидел, не
поверил бы. Колос совершенно черный! Я думал, что и зерно
такое же черное... Но зерно оказалось белое.
Из этой пшеницы делают сладкие пирожные.
Зерно у нее настолько твердое, что можно получить са-
мый тонкий помол.
Как раз такой, какой нужен на пирожные.
Было очень жарко. Гремела машина, звенели кузнечики.
Внимательно оглядев нас, обжиревший суслик влезал в нору.
Мы долго катили по спекшейся, крепкой, необыкновенно
ровной дороге. Нигде нет таких твердых дорог, как на степ-
ном черноземе.
Мы круто повернули, и машина пошла вниз, под уклон.
И не успели оглянуться, как въехали в глубокую балку,
сплошь засаженную черешневыми деревцами.
Сад одичал. Руки у директора не доходили до него. Са-
женцы давно пора было бы окопать...
Когда мы вылезли из прокаленного, насквозь пробитого
пылью жесткого кузова нашего вездехода, я увидал это озе-
ро. Его нельзя было бы не увидеть — мы стояли на берегу.
Но берега другого — противоположного — не было. Только
там, где ему полагалось быть, в мареве возносились ввысь
трубы какого-то завода, или это был мираж, я не знаю.
Озеро было зеркальным. Я ни разу не видел такой воды.
Она была, как ртуть, серебристая, тяжелая.
Я уже бежал в воду, на ходу сбрасывая одежду. И не сразу
понял, что такое у меня скачет под ногами. Все еще не мог
оторвать взгляда от Большого Ярового целинного озера.
- ИЗ -
Но, когда, очнувшись, я взглянул вниз, под ноги, я уви-
дел, что у меня под ногами, теперь уже не в траве, а по воде,
в протекавшем здесь ручейке, плыли какие-то черненькие
птички. Тут, в этом месте, в озеро впадал крохотный ручей,
совсем маленький. Ключик. Но, впадая, этот ручей-ключик
разлился, разделился на несколько ручейков и образовал свое
крохотное озерко. Вместе это составляло маленькую чистую
лужицу... Птички эти плыли по мелкой прозрачной лужице,
плыли, задевая дно. Их было много, целый выводок. Так что
когда я взял какую-то палку и бросил, я попал в нескольких
сразу. Но я бросил не размахнувшись, я просто так кинул, и
это не причинило им никакого вреда. Все же они вспорхнули
и улетели, но улетели они недалеко, тут же на берегу озера и
сели.
Я посмотрел, чем я в них бросил. Это оказалась — кость.
Мы разделись и стали купаться. А кулички мои, директор
сказал, что это кулички, вернулись обратно.
Когда мы искупались и высохли, мы были все в соли. Но
поблизости пресного озера не было, и мы обмывались в ру-
чейке, где жили эти кулички...
• ПТИЦА •
Я распахнул дверь, и ее сразу же вырвало у меня из рук.
И ветер и вода больно ударили мне в лицо.
Я не моряк, поэтому не берусь судить о шторме, о его
силе. Во всяком случае, была непогода. Накатывавшиеся на
корабль валы приподымали корабль на себе. Ветер гудел в
снастях, и кривые, быстрые, скручивающиеся струи дождя
сразу же, тотчас полились по плечам и спине...
Ни одного человека не было на палубе.
С кормы тоже до меня доносились удары, слышался
плеск. Там что-то ухало и раскачивалось.
Невозможно никак было понять, откуда дул этот косой
пронизывающий ветер. Он не дул, а кружил. Сразу и ветер,
и дождь, и внизу, за бортом, над палубой — падающие, летя-
щие брызги летящих во все стороны, разбивающихся волн.
Сырой, холодный ветер Атлантики...
114 -
Уже не пряча лица от дождя и ветра, заботясь только,
чтобы самого не смыло и не унесло в море, я направился на
корму, откуда неслись эти грохочущие удары и хлюпанье. На
мне был мой старый дождевик — прорезиненный, непрони-
цаемый для воды плащ...
Но лучше бы мне сюда не ходить. Ветер тут дул уже со
всех четырех сторон, неизвестно откуда он дул. Нужно было
все время держаться за что-нибудь... Потоки воды обрушива-
лись теперь не только сверху; дождь, хотя и был он частым,
но был мелкий, и только из-за одного ветра свергался он не
дождем, а струями. Будто лил не с неба, а из трубы или руко-
мойника.
Едва только я сюда добрался, как вновь раздался удар,
сильный, наподобие пушечного выстрела. Я успел отскочить,
но все-таки меня окатило, обдав с головы до ног. Это — из
плавательного бассейна забыли спустить воду... И теперь, при
каждом толчке, который получало судно, она с гулом взле-
тала вверх, ударяла о стенки и выхлестывалась, раскатываясь
по гладкому настилу палубы.
Спасаясь от воды, я вскочил на возвышение, на какой-то
ларь и схватился за слабенькую тоненькую какую-то мачту...
По-видимому — за флагшток. Мне было все равно, за что
хвататься.
Вихреобразный, кружащий у меня над головой циклон,
свивая эти холодные струи, спускал их мне за ворот... Стран-
ное ощущение. Как если бы тебя толкнули под водосточную
трубу.
Я даже не отворачивался, не уклонялся: вода текла уже
мне под рубаху и холодные острые струйки попадали в
лицо...
В море было безлюдно: нигде ни дымка, ни мачты. Да и
видимость была плохая... Еще вчера, хотя вчера погода была
хорошей, не видел я ни островка, ни мыса... Ни рыб, ни дель-
фина. Никаких признаков берега.
Я уже подумал, мы выходим в открытый океан...
А тут еще этот шторм... И вода, и ветер, и эти волны, и
горы дождя пополам с ветром... Вода, летящая через всю па-
лубу.
Но, может быть, все это видел только я, нечаянно вылез-
ший сюда наверх в этот ранний час. Скорее всего, обо всем,
что делалось на палубе, не догадывались пассажиры, сидя-
щие в теплом чреве корабля. Как не догадывались и мои то-
- 115 -
варищи, живущие со мной в одной каюте. Когда я выходил,
они говорили про какие-то свои дела.
Нелегко было бы сейчас их вытянуть наверх, на эту
скользкую, мокрую, исхлестанную ветром палубу, оттуда, из
уютных, теплых отсеков. И я бы тоже не мог на ней появить-
ся, если бы не этот фронтовой мой плащ. Резиновый, блестя-
щий, совершенно не пропускающий воду, похожий на глад-
кую дельфинью тушу, немецкий трофейный плащ.
Не удивительно, что один я вышел поглядеть, что делает-
ся теперь в море, — в то время как другие все сидели в каю-
тах или лежали на койках, под одеялами... Я бы тоже не вы-
шел, но уж очень я боялся пропустить что-нибудь интерес-
ное. Тем только все и объясняется.
Я стоял и выжидал момент, когда мог бы обогнуть хлю-
пающий бассейн, и думал только, как побыстрее попасть в
каюту. Плащ был короткий, и коленки у меня давно были
мокрые.
Я держался за штангу и собрался перебежать расстояние
до двери, ведущей в пассажирский отсек. В этот именно мо-
мент налетел вихрь, и одновременно с этим новым сильным
порывом-рывком ветра я почувствовал: что-то меня уда-
рило в плечо и затылок. Я испугался и отскочил, и сразу
схватился за то место, куда меня ударили. Я почувствовал
у себя под рукой что-то крепкое, вцепившееся в плечо...
Какой-то ком — теплый и твердый.
Даже не в плечо, а в шею и волосы.
Я с трудом отодрал это от себя и стал рассматривать то,
что оказалось у меня в руках, что-то белое с сизым... Какой-
то рассыпающийся, ни на что не похожий мокрый взъе-
рошенный ком, растрепанные, торчащие во все стороны
перья.
Схватившись за это обеими руками, еще сам не веря, не
понимая, как надо держать, я приблизил к глазам и увидел в
своих руках совсем уж что-то странное — чьи-то поднятые
вверх лапы. Снизу, из-под большого пальца моего, глядел
теплый живой зрачок.
Я перевернул то, что держал в руках, только теперь со-
образив, что держу я неправильно, и, взяв этот комок как сле-
дует, сжав его сильнее, я заглянул вниз, на лапы. Мне пока-
залось, когда еще лапы эти были вверху, что на одной лапе я
видел какой-то предмет, что-то блестящее.
Я нагнулся взглянуть на ту лапу.
116 -
Да, действительно. Кольцо. Даже надпись. Я повернул
широкий светлый ободок вокруг чешуйчатой, темной лапки.
«Готланд».
«С Готланда...» — мелькнуло у меня в голове... Мы про-
ходили как раз близко от этой земли — острова, принадле-
жащего Швеции.
Я так и подумал, что, должно быть, это с тех островов,
оттуда, должно быть, улетел он. Только накануне было сооб-
щение в газете. Полигон там собирались открыть... Ах, это не
на Готланде, я спутал — на Гельголанде! Но — повсюду сей-
час стреляют...
Я опять спохватился, увидев, что я все еще крепко сжи-
маю в руках птицу. Я думал, она улетит. Понемножку я осво-
бодил ей голову, а потом, посадив на рукав, совсем снял с нее
руку... Она лепилась, прижималась ко мне, и я сообразил, что
она никуда не улетит, потому что лететь ей некуда. Что я сам
ей куда менее страшен, чем бушующий вокруг, разъяренный
живой океан...
Чтобы нам не быть смытыми, я держался за все, что по-
падалось на пути, и достиг двери салона. Вода, ударив о стен-
ки бассейна, захлестнула еще раз... Наконец мы добрались.
И сразу — как только закрыл я за собой дверь — стало тихо,
гул в ушах прекратился.
Спустившись вниз по железной лесенке, пройдя полу-
темный коридор, я вбежал в каюту.
Каюта у нас была тесная, узенькая, но помещалось в ней
нас четверо. Каюта на четыре лежака. Был в ней еще неболь-
шой шаткий столик и маленькая приставная лестница-стре-
мяночка, чтобы взбираться наверх. Тому, чья постель была на
втором этаже. И еще: маленькое круглое окошечко иллюми-
натора, которое плохо закрывалось или мы не умели его за-
крывать, поэтому в каюте у нас все время была вода.
А пароход наш — вернее, теплоход — был большой. При-
надлежал он Германии и считался собственным судном Гит-
лера. Теперь он был сильно переделан, перестроен.
Вчера мы стояли в Стокгольме. Из Стокгольма мы ото-
шли поздно и, не дождавшись, пока отойдем, легли. Ночь
всю мы были в открытом море, и сегодняшнее утро тоже. За
все время не показалось ни одного островка, да и пароходов
встречных тоже больше уже не попадалось...
Мои товарищи, когда я вошел в каюту, не знали, что та-
кое я им принес. Пока я стаскивал с себя плащ, я рассказы-
вал, откуда взялся в нашей каюте столь неожиданный гость...
- 117 -
Один из моих товарищей, татарин из Казани, впервые
ехавший смотреть Европу и впервые путешествующий тепло-
ходом в море, обеими руками держал птицу и с удивлением
поворачивал ее из стороны в сторону, рассматривая это не
просохшее еще, пестрое, пестро-пернатое — необычное — то-
порщащееся создание.
Так ее растеребило, бедную, что нельзя знать было, что
это такое в руках. Какой-то пук перьев!
— Ты посмотри,— сказал я, укрывшись за шкафом и на-
девая на себя что посуше. — Я там кольцо видел...
Но он не мог найти никакого кольца и пока сообразил,
где что надо искать, я развесил мокрые штаны и рубаху, ото-
брал у него мою птицу и, прижав к себе, к коленям, положил
ее на бок. Повертывая довольно свободно посаженное на
лапке толстое алюминиевое кольцо, я наконец разобрал эту
надпись. «Holland».
Почему вначале прочел я по-другому? Откуда взял я, что
это Готланд? Ясно же, кажется, тут сказано — «Hol-land».
И я знаю, что это такое. Это — Голландия. Нидерланды!
Низкая земля. Земля — страна, лежащая ниже уровня моря...
Я это еще в школе, в младшем классе, знал. Мы читали — в
первой еще книге — о голландском мальчике, который спас
свою родину. Этот паренек, увидав дырочку, через которую
сочилась вода — в плотине, отделяющей страну от моря, за-
ткнул ее пальцем. И так, весь посинев, он держал и плотину
и море, пока не прибежали люди, не сменили его, не укре-
пили дамбу. Я очень помнил про этого хорошего мальчика...
Значит, и эта странная гостья, в ранний час прибитая к
нам непогодой, — из Голландии... Кроме всего, она окольцо-
вана. На кольце проставлен еще и год и номер.
А мы как раз плыли в Голландию...
Я закрыл иллюминатор и посадил птицу в наше единст-
венное маленькое окно... Так она и сидела, небольшая, рас-
трепанная, в белом светлом круге окна.
В первое время никаких собственных планов по отноше-
нию к птице у меня не было. Что с ней дальше делать? Вы-
пустить сейчас или оставить ночевать и выпустить потом,
когда она немного придет в себя и погода улучшится... Если
бы еще она простая была птица, но это кольцо на лапе...
Многочисленные сомнения стали теперь одолевать меня.
Я просто рад был ей и жалел, не мог понять, как это ей, такой
истерзанной, такой настрадавшейся, удалось прибиться к ко-
раблю. Не упасть в море.
- 118 -
Она сидела в иллюминаторе и, успокаиваясь, уже пово-
дила головой. И это было неожиданно и очень красиво. Хотя
вид ее был все еще жалок, но шейка у нее была гордая... Ни
один человек на всем теплоходе, кроме четверых нас, про нее
пока еще не знал. Это была наша тайна.
Мы налили ей воды и долго решали: кормить — не кор-
мить хлебом. Мы совершенно растерялись, не знали, чем ее
надо кормить... Потом мы накрошили ей каких-то крошек.
Но она ничего не ела.
Мы плыли все тем же Балтийским морем.
Корабль наш все еще покачивало. К полдню большие
волны немного улеглись, стали пониже и поменьше, ветер
ослаб, дождь прекратился. А сам теплоход теперь шел быст-
рее. Кое-кто из пассажиров даже вышел на палубу.
Тем временем слух о жильце нашей каюты распростра-
нился по всем палубам.
Сам капитан пришел взглянуть на нового пассажира.
— Покажите, покажите...— большим густым голосом
сказал он, входя к нам.
— Чудак,—сказал он, услышав о моем намерении.—За-
чем же вам его выпускать? Везите домой... Это — голубь. Бу-
дете держать его у себя на даче...
Он, как многие, считал, что все писатели у нас имеют
дачи. Пусть так, я не стал с ним спорить... Мне было стыдно
за другое, за то, что я не узнал голубя, не сразу понял, что
это голубь. Я таких никогда не видел. Впрочем, и мои това-
рищи тоже не догадались... У этого голубя был такой не го-
лубиный — длинный, пестрый хвост и высокая шейка. Глав-
ное, весь он был взъерошенный, не похожий на себя.
Да и не голубятник я. Сроду им не был, сроду у меня не
было ни одного голубя... И потом — я таких голубей никогда
не видел, я привык у себя в деревне видеть голубей, тяжелых
как куры. Перелетающих с одного овина на другой. Но чтобы
голуби летали в открытом море! Разве может голубь лететь
в такую даль?..
— Никому не отдавайте, везите его в Россию, — говорил
мне наш капитан. Я видел, как неохотно он расставался с
этой моей странной птицей, столь неожиданно оказавшейся
голубем...—Да за такого голубя,—не мог он успокоиться,—
всякий любитель отдаст вам что угодно... Вам он достался —
вы им и распоряжайтесь...
Капитан ушел. Но в ближайшие несколько часов мои то-
варищи и я не знали, куда деваться от посетителей... Желаю-
- 119 -
щих попасть к нам в каюту и посмотреть на голубя, которого
корабль наш встретил в море, оказалось очень много. Каждый
считал нужным дать какой-нибудь совет, и все восхищались
его мужеством. Один собрался писать очерк для «Комсомоль-
ской правды», другой пришел фотографировать меня с этим
голубем. Шутили даже: надо, мол, о таком случае телеграфи-
ровать в Москву...
Для меня настало беспокойное время. Я уж пристраи-
вал ему за окном в Москве клетку. Представлял себе, как
важно он будет выглядеть с этим белым кольцом. Мой неви-
данный голландский голубь, какого нет ни у одного самого
заправского голубятника.
Однако пора было придумать, куда его деть. Он доволь-
но уютно устроился на висящем над столом динамике. Но,
конечно, держать его все время в каюте нельзя было, и я
отнес его на шлюпочную палубу. Там, наверху, он и жил
у меня в клетке, и я таскал с кухни ему туда, на верхнюю
палубу, хлеб. И крупу. Все, что удавалось достать. Я разы-
скал на этой палубе две клетки, о которых мне сказал капи-
тан, и тайно от всех, чтобы пассажиры не знали, посадил в
одну из них голубя. Все было предусмотрено на корабле...
По-видимому, клетки были сделаны на всякий случай: для
собаки, а может быть, и обезьянки. Если бы такая оказалась
на судне. Для любой другой живности... В ней можно было
держать и кур для столовой... Я пробирался тайком, боясь,
что меня увидят, тащил что-нибудь моему голубю. Хотя бы
воды в стакане.
Первое время он совсем ничего не ел, сидел в уголку,
ежился и зябко закрывал глаза, боялся смотреть на еду. Его
еще все мутило. Потом он стал понемногу подбирать то, что
я ему приносил. Но только тогда, когда я уходил.
Мы шли уже Кильским каналом; канала, впрочем, с па-
лубы не было видно, и впечатление было такое, будто мы
плыли среди полей и рощ, и западные немцы, узнав наш ко-
рабль и флаг, немцы, сидевшие против нас в окопах в Рос-
сии, кричали нам теперь с берегов кто приветствие, а кто' и
ругательство... Но я мало смотрел на эти берега и на эти
чистенькие, знакомые мне городки, я выхаживал своего го-
лубя. Через железные прутья подавал ему все новую, доста-
ваемую мной еду — то нарубленную морковку, то кусочек
апельсина. Так я бегал — вверх и вниз — с палубы на палубу
и таскал и таскал ему... Он уже все ел, и его маленький доб-
рый глазок глядел теперь на меня веселей. Я пришел под
120 -
утро сменить воду и увидел, что он спокойно переваливался
с одного боку на другой, расхаживал по клетке и сидел, по-
водя головой..с
Если бы я писал вымышленную или приключенческую
повесть, я бы, наверно, провез этого голубя по всем странам,
я бы прошел с ним по площадям Гааги и Роттердама, Па-
рижа и Гавра, по улицам Рима и Неаполя — всюду, где мы
были. Влез с этим голубем на Акрополь. Или передал бы его
котя бы голландским пионерам, что ли, которые нас очень
хорошо встречали в Роттердаме, в порту.
Но я пишу правдивую историю, поэтому, когда на дру-
гое утро я поднялся на верхнюю палубу и подошел к клет-
ке,— его не было... Одна подстилка и кусочки каши, которую
я принес ему в последний раз.
Я тщательно осмотрел все вокруг, и, как мне показалось,
веревочки на дверке были развязаны. Я оглядел мачту и всю
оснастку: думал, он где-нибудь сидит. Нигде ничего...
Признаться, мне стало жаль его. Видимо, думал я, кто-
нибудь из пассажиров, случайно увидев моего голубя и не
зная, что у него есть хозяин, выпустил или взял его себе...
Я даже спрашивал у туристов первого и третьего классов.
Но никто ничего не знал и никто не видел моей птицы.
Вечером того же дня мы пришли в голландский порт...
А может, голубь мой почувствовал близость берега?
В Голландии, хотя мы и были там недолго, но все-таки
поездили по ее зелененьким польдерам, всходили на ее дам-
бы. И, когда мы осматривали одну плотину, я поинтересовал-
ся-таки, где, в каком месте, герой-паренек засовывал свой
пальчик, спасая страну. Но наш самодовольный, длинный гол-
ландец-гид — молодой, в рубчатых длинных штанах, который
и без того иронизировал над всем, что мы ему говорили, не
верил, когда я говорил ему про этого мальчика. Он не верил,
когда я ему об этом говорил, и даже насмехался. А я верил...
Он даже повторял, что никто в Голландии ничего не
знает об этой истории, и спрашивал меня, когда это было.
Я хотел было сначала спросить, узнать у него про голу-
бя, что за птица с кольцом, но я не стал этого делать. Во вся-
ком случае, уж не он его пускал...
Долго еще, очень многие, даже когда мы прошли океан
и шли Средиземным морем, встретив меня на палубе, спраши-
вали у меня, как он чувствует себя, мой голубь.
- 121
Алюминиевое кольцо с номером «842449»... Довольно
большой номер!
Надо бы мне хоть кольцо оставить...
• НА КАПРИ •
Мы покрутились на маленькой площади под часами.
Отсюда шло вверх несколько кривых — ныряющих то
вверх, то вниз — узеньких улочек. Вот и весь городок, город
Капри. И так как нам показывали что-то значительное, серь-
езное, то, по-видимому, это все, что нам могли показать.
Мы прибыли сюда час назад. От пристани поднялись
фуникулером. Потом по каменистой улочке, на которой тес-
нились толпы туристов всех стран, вышли наверх и попали
на небольшую эту площадь. Здесь повсюду были расстав-
лены столики и опять было много туристов. Очень скоро мы
поняли, что делать нам здесь нечего, что мы зря приехали.
Мы, когда мы ехали на Капри, думали, что нас везут сюда
потому, что на Капри жил Горький. Должно быть, поведут
в его дом...
Пароходик из Неаполя идет около двух часов... Все во-
обще оказалось не так, как представлялось, — все оказалось
близко: и Неаполь, и Везувий, и Сорренто. И, должно быть,
в хорошую погоду сам этот остров Капри виден уже из Неа-
поля... Но мы плыли в плохую.
Впрочем, хмуро было только с утра. Потом сделалось
даже солнечно, и, прибыв на Капри, мы даже купались. На
древней этой площади, под часами, фотографировались с чер-
ными южно-африканскими студентами, а потом оказалось,
что самым черным на этом снимке был я.
Мы прятались от жгучего солнца, простаивали время
возле киосков, обменивались значками, но довольно скоро
заметили, что нам не показывают ничего, что связано с
Горьким.
Конечно, мы могли бы осмотреть сам остров. Пересечь
его и дойти до противоположного берега, взглянуть на раз-
валины, на остатки дворца Тиберия и, наконец, побывать
в еще одном городе на этом острове — в Анакапри. Ведь на
острове Капри два города: Капри и Анакапри. Высоко на
- 122 -
горе — Анакапри. Через долину. И, как нам сказали, жители
этих двух городов, разделенных лишь долиной, не понимают
друг друга. Анакаприйцы говорят на совсем другом наречии...
И будто бы те, что живут в Капри, почему-то не ходят в
Анакапри. И наоборот.
Что касается меня, то я с удовольствием бы побывал
в Анакапри! Но с кем пойдешь, кто же тебя поведет? А если
уйдешь сам, будут ли тебя ждать, еще возьмут да и уедут
без тебя. И потом — и это вероятно самое главное! — видимо,
хоть что-то надо знать самому. Заранее. И о дворце Тиберия
и об Анакапри — обо всем, что есть и что еще может быть
на этом острове. Но все эти сведения я почерпнул из спра-
вочников, все вычитал дома, по возвращении... Так же как
только через год узнал, что памятный тот плоский песчаный
берег — мысок перед входом в Дарданеллы и начинающиеся
за этим мыском высоты — я их увидел ранним пасмурным
утром — и есть холмы, та самая земля, на которой Шлиман
раскопал свою Трою.
Хорошо, что я вышел тогда утром на палубу.
Мы еще немного повертелись в толпе на этой крошечной
площади, какие-то безделушки купили, две-три открытки, и
поняли, что на этом наше пребывание на Капри заканчи-
вается. Что остров нам уже показали и сейчас нас увезут
отсюда; что еще минута-другая — и нас втолкнут в вагончик
фуникулера, и мы окажемся на узкой кромке неудобного
каменистого берега. Под скалой.
«А как же Горький?» — закричали мы.
Наша дама экскурсоводка, которую мы везли с собой из
Москвы, понимая, что неминуемая задержка случилась, с от-
чаянностью стала доказывать, что все самое интересное мы
уже видели.
Но мы не сдавались:
«Но ведь здесь Горький...»
Толстая, вся плывущая от жары тетя, мечтающая только,
чтобы посидеть где-нибудь в холодке, неожиданно заплакала,
потом стала убеждать нас, что Горький и не жил вовсе, и
никакого дома у него нет... То есть был, но теперь принад-
лежит другим.
Да и идти к тому дому далеко...
А с домом этим у нас все время происходила какая-то
странная вещь. В Сорренто наши провожатые нам сказали:
«Горький здесь жил мало, и дома его не знают. Вот поедем на
- 123 -
Капри...» На Капри говорили наоборот — «У него дом в Сор-
ренто».
Однако же дом оказался рядом, в конце одного тени-
стого кривенького переулка. На него нам указали наши же
товарищи, из другой группы. Едва мы сошли с площади и
сделали несколько шагов, мы его обнаружили... Правда, мы
увидели только забор, вернее — стенку, довольно высокую,
бетонированную, и поневоле должны были рассматривать
одну только зеленую крышу. Больше из-за неожиданно встав-
шей перед нами стены мы ничего не видели. Но хотя бы это:
все-таки мы не зря ехали! Могли сказать, что домик, некогда
принадлежащий на Капри Горькому, мы видели.
На пристани, также очень маленькой и уютной, мы сели
на катерок — тоже очень маленький, рассчитанный на пять-
шесть человек, и бойко помчались вперед, вдоль крутого от-
весного берега, отбрасывающего на воду свою сильную тень,
Капри — остров скалистый, с внушительно высокими сте-
нами-берегами. Пристать к нему можно только в одном ме-
сте, да и то наверх надо подыматься фуникулером. А взду-
маешь подняться лестницей — час будешь подниматься. Дол-
гая история! Я даже и вниз по этим ступенькам не решился
спуститься...
Впрочем, я несколько забежал вперед. Прежде, чем нас
повезли дальше, я купался в Тирренском море. Не то чтобы
так уж хотел выкупаться, просто я считал, нужно же мне
выкупаться в Тирренском море! Тут, на этом пляже, я чьим-
то чужим фотоаппаратом пытался снимать одну милую,
скромно и бедно одетую девчушку... Но это не удавалось:
она презрительно и гордо отворачивалась от меня, как и
должна отворачиваться от бездельного и назойливого туриста
рыбацкая дочь. Зато ее подружка, уродливая, кривозубень-
кая, тоже уже сбросившая с себя простенькое, такое же, как
и на ее подруге, платье, сама лезла в объектив... Мне при-
шлось довольствоваться ею.
Вот после того, как я наскоро выкупался и когда к при-
чалу спустились другие, и все собрались, только после этого
мы и поплыли вокруг острова — к Гротта Адзурра.
Я не представлял, что это такое. Ну, подумаешь, грот!..
Стоит ли ехать — ради какого-то грота, терять драгоценный
день, когда можно его прекрасно использовать, провести этот
день в Неаполе, где я вчера только слышал чудеснейшего
уличного певца...
124 -
Оказалось, что нам надо почти обогнуть остров, обойти
его кругом.
Мы шли, тесно прижимаясь к берегу, а над нами была,
хотя и стоящая под солнцем, но здесь, внизу, все такая же
темная, молчаливая, уходящая ввысь стена.
Мы плыли вдоль острова, и море стояло горбом. И зеле-
ные волны катились на нас... Прибой тут у самого берега
такой сильный, что может запросто разбить голову.
Кажется, мы подплываем. К нам приближаются гондо-
лы — узенькие легкие лодочки, с высоко поднятыми носами...
Катерок останавливается.
Нас разбирают — быстро рассовывают по лодкам. В каж-
дую лодку по мужчине и женщине. Мне достается с одной
туристкой, малознакомой женщиной, обремененной сумками
и сумочками. Из тех — такая есть в каждой группе, — из тех
женщин, что спрашивают, где живет в Италии король, а у
саркофага Александра Македонского спрашивают, что такое
гробница. Одна спрашивала еще и не так. Я это сам слышал,
когда мы отплывали из Греции. Я стоял, облокотясь о борт
теплохода, и одна из туристок, я слышал, спрашивала у пар-
нишки, ведающего в этом путешествии вопросами культур-
ного отдыха.
— Скажите, — говорила она, — это море Адыгейское?
Молодой человек от неожиданности присел.
— Нет,—сказал он,—это море Эгейское...
Я видел, как эта дама дернула плечом.
— Не знаю,—негодующе сказала она,—кого с нами
только посылают! Я же точно знаю, что это море Адыгей-
ское...
Перетрусивший парень ей ответил:
— Вы правы, конечно... Но это море — все-таки Эгей-
ское. А дальше, левее, так то уже будет Адыгейское...
Мы подходили уже к скале, к стене. Моя спутница села
на скамеечку посередине, а я пристроился на корме — сле-
дить, чтобы она не вывалилась...
На воде колыхалось множество таких узконосых длинных
лодок. Они как бы выжидали... Мы пока еще ничего не ви-
дим, но чувствуем, что — здесь.
Гондольер подводит лодку к берегу. Дама моя сидит впе-
реди меня, ближе к носу, я — на самой корме. Лодочник
наш — посредине. Он стоит.
На какой-то миг, когда волна отхлынула, нам видно:
внизу, под скалой, под водой, — темнеет. Дыра... Какое-то от-
- 125 -
верстие, очень похожее на чело русской печи: такое же по-
лукруглое, но только еще меньше.
Возле дырки сильнее бьет волна. Но я ничего по-настоя-
щему разглядеть не успеваю. Да и моя спутница, должно
быть, тоже. Мы оба лежим и прячем на дне лодки свои го-
ловы.
Мне показалось, что мы воткнулись в отверстие. Но
всего дальнейшего я не видел. Я услышал только хлюпаю-
щий звук... Как если бы пробку проткнули внутрь бутылки.
Так оно и было.
Я потом попытался понять, как это все происходит.
Гондольер, выбрав момент и завидев показавшееся из
воды отверстие, всаживает в него лодку, а налетевшая, уда-
рившая по лодке сзади волна проталкивает ее внутрь...
Ну, а теперь я дошел до самого трудного места в рас-
сказе, так как самое трудное описать этот грот.
Мы уже плыли в пещере по воде.
Вода под нами просвечивала. Под нами была вода, и от
этого — от белого дна и темноты — было непривычно и даже
страшно. Будто мы летели, а не плыли. И лодка будто сде-
лалась самолетом: она не была уже лодкой... Да, да, мы ви-
дели, что мы опирались на воду, а вода под нами горела.
Вода под нами была голубой, и голубые тени передвигались,
перемещались по потолку, по стенам... Не сразу осваиваешься
с мыслью, что ты уже внутри грота.
Глубоко под водой видны были подводные скалы и водо-
росли на скалах. И все, все это через толщу невероятно си-
ней, аквамариновой воды.
Не могу представить, что в другом каком-нибудь месте
в воде можно видеть на такую же глубину. Все было необык-
новенно просто и вместе с тем, чем дальше мы отплывали,
тем удивительней было все, что мы видели.
Вокруг был совершенно фантастический, нереальный
мир.
Я не сразу сообразил, в чем дело.
Только теперь, теперь, когда мы очутились по другую
сторону входа, я разглядел, что дырка эта лишь снаружи та-
кая невзрачная. Под водой же, внизу, она переходит в рас-
щелину. И чем дальше вниз, тем больше расширяется. Так
что под водой, в скале, была уже не дырка, а окно. И солнце
проникало не столько сверху, через это маленькое отверстие,
сколько оттуда, снизу, через кубы синей, голубой воды. Всею
- 126 -
своей мощью оно вламывалось в это окно, в пещеру. Как
через иллюминатор...
Удивительно, как здорово было это придумано!
Мы плыли и аукались. Нам навстречу плыли другие
лодки, выдвигавшиеся из темных, таинственных глубин.
Кто-то смеялся, кто-то пел. Наш веселый лодочник, успев-
ший выучить несколько слов по-русски, кричал: «Очень хо-
рошо!», «До свидания!», «Добрый день!»
Мы так и не обошли всей пещеры, так и не достигли
самых дальних ее углов («13 метров высоты, 15 метров глу-
бины, длина — 54 метра»), даже не оглядели знаменитой этой
на весь мир пещеры. Потом, вернувшись, мы еще ждали
своей очереди, так как у входа — у выхода скопилось много
лодок.
Лодочник наш опять воткнул свою ладью в эту дыру
(нам опять пришлось лечь), схватился за висящую над го-
ловой цепь, и не успели мы набрать воздуху в легкие, как
проделали тот же путь обратно, и, ослепленные солнцем, вы-
скочили из темноты на свет, и оказались в море.
За то недолгое время, что мы там пробыли, море раска-
чалось, и теперь лодку нашу швыряло так, что мне долго не
удавалось перескочить на катер. Все же я перемотнулся. Но
эту женщину — у нее оказался изрядный вес — никак не уда-
валось перетащить. Все наши усилия были тщетными.
Старый, седоусый моряк, принявший нас на свой катер,
смотрел-смотрел на все это, потом согнулся, ухватил ее обе-
ими руками и, прежде чем успела она сообразить, переставил
ее с качающейся лодки на зыбкий катер.
Мы долго и от души смеялись. Женщина обрадованно
хихикала...
Опять мы отправились в обход острова. Отошли от бе-
рега, обогнули небольшой мыс, и показался городок.
Я снова сделал попытку установить, где же находится
дом Горького.
Но грустный старый моторист, лицо которого опять при-
няло устало-привычное выражение, меня никак не понимал.
«Горки, горьки?» — повторял он, пожимая плечами, и недо-
уменно поглядывал на сидящего рядом юношу с мокрыми
набриолиненными волосами — нашего гида-итальянца.
Я стал объяснять все сначала, теперь уже обращаясь
к обоим. Набриолиненный ему перевел.
— О! Массимо... Синьор Массимо! — вдруг заорал моряк.
Он мне долго-долго о чем-то рассказывал. Я долго его
- 127 -
слушал, а сам умоляюще глядел на переводчика. Тот улыб-
нулся и перевел.
— Говорит, что это так давно было... Он говорит,—ре-
вел переводчик (плеск и постукивание мотора мешали
нам),—что хорошо знал синьора Горького и всю его семью
знал...
— Рыбу — ловил — с Горьким! — стараясь перекричать
рев катера, приложив рупором руку, трубил переводчик.
И, показав на моториста: — Сам был тогда еще молодым че-
ловеком.
Моторист ждал переводчика, потом, как-то обрадованно
засмеявшись, опять стал о чем-то рассказывать. Рассказывал
и смеялся.
Был он сед, с крепкой красной грудью, круто выпираю-
щей — вылезающей из отвердевшей, выбеленной солнцем
рубахи. Лицо тоже красное, глаза голубые, блеклые. Старик.
Обыкновенный, простой лодочник, рыбак. Таких я видел в
Балаклаве.
Признаться, я не знал: верить ли мне в то, что он гово-
рил. Очень уж все это было неожиданно.
— Что он такое сказал? — спросил я.
— Он рассказывает, как один раз они даже поймали
с синьором маленькую акулу...
Акула эта была всего мне дороже.
Никогда, как видно, ему никому не приходилось про это
рассказывать... За много лет мы были первые русские тури-
сты в Италии.
Старик показал мне хорошо видимый с моря, стоящий
на виду дом, где одно время тоже как будто бы жил Горь-
кий. Красные стены гостиницы «Эрколяно».
Я не жалел, что побывал на Капри...
фКАК КОНЧАЮТСЯ ВОЙНЫф
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые..,
Тютчев
Никому неохота
Умирать на последней странице..^
Фронтовой поэт
•••••••••••••••••••••••••
ПРОРЫВ
1
Войска идут по дорогам, подняв головы вверх.
Все идут и смотрят на солнце. Что же это сталось с ним?
И откуда взялся, откуда взялся, когда появился он, этот
огромный радужный круг?.. Закинув винтовку на спину, на
ремень или с автоматом у бедра, но каждый.*- устремив глаза
в небо.
В небе — высоко стоит солнце. Уже с утра сегодня так
оно раскалено, но когда он, когда возник этот огромный
радужный круг?..
А само солнце оранжевое. Дымное.: Почти — черное...
Солнце под черной заслонкой.
И оттого,— должно быть, оттого, что его наглухо за-
крыли этой черной заслонкой,—лучи из-под нее скользят
куда-то вбок, свет пробивается в стороны. Как бы из-под
низу.;
5* 131
Все время было темно...
По всем дорогам, и полям, и тропам — никто не смотрел
под ноги — шли и шли войска, поднявши головы вверх. А это
оранжевое и будто черной заслонкой прикрытое солнце,
хотя оно и было огромным, оно почти не светило.
Странный и неестественный мрак разлился окрест...
И что это там еще, вдали от него, в сторонке. Погля-
дите-ка!
Какой колоссальный, невиданно яркий, сияющий круг.
Венец. Обод такой.
Этот обод светился.
С тех пор как взошло, вылезло из-за горизонта оно,
это — багровое, пылающее в тучах! — солнце, возник и этот
свет.
Какое редкое и больше всего странное, должно быть
никогда никем не виданное зрелище. И притом — это зре-
лище не одной минуты, нет! Мы уже час наблюдаем его.
Сразу же, как выплыло из-за горизонта, вокруг него заро-
дился этот огромный радужный круг.
Как только оно появилось на небе, оно почернело и во-
круг него возник этот нимб.
Вот отчего все идут и все на него смотрят, на это лох-
матое, задымленное — как через закопченное стекло! — неве-
роятное черное солнце.
Идут, не глядя под ноги и то и дело сбиваясь с ноги.
Неестественный сумрачный свет скользит по лицу.
• 2 •
Знаете вы, что значит подняться в атаку первым? Пер-
вым, не первым, все равно! Знаете? Сейчас я попытаюсь вам
объяснить это. Бывали вы на большой высоте? Смотрели, пе-
регнувшись, с большой высоты, откуда-нибудь с крыши или
окна десятиэтажного дома? Приходилось, доводилось ли вам
прыгать с парашютом? Ну, или хотя бы с вышки для прыж-
ков...
Чем-то это напоминает...
Помню, как я первый раз влез на парашютную вышку,—
сейчас уже это не в обычае, а тогда каждый паренек должен
был хоть раз попробовать спрыгнуть. Я вылез наверх, вышел
вперед по доске, парашют болтался где-то внизу — на мне
только лямки. Я знал, что ничего со мной не случится, пара-
- 132 -
щют удержит. Но когда я вылез наверх, сразу у меня согну-
лись коленки, сразу стеснило и захватило дыхание, и, всасы-
вая воздух ртом, я тянул что-то вроде «и-и-и». Так у меня
подобрало живот.
Вот тоже и в атаке, когда надо вылезти из траншеи на-
верх, выскочить под пулемет, под ветер атаки...
Так же, как с парашютом, только немного страшнее...
Я когда в сорок первом поднимался — было мне легче.
Наверно, потому, что молод был, и потому, что вторым...
Но очень это запомнилось.
Теперь мне не надо вылезать наверх. Я могу оставаться
в траншее...
Примолкшие, испуганные, даже подавленные пережи-
тым, бойцы (только что была танковая атака) стараются дать
мне дорогу, когда я прохожу.
Их не много... Я вижу, как они готовятся, как расклады-
вают по брустверу гранаты, убирают лишнюю, мешающую
им землю... Все молча.
Но что же, что же было накануне? Что было накануне
и как попал я в траншею в эту?..
Накануне был прорыв. Накануне я заснул. Да, да, я про-
спал самое начало наступления на Одере.
Говорят, шла такая артиллерийская подготовка и так
слепили прожектора, — а я все проспал. Прожекторов я не
видел. Но уже и сквозь сон слышал, как ревела артиллерия
и выдвигались танки. Спал я в нескольких метрах от воды,
от берега, на дне траншеи, тут же сразу за Одером. Завер-
нувшись в плащ-палатку.
Что такое со мной? Ведь вот так же спал я в сорок
первом году. Это было в лесу, где нас окружили и принялись
садить по нас из минометов. Страшно как ухало... Когда
пришли мы в лес, мы выкопали окопчики, устлали их ело-
выми лапками, даже сверху замаскировали теми же елочками.
И тоже — всю ночь по нас молотили. Темень была — глаз
выколи! И все так же, как я, спали. Когда проснулись, кру-
гом были поломаны деревья.
...Что это — от усталости, нервное?.
- 133 -
3
Мне странно сейчас смотреть на себя того, двадцатилет-
него, в окоп, в котором я сидел на Одере...
Я проснулся в доме недалеко от переднего края. Когда
все еще спали. Проснулся потому, что кто-то дергал раму.
Вокруг гремело, дом наш весь сотрясался.
Я знал свое дело хорошо. Если уже началось, значит, и
мне надо идти. Никаких приказов дополнительных не тре-
бовалось... Мигом я собрался, перекинул через плечо старую
сумку свою, тронул за плечо человека, спящего на кровати,
и сказал ему, что я пошел.
Даже и дорогу мне искать не надо, шел на звук этой
пальбы. Тут не очень далеко ведь! Было уже светло. И когда
я по шатким, расходящимся под ногой, погруженным в воду
мосткам переходил Одер, вставало солнце.
Ощущение радости утра рождалось во мне не только от
бодрости и от прохлады... Наконец началось! Я только доса-
довал, что никто заранее ничего не сказал мне. Что не счи-
тают нужным нас, дивизионщиков, предупреждать. Ведь на-
кануне небось всем все уже было известно. А вот не преду-
предили...
Сразу за Одером раскинулся плацдарм. С запутанными
ходами сообщения долина — разъятая, обезображенная.
Сверху, с дамбы, откуда мне показали расположение
пункта, которого мне хотелось достичь, все было как на ла-
дони. Но едва я спустился вниз, в эту громыхающую, изры-
тую и изрезанную ходами низкую прибрежную пойму, как
потерял всякую ориентировку и перестал очень скоро что-
нибудь вообще понимать. Куда я иду и что мне надо искать.
Так и прежде бывало со мной не раз.
Сунулся влево, вправо, пока не увидел, что заблудился
и что не так просто найти то, что сверху казалось таким
простым... Как на школьной карте.
Сначала я попал на хорошо скрытую позицию к двум
нашим минометчикам, братьям. Очень любопытная это была
батарея. Командиром батареи был один брат, а командиром
взвода другой. Оба тихие, неразговорчивые. Старший был
в подчинении у младшего.
Анатолий мне обрадовался.
— Это ты? — сказал он, когда я влезал к нему в зем-
лянку. Он сидел, согнувшись в три погибели...
- 134 -
Землянки у всех тут низкие — глубоко копать было
нельзя. Близко была вода.
Долго я. в это утро, еще до того, как поднялось солнце,
кружился по укрытиям, по незнакомым, неосвоенным и по-
тому еще беспорядочным ходам и траншеям. Траншея кон-
чалась, и я вылезал и направлялся куда-то в сторону. Пока
не сваливался в новую.
Было свежо, сыро, я вышел в одной гимнастерке, в своей
брезентовой плащ-накидке... И хотя только была весна, вто-
рая половина апреля, мы, может быть, раньше времени на
этот раз почувствовали потребность перейти на летнюю
форму одежды. Я уже сменил степную кубанку на прежнюю
свою фуражку, танкистскую, с бархатным околышем.
Так я лазил на этом плацдарме довольно долго... В са-
мом деле, когда я выходил, еще не рассвело, а теперь солнце
горело высоко.
Через командные и наблюдательные пункты, через ар-
тиллерийские позиции, тылы и полутылы, через боевые
порядки стрелковых подразделений в поисках информации
и своих друзей продолжал я петлять по траншеям и подви-
гаться вперед и, так вот продолжая соваться туда и сюда,
взял немного вправо — и тут неожиданно наткнулся на гене-
рала, вернее, на окоп, в котором стоял генерал с биноклем.
Генерал этот бегло и совсем не грозно взглянул на меня.
В зеленой фуражечке, черноволосый, с густыми, на висках
выбившимися из-под фуражки волосами и, видать, молодой^
Молодой и совсем не грозный генерал.
14, может, потому, что он был в своей зеленой защит-
ной фуражке, в темном кителе, я не сразу понял, что это ге-
нерал, командир корпуса.
Он явно обратил внимание на нового для него человека
и, хотя я ему не представился, ничего не сказал. Но едва
только я заметил этого прикладывающего бинокль к глазам
генерала, как я, по выработавшейся у меня привычке пря-
таться от большого начальства, обошел его.
Я все еще блуждал по этим канавкам, по этим запол-
няющимся подпочвенной водой траншеям, да они и были
слишком мелки, чтобы считаться траншеями, и по ходам со-
общения и без них — и вдруг уткнулся головой прямо в дверь
блиндажа. Только вместо двери висела обступанная, плохо
державшаяся и потому плохо прикрывающая вход, измазан-
ная глиной палатка. Попросту кусок брезента,.
- 135 -
Конечно, выкопанная наспех земляночка, а не блиндаж,
потому что смешно было бы называть блиндажом эту ямку.
Эту норку в земле. Какие только и могли быть на Одере.
Сидящий в ней командир полка, давно знакомый под-
полковник — длинный, тонкий, чтобы не стукнуться головой
о потолок, весь куда-то тоже сполз, но все же плохо поме-
щался в этой землянке.
Кроме него в землянке жались еще двое — телефонист
и сердитая, властная девица... То ли санитар, то ли повар,
так я и не разобрал.
Я пришел не в самое лучшее время. Подполковник в
своей этой более чем угнетенной позе, зажавши трубку
в кулаке, кричал:
— Подожди, подожди, говорю! Скажи мне точно: сколь-
ко? — Вдруг он повысил голос, глаза у него побелели.—
Сколько, я спрашиваю! Говори спокойно! Где? Справа, сле-
ва? Тридцать два?
Как будто все дело было в этом — два или тридцать два!
На них там шли танки.
Но подполковник знал, что делал: чтобы отвечать, надо
было, по-видимому, сначала овладеть собой. Шутка ли — три-
дцать два танка!
Прошло какое-то время, и тот же врывающийся в блин-
даж голос из трубки доложил: не тридцать два, а четыре.
— Слава богу,— сказал на это командир, — в восемь раз
меньше! — Взглянул на наши напряженные, вытянувшиеся
лица и усмехнулся.
Я спросил, какая есть возможность пройти в батальон.
А вот сейчас как раз туда должен идти старшина. Потом вы-
яснилось, что старшина этот сейчас идти не может, и мне
пришлось идти с комсоргом батальона, который знал только
направление. Я отыскал этого комсорга в щели, недалеко
от землянки командира полка. Я разбудил его, удивившись,
что он спит среди дня. Он хмуро посмотрел на меня и стал
перематывать портянку.
— Почему не в батальоне? — спросил я и смутился, сам
почувствовав, что не имею права задавать этого вопроса.
— Мне не положено там быть,—сказал он,—я должен
трупы убирать.
Потом объяснил, что он не спал всю ночь.
Мы — отправились. «Тут недалеко...» — сказал он мне.
Только потом, перед самым проволочным заграждением, мы
встретили подносчика.
- 136 -
Какое-то время мы шли по траншее. Потом траншея кон-
чилась и выступили холмы начинающейся слева возвышен-
ности. Усиленно стали пощелкивать пули.
По-настоящему нам так и не удалось ни разу разогнуть-
ся на всем этом пути. Хотя нам и не пришлось ползти. Комс-
орг мой, это выяснилось сразу, едва мы выбрались из поймы,
дороги не знает, а идет, лишь полагаясь на чутье. Он так
умело отговаривался, когда я его прощупывал, что не пой-
мешь — то ли знает, то ли не знает.
Мы теперь шли по краю залитой водой канавы. Что-то
вроде канавы или старого канала, протекающего в узенькой
долинке. Рва, заполненного водой.
В холодную, стылую вешнюю воду лезть не хотелось.
Глубина рва ведь неизвестна, может, по горло, а может, и
дна не достанешь. И вот, укрываясь за берегом того рва,
стараясь не свалиться, двигались мы узкой кромочкой. То и
дело останавливались, чтобы отдышаться.
Хитрая задача — не свалиться в воду и не вылезть на-
верх, где тебя тут же снимут.
Все же мы то и дело вылезали. Высовывались после
того, как соскальзывали вниз, и тогда раздавался выстрел.
Хитрая задача — ползти по краю почти отвесной стен-
ки — так, чтобы не вылезть наверх и не свалиться в воду.
Это почти что автоматическое действие: выставишь спину —
и срабатывает пулемет.
Минуту спустя мы должны были оставить нашу канаву.
Поперек легла круглая колючая проволока. Так называемая
спираль Бруно. Она была опущена в воду, а из воды подни-
малась на высоту.
Мы с сожалением вылезли наверх.
В нескольких метрах на вздымающейся слева высотке —
проход. Как видно, тут метнули гранату. А может быть, даже
и две. Прогал довольно большой, широкий, если бы только
не болтались во все стороны раскачивающиеся под ветром,
разорванные концы проволоки. Опасное место!
Под проволокой уже лежал солдат в ватнике, убитый,
должно быть, еще утром. Его серая, Набрякшая, затертая
землей спина была видна еще издали...
Как проскочить это место, не зацепиться, не угодить
под пулемет... И не угодить под пулемёт, и не зацепиться!
Не зацепиться было трудно.
Тут надо было прыгать.
Поглядывая на убитого, мы лежали в трех шагахч
137 -
Комсорг меня предупредил, чтобы я не сразу подни-
мался, а немного подождал. Действительно, едва он мет-
нулся к проволоке, как раздалась резкая, распарывающая
воздух очередь. Он был уже на той стороне проволоки и
опять лежал на земле, я видел, что он проскочил удачно.
Собьет или не собьет? Мне пришлось долго лежать, пока
не показалось, что можно вскочить.
О черт! Так и есть... Я зацепился. Зацепился плащ-на-
кидкой. Случилось то, чего я больше всего боялся. Но я рва-
нул — и она отцепилась...
Когда встаешь с земли — самый напряженный момент..
Очередь все-таки раздалась...
Хуже всего солдату, подносчику патронов. Мы его встре-
тили только что, в канаве. Он переставлял ящики с цинками,
ящик тяжелый, лежа делать это нельзя, и он переставлял
сидя... Мы были уже за проволокой, а он завяз и не мог
пересадить свои цинки. И пулемет бил по нему уже наугад.
Мы подхватили у солдата патроны, приняли их с рук
на руки и подождали, пока он переберется сам.
И еще не перевалили и холмы, как оказались в траншее.
На нас сразу же зашикали:
«Тише! Тише!»
Это нас удивило. «Не разговаривайте громко — немцы
рядом».
Я уже увидел Твердохлеба, комбата, знакомого мне...
Но как же мало из его. батальона осталось!
Подходит замкомбата — маленький, чернявый, немоло-
дой. Сам комбат — крупный, несколько неуклюжий, то ли
медлительный, то ли всю жизнь стесняющийся.
Я достаю небольшую записную книжку свою. Трофей-
ную, в дерматиновой красной обложке, на первой странице
которой написана одна-единственная строчка, чужая, так и
не разобранная мной...
Комбат улыбается. Ему, я вижу, странно, как это я по-
пал к нему, сюда. Хотя в один только этот день он взял две'
траншеи и деревню. Их всего осталось человек пятнадцать...
Ойи обступают меня. Все они очень удивлены и ожив-
лены, называют меня «редактором». Они, как видно, думали,
что обречены. Брошены в этот прорыв и забыты. И вот к ним
пришли, да еще из газеты.
Наперебой показывают мне только что подбитый танк.
Он сполз вниз, под уклон, он все еще дымит..
138
Бойцы выглядывают за бруствер с осторожностью. Ста-
раются зазря не высовываться. Только те, кто сюда попадает
внезапно, лезут куда не надо. Я знаю этих мальчишек, не
сознающих опасности. Ребят, которым все интересно...
Обыкновенный человек, попав на передовую впервые,
думает, что ничего тут опасного нет. И в самом деле, как
тут тихо, спокойно. Лишь те, кто живет здесь долго, ведут
себя осмотрительнее.
Не напрасно они нас остановили, когда мы ввалились
сюда... Так меня всегда встречают, когда я попадаю на пере-
довую.
Бывалый солдат к брустверу подходит с осторожностью.
Я и сам был всю жизнь парнишкой неуклюжим, который
ничего не понимает. Лопоухим бойцом из пополнения.
Моя книжка разбухает. Я стараюсь записать всех. Знаю,
что даже те, что стоят вдали, у бруствера, прислушиваются
сейчас к тому, что говорим мы. Даже вот этот гордый черно-
волосый лейтенант с орденом Славы. Какое у него одухо-
творенное, прекрасное лицо...
Но трудно их мне, тех, кто стоит в этой траншее, в пяти
метрах от немцев, делить на героев и не героев — обижать
никого не хочется.
Мне надо уходить. Уже темнеет, и я тороплюсь.
Сколько раз я приходил сюда вот так... Все эти послед-
ние полтора года. Приходил и уходил. Приходил в полдень,
а то и к вечеру, а уходил к ночи. Мне было легче, чем им.
Я не каждую ночь проводил в траншее. Я мог и уйти с пере-
довой, если хотел. Мог поискать ночлег.
Возвращаемся обратно прежним путем, опять проби-
раемся по топкому и скользкому берегу. Убитого уже убрали.
Под проволочным заграждением теперь лицом вверх лежит
сапер и ножницами режет проволоку. Все еще потрескивает
тот невидимый, с фланга, пулемет, но пули идут вверх, и
скользят, и вызванивают по проволоке.
В темноте мы с трудом находим НП..,
Вот что было в тот день.
4
• Впервые •
Лошадка бежит довольно резво, помахивает хвостом.
Возничий, он впереди, и лица мне его не видно, только лишь
изредка, когда та переходит на шаг, подергивает вожжами.
- 139 -
Этого достаточно, чтобы она опять понеслась. Ночь тихая,
мягкая, зимняя и все же довольно темная, без звезд. Нет-нет
да и принимается идти реденький снежок. Я чувствую это
по тому, как снежинки, падая, попадают мне на лицо, на
щеки и на глаза. Или тают на воротнике от дыхания, и под-
бородок у меня становится мокрым.
Снег идет так медленно и такой мелкий, тихий, что он
нисколько не заносит дорогу. Дорога поэтому не занесена.
Не переметена. Она хотя и непостоянная, но хорошо нака-
танная, езженая. Да и лошаденка крепкая, бодрая.
Я в сапогах, валенки мне еще не успели выдать, но в по-
лушубке и шапке, к тому же старик ездовой — какой хоро-
ший попался солдат! — укрыл мне ноги сеном, и мне тепло.
И хотя я впервые еду в часть и еще не знаю, что меня ждет,
я, видимо под влиянием этой необыкновенной тихой-тихой
ночи, сыплющегося из мглы раздумчивого белого снега, втай-
не от ездового и про себя сочиняю. Сочиняю стихи.
И, как ни странно, совсем не о войне... Меньше всего
о войне.
Несколько строчек написал.
Мы ехали. Вокруг были деревни, но не было нигде ни
одного огонька. Места эти еще совсем недавно освободили.
Все было разорено, жизнь не налажена. Деревни сожжены,
многие дотла. Жители ютились по землянкам. Где-нибудь
в оврагах. Народившиеся дети по полтора, по два года не
знали имен. Дети рождались, но записать их было пока негде.
Не хватало необходимого. Ламп, стекол. Это были — стран-
но! — деревни без ламп... В пяти ближайших деревнях, там,
где мы стояли, не было ни одной лампы, не сохранилось ни
одного лампового стекла. Освещались лучиной...
Мы ехали совсем вымершими местами. Только лесочки
виднелись в темноте. Да еще вставали сопки, сопки, где
в низинах между ними вилась эта дорога, которую не раз-
бирали ни я, ни возчий, ее видела только лошадь.
Приехали неожиданно. Хотя всю дорогу, пока ехали,
над дугой нашей вставали зарницы, вспыхивали и поднима-
лись ракеты! Раз от разу они делались все ярче, заметнее и
все ближе, ближе. Мы остановились у сопки, возле ее под-
ножья, как возле большой горы. Сопка эта была такой мол-
чаливой, что ночью, в темноте, казалось, что это стоит гора.
Взлетела и потухла, на этот раз уже из-за горы, взлетела
еще одна мертвенно-белая ракета. Где-то вовсе рядом, близ-
ко, изредка поварчивало, и начинал тут же, как бы спросонья,
140 -
разговаривать пулемет — давал одну-две кратенькие очереди,
и снова все замолкало.
В темноте, на фоне горы, перед носом совсем, на белом,
различимом снегу открылась дверь. Кто-то вышел, послышал-
ся разговор. Мой провожатый что-то отвечал.
Я неловко вылез из саней, только теперь почувствовав,
что ноги мои затекли.
Глаза притерпелись неожиданно быстро, и я уловил,
мгновенно угадал, уже не только смутные силуэты холмов,
но и темную,—сбоку, в двух-трех шагах от меня,—дверь
блиндажа. Дорога вела прямо к этой двери и к этой сопке.
Нагнувшись как можно ниже, я влез в землянку.
Сразу же меня обдало теплом, как в бане. Да, пожа-
луй, и впрямь это было похоже на маленькую баньку... Зем-
ляночка, блиндаж, построенная руками самих пехотинцев,
совсем не то, что построенная саперами!
Эту баньку я запомнил на всю жизнь. Небольшая, но на
две половины, и первая половина была, как предбанник, тем-
ная, черная.
Во второй половине — отсюда и шло тепло — топилась
печка и горел свет. Лампа, коптилочка, сделанная из обык-
новенного зенитного снаряда. Я понемногу осматриваюсь,
оглядываю эту маленькую пещерку.
Все курят, на цигарки отрывают от газеты, от той, кото-
рой прикрыт стол.
Я здесь первый раз и быстро знакомлюсь со всеми. Мне
освобождают место на нарах. Я только два-три дня как при-
был в свою дивизию, меня еще не знают...
В землянке, в которую я влез, топилась печка, сделанная
из куска трубы. Из чего только их не делают, эти печки!
И из банки, в которой танкисты возят тавот, и из бензобачка.
На худой конец, из обыкновенного проржавленного ведра и
даже из обычной самоварной трубы...
Какой-то чудной командир роты, лейтенант. Говорит
четко, неторопливо, но все как-то с шуточками, легко, иг-
раючи. Так и командует.
— Ординарец, пойди скажи ему (немцу), чтобы пре-
кратил...
Обстреливать начинает и впрямь слабее. Противник, как
мне сказали, вот уже который день нервничает: видимо,
что-то предчувствует...
И тем же самым тоном лейтенант, послушав, как ло-
жатся снаряды, близко ли, помолчав, уже обращаясь к нам:
141 -
— Ну что ж, закурим, что ли, для смеха?
Огонь как-то сразу стихает.
Тот же командир берет со стола пистолет, затем, погля-
дев на одного из сидящих здесь офицеров, видимо команди-
ров взводов, говорит:
— Ну что же, лейтенант, пойдем, что ли, проверим твою
оборону для смеха.
Они возвращаются, когда я уже засыпаю. Рассказывают,
что снаряд угодил рядом. Все сошло хорошо, только ранило
лошадь. В сопке этой у них и тылы, в горе прямо сделаны
и стойла для лошадей.
Я слышу, как, возвращаясь, веселый командир роты кла-<
дет свой пистолет на стол и говорит:
— Интересное дело эта война... Только страшное.
Кобуры у него нет, и пистолет он носит в кармане,
Перед тем как уснуть, я еще раз открываю глаза. Передо
мной корявая кора -бревенчатого елового потолка и тусклый,,
дымный свет коптилки.
Проснулся я поздно. Вчерашнего командира роты, когда
я проснулся, уже не было. Наскоро, из консервной банки,
перекусил я маринованной килькой и вышел. Вокруг было
бело.
Вчера на лошади я подъехал к самому переднему краю.
Траншея шла вокруг высоты, и начиналась она от этой
двери, дальше она спускалась в лощину и через белые поля
снова выходила на высоту. Но первое, что я увидел, ко-
гда вышел, я увидел не столько эту траншею, спускаю-
щуюся в лощину, а стоящее перед ней низкое проволочное
заграждение. Это было как огород. Как изгородь в снежном
поле.
Абсолютно безобидная картина...
Снегу еще мало, и весь он будто посыпан мелким тол*
ченым углем. И что странно — воронок как будто и нет. Сна-
ряды грызут мерзлую землю. Снаряду едва удается разбросать
снег, оголить, слегка оцарапать землю, стылую, скованную
морозом. Лишь вот эта одна, в двух шагах от дороги, огром-
ная воронка. Но это не от авиабомбы, а скорее от «Берты»!
Кратер глубок и наполнен водой. Вода застыла. А по
краю котлована — валуны, глыбы нераспадающейся, смерз-
шейся земли.
Местность напоминает северный шахтный поселок*
142
Я в юности как раз жил на такой шахте. Снег запорошен
мелкой, темной фугасной пылью. Вот так и там они сте-
лются, такие же обугленные, запорошенные черной угольной
пылью просторы. Но здесь, среди этого серого снега, почти
белые печные трубы — следы деревенек. Да еще — блинда-
жи, блиндажи. И по оврагам — землянки. Они в каждой сопке
и в каждой траншее.
И куда ни глянешь, куда ни пойдешь — видна эта
узкая, убегающая вдаль траншея. С одной стороны ее бру-
ствер — бугор красной глины или такого же красного сы-
пучего песка. А в каких-нибудь десяти метрах, по другую
сторону этого глинистого бруствера,—другая траншея, вра-
жеская.
Обе траншеи, словно рельсы железной дороги, идут
иногда строго параллельно. И если наша траншея делает кру-
той поворот, то такой же поворот, изгиб, зигзаг делает не-
мецкая. Зачастую во всем до странного копируя прихотли-
вую линию другой. Но иногда они — это зависит от мест-
ности — вдруг резко уходят, отходят одна от другой. Как бы
отталкиваясь друг от друга. Сходятся или, наоборот, расхо-
дятся...
Я такого переднего края до этой поры не знал.
Я помню, как в первый день войны мы, вкопав свои
танки (не было горючего) и расстреляв все снаряды, выхо-
дили мелкими группами, стараясь держаться подальше, вдали
от больших дорог. Ночью, в лесу, наскоро рыли окопчики,
одиночные ячейки. Со своим старшиной мы копали одну —
на двоих.
Никаких траншей, лишь наскоро, в ночь, иногда копали
окопы, если успевали.
Только для того, чтобы назавтра их снова покинуть.
Только для того, чтобы пересидеть ночь и, если бы
противник вздумал выйти на нас здесь, было бы где укрыть-
ся, на тот случай, если бы пришлось отстреливаться. Но,
как правило, утром мы покидали эти ячейки, немцы нас
обходили, были давно далеко впереди нас. Какие уж тут
траншеи!
Из всего полка нас вышло несколько человек.
...А главное, совершенно было неясно, где немцы, где
свои. Мы выбирались из окружения и попадали в новое.
Немцы, двигавшиеся по дорогам, всегда оказывались впе-
реди нас.
Война началась для меня на западной границе... Я один
- 143 -
из немногих, немногих оставшихся в живых. Один из родив*
шихся в 1921 году.
Когда началась война, нам было по двадцать лет.
Нас почти не осталось.
В тот день — мы стояли тогда на окраине, в казармах
города Броды, в которых до нас размещались польские ула-
ны,—утром, когда еще не встало солнце, нас поднял с кро-
ватей возглас дежурного: «Тревога!» Накручивая портянки
и обмотки, еще не проснувшись окончательно, мы никак не
могли сообразить, почему нас разбудили так рано, да еще
к тому же в воскресенье. Никаких тревог в воскресенье не
должно было быть.
Но когда я выскочил из казармы — я был посыльным
к командиру роты и по тревоге должен был бежать к нему,—
едва я выскочил из дверей, я услышал пулеметную очередь
и, подняв голову, увидел низко прошедший над самой кры-
шей самолет. Нет, сначала тень самолета, проплывшую по
стене. Потом я уже увидел самолет. Я не успел различить
на крыльях, ни на крыльях, ни на брюхе, никаких знаков, так
как они были непривычные...
В конце дня мы принялись оборудовать те окопчики,
о которых я уже сказал. Танки у нас стояли на территории
городка, «на катушках», и были законсервированы — гусе-
ницы смазаны солидолом и уложены на крыло, а пулеметы
вынуты из шаровых установок, разобраны и перенесены
в казармы и тоже для предохранения покрыты густой
смазкой.
Потом началось отступление.
После всего пережитого в сорок первом году я снова,
теперь — в сорок третьем, попал на фронт, на передний
край. Через полтора года...
Все выглядело теперь по-другому.
...На передовой тихо. Не подают голоса минометы, мол-
чит артиллерия. Можно усомниться, что именно здесь про-
ходит передовая. Только когда неглубокими ложбинками
доберешься до самой траншеи, видишь в ней людей...
Мы идем по траншее, и как раз в это мгновение раз-
дается свист. Вернее, посвист и крик.
— Эй ты, фриц! Какого ты хрена вылез?!
Фриц действительно вылез и машет лопаткой.
— Вот я его сейчас,— говорит командир артиллерийской
батареи, отбирает у бойца винтовку и целится.
Выстрел...
144 -
5
9
Ночь я ночевал там, на Одере, на дне этой влажной, пах-
нущей землей траншеи, уснул и не слышал, как были вклю-
чены прожекторные установки. Когда смолкла артподготов-
ка, включены прожекторные эти установки и началось на-
ступление.
Я так устал в этот день, что бабаханье за бруствером,
там, меня совершенно укачало. Я на самом деле так крепко
спал в этой траншее, что так ничего и не слышал. А когда
пробудился, вокруг никого не было и солнце, вставшее за
спиной, было высоко.
Я пропустил самый интересный момент.
Траншеи были пустыми, а солнце было уже в небе...
Я только-только успел вернуться, дойти до своих. Кто-то
им уже сказал, что я убит.
Солнце в тот день так и не вышло, не взошло.
После той страшной, после проведенной в ночь артил-
лерийской подготовки столько земли, пыли поднялось к об-
лакам, что солнце стало черным.
Дыму. Пыли. Гари. Всего.
И вот, когда мы пошли вперед, встали с плацдармов на
Одере, это пылающее над нами черное космическое солнце
долго еще не могло пробиться сквозь всю эту завесу, и про-
бивался только его радужный нимб.
Тени бежали по земле.
Такой неестественный, яростный блеск разлился по по-
лям, что зрелище того дня напоминало затмение солнца.
Это было так неожиданно и так действовало на наше
воображение, что воспринималось как знамение.
Поднявшаяся пыль висела над нами, в небесах, все время,
пока мы шли к Берлину. Но особо густой она была в тот
первый день.
Если бы пошел дождь, он наверно бы лил вместе с зем-
лей и пеплом, как при извержении вулкана...
В первый день мы продвинулись на одиннадцать кило-
метров.
Потом, на другой день, произошла остановка. Но опять
все загудело, все началось сначала.
Наступали мы с кюстринского плацдарма. На Одер мы
пришли со своей дивизией всего недели за две до наступ-
145 -
ления и обосновались сначала в каком-то небольшом, уютно
обставленном доме на отшибе.
Одера самого я не видел, никто из нас его не видел.
Сразу от нашего крыльца тянулся большой сосновый лес,
а проехав этот лес, можно было попасть в городок. Когда мы
пришли, в лесу сохранялись еще островки нерастаявшего
снега.
Дни стояли серые, однообразные. Предвесеннее солнце
пряталось неизвестно где...
Мы стояли на Одере, а самого Одера не видели. А по-
глядеть на Одер хотелось! Полки наши были выведены,
а вернее, их еще и не вводили. Здесь, в нескольких ки-
лометрах от переднего края, от одерского плацдарма, на
одном из озер в этом лесу они учились преодолению водной
преграды.
Что за Одер, какой он? Слухи были разноречивые. Одни
говорили, что наши на дамбе. Но с какой стороны? На той?
Или на этой? Находились знатоки, что утверждали, что
наши на Одере на той стороне. Что плацдарм уже отвоеван,
и Одер форсировать нам не придется.
Просыпаясь по ночам, я иногда слышал, как бомбят
Берлин.
Тогда-то я и забрался на вышку.
Откровенно говоря, никакой вышки не было, была кирха.
Она стояла у дороги, небольшая немецкая кирха. Я забрался
наверх, «на колокольню». И мне удалось тогда же увидеть
Одер. За лесами, в стороне, блеснула его узкая холодная
полоска. Но особенно хорошо помню ту дрожь, которую я
испытал, когда поднялся на кирху, дрожь и этот холодок
под коленками. Давно забытое ощущение высоты.
А первый раз я попал на Одер, когда мы уехали из бла-
гоустроенного того дома. Полки наши заступили свое место.
Неожиданно Одер оказался очень широким, разлившим-
ся во все стороны, заблудившимся в плавнях.
Пришел я ночью и только днем его увидел по-настоя-
щему.
Он был весенний, еще весь мутный, белесый. Я шел по
понтонному мосту, тогда уже полузатонувшему, уходящему
все глубже под воду...
Вот как это все было. Теперь я до конца все рассказал.
Когда батальон Твердохлеба вел бои в глубине немецкой
обороны, я был на Одере вторично.
- 146 -
Но это была только разведка боем..*
Ночь я провел на плацдарме, в этой траншее, а на дру-
гой день утром, когда войска пошли вперед, показывал, где
надо переезжать. Ехали на нашей расшатанной и перегру-
женной машине...
А к выходу на Одер, к часу, когда на Одер вышли вой-
ска наши, мы не успели. Опоздали! Когда пришли, там уже
был плацдарм и были другие части...
Дело в том, что нам пришлось догонять. При наступле-
нии в Померании фронт наш ушел далеко вперед, а армию
нашу повернули круто вправо, к морю, к взморью. И, оттес-
нив, отрезав разрозненные немецкие части, мы гнали их к по-
бережью.
Прямо по дорогам.
Никакой линии фронта тогда не существовало. Моро-
сили бесконечные дожди. То ли потому, что было время
дождей, то ли от близости к морю.
Я отстал к тому же от своих, вернее, потерял,—
частенько меня даже не считали нужным ждать, уезжали без
меня, когда я уходил в части, — не мог найти нашу кибитку на
этих растянувшихся дорогах, и я ехал с машиной какого-
то полка - то ли с хлебопекарней, то ли с вещевым скла-
дом...
Мокрый, гладкий, лоснящийся асфальт дорог.
Целыми днями под дождем, под секущей лицо моросью,
застилающей дали. Мы ехали и ехали. День и ночь. К морю,
к Балтике. Мимо фольварков и деревень, мимо разинувших
рты немцев..^
9 б •
Пыль так и не садится. Тяжелая, липкая, она лезет за
воротник, жирным слоем ложится на рукава, на плечи. Такой
же пышной шубой покрывает стекло кабины, радиатор. Пыль-
ная трава, пыльная дорога, пыльные кусты.. Машина проби-
рается по этой пыли ощупью, наугад..г
Я стою, держась рукой за дверцу, стою боком. На под-
ножке.
В кузове грузовика я оставил свою плащ-накидку, и те-
перь весь этот слой мягкой, нежной белой пыли покрывает
мою гимнастерку...
Пыль, пыль, пыль.
Мы движемся в этой пыли, как в тумане, в двух метрах
147
уже ничего не видно, а я потому и стою на крыле, чтобы по-
казывать дорогу.
Должно быть, лицо у меня такое же черное, как у на-
шего водителя. Даже чернее, потому что мне на этой под-
ножке достается еще больше...
И как же немного надо. И ведь еще весна, еще сыро.
А вот выдался один такой сухой день, и уже пыль... Одного
такого дня было достаточно. Такого жаркого дня и дороги.
Такого неисчислимого количества машин — сколько колес
тут прошло! Всей этой техники, которая прошла этой рав-
ниной, полями, где еще день-два назад и дороги-то никакой
не было. Чтобы мы задохнулись теперь в ней, в этой фан-
тастической душной серой пыли, как в облаке!
Когда сегодня мы подъехали к переправе на Одере, я
стоял на мосту — машина ждала своей очереди,—стоял у
края этого колеблющегося, качающегося, наведенного пон-
тонерами моста. Как все в этот день — возбужденный, увле-
ченный потоком людей, двинувшихся за Одер.
Я был весь какой-то взбудораженный, будто пьяный.
Я прыгал на этом наплавном мосту. Мне было весело, и
всей этой ночи, которую я спал в окопе, ее будто не было,
ее будто рукой сняло.
Я — пьяный — стоял на качающемся мосту и, провали-
ваясь, раздавал газету.
Я что-то кричал, как все, беспричинно и радостно ру-
гался, размахивал руками и газетой. Удивительно, какое
было утро.
Теперь, через два часа, стоя уже на подножке нашей
машины, я вспоминал, заново переживал свой переход через
Одер. Вспоминал и то, как это было все, когда я с плац-
дарма, от Твердохлеба, вернулся в редакцию. Возвращение
мое восприняли то ли с удивлением, то ли с испугом. Это
все оттого, что меня уже не ждали.
Одер играл, тек он еще быстрее. Прибыла вода. И все же
от берега и до воды было далеко, надо было преодолеть по-
лосу густого, высокого тростника. Мы долго ехали через эти
тростники.
Понтон сильно опустился, лег на воду. Машину раскачи-
вало, мотало во все стороны, и я обеими руками держался за
дверцу кабины. Митя хотел, чтобы я показывал ему, как
ехать. Вот почему и стоял я на этой ступеньке, на поднож-
ке... А иначе должен бы лезть в кузов и сидеть там вместе
со всеми. Я даже думаю, что на подножке я чувствовал себя
- 148
лучше. Здесь хоть было чем дышать. Там, сквозь рассох-
шиеся доски кузова, лезла только пыль... Вот почему, когда
я на остановке открыл им дверь, их укачало, они сидели как
полуживые, тихие, задохнувшиеся, осоловелые. Все мол-
чали.
Я поразился их странному виду.
Все было в той же пыли. Ведра, скатки, котелки... Когда
мы тронулись, мы впервые не закрыли дверь.
В том месте, где мы переезжали Одер, немецкая траншея
была к реке ближе. Она проходила сразу на высотах, где
повыше. Район плацдарма, где я вчера лазил, и ров с водой
были не здесь, а левее. Но местность была одна, как и всюду,
сплошь изрытая траншеями, окопами. Однако никаких зубов
дракона, ничего такого, чем нас пугали, ни противотанковых
рвов, ни мощных железобетонных сооружений, ничего та-
кого здесь не было.
Но сама уже местность за Одером для немцев была вы-
годной. На западном берегу — по-над берегом — за этой пой-
мой тянулись высоты. По ним-то и проходил передний край.
Вторая линия их обороны.
Мы как раз проезжали эти высоты. Сразу, как мы под-
нялись на холмы, рядом с дорогой, на одном из этих холмов
стоял дом, и он вовсю горел.
Мы объехали этот горящий дом, спустились вниз, в до-
лину, и лишь тут, в трех или даже четырех километрах от
Одера, я увидел трупы. Не в траншеях, а на скате лежало
несколько человек в зеленых одеждах. Первые увиденные
мной на Одере убитые...
Мы долго так ехали, ехали почти без дорог, коле-
сили по тропам и по голым еще склонам, по прошлогод-
ней сухой траве — рыжей, серой. Трава была вытоптанная,
мелкая, курчавая — заросшие полевым горошком, сухой по-
виликой склоны. Всем тем, чем порастают склоны холмов
и в России.
Вот тут-то и выперло из-за спины то багровое, прячу-
щееся солнце. С каждой минутой оно все разгоралось, ста-
новилось все горячее. Затем уж мы выехали на полевую до-
рогу, проделанную, видимо, только в эти дни, и теперь час
едем в этой пыли, очумевшие, невообразимые, и с трудом
узнаем своих.
Пыль, пыль... Она ложится на лица, на одежду. Нара-
стает, как мох. Мы и вовсе глохнем от этой пыли... Слой
пыли покрывает и плечи, и грудь, и мои новые сапоги...
- 149 -
В самом деле, мы уже ничего не видим и не слышим, где
мы едем, — ни впереди, ни по бокам, ни дьявола не видно.
Продвигаемся, как караван в пустыне.
Порой начинает казаться, что мы плывем. Машина будто
плывет по волнам, пыль от впереди идущей машины зали-
вает колеса, набегает волнами, будто вода. И мы с размаху
вплываем в эти волны. Вот отчего машина катит так мягко,
только когда колесо попадает в ухаб, тогда целый сноп пыли
летит на меня и долго ничего не видно.
Кто-то меня окликает. Оказывается, вот эта повозка, ко-
торую мы догнали, — наша полевая почта. Мы ехали за ними
следом и не знали этого.
Мне передают письмо. От сестры или из дому? Братья
и сестра моя живут в Кировской области. Нет, письмо с
Урала! Тут же, стоя на своей подножке, я нетерпеливо раз-
рываю конверт. В руках у меня несколько листочков. Я не
стал читать, не мог, все плыло перед глазами... Качало силь-
но. Но одна страница, я успел заметить, была пустая, и на
ней была крохотная желтая лапка, как листок клена... Ма-
ленький листочек клена. Я думал, это листок клена. А это
была рука моей дочки.
К вечеру лишь въехали в селение одно, но и в нем не
остановились. Мы оторвались от своих, и нам надо было
спешить. Спустившись вниз, переехали какую-то речку, по-
видимому речку, так как я тотчас услышал, как затарахтел
настил моста. Дорога резко пошла под уклон.
По-прежнему я стоял на подножке и смотрел в воду.
Точнее сказать, смотрел под колеса, куда мне и надо было
смотреть.
И вот тут, когда мы съехали уже с горы, когда мы уже
стали спускаться, по голове меня ударили ноги. Сначала я
почувствовал удар, но потом увидел, как качнулись у меня
перед глазами эти ноги в темных носках. Пальцы ног.
Он качался в петле над мостом, перед этой дорогой. Ни
лица его, ни одежды я не успел разглядеть и видел только
эти зацепившие, ударившие внезапно меня по голове ноги,
ноги солдата.
Это были ноги немца, солдата. Ноги повешенного.
Дезертира или просто отступившего солдата...
Ударившие, а потом протарахтевшие о крытый верх ма-
шины, кузова.
Так что мои товарищи, сидящие там, даже не поняли,
что произошло.
150 -
7
• Дивизионныйкорреспондент •
Не все знают, что по дорогам войны Двенадцатого года
двигалась этакая странная повозка, доверху нагруженная ко-
лымага... Это было не что иное, как полевая походная типо-
графия, в которой печатались листовки к солдатам француз-
ской армии, сводки и приказы Светлейшего. Своего рода
боевые листки. Первая армейская походная редакция. И с
этой редакцией шел, в ней находился Василий Андреевич
Жуковский. Прославленный поэт. Певец во стане русских
воинов.
Наши армейские, дивизионные, фронтовые редакции на
дорогах войны, в потоке наших войск и были такими вот по-
левыми походными типографиями-редакциями... А молодые
поэты, мы, молодые журналисты, вчерашние солдаты — не
кем иным, как певцами во стане советских воинов.
Такую же вот точно повозку, или кибитку в виде авто-
машины-полуторки, представляла собой редакция нашей ди-
визионной газеты. Такими были они все...
Газета называлась «Воин родины»... Ну да, я же ска-
зал — «певец в стане русских воинов».
В редакции я считался самым младшим работником и
носил звание «литературный сотрудник». Все мы этого сво-
его звания — я и мои товарищи в других дивизиях,—слова
этого не любили: сотрудники — это те, которые сидят в кон-
торах! — и называли себя дивизионными корреспондентами.
Корреспондентами дивизионной газеты. Что, по нашему мне-
нию, куда более соответствовало и должности и характеру
нашей работы...
Длинноволосый и сутулый, иду я по траншее. Тень
моя — еще более нескладная, длинная — ложится на бруст-
вер, на стенку... Через час, через два начнется атака.
Кем я был на войне?
Для нашего редакционного печатника (он же начхоз),
тем более для какого-нибудь закоренелого штабиста, я был
почти героем, человеком переднего края. Тем, кто лез в са-
мое пекло. В глазах же какого-нибудь взводного я и сам был
тыловиком, изредка, раз в неделю, приходившим к нему в
траншею.
Редакция, если взглянуть со стороны, представляла со-
бой довольно пестрое зрелище. Этакий цыганский табор!
- 151
В деревянный, рассохшийся кузов полуторки было спихано
все немудреное и несложное хозяйство — наборные кассы,
бумага, перепачканные типографской краской шинели и ват-
ники, вещевые мешки и, наконец, люди: два-три наборщика,
печатник, редактор, его зам, секретарь и ты — литсотрудник.
Сама газета была маленькая. Обыкновенная двухполос-
ка. Лишь немногим побольше листа бумаги писчей. Выходи-
ла она через день.
Но я возвращаюсь к должности корреспондента.
Корреспондент дивизионки — это даже не чин: он был
существом, которому никто не подчинялся, зато сам он под-
чинялся всем.
Он главным образом ходил, и в этом заключалась его
работа. Пять дней в неделю он ходил, добывал материал.
А иногда, к вечеру, в тот же день возвращался в редакцию.
Ночевал там, где застигнет ночь.
Пять-шесть дней в неделю он ходил, а на шестой-седь-
мой — отсыпался. А иногда и не отсыпался, и не отписывался.
Если обстановка менялась, снова шел... Сегодня в один ба-
тальон, завтра — в другой. Ходил с переднего края в редак-
цию и обратно.
Сновал, как челнок.
Батальон выводили из боя, но ты переходил в тот, кото-
рый вводили в бой. Чтобы все время иметь нужную инфор-
мацию. Основной ходячей единицей газеты был корреспон-
дент...
Писать приходилось все. Оперативный репортаж, бое-
вую информацию и так называемый «боевой опыт». Статьи
для отдела боевого опыта. Сегодня о пулеметчиках, завтра
об артиллеристах. Послезавтра о минометчиках.
Корреспонденты-дивизионщики подтвердят мои слова...
Редко что из этого подписывалось своей фамилией.
Литературный сотрудник должен был, кроме того, уметь
писать стихотворные шапки, а иногда и стихи, зарисовки, а
если в силах, то и рассказы. Чтоб было что поставить на
подвал. А еще лучше, если он был художником и при слу-
чае мог, например, вырезать заголовок своей газеты.
Я вырезал свой из куска линолеума, выдранного на кух-
не в каком-то доме. Тот, старый, что у нас был, на цинке,
настолько сносился, что им нельзя уже было пользоваться.
Нового, сделанного мной, хватило до Берлина...
Даже заметки для отдела юмора...
Все приходилось делать.
- 152 -
Жарким, знойным полднем мы пылили по дорогам, или
в холод, по снежным большакам, буксовали среди машин и
движущихся колонн.
Частенько приходилось вытаскивать машину на себе.
Шофер Митя открывал машину, мы выскакивали и кричали
ДРУГ Другу:
— Вагу! Вагу давай...
И мы говорили тогда, шутили: «Лучшие годы были от-
даны ваге».
Останавливались на хуторах, а то и просто во рву, где-
нибудь в старом, другими вырытом блиндаже, чтобы через
несколько дней снова двинуться в путь. Снова кружить по
дорогам.
Мы много ходили и много ездили. Но уж если выдава-
лась тихая минута, времени зря не теряли. Отписывались.
Сидели, листая блокнот, засиживались допоздна — за корот-
кое время вырастала целая стопа заметок.
Иногда подолгу стояли где-нибудь в овраге, в чужих,
иной раз даже немецких блиндажах. И тогда, когда так дол-
го стояли на месте, все тропы и все дороги становились из-
вестны, и можно было заранее знать, где находится тот или
иной полк. Его легко было найти.
Вообще же поиски эти — одна из самых больших труд-
ностей в деятельности дивизионного корреспондента. Каж-
дый ведь раз идешь в другой полк, в другой батальон. Из ди-
визии — в полк, из полка в батальон, а из батальона в роту.
Затем — во взвод, в отделение, в боевое охранение или
на наблюдательный пункт.
Ты — не полковник. Даже не командир взвода. «Свиты»
у тебя нет, связного тоже не положено. Так что всегда идешь
один. Хорошо, если еще в пути тебе попадется какой-нибудь
санитар или повозочный, доставляющий боеприпасы.
Я плохо ориентировался.
Опасность попасть к немцам, мысль об этом была более
или менее постоянной. Лучшего «языка» трудно было бы
придумать. На боку у тебя всегда висела твоя планшетка, до
отказа, доверху забитая твоими записными книжками и блок-
нотами, к тому же карта-километровка с твоими отметками,
с пометками о расположении частей. В блокнотах твоих был
весь командирский состав дивизии. Все фамилии.
Мне всегда становилось не по себе, когда я об этом
вспоминал...
- 153 -
Один раз я дошел до вражеских позиций и пошел бы
дальше, но натолкнулся на проволочное заграждение. В дру-
гой раз, зимой, вышел в тыл немецкому тяжелому орудию и
благополучно ускользнул, тем же оврагом вернулся обратно.
Только потому, что услышал чужую речь. В третий — это
было летом — долго шел на высотку, через самую ее макуш-
ку, ложился, пережидал налет и снова шел, хотя били прямо
по мне, я это потом понял, заметил суетящихся возле пушки
артиллеристов. Они думали, вероятно, что я за собою веду
роту в атаку, прямо через эту высоту. Комья земли били по
спине.
Сорванные с кустарника, медленно летели листья, а я
поднимался и снова шел.
Шел, пока не напоролся на эту пушку и пока — тут же
на высотке —- не увидел этих бегающих в панике артиллери-
стов.
Я шел так прямо и уверенно потому, что встретившийся
солдат сказал мне, что я могу идти смело, так как дальше
наших траншей никуда не уйду. Он сказал правильно. Но
зачем мне было забираться на высотку!
И дважды еще чуть не попадал к немцам.
Я потом, когда спустился с этой высоты, в овраге встре-
тил своего друга. Он стоял у двери блиндажа и, поглядев на
меня, спросил, почему я оттуда иду. «Там же немцы»,—ска-
зал он как можно спокойнее.
Я видел неудачную атаку еще одной высоты. Я это за-
помнил. Вокруг, слева, справа, выскакивали из траншеи бой-
цы. И как капитан, командир штрафной роты, над ухом у
меня дул в свою дудку и пытался острить.
Потом я видел, как штрафники бежали гуськом по тропе
через болото, падали, а впереди был огромный разжалован-
ный сержант. Сопку они взяли, но через полчаса их выбили.
В другой раз я был на рубеже атаки. Не в траншее, на
мерзлой земле. Там была схватка в овраге. Один старший
сержант,—я помню его фамилию: Балин,—долго бежал за
немцем, тот отстреливался... Почему-то это очень рассердило
сержанта. Он мне жаловался.
Таща за собой пленного, он прошел мимо меня.
— Товарищ старший лейтенант! Он в меня стрелял,
гад! — И всхлипывал от обиды, и показывал на захваченного
немца, и норовил его ударить.
Никак не мог поверить и вобрать в голову, что в него
можно стрелять. Страшно возмущался..
- 154
Я все это видел своими глазами. Сержант бежал за нем-
цем по лощине. А немец тот повернулся и успел сделать
один или два выстрела. Потом вскочил с испугу в блиндаж,
но тут же вышел с поднятыми руками. Важный был немец,
эсэсовец, командир роты...
Я видел много примеров героизма. Подлинного. Повсе-
дневного. И душевной красоты, и самопожертвования, и
главное, главное — терпения в преодолении тягот войны.
Расскажу и вовсе маленький эпизод. Это было зимой в
сорок четвертом году на Калининщине. Меня встретил на-
чальник наш и сказал мне, что в дивизии у нас произошел
такой вот случай: солдат один лег на проволоку, чтобы по
нему могли пройти... Под огнем.
Это было так. В той же атаке, о которой я уже писал в
случае с Балиным, один боец, только не солдат, а младший
сержант, татарин, фамилия его Саитгалин, так и лег на про-
волоку, на спираль Бруно. И тогда по нему, как по мосту,
прошли бойцы его отделения. Я это видел.
Возвращаясь в редакцию, я завернул на КП полка и рас-
сказал об этом случившемуся там заместителю...
— Видели, а не написали, — сказал мне теперь недоволь-
но подполковник, не дослушав моих объяснений.
И больше не стал меня слушать.
— А я написал,— сказал я ему в спину.
Но он уже ушел,
В самом деле, вернувшись в редакцию, я, раньше чем от-
мыть себя от грязи, сел писать статью, где я описал этот
подвиг. Мне казалось, что о таком подвиге должны знать все.
Но заметка пролежала две недели и появилась сначала в ар-
мейской и только после этого — в дивизионной.
Почти все материалы, за редким исключением, шли за
подписью бойцов, сержантов. Иногда офицеров.
Героев было много, материалу хватало! Иногда недоста-
вало фамилий для подписи. В таких случаях под корреспон-
денцией подписывали нашего шофера, Митю Куликова. Он
был по званию младший сержант. Так и ставили: «Младший
сержант Д. Куликов». Обычно в таких случаях открывалась
дверь блиндажа и слышалось: «Митя, ставлю твою фами-
лию?» Митя, чаще всего лежащий под машиной, кричал:
«Давай, товарищ старший лейтенант!» Митя нам доверял.
Когда дело касалось совершенного подвига, у Мити не было
отказа.
- 155 -
Из девяти дивизионных корреспондентов, моих товари-
щей, работавших в других дивизиях армии, таких же, как я,
молодых ребят, — почему-то почти все мы писали стихи,—в
живых осталось не много. Трое были убиты, двое тяжело
ранены.
Некоторых из них я знал. Мы иногда встречались на
больших фронтовых дорогах, в местах выхода из своих ча-
стей. На фронтовых перекрестках. Я теперь вижу, как много
в нас было общего. Все мы были в чем-то друг на друга похо-
жи. Сверстники. Худые, черные от ветра, от мороза. В гряз-
ных полушубках, в зелененьких плащ-накидочках. С неиз-
менной планшеткой через плечо... Не всегда с пистолетом.
• 8 •
Еще какой-нибудь день-другой назад было тепло и даже
жарко. И вдруг начались дожди, и все переменилось. Сразу
стало холодно. И дорога сразу изменилась, ее просто не
узнать.
Мы стараемся согреться на ходу, но все, что есть на
нас, — и шинели и ватники, — все это давно промокло, и нам
зябко.
Так же как под этим багровым солнцем мы шли вчера,
подняв головы вверх, так сейчас идем, глядя под ноги и об-
ходя лужи. Я иду в колонне.
И я тоже иду, я — один из миллиона вставших на Одере.
Капля в потоке.
Дороги уже не могут вместить всех, и мы идем по обо-
чинам. Но можно ли называть дорогой то, что от нее оста-
лось? Танки разворотили и вконец разрушили то, что было
дорогой. Уж лучше идти стороной. Суше.
Шинели на нас набухли, разбухли. Они уже парятся,
они так напитаны водой, как может напитаться водой только
шинель. Сколько дождь ни идет, с нее никогда не течет. Она
все впитывает в себя.
Она тяжелая, как колокол...
Гораздо легче идти тем, кто в телогрейке или в корот-
кой, до колен, ватной зимней куртке.
Я в шинели, шинель у меня длинная, с узким снимаю-
щимся хлястиком, с большими простроченными отворотами.
Когда-то, видимо, фасонистая и модная, но теперь и старая
и крепко вытертая. Она велика мне, явно уже не по мне,
156 -
хотя у меня уже давно и досталась мне еще в запасном пол-
ку, в Челябинске. Когда я, после госпиталя, зимой сорок вто-
рого прибыл туда, шинели у меня не было. На мне была
только холодная курточка, униформа танкистов: очень хоро-
шая куртка, называемая танкистами в те годы кирзовкой.
Должно быть, водители бронемашин Гражданской войны но-
сили кожаные куртки, а когда мы пришли в сороковом году
в свои полки, нам уже достались только кирзовки — черные
брезентовые строченые куртки, прорезиненные, с черными
большими пуговицами, со звездами на них: танкистские кир-
зовки с двумя карманами по бокам и двумя карманами на
груди, с двумя клапанами, застегивающимися на большие
звездные пуговицы. Одежда богатыря.
Кирзовку у меня вскоре отобрали, в запасном полку она
была не положена. Взамен старшина выдал мне эту нынеш-
нюю «бэу», ношенную, с плеча какого-то офицера. Я уж и
тем был доволен. Если бы выдали новую, так называемую
английскую, махорочного цвета, была бы еще хуже. Та сши-
та на осла, а не на человека, ее никто на себя не наденет.
Не подгонит... Будешь в ней как замороженный румын...
А кирзовку свою я долго еще потом вспоминал... Я ведь
в ней в сорок первом году весь путь отступления проделал.
И уж не знаю, что было легче, отступать тогда, в сорок пер-
вом, в легкой той кирзовке, или идти сейчас к Берлину в
этой налитой, набрякшей от дождя шинели.
Мы шли тогда, помню, ноги были растерты в кровь, мно-
гие были разуты, совсем без сапог. Мы шли уже пятые сут-
ки. Немец подгонял нас в спину из пушек...
На рукаве у меня была одна большая звезда. Я был за-
местителем политрука роты.
Я видел, когда вышли на большие дороги и оказались в
общей массе отступающих войск, как те, у кого не было сил
идти, те стрелялись. Кто не мог идти и не мог уцепиться за
какой-нибудь транспорт, влезть на проходящий танк или на
трактор.
Мы по сто километров в сутки шли.
У меня не было винтовки, и я помогал одному бойцу
нести винтовку, время от времени сменяя его...
Страшно было остаться и попасть в плен. Хотя, конечно,
в плен меня, как и моих товарищей, могли взять в любую
минуту.
Мы шли, как сказано, пятый день, и никаких кухонь с
нами не было. И вообще, если бы кто посмотрел со стороны
- 157 -
на нашу колонну, на один ее вид, решил бы, что мы бойцы
разбитой части. Хотя мы по-настоящему еще ни в одном бою
не побывали.
У нас не было ни кухонь, ни тылов.
Нам в последний раз, когда мы ночевали в лесу под Под-
гайцами, перед тем как нам выйти к Тарнополю, выдали по-
следние два сухаря. После этого мы уже ничего не получали.
Мы шли через деревни, через те местечки на Украине, через
которые и до нас, и в этот день, и на день — на два раньше,
прошло уже столько бойцов! Если какая-нибудь старушка и
решалась вынести крынку молока, то кидались к ней сразу
все... Так что лучше бы ей не выносить...
Мы подходили к Тарнополю и думали, что это и есть ко-
нец нашего пути, что дальше мы никуда не пойдем... Думали,
что здесь мы остановимся, что будет не только бой, но и
привал, и подойдут кухни...
На что мы надеялись, я не знаю.
Мы увидели, что город уже горит. Там уже были немцы,
и мы, совсем немного не дойдя, круто повернули влево — на
дорогу, ведущую от города к востоку, и с тех пор, подгоняе-
мые сзади немецкими танками и пушками, день за днем шли
по раскаленным полям и дорогам, по загроможденной маши-
нами дороге. И качалась с той и с другой стороны пересто-
явшаяся и уже перепутанная, уже не держащая колоса, на-
литая, какая-то вся бронзовая пшеница,—но от нее пахло
бензином и гарью. А в каждой канаве, с той и с другой сто-
роны, вспыхивающие легче коробки со спичками грузовики,
брошенные повозки и первые мертвые тела. Разбегались мы
каждые пять — десять — пятнадцать минут, как только разда-
вался крик «воздух!». И от солнца, со стороны солнца, с той,
своей стороны,— оттуда, куда мы двигались, с воем на нас
шли все те же немецкие самолеты и сбрасывали бомбы. В те
первые дни мы с особенным усилием и верою вжимались в
землю. А потом вставали и снова шли...
Так вот шли уже пятые сутки. Ночью, накануне, шли
всю ночь. Мы надеялись выйти к Шепетовке, мы шли всю
ночь, рассчитывая к утру выйти. И впрямь, всю ночь где-то
впереди нас, в темноте, горели огни, и мы, наивные глупые
ребята, думали почему-то, что это огни на станции Шепетов-
ка, и шли на те верно горящие огни. Шепетовка был погра-
ничный пункт на старой границе, единственный погранич-
ный пункт, который мы знали, и шли, и шли на те манящие
огни. Стремились выйти к старой границе, где, как надея-
- 158
лись, должны быть построены укрепления. Конечно же мы
отступали только до старой границы. Мы это знали! Там и
будет дан бой...
Оттуда, со стороны солнца, налетали самолеты. Бомби-
ли. Мы прижимались к земле. Вставали и снова шли.
Какое это было поколение. Как штыки! Если бы нам
сказали. Если бы эту силу взять в руки. Мы легли бы там,
где нам показали, и защитили страну... Заслонили Россию.
Никто бы не побежал.
Никогда бы немец не зашел так далеко.
Когда рассвело, огни исчезли, и я так до сих пор и не
знаю, что это были за огни.
В полдень мы вышли к реке, разделяющей два города,—
к Волочиску и Подволочиску.
Но бог с ним, с этим Волочиском и Подволочиском!
Рядом со мной шел капитан. Высокий, крепко и туго
перетянутый ремнем, с орденом Красной Звезды, алевшим
на хлопчатобумажной, чистой, свежей гимнастерке. Орден
Красной Звезды был такой редкостью в те времена, что,
если вы встречались с человеком, у которого на груди был
орден Красной Звезды, вы долго оглядывались.
Капитан, по-видимому, участвовал в зимней войне с
Финляндией, перед тем только закончившейся.
Он время от времени искоса поглядывал на меня. Я был
худенький и тоненький, совсем еще мальчик, и я старался
подражать ему* Отставал, но потом изо всех сил старался
его догнать.
Что говорить, закалки у капитана было побольше, чем
у меня.
— Удивляюсь я,-* однажды сказал он мне, посмотрев
на меня то ли с жалостью, то ли с улыбкой — с жалостью,
перемешанной с ободряющей улыбкой. — Удивляюсь я,
откуда у тебя силы берутся: я отстаю, а ты — все идешь и
идешь!
Сил у меня никаких не было. Откуда у меня могли взять-
ся силы! Притом же я не ел четвертые или пятые сутки!
Как все, я шел только на вере, на идее.
Немцы охватывали нас слева, справа и были всегда
впереди нас. У нас все время оставалось ощущение окруже-
ния.
И вот уже тут, на пятый день, где-то в Проскурове, ка-
жется в Проскурове, я снова встретил своего старшину, и я
поел. В этом городе, где была разгромлена пекарня, мы до-
- 159 -
были с ним по свежей белой буханке. Я держал ее на груди,
как младенца...
Но еще раньше, еще до того, как вышли мы не только к
Проскурову, но и к Каменец-Подольску, и к Волочиску и
Подволочиску, и еще когда шли от Тарнополя, через обгоре-
лую пшеницу, впервые за все время нашего отступления
скрылось солнце, нашли тучи и набежал ветерок. Закапал
дождь. Мне пришлось надеть свою кирзовку, которую я нес
на плече, через плечо. Ведь у меня ничего другого не было,
ни вещевого мешка, ни даже личного оружия.
Я надел эту кирзовку, и, когда первые капли дождя упа-
ли на лицо, я, к изумлению капитана, вдруг вытащил из кар-
мана сухарь.
Я сам обомлел. Откуда? Капитан смотрел на меня как на
мага, как смотрят на человека, умеющего показывать фо-
кусы.
Таскать в кармане сухарь и умирать с голоду!
Как же я не обследовал эту куртку раньше... Сухарь, как
видно, лежал у меня в кармане еще с того дня, когда мы
жили в лагерях, на танкодроме. Тогда я и положил в карман
недоеденный свой сухарь и забыл о нем.
Мы разломили с капитаном сухарь. Как пряник.
Мне вспоминается одна зима на Маныловщине. Есть та-
кая деревенька на родине отца, в бывшей Вятской губернии.
Мы жили в ней в тридцатые годы, отец был в этой деревне
председателем колхоза. Мы и жили там целую зиму. Вернее,
жил только отец — сами мы жили у себя дома, совсем в дру-
гой деревне. Зимой, на зимние, я приехал к отцу на неделю.
Я не знаю, благодаря чему я запомнил эти дни, в непри-
вычном для меня, богатом (кухня и горница!) доме попа.
Самого попа я не запомнил. Видимо, его самого уже не
было. Была только его молодая колхозница дочь. Я больше
всего сидел на полатях, внизу было холодно. Путешество-
вал с печи на полати. И читал. Теперь понимаю, что именно
книгами-то мне и запомнился он, этот дом.
В холодной и промерзлой клети, как мне сказала хозяй-
ка, эта женщина, у них хранились книги отца.
Книги все были духовного содержания... Книг было
много. Какие-то жития святых... (Вот ведь когда я еще приоб-
щился к литературе духовного содержания!) Был и молит-
венник и евангелие. Но больше всего, жития святых.
- 160 -
Я сидел на этой печи и впервые, крадучись, прочел еван-
гелие.
Я все дни, всю неделю, читал всю эту запретную лите-
ратуру, и так было страшно — узнавать о другой для меня
жизни, кроме этой радостной, под этим небом, о которой
я знал.
И вот, видно, тогда же, на эту же печку, попала мне
газета. А может быть, я читал каждый день газеты, потому
что они приходили в правление и отец приносил их к себе
на квартиру. Я видел в газетах, в каждом номере, одно и то
же здание, какое-то большое здание. Что-то горело, и между
колоннами тянулись клубы дыма.
Там шел какой-то суд, я не все понял.
Где-то в Германии... Из Германии, с которой воевали
наши деды и которой мы не знали... Но оттуда приходили,
возвращались из плена они. Потому что даже отец мой был
еще молод, не воевал в империалистическую, а застал толь-
ко гражданскую.
• 9 •
Так и идешь от самого Одера по этим дорогам, идешь,
обходя лужицы. Ни присесть и ни остановиться.
Погода теперь наладится не скоро.
Дождь то перестает, то снова как ни в чем не бывало
принимается идти.
Небо низкое. Все заволокло дымом. То ли тучами, то ли
дымом.
Дождь лил всю ночь. И тоже так — то переставал, то
вновь принимался. Вот так и вчера. Мы остановились вчера
на окраине какой-то мызы или фольварка. Утром я вышел, и
в овраге, недалеко от дома, увидел их, этих свежих пленных.
Перепуганных четырнадцатилетних мальчишек... Боже, как
смешны были на них шинели! И какие вороты большие, и
какие тоненькие шейки у этих ребятишек! Не успевших еще
и вырасти, Гитлер бросил их на борьбу с нашими танками.
И растерянной стайкой, тесно жались они друг к другу на
дне оврага.
Холодный ветер пополам с дождем, и за весь этот день
ни одного привала.
Полы шинелей наших бойцов подсунуты под ремень.
Видеть солдат с подобранными шинелями всегда очень
6 В. Субботин
161
странно, женщины, идущие стирать, на реке, на плотике,
всегда вот так подтыкают...
А дождь все не прекращается, все моросит. Небо низ-
кое, хмурое...
Колонна идет то через поле, то проселочной дорогой,
выходит на автостраду. Но всюду вода и много грязи...
С подоткнутыми шинелями идти, конечно, легче, хотя
как сказать... Когда идешь с опущенными полами, шинель,
как деревянная, бьет по ногам, но зато грязь летит на ши-
нель, а тут она летит на тебя. И сапоги и брюки — все заля-
пано...
Опять дождь. Моросит и моросит, и, словно бы от одно-
го этого, плечи солдат опускаются все ниже. Оружие делает-
ся тяжелее.
Вот шагают двое с длинным ружьем ПТР. А этот, со-
гнувшись, прет на себе минометную плиту. Она ему бьет
под зад.
И откуда ни возьмись, прямо над колонной, там, над го-
ловами, над первыми идущими, чуть ли не над самой доро-
гой, на бреющем полете, — такая облачность, что она при-
жимала его к земле,— с ревом, с грохотом летит самолет. Мы
не видели, где он начал снижаться, наверно, так на полной
скорости летит он уже давно. Летит, распугивая колонну.
Но странно, никто не разбегается. Перестали разбегаться,
ложиться перестали. Даже, сказать правду, я, видя, что ко-
лонна как шла по дороге, так и идет, я даже подумал, что
это наш.
Но как раз в эту минуту, когда самолет подлетал, в воз-
духе, через дождь, протянулись две зенитные трассы, пунк-
тир синих и пунктир красных. Также над дорогой, над самы-
ми головами, наперерез несущемуся самолету.
Все продолжали идти.
Разведчик!
Это был чуть ли не единственный, пролетавший над
нами самолет.
Появлялся, низко проносился на бреющем... Но, как
правило, это оказывался наш самолет.
Летчик приветственно махал нам рукой.
Отраженные в лужах, светящихся на дороге, мглистые
серые тучи низко ползут над головой...
Эти лужи, большие и маленькие, по всей дороге. Земля
не успевает, не успела их впитать.
- 162 -
Войска, войска, куда ни глянешь. Колонна растянулась,
люди идут уже по краям дороги, не строем, а друг за дру-
гом.
Оружие делается все тяжелее.
Спускаемся в овраг... На дне оврага протекает ручеек, и
мы переходим его вброд. Поднимаемся наверх. И неожидан-
но у дороги, тут, перед немецкой траншеей, в нескольких
метрах от траншеи, у выхода из этой низины — могила и
танк. Могила и танк и траншея. Все вместе.
Да, рядом была траншея, с бруствером, обращенным в
сторону нас. И перед ней, в двух метрах от нее, танк. Под-
битый английский танк. Да наш, какой английский! Просто
полученный из Англии.
А рядом с этим танком — свежий глинистый холмик.
И на дощечке надпись. Танк был сгоревший.
«Первым шел на Берлин». Имя. И — «Убит здесь.
В танке».
Надпись на дощечке была выжжена. Все тем же, тем же
все раскаленным гвоздем.
Наш паренек. Танкист^
Об этом не было сказано ни одного слова, но все почув-
ствовали, что вот-вот начнется Берлин. Я не знаю, как это
бывает, отчего. По каким приметам угадывается большой го-
род, начало его? По каким признакам? Что можно было
увидеть в такой мгле?
Ни дымов, ни труб. Не только города не видно, но и во-
обще никаких строений: обычные, казалось бы, поля, раз-
мытые дождем дороги... Ни железной дороги, ни свистка
паровоза, ничего. Ничего, что бы выдавало движение боль-
шого города. Однако же по каким незримым признакам
узнаешь, что он рядом? По ощущению? Мы даже думали,
что он ближе.
И не по дорогам судили мы. Не по дорогам, не по селе-
ниям. Меньше всего об этом могли мы судить по дорогам.
Мы ведь шли полевыми дорогами. И только те дороги, что
мы пересекали, были широкими. Бетонированные. А то и тя-
желые магистрали. Автострады с односторонним движением.
И вот что еще нас подстегивало, подкрепляло нас в уве-
ренности, что Берлин близко. Это гуд. Провода у нас над
головой гудели. Этот непрерывно нарастающий гул над го-
ловой. Звон телеграфных проводов. Гул телеграфно-теле-
6*
- 163 -
фонных линий. Гул столбов, их непрерывно нарастаю-
щий зов.
Единственное, что говорило нам еще, что город близко.
Провода у нас над головой гудели, и проводов станови-
лось все больше.
Мы могли и не смотреть, сколько их там. Они и без
этого гудели и торопили нас...
Этот гул проводов несся нам вслед. Только когда всту-
пили в город, он как бы прекратился. Мы его перестали за-
мечать...
А пока мы шли по полям, все время он был слышен над
головой, и чем ближе к городу, тем сильнее.
Этот гул проводов несся нам вслед. Только в Берлине
он уже резко оборвался.
В один из таких дней вдали, на самом выходе из леса,
когда дождь то переставал, то снова принимался и колонна
начала растягиваться, — на высоком поле, за стеной дождя,
слева от дороги, внезапно вырисовались какие-то башни.
Очень высокие. Это было как видение. Как лес. Целый го-
род увитых проволокой, уходящих в небо башен, труб. Вер-
шины их терялись где-то в тучах. Потом уж, когда они давно
остались за нами, мы поняли, что это — радиобашни...
Видение этих башен долго еще преследовало нас. Мы
долго еще не могли уйти от них.
Они так все время и шли за нами.
••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• РАССКАЗЫ •
J ШЕСТИДЕСЯТОГО ГОДА J
• •
• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Дорога
Мы неслись на большой скорости, была
темень и ночь.
Впереди, в свете фар, и чуть по сторонам
кружились снежинки.
Над нами была ночь. Мела пурга, сильно
задувало, и мы стояли в кузове, подняв во-
ротники.
В полушубках.
Машину трясло, под колесами звенела
мерзлая, мертвая земля.
Не помню уж, были ли видны какие-ни-
будь окрестные огни. Странное молчание де-
ревень. Снега и сугробы... Смутные очертания
холмов. А мы все едем и едем, закрываясь от
ветра, через эти голые заснеженные поля. Мы
- 165 -
еще готовы были долго так ехать по звездной
этой укатанной дороге и радовались быстрой
езде.
Как вдруг раздался взрыв. Под колесами»
Медленно всплыли ракеты. В небо понес-
лись отмеченные двумя пунктирами цветные
трассирующие пули. Все загромыхало.
Вдалеке заговорили — зататакали пуле-
меты.
И где-то рядом, чуть в стороне и, может,
сзади, защищая нас, тоже ударил пулемет.
Заехали!
Через минуту мы уже мчались назад.
Когда раздался этот взрыв, уцелевшая,
наскочившая на мину наша машина споткну-
лась. Но водитель сумел развернуться. Мы не
успели опомниться, а он уже мчал нас обрат-
но. Сетуя на нашу молодость и непросвещен-
ность.
Мы чуть не воткнулись в чужую траншею.
У меня до сих пор все это в памяти: и эта
дорога, и эта траншея.
Образ дороги, перерезанной траншеей.
Закрою глаза и вижу.
Дорога. Обычная полевая проселочная
прямая дорога. Дорога, она — без конца. Она
должна вести вдаль...
И вдруг она обрывается.
Как перед шлагбаумом.
Дальше — фронт, передовая. Ржавое про-
волочное заграждение...
С тех пор у меня осталось это в памяти —
воспоминание о войне, как о дороге, перего-
роженной траншеей.
• СЕРОЕ ЗДАНИЕ •
Когда наступил рассвет, все, кто был в доме Гиммлера,
подошли к окнам, надеясь увидеть рейхстаг, Но ничего не
увидели: мешало какое-то здание.
- 166 -
Неустроев тоже глядел из-за подоконника. (Окно в под-
вале было высоко.) Он видел немногое. Справа — деревья
парка, еще голые, темные. Тянет апрельской влагой, прошло-
годним прелым листом. Слева виден ров. Еще не совсем рас-
сеялся туман. С крыши капает... Неустроев увидел и это че-
тырехугольное невысокое здание, также прикрытое деревья-
ми. Здание ему показалось не очень большим. Правда, над
ним купол и башни по бокам, но ничего особенного оно со-
бою не представляет.
Бойцы, столпившиеся тут же, были озадачены. Там, где
ждали увидеть рейхстаг, никакого рейхстага не было.
Но другой комбат — Давыдов — сказал, что из подвала
плохо видно, и повел командиров наверх. Осмотреться. От-
туда им яснее будет, как действовать дальше.
Они поднялись повыше на два этажа и стояли, прячась за
косяк. От Шпрее еще наползал туман. Насквозь промокший
парк был пуст. 14 было тихо. 14 тут увидели то, чего раньше
не могли рассмотреть,—увидели, что площадь вся изрыта
траншеями... Увидели бронеколпаки на углах, танки. В глу-
бине парка — самоходки. Афишная тумба. Еще какое-то со-
оружение, похожее на трансформаторную будку, вероятно
укрепленное. Кроме рва, впереди был еще и канал, запол-
ненный водой. Да и это здание с башнями отсюда, с высоты,
выглядело внушительнее, не то что из подвала, когда первый
этаж был скрыт...
Прибежал связной. Неустроева вызывали. Комдив Ша-
тилов запрашивал, почему он не наступает.
«Товарищ «семьдесят семь»! Мешает серое здание»,
«Постой, постой... Какое здание?»
«Прямо перед нами! Буду обходить справа».
Неустроев, лежавший у телефона в углу подвала, и ком-
див у себя на НП, в Моабите, оба склонились над кар-
той...
Пришел командир полка. Зинченко. Он разместил свой
штаб за рекой — рядом со швейцарским посольством.
«Что тебе мешает? Давай карту». Они вымеряли и при-
кидывали. Мост Мольтке... Шпрее... Дом Гиммлера...
«Неустроев! Да это — рейхстаг».
А ему и в голову не приходило, что это четырехугольное
серое здание, этот дом перед окнами (до него так близко!)
и есть тот рейхстаг, к которому они стремятся. А ему каза-
лось, что до рейхстага еще надо идти да идти.
- 167 -
Над ребристым его куполом была площадка, и на ней —
шпиль. Перед фасадом — густые, готовые вот-вот распу-
ститься деревья — не обломанные и не обожженные...
Но видели это лишь немногие, и лишь этим ранним ут-
ром. Через час началась артподготовка, по рейхстагу удари-
ли «катюши» и орудия — дальние и прямой наводки, и он
мгновенно стал таким, каким у нас его знают по снимкам,
появившимся после войны.
НЕМНОГИЕ ЗНАЮТ...
Немногие знают: после того как мы водрузили знамя
на рейхстаге, бои в рейхстаге шли еще два дня и две ночи.
Полторы тысячи немцев, уже в дни штурма Берлина пе-
реброшенные сюда с Балтики, засели в подвалах рейхстага.
Они забрасывали нас фаустами. Этого сильного реактивного
оружия в подвалах у них было много. Но когда стало ясно,
что вернуть рейхстаг им не удастся, они подожгли его. А мо-
жет, он и сам загорелся от тех же фаустпатронов.
Он горел так, как горит всякий дом, а гореть в рейхстаге
было чему — горела мебель, краска стен, вспучивался и по-
лыхал паркет; дым, а потом пламя показалось из окон, из
пробоин. Горстка людей — около трехсот бойцов, лишь не-
многим больше! — сражалась в горящем здании.
Но не только в этом был драматизм положения.
Утром первого мая — на тысяча четыреста десятый день
войны — сводка Совинформбюро сообщила, что нашими вой-
сками в центре Берлина взято здание германского рейхстага
и водружено Знамя Победы. Об этом же было сказано Ста-
линым, в его первомайском приказе.
В Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке служили молебны.
В эфире — стоило включить рацию —- слышался колоколь-
ный звон... А в это время в горящем здании рейхстага, в тес-
ном коридоре, прижатые огнем к стене, рукавами закрывая
глаза, стояли наши бойцы.
Комбату было передано, что он может вывести людей.
«Выйдите из рейхстага, займите круговую оборону, а как
только здание прогорит, станете брать его снова».
- 168
Но выходить уже было некуда. Собравшиеся в одной уз-
кой комнате задыхавшиеся от дыма бойцы, натянув проти-
вогазы — у не многих они оказались, — лежали на полу. Пла-
мя уже врывалось сюда.
И что-то с треском рухнуло. Из провала в стене пова-
лил желтоватый дым. Но это была, как они увидели, не но-
вая опасность, это было — спасение...
И через этот неожиданный, вдруг открывшийся пролом
бойцы перебрались в соседнее, уже выгоревшее помещение.
Немцы не смогли добиться своего. А знамя не сгорело,
все так же оставалось над рейхстагом, оно лишь слегка за-
коптилось.
Когда огонь начал понемногу стихать, все выходы из
подвалов были опять блокированы.
Наступило утро второго мая.
• ЧЕРЕЗ КЕНИГПЛАЦ •
«Подъезд. Подъезд. Подъезд»,—настойчиво повторяла
телефонистка.
Ответа не было.
Десять человек, отправившихся в этот день на линию, не
вернулись... Одни гибли, не дойдя до места повреждения,
другие — на обратном пути...
Но телефон опять стал действовать.
«Подъезд слушает...»
Неустроев схватил трубку, Командовавший штурмовой
ротой Илья Сьянов докладывал комбату: противник скапли-
вается для атаки со стороны Бранденбургских ворот — и про-
сил дать огня по шоссе.
Над головами снова послышалось знакомое всем сипе-
ние, и впереди где-то тяжелые мины стали долбить мосто-
вые...
В течение длинного этого дня — одного из самых напря-
женных за всю войну — на площади перед рейхстагом шел
бой. Люди лежали вблизи подъезда рейхстага и пробовали
подняться в атаку, но безуспешно. Огневые точки еще жили.
Местами их было по две на одно окно. И бронеколпаки на
углах. И самоходные орудия, прячущиеся в глубине йарка...
- 169 -
Через эту большую площадь, на этом малом простран-
стве, где теперь было сосредоточено столько огня, тянулся
малоприметный красный провод — нить, связавшая бойцов,
лежащих перед рейхстагом, с командным и наблюдательным
пунктом, с теми, кто управлял огнем батарей... Всякий раз
при новом артналете осколки разрывали этот тонкий прово-
док. Но чья-то невидимая рука — там на плаце, отделявшем
командный пункт от рейхстага, — опять сращивала провод, и
связь начинала действовать.
Когда телефон вновь заработал, Сьянов сообщил: пра-
вее рейхстага появились танки...
Наши батареи открыли огонь, два танка было подбито.
(Они и после стояли у рейхстага и попали на снимки.)
Остальные танки укрылись за углом...
Когда здание было занято и большая часть обороняю-
щих рейхстаг немцев была загнана в подвалы, в боевых дей-
ствиях наступила пауза. На КП батальона, из подвала на бе-
регу Шпрее его успели уже перенести в небольшую ком-
нату в самом рейхстаге, пришел боец.
У него были красные глаза и рваная гимнастерка...
Вера Абрамова, телефонистка батальона, увидела его и
очень удивилась... В те тяжелые часы линейный Алексей
Мельников в числе других ушел на линию.
Командир батальона видел, как он молча, стараясь не по-
пасться начальству на глаза, прошел в угол, где стояли теле-
фонные аппараты, и, опустившись на колени, стал крутить
ручки...
«Подъезд?.. (Позывные еще не успели сменить.) Про-
верка».
Ясно было, что рассказывать Мельников ни о чем не со-
бирался. О том, как он подолгу укрывался в воронках. Как
на этом бесконечном, изрытом снарядами плаце ему трудно
было найти оборванный провод. Как, спрятав голову за бу-
лыжник, сращивал он порывы... Обо всем этом дне.
Труднее всего было перебраться через канал. Над ним
лежал рельс. Все, что оставалось от взорванного моста. Пол-
зти мешал висевший на боку аппарат. Телефонист садился
верхом на рельс и продвигался, опираясь на руки. Двигался
медленно, чтоб не свалиться в воду... Подключившись к ли-
нии, он опять слушал, есть ли связь, потом покидал укрытие
и опять «лез по проводу».
Глаза у него были красные — оттого, что он много суток
не спал.
- 170 -
Командир отложил трубку и обернулся к нему:
I— Ты исправлял линию?
-
«ПОЛКОВНИК» БЕРЕСТ
Из глубины подвала вдруг выкинули белый флаг.
На лестнице, на нижней площадке, появился офицер.
Шинель распахнута, в руке — парабеллум. Он заявил, что не-
мецкое командование готово начать переговоры. Но с офице-
ром в высоком ранге.
На лестницу к немцам отправился Берест...
Берест — замполит командира батальона. Лейтенант. Да
и в этом звании он лишь несколько дней: приказ пришел,
когда мы вступали в Берлин. Только вчера Берест был млад-
шим. Но уже несколько месяцев работал заместителем у Не-
устроева... Вот только не знаю, как они «срабатывались»,
очень уж это были разные, крепкие и твердые характеры.
Алексею Бересту было двадцать... Всего двадцать лет.
Совсем недавно он ходил в комсомольцах.
Он и отправился туда.
Сам собой пал на него выбор. Скорее всего, это Берест
и сказал, что пойдет он.
Солдат полил ему из фляги, и он смыл копоть с лица.
Всегда он выглядел подчеркнуто аккуратным. Даже после
этих двух ночей белела у него полоска подворотничка. Вчера,
на площади, он лежал в одной воронке с бойцами. Потом с
двумя разведчиками — Кантарией и Егоровым, он «устанавли-
вал» знамя... Теперь, вот уж сутки, он был здесь, вместе со
всеми.
Поверх гимнастерки Берест надел чужую чью-то кожа-
ную длинную куртку. Капитан Матвеев, политотделец, отдал
свою фуражку — новую, с малиновым околышем.
Неустроев тоже пошел. Но не стал ничего надевать, а
даже телогрейку с себя сбросил, чтоб ордена были видны.
У Береста наград было не густо, а у Неустроева — много...
Так — солиднее!
Третьим они взяли с собой солдата из недавно освобож-
денных на Одере военнопленных. Он знал по-немецки.
- 171 -
Внизу их уже ждали. Здесь было светло. Горели факелы!
Сразу их окружили немецкие солдаты. Парабеллумы в руках.
На касках маскировочные сетки.
К Бересту и его спутникам подходил немец. Берест вгля-
делся: оберст! Полковник. С ним были двое моряков. Кур-
санты. И переводчица — женщина в желтой куртке.
Солдаты-немцы расступились, дав им дорогу.
Полковник протянул было руку. Но Берест поднес свою
к фуражке и сказал: «Полковник Берест».
И так, в черной своей кожанке, приподняв голову, он
стоял, высокий, молодой... Заместитель командира — комис-
сар! Видный. Широкоплечий. Уверенный в себе. Кто-то из
немцев сказал: «Молодой, а уже полковник!»
На Неустроева они почти не смотрели. Он стоял неза-
метно. Только ордена блестели. И немцы поглядывали на его
грудь. (Рядом с Берестом низкорослый Неустроев выглядел
маленьким.) Когда Берест к нему обращался, комбат стара-
тельно щелкал каблуками...
— Я предлагаю вам сдаться! — сказал Берест немцам.—
Вы находитесь в подвалах. Положение ваше безвыходное...
Но те ответили:
— Еще не известно, кто у кого в плену... Вас здесь три-
ста человек. Когда вы атаковывали — мы подсчитали... Нас —
в десять раз больше.
— Сложите оружие,— сказал Берест. — Мы вас отсюда
не выпустим...— И взглянул на часы, показав, что он на этом
желает закончить разговор.
Представитель немцев опять стал доказывать Бересту,
что это он, Берест, у них, у немцев, в «клещах»... И неожи-
данно потребовал, чтобы им дали возможность уйти в район
Бранденбургских ворот...
Берест с трудом себя сдерживал. Он был молод — ему
было только двадцать. И он забыл, что он дипломат!
— Зачем мы пришли в Берлин, — сказал он, — чтобы вас,
гадов, выпустить?.. Если вы не сдадитесь, мы вас переколо-
тим!..
Немецкий оберст запротестовал:
— Господин полковник! Так не полагается разговари-
вать с парламентерами!
Берест его не слушал...
Моряки молчали, желтая переводчица нервничала.
Полковник-немец заговорил вдруг по-русски, и даже
сносно:
172 -
— Нам известно наше положение, и мы хотим сдаться...
Но ваши солдаты возбуждены... Вы должны их вывести и...
выстроить. Иначе мы не выйдем!
— Нет! — ответил Берест ему.— Не для того я пришел
в Берлин из Москвы, чтобы выстраивать перед вами своих
солдат... Даже если вас две тысячи, а нас двести человек...
— Что ж, — сказал немец, — я доложу, что вы предлагаете
нам проходить через ваши боевые порядки.
Задерживаться дольше не имело смысла. Берест козыр-
нул. Неустроев — тоже.
Солдат-переводчик и Неустроев, следом за Берестом под-
нимаясь по лестнице, слышали, как «полковник» Берест бор-
мотал про себя: «Гадюка! Гадюка!»
Немцы, остававшиеся в подземельях рейхстага, сдались
той же ночью. К утру.
Переговоры о их сдаче вел с ними уже старший сержант
Сьянов.
ВСТРЕЧА
Немного утихло, и мы начали осваиваться в рейхстаге,
разбираться в его бесконечных лестницах и переходах.
В большом, уходящем под самый купол зале заседаний —
светло. Купол пробит, и над ним ничего, кроме неба, нет...
А внизу — нагромождение камня, кирпича и обвалившиеся
балконы... Лазишь, как по холмам.
Потом, по темному коридору, заставленному «чучелами»
закованных в латы рыцарей, перехожу в другую, не тронутую
огнем часть здания. Она лучше сохранилась, хоть и здесь те
же пробитые стены и пахнет гарью. В сафьяновом пышном
кресле сидит тут пожилой автоматчик.
С немолодым лицом, с низко стриженными усами.
Пока лишь успел отоспаться, грязен и небрит. Один
только автомат, приставленный к креслу, чист. Но как он си-
дит!.. Во рту у него толстая, надолго свернутая самокрутка.
Глядя, как он развалился в кресле, я не мог удержаться
и спросил:
— Ну, как дела?..
— Сижу — в рейхстаге...
- 173
Он посмотрел на меня и усмехнулся, понимая сам значи-
тельность того, что он сидит в рейхстаге и как он выглядит
в своей просоленной пилотке и выгоревшем обмундировании
в этом кресле.
— Сижу вот... — ответил он и опять, по-своему, затаенно,
усмехнулся.
Я узнал этого бойца. Это же ротный писарь Гаркуша..
Мой старый знакомый! Полтора года назад, зимой сорок чет-
вертого — это было еще в Калининской области, — он участ-
вовал в атаке и ворвался в блиндаж, полный немцев. Бывают
такие писаря! И он, вижу, узнал меня... Да, это он, Гаркуша.
Тот самый, Григорий Гаркуша...
Значит, и он в рейхстаге.
Я вышел на площадь. Было тепло, было теплое солнечное
утро. Близко у входа стояли обломанные, искореженные лип-
ки. Они оживали...
На рейхстаге — над куполом — развевалось знамя<
• ЗАБЫТЫЙ СОЛДАТ •
Среди имен людей, бойцов и офицеров, бравших рейх-
стаг, забыто имя Пятницкого. Петра Пятницкого.
Между тем именно он первым выпрыгнул утром из окна
дома Гиммлера, когда начался штурм — при первой атаке.
Потом, у канала, под огнем, когда роты надолго залегли,
встал солдат с красным полотнищем — только здесь он его
развернул — и увлек за собою своих товарищей. Это был —
Петр Пятницкий.
Вскоре из дома увидели: наши солдаты показались у
подъезда, взбежали на ступени, и опять вспыхнуло знамя, а
потом человек со знаменем упал.
Это был он, Пятницкий.
Знамя его поставили на рейхстаге рядом с другими
знаменами, а его... разные бывают судьбы, у него особая
судьба...
Когда под вечер, после артиллерийской подготовки, ата-
ка была возобновлена и бойцы его батальона подбежали к
рейхстагу, Пятницкий лежал перед подъездом с флагом в ру-
ках.., И, чтобы его не затоптали, его отнесли и положили у
- 174 -
колонны... А потом о нем забыли. А когда хватились — его
уже похоронили где-то в братской общей могиле. Вероятно,
в Тиргартене.
Он уронил свое знамя перед самыми ступенями.
Петр Пятницкий — простой солдат, боец. Впрочем, на-
сколько помнит это теперь его командир, за два-три дня до
броска к рейхстагу ему присвоили младшего сержанта. Он
был связным у комбата.
Мы тогда написали о нем в дивизионной газете, но даль-
ше «дивизионки» это не пошло. А после имя его реже стало
называться.
Он погиб и ничего этого не знает... Но живет в
Брянской области, в деревне, его жена — вдова Евдокия
Пятницкая и его теперь уже взрослый сын, и — как узнал я
недавно — они все эти годы считают своего отца пропавшим
без вести...
Он пришел к нам в дивизию незадолго до наступления
на Висле... Это Пятницкий, когда выходила через наши тылы
шнайдемюльская «группировка» и немцы отчаянно двигались
по дороге вслед за танками, с автоматами, прижатыми у бед-
ра, он ночью поставил свой пулемет на перекрестке и рас-
строил их плотную колонну... Об этом и о том, как подни-
мал он бойцов, залегших перед каналом на Кенигплаце,
можно было бы рассказать подробно. Но я пишу только о
том, как он бежал по площади и как погиб, чтоб знали вы,
кто был этот солдат, упавший с флагом перед подъездом рейх-
стага...
Все чаще мы, знавшие его, говорим о нем, и судьба его
не дает уже нам покоя.
Не будем забывать мертвых. Они делят славу с живыми.
У НАС В ПАМЯТИ
Солдат, оставшийся в памяти всех, кто брал рейхстаг,
дома считался пропавшим без вести.
Как это могло случиться!
С красным флагом в руках погиб он на подступах к
рейхстагу... В горячке боя о нем забыли.
- 175 -
И мы пишем о нем эту, всегда одну и ту же, фразуз
«Первым выпрыгнул из Оъ^а дома Гиммлера и с флагом в ру*
ках упал на ступенях рейхстага». Для большинства тех, кто
писал и говорил о нем, он просто Пятницкий. Даже имени
его они не знают...
И видно, даже домой о нем не сообщили. И его числили
«невернувшимся». Ведь перед этим он два года был в плену.
Теперь, когда мы обратились с запросом, нам ответили из от-
дела учета потерь, что Пятницкий Петр Николаевич погиб
30 апреля 1945 года. Год рождения — 1913-й. Домашний ад-
рес: Брянская область, Клетнянский район, деревня Северец.
30 июля 1942 года — ранен, в плену находился с августа
1942 года...
Пятнадцать лет дома о нем ничего не знали.
О скольких схороненных в братских могилах могли бы
рассказать оставшиеся в живых! Если бы газетчики, одни га-
зетчики только, «расшифровали» свои фронтовые блокно-
ты,— сколько б имен вернулось из небытия!..
Сколько их, таких «без вести», о которых мы могли бы
рассказать как о героях!
Парень этот тогда упал там, на площади... Он лежал на
ступенях, и, чтобы его не затоптали, его отнесли к колонне.
Так было.
...Этот солдат, оставшийся в памяти всех штурмовавших
рейхстаг, считался без вести пропавшим.
Мне не дает покоя эта судьба.
• С ФЛАГОМ •
Знамя победы на куполе водружено Егоровым и Кан-
тарией.
Но и другие были флажки и знамена. И я хочу, хотя
я уже и тогда писал об этом, рассказать еще о двух смель-
чаках,— но уже не из батальона Неустроева, где действо-
вали разведчики Кантария и Егоров, а из батальона Васи-
лия Давыдова — о флаге, который они несли и который
укрепили на рейхстаге.
Они остались вдвоем, огонь отсек остальных. Прикры-
тые невысоким берегом канала, они заползли под мост. До
- 176 -
рейхстага было недалеко — отсюда им видны были массив-
ные колонны и ступени парадного входа,— но ближе не
подступиться. Завернутое в темную бумагу (сорвали свето-
маскировку с окна) красное знамя было спрятано под фу-
файкой на груди Кошкарбаева. Головы нельзя было под-
нять. Немцы били с верхних этажей рейхстага, расстрели-
вали наших солдат, укрывающихся в ровиках и за глыбами
вывернутого асфальта. Снаряды рвали камни площади, пули
чертили булыжник. За спиной горели дома. Маленький Бу-
латов, немного испуганный, совсем еще мальчик — гимна-
стерка сидела на нем мешковато и была чуть длинна, пи-
лоточка тоже была ему велика, — вертелся где-то под мыш-
кой у Кошкарбаева.
— Что будем делать? — спрашивал Булатов, доверчиво
ему заглядывая в глаза.
(Кошкарбаев — командир взвода. Рахимжан Кошкарба-
ев, лейтенант. Булатов — солдат взвода. Кошкарбаев — ка-
зах, Булатов — русский, вятич.)
И Кошкарбаев сказал:
— Знаешь, если нам удастся, поставим наше знамя
хотя бы на ступеньке рейхстага.
Они говорили «знамя», хотя у них в руках был прос-
то «штурмовой» флаг, который, как и флаг, водруженный
Кантарией — Егоровым, был пока простым полотнищем, кус-
ком плотной грубоватой материи.
Они решили подписать полотнище. Смоченным химиче-
ским карандашом вывели наспех свои имена, а ниже «674» —
номер своего полка и еще — номер подразделения.
Ближе к вечеру, когда стало темнеть и удалось органи-
зовать новую атаку, к выдвинувшейся вперед группе Сья-
нова присоединились роты двух других батальонов (первая
атака, возглавленная Пятницким, как говорилось уже, не
была успешной, и группа эта погибла). Кошкарбаев с Бу-
латовым выскочили из своего укрытия и кинулись к подъ-
езду... Вот стена и слепые, заложенные кирпичами окна.
Тут, у подъезда, к ним присоединились другие...
Булатов и Кошкарбаев прикрепили свой флаг снача-
ла к средней колонне, а когда была очищена левая часть
здания, они высунули свой флаг из окна второго
этажа.
...Знамя их потом поставили на крыше, но оно стояло
не над куполом, как знамя, водруженное Егоровым и Кан-
тарией, а над карнизом, возле одной из башен.
177 -
ВЫСОТА
Я долго тогда выспрашивал у них, как все это было и
что они испытывали... Но так и не смог занести в мою за-
писную книжку ничего, кроме их имен да кратких биогра-
фий.
Разве лишь, что на площади у канала они были впере-
ди пехоты на тридцать метров, а в рейхстаге, когда разыс-
кивали ход наверх, с ними был замкомбата Берест. И еще,
поставили во столько-то часов. Подробности, по-видимому,
казались им неуместными, вроде ненужными и как бы не-
совместимыми с торжественным актом установления Зна-
мени Победы.
Но, может быть, я расскажу все это за них.
Они были в здании, где еще сражались. И вверху —
над ними, и внизу на первом этаже, еще шел бой...
Ориентироваться было трудно: окна замурованы. Темень!
Нельзя понять, куда какой ход ведет. И куда — ставить?
Никто этого не сказал... Ведь надо не просто куда-нибудь,
а повыше. Чтоб было видно.
Но вот она, лестница. Как раз то, что им нужно!.. Ря-
дом, с площадки, — еще одна. Она выводит прямо на кры-
шу. Как все видно! Они думали, что давно уж глубокая
ночь... Свистят осколки... Хорошо, что крыша плоская...
Куда же привязать? Над карнизом — бронзовое изваяние.
Всадник. Нет, над всадником нельзя. Получится, что он дер-
жит знамя.. Опять гремят по крыше осколки. Надо потора-
пливаться! А что, если туда, на купол... Лестница шатает-
ся, она перебита и оторвана. Надо карабкаться по карка-
су... Как редки эти железные ребра! И стекла все вылете-
ли. Но лучше не смотреть вниз. Там — провал зала, висишь,
как над ущельем. И непрочные и уж очень ржавые пере-
плеты. Только холодок у сердца... И — что это? — вроде
цел, не ранен, а из-под ног уходит крыша... С купола —
на площадку. Еще лезть! Кружится голова (какие они вер-
холазы!). Вот и площадка. Да! Только не смотреть вниз...
Привязали. Притянули ремнём. Притянули чехлом. Всё мол-
ча. И оно сразу сделалось сильным... Теперь им надо быст-
рей спуститься и пробраться к своим...
А они и не знали, что ставят Знамя победы.
- 178 -
ЩЕРБИНА
На любительском, старом, сохранившемся у меня сним-
ке — группа людей, вышедших из боя.
Они стоят на ступеньках рейхстага.
Впереди всех, и немножко ниже, боец, с белой пере-
бинтованной головой.
Тут и офицеры и солдаты. На всех одинаково рваное
и одинаково грязное обмундирование и сползающие, про-
горевшие шинели на плечах — кто солдат из них, кто офи-
цер, не разберешь.
Этот, молоденький, чернобровый, стоит на ступеньку
ниже. Он в обмотках, с автоматом в руках. В гимнастерке
с длинными подвернутыми рукавами. Повязка свежая, чи-
стая. Белый чистый бинт горит на солнце. Видимо, голова
у этого юноши только что была заново перебинтована.
Я думаю — это один из самых правдивых снимков вой-
ны. Они стоят на ступеньках рейхстага, в котором еще все
горит.
Кто эти люди и что это за солдат?
Я расскажу о нем немного, так как сам знаю немного.
Лишь однажды я беседовал с ним — там же в рейхстаге,
на другой день... Раньше, до того, как был взят рейхстаг, я
с ним не встречался.
Увидев его на этом снимке, я тотчас же его вспомнил.
Его имя.
Имя еще одного нашего солдата. Щербины.
Сразу же скажу, что, когда я его разыскал там в рейх-
стаге, корреспонденты настолько успели ему надоесть, что
он готов был от них прятаться. И это не удивительно: по-
сле недели непрерывных боев он еще не спал... Но все же
мы присели на площади, там же, напротив главного вхо-
да. Возле афишной разбитой тумбы. И вот моя запись бе-
седы с ним. Вернее, его рассказ.
Щербина, Петр Дорофеевич. Он — 1926 года рождения.
Было ему там в рейхстаге восемнадцать-девятнадцать лет.
Его домашний адрес тогда был такой: Запорожская область,
село Скелька... В Берлине, уже на Шпрее, ранен был в го-
лову. Но в санчасть уходить отказался и остался в баталь-
оне.
О событиях этих последних дней и о последнем бое
говорит так:
- 179 -
«Из дома Гиммлера, из окон, мы выскакивали один за
другим. Первым — Пятницкий. Когда бежали через мост,
уже стемнело. Когда под огнем мы преодолевали площадь,
со мною рядом бежали Руднев и Новиков. И Прохожий.
Огонь был очень сильный, я за всю войну не видел такого
огня. Достигнув парадных ступеней, мы по лестнице ки-
нулись наверх.
Овладели большой комнатой. По нас стреляли из под-
валов, и хорошо, что мы догадались, закупорили выходы.
Оказалось, подвалы набиты немцами. Снизу в нас полетели
гранаты и фаустснаряды, сверху на голову валилась штука-
турка. Но мы стояли у входов и выходов и отбивались
гранатами.
Горячими были минуты, когда начали гореть архивы.
Все наполнилось дымом, и огонь вскоре пробился туда, где
были мы. Оставаться дольше в этом коридоре было невоз-
можно. Пришлось вылезать нам в окно, выходящее в дру-
гую комнату. Потом мы разыскали чердачный ход и по
нему перешли из горящей части здания в негорящую...
Из рейхстага мы не ушли. Когда прогорело, опять на-
чали штурмовать подвалы».
Вот и все. То ли я так коротко записал, то ли это все,
что он рассказывал.
На самом деле обстановка была куда драматичнее. Об
этом уже известно из рассказов других участников боя.
Да, Щербина был вместе с Пятницким... Отделение
Щербины первым достигло подъезда рейхстага и завязало
бой в вестибюле. А когда комнаты стали заполняться ды-
мом и когда немцы предприняли контратаку, бойцы попя-
тились.
— Куда вы? Оставайтесь на месте! — закричал Щерби-
на. Солдаты залегли и стали отстреливаться, забрасывать
гранатами показавшихся в проломе немцев.
Зажимая рты, в полумраке, долго блуждали по коридо-
рам и залам.
Ядовитый чадный дым все больнее щипал глаза. У лю-
дей кружилась голова, в глазах темнело. Оставаться здесь
дольше не было возможности.
От сильного удара, по-видимому от попадания фауст-
снаряда, задрожала стена. Она рухнула у всех на виду,
чудом не похоронив бойцов под обломками...
Щербина пробрался на лестницу, ведущую куда-то на-
верх, очевидно, на второй этаж.
180 -
— Идем за мной! — прокричал Щербина.
Он тоже наглотался дыму и чувствовал, что задыхает-
ся. Он вел людей, но и сам не знал, куда идти. Шел, и за
ним вслед шли другие. За белой, видневшейся сквозь дым
повязкой. Верил, что выход найдется, и шел впереди всех...
Таким вот перебинтованным он и был, когда я беседо-
вал с ним.
Теснимые огнем, перебирались они из комнаты в ком-
нату, долго кружили по коридорам и залам, пока не оказа-
лись в той части рейхстага, где дыму было меньше...
Я еще не сказал о том, что, когда Кантария и Егоров
искали путь на крышу, чтобы ставить свое знамя, тот же
Щербина и несколько его бойцов на лестнице охраняли их
с тыла.
На этой же площади перед рейхстагом младший сер-
жант Петр Дорофеевич Щербина был награжден орденом
Красного Знамени...
Надо бы рассказать и о бое на мосту через Шпрее и
за дом Гиммлера, и о том, что, когда Петр Пятницкий был
убит, его флаг поднял Петр Щербина...
Петр Щербина и Петр Пятницкий. Два военных брата,
два героя-бойца... Они были недолгими, но хорошими дру-
зьями. Петру Пятницкому было за тридцать, он был отцом
семейства, а Щербина — совсем еще паренек, молодой и не-
женатый. Дома у него мать! Ему-то, Щербине, и передал
Пятницкий свой флаг.
Вот кто этот боец, молоденький, раненый, с перевязан-
ной головой, стоящий на ступенях рейхстага,
КОМБАТ
Мы постояли в подъезде. Потом пошли по площади. Со
мной был комбат-1.
Здесь, на этой опустевшей площади, рядом с огромны-
ми колоннами рейхстага, хмурый вид, его невысокий рост
обращали на себя внимание.
После нескольких бессонных ночей он не успел еще
ни выспаться, ни прийти в себя и был молчалив. Однако
- 181 -
ему самому хотелось показать места, где дрались бойцы его
батальона.
Мы стали пересекать площадь. Она вся была загромож-
дена камнем, щитами поставленного на дыбы асфальта и
просто кусками расщепленного дерева.
А от Шпрее, с набережной, рейхстаг казался еще более
изуродованным. Стены пробиты и задымлены. А колонны
сильно обглоданы. Как лошади обычно обгладывают бревна
коновязи...
Я давно и хорошо знал Неустроева, и, увидев его здесь,
у рейхстага, на этих широких ступенях здания, перед пло-
щадью, по которой шли на штурм бойцы батальона, кото-
рым он командовал, я думал о маленькой, затерянной в сне-
гах Калининской области деревеньке Поплавы...
Бои под Поплавами начались еще в 1943 году, осенью.
Однако немцы подтянули на этот участок свежие силы,
много техники, и наше наступление здесь скоро приостано-
вилось.
Но месяца через два, зимой, под Поплавами снова за-
говорила артиллерия... За белыми ближайшими сопками,
когда с сумкой на боку я подошел к переднему краю, был
слышен один протяжный возглас — голос наступающей пе-
хоты.
В полуразрушенном блиндаже — их было много на дне
оврага — спиной ко мне сидел перед рацией полковник,
командир полка, и докладывал:
— Батальон прорвал оборону и сейчас дерется в тре-
тьих траншеях. Батальоном командует капитан Неустроев.
В тот день мне так и не удалось встретиться с капита-
ном Неустроевым... А через месяц я услышал его фамилию
снова, на этот раз — в боях за деревню Стайки.
Но сам он казался прямо-таки неуловимым. Как-никак
я уже хорошо к тому времени знал всех комбатов в дивизии
и со многими из них подружился.
Но однажды дивизия вышла из боев и мы строили обо-
рону, вторую, или третью линию обороны.
Снега сошли. Из-под прошлогодней листвы выбивалась
первая травка. Вместе с талым снегом с земли нашей стали
сходить следы врага.
Какой-то человек, небольшой, в тесном кителе, в са-
погах с густо налипшей красной глиной, ходил по передо-
вой и, стоя над окопом, что-то говорил бойцу, у которого
была видна только одна голова, и показывал, как рыть...
- 182 -
Он переходил от участка к участку, осматривал новые тран-
шеи, новые ячейки, пулеметные гнезда. Он был очень за-
нят, быстр.
Это и был Неустроев.
Потом мы виделись чаще. Но все-таки не очень часто.
Встреч с газетчиками он не искал, я потом это понял.
Во время перекура — мы лежали на холме, над рекой,
среди леса, — и он, наконец, разговорился.
Он уралец, из Свердловска. Вернее, из города Бере-
зовска, что рядом со Свердловском. «Города, стоящего на
золоте».
Там, на Урале, он вырос, там у него родители, отец,
мать, сестры...
И опять — бои. Много было истоптано дорог, взято
высот, пока мы не оказались в Латвии...
Польша. Померания. Одер...
Неустроев был за это время пять раз ранен. Тяжело
контужен. Однажды снаряд угодил в землянку, где он на-
ходился. Всех засыпало, побило, но он выжил, хотя и был
весь изранен...
Пять орденов на его потрепанном кителе говорили мне
о его пути. Из Старой Руссы — в Германию...
Вот что я вспомнил, когда, перелезая через завалы, мы
шли с Неустроевым по площади^
• КОМАНДИР ДИВИЗИИ •
Селение называлось Дровяная Лучка. До сих пор не
знаю, что может означать такое название. Недалеко от
реки стоял дом, один дом, других вокруг не было. Деревян-
ный, очень просторный дом, с высоким крыльцом. Я вы-
шел на это крыльцо в полдень и внизу увидел вдруг то
ли кому-то что-то выговаривающего, то ли о чем-то спра-
шивающего, скромно одетого, в гимнастерке — в гимнастер-
ке, но с полковничьими погонами — необычайно серьезного,
перед которым все тянулись.
Я подался сразу назад.
На потемневшей, шерстяной, уже старой гимнастерке
была ленточка ордена. Он только приехал. У любого пи-
саря в штабе нашей дивизии орденов было больше.
- 183
Дивизия наша воевала в болотах. Брала она в основ-
ном сопки. Преобразована она была из бригады.
Вот уже год дивизия была на фронте.
Саперы таскали к реке бревна. Строился мост. Река
была маленькая, засоренная крупной галькой, белыми го-
лышами. Сказали, что это река Великая.
Фамилию нового комдива я узнал позднее. Шатилов...
Я его тщательно и долго обходил потом, боялся, что мне
нагорит за мою кубанку. Которую мне носить было не по-
ложено.
Мы с ним сидим у меня на Ломоносовском. Он мне
говорит о своих младенческих годах. Москва его заматы-
вает, и он устал. По-дальневосточному сейчас ночь, и ему
хочется спать.
Комдив говорит вяло, борясь со сном.
Но все это, конечно, он рассказывает мне уже теперь,
когда я встретился с ним...
Комдив теперь уже стал генерал-лейтенантом. Поседел.
Он родился в Воронежской области. Отец его — лес-
ник в Телерманском лесничестве, у Борисоглебска. «У отца
нас было четырнадцать человек. Изба была маленькая, и
мы не имели права спать на спине. Только на боку! Кро-
ме меня еще семь мальчиков и шесть девочек, и я среди них
всех! Получал отец двенадцать рублей пятьдесят копеек в
месяц». Сам Шатилов родился в 1904 году, пишется с 1902
года. В армию пошел в 1924 году. В селе Калмыке кончил
сельскую школу. Жил у дяди... «А у дяди были еще три де-
вочки. Пропьет — ни хлеба, ни картошки. Но руки золотые.
Зиму поработает — возвращается на лошади, в санях мешок
баранок, селедки... «Мама, кому ты должна?» Проучился я до
масленицы. Учительница Ольга Ивановна, я ей записочки к
парню носил, даст мне за то перо или ручку... Когда бросил
учиться, дома никто и не спросил — почему?.. Был это год
1915-й или 1916-й. Сначала коров пас, а потом — летом в
поле, зимой дрова пилил». Это все его рассказ...
А потом служба. Так всю жизнь свою и прослужил.
Сначала Восьмой Кавказский стрелковый полк, а потом
Тифлисское пехотное училище...
Первого мая, в 1944 году — в Козьем Броде принял
комдив нашу дивизию.
- 184 -
КАКОЙ РЕЙХСТАГ БРАТЬ
Что Неустроев не понял и не поверил тому, что перед
ним рейхстаг, пожалуй, естественно: долга была дорога!
Нечто подобное произошло и в батальоне другой диви-
зии — у Самсонова. Я узнал об этом уже в Москве. Он при-
шел в воинский клуб поделиться своими воспоминаниями,
я — читать стихи.
Батальон Самсонова принимал участие в тех боях, и
два бойца его батальона — Михаил Еремин и Григорий Са-
венко — прикрепили свой флаг к углу здания рейхстага.
Комбат рассказывал: чтоб быстрее пробиться к центру го-
рода, они обходили укрепленные очаги. Чем ближе они
были к цели, тем ожесточеннее было сопротивление.
И вот перед нами рейхстаг. В первую минуту мы не
поняли этого...
Если Неустроев, встретившись с рейхстагом, долго не
хотел верить, что перед ним действительно рейхстаг, то
Самсонов спрашивал себя: «Рейхстаг-то рейхстаг, да тот ли
это?..» Пленные говорили — если он их верно понял, — что
они не знают, какой рейхстаг нужен;..
— Звоню полковнику Него де, спрашиваю: «Говорят,
есть еще один рейхстаг. Может, это не тот?.. Какой мне
брать?»
Комдив помедлил и ответил мне, смеясь: «Берите этот,
а если окажется, что это не тот, — берите другой...»
Самсонов вызвал солдата Савенко и младшего сержан-
та Еремина, дал им флаг и сказал: «Поставьте, как возьмем
рейхстаг». Когда началась общая атака, они действовали в
боевых порядках. Одного из них — Еремина — ранило, но
вместе с Савенко он все-таки воткнул флаг в пробоину в
стене.
— Но нам повезло, — продолжал Самсонов, — этот рейх-
стаг оказался тем самым, какой нам был нужен...
• И НАСТАЛ МИР •
Нам всегда хотелось представить, как это: война, война
и вдруг мир. Вдруг — нет войны!
Я слышал один раз, как разговор об этом зашел в зем-
- 185
лянке, бойцы спрашивали своего старшину, который у них
еще на финской воевал...
«—А вот мы взяли Выборг, — стал рассказывать старши-
на.—Я задание одно выполнял. Нес донесение. Иду я через
лес. Иду, а навстречу мне боец наш.
«Куда ты?» — спросил он меня.
Я остановился.
«Война окончена! Мир!» —сказал он.
«Врешь, — не поверил я ему. И рассердился, закричал: —з
Чего ты треплешься! Не слышишь, какая стрельба идет!»
Он говорит:
«Это до двенадцати часов, а после двенадцати дня —в
прекратить!»
Но,—продолжал свой рассказ старшина,—в одинна-
дцать сорок пять меня контузило. Пришел я в себя. Тихо!
Лежу на снегу, один. И тут я понял — конец войне...»
Не раз и я потом возвращался к этому разговору, думал.
«Эта война кончилась как-то по-другому», — говорил я
себе. Но сам представлял уже, как и я тоже иду через поле,
через лес. Как всегда, один. Иду в полк по своим обычным
газетным делам. А навстречу мне, размахивая руками и чему-
то улыбаясь, бежит боец. Я прохожу мимо него, и мне
невдомек, что парень этот знает то, чего не знаю я...
Что случится это вдруг и случится обязательно неожи-
данно, разумелось как бы само собой. И конечно же очень
скоро. Вот-вот... Если бы кто сказал нам тогда, что война
продлится четыре года, мы не поверили бы. Но прошел и
год, и два, и три...
Мы не думали, что война кончится обычнее обычно-
го. Но так именно и случилось. Она кончилась тогда —
тогда уж, когда они сдались. Когда были взяты за горло.
Сдались, когда мы поднялись уже на развалины их «парла-
мента».
Все было не так, как нам представлялось...
Мы уже вытеснили врага из пределов родины, а вой-
на — война все еще шла. Она шла и четвертый год. И тогда,
когда мы взяли Берлин...
Войны кончаются по-разному — эта война кончилась так.
Я спал. Ведь хотя мы и были в Берлине, но неделю уже
не воевали... Пришел Митя и разбудил меня:
— Товарищ старший лейтенант, вставайте! Война кон-
чилась.
И все же она кончилась для нас неожиданном
- 186
ДО СИХ ПОР
Один мой друг, с которым я встретился недавно, сказал
мне, что он был в Германии. Был он в туристской поездке,
пробыл там целые две недели. Побывал и в Берлине. «Как! —.
удивился я. И, волнуясь уже оттого, что задаю такой вопрос,
я спросил: — Ты и рейхстаг видел?..»
Он тоже фронтовик, но ему не пришлось быть там в со-
рок пятом. «Да,—сказал он,—только не так близко — от
Бранденбургских ворот...»
От Бранденбургских ворот!.. А я его увидел — во сне.
Сон такой снился мне еще недавно. Впрочем, он мне
снится уже несколько лет. Снилось, что из-под рейхстага,
из-под глухой стены его, прет молодая сильная зелень. Трава
или кусты. И еще — растут из-под него подсолнухи. Много-
много золотых подсолнухов.
Так ярко все это приснилось, что я и сейчас еще вижу
сожженную руину рейхстага и эти цветущие подсолнухи.
Потом снилось еще — и тоже не раз. Я мчусь в кузове
грузовой машины по Берлину, по широкой, незнакомой мне
магистрали. И не понимаю, что это за район и как разыскать
мне рейхстаг. Потом я веду своих спутников по неизвест-
ным улицам, пока мне не указывают на одно здание. И по-
чему-то мне говорят, что это рейхстаг. Хожу вокруг и при-
поминаю, припоминаю, разглядываю его со всех сторон и —
времени, конечно, мало! — ухожу, стараясь запомнить этот,
хотя все такой же разбитый — одни стены без крыши,—но
другой и не сразу узнанный мною дом.
И когда просыпаюсь... Нет, не сразу как просыпаюсь,
а после только, через какое-то время, я начинаю понимать,
что это — сон, и понемногу опять восстанавливаю в памяти
тот, настоящий рейхстаг, будто опять я прикасаюсь к его го-
рячей, раскаленной стене...
Друг мой, как и обещал, прислал мне сделанные в по-
ездке снимки... Я стал рассматривать, не очень понимая, что
на них. И вдруг — эти башни... Да это — рейхстаг! Его вы-
щербленные стены — мы его в то время иначе не называли,
как «осиное гнездо», — ступени, колонны... Но где же купол?
Его я не вижу. Видно, он столь сильно проржавел, что его
спилили.
И я опять воспроизвожу в памяти те уже забытые очер-
тания...
- 187 -
Постоять бы рядом, потрогать рукою стену (она еще
горячая — жжется!), чтоб убедиться, что не приснилось это
мне. И что цветут подсолнухи подле рейхстага...
<* ЧАСЫ •
А может, мне следует рассказать о часах, что у меня на
руке.
Да, пожалуй, я мог бы рассказать вам о моих часах...
Они теперь уже порядочно потускнели: никелировка во
многих местах сошла, из-под нее проглядывает бронза.
Только на черном циферблате все еще светится фосфор.
Часы идут, но того и жди — станут.
Эти часы — из рейхстага. В тот наипамятнейший день
мне дал их Коля Беляев — комсорг 756-го. Он и его друзья
нашли эти часы в сейфе, в одной из комнат рейхстага. На-
шли сразу целую коробку, большую и перевязанную лентой,
на которой была надпись: «Prasente fur Deutsche Genera-
le» — подарки немецким генералам...
Подарок Коли оказался таким же прочным, как его
дружба. Часы эти вот уже четырнадцать лет они у меня —
не только светятся в темноте, но и водонепроницаемы, так
что они скорее даже адмиральские, чем генеральские.
В какие только переделки не попадали за эти годы мои
часы! Я ронял их — в бане! — на цементный пол, и они шли.
Не сняв с руки, я однажды бросился с ними в море, а в
другой раз влез в ванну — и все-таки они шли.
Но, видно, всего этого было еще недостаточно для моих
часов — тогда я вскипятил на них чайник.
Это случилось в ту послевоенную зиму, когда я на месяц
приехал в Москву. Студенты Литературного института (я
числился заочником этого института) уехали на каникулы,
и мне разрешили занять комнату в общежитии. Так я очу-
тился на даче, принадлежавшей раньше Треневу, в одной
комнате с молодым адыгейским поэтом Исхаком Машбаше-
вым. Исхак писал какую-то поэму и донимал меня расспро-
сами о личной жизни поэтов. Дача, на которой мы жили,
была летней, и поэтому кирпичная печь, как часто мы ее ни
топили, грела мало, и мы очень мерзли. На ночь окна плотно
- 188 -
закрывались шторами — это помогало удерживать тепло. Ут-
ром, ничего не разбирая в темноте, Исхак поставил чайник
на тумбочку возле моей кровати и включил чайник в сеть.
На эту-то тумбочку я и клал на ночь свои часы.
Когда чайник вскипел и был снят, мои часы дымились.
Я схватил их и тут же бросил, так они были раскалены.
Когда дым рассеялся и часы немного остыли, я смог наконец
рассмотреть то, что осталось... Ремешок обгорел, стекло вы-
горело. Ничего нельзя было разобрать. Еще не веря тому,
что часы окончательно пропали, я приложил их к уху — они
преспокойно шли.
Пришлось заменить стекло, купить новый ремешок.
Скоро я заметил: часы стали идти быстрее. Сейчас я
время от времени должен переводить стрелку, возвращая
их назад.
На этом, пожалуй, можно и закончить рассказ о моих
часах из рейхстага. Они уже потеряли свой прежний наряд-
ный вид и уже изрядно потемнели, но, как видите, еще идут.
Еще идут, но в любую минуту — только и жди этого — мо-
гут остановиться...
• НАШИ ДЕТИ •
В центре Берлина, рядом с рейхстагом, стоят Бранден-
бургские ворота. Над ними вздыблена четверка коней.
Я писал тогда:
У надменных державных коней
Перебиты железные ноги.
Но и перебитых не было. Не было вообще никаких ног.
И коней не было. Был бесформенный ком металла. Расша-
танная колесница свалилась. Ехать было некуда. И сами во-
рота разбиты и покривились.
И, видно, ходко катит время, если моя дочка, девочка
военного сорок четвертого года рождения, стала совсем боль-
шая. В девятом классе уже. Девушка.
Но она росла у меня на глазах, и это не так заметно.
Но вчера я слышал, как она читала из учебника по не-
мецкому. И что же я узнаю! Наш мальчик Виктор едет в
- 189 -
Берлин в гости к такому же, как он, мальчику Отто. И этот
немецкий мальчик показывает своему другу город. С Алек-
сандерплаца они до центра едут в метро. (Мы тогда ходили
пешком и считали, что это близко.) И Отто ведет своего
гостя по широкой Унтер-ден-Линден. Потом друзья напра-
вились к Бранденбургертор. Это — эмблема немецкой сто-
лицы...
«А ну, что ты читала, покажи. Где?» сказал я и ото-
брал у нее книжку.
Но искать мне не пришлось. На той же странице были
Бранденбургские ворота. Белые, отремонтированные. Шесть
колонн и пять пролетов. И кони! Те же кони на них! Их
несущаяся вперед квадрига...
Я читаю дальше. И узнаю удивительные вещи! Где были
пустыри и руины, там возникают дома... И кони снова ска-
чут над Бранденбургскими воротами.
И вот немецкие дети и наши встречаются. Не так, как
мы встречались! И Отто, этот Отто в пионерском галстуке,
водит всюду нашего Виктора, показывая ему свой город...
Они идут вместе по Унтер-ден-Линден.
Наверно, это очень хорошо.
В Берлине, в двух шагах от рейхстага, стоят старые
Бранденбургские ворота. На них — бешено скачущие кони.
Теперь это просто отлитая из бронзы четверка коней...
••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •
: ОПУСТИТЕ ОРУЖИЕ •
• •
• •
• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••
«Белые мамонты»
Иней недвижимо висел на деревьях. Тротуар
скрипел под ногами. И когда отшагивали они по
тротуару, пар поднимался от дыхания.
Этот город был городом вечной зимы; он был
за тридевять земель от войны, и тем более было
странно и удивительно сознавать, что танки, уста-
навливаемые здесь на платформы, там вступали
прямо в бой.
Из мглы, едва за окнами начинало сереть, при-
подняв плечи, уткнув лица в воротники, выступали
люди в ватниках... Все они шли долго в одном на-
правлении.
Медленный, холодный серый рассвет и эти
черные и безмолвные, горбящиеся фигуры на пред-
рассветно сереющем снегу.
- 191 -
Шли густо, тесно, по двум сторонам, по двум
тротуарам.,. Две черные шеренги.
Свежий, выпавший в ночь снег скоро под но-
гами их тоже становился черным. Деревянный
тротуар с затверделым, смерзшимся слоем снега
нестерпимо визжал.
Завод был совсем рядом, густо дымил...
Над головами людей на заборе, над этим тро-
туаром, над облаками пара, на высоте — висел
плакат; он звал: «К оружию, товарищ!»
И навстречу им, по той же дороге, по колее
между этими тротуарами, еще до рассвета, один
другому вслед — один вслед другому двигались
сработанные ночной сменой, выпущенные в ночь
танки.
Танки, танки, танки, танки.
Танки, танки, танки, танки...
Они выходили из ворот завода и неуклюже,
медленной поступью продвигались по дороге,
огромные, серые... Серыми они были оттого толь-
ко, что еще не рассвело.
На самом деле они были белые. Танки окра-
шивали в белую краску. Белый, под снег, танк ка-
зался еще страшней... Их и звали «белыми мамон-
тами».
Когда они проходили мимо, наша казарма
дрожала и колебалась. Она стояла у самой дороги.
А к заводу все шли и шли рабочие люди.
• ПОСЛЕ ПРИЕЗДА •
1
Должно быть, последний раз мы виделись с ним на даче
Геринга. Вернее, это была не дача, а его охотничий домик.
Дом в лесу под Гросс Шёнебеком...
Но не с этого, думаю я, надо мне начинать.
...Издали еще я увидел, что огня в моей комнате нет.
Это странно: жена всегда ожидает меня, не ложится, как бы
- 192 -
я поздно ни приезжал... Конечно, я опять задержался. Но
все-таки, почему окно, которое выходит у нас сюда, на эту
тропу, не освещено сегодня.
Было безветренно и тихо. Каждый шаг мой был слышен.
Над станцией горели фонари, но свет их сюда не до-
ходил: слишком далеко. И оттого, что они там горели,
здесь еще темнее было. Как я ни старался, я все же соскаль-
зывал с твердой, натоптанной тропы и проваливался по ко-
лено.
Но вот уже и речонка, в мороз даже не совсем замерз-
шая на перекатах, осталась позади. Я перебрался через нее
по переходам — двум зыбким, узехоньким, качающимся до-
щечкам.
Деревня спала, огни в домах были уже потушены. Позд-
но, поздно я возвращаюсь. Пока доберешься до вокзала,
приедешь и придешь сюда, в эту деревеньку, уже глубокая
ночь... Крыльцо заскрипело — как доски, по которым я толь-
ко что шел через реку. Ветла, склонившаяся над крыльцом
и навалившаяся на балку, тоже скрипела от мороза.
Дверь, конечно, опять примерзла. Это обычно: когда
дом плохо отапливается, дверь примерзает... Часто, когда я
так прихожу и моих усилий оказывается недостаточно, жена
мне помогает. Она изнутри «отколачивает» дверь.
Я поставил, прислонил к стене свой тяжелый, набитый
чужими рукописями портфель. Прогудела и отошла от стан-
ции электричка. Обеими руками я взялся за дверную ручку.
«Черт! Крепко примерзла». Упершись коленом о косяк, я
дернул покрепче.
Первая комната — передняя, она же кухня — была пу-
ста. Из другой через дверной проем шел слабый свет. На
минуту мне показалось, что нет никого, и я удивился. Но
тут же увидел чужого человека. Он стоял невдалеке от
меня... От инея на глазах и от того, что темно было, я плохо
видел.
Но он сделал два шага ко мне, и я так обрадовался, что
даже не поверил...
• 2 •
Его сын, совсем еще ребенок, уже спал.
Все это не очень правдоподобно было... Да, последний
раз мы виделись там под Гросс Шёнебеком — у озера, в лесу,
где мы все тогда располагались. В охотничьих угодьях Ге-
7 В. Субботин
- 193 -
ринга. Две недели спустя как бои в Берлине были прекра-
щены — через неделю после конца войны. Тепло там тогда
быдо. Лето... Теперь зима. Зима 1957 года. Сколько же зим
уже прошло с тех пор! Двенадцать... Неужели двенадцать?
Он рассказывает мне про свою жизнь. Обо всем. И о
том, что он много лет был болен: он теперь как бы начал
жить заново.
Он давно меня искал, искал в Симферополе, в Крыму.
Но я вот уже несколько лет живу в Москве: не в Москве,
а вот здесь, в семнадцати или двадцати километрах, в де-
ревне.
У нас — холодно. Хорошо, что мальчик лежит на по-
стели одетый. Этот дом, мы снимаем в нем одну только ком-
нату, служит хозяину летней дачей и не отапливается. Мы
стараемся тщетно обогреть ее керогазом. Но сгорает много
керосина, и приходится ходить за ним каждый день на
станцию.
Пришла жена. В кошелке у нее пиво, какие-то свертки.
Уже поздно, и нигде ничего нельзя достать.
Пододвинув стол к кровати, мы садимся за стол. Я на-
ливаю ему пива, но он отказывается... Он пьет кефир... Го-
ворит, что он свое отпил.
Все серьезные, все важные деловые разговоры мы ре-
шаем отложить на завтра. Пока же то, что мы сидим рядом,
может быть, для нас важнее всего.
Он теперь гражданский. На нем серый спортивный ко-
стюм. Пиджак, галстук. Как мне непривычно все это!.. Но
ведь прошло двенадцать зим.
Звездочка его на кармане пиджака.
Должно быть, ему странным кажется это мое жилье: эти
голые чужие стены, единственный стул... Странным и неожи-
данным. Я вижу, как он удивленно оглядывается вокруг.
Мальчик проснулся. Он должен был видеть, как мы
встретились, и недоволен, что его не разбудили. Он огорчен
и думает, что он пропустил что-то важное для себя. Он все
знает. Все помнит, все знает... Знает, где какой боец за ка-
ким камнем лежал на Королевской площади. Знает и то, что
мы позабыли. И сразу, как будто он был там с нами, всту-
пает в разговор.
Мы ложимся, укладываемся: нам рано вставать. Он со-
бирается завтра уезжать.
Перед тем как лечь, он мне говорит:
«Свози меня. Покажешь! Я уже даже забыл, какое оно...»
- 194 -
3
Он нервно, большими шагами ходит по комнате и много
курит. И рассказывает, волнуясь, опять про то, что было
утром, и о первой неудачной атаке.
Там, в этих подвалах, из окон которых так неожиданно
открылась площадь, было их два батальона. Сам дом этот
они отбили накануне вечером. Окна подвала внутри поме-
щения были на уровне головы. Встанешь на цыпочки, уви-
дишь, что делается на площади...
Но теперь проще — подлиннее рассказывает он об
этом сам.
Как захлебнулась утренняя атака. Как поднялись они
на второй этаж, чтобы лучше разглядеть поле боя и догово-
риться, как действовать. Но и новая, сформированная груп-
па, едва успев добежать до канала, тоже залегла.
И опять о том, как они не узнали рейхстага..*
И конечно уж мы не могли сегодня выехать так рано,
как мы рассчитывали. Он быстро, рывками, ходил по ком-
нате и рассказывал, но все не про свою жизнь, нет, а про
то, что было там в тот день...
Потом мы пробирались через Москву, зимнюю, засне-
женную. Прятали носы в воротники и пересаживались из
трамвая одного в другой...
• 4 •
И вот мы входим. Я давно уже не был здесь, в военном
этом музее. Раздеваемся мы в большой, высокой гарде-
робной.
И забываем даже, что нужно взять билет.
За нами уже бегут.
— Товарищи, — билеты!
В кабинете у начальника люди. Полковник не сразу, но
наконец оборачивается. Разговор, по-видимому, надолго.
Мы стоим с Юрой здесь же. Но мальчику делается
скучно. Ему не терпится поскорее пойти туда, в залы, по
которым он только что прошел.
Он тянет меня за рукав, и мы выходим.
Юра сразу заявляет, что фотографии он смотреть не бу-
дет, только снаряжение и вещи. Но подбегает он к одним
пушкам и минометам. Ни одной пушки не пропустил. «Сей-
7*
- 195 -
час я»,—говорил он и опять бежал к какому-нибудь ору-
дию... Так все было здесь для него интересно, что он совсем
забыл, ради чего он ехал сюда... Пришлось мне ему напо-
мнить.
«А где?..» И он благодарно взглянул мне в глаза и, взяв
меня опять за руку, потащил вперед.
Здесь всегда полно народу. По-видимому, только что вот
прибыла новая группа. Но нам удалось кое-как протиснуть-
ся, пройти ближе.
...Чтобы его предохранить, его держат под толстым стек-
лом — в пирамиде. Оно как бы заключено в кристалл. Его
очень берегут: хотя оно потемнело и слежалось, но делается
все, чтобы сохранить его надолго... Когда с ним лезли на
крышу, его зацепили за какую-то железку и оторвали от него
здоровый лоскут.
В те дни, когда его ставили на рейхстаге, оно
было светлее. Теперь оно как бы потемнело. Просто от
времени. Как темнеет с годами свежее дерево, угол сруба —
дома.
Оно было сшито из простой красной материи, из рус-
ского кумача. Сшито из двух кусков. Видно, как грубо их
оторвали от большого полотнища. Края наскоро подруб-
лены. Долго готовить было некогда... Поставили его через
неделю после того, как его сшили. В то время, в день, когда
его ставили, на нем не было никакой надписи. Сейчас, если
расправить складки, там написано имя дивизии.
«Вот оно, Юра!..» — «Я вижу»,— отвечает он.
«Дядя Вася, поднимите меня!» — просит он. Я поднял
его, чтобы он мог получше рассмотреть... Он смотрит долго
и делает открытие: «А оно простое, дядя Вася...» Это даже
его удивило. А я думал, что он все знает.
Девушка-экскурсовод рассказывает обступившим ее
юным посетителям, как было водружено знамя. Но вставший
теперь впереди Юра недоуменно оглядывается, смотрит на
меня. «Что она говорит?»
Девушка говорит не совсем точно, но очень торже-
ственно. Она сразу же впала в этот тон, как только подо-
шла сюда. Тут Юра узнает, что знамя «вывозят» в Кремль.
Но только в особых случаях, когда бывает большой, важ-
ный какой-нибудь правительственный прием... Этого Юра
опять же не знал.
Внизу, на постаменте, на котором установлена пира-
мида, оберегающая знамя, — старая фотография. На ней ма-
196 -
ленькая группа военных. Один из стоящих удивительно по-
хож на этого мальчика Юру, у которого я стою за спиной,
положив на плечи ему свои руки.
— Скажите, а где сейчас этот комбат? — слышу я. Это
спрашивают из зала.
Девушка не знает.
Мне хочется поднять Юру и сказать им, что этот
Юра — его сын. Я знаю, они сразу поверили бы. Но я этого
не могу сделать.
Но в этот момент Юра — он только что разглядел фо-
тографию — сказал, показав пальцем на нее: «А вот
папа...»
Все к нему повернули головы.
Все это видели, девушка сразу все поняла.
• 5 ®
Он меня искал в Симферополе, в Крыму. Но я там не
жил, я там не был уже несколько лет.
Адрес ему дали неверный, но все-таки он меня нашел...
Сразу же, как только он стал жить заново, он стал искать
своих старых друзей.
Когда вчера он вошел и Валя ему открыла, он хотел ска-
зать ей, кто он такой. Но Валя его опередила, сказав, что
она его узнала.
Он сразу заулыбался, очень обрадовался... Вот, пожалуй-
ста, говорила его улыбка, и здесь его знают. А уж он думал,
что, чего доброго, его забыли. Но нет, оказывается, не за-
были, нет, если эта чужая женщина встретила его как зна-
комого.
Конечно, мы не спали всю ночь. Мы перебирали в
памяти все наши прежние встречи — первые, в сорок
третьем году, и последние, в Германии, в Шорфхайде. В лес-
ном том массиве, принадлежащем Герингу... После несколь-
ких лет мирной жизни мы снова попали теперь с ним на
войну.
Я как-то только сейчас по-настоящему понял, как много
прошло времени...
Он рассказывает мне о том, о чем мне не могло быть
известно.
Это уже не тот капитан, каким был он тогда. Мы все
стали другими! Правда, он такой же, как и раньше,— бы-
197 -
стрый, худенький, но, как и мне, ему уже около сорока.
Отец семейства. Позади у него не только рейхстаг, не толь-
ко война...
Вчера, когда я открыл дверь и он вышел на свет, что-то
мне подсказало, что это он. Вероятно, еле слышно, тихо и
глухо, я назвал его.
Он изменился, похудел. Он мне много рассказывал
вчера. И о том, как они первый раз увидели рейхстаг, и про
свою жизнь. Ведь он совсем уже погиб было. И как только
он выкарабкался. То, что он начал жить заново, похоже на
чудо. Он пил.
Мы так и не спали всю ночь, а утром он мне сказал:
«Поедем!»
«Говорят мне — рейхстаг. А я — ни в какую! Сомнение
у меня. Не знаю, что на меня нашло. Уж очень близко, да и
по виду вроде не рейхстаг — не похоже... Тогда я решил
спросить пленных. Их во дворе держали. По обстановке
нельзя никуда их было отправить. Привели.
«Что впереди за здание?» (По-немецки Пятницкий у нас
лучше всех говорил... Ему, бедняге, пришлось и в плену по-
бывать.)
«Рейхстаг», говорят. А я опять не верю. У меня же ре-
шение было обходить! Привели пленного из другой партии,
но и он - рейхстаг. Что тут будешь делать».
Сам уже многое успев перезабыть, он помнит это. Мно-
гое из того, о чем я не писал все эти двенадцать лет. Может
быть, мне как раз этого не хватало, того немногого: соедине-
ния — наложения этих событий на современность.
А он продолжает:
«Показываю Давыдову Васе из окна: «Вон высокие дома
горят, — за ними...» Долго мы так сомневались. Пришел Зин-
ченко. «Куда ты наступал?» — «Вот на это здание». И мне —
«Карту!» Посмотрели, сверили. Он в карте хорошо разби-
рается. «Штурмуй! Перед тобой — рейхстаг! Я сейчас под-
готовлю артиллерию!»
А в это время Шатилов еще включился в рацию. Ком-
див сам.
«Двадцать пятый! Двадцать пятый! Перед тобой — рейх-
стаг! Говорит семьдесят седьмой».
У меня сердце заколотилось, глаза обожгло даже...»
Он сейчас придет, — говорю я девушке.
- 198 -
6
Он уже протискивался сюда, подошел и стал уже рядом
со знаменем. С ним был и начальник, подошел и предста-
вил его. «Коротко нам расскажет».
Он, видимо, сам не помнит, как и каким образом в ру-
ках у него оказалась указка. Видно, та девушка-экскурсо-
вод ему тотчас, как он появился, сунула ее. И тогда, схва-
тившись за эту тоненькую палку, как за свою спасительницу,
он подошел к макету рейхстага. По тому, как он побледнел,
можно было понять: он очень растерян.
— Это то здание...— сказал он и сделал еще один шаг.
Воздуха ему не хватало. И, сжимая указку в руке, как бы
решившись, он договорил с отчаянием: — которое доблест-
ные бойцы поставили... 30 апреля 1945 года.
Тут он смутился. Недоуменно поглядев на эту палку, не
понимая, каким образом она очутилась у него в руке.
И улыбнулся. Сам над собой.
— Одним словом, товарищи, — сказал он совсем уже
другим тоном,—это тот самый дом...—И рассказал — очень
внятно и просто, и все еще улыбаясь, как батальон штур-
мовал рейхстаг, как бились в рейхстаге, как водружено было
Знамя победы...
В огромном зале сразу стало тихо. Но, как выяснилось
потом, теснившиеся посетители чуть не перевернули все экс-
понаты...
Фотокорреспонденты, они тут как тут, тут они всегда,
захотели заснять его. Снимок должен был быть по их за-
мыслу такой: отец показывает сыну Знамя... Так их и за-
сняли корреспонденты — воина отца и мальчика сына у ве-
ликого Знамени победы.
И опять этот Юра! Ах, этот Юра. Он снимался. Терпе-
ливо выполнял все просьбы: «Голову вверх, голову вниз,
пальчик — вперед...» А потом — отказался. А потом отка-
зался и убежал досматривать свои пушки. И сколько ни про-
сили, сниматься больше он уже не захотел...
Комбат, видимо, не знал, что оно под стеклом, в особом
зале, поднято под самый купол. И к подножью, на пол —
на землю! — брошены вражеские фашистские знамена и
штандарты.
Он долго стоял под ним, когда все разошлись. Он тоже
увидел, как оно потемнело... Там, когда оно стояло на ку-
поле, оно было новым, хотя, как и полагается знамени, было
- 199 -
и закопчено и пробито... Он подошел совсем близко, встал
на носки, вгляделся, тихо сказал: «Какое стало!»
Оно задымилось, когда рейхстаг горел. Задели его и
пули. В двух местах оно порвано... От осколков.
Вернулись мы поздно. Когда дома, опять вернувшись
сюда, за город, мы сидели и, согреваясь чаем, вспоминали
нашу молодость, Юра слушал все это, наверно, как сказку...
• 7 ©
Еще с утра, за завтраком, и по пути, когда возвращались
от Знамени из музея (он все-таки задержался на сутки), ни
на минуту не могли мы выбраться ни с полей нашей юности,
ни из нашей военной колеи.
Мы вспоминали стоянку на геринговой даче, потом за-
говорили о пожаре в рейхстаге, и я сказал ему, что первый
раз здание рейхстага еще в начале века горело, был просто
бытовой пожар. Но и тогда рейхстаг выгорел основательно.
Он даже после перестраивался.
— А почему поджег его Геринг?
Я и сам уже, все перезабыв, припоминаю то, что сооб-
щали газеты, освещавшие процесс. Как осуществлена была
провокация, как потаенными ходами, о которых уже тогда
было известно, подобранный на то наемник пробрался в
рейхстаг — залил горючим пол, бумаги, мебель. Обо всей
этой грубой операции. О Лейпциге, где пытались в под-
жоге обвинить коммунистов, где против орлиной головы
Димитрова — выставили морду Ван-дер-Люббе.
— Признайся,— говорю я, — что в третий раз рейхстаг
сжег ты.
Он смеется и отвечает, что сейчас это трудно разо-
брать — усердно поджигали те и другие.
И говорит, что, когда рейхстаг горел («Ох и крепко
горел!»), ему хотелось спасти часть архива — целыми шта-
белями бумаги были навалены в коридоре... Но ничего не
удалось сохранить.
Скорее всего, вполне уже серьезно говорит он, сожгли
рейхстаг и в этот раз — те же гитлеровцы. Загнанные в под-
валы, они использовали реактивное оружие, кидали фаусты.
И рассказывает опять, как после пожара и после тех
тяжелых, напряженных нескольких дней, которые нам (каж-
- 200 -
дому по-своему) определили жизнь надолго вперед, — немцы,
последние защитники Гитлера, длинной и грязной толпой
выбираясь из подвалов, выходили через дверь рейхстага и,
попадая на площадь, шли среди развалин дальше, конвоируе-
мые солдатами его батальона.
На этом тогда и закончилось все.
Мы думали, когда ложились, что Юра наш давно уже
спит. А он, оказывается, не спал... Ничего было нельзя поде-
лать с этим ребенком.
Я положил карандаш и понял, что я не знаю, как мне
надо начинать эту книгу...
— Вот так и пишите,— сказал мне один старый и более
опытный в таких делах товарищ. Мы с ним в этот вечер
засиделись в нашем клубе и домой возвращались поздно.—
То, что вы сейчас рассказываете.
...Это вот и был последний спокойный день в моей
жизни.
• ЩИТ БЕРЛИНА ®
Бойцы обедали. Они полулежали на полу, на обожжен-
ных, засыпанных штукатуркой камнях. Посреди их неболь-
шого кружка, на полу, стояло несколько консервных банок.
Три банки португальских рыбных, взятых из опустошенных
правительственных буфетов, банка голландских шпрот.
Это было дней через пять или через шесть после паде-
ния рейхстага. Но впрочем, может быть, на день или на два
раньше. Во всяком случае — еще до девятого мая...
К тому времени из полка Зинченко в рейхстаге остава-
лась одна рота. Все подразделения, кроме этой роты, были
уже выведены.
Значит, это было на третий или четвертый день.
Но вначале нужно сказать и о том, как я узнал недлин-
ную и правдивую эту историю.
Это было в Москве. Мы ехали на аэродром встретить
товарища. В машине находилось несколько человек, опера-
- 201
тор документального фильма и те участники штурма рейх-
стага, кто раньше других прибыл в Москву, на свою первую
после войны встречу.
— А вы помните, Федор Матвеевич...— сказал Сьянов.
Он обращался к Зинченко, но, когда заговорил, к нему тот-
час же повернулись другие.
Мы ехали в закрытом кузове «летучки». Машина уже вы-
ходила из города. Она мчалась быстро, сильно трясло, и в
машине что-то дребезжало. Отдельные слова, а порою и це-
лые фразы из рассказа Сьянова пропадали.
Так вот, солдаты сидели в рейхстаге, а пред ними на
заваленном камнем полу стояли эти консервные банки. Ко-
выряя в них, орудуя кто вилкой, кто ножом, бойцы налегали
на рыбку.
Сьянов еще плохо соображал, плохо себя чувствовал по-
сле контузии. С ним в рейхстаге находился фельдшер и
делал ему уколы... Ночью Сьянов почти не спал, а утром,
только оделся и хотел идти проверять патрули, как заяви-
лись корреспонденты. Двое из нашей фронтовой, двое было
англичан и один американец. Всех пришлось принимать.
Потом Сьянов сказал корреспондентам, которым хотелось
поглядеть на солдат, взявших рейхстаг, что идет сейчас про-
верять посты, что, если хотят, они могут пойти с ним. Так,
с представителями прессы — они держались у него за спи-
ной,—старший сержант обошел здание. У всех входов и на
лестницах стояло по два бойца... Все оказались на своих ме-
стах, и на всех охраняемых объектах было спокойно.
Вот тут, выйдя из темного коридора в вестибюль, они
наткнулись на эту группу дружно и молчаливо закусываю-
щих бойцов. Увидав гостей, бойцы подвинулись, а Сьянов
предложил присоединиться к солдатскому завтраку. Он по-
слал своего ординарца в подвал за бутылкой шампанского.
Там еще оставалось, французское.
Корреспонденты — их не пришлось долго просить: они
были голодны — вооружились перочинными ножичками и
увлеченно занялись шпротами.
Вдруг доски, которыми был прикрыт один из запасных
люков, стали приподниматься. Первым, кажется, это заметил
корреспондент... Доска так же тихо опустилась, но кто-то
там явно карабкался по лестнице. В следующую секунду —
куска не донесли до рта — над люком возник человек. Вер-
нее — лишь голова его... Он настолько растерялся, когда
увидел людей, что снова чуть не свалился вниз,
- 202 -
Но двое солдат, всегда очень быстрых в такие минуты,
подхватили его под руки.
Человек был в гражданском — в шляпе, макинтоше. Был
он тощенький, на вид ему было лет тридцать — тридцать
пять. Под локтем, продетый на руку, болтался у него боль-
шой портфель, за спиной висел рюкзак.
Один из газетчиков заговорил с ним по-немецки и по-
казал ему на поднимавшегося со своего места Сьянова.
Сьянов тоже спрашивал о чем-то, но человек, повалив-
шись на пол, ни слова не отвечал и только хватал Сьянова за
сапоги.
Тогда корреспондент наш сказал спокойно:
— Он вам ничего не скажет так... он думает, вы застре-
лите его.
Сьянов только тут заметил, что по привычке он все еще
направляет автомат на немца.
Этот среди бела дня поднявшийся из подземелья чело-
век был грязен и желт, оброс бородой. На минутку его оста-
вили в покое. Он сидел на камне, он весь взмок. Все смот-
рели на него с недоумением и с удивлением, не понимая,
откуда и как он взялся, как он попал в этот люк.
Придя в себя настолько, что смог наконец раскрыть рот,
немец сказал, что он фольксштурмист, из тех, кто вместе
с моряками и эсэсовцами оборонял рейхстаг. Когда их части
в рейхстаге сдались, он испугался и спрятался. Все время си-
дел в этой подземной норе... Он очень боялся. Но уже не-
сколько дней он был без воды и понял, что так он умрет...
Сьянов отпустил корреспондентов и тут же по телефону
вызвал из полка офицера, который мог бы допросить немца.
А пока тот не пришел, Сьянов позвал к себе в комнату
Шубкина — солдата, лучше всех разумевшего по-немецки.
Комната у Сьянова — в ней в день боя находился батальон-
ный КП — была расположена в бывших апартаментах Мюл-
лера, того самого Мюллера, которому от имени Германии
досталось подписывать Версальский договор.
Фольксштурмист еще раз повторил, как, не решаясь вый-
ти наверх, он несколько дней сидел в подполье — в глубоком
этом убежище. Он сидел бы еще, но был в полном неведе-
нии, не знал, что делается наверху... Эта неизвестность вна-
чале даже мучила его больше, чем голод. Потом стала одо-
левать жажда, он ослабел и понял, что выхода у него нет..*
Он думал, что его убьют.
- 203 -
Раскрыв портфель, немец тут же протянул Сьянову что-
то. Это было кольцо — большой, тяжелый, массивный пер-
стень. Но Сьянов на этот раз не мог понять ни слова из того,
что говорил ему фольксштурмист. Шубкин ему перевел. Не-
мец говорил, что он принадлежит к фамилии основателей
Берлина, он есть один из потомков этой известной в Герма-
нии семьи. А перстень, фамильное их родовое кольцо, под-
твердит его слова. На нем — герб их рода, герб Берлина.
Кольцо это носило много поколений.
Сьянов повертел кольцо в руке. Перстень был старин-
ный, тяжелый, сильно сношенный изнутри. Со вставленным
в него плоско ошлифованным камнем, зеленым, напоминаю-
щим яшму. На гладком, величиною в монету круге был выре-
зан глубокий, четкий знак — щит и медведь: символ и герб
Берлина...
К нему пришли, рассказывал он, как к потомку основа-
теля Берлина, от Геббельса и сказали, что он должен форми-
ровать фольксштурм. Фамильное кольцо служило ему печат-
кой. Оттиск перстня считался официальной печатью, ее ста-
вили на документах этого нового, спешно составленного и
мало просуществовавшего войска, на справках берлинских
стариков и юнцов, удостоверявших, что они призваны в
фольксштурм.
Пока человек из подземелья все это рассказывал, при-
шел лейтенант, работник смерша... Выслушал, высыпал на
стол содержимое портфеля и рюкзака. Вывалились бритва,
духи, всякая чепуха, пилочки и ножички из несессера, по-
том — белье, ценные бумаги, какие-то векселя... Все это вер-
нули немцу.
Он ушел, очень напуганный тем, что его отпускают...
Сьянов помнил: на бумагах, что поступали к нему из
подвалов, был оттиск этого медведя со щитом... Да и на
справках, что он отбирал у некоторых гражданских лиц в
рейхстаге, был этот странный знак...
Несколько таких вот бумажек Сьянов порвал, вернув
владельцам их паспорта.
Этот «основатель» Берлина, вылезший из-под земли, был
последний его защитник... Далеко он не ушел, а, судя по за-
метке, которую Сьянов прочел, где-то возле Шпрее попался-
таки тем корреспондентам, которые видели его в рейхстаге.
Как видно, все еще боялся идти дальше..,
- 204 -
Мы уже подъезжали к аэродрому в Шереметьево, когда
Сьянов закончил свой рассказ. Самолет, тот, на котором при-
летал товарищ наш, уже подруливал к зданию.
Через два месяца, по пути на юг, в Евпаторию, Сьянов
опять был в Москве. Он привез мне, как я просил его, этот
свой трофей — печатку — темное, совсем стершееся изнутри
кольцо, с гербом Берлина — медведем, вставшим на дыбы.
Это кольцо-печатку — старший сержант воспринимал ее
как государственную печать — Сьянов оставил у меня. Он со-
ветовался: что с ней теперь делать — отдать в музей или по-
слать в Германию. И когда, возвращаясь из Крыма, Сьянов
вновь заехал ко мне, я прочел ему этот к тому времени мной
уже написанный рассказ. И в подтверждение, что все мной
рассказанное правда, Сьянов этим своим кольцом на нем
поставил печать.
• «ОПУСТИТЕ ОРУЖИЕ!» о
Не здесь, вероятно, и не сейчас я должен рассказывать
о том, как неожиданно, весной, в апреле, один за другим
вдруг приехали они в Москву. Разумеется, не все, а несколь-
ко человек — те, что получили звание Героя. Хотя это и была
интереснейшая встреча, более подробно я расскажу о ней
как-нибудь потом. Тем более что я уже писал, как за три
года до этого, зимней ночью, в деревне Лукино, где я тогда
жил, я вошел в дом и увидел комбата, приехавшего в Мо-
скву...
Вот и оказалось, что он приехал первым.
Все собрались теперь, и все увиделись друг с другом,
и постаревшие и каждый на свой лад изменившиеся... И ге-
нерал Шатилов — комдив наш — Василий Митрофанович, со-
всем уже седовласый, и самый молодой, но такой уже тоже
немолодой — Егоров, он мастером на заводе, худой, в синень-
кой фуражечке. Больной, с пакетиком соды в кармане.
И Зинченко — командир полка, теперь в отставке, но при-
ехавший в полной форме, парадный и довольный, веселый.
Приехал и Неустроев — тоже подтянутый, какой-то весь
строгий и вроде бы вдруг, по этому случаю, помолодевший,
- 205 -
и теперь — опять военный, только с погонами другого цвета*
Подполковник.
Бурные были дни. Сначала целую неделю съезжались.
Целую неделю встречали друг друга. Потом пришли в музей
и, притихнув, стояли у Знамени, где бойкая экскурсоводка
объясняла им, как они брали рейхстаг, и, стоя с указкой,
заученно и небрежно, показывала то на экспонаты, то на них
и путала их фамилии. Но все были настроены миролюбиво
и не обижались.
Много дней осматривали Москву и снимались — на это
ушло много времени — в документальном фильме, где Давы-
дов все с таким же добрым своим, спокойным, но болезнен-
ным и неузнаваемо пополневшим лицом, с ружьем за спи-
ною — в сибирской тайге — шел на охоту. Снимали это в
Переделкине, под Москвой, где еще лежал снег... У Знамени
же произошла встреча с четверкой молоденьких солдат,
они — после того, как их сорок девять дней мотало и тре-
пало в океане,— вернулись на родную землю, и их в это
самое время тоже встречала Москва. В фильме, когда его по-
казали еще в черновом виде, всего более их удивили старые
кадры. Салют на крыше рейхстага... Были помоложе тогда.
Ровно на пятнадцать лет.
Все жили в гостинице, но почти каждый вечер заезжал
кто-нибудь ко мне. Моя дочка-школьница с удивлением ви-
дела, как к нам в* дом — на наш тринадцатый этаж — шумно
вваливаются все, кого проходит она сейчас по курсу новой
истории.
Потом наступили дни разъездов, и стали провожать
друг друга. Генерал отбыл всех раньше, ему ехать было да-
леко — на Дальний Восток. Неустроев тоже заторопился и
уехал сразу же вслед за генералом.
Сьянов зашел в последний день еще раз, перед тем как
ему назавтра улететь в свою Алма-Ату. Его ждали там. Он
и теперь был на торговой работе — заместителем в облпо-
требсоюзе. Мы засиделись, и он у меня остался ночевать,
О таких солдатах, как Илья Сьянов,— к концу войны они
встречались все реже,— говорили, что они у нас еще «с осно-
вания дивизии». Сам он уроженец Кустаная, а именно там
была сформирована наша 150-я дивизия. В отличие от мно-
гих, он был тогда уже немолод. Еще в тридцатых годах
учился на рабфаке, в совпартшколе. До начала войны Илья
Яковлевич Сьянов работал бухгалтером.
В день штурма рейхстага парторгу роты старшему сер-
- 206 -
жанту Сьянову пришлось принять на себя командование ро-
той. Это произошло утром в доме Гиммлера. В тот момент,
когда солдаты, расстреливаемые с верхних этажей, не смели
поднять головы на площади перед рейхстагом, как раз в это
время он пришел из медсанбата в свой батальон...
Сьянов —- мы уже легли — говорил мне о том же: о дне
тридцатого апреля, о той минуте, когда через проломленную
дверь его рота ворвалась в рейхстаг; в незнакомом, в забар-
рикадированном наглухо здании в течение полутора суток
пришлось ИхМ вести бой.
Это довольно интересно — слушать, как об одном и том
же говорят разные люди...
Он уже разделся и был в нижней рубашке. Я тоже лег
на диванчике. Диванчик у нас маленький, а Илья — длинный,
пришлось укладывать его на раскладушку. Его раскладушка
была поставлена у одной стены комнаты, мой диванчик —
у другой. Через полуоткрытую форточку до нас доносился
гул еще не затихшей Москвы.
По усвоенной мной привычке — самый важный вопрос
задавать в конце, я, когда мне показалось, что мы исчерпали
все главные темы, попросил его рассказать, как он ходил
на последние переговоры к немцам, как это было все...
У меня от тех дней, как указание на этот факт, осталась
записана одна, сказанная Берестом фраза: «Переговоры с
ними вел уже сержант Сьянов». Только эта фраза. Удиви-
тельно, ни одной подробности, ни слова больше в моем блок-
ноте, засвидетельствовавшем столько подвигов и примеров
героизма. Но странно не это. Запись могла быть и короткой,
сделанной только для памяти. Но в том-то и дело, что, когда
огромные, бесконечно длинные колонны пленных, выводимые
из города, шли по белым бетонированным магистралям и уже
показались на окраинах Берлина, я в это самое время бесе-
довал со Сьяновым; он рассказывал мне о своих бойцах,
«отличившихся», как говорили тогда, в последних боях. (Обо
всем этом — и обо всех — у меня подробно записано.) Но
ничего в тех моих записях нет ни о переговорах его, ни о
нем самом.
Никто тогда в суматохе его об этом не спрашивал, ни-
кто в те дни не интересовался, как он — один! — ходил раз-
говаривать со всей загнанной в тоннели метро и в подзе-
мелья немецкой группировкой.
Я взялся написать эти несколько страничек, рассказать
все, что теперь, через столько лет, я услышал.
- 207 ~
Собственно, рассказывать будет он.
Я передаю этот рассказ дословно, ничего в нем не ме-
няя, так, как я его записал.
«Мой ротный КП был на ящиках, возле колонн посреди
центрального зала. Справа от меня — основной вход в под-
валы. Отсюда, от колонн, хороший обзор.
Было уже за полночь с первого на второе мая. К этому
времени мы в основном закончили освоение рейхстага, за-
няли его вплоть до третьего этажа. Пожар еще не утих.
В подвалах были немцы.
Около двух часов Неустроев сказал мне, чтобы я пере-
давал свой участок лейтенантам Антонову и Грибову Павлу,
а сам шел отдыхать... Антонов молодой, хотя мы и раньше с
ним были вместе; но он в Германии только в первый раз
попал в бой.
Я ввел их в обстановку. Мы обошли весь рейхстаг. По-
казал им входы в подземелья, комнаты, откуда шла стрельба...
Обстрел с флангов еще продолжался.
К этому времени еще не догорели потолки, дубовая об-
лицовка обваливалась комьями угля.
Около трех часов ночи я пошел ужинать. Стояло все,
вплоть до вина... Хотя площадь еще простреливалась, но нам
уже все могли принести.
Старшина Мальцев доложил мне, что рота построена.
Из восьмидесяти трех человек (столько дали мне в доме
Гиммлера) осталось двадцать шесть. Так как были минуты,
когда мы не могли вытаскивать раненых, то раненые, кото-
рые сами не передвигались,— сгорели. Поэтому убитых у
нас оказалось больше, чем раненых. Люди исчезли, и я их
больше не встретил. Я увидел, что Якимовича, Гусева, Ища-
нова и очень многих новых солдат — нет. Больше половины
моей роты составляло пополнение, я даже не успел с ними
познакомиться.
Вид у людей был жуткий. Обгоревшие, в крови, в саже,
в кровоподтеках; шинели отваливались кусками, подметки у
всех прогорели, из сапог торчали пальцы и клочья портянок.
Я сам хотел полой вытереть лицо, а пола поползла, затре-
щала.
Взгляд у всех волчий, с оглядкой, люди не остыли от
азарта боя. Молчат все, но что бы ни было, а всему теперь
- 208 -
уже конец — подошли свежие подразделения и нас сменяли.
И все это чувствовали.
Я вывел людей из здания. Тут же, у входа, мы уснули.
В рейхстаге — дым, а тут ветерок. Я приказал ложиться за
колоннами, к стене, чтоб в случае обстрела никого не за-
дело.
Вдруг меня будят, трясет за плечо кто-то. Я вскочил,
хотел крикнуть: «Рота, к бою!» — но связной зажал мне рот,
сказал, что просят меня одного на НП. Было это часа в
четыре. Так что я спал только один час... Тут, на площади,
еще слышен треск, стрельба с флангов, а в рейхстаге, в зда-
нии, когда я вошел, было тихо.
Захожу в комнату налево. Комнатушка маленькая — та-
кая же вот, как ваша... а народу тут много. Человек двадцать
офицеров. И новые уже какие-то люди. Гусев среди них и
Прелов. Он мне улыбнулся.
— В чем дело? — спросил я.
Гусев — наш начальник штаба — сказал:
— Приодеть тебя хотим.
И ординарец комбата, смотрю, подает мне новую ши-
нель и сапоги.
Я не понял, к чему это.
Майор Соколовский, помню, даже пошутил, что женить
они меня не собираются, — задание есть.
Соколовский сказал: немецкое командование запросило
по радио парламентеров для переговоров о капитуляции
группы немецких войск в Берлине. Они просили прислать
им парламентера в звании генерала. Но мы, сказал Соколов-
ский, не находим пока нужным. Посылаем вас. Постарай-
тесь уложиться в обусловленное время.
Гусев мне сказал: посылаем с вами переводчика (его фа-
милия была Дужинский, Виктор Бориславович, по званию
старший сержант) и еще одного сопровождающего, связного.
С четырех до шести утра прекращаются военные действия.
Будут вестись переговоры. Порядок, сказал он, следующий:
сопровождающий несет белый флаг (флаг уже был заготов-
лен). «А вот тебе,— сказал Гусев и подал мне большой элек-
трический фонарь,— будешь освещать флаг». Переводчик
наш должен был на русском и немецком языках всю дорогу
громко повторять: «Русским и немецким солдатам не стре-
лять — идут парламентеры».
Кроме Гусева и Соколовского, в комнате были еще офи-
церы нашего полка — вы их всех знаете — Матвеев, Крылов,
- 209 -
Прелов, Неустроев и, кажется, Казаков, может быть, и Бе-
ляев — уже не помню.
— Какие мне предъявить условия? —- спросил я.
—- Безоговорочная капитуляция... Безоговорочная капи-
туляция на основе решений Ялтинской конференции. Ска-
жете, что офицеры могут оставить при себе холодное
оружие...
Я еще спросил, какой порядок капитуляции. Пусть, ска-
зали мне, выходят строем с освещенными белыми флагами.
Я быстро переобулся, новую шинель надел и умылся.
На грудь фонарь этот повесил. Нам пожали руки, и мы вы-
шли из главного входа.
Вышли на площадь. Вернее —- не на площадь. Сразу от
главного входа мы повернули налево, к Бранденбургским
воротам. Была по радио договоренность, что у входа в метро
немцы будут встречать парламентеров. Слева шел с флагом
сопровождающий боец, справа — переводчик, он повторял:
«Идут парламентеры». Только солдат поднял белый флаг, и
я осветил его, как сразу застрочил пулемет. Но пули проле-
тели выше нас и попали в стену. Мы повалились на землю
и немного отползли... Сначала мы даже растерялись. Но де-
ваться некуда, идти все же нужно было. Посоветовались
между собой и решили обойти здание с северной стороны.
Там проходила выложенная кирпичом траншея, спрыгнув в
нее, мы быстро двинулись вперед. Почти вплотную к стене,
в немецких траншеях, теперь располагалась наша пехота.
Отсюда, из траншеи, я разглядел горящий город. Это
страшная картина, когда горит такой огромный город...
В траншеях были наши солдаты, наверно, из 171-й диви-
зии. Они шумели: «Захватите Гитлера, Геббельса...» Боец-
сопровождающий что-то обещал им. Впереди видны были
поваленные трамваи, подбитые танки. Мы шли, и переводчик
кричал: «Русским и немецким солдатам не стрелять! Идут
парламентеры...»
Но траншеи кончились. Возле метро видна была груп-
па — человек пятнадцать. Мы еще не дошли — нам по-русски
сказали: «Остановитесь!» Мы стали. Они сделали несколько
шагов нам навстречу. Я крикнул: «Опустите оружие!» Мы
автоматы не поднимали, а немец, гитлеровец один, шел с
парабеллумом в руке. Он тут же убрал, но сказал, что и мы
должны все свое оружие оставить у входа — «Парламентеры
не ходят вооруженные».
210 -
Рядом стоял сгоревший танк. Мы сложили на него авто-
маты и гранаты, я положил на гусеницу свой парабеллум.
Застегнули пояса. Немцы продолжали все это время стоять
на некотором расстоянии. Потом подошли, и старший из
офицеров сказал: «Идемте за нами!»
Мы спустились. Трое шли впереди нас, остальные поза-
ди. Все метро битком было забито. Эти, что шли перед нами,
все время повторяли: «Дайте дорогу... Дайте дорогу...» Тут
был всякий народ — и военный и гражданский., Много было
раненых. Двое, хорошо одетые, пробиваясь к нам, говорили:
«Мы русские, угнанные...» Но мне не верилось, не такой
был вид у них.
Так мы прошли километра два с половиной. Мы здорово
боялись. Чем дальше мы шли, тем больше возрастал наш
страх. Нам встречались очень неприятные лица довольно
злобно глядевших на нас солдат и офицеров, на нас и на
тех, кто нас сопровождал. Но общее настроение, видимо,
было другим. Все время к нам присоединялись все новые и
новые люди. Среди примкнувших были и полковники, и даже
два генерала... Каждый со своим человеком, понимающим
по-русски. Шли, соблюдая субординацию. Шли рядом с нами.
Рельсов почему-то не было. Свет горел слабый, так что
были там и темные, еле освещенные закоулки. Чем дальше,
тем свободнее становилось в тоннеле, только нас окружала
плотная группа. О званиях наших даже не спрашивали. По
всему было видно, что нас ждали. Каждый старался с нами
заговорить. Спрашивали, что будет после капитуляции. Бу-
дут ли расстреливать? Они считали, что их сейчас же рас-
стреляют...
Я сказал о наших условиях. Я сказал от себя, что, если
они честно капитулируют, всем дадут возможность вернуть-
ся домой. На этом вопросе в разговоре нашем мы покрути-
лись в разных вариантах. Потом еще спрашивали, где их
будут собирать. Один из немцев спросил: «Кто здесь есть,
кто ваши командиры?» Я назвал. Я постарался назвать им
побольше, чтоб внушительнее было. Всех, кто на память при-
шел,— маршалов Жукова, Конева, Рокоссовского, генералов
назвал — Берзарина, Шатилова... Даже Негоду назвал генера-
лом и Зинченко нашего тоже генералом. Переверткина на-
звал, сказал, что армия Кузнецова, Кузнецов здесь...
Мы вошли в просторное помещение, наверное зал какой-
нибудь станции. Справа была дверь в тоннель. Тут нас и
остановили.
- 211 -
Вниз, в подземелье, спустились оба генерала и с ними
несколько человек охраны.
Кто-то из немцев меж тем спросил: «А Сталин тоже
здесь?» Я важно сказал: «Да, Сталин здесь». Это произвело,
кажется, на них большое впечатление. Все заговорили, за-
двигались, передавая друг другу то, что я сказал.
Один спросил:
— А генерал Чуйков с вами?
Я засмеялся:
— Вы что, сталинградскую кашу ели?
Он тоже рассмеялся.
— Нет, — сказал он,— нас отозвали за неделю, поэтому-
то я и уцелел...
Мы стояли возле двери. Тут было много охраны. При
входе стояли двое — часовые. Нас по-прежнему плотно окру-
жали немцы, офицеры и солдаты. Я вглядывался в их лица —
я боялся: прошло уже и пять и десять минут, а генералы не
возвращались. Надо сказать, что мы довольно основательно
опасались за себя, мы не знали, что с нами сделают. Те, что
стояли у входа — это были, как я понял, просто как бы
парадные часовые, а не охрана,— между собой говорили, что
еще в Сталинграде надо было им вести переговоры.
Но мы волнуемся — особенно мой сопровождающий. Он
меня все в бок подталкивал...
Наконец выходят генералы, дверь оставляют открытой.
Один что-то сказал. Переводчик перевел мне: «Нашего
командования нет. Нам не известно, где оно находится».
Мой сопровождающий меня опять в бок толкает: провели,
мол, нас.
Я разозлился.
(Потом выяснилось — командующий обороной Берлина
генерал Вейдлинг и комендант Берлина, не дождавшись
представителя нашего командования и опасаясь эсэсовцев,
сами отправились в штаб Чуйкова договариваться о капи-
туляции.)
Спрашиваю их:
— Что ж это такое? Просили парламентеров, а сами —
исчезли...
Они отвечают, что никого нет. Я тогда говорю:
— Это что, игра?
Я, когда говорю, жестикулирую. Они подумали, протя-
гиваю руку, и сразу ко мне протянулось десяток портсига-
- 212 -
ров. Но я достал у себя из кармана ихнюю же, немецкую
сигаретку. Переводчик их зажег спичку.
— Что,— спрашиваю,— игра это? Вряд ли вы что-нибудь
выгадаете...
Один из солдат, стоявших на часах, сказал:
— Вы можете зайти, заходите, смотрите, никого нет.
Офицеры стояли в стороне, о чем-то спорили.
Я тогда подошел к ним.
— Хорошо, вы не знаете, где командование,— сказал
я,— но вы — командиры, если вы хотите сдаваться, выходите
сами со своими частями.
Но мне ответили на это, что они не имеют права ничего
делать без приказа.
Сначала, в первую минуту, когда мы увидели, что раз-
говора, к которому мы приготовились, не будет, нам стало не
по себе. Я думал: а что, если все это — уловка, ведь так и
было накануне, когда в подвалы под рейхстаг ходил Бе-
рест,— попытка оттянуть время, собрать последние силы и
прорвать окружение... Я им говорил, на что они надеются,
от их новой армии, которая, по их словам, должна подойти
к Берлину, давно остались одни осколки.
Заявив, что ухожу, я потребовал сопровождающего.
— Раз вы не можете и не хотите капитулировать, дайте
нам провожатых.
Минута эта для нас была очень напряженная, мы не зна-
ли, как они поступят.
Наконец один из генералов приказал проводить нас.
«Двое вас будут сопровождать».
Мы повернулись и пошли назад... Я все смотрел на часы,
мы боялись пропустить время. Стрелка часов подходила к
шести. Надо было торопиться. Мы пошли быстрее. Немцы —
они всей группой все еще шли за нами — стали отставать, у
них опять завязался свой разговор, споры. Обратный путь
показался еще длиннее. «Скоро ли выход?» — спрашиваю.
Говорят, скоро. Было уже без трех минут шесть. Кругом
была уже прежняя теснота, весь тоннель забит — приближа-
лись к выходу из метро. Вдруг послышался крик: «Останови-
тесь! Стойте!» Солдаты загородили нам дорогу. Мы встали
и решили, что сейчас получим пулю в затылок! Но к нам
уже подбегало несколько офицеров, а за ними шли и те два
генерала.
Второпях они объяснили, что они капитулируют со сво-
ими частями. Я сказал, что они должны оставить ору-
- 213 -
жие на месте и с белыми флагами выходить на площадь и
ждать...
«Одних нас расстреляют,— сказал кто-то.— Мы просим
подождать нас, мы пойдем вместе с вами».
По тоннелям раздались крики, послышалась команда, ка-
кой-то лязг, несколько выстрелов. Кто-то стрелялся.
На бетонированный пол стали складывать оружие.
Надо было ждать, а время выходило.
Было минут семь седьмого, когда мы поднялись наверх.
За нами шла колонна. Так, с длинной этой колонной в хво-
сте, мы вышли из метро. Часы показывали двенадцать минут
седьмого. И вот тут-то напоследок еще раз и ударила эта
самоходка. Началась паника...
Стрельбу, однако, тут же прекратили.
Нас ждали Гусев и Соколовский, которого в то время,
пока мы ходили, ранило осколком, голова у него была пере-
вязана. Гусев казался очень взволнованным, он сказал, что
боялся за нас, думал, что с нами расправились.
Когда показалась колонна и самоходка по ней ударила,
получилась заминка. Мы, сопровождающие нас немцы и их
генерал, забежали в рейхстаг, с другой его стороны. Осталь-
ных же немцев постепенно стали выводить на площадь. Они
вылезали через разные выходы. Те офицеры, которые вместе
с нами заскочили в рейхстаг, говорили мне, что и Гитлер
и Геббельс покончили с собой.
Позднее уже они стали выходить и из рейхстагских под-
валов. Раненых тут же увозили в госпитали...
Немцы сдавались по всему Берлину».
• МОЙ ГИД •
1
Война еще не кончилась, хотя в Берлине она уже
потухла.
Я решил весь этот день посвятить осмотру в Берлине
тех мест, о которых покамест у меня не было никакого пред-
ставления. Мне хотелось ознакомиться с центральным, как
я предполагал, районом, который я совершенно не знал, как
- 214 -
не знал его и никто из нас: район этот был по другую сто-
рону от рейхстага.
Я вышел из главного его входа и через две-три минуты
стоял уже у Бранденбургских ворот. Они почти примкнули
к рейхстагу.
Здесь, под аркой, ее колоннадой, было сумрачно и про-
хладно. Проемы — широченнейшие проезды между колон-
нами — были заложены кирпичом, и разобрать еще его не
успели. Только боковые узкие проходы оставались незабар-
рикадированными. Поверху, через весь фронтон, — какая-то
наполовину обитая или обвалившаяся лепная неразборчивая
надпись... Ворота велики, громоздки. Они мне показались
кособокими. Возможно, так это и было... От прямых по-
паданий.
Я уже намеревался идти дальше, чтобы выйти на улицу,
но тут неожиданно вдруг начался дождь. Начался сразу, ни
с того ни с сего, как это бывает только в такой весенний,
солнечный день. Майский дождь! Крупный, частый, прямой,
благоухающий ливень.
Лучшего места спрятаться от дождя, чем под этой аркой,
нигде не было: ни одна капля не залетала сюда, под тяже-
лые своды. Я стоял и смотрел на обливаемый потоками
дождя город, на мрачные остовы выгоревших и почерневших
разрушенных домов — скоро они совсем скрылись за сеткой
дождя,— на парящиеся взорванные мостовые и не сразу за-
метил стоящего тут же, прислонившегося к колонне солдата.
Он стоял здесь, как видно, еще до того, как я сюда пришел.
С карабином у плеча. Усатый, уже пожилой... В прорыже-
лой, измятой ушанке. Хотя ушанки вроде бы давно уже
сняли. Берлин брали уже в пилотках.
Я заговорил с ним и тут же, по привычке, свойствен-
ной, должно быть, лишь очень молодым газетчикам, записал
у себя в блокноте: «Рядовой Андрюшин, Кирилл Егорович».
Боец не удивился нисколько, что я записываю. Он отнесся
к этому как к обычному делу. Или постарался показать мне,
что это так.
После первых фраз того обычного короткого разговора,
когда узнается, кто из какой части и откуда родом, я заме-
тил, это эти самые Бранденбургские ворота, под которыми
мы укрываемся, сделаны ни более и ни менее как на ши-
рину всей улицы. Солдат со мной согласился, но сказал, что
в Берлине ему уже приходилось бывать. Я, как мне пом-
нится, удивился, потом решил, что, наверно, он из тех мно-
- 215 -
гих наших солдат, пришедших к нам в последнее время,
которые были в плену. Но нет, оказывается нет... Но тогда,
может, еще в империалистическую? Солдат мотает головой.
Н-е-т... Еще до первой мировой! Я ничего не понимаю:
он был здесь в 1912 году. Был с экскурсией. Приезжал вместе
с воспитанниками Императорского лицея в Петербурге. Нет,
сам он не был воспитанником. И лекций он в лицее тоже
не читал. Служил привратником... Помнит, проезжали под
этими воротами... Он внимательно оглядывает мощные опор-
ные стены и тяжелый свод. Он и узнает и не узнает теперь
все это...
Пока мы стояли с ним так и под захлебывающийся говор
дождя вели свой разговор, мы не заметили, что в том же
пролете арки, за спиной у нас, собрались другие солдаты,
так же, как и мы, прячущиеся от дождя. Они где-то задер-
жались и успели промокнуть. Все были уже без оружия,
в обмотках и в обычных — выгоревших, выцветших пилотках.
Но все с веточками сирени в руках. Свежей, только что на-
ломанной...
В том году вообще было много сирени. Но больше всего
ее было в Берлине. Она заглушила все дома, скверы... Лезла
из-под развалин, из-под мостовых, наваленных и наворочен-
ных на нее плит, она была сочная, плотная. Какой я никогда
не видел. И запах, который шел от нее, был столь сильным,
что он забил, заглушил все прочие запахи. Даже и трупный,
а он медленнее всего исчезает...
Разрушенный город и сирень... Удивительная была си-
рень. И удивительная была весна!..
И мы, грубые солдаты, мужчины, обстрелянные люди,—
казалось, что мы в этом понимали! — ходили взволнованные
по городу, и в руках у нас была сирень. И пахла она тем
сильнее, памятнее, что еще не выветрились на улицах запахи
пороха и дыма. И не только пороха и гари...
И мы все были пьяны.
От весны, от сирени...
Дождь тем временем перестал... Солдаты с веточками
сирени в руках ушли, как только увидели, что он стихает.
Вода, хлеставшая потоком, быстро сошла. Опять выгля-
нуло солнце.
- 216 -
2
Кирилл Егорович ведет меня по широкой, по прямой
улице. Она и есть Унтер-ден-Линден. Улица вся не то ды-
мится, не то парит...
Я впервые здесь — за Бранденбургскими воротами. Здесь
держались до последнего последние из гитлеровцев, отсю-
да — из-за Бранденбургских — отстреливались они, когда уже
взят был рейхстаг.
Конечно, мне повезло, что я встретил здесь такого сол-
дата, который побывал в Берлине гораздо раньше нас. Я чув-
ствую себя уверенней. Он охотно, даже покровительственно
рассказывает мне обо всем. Признаться, без него мне было
бы трудно. Ведь теперь, после боя, чужой разрушенный го-
род вдруг в своем «мирном виде» стал как бы еще непонят-
ней. Не сразу разберешь, где тут что надо искать... В бою
даже яснее. Есть участок полка или батальона. Вот и проби-
райся от одного известного тебе пункта до другого. Район
Вайсензее и Моабита, через который мы наступали и в ко-
тором мы действовали, был уже в какой-то мере нами изучен.
Настолько хотя бы, что мы могли в нем ориентироваться.
Но теперь бои закончились. Сдались самые последние, в оди-
ночку сопротивлявшиеся автоматчики. Можно идти куда хо-
чешь свободно. И тут-то мы почувствовали, какое непростое
это дело ходить по громадному, везде одинаково разрушен-
ному городу. Блуждать по нему, когда у тебя нет ни плана,
ни карты, когда не знаешь ни основных магистралей, ни
принципов планировки... Одним словом,—я именно это хочу
сказать,—под пулями и снарядами ориентироваться было
легче, чем теперь, когда стало тихо.
Вот почему я так смело шел с Кириллом Егоровичем,
так обрадовался встрече с ним: он здесь бывал, он знает...
Кое-где над крышами, у карнизов разрушенных и со-
жженных зданий, — скульптуры. Прямо над черными стенами.
Целые, нетронутые... Бронза от времени покрылась окисью,
и статуи стали зелеными. Совсем как стеклянные, только что
не просвечивают.
Тем более странно видеть их на этой улице.
Я послушно иду за моим спутником и провожатым. Иду
и не перестаю удивляться, что мне попался столь необыч-
ный солдат. Небось он тут один такой, на весь Берлин один.
Старик что-то мне показывает. Он уже вошел в свою
роль экскурсовода. Но мало что уцелело.
- 217 -
Кварталы кирпича, щебня, камня.
Мой гид оживился, когда увидел богатое, пышно укра-
шенное здание в сплошных горельефах, в орнаменте. Кирилл
Егорович помнит его еще с тех лет. Через решетки на окнах
мы заглядываем внутрь первого этажа, вернее, полуподвала.
Сколько оружия! И пушки, и мортиры, и мушкеты. Всех, на-
верно, времен и веков. Здесь — арсенал. Что-то вроде музея
истории войн.
И опять — зияющие окна, обитые углы... И — бронза, по-
крытая окисью. Опять пустыри и руины, руины и пустыри.
Раньше все это выглядело по-другому.
Как это все выглядело раньше, я уже знал по немецким
открыткам. (И когда Кирилл Егорович рассказывал, я хо-
рошо представлял себе ту, прежнюю, Унтер-ден-Линден.)
Они проходили под той же аркой, по всей этой широчен-
ной парадной улице. Резало глаза от сверканья штыков и
касок... Солдаты, которые лежат на полях Подмосковья.
Солдаты, вылезшие из подвалов рейхстага... Кирилл Егоро-
вич рассказывает свое, но тоже о марширующих колоннах.
На флангах — офицеры в островерхих вильгельмовских ка-
сках, грозно распушившие усы. На конях. И впереди — ба-
рабанщики... Потом шли другие — ночью — орали «Хорст
Бессель»... И вдоль всей улицы, и над липками — белыми
раструбами — факелы. И орлы — на длинных шестах. Орлы
и факелы. На рукавах, на дверях магазина, на столбе с ча-
дящим факелом, на всем — свастика.
По этой же улице только вчера мы выводили их длин-
ные, неровные, растрепанные колонны.
Мы переходим небольшую, грязную Шпрее,—пожа-
луй, она одна здесь не разбита и не изуродована,—и по-
падаем на Люстгартен. Но сначала Андрюшин ведет меня
к Королевскому дворцу, и тут мы наталкиваемся на какое-то
сооружение. Из металла... Что-то странное. Похожее на танк,
но мы таких что-то не встречали. Выразительная махинина.
Нечто подобное я видел только на рисунке. Была, по-види-
мому, такая картина — я видел в детстве ее, в календаре:
высокий врангелевский танк, приминающий частокол за-
- 218 -
граждений, и красноармейские цепи, поднимающиеся ему
навстречу из траншей. Кирилл Егорович ее не помнит, а я —
помню...
Кто-то — немец, подошедший к нам, говорит, что это ан-
глийский танк. Мы, конечно, не верим. Английские танки
мы знаем! Они небольшие, невысокие. Они были у нас...
Но нам тут же объясняют, что это английский танк времен
первой мировой войны... А, вот что! Те самые!
Но Кирилл Егорович спешит и не склонен задерживать-
ся. Он больше всего оживляется, когда видит что-нибудь
уцелевшее...
На исполински огромном битюге сидит такой же огром-
ный мужчина в каске. Фридрих Вильгельм. Кайзер. Мы с Ки-
риллом Егоровичем решили, что это самый большой из всех
не только виденных нами, но и вообще из всех когда-либо
существовавших на земле памятников. С пристройками он
занимает целый квартал.
У его подножия и вблизи, повсюду, положив головы на
обмытые и уже прогретые солнцем ступени, спят солдаты.
Один, услышав наши громозвучные на набережной шаги,
приподнялся и, широко раскрытыми, непонимающими гла-
зами поглядев на нас, перелез в холодок. Туда, где еще была
тень. На нем грязные обмотки, он в ватнике. В фуфайке.
Щеки обросли густой серой щетиной... Сначала надо ото-
спаться.
На самых нижних ступенях пьедестала — фигура жен-
щины. Германия. Мы с Кириллом Егоровичем подошли к ней
близко. Ее специально сделали такой, чтобы и до колен ее
не дотянуться.
Чтобы мы себя чувствовали маленькими.
И Кирилл Егорович, старый швейцар, бывший служи-
тель Императорского лицея, открывая мне двери Берлина,
ведет меня дальше, мимо бронзовой статуи — со шпагой, но
без головы, — к другим памятникам. Мы и впрямь чувствуем
себя подавленными их размерами. Меня еще вчера, в Тиргар-
тене, среди поваленных деревьев, сожженных крупповских
танков, поразила своей величиной статуя Победы. Улыбаясь в
желтые, прокуренные усы, Кирилл Егорович говорит, что
ее, золоченую эту статую, бойцы уже прозвали «бабой с
крыльями»...
- 219 -
3
Сейчас я даже и объяснить не могу, как случилось, что
я не только не держал в голове, но даже забыл об импер-
ской канцелярии. Не скажу, как это произошло. Казалось,
мы все должны были стремиться увидеть штаб-квартиру
Г итлера.
Вероятно, я тогда, в Берлине, считал, что это не для
всех доступно...
А может, дело было проще. Ведь я полностью на этот
день доверился Кириллу Егоровичу, с самого начала решив
не отставать от него. А ни о какой канцелярии, построен-
ной Гитлером вскоре после прихода к власти, Кирилл Его-
рович ничего не знал и не слышал. Нужно сказать еще, что
Кирилл Егорович, который сначала так уверенно, хорошо
исполнял свою роль экскурсовода, очень скоро примолк.
И я понимаю! Много прошло времени, как он был здесь...
Скоро получилось так, что уже не он, а я шел впереди. Вел
его туда, куда хотел. Конечно, и я шел вслепую, меня влекло
одно только любопытство.
Все-таки старик кое-что мне показал. Мы обходили с ним
половину города и теперь возвращались обратно по той же
Унтер-ден-Линден. Только по другой уже стороне. Бранден-
бургские ворота были недалеко, когда я заметил боковую,
уходящую влево неширокую улицу. Мне хотелось посмот-
реть еще что-нибудь. Я повернул в нее, Кирилл Егорович
послушно пошел за мной. Обогнув осыпавшийся угол дома,
мы прочли на случайно сохранившейся табличке: «Виль-
гельмштрассе».
Я долго напрягал память, пока понял, почему и в связи
с чем я много раз слышал это название. Мы уже шли вдоль
высокой, глухой, розоватой стены. После Унтер-ден-?шнден
эта улица казалась нам небольшой. Кирилл Егорович молча
шел за мной, не понимая, почему мы повернули, пошли
сюда, а не к рейхстагу.
Я уже увидел узкий дверной проем. Зрение у меня было
лучше, и высоко над входом, как бы вырезанным в стене,—
мне был виден уже клювастый алюминиевый орел с рас-
правленными крыльями. Его зацепило снарядом, и он был
полуоторван. В цепких своих лапах орел этот держал зем-
ной шар, оплетенный свастикой... Я потом видел еще раз
эту птицу, но уже не на фронтоне берлинской имперской
канцелярии, а в нашем, советском музее, в Москве. В том же
- 220 -
музее, куда было привезено Знамя победы, которое дивизия
наша ставила на рейхстаге. Его внесли в музей и устано-
вили в самом большом зале. И чтобы сохранить навечно,
укрыли стеклом, в пирамиде... Как хранят оружие. А этот
сбитый с рейхсканцелярии, привезенный в Москву исковер-
канный имперский орел был сброшен к подножию пира-
миды. К той, в которой хранится флаг наш.
Ступеней никаких не было. Ход прямо с тротуара. Не-
смело шагнули мы с тротуара в проем. Мы думали, конечно,
что нас не пропустят и придется сразу же повернуть об-
ратно. Но нас никто и не задерживал. Здесь никого не
было... Никто уже не интересовался этим местом, где нахо-
дился Гитлер. Его убежищем.
Перед нами замкнутый, прямоугольный, каменный забе-
тонированный двор. Под ногами — бетон, да и стены тоже
бетонные. Так мне это запомнилось. Солнце стояло высоко,
и здесь было жарко. Все здесь было геометрично прямое
и квадратное — и какое-то невысокое, наполовину как бы
ушедшее в землю.
Поняв, что нас никто не удерживает, мы решили с Ки-
риллом Егоровичем, что должны идти дальше. Тут, в другом
конце двора, у подъезда, мы увидели обгоревший броневик.
Мы на минуту остановились, подивившись тому, почему со-
жженная и разбитая машина стоит внутри двора и как во-
обще сюда попал броневик.
Потом долго шагали по длинному, мало освещенному
коридору. Куда-то поворачивали и опять шли по коридору,
но уже по другому. Хотя я не помню, был ли там кто-
нибудь, но, вероятно, кто-то нам все-таки показывал, как
идти, иначе мы бы ничего не нашли.
Когда мы зашли в кабинет, мы в первое мгновение ни-
чего не могли разглядеть. Над головой была дыра, было небо
и солнце. От света, который бил через пролом в потолке,
все казалось как бы во тьме.
Пол был завален поломанной мебелью и бумагами. Все
знакомо перемешано со штукатуркой и обвалившимися пе-
рекрытиями. Окна тут были с двух сторон: одно окно — ря-
дом с письменным столом — большое, почти во всю стену.
Но теперь, когда потолок был проломлен, эти окна как бы
уже не светили. Кабинет Гитлера, следовало бы говорить —
бывший кабинет, был гигантским, но на кабинет этот боль-
- 221
шой помпезный зал уже не был похож. Одни шкафы у стены
остались неопрокинутыми, и в них были какие-то книги. Ки-
рилл Егорович подал мне одну, другую. Они оказались все
с надписями. От авторов... Целая библиотека автографов.
Взятая мной наугад в том же шкафу книга была Геб-
бельса. И тоже с автографом»
Чтобы подойти к окну, мы обошли поваленное кресло,
и тут я наступил на еще одну — затоптанную и лежащую
в мусоре книгу. Это была книга самого Гитлера. Мы ее впер-
вые увидели. Но оказалось, что та же самая книга была на
полках, что шли вдоль стены. Его книжка была тут во мно-
гих изданиях — все в одинаково черных переплетах.
Но больше всего поражали люстры. Их было две. Нигде
потом я никогда таких не видел. Эти люстры — по одним по
ним можно судить о размерах помещения — не нависали над
головой. Они — стояли... Одна была до самого потолка, Дру-
гая лишь немного не доставала. Обе крепились на полу...
А гигантский тот глобус, о котором многие писали, шар,
которым Гитлер столь усердно вертел здесь, лежал на полу,
в углу, и мы не сразу его разглядели под рухнувшей на него
штукатуркой... Он уже был весь расплющен.
• 4 •
Мы сидели с Кириллом Егоровичем в разгроханном тя-
желыми снарядами кабинете Гитлера, у разбитого, высажен-
ного разрывами окна, смотрели на виднеющуюся вдали ста-
тую — Колонну победы — и вспоминали, как Гитлер прихо-
дил к власти. О кровавом разгуле его штурмовиков. О под-
жоге рейхстага...
Отсюда была нам видна одна башня рейхстага и почти
весь его большой, шарообразный, решетчатый купол. Здесь,
в этом по-современному построенном дворце, где мы сидели
и отдыхали сейчас, Гитлер и распоряжался и жил, а там,
в рейхстаге, произносил свои речи. Напрямую тут было
близко, хотя напрямую хода не было... Даже высокие де-
ревья парка Тиргартен мы видели. И конечно, видели Ко-
лонну победы — ее отовсюду видно. Кирилл Егорович спра-
шивал меня об этом памятнике, но, к сожалению, я мало что
- 222 -
мог ему сказать. Я знал только, что колонна эта считается
памятником 1870 года, что она установлена в честь победы
над Францией. Больше ничего я не мог прибавить к этой
справке, хотя старый солдат интересовался всеми фактами
истории.
Я не мог тогда сообщить Кириллу Егоровичу одного
эпизода. Я его узнал уже позднее. Мне об этом рассказывал
мой товарищ, который после войны оставался жить в Гер-
мании.
Был у меня такой товарищ.
Так вот, немка-переводчица, окончившая русскую гимна-
зию в Риге и работавшая в тридцатых годах на Магнитке,
рассказывала ему, как Гитлер возвращался из захваченного
Парижа. Он только что продиктовал в компьенском вагон-
чике свои условия. Ехал он через всю Германию, ехал в от-
крытой машине, стоя. В жесткой высокой военной фуражке.
Ехал под фейерверк и рев эсэсовских молодчиков и бюрге-
ров, сошедшихся к дороге. И ему угодившей в него ракетой
обожгло лицо.
И тогда вернувшийся из Парижа Гитлер задумал увели’
чить монумент в Тиргартене; он уже заказал необходимый
для этого камень. Его привезли из Швеции. Мой друг понял
так, что предполагалось расширить пьедестал и, сделав выше
колонну, поднять статую, высечь новые барельефы, изобра-
жающие победы гитлеровского оружия. Но скорей всего Гит-
лер, намереваясь поставить памятник своей победе над Фран-
цией, хотел «повторить» старый памятник — сделать так,
чтобы нынешняя колонна рядом с новой казалась бы ма-
ленькой. Так он задумал, когда с обожженной физиономией
ехал по дороге Париж — Берлин.
Заказанные для памятника плиты, по словам женщины,
были привезены и сложены в Тиргартене. В немецких газе-
тах было даже об этом сообщение. Эти плиты пригодились,
как я думаю, когда в Берлине сооружался памятник совет-
скому солдату. Под ногами этого нашего солдата, поставлен-
ного теперь в Трептов-парке,—плоские, из твердой горной
породы ступени-плиты.
Да, я не знал всего этого, когда мы сидели в канцеля-
рии Гитлера, в его кабинете — у окна, вырванного вместе
с рамами. Но этого не рассказал бы тогда и мой товарищ
по дивизии.
Он в то время, наверно, еще спал, приткнувшись где-
нибудь в подвале, под рейхстагом.
- 223 -
Другой вход, к которому мы подошли, выводил в сквер,
вернее, в небольшой парк, прилегающий к имперской кан-
целярии. Деревья в сквере, как всюду в Берлине, иссечены
осколками. В воронках и ямах какие-то рваные и скомкан-
ные, вымокшие бумажки.
Тут, в парке, мы увидели двух мужчин в штатском, по
виду журналистов. У них на груди, словно бинокли, болта-
лись фотоаппараты... Они что-то искали между деревьями.
Так и англичане вот, когда они приехали сюда, да и по-
том, через два месяца, — я видел это сам,-— так же кружа во-
круг имперской канцелярии, ковыряли тросточками землю,
разыскивая Гитлера... Почему-то нас, тех, кто своими гла-
зами видел обгорелые трупы многих других высокопостав-
ленных чинов — сподвижников Гитлера, гораздо меньше вол-
новал вопрос о том, где он сам. Все были убеждены, что и
он не ушел.
Я только много позже понял, что одним из первых побы-
вал в кабинете Гитлера, одним из первых переступил порог
имперской канцелярии. А тогда я не знал этого,
•5 •
Возвращались мы прежним путем — через этот кабинет
и все тем же полутемным коридором. Уже в дверях каби-
нета Кирилл Егорович меня окликнул, и я взглянул на сте-
ну, на которую он мне показывал. И не поверил глазам
своим! Подошел к другой стене. Стены были золоченые. От-
стававшая позолота слезала слоями.
У нас в Сибири в домах состоятельных мужиков так вот
покрывали печки-голландки. Полукруглые, обитые железом
печки... Печь красят сначала черной краской, а потом «дуют»
па нее золотым порошком. Так она в этих золотых яблоках
и стоит...
Мы опять вышли в тот подъезд, в тот же внутренний
двор. Тут уже были одиночки-экскурсанты, такие же, как и
мы. Кто-то показал нам подземный ход в самом углу двора.
Спуск в бункер... Так, окруженный нами, загнанный как
в мышеловку, Гитлер ни разу и не вылез из своего убежища,
пока мы штурмовали Берлин. И только чтобы сжечь труп,
его вытянули наверх. Вот здесь, на этих цементных плитах,
запорошенных пеплом архивных бумаг, он — вытащенный
охранниками на поверхность — лежал с отваливающейся
- 224 -
челюстью... Да, да. Здесь вот он и лежал. Как скорпион, уку-
сивший себя...
И удивительнее всего — и страшнее и смешнее, что сами
себя. Сначала сожгли полчеловечества, а потом — сами себя.
И сжигать было уже нечем и негде. И некогда...
Пришлось заворачивать в кусок ковра...
Так же, как и Гитлер, покончил с собой и Геббельс,
этот маленький злой гном. Только на сутки позднее. Также,
как его фюрер, он завещал сжечь себя. Но мы врывались
уже сюда. Поэтому люди, составляющие свиту Геббельса,
торопились в этот раз еще больше и думали уже только
о том, чтобы самим спастись, и не дожгли до конца Геб-
бельса. Поэтому-то труп Геббельса и был сразу найден.
Надо бы спуститься вниз, в этот бункер, где столько
времени отсиживался Гитлер. Но Кириллу Егоровичу пора
было возвращаться. Больше всего на свете он боялся своего
старшины. Мне же не хотелось отставать от Кирилла Его-
ровича...
Перед тем как уйти, мы узнали все-таки кое-что об этом
броневике, который заинтересовал нас, когда мы входили.
Он стоял у стены. Он, этот теперь разбитый и обгоревший
броневик, был личный, Гитлера. Он так и стоял здесь всегда...
Гитлер держал его на всякий случай поближе к подъезду.
Миновав темный проем, мы опять попали на Вильгельм-
штрассе. Чуть .в стороне, но почти у самого входа в импер-
скую канцелярию стояла большая очередь... Немцы делили
убитую лошадь.
Мы вышли на Унтер-ден-Линден, и мой старик, бывший
привратник Императорского лицея, опять оживился, поне-
многу возвращаясь к сегодняшней своей роли. Он снова вел
меня по Берлину и таким же тоном, как и раньше, давал
объяснения. Казалось, был не в Берлине, а в лицее и, рас-
крывая передо мной двери, говорил: «А вот здесь кабинет
ректора, а направо — актовый зал».
Спасибо тебе, старина, ты много показал мне в этот
день...
Солнце уже садилось, уходило за молчаливые, мертвые
дома. Мы подошли к рейхстагу.
8 в. Субботин — 225 —
У его главного входа стоял наш часовой. Он о чем-то
громко разговаривал с двумя гражданскими немцами. Как я
понял, те просили пропустить в рейхстаг, где они ни разу не
бывали...
Здесь, у дверей рейхстага, я и расстался с ним, моим
гидом — советским солдатом Кириллом Андрюшиным.
• ЗАПИСКИ
Мы закончили войну на целую неделю раньше, чем сол-
даты других фронтов. Им еще предстоял марш на Прагу,
они шли еще к Эльбе, а мы уже отвоевались.
2 мая утром во всем Берлине не было слышно ни од-
ного выстрела. Только камни все еще дымились да остыв-
шую золу и пепел шевелил весенний ветерок...
Это первое ощущение жизни без войны было так ново.
Понимаете, что произошло! Я жил — жил, устав от все
тех же впечатлений и от газеты, от однообразия фронтового
бытия, и вдруг, у меня наряду с записями бесед моих с бой-
цами — преувеличенных сведений о том, кто сколько убил
немцев, где, в каком коридоре кто дрался, появились и эти.
Связанные уже больше с ощущением, что война, по-види-
мому, закончилась, хотя об этом еще и не объявлено.
Впервые, должно быть, за свою короткую, но такую
длинную журналистскую жизнь, я жил и писал, не думая
о газете. Скорее удивляясь, что пишу неведомо зачем, нечто
такое, что для газеты явно не потребуется. Впервые писал
для себя...
Вот о чем я подумал теперь: мне они просто необхо-
димы. Мне никак нельзя обойтись здесь без моих тогдашних
записей. Мне даже кажется, как ни коротки эти заметки, это
один большой рассказ, состоящий из нескольких маленьких.
Ведь в записях всегда есть нечто такое, чего нет в связном
рассказе, что единственно может восполнить воображение
читателя.
Это всего лишь записки. Записки, писанные мною на
другой день после боя за рейхстаг. Все они, повторяю, сде-
ланы мною между 2 и 9 мая.
За полем боя.
- 226 -
Несколько — всего только несколько картин тех теперь
уже далеких дней.
Ут ом Можно подумать, что война окончилась,
ТРОМ столько пленных везде. Они складывают
оружие. Его полно на улицах, повсюду. Уже сдались не
только те, что были в подвалах и верхних этажах рейхстага,
но и вся берлинская группировка. Правда, еще носятся слухи
о десанте, высаженном в тылу. Но где он, тыл этот?!
У здания рейхстага самая большая колонна пленных, раз-
номастная, наполовину состоящая из фолькштурмистов...
Немецкие солдаты и немецкие офицеры, бредущие че-
рез свои Бранденбургские ворота под конвоем наших сол-
дат. Какова картина!
Вот стихи, автор их — красноармейский поэт из 674-го
полка нашей дивизии:
Огромный дом на Кенигплаце.
На крыше кони в белой пене...
Выходят немцы из подвалов
На синеву дневного света.
Сержант считает их устало
Холодным взглядом пистолета.
Они швыряют в угол каски
И прячут в ноги взгляды злые...
Хоронят В сквере, где листва, как есть вся, еще
убитых молодая, пережевана металлом, хоронят
убитых. Солдат, убитых в последние минуты. В молчании,
склонив головы, стоим вокруг. Лица у нас будто каменные.
«Вечная слава тому, кто отдал жизнь за установление Зна-
мени победы над Берлином». Это выжжено на все той же
дощечке все тем же раскаленным гвоздем.
Каждый сейчас вспоминает товарищей, которые не до-
шли до Берлина, не дожили...
Письма Апартаменты Мюллера. Здесь в рейх-
и м стаге, в небольшой, узкой комнате, раз-
бирают почту. Многие из нас в этот день получили письма —j
из дому, с далекой теперь родины.
8*
- 227 -
Получил письмо и Михаил Зайцев. Вот этот мальчик,
сержант... Письмо из Сибири, от матери: с Ангары.
«Дорогая мама,—пишет сержант,—наша часть первой
водрузила знамя над рейхстагом в Берлине. Ты, мама, может,
не знаешь, что такое рейхстаг. Это самое их фашистское
логово... Берлин не похож на себя. Это груда развалин. Вижу
шатающихся от голода немцев и немок. Вот как для них
обернулось... Война, мама, закончена. Я многое увидел и по-
нял. Бывал в жарких боях... Но это все пережито. Скоро
приеду домой, и заживем так, что гай зашумит...
А пока до свидания, мама. Твой сын Михаил Зайцев».
По тем же ветхим деревянным лестни-
цам мы взбираемся наверх...
Королевской Знамя победы. Здесь, на высоте, рядом,
площадью как упруго расправляется оно, а потом
сникает и опускается, задевая нас своим
крылом.
Отливает зеленью уцелевший купол Королевского двор-
ца. Собор. Эти зеленые купола видны и в других частях го-
рода. Среди полуобгорелых зданий медленно течет Шпрее.
Отсюда, с рейхстага, яснее представляешь себе обста-
новку, что сложилась здесь: в руках врага оставалось не-
сколько кварталов...
Под сильным ветром колышется, качается Знамя победы.
Мы долго стоим под ним, оно касается нас, красный цвет
его, как свет, скользит по лицу.
Всюду наши флаги, и на Бранденбург-
ров ано» ских воротах — тоже. Оглушенные и не
совсем пришедшие в себя, ходим по Бер-
лину. И, хотя сдались последние приверженцы и приближен-
ные Гитлера и прогорели последние дома, люди не верят
тишине...
У стены рейхстага — дощечка с надписью: «Разминиро-
вано». Давно, из-под самой Варшавы, шли эти таблички:
«Дорога на Берлин — разминирована». И вот наконец оно,
это — разминировано! — на стене рейхстага.
Написанное черной краской, длинное, остановившее
меня слово «разминировано» стоит здесь как точка...
- 228 -
Проснувшись утром, я вылез из подвала
Из первых в Ре^хстаге и увидел много новых лю-
встреч дей. Одни разглядывали искромсанные
колонны, другие — разговаривали с уча-
стниками боя.
Я пошел на ту сторону, ближе к Шпрее. Здесь тоже
было людно. На набережной, широко расставив ноги, стоял
крепкий невысокий человек. Я тотчас понял, кто это.
Карманы его — его уже несколько потертого морского
кителя были забиты блокнотами. В нагрудном кармане бле-
стели из-под клапана несколько авторучек. Но блокноты и
записные книжки торчали не только из карманов. Под мыш-
кой, с одного боку,—небольшой фотоаппарат, с другого —
опять-таки записная книжка.
Крепко прижимая локти, чтобы все это не вывалилось,
он сосредоточенно писал в книжке. В той, что держал в руке.
Вишневский!
Так я увидел его в первый раз.
, а За короткое время рейхстаг был испи-
Лучшая надпись г г г
сан от пола до потолка, от крыши до
фундамента. Каждый хотел что-нибудь написать.
Я читал эти лирические, героические, а всего чаще иро-
нические надписи, но две мне захотелось перенести в мою
записную книжку.
Одна из надписей была вот такая. Я отыскал ее в раз-
рушенном рейхстаге, в темном коридоре. «Я удивлен, — пи-
сал какой-то остряк, — почему такой беспорядок в правитель-
ственном учреждении?»
Но, пожалуй, мне больше всего в душу запала другая.
С наружной стороны рейхстага на высоте второго этажа
острым камнем было выцарапано:
Вот когда война пройдет сторонкой,
Я действительную отслужу,
Я в Сибирь, в родную деревеньку,
На могилу к матери схожу.
Несколько советских солдат топтались
Геббельсе «
Моабите вокруг стола, застланного простыней.
Обгорел он сильно. Из одежды на нем
один только галстук. Остальное: коричневая рубашка и клоч-
- 229 -
ки — остатки такого же темного коричневого пиджака сложе-
ны рядом. На кармане — значок фашистской партии, круг-
лый... Пистолет положен возле виска.
Он был сначала в соседней дивизии, у Негоды, теперь
он на КП нашего корпуса... Лицо обуглилось. Но с одной
стороны меньше, и узнать можно. Лицо приметное.
Коричневый на голой шее галстук. Затянут, как удавка.
Под самое горло. Настолько туго, что даже развязать не
могли...
Ростом он мал, нога подвернутая...
На шее фрау Геббельс, ее я не видел, висел медальон
с надписью — «от Гитлера».
, т Под ногами мокрая прошлогодняя ли-
D L Up2ClpTCH6 -гг
ства. Кое-где в воронках еще лежит снег.
Среди деревьев Тиргартена — брошенное, уже начинающее
ржаветь оружие.
Я вышел на главную аллею, где было больше всего па-
мятников. Вот Мольтке, вот Шлиффен. Несколько отдельно,
особняком, памятник Бисмарку. Железный канцлер поднят
высоко, он в длинном сюртуке, в надвинутой на лоб фу-
ражке. Пред ним на пьедестале, внизу, огромные бронзовые
страницы книги, лиры каменные, амур с колчаном стрел. Все
как полагается.
Обогнул я этот широкий пьедестал и остановился, остол-
бенел. За спиной Бисмарка, в тени — обнаженный, сильный
воин — должно быть, это Зигфрид, кующий меч воин.
Когда я уходил, я услышал, как младший лейтенант наш,
подведя поближе своих бойцов, свой взвод, объяснял:
г— А втихаря — они готовились к войнам.
~ а Разговоры все только об одном. И при
Ожидание о Л
встрече первый вопрос друг другу: «Ну
как, ничего не слышно?»
Радио передает приказ за приказом. Заняты последние
немецкие города. Из сводок знаем, что наши берут в плен
до полумиллиона в день.
Даже будто бы передавали важное правительственное
сообщение. Но слух на веру не принимают.
В комнату, где установлен приемник, врывается италь-
янская, болгарская, французская речь. Все языки — кроме
немецкого...
- 230 -
Выше и выше по делениям забирается платиновая нить.
И вот она останавливается — слышится церковное пение.
Это — Англия. Отрывистый, повелительный голос. Торжест-
венная речь... Выступает премьер! Оказывается, они умеют и
спешить.
9 мая Ночью стали тормошить друг друга,
Быстрые шаги, стук в дверь и топот.
Спотыкаясь в темноте, перебегаем улицу. Окна одно за дру-
гим освещаются.
Слышится прерывающийся возглас: «Сейчас по радио,
только что...» — «Может быть, ошибка?» — «Нет, сам слы-
шал...» И говоривший убегает.
К приемнику — не протолкаться. Дрожащими от волне-
ния руками берусь за рычажок. И хотя в комнате и без того
тишина, кто-то, не выдержав, кричит: «Тише!»
Слышно, как стучит сердце.
«В ознаменование победоносного завершения Великой
Отечественной войны... 9 мая... праздником Победы».
Один из нас медленно опускается на табурет. У окна
стоит Наташка Кононова, девушка с полевой почты. Она от-
вернулась, чтобы мы не видели ее лица.
По стеклу бегут первые летние капли... Дождь!
«Вот война закончится...»
Салют Старый солдат все еще не верит, что
война кончилась.
Мы сидим с Варениковым, вспоминаем семьи и свой дом.
Вареников жестоко тоскует. «Вот, ей-богу, поставь сейчас пе-
редо мной два стаканы воды, нашей и ихней. Я узнаю — и
выпью нашу».
Как мечтали мы собраться за столом, в тишине, так вот,
как собрались сейчас... «Он только биноклями пошарил по
нашей Москве, а мы пришли в Берлин».
И вдруг за окном забушевала канонада. Мы ничего не
могли понять — окна выходили во двор. Тогда мы бросились
на улицу. Неторопливо, будто подтягивались на невидимых
нитях, ввысь уплывали светящиеся снаряды. Били зенитки,
охали орудия. Комки ракет поднимались над крышами и
медленно снижались.
- 231 -
Это был салют — салют победы в Берлине. Мы стояли,
вскинувши головы, глядели и не могли наглядеться на это
исчерченное трассами небо...
v л Ни выстрелов, ни взрывов. Непривычно,
На другой день Г тт r г
но хорошо. Непривычно настолько, что
думаешь: неужели так будет всегда?
Как все изменилось! Можно загадывать на будущее,
строить планы. День назад этого мы еще не могли...
За городом нас удивляют деревья, и мы ладонями ка-
саемся их шершавой коры. Всей грудью вдыхаем воздух,
промытый, как после грозы. До чего же хорошо здесь, и как
густо пахнет мятой.
Ни выстрелов, ни взрывов. Непривычно, но хорошо...
А ведь, думаю, об этом и было сказано Тихоновым.
В другое время, в стихах о Перекопе.
Мы легли под деревья, под камни, в траву,
Мы ждали, что сон придет,
Первый раз не в крови и не наяву,
Первый раз за четвертый год...
Нам снилось, если сто лет прожить —
Того не увидят глаза,
Но об этом нельзя ни песен сложить,
Ни просто так рассказать!
Немцы наблюдают за всем сквозь щели ставен.
о Кончилась воина, и на другой же день
Новые песни ~
потребовались новые песни.
Она раздалась на берлинской окраинной улице. Как все-
гда, разыскивал я своих, и тут навстречу мне вышла рота, и
послышался голос:
Будни великих строек
В огне и грохоте, в дыму и пламени.
Я посторонился, взошел на тротуар. Плотная пошаты-
вающаяся колонна прошла мимо. И когда видны были уже
только спины, вступили молодые голоса:
Нам нет преград на море и на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века...
- 232 -
Вчера, лишь вчера закончилась война, и вот уже нужна
стала она, эта песня. Впервые за четыре года! Какие хоро-
шие, какие полузабытые слова. «Пронесем» или «пронесли»?..
Гудит, гудит, гудит мостовая... «Страна любимая, несо-
крушимая». И — слышите! — опять «В огне и грохоте»..*
Колонна скрылась. Доносится лишь команда:
— Шире шаг!
СТОЯНКА о
Я хожу сейчас с палкой — после того, как я упал и про-
лежал много дней, мне уже трудно было бы обходиться без
нее... Палку мне купила жена. Она выбрала как раз ту, ко-
торую продавщица не советовала брать, — короткую, с суком
возле рукоятки.
Это хорошая палка; она легкая и прочная.
Я хожу сейчас, постукивая палкой по московским обле-
деневшим тротуарам, что не помешало мне снова еще раз
совсем недавно упасть и, после уже, несколько раз опасно
поскользнуться.
Не то чтоб уж так я плохо держался на ногах... Нет,
давно уж я не пользовался такого рода подпоркой. На-
сколько я помню, это случилось со мной второй раз, и это
вторая моя палка.
Когда я лежал в госпитале в Германии, лежал я — война
была уже позади — довольно долго, так вот там, после того
как мне разрешили ходить и даже совершать прогулки в го-
род, я тоже ходил с палкой. Палку я захватил с собой в гос-
питаль, когда меня увозили... Не потому, что я был на-
столько предусмотрителен. Скорей потому, что ничего дру-
гого у меня не было. А палка как-никак вроде бы имущество,
даже если это обычная, ничего собой не представляющая,
простая палка.
После окончания берлинских боев мы прожили в Бер-
лине не более недели. Ночью, неожиданно — в армии все
всегда делается неожиданно — мы должны были срочно со-
браться и уехать. Нам не сразу стало понятно, чем вызвана
эта спешка. Потом мы узнали, что утром сюда должны были
прийти англичане, и район, который мы занимали, должен
- 233 -
стать их зоной... Мы плохо еще себе представляли это раз-
деление на зоны, его цели и его смысл, и нам, солдатам,
не было понятно, почему должны мы уступить большую
часть города — того города, который брали мы и столь трудно
и такой большой кровью.
Оказалось — нам сначала этого не сказали, — мы не толь-
ко уезжали из района, в котором мы жили, но и вообще по-
кидали Берлин. В городе оставалась отныне одна только
Пятая, берзаринская армия.
Грузились мы в потемках, кое-как. Как попало кидали
мы в нашу машину небогатое редакционное хозяйство. Так
же, комом, торопясь, как придется, всунули туда свои веще-
вые мешки и свои шинели, влезли сами и тронулись... Мно-
гие, наверно, знают, что представляет собой редакционная
полуторка. В ее кузове поставлен крытый, из досок сколо-
ченный ящик. Вот такой — тесный, рассохшийся ящик был
и у нашей редакции. Мы втискивались в него все, сколько
нас было, и, когда наш шофер, Митя, приперев за нами ле-
гонькую фанерную дверь, поднимал борт и закрывал его, мы
оставались в полной темноте. Так, в глухом этом курятнике,
мы и сидели друг на друге, пока не приезжали на новое
место. И тот же Митя — не открывал и не выпускал нас.
Так мы ехали-путешествовали и теперь. Ехали всю ночь,
ехали и утром, и днем, и только в полдень прибыли в не-
большой, невзрачный городок — Гросс Шёнебек. Но и тут,
едва мы остановились и едва Митя нас выпустил, едва мы
распрямили затекшие спины, нам снова надо было лезть в на-
шу «душегубку», в «Майданек», как мы со зла — тихонько про
себя — называли свою полуторку, этот насквозь прокопчен-
ный, душный ящик.
Опять всем своим табором мы в него влезли и двину-
лись дальше...
Сразу за городом начался лес. В щелку между досок
мне это было видно.
Мы ехали еще довольно долго. И когда наконец мы вы-
лезли из нашего шарабана, вокруг все еще был лес. Это был*
бор, почти такой, как у нас на Туре, в Сибири, там, где я
рос. Ровный, прямой сосняк. Только у дороги, и с той и
с другой стороны от нее, немецкий этот бор был огорожен
густой, высокой проволочной сетью.
Я еще плохо разглядел, где мы находимся, а уже надо
было разгружаться. Машина наша стояла вблизи дома,
у крыльца, рядом проходила дорога. Кто-то принялся выбра-
- 234 -
сывать вещи, мы их стали вносить в дом. Было непонятно,
что это за дом, спросить было некого. По-видимому, какая-
то лесная дача.
Мне отвели комнату на втором этаже. Я в нее вта-
щил свой железный увесистый чемодан, набитый записными
книжками и номерами нашей дивизионки, и стал понемногу
располагаться.
Окно в комнате было двойное, широкое, оно тоже вы-
ходило в лес. Сама же комната была невелика и кем-то уже
захламлена: пол был весь завален фотоснимками и иллю-
стрированными журналами. Я позвал Митю и, показав на
пол и на бумаги, попросил вынести все это. Митя — поесть
ему, как всегда, было некогда — дожевывал хлебную корку.
Он выслушал меня и, прежде чем скрыться за дверью, кив-
нул, что означало — он все сделает, когда освободится.
Между стеной и дверью стоял в комнате большой, гро-
моздкий шкаф. Было куда повесить шинель и китель.
Но шкаф, как я тотчас убедился, был занят. В нем висело
много всякого платья и одежды. Все не новое, не парадное —
ношеное: мундиры без погон, охотничьи костюмы и — боль-
ше всего — штаны и куртки. Отделанные шнуром полувоен-
ные куртки, домашние и охотничьи...
Я открыл боковые ящики, чтобы сбросить туда всю эту
чужую одежду. Когда я снимал куртки, я обратил внимание
на то, какие они большие, широкие. Ну просто широчен-
нейшие — в одну такую куртку явно можно было всадить
четырех таких, как я.
Рассовав весь этот хлам по ящикам, я повесил на осво-
бодившееся место свой выгоревший потрепанный китель; он
по наследству перешел мне от одного офицера, когда мы
были еще на Калининщине. И шинельку рядом повесил.
Шинель у меня теперь была новая, недавно только получен-
ная; я ее еще мало носил...
Тут же в шкафу, в темном углу — я ее не сразу разгля-
дел — стояла и палка. Деревянная трость, средней толщины,
с гнутой ручкой. Редкость небольшая... Похожие палки нам
уже встречались.
Сидеть долго в комнате я не мог: хотелось выйти во
двор, подышать воздухом и оглядеться. Я взял палку, приме-
рил, по руке ли она мне, и с ней спустился вниз.
На крыльце и возле машины никого не было. Наши,
по-видимому, устраивались. Дом оказался таким большим,
что каждому досталось по комнате. Последнее время мы при-
- 235 -
выкли располагаться с удобствами. Не то, что раньше, когда
мы были в России или в Польше, где мы шли по выжжен-
ным местам. Здесь была Германия. Немцы своего не жгли.
Там, на тех дальних старых своих дорогах, если мы, ста-
новясь на ночлег, ютились в одной комнате, все были рады —
все-таки не под открытым небом. Теперь даже и наш печат-
ник — он к тому же ведал у нас снабжением — требовал для
себя комнату... Что говорить, было приятно спать по-барски,
на мягкой постели, одному... И мы, во время войны окон-
чив училища, только теперь почувствовали себя офицерами.
И это тоже было приятно. И, еще сопляк, мальчишка, я, как
другие, тоже говорил: «Митя, подай, Митя, принеси...»
Я вышел на крыльцо, постоял; потом, отойдя от дома
шагов двадцать, поднялся на невысокий пологий холм; с той,
с другой стороны его начинался лес. Место здесь было низ-
кое, и лес был смешанный: береза шла пополам с мелкорос-
лой сосной. Зато и справа, и слева, и по другую сторону
дома — отсюда я все хорошо видел — стоял настоящий сос-
новый, черный сосновый бор...
Было по-лесному и так еще непривычно для меня тихо.
Первая узнанная мною после войны тишина. Мне показа-
лось даже, что это все оттого, что я давно не бывал в лесу.
Но потом я понял: дело было вовсе не в этом. И я, если
уже на то пошло, не только рос, но и воевал в лесах. На Ка-
лининщине я помню один лес, где у нас проходила оборона.
Странная немного оборона. Траншей не рыли. Их нельзя
было рыть, сразу они наполнялись водой. Вместо траншей
устраивали высокие завалы из бревен, за которыми мы укры-
вались... Были у нас лесные стоянки и в латышском крае. Дай
в Польше, куда нас потом перекинули, и в самой Германии,
когда мы вступили в нее, мы, случалось, попадали вот в та-
кие же тихие леса. Наконец, совсем еще недавно, какой-
нибудь месяц назад, на Одере, мы стояли в большом, прямо-
таки бескрайнем каком-то сосновом лесу, и я, добираясь до
соседнего городка, все время через лес, по дороге проехал
километров двадцать... Так что в лесах я не только был, я,
можно сказать, не вылазил из них. Дело не в том, что я по-
пал в лес, а что кончилась война. В совершенно особой этой
тишине. И просто в том, что это была первая после войны
встреча с природой.
Поэтому мы теперь всё замечали, всё как-то по-особому
внимательно разглядывали — и стволы деревьев, неровные,
236 -
с угольно-черной, словно обгоревшей корой, и капельки смо-
лы, светившиеся от солнечного лучика, попавшего в них.
Под ногами сквозь прелые листья выбивалась редкая
еще, молодая зеленеющая травка. Я стоял на бугре и под-
ставлял спину под солнце. Не хотелось ни о чем думать.
Сказывалось напряжение последних сложных и мучительно
тяжелых берлинских дней, и усталость, сковывающая все
тело, тоже начинала сказываться.
Я рассеянно ковырял тростью землю, ворошил прелые,
уже начинающие высыхать листики, потом стал разгляды-
вать самую трость и небольшие, величиной в среднюю поч-
товую марку, серебряные или посеребренные пластинки на
ней. Пластинки были набиты по всей палке, снизу до-
верху — от ручки до острого наконечника. Я насчитал их
шестнадцать штук. Так же не спеша и просто-напросто от
нечего делать я стал разглядывать эти пластинки и то, что на
них было вычеканено. На первой — какой-то древний замок,
на второй — красивая вилла. «Богатый хозяин был»,—поду-
мал я и все так же не спеша и без особого интереса стал
изучать другие рисунки.
По тропинке, через пригорок, на котором я стоял, про-
шел старик. Как видно, он жил в том же доме. Я теперь
думаю, что он был в нем за сторожа. Проходя по тропинке,
он как-то искоса поглядел на меня и на палку в моих руках
и, изо всех сил стараясь держаться прямо, на ходу о чем-то
заговорив, подошел ко мне.
Я протянул ему трость и, показывая на серебряные пла-
стинки, спросил о них. Он посмотрел на монограммы — вер-
нее, все-таки не монограммы, а просто гравированные пла-
стинки,—отыскивая какую-то одну среди них, ведя рукой
по всей трости, наконец остановился на той, что была в се-
редине, показал на нее. Я не понял его. Тогда он потыкал
пальцем в пластинку, а потом показал на дом, перед кото-
рым мы стояли. Я вгляделся в то, что было выгравировано
на пластинке, и увидел, что на ней как раз и изображен
этот лесной дом.
Мне это показалось занятным, и я, стараясь сбросить
с себя сковавшее меня оцепенение, власть тишины, солнца,
всего этого неожиданного дня, спросил у старика, который
еще не ушел, что это за палка.
— Шеф,—сказал он кратко. И посмотрел на меня, не-
доумевая, как видно, что я этого не знаю.
- Кто?
- 237 -
Он удивился опять и тому, что я этого не знал и что,
когда он сказал, я не понял его и снова его о том спраши-
ваю. Он мне ответил, что хозяин этой палки Геринг.
Я переспросил:
— Герман Геринг?
— Херман Гёринг,— сказал старик.
Я мигом вспомнил о костюмах и куртках, висевших у ме-
ня в комнате, и только теперь все понял. Все здесь, как я
узнал от старика, хотя он и говорил на каком-то малопонят-
ном немецком языке, принадлежало Герингу, это были его
охотничьи угодья, его поместья.
Эти земли, этот лес-парк Геринг получил в тридцать чет-
вертом году после неудачного своего выступления в Лейп-
циге на процессе по делу о поджоге рейхстага.
Насколько это лесное охотничье хозяйство, которое Ге-
ринг — как лицо потерпевшее — получил в награду, было
огромно, я понял только через некоторое время. Весь этот не-
тронутый лесной массив — границы его так и остались для
меня невыясненными — был поделен на секции. (Вот откуда
проволочные сетки!) В каждой такой огороженной секции —
звери какого-нибудь одного вида. Их много тут было.
Я поднялся к себе в комнату. Бумаги и журналы, валяв-
шиеся на полу, Митя еще не успел убрать. Я поднял один
журнал, полистал, потом взял другой. Журналы, все номера,
которые мне попадались, были юбилейные, целиком посвя-
щенные Герингу. На всех снимках его грузная туша, его кру-
то согнутая шея... И на фотографиях, которые тут валялись,
на небольших домашних, любительских снимках — тоже он.
Он — с генералами, он — с семьей. На одном снимке, кото-
рый я выудил из этого вороха, я увидел знакомую уже теперь
мне местность, узнал поросший редким леском пригорок и
темный, плотный хвойный лес вдалеке. С холма, именно с
того, на котором я стоял, спускается большая группа воен-
ных. Среди них и Геринг.
Я взял себе этот плохонький, любительский снимок —
из-за пейзажа, в напоминание об одном из мест, где мы оста7
навливались.
Тот же голый лесок вдали, тот же холм. Геринг и его ге-
нералы выходят из леса, направляются к дому.
Вот идут они, люди вермахта. Почему они здесь, в этом
тихом заповедном лесу? Какие тайные планы они обсужда-
ли? Неужели тишина и лесная эта мирная глушь нужна и для
таких дел...
- 238 -
Целый поток догадок возникает у меня, когда я гляжу
теперь на этот снимок, на этих людей, из которых — судя по
нашивкам — самый младший здесь — адъютант. Но и он тоже
генерал.
Они идут, о чем-то совещаясь. Их много. Все рослые,
сильные, самоуверенные... Здесь вот, в таких укрытых от глаз
местах, они и собирались перед тем, как на нас набросились...
Геринг — впереди, шинель на нем длинная, с большими
белыми отворотами. Он нагнул голову. Глядит он в землю.
В руке у него палка, на которую он тяжело опирается. Пух-
лая, белая, крепкая еще рука сжимает гнутую рукоять палки.
Острый конец ее ушел в землю. Подожди-ка, а что за палка?
Но вот они, пластинки, все, сколько их есть... Это она как
раз, эта палка, которую я поставил к двери.
Снимок у меня сохранился и сейчас. Не только, оказывает-
ся, у Геринга эти белые отвороты. Но и еще у четверых. Вот
этот — худой, высокий, с длинной шеей и сухим лицом,— ка-
жется, Кейтель... И он был повешен. Но кто-то из этих надмен-
ных, холодных господ еще жив и где-нибудь на Рейне и сей-
час учит других, тех, что помоложе, — готовит поднять оружие.
Лесок вдали — голый, снегу уже нет, но и травы тоже
нет. На обороте снимка — надпись. Снято в марте тридцать
шестого года, в воскресенье. Перечислены фамилии...
Я распахнул окно. Пока я разглядывал снимки и журна-
лы, я не заметил, как стемнело. Откуда-то из-за сосен, снизу,
наползал туман, становилось прохладно.
На другой день я пошел в батальоны. Они оказались
близко — на противоположной стороне озера.
Озеро было совсем рядом, тихое, синее. Только подо-
браться к берегу было трудно. Старые, обомшевшие деревья,
крепкие, тесно сплетенные, подступили к воде. Настоящее
лесное озеро.
На сухом ровном берегу, среди гулких медных сосен,
бойцы посыпали песком дорожки. Чуть подальше, в глубине
леса, из плащ-палаток устраивалась кабина. Баня! А в котлах,
тоже поставленных между деревьями, грелась вода, и стар-
шина выдавал бойцам чистое белье. Я долго шел так, подни-
мая веревки или подлезая под них, безошибочно угадывая,
где какой взвод, какая рота стоит. На веревках висело солдат-
ское обмундирование: брюки, пилотки, портянки. Все было
так, как где-нибудь в военных лагерях...
Солдаты — те самые, что еще неделю назад были в бою,—
отмывались и подшивали подворотнички. Писали письма.
- 239 -
О рейхстаге, который они все брали, они уже не вспоминали.
Война как бы отходила в прошлое. Завтра, прямо с утра, на-
чинались дни мирной учебы... Офицеры в этот день слушали
лекцию об окончании войны, о перспективах будущего мира.
И действительно, назавтра на асфальте дороги, в том же
лесу, недалеко от палаток, бойцы занимались строевой под-
готовкой и, вспоминая строевые песни, пели: «Стоим на стра-
же всегда, всегда...»
Но сегодня солдаты еще подшивали подворотнички,
мыли — «стирали» погоны. Из госпиталей в этот день верну-
лись несколько человек, из тех, кого ранило в Берлине.
Я сделал какие-то записи, но не был уверен, что они при-
годятся, что я смогу сочинить в очередной номер какие-либо
заметки, из того, что мне удалось записать...
Я потихоньку пошел по краю озера и в лесу неожиданно
натолкнулся еще на один дом — богатый, каменный. Перед
ним на низких постаментах, по обеим сторонам входа, по-
ставлены были точенные из черного камня фигуры охотни-
чьих собак.
Мне хотелось получше рассмотреть дом, вернее, даже за-
мок, интересно было бы узнать, кому он принадлежал, но я
не спросил, я очень спешил, мне нужно было сдавать мате-
риал о боевой учебе в мирных условиях.
А через день, под вечер, я отправился в политотдел. Мне
показали, как туда идти: все вокруг того же озера — только
в другом направлении. Я прошел совсем немного и на поляне
увидел еще один дом. («Да их тут целая гроздь!») Дом — он
тоже назывался «охотничьим» — был покрыт камышом, тол-
стым, полутораметровым слоем (имитация древней герман-
ской хижины, крытой соломой). Но поглядели бы вы эту хи-
жину внутри.
Кому она принадлежала — этого также никто толком не
знал. И только после, много лет спустя, я узнал, что все эти
дома, сколько их было здесь, — и на берегу озера и в лесу —
принадлежали одному человеку — Герингу. Мы же по наив-
ности думали, что если тот дом, в котором мы остановились
сами, принадлежал Герингу, то другие уже не могли принад-
лежать ему, а кому-то другому... Когда среди солдат об этом
заходила речь, они говорили: «Геббельса!» Почему-то самый
роскошный, самый красивый особняк всегда у них принадле-
жал Геббельсу... Так что я уже и не спрашивал, мне это было
заранее известно.
В доме под камышовой крышей разместился не только
- 240 -
политотдел, но и штаб дивизии. Внизу, в большом зале, где
окно было во всю стену, прилетевший из Москвы скульптор
Першудчев лепил нашего солдата Мишу Егорова, ставившего
знамя на рейхстаге. Он должен был лепить также и комдива
Шатилова... Сам генерал отдыхал наверху, в спальне жены
Геринга. Ее портрет, писанный со спины, еще оставался ви-
сеть, но уже не в спальне — генерал считал неприличным
держать у себя портрет обнаженной женщины,— а в кори-
дорчике, через который в дом этот входили.
В «мастерской» разглядел я и небольшую, пока в глине,
скульптуру — очень удачно вылепленного Покрышкина, кото-
рый получил при взятии Берлина свою третью Золотую
Звезду. Скульптура мне нравилась. Одной рукой, в перчатке,
летчик показывал, как летел он, другой — как летел против-
ник... Фигурка стояла в уголке, на столике. Видимо, скульп-
тор возил ее с собой, продолжая работать над ней.
Мы мало прожили в этом тихом, уединенном месте. По-
мню только, что я успел съездить в Гросс Шёнебек. Город от-
стоял от нас — от озера и от охотничьего дома — на десять
километров. Но дорога через лес была такой прямой, ровной,
что город все-таки виден был — там, в конце этой неправдо-
подобнейшие длинной просеки. Как в перевернутом бинокле.
Отсюда, с лесного озера, мы скоро уехали на другое, в
городок Нойруппин. Там-то мне и пришлось надолго лечь
в госпиталь.
А палка? Палку — в госпитале первое время мне легче
было с ней ходить,—уезжая из Германии, я увез с собой.
В Ялте, в санатории, я оставил ее на вешалке и забыл о ней.
Вспомнил только к вечеру, но, когда я за ней пришел, ее уже
не было... Кто-то «прихватил» ее, эту старую палку... С ней
было удобно ходить ночами по тропинкам заброшенного пар-
ка... А также (может, для этого она и предназначалась) сби-
вать кипарисовые шишки.
• В КОНЦЕ ЛЕТА •
Я соскочил на землю, держа в руках ремешок фотоаппа-
рата.
Я и приехал сюда для этого — не столько смотреть,
сколько снимать. Ведь в те дни, когда мы были в Бер-
- 241 -
лине, я ничего не снял. Ни одного кадра. А снять я мог
многое.
Теперь же, в госпитале, за целые дни бездельного и оди-
нокого лежания на койке, я овладел и этим фотоаппарати-
ком, который возил с собой еще с Одера. Довольно простой,
с раздвижной камерой, с мехом-гармошкой маленький фото-
аппарат...
А тогда я так и не собрался освоить его, да и пленки у
меня не было. Впрочем, пленка нашлась бы, наверно, стоило
для этого только зайти в любой разрушенный магазин. Про-
сто времени у меня не хватало, руки у меня не доходили...
А до войны я фотографировал, увлекался.
Сразу же — тогда, когда в Берлине закончилось все, нам
захотелось сняться и у Бранденбургских ворот и у большого
Фридриха... Всякому, у кого был какой-либо немудрящий фо-
тоаппарат, мы готовы были в ножки поклониться...
И вот я приехал теперь в Берлин сам, и со мной, на пле-
че — эта моя «лейка», заряженная на все тридцать шесть кад-
ров. Да еще в кармане две катушки.
После войны прошло уже более двух месяцев, и лето
было на исходе.
Я думал, что сниму весь Берлин, все места, где мы шли...
Для того-то именно всеми правдами и неправдами и выпро-
сился я из госпиталя. Это и привело меня, еще больного, в
Берлин...
Мы выехали рано, чуть ли не на рассвете, все из того же
Нойруппина, городка, где мы оказались, когда уехали из
Берлина. Я влез в попутную машину, и часов в десять мы уже
въезжали по Александерплацу в город.
Было тепло, солнечно. Сидя в кузове на расшатанном,
гибком стуле, я поворачивал голову то в одну, то в другую
сторону. На душе у меня было спокойно, весело. Я старался
разглядеть пестрый, незнакомо людный, оживленный, проно-
сящийся мимо город.
Всюду по перекресткам, на столбах, видел я свежеприко-
лоченные указатели, а на площадях — щиты и плакаты и це-
лые витрины с портретами наших солдат, героев боев. Тро-
туары заполнены были сплошь людьми, магазины открыты...
Мы давно уже ехали по Унтер-ден-Линден, а я это заме-
тил только тогда уж, когда остался позади памятник Фрид-
риху. Я все вертел головой и все оглядывался назад. Арсенал.
Гумбольдтов университет. Разрушенный особняк — здание
прежнего русского посольства.
- 242 -
Но вот мы уже и под сводами арки Бранденбургских во-
рот, а вот уже и миновали их. Перед нами магистраль Тир-
гартена, за деревьями справа — рейхстаг.
Водитель наш решительно, не выбирая долго места, по-
ставил машину в парке, с краю — в тени деревьев.
Некоторое время я, ступив на площадь, все еще был как
бы один...
Протискиваясь с трудом вперед, прижимая к груди фото-
аппарат, я глядел себе под ноги и старался угадать, где и чей
тут был окоп, — в тот день, когда два наших обескровленных
батальона лежали здесь, перед своим последним броском...
Вчера еще в госпитале, лежа, я думал, как приду на эту
засыпанную щебнем площадь. Как хорошо, думал я, что я
приду на нее теперь, когда пыль осела, а события немного
улеглись.
Меня толкали и что-то мне предлагали, а мысли мои
были далеко.
Внимание мое привлекли желтые консервные банки. Те
знакомые нам желтые банки с тушенкой, которые шли у нас
в обмен на теплые носки. За них же отдавали и прабабуш-
кины и материны кофты. Банки, из-за которых дрались на
толкучках и базарах наши жены...
Меня все еще о чем-то со всех сторон спрашивали и тол-
кали, но, как только я заметил эти банки, всю мою отрешен-
ность как рукой сняло.
Я огляделся. И я увидел присевшего на корточки чело-
века. С теми банками на коленях.
И тут только я понял тех женщин, что первыми подбе-
жали ко мне, когда я отошел от машины. Взглянув на мои
руки и не увидев в них ничего, они меня с ног до головы по-
дозрительно оглядели и отошли.
Теперь мне опять виден все тот же человек с банками...
Чей-то макинтош заслонял мне его. Расстегнув свой рыжий
телячий ранец, он извлекал оттуда одну банку за другой и пе-
редавал их быстро товарищу. А тот их рассовывал по кар-
манам.
Вот и еще двое, эти делят меж собой сигареты. Оба в
просторных шерстяных куртках, в угластых пилотках.
У большого омертвелого дерева натыкаюсь я на совсем
молоденького. Красивый узколицый парень, с веселыми гла-
зами.
Подхожу ближе. Он удивительно ловко как всовывает
обступившим его людям шоколад и галеты и быстро со-!
- 243 -
бирает от них марки: десять марок за галеты, сто — за шо-
колад...
На нем все та же уже знакомая мне куртка и светлые
брюки навыпуск...
Да их много тут! В пестрой и темной — в серой граждан-
ской толпе они выделяются довольно заметно.
Я уже после узнал, что в то время, когда мы вставали
с плацдармов на Одере, — из дому, из-за моря, им уже слали
посылки. С сигаретами. Со штампованными новенькими ча-
сами... Иногда — золотыми. Желтоватого, «американского»,
золота...
И вокруг рейхстага, и в Тиргартене, и на Шарлоттен-
бургском шоссе — повсюду была толпа... Она заняла собою
не только площадь перед рейхстагом, но и соседние улицы.
Но и этого оказалось для нее недостаточно, и она перекину-
лась через канал — до здания Оперы, а по аллеям Тиргартена
доползла почти до Зоосада.
Флага над рейхстагом — не было.
Я еще не успел и сообразить, что здесь происходит, как
уже помимо воли и сам был втянут в большой, человеческий
этот муравейник...
Мне хотелось найти камни, за которыми лежали солдаты
моей дивизии, окопчики, в которых они укрывались. Многие
из них в этих окопчиках и были зарыты... Для того только и
приехал сюда. И я никак не думал увидеть эту площадь та-
кой, какой я теперь ее видел.
Чем глубже проникал я в парк, тем плотнее становилась
толпа. Тут были и солдаты-французы — в темно-синем, и
англичане, одетые в более строгую форму, в темные френчи
и мундиры. Каждый что-нибудь продавал... Торговали вином и
и старым обмундированием. На худой конец — жевательной
резинкой.
Только замкнуто-сухие англичане вели себя сдержаннее
и не так развязно, как остальные. Но и они торговали. И все
сбывали марки, меняли их на доллары... Каждый тут делал
свой бизнес.
Впервые мы так близко видели наших союзников.
Немцы, молчаливые, хотя как будто уже и пришедшие в
себя, несли одежду, драгоценности, безделушки, фотоаппа-
раты. Взамен брали марки, а охотней всего хлеб, консервы,
табак, тушенку... Те самые, памятные нам желтые банки...
«Откуда взялись они тут, эти крепкорукие парни?» — ду-
мал я. Словно не знал я, как появились они в Берлине. Ведь
- 244 -
они пришли сюда, в Берлин, ночью, из-за Эльбы. Той же но-
чью, как мы уехали.
Я шел в направлении Крольоперы. Мне хотелось побыть
наедине с собой.
И вдруг перед глазами у меня возник «виллис». На пол-
ном ходу он врезался в тугую толпу. Все кинулись от него
врассыпную. Но машина уже заглохла: из отверстия в радиа-
торе валил пар и брызгала вода.
Впервые видел я такой ободранный мотор. Давно от всей
конструкции остались каркас да ребра. Даже вылезли из си-
денья голые пружины.
Те, что были в этой машине, наблюдая, как кинулись все,
громко рассмеялись.
Вороты их курток были расстегнуты.
Кое-кто, на ходу еще, прижимая коробки и свертки,
спрыгнул на землю и, что-то крича и нырнув в толпу, исчез
в ней. Другие, как по команде, подняли руки. Рукава были
закатаны, а от кисти и по самый локоть висели часы... Нани-
занные, как браслеты, всех фирм и систем...
Я все ходил, вспоминал. Мне нечего было ни покупать,
ни тем более продавать. Отправляясь сюда, я не взял даже те
марки, что у меня накопились за те дни, как стали нам пла-
тить марками. Они валялись в палате. Я даже не помнил, по-
ложил ли их в тумбочку или они так и остались лежать на
окне.
Ровики и траншеи, которые я перешагивал — на дне их
теперь лежали различные этикетки и обертки, — были отрыты
здесь в тот тяжелый час, когда атака захлебнулась. Наших
бойцов, скрывавшихся на дне этих ровиков, немцы расстре-
ливали из рейхстага — с верхних этажей. Отсюда, с площади,
из этого парка, — позднее — часть лежащих перед рейхстагом
бойцов увидела Знамя победы...
Кто бы мог подумать, что эта гигантская толкучка будет
устроена здесь, в тени деревьев Тиргартена, в центре Европы.
У этих стен, где остановилась война, где были похоронены
погибшие в те ее минуты, которые оказались последними...
Устроена людьми, впущенными нами в Берлин. После того,
как мы выиграли бой.
Впрочем, одно то, что рейхстаг и район рейхстага ока-
зался в их, английской зоне, одно это было настолько стран-
ным, что сначала казалось нам простым недоразумением. Мы,
конечно, думали, что это временно, что это все будет исправ-
лено.
- 245 -
Выбравшись из толпы, я очутился на пустыре. Вблизи
был берег. Я подошел и остановился у Шпрее — все такой же
мутной и грязной. Постоял у отвесного края набережной.
Шпрее показалась мне теперь вовсе маленькой, узкой-узкой...
Она была где-то внизу. Я заглянул туда, как в колодец. По-
том свернул резко в сторону и, преодолев взгорья выброшен-
ной наверх земли, дошел до канала, до рва, залитого водой.
Две тоненькие трубы были переброшены через него. Сделав
еще несколько шагов, я подошел к полуразрушенному зда-
нию — к дому Гиммлера. Здесь вот и был передний край.
В подвалах этого дома сосредоточивались для атаки... По-
следний рубеж перед рейхстагом.
Тут теперь были одни сплошные развалины, осыпь кам-
ня и кирпича.
Гудение рынка сюда не достигало.
Несколько минут — издали — я разглядывал изуродован-
ные стены, потом перелез через груду щебня, которым был
засыпан тротуар... Так вот они, эти окна! Как же они по-
биты!..
Опустившись на колени на плиту подоконника, я загля-
нул внутрь, вниз. Теперь это был просто подвал. Две неболь-
шие комнаты... К стене, возле самых окон, были приставлены
ящики. Их не убрали... На них вставали, чтобы вылезть на-
верх. Неустроев и Давыдов, комбаты наши, высаживали через
эти окна своих солдат — подсаживали тех, которые не доста-
вали до подоконника...
Я поднялся, отряхнул известку с шинели, с колен. Я знал,
что теперь я мог отправиться к рейхстагу... Теперь, постояв
возле этих побитых, выщербленных окон, я уже не жалел,
что приехал сюда.
С помощью тех же труб я преодолел канал, пересек пло-
щадь. Передо мной был рейхстаг.
С боковой стороны здания, на его углу — на низенькой
круглой тумбе — стоял английский регулировщик. В корот-
ких белых чулках и в столь же белых нарукавниках. На гру-
ди белые ремни... Он был весь как скаковая лошадь.
Вот и главный, парадный вход. Иссеченные металлом
массивные колонны, и на них те же надписи — белым на чер-
ном. Они здесь долго сохранятся... Я попробовал было найти
свою — и не нашел. Так их много здесь появилось. Она зате-
рялась среди других, как в море — капля.
Затаившись, всходил я на первые ступени. В эту минуту
я уже забыл о всех своих сегодняшних злоключениях. Я пред-
- 246 -
ставил себе, что сейчас я опять увижу полутемный коридор и
зал, где шел бой. И ту комнату, где во время пожара стояли
бойцы. И наконец-то разберусь во всех вестибюлях, кабине-
тах, в многочисленных залах и переходах — во всей сложной
внутренней «топографии» рейхстага, которая не для меня
одного — для многих из нас — так и осталась неясной.
И тут встретилось мне препятствие. Большая, высокая
входная дверь оказалась заколоченной. Это меня удивило.
Но я настолько тверд был в желании пройти в рейхстаг, что
не придал этому никакого значения. Я знал, в здание можно
пройти через нижние, полуподвальные окна... И я пошел
к окнам.
И не попал... Нет, окна не были забиты. Но я сам отка-
зался.
В том окне, к которому я подошел, я увидел «золотые»
навалы. Довольно высокие. И не решился лезть через них.
На рынок собиралось до миллиона человек в день.
И это — полуразрушенное, единственное здание на площади
стало тем единственным местом, где справляли нужду... Ни
в окна, ни в двери не мог никто перелезть уже через эти
горы «золота». Тем более что оно еще не окаменело.
Как раз в то время, когда я подошел, какой-то капрал
снимал штаны.
С одним майором, нашим военным врачом, тоже, как и я,
не сумевшим попасть в здание, мы нашли с противоположной
стороны небольшую скрытую дверь. Это был вход в рейх-
стаг для депутатов.
По-видимому, мы попали в ту часть здания, которая не
выгорала. Здесь, как везде, и обрушено и было все ободрано,
но следов огня тут не было. Во время пожара в этих комна-
тах отсиживались немцы.
Но теперь в темноте мы наталкивались только на рыца-
рей с опущенными забралами... Было тут темно, глухо, пахло
чем-то затхлым, как пахнет на чердаке или в погребе.
Захотелось поскорей выбраться на свет.
Да и пора было идти к машине, где все мы уговорились
встретиться. Пришлось опять пересекать базар. На минуту
мы попали в глухую, тенистую часть парка. Клены еще толь-
ко начинали желтеть, но солнце уже лило сквозь них свое
прощальное тепло.
По-прежнему все бурлило и ворочалось, но я заметил на
площади какое-то новое движение. И вправду, через рынок,
нарушая всю его нервную деловую суету, прошли, вызывая
- 247 -
интерес к себе и у немцев и у тех немногих наших военно-
служащих, что были здесь, два очень странных солдата. На
одном был автомат и коротенькая клетчатая юбка, а на голо-
ве — перья... Шотландский стрелок! Его товарищ — черный
крупногубый сенегалец — в куртке, в зеленых штанах и в
желтых, высоко шнурованных ботинках... Африканский и
шотландский стрелки.
Они ничего не продавали. Как бы разделяя с нами любо-
пытство, которое к себе они возбуждали, эти солдаты и сами
громче всех смеялись.
Когда они, все так же смеясь, прошли, провожаемые на-
шим доброжелательством и нашими улыбками, я вспомнил,
что со мной «лейка», которую мне дали все те же ребята из
минометной роты на Одере... Весь день этот таскал я ее за-
зря по базару. Даже из головы у меня вылетело! Если уж
взял фотоаппарат, надо что-то снимать...
Я и не думал, что и эти навалы и толкучку эту тоже мож-
но снимать.
Фотограф я был, конечно, еще начинающий...
Я вспоминаю теперь чувство возмущения и неприязни к
солдату-торговцу и чувство новое, незнакомое мне раньше —
жалости к людям, которых гнала сюда нужда... Надо ли гово-
рить, что и бравые лица американцев уже не казались мне
симпатичными.
Вспомнив о своем фотоаппаратике, я кинулся вслед за
этими стрелками. Я хотел сфотографировать хотя бы их...
У меня даже мелькнуло что-то вроде предчувствия, что
все — все это, и площадь, и рейхстаг я вижу в последний раз.
Ведь я приехал на свидание с прошлым — это прошлое было
только вчера...
Ио сколько я ни придумывал, я не находил, что бы я
мог снять. Ехал к одному месту, а угодил в другое.
Стрелков тех я уже не нашел, и тогда я решил заснять
американца... «Надо и в самом деле сфотографировать союз-
ника. Потом хоть взглянуть можно будет, как они выгля-
дели...»
И я уже искал американца, которого мог бы снять.
Но куда они все запропастились! Еще час назад их было
здесь много, а вот теперь ни одного. Видно, распродали все
свои консервы.
Но тут как раз я увидел его... Сначала одни лишь тем-
ные очки и высокую фуражку с гербом или с какой-то боль-
шой кокардой. Я обрадовался: другие американцы, которых
- 248 -
я видел, носили суконные пилотки. Этот какой-то особен-
ный... Мне уж захотелось сфотографировать именно его.
Но добраться до' этого человека, как я убедился, было
невозможно. Его со всех сторон обступила толпа. Она напи-
рала на него. Что он там такое рассказывал? Я только видел
одно его лицо, довольное, улыбающееся. Я попытался про-
тиснуться поближе, но действовал я, как видно, чересчур не-
решительно, тихонько, и у меня ничего не получалось. Было
тяжело убеждаться в своей беспомощности. Видно, побыв
в госпитале, я успел растерять все свои репортерские каче-
ства, так трудно и долго мной приобретаемые... И, обозлясь
на себя, работая локтями, я принялся расталкивать тех, кто
стоял впереди меня. Но и это мало помогало. Люди огляды-
вались, но никто из них не думал пропускать меня вперед.
Тогда, все еще продолжая действовать локтями, я сказал:
«Одну минуту!»
Фразу мою, видимо, услышали... Плотное кольцо людей
распалось, хотя на меня еще по-прежнему смотрели с возму-
щением.
Но я уже поднял к глазам свою «лейку».
И все, смеясь, расступились. Теперь стало всем ясно, чего
я добивался и почему так невежливо толкал всех.
Американец, увидев, что его хотят фотографировать, хо-
тел изобразить улыбку. Он вынул изо рта сигару и, ощерив-
шись, отвел в сторону руку... Я нажал на кнопку.
И тут лишь сообразил, отчего на этом пожилом амери-
канском военном такая форма. До сих пор я встречал здесь
на рынке их рядовых или сержантов, младших командиров,
а этот был — полковник. «Благодарю вас...» — сказал я ему.
Когда я уж его сфотографировал, я взглянул на то, что
держал полковник в своих руках. И понял, почему стояли во-
круг него все эти люди. На ладони его поверх белого шел-
кового платка лежали часы. Обычные — нормального, а мо-
жет, чуть большего размера часы — из «американского» брон-
зоватого золота...
Я отыскал свою полуторку, и, когда все собрались, мы
уехали.
поэты и воины
•••••••••••••••••••••••••••••••*••
Майский сон
Десять дней мы не спали. Десять дней и
ночей.
Конечно, все мы валились с ног. Держа-
лись уже на одном только напряжении да еще,
пожалуй, на коньяке и спирте. (Хорошо, что
немцы оказались запасливыми!)
Десять дней, не прекращаясь ни днем, ни
ночью, шли бои. Мы двигались к центру — по
загражденным улицам. Не через город, а
сквозь него! Гимнастерки наши пропахли ды-
мом... Мы были все грязны, грязны и измазаны
мелом и осыпаны красной — кирпичной и бе-
250 -
лой — известковой пылью. Как каменщики,
сходящие с лесов.
Десять дней никто не спал. Напряжение
и усталость были так велики, что мы едва
держались на ногах.
Потому — в полдень, второго, когда Бер-
лин пал, когда стало тихо, — ничего не осмат-
ривали, даже к Бранденбургским воротам не
пошли... Спали! Спали все — солдаты и коман-
диры. Тут же, возле рейхстага. Спали — впо-
валку. Прямо на площади. Голова к голове.
Без просыпу. Весь день!
• АЛЕША •
Он опять ранен. И, кажется, сильно. На этот раз — в Бер-
лине, когда мы вышли уже к Шпрее... Ранен в седьмой раз.
Милый, родной Алексей, тебя направили в госпиталь. Со-
всем немного не дотянул ты до рейхстага.
Я видел, как тебя положили на носилки. Это было, пом-
ню, во дворе, возле обитой кирпичной стены. Ты лежал без
гимнастерки. Ты был в одной нательной рубахе. Гимнастерку
сняли, когда тебя перевязывали. Одна рука у тебя свесилась,
упала с носилок. Я смотрел на эту твою руку, я не мог отве-
сти от нее взгляда. Никто этого не видел, а я видел, что ру-
кав задрался, что и эта опустившаяся рука тоже была у тебя
уже ранена однажды. В двух местах. Один шрам выше локтя,
другой — ниже. Это были старые шрамы, следы глубоких ра-
нений. Уже потемневшие, стянувшие кожу... И вот ты ранен
еще раз.
Тебя перевязали и теперь ждали, когда подойдет повоз-
ка. Ты был очень бледен, лежал с закрытыми глазами... Я смот-
рел на эти твои шрамы.
Я вспомнил все наши встречи. И самую первую тоже.
Ее — прежде всего. Откуда ты тогда к нам прибыл? Я и сам
незадолго до того попал в Прибалтику, на тихий тогда уча-
сток фронта. Мы встретились с тобой вскоре...
- 251
Подошла повозка. Тебя подняли, не санитары — их здесь
не было, — просто двое твоих бойцов.
Ты открыл глаза, улыбнулся. Ты увидел, что я стою ря-
дом, и свесившейся с носилок рукой ты пытался помахать
мне. Слабо, как мог, ты пошевелил ею. Так я попрощался
с тобой.
Тебя увезли. Рядом с тобой, на ту же узкую повозку, по-
сажены были еще двое, раненных утром.
...Тебя увезли...
А знаешь, у меня ведь остался твой свисток...
Да, он у меня остался... Хочешь, я напомню тебе, как мы
встретились.
Я обращаюсь к тебе так, будто я пишу тебе письмо.
Вдруг окажется, что ты живешь там же, где жил раньше, и
тебе попадется этот мой рассказ...
Итак, мы встретились под памятной для нас высотой —
Черной, В тот раз я особенно долго добирался до переднего
края. Место, где вы стояли, было низкое, топкое; я с трудом
продирался сквозь заросли тальника и ольхи. Под ногами чав-
кало. Ветки ольхи — это мне тоже запомнилось, — как только
я ломал их, окислялись на солнце и тут же сразу темнели.
Я долго так шел и не заметил, как свалился прямо в
траншею. В лесу ведь передний край спокойнее. Даже если
противник близко. Человеку, только-только попавшему сюда,
кажется, что здесь нет такой настороженности, какая бывает
в поле...
Солдат показал мне, как пройти к командиру.
Я прошел по узкому, осыпающемуся ходу сообщения и
скоро нашел то, что нужно. Низко нагнувшись, я пролез в
небольшую дыру. Землянка не была еще закончена. И хотя
глинистая свежевзрытая земля лежала буграми, в землянке
уже можно было поместиться. Углубляя ее, ты сидел на кор-
точках и, еще не видя меня, ожесточенно рубил топором за-
твердевший грунт. Тогда ты тоже был без гимнастерки, в од-
ной нательной рубашке. Твоя гимнастерка, на каждом погоне
которой было по маленькой звездочке, лежала в углу.
— Что же вы — сами? — спросил я, удивившись, что ты,
командир взвода и, хоть только что произведенный, но все-
таки лейтенант, сам рыл себе землянку.
— Да ведь бойцов мало, оборону держать надо,—отве-
тил ты. И, присев на выступ, который должен был стать у
тебя лежанкой, медленно и еще тяжело дыша оттого, что при-
- 252 -
шлось так много копать, и непослушными еще после топора
пальцами стал свертывать папироску.
В землянке было пока не очень светло. Но я сразу обра-
тил внимание на твою голову, на волосы. Они у тебя были
такие, как хорошо выгоревшая на солнце солома. Именно
такими показались они мне. Я тогда, скажу тебе, подумал
даже: где ты, белый такой, уродился.
Ты закурил, крепко затянулся и, положив локти на ши-
роко расставленные колени, подался вперед. Теперь, когда
ты наклонился, когда я лучше тебя смог разглядеть, я увидел,
что волосы у тебя были не светло-соломенные и не пепельно-
серые, какими становятся с годами. И хотя у меня уже не
было сомнений в том, какими они были, я все-таки спросил:
— Вы — седой?
— Да, — ответил ты просто. И я понял, что тебе часто
приходится слышать этот вопрос.
Когда тебя призвали, ты работал в Туле, на оружейном
заводе. До войны едва успел окончить пять классов. Ты мне
потОм сам рассказал об этом. Призвали тебя в сорок втором...
Это был трудный год. Не в одной серьезной переделке ты
побывал. Рассказывал, в каком огневом мешке ты сидел од-
нажды. От взрывов качало землю. Мины рвались в двух мет-
рах. Даже окопаться было нельзя... Если б поднять руку, сре-
зало бы. Ты показывал, как немецкие самолеты, включив си-
рены, проносились над вами, как лежали вы, уцепившись за
траву...
Всякий раз тебе казалось, что бой, который ты пережил,
и был самый тяжелый, что он запомнится тебе на всю жизнь.
Но проходило немного времени, воспоминания тускнели, а
бой как бы даже забывался. Потому что и в другие дни было
несладко.
Ты участвовал в разведках боем. Вскакивая в чужую
траншею, ты приводил «языка». И это тоже было не раз.
И, как всё, — не раз повторялось.
Поседел ты в Сталинграде... Седину, сначала небольшую,
в пятак величиной, заметили товарищи. Потом она стала раз-
растаться. Поначалу неловко было, и ты старался ее скрыть.
Ты не хотел, чтобы ее видели.
Встреча с тобой и сейчас у меня перед глазами. Все то,
что я рассказал. Как я влез в твой блиндаж, в незаконченную
эту, без единого наката землянку, как я не сразу разглядел в
темноте тебя и как потом я увидел тебя и поразился... Не то
чтобы я не слышал о чем-либо подобном. Нет, слышать-то я
- 253 -
и раньше слышал. Может быть, даже читал. Но рассказы о
седых мальчиках казались мне раньше как бы легендами. По
правде сказать, я не очень в них верил... А кем же, как не
мальчиком, ты был! Не школьник, не парнишка, конечно, но
очень еще ты был молод! Не знаю уж, сколько тебе было —
двадцать или девятнадцать.
Ты говорил мне, уже в другой раз, о том, как однажды
после госпиталя тебе дали отпуск и ты поехал к себе, под
Тулу, в Даниловку...
Я представил себе сейчас, как ты пришел в деревню,
взмокший, возбужденный, в сдвинутой на затылок шапке...
Сестра увидала тебя в окно. Ты только поднялся на крыльцо,
а она уже крикнула: «Ленька приехал!» — и кинулась тебе
навстречу.
Как низко, оказывается, потолок в избе у вас! Вот и
мать. Она обернулась, она не в силах сделать шагу...
Ты снял шинель, снял шапку... У тебя дрожали руки.
Сестренка опять закричала:
— Ленька, что это у тебя?
Но мать остановила ее:
— Видишь, белым стал...— Прижала твою голову к
себе.
Она была чуть меньше ростом и, в отличие от тебя,—
темноволоса.
Вечером в доме у вас собралась молодежь. Ты сидел сре-
ди подростков, среди близких. Сидел, вот так же сутулясь,
как будто не у себя дома, а в землянке, в блиндаже, и гово-
рил со своими друзьями — всех этих ребят ты знал еще с дет-
ства — негромко, как говорят на передовой, когда противник
рядом, в нескольких шагах.
Кто-то из них тебе посоветовал:
— Леша, может, сбрить тебе волосы. Может, они новые
вырастут.
— Алеш, а ты покрась их, — подсказала какая-то девуш-
ка и смутилась.
Но и тут за тебя, за твои волосы, вступилась мать. Стро-
го посмотрев на всех, она сказала:
— Пусть будут как есть!
Мы вылезли тогда из землянки — в ней было тесно и
сыро. Ветви тальника были иссиня-красны. Снег сошел» Мы
долго молча стояли в траншее. Уже хорошо дышалось.
- 254 -
Повсюду сходил тогда снег... У печных труб и в огоро-
дах, между гряд, вытаивали черепки разбитой посуды, дет-
ские игрушки. Не было только детей...
Сколько мы прошли! Сколько прошли деревень, от кото-
рых остались одни только названия, одни только трубы.
Окопы, траншеи... Они были везде. Вся Россия изрыта
была ими...
Ты помнишь, я был у тебя за Одером. Да, за Одером,
Алеша! Вот мы куда дошагали. Наши войска были уже в Ру-
мынии и у границ Чехословакии... Нас, нашу болотную, Ид-
рицкую, дивизию теперь перебросили сюда, но еще не ввели
в действие. Нам еще предстояло вступить. И мы знали: здесь,
на Одере, у немцев сильная оборона.
Ты был уже капитаном. Мы перед этим долго с тобой не
видались. Но я все о тебе знал. Ты провел много боев и те-
перь уже командовал ротой. На гимнастерке твоей среди сол-
датских давних уже наград был «полководческий» орден.
Невского... Ты возмужал, ты просто стал старше. Но у тебя
было то же загорелое, красноватое, то же странно мальчише-
ское лицо... Из тебя получился очень хороший командир.
Я видел, что бойцы тебя любят. Ты был сердитым, но спокой-
ным. И добрым... Я все это понял за те два дня, что у тебя
пробыл.
Ты и твои бойцы жили уже не в землянках, в доме.
В большом доме, на втором этаже. Все размещались в одной,
в просторной комнате. А мы с тобой — в соседней, малень-
кой, где был у вас, как вы называли, штаб.
Над твоей кроватью на полотне что-то таинственным го-
тическим шрифтом было вышито. По-видимому, изречение —
семейный нравоучительный стих или псалом. Вот здесь, ря-
дом с этой вышивкой, на вбитом тут же гвозде, и висел у
тебя черный маленький свисток. Сразу можно было понять:
вещь не случайная.
— Связной твой? —- кивнул я на свисток.
— А как же, — ответил ты. И широкое твое, строгое лицо
расплылось в улыбке. Ты сказал, что он у тебя второй год,
что с ним удобно, что свисток этот тебе очень помогает... Да,
это верно — когда трещат автоматы, когда рвется близко сна-
ряд, команды не слышно... Как ни надрывайся — не услышат...
Я увидел: мне тогда же представилась длинная узкая
траншея с глинистым невысоким бруствером. И в ней твои
бойцы... Но прежде всего я увидел тебя. Того, двадцатилет-
него... Того, каким ты был в ту весну, когда я впервые увидел
255
тебя. В серой тяжелой шинели и в исстиранной пилотке...
Сколько же теперь тебе лет?
Она уже тоже пронеслась, комсомольская твоя седая
юность. Ведь когда я это пишу, и у меня уже седина идет гу-
сто. Неужели ж столько промчалось лет?..
Нет, нет, это только вчера мы расстались!
«Орлы, приготовиться»,—говоришь ты. И орлыт^ри
ребята, бойцы — приготавливаются. Они ставят ногу на сту-
пеньку, на приступку. Ту, которая заранее выкапывается.
Это — маленькая ямка, ее делают в траншее, в передней стен-
ке. Только для того, чтобы на нее встать. Когда идет артпод-
готовка, на ней уже держат ногу...
Знаешь, Алексей, ведь он так и остался у меня, этот твой
свисток. Он всегда попадается мне на глаза, даже вот и сей-
час.
И я опять вижу узкую длинную траншею, глинистый бру-
ствер. И тебя, Алеша. Солдат твоих.
«Приготовиться», — говоришь ты.
Они оглянулись, они смотрят на тебя. Они ждут только
сигнала, чтобы взлететь наверх и, перемахнув через бруствер,
кинуться вперед, к той, к другой траншее, где сидит враг.
И я — будто в эту минуту я тоже поставил ногу на сту-
пеньку,— я слышу твой сигнал, твой долгий, призывный
свист... И твои бойцы, с которыми стою я, оглядываясь, видят,
как, вскинув свою, от дыма войны всю седую голову, их лю-
бимый командир — юноша с красноватым мальчишеским ли-
цом — сигналит атаку...
© ВОЛОДИНЫ стихи •
Во все годы и дни войны газеты были полны стихов.
И особенно много было стихов в конце войны, в последние
дни ее и часы. Их заголовки сообщали, сколько километров
оставалось до Берлина. Не сходили они с газетных полос и
тогда, когда древко флага-знамени должно было вот-вот про-
бить купол над рейхстагом.
Но вот это произошло. Победа — пришла. Все ее ждали
и все были поражены. И поэзия, такая отзывчивая, чуткая,
тоже как бы «потеряла дар речи» от этой большой, так вне-
запно наступившей тишины.
- 256
Случилось столь невыразимо великое, что показалось
даже, поэты — невольно — замолчат на время... Что же — это
так естественно.
И тем более запомнились мне эти строки:
Гремите, салюты, над родиной!
Май над Берлином в дыму зеленом...
Мы за Эльбой и за Одером
Стоим у пушек, огнем раскаленных...
Я прочел их у нас, в армейской, 9 мая.
Стихи эти, может, и не такие, чтобы с них начинать раз-
говор, да и запомнились они, может быть, оттого больше, что
других не было, и потому еще, что их автором был мой това-
рищ — Владимир Савицкий, такой же, как я, начинающий.
Хотя он был в армейской, а я — в дивизионной, но, как га-
зетчик и журналист, он был еще моложе меня: я пришел в
газету за год до конца войны, он — за полгода. Обоих нас,
его и меня, в газету взяли из части. Я был до этого танки-
стом. Он командовал батареей.
Вскоре как я пришел в редакцию, попались мне стихи о
девочке — маленькой дочери поэта, пробегавшей по пере-
довой.
Ты бежала вдоль передней линии,
Мимо голых, раненых берез,
И цвели твои ресницы инеем,
На лице румянился мороз.
Ты кричала что-то мне хорошее.
Я не мог расслышать в тишине...
Жаль, что на тропинке запорошенной
Это только показалось мне.
Кто-то мне сказал, что стихи эти пишет артиллерист, ка-
жется командир огневого взвода, который лежит сейчас в ар-
мейском госпитале. О нем уже ходили рассказы. Однажды
его соседом в палате оказался боевой командир, молодой лей-
тенант. Принесли фронтовые газеты. Лейтенант долго читал,
хмурился, а потом обернулся к Савицкому:
«Вот, товарищ старший лейтенант, пишет здесь стихи
один тыловик. Но ведь сам небось немца и в глаза не видел!»
«Дайте взглянуть», — попросил Савицкий.
В газете были его стихи.
Когда мы в первый раз встретились (это где-то за Неве-
лем было и вышло случайно), мы долго ходили по засне-
9 В. Субботин
- 257 -
женным лесным тропинкам и долго не могли расстаться, так
как говорили мы о стихах. Впрочем — путаю! Вроде я все-все
хорошо помню, а путаю. Много все же прошло времени...
Так вот, я теперь припомнил: все это, что я сейчас расска-
зал, было при второй встрече. А первый раз мы встретились
так. Я возвратился с переднего края, скинул полушубок. Шо-
фер Митя уже ставил передо мной дымящийся котелок.
Наверно оттого, что я мало спал последние две ночи, я
не заметил за столом у нас нового человека.
«У нас гость. Знакомьтесь. Это — Савицкий»,—сказали
мне.
Я увидел плотного, тридцатилетнего, а значит, по моим
тогдашним понятиям, уже не молодого человека, с коротким,
на сторону зачесанным чубом, с широким и немного, как мне
показалось, несимметричным лицом. Увидел его крутой лоб,
небольшой рот.
Так мы познакомились...
Он много уже повидал, знал и оборону и наступление.
Участвовал в рейдах в тыл врага. В одной такой операции его
взвод потерял все орудия. Сам он был тяжело ранен, а рас-
чет погиб почти весь...
Я тогда, во время наших первых встреч, смотрел на него
так, будто он был старше меня вдвое. Его начитанность и его
познания казались мне необычайными. Я мало что успел про-
честь тогда. А он до войны уже был инженером, кончил ин-
ститут, я же не смог закончить даже совпартшколу... Мне
оставалось только слушать его... Мы — стали друзьями. От-
правляясь в подразделение, я старался побывать у Савицкого,
даже если для этого надо было сделать крюк. Пять или шесть
километров в сторону.
Наверно, для него, поскольку я работал в газете, я был
чуть ли не писателем. Я же, почти робея, восхищался им. Он
был солдат, храбрый, интересный человек и поэт. Я восхи-
щался им. Больше того, я был влюблен в него, как мальчик
в своего героя.
Всегда у него были новые стихи. Он читал их мне нето-
ропливо, низким, глуховатым голосом. Стихи были полудоку-
ментальные. В них было то, что может знать только человек,
находящийся каждодневно и ежечасно под огнем, в траншее.
Хотя в войну все стихи были вроде бы об одном, — стихи
Савицкого выделялись тем, что в них было одно очень важ-
ное в поэзии, чудодейственное слово — «я»: я стреляю, я
вскочил в окоп.
- 258 -
Может быть, ему иногда надо было подняться, постоять
над солдатским бруствером. Чтобы картина была шире. Чи-
тая его стихи, я представлял, то, что сам видел не раз: сол-
датский ровик и его, склонившегося над тетрадью.
Собственно говоря, это был первый, первый подлинный
поэт, с которым я встретился. И хотя я был как бы его учи-
телем, я тогда впервые со стороны наблюдал таинство поэзии.
Мое внутреннее восхищение было им так велико, что мне и
самому хотелось писать именно так, как он тогда писал,
именно так предметно и только о том, что перед глазами.
«Как Савицкий?» — обычно спрашивали в редакции, ко-
гда я возвращался. «Опять — на прямой», — отвечал я. Его ба-
тарея и вправду чаще всего стояла на прямой наводке.
Мне вспоминается еще одна встреча, после той, под Ну-
велем. (Тогда мы, в ту зимнюю ночь, ходили по лесу, читали
друг другу стихи — свои и чужие, кто что знал. А знали мы
не много их.) На этот раз была весна, может быть ранняя.
Снег, по-видимому, сошел, да, сошел. Володя был, помню, в
своей выгоревшей пилотке и в кирзовых своих «непереши-
тых» сапогах. Его батарея хотя и стояла недалеко от передо-
вой, но не на огневых. Блиндаж его был устроен под домом,
у самой дороги. По-видимому, это был хутор. Впрочем, во-
круг я видел поля, большие, широкие. Значит все-таки, не ху-
тор, а деревня. Остальные дома, по-видимому, были снесены.
Помню ярко горящую коптилку на самодельном небольшом
столике, наши качающиеся тени по стенам. И великолепную
деликатность солдат. Будто их не было. Они хорошо знали
стихи, как если бы их сами сочиняли, но они словно и не
слышали, как командир читал по своей тетрадке эти стихи
незнакомому им лейтенанту. Мне запомнилось тогдашнее
одно Володино стихотворение о крестьянине, старике, кото-
рый вернулся в свой дом и, дрожащей рукой содрав со стены
немецкую газету, увидел под ней портрет Ленина...
Мы выпили по сто, а может, по триста. И мы опять дол-
го говорили в ту ночь, невдалеке от ворчащего переднего
края.
Я уснул на «втором этаже» — на нарах. Блиндаж был
как бы в подполье. Над головой моей был пол избы.
Володя сказал мне, чтобы я спал и что сам он ляжет
позднее... Но я несколько раз просыпался и видел — он все
еще сидел над своей тетрадкой.
К утру — коптилка уже давно потухла — Володя, при све-
те зажженного телефонного провода, прочел мне:
9с
- 259 -
Если рассказать, то не поверят,
Сразу я поверить сам не мог,
Что снаряд, влетев в блиндаж сквозь двери,
Разорвался возле наших ног...
С ним потом вскоре это все и случилось. Снаряд попал
в стенку окопа. И батарейцы не сразу смогли откопать сво-
его командира.
Мне передали об этом, и я тотчас побежал к нему на
батарею. Это произошло при Себеже, перед нашим вступле-
нием в Прибалтику. (Передний край громыхал уже вторые
сутки.) Но на старых огневых я не нашел Савицкого... Не
было его и в санроте.
На другую ночь старик ездовый привез его к нам. Ока-
зывается, Володя лежал в «тылах» батареи — не хотел эва-
куироваться в тыл, пока оборона не прорвана... Мы и сами
стояли в трех-четырех километрах от передовой.
Мы уложили его на сеновале. Ему было очень плохо, он
еще плохо слышал, трудно говорил. Я лазил туда на сеновал
к нему и «отпаивал» моего Володю молоком. Приходил он в
себя медленно. Но через неделю попросил бумаги.
Здесь, на сеновале зажиточного латыша, он начал писать
свою поэму о солдате-артиллеристе, и мы ее тогда напеча-
тали.
Он рвался к себе на батарею, хотя еще был явно «не-
годен». Но тут пришла машина, и Володю увезли. Его отчис-
лили для службы в газете у нас. Нашей — Третьей Ударной.
Я еще не рассказал, как нас завалило однажды в одной
траншее. Я ведь то и дело заглядывал к нему.
Мы шли по траншее, когда начался обстрел. Володя
успел проскочить, а я остался. Но в это время между мной и
им ударил снаряд. Я не сразу понял, что кричит он мне уже
с другой стороны. Траншея была завалена.
- Не выскакивай, — разобрал я, — тут у них рядом пуле-
мет стоит...
Завал был большой. Я попробовал было подкопать, но
мне мешал плетень. И этот плетень, плетень, которым были
обвиты стенки, окончательно мне перегородил путь. Я по-
пробовал пролезть низом, но плетень был надежней всякой
глины. Я весь ободрался.
Вот тогда-то я и выпрыгнул наверх. Ничего другого мне
не оставалось.
Пулемет и вправду застрочил, когда я, огибая завал, вы-
лез из траншеи и метнулся через бугор...
- 260 -
Девятого мая, утром, утро было солнечное, а день даже
обещал быть жарким — по всему Берлину, на всех улицах,
выстраивались роты, батальоны и полки.
Конечно, никто в эту ночь не уснул: сообщение об окон-
чании войны передали ночью, но когда зачитывался утром
приказ по войскам, эти минуты для нас не стали менее вол-
нующими. Все тут было — и радость и слезы, слезы торже-
ства.
Я пошел в шестьсот семьдесят четвертый, в полк, кото-
рый принимал участие во взятии рейхстага.
И конечно, и Володя в это утро из своей редакции при-
шел сюда, в свою батарею, к своим солдатам. Не было уже
многих его верных товарищей, но многие остались в жи-
вых — те, с кем он рядом сражался за многострадальную вы-
соту 228.4 и под Себежем.
Здесь, на этой затененной, еще не расчищенной от раз-
валин и от осыпавшихся домов берлинской улице, мы встре-
тились и, обрывая себя и свои гимнастерки — повисая на
протянутом через канаву проволочном заграждении, мы бро-
сились друг к другу.
• СОЛДАТ-ПЕСЕННИК •
Машина наша стоит на задах деревни. Я сижу в кабине,
положив фанерку на руль, а он ходит перед машиной и с
большим трудом вытягивает ноги из глубокого снега...
Он в поношенном ватнике. Лицо его в последние дни
стало еще темнее от ветра и недосыпа, а губы потрескались.
Он шевелит ими, но мне его не слыхать... Он без конца
повторяет что-то про себя и все ходит и ходит взад и вперед,
стараясь попадать ногой в те места, куда еще не ступал. Ря-
дом тропинка, но он обходит ее.
Видимо, так ему легче найти строку...
Снег глубокий, хорошо слежавшийся, и когда он, вы-
таскивая одну ногу, пытается встать на него другой, тотчас
проваливается. Опять вытаскивает ногу и опять провалива-
ется...
До сих пор у меня в глазах это — низко нависшая соло-
менная крыша двора, глубокие и скорбные сугробы. Все, все,
- 261
что я вижу через стекло кабины. Потом он подходит ко мне,
я открываю дверцу, и он показывает начатое стихотворение.
Всегда она у меня перед глазами, эта картина, и всегда
я, думая о нем, вижу, как он топчет снега на огородах кали-
нинской деревушки.
На другой уже день мы отправились с ним в полки.
Была это чуть ли не первая моя командировка.
Всеволода я встретил в первый же день своего прихода
в редакцию. Был он темноволосый, даже темнокожий. Смуг-
лый солдат. На погонах только две первые нашивки. Гимна-
стерка на нем старая была, тоненькая... А штаны ватные, тол-
стые.
Он сразу пошел со мной, чтобы показать, где находятся
штаб дивизии и полки.
Добрались до батальона и разошлись по ротам, а вече-
ром мы вместе вернулись.
Я знал о Лободе еще до того, как встретились. Читал его
стихи в газете.
Мы пробыли вместе зиму и часть лета сорок четвертого
года. И потом, когда он был переведен в артиллерийский
полк, встречались. До того самого дня и часа, когда увидел
его в палатке санроты.
Теперь, перелистывая пожелтевший от времени ком-
плект дивизионки, я нахожу его очерки и стихи. Он, как и
мы, писал все. И стихи, и заметки. И листовки. Все прихо-
дилось делать.
Его хорошо знали в дивизии.
Была у нас своя песня, им сочиненная. Марш дивизии.
Память моя сохранила лишь некоторые строки:
Ты на Запад, боец, посмотри-ка.
Злее стужи — бесправия гнет.
Разоренная немцами Рига
Нас давно, как спасителей, ждет.
В маленьком коллективе дивизионной газеты солдат, ко-
торый умеет писать,— это уже не просто солдат: это еще
один работник. Работник тем более ценный, что сверх шта-
та, да еще такой, что мог и стихи и заметку написать.
Он умел сделать материал оперативно и так, как это
надо для дивизионной газеты. Очень скоро овладел всеми ее
многообразными жанрами.
Боевой путь Всеволода начался под Ленинградом. Он
был там пулеметчиком, вторым номером. Участвовал он в
- 262 -
боях и под Старой Руссой и под Великими Луками. А до
войны работал в шахматной газете и на вагоностроительном
заводе.
Скромный, замкнутый и суровый. Требовательный к
себе человек. Многое еще объясняется его положением...
Он был у нас в газете сверхштатным. Когда я пришел, меня
с ним так и познакомили — как со сверхштатным сотруд-
ником.
Ему было нелегко... Он писал:
Невесел в дыме канонады
Сугубо штатский человек.
Я уже сказал, что он был требователен к себе. Мы ино-
гда дрогли целую ночь в палатке, растянутой прямо на сне-
гу. Где-нибудь в овраге, по берегу реки. А он — все-таки пи-
сал. И не только заметки и информации, писать которые мы,
в конце концов, были обязаны, но и стихи. И с какой проч-
ностью были пригнаны в них строчки!
Из него со временем мог бы выработаться сильный
поэт.
Я вот смотрю сейчас нашу дивизионку. Как много в ней
статей и листовок подписано им! Я взял одну. Посвящена
она подвигу артиллеристов — бойцов Идрисова, Еременко и
Карандаева, отбивших атаку вражеского взвода. Заканчива-
ется строчками:
Драгоценное оружие —
Сердце храброе в груди!
Иной раз мы готовили материалы весь день. Торопились
побольше сделать засветло. Столы у нас, самодельные, ко-
нечно, стояли в разных, противоположных углах землянки,
и, склонясь над ними, сидя таким образом, мы подолгу не
разговаривали.
Мы обычно вдвоем и жили.
А один раз мы попали в землянку, в такую большую, что
ее нельзя было натопить, и сколько мы ни жгли дров, ничего
не помогало. Но мы оба пришли с передовой, и надо было
«отписываться».
В тот именно день убило его друга, комсорга Сашу Ма-
ханова. И Всеволод наш делал о нем полосу. Сидел всю
ночь, всю ночь не спал. Написал даже стихи...
- 263 -
Где мы вместе не побывали! Но мои воспоминания все
связываются с редакцией, а о ней меньше всего здесь хоте-
лось рассказывать.
Ну не рассказывать же, как из перестраховки нам одна-
жды не разрешили затопить печку в землянке, боясь, что
могут разбомбить. Мы же только-только пришли с передне-
го края. И промерзли, и продрогли. Были мокры...
Конечно, я помню многие наши разговоры.
Такое вот еще воспоминание... Два батальона дивизии,
форсировав речку, заняли плацдарм. Что делалось там! Го-
рячий же это день был! Шинели, каски, котелки — все там
было вбито, вколочено в густую, в тугую топь.
Мы с Лободой сидели в ячейке у самого берега реки, в
районе переправы. Немцы — где-то повыше. Над головами.
Ячейка, в которой мы прятались, была столь тесна, что
и одному не поместиться. Да и место низкое, и поэтому окоп
наш был полон воды.
Немецкие самолеты шли волнами.
Мы просидели на плацдарме этом двое суток, и, как вы-
яснилось, просидели напрасно. Часть пошла в наступление,
и материал наш — об обороне — был не нужен. Требовались
статьи о наступлении.
Я побывал у него, один раз, когда его перевели в арт-
полк. Его перевели как-то сразу. Ни с того ни с сего. Даже
для нас, работавших в редакции, это было неожиданностью...
Но нам объяснили, что иначе нельзя,— сверхштатный!
Ничего не помогло. Никакие наши просьбы и никакие
доказательства.
Потом на его место прибыл другой, такой же сверх-
штатный!
Я прежде в артполк не ходил. А тут, когда его туда
перевели, пошел. Я даже ночевал у него. Мы долго не
могли заснуть, разговаривали, а утром отправились на их ог-
невые.
Мы были опять в одном окопе, вместе. Но на этот раз
окоп у нас был глубокий, просторный, с бруствером на уров-
не груди. Неподалеку был разбитый костел, а совсем рядом
какой-то сарай, деревянный, дощатый. Окоп выкопан
вблизи сарая, на поляне. А эта поляна — ровная и заросла
плотно мелкой-мелкой травой. Видимо, когда-то тут была де-
ревенская улица, и место это было хорошо утоптано... Не-
далеко от сарая, на другой стороне, стояла артиллерийская
батарея.
- 264 -
Был самый разгар дня, жарко, и хотелось пить. Мы стоя-
ли в окопе, облокотясь о бруствер.
У нас на двоих было две книги, и мы их читали попере-
менно, попеременно отбирая их друг у друга. Одна — Ремар-
ка, «На Западном фронте без перемен», другая — старая,
довоенная книжечка, маленький сборник стихов поэтов-
акмеистов. Книжку эту удалось достать Лободе, я уж не
знаю, где он ее взял. Думаю, что на хуторе, в одном из этих
пустующих домов. Книга Ремарка, также подобранная в
доме, принадлежала теперь мне.
Мне долго помнился этот день, солнечный, с обстре-
лом... С каким-то удивлением я вспоминал о нем...
Помню, фронтовая повесть Ремарка не произвела на
меня особого впечатления. До войны, когда читал ее и был
еще совсем юнцом, она захватила меня больше.
Все теперь было у меня перед глазами. Окоп. Рвущиеся
перед ним снаряды. Распухшие под солнцем, раздувшиеся от
жары трупы на нейтральной полосе.
Дело было не в книге, а в обстановке и в том, что тихие
стихи этой растрепанной книжицы гораздо больше на нас
действовали.
Сейчас, например, для меня опять все встало на место.
Мы читали и перечитывали понравившиеся строки.
Я впервые их читал... Может, потому еще по душе были сти-
хи эти, что уж очень громыхало вокруг. Что были далеки от
войны. И что уж очень грубой была жизнь, которая нас
окружала, и мало напоминала она то, о чем рассказывалось в
этих красивых стихах...
Еще накануне, когда я ночевал в четырехнакатном ар-
тиллерийском блиндаже у Всеволода, мы с ним обменялись
адресами: я дал ему адрес сестры, а он мне своей матери.
С матерью он был в большой дружбе. Его мать жила в Мо-
скве, и он ей часто писал. В письме он просил ее сохранить
его стихи... «Мама, посылаю тебе вырезку из фронтовой га-
зеты. Ты ее сохрани... Она мне понадобится».
Эти стихи, те, которые он успел послать,—сохранились.
Они сохранили для нас его голос — голос «рядового с
берега Ловати».
Тогда же им написано и стихотворение: о том, как ко-
гда-нибудь, через много-много дней и много лет, седая уже
мать разыщет на скате небольшой высоты — «сына дальние
следы». Она придет на могилу сына, похороненного в крае,
где он воевал, и здесь
- 265 -
увидит изумленно
На зелени могилы дорогой —
Венок лугов, как яркая корона,
Возложенный неведомой рукой...
Венок этот — признательность латышей. Венок ее сынку.
Но все дальнейшее случилось не в том окопе, где сидели
мы с книжками в руках на скате им описанной высоты в
Курляндии. А случилось поздней двумя-тремя днями. Когда
уже пошли вперед. Когда встали с плацдарма на Айвиексте
и через латышские хутора и местечки хлынули в прорыв, в
наступление, пробиваясь к берегам Рижского залива. Когда
были взяты и вторые и третьи траншеи... Когда двинулись
все, и тылы и штабы.
Перед нами расстилалась балтийская равнина. Только
вблизи моря может быть такая ровная земля...
Но, впрочем, тылы полка еще не снялись. Когда я
проходил, они располагались в рощице, вблизи опушки
леса. А дальше, за этой рощицей, уже и простиралась эта
равнина.
Повсюду валялись противогазовые сумки, клочки бумаг,
чьи-то блокноты и записные книжки... Только на поле боя
бывает разбросано так много бумаги!
Сколько людей в эту войну вели дневники и записи.
И немецкие солдаты — больше, чем мы.
Меня окликнули. Ко мне подошла девушка. Она указала
на палатку.
Она сказала, что он — там.
Я влез в эту палатку и споткнулся о его ноги. Палатка
была маленькая, лагерная. Свет плохо проходил через бре-
зент.
Он лежал на земле, ничком. В гимнастерке. Я видел, что
он. Уже по кудлатым, свалявшимся волосам я видел, что
это он.
Опустившись на колени, я осторожно его перевернул.
Он, его губы.
Опухшее лицо. Голова была забинтована, но кровь про-
ступала. Я положил руку ему на плечо и позвал его. Он не
отвечал. Он только тихо, чуть слышно не то стонал, не то
что-то шептал.
Его отыскала шальная пуля.
Он шел через это поле в раздуваемой ветром плащ-на-
кидке. И упал...
Немцы уже были далеко.
- 266 -
Я вышел из этого укрытия, где он лежал, вскочил на
Крыло проходившего грузовика. Я был потрясен и потому
помню все хорошо. Мы проехали поле и по переброшенным
мосткам перевалили траншеи. На дне их лежали полузасы-
панные немецкие солдаты, накрытые нашим огнем.
Помнится: немцы — убитые — лежали в траншеях, на-
ши — на открытом поле.
Все наступало. Немецкие части не устояли и на второй
линии обороны.
Мы пошли дальше. Здесь нельзя было задерживаться.
Все должны были идти вперед.
Он похоронен в Добеле. Там, где был госпиталь.
Говорят, он не умер в тот день. Его даже успели довезти
до госпиталя, хотя в медсанбате считали, что он безнадежен,
что не имеет смысла его везти... В сознание он так и не при-
ходил.
Его рукописи, записные книжки и стихи, были в его
вещевом мешке.
Вещмешок пропал. Ничего уже не нашли. Ни его вещ-
мешка, ни стихов...
Кто там мог его хранить, этот вещевой мешок!
...Он не дожил до дня Победы. Он не дошел даже до
Риги.
Он лежит теперь под тем холмиком и не знает, что его
друзья и герои его стихов — солдаты дивизии, в которой он
служил, дошли до Берлина и весной 1945 года взбегали по
ступеням рейхстага...
Сосны сторожат его холмик над речкой Айвиексте.
Я остановил проходившее такси... Всего лишь минуту
назад я еще не думал этого делать. Конечно, прошло много
времени, но все же, все же я боялся разбередить старые
раны.
Мы очень скоро остановились, в узеньком московском
переулке, незнакомом, возле большого дома... Но как близко
это оказалось!
Я вошел и лифтом поднялся наверх. Мне открыла жен-
щина. Я понял уже, что это — она, его мать.
На стене, в комнате висел его сержантский портрет.
И Всеволод на меня глядел с этого портрета. Такой, каким
он был, тогда, двенадцать лет назад.
Мертвые — не старятся.
- 267 -
ГРОЗА
Я не знал Павла Когана.
Но большинство моих друзей — он учился перед войной
в московском ИФЛИ — его помнят.
Он не напечатал ни одного своего стихотворения — не
успел. Теперь сокурсники его собрали ему книжку, по тем
бумагам, которые хранил отец.
Я держу в руках эту первую маленькую книжечку сти-
хов, ее назвали «Гроза», тоненькую книжку Павла Когана.
Он был моим сверстником, но я не знал его. Он написал еще
мало, и, конечно, не все сумел он так написать, как хотелось
ему... Я ее листаю и опять нахожу эти строки. Впервые я
натолкнулся на них в журнале. Вот эти, где он говорит
о друзьях-школьниках в часы Октябрьского праздника, о то-
варищах детства, что стоят с ним на грузовике АМО,— о тех
мальчиках, которые потом погибнут на Шпрее.
Эти последние слова — не мои, эти слова — Когана.
На первый взгляд даже непонятно, как они могли по-
явиться у него. Это отрывок, вернее, два отрывка из его не-
оконченного романа в стихах. Я привожу эти строки пол-
ностью — от одной точки — до другой.
Мальчишки в старых пиджаках,
Мальчишки в довоенных валенках,
Оглохшие от грома труб,
Восторженные, злые, маленькие,
Простуженные на ветру.
Когда-нибудь в пятидесятых
Художники от мук сопреют,
Пока они изобразят их,
Погибших возле речки Шпрее.
Эти мальчишки — мои товарищи. Это и Чернобровкин,
и Тытарь. Это — Всеволод Лобода, песни которого и после
его смерти, и после войны еще пели в полках. Твердохлеб,
первым вклинившийся со своим батальоном в немецкую обо-
рону на высотах за Одером и убитый просочившимися к
штабу автоматчиками.
И тот солдат-танкист, могилу которого я видел у самой
дороги. Глинистый холмик. Свежеструганная доска. Все по-
мнится.
- 268 -
Это, наконец, и тот боец, на могиле которого, помню
(может, и был это Пятницкий), было написано: «Погиб за
завоевание Знамени Победы над Берлином».
Как я наткнулся на могилу танкиста в берлинском пред-
местье Карове, так же наткнулся я и на могилу артиллери-
ста Федора Ошамка. Он был убит, когда его орудие меняло
огневые — на мосту через Шпрее. Я увидел такую же, гвоз-
дем выжженную дощечку, его имя, и не поверил. И долго
не хотел верить, что знакомый мне командир орудия Оша-
мок погиб...
Молодой Павел Коган будто о всех о них написал, всех
их вспомнил. Всех, кого я хорошо знал или с кем накоротке
встречался и просто разговаривал, едва успев занести их фа-
милии себе в блокнот. Все они, эти мальчики-бойцы, их столь
же юные командиры — уже не в пиджаках, а в измазанных
глиной ватниках, простуженные и охрипшие, падающие от
усталости, оказались запечатленными — все, кто зарыт там,
на берегу Шпрее, в ровиках перед рейхстагом — на том по-
следнем рубеже.
В другом своем стихотворении Коган пишет о будущем
путешествии в ракете, о рейсе во Вселенную, в космос.
И здесь тоже такие я нашел строки:
Сквозь вечность кинуты дороги.
Сквозь время брошены мостки.
Во имя юности нашей суровой,
Во имя планеты, которую мы
У мора отбили,
Отбили у крови...
Во имя войны сорок пятого года.
В стихах иногда можно очень многое угадать. Это из-
вестно. Я это знаю. Но откуда же — «во имя войны сорок
пятого года»? Откуда оно, это провидение.
Он мало успел написать, и не все так, как ему хотелось.
Он почти мой ровесник, сверстник мой. Но когда он это на-
писал, я еще только начинал интересоваться стихами.
С портрета на меня смотрит лобастый мальчик — боль-
шеглазый и неуступчивый.
Он не дошел до Берлина. Он не дожил до конца войны...
Он погиб в сорок втором году под Новороссийском.
- 269 -
о
БРАТ МОЙ
Памяти младшего политрука А. М. Матронима
У меня был. брат... Не родной он был — двоюродный, но
все равно был он мне родней родного... Мы росли с
ним в одной — зауральской сибирской деревне. Ходили вме-
сте в лес и на речной песчаной отмели вместе ловили маль-
ков... Мы и спали под одним тулупом — на одной печи вы-
росли.
Когда же пришли в школу, нас посадили рядом, за одну
парту... Очень многие считали, что мы с ним родные братья.
Едва подросли, мы стали носить гимнастерки и очень тем
гордились. А я даже купил случаем старую шинель и счаст-
лив был, помнится!.. Мы уже были, как наши отцы, красно-
армейцами и готовились умереть за свои убеждения...
В досрочный час оба ушли в армию. На сборном вок-
зальном пункте сидели со своими мешками. Ехали одним
эшелоном. Нас обоих бросили к западной границе... На ка-
кой-то большой, заполненной составами станции, где часть
вагонов отцепили, чтоб направить их на Полтаву, мы про-
щались. Нас обступили товарищи, такие же призывники.
Ребята со всей страны... «Смотри-ка, браты прощаются»,—
говорили вкруг нас.
Это было зимой сорокового, в декабре. Через шесть ме-
сяцев началась война.
Он погиб в сорок втором на разъезде 564, в великой
битве на Волге. Это было в те дни, когда танки лезли на
танки. Его отцу, матери пришло уведомление: «Сын Ваш...» —
и — дальше... Позднее написали бойцы — из роты, с которой
ходил он в атаку. Был он у них политруком... Политрук. Ко-
миссар!.. Об этом раньше только мечталось нам... В те дни я
читал в танке, перед смотровой щелью, его письма и так
завидовал ему!
Обоим — ему и мне — было тогда по двадцать лет...
Теперь я понимаю, как это мало.
Я ездил на тот забываемый проходящими поездами разъ-
езд — через немного лет после того, как прозвучали в Бер-
лине салюты Победы... В приволжской сухой степи открыт
и отрыт был Волго-Дон. Вот в тот год я и сошел на этом
полустанке...
На Урале живут его старики. Я не мог им сказать, что
его могилу запахали, что там ничего нет. Решил им пока ни-
- 270 -
чего не говорить. Пусть думают, что над могилой сына стоит
высокий красный обелиск.
Я все не могу поверить, что мы никогда не увидимся, что
на том перроне мы расстались с ним навсегда и что все, что
было сказано в том извещении, — правда, а в гудящей прово-
дами приволжской степи давно уже затеряна его могила...
Он был политруком — даже еще и не полным, а млад-
шим, — молодой, двадцать первого года рождения...
Безвестный, на берегу реки, в могиле без холмика, ле-
жит он — комиссар стрелковой роты.
Я знаю, они говорили там: «Для н а с за Волгой — земли
нет!» В те дни эти слова клятвы повторены были всеми
повсюду.
До сих пор мне кажется, что сказал их первым он, мой
брат.
• •
: ДРУГИЕ РАССКАЗЫ J
• •
• •
• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••
о
Это — мы
Чехословацкое стекло! Кажется, вся Мо-
сква тогда была на выставке. Стекло изуми-
тельное, хотя я и не о нем... Блуждая по тем-
ным, обтянутым черным теремам, мы любова-
лись рисунком и тонкой, искусно освещенной
гранью... Выйдя из зала, в вестибюле уже, я
остановился возле щита с фотографиями. На
них: заседание Народного собрания, трубы
строящихся фабрик... И тут же, внизу, еще
один старый и не очень уже четкий снимок.
Полузадымленная улица старинной Праги и
наш облепленный солдатами танк.
- 272 -
Он движется, а вокруг — толпа. Толпы...
Все в грязной и пробитой пылью военной
одежде — какие-то притихшие, сосредоточен-
ные, наши солдаты — мы — в чешской столи-
це, на громыхающем этом танке. А лица, лица
какие! И торжественные и усталые. Радость
внутри, а в глазах, на лицах — раздумье...
Мальчик там один — солдат молоденький, —
у него лицо как на иконе. И все они, эти ре-
бята, среди ликующей, среди возбужденной
толпы пробирающиеся через Прагу, все они
какие-то примолкшие, и лица у всех, как у
этого мальчика, строгие, строго-спокойные.
Значит, такими вот мы были в те дни в Бер-
лине... Тут же, в группе бойцов наших, сидит
на танке один пражанин, в шляпе. Тоже за-
росший, небритый. И — счастливый... А лю-
дей, сколько людей, сколько их, празднично
радостных глаз вокруг!
Вспомнил, как я сам, когда мы однажды
задержались в одном польском городке (упо-
мнишь разве, сколько их было!), вот так же,
смешавшись с толпой, на улице стоял среди
людей, которым мы пришли на выручку. Мно-
го часов простоял... И пока я, не будучи в си-
лах уйти, так топтался на месте, хлынул
дождь — обильный, резкий. Со снегом. Лил
он долго, не переставая, и больно хлестал по
лицу. А я — все стоял и все смотрел, как через
городок, на Германию, идут, грохоча, танки,
как проходит пехота, машины и опять, и опять
пехота...
Из этой толпы я тогда взглянул на нас,
на советскую нашу армию, на своих товари-
щей... Это — незабываемо! Стоял и смотрел.
Ведь сам я был каплей, каплей дождя в по-
- 273 -
токе, Я был армией, был — массой, частицей
этой живой лавины,.. Тогда-то как бы впервые
я увидел — какие мы!
Теперь перед этим давним снимком я и
это вспомнил, и в этих людях, что двигались
по древней Праге на броне танка, я узнал,
увидел и тех товарищей, которые сражались
в Берлине.,,
Но, может быть, теперь только бросилось
мне в глаза, как запылены мы и как выбелены
на нас гимнастерки... Не на парад ведь гили,
воевали! В коротких шинельках, в обмотках.
Усталые, пропотевшие, а красивые. И силь-
ные... И о том еще думал, как он нелегок был,
наш путь... Мы много прошли. Должно быть,
мы очень устали. Но мы тогда не чувствовали
усталости, не думали об этом...
И рождались, пока я смотрел на выцвет-
ший этот снимок, какие-то строки — неуклю-
жие и неритмичные:
Мы — черные, охрипшие, худые...
На постаменты нам такими бы взойти!
• «ФРАУ ДЕР ЗИГ» •
Я уже писал об этом, но так кратко и скомканно, что
даже не все, как я увидел потом, понимается. А жаль! Это —
любопытная история. И я не сумел тогда хорошо рассказать
о ней.
Это все правильно, что в Берлине, в незнакомом и чужом
нам, где и после войны мы какое-то время жили, мы не
могли ориентироваться и подолгу кружили в одних и тех же
переулках и улицах, особенно в районах, где много стандарт-
ных одинаковых домов. Нам было бы еще трудней, если бы
- 274 -
нам не помогала одна взнесенная на большую высоту жен-
щина. Это была статуя, установленная на длинной и тонкой,
как вот этот карандаш, и такой же, как карандаш, ребристой
колонне. Куда мы ни забредали, лишь стоило потерять на-
правление, и мы могли выйти, глядя на нее.
Отовсюду ее видать было...
Затруднения наши возникали, я и об этом тогда писал,
уже потому, что мы не знали языка. Надо и то учитывать,
что большинство из нас было из деревень — люди совершен-
но не городские, и все мы вдруг, многие впервые, оказались
в одном из самых больших городов мира. Удивительно ли,
что все улицы казались нам одинаковыми.
Не говорю уже о том, как мы все должны были бы от-
выкнуть от городов, мотаясь по полям и лесным дорогам..
Нам казалось странным, после окопов, которые мы рыли
в зыбкой раскисшей глине и торфяных болотах, что в Бер-
лине, как, впрочем, и везде, наверно, как в каждом большом
городе, нельзя было найти клочка обнаженной земли. Толь-
ко — камень да камень.
На второй или третий день после того, как я провел две
ночи в рейхстаге и побывал на Унтер-ден-Линден и в старом
центре — у Королевского дворца, я отправился к ней, к этой
статуе.
Тут только я понял, тут только узнал впервые, какая
странная создается иллюзия, когда и дома, и все, что есть
вокруг вас, столь непривычно велики. Я все-таки был дере-
венский парнишка, живший хотя и в самых разных местах,
но все больше в деревнях да в маленьких шахтных поселках,
вроде нашей Усьвы на Урале. И когда с Унтер-ден-Линден и
из пролета Бранденбургских ворот я увидел эту возвышаю-
щуюся на горизонте, в конце широкой ленты шоссе, статую,
мне показалось, что это совсем близко.
Я еще не знал, как обманчиво это впечатление.
Наконец-то дойдя до нее, оглянулся назад, посмотрел
на часы. Я удивился, потому что оказалось, что я шел очень
долго. Было еще к тому же жарко, я вспотел и был весь
мокрый, и, шагая к этой статуе от Бранденбургских ворот
по бетонированным, ровным белым плитам, я надавил себе
ноги — в новых сапогах, незадолго перед этим сшитых для
меня в батальоне одним немолодым старшиной, который
меня знал и который, как я это только потом понял, следил,
чтобы я был одет не хуже других.
- 275 -
Дойдя до колонны, я побродил вокруг, обсмотрел все
барельефы, изображающие на цоколе победы и битвы, потом,
открыв в самом основании колонны небольшую тяжелую
дверь, я проник внутрь. Я очутился в такой темноте, что не
знал, надо ли мне лезть наверх. Вглядясь в темноту, я увидел
всякие балки и деревянные стропила и первые две ступеньки
вьющейся вверх лестницы, понял, что ничего страшного нет,
и стал подниматься.
Я долго кружился внутри колонны. Было темно, глухо,
лестница была крута, а я все лез и лез по этой трубе и скоро
потерял всякое ощущение того, где я есть и как высоко за-
брался. Подниматься мне было тяжело, мне не хватало воз-
духа... Я пока был в середине колонны, а думал, что я где-то
высоко — гораздо выше, чем мне эта колонна казалась снизу.
Как будто можно было влезть выше, чем сама статуя.
И хотя ноги у меня дрожали, я решил идти, пока эта
лестница ведет куда-то, и скоро я выбрался наверх...
Оттуда, сверху, все хорошо было видать... Когда ступени
те кончились, я увидел перед собой, вернее, нащупал в тем-
ноте дверцу, я ее толкнул и вывалился наружу, на смотро-
вую площадку.
Я увидел почти весь Берлин, и рейхстаг, и Бранденбург-
ские, и то, что за ними, — вплоть до аэродромов.
Плыли облака. Слева, среди мертвых разрушенных до-
мов, петляла тихая, медленная Шпрее. Слегка кружилась
голова. Далеко кругом было видно... А сама статуя была
где-то надо мной. Оказывается, я до нее так и не долез...
И как ни старался, как ни подымал голову,—я видел над
собой только одну большую босую ее ступню и вытянутую
вперед руку.
Я еще немного побыл, постоял и опять долго спускался
вниз... Я еще не знал тогда, что в колонне этой ровно 320 сту-
пенек. Я многого еще не знал тогда... Многого не знал, и все
интересовался, чего это она поставлена тут, эта летящая по-
золоченная Виктория.
Один старый солдат, с которым я разговорился, встретив-
шись с ним на улице, упорно называл ее «бабой с крыльями».
Я знал только это.
...Но на этом не кончается мой рассказ о женщине, под-
нятой на высокую колонну посреди Шарлоттенбургского
шоссе. Тут только и начало его.
Я тогда слез оттуда, сверху, и ушел. И больше не вер-
нулся к ней. А потом и вообще уехал и забыл об этой статуе.
- 276 -
14 если бы через много-много лет не пришлось мне ехать
в вагоне с одним моим старым товарищем, я ничего бы не
мог прибавить к сказанному.
Вот как было дело.
Мы оба возвращались с целинных земель Алтая. Там уже
рос хлеб, который не успевали убирать... Это был мой очень
хороший товарищ, мой сверстник. Он был сапером в армии
у Батова, и у меня всегда, когда мы с ним говорили, было
ощущение, что войну он знает по-настоящему хорошо — не
по одному, двум эпизодам, а тем трудным знанием-опытом,
который дается лишь собственным длительным пребыванием
на фронте — близко к передовой и на самом переднем крае...
И когда мы с ним начинали говорить о войне, я как-то осо-
бенно остро и щемяще испытывал в своем сердце одно из
самых сильных, вынесенных нами оттуда чувств — чувство
фронтового товарищества.
Я спросил его, был ли он в рейхстаге и что он там видел.
— Уж очень разбито все...—ответил он. И, подумав, до-
бавил: — Еще вспоминаю — много было бумаг... Камни одни
да бумага.
— Но ты знаешь,—сказал он, улыбнувшись,—я видел
эту женщину. Фрау дер Зиг...
Я знал, что «зиг» означает «победа», но ровно ничего
не понял из того, что он сказал... Я и не знал такой. «Какая
женщина?» — подумал я.
Он очень удивился, что ему приходится объяснять мне...
Помню ли я, спросил он, статую в Тиргартене — золотую
женщину с крыльями, которую зовут фрау дер Зиг...
— Да, да. Конечно, — пробормотал я. И, чувствуя себя
круглым дураком, сразу сказал ему, что будет вернее назы-
вать этот монумент Колонной победы... Так он и официально
именуется.
— Так вот, — он продолжал, — когда я пришел туда, мне
дали ее адрес и сказали, как ее искать... И я был у нее.
Теперь я понимал его еще меньше...
Чтобы мне быстрее вылезть из отягчающего мое перо
диалога, я, пожалуй, буду просто пересказывать дальнейшее
от себя, хотя и все, что скажу, видел уже не я, а он.
Как и я, он подошел тогда к колонне. Плыли облака, и
статуя, казалось, летела.
Так же, как я, как все, он ходил вокруг, оглядел снизу
эту статую и постамент, где в камне были выбиты всевоз-
можные военные победы, а потом лазил наверх. Оттуда
- 277 -
вправду далеко кругом видно. Он и сказал мне, сколько тех
ступенек.
И вот, когда он спустился вниз и поднял голову, чтобы
еще раз на нее поглазеть, к нему подошел какой-то немец
в белом плаще и сказал, что она еще жива. Сообщив, где
живет она, он попросил сигарету...
Мой товарищ тут же направился по адресу, который ему
дали, и скоро нашел то, что искал. Это оказалось недалеко,
но он долго кружил... Ее так и звали — «Sieges Frau»...
Не предполагая увидеть того, что увидел, он вошел в
небольшую узкую комнату, и в первую минуту ему пока-
залось, что тут никого нет. Он хотел уже уйти, но услышал
не то стон, не то вздох. Не успел он сделать и двух шагов,
как разглядел: под высокой периной посреди комнаты ле-
жала старуха. Сначала из-за спинки кровати ему ее не было
видно. У нее были отечные щеки и седые, разметавшиеся по
подушке волосы.
Она смотрела не на него, а мимо. Из окна — единствен-
ного в комнате — была видна та женщина — Победа, высокая
даже издали колонна и статуя. Солдат-сапер подошел к окну
и все понял. Она нарочно поселилась здесь.
В глубине полутемной продолговатой комнаты, закрытая
до подбородка, лежала та, с которой лепили эту статую.
Я вспомнил, как долго я поднимался наверх, к ее ногам...
И видел только ее ступню и вытянутую вперед руку.
Он опять подошел к ней, но она, по-видимому, не пони-
мала, кто это стоит перед ней: так приходили к ней всегда,
она к этому привыкла. Ее ведь тоже показывали, как тот
монумент. И, мельком взглянув на вошедшего, она снова
уставилась в одну точку, в это окно. Отсюда, с постели, ей
была видна она сама, летящая над Берлином позолоченная
Виктория... Он знал, под крылом статуи зияла пробоина, но
старуха этого не видела.
Очень скоро она умерла.
Я на этом тогда и заканчивал.
Теперь, рискнув переписать, пересказать этот рассказ
заново, я подумал, что, наверно, я опять все сделал не так...
Надо бы, наверно, попытаться передать переживания этой
старухи и прочее. И, пожалуй, вся эта история неплохой
материал для драмы... Ее ведь показывали, как саму Герма-
нию... 14 она видела из окна тех мальчиков, которые уходили
- 278 -
на войну. Их часто выстраивали и перед этой колонной, и
перед ее окном. И она смотрела на них, сначала стоя, потом
сидя, а потом — лежа...
Подумать только, она была совсем молодая, когда созда-
вали этот монумент.
Какой сюжет! Какую драму можно было бы написать!,*
Тут бы суметь только.
ВЕРНОСТЬ ДРУГА
Как-то несколько лет назад я получил неожиданное
письмо, письмо Николая Беляева. Он послал письмо на ре-
дакцию «Огонька», где было опубликовано одно мое стихо-
творение. Он спрашивал обо мне.
Конечно же я написал ему, что ничего не забыл, что я
все помню. Но то ли адрес его мне передали неправильно,
то ли его там не было, мое письмо осталось без ответа.
Кажется, после берлинских и рейхстаговских дней мы
с ним не Ьидались... Его тогдашний адрес был — номер ка-
кой-то полевой почты.
Да, прошло уже десять лет, как мы расстались с ним, и
в своем письме он даже спрашивал, помню ли я его.
А теперь я расскажу про него.
В те дни в темных коридорах рейхстага бойцы штурмо-
вой роты сразу узнавали этого молодого офицера, лейтенанта
в тяжелых, больших сапогах. Гимнастерка была на нем ры-
жеватая, суконная. Воротник расстегнут. На бедре — писто-
лет... Можно бы еще добавить: здесь, в рейхстаге, брови и
виски его были забиты пылью и казались белесыми.
В каждом полку, в каждой роте был у меня такой офи-
цер — чаще политработник, с которым я с первым старался
увидеться, чтобы вместе идти в подразделение.
За полтора последних военных года он часто сопровож-
дал меня, дивизионного корреспондента, в моих быстрых и
недальних рейдах. Всегда он знал, куда, к какой роте и как
пройти. Где бы их полк ни располагался: среди тверских озер
или латгальских хуторков, — на любой местности и в любых
боевых порядках он был своим человеком. С полуслова все
понимая, Коля приводил меня и знакомил с кем нужно.
- 279 -
Он и после, когда мы находились уже в Польше, и потом
в Германии, не однажды водил меня на передний край.
Пока, достав из планшетки свой самодельный, весь ис-
писанный вкривь и вкось блокнот, я говорил с пулеметчиком,
расспрашивая его, как проходит ночь на рубеже, в секторе
его обстрела, Николай здесь же, в этой же траншее, успевал
поговорить с членом комсомольского бюро и с необстрелян-
ным парнишкой, бойцом из пополнения. Чаще, собрав вокруг
себя солдат, он сообщал им сводку и другие военные ново-
сти. А в горячие дни, когда готовилось наступление, писал
листовки.
Я сказал уже, что дружил с ним давно, еще с Калинин-
ской области... Коля и сам был калининский. До войны он
жил в поселке Пено, работал в райкоме комсомола, в район-
ной газете — литсотрудником.
Я не сразу узнал об этом: Коля о себе не рассказывал.
Но как-то, возвращаясь по траншее с фланга и подойдя
к блиндажу, я услышал его голос. Подошел, остановился у
двери. Он говорил о калининских партизанах, о Лизе Чай-
киной.
Я стоял, слушал и не ушел, пока он не кончил.
Потом мы вернулись в расположение штаба, в его зем-
лянку. У него не было ни ординарца, ни связного. Зная, что
я останусь ночевать, Николай принялся разжигать печку.
Когда мы легли и укрылись шинелью, я сказал ему, что
я слышал сегодняшнюю его беседу. И тут я узнал, что Чай-
кина Лиза — его землячка...
Коля вспоминал небольшую, чисто убранную комнату.
В ней накрытый красным полотнищем стол секретаря. Лизы.
Лиза была хорошая сельская девушка, работала сначала в от-
деле подписки, в отделении связи. В тридцать девятом ком-
сомольцы района избрали ее своим секретарем.
В райкоме у них всегда людно, ребята — из колхозов и
школ, с лесозавода.
Коля припомнил, как в сосновом лесу на окраине Пено
они устроили парк отдыха...
Коля уезжал в дальние углы района. «Коля, зайди в Гры-
левский совет. К комсомольцам», — говорила Лиза ему. И он
шел.
Только из газет Коля узнал, что Лиза стала партизанкой.
Когда пришли немцы, в деревеньки близ Пено и в поселок
Пено стали наведываться лесные гости. И Лиза, их Лиза,
тоже как по переднему краю — ходила от деревни к деревне.
- 280 -
Заходила в дома, говорила, что Москва жива и избавление
придет...
Обо всем, что случилось с Лизой, он узнал тоже лишь
после...
Как же рад я был, узнав, что Коля меня ищет! Ведь и я
сам пытался установить с ним переписку. И сразу после
войны послал о нем запрос на Пеновский райком комсо-
мола.
Когда я его встретил впервые на фронте, Пено давно
было пройдено, освобождено. Отпросившись из части, Коля
побывал в своем Пено. Но как теперь тут все изменилось!
Даже парк их был вырублен. Он разыскал Марусю, стар-
шую сестру Лизы, работавшую в типографии. Она расска-
зала, какие пытки перенесла Лиза. Как завели ее в сугроб.
И как расстреляли у водокачки.
Я убедил тогда Колю, чтобы он записал свой рассказ.
И когда я снова пришел в полк, Коля вручил мне то, что он
написал. Это были неперебеленные листки, со многими по-
правками и переделками. Видно было, ему очень хотелось
рассказать о том, что он пережил. Он по нескольку раз за-
черкивал каждое слово. Но я знаю, как трудно писать об
этом... Ему еще труднее было. И Колины записи, его тет-
радка — листки о Лизе Чайкиной — все это до сих пор у
меня хранится.
Он побывал тогда у нее на могиле. Лиза была похоро-
нена у себя в поселке, на Лесной улице. На могиле не было
еще памятника. Только холмик и венок из веток молодой
ели...
Далеко уже был фронт от Пено. И Пено, и Великие
Луки, и Новосокольники даже, давно уже были позади.
И почти три года прошло, как покинул Коля райком, из ко-
торого ушел он тогда на фронт. В шинели и вещмешком за
спиной забегал он туда, чтобы попрощаться...
И вот оказалось, что видел ее последний раз.
И не знает Лиза, что Коля, ее товарищ Коля — в рейх-
стаге. И что в Берлине, на рейхстаге, уже подняты стяги
победы и один из этих стягов назван комсомольским...
Когда я встретил Николая, мы чуть не разминулись. Я не
признал его в первую минуту, я долго ходил по какому-то
переходу, а потом не знал, как вернуться назад. Тут я уви-
дел его, он пробирался через засыпанный, загроможденный
свалившимися перекрытиями коридор. Только когда он вы-
шел на свет, я понял, что это он. Был он в своей грубошерст-
- 281
ной рыжеватой гимнастерке и в стоптанных сапогах. А свет-
лые волосы и даже брови так были запылены, что казались
белесыми...
В руках у него и тут была пачка газет. Он пробирался
к бойцам, они располагались в подвалах. В тех подвалах, в
которых еще вчера отсиживались немцы...
Далек был поселок Пено, маленький городок у истоков
Волги. Это в нем, в его снова теперь разрастающемся лесо-
парке, поставлен памятник Лизе. Об этом Коля мне говорил
в тот день, в ту первую мирную ночь, которую мы провели
с ним в рейхстаге.
Я вспомнил вдруг, что на расколотой снарядами колонне,
той, что обращена к площади, видел имя Чайкиной Лизы...
Среди фамилий наших солдат — участников боя... И как же
я не догадался тогда, что сделал это Коля Беляев, что это он
написал на рейхстаге имя своей сверстницы, своего секре-
таря райкома, имя девочки Лизы.
И хотя я не получил от него ответа — мне было радостно
знать, что мы до сих пор вместе.
Что мы ищем друг друга. Что мы друг другу нужны.
О ТАМ - В ДЕРЕВНЕ •
Сначала я хотел побывать у живых, а вышло так, что
лечу к нему, на его родину, к его семье. Тогда, пятнадцать
лет назад, его похоронили в братской могиле в Берлине. Да,
я думал сначала побывать у Кантарии, у Береста. У Булатова.
А лечу я в брянскую деревеньку, к его жене, к его сыну.
Ведь о нем мы вспоминаем чаще, чем о других. Вот и теперь,
когда все собрались в Москве, не было никого, кто бы о нем
не вспомнил. Да и тогда так было. В тех первых статьях и
корреспонденциях, где Кантария еще назван Тантарией, а
Сьянов — Свяновым. И тогда мы писали о нем в нашей ди-
визионке...
Самолет — транспортный, тряский, очень жесткий. Во-
круг меня, на полу, какие-то узлы и ящики.
Я захватил с собой фотографию Пятницкого, получен-
ную только на днях. Мне ее прислали из деревни. Видно, ее
сняли со стены. И, кроме того, я взял еще некоторые письма,
переданные мне в редакции.
- 282 -
На фотографии он действительно такой, как когда-то
говорил о нем Неустроев: «Для женщин некрасивый, а для
войны — картину писать!»
А письма — письма, после того как в «Правде» опублико-
ван был рассказ мой, приходят отовсюду. Их много. Вот это
письмо пришло из Перми. Бывший артиллерист-разведчик
328-го артполка А. Шипиловский пишет: «Мне тоже при-
шлось принять участие в штурме рейхстага, в той самой ди-
визии... Но дело не в этом. Я хочу только сказать о герой-
ском поступке Петра Пятницкого. В тот день я находился в
доме Гиммлера, где в основном находились КП штурмую-
щих подразделений. Когда началась атака, то действительно
впереди бежал солдат с красным полотном. Он добежал по
лестницам до колонн главного входа. Флаг его некоторое
время мелькал на одном месте, и у меня создалось впечатле-
ние, что он его привязывает к колонне. Но потом красный
цвет полотна исчез: шел сильный бой — наблюдение из-за
разрывов затруднялось. Среди солдат шел восторженный раз-
говор о неизвестном солдате, и вот через пятнадцать лет мы
наконец узнаем фамилию этого человека, о котором забыли
в тот знаменательный день победы...»
Шипиловский вел наблюдения с верхнего этажа дома
Гиммлера, разведывал, засекал огневые точки. Его свидетель-
ство поэтому особенно ценно. То, что он видел тогда,—он
видел ближе всех, так как смотрел через стереотрубу...
Я опять рассматриваю фотоснимок. До сих пор ни од-
ного его снимка не было у нас. Уже стали забываться его
черты. Все только помнят, что он был небольшой и скула-
стый. И очень быстрый.
Я смотрю на этот фотоснимок, слабо припоминая сол-
дата, которого я видел только однажды. Это было утром,
после ночного боя. Кажется, Берест, замкомбата, познакомил
меня с ним. Мы сидели в сторонке, на бровке, за размытой
и разбитой обочиной дороги, и я спрашивал, как он действо-
вал прошедшей ночью, как, установив пулемет на перекре-
стке, встретил гитлеровцев, по-видимому вырвавшихся из
окруженного Шнайдемюля. И вероятно — за этот бой и был
он тогда награжден медалью «За отвагу».
Суровое у него лицо. Будто он снят в ту последнюю свою
минуту. Лицо человека времени войны. Мы помним по филь-
му, как Черчилль на аэродроме в Москве, в начале войны,
вглядывался в лица наших солдат... Пятницкий перенес — на
себе испытал — первые, самые тяжелые полтора военных
- 283 -
года. В сорок четвертом году он пришел в нашу, 150-ю. Пуле-
метчиком, первым номером. И как он дрался! И когда война
уже кончалась,—так было надо — он поднялся, встал тогда
под огнем у самой стены рейхстага, у дверей его.
Среди писем, поступивших в ответ на рассказ «Забытый
солдат», есть одно, из Ахтырки. «В напечатанной вами ста-
тье,—пишет бывший сержант Бровко,—упоминаются имя
и фамилия или известного мне бойца, или однофамильца, с
которым я служил... Во время наступления на город Брянск
через реку Десна Пятницкий был ранен в грудь навылет.
Вскорости, то есть на другой день, я тоже был ранен, и мы
с ним увиделись в медсанбате. Пятницкий лежал на высоко
поднятых подушках, вернее, не лежал, а полулежал. Состоя-
ние его было тяжелое. На второй день после ранения меня
перевезли в госпиталь, в тыл. Так я расстался с Пятницким.
Читая рассказ о подвиге Петра Пятницкого, мне почему-то
по штрихам характера Пятницкого кажется, что речь идет о
нашем Пятницком. Похоже, что он: смелый, решительный...
Конечно, если бы вы показали портрет Пятницкого, я навер-
няка узнал бы его».
Что тут можно ответить: когда и сам думаешь, в самом
деле, может, солдат, о котором пишет Николай Бровко, это
наш Пятницкий. Мне уже и самому кажется, что, судя по
описываемым чертам характера, речь идет о нашем Пятниц-
ком.
Однако, вероятнее всего, тот раненный на Десне в
1943 году солдат был однофамильцем Пятницкого. Но автор
письма верно угадывает его характер в бойце, бросившемся
в сорок пятом году со знаменем к рейхстагу.
В Северец приехали неожиданно. Секретарь обкома, че-
ловек отзывчивый, не менее взволнованный всем этим, отдал
мне свой «газик», который будто специально приспособлен
для разъездов по району. Проехали сто километров по очень
трудным дорогам, потом пересекли большое поле, низкорос-
лый кустарник, и вот он — Северец. Одна длинная изогнутая
улица. И так вышло — остановились возле дома, где живет
Евдокия Пятницкая. Только сейчас ее нет, она на работе,
сын — тоже.
Вот она поднимается нам навстречу, в низко повязанном
платке, с подоткнутым подолом, оставив своих телят, пасу-
щихся у реки. Она взволнована, она предчувствует, почему
мы приехали, хотя не знает, кто мы.
- 284 -
Но тут пришел председатель («Кто такие будете?»), стал
проверять документы. Евдокия Аврамовна молчала.
Дом Пятницкого— это изба, в ней три окна, русская
печь. В простенке — когда зашли, это сразу мне бросилось
в глаза — репродукция неизвестной картины. Я подошел и
стал им рассказывать, что это и есть рейхстаг. А они и не
знали! Рейхстаг на ней изображен сбоку, со стороны Шпрее:
танки и пушки придвинуты к почерневшей стене. Где-то в
окне второго этажа пылает пятно флага.
Будто впервые увидели эту картину. Это то самое место!
Вот они, эти колонны, эти широкие плиты, на которые он
упал, сраженный пулей.
Нелегко мне разговориться с Евдокией Аврамовной. Она
очень сдержанна.
— Вот Колю увидите — он на Петра похож. Вылитый
отец! Даже голос такой же...
Петр Николаевич ушел в армию в первый месяц войны.
Сын его Николай родился вскоре. Писем долго не было, его
уже не считали живым. Но как-то зимой на пороге появилась
почтальонка. Петр писал: «Я знаю, что у меня есть сын, толь-
ко не знаю, какой он...»
Когда организовался колхоз, Петр был тогда еще маль-
чишкой, сиротой, он со своими братьями вступил в него од-
ним из первых. Его назначили конюхом. Был он не рослый,
но коренастый, широкий. Звали его «Комок». «Хлопец был
веселый, хороший, — рассказывают о нем. — Коней он очень
любил. Наобгонки, бывало, с ним лучше не связывайся... Ког-
да началась война, он всех нас отвозил на станцию. Всех на-
ших... Одних отвез, приехал за другими. Говорил: «Всех
перевезу, сам поеду последний...»
Я рассказываю собравшимся возле избы на бревнах зем-
лякам Петра о другом. Рассказываю снова про то, как стлал-
ся дым за Шпрее. Про то, как из окон дома Гиммлера вы-
прыгнул солдат, чтоб поднять людей. Они залегли на пло-
щади, за каналом. Укрылись в воронках, в канаве, возле
трансформаторной будки.
И то, что рассказывал Неустроев. Как нашли кусок крас-
ной материи и он передал это полотнище Петру. Как Неуст-
роев сказал: «Все лежат на площади. Рейхстаг близко. Все
залегли — мои и Давыдовские... Дойдешь — отдай мой при-
каз в атаку. Подними людей!..»
Он выпрыгнул из окна в воронку. И от воронки к во-
ронке пополз в цепь. Поднялся и выхватил полотнище. Сам
- 285 -
Петр невысокий, а полотнище длинное, стелется... И вот во-
круг него уже десять, пятнадцать, двадцать человек. Он все
оборачивался и все взмахивал своим флагом, кружил^ Так со
знаменем и побежал к рейхстагук
Остальное — известно.
В местной школе, в Клетне, устроен «уголок Пятницко-
го». Здесь уже висит его портрет.
Но раньше чем ехать в школу, я заехал в отряд к тракто-
ристам... Опять лесок, и опять новая деревня. Под навесом
сидят несколько человек.
— Ребята, среди вас Пятницкого Николая нет?
Я выскочил из машины и увидел уже подошедшего пар-
нишку, светловолосого, молоденького. Вид у него был крайне
растерянный. Я сказал ему о себе. Он обрадовался и запла-
кал. Спросил, были ли мы в деревне и почему так скоро
уехали. Подошел бригадир, который, как оказалось, был то-
варищем отца, и сказал, что ради такого дела он отпустит
Николая с нами и на день и на два.
В школе, куда мы приехали, показывают папку: «Мате-
риалы о жизни и героическом подвиге П. Н. Пятницкого».
Его биографию, справки, вырезки из газеты. Ребята начали
это собирать сразу, как узнали, что в военкомат пришло
письмо.
Это вот ребята какие. Обнаружили они на окраине по-
селка заросший травой бугорок и решили, что тут непремен-
но кто-то похоронен... Ведь это Брянский лес! Партизанские
места. И хотя никакого, самого простого столбика не было,
и впрямь оказалась могила. Ребята установили чья.
Они считают, что не должно быть неизвестных могил.
С какой горечью они говорят, что о Пятницком так долго не
знали, что даже и он считался пропавшим без вести. Вот Они
какие, эти ребята из клетнянской школы и учитель их, Ми-
хаил Коробцов — фронтовик, их учитель истории.
Ничто никогда не забывает родина. Все помнит!
Уже стемнело. Проселочная дорога ведет через лес^ Мы
опять в пути.
Начались болота, дорога стала хуже. Я еду и думаю об
одном, что ничто не уходит без следа, ничто не забывается.
Все помнит родина. Вспомнили мы и о Пятницком...
Спасибо вам, ребята, за все. За все, что вы делаете!
Если бы каждый рассказывал о своих товарищах, не было
бы без вести пропавших.
- 286 -
РУССКИЙ ДОБЛЕСТНЫЙ БОГАТЫРЬ
О
Я не говорил, что мне довелось съездить на Кубань, к
тем местам, где жил до войны и где у меня похоронена мать,
и проездом быть в Ростове-на-Дону. Я мог пробыть в Ростове
не дольше дня — надеялся найти в нем одного человека. Глав-
ное же, давно хотелось поглядеть сам город.
Но так случилось, что, прожив здесь много больше, не
видел я ни города, ни тихого Дона. Даже на берег Дона не
вышел. Хотя я знал, что он рядом, что — настоящий Дон от
меня не более как в двух шагах.
Едва я после многих препирательств получил номер в
гостинице — небольшую и уже сильно запущенную комна-
ту,— едва я в нее вошел и поставил к стенке чемодан и мой
большой, переполненный недописанными рукописями порт-
фель, как я тут же, даже не скинув плаща, подсел к столу и
взялся за телефон.
Я знал только лишь, что мне нужен Сельмаш. Этот Сель-
маш случайно застрял у меня в голове после одного давне-
го — не помню с кем — разговора.
...«Звоните в литейный», — сказали мне. Я позвонил еще
раз. И услышал ответ — опоздал. Смена уже закончилась. Но,
почувствовав неуверенность в тоне, каким говорила со мной
девушка, я сказал ей, что приехал из Москвы и всего на один
день. Видимо, это было убедительно. Трубка замолкла. Я до-
гадывался уже, что это не близко, что участливой моей де-
вушке пришлось идти... Но вот наконец я услыхал густой
бас: «Слушаю».
Через час-полтора он вошел в мой узенький, прогретый
и пропыленный номерок. На нем была трикотажная рубашка
с раскрытым воротом и парусиновые ботинки. Когда я ему
позвонил, он только что закончил смену.
Это был Берест — комиссар неустроевского батальона.
Тот, что, переодетый полковником, первый ходил как парла-
ментер к немцам, в их подвалы под рейхстагом.
Я об этом уже рассказывал.
Когда представительный Берест ходил в подвалы, чтобы
принудить немцев к капитуляции, при нем был его комбат —
Неустроев. Они стояли рядом — Неустроев, отправившийся
в качестве адъютанта, и высокий Берест в своей щегольской
кожаной куртке... Стоя рядом, комбат прищелкивал каблу-
ками, как и положено адъютанту.
- 287 -
...Так вот он какой, этот Берест! Я уж совсем забыл его
лицо. Да и он трудно меня узнавал... Что говорить, много
прошло времени.
Ведь это он, Берест, как зам по политчасти, «обеспечи-
вал» водружение флага над куполом. Он был там — в рейх-
стаге — в самые первые минуты боя.
Мы сидели и разговаривали, опять уточняли и спорили...
Он многое вспоминал, многому удивлялся. И больше всего —
тому, как много о тех днях оказалось написано... Сколько
успели написать и такого, чего и не было.
В первую минуту, когда высокий ростом, пополневший
Берест вошел ко мне, он не показался мне уж очень большим,
но я подумал, что не узнал бы его, если бы встретил на улице.
Я провел в Ростове не один день, как я намеревался, а це-
лых два и уехал только на третий.
Мы проговорили с ним весь первый день, но дня нам не
хватило, и мы проговорили и вечер. Но и вечера нам не хва-
тило. Назавтра, после работы, Берест приехал за мной, и мы
отправились к нему, за город, — в небольшой, весь изрытый,
перекопанный водопроводчиками поселок... Он $оже живет
в маленькой скромной квартирке, в одной комнате. Рядом с
ним другая семья — демобилизовавшегося солдата, которую
Берест пустил, уплотнившись сам.
На стене висели фотографии: его отец, такой же бога-
тырь. Снятый еще в ту — первую мировую войну. В солдат-
ской форме: в фуражке с кокардой... И сестра. Похожая ли-
цом на брата. Родственники. Все они крепкие, одной породы.
После войны уже, когда в Германии была расформиро-
вана наша часть, Берест служил в морском флоте. Мы, оказы-
вается, с ним в одно и то же время жили в Крыму. Он жил в
Севастополе. А я и не знал об этом, хотя часто бывал там.
Он жил тогда в пещерных землянках на Северной стороне,—
как и все в этом городе до того, как город был отстроен.
И теперь они с женой — госпитальной медицинской сест-
рой — с некоторой, очень мне понятной, гордостью говорят
об этом.
Немцы смотрели на него тогда снизу вверх. И хотя ви-
дели его молодость, с недоумением оглядывали его плечи-
стую широкую фигуру и разговаривали очень почтительно...
Но тогда он был еще совсем юношей. Сейчас он стал шире.
Почему-то я вспомнил заметку в нашей дивизионке.
В тот день, когда уже все закончилось наконец и я при-
шел из рейхстага в редакцию, от которой тоже осталось не-
- 288 -
много — за день до этого у нас был убит редактор, — я в вы-
ходящий уже номер написал только одно короткое это сооб-
щение — у меня и сейчас сохранилась газета, в которой тогда,
на следующий день после боев за рейхстаг, под заголовком
«Знамя победы водружено» напечатана моя корреспон-
денция:
«Наши подразделения штурмом овладели рейхстагом...
В этой исторической битве неувядаемой славой покрыли
свои имена Петр Щербина, Николай Бык, Иван Прыгунов,
Василий Руднев, Кузьма Гусев, Исаак Матвеев, Сьянов, Яру-
нов, Берест, Кантария, Егоров.
Руководил этой блестящей операцией доблестный рус-
ский богатырь капитан Степан Неустроев.
Слава героям, штурмовавшим рейхстаг!»
Наверно, в батальоне в этот день много смеялись над
этой заметкой... Капитан, как я уже говорил, был небольшой,
он был маленький и худенький. (Только в бою да на перед-
нем крае не бросался в глаза его малый рост.)
А доблестного русского богатыря — как и блестящую
операцию — вписал один усердный человек, секретарь редак-
ции. «Капитана» ему показалось мало, и он, никогда не видев
Неустроева, — но ради столь торжественного случая — впи-
сал мне по-дружески этого богатыря. Во-первых, такой храб-
рый и уже прославившийся в дивизии комбат, как Неустроев,
наверняка представлялся ему богатырем, во-вторых, он — та-
кова уже школа дивизионной газеты — привык меня править,
по-своему украшая мои неумелые корреспонденции.
Я знаю, что в душе Неустроев гордится этой моей замет-
кой — более даже, чем другими статьями и книгами о нем, и
с удовольствием ее при случае показывает.
А в батальоне небось подшучивали над моим «доблест-
ным богатырем»...
Мы с Берестом снова в этот вечер засиделись допоздна.
Я уезжал назавтра, и Алексей ко мне зашел попрощаться. Мы
еще стояли долго на улице, и, когда пришли на остановку,
трамвай уже не шел. Тогда, обогнув дом, мы разыскали сто-
янку такси. Но и тут была очередь. Пришлось нам тоже
встать в хвост и поджидать машину. Тут-то я вспомнил, что
мне так и не удалось добраться до Дона. Но и Берест и его
жена Люся стали меня убеждать, чтобы я не искал сейчас
Дон. В темноте к берегу все равно трудно будет подойти.
Мы спешили сказать в оставшиеся минуты то, что еще
не было сказано.
10 В. Субботин
- 289 -
Стоящие впереди нас пьяные парни — их было человек
пять или шесть — заспорили. Назревал скандал.
— А ну-ка, вы, тише,— сказал Берест.
И хотя он сказал это негромко и очень спокойно, никто
ему не возразил. Стало тихо. Только двое, те, что стояли к
нам спинами, искоса и как-то осторожно оглянулись.
Подошла машина. Мы стали прощаться... Моя рука опять
потонула в его большой руке.
Берест тоже торопился в свой поселок. Ему надо было
рано с утра заступать в смену.
ДОКУМЕНТ •
Разбираясь на днях в моем разросшемся домашнем «хо-
зяйстве», наткнулся я на пожелтевшую от времени странич-
ку бумаги.
Раньше у меня листка этого не было. Я даже ничего не
знал о нем, пока не побывал в Эстонии, в Таллине, с брига-
дой Союза писателей. Мы завернули сюда, в Таллин, после
того, как объездили Прибалтику. Для того только, чтобы по-
смотреть,— в основном наша задача уже была выполнена.
Здесь, как я это знал и раньше, жил Артюхов наш, на-
чальник политотдела. И я теперь мог легко повстречать его.
Не знаю, каким ветром его занесло сюда! Кажется, пре-
жде он здесь работал начальником Дома офицеров. Сам же
он — кубанец, казак. По-видимому, Артюхов давно уже при-
вык к этому краю. Да и город хороший...
Мы встретились возле гостиницы. Он был одет в граж-
данский — в серый костюм. Петля на его пиджаке крепко
сходилась с пуговицей... Он был уже в отставке.
Бывший наш начальник политотдела оказался страстным
любителем рыбной ловли и был способен говорить об этом
занятии часами. Так что даже, слушая рассказы его о рыбной
ловле, один из членов нашей группы, поэт Яков Шведов,—
автор песни об Орленке и сам страстный рыболов — не удер-
жался и передал ему известную, дорогую для себя книгу —
другого рыболова — Сабанеева.
- 290 -
Артюхов собирался свозить нас на озеро Юле-Мисте, на
ночную рыбалку... О войне мы старались с ним как бы даже
и не вспоминать, а о рейхстаге — и вообще ни слова... Не хо-
телось все это ворошить.
Артюхов напомнил мне только, что я писал тогда не
одни заметки и корреспонденции, но еще и стихи. Он это
мне ставил как бы в упрек, в укор, что ли. Ему и теперь ка-
залось странным, что на войне можно заниматься такой
ерундой, стихами. Да еще и лирическими... Он искренне это-
го не понимал!
Перед отъездом нашим мой бывший начполитотдела за-
шел ко мне в гостиницу, и мы не удержались и опять загово-
рили о всех тех днях и делах. И каждый рассказал другому
что-нибудь свое.
Я оделся, и мы вышли, ушли к нему домой. Он жил ря-
дом, на улице Вене.
Сидя за столом, мы разглядывали фотографии. Все зна-
комые, много раз виденные лица, только вот фамилии иной
раз странно ускользали из памяти... Я несколько снимков
взял себе. Артюхов, надо отдать ему справедливость, человек
не жадный.
Я у него взял три снимка. На одном — баррикада, пере-
гораживающая улицу, ту, по которой наступали; вдали за
нею, за баррикадой, виден купол здания. На другом сним-
ке — наглухо заложенное окно все того же рейхстага, остав-
лена лишь небольшая, в кирпич величиной, бойница. Вверху,
над окном,—лепнина: побитое, ухмыляющееся лицо. И, на-
конец, я взял еще один снимок,—на нем снята часть зала,
того, где шел бой... На переднем плане горой навалены дос-
ки вместе с обрушившимися вниз, перебитыми и искорежен-
ными ребрами купола.
Среди этой груды снимков, которые мы просматривали,
был листок. Артюхов, разворачивая его, сказал: «Это мы пи-
сали, когда на парад знамя посылали...» Я тоже мельком
взглянул на эту носящую столь необычное название бумагу,
читать которую я не стал. Я видел, что в ней для меня нет
ничего нового.
Но все-таки я этот листок взял, как того хотел хозяин*
Может быть, он считал, что он у меня лучше сохранится.
Теперь, обнаружив у себя в бумагах полу истертую стра-
ничку, я подумал, что она, без сомнения, заслуживает опуб-
ликования.
10*
- 291 -
Вот этот документ:
«БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
знамени Военного совета армии (№ 5),
водруженного над рейхстагом.
Решением Военного совета 3 Ударной армии дивизиям,
принимавшим участие в боях за Берлин, были вручены крас-
ные знамена для водружения над рейхстагом. В ночь на
22 апреля в пригороде Берлина — Карове знамя № 5 было
вручено 150 стрелковой Идрицкой ордена Кутузова дивизии
генерал-майора Шатилова.
Знамя представляет собой — красное полотнище разме-
ром 188X92 см., прикрепленное к древку. На левой стороне
его сверху изображены пятиконечная звезда и серп и молот,
в нижнем углу у древка — «№ 5».
Знамя было передано 756 стрелковому полку, который
наступал на рейхстаг во главе дивизии, а в полку — роте стар-
шего сержанта Сьянова из батальона капитана Неустроева.
О нем знал каждый боец, сержант и офицер...
30 апреля разгорелось решающее сражение за рейхстаг.
Ломая сопротивление врага, 756 с. п. полковника Зинченко
и 674 с. п. подполковника Плеходанова и особенно батальо-
ны офицеров Неустроева, Давыдова и Логвиненко отбивали
одну позицию за другой, шаг за шагом приближаясь к рейх-
стагу.
После ожесточенного боя батальоны Неустроева, Давы-
дова и Логвиненко ворвались в рейхстаг, а рота Сьянова
вскоре водрузила над ним красный стяг победы. Одновре-
менно на рейхстаг наступали подразделения 171 с. д. полков-
ника Негоды. Батальон капитана Самсонова ворвался в рейх-
стаг с севера...
Бойцы, сержанты и офицеры стойко держали отвоеван-
ное. Водруженное ими знамя, пробитое пулями и опаленное
огнем, реяло над повергнутым Берлином, торжествуя полный
разгром врага и немеркнущую славу советского оружия.
После боя командование дивизии на знамя нанесло
надпись: — «150 стрелковая ордена Кутузова 2 степени Ид-
рицк. див. 79 ск».
Командир 150 стрелковой Идрицкой ордена
Кутузова дивизии — генерал-майор Шатилов
Начальник политотдела 150 с. д.— подпол-
ковник А р т ю х о в».
- 292 -
На экземпляре, что у меня хранится, — подпись Артю-
хова.
Здесь — все как в оригинале. Кроме разве двух-трех ри-
торических мест-фраз, сокращенных мною, да того, что в
оригинале один абзац отбит от другого, а все фамилии напе-
чатаны прописными... Как всю жизнь это делали машини-
стки, привыкшие печатать приказы.
ЗА ПОЛНОЧЬ
Всегда это так, когда приезжают друзья или знакомые.
Мы не спим до утра. И когда выселенная на кухню жена моя,
вдруг среди ночи просыпаясь, к нам заглядывает, она сна-
чала хмуро, а потом улыбаясь говорит, что нас надо разве-
сти, иначе мы не уснем. Но «разводить» нас, к счастью,
некуда — комната одна. Мы смеемся над этим обстоятельст-
вом, обещаем тотчас прекратить всякие разговоры и спать.
Она уходит, и все начинается сначала... Мы опять не
спим, мы говорим, а иногда и кричим и перебиваем друг
друга. И разговор у нас все о том же — о далеко-далеких тех
двух весенних днях, которые не одним нам не дают покоя...
«Почему, дорогой Гюи, вы пишете все о том же да о том
же?» — спрашивала у Мопассана одна русская помещица, его
ревностная почитательница и поклонница. Да... Вот так вот
и мы — все о том же.
В этот раз у меня один мой друг по дивизии, по Бер-
лину, и это у нас одна из таких бессонных ночей. Москва
давно уже притушила свои огни. И гул движения на улицах
тоже давно смолк. Мы лежали друг против друга — каждый
у своей стены.
Я рассказывал ему, как над головою Гитлера — я об этом
где-то читал, — когда в бункере под имперской канцелярией
кончал он самоубийством, раздалась музыка. Это его секре-
тарши и адъютанты взялись танцевать танго. Португальские
и испанские газеты, вышедшие на другой день даже с черной
рамкой, сообщили, что Гитлер пал в бою, в Берлине... Обсуж-
дали и старый, давно интересовавший нас вопрос о том,
соединены ли подземелья рейхстага с имперской канцеля-
- 293 -
рией и с теми кварталами, где еще немцы держались в ту
ночь.
Я высказал еще такую давнюю свою мысль: в Берлине
у нас не было, по-моему, ощущения, что война кончается —
идут последние ее часы. Это чувство испытывали лишь нем-
цы, загнанные в подвалы, под рейхстаг. Ночь на второе была
для них действительно последней ночью...
Мой друг приехал ко мне днем. Не помню, по какому
поводу он приезжал в этот раз; кажется, поступать на курсы
«Выстрел». Мы «завелись» сразу, как он приехал: затеяли
выяснять одно, другое — лезли и в дивизионку, и в книжки,
где говорится о тех днях и событиях. И в споре с авторами
этих книг искали доказательства в своих бумагах.
Я развязал папку, чтоб найти какую-то заметку, и на-
ткнулся сразу на снимки — недавние, с месяц назад мне пере-
данные. Их для меня сделал мой товарищ, побывавший летом
в Германии, крымский поэт Анатолий Милявский...
Когда он прислал мне эти снимки — я один из них долго
и внимательно разглядывал, не понимая, что это за снимок
и почему бы Толя прислал мне его. Бранденбургские ворота,
хотя они и были в лесах, я узнал сразу. Но другой снимок я
долго и тщетно вертел в руках. Я хотел уже отложить его,
но что-то меня остановило. И только в другой уже раз до
меня дошло вдруг, что на снимке этом — рейхстаг... Вроде
и на самом деле с какими-то кустами возле стены. Не под-
солнухи, но все-таки — чахлая, какая-то случайная зелень.
И вот тут, теперь лишь, показывая снимки, я увидел на-
конец то, на что я раньше не обратил внимания, и, увидев
это, я понял, почему вначале я не узнал рейхстага.
Дав ему снимок, я сказал, что, если он присмотрится, он
кое-что обнаружит интересное.
Он держал снимок в руке и, не будучи в состоянии дога-
даться, чего я от него добиваюсь, пытался тихонько вернуть
мне его назад.
— А ты все-таки посмотри, — говорил я, опять подсовы-
вая ему карточку.
Он поглядел.
— Мы тогда не интересовались...—сказал он.—Я плохо
рейхстаг помню, забыл, какой он...
Пришлось выводить его из затруднения. Снова показав
на фотографию, я спросил:
Где купол?
- 294 -
Купола — того, на котором Егоров и Кантария ставили
Знамя,— не было. Просто невысокое, приземистое здание.
Без купола... Видно, его, этот купол, давно уже спилили или
разобрали. А мы и не знали об этом. А теперь даже, разгля-
дывая фотоснимки, на которых рейхстаг был без огромного
своего купола, не сразу заметили это...
Зачем же они его спилили? Может, для того, чтобы не
оставалось никаких напоминаний — никакой памяти о том,
как в майское одно утро вспыхнул на нем наш красный флаг...
Рейхстаг давно уже в другой зоне, и близко подойти к
нему нельзя... Милявский рассказывал, что даже снять рейхс-
таг он мог только издали. От Бранденбургских ворот.
Да — купола не было... Это даже и не сразу укладыва-
лось в голове... Мы мало еще задумываемся над тем, что про-
изошло после войны и после победы — за эти полтора де-
сятка лет... Да и не просто понять и примириться — со всем,
что происходит.
Мы лежали теперь друг напротив друга — нас разделял
с ним только метр темноты, — и, вороша историю, вспоминая
и восстанавливая события и пытаясь в них разобраться, мы
не спали. Было уже далеко за полночь. Вдруг мой товарищ
как-то странно замолчал, потом — совсем другим голосом —
спросил меня:
— А где оружие?
Я не понимал, о чем он говорит. И сам переход, а вер-
нее — полнейшее отсутствие его, слова, не связанные никак
с тем, о чем мы говорили, — все это меня удивило и смутило...
«То купол, то оружие»,—думал я.
— Какое оружие? — спросил я его с чужой какой-то, во-
все мне не свойственной интонацией.
— Ну как же! — Я даже вижу, как он хлопнул себя по
лбу.— Куда же оно делось?
Я сам помню облицованные кафелем обширные подвалы,
рейхстага, где отсиживались немцы и откуда они вышли, ког-
да они капитулировали, и куда мне пришлось на другой день
самому спускаться.
— Ничего не оказалось, ни одного пистолета,— слышу
я... Он, как бы размышляя про себя, говорит:—А оружия с
ними было много. Мы знали об этом. Они, когда выходили,
оставляли, внизу бросали все...
Я не знал, что ответить... Загадка какая-то. Поразитель-
но, что все это тогда не приходило в голову..я
Через минуту я говорю ему:
295
— Они с ним и сейчас там, за Эльбой, маршируют...
Он не отвечает. Только долго тлеет огонек его папи-
роски.
Вот какие открытия можно делать, лежа в темноте, в три
часа ночи.
о ВОСКРЕШЕНИЕ •
Когда-то, в самом начале, когда характер этой книги для
меня еще не определился, я думал, что я напишу нечто вроде
серии коротких эпизодов или отдельных отрывков из фрон-
товых моих записей: о каждом факте и о каждом эпизоде по
одной-две строки. Я хотел этот перечень различных фактов
и сведений дать под названием «Немногим известно...». Для
этого надо было только полистать мои записные книжки и
дивизионную газету. Я так и сделал.
Получилась целая хроника. Я увидел, что такая сжатая
форма позволяет сказать о многом... Ну, например, о том, что
в боях за рейхстаг участвовали отец и сын — Ковтун Лука
Иванович и Ковтун Николай из села Рыбки, Сумской обла-
сти. А в одном и том же минометном расчете служили два
брата — Евлампий Шпук и Николай Шпук из деревни Иль-
инка, Омской области...
Наконец — что когда наши бойцы рвались в рейхстаг,—
Гитлер еще живой сидел рядом, в бункере имперской канце-
лярии, и тогда же — 30 апреля покончил с собой.
Эта моя хроника была, как я сказал, сделана давно.
Однако, по мере того как я писал свои берлинские рассказы,
эта хроника сама собой исчерпывалась. Но эти заметки были
мне дороги, и для газеты «Правда» в годовщину войны я дал
именно их.
Среди других там была и трехстрочная заметка о Петре
Данилове.
«Немногие знают,—я писал,—что в боях за Берлин
дрался комсомолец Данилов.
С выходом роты на улицу, ведущую к рейхстагу, он на
углу дома поставил красный флаг. Петр Данилов погиб смер-
тью храбрых».
- 296 -
Прошел месяц, другой, и я отправился в давно за-
думанную поездку. Я поехал на Кубань, через Ростов. Оста-
навливался в Краснодаре, ездил в станицу, был в колхозе,
в горячие дни уборки. Потом я снова вернулся в Краснодар.
Сразу по возвращении из гостиницы я позвонил до-
мой.
— Петр Данилов жив! Твой Данилов оказался жив! —•
Вот первое, что я услышал, сняв телефонную трубку.
— Из ТАССа спрашивают, знал ли ты Данилова лично.
Он живет сейчас в Свердловской области. У них есть сообще-
ние от корреспондента... Все подробности письмом...
Я успел сказать, что это удивительно! Но что ведь я не
из головы это выдумал, если он попал ко мне в хронику.
Странно. Возможно, я выписал это из дивизионной газеты.
Мы и в газете писали, помнится, что Данилов погиб...
— Я ничего не знаю,—сказала мне жена,но он —
живой!..
Я вышел из кабины в вестибюль, где сидели командиро-
вочные и туристы, дожидающиеся мест.
Я что-то явно напутал, хотя и не понимал, как это слу-
чилось. В первый раз я оказывался в таком положении («Да-
нилов жив? Вот чудо!» — думал я), однако, наряду с радостью,
я, признаюсь, испытывал чувство смущения.
Но в следующие дни я стал думать, как это могло слу-
читься: как же я ошибся? Видимо, я листал дивизионку, воз-
можно, что Данилов упоминался в корреспонденции, напи-
санной кем-то другим... Ведь большинство заметок в газете
были безымянны — не подписаны или подписаны фамилией
бойца того отделения или взвода, о делах которого рас-
сказывается. Вечно все перепутают! Знаю же, что полагаться
можно только на себя. Так, наверно, и получилось... Ни-
когда нельзя полагаться в таких случаях. Так и жди, что
что-нибудь напутают! Пишешь о человеке, что он погиб, а он
жив.
Потом, через несколько дней, пришло письмо от жены.
Она писала:
«Взволнованные ребята прибежали к нему с газетой.
— Дядя Петя, тут о вас пишут, что вы погибли...
Данилов был в это время во дворе, возле избы...»
Через неделю-две, попав уже в Минводы — такая была
поездка,—я рассказал об этом случае своему товарищу по
комнате. Это был старый человек, бывший инженер. Он до-
- 297 -
вольно глух был ко всему, что касалось войны. Тема эта была
для него далекая. Он готовился выйти на пенсию, уехать
куда-то под Куйбышев, завести огород. Научиться фотогра-
фировать. Приработок будет на старости.
Но поговорить по душам было не с кем, я поговорил с
ним. Он слушал меня в пол-уха и неохотно, не очень, видимо,
понимая, почему по этому поводу нужно разговаривать ему
со мной, мне с ним. Потом сказал:
— Я что-то слышал об этом. Должно быть, по радио.
Когда, говорите, это было? Тогда я об этом читал... — И ска-
зал, что он об этом читал в «Ставропольской правде».
— Давно?
— Да нет, недавно!
Я попросил найти, оказать мне любезность, если ему не
трудно.
Он пошел со мной в библиотеку, что была тут же, рядом
с нами, через стенку. Попросили у девочки подшивку. Он
долго листал подшивку. «Вот», — сказал он мне. На четвер-
той полосе была напечатана небольшая заметка. Она назы-
валась «Герой рейхстага жив».
Приводилась моя фраза о Данилове и далее говорилось:
«Прочитав в «Правде» эти строки, жители уральского
таежного села Быньги, близ города Невьянска, подумали:
«Уж не о нашем ли это Петре Степановиче речь?»
И вот газета в руках у Петра Степановича Данилова.
Коренастый и немного медлительный человек, лет сорока с
небольшим, с сильно загорелым и обветренным лицом, вни-
мательно вчитывается в строки корреспонденции...
- -Да, это обо мне,— не сразу проговорил Данилов и
стал рассказывать подробности боя за рейхстаг: — Уже не-
сколько дней с тяжелыми боями наша рота метр за метром
пробивалась по подвалам разрушенных домов к рейхстагу.
Когда мы наконец вышли на улицу, откуда открывался рейх-
стаг, первым вперед с флагом бросился наш лейтенант Фа-
ленков. Но его тут же убило. Я подхватил флаг и побежал
с товарищами вперед — к соседнему дому... Очнулся не ско-
ро, в госпитале.
Врачи спасли жизнь солдата, но вернулся он в родные
края инвалидом. После тяжелой контузии Петр плохо видел
и поэтому не мог работать по своей профессии — электри-
ком. До войны он страстно увлекался охотой, знал хорошо
тайгу, повадки зверей и птиц. И поэтому Петр решил стать
профессиональным охотником.
298 -
Но для охотника главное — зрение, отговаривали его то-
варищи.
— Что ж, буду охотиться бескровно, без ружья — кап-
канами... петлями...
И он добился своего».
Под заметкой было написано: «Свердловск». И
подпись — В. Еременко, корр. ТАСС.
Вскоре я получил из дому конверт — в нем была целая
пачка писем. Данилов 14. 14. из города Черкассы просил меня
сообщить ему о Данилове Петре. «Наш погибший сын был
Петр Илларионович Данилов. Нам, родителям, хотелось бы
знать подробности. Нам было бы легче переносить эту тяже-
лую для нас утрату...»
Было еще несколько подобных писем. Знакомая история!
Так же было и в прошлые разы. Достаточно только упомя-
нуть фамилию, как приходят такие письма.
Еще одно через некоторое время переслали письмо, по-
лученное дома. Это было небольшое письмо с грифом «Став-
ропольской правды». Письмо это было подписано литератур-
ным сотрудником Л. Гавриш. Он писал:
«Ваши заметки из записной книжки, опубликованные
в «Правде», нашли живой отклик у ставропольцев. Среди них
немало участников штурма рейхстага. А помощник кочегара
завода «Красный металлист» Иван Савельевич Грищенко,
оказывается, помнит вас и теперь ставшего известным всей
стране Петра Данилова.
Иван Савельевич рассказывает, что он вместе с двумя
другими воинами выносил Данилова из огня. В вашей запис-
ной книжке, по-видимому, сохранилось и это имя...»
Далее сообщался адрес И. С. Грищенко, живущего сей-
час в селе Михайловском.
Я ответил коротенькой открыткой.
На следующий день, между двумя встречами, меня по-
звали к телефону. Звонили из газеты, из Ставрополя.
Литсотрудник Л. Гавриш оказалась — Лидией Ивановной
Гавриш.
Я сказал ей — ну что я ей скажу! — то, что у меня ничего
нет больше, что я написал только то, что было у нас в диви-
зионной газете, и что я ошибся — сказал, что свидетельства
Грищенко очень интересны. Как и всякого, служившего в той
же дивизии. По правде говоря, я не помню Грищенко, но это
ничего не значит, людей было много.
- 299 -
Лидия Ивановна мне сказала, что Грищенко якобы меня
помнит, что я приходил тогда к ним в полк и записывал.
— Что он помнит?
— Вы были с каким-то другим человеком, с комсоргом
каким-то. Он говорит, что вы высокий...
Я спросил, в каком звании, по его словам, я был.
— Вы были старшим лейтенантом...
Она просила меня, когда я приеду домой, посмотреть в
записных моих книжках какие-либо подробности. Я обещал
это сделать, но сказал, что не думаю, чтобы что-нибудь мне
удалось найти интересное. Самое интересное уже случи-
лось — человек остался жив. Живой, здоровый. Ну хотя не
совсем здоровый...
Я уже заканчивал свое пребывание здесь, в этих местах.
У меня был свободный вечер, и я, вспомнив свой разговор со
Ставрополем, решил посмотреть на всякий случай, нет ли
этого Грищенко в моих записях...
Записные книжки тех дней, две одинаковые книжки в
красном ледеринчике — были у меня с собой. Я их всегда
вожу с собой. Записи в них сделаны частью простым, частью
химическим карандашом. Это те книжки, в которые я запи-
сывал во время берлинских боев свои беседы с солдатами и
офицерами. Все записи еще хорошо сохранились. Я думаю
даже, что надо перепечатать их на машинке, и давно соби-
раюсь это сделать. Это целая летопись...
Я листал страницу за страницей, меня интересовали
единственно лишь фамилии. Так я перелистал одну запис-
ную книжку, поражаясь тому, сколько боевых дел и подви-
гов засвидетельствовано в такой маленькой книжечке на каж-
дой страничке. Все это надо было бы сделать достоянием жи-
вущих. Все это — судьбы. Живые судьбы.
Я взялся за другую.
И вдруг — так вот от кого я узнал о Данилове! Тут все
сказано... Я натолкнулся на фамилию Данилова. Прочитав то,
что было записано, я вернулся к началу. Это была запись
беседы с командиром роты, старшим лейтенантом — гвардии
старшим лейтенантом Печерских, Николаем Петровичем.
В моей записной книжке все записи сделаны сокращенно...
Печерских с Урала — из Сарапула. На груди у него были три
медали «За отвагу». Орден Красного Знамени. Далее упоми-
нались названные Печерских, с. его слов записанные мной
фамилии его воинов, отличившихся в этих последних боях:
парторг Кускенов, комсорг Колымбет, комсомолец Кайдаш,
- 300 -
ефрейтор Чистяков, коммунист Кемпреков, сержант Глуш-
ков и другие.
И вот оно где, вот, дальше, с новой странички:
«Комсомолец младший сержант Данилов Петр с группой
бойцов захватил несколько орудий. Истребили только в Бер-
лине в уличных боях много гитлеровцев, 60 взяли в плен...
С выходом на улицу, ведущую к рейхстагу, поставил флаг.
Погиб смертью храбрых».
Я помню, когда и как я записал об этом. Возле моста,
у Шпрее. Помню и Печерских, черноволосого, большеглазо-
го, интеллигентного человека. Далее опять назывался Чистя-
ков, санитар, оказывавший помощь раненым, Кемпреков —
командир взвода, младший лейтенант, захвативший с людьми
взвода несколько полевых орудий и зениток в Берлине. Глуш-
ков, младший сержант, комсомолец, отличившийся в ночном
бою в рейхстаге, когда немцы-фаустники вели огонь
сверху. Сержант Глушков, который, когда вламывались в
дверь рейхстага, кричал: «По одному, не толпиться!..» Даль-
ше шли другие записи, другие судьбы, люди. В частности,
было сказано, что бойцы из роты этой на двух домах также
установили, еще на окраинах Берлина, красные флаги.
На больших домах.
Вот же она, оказывается, эта запись, эта беседа с коман-
диром роты. Можете понять мое состояние. Значит, я ни у
кого не взял, ничего не напутал. 14 ничуть я не ошибся!
Я готов так ошибаться хоть каждый день, только чтоб они
живые были!
Если бы я только мог таким путем воскресить их всех.
Чтобы побольше воскресло таких солдат, как этот Данилов,
которого даже командир роты считал погибшим. Подобран-
ный санитарами и выживший.
Только чтоб воскресли те, другие, которые действитель-
но погибли.
Тогда бы и к Данилову, Иллариону Ивановичу из Чер-
касс, вернулся его сын, к Люде Суменковой — ее отец, ком-
бат из нашей дивизии, погибший еще в Калининской обла-
сти. И тот же Фаленков...
Дома, в Москве, меня ждало еще одно письмо, переслан-
ное мне из «Правды». Его написал пенсионер В. Рыбин из
Невьянска. В письме рассказывалось то, что уже было в
ТАССовской заметке, но было кое-что и новое для меня.
Сначала говорится, как Данилов проводил беседу с уче-
никами Быньговской школы — все в ту же двадцатую годов-
- 301
щину начала войны,—делился с детьми своими воспомина-
ниями, и один из малышей сказал, что ведь он погиб.
— Нет,— им ответил Петр Степанович, — врачи меня вы-
ходили.
Он рассказал ребятам:
«Наша артиллерийская часть была выделена в группу за-
хвата рейхстага. Рядом со мной дрался земляк-невьянец Иван
Белоусов. К рейхстагу мы пробирались метро. А потом, когда
немцы затопили его, подвалами домов... Когда я подхватил
флаг и водрузил его у стены, на поле боя я был контужен,
и меня подобрали санитары. Месяц я был слепой и не мог
говорить, но благодаря хорошему лечению и уходу остался
жив. Правда, один глаз совершенно не видит, второй плохо
.видит, часто у меня бывают сильные головные боли, доводя-
щие до бессознания».
К письму приложен снимок человека лет сорока,
с чертами воина, с худым решительным лицом, в гим-
настерке.
Заметка ТАСС о Данилове была напечатана широко, во
многих местных и центральных газетах. Многие мне писали.
Радовались, что Данилов остался жив. Вскоре один товарищ
прислал мне вырезку из Крыма. Другие присылали из Куй-
бышева, из Хабаровска...
И только один, один-единственный человек написал мне:
«Вот вы его схоронили, а он и жив и хорошо работает...»
• В ДЕТСТВЕ, В РАННЕМ ДЕТСТВЕ... •
У нас их много было, этих мальцов. В каждом
полку, а то и в каждой роте был свой. Я так всех их и не
узнал... Были среди них интересные. Например, тот, в
полковом взводе разведки. Он, когда половина батальона у
них лежала перед рейхстагом, таскал бойцам во фляжках
воду из Шпрее. Вода была дорогая: из-за каждого камня
подстерегала пуля.
Я забыл фамилию этого паренька. Теперь, когда в Мо-
скве снова встретились фронтовые друзья,—о нем вспомни-
ли. Один сказал, что мальчика звали Вовкой и что они вы-
везли его еще из-под Старой Руссы. Другой — доказал нам,
- 302 -
что паренька этого звали Жоркой... Он эио знает, так как
Жорка у него чистил мотоцикл. Пытались вспомнить фами-
лию и не вспомнили.
На одной фотографии мы его разыскали. Он снят с бой-
цами-разведчиками у черной изуродованной стены — у толь-
ко что взятого рейхстага. Стоит, улыбается. В своей коро-
тенькой гимнастерке и в пилотке набочок, с автоматом. Даже
автомат на нем кажется игрушечным... Снимок сделан на
второй день. Жора, Жорик...
Их и вправду немало было по дивизии рассеяно. В каж-
дой части они были. Сироты войны, прилепившиеся к нашим
частям.
У нас, в году сорок третьем, в полку в одном, в котором
я тогда служил, тоже находился мальчик. Но этот совсем еще
мал был. Говорили, что его подобрали в той же Калининской
области. Возле избы сожженной сидел. Осталась от избы
одна труба, а он — недалеко, в траве. Так он при бойцах
первое время и жил. Не знали, куда его деть, никаких еще
властей не было. Потом партизанам сдали, они из лесов
как раз вышли.
И где бы ни воевали, где ни проходили, через Калинин-
скую или Белоруссию, везде ждали новые — дети без крова,
потерявшиеся дети.
Они привыкали к бойцам и к армии; воинские части,
дивизии становились домом для этих ребят.
И они уже не отставали, эти птенцы, дошли до самого
Берлина, преодолели все походы. Нелегко им было... Много
их насбирали, ребятишек этих, пока дошли.
Возле меня тоже был одно время такой воспитанник.
Мишка. Правда, я его звал невоспитанником. На что он ни-
сколько не обижался. Поправлял меня при этом: «Невоспи-
танный воспитанник».
Его решили учить наборному делу. Видимо, для этого
его и взяли в редакцию. Но я редко его видел с верстаткой:
ни охоты, ни склонности у Мишки к наборному делу не
было. Тем не менее и руки и нос у него всегда были выпач-
каны. Особенно нос. Словно он носом именно и набирал,
его и совал в наборную кассу.
У Мишки были смешные белесенькие волосы. И брови
такие же были, вовсе белые. Может, потому так и приста-
вала к нему липучая свинцовая пыль...
Зато глаза у Мишки были голубые. Но не всегда, а толь-
ко когда Мишка был добрым и не сердился. Когда сердился,
- 303 -
они тоже темнели. А сердиться Мишка умел, сердился он
часто.
Вот и его фамилию я забыл... то ли Николаев, то ли Ни-
кифоров... Мы его так всегда и звали — Мишка, Мишка. Он
нас — товарищ старший лейтенант, товарищ капитан, а мы
его — Мишкой.
Никому не было до него особенного дела, и никому не
было ясно, чем он, Мишка, должен заниматься. Он и сам
этого не знал.
До того, как попасть к нам, Мишка побывал уже в дру-
гих подразделениях. И в дивизионной пекарне, и при на-
чальнике снабжения. Слушался Мишка плохо, а подчинялся
еще труднее... А воспитателями мы были, видать, плохими.
Нас еще самих надо было воспитывать.
Мишка был не избалован. Когда он заметил, что я к нему
отношусь сочувственно — мне жалко было его, я слабеньких
жалею, — Мишка это понял. На ласку Мишка тотчас отзы-
вался.
И когда вскоре в одном овраге у меня появился свой
блиндаж, Мишка перешел ко мне. Ему хотелось, чтобы над
ним был старший...
«Можно, я буду вашим ординарцем?» — спросил он у
меня. И охотно бегал за чаем.
В двух котелках, своем и моем, он приносил мне еду.
В одном котелке кашу, в другом — суп. Мы сидели за узким,
сколоченным из осинок-горбылей столом, я отодвигал свои
недописанные заметки, и мы принимались за обед. Мишка
был — молодец. Аппетит у него был хороший.
За столом Мишка жаловался на свою долю. Живет он
тут, дела у него никакого нет, на передовую его не пускают,
капитан его ругает. Валенки не дают... Мишка любил повор-
чать. И хвалил своего прежнего начальника, какого-то майо-
ра Степаненко, который был у него в роте связи. Доппаек
получал. Обмундирование новое давали.
Я знал, что капитан наш его не ругал. Этот капитан про-
сто не умел быть сердечным. Но я не мог сказать Мишке, что
мы — взрослые — тоже жаждали видеть улыбку на лице ка-
питана. Чтобы он иногда похвалил нас — лучше бы работа-
лось и жилось. Капитан этого не умел, а может, и не же-
лал — мы ведь были его подчиненные, — считал, что нас надо
держать строго.
Но я хотел быть хорошим педагогом, защищал капита-
- 304 -
на и говорил Мишке, что он сам виноват во всех своих бедах
и неладах, что он не учится и не хочет учиться... А еще
жалуется — на паек, на валенки.
Тут Мишка, как правило, ссылался на какого-то Петьку,
которому повезло гораздо больше, он попал в артполк. Там
хоть для него на огневых на закрытых работа находится.
Сейчас он уже наводчиком, вторым номером стал. Специаль-
ность получил.
Я не знал никакого Петьки и начинал уже сомневаться
в его существовании: скорей всего, обычный пиф-паф, Миш-
кины фантазии. Но Мишка меня принимался убеждать: они
с Петькой из одной деревни и вместе пришли в часть, когда
их освободили. Зря Мишка не пошел тогда в артиллерию.
Ему связистом захотелось почему-то тогда быть, а пойди-ка
с этой катушкой — потаскайся.
Слушая его обеденные, эти ежедневные разглагольство-
вания, я говорил: «Лентяй ты, Мишка...» На что Мишка ни
чуточки не обижался, но опять принимался оправдываться.
Лентяем Мишка не был. Он только не любил жить неза-
меченным. Но если Мишку похвалить, он яростно таскал
дрова и подливал керосину в лампу. И вообще развивал
энергию.
Больше всего на свете он любил топить печки. У него
на это был талант. Тут его уже не надо было просить. Даже
завел собственную пилку и напиливал дровишек, каких ему
было нужно.
Я сидел над своими заметками — над воинскими своими
подвигами и не знал никаких забот. Он что-то там раздувал,
а я, признаться, замечал это, когда печка вовсю начинала шу-
меть. Мишка поднимал на меня свою припаленную огнем го-
лову с белыми,—но хотя бы с затылка, а измазанными са-
жей,— волосами... Он не был ни забавен, ни мил. Я не хочу,
чтобы меня так понимали. Нет, Мишка был резок, вечно не-
доволен. Он был — дитя войны. Как все мы.
Но ему еще казалось, что он лишний. Он был ребенок,
и ему труднее было, чем нам... Он не был бравым мальчи-
ком в маленьком картузике, в ладно скроенной, на него сши-
той шинели, и его тянуло в деревню.
Мишка был крестьянский мальчик. Помню, мы остано-
вились в небольшой тесной избе. Тут же была хозяйка, тут
же был и теленок. Мишка сразу повеселел, взялся качать ре-
бенка. Но его послали на доп получать продукты, тащить от-
туда тяжелые консервные банки в мешке, крупу. Иначе —
- 305 -
надо было набирать. А набирать Мишка не умел и не любил.
Уж лучше этот доп, только не набирать. Тягомотная работа.
Ноги устают. Роешь, как курица, клюешься в этих ящичках,
а на дворе солнышко, снежок. Час ищешь каждую букву,
пока слово составишь. А потом говорят — все шрифты пере-
путал.
Мишка любил повозиться дома с телком, а тут только
потянулся — уже поглядывают косо. Мишка вздыхал и воз-
вращался к кассе.
Я подолгу отсутствовал, уходил в полки, в батальоны и
подолгу не видел мальчика. Когда я приходил, Мишка уже
спал в своем углу. Нам с ним одинаково было здесь неуютно.
Утром я уходил рано, когда Мишка еще дремал, укрывшись
с головой чьей-то старой большой шинелью, и я не видел его
в течение нескольких суток.
Потом наступало время, когда мы с ним опять были вме-
сте. Я обогревался, счищал с себя грязь и три, а то и четыре
дня подряд — «выписывался»: все — вынесенное оттуда —
превращал в обычные корреспонденции. Мишка — опять за-
ботился обо мне. Он не шумел, когда я писал, и печку топил
тихонько, чтоб не помешать мне. Даже и не заговаривал со
мной, пока дело у меня не начинало идти на лад.
Понемногу я отписывался — разгружал свои блокноты.
Папка секретаря пополнялась, мне становилось спокойней,
так как на заранее раздраженный вопрос: «Вы сделали что-
нибудь?» — мог ответить, что я сделал и то и это. И хотя я не
заслуживал похвалы, я веселел. Мишка это чувствовал, и
опять у нас восстанавливались наши прежние отношения, и
опять продолжался тот наш прежний разговор, дружески сни-
сходительный, с одной стороны, и детски отзывчивый — с
другой; разговор, на который Мишка был так способен, ког-
да к нему находили хоть маломальский подход.
Мы опять засиживались за нашими котелками. Наши бе-
седы затягивались.
Мишка думал, что война более интересное дело. И я
зря над ним посмеивался. Ему все уже наскучило. Он думал,
тут ему дадут коня или пушку, а его заставляют мыть котел-
ки да крутить машину. Выпускают какую-то газету. Тут вой-
на, а они — пишут... Ходишь из землянки в землянку, сыро,
ноги промокают. Где-то стреляют, а ты ничего не видишь...
Ему хотелось похныкать, а я не понимал его и сердился.
Чего он, в самом деле, не учится набирать — стал бы чело-
веком.
- 306 -
Мне бы тоже с ним надо помягче.
По невнимательности, или равнодушию, или по своей
«замотанности», ею-то мы чаще всего и оправдываем черст-
вость, я вместе со всеми говорил ему: учись. Разве я не ви-
дел, что мальчику трудно! Я порой упрекал себя за то, что
тоже сердился на его разгильдяйство. Видно, Мишка ошибся
во мне... Учился ли он и сколько? Кажется, он окончил толь-
ко три класса, даже — не четыре, а три.
О доме Мишка говорил мало и редко. И я так и не узнал,
кто у него там дома. Мать, кажется, была жива... То ли тетка,
то ли мать. Помнится, получал он письма из деревни, да и
сам кому-то писал.
Я больше запомнил те письма, что приходили ему от то-
варища... Этот парнишка, Мишкин товарищ, — третий, с кем
вместе Мишка ушел на войну. Каким-то образом он попал в
другую часть и даже оказался на другом фронте.
Однажды, когда мы опять по душам поговорили, Мишка
дал мне — я понимал, какой это большой знак доверитель-
ности,— прочесть письмо своего дружка. Я уже не помню
его имени. Назовем его Ваня.
Письмо было большое.
«Как ты живешь, а я живу хорошо», — писал тот. Часть,
в которой служил Ваня, освобождала Киев, и он тоже участ-
вовал в боях... Судя по письму, характер у Вани был намного
легче, чем у нашего Мишки. В письме его, между прочим,
было такое место: «Скоро, дорогой Миша, я получу звание
ефрейтора... А там, дорогой Мишка, — недалеко и до гене-
рала». Насчет генерала Ваня, по-видимому, шутил, а может
быть, и повторял чью-то чужую взрослую остроту.
Дальше шло у Вани лирическое отступление — Ваня
вспоминал родную деревню, свой дом. Заканчивал Ваня так:
«Вспомни, Миша, как мы с тобой в детстве, в далеком детстве
гуляли с девушками...»
Я сложил письмо и вернул его Мишке.
— Хорошее письмо,—сказал я.—Ты ему ответь.
Мишка сиял. Ему было приятно, что я хвалил его това-
рища, лучшего его друга, который пишет ему такие умные
письма.
Эх, ребята, ребята... И для вас уже те спокойные, мир*
ные дни были далеко. И вы тоже второй уже год были на
войне... В детстве, в далеком детстве! Милые ребята..^
В тот же день, а верней, в тот же вечер я видел, как не-
расторопный наш Мишка строчил ответ.
- 307 -
...Здесь мой рассказ о Мишке невольно обрывается, по-
тому что я не хочу ничего прибавлять от себя. Куда он делся
потом? Дошел ли он до Берлина? Он как-то — все та же наша
небрежность — начисто выпал у меня из памяти. Как-то так
вышло, что с появлением у нас нового редактора я о Мишке
начисто забыл. Одно из двух: или, когда мы пришли в Бер-
лин, Мишки с нами не было, или я не помню о нем, потому
что кончилось наше сидение в землянках и началась эта гон-
ка, жизнь на ходу — в движении.
Может, он был отправлен домой? Может, пришло какое-
нибудь распоряжение, и в то время, как мы вступали в поль-
ские земли, всех этих ребят отправили в тылы, по домам?
Что-то шел об этом разговор.
Хотя вот был же тот Жорка в Берлине. Это странный был
парнишка. Бойцы взвода разведки, к которым он был при-
числен, его очень берегли. Во время боев они мальчишку
держали со своим обозом. Когда немножко утихало и появ-
лялась кухня, появлялся и Жорка. О своем прибытии он из-
вещал отчаянной стрельбой из пистолета. Палил, пока не за-
канчивал обоймы.
Разведчики, забавлявшиеся с Жоркой, сшили ему хоро-
шее обмундирование, шинель фасонистую. И ремень, и пор-
тупея — все у него было пригнано по росту.
Когда кончилась война, Жорка ни за что не хотел ехать
домой.
И, может, вот так же, как этот Жорка, и Мишка наш — с
другой уже частью — был с нами в Берлине... Ходил по тем
же улицам.
Я вот пишу, и все они сейчас передо мной — и забало-
ванный этот Жорка, любивший попалить в воздух, Жорка,
который полз по грохочущей площади со своей стеклянной
флягой в руке, и наш неприкаянный Мишка... И тот легко-
мысленный Ваня, генерал-ефрейтор. Всех их вижу. И — вроде
бы время для меня остановилось — они и сейчас у меня такие,
какими были там, в блиндажах, на тех заснеженных по-
лях — в длинных, не на них сшитых гимнастерках, в тяже-
лых полушубках, в подрезанных взрослых шинелях. Ребята,
попавшие на большую войну. Дети войны.
А ведь выросли они, большими стали, эти мальцы. Ведь
если тогда им было по десять лет, а нам,—их командирам,
старшим, — по двадцать, то сейчас им уже за тридцать... Ка-
кими же они стали? Встретить бы хоть одного...
- 308 -
НА НОЧЛЕГЕ
Мне двадцать лет. Мы в освобожденном селе, в Польше.
Маленькая Марися забралась ко мне на колени. Она ло-
вит мой взгляд, и, когда я к ней наклоняюсь и киваю, Марися
довольна. Она отвечает мне улыбкой.
Мать девочки, тоненькая, молодая, с хрупким румянцем,
смотрит на меня, на дочь. Мешая польскую речь с русской,
пани Хелена спрашивает меня, откуда я родом.
— Из Сибири.
— Сибирь? — удивляется женщина.— Боже!.. — говорит
она по-русски. — Совсем другой свет.
Хелена упорно не отходит от плиты, она не так занята,
как старается это показать. Она, чувствую это, пригляды-
вается ко мне. Потом, за обедом, она рассказывает мне о себе
и своей жизни. Рассказывает, как боялась Марися другого
солдата, что жил здесь незадолго до меня. Увидит его во
дворе, бежит в комнату: «Мама, мама, герман...»
Я опять беру у нее девочку и начинаю качать ее на ноге.
Она в восторге. Потом я учу ее. Удивительно чисто, усердно
Марися с охотой повторяет за мною:
Петушок-петушок, золотой гребешок.
Выгляни в окошко, дам тебе горошку...
Я смеюсь, смеется Марися. Мы оба рады, что быстро за-
учили столь нехитрую песенку.
Хелена опять глядит на меня и на дочь. Потом выходит
за дверь и возвращается с охапкой сена... Действительно,
Марисе давно пора спать. Я вижу, у нее уже и глазки сли-
паются. Она слезает с колен, но Хелене долго еще не удается
ее уложить. Ничего этого я не слышу.
Я ощупью нахожу приготовленную мне постель и засы-
паю раньше Мариси.
ДРУЖОК
Был у нас в батальоне один мальчик приблудившийся.
Сирота. Мы тогда в верховьях Волги воевали... Лет восемь
ему было. Он потом парень хоть куда стал. Подрос. Шинель
ему сшили, сапоги.
- 309 -
Но это все после...
А вначале — так было.
Стало нам известно, что часть наша в скором времени
должна вступить в бой. Об этом сразу все узнают: комиссии
приезжают, пополняют боеприпасы. Сухарей — каждому по
пачке, по две.
Командир полка, сам, как увидел у нас парнишку, ох и
рассердился же! Он прав был, конечно: не забавами зани-
маемся, не такое время... Приказал немедленно же передать
мальчика местным властям...
А мы уже и привыкать к нему начали. Но парнишку
в бой не потащишь... Ночью выступать нам.
Сдали малого в местный сельский совет, обо всем с пред-
седателем договорились. Проявить обещал заботу.
Комбат наш уж больно душой за него болел. Злой
ходил, скучный, кричал на всех и здорово к нам приди-
рался...
Совершили мы марш. Без больших привалов шли, кило-
метров, может, шестьдесят бросок сделали...
Остановились на ночлег в лесу. Ночью пришли, поздно.
И вот утром повар наш пошел кашу варить. Открыл
кухню, а мальчишка тот на дне котла лежит, калачиком свер-
нулся. Спит. Один лишь чубчик белый торчит.
Повар решил никому не говорить пока. Старшине только
одному рассказал. Оба они у себя его припрятывали.
Когда он отвинтил крышку, залез туда и притаился, ни-
кто этого не знает.
Повар после долго оправдывался: он, мол, и влез
туда и сбежал еще с вечера, перед тем, как нам ночью высту-
пить.
Все обошлось потом. Все сделали вид, что так и надо.
И комбат наш, когда его увидел, маленького и сразу расте-
рявшегося, удивился, но тоже сделал вид, что он забыл уже
и про деревню и про председателя, с которым сам же дого-
варивался.
Старшине наказал, чтобы парнишка пока что на глаза
полковнику не попадался.
Так он, паренек этот наш, у нас и остался... Прилепился,
прицепился.
Крепкий паренек стал... Прижился и жил у нас в части —
делил с бойцами и кров, и пищу, и ложе в землянке, пока
шла война.
- 310 -
ПАСХАЛЬНЫЙ ОБЫЧАЙ
У нас в наших местах — в Сибири и на Урале — был
один обычай: вроде игры.
Как раз на середине деревни вкапывался этакий столба
Гладкий и длинный.
Это на пасху делалось обычно. На вербной неделе,
перед пасхой. Не знаю, сколько метров он, столб
этот, — сто не сто, но очень высокий... Три сосны в одну
сращивают.
Деревенские девушки, пока этот столб еще не вкопан,
привязывали к нему вышитые ими заранее платки... Иногда
в те платки завязывали еще орехи и сладости.
Устанавливали этот столб, а лучше сказать — шест, на
поляне где-нибудь, среди улицы.
Это старый обычай.
Я сейчас будто вижу из нашей избы этот гладкий, све-
жеобструганный столб. С платками на рее, он выглядел
всегда как мачта. Парусник. Будто к нам, в тихую, еще
заснеженную деревеньку входил корабль... Мы, малыши,
рано-рано, едва только начнет светлеть, вскакивали с печи
и, продышав окно, смотрели, стоит ли уже он, этот белый
столб.
Мы тоже по нему взбирались, но только в своих мыс-
лях. Ведь и из взрослых, из больших ребят, редко кто
отваживался лезть вверх — по обледенелому скользкому
столбу...
Но всегда находился в деревне парень такой, который,
надев сапоги, обжимал ногами этот тонкий, качающийся
длинный шест, добирался до самого верху, отвязывал и за-
бирал себе все те девичьи подарки. Он-то и считался первым
парнем на деревне.
В одном уральском приисковом поселке близ Свердлов-
ска все эти подарки и все эти платки из года в год снимал
один и тот же парень. Сын старателя, золотишника... Неболь-
шого роста, с лицом, изрытым оспой. Может, и сам бы стал
золотишником. В отца бы пошел.
Он потом и поставил флаг над берлинским рейхстагом^
- зн -
ТРОФЕИ
Известно, как много мы — все — привезли с войны.
Настолько много, что нередко, когда нас об этом спра-
шивали и мы отвечали, — некоторые только головами пома-
тывали... Жалели, что мы, а не они были на фронте.
Да, кое-что с войны я и вправду привез. Послушайте вот...
А впрочем, чтобы долго не томить, скажу сразу, что я
привез ящик из-под мин. Тяжелый зарядный ящик из не-
гнущейся жести. Но и не только его, я чуть еще не привез
и чемодан один, фибровый...
Я уже не вспомню теперь точно, где это происходило,
в каком городке, помню, что в Померании, вскоре после
того, как мы перешли границу. Батальон — кажется, это был
батальон Хачатурова — расположился на ночлег в центре
города.
Солдаты двух рот спали в комнате. Даже в двух комна-
тах. Они были несколько темноваты. Окна их уходили на-
половину в землю, да и на окнах к тому же решетки. И по-
тому, что было темно,— все время горел свет. И все же,
хотя и было темно, но это был сухой, отапливаемый подвал,
и потому в нем было хорошо.
Бойцы пришли сюда, чтобы переночевать. Они пришли
поздно, укладывались в полутьме; лампочка светила еле-еле,
она была подвешена под самым потолком и закрыта прово-
лочной сеткой. Спали на каких-то тюках. Утром увидели,
что это — деньги. Немецкие марки в крупных купюрах. Их
небольшие, туго запечатанные и перевязанные пачки штабе-
лями сложены были вдоль стены. Солдаты соорудили из них
в темноте что-то вроде топчанов. Так и спали на дорогих
этих, жестких постелях. Здесь же, в подвале, отыскались по-
душки: кошели с металлической разменной — латунной и
серебряной монетой.
Да, это был именно хачатуровский батальон. Все посте-'
пенно начинаешь вспоминать... Теперь я вспоминаю даже,
что, именно разыскивая Хачатурова, я и зашел в подвал, в ко-
тором солдаты спали на бумагах немецкого казначейства —
тюках с марками и мешках со звонкой монетой.
Помню еще, что один солдат жаловался — ему ничего
не досталось, и он, стянув с полки брезентовый тяжелый
мешок, положил его под голову. Мешок был набит какими-то
- 312 -
продолговатыми, на ощупь гладкими предметами. Солдат
жаловался, что, проспав на этом ночь, он свернул себе шею.
Твердые, продолговатые, эти проклинаемые бойцом пред-
меты я увидел в тот же день. По-видимому, тогда же, когда
я искал Хачатурова и заходил в подвалы, набитые немецкими
банкнотами, тогда же, по всей вероятности, встретил я под-
полковника — нашего начподива. Никак только не могу вос-
становить в памяти, когда — раньше, чем я вошел в подвал,
или поздней. Впрочем, это не так важно. Возможно, что он
и сам приехал к нам. Он не очень любил общаться с нашим
братом газетчиком, но изредка все-таки в редакцию заезжал.
Как видно, считал своим долгом.
Когда я, проходя, встретил его на крыльце, он достал из
кармана какой-то желтоватый брусок и показал мне. Брусок
был сантиметров десяти длиной, напоминал детскую шоко-
ладку. Он даже сплюснут был с одного боку. Подполковник
дал мне эту шоколадку, и я ее чуть не уронил. Такой она
тяжелой показалась мне, эта пластинка, и так меня тяжесть
ее удивила, что, думается, потому я и запомнил и ее, и наш
разговор с начальником политотдела. Он сказал, помню, что
едет доложить в верхах, сообщить, что это найдено в подва-
лах дома, в расположении дивизии...
И вот еще почему история с золотыми слитками у меня
сохранилась в памяти: с того самого дня стал я обладателем
чемодана, с которым потом долго не расставался. Я им обза-
велся в том же здании немецкого рейхсбанка.
Я должен объяснить, почему я его взял, этот чемодан.
Дело в том — тут я буду по возможности кратким,—что у
меня к тому времени уже накопилось с десяток записных
книжек, тетрадей-дневников и великое множество блокно-
тов. Их я делал сам — из бумаги, на которой печаталась наша
газета. Чистой мне не давали (экономили), а с оттиском
уже — пробным, после приправки, так что блокноты эти с об-
ратной стороны были с печатным текстом. Требовалось их
много, стоило мне пойти в подразделение, как я целиком
исписывал весь блокнот.
Особенно же — и больше всего — дорожил я небольши-
ми, разными по формату книжечками, в которые заносил
первые строки стихов, образ или любопытный солдатский
разговор. Я так боялся потерять свои записные книжки, что
повсюду таскал их с собой. Мой большой планшет, благо-
даря хлопотам одного участливого старшины сшитый для
- 313 -
меня в том же хачатуровском батальоне^ был уродливо раз-
дут. Ничего уже в него не лезло.
А в редакционной машине, под старой наборной кассой,
не менее ценимые, чем все мои трудно достававшиеся запи-
си,— спрятаны были номера газеты, которую мы выпускали.
Так вот и скопилось у меня постепенно целое хозяйство,
и пора было собрать его в одно место... Давно уж требовался
ящик или чемодан. Лучше всего — чемодан. И хотя одно это
слово для меня для самого звучало немного смешно и даже
дико: война — и вдруг чемодан, но чемодан-то больше всего
и подошел бы. Без него просто нельзя было уже обойтись.
Именно чемодан и увидел я, когда зашел в подвал, к бой-
цам комбата Хачатурова...
Он был небольшой, скорее даже маленький, фибровый,
плоский и прочный. Фибра была крепка, как кость. Как раз
то, что мне нужно.
Чемодан сразу мне понравился. Услыхавший про то сол-
дат тут же открыл его, и я увидел уже знакомые мне желтые
бруски, один такой я сегодня держал в руке. Боец, с трудом
приподняв чемодан, их вытряхнул куда-то в угол...
Странно, что теперь, просмотрев свои записи, свой днев-
ник и блокноты, для которых и понадобился он мне, я не
нашел никаких упоминаний об этом чемодане, ни даже о зо-
лоте и банковской кладовой. Видимо, и это естественно, я
тогда не придал всем этим вещам никакого значения...
Он хорошо мне послужил, этот чемодан, врученный сол-
датом.
Принеся его к себе в редакцию, я сложил в него свои
записи, уже рассыпающиеся листки блокнотов и все мною
сохраненные номера дивизионки.
Потом мы брали Берлин. Ушли на Эльбу. Блокнотов и
бумаг у меня прибавилось. К тому же я полностью уже по-
добрал нашу дивизионку — номер за номером, за все полтора
года. (Кажется, она только у меня и сохранилась, наша бое-
вая, скромной и славной нашей дивизии газета.) Чемодан
мой теперь для меня был уже мал. Вдобавок очень скоро,
из-за частых переездов, он совсем развалился... Ящик из-под
немецких мин, подобранный мной на берлинских окраинах,
в траншее, — в этом-то железном сундуке я и привез домой
свои бумаги — был крепче, надежней моего фибрового, взя-
того в банке. Вскоре я его, золотой тот чемодан, бросил
где-то по дороге.
- 314 -
Тогда я не думал, что спустя много лет я сам с некото-
рым удивлением буду писать обо всем — об этом чемодане,
из которого мы вытряхнули слитки золота, и о подвалах, где
мы спали, подложив под головы тяжелые пачки банкнот.
И конечно, я не думал, что это нечто такое, о чем стоит
рассказывать. А написал вот и, по правде сказать, боюсь, что
мне не поверят.
Вот я раскрываю его, этот ящик из-под мин... Видите,
что в нем: это всё мои записные книжки и мои корреспон-
дентские, самодельные те блокноты. А это наша дивизионка,
здесь полный, — может, единственный комплект ее... Вот что
я привез с войны. Не мало — уверяю вас...
• КАДРЫ о
Помнится мне один из показанных перед войной кино-
хроникой кадров...
Один только кадр.
Гитлер выходит из компьенского вагончика.
Компьен — это лес. Но прежде всего это город на севере
Франции. Там стоит вагон, в котором Германию после пер-
вой мировой войны заставили подписать капитуляцию. За-
хватив Париж, пожрав Францию, разгромив и поставив ее
на колени, Гитлер отыскал тот самый вагон — его нечего
было отыскивать, он стоит на специальных путях, — нашел,
заставил найти по музеям ту самую ручку. И той же самой
ручкой и в этом вагоне заставил Францию подписать капи-
туляцию.
Кадр был такой. Ухмыляющийся Гитлер выходит из ва-
гончика и, повернувшись к объективам и ощетиня усы, на-
дув щеки, сделал отдувающееся выражение, хлопает себя по
животу.
«Хорошо закусили!»
В моих глазах вставал этот кадр, врезавшийся в память
своей грубой откровенностью, когда я вспоминал усы Гит-
лера, выкинутого из бункера, из-под канцелярии импер-
ской — с пробитым черепом... Тоже как снимок!
А между этими двумя картинами — третья: мы курим —>
заворачиваем махру у колонн рейхстага.
- 315 -
РАЗРУШЕННЫЙ ГОРОД
Не выходит до сих пор из головы моей, что посредине
Европы стоит разрушенный мертвый город. Один из круп-
нейших городов.
Я видел много разбитых городов... И Ржев, и Великие
Луки, и Невель. А потом, по возвращении с войны,— Ста-
линград и Севастополь... Но именно разрушенный мертвый
Берлин более всего мне помнится.
Как же так! Подумать ведь только — в центре обжитой,
ухоженной руками человека Европы! Один из самых боль-
ших городов... Город-мираж, город-привидение. Цепенеющий
в развалинах, висящий на ржавой, распадающейся арматуре.
Меня это почему-то поражает больше всего... Может
быть, потому, что его разрушали при мне?
Немцы, с такой любовью выстроившие свои города, так
весело разбивали чужие...
О этот век, когда стали разбивать столицы. Стирать
с лица земли столицы стран.
Города создаются веками, ныне их разрушают за один
день!
Это безумие кончится не так скоро.
Вот почему меня, разбивавшего этот город,—человека,
который и присутствовал и сам принимал участие в разру-
шении одной из столиц, так возмутил один молокосос.
Я слышал, как, приехав из Берлина и передавая свои впечат-
ления товарищам, он сказал:
— Классно разбит город, классно...
Возможно, сам бы он никогда и не стал ничего разру-
шать. Но я был потрясен.
Легкостью, с которой он это сказал.
о
«КОРОЛЕВА ЛУИЗА»
Прежде я никогда не видел такой низкой, жирной и за-
болоченной земли, где бы реки текли вровень с берегами.
Мы ездили по полям битв, прошлых и нынешних. Даже са-
мый цвет травы был тут иной...
- 316 -
Дороги, прикрытые надежными бетонированными пли-
тами, и заболоченная земля. Низины доверху все заполнены
водой.
Поезд доматывал последние километры. Маленький па-
ровозик был как слабосильная лошадка.
Деревья еще не распустились и стояли голые, но трава
уже вылезла. Й это была какая-то северная травка. Очень
светлая, бледная зелень. Все пребывало в тумане, что ли,
каком — полусне. Все было слишком однотонно, печально и,
может быть даже, не найду другого слова — щемяще уныло.
Видно, время года такое.
За окнами бежала северная равнина. Вдали — везде, по-
всюду были поля. Серые, туманные. И этот свежий, светло-
зеленый, неестественный цвет травы.
Странная это была поездка и странная земля! За корот-
кое время мы объездили очень обширный новый край, прежде
никому из нас не известный...
Каким образом мы очутились здесь? Это вот так вышло,
так получилось. Нас однажды всех собрали вместе, и мы по-
ехали, поехали по всем округам и флотилиям, отправились
для выступления в воинских частях. Формально, что ли, офи-
циально, отпустили нас для чтения своих произведений. Но
у хозяев наших и устроителей, инициаторов этой поездки,
была, по-видимому, и своя скрытая цель: вдруг напишем что-
нибудь. Вдруг кто-нибудь из нас возьмет да что-нибудь и
напишет! Уж как будто бы так это просто...
Я тоже бросил все дела и поехал. Мне давно хотелось
повидать места боев.
Да, когда меня туда понесло, я вознамерился побывать
в тёх латышских хуторах, под которыми мы сидели и кото-
рые я помню. И чуть ли даже не те же траншеи. Я, право,
не знаю, на что я рассчитывал, но я и впрямь затем и поехал,
чтобы залезть в те же траншеи! Ради того и ехал. Но ничего
я не видел, никаких траншей! Вместо этого по пути в Ригу
проезжал леса Латгалии и думал, что это те самые, где мы
воевали... Да на обратном пути из окна самолета разгляды-
вал бесчисленные озера, озера, высотки и сопки и думал, что
это и есть те самые, которые я знал в Калининской области...
Но, должно быть, чтобы все увидеть так, как тогда, не
надо мне было кататься на машине. Как ни говори, я был
пехотой! Все просто ведь! Да и поездом бы тоже не надо
ездить.
- 317 -
И все же, все-таки, однако, отправляясь в эту поездку,
я и трое нас, других писателей, — мы и думать не могли, что
увидим так много. И хотя, я повторяю, не узнал ничего, ради
чего сюда ехал, но зато я увидел то, видеть что и не рас-
считывал.
Мы и предполагать не могли, что, отправившись в При-
балтику, на старые дороги, мы нечаянно-негаданно заедем
в Кенигсберг бывший и я увижу его вблизи, этот низинный,
низменный край, где тоже растет такая вот светло-зеленая,
странно бледная трава. Дороги со сходящимися над головой
деревьями. Потому что и в самом деле вышло так: после того,
как мы объездили всю Литву, Латвию и пожили в милой
моему сердцу Риге, мы приехали в Кенигсберг и в бывшую
провинцию немецкого рейха Восточную Пруссию. Нынеш-
ний Калининград. И я опять ездил, кружил и колесил по
дорогам, обсаженным деревьями и яблонями. Через фоль-
варки. Совершенно неожиданно для себя.
А земля и вправду была пухлой, жирной и могучей. На
другое же утро, как сели в поезд, передо мной были вновь
те поля, покрытые асфальтом автострады и дороги, и леса
под линеечку.
Мы долго ездили по этой мирной исторической земле.
Это были долгие поездки и вечера, выступления в клубах,
воинских частях.
Лейтенанты, которые возили нас, сообщали нам назва-
ния пунктов и мест... Названия были нам незнакомы, так же
как дороги, по которым возили нас.
Когда, миновав мост, мы въехали в городок — в город,
называвшийся Советск, и офицер, который нас сопровождал,
сказал мне, что это Тильзит, я уж у него ни про что не спра-
шивал, видел. Потому что передо мной был Неман, Неман
самым подлинным образом катил куда-то под стремнину свои
бурные, довольно темные быстрые воды. И тут, на этом
мосту — тут, где раньше был мост,—я видел Наполеона и
императора Александра, которые встречались на этом мосту;
впрочем, нет, не на мосту, моста тогда этого не было, а на
пароме, посредине реки. (На противоположной стороне, на
другом берегу реки, проходила дорога. По низине тянулась
дорога, а на взгорке стояла изба-корчма, и там была столо-
вая, и там мы вскоре остановились и пили-ели в этой сто-
ловой. В корчме на Литовской границе. Потому что и впрямь
тут была корчма и вправду была граница.) А когда потом, на
другой день уже, отправившись в воинскую часть, мы по
- 318 -
пути к ней вкатили в деревню, старые низкие каменные
дома, пристройки встали по обеим сторонам дороги, и до-
рога пошла колесом, полукругом, завернулась, и точно так же,
на ходу, на бегу, завернула улица, и когда мы оказались на
выезде, то в самом конце деревни возникла церковь, кирха,
а за ней — была спрятана долина. Возле кирхи, на спуске,
был сад, деревья и кладбище. И пока еще мчали по улице, я
спросил у офицера, сидевшего рядом, как называется эта
деревня. Мотались мы, впихнувшись в брезентовый газик,
почти в такой же, какие на фронте были у больших началь-
ников,—на козлике... Селение — называлось Прёйсиш-Эй-
лау. И когда мы вырвались на окраину (кладбище было спра-
ва, за небольшой оградкой), я сразу узнал возле церкви то
место, где стоял Наполеон. Он в подзорную трубу смотрел
на бой, что кипел внизу, в долине. Здесь был его наблюда-
тельный пункт. Боже, да вот же она, эта долина. Уходит
вниз, в синеву — долина и холмы... Большая, широкая ло-
щина между двумя высотами. Все так.
Уже близилась зима. И листья — бурые, последние, вот
с этого дерева — оказывается, это груша — с груши! — па-
дали. Они падали медленно, кружились и ложились на пли-
ты, на могилы...
Наверху, возле палатки, стоял Наполеон, внизу была
долина. На кладбище, с дерева, летели листья.
И вправду, когда мы спустились в долину и покатили по
равнине, я увидал в стороне, возле дороги у холма, старую,
давно уже заросшую травой воронку, и понял, что здесь и
лежал Андрей со знаменем в руке. Знамя лежало сбоку, а
князь Андрей был уже мертв...
Но нет, что же это я — ведь это было на Аустерлицком
поле, я спутал... Вот в какой обман ввела меня эта колея.
Дорога. Действительность, вымысел и правда, смешалась, пе-
репуталась. Потому что хотя с князем (у Толстого он стра-
дал, а Наполеон думал, что он убит, и видел только, как это
красиво — распластанный, поверженный человек и рядом
с ним — знамя), хотя с князем и неправ я, но остальное все
было именно так.
А вот и мельница, и плотина. Ров, где прыгнула лошадь
царя. И деревня, и выезжающий из деревни Николай Ростов,
скачущий... Еще молодой и не женившийся на Мари.
Потому что Фридланд тоже был недалеко — в несколь-
ких километрах, я до него просто не доехал.
Надо сказать, что в самом Калининграде мы жили мало.
- 319 -
Мы в нем ночевали да иной раз, по вечерам, любовались его
красивыми закатами.
Однажды, в первые же дни, во время такого вот заката,
я направился к могиле Канта. Я шел к ней через хребты раз-
валин, я вылезал из окна одной развалины и влезал в окно
другой, пока не вышел к могиле Иммануила Канта... Могила
философа. Вокруг одни только выжженные, молчаливые дома.
Сама же могила была обцементирована и ограждена несколь-
кими колоннами. Она представляла собой гробницу — пор-
тик, примыкающий к стене Кафедрального собора.
Взбираясь по нагромождению крупного камня, я под-
нялся наверх, к собору, к его проломленной стене. Но здесь
все заросло бурьяном и очень высокими репьями. Я ушел.
Это первое впечатление.
Приехали мы в Калининград утром, рано. Сразу же от
его вокзала начиналось поле. Не забывайте, что я был вскоре
после войны!
Лишь потом, когда переехали реку и поднялись в гору,
начался город, тот, что остался цел, его зеленые окраины.
Где жили и трудились люди и где текла вся жизнь. Работали
организации, начинавшие строить и восстанавливать город.
Такой уж это был город. Это странный был город. В нем
еще пребывал дух войны! В его садах и скверах находили
трупы.
Тут было много загадок... Из некоторых глубоких под-
земных цехов все еще не могли откачать воду. Сходившие
с дороги машины взрывались. Часть электроэнергии уходила
неизвестно куда... Впрочем, это был, по-видимому, слух. Но
все находились где-то еще в нем неразорвавшиеся снаряды,
тайные склады. Город-тайник, город-крепость.
И наоборот — не могли найти янтарную комнату.
Когда мы приехали, ее еще искали. Спрятанную в земле
Кенигсберга, выкраденную под Ленинградом, у нас, и приве-
зенную сюда янтарную комнату. Рыли экскаваторы, и над
городом стояла пыль.
«Охотники», приезжающие сюда со всего мира, стара-
лись наперебой показать, где, в каком подвале, они видели
в последний раз это мировое сокровище искусства, седьмое
чудо света.
Откуда-то из Польши приехал один рабочий, попросил’
вывезти его на рейд. Его посадили на катер и повезли в море,
и он показал, где надо смотреть. Спустились водолазы и под-
няли, стали поднимать какие-то ящики. Когда их вскрыли,
- 320 -
в них оказалось затопленное оборудование, шариковые под-
шипники и ценные инструменты. Поляк ошибся... Он видел,
как топили, и он думал, что это они и есть, ящики с плитами.
Янтарная комната.
Теперь ее искали в районе Королевского замка, от кото-
рого оставался один остов, две большие круглые башни.
История янтарной комнаты продолжала тогда волновать
всех. Об этом много говорили в Калининграде и много рас-
сказывали о том, как искали ее, эту янтарную комнату. О та-
инственном исчезновении доктора Роде, о его внезапной
смерти, его и его жены... Доктор Роде был хранителем Коро-
левского музея. Еще по дороге с вокзала, когда мы приехали,
шофер рассказывал нам.
Мы были тогда очень заняты, выступали каждый день,
иногда по два раза на день, и узнавали все это, проезжая
город, из разговоров в гостинице, от своих сопровождающих,
в пути, да в машине.
Найдут ли когда-нибудь янтарную комнату или она уже
безвозвратно погибла?
И не будет ничего неожиданного, если при этом найдут
кое-что другое. Ищут янтарную комнату, а найдут... а могут
найти личный архив Гитлера, например. Многое может от-
крыться в этих подвалах... Ибо ведь это здесь собирались
гитлеровцы держать последнюю оборону. Поэтому и пере-
правляли сюда и ценности и архивы. Здесь — в старой Прус-
сии, в городе Кенигсберге, в крепости, думаю я, вначале пред-
полагали они дать последний бой нам, а может быть, и оття-
нуть развязку. В области, где с одной стороны у них было
море, прикрытое их подводными лодками... И, возможно,
сюда бы и перенеслась война, если бы мы не поломали им
все планы и не ударили их неожиданно, положив здесь много
наших солдат. Отрезали группировку их в Курландии, выйдя
к морю. (Это было, когда в Померании там мы выходили к
побережью.)
Вода, которая не откачивается, и электричество, которое
уходит и уходило неизвестно куда.
Они здесь думали обороняться до конца...
Эту старую Пруссию они ни за что не хотели сдавать.
Только накануне я был в зоопарке. Я и раньше много
слышал о здешнем зоопарке, одном из самых известных...
Только я мало что видел в нем. Когда я пришел, там на де-
реве, на старом кривом вязе, поднимаясь к небу, висел ске-
лет, костяк какого-то доисторического животного. Его рас-
11 В. Субб отин
- 321
падающиеся, черные и уже почерневшие части были скреп-
лены между собой рельсовым железом... Я даже не сразу
заметил его среди голых сучьев, к которым этот экземпляр
был прибит.
А из живых, дошедших до нас животных, из тех, что
жили еще до войны здесь, крокодил один только и остался.
Да и то потому, что он такой бронированный. На террито-
рии зоопарка тоже шли бои.
Я проснулся в этот день поздно. Было первое мая. Окна
выходили внутрь двора, в доме уже не топили, поэтому в ком-
нате было холодно и вставать — не хотелось. Нас каждое
утро в обязательном порядке увозили на выступление, и это
был единственный свободный день за весь этот месяц. Мо-
жет поэтому, мне тем более теперь было приятно сознавать,
что никуда не надо было ехать и можно поспать вволю. На
дворе шел дождь.
Я еще полежал немного в постели, потом оделся. Я спу-
стился вниз. Товарищи мои еще с вечера отправились в го-
сти...
Время от времени сюда ко мне, в подъезд гостиницы
этой прорывались звуки оркестра, доносились все нарастаю-
щие возгласы. Слышались песни, везде стояла милиция.
Я долго ожидал в подъезде.
Тут только я заметил, какими зелеными за одну эту ночь
сделались в городе и каштаны и тополя. Деревья стояли все
зеленые.
Должен сказать, что я был глубоко и давно недоволен
собой. Переходил ли я тот дряхлый и насквозь прогнивший
Прегель, или стоял у замка на мосту, возле замка все тех же
трех королей, я всегда ловил себя на одной и той же мысли.
Я все время думал, как чувствовал бы себя на этом месте
кто-то другой... Тот солдат, что был здесь в сорок пятом году,
когда брали город. И думал, какие бы чувства я испытал,
если бы теперь снова приехал в Германию, подошел к рейх-
стагу.
И я опять вспоминал своего товарища, того, который
равнодушно показал мне снимки, снимок, совсем недавний,
где он был запечатлен на фоне рейхстага моего. И как дру-
гие, прибывшие туда, тоже вот так, ходят. «Вот это вот рейхс-
таг?» Ходят вокруг и даже не удивляются.
И что стало бы, если бы мне поменяться с ним ролями.
Если бы это я сейчас подошел к рейхстагу, к Бранденбург-
ским воротам.
- 322 -
Все время я ловил себя на мысли, что я слишком спо-
койно хожу по этим улицам, ставил себя на место участника
и был недоволен собой. Кто-нибудь, думал я, окажись он на
моем месте, он бы обливался слезами! Как я в тот день, когда
после войны, через много лет, в хронике, увидел разросшиеся
возле стен рейхстага зеленые кусты и не спал всю ночь.
И еще я думал о том, что вот уже и первое мая встретил и
даже в зоопарк сходил, а все еще — мы уже около двух не-
дель колесили по области нашей, окраине нашей страны,— а
так и не побывал ни в одной здешней крепости. Да и города
я не видел по-настоящему. Так еще своими глазами и не ви-
дел ни одного форта. Я и сам мыслил, что раз Кенигсберг, то,
значит, форты. И мне уже хотелось напоследок хотя бы, но
поглядеть, что это такое.
От того ли, что мы не выступали, или от дождя, день
этот мне казался пустым, незанятым. А дождь — все лил и
лил не переставая. Я все же решил отправиться куда-нибудь.
Куда? Мне было все равно! Куда глаза глядят. Где-нибудь он
есть же, этот форт? Где-нибудь есть же эта крепость, раз
о них так много говорят!
Обычно, когда мы спрашивали, где же есть эти форты,
нам отвечали неконкретно. Вроде: «Да они тут везде!» Но я
только один раз, когда вот так однажды, отправляясь на вы-
ступление, в очередную воинскую часть, через город ехали,
увидел какую-то серую стену слева от дороги, перед въездом
в тоннель, на которой было написано, не помню что, что там
было написано — «Der Dohna» или «Der Brangel».
Но где это было? В какой части города? Я тогда не по-
нял и теперь не знал этого.
И тут вдруг, когда я так в нерешительности стоял на
тротуаре, собираясь перебраться на ту сторону улицы, возле
меня, сигналя зеленым светом, глазком, остановившись перед
светофором, готовилась тронуться с места машина. Я мгно-
венно, еще плохо понимая — не понимая еще своих действий,
выбросил руку, и, уже сев и захлопнув дверцу, я — последний
раз оглянулся на город. Демонстрация, по-видимому, уже
кончалась. Там — перед трибуной в городе, на главной пло-
щади внизу, проходили последние разрозненные колонны.
Земля парилась, парила не переставая. Город был цвет-
ной — зеленый.
Я повернулся к водителю и сказал:
— Отвезите меня в какой-нибудь форте
11*
323 -
— Ну куда же вас,— сказал он и включил скорость.—
Это ведь далеко.
И мы повернули за угол и поехали — мимо зоопарка и
памятника Шиллеру, уже знакомого, мимо стандартных, оди-
наковых, квадратных, низеньких и толстостенных, редко стоя-
щих один от другого домов, коттеджей и изгородей; изго-
роди, затянутые зеленой густой проволокой. Какой удиви-
тельный город, город-сад. Как кубанская станица. Дома тут
не смыкаются друг с другом, а каждый стоит по отдельно-
сти — и на окраинах и в центре. Впрочем, центра, того, ста-
рого, средневекового, мы как раз и не видели. Какой он был,
мы не знаем.
Первая зеленая травка уже всходила по газонам и вдоль
канав.
Вот и дома крайние, и дорога, все такая же — гладкая,
неширокая. Гладкая, асфальтированная. Мокрая дорога эта,
мокрый асфальт выходит прямо из города, и дальше уже
поле... Дома остались позади, и теперь мы ехали полем, через
поля... Какие-то решетки, кучки неубранной брюквы, про-
стор, площади еще не вспаханной земли — все дальше и
дальше. Я не оглядывался. Город оставался позади, за сет-
кой дождя.
Мы, должно быть, еще проехали несколько километров,
как вдруг, там, где кончилось одно поле и начиналось другое,
водитель остановил такси и сказал: «Вот здесь»...
Вокруг меня было все то же поле и лил все тот же дождь.
— Куда же? — спросил я, имея в виду, куда мне теперь
следовало идти.
— Дальше ехать некуда, — ответил он мне. Мне уже было
ясно, он говорил мне про что-то свое.
— Да, но где? Куда мне идти?
Мы все так же сидели в машине, и все так же лил дождь.
— А вот — и направо, и налево, куда хотите... В любую
сторону,—он сказал,—тут повсюду крепостя!
Я вышел, вылез из машины. Постоял на дороге — мок-
рой, пустынной. Все такой же. Водитель меж тем, не сказав-
шись мне, развернулся, и я не успел передумать и уехать
обратно. Я упустил этот момент, и он уехал.
Я сошел с дороги. Влево. Тут была какая-то тропка,
в траве. Даже похоже на кустарник. Я решил идти пока по
этой тропке. Ботинки у меня были уже грязные. Тропка
намокла и под ногой расступалась. Ноги разлезались. Понизу
начинались какие-то заросли.
324 -
Видно, тут была старая дорога. Я хотел идти еще дальше,
но прямо на дороге, в борозде, столб стоял и на нем: черной
краской, на доске — «Запретная зона».
Вот тебе и раз. Я оглянулся, дорога была пуста. Хотя и
знал ведь, что водителя моего там нет. Он ведь и не догова-
ривался меня ожидать...
Я постоял. Постоял, переминаясь, и пошел наудачу впе-
ред, не зная, что из этого будет. Так наудачу пошел.
Нельзя сказать, чтобы я отошел далеко, может быть,
с полкилометра еще... Показалась башня, красные стены.
Вернее сказать, сначала выступил лес, а потом и башня. Но
из-за дождя я не сразу все это разглядел. Пока не подошел
совсем близко, вплотную...
Из земли вылезали круглые, красного кирпича стены.
Над ними, наверху, росли деревья — зеленые высокие буки,
а может, грабы... Целый лес, роща.
Только на метр они выступали, поднимались они, сверху
же, поверху, многометровый слой земли. Все уходило в зем-
лю. Эта ушедшая на глубину башня, форт, поднимались над
землей на метр. Вот на этой насыпи и росли буки — густой,
частый лес, с подростом, с кустарником, с высокой, плотной
травой.
Я уже разглядел бойницы узкие.
Я подходил осторожно к этому месту, не зная, куда мне
идти потом... Когда я приблизился, я увидел, что вдоль сте-
ны — канал, какой-то ров, прежде скрытый... Я пошел вдоль
того рва; он весь зацвел, и из него плохо пахло. Там была
вода. Видно, вился он вокруг стены всей, этот ров. Я еще
немного прошагал по краю его, и потом мне встретился мо-
стик — железный мостик через ров... Мостик вел внутрь кре-
пости. Во двор. Держась за железные перила, я ступил на
прогнившие, уже сгнившие доски... Ров стал очень широкий.
Я миновал двойные ворота и наконец попал во двор, ма-
ленький, тесный каменный дворик, и тут же я рассмотрел
двери — две железных двери, которые вели, должно быть,
в подземелье, внутрь равелина, к пушкам. (Возле них стояли
ящики от снарядов.) Я обрадовался, что смогу пройти туда,
к бойницам.
И вдруг, я не успел ничего сообразить, я только услы-
шал, как на стене надо мной что-то зарычало, и в ту же ми-
нуту на меня, на плечи мне, бросился кто-то страшный и
- 325 -
сильный. Я упал, и чьи-то зубы норовили меня схватить
грызть... Я втянул голову в плечи, ничего не помнил, что про-
исходило дальше. Надо было бороться, и мы катались по
двору. Не так эти когти и эта пасть, как это поистине страш-
ное рычание и злобный удушливый лай. Он меня оглушал.
Я мог бы сказать, что мы одолевали друг друга, но не знаю,
можно ли так сказать. Я, вцепясь в шею, держал, и знал, что
отпускать я не должен. Мы катились по двору. Я не сразу
(конечно, это продолжалось одну минуту,—мне только по-
казалось так, что мы катаемся по этому двору долго), потом
понял, что произошло. Стараясь справиться друг с другом,
душа и хватая друг друга, и руками и клыками, мы оказались
на самой кромке этого канала, потому что я вдруг почувство-
вал облегчение: визг и последнее судорожное дыхание, по-
пытку освободиться из моих рук. И хрип, лай, испуганный
лай... Я разжал руки — почти одновременно, в тот же миг,
почувствовав отвратительную зловонность, хлынувшую от-
туда.
Я не вдруг поднялся. И даже не заглядывал туда, а толь-
ко услышал всплеск.
Когда я встал, я увидел, что мой старый, прорезиненный
плащ был весь раскроен, покровы слезали с него клочками.
Только он меня и спас. Лицо мое и руки были истер-
заны. Я поднял шляпу, поднялся сам. Потом возвратился,
перешел по мосту. Болотная, стоячая вода еще не могла успо-
коиться, воняла оттуда. Я отвалился, чтобы не глядеть на эту
воду, и как можно скорее ушел.
Теперь я уже сам не хотел возвращаться, я пошел вперед,
все мимо того канала и мимо рва, вокруг этой стены, кое-где
выглядывающей на поверхность. Не знаю, сколько прошел я,
теперь от меня и слева и справа был лес — черный, темный,
поросший мхом. Тропа становилась все заметнее, все шире
и лучше, скоро она повернула вправо, и этот зловонный ров
тоже повернул вправо, и очень скоро я вышел на поляну.
И где-то уже гудела дорога, и потом было поле и какое-то
селение вдалеке. У выхода из леса, здесь, где этот гниющий
канал соединялся с рекой, вливался в ее светлые воды, сидел
на берегу удильщик и таскал цветных красноперых рыбок,
весенних. Когда я подошел, он как раз вытащил одну. Я спро-
сил его, как выйти мне к дороге, — он с подозрением погля-
дел на меня, все еще держащего плащ под мышкой, который
я свернул, чтобы не напугать своим видом. Я ничего ему
о том не сказал, что произошло со мной.
- 326 -
Скоро я пересек один овраг, тоже наполовину заросший
лесом, и выбрался на дорогу. Она тянула от деревни, из даль-
него того села. Но не прошел я и десяти метров, как показа-
лась машина. Сзади шла машина.
Я снял шляпу, дождь все еще продолжался, водитель
остановился и так же молча недоуменно посмотрел в мое
лицо. Видно, ему непривычно было видеть человека в костю-
ме, стоявшего под дождем с плащом в руке... Но мало ли
какие чудаки встречаются... Он беспрестанно на меня погля-
дывал, на мои царапины.
Он посадил меня. В дороге ничего не случилось... Только
шофер сказал мне, он мне еще рассказал, что вот в этих ба-
раках гитлеровцы испытывали людей. На высоте, прикрытой
дождем, были видны какие-то дома. Бараки-лаборатории...
Испытательные камеры, где подвергали людей истязаниям,
испытывали людей на выносливость. Он мне сказал, что здесь
были военнопленные разных национальностей. Без сна, без
еды, кто сколько протянет...
Он же и сказал мне, что форт этот, за оврагом — в лесу,
называется «Королева Луиза». Я удивился — «Этот?» Да,
именно он! Я знал, слышал уже, что «Королева Луиза» форт,
который держался дольше всех.
Мы скоро выехали на шоссе. Знакомое шоссе, знакомое
поле. Водитель ехал как раз в город.
Еще через полчаса я был возле своей гостиницы.
Вечером, в том же вестибюле, в гостинице, полковнику,
начальнику дома офицеров, передал я, что со мной случилось
в тот день.
— Как же вы пошли один? — сказал он, с удивлением
уставившись на меня. — У нас тут так не ходят... У нас в лес
ходить опасно.
И он рассказал, что, выжитые из города во время войны,
и из хуторов, и из деревень, и из самого Кенигсберга, немец-
кие овчарки разбежались по лесам, одичали. У них давно уже
потомство... И они — о, это пострашнее волков... Волки
боятся людей, а эти не боятся. Они самые лютые враги чело-
века... Очень опасные звери.
— Как же вы пошли один? — он соболезнующе поглядел
на меня.— Сейчас их стало меньше, их истребили. Одно
время их было больше.
- 327 -
Бойцу, которому удавалось убить двух собак, предостав-
лялся отпуск домой, поощрение. Тут как раз в это время ба-
рабаны в армии вводить стали, а известно — самый лучший
барабан из шкуры собаки. Каждая рота должна была иметь
свой барабан...
И рассказал мне такой забавный случай... Веселую исто-
рию. Анекдот. В одной воинской части — у командира полка
пропала собака. Искали везде, повсюду, объявления дела-
лись, но она так и не находилась.
Собака была хорошая, и как ее ни искали, найти не мог-
ли. Тогда догадались поглядеть у себя в казарме. И когда
разостлали те шкурки на полу, жена майора, в одной из шкур,
обливаясь слезами, узнала свою любимую собачку.
В эту ночь я плохо спал, и меня все еще душила собака.
Только наутро, и только потом, постепенно, я понял, что все
это не шутка. Что все это всерьез. Все, о чем мне так весело
рассказывал этот полковник.
• ПЕСНИ НЕВОЛИ о
Сейчас уже много прошло времени, и, конечно, что-то
успело забыться.
Это, по-видимому, было в Померании, а не в Польше.
Да, в Померании, потому что вскорости же, как вспоминаю,
началось наступление на Одере...
Там меня уложили в госпиталь с новой, повторной
вспышкой легочного процесса. Я пролежал недолго. По ка-
ким-то признакам я почувствовал, что вот-вот грянет наступ-
ление. Последний рывок. И целью конечной на этот раз бу-
дет Берлин.
Не буду рассказывать, как мне удалось это, но я скоро
вернулся в свою часть. Когда я прибыл к себе, в дивизионку,
я понял, что вернулся я вовремя.
Это было в феврале, а может быть, и в марте... Так и до-
шел я до Берлина. А то не видать бы мне и ни Берлина, и ни
рейхстага.
- 328 -
Но я отвлекся, я ведь собираюсь рассказать об одной
встрече... Именно в том госпитале, когда я еще лежал в нем.
У нас была совсем маленькая палата, а людей в ней было
много. Тут были разные случаи, были и сердечники, и язвен-
ники, тяжелые. Были и контуженные, тоже тяжелые... Очень
много обожженных. Обожженных и потерявших зрение. Эти
последние были, как правило, танкистами.
Словом, разный народ тут был.
В небольшой нашей, правда очень светлой, солнечной
комнате мы лежали на нарах в два этажа.
Я лежал внизу, с краю.
Это было удобно.
Чувствовал себя я не лучше многих, но лучше самых тя-
желых... И конечно, как всюду, — и здесь у меня — лежал под
подушкой мой блокнотик, и я его то и дело доставал. Строч-
ки стихов, начав однажды рождаться, уже не давали покоя.
Небольшой — чистенький немецкий дом, в котором мы
помещались, стоял возле оживленной дороги, и потому, когда
проходили машины, он сотрясался и дрожал. Ночью свет
фар скользил по стенам и нарам, задевая людей — и спящих
и неспящих: и мечущихся от боли и бессонницы, и тех, что
были в глубоком обмороке — после укола.
Я — писал. Писал странные для человека на войне стихи,
в которых сама война отражалась весьма мало; какие только
и могут писаться на войне — когда люди разлучены.
...Полушубок твой, — писал я, — белый воротник.
Или:
Под разрушенной стеной Варшавы
Наших взглядов расцвела сирень...
В той же палате — наверху, напротив меня — лежал один
парень. Был он молоденький, моложе нас всех; а уж мы, ка-
жется, все тогда были молоды... Голос у него был хриплый,
сиплый; время от времени ему становилось трудно дышать.
На щеках, как я видел, у него выступали алые пятна. Мы все
понимали, что это значит.
У него были глубокие — добрые, очень хорошие глаза...
Мы все только тем и занимались, что рассказывали друг
другу о себе. Целыми днями тем только и занимались. Люди
были из разных частей, разные по возрасту и по военному
стажу. Одни воевали с первого дня войны — хотя таких лю-
дей и было уже мало; другие захватили только ее послед-
ний — наступательный период.
- 329 -
Молодой парень на верхних нарах отмалчивался, но все
слушал, был со всеми приветлив. Слушал он с интересом и
как-то радостно, я бы сказал, с благодарностью, что он мо-
жет слушать все, что тут говорится. С лица его при этом
нс сходила добрая, милая улыбка. Все же, как я понял, был
он человек замкнутый.
Я проснулся в это утро рано, чувствовал я себя лучше.
Танкист, обожженный, с наглухо замотанной головой, лежав-
ший от меня так близко, что я все время боялся его задеть,
как-то меньше стонал. Солнышко заглядывало к нам в па-
лату.
Тот парнишка тоже проснулся и там, на своих нарах,
изо всей силы налегая на карандаш, что-то писал в тетрадке.
И тоже, как я, когда ему принесли котелок с кашей, спрятал
свою тетрадь под подушку.
«Поэт»,— подумал я.
Через день или два я держал в руках его тетрадку.
Вышло так, что, когда опять на следующее утро я услы-
шал, как двигается по бумаге карандаш, я приподнялся и
заглянул наверх. Он с тою же своей улыбкой поглядел в гла-
за мне и сказал: «Это я для вас пишу».
Вечером уже он рассказал нам свое — непохожее на то,
что все мы перед этим рассказывали. В палате стало напря-
женно тихо... Эти люди — ходившие в атаку, жестоко мерз-
шие в окопах, сами подвергавшиеся невероятным лишениям,
иные раз по семь раненные, — вдруг как-то сразу убито при-
молкли.
В той тетрадке, которую он передал, были переписаны
стихи — письма, адресованные к матери. Письма с чужбины.
Завезли меня в страну чужую,
В хмурый край, где лишь один песок,—
Растерзают душу здесь любую
Колкий куст и жалкий вересок.
И дальше — столь же пронзительно, такими же рвущими
сердце словами — о том, как травили их собаками, как —
худшие звери — полицаи били в дверях. Об оплетенном ко-
лючей паутиной лагере, где не дают — «ни пить, ни есть,
ни спать».
Я б взлетел — но крылья перебиты,
Я б бежал — но связан по ногам...
В сорок первом году угнали его в Германию. Три года
он провел на чужбине, побывал во многих лагерях... Каш-
- 330 -
ляя, парнишка рассказывал, как в тот же лагерь попали наши
бойцы, сражавшиеся на Эзеле-острове...
Как-то неожиданно для нас всех приоткрылась эта пе-
чальная страница — то, с чем близко никто из нас не сталки-
вался, что было словно бы за семью замками... Лежали, ни
слова не говоря. Обгоревший, с завязанными глазами танкист
тоже затих.
Примолкнув, мы слушали, как в ноябре подвели всех их
к берегу. Раздетые до пояса люди должны были вытаскивать
бревна из ледяной воды — из застывшей, тронутой льдом
реки... В день заболевало по пятьсот человек.
Трупы людей не помещались на повозках, и их склады-
вали крест-накрест.
Все же — всего страшней был голод. Пленники получали
так называемый смертельный паек — кружку баланды. Одна-
ко, чтобы достать и это, люди должны были становиться в
очередь с ночи.
Часто человек, не дойдя до котла, умирал...
Повозки с телами товарищей они — такие же смертники,
завтрашние мертвецы — отвозили в лес, за территорию ла-
геря, где были выкопаны глубокие рвы.
Об этих рвах говорится и в песне. По утрам на кухню
лагеря привозили повозку гнилой картошки, нечищеную,
грязную, ее сваливали в котел. Случалось, кто-нибудь пы-
тался схватить с подводы полусгнившую картофелину. Тогда
происходила расправа. Человека раздевали догола и ставили
посредине двора на мороз. Если он не замерзал, эсэсовцы
добивали его из пулемета...
В песне — письме к матери рассказывается, как дрались
они, отражая десант, как много осталось в поле раненых и
как последние живые попали в плен. Заканчивается она
мольбой солдата — просьбой к матери прийти на его могилу:
Хватит сил, тогда приди к кладбищу —
Здесь нас, может, тысячи лежат...
Я недавно разыскал эти листки...
Он — из Смоленской области. На этих листках оказалось
записанным его имя... Фамилия его Василевский, а звали Ва-
силий...
Василий Василевский.
Перед своим освобождением Василевский находился в
Шнайдемюльском лагере. Когда наши войска подходили к го-
роду, Василевский вместе с товарищем бежал из лагеря. Не-
- 331
делю отсиживались в холодном сарае. Пока не пришли в де-
ревню наши разведчики.
Когда я выписывался, он оставался там. В углу, на верх-
них нарах. Куда его потом перевели, мне неизвестно. Дела
его были неважные... Лежал еще с неделю после знакомства
нашего с ним... Этот мальчик — такой же, как и мы. Сол-
дат. Который уже и после неволи успел повоевать, участвовал
в бою, а теперь вот — свалился.
Мальчик-солдат, которому досталось больше всех.
Я не знаю, что стало потом с Василевским, какова его
доля. Удалось ли ему взять еще раз в руки оружие и прийти
в Берлин — как он мечтал. Не знаю.
Мне тогда показалось, что дни его были сочтены.
И все же теперь, когда я взялся написать об этом — я
уж давно собирался, — я решил не просто рассказать про него,
но и назвать его фамилию — не менять ее: вдруг — как бы я
хотел, чтобы так было, — он выжил!
Много с тех пор прошло времени, событий много было.
А не могу я забыть эту встречу... Этого молодого бойца, ко-
торого я встретил в госпитале, под Берлином, перед послед-
ним и решительным нашим наступлением, и его песни —
песни неволи, которые он старался там записать...
Чужая боль — вовсе не чужая... Она остра для сердца,
как своя.
• ВИТАЛИ •
Мне не довелось побывать в тот год в Риге, и ни один
солдат нашей дивизии ее не поглядел. В город вошли другие
части... Мы ютились, помнится, на хуторе, в низком и грязном
неприбранном доме. Была осень. Октябрь... Надо бы мне
съездить хотя бы на экскурсию, но меня не отпустили: чем-то
я провинился перед начальством.
Да, так вот и не случилось быть тогда в Риге. И только
теперь я ее увидел. Контуры ее башен, ее шпилей. Пора-
стающие изумрудной травой берега каналов. И конечно, я
видел старую, средневековую Ригу, соборы, костелы ее.
И — кладбище латышских стрелков...
И был я еще в одном здании, выходившем на небольшую
и узкую улицу — примыкающем к обширной, зеленой, тоже
- 332 -
покрытой травой площади, здании, с виду напоминающем
рейхстаг, — в музее и латышского и русского искусства... Что
здание это с внешней стороны похоже на рейхстаг, не мне
пришло в голову — мне об этом сказали мои товарищи. Но я
с ними сразу же согласился, как только по плоским темным
ступеням стал подниматься наверх, как по той, тяжелой, кру-
той, бесконечной лестнице.
Значит, это был музей латышского и русского искусства.
Налево — латышского, направо — русского. Я смотрел то и
другое... Я отдал должное современной латышской скульп-
туре, действительно очень современной, и живописи. Старой,
прошлого века. Потом перешел в залы, что справа.
Много, очень много здесь было такого, что я видел впер-
вые... Тут именно, в Риге, я увидел надоблачные краски Ре-
риха. Да какого еще Рериха!.. И на каждом шагу натыкался
на что-нибудь редкостное. То попадался на глаза неизвест-
ный мне этюд Иванова, а то и великолепный Левитан даже.
Здесь же столкнулся с одним портретом, написанным еще
Перовым, о котором я раньше тоже ничего не знал...
Хороший был музей. Небольшой, но хороший. Все са-
мое лучшее, первоценное. Жаль только, что не мог я посмот-
реть все это как следует и не торопясь...
И как же много тебя, и как обильно ты и как щедро,
искусство русское, если не только в этой красивой старой
Риге, но в каждом скромном областном центре — в каком
нибудь темном и недостаточно освещенном зале — можно у
нас встретить Репина и Айвазовского. Я вот много так пови-
дал, повсюду, по всей земле. Нового, неожиданного для себя.
В самых, казалось бы, неожиданных местах. Где-нибудь в
Перми, Уфе или Краснодаре... И теперь вот в Риге.
В основном была тут, как я сказал уже, живопись... Но
и из скульптуры кое-что. Немного, только по углам да в про-
стенках...
В первом еще зале заметил я мраморную головку... Бюст
молодой женщины. У нее было такое величавое, задумчивое
лицо. Нежный и чистый облик ее как-то удивительно естест-
венно сочетался с чистотой мрамора. Я долго не отрывал
глаз.
Признаться, сначала я взглянул на нее мельком и даже
чуть не прошел мимо. Но когда я осмотрел весь музей, я
к ней вернулся.
Я глядел на нее сначала от окна, откуда лицо ее было
освещено дневным мягким светом. А теперь увидел из зала —
- 333 -
с затемненной стороны. Камень просвечивал, и было впечат-
ление, что этот живой теплый свет идет изнутри.
Такой спокойной и немного печальной улыбкой было
освещено ее лицо, что я мог бы даже не заметить, как оно
было обезображено. На щеке у нее был шрам, нанесенный
чем-то грубым и острым. И еще, как я увидел, уголок носа
у нее с одной стороны был выколот...
Я ушел зачарованный, унося в памяти ее строгие — жи-
вые, классически ясные черты.
В тот же день мы уезжали. Нас было четверо — целая
агитбригада, посланная из Москвы. Мы выступали в воинских
частях.
Я уже писал, как мы объездили всю Литву, Латвию, и
забрались дальше, в Калининград, где я видел — то же, что
видел тогда в Берлине... Голые скелеты домов, обреченные
тлению, столь шаткие и неверные, что никто не осмеливался
в них войти. Перекрытия да и стены сами в любой момент
могли повалиться... Город этот хотя уже и начали восстанав-
ливать, но в нем еще жила война.
Мы много ездили и долго... И много видели.
А на обратном пути опять были в Риге.
Я опять пришел в музей, попросить, чтобы мне с неко-
торых картин сделали снимки. Я спустился вниз, в полупод-
вальный этаж, где, как сказали мне, я мог найти главного
хранителя. Спотыкаясь, я прошел по узкому пыльному кори-
дорчику между разрушенными гипсовыми бюстами.
Хранителем музея оказалась худая большеглазая старуха
с коротко стриженными черными волосами.
Мы заговорили о музее, который мне так понравился. Во
время войны многое погибло, многое было растащено. Я рас-
сказал, какая в Калининграде стоит сейчас пыль. Ищут янтар-
ную комнату, украденную у нас гитлеровцами. И я рассказал
снова о том, как много отовсюду приезжает людей, поде-
литься хотя бы слухом, помочь найти это погребенное под*
развалинами сокровище.
Мы погоревали, как плохо еще у нас налажено дело с
розысками... Хотя вот удалось же и в Киеве и в Харькове вер-
нуть обратно, отыскать что-то из расхищенного. Да и к ним
немало возвратилось. Иные жители прятали картины, чтобы
немцы не увезли.
Вот так же — это вскоре после войны было — зашел к ним
один человек: в шинели, в невоенной серой шапке...
- 334 -
Он вот здесь у стола стоял. Поставил на стол свой веще-
вой мешок и взялся его развязывать...
Только он почему-то, сказала она, называл его — «си-
дором».
Он долго развязывал свой мешок.
Она ее сразу узнала, едва только он вытащил ее из меш-
ка и стал разматывать накрученную на нее старую гимнастер-
ку... Он, оказывается, ее в Берлине, в разрушенном доме на-
шел. Когда в Берлине война еще шла... На ней фамилия
скульптора проставлена... Фамилия, говорит, хоть и загранич-
ная, но он сразу понял, что девушка эта наша... Увезенная,
уворованная фашистами.
— Вы видели, наверно,—сказала женщина,—какая она
прекрасная. Хороший мрамор! Немного поврежденная толь-
ко... Это работа нашего Витали. Скульптор замечательный —
Пушкина лепил! У него в Кремле, в Георгиевском зале, фи-
гуры гениев победы...
— Забыла уж, откуда он, солдат этот, приезжал,—за-
кончила рассказ хранительница искусства музея. — Из Кост-
ромы, что ли... Во многих галереях он с нею был. Всюду спра-
шивал: «Ваша?..» Но узнал наконец, что она наша — риж-
ская, и привез ее нам...
Я поднялся наверх, чтобы еще раз взглянуть на эту го-
ловку.
• ДОМ ПАВЛОВА •
Во время войны я в городе этом не был, но хорошо пом-
ню, как тогда спрашивали все друг у друга, держится ли еще
дом Павлова.
Сколько мы про него слышали и в сорок втором и сорок
третьем. И сводка Совинформбюро регулярно нам сообщала
об этом доме, о его стойких защитниках... И тогда и после.
Уже когда и оборона кончилась, и немцев разбили, и в сне-
гах их утопили, а все еще об этом доме писали...
Вырвавшийся далеко за передний край — полуразрушен-
ный, обвалившийся (с одной стороны были видны лишь внут-
- 335 -
ренние перегородки), почти окруженный, держал он оборо-
ну, и немцы на этом участке не могли двинуться ни на шаг
вперед.
Дом этот сражался целых два месяца, даже тогда, когда
в нем оставалось всего несколько человек... Там был этот ге-
роический сержант. Я даже забыл, как его зовут. Фамилия у
него — Павлов... Все говорили: Павлов, Павлов, а имя как-то
даже и не запомнилось.
Я уже после войны — совсем, впрочем, недавно — слы-
шал от одного знакомого: он Павлова хорошо знает... Секре-
тарем райкома Павлов этот до недавнего времени работал*
Так вот он рассказал мне что.
Мы после волжских боев долго еще воевали. Сорок тре-
тий весь, сорок четвертый и еще сорок пятого часть. Пока
дошли до Берлина!.. Город, тогда называвшийся Сталингра-
дом, уж где был!
И вот в Берлине, в День Победы, а может, и немного
после, выстроили на улице полк наших бойцов. И генерал
сталинградский — кто это был: может, Чуйков или Родим-
цев — может, другой кто — обходил строй.
Возле одного солдата он останавливается... Боец как
боец: такой, как все, в прожженном ватничке, в шапке, поры-
жевшей от костров. Не совсем даже молодой по виду. Не-
сколько нашивок у него за ранения. И среди них даже три
тяжелых... Что ни говори — а это редкость, чтобы человек
был трижды тяжело раненным и чтоб оставался в строю. Не
каждый день встретишь такого человека и тем более к концу
войны.
Не удивительно, что генерал остановился подле бойца*
Спрашивает:
— Сталинградец?
— Так точно, товарищ генерал! Сталинградец...
Генерал опять кинул на него взгляд:
— Что, четыре раза ранен?
— Так точно, товарищ генерал. Четыре!
Видит генерал, ранения — ранениями, а орденов у солда-
та почему-то нет... Неважно насчет наград у солдата.
Генерал на адъютанта смотрит. Будто адъютант всему
виной... Помолчал генерал и снова обращается к солдату*
— Твоя фамилия как? — спрашивает.
— Павлов, товарищ генерал...
— Павлов?.. Ишь ты, — генерал улыбнулся.— Павлов!
Фамилия ему явно понравилась.
- 336 -
— Это не ты дом Павлова защищал? — смеется генерал,
и, конечно, солдаты тоже, на него глядя, смеются.— Слыхал?
— Так точно, слыхал... Это я.
— Как так! — вскричал тут генерал.— Врешь?
Солдат молчит... Задал он генералу задачу. Генерал опять
смотрит на свиту свою. Никто не знает, как быть...
Но генерал тут сказал:
— Так ты же герой!
— Так точно, товарищ генерал. Герой.
— Где же ты до сих пор был? Где твои награды?
— А у меня их нету... — отвечает солдат.
Генерал поворачивается к адъютанту, долго смотрит на
его грудь, потом быстро со своего кителя снимает Звезду.
— Так вот тебе! — говорит он и сам прикручивает ее, и
обнимает, целует бойца.
Так сержант Павлов, защитник дома Павлова, в конце
войны неожиданно для себя на берлинской площади полу-
чил награду...
Конечно, очень легко усомниться в рассказанной исто-
рии. Я и сам мог бы задать себе, да и задаю, не один вопрос.
Ведь как уж сказал я, и о доме Павлова, и о самом Павлове
много писали. Могло ли быть, чтобы сам Павлов ничего не
знал о том, что писали о доме Павлова? Но нет, почему же
не знал, может быть, и знал...
Но ведь он был, по словам моего же собеседника, ранен
и долго лежал в госпитале... А может, и читал, но что из это-
го?.. Но могло так быть, что и не знал ничего, не читал. Как
газетчик, я свидетельствую: часто герои не знают, когда мы о
них пишем! Товарищи же по палате небось читали, но кто
его знает — Павлов и Павлов, мало ли их, Павловых... А по-
том со временем об этом меньше стали и говорить и писать...
Забылось. Вернее, о доме еще говорили, а про солдата за-
были. Так и дошагал боец до Берлина неузнанный. И еще
несколько раз был ранен. И на Висле он был, и на Одере!
И только в Берлине — из рук генерала — получил он свою
звезду.
Я, повторяю, не знаю, так ли все это было, и было ли
вообще.
Скорее всего, это легенда.
Может быть, все это произошло с кем-нибудь другим и
только приписывается Павлову. Мы знаем, вокруг таких лю-
дей неизбежно ходит много легенд...
- 337 -
Но если даже рассказанная здесь история — вымышлен-
ная, то и тогда ее стоило рассказать.
Сам-то я в Волгограде был в дни, когда Волго-Дон от-
крыли. Только несколько дней и был. И уж потом, когда
уехал, сообразил, что как раз в степях, где я был и где потом
Волго-Донской канал открыли, немцы и были окружены. Тут,
на снегах, они и полегли. Помню снимки тех дней — черные
солдаты на белых снегах...
Вообще говоря, город меня поразил. Многое представлял
я себе иначе.
Мы приехали среди лета, стояла жара. Пробыли мы дня
два, может, три.
Мы, помнится, спустились к Волге по новой, только что
законченной — почти афинской — лестнице. Потом были на
каком-то острове, заросшем совершенно необычайными, пря-
мо-таки гигантскими деревьями — липами или вязами — в
темноте ничего нельзя было разобрать. Мы долго ходили ме-
жду этимимчеобыкновенно высокими деревьями, утопая в
песках.
Потом еще куда-то ездили, по-моему, на Мамаев курган.
Все это, разумеется, не сейчас же, а наутро.
Я сказал, что я многое представлял себе по-другому. Пре-
жде всего, я не знал, не имел никакого понятия о том, что
Сталинград фактически был весь отдан. Наши висели над са-
мым обрывом, над берегом... И все-таки — отстояли. Все-таки
удержались.
Передний край обороны проходил по самому берегу.
«За Волгой — для нас земли нет!..» Теперь мне становится
понятной эта фраза.
Отступать и впрямь было некуда.
Позади была Волга.
Грудь была еще на берегу, а ноги в воде... (Тот, кто по-
нимает образный язык, тот меня поймет.)
Немец сидел наверху и пел над головой:
— Вольга, Вольга, мать роднайя...
Сейчас тут, по самому берегу, где раньше проходила
траншея, на постаментах установлены башни танков и на са-
мих постаментах написано: «Здесь проходил передний край».
А тогда — тогда никаких этих башен не было, тогда в
траншеях сидели одни бойцы... Несколько бойцов на участок
целой роты.
Я спросил у проходивших мимо меня жителей, где тут
был КП Чуйкова.
- 338 -
— А под яром,— ответили мне. — Вот тут...— и показали
землянку, выкопанную в мягком осыпающемся откосе. Под
тем же берегом. Над самой водой...
...Мы все тогда были под яром — на тех трех метрах
земли.
Я уже знал, как это все выглядит, когда строится город.
Ведь при мне и на моих глазах восстанавливали Севастополь,
и мне было многое уже знакомо.
Если говорить о центре города, то в Волгограде мы за-
стали самые последние, исчезающие с улиц развалины. Неко-
торые магистральные улицы были совсем отстроены, даже
тротуары заасфальтированы. И только кое-где — изредка тор-
чали прутья арматуры и свисали ржавые балконы.
Самым характерным звуковым штрихом среди прочих
уличных звуков был звук скребка или кельмы... Железным
скребком по камню. Такой именно звук слышал я в Сева-
стополе.
Как только мы оказались в городе, мы увидели подъезд,
из которого вывели Паулюса.
Это было здание универмага.
Мы зашли туда, вспомнив, что нам надо купить носки, и
продавщица показала нам на первом этаже — именно в ее
отделе — место, где находился подвал, в котором сидел
Паулюс.
Мы жили в гостинице, в центре города, недалеко от
строящегося планетария и недалеко от площади Павших бор-
цов, где похоронены мальчик — сын Ибаррури и Хользу-
нов — летчик, защищавший Мадрид. Но мне все хотелось по-
бывать у дома Павлова.
В первый же день я спросил об этом доме. Но одни во-
обще не знали, где он находится, другие уверяли, что он да-
леко. Так что я уже сомневался, что увижу его...
Мы отправились в самый последний день, как раз перед
тем, как нам уезжать.
Сначала нас вела туда широкая светлая улица, на кото-
рой дома были сплошь новые. Улица Мира... Мы спросили,
как называлась эта улица прежде, но никто этого не знал.
Потом мы повернули и шли уже переулочками, под кра-
нами и под лесами, а потом и через котлованы — по осыпям
глины и штукатурки.
Так мы прошли еще квартала два и не знали, куда идти
дальше. Шли и оглядывались...
339 -
Мы увидели впереди себя парня, шагавшего со строи-
тельным ведром в руках. Он был в забрызганной известью
робе.
— Скажите, пожалуйста,— обратились мы, — где тут дом
Павлова?
Парень остановился — мы разговаривали с ним пока
издали,— внимательно поглядел на нас, перекинул ведро из
одной руки в другую и сказал:
— Пойдемте, я покажу...
Мы обрадовались и, догнав его, бодро зашагали рядом...
Парень искоса разглядывал нас, стараясь понять, кто мы
такие.
Я начал говорить, что трудно найти что-либо, когда во-
круг такая большая стройка.
— А вы сами кто? Почему ищете этот дом?..— спро-
сил он.
Я объяснил, что я только что сюда приехал, вчера вот
был на Волго-Доне, а сегодня хочу посмотреть дом Павлова.
И жена тоже. Я показал на шагающую рядом жену, которая
никак не поспевала за нами и отставала.
— А я уж думал, вы сами Павлов... — сказал парень.
Я отвечал, что нет, я не Павлов...
Мы узнали, что спутник наш — строитель, он и сам туда
идет. К дому Павлова... Он его восстанавливает. Повезло нам,
что мы встретили этого человека...
Парень еще раз сказал мне, что сначала, пока он не раз-
глядел, ему показалось, что я — Павлов.
— Я недавно, — он продолжал, — шел, и меня, так же как
вы, догнал один... Спрашивает, где тут дом Павлова, как
пройти. Я, говорит, второй час ищу. Ничего не могу найти,
так все изменилось... А вы что, спрашиваю, — разве здесь
бывали, знаете эти места? Да я сам Павлов и есть, говорит,
только ничего теперь узнать не могу... Ну я его вывел. При-
вел к дому самому... Он, оказывается, около него ходил и не
нашел...
— Вот как раз... — перебив себя, показал наш спутник.
На протянутых веревках висели рубашки, кофточки,
белье... Перед нами был небольшой, четырехэтажный дом...
Он стоял недалеко от Волги — среди других домов. Обычный
стандартный дом, простенький, из силикатного кирпича, по-
строенный, должно быть, в году тридцать третьем, тридцать
пятом... Дома, стоящие рядом, — по-видимому, новые, — были
побольше, повыше. Теперь этот невысокий, скромный, ча-
- 340 -
стично заштукатуренный и даже побеленный и, конечно,
давно заселенный дом стоял как бы во дворе, внутри... Я даже
не разобрал, выходил ли он на улицу.
Наш парень — тот, на стройку к которому приходил че-
ловек, назвавшийся Павловым, поставил ведро и куда-то
ушел, а мы принялись разглядывать здание.
Наполовину оно было уже забелено. Только часть стены
еще оставалась черной. Мы были рады, что застали хоть один
этот угол. В самую последнюю минуту... Видно было, как
тщательно заделаны пробоины.
— Сильно он был разрушен? — спросил я.
Девушка-белильщица ответила:
— Ой, прямо дыра на дыре, весь в дырах...
Мы обогнули угол и тут, на боковой стороне, на уровне
второго этажа, прочли на доске:
«Дом Павлова»
передовой бастион обороны; этот дом в те-
чение сентября — ноября 1942 года героиче-
ски защищала под командованием сержанта
Павлова группа бойцов 13-й гвардейской
стрелковой дивизии».
Не скрою, я подумал тогда, что, может быть, не надо
было его штукатурить и белить, а оставить этот дом таким,
каким был он в дни обороны, сохранить его героический об-
лик... Я думаю, захотели бы в нем жить и не в побеленном...
Как, может быть, и не надо было даже убирать и такой
памятник обороны — развалины на площади: первое, что
увидели, при выходе из здания вокзала...
Когда, приехав, мы вышли из вокзала, посреди площади
увидели холм, сложенный из щебня и штукатурки, и на нем
сверху — сваленные и лежащие крест-накрест мраморные,
почти белые колонны...
Конечно же надо было нам оставить хоть эти классиче-
ские развалины — частицу военного Сталинграда.
Взял бы да и заключил эти колонны под стеклянный
колпак...
Останется, как мне сказали, одна мельница. Есть такая,
на окраине, высящаяся над Волгой мельница. Обгорелая, как
кочережка...
- 341
ИДЕМ ДАЛЬШЕ!
Я на него глядел и не мог понять, на кого он похож. Но
снимков в газетах было еще мало, и не все они одинаково
передавали его облик. Он — все еще летел, и только он один
знал пока, какое там небо над головой и Земля какая из кос-
моса.
Когда я забежал домой, жена мне сказала, что она услы-
шала его голос оттуда. Что он уже сел. Перед этим переда-
ли посланную из района приземления информацию Де-
нисова, напечатавшего в «Правде» мои рассказы о Пятниц-
ком... Через минуту мы, как в войну, опять слушали тор-
жествующий голос Левитана. Затем повторили передачу
из космоса. Я прижался плотнее к динамику, но все равно
разобрал не все слова... Рев от скорости, от движения был
очень сильный.
«Все идет хорошо, все работает нормально», — уверял он.
Казалось, больше всего он озабочен одним: чтобы остав-
шиеся на земле люди не боялись за него, и, явно успокаивая,
говорил, что чувствует себя хорошо.
«Приборы работают нормально, оборудование — нор-
мально... Все хорошо — все в порядке... Идем дальше!»
Да, он так и сказал: «Идем дальше!»
Как она у него вырвалась, эта фраза — явно непод-
готовленная, сказанная от себя! Именно — вырвалась...
Сначала это даже смутило. Я даже подумал: «Может, он там
не один?»
Но он и во второй раз так сказал: «Все идет хорошо. Все
работает нормально. Идем дальше...»
Вот так и в Берлине, в дни, когда война шла к концу,
когда рейхстаг был близко, наши командиры докладывали, и
по проводам и рации: достиг такого-то пункта, нахожусь
там-то... Идем дальше!
И в этих и в тех днях было много общего. Все — как
тогда. То же возбуждение и тот же блеск в глазах. Без
рейхстага и без Знамени Победы не было бы этого взлета...
Он, этот юноша, как-то сразу всем поднял головы. Как
тогда...
Потом мы — от нас это близко — вышли на Ленинский
проспект. По нему, как по дороге славы, после свершенных
подвигов возвращаются в Москву все наши герои: и он —
Первый космонавт, и тот, другой, которого он предсказывал
- 342 -
нам — Космонавт-Два... Все окна на Ленинском и все бал-
коны были заняты. Люди стояли на крышах. Ребятишки пу-
скали воздушные шарики в космос... Люди кричали, видя ли-
цо этого человека, дерзнувшего пролететь — как бы раньше
сказали — перед престолом бога.
Но я ничего не видел. Я держал на руках жену... Когда
я ее опустил, я увидел только его высокую фуражку и спину.
И мне — со спины — показалось, что это один из моих фрон-
товых друзей.
Через полчаса, когда мы были дома и, постучав к сосе-
дям, у которых телевизор, вбежали в квартиру, он уже стоял
на Мавзолее. Приложивший руку к козырьку майор. И те-
перь мне опять показалось, что я знаю его. Я попытался по-
нять, на кого он похож.
И потом, когда молодым, звонким голосом начал он речь,
меня не оставляла эта мысль.
Сразу почти, как мы увидели улыбчатое его лицо, мы его
полюбили... Мы глядели не отрываясь, глядели на этого па-
ренька, сына Земли, как на небожителя, на сопричастника
тайн мироздания.
Конечно, мы думали, что он будет в небесном костюме
космонавта, а он был в обычной армейской шинели, держал
по-военному руку и в этот момент, вероятно, больше всего
напоминал мне одного молодого комбата.
Он говорил, и мы так восхищенно на него смотрели, что
совсем забыли, что он сделал, — почему так чествуют его всеь
И за то время, пока он стоял на трибуне, не подумали ни
разу о главном: как летел он там в своем корабле и как
вырвался за пределы Земли. О всем том, о чем он пока, в
суматохе этой, сказал лишь несколько слов.
Его снаряд-корабль назвали «Восток». Мы — Восток...
Мы знаем, чем был для гитлеровцев Восток. Этим словом
клеймили «восточных» рабочих. «Ost», — писали они. «Цю-
рюк!» — кричал ему, этому пареньку, немецкий вахмистр и
гнал от отцовской избы...
Он был ребенком, когда мы уходили из Гжатска, он был
мальчишкой, когда мы опять в него вошли.
Да, я все смотрел на него и думал, на кого он похож: на
Неустроева, на Давыдова или на Егорова — тоже смоленско-
го. На всех сразу...
На трибуне стоял юный, хорошо владеющий собой че-
ловек. Майор, слетавший в просторы Вселенной и занявший
теперь все наши мысли, первым увидевший, что Земля круг-
- 343 -
лая и небо вовсе не голубое... И сейчас, когда он двигался —
когда он говорил, улыбался, — мы сразу поняли, что газетные
фотографии, появившиеся, когда он был еще там, не давали
о нем представления, словно бы на портретах был другой че-
ловек. Этот — которого мы видели — нравился нам гораздо
больше... Кажется, он был здесь единственный, единственный
из всех, кому удалось справиться с волнением. Именно, мо-
жет быть, потому, что он был моложе всех, ему удавалось
владеть собой.
Он сказал речь, и, когда по площади пошли вглядываю-
щиеся в него, ликующие колонны-толпы, он неловко подни-
мал руку — человек, поднявший нас к звездам. Уверявший
нас из космоса, что чувствует он себя хорошо... И сказавший
оттуда нам свое замечательное «Идем дальше» — слова, что
говорили те храбрые люди... У него теперь та же звезда, что
у них. Младший их брат.
Как говорили их в тот другой, в апрельский день...
Ты прав, дорогой. Идем — дальше!
НЕЛЬЗЯ НИКОГО ЗАБЫВАТЬ
В самом начале я хотел сказать о тех, кто мертв.
О них надо сказать прежде. Не сказав о славе мертвых,
я не мог бы говорить о живых.
Не потому только, что мы не любили в свое время гово-
рить о погибших. (Если судить по газетам того времени, у
нас погибло очень мало... Но ведь в те дни и портреты сол-
дат, героев, печатались только тех, что в новеньких гимна-
стерках...)
Я говорю, нам надо спешить рассказать о павших.
Раньше — о них. Хотя бы потому, что живые о себе рас-
скажут сами. И поэтому уже о них скорее напишут дру-
гие... Напишут те, кто войны не знал сам. Те же, что погибли,
за себя уже не скажут... И судьба их может забытой ос-
таться.
Я не люблю безымянных братских могил, как и услов-
ных символических памятников. И не могу забыть одного —
под Таллином, бывшим Ревелем. Возле бесконечно на-
катывающих волн северного залива. С символом вечно-
- 344 -
сти — ангелом, летящим над головой... Памятник экипажу
«Русалки».
«Россияне не забывают своих героев-мучеников», — гла-
сит надпись на нем.
И на земле, впереди постамента, на плитах — мрамор-
ных досках — выбиты имена всех погибших в тот день дале-
кого 7 сентября 1893 года. Каждое — на отдельной доске... Не
только командира — всех. Каждого матроса. Все 165... Будто
могилы их и не в море, а здесь же, на берегу.
Почему меня и волнует так этот памятник — он челове-
чен в самом прямом и простом смысле слова. На нем не сим-
вол скорби, а имена — имена вчера живых людей...
Они — достойны славы... Пусть сегодня их имена неиз-
вестны, но мы, живые, мы должны о них помнить.
Никто не должен быть забыт... Я бы каждое имя выбил
на граните... Всех, кто лежит в своих затерянных могилах.
По всей Европе. По всей России. В могилах без холмиков.
С холмиками и без холмиков...
Все — и живые и мертвые — достойны славы. Мертвые —
тем паче.
Никто не должен быть забыт. Никого нельзя забывать!
• ФЛАГ •
Его наспех рвали от первого попавшегося под руку ку-
ска. Несли над головами.
И, стоя пред ним на коленях, клялись — ни пред кем не
вставать на колени...
Все я вспоминаю теперь.
Мы были еще, наверно, очень малы. Я не мог тогда знать
этого: потому что мне самому было столько, сколько моим
товарищам.
С раннего утра мы выстаивали возле школы. Мы
разбирались и строились в ряд. А под окнами уже шли
праздничные колонны. На демонстрацию. Мы смолкали и
делали первый шаг. Слышалось только наше дыхание да
- 345 -
топот отставших. Или от музыки, или от флагов у нас за-
хватывало дух.
Мы шли по улице к сельсовету, и пели.
И флаг, живой, развевающийся на большом длинном
древке, волновался над нами.
Пятые сутки мы отходили. Было это всего несколько лет
от того школьного, от того солнечного утра. Как быстро мы
выросли!
Враг гнался за нами по пятам. Мы были голодны и босы,
мы все были без сапог. Нам еще предстояло пробиться через
кольцо окружения, и оно сжималось все туже. И было нас
всего пять-шесть человек.
Все, что оставалось от роты.
Мы несли его попеременно, то один, то другой. У кого
больше было сил...
Кто — донесет!
Ночью предстоял прорыв. Тут мы наш флаг, знамя своей
части, обернули, спрятали на теле нашего товарища. Ему под
гимнастерку.
И снова двинулись в путь.
Была темень, ночь. Было очень трудно нам. И все же мы
пробились, вышли.
И флаг — был с нами.
Год прошел... Вокруг лежали снега. А сразу же за бруст-
вером — незамерзающее, теплое болото, и через него вела
маленькая, узенькая тропиночка. А дальше, за тропинкой и
этим болотом, сопка. Укрепленная, прорезанная траншеей.
И темный лес по краю горизонта.
Каждый метр впереди, перед этой сопкой, прострели-
вался. Но мы все равно поднялись, покинули траншею и гусь-
ком, один за другим побежали по тропе через это болото,
к сереющей на снегу траншее.
И красный флаг развевался над нами...
Его еще в траншее сжимал стоящий слева от меня боец,
В белом полушубке, с белым воротником...
И еще два прошли года...
Утром увидели мы — за площадью, почти рядом, тот са-
мый дом, который уже был как цель. Лейтенант, один солдат,
и еще один солдат, с ходу, разорвали тик, красную, найден-
ную в доме перину, и побежали...
Да, когда вечером они бежали по площади, у них над го-
ловой висел, тяжело ложась им на плечи, флаг.
- 346 -
Этот-то наш, грубо сделанный, самодельный, импрови-
зированный, солдатский, низко привязанный к колонне флаг,
может, и был самым первым. Первым поставленным на рейх-
стаге.
Та военная ночь оказалась последней...
Когда эта ночь прошла, когда настало утро — первое
утро мира, все сразу же его увидали. Тот красный флаг на
струганом древке...
И Ленин в Мавзолее тоже лежит на знамени^
СОДЕРЖАНИЕ
••••••••••••••••••••••••••••••••
ЖИЗНЬ ПОЭТА
ОТЦЫ
Город............................. 7
Жизнь поэта........................ 9
Владимир Ильич.................... 11
Новый год......................... 13
Дед Оленчук....................... 14
Тимур............................. 15
Монолит........................... 17
Лавка Каландадзе.................. 20
Сверстник......................... 21
Когда мы пришли с войны........... 22
Поколение......................... 28
Дом Грина......................... 32
Школа характера................... 35
Отцы.............................. 37
На учет........................... 40
Кредит............................ 42
Печальный дьявол.................. 44
- 348 -
Персидские мотивы .................... 47
Кто-то................................ 50
Московский дворик..................... 53
Будни................................. 54
Война и мир........................... 56
Любовь................................ 57
Друг.................................. 59
Снимок................................ 60
ПЕРВАЯ КНИГА
Первая книга.......................... 62
Снегу навалило........................ 64
Серые................................. 66
Гадюка................................ 67
Медвежонок............................ 69
Хмель на тычинке...................... 70
Крылья................................ 71
Чечен................................. 72
ГОЛУБОЙ РЕЛИКТ
И ПРОЧИЕ НАИВНЫЕ
РАССКАЗЫ
Весна................................... 74
Огоньки................................. 75
Птенцы выводятся........................ 76
Мальчики................................ 77
Крабы................................... 78
Мальчик на дельфине..................... 81
Голубой реликт ......................... 83
Вовка приехал........................... 85
Дяденька Достань........................ 86
Грибы-ягоды............................ 87
Выморозок............................... 89
Смешная белка.......................... 91
Про клеста.............................. 92
Мишка................................... 94
Рассказ соседа ........................ 98
Черепаха............................... 99
Лоси....................................102
Ветрячок................................103
Пушистый персик.........................104
- 349 -
Живица.............................107
Лодочка............................108
Веревочка..........................109
Воскресный день.....................ПО
Кулички............................111
Птица..............................114
На Капри...........................122
КАК КОНЧАЮТСЯ ВОЙНЫ
ПРОРЫВ 131
РАССКАЗЫ
ШЕСТИДЕСЯТОГО ГОДА
Дорога ...................... 165
Серое здание.......................166
Немногие знают.................... 168
Через Кенигплац....................169
«Полковник» Берест.................171
Встреча............................173
Забытый солдат.....................174
У нас в памяти ................... 175
С флагом.......................... 176
Высота.............................178
Щербина . . .......................179
Комбат............................ 181
Командир дивизии...................183
Какой рейхстаг брать...............185
И настал мир...................... 185
До сих пор.........................187
Часы...............................188
Наши дети 189
ОПУСТИТЕ ОРУЖИЕ
«Белые мамонты»................191
После приезда......................192
Щит Берлина........................201
«Опустите оружие!».................205
Мой гид............................214
350 -
Записки .............................226
Стоянка..............................233
В конце лета.........................241
ПОЭТЫ И ВОИНЫ
Майский сон......................250
Алеша................................251
Володины стихи.......................256
Солдат-песенник......................261
Гроза................................268
Брат мой......................< . . . 270
ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
Это — мы ........................272
«Фрау дер Зиг».......................274
Верность друга ..................... 279
Там — в деревне . . ........ 282
Русский доблестный богатырь..........287
Документ.............................290
За полночь...........................293
Воскрешение........................ 296
В детстве, в раннем детстве......... 302
На ночлеге...........................309
Дружок...............................309
Пасхальный обычай...................311
Трофеи . . . 312
Кадры................................315
Разрушенный город....................316
«Королева Луиза».....................316
Песни неволи....................... 328
Витали...............................332
Дом Павлова..........................335
Идем дальше!.........................342
Нельзя никого забывать...............344
Флаг.................................345
Р2
С89
Субботин Василий Ефимович
ЖИЗНЬ П ОЭ ТА
М., «Советский писатель», 1968, 352 стр. Тем. план вып. 1967 г.
№ 137
Художник В. И. Морозов
Редактор Н. Н. Нефедов
Худож. редактор £. И. Балашева Техн, редактор //. М. Минская
Корректоры Л. //. Жиронкина и Л. Г. Соловьева
*
Сдано в набор 28/VI 1967 г. Подписано к печати 23/Х 1967 г.
А12934. Бумага 60х84‘/1в № 2. Печ. л. 22 (20,46). Уч.-изд. л. 18,49.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 1775. Цена 74 коп.
*
Издательство «Советский писатель»,
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10
Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая
типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Комитета
по печати при Совете Министров СССР
Москва Ж-54, Валовая, 28
7-3-2
137-67