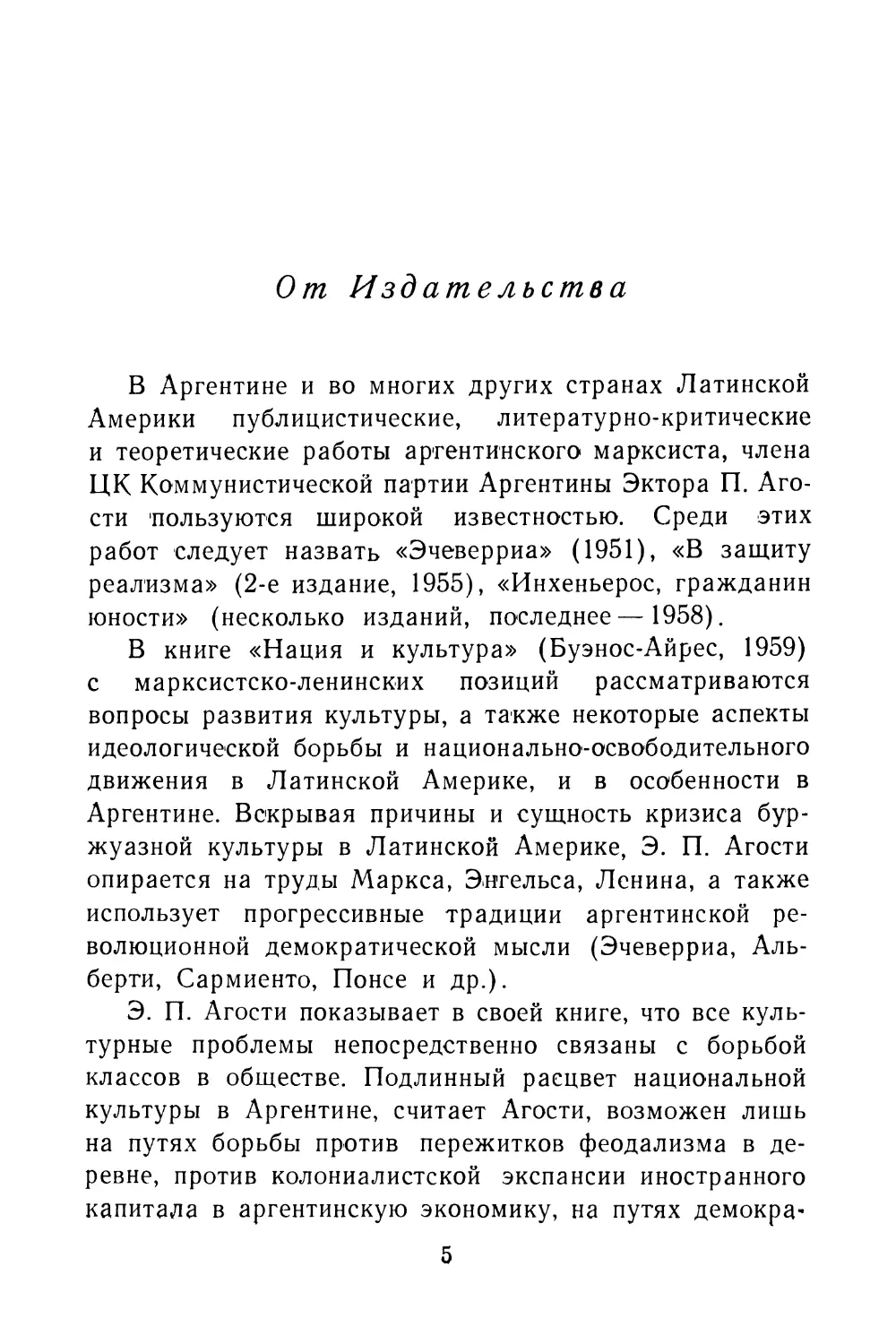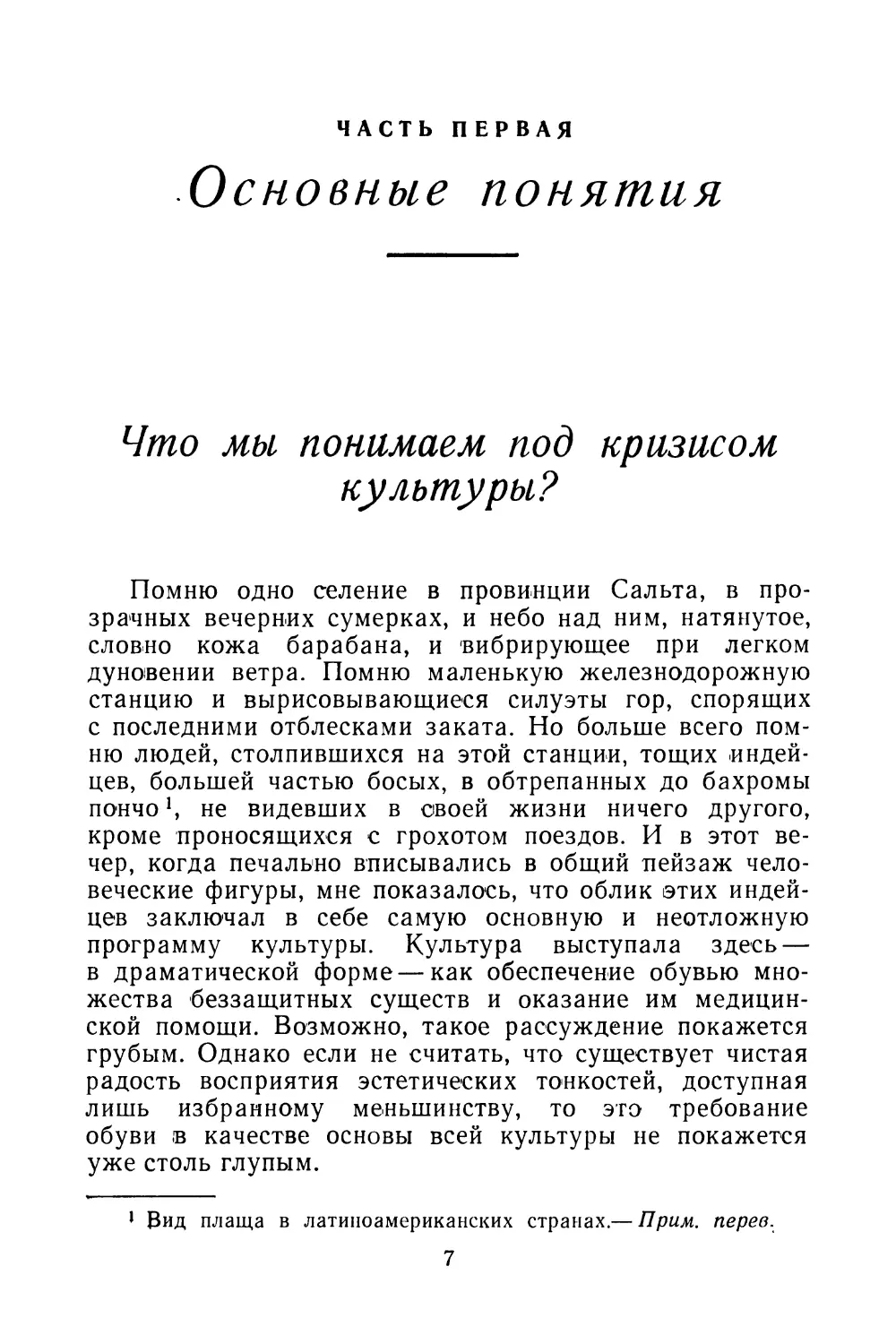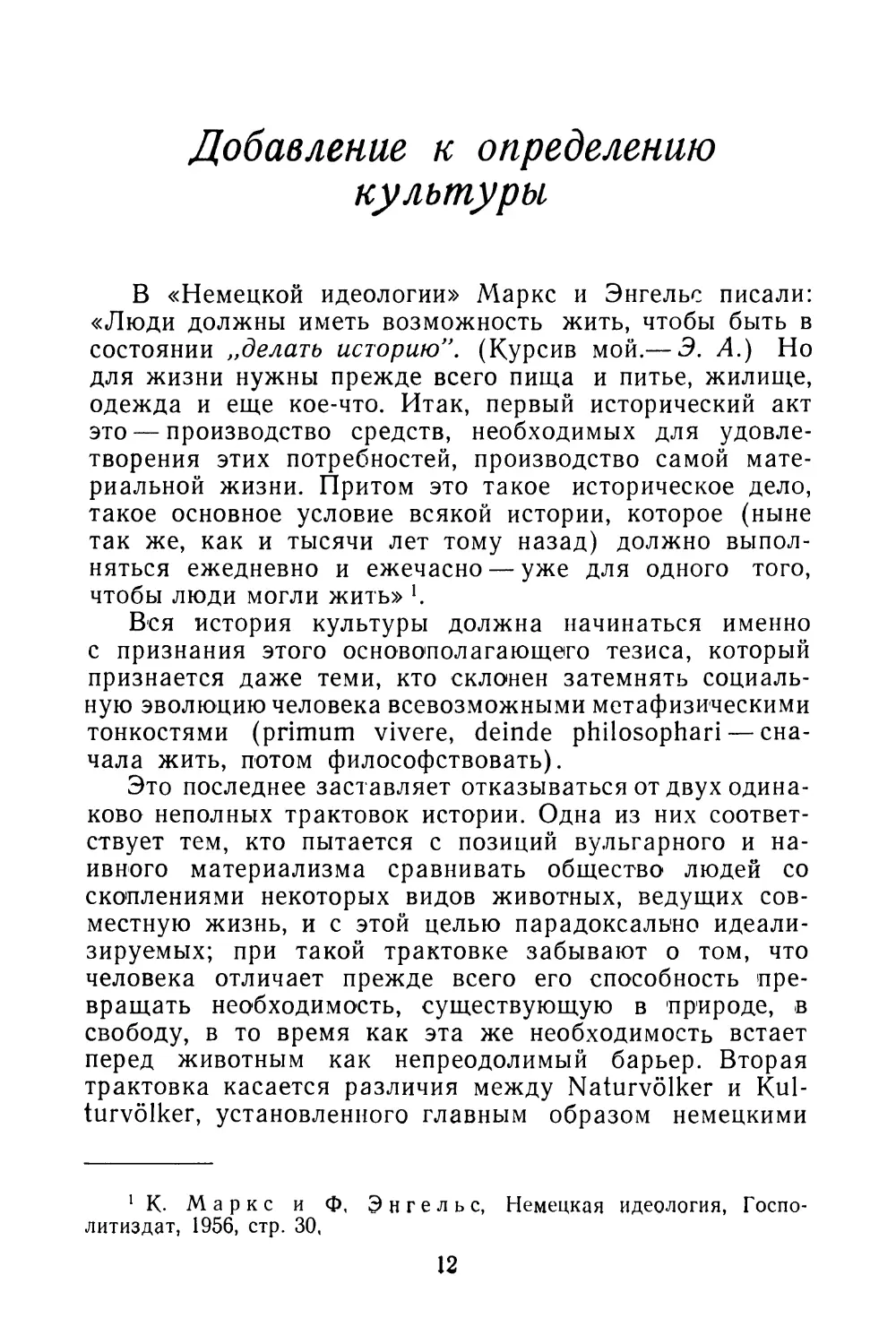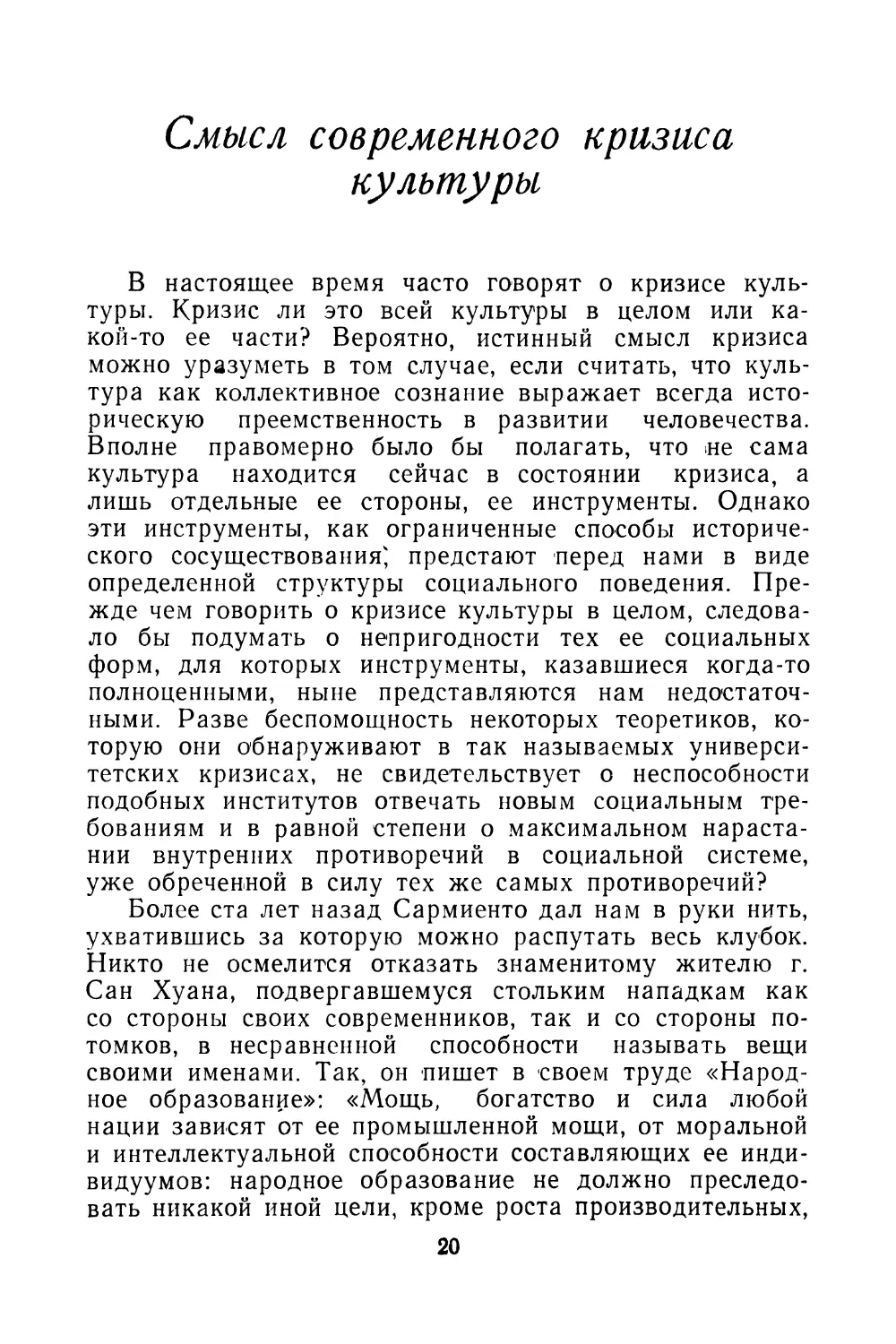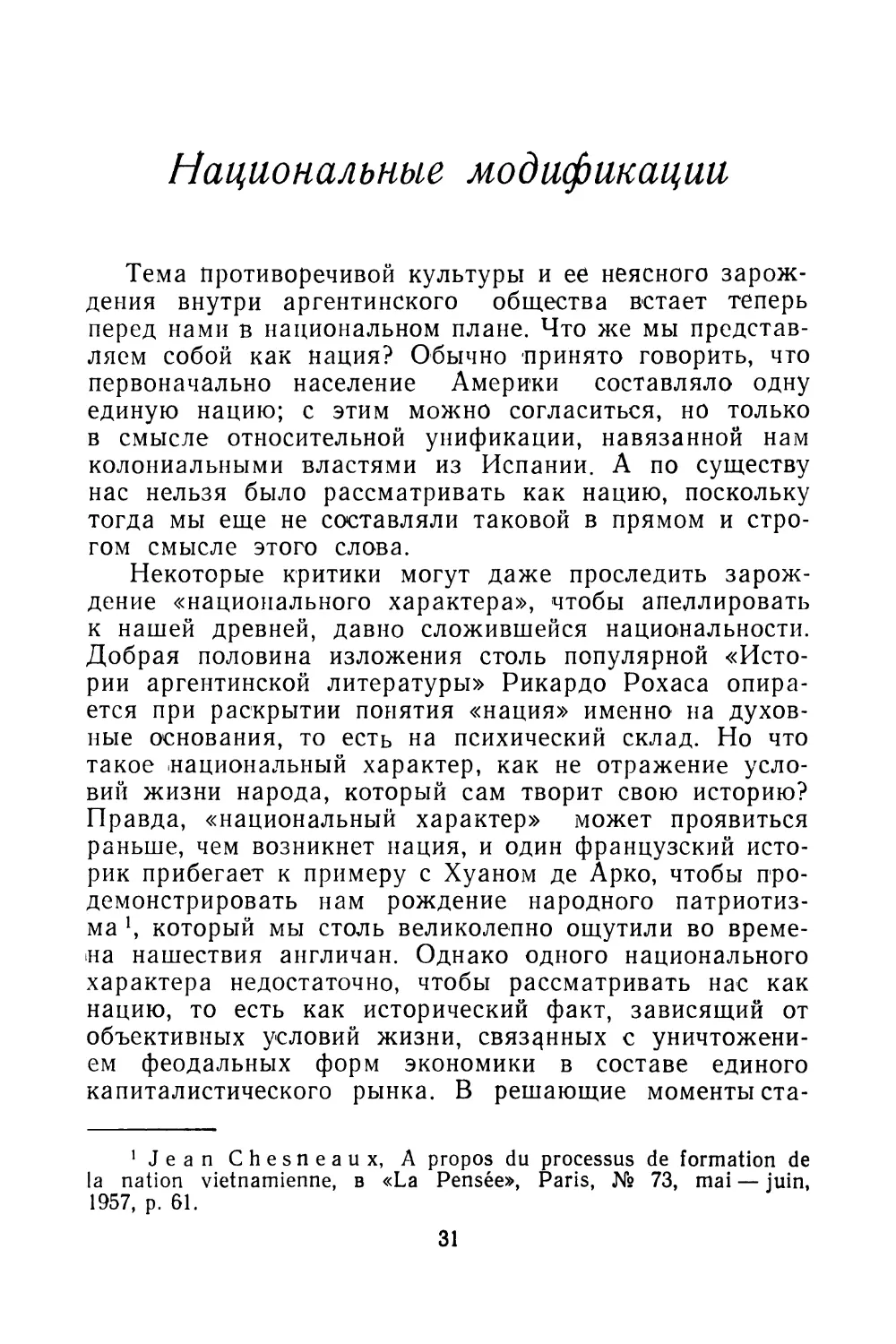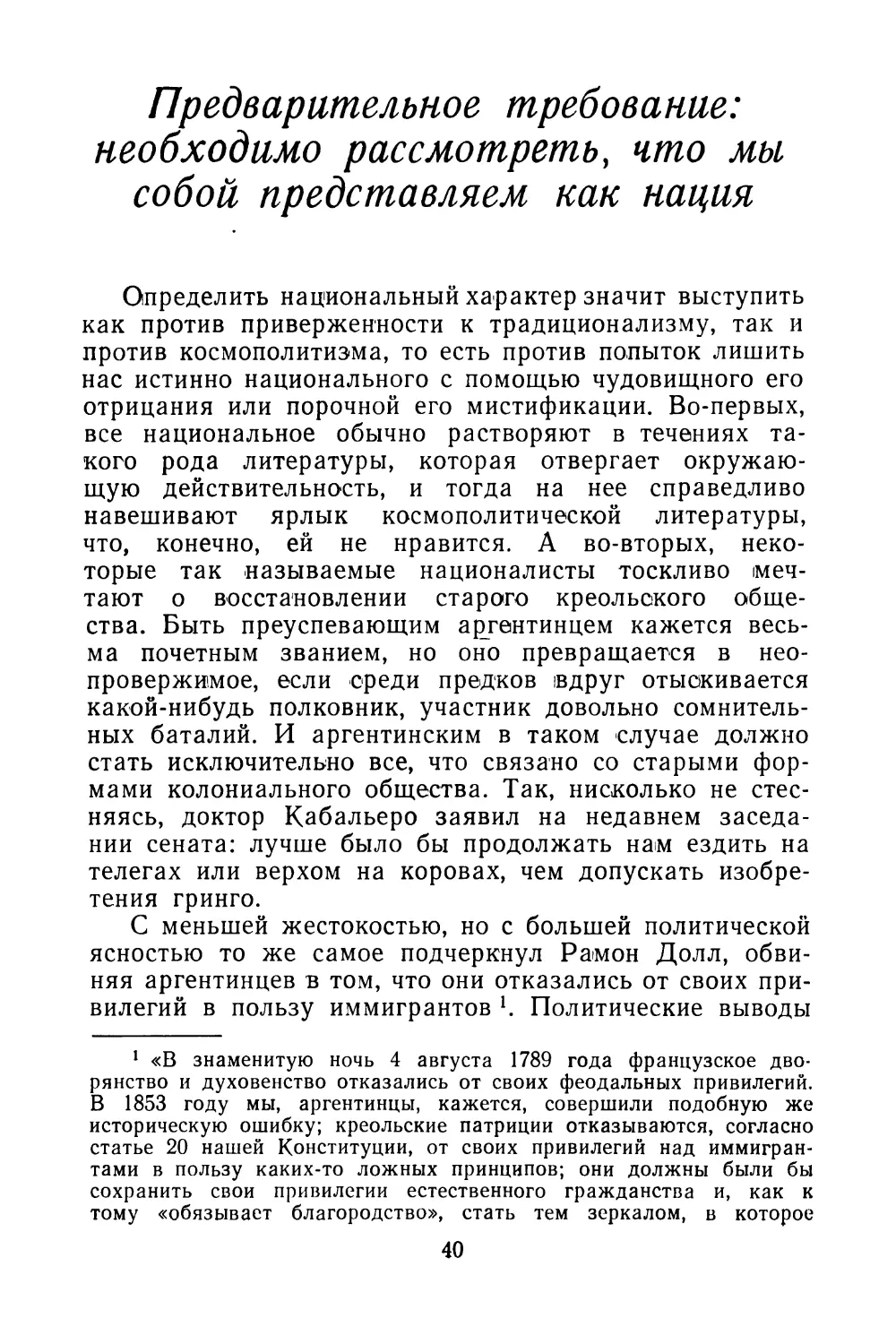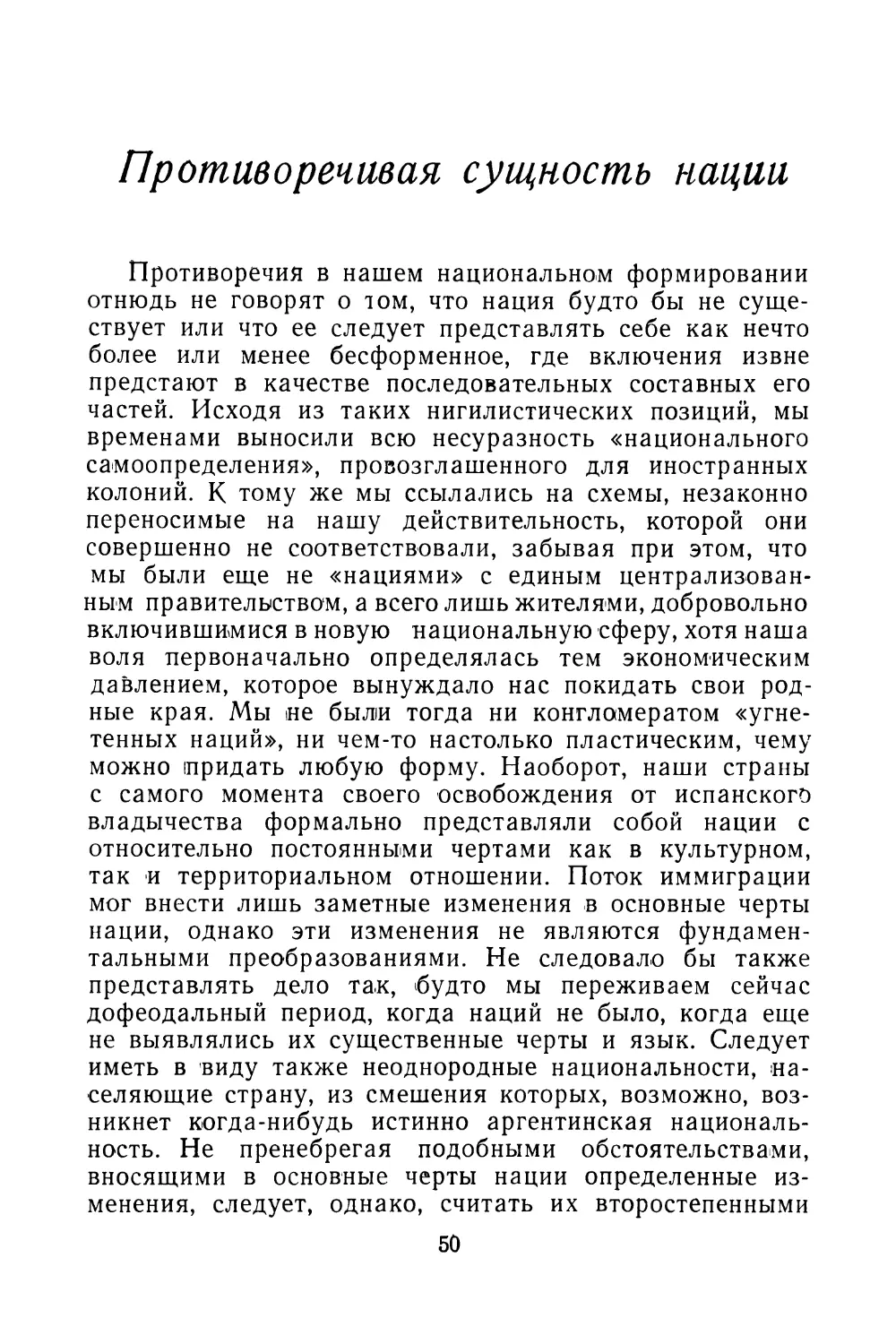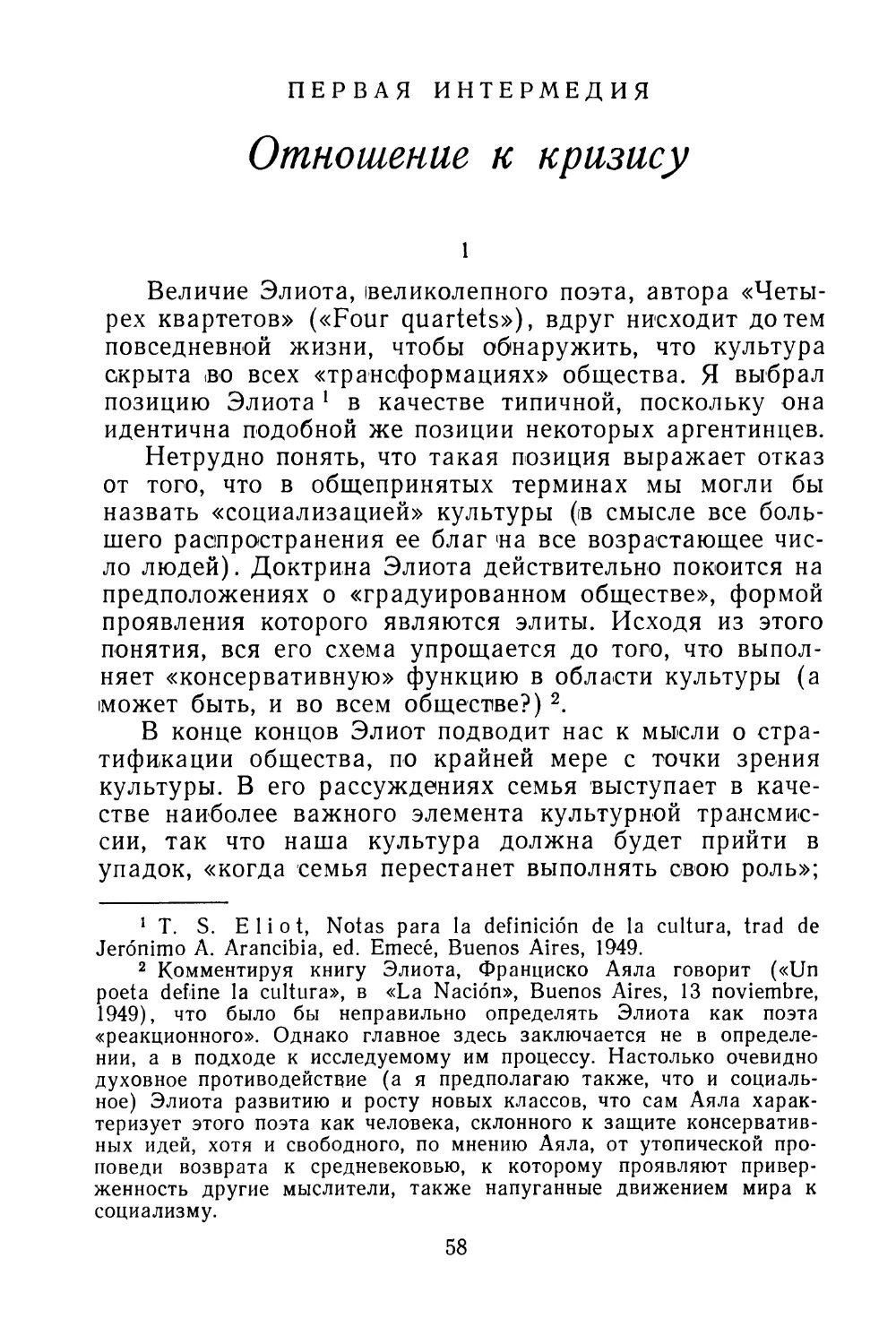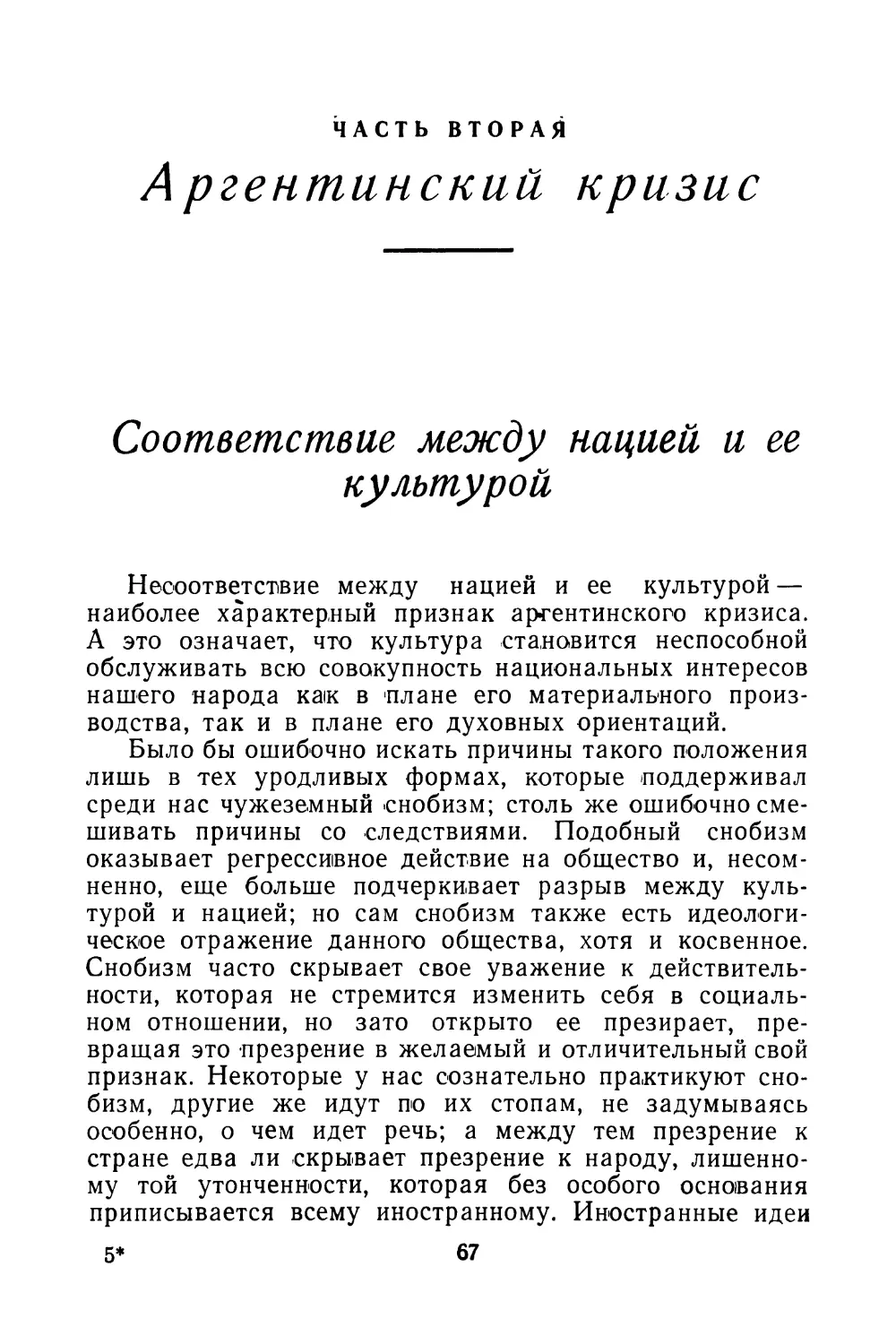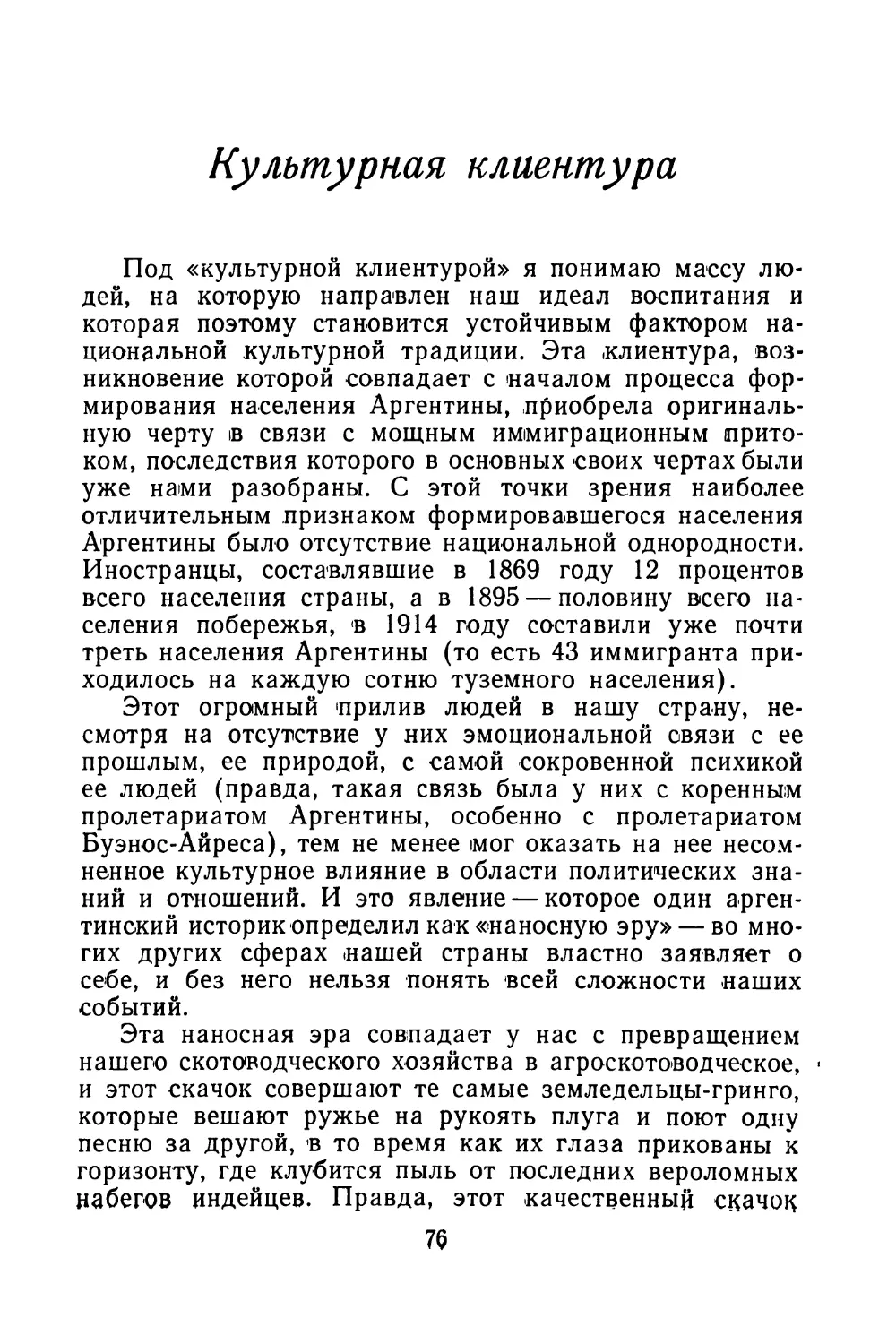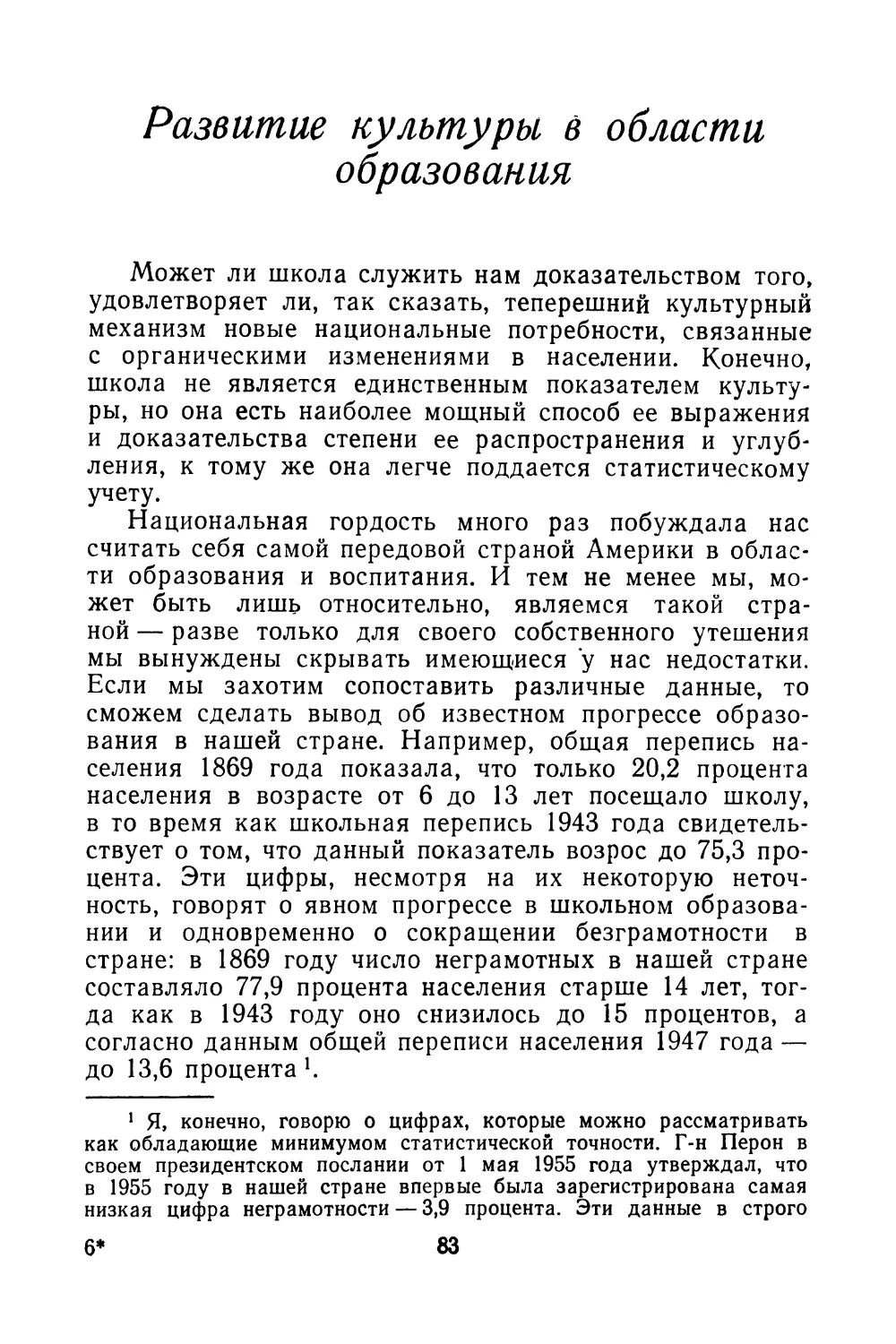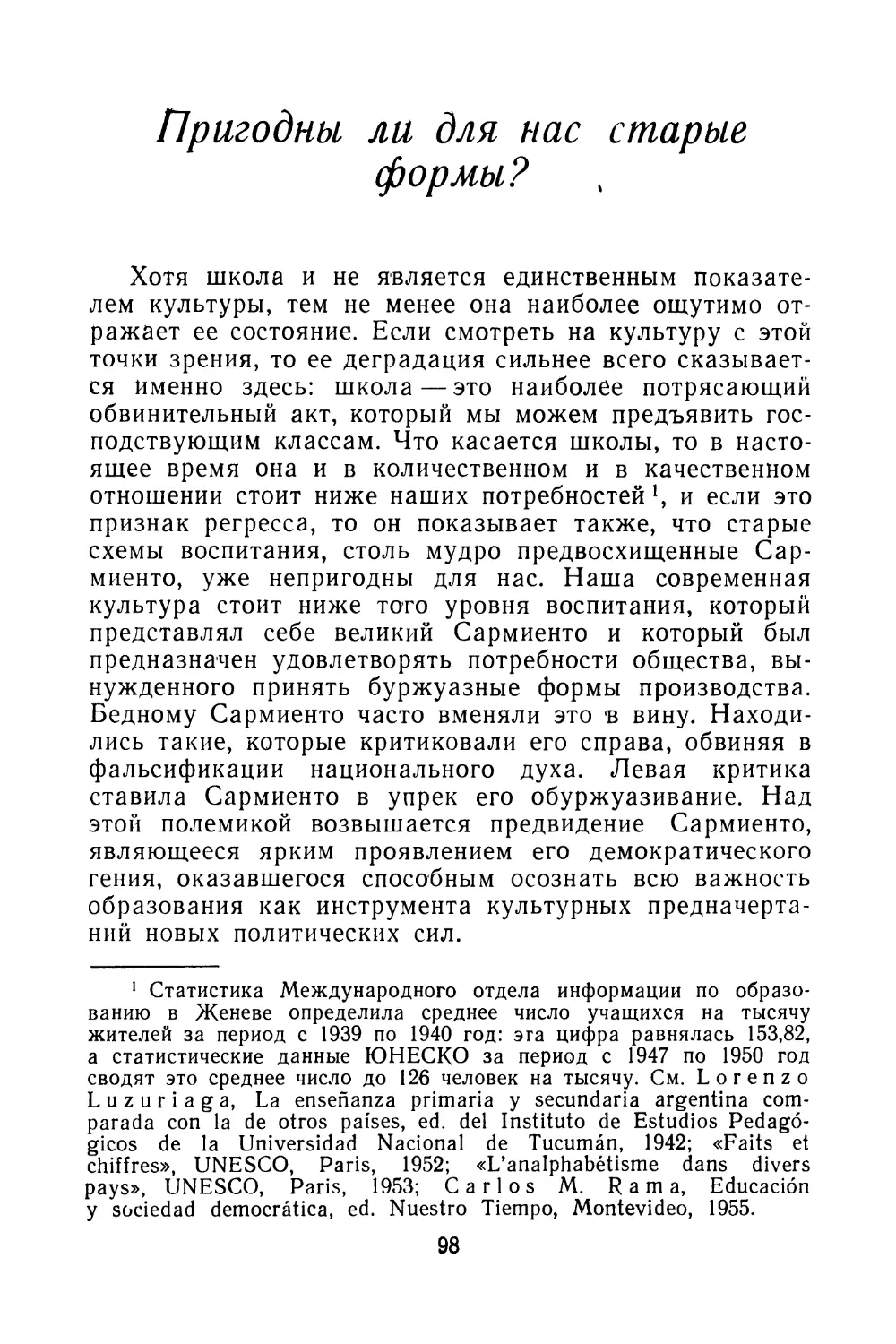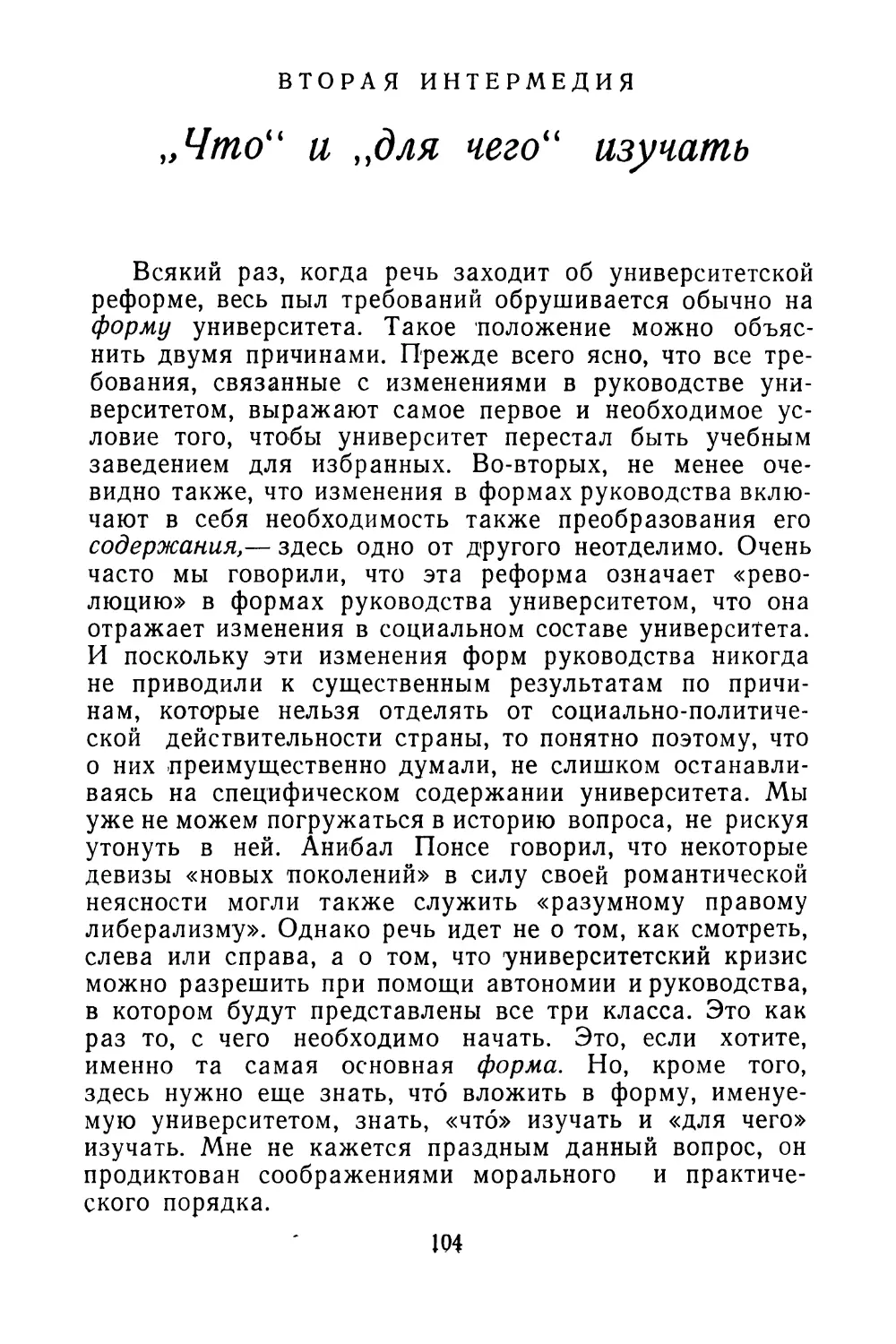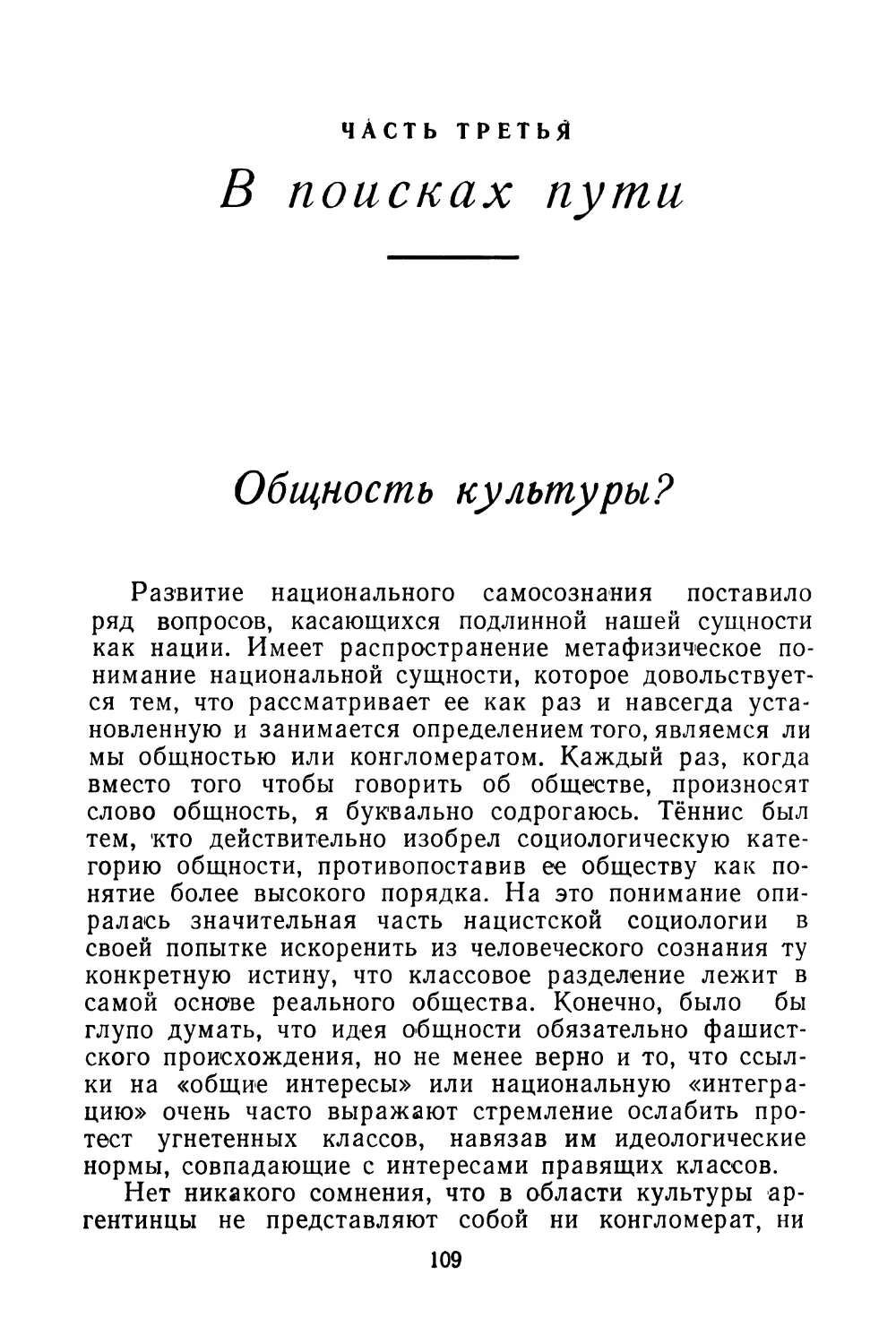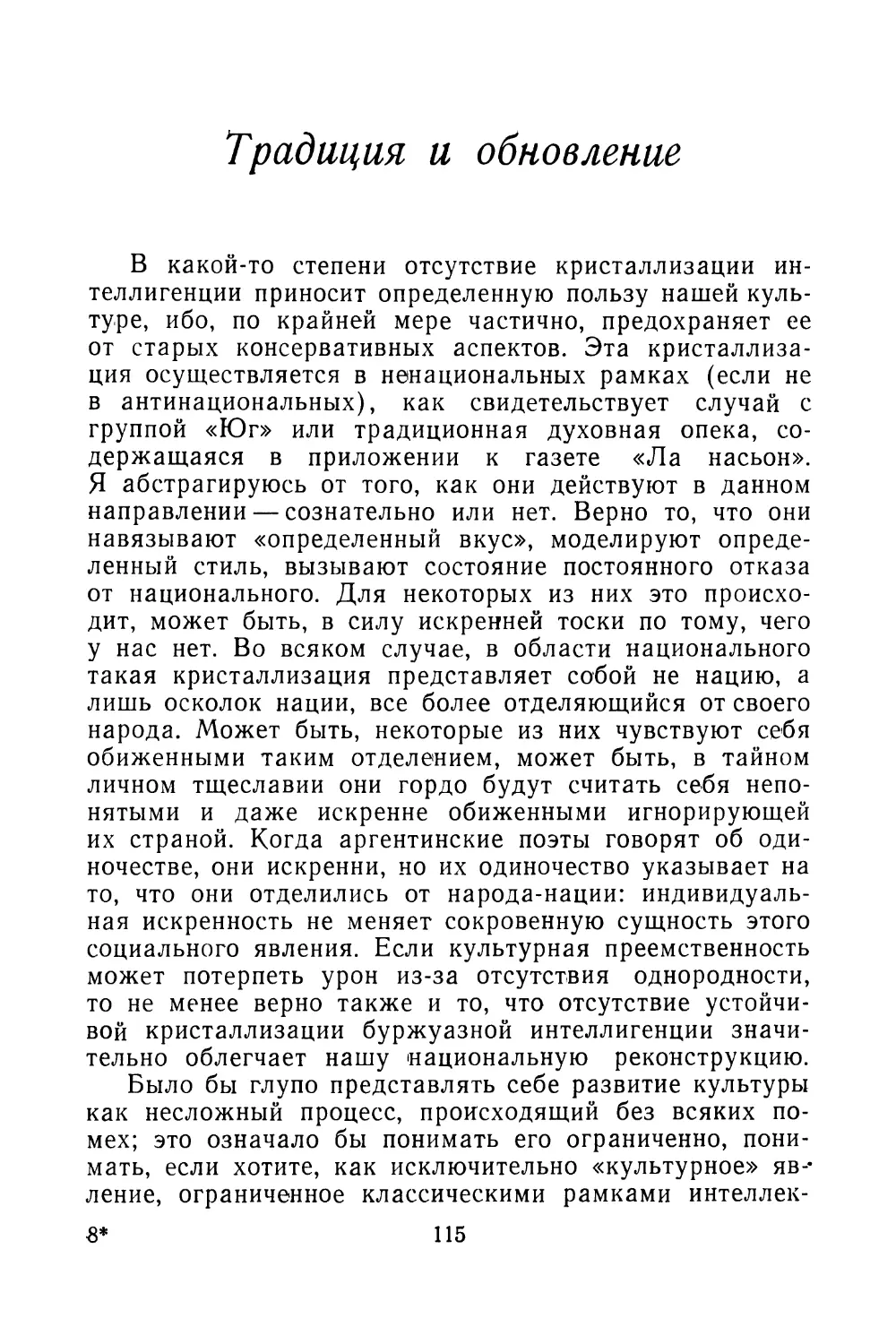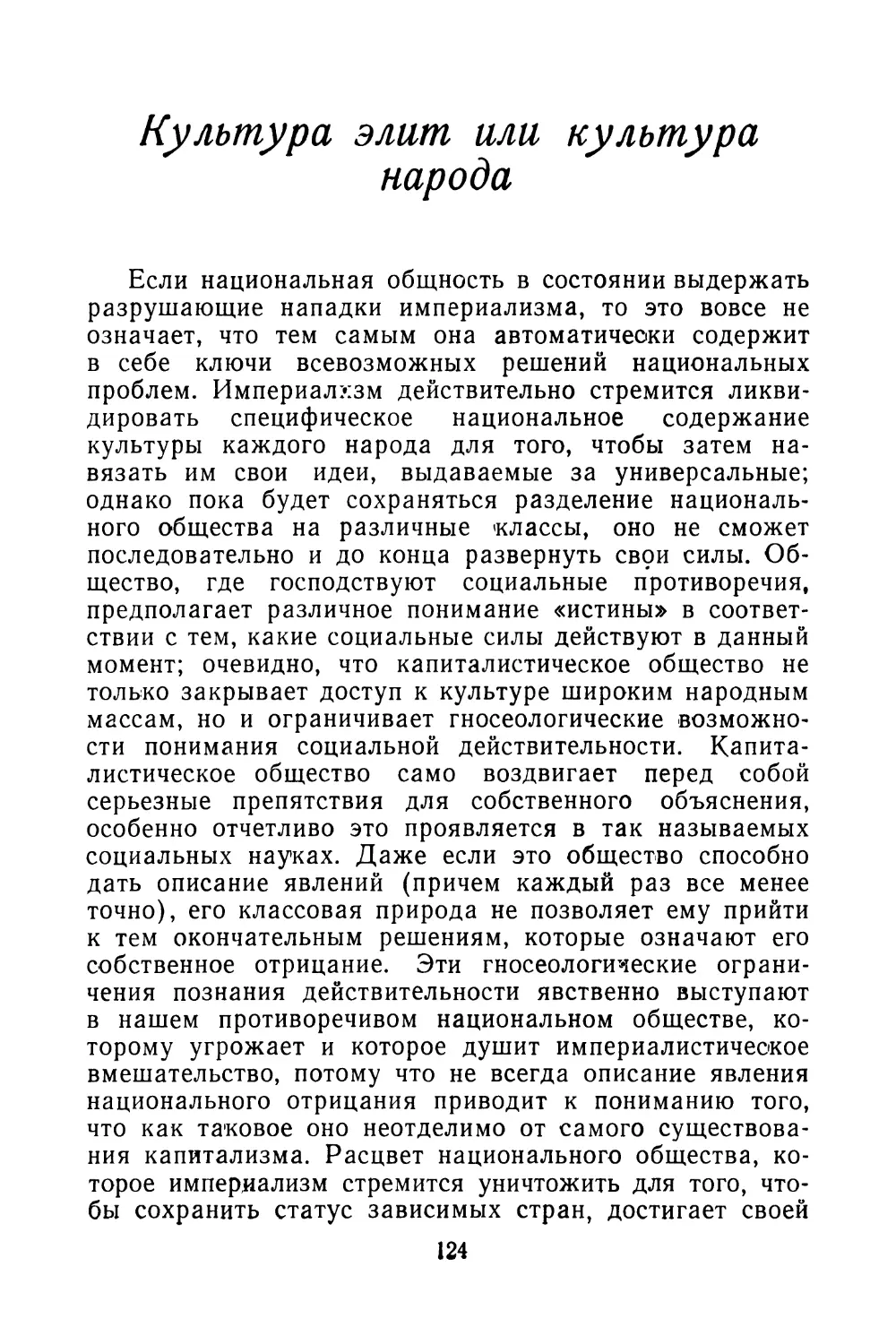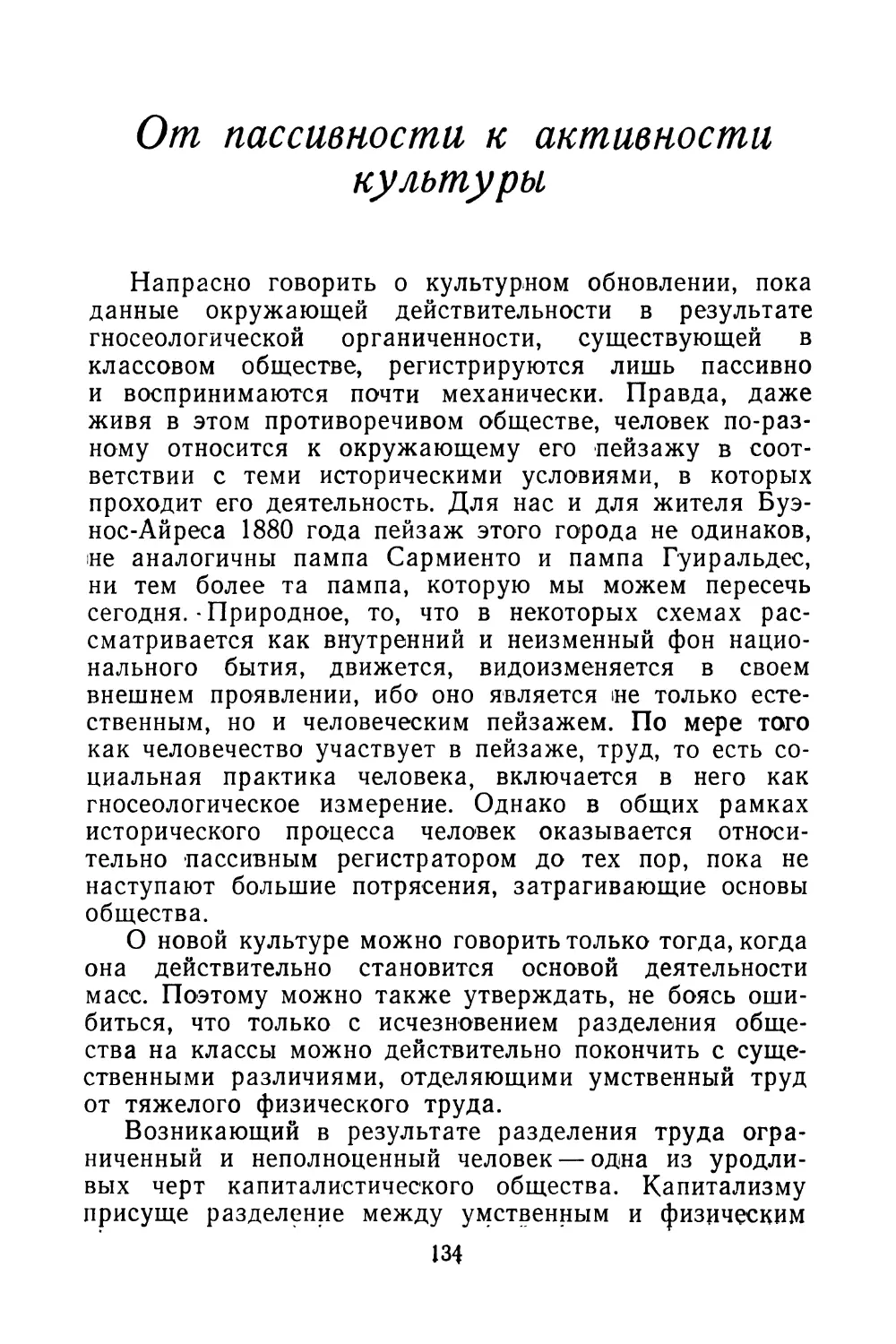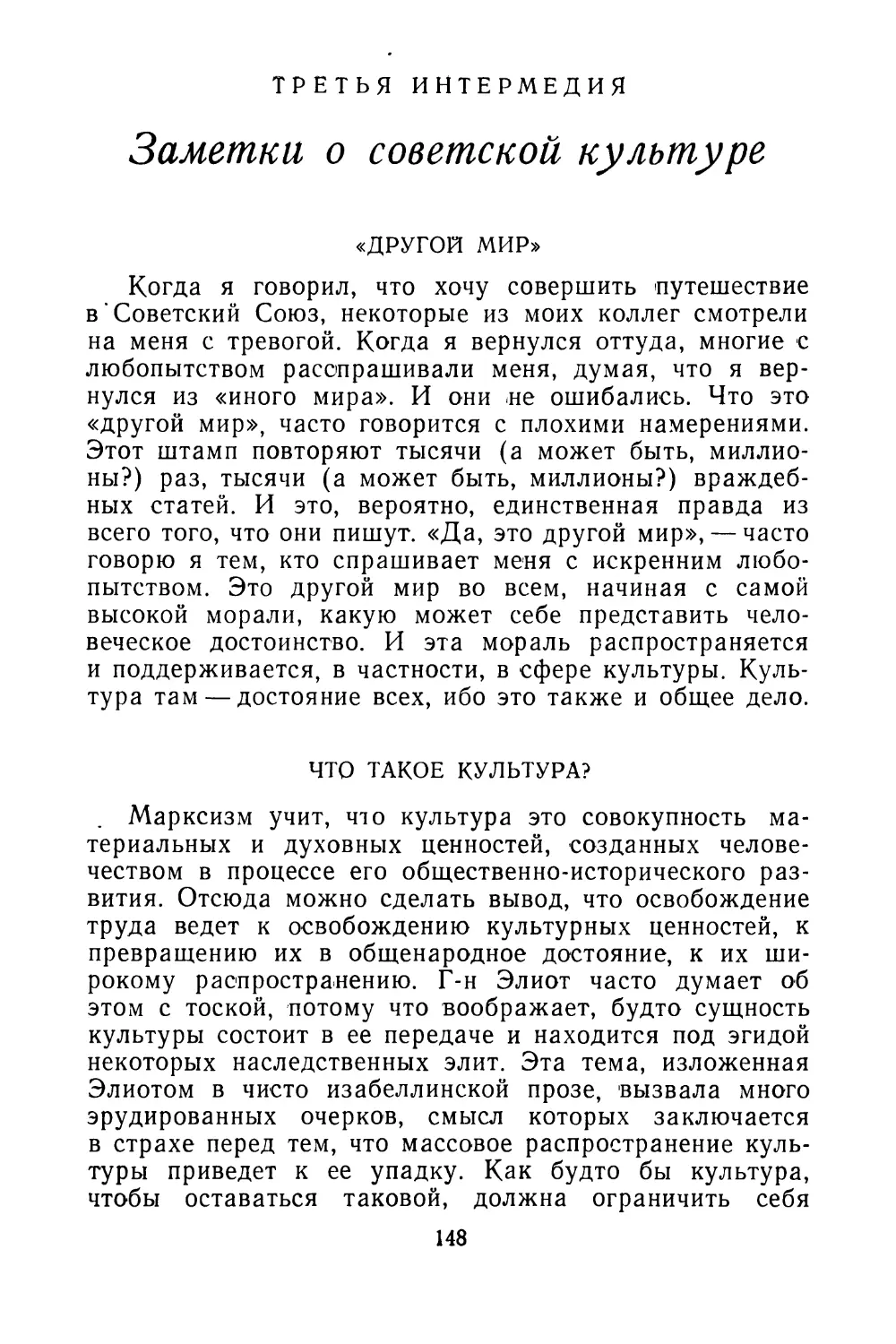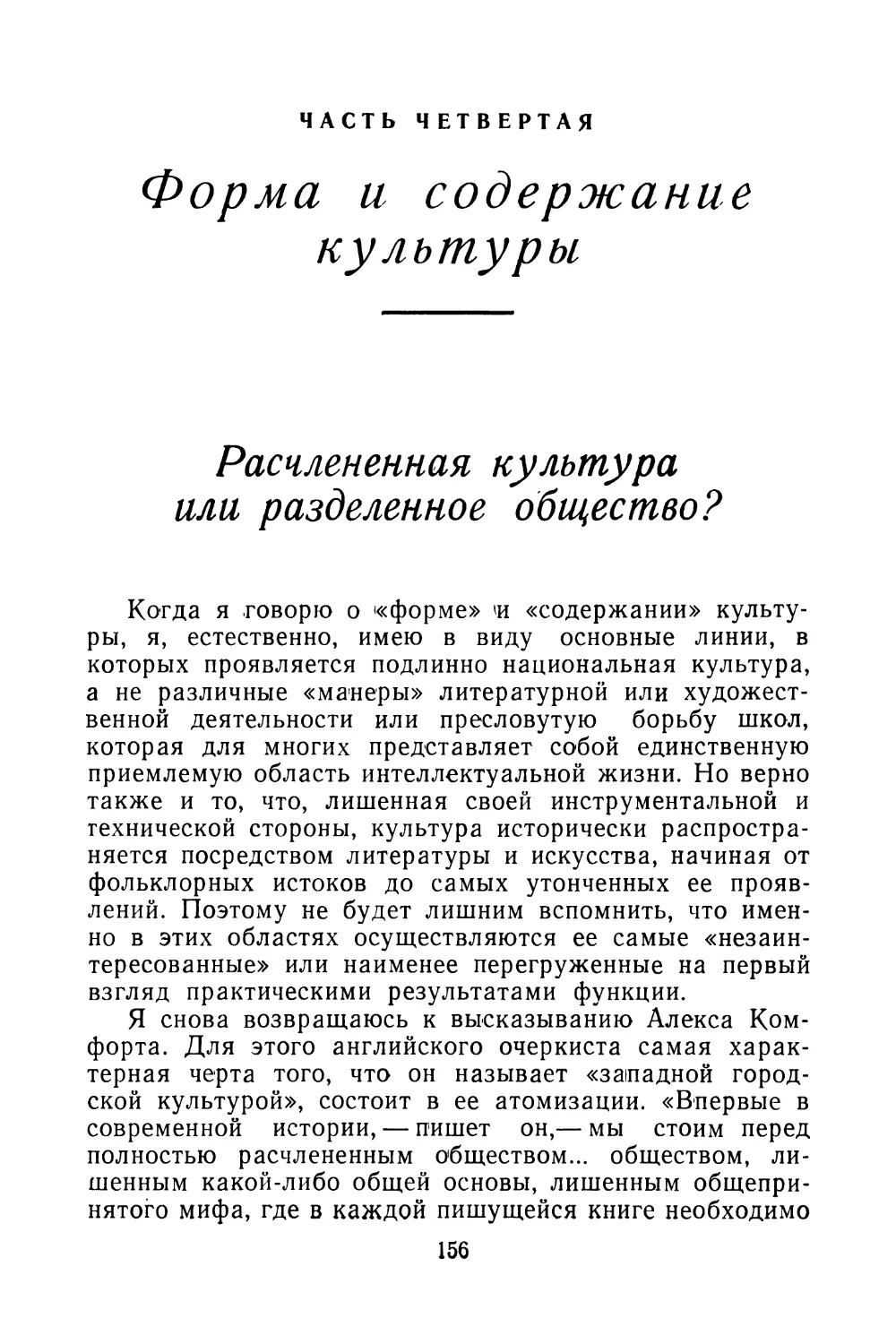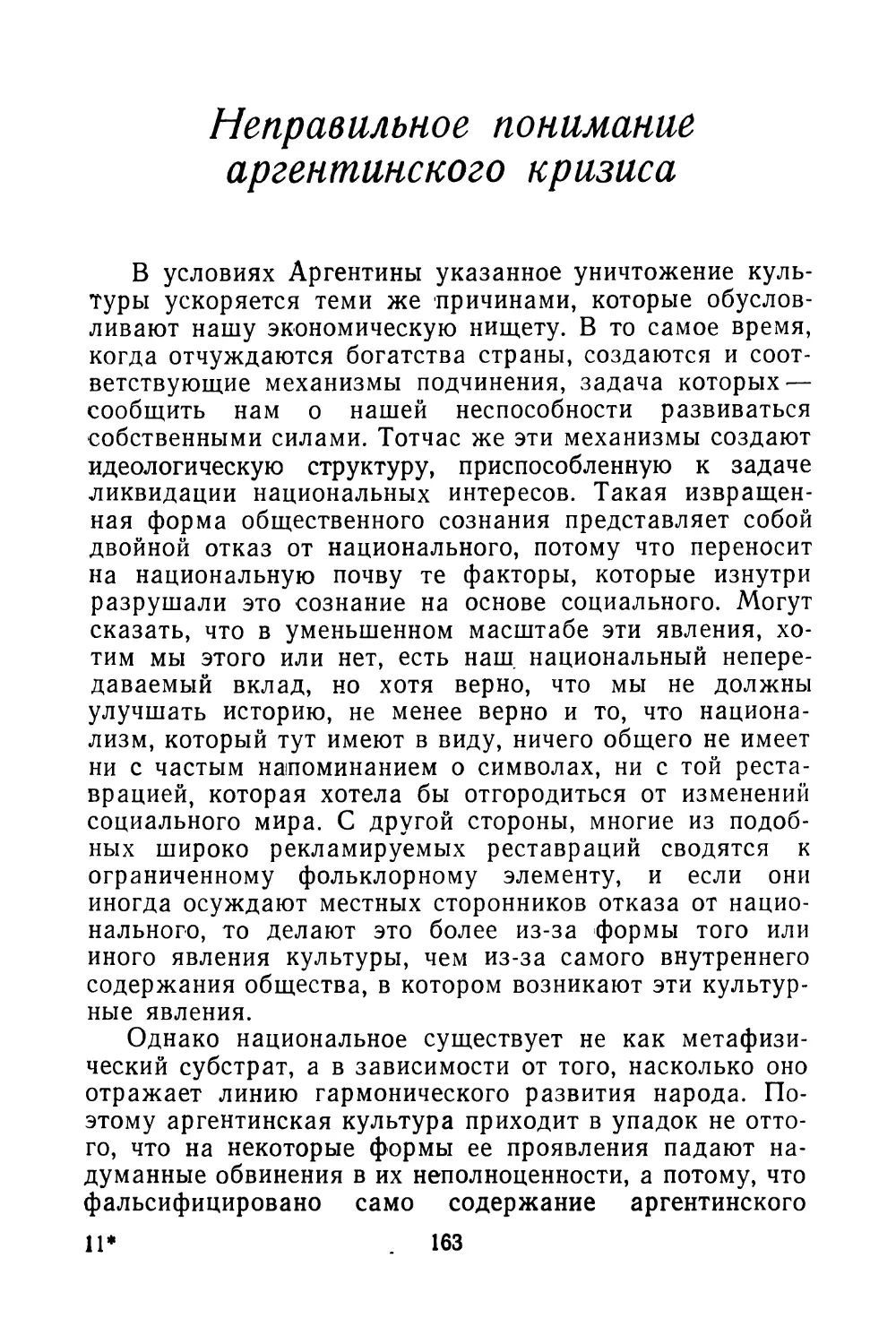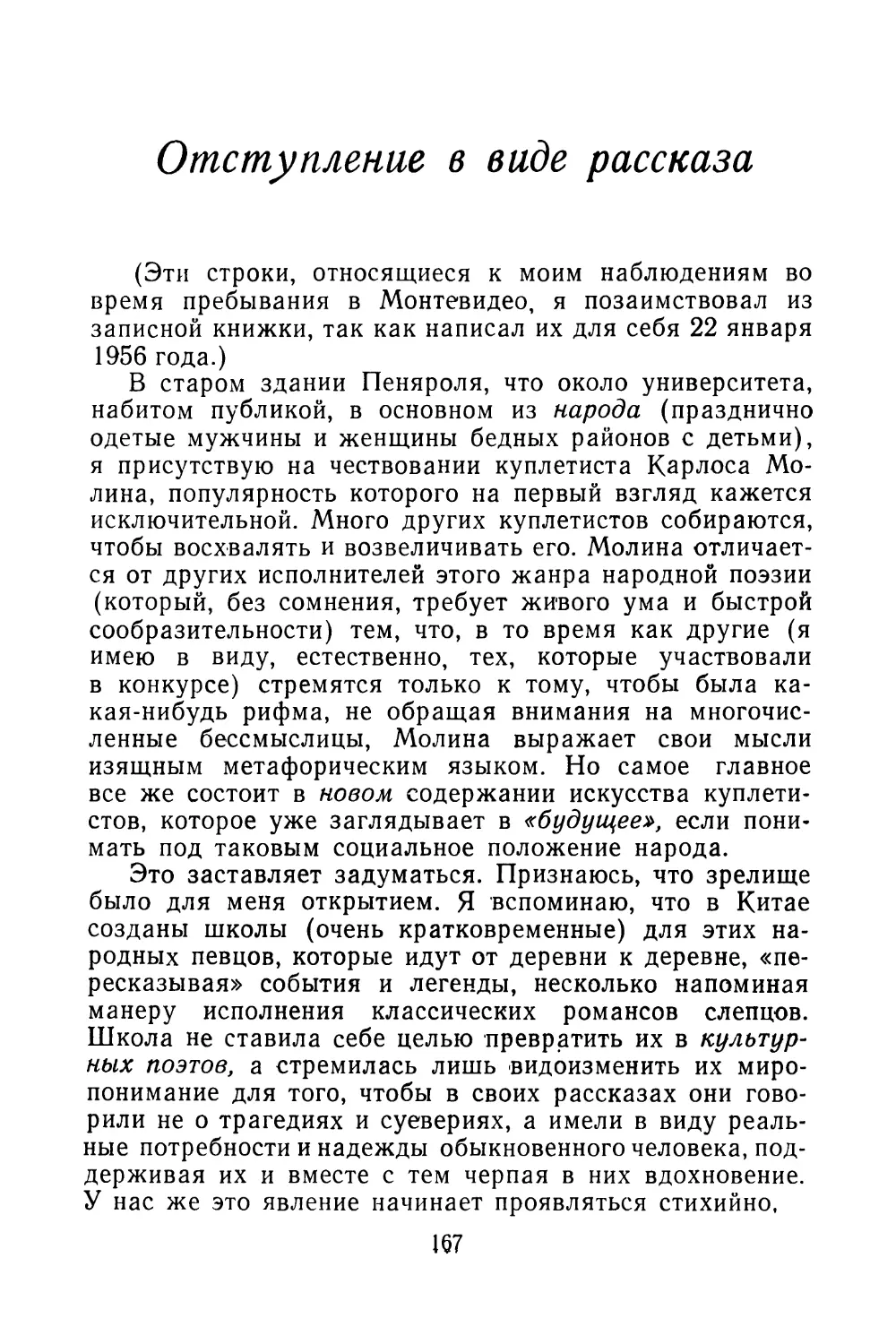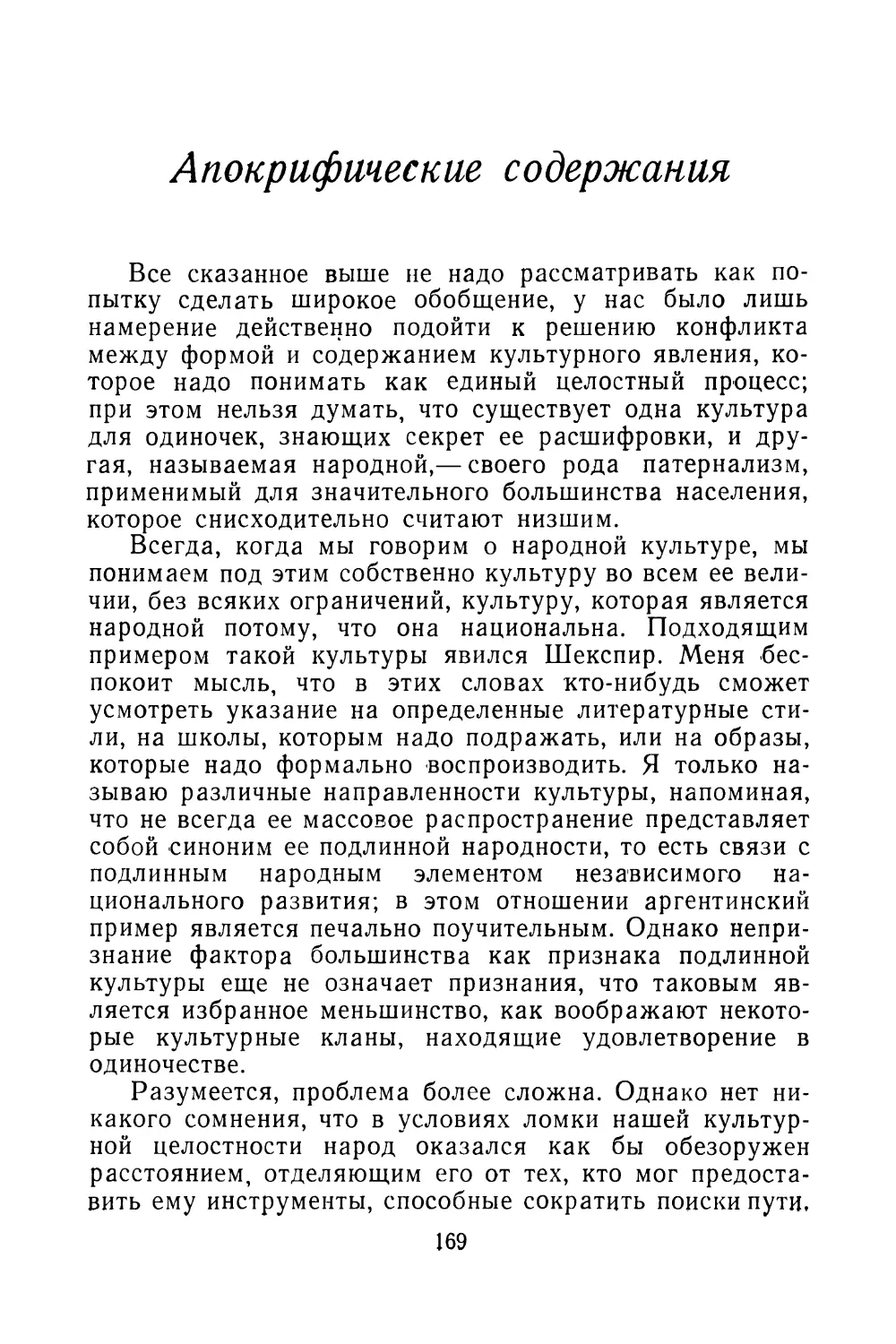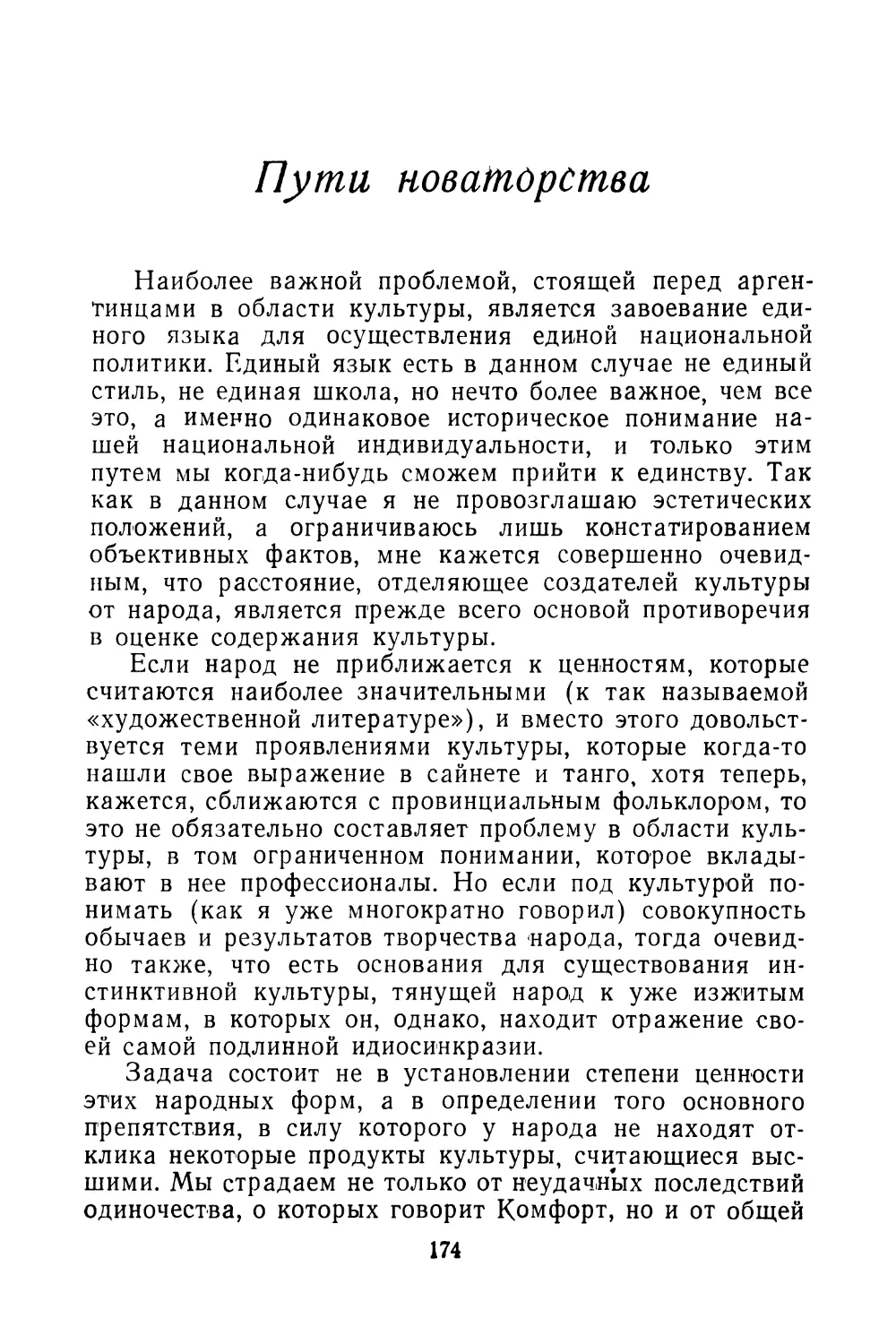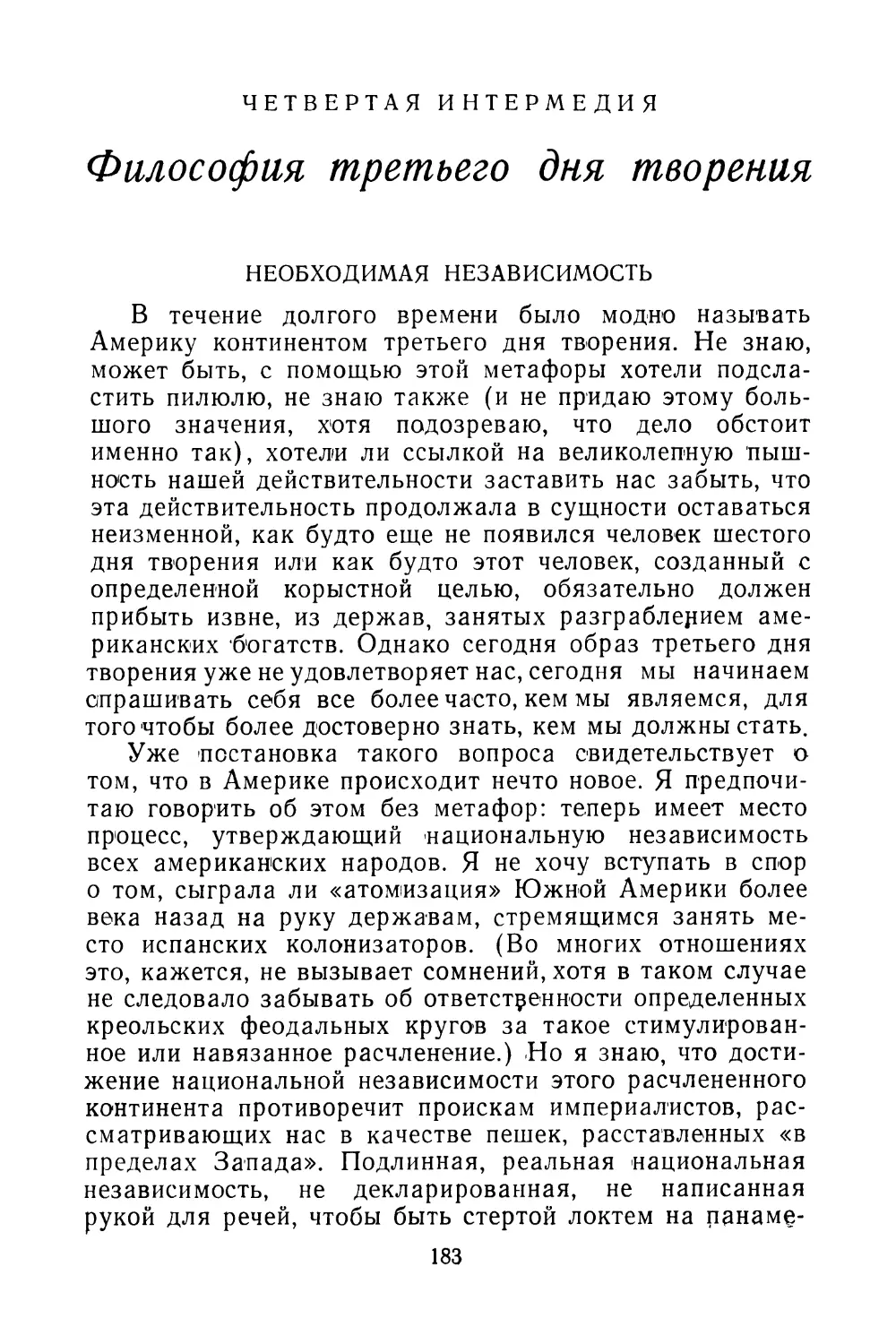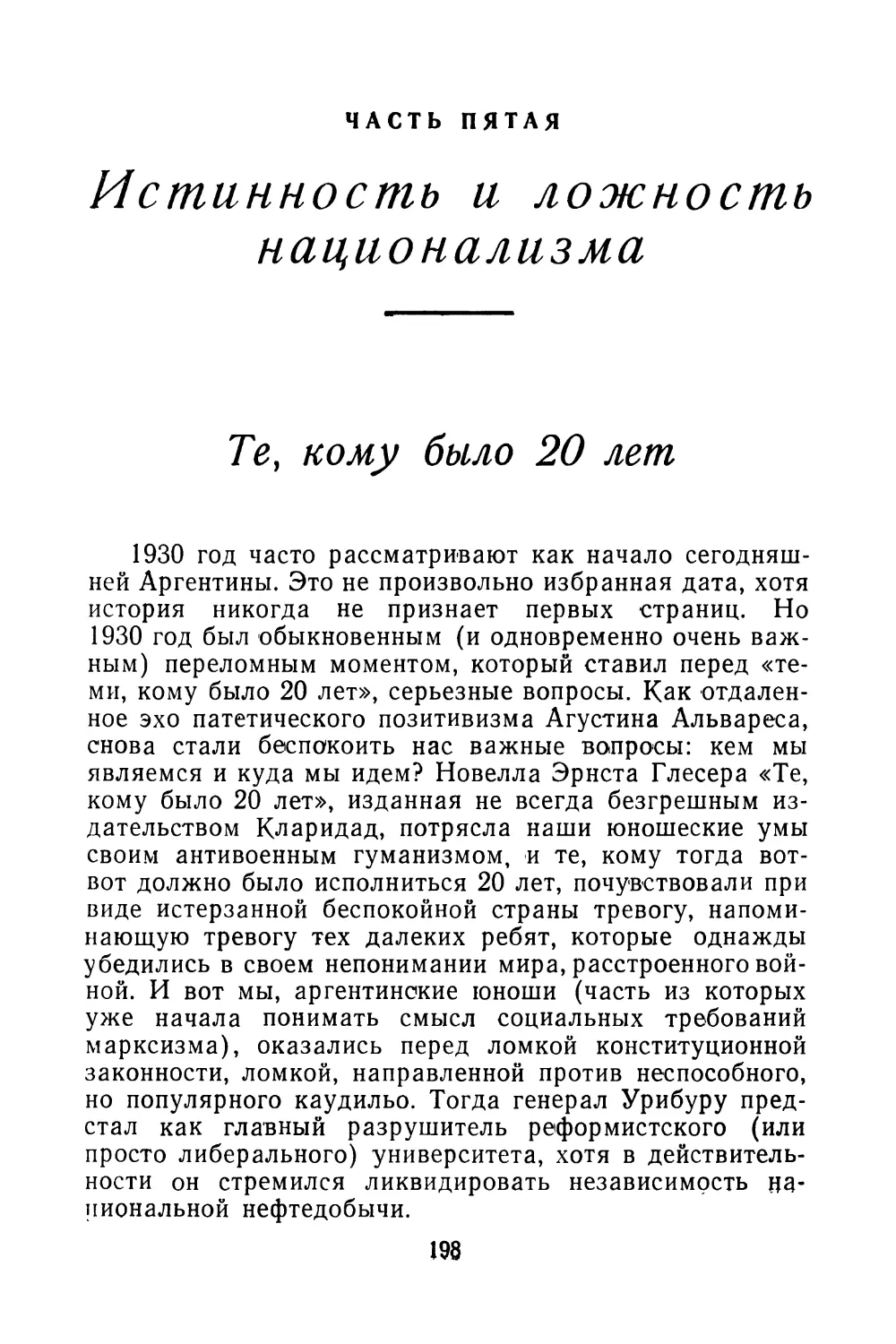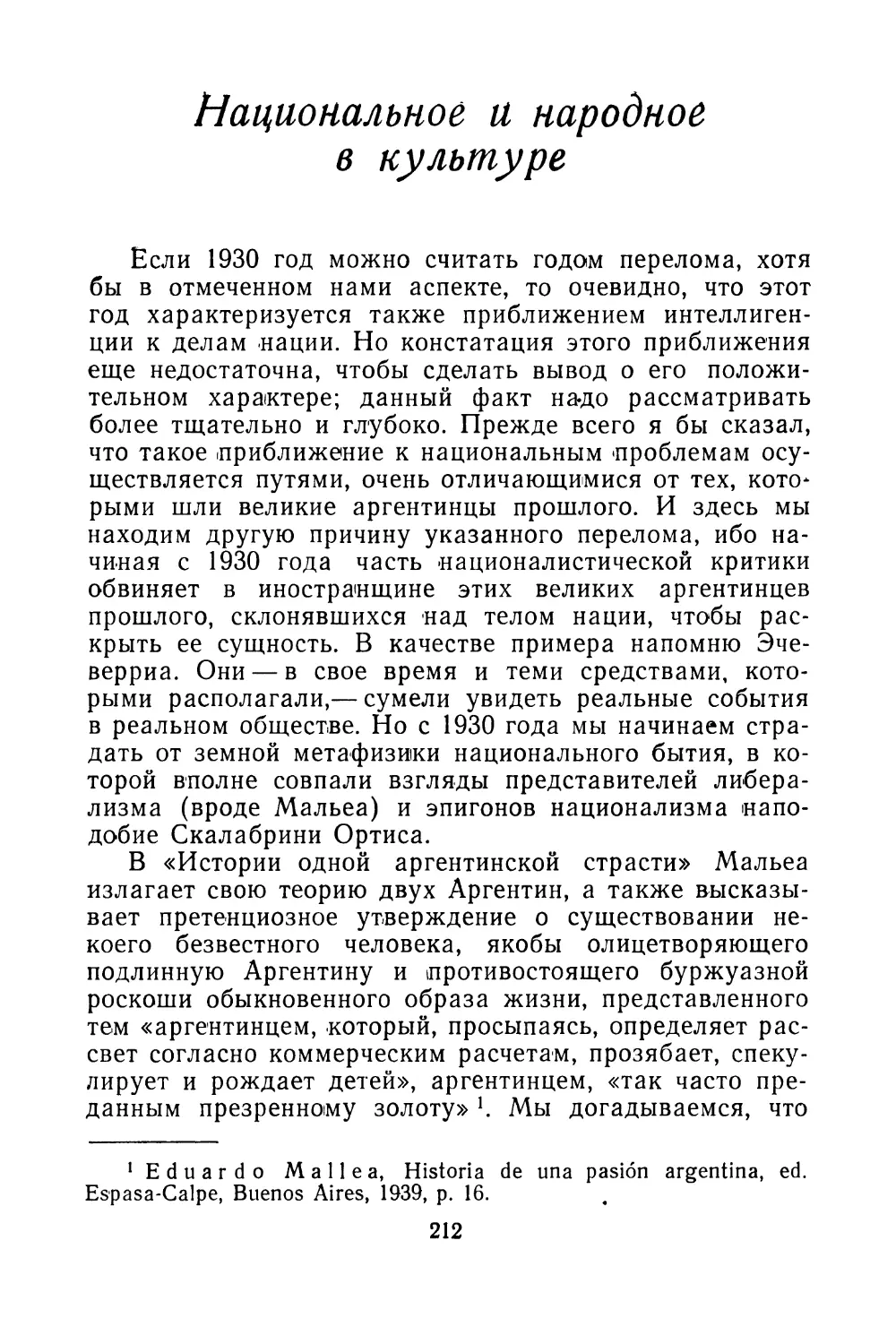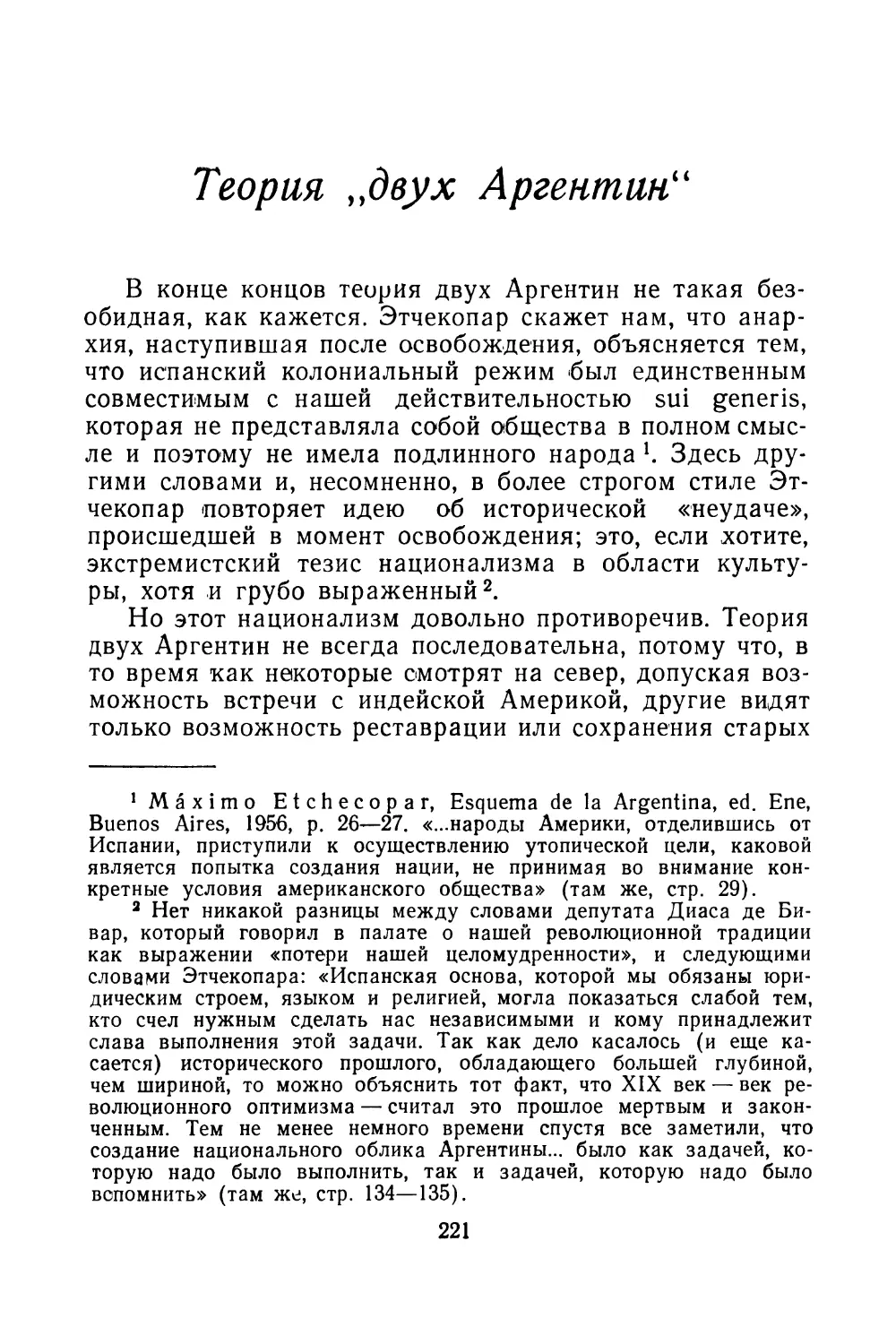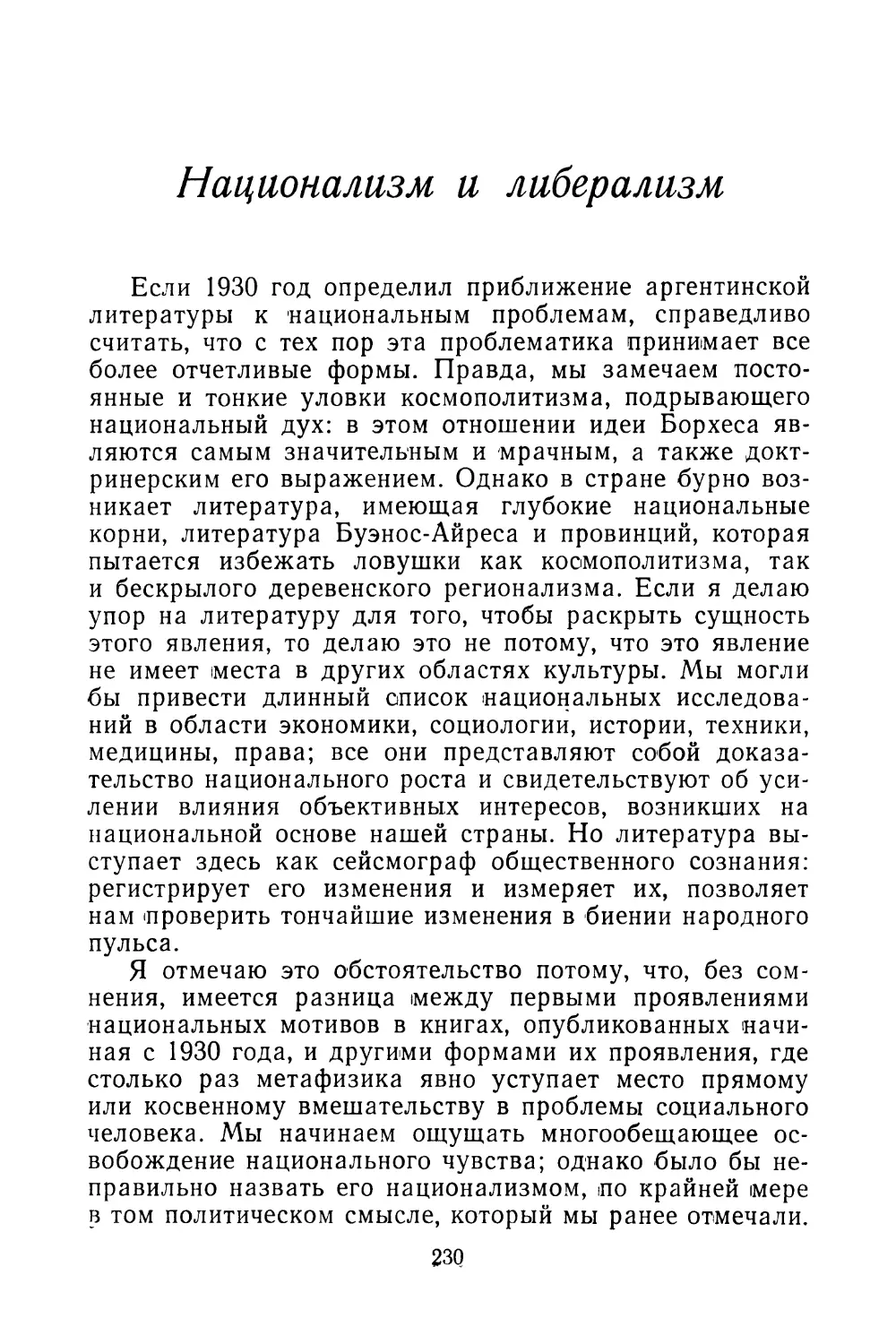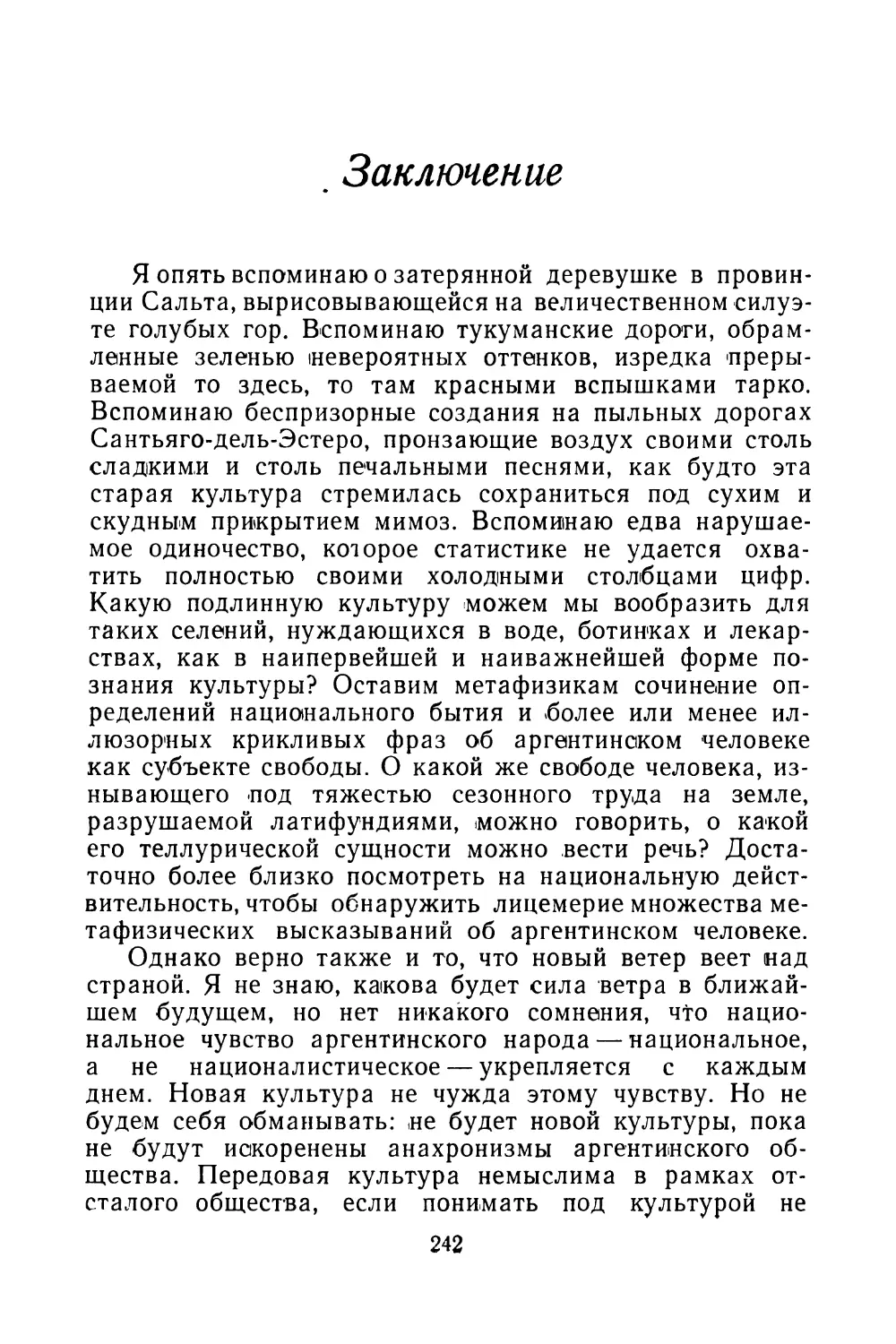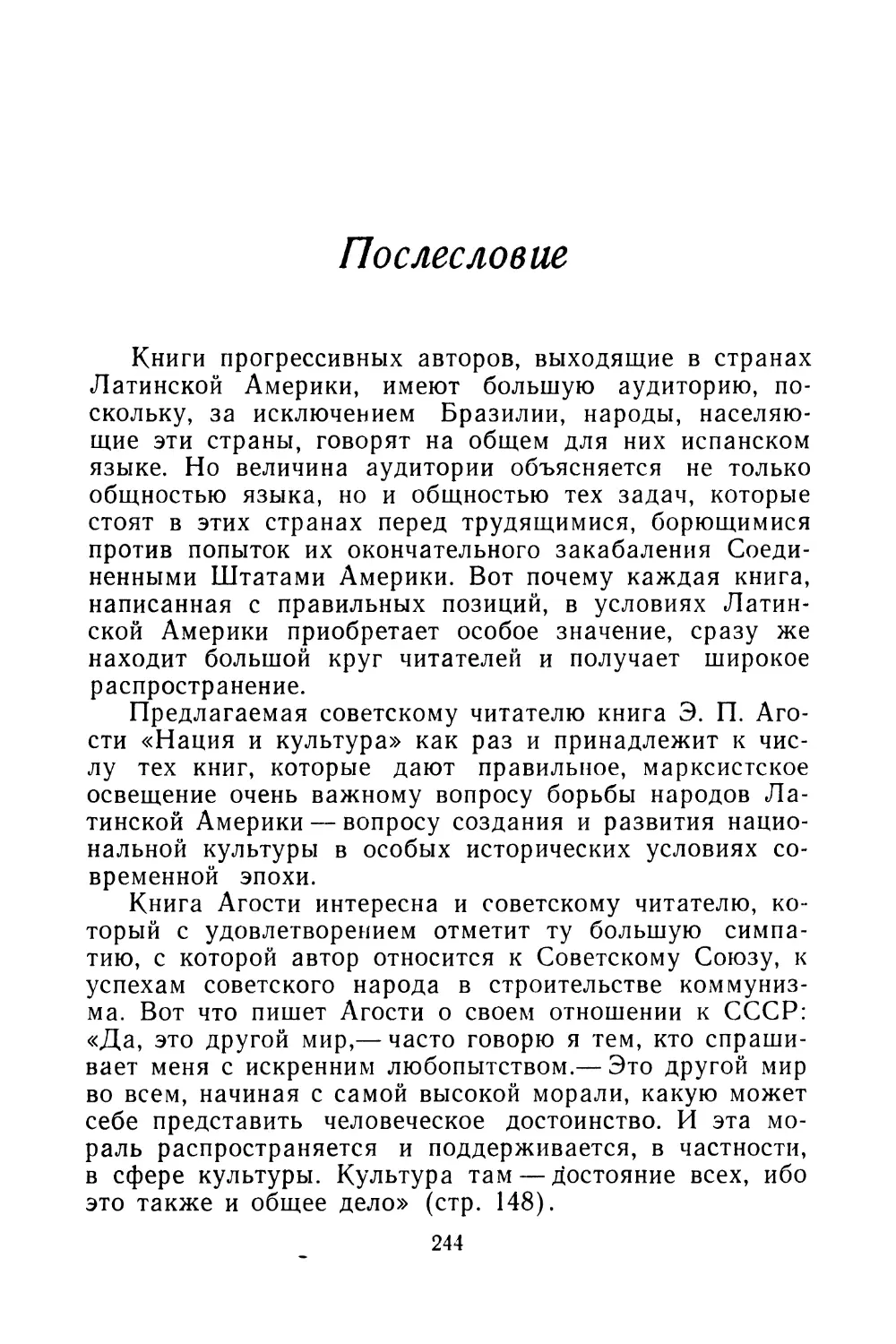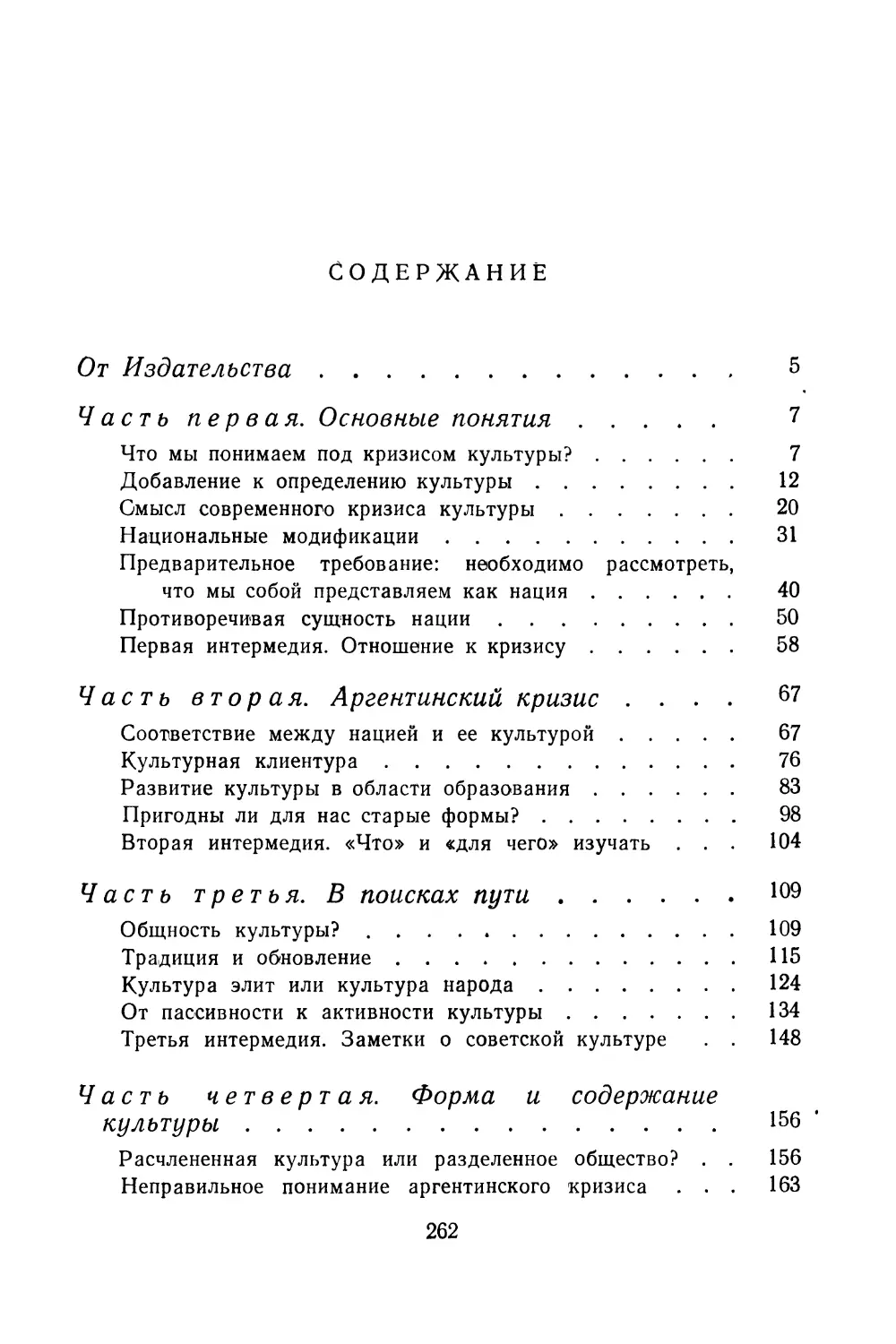Текст
Héctor P. Agosti
Nación y cultura
Ediciones Procyón Buenos Aires
Э. П. АГОСТИ
Нация и культура
Перевод с испанского
Р. БУРГЕТЕ и А. ДЕРЮГИНОЙ
Общая редакция и послесловие
проф. Н. В. ПУХОВСКОГО
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Москва 1963
Редактор
В. М. ЛЕОНТЬЕВ
Редакция литературы по философским наукам
От Издательства
В Аргентине и во многих других странах Латинской Америки публицистические, литературно-критические и теоретические работы аргентинского марксиста, члена ЦК Коммунистической партии Аргентины Эктора П. Аго- сти пользуются широкой известностью. Среди этих работ следует назвать «Эчеверриа» (1951), «В защиту реализма» (2-е издание, 1955), «Инхеньерос, гражданин юности» (несколько изданий, последнее— 1958).
В книге «Нация и культура» (Буэнос-Айрес, 1959) с марксистско-ленинских позиций рассматриваются вопросы развития культуры, а также некоторые аспекты идеологической борьбы и национально-освободительного движения в Латинской Америке, и в особенности в Аргентине. Вскрывая причины и сущность кризиса буржуазной культуры в Латинской Америке, Э. П. Агости опирается на труды Маркса, Энгельса, Ленина, а также использует прогрессивные традиции аргентинской революционной демократической мысли (Эчеверриа, Альберти, Сармиенто, Понсе и др.).
Э. П. Агости показывает в своей книге, что все культурные проблемы непосредственно связаны с борьбой классов в обществе. Подлинный расцвет национальной культуры в Аргентине, считает Агости, возможен лишь на путях борьбы против пережитков феодализма в деревне, против колониалистской экспансии иностранного капитала в аргентинскую экономику, на путях демократ 5
тизации всей социальной и культурной жизни страны. Большой интерес представляют разделы книги, в которых анализируются основные особенности исторического и культурного формирования и развития аргентинской нации.
В главах, посвященных анализу формы и содержания культуры, а также в последнем разделе книги дается аргументированная критика национализма и космополитизма как форм буржуазной идеологии. Значительное место в работе отведено проблеме образования. Автор подчеркивает необходимость его демократизации, приближения к нуждам и потребностям экономического развития страны. Особое значение, по мнению Агости, в этой связи приобретает нейтрализация влияния католической церкви на школу.
Э. П. Агости убедительно опровергает попытки идеологов буржуазии доказать неприменимость марксистско- ленинского учения в условиях Латинской Америки.
Более подробный анализ книги дан в послесловии проф. Н. В. Пуховского.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Основные понятия
Что мы понимаем под кризисом культуры?
Помню одно селение в провинции Сальта, в прозрачных вечерних сумерках, и небо над ним, натянутое, словно кожа барабана, и вибрирующее при легком дуновении ветра. Помню маленькую железнодорожную станцию и вырисовывающиеся силуэты гор, спорящих с последними отблесками заката. Но больше всего помню людей, столпившихся на этой станции, тощих индейцев, большей частью босых, в обтрепанных до бахромы пончо1, не видевших в своей жизни ничего другого, кроме проносящихся с грохотом поездов. И в этот вечер, когда печально вписывались в общий пейзаж человеческие фигуры, мне показалось, что облик этих индейцев заключал в себе самую основную и неотложную программу культуры. Культура выступала здесь — в драматической форме — как обеспечение обувью множества беззащитных существ и оказание им медицинской помощи. Возможно, такое рассуждение покажется грубым. Однако если не считать, что существует чистая радость восприятия эстетических тонкостей, доступная лишь избранному меньшинству, то это требование обуви в качестве основы всей культуры не покажется уже столь глупым.
1 Вид плаща в латиноамериканских странах.— Прим, персе.
7
Когда-то один человек, полковник, порядочный демагог, проезжая 'по тем местам, пренебрежительно раздавал обувь из окошка вагона. Но это унижающее милосердие не есть то средство, в котором мы нуждаемся. Ибо зрелище, которое мне пришлось наблюдать в Сальта, я видел вдоль всех пыльных дорог северной части провинции Коррьентес и во многих других местах. О какой же культурной программе мы вправе говорить, если предварительно не рассмотрим глубокие причины бескультурья огромного количества аргентинцев, живущих на грани нашего креольского феодализма? Я вспоминаю селение в провинции Сальта — прекрасную природу его и несчастный его народ— не потому, что это какой-то исключительный случай, а наоборот, типичное явление. Этот отчетливый образ приходит мне на память всякий раз, когда культурные проблемы становятся прямым свидетельством кризиса всего нашего общества в целом. Следовательно, было бы невозможно исключить из круга вопросов, касающихся общего кризиса, обсуждение вопроса о кризисе культуры. Когда я говорю о кризисе культуры, то подразумеваю под этим факторы двух порядков, которые необходимо различать. Факторы первого порядка связаны с отличительными особенностями процесса форми рования нашей культуры, понимаемого если не как устаревшая, анахроническая общественная практика, то по крайней мере как практика аномальная. Получается такая картина: на аргентинское общество давят его старые феодальные 'пережитки, которые настолько тесно связаны с империалистическим проникновением, что образуют вместе с ним единое и неделимое целое.
Было бы, конечно, ошибкой полагать, будто аргентинское общество застыло на месте, не движется вперед в силу тех препятствий, которые тормозят его развитие, хотя полностью его и не останавливают; но в любом случае эти препятствия делают движение общества более драматическим, поскольку оно совершается на неверной основе, воинственно обращенной против логических и гармонических тенденций, присущих самому развитию. Таким образом, аномалия здесь переплетается с анахронизмом всего общества, которое стремится стать по существу национальным, если до этого не превратится в национальный лишь по форме, 8
классический образец буржуазного общества. Между тем в аргентинском обществе рождаются новые производительные силы, которые будут развиваться до тех пор, пока не окажутся вынужденными разорвать многие из пут, задерживающих их развитие; благодаря действию новых производительных сил возникают важные культурные ценности, которым не всегда могла соответствовать (а по существу и не соответствовала) система воспитания. Очевидно, народное образование не составляет всей культуры народа, хотя и представляет собой один из самых мощных и непосредственных способов ее выражения. Следовательно, кризис культуры в области образования приобретает более конкретные формы проявления, лучше поддающиеся статистическому учету; но кризис проявляется также и в невысоком уровне общего1 культурного развития страны, и в отстранении широких масс людей от культуры.
Если рассматривать кризис культуры 'под этим углом зрения, то он предстает перед нами как один из аспектов общего кризиса всего общества в целом. Устаревшая социальная система неизбежно должна дать о себе знать в явлениях культуры или, если угодно, оказывать противодействие, временами катастрофическое, всему новому.
Отстранение широких масс людей от культуры неотделимо от самого факта существования общества, разделенного на классы, и ничто не кажется более утопическим, как это ясно' показал Маркс в «Критике Гот* ской программы», чем «демократическое суеверие», предполагающее равное для всех народное воспитание в обществе, сохраняющем глубокие экономические различия в положении социальных классов. Однако природа анахронизма аргентинского общества является настолько скрытой и своеобразной, что ставит вне народного образования, понимаемого как культурное воздействие, значительные прослойки самих эксплуататорских классов. Эти экономические группы, хотя и временно, представляют собой определяющий ингредиент в новом содержании нацио'нально-народного, и если организация экономики противоречит потребностям национального развития, то легко доказать, что и культура, по крайней мере в наиболее существенных своих проявлениях, оказывается также противоречивой, также 9
неспособной выполнить стоящие перед ней национальные задачи.
Процесс формирования аргентинской культуры, со всеми недостатками, присущими обществу, разделенному на классы, является явно ущербным, и не случайно поэтому постоянное требование реорганизации университетов или создания высших учебных заведений, поставленных на службу новым техническим потребностям,— а это всего лишь один пример из многих. Вероятно, самой характерной чертой кризиса культуры является именно та, которая устанавливает связь с самыми необходимыми, первыми потребностями больших масс людей, потребностями, которые они не в состоянии удовлетворить, живя фактически за пределами действительной жизни, вопреки стольким разглагольствованиям о первичности духа. В данном случае я говорю о своих соотечественниках, лишенных обуви, медикаментов, воды, жилища, возможности применить свой труд, и утверждаю, что зрелище, виденное мною в Сальта, в драматической форме резюмирует кризис культуры, понимаемый как самая широкая совокупность всех ее недостатков и пороков.
Однако кризис культуры предполагает еще факторы второго порядка, представляющие собой определенный переход из сферы вышеуказанной материальной основы в сферу идеологическую. Смысл этого явления заключается во все углубляющемся расхождении интересов ¡народа (понимается под таковым вся совокупность сил, объективно заинтересованных в прогрессивном решении великого национального вопроса 9 с интересами меньшинства, по традиции занятого руководством и ориентацией нашей культуры. Это расхождение заметил уже Хуан Августин Гарсиа, собрав в один том свои очерки под общим заголовком «Наше ¡невежество». Это неве-
1 В другом месте я уже говорил о «народе», определив его на современном этапе развития аргентинского общества как совокупность «сил, объективно противостоящих отрицанию национального развития, выражающемуся в наличии империализма и упорном сохранения феодальных пережитков». В каком-то смысле эта фраза (определение) оказалась удачной, ибо была подхвачена и развита некоторыми американскими публицистами, особенно бразильскими См.: Héctor Р. Agosti, Para una política de la cultura, ed. Procyon, Buenos Aires, 1956, p. 17—19.
10
жество народа, который любил «Мартина Фьерро»1 и который 'не разговаривал на улицах по правилам академического словаря, а довольствовался лишь сейнете1 2, показывающими социальные и демографические изменения в стране, невидимые для напыщенных социологов. Эти факторы второго порядка, будучи важными, играют гораздо меньшую роль, чем первые. Они означают, если хотите, упорное сохранение анахронизма в области идеологии и власти правящей элиты, чей язык чужд национальным интересам: язык, который кажется иностранным и перевод с которого получается явно с ошибками, если мы будем судить о нем по его реальным возможностям общения с народом-нацией. Но, помимо этой учености правящей элиты, продолжает сохраняться основа культуры, понимаемая как совокупность всей деятельности народа. Эта основа — деятельность народа, огромная и разрозненная,— временами парализуется, ибо она не может удовлетворить даже самых минималь. ных и необходимых, потребностей народа, чтобы соответствующим образом работала его голова.
1 Реалистическая эпическая поэма X. Эрнандеса, написанная в 1872—1873 годах — Прим. ред.
2 Популярные комические пьески.— Прим, перев.
Добавление к определению культуры
В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс писали: «Люди должны иметь возможность жить, чтобы быть в состоянии „делать историю”. (Курсив мой.— Э. Л.) Но для жизни нужны прежде всего пища и питье, жилище, одежда и еще кое-что. Итак, первый исторический акт это — производство средств, необходимых для удовлетворения этих потребностей, производство самой материальной жизни. Притом это такое историческое дело, такое основное условие всякой истории, которое (ныне так же, как и тысячи лет тому назад) должно выполняться ежедневно и ежечасно — уже для одного того, чтобы люди могли жить» L
Вся история культуры должна начинаться именно с признания этого основополагающего тезиса, который признается даже теми, кто склонен затемнять социальную эволюцию человека всевозможными метафизическими тонкостями (primum vivere, deinde philosophari — сначала жить, потом философствовать).
Это последнее заставляет отказываться от двух одинаково неполных трактовок истории. Одна из них соответствует тем, кто пытается с позиций вульгарного и наивного материализма сравнивать общество людей со скоплениями некоторых видов животных, ведущих совместную жизнь, и с этой целью парадоксально идеализируемых; при такой трактовке забывают о том, что человека отличает прежде всего его способность превращать необходимость, существующую в природе, в свободу, в то время как эта же необходимость встает перед животным как непреодолимый барьер. Вторая трактовка касается различия между Naturvolker и Kul- turvolker, установленного главным образом немецкими 1 к. Маркс и Ф, Энгельс, Немецкая идеология, Госпо- литиздат, 1956, стр. 30,
12
историками; Naturvolker— это первобытные народы йа «естественной ступени» их развития, которые не достигли еще умения выражать свою культуру или цивилизацию. Как в одном, так и другом случае не вскрываются реальные причины, позволяющие отличать общество людей от всякого другого биологического факта.
Это различие между Naturvolker и Kulturvolker можно было бы временно допустить в том смысле, что «цивилизация», или конец царства варварства, совпадает с самими изменениями в процессе общественного разделения труда, особенно со специальным производством излишков для рынка и с первыми актами, исключающими натуральный (непосредственный) обмен. Однако не менее верным является и тот факт, что культура в самом широком смысле слова оказывается неотделимой от того начального побуждения человека, с помощью которого он освобождается из рабской зависимости от природы и начинает производить средства своего существования. «Цивилизация» не есть синоним культуры, а только лишь определенный этап ее истории L Мы должны допустить наличие культуры, пусть даже в зародышевой форме, в более раннюю эпоху, предшествовавшую эпохе цивилизации; в то время существовали орудия труда и социальные институты, обычно передаваемые из поколения в поколение, это была эпоха, которую мы называем, согласно классификации Моргана, «варварством» и характерным моментом которой является применение труда человека в целях увеличения продуктов природы (земледелие, скотоводство). Однако следует говорить также и о зачатках культуры и в более отдаленную предысторию человечества, включая 1 «Итак... цивилизация является той ступенью общественного развития, на которой разделение труда, вытекающий из него обмен между отдельными лицами и объединяющее оба эти процесса товарное производство достигают полного расцвета и производят переворот во всем прежнем обществе» (Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства; К- Маркс и Ф. Энгельс, Избр. произв. в двух томах, Госполитиздат, т. II, 1955, стр. 305—306). Цивилизация означает дальнейшее общественное разделение труда и рост антагонизма между городом и деревней, но характеризует ее появление нового класса, класса купцов, занятого не производством продуктов, а лишь их обменом. «Низкая алчность была движущей силой цивилизации с ее первого до сегодняшнего дня» (там же, стр. 308).
13
сюда тот йерйоД, который Морган называет «дикостью», где «преобладает присвоение готовых продуктов природы» без всякого вмешательства руки человека для их возделывания или увеличения. Человек, который изобрел самое древнее и 'примитивное каменное орудие, заложил тем самым как основы культуры, так и основы своего качественного отличия от животного. В ходе удовлетворения своих самых насущных потребностей человек начинает мало-помалу сужать огромную сферу необходимости и исследовать первопричины своей свободы.
Труд, следовательно, является начальным условием всякой культуры, именно тот труд, который изменяет природу человека, органы его тела, «удлиняя таким образом, вопреки библии, естественные размеры последнего» L Величие человека составляет в конечном счете не что иное, как накопленный человеческий труд. Мы не беремся оценивать сейчас качество этого труда с юридической точки зрения, а лишь хотим обратить внимание на его общественный характер, на его производительность, которая достигается с помощью человека, наиболее общественного индивида, которого невозможно мыслить вне общества. Общественный труд (а следовательно, и все возникающие отсюда рассуждения) составляет фундамент культуры, ее исторический смысл.
В определениях слова «культура», предлагаемых всеми словарями (включая и философские, например, известный «Словарь» Лаланда), довольствуются лишь тем, что делают ударение ¡на духовные стороны культуры или представляют ее только как просвещение и образование, прибегая к этимологическому сходству1 2. Неправильность, заключающаяся в подобных определениях культуры, отнюдь не является чисто семантической. Она приводит к тому, что искажает само понятие социального явления, представленного культурой, поскольку вышеупомянутые понятия рождаются на основе качественного различия между физическим и умственным трудом. И только последний должен был бы соот1 К. Маркс, Капитал, т. I, Госполитиздат, 1955, стр. 186.
2 Иногда прибегают к полнейшему алогизму, типа алогизма Барсиа, который пишет о шести «исторических ступенях» в интеллектуальном развитии человечества: дикость, варварство, цивилизация, культура, образование, просвещение (Roque Barcia, Sinónimos castellanos, ed. Joaquín Gil., Buenos Aires, 1939, p. 170).
14
ветствовать культуре, уменьшенной таким образом, урезанной в своем объеме.
Область культуры значительно расширяется, если понимать ее как совокупность всех материальных и духовных блат, созданных человечеством на всем протяжении своего существования, и культура в таком случае есть не что иное, как история трудовой деятельности человечества. В этом широком смысле слова культура представляет собой явление социальное, характеризующее уровень развития общества в определенный исторический момент. Технический прогресс, достигнутый через коллективный производственно-трудовой опыт, как правило, является определяющим фактором в качественных скачках, фиксирующих историческое развитие культуры Г
Усовершенствование железных орудий, изобретение кузнечных мехов, ручной мельницы, гончарного круга и т. д. являются настолько важными, что знаменуют собой переход от высшей ступени варварства к цивилизации и фактически служат питательной почвой для поэм Гомера и всей мифологии; однако не менее верным является и то, что все эти технические новшества лежат в основе общественного разделения труда, а также начала классовой дифференциации в первобытном обществе. Развитие культуры, связанное обычно с кульминационными моментами технических революций, совпадает всегда с введением более совершенных форм общественного разделения труда и, следовательно, с дальнейшим разделением общества на классы, под которыми понимаются однородные группы людей, выполняющих свои особые функции в общественном производстве. Однако культура целого народа представлена всей исторической совокупностью материальных и духовных благ, созданных непосредственно им самим или полученных в результате обмена опытом с другими народами, в соответствии с процессом общего выравнивания, которое имеет место в хитроумной системе сообщающихся сосудов. Итак, под культурой следует
1 Франклин определяет человека как животное, делающее орудия (a toolmaking animal), а Маркс заявляет, что экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда (см. К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 187).
15
понимать не одну лишь «интеллектуальность» народа, а всю совокупность его материальных и духовных достижений, рассматриваемых как общественное достояние всего народа-нации.
Несомненно, что в узком смысле слова культура сводится к духовным ценностям общества и характеризует уровень его развития, достигнутый им в определенных, весьма значимых областях человеческой деятельности — науке, искусстве, литературе, философии, морали, религии... В пределах этих областей культура связана лишь с умственным трудом человека, а поэтому вышеприведенные и на первый взгляд ограниченные определения культуры сводятся к этому достоверному факту, обнаруживающему в свою очередь новое общественное разделение труда. Если мы и ограничиваем область культуры исключительно рамками умственного труда, то лишь потому, что наряду с думающими людьми мы допускаем также существование людей, которые выполняют то, что за них было уже обдумано первыми.
Разумеется, никогда не существовало физического труда в чистом виде, в абсолютном смысле слова; однако мысль человека, приводящая в движение его руки согласно плану, продуманному за него головой другого, которому «по профессии» отведено мыслить, представляет собой почти автоматизм; это как раз тб, что Тейлор называл, проявляя большую трезвость, свойством «дрессированной гориллы». Упор на данное различие между физическим и умственным трудом делает умственный труд относительной привилегией, ибо работники умственного труда выполняют обычно в гражданском обществе руководящую функцию, отличительным признаком которой является борьба против стихийности. Выражу это иначе: мыслящие головы имеют обыкновение вносить некоторый порядок в традиционную культуру, именуемую народным творчеством, организовывать общественную практику, обобщая разрозненный опыт людей или пытаясь направить его в определенное русло. Общественный характер культуры теснейшим образом связан с уничтожением стихийности и ее последствий на протяжении всей истории человечества и всякий раз все больше свидетельствует об упорядочении достижений культуры и об ограничении вредных последствий стихийности.
16
Однако упомянутая функция культуры является сложной. Для того чтобы одни люди могли свободно думать и не быть ничем обремененными — классики называли это «плодотворным досугом», — необходимо, чтобы другие выполняли своими руками задания, скрытый смысл которых они не знали бы вовсе или же только частично о нем догадывались.
Для того чтобы прибавочный продукт, создаваемый греческим производством, позволял некоторым людям размышлять на свободе над организацией греческих городов, нужны были рабы; добавим еще к этому, что те, которым по положению было отведено мыслить, не всегда принадлежали к рабовладельческим группам, хотя косвенно выражали их интересы в области идеологии. Аналогичные обстоятельства могли иметь место и в эпоху Возрождения с ее широко распространенной системой меценатства, в основе своей весьма корыстного. Итак, мы касаемся самой сути сложности культуры, если обращаем внимание на тот факт, что она заключает в себе, с одной стороны, технические завоевания, принадлежащие всему народу в целом в плане их исторической реализации, а с другой — теоретические размышления, которые в таких областях, как философия, религия или искусство, обнаруживают идеологические противоречия, присущие обществу, разделенному на классы. Эти антагонизмы указывают также на наличие противоположных культур внутри любого исторического общества или, если угодно, свидетельствуют о зарождении новой культуры внутри старой. Теоретическая деятельность «третьего сословия», продвинутая вперед энциклопедистами, является, вероятно, одним из наиболее верных доказательств подобной сущностной двойственности культуры. Эта двойственность — нечто гораздо более важное, чем разногласия между иными философскими школами, разногласия зачастую несущественные или произвольные; она говорит о настоятельной необходимости изменения структуры общества, необходимости, о которой всегда свидетельствует несоответствие между ростом новых производительных сил и окостенелыми производственными отношениями.
Новая культура, возникшая в недрах старой, не представляет собой абсолютного отрицания последней, а лишь ее диалектическую противоположность. Будучи 2 Э. П, Агости 17
исторически связана с культурой прошлого, новая культура стремится в то же время вобрать в себя весь опыт мировой культуры, сохраняя при этом свою национальную форму, которая сообщает новой культуре характер преемственности. Было бы, конечно, ошибкой толковать это обстоятельство так, как, например, предлагает Питирим Сорокин, а именно как неизбежность стратификаций в укладе жизни любого народа при введении определенного типа производственной деятельности. История, всегда более красноречивая, чем ее интерпретаторы, показывает живую жизнь народов, прошедших через все этапы культурно-технического развития, сопровождавшегося изменением средств производства и соответствующих социальных институтов. Национальное своеобразие любого народа, которое исторически может сохраняться в качестве момента, характеризующего его культуру, не препятствует некоторому процессу универсализации культуры, по крайней мере в том, что касается основных показателей соответствующих средств выражения, если производительные силы, вызывающие к жизни эти средства, развиваются аналогичным образом. В конечном счете основной закон капитализма объясняет многие современные явления общественного развития, не позволяющие говорить о замкнутых циклах культуры в духе Шпенглера, о «созвездиях» культур, предложенных Альфредом Вебером, или о «пространствах цивилизации», выдуманных культур- антропологией.
Преемственность культуры в рамках сугубо национальных черт любого народа идет гораздо дальше этих выдуманных пространств цивилизации и имеет тенденцию стать универсальной в силу того, что в процессе исторического развития материальные условия жизни изменяются. Эти условия материальной жизни неотделимы от культуры, поскольку они сами в значительной мере ее составляют и представляют. Но, несмотря на это, культурные ценности могут выступать как идеологическая сила, призванная ускорить ход исторического развития и, следовательно, превратиться в материальную силу: этот ход исторического развития составляет основу современного кризиса культуры. Если смотреть с этой точки зрения, то культурный прогресс состоит не столько (или не только) в открытиях и изобретениях, 18
реализованных частным образом, сколько в «социализации» этих творений человеческого ума, в непосредственном и органическом включении их в коллективную жизнь. Подобное включение составляет типичную черту всей новой культуры, призванной обобщить в виде единой концепции все данные новой философии и разрушить огромную тормозящую силу, покоящуюся на рутине, особенно когда эта сила прикрывается остатками устного народного творчества.
О культурном прогрессе можно, следовательно, судить по степени его «социализации», по степени распространения его благ на постоянно возрастающее число людей. Увеличение числа культурных людей связано с укреплением демократического сознания широких народных масс которое получает свой первый толчок в сфере сложнейшей производственной жизни, властно требующей способных рабочих, умеренно одетых и умеренно сытых. Умеренное удовлетворение, и ничего больше. Кризис культуры выражает в конце концов необходимость превращения этой временной и кажущейся «социализации» в действительную, настоящую социализацию, причем именно тогда, когда ощущается существующая во всяком классовом обществе и проявляющаяся в культуре невозможность достижения такой социализации. Но культуру следует понимать как действие, а не как пассивное восприятие. На настойчивом сохранении культурной пассивности больших масс людей зиждется принцип общественного разделения труда между думающей головой и трудящейся рукой. И вновь культура предстает перед нами как властное и неотложное требование удовлетворения материальных нужд.
1 «...размер так называемых необходимых потребностей, равно как и способы их удовлетворения, сами представляют собой продукт истории (курсив мой — Э. А.) и зависят по большей части от культурного уровня страны, между прочим в значительной степени и от того, при каких условиях, а следовательно, с какими привычками и жизненными притязаниями сформировался класс свободных рабочих. Итак, в противоположность другим товарам определение стоимости рабочей силы включает в себя исторический и моральный элемент» (К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 178).
2*
Смысл современного кризиса культуры
В настоящее время часто говорят о кризисе культуры. Кризис ли это всей культуры в целом или какой-то ее части? Вероятно, истинный смысл кризиса можно уразуметь в том случае, если считать, что культура как коллективное сознание выражает всегда историческую преемственность в развитии человечества. Вполне правомерно было бы полагать, что не сама культура находится сейчас в состоянии кризиса, а лишь отдельные ее стороны, ее инструменты. Однако эти инструменты, как ограниченные способы исторического сосуществования^ предстают перед нами в виде определенной структуры социального поведения. Прежде чем говорить о кризисе культуры в целом, следовало бы подумать о непригодности тех ее социальных форм, для которых инструменты, казавшиеся когда-то полноценными, ныне представляются нам недостаточными. Разве беспомощность некоторых теоретиков, которую они обнаруживают в так называемых университетских кризисах, не свидетельствует о неспособности подобных институтов отвечать новым социальным требованиям и в равной степени о максимальном нарастании внутренних противоречий в социальной системе, уже обреченной в силу тех же самых противоречий?
Более ста лет назад Сармиенто дал нам в руки нить, ухватившись за которую можно распутать весь клубок. Никто не осмелится отказать знаменитому жителю г. Сан Хуана, подвергавшемуся стольким нападкам как со стороны своих современников, так и со стороны потомков, в несравненной способности называть вещи своими именами. Так, он пишет в своем труде «Народное образование»: «Мощь, богатство и сила любой нации зависят от ее промышленной мощи, от моральной и интеллектуальной способности составляющих ее индивидуумов: народное образование не должно преследовать никакой иной цели, кроме роста производительных, 20
моральных и управленческих сил нации, кроме всемерного увеличения числа людей, владеющих ими». Или вот другое место: «Производительные силы страны зависят в меньшей степени от плодородия земли (за исключением отдельных случаев), больше — от общего культурного уровня ее жителей. Всем нам очевидна отсталость наших масс в области промышленности, отсталость, порожденная отсутствием трудовых традиций, многих нужных и полезных навыков и приемов, которые являются не чем иным, как применением математических истин и принципов механики в труде, и которые у других наций стали уже всеобщим достоянием. Образование, столь упорно и широко распространяемое среди трудящегося класса, в состоянии лишь смягчить ту еще не преодоленную трудность, которая в виде вековой отсталости наших людей противостоит достижениям промышленности» L
Именно потому, что столько злоупотребляли Сарми- енто как апостолом образования, он вдруг предстал перед нами, как бы спустившись с пьедестала абстрактной и аскетической нравственности, который уготовало ему избитое, ходячее мнение. В ту эпоху, которая, как и теперешняя, содрогалась от кризиса, Сармиенто умел четко формулировать все возможные средства устранения этого кризиса. Сармиенто писал в 1848 году. А десятью годами раньше во Франции Пеккёр в книге с многозначительным названием «О прибылях торговли, промышленности и сельского хозяйства» утверждал, что сама необходимость приводить в движение огромные массы людей в производственном процессе вынуждала обучать их: «Поддерживать в массах невежество значит поддерживать в них также дикость и антиобщественные чувства, а это может привести промышленность к гибели» 1 2. Следовательно, это был не бескорыстный науч1 D. F. Sarmiento, Educación popular, ed. Lautaro, Buenos Aires, 1948, p. 26—27, 32.
2 И в этом плане Сармиенто очень дальновиден. Он напоминает нам, что самые богатые собственники, коммерсанты, владельцы мануфактур Нью-Йорка обратились в местный законодательный орган с просьбой увеличить в четыре раза налоги, с тем чтобы покрыть расходы на образование, «памятуя при этом, что в атмосфере народных бунтов и волнений, столь частых в тех странах, лучшей, наиболее дешевой и наиболее приемлемой в больших городах полц-
21
но-гуманитарныи интерес, а чисто экономическая необходимость, вызванная к жизни современным производством, именно то, что заставило капитализм стимулировать и распространять начальное и среднее образование. Народное образование само по себе было экономическим фактором, поскольку повышало общую рентабельность жизни, обеспечивая общество способными производителями прибавочной стоимости и выполняя в то же время функцию «духовной жандармерии»* 1.
И хотя педагоги иногда создают себе иллюзии, будто руководство школой находится в их руках, поскольку они изобретают новые приемы обучения, на самом же деле последние часто свидетельствуют, что педагоги не более чем исполнители на службе экономической потребности. Но эта потребность способствует либо культурному подъему в стране, либо по крайней мере овладению людьми уже достигнутым уровнем культуры. В капиталистическом классовом обществе, вынужденном развивать свою промышленность, эта экономическая потребность могла временно совпадать с объективными интересами народа-нации. Но история цейской системой, а также лучшей гарантией их благосостояния и процветания явилась система народного обучения» (D. F. Sarmiento, Educación popular, ip. 59, 60).
1 Когда в 1854 году министр народного образования доверил Пастеру руководство только что созданным факультетом естественных наук в Лилле, в одном письме он напомнил ему, что факультет «находится в городе, являющемся наиболее богатым промышленным центром на севере Франции». А поскольку ученому, несмотря на все его усилия, удалось привлечь лишь небольшое количество студентов для практической работы, министр вынужден был позднее ему заметить: «...чтобы господин Пастер, несмотря на это, всегда был начеку относительно энтузиазма студентов, вызванного его же собственной любовью к науке, и не терял из виду, что обучение на факультетах при всем уважении к теории должно давать полезные результаты и распространять свое благотворное влияние, должно исходить из наиболее широкого практического применения наук к реальным нуждам данной страны» (цитируется по книге: Jean К a n а р a, Situation de l’intellectuel, ed. Sociales, París, 1957, p. 43). Здесь не идет речь о восхвалении научной деятельности вообще, однако ясно, что выдвинутое положение является лишь относительно верным, ибо оно может содействовать развитию только чисто прагматического подхода, не связанного с предвидениями научной мысли. Здесь мы пытаемся показать, что в основе культурных начинаний так называемой «западной цивилизации» лежал (это было выгодно) материальный интерес, связанный С развитием производительных сил.
22
нс допускает прямолинейного развития без разрывов и скачков. Способность и умение производителей прибавочной стоимости, достигнутые с помощью обязательного начального обучения, становятся уже недостаточными в силу сложной современной техники, требующей более узкой специализации. Развитие истории по прямой линии привело бы к мысли об автоматическом распространении школьного образования в виде точного ответа на требования новой эпохи. Однако увеличение срока школьного обучения, выдаваемое за идеал образования в некоторых капиталистических странах, наталкивается на ряд препятствий, о которых педагоги обычно не думают — и даже их не замечают,— когда строят свои честолюбивые планы. Достаточно напомнить такой красноречивый факт: в то время как все капиталистические страны переживают так называемый университетский кризис, заключающийся в том, что учебные заведения выпускают очень мало дипломированных специалистов по сравнению с числом принятых студентов, первая социалистическая страна — СССР — одна подготовила 4 миллиона специалистов с высшим и средним образованием L
Джеймс Р. Киллиан, директор известного Массачусетского технологического института, недавно с тревогой заявил: «В недалеком будущем мы рискуем превратиться в нацию безграмотных в области математики»,— столь низким был уровень знаний студентов по этой дисциплине. «В России в 1950 году,— добавляет неизвестный нам журналист, который ссылается в своем сообщении на сетования профессора Киллиана, — окон1 На сессии Верховного Совета Российской Федерации 28 мая 1957 года председатель Совета Министров РСФСР заявил, что во всех областях и автономных республиках Федерации трудится 3,8 миллиона специалистов с высшим и средним образованием. Согласно сообщению, опубликованному в «Правде» 22 июля 1957 года, во всех советских республиках, вместе взятых, трудится в различных областях экономики и культуры 6,257 миллиона дипломированных специалистов, на один только 1957 год приходится свыше 770 тысяч новых специалистов. Недавно полученные данные свидетельствуют о том, что за период 1952—1958 гг. число специалистов увеличилось на 1,7 миллиона человек, за семилетие (1959—1965) предполагается их увеличение на 2,3 миллиона человек. В течение этого же периода будет принято 4 миллиона учащихся в средние специальные школы.
23
чили высшие учебные заведения около 50 тысяч человек и получили дипломы по различным отраслям знаний; в 1956 году их число увеличилось до 100 тысяч. В США в 1950 году аналогичные учебные заведения по тем же специальностям окончили около 100 тысяч человек, а в 1956 году их число приближалось лишь к 50 тысячам человек»1.
Когда в наиболее развитой капиталистической стране такое явление выступает как характерное, то это свидетельствует с наибольшей силой и достоверностью, чем все метафизические размышления, о том, что мы являемся свидетелями кризиса нашей эпохи. Развитие промышленности должно было бы привести почти к неограниченному увеличению количества как школ, так и высших учебных заведений. Но поскольку капиталистическая промышленность базируется на частном присвоении благ и исключает реальную возможность планирования в масштабе всей страны, то получается, что развитие монополистического капитала либо придает обучению строго определенную направленность, либо попросту разрушает преемственность в развитии образования, преследуя непосредственные интересы промышленной конкуренции. Что касается первого, то его смысл раскрывают цели нового проекта школьной ре1 Переданное телеграфным агентством Ассошиэйтед Пресс сообщение опубликовано в газете «Ла Насион» от 7 августа 1956 года в Буэнос-Айресе. Сообщение свидетельствует, что в США ежегодно оканчивают высшие учебные заведения около 20 тысяч человек по гуманитарным наукам и почти столько же по техническим, то есть половина того количества, в котором нуждается промышленность. Число подобных сообщений можно было бы значительно умножить. Такой не вызывающий подозрений свидетель, как бывший французский министр Мок, пишет: «Советский Союз в год выпускает научных работников, инженеров, техников в два раза больше, чем Соединенные Штаты Америки, население которых всего лишь на 20 процентов меньше. Америка [США] вправе беспокоиться о подобной диспропорции и как наиболее богатая страна должна в свою очередь добиться экономического превосходства в деле подготовки кадров ученых и исследователей. Что касается Франции... О! ее отставание в этой области чревато последствиями..» (J u 1 е s М о с h, URSS, les yeux ouverts, ed. Robert Laffont, París, 1957, p. 64). Результаты этого кризиса в США, наглядно и в драматической форме проявившиеся при запуске первых спутников Земли, были рассмотрены в двух статьях Франциско Аяла, получивших широкий отклик («Ла Насион» от 30 марта и 18 мая 1958, Буэнос-Айрес).
24
формы во Франции, предоставляющего «профессиональным группам», иначе говоря — промышленным монополиям, возможность «участвовать в создании, развертывании и работе» коллежей и лицеев1. Относительно второго весьма красноречивым является североамериканский случай. Промышленность в США уничтожает преподавательские кадры, привлекая на производство именно тех профессоров, которые, будучи обеспечены хорошей заработной платой, а не скудным заработком школьного учителя, были бы в состоянии гарантировать непрерывность в культурном развитии. В педагогических кругах предостерегают промышленников, чтобы они были осторожны и «не обезглавили бы сами себя», уводя из среды образования слишком большое число учителейl 2, вынужденных приобретать иную специальlMadeleine Marzin, La réforme de l’enseignement Mol- let-Billéres, en «La Nouvelle Critique», París, № 81, janvier 1957, p. 20.
2 Сообщение телеграфного агентства Ассошиэйтед Пресс, цитированное ранее (El «Annuaire internationale de l’édication», ed de la Unesco y del Bureau International d’Edication, París — Geneve, 1954, p. 181), указывает, что к началу 1953/54 учебного года в школах Соединенных Штатов не хватало 72 тысяч квалифицированных учителей, чтобы удовлетворить потребности населения. Данные Федерального правительства за 1951 год показывают, что 41 процент учителей начальной и средней школы работали по специальности менее четырех лет, около ПО тысяч человек — <менее двух лет, а 27 тысяч не имели никакой педагогической практики (Emilio Delgado, El linchamiento de la cultura en los Estados Unidos, в «Revista de Guatemala», № 4, 1952, p. 195); маловероятно, чтобы ситуация могла заметно улучшиться и в будущем. Этому можно найти объяснение в общей сумме заработной платы, выплачиваемой учителям. Бюллетень Национальной ассоциации учителей (от 27 апреля 1951 года) сообщает, что в США средняя заработная плата учителя исчисляется в 3080 долларов в год, из которых следует исключить 20 процентов подоходного налога; она составляет, таким образом, немногим более 47 долларов в неделю, то есть сумму, едва превышающую самый низкий и становящийся уже общим уровень заработной платы школьного учителя. И как в таком случае удивляться, что все увещевания относительно авторитета воспитателя падают в пустоту? А вот другой факт, который следует рассмотреть п который касается перегрузки учителей при системе переполненных классов, наносящей ущерб самому процессу обучения учащихся. Во Франции, которую по обыкновению считают образцовой в этом отношении страной, данные на 1954/55 г. обнаруживают, что только в одном департаменте Сены 2694 класса начальной школы и 158 классов детских садов насчитывают по 40— 50 учеников в каждом классе (Je ап Kan а р a, Situation de l’intel- lectuel, p. 66).
25
ность, но объективные факты и внутренняя динамика прогресса капиталистического накопления более неумолимы, чем все увещевания относительно предвидения будущего.
В таком случае можно было бы сделать вывод, что чудовищный кризис уже захватывает и коммуникативные средства культуры. А эти приводные ремни культуры неотделимы от социальной структуры общества, где данная культура возникает и получает распространение. Или, если хотите, это можно выразить иначе: вполне очевидно, что конфликт может возникнуть тогда, когда коммуникативные средства уже не удовлетворяют людей, жаждущих испытать на себе воздействия культуры. Однажды показалось, что Ортега-и-Гассет угадал наиболее скрытый смысл этого кризиса, когда заговорил с нами о «восстании масс». Но он удачно напал на след — и только, ибо вскоре он уже говорил нам, что человек не подготовлен к богатой жизни. «Человек, — пишет он, — теряется в своем собственном богатстве; его собственная культура, буйно произрастая вокруг него, в конце концов задушит его. И именно это явление представляют собой в конечном счете так называемые кризисы истории. Человек не может быть чрезмерно богатым: всякий избыток способностей, возможностей, имеющихся в его распоряжении, приводит к тому, что он тонет в них и теряет чувство необходимого» Г
Испанский философ имеет в виду, конечно, духовное богатство людей, однако ничто не мешает философам понять, что, кроме этого, существуют еще какие-то конкретные вещи. Правда, некоторые из них, например Жюль Ромэн, занимаются конкретными вещами и предлагают нам идеал нищеты, стимулирующей якобы к познанию1 2. Когда же испанский философ обращается к парадоксальному факту, сравнивая изобилие книг в 1 José Ortega у Gasset, El libro de las misiones, ed. Espasa — Calpe, Buenos Aires, 1940, p. 39.
2 Жюль Ромэн пишет: «...как посмел бы раньше поступать так студент, который не только отказывается познать годы бедности солдата и приятные жертвы, составлявшие удел его старших, время проверки их призваний, но даже требует зарплату за услугу, которую он оказывает обществу тем, что учится, вместо того чтобы заниматься лыжным спортом» («Quand les mendiants se fáchent», в «L’Aurore», París, janvier 27, 1954).
26
наше время с недостатком их в эпоху Возрождения, то, вероятно, он как бы с помощью этого кажущегося и удручающего изобилия хочет лучше показать вполне очевидный смысл кризиса нашего времени. Этот кризис, помимо самой культуры, касается также средств ее передачи, средств превращения ее в доступную культуру для «восставших масс». Отличительным признаком нашей эпохи является не что иное, как приобщение масс к общественной жизни страны. Сколь бы невероятным и непонятным это ни казалось, именно данный признак выражает собой расширение структурных основ демократии. Если поразмыслить над этим фактом, следуя превосходному методу, которым пользовался Сармиенто в своей уже упоминавшейся работе «Народное воспитание», то можно проникнуть в истинный смысл современного кризиса культуры. Политические права, то есть действия индивидуума по отношению к правительству данного общества, опережают его интеллектуальную подготовку, которую предполагает пользование этими правами, утверждает наш Сармиенто. А вот еще: «Закон уже не рискует ставить человеку условие как существу свободному и разумному, что он может пользоваться принадлежащим ему правом лишь в том случае, если способен делать это благоразумно»1.
В основе кризиса культуры, который занимает наши мысли, лежит противоречие между писаным и реальным законом общества. Культура в целом — это совокупность социальных институтов, привычек, продуктов интеллектуального труда всего народа, или, говоря иначе, культура есть «совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством в процессе общественно-исторической практики». Следовательно, культура должна быть соотнесена с историческим общественным человеком, находящимся в необходимой связи с другими людьми и подверженным всевозможным изменениям коллективного сознания. Как внутренние, более глубокие формы культуры, так и внешние коммуникативные ее средства связаны с изменением общественного сознания. Однако внутренние изменения, представляющие собой явление самой культуры, обычно предшествуют изменениям в способах 1 D. F. Sarmiento, Educación popular, р. 25, 26.
27
распространения культуры, как это сумел заметить с истинно гениальной прозорливостью Сармиенто. Именно здесь кризис культуры может достигнуть вершины пароксизма.
Следовало бы схематически изобразить картину, свидетельствующую о том, что старый идеологический аппарат становится уже непригодным для удовлетворения социальных запросов и что в то же время внутри общества намечается возникновение новых инструментов идеологии, еще очень слабых и не получивших распространения, с трудом прокладывающих себе путь сквозь мертвый груз рутины. Подобные конфликты указывают нам на прогрессивные аспекты кризиса на историческом фоне культуры. Они являются неизбежными, сказали бы мы, в обществе, разделенном на классы, внутри которого наличествуют антагонистические культуры, или по крайней мере противоречивые стороны одного и того же процесса. Это медленное зарождение нового вдруг внезапно врывается в почти привычное спокойствие обыденного сознания и нарушает его. И этот процесс, бурлящий в недрах старой культуры, увлекающий за собой и одновременно отрицающий многие из ее определяющих качеств, не предстает перед нами как нечто совершенно правильное и безошибочное; почти всегда пронизанный политическими мотивами, он приносит с собой вещи временами смутные, неясные, которые приводят философов в смятение. Ибо культура (и я настаиваю на понимании этого явления во всей совокупности, отвлекаясь от ее возвышенных частностей) приобретает определенные очертания в клеточках общества, стремясь закрепить идеологическую победу одного класса (или группы классов, временно связанных друг с другом). Через посредство культуры проявляется то, что Грамши называет «моментом сознания», то есть моментом, когда политическая диктатура господствующего класса превращается в гегемонию, быстро и действенно распространяющуюся по всем порам гражданского общества. Противоречивая культура, естественно, возникает как выражение противоречивых сил, хотя процесс культурного наследования имеет тенденцию интегрировать ее в национально-народном плане. И, однако, это всегда лишь предначертание; до тех пор, пока новые классы не добьются 28
политического господства, этому предначертанию трудно стать чем-то большим, чем предугаданным проектом, эскизом действительных потребностей, вызванных к жизни данным обществом.
Но если новая культура есть следствие нового общества, то в равной степени верно и то, что она зарождается в недрах старой культуры, способствуя ее видоизменению, и сама превращается в проводника того, что должно прийти на смену. Это культурное предначертание в мутациях общественного сознания, это бурное рождение новой формы культуры внутри старого социально-культурного здания выражала собой в свое время «Энциклопедия», сквозь твердые рационалистические постулаты которой прошли, часто сами того не сознавая, безграмотные sans-culottes Великой Французской революции. В сложном переплетении действий и взаимодействий идеологическое предначертание, поскольку оно отвечает строго материальной исторической потребности, сначала превращается в политический акт, чтобы впоследствии рано или поздно вылиться в культурную революцию. Буржуазные революции XVIII и XIX столетий предвосхитили эту картину увеличения культурного воздействия как следствия изменений в политическом состоянии общества; пролетарские революции XX века реализуют на наших глазах, правда, не всегда достаточно зорких, опыт, в основе своей уже определенный. А общая картина кризиса культуры представлена в равной степени как меланхолией ученых, так и «восстанием масс». Расстроенный философ в состоянии лишь сожалеть о бесполезных богатствах, которые удушают человека, бесплотное существо с бескровными и оторванными от жизни размышлениями, однако найдутся ученые, которые смогут обрушить на этого бесплотного необщественного человека все социальные последствия развития техники, увеличивающей все противоречия частного способа присвоения благ. Массы же между тем стремятся подняться до осознания истории, и, как это видел Сармиенто, их политические права опережают ту «интеллектуальную подготовку, которую предполагает пользование этими правами».
Когда живешь в подобном государстве или по соседству с ним, то ожидаешь, что кризис культуры дол-
29
Жен проявиться со всей очевидностью в коммуникативных ее средствах. Читаем у Алекса Комфорта такую фразу: «Какой бы ни была художественная концепция писателя, он пишет для того, чтобы кому-то что-то объяснить» *. Сама по себе фраза не оригинальна, но правильна и не вызывает сомнения, ибо она отвлекает нас от идеи (или мистификации) «никчемной» культуры, лишенной коммуникативной действенности. Если мы заменим понятие «писатель» понятием «деятель культуры», понимая под этим человека, выполняющего активную функцию в области культуры, то смысл действенной передачи культуры полностью сохраняется. Передача культуры превращается в социальный акт в результате взаимодействий, происходящих между деятелем культуры и обществом, которое ее определяет и приобретает. А когда коммуникативные каналы нарушены, когда имеется существенное противоречие между деятелем культуры и ее возможным потребителем, то случается, что кризис культуры наступает в форме паралича коммуникативных ее органов. Если как следует посмотреть, то именно таковым и является сегодня наше состояние.
1 Alex Comfort, La novela y nuestro tiempo, trad. de Francisco Ayala, ed. Realidad, Buenos Aires, 1947, p. 14.
Национальные модификации
Тема противоречивой культуры и ее неясного зарождения внутри аргентинского общества встает теперь перед нами в национальном плане. Что же мы представляем собой как нация? Обычно принято говорить, что первоначально население Америки составляло одну единую нацию; с этим можно согласиться, но только в смысле относительной унификации, навязанной нам колониальными властями из Испании. А по существу нас нельзя было рассматривать как нацию, поскольку тогда мы еще не составляли таковой в прямом и строгом смысле этого слова.
Некоторые критики могут даже проследить зарождение «национального характера», чтобы апеллировать к нашей древней, давно сложившейся национальности. Добрая половина изложения столь популярной «Истории аргентинской литературы» Рикардо Рохаса опирается при раскрытии понятия «нация» именно на духовные основания, то есть на психический склад. Но что такое национальный характер, как не отражение условий жизни народа, который сам творит свою историю? Правда, «национальный характер» может проявиться раньше, чем возникнет нация, и один французский историк прибегает к примеру с Хуаном де Арко, чтобы продемонстрировать нам рождение народного патриотизма \ который мы столь великолепно ощутили во времена нашествия англичан. Однако одного национального характера недостаточно, чтобы рассматривать нас как нацию, то есть как исторический факт, зависящий от объективных условий жизни, связанных с уничтожением феодальных форм экономики в составе единого капиталистического рынка. В решающие моменты ста-
1 Je ап Chesneaux, A propos du processus de formation de la nation vietnamienne, в «La Pensée», París, № 73, mai — juin, 1957, p. 61.
31
новления нашей национальности революционные воззвания были обращены ко всем народам Южной Америки, а не к какой-нибудь ее части, и это правильно. Но когда некоторые критики говорят сейчас о разрыве нашего прежнего единства (никогда не существовавшего или существовавшего лишь в вице-королевских приказах), то необходимо заметить им, что главным виновником этого разрыва явился каудильизм, или, лучше сказать, полуфеодальные отношения, нашедшие в каудильизме свое конкретное социально-политическое выражение. 'Именно здесь (за исключением ностальгии, воскрешаемой в памяти прошлого) — начало единства и различия между аргентинской нацией и всеми остальными южноамериканскими нациями. Единство в нашем происхождении — это часто всего лишь торжественный троп и не более — несомненно имеется и состоит в том, что относится к докапиталистическим формам нашей экономики, которые до сих пор довлеют вад ней и явные пережитки которых в латифундиях продолжают еще оказывать тормозящее действие на развитие общества; это единство сохраняется до сих пор из-за наличия империалистического капитала, который оказывает уродующее влияние на развитие наших стран.
Даже при допущении этого мнимого единства становится очевидным различие в развитии Аргентины и других латиноамериканских стран, за исключением, может быть, Бразилии и частично Чили.
Закон неравномерного капиталистического развития распространяется и на зависимые страны; в силу однобокого развития своих стран латиноамериканские нации обнаруживают неравномерный рост внутренних сил, объективно вызванных к жизни столкновением интересов этих наций с интересами великих держав. Вероятно, для некоторых национальных сил, стремящихся в глубине души своей обойтись при эксплуатации масс своих стран без иностранных компаньонов, великие державы в области культуры оказываются желаемыми (хотя втайне и ненавистными) в конкретном случае экспансии и вытекающих отсюда благодеяний. Однако было бы неправильно объяснять это явление при помощи огромного знака равенства для всех американских стран; еще менее справедливым будет, если мы применим этот критерий к Аргентине, где уже заметно неко-
32
торое национальное развитие, которое, хотя и испытывает тормозящее действие со стороны общих для этих стран явлений (латифундии, иностранный капитал), тем не менее придает господствующим классам Аргентины силу, не всегда находящую себе эквивалент на других широтах Америки, как в плане социальном, так и в плане идеологическом.
Случается, конечно, что и обращают внимание на отличительные условия в развитии Аргентины, но это лишь для того, чтобы преподать их как эффектный момент возможной остроты; в Чили, например, мы не являемся «аргентинцами»: здесь мы просто
В этом случае обычно заводят разговор о нашей дезамериканизации. Если рассматривать вопрос в этой плоскости, то мы окажемся в меньшей степени американцами, чем ¡население всех остальных стран Америки; многие из идеологов Аргентины (начиная с Сармиенто ;г кончая Инхеньерос) усматривают в этом обстоятельстве положительный момент. Если из всех стран Америки мы в меньшей степени американцы, то это свидетельствует лишь о замене туземного населения импортированным населением — явление, о котором, по словам Альберди, без конца говорят еще со школьной скамьи. Тем не менее оно заключает в себе два неразрывных и совпадающих между собой факта: богатый иммиграционный вклад, растраченный ¡на истребление туземного населения, осуществленное методическим и беглым огнем при завоевании пустыни. У нас туземное население не является преобладающим, и в этом, согласно публицистам, склонным к инсинуациям, как бы и состоит наше превосходство над остальными американскими странами. Но если оставить в стороне эту абсурдность вымышленного превосходства — смутное и беспорядочное веяние расизма,— то несомненно, что демографическое лицо Аргентины не совпадает с демографическим лицом других американских народов, за исключением Соединенных Штатов и некоторых районов Бразилии. Дон Хуан Мария Гутьеррес в 1876 году дал нам следующее определение: «...мы являемся гражданами страны, сложившейся за счет иммиграции» L
1 J u á n María Gutiérrez, Cartas de un porteño, ed. Americana, Buenos Aires, 1942, p. 79.
3 Э. П. Агости 33
Это энергичное заявление, написанное уверенной рукой Гутьерреса, вносит сюда тонко прочувствованную достоверность. Мы являемся гражданами иммигрантской страны, то есть страны, которая существует и в то же время ее нет, которая формируется и духовно укрепляется с помощью мощного притока свежей крови, идущего к ней со всех концов света.
Дальновидность Гутьерреса нуждается в некотором дополнении, которое мы находим у Флоренсио Санчеса: его «Гринга» действительно показывает нам, хотя и не везде, (новый аспект той же самой (проблемы. Иммигрантскую страну можно было вначале воспринимать как разделенную на «креолов» и «гринго», враждующих между собой, и добрая половина нашей литературы конца прошлого века разрешает этот конфликт между креолами и гринго без чрезмерного драматизма. Местами этот конфликт достигает трагической силы, как, например, у Р. Пайро в его «Марко Себери», но обычно мы смотрим на него с лукавой усмешкой: привычка Фрая Мочо, которая является продолжением — далеким эхом — тех немногих стихов, с помощью которых в «Мартине Фьерро» высмеивается проблема гринго. Вероятно, историк будущего вынужден будет прибегнуть к этому неисчерпаемому репертуару сайнете, чтобы лучше уловить живые признаки конфликта и его соответствующей интеграции. «Коколиче» 1 Подестй служит, вероятно, здесь первым таким образцом, хотя и полным неуловимых отклонений; это свидетельствует о том, что народный жанр представляет собой постоянный источник развлечения, он продолжает совершенствоваться и распространяться, ибо от итальянцев он переходит и к другим «нациям» в форме неустанного собирания образчиков острот и выражений, высказываемых временами внезапно и удивительно к месту. Трудно пренебречь таким достоверным источником, как сайнете, которые в первое десятилетие XX века представляли собой наиболее распространенную форму народного аргентинского театра. Безукоризненная гражданственность иммигрантской страны нашла свое проявление в образах беспримерного (мужества, созданных народным театром; и хотя многие из них находятся за пределами искусства, тем 1 Жаргон итальянцев.— Прим, перев.
34
не менее все они отражают реальный процесс аргентинского общества. Смысл этого процесса состоит в следующем: то, что присуще «гринго», начинает соединяться с «креольским», образуя нечто единое, и это единство, которое Санчес изображает символически в заключительной сцене своей «Гринги», находит живое воплощение в реальном обществе. В нем фактически приходит конец расколу между «креолами» и «гринго», который поддерживается — или, может быть, исподтишка подогревается — подозрительным ностальгическим и реакционным фольклором. Нравы и обычаи «гринго», выражения и обороты их языка входят в плоть и кровь аргентинского общества и уже перестают восприниматься как присущие только «гринго», ибо становятся уже достоянием всего народа.
В этом плане мы, конечно, в меньшей степени американцы, чем другие страны Америки; здесь следует иметь в виду лишь этническую сторону формирования нашей нации. А это можно рассматривать и как наш недостаток, и как наше преимущество, как оригинальное, самобытное в нашей культуре. Недостаток заключается в отсутствии духовной поддержки гринго во времена их первых волнений, в отсутствии эмоциональных связей гринго с нашей историей, которую следует понимать как жизненную непрерывность целого народа, а не как простое школьное повествование; преимущество же, наоборот, состоит в новой основе, которая возникнет в результате взаимосвязи и взаимовлияния гринго и креолов. Из этой двойной обусловленности проистекает самобытный характер нашей культуры или по крайней мере то, что принято называть культурным наследием и что следует правильно и справедливо оценить без больших патриотических преувеличений. Наше национальное наследие уже не является результатом только древней креольской традиции. Последняя, конечно, сохраняется, но, кроме того, все присущее гринго и их языку уже вошло в плоть и кровь нравов, обычаев и языка нашей туземной цивилизации. Следовательно, модификация национального происходит из этого явления, которое получило свое отражение в сайнете, несмотря на стремления их авторов, занятых зачастую лишь комической, смешной стороной явления. Мы уже не являемся ни креолами, ни гринго; мы просто арген3*
35
тинцы. Но аргентинцы, пройсхоДящие «от различных предков», которые представляли ранее цвет аристократии в нашей республике, «не допускающей привилегий ни по крови, ни по происхождению»; теперь уже аргентинцы рождаются от других аргентинцев, которые в свою очередь ведут начало от иммигрантов неясного происхождения. Национальный тонус в настоящее время становится более крепким благодаря тесной эмоциональной и интеллектуальной связи среднего аргентинца со своей исторической традицией; но этот средний аргентинец есть в свою очередь нечто уже совсем отличное от тех, .кто противопоставлял себя гринго, о чем уже столько раз говорилось.
В восприятии относящегося к гринго имеется социальный момент, который не всегда ощущается в культурных явлениях гринго. Часто говорят о какой-то навязанной нам культуре, намекая, конечно, при этом на космополитические формы, обедняющие или просто опустошающие национальную душу. Эту национальную душу должна была бы составить наша испанская основа, и все, что стремится ограничить ее (если вообще не отречься от нее), выглядит искусственным и внешним, чем-то вроде стесняющего ортопедического приспособления, надетого на нашу действительность. Такое заявление опирается, видимо, на какие-то статистические данные: на тот факт, что демографические изменения в Аргентине во второй половине XIX столетия совпадают с новым мировым разделением труда, вызванным главным образом Великобританией. И если литературные тропы и многословие, которыми переполнена преамбула нашей конституции, не являются причинами, вызвавшими этот процесс, то, во всяком случае, они представляют собой рациональное и плодотворное его использование. Маркс учит нас, что «происходящее в странах крупной промышленности постоянное превращение рабочих в «избыточных» порождает усиленную эмиграцию и ведет к колонизации чужих стран, которые превращаются в плантации сырого материала для метрополии...» 1
1 К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 456—457. Приводя эти слова Маркса, Варга пишет: «К концу мирового аграрного кризиса XIX века европейское сельское хозяйство находилось, без всякого сомнения, на более высоком уровне, чем к его началу. Со всей оче36
Теперь кажется несомненным, что навязывание «грингского» обусловливается этими материальными причинами, которые настолько тесно связаны с мировым разделением труда и действиями великих держав, что революционизируют технику и придают новый тонус мировой цивилизации. Однако это, несомненное само по себе, не вызывает осуждения. Осуждения заслуживают те моральные выводы, которые кое-кто пытается сделать при рассмотрении исторических событий. Развитие Аргентины также соответствует этому несомненному факту, но только в наихудшем варианте, поскольку латифундии остаются нетронутыми. И не следует говорить о том, будто в пустыне ничего нельзя сделать; это всего лишь выгодный театральный фон для лирических излияний тех, кто следовал Эчеверриа, фон, мало пригодный для действительного создания нашей национальности.
Однако *в этом иммиграционном потоке, уже необратимом в том, что касается особенностей аргентинской культуры, имеется, конечно, и культурный момент. И было бы ошибкой говорить под этим предлогом о космополитизме; это все равно, как если бы мы захотели расколоть нашу национальную культуру на две части и как если бы огромная и глубокая пропасть отделяла истинно национальное, рассматриваемое как известное продолжение наших испанских корней, от всего того, что объявлено ненавистно-космополитическим, а это последнее — пот и семя гринго, которые, согласно меткому замечанию Корна \ «трансформировали» весь облик страны. Действительно, если некогда космополитизм (по своему происхождению столь высокая и плодотворная идея) мог служить оружием видностью отсюда следует, что при капитализме этот прогресс мог быть достигнут с помощью пролетаризации миллионов крестьян. Но эти пролетаризированные крестьяне находили возможность жить частично на предприятиях промышленности, которая тогда развивалась быстро и давала работу миллионам дополнительных тружеников, а частично на территории трансатлантической эмиграции...» Е. Varga, La crisis у sus consecuencias políticas, ed. Europa — América, Barcelona, 1935, p. 90.
1 Alejandro Korn, Influencias filosóficas en la evolución nacional, en Obras Completas, ed. Claridad, Buenos Aires^ 1949, p. 150.
37
культуры против средневекового обскурантизма, то теперь он рассматривается и объявляется оружием отказа от всего национального.
Конечно, процесс национального развития очень изменчив, временами запутан и непонятен, можно было бы сказать в известном смысле «двуличен». Ибо уже с самого начала деление на креолов и гринго подчиняется различным причинам. Боязнь и недоверие к гринго поддерживаются и подогреваются старыми пастырскими традициями, вместе с тем последние рушатся перед лицом самих «гринго», прибывших сюда для того, чтобы «все уничтожить»; добавим еще к этому, что именно те, кто разжигает злобу против «презренного» иммигранта, обычно чувствуют себя очень уютно за столом того же гринго, но уже банкира. Аналогичное явление наблюдается также и у гринго, .которые организуются в отдельные «колонии», создавая поначалу много фрагментаций с обязательным однородным населением. Если некогда Мансилья посмел жаловаться (не слишком ли это было дерзко с его стороны?) на то, что у креолов нет своего консула, то уместно теперь сказать, что присоединение этих «колоний» к тому, что принято называть нашим национальным бытием, было вызвано экономическим развитием страны, приобщением их к ее производственной жизни, заключающей в себе как исчезновение старой тоски по родине, так и одновременно рождение духовной связи с новой родиной.
Данный процесс накладывает равным образом неизгладимый культурный отпечаток на страну, начиная с нового для нее факта создания иммиграцией первых ассоциаций рабочей и социалистической пропаганды среди нас в конце прошлого века. Хоакин В. Гонсалес писал в своем «Приговоре веку», что это было «хаотичное и сумбурное навязывание всякого рода идей, утопий, философских, экономических и политических кредо, которые не только стремились уничтожить и стереть последние остатки традиционного испано-аргентинского воспитания, но, восполняя пробелы последнего, проникали в сознание масс больших городов» Г 1 Joaquín V. González, Obras Completas, ed. de la Universidad Nacional de la Plata, 1936, tomo XXI, p. 147.
38
Перед нами опасный образчик экзотики, претендовавшей исправить положение вещей с помощью закона о местожительстве, когда все виды консервативного патриотизма, проявившегося в данном случае в запутанном конфликте между креолами и гринго, оказались непригодными перед лицом рабочего движения, а этот конфликт — всего лишь один момент в процессе становления нашей культуры. Типичный признак нашей национальности представлен отнюдь не одними только нашими старыми испанскими корнями, от которых столько раз мы отказывались с высоким воинственным чувством, и не одним лишь туземным своеобразием, которое в Аргентине представляет собой не что иное, как обязательную архидревнюю музейную редкость. Без сомнения, национальность наша заключается в единстве обоих этих признаков, но здесь необходимо добавить еще относительно иммиграции гринго, которые внесли свой вклад во все сферы нашей жизни. В этом смысле без вклада гринго наше культурное наследие не было бы столь богатым. Большая однородность населения Аргентины позволяет теперь твердо проводить национальную политику в области культуры, если не забывать при этом о запутанности и скромности источников ее происхождения. В конце концов мы сейчас находимся в положении тех персонажей, которых столь остро высмеял Артур Кансела в одном из своих «Трех рассказов из жизни Буэнос-Айреса»: наш «культ героев» в большинстве случаев не идет дальше некоего мрачного иммигранта, который принес нам свой пыл и свою надежду, если не свое страстное желание «создать свою особую Америку»..,
Предварительное требование: необходимо рассмотреть, что мы собой представляем как нация
Определить национальный характер значит выступить как против приверженности к традиционализму, так и против космополитизма, то есть против попыток лишить нас истинно национального с помощью чудовищного его отрицания или порочной его мистификации. Во-первых, все национальное обычно растворяют в течениях такого рода литературы, которая отвергает окружающую действительность, и тогда на нее справедливо навешивают ярлык космополитической литературы, что, конечно, ей не нравится. А во-вторых, некоторые так называемые националисты тоскливо мечтают о восстановлении старого креольского общества. Быть преуспевающим аргентинцем кажется весьма почетным званием, но оно превращается в неопровержимое, если среди предков вдруг отыскивается какой-нибудь полковник, участник довольно сомнительных баталий. И аргентинским в таком случае должно стать исключительно все, что связано со старыми формами колониального общества. Так, нисколько не стесняясь, доктор Кабальеро заявил на недавнем заседании сената: лучше было бы продолжать нам ездить на телегах или верхом на коровах, чем допускать изобретения гринго.
С меньшей жестокостью, но с большей политической ясностью то же самое подчеркнул Рамон Долл, обвиняя аргентинцев в том, что они отказались от своих привилегий в пользу иммигрантов L Политические выводы
1 «В знаменитую ночь 4 августа 1789 года французское дворянство и духовенство отказались от своих феодальных привилегий. В 1853 году мы, аргентинцы, кажется, совершили подобную же историческую ошибку; креольские патриции отказываются, согласно статье 20 нашей Конституции, от своих привилегий над иммигрантами в пользу каких-то ложных принципов; они должны были бы сохранить свои привилегии естественного гражданства и, как к тому «обязывает благородство», стать тем зеркалом, в которое 40
из подобной неправомерной позиции наглядно показывают всю внутреннюю фальшь национализма. Но здесь важно еще и то, что как приверженцы традиций, цепляющиеся за прошлое времен археологических раскопок, так и универсалисты, прикрывающиеся всеми преимуществами мирового гражданства, сходятся на одном, а именно в конечном счете и те и другие оторваны от конкретной действительности L
А между тем что мы представляем собою? Нация — это большая группа людей, у которых в ходе длительного исторического развития выработался ряд общих черт, признаков — один язык, единая территория, общность экономической жизни, а также общность национального характера, духовного, психического склада. При этом ни один из указанных признаков не может рассматриваться в отдельности; все они действуют в совокупности, взаимно влияя, подкрепляя и объясняя друг друга. Все эти условия, вместе взятые, развиваются на объективной, исторической основе, определяемой в существе своем общественными производственными отношениями. Нация не мыслится лишь как формальная целостность всех ее атрибутов без ликвидации старых феодальных основ общества, что является обязательной исторической предпосылкой в процессе складывания нации. Эта предпосылка исторически связана с буржуазными формами производства, необходимыми для создания общей территории и, следовательно, общего языка, всего того, что способствует развитию и укреплению общности психического склада людей.
Один вариант классического пути образования нации представлен победой первой в мире социалистической революции. Теперь мы видим, что ликвидация старого строя может быть осуществлена только путем экспроприации средств капиталистического производства, а также путем непосредственного внедрения социалистического способа производства. Об этом убедительно
смотрелись бы дети иммигрантов и вдохновлялись бы их примерами» (Ramón Dolí, Acerca de una política nacional, ed. Difusión, Buenos Aires, 1939, p. 17—18).
1 Не прибегая к другим пояснениям, которые последуют дальше, любознательный читатель сможет найти это положение в развернутом виде в моей работе «Echiverría», ed. Futuro, Buenos Aires, 1951, p. 164 и далее.
4J
свидетельствует путь развития периферийных республик Советского Союза: они осуществили скачок от феодализма к социализму, причем их движение к социализму совпадает со свободным проявлением их истинно национального характера.
Отсюда можно сделать вывод, что наш путь следования от того, что мы могли бы назвать преднациональ- ным состоянием, до образования самой нации не представляет собой прямой линии, способной раз и навсегда определить характер и психологию истинных аргентинцев. Сармиенто, например, в своем «Факундо» писал, что в «характере аргентинца есть .какая-то стоическая отрешенность перед насильственной смертью» \ и с тех пор вошло в привычку рассуждать о культе смельчака всякий раз, когда мы пытаемся отписать нашу самобытность. От «злодея-гаучо» Сармиенто мы перешли теперь к «компадрито»1 2, которому сродни люмпен и который выставляется как образец нашего национального характера. А между тем разве не заметны сейчас существенные изменения в национальном характере аргентинцев, если сравнивать проявление этого характера до и ¡после иммиграции? «Компадрито» — это современная транскрипция прежнего, весьма далекого культа смельчака; это был культ жителя побережья, жителя ненастоящего города, то есть города, который по существу оставался еще деревней, городом-деревней памп, где поля чередовались с разрозненными домами на побережье. Отверженное существо (дообщественное, если хотите), презренный отброс в производственном процессе общества, злодей дополнял проявления своей жестокости преступными махинациями, не исключавшими даже сводничества, вероятно, для того, чтобы продолжить еще одну вымышленную традицию презрения га- учо к женщине.
Определенная живучесть этого культа вызывает проявления ностальгии, которые присущи и традиционалистам, и универсалистам. Если у первых эти проявления объясняются попыткой отвергнуть, хотя бы теоретически, сложившуюся в стране ситуацию после имми1 R. F. Sarmiento, Facundo, ed. de la Universidad Nacional de la Plata, 1938, p. 30.
2 Compadrito — кум, приятель, дружок, но уже городской житель.— Прим, перев.
42
грации, то у вторых то же самое приобретает временами такую окраску, которая создает видимость их связи с народом и понимания его. Бьой Касарес в своем романе о жизни пригорода «Мечта героев» («El sueño de los héroes»), в котором слышится выразительное эхо Борджа, подводит нас к образцу такого поведения. Достоинство этого поведения должно состоять в том, чтобы (померяться своей храбростью с уже признанным смельчаком в схватке на ножах, причем все это сопровождается в романе мрачными философскими разглагольствованиями о возвращении души в вечное царство. Но этот культ смельчака, последнее выражение которого мы находим в «компадрито», уже умирает, ибо сам город изменяет свой облик. Смерть «компадрито» совпадает с «трансформацией» жителя пригорода, которая достигается с помощью фабрики; это изменение находит свое отражение и в литературе. Если старые сай- нете рисовали образ симпатичного смельчака (временами также с порывами отпущенного ему благородства), то теперь этот смельчак предстает перед нами вплоть до самой своей смерти как ничтожество, как воплощение антиобщественной праздности и безделья, несовместимых с самим существованием современного общества L
1 Два примера. В «Хуане-Никто» («Juán Nadie») Мигеля Этче барне дается описание подобной босяцкой истории одного «компадрито», где не скрывается ни одна из черт его отверженного состояния. Перед нами — смельчак со всеми преступными его наклонностями и желаниями, сконцентрированными главным образом на бесстыдном и рискованном насилии женщин; его смерть предстает перед нами как гибель прототипа.
В «Зеленом ковре» («Paño verde») Рохеру Пла удается осознать это явление. Главное действующее лицо здесь — убийца, который воплощает в себе полную неприспособленность последних представителей пастушеской деревни, теснимых непрерывным ростом в городе новой социальной обстановки; перед нами — гибель жителя пригорода, последнего отпрыска пампы, очутившегося в черте города. Последний побег Эль Пуа из города по плоским крышам новых домов и смерть его — раздавленного необъятной громадой этих домов, изменяющих архиизвестную географию его детства,— может показаться метафизикой, правда в уже преобразованном виде, ' всего того, что свойственно жителю побережья. Однако это преобразование — всего лишь поверхностная сторона данного явления, главное же здесь заключается в самом городе, облик которого, как это сказано на одной из страниц книги, изменен трудом гринго.
43
«Стоическая отрешенность перед насильственной смертью» — вещь весьма спорная еще в начальных набросках Сармиенто — в настоящее время исчезает и уже не рассматривается как неизменный показатель аргентинского характера. Смелость имеет теперь иные основы. Она — не на кончике ножа, а в бесшумном героизме трудовых будней, как мы видим это в стихах Густаво Риччо:
Поют итальянцы — люди труда, Создавшие песни чудесные, И им героические дела Вершить помогает песня.
Они небоскребам велят расти
И сами ввысь лезут — в небесные дали.
И там, в вышине, к ним летит Навстречу песня Италии L
Следовательно, черты национального характера не являются извечными, данными раз и навсегда. Они формируются в процессе медленного накопления изменений в жизни общества; внутреннее содержание этих черт национального характера очень часто отвергалось у нас из-за тех формальных признаков, которые в других местах земного шара составляли основание наиболее мощного первоначального самоутверждения нации.
Если рассматривать нацию исторически, то она — продукт XIX столетия; и этим сказано, что нация является исторической категорией определенной эпохи, эпохи подымающейся буржуазии. Вначале буржуазия выступает как бы выразителем единого национального классового интереса, ибо берет на себя роль руководящего класса в обществе и объективно заключает в себе возможные пути национального развития. «Пролетариат и не принадлежавшие к буржуазии слои городского населения,— пишет К. Маркс,— либо не имели еще никаких отдельных от буржуазии интересов, либо еще не составляли самостоятельно развитых классов или частей класса. Поэтому там, где они выступали против буржуазии,
1 Gustavo Riccio, Un poeta en la ciudad, ed. Instituto Amigos del Libro Argentino, Buenos Aires, 1955, p. 45. (Перевод стихов в книге осуществлен Д. Аркадьевым. — Прим, ред.)
44
Например в 1793 и 1794 годах во Франции, они боролись только за осуществление интересов буржуазии, хотя и небуржуазным способом. Весь французский терроризм был не чем иным, как плебейским способом разделаться с врагами буржуазии, с абсолютизмом, феодализмом и мещанством» L
С ростом капиталистической цивилизации исчезает иллюзия о существовании единого национального классового интереса. Более того: этого единства не существует уже в самом начале; имеются лишь в скрытой форме те различия, которые впоследствии достигнут своих истинных размеров. Разумеется, понятие нации возникает одновременно с политическим триумфом буржуазии. Страдая от раздробленности феодальных рынков, буржуазная экономика для своего развития нуждается в едином рынке; рынок — главное условие для существования буржуазии, именно здесь буржуазия учится национализму. Но этот национализм, как это ни парадоксально, заключает в себе космополитизацию производства и потребления, неотделимую от самого факта существования капитализма и его потребности в захвате мировых рынков. Все громкие высоконравственные фразы, которыми в наши дни буржуазия пытается прикрыть это свое истинное намерение, не представляют собой какого-то нового изобретения: эта старая и в наше время менее удачная игра, чем когда-либо, ибо наличие социалистического мира не оставляет уже места для подобного фарса. Маркс и Энгельс писали в «Манифесте Коммунистической партии», что «буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала производство и потребление всех стран космополитическими»1 2. А в «Речи о свободе торговли» Маркс вскрыл все лицемерие буржуазного космополитизма, он пишет: «Присвоить имя всеобщего братства эксплуатации в ее космополитическом виде — такая идея могла зародиться только у буржуазии. Все разрушительные явления, вызываемые свободной конкуренцией внутри каждой отдельной страны, воспроизводятся на мировом рынке в еще более огромных масштабах» 3.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 6, стр. 114.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Избр. произв., т. I, стр. 12.
3 К Маркс, Нищета философии. Речь о свободе торговли, Госполитиздат, 1956, стр. 158.
45
Все средства национального утверждения носят противоречивый и диалектический характер. То, что одно время являлось рычагом расширения идеологического влияния буржуазии на мир, позднее превращается в сознательный тормоз, направленный на превращение этого мира в единый рынок, подчиняющийся законам капиталистической экономики. В борьбе против феодализма космополитическая экзальтация «гражданина ¡мира» заключала в себе историческую необходимость распространения прогрессивных идей для того, чтобы разорвать путы умирающего феодального общества. В настоящее время те же призывы имеют совсем противоположное значение. Нам следовало бы в таком случае обратиться к истинному смыслу этих призывов и увидеть историческое искажение их смысла в процессе формирования данного общества.
Выступая поначалу как революционная и преобразующая сила, буржуазия одновременно была космополитической в деле расширения границ влияния своей идеологии, и те же высокие фразы о всеобщем братстве позволили ей позднее, в эпоху ¡монополистической концентрации капитала, придать своему захвату колоний смысл социального и культурного благодеяния, столь жестоко опровергнутый самой действительностью. И мы видим тот же бездушный космополитизм в исторически искаженном виде; до сих пор он служит оружием империализма, стремящегося уничтожить национальную самобытность других народов. Все иллюзии относительно мирового гражданства весьма соблазнительны, и когда они переносятся на область культуры своей собственной страны, то оказывается, что нет недостатка в теоретиках надуманной универсализации культур и что в писаниях этих теоретиков довольно тонко ¡маскируется значение влияния этой навязчивой идеи космополитизма.
Для того чтобы, наконец, определить, что мы собой представляем как нация, следовало бы исходить из того, что кризис культуры в Аргентине имеет мощные наслоения этих неизбежных космополитических положений. Те средства и инструменты, которые вначале служили возвеличиванию подымающейся буржуазии, у нас оказались страшными бумерангами уходящей со сцены олигархии. Поэтому развитие национальной культуры 46
приобретает противоречивые черты, неотделимые от аномального развития самого аргентинского общества, которому необходимо утвердить себя как нацию во всей полноте действительного своего суверенитета, а не только объявить себя нацией в юридических документах. Ибо еще при первых наших робких шагах на пути национального развития мы проявили свою самобытную культуру, вдохновенная двоякая формула которой была начертана уверенной рукой Эчеверриа: «Наш взор направлен как вовне, на прогресс всех остальных наций мира, так и вовнутрь своего собственного общества» Ч Наша нация приобретала свои очертания как историческая категория определенной эпохи и в области культу- рьГ, и если «мировое гражданство» смогло послужить началом законного наследования передовой европейской мысли, то верно также и то, что эта мысль воспринималась как средство, как инструмент оживления действительной национальной жизни, ставшей неотложным и решающим пунктом аргентинского общества.
В своем отрицании собственных источников нашей культуры мы дошли к концу XIX века до отказа от конкретной действительности, прикрывая все это риторическим аппаратом космополитизма. Эта тенденция достигает своей кульминации в наши дни и предстает в качестве рецепта для тех извне, кто считает необходимым направлять нашу мысль, чтобы подчинить себе и нашу экономику. И именно тогда первые побуждения буржуазного размаха оказываются у нас зажатыми в тиски вплоть до отрицания национального пути развития в области культуры. Не стоит доказывать наличие приверженности к традициям в этом отрицании, ибо подобная приверженность означает в сущности незнание природы национального характера аргентинцев, изменившегося в результате такого исторического факта, как иммиграция, а также в силу экономических преобразований, которые произошли в нашей стране. Олигархический патриотизм естественно отживает свой век в современном космополитизме; но было бы плохой услугой — под предлогом «земной традиции» — удалить из нашей истории новое национальное качество, приобретенное
1 Esteban Echeverría, Dogma socialista, ed. de la Universidad Nacional de la Plata, 1940, p. 217.
47
за счет иммиграции, которое придает новый смысл аргентинскому патриотизму.
Конечно, космополитизм находит еще некоторую реальную поддержку в среде известной части иммигрантов. Но это — физический космополитизм, свойственный иммигрантским поселениям, не сумевшим приобрести настоящей связи с новой страной, а вынужденным лишь как-то приспособиться к непредвиденным условиям новой жизни; космополитизм такого рода представляет собой также разрыв этих иммигрантов со своими первоначальными нациями, несмотря на все их симпатии к ним.
Поселенцы, покидающие массами свои родные места, могут сохранить тоску по старой, покинутой нации, окруженной подчас ореолом определенных преимуществ, которыми расстояние наделяет вещи, казавшиеся ранее навсегда родными; возможно также, что некоторые, отчаявшись, в мыслях возвращаются на свою старую родину, поглощенные воспоминаниями о ней, и эти мысли и воспоминания точат их как червь, против которого нет средства. Хосе Педрони в некоторых своих прекрасных стихотворениях, собранных в книге под общим названием «Мосье Хакин», чудесной книге, где в лирической форме переданы все чувства гринго, так описал это состояние:
Ранчо мое звали «Ранчо поэта»,
А сейчас зовут «Ранчо бездельника», И так тоскливо мне поэтому, И не надо мне ни друзей, ни денег.
Горек мне жалкий кусок мой хлеба.
Нет у меня никаких желаний.
Только бы увидеть французское небо!
Вернуться бы во Францию, Мелания! 1
Но основную окраску историческому 'процессу образования нации придают не те люди, которые были изгнаны из своих стран в силу внутреннего отрицания, свойственного капитализму при образовании нации, и
1 J о s é Pedroni, Monsieur Jaquin, ed. El Litoral, Santa Fe, p. 108.
48
взоры которых безнадежно устремлены .к возвращению на родину, а, напротив, оставшиеся там, на родине1.
Таким образом, старая культурная общность распадается, хотя многие — конечно, тщетно и даже утопично— мечтают сохранить ее на новых землях. И старые связи, все больше удаляясь от своего источника, испытывают влияние новых условий, новой атмосферы и традиций, оказывая в свою очередь влияние на эти новые условия и их главных действующих лиц. Именно такое положение вещей, если я не ошибаюсь, и имеет место в Аргентине. 1 * * 4
1 Нет сомнения, что на начальных этапах развития капитализ¬
ма нации сплачиваются. Но несомненно также, что на высших ста¬
диях развития капитализма происходит процесс рассеивания наций, процесс отделения от наций целых групп, сначала уходящих в поисках заработка, а затем и вовсе переселяющихся в другие районы планеты. Переселившиеся теряют при этом старые связи и приобретают на новых местах новые связи, от поколения к поколению усваивают новые нравы и вкусы, а возможно, и новый язык.
4 Э. П. Агости
Противоречивая сущность нации
Противоречия в нашем национальном формировании отнюдь не говорят о том, что нация будто бы не существует или что ее следует представлять себе как нечто более или менее бесформенное, где включения извне предстают в качестве последовательных составных его частей. Исходя из таких нигилистических позиций, мы временами выносили всю несуразность «национального самоопределения», провозглашенного для иностранных колоний. К тому же мы ссылались на схемы, незаконно переносимые на нашу действительность, которой они совершенно не соответствовали, забывая при этом, что мы были еще не «нациями» с единым централизованным правительством, а всего лишь жителями, добровольно включившимися в новую национальную сферу, хотя наша воля первоначально определялась тем экономическим давлением, которое вынуждало нас покидать свои родные края. Мы не были тогда ни конгломератом «угнетенных наций», ни чем-то настолько пластическим, чему можно ¡придать любую форму. Наоборот, наши страны с самого момента своего освобождения от испанского владычества формально представляли собой нации с относительно постоянными чертами как в культурном, так и территориальном отношении. Поток иммиграции мог внести лишь заметные изменения в основные черты нации, однако эти изменения не являются фундаментальными преобразованиями. Не следовало бы также представлять дело так, будто мы переживаем сейчас дофеодальный период, когда наций не было, когда еще не выявлялись их существенные черты и язык. Следует иметь в виду также неоднородные национальности, населяющие страну, из смешения которых, возможно, возникнет когда-нибудь истинно аргентинская национальность. Не пренебрегая подобными обстоятельствами, вносящими в основные черты нации определенные изменения, следует, однако, считать их второстепенными 50
и сопутствующими в национальном развитии страны; они действуют на строго материальной основе, а не исключительно через психологическое влияние.
«Компадрито» не умрет в том смысле, что гринго передаст ему свое ставшее у нас распространенным косноязычие, свою тарабарщину и превратит в фарс, в карикатуру то, что жаждало стать драмой преступных элементов общества; но в то же время «компадрито» умрет, ибо в стране рождаются новые социальные отношения, главным носителем которых является рабочий класс портовых предместий. А этот факт, который кажется чисто демографическим явлением, означает, что противоположности в формировании нашей нации начинают уже превращаться в противоречия. И кризис культуры выступает у нас целиком в этом противоречивом виде.
Данный противоречивый аспект усиливается в связи с тем, что все более заметным и энергичным становится процесс классовой дифференциации, ускоряемый развитием капитализма в стране. Общность культуры выражает в себе национальную преемственность в развитии всего народа, но эта общность начинает приобретать противоречивый характер, как только выявляются разные позиции различных классов общества по отношению -к культурному наследию, различие вкусов, а также разная постановка культурных вопросов. Такое положение обязательно присуще обществу, разделенному на классы. В источнике нашей культуры, ставшей «воинствующей», согласно меткому замечанию Родо, мы находим немало иллюстраций относительно этого различия взглядов и точек зрения: предисловие Альберди к «Поэтическому обозрению» (Certamen Poético», 1841) является в этом смысле наиболее выразительным и совершенным документом. Противоречивый характер культуры усиливается, поскольку социальные различия, слабо проявлявшиеся в начале нашего освободительного движения, становятся уже все более ясными и четкими. Колониальная страна стала теперь зависимой страной, и само изменение в терминологии свидетельствует о национальном, росте на базе явно капиталистических форм производства. Капиталистические формы развития производства представляют собой определенный прогресс в области культуры по сравнению с теми формами, 4* 51
которые в начале нашего национального развития приближались к феодальным. Но самое важное в этом прогрессе составляет человеческая общность, связанная с появлением пролетариата как сущности независимой и определившейся внутри процесса производства. Никакая политика в области культуры не может обойти этот основной факт.
Наше национальное общество является противоречивым в культурном отношении, но историческая обстановка в наших странах, зависящая от подобных противоречий, такова, что эти противоречия могут смягчиться, по .крайней мере временно, перед лицом национальных сил, стремящихся извратить наиболее глубокий смысл этих противоречий. И хотя это явление исследовалось, тем не менее необходимо еще раз конкретно остановиться на нем. Если не прибегать к аналогиям, лишенным реального содержания, то несомненно, что все элементы, придавшие своеобразный характер культурному развитию Аргентины, имеют свое начало в изменениях, которые происходят в обществе и которые в настоящее время достигают своей критической точки зрелости. Если верно, что культура неотделима от процесса развития, происходящего во всех способах производства, то не менее верно и то, что историческое развитие Аргентины определяется, начиная особенно с 80-х годов прошлого столетия, появлением и ростом новых сил, вынужденных проявлять себя внутри анахронических и исторически себя изживших производственных отношений. Все явления, вызванные к жизни в нашем обществе этими новыми силами, обязательно приходят в противоречие с удушающей атмосферой в стране, созданной группами (местной олигархии и силами иностранного империализма под названием «безграничного прогресса».
Таким образом, мы имеем дело с объективным и реальным процессом развития общества, несмотря на субъективную соглашательскую политику, диктуемую буржуазной мудростью, поскольку на арену выходит рабочий класс для осуществления своей великой исторической миссии. Но так как зависимая страна должна добиться полной самостоятельности, то для этого ту самую общность культуры, которая полна противоречий, можно временно еще больше унифицировать, чтобы противостоять отрицанию ее национального своеобразия, 52
отрицанию, которое империализм стремится скрыть под покровами соблазнительных форм общих рынков, общих культур и других подозрительных общих вещей. Следовательно, возможная национальная интеграция нуждается именно в общности; об этом говорит сама иммиграция, рассматриваемая как проникновение в страну рабочей силы, необходимой для капиталистического развития.
На этой теме целесообразно настаивать, поскольку в исследование исторического развития Аргентины часто вводятся факторы морального порядка и забывается при этом, что пока общество разделено на классы, то всякий решительный шаг вперед в производстве означает одновременно и два шага назад в положении народа, целую бездну несчастий для народа, несет ему угнетение и заставляет его презирать все возможные преимущества прогресса, который фактически нисколько не улучшает его материального положения L Часто пытаются оспаривать оригинальность нашего собственного вклада в формирование нашей нации, ссылаясь на тот ущерб, который якобы был причинен большим массам гаучо введением буржуазных форм производства1 2.
Все эти возражения исходили как от правых, так и от левых социалистов — это аргументы этического порядка, оставляющие в стороне историческую объективность нашего развития. Драматическая сторона истории Аргентины состоит именно в отсутствии у нас буржуазии, а не в якобы ненужном ее избытке. Слабость наших национальных форм как в области экономики, так и в области культуры имеет своим источником слабость того класса, который должен был явиться руководящим, командующим классом нации и который, наоборот, в действительности провалил свою судьбу в то время, когда во всем мире происходило мощное становление 1 «Всякий шаг вперед в производстве одновременно означает шаг назад в положении угнетенного класса, т. е. огромного большинства. Всякое благо для одних необходимо является злом для других, всякое новое освобождение одного класса — новым угнетением для другого. Наиболее ярким примером этого является введение машин, последствия которого теперь общеизвестны» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избр. произв. в двух томах, т. II, стр. 308—309).
2 Кто интересуется этой всегда актуальной проблемой, может прочитать не без пользы очерк Самуэля Шнейдера «Заметки о гаучо» в «Cuadernos de Cultura», Buenos Aires, № 26, julio, 1956.
53
всех остальных наций. Теснимый латифундиями и вместе с тем не раз вступавший в союз с ними, этот класс не сумел материализовать в конкретном действии те культурные 'предначертания, которые столь решительно выдвинуло поколение Эчеверриа и Сармиенто. Такое обстоятельство могло показаться несущественным, однако именно оно и составило основу драмы аргентинского общества, усложненной проникновением империализма, который действовал как deus ex machina.
Мы уже сказали, что история не представляет собой прямолинейного развития. Например, в Аргентине первоначальная незначительная роль национальной буржуазии была сведена на нет, ибо империализм, извращая нормальные условия развития страны, в то же время насаждал капиталистические отношения, оставляя нетронутыми огромные латифундии. Кто-то осмелился сказать, что пролетариат в нашей стране появился раньше, чем национальная буржуазия. Это не просто веселая шутка, и чтобы убедиться в этом, необходимо обратиться к конкретным условиям формирования аргентинской буржуазии. Аргентинская буржуазия могла предвосхитить свои великие планы в культурных предначертаниях, выдвинутых поколением 37-го года, но конкретное осуществление этих планов в реальном обществе происходило уже в иных условиях, сложившихся во всем мире и внутри страны, когда другие социальные классы стремились, и это было их законным правом, повести страну по пути национального развития.
Следовательно, главное несоответствие в жизни аргентинского общества проистекает из этого факта, первые проявления которого мы по праву можем отнести к кризису 1890 года, обнажившему со всей беспощадностью все вопиющие противоречия нашей жизни.
Подъем, который переживают новые производительные силы, не находит необходимого соответствия в существующих производственных отношениях, выступающих в форме докапиталистических отношений, тормозящих возможное развитие новых классов. Чтобы получить полную картину, следует добавить, что это несоответствие не достигало еще той вершины антагонизма, когда конфликт не может быть разрешен иначе, как через насильственное разрушение этих отношений, поскольку они становятся тормозом исторического развития, 54
Известно, что прежде всего изменяются и развиваются производительные силы общества, но производственные отношения постоянно воздействуют на них, замедляя или ускоряя их развитие. В развитии аргентинского общества стала очевидной роль устаревших производственных отношений как тормоза, хотя они не исчерпали до конца всех возможностей буржуазных отношений. Однако это несоответствие между производительными силами и производственными отношениями не вылилось еще в непримиримое противоречие. Пока рост наших производительных сил ограничивался скромными масштабами, национальная буржуазия в силу своей социальной слабости часто шла на соглашение с земельной олигархией, и конфликт между национальной буржуазией и олигархией протекал в скрытой форме, подспудно, внутри аргентинского общества. Однако элементы кризиса постепенно накапливались внутри аргентинского общества и должны были перерасти в антагонизм. Сейчас мы уже достигли этого. Мы обнаруживаем также и другие моменты антагонизма, распространяющего свое действие на так называемый кризис культуры. Очевидно, новые социальные силы в стране стали крепче в результате развития производства. Олицетворением этих сил является прежде всего аргентинский пролетариат, который в силу своего объективного исторического развития должен взять на себя функцию командующего, руководящего класса нации.
Ядро конфликта, следовательно, заключается в противоречивом характере нации. Утверждая себя как нацию во всей совокупности ее признаков и прибегая для этой цели ко всем творческим силам, даже зараженным антинациональным отрицанием, исходящим от империализма, мы тем не менее не можем не ощущать эту основную противоположность между социальными классами, вписанную в национальный статус любого классового общества. В. И. Ленин писал следующее: «Политика пролетариата в национальном вопросе (как и в остальных вопросах) лишь поддерживает буржуазию в определенном направлении, но никогда не совпадает с ее политикой» !. В столь решающий момент, который
1 В. И. Ленин, О праве наций на самоопределение, Соч.. т. 20, стр. 381, 55
мы сейчас переживаем, нам нельзя рассматривать изолированно вопрос о национальной независимости, а также связывать его исключительно с буржуазией по той лишь причине, что исторически нация возникает вместе с установлением политического и экономического господства -буржуазии. Правда, в начале национального движения буржуазия могла взять на себя роль солиста, но это был солист, поддерживаемый народным хором, ибо творцом истории всегда были угнетенные и эксплуатируемые, созидавшие ее в могучем и безмолвном гимне; без понимания потенциальных возможностей масс нельзя было бы понять движение мира вперед. Следовательно, национальная интеграция осуществляется в этом величественном хоре. Нации, хотя и с иным импульсом и с иным содержанием, продолжают существовать как своеобразное выражение умирающего буржуазного способа производства. И как в таком случае можно было бы рассматривать как эквиваленты нацию и буржуазию, не нарушая при этом исторической правды?
Я снова начинаю размышлять о моих обездоленных соотечественниках. Сейчас мы уже в состоянии понимать, что на них — так бесцеремонно отстраненных от действительной культуры и вынужденных отождествлять ее с элементарным требованием обуви и медицинской помощи, — покоится тем не менее вся наша культура. Ибо культура есть, безусловно, национальное достояние всего народа, строившего ее своими собственными усилиями, и именно ему должны быть возвращены все ее богатства, ставшие печальным и вместе с тем радостным свидетельством его упорства. Культура отражает противоречия общества, разделенного на классы; она является зеркалом противоречивой нации. Но эта противоречивая нация действительно является нацией во всей совокупности своих характерных черт, и культуру нельзя рассматривать иначе, как под этим противоречивым углом зрения, который приведет ее к интеграции и единству, если мы не предпочтем реальности идеальные абстракции. Национальные интересы народа, также представляющие собой противоречивую сущность, порожденную классовыми противоречиями, составляют основное содержание культуры и отражают все потрясения ее кризиса — как временные, так и постоянные. Когда буржуазия перестает быть руководящим классом в 56
национальном движении, то культурное наследие становится достоянием других сил общества, на него смотрят уже иначе, оно приобретает необходимую достоверность, хотя еще и противоречивую по своей природе, и отвоевывается народом. В реальном развитии нации это составляет единый процесс, неразрывно связанный с отстранением от руководства старых командующих классов, которые оказываются изолированными и обреченными, ибо представляют собой двойное отрицание народа—с точки зрения общности социальных и национальных интересов. Старые классы умирают и уносят с собой в ¡могилу значительную часть своей стратифицированной культуры, а новые исторические силы, хотя и не ликвидировали еще своих основных противоречий, тем не менее уже готовы, пусть даже временно, разрешить их в плане целой нации, преображенной в самой своей сущности. Мы, аргентинцы, находимся на высоте этого коренного преобразования, хотя старые призраки и хотели бы нас отбросить назад, запугав своими жуткими тенями.
ПЕРВАЯ ИНТЕРМЕДИЯ
Отношение к кризису
1
Величие Элиота, (великолепного поэта, автора «Четырех квартетов» («Four quartets»), вдруг нисходит до тем повседневной жизни, чтобы обнаружить, что культура скрыта во всех «трансформациях» общества. Я выбрал позицию Элиота 1 в качестве типичной, поскольку она идентична подобной же позиции некоторых аргентинцев.
Нетрудно понять, что такая позиция выражает отказ от того, что в общепринятых терминах мы могли бы назвать «социализацией» культуры (ib смысле все большего распространения ее благ на все возрастающее число людей). Доктрина Элиота действительно покоится на предположениях о «градуированном обществе», формой проявления которого являются элиты. Исходя из этого понятия, вся его схема упрощается до того, что выполняет «консервативную» функцию в области культуры (а может быть, и во всем обществе?) 1 2.
В конце концов Элиот подводит нас к мысли о стратификации общества, по крайней мере с точки зрения культуры. В его рассуждениях семья выступает в качестве наиболее важного элемента культурной трансмиссии, так что наша культура должна будет прийти в упадок, «когда семья перестанет выполнять свою роль»; 1 Т. S. Е 1 i о t, Notas para la definición de la cultura, trad de Jerónimo A. Arancibia, ed. Emecé, Buenos Aires, 1949.
2 Комментируя книгу Элиота, Франциско Аяла говорит («Un poeta define la cultura», в «La Nación», Buenos Aires, 13 noviembre, 1949), что было бы неправильно определять Элиота как поэта «реакционного». Однако главное здесь заключается не в определении, а в подходе к исследуемому им процессу. Настолько очевидно духовное противодействие (а я предполагаю также, что и социальное) Элиота развитию и росту новых классов, что сам Аяла характеризует этого поэта как человека, склонного к защите консервативных идей, хотя и свободного, по мнению Аяла, от утопической проповеди возврата к средневековью, к которому проявляют приверженность другие мыслители, также напуганные движением мира к социализму.
58
но если мы стремимся обеспечить культурную трансмиссию на различных культурных уровнях, то необходимо, чтобы из поколения в поколение различные группы семей настаивали бы на своем собственном образе жизни. Поэт утверждает, что он ищет не защиты для аристократии, а лишь ту общественную форму, при которой аристократия выполняла бы свою функцию, столь же существенную, как и функция любой другой общественной группировки людей. Социальная структура, воображаемая поэтом, признает постоянную градацию культурных уровней, и хотя это не означает, что высшие уровни в большем объеме владеют культурой, чем низшие, тем не менее в любом случае первая культура несравненно более высокая и более утонченная. Эти состояния, или «уровни», включающие также и формы власти, должны были бы наследоваться1.
Элиот подводит нас, таким образом, к вопросу о распространении гуманизма, составляющего одну из основных черт нашего времени как в теоретическом, так и практическом аспекте. Если некогда, в эпоху расцвета буржуазии, культура могла укладываться в понятие «уникальное» и составляла собственность буржуазии, то теперь мы гордо и уверенно шагаем по пути коллективизации гуманизма. На протяжении почти всего XIX столетия и доброй половины нашего века из первичной нормы воспитания рождалась вторичная.
Вильгельм фон Гумбольдт защищал как раз тот идеал воспитания, который ставил своей целью превратить человека в духовный микрокосмос с его надоедливой экзальтацией и индивидуальностью, превращенной 1 Элиот пишет: «Культурные уровни можно рассматривать как уровни власти, причем так, что меньшая по объему группа, но стоящая на более высоком уровне культуры, располагала бы такой же властью, как и группа более многочисленная, но стоящая на более низком культурном уровне; итак, можно доказать, что полное равенство означает всеобщую безответственность; в обществе, которое я себе представляю, каждый индивидуум будет наследовать большую или меньшую ответственность за общее благо в соответствии с тем положением в обществе, которое он унаследовал, а весь класс будет нести ответственность несколько иного порядка.
Демократия, при которой каждый человек должен будет нести ответственность за все, была бы обременительной, угнетающей для людей, несущих прямую ответственность за дело, и вольготной для всех остальных, кто такой прямой ответственности не несет» (Т. S. Е 1 i о t, Notas para la definición de la cultura, p. 72—74).
59
в отличительный признак; это был идеал культуры для элит/ которые, будучи экономически сильными, имеют преимущество неожиданно сталкиваться друг с другом, чтобы претендовать на высокую духовную культуру L
Элиот приближается к этой концепции Гумбольдта о микрокосмосе, хотя нужно признать, что его элиты представляют собой замкнутые орбиты внутри каждого «уровня», основные группы индивидуумов, профессионально связанных между собой, но без всякой преемственности и социальной связи с другими общественными группами. А поскольку Элиот в своей интерпретации опирается на теорию «элиты», то этим он опасно приближается также к позиции Вильфредо Парето, итальянского социолога, доставлявшего итальянскому фашизму идеологические аргументы для установления иерархии в обществе.
Парето действительно разработал понятие «элиты» как категорию социологического познания, он действительно провозгласил некую теорию «циркуляции элиты», которую позднее столь плодотворно использовал Маннгейм. Я ни в коем случае не хочу этим сказать, что осторожный английский поэт являет собой рецидив фашизма Муссолини, однако я не могу пройти мимо того несомненного сходства, которое имеет учение об. иерархии с учением Элиота о «градуированном обществе». «Я склонен думать, — пишет Элиот, — что ни одна истинная демократия не сможет существовать, если она не содержит эти различные культурные уровни». Аномалия нашего исторического развития, которую мы стараемся устранить путем модификации ее объективных причин, представляется Элиоту как desiderátum истинно демократического общества, сущностью sui generis, где понятия «демократия» и «аристократия» уже не являются контрастными, противоречивыми или антагонистическими понятиями.
В таком случае «градуированное общество» Элиота представляется нам в виде окаменелой организации или, может быть, лучше сказать, в ¡виде стремления некоего
1 В работе Карлоса Астрада «Экзистенциалистская революция» («La revolución existencialista», ed. Nuevo Destino, Buenos Aires, 1952, p. 178) можно найти острую критическую оценку этой позиции Гумбольдта в эволюции гуманизма.
60
Социального существа Передать свою окаменелость на различных культурных уровнях посредством фамильной связи. И хотя с помощью хитрой уловки Элиоту хотелось бы показать нам, что семью не следует смешивать с классом, тем не менее для нас вполне очевидно, что вся его аргументация опирается на существование общества, разделенного на классы, — факт, который, впрочем, он сам признает. Внутри этого общества элиты выполняют роль деятелей культуры; сами они не всегда происходят из господствующих классов, но всегда поглощаются ими, как* об этом свидетельствует эпоха Возрождения. И Элиот, таким образом, приближает нас, возможно не помышляя об этом, ik пониманию социального характера элит, или, что то же самое, к социальной функции работников умственного труда. Достаточно изменить социальную природу элит, чтобы культура начала входить в свое реальное русло.
2
На пути отрицания тема начинает вырисовываться яснее. Если Элиот говорит, причем правильно, что культура создается всем обществом и включает все характерные виды деятельности целого народа, начиная со спорта и кончая музыкой, то культура в таком случае выступает как продукт всего общества, и потому она подвержена тем же изменениям, включая сюда и кризисы, что и общество. И если культура создается всем обществом, то наступил момент уточнить роль элит в развитии общества.
Элиты представляют собой группы профессиональных деятелей культуры, специально подготовленных к ее распространению и к пониманию тонких и противоречивых ее оттенков. Социальная функция людей умственного труда — как проводников идеологической гегемонии тех классов, с интересами которых они исторически связаны, — есть, таким образом, конкретное и одновременно историческое выражение сущности элит. На это указывает также и то, что элиты отнюдь не являются вневременными надклассовыми созданиями общества. Если считать, как это утверждает Маннгейм словами Элиота, что кризис в народно-либеральном обществе вызван отмиранием творческих функций элит, то только 61
в одном этом заявлении уже признается тесная связь между социальным и культурным статусами общества. Невероятно, чтобы элиты, выступая в роли идеологического авангарда исторического развития общества, добровольно оставили свои позиции и освободились от своей творческой способности, как это бывает при харакири. Когда эта творческая способность элит угасает, когда гаснут ее творческие функции (с точки зрения социальной, конечно, а не с точки зрения индивидуальных талантов, которые могут иногда проявиться), то культурные элиты превращаются в культурные олигархии. «Градуированное общество» Элиота с его элитами на различных социальных уровнях есть типичное выражение этой тенденции.
Иначе говоря, творческая способность подобных элит угасает одновременно с усилением классовых антагонизмов внутри народно-либерального общества. Действительно, наступает момент, когда творческая функция элит отмирает, ибо новые социальные силы заставляют изменяться градуированное и утопически стабильное общество. Старые элиты могли быть полезными до тех пор, пока поддерживавшие их социальные группы переживали период своего подъема и расцвета. Функция элиты (или людей умственного труда) состояла как раз в реализации гегемонии этих групп в гражданском обществе, гегемонии предусмотрительно осторожной, поскольку общие интересы должны были совпадать — и почти всегда совпадали — с частными интересами тех же групп, связанных с объективным историческим развитием народа-нации. Но если говорят, — а именно это утверждает Маннгейм, — что культурный кризис становится очевидным благодаря упомянутому отрицательному признаку в функции элит, то мы в свою очередь обратим внимание на серьезный разрыв между общими интересами народа-нации и частными интересами господствующей группы, представленной элитой, и именно тогда, когда эта идеологическая гегемония стремится превратиться в диктатуру, то есть в явное навязывание идеологических принципов, которые Элиот (и те, кто ему следует у нас) старается поддержать с помощью уловки о «градуированном обществе».
Следовало бы также сказать, что в своем анализе Маннгейм мудро останавливается на полпути. Но такая 62
остановка на полпути не обязательно свидетельствует об отсутствии критического ума у людей, занимающихся анализом; иногда, возможно, даже наоборот. Признание культурного кризиса побуждает к рассмотрению того, что на ¡политическом языке принято называть «безвластием». Кто же заполнит эту пустоту у кормила правления? Без сомнения, новые силы, созревшие благодаря развитию новых производственных отношений внутри народно-либерального общества. Вполне логично в таком случае не доводить анализ до его .крайних выводов, поскольку имеется опасность предпочесть, причем довольно просто, «циркуляции» элит полную смену отжившей и дряхлой социальной системы. Ученики Элиота в Аргентине, не осмеливающиеся высказываться прямо, без обиняков заняли по отношению к кризису культуры в вопросе о наследственных элитах аналогичную позицию. Они понимают культуру как благо, которое передается в хороших семьях по наследству, а временами как отсеивание в университетах при вступительных экзаменах или как настолько утонченные литературу и искусство, что они доступны лишь небольшой элите, которая наслаждается ими, в то время как за ее спиной растет волнение толпы.
Так понимать культуру значило бы заточить ее в монастырь1, максимально умалить ее функцию. Отсюда мы делаем вывод об отмирании элит как генерализирующего центра культуры или о сведении их к узкому кругу внутри еле уловимых границ «градуированного общества».
1 Согласно Элиоту (Notas para la definición de la cultura, p. 47), обычно предполагают, что в обществе будущего культура, ранее доступная лишь немногим, станет достоянием всех. «Это положение и вытекающие из него последствия,— пишет он,— напоминают нам отвращение пуритан к затворнической и аскетической жизни, ибо так же, как в настоящее время презирается культура, доступная лишь немногим, так и тогда монашеская и созерцательная жизнь осуждалась крайним протестантизмом...» Разумеется, подобная позиция протеста не помешала затворническому существованию некоторых избранных, а грубый софизм, примененный здесь Элиотом, совсем не вяжется с его хваленой утонченностью. В этих заметках, как это легко понять, речь идет не о наслаждении собственной, индивидуальной культурой, взращиваемой как тепличное растение, культурой, которой по закону нельзя было бы лишить никого, а о направлении в историческом развитии культуры, являющейся доминирующим признаком в жизни народа.
63
Теория «элит» обращена, таким образом, хотим мы этого или нет, к импликациям социологии Парето: элиты представляют собой организационно замкнутые группы людей, которые осуществляют гегемонию (и диктатуру) господствующего класса в гражданском обществе, понимаемом иерархически. В таком случае ничего не стоит «циркуляция» элит Парето, иногда применяемая Элиотом совершенно неожиданным образом в его схемах. «Циркуляция» элиты заключается в том, что она может поглощать (или развращать?) людей, не относящихся к элите, но способных изменить свои старые зависимые жизненные позиции, чтобы подняться по лестнице социальной иерархии. И тем не менее подобные передвижения продолжали бы оставаться замкнутыми в силу их циркулярного колебания; ибо тот анекдотический факт, что бедный может сделаться богатым, отнюдь не означает, что тем самым исчезнет социальная проблема нищеты. Аналогично, если мы признаем, пусть даже временно, за элитой функцию представлять всю интеллигенцию, то в таком случае мы должны будем считать, что кардинальная проблема современной политики состоит во всемерном увеличении числа этих элит. Некоторые, злоупотребляя истинным смыслом слов, представляют данный процесс как «социализацию» культуры; я бы предпочел назвать это распространением гуманизма или насаждением подлинного гуманизма, ставшего общим благом всех людей. И очевидно с точки зрения гуманизма как показателя культуры прежде всего необходимо обеспечить обувью всех людей, ибо человек не в состоянии заняться высокими материями культуры, если не решит своих проблем конкретного бытия, которые включают и много других культурных вопросов.
Культурный кризис, как он отражается у Элиота и представляется Маннгейму, вызывает возражения в том смысле, что этот кризис происходит в обществе. «Градуированное общество» со всеми его культурными уровнями подвержено воздействию появляющихся в нем новых социальных сил. И проблема элит как проводников идеологической гегемонии новых социальных сил приобретает здесь иной смысл, который проницательно вскрыт Грамши. Весь вопрос, следовательно, должен состоять в том, чтобы изменить социальную природу элит, одновременно внося изменения в структуру обще-
64
ства, изменения, в которых оно нуждается и готово разорвать сковывающие его путы в наиболее слабых местах: если старая гегемония выливается в диктатуру, новая диктатура диалектически должна превратиться в гегемонию. Процесс подобной «трансформации» заключает в себе отношение к кризису. Следует знать, что функция элит неотделима от всей совокупности интересов народа-нации, ее нельзя уже понимать как шкалу последовательности наследуемых культурных уровней. А если интересы элиты совпадают с действительными интересами народа-нации, то его гегемония осуществляется уже в настоящее время, — а в дальнейшем должна будет получить еще большее развитие — посредством численного роста элит, что с необходимостью означает приобщение масс к -культуре и, следовательно, новую форму отношений между массой и элитой. По этой же причине элита приходит к своему диалектическому отрицанию. Теперь мы уже понимаем элиту не как надменную аристократию (и не всегда заметную из-за своего стыдливого участия в пирах сильных мира сего), а как настоящую демократию, которая стремится уменьшить существенные различия между физическим и умственным трудом, — мечта К. Маркса, которая уже начинает воплощаться в жизнь одной третью человеческого рода.
3
Величие Элиота не в состоянии скрыть истинной направленности занимающей его темы и тем более консервативного характера его устремлений. А если его отношение к кризису является типичным, то у кого на устах нет имен, персонифицирующих подобную позицию среди нас?
Величие Элиота определяет другие менее значительные по степени величия — эти затерявшиеся звезды, этот отраженный свет замкнутой в себе культуры. И именно в то время, когда «градуированное общество» начинает изнутри сотрясаться, данная позиция — не имеющая ничего общего с теоретической и приобретающая у нас драматические очертания практического порядка — становится более ясной благодаря все увеличивающемуся разрыву между элитой и народом. Такой разрыв в конце концов не случаен, поскольку эти элиты не раз были 5 Э. П. Агости 65
идеологической опорой правящих кругов в деле отказа от национальных путей развития нашего общества, презирали «толпу», не видели ее драмы и страданий. Этим объясняется склонность Альмафуэрте к тому почти слезливому почитанию «толпы», которое он не раз проявлял, к той своеобразной форме почитания, которая представляет собой уже не вышеупомянутую «стоическую отрешенность аргентинцев перед насильственной смертью», а слезливость при бдении около покойника, как об этом свидетельствует репертуар пайадоров 1 начала нынешнего века( «Моя бедная любимая мама...» надоедливого Беттиноти) и обильная литература о тюремно-преступном мире. Но если Элиот и в состоянии понять, что все это, хотя и на различных уровнях, выражает культурную интеграцию всего народа, мы тем не менее настаиваем здесь на градации и разрыве. Наше положение свидетельствует — в драматической форме — о культурной неспособности наших традиционных организаций, гротескно аристократизированных и чуждых в национальном плане внутренним импульсам своего народа.
1 Гаучо, поющий под гитару.— Прим, перев.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Аргенпгинский кризис
Соответствие между нацией и ее культурой
Несоответствие между нацией и ее культурой — наиболее характерный признак аргентинского кризиса. А это означает, что культура становится неспособной обслуживать всю совокупность национальных интересов нашего народа как в плане его материального производства, так и в плане его духовных ориентаций.
Было бы ошибочно искать причины такого положения лишь в тех уродливых формах, которые поддерживал среди нас чужеземный снобизм; столь же ошибочно смешивать причины со следствиями. Подобный снобизм оказывает регрессивное действие на общество и, несомненно, еще больше подчеркивает разрыв между культурой и нацией; но сам снобизм также есть идеологическое отражение данного общества, хотя и косвенное. Снобизм часто скрывает свое уважение к действительности, которая не стремится изменить себя в социальном отношении, но зато открыто ее презирает, превращая это презрение в желаемый и отличительный свой признак. Некоторые у нас сознательно практикуют снобизм, другие же идут по их стопам, не задумываясь особенно, о чем идет речь; а между тем презрение к стране едва ли скрывает презрение к народу, лишенному той утонченности, которая без особого основания приписывается всему иностранному. Иностранные идеи 5* 67
Й методы их осуществления оказались у нас непригодными и неподходящими не потому, что они шли извне, а, очевидно, потому, что не были использованы для позитивных изменений нашей социальной структуры. Но поскольку эти идеи и методы казались непонятными и заманчивыми, они способствовали тому, чтобы нашя страна в силу какого-то невысказанного метафизического приговора приняла их анахронизм, потому что последний служил международному разделению труда, начало которому было положено английским капиталом.
Следовательно, это не тот снобизм, который вызывает столкновение, это снобизм иного характера, поскольку он сам есть следствие зла, поразившего внутренние устои аргентинского общества. Первоначально снобизм выступает как бы снисходительным посредником, временами, правда, в драматической форме, между изысканной культурой, на которую смотрит с томной тоской, и самой страной, где эта культура не может привиться по причинам, которые не всем представляются ясными. Основываясь на этой двойственности снобизма, антинациональным силам удается соорудить целую систему преград, чудовищно сдавливающих, как плохое, ортопедическое приспособление, национальный организм и препятствующих его развитию. Но драматический раскол культуры нельзя усматривать, по крайней мере в самом его начале, лишь в этих производных явлениях.
Если предположить, как это делают наперекор всему некоторые националисты, что собственно культура у нас остается неизменной, не выходя за анахронические рамки докапиталистического общества, то было бы трудно избежать подобных хитроумных систем усыпления национальной души, основательно не изменив при этом самого социального строя нашей республики. Ибо национальное развитие отнюдь не предполагает герметического закрытия наших границ для того, чтобы помешать обмену идеями со всем миром; нам важно направить развитие нашей культуры на удовлетворение растущих реальных потребностей страны, на создание новой технической базы, а не придерживаться взгляда кровожадных завоевателей мира, взгляда среднего между экологическим и колониальным. Отсюда получается, что несоответствие между нацией и ее культурой предстает перед нами как характерный результат дру- 68
того, главного, несоответствия между развитием производительных сил и производственными отношениями, которые в силу своей отсталости превращаются в тормоз развития производства. В этой атмосфере, где посредничество является едва ли не роскошью меньшинства, становится вполне понятным тот факт, что .к экономической колонизации страны добавляется еще лишение ее собственной, национальной культуры.
Это явление, сказали бы мы, типично для всей Латинской Америки. Возможно, в других странах анекдот как бы свидетельствует о большой приверженности людей к фольклору и даже к экзотическим вещам прошлого. Но не всегда это заключает в себе положительный момент, как хотелось бы, а больше выставляет напоказ ненужное упорство остаться в стороне от больших новых событий, что вовсе не мешает тому, чтобы остатки старого фольклора — приятное удовольствие для туристов— любителей экзотики, уживались с субкультурным нашествием могущественных северных соседей, которые наряду с жевательной резинкой навязывают ему чуждые обороты речи, выражения, танцы, вплоть до рубашек и надоевших галстуков...
Мы, аргентинцы, в какой-то степени уже пережили процесс национальных модификаций по сравнению с другими областями, сохранившими свою самобытность, однако процесс внутреннего развития у нас сходен с ними, хотя анекдоты разные и даже противоположные, ибо как у нас, так и в других местах Америки, несоответствие между нацией и ее культурой составляет удручающий признак нашей действительности1, если 1 Возьмите, например, Бразилию, которая по своим особенностям кажется страной, довольно прочно опирающейся на источники и прекрасные народные традиции своей культуры. Недавно министр образования Бразилии Кловис Салгаду заявил: «Культура Бразилии недостаточно подготовлена для- того, чтобы соответствовать размаху мощного экономического развития, потрясающего всю страну. До сих пор мы жили в полной экономической и культурной зависимости от других народов. Мы импортировали все, даже идеи. Сейчас, когда мы начали верить в свои возможности, необходимо изменить наши взгляды и позиции. В первую очередь необходимо дать новое направление воспитанию нашей молодежи, подготавливая ее к новым временам и новым задачам». Эти новые задачи сводятся главным образом к подготовке квалифицированных рабочих, техников, научных работников («Рага todos», Rio de Janeiro* J.a quincena de agosto, 1957, p. 6).
6?
под культурой мы понимаем не только литературу и искусство, но также постоянное и планомерное развитие самых различных сторон национальной жизни.
Денационализация культуры, следовательно, есть не какое-то случайное, преходящее явление в Америке, а, наоборот, характерное и существенное. Она проистекает от сдачи буржуазией своих позиций, от трусливости этого класса, потенциально революционного (командующего -класса нации), или по крайней мере от соглашений и союзов этого класса с земельной олигархией. Нашу культуру нельзя как следует приложить к нашему национальному организму, поскольку этому мешает деформированная природа нашего общества. Политическая экономия открыла объективный закон соответствия производительных сил и производственных отношений, несоответствие же между ними определяет критические моменты в историческом развитии общественного производства.
Аргентинский кризис со всеми его последствиями не имеет ib конечном счете иного источника, чем это устойчивое, привившееся в нашей стране несоответствие между производительными силами и производственными отношениями, которое драматически нарушает ее нормальный пульс. Разве можно в таком случае спокойно смотреть на латифундии, являющиеся самой серьезной помехой, самым серьезным препятствием, которое тормозило и тормозит развитие нашей Америки, а также задерживает превращение ее в действительно современную Америку?
Я рассматриваю латифундии как явление не только экономическое, но и культурное1; приверженность к ним 1 С полным основанием Кардосу пишет: «...реформы в области образования, необходимые для экономического подъема слаборазвитых стран, встречают сильную оппозицию со стороны групп, заинтересованных в увековечивании старого социального порядка, при котором они сохраняли бы свои господствующие позиции в стране: сюда относятся в первую очередь часть духовенства, крупные собственники и мелкая упадочническая буржуазия, связанная с великими семьями. То же самое имеет место в Бразилии. Всякий, кто сколько-нибудь знаком с системой образования в этой стране, знает, что последняя не отвечает требованиям современности, а временами даже препятствует быстрому экономическому развитию страны. Сеть образования совершенно недостаточна для ТОГО» чтобы охватить всех детей школьного возраста... направлец- 70
способствует сохранению нативизма sui generis, которому хотелось бы видеть наиболее характерное выражение нашего национального существа в традиционной области «привычек и обычаев гаучо». Обратите внимание, как нативизм, так и снобизм в конечном итоге совпадают: сторонники первого приходят через утверждение к тому же положению, к которому снобисты приходят через отрицание. Первые с тоской говорят о старинных обычаях и нравах и считают вершиной нашей поэзии Вьехо Панчо; вторые смотрят на эту самобытность народной культуры как бы с отвращением, если не с веселым удовольствием, которое они испытывают ко всему яркому и красочному, а то, что они подражают европейским модам, ничуть не мешает им продолжать видеть нашу судьбу в неизменном хуторе мира, каким должна оставаться наша страна, несмотря на препятствия, которые чинят этому бедному хутору международные монополии.
Обычно подобные грубые вторжения в столь августейшие области, какой является культура, подвергают осуждению. Но я не в состоянии понять, какое объяснение можно было бы найти столь великому действию, которое концентрирует все силы нашей страны на довольно ограниченном пространстве, сковывая развитие экономики и культуры всех остальных провинций, создавая очаги неравномерного развития в различных областях республики, постоянно уничтожая ее материальные и духовные ценности, если не прибегнуть к высказанным мною «грубым вещам». Отсутствие соответствия между нацией и ее культурой выражается также в требованиях, претензиях этих провинций, часто уводимых в сторону от истинной социальной значимости обсуждаемой проблемы невежественной и ошибочной политикой некоторой части аргентинцев, подогреваемой и направляемой против главенствующего положения ц республике Буэнос-Айреса и всего побережья.
ность обучения не соответствует потребностям общества, индустриализация экономики которого идет быстрыми темпами... интеллектуальная подготовка, которую гарантирует система образования, будь то университеты или другие учреждения высшей ступени или учебные заведения технического уклона, оставляет желать лучшего» (Fernando Henrique Cardos о, Educado е desenvol- vimento, económico, в: «Revista Braliense», Sao Paulo, mayo-junio, 1958, p. 73—74)..
71
А все это вместе выявляет первоначальный момент данного несоответствия, который есть не что иное, как национальная разобщенность или, если хотите, формальная видимость национального единства, лишенного реальных условий этой унификации. Было бы неправильно утверждать, что у нас никогда не существовало национального единства — первого признака необходимого соответствия между нацией и ее культурой; у нас имело место запоздалое и половинчатое решение проблемы, примененное к истощенному организму страны, где не были проведены необходимые изменения в ее социальной структуре, которые предполагает и в которых нуждается данное единство L
Следовательно, я вновь возвращаюсь к теме первичных ориентаций нашего освободительного движения, которые стремится опровергнуть чрезмерный в силу своего европеизма национализм. Для начала мы могли бы сказать, что «мания иностранного», несомненно, приписывается отнюдь не только тем, кто действительно страдает этой манией. Надо сказать, что с помощью такого дурного ее приписывания всем без разбору можно разрушить крайне необходимую связь нашей культуры с мировой культурой, а этого делать не следует, если мы не хотим обречь себя на отвратительную полуварвар- скую провинциальность. В определенных условиях нашего национального рождения эта «мания иностранного» заключала в себе стремление решить в положительном плане проблему необходимого соответствия между нацией и ее культурой.
Если смотреть только с этой точки зрения, то можно понять «антииспанизм» поколения Эчеверриа; это был не отказ от традиции, а отречение от всего, что несла 1 Хотя при других обстоятельствах нам можно было бы использовать мысли Пальмиро Тольятти относительно итальянского единства, высказанные им в его речи, произнесенной в Современном театре 11 апреля 1944 года: «Италия в этом отношении является несчастливой страной. Если мы посмотрим на наше историческое развитие в течение веков, то можем сказать, что у нас не было монархии тогда, когда она была нам нужна, чтобы несколькими веками раньше добиться единства Италии,— это позволило бы нам быстрее стать сильной, достойной уважения нацией. Наоборот, у нас была и есть монархия, когда мы обходились и в дальнейшем могли бы обойтись без нее». (Цитируется по книге: М а г с е 11 а у Maurizio Ferrara, Palmiro Togliatti, trad. de Jean Noaro, ed. Sociales, Paris, 1954, p. 345.)
72
с собой в конкретных проявлениях феодальная добуржу- азная цивилизация Испании. Могли бы мы стать в тако^м случае антиевропеистами под тем предлогом, что Европа представляла собой «буржуазию», как считает некоторая высокомерная часть левой критики? Если бы она была именно той буржуазией, которая нужна была нам для мощного переливания крови в нашем национальном организме! Признание нашего национального характера отнюдь не означало примирения с сохранившимися от колониального периода формами общественного устройства, скрываемыми под покровом традиции; национальный характер заключал в себе прежде всего наше единство, осуществляемое с помощью распространения капиталистических отношений. Здесь вновь предстает перед нами материальность культуры и ее диалектическая изменчивость. Ибо культуре нелегко было бы соответствовать основным потребностям народа-нации, если бы он не изменял тех материальных отношений, которые препятствуют ее национальному росту. И если вначале «мания иностранного» могла иметь здоровый и даже революционный дух и способствовала тому, чтобы покончить у нас со схоластической рутиной, то позднее в силу отрицания своих первых порывов она фактически приобрела характер примирения с существующей реальной действительностью; хотя на -словах она и отвергала ее, на деле же оправдывала и — что хуже — не вооружала народ в целях его освобождения, а, наоборот, усыпляла его всякого рода наркотиками.
Сейчас мы уже в состоянии все пересмотреть и даже отречься от всего наносного, случайного, оценивая с точки зрения сегодняшних дней события прошлого, которое нелепо отделять от его конкретных проявлений. Относительно прошлого имеют обыкновение составлять всевозможные таблицы ценностей и не подлежащие пересмотру предписания, навязывать безапелляционные суждения и даже вычеркивать из истории целые периоды и поколения, будто бы история народа — это доска, где все написанное можно было бы исправить поспешным стиранием губкой. А если мы уже в состоянии пересмотреть все, то это значит, что мы чувствуем разрыв, существующий между нацией и ее культурой, хотя временами некоторые из нас путают следствия с причинами,
73
Механизм нашей культуры, предназначенный для иных национальных условий, в настоящее время оказывается вдвойне анахроническим: во-первых, в силу старых обстоятельств, которые сделали его негодным уже в свое время, во-вторых, в силу нового облика культурной клиентуры в Аргентине, которая требует иной политики в области культуры. Конечно, и сейчас в национальном отношении имеются значительные совпадения с прошлым, однако они не в состоянии скрыть заметного изменения культурной клиентуры, определяемого повышением органического веса пролетариата в составе населения. В предисловии к «Крестьянской войне в Германии» Энгельс пишет: «Своеобразная особенность буржуазии по сравнению со всеми остальными господствовавшими ранее классами состоит как раз в том, что в ее развитии имеется поворотный пункт, после которого всякое дальнейшее увеличение средств ее могущества и, следовательно, в первую очередь ее капиталов приводит лишь к тому, что она становится все более и более неспособной к политическому господству... В той самой мере, «в какой буржуазия развивает свою промышленность, торговлю и средства сообщения, в той же самой мере она порождает пролетариат. И в определенный момент, который наступает не всюду одновременно и не обязательно на одинаковой ступени развития, она начинает замечать, что ее неразлучный спутник — пролетариат— стал перерастать ее»1.
Без всякого преувеличения можно теперь сказать: никто уже не в состоянии отрицать тот факт, что мы, аргентинцы, сейчас переживаем именно такой поворотный пункт, и это вполне объясняет всю непоследовательность нашей буржуазии по отношению к традиционной олигархии. Но это объясняет не только ее непоследовательность, но и ее отказ от всех тех «культурных мер», которые осмелился пророчествовать непокорный Сар- миенто: «Ничто не казалось бы более разумным,—писал Сармиенто в своем труде «Народное образование»,— чем спросить того, кто намеревается осуществлять свою волю в руководстве общественными делами, достаточно ли подготовлена его воля для этого и направляется ли 1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Избр. произв. в двух томах, т. I, дтр. 596.
74
она вполне зрелым умом и знанием всех тех вещей, которые позволяют заранее решить вопрос относительно общественного блага или зла, в состоянии ли он выработать такую линию поведения, которую необходимо было бы принять. Но исторические события, можно сказать, предвосхитили это, и закон не рискует уже ставить человеку условие, что тот может пользоваться принадлежащим ему правом в том лишь случае, если способен делать это благоразумно» L
В настоящее время события *в Аргентине развертываются таким образом, что мы можем сказать с большой исторической уверенностью, что затрагиваем само основание кризиса и практически в состоянии объединить все наши усилия в одно великое усилие национальной воли. Но эти отдельные усилия могут осуществиться в конкретной области культуры, если обращать внимание на новый, национальный и в то же время социальный облик культурной клиентуры.
1 D. F. Sarmiento, Educación popular, р. 25—26.
Культурная клиентура
Под «культурной клиентурой» я понимаю массу людей, на которую направлен наш идеал воспитания и которая поэтому становится устойчивым фактором национальной культурной традиции. Эта клиентура, возникновение которой совпадает с началом процесса формирования населения Аргентины, приобрела оригинальную черту в связи с мощным иммиграционным притоком, последствия которого в основных своих чертах были уже нами разобраны. С этой точки зрения наиболее отличительным признаком формировавшегося населения Аргентины было отсутствие национальной однородности. Иностранцы, составлявшие в 1869 году 12 процентов всего населения страны, а в 1895 — половину всего населения побережья, в 1914 году составили уже почти треть населения Аргентины (то есть 43 иммигранта приходилось на каждую сотню туземного населения).
Этот огромный прилив людей в нашу страну, несмотря на отсутствие у них эмоциональной связи с ее прошлым, ее природой, с самой сокровенной психикой ее людей (правда, такая связь была у них с коренным пролетариатом Аргентины, особенно с пролетариатом Буэнос-Айреса), тем не менее мог оказать на нее несомненное культурное влияние в области политических знаний и отношений. И это явление — которое один аргентинский историк определил как «наносную эру» — во многих других сферах нашей страны властно заявляет о себе, и без него нельзя понять всей сложности наших событий.
Эта наносная эра совпадает у нас с превращением нашего скотоводческого хозяйства в агроскотоводческое, ■ и этот скачок совершают те самые земледельцы-гринго, которые вешают ружье на рукоять плуга и поют одну песню за другой, в то время как их глаза прикованы к горизонту, где клубится пыль от последних вероломных набегов индейцев. Правда, этот качественный скачок
76
Совершается на фоне нетронутых латифундий. Некоторые несоответствия в развитии Аргентины объясняются, следовательно, тем фактом, что сельское хозяйство, развитию которого мешают феодальные пережитки, часто страдает от случайностей, которые внезапно отбрасывают его на самый задний план капиталистического развития и обнажают оба жестоких последствия этого развития — крестьян-арендаторов и огромное истощение земель.
Я хочу здесь сказать, что культурные изменения, вызванные в нашем сельском хозяйстве земледелием, покоятся на существующих еще анахронических формах, но в то же время они заключают в себе и другой момент, который следует рассмотреть при исследовании культурной клиентуры. Мне всегда казалось, что, наблюдая происходящие в нашей стране события, мы не принимаем во внимание такой сопутствующий наличию латифундий факт, как отсутствие сельскохозяйственных общин в нашей исторической традиции L Это, несомненно, оказывает действие на психику крестьянина-иммигранта, который прибыл сюда, чтобы купить себе землю, и не чувствует, как изменяется его пульс благодаря протесту старых общинных крестьян, протесту, представлявшему собой серьезную силу в восстаниях сельскохозяйственных рабочих в других латиноамериканских странах, например в Мексике. Конечно, подобные ситуации не могут существовать неопределенное время, и противоречивая природа крестьянина при изменившихся обстоятельствах должна обязательно проявиться и даже взорваться, как это несколько раз случалось у нас.
И я думаю, что нельзя было бы недооценивать этот сопутствующий фактор сейчас, когда в наш строй становятся ряды иммигрантов — представителей «наносной эры». Даже при отсутствии эмоциональных связей с нашим недалеким прошлым и с тем прошлым, которое не наделило их исключительными данными для проведения у нас существенных изменений, факт культуры, состоящий в том, что наше хозяйство перестало быть только скотоводческим, нужно было использовать — причем
1 Можно было бы привести пример с общинами иезуитов, но это не был труд свободных общин, а лишь применение труда покоренных индейцев, работавших не на себя, а на других. 77
ббязатёльно, непременно,— учитывая чрезмерную амбй- цию и высокомерие со стороны креолов.
На этой социальной основе — которую можно определить как переход от креолизма, креольского стиля жизни к тому, что характерно для «грйнго», — покоился тогда весь снобизм, сочетавший справедливые требований мятежа в поэзии Дарио с сознательным уходом от национальных проблем. Возможно, в этом проявился первый симптом нашего культурного кризиса, основание которого составляла слабая, несмотря на видимость материального расцвета, экономика; добавим еще к этому неоднородность национальностей, которые настолько были вовлечены в водоворот развития, что толстокожих жителей Буэнос-Айреса прозвали финикийцами. Оставим в стороне прозвище и попытаемся поближе познакомиться, конкретно выяснить, что произошло с нашим населением с точки зрения национальной и социальной. Изменения в органическом составе населения позволяют нам определить характер клиентуры и истинное содержание нашей культуры.
Недавно полученные сведения1 показывают, что иностранцы составляют в настоящее время только 14,3 процента всего населения страны, а 85,7 процента «истинных» аргентинцев заслуживают того, чтобы сказать о них несколько слов. Согласно данным переписи населения 1947 года — ничто не мешает предполагать, что с тех пор не произошло сколько-нибудь заметных изменений в составе населения, — две трети «истинных» аргентинцев происходили из семей, где оба родителя были аргентинцами, одна шестая часть — от смешанных браков, где один из родителей, мать или отец, был аргентинцем, и оставшаяся еще одна шестая падает на семьи 1 Данные Главного национального статистического управления и переписи населения от 12 февраля 1958 года. Я не пытаюсь рассматривать здесь рост нашего населения за счет иммиграции, поскольку это не входит в задачу настоящих очерков. Нас здесь интересуют объективные данные о современном населении и его возможном развитии, хотя ясно, что в течение последних десятилетий официальные власти чинили немало препятствий въезду иностранцев. Этот въезд был фактически прекращен в годы второй мировой войны. Нужно также сказать, что те же официальные власти не предпринимали ничего против, когда речь шла о том, чтобы предоставить убежище в нашей стране военным преступникам и другим поверенным лицам мировой реакции.
78
чистых иностранцев L Все это свидетельствует о росте национальной однородности населения Аргентины, что, возможно, является первой отличительной чертой новой культурной клиентуры.
Большая однородность населения выявляется также при анализе данных о соотношении между городским и сельским населением. Процесс урбанизации достигал в 1947 году максимальной цифры, и можно предполагать, что он еще более усилился, хотя существенных изменений в процентном отношении и не произошло: если в 1895 году городское население составляло всего лишь 37 процентов против 63 процентов сельского населения, то в 1947 году — соответственно 38 процентов и 62 процента. При этом следует предположить, что рост городского населения страны не шел только за счет Буэнос-Айреса. Другие города Аргентины выросли значительно больше по сравнению с Буэнос-Айресом, показатели для которого ниже общего среднего прироста городского населения страны1 2. А рост населения Большого Буэнос-Айреса, составлявшего к 1947 году 28,7 процента всего населения страны, заметно сократился. До 1914 года большой рост числа жителей Большого Буэнос-Айреса шел за счет иностранной иммиграции, а в 4947 году — за счет притока из других провинций Аргентины, причем так, что число прибывших из провинций приближалось к числу коренных его жителей и значительно превосходило количество «иностранцев». Если в 1914 году из каж1 Процентное отношение здесь следующее: 1. Оба родителя аргентинцы — 64,9 процента. 2. Оба родителя иностранцы — 18,6 процента. 3. Смешанные браки — 16,5 процента.
1 и 3 пункты дают в сумме 81,4 процента истинных аргентинцев, у которых отец или мать являются аргентинцами. См. G i п о Germán!, Estructura Social de la Argentina, ed. Raigal, Buenos Aires, 1955, p. 81 и след. Пока что нет надобности в иной оценке; данные, использованные в настоящей главе, взяты из этого источника, который представляется нам наиболее обстоятельным анализом переписи населения 1947 года; это последние выводы мирового статистического значения, которыми мы располагаем относительно Аргентины.
2 В то время как рост населения Большого Буэнос-Айреса составляет за период между 1914 и 1947 годами 132 процента, другие городские центры дают более высокие показатели прироста населения: Комодоро Ривадавиа—1124, Ресистенсиа — 524, Мар дель Плата — 316, Кордова — 253 процента... (Gino Germán i, Estructura Social de la Argentina, p. 70).
79
дых 100 жителей Большого Буэнос-Айреса 49 человек приходилось на пригороды, 16 — на собственно город и 35 — на иностранцев, то в 1947 году эти показатели были соответственно 40, 37 и 23 человека. Интенсивное развитие этого процесса начинается с 1939 года вместе с относительным ростом индустрии, вызванным войной и почти автоматическим прекращением иммиграции. И если верно то, что две трети всех иностранцев живут в самой столице и в провинции Буэнос-Айрес, то не менее верно и то, что приток «черноголовых» также изменяет национальное лицо Большого Буэнос-Айреса, особенно лицо его рабочего класса.
Третья черта культурной клиентуры представлена распределением самодеятельного населения по отраслям экономики. Сравнивая данные переписи населения 1914 и 1947 годов, мы столкнулись с фактом сокращения самодеятельного населения, занятого в сфере сельскохозяйственного производства,— с 31 процента оно упало до 25,7 процента. Сравнение данных этих переписей населения свидетельствует также об относительно стабильном количестве населения, занятого в промышленном производстве, — несколько более 31 процента — ио росте количества населения, занятого в сфере торговли, — с 37,8 процента оно возросло до 42,9 процента. Если рост торговли свидетельствует об относительном расширении товарооборота, то кажущаяся стабильность промышленных показателей может привести нас к ошибочному предположению, будто бы ничего не изменилось и все, как было раньше, так и осталось. Но при более внимательном рассмотрении данного вопроса можно увидеть, что с 1914 по 1947 год число промышленных предприятий удвоилось, контингент рабочих утроился, а среднее число рабочих на предприятиях почти удвоилось*.
Год
Число предприятий
Число рабочих
Среднее число рабочих на предприятии
1914
47 779
410201
8,4
1947
90 440
1232 399
14,7
Последующие данные лишний раз подтверждают эту линию экономического развития.
80
Одновременно можно наблюдать процесс концентра- цйи промышленности: число предприятий, в каждом из которых занято свыше 500 рабочих, составляет 0,4 процента всех предприятий страны, а в общей сложности в них занято 29,1 процента всех рабочих1. Однако уродливая направленность развития нашей страны продолжает сохраняться, стоит лишь вспомнить собственно столицу и ее прибрежную зону, которые в относительно небольшом радиусе сосредоточивают 74 процента всего населения страны, 77,3 процента самодеятельного населения, 84 процента промышленных рабочих и 81,6 процента торгового населения. Эта концентрация является наиболее высокой по отношению к собственно промышленному населению, поскольку столица и провинция Буэнос-Айрес (а под таковой нужно понимать главным образом его пригороды, составляющие «пояс» побережья) охватывают 68,8 процента всех рабочих республики1 2, сосредоточенных на предприятиях, составляющих 56,5 процента от количества всех предприятий страны и 73,6 процента всей стоимости продукции всех отраслей промышленности. Таким образом, в радиусе 50 километров вокруг Буэнос-Айреса мы наблюдаем очень высокую концентрацию рабочего класса: здесь сосредоточена большая часть рабочего класса всей страны.
Ранее мы выявили значительную однородность населения с национальной точки зрения. Сейчас мы столкнулись с концентрацией социально однородных масс на узко ограниченной территории страны, с дальнейшим ростом сил капитализма, «не способных» к политическому господству (в смысле, в котором говорил Энгельс). Если мы добавим к этому отсталость в развитии сельского населения3, являющуюся следствием известных 1 Согласно промышленной переписи 1946 года, акционерным обществам принадлежало 3,3 процента всех промышленных предприятий, на которых было занято 35,6 процента всех рабочих и которые производили 45,2 процента всей продукции страны. Это еще один факт концентрации капитала, к тому же следует добавить здесь, что добрая половина этих акционерных обществ базируется на иностранном капитале.
2 Этот процесс усиливается. В 1950 году собственно столица (39,3 процента) ’и провинция Буэнос-Айрес (33,8 процента) объединяли 73,1 процента всех промышленных рабочих страны.
3 Этот застой является относительным. Он также заключает в себе процесс социальных изменений и обнищания аргентинского
6 Э. П. Агости 81
аномалий «в социально-экономической структуре страны, то придем к выводу, что изменился сам характер культурной клиентуры. Для нее уже непригоден осторожный позитивизм нашей традиционной школы, он не способен выработать такой идеал в области воспитания, который бы стимулировал и развивал ее новые творческие силы.
крестьянства. Действительно, в то время как число крестьянских семей сократилось с 800 тысяч до 500 тысяч, число рабочих, сельскохозяйственных постоянных и временных чернорабочих (пеонов) выросло с 800 тысяч до 1 миллиона. Вместе с тем концентрация земельных угодий удивительна. Согласно данным 1947 года, 5503 собственника владели более чем 5 тысячами гектаров земли, что составляет 1,5 процента всей обрабатываемой земли и пастбищ, в их руках сосредоточено 46,2 процента всех земель страны.
Развитие культуры, в области образования
Может ли школа служить нам доказательством того, удовлетворяет ли, так сказать, теперешний культурный механизм новые национальные потребности, связанные с органическими изменениями в населении. Конечно, школа не является единственным показателем культуры, но она есть наиболее мощный способ ее выражения и доказательства степени ее распространения и углубления, к тому же она легче поддается статистическому учету.
Национальная гордость много раз побуждала нас считать себя самой передовой страной Америки в области образования и воспитания. И тем не менее мы, может быть лишь относительно, являемся такой страной — разве только для своего собственного утешения мы вынуждены скрывать имеющиеся у нас недостатки. Если мы захотим сопоставить различные данные, то сможем сделать вывод об известном прогрессе образования в нашей стране. Например, общая перепись населения 1869 года показала, что только 20,2 процента населения в возрасте от 6 до 13 лет посещало школу, в то время как школьная перепись 1943 года свидетельствует о том, что данный показатель возрос до 75,3 процента. Эти цифры, несмотря на их некоторую неточность, говорят о явном прогрессе в школьном образовании и одновременно о сокращении безграмотности в стране: в 1869 году число неграмотных в нашей стране составляло 77,9 процента населения старше 14 лет, тогда как в 1943 году оно снизилось до 15 процентов, а согласно данным общей переписи населения 1947 года — до 13,6 процента Ч
1 я, конечно, говорю о цифрах, которые можно рассматривать как обладающие минимумом статистической точности. Г-н Перон в своем президентском послании от 1 мая 1955 года утверждал, что в 1955 году в нашей стране впервые была зарегистрирована самая низкая цифра неграмотности — 3,9 процента. Эти данные в строго
6* 83
Бесспорно, это наиболее низкий показатель негрй- мотности в Латинской Америке, что, как правило, чрезмерно подогревает нашу национальную гордость. Чтобы это не вскружило нам голову, следует поближе приглядеться к этим вещам. Достаточно ли формально признать, как это делает статистика, «грамотным» * 1 человека, который с большим трудом может нацарапать свою подпись, чтобы считать решенной социальную научном отношении далеко не точны, и следует предполагать, что они относятся исключительно к определенным группам населения. Даже если допустить, что с 1943 по 1958 год у нас было полностью устранено явление ухода из школ и мы имели идеальный охват школами детей в возрасте от 6 до 14 лет (возраст, подлежащий обязательному школьному обучению), то у нас останутся другие группы населения, которые при проверке в 1943 году отнесены к неграмотным и цифровые данные о которых были подтверждены переписью 1947 года; в группе населения в возрасте 50 лет и старше было зарегистрировано 28,8 процента неграмотных, в возрасте от 22 до 49 лет—12,3 процента и в возрасте от 12 до 21 года — 6,8 процента. Нельзя предполагать, ссылаясь на наши средние показатели смертности, что все это неграмотное население могло умереть в такое короткое время и тем самым вызвать столь невиданное снижение числа неграмотных. Поэтому также неверно предположение относительно идеального охвата детей школами. Цифры 1948 года говорят о том, что в первых классах школ низшей ступени занималось около 775 084 ученика, в шестых — около 131 672. Нельзя предполагать, что в предыдущие годы охват детей младшего школьного возраста был значительно ниже, чем в 1948 году. Где же в таком случае те девочки и мальчики, многие из которых не смогли даже записаться в первый класс? И хотя мы не располагаем упорядоченными статистическими данными, тем не менее легко подсчитать, что количество неграмотных, даже в районах с благоприятными условиями, составляло свыше 10 процентов, тогда как г-н Перон утверждал, что оно приближалось к 4 процентам.
На эти поправки меня толкает отнюдь не полемический задор, а желание опираться на более вероятные данные. См. в связи с этим документальную работу: Eduardo А. С о g h 1 a n, ¿ Cuántos analfabetos hay en la Argentina? в: «La Nación», Buenos Aires, febrero 16, 1956.
1 Относительно реального значения статистики неграмотности и разнородности точек зрения, с которых подходили к ее составлению, полезно вспомнить, что комитет экспертов по нормализации статистики в области образования, собравшийся по инициативе ЮНЕСКО в ноябре 1951 года, рекомендовал следующие определения: «Грамотным считается человек, который умеет читать и понимать прочитанное, а также написать короткий и простой рассказ о событиях своей повседневной жизни. Полуграмотным считается человек, который умеет читать и понимать прочитанное, но не может написать короткий и простой рассказ о событиях своей повседневной жизни» («El correo de la Unesco», marzo de 1958, p. 9).
84
проблему неграмотности? Аргентинская действительность создает видимость грамотности, и эта видимость является как бы набедренной повязкой неграмотности. Согласно данным общей переписи населения 1947 года, на каждую тысячу человек населения старше 15 лет, обучавшихся в начальных школах, приходилось лишь 226 окончивших полный цикл этого обучения. Если мы прибавим сюда тех, кто хотя бы неполностью кончил среднюю школу или высшие учебные заведения, то увидим, что только одну четверть всего населения республики можно предположительно считать грамотной, понимая под этим овладение основами общей культуры, которые могут пригодиться человеку в его общественной жизни.
С точки зрения неравномерного развития страны следует вспомнить следующие в одинаковой степени важные данные: первое — в 1947 году в сельской местности было зарегистрировано 72,5 процента неграмотных; второе — в то время как среднее число классов школы, которые окончило население старше 20 лет, может равняться почти 6 для жителей столицы, для жителей Жужуя оно приближается к З1. Здесь вновь проявляется аномалия нашей социальной структуры, чтобы лишний раз грубо подчеркнуть упадочное состояние нашего элементарного образования. Полуграмотность действительно находит свое выражение в таком явлении, как отсев из школы, в силу чего три четверти населения Аргентины не получили минимального образования. Если неграмотные чаще всего встречаются в сельской местности, то отсев из школы является там наиболее значительным. Данные школьной переписи 1943 года, 1 * * 4
1 В 1947 году среднее число классов школы, которые окончило
население, составляет для федеральной столицы 5,8; для провинции Буэнос-Айрес — 4,6; для Санта-Фе — 4,4; для Катамарка — 3,9; для Жужуя — 2,7. Это среднее число возрастает, о чем свидетельствует
опрос, проведенный среди молодежи. Так, например, в провинции Буэнос-Айрес, где среднее общее число классов равнялось 4,6, оно уже увеличилось до 5,3 среди населения в возрасте от 20 до 29 лет, до 5 классов — в группе населения в возрасте от 30 до 39 лет, до
4 —• среди людей в возрасте от 40 до 49 лет и до 3,7 — среди населения в возрасте от 50 и более лет. И хотя у новых социальных классов наблюдается некоторый прогресс в получении школьного образования, тем не менее общий уровень последнего оставляет тягостное впечатление из-за отсева учащихся из школ, главным образом в сельских местностях. См. G i n о Germán i, Estructura social de la Argentina, p. 237.
85
систематизированные Серрес свидетельствуют о том, что в городских округах нерегулярно посещают школу 7,4 процента населения, а отсеиваются из нее 8,1 процента; в полугородских районах—10,8 и 10,6 процента соответственно; в сельских местностях—23 и 13 процентов населения1 2.
Никто уже не осмелится ставить под сомнение социальные причины этих явлений, столь тесно и печально связанных с общей деформацией национальной жизни. Данные упомянутой выше переписи показывают, что из каждой сотни школьников, вынужденных прервать свою учебу, 38,6 процента это сделали для того, чтобы заняться трудом, 4,8 процента — по болезни, 8,8 процента — из-за бедности, 9 процентов — из-за распущенности и небрежного отношения к учебе, 7,2 процента — из-за отдаленности школы, 10 процентов — из-за отсутствия средних школ, 2,2 процента — из-за неуспеваемости и 2,6 процента — из-за великовозрастности.
Годой Уррутиа3 определяет первые четыре причины как социально-экономические, а все остальные как педагогическо-административные; легко заметить здесь, следуя этому критерию, что первые причины составляют почти 62 процента случаев отсева учащихся. При ближайшем рассмотрении значение некоторых причин, включенных в состав педагогическо-административных, возрастает. И главная из них — отдаленность школы; та же самая школьная перепись 1943 года показывает нам, что из каждой сотни жителей в возрасте от 14 до 21 года почти 41 человек не смогли посещать школу из- за ее большой отдаленности от дома. Социальное положение крестьян в Аргентине, человеческое общение между которыми затруднено из-за огромных латифундий, 1 J о s é R. Serres, Política educacional argentina, ed. Facultad de Agronomía y Veterinaria, Buenos Aires, 1947, p. 34.
2 Удельный вес сельских, так называемых унитарных, школ в стране довольно большой. В 1943 году функционировало 4846 школ с одним учителем, что составляло 37 процентов всех школ (Luis F. Iglesias, La escuela rural unitaria, ed. Pedagógicas, Buenos Aires, 1947, tomo I, p. 9). С тех пор положение мало изменилось.
зCésar Godo у Urrutia, El analfabetismo en América, ed. del Ministerio de Educación Pública, Guatemala, 1952. Относительно данной проблемы см. интересную и нужную работу: Pedro Marón i, La descripción escolar y el analfabetismo, в: «Cuadernos de cultura», Buenos Aires, № 26, julio, 1956.
86
делает самоочевидным это зло, наносящее вред нашей культуре, ибо если в федеральной столице отсев из школ составляет 3 процента, то в провинции Буэнос-Айрес он поднимается до 29 процентов, а в Санта-Фе — до 40,9 и в Сантьяго-дель-Эстеро — до 49,7 процента.
Составители переписи 1943 года попадают в самое больное место, утверждая, что, «как правило, наиболее высокие показатели неграмотности соответствуют провинциям и тем «территориям», население которых очень распылено и, следовательно, не имеет возможности регулярно посещать школу. Так, например, «территория» Чако насчитывает 19,8 процента неграмотных среди населения в возрасте от 14 до 21 года, Неукен — 24,7, Коррьентес — 17,8, Жужуй — 16,9, Рио-Негро — 18,2 процента неграмотных среди той же возрастной группы населения» L
Но это только наполовину правда. Драму аргентинской культуры составляет не только наличие абсолютно неграмотных людей, но также временный или окончательный отсев учащихся из школы, вызванный частично отдаленностью школы от дома и частично необходимостью, заставляющей ребенка сопровождать своих родителей в их скитаниях в поисках работы, которые характерны для сельского населения, лишенного источников дохода в своих родных местах в силу господства латифундий и вынужденного искать себе средства существования в других местах, нанимаясь к богачам на время уборки сахарного тростника и других сельскохозяйственных культур. Таким образом, эти скитания и перемещения сельского населения представляют собой драматическое явление, обескровливающее многие области Аргентины и препятствующее культурному развитию тысяч наших детей.
Профессор Ориета приводит удручающий пример с департаментом Рио-Ондо в провинции Сантьяго-дель- Эстеро: школьная перепись 1943 года устанавливает здесь 95,8 процента отсева учащихся из школы; 14 лет спустя отсев возрос до 97,9 процента1 2. Переезды бат1 «Cuarto Censo Escolar de la Nación» (1943), tomo I, p. 152— 153.
2 Luís Octavio Grieta, El problema escolar en el Departamento Río Hondo, в: «Revista de Educación», Santiago del Estero, № 41—43, abril—junio de 1957, p. 11—13. Артор анализи-
87
раков провинции Сантьяго-дель-Эстеро в провинцию Ту- куман на уборку сахарного тростника с мая по сентябрь являются одной из главных причин отсева учащихся. Об этом говорят данные 1955 года: до мая школу провинции Сантьяго-дель-Эстеро посещало 1611 человек; с мая из школы начался постепенный отсев учеников, и в сентябре число отсеявшихся составляло 466 человек; после сентября, когда школьные занятия подходили уже к концу, ученики начинали медленно возвращаться в школы, к тому же из отсеявшихся возвращались не все. Из 1611 записавшихся в начале только 1338 окончили учебный год, из них 35,4 процента были подвергнуты переэкзаменовке — согласно сообщению одного директора школы, это были дети, вернувшиеся в середине октября или ноября с уборки сахарного тростника. «Даже малопроницательному человеку,— пишет встревоженный профессор Ориета,— это явление говорит о наличии большой группы людей, ничем не привязанной
рует весь выпуск учащихся 18 школ департамента и предлагает нам следующие данные: в 1950 году в школу записалось 713 детей на подготовительную ступень; в 1951 году в первом классе осталось всего лишь 224 ученика; 205 учеников остались учиться во втором классе на 1952 год; в третьем классе на 1953 год—187 учеников; в четвертом классе на 1954 год — 50 учеников; в пятом на 1955 год — 13 и в шестом на 1956 год— 15 учеников. Только 2Д процента учеников окончили начальную школу. Большинство учеников — 68,5 процента —‘ уже оставили школу после окончания первой низшей ступени. И это является характерным для многих провинций.
Газета «Ла Насьон» (Буэнос-Айрес, 14 февраля 1958 года) приводит данные относительно четырех провинций, подтверждающие такое же положение вещей. В провинции Санта-Фе за 1942—1947 годы приблизительно 74 процента школьников не окончили шести классов; в провинции Коррьентес в 1957 году только 6,6 процента учащихся окончили шесть классов, а 70 процентов учеников оставили школу, не окончив третьего класса; в провинции Тукуман 50 процентов учеников оставили школу, не окончив третьего класса, и только 25 процентов, согласно данным 1956 года, окончили шесть классов; в провинции Сальта 77 процентов учащихся не окончили начальной школы; что касается провинции Буэнос-Айрес, то цифры, опубликованные Управлением личного учета и статистики министерства образования, показывают, что наибольший средний отсев из школы составлял в 1956 году 55 процентов; записалось в школы на тот год следующее количество учеников (подсчет здесь идет в тысячах): на первую низшую ступень—132, на первую высшую ступень— 106, во второй класс — 97, в третий — 90, в четвертый — 76, в пятый — 64, в шестой — 53. Отсюда следует, что количество учеников с первого до последнего класса снизилось на 79 тысяч. 88
к данной области в силу отсутствия экономических интересов». Здесь речь идет о скотоводческом районе с отсталыми формами разведения мелкого рогатого скота, где земледелие занимает всего лишь 2 процента всей площади и где ничто не может привязать человека к земле, удержать его с помощью прочных основ социально-экономической жизни.
Рио-Ондо представляет собой драматический пример, но этот пример не единичен \ что заставляет другого аргентинского педагога утверждать, что это не просто школьная проблема, ибо она имеет глубокие и прискорбные социальные корни1 2.
1 В 1948 году в сообщении министерства образования признавался тот факт, что «скитание сельских жителей по зонам (в основе которого лежат причины экономического характера) в определенное время года — в сезон сбора сахарного тростника и других сельскохозяйственных культур, когда работают также и дети,— увеличивает число оставивших школу учеников... тревожные цифры, об этом мы читаем в статистических таблицах записи и выпуска учащихся». В сообщении приводятся цифры, касающиеся района Ла-Пампы, который считается благоприятным в смысле распределения земли, положения его жителей, дорожной сети, количества школ и т. д. Несмотря на эти благоприятные условия, из 3655 детей, поступивших в первый класс в 1942 году, только 717 окончили шестой класс в 1948 году; это значит, что за этот отрезок времени, охватывающий полный курс начальной школы, 80,43 процента учеников бросили школу («Educación común en la capital, provincias y territorios nacionales. Año 1948», Ministerio de Educación de la Nación, Buenos Aires, 1950, p. 176). Эта проблема остается нерешенной. В 1956 году свидетель из Неукен, сообщая о высоком показателе неграмотности в этой зоне, писал: «Зло заключается в самом функционировании сельской школы, отдаленной, снимающей плохо приспособленные для занятий помещения, лишенной средств. Родители хотят, чтобы их дети занимались, записывают их в школу и стремятся, чтобы они окончили ее, но есть серьезные причины, по которым они не всегда могут это сделать: большая отдаленность школы от дома, отсутствие средств, дороговизна одежды и недостаток питания... Тяжело говорить правду, но замалчивать ее — значит проявлять трусость; пауперизация стала хронической среди значительного скрытого богатства, но для обездоленного жителя, лишенного какого-либо источника дохода, не остается ничего, кроме как наняться на работу в «эстансии» или на производство, которое уже возникло или должно возникнуть» (Teniente coronel Francisco S. Torres, Neuquén: sus problemas fundamentales y las posibles soluciones, в: «La Nación*», Buenos Aires, abril 25 de 1956).
2 Jorge Reynoso, Pan y luz (Niños en el campo), Buenos Aires, 1957. Преподаватель Рейносо, опираясь на свой опыт старого сельского учителя (в настоящее время он является инспектором школ-интернатов), пишет: «В силу нашей отдаленности от населен-
89
Зачем же в таком случае прибегать к тяжелейшим педагогическим методам в сельских школах (которые часто есть не что иное, как рабское подражание образцам городских школ), если ребенок начинает с того, что не может присутствовать на занятиях? Проблема ликвидации неграмотности в деревне требует в первую очередь'проведения аграрных реформ. Уже никто не сможет отрицать, что без радикальной земельной реформы культура как средство духовного развития народа за: чахнет, хотя и может продлить свое существование как упадочная культура богачей.
Поскольку мы коснулись основ нашего начального образования, то нас не могут не тревожить и ощутимые недостатки в средней школе и высших учебных заведениях. И хотя данных по этому вопросу относительно немного, тем не менее они также отражают заметные изменения в направленности интересов страны в области высшего образования. Что касается средних школ, то мы встречаемся здесь с таким положением: если в 1895 году количество учащихся средней школы составляло 1,6 на 1 тысячу человек, то в 1925 году количество их увеличилось до 5,3, в 1944 — до 12,9 и в 1953 — до 25,9. Этот рост является незначительным, если принять во внимание наши реальные потребности и развитие народа, сознающего всю важность культуры и образования.
Те самые причины, которые сделали иллюзорным всеобщее обязательное начальное образование, чудовищным образом препятствуют сделать среднее образо-
ных центров жизненные условия у нас все более ухудшаются; огромные пространства (латифундии) препятствуют просвещению крестьянских масс и способствуют в то же время накоплению богатств собственников... Такое положение, характерное для всех сельских местностей, делает невозможным создание общей начальной школы.
.Это уже не просто школьный вопрос, он приобретает характер социальной проблемы, поскольку, кроме большой распыленности сельского населения, на школе отражается еще отсутствие у него экономических средств. Такое печальное положение заставляет трудящегося посылать всех членов своей семьи на поиски сельскохозяйственных работ, чтобы удовлетворить свои самые* необходимые жизненные потребности. Главный вопрос деревеце^ого жителя это поддержание собственного существования».
90
вание всеобщим и обязательным; описывать их — значило бы повторяться, однако некоторые признаки показывают, что и здесь нашли отражение перемены, наблюдаемые в социальной структуре страны. Например, в то время как в 1895 году свыше двух третей всех учащихся средней школы занимались в национальных общеобразовательных колледжах и немного меньше одной оставшейся трети — в педучилищах, имелась еще незначительная специализированная группа учащихся, в 1948 году национальные общеобразовательные колледжи охватывали всего лишь одну треть учащихся, а торговые и промышленные школы поглощали почти 40 процентов всех учащихся Ч
Даже не углубляясь особенно в вопросы среднего образования, можно понять, что перемещение центра интересов здесь также совпадает с социальными изменениями культурной клиентуры и с конкретными задачами нашей страны. Среднее образование, считавшееся ранее обязательным для поступления в университет, на который часто смотрели как на учебное заведение для детей правящих элит, начинает по контингенту учащихся, так сказать, плебеизироваться, ибо рост новых экономических сил, отличных от старой земельной олигархии, требует уже своих техников, своих учителей и своих квалифицированных рабочих. Впрочем, отсев учеников в средних школах происходит в настоящее время столь же энергично, как и раньше; и хотя мы не располагаем достоверными статистическими данными относительно социального происхождения учеников, тем не менее нетрудно понять, что набор учащихся идет преимущественно за счет крупной, средней и мелкой буржуазии, особенно в провинциях; только в больших
1 Было бы неправильно понимать данный процесс так, будто бы внезапно, только в 1948 году, обнаружились эти признаки. Уже в 1943 году при проведении четвертой национальной школьной переписи эти тенденции проступили довольно четко, ибо если национальные колледжи, лицеи, педагогические и коммерческие училища насчитывали 143 061 учащегося, то специализированные школы-г- 465 261, из которых 15,4 процента занимались в ремесленных училищах, 12,5 — в промышленных школах, 27 — в художественных училищах, 28 — в школах домоводства, 16,4 — на курсах иностранных языков и лишь 0,5 процента — в агротехнических школах,
91
городах дети квалифицированных рабочих имеют доступ к среднему образованию *.
Недостаточность охвата новой культурной клиентуры средними школами проявляется, наконец, и в области высшего образования, и не потому, что значение этих вопросов здесь возрастает, а просто с высоты, так сказать, положения университета можно рассмотреть их с большей тщательностью.
Правда, в университетах отмечается относительный рост студентов: по сравнению с 1917 годом, когда на 1 тысячу жителей приходилось 1,1 процента студентов, в 1954 их число возросло до 7,4 процента. Однако это увеличение является фикцией, так как лишь очень небольшая часть студентов завершает свое образование. Данные за 1942—1951 годы свидетельствуют о значительном отсеве студентов, поступивших на первый курс различных факультетов, здесь минимальная цифра отсева равняется 44 процентам, максимальная — 80 2.
У нас находятся такие люди, которые пытаются объяснить это действительно ужасное явление сумбурно-
1 Это относится в основном к частным школам, которые посещают исключительно дети обеспеченных родителей, способных вносить высокую плату за обучение. В 1934 году насчитывалось 311 государственных и 245 частных школ, в 1958 году — 620 государственных и 684 частных. В 1934 году в государственных школах занималось 114 417 учеников, в 1948 году — 228 095. В 1934 году в частных школах обучалось 21 274 ученика, в 1948 — 33 497. См. «Anuario Estadístico de la República Argentina», compendio de 1948, tomo 1.
2 Мы имеем следующие цифры отсева студентов на различных факультетах университетов: философии и словесности — 80 процентов, на архитектурном — 68, на юридическом (отделение, готовящее адвокатов) — 64 процента, нотариусов — 45 процентов, прокуроров — 50, на экономическом — 69, агрономическом — 62, ветеринарном— 61, фармацевтическом — 55, биохимическом — 55, гражданского строительства — 56, промышленного оборудования — 56, медицинском — 44 процента. Другие данные показывают, что в университете Буэнос-Айреса в 1956 году числилось 74 253 студента, а получили в этот год ученую степень только 3486 человек («Clarín», Buenos Aires, enero 9, 1958).
В речи, посвященной присуждению ученых степеней в национальном колледже Буэнос-Айреса, ректор колледжа Рисиери Фрондизи отмечал, что в 1955 году на медицинский факультет колледжа записалось 2743 студента; после трех лет занятий на третий курс перешло 257 человек, то есть 9,5_ процента, на втором курсе осталось 574 студента (19,9 процента), 661 человек (24,1 процента) с трудом окончили первый курс, а 1278 человек, то есть 46,5 процента, не окончили даже первого курса («La Nación», Buenos Aires, agosto 13, 1958).
92
Стью студенческих исканий, устремлений, однако ЯСНО — даже если не игнорировать какую-то часть отсева, которую можно отнести за счет ошибок юности при выборе профессии, являющихся следствием плохой организации среднего образования,— что более соответствующее объяснение этому можно найти в том факте, что почти две трети студентов должны работать, чтобы оплатить свое обучение 1.
Перед нами первая серьезная проблема: на окончание университета затрачивается, таким образом, в два раза больше общественно необходимого времени; во- первых, из-за отсева, влияющего на общее среднее количество 'выпускников, и, во-вторых, из-за того, что студент, разрывающийся между учебой и работой, затрачивает, несомненно, больше времени для получения ученой степени, чем тот, кто целиком занят только одной учебой. С социальной точки зрения это приносит явный ущерб. Частные университеты, даже если допустить провозглашаемые ими добрые намерения — охватить как можно большую часть населения учебой,— не смогут решить этой проблемы; разве только в том случае, если принять во внимание исключительно обеспеченных студентов, родители которых в состоянии безболезненно оплачивать их учение. Но и вторая проблема, которую нельзя рассматривать отдельно от первой, является не менее серьезной, поскольку она свидетельствует об общем обнищании масс, зарегистрированном с помощью университетов. Если мы обратимся к данным 1956 года, обобщение которых не представляется нам
1 В некоторых сообщениях, посвященных студенчеству, говорится, что 70 процентов студентов должны работать половину рабочего дня или полный рабочий день, чтобы оплатить свое обучение в высших учебных заведениях или чтобы как-то помочь своей семье. Нет, к сожалению, ни одного значительного исследования по этому вопросу. Наиболее серьезные данные были собраны институтом социологии факультета философии и словесности университета Буэнос-Айреса путем опроса и частичных анкет, распространяемых среди студентов этого факультета, а также факультетов точных наук, экономики и архитектуры. Среди студентов факультета философии и словесности работает 61 процент, точных наук — 53 процента, из них 30 процентов — полный рабочий день 14 — половину рабочего дня и 9 — неопределенное время. См. G i n о G е г - maní, Informe preliminar del Instituto de Sociología sobre las encuestas entre estudiantes universitarios, в: «Centro», Buenos Aire* № 12, octubre, 1956, p. 34—46.
93
Лйшйим, то найдем, йто среди йсего населения в возрасте от 17 до 30 лет только 4,7 процента посещают высшие учебные заведения. Если мы перейдем к так называемому анализу «занятости», который не всегда совпадает с самим делением на социальные классы, хотя и можно условно принять его в качестве рабочей гипотезы, то обнаружим, что этот процент студентов сокращается до 0,8 для рабочих, поднимается до 5,8 для служащих, до 14,2— для всякого рода собственников (торговцев, промышленников, землевладельцев, скотоводов, владельцев предприятий, занимающихся обслуживанием) и до 40 — для специалистов-профессионалов, составляющих в общей сложности так называемый средний слой. А теперь если мы сведем эти проценты к численным показателям и в качестве отправной точки возьмем рабочий сектор, то увидим, что на одного студента из рабочих, имеющего возможность поступить в университет, приходится 6 детей служащих, 18 детей собственников и 50 детей специалистов-профессионалов; из всего населения в целом в возрасте от 17 до 30 лет в высшие учебные заведения могут поступить в среднем 6 человек L
Если что и становится ясным из этих данных, так это то, что социальные изменения в аргентинском населении, характерным признаком которых является рост пролетариата, не нашли своего отражения в составе студентов университета. Но эти данные свидетельствуют об общем обнищании средних слоев, об этом можно сделать вывод из того факта, что студенты, которые происходят из средних социальных слоев, вынуждены делить свое время между занятиями и работой за пределами университета. С этой точки зрения отсев студентов из университета предстает перед нами как явление, имеющее под собой конкретную материальную основу, и, следовательно, отнюдь не похвально искать ему объяс-
1 Gino Germán i, Informe preliminar del Instituto de Sociología sobre las encuestas entre estudiantes universitarios, в: «Centro». Buenos Aires, № 12, octubre, 1956, p. 34—46. Следует иметь в виду, как об этом заявляет сам автор, что в этих процентных соотношениях и цифровых данных об университетском образовании, которые связаны с определенными социальными группами и установлены на основе небольшого анализа в предыдущем примечании, завышены цифры, относящиеся к Буэнос-Айресу, поскольку не учитывается количество учащихся, прибывших из провинции или из-за границы.
94
Пение П психологических вывертах неустаПовившихся призваний. Неправильно говорить, что у нас имеется избыток в некоторых профессиях1.
Если нет большого разнообразия специальностей, а набор по некоторым из них сведен до минимума2, то
bernardo A. Houssay, Plétora de estudiantes, в: «La Prensa», Buenos Aires, enero 20 de 1957. В этой работе представлены таблицы с целью показать, что у нас в Аргентине на медицинский факультет университета поступает меньше студентов по сравнению с другими странами. Как отмечает Хоуссей, вызывает тревогу тот факт, что соотношение между поступившими на медицинский факультет университета Буэнос-Айреса и окончившими его якобы за период между 1940 и 1953 годами снизилось с 43 до 18 процентов. Хоуссей объясняет большое количество поступивших (и, следовательно, большой отсев, проиллюстрированный падением соотношений между поступившими и окончившими) легкостью поступления на факультет и считает поэтому необходимым ограничить набор и сократить число медиков, чтобы избежать «того экономического положения, которое с каждым днем становится все серьезнее».
Не обсуждая сейчас принципа ограничения набора (мы уже видели, что он действительно существует в силу экономических причин), следует заметить, что такое же положение, которое так стремится исправить автор, имеет место в странах, где нет строгих условий приема в университет. Во Франции, например, в 1900 году медицинские факультеты насчитывали 8700 студентов, из них окончили их лишь 1600, то есть всего /18,22 процента; в 1955 году насчитывалось 29 900 студентов* а окончили 3100, то есть 10,3 процента; это соотношение становится намного меньше, если иметь в виду, что в число окончивших включаются также зубные врачи и акушерки. По другим специальностям мы имеем аналогичное положение или даже хуже: по праву — 8,11 процента, по словесности — 6,41, по точным наукам — 4,4. Верно также, что одна треть студентов, специализирующихся в области точных наук, почти половина студентов-словесников, две трети студентов юридического факультета должны работать, чтобы платить за обучение (см. С. Q u i п у A. R a ven, Biln étudiant, в «La Nouvelle Critique», París, № 95, abril de 1958). Это значит, следовательно, что так называемый университетский кризис связан с капиталистической структурой общества, а не с психологическими моментами в личных склонностях каждого поступающего студента.
2 Из 22 578 учащихся, записавшихся в университет Буэнос-Айреса в 1956 году, 16 289 студентов, то есть 72,14 процента, поступили на факультеты права, медицины и экономических наук, на факультет агрономии и ветеринарии было принято всего лишь 400 студентов, то есть 1,78 процента. Некоторых ректоров университетов удивляет и беспокоит этот факт. Так, например, доктор Хосе Мария Фернандес пишет: «Привлекает внимание тот факт, что в стране, основное богатство которой составляет сельское хозяйство, только 10 процентов всех поступивших в университет студентов пошло на агрономический факультет» («Universidad», Santa Fe, № 34, 1957, р. 11). Настоящий скандал вызвал доктор Александр 95
это надо понимать так, что в данный вопрос вплетаются другие причины, не связанные непосредственно с самим университетом, а касающиеся социальной структуры страны.
Какие стимулы может иметь молодой человек для продолжения своих занятий по агрономии и ветеринарии, если из-за господства латифундий он не может применить свои знания в конкретных условиях страны? Кроме того, старая система образования, как мы говорили об этом раньше, касаясь явлений отстранения масс от культуры, уже непригодна для удовлетворения новых потребностей, вызванных развитием производительных сил Аргентины.
Не слишком почетное место отводит нам мировая статистика по расходам на образование1, а с социальной точки зрения такие вложения фактически оказываются еще менее значительными из-за большого индивидуального взноса каждого студента, продолжительность учебы которого становится гораздо больше предусмотренной. Ученик, прерывающий с самого начала свои занятия, тратит меньше денег на образование, тем не менее своим отсеиванием он причиняет большой вред всему обществу в целом; студент, обучение которого становится чрезмерно продолжительным из-за того, что он должен «разрываться» между своей учебой
Себальос («La Prensa», octubre 5 de 1957), который, чтобы подтвердить избыток студентов в университете по данной специальности, пригласил юношей поехать поработать в деревню на государственных землях... Однако никому из ректоров университета не пришло в голову посмотреть, какие возможности найти свое место в национальной экономической жизни имеют будущие специалисты по агрономии и ветеринарии. Это явление характерно не только для Аргентины, оно имеет место во всей Латинской Америке, ибо во всех ее странах в сфере эксплуатации земли существует аналогичная ситуация. Данные ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) показывают, что из 6707 студентов, поступивших на 45 факультетов по агрономии в Латинской Америке, в 1955 году окончили 1113 человек. ФАО подсчитала, что в 1965 году из возможного числа студентов окончат полный курс лишь 1530 человек. Это значит, что нехватка и нужда в агротехниках сохранится («Clarín», Buenos Aires, marzo 11, 1958).
1 Согласно данным ЮНЕСКО на 1955 год, ежегодные расходы на образование в расчете на одного жителя в некоторых странах были следующими (исчисление во всех случаях ведется в долларах): Советский Союз —80, США —57, Англия — 22,96, Франция — 17,73, Аргентина — 7,6, Тунис — 6,4.
96
и работой, тратит на образование больше денег и также наносит ущерб общим интересам страны, поскольку запаздывает с применением приобретенных полезных знаний. А все это является свидетельством социальной деградации господствующих классов. Они уже не только держат в предусмотренных ими границах образование широких народных масс, но и снижают качество того, что должны получить их собственные дети. Аргентина в этом отношении довольно показательная страна.
7 Э. П. Агости
Пригодны ли для нас старые формы?
Хотя школа и не является единственным показателем культуры, тем не менее она наиболее ощутимо отражает ее состояние. Если смотреть на культуру с этой точки зрения, то ее деградация сильнее всего сказывается именно здесь: школа—это наиболее потрясающий обвинительный акт, который мы можем предъявить господствующим классам. Что касается школы, то в настоящее время она и в количественном и в качественном отношении стоит ниже наших потребностей1, и если это признак регресса, то он показывает также, что старые схемы воспитания, столь мудро предвосхищенные Сар- миенто, уже непригодны для нас. Наша современная культура стоит ниже того уровня воспитания, который представлял себе великий Сармиенто и который был предназначен удовлетворять потребности общества, вынужденного принять буржуазные формы производства. Бедному Сармиенто часто вменяли это *в вину. Находились такие, которые критиковали его справа, обвиняя в фальсификации национального духа. Левая критика ставила Сармиенто в упрек его обуржуазивание. Над этой полемикой возвышается предвидение Сармиенто, являющееся ярким проявлением его демократического гения, оказавшегося способным осознать всю важность образования как инструмента культурных предначертаний новых политических сил.
1 Статистика Международного отдела информации по образованию в Женеве определила среднее число учащихся на тысячу жителей за период с 1939 по 1940 год: эга цифра равнялась 153,82, а статистические данные ЮНЕСКО за период с 1947 по 1950 год сводят это среднее число до 126 человек на тысячу. См. Lorenzo Luzuriaga, La enseñanza primaria y secundaria argentina comparada con la de otros países, ed. del Instituto de Estudios Pedagógicos de la Universidad Nacional de Tucumán, 1942; «Faits et chiffres», UNESCO, París, 1952; «L’analphabétisme dans divers pays», UNESCO, Paris, 1953; Carlos M. Rama, Educación y sociedad democrática, ed. Nuestro Tiempo, Montevideo, 1955.
98
При помощи просвещения Сармиенто сразу хочет «сделать народ»1. Увлекающийся, каким и был Сармиенто, он жалуется на свое одиночество провозвестника: «Я несчастен оттого, что думал, писал и творил двадцатью годами раньше, чем мои ученики»1 2. Хотя мы и не даем пленить себя предвосхищениями, высказанными Сармиенто, тем не менее ясно, что столкновения и противоречия в стране исказили ее прежнюю историческую возможность развития, выбивая ее из ее нормального русла. Такими же предвосхищениями являются и другие предвидения Сармиенто относительно будущего общества, зарождающегося внутри анахронического общества, в рамках которого оно развивалось; теперь можно сказать, что его класс, который так умел превозносить Сармиенто в своих речах, столь же ярких, сколь и пустых, оказывался всегда ниже его предвосхищений: одно дело говорить об апостоле просвещения, другое — доводить сказанное им до логического конца.
Сармиенто тогда уже писал: «У образованных людей есть скрытая ненависть к всеобщему образованию... У тех земля и колледжи; у крестьянина — его «свобода» и тесак». Сармиенто не лезет за словом в карман, чтобы заклеймить привилегию. «Когда муниципалисты предложили президенту [Чили] — и он одобрял это предложение— превратить школы, которые они содержат, в колледжи, он высказал свое намерение не распространять образование на массы, а монополизировать школы для обучения своих детей и друзей и сделать так, чтобы народ своими налогами, которые он вносит в муниципалитет, оплачивал воспитание их детей и им не пришлось бы платить самим»3. Те, которые объявляли себя продолжателями Сармиенто, не всегда умели понять и 1 «Epistolario entre Sarmiento у Prosse», ed. del Museo Histórico Sarmiento, Buenos Aires, 1946, tomo I, p. 274 (carta del 15 de septiembre de 1869).
2 Ibid., tomo I, p. 143 (carta de abril de 1865).
3 Цитируется в книге: Carlos M. Rama, Educación y sociedad democrática, p. 5. Не впадая в соблазн простых аналогий, я не могу не вспомнить высказывание К. Маркса в «Критике Готской программы»: «Если в некоторых штатах Северной Америки обучение в высших учебных заведениях также «бесплатно», то фактически это означает только, что высшие классы покрывают расходы по своему воспитанию из общих налоговых средств» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избр. произв. в двух томах, т. II, стр. 25).
7* 99
раскрыть, что под новыми формами — возможно, более тонкими, но не менее властными — господствующие классы устанавливали такую систему образования, которая фактически отстраняла широкие массы от культуры.
Сейчас старые схемы образования уже непригодны для нашей страны, поскольку она внутренне изменилась. Теперь в Аргентине иной национальный состав, свидетельствующий о национальной однородности ее населения, и иное соотношение социальных сил. Следовательно, демократизировать культурный процесс — значит признать за исходную точку эту изменившуюся реальность, которая почти всегда игнорировалась при организации народного образования. И провозглашение его обязательности остается до сих пор утопическим (а иногда и лицемерным) высказыванием, ибо имеются другие вещи в нашей социальной структуре, которые заставляют людей оставлять школы, несмотря на закон об обязательном образовании и прочие глупости L Мы не можем согласиться также с эмфатическим заявлением о существовании у нас бесплатного обучения, ибо бесплатность обучения состоит не только в том, чтобы не взимать за него налоги. В конце концов еще в 1792 году Кондорсэ в своем законодательном проекте заявил, что бесплатность обучения не будет полной без системы стипендий и пособий. Падение наших господствующих классов было столь очевидным, что лозунги революционной буржуазии 1792 года звучат сейчас в Аргентине как потрясающая дерзость.
В настоящее время наши собственные наиболее важные и острые вопросы приобретают новое толкование по той причине, что на социальную арену вступают массы, которые до вчерашнего дня были угнетенными и униженными, ввергнутыми в глубокую спячку провин1 И это уже видел Сармиенто, который, как мы показали, был не только лирическим открывателем преимуществ школ. В своем очерке о «Всеобщем образовании» он замечает: «Деление земельной собственности на большие участки противодействует начальному образованию, поскольку распыляет население и мешает нормальной работе школы, ибо сфера, на которую она могла бы распространить свои блага, охватывает ограниченное число жителей» (D. F. Sarmiento, Obras Completas, tomo XII, ed. 1896, p. 50). На предыдущих страницах мы видели, что латифундии — или крупные частные земельные владения — продолжают оставаться фактором, тормозящим развитие культуры Аргентины наших дней.
100
циальной жизни. Сейчас возникают у нас новые явления, беспокойства, новые внутренние потрясения. И хотя они не всегда проявляются со всей отчетливостью, но от этого они не менее реальны и значительны. Банкротство системы образования — это часть того процесса, который уже не в состоянии не только обеспечить всем образование, но и ответить требованиям технического прогресса, всякий раз властно заявляющего о с*ебе. Этот старый культурный инструмент, ржавый и скрипучий, уже непригоден для того, чтобы с его помощью можно было находить адекватные ответы на вопросы современного мира. Как бы мог он служить нам, если он начинает с того, что игнорирует качество новой клиентуры?
Несоответствие между нацией и ее культурой достигает в настоящее время своей критической точки. Но не сама культура, взятая в ее глубоком смысле, находится сейчас в состоянии кризиса, а социальный строй нашей страны, препятствующий развитию культуры,— социальный строй, предназначенный служить потребностям страны, которая в настоящее время находится в столь тяжелом положении, что готова разбить его. И в то время как новая клиентура требует чего-то такого, что действительно могло бы обслуживать ее интересы, этим старым схемам образования пытаются придать иной вид.
Старые схемы Сармиенто для нас уже недостаточны, но их недостаточность зависит от многих вещей, которые уже тогда понимал, хотя и не совсем ясно, сам Сармиенто и которые не умел или не хотел исправить его класс. Эти схемы нуждаются в расширении и развитии, но отнюдь не в таком, какое имеет место сейчас, когда, считая их устаревшими, пытаются перелицевать их, а возможно, даже сохранить их прежний вид, чтобы снова вернуть страну под опеку церковной иерархии. Эти узкие формы, которыми мы пользуемся до сих пор в области образования, уже тогда были недостаточными, но их недостаточность не устраняется подчеркиванием их ограниченности и изобретением способов частного образования, которые всякий раз все больше свидетельствуют об иллюзорности бесплатного обучения и делают еще более явным его иерархический смысл.
А между тем эта страна, которая начинает уже уверенно смотреть вперед и которую метафизики, эти толкователи национально?! сущности, хотят убедить в абсоЮ1
лютной безысходности ее положения, способна кое-что сделать. Страна чувствует, что старые формы с каждым днем становятся для нее все более невыносимыми. И поскольку объективный рост нашей страны выдвигает новые культурные требования, хотя и не четко еще выраженные, то легко понять, что культура переживает не только период кризиса, но и период своего вызревания, если мы не будем всю культуру страны сводить к культуре «утонченно мыслящего» меньшинства, которое часто смешивает ее с хорошими манерами и изысканной вежливостью. Люди, склонные чисто риторически высказываться относительно нашей национальной сущности, могут упиваться своими бесконечными гистологическими анализами, в которых исчезает образ простого аргентинца, теряется его живая плоть, его социальное и историческое лицо погружается почти в ненавистное ничто. Но этот средний человек заявляет о себе в статистических данных, которые временами кажутся сухими, но которые тем не менее как молнии врываются в их метафизические рассуждения.
Возьму, к примеру, некоторые цифры школьной переписи 1943 года. Треть всех аргентинских семей живет в одной только комнате, и хотя эти данные колеблются в зависимости от той или иной области страны, тем не менее они одинаково являются тревожными: почти 20 процентов таких семей мы имеем в самом городе Буэнос-Айресе, 61 процент—в провинции Сантьяго-дель- Эстеро. Возьму еще несколько цифр: в городских зонах семья из четырех-пяти человек снимает одну комнату, причем такие случаи составляют 73,7 процента; если этот показатель снижается до 52,5 процента в сельских зонах, то только по той печальной причине, что там 37,2 процента семей по шесть-восемь человек живут в одной комнате, а 10,3 процента составляет группу населения, где более чем по 9 человек живут в одной комнате. Глядя на эти цифры переписи 1943 года, я уверенно могу сказать, что они бледно отражают обстановку скученности, стесненности, которая настолько усугубилась, что причины ее становятся очевидными народному сознанию. И национальная сущность, которую метафизика стремится похоронить под выкладками социологического фрейдизма, проявляется здесь полностью и самым решительным образом.
102
Действительно, наша культура повергнута, бессильна, но не она, если понимать ее во всей глубине, находится сейчас в состоянии кризиса. Этот кризис связан с обществом, которое в силу своего анахронизма пришило к подобным печальным результатам. И когда мы говорим, что старые формы непригодны для нас, то, естественно, здесь речь идет о методах и приемах образования, а также воспитания тех изысканных манер, связываемых с общей культурой, которые народ поддерживал в самые тяжелые времена с помощью множества творений, часто непонимаемых и всегда презираемых.
Мы говорим не только об этом, но также и о том, что составляет основу всякого глубокого изменения. Сто лет назад Сармиенто видел, что крупная земельная собственность в руках одного лица «противодействует развитию начального образования». Сегодня мы уже знаем, что без аграрной революции не может дальше развиваться настоящая национальная культура. И старые формы, которые мешают нам и не дают возможности идти вперед, необходимо твердой рукой вырвать с корнем.
ВТОРАЯ ИНТЕРМЕДИЯ
„Что" и „для чего'1 изучать
Всякий раз, когда речь заходит об университетской реформе, весь пыл требований обрушивается обычно на форму университета. Такое положение можно объяснить двумя причинами. Прежде всего ясно, что все требования, связанные с изменениями в руководстве университетом, выражают самое первое и необходимое условие того, чтобы университет перестал быть учебным заведением для избранных. Во-вторых, не менее очевидно также, что изменения в формах руководства включают в себя необходимость также преобразования его содержания,— здесь одно от другого неотделимо. Очень часто мы говорили, что эта реформа означает «революцию» в формах руководства университетом, что она отражает изменения в социальном составе университета. И поскольку эти изменения форм руководства никогда не приводили к существенным результатам по причинам, которые нельзя отделять от социально-политической действительности страны, то понятно поэтому, что о них преимущественно думали, не слишком останавливаясь на специфическом содержании университета. Мы уже не можем погружаться в историю вопроса, не рискуя утонуть в ней. Анибал Понсе говорил, что некоторые девизы «новых поколений» в силу своей романтической неясности могли также служить «разумному правому либерализму». Однако речь идет не о том, как смотреть, слева или справа, а о том, что университетский кризис можно разрешить при помощи автономии и руководства, в котором будут представлены все три класса. Это как раз то, с чего необходимо начать. Это, если хотите, именно та самая основная форма. Но, кроме того, здесь нужно еще знать, что вложить в форму, именуемую университетом, знать, «что» изучать и «для чего» изучать. Мне не кажется праздным данный вопрос, он продиктован соображениями морального и практического порядка.
104
Следует правильно сформулировать его в плане соображений морального порядка, так как наша страна тратит энергию и средства (правда, не в той мере, в какой было бы нужно) на высшее образование с целью подготовить технические кадры, которые должны будут возместить ей затраченные на них средства. Совершенно обратное означало бы требование привилегий для определенных групп студентов университета, которые могут учиться, тогда как другие юноши и девушки того же возраста (а их большинство) должны растрачивать себя на утомительных работах на фабриках или в крупных поместьях. Этими моральными соображениями вдохновлялась Реформа, когда с помощью более широкого доступа в университет хотели исправить все пороки воспитания в стране.
Практическими соображениями являются те, которые непосредственно приводят к вопросам, «что» изучать и «для чего» изучать. Пытается ли сейчас университет разрешать вопросы аргентинского производства? Помог ли он разобраться в действительных вопросах национальной жизни? Ответил ли он на требования региональной промышленности? Стимулировал ли он научные исследования, которые всегда лежат в основе любого усовершенствования любой области человеческой деятельности? Недавно некоторые люди из Чако, Коррьентес, Мисионес и Формозы предприняли попытку создать университет в Норесте. Их целью (и она вполне достижима, причем это не просто азартное предприятие, игнорирующее постановку самой основной проблемы) было связать институты, входящие в состав университета, с региональными проблемами (речь шла, например, о «монотехнических школах»), чтобы университет не. просто ограничивался повторением знаний, но и дальше разрабатывал их и учил применять их на практике. Мне ясно, что в этом есть опасность атомизиро- вать высшее образование или, если хотите, свести его к слишком узкой специализации, которая весьма стесняет возможности исследования.
Действительно, такая опасность существует. Но ее можно избежать, если мы сумеем разглядеть более серьезные вещи в создавшейся в провинциях обстановке. На мой взгляд, именно там, в провинциях, практически выявляется основа университетского кризиса 105
в Аргентине. Скажу это иначе: области, часто заброшенные, столько раз переживавшие всевозможные трудности, задерживающие их социальное развитие, протестуют против такой постановки университетского образования, которая неспособна удовлетворить их собственные местные потребности.
Однако не только провинции выражают свой протест, но и сама столица, в большом росте которой необходимо разглядеть его истинные причины, чтобы не дать себя опутать раздорами между «провинциалами» и жителями Буэнос-Айреса и побережья, раздорами, помогающими сохранить (почти всегда в чужую пользу) устойчивую дихотомию страны.
Весь вопрос здесь состоит в том, что университет, несмотря на реформу, продолжает оставаться связанным со старой культурой олигархии. Это вербалистский университет, который готовит никчемных докторов, непригодных для конкретной жизни: в конкретной жизни по окончании университета они должны перестраивать свое собственное образование. Такая система университетского образования наносит ущерб экономике нашей нации, которая так неразумно растрачивает свои силы.
Мы не должны забывать, что такая неприспособленность аргентинского университета, бесплодность его образования, чем он обязан правящей верхушке олигархии (как до 4 июля или до 17 октября, так и позднее), является наиболее веским аргументом в пользу «частного университета». Многие искренне считают, что частный университет в состоянии сделать то, чего не смог сделать государственный университет. Можно сказать, что они повторяют сказку об обманутом муже, который исправлял положение вещей продажей дивана — сообщника греха. Да, так можно сказать. Но эти люди будут продолжать искренне верить (я говорю о тех, кто действует по доброй воле), что здесь дело заключается в «свободном предпринимательстве», если мы не сумеем показать, что в национальных интересах страны необходимо изменить содержание университетского образования.
И тогда университет будет выпускать специалистов., нужных для Аргентины в той самой мере, в какой они ей необходимы; страну следует понимать как единый и гармонический организм, включающий в себя региа- 106
нальные особенности. «Что» изучать означало бы, следовательно, войти в сущность аргентинских проблем, живых проблем, не получивших еще решения во всех областях конкретного знания. А «для чего» изучать — этот вопрос выражает собой поиски решений, предназначенных для аргентинской действительности. Ибо суть вопроса заключается именно в понимании того, что университет — это живая клеточка, живая ячейка общества, которую многие у нас упорно стремились сделать мертвой, если не раковой клеточкой. В 1918 году, в дни «университетской революции», было уже заметно несоответствие университета потребностям общества. Только рукой романтика можно было написать приказ: «Навсегда стереть воспоминание о контрреволюционерах Мая», но это не мешало видеть основную черту университета — его немощность, университета, выпускающего ненужных докторов, в то время как страна нуждалась в технических специалистах для своей поднимающейся промышленности. И то, что в 1918 году только смутно проглядывалось, в 1958 году стало бесспорно очевидным.
«Для чего» изучать — этот вопрос тесно связан с вышеуказанным необходимым преобразованием университета, поскольку университет должен обеспечить орудиями тех, кто работает, и знаниями тех, кто думает. Университет должен исследовать конкретные темы, связанные с преобразованием Аргентины, и работать для этого преобразования. Но университету не нужно ждать этого преобразования, ждать совершившихся фактов, чтобы самому сразу же сделаться пригодным и полезным. Безусловно, страна не продвинется вперед, пока ее силы подтачивают латифундии, которые часто носят полуфеодальный характер, и империалистическое вмешательство, направленное против национального развития страны. Но было бы нелепо считать, что университету в этом развитии принадлежит третьестепенная, пассивная роль. «Для чего» изучать — этот вопрос конкретно связан с преобразовательной деятельностью. Деятельность по преобразованию нашей страны связана не только, как это кажется, с политическими задачами, она должна также находить выражение в специфических задачах университета, то есть в том, «что» нам необходимо изучать. Поэтому меня ничуть не волнует эта опасность атомизации (расчленения) университета 107
по факультетам или региональным, университетам: наоборот, меня больше воодушевляет выражающийся в них национальный смысл этого дела. Мне скажут, что университет несет с собой не только техническую, но и научную культуру; мне скажут, что широкой культуры требуют общие по своей природе гуманитарные науки, связь которых воедино осуществляет философия. Это безусловно так, и об этом я неоднократно1 говорил и считаю необходимым сказать еще раз. Но не лишним будет сказать здесь, что философия — это не абстрактная и иррациональная спекуляция, не имеющая связи с наукой, не изучение чего-то произвольного, выбранного наугад, на авось из широкой области гуманитарных наук.
Именно в связи с жизнью должен рассматриваться вопрос о содержании университетского образования, которое нужно поставить на службу аргентинскому народу и его действительному освобождению. Народ нуждается для своего освобождения в технических кадрах, и университет обязан их доставить ему, если он не хочет сохранить глубокий разрыв между собой и народом, что является вредным, пагубным для будущего демократии в Аргентине. Не следует думать о Реформе только в педагогическом плане, исключая ее политические стороны, ибо это есть не что иное, -как иллюзия или лицемерие. Нужно видеть, что обе эти вещи связаны, и если мы указываем (а это нужно делать с каждым разом все энергичнее) на необходимость изменить социальный состав университета или характер его «клиентуры», то не для того, чтобы некоторые дети рабочих могли стать выше своего класса, а для того, чтобы можно было почувствовать, что национальные интересы здесь в значительной степени учтены. Именно об этом идеть речь в вопросе «что» и «для чего» изучать в университете — о национальных вопросах.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
В поисках пути
Общность культуры?
Развитие национального самосознания поставило ряд вопросов, касающихся подлинной нашей сущности как нации. Имеет распространение метафизическое понимание национальной сущности, которое довольствуется тем, что рассматривает ее как раз и навсегда установленную и занимается определением того, являемся ли мы общностью или конгломератом. Каждый раз, когда вместо того чтобы говорить об обществе, произносят слово общность, я буквально содрогаюсь. Тённис был тем, кто действительно изобрел социологическую категорию общности, противопоставив ее обществу как понятие более высокого порядка. На это понимание опиралась значительная часть нацистской социологии в своей попытке искоренить из человеческого сознания ту конкретную истину, что классовое разделение лежит в самой основе реального общества. Конечно, было бы глупо думать, что идея общности обязательно фашистского происхождения, но не менее верно и то, что ссылки на «общие интересы» или национальную «интеграцию» очень часто выражают стремление ослабить протест угнетенных классов, навязав им идеологические нормы, совпадающие с интересами правящих классов.
Нет никакого сомнения, что в области культуры аргентинцы не представляют собой ни конгломерат, ни 109
общность, по крайней мере в обычном понимании этих терминов. Мы не представляем собой разнородного соединения разрозненных географических групп и не образуем общность, если понимать под этим существование однородного общественного строя, лишенного внутренних противоречий. Однако через обширные области культуры проходит линия исторической преемственности, которую с некоторой осторожностью можно было бы приравнять к идее общности, хотя речь идет об общности, признающей, что подлинным ее вдохновителем является народ. Если мы считаем, что культура — это не только ее специфические проявления, но вся совокупность творческой деятельности народа во всех областях материальной и духовной жизни, то станет ясным, что вся культура принадлежит народу, ибо вся она создана народом. Отклонившись от этого критерия, мы не смогли бы решить ни одну из сложных проблем так называемого «культурного наследства», потому что отвергнуть его под тем предлогом, что существует противоречивое общество, значит отрицать конкретное существование общества и необходимость его дальнейшего развития.
История «не начинается с нуля» — это блестящая и высокомерная формула, годная только для шалостей креольского сюрреализма, но не применимая к реальному обществу. С точки зрения интересов национальной общности очевидно, что классовое разделение представляет собой один из факторов существования единого общества. Классовая борьба, какой бы острой она ни была, не разделяет общество, а создает предпосылки для его дальнейшего преобразования революционным путем. Однако пока существует капиталистическое общество, различные классы останутся связанными экономическими отношениями, для которых характерна взаимозависимая подчиненность и враждебность, и это будет сохраняться до тех пор, пока не нарушится существующее неустойчивое равновесие. Ни капитализм нельзя представить себе без его функции накопления прибавочной стоимости, ни пролетариат нельзя рассматривать вне связи с его функцией постоянного создания этой прибавочной стоимости для капиталиста, который накопляет и наращивает ее. Противоречия общества рождаются из этого необходимого экономического отношения. Следовательно, единое общество предпола110
гает существование этих противоречивых факторов, и общность культуры также нельзя представить без такого внутреннего противоречия, размещающего ее во времени и сообщающего ей живую выразительность. Этим я хочу сказать, что общность культуры, хотя и не является синонимом единства в рамках общества, разделенного на классы, предполагает, однако, относительную однородность, если рассматривать культуру как нечто цельное, направляемое действиями народа. Когда Ленин утверждает, что внутри общества, разделенного на классы, существуют две противоположные культуры, он указывает на возникновение новой духовной надстройки, которая уже предвещает новые материальные структуры и которая, хотя и возникает в противоречивом обществе, уже указывает^ на отрицание этого общества.
Во всяком случае, культура отражает противоречия, существующие в реальном обществе, однако подлинный культурный процесс всегда выражается национальнонародными элементами, двигающими историю. Если народные классы — как доказывает рассмотренный нами новый органический состав аргентинского населения — на самом деле снова возрождают нацию, то разве они должны отвергать культурное наследство под тем предлогом, что это продукт буржуазии или старых господствующих классов? Первый справедливо возникающий вопрос — это вопрос о том, является ли в действительности эта культура продуктом господствующих классов. Легко доказать, если придерживаться исторического анализа наших лучших традиций, что эта культура создается по преимуществу народом, возникает из глубины его недр и почти всегда проявляется как прямое или косвенное отражение его нужд, стоящих перед ним проблем — даже в работах, созданных типичными представителями привилегированных классов. И второе. Нужно еще разобраться, являлся ли необходимым элементом национально-народного кто-либо из представителей так называемых привилегированных классов, например из «добропорядочной» буржуазии наших городов или из мелкой буржуазии, границы которой столь неопределенны. Наконец, нужно посмотреть, не проявляется ли в этих противоречиях цельность нации, которую нельзя полностью понять, если исключить какой-
111
Либо из ее исторических компонентов L Было бы неправильно рассматривать культурные события вне законов исторического соответствия, подвергая их произвольному толкованию с позиций реакционного анахронизма или оставляя во власти неумеренных утопий. Игнорирование исторической эпохи — это наиболее абсурдная и неудачная позиция. Идет ли речь об отношении к прошлому или к будущему, в любом случае, занимая такую позицию, мы останемся вне рамок истории или будем витать в облаках благих намерений. Следовательно, я хочу сказать, что противоречивая культура предполагает стабильную общность, если рассматривать ее с точки зрения направленности национального развития.
Культурное наследство выступает, таким образом, как строгий носитель этой общности, если исходить из ее непреходящих достижений. К этому прошлому, являющемуся основой нашей национальной преемственности, необходимо подойти критически, освобождая его от корыстных искажений, выявляя подлинно народное и рассматривая в новом свете то, что так часто пытались затемнить. Такое критическое отношение не является ни разрушением, ни безнаказанным обкрадыванием во имя «борьбы против всего реакционного», что означало бы уступить значительную часть нашего прекрасного наследства реакции; оно не похоже также на действия работника магазина старья, поспешно при-
1 Касаясь «того нового», что вносили исследования Грамши в культурную жизнь Италии, Тольятти пишет: «Положение, которое нужно опровергнуть, никогда не рассматривается как простая мишень, против которой должен быть сконцентрирован огонь противоположных аргументов. Нельзя сказать, что мы имеем дело с какой- либо формой пассивной терпимости или с тенденцией к примирению противоположных принципов. Однако всегда видно понимание того, что позиция противника, когда она достойна внимания и не является игрой адвокатской ловкости, является составной частью действительности, которая намного сложнее того, что можно создать словесной аргументацией. Поэтому, чтобы раскрыть сущность различных позиций, необходимо изучить эту действительность. Таким образом, высказывания и полемика всегда должны иметь в виду объективный подход к истории, а история — это развитие и преодоление противоречий, и в это развитие включается и само мышление, которое выступает как судья, находя в нем подтверждение своей собственной ценности» (Palmiro Togliatti, Attualitá del pensiero e dell’azione di Gramsci, в «Rinascita», Roma, № 4, abril, 1957, p. 138).
112
клеивающего этикетку, чтобы придержать еще годное или отправить негодное на склады Армии спасения. Культура — это не только знание, но также и страсть, то есть любовь. И с трудом мог бы глубоко понять сущность культуры тот, кто подошел бы к ней без любви, подобно тем критикам, которые всегда принимают позу неумолимого прокурора и всегда готовы найти изъян, чтобы загубить критикуемого автора.
Первое, что надо понять, критикуя нашу общность, это то, что наша буржуазия (и южноамериканская в целом) никогда не смогла создать интеллигенцию, последовательно отстаивающую ее исторические цели и тесно связанную с обществом, «выкристаллизованную», если можно так сказать, в этом отношении. Недостатки, имевшие место в процессе формирования латиноамериканского общества, выросшего на окраинах подлинной буржуазной революции, в какой-то мере объясняют отсутствие такой кристаллизации1 у интеллигенции, кристаллизации, частично деформированной олигархическими пережитками и прежде всего их проявлениями в области культуры. Именно это объясняет, с одной .стороны, что гносеологическая ограниченность общества, разделенного на классы, растет у нас под влиянием олигархических пережитков, как свидетельствуют столь заметные недостатки системы образования, которая, будучи созданной для служения социальным интересам буржуазии, никогда не смогла развернуться полностью в силу узости ее материальной базы. С другой стороны, именно этим объясняется также и то, что хотя некоторые слои буржуазного класса могут еще временно входить в национальную общность, однако время, когда-они могли выступать как руководящая сила, уже прошло. Они не могут дать больше того, что 1 В одном из своих блестящих исследований Грамши отмечает, что в Центральной и Южной Америке в силу сохранения латифундий и узкой промышленной базы, не создавшей сложных надстроек, единственными выкристаллизовавшимися силами являются духовенство и паразитический милитаризм. «Вообще говоря, можно сказать, что в этих американских областях еще существует положение периода Kulturkampf’a... то есть положение, при котором светскому и буржуазному элементу еще не удалось достигнуть фазы подчинения светской политике современного государства клерикальных и милитаристских интересов и влияния» (Антонио Грамши, Дань истории, Госполитиздат, 1960, стр. 115).
8 Э. П. Агости ИЗ
уже дали, не отрицая самих себя. В противоречивом обществе подлинное отрицание — основа всякого подлинного утверждения — принадлежит теперь другим социальным классам. Аргентинский парадокс состоит в том, что исторические формы буржуазной цивилизации должны быть первоначально установлены пролетариатом, стоящим во главе всей нации. Однако эта буржуазная цивилизация не будет той классической формой, о которой мечтали люди нашей американской эмансипации. Благодаря участию рабочего класса это будет уже буржуазная цивилизация наполовину, это будет пролог социалистической цивилизации. Общность культуры не чужда ни этому различию, ни этой интеграции.
Традиция и обновление
В какой-то степени отсутствие кристаллизации интеллигенции приносит определенную пользу нашей культуре, ибо, по крайней мере частично, предохраняет ее от старых консервативных аспектов. Эта кристаллизация осуществляется в ненациональных рамках (если не в антинациональных), как свидетельствует случай с группой «Юг» или традиционная духовная опека, содержащаяся в приложении к газете «Ла насьон». Я абстрагируюсь от того, как они действуют в данном направлении — сознательно или нет. Верно то, что они навязывают «определенный вкус», моделируют определенный стиль, вызывают состояние постоянного отказа от национального. Для некоторых из них это происходит, может быть, в силу искренней тоски по тому, чего у нас нет. Во всяком случае, в области национального такая кристаллизация представляет собой не нацию, а лишь осколок нации, все более отделяющийся от своего народа. Может быть, некоторые из них чувствуют себя обиженными таким отделением, может быть, в тайном личном тщеславии они гордо будут считать себя непонятыми и даже искренне обиженными игнорирующей их страной. Когда аргентинские поэты говорят об одиночестве, они искренни, но их одиночество указывает на то, что они отделились от народа-нации: индивидуальная искренность не меняет сокровенную сущность этого социального явления. Если культурная преемственность может потерпеть урон из-за отсутствия однородности, то не менее верно также и то, что отсутствие устойчивой кристаллизации буржуазной интеллигенции значительно облегчает нашу национальную реконструкцию.
Было бы глупо представлять себе развитие культуры как несложный процесс, происходящий без всяких помех; это означало бы понимать его ограниченно, понимать, если хотите, как исключительно «культурное» яв-- ление, ограниченное классическими рамками интеллек- 3* 115
туальной спекуляции со всеми вытекающими из этого последствиями. При расширении сферы исследования легко заметить, что в стране есть другие области культурной деятельности, где имеются элементы, тормозящие национальное развитие.
Если вспомнить, что для Грамши духовенство и милитаризм представляли собой кристаллизации, не ставшие национальными в процессе буржуазного развития южноамериканских наций, то легко заметить, что аргентинское духовенство — единственное духовное оружие во многих глубинных районах — представляет собой консервативный фактор, способный аннулировать преимущества, вытекающие из отсутствия буржуазных кристаллизаций. Нам должно быть совершенно ясно, что духовенство, рассматриваемое объективно как консервативная кристаллизация, по существу стремится сделать шаг назад в процессе развития общества. И когда приходят в упадок классические структуры процесса обучения, оказавшиеся негодными для удовлетворения объективных потребностей общества, консервативные кристаллизации пытаются выступить снова, в перелицованной одежде, как это видно на примере Аргентинского католического университета, старой матроны, которой так и не удается закамуфлироваться при помощи косметических препаратов «свободного обучения».
Провал или неспособность либеральных порядков неоспорима, но это не означает необходимости признания противоположного, то есть величия духовенства, в качестве цементирующего фактора национального, почти решающего элемента национального единства, как утверждают некоторые теоретики воинствующего национализма. (Я не буду рассматривать здесь армию в качестве интегрирующей кристаллизации. В стране, несомненно, существовала антимилитаристская тенденция, потому что замкнутая военная каста была всегда явно непопулярна. Подобно тому как нелеп «пожиратель монахов», нелеп и «шпагоглотатель», хотя мы не можем согласиться с теперешними обвинениями, направленными против антимилитаризма народа. У народа было достаточно оснований быть враждебным к милитаризму, потому что военная кристаллизация, играющая явно реакционную роль, всегда была препятст116
вием на пути его независимого развития. Пусть не ссылаются на некоторых выдающихся военных, обладающих высокими гражданскими и национальными чувствами: на одного Москони у нас более чем достаточно Урибуру и Хусто. Этим мы не отрицаем, что значительные военные круги, хотя бы и из профессиональных побуждений, объективно занимают прогрессивные позиции по отношению к судьбе нации. Упадок общества, раздираемого противоречиями, и последствия кризиса, охватившего общество, относятся и к вооруженным силам, являющимся орудием политической власти.)
Теперь, естественно, мы уже можем понять значение традиции как необходимой исторической основы народа, а не как неизменного признака застоя. «Все, что не является традицией, есть плагиат»,— писал как-то историк-националист этим он хотел свести нацию к имманентным культурным чертам аргентинского бытия, образцами которого являлись бы католическая религия и почти феодальный испанизм. Если, как мы пытаемся доказать, аргентинское бытие представляет собой эффективную интеграцию этнических элементов, которые на протяжении истории влияли на его изменения, то было бы неправильным рассматривать традицию как нескончаемое повторение одних и тех же фольклорных элементов. В таком случае любое нововведение выступило бы как плагиат, и непрерывными плагиатами, застывшими моментами процесса эмансипации1 2 были бы и стремление Ривадавиа построить буржуазное общество, и демократический национализм Эчеверриа, и передовые педагогические взгляды Сармиенто, и предста1 «В жизни народов все, что не является традицией, есть плагиат, и на плагиат не опирается ничто, кроме планированного» (Vicente Sierra, Introducción a la historia argentina, в «Cuadernos del Centro de Estudios Argentinos», Buenos Aires, № 1, 1957, p. 49).
2 В дебатах 1946 года об отмене светского обучения депутат Диас де Вивар сказал следующее: «У нас было это единое верование, поэтому мы были готовы стать великой страной. Потенциально мы уже были ею, и, может быть, нам удалось бы достичь блестящего будущего, если бы мы не оказались жертвами громадной исторической неудачи». Этой исторической неудачей была, по его мнению, Майская революция и все, что имело место после нее, даже закон 1420 года, явившийся причиной данных дебатов. См. «Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación», 1946, p. 8495.
117
вительная форма правления, и организация рабочего движения, и появление социалистических идей...
Идея традиции должна быть принята в качестве необходимой культурной преемственности народа, без которой он в уродливом сиротстве оказался бы вне истории. Однако эта преемственность активна, а не пассивна. Она является непрерывным органическим развитием, без которого народу угрожала бы перспектива оказаться вне конкретной истории своего реального времени, почти окаменевшим. Таким образом, нам еще не известно, должна ли традиция состоять в постоянном возврате к индейскому прошлому, как если бы факт . нашей эмансипации означал стремление к восстановлению старой американской цивилизации в том виде, как она выступает на многих страницах Рикардо Рохаса или как описана, например, в книге «Национальная традиция» Хоакина В. Гонсалеса, или же указанная традиция представляет собой продолжение испанского момента со всеми связанными с этим последствиями, как говорится в книгах некоторых писателей-националистов.
Если понимать традицию как активную и динамическую преемственность, то это означает, что реконкиста необходимого национального духа культуры означает в свою очередь признание преемственности народа как субъекта своей собственной истории. Теперь мы можем признать, что неразвитость или вообще отсутствие кристаллизации в аргентинской культуре является в некотором роде преимуществом. Ибо если верно, что культура в целом принадлежит всему народу, и если верно, что критика требует рассматривать события прошлого в их конкретном проявлении, а не на основе теоретических абстракций, то не менее верно также, что обновление культуры требует не довольствоваться ролью простых продолжателей культурного наследства (или традиции, если хотите).
Во всяком случае, мы должны быть активными продолжателями, а это требует признания нового значения культуры, при котором преемственность есть нечто большее, чем непрерывная меланхолическая разработка старых тем. Практически новое качество есть преодоление старого. Именно такой в конечном счете была всякая преобразующая деятельность во все критические 118
моменты исторического процесса; именно такой была деятельность Эчеверриа и такой должна быть наша собственная деятельность, даже если некоторые рьяные традиционалисты станут называть нас за это отреченными. Группа «Юг» уходит от истории в силу притворной или искренней недооценки бедности традиционалистской страны; традиционалисты же в свою очередь убегают от истории потому, что пренебрегают возможностями роста реальной страны.
В конфликте между преемственностью и обновлением возможно, что многие из так называемых универсалистов поддались снобистскому пониманию нового, которое принималось лишь из-за предполагаемого новшества, при этом не обращалось внимания на то, что <оно, отрицая иногда (или игнорируя) национальное, служило 'космополитизму, предназначенному содействовать империалистическому господству над тем, что является для них в нашей стране более ощутимым и весомым, чем пренебрежительно рассматриваемые ими продукты нашей культуры. В этом отношении националистическая критика добилась некоторых неоспоримых результатов. Это касается прежде всего критики, осуществляемой элементами, отколовшимися от старых групп литературного авангарда. Но эта критика, иногда столь меткая при раскрытии уловок, к которым прибегают для защиты кажущихся нововведений, пытается вместе с тем с помощью традиций закрыть доступ подлинному и реальному обновлению, являющемуся уже не литературной фикцией, а конкретным фактом объективного развития общества. Обновление имеет в этом случае уже социальный, а не литературный характер. Оно доказано новым установившимся в мире порядком, основой которого является социалистическая экономика. У нас оно выступает в виде новых структурных изменений в соотношении классовых сил, в которых явственно проявляется решающая самостоятельная деятельность пролетариата. Именно в этих условиях написаны слова: «Все, что не является традицией, есть плагиат», призывающие нас к полуварварской неподвижности и изолированности.
, Если принять эту неподвижность, усиливаемую отвращением к «плагиаторству», то мы окажемся, по крайней мере в теории, лишенными возможности пре119
одолеть наше сегодняшнее состояние и вынужденными оставаться в прошлом. Культурная тенденция — это не только то, что можно прочитать, написать, прослушать, нарисовать, то есть не только инструментальные ценности культуры, но и те юридические и моральные элементы, которые предоставляют ей долговечность и обеспечивают ее преемственность в социальной среде. Если культура всегда означает определенную направленность общественного мнения и если это мнение, как правило, направляется господствующими классами, то очевидно также, что эти же самые группы продлевают свое господство (или пытаются его продлить) самыми тонкими и внешне менее грубыми методами идеологической гегемонии. Указанная гегемония осуществлялась в аргентинском обществе (как, между прочим, и во всех других) посредством «права» и «обычаев»: с помощью права господствующая группа стремится создать однородное общество, с помощью обычаев, представляющих собой форму коллективной морали, она стремится усилить социальный конформизм по отношению к таким порядкам, которые школа и другие инструменты поддерживают с помощью рутины и лозунга «как было, так и будет».
Аргентинская олигархия благодаря высокому пониманию своих интересов сумела приспособить комбинированный фактор права и обычаев так, что любое их нарушение выдавалось за попытку ввести обычай, чуждый национальному духу. Теперь нам говорят о плагиаторстве, и мы справедливо можем считать, что этим проповедуется застой (или возврат к прошлому) в такое время, когда объективная динамика нашего общества требует под угрозой гибели изменения изжившего себя положения. Ибо, и это тоже с полным правом можно сказать, нельзя представить себе культуру, изолированную от перемен, происходящих в обществе. Современная ломка юридических традиционных норм страны (и ее запутанных обычаев, как говорят некоторые серьезные передовицы) требует выявления внешних и вместе с тем самых глубоких признаков так называемого культурного кризиса, ибо это покажет, до какой степени старый механизм власти оказывается непригодным для организации прогрессивного общественного мнения.
120
Таким образом, традиция может служить лишь в качестве элемента национальной преемственности, но не выступает в качестве пут. Эта традиция, как многие ее понимают, означает возврат к формам колониального католицизма, который должен был бы стать исторической основой нашего народа. Если оставить в стороне легко доказуемую несостоятельность подобных утверждений, смысл их совершенно ясен. Возврат к старой религиозной идеологии, которую народ уже не чувствует чем-то близким ему, может служить средством, отвлекающим массы от подлинных реальных проблем и мешающим видеть материальные причины отстранения их от культуры. В мире что-то гибнет, и, следовательно, что-то гибнет в нашем собственном креольском обществе, в мире что-то рождается с такой неодолимой силой, что — и это вполне можно сказать — различными путями и с разной силой направляет мир к социализму. Теперь, пугая плагиаторством, нас пытаются связать с умирающим, как будто мы отставший отряд Хуаны ла Лока, странствующий по дорогам родины в поисках некрологической мизантропии. История не нова: именно так в свое время Хуан Агустин Гарсиа презирал стиль Монтеагудо и других якобинцев, тоскуя по доброй тягучей и торжественной прозе колониальных чиновников...1
Мы знаем, что культурное наследство — это основа всякой общности культуры, даже при том гносеологическом ограничении, которое ставится этой общности разделением общества на классы. Одинаково нелепо пытаться неизменно придерживаться традиционных норм, как и всецело отказываться от них, как будто новое общество возникает ex ovo в результате неизвестных таинственных причин. Следовательно, благоразумно требовать для аргентинского народа всего полезного и прекрасного, что создавалось на земле аргентинцев, 1 Гарсиа шел еще дальше. Тоскуя по доброму колониальному стилю, он пишет: «Я не знаю, куда бы мы отнесли Сантоса Вега и Мартина Фьерро, но, по всей вероятности, их идеал красоты не был бы самым подходящим для утешения и развлечения наших душ» (Juan Agustín García, Nuestra incultura, ed. Claridad, Buenos Aires, s/f, p. 26—27). Заметьте, что «традиция» может завести нас очень далеко и даже заставить нас забыть, чдо наше испанское происхождение — это еще не все.
121
потому что в противоречиях этого наследства, подвергнутого критике, но не отвергнутого, лежит цельность национального процесса, который нельзя понять, если его ужасно (если не бессмысленно) искалечить. Однако составные элементы национального не даются раз и навсегда, в специфических условиях Аргентины они включают в себя формы того самого предполагаемого плагиата, который так презираем приверженцами традиции. Иммигранты принесли нам ряд последовательных плагиатов, которые являются необратимыми процессами формирования аргентинской нации. Только отказавшись от значительной части живой современной Аргентины, можно прийти к идее о двух Аргентинах: подлинной, или индейской, северной, и фальсифицированной, или гринговской, южной.
Традиция и обновление, как мы уже показали, не противоположные, а совпадающие моменты исторического процесса, потому что культурная преемственность означает чередование разрывов, происходящих каждый раз, когда конфликт между старым и новым (в социальном понимании, а не как смена литературных или художественных школ) достигает критической точки. Интересующее нас новшество есть то, что возникает из новых социальных интересов, выраженных в новых исторических условиях новыми классами, стремящимися к гегемонии. Когда процесс достигает такой точки (это, если не ошибаюсь, и имеет место в Аргентине), новые творцы культуры, чтобы действительно стать таковыми, уже не могут быть простыми продолжателями традиции, если не хотят застыть и играть консервативную роль в процессе культурного развития. Таким образом, можно легко объяснить непокорный жест, которым творцы новой культуры стремятся решительно подчеркнуть свою абсолютную отчужденность от старых форм и старого духа. Но если это допустимо в пылу полемики, то это никак нельзя оправдать в условиях наших современных требований, иначе мы можем оторваться от конкретной национальной среды, в которой мы вращаемся, любим, страдаем и наслаждаемся. В момент избрания своего пути славное поколение Эчеверриа сумело спокойно взвесить все предшествующие национальные черты, чтобы прийти к полезным обобщениям. И в критический момент самой значительной 122
революции в истории человечества Ленин сумел применить принципы исторической преемственности, для которой руки пролетариата оказались самыми надежными, против бесноватых пролеткультовцев, желавших все разрушить, все сжечь, все отвергнуть от имени рабочего класса, на который они смотрели бредовым взором мелкого буржуа. Многие из этих сумасшедших, стоящих на позициях'пролеткульта, сами того не зная, как мосье Журден не знал, что он пишет прозой, к сожалению, живут среди нас. Неумолимые палачи национальной традиции спокойно могут пожать руку тем, кто именем этой традиции хочет запретить нам всякое обновление.
Культура элит или культура народа
Если национальная общность в состоянии выдержать разрушающие нападки империализма, то это вовсе не означает, что тем самым она автоматически содержит в себе ключи всевозможных решений национальных проблем. Империализм действительно стремится ликвидировать специфическое национальное содержание культуры каждого народа для того, чтобы затем навязать им свои идеи, выдаваемые за универсальные; однако пока будет сохраняться разделение национального общества на различные классы, оно не сможет последовательно и до конца развернуть свои силы. Общество, где господствуют социальные противоречия, предполагает различное понимание «истины» в соответствии с тем, какие социальные силы действуют в данный момент; очевидно, что капиталистическое общество не только закрывает доступ к культуре широким народным массам, но и ограничивает гносеологические возможности понимания социальной действительности. Капиталистическое общество само воздвигает перед собой серьезные препятствия для собственного объяснения, особенно отчетливо это проявляется в так называемых социальных науках. Даже если это общество способно дать описание явлений (причем каждый раз все менее точно), его классовая природа не позволяет ему прийти к тем окончательным решениям, которые означают его собственное отрицание. Эти гносеологические ограничения познания действительности явственно выступают в нашем противоречивом национальном обществе, которому угрожает и которое душит империалистическое вмешательство, потому что не всегда описание явления национального отрицания приводит к пониманию того, что как таковое оно неотделимо от самого существования капитализма. Расцвет национального общества, которое империализм стремится уничтожить для того, чтобы сохранить статус зависимых стран, достигает своей
¡24
Полной силы, кйк показывает современный опыт, при социализме1. Следовательно, этим признается, что отрицание империализма ведет в конечном счете к упразднению капитализма, являющегося, как неопровержимо доказал В. И. Ленин, его основой и сущностью.
В процессе отыскания путей возможных решений явление культурной отсталости широких масс обычно выступает в глазах наблюдателя как первичный факт, а не как следствие. Факты настолько могущественны и подавляющи в своем проявлении, что сознание оказывается иногда неспособным уловить логический порядок развития событий и увидеть определяющие причины. Тогда думают о культуре масс как о выходе из создавшегося положения, что вносит в этот вопрос еще большую путаницу. Нет также недостатка в людях доброй воли, которые еще более усложняют вещи, с самыми лучшими намерениями говоря о высшей культуре, предназначенной для элит, и о народной культуре, которая была бы чем-то вроде разбавленного вина — напитка, не являющегося уже ни вином, ни водой. Если понимать культуру как синтезирующий процесс, выражающий достигнутый обществом уровень развития, то это определение могло бы иметь в виду просто различное техническое размещение граждан в области культурной деятельности, а не собственно культуру. Действительно, к общей гносеологической ограниченности, вытекающей из разделения общества на классы, при капитализме добавляется физическая ограниченность, вызываемая различием экономического положения. Эта ограничен1 Мы в этой работе не ставим задачу обстоятельно показывать, как социализм создает лучшие условия для развития национальной действительности; поэтому ограничимся лишь коротким замечанием, что, устранив классовые противоречия, социализм фактически аннулирует гносеологическую ограниченность, которую порождают эти противоречия в обществе. Опыт многих «окраинных» народов Советского Союза, до вчерашнего дня не имевших алфавита и располагающих сегодня собственной литературой, показывает природу развития культуры, которая, как говорилось, является национальной по форме и социалистической по содержанию, что представляет собой полное и действительное решение национальной проблемы. Это не теоретический вопрос, ибо все это уже осуществлено на практике. Читатель, любящий точность, может найти конкретнее объяснения, познакомившись с данным вопросом на частном примере в книге Rodolfo Ghioldi, Usbekistán, el espejo, ed. Fundamentos, Buenos Aires, 1956.
125 •
ность может предполагать различные степени обеспечения доступа людей к культуре в соответствии с уровнем подготовки, на котором люди уже находятся, но она ни в коей мере не означает существования культуры, проявляющейся в особо утонченных формах и предназначенной для интеллектуальной элиты, и более грубой культуры, предназначенной для бедных людей, которые якобы не в состоянии подняться до таких высот.
Оставив в стороне искренность этих явно ошибочных утверждений, я даже допускаю, как уже говорил, что некоторые из возможных элит чувствуют себя у нас тревожно одинокими в равнодушной стране. Допускаю также, что не все то, что распространяется в массовом порядке, является народным, если под этим понимать направление национального и социального роста народа. Однако роль элит, понимаемых как интеллектуальное ядро, которое своевременно создает каждый класс в период своего подъема, чтобы превратить свою власть в идеологическую гегемонию, всегда состоит в создании активных элементов общенациональной культуры (хотя бы в рамках, допускаемых гносеологической ограниченностью самого общества).
В заметках Альфреда де Мюссе о Салоне 1936 года я нашел любопытную формулировку: «Думаю, что произведение искусства, каково бы оно ни было, живет благодаря двум условиям: первое — нравиться массе, второе — нравиться знатокам». Национальная культура действенна, когда выполняет оба эти условия; но в свою очередь предполагаемый отрыв культуры меньшинства от культуры масс означает отрицание ее национального содержания. Это отрицание усиливается, как это ни парадоксально, когда начинают говорить о культуре для масс \ смешивая при этом способы ее передачи с 1 Эрнандес Арреги, с которым у меня столько разногласий и столько общих точек зрения, справедливо писал: «Когда говорится о национальной литературе, то речь идет не о проповедовании поэзии для масс. Большая часть населения по причине своего низкого экономического уровня жизни, как и в большинстве стран мира, не читает. Вопрос состоит в том, чтобы писатель знал страну и понимал, что народ — это инструмент исторического действия, вместо того чтобы замыкаться в легкомысленном и унизительном пессимизме» (J. J. Hernández Arregui, Imperialismo у cultura, ed. Amerindia, Buenos Aires, 1957, p. 155). То, что здесь говорится о литературе, может быть перенесено на культуру вообще.
126
Самой культурой. Каковы бы ни были цели (а у меня нет причин сомневаться в их хороших намерениях), этим без всякой нужды оскорбляются народ и культура: народ, потому что его принижают, считают способным усваивать только разжеванную пищу; культура, потому что в принципе допускается, что большинство людей должно получить ее гомеопатически. Формула Мюссе направляет нас по правильному пути. Я думаю, что эту формулу можно дополнить, если сказать, что знатоки питаются массой или что народная культура (то есть то, что действительно исходит от народа, от его исторической преемственности) также исторически питает так называемую высшую культуру, принимая это прилагательное как определение для более развитых и более тонких форм, но не как определитель моральных или эстетических качеств.
Я хочу сказать, что патерналистский оттенок, содержащийся в фразе «культура для масс», представляет собой частный вариант конфликта между формой и содержанием культуры. Когда университетская реформа предположила, что «продвижение» культуры к рабочим профсоюзам — это способ исправления существующих в обществе недостаточных форм ее распространения, она, без сомнения, проявила своеобразный патерналистский подход, а также показала понимание возникновения новой исторической необходимости в этом же самом обществе. Следовательно, нельзя забывать, что сегодняшние изменения общественного сознания — предугаданные в свое время университетской реформой, несмотря на ограниченность, которую можно было обнаружить в ней,— сами по себе представляют культурное явление, обусловливающее значительные требования в культурной политике аргентинцев. Массы не смогут полностью овладеть культурой, пока не изменится характер общества, но из этого не вытекает, что можно быть индифферентным к положению школы. Ее расширение важно с практической точки зрения, так как позволяет фактически уменьшить расстояние между элитами и массами.
Однако культура как соответствующее выражение общественных отношений порождает необходимость объединяющего процесса, отвергающего дихотомию между элитами и массами. Во всяком случае, то новое, 127
что вводит в историю философии марксизм, состоит именно в уничтожении этого разграничения, в превращении теории в культуру масс, действующих объединение, как удачно выразился Грамши1. Это означает, что процесс преобразования культуры всегда опирается на относительное единство содержания, которое в национальных рамках выражается связью между элитами и массами. Однако отсюда не следует, что в обществе, разделенном на классы, исчезают противоречия в области культуры; очевидно, что в момент исторического подъема эти противоречия приглушаются гегемонией господствующего класса, который, хотя бы на время, становится руководящей силой, выражающей интересы нации.
В этом смысле и надо оценивать роль народных масс, выступающих как объединенная сила, интересы которых могут совпадать с интересами всей нации. В условиях современного аргентинского общества эта роль народных масс ведет к подлинной демократической революции, в которой национальные интересы совпадают с интересами новых поднимающихся классов. Было бы иллюзорно думать, что у нас возможно радикальное развитие культуры без устранения тех социальных внутренних и внешних препятствий, которые этому развитию мешают. Отсюда следует, что пока образование будет направлено только на количественное изменение границ элит (парадоксально превращенных в массовые элиты), это останется лишь попыткой создать новую элиту, новую прослойку интеллигентов, способных выразить идеологическую гегемонию новых поднимающихся классов. Это противоречие, национальную основу которого мы пытались показать на предыдущих страницах, представляет собой самую характерную черту сегодняшней аргентинской действительности. В то время, когда старые мандарины (способности которых в области чистого творчества не всегда можно оспари-
1 «...характер философии практики состоит именно в том, что она является концепцией масс, культурой масс, «масс, действующих объединенно»; это значит, что у них есть нормы поведения не только как универсальные идеи, но и «обобщенные» в социальной действительности» (Antonio G г am se i, II materialismo storico e la filosofía de Benedetto Groce, ed. Einandi, Turino, 1948, p. 232).
128
вать) стремятся сохранить себя как элиту, отчужденную от народа-нации, новые элиты, возникающие иногда неорганизованно, презираются из-за того беспорядочного шума, который они производят при своем появлении.
Путь народной культуры часто смешивают с некой лженародностью, лишенной видимых связей с подлинной национальной действительностью. Исходя из социологического критерия, сайнете, как мы уже показали, могли быть определенным проявлением демографического элемента в период формирования аргентинской нации, но те сторонники лженародности, которые захотели видеть в подражании им и в их исключительной живучести выражение подлинной культуры, стремятся лишь сохранить старые формы подчинения народа под предлогом уважения его подлинного вкуса. Иногда эта тенденция отвергается от имени провинциального национализма, хотя это не препятствует некоторым писателям-националистам посвящать свое время восстановлению жаргона — занятию, подобному расшифровке кроссвордов. Археология имеет свои варианты, но нет никакого сомнения, что гибель упомянутых театральных форм определяется изменением исторических условий, вызвавших их к жизни: абстрактно рассуждать о них — так же глупо, как думать, что эти театральные формы— единственное, что понятно и может нравиться народу или что свидетельствует о деградации ненационального населения Буэнос-Айреса.
Думаю, что Эрнандес Арреги неправ, подчеркивая то, что угнетает иностранную иммиграцию, то есть когда приписывает ей часть вины за интеллектуальную деформацию единственного в своем роде порта Буэнос- Айрес. Согласиться с этой версией Арреги означало бы признать, что жаргон есть продукт этой иммиграции, тогда как на самом деле он почти всегда происходит из среды преступного мира. Любопытно вместе с тем, что в жаргоне можно найти некоторые элементы фольклора, и это дает повод приписывать народу то, что на самом деле к нему отношения не имеет. Однако в традиционалистской точке зрения «все направлено на то, чтобы очернить жителей Буэнос-Айреса, приписывая им все пороки олигархии, строящей в этом городе свои дворцы; в этой связи становится признаком хо9 Э. П. Агости
129
рошего тона утверждать, что танго выражает состояние безразличия (если не соглашательство и сообщничество) жителя Буэнос-Айреса перед организованным грабежом провинции.
Как-то я подробно говорил «о форме выражения аргентинцев» 1 для того, чтобы доказать, что эта новая манера говорить не представляет собой более или менее видоизмененного жаргона, а образуется из тех новых синтаксических и даже семантических форм, которые вносятся в наш язык иммиграционным элементом; было бы, однако, несправедливо рассматривать эту манеру говорить как признак изолированности или безразличия по отношению к национальному со стороны Буэнос-Айреса. Вместе с тем верно и то, что влияние империализма на культурное развитие городов, осуществляемое главным образом через кино, театр и радиовещание, содействовало видоизменению устной речи в провинции, внося в эту речь некоторые варваризмы, что является, однако, неизбежным следствием характерного для капиталистической цивилизации разделения между городом и деревней.
Как бы то ни было, жаргон не характерен для жителей Буэнос-Айреса. На нем говорят отдельные группы населения, чаще всего преступные элементы, и если какие-то слова жаргона приобретают права гражданства, то тем самым они сразу же в силу той мудрости, с которой народ распоряжается языковым материалом, теряют свой жаргонный характер и становятся составной частью языка. Жаргон, археологическим восстановлением которого заняты некоторые, чужд простому жителю Буэнос-Айреса, нуждающемуся для его понимания в переводчиках. Ослаблению распространения жаргона, никогда не употреблявшегося устойчивым большинством жителей Буэнос-Айреса, способствовали уже изученные нами изменения в национальном составе аргентинского населения, а также новый характер иммиграции, осевшей в этом городе-порту. Прежние потоки иммиграции из-за океана сменились волнами населения внутренних районов страны до такой степени, что город, хваставшийся ранее своим «белым ли-
1 См. Héctor Р. Agosti, Cuadernos de bitácora, ed. Lautaro, Buenos Aires, 1949.
130
Цом», Начал темнеть благодаря наплыву «чериогСР ловых».
Нет сомнения, что этот объективный фактор определяет некоторые особенности народной культуры Буэнос-Айреса. Он сказывается прежде всего в народных мелодиях, которые из глубины страны быстро перебираются (иногда фальсифицированные) в железобетонные строения большого города. Тем не менее было бы неправильно думать, что такое фольклорное проникновение, идущее из глубины страны, означает национальную реконкисту Буэнос-Айреса, как утверждают некоторые националистические писатели. Если исходить из этого критерия, то оказывается, что бедное танго, подвергнутое всякого рода нападкам и рассматриваемое как выражение ненационального или даже антинационального, является типичным продуктом города, повернувшегося спиной к стране, или проявлением культуры жителя Буэнос-Айреса, человека, формировавшегося в одиночестве, ибо он чувствует себя глубоко одиноким и маленьким среди иностранщины. Эрнандес Арреги пишет: «Ненациональный характер танго, которое в свое время было самой популярной музыкой Буэнос- Айреса, не чужд изолированности столичного города от остальной части страны... Танго рождалось в конце прошлого века, когда иностранное население по количеству превосходило туземное. Жизнь среди иностранцев, которые не говорят или говорят очень мало, погруженные в свои собственные проблемы, создает атмосферу, мало содействующую радости, а также способствует возникновению в этой среде сознания отчужденности... Танго — это печальная сторона космополитизма. Поэтому оно лишено национальных корней. Это всецело местное явление, результат перемещения распадающихся старых социальных слоев и их превращения в пролетариев» !.
Данный тезис может показаться убедительным, тем более что его, как кажется на первый взгляд, подтверждает выдуманное утверждение о том, что танго приходит в упадок. Согласно цитированному нами очеркисту, уклон в сторону народной музыки происходит в силу 1J. J. Hernández Arregui, р. 129—131.
Imperialismo у cultura,
9*
131
Тех национальных чувств, которые она возбуждает и которые дремали у портовых жителей. Оказывается, однако, что танго вытесняется (или ¡находится под угрозой вытеснения) не возрождением местных мотивов, а космополитическим нашествием «roks» и других экстравагантностей, пропагандируемых такими орудиями империализма, как сеть радиостанций, кинотеатров и фонографической промышленности. Касаясь проблемы национальной культуры, было бы столь же абсурдно отрицать существование определенных традиций, как и сводить их к тому, что принято называть местной музыкой, ибо этим разрывается целостность национальной идиосинкразии, которая, несмотря на некоторые утверждения морального характера, в силу объективной необходимости нашего роста подчиняется определенным формам.
Задавленное националистическими (но не национальными) нападками, танго представляет собой постоянный фактор нашего конкретного развития. В его защиту выступает Портогало в своих проникновенных стихах:
Ты, в бараках рожденный злой гений, Но как грустно, когда тебя нет! Ты сквозь крови темное биенье Излучаешь грез прекрасный свет.
Стихи защищают его от полупреступного жаргона нетру- дящихся слоев.
Не фрайер, не держатель я малины, Которого Вакарецца рисовал С пробором бродяг картинным И плевком сквозь зубов оскал
Я — Хуан Танго в своих грезах, В своей работе и любви. Один был бы я навозом, Но я — народ вместе с ним! 1
Если допустить, что танго является составной частью нашей национальной культуры, то его осуждение привело бы к зачеркиванию части культурного наследства 1 José Portogalo, Letra para Juan Tango, ed. La Esquina, Buenos Aires, p. 25, 50—51.
132
ради критического каннибализма. Это была бы исключительно антиисторическая, чудовищная хирургическая операция, то же самое, что и зачеркивания части нашей сложной и противоречивой социальной действительности. Таким образом, я рассматриваю танго как один из составных элементов национального фольклора. Поэтому было бы неправильно рассматривать как знак нашей неполноценности ту прилипчивую популярность, которую получило танго за пределами наших границ, где его считают выражением всего аргентинского. Однако нельзя также допустить, чтобы жаргон, уже ставший анахроническим, считали выражением народного: это увлекло бы нас в область надуманной непонятной археологии, которая смешала бы народ с более или менее распространенными слоями люмпен-пролетариата.
Отталкивающие формы лженародного, равно как и бахвальный аристократизм, враждебны народу, я бы даже сказал, что в области культуры первые хуже и вызывают тревогу, потому что аристократы просто игнорируют или презирают народ, тогда как те, кто подделывается под народность, обкрадывают его чувства, пачкают его радость и спекулируют предполагаемой культурной ограниченностью народа, которая по крайней мере является лишь результатом обкрадывания и отстранения народа от культуры, осуществляемых господствующими классами на протяжении истории.
От пассивности к активности культуры
Напрасно говорить о культурном обновлении, пока данные окружающей действительности в результате гносеологической органиченности, существующей в классовом обществе, регистрируются лишь пассивно и воспринимаются почти механически. Правда, даже живя в этом противоречивом обществе, человек по-разному относится к окружающему его пейзажу в соответствии с теми историческими условиями, в которых проходит его деятельность. Для нас и для жителя Буэнос-Айреса 1880 года пейзаж этого города не одинаков, не аналогичны пампа Сармиенто и пампа Гуиральдес, ни тем более та пампа, которую мы можем пересечь сегодня.-Природное, то, что в некоторых схемах рассматривается как внутренний и неизменный фон национального бытия, движется, видоизменяется в своем внешнем проявлении, ибо оно является не только естественным, но и человеческим пейзажем. По мере того как человечество участвует в пейзаже, труд, то есть социальная практика человека, включается в него как гносеологическое измерение. Однако в общих рамках исторического процесса человек оказывается относительно пассивным регистратором до тех пор, пока не наступают большие потрясения, затрагивающие основы общества.
О новой культуре можно говорить только тогда, когда она действительно становится основой деятельности масс. Поэтому можно также утверждать, не боясь ошибиться, что только с исчезновением разделения общества на классы можно действительно покончить с существенными различиями, отделяющими умственный труд от тяжелого физического труда.
Возникающий в результате разделения труда ограниченный и неполноценный человек — одна из уродливых черт капиталистического общества. Капитализму присуще разделение между умственным и физическим ¡34
трудом, то есть различие между руководящими интеллигентами, организующими производственную деятельность, и работниками физического труда, осуществляющими эту деятельность. В то время как это обстоятельство ведет к одностороннему развитию человека, социалистическая педагогика в противоположность капиталистической направлена на развитие черт цельного человека, содействует разностороннему развитию всех человеческих способностей. Но такая педагогика в свою очередь неразрывно связана с существенными изменениями в характере самого общества, начиная с ликвидации капиталистического строя.
У классиков марксизма легко найти некоторые черты такой педагогики. Например, Карл Маркс в принципах Роберта Оуэна видит «зародыш воспитания эпохи будущего, когда для всех детей свыше известного возраста производительный труд будет соединяться с обучением и гимнастикой не только как одно из средств для увеличения общественного производства, но и как единственное средство для производства всесторонне развитых людей»1. Но далее Маркс подчеркивает, что если фабричному законодательству удалось с трудом вырвать у капитала несколько крох для целей элементарного обучения в сочетании с производственной деятельностью, то «не подлежит никакому сомнению, что неизбежное завоевание политической власти рабочим классом завоюет надлежащее место в школах рабочих и для технологического обучения, как теоретического, так и практического»* 2. Еще более определенно говорит об этом Энгельс, когда пишет, что «должно исчезнуть старое разделение труда», оно должно быть заменено таким общественным строем, в котором «производительный труд, вместо того чтобы быть средством порабощения людей, стал бы средством их освобождения, предоставляя каждому возможность развивать во всех направлениях и действенно проявлять все свои способности, как физические, так и духовные,—где, следовательно, производительный труд из тяжелого бремени превратится в наслаждение»3. И чтобы защитить себя 'К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 495,
2 Там же, стр. 499.
3 Там же, т. 20, стр. 305.
}35
от всевозможных обвинений в фантазерстве, сам Энгельс напоминает о том, что это требование является далеко не простым «благочестивым пожеланием» при условии изменения характера процесса производства. Ибо само развитие капиталистической промышленности ликвидирует как неподходящие многие формы старого разделения труда. «При современном развитии производительных сил достаточно уже того увеличения производства, которое будет вызвано самим фактом обобществления производительных сил, достаточно одного устранения проистекающих из капиталистического способа производства затруднений и помех, расточения продуктов и средств производства, чтобы при всеобщем участии в труде рабочее время каждого было доведено до незначительных, по нынешним представлениям, размеров» L Ссылки можно было бы приумножить1 2, и, хотя ничто не заставляет нас рассматривать их как неизменные рецепты социалистической педагогики, истинно то, что все они говорят о необходимости политехнического образования как средства устранения «профессионального идиотизма»3.
Через 70 с лишним лет после произнесения памятных слов Энгельса результаты культурной революции в первом в мире социалистическом государстве показали, как ломка рутины и новый производственный ритм стали возможными благодаря тому, что значительные группы трудящихся поднялись с помощью исключительного развития образования до технического уровня специалистов и инженеров. Политехническое образование получает развитие и в педагогической системе социалистических стран, ибо только на путях подлинной политехнизации образования человек освободится от «профессионального идиотизма», что возможно лишь 1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 305.
2 У классиков марксизма высказывания на эту тему читатель может найти в «Нищете философии» и «Критике Готской программы» Маркса, в «Принципах коммунизма» Энгельса. Довольно остро также ставит этот вопрос Анибал Понсе в работе «Humanismo burgués у humanismo proletario: De Erasmo a Romain Rolland», cap. IV.
3 «Разделение труда внутри современного общества характеризуется тем, что оно порождает специальности, обособленные профессии, а вместе с ним профессиональный идиотизм» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 159).
136
в новых условиях, которые создаются в социалистическом обществе. Именно социализм осуществляет наделе развитие физических и духовных способностей всех членов социалистического общества, в котором люди становятся активными участниками хозяйственной, культурной и политической жизни страны, не будучи, таким образом, привязанными к одной только профессии в силу существующего разделения труда L Легко понять, что речь идет не о полном исчезновении в будущем всяких постоянных профессий. Здесь просто имеется в виду отмирание существенных различий между умственным и физическим трудом1 2, необходимость цельного, гармонически развитого человека, способного быть активным 1 Было бы неправильно думать, что такого серьезного разностороннего развития членов общества можно добиться без значительных изменений в положении с самим трудом. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6 часов. Это необходимо, чтобы члены общества имели достаточно свободного времени для получения всестороннего образования. Для этого нужно, далее, ввести обязательное политехническое обучение, необходимое, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной лишь профессии. Для этого нужно, затем, коренным образом улучшить жилищные условия и значительно поднять реальную заработную плату рабочих и служащих путем прямого повышения денежной заработной платы и особенно путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления. Только выполнив все эти предварительные условия, можно будет рассчитывать, что труд из тяжелого бремени превратится в наслаждение.
2 Существенное различие между физическим и умственным трудом в смысле разрыва в культурно-техническом уровне, безусловно, исчезнет. Но какие-то несущественные различия все же сохранятся хотя бы потому, что условия работы тех или иных работников не одинаковы. Вопрос о соотношении между умственным и физическим трудом уже не является в социалистическом обществе предметом чисто теоретического спора. Это в известной мере вопрос практики социалистической действительности, ее воспитательной системы.
Н. С. Хрущев в 1958 году в своей речи на XIII съезде ВЛКСМ говорил о реорганизации советской школы. Цель этой реорганизации состоит в том, чтобы все трудящиеся получили среднее образование и чтобы их интеллектуальная подготовка была связана с физическим трудом на производстве. Это — революционный принцип преобразования педагогической системы, основанной на труде (см. Н. С. Хрущев, Воспитывать активных и сознательных строителей коммунистического общества. Речь на XIII съезде ВЛКСМ 18 апреля 1958 года, М., 1958). В обсуждении, предшествовавшем XXI съезду КПСС, и в его резолюциях эти принципы включены в план преобразования социалистической школы.
137
элементом общества и преодолеть пассивную слабость, на которую обрекает людей культура антагонистического общества.
Но в антагонистическом обществе также можно найти признаки развития, ведущие к его демократизации. Хотя верно, что глубокое развитие культуры не может быть осуществлено, пока не будут ликвидированы исторические преграды, воздвигаемые в антагонистическом обществе, однако эта основная истина не сможет скрыть частных истин и не заставит нас провозгласить нигилистический лозунг — или все, или ничего.
Таким образом, можно сказать, что распространение школьного образования представляет собой демократизацию процесса воспитания, расширение контингента обучаемых; это именно то, что, выражаясь несколько вольно, называют «социализацией» культуры, имея в виду ее распространение среди все более широких слоев общества. Приняв этот критерий, чтобы судить о степени демократизации общества, нетрудно установить, как мы это уже показали, какое незначительное развитие получила она в Аргентине. И не только из-за отстранения широких масс от непосредственного культурного процесса, как это может показаться, но прежде всего из-за определенного разлагающего идеологического воздействия такой культурной деятельности, при которой школьная подготовка индивида не соответствует социальным требованиям. Даже если допустить, что в определенных развитых странах капиталистического общества такая социализация имеет место, в области культуры все же сохраняется старое различие между головой, которая думает, и руками, которые исполняют.
Если говорить о широте распространения культуры, то большинство воспринимает ее пассивно и только меньшинству удается сознательно и активно разрабатывать ее, причем вполне справедливо можно заметить— часто вопреки существующим предрассудкам. С помощью аппарата официального воспитания и других средств значительное большинство просто принуждается к пассивному восприятию унаследованной и застывшей культуры. Даже религия, которая, согласно некоторым схемам, как, например, у Элиота, выступает в качестве культурного элемента каждого народа, 138
вытекает из этой унаследованной традиции, исключающей для большинства возможность всякого выбора.
Уже Монтень отмечал, что католическая традиция принималась на том основании, что «мы либо находим нашу религию в стране, где она была принята, либо проникаемся уважением к ее древности и к авторитету людей, которые придерживались ее, либо страшимся угроз, предрекаемых ею неверующим, либо соблазняемся обещанными ею наградами»; при этом он предупреждал, что «другая область, другие свидетельства, сходные награды и угрозы могли бы таким же путем привести нас к противоположной религии.
Мы христиане в силу тех же причин, по каким мы являемся перигорцами или немцами» L
Поэтому у нас нет иллюзий насчет того, что простое увеличение школьной клиентуры достаточно для того, чтобы исправить основные недостатки культуры, усвоенной в пассивной форме. Эти недостатки — прямое следствие разделения труда, усугубленного капиталистической системой. И хотя педагогам иногда удается заметить зло, заключающееся в пассивном восприятии культуры, при котором субъект творчески не участвует в ее создании, однако они часто забывают заглянуть в социальные причины такой ненормальности.
Иногда, например, делались попытки согласовать направленность так называемого «нового образования» с исторической необходимостью активной культуры. С помощью педагогов «новое образование» пыталось провозгласить творческую деятельность в качестве основы обучения, вводя понятие «школьного общества» (то есть единства, высшего порядка) вместо суммы изолированных единств, которые в виде различных «ступеней», «классов» или «отделений» составляют обычную школьную структуру.
Из такой постановки вопроса возникает идея школьного коллективизма, утопически взлелеянная и искренне принятая педагогами. Педагоги — в данном случае не исключаются и сторонники «нового образования» — часто создают себе иллюзии и надеются чисто дидактическими методами разрешить отмеченный нами кризис,
1 Мишель Монтень, Опыты, книга вторая, гл. XII, изд. АН СССР, М—Л., 1960, стр. 135.
139
касающийся самих основ общества. Они не замечают, что недостаток так называемой «активной школы», если даже признать благородство преследуемых ею целей, вытекает из того основного факта, что ее «активность» возникает как искусственный нарост, как тело, изолированное от социальной среды. В школе ребенок, без сомнения, получает некоторые понятия солидарности и в некоторых случаях даже учится управлять своими руками, но то, что он делает в школе, редко имеет отношение к практике конкретного общественного и исторического труда. Ребенок что-то создает, но это — вещи, являющиеся для него более или менее остроумными игрушками, а школа в силу других обстоятельств продолжает оставаться изолированной от жизни, не связанной с тем реальным бытием, которое окружает ребенка дома, в его районе или деревне.
И что же? Мы видим, что «активная школа» вместе с ее различными вариантами нового образования, даже если она ставит перед собой гуманистические цели, которые мы не будем здесь оспаривать1, едва ли осуществляет хоть какое-либо подобие школьного коллективного труда, не достигая, конечно, высот подлинного политехнического образования.
К. Маркс говорил, что> одной из характерных особенностей свободного общества будущего будет политехническое образование. Спор, который педагоги часто ведут на основе идеальных построений, находит практический ответ в социалистической культуре, в особенности, как мы это уже показали, в Советском Союзе. Было бы ошибочно приписывать все успехи такого беспрецедентно широкого распространения культуры только педагогической системе или особому таланту ее 1 Подвергнуть критическому анализу концепцию «нового образования» означало бы дать оценку буржуазному гуманизму, осуществить детальное рассмотрение его возможностей, а также определить средства, которые в виде новых форм применяются для укрепления идеологической надстройки капитализма. Читатель, желающий более подробно ознакомиться с этим вопросом, может обратиться к следующим работам: Aníbal Р once, Educación у lucha de clases, caps. VII и VIII; Georges Cogniot, Aprés la discussion sur l’«Education moderne», в «La Nouvelle Critique», París, № 27, junio, 1951, и Essai de bilan de l’«Education moderne» в «La Nouvelle Critique», № 36, 37 и 38, mayo, junio y julio — agosto,
14Q
исследователей. Такие системы могут развиваться только на основе нового общества, в котором политехнизация выступает уже как предвестник нового человека и где самой характерной чертой является вовлечение в культурную деятельность тех, кто раньше, в лучшем случае, вынуждался к ее пассивному созерцательному восприятию. Никогда нельзя было говорить о культурной революции с таким правом, как в данном случае1. То, что в свое время и в небольшом масштабе вследствие ограниченности своей антагонистической цивилизации сумела сделать буржуазия, проявляется здесь в своем подлинном значении и без всяких ограничений. Демократизация процесса культурного развития находит свое высшее выражение при социализме; и только применительно к этому социальному строю можно говорить о социализации культуры, ибо только при социализме культура становится достоянием всего общества в целом.
Разделение на активные и пассивные группы в области культуры, естественно, ведет к признанию существования элит, управляющих культурной жизнью. Этот критерий, как уже говорилось, приемлем, если ограничиться исключительно областью умственного труда и если так называть те активные слои, которые в гражданском обществе осуществляют гегемонию или 1 Понсе справедливо отмечает необходимость отличать реформы от революций в области образования. Он пишет: «...реформы в образовании следуют за изменениями, но не за социальными переворотами, они следуют за изменениями классового равновесия, но не за ломкой этого равновесия... В области образования мы знаем только две революции: первая — когда первобытное общество разделилось на классы, и вторая — когда буржуазия в XVIII веке пришла на смену феодализму» (Aníbal Ponce, Educación у lucha de clases, 4 ed. Buenos Aires, 1951, p. 261). Вслед за этим Понсе говорит о Великой Октябрьской социалистической революции, уничтожившей в России экономическую и политическую власть буржуазии. Но такое разграничение, которое показывает, что революция в области образования всегда следует за насильственным нарушением классового равновесия, означает также и разумное признание значения реформ. Не переоценивая их, нужно помнить,, что в определенные моменты исторического развития они являются выражением новых социальных интересов, которые, не будучи достаточно сильными для ликвидации старых классовых отношений, достаточны, однако, для того, чтобы вызвать заметные изменения социального статуса.
141
являются идеологическим авангардом борющихся классов L Однако если в древней и зародышевой стадии своего возникновения культура представляла собой средство, с помощью которого человек начинает выходить за рамки неумолимой животной необходимости, то в дальнейшем перед культурой возникла задача постоянного совершенствования для преодоления этой необходимости, другими словами, постоянного продвижения к действительной свободе личности. Положение о том, что культура — это свобода (или организация того, что было предоставлено стихийности природы), не является, следовательно, метафизическим или этическим положением. Оно предполагает, что большинство людей познало закономерности мира или что пассивная восприимчивость масс заменена их активным участием в разработке культуры. Временный характер «социализации» культуры, понимаемой как все более значительное расширение сферы ее распространения и вовлечение в культурную жизнь все более многочисленных и широких слоев народа, достигает, таким образом, наиболее полного выражения.
Социализация культуры означает ликвидацию существенных различий между человеком, который думает, ничего не создавая, и человеком, который создает, не думая. Она требует симбиоза между умственным и физическим трудом, единства теории и практики, или философии практики, педагогическим выражением чего может быть не что иное, как политехническое образование. Таким образом, культура выступает в конце концов как преодоление ложной противоположности между материальными и духовными ценностями в обществе, как преодоление противоречия между практическими и теоретическими дисциплинами, в которых до сих пор вопреки некоторым утверждениям сохранились остатки уже преодоленного бесплодного позитивизма.
1 Не ограничивая возможности для других исследований этой темы и учитывая сказанное ранее в Первой интермедии, уместно заметить, говоря о руководящей роли элиты, какое большое значение имеет расширение ее состава. Грамши считал, что эту роль должны играть все члены политической партии независимо от их профессиональной подготовки, в силу той руководящей деятельности (то есть интеллектуальной роли), которую осуществляет член политической партии (см. Антонио Грамши, Дань истории, стр. 107).
142
Итак, в конечном счете культура выступает как осуществление гуманистических идеалов, или проявление ценности человека, обладающего достаточными средствами, чтобы освободиться от страданий и мучений своей односторонности. Но раздвоение и односторонность человека зависят не от метафизических причин, а от причин, вызванных разделением труда в обществе, отвечающим интересам собственников средств производства, а не интересам всего общества. Самоинтегра- ция человека в процессе культурного развития требует, следовательно, и социальной интеграции, то есть уничтожения причин, делающих возможным расчленение его творческих способностей. Политехническое образование— или гармоническое соединение мыслящей головы и работающей руки — не означает только обучения ремеслу, но является прежде всего определенной философской направленностью культуры, направленностью, соответствующей определенным социальным предпосылкам.
Эти материальные предпосылки зависят от развития производительных сил, неумолимо требующих новых производственных отношений и двигающих объективное и реальное развитие истории независимо от человеческой воли. Однако момент качественных изменений (или существенных изменений) требует обязательного субъективного вмешательства человека, его активной деятельности. История культуры в значительной степени представляет собой регистрацию этих критических периодов, венцом которых служит установление нового социального порядка. Нет никакого сомнения, что мы являемся активными действующими лицами одного из критических периодов, порожденного исторической дряхлостью капиталистического строя. Нет также сомнения, что изменение общественного сознания выступает как культурное явление, способное изменить соотношение сил в обществе. Оно ведет к провозглашению новой культуры и в современных условиях совпадает с необходимостью возникновения социалистического сознания. Именно теперь, а не ранее создались объективные условия для возникновения такого сознания.
Невиданное развитие техники — общий и нерушимый фонд культурного богатства человечества — позволяет поставить сегодня на реальную почву то, что мыслители 143
прошлого переносили в царство утопии. Широкие массы получают то свободное для творчества время, которое древние греки получали за счет переложения на рабов необходимой в обществе функции создания материальных благ. Теперь остается только добиться, чтобы блага, полученные от овладения этой техникой, стали достоянием всего общества, а не отдельных индивидов, потому что достигнутый уровень развития производительных сил в состоянии предоставить время, достаточное для того, чтобы человек обеспечил удовлетворение всех своих необходимых потребностей. Любая постановка культурного вопроса, если она не будет исходить из этих исторических условий, подвергается опасности зайти в тупик при объяснении современного кризиса.
Следовательно, социализация культуры означает количественный рост элит, возрастание активности широких народных масс, которые теперь перестают уже быть лишь созерцателями процесса культурного развития. Однако разница, существующая между активностью и пассивностью культуры, хотя и зависит от социальноисторических обстоятельств, затрагивает также поведение творцов культуры в более широком (мы бы сказали— человеческом) смысле их профессиональной деятельности. Между творцами культуры (или элитами, если угодно их так назвать) и «публикой», которую лучше было бы назвать народом, всегда будут существовать различия, связанные с профессиональными особенностями и с местом, которое занимает каждый в процессе создания культуры. Эти различия не предполагают ни противоречий, ни разграничений, они будут лишь различием форм при активном участии всех в процессе культурного развития.
Здесь надо сказать и о том, что, помимо этих профессиональных различий, существуют также разграничения, вызванные высокомерием творцов культуры. Могут утверждать, что они не всегда в ответе за ту социальную действительность, которую отражают и которая навязывается им и принимается ими посредством привычных методов рутины. Часто они воображают себя новаторами и бунтовщиками только потому, что находят странные формы тайнописного выражения, хотя при этом оказываются неспособными открыть новые формы в самой социальной действительности. Вообра144
жаемое -новаторство почти всегда означает для них разрыв с традиционными и приемлемыми для страны формами, то есть с тем, что представляет собой основу народа-нации.
В связи с этим говорят об ограниченной способности восприятия народа, что на самом деле имеет место. В. И. Ленин писал в своей работе «Что делать?», что социализм привносится в рабочее движение извне, потому что социально-экономические условия, в которых пролетариат развивается в капиталистическом обществе, препятствуют ему в целом подняться до уровня науки и овладеть ею!. Это положение можно, естественно, распространить на все области культурной жизни. Однако одно дело — тот более низкий культурный уровень, на котором могут находиться массы, и другое — та выдуманная темнота масс, которую ищут элиты, чтобы выделить себя. Тогда возникает вопрос: действительно ли эти элиты являются таковыми?
Элита существует постольку, поскольку она в состоянии опередить события и стать разумом и голосом тех, кто хотел бы говорить, но не может. Но элита, которая намеренно отрывается от народа, отгораживаясь разговорами о его темноте, перестает быть таковой и превращается в касту застывших бесплодных бонз. Точно так же обстоит дело, когда элиты возникают в самом народе; отчужденность старых элит раскрывает конфликт между активностью и пассивностью культуры
1 В. И. Ленин пишет в «Что делать?» (1902 год): «Это не значит, конечно, что рабочие не участвуют в этой выработке (независимой социалистической идеологии.— Э. А.). Но они участвуют не в качестве рабочих, а в качестве теоретиков социализма, в качестве Прудонов и Вейтлингов, участвуют, другими словами, лишь тогда и постольку, поскольку им в большей или меньшей степени удается овладевать знанием своего века и двигать вперед это знание. А чтобы рабочим чаще удавалось это, для этого необходимо как можно больше заботиться о повышении уровня сознательности рабочих вообще, для этого необходимо, чтобы рабочие не замыкались в искусственно суженные рамки «литературы для рабочих», а учились бы овладевать все больше и больше общей литературой. Вернее даже было бы сказать вместо «замыкались» — были замыкаемы, потому что рабочие-то сами читают и хотят читать все, что пишут и для интеллигенции, и только некоторые (плохие) интеллигенты думают, что «для рабочих» достаточно рассказывать о фабричных порядках и пережевывать давно известное» (В. И. Ленин, Соч., т. 5, стр. 355, примечание).
Ю э. п. Агости 145
с противоположного полюса. О пресловутой активности этих каст можно говорить лишь относительно, поскольку они что-то делают, как-то действуют, хотя и вразрез с исторической необходимостью. Но если понимать активность в смысле социальной значимости культуры — социальное значение культуры определяется тем, насколько она отвечает линии исторической преемственности народа, — тогда мы сможем сделать вывод, что такая активность по крайней мере неактивна: это еле различимые пустые звуки.
К такого рода кастам, если хорошо приглядеться, можно отнести определенное направление аргентинской живописи. Национальная традиция учит нас отображению определенных сторон человеческой жизни \ однако некоторые элиты мечтают об искусстве, лишенном человеческого звучания, — дегуманизированном искусстве, если считать правомочным такое выражение, которое под предлогом связи с современными пластическими исследованиями все больше денационализируется, теряет всякие национальные признаки и, следовательно, теряет всякий признак народности. Это не значит, что я провозглашаю неподвижность и безразличие в отношении технических приемов1 2. Но очевидно, что действенность национального искусства будет подлинной и возможной лишь в соответствии с тем, насколько оно будет идти в русле традиций народа-нации. Элиты, которые в определенный момент могли отражать чаяния народа и, может быть, даже облагораживать их, превращаются затем в изолированные касты, лишенные социального звучания и довольствующиеся тем слабым эхом, которое они вызывают в окружающем их маленьком мирке.
Касаясь конфликта между активностью и пассивностью культуры, справедливо заметить, что социалисти1 Ромуальдо Бругетти (в работе «Geografía plástica argentina», ed. Nova, Buenos Aires, 1958) раскрыл некоторые аспекты этой проблемы.
2 Наоборот, в моей работе «В защиту реализма» (ed. Pueblos Unidos, Montevideo, 1945, ed. Quetzal, Buenos Aires, 1955) я утверждал, что подлинное творчество не может игнорировать технические находки, введенные современными школами в различных отраслях искусства. Не надо смешивать технику с искусством, каллиграфию с тем «посланием», о котором так много говорится...
146
ческий мир уже возвестил о первых достижениях в деле осуществления желанного единства между головой, которая мыслит, и рукой, которая исполняет. В реальных мечтах строителей социализма действительность новой свободной и активной культуры совпадала с разрушением гносеологических, а также экономических преград, воздвигнутых капиталистическим обществом. Таким образом, ликвидация капитализма — это первое условие создания активной культуры, достояния людей думающих и одновременно творящих. Однако в этой же мечте новая, социалистическая по содержанию культура подкреплялась преемственностью прогрессивных национальных форм, выражающих подлинное лицо народа. Правда, при этом не обошлось без уродов «пролеткульта», столь похожих на маленьких буржуа наших дней, бунтарский дух которых сводится к ликвидации музеев. Не обошлось без Кирилловых, способных, не стесняясь, написать:
Именем нашего будущего сожжем Рафаэля, Разрушим музеи, растопчем цветы искусства... 1
Однако молодая социалистическая республика, установив впервые в истории власть рабочего класса, конкретно решила вопрос о гуманизме. Культура, отбросив эмбриональную пассивность, граничившую с отшельничеством, стала быстро расти. Материальной основой этого роста было преодоление общества, разделенного на классы. Национальная по внутренней форме своего выражения культура является социалистической по своему конкретному содержанию. Таким образом, гуманизм становится активным и его можно было бы назвать гуманизмом деятельности.
1 Цитируется по Jean Freville, в книге: V. I. L е n i п е, Sur la littérature et l’art, Ed. Sociales, París, 1957, p. 40.
10*
ТРЕТЬЯ ИНТЕРМЕДИЯ
Заметки о советской культуре
«ДРУГОЙ МИР»
Когда я говорил, что хочу совершить -путешествие в'Советский Союз, некоторые из моих коллег смотрели на меня с тревогой. Когда я вернулся оттуда, многие с любопытством расспрашивали меня, думая, что я вернулся из «иного мира». И они не ошибались. Что это «другой мир», часто говорится с плохими намерениями. Этот штамп повторяют тысячи (а может быть, миллионы?) раз, тысячи (а может быть, миллионы?) враждебных статей. И это, вероятно, единственная правда из всего того, что они пишут. «Да, это другой мир», — часто говорю я тем, кто спрашивает меня с искренним любопытством. Это другой мир во всем, начиная с самой высокой морали, какую может себе представить человеческое достоинство. И эта мораль распространяется и поддерживается, в частности, в сфере культуры. Культура там — достояние всех, ибо это также и общее дело.
ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРА?
Марксизм учит, что культура это совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством в процессе его общественно-исторического развития. Отсюда можно сделать вывод, что освобождение труда ведет к освобождению культурных ценностей, к превращению их в общенародное достояние, к их широкому распространению. Г-н Элиот часто думает об этом с тоской, потому что воображает, будто сущность культуры состоит в ее передаче и находится под эгидой некоторых наследственных элит. Эта тема, изложенная Элиотом в чисто изабеллинской прозе, вызвала много эрудированных очерков, смысл которых заключается в страхе перед тем, что массовое распространение культуры приведет к ее упадку. Как будто бы культура, чтобы оставаться таковой, должна ограничить себя 148
сферой утонченного, являющегося достоянием всеведущего меньшинства.
Однако этот спор уже перестал быть теоретическим диспутом. Культура не принижается, а возвышается, по мере того как превращается в насущный воздух коллективной жизни. Вопрос о культурной революции навсегда решен социалистическим опытом в Советском Союзе. Я видел (я не устаю повторять это моим друзьям и всем, кто, не будучи моими друзьями, хочет меня слушать) в СССР воплощенную в действительность мечту древних гуманистов. Но гуманизм этот уже не воспроизведение палимпсестов, а обновление жизни, некая полная гуманизация самой жизни. И сейчас я могу воскресить в памяти одну последнюю туманную ночь в Буэнос-Айресе лета 1934 года, когда Анибал Понсе отправился с «визитом к будущему человеку». Человек будущего сейчас есть человек настоящего^ человек, практически уничтожающий разницу между умственным и физическим трудом — позорный знак общества, разделенного на классы. И культура расцветает там как новое растение, обвивающее все своими огромными и нежными ветвями.
СОЖЖЕННЫЕ БАБОЧКИ
В Киеве у студентов филологического факультета университета, самого крупного учебного заведения города, многие из которых специализируются на изучении испанского языка, я узнал историю о сожженных бабочках. Киев является одним из городов-мучеников, разоренных нацистами, не пощадившими ничего и не остановившимися ни перед какой жестокостью. Сожженные бабочки — это символ их зверств. Киевский университет имел самую богатую в мире коллекцию бабочек. Нацисты бросили ее в огонь в последний день своего пребывания в Киеве, когда советские войска уже входили в город. В этом последнем ненужном уничтожении можно видеть символ их ненависти к культуре. Однако можно сказать, что эти сожженные бабочки порхают сейчас в небе Украины.
Бабочки всегда были символом творческого дара, и плоды этого творческого дарования я увидел, например, недалеко от Киева, в одном из колхозов, все жилища которого освещались электрическим светом и были 149
радиофицированы. Колхоз имел свой клуб, среднюю школу, амбулаторию с медицинским оборудованием, своего агронома и ветеринара и соответствующие лаборатории, зал для собраний. В деревне принимались телевизионные передачи. Я видел там «ученых-крестьян», которые ликвидировали зимний перерыв в работах и вложили почти один миллион рублей от прибылей предыдущего года в строительство театра в самой деревне. Стоящий во главе колхоза украинский великан со сверкающими в вечной улыбке зубами является примером этой живой действенной культуры. «Ученые-крестьяне» думают не только о материальных ценностях культуры, но и о ее духовных ценностях. И театр среди полей — это как бы огромная воскресшая бабочка, покрывающая своими крыльями светлое небо Украины.
ЖАЛЬ ТОГО, КТО НЕ УМЕЕТ МЕЧТАТЬ!
В одном из примечаний к работе «Что делать?» Ленин предостерегает против тех, кто не умеет мечтать. Я задумался над этим замечанием в ту незабываемую ночь, когда видел кукол Образцова, представлявших поэтическую историю любви, с принцами, которые борются против колдуний и людоедов, завоевывая любимую женщину. Не является ли любовь высшим признаком этой живой культуры и не является ли мечта, способная изменять действительность, тем, что движет эту культурную революцию, самую глубокую и полную, какую знает история человечества? Рука Максима Горького начертала под проектом советской Конституции 1936 года следующую фразу, исполненную совершенной красоты: «В нашей стране даже камни поют». Я видел эту фразу, я смотрел на нее, написанную нервным почерком Горького, в музее, где отражены все стороны его жизни, где хранятся его рукописи и как реликвии хранятся тысячи его писем, щедро разбросанных по всему миру. Эта фраза Горького синтезирует сущность новой культуры, культуры народа, который поет и грезит и который добился поэтичности во всех своих действиях, если действительно поэзия означает творчество, созидание, предвосхищение нового на земле.
Жаль того, кто не умеет мечтать! В Советском Союзе существует 350 тысяч театральных трупп любителей, 150
которые в год нашего визита1 осуществили 910 тысяч представлений и концертов перед 90 миллионами зрителей. Некоторые из этих «любительских трупп» располагают современными зрительными залами на две тысячи мест, как Дом культуры Выборгского района в Ленинграде. Я собственными глазами видел осуществление «реалистических грез» в выборгском Доме культуры, который, естественно, не является единственным, но имеет историческую заслугу быть одним из первых на всей советской территории, начав действовать с 7 ноября 1927 года. Там, в этом Доме культуры, также чувствуешь широту распространения и качество новой культуры. Вот о чем говорят цифры: 6,5 миллиона рублей ежегодно отпускается для того, чтобы обслужить 6 или 7 тысяч трудящихся, которые ежедневно проходят по 60 залам этого Дома культуры, где осуществляется и стимулируется то, о чем может мечтать человеческий разум.
Но цифры (не раскрывают образа нового человека, жаждущего знаний, спорящего обо всем с такой свободой, которую я желал бы иметь всем тем, кто говорит (я имею в виду тех, кто говорит честно, конечно) о западной свободе. На эти «дома культуры» в городах, на фабриках, в колхозах надо смотреть как на лаборатории знания и радости. Радость знания — это социальная необходимость, которая глубоко взволновала меня в Советском Союзе. Именно радость знания, потому что все, что я видел, делается там с радостью, без всякой рутинной сонливости, столь свойственной нам. Взять, например, библиотеки. Что общего между нашими кладбищами книг и этими заведениями, где интерес к новым книгам вызывается соответствующей организацией, где беседы читателей и авторов являются источником постоянного взаимного обогащения?
Уметь мечтать, да... Я закрываю глаза, и смотрю назад, и вижу Понсе в слабом свете ночи Буэнос-Айреса, готовящегося к своему путешествию к человеку будущего. И я хотел бы сейчас сказать ему, что он не обманулся в своих мечтах и что я прожил в обществе этого человека будущего самый незабываемый месяц в моей жизни.
1 Конец 1953 года.
151
СЕМЬДЕСЯТ ТРИ МИЛЛИОНА ЭКЗЕМПЛЯРОВ
На большом металлургическом заводе «Красный пролетарий» в Москве большинство рабочих занимается на курсах технического обучения или в десятилетках. На заводе электроизмерительной аппаратуры в Киеве более половины работающих имеют среднее и высшее техническое образование. Это два примера, но не два изолированных факта. Унижает ли это массовое распространение высокой культуры самую культуру, вульгаризирует ли ее, как думают, я хочу верить, что искренне, некоторые более или менее елейные очеркисты? Можно ли предположить (об этом мы часто читаем в некоторых газетах), что эта массовая культура означает уничтожение свободы личности и отрицание духовности источников?
Я могу сказать здесь о том, что видел своими глазами. Например, картина медленно падающего снега на детей и солдат перед дверью Третьяковской галереи, ожидающих ее открытия, чтобы насладиться чудесами византийского искусства. Где, в какой другой стране мира эта необходимость в высокой духовной пище достигает столь очевидного народного выражения? Я могу говорить о трудностях в покупке книг в книжных магазинах Москвы, Ленинграда или Киева. И несмотря на то что эти магазины очень большие, они всегда переполнены публикой. Где, в какой стране мира издание поэтических произведений Виктора Гюго могло бы разойтись в несколько дней и жаждущая публика образовала бы терпеливые очереди, чтобы не потерять свое право подписаться на произведения гениального писателя Франции? До Октябрьской революции в России было продано немного меньше 1 миллиона экземпляров всех произведений Горького, начиная с Октябрьской революции до наших дней это число увеличилось почти до 73 миллионов экземпляров...1
1 Журнал «Курьер ЮНЕСКО» сообщал в февральском номере за 1957 год, что жажда к чтению в Советском Союзе так велика, что книжные магазины Москвы, перегруженные работой, устраивают «филиалы», вынося прилавки с книгами на улицы столицы Этот любопытный факт наблюдается как в больших городах, так и в деревне Поэты не являются «бедными родственниками литератур ры», в частности в Москве и Ленинграде, где традиционно орга^ низуется «день поэзии» В этот день поэты читают в книжных ма152
В этих условиях человеческая личность получает «возможность найти себя», достигнуть всестороннего развития и осуществления своих критических способностей. Советский писатель, например, является, может быть, самым любимым человеком в СССР. Клубы, библиотеки, университеты, дома культуры, фабрики, колхозы постоянно зовут его беседовать со своими читателями. Но в то же время писатель — это наиболее критикуемый в СССР человек, потому что советский гражданин— «это рабское существо, сменившее свою свободу на крохи материального удовлетворения», — не пассивный читатель, а человек высокого умственного развития, который не смиряется с тем, чтобы только сказать аминь.
МЕЧТЫ ДЕТЕЙ
В Ленинграде, называвшемся раньше Санкт-Петербургом, царица Елизавета построила в 1741 году прекрасное здание для своего фаворита Разумовского. Сейчас там находится Дворец пионеров имени Жданова. Я провел там незабываемый вечер, глубоко раскрывший мне характер советской культуры.
С целью помешать культурному обмену с «Востоком», кто-то сказал, что характерная особенность Запада — наука. Я хотел бы привести его к Дворцу пионеров или к любой советской школе. Только закрыв глаза на очевидность декартовских модусов рассуждения, свойственных также и западной мысли, можно не видеть, что наука — это основа советской культуры, а следовательно, и жизни. Я видел там среди аппаратуры физической и химической лабораторий детей, живущих звездными приключениями в фантастическом мире планетария, соединяющих знание теории с практигазинах свои новые произведения, беседуют со своими читателями и дают им свои автографы (стр. 24). «Курьер ЮНЕСКО» квалифицирует как «астрономические» цифры изданий в СССР, возглавляющем мировую статистику по книжной продукции. Цитированный журнал (стр. 21 и 24) указывает, что в 1955 году в СССР было опубликовано 54 737 названий книг общим тиражом в 1 миллиард экземпляров, затем следует Япония (21 653 названия), Объединенное Королевство (19962), Западная Германия (15 838), Соединенные Штаты Америки (12 589) и Франция (11793). После Октябрьской революции, начиная с 1918 и до 1955 года, согласно данным ЮНЕСКО, в СССР опубликовано более 1 268 000 названий общим! тиражом свыше 18 миллиардов экземпляров.
153
кой (эти маленькие ботаники, проводящие опыты Мичурина и Лысенко в школьных садах!), переносящих на сами игры порядок научного рационализма, который победно ведет их к господству над жизнью... И что же?
Но если наука вооружает именно для свободы, потому что рассеивает туман предрассудков, я должен сказать, что более всего на меня произвела впечатление бьющая через край фантазия и постоянный стимул творческого чувства у ребенка. Как можно забыть «комнату сказок» ждановского Дворца пионеров, комнату, Декорированную художниками Палеха по мотивам сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке» и «Песни о буревестнике» Горького. Фантазия у детей рождалась и вы- пестовывалась под неуловимый шепот «бабушкиных» сказок. Но фантазия начинала свои самые смелые взлеты в библиотеке дворца, имеющей более 100 тысяч томов литературы для юношества, или в школьных литературных кружках, или в артистических кружках, или в кружках натуралистов, или...
Зачем продолжать? Мечта детей — это мечта, которая сверкает в любви к культуре и в поклонении миру. «За мирную жизнь на земле» — гласит эмблема школы № 6 города Киева. Мир и культура как знаки гуманизма руководят мечтами детей. Не это ли самый красноречивый символ этой новой духовной жизни?
НОВЫЙ ГУМАНИЗМ
Мне скажут, что это частные детали. Да, но эти частные детали составляют единое целое1. Я предпочитаю видеть эти отдельные впечатления, потому что 1 Здесь не место рассуждать об этом целом. В первой части этой книги я заранее дал некоторые основные определения характера социалистической культуры. Подумайте только, что народ, который 40 с лишним лет назад занимал последнее место по уровню развития техники, сейчас находится в авангарде технического развития. Это —• чудо, которое повторяется во всех социалистических странах, и оно имеет объяснение. Это не вопрос индивидуальных талантов (хотя социализм в противоположность тому, о чем говорится в буржуазной пропаганде, способствует раскрытию этих талантов именно потому, что уничтожает экономические путы, которые их ранее душили), а вопрос социальной системы. Социализм не может быть построен без культурных и образованных трудящихся, но эта культурная революция содержит в себе как необходимую предпосылку накопление сил пролетариатом. Советский пример — самая красноречивая иллюстрация этого Т£змсак
|54
каждое из них представляет собой «ноту» в огромном концерте советской культуры. Гюнтер Штейн говорил о Китае: «Народ идет в школу», Хьюлетт Джонсон дополнил эту фразу, утверждая: «Весь Китай идет в школу». О Советском Союзе мы могли бы сказать, что весь его народ идет в университет. И не потому, что все его граждане часто посещают университетские аудитории, а потому, что все они формируются на основе универсальных знаний в потенциальных universitas, которые в школе и в клубе, в университете и в доме культуры ведут к формированию всесторонне развитого человека. Это и есть новый гуманизм, проекция «цельного человека», о котором когда-то мечтал Гёте. К этой политехнизации человека — основе его истинной свободы — направлено советское образование. Но мы уже видели (и столько раз видели с неудержимым волнением) плоды этой культуры, в которой человек является основой: человек и мирная жизнь человека на земле.
1954 год
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Форма и содержание
культуры
Расчлененная культура или разделенное общество?
Когда я говорю о '«форме» и «содержании» культуры, я, естественно, имею в виду основные линии, в которых проявляется подлинно национальная культура, а не различные «манеры» литературной или художественной деятельности или пресловутую борьбу школ, которая для многих представляет собой единственную приемлемую область интеллектуальной жизни. Но верно также и то, что, лишенная своей инструментальной и технической стороны, культура исторически распространяется посредством литературы и искусства, начиная от фольклорных истоков до самых утонченных ее проявлений. Поэтому не будет лишним вспомнить, что именно в этих областях осуществляются ее самые «незаинтересованные» или наименее перегруженные на первый взгляд практическими результатами функции.
Я снова возвращаюсь к высказыванию Алекса Комфорта. Для этого английского очеркиста самая характерная черта того, что он называет «западной городской культурой», состоит в ее атомизации. «Впервые в современной истории, — пишет он,— мы стоим перед полностью расчлененным обществом... обществом, лишенным какой-либо общей основы, лишенным общепринятого мифа, где в каждой пишущейся книге необходимо 156
заново создавать и населять целый мир»1. Комфорт, по-видимому, склоняется к решению, приемлемому только в его отрицательном аспекте. Принять же его означало бы согласиться с двумя весьма спорными положениями: первое — это положение о том, что сплачивающий народ или общество элемент дается мифом, то есть социальной живучестью ложного сознания, непроницаемого для истины; второе — это утверждение о том, что в обществе, предшествующем нашему (мягко названному «западным городским», ибо его следовало назвать капиталистическим), существовала единая основа, нечто вроде постоянного единообразия.
Оба эти утверждения явно смешивают «форму» проявления культуры с «содержанием» самого общества, что содействует сохранению угнетающего воздействия ложного сознания. Если, например, обратиться к поэмам Гомера, то может создаться впечатление, что дифференциация в обществе была тогда не столь значительна, как теперь, но при этом мы должны были бы забыть, что появление философов обусловлено таким разделением труда, которое вместе с тем обрекало много тысяч людей на изнурительный рабский труд. Форма, в которой Гомер передает события, может показаться более унифицированной, однако по своему содержанию общество, где возникали такие формы передачи, также определялось классовыми различиями, хотя классовые антагонизмы еще не достигли той исторической остроты, которая характеризует современность1 2. Однако Комфорт с другого конца приходит к тому же выводу, утверждая, что те, кто в наше время имеет доступ к культуре (это относится прежде всего к читателям новелл), являются только «зрителями». В древности по крайней мере имело место определенное эмоциональное вмешательство слушателя в развернутый рассказчиком сюжет, столько раз передававшийся в устной форме, в «западной же городской культуре» созерцательность является самой 1 Alex Comfort, La novela y nuestro tiempo, p. 18—19.
2 Аналогичный процесс, но в другое время, можно обнаружить в нашей древней культуре гаучо, которая развивалась в такой общественной среде, где почти отсутствовала дифференциация различных форм классового сознания, существующая, однако, в зачаточной форме в докапиталистическом обществе. Но это уже другой вопрос...
157
примечательной чертой, характеризующей разъединенность общества. Комфорт предусмотрительно не затрагивает этот вопрос. Еще один шаг — и он смог бы убедиться, что такая разъединенность общества в современных условиях совпадает с классовой дифференциацией и с неизбежным обострением классовых антагонизмов.
Следовательно, было бы наивно думать, что «формы» проявления культуры могут воспрепятствовать проникновению в содержание культуры, лишив нас возможности понять, что это самое содержание лишено единства в силу современного кризиса, хотя это еще не дошло окончательно до сознания каждого. Потому что в какой бы форме ни проявлялась культура, она всегда обладает определенным содержанием, которое господствующая идеология распространяет через многообразные каналы, от начальной школы до абстрактной философской спекуляции, и которое, естественно, подвергается незаметным воздействиям общих привычек и рутины через домашний очаг и окружающую среду. К. Маркс в своей работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» объясняет: «Над различными формами собственности, над социальными условиями существования возвышается целая надстройка различных и своеобразных чувств, иллюзий, образов мысли и мировоззрений. Весь класс творит и формирует все это на почве своих материальных условий и соответственных общественных отношений. Отдельный индивид, которому эти чувства и взгляды передаются по традиции и в результате воспитания, может вообразить, что они-то и образуют действительные мотивы и исходную точку его деятельности Ч
При таком грубом расчленении культуры между меньшинством тех, кто является ее «создателями», и огромным большинством тех, кто ее лишь пассивно воспринимает,— одиночек, как их называет Комфорт,— трагедия первых состоит в том, что они часто являются создателями и передатчиками такой социальной формы, против внутреннего содержания которой они часто оказываются вынужденными выступать, ибо она давит на них. Так как деятельность создателей культуры происходит в области идеологии (а это усугубляет проти1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 8, стр. 145.
158
воречия их экономического положения и зависимости), уродование, которому они подвергаются, является одним из составных элементов фальшивости их сознания. Они осознают свою идеологическую роль в обществе, но принимают за истину и, следовательно, пассивно признают те же самые элементы, которые в области идеологии содействуют сохранению существующего социального порядка, уже начинающего их беспокоить1. Ибо ту атомизацию, которая внушает опасения Комфорту и которая уже угнетает создателей культуры, нельзя рассматривать лишь как чисто психологическое явление. Эта атомизация отражает само содержание общества, которое уродует человека, расщепляет его, лишает его возможности понимать, расчленяя на множество частных и, может быть, изолированных способностей.
На страницах «Капитала», описывающих «капиталистический характер мануфактуры», Маркс дает драматическую картину такого расчленения, полностью подтвержденную всем дальнейшим ходом событий. Маркс пишет: «В то время как простая кооперация оставляет способ труда отдельных лиц в общем и целом неизменным, мануфактура революционизирует его снизу доверху и поражает индивидуальную рабочую силу в самом ее корне. Мануфактура уродует рабочего, искусственно культивируя в нем одну только одностороннюю сноровку и подавляя мир его производственных наклонностей и дарований, подобно тому как в Аргентине 1 «Идеология — это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные побудительные силы, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом. Он создает себе, следовательно, представления о ложных или кажущихся побудительных силах. Так как речь идет о мыслительном процессе, то он и выводит как содержание, так и форму его из чистого мышления — или из своего собственного, или из мышления своих предшественников. Он имеет дело исключительно с материалом мыслительным; без дальнейших околичностей он считает, что этот материал порожден мышлением, и не занимается исследованием никакого другого, более отдаленного и от мышления независимого источника. Такой подход к делу кажется ему само собой разумеющимся, так как для него всякое человеческое действие кажется основанным в последнем счете на мышлении, потому что совершается при посредстве мышления» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избр. произв. в двух томах, т. II, стр. 477—478).
159
убивают животное для того, чтобы получить его шкуру или его сало. Не только отдельные частичные работы распределяются между различными индивидуумами, но и сам индивидуум разделяется, превращается в автоматическое орудие данной частичной работы1.
У 'Независимого работника было, хотя и в небольшом масштабе, концентрированное развитие общих знаний и разума, тогда как в капиталистическом промышленном производстве духовные способности получают высокое развитие, НО' это происходит в ограниченном секторе материального процесса, исчезая в других областях, тогда как в результате разделения труда наука — духовная организаторская сторона всякого подобного процесса — выступает перед рабочим, который уродуется и делается ограниченным, как самостоятельная сила1 2, хотя и сама она также неумолимо оказывается под властью капитала. Вот почему одна из драматических особенностей капитализма состоит в ограничении способностей человека: «...обогащение совокупного рабочего, а следовательно, и капитала общественными производительными силами обусловлено обеднением рабочего индивидуальными производительными силами»3. Маркс в своем произведении «Философия права» отмечает, что еще Гегель писал: «Культурным человеком надо прежде всего считать того, кто способен делать все то, что делают другие», и в «Капитале» приводит категорическое утверждение Уркарта: «Рассечение человека называется казнью, если он заслужил смертный приговор, убийством, если он его не заслужил. Рассечение труда есть убийство народа» 4.
Однако разделение труда является — как и все социальные явления — противоречивым и диалектическим:
1 К- Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 373.
2 «Человек науки отделяется от производительного рабочего целой пропастью, и наука вместо того, чтобы служить в руках рабочего средством для увеличения его собственной производительной силы, почти везде противопоставляет себя ему... Познание становится орудием, которое способно отделиться от труда и выступить против него враждебно» (W. Thompson, Ап Inquiry into the Principies of the Distribution of Wealth, London, 1894, p. 274. Цитируется по книге: К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 374, сноска).
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 374.
4 Там же, стр. 376 (курсив мой.— Э. А.).
160
оно калечит человека, но в то же самое время предоставляет необходимую основу для технического прогресса и, следовательно, для прогресса культуры. Драматизм разделения труда состоит в том, что оно исторически соответствовало различным этапам разделения собственников и обездоленных. При капитализме этот процесс достигает самых отталкивающих форм, превращая рабочего исключительно в придаток или пособника машины в ущерб цельности его интеллектуальных способностей. С точки зрения культуры подобный процесс привел к ликвидации кустарного промысла, к расчленению ограниченного работника в мануфактуре, к его расточительной текучести в капиталистической промышленности и к дальнейшему раздроблению такого расчлененного труда, вызванному методами рационализации, трагический смысл которой показал Чаплин в неизгладимых образах своей картины «Новые времена» 1.
Но можно ли, исходя из этого, сделать вывод о том, что в будущем, бесклассовом обществе будет ликвидировано разделение труда? Не впадая в утопическое пустословие, следует согласиться с тем, что, когда разделение труда перестанет определяться частной собственностью на средства производства и обмена, произойдет освобождение труда. Нет никакого сомнения, что в социалистическом обществе разделение труда диалек1 Рискуя нарушить связность изложения, уместно, однако, напомнить, что Маркс подчеркивал существование противоречия между старыми формами разделения труда и новыми условиями крупной промышленности, которое капитализм оказался неспособным решить: проблема сводится к тому, что, тогда как в мануфактуре работник применял инструмент, на фабрике он служит придатком машины. «Хотя машина технически опрокидывает, таким образом, старую систему разделения труда, тем не менее последняя продолжает свое существование на фабрике сначала в силу привычки, как традиция мануфактуры, а потом систематически воспроизводится и укрепляется капиталом в еще более отвратительной форме как средство эксплуатации рабочей силы. Пожизненная специальность— управлять частичным орудием, превращается в пожизненную специальность — служить частичной машине» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 433). Тем не менее Маркс подчеркивает (см. там же, стр. 499), что развитие крупной промышленности требует постоянного перемещения рабочих, их всесторонней подвижности, позволяющей перемещать их из одной отрасли производства в другую, хотя капиталистическая форма производства и соответствующие ей экономические отношения рабочих находятся в прямом противоречии с уничтожением старого разделения труда.
И Э. П. Агости 161
тически содержит элемент прогресса, компенсации и даже ликвидации уродливо разделенного рабочего: внешне сохраняя старые формы труда, существенно изменяет их содержание, так как способы производства и распределения имеют одинаково общественный характер.
С точки зрения культуры (единственной темы, занимающей нас в данной работе) необходимость покончить с ограниченным человеком ставит перед обществом определенные конкретные требования. Пример нового социалистического человека, образ которого дает нам советский человек, показывает, каковы должны быть особенности культурной революции, направленной на развертывание всех человеческих способностей, несмотря на сохранение форм разделения труда. Следовательно, мечта о попятном движении к идиллическим преимуществам ремесленного производства — это реакционная мечта, в которую, однако, часто впадают некоторые идеалистические критики капитализма.
Мы еще не можем во всех возможных деталях нарисовать себе картину будущего общества наподобие старых утопий. Но каковы бы ни были преимущества, которые автоматика и утонченная техника смогут предоставить завтрашним людям в обществе, свободном от классовых различий, совершенно очевидно, что эта же сложная техника доказывает, какими иллюзорными явились бы сегодня идеи какого-нибудь новоявленного Пико де ла Мирандола. Будущее общество должно обеспечить человеку посредством политехнического образования всестороннее развитие, уничтожив существенные различия (подчеркиваю: существенные, а не формальные) между физическим и умственным трудом и предоставив ему возможность гармонического развития, которое спасет его от ненормальной расчленяющей и калечащей специализации и от вечного проклятия почти все свое время отдавать единственной профессии, приносящей не наслаждение, а страдания. Но разобщенность культуры, которая так беспокоит Комфорта, неотделима от процесса калечения человека при капитализме, что немыслимо в других прогрессивных социальных условиях.
Неправильное понимание аргентинского кризиса
В условиях Аргентины указанное уничтожение культуры ускоряется теми же причинами, которые обусловливают нашу экономическую нищету. В то самое время, когда отчуждаются богатства страны, создаются и соответствующие механизмы подчинения, задача которых— сообщить нам о нашей неспособности развиваться собственными силами. Тотчас же эти механизмы создают идеологическую структуру, приспособленную к задаче ликвидации национальных интересов. Такая извращенная форма общественного сознания представляет собой двойной отказ от национального, потому что переносит на национальную почву те факторы, которые изнутри разрушали это сознание на основе социального. Могут сказать, что в уменьшенном масштабе эти явления, хотим мы этого или нет, есть наш национальный непередаваемый вклад, но хотя верно, что мы не должны улучшать историю, не менее верно и то, что национализм, который тут имеют в виду, ничего общего не имеет ни с частым напоминанием о символах, ни с той реставрацией, которая хотела бы отгородиться от изменений социального мира. С другой стороны, многие из подобных широко рекламируемых реставраций сводятся к ограниченному фольклорному элементу, и если они иногда осуждают местных сторонников отказа от национального, то делают это более из-за формы того или иного явления культуры, чем из-за самого внутреннего содержания общества, в котором возникают эти культурные явления.
Однако национальное существует не как метафизический субстрат, а в зависимости от того, насколько оно отражает линию гармонического развития народа. Поэтому аргентинская культура приходит в упадок не оттого, что на некоторые формы ее проявления падают надуманные обвинения в их неполноценности, а потому, что фальсифицировано само содержание аргентинского 11* 163
общества. Я не всегда замечал, чтобы провозглашалась необходимость правильной интерпретации этих проблем со стороны тех, кто говорит о необходимости восстановления подлинных форм национальной культуры, которая для того, чтобы в действительности стать таковой, должна опираться на новые экономические основы аргентинского общества. Потому что как те, кто ослеплен империалистическими державами и живучестью мифов о нашей неполноценности, так и те, кто иногда говорит о восстановлении пропахнувшей нафталином культуры, сохраняют нетронутой структуру аргентинской деревни, и если иногда выступают против иммигрантов, то никогда (или очень редко) не выступают против магнатов иностранных банков. Старые структуры накладывают на них определенные интеллектуальные штампы.
Атомизация человека, расчлененного разделением труда, порождает у нас новые конфликты. К старым распрям между гринго и креолами прибавляются те, которые возникают из-за различного культурного уровня отдельных провинций, обнищания нашей духовной жизни и из-за тоски по старым, не дошедшим до нас культурам.
Эти различные конфликты действуют на содержание культуры, вызывая даже патетические стоны — жалобы растерзанного общества — среди представителей умственного труда. Я бы сказал, что Энрике Мендес Кальсада, покончивший с собой в отчаянии одиночества в жалком номере гостиницы,— это трагический символ отдаленности между писателем и народом. Было бы глупо предъявлять представителям умственного труда трафаретные обвинения, присваивая позорные клички, которые лишь уменьшают глубину драмы и скрывают сложный и многогранный характер поставленных проблем. Множество раз чувствовали деятели культуры несправедливость ложной культуры и, чтобы спастись от тоски, не нашли ничего, кроме литературного бунтарства. Но бунтующий литератор, хотя он иногда и может найти частную истину, не идет дальше этого. Те, кто отвечает за предательство национальных интересов (сохраним наши привилегии, даже если страна погибнет), конечно, могли позволить себе роскошь терпеть этих ужасных детей, которые иногда разбивали дорогие стекла, но продолжали оставаться в нерушимых стенах отчего дома.
164
Драма ложного сознания, которое само себя считает подлинным (и часто совершенно искренне!), представляет собой основу пропасти, существующей между интеллигентом и народом. Мы должны понять эту драму объективно, не впадая в упрощенчество некоторых социологических схем, которые решают все чудесным образом, заглядывая в анкетные данные социального происхождения авторов. Речь идет не о том, чтобы оправдать кого-то или привести оправдательные оговорки, а лишь о том, чтобы понять, насколько серьезными бывают последствия такого ложного сознания. Для многих чувство национальной придавленности еще очень неопределенно. Теперь мы начинаем понимать, что такое национальная независимость и самостоятельность национального сознания, но было бы несправедливо осуждать в непонимании этого других, потому что теперь мы располагаем данными, которых у них не было. В конце концов только сейчас в стране развиваются социальные силы, способные обеспечить подлинное национальное освобождение.
Если смотреть с двух точек зрения — национальной и народной, то проблемы формы и содержания культуры начинают выясняться. Часто мы задаем себе вопрос, почему аргентинская литература не пользуется популярностью, почему она не находит положительного и постоянного отклика в широких аудиториях. В ответах часто ссылаются на культурную отсталость нашего населения. Но эта отсталость не была большей, чем во Франции XIX века, например, и тем не менее романтизм смог стать явлением, нашедшим значительный отклик у народа-нации, который находил в нем свою полную интерпретацию. Если в данном случае в области словесности была осуществлена «демократизация» в самом широком смысле подлинной связи с народом-нацией, то разве это не вынуждает нас признать, что отсутствие у нас такого явления зависит от недостатка не в культурной, а в социальной области?
Ссылаться на безграмотность как на причину незначительного распространения культуры в определенной степени разумно. Разумно, поскольку безграмотность (или почти безграмотность, являющаяся нашей характерной особенностью) препятствует прямому участию народа в культуре и способствует живучести рутины.
165
И хотя нельзя не прислушаться к этому доводу, однако как решающая причина он опровергается рядом убедительных примеров. Как объяснить тогда необыкновенно широкое в свое время распространение поэмы «Мартина Фьерро», переходившей из рук в руки в среде неграмотных крестьян, которые слушали ее чтение с сосредоточенным вниманием, и как понять тогда без сомнения более высокую, чем у нас, популярность бразильского романа, в то время как процент неграмотных там больше и языковые границы более узки?
Отступление в виде рассказа
(Эти строки, относящиеся к моим наблюдениям во время пребывания в Монтевидео, я позаимствовал из записной книжки, так как написал их для себя 22 января 1956 года.)
В старом здании Пеняроля, что около университета, набитом публикой, в основном из народа (празднично одетые мужчины и женщины бедных районов с детьми), я присутствую на чествовании куплетиста Карлоса Молина, популярность которого на первый взгляд кажется исключительной. Много других куплетистов собираются, чтобы восхвалять и возвеличивать его. Молина отличается от других исполнителей этого жанра народной поэзии (который, без сомнения, требует живого ума и быстрой сообразительности) тем, что, в то время как другие (я имею в виду, естественно, тех, которые участвовали в конкурсе) стремятся только к тому, чтобы была какая-нибудь рифма, не обращая внимания на многочисленные бессмыслицы, Молина выражает свои мысли изящным метафорическим языком. Но самое главное все же состоит в новом содержании искусства куплетистов, которое уже заглядывает в «будущее», если понимать под таковым социальное положение народа.
Это заставляет задуматься. Признаюсь, что зрелище было для меня открытием. Я вспоминаю, что в Китае созданы школы (очень кратковременные) для этих народных певцов, которые идут от деревни к деревне, «пересказывая» события и легенды, несколько напоминая манеру исполнения классических романсов слепцов. Школа не ставила себе целью превратить их в культурных поэтов, а стремилась лишь видоизменить их миропонимание для того, чтобы в своих рассказах они говорили не о трагедиях и суевериях, а имели в виду реальные потребности и надежды обыкновенного человека, поддерживая их и вместе с тем черпая в них вдохновение. У нас же это явление начинает проявляться стихийно,
167
Слово «надежда» часто звучало в устах куплетистов в тот солнечный вечер, тишину которого нарушали жалобные звуки их гитар. И народ принимал их слова с энтузиазмом и даже со слезами. Мне показалось это откровением. Это значит (и я верю в это), что подлинная культурная политика не может не учитывать тот факт, что большая часть народа впервые соприкасается с искусством посредством этих элементарных форм поэзии. При этом характерно (и я теперь понимаю, насколько проницателен Грамши, когда он говорит, что народ всегда «содержателен»), что, хотя слушатели приходят в восторг от музыкальности рифм, отдаваясь ласкающей их слух фразе, больше всего они чувствуют и оживленно приветствуют то, что говорится,— внутреннее содержание. Почему же тогда не мечтать о воспитании куплетистов? И разве не могли бы они стать интерпретаторами, в положительном смысле, насущных требований народа? Этим народная поэзия вернулась бы к истокам куплетистов, к целенаправленной традиции Идальго, вместо того чтобы повторять полуанархистские фразы, наподобие Мартина Кастро...
Я не хочу сказать, что поэзия должна стать именно этим. Поднять народ до уровня подлинной поэзии — вот что является действительно существенной проблемой коллективного воспитания (трудно осуществимой без изменения социального строя). Однако главное заключается в следующем вопросе: почему народу так нравится поэзия куплетистов, что он готов пойти на чествование одного из них, уплатив по два золотых песо за вход? Может быть, это потому, что язык куплетистов, каким бы бедным и неуклюжим он ни был, обнаруживает ощутимую связь с народом? И не следует ли, наоборот, предположить, что язык так называемой «культурной поэзии», особенно в ее абстрактных формах, не доходит до чувств народа (я не говорю уже о его разуме)? Недооценка этого факта объективно является рецидивом интеллигентского высокомерия, которое продолжает смотреть на культуру (если хотите, даже благожелательно) как на достояние элиты...
Апокрифические содержания
Все сказанное выше не надо рассматривать как попытку сделать широкое обобщение, у нас было лишь намерение действенно подойти к решению конфликта между формой и содержанием культурного явления, которое надо понимать как единый целостный процесс; при этом нельзя думать, что существует одна культура для одиночек, знающих секрет ее расшифровки, и другая, называемая народной,— своего рода патернализм, применимый для значительного большинства населения, которое снисходительно считают низшим.
Всегда, когда мы говорим о народной культуре, мы понимаем под этим собственно культуру во всем ее величии, без всяких ограничений, культуру, которая является народной потому, что она национальна. Подходящим примером такой культуры явился Шекспир. Меня беспокоит мысль, что в этих словах кто-нибудь сможет усмотреть указание на определенные литературные стили, на школы, которым надо подражать, или на образы, которые надо формально воспроизводить. Я только называю различные направленности культуры, напоминая, что не всегда ее массовое распространение представляет собой синоним ее подлинной народности, то есть связи с подлинным народным элементом независимого национального развития; в этом отношении аргентинский пример является печально поучительным. Однако непризнание фактора большинства как признака подлинной культуры еще не означает признания, что таковым является избранное меньшинство, как воображают некоторые культурные кланы, находящие удовлетворение в одиночестве.
Разумеется, проблема более сложна. Однако нет никакого сомнения, что в условиях ломки нашей культурной целостности народ оказался как бы обезоружен расстоянием, отделяющим его от тех, кто мог предоставить ему инструменты, способные сократить поиски пути,
169
Многообразный и тонкий механизм отчуждения, движимый иногда тоской по желаемой заморской культуре, привел к ломке слабой, но подлинно национальной линии преемственности. Возможно, вторжение иммигрантского элемента, который явился со своей стороны создателем новых и плодотворных культурных явлений, первоначально содействовало этой ломке. Хотя у нас и существовала оригинальная поэзия, созданная анонимно у очагов и в харчевнях, очевидно, что очень скоро мы перестали обращать внимание на эту линию развития национальной культуры.
В стране, нуждающейся в глубоком синтезе культуры, стали намечаться, если хотите, два культурных течения, являвшихся выражением социальной дихотомии, редко проявлявшейся с такой ясностью в других местах. Таким образом, культурное прошлое не живет полнокровной жизнью как народный субстрат, который из поколения в поколение сохраняет в разных формах свое национальное содержание. Оно, может быть, живет среди элит как книжное увлечение, тогда как в простом народе, особенно в «бедных провинциях», всегда имеет тенденцию сохраниться как лишенная жизненности фольклорная археология, искаженная разлагающей деятельностью радиовещания.
У нас эта постоянная линия развития прерывается и в то же время паразитически растет литература, представляющая собой скорее результат мудрых лабораторных манипуляций, чем выстраданную самой плотью республики действительность. Правда, мы имеем Пайро, Линча и многих других, продолжающих дело Сармиенто. Однако у наших писателей часто можно заметить преобладание чужой интонации, показывающей, что в своем отношении к народу-нации аргентинские писатели более иностранцы (то есть более чужды ему), чем иностранные писатели.
Борхес дал теоретическое обоснование этому обстоятельству. «Позвольте мне, — говорит он1, — сделать маленькое признание. В течение многих лет в книгах, к счастью сегодня забытых («Луна напротив», «Эваристо Каррьего» и много других), я сделал попытку отобразить 1 Jorge Luis Borges, El escritor argentino y la tradición, в «Cursos y conferencias», Buenos Aires, № 250—252, enero — marzo, 1953, p. 520.
|70
колорит окраинных районов Буэнос-Айреса; естественно, что у меня было много местных слов, я не отказался от таких слов, как cuchilleros, milonga, tapia и другие. Так я написал те легко забываемые и забытые книги; потом, через год, я написал книгу под названием «Смерть и компас», являющуюся изображением своего рода кошмара, в котором проступают некоторые черты Буэнос-Айреса, очень реформированные ужасным кошмаром: так, я имею в виду проспект Колумба, но, называя его Rué de Toulon, имею в виду виллы Адроче и Темперлей, но называю их Triste-le-Roy. Однако все мои друзья сказали мне, что в конце концов во всем написанном мной они почувствовали колорит пригородов Буэнос-Айреса. Я думаю, что именно потому, что я не ставил себе целью найти этот колорит, а отдал себя во власть воображения, мне удалось спустя столько лет достигнуть того, что ранее я напрасно искал»1.
Софизм этого высказывания состоит в предположении, что местный колорит (то есть надуманность изображения) является типическим показом национального и что, следовательно, аргентинскому писателю запрещено обращать внимание на то, что происходит за пределами национальных границ. «Думаю, что идея о местном колорите, — пишет Борхес, — является относительно новой и, без сомнения, европейской, и националисты должны отвергнуть ее как иностранную. Когда они говорят, что мы должны быть аргентинцами, то говорят нечто уже сказанное (меняя лишь слово «аргентинец») в Европе, что является недопустимым»1 2.
Речь идет именно о необходимости признать, что все это было сказано в Европе при аналогичных обстоятельствах в период возникновения самостоятельных наций. Поэтому нет ничего более уместного, чем подтвердить 1 Позднее, говоря в одном из комитетов радикалов по поводу «национализма и словесности», он сказал, что «мы еще не знаем, каковы пределы и возможности аргентинского, и быть аргентинцем должно являться для писателя фатальной необходимостью, а не искусственным результатом собственного решения». Для Борхеса «процесс эстетического творчества является довольно сложным и таинственным, для того чтобы без риска подчинить его заранее предусмотренной цели быть подлинным выражением аргентинского» («La Prensa», Buenos Aires, septiembre 12 de 1957).
2 J or g e Luis Borges, El escritor argentino y la tradición, в «Cursos y Conferencias», № 250—252, enero — marzo, p. 519.
171
необходимость этого явления теперь, когда мы находимся накануне утверждения нашей подлинной независимости. Не нужно особой хитрости, чтобы увидеть в замене проспекта Колумба на Rué de Toulon тенденцию отказа от национального, совпадающую с империалистической политикой ущемления нации. Я не хочу впадать в упрощенчество и искать непосредственную причинную связь между этими двумя явлениями, я хочу лишь отметить их. Однако не менее верно также, что, когда в стране народ начинает вести национальную политику, эта интеллектуальная отчужденность имеет свои корни в явлениях более глубоких и решающих, чем отсутствие яркого местного колорита.
К утонченностям эстетствующей литературы и к созидательной силе другой литературы, не получившей еще соответствующего отзвука, следует добавить голос «народной» сублитературы, представляющей собой самую явную дегенерацию национально-народного. Как бы незначительны ни были статьи Эдуардо Гутьерреса, они свидетельствовали об определенной связи его с народным чувством своего времени и были до смешного национальными; статьи радиовещания, которые сегодня их заменяют, порывают последние связи с национальным, не оставляя нам даже утешения в том, что мы сможем приобщиться к подлинно национальному других народов. Эти статьи — зловонный суррогат, с помощью которого пытаются истощить народное сопротивление. Если представить себе, что для многих районов страны этот суррогат является единственной духовной пищей, тогда со всей очевидностью и драматизмом выявятся масштабы колонизации Аргентины.
Мне понятно: некоторые могут впасть в то, что следовало бы назвать «иностранноманией», думая, будто все, что происходит у нас, неисправимо плохо и что за границей можно найти обетованную землю. Этим они сваливают на народ вину, которая на самом деле является виной тех, в чьих руках находилось культурное руководство страной. Я знаю, что это глупо \ но глупо
1 Некоторые моралисты впадают в пессимизм, ибо их проповеди не приносят желаемого результата, «и вместо того, чтобы сделать вывод о своей неспособности, они считают удобнее сделать вывод о низком уровне всего народа» (Antonio Gramsci, Letteratura е vita nazionale, ed. Einaudi, Turin, 1950, p. 170). 172
также (и реакционно) было бы проклинать все иностранное, о чем теперь с таким неистовством пишут, как будто национальная культура для сохранения своей самобытности нуждается в провинциальной изолированности. Вести национальную линию вовсе не означает отгораживаться от плодотворного опыта, который может дойти до нас извне; поэтому те, кто говорит, что у нас слишком много Павезе или Пратолини, напоминают мне того сенатора, который злился на паровозы, потому что они по происхождению гринго, и, чтобы сохранить национальную чистоту, предпочитал карету...
Я хочу со всей ясностью подчеркнуть следующее: когда мы говорим о ломке или прерывании линии национального развития, мы имеем в виду длительный, иногда еле заметный, иногда явный, процесс отрицания подлинно национального на основе различных способов отказа и замены подлинной действительности воображаемой, все очарование которой зиждется на вненациональном мираже. Но если нам необходимо усваивать достижения экономически более развитых стран, ничто не сможет помешать нам одновременно усваивать те достижения, которые человечество считает наиболее ценными в области духовной деятельности, несмотря на то, что эти достижения не возникли в пределах наших национальных границ.
Во всяком случае, нас беспокоят не внешние формы, в которых передается эта культура, а то ложное содержание, которое под видом новых форм пытаются протащить контрабандой. Следовательно, разрыв в развитии национальной культуры происходит не потому, что мы обратили внимание на формы обновления стиля, как это в свое время сделал Эчеверриа, а потому, что само содержание культурной деятельности оказалось оторванным от нужд народа-нации в силу того ложного сознания, которое поощрялось олигархией с помощью тонких и настойчивых ухаживаний.
Пути новаторства
Наиболее важной проблемой, стоящей перед аргентинцами в области культуры, является завоевание единого языка для осуществления единой национальной политики. Единый язык есть в данном случае не единый стиль, не единая школа, но нечто более важное, чем все это, а именно одинаковое историческое понимание нашей национальной индивидуальности, и только этим путем мы когда-нибудь сможем прийти к единству. Так как в данном случае я не провозглашаю эстетических положений, а ограничиваюсь лишь констатированием объективных фактов, мне кажется совершенно очевидным, что расстояние, отделяющее создателей культуры от народа, является прежде всего основой противоречия в оценке содержания культуры.
Если народ не приближается к ценностям, которые считаются наиболее значительными (к так называемой «художественной литературе»), и вместо этого довольствуется теми проявлениями культуры, которые когда-то нашли свое выражение в сайнете и танго, хотя теперь, кажется, сближаются с провинциальным фольклором, то это не обязательно составляет проблему в области культуры, в том ограниченном понимании, которое вкладывают в нее профессионалы. Но если под культурой понимать (как я уже многократно говорил) совокупность обычаев и результатов творчества народа, тогда очевидно также, что есть основания для существования инстинктивной культуры, тянущей народ к уже изжитым формам, в которых он, однако, находит отражение своей самой подлинной идиосинкразии.
Задача состоит не в установлении степени ценности этих народных форм, а в определении того основного препятствия, в силу которого у народа не находят отклика некоторые продукты культуры, считающиеся высшими. Мы страдаем не только от неудачных последствий одиночества, о которых говорит Комфорт, но и от общей 174
несообразности, ведущей к последовательной денационализации нашей культуры. Я хочу сказать, что пороки, свойственные культуре в капиталистическом обществе в целом, умножаются у нас потому, что к ним добавляются все недостатки, вызванные нашим положением зависимой страны.
Мы оказались колонизированными не только экономически, но и с помощью интервенции в области духа, искалеченного болезненными операциями. Хорошо или плохо, но народ реагирует на это более чутко, чем так называемые культурные классы, и поддержка, оказанная возрождению фольклора — как бы ни были достойны порицания с точки зрения эстетики те грубые фальсификации, которым он подвергается, и даже несмотря на его наглое политическое использование, — представляет собой исходную точку национального сознания, носителем которого в области культуры является народ.
Мы были бы недальновидными, если бы не заметили в этом примет того нового коллективного состояния, в которое культура должна войти как постоянная и эстетически реабилитированная социальная ценность. Грамши пишет о своей стране следующие слова, которые являются как бы портретом самой Аргентины: «В Италии же термин «национальный» имеет очень узкое идеологическое значение и, во всяком случае, не совпадает с «народным», ибо интеллигенция в Италии далека от народа, то есть от «нации», и, напротив, связана с кастовой традицией, которая никогда не была разбита мощным политическим народным или национальным политическим движением снизу... нет тождества мировоззрения «писателей» и «народа». Иными словами, писатели не живут народными чувствами, как своими собственными, и не играют «национально-воспитательной» роли, то есть они не ставили и не ставят проблему развития чувств народа, после того как последние пережиты ими и сделались их собственными чувствами» Г
Вот почему основная проблема состоит в этой новой жизни народных чувств, идущих из самых глубин, жизни, которая уже становится основной характерной чертой
1 Антонио Грамши, Избранные произведения в трех томах, т. 3, Издательство иностранной литературы, 1959, стр. 519, 1520, 518.
175
нового положения в Аргентине. Наступает такой момент, когда разобщенность не может больше продолжаться без риска превратиться в позорный отказ от фактора национального,— момент, когда ложное сознание уже обладает всеми необходимыми данными для его понимания, так что продолжать приводить его теперь в качестве оправдания значит повторять недостойную внимания оговорку. И хотя верно, что любое изменение содержания культуры требует значительных изменений в самом обществе — и это объясняет, почему народ всегда является «содержательным»,—не менее верно и то, что новые формы вбирают в себя необходимые данные для того, чтобы обновленное содержание смогло легко и широко развиваться. «Содержательная» воля народа, если можно ее так назвать, на практике означает расширение демократии, потому что она содержит в себе стремление к новой культуре, не всегда заранее предугадываемой в ее сокровенных чертах. Это явно имеет место среди нас, поэтому я понимаю отвращение, с которым смотрят на этот процесс те, кто видит в культуре только частности, утонченности и эстетизм. Оранжерейный цветок, чуждая прививка на теле нации, не выдерживает обилия кислорода, свежего воздуха.
Я не забываю, что смешение культуры с примыкающими к ней обслуживающими элементами приводит к противоречиям. Национальная культура — это такое явление, которое создается не раз и навсегда в совершенном и даже обоготворяемом виде. Это многогранный и изменчивый процесс, противоречивый и неясный, составляемый теми бесчисленными проявлениями, которые выражают историческую преемственность народа. Возможно, что политик, роль которого в истории состоит в осуществлении подлинного изменения положения вещей (я говорю о политике в подлинном смысле, о политике как созидателе, а не в нарицательном смысле), выразит необоснованное беспокойство тем, что дела не идут с желаемой им скоростью, возможно также, что в процессе национального развития различие темпов вызывает немало противоречий. Но в сущности это только формальные противоречия, часто зависящие от различий профессионального языка, потому что политик, когда он действительно является таковым, также создает культуру, несмотря на то, что он оперирует другими инструменте
тальными ценностями. Политик остро понимает необходимость изменения положения народа, но не всегда понимает, что если обновленная культура может диалектически помогать этому изменению, то в свою очередь последовательные изменения в положении народа создают необходимые условия для развития новой культуры. Следовательно, взаимосвязь между положением народа и развитием культуры — это процесс диалектический, служащий по мере своего осуществления исходной точкой для любого качественного изменения социального положения народа.
Поэтому уже сейчас можно заметить, что выражения «народная культура» или «культура масс» теряют свой смысл, если смотреть на них с точки зрения, принятой нами в данном исследовании. Подлинно национальная культура и есть подлинно народная, и примеров более чем достаточно для того, чтобы доказать, что ее распространению не препятствует существование эстетических ценностей высшего порядка, как это пытаются доказать торговцы порнографической продукцией, основываясь — ложно—на вкусе публики. Национальная культура, основанная на общности подлинных и реальных чувств творцов культуры и народа, с необходимостью содержит в себе непреходящие черты народности и, следовательно, массовости. Культура является и народной и национальной, в противном случае она перестает быть культурой в своих основных проявлениях. Она не нуждается ^средствах, сохраняющих старое разделение между интеллигентами и народом, еще меньше она нуждается в снисходительности сторонников высшей культуры, основанной на вневременных благах, нирване для наслаждения избранных, и в такой народной культуре, или культуре масс, для которой предназначены лишь объедки с пира.
Такого рода народничество, которое иногда выдают за передовое течение, есть не что иное, как форма буржуазной мистификации культуры. В период создания первой республики трудящихся В. И. Ленин отверг сумасбродства «пролеткульта», который провозглашал отказ от культуры прошлого и тем самым стремился низвести свободных рабочих до состояния полукультурных людей. Как очень метко писалось, вся хитрость состояла в том, чтобы изобретать для пролетариата «вкусы, чувства и разум, сделанные по мерке, для того чтобы затем 12 Э. П. Агости 177
предложить их ему и навязать культуру, претенциозно приспособленную к этим вкусам и чувствам, к этим воображаемым потребностям» L
Я не сомневаюсь, что эти цели провозглашались с хорошими намерениями, но вижу, что это «приближение к народу» в сущности представляет собой проявление буржуазной идеологии, которая стремится сохранить свое господство в новых условиях и принимает для этого некоторые внешние формы новой революционной идеологии. Говоря о любви к народу, его обкрадывают и презирают, ибо считают неспособным понять другие продукты культуры, кроме тех, которые предлагают ему в достаточно малых дозах, приспособленных для приписываемого народу более низкого интеллекта1 2. Следовательно, задача состоит не в том, чтобы приблизиться к народу, а в том, чтобы быть народом в полном национальном и социальном смысле этого слова. При таком понимании культура, в которой нуждается народ, есть культура самого высокого качества. И мы принизили бы ее достоинство, если бы думали, что народная культура— это доброе вино, обильно разбавленное водой.
В этих условиях новое искусство представляет собой самое яркое выражение новой культуры. Как бы парадоксально это ни звучало, будет правильно, если мы скажем, что новшество тесно связано с культурным наследством каждого народа. Это две противоречивые, но взаимосвязанные стороны единого цельного процесса. Самое опасное, что могло бы с нами случиться (если исходить из этого положения), заключается в том, что мы впадем в вульгаризацию, если забудем, сколь сложна оценка произведений прошлого и насколько подвижно их постоянное человеческое содержание3. Сумма знаний, 1 J е а п Капа р a, Socialisme et culture, Ed. Sociales, Paris, 1957, p. 195.
2 История не нова. Уже Адам Смит, «чтобы предотвратить полное захирение этой основной массы народа, проистекающее из разделения труда, рекомендует государственную организацию народного образования в самых осторожных гомеопатических дозах». Но и этого показалось много его французскому переводчику и комментатору Г. Гарнье, для которого народное образование обрекло бы «на уничтожение всю нашу общественную систему» (см. К- Маркс и Ф. Энгельс, Соч , т. 23, стр. 375).
3 Я согласен со следующим высказыванием Канапа: «Марксизм в действительности не рассматривает развитие общества глазами
178
которая оставляется Нам Культурным прошлым, обладает в этом отношении сохраняющимся в различных формах общечеловеческим содержанием, и семейная атмосфера каждого исторического периода часто обнаруживает относительно однородный национальный дух в рамках противоречивого общества.
Вместе с тем очевидно, что, сохранив исторические связи с народом-нацией, новое искусство всегда возникает (или должно возникать) как результат новой культуры по мере того, как меняются социальные и, следовательно, психологические отношения общества, в которых человек живет и находит свое выражение. Это заметили в свое время Эчеверриа и, так же как и он, его поколение, о чем свидетельствуют такие работы Альберди, как «Предварительное замечание к изучению права» и «Введение к обзору поэтического творчества» !. Эти социальные отношения определяют нашу исходную точку. Наша традиция «консервативна» и одновременно «революционна» в том смысле, что она черпает свои силы в основных национальных течениях аргентинского народа для того, чтобы добиться национального освобождения, которое раньше могло нам только сниться, а теперь становится объективно вполне осуществимым.
Рассмотренный с этих позиций спор о форме и содержании культуры становится более ясным не только
выразителя Правосудия sub specie aeternitatis, а становится на историческую точку зрения... Культурное творчество — и вообще идеология — гибнущей общественно-экономической формации предоставляет новой идеологической надстройке последующих формаций «материал» в виде осуществленных ею достижений, познавательный элемент (в широком смысле — богатство во всех областях, то есть в науке, морали и искусстве), который она приобрела и обогатила. Следовательно, в исторической жизни идеологии одновременно существуют качественные скачки и относительная преемственность» (Jean Kanapa, Socialisme et culture, р. 198—199).
1 «Таким образом, наступило время приступить к завоеванию национального сознания, приложив наш разум ко всем проявлениям нашей национальной жизнц. И когда таким путем мы придем к осознанию того, что является подлинно нашим и должно остаться, и того, что экзотично и должно быть отвергнуто, тогда мы действительно сделаем громадный шаг на пути освобождения и развития, ибо не может быть подлинного освобождения, пока мы находимся во власти подражания иностранному или под влиянием авторитета экзотических форм» (Juan Bautista Alberdi, Fragmento preliminar al estudio del derecho, ed. Hachette, Buenos Aires, 1955, p. 52—53).
12* , 179
в его художественно-литературном аспекте, но и в плане культуры в целом. Уже неоднократно было показано, что сущность буржуазного национализма состоит в провозглашении единства, или общности, культуры в качестве тонкого идеологического инструмента для сохранения идеологического господства и политической гегемонии эксплуататорских классов. Этим пытаются скрыть тот факт, что с точки зрения содержания в обществе, разделенном на классы, существуют две культуры в рамках нации, считающейся единой. Но истинно также и то, что в латиноамериканских странах это внутреннее противоречие допускает возможность временного единства перед лицом основного врага, который наряду с нашими богатствами отбирает у нас духовные и моральные атрибуты независимой нации Ч
Но даже признав эти особенные условия в процессе современного развития Латинской Америки, необходимо отметить, что в формировании новой культуры народ выступает как «содержательный» элемент и даже, может быть, сам того не зная, как новатор в противоположность утонченной и столь мудрой манере застывших в своем развитии учителей. Приоритет содержания в том виде, в каком он здесь провозглашен, предполагает в свою очередь изменения в формах выражения, однако если ставить вопрос в технически более узкой плоскости, хотя более широкой по ее ощутимой значимости, то здесь определяющим моментом является идеологическая направленность культуры или произведений искусства. Здесь Эчеверриа также удалось сказать свое слово. «Поэзия,— писал он,— это прежде всего идеи». Тут содержится намек на то, что социальная структура — это определяющий элемент культурной структуры. Это всегда особенно явственно видно в переломные моменты исторического развития. Именно потому, что культура по сравнению с материальными структурами в развивающейся стране не является отдаленной и малозначительной отраслью, Эчеверриа сумел также объяснить нам, что «абсурдно быть испанцем в литературе и американ-
1 В моей уже цитированной книге «Para una política de la cultura» я более подробно осветил этот вопрос, особенно в разделах 3, 4 и 5 первой части; к ним я и отсылаю читателя.
180
цем в политике» *, то есть что нельзя осуществить политическую свободу, пока сохраняется культурное угнетение.
И если правда, что прошлое является условием нашего сохранения и нашей революции в соответствующей нам (как независимой нации) линии развития, то на проблему культуры необходимо смотреть как на структурную проблему, обращая внимание больше на ее внутреннее содержание, чем на ее внешние формы. Изменения в историческом процессе — вытекающие главным образом из развития империализма и укрепления пролетарских революций— решительно изменяют характер национального, придавая ему новые формы. Столетие назад исходной точкой национального была буржуазия; в настоящее время она может быть лишь полезным союзником в зависимых странах, а центр тяжести национальнонародного переместился к новым социальным формированиям, которые и определяют новое лицо органических составных частей нашего населения. Любое новое содержание аргентинской культуры не может не быть связано с этим обстоятельством, если оно не стремится оставаться в положении своеобразного антиисторизма, бытия вне рамок конкретной истории.
Именно с этих конструктивных позиций, следователь-, но, необходимо рассматривать элементы нового, исходящие от народа. Тот факт, что мы отвергаем народничество как политику буржуазной мистификации, не означает, что мы отказываемся признать возникновение в народе элементов культуры, которые стремятся дать живое отображение нового общественного содержания. Новое— это не только технические находки (независимо от того, какого бы уважения ни заслуживало исследование формы), но и подлинное обновление, выражающее сегодняшние потребности народа и пути осуществления его чаяний. Эти ростки нового представляют собой лучшее в культуре, хотя (парадоксально!) кажутся самыми
1 Esteban Echeverría, Obras completas, ed. Claridad, Buenos Aires, 1951, p. 510. В уже упомянутом «Предварительном замечании к изучению права» (там же, стр. 55) Альберди пишет: «Обладать политической свободой и не иметь художественной, философской, промышленной свободы — это значит иметь руки свободными, а голову в цепях».
181
худшими, потому что не достигли еще в отношении техники и формы совершенства старой культуры.
Это не значит, что мы отказываемся от старых одиноких мандаринов, гордящихся своим умением, превращающим их иногда в простых ¡переписчиков; мы говорим лишь, что необходимо обратить больше внимания на новое, рождающееся иногда в темноте и отражающее тенденцию разорвать антигуманистические ограничения общества, основанного на расчленении способностей человека в силу существующего разделения труда. Самое значительное в аргентинской современной действительности определяется этим проявлением нового, возникающего в области литературы, техники, искусства, в университете. И какими бы неуклюжими на первых порах ни были формы этих новых проявлений, они диалектически отражают новое содержание национального общества.
ЧЕТВЕРТАЯ ИНТЕРМЕДИЯ
Философия третьего дня творения
НЕОБХОДИМАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ
В течение долгого времени было модно называть Америку континентом третьего дня творения. Не знаю, может быть, с помощью этой метафоры хотели подсластить пилюлю, не знаю также (и не придаю этому большого значения, хотя подозреваю, что дело обстоит именно так), хотели ли ссылкой на великолепную пышность нашей действительности заставить нас забыть, что эта действительность продолжала в сущности оставаться неизменной, как будто еще не появился человек шестого дня творения или как будто этот человек, созданный с определенной корыстной целью, обязательно должен прибыть извне, из держав, занятых разграблением американских богатств. Однако сегодня образ третьего дня творения уже не удовлетворяет нас, сегодня мы начинаем спрашивать себя все более часто, кем мы являемся, для того чтобы более достоверно знать, кем мы должны стать.
Уже постановка такого вопроса свидетельствует о том, что в Америке происходит нечто новое. Я предпочитаю говорить об этом без метафор: теперь имеет место процесс, утверждающий национальную независимость всех американских народов. Я не хочу вступать в спор о том, сыграла ли «атомизация» Южной Америки более века назад на руку державам, стремящимся занять место испанских колонизаторов. (Во многих отношениях это, кажется, не вызывает сомнений, хотя в таком случае не следовало забывать об ответственности определенных креольских феодальных кругов за такое стимулированное или навязанное расчленение.) Но я знаю, что достижение национальной независимости этого расчлененного континента противоречит проискам империалистов, рассматривающих нас в качестве пешек, расставленных «в пределах Запада». Подлинная, реальная национальная независимость, не декларированная, не написанная рукой для речей, чтобы быть стертой локтем на пцнам§- 183
риканских конференциях, оставляет далеко позади в туманной дали обманчивую литературную философию третьего дня творения.
НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ
Бернардо Канал Фейхоо совершенно справедливо говорил \ что история культуры выступает как история борьбы за независимость, потому что «непонятно, как можно представить себе политическую независимость, не предполагающую культурной автономии (индивидуальности)». Однако эта культурная автономия заставляет думать о культуре как о совокупности материальных и духовных ценностей, неотделимых от их исторического субъекта, который никогда не является чем-то пассивным, как правильно замечает Канал Фейхоо. Следовательно, становление культуры, как процесс активного выступления этого субъекта, должно идти снизу вверх посредством обмена, позволяющего национальным культурам свободно вступать во взаимосвязи; конечно, имеется в виду связь между равными, дающая каждому народу возможность стать самим собой. Фейхоо, автор «Пределов Запада», заявляет, что эта возможность не декларируется, ибо «универсальность» культуры наряду с развитием науки и техники «связана с силами материальной экспансии великих держав, то есть с экономическим или политическим, или, вернее, политико-экономическим империализмом». Так (мне кажется) мы постигаем первый и очень важный элемент для объяснения нашего знаменитого третьего дня творения.
Не отказываясь рассматривать более отдаленные объяснения этой «пышности», которая преподносится нам в качестве метафизического обмана, возведенного в степень общеизвестной истины, стоит, однако, подчеркнуть это энергичное требование независимости. Почему? Потому что в наши дни имеют хождение другие версии, также претендующие на общее признание. Основная из этих версий пытается уверить нас в том, что мы неизбежно осуждены жить в «едином мире или в никаком». И если, согласно этому широко распространенному
1 Bernardo Canal Feijóo, Confines de Occidente, Notas para una sociología de la cultura, ed. Raigal.
184
мнению, в эпоху термоядерного оружия не существует даже отдаленной возможности мирного сосуществования, то наилучшая линия поведения наших народов должна была бы состоять в отказе от суверенности.
«Международная организация,— писал, например, не так давно доктор Энрике Гавиола, продолжая серию работ об атомной бомбе,— имеет тенденцию идентифицироваться с одной из великих держав. Чтобы приступить к перевоспитанию целого мирового поколения, необходима большая смелость со стороны нации, которая предпримет его. Если оно должно быть осуществлено мирным путем, необходимо, чтобы другие державы позволили это сделать, если же они на это не согласятся, альтернативой будет вооруженный мир или война» Г
Я не собираюсь угадывать действительные намерения автора этих строк, однако нет никакого сомнения, что эта теория — даже при условии сохранения, как предполагает Гавиола, «культурной автономии» для наций, отказывающихся от самостоятельности,— ведет к отказу от национального суверенитета. А без национальной независимости, представляющей собой политический акт, культура не может существовать или существует как навязанная культура, угнетающая и уничтожающая любые ростки творчества.
Мне могут возразить, что исследования национального бытия чужды или стоят выше этой политической перспективы. Тем не менее они не столь чужды, как это может показаться, если погрузиться в онтологию, игнорирующую реальные условия, в которых происходит деятельность исторического субъекта. В конце концов добрая часть отчаяния многих американцев (и аргентинцев) есть результат недооценки Америки при содействии некоторых так называемых ее сыновей. Вот, например, что я прочитал в одной из поэм Нарсисо Поуса1 2.
Слышу я сельвы голос глухой: Одинокий народ жаждой томим, Окружен страхом, безумьем, нуждой.
1 «Un mundo о ninguno», colección dirigida por Dexter Masters y Katherine Way, trad. de Carlos E. Prélat, ed. American Books, Buenos Aires, 1946, p. 13.
2 Narciso Pousa, Los preludios, ed. Reunión, Buenos Aires, 1953, p. 79—80.
185
О Америка сухих равнин, О Америка пышных лесов, Живущая в похоти и страданиях, Оскорбленная сотнями беглецов. Сыновья твои злостью изранены.
Мне могут сказать, что здесь нет решений. Действительно, здесь их нет. Есть просто разочарование, чувство одиночества, на которое указывают известные стихи Юнга, взятые Поусой в качестве эпиграфа: This is the desert, this the solitude... Но я избрал эту поэму как наиболее показательную, ибо если поэт, который не ставит никакой социальной цели своей поэзии, так, сразу, раскрывает нам драму Америки, то это означает, что эта драма уже достигла таких размеров, что охватывает все проявления подлинного американского существа. Чувство отчаянного одиночества может быть началом подхода к драме Америки. Это чувство законно, пока не приобретет риторическую форму, потому что представляет собой, если хотите, крик возмущения некоторых социальных групп, которые начинают осознавать эту проблему, хотя еще и не подошли к ее историческому решению. Это чувство отчаяния является также формой непокорности третьему дню творения, а, может быть, также своеобразным выступлением против внешних факторов живучести третьего дня творения.
РАЗВЕ МЫ ВНЕ ИСТОРИИ?
Пока не приобретет риторическую форму... В нашей коллективной психологии существовала бы некоторая постоянная, способная вечно удерживать нас в рамках третьего дня творения. Это и есть другая версия, возведенная в категорию общеизвестной истины: предположение о нашей неспособности к самоуправлению. Канал Фейхоо очень метко замечает, что «нужно еще посмотреть, в какой степени этот аргумент содержит в себе досаду изгнанного испанца или хитрость новых сторонников колониального порядка, которые появляются в связи с экспансией промышленного капитала. В связи с этим очень важно не искать слишком глубоких и убедительных доводов относительно независимости Латинской Америки, чтобы и определенный момент облегчит^ 186
новые возможные колониальные завоевания, которые угрожают как со стороны священных союзов старых империй, так и со стороны не столь священных империалистических держав1. Тут мы снова сталкиваемся с подлинными «истоками американской драмы. Но когда эта американская драма переосмысливается, приобретая риторическую форму, тогда мы погружаемся в самые глубокие пропасти безоговорочного осуждения; тогда американские страны кажутся уродливыми организациями, изгнанными из истории, почти лишенными будущего, и тогда эта неспособность, поднятая до уровня общеизвестной истины, уступает свое место чувству вины, падающей на всех американцев именно из-за этой их неспособности.
Мне кажется, что такое отношение очень симптоматично описано Мурена. «Мы населяем страны, расположенные вне притягательного круга исторического, — пишет он, — страны, к которым история только протягивает руки в поисках материальных ресурсов»1 2. Неужели только разочарование в будущем Америки диктует эти фразы? Думаю, что их вызывает нечто более серьезное, а именно принятие почти психоаналитической теории (которая хотя и имеет теологическое объяснение) мешает видеть подлинные причины, душащие Америку. Согласно этой теории, американцы якобы виновны во втором «первородном грехе» против Духа. Мы воплощаем собой обездоливание духа и истории с того момента, когда покинули Европу, чтобы укорениться в Америке, и должны выступить против европейского отечества в качестве отцеубийц, потому что в отцеубийстве и состоит освободительный смысл нашего существования.
Весьма показателен в этой связи следующий отрывок: «Гигантизм Соединенных Штатов Америки — это показатель недостатка у них времени для творчества. И безумное стремление материально превзойти все европейское есть опространствление времени, религия пространства. Фальшивая гипотеза и обманчивая убежденность, что Америка должна стать надеждой Европы, 1 Canal Feijóo, Confines de Occidente. Notas para una sociología de la cultura, ed. Raigal, Buenos Aires, 1954, p. 73.
2 H. A. Murena, El pecado original de América, ed. «Sur», Buenos Aires, 1954, p. 163.
187
обращается теперь против Европы и всего мира, потому что Америка, остановленная на пути осуществления своих отцеубийственных стремлений и обманутая в своих надеждах на освобождение тем соглашательством, за которое — даже совсем не желая этого — ответственны все, душит теперь мир религией пространства, насаждая в этом мире все то отрицательное, что возникло в то время, когда она жила в ожидании собственной жизни. Этот процесс, который мы наблюдаем и переживаем, является, кажется, одной из самых ужасных и непонятных форм исторического отцеубийства. Тотальная историза- ция мира со стороны Европы требует, чтобы весь мир включился в длительное и тяжелое отцеубийственное движение дочери Америки... Единственный способ преодолеть отрицание — это его осуществление сразу, до конца... Нам ни к чему продолжать смотреть на. прошлое и приумножать обман, чтобы задержать отцеубийство и тем самым ущемить свои интересы»1. Американцы— виновные, подстегиваемые своей виной, смутно сознающие эту вину — были бы, таким образом, спасены и включены в историю благодаря осуществленному Соединенными Штатами Америки чудовищному отцеубийству. Это и есть путь, который нам предлагают для осуществления отрицания отрицания1 2.
1 Н. A. Murena, El pecado original de América, ed. «Sur», Buenos Aires, 1954, p. 41—42.
2 Канал Фейхоо предполагает, что перед колониальным, или империалистическим, насилием должны существовать «неизбежные психические результаты», которые вызвали бы «чувство унижения, более или менее дополненное чувством виновности». В связи с этим он приводит отрывок из «Основ» (гл. XV), в котором Альберди утверждает, что «наша неопытность и моральная неустойчивость заставляют нас предполагать при наших внешних конфликтах нашу виновность перед миром». Мне кажется, что приписывать психологическое значение выражению «предполагать нашу виновность», имеющему в данном случае юридическое значение, — значит злоупотреблять словами. Этот отрывок обосновывает требование Альберди мирной организации республики, ибо несколькими строками ниже он пишет: «Образ американского величия — не Наполеон, а Вашингтон, и Вашингтон олицетворяет не военные победы, а процветание, возвеличивание, организованность и мир», — и, чтобы быть еще более ясным, он добавляет: «Золотой колос мира стоит на языке экономиста дороже, чем на языке поэта». Здесь Альберди явно выражает свое желание организовать республику на капиталистической основе, что, естественно, требует порядка и единовластия для обеспечения безопасности первоначального накопления капитала.
188
Здесь в другой форме мы снова встречаемся с апокалиптическим образом «единого или никакого мира», в котором Соединенные Штаты Америки приняли на себя — с неизбежностью — функции ангела-разрушителя. Однако схема «отцеубийства» препятствует обнаружению безжалостной «братоубийственной» деятельности, осуществляемой ангелом разрушения на американской земле: Гватемала — это одна из последних еще трепещущих жертв, если не предположить, что в этом «братоубийстве» Соединенные Штаты играют роль ангела-искупителя наших грехов, избавляющего нас от нашего первородного греха. Непрочность этого теолого-психоаналитического объяснения становится очевидной, как только мы обращаем внимание на господствующую роль североамериканского империализма в жизни нашего континента, так как получается, что Соединенные Штаты — которые тоже Америка и тоже стоят «вне притягательного круга исторического» — протягивают нам руку только в поисках материальных ресурсов.
Такова наша роль, наша полуколониальная функция, поддержанная теориями вины и неспособности Америки к самостоятельному развитию (Америки, в которую, естественно, не включают Соединенные Штаты). И когда народы Америки хотят выйти из состояния подчинения, Мурена предлагает им «отцеубийство», правда,духовное отцеубийство. Но отцеубийственная рука не удовлетворяется царством духа, она стремится размахивать молнией Зевса, обрамленной сегодня термоядерными ужасами; и кажется, нас тащат к этому ужасу, от которого, справедливо будет заметить, содрогается также и Мурена,— к ужасу, который якобы должен очистить нас от отцеубийства... и снова — «единый мир или никакой», потому что, кажется, все строится на основе Европы,
Как видно, вопрос явно юридический и даже экономический, но совершенно не психологический. Верно также, что и сам Канал Фей- хоо показывает, какую опасность представляет введение психиатрии в качестве общего правила интерпретации исторических событий, и утверждает, что те, кто становится на эту точку зрения и принимает ее терминологию, могут оказаться на стороне угнетения, требующего исправительных мер (политических? полицейских?) против «угрызений совести», «восстания рабов» и т. д. Здесь нас предупреждают также об опасности «первородного греха» и «отцеубийства». При этом не имеют никакого значения субъективные намерения проповедников этих идей.
189
понимаемой как целое, и другой Америки, также рассматриваемой как целое, и обе являются частями третьего целого, без трещин, называемого «западным миром», возможной окраиной которого мы и являемся.
Являются ли в таком случае строго нерушимыми внутренние границы этого единого мира, который, однако, противится этому единству? Хосе Луис Ромеро, хотя еще и настаивает на старом разделении1, уже видит проблему более отчетливо, когда утверждает, что «может быть, западная культура начнет преследовать новые цели, подсказанные ей теми старыми культурами, которые вступили с нею в такую тесную связь», а это случится, продолжает он, «когда завершится уже начавшийся процесс упразднения социальных различий, созданных привилегиями». Таково движение, начатое нашими народами в прошлом, движение, которое они пытаются обновить в наши дни. Поэтому смотреть на это прошлое — не такое уж бессмысленное занятие, хотя этим, может быть, мы нанесем ущерб историческому нигилизму 'поелложенному Мурена.
ЧЕМ МЫ БЫЛИ И ЧЕМ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ
Не будет излишним посмотреть, чем мы были, чтобы попытаться увидеть, чем мы являемся <и чем можем стать. Канал Фейхоо справедливо напоминает, что заслугой поколения 37-го года явилось то, что оно ясно увидело, какие политические последствия предполагает решение проблемы культуры. Или, если сказать другими словами, их заслугой было открытие того, что культурная автономия, или национальная культура, немыслима и неосуществима без политической независимости. Именно в этом и состоит теория полного «распада» старого колониального режима, сформулированная Эчеверриа.
1 José Luis Romero, La cultura occidental, ed. Columba, Buenos Aires, 1953. Ромеро считает, что «универсальность» западной культуры в новые времена определяется прежде всего развитием техники. «Самый удивительный пример восприятия чужой культуры,— пишет он,— дает Япония, которая начала применять западные производственные методы, очень скоро позволившие ей соревноваться со своими учителями». Таким образом, по крайней мере для этого этапа, западная культура идентифицируется с процессом развития техники при капитализме.
190
Является ли это американское событие действительно положительным фактором? Мне кажется, что это был единственный возможный для Америки путь, потому что это означало толкнуть силы демократической революции на ликвидацию колониальных пережитков и направить Америку по пути капиталистического способа производства. В конце концов тема аргентинской революции понималась только как взрыв социальных сил, угнетенных феодальным строем испанского колониального режима.
Но в мире явления никогда не представляют собой изолированных эпизодов, поэтому логично предположить, что «идеи», когда они соответствуют реальной действительности и овладевают массами, также представляют собой материальный фактор; они являются самым высоким человеческим достижением, способным подняться до теоретического обобщения. Надо думать, что идеи Великой Французской революции представляли собой единственный действенный идеологический фактор в процессе такого «распада» докапиталистической цивилизации (или исторического возникновения «западного мира»). Отсюда Канал Фейхоо делает вывод, что наша революция, как в период первоначальной вспышки, так и в ее проявлениях при жизни поколения Эчеверриа, должна определяться как «европейское событие». Конечно, в связи с этим он не выдвигает против нее обвинительного акта \ что было бы уже слишком, хотя все 1 Фермин Чавес, комментируя книгу Мурена, пишет («Capricornio, № 8, Buenos Aires, noviembre — diciembre de 1954, p. 58) следующее: «Необходимо, однако, раз и навсегда установить, что болезни современной аргентинской культуры имеют свое начало в работах того офранцуженного поколения, которое называлось поколением «37-го года» и которое из-за полного отсутствия у него веры в национальное и в молодежь нашей страны сделало так, что образованные классы выступили против всего американского в то ответственное время, когда необходимо было действовать в пользу рождающейся Америки». Нельзя себе представить большее количество нелепостей в таком небольшом количестве строк, ибо если говорить об исторической заслуге поколения 37-го года, то она состоит именно в том, что это поколение поставило национальную тему на повестку дня во всех сферах аргентинской жизни, вплоть до языка, включая, естественно, экономику и общество; они не сделали также глупости и не отгородились от идей внешнего мира. Конечно, если не предположить, что «рождающаяся Америка» была представлена доктриной, изложенной Росасом в его речи от 25 мая 1836 года, согласно которой наше освобождение должно было состоять лишь в перенесении «чувства порядка, преданности и вер191
время близок к этому. Конечно, он никогда не думал, как иногда говорили, что события того времени представляли собой уродливое «отречение», поскольку вели к разрыву с Испанией, однако внутренняя логика рассуждений заставляет его рассматривать Росаса и феодальные пережитки как «факторы национального характера». Я не думаю, что можно установить различие между «внешними» доктринами, которые Канал Фейхоо приписывает поколению 37-го года, когда предполагает, что этим поколением двигали идеологические мотивы, исходящие из «европейского фактора»,и «автогенной» теорией, основателем которой он считает Митре и которая состоит в утверждении, что аргентинская революция происходит благодаря местным конкретным причинам !.
Такое различие кажется мне просто надуманным и, во всяком случае, принижающим историческую заслугу поколения Эчеверриа. Во-первых, потому, что преобразующие революции нельзя искусственно прививать в социальной среде, не обладающей соответствующими собственными условиями. Во-вторых, потому, что у самого Эчеверриа мы находим многократные выступления против рабского подражания признанным образцам. Его известная формула довольно категорична: «Мы должны всегда смотреть одним глазом на прогресс нации, а другим— в самую середину нашего общества». Его объяснения еще более ясны: «Какое нам дело до решений европейской философии и политики, не преследующих одинаковую с нами цель? Разве мы живем в том мире?.. Мир нашего опыта и применения наших сил и способностей находится здесь, мы его ощущаем, чувствуем его веяния, можем его наблюдать, изучать его организм и его условия жизни; и Европа мало чем может помочь нам в этом»2.
Мы не напрасно настаиваем на этом, ибо поколение 37-го года сумело использовать передовые идеи своего
ности», которые раньше относились к испанской короне, на «Национальное дело федерации», что означало оставить нетронутым колониальный порядок, переодетый лишь в другой наряд... в одежду гаучо.
1 Bernardo* Canal Feijóo, Confines de Occidente. Notas para una sociología de la cultura, ed. Raigal, Buenos Aires, 1954, p. 76—77.
2 E. Echeverría, Dogma Socialista, p. 122—123.
192
времени в качестве инструмента изучения и изменения национальной действительности, так же как это предстоит сделать нам в других исторических условиях. Следовательно, вполне разумно, как отметил Канал Фейхоо, не рассматривать «антииспанизм» лишь как признак культурного снобизма.
Однажды я уже делал попытки обосновать (пусть меня извинят за это напоминание) в книгах «Навигационная книга» и «Эчеверриа» общие причины такого «антииспанизма», и в этом вопросе я не могу не согласиться с Каналом Фейхоо. Однако я считаю, что этот «антииспанизм» надо рассматривать прежде всего как выступление против колониального режима (и прежде, и теперь), как выступление против третьего дня творения. Поэтому замене слова «природа» словом «пустыня» 1 в словаре наших мыслителей я не придаю того значения, какое вкладывает в нее Канал Фейхоо. Я также не знаю (и пусть мне простят непочтительность), является ли та- каяподмена сознательной, обдуманной или преднамеренной, однако я знаю, что она не семантического характера. Она имеет под собой реальную основу: буржуазную цивилизацию, немыслимую без концентрации свободных создателей прибавочной стоимости, без увеличения населения, без «разрушения» пустыни, немыслимую без рынка.
Дело не в том, чтобы смотреть с тоской на старое ремесленное производство, а в том, чтобы открыть — почему до сих пор сохраняется третий день творения. Я уже говорил, что Канал Фейхоо обнаруживает своеобразную форму объяснения этого вопроса, когда говорит о ненормальности нашего перехода, имевшего место в момент экспансии промышленного капитализма, у которого проявляются первые признаки финансового империализма и который «оказал заметное влияние, прямое или косвенное, на консолидацию и дезориентацию оптимистически настроенной национальной олигархии». За исключением возражений, которые могут возникнуть по поводу так называемой «дезориентации», совершенно верно, что процесс, который Канал Фейхоо называет 1 Bernardo Canal Feijóo, Confines de Occidente. Notas para una sociología de la cultura, p. 61.
13 Э. п. Агости 193
«послеколониальным империалистическим наслаиванием» \ имеет в Аргентине по сравнению с другими американскими странами только формальные отличия; сущность же, для исследования которой сам Канал Фей- хоо много сделал в других работах1 2, остается неизменной. Она представляет собой соучастие «оптимистической олигархии» в пресловутом третьем дне творения, из-за которого к нам протягивают руки (сыноубийственнд? братоубийственно?) только в поисках материальных ресурсов.
БЫТЬ САМИМИ СОБОЙ
Я снова обращаюсь к поэме Поуса, к видению Америки, «безмерно оскорбленной столькими низменными сыновьями». Теперь наступило время осудить «низменного сына», и не только осудить, но и изгнать из общего дома. Все это не чуждо культуре. Более того, оно находится внутри самой культуры. «Самые высокие проявления культуры исходят из самых высоких форм общественного сознания», — пишет Канал Фейхоо. И он прав.
Это заставляет идти дальше этой декларации и охватить все общественное сознание, которое всегда действенно, активно и стремится не только объяснить, но и преобразовать мир. Уже сам по себе факт переживания драмы нашей земли говорит о кризисе сознания. Но одно страдание не сможет бесконечно существовать без того, чтобы причина, вызвавшая его, не привела бы к его драматической ликвидации. Теперь мы уж знаем, что национальная культура — не яро националистическая, изолировавшаяся от всех «контактов», а культура, выражающая общие черты национальности, — неотделима от национальной независимости, которая в свою очередь немыслима без преобразований в «пустыне», уже предвосхищенных в свое время аргентинцами поколения 1 Bernardo Canal Feijóo. Confines de Occidente. Notas para una sociología de la cultura, id., p. 81—82.
2 Bernardo Canal Feijóo, De la estructura mediterránea argentina, Buenos Aires, 1948. Вот один из примеров: «Как я говорил выше, в определенный момент железная дорога смотрит на автомобиль как на своего врага. Ибо первая представляет здесь европейский капитал, вторая — североамериканский, это соперничество представляет собой символический эпизод длительного спора между двумя экспансионистскими державами. Осуществление на практике закона Митре представляет собой одно из наиболее ясных отражений этого спора» (стр. 68).
194
37-го года; эти преобразования требуют усилий всех тех, кто стремится ликвидировать «состояние неполноценности», низменных сыновей и другие атрибуты, препятствующие свободному развитию наших народов. Таково наше положение, и об этом говорят исследования нашей природы. Однако необходимо развеять туман, необходимо покончить с темными объяснениями, необходимо уничтожить позорные пятна, которые история оставила на сознании Америки, когда ее пытались (напрасно) убедить в ее неспособности и несостоятельности. Мы должны уничтожить философию третьего дня творения, если мы, американцы (и аргентинцы в том, что касается нас), хотим распоряжаться своей собственной судьбой.
1 955 год
POST SCRIPTUM
Какой-нибудь премированный очеркист, вроде Мурены, может думать, что, выбирая независимость, мы осуществляем то, что он в своих психологических толкованиях деликатно называет призванием аргентинцев к самоубийству. Мурена пишет: «В течение двух лет, прошедших после падения Перона, эксплуатация нефтяных источников могла бы привести к полному экономическому восстановлению страны. Однако чувство национального достоинства быстро и шумно сошлось на одном: нс использовать нефтяные богатства. Суверенитет или смерть. Разумеется, как только становится ясно, что с заключением соглашения ни суверенитет, ни национальная экономика не пострадают, а, наоборот, получат от такой эксплуатации естественных ресурсов выгоду, мы сразу обнаруживаем, что в такой альтернативе ликвидирован один из терминов, и остается только смерть, смерть, избранная мстительной незрелой волей» !.
Пусть никто не заподозрит меня в том, что я вижу здесь какие-либо скрытые намерения, но так как Мурена проповедует отвращение к политике, я должен заметить, что он, может быть, сам того не зная, служит самой скверной политике,— во всяком случае, политике, которая настаивает на саморазрушительных нормах нашего первородного греха.
1 Н. A. Murena, Notas sobre la crisis argentina, в «Sur», Buenos Aires, septiembre — octubre, 1957, p. 6.
13* 195
Любопытно, что одновременно с такими психологическими рассуждениями руководители некоторых политических группировок, народных по своему происхождению, уже не говорят (или почти не говорят) об империализме янки, который втягивает нас в Южноатлантический пакт и включает в орбиту военных соглашений и «локальной» атомной стратегии. Это то же самое, как если бы нам предложили выбрать между Великобританией и Соединенными Штатами в расчете на то, что мы должны опираться на англичан, чтобы досаждать американцам.
Речь идет не о более или менее трескучих лозунгах, а о конкретных реальных фактах, и ни для кого не секрет, что пропагандисты за иностранное участие в разработке нефти хотят убедить нас в том, что страна получила бы огромные выгоды, если бы согласилась на в достаточной мере гарантированные контракты; другие даже считали, что это неизбежно является исходным моментом нашего капиталистического развития. Однако все эти предложения делаются в рамках выбора: или — или, в рамках теории, усердно рекламируемой североамериканцами, стремящимися заполнить «вакуум власти».
В Аргентине при решении этой проблемы даже люди, честность которых не вызывает сомнения, не выходят за рамки различных империалистических группировок; получается как в сказке о Бертольде: мы должны избрать дерево, на котором нас повесят. Однако сегодня страна, вступившая на путь независимого национального развития, может уже рассчитывать на возможность объективной поддержки со стороны социалистического мира. Индия, страна, которая во многих отношениях похожа на нашу страну, с большой выгодой избрала для себя такой путь. Почему же тогда мы должны связывать себя с теориями присоединения, вместо того чтобы использовать наши большие физические и человеческие резервы?
Мурена может верить, как он пишет, в то, что «олигархия— это состояние духа»1. Однако это не препятст1 Мурена считает по крайней мере неправомочным говорить об экономической основе кризиса, когда дело касается такой страны, как наша, «которая обладает одним из самых высоких уровней жизни в мире»; в этом его, по-видимому, убедили многочисленные толстые животы, до которых он, наверно дотрагивается, когда ездит в переполненных трамваях и автобусах (Н. A. Murena, Notas 196
вует тому, что аргентинская олигархия, лучше знающая свои классовые интересы, чем суетливый очеркист, который о ней пишет, делает попытку повернуть вспять национальное развитие. Социальный психологизм имеет свои осложнения. Мы должны его рассеять, если хотим располагать собственной судьбой.
1958 год
sobre la crisis argentina, в «Sur», Buenos Aires, septiembre — octubre, 1957, p. 5—6). Но помимо спорных заявлений относительно уровня нашей общественной жизни и профиля жирных животов, любой человек понимает, что, когда говорится об экономическом строе как об основе аргентинского кризиса, имеется в виду необходимость ликвидировать препятствия, воздвигнутые латифундиями и финансовым господством империализма, которые представляют собой реальные экономические категории, а не просто «состояние духа».
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Истинность и ложность национализма
Те, кому было 20 лет
1930 год часто рассматривают как начало сегодняшней Аргентины. Это не произвольно избранная дата, хотя история никогда не признает первых страниц. Но 1930 год был обыкновенным (и одновременно очень важным) переломным моментом, который ставил перед «теми, кому было 20 лет», серьезные вопросы. Как отдаленное эхо патетического позитивизма Агустина Альвареса, снова стали беспокоить нас важные вопросы: кем мы являемся и куда мы идем? Новелла Эрнста Глесера «Те, кому было 20 лет», изданная не всегда безгрешным издательством Кларидад, потрясла наши юношеские умы своим антивоенным гуманизмом, и те, кому тогда вот- вот должно было исполниться 20 лет, почувствовали при виде истерзанной беспокойной страны тревогу, напоминающую тревогу тех далеких ребят, которые однажды убедились в своем непонимании мира, расстроенного войной. И вот мы, аргентинские юноши (часть из которых уже начала понимать смысл социальных требований марксизма), оказались перед ломкой конституционной законности, ломкой, направленной против неспособного, но популярного каудильо. Тогда генерал Урибуру предстал как главный разрушитель реформистского (или просто либерального) университета, хотя в действительности он стремился ликвидировать независимость национальной нефтедобычи.
198
Рассмотренный под этим углом зрения, 1930 год выступает как дверь, открывшая дорогу самым важным конфликтам современной Аргентины. Причины этих потрясений постепенно накапливались в самом национальном обществе, но начиная с этого времени они стали раскрываться с драматической остротой, все более убедительно доказывая, что старые структуры представляют собой препятствие для последовательного развития страны. 1930 год — это в определенной степени также конец аргентинской belle époque, которую Максим Этчеко- пар характеризовал как исчезновение «сорви-головы», последнего убежища, .по его мнению, «креольской мифологии доблести»1. Belle époque — подобная той более старой, великолепие которой сохранилось в памяти молодых людей, мечтающих о том Париже, который существовал в их воображении, — принадлежала золотой молодежи, среди которой вербовались первые сторонники национализма, вдохновляемого, как бы это парадоксально ни звучало, из-за границы. Но позолоченная песня стад и пашен очень мало соответствовала интересам новых классов, борющихся за свое историческое место в реальной стране. Стада и пашни, породившие столько дешевой риторики, также исчезли в критическом вихре 1930 года.
Таким образом, 1930 год привел к пониманию кризиса, в условиях которого забастовки рабочих Буэнос- Айреса и Росарио явились протестом основных действующих лиц истории, для которых belle époque никогда не существовала. В конце августа 1930 года в заявлении для уругвайской печати тогдашний сенатор Диего Луис Молинари раскрыл сущность этих новых действующих лиц, описав ее столь же драматическими, сколь и преувеличенными штрихами: «Нам угрожает революция самых крайних левых, и наши противники, нападая на нас, не дают себе отчета в том, что они пытаются разрушить плотину, удерживающую воду. Такова истина. И пока мы можем удержаться, все будет идти хорошо. Но если мы покинем арену, то вскоре и они будут уничтожены». Однако олигархия предпочла сама присвоить себе роль удерживающей плотины. Год спустя 1 М á х i m о Etchecopar, Esquema de la Argentina, ed. Ene, Buenos Aires, 1956, p. 94—96.
199
генерал Урибуру возвращается к этому вопросу, утверждая, «что учебные заведения перестают быть учреждениями, предназначенными исключительно для разработки научных дисциплин, когда в них распространяются такие философские доктрины, как исторический материализм, руссонианский романтизм или русский коммунизм, отклоняющие их от интеллектуальной деятельности, от спокойного и упорядоченного анализа явлений жизни, составляющих науку, превращая их в очаги заинтересованного прозелитизма и грубых страстей...» 1
Под сенью этой новой удерживающей плотины процветала группа молодых интеллигентов «Новой республики», вдохновляемых шумным и безалаберным Луго- несом «времен шпаги». Большинство этих юношей теперь сторонники ярко выраженного антибританского национализма. В то время они были связаны с одной из первых попыток империализма янки ликвидировать, или по крайней мере ослабить, английское влияние в Рио- де-ла-Плата. Мы, естественно, не хотим упрекать за ошибки прошлого и не отрицаем для других возможность избрать собственный путь. Но эти юноши критиковали Иригойена не за недостатки радикального правительства, а за его плебейство, которое они с уничтожающей иронией разоблачали на страницах ультраконсервативной газеты «Ла фронда»; критиковали не за ограничение действительной демократии, а за то, что он выступил за необходимость ее иерархизации и национализации, требуя очистить ее от иностранного наплыва.
Следует отметить, что среди сторонников данного национализма звучал отдающий иностранщиной голос Чарлеса Маурраса как отголосок монархического легитимизма или Бенито Муссолини с его идеями корпоративной иерархии. Расцветший в эпоху 1930 года национализм— это национализм иностранного образца, хотя он и питает отвращение к иностранному и требует изгнания иностранцев, как это делает Рамон Доль в уже приводившихся строках.
Необходимо также подчеркнуть, что этот так назы1 Послание от 6 сентября 1930 года. Как легко заметить, язык политических наследников урибуризма очень мало изменился. Приведенный отрывок похож (почти) на манифест сторонников «свободного обучения» или на передовицу реакционного журнала «Асул и Бланко» («Голубой и Белый»).
200
ваемый национализм, как и предшествовавший ему в более отдаленном прошлом национализм Аргентинской патриотической лиги (так тонко обрисованный Артуро Кансела в его книге «Неделя развлечений»), смыкается с шовинизмом, сделав преследования рабочего движения, якобы имеющего иностранный характер, одним из основных мотивов своей деятельности.
В данном отношении он также не отличается большой оригинальностью. За 20 лет до этого, как я уже говорил, Хоакин В. Гонсалес также приписывал изменения в социальных идеях аргентинской мысли европейским иммигрантам. Однако, несмотря на патернализм его социальной политики, он не мог не признать, что аргентинские массы уже отличались от так называемых «традиционных» и что те экзотические идеи инкрустировались в очень явные национальные моменты. «Эти крайние и отчасти экзотические идеи, — пишет он в «Суждении века»,— нашли себе благодаря усилиям школы подходящую почву также и среди многочисленного полуобразованного мира — среди людей, которых мы называем переходной расой, состоящей из детей иностранцев первого аргентинского поколения, сохранивших все стремления, обиды и все притязания, вывезенные их родителями из Европы и сочетаемые ими со стремлениями среднего класса. Особенно интенсивно это явление протекает в густонаселенных районах и более медленно и нерешительно— в глубине страны». Гонсалес также замечает, что в средних слоях национального общества возникает недовольство, ибо права, утвержденные конституцией, в действительности не существуют, и что к этому добавляется «растущее и с каждым разом все более интенсивное влияние иностранного элемента крупной промышленности, охватывающей большое число креольских рабочих и служащих». Все это, добавляет он, создало «более высокий уровень общественного сознания, отличающегося от сознания чисто аргентинского типа, ибо эта скопившаяся масса, плотность которой убывает по мере ее распространения по всей территории страны, нуждается и требует правительства, во многом отличающегося от правительства, в котором нуждались толпы времен Адольфо Альсина (чтобы не идти дальше), и партийной системы, соответствующей этому коллективному сознанию и способной представить и выразить ее самые 201
сокровенные стремления в виде доктрины»1. В отличие от националистов Гонсалес понимает, что экзотические идеи процветают тогда, когда имеются оправдывающие их существование условия.
Националистические идеологи (я употребляю это слово временно, ибо национализм, который они проповедовали, имел мало общего с сущностью наших национальных проблем) говорят о крахе либерального государства. Мы действительно стояли .перед таким явлением, значение которого для политики и культуры очевидно. В своих политико-экономических аспектах либеральное государство оказалось неспособным решить основные проблемы и отразить в своих формах великую революцию нашего времени, выразившуюся в появлении пролетариата как главного действующего лица истории. Но могли ли мы допустить вместо несовершенного либерального государства кувыркания креольской аристократии, которая, хотя и называла себя традиционалистской, отказывалась от национальной демократической традиции? Как отмечает Этчекопар, антидемократический тон «Новой республики» очень заметен, очевиден и просто нагл в своем выражении мауррасианского монархизма, приспособленного к нуждам креольского общества. Но этот аристократничающий и шовинистический национализм (на который так нападали тогда «те, кому было 20 лет», и я с каждым разом все более убеждаюсь, как мы были правы, нападая на него) даже не соответствовал взглядам великого поэта, под непостоянной сенью которого он укрывался, выходя в своем реакционном безумии за рамки его мировоззрения. Как напоминает Этчекопар, сам Лугонес в моменты, когда с присущей ему искренностью он не скрывал свою неприязнь к существующей демократии, говорил, однако, следующее: «Но вместе с тем демократия как социальная система и республика как политическая организация неотделимы для пас от понятий национальности и независимости»1 2.
1 Joaquín V. Gonzales, El juicio del siglo, в Obras completas, tomo XXI, p. 147—148.
2 Máximo Etchecopar, Esquema de la Argentina, p. 165—166. Естественно, может быть, скажут, что слова «демократия» и «республика» сами по себе ничего не выражают, так как их содержание может существенно изменяться в зависимости от того, какие классы стоят у власти; могут также вспомнить о демокра,-
202
Да, борьба, которую вели тогда против этого национализма sui generis— «те, кому было 20 лет», была правильной, ибо не было ничего более чуждого подлинным нуждам страны, страдающей-под двойным гнетом жестокой олигархии, а также местного и иностранного империализма. Лишь с этой узкой точки зрения можно будет допустить, что восстание 6 сентября 1930 года представляло, как утверждал Ибаргурен, «взрыв национализма» *, во всяком случае национализма, основанного на вымышленных креольских константах католицизма и внешних импульсах фашизма2.
тической иерархии, упоминаемой Лугонесом и принимаемой Этче- копаром (стр. 118: «Имеется ли в виду, что раз буржуазия приходит теперь в упадок, все должны молчаливо принять грязную ненависть левых, анархическую галиматью, требующую, чтобы в обществе господствовало слепое количество? Никоим образом. Христианин по крайней мере предпочтет раньше смерть...»), однако достаточно этого явного отказа, даже формального, от аристократизма первых националистических групп.
В действительности Лугонес насмехался над королем, как юридическим инструментом, и над претензиями креольской знати, но его «демократия» основывалась на порядке, опирающемся на шпагу, и здесь не место определять степень искренности его высказываний. В остальном же именно таков характер националистического течения, которое время от времени делает демократические и анти- либеральные жесты. Например, Атильо Гарсиа Меллид в своей работе «Современный политический кризис» («La crisis política contemporánea, ed. Emecé, Buenos Aires, 1953) отстаивает христианское решение функциональной демократии, организованной на основе иерархии, состоящей из пяти групп ступенчато расположенных «функций»: группы служителей культа, группы интеллигенции, группы военных, организаторской группы (то есть промышленников, помещиков, банкиров и торговцев) и группы трудящихся, образующей основание пирамиды; все это направлено против «марксистской ереси». Совершенно очевиден фашистско-фалангистский дух этих утверждений, сделанных от имени «национальной идеи» известным критиком либерализма.
darlos Ibarguren, Le historia que he vivido, ed. Peuser, Buenos Aires, 1955, p. 400.
2 «В Буэнос-Айресе были и такие политические убеждения, которые обязаны своим происхождением религиозным воззрениям: имеется группа людей со всеми видимыми и невидимыми признаками поколения, которое только из-за того, что было католическим, пришло к фашизму и благодаря своим католическим убеждениям поняло все величие векового возрождения, провозглашаемого фашизмом» (Marcelo Sánchez Sorondo, La revolución que anunciamos, ed. Nueva Política, Buenos Aires, 1945, p. 180).
203
Находящиеся на гребне обострившегося кризиса «те, кому было 20 лет», были по крайней мере здравомыслящими, когда указывали, что этот домашний национализм опирался на социальные структуры, родственные либеральному режиму, который он осуждал *.
Как утверждал Ибаргурен, представители консерваторов в свое время также почувствовали необходимость отстранить иностранцев; это было именно в период первых избирательных побед социалистической партии1 2, 1 Приведу довольно неожиданное свидетельство, ибо оно принадлежит автору, причислявшемуся к националистическому течению. Эрнандес Арреги подтверждает наши взгляды, когда отмечает олигархический и формально антилиберальный характер, свойственный самым значительным течениям политического национализма в Аргентине, стремящимся к социальной иерархической структуре. Он так резюмирует черты политического национализма: «Во-первых, это антилиберальное движение, основывающее свою критику на традиционной антимодернистской позиции церкви и на папских энцикликах; во-вторых, это аристократическое и испанистское движение; в-третьих, антибританское, по крайней мере по своему происхождению, и, в-четвертых, антимарксистское, и в этом в конечном счете смысл его существования... Антилиберальное в области идеологии, по своему происхождению оно принадлежит либеральной буржуазии и поэтому в своей борьбе не поднимает антикапиталистический флаг... Его отрицание либерализма в конечном счете есть не что иное, как перемещение политичёского руководства внутри самого руководящего класса (Hernández Árregui, Imperialismo у cultura, р. 20—21). Этот анализ правилен, хотя мы могли бы добавить, что он обращен против того националистического течения, к которому принадлежит его автор.
2 «Победа социалистов в столице, где они только и действовали, вызвала подлинную панику в консервативных кругах. Сенаторы, составлявшие старую гвардию «режима», неофициально собрались в кулуарах палаты, чтобы обсудить опасность, возникшую в связи с этой победой. На этом собрании, солидаризуясь со своими коллегами и политическими противниками, присутствовал единственный сенатор-радикал, господин Хосе Камило Кротто. Высказывались опасения, что исключительный рост числа голосов, поданных за социалистов в столице, мог сильно повлиять на народные массы в провинции, что иностранный капитал отступит перед экстремистской опасностью, которую могло принести с собой революционное развитие, направленное против существующих учреждений и традиций нации. Сенаторы долго обсуждали эту социальную и политическую проблему, чтобы найти решение, соответствующее их точке зрения. Было достигнуто общее согласие относительно того, что уместно учитывать голоса национализированных иностранцев (курсив мой.— Э. А.). Радикализм в лице сенатора этой партии дона Хосе Камило Кротто выразил свое согласие с мнением своих коллег консерваторов... (Carlos Ibarguren, La historia que he vivido, p. 297—298.)
204
причем намного раньше, чем Лугонес выдвинул концепцию иерархиизированной демократии, осуществления которой он желал для своего «времени шпаги» L Без сомнения, в этом проявилось отстаивание точки зрения, предполагающей, что социальную проблему можно решить с помощью закона о месте жительства. Гонсалес, о стремлении которого рассматривать социализм как экзотический момент я уже говорил, был, однако, достаточна благоразумен, чтобы допустить необходимость юридического признания рабочего движения в качестве законного элемента общества1 2, хотя в надлежащий момент у него не дрогнула рука, чтобы подписать декреты об изгнании.
Однако Ибаргурен ошибался (или притворялся, что ошибается), когда приписывал националистические 1 Леопольде Лугонес в своей речи на праздновании столетия Аякучо (Лима, декабрь 1924 года) произнес следующие многозначительные слова о первоначальном пути аргентинского национализма: «Еще раз для блага всего мира наступил час шпаги. Подобно тому, как она добилась единственного, чего мы полностью достигли,— независимости, она установит необходимую иерархию, которую до сегодняшнего дня демократия не могла осуществить, будучи фатально направлена, ибо это ее естественное следствие, к демагогии или к социализму. Но мы хорошо знаем, что сделали коллективизм и мир в Перу инков и в Китае мандаринов. Пацифизм, коллективизм, демократия — это синонимы одной и той же вакансии, которую судьба предлагает предназначенному вождю, то есть человеку, который повелевает по праву лучшего, по закону или без закона, потому что закон, как выражение силы, совпадает с его волей... Конституционная система XIX века отжила. Армия — это последняя аристократия, можно сказать, единственная возможность иерархической организации, которая представляется нам перед лицом разрушительной демагогии» (цитируется в книге: Oscar A. Troncos о, Los nacionalistas argentinos, ed. S. A. G. A., Buenos Aires, 1957, p. 40—41). Может быть, чтобы подкрепить это понимание демократии и республики, иерархиизированных до такой степени, поэт в своих лекциях 1923 года в театре «Колизео» предложил широкую программу изгнания нежелательных иностранцев. Среди этих нежелательных, конечно, находились иммигрировавшие рабочие, осмелившиеся организоваться в профсоюзы.
2 Гонсалес действительно говорит, что если основные строящиеся здесь промышленные предприятия — европейские и переносят на нашу почву европейские методы (очевидно, здесь слово европейское синоним слова капиталистическое), то логично, что здесь воспроизводятся условия, подобные тем, которые имеют место в городах, откуда происходят иммигрирующие массы («Obras completas», tomo XXI, р. 186). Автор «Суждения века» начинает понимать, что экзотизм требований рабочих принимает национальный характер, когда в стране воспроизводятся условия буржуазной эксплуатации.
205
цели движению, подобному движению 6 сентября, которое или осуществляло (путем обмана) простую реставрацию старых консервативных олигархий, или стремилось к корпоративной реформе государства по образцу фашизма Муссолини. Национальные условия аргентинской проблемы ускользали от Ибаргурена или просто игнорировались им, хотя «те, кому было 20 лет», уже начинали видеть, правда еще довольно смутно, другие более глубокие причины, объясняющие аргентинскую действительность. Никто из националистов тех времен не говорил об иностранном господстве в национальной экономике: их критика ограничивалась бедными рабочими-иммигрантами или смешивалась с антисемитской шумихой, так часто используемой впоследствии. Но то большое значение, которое имело признание империализма как фактора, деформирующего национальную жизнь, не отмечалось аристократическим национализмом 1930 года даже в демагогических целях L
Двумя годами раньше съезд коммунистической партии определил, хотя еще не совсем полно, основные особенности социальных условий Аргентины, характеризующихся господством латифундий и подчинением иностранному империализму. «Аргентина, — говорилось в тезисах, принятых VIII съездом нашей коммунистической партии в ноябре 1928 года, — подчинена экономическому и политическому влиянию империализма, а более конкретно — влиянию самых сильных империалистических держав земного шара — Соединенным Штатам и Великобритании. Если к этому прибавить то обстоятельство, что национальная экономика находится в состоянии почти полной зависимости от международного рынка, то
1 Эрнандес Аррегн говорит, что к 1930 году у национальной буржуазии проявляются националистические тенденции, но что «это представляет собой буржуазный кастовый традиционализм... чуждый в принципе проблеме экономической независимости от Европы... Это — национализм, связанный с испанским прошлым и с церковной культурой, который в другом аспекте, полностью реакционном, протестует против иммигрантского нашествия, выступая против либеральных идей, которые, как он считает, благоприятствуют проникновению разрушающих концепций, свободомыслия, социализма и т. д.» (там же, стр. 79—80). Неверно утверждать, что это быЛо исключительной особенностью национализма 1930 года. С национализмом 1946 года (в силу требований его союзников или по другим причинам) произошло то же самое, свидетельством чему является религиозное образование.
206
этим можно объяснить то -большое влияние, которое оказывают на нее дела и события, происходящие в мире» Ч Лишь благодаря склонности к искажениям, имеющим целью приукрасить прошлое возможными достижениями настоящего, Эрнесто Паласио может утверждать, что деятельность «Новой республики» «строго совпадала по своим целям с традиционным радикализмом, подчиняясь одним и тем Же движущим силам». «В сущности,— пишет он, — «Новая республика» своей деятельностью стремилась занять пустоту, образовавшуюся в результате измены исторической партии, направлявшейся — неспособностью ее вождя и посредственностью его помощников— к левой демагогии (курсив мой. — Э. Л.)... Несчастье заключалось в тактической необходимости явного союза с партиями оппозиции, стремившимися к совершенно противоположному и в конце концов победившими, в результате чего революция, которая должна была быть национальной, превратилась в революцию, направленную против радикализма, а не против того плохого, что было в нем несущественным (и что она усугубила), а против того, что было у него лучшим и совпадало с подлинной сущностью самой нации»1 2.
Значение этого объяснения ясно видно из подтекста: направленность радикализма к левой демагогии объясняет стремление к его устранению. «Левая демагогия» была представлена, по-видимому, университетской реформой и политикой по вопросу о нефти, достаточными для того, чтобы обвинения в коммунизме, советизме и другие тут же стали падать на правительство, которое, несмотря на свои шатания, стремилось осуществить независимую национальную политику3. Тем самым этот, по своей сущности аристократический, национализм 1 «Esbozo de historia del Partido Comunista de la Argentina», ed. Anteo, Buenos Aires, 1947, p. 65.
2 Ernesto Palacio, Historia de la Argentina, ed. Alpe, Buenos Aires, 1955, p. 619.
3 Артуро Фрондиси в книге «Нефть и политика» («IPetroleo у política», ed. Raigal, Buenos Aires, 1956, p. 258, 259, 286) вспоминает, что сенатор Бенхамин Вильяфанье в дебатах 1936 года заявил, что в 1916 году «победа господина Иригойена означала победу экстремизма в Аргентинской Республике раньше, чем в Москве, что привело к соответствующим большим несчастьям для экономики и к деградации национальной души», добавляя далее, что в 1930 году «Иригойен и его партия были изгнаны из правительства, однако страна фактически оказалась коммунизированной». Этот же сена-
207
Подтверждал с самого начала своего существования те цели, которые, по мнению Эстрада, присущи национализму во всем мире; такой национализм — это кризисное явление, и «его основная задача и даже причина его происхождения — борьба против коммунизма»1. И коммунизмом явится, как мы уже видим, все, что будет сдвигом влево... Ничто, кроме неоднократных ссылок на традицию и вопреки защитникам первоначального национализма a posteriori, не дает права считать, что он ставит действительно национальные вопросы.
Утверждение Паласио неточно и в какой-то степени отражает тенденцию интеллигенции деформировать события своего прошлого, чтобы приспособить их для объяснения своего настоящего, потому что радикализм, и в частности президент Иригойен, был связан, например, с университетской реформой, которая позднее, и даже сейчас, превратилась в bete noire националистов. Я не хочу приукрашивать эту реформу, а стремлюсь лишь справедливо рассматривать ее как акт непокорности новых поколений иммигрантов, как акт утверждения своего гражданского и политического положения. Первоначальный национализм, который возникает с аристократическими замашками, выражает именно реакцию против этого плебейского аспекта от имени националь- тор объяснил, что с 1916 по 1930 год страна управлялась «сыновьями и внуками арабов, калабрийцев или последними человеческими отбросами, прибывшими из различных районов земного шара», и что 6 сентября «старое поколение... в порыве гнева в этот день обратило в бегство низменные элементы, захватившие Розовый дом.. ибо побежденным и разгромленным в сентябре оказалось всеобщее избирательное право, то есть закон, принесший победу варварству». И чтобы не осталось никаких сомнений, он в заключение утверждает: «Это имела место классовая борьба, борьба бедных и богатых, но не коммунистов и антикоммунистов... Назовите радикалом кого угодно, но если правительство будет слабым, чернь поднимется как один человек, чтобы насильничать и убивать имущих». Обвинения против президента Иригойена были основаны прежде всего на его нефтяной политике, и Фрондиси замечает по этому поводу: «Антирадикализм, антинародность, антидемократизм стали с тех пор постоянно прикрываться ширмой антикоммунизма... Так рассуждали фашисты, так рассуждали нацисты, так рассуждали и продолжают рассуждать политические и идеологические защитники национальных и иностранных привилегий». Следует заметить, что эти рассуждения годятся не только для прошлого, но и для настоящего.
1 J о s é María de Estrada, El legado del nacionalismo, ed. Gure, Buenos Aires, 1953, p. 23.
208
них констант; это видно даже по тем насмешкам, которым националистические листки подвергают фамилии калабрийцев, сирийцев, ливанцев и в особенности евреев. Тогда «те, «кому было 20 лет», жившие в момент перелома, и даже те из них, которые оказались в замешательстве перед необходимостью дать глубокое историческое объяснение, были более чем правы, выступая против этой националистической лавины, игнорировавшей (я повторяю это снова) основные факторы национальной проблемы, а именно что земля находилась в руках олигархии, а финансы управлялись империализмом. В конечном счете все это представляло агрессию против рационализма в области культуры и навязывание самых туманных проявлений необузданной иррациональности, в которой с самого начала сходились все концепции национального.
Эстрада действительно говорит нам, что национализм, как всемирное явление, возникает в условиях кризиса рационализма, кризиса, который, по его мнению, совпадает с одряхлением либеральных учреждений. В таком случае от гитлеровского безумия его отделяет только один шаг, и Эстрада делает его, когда просто признает все, что, по его мнению, было положительным в национал-социализме с «его крепким эмоциональным грузом и сверхромантическим импульсом» Однако иррационализм и либерализм отнюдь не обязательно противоположные термины, и если Эстрада прав, исследуя иррационалистское происхождение фашизма, то это не устраняет того факта, что один из самых комичных
1 J о s é María de Estrada, El legado del nacionalismo, ed. Gure, Buenos Aires, 1953, p. 40. Справедливости ради заметим, что Эстрада не оправдывает эксцессы национал-социализма с его патриотизмом расы и крови, «который в конечном счете ограничил человека, отчуждая его права и свободу». Но не менее справедливым будет также сказать, что, согласно Эстрада, последнее произошло из-за отсутствия католических элементов (стр. 49—50). Если бы они существовали, национал-социализм, по его мнению, был бы вполне приемлем. Можно сказать для более полной картины, что, когда этот ярый национализм в 1943 году пришел к власти, университет узнал о крайностях подобного иррационализма. Комментируя миссию, которая могла бы ему принадлежать в «новой Аргентине», один из идеологов этого национализма сказал: «Мы до сих пор страдаем от беспорядка негативной картезианской революции; и в возвращении к вечной философии (то есть к аристотелевскому томизму) мы должны найти постулаты новой революции, которую надо осуществить, чтобы утвердить вечные ценности» (J о г - 14 Э. П. Агости 209
парадоксов настоящего времени (а также 1930 года) — это университетские профессора, ¡которые ввели в стране немецкий иррационализм и вместе с тем, правда не очень усердно, делали реверансы в сторону демократического либерализма.
Можно было бы опустить этот факт чванливой учености, но нельзя обойти основной недостаток аргентинского национализма этой первоначальной стадии. Легко Понять, что по той же самой причине, по которой он обходил основные элементы национальной проблемы, он мог идентифицировать свое происхождение с иррационалистической метафизикой крови и предназначения, вдохновляемой империалистическими державами, жаждущими реванша. Наш национализм был бы понятен в качестве местной тенденции, направленной против двойного угнетения — олигархии и империализма; однако он возник-благодаря олигархическим и антинародным по своей сущности элементам, ¡которые игнорировали капиталистическое угнетение или приспосабливались к нему, обольщенные националистическими схемами обиженного империализма; как известно, нет национализма вообще, ибо это явление, столь положительное, когда относится к колониальным и зависимым странам, совершенно реакционно, когда речь идет о политике империалистических государств.
Любопытно, что в те годы и в непосредственно предшествующие и мы — «те, кому было 20 лет»,— были теми, кто, если хотите, инстинктивно, в обстановке враждебности креольских националистов, все время находившихся на стороне угнетающих держав, оценили подвиг китайских революционеров (столько раз рассмотренный в тумане литературного романтизма), подвиг Саидино и неравную борьбу Абд-эль-Керима. Это, конечно, и понятно: такой плебейский, варварский национализм не укладывался в мауррасианскую и монархическую схему редакторов «Новой республики» (какое родство с возрождающимся голлизмом наших дней!); они стремились очистить страну от иммиграционного элемента и
dan В. G е n t a, La función de la Universidad argentina, ed. de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 1943, p. 14). Новая философия должна была вернуть нас «к военному и героическому ощущению жизни» (стр. 15). Как видно, философия, иррационализм и т. п. в какой-то степени связаны с конкретной политикой. 210
мечтали о реконкисте патрициата. Бесноватый персонаж из книги Ралвеса «Люди в одиночестве» вводит нас в тот ницшеанский иррационализм, который вскружил голову некоторым юношам националистических легионов, презирающих чернь1; но более важно, чем такие выходки, беллетристическое описание той «золотой» обстановки, в которой вырастала оппозиция к Ирри- гойену и назревала «сентябрьская революция», у утонченных эстетов культуры, развивавшейся в противоположной народу среде. Все сказанное явственно раскрывает первоначальную направленность так называемого аргентинского национализма. Последний действительно явился симптомом кризиса; но основа этого кризиса лежала в аномальных структурах, о существовании которых националисты даже не подозревали.
1 Manuel Galvez, Hombres en soledad, ed. Club del Libro A. L. A., Buenos Aires, 1938. Персонаж, на которого я ссылаюсь, Мартин Блок, типичен: он сын крупного землевладельца, студент- неудачник, хиромант. Он ищет революцию, чтобы найти себя, компенсировать свое одиночество в соответствии с теорией одинокого аргентинца, выдвинутой Скалабрини Ортисом. Его высказывания имеют характер явного обвинения: «Мы — народ, состарившийся раньше, чем стать молодым. Молодость означает энтузиазм, героизм и идеализм. Здесь же, у нас,— скептицизм, сибаритство, чувственность. Мы — страна танго» (стр. 64). «Я сторонник культа силы, насилия, аристократии» (стр. 66). «Эта страна — помойная яма. Здесь нет ни характера, ни энергии, ни юности, ни патриотизма, ни дисциплины, ни страсти. Наш народ — скептический народ прожигателей жизни... К счастью, плохое правительство, от которого мы страдаем, само того не подозревая, спасет нас. Я с головой окунулся в революционную деятельность. Можете удивляться: Блок, представитель богемы, нерадивый, создает вооруженные легионы. Легионы Родины! Правда, прекрасное название?.. Я хочу преобразовать самого себя и других. Желаю опасности, борьбы и насилия. Вы помните моего учителя Ницше? Пришло время осуществить его идеи. Будем жить с риском» (стр. 90). Далее Блок захочет пристрелить кого-то, призывающего к избирательным урнам (стр. 162); между тем другой персонаж, считающий нас «отравленными демократией», отказывается считать Блока фашистом, потому что «у него отсутствует имеющийся у фашизма социалистический момент»; Блок лишь наполовину понимает фашизм: «Ему нравятся дубина, насилие. Он приходит в восторг от порядка, иерархии, дисциплины» (стр. 159). Приведенное свидетельство полезно, чтобы оценить язык и поведение тех, кто составляет Аргентинский гражданский легион.
14*
Национальное и народное в культуре
Если 1930 год можно считать годом перелома, хотя бы в отмеченном нами аспекте, то очевидно, что этот год характеризуется также приближением интеллигенции к делам нации. Но констатация этого приближения еще недостаточна, чтобы сделать вывод о его положительном характере; данный факт надо рассматривать более тщательно и глубоко. Прежде всего я бы сказал, что такое приближение к национальным проблемам осуществляется путями, очень отличающимися от тех, которыми шли великие аргентинцы прошлого. И здесь мы находим другую причину указанного перелома, ибо начиная с 1930 года часть националистической критики обвиняет в иностранщине этих великих аргентинцев прошлого, склонявшихся над телом нации, чтобы раскрыть ее сущность. В качестве примера напомню Эчеверриа. Они — в свое время и теми средствами, которыми располагали,— сумели увидеть реальные события в реальном обществе. Но с 1930 года мы начинаем страдать от земной метафизики национального бытия, в которой вполне совпали взгляды представителей либерализма (вроде Мальеа) и эпигонов национализма наподобие Скалабрини Ортиса.
В «Истории одной аргентинской страсти» Мальеа излагает свою теорию двух Аргентин, а также высказывает претенциозное утверждение о существовании некоего безвестного человека, якобы олицетворяющего подлинную Аргентину и противостоящего буржуазной роскоши обыкновенного образа жизни, представленного тем «аргентинцем, который, просыпаясь, определяет рассвет согласно коммерческим расчетам, прозябает, спекулирует и рождает детей», аргентинцем, «так часто преданным презренному золоту» L Мы догадываемся, что 1 Eduardo М а 11 е a, Historia de una pasión argentina, ed. Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1939, p. 16.
212
безымянный аргентинец — это тот, который желает независимости своей стране; мы даже можем догадаться, что здесь, когда говорится о «презренном золоте», улавливаются основные проблемы; а его беседы с Уальдо Франком позволяют усмотреть определенную близость к драме нашей Латинской Америки. Однако Мальеа говорит буквально следующее: «И народы, как и люди,— еще один раз, о господи, как и люди! — хозяева не своих целей, а своих путей» L И еще раз невидимый человек возникает как таинственное и почти метафизическое воплощение земли. Со своей стороны Скалабри- ни Ортис будет защищать нас от отрицаний провинциалов, определит «дух земли», основу всех его объяснений, как нечто необъятное, «которое питалось и росло за счет иммиграционного элемента, пожирая и ассимилируя миллионы испанцев, итальянцев, англичан, французов, никогда не переставая быть самим собой»1 2.
«Дух земли» — что-то вроде теллуризации истории — с тех пор выступает как постоянное объяснение. Можно было сказать, что в конечном счете — это преломление идей «Факундо»: мир обширных географических просторов, который в конечном итоге приводит аргентинского человека к одиночеству памп. Если смотреть на отдаленный период нашей литературы, тут, вероятно, можно будет найти некоторое видимое родство с теорией пустыни. Но такое понимание истории, которого придерживаются как националисты, так и либералы, в данном случае ведет к игнорированию реальных особенностей страны. Пустыня в первых объяснениях была конкретной пустыней, то есть чувством обширного ненаселенного пространства, которое необходимо заполнить живыми существами и вещами, но которое никогда не понималось как метафизическое измерение человека. В данном случае теллуризация истории, наоборот, означает потерю реальной перспективы и ведет к гипотезе о том, что мы, аргентинцы, в силу сохранения бесконечной подавляющей нас равнины являемся одинокими людьми.
1 Eduardo М а 11 е a, Historia de una pasión argentina, ed. Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1939, p. 16.
2 Raúl Scalabrini Ortiz, El hombre que está solo y espera, ed. Anaconda, Buenos Aires, 1933, p. 9.
213
Но этот поиск теллурических объяснений, даже при отсутствии других правильных объяснений, хотя и представляет собой отступление по сравнению с великими аргентинцами, означает также, что начинают отказываться от самого ярого космополитизма. Каково бы ни было ¡мнение об этих явлениях в области идеологии, несомненно, что они явно отражают кризис, раскрывают его еще внутренне не понятый драматизм, показывают страну, растревоженную душащими ее аномальными структурами. Поэтому Скалабрини Ортис видит, «что пагубный соблазн подстерегает эту молодежь и опасность окружает ее: это соблазн североамериканизиро- ваться. Дух земли не допустит этого. У него есть предназначение, которое он должен выполнить... Город не позволит, чтобы роскошь и ее последствия превратились в спинной хребет ее динамизма!» А если нет — «... современные римляне — это русские и североамериканцы. Это их дело! Надо быть осторожным с этим соперничеством! Давайте не будем приходить в восторг от фабрик и заводов! Нам и так хорошо! Нам противны гарь и обои» Ч
Астрада же более ясно классифицирует грехи олигархии. Олигархия считает себя патрицием, хотя и является вассалом иностранных капиталистов, она «находится в состоянии тяжелого кризиса, и ее упорно лечит северный лекарь с видом и замашками мясника»,— говорил Астрада1 2, несмотря на то что сам тогда подходил к решению вопроса с точки зрения существования аргентинского экзистенциального человека.
Нация, которую первые аргентинские деятели пытались изобразить как конкретную реальность среди пустыни, теперь выступает в перевернутом виде, с пустыней, превращенной в метафизическое уравнение и драматически (теллурически) направленной против аргентинского одинокого человека. Тревога, вызванная кризисом, выступает в данном случае, как один из оттенков ложного сознания; однако это не препятствует обнаружению того факта, что национальное чувство снова входит в аргентинскую литературу, по крайней мере 1 Raúl Scalabrini Ortiz, El hombre que está solo y espera, ed. Anaconda, Buenos Aires, 1933, p. 49—50, 133.
2Carlos Astrada, El mito gaucho, ed. Cruz del Sur, Buenos Aires, 1948, p. 96.
214
в части, касающейся неопределенного объяснения некоторых колеблющихся слоев реального общества.
Новеллы Мальеа, например (я нарочно называю модного в это время автора), представляют собой типичное выражение разочарования мелкого буржуа, которому не удается ясно увидеть причины своей неустроенности, хотя он чувствует, что в стране что-то не в порядке. Поэтому на последних страницах своей «Истории одной аргентинской страсти» Мальеа впадает в отчаяние и плачет «последним плачем ночи в пространстве уже без звезд» \ как если бы ночь плакала вместе с ним в момент его глубокого страдания.
Горькое национальное чувство имеет здесь теллурический, а не социальный характер. Оно мыслится не на основе реальных данных, а в связи с некой метафизической сущностью. В те времена мало кто разбирался в подлинных проблемах нации так, как они ставятся, например, в уже упомянутой резолюции съезда коммунистической партии в 1928 году. Метафизика бесконечного пространства может быть неосознанным оправданием латифундий, и, кроме того, она развивается в настоящее время в таких формах, которые продолжают неправдоподобную чепуху Кайзерлинга. Но ей не удается проникнуть в суть реального явления и даже представить его себе. Скалабрини Ортис может избежать геноцидного неистовства Доля, допустить интеграцию иммигрантов, покоренных духом земли, страдать от опасности североамериканизации (и советизации или социализации?), понимаемой как внедрение машины, предположить, что этому воспрепятствует еще раз неумолимый дух земли. Но только тогда, когда он склонится над настоящей конкретной землей, он сможет освободиться от того мифического духа, чтобы дойти до подлинного понимания, например, британского проникновения в Рио- де-ла-Плата. Только тогда национальное снова оказывается связанным (я оставляю в стороне политические моменты) с подлинно народной сферой.
Хотя говорить об этом может показаться излишним, но народ — это ведущая сила нации, и в рамках диалектического многообразия ее различных составных частей
Eduardo М а 11 е a, Historia de una pasión argentina, ed. Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1939, p. 198,.
215
в разное время национальным можно считать только то, что прямо и 'непосредственно служит подлинным народным интересам. В связи с этим разумно полагать, что лучшим выражением этих интересов является единство аргентинского народа, .понимая под таковым (с его неизбежными внутренними противоречиями) все слои, заинтересованные в упразднении двойного препятствия на пути национального развития — латифундий и империализма. Следовательно, всякая попытка, прямая или косвенная, разделить его служит антинародным и, следовательно, антинациональным целям, хотя при этом будут постоянно размахивать (иногда честно) аргентинским флагом. Если книга Скалабрини Ортиса «Человек в состоянии одиночества и ожидания» имеет какие-то заслуги, кроме ее великолепной прозы, то это — дальновидность в понимании того факта, 'что «душа» Буэнос- Айреса, составленная из местных жителей и иммигрантов, является совершившимся фактом, не подверженным ни внешнему, ни внутреннему влиянию тоски.
Но теперь, когда так настойчиво говорят о двух Ар- гентинах, справедливо думать, что этим пытаются исправить свершившийся факт, рискованно разделяя страну. Существует тенденция националистического характера рассматривать Аргентину как бы состоящую из двух противоположных частей. Аргентина, которая простирается от Кордовы к северу и через Боливию до самой сердцевины нашего континента, представляет собой, по мнению сторонников этой тенденции, область нашей подлинной преемственности с индейским прошлым и, следовательно, является нашим единственным американским вкладом в составляемую нами разобщенную страну; другая Аргентина, та, которая простирается в сторону побережья, является пампой гринго, пересадкой из Европы, незаконно привитой на теле нации. Нечего и говорить, что при такой постановке вопроса пампа гринго презирается наряду с другими причинами еще и потому, что над нею довлеют пороки, которые постоянно и неуклонно Буэнос-Айрес вбирает в себя из провинций L
1 Такая постановка вопроса может привести к крайним выводам, подобным тем, которые изложил мне в Тукумане один уважаемый профессор университета: «Если бы Боливия была более развитой, нам не было бы дела до Буэнос-Айреса»,
216
Я долго спорил в Сантьяго-дель-Эстеро и в Тукума- не по этим вопросам, поднятым индейским национализмом и обсуждаемым столь многими людьми доброй воли, настроенными, несомненно, антиолигархически; думаю, что им казались оскорбительными (хотя мне этого и не говорили) мои предостережения относительно опасности олигархических ловушек. Недоверчивые олигархии внутренних районов страны, столько раз вступавшие в союзы с олигархией Буэнос-Айреса для совместного ограбления страны, умеют затрагивать эти федералистские настроения, часто опираясь на традиции полуфеодальных каудильо. Тогда начинают думать о народном характере этих каудильо только’ потому, что за ними шли толпы, не делая никакого различия между подлинными желаниями народа и теми порочными интересами, выразителями которых являлись эти каудильо; при этом народ, если угодно, упрощенно и преднамеренно идеализируется в корыстных целях. А разве в той мере, в какой все эти хитрости служат разобщению нации, они не используются местными олигархиями, которые всегда готовы пойти на соглашение ’с внешними силами, разрушительно действующими на нацию?
Ведь реальный факт концентрации огромной массы богатства в порту Буэнос-Айреса и на побережье является следствием, а не причиной: следствием олигархической политики, подчиненной экспортной торговле с Великобританией. Мы никогда не видели, чтобы какая- либо из местных олигархий федералистского толка разоблачала эти действительные причины; эти местные олигархии лишь указывают на результат, искажают его для того, чтобы запутать этот вопрос. Любопытно, однако, заметить, что в теории двойной Аргентины, столь нуждающейся в подлинном единстве, содержится ненависть к тому, что является самым могущественным источником энергии в деле национального освобождения, а именно ненависть к промышленному пролетариату, сконцентрированному в великом Буэнос-Айресе и почти изгнанному из воображаемой национальности его долгим присутствием в пампах гринго; это ненависть и к тому культурному значению, которое представляет собой одно лишь присутствие этого нового социального образования. Я отрицаю народный характер подобного 217
национализма и, следовательно, отрицаю, что он подлинно национален.
Для националистов могло бы показаться удивительным, что человек, далекий от их учения, которое можно причислить к умеренному либерализму, высказал те же мысли, правда, в лучшем литературном стиле. Мальеа писал: «Если есть в ¡мире два психологически, этически и социально различных человека, то этими двумя яв* ляются житель аргентинского hinterland и городской житель» L Такой писатель-националист, как Этчекопар (по моему мнению, автор самого умного очерка политического характера из всех созданных этим идеологическим течением), дает подобные же определения при исследовании духа Буэнос-Айреса, противопоставляя его духу провинции, говоря о провинциальной сдержанности, являющейся результатом реального человеческого опыта, и об экспансивности жителя Буэнос-Айреса, созданной легкомысленными восторгами и чрезвычайной забывчивостью1 2.
Многое из сказанного правильно, однако это относится не только к аргентинцам; во всяком случае, это типично для многих провинциальных малоподвижных психологий, приведенных в замешательство неистовством больших городских концентраций населения, что является общеизвестным, как доказывает мировая литература, до надоедливости. Для меня не секрет также, что в конкретном случае Аргентины уродливое развитие наших путей сообщения и нашей экономики в значительной степени содействовало образованию новой культуры, сконцентрированной в Буэнос-Айресе и его окрестностях, и в то же время игнорированию, подавлению и ущемлению местных культурных центров, которые провинции с каким-то раздражающим тщеславием жителя Буэнос-Айреса увлекают за собой, нисколько4 не изменив их индивидуальности со времен колониальной эпохи3. Однако одно дело заменить эти 1 Е d u а г d о М а 11 е a, Historia de una pasión argentina, ed. Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1939, p. 79.
2 Máximo Etchecopar, Esquema de la Argentina, ed. Ene, Buenos Aires, 1956, p. 150 и далее.
3 Канал Фейхоо очень разумно замечает: «...общая картина
свидетельствует, что разделение на два языка продолжает оставаться выражением национальной культуры: это — зона, которая прц-
218
ненормальности нашего негармонического развития и совершенно другое — требовать уничтожения пампы гринго и ее городских образований, поставив их вне аргентинской истории, географии и даже политики. Совсем другое дело думать, как Мартинес Эстрада, что «подлинная свобода, если она должна наступить, несомненно придет из глубины полей, дикая и слепая-, как в предыдущий раз, чтобы смести рабство, духовное угнетение и громадную ложь продажных городов» \ потому что это означает продление разделения во вред городскому пролетариату, вместо того чтобы излечить недуги страны единством факторов обновления перед лицом общего врага.
И разве можно называть национальным то, что противоречит истинным интересам подлинного народного освобождения? Как в области культуры, так и в области политики, которая с ней так тесно связана, речь идет, без сомнения, о соединении народных элементов, которые имеются в Буэнос-Айресе и в провинциях, воедино и о ликвидации роковых последствий теории двух Аргентин. Но разве справедливо забывать, что именно местные олигархии являются теми, кто наиболее упорно прикрывается традициями и в то же самое время все более обособляется от подлинного народа в силу своего предполагаемого аристократизма, якобы перешедшего к ним с кровью конкистадоров? Правда, все это представляет собой реакцию против теллуризации истории. Но результаты такого понимания истории, психоаналитически и уродливо проецируемые на национальное бытие, являются источником различных философий отно- сваивает себе право называть себя очагом культуры и питается доктринерскими «исследованиями», и та обширная зона, которая сохраняет традиционные обычаи и формы, ручную технику, свой небогатый, хорошо выкристаллизовавшийся художественный язык, маленькую архитектуру, приспособленную к местным климатическим условиям, зона, которая деградирует к полной немоте. Зона культуры использует в своих интересах невежество другой зоны, выказывая свое презрение к ней. Часто можно встретиться с культурным человеком, который от имени культуры отвергает эту вторую, все более высыхающую ветвь; и нет такого культурного индивида, который бы стремился поднять народную культуру до уровня «культуры» (Bernardo Canal Feijóo, Confines de Occidente, p. 52—53).
1 Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de la Pampa, ed, Losada, Buenos Aires, 1942, tomo I, p. 93.
219
сительно третьего дня творения, ведущих к идее о нашей необратимой внеисторичности, являющейся, может быть, самой лучшей данью, которую может требовать от нас подчинение империализму.
Дело не в том, что народы, как говорит Мальеа, являются лишь хозяевами своих путей и бессильны перед своими целями, а в том, что эти пути не являются неотделимыми от целей, если не предположить, что какой- то таинственный фактор постоянно действует в качестве невидимой преграды на пути развития социального человека. Ибо речь идет именно о нем, об аргентинском социальном человеке, а не об одиноком и ожидающем человеке. И социальные цели аргентинского человека на его пути к более справедливой организации общества имеют два постоянных объекта: латифундию, душащую нас с колониальных времен, и империализм, угнетающий нас со времен Организации. Ничего не значат такие фразы Мартинеса Эстрада, как «латифундия представляла собой форму собственности, соответствующую душе морского и сухопутного путешественника, форму, соответствующую обработке и использованию земли... это был зловещий результат географических и этнических особенностей страны» *, точно так же ничего не значит такая фраза Мурена, как «мы населяем... страны, к которым история протягивает руки лишь в поисках материальных ресурсов»1 2. Каковы бы ни были намерения, с которыми писались эти фразы, справедливо заметить, что теллуризация истории, выражением которой они являются, закрывает пути, ведущие к желанным целям. И можно ли назвать национальным то, что лишает народ орудий освобождения и главного из них — веры в собственные силы?
1 Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de la Pampa, ed. Losada, Buenos Aires, 1942, tomo I, p. 58.
2 H. A, Murena, El pecado original de América, p. 163—164.
Теория „двух Аргентин"
В конце концов теория двух Аргентин не такая безобидная, как кажется. Этчекопар скажет нам, что анархия, наступившая после освобождения, объясняется тем, что испанский колониальный режим был единственным совместимым с нашей действительностью sui generis, которая не представляла собой общества в полном смысле и поэтому не имела подлинного народа I Здесь другими словами и, несомненно, в более строгом стиле Этчекопар повторяет идею об исторической «неудаче», происшедшей в момент освобождения; это, если хотите, экстремистский тезис национализма в области культуры, хотя и грубо выраженный1 2.
Но этот национализм довольно противоречив. Теория двух Аргентин не всегда последовательна, потому что, в то время как некоторые смотрят на север, допуская возможность встречи с индейской Америкой, другие видят только возможность реставрации или сохранения старых 1 Máximo Etchecopar, Esquema de la Argentina, ed. Ene, Buenos Aires, 1956, p. 26—27. «...народы Америки, отделившись от Испании, приступили к осуществлению утопической цели, каковой является попытка создания нации, не принимая во внимание конкретные условия американского общества» (там же, стр. 29).
2 Нет никакой разницы между словами депутата Диаса де Би- вар, который говорил в палате о нашей революционной традиции как выражении «потери нашей целомудренности», и следующими словами Этчекопара: «Испанская основа, которой мы обязаны юридическим строем, языком и религией, могла показаться слабой тем, кто счел нужным сделать нас независимыми и кому принадлежит слава выполнения этой задачи. Так как дело касалось (и еще касается) исторического прошлого, обладающего большей глубиной, чем шириной, то можно объяснить тот факт, что XIX век — век революционного оптимизма — считал это прошлое мертвым и законченным. Тем не менее немного времени спустя все заметили, что создание национального облика Аргентины... было как задачей, которую надо было выполнить, так и задачей, которую надо было вспомнить» (там же, стр. 134—135).
221
испанских традиций, которые были в сущности колониальными традициями L
Например, даже ¡простое предположение возможного контакта с индейской Америкой отвергается Эстрада в следующих словах, не допускающих никаких кривотолков: «Были моменты, когда казалось, что такого рода национализм теллурического и индейского толка, который по демографическим причинам имеет немалый успех в некоторых южноамериканских странах и который под предлогом любви к индейскому противостоит основным ценностям нашей традиции и нашей культуры, и в особенности католической вере, отрицая также цивилизаторскую миссию Испании в Америке, казалось, начал укореняться в некоторых кругах, близких к официальным [перонистским]. Такого рода национализм — который, кстати сказать, всегда пользовался симпатией левых политических сил, и в особенности марксизма, видевшего в нем удобную возможность устранения основных препятствий, стоящих на пути его экспансии в этих широтах,— я говорю «такого рода» индейский национализм, ибо он не заслуживает этого названия, поскольку отказывается от основных начал национальности» 1 2.
Таким образом, можно было бы думать, что основные начала национальности представляют собой нечто противоположное тому, что пытается отстоять наш фольклор. Эстрада говорит, что испанская традиция и католическая вера — это два постоянных момента аргентинского национализма3; то же самое, слово в слово, 1 В этом отношении нет более типичного, чем первая глава уже упомянутой нами книги Ибаргурена, если ограничиться только политической литературой националистического характера.
2Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de la Pampa, ed. Losada, Buenos Aires, 1942, tomo I, p. 78.
á Там же, p. 74.
В другом месте он также говорит, что «несмотря на свои недостатки и возможные отклонения, национализм не впал в отмеченные отклонения [иррационалистический тоталитаризм] там, где истина католицизма выступила как одна из самых горячо отстаиваемых ценностей». В качестве примера он приводит Аргентину и Испанию Франко (стр. 50). Относительно Аргентины мы скажем ниже. Относительно Испании было бы хорошо спросить, что собой представляет этот католический национализм, превративший полуостров в атомную базу Соединенных Штатов, отказавшись от национальной независимости.
222
повторяют и другие идеологи национализма. После признания испанского элемента как положительного культурного фактора (а кто же станет его отрицать?) Эт- чекопар так характеризует особенности национализма: «а) конкретный подход к аргентинским проблемам в противоположность анахронической идеологической неопределенности так называемых демократических партий... б) признание и оценка нашего испанского прошлого, действенное историческое единение с ним... в) пересмотр аргентинской истории...» 1
Здесь, без сомнения, национализм кое в чем прав в своей антилиберальной критике. Однако в основе он принципиально порочен, и это ведет к непониманию того, чем в действительности является Аргентина, как конкретное воплощение национального в ее реальном существовании, независимо от рассуждений идеологов. Эта Аргентина выступает видоизмененная в своем характере благодаря включению в нее широких иммиграционных масс, многие из сыновей которых были аргентинцами уже несколько поколений, но представляли собой нечто иное, чем старые патриции. Культурное наследство, непреходящее содержание всей национальной деятельности, также основывается на жизненных моментах, принесенных этим гигантским человеческим приливом и навсегда вошедших в нашу кровь. Националисты сводят все это к испанской основе. Они, естественно, исключают иммиграционный вклад и одновременно ликвидируют наш древний индейский фольклор. Индейцы, физически уничтоженные предками этих идеологов, снова уничтожаются теперь, к счастью, только метафорически.
Но ликвидированным — уничтоженным, и уже без всяких метафор — оказывается также и предполагаемый испанизм и его католические носители, подчиняющиеся не совсем католическим, и вовсе не испанским, интересам. Этчекопар пишет: «...испанская Америка входит в орбиту Запада, считая, естественно, в качестве его составной части Соединенные Штаты... Необходимо сказать более точно, что речь идет прежде всего о включении в политическую и экономическую орбиту»1 2. При этом надо заметить, что этот национализм вполне последова1 Máximo Etchecopar, Esquema de la Argentina, ed. Ene, Buenos Aires, 1956, p. 61, 65—66.
2 Там же, p. 38.
223
телен, когда прибегает к франкистскому образцу. Речь идет не о поверхностной риторической формуле, порожденной чисто внутренней рассудочной теоретической спекуляцией. Когда делается попытка прийти к конкретным результатам в повседневной деятельности, националистические глашатаи говорят, например, следующее: «В случае любого мирового конфликта мы открыто провозглашаем себя сторонниками Запада. Мы думаем, что с Соединенными Штатами можно и должно поддерживать разумные и сердечные связи без малейшего ощутимого ущемления чувства национальных интересов. Мы думаем, что привели достаточно доказательств нашего рвения в отстаивании суверенности. Однако легко мы не поддадимся козням коммунизма, являющегося наихудшим врагом» Ч
Таким образом, национальной независимости ставится как бы определенный предел и национализм в области политики возвращается к своим первоначальным истокам, то есть становится активной преградой на пути развития социализма. Это заставляет нас проводить различие между националистическим чувством, которое в политике вызывается стремлением к экономической и культурной независимости, имевшим место во многих слоях общества, а также среди отдельных лиц, не принимающих другого понимания национализма, и националистическими по названию группами, основные особенности которых мы только что отмечали. Первое ведет к сочетанию национального и народного, второе, даже если исходить из его самой нескомпрометированной формы, является попыткой воспрепятствовать в конеч-
1 «Azul у Blanco», Buenos Aires, octubre 17, 1956. Подчеркнутое, столь энергично раскрывающее подлинный смысл, принадлежит самой редакции националистического еженедельника. Позднейшая деятельность указанного издания, казалось бы, отходит от этих текстов. Тем не менее это не так. Во-первых, потому, что я имею в виду здесь основную направленность националистического течения, проводящего среди своих людей, большинство из которых в настоящее время занимает общественные должности, политику проянки. Во-вторых, потому, что, хотя «Асул и Бланко» вовлечен в кампанию против этой официальной политики, он не перестает протестовать и тогда, когда президент республики делает в Вашингтоне прозападные заявления, ибо обвиняет правительство в том, что одновременно оно поддерживает здесь антизападные группы, которые допускают коммунистические действия, и даже стимулирует их от имени правительства («Azul у Blanco», enero 27, 1959).
224
ном счете движению нации к подлинно передовым формам человеческого сожительства, хотя при этом народ наделяется самыми возвышенными метафизическими эпитетами. Подлинная сущность национализма выражена в первом варианте, второй вариант представляет собой его фальсификацию.
Однако легко заметить, что в критике либерализма этому второму варианту удалось добиться некоторых успехов. Можно согласиться также, что ему удастся соблазнить молодежь, всегда благородную, жаждущую более ясных объяснений, чем те, которые дает классический буржуазный либерализм. Например, в период так называемой «позорной декады» стало очевидно, что, кроме активной программы коммунистической партии, только националистические группировки предоставляли молодежи прибежище для их «идеализма» и для их героических стремлений. Что могло прельстить_их в буржуазной посредственности традиционных партий! Прилагательное буржуазный применяется здесь как синоним той непроходимой тупости, которую навечно запечатлел Флобер.
Молодежь стала отходить от этих традиционных партий, за которыми они иногда шли с тайными намерениями заставить их служить своим стремлениям к национальной независимости. Эта уловка может показаться напрасной, таковой она и является, если иметь в виду, что только политически организованный рабочий класс может открыть подлинные пути антиимпериалистической борьбы. Но все это только указывает на растущий интерес к национальным проблемам, прежде всего потому, что страна небезразлична ни к росту внутренних объективных факторов, которые определяют ее стремление к освобождению, ни -к такому же движению других угнетенных народов мира, что меняет соотношение сил не в пользу империализма.
Интерес народа к национальным проблемам тесно связан с этим великим антиимпериалистическим движением. Нет подлинного национализма, если он не носит антиимпериалистического характера, если он не умеет использовать в своих интересах все факторы, имеющиеся в его распоряжении в связи с существованием социалистического мира, который, изменив природу государственной власти, достиг громадных успехов. Любое 15 Э. П. Агости 225
игнорирование этих обстоятельств ведет к отказу от подлинно национальных решений проблем.
И если создатели нашей независимости в свое время сумели понять, что основной враг — это метрополия, то сегодня враг аналогичен, хотя и изменил свое отечество. Некоторые же националистические течения предпочитают видеть основного врага угнетенных народов в социалистическом мире, абсолютно солидаризуясь в этом с глашатаями империализма. И отсюда становится понятным, почему теперь осуждаются те, кто, хорошо или плохо, положил начало распространению социалистических идей среди нас. Теперь» хотят представить организованное рабочее движение начала века как космополитическое вмешательство в национальную душу, и нет недостатка в тех, кто критикует деятельность Хуана Б. Хусто за то, что он ввел европейские схемы классовой борьбы в нашу национальную действительность, где рабочий до этого лишь тем и был занят, что ждал подходящего случая, чтобы превратиться в буржуа. Схема классовой борьбы будто <бы лишила его этой блаженной возможности, а рабочее движение в свою очередь якобы послужило интересам британского империализма, разорив национальную промышленность своими многочисленными забастовками и преувеличенными требованиями. Все это думается, говорится и пишется ради национальной и антилиберальной доктрины, и националисты не смущаются тем, что их мнение совпадает с ¡мнением такого типичного представителя буржуазного либерализма, как дон Хоакин В. Гонсалес.
Эти моменты, которыми так часто пренебрегают при решении проблем культуры как националисты, так и либералы, являются, однако, необходимыми для создания национальной теории культуры. И осуждение коммунистических идей, о котором говорилось выше, не случайно и не является результатом простой полемики: наоборот, оно представляет собой результат определенного образа мышления, который с большей или ¡меньшей яростью стремится отказаться от иностранного, как от чего-то чуждого и достойного презрения (за исключением, конечно, как мы уже видели, «разумных и сердечных отношений» с Соединенными Штатами).
Националистическая теория культуры говорит иногда о какой-то аргентинской культуре, для которой религия 226
являлась бы основой однородности, цементирующим фактором. Все иностранное является чуждым, как иммигранты гринго, так и литература гринго1, и, следовательно, легко понять, что, исходя из этой точки зрения, только католическое испанское наследство считается приемлемым предшественником, хотя националисты никогда не сумели вразумительно объяснить, почему они так просто изгоняют индейца из нашей местной традиции. В этом вопросе националисты более близки к Сармиенто, чем они думают, хотя сами систематически осуждают его.
Таким образом, теория культуры (и, следовательно, истории) основана у национализма на абсолютно иррациональных мотивах. Аргентинское содержание культуры было бы инстинктивным чувством народа: каудильо против Сармиенто — а почему бы и нет? — Росас против Ривадавиа, ибо Росас представлял инстинктивные силы своего времени, направленные против схем иностранного толка буржуазного общества. Иррациональность истин- кта и иррациональность крови являются, таким образом, типичными категориями, которые надо признать раз и навсегда; их нельзя изменить, потому что это означало бы закрыть подлинные источники национального, которые можно было бы найти в том, чем мы были еще до Павона. И нет недостатка в безвестных писаках, способных утверждать, что надо принять культ Матери Марии и даже поклоняться ему, так как он соответствует инстинктивным чувствам толпы1 2, тогда как нерелигиозная форма культуры была бы-де выражением олигархических течений, чуждых историческим рамкам нашей инстинктивной национальности.
1 Разве Эрнандес Арреги, столь благоразумный, когда оставляет в стороне свои идеологические априорные построения, не сожалеет о том, что наша интеллигенция предпочитает новеллы Пра- толини или Моравиа новеллам Мануэля Гальвеса? (Hernándes Arregui, Imperialismo у cultura, р. 81, примечание.) Он не выступает прямо против гринго, а говорит об этом лишь намеками, что является наиболее стыдливой формой высказывания.
2 «Que», № 139, Buenos Aires, julio 16, 1957, p. 11. Инстинкт и кровь могут пригодиться для чего угодно. Например, Чавес объясняет разногласия, которые якобы имели место между мною и Амаро Вильянуэва, моей «итальянской кровью», о которой говорит моя фамилия. (См. Fermín Chávez, Los marxistas liberales, в «Dinámica Social», № 57, Buenos Aires, mayo, 1955, p. 33.) Нельзя представить себе злоупотребления более... кровожадного.
15* 227
Надо думать, что теория двух Аргентин всегда обнаружит свою подлинную сущность, если ее сводить к подобным абсурдным заключениям. Подлинная Аргентина представляла бы собой нечто нетронутое, неизменное или то, что нельзя пытаться изменить, используя знание объективных законов истории. Посредством голоса инстинкта, называемого инстинктом крови, и других элементов политико-культурного иррационализма классовую борьбу пытаются изгнать из живой канвы истории или мистифицировать роль ¡классов в конкретной истории Аргентины. Ложность националистической концепции коренится в следующих его предпосылках: ограниченная идея об исключительной стране, которая должна была бы начать с отбрасывания как чуждых всех завоеваний своей революционной мысли. Еще немного— и нам пришлось бы вернуться к колониальному периоду, благому райскому месту нашего испанско-католического происхождения, откуда мы не должны были выходить и откуда мы вышли по глупости или по несчастью.
Я не хочу упрощенно уподобить национализм в целом движению фашистского характера, хотя влияние испанской фаланги столь заметно во ¡многих направлениях аргентинского политического национализма; однако следует заметить, что в качестве направления, интерпретирующего национальную действительность, этот национализм нельзя смешивать с подлинным стремлением к независимости, распространенным в широких слоях народа. Теперь мы стоим перед своеобразным явлением, ибо именем национализма открываются двери страны иностранным ¡монополиям и поощряется деформация науки посредством атрибутов свободного обучения, в то время как нас, выступающих против капитуляции, обвиняют в иностранщине (или более ¡мягко: считают глупыми идеологами, привязанными к абстрактным схемам). Крах идеологического национализма и доказательство его внутренней лживости можно увидеть в недавних событиях. Еще раз можно убедиться, что национальное чувство находит свое подлинное место в партии рабочего класса именно потому, что она одновременно выступает против космополитического подчинения империализму и против реакционного обмана буржуазного национализма.
228
Великий аргентинский синтез создан изменениями в органическом составе нашего населения, в бурной симфонии крови, уже усмиренной в вавилонском Буэнос- Айресе, но, несмотря на это, всегда присутствующей в историческом облике нации. Именно среди этого вавилонского столпотворения формировался аргентинский пролетариат, имеющий два истока: прошлая иммигрантская основа и крестьянский приток наших дней. Но этот пролетариат уже представляет собой действительную Аргентину и сможет стать основой свободной Аргентины, как только сумеет объединиться с народными массами провинции, которые старой олигархией оторваны от культуры, а националистская мысль пытается удержать в состоянии отчуждения, привязав их с помощью фольклора к архаическим иррационалистическим мифам. В той мере, в какой этот национализм содействует разделению страны, он объективно становится на антинациональные позиции, каковы бы ни были намерения его приверженцев, потому что они лишают аргентинский народ возможности сопротивления своим традиционным врагам. Это, быть может, самая драматическая из всех наших современных проблем.
Правда, в Латинской Америке существуют националистические течения, по духу глубоко антиимпериалистические. Однако не таково положение так называемого политического национализма в Аргентине, солидарного со всеми отжившими лозунгами реакции, направленного, как острие копья, против социалистических стран, являющихся самой надежной опорой в антиколониальной борьбе народов. Сущность нашего креольского национализма сохраняется, следовательно, до наших дней, каковы бы ни были внешние формы его проявления. Но в то же время существуют различные мелкобуржуазные течения, пе называющие себя националистическими (и даже иногда вообще отвергающие национализм), которые, однако, становятся на позиции широкого национального антиимпериалистического движения. Если бы от меня потребовали привести примеры, я бы сказал, что в современной Аргентине это национальное чувство среди непролетариев в области политики и культуры выражают два имени. Я бы назвал, естественно, Луиса Дельепиане и Моисея Левенсона; может быть, также и группу «Конторно».
Национализм и либерализм
Если 1930 год определил приближение аргентинской литературы к национальным проблемам, справедливо считать, что с тех пор эта проблематика принимает все более отчетливые формы. Правда, мы замечаем постоянные и тонкие уловки космополитизма, подрывающего национальный дух: в этом отношении идеи Борхеса являются самым значительным и мрачным, а также доктринерским его выражением. Однако в стране бурно возникает литература, имеющая глубокие национальные корни, литература Буэнос-Айреса и провинций, которая пытается избежать ловушки как космополитизма, так и бескрылого деревенского регионализма. Если я делаю упор на литературу для того, чтобы раскрыть сущность этого явления, то делаю это не потому, что это явление не имеет места в других областях культуры. Мы могли бы привести длинный список национальных исследований в области экономики, социологии, истории, техники, медицины, права; все они представляют собой доказательство национального роста и свидетельствуют об усилении влияния объективных интересов, возникших на национальной основе нашей страны. Но литература выступает здесь как сейсмограф общественного сознания: регистрирует его изменения и измеряет их, позволяет нам проверить тончайшие изменения в биении народного пульса.
Я отмечаю это обстоятельство потому, что, без сомнения, имеется разница между первыми проявлениями национальных мотивов в книгах, опубликованных начиная с 1930 года, и другими формами их проявления, где столько раз метафизика явно уступает место прямому или косвенному вмешательству в проблемы социального человека. Мы начинаем ощущать многообещающее освобождение национального чувства; однако было бы неправильно назвать его национализмом, по крайней мере в том политическом смысле, который мы ранее отмечали.
23Q
Этот литературный национализм свидетельствует о существовании национального сознания, идущего по пути своего дальнейшего совершенствования, и хотя мы должны оценить и поощрить его во всех его проявлениях, мы должны также смотреть на него как на нечто сложное и иногда противоречивое.
Создать литературу, соответствующую нашей национальной действительности, значит добиться универсальности единственно возможным и законным путем. Но в рамках этой будущей (и действенной) литературы имеется часть, которая довольствуется простой регистрацией национального момента, равно как и другая часть, которая стремится дойти до самой сущности национальных проблем. Даже учитывая неоспоримый прогресс, который означает новая литература, легко понять, что две ее стороны выражают различное отношение классов к национальной проблеме. Позиция буржуазии в национальном вопросе и позиция, вдохновляемая политикой рабочего класса, — не одно и то же. Если первую и можно считать положительным фактом по сравнению с капитулянтской позицией космополитизма (типичной для литературы, считающей себя литературой элиты, но тем не менее соответствующей мировоззрению старой олигархии), однако было бы неправильно придавать ей такое же значение, как пролетарскому интернационализму, который опирается на более глубокие основы социального обновления.
Буржуазный национализм, даже в своих лучших проявлениях, в эпоху социалистических революций всегда неустойчив. Мы не хотим ни осуждать его, ни требовать от него больше, чем он может дать в области социального, мы стремимся лишь понять его. Но понять его — не значит приукрасить, иными словами, это не означает, что можно поставить знак равенства (или говорить о сходстве) в области идеологии между двумя противоречивыми социальными группами. Нельзя также забывать, что часть этой национальной литературы с тоской (я бы сказал, реакционно) обращается к прошлому, как будто наша судьба должна состоять в возвращении к пастушеским формам патриархального общества. Литература элиты, которая принесла в страну некоторые наиболее интенсивные формальные поиски первого послевоенного периода, добилась в этом отношении заметных успехов, 231
насмехаясь ¡над примитивным фольклоризмом с пережитками каменного века. Это, ¡можно сказать, месть либерализма.
Нельзя игнорировать тот факт, что в своей значительной части либерализм тесно связан с тонким процессом денационализации нашей культуры, являющимся чем-то вроде разрыва нашей революционной традиции, не в грубом стиле ревизионистов, а более осмотрительно, при внешнем соблюдении ее, но по существу стерилизуя или фальсифицируя ее содержание. Но можно ли свести к этому антинациональный характер либерализма? Здесь затрагивается одна из основных тем переоценки истории, тема, при решении которой раскрываются два вышеизложенных направления в решении национального вопроса. Реакционный национализм объединяет под единым названием либерализма все американское освободительное движение, начатое в Мае. Он пытается превратить понятия «демократия» и «либерализм» в синонимы, к чему с большим удовольствием присоединяются либералы, которые благодаря этому присваивают себе наше прогрессивное прошлое. Тут не место опровергать тот неправильный тезис, согласно которому достойны презрения (за либерализм) силы, в какой-то степени занятые буржуазным строительством, и достойна уважения (за традиционализм) скотоводческая олигархия, представителем которой является Хуан Мануэль Росас. Однако такие утверждения имеют определенный смысл, ибо направлены на то, чтобы скрыть от аргентинского народа существо культурной проблемы и уверить нас в том, что аргентинская революционная традиция и политический образ действий, называемый либеральным, представляют единое целое.
Реакционный национализм упрекает либерализм (особенно либерализм последнего этапа) за его политику по отношению к иностранному капиталу и добивается того, чтобы эта политика не отделялась от свода прогрессивных законов, которые сделали возможным историческое развитие республики. Это все равно, 4jo сделать шаг назад к колониально-католическому государству, чей Señor de los Cerrillos также не отказывался от обременительного сговора с британским капитализмом, тогда как интернационализм рабочего класса исходит из того, что явления не носят статический 232
характер, и видит в процессе, который, как мы сказали, только для удобства выражения назван либерализмом, диалектические противоречия. Благодаря этому рабочий класс открывает, что современный либерализм— это один из вариантов буржуазного мышления, возникший как антисоциалистическое явление; он обнаруживает также, что в аргентинском обществе либерализм осуществляет противоречивую деятельность, которую нельзя рассматривать как единое неразрывное целое. Следовательно, надо различать, с одной стороны, деятельность тех, кто содействовал распространению у нас современного законодательства и одновременно пытался расширить культурные горизонты страны, осуществляя таким образом исключительно прогрессивную политику, и, с другой стороны, политическое поведение олигархии, являющейся менее либеральной, чем она хотела себя представить, и от имени прогресса открывшей двери иностранному капиталу.
Конечно, нужно всегда иметь в виду исторические условия страны, лишенной экономических сил, способных обеспечить страну всем необходимым. В то время стали расцветать теории так называемого прогрессистского либерализма, одним из самых пылких сторонников которого был Агустин Альварес. Приверженцев этого течения ослеплял пример североамериканской республики. Рассматривая различные пути развития обеих Америк, они объясняли это различие существованием разных религий. Наш недуг — наш единственный недуг— состоял в том, что наша твердая поступь была остановлена с помощью католической догмы. Так, Альварес считает, что в нашей Америке, «за исключением Аргентины, Чили и Уругвая, у которых еще имеется некоторая возможность избавиться от пут религии, чтобы освободиться от испанского влияния (курсив мой.— Э. 4.), все остальное является «владением сатаны» под сенью католического идолопоклонства и доктрины Монро» L
Конечно, ни Альваресу, ни его теперешним антилибе- ральным критикам не могло прийти в голову, что этот «католицизм», распространившийся в испанской Амери-
1 Agustín Alvarez, ¿Adonde vamos? ed. La Cultura Argentina, Buenos Aires, 1952, p. 164—165.
233
ке, был лишь одеянием феодализма, который мы не сумели искоренить из наших основных учреждений. Это значит, что следствия принимаются за причины, что в свою очередь приводит к тому, что многие либералы типа Альвареса начинают воображать, будто Северная Америка пришла к процветанию благодаря протестантизму, а не потому, что там были установлены буржуазные формы цивилизации, проявлением которых в области религии был протестантизм.
Легко заметить, что ни либералы того времени, ни критики, осуждающие их сегодня, не поняли, в чем дело, и не раскрыли отрицательную роль латифундий. Серьезность положения в Аргентине (и в Южной Америке вообще) состоит в том, что ненормальное развитие страны, имевшее место в силу империалистического вторжения, оказалось возможным потому, что существовала земледельческая олигархия, владевшая бескрайней пампой, олигархия, которую литераторы затем смогли представить как некую фатальную необходимость земли. Однако она не была таковой ни для заморских банкиров, которые предоставили нам роль фермеров в международном разделении труда, ни для аргентинской олигархии, которая растрачивала свои прибыли в Париже, в то время как с помощью полуфеодальных пережитков душила огромную армию безземельных крестьян нашей страны.
Какое самостоятельное развитие могло иметь место в этих условиях? Тогда прогрессистский либерализм пришел к выводу, что все можно решить, прибегнув к иностранному капиталу, и именно по этому поводу ревизионисты больно жалят его бока острыми (но справедливыми) стрелами своей критики. Но эти критики тщательно замалчивают основную причину и не выступают ни против тогдашних, ни тем более, естественно, против теперешних латифундий. Вместо этого они пытаются осуществить обходный маневр для того, чтобы приписать всевозможные недостатки либерализма аргентинской демократической традиции. В нее они включают и независимую от религии систему образования, которую они обвиняют во всех грехах, представляя ее как достойный презрения духовный продукт олигархии иностранного происхождения. И так как все можно соответствующим образом увязать, оказывается, что, 234
креольские сторонники «национального марксизма» (если не «марксистского национализма») обнаружили, что религиозное обучение — это необходимая для аргентинского образа жизни надстройка. Если когда-то с целью оправдания столь многих извращений в области экономики много злоупотребляли именем Ленина, то нетрудно понять, что теперь стали ссылаться на ленинские высказывания относительно буржуазного характера антиклерикализма, чтобы попытаться убедить нас, будто мы должны все принять ради «национальной интеграции»; другое решение означало бы принятие позиций светского либерализма, то есть идеологии олигархии. Обман, без сомнения, хорошо обдуман.
Ленин в своей известной статье 1 действительно подчеркивает, что ярый атеизм и формулы «борьбы против религии» представляют собой типические формулировки буржуазной идеологии, что задача борьбы с религией — это историческая задача революционной буржуазии, которую западная буржуазная демократия в эпоху буржуазных революций, или наступления против феодализма и средневекового духа, в значительной степени выполнила (или выполняла), и что после завершения цикла национальных буржуазных революций антиклерикализм выступает как средство отвлечь внимание масс трудящихся от социализма. Ленин в этой статье показывает, что религиозное чувство имеет в широких слоях народа глубокие социальные корни и что поэтому меры против него должны быть такого же характера и должны осуществляться через социальные изменения, а не просто посредством антиклерикальных высказываний.
Это положение и определяет в сущности традиционную позицию марксизма в этом вопросе. В противоположность мелкобуржуазному утопическому лозунгу «войны против религии» мы стоим за нейтральность государства по отношению к ней, провозглашая ее частным делом. Однако, уважая религиозные верования людей, партия рабочего класса не выполнила бы свои классовые обязанности, если бы не раскрывала, каким классов&м интересам служит церковь. «Идеология» выступает здесь как надстройка, прикрывающая реакционные интересы, и в этом вопросе мы, естественно, как 1 «Об отношении рабочей партии к религии», май 1909 года
235
часть народа, не можем быть нейтральными. Одно дело— подлинные религиозные чувства народа, иррациональные корни которых можно уничтожить, изменив социальные условия существования, и совсем другое дело — политика, которая этими чувствами прикрывается и основная цель которой — отвлечь массы трудящихся от главных задач. Под предлогом борьбы против либеральной политики по отношению к империализму (против ее космополитических слабостей в области культуры) националистические критики хотят аннулировать нашу демократическую традицию в этом основном вопросе или отождествить присущие ей аргентинские черты с ее испано-колониальным выражением в области идеологии. Это происходит не только в Аргентине, но и во всей Америке и даже проявляется в деятельности таких международных органов, как ЮНЕСКО, и влияет на идеологическую карту мира посредством чудовищного союза империализма янки и ватиканской иерархии. Нетрудно обнаружить, что в Аргентине за этим маневром скрывается попытка помешать демократическим завоеваниям народа в области культуры в широком смысле слова.
Спор о формах организации народного образования в стране убедительно раскрыл эту попытку, а также попытку доказать, будто защита народного содержания культуры — это происки империализма, в то время, когда самые ярые критики этой культуры применяли всевозможные ухищрения, чтобы оправдать уступки империализму. В этой области наступление реакционных сил осуществляется с помощью гибкой тактики, направленной на реализацию довольно ясного стратегического плана. Прежде всего они стремятся открыто ввести религиозное обучение, когда же это не дает результата, они прибегают к софизму, который называется «свободным обучением». Известно, что свободному обучению, если под таковым понимать право распространения своих взглядов хотя бы в форме школьных программ, действующие легальные нормы не препятствовали, по крайней мере теоретически.
Эту свободу выражения своих взглядов мы неоднократно отстаивали наряду с другими причинами, потому что принять противоположное означало бы признать, что государство в антагонистическом обществе представ236
ляет собой учреждение, стоящее над классами. Капиталистическое государство — и аргентинское государство в том числе —обеспечивает осуществление гегемонии господствующих классов также и в области образования. Усиление автономии процесса образования требует непрерывной борьбы за демократизацию народной школы, о чем писал Маркс в «Критике Готской программы» L Отсюда вытекает требование школьной автономии: так как классовое содержание школьного образования остается буржуазным, пока буржуазия является господствующей социальной группой, то рабочему классу и народу в целом совсем небезразлично, какую форму принимает организация школы. Следовательно, с этой точки зрения ¡мы стоим за свободное обучение, поскольку это означает, что народ будет иметь возможность самостоятельно руководить и управлять обучением, причем государство останется «нейтральным» в той мере, в какой светское образование, несмотря на некоторые отступления, обеспечивало эту «нейтральность» в Аргентине в течение 60 лет.
Но следует сказать для ясности — а также для того, чтобы стали очевидны наши неудачи в области образования,— что если прогрессивные слои аргентинского народа никогда не смогли воспользоваться свободой обучения как по причине полицейских ограничений, так и из-за отсутствия экономических средств, то эта свобода была неограниченной для- религиозных конгрегаций, которые имели собственные колледжи и даже открыли университетские факультеты (возьмите, например, знаменитые факультеты Сальвадора). Зачем тогда столько шума? Для чего тогда нападки на либеральную денационализацию светской школы? Все это для того, чтобы добиться для религиозных конгрегаций (и попутно для их империалистических союзников) права присуждения
1 «Никуда не годится «народное воспитание через посредство (капиталистического — Э. А.) государства». Определять общим законом расходы на народные школы, квалификацию преподавательского персонала, учебные дисциплины и т. д. и наблюдать при посредстве государственных инспекторов, как это делается в Соединенных Штатах, за соблюдением этих предписаний закона,— нечто совсем иное, чем назначить государство воспитателем народа! Следует, наоборот, отстранить как правительство, так в равной мере и церковь от всякого влияния на школу» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 19, стр. 30).
237
званий в различных профессиях, а также поддержки этих частных заведений государственными фондами. Одна из деклараций «католических университетов» 1 говорит об этом совершенно откровенно, требуя «распределения среди государственных и частных учебных заведений средств, предназначенных для образования и получаемых за счет государственных субсидий».
Не случайно, таким образом, в 1946 году при санкционировании отмены закона о светском образовании выступивший с докладом депутат, выдающийся поборник перонистского варианта национализма, напомнил об «исторической ошибке», которую совершили аргентинцы в 1810 году: независимость противоречила национальному духу так же, как школа без догм. Как раньше, при олигархических правительствах, так и потом, при правительствах, которые якобы боролись против олигархии, под прикрытием национальных лозунгов против народной школы осуществлялись хитрые козни с целью доказать ее неспособность, против той народной школы, развитию которой препятствовали социальные аномалии страны, сделавшие ее действительно неспособной, поскольку ей было отказано в фондах, так расточительно предоставляемых по другим статьям бюджета. Этот прием не нов. Более десяти лет назад Эчеверриа сказал: «Свободное обучение, часто поощряемое безответственностью наших правительств, может только непрерывно сеять среди нас семена раздоров и замешательства, ему мы должны приписать в значительной степени моральную и физическую анархию, которая раздирала нас и сделала бесплодными в течение 34 лет революции»1 2. Но Эчеверриа, говорят они, был еще одним из безродных поклонников иностранщины...
Конечно, либерализм в области буржуазного мышления всегда имеет свою оборотную сторону, это неизбежно. Можно допустить также, что национализм (даже в самых его реакционных формах) может приписать себе некоторые удачи в критике либерализма. Но эта критика основана на преднамеренной путанице, посред1 «La Nación», Buenos Aires, agosto 11, 1958.
2 Esteban Echeverría, Obras completas, ed. Antonio Zamora, Buenos Aires, 1951, p. 338—339 («Mayo y la enseñanza popular en el Plata», 1844).
£38
ством которой, как мы видели, под общим названием либерализма объединяются также и направления, ничего общего не имеющие с собственно либерализмом, направления, действительно обновляющие наши основополагающие идеи (например, учение Эчеверриа). Во всяком случае, под предлогом критики отрицательных сторон либерализма националисты хотят отбросить всю аргентинскую демократическую традицию, имеющую глубокие национйльные и, следовательно, националистические корни. Вместе с тем националисты не подчеркивают основную отрицательную черту либерального мышления — его антисоциалистическую направленность. Националистическая критика либерализма обходит этот факт молчанием. Это и понятно: можно было бы сказать, что либерализм в качестве преграды социализму кажется националистам слабым. Они говорят о подрывной функции либеральных кругов, поскольку последние содействовали развитию (сознательно или нет, это неважно) космополитического нигилизма, а этот нигилизм является следствием деформирующего влияния империалистического вмешательства в область культуры. Но какой выход нам предлагают? Анахронизм возвращения к нашим истокам, понимая под таковыми неорганические формы нашего колониального прошлого, возведенные в ¡степень инстинктивной демократии. И именно в это время, начиная с 1930 года, национальному характеру аргентинской литературы удалось утвердиться как ее новому качеству. Это самое значительное явление наших дней.
Обращение к национальному—к подлинному и истинно национальному — означает, что мы должны отмежеваться и от либерализма, понимаемого как космополитическое разложение, и от национализма, рассматриваемого как слепое влечение к нашему древнему испанскому происхождению. Страна является таковой, как она есть; она окрепла, каждодневно создавая себя; она создала свою однородную национальность путем ассимиляции новых человеческих групп. Это — реальная страна, которая, как мы уже показали, придавлена гнетом аномальных структур, отстраняющих широкие народные массы от полезной культурной деятельности. Поэтому национальное содержание литературы — немаловажный момент.
239
Но недостаточно довольствоваться покааом национальных событий, необходимо также вникнуть в реальную сущность национального. Литература является народной не потому, что она может быть легко понята (у нас более чем достаточно примеров легко понимаемых вещей, как, например, комиксы или радиопостановки, которые, как это ни парадоксально, являются самыми антинародными), а потому, что она непосредственно связана с теми необходимыми преобразованиями, в которых нуждается и которых требует страна.
Может быть, если от литературы перейти к другим областям культуры, этот факт будет более заметным, потому что, хотя специальные исследования не всегда легко доступны пониманию, они оказываются исключительно народными, когда с прогрессивными целями исследуют основные проблемы национальной действительности. Даже подвергаясь всегда пагубной опасности упрощенчества, можно было бы сказать, что народность, особенно в таких тонких областях, как искусство и литература, состоит в том, чтобы видеть проблемы народа изнутри, а не довольствоваться чисто внешним описанием в духе патернализма, как будто народ, помимо всех других своих несчастий, должен терпеть еще и оскорбления от своих интеллектуальных покровителей. Суть состоит не в том, чтобы идти в народ, а в том, чтобы быть народом.
Основная фальшь национализма состоит именно в том, что он упорно маскируется под народ в то время, когда стремится разделить народ, толкая его к прошлому.
В других исторических условиях национализм выполняет ту же самую роль тормоза, что и либерализм, только без тех преимуществ, хотя бы теоретических, которыми обладал либерализм. Следовательно, таким путем он сужает идею национального (столь важную для народов, находящихся в положении, подобном нашему). Либерализм ведет к утрачиванию национального, заставляя нас думать, что мы представляем собой бесплодную землю, предназначенную получать все извне — от локомотивов до стихов. Но было бы не менее вредным дать обмануть себя абсурдным националистическим утверждением о культуре, замкнутой в самой себе, как будто бы опыт других народов не может быть ис240
пользован (хотя бы для того, чтобы избавиться от ненужного труда).
Тот факт, что националистическое течение 1930 года, так тесно связанное с историческими формами нашей олигархии, прикрывается теперь индустриалистскими лозунгами, не имеет особого значения; смысл нашей схемы не меняется, потому что даже в риторических целях национализм не говорит о необходимости изменения отсталой организации нашей сельской экономики — основной причины нашего общего кризиса, о чем свидетельствует перонистский опыт. Справедливо отметить, что именно в момент провозглашения своих индустриа- листских лозунгов национализм предпринимает попытку направить нашу культуру по пути иррационализма. Трудно было бы придумать более парадоксальное положение: в то время как нас включают в западные зоны госдепартамента, чтобы освободить, как говорят, от английского гнета, настаивают на возврате колониального духа, чтобы очистить нас от либерализма. Значит ли это, что чужой опыт нам не может пригодиться?
Должен пригодиться. Ибо истинность национального чувства состоит в сознании того, что мы являемся чем- то в конкретной области мира. Мы представляем собой нечто — незначительное, если хотите, хотя неповторимое и подлинное,— но нечто, существующее в мире. И национальное чувство, действенно включенное в изменяющийся мир, чтобы быть подлинным, должно вести непрерывную борьбу за разрушение всего того, что до сих пор под давлением внешних и внутренних сил препятствовало достижению независимости. Истинность или ложность любой национальной деятельности определяется исключительно отношением к этому основному вопросу. Это — почти — проблема жизни и смерти для нации. Ибо то, что в 1930 году выступило как неясное проявление кризиса, теперь превратилось в уверенность в том, что аномальные структуры должны быть радикально изменены, если мы хотим, чтобы нация действительно начала превращаться в нацию.
16 Э. П. Агости
Заключение
Я опять вспоминаю о затерянной деревушке в провинции Сальта, вырисовывающейся на величественном силуэте голубых гор. Вспоминаю тукуманские дороги, обрамленные зеленью ¡невероятных оттенков, изредка прерываемой то здесь, то там красными вспышками тарко. Вспоминаю беспризорные создания на пыльных дорогах Сантьяго-дель-Эстеро, пронзающие воздух своими столь сладкими и столь печальными песнями, как будто эта старая культура стремилась сохраниться под сухим и скудным прикрытием мимоз. Вспоминаю едва нарушаемое одиночество, которое статистике не удается охватить полностью своими холодными столбцами цифр. Какую подлинную культуру можем мы вообразить для таких селений, нуждающихся в воде, ботинках и лекарствах, как в наипервейшей и наиважнейшей форме познания культуры? Оставим метафизикам сочинение определений национального бытия и более или менее иллюзорных крикливых фраз об аргентинском человеке как субъекте свободы. О какой же свободе человека, изнывающего под тяжестью сезонного труда на земле, разрушаемой латифундиями, можно говорить, о какой его теллурической сущности можно вести речь? Достаточно более близко посмотреть на национальную действительность, чтобы обнаружить лицемерие множества метафизических высказываний об аргентинском человеке.
Однако верно также и то, что новый ветер веет над страной. Я не знаю, какова будет сила ветра в ближайшем будущем, но нет никакого сомнения, что национальное чувство аргентинского народа — национальное, а не националистическое — укрепляется с каждым днем. Новая культура не чужда этому чувству. Но не будем себя обманывать: не будет новой культуры, пока не будут искоренены анахронизмы аргентинского общества. Передовая культура немыслима в рамках отсталого общества, если понимать под культурой не 242
только творческую деятельность меньшинства, а ликвидацию состояния отчуждения, в котором находятся аргентинские массы. Этим я хочу сказать, что культурная революция немыслима без социальной революции, которая, будучи основой первой, является также ее движущей силой.
Мы говорим о нашей американской революции, аграрной и антиимпериалистической по своей сущности, то есть национальной. Я не утверждаю, что мы должны ограничиваться созерцанием (или подталкиванием) политических событий, откладывая на более позднее время проблемы культуры. Это было бы самой бессмысленной глупостью, ибо означало бы положиться на слепой и строгий детерминизм истории. Я хорошо знаю, что в недрах антагонистического общества возникает новая культура, являющаяся как бы частичным предвосхищением нового общества, оружием, применяемым историческим сознанием в идеологических битвах классовой борьбы. Социализм в конечном счете представляет собой такое предвосхищение в области культуры. Но это есть предвосхищение авангарда общества, а не народа в целом. Великая культурная революция, способная повести народ к высшим формам познания, требует изменения отсталых структур. Миллионы мужчин и женщин Аргентины, отстраненные от культуры, никогда не смогут в действительности достигнуть ее, если не разрушат основные материальные препятствия, делающие их невежественными и беспомощными. Я показал, что основная причина бескультурья — это структура нашей деревни, обусловленная латифундиями; что основные недостатки связаны также с умственными протезами, которыми империализм поддерживает свое вмешательство во все стороны аргентинской жизни. Зачем же искать тогда метафизические объяснения, когда реальные причины и так бросаются в глаза тем, кто хочет их видеть?
Обратим же свои взоры на страну, которая действительно имеет свои региональные очаги культуры, задавленные, но не побежденные, борющиеся, чтобы полностью раскрыть себя, и иногда обманывающиеся при определении подлинного врага. Но самое главное в том, что они существуют. А это свидетельствует, что мы не такие беспомощные, как хотят нас уверить с целью ослабить усилия и творчество нашего народа.
16*
Послесловие
Книги прогрессивных авторов, выходящие в странах Латинской Америки, имеют большую аудиторию, поскольку, за исключением Бразилии, народы, населяющие эти страны, говорят на общем для них испанском языке. Но величина аудитории объясняется не только общностью языка, но и общностью тех задач, которые стоят в этих странах перед трудящимися, борющимися против попыток их окончательного закабаления Соединенными Штатами Америки. Вот почему каждая книга, написанная с правильных позиций, в условиях Латинской Америки приобретает особое значение, сразу же находит большой круг читателей и получает широкое распространение.
Предлагаемая советскому читателю книга Э. П. Аго- сти «Нация и культура» как раз и принадлежит к числу тех книг, которые дают правильное, марксистское освещение очень важному вопросу борьбы народов Латинской Америки — вопросу создания и развития национальной культуры в особых исторических условиях современной эпохи.
Книга Агости интересна и советскому читателю, который с удовлетворением отметит ту большую симпатию, с которой автор относится к Советскому Союзу, к успехам советского народа в строительстве коммунизма. Вот что пишет Агости о своем отношении к СССР: «Да, это другой мир,— часто говорю я тем, кто спрашивает меня с искренним любопытством.— Это другой мир во всем, начиная с самой высокой морали, какую может себе представить человеческое достоинство. И эта мораль распространяется и поддерживается, в частности, в сфере культуры. Культура там — достояние всех, ибо это также и общее дело» (стр. 148).
244
Конечно, проблемы, которые решает книга, уже решены в нашей стране и <с этой точки зрения не имеют для нее особого значения. Однако на примере этой книги мы видим, какую исключительную роль играет правильное использование марксистско-ленинской науки в борьбе народов всего мира за новое устройство общества; мы все больше и больше убеждаемся в том, что сейчас уже нельзя решать больших вопросов жизни и деятельности народов вне и вопреки марксистско-ленинской теории. Даже специфические вопросы истории каждого в отдельности народа могут быть правильно поняты только в свете этой теории.
Одним из таких специфических для Аргентины вопросов является вопрос о формировании нации и национальной культуры. Правда, он специфичен только одной своей стороной, но зато очень важной: это единственная страна Латинской Америки, где иммигранты составляют более трети населения, точнее, где на каждые 100 коренных жителей приходится 43 иммигрантам в городах и того больше. Эти иммигранты в свое время принесли с собой свою собственную культуру и на протяжении значительного времени сохраняли и передавали ее своим детям и даже внукам. Иммигранты и до сих пор образуют колонии с некоторым подобием самоуправления и сосредоточивают в своих руках значительные богатства. Часть этих иммигрантов (конечно, очень малая)—это крупные буржуа-банкиры и владельцы промышленных и торговых предприятий. Вот почему, отвечая на вопрос о том, что такое культура, что такое нация, каково отношение между нацией и культурой, классами и культурой, каковы шути развития культуры, какова роль образования в развитии культуры, автор должен был ответить и на вопрос о том, какова роль иммигрантов в создании этой культуры и как вообще нужно относиться к этому слою населения.
Книга соединяет в себе трезвый объективный марксистский анализ с той политической страстностью, которая делает ее особенно интересной даже при всей сложности ее языка и непривычной для советского читателя терминологии. Кроме того, и это главное, все вопросы темы автор решает, руководствуясь современными достижениями общественных наук, хотя и использует некоторые понятия, не принятые в нашей литературе.
245
Автор книги начинает исследование темы с того, что с его точки зрения является самым важным и существенным в жизни народа,— с материальной культуры, даже с уровня материальной жизни аргентинской бедноты. Он утверждает, что нельзя рассматривать и изучать культуру и уровень ее развития, не обращая внимания на нищенский, жалкий прожиточный минимум подавляющего большинства населения Аргентины. Такое положение в стране Агости объясняет очень низким уровнем развития производительных сил и отсталыми производственными отношениями, которые господствуют особенно в сельском хозяйстве. Подъем производительных сил не находит соответствия в существующих производственных отношениях, которые, будучи в значительной степени феодальными, тормозят развитие и материального производства, и всего общества в целом. Более того, всякий решительный шаг в развитии производства означает два шага назад в положении трудового народа, «целую бездну несчастий для него».
В вопросе об уровне жизни аргентинского народа автор стоит на той точке зрения, что в стране есть враждебные силы, которые обладают огромными возможностями и используют самые разнообразные средства для подавления народных масс. Этими силами являются существующий еще в стране феодализм, реакционная буржуазия и «империалистическое проникновение» со стороны США. Эти силы образуют единый лагерь борьбы за сохранение феодально-империалистического гнета.
Эта точка зрения автора чрезвычайно интересна и важна для всех стран Латинской Америки, в каждой из которых феодальная реакция и иностранный капитал с его вмешательством во все внутренние дела народов являются заклятым врагом широких народных масс. «...На аргентинское общество,— пишет Агости,— давят его старые феодальные пережитки, которые настолько связаны с империалистическим проникновением, что образуют вместе с ним единое и неделимое целое» (стр. 8).
В решениях совещаний представителей коммунистических и рабочих партий прямо указывается, что империализм США объединяет, группирует вокруг себя все, что есть реакционного в странах, в которых ему удается распространять свое тлетворное влияние. И это очень 246
ясно видно на примере Аргентины, где империалисты используют феодальные группировки для того, чтобы воспрепятствовать развитию национальной культуры и тем самым предотвратить даже возможность движения против иностранного гнета.
Старания империалистов и латифундистов в конечном счете не в состоянии помешать аргентинскому народу создать и развить национальную культуру, выражающую его особенности. Автор совершенно правильно говорит, что аргентинское общество не застыло и не может застыть — оно движется и развивается. Но объединенные усилия феодальной и империалистической реакции делают это движение и развитие «более драматическим», заставляя общество с огромным трудом решать такие задачи, которые при иных условиях могли бы быть решены в более короткое время, с меньшей затратой сил и с несравненно большими результатами.
Империалистам и латифундистам в стране противостоит народ, который автор книги определяет как совокупность сил, противодействующих «отрицанию национального развития, выражающемуся в наличии империализма и упорном сохранении феодальных пережитков» (стр. 10).
Кризис культуры, а именно так определяет Агости современное состояние в Аргентине, заключается во все углубляющемся расхождении интересов народа с интересами того меньшинства, которое, как говорит автор, по традиции сохраняет за собой руководство и ориентацию культуры (см. стр. 10).
Кризис культуры, о котором говорит Агости, не представляет собой самостоятельного явления, изолированного от всей остальной жизни страны. Политическую неустойчивость и глубокие социальные противоречия страна переживает давно. В результате политики, навязанной Аргентине пресловутым Международным валютным фондом, страна отстает теперь по всем линиям: экономической, социальной, политической и культурной. Безработица и обнищание трудящихся достигли катастрофических размеров. Число безработных выросло до 700 тысяч человек, а реальная заработная плата в марте 1962 года покрывала только 42,1 процента минимальных жизненных нужд рабочей семьи. В этой обстановке американские монополии, объединившиеся с 247
аргентинскими капиталистами и крупными землевладельцами, с реакционной военщиной и высшим духовенством, требуют создания «сильного правительства», которое перенесло бы всю тяжесть кризиса, переживаемого страной, на плечи народа и могло бы сдержать борьбу масс за создание подлинно демократического правительства.
Самое определение культуры автор понимает правильно, поскольку он считает ее совокупностью всех материальных и духовных благ, созданных на протяжении существования человечества. Это, как он говорит, история трудовой деятельности людей. Агости подчеркивает, что культура — отнюдь не только интеллектуальность народа, а все материальные и духовные достижения, рассматриваемые как общественное достояние народа- нации (стр. 16).
Опираясь на Ф. Энгельса, автор приходит к выводу, что цивилизация не является синонимом культуры, а только определенным этапом в ее развитии. Конец варварства совпадает с появлением специального производства на рынок и с первыми актами, исключающими непосредственный, натуральный обмен.
Каждую новую ступень в развитии культуры автор рассматривает и как отрицание предыдущей и вместе с тем как ее продолжение. Он говорит, что новая передовая культура есть диалектическая противоположность предшествующей, она сохраняет все положительное от предыдущей культуры.
В связи с определением культуры автор поднимает и еще один интересный философский вопрос — отношение между необходимостью и свободой, который он решает в своеобразном плане. Изобретя самое древнее и примитивное каменное орудие труда, человек заложил основы своего отличия от животного и тем самым — основы культуры, он сузил сферу необходимости и продолжает ее сужать, исследуя вместе с тем причины своей свободной деятельности. Такое решение вопроса помогает автору затем обратить особое внимание на роль народных масс в создании национальной культуры, так как дает ему возможность показать, что создатель материальных ценностей — народ — является и источником ценностей духовных.
Специальное место в определении культуры, ее роли 248
и значения Агости отводит критике взглядов философов- идеалистов, поскольку в целом книга направлена на борьбу с ними и на защиту марксизма. Он говорит, что иногда эти философы могут «набрести» на истину, как, нарример, Ортега-и-Гассет, который вдруг заявил, что Кризисы культуры объясняются восстанием масс. Однако это была, пишет автор, только оговорка, так как сразу же вслед за ней этот философ-реакционер поспешил заявить: «Человек теряется в своем собственном богатстве; его собственная культура, буйно произрастая вокруг него, в конце концов задушит его. Й именно это явление представляют собой в конечном счете так называемые кризисы истории. Человек не может быть чрезмерно богатым: всякий избыток способностей, возможностей, имеющийся в его распоряжении, приводит к тому, что он тонет в них и теряет чувство необходимого». Такое понимание кризиса культуры, конечно, вздорно и нелепо, но все же автору книги следовало бы дать ему более развернутую критику, указать хотя бы на то, что человечество в целом никогда не было и никогда не будет чрезмерно богато, ибо потребности людей растут вместе с ростом материального производства. «Тонут» в избытке и «теряют чувство необходимого» не человечество, а современные представители господствующих эксплуататорских классов.
Исследует автор и вопрос о национальном характере народа, рассматривая его (характер) как отражение жизни народа, который сам творит свою историю. К национальному характеру автор подходит не как к чему- то неподвижному, а, наоборот, как находящемуся в движении и развитии. Конечно, национальный характер не меняется в течение короткого времени, но он складывается исторически и не является результатом только древнего наследства. Национальное наследие Аргентины, например, с точки зрения Агости, не есть следствие только древней креольской традиции, которая, конечно, сохраняется, но с которой уже давно начало соединяться то, что присуще «гринго», то есть иммигрантам. «...Все присущее гринго и их языку уже вошло в плоть и кровь нравов, обычаев и языка нашей туземной цивилизации»,— пишет Агости (стр. 35).
Интересно, что чехословацкие путешественники Ган- зелка и Зигмунт, свежее впечатление которых от проJ7 Э. П. Агости 249
цесса формирования аргентинской нации может помочь разобраться в этом сложном вопросе, без всяких сомнений присоединились к тому мнению, что «Аргентина будет страной без иностранцев и не более чем через одно поколение» (см. Ганзелка и Зигмунт, «Там за рекой Аргентина»).
В каком же положении находится культура Аргентины в настоящее время? Этот вопрос автор решает в самой тесной связи с вопросами экономического характера. Он утверждает, например, что к экономической колонизации страны иностранным капиталом добавляется, как ее следствие, умаление значения собственной национальной культуры. Экономическая колонизация страны сопровождается привитием ей черт, которые не соответствуют интересам самого аргентинского народа и противоречат прогрессивным традициям как прошлого, так и настоящего. Остатки старой культуры, пишет Агости, уживаются с «субкультурным нашествием могущественных северных соседей, которые наряду с жевательной резинкой, навязывают ему (народу — Н. П.) чужие обороты речи, выражения, танцы, вплоть до рубашек и надоевших галстуков» (стр. 69).
Какие же силы противодействуют этой экономической колонизации и этому вторжению в культуру аргентинского народа? Чтобы ответить на этот вопрос, автор посвящает значительное количество страниц борьбе против космополитизма, который занимает особое место во всей истории Аргентины.
Дело в том, что в Аргентине существует по крайней мере четыре аспекта рассмотрения вопроса о космополитизме:
космополитизм как проявление борьбы против феодальной реакции и обскурантизма в эпоху становления капитализма в Европе;
космополитизм как название для культуры и труда иммигрантов, к которым, как уже говорилось, принадлежит в Аргентине целая треть населения;
космополитизм как обоснование господства США под флагом необходимости ликвидации национальных границ и создания единого мирового правительства;
космополитизм как наименование, данное реакционерами социалистическому рабочему движению.
250
Что касается космополитизма эпохи борьбы буржуазии в Европе против феодализма, то Агости исходит в оценке его из известного положения, высказанного Марксом в «Речи о свободе торговли»: «Присвоить имя всеобщего братства эксплуатации в ее космополитическом виде — такая идея могла зародиться только у буржуазии. Все разрушительные явления, вызываемые свободой конкуренции внутри каждой отдельной страны, воспроизводятся на мировом рынке в еще более огромных масштабах». Оценивая космополитизм этого времени, Агости пишет, что «космополитическая экзальтация «гражданина мира» была исторически необходима для того, «чтобы разорвать путы умирающего феодального общества». В настоящее же время «бездушный космополитизм... служит оружием империализма, стремящегося уничтожить национальную самобытность других народов» (стр. 46). Такая оценка современного космополитизма автором книги совершенно правильна. Ни аргентинский народ, ни какой бы то ни было другой народ мира не могут ждать от американского космополитизма ничего для себя хорошего. Космополитизм в настоящее время — это не что иное, как «теоретическое» обоснование экспансии американского империализма.
Ныне довольно широкое распространение получила теория, которая говорит, что поскольку человечество может жить только в «едином мире или ни в каком», постольку в эпоху ядерного оружия не может быть мирного сосуществования наций. Народы должны отказаться от национального суверенитета.
Можно только пожалеть, что автор, совершенно правильно понявший реакционную сущность этой космополитической «теории», тем не менее очень мягко критикует ее, говоря, что он не хочет угадывать намерений ее авторов. А их, собственно, и угадывать нечего. Ведь даже из тех выдержек, которые приводит Агости, видно, что эта теория требует подчинения всех наций одной великой державе (именно США) и угрожает им войной в случае нежелания подчиниться.
Следует отметить, что в современной буржуазной идеологии, стремящейся проникнуть в рабочее движение, есть очень хитроумные попытки выступить против социализма под прикрытием необходимости борьбы с космополитизмом. С этой целью идеологи буржуазии ста17*
251
раются предсТавйть организованное рабочее движение как «космополитическое» вмешательство в национальные дела аргентинского народа. Автор книги критикует такую точку зрения, но и здесь, пожалуй, его критика слишком мягка, поскольку он пишет, что осуждение социалистических идей в рабочем движении представляет собой результат определенного способа мышления, который с яростью отказывается от всего иностранного, как от чего-то чуждого и достойного презрения. Дело в том, что люди, обвиняющие организованное рабочее движение в космополитизме, вовсе не стоят на точке зрения отрицания всякой возможности установить какие бы то ни было отношения с другими нациями и государствами. Наоборот, автор книги сам саркастически добавляет, что реакционеры высказываются против улучшения отношений между партиями и организациями рабочего класса, но не против «разумных и сердечных» отношений с Соединенными Штатами. Но если это так, то приведенная точка зрения буржуазии является клеветой на рабочий класс.
Подчеркнуть необходимость более резкой критики подобной антимарксистской точки зрения тем более важно, что феодальная реакция очень часто объявляет «космополитическим» все то, что связано с «потом и семенем» гринго, и хочет построить культуру Аргентины, воспитывая ненависть и неприязнь к более чем трети населения всей страны. Автор совершенно справедливо замечает, что проповедь ненависти к гринго не мешает реакционерам-феодалам чувствовать себя очень уютно за столом гринго-банкиров.
Агости правильно решает вопрос об отношении между тем, что создается в области культуры внутри страны, и тем, что приходит в страну извне. «Вести национальную линию вовсе не означает отгораживаться от плодотворного опыта, который может дойти до нас извне»,—пишет он. Люди, жалующиеся на то, что в аргентинской культуре слишком много иностранного, напоминают автору сенатора, который, чтобы сохранить национальную чистоту, ездил в карете, а не в поезде, так как паровозы — это изобретение гринго.
Проблему создания и развития национальной культуры в Аргентине автор рассматривает как политическую, а не только как проблему одного образования.
252
Подходя к ней, автор прежде всего показывает, что процесс создания и развития этой культуры является содержанием классовой борьбы. «Классовая борьба, какой бы острой она ни была, не разделяет общество, а создает предпосылки для его дальнейшего преобразования революционным путем» (стр. ПО). И это действительно так. Классовая борьба является движущей силой развития классового общества, и решать вопросы создания культуры народа вне этой силы значило бы заранее обречь себя на неудачу. Только привлечение к созданию культуры широких масс народа и развертывание борьбы классов в этой очень важной области может обеспечить положительные результаты.
Исследуя источник формирования нации и национальной культуры, автор вполне правильно говорит, что в стране рождаются новые отношения, главным носителем которых является рабочий класс, и что именно эти новые отношения должны лечь в основу новой культуры, которая использует все достижения предыдущей, но которая в отличие от старой будет выражать интересы народа, а не кучки реакционеров.
Реакционные партии и правители стараются доказать, что проблема создания культуры не должна связываться с политикой. Но передовая национальная культура, как правильно говорит автор книги, неотделима от национальной независимости, она выражает общие черты национальности и прямо связана с политикой прогрессивных классов. «...Народ — это ведущая сила нации... национальным можно считать только то, что прямо и непосредственно служит подлинно народным интересам». Народ же для автора — это все слои населения, которые заинтересованы в упразднении двойного гнета на пути национального развития — латифундий и империализма.
Но поскольку все эти вопросы являются политическими, постольку прав автор, когда говорит, что человек, проповедующий беспартийность, «отвращение к политике... служит самой скверной политике» (стр. 195). Политика и культура неразрывно связаны друг с другом. Воля трудящихся — это всегда требование демократии и политических свобод, не говоря уже об экономическом освобождении, которое является заветной мечтой всех трудящихся.
253
Люди, которые видят в культуре только утонченность и эстетизм, по сути дела ненавидят народную культуру и тягу народа к культуре. «Оранжерейный цветок, чуждая прививка на теле нации не выдерживает обилия кислорода, свежего воздуха»,— пишет автор, с полным правом утверждая, что существование высших эстетических ценностей не мешает распространению подлинно народной культуры, которая должна включать в себя и эти высшие эстетические ценности (стр. 176).
Как же решается в книге вопрос о том, в каком отношении должны находиться между собой буржуазная и пролетарская идеологии в области создания и развития национальной культуры?
Буржуазная культура и буржуазная идеология в лучшем случае проявляют иногда тенденцию приблизиться к народу, в то время как для участия в создании культуры нужно быть народом в полном национальном и социальном смысле этого слова. «Приближение буржуазии к народу» по существу означает стремление буржуазии сохранить свое идеологическое влияние на массы под внешне новой, революционной фразой.
В этой связи возникает и вопрос о том, возможно ли какое-либо временное соглашение или временное единство в области национальной культуры в обществе, разделенном на антагонистические классы? Автор правильно подчеркивает, что в таком обществе существует две культуры, причем две противоположных культуры, но он столь же прав, когда, подчеркнув наличие двух культур, говорит, что «в латиноамериканских странах это внутреннее противоречие допускает возможность временного единства действий перед лицом основного врага, который наряду с нашими богатствами отбирает у нас духовные и моральные атрибуты независимой нации» (стр. 180). Разумеется, в данном случае надо иметь в виду, что в области идеологии ни о каком временном единстве антагонистических классов речь не может идти.
Признавая возможность временного единства перед лицом основного врага — иностранного империализма, автор резко разделяет позиции пролетариата и буржуазии в национальном вопросе. Позиция буржуазии, с его 254
точки зрения, может рассматриваться как положительный фактор только по сравнению с капитулянтской позицией космополитизма, который считает себя культурой элиты и фактически соответствует мировоззрению старой олигархии.
Позиция же пролетариата определяется задачами коренного социального обновления в интересах трудящихся масс.
Агости критикует либерализм, который проповедует космополитизм и национализм, слепо восхваляющий древнее испанское происхождение аргентинцев. Страна ныне такова, какова она есть. Страна создала себя, свою однородную национальность путем ассимиляции новых человеческих групп, но она придавлена, гнетом латифундий и иностранного империализма, и народ ее в настоящее время отстранен от благ культуры.
Для развития и распространения в народе подлинной культуры автор считает необходимым разрушить экономические и идеологические преграды, которые воздвигает капиталистическое общество на пути к культурному росту. Либерализм хочет свести дело распространения культуры среди народа только к популяризации ее и к вопросу о доступности ее пониманию народа.
Автор книги совершенно правильно выступает против такого упрощенного решения вопроса. Комиксы и т. п., говорит он, будучи весьма доступными и даже увлекательными, вовсе не являются народной литературой, а средством распространения буржуазной идеологии. Подлинно народная литература всегда непосредственно связана с теми необходимыми преобразованиями, в которых нуждается и которых требует страна (стр. 240).
Конечно, было бы неправильно отрицать значение доступности литературы, искусства и вообще всей культуры для народа. Можно напомнить, что Маркс считал своей задачей сделать политэкономию понятной неспециалисту, но не за счет снижения ее научного уровня, а, наоборот, за счет повышения этого уровня.
Великий русский поэт Некрасов жаждал дожить до того времени, когда «мужик не Блюхера и не Милорда глупого — Белинского и Гоголя с базара понесет».
255
Перед аргентинским народом должна раскрыться широчайшая перспектива овладения самой передовой, соответствующей его интересам культурой, он не должен довольствоваться тем, что хотят упростить специально для него.
Из необходимости создания и распространения культуры среди народных масс Агости делает выводы о том, что стране необходима культурная революция, которая, с его точки зрения, невозможна без народно-демократической революции, являющейся ее основой и движущей силой. И у народа Аргентины есть все возможности совершить такую социальную революцию. Основными врагами аргентинского народа являются латифундии в деревне и империализм, осуществляющий вмешательство в жизнь страны. Но в стране есть очаги подлинно народной культуры, непобежденные и борющиеся, хотя иногда и обманывающиеся при определении действительного врага. Самое главное, пишет автор, что эти очаги существуют и «...мы не такие беспомощные, как нас хотят уверить с целью ослабить усилия и творчество нашего народа» (стр. 243).
Агости ведет борьбу и с попытками искусственного создания культуры и столь же искусственного ее внесения в народ. Очень интересно, что для правильного понимания вредности подобного рода установок автор использовал опыт борьбы В. И. Ленина с пролеткультов- цами, которые «...хотели все разрушить, все сжечь, все отвергнуть от имени рабочего класса, на который они смотрели бредовым взглядом мелкого буржуа» (стр. 123). Пролеткультовцы, пишет автор, хотели «изобрести «для пролетариата» вкусы, чувства и разум, сделанные по мерке, для того чтобы затем предложить их ему и навязать культуру, претенциозно приспособленную к этим вкусам и чувствам, к этим воображаемым потребностям» (стр. 178).
Исходя из того, что настоящая культурная революция может произойти в стране только в результате социалистической революции, автор тем не менее исследует и вопрос о том, какие реформы нужны в области народного образования для того, чтобы продвинуть народ по пути культурного развития. Выступая по вопросу о так называемой «активной школе», то есть по вопросу о принципах обучения и воспитания детей, ав’
256
тор высказывает совершенно верную мысль, что от этой школы (которая предлагает ввести для детей физический труд) до трудового воспитания их очень далеко. Конечно, в «активной школе» ребенок что-то создает, но то, что он создает,— это более или менее остроумно придуманные игрушки, не имеющие для него жизненно важного значения; школа продолжает оставаться чем-то оторванным от жизни, в которой живет и учится ребенок (стр. 140). Поэтому система воспитания должна быть иной, чем та, которая существует в Аргентине, и даже чем та, которую предлагают либерально настроенные педагоги. Автор предупреждает читателя, что нельзя переоценивать значение педагогической системы, что для беспрецедентно широкого развития и распространения культуры в СССР нужны были не только правильная система воспитания и обучения, не только таланты исследователей и создателей этой системы, но и новое общественное устройство.
Однако, говоря еще раз о необходимости социальной революции, Агости снова подчеркивает, что в условиях Аргентины и при настоящем положении вещей возможны и нужны реформы как начального и среднего, так и высшего образования. Обоснование этих положений стоит того, чтобы обратить на него специальное внимание читателя. «Не переоценивая реформы, нужно помнить, что в определенные моменты исторического развития они являются выражением новых социальных интересов, которые, будучи недостаточно сильными для ликвидации старых классовых отношений, достаточны, однако, для того, чтобы вызвать заметное изменение социального статуса» (стр. 141).
Одной из таких проблем, которые уже теперь требуют к себе пристального внимания и могут быть разрешены при наличии широкого движения уже в настоящее время, является проблема всеобщего образования и вопрос о реформе высшего образования. Вместе со всем народом Аргентины автор гордится тем, что число неграмотных в стране меньше, чем во многих других странах Латинской Америки. Но автор отдает себе отчет в том, что это еще не является показателем действительной грамотности населения, поскольку в число грамотных включаются люди, которые в состоянии только кое-как нацарапать свою фамилию. «Аргентинская 257
действительность создает видимость грамотности,— пишет он,— и эта видимость является как бы набедренной повязкой неграмотности» (стр. 85). Автор считает, что только четверть населения Аргентины можно считать по-настоящему грамотной.
Латифундисты мешают не только развитию и образованию народных масс. Они и высшее образование держат на уровне, часто не соответствующем требованиям страны даже с господствующими ныне производственными отношениями. Автор обвиняет реакционеров в том, что они рассматривают университеты как рассадник старой культуры олигархии и поэтому готовят работников, которые должны переучиваться сразу же по выходе из стен учебного заведения, чтобы стать хоть сколько-нибудь полезными своему народу. Вывод, к которому приходит в этой связи автор, заключается в том, что страна не подвинется далеко вперед, пока ее силы будут подтачивать латифундии и вмешательство империалистов, но он считает, что и университеты уже теперь должны вмешаться в процесс постановки высшего образования в стране.
В своей книге Агости выступает страстным поборником развития передовой аргентинской культуры, ревностным защитником интересов трудящихся своей страны, последовательным борцом за ее независимость и социальный прогресс.
В книге Агости есть два вопроса, которые требуют особого пояснения и, по-видимому, уточнения формулировок. Первый вопрос — это вопрос о соответствии производственных отношений производительным силам Аргентины. Автор утверждает, что несоответствие производственных отношений производительным силам страны «еще не достигло той вершины антагонизма, когда конфликт не может быть разрешен иначе, как через насильственное разрушение этих отношений, поскольку они становятся тормозом исторического развития» (стр. 54). Однако правильнее было бы сказать, что это несоответствие теперь уже достигло именно такой точки, когда только насильственное разрушение старых производственных отношений является условием создания нового общества и новой культуры Аргентины. Это не значит, конечно, что насильственное разрушение будет обязательно сопровождаться кровавой гражданской 258
войной, но революционный захват власти, в том числе и через парламент, в результате борьбы масс — это обязательное условие социалистической революции. Это основополагающее требование марксистско-ленинской теории революции.
Марксистско-ленинское учение о социалистической революции говорит, что капитализм в нашу эпоху готов к тому, чтобы быть замененным социализмом. Эта закономерность и особенность нашей эпохи была отмечена Совещанием представителей коммунистических и рабочих партий в 1957 году.
Коммунистическая партия Аргентины глубоко исследовала вопрос о соотношении между возможностью мирного перехода власти в руки пролетариата и вооруженным восстанием — гражданской войной. В Аргентине развернулось широкое забастовочное движение рабочего класса, в котором значительное место принадлежало стачкам, проводившимися под политическими лозунгами. Несмотря на существование диктаторского режима в стране, в 1962 году в забастовках участвовало около ¡12 миллионов человек, что для страны с полуторамиллионным рабочим классом является показателем его высокой организованности и сознательности.
Политика КПА осуществляется под лозунгом «За действия масс, направленные на завоевание власти». В недавнем заявлении Исполкома ЦК КПА прямо сказано о том, что партией взят курс на завоевание власти мирным путем, но что партия не исключает, а предполагает и немирный путь, если нынешние руководители страны не оставят демократических возможностей для такого завоевания.
Заявление с полным правом и основанием говорит о том, что теперь «империализм уже не может повторить в Латинской Америке то, что он сделал, например, с Гватемалой». Эта уверенность является результатом глубокого убеждения в том, что в эпоху перехода от капитализма к социализму именно социализм является решающим элементом развития общества. Партия рабочего класса Аргентины знает, что она не останется в одиночестве, как бы ни сложились события. У нее есть поддержка в лице мировой системы социализма и международного рабочего движения во всем мире.
259
Агости убедительно показывает, что Аргентина с ее промышленностью и сельским хозяйством, с ее рабочим классом и культурой нуждается в радикальной перестройке, обновлении, социальной революции. Еще в 1947 году количество рабочих на предприятиях равнялось примерно 1232 тысячам человек и, что самое существенное, число предприятий, на которых было занято более 500 рабочих составляло 0,4 процента всех предприятий, а работало на них около 30 процентов всех рабочих.
Конечно, нельзя сказать, что уже сейчас Аргентина стоит непосредственно перед революцией, что она переживает революционную ситуацию, что ее уже сейчас потрясает общенациональный кризис, что она достигла такого состояния, когда массы не хотят жить по-старому, а верхи общества не могут управлять по-старому. Определение положения, в котором находится страна, может дать только Коммунистическая партия Аргентины, рабочий класс страны, ее народ. В данном случае важно лишь отметить, что не та или иная способность буржуазии развить производительные силы страны будет решать вопрос о будущей социалистической революции, а соотношение классовых сил в стране.
КПА видит разрешение кризиса в борьбе рабочего класса и всего аргентинского народа за правительство нового типа и нового социального содержания, за правительство широкой демократической коалиции. Только такое правительство может осуществить коренные преобразования в жизни страны, только оно сможет осуществить и культурную революцию, о которой говорит автор книги.
Привлекает внимание читателя и употребление автором понятия «элита». Внимательное чтение книги приводит к выводу, что под элитой Агости понимает интеллигенцию, и именно творческую интеллигенцию, которая способна двигать вперед духовную культуру народа, нести ее в народ. «Элиты (автор использует это понятие во множественном числе.— Н. П.) представляют собой группы профессиональных деятелей культуры, специально подготовленных к ее распространению и к пониманию тонких и противоречивых ее оттенков» (стр. 61).
Элита иногда приобретает в книге как бы надклассовый характер: она по собственному побуждению пово260
рачивает свое лицо то к народу, то к реакции (феодальной и империалистической). Из слов автора вытекает, что, повернувшись лицом к реакции, она «перестает быть элитой и превращается в касту бонз».
Едва ли употребление этого понятия может способствовать правильному решению вопроса о кризисе культуры.в Аргентине.
В конце книги автор показывает, что антикоммунизм выступает отнюдь не только против коммунизма, что он глубоко ненавидит все, что выходит за рамки прямой и откровенной реакции. Автор приводит выдержку из произведения Артуро Фрондиси «Нефть и политика»: «Антирадикализм, антинародность, антидемократизм стали... постоянно прикрываться ширмой антикоммунизма... Так рассуждали фашисты, так рассуждали нацисты, так рассуждали и продолжают рассуждать политические и идеологические защитники национальных и иностранных привилегий». «Следует заметить,— говорит Агости, — что эти рассуждения годятся не только для прошлого, но и для настоящего». И это очень верно, так как под флагом борьбы против коммунизма реакционеры борются вообще против свободы мысли, против демократических свобод, завоеванных народов, против любого демократического движения.
Н. Пуховский
СОДЕРЖАНИЕ
От Издательства 5
Часть первая. Основные понятия 7
Что мы понимаем под кризисом культуры? 7
Добавление к определению культуры 12
Смысл современного кризиса культуры 20
Национальные модификации 31
Предварительное требование: необходимо рассмотреть, что мы собой представляем как нация 40
Противоречивая сущность нации 50
Первая интермедия. Отношение к кризису 58
Часть вторая. Аргентинский кризис .... 67
Соответствие между нацией и ее культурой 67
Культурная клиентура 76
Развитие культуры в области образования 83
Пригодны ли для нас старые формы? 98
Вторая интермедия. «Что» и «для чего» изучать . . . 104
Часть третья. В поисках пути 109
Общность культуры? 109
Традиция и обновление 115
Культура элит или культура народа 124
От пассивности к активности культуры 134
Третья интермедия. Заметки о советской культуре . . 148
Часть четвертая. Форма и содержание культуры 156
Расчлененная культура или разделенное общество? . . 156
Неправильное понимание аргентинского кризиса . . . 163
262
Отступление в виде рассказа 167
Апокрифические содержания 169
Пути новаторства . 174
Четвертая интермедия. Философия третьего дня творения 183
Часть пятая. Истинность и ложность национализма 198
Те, кому было 20 лет 198
Национальное и народное в культуре 212
Теория «двух Аргентин» 221
Национализм и либерализм 230
Заключение 242
Послесловие 244
Э. П. Агости
НАЦИЯ И КУЛЬТУРА
Переплет художника Л. А. Рабенау Художественный редактор Б. И. Астафьев
Технический редактор М. А. Белева
Сдано в производство 3/VII 1963 г.
Подписано к печати 14/Х 1963 г.
Бумага 84X1081/32=4,l бум. л. 13,5 печ. л.,
Уч.-изд. л. 13,9. Изд. № 9/1367
Цена 1 р. 03 к. Зак. 443
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Москва, 1-й Рижский пер., 2
Московская типография № 8 Управления полиграфической промышленности Мосгорсовнархоза
Москва, 1-й Рижский пер., 2