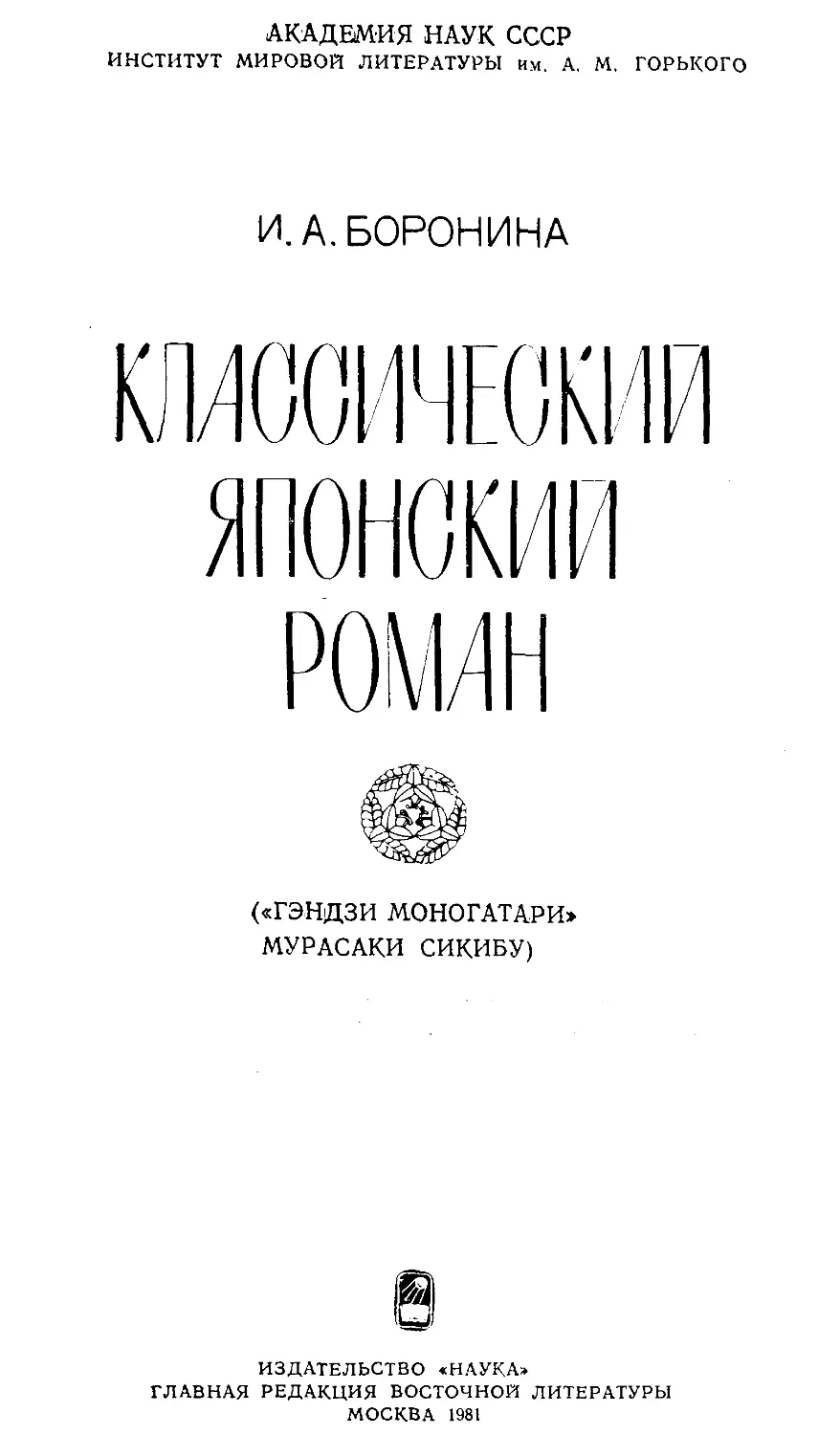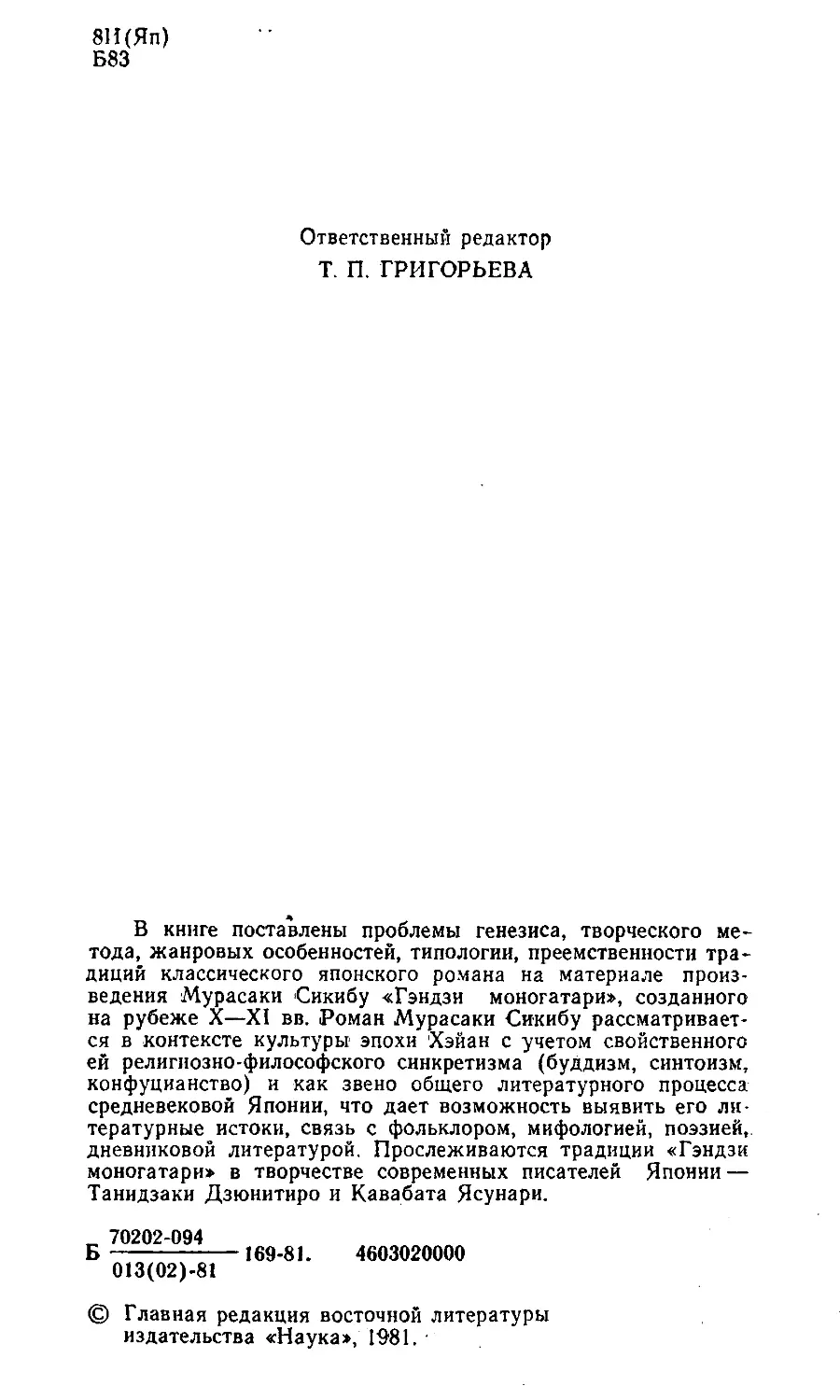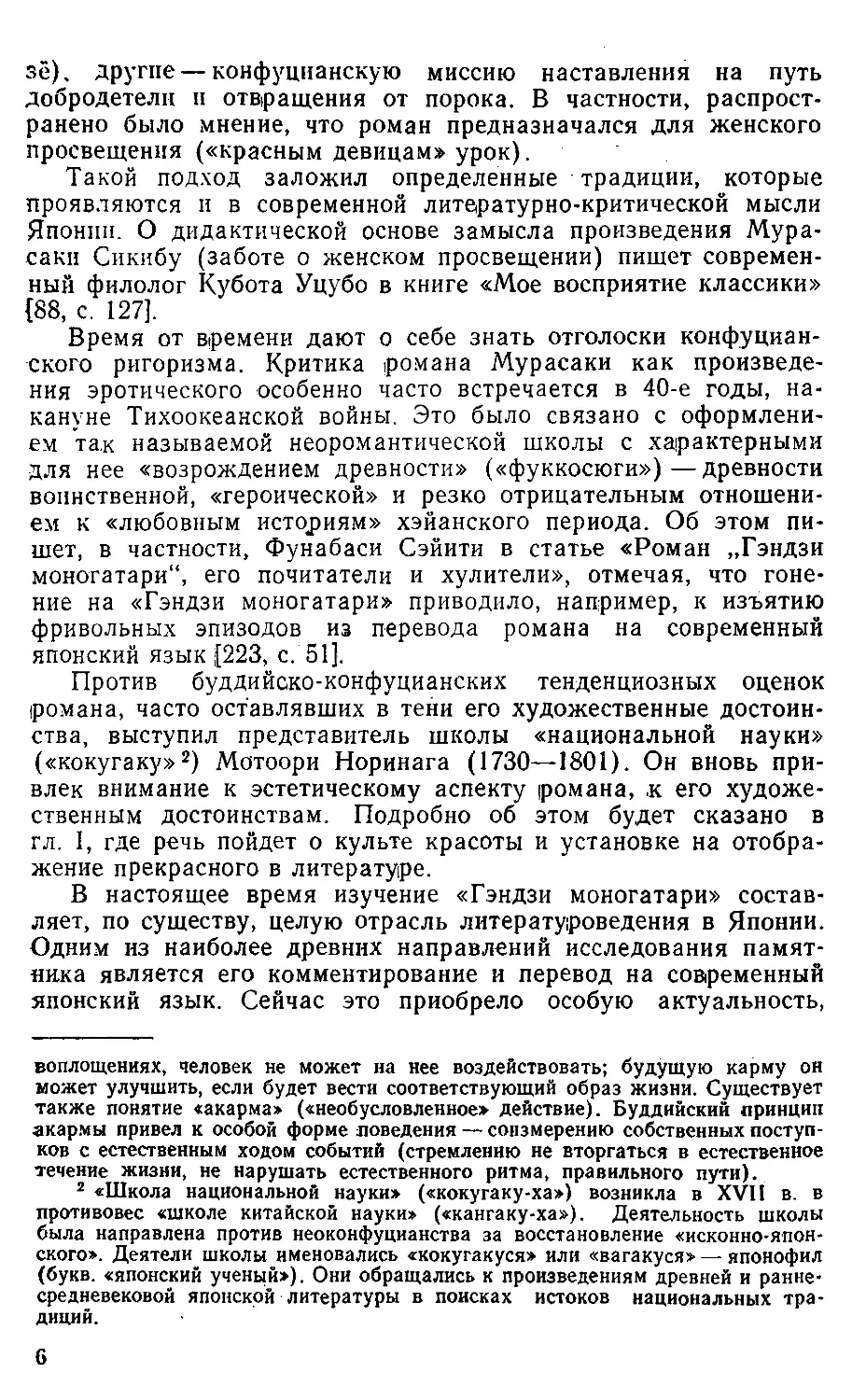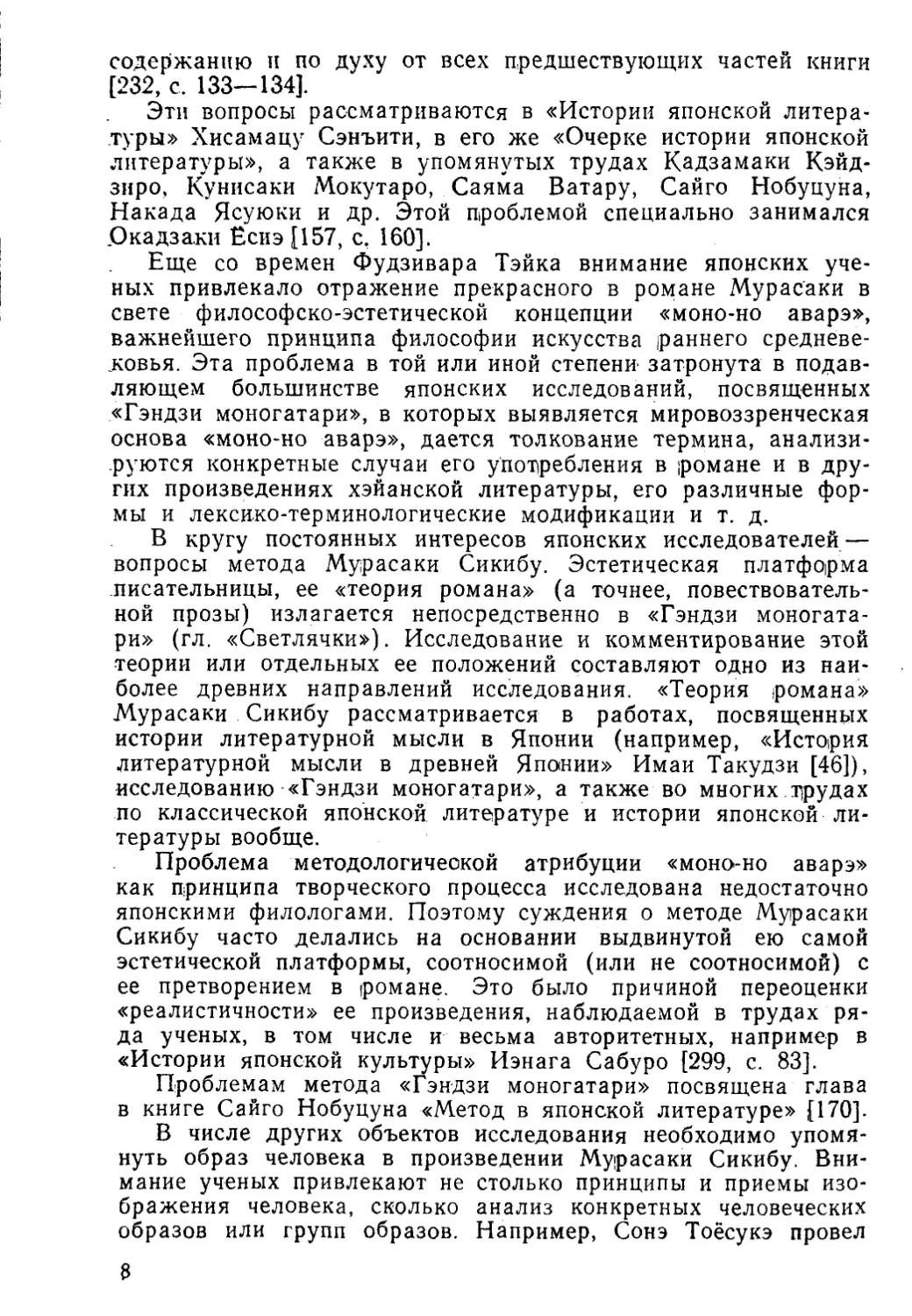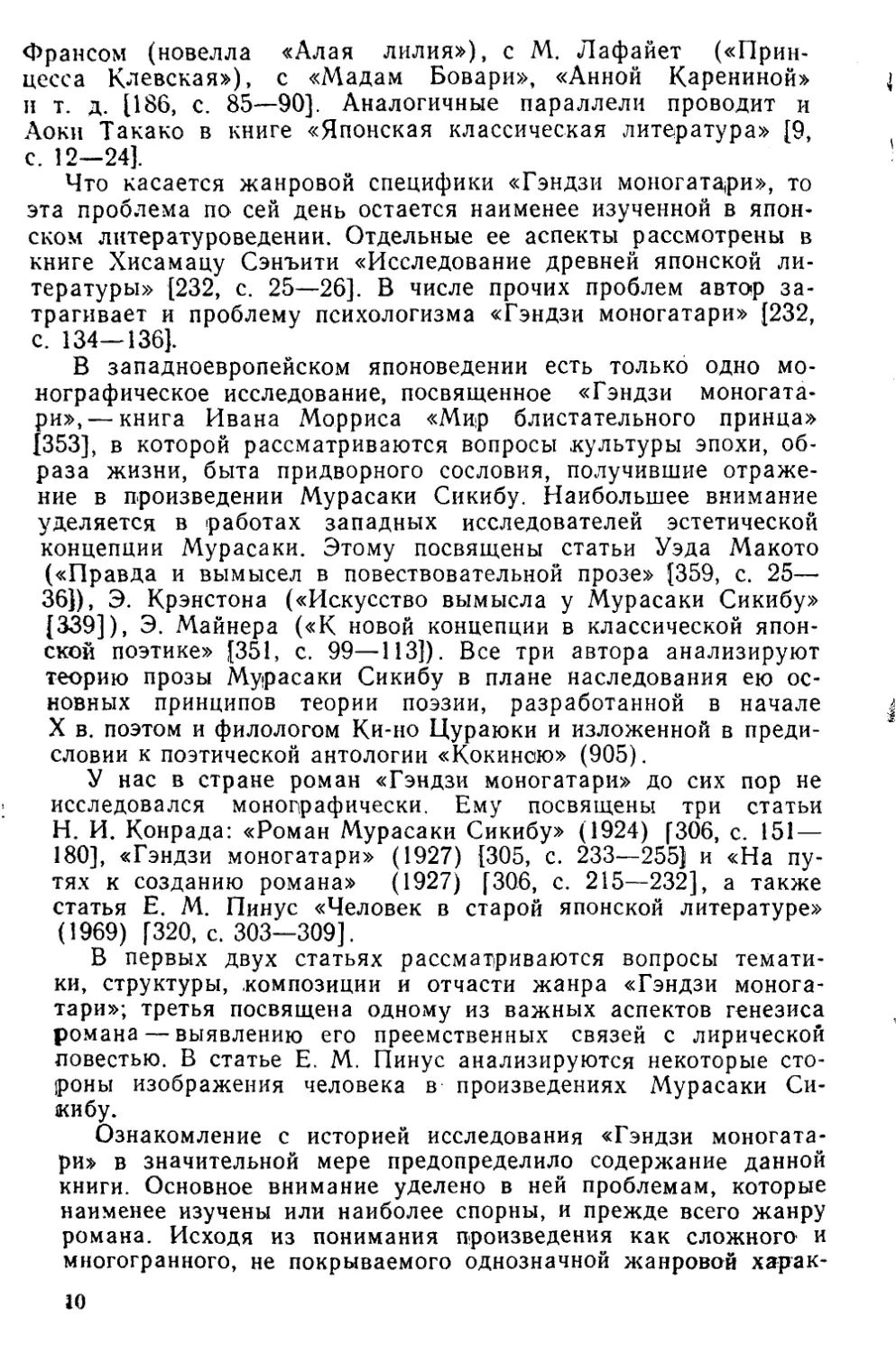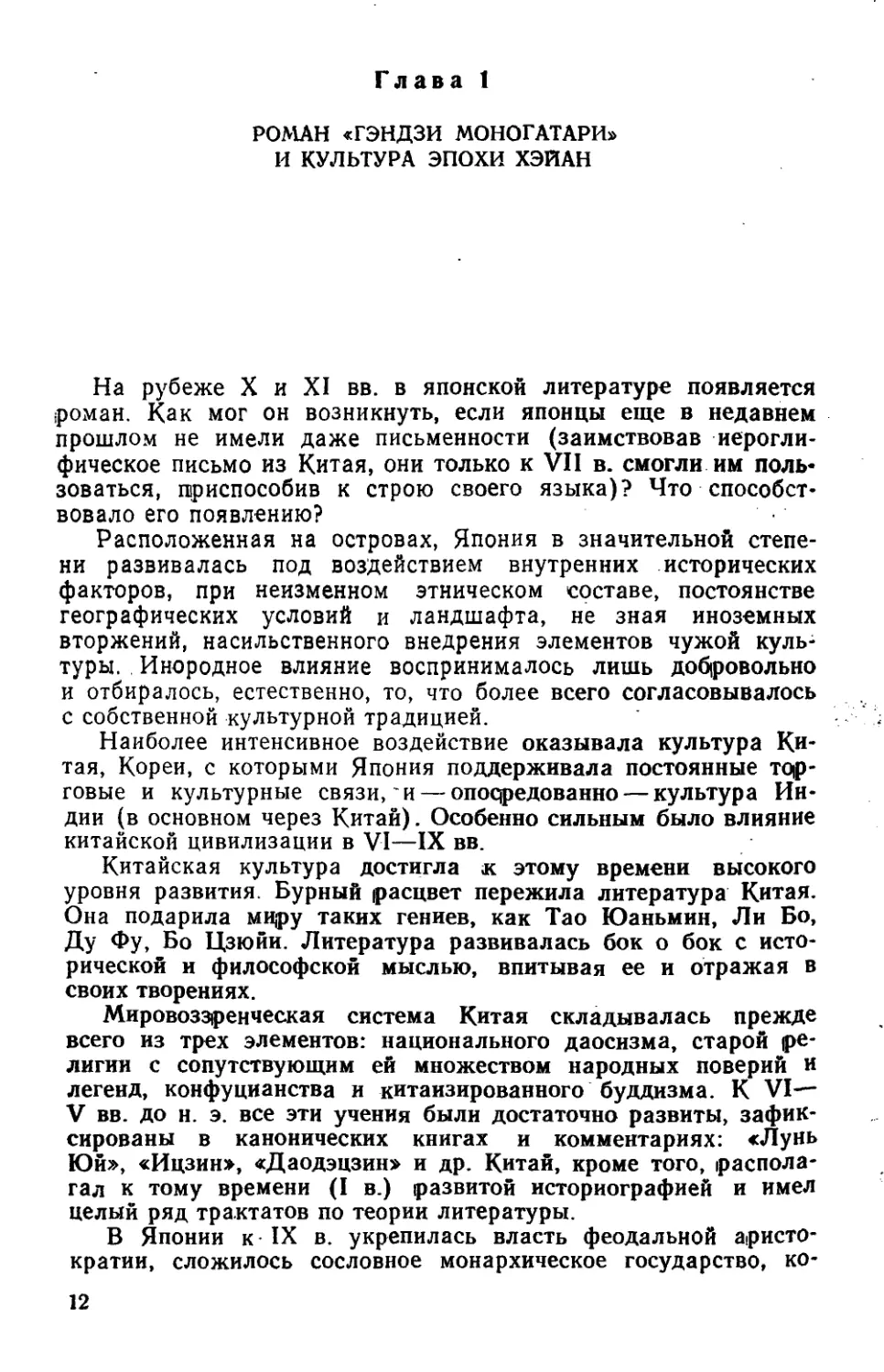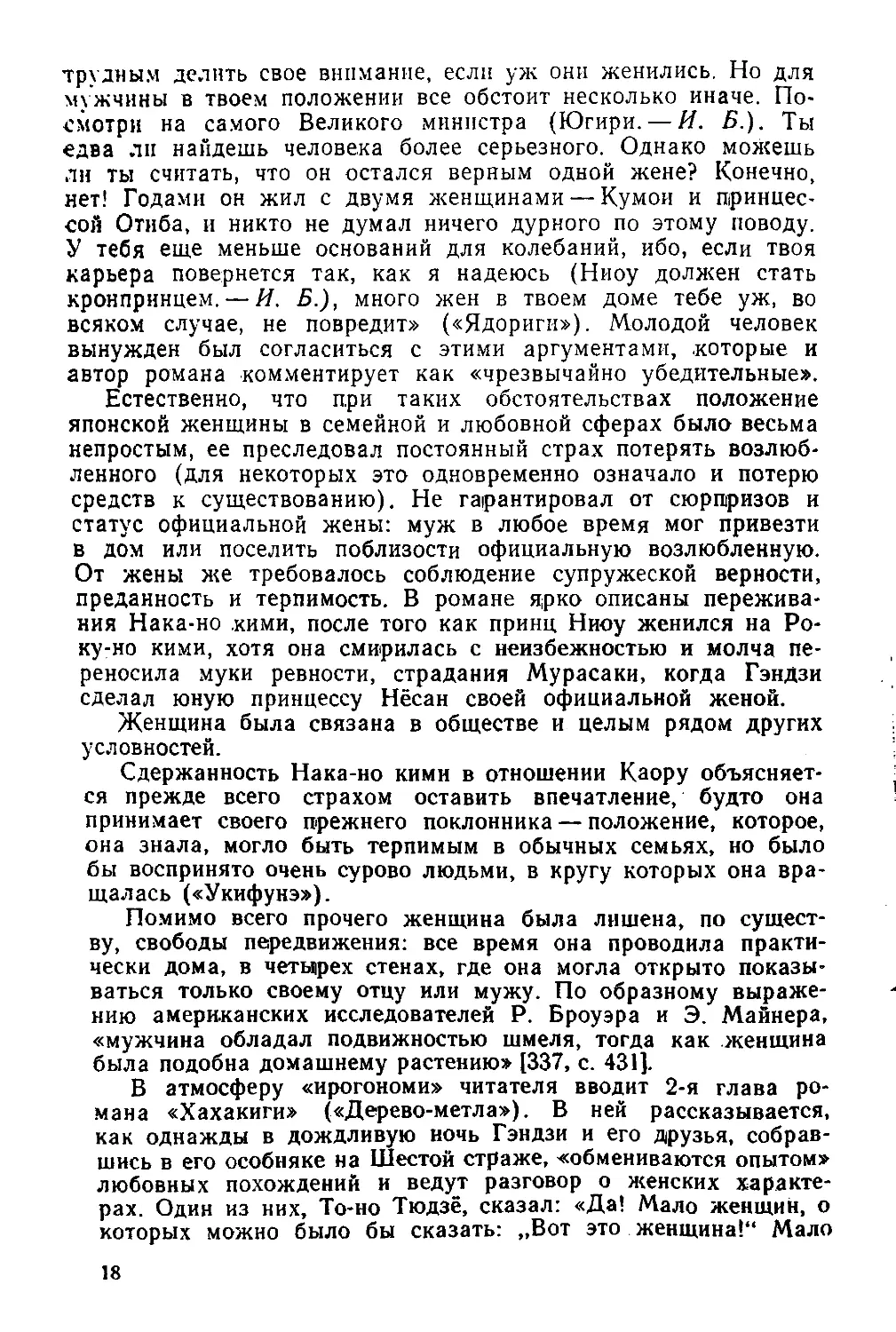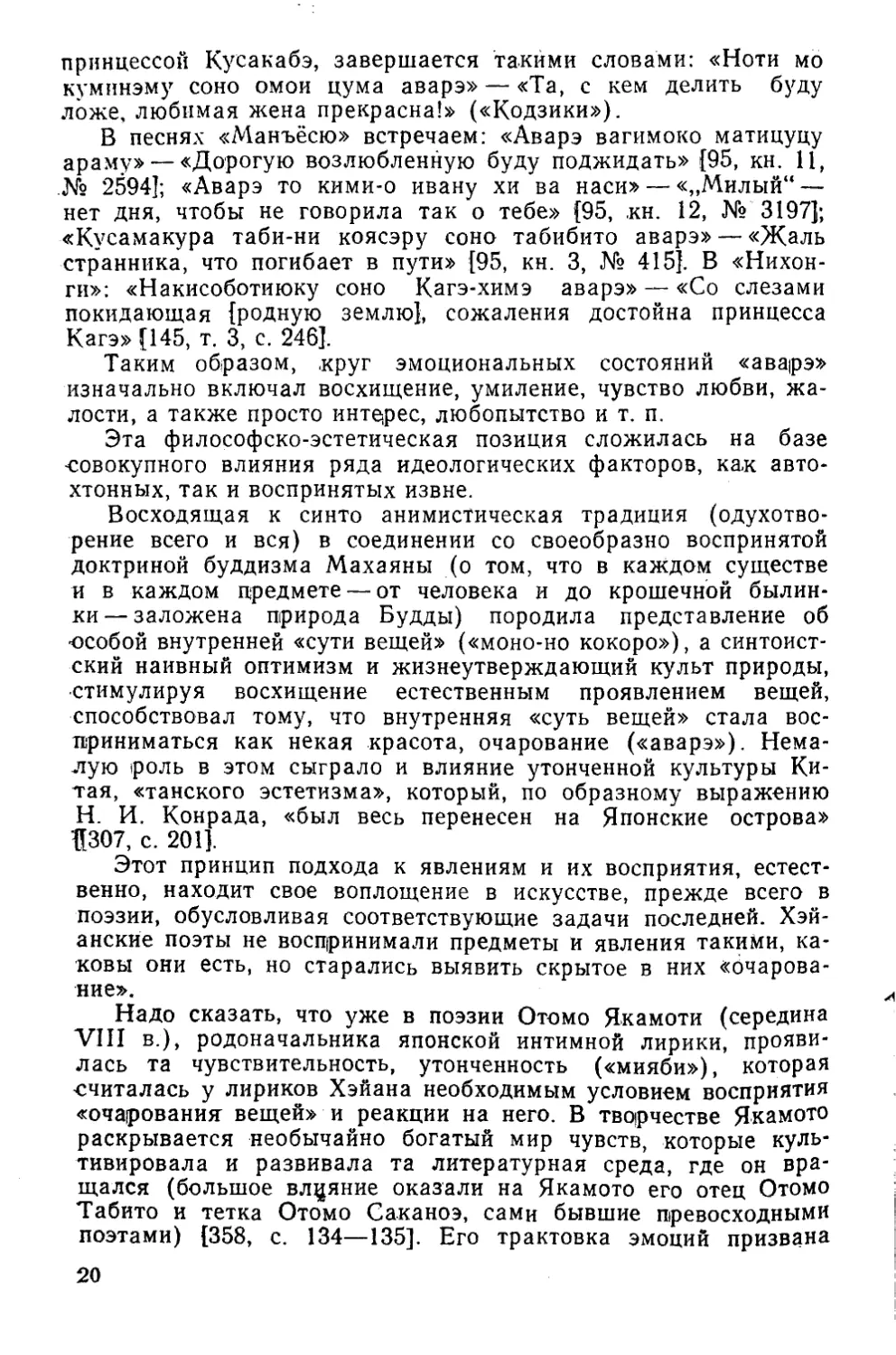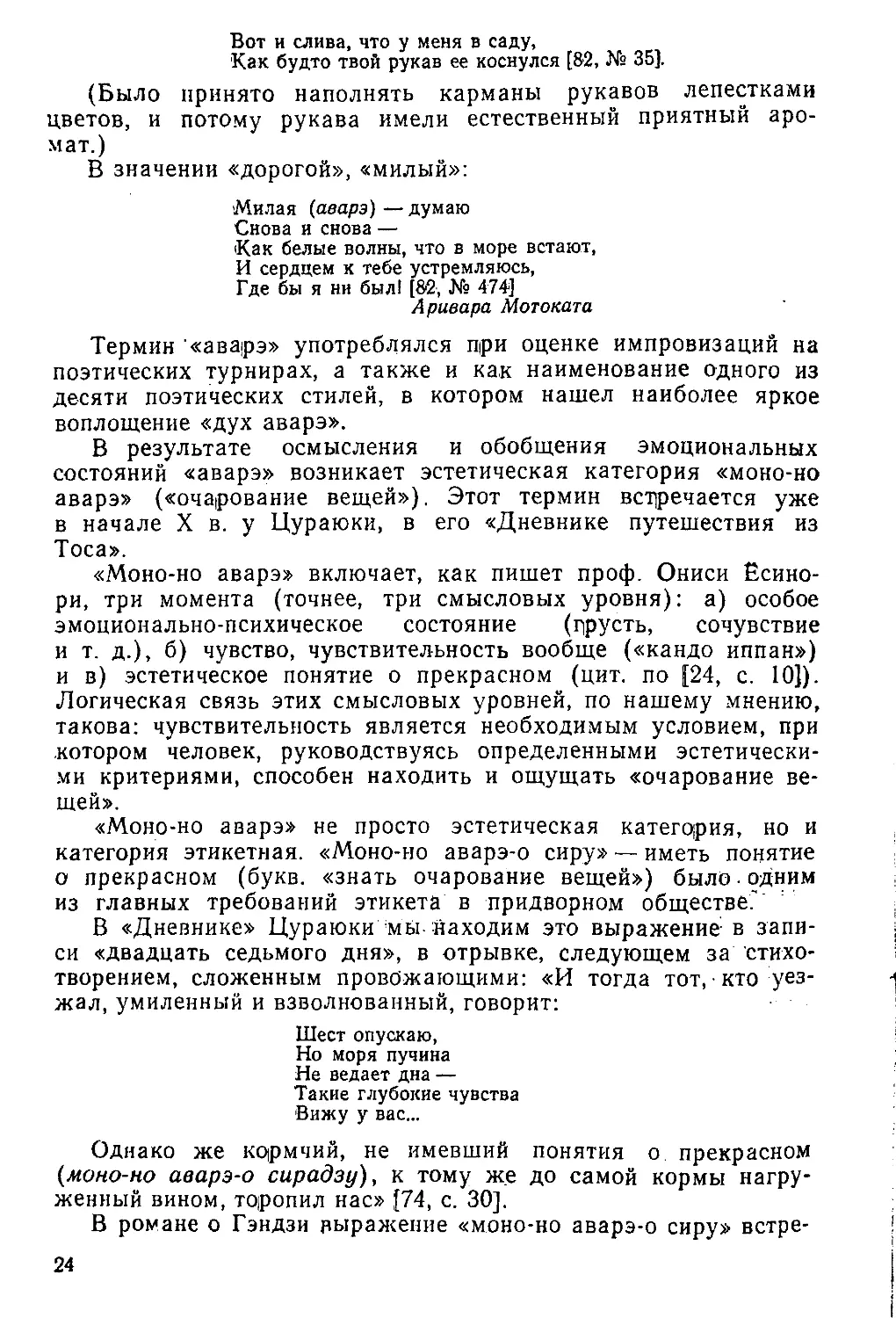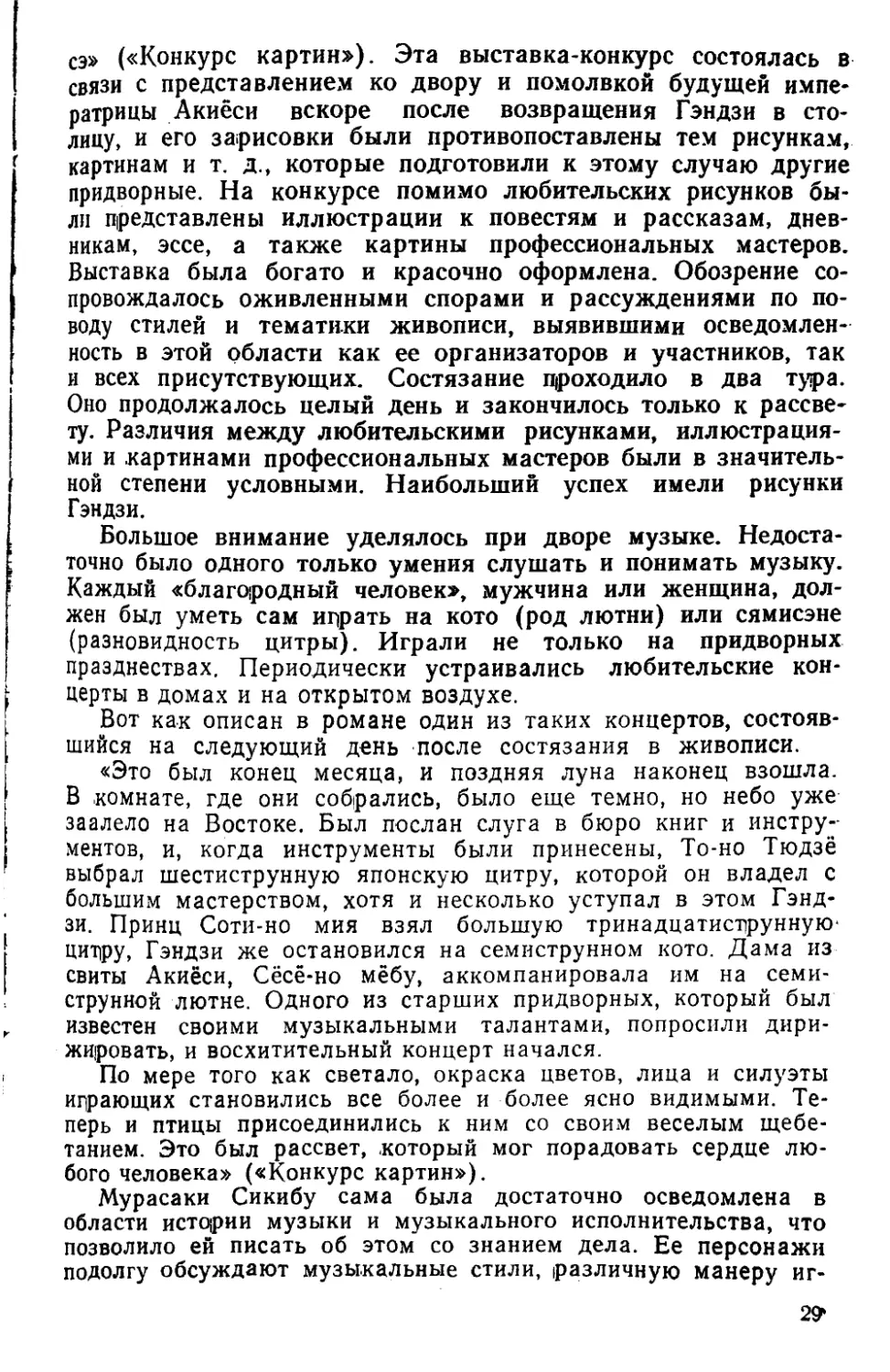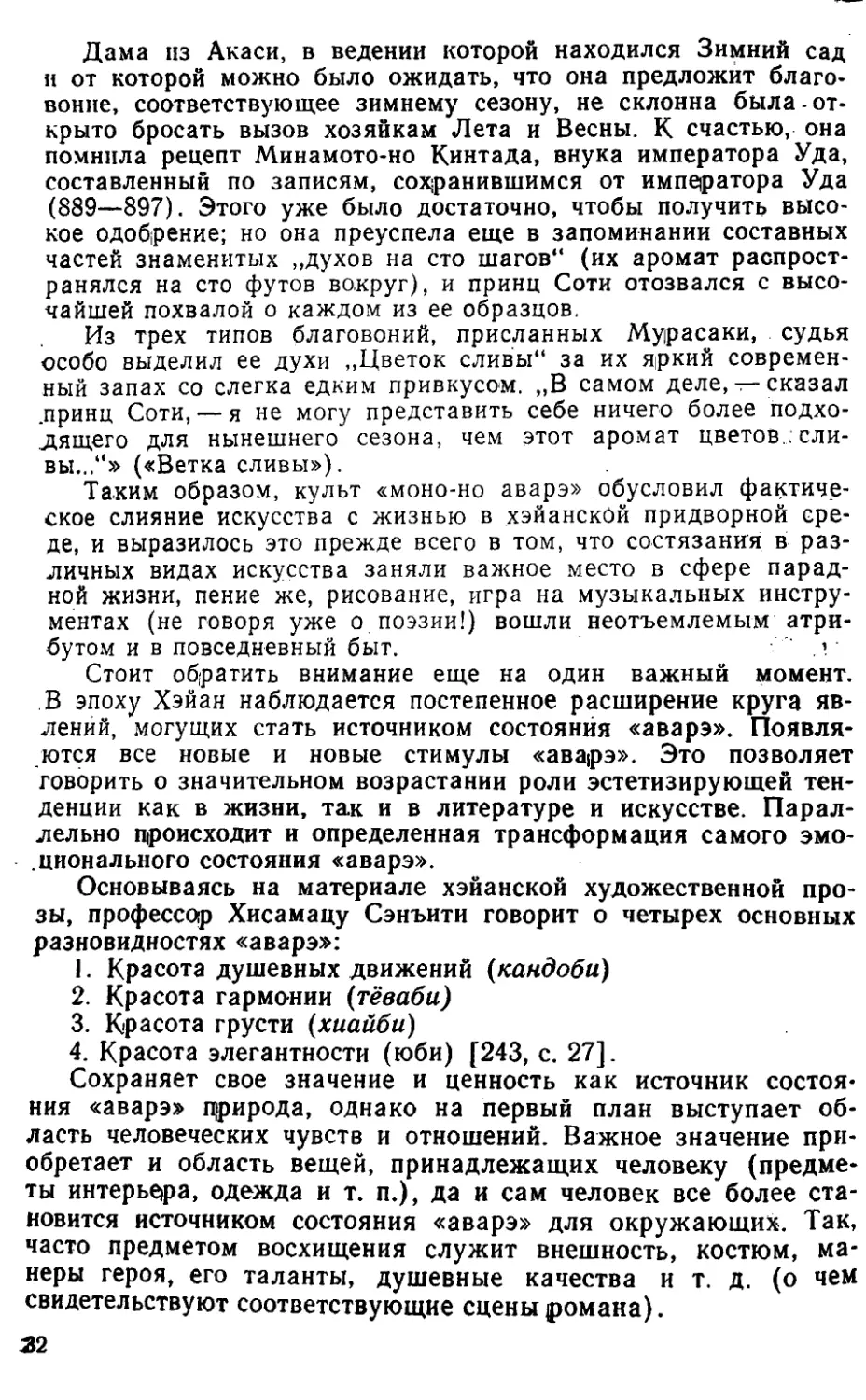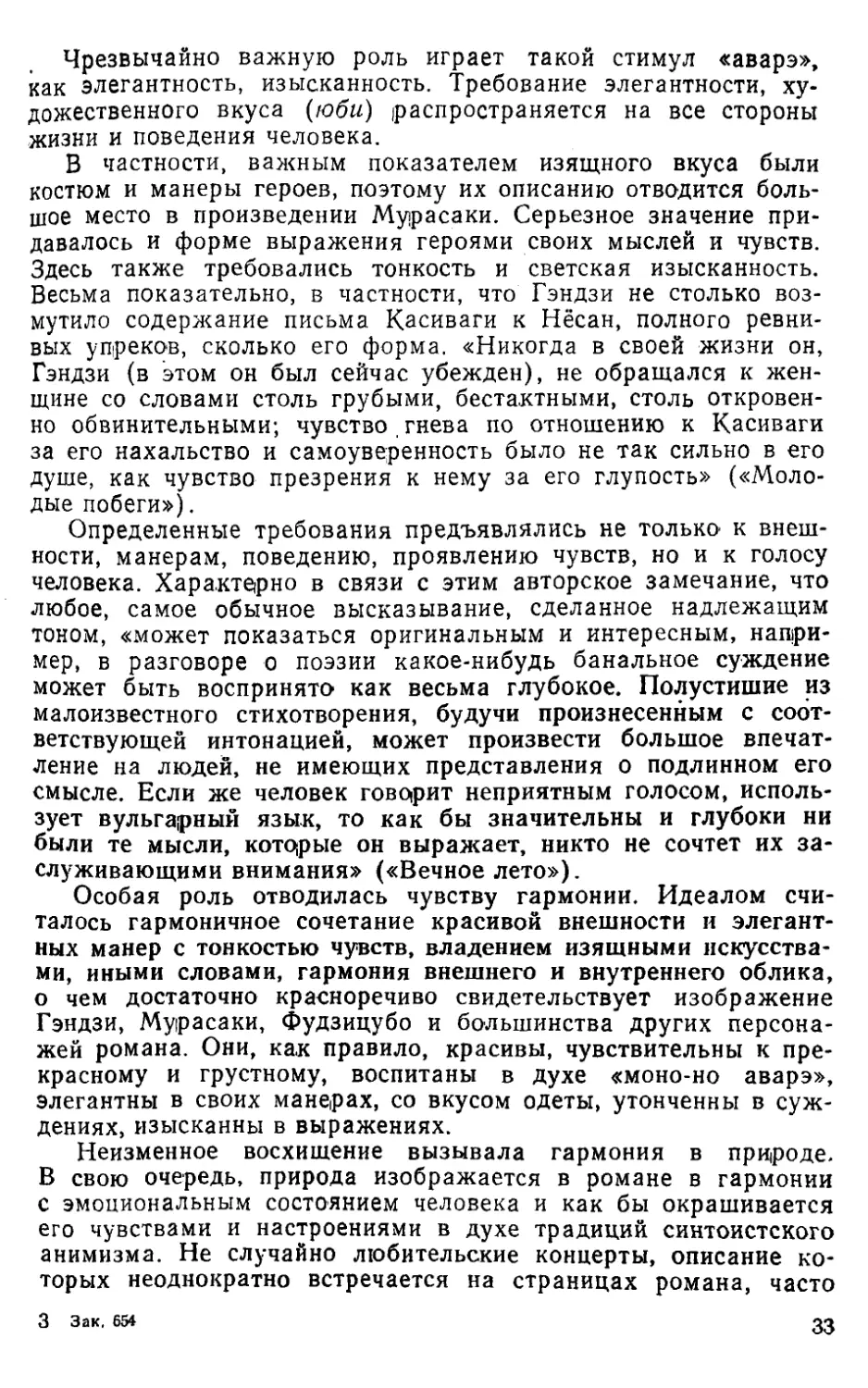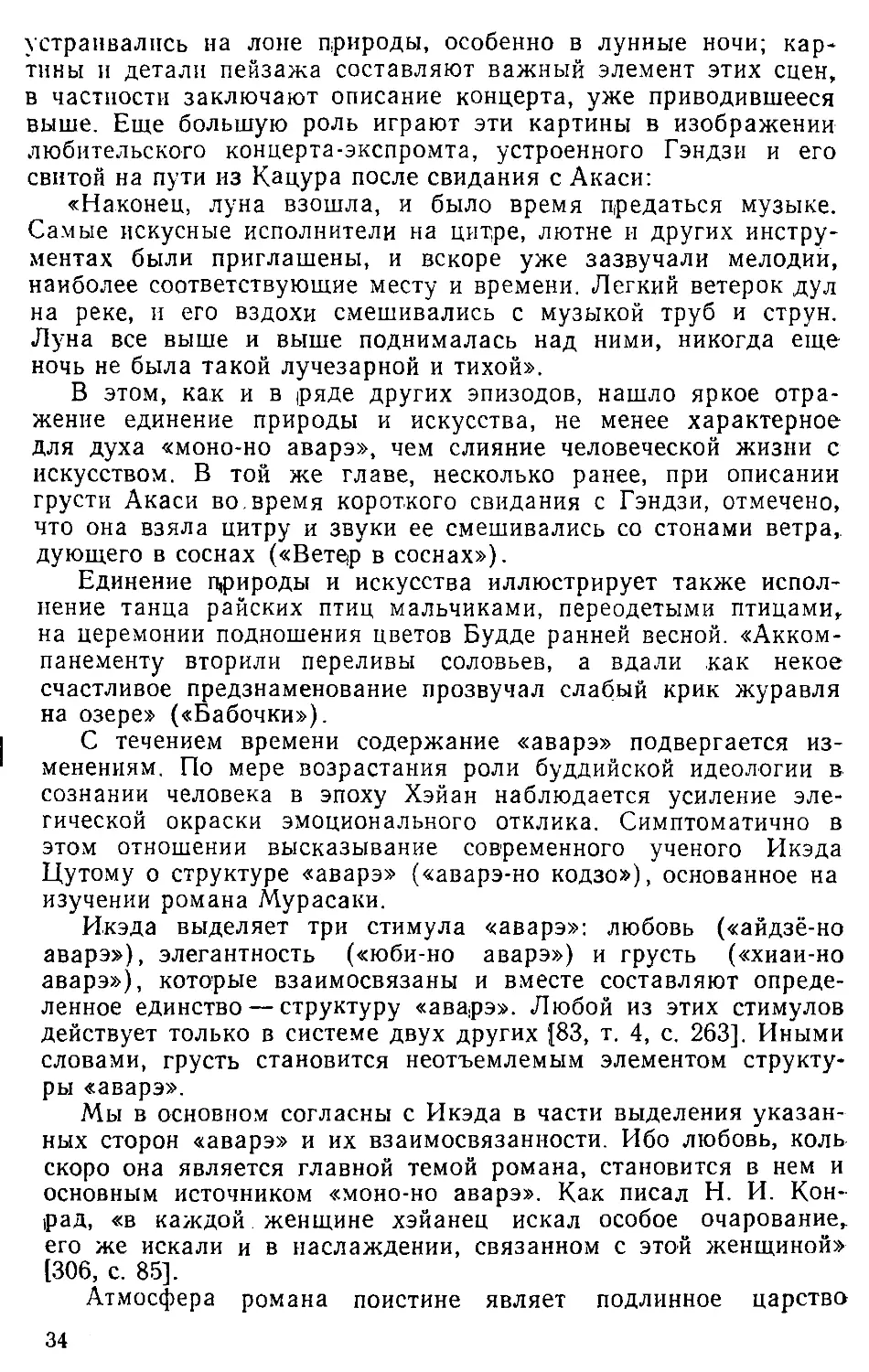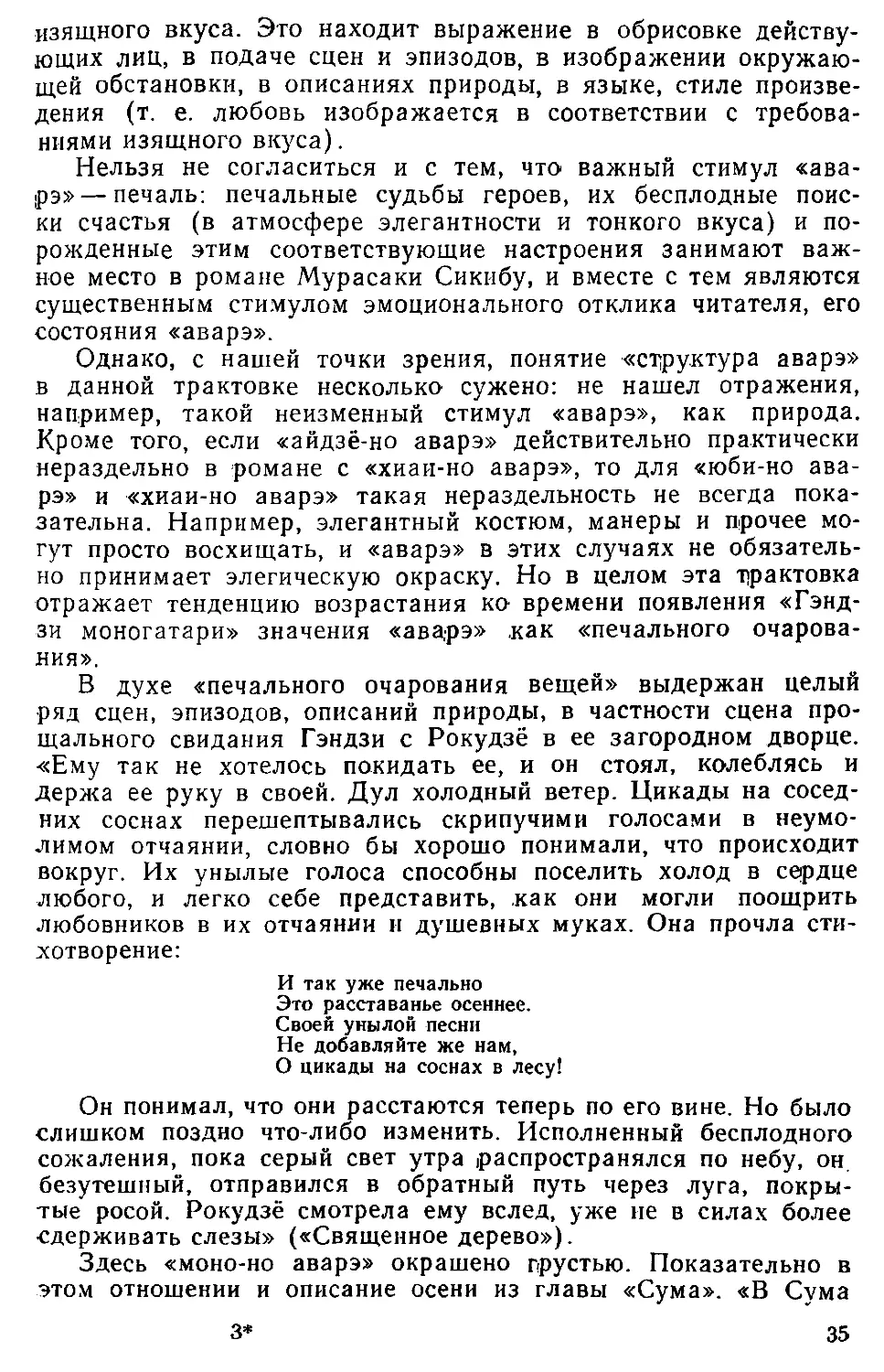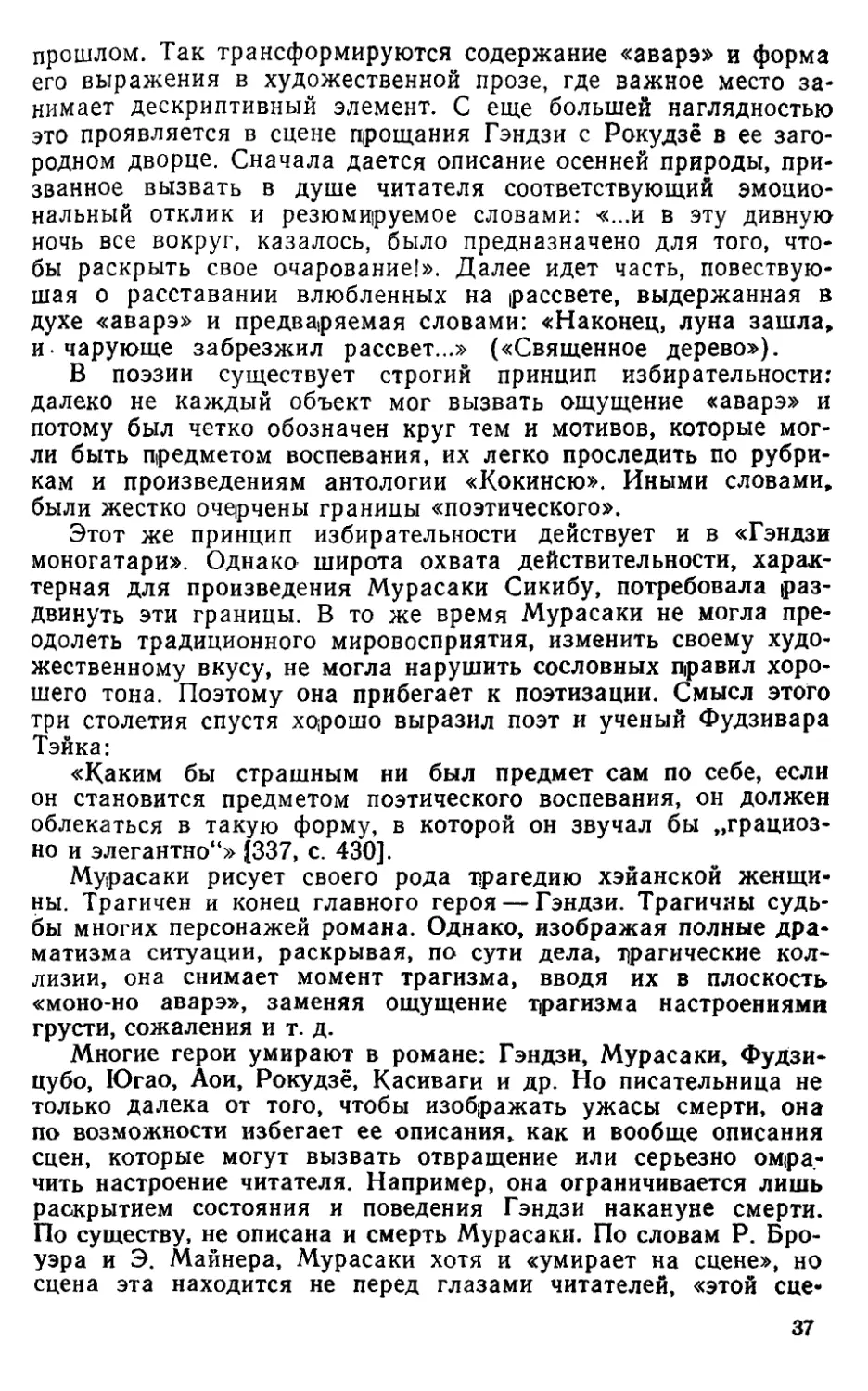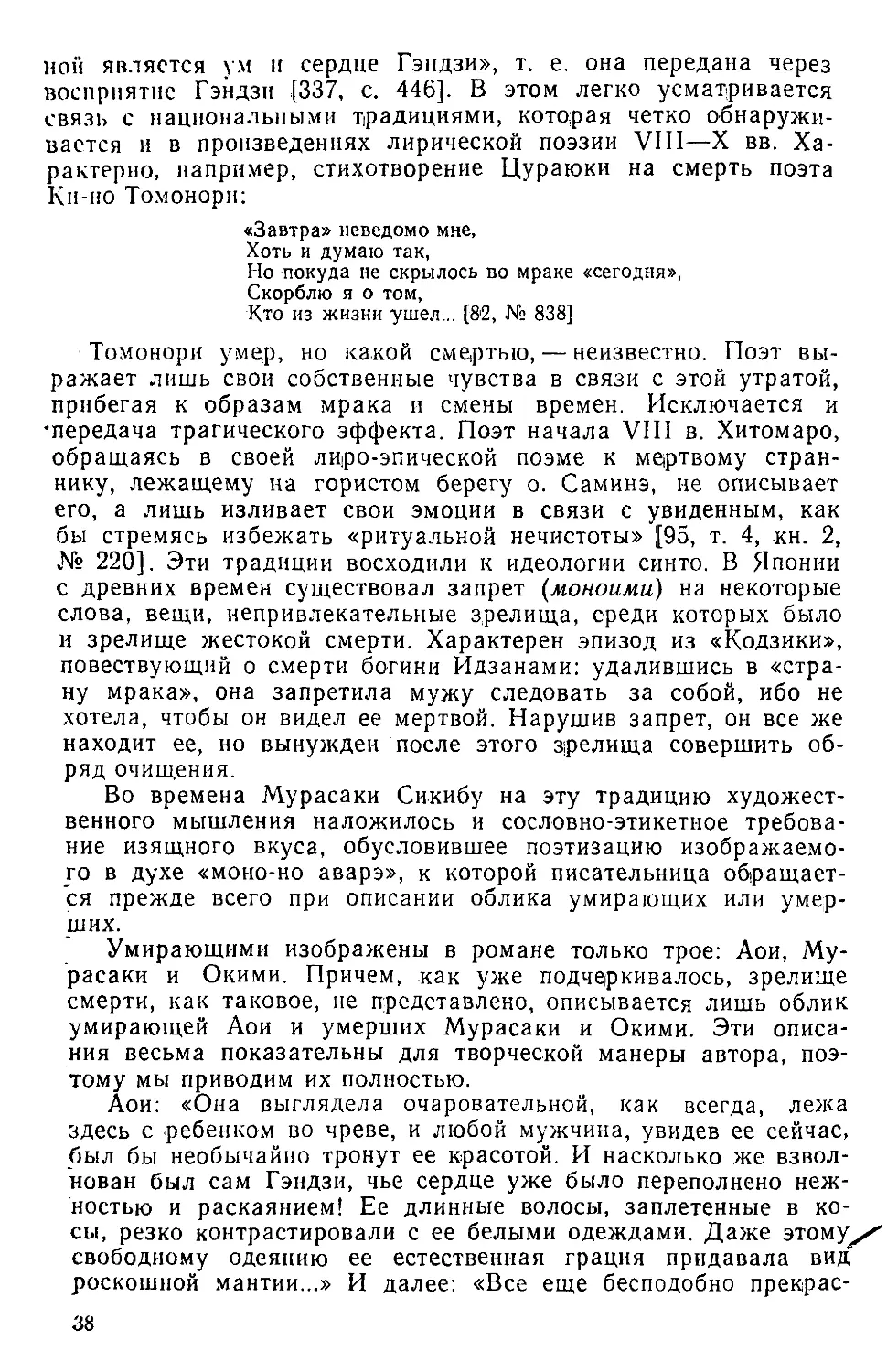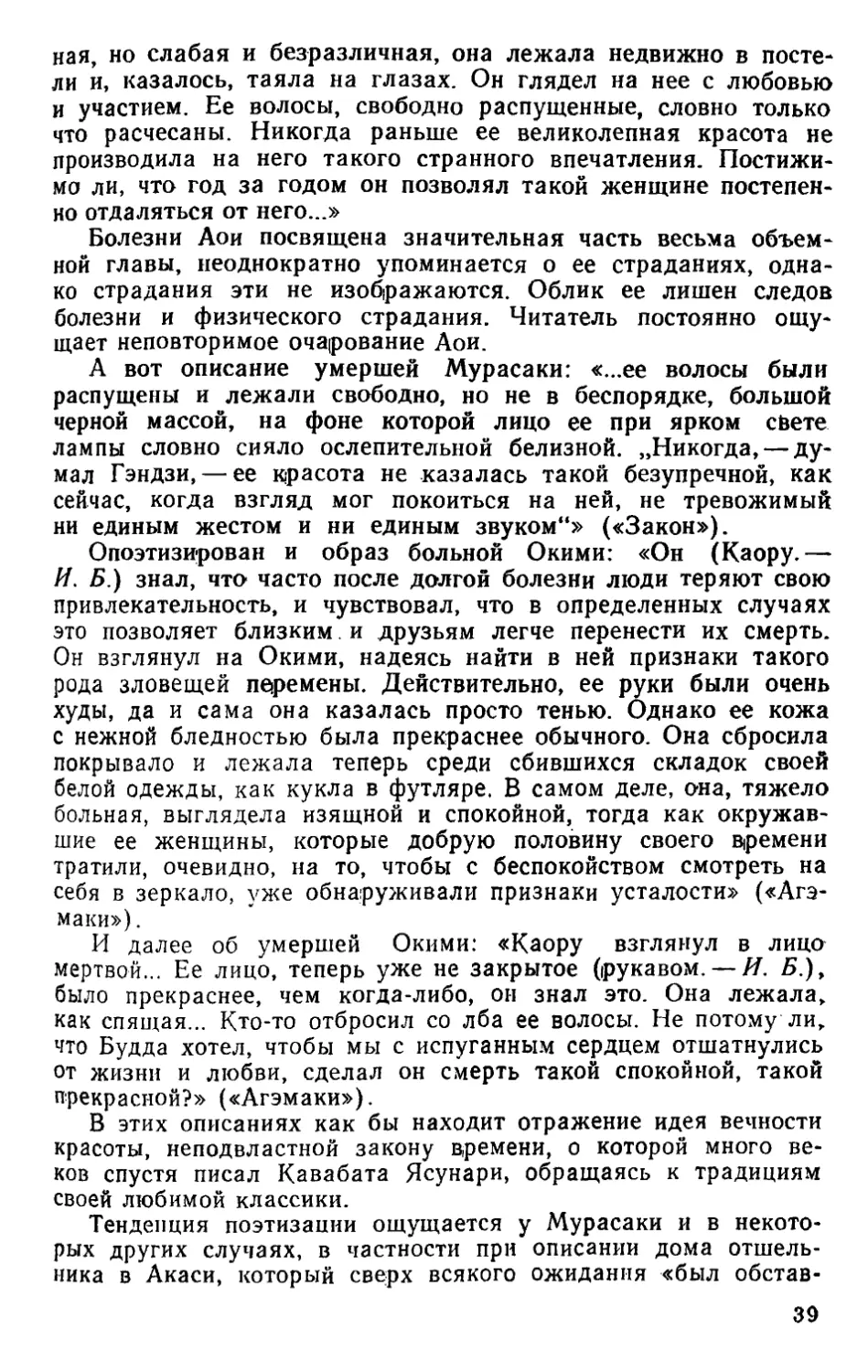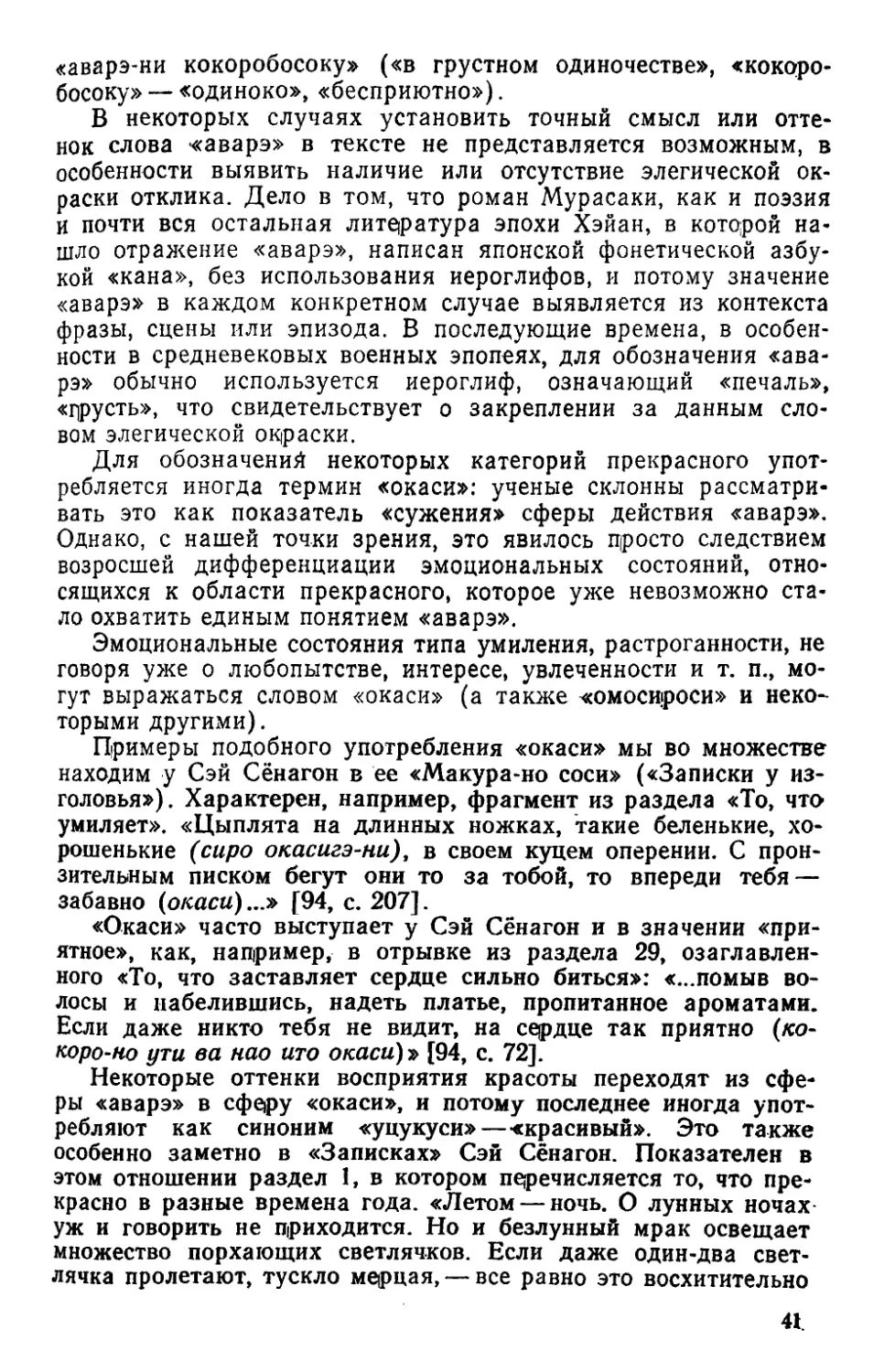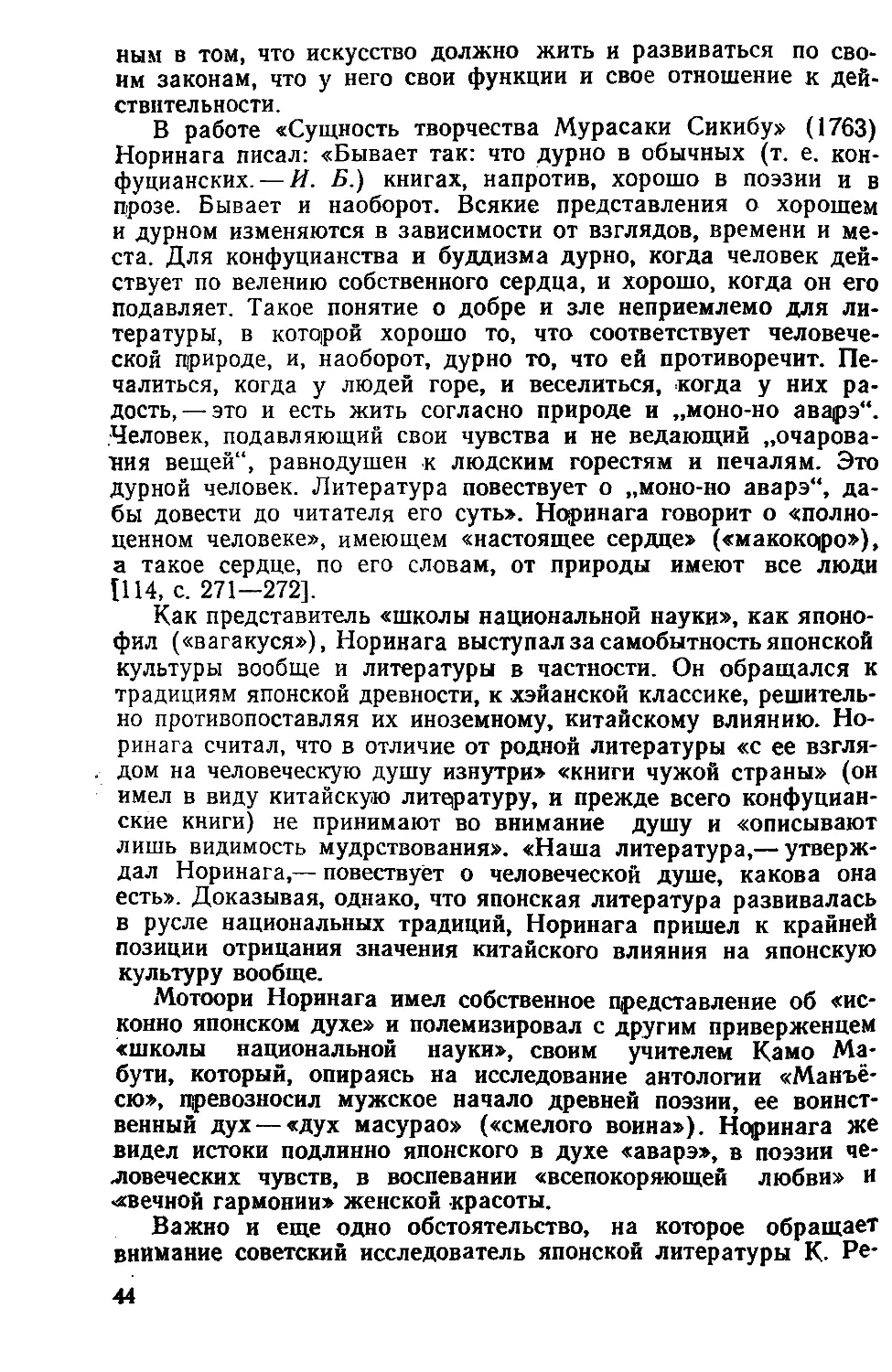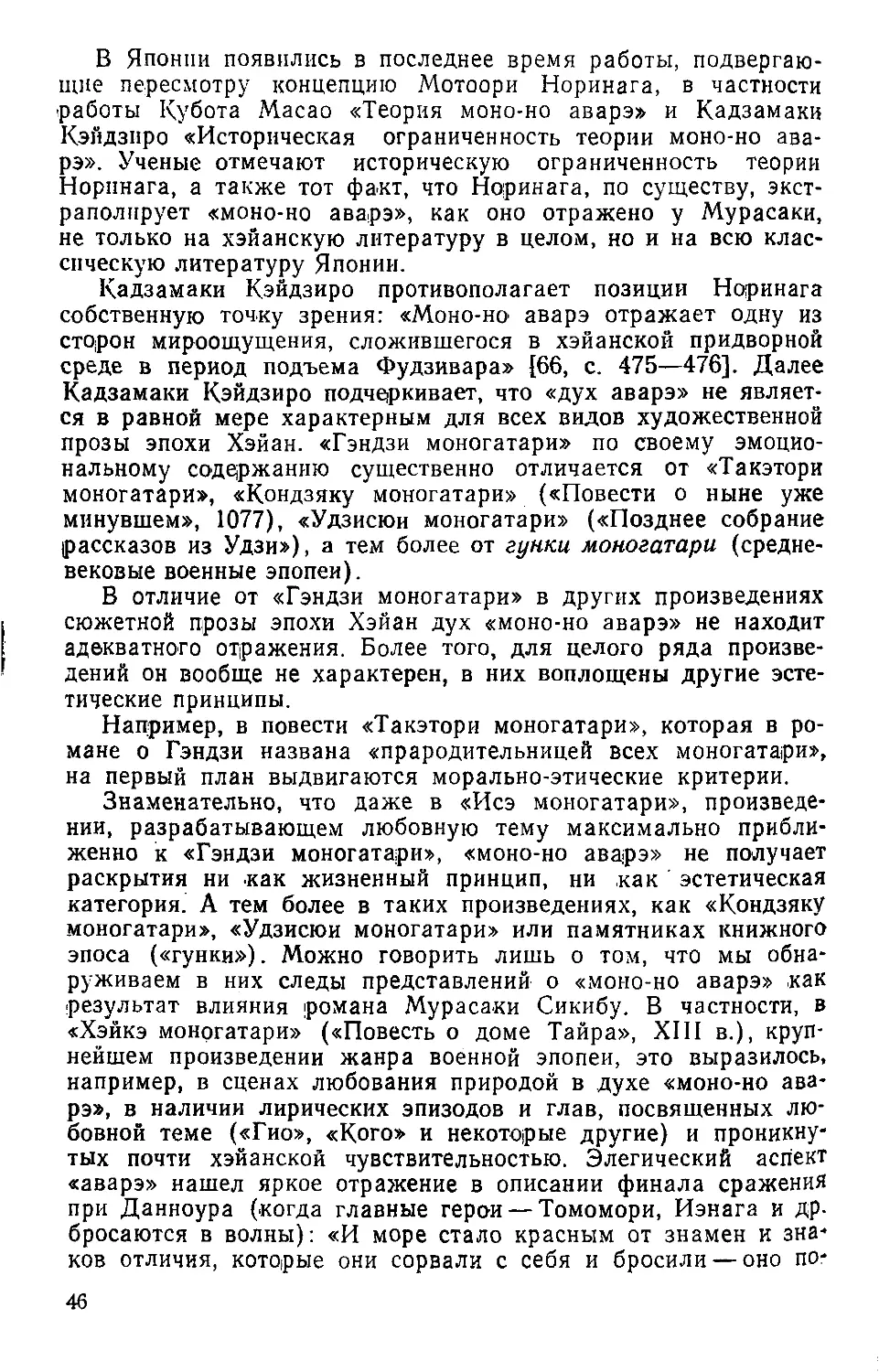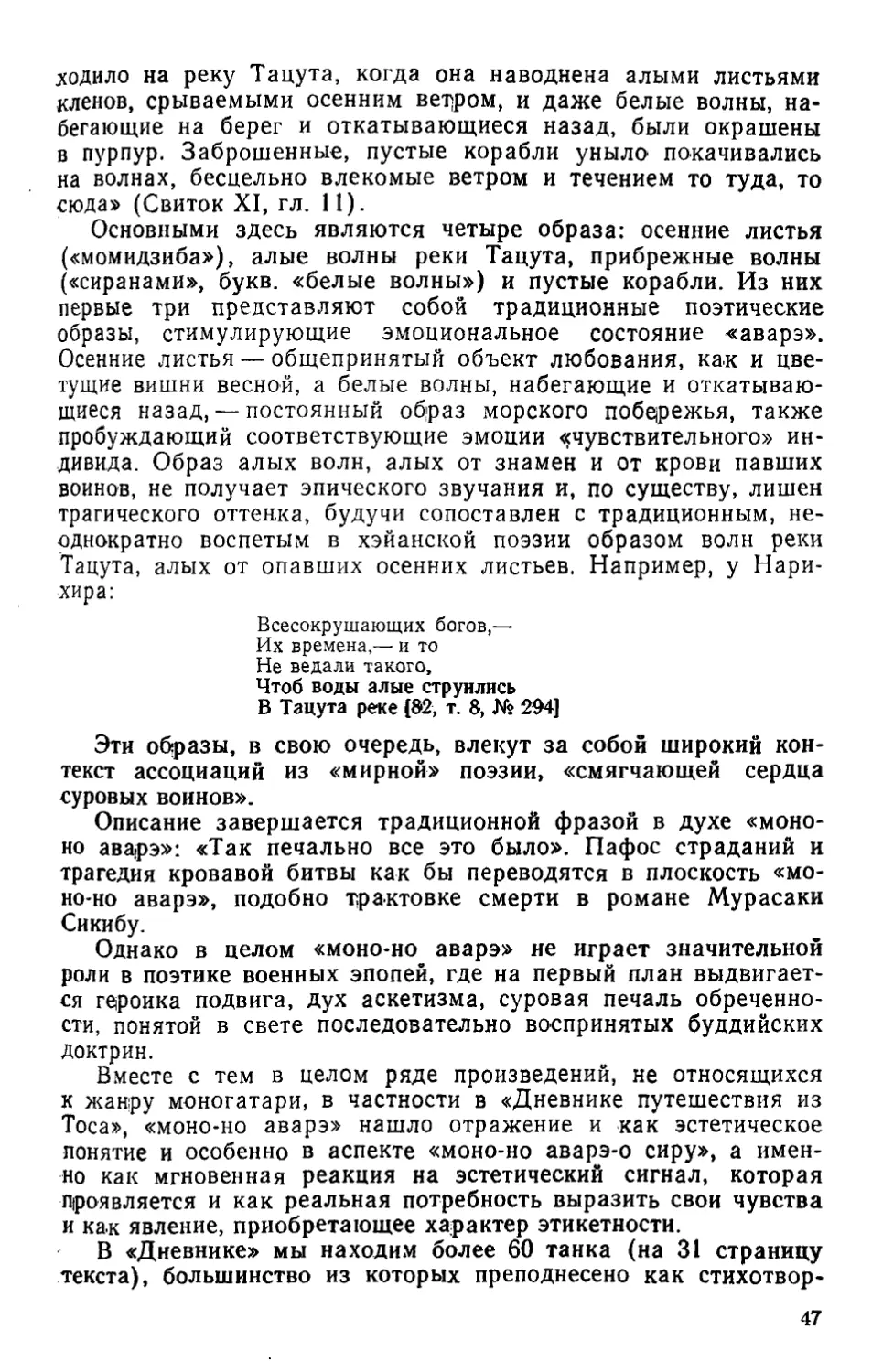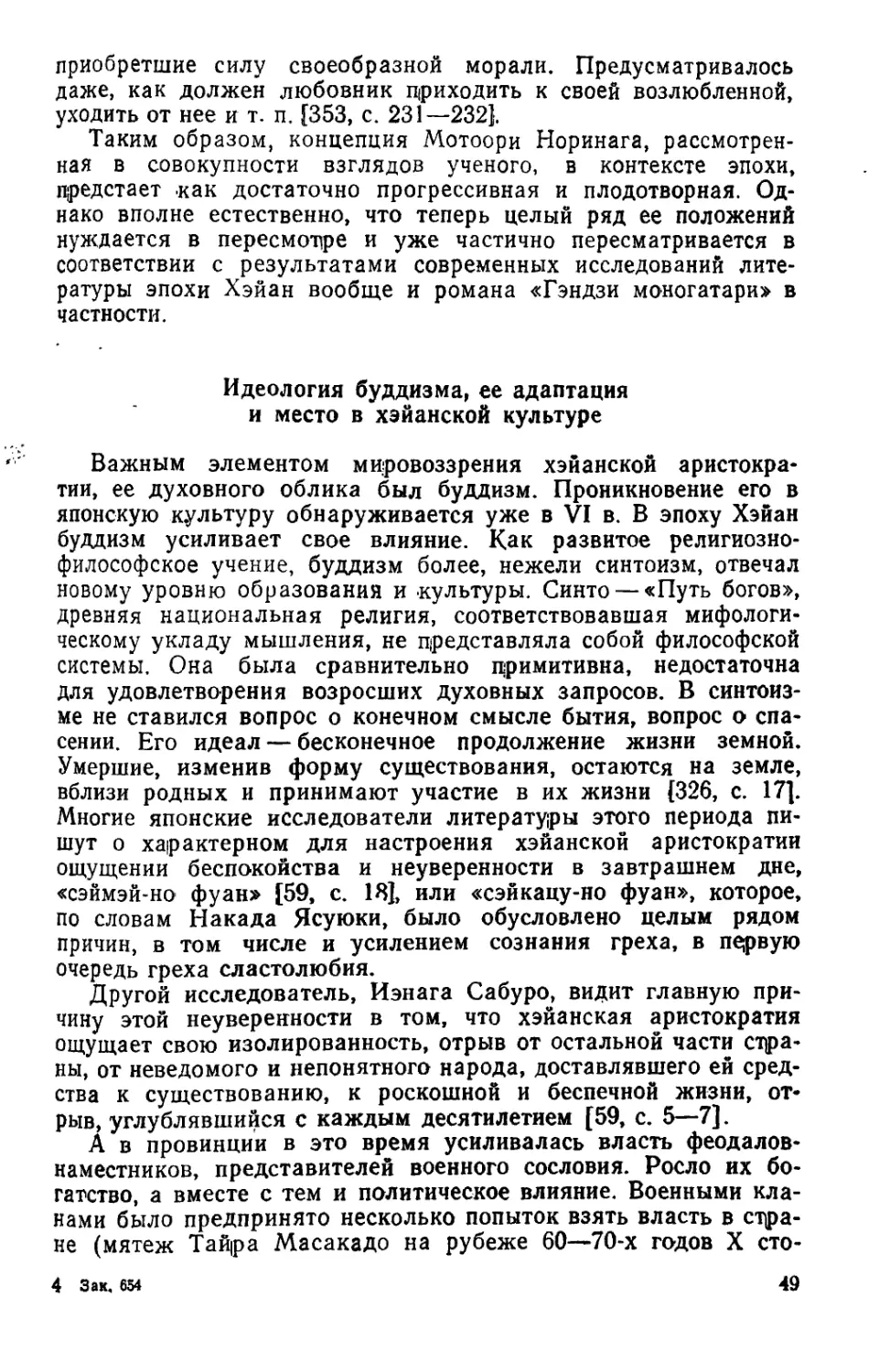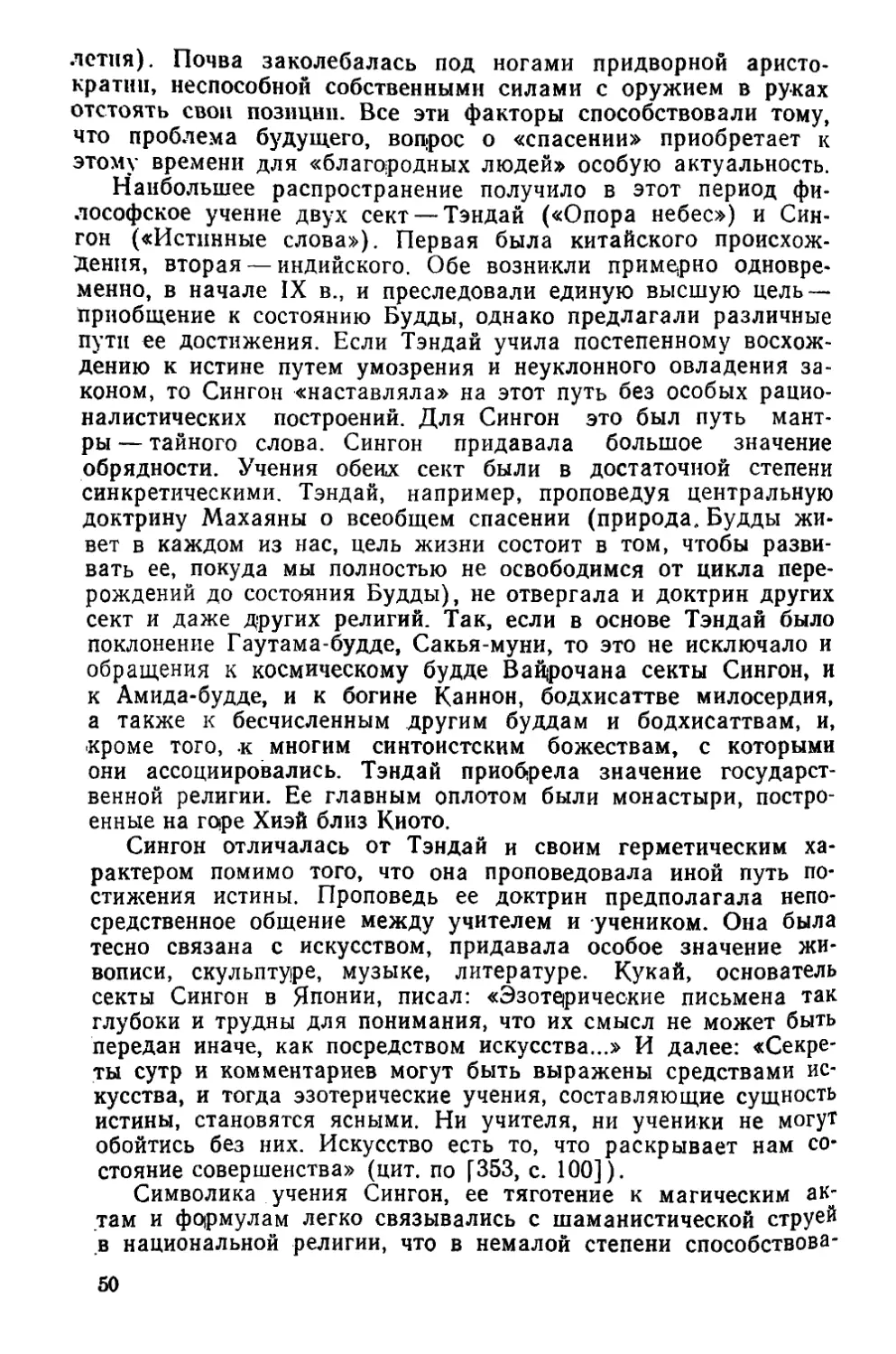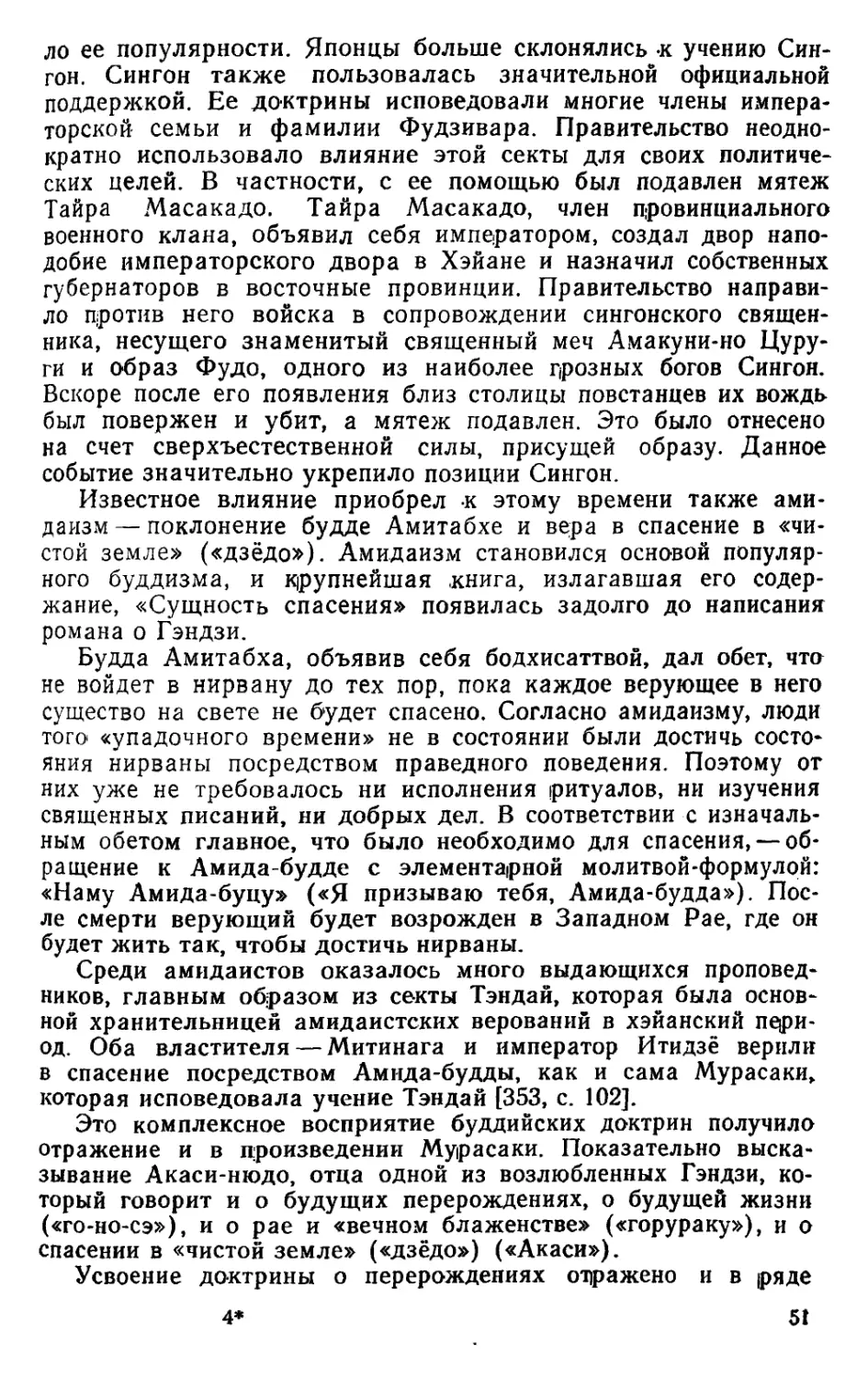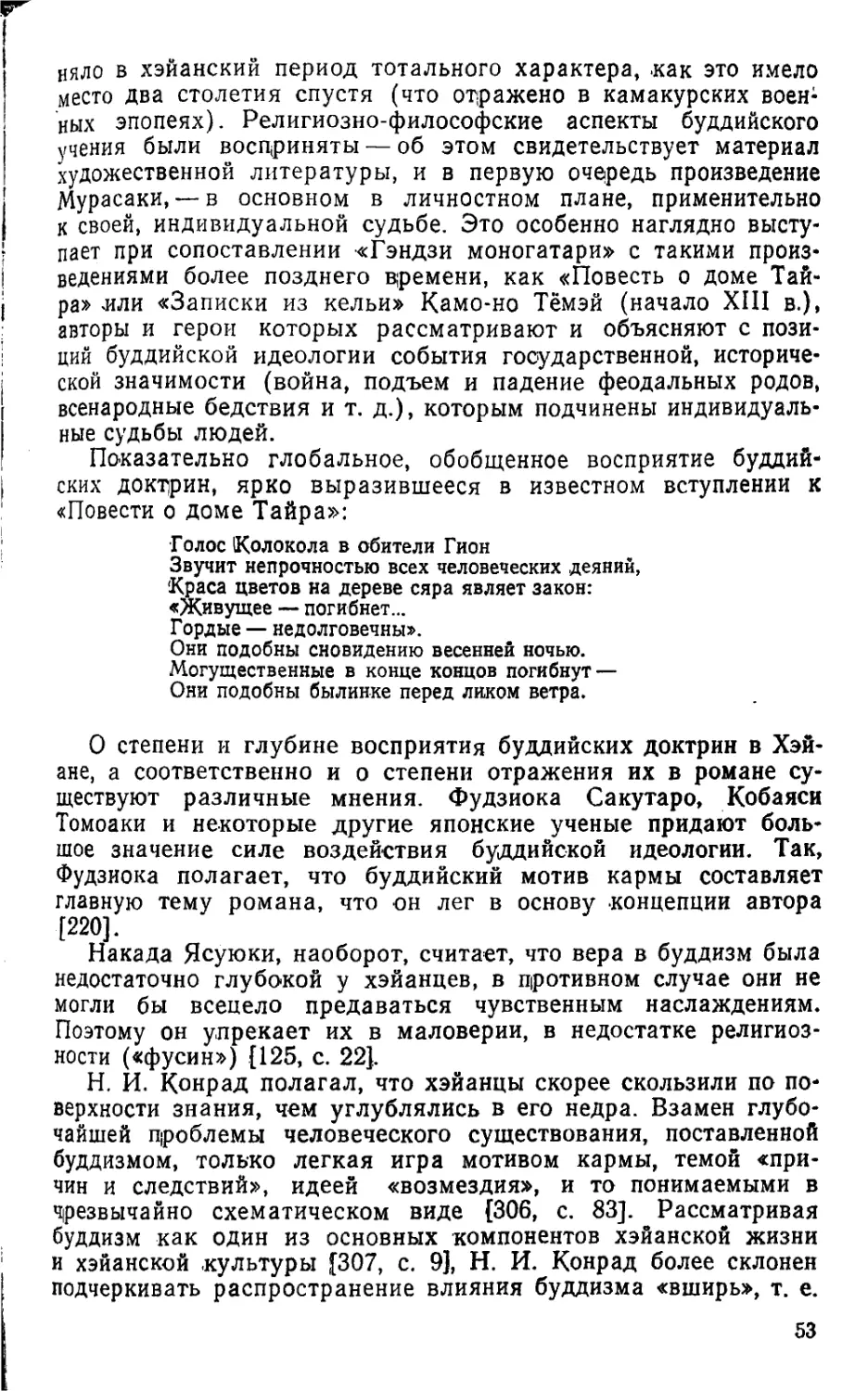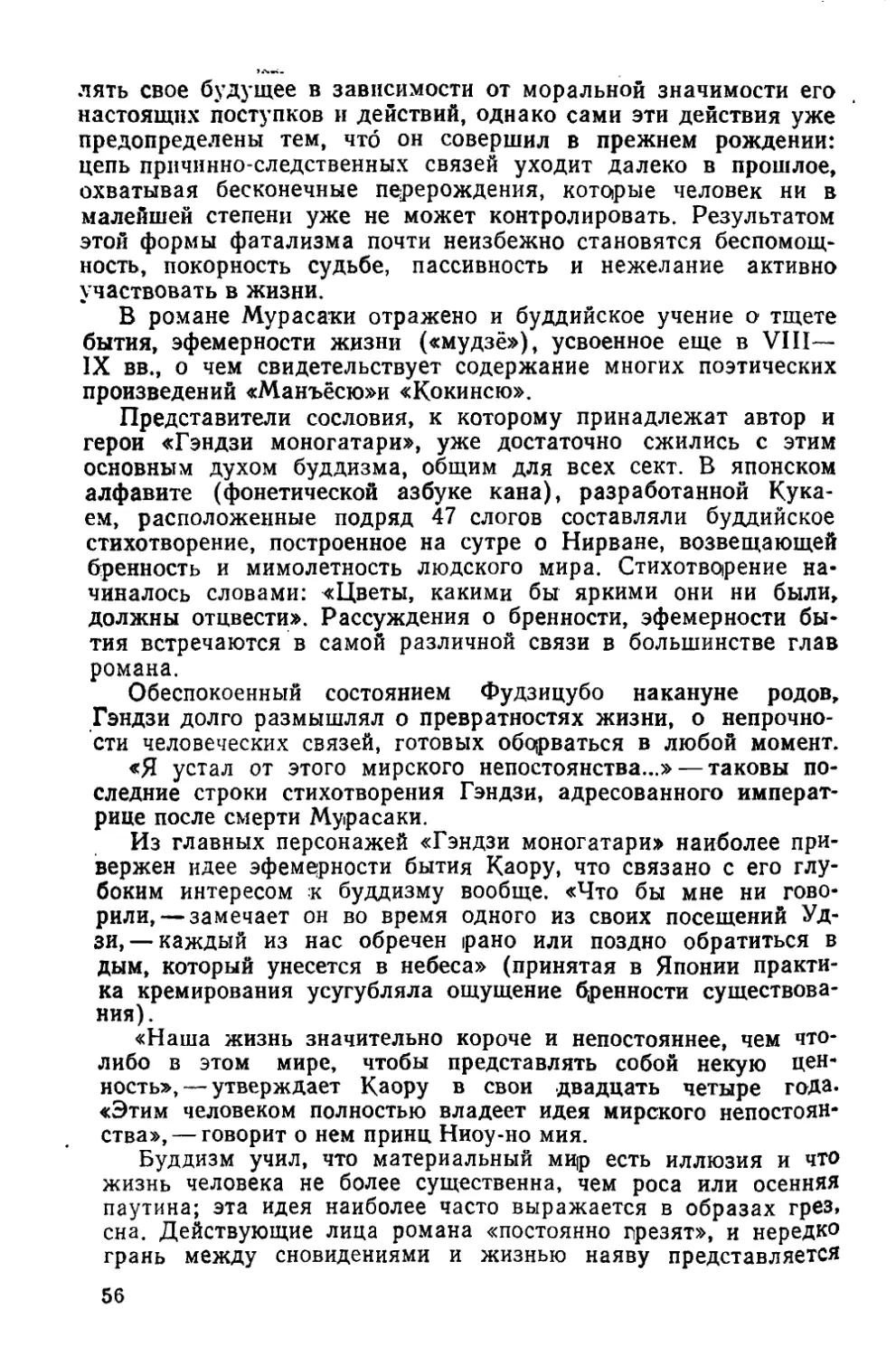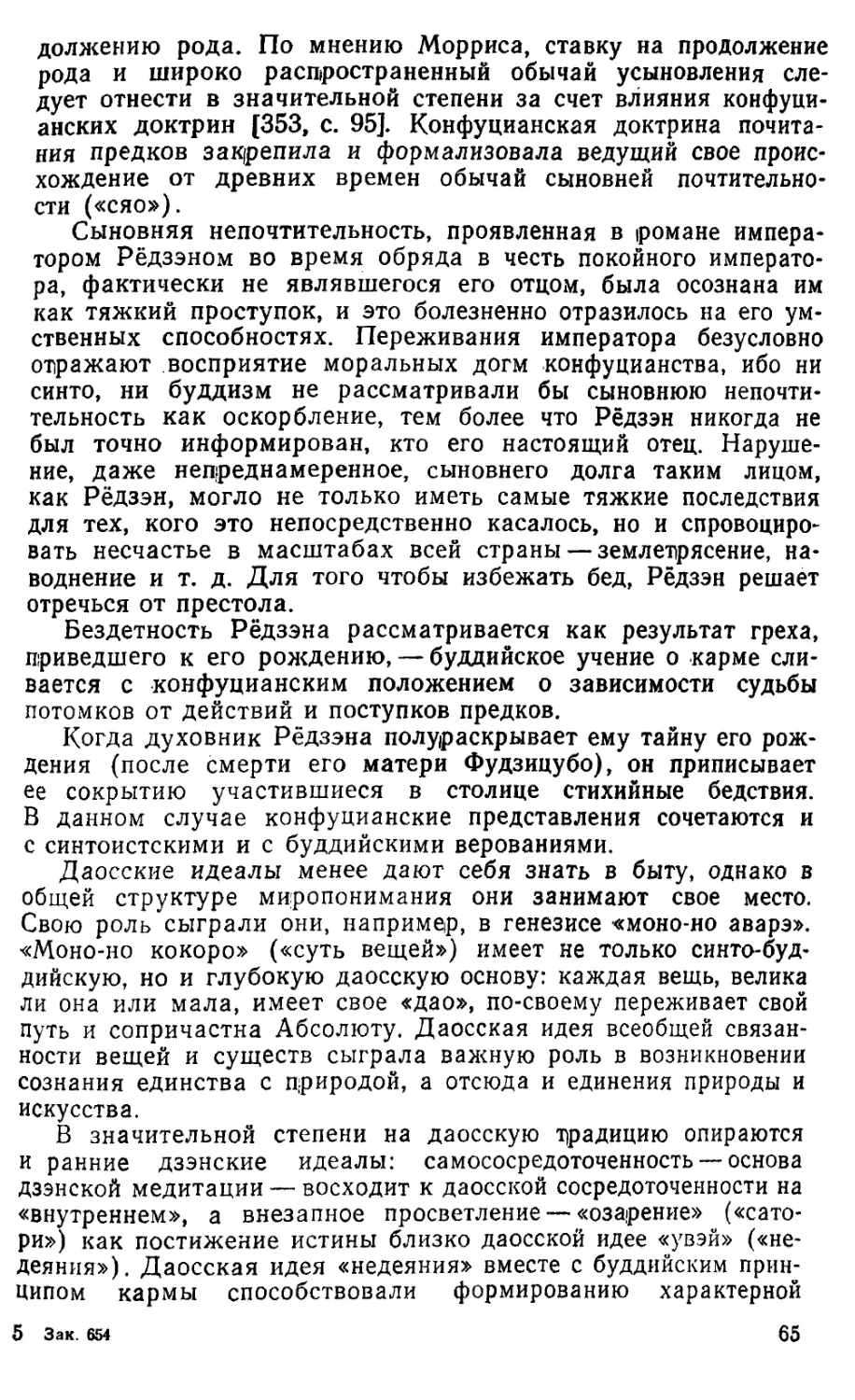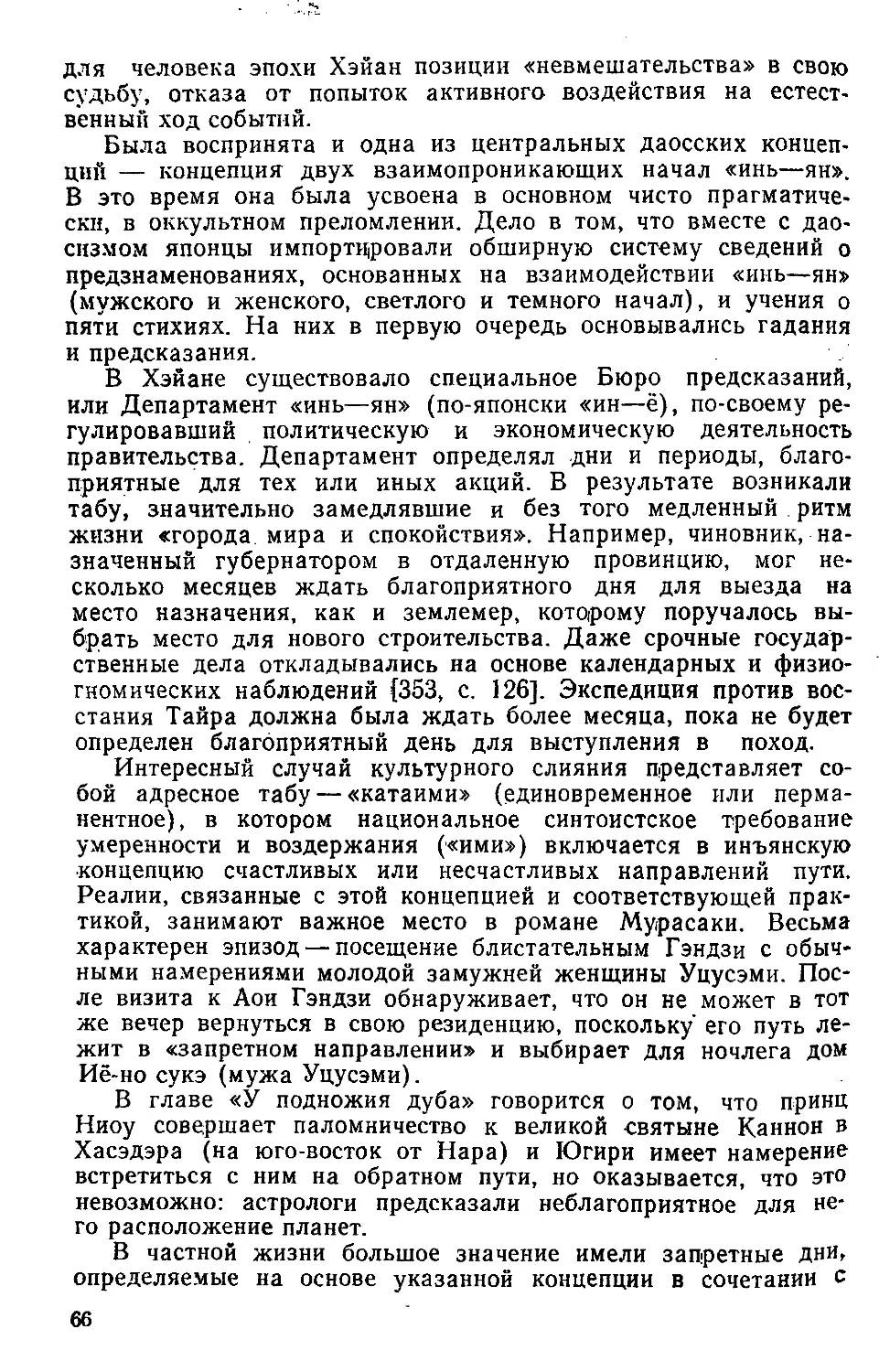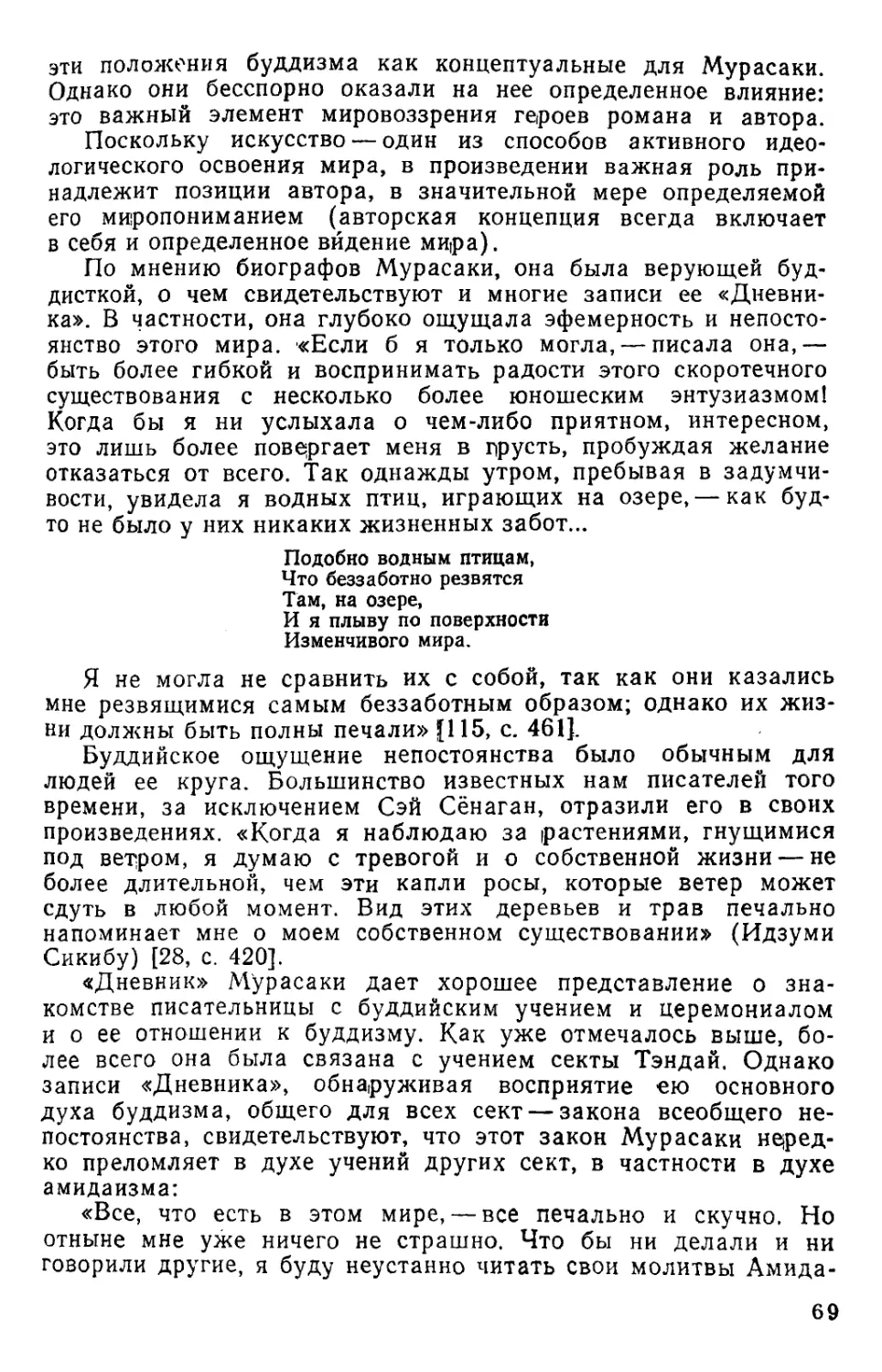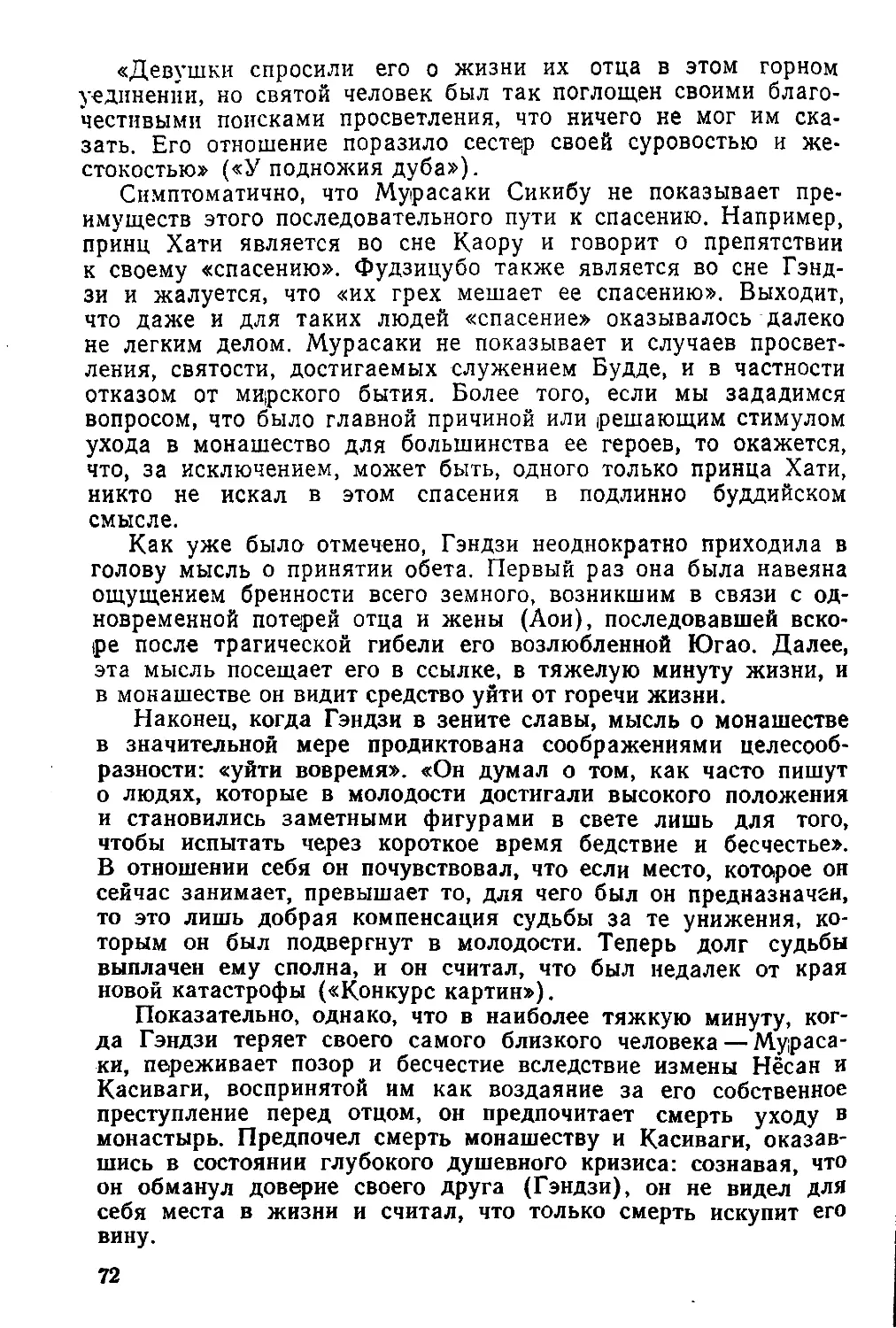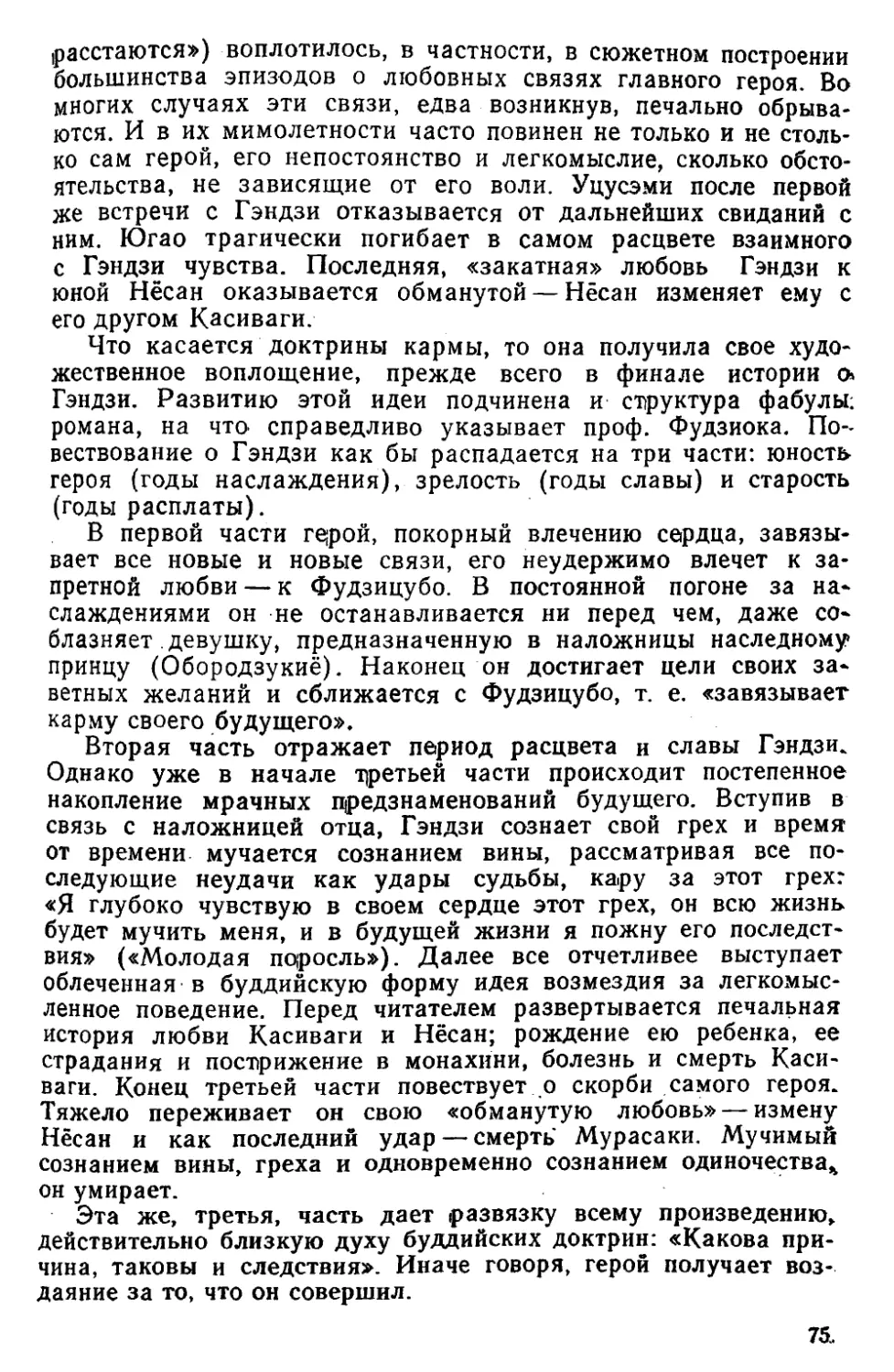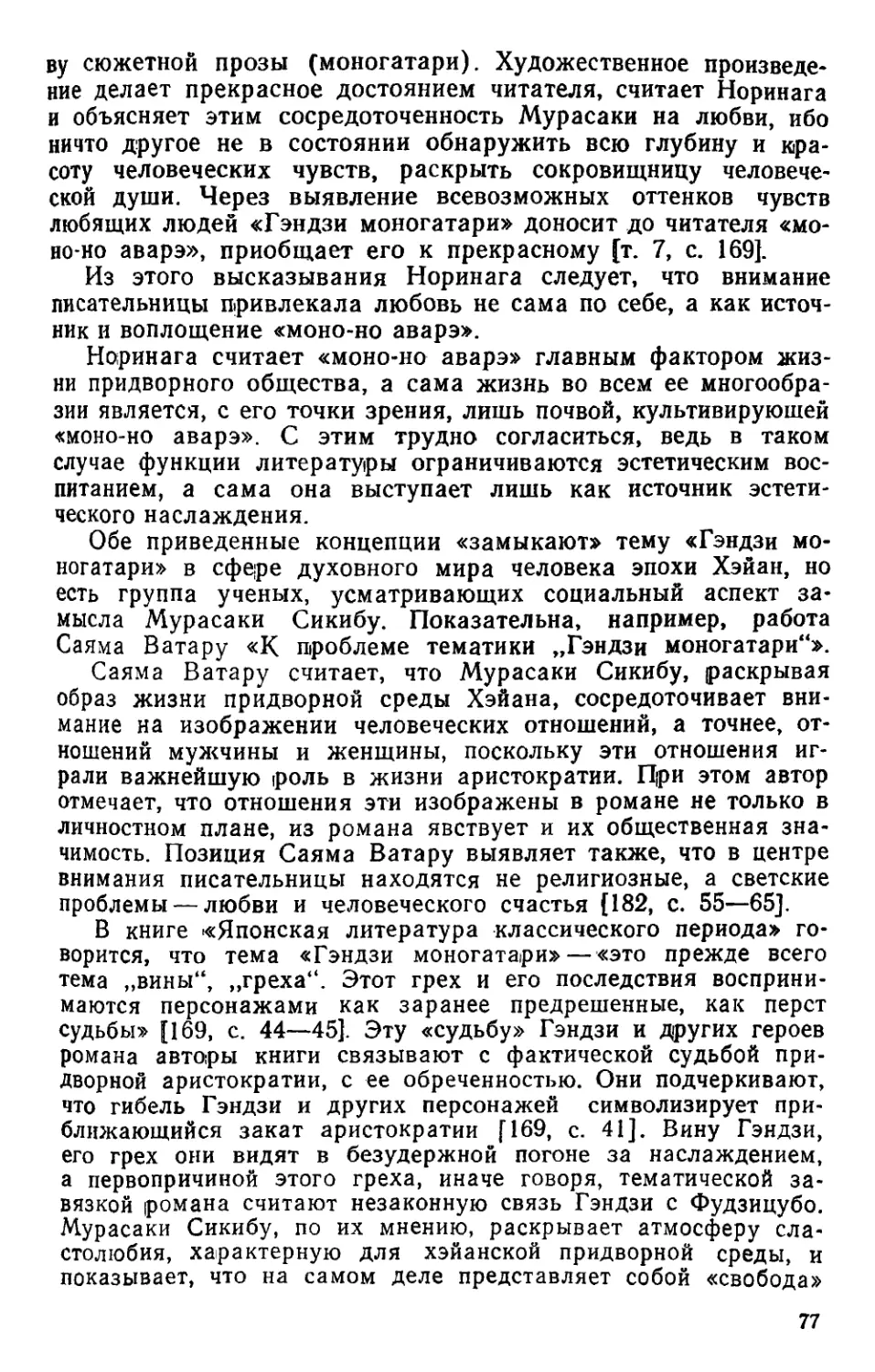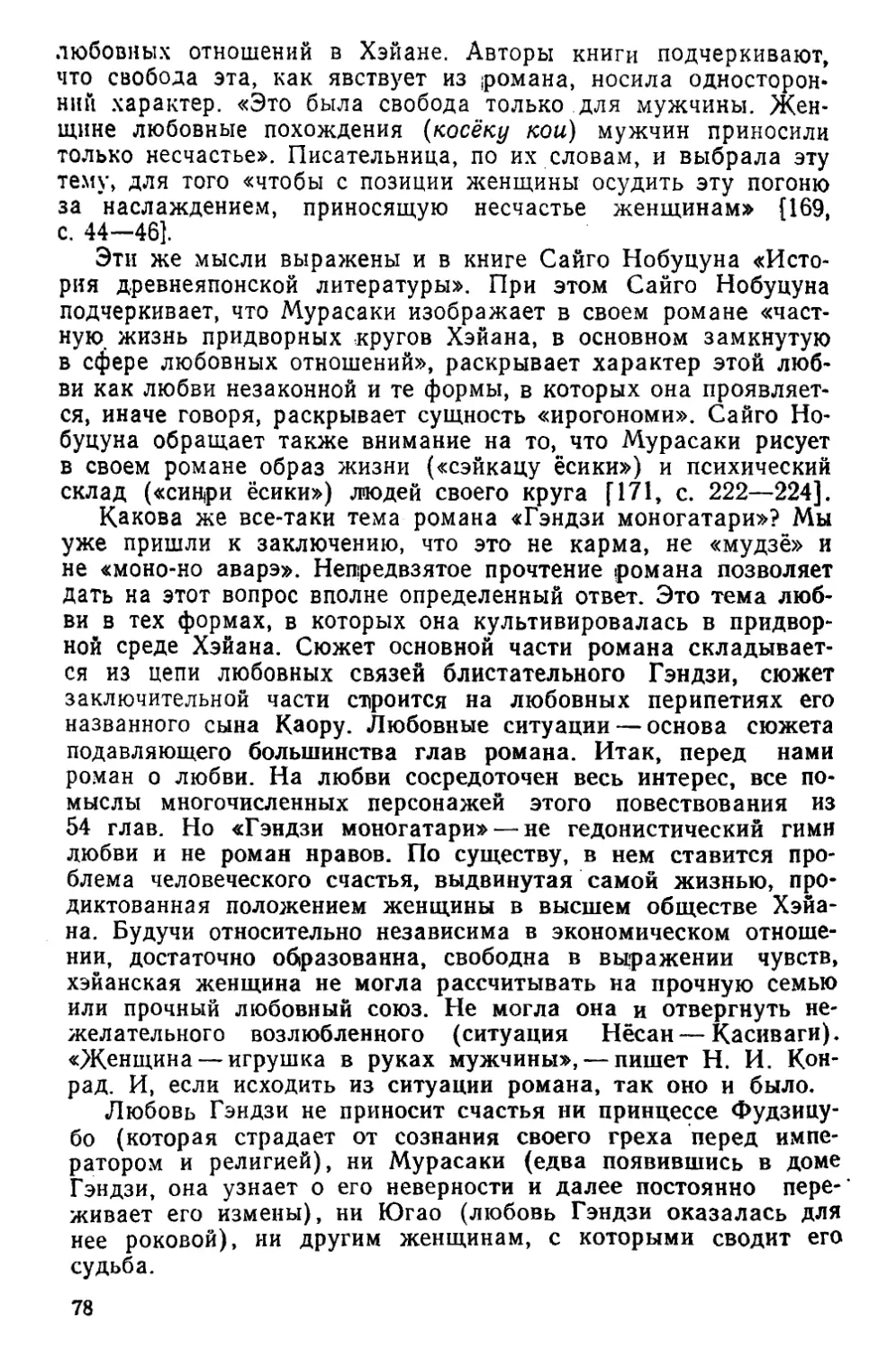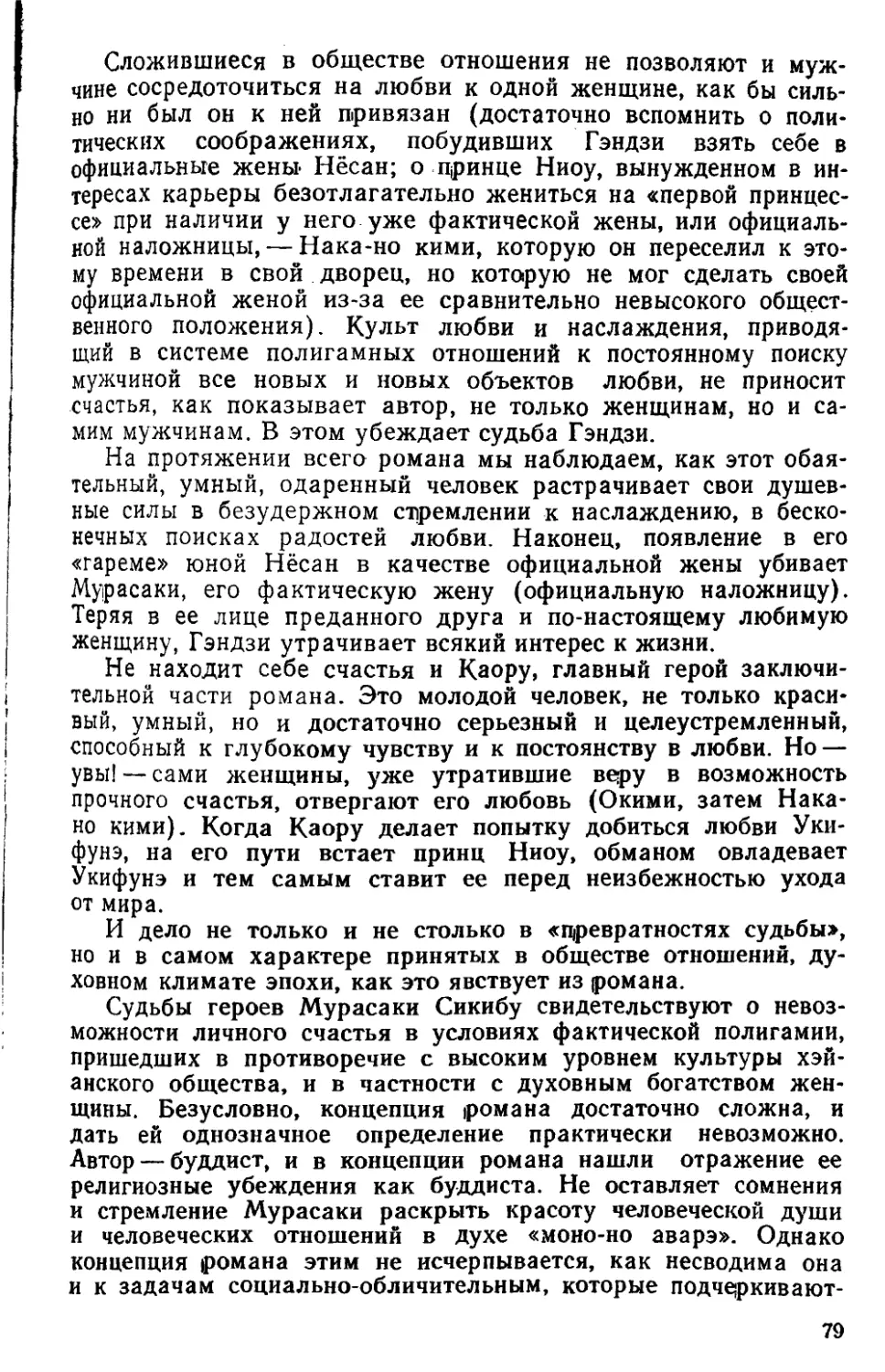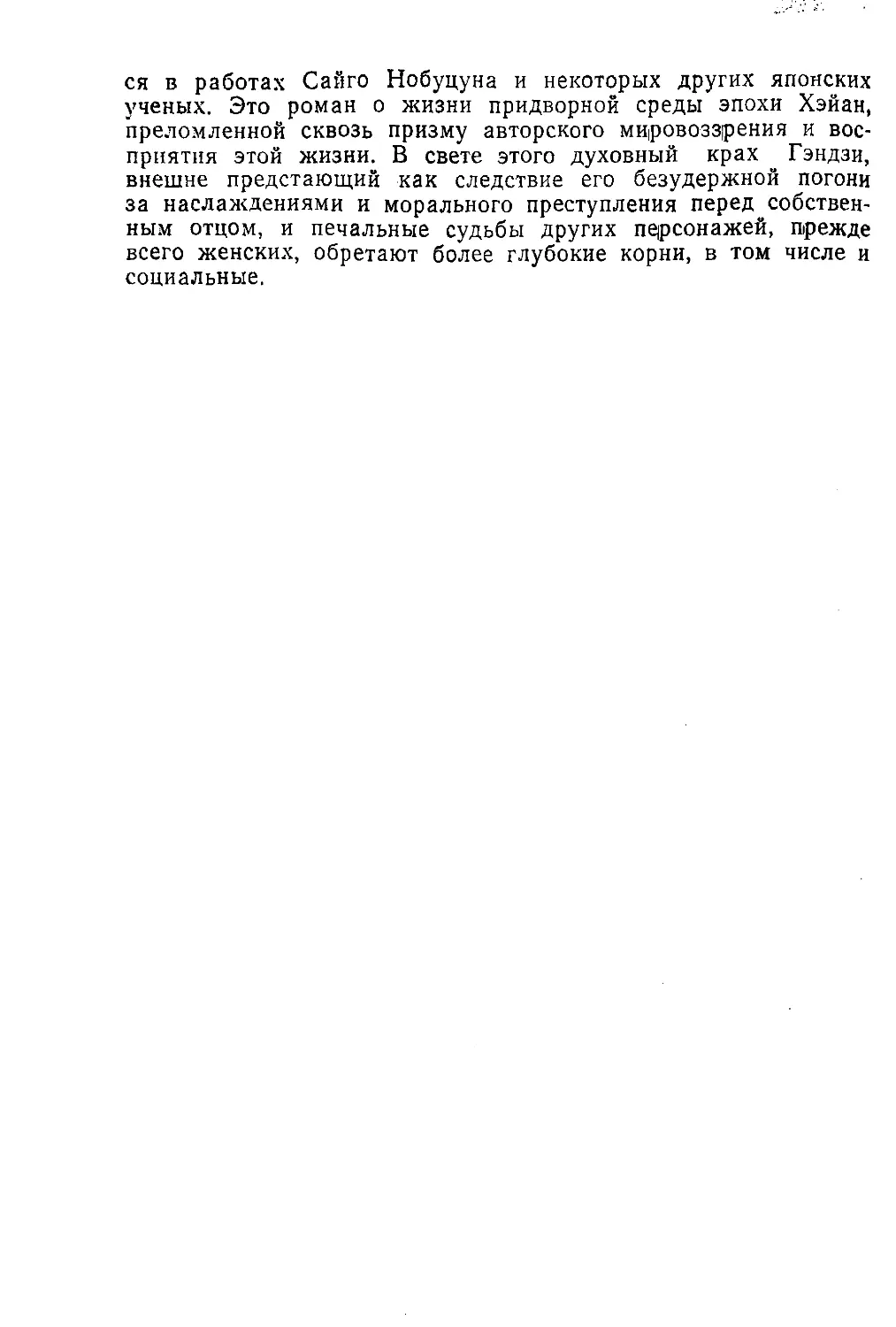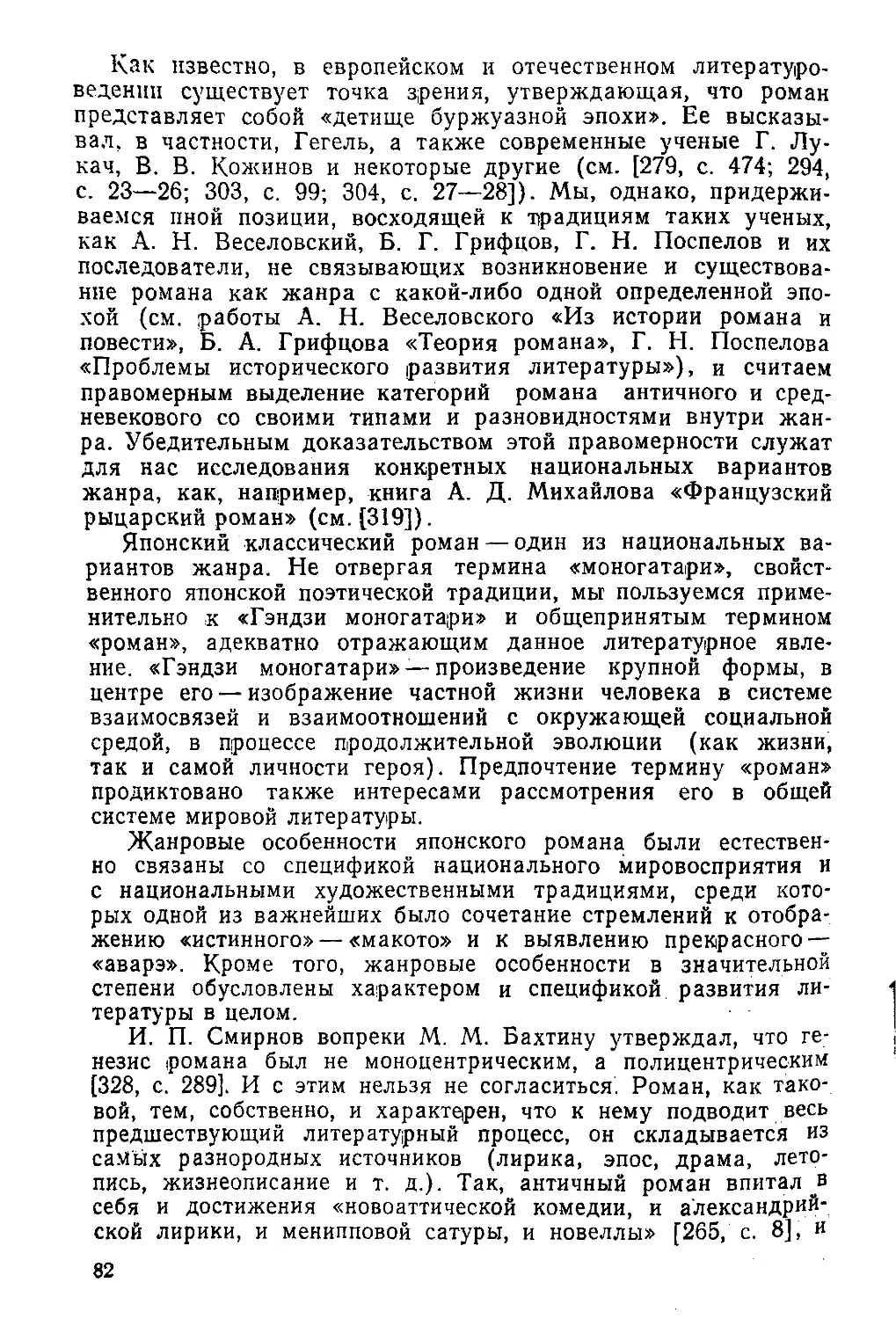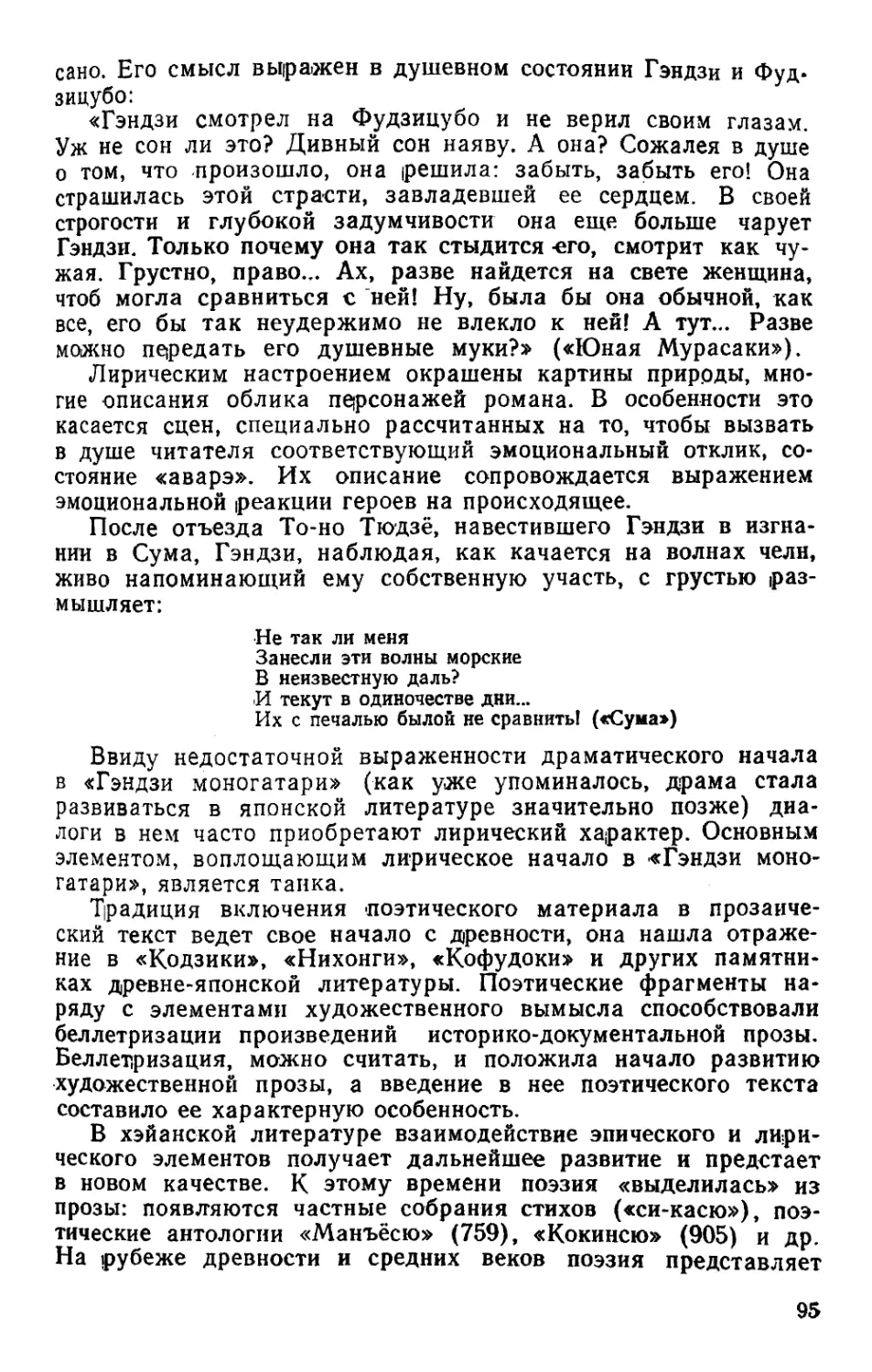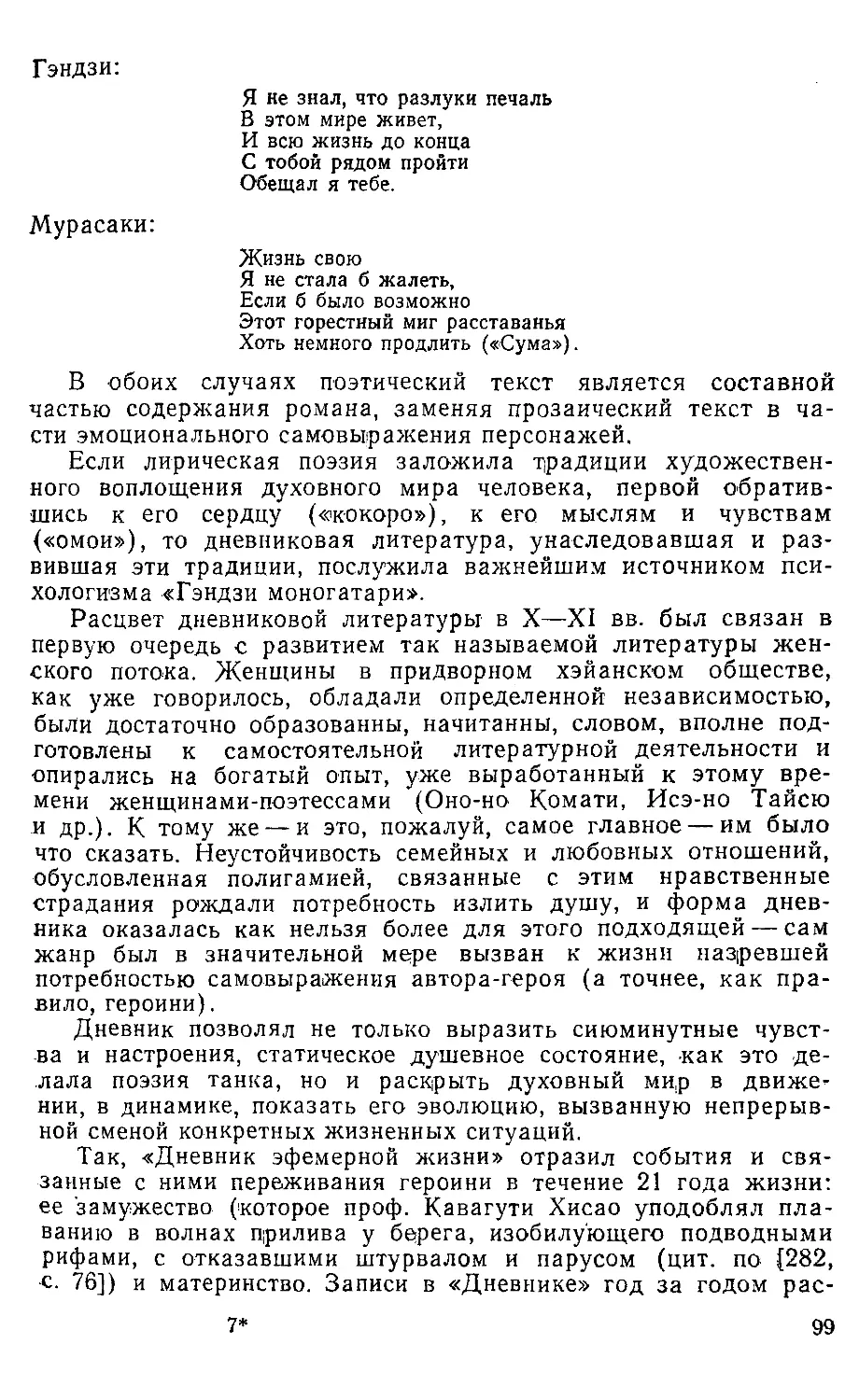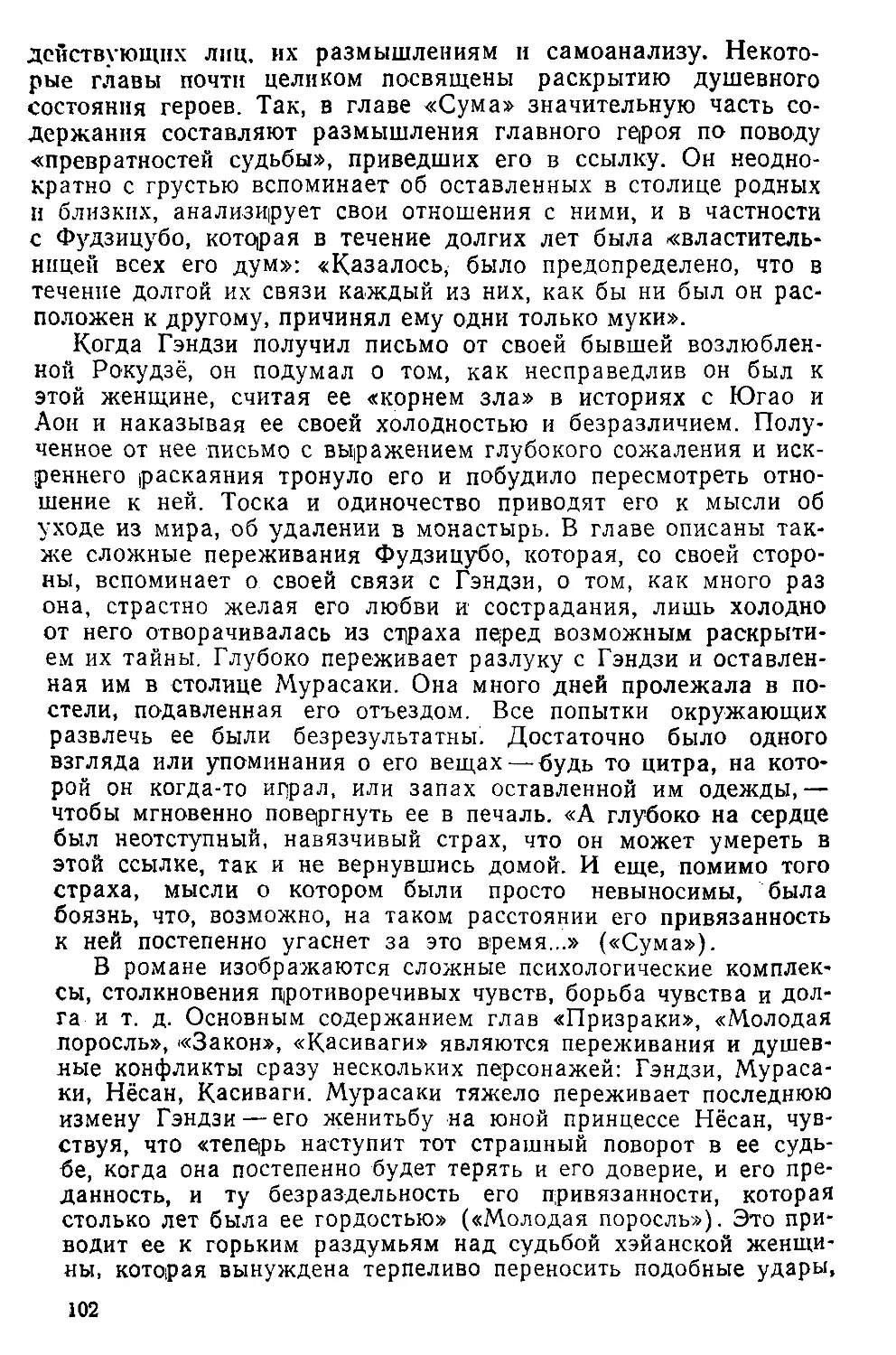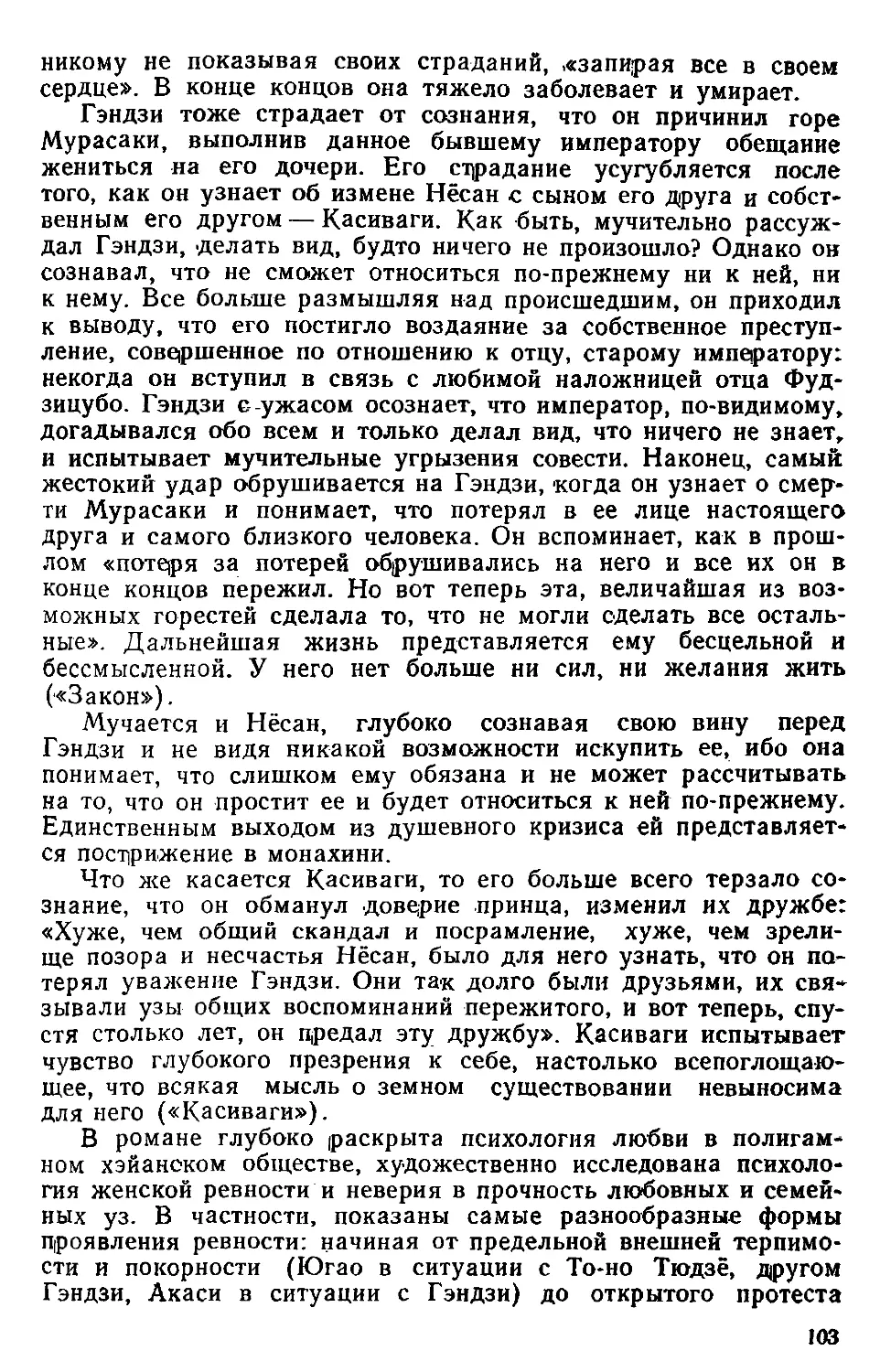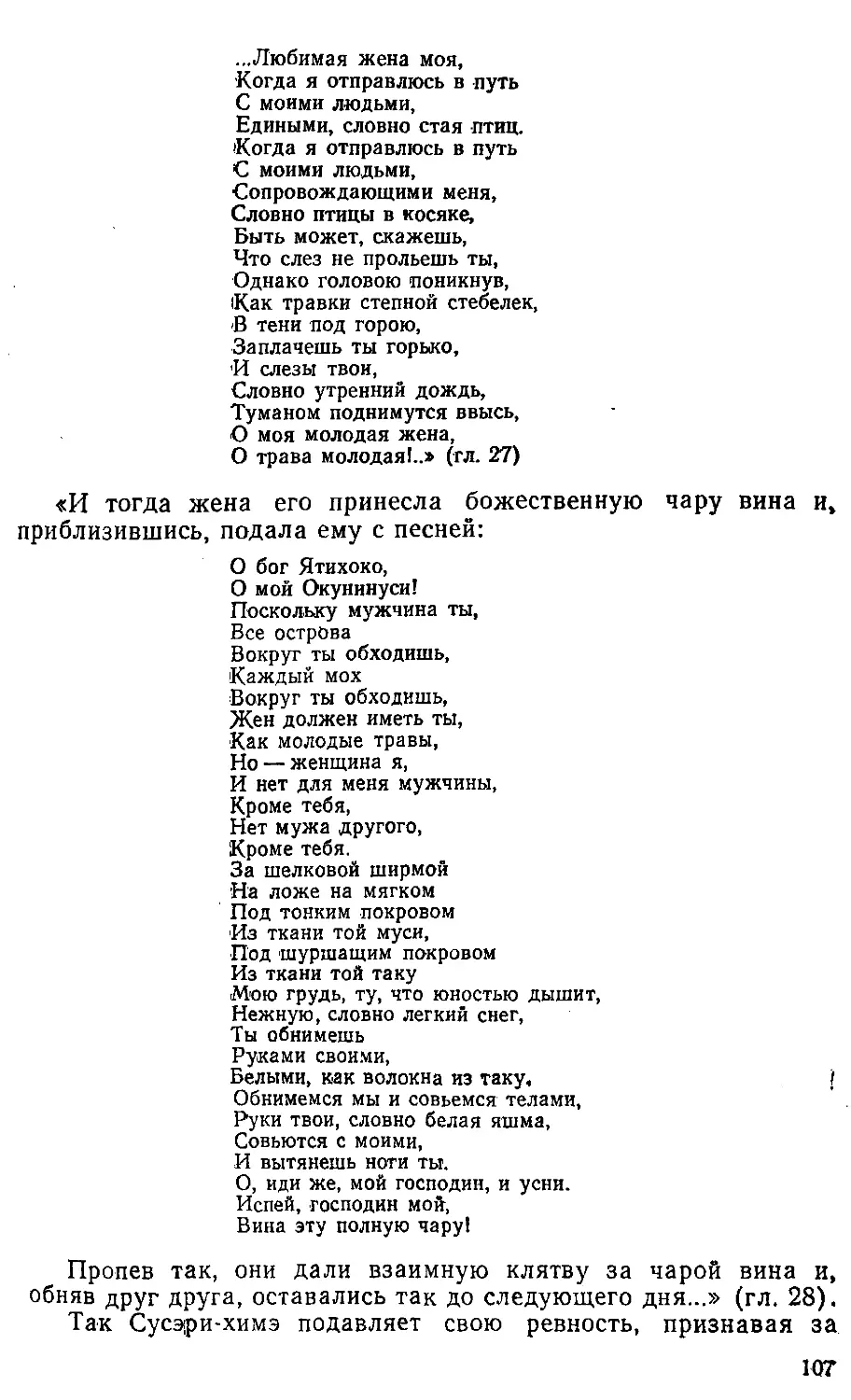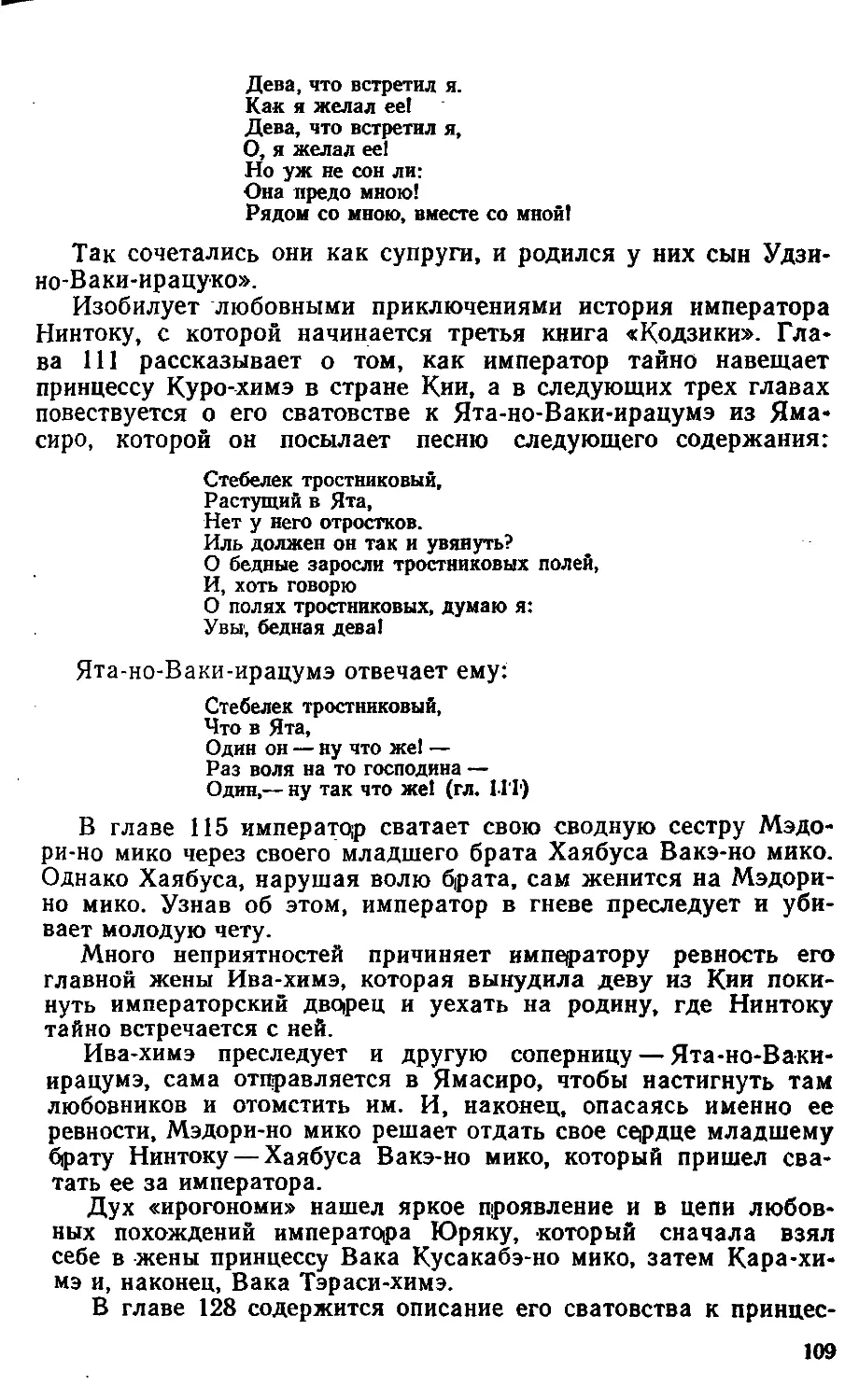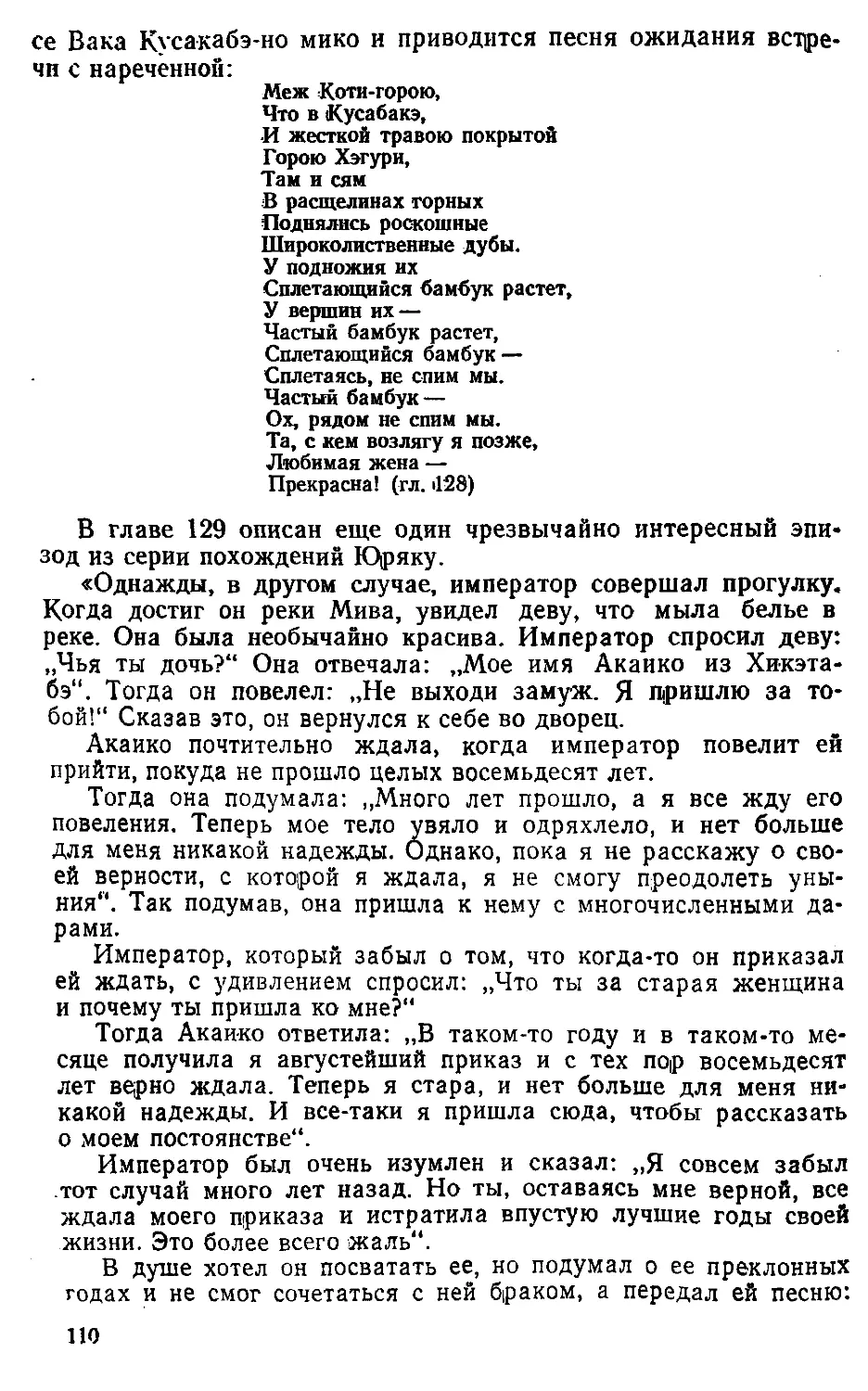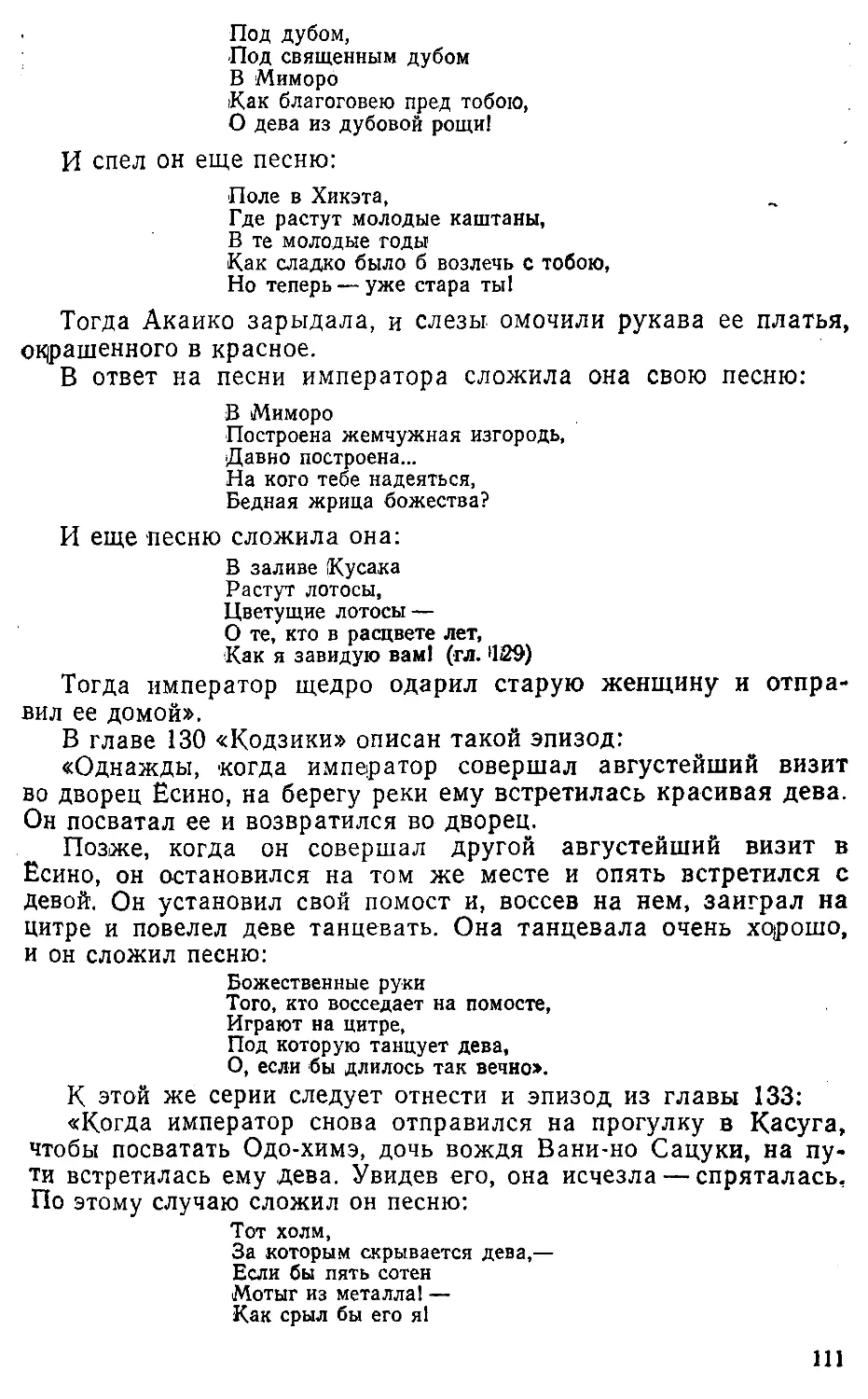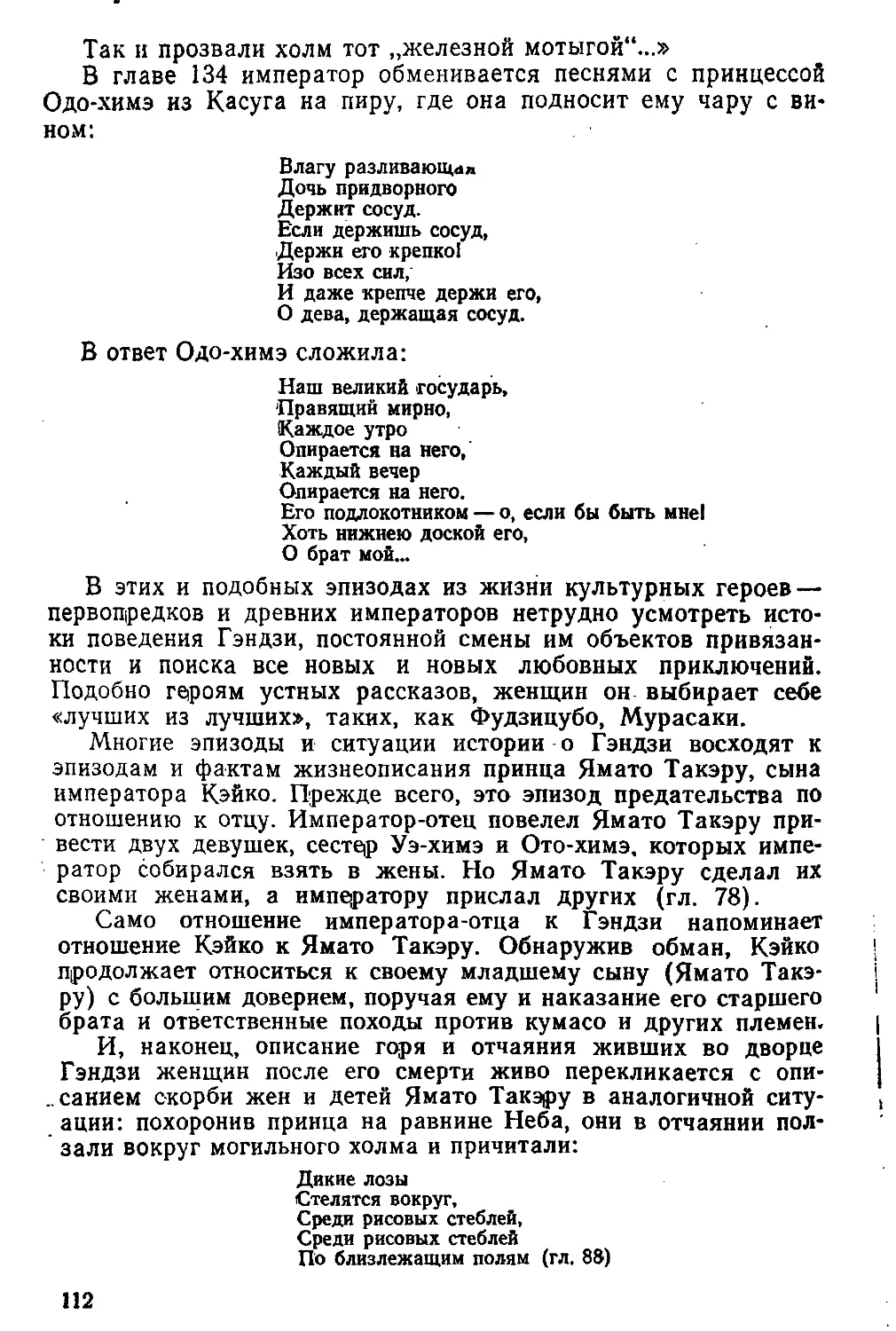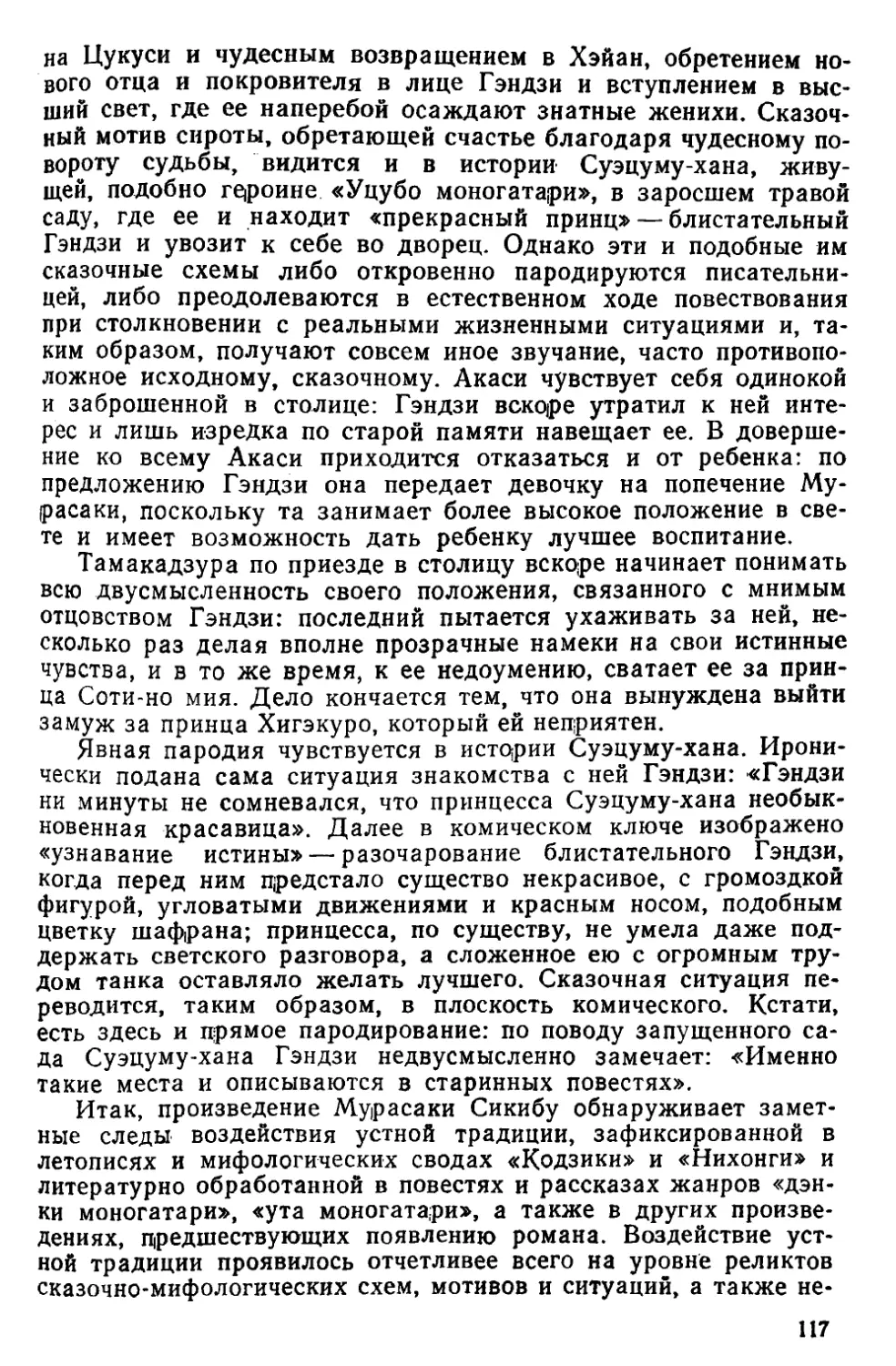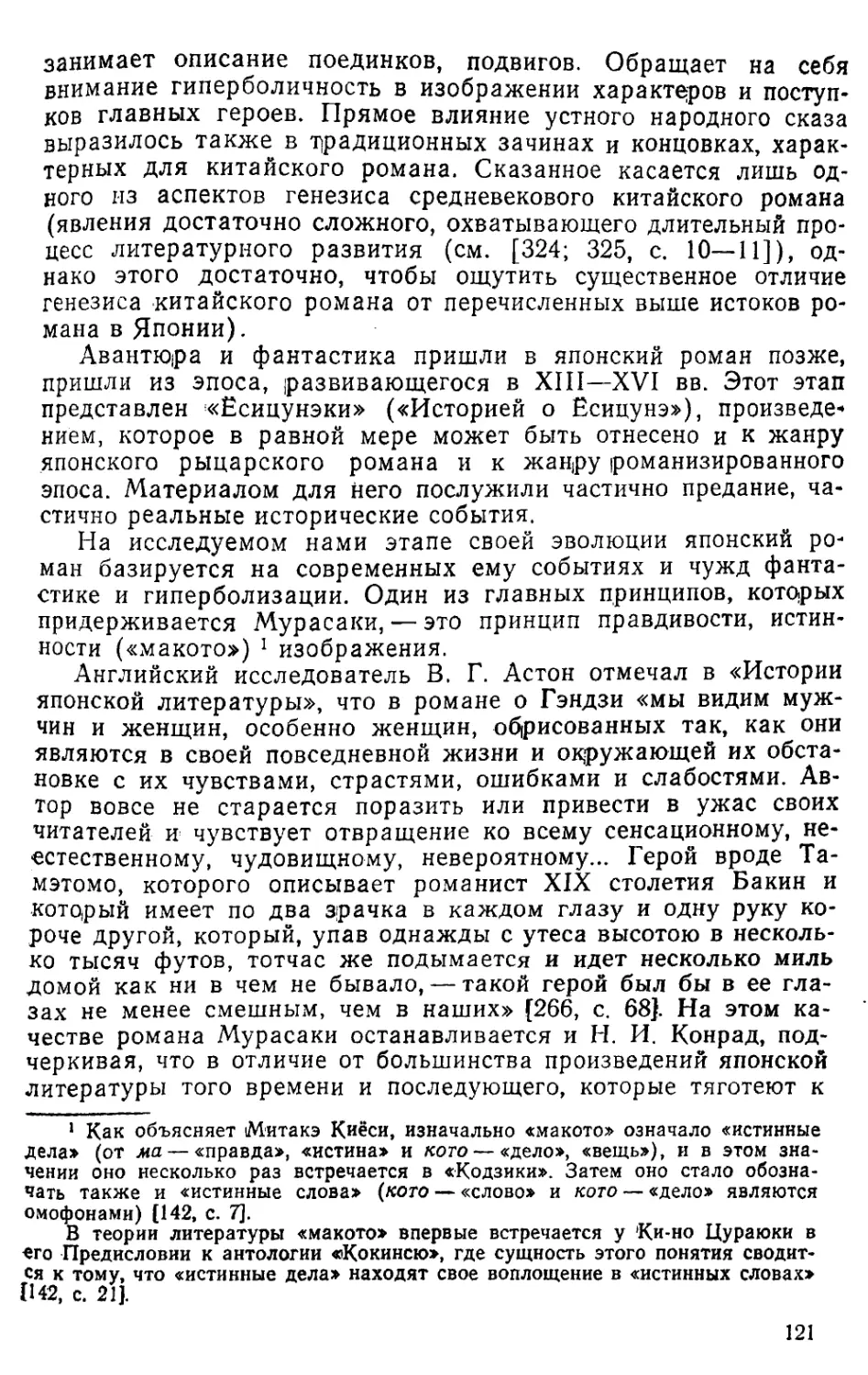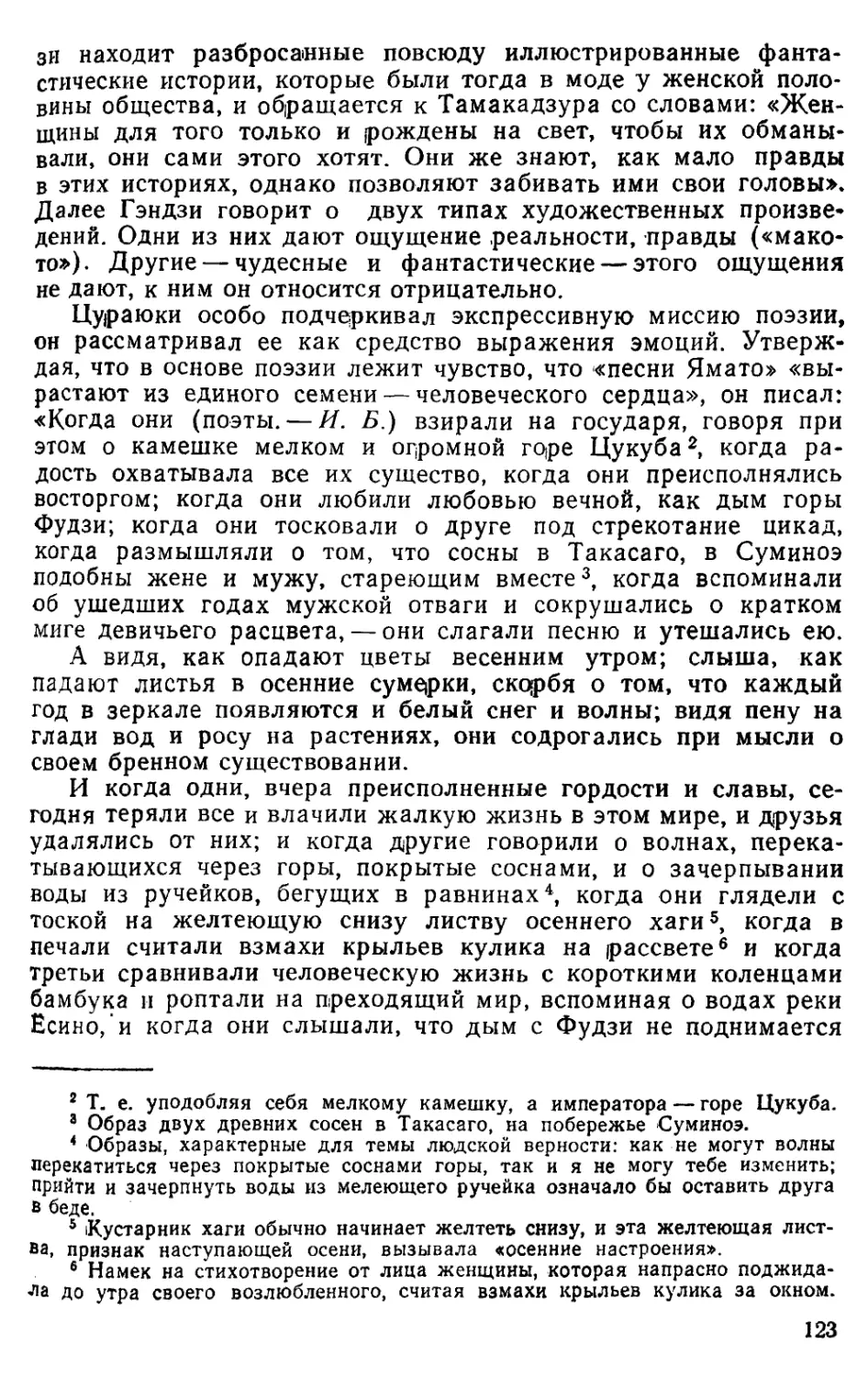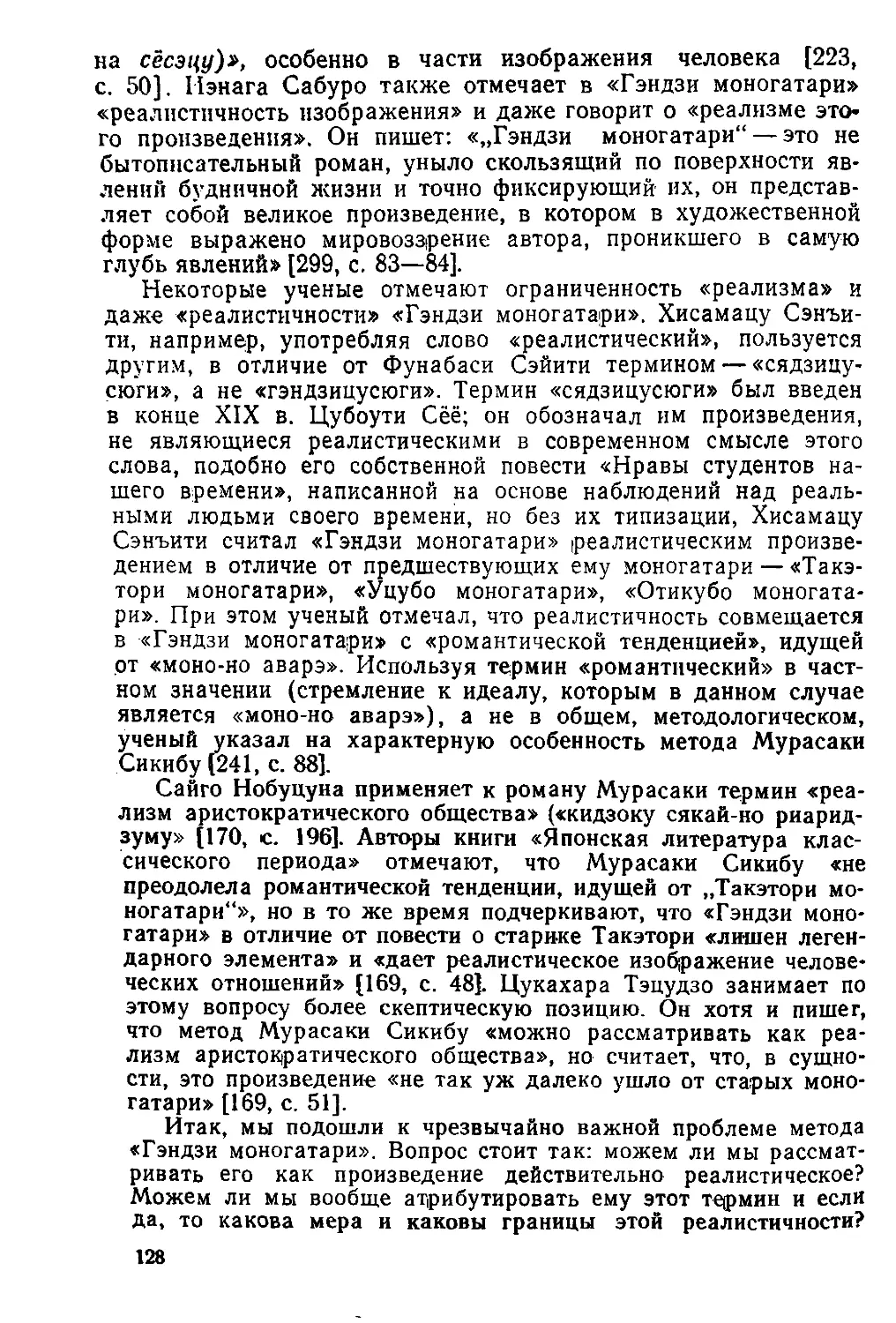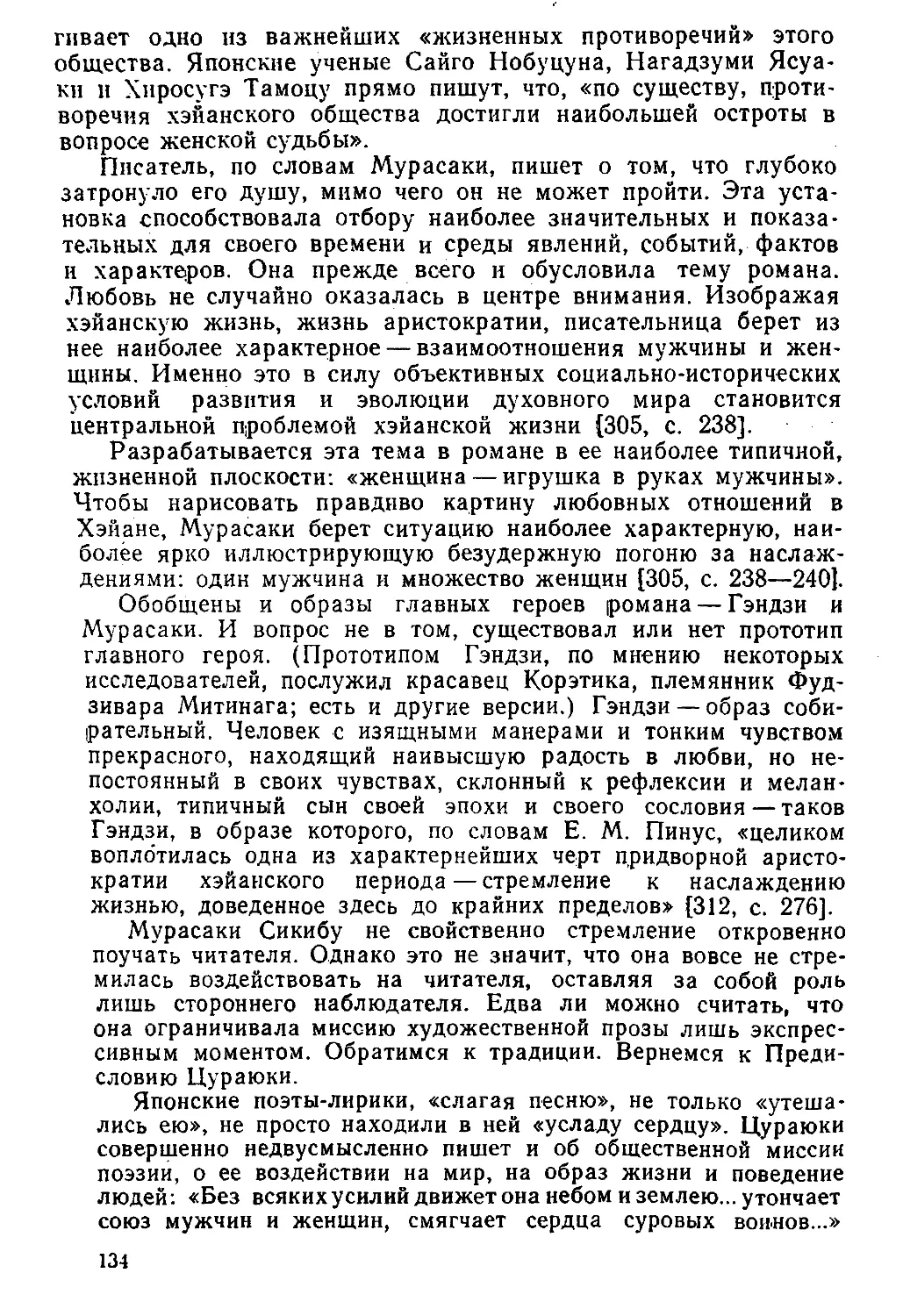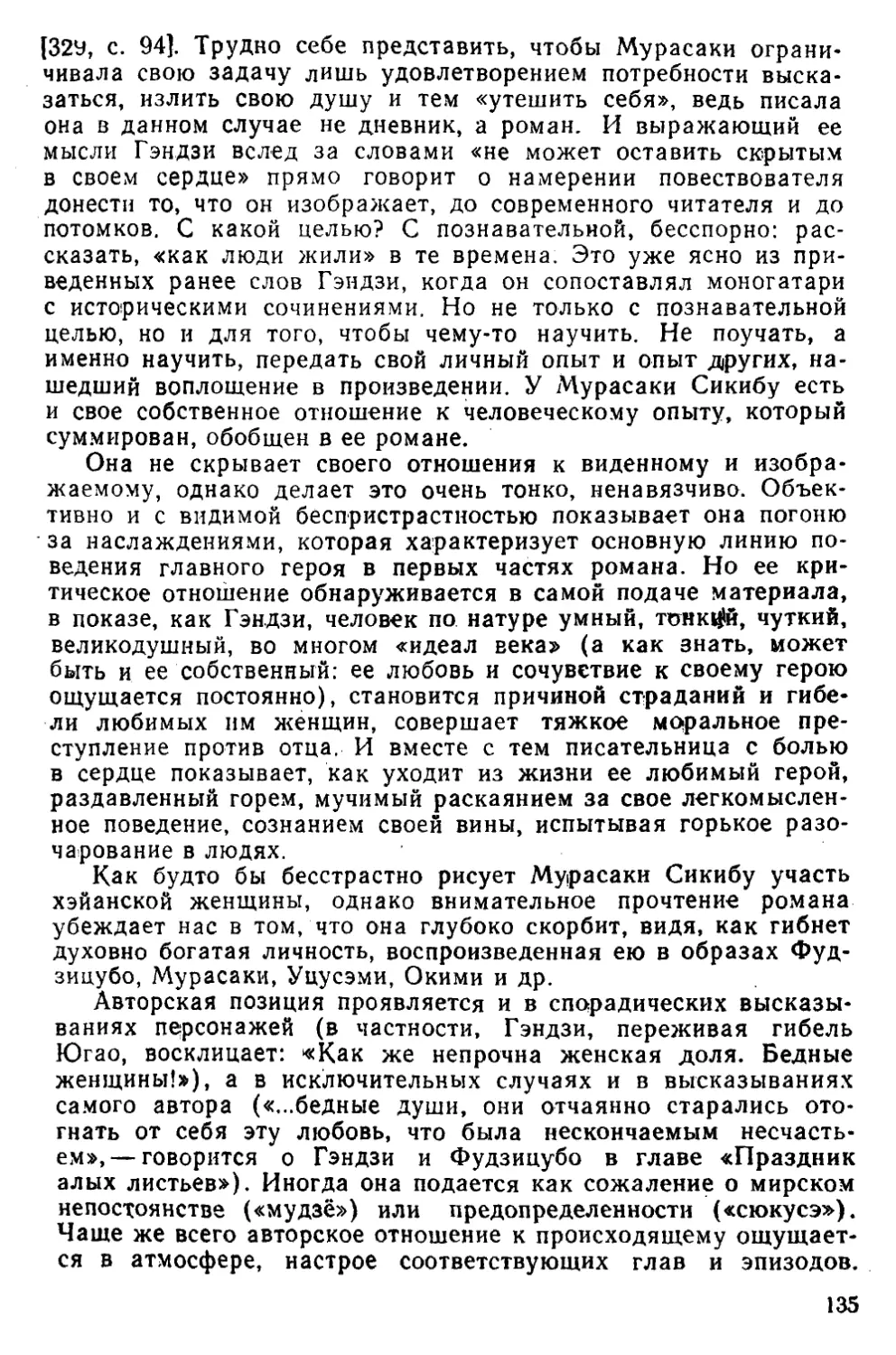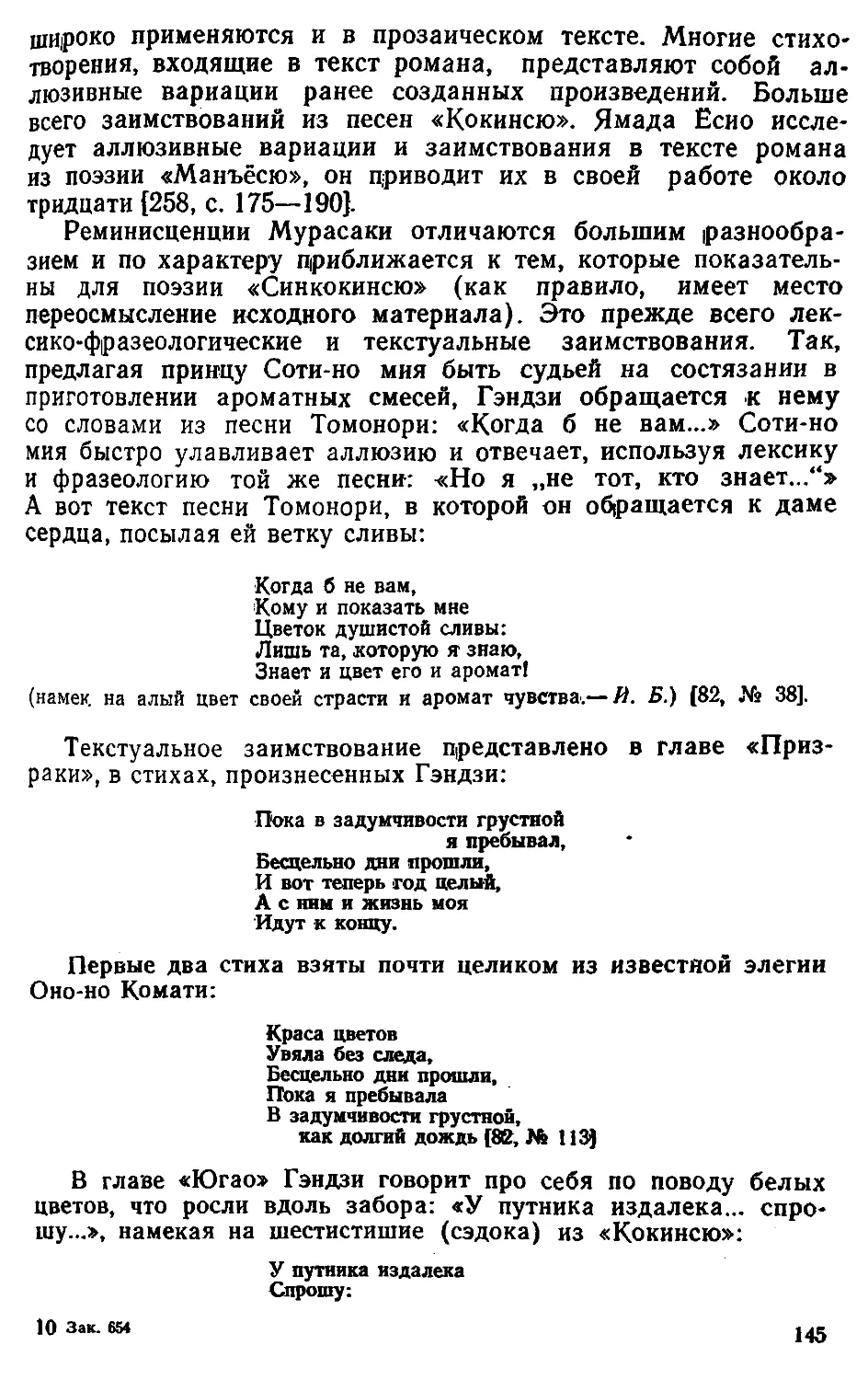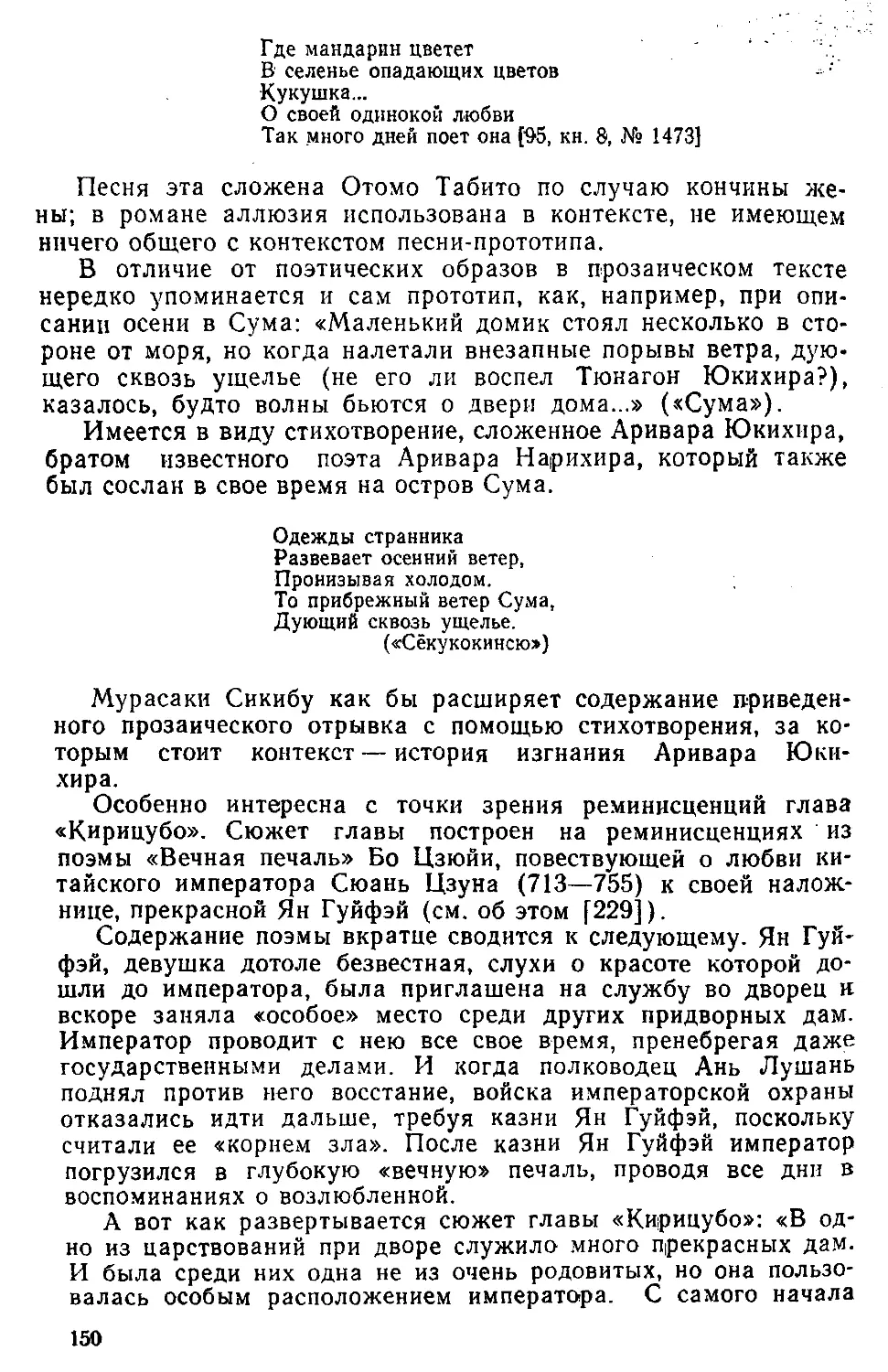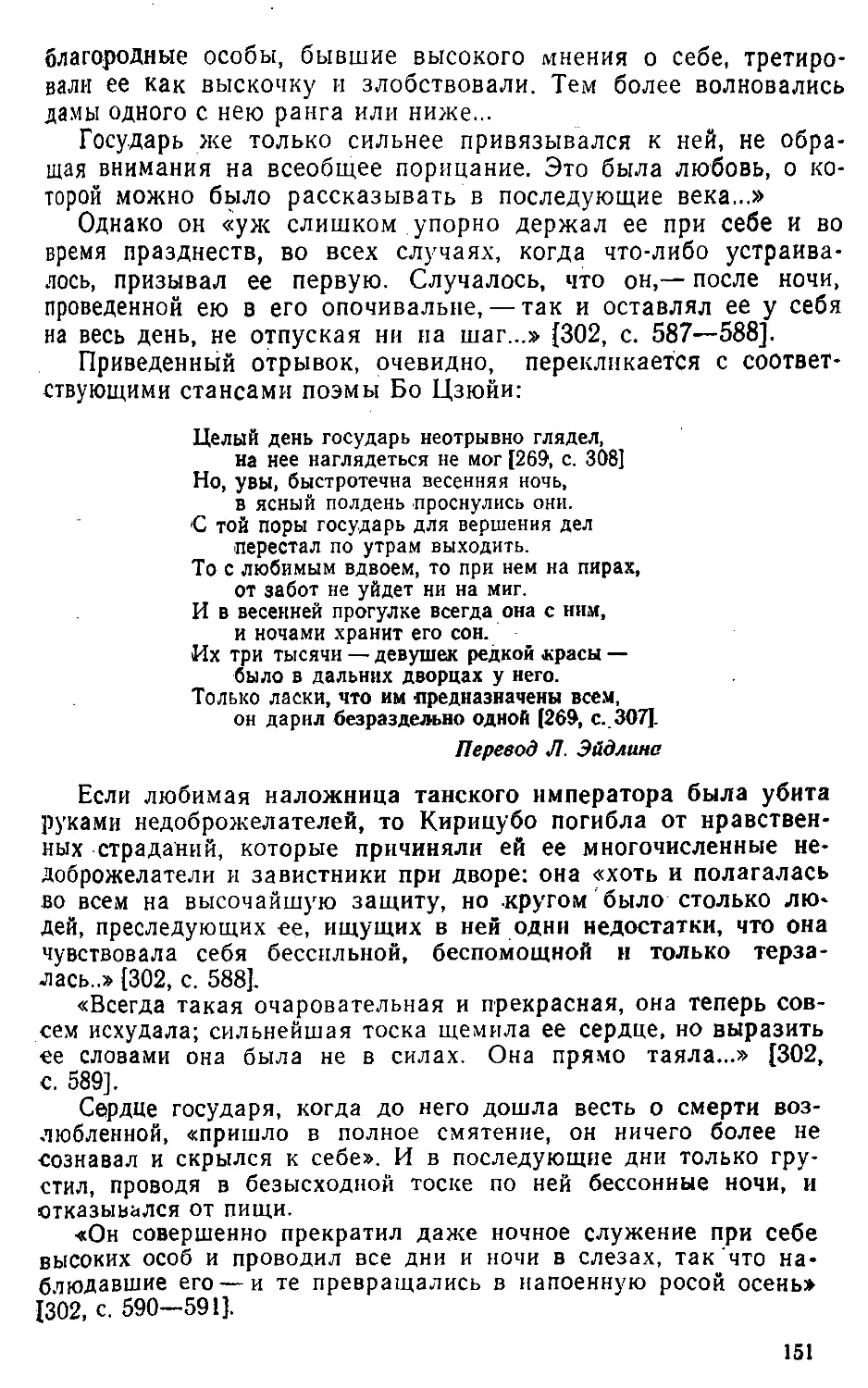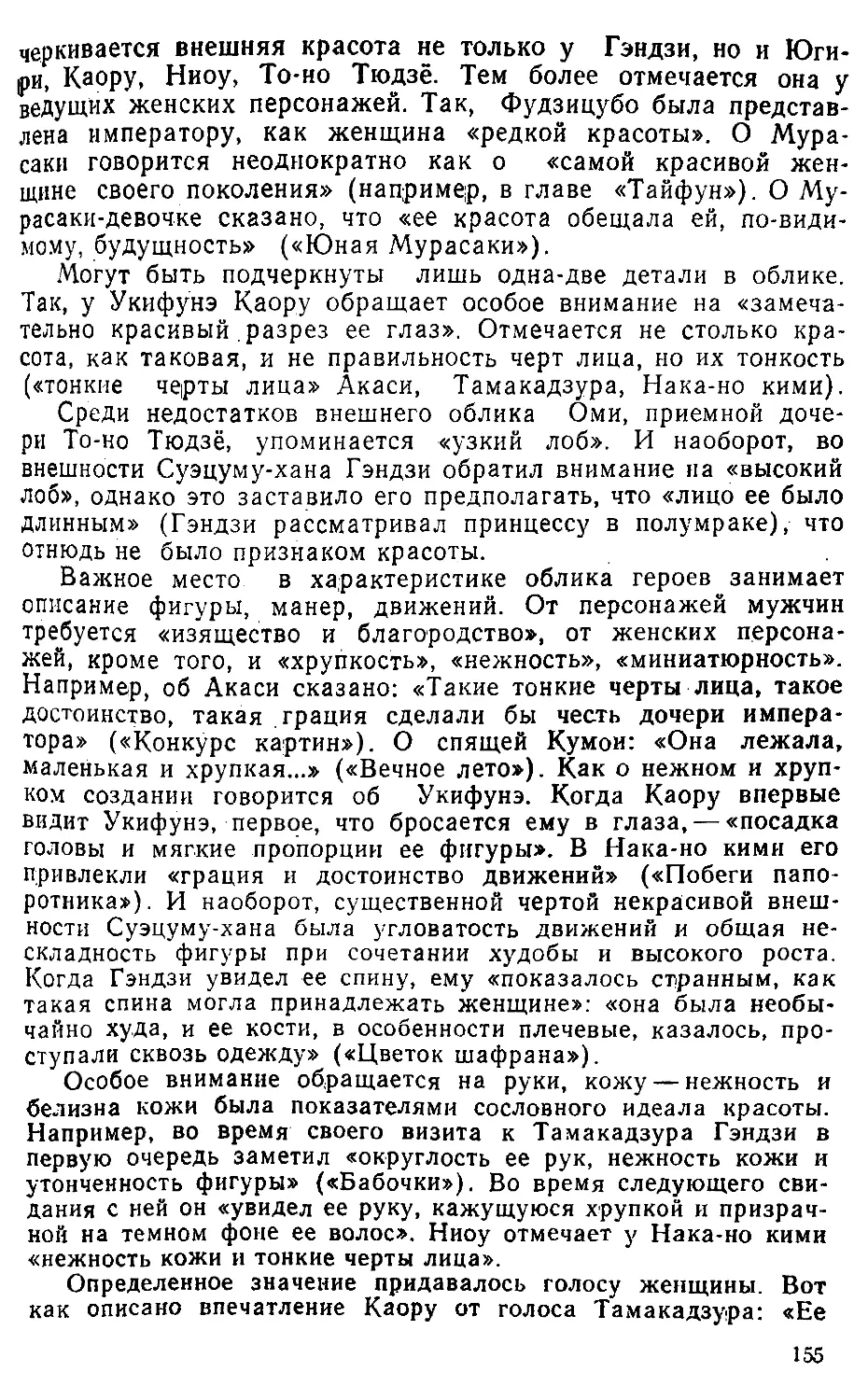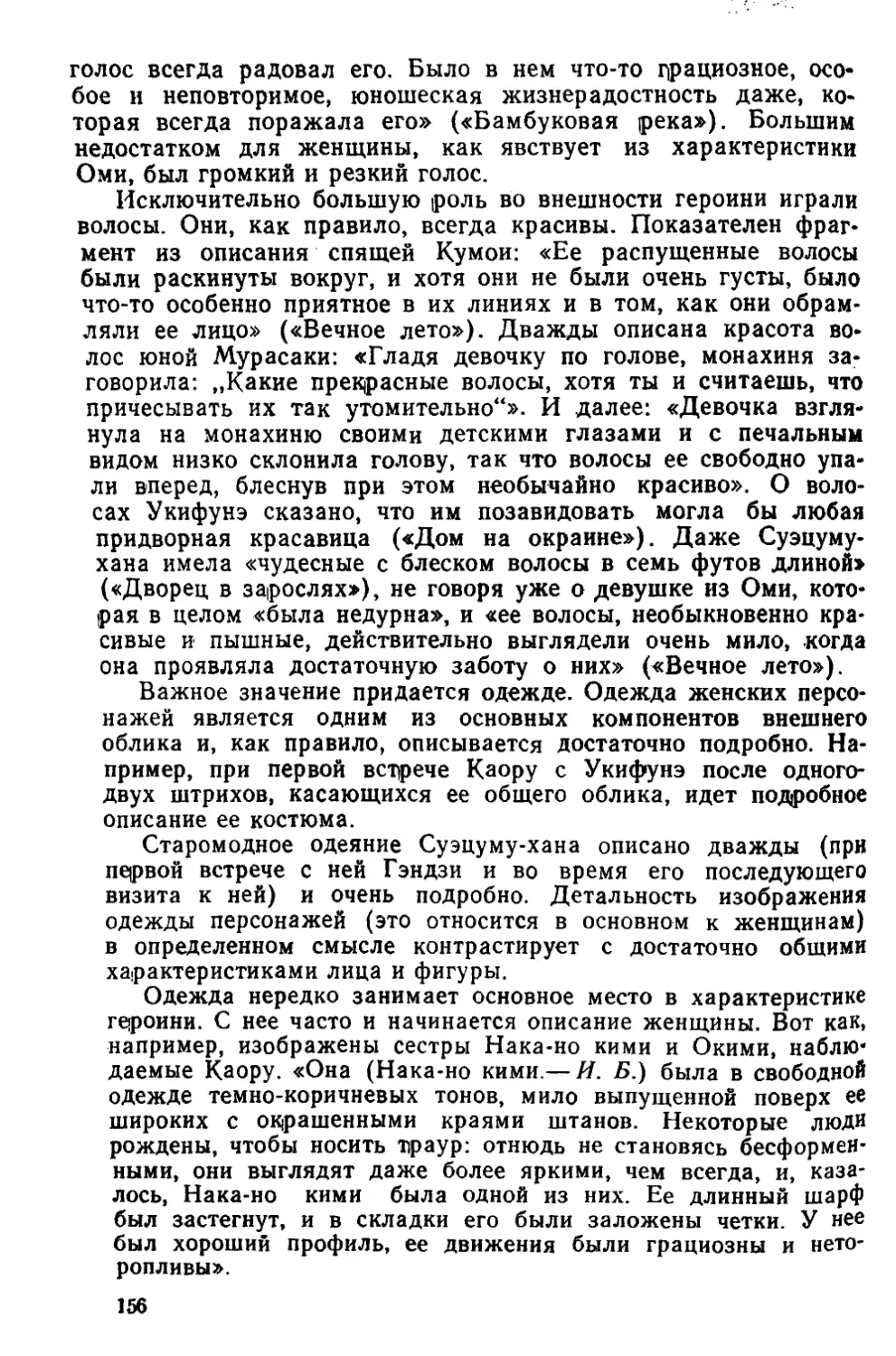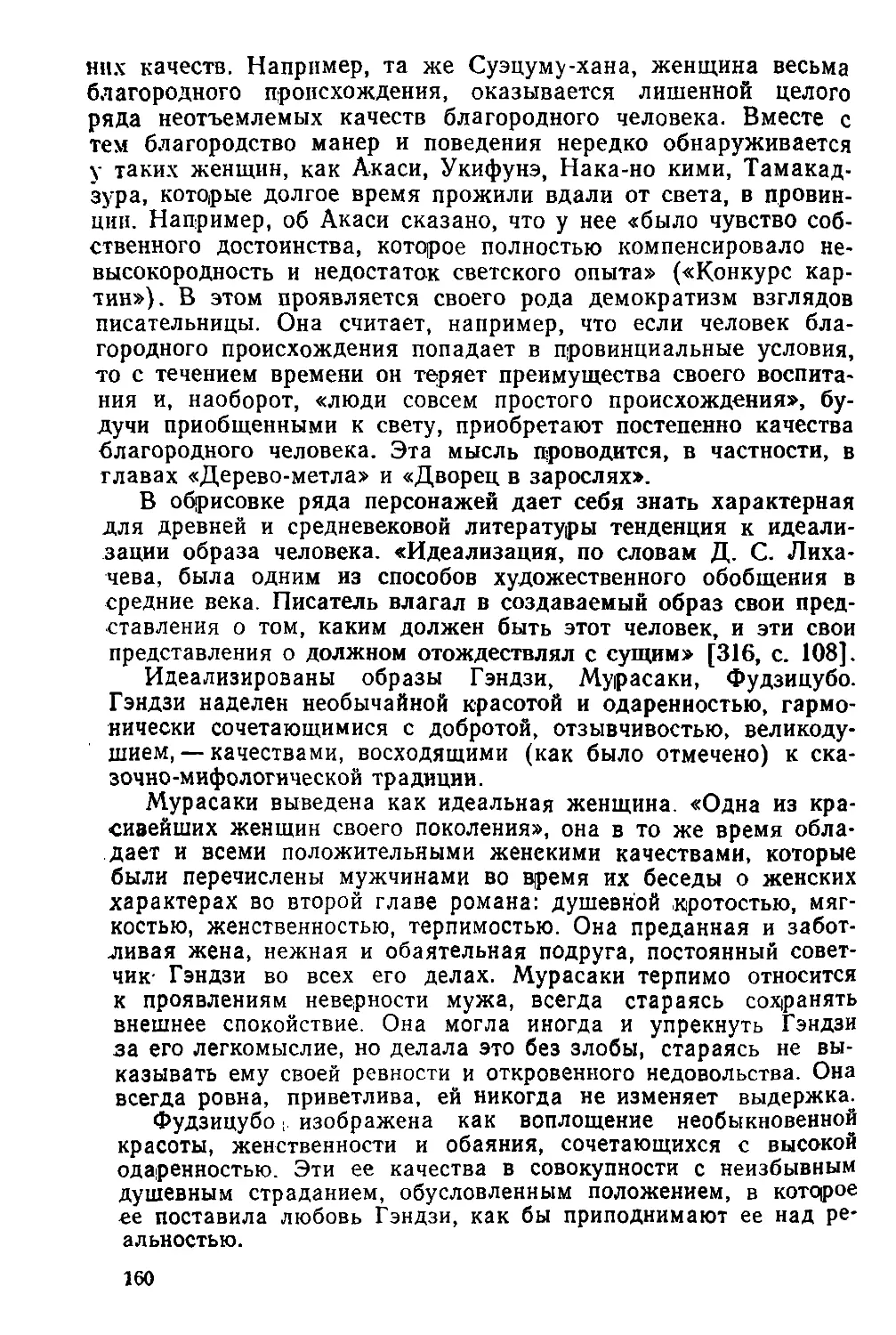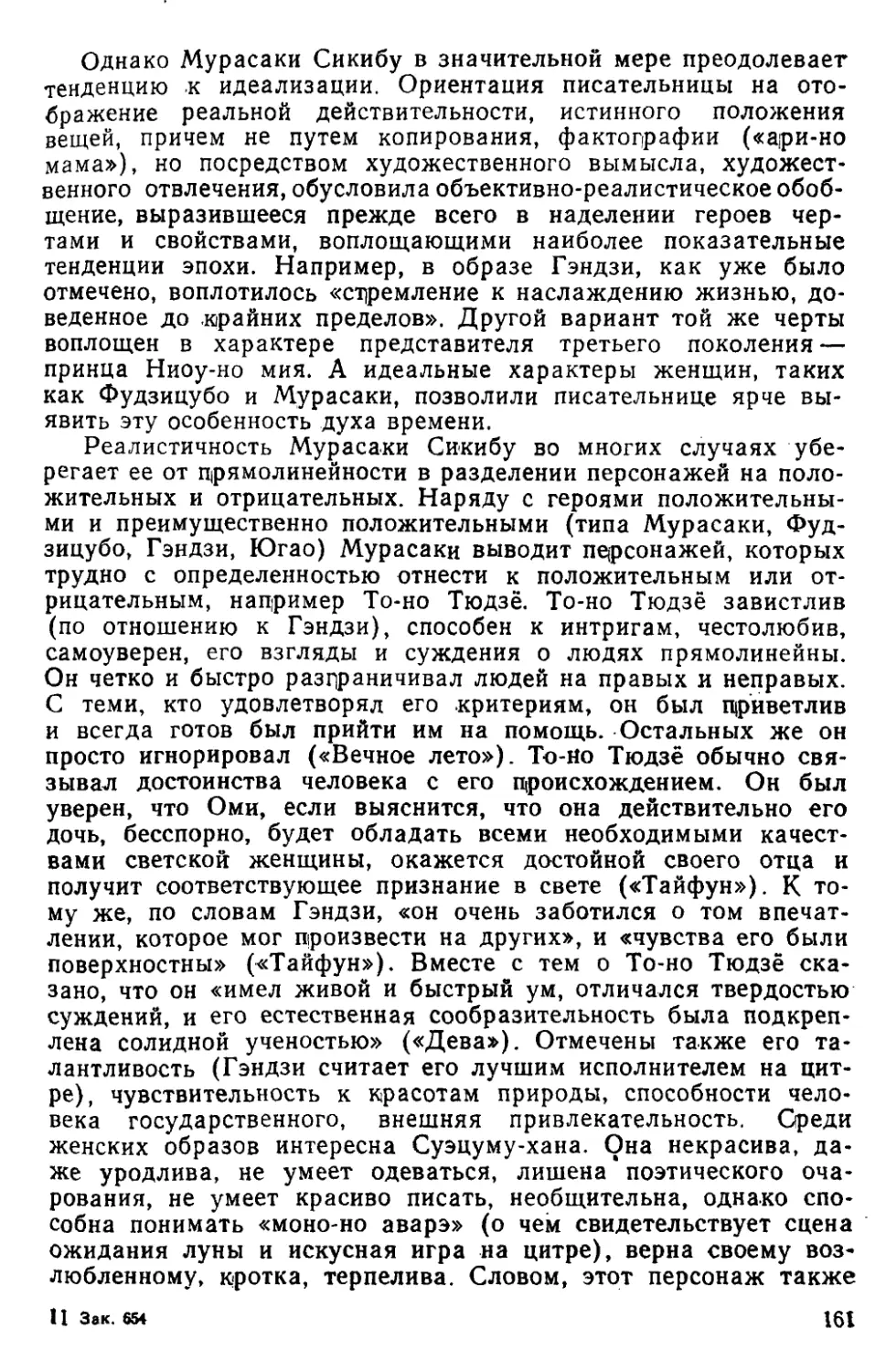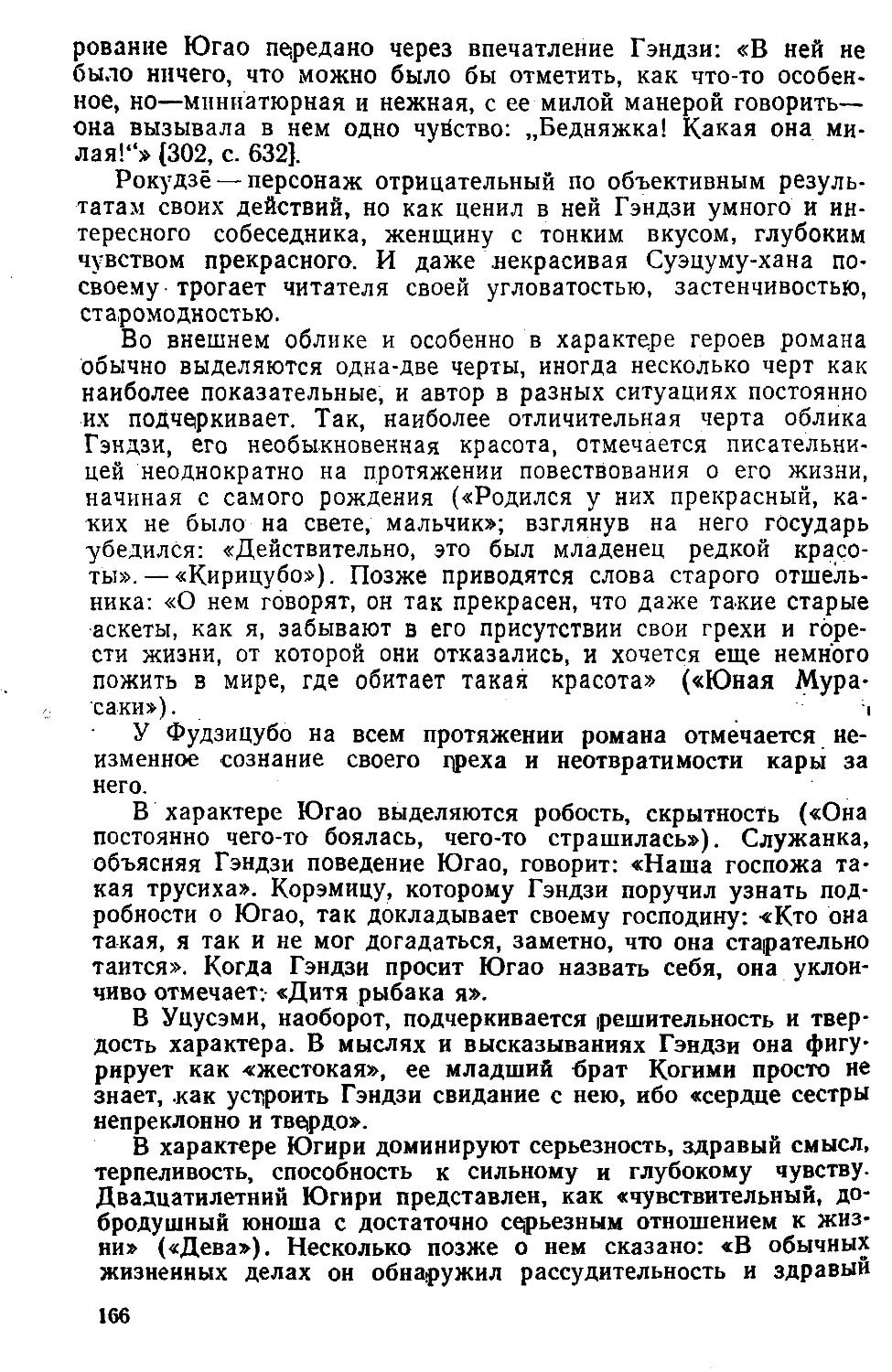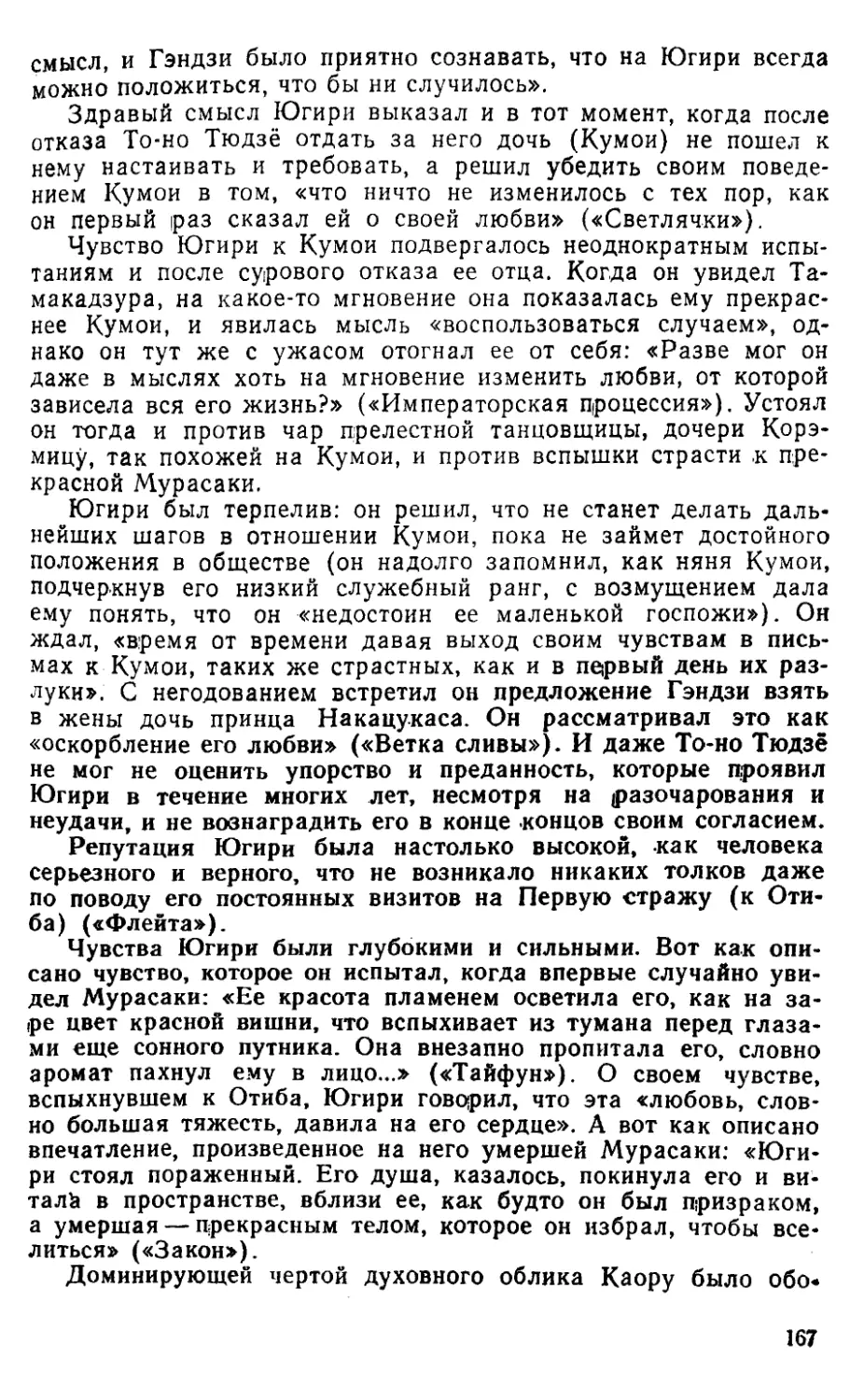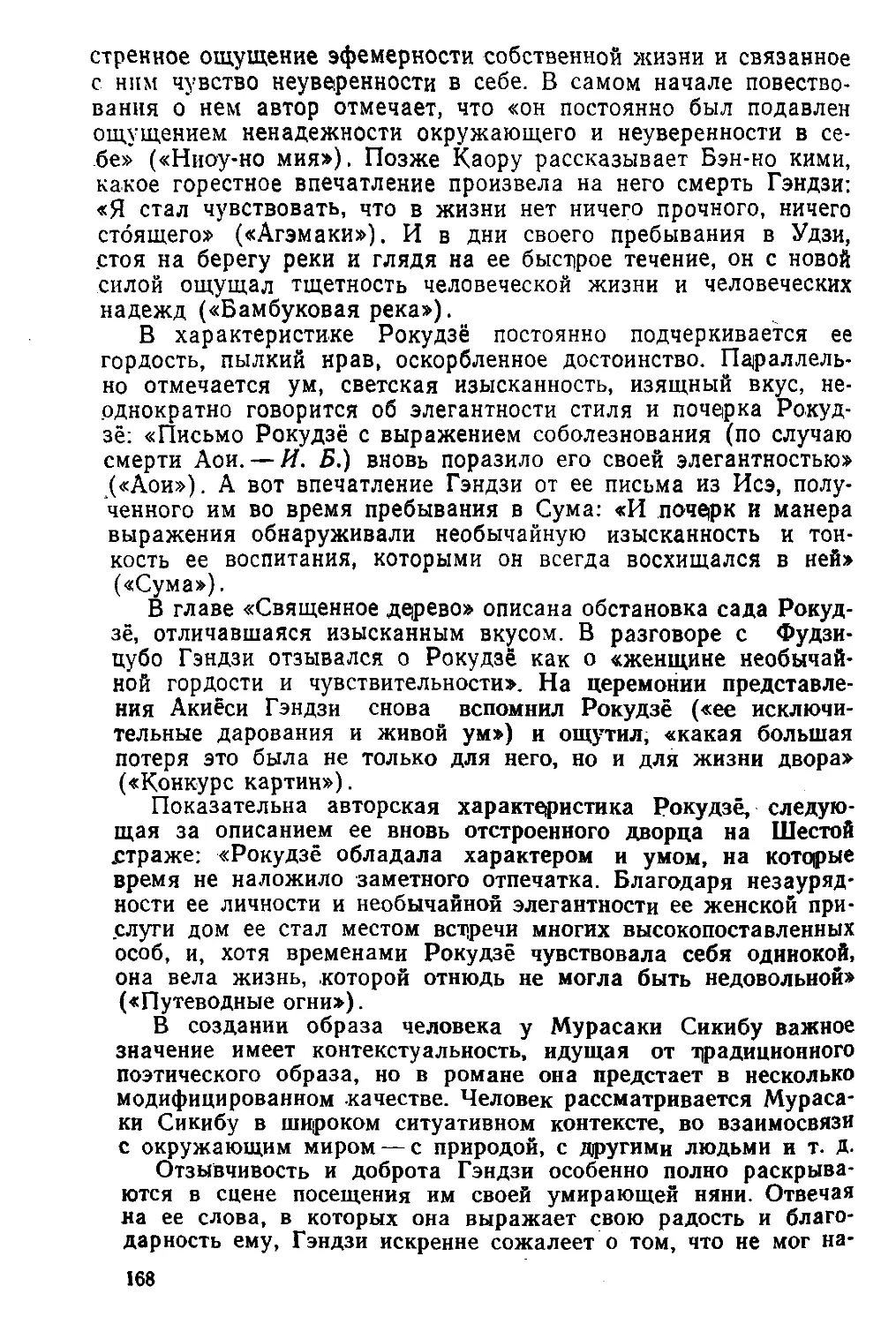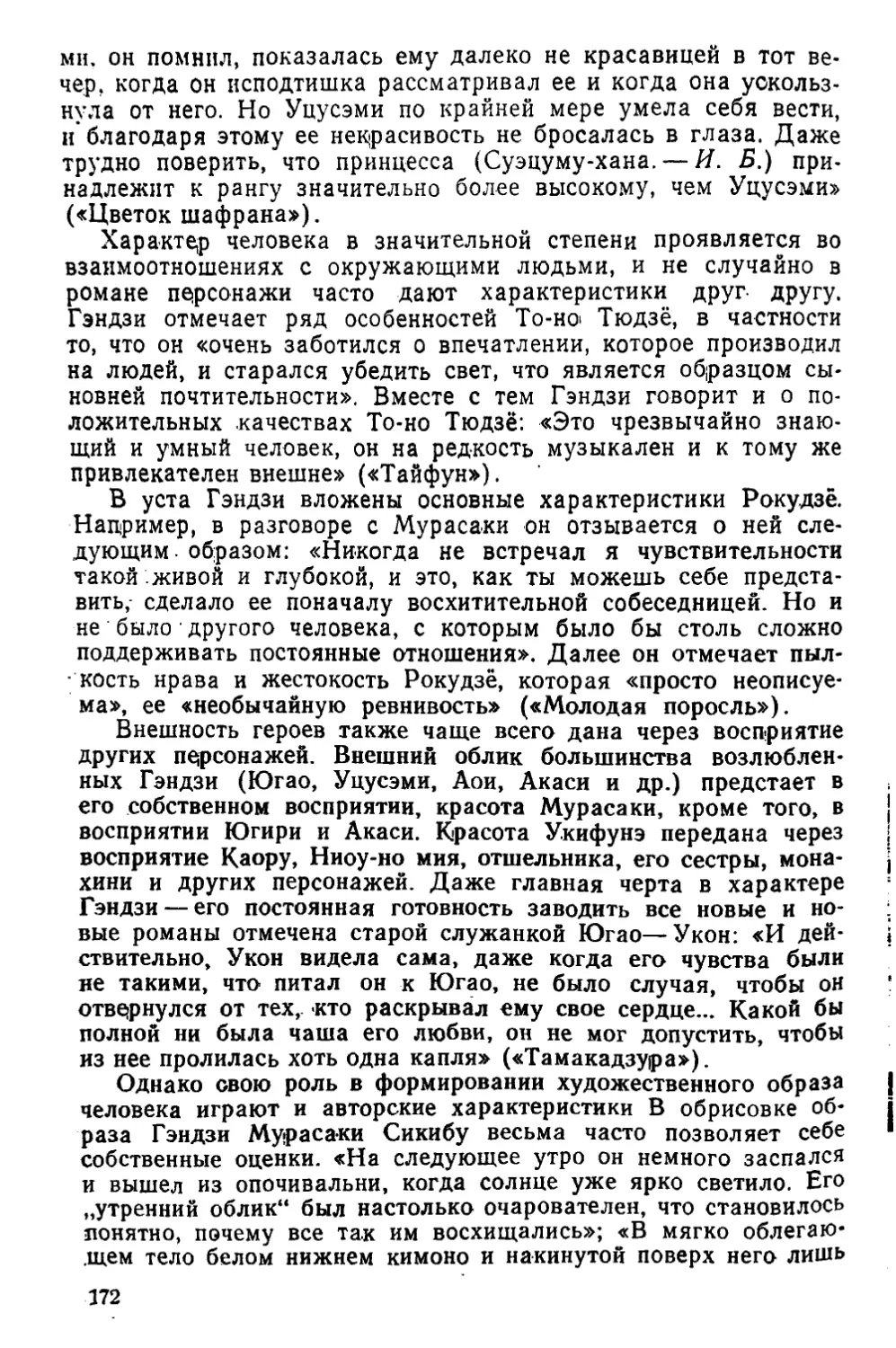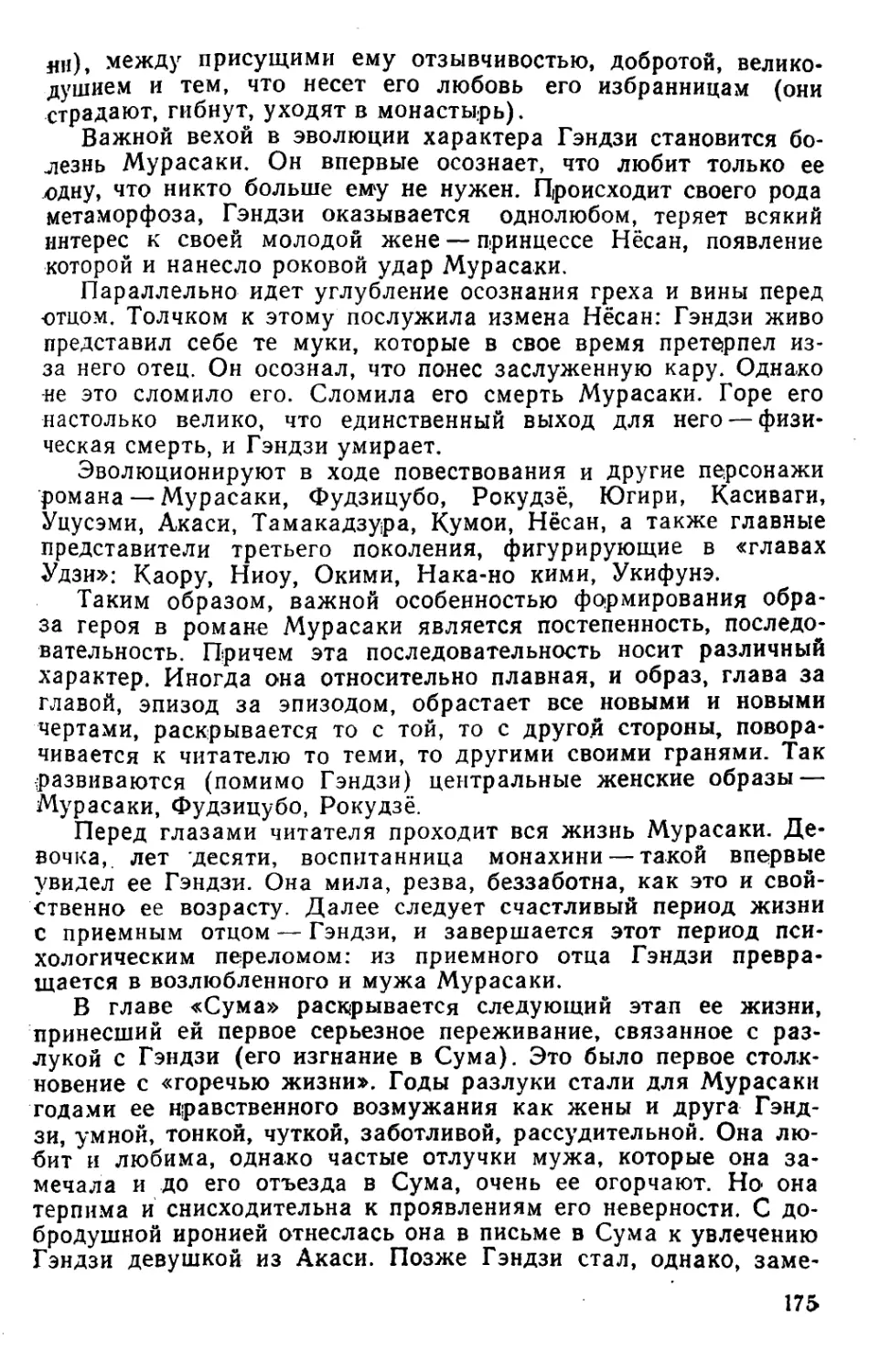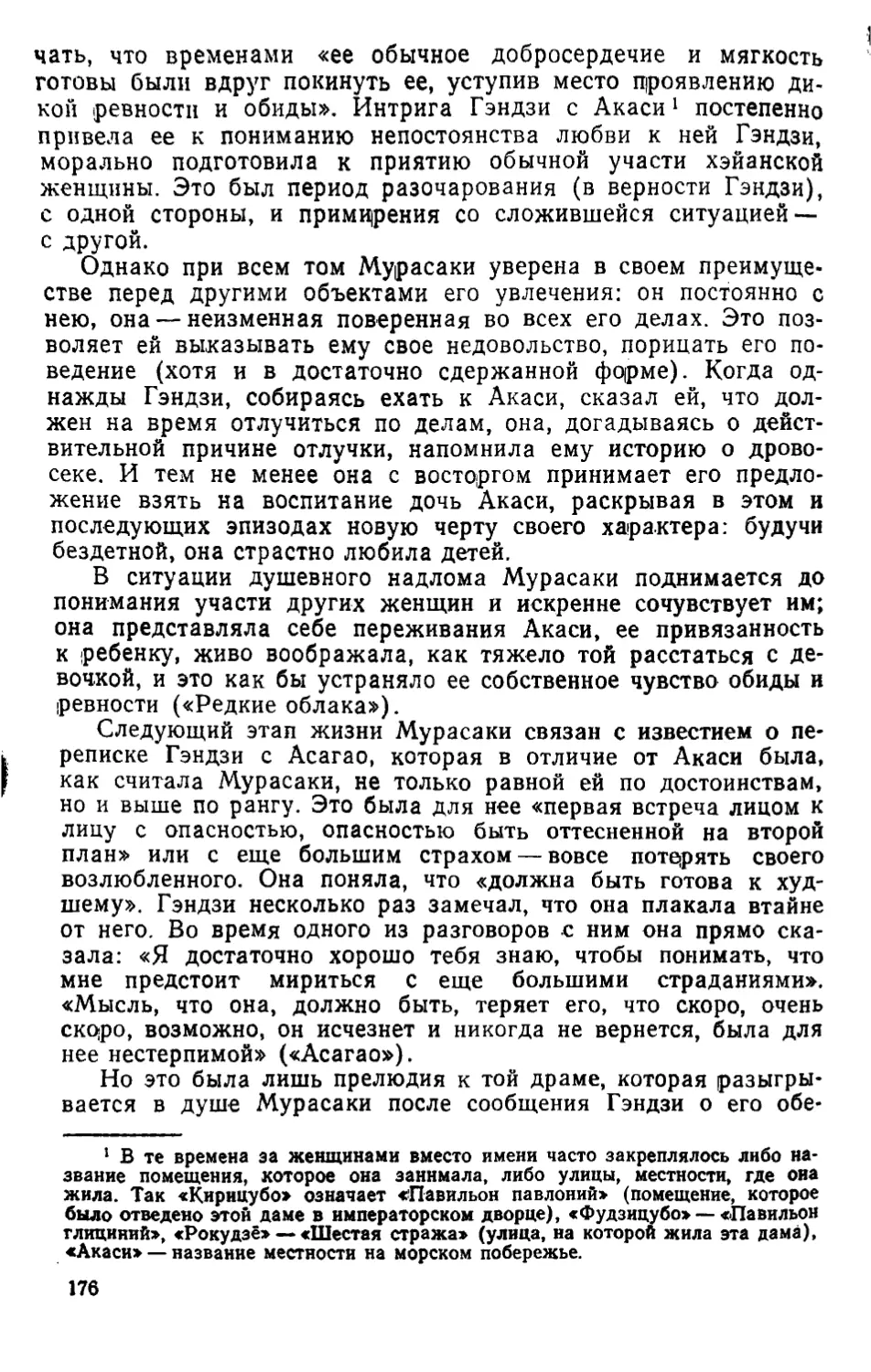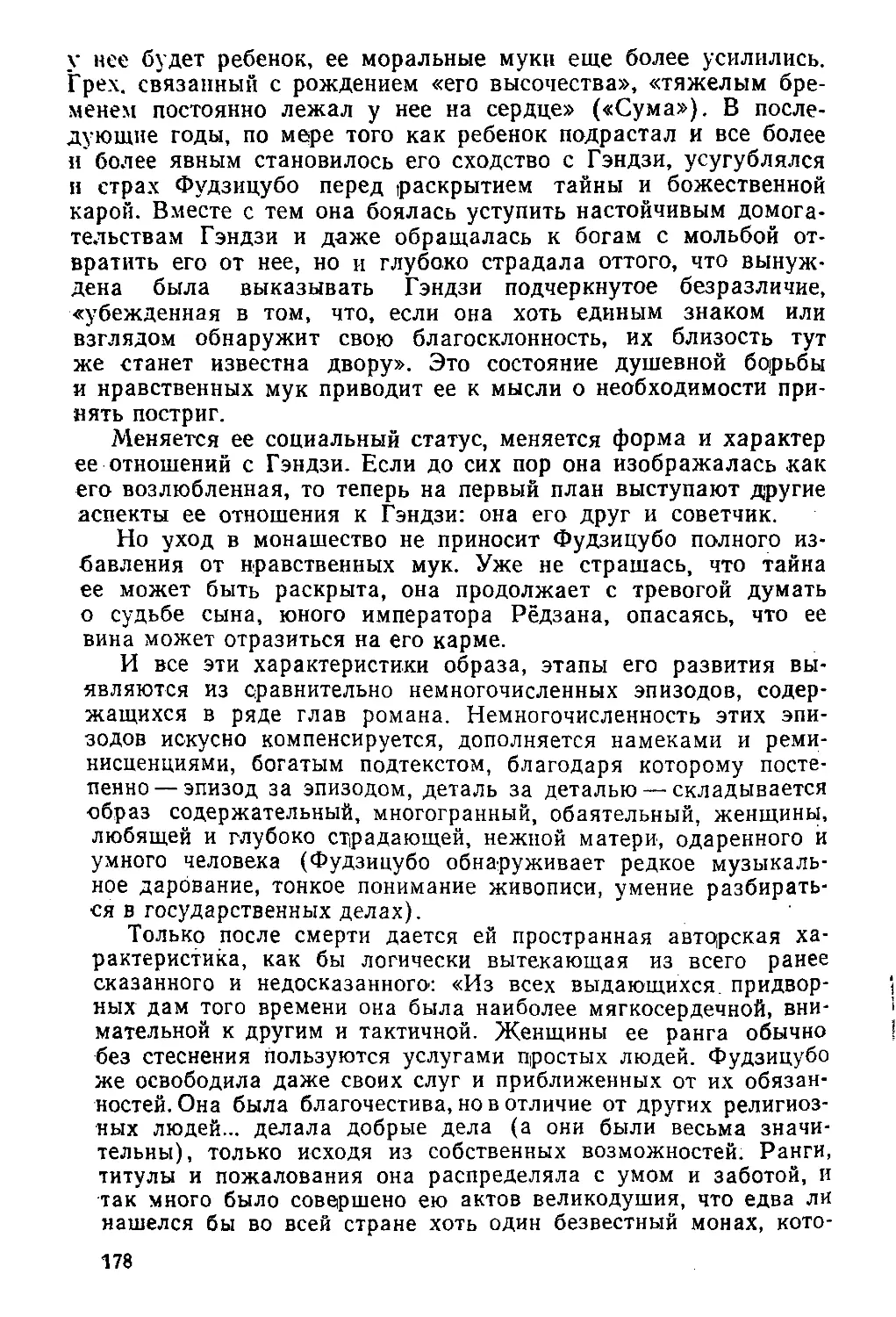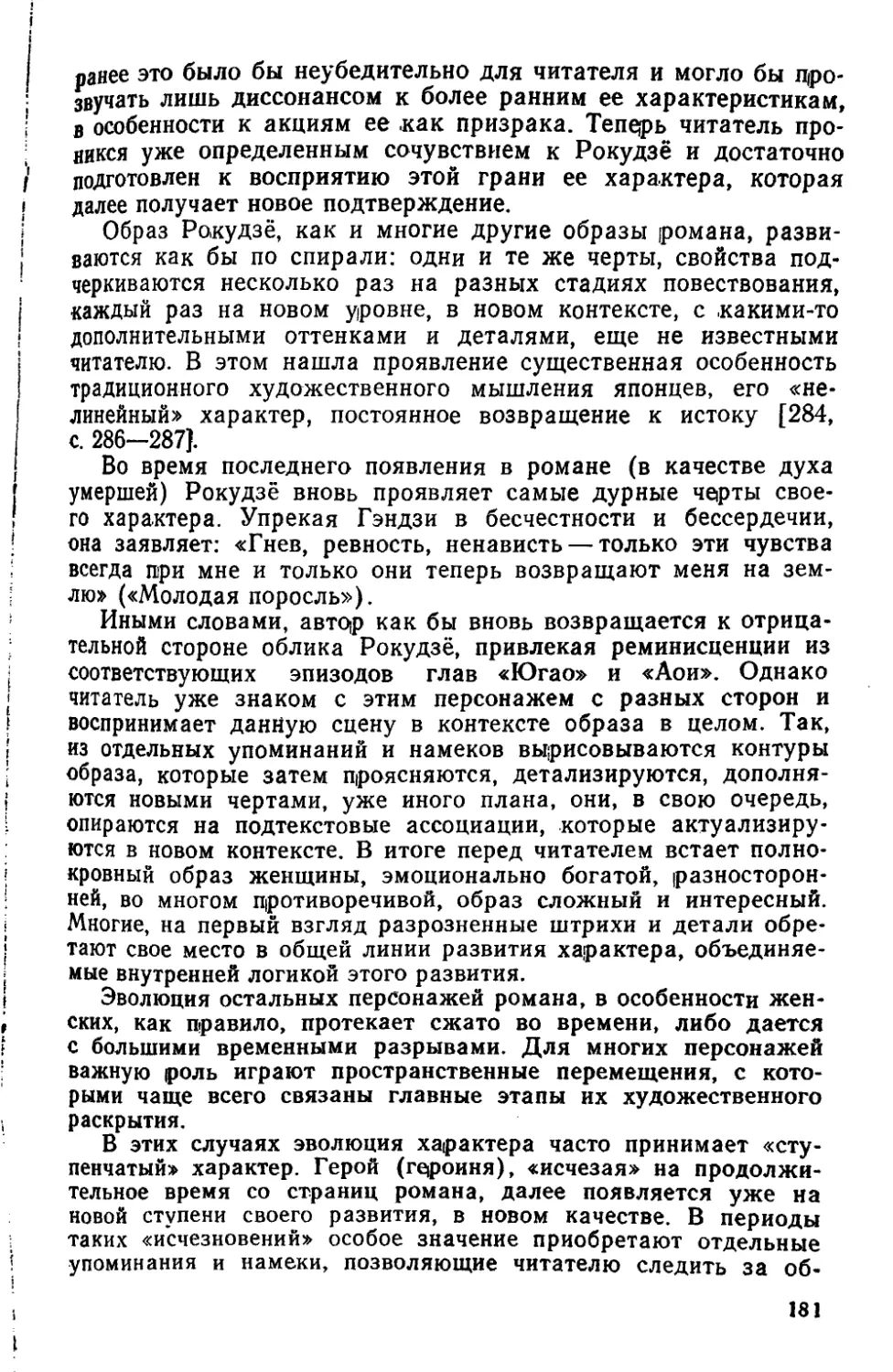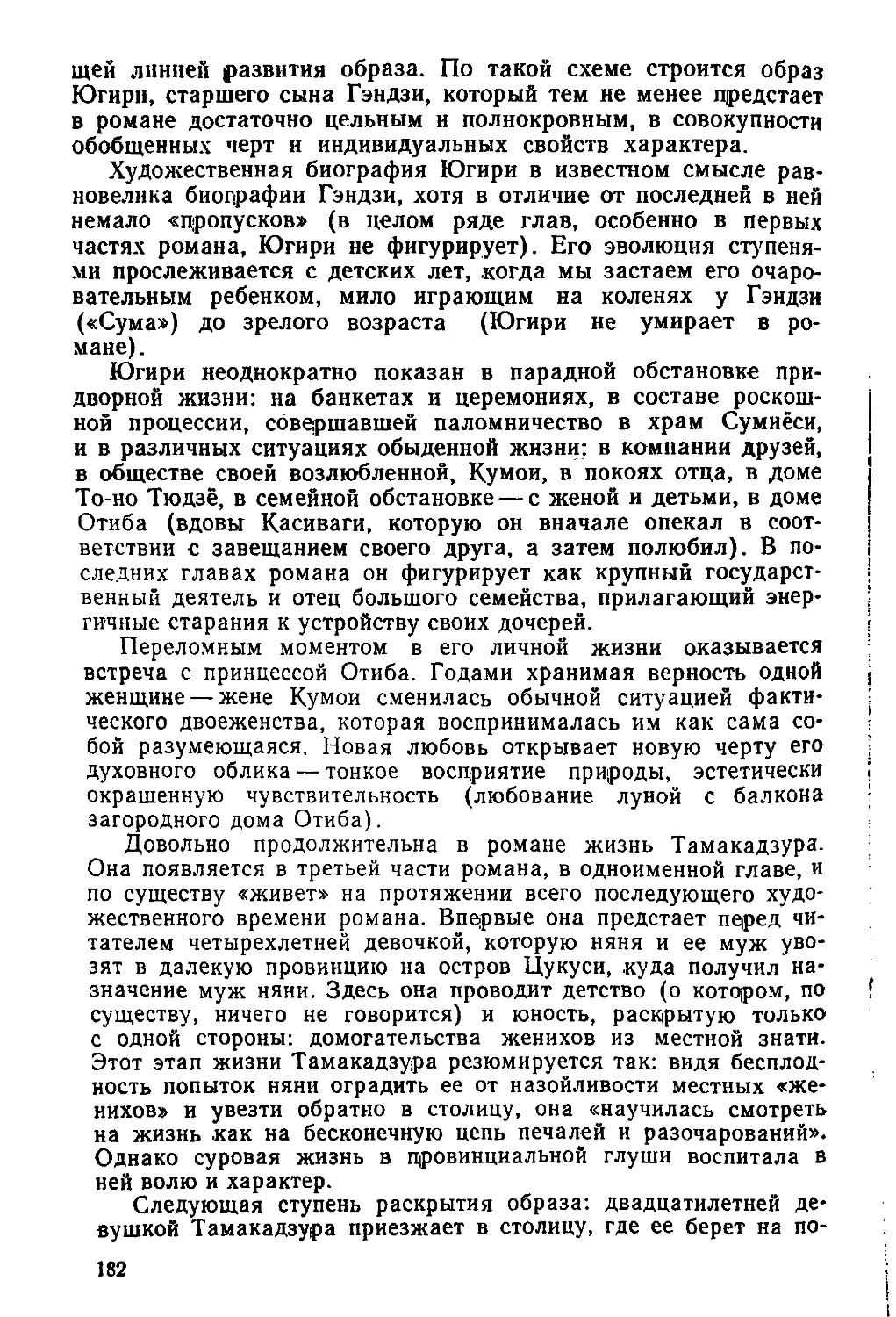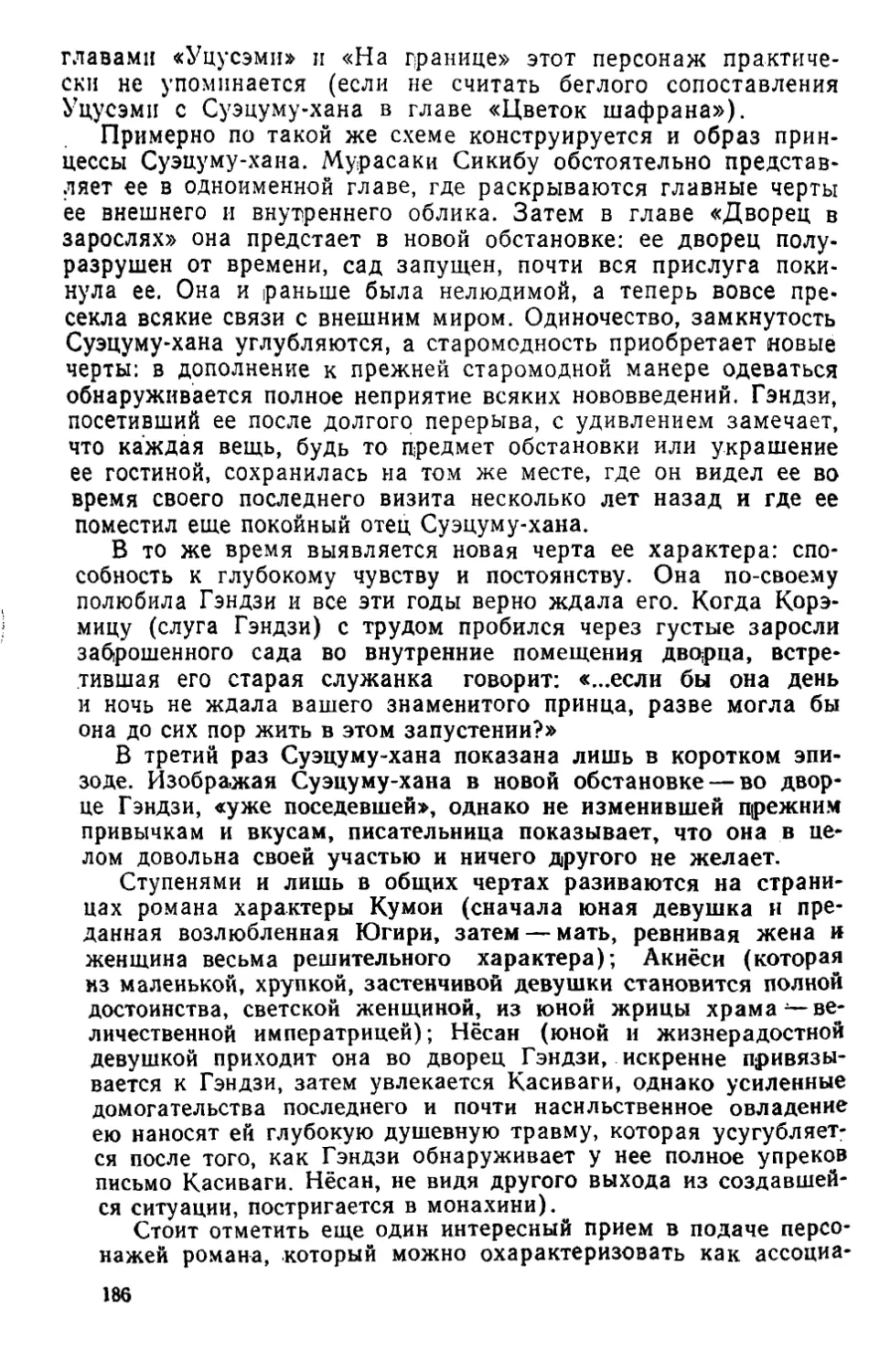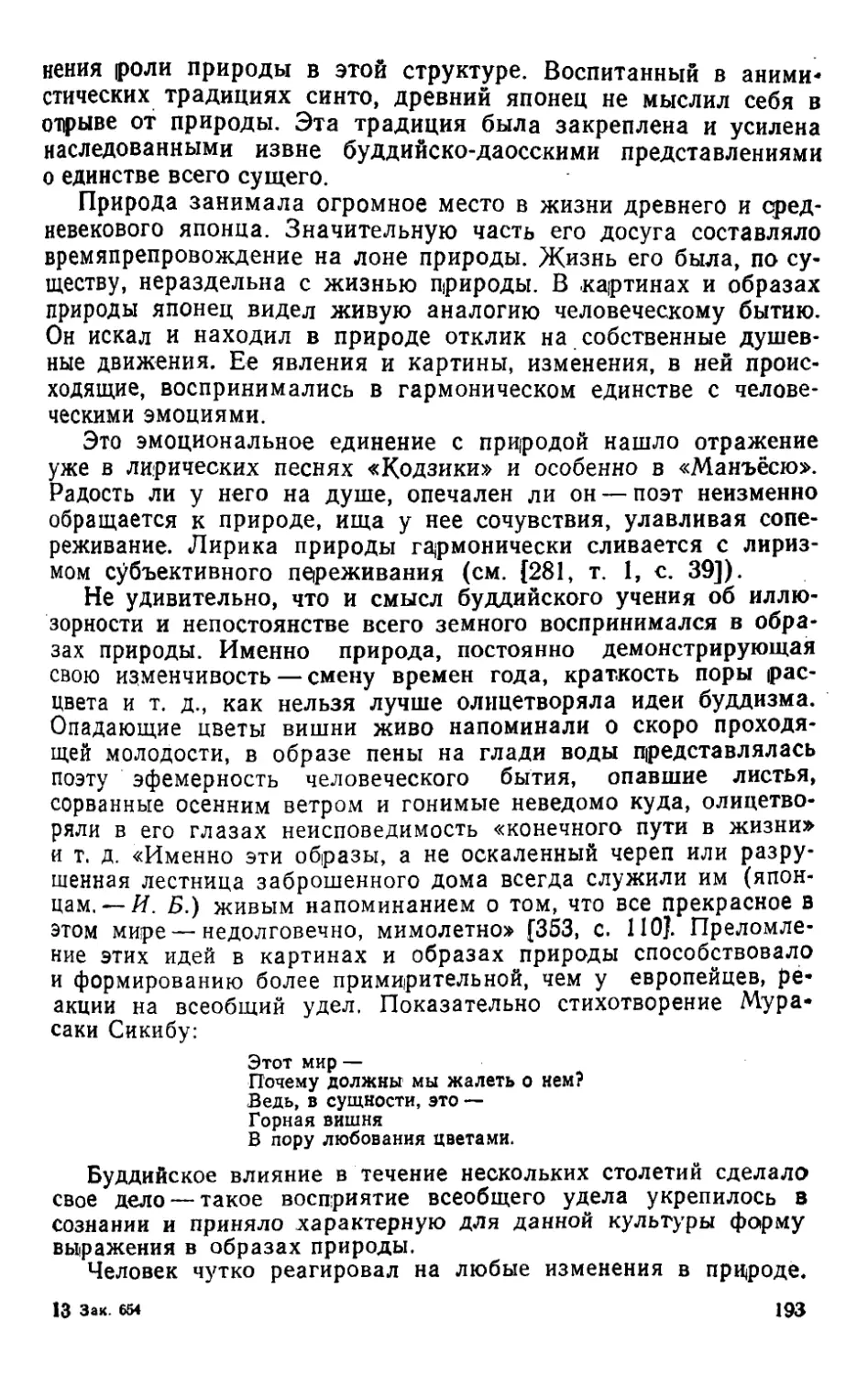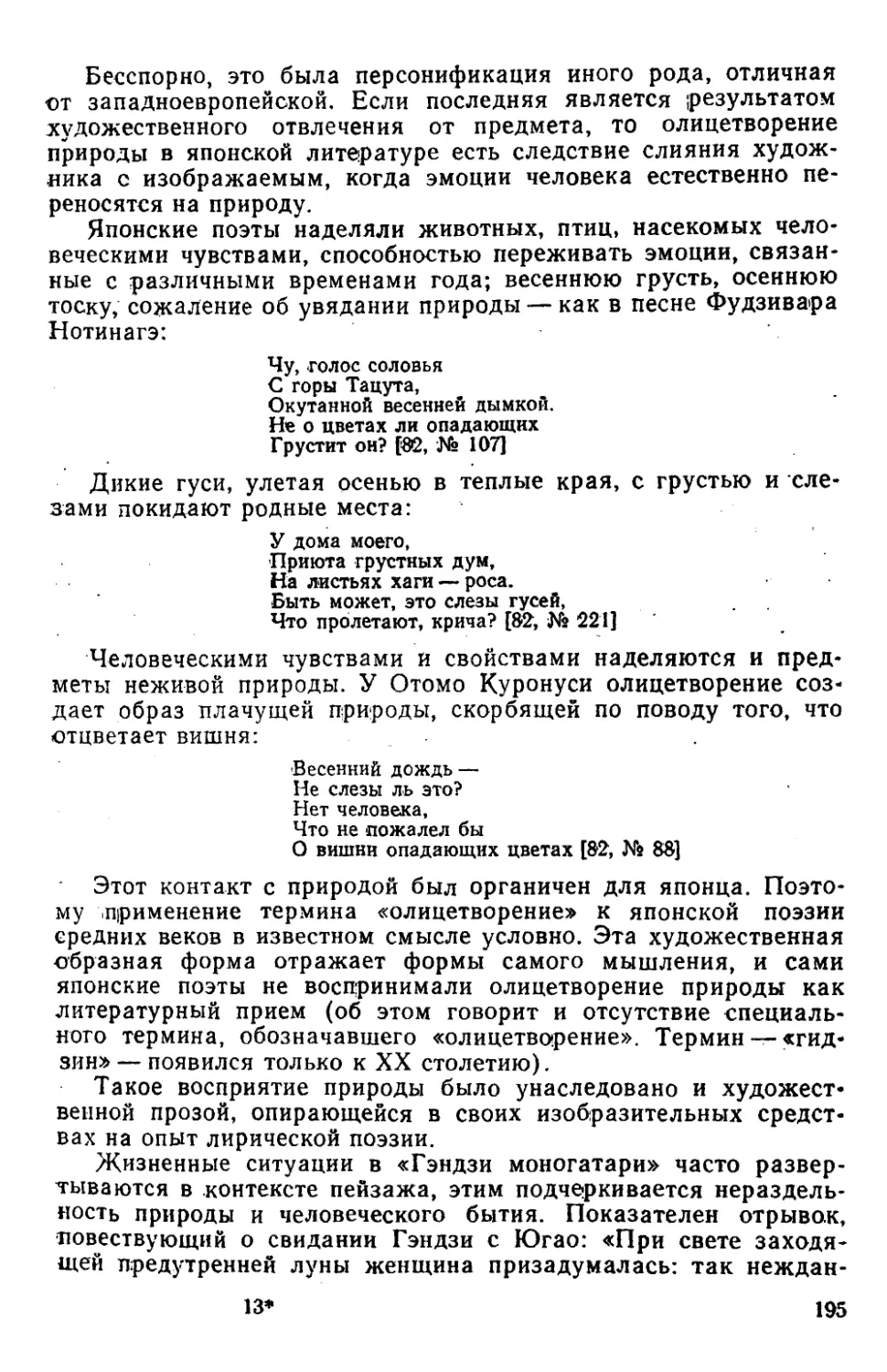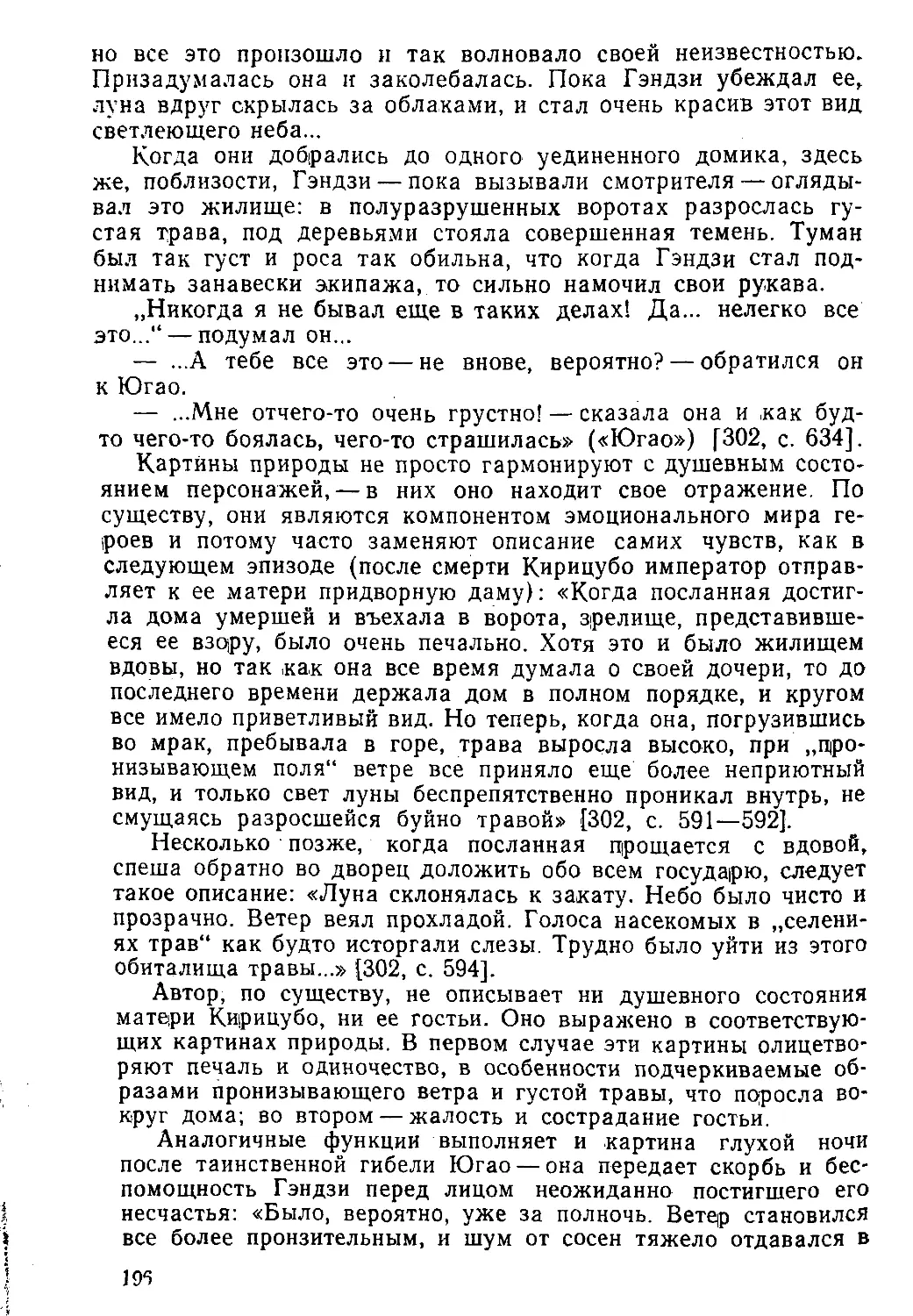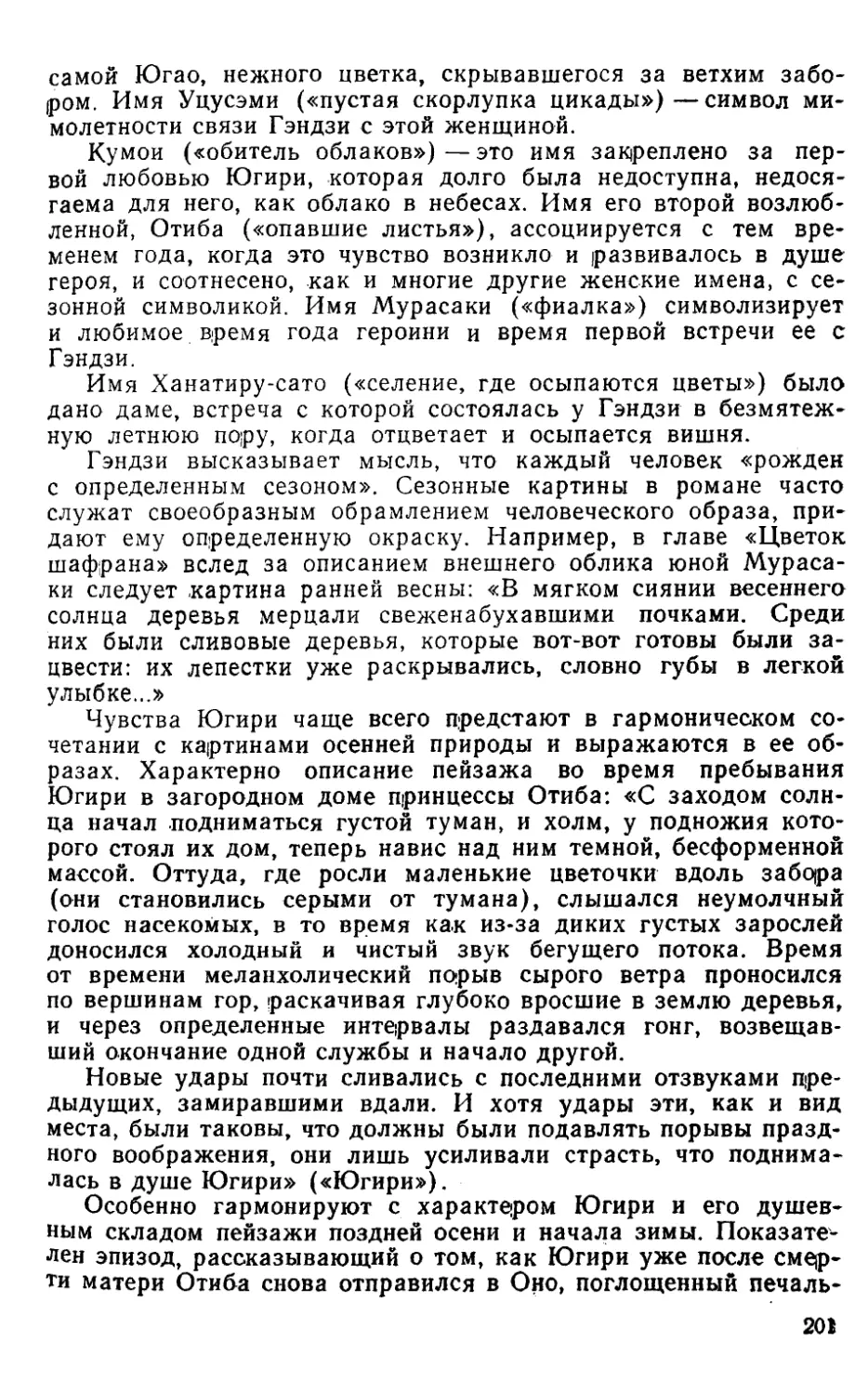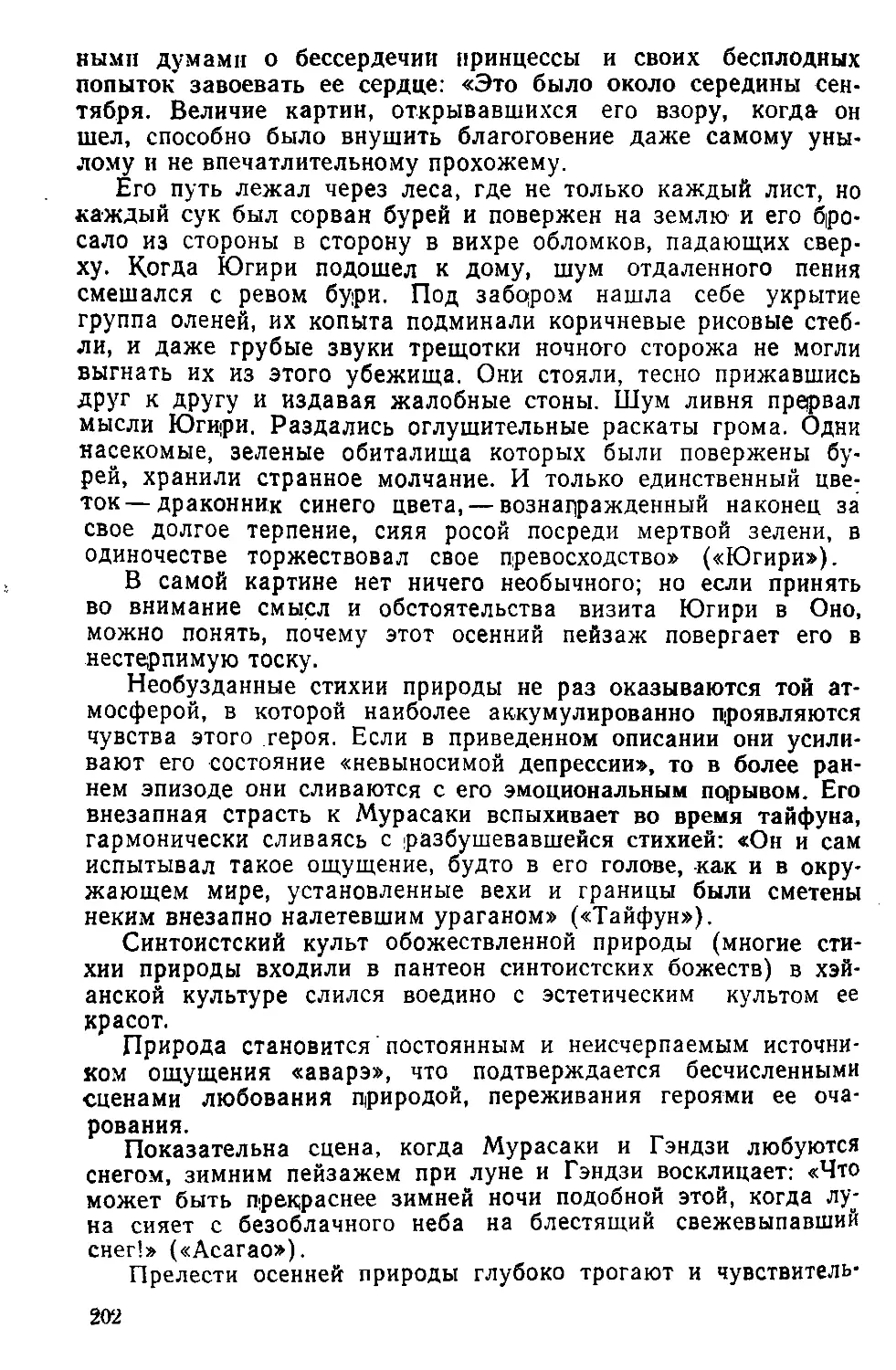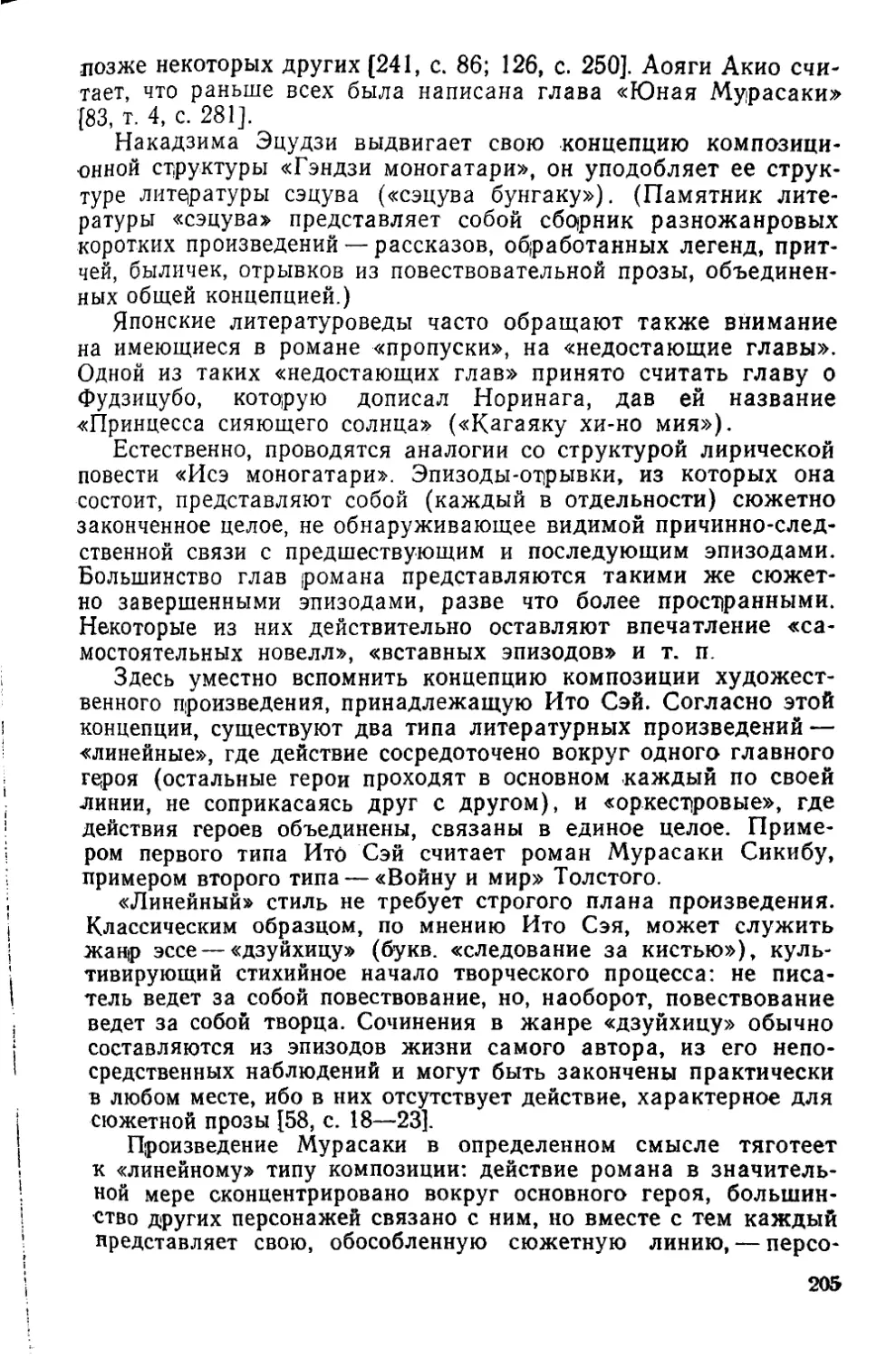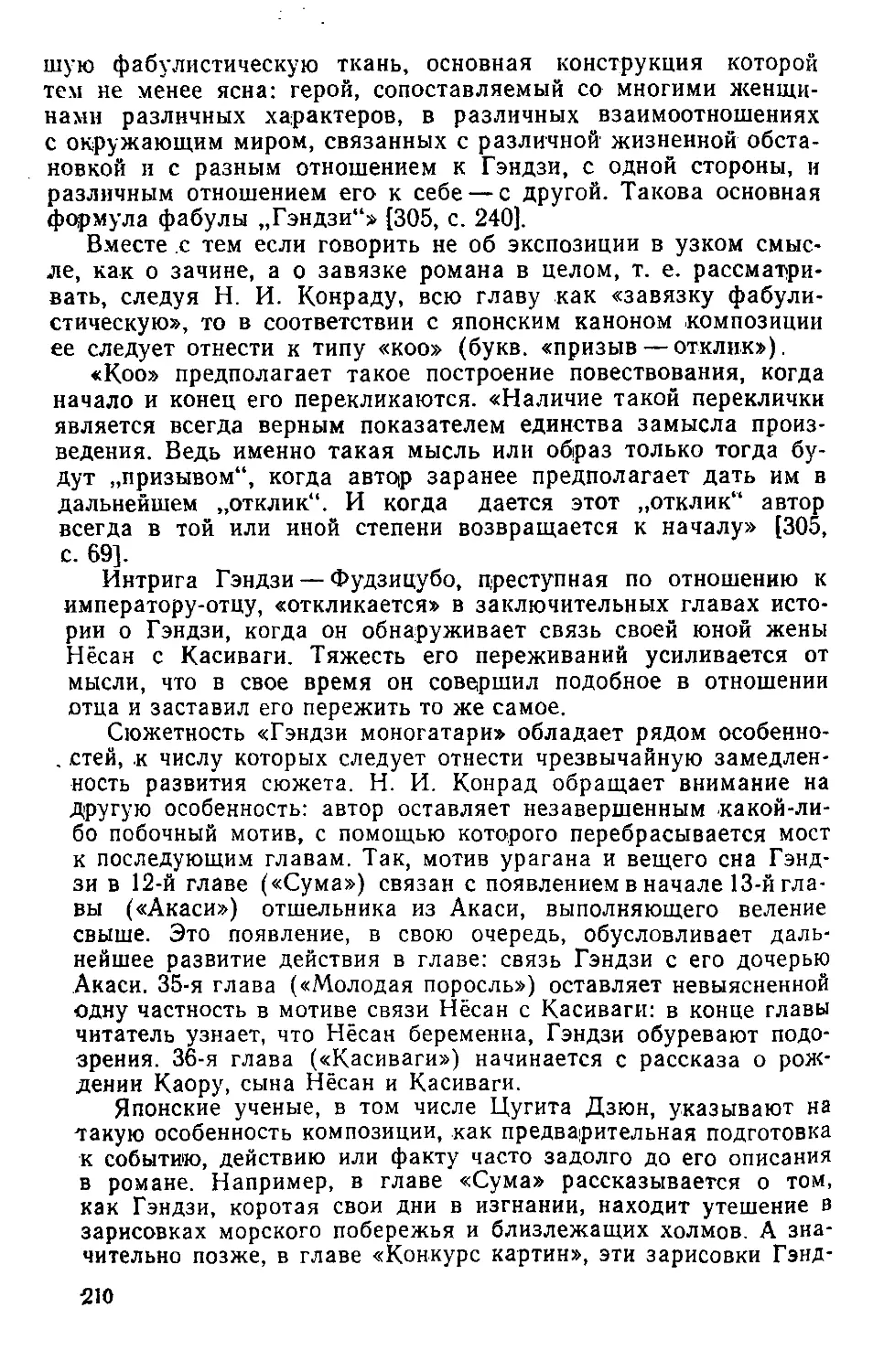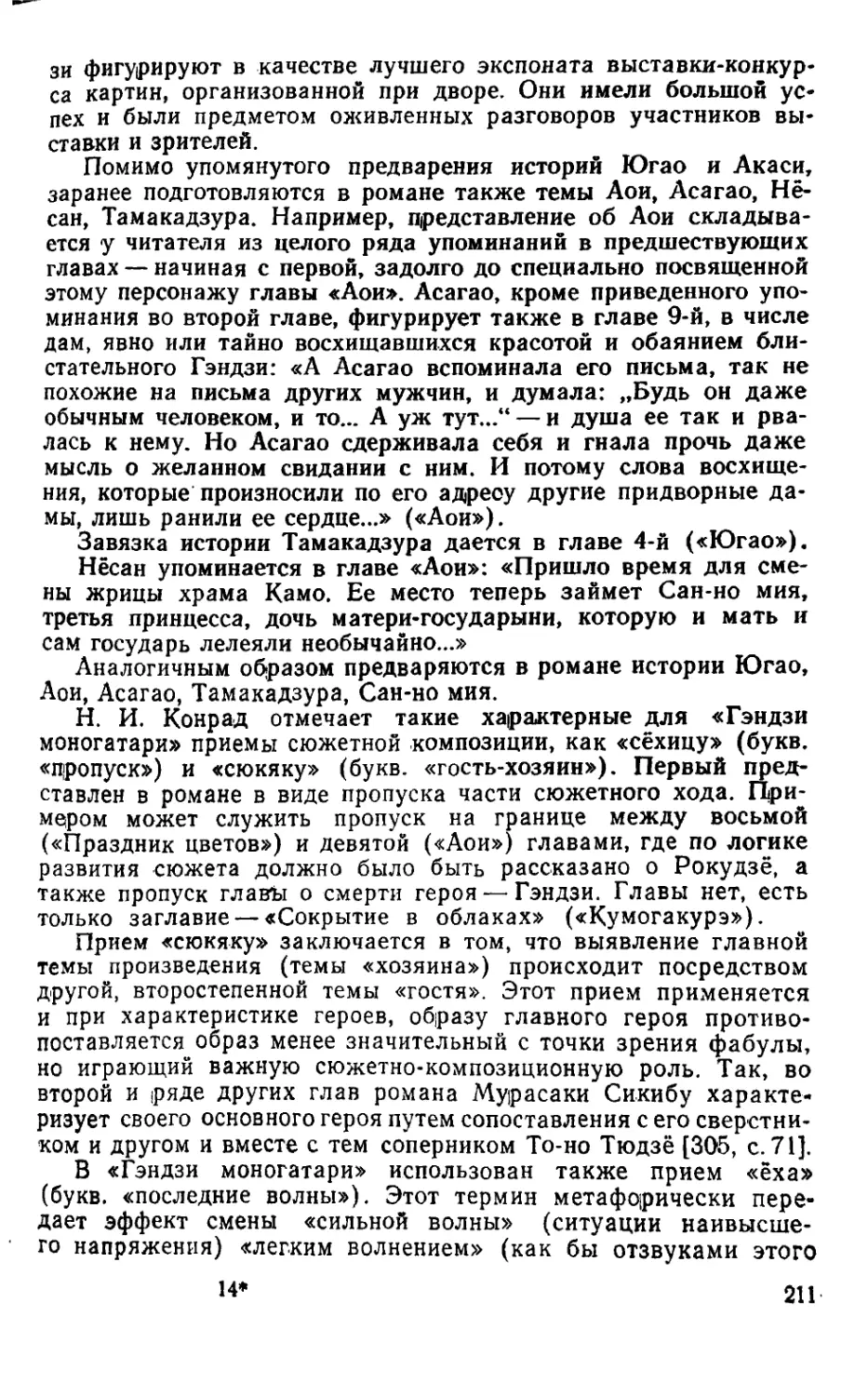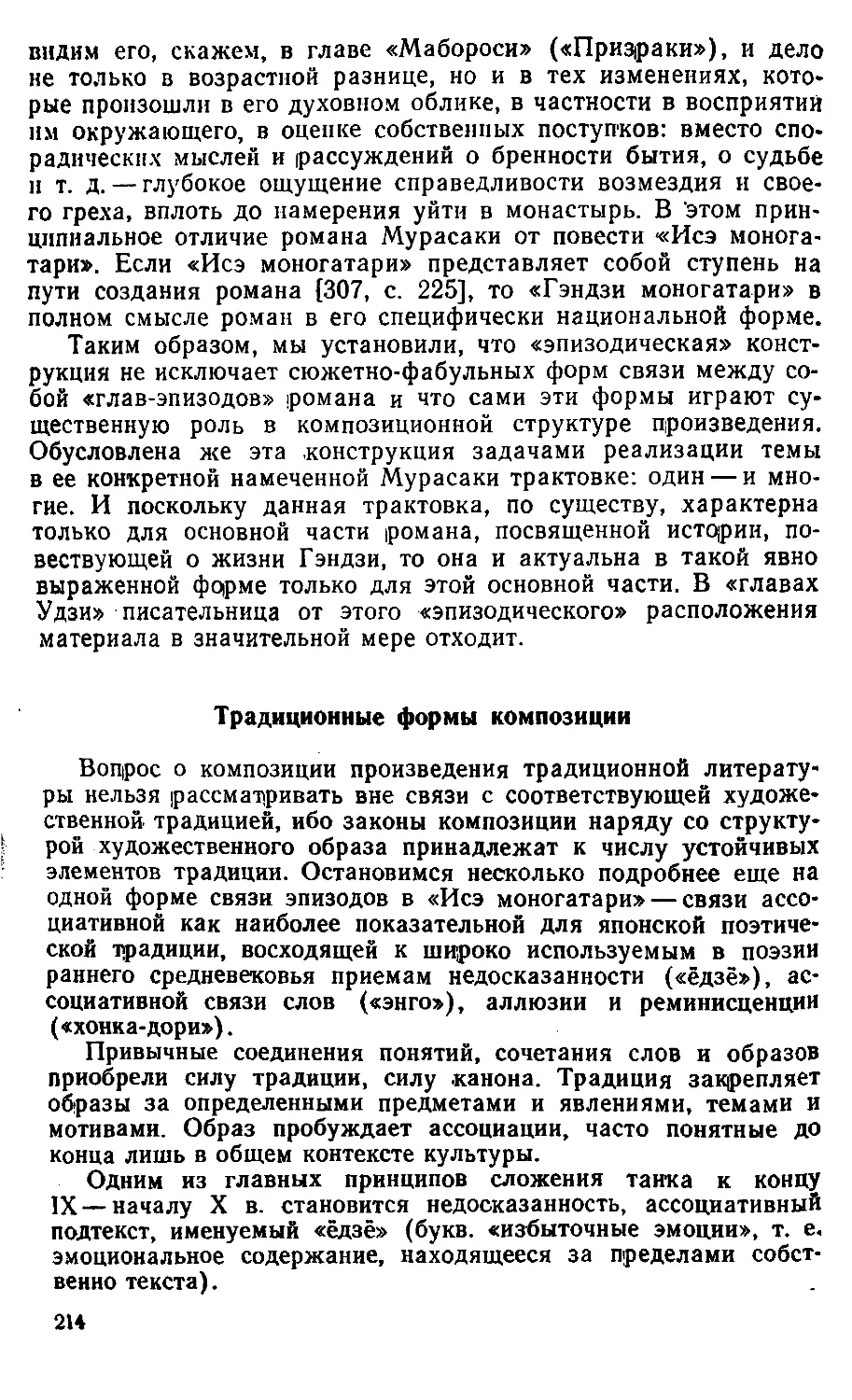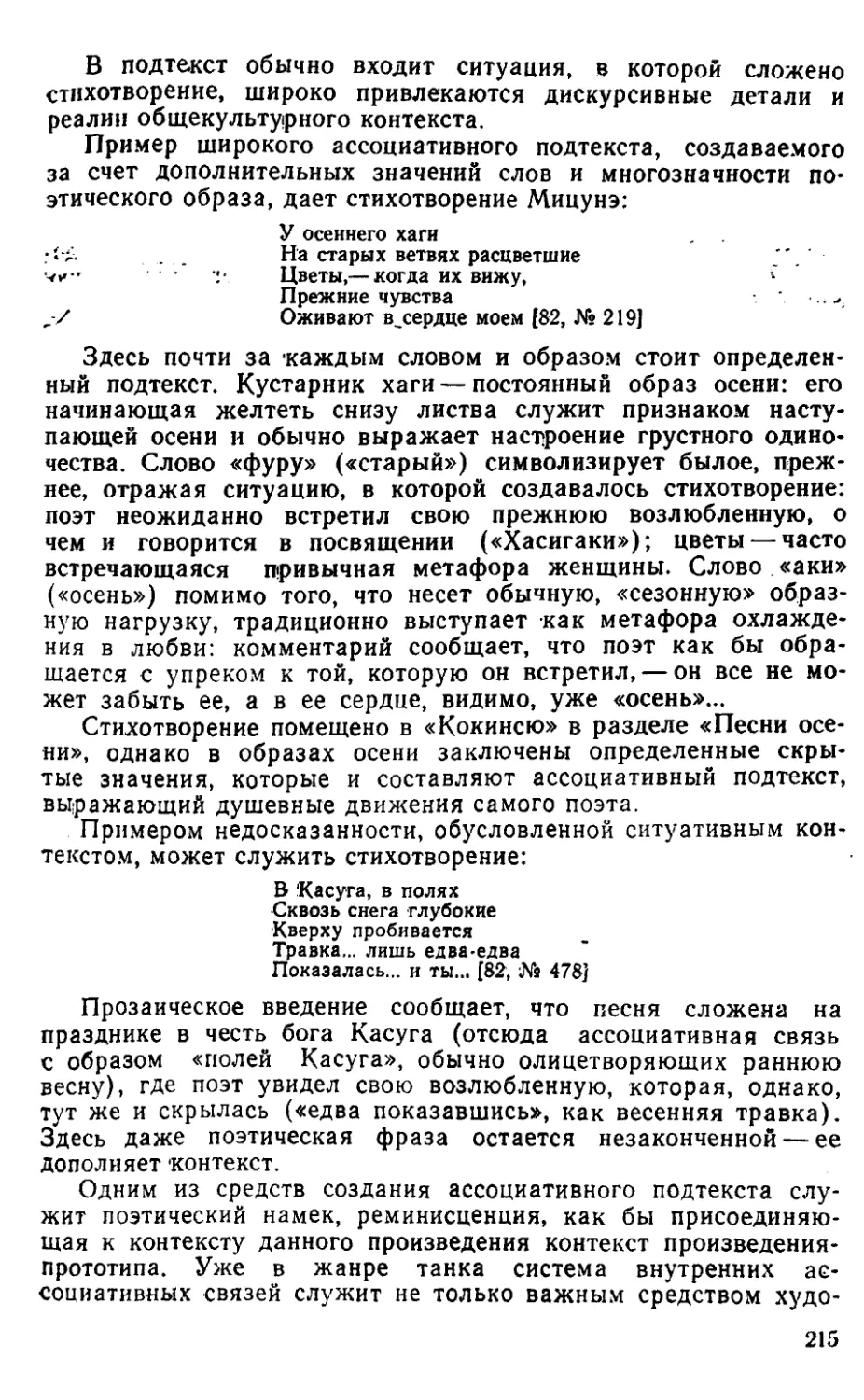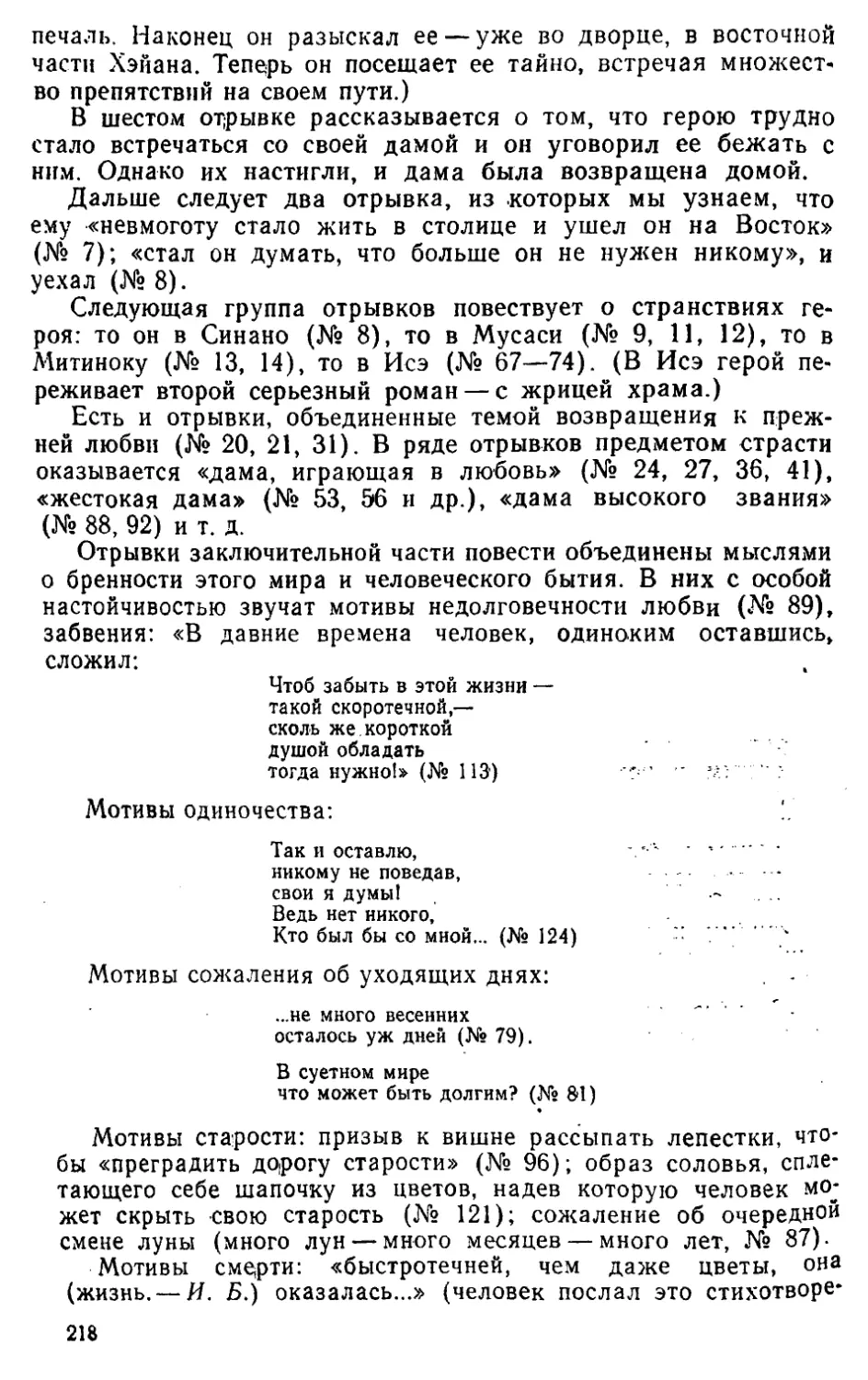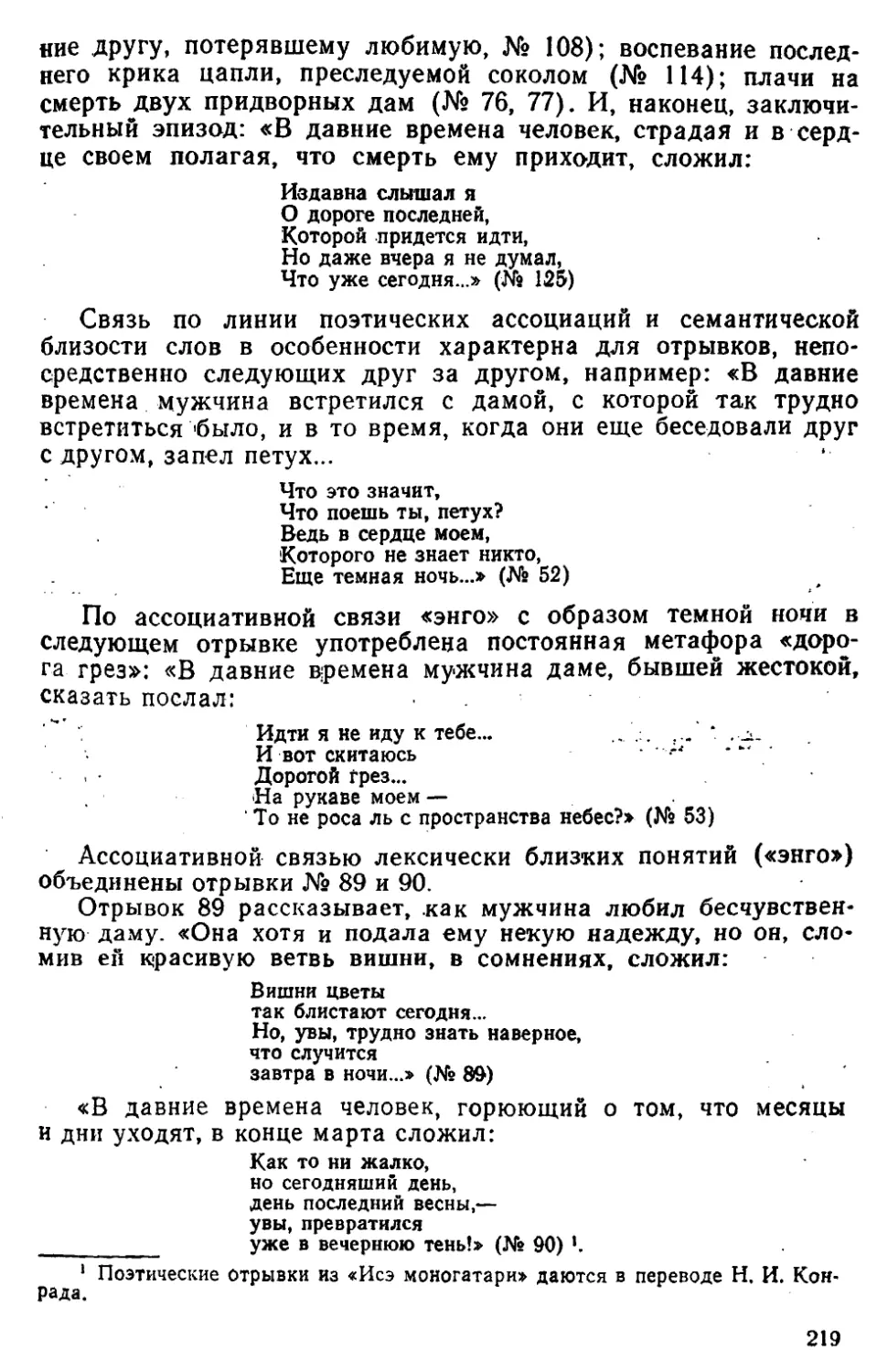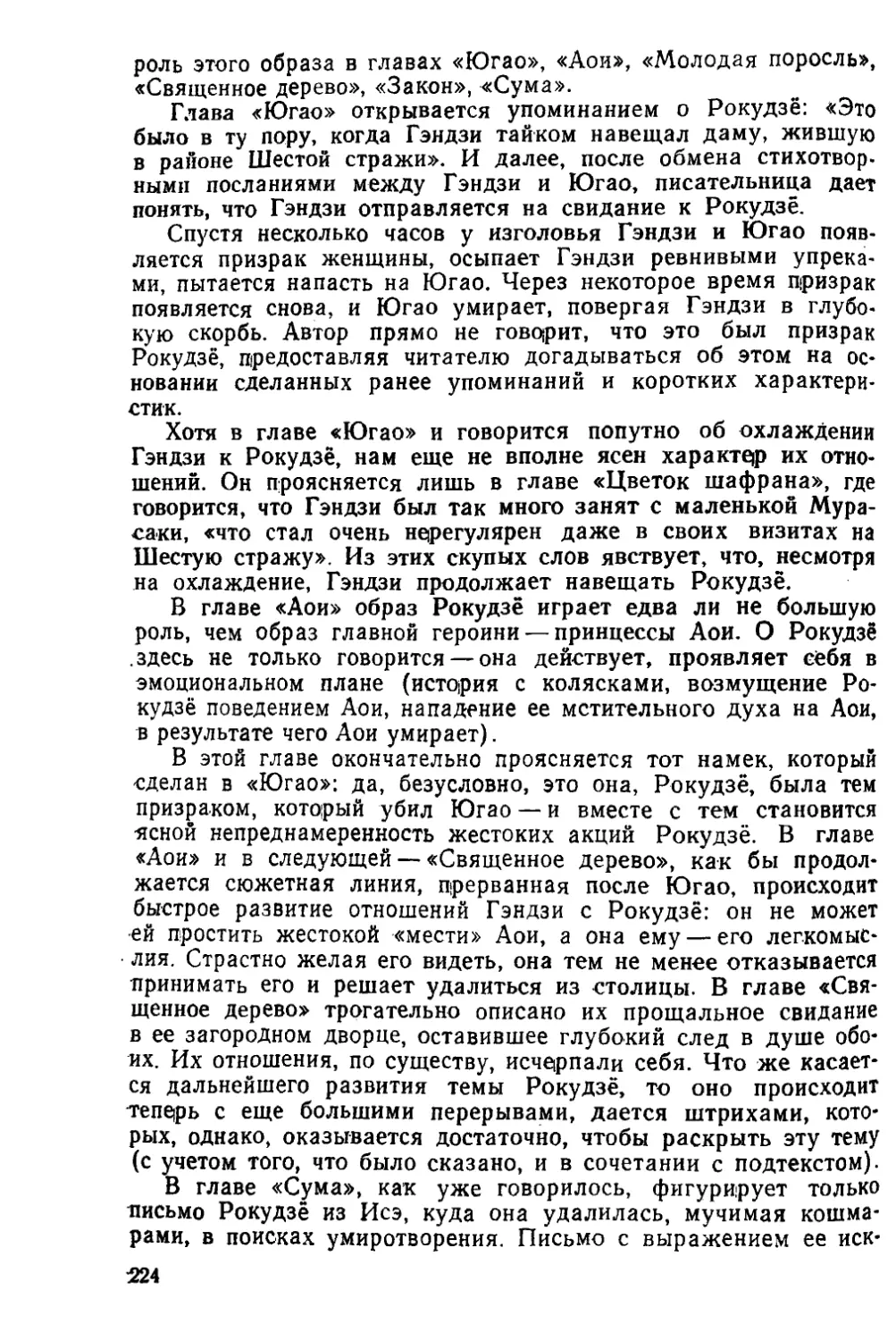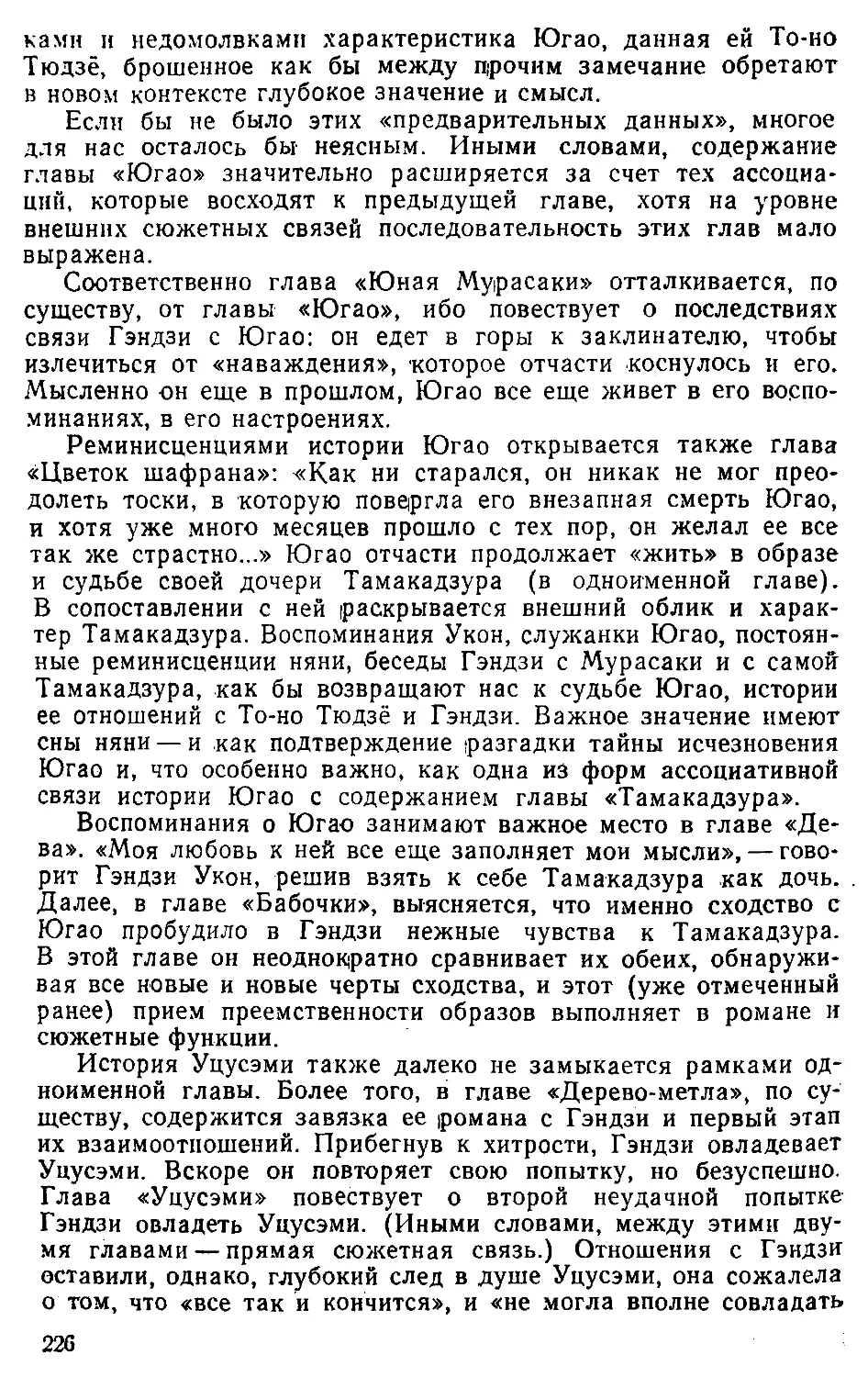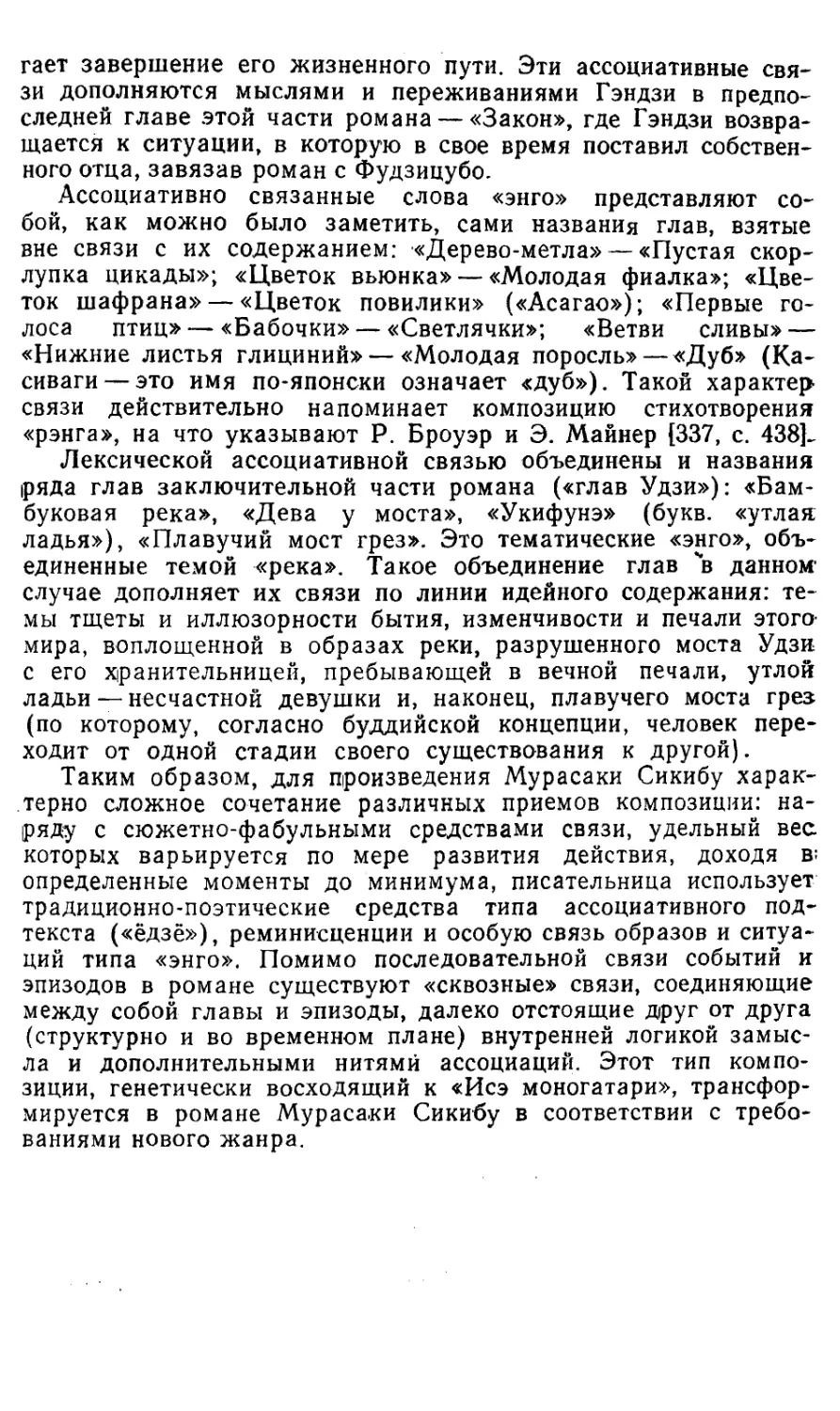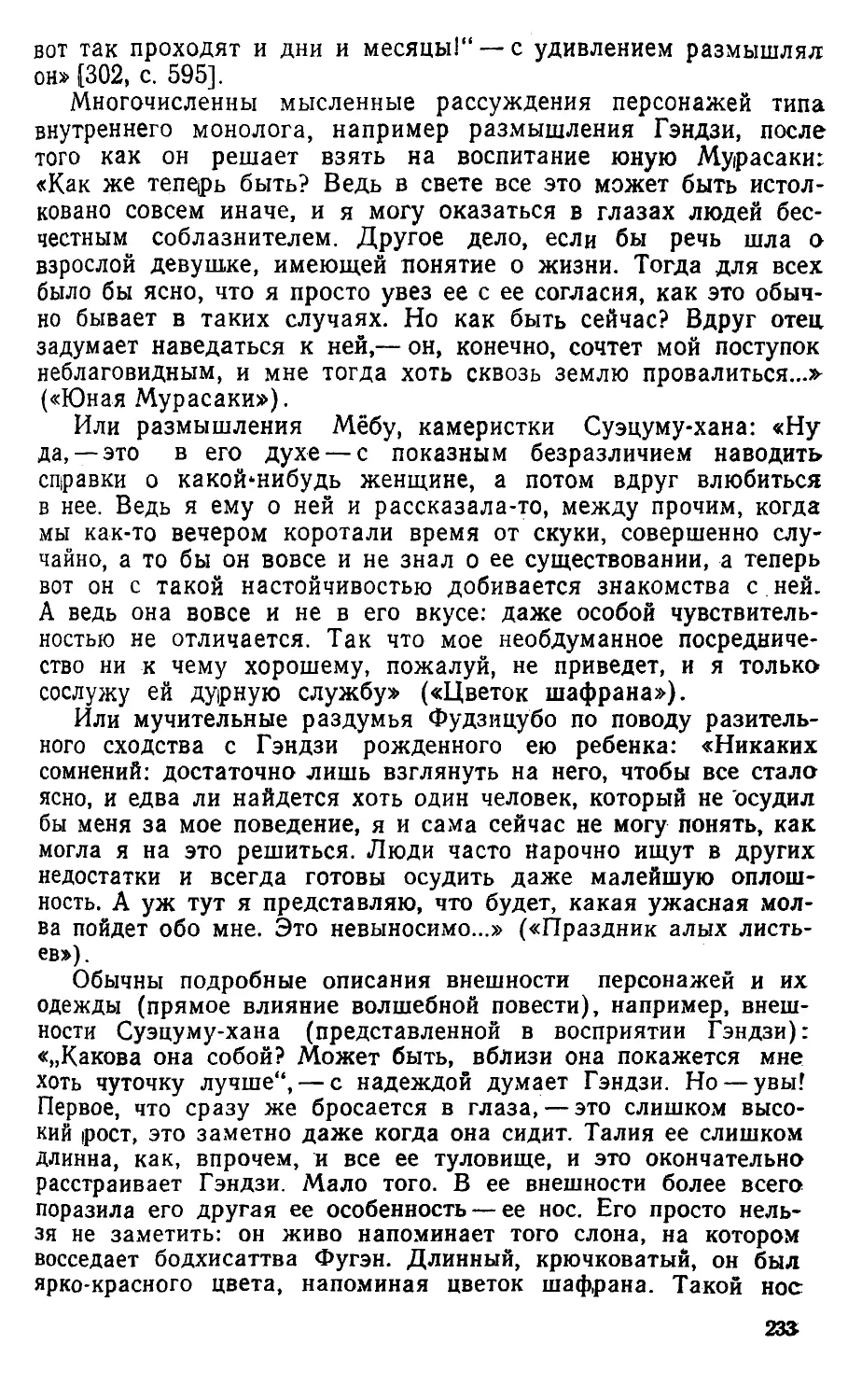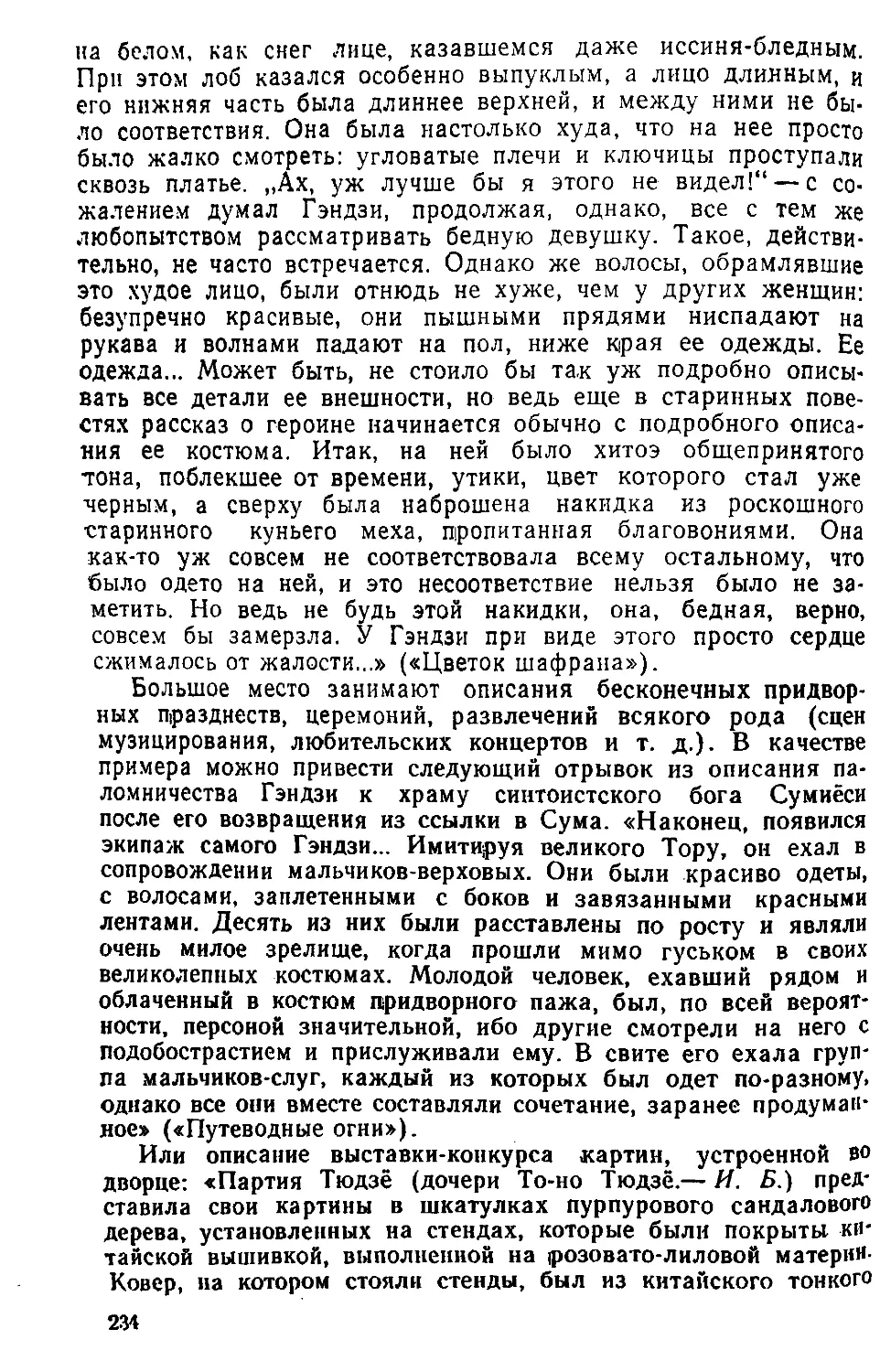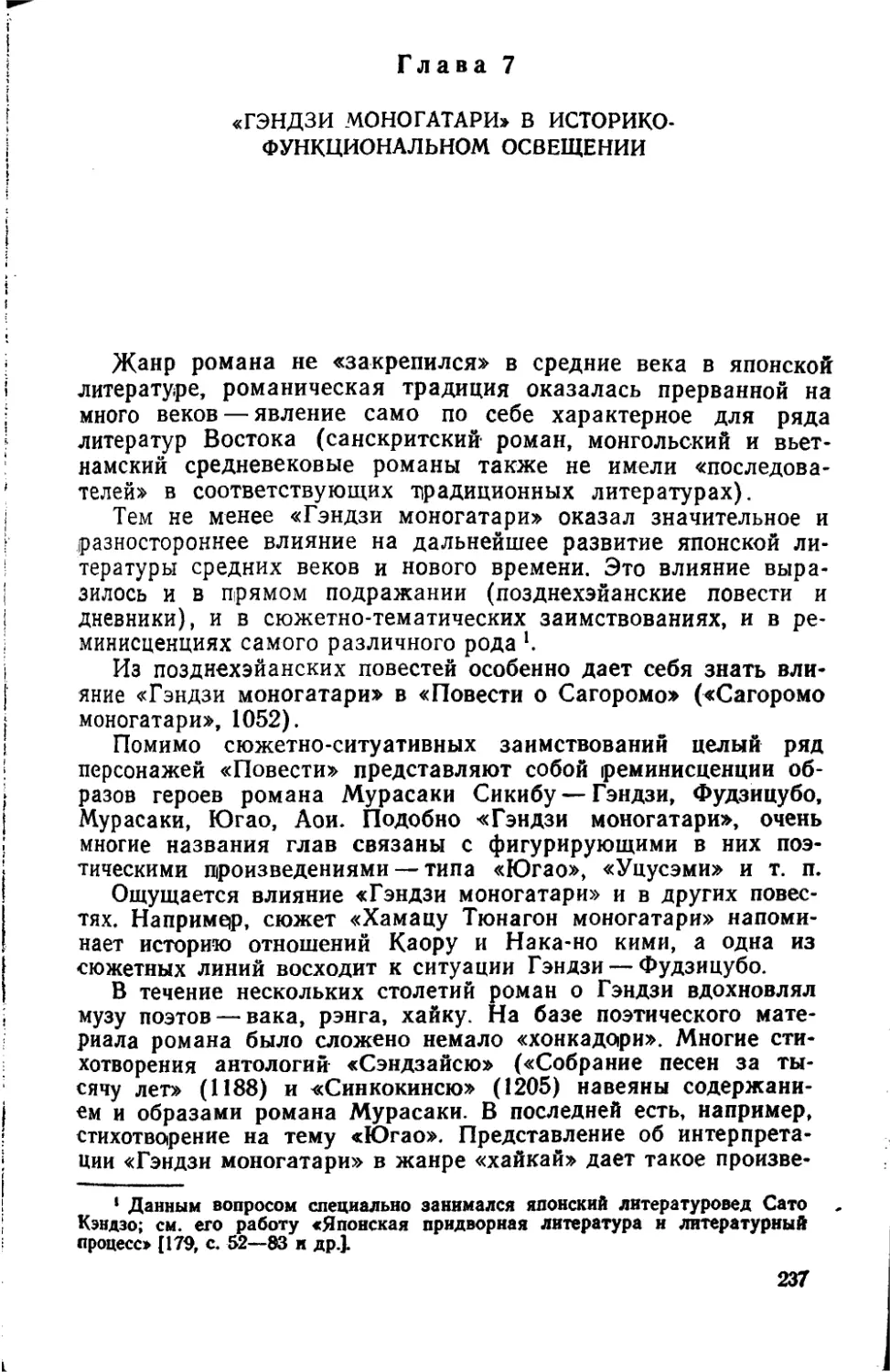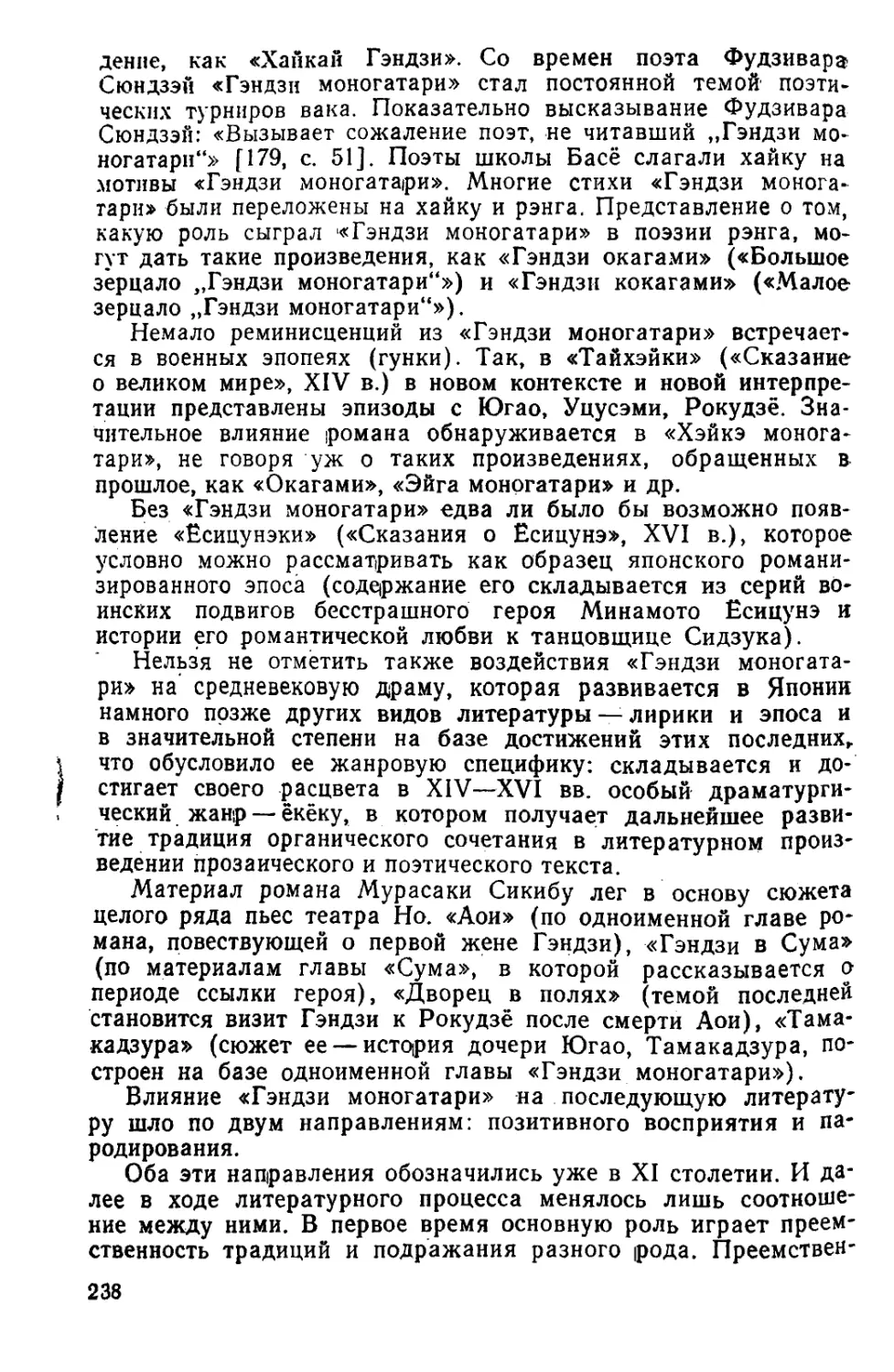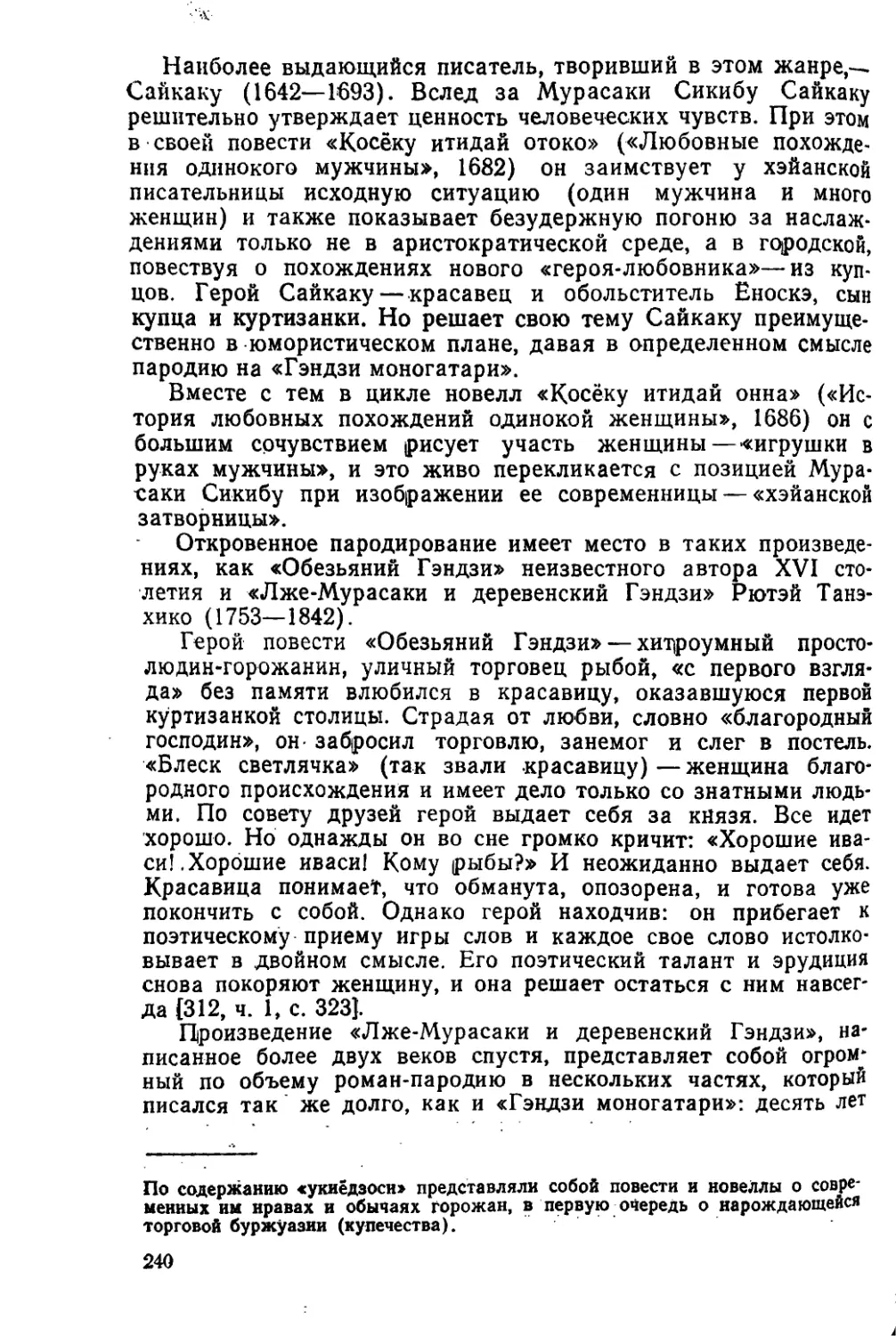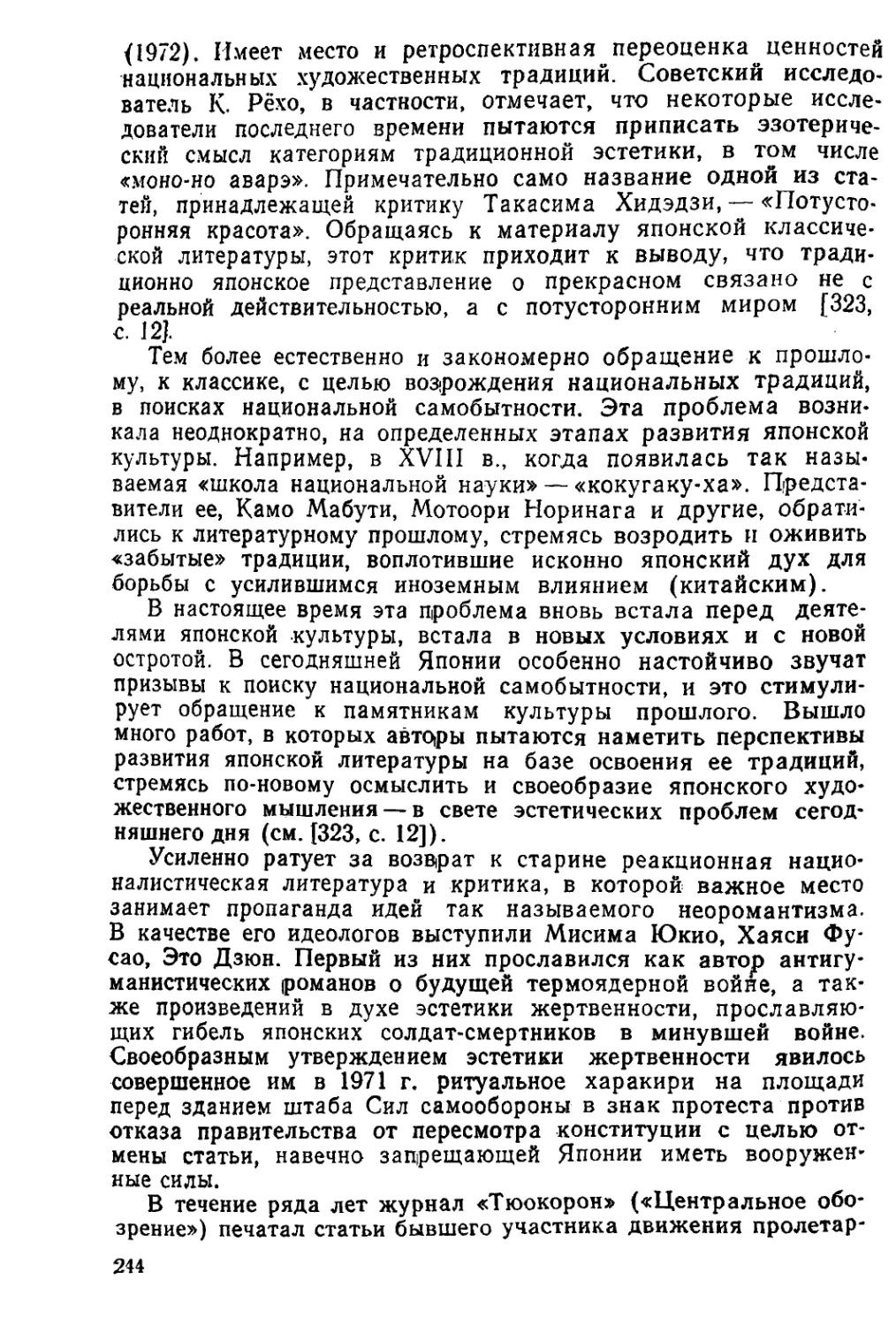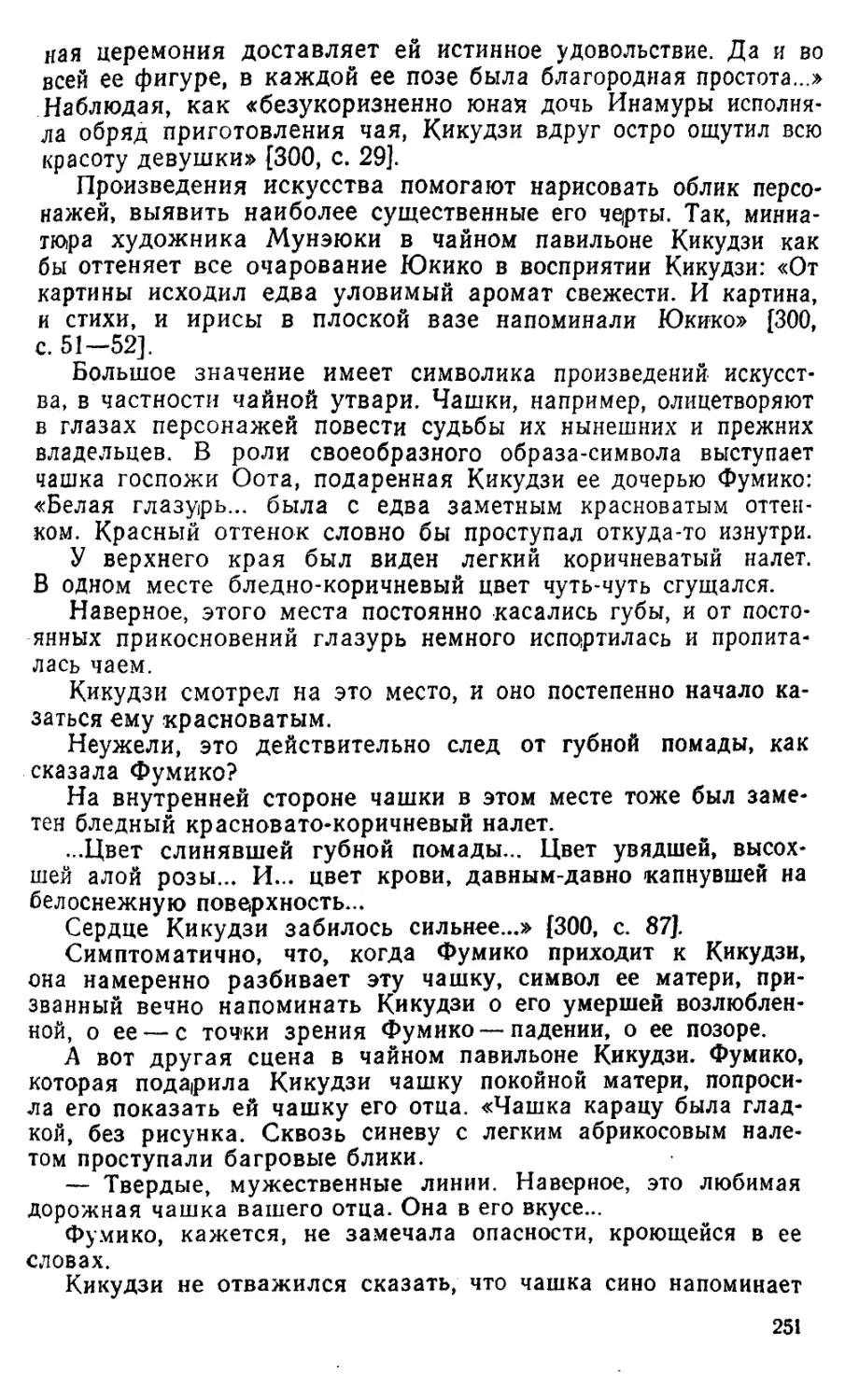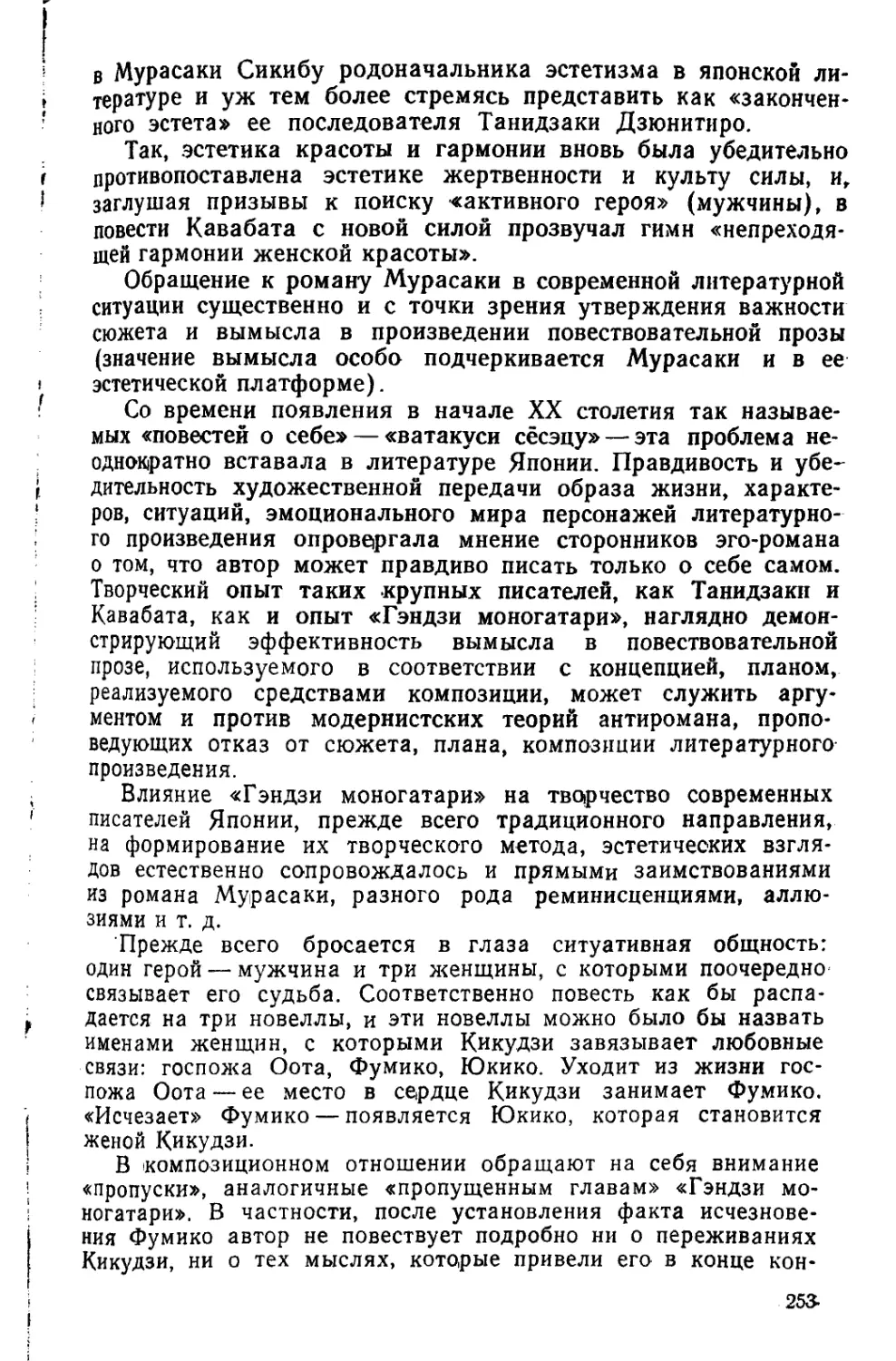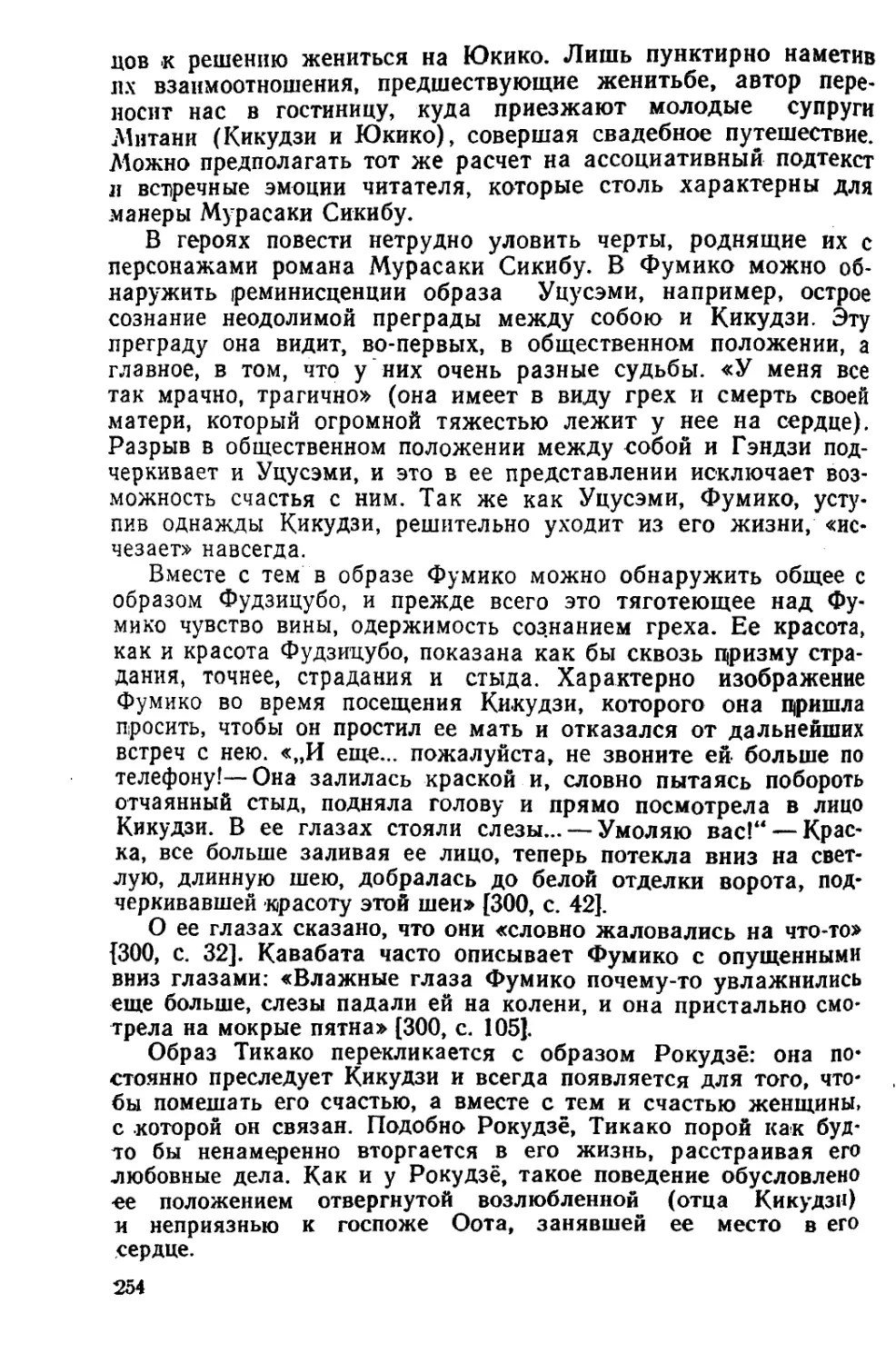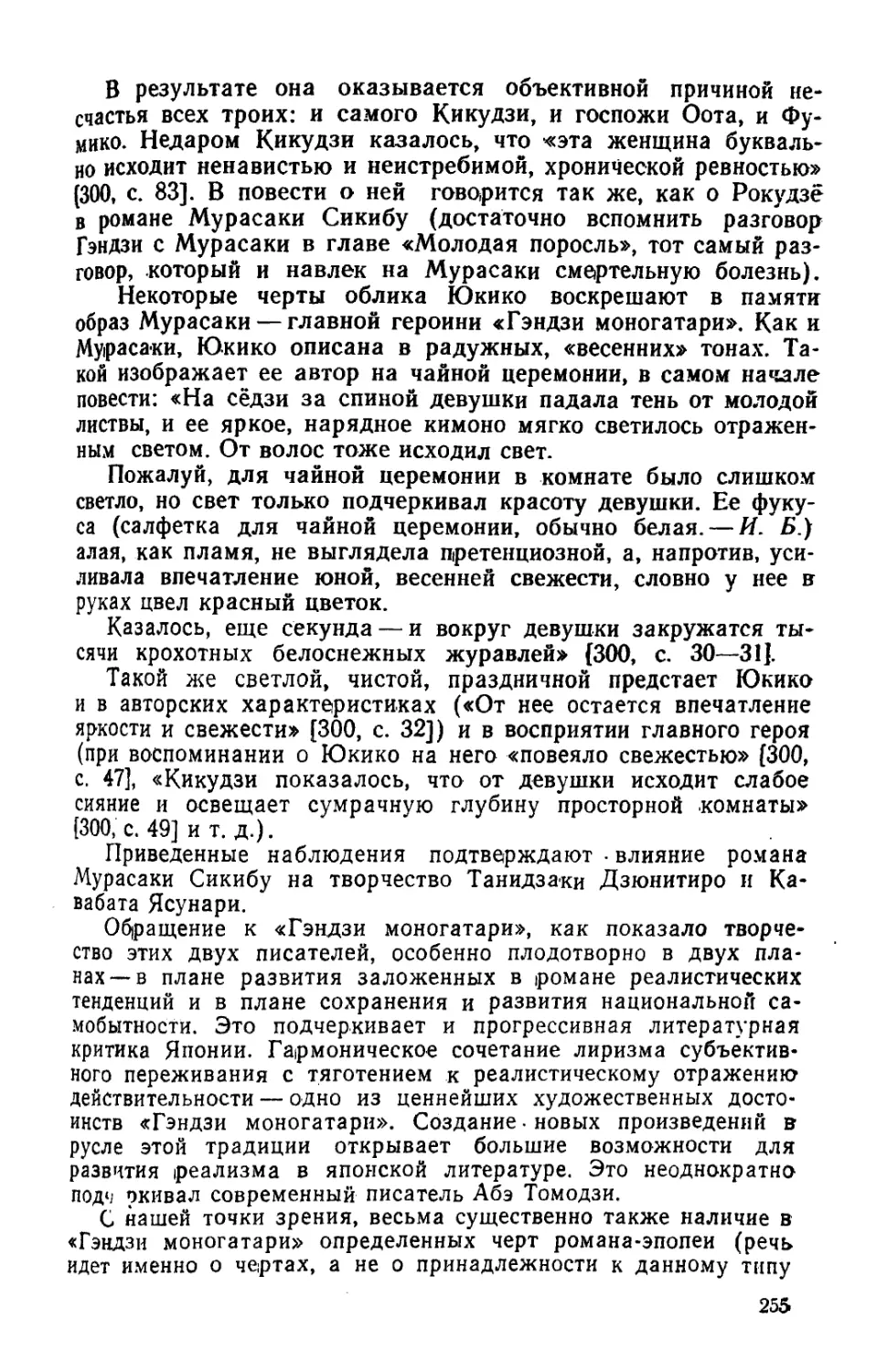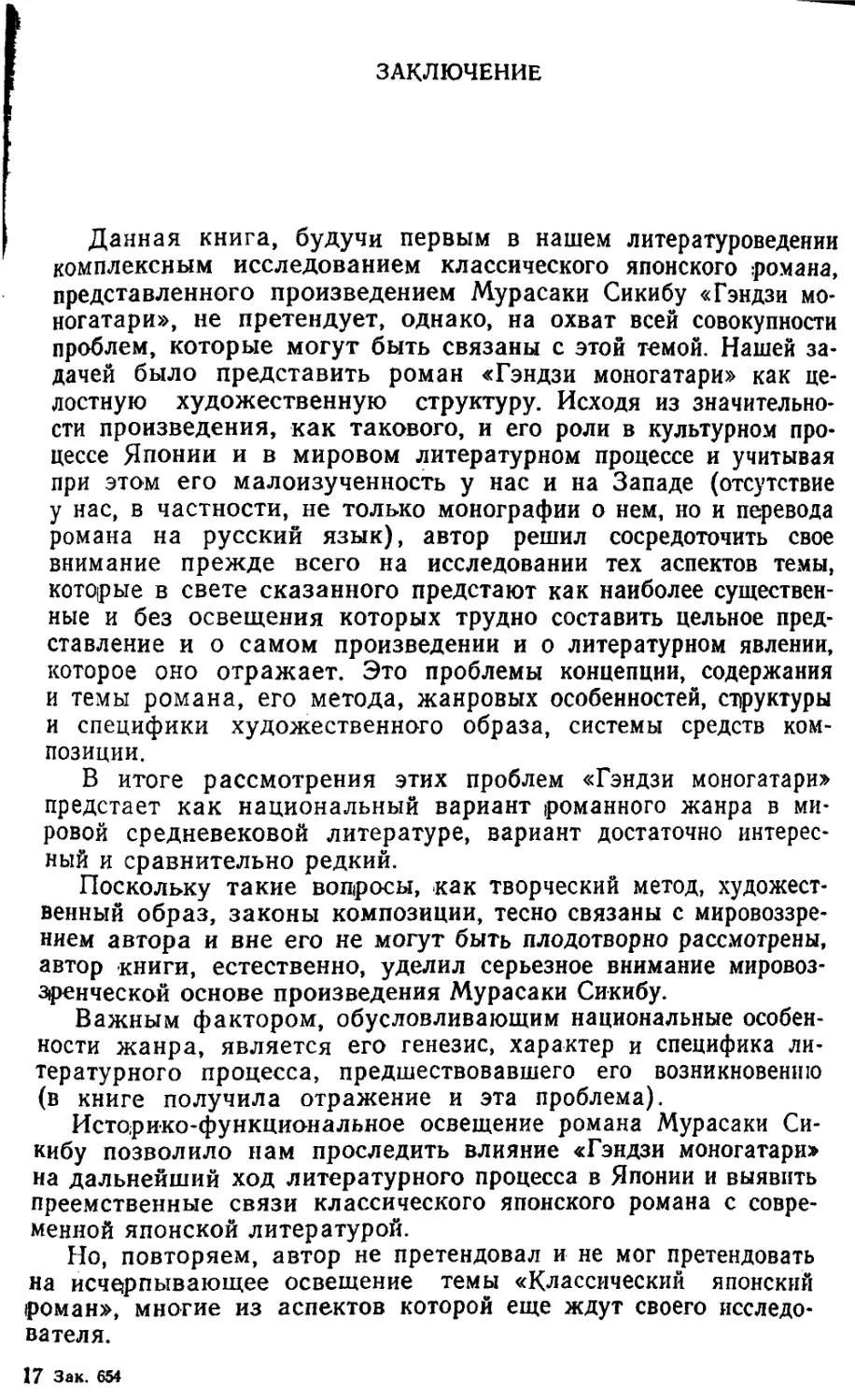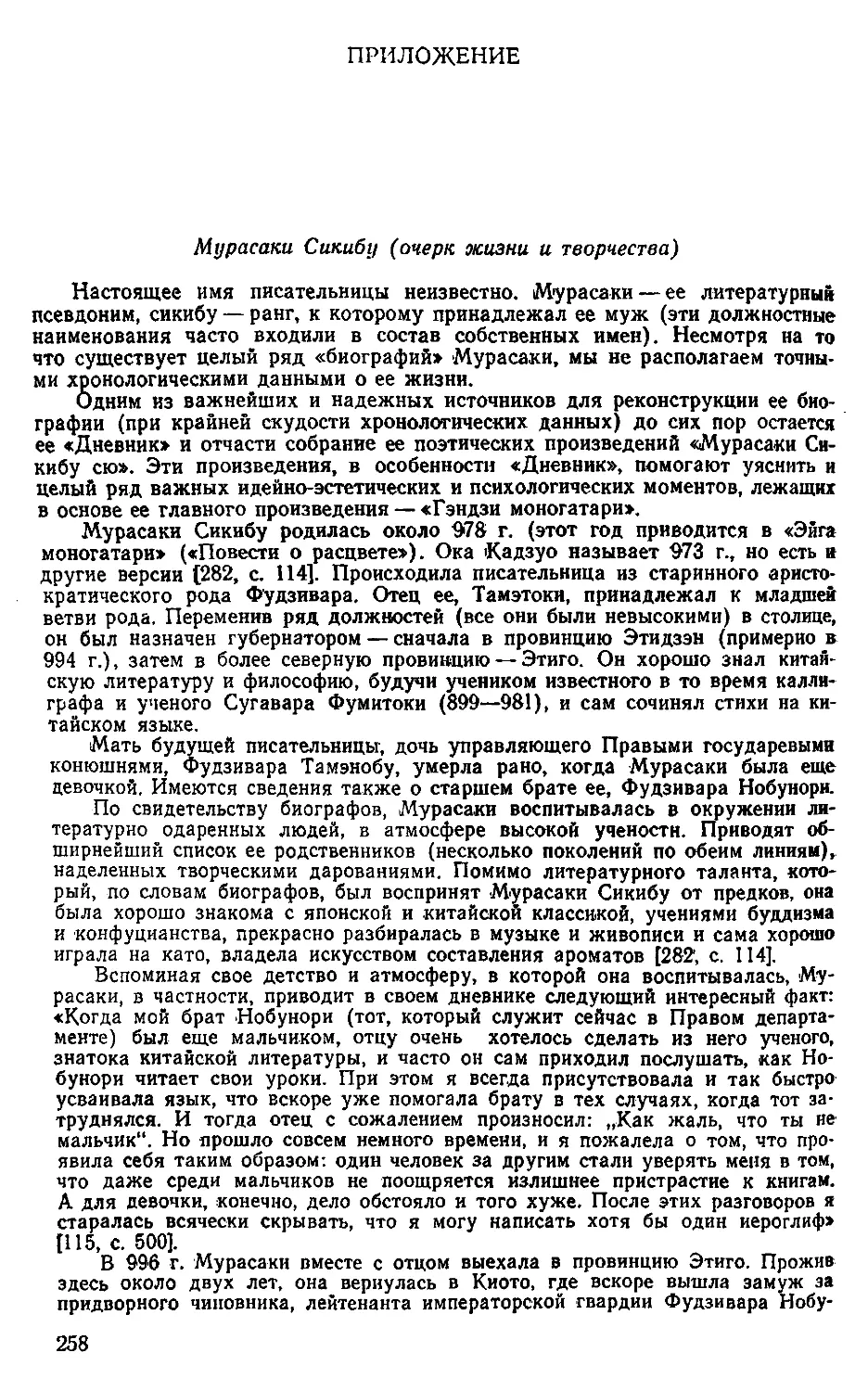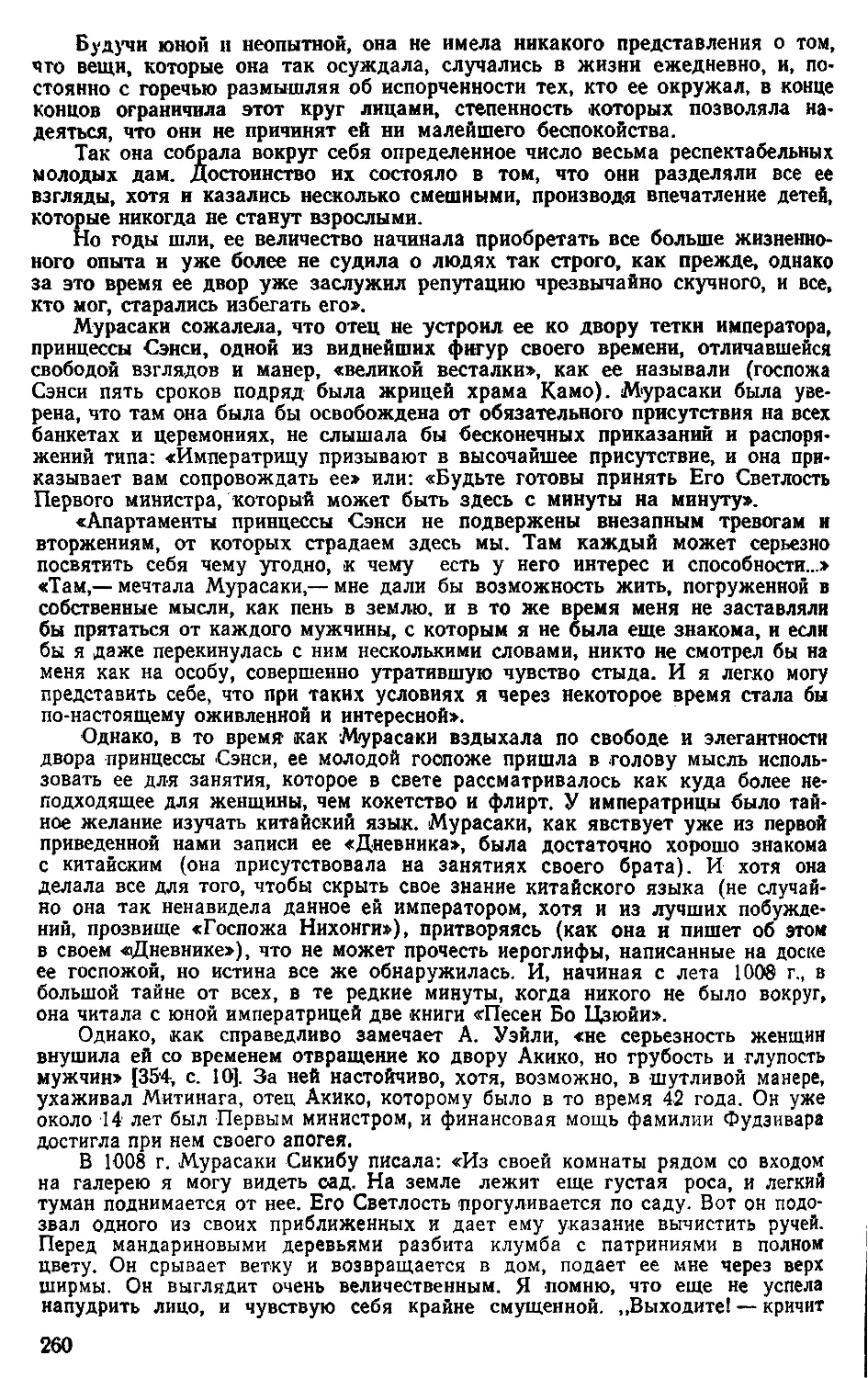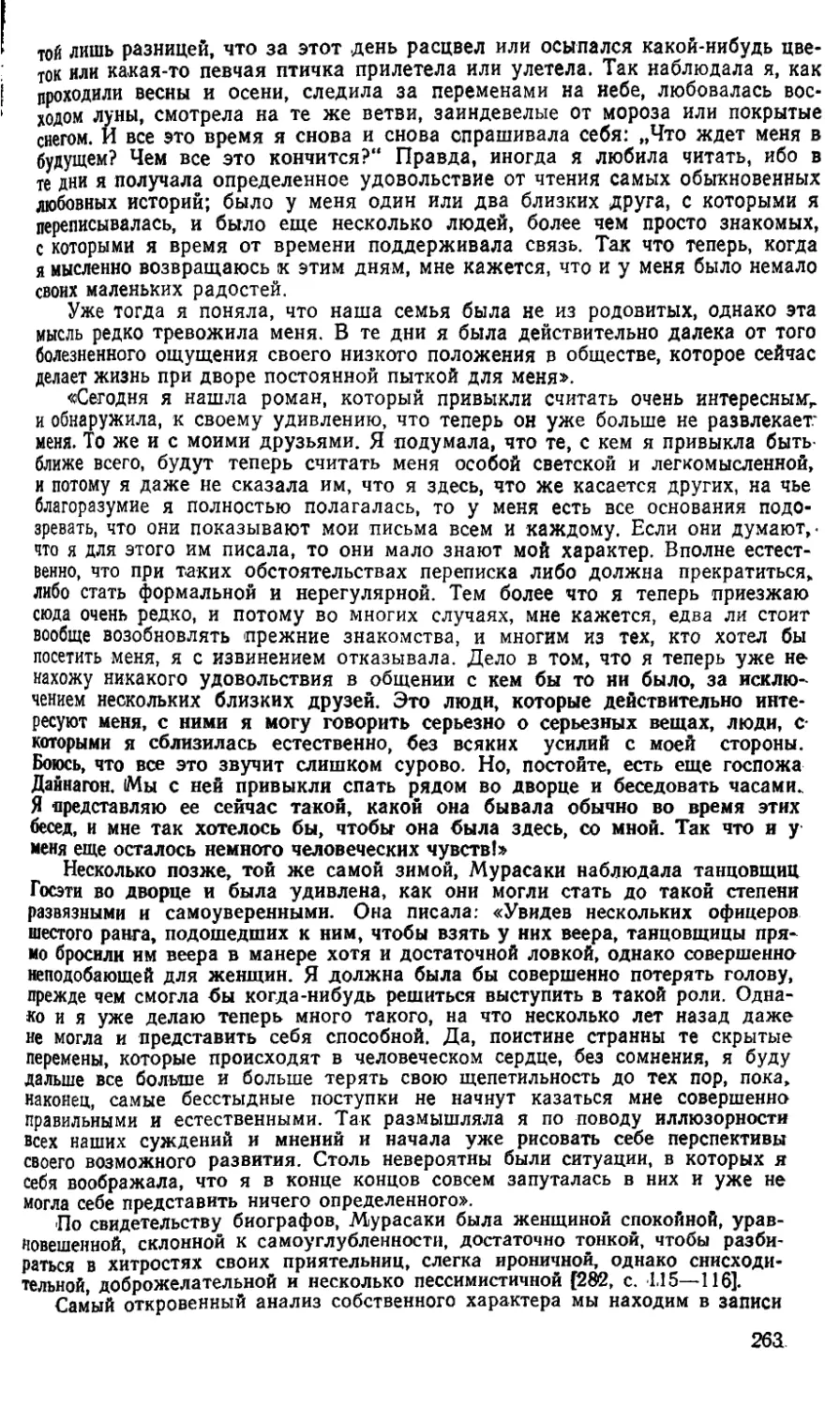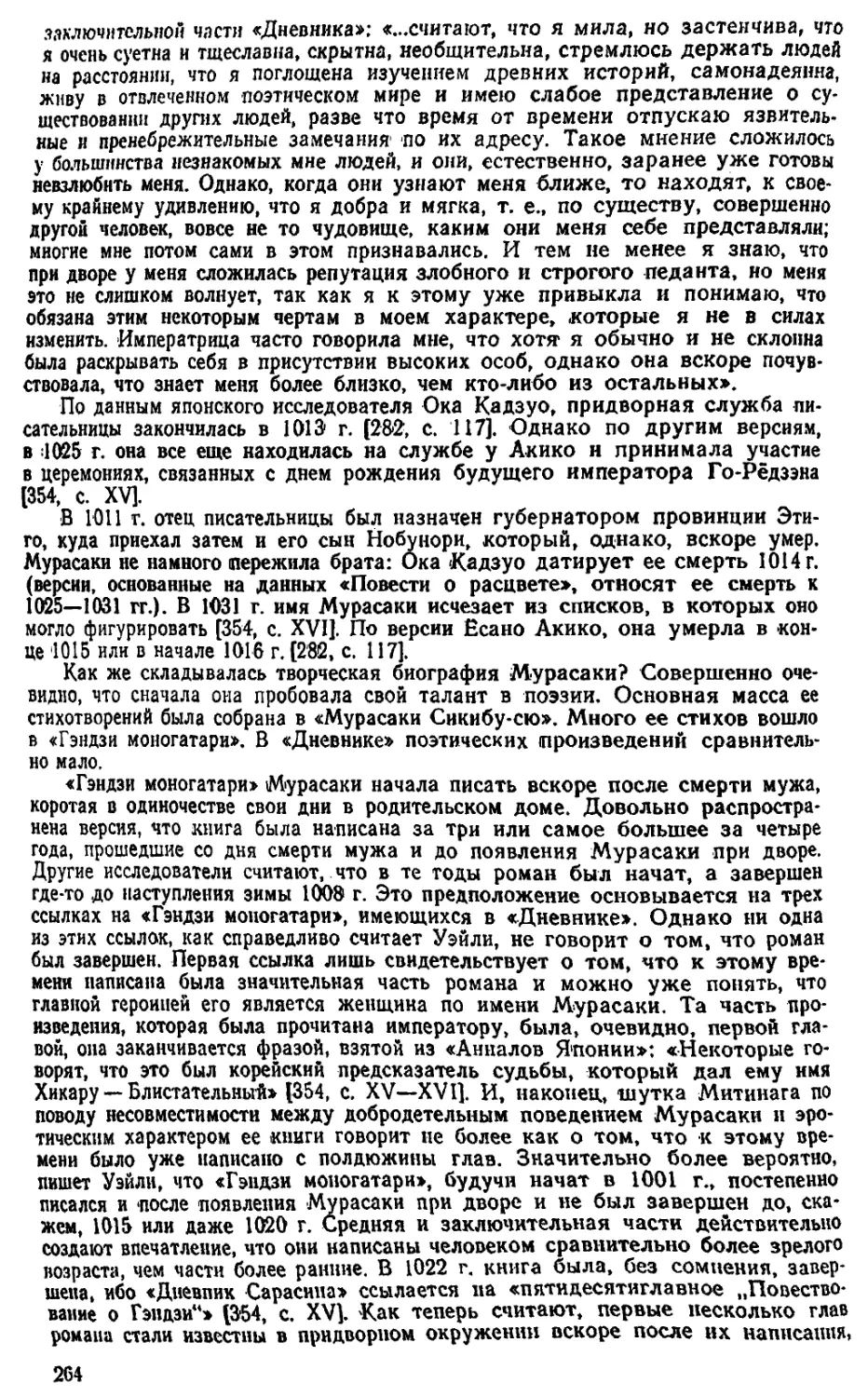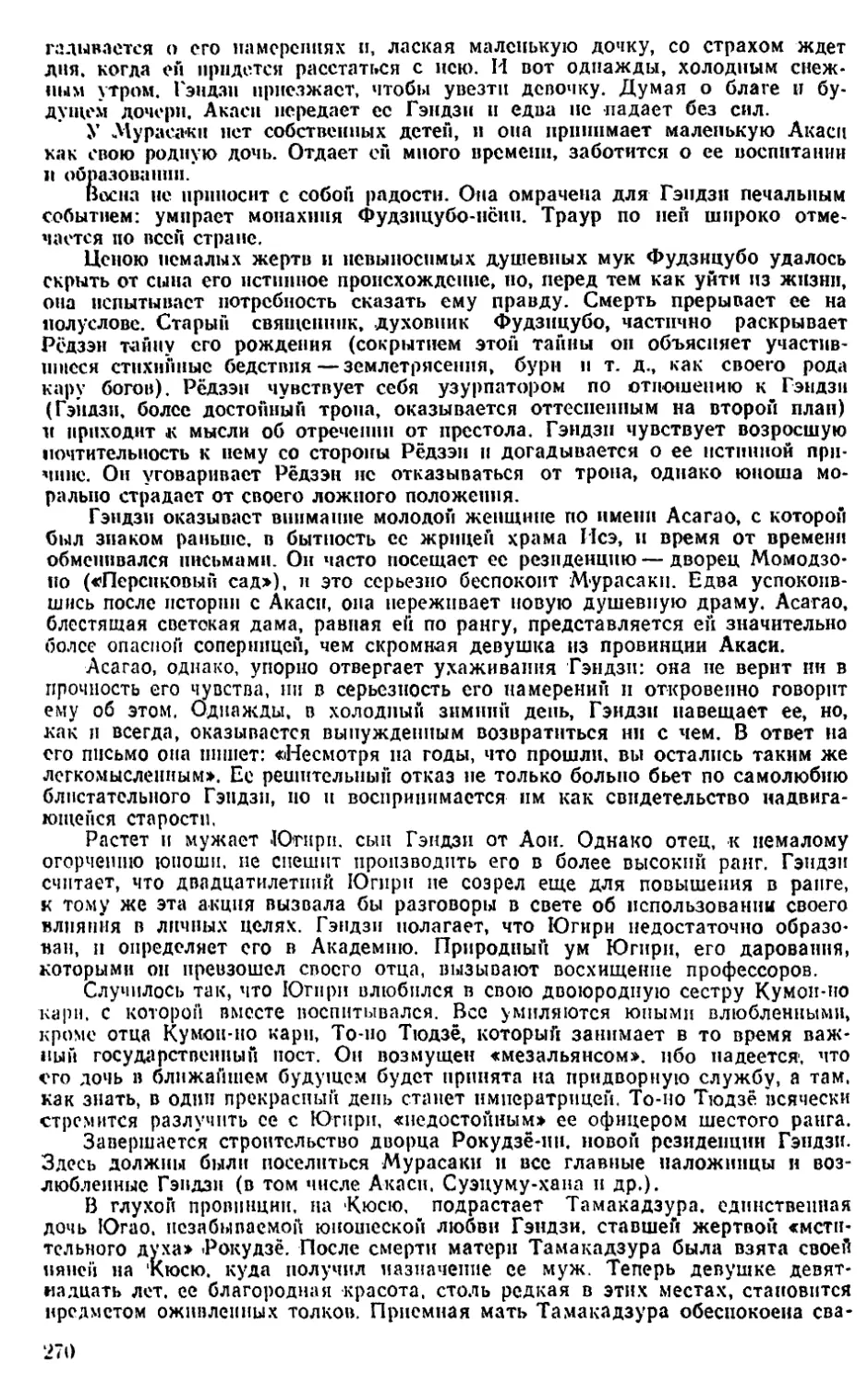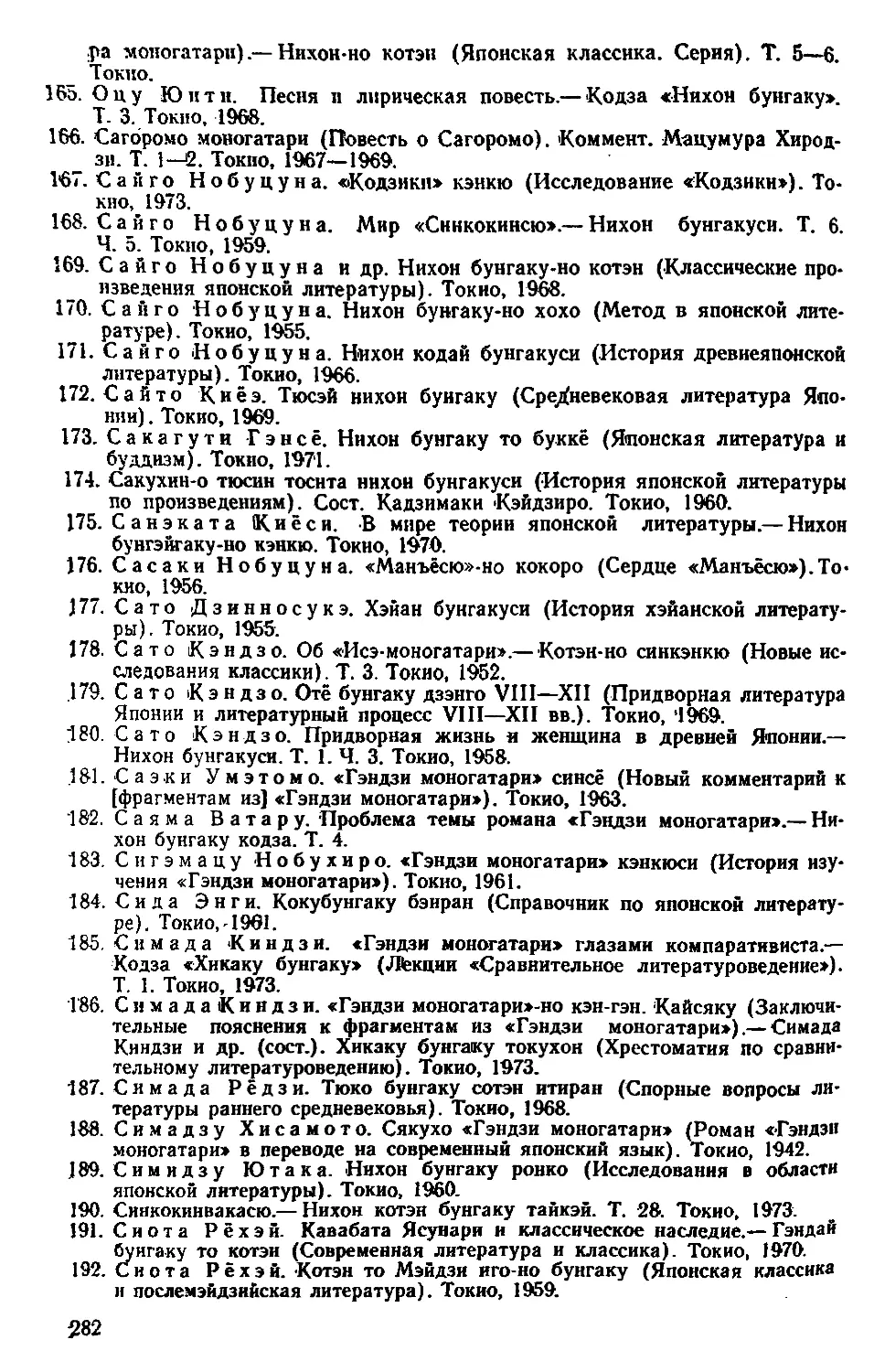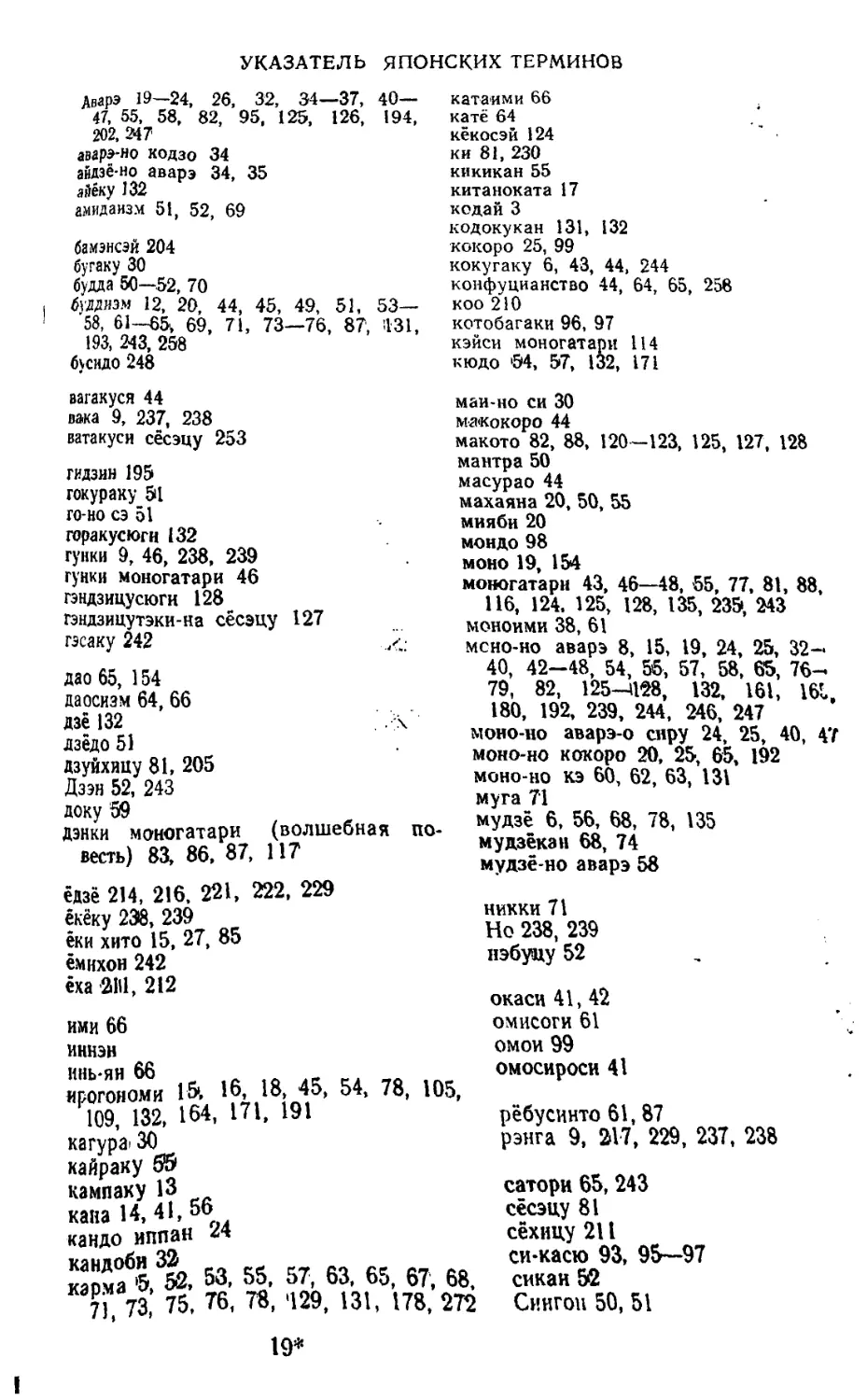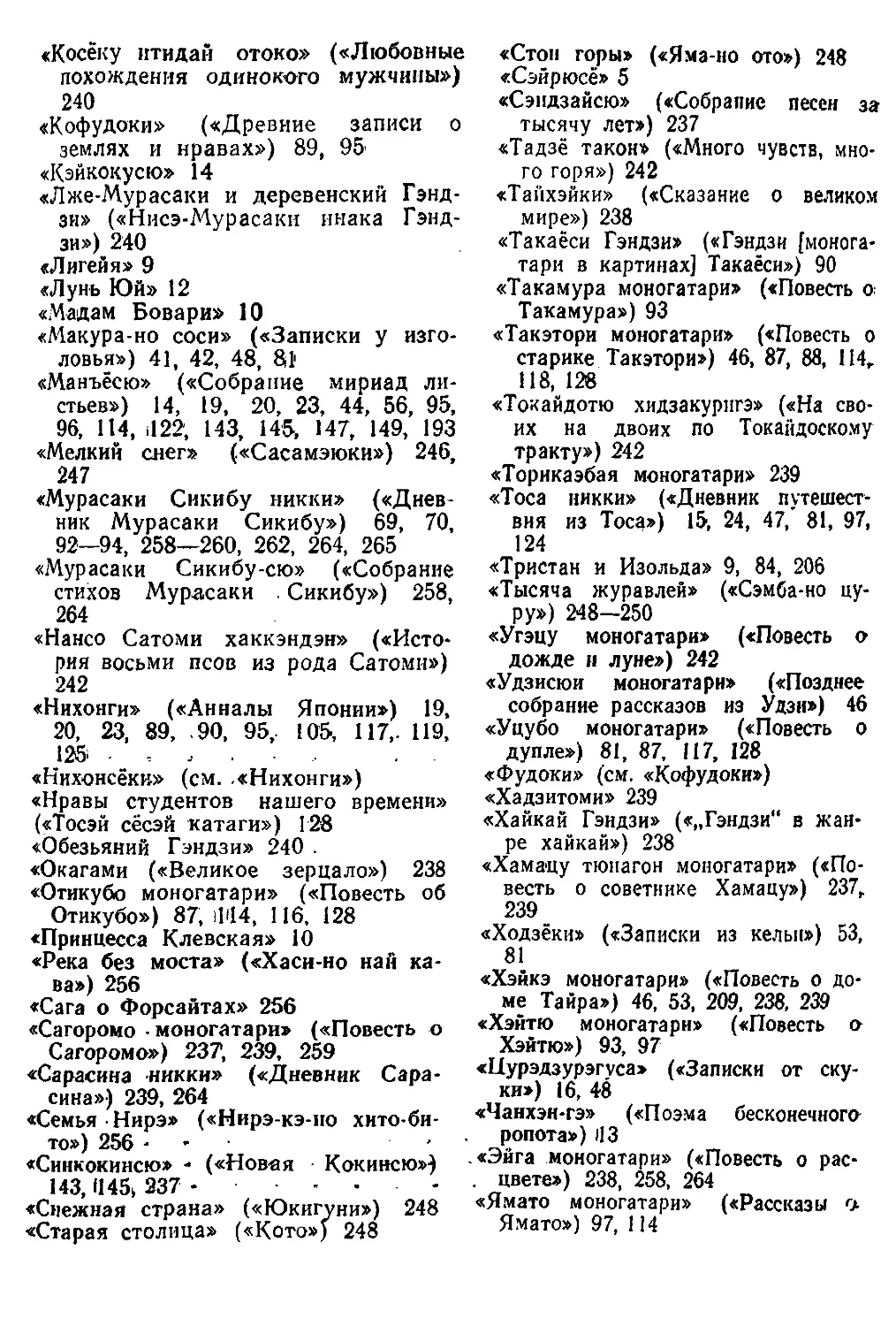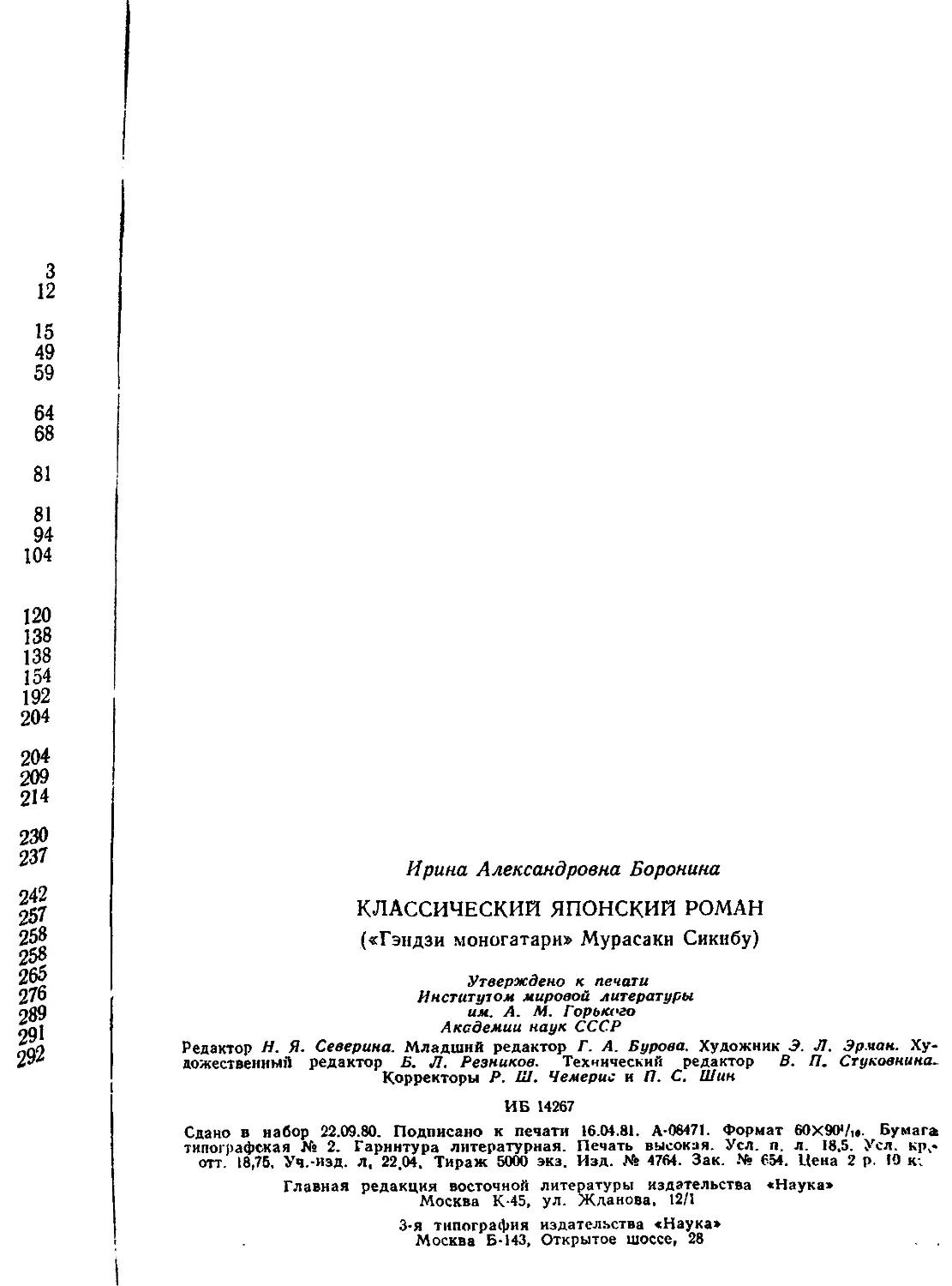Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССРИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГОИ. А. ВОРОНИНАиР0М/1Н(«ГЭНДЗИ МОНОГАТАРИ»
МУРАСАКИ СИКИБУ)ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1981
8И(Яп)Б83Ответственный редактор
Т. П. ГРИГОРЬЕВАВ книге поставлены проблемы генезиса, творческого ме¬
тода, жанровых особенностей, типологии, преемственности тра¬
диций классического японского романа на материале произ¬
ведения Мурасаки Сикибу «Гэндзи моногатари», созданного
на рубеже X—XI вв. Роман Мурасаки Сикибу рассматривает¬
ся в контексте культуры эпохи Хэйан с учетом свойственного
ей религиозно-философского синкретизма (буддизм, синтоизм,
конфуцианство) и как звено общего литературного процесса
средневековой Японии, что дает возможность выявить его ли¬
тературные истоки, связь с фольклором, мифологией, поэзией,
дневниковой литературой. Прослеживаются традиции «Гэндзи
моногатари* в творчестве современных писателей Японии —
Танидзаки Дзюнитиро и Кавабата Ясунари.„ 70202-094Б 169-81. 4603020000013(02)-81© Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука», 1981.
ВВЕДЕНИЕКлассический японский роман представлен произведением
Мурасаки Сикибу «Гэндзи моногатари» («Повествование о
Гэндзи»), Точная дата его создания неизвестна. Большинство
японских исследователей относят его появление к рубежу X—
XI вв. Это время в традиционной японской историографии име¬
нуется эпохой Хэйан (названной так по имени г. Хэйан, ныне
Киото, столицы государства и его культурного центра). За по¬
следнее время принято также и другое наименование этого исто¬
рического периода — Тюко. Термин складывается из начальных
иероглифов слов «тюсэй» («средневековье») и «кодай» («древ¬
ность») и по смыслу примерно адекватен нашему понятию
«раннее средневековье». Хронологические рамки периода —
IX—XII вв.Период Хэйан в японском и нашем литературоведении при¬
нято рассматривать как классический. В это время происходит
становление национальной художественной традиции и ее
письменное закрепление в поэтических трактатах.Свойственный эпохе культурный подъем особенно ярко .вы¬
разился в области литературы. Расцвет поэтического творче¬
ства в IX—X вв. сопровождался не меньшим расцветом худо¬
жественной прозы. В это время складываются, по существу, все
основные жанры художественной прозы, которые в тех или иных
формах характерны для всего последующего литературного
процесса Японии: рассказ, повесть, дневник, эссе и, наконец,
роман. Хэйанская литература в течение многих веков служила
образцом для йпонских поэтов и прозаиков и во многом опреде¬
лила дальнейшее развитие японской словесности.В древности и средневековье романный жанр насчитывает
в ряде литератур достаточное количество произведений — ан¬
тичный роман в Греции и Риме, византийский роман, француз¬
ский куртуазный роман и др. Японский классический роман
представлен единственным произведением и потому являет
собой уникальный образец национальной жанровой разновид¬
ности.Роман «Гэндзи моногатари» — произведение большого объ¬
ема (в новейшей перепечатке более 1000 страниц японского
текста), в нескольких частях. Художественное время романа
охватывает жизнь трех поколений героев (в общей сложности
75 лет). Это своеобразный синтез всего предшествующего ли¬
тературного развития Японии. На широком фоне культуры
эпохи Хэйан отражена жизнь и идеология целого сословия —
феодальной аристократии, находящегося в то время у власти.а
В кругу этого сословия были созданы основные культурные
ценности, которые определили облик хэйанской культуры в
целом, в том числе и литературы. Будучи литературой сослов¬
ной, замкнутой, хэйанская литература тем не менее сохранила
живую связь с народной традицией — народной песней, уст¬
ным .рассказом, сказкой.Роман «Гэндзи моногатари» отличается ярко выраженны¬
ми реалистическими тенденциями и глубоким проникновени¬
ем во внутренний мир героев. В нем автор, по существу, вплот¬
ную подошел к психологическому роману на реалистической
основе. Появление романа в японской литературе раннего сред¬
невековья на столетие раньше куртуазного романа в Западной
Европе и на пятьсот лет раньше китайского романа на Восто¬
ке не может не привлекать внимания науки. Факт этот инте¬
ресен как сам по себе, так и в своей качественной сущности:
«Гэндзи моногатари» одна из интереснейших разновидностей
романного жанра в истории мировой литературы и редчай¬
шая—в литературе средневековья — эволюция жанра, его тра¬
диция начинается с отказа от фантастики и занимательности,
с утверждения верности жизненной правде. Если материалом
для западноевропейского куртуазного романа послужили пре¬
дание или история, а для первых китайских романов — устный
народный сказ и книжная эпопея, то японский классический
роман строится на материале современной автору действитель¬
ности, моделируя ее в изображаемых ситуациях и персонажах.Роман «Гэндзи моногатари» оказал большое и разносторон¬
нее влияние на всю последующую японскую литературу, зало¬
жив ряд чрезвычайно ценных и плодотворных традиций, пред¬
определив особенности многих литературных жанров и форм —
.книжного эпоса, лирической драмы и других. Его традиции ока¬
зались весьма перспективными и для современной литерату¬
ры Японии, и в первую очередь для литературы реалистиче¬
ского направления, для жанра романа-эпопеи.Все эти факторы определили интерес автора предлагаемой
книги к данной теме.Актуальность изучения японского классического романа
диктуется, кроме того, сравнительной малоизученностью его в
советском и западноевропейском литературоведении.В Японии роман исследуется давно и является объектом
тщательного изучения и в настоящее время. «Гэндзи монога¬
тари» принадлежит к тем произведениям японской классики,
которые привлекли к себе внимание японских ученых в самом
скором времени после того, как они увидели свет.Выбор аспекта исследования определялся в значительной
мере вкусами и взглядами исследователя. Так, поэт и филолог
Фудзивара Тэйка (1162—1241), идеологические позиции кото¬
рого были во многом близки Мурасаки Сикибу (он принадле¬
жал к тому же сословию феодальной аристократии), большое4
внимание уделял эстетическому аспекту «Гэндзи моногатари»—
проблеме отражения прекрасного, гармонии содержания и фор¬
мы его выражения и т. д. С иных позиций оценивали роман
Мурасаки представители самурайской литературы и критики.
Глубоко захваченные буддийскими идеями кармы 1 (воздаяния)
и тщеты бытия, они сосредоточили внимание на тех сторонах
и реалиях «Гэндзи моногатари», которые связаны с буддий¬
ским вероучением, и с этих позиций подходили к оценке содер¬
жания, темы и идеи романа.Например, филолог Сандзёниси Санэтака, комментируя в
трактате «Сэйрюсё» (1528) эстетическую программу Мураса¬
ки Сикибу, излагаемую в романе (гл. «Светлячки»), уделяет
особое внимание проводимому ею сопоставлению художествен¬
ной прозы с буддийскими учениями и специально останавли¬
вается на комментировании употребляемых писательницей
буддийских терминов, так как считает, что в них-то и заложе¬
на дидактическая идея сочинения Мурасаки.Аналогичной позиции придерживается ученый и поэт Ино
Соги (1421 — 1502)—он подробно разъясняет смысл и содер¬
жание четырех буддийских терминов, использованных в
гл. «Светлячки» {223, с. 59].Позже, когда в идеологии японского общества важное ме¬
сто заняли доктрины конфуцианства, четко обозначилась тен¬
денция подхода к «Гэндзи моногатари» с нравственными кри¬
териями. Так, ученый конфуцианец Кумадзава Бандзан (1619—
1691) уже не считал нужным даже упоминать те четыре тер¬
мина, на которых сосредоточили свое внимание филологи-буд¬
дисты. Кумадзава Бандзан уделяет особое внимание этиче¬
ским аспектам содержания романа. По его мнению, Мурасаки
Сикибу не задавалась никакой другой целью, кроме как целью
преподать урок женщинам (женщина должна быть благора¬
зумна и осмотрительна; долг женщины — сохранять терпение,
покорность, выдержку).Такого рода критика, расценивающая роман Мурасаки Си¬
кибу как произведение дидактическое, нередко оставляет в те¬
ни его художественные достоинства.Очень распространен был взгляд на «Гэндзи моногатари»
как на книгу безнравственную, способствующую падению нра¬
вов.К XIX в. в японском литературоведении сложился подход
к «Гэндзи моногатари» как к произведению назидательного
характера: одни усматривали в нем буддийскую миссию, сво¬
его рода проповедь или иллюстрацию буддийских догм — за¬
конов воздаяния (кармы) и всеобщего непостоянства (муд-1 Карма (санскр.) — букв, «действие», организующий элемент илн фор¬
мирующая сила. Карма наследуется от предыдущих существований, которые
обусловливают настоящее существование; настоящее существование опреде¬
ляет последующую карму. Поскольку нынешняя карма определена в прежних
зё), другие — конфуцианскую миссию наставления на путь
добродетели и отвращения от порока. В частности, распрост¬
ранено было мнение, что роман предназначался для женского
просвещения («красным девицам» урок).Такой подход заложил определенные традиции, которые
проявляются и в современной литературно-критической мысли
Японии. О дидактической основе замысла произведения Мура¬
саки Сикибу (заботе о женском просвещении) пишет современ¬
ный филолог Кубота Уцубо в книге «Мое восприятие классики»
{88, с. 127].Время от времени дают о себе знать отголоски конфуциан¬
ского ригоризма. Критика романа Мурасаки как произведе¬
ния эротического особенно часто встречается в 40-е годы, на¬
кануне Тихоокеанской войны. Это было связано с оформлени¬
ем та.к называемой неоромантической школы с характерными
для нее «возрождением древности» («фуккосюги»)—древности
воинственной, «героической» и резко отрицательным отношени¬
ем к «любовным историям» хэйанского периода. Об этом пи¬
шет, в частности, Фунабаси Сэйити в статье «Роман „Гэндзи
моногатари", его почитатели и хулители», отмечая, что гоне¬
ние на «Гэндзи моногатари» приводило, например, к изъятию
фривольных эпизодов из перевода романа на современный
японский язык [223, с. 51].Против буддийско-конфуцианских тенденциозных оценок
романа, часто оставлявших в тени его художественные достоин¬
ства, выступил представитель школы «национальной науки»
(«кокугаку»2) Мотоори Норинага (1730—1801). Он вновь при¬
влек внимание к эстетическому аспекту романа, к его художе¬
ственным достоинствам. Подробно об этом будет сказано в
гл. 1, где речь пойдет о культе красоты и установке на отобра¬
жение прекрасного в литературе.В настоящее время изучение «Гэндзи моногатари» состав¬
ляет, по существу, целую отрасль литературоведения в Японии.
Одним из наиболее древних направлений исследования памят¬
ника является его комментирование и перевод на современный
японский язык. Сейчас это приобрело особую актуальность,воплощениях, человек не может на нее воздействовать; будущую карму он
может улучшить, если будет вести соответствующий образ жизни. Существует
также понятие «акарма» («необусловленное» действие). Буддийский принцип
акармы привел к особой форме доведения — соизмерению собственных поступ¬
ков с естественным ходом событий (стремлению не вторгаться в естественное
течение жизни, не нарушать естественного ритма, правильного пути).2 «Школа национальной науки» («кокугаку-ха») возникла в XVII в. в
противовес «школе китайской науки» («кангаку-ха»). Деятельность школы
была направлена против неоконфуцианства за восстановление «исконно-япон¬
ского». Деятели школы именовались «кокугакуся» или «вагакуся»—японофил
(букв, «японский ученый»). Они обращались к произведениям древней и ранне¬
средневековой японской литературы в поисках истоков национальных тра¬
диций.6
поскольку язык романа, по существу, практически недоступен
широкому читателю.Большое внимание уделяется литературоведческому иссле¬
дованию романа. Детальный анализ романа дан в фундамен¬
тальном труде Икэда Кикан «Большая серия исследований
„Гэндзи моногатари"» (т. 1—8). Разностороннему исследова¬
нию романа посвящены три тома в серии «Собрание материа¬
лов по исследованию японской литературы» (т. 5, б, 19). Су¬
ществует курс лекций о «Гэндзи моногатари» («„Гэндзи монога-
тари“ кодза» [21]).Интерес современных японских литературоведов вызывает
ряд конкретных аспектов исследования знаменитого романа
Мурасаки Сикибу, и прежде всего проблема его генезиса. Во¬
просы генезиса рассматриваются в трудах Номура Итидзо
«Становление повествовательной прозы Хэйана» [146], Кадза¬
маки Кэйдзиро «Исследования в области истории японской
литературы» [66], в упомянутой работе Кубота Уцубо, а также
в большинстве работ общего характера, посвященных «Гэндзи
моногатари». Более всего изучены генетические связи романа
Мурасаки с лирической повестью, а также с «волшебной по¬
вестью». В ряде исследований выявляются фольклорные истоки
романа (этим вопросом занимался, в частности, известный уче¬
ный Накадзима Эцудзи).Много внимания уделяется проблемам замысла и темы ро¬
мана, которые до сего дня продолжают оставаться предметом
оживленных дискуссий в японском литературоведении. Все
еще сильна буддийская концепция идеи и темы романа. Ее при¬
держиваются Фудзиока Сакутаро, Кобаяси Томоаки. Другие
ученые считают, что Мурасаки Сикибу концентрирует свое
внимание на светских проблемах. В ряде работ подчеркивается
социальное значение темы романа. Таким образом, можно го¬
ворить с известной долей условности о наличии в японских
исследованиях трех концепций: религиозно-философской (буд¬
дийской), светской и социологической (подробнее об этом бу¬
дет сказано в гл. I).В ряде работ исследуется социально-идеологическая осно¬
ва романа: книга Кобаяси Томоаки «Литература бренности
жизни» [781, работы Камэи Кацуитиро («Путь спасения и культ
любви в придворном обществе Хэйана» J69J), Иэнага Сабуро
(«Духовный мир древней аристократии» [59]), Цуда Сокити
(«Идеология народа, отраженная в литературе» {250]) и др.Важное место в работах японских ученых занимают вопро¬
сы структуры и композиции романа. В этом направлении
исследования принципиальные позиции ученых в основном сов¬
падают. Большинство авторов считают, что роман Мурасаки
складывается из нескольких частей, со своими «внутренними»
идеями, со своим «миром», и сходятся на том, что мир заклю¬
чительной части («главы Удзи») существенно отличается и по7
содержанию и по духу от всех предшествующих частей книги
[232, с. 133—134].Эти вопросы рассматриваются в «Истории японской литера¬
туры» Хисамацу Сэнъити, в его же «Очерке истории японской
литературы», а также в упомянутых трудах Кддзамаки Кэйд-
зиро, Кунисаки Мокутаро, Саяма Ватару, Сайго Нобуцуна,
Накада Ясуюки и др. Этой проблемой специально занимался
.Окадзаки Есиэ [157, с, 160].Еще со времен Фудзивара Тэйка внимание японских уче¬
ных привлекало отражение прекрасного в романе Мурасаки в
свете философско-эстетической концепции «моно-но аварэ»,
важнейшего принципа философии искусства раннего средневе¬
ковья. Эта проблема в той или иной степени' затронута в подав¬
ляющем большинстве японских исследований, посвященных
«Гэндзи моногатари», в которых выявляется мировоззренческая
основа «моно-но аварэ», дается толкование термина, анализи¬
руются конкретные случаи его употребления в романе и в дру¬
гих произведениях хэйанской литературы, его различные фор¬
мы и лексико-терминологические модификации и т. д.В кругу постоянных интересов японских исследователей—
вопросы метода Мурасаки Сикибу. Эстетическая платформа
писательницы, ее «теория романа» (а точнее, повествователь¬
ной прозы) излагается непосредственно в «Гэндзи моногата¬
ри» (гл. «Светлячки»). Исследование и комментирование этой
теории или отдельных ее положений составляют одно из наи¬
более древних направлений исследования. «Теория романа»
Мурасаки Сикибу рассматривается в работах, посвященных
истории литературной мысли в Японии (например, «История
литературной мысли в древней Японии» Имаи Такудзи [46]),
исследованию «Гэндзи моногатари», а также во многих трудах
по классической японской литературе и истории японской ли¬
тературы вообще.Проблема методологической атрибуции «моно-но аварэ»
как принципа творческого процесса исследована недостаточно
японскими филологами. Поэтому суждения о методе Мурасаки
Сикибу часто делались на основании выдвинутой ею самой
эстетической платформы, соотносимой (или не соотносимой) с
ее претворением в романе. Это было причиной переоценки
«реалистичности» ее произведения, наблюдаемой в трудах ря¬
да ученых, в том числе и весьма авторитетных, например в
«Истории японской культуры» Иэнага Сабуро [299, с. 83].Проблемам метода «Гэндзи моногатари» посвящена глава
в книге Сайго Нобуцуна «Метод в японской литературе» {170].В числе других объектов исследования необходимо упомя¬
нуть образ человека в произведении Мурасаки Сикибу. Вни¬
мание ученых привлекают не столько принципы и приемы изо¬
бражения человека, сколько анализ конкретных человеческих
образов или групп образов. Например, Сонэ Тоёсукэ провел
специальную работу по систематизации женских персонажей
романа и сделал выборку текстов и глав романа, в которых
эти образы наиболее ярко представлены [193].Трем женским образам романа посвящено исследование
Мусякодзи Тацуко «Три сестры из Удзи» [119]. Образы Гэнд¬
зи и других героев романа рассматриваются в книге Энти
фумико «Ми)р „Гэндзи моногатари*'» {256}. Ряд женских обра¬
зов исследуются Кубота Уцубо в плане выявления идеи, реа¬
лизуемой образом (это отражено и в названиях глав его тру¬
да: «Югао и предрешенность смерти», «Крушение иллюзий в
,,Суэцуму-хана“») [88; 161; 170]. Проблеме личности в романе
Мурасаки посвящена работа Такасаки Масахидэ 1206] и глава
в труде Мияниси Кадзуми «История литературной мысли в
Японии» [109, с. 130—135].В ряде работ исследуется вопрос преемственности тради¬
ций «Гэндзи моногатари». В книге Сато Кэндзо «Придворная
литература и литературный процесс» [179] прослеживается
воздействие романа Мурасаки на японскую средневековую ли¬
тературу, выявляются, в частности, многочисленные заимство¬
вания из романа по линии замысла, сюжетно-ситуативного,
текстуального и иного характера в произведениях самых раз¬
личных жанров (поэзия вака и рэнга, военные эпопеи — гунки,..
драматургия и т. д.).В книге Сиода Рёхэй «Классика и послемэйдзийская^ .ли- г « ;
тература» [192] исследуется влияние «Гэндзи моногатари?Ям ада Бимё и других писателей нового, а также новейшего, у/
времени (в том числе и периода Сева). Вопросы связи романа/
Мурасаки с современной литературой рассматриваются в книге
Ёсида Сэйити «Современная литература и классика» (24] (ав¬
тор останавливается на влиянии «Гэндзи моногатари» на твор¬
чество Танидзаки Дзюнитиро), в сборнике статей того же на¬
звания— статьях Хисамацу Сэнъити («Классика и современ¬
ность»), Энти Фумико («Танидзаки Дзюнитиро и „Гэндзи мо-
ногатари**») и Сиода Рёхэй «Кавабата Ясунари и классика»[14], а также в книге Ямамото Кэнкити «Классика и современ¬
ная литература» [259].За последнее время появились работы, в которых делаются
попытки сравнительно-литературоведческого подхода к изуче¬
нию «Гэндзи моногатари». К числу их относится, например,
статья Симада Киндзи «Хэйанская литература и ее место в
мировом литературном процессе» [185]. Симада Киндзи являет¬
ся также автором статьи «„Гэндзи моногатари** в аспекте
сравнительно-литературоведческом» (серия «Кодза Хикаку
бунгаку», т. 1 [185]). Он проводит аналогии между «Гэндзи
моногатари» и «Тристаном и- Изольдой», делает диахронные
сопоставления с Эдгаром По (рассказ «Лигейя»), с Анатолем9
Франсом (новелла «Алая лилия»), с М. Лафайет («Прин¬
цесса Клевская»), с «Мадам Бовари», «Анной Карениной»
н т. д. [186, с. 85—90]. Аналогичные параллели проводит и
Аоки Такако в книге «Японская классическая литература» [9,
с. 12—24].Что касается жанровой специфики «Гэндзи моногатари», то
эта проблема по сей день остается наименее изученной в япон¬
ском литературоведении. Отдельные ее аспекты рассмотрены в
книге Хисамацу Сэнъити «Исследование древней японской ли¬
тературы» [232, с. 25—26]. В числе прочих проблем автор за¬
трагивает и проблему психологизма «Гэндзи моногатари» [232,
с. 134—136].В западноевропейском японоведении есть только одно мо¬
нографическое исследование, посвященное «Гэндзи моногата¬
ри»,— книга Ивана Морриса «Мир блистательного принца»
[353], в которой рассматриваются вопросы культуры эпохи, об¬
раза жизни, быта придворного сословия, получившие отраже¬
ние в произведении Мурасаки Сикибу. Наибольшее внимание
уделяется в 'работах западных исследователей эстетической
концепции Мурасаки. Этому посвящены статьи Уэда Макото
(«Правда и вымысел в повествовательной прозе» [359, с. 25—
36}), Э. Крэнстона («Искусство вымысла у Мурасаки Сикибу»
[339]), Э. Майнера («К новой концепции в классической япон¬
ской поэтике» [351, с. 99—113]). Все три автора анализируют
теорию прозы Мурасаки Сикибу в плане наследования ею ос¬
новных принципов теории поэзии, разработанной в начале
X в. поэтом и филологом Ки-но Цураюки и изложенной в преди¬
словии к поэтической антологии «Кокинсю» (905).У нас в стране роман «Гэндзи моногатари» до сих пор не
исследовался монографически. Ему посвящены три статьиН. И. Конрада: «Роман Мурасаки Сикибу» (1924) [306, с. 151 —
180], «Гэндзи моногатари» (1927) [305, с. 233—255] и «На пу¬
тях к созданию романа» (1927) [306, с. 215—232], а также
статья Е. М. Пинус «Человек в старой японской литературе»
(1969) [320, с. 303—309].В первых двух статьях рассматриваются вопросы темати¬
ки, структуры, .композиции и отчасти жанра «Гэндзи монога¬
тари»; третья посвящена одному из важных аспектов генезиса
романа — выявлению его преемственных связей с лирической
повестью. В статье Е. М. Пинус анализируются некоторые сто¬
роны изображения человека в произведениях Мурасаки Си¬
кибу.Ознакомление с историей исследования «Гэндзи моногата¬
ри» в значительной мере предопределило содержание данной
книги. Основное внимание уделено в ней проблемам, которые
наименее изучены или наиболее спорны, и прежде всего жанру
романа. Исходя из понимания произведения как сложного и
многогранного, не покрываемого однозначной жанровой харак-
теристикой, мы пришли к выводу о необходимости рассмотреть
этот вопрос последовательно, с разных сторон, соответственно
в нескольких главах. Проблема жанра тесно связывается в
исследовании с проблемой литературных истоков «Гэндзи мо¬
ногатари» и характера литературного процесса в эпоху Хэйан,.
ибо жанровое своеобразие романа в значительной мере обус¬
ловлено влиянием распространенных в то время литературных
форм.Значительное внимание уделено в книге одной из наиболее
спорных по сей день проблем темы и концепции романа. Не¬
полнота исследований в области композиции романа (сосредо¬
точенность на приемах сюжетосложения и фабулы и недоста¬
точность анализа специфических композиционных средств)
побудила нас по возможности восполнить этот пробел. Отдель¬
ные главы книги посвящены принципам и приемам изображе¬
ния человека в романе Мурасаки Сикибу и творческому освое¬
нию современными писателями традиций классической
литературы; затронуты также вопросы типологии японского
классического романа и его места в мировом историко-культур¬
ном процессе.В заключение хотелось бы подчеркнуть, что основной зада¬
чей автора предлагаемой книги было представить художествен¬
ный мир «Гэндзи моногатари» как единое целое, во взаимо¬
связи содержания, воспринятого в контексте культуры Хэйан,
и способов его художественного воплощения.
Глава 1РОМАН «ГЭНДЗИ МОНОГАТАРИ»
И КУЛЬТУРА ЭПОХИ ХЭЙАННа рубеже X и XI вв. в японской литературе появляется
ipoMaH. Как мог он возникнуть, если японцы еще в недавнем
прошлом не имели даже письменности (заимствовав иерогли¬
фическое письмо из Китая, они только к VII в. смогли им поль¬
зоваться, приспособив к строю своего языка)? Что способст¬
вовало его появлению?Расположенная на островах, Япония в значительной степе¬
ни развивалась под воздействием внутренних исторических
факторов, при неизменном этническом составе, постоянстве
географических условий и ландшафта, не зная иноземных
вторжений, насильственного внедрения элементов чужой куль¬
туры. Инородное влияние воспринималось лишь добровольно
и отбиралось, естественно, то, что более всего согласовывалось
с собственной культурной традицией.Наиболее интенсивное воздействие оказывала культура Ки¬
тая, Кореи, с которыми Япония поддерживала постоянные тор¬
говые и культурные связи, и — опосредованно — культура Ин¬
дии (в основном через Китай). Особенно сильным было влияние
китайской цивилизации в VI—IX вв.Китайская культура достигла к этому времени высокого
уровня развития. Бурный расцвет пережила литература Китая.
Она подарила миру таких гениев, как Тао Юаньмин, Ли Бо,
Ду Фу, Бо Цзюйи. Литература развивалась бок о бок с исто¬
рической н философской мыслью, впитывая ее н отражая в
своих творениях.Мировоззренческая система Китая складывалась прежде
всего из трех элементов: национального даосизма, старой ре¬
лигии с сопутствующим ей множеством народных поверий и
легенд, конфуцианства и китаизированного буддизма. К VI—
V вв. до н. э. все эти учения были достаточно развиты, зафик¬
сированы в канонических книгах и комментариях: «Лунь
Юй», «Ицзин», «Даодэцзин» и др. Китай, кроме того, распола¬
гал к тому времени (I в.) развитой историографией и имел
целый ряд трактатов по теории литературы.В Японии к IX в. укрепилась власть феодальной аристо¬
кратии, сложилось сословное монархическое государство, ко-12
торое номинально возглавлял император, но поскольку по
установившейся практике на престол обычно сажали мало¬
летних императоров, то реальная власть принадлежала ре¬
генту (сэссё) или верховному .канцлеру (кампаку). Регенты
и канцлеры в это время назначались из рода Фудзивара, ко¬
торый был наиболее могущественным и влиятельным.Аристократии принадлежали большие земельные владения,
управлявшиеся феодалами-наместниками. Сами же аристокра¬
ты предпочитали не покидать столицу без крайней необходи¬
мости; отъезд в провинцию воспринимался как изгнание. Не
слишком утруждали они себя и государственными делами.
Их жизнь заполняли любовь, дворцовые интриги, прогулки,
любование природой и бесконечные придворные празднества.Естественно, что вкусам и потребностям этой среды как
нельзя более соответствовала утонченная, рафинированная
культура Китая эпох Шести династий (IV—VI вв.) и Тан
(618—907), которая бурным потоком хлынула в Японию. Ку¬
миром японских аристократов стал Бо Цзюйи. «Его поэмы
стали для них каноном поэтического творчества, эмоциональ¬
ное содержание поэм — средством для воспитания в себе са¬
мих утонченных чувств и душевных движений, а знаменитая
„Поэма бесконечного ропота*4 (,,Чанхэн-гэ“) — источником
бесконечных претворений: поэтических — в стихах и эмоцио*
нальных — в жизни». Не меньший успех имела поэтическая ан¬
тология «Вэнь сюань». «Изучение 30 томов этой антологии
было обязательно для всех, кто хотел идти вровень с веком,
не отставать от общего направления жизни двора и столичного
общества» [307, с. 201].Параллельно с литературой усваивались и религиозно-фи¬
лософские учения. Древняя национальная религия синто легко
сочеталась с новыми, заимствованными учениями, которые, не
вытесняя местного традиционного культа синто, .своеобразно
переплетались и как бы выстраивались над ним. И так было
во всем. Японцы ничего не усваивали слепо: все преломлялось
сквозь призму их собственной культурной традиции.Буддийские монахи-проповедники вместе с книгами рели¬
гиозного содержания завозили во множестве и ученые труды
по летосчислению, астрологии, географии.Так создавалась богатая и в значительной степени синкре-.
тическая культура, сочетавшая в себе собственные и заимст¬
вованные ценности, которые, в свою очередь, стали мощным
стимулом активизации национальных традиций, реализации
национальных культурных потенций.Эпоха Хэйан характеризуется мощным расцветом искусств.
Развивается живопись, возникает национальная школа жи¬
вописи «Яматоэ». В Хэйане функционирует Академия художеств.
Развивается архитектура. По образцу китайской столицы
Чаньань идет планировка и застройка японской столицы Хэйа-13
на, «города мира и спокойствия». Строятся буддийские храмы
(Хорюдзн и др.), воздвигаются роскошные дворцы.Большое внимание уделяется образованию. В Хэйане откры¬
вается университет (Дайгакурё).И, пожалуй, самое замечательное — это невиданный рас¬
цвет литературы. Именно в этот период создается японский
литературный язык. Параллельно с использованием заимство¬
ванной из Китая и адаптированной к строю собственного язы¬
ка иероглифической письменности создается собственная наци¬
ональная слоговая азбука — кана.Хэйанская литература отличается большим разнообразием
жанров. К концу IX в. японская литература уже имела высо¬
ко развитую лирическую поэзию с тщательно разработанной
системой поэтики, опирающуюся на эстетические установки,
зафиксированные в поэтических трактатах (Предисловии Ки-но
Цураюки к поэтической антологии «Кокинсю», трактатах Ми-
бу-но Тадаминэ «Десять стилей японской песни» и Минамото
Митимицу «Японская песня. Десять стилей»).Поэзия культивирует форму танка, которая, не ограничи¬
ваясь сферой чисто литературной, глубоко входит в жизнь и
быт образованного японца. Обмен поэтическими экспромтами
становится неотъемлемой частью повседневного светского об¬
щения. Ни одно придворное празднество не обходится без
сложения танка, не говоря уже о специальных поэтических,
турнирах, в которых поэты постоянно оттачивают свое мастер¬
ство.Развивается художественно-литературная сказка — «волшеб¬
ная повесть», которая постепенно перерождается в любовно-бы¬
товую повесть и новеллу. Складывается очень своеобразный
жанр лирической повести —«ута моногатари». Накоплен бога¬
тый опыт в области историко-документальной прозы.Появление национальной азбуки кана дало мощный сти¬
мул целому направлению литературы — так называемой лите¬
ратуре женского потока. Мужчины, уже привыкшие писать
по-китайски, с презрением относились к кана и, по существу, от¬
дали ее на откуп женщинам, сами же слагали стихи на .китай¬
ском языке (параллельно с танка), продолжая традиции, зало¬
женные в «Кайфусо» (751), «Кэйкокусю» (827)—антологиях
стихов японских поэтов на китайском языке. Китайский язык
сохранился как язык официальных документов, исторических
сочинений и научных трудов, а также .классической литера-
туры.Женщины в Японии того времени были достаточно образо*
ваны, многие из них были прекрасными поэтессами (достаточ¬
но вспомнить имена принцессы Нукада, Отомо Саканоэ, Оно-
но Комати, Исэ-но Тайсю и др., чьи произведения вошли в
«Манъёсю», «Кокинсю» и другие поэтические собрания эпох
Нара и Хэйан). Они создают жанрьг лирического дневника и14
эссе (правда, первый дневник — «Тоса никки» был написан
мужчиной — Ки-но Цураюки, симптоматично, однако, что свой
дневник он ведет от лица женщины).Помимо жанрового многообразия хэйанскую литературу
отличает высокое мастерство владения словом. Уже поэзия
танка обнаруживает виртуозную технику, отработанность сти¬
ля, отшлифованность языка, богатство образной структуры.Все это подготовило появление на рубеже X—XI вв., в пе¬
риод мощного культурного подъема, знаменитого романа
«Гэндзи моногатари».Культ любви («ирогономи»)
и «очарования вещей» («моно-но аварэ»)В Хэйане существовал особый культ чувства, чувствитель¬
ности, который Н. И. Конрад называет эмоцио'нализмом [307,
с. 203]. Тонкая восприимчивость к красотам природы, к произ¬
ведениям искусства, острая эмоциональная реакция на чувства
окружающих считались нормой в придворном обществе и
неотъемлемыми качествами каждого «порядочного („благород¬
ного") человека» («ёки хито»), и, наоборот, отсутствие этого
расценивалось как отклонение от нормы. Император в романе
плачет от умиления при виде танцующего Гэндзи («Кирицубо»),
а принц Ниоу заливается слезами при мысли о разлуке с
любимой («Укифунэ»).Естественно, что эти качества были присущи и самой Му¬
расаки, что нашло отражение в ее творческой манере и стиле.
В романе много сентиментальных сцен, отрывков, замечаний
автора и высказываний персонажей, рассчитанных на то, что¬
бы вызвать сочувствие, жалость, сострадание читателя.Описывая, например, переживания Гэндзи и Фудзицубо,
писательница замечает: «Бедные души, они отчаянно стара¬
лись отогнать от себя эту любовь, что была лишь нескончае¬
мым несчастьем» («Праздник алых листьев»).Трогательно описание принцессы Суэцуму-хана, проводящей
Дни в полуразрушенном дворце в полном одиночестве и живу¬
щей лишь надеждой на встречу с Гэндзи. Почти вся прислуга
покинула ее, сад зарос дикой травой и .кустарником, и во вре¬
мя зимних холодов некому даже развести огонь в очаге. Прин¬
цесса часами лежит за старой ширмой, уныло глядя на огром¬
ные сугробы снега, окружающие старый дворец и как бы от¬
резающие его от всего мира («Дворец в зарослях»).. Сентимен¬
тальны сцены прощания Акаси с отцом (когда она покидает
родительский дом) и с Гэндзи в Кацура (куда он временно
переселил ее). Акаси была «так взволнована, что беспомощно
упала на постель, и прошло некоторое время, прежде чем она
нашла в себе силы подняться» («Ветер в соснах»). Глубоко
трогает эпизод ее прощания с ребенком, которого она пере-15
дает на попечение Мурасаки. Акаси проводит целые дни в
ожидании Гэндзи (он должен приехать за ребенком), лаская
маленькую девочку и играя с нею. «Однажды утром, — пишет
Мурасаки, — когда быстро падающий снег образовал высокие
сугробы по обе стороны дома, она сидела с ребенком ца ру¬
ках, снова и снова воскрешая в памяти все прошлые беды и
несчастья, и рисовала себе еще более одинокие дни, которые
ей предстоят» («Редкие облака»).В русле эмоционализма рождается особый культ любовно¬
го чувства, который можно охарактеризовать как своего рода
«одержимость любовью». Это хорошо выражено в словах Еси-
да Кэнко, автора эссе «Записки от скуки»: «Мужчина, который
не знает толк в любви, будь он хоть семи пядей во лбу, непол¬
ноценен и вызывает такое же чувство, как яшмовый кубок без
дна» {308, с. 46].Японские исследователи обозначают культ любви, стремле¬
ние к чувственным наслаждениям термином «ирогономи» (пер¬
воначальное его значение —выбор подруги [друга] сердца;
буквальное значение термина, если исходить из его иерогли¬
фического написания, — «любовь к любви»: «иро»— «любовь»,
«страсть»; «кономи» — от «коному» — «любить», «предпочи¬
тать») [69, с. 92].Японский культ любви («ирогономи») можно соотнести с
гедонизмом, присущим европейскому рредневековому рыцарст¬
ву XII—XIII вв. Это —отражение в определенном смысле типо¬
логически сходных тенденций духовного развития, а именно
пробуждения особого интереса к человеку, к миру его чувств,
что и становится главной сферой самовыражения. Эти тендер
ции стимулировали расцвет лирической поэзии, в которой одно
из ведущих мест принадлежит любовной лирике, и появление
вслед за этим и отчасти на базе любовной лирики романа как
эпоса частной жизни человека, главное место в котором опять-
таки занимает любовь.Стиль придворной жизни в Хэйане характеризовался доста¬
точной свободой любовных отношений как со стороны муж¬
чины, так и со стороны женщины. Однако положение мужчи¬
ны и женщины в этой сфере было далеко не равным, как,
впрочем, и во многих других. Женщина в хэйанском обществе
во многом была независима. Существующая при дворе табель
о рангах включала достаточно широкий перечень женских при¬
дворных должностей и званий, практически не уступавший пе¬
речню мужских рангов. Женщина имела право наследовать
имущество и владеть им, однако не имела возможности само¬
стоятельно управлять поместьем — без управляющего или по¬
кровителя. Женщина могла получить такое же образование,
как и мужчина, могла заниматься литературным творчеством,
правда «излишняя ученость» женщины не поощрялась в об¬
ществе.16
Вместе с тем наличие фактической полигамии ограничива¬
ло свободу женщины. Мужчина имел главную, или официаль¬
ную, жену, .которую он чаще всего вводил в свой дом. Во двор¬
це знатного придворного она обычно располагалась в Север¬
ных покоях и называлась «Госпожа Северных покоев» («Кита¬
но ката»). Оставался в силе и древний обычай «цумадои», когда
муж навещал жену в доме ее родителей. Помимо главной
жены мужчина мог иметь неограниченное число наложниц,
одна из которых получала статус официально признанной. При
желании наложницу (одну или несколько) мужчина помещал
в своем доме или во дворце. По ироническому замечанию Сай-
го Нобуцуна, «положение мало чем отличалось от Персии»
[171, с. 222]. И такое положение не только санкционировалось,
но и поощрялось общественным мнением: излишняя «верность»
одной женщине расценивалась как признак «дурного тона»
[52, с. 12].В романе Мурасаки даже Югири, старший сын Гэндзи, бу¬
дучи эталоном мужской верности и живший в течение десяти
лет только со своей любимой женой Кумой, в конце концов
поддался веянию времени и начинает посещать принцессу
Отиба, вдову своего покойного друга под предлогом «оказания
ей помощи». Кумой постепенно догадывается о неверности му¬
жа. Однажды в припадке ревности она вырывает из рук Юги¬
ри письмо от матери Отиба и, не читая, потрясает им перед
глазами изумленного супруга, будучи уверенной в том, что это
письмо получено им от возлюбленной. После безуспешных
попыток убедить жену в безосновательности ее подозрений,
Югири говорит: «Ну что же, пусть будет так, как может быть.
Ведь, по существу, то, в чем ты меня подозреваешь — самое
обычное дело на свете. Должно быть, я просто исключитель¬
ный человек. Слышала ли ты когда-нибудь о мужчине, кото¬
рый, занимая положение в обществе, подобное моему, был бы
привязан только к жене и не смотрел бы на других женщин,
как сокол, запуганный своей самкой. Не удивительно, что я
стал посмешищем!» («Югири»).Нарушение мужчиной верности жене или наложнице пре¬
вратилось в одну из социальных условностей, от которой стра¬
дали не только женщины, но нередко и сами мужчины.Достаточно вспомнить, например, некоторые сцены романа.
Вскоре после того как Ниоу-но мия привез Нака-но кими в
столицу как свою официальную возлюбленную, обстоятельства
сложились так, что он должен был сделать Року-но кими, дочь
Югири, своей официальной женой. Он ничего не имел против
Року-но кими, но в тот момент предпочел бы ограничиться
Нака-но кими, с которой его связывало искреннее и глубокое
чувство.Его мать, императрица, «выговаривала» ему по этому по¬
воду! «Люди простого происхождения могут находить для себя2 Заи. 65417
трудным делить свое внимание, если уж они женились. Но для
мужчины в твоем положении все обстоит несколько иначе. По-
смотри на самого Великого .министра (Югири. — И. Б.). Ты
едва ли найдешь человека более серьезного. Однако можешь
ли ты считать, что он остался верным одной жене? Конечно,
нет! Годами он жил с двумя женщинами — Кумой и принцес¬
сой Отиба, и никто не думал ничего дурного по этому поводу.У тебя еще меньше оснований для колебаний, ибо, если твоя
карьера повернется так, как я надеюсь (Ниоу должен стать
кронпринцем. — И. Б.), много жен в твоем доме тебе уж, во
всяком случае, не повредит» («Ядориги»). Молодой человек
вынужден был согласиться с этими аргументами, .которые и
автор романа комментирует как «чрезвычайно убедительные».Естественно, что при таких обстоятельствах положение
японской женщины в семейной и любовной сферах была весьма
непростым, ее преследовал постоянный страх потерять возлюб¬
ленного (для некоторых это одновременно означало и потерю
средств к существованию). Не гарантировал от сюрпризов и
статус официальной жены: муж в любое время мог привезти
в дом или поселить поблизости официальную возлюбленную.
От жены же требовалось соблюдение супружеской верности,
преданность и терпимость. В романе Я|рко описаны пережива¬
ния Нака-но кими, после того как принц Ниоу женился на Ро-
ку-но кими, хотя она смирилась с неизбежностью и молча пе¬
реносила муки ревности, страдания Мурасаки, когда Гэндзи
сделал юную принцессу Нёсан своей официальной женой.Женщина была связана в обществе и целым рядом других
условностей.Сдержанность Нака-но кими в отношении Каору объясняет¬
ся прежде всего страхом оставить впечатление, будто она
принимает своего прежнего поклонника — положение, которое,
она знала, могло быть терпимым в обычных семьях, но было
бы воспринято очень сурово людьми, в кругу которых она вра¬
щалась («Укифунэ»).Помимо всего прочего женщина была лишена, по сущест¬
ву, свободы передвижения: все время она проводила практи¬
чески дома, в четырех стенах, где она могла открыто показы¬
ваться только своему отцу или мужу. По образному выраже¬
нию американских исследователей Р. Броуэра и Э. Майнера,
«мужчина обладал подвижностью шмеля, тогда как женщина
была подобна домашнему растению» (337, с. 431].В атмосферу «ирогономи» читателя вводит 2-я глава ро¬
мана «Хахакиги» («Дерево-метла»). В ней рассказывается,
как однажды в дождливую ночь Гэндзи и его друзья, собрав¬
шись в его особняке на Шестой страже, «обмениваются опытом»
любовных похождений и ведут разговор о женских характе¬
рах. Один из них, То-но Тюдзё, сказал: «Да! Мало женщин, о
которых можно было бы сказать: „Вот это женщина!“ Мало18
таких, которые были бы безупречны во всем. Из своего зна¬
комства с ними я все больше и больше убеждаюсь в этой ис¬
тине. Есть, конечно, — даже довольно много — женщин, кое-что
смыслящих в нежных чувствах, женщин, что умеют искусно
писать, умеют вовремя ответить подходящим стихотворением...
В известной среде их можно найти довольно много. Но если
задумаешь выделить какую-нибудь одну, очень редко случает¬
ся, чтобы какая-нибудь из них смогла бы удовлетворить всем
требованиям».Другой, Самма-но ками, продолжает его мысль: «Посмот¬
ришь на женщин в свете: как будто бы все они хороши, но
захочешь сделать какую-нибудь из них своею, связать со своей
жизнью, оказывается, та.к трудно выбрать достойную даже из
очень многих» [302, с. 601].Надо сказать, что культ любви у хэйанцев, несмотря на то,
что любовь эта, по выражению Н. И. Конрада, «была не слиш¬
ком романтической», не имел ничего общего с культом откровен¬
ной и грубой чувственности. Он определялся и регулировался
принципом «моно-но аварэ» (букв, «очарование вещей», «пафос
вещей»: моно — «вещь», «объект» в самом широком смысле
этого слова, т. е. все то, что окружает человека и действует на
его органы чувств).Здесь мы подошли ко второму важному элементу, опреде¬
лившему мировосприятие и мировоззрение хэйанской аристо¬
кратии, к особой философско-эстетической позиции, исходящей
из убеждения, что окружающие человека атрибуты материаль¬
ного и духовного мира могут таить в себе каждый свое, непов¬
торимое, только ему одному свойственное «очарование» («ава¬
рэ»); человек же, а в особенности художник, должен обладать
чувствительным сердцем и изящным вкусом, чтобы найти это
очарование, ощутить его и откликнуться на него в поэтической
форме.Природа «аварэ» эмоциональна. Этимологически слово это
восходит к междометию «аппарэ» — «ах!», выражающему чув¬
ство восхищения, удивления и т. д.В таком значении встречается оно в «Кодзики», «Нихон¬
ги», «Манъёсю». «Аварэ ана омосиро!» — «Ах, как интерес¬
но!»—восклицает богиня солнца Аматэрасу, заинтересовавшись
комическими танцами другой богини, Амэ-но Удзумэ, и с лю¬
бопытством выглянув из небесного грота, куда она скрылась,
не желая видеть бесчинств своего младшего фата — бога сти¬
хий Хая Сусаноо («Кодзики»).«Аварэ» употребляется и как значимое слово для выраже¬
ния чувства восторга, восхищения, как обращение к возлюблен¬
ной или возлюбленному — в последнем случае оно близко по
значению слову «милая», «любимая», — а также для выражения
сочувствия, жалости и т. п. Например, песня, сложенная им¬
ператором Юряку в ожидании встречи со своей нареченной,2*19
принцессой Кусакабэ, завершается такими словами: «Ноти мо
куминэму соно омой цума аварэ» — «Та, с кем делить буду
ложе, любимая жена прекрасна!» («Кодзики»),В песнях «Манъёсю» встречаем: «Аварэ вагимоко матицуцу
араму» — «Дорогую возлюбленную буду поджидать» [95, кн. 11,
.№ 25941; «Аварэ то кими-о ивану хи ва наси» — «,,Милый“ —
нет дня, чтобы не говорила так о тебе» (95, .кн. 12, № 3197];
«Кусамакура таби-ни коясэру соно табибито аварэ» — «Жаль
странника, что погибает в пути» [95, кн. 3, № 415]. В «Нихон-
ги»: «Накисоботиюку соно Кагэ-химэ аварэ» — «Со слезами
покидающая {родную землю], сожаления достойна принцесса
Кагэ» [145, т. 3, с. 246].Таким образом, .круг эмоциональных состояний «аварэ»
изначально включал восхищение, умиление, чувство любви, жа¬
лости, а также просто интерес, любопытство и т. п.Эта философско-эстетическая позиция сложилась на базе
совокупного влияния ряда идеологических факторов, как авто¬
хтонных, так и воспринятых извне.Восходящая к синто анимистическая традиция (одухотво¬
рение всего и вся) в соединении со своеобразно воспринятой
доктриной буддизма Махаяны (о том, что в каждом существе
н в каждом предмете — от человека и до крошечной былин¬
ки— заложена природа Будды) породила представление об
■особой внутренней «сути вещей» («моно-но кокоро»), а синтоист¬
ский наивный оптимизм и жизнеутверждающий культ природы,
стимулируя восхищение естественным проявлением вещей,
способствовал тому, что внутренняя «суть вещей» стала вос¬
приниматься как некая красота, очарование («аварэ»). Нема¬
лую роль в этом сыграло и влияние утонченной культуры Ки¬
тая, «танского эстетизма», который, по образному выражению
Н. И. Конрада, «был весь перенесен на Японские острова»
1307, с. 201].Этот принцип подхода к явлениям и их восприятия, естест¬
венно, находит свое воплощение в искусстве, прежде всего в
поэзии, обусловливая соответствующие задачи последней. Хэй-
анские поэты не воспринимали предметы и явления такими, ка¬
ковы они есть, но старались выявить скрытое в них «Очарова¬
ние».Надо сказать, что уже в поэзии Отомо Якамоти (серединаVIII в.), родоначальника японской интимной лирики, прояви¬
лась та чувствительность, утонченность («мияби»), которая
считалась у лириков Хэйана необходимым условием восприятия
«очарования вещей» и реакции на него. В творчестве Якамото
раскрывается необычайно богатый мир чувств, которые куль¬
тивировала и развивала та литературная среда, где он вра¬
щался (большое влияние оказали на Якамото его отец Отомо
Табито и тетка Отомо Саканоэ, сами бывшие превосходными
поэтами) {358, с. 134—135]. Его трактовка эмоций призвана20
была глубоко затронуть чувства читателя и пробудить его от¬
ветную реакцию. Не только богатство эмоционального содер¬
жания, но и сама форма его выражения обнаруживает арти¬
стичность и гармонию, к которой всегда стремились хэйанские
поэты.Чувствительность, способность и умение реагировать на
эстетический сигнал, реагировать в надлежащей форме, стала
в эпоху Хэйан нормой поведения в жизни, неотъемлемой чер¬
той художественного творчества. В сфзре поэзии это находит
свое проявление не только в подходе к изображаемому (стрем¬
ление выявить в нем «ава|рэ»), но и в выборе формы и средств
выразительности (изысканность и утонченность поэтического
языка и стиля) и, наконец, в самом отборе материала, в огра¬
ниченности поэзии определенным кругом тем и мотивов, наибо¬
лее благодатных для выявления «аварэ». При этом каждый
поэт стремился найти свой вариант темы, мотива, ситуации,
нюанс образа, с тем чтобы (раскрыть и воспеть «аварэ», еще
не обнаруженное до него.Поэт Ки-но Тосисада, например, находит «аварэ» в един¬
ственном цветке вишни, вдруг распустившемся в конце весны:Прекрасно (аварэ)! Уж не для того ль,
Чтоб этих словНе слышать без конца вокруг,После весны расцвел...Один!.. [8Й, Ко 136]А монах Сосэй воспевает прелесть японской гвоздики на
закате:Мне ль одному
Ей любоваться (аварэ) —По вечерам, когда трещат сверчки
И солнце на закате —Японскою гвоздикой? [82, № 244]Причем состояние «аварэ», вдохновившее музу поэта и вы¬
раженное в его стихотворении, далеко не всегда «названо».
Это совсем не обязательно. Даже наоборот, слово «аварэ» в
произведении обычно не фигурирует, но само содержание сти¬
хотворения в совокупности с надлежащими способами выраже¬
ния призвано вызвать в душе читателя (слушателя) соответ¬
ствующее ощущение и эмоциональную реакцию, например:Хито ва иса Ах, человек!Это стихотворение сложено Цураюки при посещении хра¬
ма Хасэдэ|ра в пров. Нара. Поэт удивлен неприветливостью
хозяина, у которого прежде он останавливался и всегда встре¬кокоро мо сирадзу
фурусато ва
хана дзо мукаси-но
ка-ни ниоикэру.Сердца его не понять!Где был когда-то.Лишь цветыПо-прежнему благоухают..iAOlUl ...82, № 42]21
чал радушный прием. Он сетует на непостоянство человеческо*
го сердца, которое н противопоставляет неизменно прекрасному
аромату цветов.Другой поэт, наоборот, воспевает изменчивую красоту при¬
роды и с грустью выражает свою сопричастность этой измен¬
чивости, с грустью, которая по-своему чарует и трогает:Тиру хана-о Цветы, что опадают,—наника урамин За что на них роптать?ё-но нака-ни Ведь в этом миревагами томо-ни Я и самаран моно ка ва Не с ними ль заодно?(82, № 112}Дух «аварэ» находит яркое выражение и в песне на мотив
тоскливого одиночества:Вага ядо ва Мой дом —кжи фурисикитэ Весь снегом занесен,мити мо наси Тропинки даже нет.фумивакэтэ тоу Ведь проторить еехито си накэрэба Ко мне — некому... [82, № 322]«Очарование» ощущалось и переживалось тем глубже, чем
более перекликалось данное явление с душевным состоянием
субъекта. Показателен отрывок из «Идзуми Сикибу никки»
(«Дневник Идзуми Сикибу»).«Ночью 23-го числа принц, любуясь со своей галереи сия*
нием предрассветной луны, писал даме:- „Как ты там? Лю¬
буешься ли сейчас прекрасной луной?Не забыл я,А помнишь ли ты
Ту лунуЧто, скрываясь за гребнями гор,Сожаление у нас пробуждала“» [28, с. 410]Другим источником эстетического состояния «аварэ» был
мир человеческих чувств и отношений, что нашло отражение в
песнях любви, разлуки, странствований, в плачах и других про¬
изведениях.Отклик, пробуждаемый красотами природы, чаще несет в
себе светлое, радостное начало, которое составляет первоисточ¬
ник «духа аварэ».«Аварэ» может принимать и элегическую окраску, в особен¬
ности при отражении душевного мира человека, реакции на
жизненные ситуации. Определенную роль сыграли в этом буд¬
дийские идеи эфемерности и тщеты бытия.Окрашенный в черное,Вечер когда настает,Один яИ лишь с сожалением (аварэ, аварэ)
г О чем-то вздыхаю [82, № 1001].«Аварэ» может выражать и сожаление о прошлом, об ухо-22
дящих годах, например в следующем отрывке из нагаута Цу¬
раюки:Каждый год я,О прошлом тоскуя,Как жаль (аварэ) \ —Слова произношу... [82, № 1002]Естественно поэтому употребление «аварэ» в плачах*Хозяйка кто твоя?Спросил, но яшма белая
Безмолвна...Отчего же сноваМеня охватывает грусть (аварэ)} [82, № 873]Кавара СадайдзинЕсли в древнеяпонской литературе «аварэ» предстает как
категория чисто эмоциональная, то поэтический материал
«Кокинсю» отразил первый этап осмысления понятия «аварэ».Примером может служить уже приводившееся стихотворе¬
ние Тосисада, а также следующее стихотворение Комати:«Прекрасно (аварэ)» —Каждый раз на листья этих слов
Росинки падают —То сожаления о прошлом
Слезы... [82, № 940]Здесь, как и у Тосисада, «аварэ» использовано как осмыс¬
ленное понятие — «аварэ то ю кото» — «слово „аварэ"».О светлом ли (аварэ),О грустном ли (уси)Когда задумываюсь я,Зачем же слезыОбильно так текут? [82, № 805]В данном примере «аварэ» употребляется как абстрактное
понятие «светлое» и противопоставляется понятию «грустное»,
«печальное».Наряду с этим сохраняется и традиционное употребление
«аварэ» в качестве междометия, а также в лексических значе¬
ния*, зафиксированных в поэзии «Кодзики», «Нихонги»,
«Манъёсю».Как междометие оно использовано, в частности, в стихотво*
рении:Заброшенный приют!Ах (аварэ), сколько лет
Стоит он здесь?Тот, кто в нем жил,Уж не приходит! [82, № 984]В значении «прекрасный», «очаровательный»:«Не так сам цвет,Как аромат цветов прекрасен (аварэ),Нам думается:23
Вот и слива, что у меня в саду,Как будто твой рукав ее коснулся [82, № 35].(Было принято наполнять карманы рукавов лепестками
цветов, и потому рукава имели естественный приятный аро¬
мат.)В значении «дорогой», «милый»:Милая (аварэ) — думаю
Снова и снова —Как белые волны, что в море встают,И сердцем к тебе устремляюсь,Где бы я ни был! [82, № 474]Аривара МотокатаТермин '«аварэ» употреблялся при оценке импровизаций на
поэтических турнирах, а также и как наименование одного из
десяти поэтических стилей, в котором нашел наиболее яркое
воплощение «дух аварэ».В результате осмысления и обобщения эмоциональных
состояний «аварэ» возникает эстетическая категория «моно-но
аварэ» («очарование вещей»). Этот термин встречается уже
в начале X в. у Цураюки, в его «Дневнике путешествия из
Тоса».«Моно-но аварэ» включает, как пишет проф. Ониси ёсино-
ри, три момента (точнее, три смысловых уровня): а) особое
эмоционально-психическое состояние (грусть, сочувствие
и т. д.), б) чувство, чувствительность вообще («кандо иппан»)
и в) эстетическое понятие о прекрасном (цит. по [24, с. 10]).
Логическая связь этих смысловых уровней, по нашему мнению,
такова: чувствительность является необходимым условием, при
котором человек, руководствуясь определенными эстетически¬
ми критериями, способен находить и ощущать «очарование ве¬
щей».«Моно-но аварэ» не просто эстетическая категория, но и
категория этикетная. «Моно-но аварэ-о сиру» — иметь понятие
о прекрасном (букв, «знать очарование вещей») было•одним
из главных требований этикета в придворном обществе."В «Дневнике» Цураюки мы-находим это выражение в запи¬
си «двадцать седьмого дня», в отрывке, следующем за стихо¬
творением, сложенным провожающими: «И тогда тот, кто уез¬
жал, умиленный и взволнованный, говорит:Шест опускаю,Но моря пучина
Не ведает дна —Такие глубокие чувства
Вижу у вас...Однако же кормчий, не имевший понятия о прекрасном
(моно-но аварэ-о сирадзу), к тому же до самой кормы нагру¬
женный вином, торопил нас» [74, с. 30].В романе о Гэндзи выражение «моно-но аварэ-о сиру» встре-24
чается неоднократно, свидетельствуя о том, что понятие это
прочно вошло в обиход и приобрело силу жизненного прин¬
ципа. Содержание, которое в него вкладывалось, явствует, на¬
пример, из следующего высказывания Самма-но ками, одного
из друзей Гэндзи, собравшихся у него в дождливую ночь, что¬
бы поговорить и поспорить о женских характерах: «Самое
главное для женщины — помогать мужу, быть ему поддержкой
в жизни... Для этого ей не так уж и обязательно до тонкостей
разбираться в прекрасном (моно-но аварэ сирисугуси)] она
может и не уметь по всякому пустяку выказать свою чувстви¬
тельность (хаканаки цуйдэ-но насакэ ари), может и не преуспе¬
вать особенно в изящных искусствах... (окасики-ни сусумэру
ката накутэ мо ёкару бэси...)» [17, т. 14, с. 64].Здесь, таким образом, «моно-но аварэ-о сиру» предстает
понятием достаточно емким, которое и расшифровывается как:
а) разбираться (знать толк) в прекрасном, б) быть чувстви¬
тельным, чутким (насакэ ари), в) преуспевать в изящных ис¬
кусствах. И хотя употреблено данное выражение как будто бы
в негативном плане, как альтернатива другого требования,
предъявляемого Самма-но ками к женщине (помогать мужу,
быть ему поддержкой в жизни), однако из самого противопо¬
ставления явствует, .какое значение придавалось этому качест¬
ву в свете.«Моно-но аварэ-о сиру», по словам Ониси Ёсинори, скла¬
дывается из двух сторон: «моно-но кокоро-о сиру» (знать душу
вещей, «кокоро» — «душа», «сердце») и «моно-но аварэ-о сиру»
(знать очарование вещей, т. е. иметь понятие о прекрасном)
(цит. по [24, с. 10]).Иными словами, для того чтобы выявить «моно-но аварэ»,
надо глубоко познать предмет, проникнуть в его суть, в его
«душу». Поэтому в тексте романа встречается иногда и ва¬
риант «моно-но кокоро-о сиру», однако смысл его в основном
идентичен или близок «моно-но аварэ-о сиру». Указанный ва¬
риант использован, в частности, в отрывке, где дается харак¬
теристика трехлетнему Гэндзи: «Однако наружность ребенка
и нрав его были так прекрасны и необыкновенны, что даже
сердца завистников смягчались. Люди же, понимающие „душу
вещей" (моно-но кокоро-о сиритамау хито), смотрели на него
только широко раскрытыми глазами и говорили: „И появляют¬
ся, же такие люди на свете!**» [17, т. 14, с. 30], а также в реплике
Гэндзи в ответ на заверения Когими в том, что ему удастся
уговорить свою сестру Уцусэми и устроить Гэндзи свидание
с ней: «Совсем ребенок, а умеет проникать в „душу вещей**
{моно-но кокоробаэ)...» [17, т. 14, с. 112].Стремление к красоте, умение чувствовать, понимать и це¬
нить прекрасное обусловили особый интерес к искусству. При¬
чем наряду с развитием профессионального искусства важную
роль играло приобщение к определенным видам искусства25
целого сословия. Как правило, каждый аристократ владел ка¬
ким-либо видом искусства или даже несколькими.Так, в романе Мурасаки Гэндзи прекрасно танцует, играет
на цитре и рисует. Фудзицубо представлена как одна из лучших
для своего времени исполнительниц на цитре и большой зна¬
ток и ценитель живописи. Особый талант игры на цитре отме¬
чен у Акаси.Важную роль в придворном обществе играла поэзия. Сло¬
жение, цитирование стихов было не только непременным усло¬
вием общения при дворе. Без этого не обходилось ни одно
придворное празднество. Поэзия широко использовалась и в
быту — в устном диалоге и в переписке. Высоко ценилось уме¬
ние быстро и в надлежащей форме (в духе «аварэ») отклик¬
нуться на эстетический сигнал. Этим объясняются возросшая
роль поэтического экспромта и культ лирической миниатюры
танка.Танка постоянно обмениваются между собой персонажи ро¬
мана. Показателен, в частности, следующий эпизод.Гэндзи, до сих пор являвшийся к Югао в маске, решил
наконец снять маску и объяснил это в стихах:Напоенный росою вечерней,Раскрылся цветок
Перед взором твоим.О союз наш! Долгий путьЯ проделал к тебе.Югао, бросив взгляд на Гэндзи, тихо проговорила в ответ:Раньше думала я:То роса,Что на ликах вечерних сияет.■Видно, в сумеркахГлаз мой ошибся («Югао»).Поэзия того времени, в значительной мере условная с точ¬
ки зрения тематики и образных средств, предоставляла боль¬
шие возможности для использования намека, аллюзии, столь
характерных для языка хэйанской аристократии.Когда Укифунэ, главная героиня последней части романа
(«глав Удзи»), исчезла, оказалось достаточно одного слова из
оставленного ею письма к принцу Ниоу, чтобы восстановить
все стихотворение, из которого можно было заключить, что она
утопилась. Это слово — «мадзиранаба» («если б погрузиться»),
живо напомнившее хорошо известное тогда стихотворение о
плывущей ладье:Хоть несчастное тело мое
И погрузится в мутные волны,Мое грешное имя, увы,На поверхность всплывет, чтоб молва
Подхватила его.Поэтический отклик на ситуацию прочно вошел в обиход.
Рокудзё, будучи вне себя от унижения и возмущения (на26
празднике назначения новой жрицы храма Камо карета Аои
оттеснила и повредила ее карету, и Рокудзё вынуждена была
пересесть в чужую) и досадуя, что Гэндзи проехал мимо, не
заметив ее, сложила танка:Зыбкой тенью,В реке отраженной,Промелькнул ты, жестокий.А я? Лишь теперь поняла,Сколь печален удел мой («Аои»).А Аои слагает стихотворение даже на смертном одре. Во
многих случаях поэтический отклик на ситуацию был данью
светской условности. И нет ничего удивительного, что некото¬
рые находили эту светскую условность достаточно обремени¬
тельной, о чем свидетельствует следующий отрывок из главы
«Дерево-метла»:«...Затем — писание стихов... Есть люди, что очень гордятся
таким своим искусством, только и знают, что пишут стихи.
Слагают их, помещая в начальную строфу какой-нибудь намек
на событие... Слагают и посылают их другим без всякого раз¬
бора, когда попало. Это бывает очень неприятно. Не ответить —
неловко. Вот они таким образом и ставят людей неискусных в
затруднительное положение. Самое затруднительное бывает
в праздники... Например, в пятый день пятой луны... Утром
спешишь во дворец, готовишься, тебе не до того — и вдруг:
цветок ириса и с ним стихотворение. Или в девятый день девя¬
той луны; тут занят размышлениями: „Как-то удастся сегодня
сложить китайскую поэму?" — и вдруг цветок хризантемы, а
с ним стихотворение с изложением своих чувств. Не ответить
нельзя. И отвечаешь, хотя голова занята совсем другим. И по¬
лучается произведение поистине никуда не годное. Да и не
только в эти дни. И в другое время пришлют тебе изящное сти¬
хотворение... Прочесть его потом, на досуге было бы очень
интересно, а тут прислали, когда тебе некогда, и из-за этого
не можешь хорошенько его прочувствовать. Есть люди, что
совершенно этого не понимают, слагают стихи и посылают их
Другим, не считаясь со временем, — такие люди представляются
мне скорее просто лишенными изящного вкуса. При всяких
обстоятельствах бывают моменты, когда лучше не браться за
стихи. И людям, которые в этом не разбираются, лучше пере¬
стать прикидываться, что у них есть вкус и понимание ве¬
щей» [302, с. 616].На втором месте после искусства стихосложения стояла,
пожалуй, каллиграфия. Почерк служил важной характеристи¬
кой человека из общества («ёки хито»). Когда Мурасаки уви¬
дела у Гэндзи письмо от его возлюбленной Акаси, она прежде
всего обратила внимание на почерк, которым был написан ад¬
рес. Она угадала в нем «необычайную глубину чувства» и
отметила, что он сделал бы честь самой знатной придворной27
даме. «„Ничего удивительного, — заключила она для себя,—
что Гэндзи питал к ней такие чувства". Этот почерк вызвал
у нее серьезные опасения за свою дальнейшую судьбу»
(«Акаси»).Через несколько лет у Мурасаки появился новый объект
ревности — тринадцатилетняя принцесса Нёсан, которая стала
официальной женой Гэндзи. Мурасаки с нетерпением ожидает
случая увидеть почерк соперницы, будучи уверена в том, что
это определит ее будущее. Однажды, когда Гэндзи лежал с
Мурасаки в ее .комнате, служанка подала ему письмо от мо¬
лодой принцессы. Прочтя письмо, Гэндзи дал возможность и
Мурасаки взглянуть на него. С первого взгляда Мурасаки убе¬
дилась, что это детский почерк, и была удивлена, как можно
в таком возрасте не развить более элегантной манеры письма.
Она воздержалась от комментария, дав понять Гэндзи, что
письмо не произвело на нее впечатления. Молчал и Гэндзи,
Письмо, написанное неумелым женским почерком, разочарова¬
ло и его. Если бы это письмо пришло от кого-то другого, он
бы уж не преминул шепнуть Мурасаки что-нибудь по поводу
почерка, но он пожалел Нёсан и просто сказал: «Ну, теперь
ты видишь, что тебе нечего волноваться!» («Молодая по¬
росль»).Когда речь шла о письмах, обычно отмечали не только по¬
черк и стиль, но также качество, цвет бумаги и благовония,
которыми она была пропитана. Например, в тексте романа от¬
мечается, что письмо от принца Соти-но мия «было написано
искусной рукой, на тонкой белой бумаге» («Светлячки»), а
письмо, полученное от Суэцуму-хана, «было на толстой бумаге
и пропитано сильным ароматом, иероглифы были смелы и твер¬
ды... И стиль танка был неприятным, со сложным и тяжело¬
весным сочетанием слогов» («Цветок шафрана»).В ряде случаев почерк подвергается детальному анализу
со стороны писательницы как одна из важных характеристик
того или иного персонажа. Так, о письме Оми, приемной до¬
чери Тюдзё, адресованном ее названой сестре Кумой, сказано:
«Оно было написано на единственном листе зеленой бумаги
для стихов в скорописном стиле, обильно разукрашенном
крючками и росчерками, которые, казалось, блуждали вокруг
по собственной воле, и было вовсе неизвестно, для чего они
сделаны. Хвосты у знаков были необычайно длинны, и строчки,
по мере того как она писала, съезжали все более и более
вкось, так что к концу письма и вовсе готовы были упасть на¬
бок» («Вечное лето»).Существенную роль играло также искусство рисования. На¬
ходясь в ссылке в Сума, Гэндзи делал зарисовки моря и окру¬
жающих гор, и это было для него одним из величайших утеше¬
ний. Подобно поэтическим турнирам, нередки были состязания
в искусстве живописи. В романе есть специальная глава «Эава-28
сэ» («Конкурс картин»). Эта выставка-конкурс состоялась в
связи с представлением ко двору и помолвкой будущей импе¬
ратрицы Акиёси вскоре после возвращения Гэндзи в сто¬
лицу, и его зарисовки были противопоставлены тем рисункам,
картинам и т. д., которые подготовили к этому случаю другие
придворные. На конкурсе помимо любительских рисунков бы¬
ли представлены иллюстрации к повестям и рассказам, днев¬
никам, эссе, а также картины профессиональных мастеров.
Выставка была богато и красочно оформлена. Обозрение со¬
провождалось оживленными спорами и рассуждениями по по¬
воду стилей и тематики живописи, выявившими осведомлен¬
ность в этой области как ее организаторов и участников, так
и всех присутствующих. Состязание проходило в два тура.
Оно продолжалось целый день и закончилось только к рассве¬
ту. Различия между любительскими рисунками, иллюстрация¬
ми и картинами профессиональных мастеров были в значитель¬
ной степени условными. Наибольший успех имели рисунки
Гэндзи.Большое внимание уделялось при дворе музыке. Недоста¬
точно было одного только умения слушать и понимать музыку.
Каждый «благородный человек», мужчина или женщина, дол¬
жен был уметь сам играть на кото (род лютни) или сямисэне
(разновидность цитры). Играли не только на придворных
празднествах. Периодически устраивались любительские кон¬
церты в домах и на открытом воздухе.Вот как описан в романе один из таких концертов, состояв¬
шийся на следующий день после состязания в живописи.«Это был конец месяца, и поздняя луна наконец взошла.В комнате, где они собрались, было еще темно, но небо уже
заалело на Востоке. Был послан слуга в бюро книг и инстру¬
ментов, и, когда инструменты были принесены, То-но Тюдзё
выбрал шестиструнную японскую цитру, которой он владел с
большим мастерством, хотя и несколько уступал в этом Гэнд¬
зи. Принц Соти-но мия взял большую тринадцатиструнную'
цит1ру, Гэндзи же остановился на семиструнном кото. Дама из
свиты Акиёси, Сёсё-но мёбу, аккомпанировала им на семи¬
струнной лютне. Одного из старших придворных, который был
известен своими музыкальными талантами, попросили дири¬
жировать, и восхитительный концерт начался.По мере того как светало, окраска цветов, лица и силуэты
играющих становились все более и более ясно видимыми. Те¬
перь и птицы присоединились к ним со своим веселым щебе¬
танием. Это был рассвет, .который мог порадовать сердце лю¬
бого человека» («Конкурс картин»).Мурасаки Сикибу сама была достаточно осведомлена в
области истории музыки и музыкального исполнительства, что
позволило ей писать об этом со знанием дела. Ее персонажи
подолгу обсуждают музыкальные стили, различную манеру иг¬29*
ры на музыкальных инструментах, особенно на цитре; по сви¬
детельству И. Морриса, роман представляет собой ценный
источник для изучения японской музыкологии [353, с. 189].Во времена Мурасаки существовало множество танцев; сре¬
ди них танцы иноземного происхождения (китайские, корей¬
ские и даже индийские), провинциальные и народные танцы,
приспособленные для исполнения в высшем обществе, танцы,
связанные с синтоистскими ритуалами, как, например, кагура,
который исполнялся на празднике Камо.Большой популярностью при дворе пользовались танцы
Госэти, которые исполнялись на многих праздниках и церемо¬
ниях специально подобранными девушками из хороших семей.
По преданию, эти танцы были организованы для приветствия
императора Тэмму. Предание гласит, что, когда однажды им¬
ператор Тэмму играл на цитре в своем дворце, к нему при¬
соединилась группа небесных дев,, которые танцевали перед
дим в платьях из перьев (одеяние небесной феи) [353, с. 190].Танцы играли важную роль в воспитании совершенного
аристократа. Были и профессиональные мастера танца (маи-
но си), однако, по словам императора, отца Гэндзи, эти экс¬
перты, как бы ни были они искусны, никогда бы не исполнили
танец с той элегантностью, которой могло быть отмечено ис¬
полнение его молодым человеком из хорошей семьи.Ни один почти праздник, церемония или ритуал, а также
многие частные собрания не обходились без исполнения тан-
лев. Следующий отрывок описывает репетицию одного из
придворных танцев бугаку1, который должен был исполняться
на императорской процессии.«Гэндзи танцевал Волны синего моря. Его партнером был
То-но Тюдзё, который, хотя и превзошел многих в мастерстве и
красоте исполнения, совершенно поблек рядом с Гэндзи, как
низкорослый и захудалый куст рядом с цветком в полном
цвету. Когда Гэндзи танцевал, лучи заходящего солнца падали
на его фигуру и тут музыка достигала crescendo. Хотя танец
и был известен зрителям, они чувствовали, что никогда преж¬
де в нем не было столько живости и экспрессии, и сопровож¬
дающая его песня казалась столь же мелодичной, как пение
райской птицы. Тронутый невыразимой красотой исполнения,
император залился слезами, высшая придворная знать и прин¬
цы из его свиты также рыдали. После того как песня кончи¬
лась, Гэндзи поправил рукава своего платья и ждал, когда
музыка заиграет снова. Он возобновил танец под оживленную
мелодию следующей части. Возбужденный ритмом танца, он,
казалось, излучал теплый свет, и имя Гэндзи — Блистательный
более чем когда-либо подходило ему» («Праздник алых листь¬
ев») .■ Бугаку — «танцевально-музыкальные представления», обязательно вхо¬
дившие в придворный церемониал (307, с. 15].30
В эпоху Хэйан высоко ценился еще один вид искусства, не
имеющий параллелей на Западе. В большинстве стран мира
производство духов было ремеслом, в Японии же составление
благовоний стало великим искусством со свойственными ему
условностями и школами, с выдающимися знатоками и т. д.Гэндзи всегда вызывал восхищение окружающих благово¬
ниями, которые сам составлял; их специфический аромат пред¬
варял его приближение и долго сохранялся после его ухода.
Для принца Ниоу, который описан как один из наиболее му¬
жественных среди мужских персонажей, приготовление духов,
по словам автора, было чем-то вроде одержимости. Он и его
друг Каору обязаны этому искусству своими именами; по спра¬
ведливому замечанию И. Морриса, ничто более не символизи¬
рует идеалы того времени и не контрастирует с последующей
эпохой военных героев, чем тот факт, что два из наиболее ува¬
жаемых мужских персонажа Мурасаки были названы один —
Благоухающим, а другой — Ароматным («ниоу» по-японски
означает «пахнуть*, «благоухать», «каору» — «источать аро¬
мат».— И. Б.) [353, с. 145].Духи были неотъемлемой принадлежностью туалета, и ре¬
цепт приготовления собственных духов часто держали в стро¬
гом секрете. Состязания в составлении ароматных смесей бы¬
ли одним из популярнейших занятий в аристократической сре¬
де. Описание одного из таких состязаний Гэндзи и других оби¬
тателей дворца на Шестой страже, организованного по случаю
инициации юной принцессы Акаси, дает хорошее представле¬
ние о важности этого вида искусства и том высоком уровне,
которого оно достигло во времена Мурасаки. Приготовление
к состязанию длилось несколько недель.«Целые часы были потрачены на выбор сосудов подходящей
формы, форсунок для духов с узорами цветов на них, шкату¬
лок и ларцов, что были бы достойны своего чудесного содер¬
жимого. Ко всем трудностям прибавилась еще задача предло¬
жить нечто такое, что вызывало бы ощущение новизны, ори¬
гинальности, воспринималось бы как сюрприз...»Судьей на состязании выбрали принца Соти, ибо он «был
способен сравнить достоинства духов, которые обычные люди
находили почти неразличимыми. Даже столкнувшись с самыми
необычными смесями, он мог со знанием дела судить, не ис¬
пользовал ли участник состязания какую-либо составную часть
в ущерб конечному аромату...»«...Дама из селения Опадающих цветов, понимая, что если
бы всем членам ее свиты разрешили прислать образцы своих
благовоний, то миссия судей была бы не из легких (и в таком
Деле она сумела сохранить свою обычную скромность), присла¬
ла только один вид благовония под названием „Цветок лото-
са“, отличавшийся очень нежным и тонким ароматом, который
казался Гэндзи таким характерным для ее скромной личности.31
Дама из Акаси, в ведении которой находился Зимний сад
и от которой можно было ожидать, что она предложит благо¬
воние, соответствующее зимнему сезону, не склонна была-от¬
крыто бросать вызов хозяйкам Лета и Весны. К счастью, она
помнила рецепт Минамото-но Кинтада, внука императора Уда,
составленный по записям, сохранившимся от императора Уда
(889—897). Этого уже было достаточно, чтобы получить высо¬
кое одобрение; но она преуспела еще в запоминании составных
частей знаменитых ,духов на сто шагов“ (их аромат распрост¬
ранялся на сто футов вокруг), и принц Соти отозвался с высо¬
чайшей похвалой о каждом из ее образцов,Из трех типов благовоний, присланных Мурасаки, судья
особо выделил ее духи ,,Цветок сливы“ за их яркий современ¬
ный запах со слегка едким привкусом. „В самом деле,— сказал
.принц Соти, — я не могу представить себе ничего более подхо¬
дящего для нынешнего сезона, чем этот аромат цветов ; сли¬
вы..."» («Ветка сливы»).Таким образом, культ «моно-но аварэ» обусловил фактиче¬
ское слияние искусства с жизнью в хэйанской придворной сре¬
де, и выразилось это прежде всего в том, что состязания в раз¬
личных видах искусства заняли важное место в сфере парад¬
ной жизни, пение же, рисование, игра на музыкальных инстру¬
ментах (не говоря уже о поэзии!) вошли неотъемлемым атри¬
бутом и в повседневный быт. .*■Стоит обратить внимание еще на один важный момент.
В эпоху Хэйан наблюдается постепенное расширение круга яв¬
лений, могущих стать источником состояния «аварэ». Появля¬
ются все новые и новые стимулы «аварэ». Это позволяет
говорить о значительном возрастании роли эстетизирующей тен¬
денции как в жизни, так и в литературе и искусстве. Парал¬
лельно происходит и определенная трансформация самого эмо¬
ционального состояния «аварэ».Основываясь на материале хэйанской художественной про¬
зы, профессор Хисамацу Сэнъити говорит о четырех основных
разновидностях «аварэ»:1. Красота душевных движений (кандоби)2. Красота гармо-нии (тёваби)3. Красота грусти (хиайби)4. Красота элегантности (юби) [243, с. 27].Сохраняет свое значение и ценность как источник состоя¬
ния «аварэ» природа, однако на первый план выступает об¬
ласть человеческих чувств и отношений. Важное значение при¬
обретает и область вещей, принадлежащих человеку (предме¬
ты интерьера, одежда и т. п.), да и сам человек все более ста¬
новится источником состояния «аварэ» для окружающих. Так,
часто предметом восхищения служит внешность, костюм, ма¬
неры героя, его таланты, душевные качества и т. д. (о чем
свидетельствуют соответствующие сцены романа).22
Чрезвычайно важную роль играет такой стимул «аварэ»,
как элегантность, изысканность. Требование элегантности, ху¬
дожественного вкуса (юби) распространяется на все стороны
жизни и поведения человека.В частности, важным показателем изящного вкуса были
костюм и манеры героев, поэтому их описанию отводится боль¬
шое место в произведении Мурасаки. Серьезное значение при¬
давалось и форме выражения героями своих мыслей и чувств.
Здесь также требовались тонкость и светская изысканность.
Весьма показательно, в частности, что Гэндзи не столько воз¬
мутило содержание письма Касиваги к Нёсан, полного ревни¬
вых упреков, сколько его форма. «Никогда в своей жизни он,
Гэндзи (в этом он был сейчас убежден), не обращался к жен¬
щине со словами столь грубыми, бестактными, столь откровен¬
но обвинительными; чувство , гнева по отношению к Касиваги
за его нахальство и самоуверенность было не так сильно в его
душе, как чувство презрения к нему за его глупость» («Моло¬
дые побеги»).Определенные требования предъявлялись не только к внеш¬
ности, манерам, поведению, проявлению чувств, но и к голосу
человека. Характерно в связи с этим авторское замечание, что
любое, самое обычное высказывание, сделанное надлежащим
тоном, «может показаться оригинальным и интересным, напри¬
мер, в разговоре о поэзии какое-нибудь банальное суждение
может быть воспринято как весьма глубокое. Полустишие из
малоизвестного стихотворения, будучи произнесенным с соот¬
ветствующей интонацией, может произвести большое впечат¬
ление на людей, не имеющих представления о подлинном его
смысле. Если же человек говорит неприятным голосом, исполь¬
зует вульгарный язык, то как бы значительны и глубоки ни
были те мысли, которые он выражает, никто не сочтет их за¬
служивающими внимания» («Вечное лето»).Особая роль отводилась чувству гармонии. Идеалом счи¬
талось гармоничное сочетание красивой внешности и элегант¬
ных манер с тонкостью чувств, владением изящными искусства¬
ми, иными словами, гармония внешнего и внутреннего облика,
о чем достаточно красноречиво свидетельствует изображение
Гэндзи, Мурасаки, Фудзицубо и большинства других персона¬
жей романа. Они, ка.к правило, красивы, чувствительны к пре¬
красному и грустному, воспитаны в духе «моно-но аварэ»,
элегантны в своих манерах, со вкусом одеты, утонченны в суж¬
дениях, изысканны в выражениях.Неизменное восхищение вызывала гармония в природе.
В свою очередь, природа изображается в романе в гармонии
с эмоциональным состоянием человека и как бы окрашивается
его чувствами и настроениями в духе традиций синтоистского
анимизма. Не случайно любительские концерты, описание ко¬
торых неоднократно встречается на страницах романа, часто3 Зак, 65433
устраивались на лоне природы, особенно в лунные ночи; кар*
тины и детали пейзажа составляют важный элемент этих сцен,
в частности заключают описание концерта, уже приводившееся
выше. Еще большую роль играют эти картины в изображении
любительского концерта-экспромта, устроенного Гэндзи и его
свитой на пути из Кацура после свидания с Акаси:«Наконец, луна взошла, и было время предаться музыке.
Самые искусные исполнители на цитре, лютне и других инстру¬
ментах были приглашены, и вскоре уже зазвучали мелодии,
наиболее соответствующие месту и времени. Легкий ветерок дул
на реке, и его вздохи смешивались с музыкой труб и струн.
Луна все выше и выше поднималась над ними, никогда еще
ночь не была такой лучезарной и тихой».В этом, как и в ряде других эпизодов, нашло яркое отра¬
жение единение природы и искусства, не менее характерное
для духа «моно-но аварэ», чем слияние человеческой жизни с
искусством. В той же главе, несколько ранее, при описании
грусти Акаси во.время короткого свидания с Гэндзи, отмечено,
что она взяла цитру и звуки ее смешивались со стонами ветра,
дующего в соснах («Ветер в соснах»).Единение природы и искусства иллюстрирует также испол¬
нение танца райских птиц мальчиками, переодетыми птицами,
на церемонии подношения цветов Будде ранней весной. «Акком¬
панементу вторили переливы соловьев, а вдали как некое
счастливое предзнаменование прозвучал слабый крик журавля
на озере» («Бабочки»),С течением времени содержание «аварэ» подвергается из¬
менениям. По мере возрастания роли буддийской идеологии в
сознании человека в эпоху Хэйан наблюдается усиление эле¬
гической окраски эмоционального отклика. Симптоматично в
этом отношении высказывание современного ученого Икэда
Цутому о структуре «аварэ» («аварэ-но кодзо»), основанное на
изучении романа Мурасаки.Икэда выделяет три стимула «аварэ»: любовь («айдзё-но
аварэ»), элегантность («юби-но аварэ») и грусть («хиаи-но
аварэ»), которые взаимосвязаны и вместе составляют опреде¬
ленное единство — структуру «аварэ». Любой из этих стимулов
действует только в системе двух других 183, т. 4, с. 263]. Иными
словами, грусть становится неотъемлемым элементом структу¬
ры «аварэ».Мы в основном согласны с Икэда в части выделения указан¬
ных сторон «аварэ» и их взаимосвязанности. Ибо любовь, коль
скоро она является главной темой романа, становится в нем и
основным источником «моно-но аварэ». Как писал Н. И. Кон¬
рад, «в каждой женщине хэйанец искал особое очарование,
его же искали и в наслаждении, связанном с этой женщиной»
[306, с. 85].Атмосфера романа поистине являет подлинное царство34
изящного вкуса. Это находит выражение в обрисовке действу¬
ющих лиц, в подаче сцен и эпизодов, в изображении окружаю¬
щей обстановки, в описаниях природы, в языке, стиле произве¬
дения (т. е. любовь изображается в соответствии с требова¬
ниями изящного вкуса).Нельзя не согласиться и с тем, что важный стимул «ава-
■рэ» — печаль: печальные судьбы героев, их бесплодные поис¬
ки счастья (в атмосфере элегантности и тонкого вкуса) и по¬
рожденные этим соответствующие настроения занимают важ¬
ное место в романе Мурасаки Сикибу, и вместе с тем являются
существенным стимулом эмоционального отклика читателя, его
состояния «аварэ».Однако, с нашей точки зрения, понятие «структура аварэ»
в данной трактовке несколько сужено: не нашел отражения,
например, такой неизменный стимул «аварэ», как природа.
Кроме того, если «айдзё-но аварэ» действительно практически
нераздельно в романе с «хиаи-но аварэ», то для «юби-но ава¬
рэ» и «хиаи-но аварэ» такая нераздельность не всегда пока¬
зательна. Например, элегантный костюм, манеры и прочее мо¬
гут просто восхищать, и «аварэ» в этих случаях не обязатель¬
но принимает элегическую окраску. Но в целом эта трактовка
отражает тенденцию возрастания КО' времени появления «Гэнд¬
зи моногатари» значения «аварэ» как «печального очарова¬
ния».В духе «печального очарования вещей» выдержан целый
ряд сцен, эпизодов, описаний природы, в частности сцена про¬
щального свидания Гэндзи с Рокудзё в ее загородном дворце.
«Ему так не хотелось покидать ее, и он стоял, колеблясь и
держа ее руку в своей. Дул холодный ветер. Цикады на сосед¬
них соснах перешептывались скрипучими голосами в неумо¬
лимом отчаянии, словно бы хорошо понимали, что происходит
вокруг. Их унылые голоса способны поселить холод в сердце
любого, и легко себе представить, как они могли поощрить
любовников в их отчаянии и душевных муках. Она прочла сти¬
хотворение:И так уже печально
Это расставанье осеннее.Своей унылой песни
Не добавляйте же нам,О цикады на соснах в лесу!Он понимал, что они расстаются теперь по его вине. Но было
слишком поздно что-либо изменить. Исполненный бесплодного
сожаления, пока серый свет утра распространялся по небу, он
безутешный, отправился в обратный путь через луга, покры¬
тые росой. Рокудзё смотрела ему вслед, уже не в силах более
сдерживать слезы» («Священное дерево»).Здесь «моно-но аварэ» окрашено грустью. Показательно в
этом отношении и описание осени из главы «Сума». «В Сума3*35
наступила осень. Маленький домик стоял несколько в стороне
от моря, но, когда налетали внезапные порывы ветра, дующего
сквозь ущелье (не его ли воспел Тюнагон Юкихира?), каза¬
лось, будто волны бьются о двери дома. Ночи напролет лежал
он, слушая эти меланхолические звуки и думал: „Неужели есть
на свете еще место, где бы так чувствовалось печальное оча¬
рование осени?'1». Уместно заметить, что осенние пейзажи в
романе, как правило, окрашены грустью.Помимо того что в сфере художественной прозы раскрыва¬
ются новые области и стороны «моно-но аварэ», существенные
различия обнаруживаются в принципах подачи «аварэ» в поэ¬
зии и в романе.Японский поэт не рисует картин природы. Он отыскивает
в предмете изображения особо характерную, выразительную
деталь, которая способствует наиболее глубокому ощущению
прекрасного («аварэ»). Так, поэт Саканоэ Корэнори видит это
прекрасное в золотых осенних листьях на поверхности реки:Когда бы золотые листья клена
Не плыли по воде,О Тацута река!Кто б мог подумать,Что осень в твоих волнах [82, № 302].По мнению поэта, в этих плывущих листьях и колорит осе¬
ни и ее особая прелесть находят свое оптимальное выражение.Оно-но Такамура находит «аварэ» в ощущении смешения
белой сливы, расцветшей ранней весной, со снегом, еще лежа¬
щим вокруг.Кругом бело,ЦветыСлились со снегом,Лишь уловив их аромат,Поймешь: пришла весна! [82, № 335QСравним эти стихи со сценами любования природой в ро¬
мане Мурасаки:Например, в главе «Цветок шафрана» есть такое описание:
«Однажды поздно ночью, вскоре после двадцатого августа,
принцесса (Суэцуму) сидела на галерее в ожидании восхода
луны (в двадцатых числах августа луна появляется на небе
только в полночь. — И. Б.). Звезды сияли ярко и восхититель¬
но, а завывание ветра в сосновых ветвях навевало грусть, и
утомленная ожиданием, она со слезами и вздохами подробно
рассказывала Мёбу истории о старых людях и прошлых вре¬
менах».Как явствует из этого отрывка, особое очарование усматри¬
вается не только в сочетании яркого света звезд с навевающим
грусть завыванием ветра. Оно складывается из целого ряда
компонентов, в том числе и задумчивой фигуры принцессы на
фоне картин природы, пробуждающих у нее воспоминание о36
прошлом. Так трансформируются содержание «аварэ» и форма
его выражения в художественной прозе, где важное место за¬
нимает дескриптивный элемент. С еще большей наглядностью
это проявляется в сцене прощания Гэндзи с Рокудзё в ее заго¬
родном дворце. Сначала дается описание осенней природы, при¬
званное вызвать в душе читателя соответствующий эмоцио¬
нальный отклик и резюмируемое словами: «...и в эту дивную
ночь все вокруг, казалось, было предназначено для того, что¬
бы раскрыть свое очарование!». Далее идет часть, повествую¬
щая о расставании влюбленных на рассвете, выдержанная в
духе «аварэ» и предваряемая словами: «Наконец, луна зашла,
и-чарующе забрезжил рассвет...» («Священное дерево»).В поэзии существует строгий принцип избирательности:
далеко не каждый объект мог вызвать ощущение «аварэ» и
потому был четко обозначен круг тем и мотивов, которые мог¬
ли быть предметом воспевания, их легко проследить по рубри¬
кам и произведениям антологии «Кокинсю». Иными словами,
были жестко очерчены границы «поэтического».Этот же принцип избирательности действует и в «Гэндзи
моногатари». Однако широта охвата действительности, харак¬
терная для произведения Мурасаки Сикибу, потребовала раз¬
двинуть эти границы. В то же время Мурасаки не могла пре¬
одолеть традиционного мировосприятия, изменить своему худо¬
жественному вкусу, не могла нарушить сословных правил хоро¬
шего тона. Поэтому она прибегает к поэтизации. Смысл этого
три столетия спустя хорошо выразил поэт и ученый Фудзивара
Тэйка:«Каким бы страшным ни был предмет сам по себе, если
он становится предметом поэтического воспевания, он должен
облекаться в такую форму, в которой он звучал бы „грациоз¬
но и элегантно"» {337, с. 430].Мурасаки рисует своего рода трагедию хэйанской женщи¬
ны. Трагичен и конец главного героя — Гэндзи. Трагичны судь¬
бы многих персонажей романа. Однако, изображая полные дра¬
матизма ситуации, раскрывая, по сути дела, трагические кол¬
лизии, она снимает момент трагизма, вводя их в плоскость
«моно-но аварэ», заменяя ощущение трагизма настроениями
грусти, сожаления и т. д.Многие герои умирают в романе: Гэндзи, Мурасаки, Фудзи¬
цубо, Югао, Аои, Рокудзё, Касиваги и др. Но писательница не
только далека от того, чтобы изображать ужасы смерти, она
по возможности избегает ее описания, как и вообще описания
сцен, которые могут вызвать отвращение или серьезно омра¬
чить настроение читателя. Например, она ограничивается лишь
раскрытием состояния и поведения Гэндзи накануне смерти.
По существу, не описана и смерть Мурасаки. По словам Р. Бро¬
уэра и Э. Майнера, Мурасаки хотя и «умирает на сцене», но
сцена эта находится не перед глазами читателей, «этой сце-37
ной является ум и сердце Гэндзи», т. е. она передана через
восприятие Гэндзи {337, с. 446]. В этом легко усматривается
связь с национальными традициями, которая четко обнаружи¬
вается и в произведениях лирической поэзии VIII—X вв. Ха¬
рактерно, например, стихотворение Цураюки на смерть поэта
Ки-но Томонорн:«Завтра» неведомо мне,Хоть и думаю так,Но покуда не скрылось во мраке «сегодня»,Скорблю я о том,Кто из жизни ушел... [82, № 838]Томонори умер, но какой смертью, — неизвестно. Поэт вы¬
ражает лишь свои собственные чувства в связи с этой утратой,
прибегая к образам мрака и смены времен. Исключается и
•передача трагического эффекта. Поэт начала VIII в. Хитомаро,
обращаясь в своей лиро-эпической поэме к мертвому стран¬
нику, лежащему на гористом берегу о. Саминэ, не описывает
его, а лишь изливает свои эмоции в связи с увиденным, как
бы стремясь избежать «ритуальной нечистоты» [95, т. 4, кн. 2,№ 220]. Эти традиции восходили к идеологии синто. В Японии
с древних времен существовал запрет (моноими) на некоторые
слова, вещи, непривлекательные зрелища, среди которых было
и зрелище жестокой смерти. Характерен эпизод из «Кодзики»,
повествующий о смерти богини Идзанами: удалившись в «стра¬
ну мрака», она запретила мужу следовать за собой, ибо не
хотела, чтобы он видел ее мертвой. Нарушив запрет, он все же
находит ее, но вынужден после этого зрелища совершить об¬
ряд очищения.Во времена Мурасаки Сикибу на эту традицию художест¬
венного мышления наложилось и сословно-этикетное требова¬
ние изящного вкуса, обусловившее поэтизацию изображаемо¬
го в духе «моно-но аварэ», к которой писательница обращает¬
ся прежде всего при описании облика умирающих или умер¬
ших.Умирающими изображены в романе только трое: Аои, Му¬
расаки и Окими. Причем, как уже подчеркивалось, зрелище
смерти, как таковое, не представлено, описывается лишь облик
умирающей Аои и умерших Мурасаки и Окими. Эти описа¬
ния весьма показательны для творческой манеры автора, поэ¬
тому мы приводим их полностью.Аои: «Она выглядела очаровательной, как всегда, лежа
здесь с ребенком во чреве, и любой мужчина, увидев ее сейчас,
был бы необычайно тронут ее красотой. И насколько же взвол¬
нован был сам Гэндзи, чье сердце уже было переполнено неж¬
ностью и раскаянием! Ее длинные волосы, заплетенные в ко¬
сы, резко контрастировали с ее белыми одеждами. Даже этому^
свободному одеянию ее естественная грация придавала вид
роскошной мантии...» И далее: «Все еще бесподобно прекрас-38
ная, но слабая и безразличная, она лежала недвижно в посте¬
ли и, казалось, таяла на глазах. Он глядел на нее с любовью
и участием. Ее волосы, свободно распущенные, словно только
что расчесаны. Никогда раньше ее великолепная красота не
производила на него такого странного впечатления. Постижи¬
мо ли, что год за годом он позволял такой женщине постепен¬
но отдаляться от него...»Болезни Аои посвящена значительная часть весьма объем¬
ной главы, неоднократно упоминается о ее страданиях, одна¬
ко страдания эти не изображаются. Облик ее лишен следов
болезни и физического страдания. Читатель постоянно ощу¬
щает неповторимое очарование Аои.А вот описание умершей Мурасаки: «...ее волосы были
распущены и лежали свободно, но не в беспорядке, большой
черной массой, на фоне которой лицо ее при ярком с бете
лампы словно сияло ослепительной белизной. „Никогда, — ду¬
мал Гэндзи, — ее красота не казалась такой безупречной, как
сейчас, когда взгляд мог покоиться на ней, не тревожимый
ни единым жестом и ни единым звуком44» («Закон»).Опоэтизирован и образ больной Окими: «Он (Каору.—
И. Б.) знал, что часто после долгой болезни люди теряют свою
привлекательность, и чувствовал, что в определенных случаях
это позволяет близким. и друзьям легче перенести их смерть.
Он взглянул на Окими, надеясь найти в ней признаки такого
рода зловещей перемены. Действительно, ее руки были очень
худы, да и сама она казалась просто тенью. Однако ее кожа
с нежной бледностью была прекраснее обычного. Она сбросила
покрывало и лежала теперь среди сбившихся складок своей
белой одежды, как кукла в футляре. В самом деле, она, тяжело
больная, выглядела изящной и спокойной, тогда как окружав¬
шие ее женщины, которые добрую половину своего времени
тратили, очевидно, на то, чтобы с беспокойством смотреть на
себя в зеркало, уже обнаруживали признаки усталости» («Агэ-
маки»).И далее об умершей Окими: «Каору взглянул в лицо
мертвой... Ее лицо, теперь уже не закрытое (рукавом. — Я. />.),
было прекраснее, чем когда-либо, он знал это. Она лежала»
как спящая... Кто-то отбросил со лба ее волосы. Не потому ли,
что Будда хотел, чтобы мы с испуганным сердцем отшатнулись
от жизни и любви, сделал он смерть такой спокойной, такой
прекрасной?» («Агэмаки»).В этих описаниях как бы находит отражение идея вечности
красоты, неподвластной закону времени, о которой много ве¬
ков спустя писал Кавабата Ясунари, обращаясь к традициям
своей любимой классики.Тенденция поэтизации ощущается у Мурасаки и в некото¬
рых других случаях, в частности при описании дома отшель¬
ника в Акаси, который сверх всякого ожидания «был обстав¬39
лен to всей возможной элегантностью и удобствами и едва ли
уступил бы, а во многих отношениях и превзошел бы особня¬
ки, к которым он (Гэндзи. — И. Б.) привык в столице»
(«Акаси»).В сравнении с поэзией «Кокинсю», существенные измене¬
ния произошли и в самом употреблении термина «аварэ».Ко времени Мурасаки междометийное употребление значи¬
тельно сокращается, лексические значения, проиллюстрирован¬
ные приведенными выше примерами, в основном сохраняются
при значительном увеличении количества нюансов и резком
возрастании употребимости самого слова «аварэ». Если в сти¬
хах «Кокинсю» оно встречается не более 20 раз, то Мурасаки
употребляет его в своем произведении 1018 раз. «Аварэ» ис¬
пользуется в романе как самостоятельно, так и (значительно
реже) в сочетании «моно-но аварэ». Выражение «моно-но ава¬
рэ» также имеет достаточно обширную атрибуцию: от общих
категорий типа «моно-но аварэ-о сиру» до обозначения конк¬
ретных эмоциональных состояний персонажей и по цравнению с
«аварэ» реже принимает элегическую окраску.При характеристиках эмоциональных состояний «моно-но
аварэ» обычно употребляется в более обобщенном значении,
чем просто «аварэ», однако во многих случаях их значения
очень близки. В качестве примера можно привести сцену бе¬
седы Югири с принцессой Отиба на балконе ее загородного
дома. «Когда сгущается ночь, и ветер наводит грусть, а голо¬
са насекомых в саду, плач оленя, звуки водопада так явствен¬
но слышны, все это просто чарует (аварэ)... а вид неба перед
рассветом, когда луна, готовая скрыться, уже приблизилась
к гребням гор — пробуждает чувство моно-но аварэ» («Юги-
ри»).Роман «Гэндзи моногатари» раскрывает необычайное раз¬
нообразие эмоциональных состояний «аварэ». «Аварэ» может
обозначать «прекрасное», «трогательное», «грустное», «элегант¬
ное» и т. д. со всеми возможными оттенками, а также и просто
глубокое впечатление. Именно в последнем смысле употребле¬
но выражение «аварэ-ни кокоро сугоси» («тронут до глубины
души») — речь идет о состоянии Каору, когда он услышал иг¬
ру принца Хати на цитре («Дева у моста»).Возрастает и число форм употребления слова «аварэ». Так
в некоторых своих значениях, в частности в элегической трак¬
товке, оно может использоваться и как прилагательное: «ава¬
рэ пару мукаси-но мимоногатари» («эта грустная старая исто¬
рия»)— такими словами начинает свой рассказ о трагической
любви Нёсан и Касиваги старая монахиня Бэн-но кими («Дева
у моста»)—и как наречие: «аварэгэ-ни накитамаитэ» («горько
заплакав»). «Аварэ» может употребляться и в сочетании с
другими словами, обозначающими признак или качество, для
более точного выражения конкретного состояния, например40
«аварэ-ни кокоробосоку» («в грустном одиночестве», «кокоро-
босоку» — «одиноко», «бесприютно»).В некоторых случаях установить точный смысл или отте¬
нок слова «аварэ» в тексте не представляется возможным, в
особенности выявить наличие или отсутствие элегической ок¬
раски отклика. Дело в том, что роман Мурасаки, как и поэзия
и почти вся остальная литература эпохи Хэйан, в которой на¬
шло отражение «аварэ», написан японской фонетической азбу¬
кой «кана», без использования иероглифов, и потому значение
«аварэ» в каждом конкретном случае выявляется из контекста
фразы, сцены или эпизода. В последующие времена, в особен¬
ности в средневековых военных эпопеях, для обозначения «ава¬
рэ» обычно используется иероглиф, означающий «печаль»,
«грусть», что свидетельствует о закреплении за данным сло¬
вом элегической окраски.Для обозначений некоторых категорий прекрасного упот¬
ребляется иногда термин «окаси»: ученые склонны рассматри¬
вать это как показатель «сужения» сферы действия «аварэ».
Однако, с нашей точки зрения, это явилось просто следствием
возросшей дифференциации эмоциональных состояний, отно¬
сящихся к области прекрасного, которое уже невозможно ста¬
ло охватить единым понятием «аварэ».Эмоциональные состояния типа умиления, растроганности, не
говоря уже о любопытстве, интересе, увлеченности и т. п., мо¬
гут выражаться словом «окаси» (а также «омосироси» и неко¬
торыми другими).Примеры подобного употребления «окаси» мы во множестве
находим у Сэй Сёнагон в ее «Макура-но соси» («Записки у из¬
головья»). Характерен, например, фрагмент из раздела «То, что
умиляет». «Цыплята на длинных ножках, такие беленькие, хо¬
рошенькие (сиро окасигэ-ни), в своем куцем оперении. С прон¬
зительным писком бегут они то за тобой, то впереди тебя —
забавно (окаси)...» [94, с. 207].«Окаси» часто выступает у Сэй Сёнагон и в значении «при¬
ятное», как, например, в отрывке из раздела 29, озаглавлен¬
ного «То, что заставляет сердце сильно биться»: «...помыв во¬
лосы и иабелившись, надеть платье, пропитанное ароматами.
Если даже никто тебя не видит, на сердце так приятно (ко-
коро-но ути ва нао ито окаси)» [94, с. 72].Некоторые оттенки восприятия красоты переходят из сфе¬
ры «аварэ» в сферу «окаси», и потому последнее иногда упот¬
ребляют как синоним «уцукуси»—-«красивый». Это также
особенно заметно в «Записках» Сэй Сёнагон. Показателен в
этом отношении раздел 1, в котором перечисляется то, что пре¬
красно в разные времена года. «Летом — ночь. О лунных ночах
уж и говорить не приходится. Но и безлунный мрак освещает
множество порхающих светлячков. Если даже один-два свет¬
лячка пролетают, тускло мерцая, — все равно это восхитительно41
\{окаси). II даже когда дождь идет, прекрасно {окаси)!» [94,
с. 43]. У Сэй Сёнагон термин «окаси» встречается чаще, чем
«аварэ», ибо он более созвучен как жанру ее произведения, так
и характеру самой писательницы.В. Н. Маркова, основываясь на материалах «Записок у
изголовья», дает следующее объяснение красоте «окаси»: «Это
красота, вызывающая радостное удивление своей оригинальной
неповторимостью. При всей своей прелести она лишена глуби¬
ны „моно-но аварэ"» 1331, с. 18].Особенно интересны случаи употребления «окаси» и «ава¬
рэ» в общем контексте, причем иногда они частично совпадают
по значению. «Когда солнце стало садиться, небо чарующе
(аварэ) затягивалось туманом, в тени под горою становилось
темно, цикады беспрестанно стрекотали, и гвоздика, растущая
у изгороди и склонившаяся долу, казалась такой трогательной
(окаси)» («Югири»).Здесь оба термина употреблены параллельно, однако отры¬
вок в целом иллюстрирует эмоциональное содержание «аварэ».В других случаях наблюдается дифференциация понятий:
.если «аварэ» употребляется в основном в значении прекрасного,
.чарующего, грустного, глубоко трогающего, то «окаси» чаще
атрибутирует эмоциональное состояние, которое передается
по-русски: «интересный», «любопытный», «милый», «забав¬
ный», «вызывающий улыбку», «трогательный». Например: «Ин¬
тересно, когда маленькие птички, сами такие крохотные, щебе¬
чут вокруг, их и забавно и приятно слушать (аварэ-ни окасику
кикоюрэба), и на глаза сами собой навертываются слезы» («Де¬
ва у моста»). Здесь, хотя и употреблен параллельно с -«окаси»
термин «аварэ», само эмоциональное состояние более тяготеет
к красоте «окаси». Чувства, испытываемые Каору в обществе
сестер Окими и Нака-но кими, обозначаются словами «аварэ-
ни нацукасю, окаси». Общий смысл таков: их общество душев¬
но согревало его (аварэ-ни нацукасю) и было ему интересно
(окаси) («Дева у моста»).Итак, можно сказать, что в романе Мурасаки «моно-но ава¬
рэ» получило наиболее широкое и разностороннее отражение
и как важный атрибут мировосприятия, и как жизненный прин¬
цип хэйанского придворного сословия, и как эстетический кри¬
терий литературного творчества. За два столетия «аварэ» пре¬
терпело определенную трансформацию, как это явствует из
сопоставления материала романа с материалом лирической
поэзии IX — начала X в., как в сфере своего употребления и
атрибуции, так и в плане смыслового наполнения. Существен¬
ным моментом .качественного изменения «аварэ» можно счи¬
тать приобретение им значения эстетической категории сослов¬
ной аристократической культуры (со всей ее условностью и эти-
кетностью) с соответствующей трансформацией в «моно-но
аварэ».42
Первое глубокое исследование и свою трактовку категории
«моно-но аварэ» дал в XVIII в. крупнейший исследователь
древнеяпонской литературы, представитель «школы националь¬
ной науки» Мотоори Норинага. Норинага подчеркивает эмо¬
циональное начало «моно-но аварэ». По его мнению, в основе
«очарования вещей» лежит чувство, чувствительность. «Моно-
но аварэ» указывает на душевное состояние, вызванное объек¬
том. Он внимательно прослеживает историю возникновения
этого явления, справедливо усматривая его истоки в эмоцио¬
нально насыщенных любовных эпизодах «Кодзики», персонажи
которых обращаются к поэзии как к наиболее эффективному
средству выражения своих чувств.Мотоори HqpHHara рассматривает мир человеческих чувств
не только как сферу проявления «моно-но аварэ», но и как ос¬
новной его источник. Особую роль он отводит любви. «В этом
мире эмоций, — писал Норинага, — едва ли не самые сильные
вызывает любовь. Она и дает особенно глубокое ощущение
„моно-но аварэ“». Норинага опирался на взгляды Фудзивара
Тэйка, а также Кэйтю, другого видного исследователя класси¬
ческой литературы. Последний в подтверждение своей точки
зрения приводил песню Фудзивара Сюндзэй:Кто не любил,Тот, верно,Не имеет сердца.Прекрасное —В любви мы познаем (цит. по [232, с. 422])В комментариях к «Гэндзи моногатари», а также в других
работах, посвященных этому произведению («Жемчужная нить
жизни „Гэндзи моногатари**», 1799; «Сущность творчества Му¬
расаки Сикибу», 1763 и «Бамбуковая корзина», 1794), Нори¬
нага отмечает исключительно важное место, занимаемое «мо¬
но-но аварэ» в романе Мурасаки Сикибу. В результате иссле¬
дования романа он даже приходит к заключению, что «моно-
но аварэ» и является его темой, составляет «ядро» его, и вы¬
двигает положение о том, что «очарование вещей» составляет
сущность сюжетной прозы (моногатари). По его мнению, ху¬
дожественное произведение собирает, описывает «прекрасное»
и делает его достоянием читателя. Поэтому писатель и обра¬
щается к миру человеческих чувств, к человеческому сердцу
как главному источнику прекрасного [69, с. 169].Взгляды Норинага имели огромное прогрессивное значение
для своего времени. Утверждая в качестве главной художествен¬
ной ценности область человеческих чувств, он бросил смелый
вызов многовековой традиции буддийского аскетизма и кон¬
фуцианского ригоризма.Протестуя против засилья в литературе буддийских и кон¬
фуцианских норм, он ратовал за отделение литературы от гос¬
подствующей религии и политики, будучи глубоко убежден¬43,
ным в том, что искусство должно жить и развиваться по сво¬
им законам, что у него свои функции и свое отношение к дей¬
ствительности.В работе «Сущность творчества Мурасаки Сикибу» (1763)
Норинага писал: «Бывает так: что дурно в обычных (т. е. кон¬
фуцианских.— И. Б.) книгах, напротив, хорошо в поэзии и в
прозе. Бывает и наоборот. Всякие представления о хорошем
и дурном изменяются в зависимости от взглядов, времени и ме¬
ста. Для конфуцианства и буддизма дурно, когда человек дей¬
ствует по велению собственного сердца, и хорошо, когда он его
подавляет. Такое понятие о добре и зле неприемлемо для ли¬
тературы, в которой хорошо то, что соответствует человече¬
ской природе, и, наоборот, дурно то, что ей противоречит. Пе¬
чалиться, когда у людей горе, и веселиться, когда у них ра¬
дость,— это и есть жить согласно природе и „моно-но аварэ4*.
Человек, подавляющий свои чувства и не ведающий „очарова¬
ния вещей", равнодушен к людским горестям и печалям. Это
дурной человек. Литература повествует о „моно-но аварэ4*, да¬
бы довести до читателя его суть». Норинага говорит о «полно¬
ценном человеке», имеющем «настоящее сердце» («макокоро»),
а такое сердце, по его словам, от природы имеют все люди
1114, с. 271—272].Как представитель «школы национальной науки», как японо-
фил («вагакуся»), Норинага выступал за самобытность японской
культуры вообще и литературы в частности. Он обращался к
традициям японской древности, к хэйанской классике, решитель¬
но противопоставляя их иноземному, китайскому влиянию. Но¬
ринага считал, что в отличие от родной литературы «с ее взгля-
, дом на человеческую душу изнутри» «книги чужой страны» (он
имел в виду китайскую литературу, и прежде всего конфуциан¬
ские книги) не принимают во внимание душу и «описывают
лишь видимость мудрствования». «Наша литература,— утверж¬
дал Норинага,— повествует о человеческой душе, какова она
есть». Доказывая, однако, что японская литература развивалась
в русле национальных традиций, Норинага пришел к крайней
позиции отрицания значения китайского влияния на японскую
культуру вообще.Мотоори Норинага имел собственное представление об «ис¬
конно японском духе» и полемизировал с другим приверженцем
«школы национальной науки», своим учителем Камо Ма-
бути, который, опираясь на исследование антологии «Манъё¬
сю», превозносил мужское начало древней поэзии, ее воинст¬
венный дух — «дух масурао» («смелого воина»). Норинага же
видел истоки подлинно японского в духе «аварэ», в поэзии че¬
ловеческих чувств, в воспевании «всепокоряющей любви» и
свечной гармонии» женской красоты.Важно и еще одно обстоятельство, на которое обращает
внимание советский исследователь японской литературы К. Ре*44
хо, а именно: Норинага не связывает эстетический принцип
«моно-но аварэ» с «эзотерическим смыслом» искусства, выяв¬
ляющим некую «трансцендентную сущность вещей» — единствен¬
ную реальность с точки зрения буддизма. Наоборот, он счи¬
тает, что этот принцип обращен к миру человеческих чувств,
естественно проявляющихся в обыденной жизни [323, с. 13].Наконец, для нас весьма существен и тот факт, что пози¬
ция Норинага опровергала господствовавшие в то время пред¬
ставления о романе Мурасаки либо как о книге «безнравствен¬
ной» и «развращающей умы», либо как о произведении дидак¬
тического характера, ставящем своей целью отвращение от
«ирогономи», женское просвещение, назидание женщинам по
поводу того, как себя вести, и т. д.При всем огромном прогрессивном значении позиции Нори¬
нага, понятой в контексте эпохи, она требует к себе критиче¬
ского подхода. Можно ли, например, согласиться с Мотоори
Норинага в том, что «очарование вещей» составляет самое су¬
щество и тему романа Мурасаки Сикибу? В трактовке Норина¬
га «моно-но аварэ» практически смыкается с понятиями чувст¬
вительности, отзывчивости и т. п., а поскольку основной сферой
проявления «аварэ» и главным его источником оказывается,
по его концепции, любовь, то в ней по существу и замыкается
«моно-но аварэ». Однако совершенно очевидно, что ученый од¬
носторонне понимает «моно-но аварэ», фактически ограничи¬
вая его проявление областью любовных отношений и пережи¬
ваний, воспринимаемых и понимаемых в духе эстетизирующей
тенденции того времени.Между тем источником «моно-но аварэ» по-прежнему ос¬
тается и природа, а кроме того, огромную роль во времена
Мурасаки играет «юби-но аварэ», прежде всего как отражение
одного из неписаных законов сословного этикета, что выходит
за пределы чисто эмоциональной сферы жизни вообще и любви
в частности. И, наконец, Мотоори Норинага совершенно игно¬
рирует элегическую трактовку «аварэ», отрицая влияние буд¬
дизма как на само «аварэ», так и на концепцию Мурасаки
Сикибу и идейное содержание ее романа. Иными словами, со¬
держание «моно-но аварэ» значительно шире и сложнее, чем
считал Норинага.Мы не разделяем и позиции ученого по поводу того, что
явление «моно-но аварэ» — исключительно национальная при¬
вилегия японцев. «Моно-но аварэ» следует рассматривать и
как проявление неких общих для ряда стран тенденций куль-
турного развития. Нельзя не вспомнить в связи с этим, напри¬
мер, о старопровансальской рыцарской культуре XI—XII вв.
и особенно об утонченной китайской культуре эпох Шести ди¬
настий и Тан. Уместно напомнить приводившиеся выше слова
Н. И. Конрада о влиянии на японскую «культуру тайского эсте¬
тизма.45
В Японии появились в последнее время работы, подвергаю¬
щие пересмотру концепцию Мотоори Норинага, в частности
работы Кубота Macao «Теория моно-но аварэ» и Кадзамаки
Кэйдзиро «Историческая ограниченность теории моно-но ава¬
рэ». Ученые отмечают историческую ограниченность теории
Норинага, а также тот факт, что Норинага, по существу, экст¬
раполирует «моно-но аварэ», как оно отражено у Мурасаки,
не только на хэйанскую литературу в целом, но и на всю клас¬
сическую литературу Японии.Кадзамаки Кэйдзиро противополагает позиции Норинага
собственную точку зрения: «Моно-но аварэ отражает одну из
сторон мироощущения, сложившегося в хэйанской придворной
среде в период подъема Фудзивара» [66, с. 475—476]. Далее
Кадзамаки Кэйдзиро подчеркивает, что «дух аварэ» не являет¬
ся в равной мере характерным для всех видов художественной
прозы эпохи Хэйан. «Гэндзи моногатари» по своему эмоцио¬
нальному содержанию существенно отличается от «Такэтори
моногатари», «Кондзяку моногатари» («Повести о ныне уже
минувшем», 1077), «Удзисюи моногатари» («Позднее собрание
рассказов из Удзи»), а тем более от гунки моногатари (средне¬
вековые военные эпопеи).В отличие от «Гэндзи моногатари» в других произведениях
сюжетной прозы эпохи Хэйан дух «моно-но аварэ» не находит
адекватного отражения. Более того, для целого ряда произве¬
дений он вообще не характерен, в них воплощены другие эсте¬
тические принципы.Например, в повести «Такэтори моногатари», которая в ро¬
мане о Гэндзи названа «прародительницей всех моногатари»,
на первый план выдвигаются морально-этические критерии.Знаменательно, что даже в «Исэ моногатари», произведе¬
нии, разрабатывающем любовную тему максимально прибли¬
женно к «Гэндзи моногатари», «моно-но аварэ» не получает
раскрытия ни как жизненный принцип, ни как эстетическая
категория. А тем более в таких произведениях, как «Кондзяку
моногатари», «Удзисюи моногатари» или памятниках книжного
эпоса («гунки»). Можно говорить лишь о том, что мы обна¬
руживаем в них следы представлений о «моно-но аварэ» как
результат влияния романа Мурасаки Сикибу. В частности, в
«Хэйкэ моногатари» («Повесть о доме Тайра», XIII в.), круп¬
нейшем произведении жанра военной эпопеи, это выразилось,
например, в сценах любования природой в духе «моно-но ава¬
рэ», в наличии лирических эпизодов и глав, посвященных лю¬
бовной теме («Гио», «Кого» и некоторые другие) и проникну¬
тых почти хэйанской чувствительностью. Элегический аспект
«аварэ» нашел яркое отражение в описании финала сражения
при Данноура (когда главные герои — Томомори, Иэнага и др-
бросаются в волны): «И море стало красным от знамен и зна¬
ков отличия, которые они сорвали с себя и бросили — оно по*4б
ходило на реку Тацута, когда она наводнена алыми листьями
кленов, срываемыми осенним ветром, и даже белые волны, на¬
бегающие на берег и откатывающиеся назад, были окрашены
в пурпур. Заброшенные, пустые корабли уныло* покачивались
на волнах, бесцельно влекомые ветром и течением то туда, то
-сюда» (Свиток XI, гл. 11).Основными здесь являются четыре образа: осенние листья
(«момидзиба»), алые волны реки Тацута, прибрежные волны
(«сиранами», букв, «белые волны») и пустые корабли. Из них
первые три представляют собой традиционные поэтические
образы, стимулирующие эмоциональное состояние «аварэ».
Осенние листья — общепринятый объект любования, как и цве¬
тущие вишни весной, а белые волны, набегающие и откатываю¬
щиеся назад, — постоянный образ морского побережья, также
пробуждающий соответствующие эмоции «чувствительного» ин¬
дивида. Образ алых волн, алых от знамен и от крови павших
воинов, не получает эпического звучания и, по существу, лишен
трагического оттенка, будучи сопоставлен с традиционным, не¬
однократно воспетым в хэйанской поэзии образом волн реки
Тацута, алых от опавших осенних листьев. Например, у Нари¬
хира:Всесокрушающих богов,—Их времена,— и то
Не ведали такого,Чтоб воды алые струились
В Тацута реке (82, т. 8, № 294]Эти образы, в свою очередь, влекут за собой широкий кон¬
текст ассоциаций из «мирной» поэзии, «смягчающей сердца
суровых воинов».Описание завершается традиционной фразой в духе «моно-
но аварэ»: «Так печально все это было». Пафос страданий и
трагедия кровавой битвы как бы переводятся в плоскость «мо¬
но-но аварэ», подобно трактовке смерти в романе Мурасаки
Сикибу.Однако в целом «моно-но аварэ» не играет значительной
роли в поэтике военных эпопей, где на первый план выдвигает¬
ся героика подвига, дух аскетизма, суровая печаль обреченно¬
сти, понятой в свете последовательно воспринятых буддийских
доктрин.Вместе с тем в целом ряде произведений, не относящихся
к жанру моногатари, в частности в «Дневнике путешествия из
Тоса», «моно-но аварэ» нашло отражение и как эстетическое
понятие и особенно в аспекте «моно-но аварэ-о сиру», а имен¬
но как мгновенная реакция на эстетический сигнал, которая
проявляется и как реальная потребность выразить свои чувства
и как явление, приобретающее характер этикетности.В «Дневнике» мы находим более 60 танка (на 31 страницу
текста), большинство из которых преподнесено как стихотвор¬47
ные экспромты, сложенные применительно к ситуации. В духе
«моно-но аварэ» выдержаны описания чувств и душевных вол
нений героев «Дневника Идзуми Сикибу», гармонирующих о
картинами ландшафта, воспринимаемого персонажами также
в эмоциональном ракурсе «очарования вещей». Большое место
занимает «моно-но аварэ» в эссэ «Макура-но соси» и особенно
«Цурэдзурэ-гуса» («Записки от скуки», XIV в.) Ёсида Кэнко.Итак, ^моно-но аварэ» не является в равной степени харак¬
терным для всех жанров хэйанской прозы и, что особенно важ¬
но, для разных видов моногатари, не говоря уже о литератур¬
ном творчестве других эпох.Кубота Macao и Кадзимаки Кэйдзиро правы и в том, что
Мотоори Норинага уводит литературу от морально-этических
проблем, ставит ее над добром и злом. Эта позиция Норинага
четко выявляется из его сравнения писателя с человеком, вы¬
ращивающим прекрасный лотос. Человек решил вырастить пре¬
красный лотос, и его не интересует грязная болотная вода. Так
и литература моногатари: она хотя и повествует о любви без¬
нравственной, но не занимается смакованием «грязного боло¬
та». Последнее для нее лишь почва, на которой расцветают
цветы «моно-но аварэ». Поступки Гэндзи подобны цветам ло¬
тоса, вырастающего на болотной грязи. Никто не смотрит на
грязную воду, все внимание приковано к цветку «моно-но ава¬
рэ», к глубине человеческих чувств, раскрывающейся в романе,
которая и делает его героя в основе своей хорошим человеком
[248а, с. 94-951.Культ «моно-но аварэ» не мог не наложить отпечатка на
нормы морали. На это указывал и Н. И. Конрад, когда писал
об «эстетическом исповедании» хэйанского общества с его «не¬
писаным» законом «некрасивое недопустимо», заменявшим со¬
бой мораль [307, с. 204].Однако действительно ли это «эстетическое исповедание»
заменяет собою М9раль в обычном смысле слова, т. е. снимает
антиномию доброты и жестокости, отзывчивости и черствости и
некоторых других общечеловеческих этических понятий? Ви¬
димо, нет.Если обратиться к самому роману «Гэндзи моногатари»,
то становится совершенно очевидно, что в нем достаточно чет¬
ко показано столкновение добра и зла. Последнее олицетво¬
ряет прежде всего мстительность и жестокость Рокудзё, дух
которой (правда, независимо от ее воли) приносит столько
страданий людям, приводя многих из них к трагическому ис¬
ходу. Слова Н. И. Конрада следует понимать не буквально, а
лишь в том смысле, что условность и этикетность культуры тре¬
бовали облекать в определенную форму не только слова и про¬
явление чувств, но и сами акции человека. Моррис, например,
обращает внимание на то, что были выработаны неписаные нор¬
мы поведения (в частности, в сфере любовных отношений)*48
приобретшие силу своеобразной морали. Предусматривалось
даже, как должен любовник приходить к своей возлюбленной,
уходить от нее и т. п. [353, с. 231—232].Таким образом, концепция Мотоори Норинага, рассмотрен¬
ная в совокупности взглядов ученого, в контексте эпохи,
предстает .как достаточно прогрессивная и плодотворная. Од¬
нако вполне естественно, что теперь целый ряд ее положений
нуждается в пересмотре и уже частично пересматривается в
соответствии с результатами современных исследований лите¬
ратуры эпохи Хэйан вообще и романа «Гэндзи моногатари» в
частности.Идеология буддизма, ее адаптация
и место в хэйанской культуреВажным элементом мировоззрения хэйанской аристокра¬
тии, ее духовного облика был буддизм. Проникновение его в
японскую культуру обнаруживается уже в VI в. В эпоху Хэйан
буддизм усиливает свое влияние. Как развитое религиозно¬
философское учение, буддизм более, нежели синтоизм, отвечал
новому уровню образования и культуры. Синто — «Путь богов»,
древняя национальная религия, соответствовавшая мифологи¬
ческому укладу мышления, не представляла собой философской
системы. Она была сравнительно примитивна, недостаточна
для удовлетворения возросших духовных запросов. В синтоиз¬
ме не ставился вопрос о конечном смысле бытия, вопрос о спа¬
сении. Его идеал — бесконечное продолжение жизни земной.
Умершие, изменив форму существования, остаются на земле,
вблизи родных и принимают участие в их жизни [326, с. 17].
Многие японские исследователи литературы этого периода пи¬
шут о характерном для настроения хэйанской аристократии
ощущении беспокойства и неуверенности в завтрашнем дне,
«сэймэй-но фуан» [59, с. 18], или «сэйкацу-но фуан», которое,
по словам Накада Ясуюки, было обусловлено целым рядом
причин, в том числе и усилением сознания греха, в первую
очередь греха сластолюбия.Другой исследователь, Иэнага Сабуро, видит главную при¬
чину этой неуверенности в том, что хэйанская аристократия
ощущает свою изолированность, отрыв от остальной части стра¬
ны, от неведомого и непонятного народа, доставлявшего ей сред¬
ства к существованию, к роскошной и беспечной жизни, от¬
рыв, углублявшийся с каждым десятилетием [59, с. 5—7].А в провинции в это время усиливалась власть феодалов-
наместников, представителей военного сословия. Росло их бо¬
гатство, а вместе с тем и политическое влияние. Военными кла¬
нами было предпринято несколько попыток взять власть в стра¬
не (мятеж Тайра Масакадо на рубеже 60—70-х годов X сто¬4 Зак, 65449
летия). Почва заколебалась под ногами придворной аристо¬
кратии, неспособной собственными силами с оружием в руках
отстоять свои позиции. Все эти факторы способствовали тому,
что проблема будущего, вопрос о «спасении» приобретает к
этому времени для «благородных людей» особую актуальность.Наибольшее распространение получило в этот период фи¬
лософское учение двух сект — Тэндай («Опора небес») и Син-
гон («Истинные слова»). Первая была китайского происхож¬
дения, вторая — индийского. Обе возникли примерно одновре¬
менно, в начале IX в., и преследовали единую высшую цель —
приобщение к состоянию Будды, однако предлагали различные
пути ее достижения. Если Тэндай учила постепенному восхож¬
дению к истине путем умозрения и неуклонного овладения за¬
коном, то Сингон «наставляла» на этот путь без особых рацио¬
налистических построений. Для Сингон это был путь мант¬
ры — тайного слова. Сингон придавала большое значение
обрядности. Учения обеих сект были в достаточной степени
синкретическими. Тэндай, например, проповедуя центральную
доктрину Махаяны о всеобщем спасении (природа. Будды жи¬
вет в каждом из нас, цель жизни состоит в том, чтобы разви¬
вать ее, покуда мы полностью не освободимся от цикла пере¬
рождений до состояния Будды), не отвергала и доктрин других
сект и даже других религий. Так, если в основе Тэндай было
поклонение Гаутама-будде, Сакья-муни, то это не исключало и
обращения к космическому будде Вацрочана секты Сингон, и
к Амида-будде, и к богине Каннон, бодхисаттве милосердия,
а также к бесчисленным другим буддам и бодхисаттвам, и,
«роме того, к многим синтоистским божествам, с которыми
они ассоциировались. Тэндай приобрела значение государст¬
венной религии. Ее главным оплотом были монастыри, постро¬
енные на горе Хиэй близ Киото.Сингон отличалась от Тэндай и своим герметическим ха¬
рактером помимо того, что она проповедовала иной путь по¬
стижения истины. Проповедь ее доктрин предполагала непо¬
средственное общение между учителем и учеником. Она была
тесно связана с искусством, придавала особое значение жи¬
вописи, скульптуре, музыке, литературе. Кукай, основатель
секты Сингон в Японии, писал: «Эзотерические письмена так
глубоки и трудны для понимания, что их смысл не может быть
передан иначе, как посредством искусства...» И далее: «Секре¬
ты сутр и комментариев могут быть выражены средствами ис¬
кусства, и тогда эзотерические учения, составляющие сущность
истины, становятся ясными. Ни учителя, ни ученики не могут
обойтись без них. Искусство есть то, что раскрывает нам со¬
стояние совершенства» (цит. по [353, с. 100]).Символика учения Сингон, ее тяготение к магическим ак¬
там и формулам легко связывались с шаманистической струей
в национальной религии, что в немалой степени способствова-50
ло ее популярности. Японцы больше склонялись к учению Сип-
гои, Сингон также пользовалась значительной официальной
поддержкой. Ее доктрины исповедовали многие члены импера¬
торской семьи и фамилии Фудзивара. Правительство неодно¬
кратно использовало влияние этой секты для своих политиче¬
ских целей. В частности, с ее помощью был подавлен мятеж
Тайра Масакадо. Тайра Масакадо, член провинциального
военного клана, объявил себя императором, создал двор напо¬
добие императорского двора в Хэйане и назначил собственных
губернаторов в восточные провинции. Правительство направи¬
ло против него войска в сопровождении сингонского священ¬
ника, несущего знаменитый священный меч Амакуни*ио Цуру-
ги и образ Фудо, одного из наиболее грозных богов Сингон.
Вскоре после его появления близ столицы повстанцев их вождь
был повержен и убит, а мятеж подавлен. Это было отнесено
на счет сверхъестественной силы, присущей образу. Данное
событие значительно укрепило позиции Сингон.Известное влияние приобрел к этому времени также ами-
даизм — поклонение будде Амитабхе и вера в спасение в «чи¬
стой земле» («дзёдо»). Амидаизм становился основой популяр¬
ного буддизма, и крупнейшая книга, излагавшая его содер¬
жание, «Сущность спасения» появилась задолго до написания
романа о Гэндзи.Будда Амитабха, объявив себя бодхисаттвой, дал обет, чта
не войдет в нирвану до тех пор, пока каждое верующее в него
существо на свете не будет спасено. Согласно амидаизму, люди
того' «упадочного времени» не в состоянии были достичь состо¬
яния нирваны посредством праведного поведения. Поэтому от
них уже не требовалось ни исполнения ритуалов, ни изучения
священных писаний, ни добрых дел. В соответствии с изначаль¬
ным обетом главное, что было необходимо для спасения, — об¬
ращение к Амида-будде с элементарной молитвой-формулой:
«Наму Амида-буцу» («Я призываю тебя, Амида-будда»). Пос¬
ле смерти верующий будет возрожден в Западном Рае, где он
будет жить так, чтобы достичь нирваны.Среди амидаистов оказалось много выдающихся проповед¬
ников, главным образом из секты Тэндай, которая была основ¬
ной хранительницей амидаистских верований в хэйанский пери¬
од. Оба властителя — Митинага и император Итидзё верили
в спасение посредством Амида-будды, как и сама Мурасаки,.
которая исповедовала учение Тэндай [353, с. 102].Это комплексное восприятие буддийских доктрин получило
отражение и в произведении Мурасаки. Показательно выска¬
зывание Акаси-нюдо, отца одной из возлюбленных Гэндзи, ко¬
торый говорит и о будущих перерождениях, о будущей жизни
(«го-но-сэ»), и о рае и «вечном блаженстве» («горураку»), и о
спасении в «чистой земле» («дзёдо») («Акаси»),Усвоение доктрины о перерождениях отражено и в ряде4*51
других эпизодов. Например, Гэндзи клянется своей возлюблен¬
ной Югао, что будет вечно любить ее — ив этой жизни и во
всех последующих жизнях («Югао»).Есть немало эпизодов, свидетельствующих о восприятии
амидаистского учения о рае. Например, в главе «Югао» Гэнд¬
зи посещает свою смертельно больную няню и говорит, имея
в виду ее добродетельную жизнь, что она, вероятно, достигнет
нирваны будды Амитабхи. «Увидев моего дорогого молодого
хозяина еще раз, я могу спокойно ждать света будды Амитаб-
хн», — отвечает ему умирающая. «Поживи еще, чтобы увидеть
мой успех в этом мире, а потом ты можешь возродиться снова
высоко на девятом небе рая Амида-будды, ведь те, кто уми¬
рает с неудовлетворенным желанием, отягощены злой кармой
в будущей жизни», — с уверенностью возражает Гэндзи
(«Югао»). ■В романе часто изображается, как принц. Каору и многие
другие персонажи творят «нэбуцу», или «нэмбуцу», т. е. нахо¬
дятся в состоянии медитации, призывая будду Амитабху и
произнося молитву-формулу: «Наму Амида-буцу», но вместе с
тем они отправляли и другие формы буддийской религиозной
практики, не имеющие никакого отношения к амидаизму.В хэйанский период обнаруживаются и следы влияния ки¬
тайско-буддийской секты Чань (яп. Дзэн), проповедовавшей
интуитивный метод познания Истины. Учение дзэн проникло в
Японию из Китая в начале IX в. Оно еще не было оформлено
в самостоятельную секту и имело тогда сравнительно малый
успех у придворной аристократии, а тем более среди широких
масс населения.Основатель секты Тэндай в Японии Дэнго-дайси изучал
чань в Китае и принял многие из ее доктрин: спокойное созер¬
цание («сикан»), необходимый атрибут благочестивого испо¬
ведника Тэндай, весьма близко к дзэнской форме самосозер¬
цания. Сингонский мистицизм также испытал воздействие
дзэноких идей. Идеи дзэн, обычно не осознаваемые как тако¬
вые, были, однако, существенным составным элементом мисти¬
ческих аспектов хэйанского буддизма [353, с. 103]. В соответ¬
ствующих эпизодах романа Мурасаки изображены периоды ме¬
дитации, которым посвящали себя Каору и его наставник
принц Хати. Эти их действия, хотя они и отличались от позд¬
нейших ритуалов дзэн, в значительной степени уходят своими
корнями в дзэнское вероучение.В главе «Дворец в зарослях» говорится о брате Суэцуму-
хана, который был знаком с учением дзэн и «выделялся даже
среди своих коллег-клириков особой отрешенностью от мирских
дел». Позже он фигурирует как один из исполнителей церемо¬
нии чтения восьми свитков сутры о Лотосе, устроенной Гэндзи
в память его отца.Влияние буддизма при всей его значительности еще не при-52
няло в хэйанский период тотального характера, .как это имело
место Два столетия спустя (что отражено в камакурских воен:
ных эпопеях). Религиозно-философские аспекты буддийского
учения были восприняты — об этом свидетельствует материал
художественной литературы, и в первую очередь произведение
Мурасаки, — в основном в личностном плане, применительно
к своей, индивидуальной судьбе. Это особенно наглядно высту¬
пает при сопоставлении «Гэндзи моногатари» с такими произ¬
ведениями более позднего времени, как «Повесть о доме Тай-
ра» лли «Записки из кельи» Камо-но Тёмэй (начало XIII в.),
авторы и герои которых рассматривают и объясняют с пози¬
ций буддийской идеологии события государственной, историче¬
ской значимости (война, подъем и падение феодальных родов,
всенародные бедствия и т. д.), которым подчинены индивидуаль¬
ные судьбы людей.Показательно глобальное, обобщенное восприятие буддий¬
ских доктрин, ярко выразившееся в известном вступлении к
«Повести о доме Тайра»:Голос (Колокола в обители ГионЗвучит непрочностью всех человеческих деяний,'Краса цветов на дереве сяра являет закон:«Живущее — погибнет...Гордые — недолговечны».Они подобны сновидению весенней ночью.Могущественные в конце концов погибнут —Они подобны былинке перед ликом ветра.О степени и глубине восприятия буддийских доктрин в Хэй-
ане, а соответственно и о степени отражения их в романе су¬
ществуют различные мнения. Фудзиока Сакутаро, Кобаяси
Томоаки и некоторые другие японские ученые придают боль¬
шое значение силе воздействия буддийской идеологии. Так,
Фудзиока полагает, что буддийский мотив кармы составляет
главную тему романа, что он лег в основу концепции автора
[220].Накада Ясуюки, наоборот, считает, что вера в буддизм была
недостаточно глубокой у хэйанцев, в противном случае они не
могли бы всецело предаваться чувственным наслаждениям.
Поэтому он упрекает их в маловерии, в недостатке религиоз¬
ности («фусин») {125, с. 22].Н. И. Конрад полагал, что хэйанцы скорее скользили по по¬
верхности знания, чем углублялись в его недра. Взамен глубо¬
чайшей проблемы человеческого существования, поставленной
буддизмом, только легкая игра мотивом кармы, темой «при¬
чин и следствий», идеей «возмездия», и то понимаемыми в
чрезвычайно схематическом виде {306, с. 83]. Рассматривая
буддизм как один из основных компонентов хэйанской жизни
и хэйанской культуры [307, с. 9], Н. И. Конрад более склонен
подчеркивать распространение влияния буддизма «вширь», т. е.53
на различные стороны японской культуры, нежели «вглубь».Мотоори Норинага вообще не хочет принимать в расчет вли¬
яние буддизма на японское сознание, как оно отражено у Му-f>acaKii, ибо считает, что буддизм «исключает „моно-но аварэ“»
69, с. 170].Ему возражает Камэи Кацуитиро, утверждая, что в япон¬
ском сознании того времени мирно уживались буддизм с его
ощущением бренности и изменчивости человеческой жизни, с
одной стороны, и стремление к наслаждению этой жизнью, по¬
стоянное ощущение ее «очарования» — с другой. Такой же по¬
зиции придерживаются Ока Кадзуо и Мицуо Сатоси.И то, что Накада Ясуюки именует жизненным противоре¬
чием («сэйкацу-но мудзтон»), Камэи, Ока и Мицуо рассматри¬
вают как некий психологический комплекс и характерную чер¬
ту духовной жизни хэйанской аристократии. Именно легкомыс¬
ленная жизнь и связанное с нею сознание греха вызывали по¬
требность в поисках спасения, ибо заставляли задумываться
о возмездии в будущем.Культ наслаждения, связанный с праздностью, роскошью
придворной жизни, не мог не осознаваться хэйанской аристо¬
кратией (прямо или косвенно) как путь греха \ за .который
человек должен понести наказание. Понятие греха и кары за
него было воспринято японцами еще от синто с его учением
о «восьми смертных грехах».Все три упомянутых автора считают, что для психологии
хэйанца было нормальным состоянием балансирование между
наслаждением («ирогономи») и поисками путей к спасению в
рамках буддийской религии («кюдо»). Камэи Кацуитиро по¬
святил этой проблеме специальную .работу, которая так и назы¬
вается: «Поиски спасения и культ любви в Хэйане» [69]. «Наи¬
более характерным для духовной жизни Хэйана была
раздвоенность между в^рой и стремлением к чувственным на¬
слаждениям (ирогономи-но кайраку), между молитвой и рас¬
путством» {69, с. 17].Опровергая позицию Мотоори Норинага, Камэи Кацуитиро
подчеркивает, что идеологическое содержание «Гэндзи монога¬
тари» не исчерпывается «моно-но аварэ». Оно включает и
«традиционное ирогономи и ненавидимый Норинага буддизм».
Эти три элемента, по его словам, тесно переплетены между со¬
бой, и на этой основе родилось состояние «метания», «колеба¬
ния» («таютаи») [69, с. 170].В «ирогономи», по мнению Камэи, проявляются человече¬
ские слабости и горести («канасиса»). Буддийская вера порож¬
дает глубокое сознание вины, иными словами, «мятущуюся
душу» («таютау кокоро»). Эту «мятущуюся душу» и изобра-* Точный перевод японского слова «цуми» — «вина», «провинность», смысл
его неадекватен христианскому понятию греха, хотя мы условно и переводим
его этим словом.54
жает литература моногатари. И чем глубже вера в буддизм,
тем острее «кризисное сознание» («кикикан»)—ощущение про¬
тиворечивости собственного поведения, «горечи блужданий»
(«таютаи-но цураса») {69, с. 173—174].Камэи считает, что жизнь хэйанцев состояла в постоянном
■«метании», «колебании». Колебание между стремлением к на¬
слаждению жизнью («кайраку») и верой в буддизм, сопряжен¬
ное со страхом перед возмездием, и создавало, по мнению Ка¬
мэи, ощущение «аварэ» [69, с. 17].Мы не склонны абсолютизировать ту или другую сторону
идеологии хэйанского общества: ни буддизм, как это делает
Фудзиока, ни «моно-но аварэ», как это делает Мотоори Нори-
нага. Для нас 6eccn0jpH0, что такие важнейшие доктрины буд¬
дизма Махаяны, как учения о карме и бренности бытия, прочно
вошли в сознание хэйанца.Идея кармы, понимаемой как закономерная связь причин и
следствий, как общий итог поступков и акций героев, как
«предопределенность» человеческой судьбы в прежнем сущест¬
вовании — «сюкусэ», получила в романе Мурасаки Сикибу до¬
статочно широкое отражение. Гэндзи и другие персонажи ро¬
мана рассматривают свои неудачи и потери как результат этой
предрешенности, «невидимой человеческому глазу и непод¬
властной человеческой воле».Они оценивают свои поступки и последствия своего поведе¬
ния, а также общий ход событий с позиций буддийской идео¬
логии. Например, император, отец Гэндзи, после смерти Кири¬
цубо, говорит ее матери: «Вероятно, суждено было всему быть
таким недолговечным... Хотелось бы мне знать мое прежнее
существование!» После смерти Аои ее отец, сетуя на непроч¬
ность мирских уз, рассуждал: «Видно, так уж устроен этот
мир, что души наши обречены на вечные скитания. Наверное
в прошлой жизни совершили мы тяжкие прегрешения...».Прощаясь с отцом Аои, Гэндзи раскрывает ему причину
своего изгнания: «Все, что с нами случается — со мной и с дру¬
гими — все это воздаяние за дела, совершенные в прежнем су¬
ществовании».Укон, служанка Укифунэ так объясняет влюбленность и
ночной визит принца Ниоу к ее госпоже: «Очевидно, такова
была ее карма от прежнего воплощения, что все должно было
произойти именно так, как произошло в эту ночь. Как можно
осуждать ее?»Священник, который находит Укифунэ после ее попытки к
самоубийству, сознает, что этот ее поступок не дело случая,
но следствие чего-то, происшедшего в прошлом рождении. Он
готов сделать все, чтобы помочь девушке, однако считает, что
если, несмотря на все его усилия, она все-таки умрет, это долж¬
но означать, что такова ее карма («го цукиникэри»).В соответствии с идеей кармы индивидуум свободен опреде¬55
лять свое будущее в зависимости от моральной значимости его
настоящих поступков и действий, однако сами эти действия уже
предопределены тем, что он совершил в прежнем рождении:
цепь причинно-следственных связей уходит далеко в прошлое,
охватывая бесконечные перерождения, которые человек ни в
малейшей степени уже не может контролировать. Результатом
этой формы фатализма почти неизбежно становятся беспомощ¬
ность, покорность судьбе, пассивность и нежелание активно
участвовать в жизни.В романе Мурасаки отражено и буддийское учение о тщете
бытия, эфемерности жизни («мудзё»), усвоенное еще в VIII—
IX вв., о чем свидетельствует содержание многих поэтических
произведений «Манъёсю»и «Кокинсю».Представители сословия, к которому принадлежат автор и
герои «Гэндзи моногатари», уже достаточно сжились с этим
основным духом буддизма, общим для всех сект. В японском
алфавите (фонетической азбуке кана), разработанной Кука-
ем, расположенные подряд 47 слогов составляли буддийское
стихотворение, построенное на сутре о Нирване, возвещающей
бренность и мимолетность людского мира. Стихотворение на¬
чиналось словами: «Цветы, какими бы яркими они ни были,
должны отцвести». Рассуждения о бренности, эфемерности бы¬
тия встречаются в самой различной связи в большинстве глав
романа.Обеспокоенный состоянием Фудзицубо накануне родов,
Гэндзи долго размышлял о превратностях жизни, о непрочно¬
сти человеческих связей, готовых оборваться в любой момент.«Я устал от этого мирского непостоянства...» — таковы по¬
следние строки стихотворения Гэндзи, адресованного императ¬
рице после смерти Мурасаки.Из главных персонажей «Гэндзи моногатари» наиболее при¬
вержен идее эфемерности бытия Каору, что связано с его глу¬
боким интересом к буддизму вообще. «Что бы мне ни гово¬
рили,— замечает он во время одного из своих посещений Уд¬
зи,— каждый из нас обречен рано или поздно обратиться в
дым, который унесется в небеса» (принятая в Японии практи¬
ка кремирования усугубляла ощущение бренности существова¬
ния).«Наша жизнь значительно короче и непостояннее, чем что-
либо в этом мире, чтобы представлять собой некую цен¬
ность»,— утверждает Каору в свои двадцать четыре года.
«Этим человеком полностью владеет идея мирского непостоян¬
ства», — говорит о нем принц Ниоу-но мия.Буддизм учил, что материальный мир есть иллюзия и что
жизнь человека не более существенна, чем роса или осенняя
паутина; эта идея наиболее часто выражается в образах грез,
сна. Действующие лица романа «постоянно грезят», и нередко
грань между сновидениями и жизнью наяву представляется56
им весьма зыбкой. «Ночь бесконечных снов (акэну е-но юмэ)...
Такова моя жизнь», — писала Акаси в своем стихотворном по¬
слании к Гэндзи, и к этому образу вновь и вновь обращаются
герои «Гэндзи моногатари». Симптоматично название послед¬
ней главы романа Мурасаки «Плавучий мост грез» («Юмэ-но
укихаси»).Раскрывая религиозно-мировоззренческую атмосферу эпохи,
Мурасаки выявляет различные характеры и уровни восприятия
буддийских учений, показывая как людей, для которых отправ¬
ление религиозных обрядов и церемоний носит в определенном
смысле формальный характер, имеет значение придворного
обычая (таких, по сути дела, большинство в романе), так и
людей, безразличных к религии (Суэцуму-хана), и людей глу¬
боко религиозных типа Каору, живущих в «страхе божием»
(Фудзицубо), и последовательных приверженцев учения (принц
Хати).Предложенный буддизмом путь полного освобождения от
земных желаний — источника страданий, — уход в монашество,
посвящение себя молитве, достижение нирваны («нэхан»), чет¬
ко не определен в романе, правда, это является конечной целью
таких людей, как принц Хати и Каору. Для менее благочести¬
вых путь спасения («кюдо») более затруднителен. Однако и
они могут найти избавление от печалей земной жизни в мо¬
настыре или ските, улучшив тем самым свою карму.Практика ухода в* монастырь была довольно распростране¬
на в придворной среде. Целый ряд персонажей романа прини¬
мают буддийские обеты (Фудзицубо, Рокудзё, Уцусэми, Нёсан,
Судзаку и др.) или готовят себя к этому (Асагао, Каору). Не¬
однократно говорит о своем намерении удалиться в монастырь
и Гэндзи.По вопросу о соотношении в романе Мурасаки буддийской
идеологии с культом любви и «моно-но аварэ» мы опираемся
на изложенную выше концепцию Камэи Кацуитиро, Ока Кад-
зуо и Мицуо Сатоси.Во-первых, как мы уже говорили, принцип «моно-но аварэ»
в определенной части восходит к буддийским идеалам. Необ¬
ходимо иметь в виду, что в Хэйане важное значение придава¬
лось эстетическим аспектам буддизма. Это явствует, в част¬
ности, из того, что значительное место в описании религиозных
обрядов и церемоний занимает их зрелищная сторона и вооб¬
ще все то, что имеет отношение к искусству. Например, при
описании церемонии подношения цветов Будде основное вни¬
мание обращено на одежды мальчиков (одни представляли
бабочек, другие — птиц), а также на исполняемые ими танцы
и пение («Бабочки»). Как уже отмечалось, секта Сингон в
значительной мере обязана своей популярностью красочной и
пышной обрядности, доставлявшей хэйанцам эстетическое на¬
слаждение, а также своей тесной связи с искусством — музы-57
коп, танцем, живописью, скульптурой и т. д. Можно сказать, что
в Хэйане буддийские воззрения входят в определенном смысле
в орбиту «моно-но аварэ».Буддийская доктрина о бренности всего мирского, а следо¬
вательно, недолговечности и эфемерности самой красоты не
только не противоречила, но органически сочеталась с посто¬
янным стремлением к прекрасному и ощущением прелести
жизни. Видимое противоречие снимается «всеобъемлющим» ха¬
рактером «аварэ»: поскольку во всем, в том числе и в грустном
и печальном, есть свое очарование, есть оно и в бренности бы¬
тия, о чем свидетельствует понятие «мудзё-но аварэ» — «[пе¬
чальное] очарование мимолетности». Оттого что жизнь бренна*
она не утрачивает своего смысла и своей прелести. Более того,
сама недолговечность красоты придает ей и особую ценность.
Об этом хорошо сказал писатель и филолог Кэнко-хоси: «Если
бы жизнь могла продолжаться без конца, не улетучиваясь,
подобно росе на равнине Адаси, и не уносясь, как дьш на горе
Торибэ, ни в чем не было бы очарования. В мире замечательна
именно непостоянство» [308, с. 47]. «Аварэ» (в элегической трак¬
товке) отражает эмоциональную (реакцию Гэндзи и других пер¬
сонажей романа на предопределенность судьбы. Недаром герои
«Гэндзи моногатари» говорят о «сюкусэ-но аварэ».Органическое сочетание буддийских идеалов с постоянным
поиском стимулов ощущения прекрасного — «аварэ» ярко
проявилось в описании женской красоты в монашеском обли¬
ке, которое занимает важное место в характеристике соответ¬
ствующих персонажей. Подробно описана красота Укифунэ-
монахини: «Она казалась Сёсе (одна из монахинь, в доме ко¬
торой нашла приют Укифунэ после своей неудачной попытки
самоубийства. — И. Б.) более очаровательной, чем когда-либо;
ее хрупкая фигура, облаченная в эти темные одежды, выгля¬
дела элегантно и грациозно. Ее подстриженные волосы были
разбросаны веером по лбу и заложены за уши самым привле¬
кательным образом. На ее щеках играл легкий румянец, с ко¬
торым не могли бы соперничать самые изысканные сочетания
румян и пудры» («Урок каллиграфии»). Специально подчерк¬
нуто «очарование» облика монахинь Фудзицубо, Уцусэми, Ро¬
кудзё, Нёсан. О Рокудзё сказано, что она «выглядела очарова¬
тельно в монашеском облике» («Путеводные огни»).Таким образом, буддийская идеология эзотерических сект
и аристократическая тенденция к эстетизации жизни и поэти¬
зации природы и других объектов вещного и духовного мира
своеобразно дополняли друг друга в рамках единой, синкрети¬
ческой культуры Хэйана. Результатом взаимовлияния явилось,
в частности, особое развитие эстетических сторон в самом буд¬
дизме (при известной эстетизации его идей и понятий), с од¬
ной стороны, и развитие элегического аспекта «аварэ» — с
другой.58
Религиозно-культовые традиции синтоСинтоизм нашел отражение в «Гэндзи моногатари» и в ви¬
де элементов жизненного уклада, и как проявление культовой
традиции, и как религиозное верование.Императорская семья сохранила тесную связь с синто, и
великая синтоистская святыня в Исэ оставалась для Японии
«святая святых».Многие эпизоды романа Мурасаки связаны с синтоистскими
празднествами, обрядами, ритуалами, например с веселым
праздником храма Камо, где, по преданию, богиня Тамаёри-
химэ дала жизнь богу грома. Он подробно описан в главе
«Аои». В другой главе — «Императорская процессия» — пред¬
ставлен праздник храма Охара (находится на западе от Кио¬
то). Неоднократно упоминается и Касуга, клановый бог фа¬
милии Фудзивара. Пышное синтоистское празднество со мно¬
жеством полуувеселительных, полурелигиозных церемоний со¬
стоялось по случаю назначения главой жрицы храмов Исэ.
А в главе «Путеводные огни» Гэндзи совершает паломничество
в храм синтоистского бога Сумиёси.Синтоизм имеет прямую связь с теми проявлениями суеве¬
рия, с тем сверхъестественным элементом, который занимает
определенное место в фабуле «Гэндзи моногатари».Суеверия играли огромную роль в повседневной жизни хэй-
анского общества. Как и всюду, в Японии грани между суеве¬
риями и религиозными верованиями, с которыми поначалу
многие из этих суеверий были связаны, достаточно шатки.Во времена Мурасаки существовало множество народных
верований, которые распространялись в течение столетий и ока¬
зались тесно переплетенными между собой. Большинство веро¬
ваний не имели прямого отношения к тому или иному рели¬
гиозному учению. Истоки многих из них, включая те, что свя¬
заны с привидениями и демонами, в древнем национальном
фольклоре. Некоторые, в особенности относящиеся к колдов¬
ству, волшебству, магии и другой оккультной практике, испы¬
тали влияние синто и представляют шаманистическую струю
в национальной религии. Их приверженцы часто обращаются
к богам синто, как, впрочем, и приверженцы демонической
линии народных верований.Мир в восприятии человека эпохи Хэйан был полон демона¬
ми и духами: среди них были и «видимые» существа: тэнгу
(черт), доку (полубожество типа домового) — с последним бы¬
ла связана целая система табу. Демонические качества при¬
писывались лисам. В частности, существовало поверье, что
лисы могли заколдовать человека или сотворить над ним дур¬
ное заклинание и имели обыкновение принимать человеческий
облик. Когда ученики буддийского священника обнаружили59
ночью под деревом Укифунэ, лежавшую без сознания, они тут
же решили: это лиса превратилась в девушку.Большое значение придавалось в Хэйане «вещим снам».
В них обычно являлся мертвый живому и о чем-то его предуп¬
реждал. Это было равнозначно предостережению древних бо-.
гов.Прямую связь с синтоистскими верованиями имеют следую¬
щие эпизоды романа.Во время пребывания Гэндзи в изгнании, в Сума, ему во
сне явился отец, покойный император, повелел обратиться с
молитвой к богу Сумиёси и отправиться туда, куда этот бог
укажет. Каждую ночь Гэндзи видел сон, будто посланец зовет
его в подводные владения. И вот однажды утром к противо¬
положному берегу залива подплыла лодка с отшельником из
Акаси, который был под особым покровительством бога Су¬
миёси.Отшельник рассказал Гэндзи, что видел странный сон: ему
было предписано взять лодку и отправиться к этому берегу,
Гэндзи последовал за ним и поселился в его доме («Акаси»).
В это время в столице произошли грозные события: страшный
ураган, смерть Правого министра, главы враждебного Гэндзи
рода, болезнь Кокидэн, императрицы-матери, его злейшего
врага. Заболевает, наконец, и сам император, сын Кокидэн,
старший брат Гэндзи. Все толкуют эти события как кару бо¬
гов (синтоистских!) за изгнание Гэндзи.Из синтоистских верований, пожалуй, особо важное место
в произведении занимает вера в бесплотных духов («моно-но
кэ»), С древних времен в Японии существовало поверье, что
человеческий дух независимо от воли самого человека может
отделиться от него и напасть на другого человека. Так, гибель
Югао и Аои в романе изображена как следствие нападения
злого духа — духа мщения Рокудзё, отвергнутой любовницы
«блистательного Гэндзи». Духи зла поражают Мурасаки, не¬
официальную жену Гэндзи, их наваждение испытывают на себе
Укифунэ и другие женщины.В последней части повествования, именуемой «главами Уд*
зи» (где действие перенесено из Хэйана в местечко Удзи),
сказано, что духи зла служат выражению гнева и ропота в
этом мире и блуждают в нем («тадаёу»). Они появляются из
тьмы и во тьме исчезают. Это могут быть как духи живых лю¬
дей, так и духи умерших.Неуспокоенные духи умерших населяли мир живых и счи¬
тались причиной болезни, смерти и других бед. Несчастья го¬
сударственного масштаба часто приписывались мстительным
духам ссыльных государственных деятелей, таких, как принц
Савара или Сугавара Митидзанэ. С целью умиротворения
духов принц Савара был посмертно провозглашен императо¬
ром, а Сугавара Митидзанэ возведен в чин премьер-министра.60
Людям стоило немалого труда оградить свой дом от злых
духов. В романе этому посвящено множество эпизодов. По¬
казателен, например, разговор, происшедший между Югири и
его молодой женой Кумой. Югири только что пробудился от
тревожного сна и обнаружил, что его маленький сын болен.
В ответ на его вопрос, что с ребенком, жена ответила: «С тех
лор как ты увлекся этим своим другом (она намекала на его
интригу со вдовой Касиваги), ты стал приходить домой в лю¬
бое время ночи, открывал решетчатые окна и напускал в дом
злых духов...»Чтобы отвратить злых духов, нередко приходилось обра¬
щаться к чарам, заклинаниям, различным формам колдовства.
Специальные меры предосторожности соблюдались и в окрест¬
ностях дворца. Через определенные промежутки времени двор¬
цовая стража обязана была натягивать луки и издавать звон
тетивы, чтобы отпугивать злых духов [353, с. 132].Влияние синтоизма нашло проявление и в особой роли при¬
роды в «Гэндзи моногатари» (об этом будет сказано в разделе
«Роль и место природы в „Гэндзи моногатари**»).Синтоизм не был отвергнут. Он влился в буддизм и ас¬
симилировался в нем. Позже, в конце средних веков, для обо¬
значения этого явления возник термин «рёбусинто», употребляв¬
шийся применительно к тому периоду. Однако фактическое
слияние буддизма и синтоизма происходит уже в раннем сред¬
невековье, как об этом пишет Накада Ясуюки, а истоки его
прослеживаются в древности, как об этом свидетельствует, в
частности, поэзия антологии VIII в. «Манъёсю», в которой на¬
ряду с древней культовой традицией нашла отражение и буд¬
дийская идея бренности бытия («Поэма сожаления о быстро¬
течности жизни» Яманоэ Окура, «Песнь, выражающая печаль
по поводу непрочности этого мира» Отомо Якамоти).О причудливом переплетении различных верований в созна¬
нии японца — современника Мурасаки Сикибу, свидетельствует
эпизод романа — первое посещение принцем Ниоу его возлюб¬
ленной Укифунэ. Горничная Укифунэ сказала Ниоу, что за де¬
вушкой должна заехать мать, чтобы отправиться вместе с нею
в буддийский храм, тем не менее он отказался уехать и посо¬
ветовал горничной объяснить матери, что Укифунэ не может
покинуть в этот день свой дом из-за запрета синтоистских бо¬
гов («моноими»), а также из-за вещего сна («юмэми савага-
си»). Сам же Ниоу проводит день в Удзи (где жила Укифунэ)
под предлогом необходимости уединения и медитации — в со¬
ответствии с требованиями буддийской религиозной практики.
В этом же отрывке содержится описание синтоистского ритуа¬
ла очищения («омисоги») и буддийского обычая воздержания
от мяса и рыбы перед посещением храма («Укифунэ»).Гэндзи неоднократно обращается «к буддам и богам нашей
земли»: находясь в ссылке, с просьбой положить конец изгна¬61
нию («Сума»), во время болезни Мурасаки, с мольбой об ис¬
целении («Молодая поросль»),В конце главы «Акаси» говорится, что Гэндзи, возвращаясь
из ссылки, совершает в Нанива синтоистский обряд очищения,
а по возвращении в столицу организует чтение восьми свитков
сутры о Лотосе — в память своего отца.Взаимопроникновение синтоизма и буддизма проявилось и
в таком явлении, как «моно-но кэ». Интересны в этом плане
эпизоды изгнания злого духа («моно-но кэ») из тела больных
Аои и Мурасаки.Вот как описана сцена одержимости Аои: «Она очень му¬
чилась. И хотя целители читали одну молитву за другой, все
их усилия ни на йоту не могли устранить из тела больной ту
злую силу, которой она была одержима. Здесь были собраны
все крупные заклинатели страны, и неудача их богослужения
вызывала у них досаду и растерянность. Наконец запуганный
силой их заклинаний дух, что владел ею, обрел голос, и они
слышали, как больная произнесла, горько рыдая: „Оставьте
меня на время в покое. Есть дело, о котором я должна погово¬
рить с Гэндзи". Целители переглянулись, как бы говоря друг
другу: „Вот теперь-то мы узнаем нечто важное“,— ибо они
были убеждены, что это дух говорил устами одержимой. И они
поторопили Гэндзи к ее постели. Родители, считая, что конец
ее уже близок и что она хочет сказать свои последние слова
Гэндзи наедине, отошли в глубь комнаты. Священники при¬
остановили свои заклинания и тихими, выразительными голо¬
сами начали чтение сутр... Он (Гэндзи. — И. Б.) взял ее руку
и заговорил с ней нежно и участливо, и она уже не смотрела
на него с прежним презрением. Вдруг она прервала его: „Нет,
нет! Не то! Остановите на минуту эти молитвы. Они очень вре¬
дят мне“, —и, притянув его к себе, продолжала: „Я не думала,
что ты придешь. Я ждала тебя до тех пор, пока душа моя не
сгорела от желания**. Она говорила задумчиво, нежно... Голос,
произносивший эти слова, принадлежал не Аои, и манера была
не ее. Чей же он был? О, да это могла быть только она, Ро¬
кудзё... Раза два он слышал из рассказов других людей, что
подобное возможно, однако сам он всегда отвергал эту идею
как ужасную и немыслимую, считая ее плодом больного во¬
ображения. Теперь Гэндзи видел все собственными глазами.
Страшные, невероятные сами по себе, эти вещи действительно
случаются в жизни. Овладев в конце концов собой, он тихо
сказал: „Я не совсем уверен в том, кто со мной говорит. Не
оставляй меня в сомнении4*. Ее ответ лишь еще раз доказал
с достаточной убедительностью, что он не ошибся» («Аои»).Для исцеления тяжело больной Мурасаки также были при¬
глашены наиболее известные заклинатели. «„Хотя ей и суждено
покинуть мир в конце предначертанного времени, мы просим
Тебя даровать ей теперь краткую отсрочку, дай ей возмож-62
ность хотя бы еще недолго побыть с нами, то время, что Фудо
даровал нам в своем Обете (Фудо в своем Изначальном обе¬
те пожаловал шестимесячный период милосердия — отсрочки
любому верующему, чей жизненный путь достиг своего преде¬
ла.— И. Такова была молитва, которую истово произноси¬
ли заклинатели: они стояли у алтаря и черный дым от горящих
свечей, казалось, поднимался из самых их голов...Будда, видимо, заглянул в сердце Гэндзи и пожалел его
в его ужасном горе, ибо заклинателям удалось переселить в
молодую женщину медиум злого духа, который упорно отка¬
зывался заявить о себе в течение нескольких месяцев. Посколь¬
ку дух (устами медиума) выкрикивал свои проклятия, Мура¬
саки постепенно пришла в себя. Наблюдая эту сцену, Гэндзи
был переполнен смешанным чувством восторга и ужаса...»
(«Молодая поросль»).Примечательно, что заклинатели были членами буддийско¬
го духовенства, хотя шаманизм и идея одержимости злыми
духами не входили в буддийские доктрины, и следовало ожи¬
дать, что в подобных случаях службу должны отправлять син¬
тоистские священники.Оя Райсюн говорит о двух видах синтоистских божеств*
фигурирующих в «Гэндзи моногатари». Одни связаны с буд¬
дизмом и его охраняют, и сам их характер буддизирован.
Другие составляют своего рода оппозицию буддизму. В этой
второй категории, в свою очередь, выделяются две разновид¬
ности. Одни носят синтоистские имена и принадлежат конкрет¬
ным святилищам (храмам). У других нет ни имен, ни храмов,,
это —наиболее древние божества. И тем и другим божествам
приписывалось большое влияние на жизнь людей. У многих из
тех, кто не имел имен, характер совпадает с «моно-но кэ», хотя
полного слияния нет [83, т. 4, с. 296]. По словам Оя Райсюн*
«моно-но кэ» существуют и действуют вне сферы буддизма.В отличие от буддийской предрешенности («сюкусэ»), кар¬
мы, как закономерного следствия прежних деяний, подчерки¬
вает Оя Райсюн, синтоистские духи зла появляются внезапно,
без предупреждения [83, т. 4, с. 295], т. е. здесь как будто
господствует случайность. Они приносят только несчастье, тог¬
да как буддийская карма может нести с собой и счастье и
несчастье. Однако если подходить к синтоистским духам с по¬
зиции человека, подвергшегося их воздействию, как это имеет
место в «Гэндзи моногатари», то их следует рассматривать в
рамках буддизма, как более высокоразвитой религии, ибо они
становятся орудием кармы, их появление объясняется буддий¬
скими законами и представляется уже закономерностью. Ги¬
бель Югао и Аои, подвергшихся нападению злого духа, Гэндзи
рассматривает как «удары судьбы». Эти духи, рассуждает он,
возвещают нам о бренности и иллюзорности всего земного.
Так же рассуждал он и после смерти Мурасаки.63
Священник, принимавший буддийский обет у Укифунэ, го¬
ворил Каору, что от одержимости злыми духами, подобной той,
которой она страдала, нельзя освободиться, ибо она предопре*
делена чем-то в прежнем воплощении («Урок каллиграфии»).
Страх перед темными силами сливался со страхом перед не¬
ведомой судьбой, как проявление которой они и воспринима¬
лись.Имели место, однако, случаи религиозной несовместимости.
Предпочтение отдавалось обычно буддийской религии. Так,
главным стимулом к пострижению Рокудзё и особенно Асагао
было длительное пребывание их в «греховном месте» — в син¬
тоистской святыне Исэ (Рокудзё —в качестве матери принцес¬
сы жрицы, Асагао — в ■ качестве самой жрицы), которое рас¬
сматривалось ими как «оскорбление своей религии» (т. е. буд¬
дизма) .. Накада Ясуюки приводит подсчеты отражения реалий буд¬
дизма и синтоизма в произведении Мурасаки: буддийские реа¬
лии фигурируют в 108 случаях, синтоистские — в 38, и те и дру¬
гие совместно — в 18 случаях [125, с. 19].Влияние древнекитайских философских учений
в романе (даосизма и конфуцианства)Надо сказать, что синкретизм религиозной практики в
Хэйане далеко не ограничивался сферами буддизма и синто¬
изма. Нельзя упускать из виду и область верований китайско¬
го происхождения, среди которых значительное место занима¬
ли конфуцианские учения, идеи даосизма и целый ряд суеве¬
рий и предрассудков, с ними связанных.Некоторые доктрины конфуцианства были завезены на
японские острова еще в древности. Во времена Мурасаки они
проявились прежде всего в области семейных отношений. До
XVII в., когда конфуцианство потеснило буддизм во многих
областях жизни, в Японии не существовало культа традицион¬
ной семьи и формализации отношений внутри нее. Однако
сплоченность и престиж семьи и рода были достаточно сильны.
Японское аристократическое общество, вышедшее непосредст¬
венно из недр родового строя, долгое время сохраняло с ним
глубокую преемственную связь, которая нашла свое отражение
прежде всего в клановой системе. Семья, или дом («кэ»), воз¬
главляемый патриархальным главой дома — «катё», был в Хэй¬
ане главной ячейкой общества. Государственная политика в
основном была политикой семьи или клана, и ключевой пози¬
цией Митинага в течение долгих лет его гегемонии был престиж
главы клана («удзи-но тёдзя»). Это было усилено и подкреп¬
лено конфуцианскими доктринами, которые придавали особое
значение почитанию предков, сыновней почтительности, про-64
должеиию рода. По мнению Морриса, ставку на продолжение
рода и широко распространенный обычай усыновления сле¬
дует отнести в значительной степени за счет влияния конфуци¬
анских доктрин [353, с. 95J. Конфуцианская доктрина почита¬
ния предков закрепила и формализовала ведущий свое проис¬
хождение от древних времен обычай сыновней почтительно¬
сти («сяо»).Сыновняя непочтительность, проявленная в романе импера¬
тором Рёдзэном во время обряда в честь покойного императо¬
ра, фактически не являвшегося его отцом, была осознана им
как тяжкий проступок, и это болезненно отразилось на его ум¬
ственных способностях. Переживания императора безусловно
отражают восприятие моральных догм конфуцианства, ибо ни
синто, ни буддизм не рассматривали бы сыновнюю непочти¬
тельность как оскорбление, тем более что Рёдзэн никогда не
был точно информирован, кто его настоящий отец. Наруше¬
ние, даже непреднамеренное, сыновнего долга таким лицом,
как Рёдзэн, могло не только иметь самые тяжкие последствия
для тех, кого это непосредственно касалось, но и спровоциро¬
вать несчастье в масштабах всей страны — землетрясение, на¬
воднение и т. д. Для того чтобы избежать бед, Рёдзэн решает
отречься от престола.Бездетность Рёдзэна рассматривается как результат греха,
приведшего к его рождению, — буддийское учение о карме сли¬
вается с конфуцианским положением о зависимости судьбы
потомков от действий и поступков предков.Когда духовник Рёдзэна полураскрывает ему тайну его рож¬
дения (после смерти его матери Фудзицубо), он приписывает
ее сокрытию участившиеся в столице стихийные бедствия.
В данном случае конфуцианские представления сочетаются и
с синтоистскими и с буддийскими верованиями.Даосские идеалы менее дают себя знать в быту, однако в
общей структуре миропонимания они занимают свое место.
Свою роль сыграли они, например, в генезисе «моно-но аварэ».
«Моно-но кокоро» («суть вещей») имеет не только синто-буд-
дийскую, но и глубокую даосскую основу: каждая вещь, велика
ли она или мала, имеет свое «дао», по-своему переживает свой
путь и сопричастна Абсолюту. Даосская идея всеобщей связан¬
ности вещей и существ сыграла важную роль в возникновении
сознания единства с природой, а отсюда и единения природы и
искусства.В значительной степени на даосскую традицию опираются
и ранние дзэнские идеалы: самососредоточенность — основа
дзэнской медитации — восходит к даосской сосредоточенности на
«внутреннем», а внезапное просветление — «озарение» («сато-
ри») как постижение истины близко даосской идее «увэй» («не¬
деяния»). Даосская идея «недеяния» вместе с буддийским прин¬
ципом кармы способствовали формированию характерной5 Зак. 65465
для человека эпохи Хэйан позиции «невмешательства» в свою
судьбу, отказа от попыток активного воздействия на естест¬
венный ход событий.Была воспринята и одна из центральных даосских концеп¬
ций — концепция двух взаимопроникающих начал «инь—ян».
В это время она была усвоена в основном чисто прагматиче¬
ски, в оккультном преломлении. Дело в том, что вместе с дао¬
сизмом японцы импортировали обширную систему сведений о
предзнаменованиях, основанных на взаимодействии «инь—ян»
(мужского и женского, светлого и темного начал), и учения о
пяти стихиях. На них в первую очередь основывались гадания
и предсказания.В Хэйане существовало специальное Бюро предсказаний,
или Департамент «инь—ян» (по-японски «ин—ё), по-своему ре¬
гулировавший политическую и экономическую деятельность
правительства. Департамент определял дни и периоды, благо¬
приятные для тех или иных акций. В результате возникали
табу, значительно замедлявшие и без того медленный ритм
жизни «города, мира и спокойствия». Например, чиновник, на¬
значенный губернатором в отдаленную провинцию, мог не¬
сколько месяцев ждать благоприятного дня для выезда на
место назначения, как и землемер, которому поручалось вы¬
брать место для нового строительства. Даже срочные государ¬
ственные дела откладывались на основе календарных и физио¬
гномических наблюдений [353, с. 126]. Экспедиция против вос¬
стания Тайра должна была ждать более месяца, пока не будет
определен благоприятный день для выступления в поход.Интересный случай культурного слияния представляет со¬
бой адресное табу — «катаими» (единовременное или перма¬
нентное), в котором национальное синтоистское требование
умеренности и воздержания («ими») включается в инъянскую
•концепцию счастливых или несчастливых направлений пути.
Реалии, связанные с этой концепцией и соответствующей прак¬
тикой, занимают важное место в романе Мурасаки. Весьма
характерен эпизод — посещение блистательным Гэндзи с обыч¬
ными намерениями молодой замужней женщины Уцусэми. Пос¬
ле визита к Аои Гэндзи обнаруживает, что он не может в тот
же вечер вернуться в свою резиденцию, поскольку' его путь ле¬
жит в «запретном направлении» и выбирает для ночлега дом
Иё-но сукэ (мужа Уцусэми).В главе «У подножия дуба» говорится о том, что принц
Ниоу совершает паломничество к великой святыне Каннон в
Хасэдэра (на юго-восток от Нара) и Югири имеет намерение
встретиться с ним на обратном пути, но оказывается, что это
невозможно: астрологи предсказали неблагоприятное для не¬
го расположение планет.В частной жизни большое значение имели запретные дни,
определяемые на основе указанной концепции в сочетании с66
требованиями религиозной практики. В частности, в результате
толкования снов, а также ^выявления хороших и дурных пред¬
знаменований определялись дни, когда необходимо было си¬
деть дома и по возможности воздерживаться от какой бы то
ни было деятельности. Кроме того, устанавливались специаль¬
ные дни для стрижки волос, мытья и т. п.Принц Ниоу, навестив однажды свою возлюбленную Нака-
но кими, был очень обескуражен тем, что она вымыла волосы
(чрезвычайно сложная и длительная операция в Хэйане, по¬
скольку волосы женщины часто были длиной в ее рост). Он
спрашивает ее прислужниц, почему они выбрали именно этот
день. «Мы обычно делаем это, когда Вашего Высочества нет
здесь, — ответила одна из них, — но по разным причинам это
нельзя было сделать ни в один из последних дней, и нет боль¬
ше благоприятных дней до конца месяца, а следующие два
месяца запретные (мытье волос в эти месяцы могло навлечь
болезнь или несчастье.— И. Б.). Так что, Ваше Высочество,
мы никак не могли упустить эту возможность» («Дом на
окраине»).«Эти и подобные примеры слияния, казалось бы, несовме¬
стимых и. даже противоречивых религиозных верований и пред¬
рассудков весьма показательны для мировоззрения Мурасаки
и ее современников, — пишет И. Мор,рис. — Их противоречи¬
вость сглаживалась аккуратными синкретическими формула¬
ми, и самые несовместимые отправления религиозной практики
принимались как органические части верования, игравшего в
данном случае главную (роль. Совмещались не только различ¬
ные религиозные функции, но и сами религии смешивались с
широкой сетью предрассудков. Представлялось вполне естест¬
венным, что императоры, высшее синтоистское духовенство
принимали буддийские обеты, что люди страдали от одержи¬
мости, связанной, с дурной кармой, и что буддийские священ¬
ники должны были веровать в природные божества и счаст¬
ливые звезды. На Западе мы тоже можем встретиться со мно¬
жеством противоречий подобного рода, однако они никогда не
достигали такой степени откровенного синкретизма и интел¬
лектуальной терпимости, которая была нормой в Японии в
хэйанский период и позже» [353, с. 140].Таким образом, роман «Гэндзи моногатари» с достаточной
полнотой реконструирует духовную культуру эпохи Хэйан, от¬
ношение к жизни, мировоззрение и психологический склад ее
главных создателей — придворной аристократии, и вместе с тем
дает представление о мировоззренческой основе самого рома¬
на. Мировоззрение же автора проявляет себя — как будет по¬
казано далее — и в концепции произведения, и в творческом
методе, и в структуре художественного образа, и в характе¬
ре композиции.5*67
Замысел и тема романа «Гэндзи моногатари»Как уже упоминалось, по вопросу замысла и темы «Гэндзи
моногатари» у японских ученых существуют разные концеп¬
ции. Одной из самых распространенных является буддийская
концепция. В средние века и в новое время существовала точ¬
ка зрения, что принципиальной задачей романа о Гэндзи была
иллюстрация философии кармы и этой задаче подчинены те¬
ма и структура произведения. Подчеркивалось, что идея кар¬
мы воплощена в эпилоге истории Гэндзи: страдания Гэндзи,
когда он узнает о неверности молодой жены, не что иное, как
воздаяние, кара за его собственные прегрешения в молодости.Этой позиции придерживается и современный ученый Фудзио-
ка Сакутаро.В книге «История японской литературы по произведениям»
говорится, что трагедия одиночества, к которой приходит в
конце романа Каору, названный сын Гэндзи, есть его карма
(«го») — воздаяние за преступную связь Нёсан и Касиваси,
его родителей. Отозвалась здесь, по мнению авторов, и преступ¬
ная связь Гэндзи с Фудзицубо. «Так Мурасаки от одной части
романа к другой последовательно проводит идею буддийского k
воздаяния, которая находит свое логическое завершение в тра* F
гедии Каору». Эта кармическая линия и есть, по мнению авто- j
ров книги, основная тема романа [174, с. 60—61].Другие ученые склонны акцентировать идею «мудзё». Так, |
Кобаяси Томоаки относит произведение Мурасаки Сикибу к
«литературе бренности жизни» («мудзёкан-но бунгаку»). Он ^
считает буддийские идеи «мудзё» («бренность жизни») и «сюку- -
сэ» («предрешенность нынешней жизни прежними деяния- >
ми») концептуальными идеями писательницы. Однако Кобая- *
си Томоаки не придерживается крайней позиции, на которой
стоит, например, профессор Цуда Сокити и высказывание ко- \
торого Кобаяси приводит в своей работе: «„Гэндзи моногата- j
ри“ продемонстрировал бренность и эфемерность человеческого
существования и показал, что никто не в состоянии противить¬
ся уготованной ему участи» [78, с. 99]. (По мнению Кобаяси,
однако, содержание романа не ограничено чисто буддийскими
мотивами.)Название последней главы романа «Плавучий мост грез»
в течение многих столетий рассматривалось как ключ к книге
в целом. Идея: наша жизнь — мост, похожий на сон, по кото¬
рому мы переходим от одной стадии существования к Дру¬
гой,—до сих пор представляется многим исследователям глав¬
ной в концепции Мурасаки. По их мнению, она четко выявляет¬
ся в последней части романа, где буддийское влияние ощущает¬
ся особенно сильно. Под «мостом грез», как они считают, под¬
разумевается мир людей (353, с. 114].С нашей точки зрения, едва ли правомерно рассматривать68
эти положения буддизма как концептуальные для Мурасаки.
Однако они бесспорно оказали на нее определенное влияние:
это важный элемент мировоззрения героев романа и автора.Поскольку искусство — один из способов активного идео¬
логического освоения мира, в произведении важная роль при¬
надлежит позиции автора, в значительной мере определявхмой
его миропониманием (авторская концепция всегда включает
в себя и определенное вйдение мира).По мнению биографов Мурасаки, она была верующей буд¬
дисткой, о чем свидетельствуют и многие записи ее «Дневни¬
ка». В частности, она глубоко ощущала эфемерность и непосто¬
янство этого мира. «Если б я только могла, — писала она,—
быть более гибкой и воспринимать радости этого скоротечного
существования с несколько более юношеским энтузиазмом!
Когда бы я ни услыхала о чем-либо приятном, интересном,
это лишь более повергает меня в грусть, пробуждая желание
отказаться от всего. Так однажды утром, пребывая в задумчи¬
вости, увидела я водных птиц, играющих на озере, — как буд¬
то не было у них никаких жизненных забот...Подобно водным птицам,Что беззаботно резвятся
Там, на озере,И я плыву по поверхности
Изменчивого мира.Я не могла не сравнить их с собой, так как они казались
мне резвящимися самым беззаботным образом; однако их жиз¬
ни должны быть полны печали» J115, с. 461].Буддийское ощущение непостоянства было обычным для
людей ее круга. Большинство известных нам писателей того
времени, за исключением Сэй Сёнаган, отразили его в своих
произведениях. «Когда я наблюдаю за растениями, гнущимися
под ветром, я думаю с тревогой и о собственной жизни — не
более длительной, чем эти капли росы, которые ветер может
сдуть в любой момент. Вид этих деревьев и трав печально
напоминает мне о моем собственном существовании» (Идзуми
Сикибу) [28, с. 420].«Дневник» Мурасаки дает хорошее представление о зна¬
комстве писательницы с буддийским учением и церемониалом
и о ее отношении к буддизму. Как уже отмечалось выше, бо¬
лее всего она была связана с учением секты Тэндай, Однако
записи «Дневника», обнаруживая восприятие ею основного
духа буддизма, общего для всех сект — закона всеобщего не¬
постоянства, свидетельствуют, что этот закон Мурасаки неред¬
ко преломляет в духе учений других сект, в частности в духе
амидаизма:«Все, что есть в этом мире, — все печально и скучно. Но
отныне мне уже ничего не страшно. Что бы ни делали и ни
говорили другие, я буду неустанно читать свои молитвы Амида-69
будде. И когда в моем сознании все в этом мире будет пред¬
ставлять не больше ценности и постоянства, чем быстро исче¬
зающая роса, тогда я направлю все свои усилия на то, чтобы
достичь мудрости и святости».Некоторые исследователи и критики объясняют подобные
настроения Мурасаки индивидуальными причинами, связывают
их с фактами ее биографии, с тем, что она рано потеряла му¬
жа, и это оказало серьезное влияние на формирование ее ми¬
роощущения. Другие ученые, в частности И. Моррис, не счи¬
тают смерть мужа решающим фактором, обусловливающим
мировоззрение писательницы. Моррис опровергает также и су¬
ществующее мнение, что Мурасаки, последовательная в своих
религиозных убеждениях, приняла в 1015 г. постриг и окон¬
чила жизнь в монастыре. И действительно, это не подтверж¬
дается фактами.Ни биография писательницы, ни материалы ее «Дневника»
не дают основания утверждать, что Мурасаки ставила перед
собой дидактическую цель, состоящую в проповеди буддийской
религии, а следовательно, что она имела намерение специаль¬
но изобразить жизнь своих героев как воплощение буддийского
вероучения в целом или какой-либо из его доктрин.В «Гэндзи моногатари» мы находим «трогательное» описа¬
ние буддийского идеала отречения от мира. Вскоре после по¬
пытки самоубийства Укифунэ, которой было тогда двадцать
два года, выразила желание стать монахиней. «„Для тебя,—
говорит ей священник, — остается только одно: следовать сво¬
им убеждениям. Молоды мы или стары, в этом мире нам не
на что рассчитывать. Ты совершенно права, считая его пу¬
стым, иллюзорным*4. Он вручил ей узорчатые одежды и тонкий
шелк и сказал: „Сделай из этого себе новое платье. И помни:
пока я жив, я буду следить, чтобы ты имела все, что тебе нуж¬
но. Что же касается этого бренного мира, в котором все мы
родились, я знаю: с ним трудно расстаться. Пока мы ослеп*
'лены его внешним блеском и нам кажется, что существуют
бесчисленные препятствия к тому, чтобы покинуть его. Это ка¬
сается меня, как и любого другого. И все-таки я могу уверить
тебя, что, живя теперь в окружении этих мирных лесов, по¬
груженная в молитву и медитацию, ты будешь свободна от
чувств сожаления и раскаяния. Жизнь покажется тебе легкой,
как лист... На рассвете ты будешь видеть луну над сосновой
калиткой“» («Урок каллиграфии»).Однако данного эпизода еще недостаточно, чтобы убедить¬
ся в намерении Мурасаки внушить подобные мысли читателю.
К тому же изображает она в романе со свойственной ей объ¬
ективностью и обычный статус монаха в хэйанском обществе
(Фудзицубо, Судзаку, Нёсан). Уход в монашество, как прави¬
ло, сопровождается в то время разрывом не всех земных уз.
а лишь тех, что особенно травмировали или обременяли чело-70
века. В особенности это относилось к людям, облеченным
властью (случаи вынужденного ухода). Экс-император Судзаку,
например, удалившийся от мира, продолжал периодически по¬
сещать дворец, видеться со своей дочерью, проявлял необходи¬
мую заботу о ней. О его дочери Нёсан, постригшейся в мона¬
хини, в романе говорится, что она «сохранила значительное
влияние при дворе и все ее просьбы и нужды немедленно и
неукоснительно выполнялись императором».Для Фудзицубо уход в монашескую жизнь помимо лишения
соответствующего государственного титула (который, кстати
сказать, был заменен адекватными пожалованиями) сопровож¬
дался лишь разрывом любовной связи с Гэндзи при сохране¬
нии с ним достаточно теплых дружеских отношений. Факти¬
чески она продолжала участвовать и в придворной жизни,
появляясь на церемониях и празднествах. Показательно ее
участие в выставке-конкурсе картин в качестве организатора
и арбитра.Вместе с тем писательница ярко рисует и тяжесть жертв,
связанных с последовательным служением буддийской вере
(на примере принца Хати), и суровость, жестокость священ¬
ников, непреклонных в своих требованиях соблюдения обетов.Полное буддийское самоотречение («муга») требовало бо¬
лее тяжких жертв, чем отказ от чувственных радостей. Буддизм
настаивал на абсолютном отчуждении человека от всех земных
привязанностей. Друзья, жены, дети — как бы близки они ни
были — должны быть не только устранены из его повседнев¬
ной жизни, но даже из мыслей. «Пока мы не освободились от
своих человеческих привязанностей, — говорит священник Уки¬
фунэ,— одно лишь принятие обета не принесет человеку спа¬
сения и может только повести к беде».Умирающая старая монахиня, которая смотрела за юной
Мурасаки, боится, что ее привязанность к беспомощной малень¬
кой девочке — мирские узы, которые могут помешать ее ду¬
ховному подвижничеству. Жесткая буддийская позиция в от¬
ношении семейных привязанностей проявляется особенно от¬
четливо в обращении принца Хати со своими дочерьми. Уда¬
лившись в монастырь, он полностью отказывается от них и
даже не хочет их видеть. «Настало время вам понять, — сказал
ему духовный наставник, — что горькая ли, добрая ли судьба
придет к вашим дочерям в соответствии с их кармой и вам
бесполезно беспокоиться о них» («У подножия дуба»).После смерти отца дочери просят разрешения взглянуть на
него в последний раз, но священник налагает на это запрет:
«Что хорошего это может дать вам теперь? До того как принц
умер, я сказал ему, что он никогда больше не должен видеть
вас, и теперь, когда его нет больше здесь, еще более важно,
чтобы вы покорились неизбежному, чтобы все обоюдные связи
любви могли исчезнуть».71
«Девушки спросили его о жизни их отца в этом горном
уединении, но святой человек был так поглощен своими благо¬
честивыми поисками просветления, что ничего не мог им ска¬
зать. Его отношение поразило сесте;р своей суровостью и же¬
стокостью» («У подножия дуба»).Симптоматично, что Мурасаки Сикибу не показывает пре¬
имуществ этого последовательного пути к спасению. Например,
принц Хати является во сне Каору и говорит о препятствии
к своему «спасению». Фудзицубо также является во сне Гэнд¬
зи и жалуется, что «их грех мешает ее спасению». Выходит,
что даже и для таких людей «спасение» оказывалось далеко
не легким делом. Мурасаки не показывает и случаев просвет¬
ления, святости, достигаемых служением Будде, и в частности
отказом от мирского бытия. Более того, если мы зададимся
вопросом, что было главной причиной или решающим стимулом
ухода в монашество для большинства ее героев, то окажется,
что, за исключением, может быть, одного только принца Хати,
никто не искал в этом спасения в подлинно буддийском
смысле.Как уже было отмечено, Гэндзи неоднократно приходила в
голову мысль о принятии обета. Первый раз она была навеяна
ощущением бренности всего земного, возникшим в связи с од¬
новременной потерей отца и жены (Аои), последовавшей вско¬
ре после трагической гибели его возлюбленной Югао. Далее,
эта мысль посещает его в ссылке, в тяжелую минуту жизни, и
в монашестве он видит средство уйти от горечи жизни.Наконец, когда Гэндзи в зените славы, мысль о монашестве
в значительной мере продиктована соображениями целесооб¬
разности: «уйти вовремя». «Он думал о том, как часто пишут
о людях, которые в молодости достигали высокого положения
и становились заметными фигурами в свете лишь для того,
чтобы испытать через короткое время бедствие и бесчестье».
В отношении себя он почувствовал, что если место, которое он
сейчас занимает, превышает то, для чего был он предназначен,
то это лишь добрая компенсация судьбы за те унижения, ко¬
торым он был подвергнут в молодости. Теперь долг судьбы
выплачен ему сполна, и он считал, что был недалек от края
новой катастрофы («Конкурс картин»).Показательно, однако, что в наиболее тяжкую минуту, ког¬
да Гэндзи теряет своего самого близкого человека — Мураса¬
ки, переживает позор и бесчестие вследствие измены Нёсан и
Касиваги, воспринятой им как воздаяние за его собственное
преступление перед отцом, он предпочитает смерть уходу в
монастырь. Предпочел смерть монашеству и Касиваги, оказав¬
шись в состоянии глубокого душевного кризиса: сознавая, что
он обманул доверие своего друга (Гэндзи), он не видел для
себя места в жизни и считал, что только смерть искупит его
вину.72
Не менее знаменательно, что не стал монахом и Каору (на¬
иболее правоверный буддист в романе после принца Хати),
несмотря на все свои личные неудачи и одиночество после по¬
тери горячо любимой Укифунэ.Женщины, которых буддизм считает существами менее до¬
стойными, чем мужчины, оказываются более последователь¬
ными, но и они ищут в буддийском монашестве не религиоз¬
ного спасения, а покоя и избавления от нравственных мук и
страданий. Даже Фудзицубо с ее обостренным ощущением
вины и ipexa, страхом перед кармой видит в уходе в монастырь
прежде всего освобождение от тех человеческих уз (связь с
Гэндзи), которые постоянно травмируют ее, ибо понимает, что
узы эти чем дальше, тем все более усугубляют ее грех, а соот¬
ветственно и моральные муки. И не столько сама по себе кар¬
ма страшит ее, сколько возможное разоблачение их тайны,
т. е. не «божьего», но людского суда больше всего она боялась.Другие женские персонажи также видят в постриге либо
избавление от душевного конфликта (Укифунэ, Нёсан), либо
просто прекращение существования, в котором для них нет ни
радости, ни перспектив (Уцусэми, Окими; в частности, у по¬
следней эти мысли — плод крайне пессимистического взгляда
на мирскую жизнь, и прежде всего на участь женщины).Для многих женщин монашество было равнозначно смерти,
которая, кстати, также не воспринималась в истинно буддий¬
ском плане. Укифунэ, оказавшаяся в ситуации «треугольника»
и осознавшая весь ужас и безвыходность своего положения,
решается на самоубийство и лишь после того, как ей не уда¬
лось покончить с собой, принимает решение постричься в мо¬
нахини. Окими, не верящая в возможность счастья с Каору и
не видящая смысла в дальнейшем существовании, решает
умереть. Она отказывается от пищи и тяжело заболевает.
«Если я выздоровлю, — заявляет она, —я постригусь в мона¬
хини».Вот почему в эпизоде с пострижением Укифунэ мы не ус¬
матриваем «призыва» к спасению путем ухода в монастырь.Есть и еще один момент, на который нам хочется обратить
внимание. Многие из персонажей Мурасаки искренне говорят
об отказе от мира желаний и стремлении уйти в монастырь.
Однако мы не можем не согласиться с мнением И. Морриса,
что часто подобные заявления так же стереотипны и условны,
как и сетования по поводу эфемерности жизни, по существу
же герои рады препятствиям, которые мешают им вступить
на религиозный путь. Гэндзи постоянно сожалеет о бесчислен¬
ных земных обязательствах, которые не позволяют ему стать
монахом, однако он без сомнения ужаснулся бы при мысли
цровести день в мрачной монашеской келье, будучи лишенным
услад столичной жизни, Даже Каору не вполне свободен от
лицемерия. Когда он жалуется священнику на мучительныета
оковы, связывающие его с этим изменчивым миром и препят¬
ствующие исполнению его намерения удалиться в монастырь,
нельзя не заподозрить, что если бы одни помехи были устра¬
нены, то нашлись бы другие. «С юности я лелеял серьезные
религиозные устремления. Но принцесса, моя мать, в своей
беспомощности была вынуждена полагаться на мою слабую
поддержку. Я оказался связанным крепкими узами мирских
обязательств. Я достиг высоких чинов, и мне стало трудно
•строить свою жизнь так, как бы мне хотелось. Время шло, и
мои постоянные обязанности расширялись, теперь я совершенно
•связан ими в обществе и в семье. Тем не менее я всегда чтил
законы Будды в той мере, в какой был знаком с ними. Мои
душевные устремления не менее возвышенны, чем у свято¬
го...»— говорит Каору. В ответе ему священника звучит иро¬
ния: «Как благородно с вашей стороны!» («Плавучий мост
грез»).Хотя и было принято выражать зависть к тем, кто преус¬
пел в отказе от всего мирского, очень мало кто из хэйанской
аристократии в глубине души не ужаснулся бы, представив
себя на их месте («благородные люди отнюдь не строили ка¬
ких бы то ни было иллюзий по поводу тяжелой, безрадостной
жизни, которая ожидала их в монастырях, и тем более в ски¬
тах»). Недаром Гэндзи, глядя на красивые длинные волосы
Нёсан, содрогался при мысли о том, что они будут отрезаны
ножом священника («Касиваги»), а когда она постриглась, ее
отец, Судзаку, с сожалением подумал, что теперь она мертва
для человеческой жизни.Жалобы на эфемерность и бренность бытия не следует, как
справедливо считает Моррис, всегда принимать всерьез. Во
времена Мурасаки выражение меланхолии, уныния имело осо¬
бое значение для людей, которые считали себя чувствительны¬
ми, а «мудзёкан» (чувство непостоянства) часто было всего
лишь выражением ставшей условностью усталости от жизни.
Но вместе с тем мы не должны впадать в крайность и упускать
из виду искренние выражения «мудзёкан».Идеология буддизма была существенной составной частью
мировоззрения Мурасаки Сикибу, и это не могло не оказать
серьезного влияния на концепцию романа, в котором безус¬
ловно присутствуют идеи тщеты и иллюзорности бытия, непроч¬
ности человеческого счастья, непостоянства, изменчивости
чувств и привязанностей, а также идеи воздаяния за грехи и
предопределенности человеческой судьбы. В романе не случаен
лейтмотив смерти. Один за другим заболевают и умирают ге¬
рои, оставляя близких с глубоким ощущением бренности жиз¬
ни. Сама по себе смена объектов увлечения блистательного
Гэндзи как бы выражает идею непостоянства человеческих
чувств. А известное изречение: «То, что расцветает, неизменно
^увядает» (иными словами, «Те, кто встречаются, неизменно74
расстаются») воплотилось, в частности, в сюжетном построении
большинства эпизодов о любовных связях главного героя. Во
многих случаях эти связи, едва возникнув, печально обрыва¬
ются. И в их мимолетности часто повинен не только и не столь¬
ко сам герой, его непостоянство и легкомыслие, сколько обсто¬
ятельства, не зависящие от его воли. Уцусэми после первой
же встречи с Гэндзи отказывается от дальнейших свиданий с
ним. Югао трагически погибает в самом расцвете взаимного
с Гэндзи чувства. Последняя, «закатная» любовь Гэндзи к
юной Нёсан оказывается обманутой — Нёсан изменяет ему с
его другом Касиваги.Что касается доктрины кармы, то она получила свое худо¬
жественное воплощение, прежде всего в финале истории о>
Гэндзи. Развитию этой идеи подчинена и структура фабулы:
романа, на что справедливо указывает проф. Фудзиока. По¬
вествование о Гэндзи как бы распадается на три части: юность
героя (годы наслаждения), зрелость (годы славы) и старость
(годы расплаты).В первой части герой, покорный влечению сердца, завязы¬
вает все новые и новые связи, его неудержимо влечет к за¬
претной любви — к Фудзицубо. В постоянной погоне за на¬
слаждениями он не останавливается ни перед чем, даже со*
блазняет девушку, предназначенную в наложницы наследному
принцу (Обородзукиё). Наконец он достигает цели своих за¬
ветных желаний и сближается с Фудзицубо, т. е. «завязывает
карму своего будущего».Вторая часть отражает период расцвета и славы Гэндзи.
Однако уже в начале третьей части происходит постепенное
накопление мрачных предзнаменований будущего. Вступив в
связь с наложницей отца, Гэндзи сознает свой грех и время
от времени мучается сознанием вины, рассматривая все по¬
следующие неудачи как удары судьбы, кару за этот грех:
«Я глубоко чувствую в своем сердце этот грех, он всю жизнь
будет мучить меня, и в будущей жизни я пожну его последст¬
вия» («Молодая поросль»). Далее все отчетливее выступает
облеченная в буддийскую форму идея возмездия за легкомыс¬
ленное поведение. Перед читателем развертывается печальная
история любви Касиваги и Нёсан; рождение ею ребенка, ее
страдания и пострижение в монахини, болезнь и смерть Каси¬
ваги. Конец третьей части повествует о скорби самого героя.
Тяжело переживает он свою «обманутую любовь» — измену
Нёсан и как последний удар — смерть Мурасаки. Мучимый
сознанием вины, греха и одновременно сознанием одиночества*
он умирает.Эта же, третья, часть дает развязку всему произведению»
действительно близкую духу буддийских доктрин: «Какова при¬
чина, таковы и следствия». Иначе говоря, герой получает воз¬
даяние за то, что он совершил.75.
Вся жизнь героя, раскрывающая перед читателем причин¬
но-следственные связи его поведения и его судьбы, по сущест¬
ву олицетворяет идею воздаяния. Эту идею подтверждает пе¬
чальный конец его романов. Большинство возлюбленных, с
которыми его связывает глубокое чувство, либо преждевре¬
менно умирают, либо становятся монахинями. Вслед за неожи¬
данной гибелью Югао такой же «странной» смертью умирает
Аои. Постригаются в монахини, а затем умирают Фудзицубо
и Рокудзё. Тяжелая болезнь уносит вторую жену Гэндзи —
Мурасаки, с которой он был связан много лет и которую ис¬
кренне любил. Эти потери, следующие одна за другой, воспри¬
нимаются героем как удары судьбы и в итоге осмысляются как
карма — воздаяние за его собственные дела.И тем не менее это еще не дает нам основания видеть в
романе Мурасаки Сикибу живое воплощение буддийских докт¬
рин, а в авторе — толкователя и проповедника религиозной
теории или морали. Это было бы упрощением «Гэндзи моно¬
гатари». Роман намного шире и глубже. Уже раскрытая ранее
его мировоззренческая основа далеко не исчерпывается идео¬
логией буддизма. В произведении отражены, как явствует из
сказанного, такие важные факторы отношения к жизни, как
культ любви и культ красоты, а самое главное воспроизведена
жизнь придворной среды во всем ее многообразии.Мурасаки верила, что настоящее и будущее человека пред¬
определены кармой, рассматривала человеческий мир как не¬
прочный и иллюзорный, и эта идеология, естественно, наложи¬
ла отпечаток на фабулу и структуру романа. Не удивительно,
что ее герои объясняют свои жизненные перипетии с позиций
буддийского вероучения. Однако писательница ни в коей мере
не призывает к отказу от мирских радостей или к уходу от
мира. Жертвы, на которые идет принц Хати во имя последо¬
вательного служения буддийской вере, жесткая позиция, заня¬
тая его духовным наставником по отношению к нему самому
и к его оставшимся беззащитными дочерям, описаны в романе
с чисто человеческой, «обывательской», позиции, в которой
улавливается даже внутренний протест, и это не оставляет, с
нашей точки зрения, сомнений в отсутствии у автора проповед¬
нических намерений.Укрепляет нас в этом мнении и описание реакции Каору
на пострижение Укифунэ: Каору никак не может примириться
с этим фактом, и его состояние, переданное с глубоким сочув¬
ствием, внушает читателю чувство сожаления о преждевремен¬
ном уходе из мира Укифунэ.Согласно точке зрения Мотоори Норинага, ядром романа
и темой его является не буддийская концепция, а раскрытие
сути «моно-но аварэ», которое ученый противопоставляет буд¬
дизму. Более того, Норинага молчаливо исходит из их несов¬
местимости. «Моно-но аварэ», по его мнению, составляет осно-76
ву сюжетной прозы (моногатари). Художественное произведе¬
ние делает прекрасное достоянием читателя, считает Норинага
и объясняет этим сосредоточенность Мурасаки на любви, ибо
ничто другое не в состоянии обнаружить всю глубину и кра¬
соту человеческих чувств, раскрыть сокровищницу человече¬
ской души. Через выявление всевозможных оттенков чувств
любящих людей «Гэндзи моногатари» доносит до читателя «мо¬
но-но аварэ», приобщает его к прекрасному [т. 7, с. 169].Из этого высказывания Норинага следует, что внимание
писательницы привлекала любовь не сама по себе, а как источ¬
ник и воплощение «моно-но аварэ».Норинага считает «моно-но аварэ» главным фактором жиз¬
ни придворного общества, а сама жизнь во всем ее многообра¬
зии является, с его точки зрения, лишь почвой, культивирующей
«моно-но аварэ». С этим трудно согласиться, ведь в таком
случае функции литературы ограничиваются эстетическим вос¬
питанием, а сама она выступает лишь как источник эстети¬
ческого наслаждения.Обе приведенные концепции «замыкают» тему «Гэндзи мо¬
ногатари» в сфере духовного мира человека эпохи Хэйан, но
есть группа ученых, усматривающих социальный аспект за¬
мысла Мурасаки Сикибу. Показательна, например, работа
Саяма Ватару «К проблеме тематики „Гэндзи моногатари"».Саяма Ватару считает, что Мурасаки Сикибу, раскрывая
образ жизни придворной среды Хэйана, сосредоточивает вни¬
мание на изображении человеческих отношений, а точнее, от¬
ношений мужчины и женщины, поскольку эти отношения иг¬
рали важнейшую роль в жизни аристократии. При этом автор
отмечает, что отношения эти изображены в романе не только в
личностном плане, из романа явствует и их общественная зна¬
чимость. Позиция Саяма Ватару выявляет также, что в центре
внимания писательницы находятся не религиозные, а светские
проблемы — любви и человеческого счастья [182, с. 55—65].В книге «Японская литература классического периода» го¬
ворится, что тема «Гэндзи моногатари» — «это прежде всего
тема „вины“, „греха“. Этот грех и его последствия восприни¬
маются персонажами как заранее предрешенные, как перст
судьбы» [169, с. 44—45]. Эту «судьбу» Гэндзи и других героев
романа авторы книги связывают с фактической судьбой при¬
дворной аристократии, с ее обреченностью. Они подчеркивают,
что гибель Гэндзи и других персонажей символизирует при¬
ближающийся закат аристократии [169, с. 41]. Вину Гэндзи,
его грех они видят в безудержной погоне за наслаждением,
а первопричиной этого греха, иначе говоря, тематической за¬
вязкой романа считают незаконную связь Гэндзи с Фудзицубо.
Мурасаки Сикибу, по их мнению, раскрывает атмосферу сла¬
столюбия, характерную для хэйанской придворной среды, и
показывает, что на самом деле представляет собой «свобода»77
любовных отношений в Хэйане. Авторы книги подчеркивают,
что свобода эта, как явствует из романа, носила односторон¬
ний характер. «Это была свобода только для мужчины. Жен¬
щине любовные похождения (косёку кои) мужчин приносили
только несчастье». Писательница, по их словам, и выбрала эту
тему, для того «чтобы с позиции женщины осудить эту погоню
за наслаждением, приносящую несчастье женщинам» {169,
с. 44-46].Эти же мысли выражены и в книге Сайго Нобуцуна «Исто¬
рия древнеяпонской литературы». При этом Сайго Нобуцуна
подчеркивает, что Мурасаки изображает в своем романе «част¬
ную. жизнь придворных кругов Хэйана, в основном замкнутую
в сфере любовных отношений», раскрывает характер этой люб*
ви как любви незаконной и те формы, в которых она проявляет¬
ся, иначе говоря, раскрывает сущность «ирогономи». Сайго Но¬
буцуна обращает также внимание на то, что Мурасаки рисует
в своем романе образ жизни («сэйкацу ёсики») и психический
склад («син|ри ёсики») людей своего круга [171, с. 222—224].Какова же все-таки тема романа «Гэндзи моногатари»? Мы
уже пришли к заключению, что это не карма, не «мудзё» и
не «моно-но аварэ». Непредвзятое прочтение романа позволяет
дать на этот вопрос вполне определенный ответ. Это тема люб¬
ви в тех формах, в которых она культивировалась в придвор¬
ной среде Хэйана. Сюжет основной части романа складывает¬
ся из цепи любовных связей блистательного Гэндзи, сюжет
заключительной части строится на любовных перипетиях его
названного сына Каору. Любовные ситуации — основа сюжета
подавляющего большинства глав романа. Итак, перед нами
роман о любви. На любви сосредоточен весь интерес, все по¬
мыслы многочисленных персонажей этого повествования из
54 глав. Но «Гэндзи моногатари» — не гедонистический гимн
любви и не роман нравов. По существу, в нем ставится про¬
блема человеческого счастья, выдвинутая самой жизнью, про¬
диктованная положением женщины в высшем обществе Хэйа¬
на. Будучи относительно независима в экономическом отноше¬
нии, достаточно образованна, свободна в выражении чувств,
хэйанская женщина не могла рассчитывать на прочную семью
или прочный любовный союз. Не могла она и отвергнуть не¬
желательного возлюбленного (ситуация Нёсан — Касиваги).
«Женщина — игрушка в руках мужчины», — пишет Н. И. Кон¬
рад. И, если исходить из ситуации романа, так оно и было.Любовь Гэндзи не приносит счастья ни принцессе Фудзицу¬
бо (которая страдает от сознания своего греха перед импе¬
ратором и религией), ни Мурасаки (едва появившись в доме
Гэндзи, она узнает о его неверности и далее постоянно пере¬
живает его измены), ни Югао (любовь Гэндзи оказалась для
нее роковой), ни другим женщинам, с которыми сводит его
судьба.78
Сложившиеся в обществе отношения не позволяют и муж¬
чине сосредоточиться на любви к одной женщине, как бы силь¬
но ни был он к ней привязан (достаточно вспомнить о поли¬
тических соображениях, побудивших Гэндзи взять себе в
официальные жены- Нёсан; о принце Ниоу, вынужденном в ин¬
тересах карьеры безотлагательно жениться на «первой принцес¬
се» при наличии у него уже фактической жены, или официаль¬
ной наложницы, — Нака-но кими, которую он переселил к это¬
му времени в свой дворец, но которую не мог сделать своей
официальной женой из-за ее сравнительно невысокого общест¬
венного положения). Культ любви и наслаждения, приводя¬
щий в системе полигамных отношений к постоянному поиску
мужчиной все новых и новых объектов любви, не приносит
счастья, как показывает автор, не только женщинам, но и са¬
мим мужчинам. В этом убеждает судьба Гэндзи.На протяжении всего романа мы наблюдаем, как этот обая¬
тельный, умный, одаренный человек растрачивает свои душев¬
ные силы в безудержном стремлении к наслаждению, в беско¬
нечных поисках радостей любви. Наконец, появление в его
«гареме» юной Нёсан в качестве официальной жены убивает
Мурасаки, его фактическую жену (официальную наложницу).
Теряя в ее лице преданного друга и по-настоящему любимую
женщину, Гэндзи утрачивает всякий интерес к жизни.Не находит себе счастья и Каору, главный герой заключи¬
тельной части романа. Это молодой человек, не только краси¬
вый, умный, но и достаточно серьезный и целеустремленный,
способный к глубокому чувству и к постоянству в любви. Но —
увы! — сами женщины, уже утратившие веру в возможность
прочного счастья, отвергают его любовь (Окими, затем Нака-
но кими). Когда Каору делает попытку добиться любви Уки¬
фунэ, на его пути встает принц Ниоу, обманом овладевает
Укифунэ и тем самым ставит ее перед неизбежностью ухода
от мира.И дело не только и не столько в «превратностях судьбы>,
но и в самом характере принятых в обществе отношений, ду¬
ховном климате эпохи, как это явствует из романа.Судьбы героев Мурасаки Сикибу свидетельствуют о невоз¬
можности личного счастья в условиях фактической полигамии,
пришедших в противоречие с высоким уровнем культуры хэй-
анского общества, и в частности с духовным богатством жен¬
щины. Безусловно, концепция романа достаточно сложна, и
дать ей однозначное определение практически невозможно.
Автор — буддист, и в концепции романа нашли отражение ее
религиозные убеждения как буддиста. Не оставляет сомнения
и стремление Мурасаки раскрыть красоту человеческой души
и человеческих отношений в духе «моно-но аварэ». Однако
концепция романа этим не исчерпывается, как несводима она
и к задачам социально-обличительным, которые подчеркивают¬79
ся в работах Сайго Нобуцуна и некоторых других японских
ученых. Это роман о жизни придворной среды эпохи Хэйан,
преломленной сквозь призму авторского мировоззрения и вос¬
приятия этой жизни. В свете этого духовный крах Гэндзи,
внешне предстающий как следствие его безудержной погони
за наслаждениями и морального преступления перед собствен¬
ным отцом, и печальные судьбы других персонажей, прежде
всего женских, обретают более глубокие корни, в том числе и
социальные.
Глава 2ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОКИ И ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КЛАССИЧЕСКОГО ЯПОНСКОГО РОМАНАСпецифика литературного процесса
и вопросы типологии японского романа.Жанр «Гэндзи моногатари»Понятия романа как особого жанра повествовательной
прозы не существовало в традиционной японской поэтике ни
в годы создания «Гэндзи моногатари», ни в последующее вре¬
мя— так же как и в других средневековых восточных поэтиках,
в том числе в китайской [327, с. 8].В X—XII вв. существовал общий для сюжетной прозы тер-
мин «моногатари» — «повествование», «рассказывание» (от
«моно-о катару» — рассказывать о чем-либо). Это понятие объ¬
единяло и повесть, и рассказ, и собственно роман. Для прочих
жанров были другие термины: «ки» («описание»)—для исто¬
рической прозы, этнографических описаний и т. п.; «никки»
(букв, «ежедневные записи»)—для дневников; «дзуйхицу»
(доел, «следование за кистью») —для эссе.Жанровое наименование, как правило, полностью или ча¬
стично входило в название самого произведения; например,
«Уцубо моногатари» («Повесть о дупле»), «Кодзики» («Запи¬
си древних дел»), «Тоса никки» («Дневник путешествия из
Тоса»).Термин «дзуйхицу» в название произведения не входил, эс¬
се обозначались либо термином «ки», например «Ходзёки»
(«Записки из кельи» Камо-но Тёмэй), либо «соси» («записи»,
«записки»),— «Макура-но соси» («Записки у изголовья» Сэй
Сёнагон).В конце прошлого столетия общевидовым понятием для сю¬
жетной прозы стало «сёсэцу», подразделяемое лишь в некото¬
рых случаях на«тампэн сёсэцу» (букв, «короткое повествование»,
т. е. рассказ, новелла), «тюхэн сёсецу» («среднее повест¬
вование», т. е. повесть) и «тёхэн сёсэцу» («пространное повест¬
вование», т. е. роман). Термин «сёсэцу» сохраняет свое значе¬
ние и в современном литературоведении и критике наряду с
заимствованными терминами «роман» и «novel» (кстати, по¬
следний был переведен на японский язык термином «сёсэцу»).6 Зак. 65481
Как известно, в европейском и отечественном литературо¬
ведении существует точка зрения, утверждающая, что роман
представляет собой «детище буржуазной эпохи». Ее высказы¬
вал. в частности, Гегель, а также современные ученые Г. Лу¬
кач, В. В. Кожинов и некоторые другие (см. [279, с. 474; 294,
с. 23—26; 303, с. 99; 304, с. 27—28]). Мы, однако, придержи¬
ваемся иной позиции, восходящей к традициям таких ученых,
как А. Н. Веселовский, Б. Г. Грифцов, Г. Н. Поспелов и их
последователи, не связывающих возникновение и существова¬
ние романа как жанра с какой-либо одной определенной эпо¬
хой (см. работы А. Н. Веселовского «Из истории романа и
повести», Б. А. Грифцова «Теория романа», Г. Н. Поспелова
«Проблемы исторического развития литературы»), и считаем
правомерным выделение категорий романа античного и сред¬
невекового со своими типами и разновидностями внутри жан¬
ра. Убедительным доказательством этой правомерности служат
для нас исследования конкретных национальных вариантов
жанра, как, например, книга А. Д. Михайлова «Французский
рыцарский роман» (см. [319]).Японский классический роман — один из национальных ва¬
риантов жанра. Не отвергая термина «моногатари», свойст¬
венного японской поэтической традиции, мьг пользуемся приме¬
нительно к «Гэндзи моногатари» и общепринятым термином
«роман», адекватно отражающим данное литературное явле¬
ние. «Гэндзи моногатари» —произведение крупной формы, в
центре его — изображение частной жизни человека в системе
взаимосвязей и взаимоотношений с окружающей социальной
средой, в процессе продолжительной эволюции (как жизни,
так и самой личности героя). Предпочтение термину «роман»
продиктовано также интересами рассмотрения его в общей
системе мировой литературы.Жанровые особенности японского романа были естествен¬
но связаны со спецификой национального мировосприятия и
с национальными художественными традициями, среди кото¬
рых одной из важнейших было сочетание стремлений к отобра¬
жению «истинного» — «макото» и к выявлению прекрасного —
«аварэ». Кроме того, жанровые особенности в значительной
степени обусловлены характером и спецификой развития ли¬
тературы в целом.И. П. Смирнов вопреки М. М. Бахтину утверждал, что ге¬
незис романа был не моноцентрическим, а полицентрическим
[328, с. 289]. И с этим нельзя не согласиться. Роман, как тако¬
вой, тем, собственно, и характерен, что к нему подводит весь
предшествующий литерату|рный процесс, он складывается из
самых разнородных источников (лирика, эпос, драма, лето¬
пись, жизнеописание и т. д.). Так, античный роман впитал^
себя и достижения «новоаттической комедии, и александрий¬
ской лирики, и менипповой сатуры, и новеллы» [265, с. 8], и82
древней драмы, и риторики, и героического эпоса, представ
как своего рода завершение определенного этапа развития ли¬
тературы.Положение о специфике литературного процесса как о важ¬
ном факторе специфики жанра находит подтверждение в тру¬
дах других исследователей. «Национальное своеобразие лите¬
ратуры,— писал Д. С. Лихачев, — состоит не только в неких
постоянных признаках содержания и формы, отличающих ее
от других национальных литератур, в неких неизменных иде¬
ях, настроениях, эмоциональном строе или моральных качест¬
вах... Национальный характер это и особенности исторического
пути литературы...» [315, с. 8]. Аналогично Л. Кишкин считает,
что в понятие '«национальное своеобразие» должен входить
такой компонент, как особенности национального литературно¬
го процесса [301, с. 244}. Иными словами, зарождение романа
происходит на базе всего предшествующего развития литера¬
туры и является своего рода итогом этого развития.Всякая национальная разновидность романа характеризует¬
ся свойственными ей «набором» жанров-предшественников, со¬
четанием влияющих факторов, характером, интенсивностью са¬
мого влияния и т. д. Факторы эти в совокупности с мировоззре¬
нием автора, художественной традицией и т. д. определяют
художественный метод того или иного произведения, систему
изобразительных средств, композиционную структуру, характер
повествования и т. д. Предшествующая литература является
также важным источником тем и сюжетов романа.Японский классический роман генетически связан с лири¬
ческими жанрами поэзии и прозы (поэзия танка, лирическая
повесть, лирический дневник); с рассказами и повестями на
темы народных сказок, преданий и легенд «дэнки моногатари»
(которые исследователь данного жанра В. Н. Маркова имену¬
ет «волшебными повестями»); произведениями историко-доку¬
ментальной прозы (включающими, в свою очередь, обширный
фольклорный материал). Причем.применительно к большинст¬
ву из этих жанров речь может идти не только о предшество¬
вании, но и о литературном взаимодействии, так как эти жан¬
ры сохраняются в японской литературе ко времени написания
«Гэндзи моногатари». Так, можно говорить о взаимосвязях и
взаимодействии произведения Мурасаки с лирической поэзией
и прозой (лирической повестью и лирическим дневником), от¬
части с «волшебной повестью» (в романе упоминается о попу¬
лярности фантастических любовных историй у женской части
хэйанского общества).Японский классический роман существенно отличается от
многих других национальных разновидностей жанра раннего
и развитого средневековья, в частности от куртуазного романа
на Западе и романов ряда стран Востока, в том числе китай¬
ского романа.6*83
Тематика европейского куртуазного романа отталкивается
от традиций исторического эпоса. Для него характерно обра¬
щение к далекой античности, к кельтским сказаниям, к Восто¬
ку. В соответствии с этими тремя типами сюжетов куртуазный
роман подразделяется на три основных цикла: античный, бре¬
тонский и византийско-восточный [334, с. 28]. Так, роман-про¬
тотип «Тристан и Изольда» восходит, как известно, к старин¬
ным эпическим сказаниям древних кельтов, однако куртуаз¬
ные поэты использовали старое предание для выражения но¬
вой коллизии, которая и оказывается в центре внимания как
средоточие возросшего интереса к индивидууму, к его душев¬
ному миру, -к его судьбе {334, с. 30].В Японии роман предшествовал книжному эпосу, и, следо¬
вательно, в средние века нам не приходится искать в нем
следов влияния развитых эпических жанров. Он не связан
непосредственно ни с преданием, ни с историей и строит свой
сюжет на современном автору материале — в этом его сходст¬
во с персидским [романом «Вис и Рамин» Гургани, а также с
танской любовно-бытовой новеллой средневекового Китая.В нашем литературоведении роман о Гэндзи часто имено¬
вался куртуазным романом, а вся литература Хэйана — курту¬
азной литературой. Однако наше знакомство с хэйанской ли¬
тературой, а также с исследованиями японских ученых в обла¬
сти бытовой и духовной культуры хэйанцев (при сопоставле¬
нии с куртуазными литературами средневекового Запада и с
идеями, положенными в их основу) заставляет нас пересмот¬
реть эту точку зрения.Термин «куртуазный», помимо его прямого значения «при-
дрорный» (от французского слова «cours» — «двор»), атрибу¬
тируемого определенному культурному комплексу — утончен¬
ной и замкнутой культуре передовых стран Европы средних
веков, имеет и свое специфическое содержание, связанное с
конкретным характером и особенностями именно европейской
средневековой аристократической культуры. Дух куртуазии во
многом предопределил и формирование рыцарского кодекса
благородства (хотя сами по себе понятия «рыцарский» и «кур¬
туазный» не только не совпадают, но в некоторых случаях и
противостоят друг другу, как это справедливо отмечает
А. Д. Михайлов [319, с. 3]).Выработанный в духе куртуазии в развитых странах сред¬
невековой Европы, этот кодекс требовал от настоящего рыцаря
воинской доблести, щедрости, великодушия. В понятие куртуа-
зии включался также культ дамы, причем предусматривалась
идеализация любви и самой женщины.Существовавший в Японии неписаный кодекс аристократа,
регламентирующий его поведение и образ жизни, предъявлял
иные требования. Например, считалось, что хэйанский при¬
дворный должен быть хорошо знаком с литературой, владеть84
духовыми и струнными инструментами, знать законы стихо¬
сложения, быть сведущим в придворном этикете и церемониа¬
ле, владеть искусством каллиграфии, петь приятным голосом.Этот кодекс не требовал от него ни доблести, ни щедрости,
ни великодушия, ни готовности встать на защиту слабого, т. е.
не содержал тех пунктов, которые включало в себя понятие
куртуазии. По словам Р. Броуэра и Э. Майнера, от хэйанского
придворного «не приходится ожидать, что он бросится к ногам
своей дамы и станет приносить клятвы в вечной преданности,
которая в один прекрасный день будет возналраждена ее со¬
гласием», так же как и готовности защищать ее честь с ору¬
жием в руках [337, с. 430—431]. Японские придворные никогда
не были воинами, хотя многие из них были капитанами двор¬
цовой стражи.«Порядочные люди» с презрением смоттрели на людей воен¬
ных. Получение поста военного министра, например, рассмат¬
ривалось как неблагоприятный поворот в служебной карьере.
Полки стражи в столице никогда не выполняли каких бы то
ни было значительных военных функций и ко времени Мураса¬
ки полностью превратились в церемониальные.Каору, сын Гэндзи и один из главных героев романа, имел
высший ранг во внутренней охране дворца, но он пришел бы
в ужас, если бы его заставили выполнять какие-либо воинские
обязанности. Такая позиция аристократии помогает понять,
почему Фудзивара были вынуждены вызвать войска военного
рода Минамото для подавления мятежа Тайра Масакадо, не¬
смотря на всю опасность, которую таила в себе подобная за¬
висимость. И. Моррис приводит случай, относящийся к собы¬
тиям 1159 г., как аристократ Фудзивара Нобуёри на глазах
группы военных никак не мог сесть на лошадь, хотя и был
капитаном внешней дворцовой стражи [353, с. 156].Фигура военного — редкость в хэйанской литературе. Один
из немногих таких персонажей — Тайфу в романе Мурасаки,
поклонник Тамакадзура, приемной дочери Гэндзи. Человек мо¬
гущественный, он, однако, был абсолютно лишен качеств «ёки
хито», и Тамакадзура не имела ни малейшего намерения свя¬
зывать с ним свою судьбу. Появившись в ее доме, Тайфу об¬
наружил грубость и неуклюжесть, в особенности когда оказал¬
ся вовлеченным в обмен стихами. Будучи не в состоянии сло¬
жить подходящего к ситуации стихотворения, он вынужден был
«откланяться без лишних слов».Мы предлагаем отказаться от определения «куртуазный»,
дабы искусственно не идентифицировать японский классический
роман с европейским романом средних веков, а квалифициро¬
вать первый как явление придворной литературы, что адекват¬
но отражает его сословно-идеологическую сущность и указыва¬
ет на основу соотнесения его с европейским романом (послед¬
ний также культивировался в придворно-сословной среде).85
В отличие от западноевропейского романа, в котором лю¬
бовная тематика чаще всего сочеталась с рыцарской, ведущей
свое начало от средневекового эпоса, для японского романа
показательна автономность любовной тематики (как и для мно¬
гих других литератур Востока, в частности для персидского
романа «Вис и Рамин» Гургани).Поскольку роман представляет собой один из наиболее
сложных и высокоразвитых литературных жанров, в каждом
конкретном случае ему, как правило, трудно дать однозначную
видовую характеристику. Такая характеристика складывается
из оценки произведения на нескольких уровнях: метода, тема¬
тики, содержания, исходного материала, характера изображе¬
ния, повествовательного стиля. О романе Мурасаки Сикибу
мы можем сказать, что это роман а) любовно-бытовой и нра¬
воописательный; б) лирический; в) (условно) реалистический
(речь идет не о реализме, а о реалистичности, под которой мы
подразумеваем в данном случае сочетание авторской установ¬
ки на правдивость изображения действительности и ее реали¬
зации в произведении с объективной тенденцией к показу наи¬
более характерных жизненных явлений, человеческих отноше¬
ний и ситуаций; правомерность употребления термина «реали¬
стичность» по отношению к японскому классическому роману
специально обосновывается в гл. 3); г) (условно) психологи¬
ческий (мы имеем в виду не только четко выраженную тен¬
денцию углубления во внутренний мир героев, превалирующую
над интригой и развитием действия, но прежде всего деталь¬
ность, скрупулезность отражения душевной жизни и психоло¬
гии героев).Характеризуя далее японский классический роман на ука¬
занных выше уровнях, мы будем соотносить его с соответст¬
вующими литературными источниками, сочетая тем самым ис¬
следование его генезиса с выявлением основных поэтико-жан-
ровых характеристик.Как роман любовный он опирается на богатые литератур¬
ные традиции и генетически связан прежде всего с лирической
поэзией, в которой эта тема была одной из основных (анто¬
логия «Кокинсю», например, на одну треть состоит из любов¬
ных стихотворений), охватывала все богатство оттенков чув¬
ства, лирической прозой, разрабатывающей любовную тему в
том преломлении и тех ситуациях, которые в значительной ме¬
ре предваряют и во многом предопределяют ее трактовку у
Мурасаки Сикибу. Любовная тема разрабатывалась и в вол¬
шебных повестях, и, что особенно важно, с волшебной по¬
вестью «Гэндзи моногатари» связан как роман бытовой.С X в. начинает быстро развиваться художественная проза
в форме короткой новеллы, любовно- и волшебно-фантастиче¬
ской. Число этих произведений, по некоторым данным, уже к
концу X в. было очень велико. Так, в 963 г. в предисловии к86
одному из сборников буддийских легенд сообщалось, что та¬
кого рода произведений (светской литературы) «в наше время
больше, чем песчинок на берегу моря Арисо» [318, с. 17].
Фантастический элемент в них был часто связан либо с буд¬
дийскими учениями, либо с древней религией синто. Первая
по времени волшебная повесть, «Такэтори моногатари», отно¬
сится к концу IX — началу X в. Н. И. Конрад условно датирует
ее 839 г. Она создана под явным влиянием буддизма. Главная
героиня ее — очаровательная Кагуя-химмэ, «Дева света»,
сосланная с Луны на Землю, с твердостью и принципиаль¬
ностью она отвергает своих женихов, включая микадо, очища¬
ясь таким образом от греха, после чего она возвращается об¬
ратно на небо. Очаровательная лунная дева отличается высо¬
кой нравственностью, прямотой, почтительностью к старшим,
преданностью и благочестием.Предполагают, что тому же автору принадлежит и другая
повесть — «Уцубо моногатари» («Повесть о дупле»), расска¬
зывающая о скитаниях по неведомым морям героя по имени
Тосикагэ. Религиозный элемент этой повести более связан с
синто, однако Тосикагэ спасается после кораблекрушения лишь
благодаря молитве бодхисаттве Каннон.Обращаясь попеременно то к буддийским, то к синтоист¬
ским мотивам, волшебная повесть, по-видимому, и послужила
одним из истоков традиции использования религиозного эле¬
мента в литературе по принципу «рёбусинто». В основу третьей
из наиболее известных повестей, «Отикубо моногатари» («По¬
весть о прекрасной Отикубо», середина X в.), положен сюжет
сказки о злой мачехе и гонимой падчерице; в ее главных героях,
по утверждению В. Н. Марковой, «нетрудно узнать с детства
хорошо нам знакомые образы Золушки и принца» [318,
с. 5].Таким образом, в волшебных повестях любовно-бытовая
тематика перемежается с волшебно-фантастическим элементом,
восходящим, в свою очередь, к мифу и волшебной сказке. При¬
чем в процессе эволюции жанра все большее и большее разви¬
тие получает бытовое содержание, тогда как роль фантастиче¬
ского элемента заметно сокращается. Сопоставляя самое ран¬
нее из дошедших до нас произведений, «Такэтори моногатари»,
с более поздним, «Отикубо моногатари», В. Н. Маркова отмеча¬
ет, что если первое еще целиком погружено в сказочную сти¬
хию, то второе уже прошло половину пути от сказки к бытово¬
му роману [318, с. 5—7]. Фантастическое в «Отикубо монога¬
тари» обретает форму реально происходящего, что свидетель¬
ствует об эволюции от фантастики к бытовой тематике. Эта
эволюция еще более заметна в «Уцубо моногатари», относящей¬
ся к последней четверти X в. В «Уцубо моногатари» сказочен
в строгом смысле только пролог, основное же действие развер¬
тывается в реальной обстановке. (Аналогичный процесс наблю¬87
дается и в китайской литературе VII—VIII вв., когда в недрах
волшебно-фантастической новеллы происходит подготовка к воз¬
никновению нового жанра — новеллы любовно-бытовой). Именно
волшебной повести обязан японский роман широким введением
в него реалий и атмосферы быта. Мы, однако, не будем здесь
специально рассматривать этот вопрос, поскольку бытовой ас¬
пект романа Мурасаки достаточно- явствует из его содержания
(см. изложение фабулы романа), а также прослеживается в
первой главе данной книги. Генетическая связь романа с вол¬
шебной повестью по этой линии частично выявляется в иссле¬
дованиях В. Н. Марковой [289; 318].Влияние волшебной повести ощущается и в некоторых при¬
емах композиции «Гэндзи моногатари», в манере обрисовки
внешнего облика персонажей (в частности, сама писательница
подчеркивает при характеристике одной из героинь, что, давая
детальное описание ее костюма, она следует традициям моно¬
гатари).Кроме того, волшебная повесть —это своего рода посред¬
ник между романом Мурасаки и фольклорной традицией. Не¬
даром А. А. Холодович охарактеризовал «Такэтори моногата¬
ри» как произведение, в котором совершился «переход.из ми¬
фологии в литературу» {333, с. 53]. Об этом мы еще будем го¬
ворить специально в разделе «Связь романа с фольклорной
традицией».Очень важно также отметить, что в волшебной повести про¬
исходит складывание национальных традиций литературы ху¬
дожественного вымысла, в значительной степени подготовив-
; ших почву для возникновения романа.Лиричность японского романа восходит к японской лири¬
ческой поэзии и к развивавшимся во взаимодействии с ней ли¬
рической повести и лирическому дневнику. Роман тесно связан
с поэзией и по характеру изобразительных средств. И, нако¬
нец, что очень важно, к поэзии восходят также традиции ото¬
бражения «истинного» («макото»). Психологизм «Гэндзи мо¬
ногатари» развился в значительной мере на базе дневниковой
литературы. Эти литературные взаимосвязи рассматриваются
в разделах «Лиричность и психологизм „Гэндзи моногата-
ри“» и «Особенности творческого метода Мурасаки Сикибу...»Лирические жанры во многом предопределили композицию
романа Мурасаки Сикибу. Особенно велико значение лириче¬
ской повести как его непосредственного предшественника. Вза¬
имосвязи «Гэндзи моногатари» с лирической повестью по этой
линии анализируются в главе «Композиция „Гэндзи монога-
тари“».Можно проследить также и связь романа с историко-доку¬
ментальной прозой. Ко времени создания «Гэндзи моногатари»
Япония имела развитую историко-документальную прозу: ис¬
торико-мифологический свод «Кодзики» («Записи древних88
дел», 712], описание японских провинций «Кофудоки» («Древ¬
ние записи о землях и нравах», 713—735) [321, с. 225], исто¬
рическая хроника «Нихонсёки», или «Нихонги» («Анналы Япо¬
нии», 720), с которой была хорошо знакома Мурасаки Сикибу,
о чем свидетельствуют и записи в ее «Дневнике» и высказы¬
вания персонажей романа. Не исключено, что именно тради¬
циями исторической прозы обусловлено, например, и стремле¬
ние писательницы запечатлеть в романе достаточно длитель¬
ный период времени (художественное время романа охваты¬
вает жизнь трех поколений героев, в общей сложности 75 лет),
и особое внимание к хронологии.Хронологическая последовательность событий и эпизодов
играет важную роль в построении сюжета романа. (В этом
следует видеть влияние исторической прозы и дневниковой ли¬
тературы.) Отдельные сюжетные конструкции располагаются
по хронологической канве. Связь глав романа друг с другом
в значительной степени достигается с помощью хронологии.
Глава является основной композиционной единицей романа.
Начало и конец главы во многих случаях фиксирует дата. Так,
например, первая глава охватывает период жизни героя с года
до 12 лет. В главе девятой ему 18 лет. Главы «Сума» и «Ака¬
си» представляют Гэндзи на 26-м и 27-м годах жизни. Собы¬
тия, описанные в главе 21, имеют место в период между его
33 и 35 годами. Содержание каждой главы может быть легко
приурочено к тому или иному году и даже месяцу жизни Гэнд¬
зи, и на этом основании японскими комментаторами была про¬
делана специальная работа—разбивка романа по годам и ме¬
сяцам [305, с. 247].«Кодзики» и «Нихонги» часто именуют историческими хро¬
никами или летописями, что в строгом смысле едва ли право¬
мерно, особенно применительно к «Кодзики». Во-первых, по¬
тому, что эти произведения относятся не к одной, а к разным
жанровым разновидностям. Во-вторых, потому, что эти наиме¬
нования адекватно не отражают их жанрового содержания.В японских литературоведческих трудах «Кодзики» и «Нихон¬
ги» рассматриваются как произведения художественной лите¬
ратуры, а не исторические сочинения. Как таковые, они пред¬
ставлены и в комментированных изданиях, подготовленных ли¬
тературоведами. «Кодзики», например, как правило, включает¬
ся во все серийные комментированные издания классической
литературы. Однако проблема их влияния на последующее
развитие японской словесности относится, пожалуй, к числу
наименее разработанных. Недостаточно внимания уделяется
также проблеме изучения жанра этих произведений. Обраща¬
ет на себя внимание практическое отсутствие у нас постанов¬
ки проблемы их жанра. Между тем «Кодзики» представ¬
ляется нам литературным произведением, характерными осо¬
бенностями жянра которого является беллетризация истори-89
ческих событий, наличие вставных эпизодов, преданий и ле¬
генд, а также обширного поэтического материала, не только
иллюстрирующего и оживляющего повествование, но часто иг¬
рающего сюжетообразующую роль. Элементы истории переме¬
жаются с псевдоисторическими эпизодами и мифологией, ле¬
топись органически сплавлена с фикцией. В «Нихонги», кото¬
рая ближе к исторической хронике, также налицо явные следы
художественной обработки исторического материала. Роль вы¬
мысла особенно заметна в последних главах «Кодзики», мно¬
гие из которых посвящены различным эпизодам и событиям
из жизни императоров. Элементы вымысла, бесспорно, способ¬
ствовали влиянию этой литературы на формирование жанра
романа, ибо сближали ее с сюжетной прозой.В ряде японских .работ, посвященных исследованию рома¬
на, говорится о его связи с живописью. Накада Ясуюки счи¬
тает, что «эпизодичность» романа (речь об этом пойдет в раз¬
деле о композиции романа) имеет прямую связь не только с
поэзией танка, но и с древней драмой (речь может идти,
разумеется, лишь о зачатках театрального действа.— И. Б.),
и с живописью [125, с. 233].Ко времени создания романа большое распространение в
японской живописи «яматоэ» получил жанр «эмакимоно»— жи¬
вопись на горизонтальных свитках. Свитки, по сути дела, пред¬
ставляли собой рассказы в картинах, где картины чередова¬
лись с текстом. Основным источником тем для «эмакимоно»
была хэйанская литература. Один из шедевров этой живопи¬
си—«Свитки Гэндзи моногатари» («Гэндзи моногатари эма-
ки»), созданные в XII в., которые по традиции приписывают
придворному художнику Фудзивара Такаёси, работавшему в
первой половине XII в. [273, с. 441. Поэтому они известны под
названием «Такаёси Гэндзи» 1125, с. 233].В последнее время, однако, некоторые японские искусство¬
веды, находя различие в манере исполнения отдельных частей,
склонны считать, что работа была исполнена не одним масте¬
ром, а несколькими (273, с. 44; 298, с. 57].До нас дошли четыре свитка: 19 картин и 20 разделов тек¬
ста, относящиеся к двадцати главам (в том числе к главам
«Адзумая» — «Дом на окраине», «Такэгава»— «Бамбуковая
река», «Касиваги»),Предполагается, что первоначально таких частей-картин
должно было быть более ста, по нескольку картин на каждую
главу [273, с. 47].«Свитки Гэндзи моногатари» не просто иллюстрируют эпи¬
зоды романа, но и позволяют проследить его идею и разви¬
тие сюжета. В свою очередь, каждая из картин представляет
собой сюжетно завершенное целое. Были и другие своды ил¬
люстраций к «Гэндзи моногатари». Они появлялись как в хэй-
анский период, так и в последующее время [233, с. 234—235].90
Появление таких иллюстрированных воспроизведений рома¬
на Мурасаки говорит о том, что материал романа таил в себе
богатые возможности переложения на язык живописи. Многие
страницы романа (жизнь в них как бы останавливается во вре¬
мени) прямо тяготеют к живописи. Например, сцена беседы
Каору и Окими на фоне легендарного моста Удзи («Дева у
моста») или сцена из главы «На границе», в которой описы¬
вается, как Гэндзи на пути в Исияма встречается у Заставы
встреч с Уцусэми, возвращающейся из Адзума.В «Гэндзи моногатари» много красочных описаний костю¬
мов, обстановки, природы и т. д., как будто бы специально
рассчитанных на то, чтобы дать тему художнику.В хэйанский период были популярны иллюсцрированные
повести и рассказы преимущественно любовного содержания
(эмоногатари). Иллюстрации занимали в них значительное ме¬
сто и играли определенную сюжетообразующую роль. Этот
опыт способствовал сближению литературы с живописью (про¬
блема, безусловно заслуживающая внимания, однако требую¬
щая специального рассмотрения, что не входит в нашу задачу,
поэтому ограничимся лишь ее постановкой)., Говоря о воздействии на роман того жанрового окружения,
в условиях которого шло его формирование, нельзя не коснуть¬
ся проблемы жанрового синкретизма. Этот синкретизм, харак¬
терный (в разной степени) для древних и средневековых лите¬
ратур вообще, очень актуален для литературы Хэйана, где он
предстает и как невыраженность границ жанров, восходящая
к произведениям древнеяпонской литературы, сочетающим опи¬
сание с элементами художественного вымысла, поэзию с про¬
зой и т. д., и как следствие тесного взаимодействия жанров,
особенно заметного в X—XI вв. (ко времени появления -романа
Мурасаки Сикибу).В свою очередь, взаимовлияние различных жанров в значи¬
тельной степени облегчалось зыбкостью жанровых границ. На¬
пример, исследователь дневниковой и эссеистической литера¬
туры Японии X—XIV вв. В. Н. Горегляд обращает внимание
на характерную для многих дневников беллетризацию катего¬
рии автора, которая отражается и на способах его самопрояв-
ления. В ряде дневников повествование ведется от третьего
лица. Беллетризуются нередко и описываемые в дневнике жиз¬
ненные ситуации и эмоциональные состояния (см. [282, с. 237—
248]). Поэтому, например, влияние дневниковой литературы
на роман в значительной степени облегчалось тем, что литера¬
тура эта по многим показателям стилистики и поэтики мало
отличалась от сюжетной прозы, что, в свою очередь, можно
объяснить воздействием на нее более ранней по времени воз¬
никновения волшебной повести.Заслуживает быть отмеченным и такой важный фактор, как
наличие сюжетности в некоторых произведениях дневниковой91
литературы. В частности, исследователь творчества Идзуми
Сикибу Э. Крэнстон отмечает, что сюжет «Дневника Идзуми
Сикибу» «прост, изобилует повторами, развивается медленно
и волнообразно» [338, с. 26]. Принц не сразу добивается любви
дамы. Но, уступив ему наконец, дама уже ждет его визитов.
Спустя некоторое время принц начинает реже посещать ее. Это
беспокоит и обижает даму. Как-то он приходит к ней после
долгого перерыва; она выказывает ему холодность и, оскорб¬
ленная невниманием, решает отправиться в паломничество, по
возвращении из которого долго пребывает в нерешительности.После ряда неудачных попыток встретиться с дамой принц
сажает ее однажды в экипаж и увозит к себе во дворец, а че¬
рез некоторое время повторяет эксперимент, окончательно по¬
корив сердце дамы. Но когда он начинает настаивать, чтобы
она переехала к нему, она не соглашается. Он убеждает ее,
говоря о трудностях, с которыми сопряжены визиты к ней при
его высоком положении в обществе. Кроме того, он не может
■быть спокоен, так как постоянно подозревает ее в изменах,
слухи о которых время от времени доходят до него. В кон¬
це концов спустя месяцы двусторонних колебаний принц по¬
просту увозит Идзуми как-то ночью к себе. Постепенно их при¬
вязанность друг к другу возрастает.Принц обещал Идзуми,. что во дворце она будет огражде¬
на от неприятностей. Но ее появление вызывает скандал, ко¬
торый завершается уходом официальной жены принца. За Ид¬
зуми подглядывают, ее окружает атмосфера зависти, ревности,
и Идзуми вскоре начинает сожалеть о своей прежней — одино¬
кой, но независимой жизни.Существенным моментом, который также следует иметь в
виду, является ретроспективное отражение в дневниках собы¬
тий и фактов из жизни их авторов. Так, «Дневник Идзуми Си¬
кибу» построен только на воспоминаниях, отраженных в ос¬
новном в стихах и записанных спустя некоторое время после
того, как имели место соответствующие события. Иными сло¬
вами, он носит полностью мемуарный характер. Первая книга
«Кагэро никки» («Дневник эфемерной жизни») также состав¬
лена ретроспективно.Исследователи предполагают, что и Мурасаки Сикибу не
вела свой дневник непосредственно по следам событий, а поль¬
зовалась при составлении его черновыми поденными запися¬
ми, сделанными ранее, ибо в некоторых местах «Дневника»
наблюдается отступление от исторических фактов. В частно¬
сти, В. Н. Горегляд отмечает, что в одной записи упоминается
Сидзю Дайнагон (известный поэт и филолог Фудзивара Кин-
то), который в то время, к которому относится данная запись,
еще не имел чина дайнагона [282, с. 119].Ретроспективное составление дневника дает возможность
художественной обработки исходного материала.92
Влиянию жанра дневника на произведение Мурасаки Си¬
кибу способствовала и хронологическая близость ряда днев¬
ников ко времени создания «Гэндзи моногатари». Так, «Днев¬
ник эфемерной жизни» был написан примерно в 70—80-х годах
X в., а «Дневник Идзуми Сикибу» — в самом начале XI в., т. е.
в то время, когда Мурасаки работала над своим романом.Диффузии жанров (в той или иной мере характерной для
любой эпохи и любой национальной литературы) в японской
культуре периода Хэйан в значительной мере благоприятствова¬
ло то обстоятельство, что многие литераторы, в особенности
крупные, не специализировались в области какого-либо одно¬
го жанра, но обращались попеременно то к одному, то к дру¬
гому.Цураюки, например, был талантливым поэтом и литератур¬
ным критиком. «Дневник Идзуми Сикибу» вырос из ее част¬
ного собрания стихов «Идзуми Сикибу-сю». Мурасаки Сикибу
писала свой «Дневник» почти в одно время с романом о Гэнд¬
зи и вместе с тем продолжала писать стихи. Кстати, в «Днев¬
нике» ее работа над романом нашла прямое отражение (см.
Приложение, с. 259).О тесной связи разных жанров хэйанской литературы сви¬
детельствует, например, тот факт, что собрание поэтических
произведений Оно-но Такамура (составленное из 30 песен-по¬
сланий, повествующих о любви поэта) фигурирует под различ¬
ными названиями: «Собрание поэтических произведений Така¬
мура» («Такамура-сю»), «Дневник Такамура» («Такамура
никки») и «Повесть о Такамура» («Такамура моногатари»).Далее будет сказано о роли дневника как своеобразного по¬
средника между романом и лирической поэзией. Поэзия же
(частные собрания), в свою очередь, могла выступать посред¬
ником между волшебными повестями (а через них древними
устными рассказами — «сэцува») и другими жанрами. Поэти¬
ческие частные собрания («си-касю») нередко заимствуют от¬
дельные приемы сюжета и композиции, а также эпизоды и
ситуации из древних устных рассказов, например форму зачина
(«Давным-давно» — «Има ва мукаси»), перешедшую затем в
лирическую повесть («Исэ моногатари»), эпизод сватовства
Двух юношей к одной девушке, перешедший затем в «Хэйтю
моногатари» и нашедший отражение в «Гэндзи моногатари».Уместно отметить и еще один момент: двусторонний ха¬
рактер связи романа с современными ему литературными жан¬
рами. Так, роман оказал определенное влияние на жанр днев¬
ника, и прежде всего на «Дневник Мурасаки Сикибу». Влия¬
нием романа можно объяснить, в частности, то обстоятельство,
что некоторые записи «Дневника» несут следы беллетри¬
зации.Вполне естественно, что автор, пробующий себя в разных
жанрах, может переносить из одного жанра в другой особен-93
ности своей манеры и стиля. (Примеры подобного рода диф¬
фузии между стилем «Гэндзи моногатари» и «Дневника Мура¬
саки Сикибу» см. у В. Н. Горегляда [282, с. 354—358].) Не уди¬
вительно, что лирические дневники X —начала XI в. сыграли
важную роль в формировании жанровых и стилистических осо¬
бенностей романа Мурасаки Сикибу (испытав, в свою очередь,
и на себе его обратное влияние) .В нашей книге мы не имеем возможности рассмотреть во
всем объеме разнородные истоки японского классического
романа —это задача не одной работы. Основное внимание ав¬
тора сосредоточено на тех литературных связях, которые оп¬
ределили жанровое содержание и форму романа и наиболее
существенны с точки зрения дальнейшего развития роман¬
ного жанра в литературе Японии.Лиричность и психологизм «Гэндзи моногатари»Роман как жанр характерен не только тем, что включает
в себя самые разнообразные жанры — стихотворные, эписто¬
лярные, дневники, хронику и т. д., — о чем писал М. М. Бахтин
[267, с. 134—135], но и тем, что он предполагает органическое
сочетание различных поэтических начал: эпического, лириче¬
ского, драматического. На эту особенность романа специально
указывал В. Д. Днепров {291, с. 496—497}, подчеркивая много¬
плановый характер романа как жанра. Поэтические начала,
часто противоположные, не только органически сливаются в
структуре романа, но и переходят одно в другое — эпическое в
драматическое, лирическое в эпическое и т. д. [291, с. 538].Наличие в японской литературе мощной лирической тради¬
ции, сложившейся на рубеже древности и средних веков при
отсутствии развитого книжного эпоса (до XIII в.) и драмы
(до XIV в.), предопределило большую роль лирического нача¬
ла в «Гэндзи моногатари», обусловило лирический характер
этого первого в Японии романа. Повествование в нем посто¬
янно чередуется с прямыми излияниями чувств, читатель сопри¬
касается с эмоциональным миром персонажей.Непосредственно выражены, например, чувства Гэндзи, по¬
лучившего ответ от Уцусэми, из которого было ясно, что она
решительно отказывается от дальнейших встреч с ним: «Весь
день Гэндзи был погружен в печальные размышления:Та ушла навсегда (Югао.—Я. Б.),Эта нынче рассталась со мною.•И куда их дороги ведут?Все окуталОсенний туман...» («Югао»)Интересно передан эпизод первого свидания Гэндзи с Фуд-
зииубо в ее родительском доме. Само свидание даже не опи-94
сано. Его смысл вьцражен в душевном состоянии Гэндзи и Фуд.
зицубо:«Гэндзи смотрел на Фудзицубо и не верил своим глазам.
Уж не сон ли это? Дивный сон наяву. А она? Сожалея в душе
о том, что произошло, она решила: забыть, забыть его! Она
страшилась этой страсти, завладевшей ее сердцем. В своей
строгости и глубокой задумчивости она еще больше чарует
Гэндзи. Только почему она так стыдится -его, смотрит как чу¬
жая. Грустно, право... Ах, разве найдется на свете женщина,
чтоб могла сравниться с ней! Ну, была бы она обычной, как
все, его бы так неудержимо не влекло к ней! А тут... Разве
можно пе!редать его душевные муки?» («Юная Мурасаки»).Лирическим настроением окрашены картины природы, мно¬
гие описания облика персонажей романа. В особенности это
касается сцен, специально рассчитанных на то, чтобы вызвать
в душе читателя соответствующий эмоциональный отклик, со¬
стояние «аварэ». Их описание сопровождается выражением
эмоциональной реакции героев на происходящее.После отъезда То-но Тюдзё, навестившего Гэндзи в изгна¬
нии в Сума, Гэндзи, наблюдая, как качается на волнах челн,
живо напоминающий ему собственную участь, с грустью раз¬
мышляет:Не так ли меня
Занесли эти волны морские
В неизвестную даль?И текут в одиночестве дни...Их с печалью былой не сравнить! («Сума»)Ввиду недостаточной выраженности драматического начала
в «Гэндзи моногатари» (как уже упоминалось, драма стала
развиваться в японской литературе значительно позже) диа¬
логи в нем часто приобретают лирический характер. Основным
элементом, воплощающим лирическое начало в «Гэндзи моно¬
гатари», является танка.Традиция включения 'поэтического материала в прозаиче¬
ский текст ведет свое начало с древности, она нашла отраже¬
ние в «Кодзики», «Нихонги», «Кофудокн» и других памятни¬
ках древне-японской литературы. Поэтические фрагменты на¬
ряду с элементами художественного вымысла способствовали
беллетризации произведений историко-документальной прозы.
Беллетризация, можно считать, и положила начало развитию
художественной прозы, а введение в нее поэтического текста
составило ее характерную особенность.В хэйанской литературе взаимодействие эпического и лири¬
ческого элементов получает дальнейшее развитие и предстает
в новом качестве. К этому времени поэзия «выделилась» из
прозы: появляются частные собрания стихов («си-касю»), поэ¬
тические антологии «Манъёсю» (759), «Кокинсю» (905) и др.
На рубеже древности и средних веков поэзия представляет95
собой наиболее высоко .развитый вид японской словесности и
занимает в ней ведущее положение. Если в «Манъёсю» лирика
явно преобладала, то «Кокинсю» знаменовала безраздельное
господство лирической поэзии (танка). Во взаимодействии с
прозой поэзия занимает теперь во многих случаях равновели¬
кое положение. Дальнейшее развитие художественной прозы
происходит не только под сильным влиянием лирической поэ¬
зии, но и в значительной степени на ее основе.Танка как лирическая миниатюра по своей природе кон¬
текстуальна. Она всегда слагается по определенному поводу,
обусловлена конкретной ситуацией. Ее эмоциональное содер¬
жание органически связано с контекстом и только через него
полностью и раскрывается. Получает развитие практика про¬
заических вводов и эпилогов — «котобагаки» («словесные пояс¬
нения»). Эти прозаические пояснения, объясняющие практику
сложения стихотворения, встречаются уже в «Манъёсю», а в
«Кокинсю» и других антологиях Хэйана становятся, по суще¬
ству, нормой (в «Кокинсю» они именуются «хасигаки» — «всту¬
пительные пояснения»). Поясняя содержание танка и дополняя
его, они демонстрировали возможность «обрастания» лириче¬
ского стихотворения повествованием, т. е. возможность состав¬
ления на его основе целого эпизода и даже рассказа. Эта воз¬
можность частично реализуется в «си-касю», где поэтический
материал обычно располагается в хронологической последова¬
тельности и, будучи снабжен прозаическим комментарием,
складывается в своеобразную лирическую биографию или
дневник поэта.Частные поэтические собрания явились той формой, кото¬
рую в определенном смысле можно считать прямым предшест¬
венником лирического дневника, так же как и лирической по¬
вести.Основная масса частных поэтических собраний появилась
в начале хэйанского периода. «Си-касю» как особая литера¬
турная форма специально исследовалась японскими учеными,
которые усматривают в ней важнейший источник лирической
прозы Хэйана. В частности, имеются работы Мацуда Такэо
[101] и Фудзиока Тадаёси [221]. Некоторые из собраний были
составлены самими авторами, многие же составлялись после
смерти последних, другими лицами, т. е., по существу, ретро¬
спективно. В этом случае повествование в «котобагаки» нередко
велось от третьего лица, и в нем можно предполагать элемент
беллетризации. В частности, ретроспективно были составлены
собрания песен поэтов «Манъёсю» — Хитомаро, Каса Канаму-
,ра, Такахаси Мусимаро, Танабэ Фукумаро, Яманоэ Окура, Ото-
мо Табито, Отомо Якамоти [101, с. 3].Многие из частных собраний в жанровом отношении близ¬
ки лирическому дневнику или «ута-моногатари». По мнению
японских ученых, на базе частного собрания произведений96
Аривара Нарихира создавалась лирическая повесть «Исэ мо¬
ногатари», а в основу «Ямато моногатари» был положен ма¬
териал несколько частных собраний [101, с. 30, 40]. Уже отме¬
чалась связь с «си-касю» «Дневника Идзуми Сикибу», очевид¬
на она и для «Дневника путешествия из Тоса» Цураюки.
В ряде лирических повестей, таких, как «Хэйтю моногатари» —
история любовных похождений поэта Тайра Садафуми
(ум. 923), и особенно «Исэ моногатари», а также в некоторых
дневниках (например, в «Дневнике Идзуми Сикибу») стихи
и проза занимают равноправное положение, взаимно дополняя
друг друга.Так, «Дневник Идзуми Сикибу» при его сравнительно не¬
большом объеме (47 с половиной страниц японского текста)
включал 145 стихотворений (28], что составляло 19 процентов
текста. В первой -книге «Дневника эфемерной жизни» поэти¬
ческий материал составил 20 процентов текста, а если принять
во внимание прозаические части, написанные по принципу
«котобагаки», то и все 50 процентов (282, с. 81]. Поэтический
материал органически входил в художественную ткань днев¬
ников и был средством передачи эмоциональных реакций ге¬
роев и их психологических состояний.Вот одна из последних записей «Дневника Идзуми Сики¬
бу»: «Осенние листья со всей их многокрасочной прелестью
исчезли без следа. День был ясным, небо было чистым, но
лучи медленно заходящего солнца казались тусклыми и на¬
вевали грусть. Дама, как обычно в такие минуты, писала
принцу:Ты тот,Кто утешение дает мне.Знаю, и однако же
Вечерний мрак
Опять наводит грусть...Он отвечал:Нет человека, что не разделял бы
Твою печаль в вечерний час,Но ты о ней сказала
Прежде всех —'Вот, что так трогает меня!» (28, с. 401]В этих жанрах, составивших важный этап на пути созда¬
ния романа, был накоплен богатый опыт сочетания лирического
и эпического элементов, стихов и прозы, унаследованный и свое¬
образно преломленный в «Гэндзи моногатари». Лирические
стихи составляют значительную часть текста романа, хотя и
намного меньшую по сравнению с произведениями типа «Исэ
моногатари», но не являются равноправными с повествователь¬
ным текстом — на первый план выступает эпический элемент,
и соответственно мы относим «Гэндзи моногатари» к разновид¬
ности прозаического романа. Но так или иначе, взаимодейст-7 Зак. 65497
вне стихов и прозы составило характерную жанровую особен¬
ность «Гэндзи моногатари».Каковы же основные функции поэтического материала в
романе? В романе насчитывают в общей сложности 795 лири¬
ческих стихотворений. В соответствии с традицией они не яв*
ляются чистым украшением текста; как правило, это элемент
содержания, дополняющий описание чувств и переживаний
героев, даваемое в прозе, либо в целом ряде случаев заменяю¬
щий его.«Государь и при звуках ветра и при голосах насекомых
только грустил... Луна зашла,И в заоблачных высях
Все слезами заволоклось,Заволоклась осенняя луна.О, как же она будет ясной
Там, в жилище из асадзи? —волновался государь и не ложился, пока не догорели все све¬
тильники» (302, с. 596] («Кирицубо»).Приведенная танка передает чувства и мысли государя,
обеспокоенного судьбой матери умершей Кирицубо и малень¬
кого Гэндзи — «там, в жилище из асадзи» (асадзи — род мел¬
кой травы, жилище из травы — символ бедности).В частных поэтических собраниях и особенно в лирической
повести и дневнике получила дальнейшее развитие форма по¬
этического диалога, сложившаяся еще в древнеяпонской поэ¬
зии (жанр песен-диалогов «мондо», букв, «вопросы и ответы»),
которая широко используется и в романе Мурасаки Сикибу,
во многих случаях заменяя прозаический диалог.Монахиня, у которой воспитывалась юная Мурасаки, пе¬
редавая девочку на попечение Гэндзи, выражает в стихах свое
беспокойство за ее судьбу:Нежная травка,Кто приголубит тебя,Когда вырастешь?Как же росинке
Покинуть тебя!Ей вторит женщина, что присматривала за девочкой:Травка младаяГде свой приют обретет,Когда вырастет,Коль ты не знаешь, роса,Как же ты можешь ее покинуть?(«Юная Мурасаки»)(Под «росой» подразумевается монахиня, на попечении ко¬
торой находилась девочка и которая уже готовила себя к
смерти.)Другой пример. Перед отъездом Гэндзи в изгнание между
ним и юной Мурасаки происходит поэтический диалог:
Гэндзи:Я не знал, что разлуки печаль
В этом мире живет,И всю жизнь до конца
С тобой рядом пройти
Обещал я тебе.Мурасаки:Жизнь свою
Я не стала б жалеть,Если б было возможноЭтот горестный миг расставаньяХоть немного продлить («Сума»).В обоих случаях поэтический текст является составной
частью содержания романа, заменяя прозаический текст в ча¬
сти эмоционального самовыражения персонажей.Если лирическая поэзия заложила традиции художествен¬
ного воплощения духовного мира человека, первой обратив¬
шись к его сердцу («скокоро»), к его мыслям и чувствам
(«омой»), то дневниковая литература, унаследовавшая и раз¬
вившая эти традиции, послужила важнейшим источником пси¬
хологизма «Гэндзи моногатари».Расцвет дневниковой литературы в X—XI вв. был связан в
первую очередь с развитием так называемой литературы жен¬
ского потока. Женщины в придворном хэйанском обществе,
как уже говорилось, обладали определенной независимостью,
были достаточно образованны, начитанны, словом, вполне под¬
готовлены к самостоятельной литературной деятельности и
опирались на богатый опыт, уже выработанный к этому вре¬
мени женщинами-поэтессами (Оно-но Комати, Исэ-но Тайсю
и др.). К тому же — и это, пожалуй, самое главное — им было
что сказать. Неустойчивость семейных и любовных отношений,
обусловленная полигамией, связанные с этим нравственные
страдания рождали потребность излить душу, и форма днев¬
ника оказалась как нельзя более для этого подходящей — сам
жанр был в значительной мере вызван к жизни назревшей
потребностью самовыражения автора-героя (а точнее, как пра¬
вило, героини).Дневник позволял не только выразить сиюминутные чувст¬
ва и настроения, статическое душевное состояние, как это де¬
лала поэзия танка, но и раскрыть духовный мир в движе¬
нии, в динамике, показать его эволюцию, вызванную непрерыв¬
ной сменой конкретных жизненных ситуаций.Так, «Дневник эфемерной жизни» отразил события и свя¬
занные с ними переживания героини в течение 21 года жизни:
ее ’замужество (‘которое проф. Кавагути Хисао уподоблял пла¬
ванию в волнах п;рилива у бе<рега, изобилующего подводными
рифами, с отказавшими штурвалом и парусом (цит. по {282,
с. 76]) и материнство. Записи в «Дневнике» год за годом рас-7*99
крывают процесс нарастания в душе героини ощущения не¬
прочности, непостоянства человеческих отношений, неуверен¬
ности в завтрашнем дне, приведшего ее в конце концов к мыс¬
ли о принятии монашеского обета. Вскоре после замужества,
всего месяц спустя после рождения сына, она обнаруживает
в шкатулке своего мужа, Фудзивара Канэиэ, письмо к другой
женщине, «женщине с городской улочки», как именуется она
в «Дневнике». Уже спустя два месяца после женитьбы Канэиэ
перестал навещать мать Митицуна (под этим именем известна
автор «Дневника» в литературе). Целых три года терзает он
ее своей холодностью. В «Дневнике» описываются страдания
писательницы, наблюдавшей, как Канэиэ все больше привязы¬
вается к своей новой возлюбленной, забывая о жене и о ре¬
бенке.Болезнь Канэиэ в 966 г. как будто бы вновь сблизила су¬
пругов, вызвав обоюдные чувства раскаяния и сострадания.
Затем последовали новые размолвки и новые сближения, за¬
ставляющие героиню серьезно задуматься над эфемерностью
человеческих отношений и привязанностей, над непостоянством
всего мирского. С этим связано паломничество матери Мити¬
цуна к храму Нагатани. Последовавшие затем три года были
годами новых терзаний автора «Дневника» из-за невнимания
к ней мужа и слухов о том, что он опять увлекся какой-то жен¬
щиной. Героиня то жалуется, что совсем не видит Канэиэ, то
ревнует его к некоей Коноэ, то отправляется в паломничество,
то решает стать монахиней и укрепиться в вере.«Дневник Идзуми Сикибу» отразил первый период любов¬
ной связи поэтессы с принцем Ацумити (в общей сложности
девять месяцев). Эмоциональный мир героини показан на про¬
тяжении достаточно длительного художественного времени, в
непрерывном развитии.Главный акцент в дневниках часто делается не на описании
ситуации, а на ее эмоциональном итоге, т. е. на том состоянии
ума и чувства, к которому она приводит или которое обнару¬
живает.В одной из записей «Дневника Идзуми Сикибу» говорится,
как дама, «чтобы развеять томительную скуку своего сущест¬
вования», решила совершить паломничество к святыне Исияма.
Однако она «не предстала перед Буддой. Голова ее была пол¬
на мыслями о доме, и она с грустью поняла, как сильно она
переменилась. Мир в самом деле был юдолью печали» [28,
с. 416]. Центром данного эпизода оказывается описание не па¬
ломничества, а душевного состояния дамы, которое раскры¬
вается в этой ситуации, выявляя определенную стадию разви¬
тия ее духовного мира.Дневник как жанр располагает и более 'богатым, чем поэ¬
зия, арсеналом средств выражения эмоций героев. В «Дневни¬
ке Идзуми Сикибу» этому служат танка, прозаическое посла-100
ние или диалог, внутренний монолог и, наконец, речь повест¬
вователя.Показательна, нацример, одна из записей заключительной
части «Дневника»:«Как могла она отнестись с холодным безразличием к той
преданности и незаслуженному вниманию, которое оказывал
ей теперь принц? Она решила, что должна пойти к нему. Были
люди, которые серьезно предостерегали ее против такого шага,
но она не придала этому значения. Поскольку ее жизнь в лю¬
бом случае не приносила ей ничего, кроме душевных мук, ей
следовало просто положиться на судьбу. И, однако, у нее не
было твердого желания войти в его дом. То, чего она на самом
деле хотела,— это жить „в ущелье глубоко среди скал“ (аллю¬
зия из „Кокинсю‘\ № 952.— И. Б.).В каком ущелье,Глубоко меж окал
Мне поселиться?Чтоб не слышать
О горестях мирских?Но как совладать ей с теми печальными думами, что могут
преследовать ее? Люди сказали бы, что у нее нет подлинного
призвания к такой жизни. Все же лучше, наверное, если она
будет продолжать ту жизнь, что ведет, — с родителями и се¬
страми подле нее, за которыми она может присматривать. И ей
хотелось бы видеть, как растет ее ребенок, так напоминавший
ей ее бывшего мужа. Как мучительно трудно было решать!
Если ей действительно следует пойти »к принцу, то хорошо бы,
если бы он не слушал больше этих назойливых сплетен, пока
она не уйдет; разумеется, когда они будут вместе, он увидит и
поймет истинную правду, думала она» [28, с. 432—433].От подобного рода внутренних монологов прямой путь к тем
пространным описаниям переживаний и душевного состояния
героев, которыми так богато произведение Мурасаки Сикибу.
Не случайно американские исследователи средневековой япон-
ской литературы говорят применительно к ней о «психологиче-
ском анализе», правда с оговоркой, что это звучит, возможно,
«слишком по-западному». Средневековая литература Японии,
по их мнению, не идет ни в какое сравнение с западноевро¬
пейской средневековой литературой, которая уделяет исклю¬
чительно мало внимания человеческой психологии [337, с. 459].В романе Мурасаки традиции дневникового «психологизма»
получают дальнейшее развитие. «Гэндзи моногатари» отличает¬
ся глубоким проникновением во внутренний мир героев, деталь¬
ным анализом их чувств и переживаний, тонкой передачей
эволюции психологических состояний. В каждом эпизоде,
строящемся вокруг очередного любовного увлечения блиста¬
тельного Гэндзи, важное место отводится изображению эмоций101
действующих лиц, их размышлениям и самоанализу. Некото¬
рые главы почти целиком посвящены раскрытию душевного
состояния героев. Так, в главе «Сума» значительную часть со¬
держания составляют размышления главного героя по поводу
«превратностей судьбы», приведших его в ссылку. Он неодно¬
кратно с грустью вспоминает об оставленных в столице родных
и близких, анализирует свои отношения с ними, и в частности
с Фудзицубо, которая в течение долгих лет была «властитель¬
ницей всех его дум»: «Казалось, было предопределено, что в
течение долгой их связи каждый из них, как бы ни был он рас¬
положен к другому, причинял ему одни только муки».Когда Гэндзи получил письмо от своей бывшей возлюблен¬
ной Рокудзё, он подумал о том, как несправедлив он был к
этой женщине, считая ее «корнем зла» в историях с Югао и
Аои и наказывая ее своей холодностью и безразличием. Полу¬
ченное от нее письмо с выражением глубокого сожаления и иск¬
реннего раскаяния тронуло его и побудило пересмотреть отно¬
шение к ней. Тоска и одиночество приводят его к мысли об
уходе из мира, об удалении в монастырь. В главе описаны так¬
же сложные переживания Фудзицубо, которая, со своей сторо¬
ны, вспоминает о своей связи с Гэндзи, о том, как много раз
она, страстно желая его любви и сострадания, лишь холодно
от него отворачивалась из ciipaxa перед возможным раскрыти¬
ем их тайны. Глубоко переживает разлуку с Гэндзи и оставлен¬
ная им в столице Мурасаки. Она много дней пролежала в по¬
стели, подавленная его отъездом. Все попытки окружающих
развлечь ее были безрезультатны. Достаточно было одного
взгляда или упоминания о его вещах — будь то цитра, на кото¬
рой он когда-то играл, или запах оставленной им одежды,—
чтобы мгновенно повергнуть ее в печаль. «А глубоко на сердце
был неотступный, навязчивый страх, что он может умереть в
этой ссылке, так и не вернувшись домой. И еще, помимо того
страха, мысли о котором были просто невыносимы, была
боязнь, что, возможно, на таком расстоянии его привязанность
к ней постепенно угаснет за это время...» («Сума»).В романе изображаются сложные психологические комплек¬
сы, столкновения противоречивых чувств, борьба чувства и дол¬
га и т. д. Основным содержанием глав «Призраки», «Молодая
поросль», '«Закон», «Касиваги» являются переживания и душев¬
ные конфликты сразу нескольких персонажей: Гэндзи, Мураса¬
ки, Нёсан, Касиваги. Мурасаки тяжело переживает последнюю
измену Гэндзи — его женитьбу на юной принцессе Нёсан, чув¬
ствуя, что «теперь наступит тот страшный поворот в ее судь¬
бе, когда она постепенно будет терять и его доверие, и его пре¬
данность, и ту безраздельность его привязанности, которая
столько лет была ее гордостью» («Молодая поросль»). Это при¬
водит ее к горьким раздумьям над судьбой хэйанской женщи¬
ны, которая вынуждена терпеливо переносить подобные удары,102
никому не показывая своих страданий, .«запирая все в своем
сердце». В конце концов она тяжело заболевает и умирает.Гэндзи тоже страдает от сознания, что он причинил горе
Мурасаки, выполнив данное бывшему императору обещание
жениться на его дочери. Его страдание усугубляется после
того, как он узнает об измене Нёсан с сыном его друга и собст¬
венным его другом — Касиваги. Как быть, мучительно рассуж¬
дал Гэндзи, делать вид, будто ничего не произошло? Однако он
сознавал, что не смажет относиться по-прежнему ни к ней, ни
к нему. Все больше размышляя над происшедшим, он приходил
к выводу, что его постигло воздаяние за собственное преступ¬
ление, совершенное по отношению к отцу, старому императору:
некогда он вступил в связь с любимой наложницей отца Фуд¬
зицубо. Гэндзи с -ужасом осознает, что император, по-видимому,
догадывался обо всем и только делал вид, что ничего не знает,
и испытывает мучительные угрызения совести. Наконец, самый
жестокий удар обрушивается на Гэндзи, -когда он узнает о смер¬
ти Мурасаки и понимает, что потерял в ее лице настоящего
друга и самого близкого человека. Он вспоминает, как в прош¬
лом «потеря за потерей обрушивались на него и все их он в
конце концов пережил. Но вот теперь эта, величайшая из воз¬
можных горестей сделала то, что не могли сделать все осталь¬
ные». Дальнейшая жизнь представляется ему бесцельной и
бессмысленной. У него нет больше ни сил, ни желания жить
(«Закон»).Мучается и Нёсан, глубоко сознавая свою вину перед
Гэндзи и не видя никакой возможности искупить ее, ибо она
понимает, что слишком ему обязана и не может рассчитывать
на то, что он простит ее и будет относиться к ней по-прежнему.
Единственным выходом из душевного кризиса ей представляет¬
ся пострижение в монахини.Что же касается Касиваги, то его больше всего терзало со¬
знание, что он обманул доверие принца, изменил их дружбе:
«Хуже, чем общий скандал и посрамление, хуже, чем зрели¬
ще позора и несчастья Нёсан, было для него узнать, что он по¬
терял уважение Гэндзи. Они так долго были друзьями, их свя*
зывали узы общих воспоминаний пережитого, и вот теперь, спу¬
стя столько лет, он предал эту дружбу». Касиваги испытывает
чувство глубокого презрения к себе, настолько всепоглощаю¬
щее, что всякая мысль о земном существовании невыносима
для него («Касиваги»).В романе глубоко раскрыта психология любви в полигам¬
ном хэйанском обществе, художественно исследована психоло¬
гия женской ревности и неверия в прочность любовных и семей¬
ных уз. В частности, показаны самые разнообразные формы
проявления ревности: начиная от предельной внешней терпимо¬
сти и покорности (Югао в ситуации с То-но Тюдзё, другом
Гэндзи, Акаси в ситуации с Гэндзи) до открытого протеста103
(Кумой в ситуации с Югири) и актов жестокой мести (Рокудзё).
Мурасаки, например, все видит и понимает, но пытается «все
запирать в своем сердце». Жестоко страдая в глубине души от
неверности Гэндзи, она лишь изредка дает ему понять, что о
многом догадывается, а если иногда и упрекнет супруга, то в
очень сдержанной форме. Молча страдает Нака-но кими, не
надеясь уже вернуть прежнего расположения своего возлюб¬
ленного Ниоу-но мия. Постоянные измены Гэндзи глубоко ранят
гордую и самолюбивую принцессу Аои. Аои реагирует на его
легкомыслие подчеркнутой гордостью и даже надменностью,
нарочитым безразличием тс любимому мужу.Психологизм Мурасаки Сикибу с особой силой проявился в
обрисовке характеров, в выявлении в них борьбы противопо¬
ложных черт (частая причина сложных коллизий). Например,
доброта Гэндзи, его способность к состраданию часто обора¬
чиваются фактической жестокостью (по отношению к его воз¬
любленным), граничат с тяжкими моральными преступления¬
ми (в отношении отца); способность к глубокому и искреннему
чувству соседствует с мелочным лукавством и лицемерием, но
вместе с тем при всей своей ветрености и легкомыслии он «об¬
ладал удивительной способностью никогда не забывать тех,
кого он когда-то любил».Сложным и противоречивым характером наделена Рокудзё.
В душе этой женщины тонкость чувств удивительно сочетается
с демоническим мстительным духом и жестокостью, и послед¬
ствия этого вызывают у нее горькое раскаяние и угрызения
совести. Глубокая, искренняя любовь к Гэндзи и постоянная
боязнь лишиться возлюбленного борются в ее сердце с оскорб¬
ленной гордостью и самолюбием, побуждая избегать встреч с
Гэндзи, и в конце концов приводят к решению расстаться с
ним.Роман Мурасаки Сикибу раскрывает глубинные процессы
эмоциональной жизни героев на протяжении огромного перио¬
да времени, раскрывает их в ходе эволюции самих образов и
взаимоотношений героев, что играет существенную роль в раз¬
витии сюжета романа.Так, от лирической поэзии к дневнику и от дневника к ро¬
ману происходит постепенное углубление во внутренний мир
героя, все более сложным и многогранным предстает его ду¬
ховный облик и эмоциональный мир, все более совершенствуют¬
ся методы и приемы их изображения.Связь романа с фольклорной традициейВ «Гэндзи моногатари» нетрудно обнаружить следы влия¬
ния фольклорной традиции. Прежде всего обращают на себя
внимание тематические и сюжетные отголоски жизнеописаний104
божественных первопредков и императоров, содержащихся в
«Кодзики» и «Нихонги», основу которых составили древние
устные рассказы. Любовные приключения Гэндзи, как и сами
традиции «ирогономи»— культа любви, восходят к описанию
любовных похождений культурного героя Окунинуси, а также
императоров Одзин, Нинтоку, Юряку и др.Обратимся к соответствующим эпизодам их жизнеописаний.
Окунинуси, один из восьмидесяти братьев, родившихся от бо¬
гов, добивается сердца принцессы Ягами-химэ из Инаба («Код¬
зики», гл. 21), затем приходит во владения бога стихий Суса-
но, похищает его дочь Сусэри-химэ, бежит с нею из отцовских
владений и делает ее своей главной женой (гл. 24). Вслед за
тем он сватает принцессу Нунакаха-химэ из земли Коси. Вот
как описано это сватовство в «Кодзики»: «Приблизившись к
дому Нунакаха-химэ, он пропел:Бог Ятихоко (букв, «обладающий
восемью тысячами копий»; одно из
пяти имен бога Окунинуси.— Я. Б.)Не смог найти жену
В стране Восьми островов
И вот, услыхав,Что в далекой земле Коси
Живет мудрая дева,И вот, услыхав,Что живет там прекрасная дева,Отправился, чтобы посватать ее,Отправился, чтоб завладеть ею.Не сняв даже
И меча своего,Не сняв даже и плаща своего,Он стоял здесь
И толкал и тряс,Он стоял здесь
И тянул и толкал
Деревянную дверь,За которою дева спала.Тогда на зеленых горахПропела птица нуэ (вид совы.— Я. Б.),Птица полей,Фазан откликнулся ей,Домашняя птица,Петух, прокричал.О, как ненавистны мне
Птицы за их голоса!Если бы только я могПрекратить их проклятое пение...» (гл. 25)«Тогда Нунакаха-химэ, не открывая, однако, дверей своих,
пропела в ответ:О бог Ятихоко!Поскольку лишь женщина я,Покорная, как нежная трава,Сердце трепещет мое,'Как итица на морском берегу,Хоть ныне могла бы я105
Быть вольною птицей,Позже я стану твоею,Птицей, подвластной воле твоей.Так потерпи, господин мой,Не умирай от желания...Лишь только солнце
За зеленые горы зайдет,Черная, как ягода тута,Наступит ночь.С улыбкой, сияющей,Словно утреннее солнце,Руками своими
Белыми, как волокна таку,Обнимешь тыГрудь мою, что юностью дышит,Нежную, как легкий снег,Обнимемся мы и совьемся телами.Словно яшма, белые руки твои
Сплетутся с моими,И, вытянув ноги,Ты ляжешь и уснешь.Так не томись, господин мой,О бог Ятихоко...Они не соединились в ту ночь, но сочетались как супруги
следующей ночью» (гл. 26).В главе 27 содержится эпизод прощания Окунинуси со
своей ревнивой женой Сусэри-химэ, обнаруживающий истоки
трактовки ревности как зла (противополагаемой любви как
добру и благу), которая вместе с восприятием неверности муж¬
чин как нормы в сложившейся системе семейно-любовных от¬
ношений легла'в основу создания характеров Мурасаки, Нака-
но кими и других женщин в романе Мурасаки Сикибу.Достаточно вспомнить уже приводившиеся ранее высказы¬
вания Югири (он уподобляет мужчину, привязанного к жене,
соколу, запуганному самкой), реплики друзей Гэндзи в главе
«Дерево-метла» (их общий смысл сводится к тому, что невоз¬
можно найти женщину, на которой можно было бы остановить
свой выбор), а также оценку героями романа поступков Рокуд¬
зё, продиктованных ее ревнивой натурой. Как большое зло рас¬
сматривала ревность Нака-но кими, официальная любовница
принца Ниоу. Испытывая муки ревности в связи с женитьбой
Ниоу на дочери Югири, Року-но кими, она сознавалась, что
«это та самая ревность, про которую она так много слышала»,
и поклялась, что никогда не поддастся ей, ибо «ревность —
жесточайшая пытка, которой может быть подвергнута челове¬
ческая душа».Вернемся к «Кодзики», где говорится: «Снова его главная
жена Сусэри-химэ проявила неистовую ревность. Супруг, силь¬
но расстроенный этим, приготовился покинуть Идзумо и уехать
в страну Ямато. Когда полностью облачился и готов был от¬
правиться в путь, он, возложив одну руку на седло своей ло¬
шади и вставив одну ногу в стремя, пропел:.106
...Любимая жена моя,■Когда я отправлюсь в путь
С моими людьми,Едиными, словно стая птиц.(Когда я отправлюсь в путь
С моими людьми,Сопровождающими меня,Словно птицы в косяке,Быть может, скажешь,Что слез не прольешь ты,Однако головою поникнув,|Как травки степной стебелек,В тени под горою,Заплачешь ты горько,И слезы твои,Словно утренний дождь,Туманом поднимутся ввысь,О моя молодая жена,О трава молодая!..» (гл. 27)«И тогда жена его принесла божественную чару вина и»
приблизившись, подала ему с песней:О бог Ятихоко,О мой Окунинуси!Поскольку мужчина ты,Все острова
Вокруг ты обходишь,Каждый мох
Вокруг ты обходишь,Жен должен иметь ты,Как молодые травы,Но — женщина я,И нет для меня мужчины,Кроме тебя,Нет мужа другого,Кроме тебя.За шелковой ширмой
На ложе на мягком
Под тонким покровом
Из ткани той муси,Под шуршащим покровомИз ткани той такуМою грудь, ту, что юностью дышит,Нежную, словно легкий снег,Ты обнимешь
Руками своими,Белыми, как волокна из таку, fОбнимемся мы и совьемся телами,Руки твои, словно белая яшма,Совьются с моими,И вытянешь ноти ты.О, иди же, мой господин, и усни.Испей, господин мой,Вина эту полную чару!Пропев так, они дали взаимную клятву за чарой вина и,
обняв друг друга, оставались так до следующего дня...» (гл. 28).
Так Сусэри-химэ подавляет свою ревность, признавая за107
мужем право «иметь жен, подобных молодым травам». Подав¬
ляет свою ревность и Нака-но кими: продолжая страдать, она,
однако, ничем не выказывает возлюбленному своего душевно¬
го состояния. В главе 29 «Кодзики» перечисляются имена еще
тринадцати жен, с которыми последовательно сочетается Оку¬
нинуси.Главой 101, рассказывающей о сватовстве принцессы Ягахаэ-
но химэ, открывается жизнеописание императора Одзина.«Однажды император, проходя через землю Тикацу-Афу-
ми, остановился на равнине Удзи. Когда он подошел к деревне
Кохата, то встретил прекрасную деву у развилки Aqpora. Им¬
ператор спросил ее: „Чья ты дочь?“. Она отвечала: „Я дочь оми
(главы рода. — И. Б.), Вани; мое имя — Миянуси Ягахаэ-но
химэ“. Тогда император сказал деве: „Завтра на обратном пути
я остановлюсь в твоем доме“.Ягахаэ-но химэ рассказала все своему отцу. На это отец
ответил: „Это в самом деле был император! Какая это честь
для нас! Дочь моя, ты должна услужить ему!“Сказав это, он убрал свой дом с большим великолепием и
стал ждать. На следующий день император остановился у него.
Пока развлекал императора и угощал его, он приказал дочери
взять большую чару вина и поднести почетному гостю.Император, принимая большую чару вина, пропел песню:
Скажи мне, о краб,Откуда пришел ты?Я — крабИз далекой Тунига.Проходя стороною,Куда направляешься ты?Прихожу я на остров Итидзи,Пролагаю дорогу в Мисима,Словно водные птицы,Что ныряют в воду, дыша тяжело,Шел я вперед
По пути в Сасанами
По многим уступам...Что до меня — их легко миновав,Встретил я деву
На дороге в Кохата.Если сзади посмотришь,Пряма, словно щит,Зубы белы,Словно желудь на дубовой ветке,Брови наведены жирно, стрелами вниз,Глиною из Итихии,Что неподалеку от Вани,И не верхнею глиной,Что слишком красна,И не нижнею глиной,Что слишком черна,Но той лучшею глиной,Глиной из средних слоев,Той настоящей, необожженной.Вот она женщина, что повстречал я!108
Дева, что встретил я.Как я желал ее!Дева, что встретил я,О, я желал ее!Но уж не сон ли:Она предо мною!Рядом со мною, вместе со мной!Так сочетались они как супруги, и родился у них сын Удзи-
но-Ваки*ирацуко».Изобилует любовными приключениями история императора
Нинтоку, с которой начинается третья книга «Кодзики». Гла¬
ва 111 рассказывает о том, как император тайно навещает
принцессу Куро-химэ в стране Кии, а в следующих трех главах
повествуется о его сватовстве к Ята-но-Ваки-ирацумэ из Яма-
сиро, которой он посылает песню следующего содержания:Стебелек тростниковый,Растущий в Ята,Нет у него отростков.Иль должен он так и увянуть?О бедные заросли тростниковых полей,И, хоть говорюО полях тростниковых, думаю я:Увы; бедная дева!Ята-но-Ваки-ирацумэ отвечает ему:Стебелек тростниковый,Что в Ята,Один он — ну что же! —Раз воля на то господина —Один,— ну так что же! (гл. 1IT)В главе 115 император сватает свою сводную сестру Мэдо-
ри-но мико через своего младшего брата Хаябуса Вакэ-но мико.
Однако Хаябуса, нарушая волю брата, сам женится на Мэдори-
но мико. Узнав об этом, император в гневе преследует и уби¬
вает молодую чету.Много неприятностей причиняет императору ревность его
главной жены Ива-химэ, которая вынудила деву из Кии поки¬
нуть императорский дворец и уехать на родину, где Нинтоку
тайно встречается с ней.Ива-химэ преследует и другую соперницу — Ята-но-Ваки-
ирацумэ, сама отправляется в Ямасиро, чтобы настигнуть там
любовников и отомстить им. И, наконец, опасаясь именно ее
ревности, Мэдори-но мико решает отдать свое сердце младшему
брату Нинтоку — Хаябуса Вакэ-но мико, который пришел сва¬
тать ее за императора.Дух «ирогономи» нашел яркое проявление и в цепи любов¬
ных похождений императора Юряку, который сначала взял
себе в жены принцессу Вака Кусакабэ-но мико, затем Кара-хи-
мэ и, наконец, Вака Тэраси-химэ.В главе 128 содержится описание его сватовства к принцес-109
ее Вака Кусакабэ-но мико и приводится песня ожидания встре¬
чи с нареченной:Меж Коти-горою,Что в (Кусабакэ,•И жесткой травою покрытой
Горою Хэгури,Там и сям-В расщелинах торных
Поднялись роскошные
Широколиственные дубы.У подножия их
Сплетающийся бамбук растет,У вершин их —Частый бамбук растет,Сплетающийся бамбук —Сплетаясь, не спим мы.Частый бамбук —Ох, рядом не спим мы.Та, с кем возлягу я позже,Любимая жена —Прекрасна! (гл. il28)В главе 129 описан еще один чрезвычайно интересный эпи¬
зод из серии похождений Юряку.«Однажды, в другом случае, император совершал прогулку.
Когда достиг он реки Мива, увидел деву, что мыла белье в
реке. Она была необычайно красива. Император спросил деву:
„Чья ты дочь?“ Она отвечала: „Мое имя Акаико из Хикэта-
бэ“. Тогда он повелел: „Не выходи замуж. Я пришлю за то¬
бой!" Сказав это, он вернулся к себе во дворец.Акаико почтительно ждала, когда император повелит ей
прийти, покуда не прошло целых восемьдесят лет.Тогда она подумала: „Много лет прошло, а я все жду его
повеления. Теперь мое тело увяло и одряхлело, и нет больше
для меня никакой надежды. Однако, пока я не расскажу о сво¬
ей верности, с которой я ждала, я не смогу преодолеть уны¬
ния". Так подумав, она пришла к нему с многочисленными да¬
рами.Император, который забыл о том, что когда-то он приказал
ей ждать, с удивлением спросил: „Что ты за старая женщина
и почему ты пришла ко мне?“Тогда Акаико ответила: „В таком-то году и в таком-то ме¬
сяце получила я августейший приказ и с тех пор восемьдесят
лет верно ждала. Теперь я стара, и нет больше для меня ни¬
какой надежды. И все-таки я пришла сюда, чтобы рассказать
о моем постоянстве4*.Император был очень изумлен и сказал: „Я совсем забыл
тот случай много лет назад. Но ты, оставаясь мне верной, все
ждала моего приказа и истратила впустую лучшие годы своей
жизни. Это более всего жаль“.В душе хотел он посватать ее, но подумал о ее преклонных
годах и не смог сочетаться с ней браком, а передал ей песню:110
Под дубом,-Под священным дубом
В МимороКак благоговею пред тобою,О дева из дубовой рощи!И спел он еще песню:Поле в Хикэта,Где растут молодые каштаны,В те молодые годыКак сладко было б возлечь с тобою,Но теперь — уже стара ты!Тогда Акаико зарыдала, и слезы омочили рукава ее платья,
окрашенного в красное.В ответ на песни императора сложила она свою песню:В МимороПостроена жемчужная изгородь,Давно построена...На кого тебе надеяться,Бедная жрица божества?И еще песню сложила она:В заливе (Кусака
Растут лотосы,Цветущие лотосы —О те, кто в расцвете лет,Как я завидую вам! (гл. 429)Тогда император щедро одарил старую женщину и отпра¬
вил ее домой».В главе 130 «Кодзики» описан такой эпизод:«Однажды, когда император совершал августейший визит
во дворец Ёсино, на берегу реки ему встретилась красивая дева.
Он посватал ее и возвратился во дворец.Позже, когда он совершал другой августейший визит в
Ёсино, он остановился на том же месте и опять встретился с
девой. Он установил свой помост и, воссев на нем, заиграл на
цитре и повелел деве танцевать. Она танцевала очень хорошо,
и он сложил песню:Божественные рукиТого, кто восседает на помосте,Играют на цитре,Под которую танцует дева,О, если бы длилось так вечно».К этой же серии следует отнести и эпизод из главы 133:
«Когда император снова отправился на прогулку в Касуга,
чтобы посватать Одо-химэ, дочь вождя Вани-но Сацуки, на пу¬
ти встретилась ему дева. Увидев его, она исчезла — спряталась.
По этому случаю сложил он песню:Тот холм,За которым скрывается дева,—Если бы пять сотен
Мотыг из металла! —Как срыл бы его я!111
Так и прозвали холм тот „железной мотыгой"...»В главе 134 император обменивается песнями с принцессой
Одо-химэ из Касуга на пиру, где она подносит ему чару с ви¬
ном:Влагу разливающая
Дочь придворного
Держит сосуд.Если держишь сосуд,Держи его крепко!Изо всех сил/И даже крепче держи его,О дева, держащая сосуд.В ответ Одо-химэ сложила:Наш великий государь,Правящий мирно,Каждое утро
Опирается на него,Каждый вечер
Опирается на него.Его подлокотником — о, если бы быть мне1
Хоть нижнею доской его,О брат мой...В этих и подобных эпизодах из жизни культурных героев —
первопредков и древних императоров нетрудно усмотреть исто¬
ки поведения Гэндзи, постоянной смены им объектов привязан¬
ности и поиска все новых и новых любовных приключений.
Подобно героям устных рассказов, женщин он- выбирает себе
«лучших из лучших», таких, как Фудзицубо, Мурасаки.Многие эпизоды и ситуации истории о Гэндзи восходят к
эпизодам и фактам жизнеописания принца Ямато Такэру, сына
императора Кэйко. Прежде всего, эта эпизод предательства по
отношению к отцу. Император-отец повелел Ямато Такэру при¬
вести двух девушек, сестер Уэ-химэ и Ото-химэ, которых импе¬
ратор собирался взять в жены. Но Ямато Такэру сделал их
своими женами, а императору прислал других (гл. 78).Само отношение императора-отца к Гэндзи напоминает
отношение Кэйко к Ямато Такэру. Обнаружив обман, Кэйко
продолжает относиться к своему младшему сыну (Ямато Такэ*
ру) с большим доверием, поручая ему и наказание его старшего
брата и ответственные походы против кумасо и других племен.И, наконец, описание горя и отчаяния живших во дворце
Гэндзи женщин после его смерти живо перекликается с опи¬
санием скорби жен и детей Ямато Такэру в аналогичной ситу¬
ации: похоронив принца на равнине Неба, они в отчаянии пол¬
зали вокруг могильного холма и причитали:Дикие лозы
Стелятся вокруг,Среди рисовых стеблей,Среди рисовых стеблей
По близлежащим полям (гл. 88)
IА вот что говорится о всеобщем трауре после смерти Гэнд¬
зи (разговор Kaoipy с Нака-но кими): «Дамы, служившие у
него во дворце, потеряли всякий интерес к жизни, и большин¬
ство из них удалились в монастыри или в скиты. Печальные
истории 'рассказывались о придворных дамах, которые, несмот¬
ря на то что их отношения с Гэндзи носили самый официаль¬
ный характер, так глубоко переживали эту утрату, что скита¬
лись по лесам и горам и уже не появлялись более в столице».К древним устным рассказам и легендам восходит и сюжет¬
ная основа целого ряда глав «Гэндзи моногатари». Например,
эпизод из жизни Юряку с «прячущейся девой» («Кодзики»,
гл. 133) мог послужить прототипом аналогичной ситуации, скла¬
дывающейся у Гэндзи с Уцусэми (Гэндзи проникает к ней в
спальню, она же, предвидя это, скрывается в комнате прислуги,
и он, к своему разочарованию, находит на постели лишь забы¬
тую ею одежду).Далее, эпизод измены Нёсан, молодой жены Гэндзи, с его
Другом Касиваги восходит, очевидно, к эпизоду из биографии
императора Нинтоку, в котором девушка, которую он прочил
себе в жены, сочеталась с его младшим братом, посланным к
ней в качестве поверенного. На это указывают японские ученые
Ямамото Кэнкити и Оригути Синобу, подчеркивая, что гнев
Гэндзи и гнев императора Нинтоку — это аналогичные реакции
в сходных ситуациях [128, с. 141 —149].И действительно, император Нинтоку в ярости преследует
своих оскорбителей и уничтожает их физически, Гэндзи же, по
существу, «убивает» Касиваги, приведя его к мысли о невоз¬
можности дальнейшего земного существования, а Нёсан вынуж¬
дает уйти в монашество.Далее, изгнание Гэндзи на остров Сума, описанное в главах
«Сума» и «Акаси», восходит, как указывает другой исследова¬
тель, Накадзима Эцудзи, к изгнанию божественного первопред¬
ка Окунинуси после похищения принцессы Сусэри-химэ. При
этом Накадзима Эцудзи обращает внимание на сходство как
самого характера этого изгнания, так и его последствий и ре¬
зультатов. И подобно тому, как Окунинуси возвращается из изг¬
нания с новыми силами и побеждает всех своих соперников
(мотив: бог на время покидает свою резиденцию, с тем чтобы
возвратиться победителем, — характерен для целого ряда уст¬
ных рассказов [126, с. 254]), так и Гэндзи после ссылки пере¬
живает период блеска и славы: он и его приближенные повы¬
шены в чинах, земельные наделы его значительно увеличились,
а «его действительная власть в течение долгих лет была аб«
солютной и безраздельной» («Нижние листья глициний»).По мнению Сайго Нобуцуна, к древним сказаниям восходит
и сюжетная основа главы «Призраки», завершающей историю
жизни Гэндзи, а также ряда других глав [222, с. 253].Наблюдаются в «Гэндзи моногатари» и отголоски мотива8 Зак. 654113
инцеста, также восходящие к древним мифам и сказаниям о
героях-первопредках н древних императорах. Эти мотивы ула¬
вливаются, например, в ситуациях: Гэндзи — Фудзицубо (Фуд¬
зицубо как наложница отца приходилась Гэндзи приемной ма¬
терью), а также Гэндзи — Мурасаки (взятая им к себе в каче¬
стве приемной дочери, она затем становится его возлюбленной
и женой), Гэндзи — Тамакадзура (ее статус приемной дочери
не мешает Гэндзи ухаживать за ней со своими обычными наме¬
рениями) .Часто в заимствовании сказочно-мифологических мотивов
посредником оказываются волшебные и лирические повести —
«Такэтори моногатари», «Отикубо моногатари», «Ямато моно¬
гатари», «Исэ моногатари» и другие, а также произведения
древней поэзии (в первую очередь из антологии «Манъёсю»).
Так, эпизод с изгнанием Гэндзи из столицы на остров Сума
напоминает соответствующий эпизод «Исэ моногатари» (см.
гл. 5).Сцены сватовства в главах, связанных с рассказом о дочери
Югао, Тамакадзура, перекликаются со сценами сватовства знат¬
ных женихов к Кагуя-химэ: последняя попеременно отвергает
их всех, ставя перед ними невыполнимые условия.Ситуация любовного треугольника (Ниоу — Укифунэ — Као¬
ру), складывающаяся в последней части романа — в «главах
Удзи», восходит к одному из устных рассказов, зафиксирован¬
ных в «Ямато моногатари» или в так называемой легенде об
Икитагава, а последний, в свою очередь, — к известной песне
«Манъёсю» о споре трех гор, а также к песне об Унаи-химэ из
книги 9 (126, с. 257].В '«Гэндзи моногатари» нашел отражение восходящий к на¬
родной сказке и часто встречающийся в древних повестях и
(рассказах мотив «приемных детей». Мотив этот встречается
помимо «Гэндзи моногатари» в целом ряде других произведе¬
ний хэйанской и последующей литературы. В наиболее распро¬
страненном варианте —мотив злой мачехи и гонимой падче¬
рицы («Золушки»), общем для фольклора многих народов, он
лег в основу сюжета волшебной повести «Отикубо моногата¬
ри». В японском литературоведении принят даже специальный
термин «кэйси моногатари» («повести о приемных детях» {189,
с. 1].В романе Мурасаки Сикибу мотив «приемных детей» встре¬
чается неоднократно на протяжении развития повествования.
Только по женской линии он зафиксирован в десяти местах
[189, с. 13]. К этому мотиву восходят, например, взаимоотно¬
шения Гэндзи с его мачехой Кокидэн Нёго, Укифунэ с ее от¬
чимом, а также ситуации Тамакадзура (выйдя замуж за прин¬
ца Хигэкуро, она стала мачехой его детей от прежней жены —
Макибасира), Уцусэми (как жена Иё-но сукэ она приходилась
мачехой его взрослому сыну). Надо, однако, сказать, что дан-114
ный мотив предстает в этих и других ситуациях романа в транс¬
формированном виде, в значительной мере утратившем свое из¬
начальное фольклорное наполнение. Во-первых, в своей клас¬
сической фольклорной форме он выступает как взаимоотноше¬
ния мачехи и падчерицы. В романе же эта ситуация наименее
характерна. В случае с Мурасаки, например, она не очень и по¬
казательна: Мурасаки живет отдельно от своей мачехи — сна¬
чала на воспитании у монахини, а затем у Гэндзи — и практи¬
чески с мачехой не контактирует. Более характерна для рома¬
на следующая ситуация мачехи и пасынка (Кокидэн-нёго— Гэн-
дзи, Тамакадзура — сыновья Хигэкуро, Уцусэми — сын Иё-но
сукэ). Частный случай — Гэндзи в качестве приемного отца Му¬
расаки, а затем Тамакадзура.Изменился сам характер этих отношений. В фольклоре ак¬
цент делается на гонении, издевательствах и преследовании
со стороны мачехи и, следовательно, на злоключениях и стра¬
даниях приемыша. В «Гэндзи моногатари» это в большинстве
случаев отсутствует, на что, кстати, указывает исследователь
этой проблемы Симидзу Ютака [189, с. 18].Например, в ситуации Гэндзи — Кокидэн-нёго Гэндзи никто
не тиранит, он живет в свое удовольствие, пользуясь покро¬
вительством императора-отца, занимает достаточно высокое по¬
ложение при дворе, хотя и не является принцем крови. И если
Кокидэн испытывает к нему неприязнь, то это обусловлено в
основном политическими соображениями, интересами борьбы
за власть. Кокидэн возмущена, что император больше любит
Гэндзи, чем ее сына, и она опасается, как бы Гэндзи не оказал¬
ся вместо ее сына наследником престола. Эти опасения усили¬
ваются, когда император женит Гэндзи на принцессе Аои, доче¬
ри Левого министра, главы враждебной Кокидэн придворной
коалиции. Именно поэтому, воспользовавшись докладом Право¬
го министра, заставшего Гэндзи в покоях Обородзукиё, наре¬
ченной наследного принца, она создает Гэндзи такие условия,
при которых он вынужден покинуть столицу и стать изгнанни¬
ком.По существу, здесь очень мало общего со сказочной нена¬
вистью мачехи к приемышу, как и в реакции Кокидэн на три¬
умфальное возвращение Гэндзи из ссылки: она, естественно, со¬
жалеет по поводу того, что не удалось совсем убрать Гэндзи,
но подоплекой этих настроений опять-таки являются соображе¬
ния политического характера.Совсем не проявляет себя как «злая мачеха» Тамакадзура.
Как и свойственно ее характеру, она ровна и внимательна к
приемным сыновьям и практически заменяет им мать. Не была
«злой мачехой» и Уцусэми по отношению к своему великовоз¬
растному пасынку. В особенности же яркий пример несоответ¬
ствия исходно-сказочной ситуации являет отношение Мураса¬
ки к дочери Акаси, которая была отдана ей на воспитание: не8*115
имевшая детей, Мурасаки искренне привязалась к девочке и
относилась к ней как к родной.Несколько приближается к фольклорной, во всяком случае
на первый взгляд, ситуация Укифунэ и ее отчима, бывшего на¬
местника провинции («Дом на окраине»), который выдает
свою родную дочь за Сакона Сёсё, считавшегося женихом Уки¬
фунэ. Однако его действия не были продиктованы «сказочной»
ненавистью к падчерице или желанием составить на ее несчастье
счастье своей дочери, а явились в значительной степени плодом
недоразумения. Реальной причиной такого решения были коз¬
ни свата, который проболтал Сакону, что Укифунэ была не
родной дочерью бывшего наместника, а приемышем. В резуль¬
тате Сакон сам от нее отказывается и просит свата сговорить
за него настоящую дочь экс*губернатора.Обычная ситуация «кэйси моногатари» такова. Гонимая
падчерица (или приемыш) после долгих злоключений чудесным
образом обретает счастье и положение в обществе. Типична
ситуация «Отикубо моногатари»: героиня выходит замуж за
принца. Отголосок подобной ситуации можно видеть в триум¬
фальном возвращении Гэндзи из ссылки, где этот мотив пере¬
плетается с мотивом из жизнеописания Окунинуси: Гэндзи дей¬
ствительно оказывается сторицей вознагражден за свои лише¬
ния в Сума, а его недоб!рожелатели посрамлены.По мнению Симидзу Югака, присутствие мотива «приемных
детей» в романе Мурасаки Сикибу не есть результат заимство¬
вания, более того, писательница относится к этому мотиву в
принципе отрицательно [189, с. 22]. Действительно, в «Гэндзи
моногатари» мы встречаемся с целым рядом случаев пароди¬
рования этого мотива. Например, в главе «Священное дерево»
так говорится о пересудах по поводу переезда Мурасаки в ка¬
честве приемной Дочери Гэндзи в его дворец: «Все только и го¬
ворят о необыкновенном счастье, что выпало на долю молодой
госпожи из Западного флигеля (Мурасаки. — И. Б.). Сёнагон
и другие дамы из ее свиты думают, уж не молитвы ли покойной
монахини сыграли свою роль. Отец ее, принц Хёбукё, то и дело
■шлет ей письма, а она отвечает ему. Дочери принца от его новой
жены как ни надеялись занять высокое положение в свете, од¬
нако же не преуспели в этом, и теперь зависть снедает их душу,
а мачехе — госпоже Северных покоев принца и подавно все это
очень неприятно. Ну, прямо хоть пиши об этом моногатари».-Встречаются в романе и другие мотивы и ситуации, восхо¬
дящие к сказке. Сказочную ситуацию напоминает, например,
история Акаси: пребывая в безвестности на далеком острове в
заливе Акаси, она неожиданно обретает «сказочное» счастье,
любовь Гэндзи открывает перед ней путь в высшее общество,
она едет в столицу, поселяется во дворце, а рожденная от Гэнд¬
зи дочь в дальнейшем становится императрицей.Аналогична история с Тамакадзура, с ее злоключениями116
на Цукуси и чудесным возвращением в Хэйан, обретением но¬
вого отца и покровителя в лице Гэндзи и вступлением в выс¬
ший свет, где ее наперебой осаждают знатные женихи. Сказоч¬
ный мотив сироты, обретающей счастье благодаря чудесному по¬
вороту судьбы, видится и в истории Суэцуму-хана, живу¬
щей, подобно героине «Уцубо моногатари», в заросшем травой
саду, где ее и находит «прекрасный принц» — блистательный
Гэндзи и увозит к себе во дворец. Однако эти и подобные им
сказочные схемы либо откровенно пародируются писательни¬
цей, либо преодолеваются в естественном ходе повествования
при столкновении с реальными жизненными ситуациями и, та¬
ким образом, получают совсем иное звучание, часто противопо¬
ложное исходному, сказочному. Акаси чувствует себя одинокой
и заброшенной в столице: Гэндзи вскоре утратил к ней инте¬
рес и лишь изредка по старой памяти навещает ее. В доверше¬
ние ко всему Акаси приходится отказаться и от ребенка: по
предложению Гэндзи она передает девочку на попечение Му¬
расаки, поскольку та занимает более высокое положение в све¬
те и имеет возможность дать ребенку лучшее воспитание.Тамакадзура по приезде в столицу вскоре начинает понимать
всю двусмысленность своего положения, связанного с мнимым
отцовством Гэндзи: последний пытается ухаживать за ней, не¬
сколько раз делая вполне прозрачные намеки на свои истинные
чувства, и в то же время, к ее недоумению, сватает ее за прин¬
ца Соти-но мия. Дело кончается тем, что она вынуждена выйти
замуж за принца Хигэкуро, который ей неприятен.Явная пародия чувствуется в hctqphh Суэцуму-хана. Ирони¬
чески подана сама ситуация знакомства с ней Гэндзи: «Гэндзи
ни минуты не сомневался, что принцесса Суэцуму-хана необык¬
новенная красавица». Далее в комическом ключе изображено
«узнавание истины» — разочарование блистательного Гэндзи,
когда перед ним предстало существо некрасивое, с громоздкой
фигурой, угловатыми движениями и красным носом, подобным
цветку шафрана; принцесса, по существу, не умела даже под¬
держать светского разговора, а сложенное ею с огромным тру¬
дом танка оставляло желать лучшего. Сказочная ситуация пе¬
реводится, таким образом, в плоскость комического. Кстати,
есть здесь и прямое пародирование: по поводу запущенного са¬
да Суэцуму-хана Гэндзи недвусмысленно замечает: «Именно
такие места и описываются в старинных повестях».Итак, произведение Мурасаки Сикибу обнаруживает замет¬
ные следы воздействия устной традиции, зафиксированной в
летописях и мифологических сводах «Кодзики» и «Нихонги» и
литературно обработанной в повестях и рассказах жанров «дэн-
ки моногатари», «ута моногатари», а также в других произве¬
дениях, предшествующих появлению романа. Воздействие уст¬
ной традиции проявилось отчетливее всего на уровне реликтов
сказочно-мифологических схем, мотивов и ситуаций, а также не¬117
которых приемов повествования и обрисовки персонажей. При¬
чем сказочные схемы и мотивы для Мурасаки не объект заим¬
ствования и подражания. Они либо присутствуют в романе в
силу традиции, модифицируются и наполняются новым содер¬
жанием, переводятся в плоскость реальных жизненных ситуа¬
ций, либо писательница отталкивается от них и на основе их
преодоления формирует свой собственный метод отражения
действительности.Нетрудно обнаружить фольклорно-мифологические истоки
и в обрисовке образа Гэндзи. Японские ученые Ямамото Кэн-
кити, Накадзима Эцудзи, Оригути Синобу обращают внимание
на присутствие в характере и облике Гэндзи черт, которые пере¬
кликаются с характеристиками древних героев, в частности с
теми, что подчеркивают их божественное происхождение. Об этом
говорит прежде всего само прозвище, данное Гэндзи еще в юно¬
сти,— «хикару» — «сияющий», «блистательный». Такадзаки Ма-
сахидэ, например, соотносит его с именем героини повести «Та-
кэтори моногатари» Кагуя-химэ — Принцессой света, сошедшей
с небес на землю [206, с. 196]. В повести говорится: «В доме тем¬
ного угла не осталось, все озарило сияние ее красоты». Когда
микадо, переодетый охотником, пришел в дом старика, чтобы
■взглянуть на несравненную красавицу — Кагуя-химэ, он «уви¬
дел девушку, сиявшую такой чистой красотой, что все вокруг
светилось». О справедливости такой точки зрения свидетельст¬
вует, как нам представляется, и наличие в поэзии древности
формулы «такахикару (такатэру) хи-но мико» («сын солнца,
сияющего с высоты»); «такахикару», или «такатэру» («сияю¬
щий с высоты») — постоянный эпитет, прилагаемый к словосо*
четанию «хи-но мико» («сын солнца»), общепринятой тогда ме¬
тафоре императора.Нам представляется, что в сфере фольклора следует искать
и истоки «несравненной красоты» Гэндзи, описание которой пе¬
рекликается с описанием «несравненной красоты» той же Ка¬
гуя-химэ: «Ни одна красавица на свете не могла с ней срав¬
ниться нежной прелестью лица», «Нет ей равной в целом мире».«Необыкновенность» красоты Гэндзи была для всех очевид¬
на, как только он появился на свет: «Был ли тесен их союз
уже в предшествующей жизни, только родился у них прекрас¬
ный, каких не бывает на свете, мальчик». И далее это неодно¬
кратно отмечается и подчеркивается в романе.Описание красоты Гэндзи часто гиперболизируется. Показа¬
телен, например, следующий отрывок из первой части главы
«Сума»: «Луна сияла красным светом на цраю неба, и в ее
странном свете он выглядел таким очаровательным и в то же
время печальным и задумчивым, что даже сердца волков и тиг¬
ров — нет! — даже самих дьяволов растаяли бы при виде его»*
Далее, в эпизоде посещения Гэндзи святого отшельника, у ко¬
торого он надеялся получить исцеление от болезни (нервное118
потрясение после смерти Югао), говорится, что даже там, в
горном скиту, известно о необыкновенной красоте Гэндзи
(«Юная Мурасаки»).■В обращении Мурасаки к гиперболе при обрисовке образа
своего героя следует видеть бесспорное влияние фольклорной
традиции. Это касается не только описания внешней красоты
Гэндзи, но и некоторых черт его внутреннего облика и его эмо¬
циональных состояний.Показательно в этом плане изображение горя и отчаяния
Гэндзи после смерти Мурасаки: «День и ночь Гэндзи плакал,
пока не начало казаться, что пелена слез протянулась между
ним и остальным миром. Тысячу раз он спрашивал себя, какая
польза ему от его красоты, о которой так много говорили, от
его талантов, которые, как считали, возвысили его над всеми
людьми его круга. Едва он появился на свет, как одиночество
и печаль стали его уделом. И потом — как будто бы Будда опа¬
сался, что у него еще сохранилась вера в жизнь и ее радости, —
потеря за потерей обрушивались на него, и все их он в конце
концов пережил. Но вот теперь эта величайшая из возможных
горестей сделала то, чего не могли сделать все остальные. Он
уже больше не просил ни одного дня жизни...» («Закон»).Восприятию писательницей некоторых приемов характеристи¬
ки древних богов и полубогов способствовал, безусловно, тот
фактор, что для древней литературы показательно «приземле¬
ние» божественного, небесного. Японские боги в «Кодзики» и
«Нихонги» говорят, Действуют и чувствуют как обычные люди,
их поведение не воспринималось как возвышающее их над чело¬
веком.Японские ученые указывают на фольклорно-мифологические
истоки стиля, лексики и фразеологии «Гэндзи моногатари» (см.
гл. 6).
Глава 3ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА МУРАСАКИ СИКИБУ.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В РОМАНЕ
(ПРИНЦИП «МАКОТО» — «ИСТИННОСТЬ»,
РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РОМАНА)Мы уже констатировали отсутствие в предшествующем по¬
явлению японского романа литературном процессе эпической
традиции, которая характерна для западноевропейской средне¬
вековой литературы. Эпос в Европе не только послужил важ¬
ным источником тем и сюжетов средневекового романа, но и
оказал серьезное влияние на формирование его метода, на твор¬
ческую манеру писателей.Влияние эпической традиции сказалось в том, что во мно¬
гих разновидностях европейского романа главной пружиной
развития сюжета и характера служит авантюра и важную роль
играет гиперболизация характеров и ситуаций. Его «постоян¬
ным элементом» является «фантастика (le merveilleux) в сред¬
невековом, двояком понимании этого слова: как сверхъестест¬
венное (в сказочном, не христианском смысле) и как все не¬
обычайное, исключительное, „возвышающее" героя и читателя
над прозаической обыденностью жизни. Обе эти формы фан¬
тастики, обычно связанные с любовной темой, покрываются
понятием приключений, авантюр (aventures), случающихся с
рыцарями, которые всегда идут навстречу им» [334, с. 97].Японскому средневековому роману чужды авантюрность и
гиперболизация, а фантастический элемент, как мы уже наблю¬
дали, занимает в нем сравнительно небольшое место, не выходя
за рамки реального в том смысле, что отражает тогдашний уро¬
вень мышления и восприятия действительности.Эти черты отличают его также и от средневекового персид¬
ского и китайского романов, в особенности от последнего, вы¬
шедшего из народных легенд (327, с. 3] и хранящего значитель¬
ные следы их влияния как в сфере сюжета, так и в области
средств и приемов его развития (сюжетный стереотип). Сюже¬
ты китайского романа в основном заимствованы из древности,
так что представленные в романе события отделены от време¬
ни создания романа многовековой дистанцией. Большое место120
занимает описание поединков, подвигов. Обращает на себя
внимание гиперболичность в изображении характеров и поступ¬
ков главных героев. Прямое влияние устного народного сказа
выразилось также в традиционных зачинах и концовках, харак¬
терных для китайского романа. Сказанное касается лишь од¬
ного из аспектов генезиса средневекового китайского романа
(явления достаточно сложного, охватывающего длительный про¬
цесс литературного развития (см. [324; 325, с. 10—11]), од¬
нако этого достаточно, чтобы ощутить существенное отличие
генезиса китайского романа от перечисленных выше истоков ро¬
мана в Японии).Авантюра и фантастика пришли в японский роман позже,
пришли из эпоса, развивающегося в XIII—XVI вв. Этот этап
представлен «Ёсицунэки» («Историей о Есицунэ»), произведе¬
нием, которое в равной мере может быть отнесено и к жанру
японского рыцарского романа и к жанру романизированного
эпоса. Материалом для него послужили частично предание, ча¬
стично реальные исторические события.На исследуемом нами этапе своей эволюции японский ро¬
ман базируется на современных ему событиях и чужд фанта¬
стике и гиперболизации. Один из главных принципов, которых
придерживается Мурасаки, — это принцип правдивости, истин¬
ности («макото») 1 изображения.Английский исследователь В. Г. Астон отмечал в «Истории
японской литературы», что в романе о Гэндзи «мы видим муж¬
чин и женщин, особенно женщин, обрисованных так, как они
являются в своей повседневной жизни и окружающей их обста¬
новке с их чувствами, страстями, ошибками и слабостями. Ав¬
тор вовсе не старается поразить или привести в ужас своих
читателей и чувствует отвращение ко всему сенсационному, не¬
естественному, чудовищному, невероятному... Герой вроде Та-
мэтомо, которого описывает романист XIX столетия Бакин и
который имеет по два зрачка в каждом глазу и одну руку ко¬
роче другой, который, упав однажды с утеса высотою в несколь¬
ко тысяч футов, тотчас же подымается и идет несколько миль
домой как ни в чем не бывало, — такой герой был бы в ее гла¬
зах не менее смешным, чем в наших» [266, с. 68). На этом ка¬
честве романа Мурасаки останавливается и Н. И. Конрад, под¬
черкивая, что в отличие от большинства произведений японской
литературы того времени и последующего, которые тяготеют к1 Как объясняет Митакэ Киёси, изначально «макото» означало «истинные
дела» (от ма — «правда», «истина» и кото— «дело», «вещь»), и в этом зна¬
чении оно несколько раз встречается в «Кодзики». Затем оно стало обозна¬
чать также и «истинные слова» (кото — «слово» и кото — «дело» являются
омофонами) (142, с. 7].В теории литературы «макото» впервые встречается у 'Ки-но Цураюки в
«го Предисловии к антологии «Кокинсю», где сущность этого понятия сводит¬
ся к тому, что «истинные дела» находят свое воплощение в «истинных словах»
1142, с. 21).121
чему-то особо поражающему, трогающему или забавляющему
читателя, в произведении Мурасаки нет «никаких особенных
событий, происшествий, подвигов», ни гиперболизации героев
и ситуаций, ни гротеска в обрисовке деталей и образов. Мура¬
саки «дает то, что заполняет повседневную обычную жизнь из¬
вестных кругов общества той эпохи; дает почти в тоне хроники,
охотно рисуя самые незначительные, ничуть не поражающие
воображение читателя факты», словом, «рисует обычную
жизнь...» (306, с. 155—156].В этом отношении Мурасаки выступила продолжательницей
определенных традиций предшествующей литературы, которые
получили в ее романе свое дальнейшее развитие.Принцип «макото» лег в основу творческого метода поэзии
«Манъёсю» и играл важную роль в поэтике хэйанской поэзии.
Требование «истинности» искусства играет существенную роль
в теории поэзии, разработанной поэтом и литературным кри¬
тиком Ки-но Цураюки и изложенной в его известном Предис¬
ловии к антологии «Кокинсю», в этом первом в Японии труде
по теории художественного творчества, с которым Мурасаки
без сомнения должна была быть хорошо знакома. Поэтическое
произведение, утверждал Цураюки, создается на основе того,
«что человек думает и чувствует, что он видит, что он слышит»
[82, с, 92], т. е. на базе реальной действительности.Критерий истинности играет у Цураюки важную роль при
оценке творчества ведущих поэтов IX столетия. Показательна,
в частности, оценка, даваемая им поэту Содзё Хэндзё: «Он
владел формой песен, но истинного было в них мало. Его пес¬
ни— будто женщина, нарисованная на картине: любуешься ею
и только напрасно волнуешь свое сердце» (329, с. 97].Мурасаки, подобно Цураюки, теоретически обосновывает
свои задачи и свой метод. Она использует для этого прием,
который Чжуанцзы называет «чужие слова»: вкладывает свои
мысли в уста персонажей романа. Мысли эти высказываются
в различной связи в разных главах. Например, в главе «Дерево-
метла» Самма-но ками, один из друзей Гэндзи, сопоставляет
художников, что «рисуют гору Хорай, которую люди никогда
не смогут увидеть, иль в этом же роде огромную рыбу, плава¬
ющую по бурному морю, свирепого зверя, что будто бы живет
в Китае, демона, который человеческому взору не виден», с те¬
ми, кто изображает «самые обычные горные виды, потоки вод,
человеческие жилища, — все так хорошо знакомое человеческо¬
му глазу», словом, пишут, чтобы казалось: «так оно и есть на
самом деле» (302, с. 605].Наиболее важные идеи высказываются в главе «Светлячки»
в беседе Гэндзи с его приемной дочерью Тамакадзура: Мура¬
саки устами Гэндзи выражает свое отрицательное отношение
к фантастике, всему сверхчеловеческому и невероятному. Про¬
ходя однажды в дождливую пору по помещениям дворца, Гэнд*122
зи находит разбросанные повсюду иллюстрированные фанта¬
стические истории, которые были тогда в моде у женской поло¬
вины общества, и обращается к Тамакадзура со словами: «Жен¬
щины для того только и рождены на свет, чтобы их обманы¬
вали, они сами этого хотят. Они же знают, как мало правды
в этих историях, однако позволяют забивать ими свои головы».
Далее Гэндзи говорит о двух типах художественных произве¬
дений. Одни из них дают ощущение .реальности, правды («мако-
то»). Другие — чудесные и фантастические — этого ощущения
не дают, к ним он относится отрицательно.Цураюки особо подчеркивал экспрессивную миссию поэзии,
он рассматривал ее как средство выражения эмоций. Утверж¬
дая, что в основе поэзии лежит чувство, что «песни Ямато» «вы¬
растают из единого семени — человеческого сердца», он писал:
«Когда они (поэты. — И. Б.) взирали на государя, говоря при
этом о камешке мелком и огромной roipe Цукуба2, когда ра¬
дость охватывала все их существо, когда они преисполнялись
восторгом; когда они любили любовью вечной, как дым горы
Фудзи; когда они тосковали о друге под стрекотание цикад,
когда размышляли о том, что сосны в Такасаго, в Суминоэ
подобны жене и мужу, стареющим вместе3, когда вспоминали
об ушедших годах мужской отваги и сокрушались о кратком
миге девичьего расцвета, — они слагали песню и утешались ею.А видя, как опадают цветы весенним утром; слыша, как
падают листья в осенние сумерки, скорбя о том, что каждый
год в зеркале появляются и белый снег и волны; видя пену на
глади вод и росу на растениях, они содрогались при мысли о
своем бренном существовании.И когда одни, вчера преисполненные гордости и славы, се¬
годня теряли все и влачили жалкую жизнь в этом мире, и друзья
удалялись от них; и когда другие говорили о волнах, перека¬
тывающихся через горы, покрытые соснами, и о зачерпывании
воды из ручейков, бегущих в равнинах4, когда они глядели с
тоской на желтеющую снизу листву осеннего хаги5, когда в
печали считали взмахи крыльев кулика на рассвете6 и когда
третьи сравнивали человеческую жизнь с короткими коленцами
бамбука и роптали на преходящий мир, вспоминая о водах реки
Есино, и когда они слышали, что дым с Фудзи не поднимается2 Т. е. уподобляя себя мелкому камешку, а императора — горе Цукуба.3 Образ двух древних сосен в Такасаго, на побережье Суминоэ.4 Образы, характерные для темы людской верности: как не могут волны
перекатиться через покрытые соснами горы, так и я не могу тебе изменить;
прийти и зачерпнуть воды из мелеющего ручейка означало бы оставить друга
в беде.5 Кустарник хаги обычно начинает желтеть снизу, и эта желтеющая лист¬
ва, признак наступающей осени, вызывала «осенние настроения».6 Намек на стихотворение от лица женщины, которая напрасно поджида¬
ла до утра своего возлюбленного, считая взмахи крыльев кулика за окном.123
боле и перестроен мост через реку Нагара7, — в песне, и толь¬
ко в песне, находили они усладу сердцу» (перевод А. Е. Глуски-
ной) [329, с. 96].Экспрессивная природа поэзии убедительно явствует из
«Дневника путешествия из Тоса» Ки-но Цураюки. Здесь каж¬
дый персонаж становится поэтом, когда у него возникает по¬
требность излить свои чувства. Один из пассажиров судна
слагает стихи, восхищаясь красивым морским пейзажем;
женщина, потерявшая в Тоса маленькую дочку, выражает в
стихах свое горе и т. д. Цураюки подчеркивает, что стихи эти
.сложены не из любви к искусству: «...и у нас в Японии и в Ки-
'тае искусство создается тогда, когда мы не в силах превозмочь
свои чувства» [74, с. 55].Мурасаки Сикибу говорит устами Гэндзи об экспрессивной
роли художественной прозы: писатель берется за кисть, стиму¬
лируемый событиями и фактами, «которые глубоко затронули
его душу» и которые он «не может оставить скрытыми в своем
сердце» и должен «донести до потомков» [17, т. 14, с. 432].Однако есть и существенные различия между теорией худо¬
жественной прозы Мурасаки и теорией поэзии Цураюки. В со¬
ответствии с концепцией лирического естества японской поэзии,
предложенной Цураюки, поэт отображает не предмет, ставший
объектом его внимания, но свои эмоции, пробужденные этим
предметом.Для него истина не дуальна, она одна — и в стихе и в серд¬
це поэта (хотя, разумеется, чувство, выраженное в стихотворе¬
нии, т. е. облеченное в образную форму, и непосредственное
чувство поэта не идентичны. Не случайно Цураюки особо под¬
черкивает роль художественного образа, а также поэтического
языка, техники и т. д., с помощью которых он создается).С возникновением художественной прозы появляется вымы¬
сел— вымышленные персонажи, события, ситуации, и проблема
соотношения мира реального и мира отраженного приобретает
особое значение (притом что автор моногатари в отличие от
поэта-лирика, на которого ориентировался Цураюки, исходит
не только из своего собственного опыта, но использует в своем
произведении и опыт других людей). Мурасаки придает боль¬
шое значение художественному вымыслу («сорагото»), и на
этом специально останавливаются многие исследователи ее
романа.В частности, Намба Хироси, комментируя эстетическую
платформу Мурасаки, изложенную в ее романе, ставит «выдум¬
ку» («кёкосэй») на первое место при перечислении основных
эстетических параметров моногатари {131, с. 5].Излагая свои творческие задачи, Мурасаки подчеркивает,7 Символы «последней обманутой надежды». В частности, мост через
р. Нагара в провинции Цу, который был построен еще в древние времена, счи¬
тался очень прочным, воспринимался как нечто незыблемое.124
Iiчто писатель черпает материал из самой жизни, описывает «то,
[ что он видел н слышал». Однако, продолжает она, «моногатари
не изображают жизнь людей такой, какова она есть (ари-но
мама)... События, о которых повествуется, могут быть выдума-
( ны. Но важно, чтобы совершались они в этом мире, а не где*
: то [в сказочных землях]». Иными словами, они должны быть
поданы так, чтобы читатель воспринимал их как истинные. «Са¬
мое главное, — пишет она, — чтобы то, о чем повествует автор,
не расходилось с подлинной сущностью вещей (моно-но кокоро
тагавана)» [17, т. 14, с. 433].Далее, поскольку прозаик при таком понимании своих за¬
дач с необходимостью отражает окрз'жаюший его мир в отли-
, чие от поэта-лирика, который прежде всего выражает в поэзии
свои чувства, вызванные окружающим миром, для него чрез¬
вычайно актуальна и еще одна проблема; на чем же именно
из этого огромного мира он должен сосредоточить свое внима¬
ние? И здесь Мурасаки отталкивается от сопоставления худо¬
жественной прозы с истерическими сочинениями. Обращаясь
к Тамакадзура и указывая на свитки, разбросанные на ее
столе, Гэндзи говорит: «Если бы их не было, едва ли мы узнали
бы о том, как люди жили в прошлом, начиная от века богов
до наших дней; эти повести и рассказы, которые во множестве
лежат на твоем столе, я уверен, содержат всевозможные под¬
робности [о частных делах людей]...» {17, т. 14, с. 433].Иными словами, если история — «Нихонги» и подобные со¬
чинения — излагает лишь факты и события внешнего мира, т. е.
«дает только одну сторону [действительности]» («катасоба дзо»),
то художественное произведение (моногатари) рисует жизнь с
разных сторон. И что особенно важно, оно сосредоточивает
внимание на судьбах людей, делая при этом основной упор не
на правде факта, но на «внутренней» правде — на правдивости,
«истинности». И в этом Мурасаки видит важное преимущество
художественной прозы перед историей.Так определяет Мурасаки Сикибу свои принципы и задачи,
свою главную установку на «истинность» изображения при
обязательном использовании вымысла и сосредоточенности на
индивидуальной судьбе человека — своего современника.Однако может возникнуть вопрос: а не противоречит ли
выдвинутый Мурасаки принцип «истинности» («макото») эсте¬
тике «моно-но аварэ», предполагающей особый характер вос¬
приятия окружающего, нацеленность на выявление «аварэ»,
когда художник руководствуется в своем творчестве задачей
художественного воплощения «очарования вещей»? И не будет
ли он скован в своем следовании «макото» и принципом изби¬
рательности, обусловленным критерием «аварэ», и задачей об¬
лечения изображаемого в такую форму, которая отвечает
принятому в обществе понятию прекрасного, требованию худо¬
жественного вкуса? Прежде чем ответить на эти вопросы, не-125
обходимо уяснить, означает ли установка на «моно-но аварэ»,
что предметом изображения должно быть только прекрасное,
то, что восхищает, «чарует», «трогает» читателя? По этому
вопросу недвусмысленно высказывается сама писательница
устами своего героя Гэндзи, утверждая, что ,«не только хоро¬
шее в человеческой жизни привлекает повествователя, но и
дурные дела людей для него по-своему интересны» (17, т. 14,
с 433].Заметим, что в своей практике писательница следует этому
принципу, изображая не только «хорошее», но и «дурное»: же¬
стокие акты мести Рокудзё, принесшие столько страдания и
горя другим персонажам, повлекшие за собой тяжелые жерт¬
вы; зависть, козни и интриги То-но Тюдзё, старого друга и
постоянного соперника Гэндзи и т. д.«Моно-но аварэ» — понятие достаточно широкое. И в данном
случае, как явствует из содержания романа, Мурасаки сосредо¬
точила главное внимание на том его аспекте, который предпо¬
лагает глубину эмоционального отклика, т. е. предусматривает
отбор событий и явлений, способных произвести особенно глу¬
бокое впечатление на читателя. Очевидно, что такое преломле¬
ние критерия «аварэ» не противоречит творческой установке
на отображение «истинного» положения вещей.Перейдем теперь к вопросу о том, влияет ли эстетическая
установка «моно-но аварэ» на манеру изображения, на средст-
ства и способы художественного воплощения действительности.
Безусловно, да. Это проявилось, как уже было отмечено, в из¬
вестной поэтизации изображаемого и, как будет показано даль¬
ше, даже идеализации главного героя и некоторых героинь:
Мурасаки, отчасти Фудзицубо, Югао и др.Необходимо, однако, отметить, что в сознании японца того
времени идеальное не только не отрывалось от реального, но
оба эти понятия воспринимались в рамках реально существую¬
щего. И потому «храм красоты», о котором говорит Хисамацу,
ретроспективно, с позиций наших дней оценивая хэйанскую
жизнь, изображенную в романе о Гэндзи, не оторван от реаль¬
ной действительности, а воздвигнут на ее основе, на ее «мате¬
риале»: принцип «моно-но аварэ» предполагал выявление пре¬
красного в самой реальности — в окружающей природе, в жиз¬
ни, в человеке и его эмоциях и, как таковой, не предполагал
лоэтизации, но требовал прежде всего чувствительности и спо¬
собности ощущать и ценить естественную красоту вещей. Поэ¬
тизация явилась в определенном смысле следствием требований
сословного этикета (о которых писал Фудзивара Тэйка) не
погрешить против художественного вкуса и не «омрачить серь¬
езно настроение читателя». Здесь мы подошли к вопросу о мере
поэтизации отображаемого.С одной стороны, поэтизация не выходит за рамки указан¬
ных требований, а с другой — естественно смыкается с традици-126
ями художественного мышления, особенностями национального
психологического склада и мировосприятия. Иными словами,
провозглашенный Мурасаки принцип «истинности» как таковой
не входит в противоречие с эстетической установкой «моно-но
аварэ», хотя последняя в известной степени ограничивает воз¬
можности реализации автором цринципа «истинности».Проведенный нами литературоведческий анализ «Гэндзи мо¬
ногатари» показал, что писательница в целом реализует в сво¬
ем произведении принцип «макото». Она воссоздала в романе
реальную картину жизни придворного общества эпохи Хэйан»
чему помимо установки на «истинность» изображения, бесспор¬
но, способствовало и то обстоятельство, что она много лет про¬
вела при дворе и была достаточно хорошо знакома как с при¬
дворным бытом, этикетом, церемониалом, так и с нравами, обы¬
чаями, вкусами, интересами, взглядами этой среды.Это дало ей возможность подойти к объекту изображения
не с позиции стороннего наблюдателя, но познать и показать
его «изнутри».Жизнь хэйанской аристократии с большой полнотой рас¬
крывается как на уровне быта, так и на уровне духовного мира
ее представителей. Причем в произведении в равной мере пред¬
ставлены будничная и парадная стороны придворного быта, в
том числе все основные обычаи, обряды, праздники и церемонии
светского и религиозно-культового характера. Достоверность и
точность описаний дает возможность изучать по «Гэндзи моно¬
гатари» быт и нравы эпохи. И вместе с тем это не бытописа¬
тельство и не копирование действительности, но воспроизведе¬
ние ее в художественных формах. Особо заслуживает быть от¬
меченной и полнота воспроизведения духовного облика чело¬
века— представителя аристократического общества Хэйана, его
отношения к жизни, мировоззрения, мира его чувств. По глуби»
не и масштабности отражения образа жизни и духовного мира
людей произведение Мурасаки Сикибу не знало себе равных
в хэйанской и во всей предшествующей японской литературе.
«Гэндзи моногатари», без сомнения, представляет собой один
из наиболее значительных в литературе Японии источников по¬
знания действительности той далекой эпохи. Это отмечается
и японскими учеными. Например, Иэнага Сабуро подчеркивает,
что «на его основании мы реально представляем себе жизнь
придворной аристократии того периода, которую нельзя восста¬
новить никакими другими путями» [299, с. 83}.Не удивительно, что многие исследователи «Гэндзи монога¬
тари» отмечают его реалистичность, а некоторые ученые прямо
рассматривают роман как реалистическое произведение.Н, И. Конрад называет его «реалистическим романом», полагая,
что «мы имеем дело с художественной правдой в реалистическом
смысле слова» [306, с. 159—160]. Японский ученый Фунабаси
Сэйити считает, что это «реалистический роман (гэндзицутэки-127
на сёсэцу)», особенно в части изображения человека [223,
с. 50]. Иэнага Сабуро также отмечает в «Гэндзи моногатари»
«реалистичность изображения» и даже говорит о «реализме это¬
го произведения». Он пишет: «„Гэндзи моногатари" — это не
бытописательный роман, уныло скользящий по поверхности яв¬
лении будничной жизни и точно фиксирующий их, он представ¬
ляет собой великое произведение, в котором в художественной
форме выражено мировоззрение автора, проникшего в самую
глубь явлений» [299, с. 83—84].Некоторые ученые отмечают ограниченность «реализма» и
даже «реалистичности» «Гэндзи моногатари». Хисамацу Сэнъи¬
ти, например, употребляя слово «реалистический», пользуется
другим, в отличие от Фунабаси Сэйити термином — «сядзицу-
сюги», а не «гэндзицусюги». Термин «сядзицусюги» был введен
в конце XIX в. Цубоути Сёё; он обозначал им произведения,
не являющиеся реалистическими в современном смысле этого
слова, подобно его собственной повести «Нравы студентов на¬
шего времени», написанной на основе наблюдений над реаль¬
ными людьми своего времени, но без их типизации, Хисамацу
Сэнъити считал «Гэндзи моногатари» реалистическим произве¬
дением в отличие от предшествующих ему моногатари — «Такэ-
тори моногатари», «Уцубо моногатари», «Отикубо моногата¬
ри». При этом ученый отмечал, что реалистичность совмещается
в «Гэндзи моногатари» с «романтической тенденцией», идущей
от «моно-но аварэ». Используя термин «романтический» в част¬
ном значении (стремление к идеалу, которым в данном случае
является «моно-но аварэ»), а не в общем, методологическом,
ученый указал на характерную особенность метода Мурасаки
Сикибу (241, с. 88].Сайго Нобуцуна применяет к роману Мурасаки термин «реа¬
лизм аристократического общества» («кидзоку сякай-но риарид-
зуму» [170, с. 196]. Авторы книги «Японская литература клас¬
сического периода» отмечают, что Мурасаки Сикибу «не
преодолела романтической тенденции, идущей от „Такэтори мо-
ногатари“», но в то же время подчеркивают, что «Гэндзи моно¬
гатари» в отличие от повести о старике Такэтори «лишен леген¬
дарного элемента» и «дает реалистическое изображение челове¬
ческих отношений» (169, с. 48}. Цукахара Тэцудзо занимает по
этому вопросу более скептическую позицию. Он хотя и пишег,
что метод Мурасаки Сикибу «можно рассматривать как реа¬
лизм аристократического общества», но считает, что, в сущно¬
сти, это произведение «не так уж далеко ушло от старых моно¬
гатари» [169, с. 51].Итак, мы подошли к чрезвычайно важной проблеме метода
«Гэндзи моногатари». Вопрос стоит так: можем ли мы рассмат¬
ривать его как произведение действительно реалистическое?
Можем ли мы вообще атрибутировать ему этот термин и если
да, то какова мера и каковы границы этой реалистичности?128
Отметим сразу же, что мы не придерживаемся надысториче-
ского понимания реализма и считаем, что реализм как метод в
целом связан с определенной исторической эпохой, и как тако¬
вой, не мог развиваться в условиях средневекового мировоззре¬
ния, средневековой нормативности, этикетности искусства, ис¬
ключающих социальный анализ и типизацию характера. Тем
не менее нам близка точка зрения Д. С. Лихачева о правомер¬
ности применения термина «реалистичность» к произведениям
рредневековой литературы. Д. С. Лихачев исходит из «непо¬
следовательности» средневековых взглядов и средневекового
отношения к действительности, что позволяет «нарушать штам¬
пы» и дает возможность спорадических выходов за пределы
канона [314, с. 65].Обратимся теперь к самому произведению Мурасаки, чтобы
показать, что конкретно дает нам основание говорить о его
реалистичности.Верная принципу «макото», Мурасаки отразила в своем ро¬
мане важные проблемы времени, вскрыла серьезные коллизии
в жизни аристократического общества. На это обращают осо¬
бое внимание Накада Ясуюки, Иэнага Сабуро, Сайго Нобуцу-
на [171, с. 205] и др.Много пишут японские ученые и о самих «противоречиях».В частности, уже говорилось о настроениях «неуверенности в
жизни» («сэйкацу-но фуан»). Эти настроения одни ученые
склонны объяснять буддийскими мотивами («неведомостью»
участи, уготованной человеку его кармой), другие — социальны¬
ми. Так, Иэнага Сабуро видит одну из главных причин этой не¬
уверенности в изолированности хэйанской аристократии от на¬
рода. Действительно, феодальная аристократия, все более и
более обособлявшаяся от остальной части нации и предстаю¬
щая в романе Мурасаки Сикибу в качестве некоей замкнутой
социальной среды, не могла, очевидно, не ощущать этой изоли¬
рованности.Возможно, ощущала ее и сама Мурасаки, хотя из романа
это прямо не явствует. Есть, однако, несколько сцен, где фигу¬
рируют на периферийном плане представители народа — кресть¬
яне, рыбаки и т. п. Отношение к ним героев романа, да и са¬
мого автора, действительно, свидетельствует о том, что народ
был непонятен и чужд «благородным людям».Показательна, в частности, сцена пробуждения Гэндзи в
доме Югао, расположенном в бедном квартале:«Стояла восьмая луна, было пятнадцатое число. Лучи пол¬
ного месяца проникали в многочисленные щели деревянной
постройки. Гэндзи не был привычен к такому жилью, и ему
представлялось все это таким странным. Скоро должен был
наступить и рассвет. В соседнем домике послышался голос ка¬
кого-то простолюдина, который, проснувшись, говорил жене:„Какой холод! Да... Плохи дела в этом году! Придется,9 Зак. 654129
видно, отправиться в деревню и промышлять чем-нибудь там.
Слышишь, жена?“Эти жалкие люди вставали каждый для своих дневных за¬
нятий; суетились, шумели, а такая среда так не шла к Гэндзи,
что, будь на месте Югао другая женщина, благородная и гор¬
дая, ей оставалось бы только исчезнуть куда-нибудь от стыда
за окружающую ее обстановку. Но Югао была простодушна
и не чувствовала никакого смущения или огорчения.Под самым их изголовьем (раздались звуки от рисовых ступ,
грохотавших громче самого грома. „Что это такое стучит?** —
подумал Гэндзи. Он не знал, что такой стук издает рисовая
ступа, и только внимал этим необычайным для него звукам.
Многое было здесь для него совершенно невыносимо!То там, то здесь начали раздаваться удары по плоским кам¬
ням, на которых отбивали домотканую материю. В небе кри¬
чали стаи диких гусей. Как много здесь было всяких неудобств
для него!» (302, с. 632].И еще один пример. Стоя на берегу реки Удзи, Каору с
удивлением смотрел на «странные плоты, что проходили вниз
по течению, груженные лесом»: «Повсюду вдоль реки были лю¬
ди, занятые теми или иными жалкими делами, чтоб только под¬
держать свою жизнь. Какое странное это должно быть сущест¬
вование— жить вот так изо дня в день,, почти не защищенными
от постоянной угрозы этого бурного потока...»Город Хэйан жил своей жизнью, его блеску й роскоши про¬
тивостояла «провинциальная глушь» остальной Японии. В этом
смысле хэйанская эпоха была поистине эпохой контрастов.
«Нет ничего более парадоксального в Японии, — писал
Н. И. Конрад, — чем картина культуры этой эпохи: с одной
стороны, блестящее развитие цивилизации, высокий уровень
просвещения и образованности, роскошь и утонченность быта
и обихода... процветание искусства и ни с чем не сравнимый
блеск литературы, а с другой —неразвитость техническая и
экономическая, огрубение нравов, иногда граничащее с одича¬
нием, невежество и воистину бедственное положение народных
масс» (307, с. 197].Народ был не только чужд аристократии. Он «пугал» ее,
так же как усиление военно-политической мощи «второго со¬
словия» (феодалов-наместников и их вассалов — будущих са¬
мураев, несших пограничную службу), в руках которого к это¬
му времени фактически была сосредоточена вся власть в про¬
винции и которое два столетия спустя захватило государствен¬
ную власть, оттеснив феодальную аристократию на второй план.Можно предположить, что настроение «неуверенности в
жизни» в определенной степени проистекало из предчувствия
аристократией своей обреченности, что усугубляло ее отрица¬
тельное отношение к «людям военным»: презрение к ним за
их невоспитанность и грубость сочеталось со страхом перед их130
решительностью и напористостью. Это нашло свое выражение
и в отношении Тамакадзура к Тайфу: ее отталкивало его неве¬
жество и страх перед его грубой и необузданной силой.Двойственность положения хэйанской аристократии: обла¬
дание огромными материальными ценностями и государствен¬
ной властью, с одной стороны, и постоянно растущая «неуве¬
ренность в жизни», принимающая форму страха перед кар¬
мой,— с другой, убедительно раскрыта в произведении Мура¬
саки.Эту двойственность в одном из ее частных проявлений
рассматривает Накада Ясуюки. Ученый пишет о противоречии
между роскошью и видимым могуществом, с одной стороны,
и страхом перед неведомыми темными силами («моно-но кэ»),
перед общественным мнением («хито вараэ» — «людская на¬
смешка», по его наблюдениям, это слово встречается в романе
44 раза!) [125, с. 17] —с другой. Особое значение придает На¬
када свойственному придворной аристократии ощущению одино¬
чества и неприкаянности («кодокукан»).Накада Ясуюки подчеркивает, что человек в Хэйане (при¬
дворный аристократ) при всем своем богатстве и могуществе
не является хозяином своей судьбы. В «Гэндзи моногатари»,
по его словам, проводится мысль о том, что жизнь человеческая
управляется извне — здесь и буддизм с его кармой, и неведо¬
мые темные силы («моно-но кэ» — «духи вещей»), и грозное
общественное мнение [125, с. 11—17].Другой ученый, Имаэ Гэнъэ, считал, что буддийская идео¬
логия оттого и была так легко воспринята хэйанской аристо¬
кратией, что она как нельзя более соответствовала ее пассив¬
ности. «Именно потому, что не могли они каждый в одиночку
собственными усилиями и собственной волей определить свою
судьбу, буддийские идеи предрешенности, кармы, бренности
оказались для них наиболее рациональными при объяснении
мира и смогли стать их мироощущением в повседневной жиз¬
ни [42, с. 18—19].По словам Накада Ясуюки, страх перед мнением света,
боязнь оказаться смешным в глазах общества превращается в
своего рода болезнь, как и «моно-но кэ» {125, с. 17]. Камэй
Кацуитиро подчеркивает при этом, что «моно-но кэ» — не суеве¬
рие, а «крик больной души» [69, с. 209]. Накада рассматривает
«хито вараэ» как своего рода «давление общества» на человека
и приводит интересное наблюдение: понятие «людской насмеш¬
ки» появляется в романе не сразу, а по мере накопления мрач¬
ных эпизодов и предзнаменований, после смерти Аои (в первой
части романа, начиная с главы «Кирицубо» и кончая главой
«Праздник цветов», его нет).Накада Ясуюки говорит также о противоречивости религи¬
озных (буддийских) устремлений, характерных для ряда персо¬
нажей романа, и множеством заблуждений, которые они не в9*131
силах были преодолеть, что в конечном счете оказывается рав¬
носильным неверию [125, с. 22]. Отсюда и противоречие между
стремлением к спасению и невозможностью спасения в силу
фактического неверия. Наконец, как мы уже отмечали, Нака¬
да усматривает противоречие и в сочетании стремления к на¬
слаждению со страхом перед возмездием. В отличие от Накада
мы не склонны придавать такого значения указанным проти¬
воречиям, тем более что возможность такого рода коллизий
таит в себе и исповедание других религий, например христи¬
анства.Мы согласились с позицией Камэи Кацуитиро и Ока Кад¬
зуо, рассматривающей «постоянное колебание» хэйанца между
пристрастием к чувственным наслаждениям и поисками «истин¬
ного пути», на который ориентировала его буддийская религия,
как некий психологический комплекс. Однако нельзя отрицать,
что в принципе эти устремления противоречат друг другу, и
это не позволило нам отвергнуть точку зрения Накада. В самом
деле «ирогономи» во многих случаях приходит в столкновение
с нормами религии и морали, потому собственно и осознается
как вина, за котдрую виновный со временем получит воздая¬
ние. В свою очередь, сознание вины побуждало к поискам «спа¬
сения». Иными словами, позиции обоих ученых справедливы и
разнятся только расстановкой акцентов.Частный случай этого психологического комплекса прояв¬
лялся в ситуациях «запретной любви» у женщин. Здесь проти¬
воречие часто достигало значительной остроты и разрешалось
обычно уходом в монашество. К этому прибегают в романе
Фудзицубо, Уцусэми, Нёсан.На этих двух противоположных устремлениях души, двух
полюсах мировосприятия, останавливаются многие ученые (не
всегда называя это противоречием), по-разному модифицируя
их в своих концепциях. Камэи Кацуитиро называет их «ирого-
номи» («культ любви»), и «кюдо» («путь к спасению»), Мия*
ниси Кадзуми — «горакусюги» («гедонизм», букв, «культ радо¬
стей жизни») и «энсэйсюги» («пессимизм», «усталость от жиз¬
ни») [109, с. 135]; Умэхара Такэси трактует этот комплекс в
плане дилеммы: «дзё »(«чистота в буддийском и отчасти син¬
тоистском понимании) и «айёку» («вожделение») [89, с. 87];
Накада Ясуюки (в более поздней работе) — как «моно-но ава¬
рэ» (в значении культа прекрасного) и «кодокукан» (ощущения
беспомощности и неприкаянности) [124, с. 173—198].Может быть, и не во всех приведенных случаях правомерно
использование термина «противоречие», но бесспорно одно:
Мурасаки Сикибу выявляет в своем романе целый комплекс
духовных коллизий, характерных для аристократического со¬
словия эпохи Хэйан.Иэнага Сабуро обращает внимание на отражение еще од¬
ного, очень важного аспекта внутреннего мира аристократии132
его ограниченности. По мнению Иэнага, единственный жизнен¬
ный интерес хэйанской аристократии — погоня за чинами и чув¬
ственными удовольствиями {59, с. 8]. Действительно, положение
человека в хэйанском придворном обществе регламентирова¬
лось иерархической системой табели о рангах. Поэтому Югири,
долго и безуспешно добивавшийся руки любимой им Кумой,
отчетливо сознавал, что причиной всех его неудач были «не¬
навистные зеленые рукава» («мидори-но содэ»): зеленый
цвет был признаком формы офицеров 6-го ранга, одного из
низших рангов при дворе,— и он всерьез роптал на своего
отца (Гэндзи) за то, что тот слишком долго держал его в этом
ранге.Все злоключения Кирицубо, возлюбленной императора-от-
ца, связаны с ее низким общественным положением, «низким
рангом», который, собственно, и позволял ее недругам пресле¬
довать и третировать ее; но вместе с тем их более всего и оже¬
сточало то обстоятельство, что она достигла успеха при дворе
вопреки своему сравнительно низкому положению в обществе.Разница в обращении Гэндзи с двумя его юными возлюб¬
ленными, Мурасаки и Акаси, также объясняется этой социаль¬
ной условностью. Он не может ни одну из них сделать своей
официальной женой, ибо они не имеют соответствующего ран¬
га, однако положение Мурасаки, которая была незаконной
дочерью императорского принца, значительно лучше положения
Акаси, отец которой был провинциальным губернатором. Поэ¬
тому, когда у Акаси родится ребенок, Гэндзи предлагает пе¬
редать его на попечение Мурасаки, ибо последняя, принадлежа
к более высокому рангу, имела возможность дать ему лучшее
воспитание.Каору, сын Гэндзи, несмотря на его привязанность к Уки¬
фунэ, не может легализовать их отношения. Причина, хотя о
ней никогда не говорится прямо, вполне ясна: мать Укифунэ
была замужем за провинциальным администратором.Советский исследователь Е. М. Пинус также обращает вни¬
мание на ограниченность духовного мира аристократии, изобра¬
женную в романе Мурасаки Сикибу: «Персонажи повести о
Гэндзи — это люди, принадлежащие к придворной верхушке.
Им доступна вся культура их времени. Однако духовное раз¬
витие этих людей крайне ограниченно. Дворцовые интриги, че¬
столюбие иссушают душу мужчины. Женщина, стоящая даль¬
ше от дворцовой борьбы, скорее созревает в содержательного
человека, но ее духовное богатство не находит себе примене¬
ния» {320, с. 304].Мысль Е. М. Пинус о духовной содержательности хэйанской
женщины и о неприменимости богатства ее внутреннего мира
в условиях, в которые она поставлена кодексом семейно-брач¬
ных отношений, придворным этикетом и другими неписаными
законами хэйанского общества, очень ценна, поскольку затра¬133
гивает одно из важнейших «жизненных противоречий» этого
общества. Японские ученые Сайго Нобуцуна, Нагадзуми Ясуа-
кн и Хиросугэ Тамоцу прямо пишут, что, «по существу, проти¬
воречия хэйанского общества достигли наибольшей остроты в
вопросе женской судьбы».Писатель, по словам Мурасаки, пишет о том, что глубоко
затронуло его душу, мимо чего он не может пройти. Эта уста¬
новка способствовала отбору наиболее значительных и показа¬
тельных для своего времени и среды явлений, событий, фактов
и характеров. Она прежде всего и обусловила тему романа.
Любовь не случайно оказалась в центре внимания. Изображая
хэйанскую жизнь, жизнь аристократии, писательница берет из
нее наиболее характерное — взаимоотношения мужчины и жен¬
щины. Именно это в силу объективных социально-исторических
условий развития и эволюции духовного мира становится
центральной проблемой хэйанской жизни (305, с. 238].Разрабатывается эта тема в романе в ее наиболее типичной,
жизненной плоскости: «женщина — игрушка в руках мужчины».
Чтобы нарисовать правдиво картину любовных отношений в
Хэйане, Мурасаки берет ситуацию наиболее характерную, наи¬
более ярко иллюстрирующую безудержную погоню за наслаж¬
дениями: один мужчина и множество женщин [305, с. 238—2401.Обобщены и образы главных героев романа — Гэндзи и
Мурасаки. И вопрос не в том, существовал или нет прототип
главного героя. (Прототипом Гэндзи, по мнению некоторых
исследователей, послужил красавец Корэтика, племянник Фуд¬
зивара Митинага; есть и другие версии.) Гэндзи —образ соби¬
рательный. Человек с изящными манерами и тонким чувством
прекрасного, находящий наивысшую радость в любви, но не¬
постоянный в своих чувствах, склонный к рефлексии и мелан¬
холии, типичный сын своей эпохи и своего сословия— таков
Гэндзи, в образе которого, по словам Е. М. Пинус, «целиком
воплотилась одна из характернейших черт придворной аристо¬
кратии хэйанского периода — стремление к наслаждению
жизнью, доведенное здесь до крайних пределов» [312, с. 276].Мурасаки Сикибу не свойственно стремление откровенно
поучать читателя. Однако это не значит, что она вовсе не стре¬
милась воздействовать на читателя, оставляя за собой роль
лишь стороннего наблюдателя. Едва ли можно считать, что
она ограничивала миссию художественной прозы лишь экспрес¬
сивным моментом. Обратимся к традиции. Вернемся к Преди¬
словию Цураюки.Японские поэты-лирики, «слагая песню», не только «утеша¬
лись ею», не просто находили в ней «усладу сердцу». Цураюки
совершенно недвусмысленно пишет и об общественной миссии
поэзии, о ее воздействии на мир, на образ жизни и поведение
людей: «Без всяких усилий движет она небом и землею... утончает
союз мужчин и женщин, смягчает сердца суровых воинов...»134
[32У, с. 94]. Трудно себе представить, чтобы Мурасаки ограни¬
чивала свою задачу лишь удовлетворением потребности выска¬
заться, излить свою душу и тем «утешить себя», ведь писала
она в данном случае не дневник, а роман. И выражающий ее
мысли Гэндзи вслед за словами «не может оставить скрытым
в своем сердце» прямо говорит о намерении повествователя
донести то, что он изображает, до современного читателя и до
потомков. С какой целью? С познавательной, бесспорно: рас¬
сказать, «как люди жили» в те времена. Это уже ясно из при¬
веденных ранее слов Гэндзи, когда он сопоставлял моногатари
с историческими сочинениями. Но не только с познавательной
целью, но и для того, чтобы чему-то научить. Не поучать, а
именно научить, передать свой личный опыт и опыт других, на¬
шедший воплощение в произведении. У Мурасаки Сикибу есть
и свое собственное отношение к человеческому опыту, который
суммирован, обобщен в ее романе.Она не скрывает своего отношения к виденному и изобра¬
жаемому, однако делает это очень тонко, ненавязчиво. Объек¬
тивно и с видимой беспристрастностью показывает она погоню
за наслаждениями, которая характеризует основную линию по¬
ведения главного героя в первых частях романа. Но ее кри¬
тическое отношение обнаруживается в самой подаче материала,
в показе, как Гэндзи, человек по натуре умный, тонкий, чуткий,
великодушный, во многом «идеал века» (а как знать, может
быть и ее собственный: ее любовь и сочувствие к своему герою
ощущается постоянно), становится причиной страданий и гибе¬
ли любимых им женщин, совершает тяжкое моральное пре¬
ступление против отца. И вместе с тем писательница с болью
в сердце показывает, как уходит из жизни ее любимый герой,
раздавленный горем, мучимый раскаянием за свое легкомыслен¬
ное поведение, сознанием своей вины, испытывая горькое разо¬
чарование в людях.Как будто бы бесстрастно рисует Мурасаки Сикибу участь
хэйанской женщины, однако внимательное прочтение романа
убеждает нас в том, что она глубоко скорбит, видя, как гибнет
духовно богатая личность, воспроизведенная ею в образах Фуд¬
зицубо, Мурасаки, Уцусэми, Окими и др.Авторская позиция проявляется и в спорадических высказы¬
ваниях персонажей (в частности, Гэндзи, переживая гибель
Югао, восклицает: «Как же непрочна женская доля. Бедные
женщины!»), а в исключительных случаях и в высказываниях
самого автора («...бедные души, они отчаянно старались ото¬
гнать от себя эту любовь, что была нескончаемым несчасть¬
ем»,— говорится о Гэндзи и Фудзицубо в главе «Праздник
алых листьев»). Иногда она подается как сожаление о мирском
непостоянстве («мудзё») или предопределенности («сюкусэ»).
Чаще же всего авторское отношение к происходящему ощущает¬
ся в атмосфере, настрое соответствующих глав и эпизодов.135
Грустью окрашен рассказ о любви Гэндзи и Югао, в особенно¬
сти печально звучит финал его, повествующий о гибели скром¬
ной, трогательно преданной Югао. Глубокий след в душе ос¬
тавляет повесть о судьбе другой героини, Укифунэ, оказавшейся
невольно вовлеченной в ситуацию треугольника, благодаря до¬
могательствам и обману принца Ниоу, для которого она была
не более чем объект очередного увлечения. С большим сочув¬
ствием передает писательница моральные муки, приведшие де¬
вушку к попытке самоубийства, а затем к пострижению в мо¬
нахини.Показательна и трактовка образа главной героини романа —
Мурасаки. Она выведена автором как идеальная женщина и
идеальная жена как бы в противовес приведенным в главе «Де¬
рево-метла» заявлениям мужчин о невозможности найти такую
женщину. Но оказывается, и ее ждет тот же печальный удел:
Гэндзи берет в жены юную Нёсан, дочь экс-императора Судзаку,
нанося тем самым смертельный удар Мурасаки. Трудно согла¬
ситься с утверждением, что писательница занимает в своем
романе «позицию, определенную нормами своеобразного япон¬
ского домостроя» (312, с. 277].Итак, мы можем говорить о романе Мурасаки как о произ¬
ведении, лишенном заданной дидактической направленности, в
котором, однако, объективно проявляется критическое отноше¬
ние автора к изображаемому.Писательница работала над своим романом в течение дли¬
тельного периода времени. Приступив к нему еще молодой жен¬
щиной, впервые столкнувшейся с «горечью жизни», она завер¬
шала его уже зрелым человеком, много передумавшим, многое
переоценившим. Иначе говоря, параллельно с развитием дей¬
ствия романа шло и ее собственное духовное возмужание, ста¬
новились все более ощутимыми внутренние болезни общества,
к которому она принадлежала и судьба которого ее глубоко
волновала.По словам авторов книги «Японская классическая литерату¬
ра», писательница «постепенно утрачивает иллюзии, связанные
с аристократическим обществом» [169, с. 50—51], т. е. с той сре¬
дой, в которой она вращалась. Не с этим ли связано постепен¬
ное сгущение в романе атмосферы грусти, усиление в заключи¬
тельных его главах пессимистических настроений, облеченных
в форму буддийских идей предрешенности и возмездия? Уход со
сцены блистательного Гэндзи, его «сокрытие в облаках» дей¬
ствительно символичны, это своего рода пролог заката блеска
и славы хэйанской аристократии, ее собственного «сокрытия в
облаках» (169, с. 41].Мы не утверждаем вслед за авторами книги, что Мурасаки
в заключительных главах стремится найти выход, «побороть
общество сластолюбия (косёку сякай-о кокуфуку сие то ситэ
иру)» (169, с. 52], но положение о том, что она «объективно от-136
разила кризис хэйанского аристократического общества» [169,
с. 57], считаем во многих отношениях правомерным, особенно
в части «кризиса сознания».Как большой художник Мурасаки Сикибу в известной мере
предвосхищает будущую «смену декораций», перенося нас в
конце романа на окраину столицы, в обстановку провинциаль¬
ной жизни, в среду людей, тесно связанных с «новым сослови¬
ем». Здесь и природа более сурова, и сама жизнь лишена той
утонченности и рафинированности, которые так характерны для
столичной среды. Об Укифунэ, например, сказано, что она про¬
жила суровую жизнь в провинции и была достаточно самосто¬
ятельной и не слишком изнеженной (ее отчим долго служил
наместником в провинции). Аналогичное мнение высказывает
Саяма Ватару [182, с. 65].Итак, роман «Гэндзи моногатари» не только художествен¬
но реконструирует сложную синкретическую культуру феодаль¬
ной аристократии эпохи Хэйан. Мурасаки Сикибу воспроизве¬
ла в своем произведении реальную картину жизни придворного
общества, раскрыла на наиболее показательном материале ос¬
новные его духовные, а отчасти и социальные проблемы и кол¬
лизии, изобразила его представителей — «героев» своего вре¬
мени.Все до сих пор сказанное дает нам основание считать, что
перед нами произведение с ярко выраженными реалистически¬
ми тенденциями, которые и составляют характернейшую черту
творческого метода Мурасаки Сикибу.
Глава 4ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В РОМАНЕ
«ГЭНДЗИ МОНОГАТАРИ»В данной главе мы не имеем в виду рассмотрение художест¬
венного образа в его общем, широком значении как особой
формы освоения и отражения действительности. Наша зада¬
ча— сосредоточиться на некоторых существенных аспектах ху¬
дожественного образа в «Гэндзи моногатари», которому прису¬
щи как общие черты художественного образа средневековых
литератур (условность, этикетность, повторяемость, клиширо-
ванность, аллегоризм), так и черты, специфичные для большин¬
ства традиционных литератур Дальнего Востока (недосказан¬
ность, ассоциативность, эмблематичность, многозначность). Все
эти черты, по-своему преломляемые в японской поэтической
традиции и в художественной системе «Гэндзи моногатари»,
достаточно наглядно проявляются в сфере стилистического об¬
раза и в области изображения человека. Учитывая особую роль
природы в формировании художественного образа в японской
традиции, мы решили также уделить внимание анализу этой
роли в романе Мурасаки Сикибу.Стилистические образы романаВ системе изобразительных средств романа большое место
занимают образы, сравнения, метафоры, сложившиеся в сфере
поэзии. Хэйанскаяя лирика ко времени создания романа имела
богатую, хорошо разработанную образную структуру. Причем
большинство поэтических образов прочно вошло в традицию
и было закреплено за определенными темами, мотивами, ситуа¬
циями. Показательно, что в романе они во многих случаях со¬
храняют свое качество постоянных образов и используются в
сходных контекстах.Один из излюбленных образов японских поэтов —образ сна,
грез — используется в романе для иллюстрации иллюзорности
бытия. Приведем в качестве примера поэтический диалог Гэнд¬
зи и Акаси:Г э н д з и: Ах, если б было с кемСловами нежности мне обменяться,Наполовину б пробудился я138
От сна глубокого —Печальной этой жизни.Акаси: Средь ночи бесконечных снов
Блуждала моя душа,Так как же могут
Слова моиОт сна Вас пробудить?Этот же образ использован и в обмене стихами между Гэнд-
зи и Фудзицубо («Юная Мурасаки»).Сном именует Гэндзи свое увлечение Акаси в письме к Му¬
расаки. «Сон» фигурирует и в ответе Мурасаки: «Что касается
„сна“, о котором ты мне писал...» («Акаси»).В целом ряде эпизодов использован образ «фукагуса» («гу¬
стая трава»), символизирующий заброшенность, запущенность
и одиночество. Писательница прибегает к нему в главе «Югао».
В доме, вокруг которого выросла густая трава, состоялась ро¬
ковая встреча Гэндзи и Югао. Образ как бы предрешает финал
их связи: Югао гибнет, и дом оказывается заброшенным.Когда Каору навещает Тамакадзура (6-я книга романа),
она с грустью замечает: «Теперь трава так густо разрослась
у моего дома, что вы легко могли пройти мимо». Здесь этот об¬
раз имеет метафорический смысл, сходный с тем, в котором он
употреблен в стихотворении из «Кокинсю»:Если деревню, где жил, !Покину теперь,Еще более «густой травы
полем» станет она,Не правда ль? [210, с. 180]Образ густой травы есть и в главе «Кирицубо», — эпизод
посещения посланной от императора придворной дамой дома
матери Кирицубо, который теперь выглядит заброшенным пос¬
ле смерти Кирицубо.Несколько раз встречается в романе образ горного фазана
в сходных с поэзией ситуациях:Эту ночь,Что потянется
Длинным фазана хвостом,Долу свисающим,Видно, один проведу.,. [271, с. 206]В романе этот образ развернут. Когда сын Гэндзи, Югири,
проводит ночь во дворце принцессы Отиба, любви которой ом
долго и безуспешно добивался, он с горечью думает, что они
подобны паре горных фазанов, что проводят ночь в одиночест¬
ве по разные стороны ущелья («Югири»). Тот же образ ис¬
пользован при описании второй неудачной попытки Каору про¬
никнуть к своей возлюбленной Нака-но кими. «Они провели
ночь, как пара горных фазанов — каждый в своем гнезде»
(«Агэмаки»).Часто встречается в романе один из постоянных образов139
поэзии, «влажный рукав», в наиболее часто употребимом тра¬
диционном значении метафоры слез.■Как жестока должна быть буря,Бушующая у ваших берегов,Когда даже здесьМои рукава влажныОт беспрерывного дождя слез.В этом послании Мурасаки к Гэндзи в Акаси, где он нахо¬
дился в ссылке, представлен, кроме того, и традиционный образ
бури (символ серьезного препятствия) и постоянная метафора
«дождь слез».Постоянны в романе и закрепленные поэтической традици¬
ей образы ветра, дующего в соснах («мацукадзэ»), стрекота¬
ния цикад, живущих на соснах («мацумуси»), образы грусти,
одиночества, тоскливого ожидания. В них выражается душев¬
ное состояние, переживаемое отцом Гэндзи после утраты воз¬
любленной («Кирицубо»), Название «Мацукадзэ» носит гла¬
ва, посвященная одинокой жизни Акаси на окраине столицы,
когда ее тоска по возлюбленному усугубляется безрадостной
перспективой разлуки с ребенком, которого по совету Гэндзи
она согласилась передать на попечение Мурасаки. Образ «ма¬
цукадзэ» служит своего рода эмблемой душевного состояния
Акаси и настроя главы в целом.Многие образы рассчитаны не только на знание читателем
поэтической традиции, но и требуют привлечения общекуль¬
турного контекста, который в совокупности с контекстом дан¬
ного эпизода, главы или произведения в целом формирует ши¬
рокое поле ассоциаций.Таково название главы «Хасихимэ» («Дева у моста»). Об¬
раз навеян стихотворением из «Кокинсю».Меня, забытую, .Ждет судьба «моста печали»,Что разрушен посредине:Никто не ходит по нему,И только годы идут... [&2, № &2б]Существовало предание, что у моста Удзи живет некая дева-
печальница, или тоскующая жена («синобидзума», как назы¬
вают ее некоторые комментаторы, в частности Миура Кэйдзо
[106, с. 676], покинутая своим возлюбленным и пребывающая
в вечной печали. Этот образ, с его богатым ассоциативным под¬
текстом, символизирует судьбу героини главы Окими: она
отвергает любовь Каору, обрекая себя на вечное одиночество.
Образ служит не только своеобразным вводом в содержание
главы, но и выражает ее идею.Не будет преувеличением сказать, что подавляющее боль¬
шинство образов природы в романе создано лирической поэзи¬
ей. Из поэзии же заимствованы символическая трактовка вре-140
мен года и их смены (с соответствующей эмоциональной ок¬
раской).Мурасаки широко применяет риторические приемы, вырабо¬
танные поэзией, двузначные слова-образы («кжари-котоба»),
ассоциативно-связанные слова («энго»), использует опыт хоро¬
шо разработанной в поэзии поэтики реминисценций (прием
«хонка-дори»— «следование изначальной песне»). Прием «юка-
ри*котоба» основан на омонимии и полисемии слов и заклю¬
чается в том, что слово имеет в тексте одновременно два раз¬
ных значения. В главе «Аои» Гэндзи и Мурасаки обменива¬
ются стихами, в которых обыгрывается слово «миру». Это —
игра омонимами, один из которых означает название морских
водорослей, собираемых рыбаками (употребляются в пищу, а
также для мытья женских волос), а другой — глагол «видеть».
В главе «Священное дерево» Гэндзи обращается к Фудзицубо
со стихотворением о рыбачке, обыгрывая слово «ама». Это
омонимическая метафора: за словом «ама» — «рыбачка» скры¬
то другое слово: «ама»— «монахиня» (намек на то, что Фудзи¬
цубо постриглась в монахини).Различные варианты «ама» представляют собой принятые в
поэзии клише, которые встречаются во многих стихотворениях
«Кокинсю» и «Исэ моногатари», в частности в следующем:Так это и естьНебесное (ама) платье из перьев,Что на тебе?Монахине {ама) для облачения
Преподнесенное? [210, с. 122]Известный в то время аристократ Ки-но Арицунэ посвятил
это стихотворение своей жене, постригшейся в монахини. Слово
«ама» совмещает здесь значение «небесный» и «монахиня».Двузначен образ «аки», который использует в своем стихо¬
творении Мурасаки. Образ аллегоричен: «аки» — «осень» ас¬
социируется с «аки» от «акиру» — «охладеть», «пресытиться».Ужели осень (аки)Так приблизилась ко мне,Как к тем холмам,Деревьями поросшим:Их зелень на глазах меняет цвет!(«Молодая поросль»)(Мурасаки намекает на охлаждение к ней Гэндзи.)Данный троп представлен, например, в стихотворении из
-«Исэ моногатари»:■Ветвь,Что сорвал для тебя,Пожелтела.Весна, а на ней —Уже осени (аки) след! [210, с. 123]В главе «Миюки» («Императорская процессия») слово «ми-
юки» имеет значение «августейшая процессия» и одновременно141
«глубокий снег», обозначая и само явление и ту обстановку, в
которой оно происходит. Многозначные образы представляют
собой многие имена и названия. Например, те, что строятся на
игре омонимами «уки». Слово «уки» в его буддийском понима¬
нии («бренный», «печальный», «ненадежный») ассоциируется и
сливается в единый образ с «уки» («плавучий»), в которое
вкладывается также буддийский смысл неприкаянности.Наименование последней книги романа «Юмэ*но укихаси»—
«Плавучий мост грез» представляет собой не что иное, как
омонимическую метафору, заимствованную из поэзии. «Укиха-
си» («плавучий мост») однотипен с другой распространенной
метафорой «укиё» («плавучий мир», «бренный мир»). Смысл
обеих хорошо раскрывается в стихотворении следующего содер¬
жания:Переходя через плавучий мост,Что соединяет берега Юмэ,Я вижу,Что и сам этот печальный мир
Подобен плавучему мосту грез...(На сочетании этих значений строится целый ряд других обра¬
зов, в том числе «укигуса» — «плавучая трава», «укифуси»—
«печальные перипетии» и др.)Мурасаки Сикибу с успехом использует хорошо освоенную
поэзией символику топонимов. Символично название местности
«Удзи», куда перенесено действие из столицы в заключительных
главах романа. Это название привычно ассоциируется с прила¬
гательным «уси» — «печальный», «бренный». Создаваемый эти¬
ми ассоциациями подтекст — по существу, пролог к содержа¬
нию заключительных глав, своеобразная эмблема их обшей
идеи: герои не находят себе счастья в жизни и либо уходят из
нее (Окими умирает, Укифунэ постригается в монахини), либо
просто не видят перед собой никаких перспектив (Каору).Прием «энго» заключается в особом подборе поэтической
лексики и образов по ассоциативному принципу («энго», букв,
«родственные», или «зависимые слова»). Они соединяются меж¬
ду собой внутренними нитями ассоциаций, дополняющими внеш¬
ние сюжетные связи (подробно см. (271, с. 277—297}).Этот прием представлен, в частности, в серии стихотворений
на тему о Бамбуковой реке, которые приводятся в одноименной
главе заключительной части романа.Вспоминаешь ли тот вечер
И песню о Бамбуковой реке?Хотя в сердце твоемТо мгновеньеЕдва ли оставило след...Здесь употреблены слова «ё» («ночь») и «фуси» («время»,
«период», «мгновение»), связанные подтекстовыми ассоциаци¬
ями со словом «такэ» — «бамбук» («Такэгава» — «Бамбуковая142
река»), «ё» и «фуси» означают также «коленце бамбука» (271,
с. 254]. Кроме того, «фуси» привычно ассоциируется со словом
«укифуси» — «печальные перипетии», которое герои романа Му¬
расаки используют и воспринимают в смысле «превратности
судьбы».В поэтике «Гэндзи моногатари» важное место занимают ли¬
тературные намеки и реминисценции, восходящие к выработан¬
ному в поэзии приему «хонка-дори» и представленные в рома¬
не в самых разнообразных формах.Прием «хонка-дори» состоит в заимствовании либо отрыв¬
ка размером от одного до трех стихов (в танка), либо образно¬
го решения, лексики и фразеологии, либо идеи, мотива, элемен¬
та содержания, иногда общего направления мыслей, атмосферы
из произведения, созданного ранее, содержание которого вместе
с непосредственно заимствуемым материалом присутствует в
качестве, ассоциативного подтекста в новом произведении, до¬
полняя и обогащая содержание последнего. Песня-прототип
именуется «хонка» («изначальная песня»); новое произведе¬
ние— «хонка-дори» (термин используется и для наименования
приема в целом).(Когда, любуясь на цветы,Возлюбленную жду.Все чудится:Не от ее ли белотканых рукавов
Донесся аромат? [82, № 274]Это стихотворение Ки-но Томонори представляет собой ал-
люзивную вариацию произведения безымянного автора:'Когда цветущих мандаринов,Ждущих мая, ■ “ *•Вдыхаю нежный аромат,В нем аромат другой —от рукавов— ^Той, что любил когда-то, мне чудится...[82, № 139]В антологии «Синкокинсю» (1205), где собраны в основном
произведения, относящиеся к периоду с конца X в. по конец
XU в., этот прием один из главных. К нему часто обращаются
такие видные поэты, как Фудзивара Сюндзэй, Фудзивара Иэта-
ка, Фудзивара Тэйка. Причем материал прототипа, как прави¬
ло, подвергается переосмыслению и углублению в духе времени
(за счет дополнительных ассоциаций, сопутствующих значений
слов и т. д.).Белотканых
Рукавов разлука
Хотя и тяжела,В растерянных чувствах
Я отпустила его [95, т. 6, кн. 12, № 3-182]На материале этой песни из «Манъёсю» Фудзивара Тэйка
создает свою альбу:143
Белотканых
Рукавов разлуку
Омыла роса,И, пронизывая холодом,Осенний ветер подул 1190, № 1336]Он вводит дополнительные образы росы (метафора слез),
пронизывающего осеннего ветра, часто (в том числе и в дан¬
ном случае) символически выражающего охлаждение в любви,
и др. ,Поэт был уверен, что его современники узнают прототип,
вспомнят его содержание и возникшие ассоциативные связи
расширят контекст его собственного произведения.У аромата сливКогда спросил о прошлом,То лишь луны весенней тень
Безмолвно отразилась
На рукаве моем... [190, № 45*}Несколько слов и общее направление мыслей в этом стихот¬
ворении Фудзивара Иэтака вызывают в памяти известное про¬
изведение поэта прошлого Аривара Нарихира:Иль в небе нет луны?Или весна пришла —Не прежняя весна?Лишь я одинКак будто тот же, что и был... [82, № 747]Нарихира говорит о том, что все в природе, по-видимому,
изменяется: посетив после долгого перерыва те места, где он
когда-то бывал, он увидел, что дом, где жила «она», теперь
заброшен и все вокруг выглядит иначе. Как будто и луна не
так светит, и весна непохожа на ту, прежнюю весну. А он?
Он пришел сюда все с теми же чувствами, но... Его исходной
посылкой было предположение, что человек — наиболее измен¬
чивое существо на свете, но собственный опыт переубеждает
его. Однако Нарихира знал, что такое впечатление — лишь ил¬
люзия, поэтому заключительный стих и выражает не утвержде¬
ние, а, скорее, предположение, потому и фраза сама как буд¬
то не завершена.Во времена Иэтака мир предстает еще более иллюзорным.
Вдыхая аромат цветущей сливы, поэт вспоминает прошлое, ко¬
торое хотел бы вернуть, и с этим вопросом обращается к при¬
роде. Стихотворение завершается с налетом печали: все из¬
менилось, прошлое ушло безвозвратно, а природа — без¬
молвна...В «Гэндзи моногатари» сферой использования приема «хон-
ка-дори», как такового, является поэтический текст, а основ¬
ным источником реминисценций — поэзия прошлого. Однако
намеки на эту поэзию, генетически восходящие к «хонка-дори»,144
шщроко применяются и в прозаическом тексте. Многие стихо¬
творения, входящие в текст романа, представляют собой ал-
люзивные вариации ранее созданных произведений. Больше
всего заимствований из песен «Кокинсю». Ямада Есио иссле¬
дует аллюзивные вариации и заимствования в тексте романа
из поэзии «Манъёсю», он цриводит их в своей работе около
тридцати [258, с. 175—190}.Реминисценции Мурасаки отличаются большим разнообра¬
зием и по характеру приближается к тем, которые показатель¬
ны для поэзии «Синкокинсю» (как правило, имеет место
переосмысление исходного материала). Это прежде всего лек¬
сико-фразеологические и текстуальные заимствования. Так,
предлагая принцу Соти-но мия быть судьей на состязании в
приготовлении ароматных смесей, Гэндзи обращается к нему
со словами из песни Томонори: «Когда б не вам...» Соти-но
мия быстро улавливает аллюзию и отвечает, используя лексику
и фразеологию той же песни: «Но я „не тот, кто знает...“»
А вот текст песни Томонори, в которой он обращается к даме
сердца, посылая ей ветку сливы:Когда б не вам,Кому и показать мне
Цветок душистой сливы:Лишь та, которую я знаю,Знает и цвет его и аромат!(намек, на алый цвет своей страсти и аромат чувства'.— И. Б.) (82, № 38].Текстуальное заимствование представлено в главе «Приз¬
раки», в стихах, произнесенных Гэндзи:Пока в задумчивости грустной
я пребывал,Бесцельно дни прошли,И вот теперь год целый,А с ним и жизнь моя
Идут к концу.Первые два стиха взяты почти целиком из известной элегии
Оно-но Комати:Краса цветов
Увяла без следа.Бесцельно дни прошли,Пока я пребывала
В задумчивости грустной,как долгий дождь [8S, № 11Э)В главе «Югао» Гэндзи говорит про себя по поводу белых
цветов, что росли вдоль забора: «У путника издалека... спро¬
шу...», намекая на шестистишие (сэдока) из «Кокинсю»:У путника издалека
Спрошу:10 Зак. 654145
Те, белые,Что расцвели в его краю,Цветы —Как называют их? [82, № 1007]Часто заимствуется характер образности, как, напри¬
мер, в танка Мурасаки, содержащейся в ее письме к Гэндзи
в Сума, где она сравнивает свои рукава после его отъезда с ру¬
кавами рыбаков, срезающих морские водоросли («Сума»),
Можно предположить, что прототипом в этом случае послужило
стихотворение из «Исэ моногатари», начинающееся словами:Траву морскую,•Которую, рукава замочив,Рыбак срезает и сушит... [210, с. 154]В другом письме к Гэндзи (в Акаси) Мурасаки использует
образ волн, перекатывающихся через гористые острова, порос¬
шие соснами: «Слишком легко, мне кажется, поверила я на¬
шей клятве, что скорее волны перекатятся через гористые ост¬
рова, поросшие соснами...» («Акаси»), Так реагировала Мура¬
саки на признание Гэндзи в увлечении девушкой из Акаси.
Это аллюзия из «Кокинсю»:Чтоб тебя забыть —Если б был я ветрен так,То тогда б волнаЧерез сосны на горах острова Суэ
Прокатилась бы [82, № 1093].В акростихе — ответе Уцусэми на танка, сложенную Гэндзи
при прощании с нею после короткой встречи, используется об¬
раз-контраст: Аусака («Гора встреч»)—символ расставания.
В ответе Уцусэми сказано, что застава в Аусака не может оста¬
новить ее слез,— так же как н гора в Аусака не является в
действительности «Горой встреч» («На границе»). Это аллю¬
зия на песню, сложенную Ки-но Цураюки на проводах друга,
Фудзивара Корэока:Как ни удерживай тебя,Со мной решил расстаться ты,Коль пересек Заставу встреч,А ведь надежда людская
В имени этом 1 [82, № 390]В одной из глав своего романа («Нижние листья глици¬
ний») Мурасаки Сикибу использует метафору прочного любов¬
ного союза («Желание, нараставшее годами, было наконец удов-
.летворено, и это сделало союз двух молодых людей корзиной,1 Речь идет об Аусака-но сэки, или Аусака-яма, заставе «Гора встреч»,
или Горе встреч, которая находилась на восточной границе государства. Здесь
обычно расставались с теми, кто покидал столицу и уезжал на Восток. Рас¬
ставались с надеждой на возвращение, т. е. на встречу.146
через которую не могла просочиться вода»), встречающуюся в
стихотворении из «Исэ моногатари»:Ах, отчего ж встречаться
Так стало сложно нам?Ведь был союз наш
Плотною корзиной,Не пропускающей воды! [210, с. 130]Поэтические реминисценции нередко бывают связаны с си¬
туативными аналогиями. Так, обмен стихами между Гэндзи и
Фудзицубо, после проведенной ими ночи любви вызывает в па¬
мяти поэтический диалог Аривара Нарихира и жрицы храма
Исэ, произносимый в аналогичной ситуации, при расставании
на заре после давно желанного свидания:Г эн дзн:Сегодня наконец
Мы встретились с тобой.О, если б можно было
Нам навсегда исчезнуть
В грезах этой ночи.Фудзицубо:Во мраке вечных снов
О, если б скрыться мне!Однако и тогдаПозор мой побежит по светуИз уст в уста! («Юная М-урасаки»)Ж р и ц а И с э:Ты ль посетил меня?Иль я к тебе пришла?Была ль эта ночь
Всего лишь сном?Иль — бодрствовала я?Нарихара:В вечернем сумраке —Во мраке сердца
Блуждаю.Объяснн жеСон иль явь любовь моя? [21 й, с. 151)В приведенном поэтическом отрывке Мурасаки заимствует
и метафорический образ «свидание — грезы» и образ мрака
(«мрак сердца» у Нарихира — «мрак вечных снов» у Фудзи¬
цубо), притом что различны содержание, атмосфера, тональ¬
ность диалогов (диалог Исэ и Нарихира напоен радостью, а
диалог Гэндзи и Фудзицубо окрашен меланхолией), а также
обстановка, «контекст» встреч.Заимствование ситуации и мотива имеет место в следующей
фразе из стихотворного послания Рокудзё к Гэндзи в Сума:
«Рыбачка в печали жнет травы морские на взморье Исэ...»
(«Сума»), Здесь содержится намек на стихотворение из «Манъё¬
сю», принадлежащее сосланному на о-в Ираго принцу Оми, в
котором он жалуется, что обречен на жизнь простого рыбака:10*147
Цикады скорлупу —Жизнь бренную жалея,Морской питаюсь я травой,Что, промокая,Жну у берегов Ираго [95, т. 4, кн. 1, № 24]В романе немало реминисценций из «Исэ моногатари». Так,
истоки замысла главы «Югао» следует видеть в шестом эпи¬
зоде повести об Исэ, в котором рассказывается, что некий ари¬
стократ, которому трудно было встречаться со своей возлюб¬
ленной, в конце концов уводит ее с собой с ее согласия. Ночь
была темная, и, .когда они достигли берега реки Акутагавы,
где, по слухам, обитали злые духи, прогремел гром и полил
сильный дождь. Поблизости оказался сарай, и мужчина укрыл
в нем даму, а когда ночь миновала, дамы в сарае не оказа¬
лось: ее похитили духи. И мужчина в отчаянии сложил такие
•стихи:Что это, а?Ужели белый жемчуг?Когда она меня спросила так,Сказать бы мне: роса
И вместе с ней исчезнуть! [210, с. 114]В главе «Югао» Гэндзи уговаривает свою возлюбленную
7ехать с ним в уединенное место. Он привозит, ее в заброшен¬
ный домик, окруженный мрачными деревьями, где она и по¬
гибает в результате нападения злого духа — ревнивого призра¬
ка Рокудзё, повергая Гэндзи в глубокое отчаяние.Название, отдельные ситуативные моменты и общая ат¬
мосфера главы «Юная Мурасаки» («Вакамурасаки», букв,
«молодая фиалка») восходят к первому эпизоду «Исэ монога¬
тари», в котором говорится, как некий молодой аристократ от¬
правился в предместье столицы и там пленился девушками,
которых увидел сквозь щели ограды (как Гэндзи юную Мура¬
саки). Он сложил стихотворение, в котором воспел девушек в
образах молодых фиалок {210, с. 11].Реже используется в «Гэндзи моногатари» материал худо¬
жественной и исторической прозы. Можно предположить, что
мотив женской верности и долгого терпеливого ожидания (гла¬
ва «Дворец в зарослях») был заимствован из эпизода летопи¬
си «Кодзики», повествующего о встрече императора Юряку с
девой по имени Акаико из Хикэтабэ, которой он повелел ждать
его, и она верно ждала его до глубокой старости [81, с. 312—•
313].В романе Мурасаки Сикибу рассказывается, как очаро¬
ванная Гэндзи принцесса Суэцуму-хана более трех лет жила
в своем полуразрушенном дворце, оторванная от мира, поки¬
нутая даже прислугой, глубоко веря в то, что в один прекрас¬
ный день Гэндзи навестит ее.143
В «Гэндзи моногатари» встречаются ссылки на тексты пре¬
даний и легенд. С грустью размышляя об участи хэйанской жен¬
щины, Мурасаки замечает: «Если она станет затворницей,
пренебрежет красотой, нежностью, лучшими человеческими чув¬
ствами,— что же останется ей? Сидеть и думать о смерти, о
мраке?Но если она проживет пустую жизнь, не познав ее ра¬
достей, это не удовлетворит и тех, кто произвел ее на свет.
Наоборот, они будут крайне разочарованы. Разве не было исто¬
рии о Молчаливом Принце? Такова уж участь, уготованная
женщине! Она все должна запирать в своем сердце. Но ведь
даже духовенство рассматривало молчание как один из тягчай¬
ших грехов. Молчаливый Принц — при всем своем знании
добра и зла — избежал участи быть заживо сожженным лишь
благодаря тому, что в конце концов согласился заговорить»
(«Югири»).Мурасаки ссылается на буддийскую притчу о Молчаливом
Принце, в которой рассказывается, как принц, будучи наде¬
лен даром познания добра и зла и памятью о своих прошлых
воплощениях, помнил, что в одном из последних существо¬
ваний он сказал дурное слово и в результате провел следую¬
щее существование в аду.Возрожденный теперь как принц, он решил быть осторож¬
нее и не говорить вообще. Когда ему было тринадцать лет,
монарх-отец потерял всякое терпение и повелел сжечь его за¬
живо. И тогда принц заговорил.В контрастном прототипу по смыслу контексте использован
намек на известную в то время в Японии даосскую легенду
о дровосеке, который, встретив однажды в лесу двух бессмерт¬
ных, играющих в шахматы, остановился, чтобы некоторое вре¬
мя понаблюдать за ними. Когда же он решил наконец вернуть¬
ся домой, то оказалось, что его топорище успело сгнить, — так
долго он пробыл среди бессмертных.Когда Гэндзи говорит Мурасаки, что ему необходимо от¬
лучиться по делам, она без труда догадывается, что он едет
на свидание к Акаси, и отвечает: «Знаешь ли ты историю о
дровосеке, который ждал так долго, что сгнило его топорище.
Не думаешь ли ты, что и я буду так же терпелива?» («Ветер
в соснах»).Цветущих мандаринов
Аромат привычный,То он, как видно,Привлек кукушку,В селенье опадающих цветов.Это стихотворение, сложенное Гэндзи, представляет собой
намек на песню из «Манъёсю», в которой также связаны
между собой три образа — цветущие мандарины, опадающие
цветы и кукушка:149
Где мандарин цветет
В селенье опадающих цветов
Кукушка...О своей одинокой любвиТак много дней поет она {95, кн. 8, № 1473]Песня эта сложена Отомо Табито по случаю кончины же¬
ны; в романе аллюзия использована в контексте, не имеющем
ничего общего с контекстом песни-прототипа.В отличие от поэтических образов в прозаическом тексте
нередко упоминается и сам прототип, как, например, при опи¬
сании осени в Сума: «Маленький домик стоял несколько в сто¬
роне от моря, но когда налетали внезапные порывы ветра, дую¬
щего сквозь ущелье (не его ли воспел Тюнагон Юкихира?),
казалось, будто волны бьются о двери дома...» («Сума»),
Имеется в виду стихотворение, сложенное Аривара Юкихира,
братом известного поэта Аривара Нарихира, который также
был сослан в свое время на остров Сума.Одежды странника
Развевает осенний ветер,Пронизывая холодом.То прибрежный ветер Сума,Дующий сквозь ущелье.(«Сёкукокинсю»)Мурасаки Сикибу как бы расширяет содержание приведен¬
ного прозаического отрывка с помощью стихотворения, за ко¬
торым стоит контекст — история изгнания Аривара Юки¬
хира.Особенно интересна с точки зрения реминисценций глава
«Кирицубо». Сюжет главы построен на реминисценциях из
поэмы «Вечная печаль» Бо Цзюйи, повествующей о любви ки¬
тайского императора Сюань Цзуна (713—755) к своей налож¬
нице, прекрасной Ян Гуйфэй (см. об этом [229]).Содержание поэмы вкратце сводится к следующему. Ян Гуй-
фэй, девушка дотоле безвестная, слухи о красоте которой до¬
шли до императора, была приглашена на службу во дворец к
вскоре заняла «особое» место среди других придворных дам.
Император проводит с нею все свое время, пренебрегая даже
государственными делами. И когда полководец Ань Лушань
поднял против него восстание, войска императорской охраны
отказались идти дальше, требуя казни Ян Гуйфэй, поскольку
считали ее «корнем зла». После казни Ян Гуйфэй император
погрузился в глубокую «вечную» печаль, проводя все дни в
воспоминаниях о возлюбленной.А вот как развертывается сюжет главы «Кирицубо»: «В од¬
но из царствований при дворе служило много прекрасных дам.
И была среди них одна не из очень родовитых, но она пользо¬
валась особым расположением императора. С самого начала150
благородные особы, бывшие высокого мнения о себе, третиро¬
вали ее как выскочку и злобствовали. Тем более волновались
дамы одного с нею ранга или ниже...Государь же только сильнее привязывался к ней, не обра¬
щая внимания на всеобщее порицание. Это была любовь, о ко¬
торой можно было рассказывать в последующие века...»Однако он «уж слишком упорно держал ее при себе и во
время празднеств, во всех случаях, когда что-либо устраива¬
лось, призывал ее первую. Случалось, что он,— после ночи,
проведенной ею в его опочивальне, — так и оставлял ее у себя
на весь день, не отпуская ни на шаг...» {302, с. 587—588].Приведенный отрывок, очевидно, перекликается с соответ¬
ствующими стансами поэмы Бо Цзюйи:Целый день государь неотрывно глядел,
на нее наглядеться не мог {269, с. 308]Но, увы, быстротечна весенняя ночь,
в ясный полдень проснулись они.С той поры государь для вершения дел
перестал по утрам выходить.То с любимым вдвоем, то при нем на пирах,
от забот не уйдет ни на миг.И в весенней прогулке всегда она с ним,
и ночами хранит его сон.Их три тысячи — девушек редкой «расы —
было в дальних дворцах у него.Только ласки, что им предназначены всем,
он дарил безраздельно одной (269, с. 307].Перевод Л. ЭйдлинсЕсли любимая наложница танского императора была убита
руками недоброжелателей, то Кирицубо погибла от нравствен¬
ных страданий, которые причиняли ей ее многочисленные не¬
доброжелатели и завистники при дворе: она «хоть и полагалась
во всем на высочайшую защиту, но кругом было столько лю*
дей, преследующих ее, ищущих в ней одни недостатки, что она
чувствовала себя бессильной, беспомощной и только терза¬
лась..» [302, с. 588].«Всегда такая очаровательная и прекрасная, она теперь сов¬
сем исхудала; сильнейшая тоска щемила ее сердце, но выразить
«е словами она была не в силах. Она прямо таяла...» [302,
с. 589].Сердце государя, когда до него дошла весть о смерти воз¬
любленной, «пришло в полное смятение, он ничего более не
сознавал и скрылся к себе». И в последующие дни только гру¬
стил, проводя в безысходной тоске по ней бессонные ночи, и
отказыьался от пищи.«Он совершенно прекратил даже ночное служение при себе
высоких особ и проводил все дни и ночи в слезах, так что на¬
блюдавшие его — и те превращались в напоенную росой осень»
1302, с. 590—591].151
Описанная ситуация скорби государя имеет аналогию в
строках танского поэта:Рукавом заслоняет лицо государь,
сам бессильный от смерти спасти.Обернулся, и хлынули слезы и кровьиз его исстрадавшихся глаз... [269, с. 308]Друг на друга властитель и свита глядят,
их одежда промокла от слез...Как лицо ее нежное — белый фужун,
листья ивы — как брови ее.Все как было при ней. Так достанет ли сил
видеть это и слезы не лить?.....Государевы южный и западный двор
зарастали осенней травой.На ступени опавшие листья легли,и багрянца никто не сметал [269, с. 309].Перевод JI. ЭйдлинаТри важных момента отличают сюжет главы «Кирицу¬
бо» от сюжета «Вечной печали». Большое место занимают в
нем образ самой Кирицубо, значительно большее по цравнению
с образом Ян Гуйфэй в поэме Бо Цзюйи, и еще два образа —
«очаровательного ребенка», которого Кирицубо подарила им¬
ператору и к которому тот был очень привязан, и матери Кири¬
цубо (в главе показано и ее горе в связи с потерей дочери и
расположение и покровительство, оказанное ей императором).Далее. Если у Бо Цзюйи тоска и печаль императора со¬
ставляют главную тему произведения, то у Мурасаки ей по¬
священа вторая часть главы (в первой повествуется о любви
государя к Кирицубо и о ней самой). Наконец, в главе романа
есть еще и третья часть, героиней которой является Фудзицубо,
занявшая в сердце императора место умершей.Помимо сюжетных заимствований в романе содержатся и
прямые ссылки на произведение-прототип, например: «Придвор¬
ные— и высшие и низшие — без стеснения косились и говори¬
ли: „Уж очень ослеплен государь этой любовью! В Китае имен¬
но из-за таких дел мир приходил в беспорядок и возникали
беды...“ Понемногу все вокруг обратилось против нее (Кири¬
цубо.— И. £>.), она превратилась в помеху для всех. Стали
даже вспоминать случай с Ян Гуйфэй» [302, с. 597].Характерны и заключительные строки; «Все, кто только ни
был вблизи него — мужчины, женщины, — говорили между со¬
бой: ,Какое ужасное событие!" — и вздыхали: „Верно, судьбою
было так предрешено. Государь не обращал внимания на уп¬
реки и порицания стольких людей и утратил всякий рассудок...
А теперь еще идет как будто бы и к тому, чтобы совершенно
забросить мирские дела. Это весьма нехорошо!" — шептались
они и опять приводили пример с другим императором в дрУ‘
гой стране...» [302, с. 536}.152
Еще пример — эпизод, описывающий ситуацию после воз¬
вращения посланницы императора от матери Кирицубо: «При¬
дворная дама с жалостью увидела, что государь еще не пришел
к себе в опочивальню. Он все еще любовался тем, как красив,
весь в цвету, был садик перед ним, и, призвав к себе несколь¬
ких женщин — только тех, что отличались тонкостью чувств, —
тихонько беседовал с ними. Он говорил с ними только об од¬
ном: о картинах-иллюстрациях к „Песне о бесконечной тос-
ке“, которые повелел нарисовать государь Тэйдзиин, о песнях
на языке Ямато и о китайских стихах, которые повелено было
сложить поэтам Исэ и Цураюки на темы тех картин» [302,
с. 534-595].В главе имеют место прямые сопоставления образа Кири¬
цубо с образом Ян Гуйфэй: «В облике Ян Гуйфэй, нарисован¬
ной на картине, — хоть и был он написан искусным художни¬
ком, но так как все же есть предел для кисти, — было мало
очарования. Она была действительно похожа на лотос в пру¬
ду... на иву во дворце... ее наружность была прекрасна... Но
император вспоминал, как была привлекательна и мила Кири¬
цубо, и находил, что не было средств изобразить ее — ни в
красках цветов, ни в звуках птиц» (302, с 595—596}.В тексте главы «Кирицубо» наблюдаются многочисленные
заимствования деталей и ситуаций из поэмы Бо Цзюйи. Так,
например, в главе есть эпизод: император разглядывает подар¬
ки, присланные ему матерью Кирицубо, сожалеет, что среди
них нет шпильки для волос, и складывает в связи с этим сти¬
хотворение:О, если б здесь был
Кудесник тот,Что ушел ее искать...Хоть из слов его я знал бы,Где живет ее душа [302, с. 595JВ поэме же Бо Цзюйи рассказывается, как неутешный госу*
дарь отправил на поиски души возлюбленной искусного даос¬
ского кудесника и тот отыскал ее в стране бессмертных. Тро¬
нутая памятью о себе государя, она просит передать ему знак
своей любви — «драгоценную шпильку и ларчик резной», что
принадлежали ей на земле.В главе романа есть упоминание, что государь не ложился
спать, пока не догорели все светильники. У Бо Цзюйи сказано:К ночи в сумрачных залах огни светлячков
на него навевали печаль,И уже сиротливый фонарь угасал,сон же все не смежал ему век... [296, с. 309]Имеются и текстуальные реминисценции, например: «Госу¬
дарь постоянно уславливался с нею: „Будем двумя птицами об
одном крыле, будем двумя ветками из одного ствола../*» (302,
с. 5961-153
У Бо Цзюйи:Так быть вместе навеки, чтоб нам в небесах
птиц четой неразлучной летать.Так быть вместе навеки, чтоб нам на земле
раздвоенною веткой расти! [2%, с. 312].Перевод JI. ЭйдлинаОбращает на себя внимание имитация манеры изложения
(гиперболизация ситуаций, эмоций), а также общей атмосфе¬
ры «Вечной печали», что в значительной мере обусловлено
обилием реминисценций сюжетно-ситуативного характера.Образ человека в романеВ создании образа человека у Мурасаки Сикибу четко про¬
являются две противоположные тенденции: стремление к истин¬
ности изображения, к показу реальных людей своего круга и
следование выработанному канону, этикету. При этом этикет-
ность, воплощение сословного идеала «благородного человека»
сплошь и рядом отходят на второй план, а на первый высту¬
пает раскрытие человеческих качеств, отражающих дух време¬
ни, выявление противоречивых свойств человеческих характе¬
ров, складывающихся и изображаемых в реальных жизненных
ситуациях. В образах людей у Мурасаки с особой наглядностью
проявилась объективная тенденция выхода за пределы ка¬
нона, порождаемая интересами отражения «истинной сути ве¬
щей».Как отмечал Н. И. Конрад, Мурасаки Сикибу, «не ста¬
рается изображать типы». Более того, она вообще не задается
специально задачей обобщать. Сам характер художественного
мышления японца тех времен не предполагал стремления к
обобщению, ибо мышление это исходило из прочно усвоенной
буддийско-даосской предпосылки о том, что все есть во всем,
каждая вещь (моно) имеет свсе «дао», несет в себе природу
Будды, т. е. вещи общи от природы. Ибо нет дихотомии еди¬
ного и единичного. Эту черту традиционного японского мыш¬
ления подчеркивает Т. П. Григорьева в своем исследовании
японской художественной традиции (284, с. 28].Однако стремление к репрезентации подлинных людей сво¬
его времени объективно приводит Мурасаки Сикибу к необ¬
ходимости фактического обобщения, к созданию образов соби¬
рательных, воплощающих наиболее характерные черты челове¬
ка эпохи Хэйан.Художественный образ человека складывается у Мурасаки
Сикибу из характеристики внешнего облика и раскрытия ду¬
шевных качеств.Важным положительным качеством героя была внешняя
привлекательность. Все главные герои-мужчины красивы. Под-154
черкивается внешняя красота не только у Гэндзи, но и Юги¬
ри, Каору, Ниоу, То-но Тюдзё. Тем более отмечается она у
ведущих женских персонажей. Так, Фудзицубо была представ¬
лена императору, как женщина «редкой красоты». О Мура¬
саки говорится неоднократно как о «самой красивой жен¬
щине своего поколения» (наприме;р, в главе «Тайфун»). О Му-
расаки-девочке сказано, что «ее красота обещала ей, по-види¬
мому, будущность» («Юная Мурасаки»),Могут быть подчеркнуты лишь одна-две детали в облике.
Так, у Укифунэ Каору обращает особое внимание на «замеча¬
тельно красивый разрез ее глаз». Отмечается не столько кра¬
сота, как таковая, и не правильность черт лица, но их тонкость
(«тонкие черты лица» Акаси, Тамакадзура, Нака-но кими).Среди недостатков внешнего облика Оми, приемной доче¬
ри То-но Тюдзё, упоминается «узкий лоб». И наоборот, во
внешности Суэцуму-хана Гэндзи обратил внимание иа «высокий
лоб», однако это заставило его предполагать, что «лицо ее было
длинным» (Гэндзи рассматривал принцессу в полумраке), что
отнюдь не было признаком красоты.Важное место в характеристике облика героев занимает
описание фигуры, манер, движений. От персонажей мужчин
требуется «изящество и благородство», от женских персона¬
жей, кроме того, и «хрупкость», «нежность», «миниатюрность».
Например, об Акаси сказано: «Такие тонкие черты лица, такое
достоинство, такая грация сделали бы честь дочери импера¬
тора» («Конкурс картин»). О спящей Кумой: «Она лежала,
маленькая и хрупкая...» («Вечное лето»). Как о нежном и хруп¬
ком создании говорится об Укифунэ. Когда Каору впервые
видит Укифунэ, первое, что бросается ему в глаза, — «посадка
головы и мягкие пропорции ее фигуры». В Нака-но кими его
привлекли «грация и достоинство движений» («Побеги папо¬
ротника»). И наоборот, существенной чертой некрасивой внеш¬
ности Суэцуму-хана была угловатость движений и общая не¬
складность фигуры при сочетании худобы и высокого роста.
Когда Гэндзи увидел ее спину, ему «показалось странным, как
такая спина могла принадлежать женщине»: «она была необы¬
чайно худа, и ее кости, в особенности плечевые, казалось, про¬
ступали сквозь одежду» («Цветок шафрана»).Особое внимание обращается на руки, кожу — нежность и
белизна кожи была показателями сословного идеала красоты.
Например, во время своего визита к Тамакадзура Гэндзи в
первую очередь заметил «округлость ее рук, нежность кожи и
утонченность фигуры» («Бабочки»), Во время следующего сви¬
дания с ней он «увидел ее руку, кажущуюся хрупкой и призрач¬
ной на темном фоне ее волос». Ниоу отмечает у Нака-но кими
«нежность кожи и тонкие черты лица».Определенное значение придавалось голосу женщины. Вот
как описано впечатление Каору от голоса Тамакадзура: «Ее155
голос всегда радовал его. Было в нем что-то грациозное, осо¬
бое и неповторимое, юношеская жизнерадостность даже, ко¬
торая всегда поражала его» («Бамбуковая река»). Большим
недостатком для женщины, как явствует из характеристики
Оми, был громкий и резкий голос.Исключительно большую роль во внешности героини играли
волосы. Они, как правило, всегда красивы. Показателен фраг¬
мент из описания спящей Кумой: «Ее распущенные волосы
были раскинуты вокруг, и хотя они не были очень густы, было
что-то особенно приятное в их линиях и в том, как они обрам¬
ляли ее лицо» («Вечное лето»). Дважды описана красота во¬
лос юной Мурасаки: «Гладя девочку по голове, монахиня за¬
говорила: „Какие прекрасные волосы, хотя ты и считаешь, что
причесывать их так утомительно"». И далее: «Девочка взгля¬
нула на монахиню своими детскими глазами и с печальным
видом низко склонила голову, так что волосы ее свободно упа¬
ли вперед, блеснув при этом необычайно красиво». О воло¬
сах Укифунэ сказано, что им позавидовать могла бы любая
придворная красавица («Дом на окраине»). Даже Суэцуму-
хана имела «чудесные с блеском волосы в семь футов длиной»
(«Дворец в зарослях»), не говоря уже о девушке из Оми, кото¬
рая в целом «была недурна», и «ее волосы, необыкновенно кра¬
сивые и пышные, действительно выглядели очень мило, когда
она проявляла достаточную заботу о них» («Вечное лето»).Важное значение придается одежде. Одежда женских персо¬
нажей является одним из основных компонентов внешнего
облика и, как правило, описывается достаточно подробно. На¬
пример, при первой встрече Каору с Укифунэ после одного-
двух штрихов, касающихся ее общего облика, идет подробное
описание ее костюма.Старомодное одеяние Суэцуму-хана описано дважды (при
первой встрече с ней Гэндзи и во время его последующего
визита к ней) и очень подробно. Детальность изображения
одежды персонажей (это относится в основном к женщинам)
в определенном смысле контрастирует с достаточно общими
характеристиками лица и фигуры.Одежда нередко занимает основное место в характеристике
героини. С нее часто и начинается описание женщины. Вот как,
например, изображены сестры Нака-но кими и Окими, наблю¬
даемые Каору. «Она (Нака*но кими.— И. Б.) была в свободной
одежде темно-коричневых тонов, мило выпущенной поверх ее
широких с окрашенными краями штанов. Некоторые люди
рождены, чтобы носить ираур: отнюдь не становясь бесформен¬
ными, они выглядят даже более яркими, чем всегда, и, каза¬
лось, Нака-но кими была одной из них. Ее длинный шарф
был застегнут, и в складки его были заложены четки. У нее
был хороший профиль, ее движения были грациозны и нето¬
ропливы».156
«Хотя она (Окими.— Я. Б.) и была одета в черный плащ
на подкладке, общая цветовая гамма ее костюма была такая
же, как у сестры. Но в нем Каору нашел ее значительно более
привлекательной, и это вызывало такое чувство восхищения,,
которое глубоко взволновало его. Волосы ее, которые она, оче¬
видно, повыщипала в знак траура, казались несколько тоньше
к концам, но они были великолепного качества с тем легким
оттенком перьев зимородка, который он всегда находил таким
восхитительным. Они ниспадали отвесно, как нити в прялке.В одной руке она держала буддийскую книгу (бумага была
фиолетового цвета). Он мог теперь изучать эту руку и был
поражен ее необычайной хрупкостью. Окими, по существу, была
значительно худее Нака-но кими, и лицо ее казалось пугающе
изнуренным... Однако, безусловно, она была в своем роде очень
привлекательна» («У подножия дуба»).Часто акцент делается не столько на красоте отдельных
деталей, сколько на общем очаровании облика, который как.
бы просвечивается изнутри. В особенности показательно в этом
смысле впечатление Гэндзи о внешности Югао и Уцусэми. «Не
блиставшая внешней красотой фигура Югао с ее белым плать¬
ем, с накинутой поверх него одеждой из светло-лиловой мате¬
рии, казалась ему прелестной и хрупкой. В ней не было ничего,.
что можно было бы отметить как что-то особенное, но — миниа¬
тюрная и нежная, с ее милой манерой говорить — она вызыва¬
ла в нем одно чувство: „Бедняжка! Какая она милая!“» [302,
с. 632].Когда Гэндзи наблюдал Уцусэми через жалюзи, «на неРг
было надето легкое платье из лиловой .кисейной материи, по¬
верх которого было что-то накинуто; со своей изящной головкой
и маленьким телом она не б|росалась в глаза своим видом и
лицом своим, — при обращении к другим она старалась дер-
жать себя так, чтобы не привлекать к себе внимания; руки ее
были тонкие и худые, и она всячески старалась их прятать»
[302, с. 619]. Глаза у нее «как будто немного припухли, формы
носа не были правильно очерчены, словом, ничего выдающего¬
ся в ней не было; если бы разбирать все в подробностях, она
оказалась бы скорее даже просто некрасивой, но у нее были
выдержка и манеры, и облик ее, как проникнутый подлинным
вкусом, останавливал на себе внимание даже более, чем той,
которая превосходила ее красотою» [302, с. 619].Особенно подчеркивалась красота души. Неоднократно го¬
ворится о доброте, великодушии, человечности Гэндзи и Каору..У героев-мужчин отмечались такие положительные качества,,
как ум, образованность, эрудиция; этикетом предусматривались
также мужская привлекательность и достаточный опыт в лю¬
бовных делах. Например, принцу Хигэкуро, будущему мужу
Тамакадзура, Мурасаки Сикибу дает следующую характери¬
стику: «Он казался уравновешенным и способным человеком,.157
удачливым во всех своих предприятиях, но не очень удачли¬
вым в любви» («Бабочки»).Показательна характеристика, даваемая писательницей же¬
ниху Укифунэ — Сакону, офицеру императорской гвардии тело-
хранителей, которому уже 22 года, но у него «не было еще ка¬
кой-либо серьезной любовной интриги... это, вероятно, можно
приписать тому, что, хотя он и был человеком твердым в суж¬
дениях и хорошо образованным, однако обладал довольно не¬
уклюжими манерами» («Дом на Востоке»). И, наоборот, о
Ниоу сказано, что его «успех у женщин» способствовал его
выдвижению и популярности в придворных кругах («Урок кал¬
лиграфии»).От женщин этикет требовал мягкости характера, терпения,
выдержки, преданности. Из этих качеств в основном склады¬
валась их «душевная красота», которая, как и внешность, ча¬
ще всего не детализировалась при описаниях. Так, о Мура¬
саки сказано: «Красота ее нрава была действительно необы¬
чайна» («Праздник цветов»). Но в некоторых случаях отмеча¬
лись конкретные душевные качества. Обращаясь с молитвой
к Будде и богам синто об исцелении Мурасаки, Гэндзи упомя¬
нул о «красоте ее характера», моля пощадить ту, что «в своем
общении с другими всегда проявляла мягкость и терпение»
{«Молодая поросль»). После ее смерти Гэндзи вспоминал: «Ка¬
кой нежной, какой терпеливой была она,, как старалась скрыть
от него свои переживания» («Призраки»).Красота души нередко компенсировала недостатки внешне¬
го облика. Однажды, вспоминая в разговоре с Мурасаки о
своей юношеской любви к Югао, Гэндзи говорил: «Такой люб¬
ви, ,как у Югао, такого полного самозабвения, такого совер¬
шенного подчинения всего своего существа одному-единствен-
ному и постоянному чувству я никогда больше не встречал... Во
многих отношениях она, конечно, далека от совершенства. Она
не отличалась особым интеллектом, и красота ее была не
безупречна. Но она была созданием исключительно любящим»
(«Тамакадзура»).Один из наиболее часто встречающихся элементов характе¬
ристик— указание на происхождение. Поскольку речь большей
частью шла о представителях придворной аристократии, то
обычно подчеркивалась «высокородность» как мужских персо¬
нажей (Гэндзи, То-но Тюдзё и др.), так и женских (Фудзицубо,
Суэцуму-хана, Мурасаки и др.). О Югао, в частности, так до¬
кладывал Гэндзи его слуга Корэмицу, которому было поручено
узнать о ней подробнее: «Среди них есть одна, по-видимому
благородная, и носит она простое платье только для вида».Важными качествами «благородного» человека считались
чувствительность и мгновенность реакции на эстетический сиг¬
нал. Например, одежда, оставленная Уцусэми, вдохновила
Гэндзи на поэтический экспромт:158
Одежду сменила
Цикада свою...Под деревьями здесь —Эта скорлупка пустая
Так дорога мне! [302, с. 693]Когда Гэндзи открылся Югао и, сложив в связи с этим сти¬
хотворение, подал ей реплику: «Ну, как тебе нравится этот
блеск росы?» — она мгновенно откликнулась изящным стихо¬
творением.Тонкость чувств и художественный вкус подчеркивались по¬
стоянно. Когда Мурасаки прислала Гэндзи в Сума некоторые
необходимые вещи и одежду, он был тронут не только ее забо¬
той и вниманием, но в особенности тем, что «одежда, которую
она ему прислала, отличалась изысканным покроем и цветом».Отмечалась, как правило, и причастность персонажа к ка¬
кому-либо виду искусств (исключая поэзию, владение которой
было абсолютно обязательным для всех). Так, искусная игра
на цитре Суэцуму-хана, которую Гэндзи украдкой слушал в ее
саду, впервые и пробудила в нем интерес к этой женщине. Ака¬
си обнаруживает особый талант в переписке иллюстрированных
рассказов и повестей.При описании облика и характера персонажей Мурасаки
исходит, как правило, из гармонического соответствия внешних
и внутренних качеств: красивой внешности, доброты, благород¬
ных манер, тонкости чувств, художественного вкуса и т. д. Ака¬
си, например, была «восхищена благородным происхождением
Мурасаки и ее безупречной красотой» («Макибасира»), Священ¬
ник говорил по поводу Укифунэ: «Она, должно быть, накопила
много добродетели в прежнем существовании, чтобы родиться
с такой красотой».Руки Укифунэ были столь изящны и хрупки, что одно это-
послужило для Каору достаточным доказательством отсутст¬
вия каких бы то ни было родственных связей между ней if
провинциальным экс-губернатором (отчимом Укифунэ, в дей¬
ствительности она была незаконной дочерью принца Хати).И, наоборот, некрасивая внешность обычно связана с дру¬
гими недостатками в облике и характере. Например, Суэцуму-
хана, описанная как внешне непривлекательная женщина, ока¬
зывается лишенной и хорошего вкуса: подарок, присланный ею
Гэндзи, отталкивает его безвкусицей и старомодностью. Она
с трудом складывает ответную танка, которая, как и стиль ее
письма в целом, оставляет желать лучшего. «Ординарной внеш¬
ности» Хигэкуро соответствует «неуравновешенность нрава и
странное отсутствие чувствительности» («Бамбуковая река»).Однако, поскольку Мурасаки Сикибу исходит из стремле¬
ния воспроизводить реальную действительность, она часто от¬
ходит от этикетности изображения, в результате многие ее
персонажи не отвечают идее соответствия внутренних и внеш¬15»
них качеств. Например, та же Суэцуму-хана, женщина весьма
благородного происхождения, оказывается лишенной целого
ряда неотъемлемых качеств благородного человека. Вместе с
тем благородство манер и поведения нередко обнаруживается
у таких женщин, как Акаси, Укифунэ, Нака-но кими, Тамакад¬
зура, которые долгое время прожили вдали от света, в провин¬
ции. Например, об Акаси сказано, что у нее «было чувство соб¬
ственного достоинства, которое полностью компенсировало не-
высокородность и недостаток светского опыта» («Конкурс кар¬
тин»). В этом проявляется своего рода демократизм взглядов
писательницы. Она считает, например, что если человек бла¬
городного происхождения попадает в провинциальные условия,
то с течением времени он теряет преимущества своего воспита¬
ния и, наоборот, «люди совсем простого происхождения», бу¬
дучи приобщенными к свету, приобретают постепенно качества
благородного человека. Эта мысль проводится, в частности, в
главах «Дерево-метла» и «Дворец в зарослях».В обрисовке ряда персонажей дает себя знать характерная
для древней и средневековой литературы тенденция к идеали¬
зации образа человека. «Идеализация, по словам Д. С. Лиха¬
чева, была одним из способов художественного обобщения в
средние века. Писатель влагал в создаваемый образ свои пред¬
ставления о том, каким должен быть этот человек, и эти свои
представления о должном отождествлял с сущим» [316, с. 108].Идеализированы образы Гэндзи, Мурасаки, Фудзицубо.
Гэндзи наделен необычайной красотой и одаренностью, гармо¬
нически сочетающимися с добротой, отзывчивостью, великоду¬
шием,— качествами, восходящими (как было отмечено) к ска¬
зочно-мифологической традиции.Мурасаки выведена как идеальная женщина. «Одна из кра¬
сивейших женщин своего поколения», она в то же время обла¬
дает и всеми положительными женекими качествами, которые
были перечислены мужчинами во время их беседы о женских
характерах во второй главе романа: душевной кротостью, мяг¬
костью, женственностью, терпимостью. Она преданная и забот¬
ливая жена, нежная и обаятельная подруга, постоянный совет¬
чик- Гэндзи во всех его делах. Мурасаки терпимо относится
к проявлениям неверности мужа, всегда стараясь сохранять
внешнее спокойствие. Она могла иногда и упрекнуть Гэндзи
за его легкомыслие, но делала это без злобы, стараясь не вы¬
казывать ему своей ревности и откровенного недовольства. Она
всегда ровна, приветлива, ей никогда не изменяет выдержка.Фудзицубо; изображена как воплощение необыкновенной
красоты, женственности и обаяния, сочетающихся с высокой
одаренностью. Эти ее качества в совокупности с неизбывным
душевным страданием, обусловленным положением, в которое
ее поставила любовь Гэндзи, как бы приподнимают ее над ре¬
альностью.160
Однако Мурасаки Сикибу в значительной мере преодолевает
тенденцию к идеализации. Ориентация писательницы на ото¬
бражение реальной действительности, истинного положения
вещей, причем не путем копирования, фактографии («ари-но
мама»), но посредством художественного вымысла, художест¬
венного отвлечения, обусловила объективно-реалистическое обоб¬
щение, выразившееся прежде всего в наделении героев чер¬
тами и свойствами, воплощающими наиболее показательные
тенденции эпохи. Например, в образе Гэндзи, как уже было
отмечено, воплотилось «стремление к наслаждению жизнью, до¬
веденное до крайних пределов». Другой вариант той же черты
воплощен в характере представителя третьего поколения —
принца Ниоу-но мия. А идеальные характеры женщин, таких
как Фудзицубо и Мурасаки, позволили писательнице ярче вы¬
явить эту особенность духа времени.Реалистичность Мурасаки Сикибу во многих случаях убе¬
регает ее от прямолинейности в разделении персонажей на поло¬
жительных и отрицательных. Наряду с героями положительны¬
ми и преимущественно положительными (типа Мурасаки, Фуд¬
зицубо, Гэндзи, Югао) Мурасаки выводит персонажей, которых
трудно с определенностью отнести к положительным или от¬
рицательным, например То-но Тюдзё. То-но Тюдзё завистлив
(по отношению к Гэндзи), способен к интригам, честолюбив,
самоуверен, его взгляды и суждения о людях прямолинейны.
Он четко и быстро разграничивал людей на правых и неправых.
С теми, кто удовлетворял его критериям, он был приветлив
и всегда готов был прийти им на помощь. Остальных же он
просто игнорировал («Вечное лето»). То-йо Тюдзё обычно свя¬
зывал достоинства человека с его происхождением. Он был
уверен, что Оми, если выяснится, что она действительно его
дочь, бесспорно, будет обладать всеми необходимыми качест¬
вами светской женщины, окажется достойной своего отца и
получит соответствующее признание в свете («Тайфун»), К то¬
му же, по словам Гэндзи, «он очень заботился о том впечат¬
лении, которое мог произвести на других», и «чувства его были
поверхностны» («Тайфун»). Вместе с тем о То-но Тюдзё ска¬
зано, что он «имел живой и быстрый ум, отличался твердостью
суждений, и его естественная сообразительность была подкреп¬
лена солидной ученостью» («Дева»). Отмечены также его та¬
лантливость (Гэндзи считает его лучшим исполнителем на цит¬
ре), чувствительность к красотам природы, способности чело¬
века государственного, внешняя привлекательность. Среди
женских образов интересна Суэцуму-хана. Она некрасива, да¬
же уродлива, не умеет одеваться, лишена' поэтического оча¬
рования, не умеет красиво писать, необщительна, однако спо¬
собна понимать «моно-но аварэ» (о чем свидетельствует сцена
ожидания луны и искусная игра на цитре), верна своему воз¬
любленному, кротка, терпелива. Словом, этот персонаж также11 Зак. 654161
нельзя определить однозначно как положительный или отри*
дательный.Несмотря на то что большинство героинь обрисованы пре¬
имущественно положительно (что, очевидно, следует рассмат¬
ривать как один из приемов реализации авторского замысла),
нм присущи и какие-то отрицательные черты. Например, То-но
Тюдзё порицает Югао за скрытность, за то, что она не выка¬
зывала ему ни своей привязанности, ни своего отношения к
проявлениям его неверности. Поэтому он и отнес ее к катего¬
рии «ненадежных» женщин. Уцусэми — образ безусловно поло¬
жительный, однако, такие ее качества, как непреклонность»
твердость характера, не поощрялись в женщине.Рокудзё выведена как образ в основе своей отрицательный,
ибо она не соответствует сложившемуся представлению о ду¬
шевных качествах женщины, идеалу «красоты» духовного об¬
лика. Она олицетворяет черты, которые порицались: ревность,
непокорность, мстительный дух. Однако автор не ограничивает¬
ся односторонней характеристикой этого персонажа. Рокудзё
присущи и положительные качества. Она способна к глубоко¬
му чувству, постоянна в своей любви, благородна и обладает
тонкостью чувств, хорошим вкусом. Более того, она проявляет
сочувствие к человеческим горестям (к болезни и страданиям
Аои), способность к раскаянию (по поводу последствий актов
мести, совершенных помимо воли ее «духом»).Как справедливо подчеркивает Д. С. Лихачев, выявление
сложности человеческого характера, «открытие в нем злых и
добрых черт» свидетельствовали об отходе художника от иде¬
ализации человеческого образа [316, с. 104].Откровенное выражение ревности и недовольства, которое
считалось в то время неэтичным и неэстетичным для женщи¬
ны, свойственно не только Рокудзё как персонажу преимуще¬
ственно отрицательному. Этими качествами наделена и другая
героиня — Кумой, отнюдь не являющаяся отрицательной.. Предусматриваемые этикетом и культивируемые воспитани¬
ем качества женского характера (душевная мягкость, терпи¬
мость, выдержка и др.) нашли воплощение в образах Кирицу¬
бо;- Мурасаки, Югао, Акаси. Но желая показать жизнь с раз¬
ных сторон, писательница выводит и женские характеры, оли¬
цетворяющие дух протеста и самозащиты против существующей
«свободы отношений», которые делают положение женщины не
только неустойчивым, но и унизительным.- Это образы Уцусэми, Аои, Рокудзё, Асагао, Кумой, Отиба,
Окими. Их протест выражается в двух плоскостях: 1) отказ
идти навстречу любви из-за неверия в ее постоянство и, шире,
в возможность личного счастья; 2) протест против мужской
неверности, выраженный в форме ревности.Уцусэми отказывается от любви Гэндзи по двум причинам.
Во-первых, в силу того, что не верит в прочность и длитель-162
иость счастья с ним из-за различия в общественном положении:
«Это, должно быть, просто сон, что вы, великий принц, сни¬
зошли до меня. Я просто подавлена вашей добротой. Но вы,
очевидно, забыли, кто я. Я — жена дзурё (провинциальный
административный чин. — И. Б.), и это нельзя изменить» («Де¬
рево-метла»). Во-вторых, Уцусэми останавливает ее положе¬
ние замужней женщины и боязнь толков. Она заботливо ста¬
рается скрыть все от света («То, что произошло, ужасно! — го¬
ворила она своему брату Когими. — Я его кое-как обманула,
но толков нам не избежать. Положение безвыходное!»). Поэто¬
му, когда Гэндзи овладевает Уцусэми, это лишь повергает ее
в печаль: уступив один раз блистательному любовнику, она
решительно восстает против продолжения связи с ним. Гэндзи
упрекает ее в жестокости, уверяет в своей любви, искренне
огорченный ее отпором, но она даже не отвечает ему. И это,
несмотря на то что Гэндзи ей нравился и она чувствовала, что
могла бы быть счастлива с ним («это дивное свидание, мельк¬
нувшее, как сон, жило в ее сердце»).В Уцусэми нашли художественное воплощение черты, кото¬
рые в совокупности дают представление об ином типе хэйан¬
ской женщины, отличном от типа Мурасаки и Фудзицубо: жен¬
ская гордость и высокая честь, готовность к самозащите, к со¬
противлению, решительность и последовательность, хладнокро¬
вие и самокритичность. В образе Уцусэми Мурасаки заметно
отходит от женского идеала эпохи, при этом чувствуется, что
образ ей особенно близок и она глубоко сочувствует молодой
женщине.Некоторые японские ученые, в частности Такасаки Маса¬
хидэ, усматривают в судьбе Уцусэми сходство с биографией
самой Мурасаки Сикибу. С этим трудно не согласиться. Можно
говорить об автобиографических истоках самого эпизода про¬
никновения Гэндзи в спальню Уцусэми. В дневнике Мурасаки
есть запись о том, как однажды ночью к ней в спальню отчаян¬
но стучался канцлер Митинага, человек не меньшего, если не
большего, государственного значения, чем Гэндзи в романе,
и ей, чей ранг был весьма скромным, пришлось проявить не¬
мало твердости и гибкости, чтобы отвергнуть его как возлюб¬
ленного, не потеряв в нем покровителя. К тому же обществен¬
ный статус Мурасаки Сикибу, вдовы провинциального админи¬
стратора, достаточно сходен со статусом Уцусэми, жены дзурё.Еще более решительно и последовательно отвергает любовь
блистательного Гэндзи Асагао. Она вообще не принимала уха¬
живаний Гэндзи и «постоянно держала его на расстоянии».
Здесь причина была другая: она знала его легкомыслие, много
слышала о его похождениях, и, хотя он нравился ей, так же
как и Уцусэми, она не могла примириться с участью быть
«одной из многих», считая это унизительным для себя, и твердо
решила, что «никакой близости не будет». Гэндзи послал ейll* 163
стихотворение, в хотсдеом спрашивал: «Неужели вы так и не
измените своего отношения ко мне?» — и она ответила стихо¬
творением следующего содержания: «А вы — все тот же, что и
прежде, хоть годы и прошли... Так отчего же я должна ме¬
няться?» Это прямой протест против принятого в обществе
«ирогономи».Подобная тенденция наблюдается и в настроениях Акаси:
она хотя и уступает любви Гэндзи, но отнюдь не обольщается
на его счет. Как и Уцусэми, она страшится огромного разрыва
между ними в рангах и не ждет от него верности, ибо «слишком
много слышала о его отношениях с женщинами». Она долго и
упорно отказывается переехать в его дворец, так как просто
боится затеряться среди своих многочисленных высокопостав¬
ленных соперниц.Линию Уцусэми во взаимоотношениях уже не с Гэндзи, а с
Югири продолжает принцесса Отиба, которая долгие годы про¬
являет упорство и твердость, отказываясь идти навстречу на¬
стойчивым ухаживаниям Югири, ибо ее не привлекает пер¬
спектива делить его любовь с его официальной женой Кумой.Женская ревность в откровенной форме, осужденная муж¬
чинами во время их разговора в дождливую ночь, не поощря¬
лась и самой Мурасаки Сикибу, показавшей, что «дух» ревни¬
вой женщины помимо ее воли способен причинить зло. Оли¬
цетворением женской ревности является в романе Рокудзё.
Активно проявляет это чувство и жена Югири Кумой. Дога¬
давшись о его связи с Отиба, она устраивает ему сцену ревно¬
сти, а в конце концов, покидает его дом и переезжает к отцу
(Тюдзё). Югири посылает ей письма с просьбой вернуться,
приезжает за ней сам, но она непреклонна: «Какой мне смысл
возвращаться к вам? На сегодня я вам надоела, и у меня нет
оснований предполагать, что это ваше состояние пройдет. Что
касается детей, то я восхищена, видя, что вы проявляете к ним
такой интерес». Аои, ревнуя Гэндзи и негодуя на него за его
легкомысленное поведение, проявляет к нему полное пренеб¬
режение, наказывая его холодностью.Верная принципу «истинности», Мурасаки Сикибу показы¬
вает, что и «идеальным» женщинам с их выдержкой и само¬
обладанием также иногда изменяет терпение. Симптоматично,
что Мурасаки, о которой Гэндзи говорит, что она «не склонна
к ревности», оказывается порой во власти «самых диких» ее
порывов. ((«Разумеется, я должна примириться со всем этим,—
говорит она Гэндзи, — но есть некоторые вещи, к которым я
едва ли смогу привыкнуть». — «Акаси».)В романе упоминается о том, что в отдельных случаях она
открыто выражала ему свое возмущение («Для Гэндзи такие
вспышки были бесощрно неприятны»).Наряду с чертами общими для многих персонажей, вопло¬
тившими сложившийся «идеал века» или отразившими опре-164
деленные тенденции мировоззрения, взгляды на жизнь и т. д.,
каждый образ наделен особыми индивидуальными качествами,
выделяющими его среди прочих.Так, Фудзицубо и Мурасаки при всей их схожести обрисо-
ваны по-разному. В описании красоты Мурасаки преобладает
«светлое» начало, ее облик рисуется обычно на фоне пейзажа
ранней весны и расцвета природы, а сама она предельно ре¬
альна, жизненна. Фудзицубо как бы приподнята над реаль-
ностью, обыденностью, в ее изображении не трудно уловить
черты стиля «тогэн» («таинственность и глубина»). Если Му¬
расаки на протяжении большей части своей жизни изображена
как бы вне греха и страдания, то Фудзицубо показана в стра¬
дании, мучимая сознанием греха, страхом перед раскрытием
тайны. Даже сама красота ее преломляется сквозь призму
страдания (в чем, возможно, сказалось влияние буддийских
взглядов и представлений).Индивидуализированы образы Уцусэми и Суэцуму-хана.
Суэцуму выделяется среди прочих героинь прежде всего как
женщина некрасивая. Ее «оригинальность» проявляется в от¬
сутствии у нее целого ряда других качеств женщины «благород¬
ного» происхождения (умения держать себя, умения сложить
стихотворение к случаю), в ее крайней необщительности и
восприятии состояния одиночества как нормы (у нее не было
потребности в общении с другими людьми, кроме Гэндзи, кото¬
рого она обожала). Единственным ее другом была цитра, да
иногда она открывала старомодную шкатулку и некоторое вре¬
мя держала в руках несколько старинных иллюстраций к лю¬
бовным историям.Суэцуму-хана отличалась от большинства женщин и своим
отношением к религии. Казалось, именно религия могла бы
утешить ее в ее одиночестве. Однако вот что пишет Мурасаки
Сикибу: «Что касается чтения сутр или отправления буддий¬
ских церемоний, которые стали сейчас необходимым элементом
придворной жизни, то ее лишь передергивало от мысли об этом,
она даже не мечтала о том, чтобы взять в руки четки, хотя
никто бы этого не увидел» («Дворец в зарослях»). Не случайно
Суэцуму-хана никогда не приходила в голову мысль уйти в мо¬
нашество.Индивидуальные особенности персонажей часто представле¬
ны в духе «моно-но аварэ» как их особое «очарование».Яркое выражение это нашло в подаче женских персонажей.
Робкая, тихая, любящая Югао так же непохожа на скромную,
но гордую, и независимую Уцусэми, как пылкая, ревнивая, са¬
молюбивая Рокудзё — на сдержанную, умную, рассудительную
и слегка ироничную Мурасаки или обаятельную, но несколько
неземную Фудзицубо. И каждая из них по своему прекрасна.
Особая прелесть Уцусэми хорошо выражена в сравнении ее с
«гибкой бамбуковой веточкой, которую трудно сломить». Оча-165
рование Югао передано через впечатление Гэндзи: «В ней не
было ничего, что можно было бы отметить, как что-то особен¬
ное, но—миниатюрная и нежная, с ее милой манерой говорить—
она вызывала в нем одно чуйство: „Бедняжка! Какая она ми¬
лая!4» (302, с. 632}.Рокудзё — персонаж отрицательный по объективным резуль¬
татам своих действий, но как ценил в ней Гэндзи умного и ин¬
тересного собеседника, женщину с тонким вкусом, глубоким
чувством прекрасного. И даже некрасивая Суэцуму-хана по-
своему трогает читателя своей угловатостью, застенчивостью,
старомодностью.Во внешнем облике и особенно в характере героев романа
обычно выделяются одна-две черты, иногда несколько черт как
наиболее показательные, и автор в разных ситуациях постоянно
их подчеркивает. Так, наиболее отличительная черта облика
Гэндзи, его необыкновенная красота, отмечается писательни¬
цей неоднократно на протяжении повествования о его жизни,
начиная с самого рождения («Родился у них прекрасный, ка¬
ких не было на свете, мальчик»; взглянув на него государь
убедился: «Действительно, это был младенец редкой красо¬
ты».— «Кирицубо»). Позже приводятся слова старого отшель¬
ника: «О нем говорят, он так прекрасен, что даже такие старые
аскеты, как я, забывают в его присутствии свои грехи и горе¬
сти жизни, от которой они отказались, и хочется еще немного
пожить в мире, где обитает такая красота» («Юная Мура¬
саки»). IУ Фудзицубо на всем протяжении романа отмечается не¬
изменное сознание своего греха и неотвратимости кары за
него.В характере Югао выделяются робость, скрытность («Она
постоянно чего-то боялась, чего-то страшилась»). Служанка,
объясняя Гэндзи поведение Югао, говорит: «Наша госпожа та¬
кая трусиха». Корэмицу, которому Гэндзи поручил узнать под¬
робности о Югао, так докладывает своему господину: «Кто она
такая, я так и не мог догадаться, заметно, что она старательно
таится». Когда Гэндзи просит Югао назвать себя, она уклон¬
чиво отмечает: «Дитя рыбака я».В Уцусэми, наоборот, подчеркивается решительность и твер¬
дость характера. В мыслях и высказываниях Гэндзи она фигу¬
рирует как «жестокая», ее младший брат Когими просто не
знает, .как устроить Гэндзи свидание с нею, ибо «сердце сестры
непреклонно и твердо».В характере Югири доминируют серьезность, здравый смысл,
терпеливость, способность к сильному и глубокому чувству.
Двадцатилетний Югири представлен, как «чувствительный, до¬
бродушный юноша с достаточно серьезным отношением к жиз¬
ни» («Дева»). Несколько позже о нем сказано: «В обычных
жизненных делах он обнаружил рассудительность и здравый166
смысл, и Гэндзи было приятно сознавать, что на Югири всегда
можно положиться, что бы ни случилось».Здравый смысл Югири выказал и в тот момент, когда после
отказа То-но Тюдзё отдать за него дочь (Кумой) не пошел к
нему настаивать и требовать, а решил убедить своим поведе¬
нием Кумой в том, «что ничто не изменилось с тех пор, как
он первый раз сказал ей о своей любви» («Светлячки»),Чувство Югири к Кумой подвергалось неоднократным испы¬
таниям и после сурового отказа ее отца. Когда он увидел Та¬
макадзура, на какое-то мгновение она показалась ему прекрас¬
нее Кумой, и явилась мысль «воспользоваться случаем», од¬
нако он тут же с ужасом отогнал ее от себя: «Разве мог он
даже в мыслях хоть на мгновение изменить любви, от которой
зависела вся его жизнь?» («Императорская процессия»). Устоял
он тогда и против чар прелестной танцовщицы, дочери Корэ-
мицу, так похожей на Кумой, и против вспышки страсти ,к пре¬
красной Мурасаки.Югири был терпелив: он решил, что не станет делать даль¬
нейших шагов в отношении Кумой, пока не займет достойного
положения в обществе (он надолго запомнил, как няня Кумой,
подчеркнув его низкий служебный ранг, с возмущением дала
ему понять, что он «недостоин ее маленькой госпожи»). Он
ждал, «время от времени давая выход своим чувствам в пись¬
мах к Кумой, таких же страстных, как и в первый день их раз¬
луки». С негодованием встретил он предложение Гэндзи взять
в жены дочь принца Накацукаса. Он рассматривал это как
«оскорбление его любви» («Ветка сливы»). И даже То-но Тюдзё
не мог не оценить упорство и преданность, которые проявил
Югири в течение многих лет, несмотря на разочарования и
неудачи, и не вознаградить его в конце концов своим согласием.Репутация Югири была настолько высокой, как человека
серьезного и верного, что не возникало никаких толков даже
по поводу его постоянных визитов на Первую стражу (к Оти-
ба) («Флейта»),Чувства Югири были глубокими и сильными. Вот как опи¬
сано чувство, которое он испытал, когда впервые случайно уви¬
дел Мурасаки: «Ее красота пламенем осветила его, как на за¬
ре цвет красной вишни, что вспыхивает из тумана перед глаза¬
ми еще сонного путника. Она внезапно пропитала его, словно
аромат пахнул ему в лицо...» («Тайфун»). О своем чувстве,
вспыхнувшем к Отиба, Югири говорил, что эта «любовь, слов¬
но большая тяжесть, давила на его сердце». А вот как описано
впечатление, произведенное на него умершей Мурасаки: «Юги¬
ри стоял пораженный. Его душа, казалось, покинула его и ви-
талЬ в пространстве, вблизи ее, как будто он был призраком,
а умершая — прекрасным телом, которое он избрал, чтобы все¬
литься» («Закон»),Доминирующей чертой духовного облика Каору было обо*167
стренное ощущение эфемерности собственной жизни и связанное
с ним чувство неуверенности в себе. В самом начале повество¬
вания о нем автор отмечает, что «он постоянно был подавлен
ощущением ненадежности окружающего и неуверенности в се¬
бе» («Ниоу-но мия»). Позже Каору рассказывает Бэн-но кими,
какое горестное впечатление произвела на него смерть Гэндзи:
«Я стал чувствовать, что в жизни нет ничего прочного, ничего
стоящего» («Агэмаки»). И в дни своего пребывания в Удзи,
.стоя на берегу реки и глядя на ее быстрое течение, он с новой
силой ощущал тщетность человеческой жизни и человеческих
надежд («Бамбуковая река»).В характеристике Рокудзё постоянно подчеркивается ее
гордость, пылкий нрав, оскорбленное достоинство. Параллель¬
но отмечается ум, светская изысканность, изящный вкус, не¬
однократно говорится об элегантности стиля и почерка Рокуд¬
зё: «Письмо Рокудзё с выражением соболезнования (по случаю
смерти Аои. — И. Б.) вновь поразило его своей элегантностью»
(«Аои»). А вот впечатление Гэндзи от ее письма из Исэ, полу¬
ченного им во время пребывания в Сума: «И почерк и манера
выражения обнаруживали необычайную изысканность и тон¬
кость ее воспитания, которыми он всегда восхищался в ней»
(«Сума»).В главе «Священное дерево» описана обстановка сада Рокуд¬
зё, отличавшаяся изысканным вкусом. В разговоре с Фудзи¬
цубо Гэндзи отзывался о Рокудзё как о «женщине необычай¬
ной гордости и чувствительности». На церемонии представле¬
ния Акиёси Гэндзи снова вспомнил Рокудзё («ее исключи¬
тельные дарования и живой ум») и ощутил, «какая большая
потеря это была не только для него, но и для жизни двора»
(«Конкурс картин»).Показательна авторская характеристика Рокудзё, следую¬
щая за описанием ее вновь отстроенного дворца на Шестой
.страже: «Рокудзё обладала характером и умом, на которые
время не наложило заметного отпечатка. Благодаря незауряд¬
ности ее личности и необычайной элегантности ее женской при¬
слуги дом ее стал местом встречи многих высокопоставленных
особ, и, хотя временами Рокудзё чувствовала себя одинокой,
она вела жизнь, .которой отнюдь не могла быть недовольной»
(«Путеводные огни»).В создании образа человека у Мурасаки Сикибу важное
значение имеет контекстуальность, идущая от 1радиционного
поэтического образа, но в романе она предстает в несколько
модифицированном качестве. Человек рассматривается Мураса¬
ки Сикибу в широком ситуативном контексте, во взаимосвязи
с окружающим миром — с природой, с другими людьми и т. Д-Отзывчивость и доброта Гэндзи особенно полно раскрыва¬
ются в сцене посещения им своей умирающей няни. Отвечая
ка ее слова, в которых она выражает свою радость и благо¬
дарность ему, Гэндзи искренне сожалеет о том, что не мог на-168
вещать ее, «когда того хотелось», ибо «связан своим положе¬
нием», говорит, как он «скорбел в своем сердце», когда долго
не видел ее.Каждая новая возлюбленная Гэндзи выявляет с особой си¬
лой то или иное свойство его натуры. Во взаимоотношениях с
Югао впервые раскрывается его. способность к глубокому чув¬
ству и преданности любимому существу. Из любви к ней он
готов переносить неудобства, к которым отнюдь не был при¬
вычен. «Гэндзи до сих пор даже чириканье сверчка приходилось
слышать только издали, а теперь все это раздавалось прямо
в ушах. Однако это показалось ему только в диковинку: видно,
чувство его было так сильно, что все грехи отпускались!» Гэнд¬
зи глубоко пережил гибель Югао, его сердце долго не могло
обрести покой. В начале главы «Тамакадзура» автор пишет:
«Хотя прошло уже семнадцать лет после смерти Югао, Гэндзи
все еще никак не мог забыть ее. С тех дней своей юности он
действительно много повидал и встречал женщин самых раз¬
личных темпераментов. Но так и не нашел он характера, похо¬
жего на ее. И потому он с такой тоской и сожалением вспоми¬
нал о своей близости с нею».Из взаимоотношений с Уцусэми выявляется его терпимость
к людям, его добродушие. Он не мстит и не собирается мстить
отвергнувшей его Уцусэми, а испытывает лишь чувство разо¬
чарования, грусти, сожаления. Вот как Гэндзи объясняет свои
чувства ее брату Когими: «Я не привык к тому, чтобы меня так
ненавидели. Сегодня вечером я впервые понял, как горька эта
жизнь. Такой позор я вряд ли переживу».Его привязанность к Уцусэми не исчезла вследствие ее «(ре¬
шительных действий», и, хотя он понимал, что «не пристала
ему эта любовь, все же не мог расстаться с нею: она жила в
его сердце, и, томясь так, что даже было нелов-ко перед дру¬
гими, он не раз говорил Когими: „Мне так горько, так грустно.
Я стараюсь отвратить от нее свои мысли, но сердце не слу¬
шается, оно мучается и страдает. Найди удобный случай, по¬
старайся хоть обманом устроить так, чтобы я мог встретиться
с нею!“»После последней неудачной попытки встретиться с Уцусэми
Гэндзи рассуждал, прижимая к себе оставленное ею платье:
«Она так ненавидит меня, что я сам себе стал противен. Но
почему же она, избегая встречи со мной, не пришлет мне хотя
бы приветливый ответ?» («Уцусэми»).Связь с Фудзицубо раскрывает другие стороны души Гэнд¬
зи: его способность к переживаниям и нравственным страда¬
ниям, связанным с укорами совести, сознанием греха, вины пе¬
ред отцом.При изображении человека Мурасаки часто пользуется
приемом сопоставления и противопоставления персонажей.
В ряде случаев подчеркивается сходство во внешности или ха-16 9
рактерс, как своего рида залог сходства судеб и как показатель
преемственной связи образов.Уже в самом начале «Гэндзи моногатари» император-отец
поражается сходству Фудзицубо с его умершей возлюбленной
Кирицубо, и в этом причина возникновения его чувства к Фуд-
знцубо. Во многом преемственны образы Мурасаки и Фудзи¬
цубо. Когда Гэндзи впервые увидел юную Мурасаки, его вни¬
мание привлекло, что она чрезвычайно походила на ту, которой
прежде отдано было все его сердце (Фудзицубо). Позже он
говорит об этом с еще большей определенностью: «...в посадке
головы, в линии волос то же неповторимое очарование... У обе¬
их та же гордость, та же сдержанность... На мгновение он даже
усомнился, мог ли бы он, если б они были рядом, различить их.
Какой абсурд!» («Священное дерево»).Преемственность образов становится одним из главных при¬
емов при обрисовке характера Тамакадзура. Няня Тамакадзу¬
ра отмечает, что, хотя Тамакадзура было не более трех лет,
когда исчезла ее мать Югао, она унаследовала ее особенность
поведения, ее изящные манеры. Когда Гэндзи впервые увидел
Тамакадзура в домашней обстановке, он просто поразился ее
' сходству с Югао: «Я бы никогда не мог поверить, что это воз¬
можно. Сегодня ты просто сама Югао. Конечно,-я всегда заме¬
чал это сходство, но никогда до сих пор оно не достигало такой
степени... Ничто до сих пор не утешило меня в моей утрате,
хотя и много лет прошло с той поры; я так и умру, тоскуя по
ней. Но сегодня, как только я увидел тебя, мне на момент
показалось, что она снова вернулась!» («Бабочки»),Каору буквально одержим идеей сходства. Вначале он об¬
наруживает, что Нака-но кими «становится все более и более
похожа на Окими», да и сама Нака-но кими считает его лю¬
бовь к ней отражением тех чувств, которые он питал к ее стар¬
шей сестре Окими. Затем видит черты Окими (а частично На¬
ка-но кими) в Укифунэ, и это главный стимул того нового чув¬
ства, которое возникает в его душе.При обрисовке образа Тамакадзура автор использует прием
контраста, когда пишет, что она «унаследовала всю красоту
своей матери, а может быть, в чем-то и превзошла ее (курсив
мой.— И. Б.). Она взяла от отца то единственное, что было важ¬
но: признаки высокого рождения, аристократическое изящест¬
во осанки и движений, чего недоставало Югао, чья красота бо¬
лее подходила для улицы, чем для дворца. Тамакадзура была
великодушна и во всех случаях могла составить восхититель¬
ную компанию», тогда как тихая и скромная Югао таилась,
пряталась от людей, что было обусловлено ее положением быв¬
шей возлюбленной То-но Тюдзё, от которого она намеренно
скрывалась.Гэндзи во многом контрастирует со своим другом То-но
Тюдзё, а также со своими сыновьями Югири и Каору. В част--170
ности, многие характеристики То-но Тюдзё как бы специально
оттеняют положительные моменты в характере и поведении
Гэндзи. Особенно это проявилось во время их беседы (в дожд¬
ливую ночь) о женских характерах. Требовательность, резкость
суждений, развязность То-но Тюдзё уравновешивались снисхо¬
дительностью, терпимостью, сдержанностью Гэндзи, .который,
дабы не возбуждать любопытства и зависти друзей, был, по
существу, лишь снисходительным слушателем. В другом месте
писательница замечает, что, «хотя в играх и развлечениях он
(То-но Тюдзё. — И. Б.) часто уступал Гэндзи, в государственных
делах он превосходил его» («Дева»). Из ряда разговоров и
рассуждений явствует, что и взаимоотношения их с людьми
резко различны. Например, когда няня Тамакадзура беседует
со своим мужем о Тюдзё—в связи с дальнейшей судьбой де¬
вушки, оба они в большом сомнении: как отнесется ко всему
этому Тюдзё, ведь он может и отказаться от нее. Разговор за¬
вершается многозначительным резюме: «Трудно иметь дело с
молодым человеком типа То-но Тюдзё» («Тамакадзура»),Югири отличается от Гэндзи своей серьезностью, положи¬
тельностью, умеренностью: «Гэндзи было особенно приятно со¬
знавать, что, где бы ни были раскрыты скандальные истории,
имя Югири никогда не было в них замешано, тем более что
сам он (Гэндзи. — И. Б.) страдал от последствий совсем про¬
тивоположной репутации» («Флейта»).Противоположность Гэндзи и Каору проявляется в разности
мироощущения, отношения к жизни вообще. Если Гэндзи —
олицетворение «ирогономи»— любви к жизни, стремления к
наслаждениям, то мысли Каору обращены к пути спасения
(«кюдо»). Он проводит время в молитвах и медитации, скепти¬
чески относится к радостям этого скоротечного мира и доволь¬
но решительно настроен на уход в монашество. Вполне воз¬
можно, что сама жизнь привела его к этому. Если Гэндзи со¬
путствовал неизменный успех у женщин, то Каору определенно
«не везло» в любовных делах. Его первая возлюбленная Оки-
ми не ответила на его чувство. Вторую возлюбленную, Нака-но
ними, у него отнял принц Ниоу-но мия. Его любовь к Укифунэ
также оказалась неудачной: снова между ними встал Ниоу-но
мия, и ситуация привела к драматическому конфликту — попыт¬
ке Укифунэ совершить самоубийство.Гэндзи нередко мысленно сопоставлял характеры женщин,
которых знал. Кроткую, любящую Югао он сравнивал с Ро¬
кудзё: «Слишком пылка та нравом!.. Если б она бросила неко-
торые повадки свои, что так удручают того, кто ее любит!»
Позже, когда умерла Югао, он вспоминал и тосковал о ней
уже в связи с Аои: «В другом месте, где искал он любви, про¬
явления холодности и гордыни следовали одно за другим»
(«Цветок шафрана»).Суэцуму-хана он сравнивает с Уцусэми: «Так же и Уцусэ-171
ми, он помнил, показалась ему далеко не красавицей в тот ве¬
чер, когда он исподтишка рассматривал ее и когда она ускольз¬
нула от него. Но Уцусэми по крайней мере умела себя вести,
и благодаря этому ее некрасивость не бросалась в глаза. Даже
трудно поверить, что принцесса (Суэцуму-хана. — И. Б.) при¬
надлежит к рангу значительно более высокому, чем Уцусэми»
(«Цветок шафрана»).Характер человека в значительной степени проявляется во
взаимоотношениях с окружающими людьми, и не случайно в
романе персонажи часто дают характеристики друг- другу.
Гэндзи отмечает ряд особенностей То-но> Тюдзё, в частности
то, что он «очень заботился о впечатлении, которое производил
на людей, и старался убедить свет, что является образцом сы¬
новней почтительности». Вместе с тем Гэндзи говорит и о по¬
ложительных качествах То-но Тюдзё: «Это чрезвычайно знаю¬
щий и умный человек, он на редкость музыкален и к тому же
привлекателен внешне» («Тайфун»).В уста Гэндзи вложены основные характеристики Рокудзё.
Нацример, в разговоре с Мурасаки он отзывается о ней сле¬
дующим-образом: «Никогда не встречал я чувствительности
такой живой и глубокой, и это, как ты можешь себе предста¬
вить, сделало ее поначалу восхитительной собеседницей. Но и
не было ■ другого человека, с которым было бы столь сложно
поддерживать постоянные отношения». Далее он отмечает пыл¬
кость нрава и жестокость Рокудзё, которая «просто неописуе¬
ма», ее «необычайную ревнивость» («Молодая поросль»).Внешность героев также чаще всего дана через восприятие
других персонажей. Внешний облик большинства возлюблен¬
ных Гэндзи (Югао, Уцусэми, Аои, Акаси и др.) предстает в
его собственном восприятии, красота Мурасаки, кроме того, в |
восприятии Югири и Акаси. Красота Укифунэ передана через {
восприятие Каору, Ниоу-но мия, отшельника, его сестры, мона- |
хини и других персонажей. Даже главная черта в характере
Гэндзи — его постоянная готовность заводить все новые и но¬
вые романы отмечена старой служанкой Югао—Укон: «И дей- j
ствительно, Укон видела сама, даже когда его чувства были
не такими, что питал он к Югао, не было случая, чтобы он !
отвернулся от тех, кто раскрывал ему свое сердце... Какой бы
полной ни была чаша его любви, он не мог допустить, чтобы
из нее пролилась хоть одна капля» («Тамакадзура»).Однако свою роль в формировании художественного образа j
человека играют и авторские характеристики В обрисовке об- j
раза Гэндзи Мурасаки Сикибу весьма часто позволяет себе ■
собственные оценки. «На следующее утро он немного заспался
и вышел из опочивальни, когда солнце уже ярко светило. Его
„утренний облик" был настолько очарователен, что становилось
понятно, почему все так им восхищались»; «В мягко облегаю*
дцем тело белом нижнем кимоно и накинутой поверх него лишь172
простой верхней одеждой с распущенными завязками фигура
Гэндзи, дремавшего при свете светильника, была так очарова¬
тельна, что ей могла бы позавидовать даже женщина!» («Де¬
рево-метла»).Писательница характеризует и некоторые свойства характе¬
ра своего героя. «Гэндзи был совершенно лишен всякой напы¬
щенности и самомнения. Вне зависимости от ранга людей и тех
обстоятельств, при которых он общался с ними, он оставался
одинаково добродушным и внимательным. На этом и держались
многие из его старейших знакомств» («Первые голоса птиц»).Посмертная характеристика Фудзицубо, отмечающая ряд
важных ее душевных качеств, недостаточно раскрытых ранее,
также дается от автора.Мурасаки Сикибу часто прибегает к своего рода резюме с
тем, чтобы подчеркнуть те или иные особенности характера
героев, уже достаточно раскрытые в их поведении. «Это было
свойство его (Гэндзи. — И. Б.) характера: если он был кем-то
сильно увлечен, то ни разлука, ни время не могли стереть па¬
мять об этом увлеч.ении» («Асагао»).Большинство основных образов романа дано в развитии, и
в первую очередь образ Гэндзи. Писательница прослеживает
весь его жизненный путь от рождения до смерти. Характер
Гэндзи раскрывается в любовных отношениях, взаимоотноше¬
ниях с людьми, в общественных и государственных делах, в
отношении к природе, религии, литературе и искусству.В первой части романа перед нами очаровательный, увле¬
кающийся легкомысленный юноша. В эту пору он переживает
первое серьезное чувство к Фудзицубо, которое, однако, не при¬
носит ему счастья: она всячески старается избегать встреч с
ним. Он обретает счастье в любви к Югао, но оно оказывается
непродолжительным («странная» смерть вскоре уносит его воз¬
любленную). Гэндзи переживает большое нервное потрясение.
Он впервые задумывается над «тяжестью своих грехов», осо¬
знает свой грех с Фудзицубо. Смерть жены Аои повергает его
в глубокую печаль и вызывает чувство раскаяния (он столько
лет пренебрегал этой женщиной). Последовавшая за этим
смерть отца рождает у Гэндзи мысль об уходе из мира, кото¬
рая тем не менее не побуждает его изменить своей «милой
привычке» (он продолжает заводить все новые и новые рома¬
ны). «Переломным моментом» оказывается для Гэндзи ссылка
в Сума. Это годы размышлений и самоанализа. Мысли об ухо¬
де из мира приобретают вполне реальные очертания, несмотря
на то что он переживает здесь свое последнее серьезное увле¬
чение Акаси.По возвращении из ссылки Гэндзи сооружает небольшой
горный храм, где намеревается в дальнейшем уединиться, что¬
бы вести праведную жизнь. К этому времени он решает «не
осложнять себе жизнь отношениями на стороне».17Э
В нравственном воспитании Гэндзи важную роль сыг:рала
смерть Рокудзё, связь с которой тянулась с ранней юности.
Он не только потерял друга, чье общество и беседы всегда
были для него одной из величайших (радостей, но и испытал
чувство глубокого раскаяния за свое легкомыслие, принесшее
ей столько страданий и обид. Однако рецидивы прежнего от¬
ношения к жизни все еще дают себя знать: он продолжает
добиваться любви Асагао (бывшей жрицы храма Камо), а
затем влюбляется в свою приемную дочь Тамакадзура.К периоду, начавшемуся ссылкой в Сума и особенно после
возвращения в столицу, относится целый ряд эпизодов, свиде¬
тельствующих о доброте, великодушии, человечности Гэндзи,
Наиболее значительны в этом плане эпизоды с Суэцуму-хана,
его сочувствие, помощь ей (перестройка ее полуразвалившегося
дворца, а затем и переселение ее в его новый дворец).Человечность и доброта Гэндзи проявляется также в исто¬
рии с Акиёси (в исполнении завещания Рокудзё он делает
все возможное для устройства ее жизни и обеспечения положе¬
ния в обществе) и с Акаси (сначала он перевозит ее из про¬
винции в специально построенный для нее дворец на окраине
столицы, поручает заботы о ее дочери Мурасаки, а затем пере¬
селяет Акаси в свой дворец в Хэйане).В целом ряде сцен последовательно выявляется отношение
Гэндзи к природе, его тонкое восприятие ее красот, глубокое
ощущение единения с нею: в сценах на берегах Сума и Акаси,
во время свидания с Рокудзё в ее загородном дворце, в сцене
любования природой с Мурасаки, в беседе о «сезонах» с Аки¬
ёси и др.Раскрываются и другие стороны его духовного облика: вы¬
ставка картин обнаруживает его талант живописца, сцены му¬
зицирования с Тамакадзура — недюжинные способности, учите¬
ля игры на цитре и «приятный голос». В сочетании с прояв¬
ленными ранее дарованиями в области поэзии, музыки и
танца это позволяет судить о нем как о человеке, владеющем
основными видами развитых в то время изящных искусств.
В беседе с Тамакадзура проявляется его широкая эрудиция и
весьма утонченные взгляды на литературу, а в эпизоде с от¬
крытием придворного колледжа — «просветительские» устрем¬
ления, как и в беседе с Мурасаки о необходимости женского
образования.После ссылки в Сума Гэндзи в зените славы. Он пользуется,
по существу, абсолютной властью (на троне его фактический
сын Рёдзэн, и при дворе не существует никаких серьезных оп*
позиций).В ходе эволюции обнаруживаются противоречия в духовном
облике Гэндзи: типичное для его среды противоречие между
безудержной погоней за наслаждениями и поиском путей к спа¬
сению в сфере буддийской религии (мысли о праведной жиз-174
ян), между присущими ему отзывчивостью, добротой, велико¬
душием и тем, что несет его любовь его избранницам (они
страдают, гибнут, уходят в монастырь).Важной вехой в эволюции характера Гэндзи становится бо¬
лезнь Мурасаки. Он впервые осознает, что любит только ее
одну, что никто больше ему не нужен. Происходит своего рода
метаморфоза, Гэндзи оказывается однолюбом, теряет всякий
интерес к своей молодой жене — принцессе Нёсан, появление
которой и нанесло роковой удар Мурасаки.Параллельно идет углубление осознания греха и вины перед
■отцом. Толчком к этому послужила измена Нёсан: Гэндзи живо
представил себе те муки, которые в свое время претерпел из-
за него отец. Он осознал, что понес заслуженную кару. Однако
яе это сломило его. Сломила его смерть Мурасаки. Горе его
настолько велико, что единственный выход для него — физи¬
ческая смерть, и Гэндзи умирает.Эволюционируют в ходе повествования и другие персонажи
романа — Мурасаки, Фудзицубо, Рокудзё, Югири, Касиваги,
Уцусэми, Акаси, Тамакадзура, Кумой, Нёсан, а также главные
представители третьего поколения, фигурирующие в «главах
Удзи»: Каору, Ниоу, Окими, Нака-но кими, Укифунэ.Таким образом, важной особенностью формирования обра¬
за героя в романе Мурасаки является постепенность, последо¬
вательность. Причем эта последовательность носит различный
характер. Иногда она относительно плавная, и образ, глава за
главой, эпизод за эпизодом, обрастает все новыми и новыми
чертами, раскрывается то с той, то с другой стороны, повора¬
чивается к читателю то теми, то другими своими гранями. Так
развиваются (помимо Гэндзи) центральные женские образы —
Мурасаки, Фудзицубо, Рокудзё.Перед глазами читателя проходит вся жизнь Мурасаки. Де¬
вочка, лет десяти, воспитанница монахини — такой впервые
увидел ее Гэндзи. Она мила, резва, беззаботна, как это и свой¬
ственно ее возрасту. Далее следует счастливый период жизни
с приемным отцом — Гэндзи, и завершается этот период пси¬
хологическим переломом: из приемного отца Гэндзи превра¬
щается в возлюбленного и мужа Мурасаки.В главе «Сума» раскрывается следующий этап ее жизни,
принесший ей первое серьезное переживание, связанное с раз¬
лукой с Гэндзи (его изгнание в Сума). Это было первое столк¬
новение с «горечью жизни». Годы разлуки стали для Мурасаки
годами ее нравственного возмужания как жены и друга Гэнд¬
зи, умной, тонкой, чуткой, заботливой, рассудительной. Она лю¬
бит и любима, однако частые отлучки мужа, которые она за¬
мечала и до его отъезда в Сума, очень ее огорчают. Но она
терпима и снисходительна к проявлениям его неверности. С до¬
бродушной иронией отнеслась она в письме в Сума к увлечению
Гэндзи девушкой из Акаси. Позже Гэндзи стал, однако, заме¬175
чать, что временами «ее обычное добросердечие и мягкость
готовы были вдруг покинуть ее, уступив место проявлению ди¬
кой ревности и обиды». Интрига Гэндзи с Акаси1 постепенно
привела ее к пониманию непостоянства любви к ней Гэндзи,
морально подготовила к приятию обычной участи хэйанской
женщины. Это был период разочарования (в верности Гэндзи),
с одной стороны, и примирения со сложившейся ситуацией —
с другой.Однако при всем том Мурасаки уверена в своем преимуще¬
стве перед другими объектами его увлечения: он постоянно с
нею, она — неизменная поверенная во всех его делах. Это поз¬
воляет ей выказывать ему свое недовольство, порицать его по¬
ведение (хотя и в достаточно сдержанной форме). Когда од¬
нажды Гэндзи, собираясь ехать к Акаси, сказал ей, что дол¬
жен на время отлучиться по делам, она, догадываясь о дейст¬
вительной причине отлучки, напомнила ему историю о дрово¬
секе. И тем не менее она с восторгом принимает его предло¬
жение взять на воспитание дочь Акаси, раскрывая в этом и
последующих эпизодах новую черту своего характера: будучи
бездетной, она страстно любила детей.В ситуации душевного надлома Мурасаки поднимается до
понимания участи других женщин и искренне сочувствует им;
она представляла себе переживания Акаси, ее привязанность
к ребенку, живо воображала, как тяжело той расстаться с де¬
вочкой, и это как бы устраняло ее собственное чувство обиды и
ревности («Редкие облака»).Следующий этап жизни Мурасаки связан с известием о пе¬
реписке Гэндзи с Асагао, которая в отличие от Акаси была,
как считала Мурасаки, не только равной ей по достоинствам,
но и выше по рангу. Это была для нее «первая встреча лицом к
лицу с опасностью, опасностью быть оттесненной на второй
план» или с еще большим страхом — вовсе потерять своего
возлюбленного. Она поняла, что «должна быть готова к худ¬
шему». Гэндзи несколько раз замечал, что она плакала втайне
от него. Во время одного из разговоров с ним она прямо ска¬
зала: «Я достаточно хорошо тебя знаю, чтобы понимать, что
мне предстоит мириться с еще большими страданиями».
«Мысль, что она, должно быть, теряет его, что скоро, очень
скоро, возможно, он исчезнет и никогда не вернется, была для
нее нестерпимой» («Асагао»).Но это была лишь прелюдия к той драме, которая разыгры¬
вается в душе Мурасаки после сообщения Гэндзи о его обе-1 В те времена за женщинами вместо имени часто закреплялось либо на¬
звание помещения, которое она занимала, либо улицы, местности, где она
жила. Так «Кирицубо» означает «Павильон павлоний» (помещение, которое
было отведено этой даме в императорском дворце), «Фудзицубо» — «.Павильон
глициний», «Рокудзё» — «Шестая стража» (улица, на которой жила эта дама),
«Акаси» — название местности на морском побережье.176
щании, данном экс-императору Судзаку, взять в жены его дочь,
юную принцессу Нёсан. Мурасаки поняла, что ее худшие опа¬
сения оправдались.Мурасаки впервые познает горечь одиночества. Ее покидают
прежний оптимизм и уверенность в прочности своего положе¬
ния. Жизнь утрачивает для нее свою ценность. У нее появляют¬
ся мысли об уходе в монастырь. Но в результате пережитого
потрясения она тяжело заболевает и умирает.Развитие характеров Фудзицубо "и Рокудзё дается на пер¬
вый взгляд несколько более фрагментарно. Прежде всего обра¬
щает на себя внимание такой важный прием раскрытия харак¬
тера, как недосказанность и тесно связанная с нею ассоциа¬
тивность, вследствие чего внешне линия развития образа вы¬
глядит не прямой, а пунктирной. Образы- эти складываются не
только и не столько из эпизодов, в которых они действуют, но
часто из беглых упоминаний, коротких реплик других персона¬
жей, из намеков, которые постепенно проясняются в ходе повест¬
вования. Образ обретает цельность лишь в широком контексте
аллюзий и реминисценций. Ассоциативный подтекст, рассчитан¬
ный на активное соучастие читателя в творческом акте, на «до¬
мысливание», играет здесь исключительно важную роль. Эта
традиция, непосредственно восходящая к художественному об¬
разу лирической поэзии, закрепляется в повествовательной про¬
зе Японии и получает дальнейшее развитие в других ее жан¬
рах, например в литературе сэцува XIII—XIV вв.Мы, однако, не будет специально прослеживать весь процесс
складывания образа Фудзицубо с помощью ассоциативного
подтекста, поскольку это делается в главе «Композиция „Гэнд¬
зи моногатари*'».Метод обрисовки героев у Мурасаки Сикибу достаточно
гибок. Эта гибкость проявляется, в частности, в варьировании
контекстуальными связями образов. Так, если образ Мурасаки
раскрывается в основном в ситуациях обыденной придворной
Жизни, то Фудзицубо показана в сфере государственной и об¬
щественной жизни, в которой она принимает участие в соответ¬
ствии со своим положением сначала жены императора, а после
его смерти — в качестве матери-императрицы, в сфере личной
жизни и в сфере своего монашеского существования.В сфере личной жизни она предстает как возлюбленная
Гэндзи, раскрывая все богатство любящего женского сердца и
одновременно бездонную глубину страдания. Материнские чув¬
ства Фудзицубо проявляются в тревогах за судьбу сына.В развитии образа Фудзицубо можно выделить следующие
главные этапы: ее знакомство и сближение с Гэндзи, .которое
помимо глубокого чувства любви порождает и сознание вины;
она рассматривала их отношения «как нечто греховное, дур¬
ное и ужасное, и воспоминание о них было постоянной пыткой
для нее» («Юная Мурасаки»). Когда Фудзицубо поняла, что12 Зак. 654177
у нее будет ребенок, ее моральные муки еще более усилились,
tpex. связанный с рождением «его высочества», «тяжелым бре¬
менем постоянно лежал у нее на сердце» («Сума»). В после¬
дующие годы, по мере того как ребенок подрастал и все более
и более явным становилось его сходство с Гэндзи, усугублялся
н страх Фудзицубо перед раскрытием тайны и божественной
карой. Вместе с тем она боялась уступить настойчивым домога¬
тельствам Гэндзи и даже обращалась к богам с мольбой от¬
вратить его от нее, но и глубоко страдала оттого, что вынуж¬
дена была выказывать Гэндзи подчеркнутое безразличие,
«убежденная в том, что, если она хоть единым знаком или
взглядом обнаружит свою благосклонность, их близость тут
же станет известна двору». Это состояние душевной борьбы
и нравственных мук приводит ее к мысли о необходимости при¬
нять постриг.Меняется ее социальный статус, меняется форма и характер
ее отношений с Гэндзи. Если до сих пор она изображалась как
его возлюбленная, то теперь на первый план выступают другие
аспекты ее отношения к Гэндзи: она его друг и советчик.Но уход в монашество не приносит Фудзицубо полного из¬
бавления от нравственных мук. Уже не страшась, что тайна
ее может быть раскрыта, она продолжает с тревогой думать
о судьбе сына, юного императора Рёдзана, опасаясь, что ее
вина может отразиться на его карме.И все эти характеристики образа, этапы его развития вы¬
являются из сравнительно немногочисленных эпизодов, содер¬
жащихся в ряде глав романа. Немногочисленность этих эпи¬
зодов искусно компенсируется, дополняется намеками и реми¬
нисценциями, богатым подтекстом, благодаря которому посте¬
пенно— эпизод за эпизодом, деталь за деталью — складывается
образ содержательный, многогранный, обаятельный, женщины,
любящей и глубоко страдающей, нежной матери, одаренного и
умного человека (Фудзицубо обнаруживает редкое музыкаль¬
ное дарование, тонкое понимание живописи, умение разбирать¬
ся в государственных делах).Только после смерти дается ей пространная авторская ха¬
рактеристика, как бы логически вытекающая из всего ранее
сказанного и недосказанного: «Из всех выдающихся, придвор¬
ных дам того времени она была наиболее мягкосердечной, вни¬
мательной к другим и тактичной. Женщины ее ранга обычно
без стеснения пользуются услугами простых людей. Фудзицубо
же освободила даже своих слуг и приближенных от их обязан¬
ностей. Она была благочестива, но в отличие от других религиоз¬
ных людей... делала добрые дела (а они были весьма значи¬
тельны), только исходя из собственных возможностей. Ранги,
титулы и пожалования она распределяла с умом и заботой, и
так много было совершено ею актов великодушия, что едва ли
нашелся бы во всей стране хоть один безвестный монах, кото-178
рый бы искренне не оплакивал ее смерть» («Редкие облака»).Писательница прибегает к одному из своих излюбленных
щриемов: персонаж и после смерти продолжает «жить» на стра-
ницах романа — в сердце и в мыслях Гэндзи. «Помнишь ли
ты ту весну, когда умерла Фудзицубо?» — с этим вопросом
Гэндзи обращается к Акаси в главе «Призраки». И позже за¬
мечает: «Я всегда обожал ее за ее вкус и элегантность». Так,
спустя несколько лет после ее смерти раскрывается еще одна
грань ее облика.В раскрытии художественного облика Рокудзё важную роль
илрает антураж, ее характер выявляется в различной обста¬
новке: она показана то в гуще светской жизни, то в обстановке
своего дворца, то вдали от столицы в Исэ* куда она уехала
сопровождать дочь, выбранную жрицей храма. В разных ситуа¬
циях обнаруживаются различные грани ее характера. При
столкновении с экипажем Аои во время праздничной процессии
Рокудзё предстает негодующей, оскорбленной непочтительным
отношением к ней официальной жены Гэндзи и одновременно
огорченной тем, что раскрыто ее инкогнито. Мысль о том, что
она могла оказаться посмешищем, больно- ранила ее самолюбие,
уже достаточно уязвленное легкомысленным поведением воз¬
любленного (Гэндзи сам признавался, что «нанес большой
урон ее репутации»). •На празднике в честь омовения жрицы Исэ мы видим Рокуд¬
зё в составе пышной процессии, величественно восседающей в
«священном» паланкине вместе со своей юной дочерью. Во
время свидания с Гэндзи в своем «Дворце в полях» она пред¬
стает натурой любящей и глубоко чувствующей, чуткой к кра¬
сотам природы, приятной и интересной собеседницей, а в пись¬
мах из Исэ — утонченной светской женщиной с блестящим
умом, с изысканным вкусом.Во время последнего, предсмертного свидания с Гэндзи Ро¬
кудзё проявляет себя заботливой матерью: она просит его по¬
заботиться о ее дочери. В целом ряде эпизодов (в частности,
связанных со смертью Аои) Рокудзё — существо, глубоко стра¬
дающее: «Она следила за болезнью Аои с большим участием
и не испытывала к ней никакой враждебности. Сознание того,
что ее мстительный дух вызвал помимо ее воли эту болезнь,
повергало ее в отчаяние» («Аои»).В отношении Рокудзё к Гэндзи постоянно ощущается борь¬
ба любви к нему и чувства глубокой обиды за его измены и
пренебрежение ею, чувства оскорбленного достоинства, что
побуждает ее отказываться от встреч, о которых он просит и
которых сама она страстно желает.Рокудзё —единственный в своем роде персонаж романа, она
продолжает жить и действовать и после своей смерти как дух
мщения и зла (ибо, по словам Гэндзи, «умерла она с чувством
глубокого огорчения и обиды» на него) («Молодая поросль»).12*179
Образ Рокудзё раскрывается не сразу. Сначала автор упо-
•минает о ней как будто бы для того, чтобы оттенить образ
Югао: «Жилище той, куда ехал Гэндзи, было совсем в другом
роде: деревья, палисадник перед домом — все было иначе, чем
у обыкновенных людей. Дама эта жила приятно и даже чрез¬
мерно роскошно. Чинный вид самой дамы, ее наружность были
настолько иными, что Гэндзи было не до воспоминаний о нека¬
зистом дощатом заборе Югао» [302, с. 628]. Через несколько
эпизодов дается дополнительная характеристика: «Что касается
той дамы, Рокудзё, то победив ее гордость и неприступность,
Гэндзи, однако, вскоре остывает к ней: а ведь, .каким пылким
влюбленным казался он ей, когда так настойчиво добивался ее
■благосклонности. И теперь, после этой перемены одна радость—
воспоминания о прежних днях! Все чаще и чаще приходилось
■ей теперь встречать рассвет в одиночестве. Она так страдала,
что были люди, которые глубоко сочувствовали ей. Но были и
злые языки и ей, обладающей тонкой, чувствительной душой,
горько было слышать пересуды о несоответствии в возрасте с
ее блистательным любовником».Далее, во время встречи с Югао Гэндзи мысленно представ-
.ляет себе, какие упреки ждут его «на Шестой страже». Срав¬
нивая ее с Югао, Гэндзи с сожалением отмечает «слишком
пылкий нрав» Рокудзё. Постепенно вырисовываются общие кон¬
туры человеческого образа, напрашивается предварительный вы¬
вод, что Рокудзё наделена в основном чертами, которые в раз¬
говоре мужчин о женских характерах фигурируют со знаком
«минус». Следующий этап раскрытия образа — действия Рокуд¬
зё в качестве призрака: призрак жестоко мстит Гэндзи за его
измену Рокудзё, убивая дорогих ему женщин — возлюблен¬
ную Югао и жену Аои. У читателя уже начинает складывать¬
ся впечатление, что Рокудзё — не только пылкая, ревнивая, но
я мстительная, жестокая женщина.Только в главе «Аои», через пять глав после «Югао», автор
как бы впервые вместе с читателем заглядывает в душу Рокуд¬
зё: она любит Гэндзи, но не в силах простить ему его измен,
ибо они не только ранят ее сердце, но и глубоко задевают
ее женское самолюбие и бросают тень на ее репутацию. Она
глубоко сожалеет, что ее ревнивый дух погубил Югао и Аои
(смерть Аои повергла ее в депрессию), но не в состоянии по¬
бороть в себе чувства ревности и обиды.В следующей главе «Священное дерево» чувствительность
Рокудзё раскрывается уже в деталях. Выявляется ее тонкое
восприятие природы, способность к глубокому чувству и к по¬
ниманию «моно-но аварэ».Письмо Рокудзё к Гэндзи в Сума служит новым свидетель¬
ством ее изящного вкуса, высокой чувствительности, элегант¬
ности. Почему же только в главах 9-й и 10-й, а не раньше, в
полной мере выявляются достоинства Рокудзё? Да потому, чтоа 80
ранее это было бы неубедительно для читателя и могло бы про¬
звучать лишь диссонансом к более ранним ее характеристикам,
в особенности к акциям ее как призрака. Теперь читатель про¬
никся уже определенным сочувствием к Рокудзё и достаточно
подготовлен к восприятию этой грани ее характера, которая
далее получает новое подтверждение.Образ Рокудзё, как и многие другие образы романа, разви¬
ваются как бы по спирали: одни и те же черты, свойства под¬
черкиваются несколько раз на разных стадиях повествования,
каждый раз на новом уровне, в новом контексте, с какими-то
дополнительными оттенками и деталями, еще не известными
читателю. В этом нашла проявление существенная особенность
традиционного художественного мышления японцев, его «не¬
линейный» характер, постоянное возвращение к истоку [284,
с. 286-287}.Во время последнего появления в романе (в качестве духа
умершей) Рокудзё вновь проявляет самые дурные черты свое¬
го характера. Упрекая Гэндзи в бесчестности и бессердечии,
она заявляет: «Гнев, ревность, ненависть — только эти чувства
всегда при мне и только они теперь возвращают меня на зем¬
лю» («Молодая поросль»).Иными словами, автор как бы вновь возвращается к отрица¬
тельной стороне облика Рокудзё, привлекая реминисценции из
соответствующих эпизодов глав «Югао» и «Аои». Однако
читатель уже знаком с этим персонажем с разных сторон и
воспринимает данную сцену в контексте образа в целом. Так,
из отдельных упоминаний и намеков вырисовываются контуры
образа, которые затем проясняются, детализируются, дополня¬
ются новыми чертами, уже иного плана, они, в свою очередь,
опираются на подтекстовые ассоциации, которые актуализиру¬
ются в новом контексте. В итоге перед читателем встает полно¬
кровный образ женщины, эмоционально богатой, разносторон¬
ней, во многом противоречивой, образ сложный и интересный.
Многие, на первый взгляд разрозненные штрихи и детали обре¬
тают свое место в общей линии развития характера, объединяе¬
мые внутренней логикой этого развития.Эволюция остальных персонажей романа, в особенности жен¬
ских, как правило, протекает сжато во времени, либо дается
с большими временными разрывами. Для многих персонажей
важную роль играют пространственные перемещения, с кото¬
рыми чаще всего связаны главные этапы их художественного
раскрытия.В этих случаях эволюция характера часто принимает «сту¬
пенчатый» характер. Герой (героиня), «исчезая» на продолжи¬
тельное время со страниц романа, далее появляется уже на
новой ступени своего развития, в новом качестве. В периоды
таких «исчезновений» особое значение приобретают отдельные
упоминания и намеки, позволяющие читателю следить за об¬181
щей линией развития образа. По такой схеме строится образ
Югири, старшего сына Гэндзи, который тем не менее предстает
в романе достаточно цельным и полнокровным, в совокупности
обобщенных черт и индивидуальных свойств характера.Художественная биография Югири в известном смысле рав¬
новелика биографии Гэндзи, хотя в отличие от последней в ней
немало «пропусков» (в целом ряде глав, особенно в первых
частях романа, Югири не фигурирует). Его эволюция ступеня¬
ми прослеживается с детских лет, когда мы застаем его очаро¬
вательным ребенком, мило играющим на коленях у Гэндзи
(«Сума») до зрелого возраста (Югири не умирает в ро¬
мане).Югири неоднократно показан в парадной обстановке при¬
дворной жизни: на банкетах и церемониях, в составе роскош¬
ной процессии, совершавшей паломничество в храм Сумиёси,
и в различных ситуациях обыденной жизни: в компании друзей,
в обществе своей возлюбленной, Кумой, в покоях отца, в доме
То-но Тюдзё, в семейной обстановке — с женой и детьми, в доме
Отиба (вдовы Касиваги, которую он вначале опекал в соот¬
ветствии с завещанием своего друга, а затем полюбил). В по¬
следних главах романа он фигурирует как крупный государст¬
венный деятель и отец большого семейства, прилагающий энер¬
гичные старания к устройству своих дочерей.Переломным моментом в его личной жизни оказывается
встреча с принцессой Отиба. Годами хранимая верность одной
женщине — жене Кумой сменилась обычной ситуацией факти¬
ческого двоеженства, которая воспринималась им как сама со¬
бой разумеющаяся. Новая любовь открывает новую черту его
духовного облика — тонкое восприятие природы, эстетически
окрашенную чувствительность (любование луной с балкона
загородного дома Отиба).Довольно продолжительна в романе жизнь Тамакадзура.
Она появляется в третьей части романа, в одноименной главе, и
по существу «живет» на протяжении всего последующего худо¬
жественного времени романа. Впервые она предстает перед чи¬
тателем четырехлетней девочкой, которую няня и ее муж уво¬
зят в далекую провинцию на остров Цукуси, .куда получил на¬
значение муж няни. Здесь она проводит детство (о котором, по
существу, ничего не говорится) и юность, раскрытую только
с одной стороны: домогательства женихов из местной знати.
Этот этап жизни Тамакадзура резюмируется так: видя бесплод¬
ность попыток няни оградить ее от назойливости местных «же¬
нихов» и увезти обратно в столицу, она «научилась смотреть
на жизнь как на бесконечную цепь печалей и разочарований».
Однако суровая жизнь в провинциальной глуши воспитала в
ней волю и характер.Следующая ступень раскрытия образа: двадцатилетней де¬
вушкой Тамакадзура приезжает в столицу, где ее берет на по-182
печение Гэндзи, и вскоре превращается в «временную краса¬
вицу, которая могла бы составить безукоризненную партию для
любого преуспевающего молодого человека». Ее руки добивают¬
ся и принц Соти-но мия, и Касиваги, и один из самых влиятель¬
ных лиц при дворе —цринц Хигэкуро. Тамакадзура переживает
серьезное увлечение Гэндзи. Новая ступень — период разоча¬
рования: ее выдают замуж за нелюбимого Хигэкуро. Тамакад¬
зура, по натуре общительная, полная оптимизма, в его присут¬
ствии делалась неузнаваемой, «становилась мрачной, раздра¬
жительной, резкой». На этом этапе выявляется еще и другая
грань ее характера: дети Хигэкуро полюбили Тамакадзура,
«ибо она обладала необыкновенной способностью внушать к
себе симпатии и любовь людей самого различного положения
и возраста, где бы она ни появлялась («Макибасира»). Далее
образ переходит в план эпизодических упоминаний.Итак, Тамакадзура является героиней значительной части
романа, ее художественная биография развертывается на про¬
тяжении целого ряда последовательно сменяющих друг друга
глав, однако время ее активного бытия в романе сравнительно
непродолжительно. Это возраст примерно от двадцати и до
двадцати трех лет (до замужества).Сравнительно короткая художественная биография Касиваги,
старшего сына То-но Тюдзё. Однако же она позволяет автору
показать этого героя с разных сторон — как одаренного музы¬
канта и приятного, куртуазного собеседника, как человека
цельного, способного к глубокому чувству, упорного в достиже¬
нии своей цели, но тяжело переживающего свои жизненные
неудачи и болезненно воспринимающего чужое превосходство.О Касиваги впервые упоминается во второй части романа,
и далее он спорадически фигурирует в эпизодах последующих
глав. Так, в главе «Бабочки» о нем сказано, что он имел невы¬
сокий ранг и считался наиболее серьезным и знающим челове¬
ком из братьев (сыновей То-но Тюдзё). Из этой главы, а так¬
же из главы «Макибасира» выясняется, что он безуспешно
добивается руки Тамакадзура. О его первом письме к ней го¬
ворится как о «наиболее элегантном» из всей ее коллекции,
написанным рукою, «сочетавшей удивительную оригинальность
с пристрастием к последней моде» («Бабочки»). После того как
Тамакадзура была «возвращена» своему настоящему отцу То-
ио Тюдзё, Касиваги «занял позицию чрезвычайно полезного,
услужливого и очаровательного брата», «Возможно, однако,—
добавляет писательница, — что он относился к ней с любовью
несколько большей, чем братская» («Макибасира»).Гэндзи в этот период высказывается о Касиваги как о
человеке «тихом и неуверенном в себе», однако не ли¬
шенном одаренности. Несколько позже он с похвалой отзывается
о его игре на цитре: «Твой отец был всегда признанным испол¬
нителем на цитре, но ты превзошел и его» («Свет факелов»).183
Своей художественной зрелости данный персонаж достигает
в главах «Молодая поросль» и «Касиваги», на протяжении ко¬
торых последовательно раскрываются основные черты его об¬
лика.Его отношение к Нёсан обнаруживает глубину чувства и
неуклонность стремления к заветной цели (что ранее уже на¬
метилось в его отношении к Тамакадзура). Однако, овладев
Нёсан, он не обретает желанной взаимности, это приводит к
нравственному конфликту, усугубляемому далее муками ревно¬
сти (к Гэндзи). Конфликт достигает кульминации в главе
«Касиваги», когда герой узнает, что его связь стала известна
Гэндзи (последний обнаружил у Нёсан его письмо). К мукам
неразделенной и обманутой любви добавляются муки, связан¬
ные с глубоким сознанием вины перед Гэндзи, который был
его другом. В результате этих переживаний Касиваги тяжело
заболевает и умирает. Смерть представлялась ему единствен¬
но возможным разрешением внутреннего конфликта, ибо «он
считал, что своим поступком лишал себя права на существо¬
вание вообще».В этой же главе выявляется главная черта характера Каси¬
ваги, которая многое объясняет в его поведении в предшествую¬
щих главах романа: болезненное самолюбие и нетерпимость к
чужому превосходству. «С самого детства он не мог преодолеть
в себе сознания своей неполноценности. В большом и в малом
он проявлял себя одинаково: если он не мог завоевать приз,
выиграть игру, получить более высокое назначение, у него тут
же возникало глубокое чувство презрения к самому себе, и вся
его жизнь начинала ему казаться совершенно бесполезной...
И теперь, когда дела у него были действительно плохи, как
никогда, чувство презрения к себе было настолько всепогло¬
щающим, что всякая мысль о его земном существовании была
невыносима для него...»Многие образы, прежде всего женские, раскрываются на про¬
тяжении двух-трех глав, и время их активного художественного
бытия еще более кратко (от одного месяца до одного года).
Например, характер Акаси дан в одноименной главе и частично
в нескольких последующих — «Путеводные огни», «Ветер в сос¬
нах», «Редкие облака».Акаси, подобно Тамакадзура, впервые предстает перед чи¬
тателем в обстановке тихой провинциальной жизни (в семье
отшельника), девушкой, «не знающей света», однако «благород¬
ного происхождения». Во взаимоотношениях с Гэндзи посте¬
пенно раскрываются ее душевные качества (мягкость характе¬
ра, терпимость, преданность и т. д.), выявляются такие черты
ее облика, как изящество манер, выдержка, чувство собствен¬
ного достоинства. В конце своего пребывания в ссылке Гэндзи
обнаруживает у нее талант музыканта — она прекрасно игра¬
ет на цитре. Несколько позже выясняется, что она к тому же
обладательница «безупречного почерка, который сделал бы
честь самой высокопоставленной даме» («Акаси»).Для нее характерно, хотя и в меньшей степени, чем для
Уцусэми, сознание своего низкого положения в обществе, ко¬
торое долго удерживает ее от переезда в столицу.Этот комплекс особенно четко выявляется во время ее па¬
ломничества к святыне Сумиёси, когда она случайно сталкивает¬
ся с пышной процессией Гэндзи, и эта встреча еще раз убеж¬
дает ее в скромности ее собственного положения — она предпо¬
читает остаться неузнанной.После переезда из Акаси в загородный дворец неподалеку от
Хэйана (который Гэндзи построил для нее) она показана лю¬
бящей и нежной матерью (жизнь ее заполняется заботами о
ребенке, дальнейшая судьба которого ее постоянно беспокоит).
Редкие и короткие визиты Гэндзи не удовлетворяют ее, она
знает о его отношениях с другими женщинами и не питает
радужных надежд на будущее. Ее не привлекает перспектива
быть «одной из многих», поэтому она долго не соглашается пе¬
реехать во дворец Гэндзи в Хэйане, однако в конце концов ми¬
рится со своей участью как с неизбежностью. Примирительная
позиция в сочетании со свойственной Акаси рассудительностью
побуждает ее дать согласие на передачу маленькой дочери на
попечение Мурасаки, поскольку это открывало перед девочкой
лучшие перспективы, несмотря на то что расставание с ребен¬
ком было большой травмой для нее. На этом раскрытие харак¬
тера Акаси, по существу, завершается.Уцусэми показана сначала в столице, во время любовного
свидания с Гэндзи, а затем в непринужденной обстановке,
когда она играет в шашки со своей подругой, а Гэндзи испод¬
тишка наблюдает за ними (вторая и третья главы). Затем она
надолго «исчезает» со страниц романа, и читатель знает толь¬
ко, что она прерывает отношения с Гэндзи и отказывается от
его любви.Во взаимоотношениях с Гэндзи ярко проявились ее чувство
собственного достоинства и глубокая убежденность в непрео¬
долимой пропасти, лежащей между ними, ее принципиальность
и решительность, твердость характера, благодаря чему только
и смогла она устоять перед красотой и обаянием Гэндзи.Она появляется снова в главе «На границе», где описана
ее случайная встреча с Гэндзи: Гэндзи возвращается из ссыл¬
ки, а Уцусэми с мужем — из провинции, где ее муж отслужил
назначенный срок. Эта встреча выявила ее постоянство в люб¬
ви (она по-прежнему любит Гэндзи) и в убеждениях (как и
раньше, она считает, что между ними не может быть ничего
общего из-за огромной разницы в общественном положении).
После смерти мужа Уцусэми решает постричься в монахини. По¬
следний раз мы встречаем Уцусэми уже в монашеском облике,
подтверждающем последовательность ее убеждений. Между185
главами «Уцусэми» и «На границе» этот персонаж практиче¬
ски не упоминается (если не считать беглого сопоставления
Уцусэми с Суэцуму-хана в главе «Цветок шафрана»).Примерно по такой же схеме конструируется и образ прин¬
цессы Суэцуму-хана. Мурасаки Сикибу обстоятельно представ¬
ляет ее в одноименной главе, где раскрываются главные черты
ее внешнего и внутреннего облика. Затем в главе «Дворец в
зарослях» она предстает в новой обстановке: ее дворец полу¬
разрушен от времени, сад запущен, почти вся прислуга поки¬
нула ее. Она и раньше была нелюдимой, а теперь вовсе пре¬
секла всякие связи с внешним миром. Одиночество, замкнутость
Суэцуму-хана углубляются, а старомодность приобретает новые
черты: в дополнение к прежней старомодной манере одеваться
обнаруживается полное неприятие всяких нововведений. Гэндзи,
посетивший ее после долгого перерыва, с удивлением замечает,
что каждая вещь, будь то предмет обстановки или украшение
ее гостиной, сохранилась на том же месте, где он видел ее во
время своего последнего визита несколько лет назад и где ее
поместил еще покойный отец Суэцуму-хана.В то же время выявляется новая черта ее характера: спо¬
собность к глубокому чувству и постоянству. Она по-своему
полюбила Гэндзи и все эти годы верно ждала его. Когда Корэ-
мицу (слуга Гэндзи) с трудом пробился через густые заросли
заброшенного сада во внутренние помещения дворца, встре¬
тившая его старая служанка говорит: «...если бы она день
и ночь не ждала вашего знаменитого принца, разве могла бы
она до сих пор жить в этом запустении?»В третий раз Суэцуму-хана показана лишь в коротком эпи¬
зоде. Изображая Суэцуму-хана в новой обстановке — во двор¬
це Гэндзи, «уже поседевшей», однако не изменившей прежним
привычкам и вкусам, писательница показывает, что она в це¬
лом довольна своей участью и ничего другого не желает.Ступенями и лишь в общих чертах разиваются на страни¬
цах романа характеры Кумой (сначала юная девушка и пре¬
данная возлюбленная Югири, затем — мать, ревнивая жена и
женщина весьма решительного характера); Акиёси (которая
из маленькой, хрупкой, застенчивой девушки становится полной
достоинства, светской женщиной, из юной жрицы храма—ве¬
личественной императрицей); Нёсан (юной и жизнерадостной
девушкой приходит она во дворец Гэндзи, искренне привязы¬
вается к Гэндзи, затем увлекается Касиваги, однако усиленные
домогательства последнего и почти насильственное овладение
ею наносят ей глубокую душевную травму, которая усугубляет¬
ся после того, как Гэндзи обнаруживает у нее полное упреков
письмо Касиваги. Нёсан, не видя другого выхода из создавшей¬
ся ситуации, постригается в монахини).Стоит отметить еще один интересный прием в подаче персо¬
нажей романа, который можно охарактеризовать как ассоциа-186
тивное предварение: намек на существование персонажа до то¬
го, как он начинает действовать в романе. Это заранее фор¬
мирует определенный подтекст, который сразу же «вступает в
силу», как только появляется соответствующий персонаж, до¬
полняя его проявления в романе. Например, таким образом
предваряется появление в романе Югао, которой посвящена
одноименная глава (четвертая). Во второй главе «Дерево-мет¬
ла» друг Гэндзи То-но Тюдзё рассказывает об одном из своих
похождений, героиней которого была молодая женщина по
прозвищу «Вечное лето», То-но Тюдзё обрисовал многие черты
ее характера («она нежна и заботлива», «ровна и приветлива»,
«доверчива»,, «мила... необыкновенно»), и сообщил, что испу¬
гавшись, как видно, преследования со стороны его официаль¬
ной жены, она неожиданно скрылась, и будучи сиротой, .к тому
же с маленькой девочкой на. руках, «наверняка влачит жалкое
существование». .Этот рассказ То-но Тюдзё, присутствуя в качестве ассоциа¬
тивного подтекста в главе «Югао», позволяет многое понять
в характере и поведении Югао, в частности, почему она «ста¬
рательно таится» от людей, объяснить ее робость и скрытность.
Без этого подтекста трудно уловить и эволюцию образа. Замк¬
нутая, 'таящаяся от людей, Югао проникается искренним до¬
верием к Гэндзи и готова следовать за ним куда угодно. И если
для То-но Тюдзё она так и осталась загадкой, то во взаимЬ'-
отношениях с ГэндЗи полностью раскрывается ее нежная, лю¬
бящая, искренняя, глубоко преданная натура.Когда Гэндзи после гибели Югао приехал в горный храм
для исцеления от нервной горячки, один из членов его свиты,
указав на залив Акаси вдали, рассказал ему о некоем отшель¬
нике, бывшем губернаторе, которому прочили в свое время
большое будущее, но человек этот обладал замкнутым, незави¬
симым и угрюмым характером; он не поладил с местной знатью,
постригся в монахи и поселился на побережье Акаси. Однако
он не удалился в горный скит, а построил на берегу моря дом,
роскошно обставил его и поселился в нем с женой и дочерью.
Отшельник был известен праведной жизнью, и своей дочери он
сказал, что дух его настигнет и покарает ее, если она выйдет
замуж против его воли. Дочь была достаточно привлекательна
внешне и отнюдь не глупа, многие добивались ее руки, однако
получили отказ. Рассказанная история произвела глубокое впе¬
чатление на Гэндзи. Таким образом, за семь глав до главы
об Акаси Мурасаки Сикибу как бы предупреждает читателя о
ее появлении на страницах романа, дает о ней общее представ¬
ление и вводит в ту обстановку, в которой произойдет ее встре¬
ча с Гэндзи.Биографии героев третьего поколения более кратки (в (урав¬
нении с главными героями основной части романа — собственно
повествования о Гэндзи), однако часто более богаты и насы¬187
щены событиями, сменой ситуаций и не обнаруживают той
фрагментарности, что присуща раскрытию многих образов
представителей второго поколения. Их эволюция связана, как
правило, с пространственными перемещениями. Прежде всего
это касается мужских персонажей — Каору и Ниоу. Важным
стимулом эволюции характера и отношения к жизни служат
для обоих поездки в Удзи. Именно здесь под влиянием принца
Хати, ведущего отшельническую жизнь, формируется жизнен*
ное кредо Каору, проистекающее от осознания эфемерности
жизни, решимость посвятить себя служению религии. Важным
этапом в развитии этого образа было раскрытие тайны его
рождения (о ней рассказывает ему старая монахиня Бэн-но
кими — ее мать служила в доме Касиваги), о которой он рань¬
ше лишь смутно догадывался, связывая с нею пострижение в
монахини своей молодой матери (Нёсан). Это усугубило свой¬
ственное Каору пессимистическое восприятие жизни и углубило
его замкнутость.Каору показан и с других сторон: как внимательный и за¬
ботливый сын (по отношению к Нёсан) и друг (по отношению
к осиротевшим сестрам Окими и Нака-но кими), как человек,
преуспевающий по службе (в конце .концов он дослужился до
генеральского чина). Каору свойственна непоследовательность:
глубоко постигнув учение Будды и будучи убежден в необхо¬
димости вступить на путь последовательного служения вере,
ведя, по существу, праведную жизнь, он тем не менее не поры¬
вает с мирской жизнью. Более того: он продолжает добивать¬
ся встречи со своей возлюбленной Укифунэ даже после того,
как она стала монахиней, не будучи в состоянии примириться
с этим фактом.Эволюция Ниоу-но мия в известной части повторяет схему
развития характера Гэндзи. Побудительным мотивом его по¬
ездок в Удзи был поиск любовных приключений. Однако его
привязанность к Нака-но кими, а затем к Укифунэ меняет его
взгляды на жизнь и на любовь. Появляется желание посвятить
себя (хотя бы на время) одной женщине, и он просит свою мать
не торопить его с женитьбой на «первой принцессе». Отноше¬
ние Ниоу-но мия к Укифунэ и восприятие известия о ее траги*
ческой гибели как тяжелого удара раскрывают его способное^
не только глубоко любить, но и сильно страдать.В обстановке столичной и провинциальной (Удзи) жизни
предстают в романе Нака-но кими и Укифунэ, однако в отли*
чие от мужских персонажей, постоянно меняющих свое место¬
пребывание (важное место в формировании их образов зани¬
мает дорога из столицы в Удзи и обратно, в ходе которой воз¬
никают определенные мысли, раскрываются переживания, ана¬
лизируется отношение к пережитому, окружающая природа
стимулирует их самовыражение), они меняют обстановку од¬
норазово. Нака-но кими сначала живет в Удзи и показана во188
взаимоотношениях с сестрой и с отцом, а затем во взаимоотно'
шениях с Каору, любовь которого она отвергает, и с Ниоу-но
мия, возлюбленной которого она становится. Последнее обсто-
ятельство обусловливает ее переезд в столицу в качестве офи¬
циальной возлюбленной Ниоу-но мия. Здесь она сполна познает
«горечь жизни» (до этого в Удзи ее постигло двойное горе: сна¬
чала она потеряла отца, а вслед за этим и любимую сестру
Окими), переживает муки ревности (после женитьбы Ниоу-но-
мия на Року-но кими) и выступает очередным воплощением
«незавидной участи» хэйанской женщины. В столице Нака-но
кими раскрывается и с других сторон —как любящая ceciipa
(принимает живое участие в судьбе Укифунэ, стараясь устро¬
ить ее счастье с Каору), вместе с тем она обнаруживает такие
качества, как верность, твердость, принципиальность (она по-
прежнему не идет навстречу любви Каору, хотя и находит уте«-
шение в беседах с ним, — на этот раз она видит препятствие
в своем общественном положении официальной возлюбленной
знатного аристократа).Укифунэ, наоборот, сначала показана в столице, куда она
приехала с матерью в гости к Нака-но кими. Здесь она ока¬
зывается случайной жертвой «любовного любопытства» принца
Ниоу-но мия, тайно проникающего в ее комнату. Так проис¬
ходит завязка ее душевного конфликта. Затем она постоянно
находится в провинции — в своем «доме на окраине» (адзу-
мая) и в Удзи. Она становится возлюбленной Kaoipy, предпо¬
лагая в нем своего столичного «ночного гостя». Однако Ниоу-но
мия еще раз посредством хитрости проникает к Укифунэ, и
перед ней раскрывается весь драматизм сложившейся ситуа¬
ции. Она глубоко страдает и видит единственный выход для
себя в самоубийстве, а после того как попытка самоубийства
окончилась неудачей (ей помешал глубокий обморок), она не
видит для себя иного выхода, кроме пострижения в монахини.Для Окими (в отличие от всех этих персонажей) Удзи оста¬
ется пространственной константой, развитие ее характера про¬
исходит по мере смены жизненных ситуаций: во взаимоотноше¬
ниях с сестрой, с отцом, с Каору постепенно углубляется ее
пессимистический взгляд на жизнь и крепнет намерение уйти
из жизни. Она отказывается принимать пищу, заболевает н
умирает.Некоторые образы романа статичны. Статичен образ Кири¬
цубо. Кирицубо фигурирует только в одной главе, ее образ
раскрывается не столько посредством ее собственных действийг
и эмоций, сколько через восприятие окружающих (в основном
она живет в мыслях и чувствах императора), авторские опи¬
сания и характеристики. Если в воспитании Югао решающую
роль сыграла любовь Гэндзи, то главным движущим мотивом
раскрытия образа Кирицубо оказывается ненависть окружаю¬
щих: она приносит ей постоянные страдания и в конце концов:189*
приводит к гибели. Это единственный персонаж в романе, рас¬
сказ о котором не имеет продолжения в дальнейшем ходе по¬
вествования и полностью завершается в пределах главы (в
отличие, скажем, от Югао, что продолжает жить в воспомина¬
ниях Гэндзи и других героев).Несколько статичны и образы Аои и Асагао. В Аои посто¬
янно подчеркивается гордая красота и отчужденность по отно¬
шению к Гэндзи. Аои не может и не хочет мириться с изменами
мужа, не может простить ему его легкомыслия. Холодная, кра¬
сивая, величественная, Аои даже не справилась о его здоровье,
когда он зашел к ней по возвращении из горного храма (куда
ездил, чтобы заговорить себя от нервной горячки) («Юная Му¬
расаки»). Аои специально посвящена одноименная глава, од¬
нако персонаж этот неоднократно упоминается и прежде, на¬
чиная с первой главы.Характер Асагао в основном раскрывается в одноименной
главе (девятнадцатой), которой однако предшествуют упоми¬
нания этого персонажа в более ранних главах (начиная со
второй).В характере Асагао проявляется нетерпимость к узаконен¬
ному в свете мужскому непостоянству (в силу которой она не¬
доверчиво относится к любовным уверениям Гэндзи), твердость
(побуждающая Асагао решительно отвергнуть его любовь) и
целеустремленность: она последовательно готовит себя к вступ¬
лению в религиозную жизнь.В создании этого образа автор прибегает еще к одному весь¬
ма своеобразному приему: вводя персонаж в текст впервые (во
второй главе), Мурасаки, однако, пишет о нем так, как будто
он уже знаком читателю. Гэндзи в доме Иё-но сукэ (мужа
Уцусэми) прислушивается к женским разговорам за ширмой и
случайно улавливает, что женщины обсуждают стихотворение,
которое он послал дочери главного церемониймейстера вместе
с цветком «асагао» («утренний лик»).Статичен по существу и образ То-но Тюдзё, хотя жизнь это¬
го персонажа в романе не менее, если не более, долгая, чем
жизнь Гэндзи. Он появляется во второй главе как друг Гэндзи,
разделяющий его интересы и увлечения, навещает его в ссылке,
затем многократно показан в обстановке парадной жизни дво¬
ра. Он «переживает» Гэндзи в романе и стоит, если можно так
выразиться, на первом месте по абсолютной продолжительно¬
сти художественного бытия (он доживает до глубокой старо¬
сти и, как и Югири, не умирает в романе). Однако показаны
лишь отдельные эпизоды его жизни. Образ принадлежит к чис¬
лу наименее ярко выраженных и часто используется в основном
для того, чтобы оттенить те или иные черты облика Гэндзи
(особенно в тех ситуациях, когда они предстают как соперники).Образную нагрузку часто несут и имена персонажей, состав¬
ляя важный компонент художественного образа в целом. В име-190
нах по-своему выражена такая особенность традиционного поэ¬
тического образа, как эмблематичность. Последняя проявляет*
ся в запрограммированной связи содержания, выражаемого
именем, с содержанием самого человеческого образа. Имя —не
просто название персонажа, но и своего рода эмблема его. Име-
на осмысленны, они имеют реальное лексическое значение, ко¬
торое символизирует общий склад или важную черту харак¬
тера персонажа, либо ситуацию, в которой данный персонаж
наиболее ярко себя проявляет, либо олицетворяют его судьбу,
либо, наконец, какие-то важные детали его художественного
бытия. Например, имя Югао в лексическом значении — «вечер¬
ний лик», или «цветок вьюнка». Цветок вьюнка символизирует
скромность. Молодая женщина получила это имя-прозвище по
ассоциации со скромными, беленькими цветочками, что росли
вдоль ветхого забора, которым был обнесен ее дом. Скромность
была одной из главных черт характера Югао.Цветок вьюнка символизирует и недолговечность: он зацве¬
тает к вечеру и к утру уже отцветает. Таким образом, имя сим¬
волизирует судьбу героини: ее ранний уход из жизни. Наконец,
Югао, подобно вечернему цветку, изображается в романе на
фоне вечера, в сумерках, т. е. имя ее выступает трояким сим¬
волом: судьбы, характера и времени действия лерсонажа.Уцусэми — «пустая скорлупка цикады». В этом имени зало¬
жен и буддийский смысл эфемерности бытия, по-своему пре¬
ломляемый в судьбе героини, и конкретно-ситуативный смысл:
ухаживания Гэндзи за этой женщиной не принесли ему успеха.
И, наконец, имя символизирует судьбу женщины, молодость
которой бесплодно увяла.Югири — «вечерний туман». Образ заранее ассоциируется с
осенью, причем с поздней осенью с ее густыми туманами. Это
человек, который способен к сильным чувствам и глубоким
переживаниям: к большой любви, глубокой депрессии. Он и изо¬
бражается автором на фоне пейзажа поздней осени: осенней бу¬
ри, тайфуна.С эмблематичностью тесно связана многозначность имени-
образа. Упомянутое ранее имя-образ Укифунэ, имеющее двоя¬
кий смысл, служит и двояким символом: девушка, названная
этим именем, словно плывет по течению, не ведая куда (Уки¬
фунэ— «плавучая ладья»), и участь ее оказывается действи¬
тельно печальной (оправдывая второе значение «уки», как си¬
нонима «уси» — «печальный», «горький»).Итак, в изображении человека в романе Мурасаки Сикибу
ярко проявились особенности ее творческого метода. Мурасаки
стремится к воспроизведению реальных людей, к воплощению в
художественных образах человеческих качеств и тенденций, на¬
иболее показательных для своей среды и своего времени. На¬
пример, для такой существенной черты духовного облика хэй-
анца, как «ирогономи», очень убедительна и реалистична мета¬191
морфоза Югири, совершающаяся в ходе развития его харак¬
тера: от исключительной верности и убеждения в недопустимо¬
сти для себя измены любимой женщине в принципе к самому
банальному нарушению супружеской верности, понимаемому им
как естественное, само собой разумеющееся. Эта реалистичность
прорывает границы канона и литературного этикета. Последние
проявляются у Мурасаки Сикибу, нацример, в наделении ге¬
роев такими «установленными» качествами, как внешняя кра¬
сота, тонкость чувств, художественный вкус, благородство, у
мужчин — ум, образованность, у женщин — кротость, терпи¬
мость, выдержка.Ради «истинности» Мурасаки сплошь и рядом отступает от
этих установок. Например, положительные героини Югао и
Уцусэми не отличаются особой внешней красотой. А с точки
зрения внутренних свойств обращает на себя внимание целая
группа женских персонажей, воплощающих качества, не одоб¬
ряемые в женщине, при том что большинство из этих персо¬
нажей отнюдь не являются отрицательными (Уцусэми, Аои,
Кумой, Асагао, Рокудзё). Реалистичность явно берет верх
над этикетностью и традиционностью.При создании образа человека Мурасаки Сикибу прибегает
к идеализации, этому неизбежному приему средневекового ис¬
кусства, однако она же сама в значительной степени и преодо¬
левает эту идеализацию.Художественное обобщение дополняется у Мурасаки индиви¬
дуализацией персонажей, что связано с характерным для тра¬
диционного мировоззрения вниманием к «внутренней сути ве¬
щей» («моно-но кокоро»). Применительно к каждому человеку
в отдельности ее составляют те черты и свойства, которые вы¬
деляют его среди других (фатальная неуверенность в себе
Каору, «комплекс неполноценности» Касиваги и др.). У жен¬
ских персонажей «внутренняя суть» в большинстве случаев
равнозначна «моно-но аварэ», т. е. в каждой женщине выяв¬
ляется ее «неповторимое очарование». Можно сказать, напри¬
мер, что Фудзицубо и Югао представляют варианты воплоще¬
ния «печального очарования вещей».Итак, образ человека у Мурасаки Сикибу складывается из
качеств, характеризующих его как представителя определенной
•среды и эпохи, и его индивидуальных свойств. Герои романа
воплощают наиболее показательных представителей хэйанского
общества с характерными для них взглядами на вещи, отноше¬
нием к жизни, вкусами, интересами и устремлениями.Роль и место природы в «Гэндзи моногатари»Исследование характера и структуры художественного об¬
раза в традиционной литературе Японии невозможно без уяс-192
нения роли природы в этой структуре. Воспитанный в аними¬
стических традициях синто, древний японец не мыслил себя в
отрыве от природы. Эта традиция была закреплена и усилена
наследованными извне буддийско-даосскими представлениями
о единстве всего сущего.Природа занимала огромное место в жизни древнего и сред¬
невекового японца. Значительную часть его досуга составляло
времяпрепровождение на лоне природы. Жизнь его была, по су¬
ществу, нераздельна с жизнью природы. В картинах и образах
природы японец видел живую аналогию человеческому бытию.
Он искал и находил в природе отклик на собственные душев¬
ные движения. Ее явления и картины, изменения, в ней проис¬
ходящие, воспринимались в гармоническом единстве с челове¬
ческими эмоциями.Это эмоциональное единение с природой нашло отражение
уже в лирических песнях «Кодзики» и особенно в «Манъёсю».
Радость ли у него на душе, опечален ли он — поэт неизменно
обращается к природе, ища у нее сочувствия, улавливая сопе¬
реживание. Лирика природы гармонически сливается с лириз¬
мом субъективного переживания (см. [281, т. 1, с. 39]).Не удивительно, что и смысл буддийского учения об иллю¬
зорности и непостоянстве всего земного воспринимался в обра¬
зах природы. Именно природа, постоянно демонстрирующая
свою изменчивость — смену времен года, краткость поры рас¬
цвета и т. д., как нельзя лучше олицетворяла идеи буддизма.
Опадающие цветы вишни живо напоминали о скоро проходя¬
щей молодости, в образе пены на глади воды представлялась
поэту эфемерность человеческого бытия, опавшие листья,
сорванные осенним ветром и гонимые неведомо куда, олицетво¬
ряли в его глазах неисповедимость «конечного пути в жизни»
и т. д. «Именно эти образы, а не оскаленный череп или разру¬
шенная лестница заброшенного дома всегда служили им (япон¬
цам.—Я. Б.) живым напоминанием о том, что все прекрасное в
этом мире — недолговечно, мимолетно» [353, с. 110J. Преломле¬
ние этих идей в картинах и образах природы способствовало
и формированию более примирительной, чем у европейцев, ре¬
акции на всеобщий удел. Показательно стихотворение Мура¬
саки Сикибу:Этот мир —Почему должны мы жалеть о нем?Ведь, в сущности, это —Горная вишняВ пору любования цветами.Буддийское влияние в течение нескольких столетий сделало
свое дело — такое восприятие всеобщего удела укрепилось в
сознании и приняло характерную для данной культуры форму
выражения в образах природы.Человек чутко реагировал на любые изменения в природе.13 Зак. 654193
Не заметить их он не мог, а не отозваться считал для себя
недопустимым. Характерна следующая запись в «Дневнике
Идзуми Сикибу»: «...в ту ночь лил дождь, лил более беспощад¬
но, чем всегда, и казалось, ни одного листа не должно сохра¬
ниться на ветвях деревьев. Дама проснулась и прошептала про
себя: „Как светильник пред ветром... Листья все, должно быть,
опали. Какой стыд, что они не ходили вчера полюбоватся
нми!“ — подумала она и уже не могла заснуть остаток ночи»
[28, с. 430].К синто и древнему анимизму восходит укоренившаяся тра¬
диция одухотворения природы. Природа издревле воспринима¬
лась как обиталище бесчисленных божеств, с которыми чело¬
век находился в постоянном контакте. Период раннего средне¬
вековья характерен возросшим интересом к человеку и его эмо¬
циональному миру. С этим связаны и сосредоточенность япон¬
ской поэзии на лирическом содержании (по существу, вся япон¬
ская поэзия к X в. приняла лирический характер) и широкое
развитие других лирических жанров-—лирической повести и
дневника. Привлечение особого внимания к человеку и его’душе,
к «жизни сердца» привело к известной модификации образных
форм, в которых выражалось слияние человека и природы. Осо¬
бое развитие получило олицетворение природы. В нем, по су¬
ществу, нашли отражение обе указанные тенденции: восходящее
к древности одухотворение природы и характерное для раннего
средневековья возрастание интереса к человеку и сфере его
чувств.Многие исследователи ранней японской поэзии отрицали
наличие в ней олицетворения природы, считали, что эмоциональ¬
ное слияние человека и природы исключает ее художественную
персонификацию. Такова была позиция известного английского
исследователя .классической японской поэзии Б. X. Чемберлена
[337а, с. 7]. У нас аналогичную точку зрения высказывал, на¬
пример, С. Е. Елисеев: «Японец не олицетворял природы, он жил
ее настроениями, не внося в нее своих чувств». И далее: «В силу
такого взгляда японец не мог обратиться к природе, как к чему-
то живому, себе подобному. Но вместе с тем для него вся при¬
рода живет каждою своею частью, и он ее нежно любит и эту
любовь выражает в том, что обожествляет окружающую его
природу» (293, с.42].Чтобы убедиться в том, что это не так, достаточно взять-
любую поэтическую антологию Хэйана. Если для древнеяпон¬
ской поэзии олицетворение не характерно, то в поэзии раннего
средневековья оно представлено большим разнообразием видов
и форм. Человек не только одухотворяет природу, но и вносит
в нее свои чувства и даже применяет к ней свои критерии. «Об¬
разы природы служат теперь отражению не столько „аварэ“,
заключенного в ней самой, сколько прекрасного и трогательно¬
го в мире человеческих чувств» [271, с. 18].194
Бесспорно, это была персонификация иного рода, отличная
от западноевропейской. Если последняя является результатом
художественного отвлечения от предмета, то олицетворение
природы в японской литературе есть следствие слияния худож¬
ника с изображаемым, когда эмоции человека естественно пе¬
реносятся на природу.Японские поэты наделяли животных, птиц, насекомых чело¬
веческими чувствами, способностью переживать эмоции, связан¬
ные с различными временами года; весеннюю грусть, осеннюю
тоску, сожаление об увядании природы — как в песне Фудзивара
Нотинагэ:Чу, голос соловья
С горы Тацута,Окутанной весенней дымкой.Не о цветах ли опадающих
Грустит он? [82, № 107]Дикие гуси, улетая осенью в теплые края, с грустью и сле¬
зами покидают родные места:У дома моего,Приюта грустных дум,На листьях хаги — роса.Быть может, это слезы гусей,Что пролетают, крича? [82, Jsfe 221]Человеческими чувствами и свойствами наделяются и пред¬
меты неживой природы. У Отомо Куронуси олицетворение соз¬
дает образ плачущей природы, скорбящей по поводу того, что
отцветает вишня:Весенний дождь —Не слезы ль это?Нет человека,Что не пожалел быО вишни опадающих цветах [82, № 88]Этот контакт с природой был органичен для японца. Поэто¬
му применение термина «олицетворение» к японской поэзии
средних веков в известном смысле условно. Эта художественная
образная форма отражает формы самого мышления, и сами
японские поэты не воспринимали олицетворение природы как
литературный прием (об этом говорит и отсутствие специаль¬
ного термина, обозначавшего «олицетворение». Термин —- «гид*
зин» — появился только к XX столетию).Такое восприятие природы было унаследовано и художест¬
венной прозой, опирающейся в своих изобразительных средст¬
вах на опыт лирической поэзии.Жизненные ситуации в «Гэндзи моногатари» часто развер¬
тываются в контексте пейзажа, этим подчеркивается нераздель¬
ность природы и человеческого бытия. Показателен отрывок,
повествующий о свидании Гэндзи с Югао: «При свете заходя¬
щей предутренней луны женщина призадумалась: так неждан-13*195
но все это произошло н так волновало своей неизвестностью.
Призадумалась она и заколебалась. Пока Гэндзи убеждал ее,
луна вдруг скрылась за облаками, и стал очень красив этот вид
светлеющего неба...Когда они добрались до одного уединенного домика, здесь
же, поблизости, Гэндзи — пока вызывали смотрителя — огляды¬
вал это жилище: в полуразрушенных воротах разрослась гу¬
стая трава, под деревьями стояла совершенная темень. Туман
был так густ и роса так обильна, что когда Гэндзи стал под¬
нимать занавески экипажа, то сильно намочил свои рукава.„Никогда я не бывал еще в таких делах! Да... нелегко все
зто...“ — подумал он...— ...А тебе все это — не внове, вероятно? — обратился он
к Югао.— ...Мне отчего-то очень грустно! — сказала она и ,как буд¬
то чего-то боялась, чего-то страшилась» («Югао») [302, с. 634].Картины природы не просто гармонируют с душевным состо¬
янием персонажей, — в них оно находит свое отражение. По
существу, они являются компонентом эмоционального мира ге¬
роев и потому часто заменяют описание самих чувств, как в
следующем эпизоде (после смерти Кирицубо император отправ¬
ляет к ее матери придворную даму): «Когда посланная достиг¬
ла дома умершей и въехала в ворота, зрелище, представивше¬
еся ее взору, было очень печально. Хотя это и было жилищем
вдовы, но так ,ка,к она все время думала о своей дочери, то до
последнего времени держала дом в полном порядке, и кругом
все имело приветливый вид. Но теперь, когда она, погрузившись
во мрак, пребывала в горе, трава выросла высоко, при „про¬
низывающем поля“ ветре все приняло еще более неприютный
вид, и только свет луны беспрепятственно проникал внутрь, не
смущаясь разросшейся буйно травой» [302, с. 591—592].Несколько позже, когда посланная прощается с вдовой,
спеша обратно во дворец доложить обо всем государю, следует
такое описание: «Луна склонялась к закату. Небо было чисто и
прозрачно. Ветер веял прохладой. Голоса насекомых в „селени¬
ях трав“ как будто исторгали слезы. Трудно было уйти из этого
обиталища травы...» [302, с. 594].Автор, по существу, не описывает ни душевного состояния
матери Кирицубо, ни ее гостьи. Оно выражено в соответствую¬
щих картинах природы. В первом случае эти картины олицетво¬
ряют печаль и одиночество, в особенности подчеркиваемые об¬
разами пронизывающего ветра и густой травы, что поросла во¬
круг дома; во втором — жалость и сострадание гостьи.Аналогичные функции выполняет и картина глухой ночи
после таинственной гибели Югао — она передает скорбь и бес¬
помощность Гэндзи перед лицом неожиданно постигшего его
несчастья: «Было, вероятно, уже за полночь. Ветер становился
все более пронзительным, и шум от сосен тяжело отдавался в
ушах. Какие-то неведомые ему птицы .кричали хриплым голо¬
сом. „Верно, совы...“ — подумал Гэндзи. Что бы ни хотел он
предпринять — вокруг него не было слышно ни одного челове¬
ческого голоса» [302, с. 639].Героям «Гэндзи моногатари» свойственно воспринимать при¬
роду в контексте их житейских ситуаций и душевных состоя¬
ний. Поэтому природа для них всегда что-то символизирует.Характерно восприятие Гэндзи захода солнца после смерти
Фудзицубо: «В живом отблеске света деревья на горах вырисо¬
вывались с изумительной ясностью, каждая ветвь — нет! — каж¬
дый прутик был отчетливо виден. Но тут через гору протяну¬
лась тонкая нить облаков, заволакивая вершины серой лентой.
В тот день он не был настроен наблюдать заход солнца или
живописные облака, но и в этом полузатененном небе ему по¬
чудилось странное значение, и, хотя никого не было рядом, ок
прочел стихи:Через горы на закате
Протянулись редкие облака,Серый цвет их —Что свет рукавов
Моего одеяния скорби».(«Редкие облака»).Нередко картины природы в романе как будто выражают
смысл происходящего, либо предваряют то, что должно слу¬
читься с героями произведения. Вот как описывается пейзаж
возле дома, куда Гэндзи перевез Югао и где ей суждено было
умереть «странной смертью»: «Солнце стояло уже высоко на
небе, когда Гэндзи поднялся с ложа. Собственными руками ок
поднял шторы. Вокруг было все страшно запущено и дико*
никого из людей не было видно. Взор свободно охватывал дале¬
кое пространство, и купы дервьев там имели вид весьма древ¬
ний и мрачный. Ничего не было заметно особенного и среди
растительности тут, вблизи. Все — „сплошное осеннее поле“».
как говорится в стихотворении. Пруд тоже был занесен весь
листвою и имел очень унылый вид...— Какое унылое место! — произнес Гэндзи. — Надеюсь, что-
хоть демоны-то оставят нас здесь в покое...» (302, с. 635].В этом описании нет красоты природы. Этот момент умыш¬
ленно снят. Наоборот, в пейзаже подчеркнуты «мрачность»,
«уныние», которые не предвещают ничего хорошего. Во фразе,
произнесенной Гэндзи, содержится намек, а нарисованная кар¬
тина природы как бы предвещает событие, которое вскоре
должно произойти (в этом доме Югао стала жертвой нападе¬
ния духа Рокудзё).Картины дикой и суровой природы в Удзи (первые главы
заключительной части романа) готовят читателя к печальному
финалу, заранее внушая ему беспокойство и опасение за судьбу
героев. Настораживает, в частности, контраст особой тишины197
уединенной окраины и шума потока, символизирующего непо¬
стоянство всего земного. Недаром первое же столкновение с
этой природой порождает чувство беспокойства в душе Каору-—
одного из главных героев этой части «Гэндзи моногатари».А вот .как представлена природа в Удзи во время последне¬
го визита Каору к Укифунэ, после которого девушка решается
на самоубийство: «Туман лежал на горах, и на фоне его вы¬
рисовывалась фигура цапли, балансирующей на голом уступе
скалы. Протянутый мост, мерцая в тумане, казался далеким-
далеким. „Странное, загадочное место это Удзи“, — думал
Каору».Изображенная картина передает настороженность Каору,
его внутреннюю тревогу, ожидание чего-то недоброго.Описание природы часто дает своеобразный настрой целой
главе или эпизоду, ,как, например, в начале главы «Первые
голоса птиц»: «С утра Нового года начался период самой вос¬
хитительной погоды. Мягкий воздух, яркое солнце, и ни облач¬
ка на небе. В каждом саду, на любом самом жалком уголке
земли появилась молодая зелень и с каждым днем образовы¬
вала все более заметные участки, выступающие среди снегов;
над деревьями висела дымка как будто специально для того,
чтобы чудеса, которые она скрывала, могли позже обнаружить
себя сюрпризом».Эта картина ранней весны служит своего рода запевом,
введением к небольшой главе, которая развертывается под
знаком ощущения ранней весны и новогодней радости: ново¬
годние визиты, подарки, яркие одежды, веселые праздничные
церемонии.Особое значение имеет сезонная образная символика. Ведь
за каждым сезоном художественная традиция закрепила соот¬
ветствующие образы, которые применительно к людям превра¬
щаются в символы конкретного душевного состояния, жизнен¬
ной ситуации и т. д.Образно-символическую нагрузку несет и сама смена вре¬
мен года. Все встречи Гэндзи с его возлюбленными соотнесены
с «сезонной символикой», связаны с определенными .картинами
природы, образно выражающими смысл, значение каждой
встречи. Так, встреча с Обородзукиё происходит под знаком «по¬
дернутой облаком луны», как бы предвещая омрачение беспеч¬
ной юности Гэндзи, предваряя его изгнание на остров Сума.Встреча с Акаси в- столице, когда она передает на попечение
Гэндзи их,ребенка, происходит зимним утром, холодным и
снежным, — холодное одиночество доставалось в удел женщи¬
не, довольствовавшейся до сих пор редкими визитами возлюб¬
ленного, а теперь лишавшейся и ребенка.Картина зимнего пейзажа сопутствует и главной встрече
Гэндзи с Асагао. Засыпанный снегом сад. Блестит замерший
пруд, прозрачное сияние луны освещает падающие белые хлопьят
снега. Асагао «холодно» приняла Гэндзи, решительно отвергла
его любовь.Встреча с Ханатиру-сато происходит тихой ночью под куко¬
вание кукушки. Аромат цветущих мандаринов как бы подчер¬
кивает умиротворяющий эффект свидания, пробудившего у
Гэндзи воспоминания юности, вернувшего его к тем беззабот¬
ным и безоблачным временам, когда он впервые встретился с
этой женщиной, и побудившего Гэндзи забыть на время пред¬
стоящие невзгоды (встреча состоялась накануне его отъезда в
Сума).Лето — относительно нейтральный по тональности сезон. По¬
этому картины лета сравнительно редки. Наиболее богата то¬
нальностями осень. Описания осенней природы занимают наи¬
большее место в романе. Осень любимое время года Гэндзи.Наиболее памятная встреча с Акаси происходит под шум
ветра в соснах и стрекотание цикад, т. е. в предчувствии раз¬
луки, а для Акаси и одиночества.Чувство одиночества, которое испытывает Гэндзи после смер¬
ти Аои, усугубляется меланхолическим осенним пейзажем. Осен¬
ний вечер служит не только фоном, но и символом прощания
Гэндзи с Рокудзё, мучимой кошмарами после смерти Аои и
решившей покинуть столицу. Сцена их прощального свидания
накануне ее отъезда в Исэ происходила на фоне .картин осен¬
ней природы, отражающей в привычных образах душевное со¬
стояние обоих.Свидание предваряется описанием пейзажа, создающим
соответствующую атмосферу и настроение: «Путь его лежал
по открытым полям, что бесконечно простирались по ту и дру¬
гую сторону. Его сердце было в странном волнении. Осенние
цветы увядали; среди камышей у реки назойливые голоса
множества насекомых смешивались с грустной мелодией завы¬
вания ветра в соснах. Еле слышимые, откуда-то издалека раз¬
давались и замирали звуки музыки...» («Священное дерево»).Здесь символика осени имеет еще один смысловой оттенок.
Рокудзё понимает: в результате того, что произошло, Гэндзи
охладел к ней, и это охлаждение традиционно выражено через
двузначный образ: «аки» — «осень» ассоциируется с «аки» —
«охлаждение».Для второй части истории Гэндзи вообще характерны осен¬
ние пейзажи и осенние настроения, символизирующие закат ге¬
роя. Глава «Призраки» целиком посвящена скорби Гэндзи пос¬
ле смерти Мурасаки. На фоне сменяющих друг друга времен
года — символа преходящего характера всего на свете возни¬
кает облик погруженного в печаль героя. Перед ним еще раз
проходят особенно памятные ему весна, лето, осень, зима и с
каждым из сезонов связано так много событий в жизни, столько
женских образов: ведь любовь в романе всегда ассоциируется
с колоритом того времени года, когда она переживалась.199
Резко выступает контраст между преимущественно радост¬
ным восприятием природы в первой части романа и ее трак¬
товкой в заключительных частях. Достаточно вспомнить пер-
вую встречу Гэндзи с юной Мурасаки, которая происходит ран¬
ней весной в период расцвета природы, и сопоставить ее с тра¬
гедией этих двух героев в последних главах повествования о
Гэндзи, с их нравственными муками, обусловившими соответст¬
вующую эмоциональную окраску картин и образов природы.Для «глав Удзи» в особенности показательны картины осе¬
ни, преимущественно поздней осени, ранней зимы, непогоды
и т. п. Печаль сестер, потерявших отца, как бы вписывается в
суровый осенний пейзаж: «С приходом сентября природа с
каждым днем становилась все более мрачной и дикой. Опавшие
листья неслись по оголенной земле, не умолкая ревел поток,
и также нескончаемо лились их слезы, словно бы и они были
одержимы мстительным злым духом, что очищал мокрую зем¬
лю суровой окраины...» («Агэмаки»). И позже: «Проносились
сильные бури с градом и снегом, и хотя в действительности
погода в Удзи была не хуже, чем в других местах страны в
это время, они впервые за свою жизнь почувствовали себя
глубоко несчастными, пребывая в глуши в это штормовое вре¬
мя» («Агэмаки») (какой резкий контраст с новогодней при¬
родой главы «Первые голоса птиц»!).Красота осенней природы как бы раскрывается в ее суро¬
вости. Например, в начале части 6 («Плавучий мост грез»), ког¬
да автор рассказывает о поездке Каору в Удзи по поручению
Нака-но кими, дается такое описание: «Осенние бури были осо¬
бенно жестокими в этом году, ни одного листа не осталось ни
на одном суку. Огромные ковры из опавших красных листьев,
по которым еще не ступала нога человека, были такой красоты,
что он долго не решался отправиться по ним в путь. Леса сто¬
яли голыми, но одно дерево выделялось среди них, одетое осен¬
ним золотом, словно окутанное пламенем. То был плющ, вью¬
щийся по старому увядшему дереву, как яркое новогоднее
украшение» («Ядориги»).Достаточно сопоставить это описание осени с осенним пей*
зажем, на фоне которого происходит прощальная встреча Гэнд¬
зи с Рокудзё, чтобы уловить существенную разницу в атмос¬
фере и тональности этих сцен.Имена женщин, которыми наделяет их Гэндзи (и автор),
в большинстве своем представляют собой образы природы, ко¬
торые символизируют либо место их встречи, либо наиболее
характерное в облике, характере или судьбе женщины. Свою
юношескую любовь Гэндзи назвал Югао — «цветок вьюнка»,
ибо первое, что он увидел, когда впервые приблизился к ее до¬
мику на окраине города, были маленькие скромные белые цве¬
точки, что мелькали там и сям вдоль ветхого забора. Они сво¬
еобразно символизировали и скромный, застенчивый характер'200
самой Югао, нежного цветка, скрывавшегося за ветхим забо¬
ром. Имя Уцусэми («пустая скорлупка цикады»)—символ ми¬
молетности связи Гэндзи с этой женщиной.Кумой («обитель облаков»)—это имя закреплено за пер¬
вой любовью Югири, которая долго была недоступна, недося¬
гаема для него, как облако в небесах. Имя его второй возлюб¬
ленной, Отиба («опавшие листья»), ассоциируется с тем вре¬
менем года, когда это чувство возникло и развивалось в душе
героя, и соотнесено, как и многие другие женские имена, с се¬
зонной символикой. Имя Мурасаки («фиалка») символизирует
и любимое время года героини и время первой встречи ее с
Гэндзи.Имя Ханатиру-сато («селение, где осыпаются цветы») было
дано даме, встреча с которой состоялась у Гэндзи в безмятеж¬
ную летнюю noipy, когда отцветает и осыпается вишня.Гэндзи высказывает мысль, что каждый человек «рожден
с определенным сезоном». Сезонные картины в романе часто
служат своеобразным обрамлением человеческого образа, при¬
дают ему определенную окраску. Например, в главе «Цветок
шафрана» вслед за описанием внешнего облика юной Мураса¬
ки следует картина ранней весны: «В мягком сиянии весеннего
солнца деревья мерцали свеженабухавшими почками. Среди
них были сливовые деревья, которые вот-вот готовы были за¬
цвести: их лепестки уже раскрывались, словно губы в легкой
улыбке...»Чувства Югири чаще всего предстают в гармоническом со¬
четании с картинами осенней природы и выражаются в ее об¬
разах. Характерно описание пейзажа во время пребывания
Югири в загородном доме принцессы Отиба: «С заходом солн¬
ца начал подниматься густой туман, и холм, у подножия кото¬
рого стоял их дом, теперь навис над ним темной, бесформенной
массой. Оттуда, где росли маленькие цветочки вдоль забора
(они становились серыми от тумана), слышался неумолчный
голос насекомых, в то время ка.к из-за диких густых зарослей
доносился холодный и чистый звук бегущего потока. Время
от времени меланхолический порыв сырого ветра проносился
по вершинам гор, раскачивая глубоко вросшие в землю деревья,
и через определенные интервалы раздавался гонг, возвещав¬
ший окончание одной службы и начало другой.Новые удары почти сливались с последними отзвуками пре¬
дыдущих, замиравшими вдали. И хотя удары эти, как и вид
места, были таковы, что должны были подавлять порывы празд¬
ного воображения, они лишь усиливали страсть, что поднима¬
лась в душе Югири» («Югири»).Особенно гармонируют с характером Югири и его душев¬
ным складом пейзажи поздней осени и начала зимы. Показате¬
лен эпизод, рассказывающий о том, как Югири уже после смер¬
ти матери Отиба снова отправился в Оно, поглощенный печаль¬201
ными думами о бессердечии принцессы и своих бесплодных
попыток завоевать ее сердце: «Это было около середины сен¬
тября. Величие картин, открывавшихся его взору, когда он
шел, способно было внушить благоговение даже самому уны¬
лому и не впечатлительному прохожему.Его путь лежал через леса, где не только каждый лист, но
каждый сук был сорван бурей и повержен на землю и его бро¬
сало из стороны в сторону в вихре обломков, падающих свер¬
ху. Когда Югири подошел к дому, шум отдаленного пения
смешался с ревом бури. Под забором нашла себе укрытие
группа оленей, их копыта подминали коричневые рисовые стеб¬
ли, и даже грубые звуки трещотки ночного сторожа не могли
выгнать их из этого убежища. Они стояли, тесно прижавшись
друг к другу и издавая жалобные стоны. Шум ливня прервал
мысли Югири. Раздались оглушительные раскаты грома. Одни
насекомые, зеленые обиталища которых были повержены бу¬
рей, хранили странное молчание. И только единственный цве¬
ток— драконник синего цвета, — вознагражденный наконец за
свое долгое терпение, сияя росой посреди мертвой зелени, в
одиночестве торжествовал свое превосходство» («Югири»).В самой картине нет ничего необычного; но если принять
во внимание смысл и обстоятельства визита Югири в Оно,
можно понять, почему этот осенний пейзаж повергает его в
нестерпимую тоску.Необузданные стихии природы не раз оказываются той ат¬
мосферой, в которой наиболее аккумулирование проявляются
чувства этого героя. Если в приведенном описании они усили¬
вают его состояние «невыносимой депрессии», то в более ран¬
нем эпизоде они сливаются с его эмоциональным порывом. Его
внезапная страсть к Мурасаки вспыхивает во время тайфуна,
гармонически сливаясь с разбушевавшейся стихией: «Он и сам
испытывал такое ощущение, будто в его голове, как и в окру¬
жающем мире, установленные вехи и границы были сметены
неким внезапно налетевшим ураганом» («Тайфун»).Синтоистский культ обожествленной природы (многие сти¬
хии природы входили в пантеон синтоистских божеств) в хэй-
анской культуре слился воедино с эстетическим культом ее
красот.Природа становится постоянным и неисчерпаемым источни¬
ком ощущения «аварэ», что подтверждается бесчисленными
сценами любования природой, переживания героями ее оча¬
рования.Показательна сцена, когда Мурасаки и Гэндзи любуются
снегом, зимним пейзажем при луне и Гэндзи восклицает: «Что
может быть прекраснее зимней ночи подобной этой, когда лу¬
на сияет с безоблачного неба на блестящий свежевыпавший
снег!» («Асагао»).Прелести осенней природы глубоко трогают и чувствитель¬202
ную душу Каору. Характерно восприятие им осени сквозь приз¬
му его чувства к Окими во время их ночной беседы: «Время от
времени налетал порыв ветра с гор, тихо стрекотали цикады
у плетня. Это, действительно, была такая осенняя ночь, кото¬
рая и в городе вызвала бы мучительное, острое ощущение пре¬
красного, а здесь она была полна невыразимой прелести»
(«Агэмаки»).Эмоциональное слияние человека с природой в значительной
мере обусловило и своеобразное единение, взаимопроникнове¬
ние природы и искусства, воплотившееся в целом ряде сцен
музицирования и любительских концертов на лоне природы.
Глава 5композиция«ГЭНДЗИ МОНОГАТАРИ»«Новеллистическая структура» и ее место
в системе композиционных средств романаЯпонские исследователи, как правило, отмечают «эпизодич¬
ность» («бамэнсэй»), «новеллистичность» («тампэнсэй») «Гэнд¬
зи моногатари» [66, с. 133; 125, с. 223}; указывают на то, что
роман состоит из «глав-новелл», многие из которых представ¬
ляют собой сюжетно законченное самодостаточное целое. «Гла-
вам-новеллам» («тампэн-хэн») первой части романа посвящен
специальный раздел в «Истории японской литературы» (240,
с. 32]. Об «эпизодичности» «Гэндзи моногатари» пишет Накада
Ясуюки {125, с. 223—266}.Кубота Уцубо, например, говорит о самостоятельных (по
существу) темах глав «Югао» и «Цветок шафрана». Тема пер¬
вой, по его определению, — «предрешенность смерти» («си-но
иннэн») [88, с. 161], тема второй — «разочарование» («гэммэ-
цу») [88, с. 172]. Кадзамаки Кэйдзиро и Аояги Акио пишут о
наличии в романе «групп глав», или «групп эпизодов». «Группу
эпизодов» составляют, например, как считает Аояги Акио, главы
•«Дерево-метла», «Югао» и «Уцусэми». «Югао» и «Уцусэми» име¬
ют прямую связь лишь с главой «Дерево-метла» [83, т. 4,
с. 283—284].Многие ученые выделяют часть глав, которые, по их мне¬
нию, не имеют непорредственной связи с основной линией ро¬
мана. К их числу относят в первую очередь главы «Кирицубо»,
«Дерево-метла», «Югао», «Уцусэми», «Цветок шафрана»,
«Праздник алых листьев», «Юная Мурасаки» [66, с. 135}.Кадзамаки Кэйдзиро говорит об основной линии и «сопут¬
ствующих главах», «не имеющих прямого продолжения», к
которым он относит помимо указанных семи главы «Дворец в
зарослях» и «На границе» [66, с. 133]. (Окадзаки Ёсиэ называет
их «вставными эпизодами» >|83, т. 4, с. 299].) Некоторые иссле¬
дователи, в том числе Накадзима Эцудзи, указывают на то,
что последовательность написания глав не всегда соответствует
последовательности расположения их в романе. Например, в
соответствии с рядом версий, глава «Кирицубо» была написана204
позже некоторых других [241, с. 86; 126, с. 250]. Аояги Акио счи¬
тает, что раньше всех была написана глава «Юная Мурасаки»
[83, т. 4, с. 281].Накадзима Эдудзи выдвигает свою концепцию композици¬
онной структуры «Гэндзи моногатари», он уподобляет ее струк¬
туре литературы сэцува («сэцува бунгаку»), (Памятник лите¬
ратуры «сэцува» представляет собой сборник разножанровых
коротких произведений — рассказов, обработанных легенд, прит¬
чей, быличек, отрывков из повествовательной прозы, объединен¬
ных общей концепцией.)Японские литературоведы часто обращают также внимание
на имеющиеся в романе «пропуски», на «недостающие главы».
Одной из таких «недостающих глав» принято считать главу о
Фудзицубо, которую дописал Норинага, дав ей название
«Принцесса сияющего солнца» («Кагаяку хи-но мия»).Естественно, проводятся аналогии со структурой лирической
повести «Исэ моногатари». Эпизоды-отрывки, из которых она
состоит, представляют собой (каждый в отдельности) сюжетно
законченное целое, не обнаруживающее видимой причинно-след¬
ственной связи с предшествующим и последующим эпизодами.
Большинство глав романа представляются такими же сюжет¬
но завершенными эпизодами, разве что более пространными.
Некоторые из них действительно оставляют впечатление «са¬
мостоятельных новелл», «вставных эпизодов» и т. п.Здесь уместно вспомнить концепцию композиции художест¬
венного произведения, принадлежащую Ито Сэй. Согласно этой
концепции, существуют два типа литературных произведений —
«линейные», где действие сосредоточено вокруг одного главного
героя (остальные герои проходят в основном каждый по своей
линии, не соприкасаясь друг с другом), и «оркестровые», где
действия героев объединены, связаны в единое целое. Приме¬
ром первого типа Ито Сэй считает роман Мурасаки Сикибу,
примером второго типа — «Войну и мир» Толстого.«Линейный» стиль не требует строгого плана произведения.
Классическим образцом, по мнению Ито Сэя, может служить
жанр эссе—«дзуйхицу» (букв, «следование за кистью»), куль¬
тивирующий стихийное начало творческого процесса: не писа¬
тель ведет за собой повествование, но, наоборот, повествование
ведет за собой творца. Сочинения в жанре «дзуйхицу» обычно
составляются из эпизодов жизни самого автора, из его непо¬
средственных наблюдений и могут быть закончены практически
в любом месте, ибо в них отсутствует действие, характерное для
сюжетной прозы [58, с. 18—23].Произведение Мурасаки в определенном смысле тяготеет
к «линейному» типу композиции: действие романа в значитель¬
ной мере сконцентрировано вокруг основного героя, большин¬
ство других персонажей связано с ним, но вместе с тем каждый
представляет свою, обособленную сюжетную линию, — персо-205
нажн не контактируют между собой (в особенности это харак¬
терно для части романа, повествующей о жизни самого Гэндзи
и завершающейся главой «Призраки»), Однако в «Гэндзи мо¬
ногатари» мы находим далеко не все признаки произведения
«линейного» типа. В качестве одного из главных признаков
«линейного» произведения Ито Сэй отмечает «отсутствие разви¬
тия образов в глубину», в романе же Мурасаки характеры
разработаны достаточно глубоко с проникновением во внутрен¬
ний мир человека. И второй момент: нами уже отмечались
идейные и тематические связи в романе, сами по себе говоря-
щие о наличии определенного художественного плана, которому
следовала писательница в работе над произведением и кото¬
рый в совокупности с многими другими факторами не позволяет
рассматривать его в композиционном отношении на одном
уровне с произведениями эссеистического типа. В «новеллисти¬
ческой» структуре «Гэндзи моногатари» и обусловленных ею
элементах «линейной» композиции следует видеть, как нам
кажется, отражение неких общих закономерностей развития
сюжетной прозы. Ито Сэй, например, совершенно справедливо
подчеркивает, что создание произведений «оркестрового» типа
относится к более позднему периоду, показательно для нового
времени. Ито Сэй и связывает их появление с развитием тор¬
говли и капиталистических отношений вообще, приходящих на
смену феодальной раздробленности, изолированности классов
и сословий и способствующих человеческой общности [58»
с. 20-22].Оставив в стороне вопрос о плодотворности и правомерно¬
сти теории Ито Сэя в целом, мы не можем не согласиться с
ним в части соотнесенности «линейных» форм .композиции ху¬
дожественных произведений с определенным периодом разви¬
тия литературы страны и с конкретным этапом мирового лите¬
ратурного процесса. Нельзя не отметить несомненную общность
структуры национальных разновидностей средневекового рома¬
на, таких, как «Гэндзи моногатари» Мурасаки Сикибу и рома¬
на-прототипа «Тристан и Изольда» в западноевропейской кур¬
туазной литературе, который представляется нам примером бо¬
лее уместным и убедительным, чем приводимые Ито Сэем «Де¬
камерон» Боккаччо и «Кентерберийские рассказы» Чосера, от¬
носящиеся совсем к другому жанру сюжетной прозы. Огово¬
римся, однако, что речь идет о сходстве на самом общем
уровне.Таким образом, «новеллистичность» «Гэндзи моногатари» &
определенном смысле является отражением общих закономер¬
ностей развития произведений художественной литературы
крупных форм в средние века.Вместе с тем мы не можем не обратить внимания на явно
ощущаемую в трудах упомянутых выше японских ученых тен¬
денцию к преувеличению роли и даже к абсолютизации «новел-206
листической» структуры «Гэндзи моногатари». Со своей сто¬
роны, мы не склонны ни квалифицировать отдельные главы
романа как «самостоятельные новеллы», ни выделять в его
структуре главы основные и вспомогательные, вставные эпизо¬
ды, сопутствующие главы и т. д. Японские филологи исходят
из критериев сюжетно-фабульной композиции, показательной
для японского романа нового времени, тогда как композицион¬
ная система романа Мурасаки нам представляется сложной
и своеобразной, в определенном смысле даже синкретичной, и
ее едва ли можно однозначно определить как «новеллистиче¬
скую».Писательница связывает между собой части и главы романа
единством идеи и замысла, единством тематики и общего со¬
держания, единством героя, и в определенных частях повест¬
вования эти связи оказываются превалирующими. Вместо внеш¬
них ситуационных, причинно-следственных форм связи на пер¬
вый план выступают связи внутренние, глубинные, которые
могут показаться малозначащими или остаться вовсе не за¬
меченными. Только этим можно объяснить обнаружение в ро¬
мане «самостоятельных глав», «вставных эпизодов» и т. п.Внутренняя сюжетная завершенность ряда глав романа и
отсутствие внешней связи их с основной сюжетной линией мо¬
гут создавать видимость их автономности. Однако это едва ли
Дает основания именовать их самостоятельными главами, встав¬
ными эпизодами. Любая глава .романа, будучи изъятой из его
контекста, если и сможет существовать как самостоятельная
новелла, то получит иное звучание, предстанет в ином идейно¬
художественном качестве. Здесь уместна параллель с японски¬
ми стихами аллегорического содержания. Японская аллегория
отличается от западной более скрытым, замкнутым характе¬
ром. Не зная ситуации, контекста, нелегко бывает обнаружить
и раскрыть ее. Многие из таких стихотворений могут существо¬
вать и как обычные «песни природы», вне связи с их идеей и
замыслом, но это уже иное качество! [271, с. 97—98]. То же
можно сказать и о «главах-эпизодах» романа.Возьмем, например, главу «Аои». В ней представлена суть
взаимоотношений Гэндзи и Аои как некоего сложившегося
фактора. Вне контекста романа остается неясной до конца
причина той отчужденности, которая существовала между Гэнд¬
зи и его официальной женой. Причина эта не только в «легко¬
мыслии» и неверности Гэндзи, как может показаться на пер¬
вый взгляд. И раскрывается она не здесь, а много раньше —
в главе «Кирицубо», где говорится о женитьбе Гэндзи. Писа¬
тельница подчеркивает, что Аои, будучи на четыре года старше
Гэндзи, «смотрела на него как на ребенка и, скорее, стыдилась
его». Она была чопорна, горда, прямолинейна, и это сдержива¬
ло чувство Гэндзи. Затем в главе «Юная Мурасаки» говорится,
что Аои «даже не спросила Гэндзи о его здоровье», когда он207
навестил ее после своей измены. Далее, в главе «Цветок шаф¬
рана» содержится намек на то, что Гэндзи искал сближения с
Аои, однако безуспешно: «В другом месте, где искал он любви,
проявления холодности и гордыни следовали одно за другим».В главе «Сума» (Аои уже нет в живых) Гэндзи посещает
отца Аои, к тому времени отставного министра, и видится со
своим маленьким сыном от Аои. Их встреча обнаруживает
привязанность Гэндзи ,к ребенку, вновь пробуждает его вос¬
поминания об Аои. И это вносит какие-то новые штрихи в по¬
нимание образа и судьбы этой женщины. Иначе говоря, вне
общего контекста логика развития характера Аои и взаимоот¬
ношений супругов оказывается утраченной для читателя.Более того, изъятие из текста романа главы «Аои» нанесло
бы ущерб полноте раскрытия другого художественного обра-
за —Рокудзё, которая в силу своей ревнивой и мстительной
натуры оказывается невольной причиной болезни и смерти Аои.
С историей Аои связаны и сложные переживания Рокудзё, ча¬
стично показанные в данной главе, частично в последующих,
и ее дальнейшие действия, в том числе и решение покинуть
столицу, а также и развитие ее отношений с Гэндзи, последо¬
вательно раскрываемое в этой и других главах романа. Кроме
того, через взаимоотношения с Аои в этой главе выявляется
и ряд черт характера самого Гэндзи: он осознает свою непра¬
воту по отношению к Аои, испытывает раскаяние в том, что
«так долго пренебрегал этой прекрасной женщиной».Что касается главы «Цветок шафрана», то она имеет в ро¬
мане продолжение — глава «Дворец в зарослях». К тому же
именно в главе «Цветок шафрана» особенно ярко проявились
такие отличительные черты Гэндзи, как его способность откли¬
каться на чувства других людей, его отзывчивость и чуткость,
и будь она изъята из романа, образ Гэндзи утратил бы свою
полноту.Глава «Дерево-метла», значительная часть которой посвяще¬
на разбору женских характеров, раскрывает типичные черты
хэйанской женщины, которые в последующих главах найдут
свое воплощение в конкретных женских образах. Глава чрез¬
вычайно важна для раскрытия характера Тюдзё, одного из глав¬
ных мужских персонажей романа, и самого Гэндзи, не говоря
уж о том, что здесь содержится завязка историй Югао и Уцу-
сэми, которые имеют либо продолжение («Уцусэми» — в главе
«На границе»), либо связь с последующими главами («Югао» с
«Тамакадзура»).Таким образом, «эпизодичность» характеризует, структуру
романа, по сути дела, лишь на одном из его уровней — на уров¬
не внешних связей глав между собой.208
Роль сюжетно-фабульных средств связиТеперь нам важно уяснить другой вопрос: предполагает ли
такая «эпизодичность» отказ от сюжетно-фабульных средств
композиции и замену их другими формами связи?Обратимся к исследованиям Н. И. Конрада. Н. И. Конрад
рассматривает главу «Дерево-метла» как завязку тематическую,
а главу «Кирицубо»— как завязку фабулистическую {305,
с. 254]. В первой из них раскрывается тема романа — любовь
в полигамном хэйанском обществе, во второй описано появле¬
ние на свет Гэндзи и раскрыты обстоятельства этого появления
(Гэндзи — внебрачный ребенок императора от его наложницы
Кирицубо). Здесь же завязывается и одна из главных любов¬
ных интриг героя — интрига с наложницей отца, красавицей
Фудзицубо, имевшая для него роковые последствия. С нее-то,
по существу, и начинается развитие основной сюжетной линии
романа.В главе «Кирицубо» автор знакомит читателя и с главными
персонажами романа: блистательным Гэндзи, Фудзицубо, им-
ператором-отцом, То-но Тюдзё — другом и соперником Гэндзи.А поскольку глава «Кирицубо» является nqpeoft главой, т. е.
главой, открывающей повествование, то в ее экспозиции следу¬
ет видеть экспозицию романа. Автор сразу вводит читателя в
атмосферу, в которой должна развернуться фабула: «В одно из
царствований при дворе служило много прекрасных дам. И бы¬
ла среди них одна не из очень родовитых, но пользовалась она
особым расположением императора...». Это типично фабулярная
экспозиция в отличие, например, от тематической экспозиции,
представленной вступлением к «Повести о доме Тайра». Изло¬
женная нами фабула романа рисует жизнь блистательного Гэн¬
дзи, развернутую в пространстве и во времени, выявляя после¬
довательность глав и связь их между собой, подчиненную
задаче раскрытия темы и ее трактовки. Во исполнение этой за¬
дачи в основу конструкции романа положен мотив: один муж¬
чина и многие женщины. Этот «один» — Гэндзи. Такова первая
конкретизация темы.«Эта конкретизация сейчас же проявляется в мотивах фа-
булистического порядка; в дальнейшем даются новые, уже под¬
чиненные темы: Гэндзи — и какая-нибудь из женщин; герою
поодиночке и совместно противопоставляются различные жен¬
ские фигуры. Этим путем тема конкретизируется еще точнее
и обусловливает дальнейшее свое раскрытие: в тему сопостав¬
ления героя и какой-нибудь женщины влагается мотив, харак¬
теризующий отношение его к ней и при этом осложняемый еще
рядом вспомогательных мотивов: особенности нрава данной
женщины, характер ее отношения к нему; отношение данной
женщины .к другим персонажам романа; и наконец, в послед¬
нюю очередь мотивы обстановки. Все это образует сложи ей -14 Зак.. 654209
шую фабулистическую ткань, основная конструкция которой
тем не менее ясна: герой, сопоставляемый со многими женщи¬
нами различных характеров, в различных взаимоотношениях
с окружающим миром, связанных с различной жизненной обста¬
новкой и с разным отношением к Гэндзи, с одной стороны, и
различным отношением его к себе — с другой. Такова основная
формула фабулы „Гэндзи44» [305, с. 240].Вместе с тем если говорить не об экспозиции в узком смыс¬
ле, как о зачине, а о завязке романа в целом, т. е. рассматри¬
вать, следуя Н. И. Конраду, всю главу как «завязку фабули¬
стическую», то в соответствии с японским каноном композиции
ее следует отнести к типу «коо» (букв, «призыв — отклик»),
«Коо» предполагает такое построение повествования, когда
начало и конец его перекликаются. «Наличие такой переклички
является всегда верным показателем единства замысла произ¬
ведения. Ведь именно такая мысль или образ только тогда бу¬
дут „призывом44, когда автор заранее предполагает дать им в
дальнейшем „отклик14. И когда дается этот „отклик44 автор
всегда в той или иной степени возвращается к началу» [305,
с. 69].Интрига Гэндзи — Фудзицубо, преступная по отношению к
императору-отцу, «откликается» в заключительных главах исто¬
рии о Гэндзи, когда он обнаруживает связь своей юной жены
Нёсан с Касиваги. Тяжесть его переживаний усиливается от
мысли, что в свое время он совершил подобное в отношении
отца и заставил его пережить то же самое.Сюжетность «Гэндзи моногатари» обладает рядом особенно-
. стей, .к числу которых следует отнести чрезвычайную замедлен¬
ность развития сюжета. Н. И. Конрад обращает внимание на
другую особенность: автор оставляет незавершенным какой-ли¬
бо побочный мотив, с помощью которого перебрасывается мост
к последующим главам. Так, мотив урагана и вещего сна Гэнд¬
зи в 12-й главе («Сума») связан с появлением в начале 13-й гла¬
вы («Акаси») отшельника из Акаси, выполняющего веление
свыше. Это появление, в свою очередь, обусловливает даль¬
нейшее развитие действия в главе: связь Гэндзи с его дочерью
Акаси. 35-я глава («Молодая поросль») оставляет невыясненной
одну частность в мотиве связи Нёсан с Касиваги: в конце главы
читатель узнает, что Нёсан беременна, Гэндзи обуревают подо¬
зрения. 36-я глава («Касиваги») начинается с рассказа о рож¬
дении Каору, сына Нёсан и Касиваги.Японские ученые, в том числе Цугита Дзюн, указывают на
такую особенность композиции, как предварительная подготовка
к событию, действию или факту часто задолго до его описания
в романе. Например, в главе «Сума» рассказывается о том,
как Гэндзи, коротая свои дни в изгнании, находит утешение в
зарисовках морского побережья и близлежащих холмов. А зна¬
чительно позже, в главе «Конкурс картин», эти зарисовки Гэнд-210
зи фигурируют в качестве лучшего экспоната выставки-конкур*
са картин, организованной при дворе. Они имели большой ус*
пех и были предметом оживленных разговоров участников вы¬
ставки и зрителей.Помимо упомянутого предварения историй Югао и Акаси,
заранее подготовляются в романе также темы Аои, Асагао, Нё¬
сан, Тамакадзура. Например, представление об Аои складыва¬
ется у читателя из целого ряда упоминаний в предшествующих
главах — начиная с первой, задолго до специально посвященной
этому персонажу главы «Аои». Асагао, кроме приведенного упо¬
минания во второй главе, фигурирует также в главе 9-й, в числе
дам, явно или тайно восхищавшихся красотой и обаянием бли¬
стательного Гэндзи: «А Асагао вспоминала его письма, так не
похожие на письма других мужчин, и думала: „Будь он даже
обычным человеком, и то... А уж тут..."— и душа ее так и рва¬
лась к нему. Но Асагао сдерживала себя и гнала прочь даже
мысль о желанном свидании с ним. И потому слова восхище¬
ния, которые произносили по его адресу другие придворные да¬
мы, лишь ранили ее сердце...» («Аои»).Завязка истории Тамакадзура дается в главе 4-й («Югао»),Нёсан упоминается в главе «Аои»: «Пришло время для сме¬
ны жрицы храма Камо. Ее место теперь займет Сан-но мия,
третья принцесса, дочь матери-государыни, которую и мать и
сам государь лелеяли необычайно...»Аналогичным об*разом предваряются в романе истории Югао,
Аои, Асагао, Тамакадзура, Сан-но мия.Н. И. Конрад отмечает такие характерные для «Гэндзи
моногатари» приемы сюжетной композиции, как «сёхицу» (букв,
«пропуск») и «сюкяку» (букв, «гость-хозяин»). Первый пред¬
ставлен в романе в виде пропуска части сюжетного хода. При¬
мером может служить пропуск на границе между восьмой
(«Праздник цветов») и девятой («Аои») главами, где по логике
развития сюжета должно было быть рассказано о Рокудзё, а
также пропуск глав1ы о смерти героя — Гэндзи. Главы нет, есть
только заглавие — «Сокрытие в облаках» («Кумогакурэ»).Прием «сюкяку» заключается в том, что выявление главной
темы произведения (темы «хозяина») происходит посредством
другой, второстепенной темы «гостя». Этот прием применяется
и при характеристике героев, образу главного героя противо¬
поставляется образ менее значительный с точки зрения фабулы,
но играющий важную сюжетно-композиционную роль. Так, во
второй и ряде других глав романа Мурасаки Сикибу характе¬
ризует своего основного героя путем сопоставления с его сверстни¬
ком и другом и вместе с тем соперником То-но Тюдзё [305, с. 71].В «Гэндзи моногатари» использован также прием «ёха»
(букв, «последние волны»). Этот термин метафорически пере¬
дает эффект смены «сильной волны» (ситуации наивысше¬
го напряжения) «легким волнением» (как бы отзвуками этого14*211
напряжения), приводящий к естественному угасанию, «схожде¬
нию на нет» сюжетных ходов. Японцы (как и китайцы) мастер¬
ски владеют этой формой своеобразного эпилога, а сам прием
«ёха» принадлежит к числу красивейших в художественной
литературе Дальнего Востока [305, с. 72]. Прием «ёха» исполь¬
зован в романе не в эпилоге в узком смысле слова, а в заклю¬
чительных главах романа — «главах Удзи». Само повествованиео Гэндзи как будто закончилось, однако тема, по мнению ав¬
тора, еще не исчерпана. Тот же образ жизни, те же взаимоот¬
ношения между людьми, приводящие к аналогичным -коллизи¬
ям и душевным конфликтам, к трагедии женщины (Окими, Уки¬
фунэ, Нака-но кими), характерны и для третьего поколения ге¬
роев романа. Правда, степень напряженности этой части романа
нельзя рассматривать как «легкое волнение» (да и тема разви¬
вается здесь в новой сюжетной плоскости), однако это бесспор¬
но своеобразный «отзвук» темы повествования о Гэндзи, зна¬
чительно усиливающий ее эффект и в то же время представ¬
ляющий собой ее логическое развитие и «плавное» завершение
при открытом, по существу, конце.Такая трактовка «глав Удзи», по нашему мнению, снимает
и высказываемые некоторыми учеными сомнения в органично¬
сти их в структуре романа, которые, в свою очередь, породили
предположения, что они не принадлежат перу Мурасаки, а
написаны другим автором [259, с. 95—100].Коль скоро речь зашла о «главах Удзи», уместно отметить,
что в них заметно повышается удельный вес сюжетно-фабуль¬
ных средств связи и становятся более тесными связи основных
персонажей между собой, а не только с центральным героем
Каору. Так, второй по значимости мужской персонаж, принц
Ниуо-но мия, показан также и во взаимосвязях с женскими
персонажами Нака-но кими и Укифунэ, а Нака-но кими поми¬
мо Каору и Ниоу сюжетно связана со своей сестрой Окими и с
Укифунэ.Укифунэ, со своей стороны, взаимодействует с Kaqpy, Ниоу-
но мия и отчасти с Нака-но кими, т. е. наблюдается известный
отход от «линейной» композиции.По вопросу о преемственной связи романа Мурасаки с
лирической повестью «Исэ моногатари» небезынтересно обра¬
титься к концепции Н. И. Конрада. Согласно этой концепции,
«Исэ моногатари» представляет собой, по существу, не собрание
отдельных отрывков, а единое произведение: раскрытую авто¬
ром повесть изменчивости жизни (мы бы сказали, скорее, по¬
весть о любви). «Эпизодическая» конструкция «Исэ моногата-
ри»—это своеобразно реализованный принцип «нанизывающего
романа», в котором можно обнаружить и начало и конец (ср.
первый эпизод и последний) [307, с. 229]. Отрывки, как считает
Н. И. Конрад, связаны между собой закономерной последова¬
тельностью событий: юность героя и увлечения юности, затем212
зрелый возраст (центральное место занимают эпизоды с 65-го
по 78-й, посвященные любовной связи героя с жрицей храма
Исэ) и, наконец, старость. Последний отрывок содержит стихо¬
творение, которое звучит как предчувствие близкого конца.
Таким образом, отрывки объединены не только единством темы
(любовь, взаимоотношения мужчины и женщины) и единством
героя, но и определенным сюжетным единством. Так, несколько
отрывков можно объединить под общим заголовком «Герой в
изгнании» (похитив дочь некоего знатного человека, он вынуж¬
ден покинуть столицу) {297, с. 162—167]. Кстати, сюжетно это
перекликается с романом о Гэндзи. Следовательно, «Исэ моно¬
гатари» можно рассматривать как прототип рохмана о Гэндзи.Мнение, что «Исэ моногатари» — произведение с единым
главным героем, хотя и не названным по имени, высказывают
и многие японские ученые. Большинство версий сходится на
том, что этим главным героем был не кто иной, как известный
поэт, красавец и донжуан Аривара Нарихира, личность кото¬
рого, кстати сказать, типологически близка образу Гэндзи. Этой
же позиции придерживается и автор данной книги, считая ар¬
гументацию Н. И. Конрада вполне убедительной. Не вызывает
сомнения и наличие единой сквозной темы в «Исэ моногатари».Таким образом, в систему композиционных средств «Исэ мо¬
ногатари» входят и сюжетно-фабульные средства, дополняю¬
щие связи по линии темы, замысла, героя, т. е. мы имеем дело
с той же комплексностью, а отчасти и синкретичностью, кото¬
рая отмечалась нами в «Гэндзи моногатари». Однако компо¬
зиционная структура «Гэндзи моногатари» не тождественна
структуре «Исэ моногатари».Между этими двумя произведениями все-таки остаются су¬
щественные жанровые различия, в силу которых первое мы от¬
носим к жанру лирической повести, а второе считаем романом.Начать с того, что связь между собой и в единое целое
глав романа значительно более ощутима, чем связь отрывков
«Исэ моногатари», к тому же в «Гэндзи моногатари» больше
удельный вес сюжетно-фабульных средств связи.Далее, в отличие от «Исэ моногатари» каждая из глав
«Гэндзи моногатари» имеет более детально разработанный
сюжет, а роман в целом, как мы уже говорили, раскрывает
внутренний мир героев и дает широкую картину жизни обще¬
ства. В романе Мурасаки, помимо центрального героя — Гэндзи
существуют еще около тридцати «сквозных» героев. И не слу¬
чайно Накада Ясуюки, говоря об «эпизодичности» «Гэндзи мо¬
ногатари», расценивает произведение не просто как цепь эпи¬
зодов и соответствующих глав, но как единую линию развития
героя, показанного в разных ситуациях и в различные периоды
жизни. Иначе говоря, эти «главы-эпизоды» связаны между собой
как этапы его жизненного пути и эволюции его духовного ми¬
ра. Например, в главе «Югао» Гэндзи еще не тот, каким мы
видим его, скажем, в главе «Мабороси» («Призраки»), и дело
не только в возрастной разнице, но и в тех изменениях, кото*
рые произошли в его духовном облике, в частности в восприятий
нм окружающего, в оценке собственных поступков: вместо спо¬
радических мыслей и рассуждений о бренности бытия, о судьбе
и т. д. — глубокое ощущение справедливости возмездия и свое¬
го греха, вплоть до намерения уйти в монастырь. В этом прин¬
ципиальное отличие романа Мурасаки от повести «Исэ монога¬
тари». Если «Исэ моногатари» представляет собой ступень на
пути создания романа {307, с. 225], то «Гэндзи моногатари» в
полном смысле роман в его специфически национальной форме.Таким образом, мы установили, что «эпизодическая» конст¬
рукция не исключает сюжетно-фабульных форм связи между со¬
бой «глав-эпизодов» романа и что сами эти формы играют су¬
щественную роль в композиционной структуре произведения.
Обусловлена же эта конструкция задачами реализации темы
в ее конкретной намеченной Мурасаки трактовке: один — и мно¬
гие. И поскольку данная трактовка, по существу, характерна
только для основной части романа, посвященной истории, по¬
вествующей о жизни Гэндзи, то она и актуальна в такой явно
выраженной форме только для этой основной части. В «главах
Удзи» писательница от этого «эпизодического» расположения
материала в значительной мере отходит.Традиционные формы композицииВопрос о композиции произведения традиционной литерату¬
ры нельзя рассматривать вне связи с соответствующей художе¬
ственной традицией, ибо законы композиции наряду со структу*
рой художественного образа принадлежат к числу устойчивых
элементов традиции. Остановимся несколько подробнее еще на
одной форме связи эпизодов в «Исэ моногатари» — связи ассо¬
циативной как наиболее показательной для японской поэтиче¬
ской традиции, восходящей к широко используемым в поэзии
раннего средневековья приемам недосказанности («ёдзё»), ас¬
социативной связи слов («энго»), аллюзии и реминисценции
(«хонка-дори»).Привычные соединения понятий, сочетания слов и образов
приобрели силу традиции, силу .канона. Традиция закрепляет
образы за определенными предметами и явлениями, темами и
мотивами. Образ пробуждает ассоциации, часто понятные до
конца лишь в общем контексте культуры.Одним из главных принципов сложения танка к концу
IX — началу X в. становится недосказанность, ассоциативный
подтекст, именуемый «ёдзё» (букв, «избыточные эмоции», т. е,
эмоциональное содержание, находящееся за пределами собст¬
венно текста).214
В подтекст обычно входит ситуация, в которой сложено
стихотворение, широко привлекаются дискурсивные детали и
реалии общекультурного контекста.Пример широкого ассоциативного подтекста, создаваемого
за счет дополнительных значений слов и многозначности по*
этического образа, дает стихотворение Мицунэ:У осеннего хагиНа старых ветвях расцветшиеЦветы,— когда их вижу,Прежние чувства
„ / Оживают в_сердце моем [82, № 219]Здесь почти за каждым словом и образом стоит определен¬
ный подтекст. Кустарник хаги — постоянный образ осени: его
начинающая желтеть снизу листва служит признаком насту¬
пающей осени и обычно выражает настроение грустного одино¬
чества. Слово «фуру» («старый») символизирует былое, преж¬
нее, отражая ситуацию, в которой создавалось стихотворение:
поэт неожиданно встретил свою прежнюю возлюбленную, о
чем и говорится в посвящении («Хасигаки»); цветы — часто
встречающаяся привычная метафора женщины. Слово , «аки»
(«осень») помимо того, что несет обычную, «сезонную» образ¬
ную нагрузку, традиционно выступает как метафора охлажде¬
ния в любви: комментарий сообщает, что поэт как бы обра¬
щается с упреком к той, которую он встретил, — он все не мо¬
жет забыть ее, а в ее сердце, видимо, уже «осень»...Стихотворение помещено в «Кокинсю» в разделе «Песни осе¬
ни», однако в образах осени заключены определенные скры¬
тые значения, которые и составляют ассоциативный подтекст,
выражающий душевные движения самого поэта.Примером недосказанности, обусловленной ситуативным кон¬
текстом, может служить стихотворение:В 'Касуга, в полях
Сквозь снега глубокие
Кверху пробивается
Травка,., лишь едва-едва
Показалась... и ты... [82, № 478}Прозаическое введение сообщает, что песня сложена на
празднике в честь бога Касуга (отсюда ассоциативная связь
с образом «полей Касуга», обычно олицетворяющих раннюю
весну), где поэт увидел свою возлюбленную, которая, однако,
тут же и скрылась («едва показавшись», как весенняя травка).
Здесь даже поэтическая фраза остается незаконченной — ее
дополняет 'контекст.Одним из средств создания ассоциативного подтекста слу¬
жит поэтический намек, реминисценция, как бы присоединяю¬
щая к контексту данного произведения контекст произведения-
прототипа. Уже в жанре танка система внутренних ас¬
социативных связей служит не только важным средством худо-215
жественной выразительности, но и играет определенную сюже¬
тообразующую и композиционную роль. В лирической прозе
этот опыт получает дальнейшее развитие. В частности, «ёдзё»
широко используется в лирической повести в качестве одного
из средств связи между собой входящих в нее отрывков-эпизо¬
дов, в том числе и далеко отстоящих друг от друга.Так, в эпизоде № 14 «Исэ моногатари» говорится: «В давние
времена мужчина в провинции Митиноку познакомился с до¬
черью одного незначительного человека, и, к его удивлению»
она показалась ему не такой, какою быть бы должна. Поэтому
он сложил:Гора Любовных мечтаний!Ах, если б нашелся
Путь незаметный к тебе...Хотел бы узнать я
Сердца тайны ее».Своеобразным «откликом» на это стихотворение является
танка, сложенное дамой в отрывке № 32:Чувства, в сердце твоем
•Сокрытые, как в бухте тайной,Где рыбаки шестом
Отыскивают путь,—Как мне узнать?И хотя сам отрывок повествует об иных событиях, содержа¬
ние его дополняется внутренним сопоставлением с ситуацией иэмоциональным наполнением более раннего эпизода (№ 14).Используются подобные связи-реминисценции и в после¬
дующем тексте повести. Например, под № 79 помещен такойотрывок:«В давние времена был человек, который в разрушенном
жилище цветы глициний посадил. Они цвели очень красиво.
В конце марта, когда накрапывал дождь, он, цветов нарвав и
их преподнося одной особе, так сложил:Промок я насквозь,
но все же, невзирая на это,
нарвал я глициний!Подумал — не много весенних
осталось уж дней...»Через 21 отрывок, под № 100, приводится эпизод, начинаю¬
щийся словами: «В давние времена жил некий человек, Ари¬
вара Юкихира по имени, пост занимавший офицера левой двор¬
цовой гвардии...» Затем говорится, что он созвал гостей и по¬
ставил в вазы цветы, среди которых были и глицинии. Присут¬
ствующие стали слагать стихи о глициниях. Далее приводится
одно из сложенных стихотворений, своеобразно перекликающе¬
еся со стихотворением, приведенным ранее (Ne 79), .которое ста¬
новится ассоциативным подтекстом данного отрывка (№ 100).
Можно указать также на стихотворение, завершающее первый216
отрывок, повествующий об увлечении столичного кавал&ра юны¬
ми девушками из селения Касуга:Узорчатая тканьСинобу из Митииоку,Ах, отчего жеПричудливо запутан твой узор.Ведь я тут ни при чем.Песня выражает смущение молодого человека, его душевное
смятение. Далее в тексте повести неоднократно фигурируют
отрывки, повествующие о похождениях героя в провинции Ми¬
тиноку (Ия 13, 14, 115, 116). И от всех отрывков тянутся не¬
видимые нити ассоциаций к этому стихотворению, его -контексту,
своеобразно дополняющему по принципу сходства или, наобо¬
рот, по принципу контраста содержание соответствующих эпи¬
зодов и их поэтических образов.Художественный прием «энго», которого мы уже касались,
еще в сфере поэзии танка выполнял определенные компози¬
ционные функции, соединяя, например, внутренними связями
(по линии сопутствующих значений слов, переносного их смыс¬
ла и т. д.) вводные элементы стиха (зачины, стилистические
введения) с его основным содержанием.В качестве композиционного приема «энго» был закреплен
в поэзии «рэнга». «Рэнга» (букв, «нанизанные стихи») состоит
из теоретически неограниченного числа чередований ставших
обособленными первых, начальных, и вторых, заключительных,
полустиший танка. Каждое последующее звено цепи присоеди¬
няется к предыдущему на основе ассоциативной связи с исполь¬
зованным в нем образом (или образами). Например, если в
предыдущем говорится о цветущей сливе, то для связи с ним
достаточно в последующем употребить слово «соловей». Обра¬
зы сливы и соловья, согласно японской поэтической традиции,
являются взаимообусловленными или связанными, т. е. они суть
«энго». Это могут быть самые различные слова, относящиеся
к одному и тому же сезонному или — шире — тематическому
циклу, например «осень» и «луна» или «пронизывающий ветер»,
«стрекотание цикад», «листья хаги» и т. д.В «Исэ моногатари» особенно часто используются темати¬
ческие ассоциативные связи, среди которых определенное место
занимают и связи «энго». Начальные отрывки можно объеди¬
нить единой темой: «Увлечения юности». В первом отрывке герой
пленяется юными девушками, которых встретил в Касуга, куда
выехал на охоту. Во втором добивается свидания с дамой, «пре¬
восходившей всех других» и «проживавшей в западных кварта¬
лах» столицы. В третьем посылает стихи даме, в которую влюб¬
лен, с предложением встретиться с ним. Четвертый и пятый от¬
рывки повествуют о любви к даме, жившей в восточной части
города. (Дама, покуда она жила в западной части города, охот¬
но встречалась с ним, затем куда-то исчезла, повергнув его в217
печаль. Наконец он разыскал ее — уже во дворце, в восточной
части Хэйана. Теперь он посещает ее тайно, встречая множест¬
во препятствий на своем пути.)В шестом отрывке рассказывается о том, что герою трудно
стало встречаться со своей дамой и он уговорил ее бежать с
ним. Однако их настигли, и дама была возвращена домой.Дальше следует два отрывка, из которых мы узнаем, что
ему «невмоготу стало жить в столице и ушел он на Восток»
(№ 7); «стал он думать, что больше он не нужен никому», и
уехал (№ 8).Следующая группа отрывков повествует о странствиях ге¬
роя: то он в Синано (№ 8), то в Мусаси (№ 9, 11, 12), то в
Митиноку (№ 13, 14), то в Исэ (№ 67—74). (В Исэ герой пе¬
реживает второй серьезный роман — с жрицей храма.)Есть и отрывки, объединенные темой возвращения к преж¬
ней любви (№ 20, 21, 31). В ряде отрывков предметом страсти
оказывается «дама, играющая в любовь» (№ 24, 27, 36, 41),
«жестокая дама» (№ 53, 56 и др.), «дама высокого звания»
(№ 88, 92) и т. д.Отрывки заключительной части повести объединены мыслями
о бренности этого мира и человеческого бытия. В них с особой
настойчивостью звучат мотивы недолговечности любви (№ 89),
забвения: «В давние времена человек, одиноким оставшись»
сложил:Чтоб забыть в этой жизни —
такой скоротечной,—
сколь же короткой
душой обладатьтогда нужно!» (№ 113) ' ' v.Мотивы одиночества: !.Так и оставлю, ' ■ ' ’ никому не поведав, свои я думы!Ведь нет никого,Кто был бы со мной... (№ 124) :: 4Мотивы сожаления об уходящих днях: . •...не много весенних
осталось уж дней (№79).В суетном миречто может быть долгим? (№ 81)Мотивы старости: призыв к вишне рассыпать лепестки, что¬
бы «преградить дорогу старости» (№ 96); образ соловья, спле¬
тающего себе шапочку из цветов, надев которую человек мо*
жет скрыть свою старость (№ 121); сожаление об очередной
смене луны (много лун — много месяцев — много лет, № 87)-
Мотивы смерти: «быстротечней, чем даже цветы, она(жизнь. — И. Б.) оказалась...» (человек послал это стихотворе*218
ние другу, потерявшему любимую, № 108); воспевание послед¬
него крика цапли, преследуемой соколом (№ 114); плачи на
смерть двух придворных дам (№ 76, 77). И, наконец, заключи¬
тельный эпизод: «В давние времена человек, страдая и в серд¬
це своем полагая, что смерть ему приходит, сложил:Издавна слышал я
О дороге последней,Которой придется идти,Но даже вчера я не думал,Что уже сегодня...» (№ 125)Связь по линии поэтических ассоциаций и семантической
близости слов в особенности характерна для отрывков, непо¬
средственно следующих друг за другом, например: «В давние
времена мужчина встретился с дамой, с которой так трудно
встретиться 'было, и в то время, когда они еще беседовали друг
с другом, запел петух...Что это значит,Что поешь ты, петух?Ведь в сердце моем,Которого не знает никто,Еще темная ночь...» (№ 52)По ассоциативной связи «энго» с образом темной ночи в
следующем отрывке употреблена постоянная метафора «доро¬
га грез»: «В давние в-ремена мужчина даме, бывшей жестокой,
сказать послал:Идти я не иду к тебе... ... * . л.И вот скитаюсь ^Дорогой грез...На рукаве моем —' То не роса ль с пространства небес?» (№ 53)Ассоциативной связью лексически близких понятий («энго»)
объединены отрывки № 89 и 90.Отрывок 89 рассказывает, .как мужчина любил бесчувствен¬
ную даму. «Она хотя и подала ему некую надежду, но он, сло¬
мив ей красивую ветвь вишни, в сомнениях, сложил:Вишни цветытак блистают сегодня...Но, увы, трудно знать наверное,что случитсязавтра в ночи...» (№ 89)«В давние времена человек, горюющий о том, что месяцы
и дни уходят, в конце марта сложил:Как то ни жалко,
но сегодняшни день,
день последний весны,—
увы, превратился
уже в вечернюю тень!» (№ 90) *.1 Поэтические отрывки из «Исэ моногатари» даются в переводе Н. И. Кон¬
рада.219
Слова «ночь» и «вечерняя тень», как обозначающие близ*
кие понятия, объединяют внутренней ассоциативной связью и
соответствующие отрывки.Отрывки заключительной группы, в которых наиболее на*
стойчиво звучат мотивы старости, одиночества, быстротечности
жизни и т. д., связаны также образными ассоциациями: «ухо¬
дящие весенние дни» (№ 79), «опадающие цветы» (№ 81),
«смена луны» (№ 87), «последний путь» (№ 125).Апробированные в жанре лирической повести, эти компози¬
ционные приемы успешно использованы Мурасаки Сикибу.Намеки, аллюзии пронизывают все главы и эпизоды рома¬
на, соединяя их внутренней связью между собой и в единое
целое. Особую роль играет общекультурный контекст, в значи¬
тельной мере обусловливающий тональность, атмосферу рома¬
на, конкретное наполнение художественных образов, особенно¬
сти композиции эпизодов.С учетом ассоциативного подтекста в новом свете предста¬
ют и положения об «эпизодической» конструкции романа, «не¬
зависимых» главах, гипотезы о «недостающих», «пропавших»
главах, выдвигавшиеся еще в средние века Фудзивара Тэйка
и другими учеными. Сюжетная самодостаточность глав, при
которой глава составляет законченное целое, обусловлена
существенной особенностью структуры мышления, отразившего
особенности китайско-буддийских представлений о соотношении
части и целого, согласно которым, каждая часть есть самосто¬
ятельная сущность, «каждая малость есть микромир» [284,
с. 140]. Это не означает отрыва части от целого, ибо отсутст¬
вует само противопоставление части и целого. Вместе с тем это
не означает и самостоятельности в нашем понимании. Согласно
представлениям японца тех времен, все в мире взаимосвязано.
Причем существенны не внешние связи. Вещи и существа свя¬
заны внутренней общностью, своей сопричастностью к абсолю¬
ту. Это, естественно, нашло отражение и в законах композиции
художественного произведения, в предпочтении внешним, види¬
мым связям связей внутренних, глубинных, что и демонстри¬
рует нам произведение Мурасаки Сикибу. Поэтому естествен¬
но, что внешние сюжетно-фабульные связи не выступают на
передний план, они часто скрыты, завуалированы, а особую
роль играют «внутренние скрепы», которые в определенном
смысле тоже сюжетны, если понимать сюжет как диалектиче¬
ское единство элементов внешнего действия, явленного во вза¬
имоотношениях персонажей и обстоятельств, в цепи последо¬
вательных событий, в которых заняты изображаемые лица, и
внутреннего действия, уходящего в подтекст, тесно связанного
с мировоззрением автора и с его образом, активно участвующим
в формировании идеи художественного произведения [292, с. 3].Такой принцип композиции не только допускает, но иногда
и предполагает пропуски в сюжетной линии.220
Глава «Сокрытие в облаках», например, между главами
«Призраки» и «Ниоу-но мия», текст которой, как считает Хиса-
мацу Сэнъити, на каком-то этапе был утерян в процессе пере¬
писки, по нашему мнению, не случайно только названа. Если
принять во внимание традиции японского образа мышления и
художественного вйдения мира, с одной стороны, и эстетические
критерии эпохи — с другой, то отсутствие текста главы можно
расценить как вполне естественное и закономерное. Тем более
что содержание предшествующей главы «Призраки» уже дает
ощущение близкого конца героя. В ней он явно готовится к
смерти: предается воспоминаниям о прошлом, как бы подводя
итог своей жизни, сжигает дорогие письма, отдает последние
распоряжения. По логике развития сюжета следующая глава
«Сокрытие в облаках» должна быть посвящена описанию «фи¬
зической» смерти Гэндзи, что едва ли входило в планы писа¬
тельницы. Само название главы, представляющее собой весьма
прозрачную метафору смерти, раскрывает ее содержание по¬
средством ассоциативного подтекста («ёдзё»), созданного эмо¬
ционально насыщенной предыдущей главой.Глава о Фудзицубо, которая рядом ученых считается недо¬
стающей и которую под названием «Принцесса сияющего солн¬
ца» («Кагаяку хи-но мия») дописал Норинага, также не пред¬
ставляется обязательной в структуре романа. Взаимоотношения
Гэндзи с Фудзицубо достаточно ясны из контекста романа в
целом, как и роль этой связи в жизни героя. Что касается об¬
раза Фудзицубо, то он едва ли мог быть представлен в отдель¬
ной главе лучше, чем в процессе постепенного раскрытия на
протяжении значительной части романа. Образ этот не эпизо¬
дичен. Он играет важную роль в структуре ряда глав и несег
определенную сюжетно-фабульную нагрузку, воссоздавая по ас¬
социации в воображении читателя соответствующие жизненные
ситуации. Например, в заключительной части главы «Дерево-
метла» (после критических высказываний друзей блистатель¬
ного Гэндзи ,по поводу типов женщин и женских характеров)
Мурасаки пишет: «Гэндзи слушал все это и про себя думал о*
Фудзицубо: „У нее-то нет ничего недостающего и ничего из¬
лишнего... других таких женщин, как Фудзицубо, не существует
на свете", —и грудь его теснила печаль». Этот отрывок возвра¬
щает нас к ситуации второй части предшествующей главы
(«Кирицубо»), раскрывая те намеки на отношения Гэндзи и
Фудзицубо, которые сделаны там. Этих нескольких строк ока¬
зывается достаточно, чтобы понять и чувства Гэндзи и то зна¬
чение, которое приобрела в его жизни эта женщина. В главе
«Юная Мурасаки» проясняется и сам характер отношений
Гэндзи к Фудзицубо. Фудзицубо воспринимает их как тяжкий
грех и, морально страдая, постоянно избегает встреч с Гэндзи.
Он же, несмотря на все препятствия, неудержимо к ней стре¬
мится, В этой главе содержится и важный элемент сюжета —221
выясняется, что Фудзицубо ждет ребенка. Еще один-два штри¬
ха— и читателю понятно и ее моральное состояние и чувства
Гэндзи.Через главу, а именно в главе «Праздник алых листьев»,
сказано, что Фудзицубо со страхом ждет рождения ребенка:
из контекста понятно, что она боится раскрытия тайны (импе¬
ратор-отец и окружающие увидят сходство его с Гэндзи!). Со¬
держащаяся в последующем тексте фраза о том, что Гэндзи
не терпится взглянуть на ребенка, позволяет догадываться и о
его чувствах и об испытываемом им беспокойстве. Несколько
позднее писательница сообщает как бы между прочим, что ре¬
бенка наконец показывают при дворе; и император-отец не
обнаруживает бросающегося в глаза сходства его с Гэндзи,
хотя HeKOTqpbie придворные и отмечают это. Этот эпизод, ос¬
тавляет у читателя ощущение, что опасность еще далеко не
миновала, и вместе с тем активизирует воображение читателя,
заставляя его домыслить раскрытую лишь в основных чертах
•ситуацию. Именно поэтому эпизод оказывается особенно впечат¬
ляющим и живо приходит на память, когда в конце романа
Гэндзи оценивает свой настоящий момент.Далее, как бы мимоходом брошенная (уже в следующей
главе) фраза об очередной безуспешной попытке Гэндзи про¬
никнуть к Фудзицубо в сочетании с уже описанными ранее мо¬
ральными муками и размышлениями последней позволяет пи¬
сательнице во многом положиться на воображение читателя
и. не описывать дальнейшего развития их отношений. Она счи¬
тает возможным на некоторое время оставить эту тему и воз¬
вращается к ней, по существу, лишь в главе «Священное дере¬
во», где говорится, что Фудзицубо избегала Гэндзи и даже в мо¬
литвах своих просила богов отвратить его от нее, но однажды
он все же проник в ее покои и страстно молил о снисхождении,
однако она «снизошла лишь до ночной беседы с ним». «Избы¬
точное эмоциональное содержание» остается в подтексте и как
бы подготавливает читателя к восприятию следующего этапа
развития сюжета, который дается в той же главе, но с намерен¬
ным «разрывом», чтобы у читателя было время домыслить
недосказанное, дополнить его «встречными эмоциями»: визит
Гэндзи так напугал Фудзицубо, что она решает постричься в
монахини и видится с ним в последний раз, уже будучи спо¬
койной, поскольку отныне не может быть речи о близости.В романе изображено всего несколько встреч Гэндзи с
Фудзицубо, и среди них единственное любовное свидание в гла¬
ве «Юная Мурасаки», которое дает достаточное представление
■и о глубине их взаимного чувства и о том, насколько были
дороги обоим эти встречи.Одна из немногих встреч Гэндзи с Фудзицубо фигурирует
в главе «Сума». Однако она не описана, о ней только гово¬
рится: писательница сообщает, что перед своим отъездом в222
Сума Гэндзи посетил монастырь, где жила Фудзицубо, и при¬
водит деталь, которая свидетельствует, что это прощание было
достаточно теплым и задушевным: он простился с нею, «по¬
дойдя вплотную к ширме». Эта встреча, как и каждая из преды¬
дущих, была своеобразным итогом определенного этапа разви¬
тия их отношений, представление о которых в значительной
мере складывалось из отдельных упоминаний, намеков.Как к средству раскрытия душевного состояния Гэндзи и
Фудзицубо Мурасаки Сикибу обращается к их переписке, при¬
чем не приводит ее, а, по существу, лишь доводит до читателя
ее суть, ее моральный и эмоциональный итог, дополненный соб¬
ственным комментарием, как будто бы подробным, однако-
умышленно оставляющим многое «за пределами слов». Она со¬
общает, что, будучи в Сума, Гэндзи получает письма от Фуд¬
зицубо, в частности, речь идет об одном из них, «длинном и
нежном». И, знакомя кратко с содержанием ее писем, выбирая
лишь наиболее выразительные детали, автор показывает чи¬
тателю, как письма раскрывают и глубину чувства Фудзицубо
к Гэндзи и глубину ее страдания. Фудзицубо объясняет Гэндзи
свое видимое бессердечие к нему при свиданиях страхом перед
раскрытием тайны их роковой связи. Это наводит и Гэндзи на
горькие размышления, за которыми кроются, по существу, не
только ее письма, их последняя встреча, но также те встречи
и беседы, что не отражены в тексте романа, ибо практически
почти любое упоминание об их отношениях настолько богато
подтекстом, что легко может быть развернуто на целый эпизод
и даже главу.За казалось бы скупыми словами стоят и многие бесплодные
попытки Гэндзи добиться свидания с Фудзицубо, и ее внутрен¬
няя борьба и страдания, и те немногие встречи, радость кото¬
рых тут же сменялась горькими сожалениями и нравственными
муками.После смерти Фудзицубо является Гэндзи во сне, давая по¬
нять, что хотела раскрыть Рёдзэну тайну его рождения (как
можно догадаться, это и есть мысль, которую она не успела
высказать на смертном одре). Здесь мы снова имеем дело с
излюбленным Мурасаки Сикибу приемом недосказанности. Не¬
досказанность насторожила читателя, он ждал... и вот ответ
на его вопрос.Едва ли нужна в романе и специальная глава о Рокудзё, о
«пропуске» которой пишет Ямамото Кэнкити [259, с. 97]. (Эта
глава была дописана Мотоорй Норинага и получила название
«Рука-изголовье».)Образ Рокудзё в еще большей степени является «сквозным»,
чем образ Фудзицубо. Рокудзё действует (с перерывами) на
протяжении всего романа: то в облике живого человека, то в
облике призрака, и ее образ несет важную эмоциональную,
фабульную и концептуальную нагрузку. Особенно значительна22*
роль этого образа в главах «Югао», «Аои», «Молодая поросль»,
«Священное дерево», «Закон», «Сума».Глава «Югао» открывается упоминанием о Рокудзё: «Это
было в ту пору, когда Гэндзи тайком навещал даму, жившую
в районе Шестой стражи». И далее, после обмена стихотвор-
нымн посланиями между Гэндзи и Югао, писательница дает
понять, что Гэндзи отправляется на свидание к Рокудзё.Спустя несколько часов у изголовья Гэндзи и Югао появ¬
ляется призрак женщины, осыпает Гэндзи ревнивыми упрека¬
ми, пытается напасть на Югао. Через некоторое время призрак
появляется снова, и Югао умирает, повергая Гэндзи в глубо¬
кую скорбь. Автор прямо не гово|рит, что это был призрак
Рокудзё, предоставляя читателю догадываться об этом на ос¬
новании сделанных ранее упоминаний и коротких характери¬
стик.Хотя в главе «Югао» и говорится попутно об охлаждении
Гэндзи к Рокудзё, нам еще не вполне ясен характер их отно¬
шений. Он проясняется лишь в главе «Цветок шафрана», где
говорится, что Гэндзи был так много занят с маленькой Мура-
саки, «что стал очень нерегулярен даже в своих визитах на
Шестую стражу». Из этих скупых слов явствует, что, несмотря
на охлаждение, Гэндзи продолжает навещать Рокудзё.В главе «Аои» образ Рокудзё играет едва ли не большую
роль, чем образ главной героини — принцессы Аои. О Рокудзё
здесь не только говорится — она действует, проявляет себя в
эмоциональном плане (история с колясками, возмущение Ро¬
кудзё поведением Аои, нападение ее мстительного духа на Аои,
в результате чего Аои умирает).В этой главе окончательно проясняется тот намек, который
-сделан в «Югао»: да, безусловно, это она, Рокудзё, была тем
призраком, который убил Югао — и вместе с тем становится
•ясной непреднамеренность жестоких акций Рокудзё. В главе
«Аои» и в следующей — «Священное дерево», как бы продол¬
жается сюжетная линия, прерванная после Югао, происходит
быстрое развитие отношений Гэндзи с Рокудзё: он не может
ей простить жестокой «мести» Аои, а она ему — его легкомыс*
лия. Страстно желая его видеть, она тем не менее отказывается
принимать его и решает удалиться из столицы. В главе «Свя¬
щенное дерево» трогательно описано их прощальное свидание
в ее загородном дворце, оставившее глубокий след в душе обо*
ш. Их отношения, по существу, исчерпали себя. Что же касает¬
ся дальнейшего развития темы Рокудзё, то оно происходит
теперь с еще большими перерывами, дается штрихами, кото¬
рых, однако, оказывается достаточно, чтобы раскрыть эту тему
(с учетом того, что было сказано, и в сочетании с подтекстом).В главе «Сума», как уже говорилось, фигурирует только
письмо Рокудзё из Исэ, куда она удалилась, мучимая кошма¬
рами, в поисках умиротворения. Письмо с выражением ее иск*224
ренних чувств, выявляющее ее душевные страдания, пробуж¬
дает в Гэндзи глубокое сочувствие к ней. В то же время он
восхищен ее изящным почерком и прекрасным стилем. Чита¬
теля заставляют вновь обратиться к более ранним упоминани¬
ям о Рокудзё, чтобы сопоставить их с этой новой информа¬
цией, которая в их контексте обретает большую полноту, и ста¬
новятся легко понятными те чувства, которые пробуждает в
душе Гэндзи это письмо.В главе «Путеводные огни» говорится о том, что Рокудзё
возвращается в столицу. Она много передумала за это время,
много перечувствовала. Поняла, что содеянное ее духом —не¬
поправимо и что нет для нее никаких перспектив в этой жизни.
К тому же и здоровье ее пошатнулось. И Рокудзё решает при¬
нять постриг. Как и прежде в главах «Аои» и «Священное де¬
рево», Гэндзи неоднократно добивается свидания с нею, но она
так же решительно отказывает ему. В конце концов она при¬
нимает его, но только потому, что предвидит свой близкий
конец и решает поручить ему заботу о своей дочери.В главе «Молодая поросль», в сцене смертельной болезни
Мурасаки, дух Рокудзё обнаруживает себя через девушку-
медиум, с помощью которой заклинатели старались изгнать
злого духа из тела больной и которая бросает Гэндзи жесто¬
кие упреки. Гэндзи понял: Рокудзё так и не простила его, он
был слишком виноват перед ней.Таким образом, Рокудзё является центральным персонажем
в главе «Священное дерево», одним из главных в главе «Аои»,
играет важную сюжетную роль в главе «Югао» и фигурирует
в ряде последующих глав (см. раздел «Образ человека в рома¬
не»). Таким образом, линия Рокудзё, как и линия Фудзицубо,
проходит через всю основную часть романа, при этом главы и
эпизоды, в которых эти персонажи участвуют, подкрепляются
упоминаниями из других эпизодов и глав; внешние, видимые
взаимоотношения героев между собой, их соотношение с си¬
туативным контекстом дополняются внутренними, подтексто-
выми, ассоциативными связями.Эти формы используются автором романа и при форми¬
ровании других характеров и сюжетных линий. Например, как
уже отмечалось, история девушки из Акаси предваряется в гла¬
ве «Юная Мурасаки», и на эти реминисценции в определенной
части опирается сюжет главы «Акаси».Содержание и сюжет «глав-эпизодов», которые японские
ученые считают самодостаточными, как правило, не замыкают¬
ся в рамках этих глав. Так, история Югао ведет свое начало
с главы «Дерево-метла», где об этой женщине сообщаются
очень важные подробности, приобретающие новое звучание в
последующей главе «Югао», посвященной истории любви Гэнд-
зи и Югао. Эта предварительная информация проясняет важ¬
ные детали поведения и характера Югао. Изобилующая наме-15 зак. 654225
ками н недомолвками характеристика Югао, данная ей То-но
Тюдзё, брошенное как бы между прочим замечание обретают
в новом контексте глубокое значение и смысл.Если бы не было этих «предварительных данных», многое
для нас осталось бы неясным. Иными словами, содержание
главы «Югао» значительно расширяется за счет тех ассоциа¬
ции, которые восходят к предыдущей главе, хотя на уровне
внешних сюжетных связей последовательность этих глав мало
выражена.Соответственно глава «Юная Мурасаки» отталкивается, по
существу, от главы «Югао», ибо повествует о последствиях
связи Гэндзи с Югао: он едет в горы к заклинателю, чтобы
излечиться от «наваждения», которое отчасти коснулось и его.
Мысленно он еще в прошлом, Югао все еще живет в его воспо¬
минаниях, в его настроениях.Реминисценциями истории Югао открывается также глава
«Цветок шафрана»: «Как ни старался, он никак не мог прео¬
долеть тоски, в которую повергла его внезапная смерть Югао,
и хотя уже много месяцев прошло с тех пор, он желал ее все
так же страстно...» Югао отчасти продолжает «жить» в образе
и судьбе своей дочери Тамакадзура (в одноименной главе).
В сопоставлении с ней раскрывается внешний облик и харак¬
тер Тамакадзура. Воспоминания Укон, служанки Югао, постоян¬
ные реминисценции няни, беседы Гэндзи с Мурасаки и с самой
Тамакадзура, как бы возвращают нас к судьбе Югао, истории
ее отношений с То-но Тюдзё и Гэндзи. Важное значение имеют
сны няни — и как подтверждение разгадки тайны исчезновения
Югао и, что особенно важно, как одна из форм ассоциативной
связи истории Югао с содержанием главы «Тамакадзура».Воспоминания о Югао занимают важное место в главе «Де¬
ва». «Моя любовь к ней все еще заполняет мои мысли», — гово¬
рит Гэндзи Укон, решив взять к себе Тамакадзура как дочь.
Далее, в главе «Бабочки», выясняется, что именно сходство с
Югао пробудило в Гэндзи нежные чувства к Тамакадзура.
В этой главе он неоднократно сравнивает их обеих, обнаружи¬
вая все новые и новые черты сходства, и этот (уже отмеченный
ранее) прием преемственности образов выполняет в романе и
сюжетные функции.История Уцусэми также далеко не замыкается рамками од¬
ноименной главы. Более того, в главе «Дерево-метла», по су¬
ществу, содержится завязка ее романа с Гэндзи и первый этап
их взаимоотношений. Прибегнув к хитрости, Гэндзи овладевает
Уцусэми. Вскоре он повторяет свою попытку, но безуспешно.
Глава «Уцусэми» повествует о второй неудачной попытке
Гэндзи овладеть Уцусэми. (Иными словами, между этими дву¬
мя главами — прямая сюжетная связь.) Отношения с Гэндзи
оставили, однако, глубокий след в душе Уцусэми, она сожалела
о том, что «все так и кончится», и «не могла вполне совладать226
с собою». Это в значительной степени предопределило финал
ее истории, описанный в главах «На границе» и «Первые
голоса птиц». Встреча с Гэндзи на границе всколыхнула про¬
шлое в ее душе, а в воображении читателя вновь возникли си¬
туации соответствующих глав первой части романа. После смер¬
ти мужа Уцусэми принимает постриг. Но в свете ее прошлого
смерть мужа воспринимается скорее как повод к принятию
такого решения, по существу же, она была подготовлена к
этому событиями более ранними, и встреча с Гэндзи лишь убе¬
дила ее в бессмысленности дальнейшего мирского существова¬
ния, ибо он единственный, к которому стремилась ее душа, был,
как и прежде, не для нее.Важное место в системе композиционных средств романа
занимает ассоциативная связь образов и ситуаций типа «энго».
В частности, этот приехМ является одним из средств связи гла¬
вы второй—к<Дерево-метла», со следующей главою — «Уцусэ¬
ми». «Дерево-метла» — это образ, который фигурирует в за¬
ключительном эпизоде одноименной главы.Смысл этого эпизода выражен в обмене стихотворными по¬
сланиями между Гэндзи и Уцусэми (пока еще не фигурирую¬
щей под этим именем). Танка Гэндзи:Сердца «древа-метлы»Не ведая,По полям Сонохара
Блуждал я,Как видно, вотще.Ответ женщины:Для скитальца безвестного
Жалкий приют.Хоть ненадежным не названо,Все же ускользает от взора
«Древо-метла» [17, т. 14, с. 105—106].Дерево хахаки («метла») —японская разновидность ракит¬
ника, издали оно кажется достаточно густым, и усталый пут¬
ник, предвкушает отдых в его тени. Но вблизи дерево оказы¬
вается лишь подобием невысокого кустарника, и надежды пут¬
ника не оправдываются.* Налицо бесспорная ассоциативная связь этого образа с об¬
разом Уцусэми («пустая скорлупка цикады»). В главе, назван¬
ной ее именем, Гэндзи снова постигает неудача: надеясь на сви¬
дание с Уцусэми, он лишь находит в комнате забытую ею одеж¬
ду— «пустую скорлупку».На образах-антонимах в значительной мере строится связь
главы «Югао» с последующей главой, «Юная Мурасаки».
«Югао» означает «цветок вьюнка» (букв, «вечерний лик»). Мо¬
лодая женщина, известная под этим именем, «старательно та¬
ится», она предстает, как правило, во время вечерних свида¬
ний с Гэндзи, ее красота описывается в мягких, приглушенных15*227
тонах, подчеркивающих ее слабость, нежизнеспособность, что
как бы предваряет ее ранний уход из жизни.Последующая глава носит название «Юная Мурасаки». Му*. расаки — по-японски «фиалка».Молодая фиалка, цветок весны, яркий, радостный — имен¬
но так воспринимает эту юную девушку Гэндзи, увидев ее впер- !
вые. Светлым лучом весеннего солнца вошла она в его жизнь, |
на долгие годы заменив безвременно ушедшую Югао. |По другой линии образ Югао связан антонимической связью |
с именем и образом Асагао: Югао — «вечерний лик», Асагао— |
букв, «утренний лик». Характеры их также противоположны:
Югао робка, покорна; Асагао самостоятельна, решительна и |
независима. jТематическая связь образов объединяет, по существу, все
три следующие друг за другом главы: «Югао» («цветок вьюн¬
ка», или «вечерний лик») «Юная Мурасаки» («молодая фиал¬
ка»), «Суэцуму-хана» («цветок шафрана»). Имена всех трех
женщин представляют собой названия цветов, причем выбран- j
ных не случайно, а по определенному принципу: от совсем j
скромного —вьюнка к более яркому — фиалке и, наконец, к [
красному цветку шафрана. Не исключено, что за этим кроются !
и более глубокие ассоциативные связи — по линии долговечно¬
сти цветов и соответственно самих женщин, названных их име- !
нами, |Вместе с тем мотив вечернего цветка, закрывающегося к |
утру («Югао»), ассоциативно связан и с мотивом предыдущей
главы («Уцусэми») по линии той же тщетности, недолговеч- \
ности, ненадежности: Уцусэми ускользает из рук Гэндзи, от¬
казывается от его любви, лишает его надежд на встречу вооб- \
ще; не оправдывает его мечтаний и Югао, которая безвремен- ;
но уходит из жизни. |Тематические связи лежат в основе соединения глав «Дво- !
рец в зарослях» и «На границе»: обе посвящены встречам
Гэндзи много лет спустя со старыми знакомыми — принцессой
Суэцуму-хана и Уцусэми. Другая группа глав —«Первые голо- |
са птиц», «Бабочки», «Светлячки» — объединена единством на¬
строения— сходной атмосферой радостного приятия жизни, j
которую отражают сами названия глав, представляющие собой
тематические «энго».А теперь вернемся к уже упоминавшейся ненаписанной гла-
. ве «Сокрытие в облаках». Это название связано нитями поэти¬
ческих ассоциаций с первой главой романа, открывающей исто¬
рию Гэндзи, где говорится, что юному Гэндзи было присвоено
имя «Хикару», что значит «светящийся», «блистательный».
Налицо ассоциативная связь образов: «свет» — «скрылся в об-
■ лаках». Эти ассоциации (лексические «энго») возвращают нас 1
к содержанию первой главы: если там рассказывается о рожде- ;
нии героя, то, следовательно, «Сокрытие в облаках» предпола- j228
гает завершение его жизненного пути. Эти ассоциативные свя¬
зи дополняются мыслями и переживаниями Гэндзи в предпо¬
следней главе этой части романа — «Закон», где Гэндзи возвра¬
щается к ситуации, в которую в свое время поставил собствен¬
ного отца, завязав роман с Фудзицубо.Ассоциативно связанные слова «энго» представляют со¬
бой, как можно было заметить, сами названия глав, взятые
вне связи с их содержанием: «Дерево-метла» — «Пустая скор¬
лупка цикады»; «Цветок вьюнка» — «Молодая фиалка»; «Цве¬
ток шафрана» — «Цветок повилики» («Асагао»); «Первые го¬
лоса птиц» — «Бабочки» — «Светлячки»; «Ветви сливы» —
«Нижние листья глициний» — «Молодая поросль» — «Дуб» (Ка¬
сиваги— это имя по-японски означает «дуб»). Такой характер
связи действительно напоминает композицию стихотворения
«рэнга», на что указывают Р. Броуэр и Э. Майнер {337, с. 438}_Лексической ассоциативной связью объединены и названия
ряда глав заключительной части романа («глав Удзи»): «Бам¬
буковая река», «Дева у моста», «Укифунэ» (букв, «утлая
ладья»), «Плавучий мост грез». Это тематические «энго», объ¬
единенные темой «река». Такое объединение глав *в данном-
случае дополняет их связи по линии идейного содержания: те¬
мы тщеты и иллюзорности бытия, изменчивости и печали этого-
мира, воплощенной в образах реки, разрушенного моста Удзи
с его хранительницей, пребывающей в вечной печали, утлой
ладьи — несчастной девушки и, наконец, плавучего моста грез
(по которому, согласно буддийской концепции, человек пере¬
ходит от одной стадии своего существования к другой).Таким образом, для произведения Мурасаки Сикибу харак¬
терно сложное сочетание различных приемов композиции: на¬
ряду с сюжетно-фабульными средствами связи, удельный вес
которых варьируется по мере развития действия, доходя в;
определенные моменты до минимума, писательница использует
традиционно-поэтические средства типа ассоциативного под¬
текста («ёдзё»), реминисценции и особую связь образов и ситуа¬
ций типа «энго». Помимо последовательной связи событий и
эпизодов в романе существуют «сквозные» связи, соединяющие
между собой главы и эпизоды, далеко отстоящие друг от друга
(структурно и во временном плане) внутренней логикой замыс¬
ла и дополнительными нитями ассоциаций. Этот тип компо¬
зиции, генетически восходящий к «Исэ моногатари», трансфор¬
мируется в романе Мурасаки Сикибу в соответствии с требо¬
ваниями нового жанра.
Глава 6НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО СТИЛЯ «ГЭНДЗИ МОНОГАТАРИ»Повествовательный стиль романа складывался под заметным
воздействием волшебной повести, дневниковой литературы,
историко-документальной прозы и устной традиции.Если к волшебной повести восходит сама традиция сюжет¬
ного повествования, как такового, со всеми характерными его
особенностями, то показательные для повествования романа
Мурасаки замедленность действия, сравнительно небольшой
удельный вес диалога и обилие всевозможных пространных
описаний следует отнести в первую очередь на счет влияния
дневника и историко-документальной прозы, т. е. «описатель¬
ной литературы» («ки»). Их влиянием можно объяснить также
следующие особенности повествования «Гэндзи моногатари».Прямая речь приводится часто ретроспективно, обычно
включается в повествовательную ткань, как, например, в сле¬
дующих отрывках из главы «Кирицубо».«Придворные, и высшие и низшие, без стеснения косились
и говорили: „Уж очень ослеплен государь этой любовью! В Ки¬
тае именно из-за таких дел мир приходил в беспорядок и воз¬
никали беды...“»Подобного характера записи во множестве встречаются в
дневниках. Например, у матери Митицуна есть такая запись:
«Как-то в 9-ю луну, когда мужа не было, ради забавы я загля¬
нула в его шкатулку. Там было письмо, которое он собирался
отправить другой женщине. Это была неожиданность; но я за¬
хотела, чтобы он хотя бы узнал, что я видела это письмо, и я
написала:Вся в сомнениях.Как увидела письмо,Что пошлешь другой,—'Не придешь теперь сюда —Так подумала.Так я и думала, а тем временем, действительно, — в самом
конце 10-й луны — случилось так, что Канэиэ не показывался
три дня кряду. Он объяснил это так: „Выказывая свою холод¬
ность, я некоторое время испытывал тебя“. Однажды после это¬
го с наступлением вечера Канэиэ сказал: „Мне непременно230
нужно быть ко двору4' — и ушёл. Я нашла это подозрительным
и послала следом человека, который, подсмотрев за ним, вернул¬
ся и доложил: „Изволил остановиться там-то и там-то, на го¬
родской улочке“. — „Так и есть“, —подумала я без особого
волнения» (цит. по {282, с. 243]).К дневниковым записям восходят и такие приемы, как чужая
речь в чужой речи, косвенно прямая речь и т. п. В частности,
когда придворная дама по поручению государя навещала мать
умершей Кирицубо, в ее уста были вложены такие слова:
«•—Навещавшая вас до этого дама уже рассказывала государю:
„Когда я прихожу туда, все сердце надрывается, вся душа
болит.И действительно, даже мне, ничего не понимающей,
и мне трудно вынести все это... — сказала посланная и, немно¬
го помедлив, стала передавать высочайшие слова:„Первое время я блуждал во тьме, думал: не сон ли это?
Но мало-помалу стал приходить в себя и вижу, что уже не про¬
снуться от этого сна! Это так мучительно! Мне не с кем даже-
обменяться словами, что предпринять? Не приедешь ли ты ко
мне тайком! И маленький принц, бедняжка! Живет он посреди
напоенных росой... Мне так жалко его! Приходи скорей!*' —
Государь не мог даже договорить как следует и захлебнулся
слезами. А тут еще он не мог не подумать, что другие сочтут его
слабым... и вид у него был такой страдальческий, что я, не
дослушав его до конца его речи, прямо поехала к вам, — рас¬
сказывала дама и передала ей высочайшее послание».Такой црием — чужая речь в чужой речи, используется в
романе очень часто.А если автор и прибегает к обычной прямой речи, то во
многих случаях она представляет собой высказывания доволь¬
но пространные, приближающиеся к монологу, как, например,
обмен собственным жизненным опытом между друзьями Гэндзи,
когда каждый из них по очереди рассказывает о своих любов¬
ных похождениях («Дерево-метла»).Или же диалог между матерью Кирицубо и посетившей ее
придворной дамой, после того как мать прочла послание го¬
сударя: «— Мне так горько, что моя жизнь длится так долго.
Мне стыдно даже того, „что подумает обо мне сосна“, когда
узнает... Тем более же я должна стыдиться, будучи во дворце.
Я не раз уже слышала подобные милостивые слова, но вряд
ли смогу и представить себе что-нибудь такое. Что.думает ма¬
ленький принц? Вероятно, только и помышляет о том, чтобы
уехать во дворец, и я с грустью считаю, что он прав. Вот что
я думаю, и так доложите государю! Я —в трауре, и маленько¬
му принцу жить со мной не пристало, — говорила мать.— Маленький принц, конечно, уже почивает. Я хотела
взглянуть на него и подробно донести потом государю; но го¬
сударь, верно, ждет меня, да и уже поздно будет, — сказала
дама и заторопилась.231
— Когда вы со мной, как будто одним краешком рассеи¬
вается мрак моего сердца, блуждающего во тьме. Мне так хо¬
чется побеседовать с вами еще. Зайдите ко мне самой, когда
будете свободны. До сих пор вы заходили ко мне лишь в слу¬
чае радости, торжества, а теперь я вижу вас вот с такими
вестями... И опять, опять думаю, как несчастна моя жизнь!
Дочь моя с детства отличалась и умом и сердцем, и покойный
муж мой — Дайнагон — до самой своей кончины говорил мне:
„Непременно исполни мое заветное желание: отдай ее на служ¬
бу во дворец! Пусть я умру, но ты не иди против моих наме¬
рений, мне будет это очень горько", — так непрестанно нака¬
зывал он мне, и я, хоть и считала, что жизнь во дворце без
покровителя и защиты может привести лишь к беде, все же не
решилась пойти против его предсмертной воли и отдала ее во
дворец. Там она удостоилась исключительной, превышающей ее
достоинства высочайшей милости и жила посреди всех, тая
стыд своего незначительного звания. Но злоба людская все
росла, неприятности все увеличивались, и в конце концов вот
так и получилось: она умерла безвременной смертью. Так что
теперь я думаю иначе: какой роковой была для нее эта госу¬
дарева милость! Впрочем, я говорю так потому, что мое без¬
рассудное сердце блуждает во тьме... — Мать не кончила речи
я захлебнулась в слезах. Тем временем спустилась ночь...— Государь тоже говорит так: „Я относился к ней от всего
сердца, а оказалось, что этим почему-то привлекал лишь взоры
людей. Вероятно, суждено было быть всему таким недолговеч¬
ным. Теперь я вижу, что это был несчастный союз. Я никак
не думал, что как-нибудь задену чье-либо сердце, а вышло что
из-за нее я навлек на себя злобу многих... от которых этого
ожидать было нельзя. И в конце концов теперь я покинут ею,
и нечем мне успокоить свое сердце. Люди начинают относиться
ко мне все хуже и хуже, я совсем превратился для них в ка¬
кого-то глупца... Хотелось бы мне знать мое прежнее сущест¬
вование!"— непрестанно повторял он, и соленые капли только
и льются с его рукава,— так говорила дама и никак не могла
кончить...— Уже очень поздно, мне надо еще сегодня обо всем доло¬
жить государю, — заторопилась она» [302, с. 593—595].Такова одна из типичных для романа форм диалога. В це¬
лом о диалогах можно сказать, что они скудны и мало дина¬
мичны.Во многих случаях прозаические диалоги заменяются
поэтическими. Очень часто встречается и такой прием — мы¬
сленная прямая речь: «„Нет, ни за что не покажу людям, что
я так сильно опечален!" — уговаривал он сам себя, но никак
-не мог удержаться. Он собрал в своей памяти все, даже год
и месяц, когда он в первый раз ее увидел, передумал снова
обо всем. „Тогда было жалко терять и одну минуту, а теперь232
вот так проходят и дни и месяцы!" —с удивлением размышляя
он» (302, с. 595].Многочисленны мысленные рассуждения персонажей типа
внутреннего монолога, например размышления Гэндзи, после
того как он решает взять на воспитание юную Мурасаки:
«Как же тепе(рь быть? Ведь в свете все это может быть истол¬
ковано совсем иначе, и я могу оказаться в глазах людей бес¬
честным соблазнителем. Другое дело, если бы речь шла а
взрослой девушке, имеющей понятие о жизни. Тогда для всех
было бы ясно, что я просто увез ее с ее согласия, как это обыч¬
но бывает в таких случаях. Но как быть сейчас? Вдруг отец,
задумает наведаться к ней,— он, конечно, сочтет мой поступок
неблаговидным, и мне тогда хоть сквозь землю провалиться...»
(«Юная Мурасаки»).Или размышления Мёбу, камеристки Суэцуму-хана: «Ну
да, —это в его духе — с показным безразличиехм наводить
справки о какой*нибудь женщине, а потом вдруг влюбиться
в нее. Ведь я ему о ней и рассказала-то, между прочим, когда
мы как-то вечером коротали время от скуки, совершенно слу¬
чайно, а то бы он вовсе и не знал о ее существовании, а теперь
вот он с такой настойчивостью добивается знакомства с.ней.
А ведь она вовсе и не в его вкусе: даже особой чувствитель¬
ностью не отличается. Так что мое необдуманное посредниче¬
ство ни к чему хорошему, пожалуй, не приведет, и я только
сослужу ей дурную службу» («Цветок шафрана»).Или мучительные раздумья Фудзицубо по поводу разитель¬
ного сходства с Гэндзи рожденного ею ребенка: «Никаких
сомнений: достаточно лишь взглянуть на него, чтобы все стало
ясно, и едва ли найдется хоть один человек, который не осудил
бы меня за мое поведение, я и сама сейчас не могу понять, как
могла я на это решиться. Люди часто Нарочно ищут в других
недостатки и всегда готовы осудить даже малейшую оплош¬
ность. А уж тут я представляю, что будет, какая ужасная мол¬
ва пойдет обо мне. Это невыносимо...» («Праздник алых листь¬
ев») .Обычны подробные описания внешности персонажей и их
одежды (прямое влияние волшебной повести), например, внеш¬
ности Суэцуму-хана (представленной в восприятии Гэндзи):
«„Какова она собой? Может быть, вблизи она покажется мне
хоть чуточку лучше", — с надеждой думает Гэндзи. Но — увы!
Первое, что сразу же бросается в глаза, — это слишком высо¬
кий (рост, это заметно даже когда она сидит. Талия ее слишком
длинна, как, впрочем, и все ее туловище, и это окончательно
расстраивает Гэндзи. Мало того. В ее внешности более всего
поразила его другая ее особенность — ее нос. Его просто нель¬
зя не заметить: он живо напоминает того слона, на котором
восседает бодхисаттва Фугэн. Длинный, крючковатый, он был
ярко-красного цвета, напоминая цветок шафрана. Такой нос233.
на белом, как снег лице, казавшемся даже иссиня-бледным.
При этом лоб казался особенно выпуклым, а лицо длинным, и
его нижняя часть была длиннее верхней, и между ними не бы¬
ло соответствия. Она была настолько худа, что на нее просто
было жалко смотреть: угловатые плечи и ключицы проступали
сквозь платье. „Ах, уж лучше бы я этого не видел!“ — с со¬
жалением думал Гэндзи, продолжая, однако, все с тем же
любопытством рассматривать бедную девушку. Такое, действи¬
тельно, не часто встречается. Однако же волосы, обрамлявшие
это худое лицо, были отнюдь не хуже, чем у других женщин:
безупречно красивые, они пышными прядями ниспадают на
рукава и волнами падают на пол, ниже края ее одежды. Ее
одежда... Может быть, не стоило бы та,к уж подробно описы¬
вать все детали ее внешности, но ведь еще в старинных пове¬
стях рассказ о героине начинается обычно с подробного описа¬
ния ее костюма. Итак, на ней было хитоэ общепринятого
тона, поблекшее от времени, утики, цвет которого стал уже
■черным, а сверху была наброшена накидка из роскошного
■старинного куньего меха, пропитанная благовониями. Она
как-то уж совсем не соответствовала всему остальному, что
было одето на ней, и это несоответствие нельзя было не за¬
метить. Но ведь не будь этой накидки, она, бедная, верно,
совсем бы замерзла. У Гэндзи при виде этого просто сердце
сжималось от жалости...» («Цветок шафрана»).Большое место занимают описания бесконечных придвор¬
ных празднеств, церемоний, развлечений всякого рода (сцен
музицирования, любительских концертов и т. д.). В качестве
примера можно привести следующий отрывок из описания па¬
ломничества Гэндзи к храму синтоистского бога Сумиёси
после его возвращения из ссылки в Сума. «Наконец, появился
экипаж самого Гэндзи... Имитируя великого Тору, он ехал в
сопровождении мальчиков-верховых. Они были красиво одеты,
с волосами, заплетенными с боков и завязанными красными
лентами. Десять из них были расставлены по росту и являли
очень милое зрелище, когда прошли мимо гуськом в своих
великолепных костюмах. Молодой человек, ехавший рядом и
облаченный в костюм придворного пажа, был, по всей вероят¬
ности, персоной значительной, ибо другие смотрели на него с
подобострастием и прислуживали ему. В свите его ехала груп¬
па мальчиков-слуг, каждый из которых был одет по-разному,
однако все они вместе составляли сочетание, заранее продуман¬
ное» («Путеводные огни»).Или описание выставки-конкурса картин, устроенной во
дворце: «Партия Тюдзё (дочери То-но Тюдзё.— И. Б.) пред¬
ставила свои картины в шкатулках пурпурового сандалового
дерева, установленных на стендах, которые были покрыты ки¬
тайской вышивкой, выполненной на розовато-лиловой материн-
Ковер, на котором стояли стенды, был из китайского тонкого234
шелка, окрашенного в тон виноградного сока. Шесть маленьких
девочек помогали держать шкатулки и свитки. Они были одеты
в накидки с белым шарфом, окантованным розовым; их туники
были алого UBeja с голубой отделкой снаружи и бледно-зеле¬
ной подкладкой. Шкатулки партии Акиёси были из дерева
алоэ, установленные на невысоком столе из того же дерева, но
более яркого цвета. Ковер был корейской вышивки на голубо¬
вато-зеленой основе. Фестоны, свисавшие по кромке стола, и
форма ножек стола были тщательно продуманы и выполнены
с изысканным вкусом. Маленькие девочки-ассистентки были
одеты в синие накидки с шарфами цвета молодого ивняка, их
туники были коричневого цвета на желтой подкладке...» («Кон¬
курс картин»).Особенно многочисленны и пространны описания ситуаций,,
складывающихся при дворе, а также житейских ситуаций, свя¬
занных с конкретными персонажами (они нередко занимают
от одной до трех-четырех страниц японского текста). В частно¬
сти, характеристика обстановки, сложившейся при дворе после
смерти императора — отца Гэндзи и восшествия на престол
Судзаку, его сына от Кокидэн-нёго и представителя враждебной
Гэндзи придворной коалиции, обстановки, поставившей Гэндзи
перед необходимостью покинуть столицу и отправиться в изгна¬
ние в Сума, занимает около четырех страниц («Священное де¬
рево»).Надо, однако, заметить, что подобного рода описания не
загружают и не утяжеляют повествование, поскольку они со¬
держат интересную для читателя информацию и написаны лег¬
ким и живым языком. Литературный язык, только что сложив¬
шийся, хранил живую связь с бытовым разговорным языком
придворной среды и не был загружен ни китаизмами, ни «уче¬
ной» терминологией, свойственной классической литературе,
создававшейся мужчинами на базе китайской письменности.Влияние традиции устного рассказа (к которому собствен¬
но и восходит жанр «моногатари»), особенно ощущается в по¬
вествовательном стиле главы «Кирицубо». В частности, к ска¬
зочному зачину восходит ее экспозиция: «В одно из царствова-
ний при дворе служило много прекрасных дам. И была среди
них одна не из очень родовитых, но пользовалась она особым
расположением императора...» По-сказочному подан и мотив го¬
нимости Кирицубо: «С самого начала благородные особы, быв¬
шие высокого мнения о себе, третировали ее как выскочку и
злобствовали...» И далее: она «хоть и полагалась во всем на
высочайшую защиту, но кругом было столько людей, пресле¬
дующих ее, ищущих в ней одни недостатки, что она чувство*
вала себя бессильной, беспомощной и только терзалась...» [302;
с. 588].Влиянием фольклорной традиции следует объяснить имею¬
щиеся в романе случаи «вторжения» автора в художественную235
жизнь романа как рассказчика, случаи «прямого присутствия»
автора в тексте, типа: «Но постойте! Мне так много надо было
рассказать, что я чуть было не упустила одну важную вещь:
я должна была сказать вам, что перед своим отъездом он
(Гэндзи. —Я. Б.) отправил письмо Рокудзё в Исэ» («Сума»);
«Вы увидите в следующей главе, что будет дальше со всеми
этими людьми» («Цветок шафрана»): «В самом деле, стран¬
но, что самое обычное замечание, если оно сделано спокойным,
невозмутимым тоном, может показаться оригинальным и ин>
тересным...» («Вечное лето»).Поскольку ранее, в главе, посвященной художественному
•образу в романе, уже были проанализированы образные пока¬
затели стиля Мурасаки Сикибу, а в других главах были рас¬
смотрены такие особенности повествования, как обильная на¬
сыщенность его лиризмом, постоянное чередование эпического
элемента с непосредственным выражением чувства, широкое
введение в текст поэтического материала, в данной главе мы
■считаем возможным ограничиться в характеристике уровня
повествования уже сказанным.
Глава 7«ГЭНДЗИ МОНОГАТАРИ» В ИСТОРИКО¬
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИЖанр романа не «закрепился» в средние века в японской
литературе, романическая традиция оказалась прерванной на
много веков — явление само по себе характерное для ряда
литератур Востока (санскритский роман, монгольский и вьет¬
намский средневековые романы также не имели «последова¬
телей» в соответствующих традиционных литературах).Тем не менее «Гэндзи моногатари» оказал значительное и
разностороннее влияние на дальнейшее развитие японской ли¬
тературы средних веков и нового времени. Это влияние выра¬
зилось и в прямом подражании (позднехэйанские повести и
дневники), и в сюжетно-тематических заимствованиях, и в ре¬
минисценциях самого различного рода *.Из позднехэйанских повестей особенно дает себя знать вли¬
яние «Гэндзи моногатари» в «Повести о Сагоромо» («Сагоромо
моногатари», 1052).Помимо сюжетно-ситуативных заимствований целый ряд
персонажей «Повести» представляют собой реминисценции об¬
разов героев романа Мурасаки Сикибу — Гэндзи, Фудзицубо,
Мурасаки, Югао, Аои. Подобно «Гэндзи моногатари», очень
многие названия глав связаны с фигурирующими в них поэ¬
тическими произведениями — типа «Югао», «Уцусэми» и т. п.Ощущается влияние «Гэндзи моногатари» и в других повес¬
тях. Например, сюжет «Хамацу Тюнагон моногатари» напоми¬
нает историю отношений Каору и Нака-но кими, а одна из
сюжетных линий восходит к ситуации Гэндзи — Фудзицубо.В течение нескольких столетий роман о Гэндзи вдохновлял
музу поэтов — вака, рэнга, хайку. На базе поэтического мате¬
риала романа было сложено немало «хонкадори». Многие сти¬
хотворения антологий «Сэндзайсю» («Собрание песен за ты¬
сячу лет» (1188) и «Синкокинсю» (1205) навеяны содержани¬
ем и образами романа Мурасаки. В последней есть, например,
стихотворение на тему «Югао». Представление об интерпрета¬
ции «Гэндзи моногатари» в жанре «хайкай» дает такое произве-1 Данным вопросом специально занимался японский литературовед Сато
Кэндзо; см. его работу «Японская придворная литература и литературный
процесс» 1179, с. 52—83 и др.].237
дение, как «Хайкан Гэндзи». Со времен поэта Фудзиваря
Сюндзэй «Гэндзн моногатари» стал постоянной темой поэти¬
ческих турниров вака. Показательно высказывание Фудзивара
Сюндзэй: «Вызывает сожаление поэт, не читавший „Гэндзи мо-
ногатари“» [179, с. 51]. Поэты школы Басё слагали хайку на
мотивы «Гэндзи моногатари». Многие стихи «Гэндзи монога¬
тари» были переложены на хайку и рэнга. Представление о том,
какую роль сыграл «Гэндзи моногатари» в поэзии рэнга, мо¬
гут дать такие произведения, как «Гэндзи окагами» («Большое
зерцало „Гэндзи моногатари"») и «Гэндзи кокагами» («Малое
зерцало „Гэндзи моногатари"»).Немало реминисценций из «Гэндзи моногатари» встречает¬
ся в военных эпопеях (гунки). Так, в «Тайхэйки» («Сказание
о великом мире», XIV в.) в новом контексте и новой интерпре¬
тации представлены эпизоды с Югао, Уцусэми, Рокудзё. Зна¬
чительное влияние романа обнаруживается в «Хэйкэ монога¬
тари», не говоря уж о таких произведениях, обращенных в.
прошлое, как «Окагами», «Эйга моногатари» и др.Без «Гэндзи моногатари» едва ли было бы возможно появ¬
ление «Есицунэки» («Сказания о Есицунэ», XVI в.), которое
условно можно рассматривать как образец японского романи¬
зированного эпоса (содержание его складывается из серий во¬
инских подвигов бесстрашного героя Минамото Есицунэ н
истории его романтической любви к танцовщице Сидзука).Нельзя не отметить также воздействия «Гэндзи моногата¬
ри» на средневековую драму, которая развивается в Японии
намного позже других видов литературы — лирики и эпоса и
в значительной степени на базе достижений этих последних,
что обусловило ее жанровую специфику: складывается и до¬
стигает своего расцвета в XIV—XVI вв. особый драматурги¬
ческий жанр— ёкёку, в котором получает дальнейшее разви¬
тие традиция органического сочетания в литературном произ¬
ведении прозаического и поэтического текста.Материал романа Мурасаки Сикибу лег в основу сюжета
целого ряда пьес театра Но. «Аои» (по одноименной главе ро¬
мана, повествующей о первой жене Гэндзи), «Гэндзи в Сума»
(по материалам главы «Сума», в которой рассказывается о
периоде ссылки героя), «Дворец в полях» (темой последней
становится визит Гэндзи к Рокудзё после смерти Аои), «Тама-
кадзура» (сюжет ее — история дочери Югао, Тамакадзура, по¬
строен на базе одноименной главы «Гэндзи моногатари»).Влияние «Гэндзи моногатари» на последующую литерату¬
ру шло по двум направлениям: позитивного восприятия и па¬
родирования.Оба эти направления обозначились уже в XI столетии. И да¬
лее в ходе литературного процесса менялось лишь соотноше¬
ние между ними. В первое время основную роль играет преем¬
ственность традиций и подражания разного рода. Преемствен¬238
ность традиций идет главным образом по линии темы (при
различных вариантах ее интерпретации) и мировосприятия
(главным образом буддийских концепций — в плане их углуб¬
ления, и «моно-но аварэ»). Преемственность по линии темы
сохраняют повести и дневники типа «Сарасина никни», «Саго-
ромо моногатари», «Хамацу Тюнагон моногатари», по линии
углубления буддийских -концепций — исторические повести, по
линии «моно-но аварэ»— «Хэйкэ моногатари».Необходимо, однако, заметить, что традиции произведения
Мурасаки предстают в последующей литературе в новом пре¬
ломлении—в контексте иного художественного метода, иной
проблематики. Не говоря уже о произведениях жанра гунки и
ёкёку с их новым жанровым содержанием и новыми эстетиче¬
скими установками, и в повестях типа «Сагоромо» реминисцен¬
ции из «Гэндзи моногатари» предстают в другом преломлении,
что связано, например, с возобновлением интереса их авторов
к фантастическому элементу, к занимательности, с одной сто¬
роны, и снижением интереса к углублению в психологию ге¬
роев — с другой.С этим связано и такое явление, как заимствование побоч¬
ных мотивов, а также эстетического содержания, не получив¬
шего особого развития в романе Мурасаки. Наиример, боль¬
шое развитие в драматургии ёкёку получила линия Рокудзё,
как мотив мстительного духа, «духа мщения и ропота» — «ура-
му рё». Он фигурирует во многих ёкёку, на что указывают и
японские исследователи, например Умэхара Такэси {89, с. 86—
88]. Так, дух Рокудзё является главным действующим лицом в
пьесе «Аои». В другой пьесе, «Хадзитоми», появляется и дей¬
ствует призрак Югао. Эти мотивы, второстепенные в структу¬
ре романа Мурасаки, приобретают новое звучание и занимают
важное место в эстетике Но.Юмористический элемент, который в произведении Мураса¬
ки не получает особого развития, по существу, только намечен
линиями Суэцуму-хана и Гэн-но найси (60-летняя «красотка»,
которую, однако, не оставляет без внимания любвеобильный
Гэндзи), охотно заимствуется и развивается в произведениях
последующих авторов («Сагоромо моногатари», «Торикаэтая
моногатари» и других).В городской литературе XVI—XIX вв. подражание роману
Мурасаки Сикибу сочетается с его пародированием. Это обна¬
руживается в ряде произведений жанра «укиёдзоси» — повестей
и новелл о «бренном мире» 2.2 В этой литературе, так же как и в живописи «укиёэ» («картины из сует¬
ной жизни»), отражена жизнь городского сословия. Горожане уже не сетовали
по поводу «бренности» мира, они принимали его таким, каков он есть,— стре¬
мились к земным радостям, не задумываясь о «возмездии» в будущем, не
страшась неведомой кармы. Термин «укиё» — «бренный мир» утратил свой из¬
начальный буддийский смысл и часто употреблялся в ироническом значении.Ш
Наиболее выдающийся писатель, творивший в этом жанре,-—
Сайкаку (1642—1693). Вслед за Мурасаки Сикибу Сайкаку
решительно утверждает ценность человеческих чувств. При этом
в своей повести «Косёку итидай отоко» («Любовные похожде¬
ния одинокого мужчины», 1682) он заимствует у хэйанской
писательницы исходную ситуацию (один мужчина и много
женщин) и также показывает безудержную погоню за наслаж¬
дениями только не в аристократической среде, а в городской,
повествуя о похождениях нового «героя-любовника»—из куп¬
цов. Герой Сайкаку — красавец и обольститель Еноскэ, сын
купца и куртизанки. Но решает свою тему Сайкаку преимуще¬
ственно в юмористическом плане, давая в определенном смысле
пародию на «Гэндзи моногатари».Вместе с тем в цикле новелл «Косёку итидай онна» («Ис¬
тория любовных похождений одинокой женщины», 1686) он с
большим сочувствием рисует участь женщины—«игрушки в
руках мужчины», и это живо перекликается с позицией Мура¬
саки Сикибу при изображении ее современницы — «хэйанской
затворницы».Откровенное пародирование имеет место в таких произведе¬
ниях, как «Обезьяний Гэндзи» неизвестного автора XVI сто¬
летия и «Лже-Мурасаки и деревенский Гэндзи» Рютэй Танэ-
хико (1753—1842).Герой повести «Обезьяний Гэндзи» — хитроумный просто¬
людин-горожанин, уличный торговец рыбой, «с первого взгля¬
да» без памяти влюбился в красавицу, оказавшуюся первой
куртизанкой столицы. Страдая от любви, словно «благородный
господин», он- забросил торговлю, занемог и слег в постель.
«Блеск светлячка» (так звали красавицу) — женщина благо*
родного происхождения и имеет дело только со знатными людь¬
ми. По совету друзей герой выдает себя за князя. Все идет
хорошо. Но однажды он во сне громко кричит: «Хорошие ива¬
си!. Хорошие иваси! Кому рыбы?» И неожиданно выдает себя.
Красавица понимае?, что обманута, опозорена, и готова уже
покончить с собой. Однако герой находчив: он прибегает к
поэтическому приему игры слов и каждое свое слово истолко¬
вывает в двойном смысле. Его поэтический талант и эрудиция
снова покоряют женщину, и она решает остаться с ним навсег¬
да (312, ч. 1, с. 3231.Произведение «Лже-Мурасаки и деревенский Гэндзи», на¬
писанное более двух веков спустя, представляет собой огром*
ный по объему роман-пародию в нескольких частях, который
писался так же долго, как и «Гэндзи моногатари»: десять летПо содержанию «укиёдзоси» представляли собой повести и новеллы о совре¬
менных им нравах и обычаях горожан, в первую очередь о нарождающейся
торговой буржуазии (купечества).240
работал над ним Рютэй Танэхико, выпуская в свет одну часть
за другой. Он заимствует фабулу «Гэндзи моногатари», ос¬
новные типы героев и их соотношение, намеренно наделяет
своих героев именами, напоминающими имена персонажей
«Гэндзи моногатари». Мать героя, Фудзи-но Ката пародирует
«властительницу дум» Гэндзи, прекрасную Фудзицубо. Паро¬
дией на самого Гэндзи выступает в (романе принц Коси. Одна¬
ко при внешнем сходстве многих ситуаций Танэхико конструи¬
рует свой, отличный от произведений Мурасаки сюжет, в кото¬
ром важнейшую роль играет сложная и запутанная интрига.
Действие развивается в период Муромати (XIV—XV вв.) в
обстановке придворной жизни того времени, которая коренным
образом отличается от хэйанской: кровопролитные схватки
между представителями различных феодальных кланов, тай¬
ные убийства, жестокие заговоры.Показательна ситуация . первой части романа. В ней дей¬
ствует фаворитка князя-отца, красавица Ханакири, которую
князь приблизил к себе, вызвав ревность своей главной жены
и других наложниц. Соперницы устраивают заговор, чтобы
убить Ханакири, и та лишь случайно избегает смерти: ее не¬
ожиданно переводят в другое помещение. Однако завистники
не унимаются: они решают убить малолетнего сына князя и
его любимой наложницы. И снова недоразумение срывает их
коварные замыслы. Интриги, заговоры, убийства — основные
двигатели сюжета.Подобно «Гэндзи моногатари», роман Танэхико изобилует
стихами, но не танка, а хайку. Стихи составляют существен¬
ный атрибут диалога (обмен стихами-экспромтами), самовыра¬
жения автора, повествовательного текста.Любовные похождения героя трактуются у Танэхико в духе
феодальной морали, которой подчинено достаточно тонкое и в
то же время объективное обнажение порочных нравов верхов¬
ных правителей и их окружения. Последнее обстоятельство ро¬
ковым образом отразилось на судьбе романа: из-за запрета
цензуры публикация его была прекращена.Роман не отличался высокими нравственными критериями,
что помимо занимательности сюжета немало способствовало
его популярности. По словам Фудзимура Цукуру, не было в
то время.ни одной женщины, которая не прочла бы или не
стремилась бы прочесть его.Роман Танэхико создан в духе процветавшего в то время
литературного направления, сочетающего дидактизм и сюжет¬
ную занимательность, и является в этом отношении прямой
противоположностью романа Мурасаки Сикибу.Как уже было отмечено, традиции жанра «Гэндзи монога¬
тари» не получили дальнейшего развития в средние века. В те¬
чение многих столетий японская литература развивалась в
малых и средних формах. Таковы произведения Сайкаку, Уэда16 Зак. 654241
Лкпнари (1734—1809) 3 и других крупных писателей того вре¬
мени.В новое время роман имеет иные источники и иную жанро¬
вую специфику (в отличие от «Гэндзи моногатари»). В сере¬
дине XIX в. примерно в одно время с Танэхико создает ряд
авантюрно-фантастических романов Кёкутэй Бакин (1767—
1848), продолжая традиции «ёмихон». Наиболее значительное
его произведение с явно выраженным дидактическим уклоном —-
«История восьми псов из рода Сатоми» («Нансо Сатоми хак-
кэндэн»). А его современник Дзиппэнся Икку (1766—1831)
выступил автором романа «Путешествие на своих на двоих
по тракту Токайдо» («Токайдотю хидзакуригэ»), произведения,
близкого по характеру к западноевропейскому плутовскому ро¬
ману.Позитивное обращение к «Гэндзи моногатари» вновь дает
себя знать в традиционной литературе второй половины XIX в.
в творчестве таких писателей, как Одзаки Коё и Ямада Бимё.
Например, Хисамацу Сэнъити обращает внимание на реминис¬
ценции сюжета первой главы «Кирицубо» в повести Одзаки
Коё «Тадзё такон» («Много чувств, много горя»). Другой уче¬
ный, Сиода Рёхэй, специально занимался исследованием влия¬
ния романа «Гэндзи моногатари» на творчество другого писа¬
теля эпохи Мэйдзи — Ямада Бимё.Традиции «Гэндзи моногатари»
в творчестве современных писателей Японии
(Танидзаки Дзюнитиро и Кавабата Ясунари)Традиции романа Мурасаки Сикибу, прерванные на много
веков, оживают и приобретают новое звучание в современной
литературе Японии. Поэтому мы и решили сосредоточить свое
внимание главным образом на влиянии «Гэндзи моногатари»
на современных японских писателей. К этому нас побудило и
еще одно чрезвычайно важное обстоятельство.Не прекращаются методологические дискуссии, в ходе кото¬
рых высказываются самые различные точки зрения. В частно¬
сти, существует мнение, что такие произведения, как «Гэндзи
моногатари», сейчас уже устарели и потому не приходится и
говорить об их влиянии иа современную японскую литерату¬
ру. Такого рода крайнюю, вуль^рно-социологическую позицию3 Уэда Акинари — крупнейший представитель жанра «ёмихон» — «книг для
чтения», названных так в противовес «эхои»—«книгам с картинками», рас¬
пространенным в период XVIII — начала XIX в. Это была серьезная литера¬
тура, пришедшая на смену развлекательной литературе — «гэсаку», к которой
принадлежали и сукиёдзоси». Наиболее известное произведение Уэда Акина¬
ри—сборник рассказов «Угэцу моногатари» («Рассказы о дожде и луне»,
1776).
отражает высказывание Исимото Тадаси: «Поскольку повесть
„Гэндзи моногатари" создавалась как литература аристократи¬
ческого общества, с разложением класса аристократии была
утрачена историческая почва для возникновения подобной ли¬
тературы. Поэтому за исключением ложно-классического на¬
правления, на которое „Гэндзи моногатари** оказал значитель¬
ное внешнее воздействие, литература „моногатари** как таковая
после „Гэндзи моногатари**, по существу, быстро прихо¬
дит в упадок, а влияние самого „Гэндзи моногатари** на раз¬
витие последующей литературы было исключительно поверх¬
ностным и не имело существенного значения» [218, с. 251].
В свете такого рода мнений исследование преемственных свя¬
зей «Гэндзи моногатари» и современной литературы Японии
приобретает особую актуальность.Надо сказать, что для развития японской культуры вопрос
преемственности традиций, обращения к прошлому, к класси¬
ке всегда имел существенное значение. Об этом свидетель¬
ствует уже сам факт широкого развития поэтики реминис¬
ценций.К литературному прошлому обращаются писатели, критики
и литературоведы самых различных направлений и школ. Так,
представители ряда течений модернизма усиленно ищут в этом
прошлом истоки своих концепций. Наблюдаются, например,
попытки представить экзистенциалистские взгляды как «иско¬
ни присущие японскому сознанию». С этой целью делаются экс¬
курсы в философию эзотерического буддизма, и особенно в
дзэн-буддизм, адаптированный японской культурой XII—XV вв.,
с его идеями внутреннего созерцания и недеяния, отказом от
анализа общественной среды и связей человека с окружающим
миром, а также принципом «сатори» («озарения»), предусматри¬
вающим иррациональный и интуитивный метод постижения
природы вещей. Из этих буддийских принципов выводятся эк¬
зистенциалистские положения об отказе от активного познания
и преобразования действительности и т. д.Наблюдается при этом и тенденция к ревизии классическо¬
го наследия. Например, ведутся споры между представителями
реалистического направления и модернистских течений вокруг
творческого наследия поэта-демократа Исикава Такубоку
(1886—1912), в ходе которых некоторые представители так на¬
зываемой «новой критики», обращаясь преимущественно к его
Дневникам и письмам и находя в них отдельные записи, отра¬
жающие настроения тоски, одиночества и т. д., связанные с
жизненными неудачами и болезнью Такубоку, пытались пред¬
ставить его как поэта пессимистического склада, якобы вос¬
принимающего жизнь как одинокую экзистенцию (287, с. 5].Показательны усилия в этом направлении Кунисаки Моку-
таро, плодом которых явились его работы «Литература неудач¬
ников» (1969) и «Такубоку и проблемы экзистенциализма»16*243
<1972). Имеет место и ретроспективная переоценка ценностей
национальных художественных традиций. Советский исследо¬
ватель К. Рёхо, в частности, отмечает, что некоторые иссле¬
дователи последнего времени пытаются приписать эзотериче¬
ский смысл категориям традиционной эстетики, в том числе
«моно-но аварэ». Примечательно само название одной из ста¬
тей, принадлежащей критику Такасима Хидэдзи,— «Потусто¬
ронняя красота». Обращаясь к материалу японской классиче¬
ской литературы, этот критик приходит к выводу, что тради¬
ционно японское представление о прекрасном связано не с
реальной действительностью, а с потусторонним миром [323,
с. 12].Тем более естественно и закономерно обращение к прошло¬
му, к классике, с целью возрождения национальных традиций,
в поисках национальной самобытности. Эта проблема возни¬
кала неоднократно, на определенных этапах развития японской
культуры. Например, в XVIII в., когда появилась так назы¬
ваемая «школа национальной науки» — «кокугаку-ха». Предста¬
вители ее, Камо Мабути, Мотоори Норинага и другие, обрати¬
лись к литературному прошлому, стремясь возродить и оживить
«забытые» традиции, воплотившие исконно японский дух для
борьбы с усилившимся иноземным влиянием (китайским).В настоящее время эта проблема вновь встала перед деяте¬
лями японской культуры, встала в новых условиях и с новой
остротой. В сегодняшней Японии особенно настойчиво звучат
призывы к поиску национальной самобытности, и это стимули¬
рует обращение к памятникам культуры прошлого. Вышло
много работ, в которых авторы пытаются наметить перспективы
развития японской литературы на базе освоения ее традиций,
стремясь по-новому осмыслить и своеобразие японского худо¬
жественного мышления — в свете эстетических проблем сегод¬
няшнего дня (см. [323, с. 12]).Усиленно ратует за возврат к старине реакционная нацио¬
налистическая литература и критика, в которой важное место
занимает пропаганда идей так называемого неоромантизма.В качестве его идеологов выступили Мисима Юкио, Хаяси Фу*
сао, Это Дзюн. Первый из них прославился как автор антигу¬
манистических романов о будущей термоядерной войне, а так¬
же произведений в духе эстетики жертвенности, прославляю¬
щих гибель японских солдат-смертников в минувшей войне.
Своеобразным утверждением эстетики жертвенности явилось
совершенное им в 1971 г. ритуальное харакири на площади
перед зданием штаба Сил самообороны в знак протеста против
отказа правительства от пересмотра конституции с целью от¬
мены статьи, навечно запрещающей Японии иметь вооружен*
ные силы.В течение ряда лет журнал «Тюокорон» («Центральное обо¬
зрение») печатал статьи бывшего участника движения пролетар-244
ской литературы Хаяси Фусао под заголовком «Положитель¬
ное значение войны за Великую Азию», в которой автор пред¬
лагал «похоронить на дне моря музей атомной бомбы» [198,
с. 133].Критикуя модернизм справа, неоромантики устремились на
поиски активного положительного героя, «сильного человека»,
олицетворяющего «исконно японский характер». «От Запада
мы заразились душевными болезнями», — заявлял Мисима
Юкио. Одновременно и все демократические завоевания в об¬
ласти культуры расценивались как подражание европейской
культуре, лишенное всякого национального содержания. Это
Дзюн в особенности осуждал новую японскую литературу за
то, что она лишилась «исконно японского духа верноподданни-
чества» [323, с. 48].Для неоромантиков характерно обращение к древнеяпон¬
ской литературе, в частности к летописи «Кодзики» с ее куль¬
том императора — «сына солнца», синтоистскими идеями бо¬
жественного происхождения страны — «земли Ямато», а также
к средневековому героическому эпосу, отразившему идеологию
самурайства, эстетику жертвенности.Проблемы национальной самобытности волнуют и прогрес¬
сивных литераторов Японии, которые уделяют большое вни¬
мание изучению и творческому освоению национальных тради¬
ций. Видный японский филолог Ёсида Сэйити в своей работе
«Современная литература и классика» пишет об отличии япон¬
ского понимания прекрасного от европейских понятий «кра¬
соты и свободы», подчеркивая, в частности, особое стремление
японской эстетики к «утонченности», «изяществу», «гармо¬
нии» и утверждая эмоциональное начало японского представ¬
ления о прекрасном. Он отмечает, что эти особенности тради¬
ционных представлений о прекрасном находят отражение в
творчестве современных писателей Японии, связанных с класси¬
ческим наследием, и видит в этом определенный вклад в со¬
кровищницу мировой литературы {24, с. 15—16].В поисках национальной самобытности, в стремлении к со¬
хранению и развитию лучших художественных традиций япон¬
ской литературы прогрессивные писатели обратились к тем
произведениям прошлых веков, которые созвучны их гуманисти¬
ческим идеалам. Среди них особое место занял роман «Гэндзи
моногатари». В условиях борьбы с националистическими тен¬
денциями, связанными с проповедью культа силы и жестоко¬
сти, этот роман, посвященный теме любви и раскрытию пре¬
красного в жизни, поднимающий чисто человеческие проблемы
и выражающий «мирные» идеалы красоты и гармонии, роман,
в котором получил яркое художественное воплощение человек
определенной эпохи во всей сложности его душевного мира и
где человеческая личность предстает не в ложно героическом
обличье, а в естественности своего индивидуального существо*245
вання [323, с. 35], приобретает подлинно гуманистическое зву¬
чание. В «Гэндзи моногатари» с особой четкостью проявилось
то японское, особое понимание прекрасного, о котором писал
Еснда Сэйитн. Роман явился ценным вкладом в сокровищни¬
цу мировой культуры. Долг каждой нации, писал Рабиндранат
Тагор, выявить перед миром свою национальную сущность.
Нация обязана сделать всеобщим достоянием то лучшее, что
есть у нее. К этому лучшему и притом глубоко национальному
бесспорно принадлежит и «Гэндзи моногатари».Знаменательно, что именно к роману Мурасаки обратились
такие крупные современные писатели, как Танидзаки Дзюни-
тиро (1886—1965) и Кавабата Ясунари (1899—1972), обра¬
тились в душную пору разгула национализма и милитаризма
30—40-х годов, как к прибежищу от шовинистического угара,
протестуя против агрессивной войны, против нагнетания духа
воинствующего японизма и жестокости.Танидзаки Дзюнитиро много лет занимался переводом
«Гэндзи моногатари» на современный японский язык и под
его влиянием написал свой роман «Мелкий снег» («Сасамэю-
ки», 1944—1947), в котором он обращается к будням япон¬
ской семьи, к обычным человеческим проблемам и чувствам,
как бы нарочито противопоставляя своих героев поднятому на
щит образу «героя-воина» в произведениях апологетов «нацио¬
нальной политики» (соответствующая литература получила на¬
именование «литературы национальной политики» [228]).Действие романа начинается осенью 1936 г., в период под¬
готовки японо-китайской агрессивной войны, а заканчивается
весной 1941 г., совпадая с началом войны на Тихом океане.Героини романа — четыре сестры, дочери некогда преуспе¬
вавшего, а теперь разорившегося торговца Макиока. Их судь¬
бы и жизненные перипетии и составляют содержание романа.
Старшие сестры замужем, и их жизнь относительно благопо¬
лучна. Трудно складывается судьба младшей Таэко. Не может
устроить свою жизнь и средняя сестра, тридцатилетняя Юкико.
Ее судьба, собственно, и формирует основную сюжетную ли¬
нию романа. Юкико красива, скромна, обаятельна, однако она
никак не найдет себе подходящего жениха. Сестры неоднократ¬
но пытались выдать ее замуж, несколько раз устраивали смот¬
рины, но Юкико никто не нравится, и она отвергает одного
за другим всех женихов, к немалому огорчению заботливых
сестер. Как бы умышленно, в противовес образу «героя-воина»г
Танидзаки сделал ее, нежную, хрупкую женщину, главной ге¬
роиней своего романа. Ее образ выдержан в духе «моно-но ава-
рэ». Она отличается душевной мягкостью, отзывчивостью, тон¬
ким пониманием прекрасного.С этими же критериями подходит Юкико и к окружающим.
Ее глубоко ранит грубость, черствость людей, их безразличие
к красоте окружающего мира. Поэтому не нравятся ей и пред*246
лагаемые сестрами женихи: они малосодержательны, баналь¬
ны, чужды ей по духу. В подчеркнутой «сниженности» мужских
образов (по сравнению с яркостью образов женщин) прямое
влияние романа Мурасаки Сикибу, как и в атмосфере «моно-
но аварэ», которой проникнуто, по существу, произведение Та-
нидзаки. Изображение обстановки в доме сестер Макиока и
окружающей их природы преследует цель вызвать у читателя
ощущение «аварэ». Сестры тонко чувствуют природу и ее се¬
зонные перемены. Характерны, в частности, эпизоды любова¬
ния цветущей вишней ранней весной, ловли светлячков, а так¬
же беседы Юкико с сестрой Сатико о прелести времен года.
Природа, интерьер гармонируют у Танидзаки с чувством и пе¬
реживаниями его героинь.Дух «моно-но ава|рэ», воплотившийся в художественных об¬
разах современного писателя, своеобразно воскрешал в вооб¬
ражении читателя мир хэйанской культуры, противополагая ее
военному буму японского настоящего и приобретая в этих но¬
вых условиях новое гуманистическое звучание. Не удивительно,
что роман Танидзаки Дзюнитиро был запрещен во время войны.Не менее важно для нас и то обстоятельство, что обращение
к «Гэндзи моногатари» стимулировало поворот писателя к реа¬
лизму. Соприкосновение с романом Мурасаки Сикибу привело
Танидзаки к радикальному перелому в его эстетических взгля¬
дах и творческой манере: он отходит от «эстетизма» и «демо¬
низма» своих ранних произведений и решительно становится
на путь правдивого изображения действительности. Сверхъесте¬
ственное, сенсационное больше не привлекает писателя. Обык¬
новенные люди, повседневная жизнь, обычные человеческие
чувства и ситуации — в их художественном воплощении видит
он теперь истинный смысл своего творчества, они становятся
для него источником красоты, поэзии, гармонии. Подобно Му¬
расаки, он не стремится к особой замысловатости сюжета, к
сложной интриге, а изображает «обычные события, ничем не
поражающие читателя факты». Роман «Мелкий снег» отличает¬
ся богатством бытовых подробностей японской жизни, обыча¬
ев, в том числе и таких, что ведут свое происхождение из древ¬
ности (например, смотрины жениха и невесты в присутствии
членов семьи и брачных посредников). Исследователь приво¬
дит в связи с этим высказывание американского журналиста
Ирвинга Джаффа, который считает, что ни один из доступных
европейцу трудов по литературе, истории, социологии Японии
не дает такой полной картины повседневного быта страны, как
это произведение Танидзаки Дзюнитиро (цит. по [323, с. 26]).
Писатель изобразил жизнь среднего слоя японского общества
с ее причудливым переплетением национальных обычаев и тра¬
диций, с подражанием Западу. Типична одна из героинь ро¬
мана— Таэко: она занимается изготовлением японских нацио¬
нальных кукол, обнаруживает искусство исполнения нацио¬247
нальных танцев и в то же время мечтает поехать во Францию
учиться шить.Традиции хэйанской классики вдохновляли и другого выда¬
ющегося писателя современности — Кавабата Ясунари. «Во вре¬
мя войны, при тусклом свете лампы я продолжал читать „Гэнд¬
зи моногатари"... Это было моим протестом против духа
времени»,— пишет Кавабата в своих воспоминаниях [300,
с. 8].В 30-е годы, когда в Японии всячески превозносился саму*
райский «кодекс чести» — «бусидо» («путь воина») — как вы¬
ражение «исконно японского духа», Кавабата начал писать
свою повесть «Снежная страна» («Юкигуни»), в которой воз¬
величивается и поэтизируется женская красота: образы жен¬
щин— Комако и Иоко резко контрастируют с образом баналь¬
ного «героя своего времени» Симамура.Кавабата остается верен традициям хэйанской классики и
далее: повести «Тысяча журавлей» («Сэмба-но цуру», 1950),
«Стон горы» («Яма-но ото», 1954), «Старая столица» («Кото»,
1962).Наиболее четко прослеживаются традиции «Гэндзи монога¬
тари» в повести «Тысяча журавлей». Здесь то же глубокое
проникновение во внутренний мир героев, тонкий психологизм,
реалистическое изображение сложных человеческих отноше¬
ний. В центре внимания писателя взаимоотношения и душевные
конфликты четырех персонажей: Кикудзи Митани, главного
героя повести, госпожи Оота, его возлюбленной, ее дочери
Фумико и Юкико Инамура.Кикудзи вступает в связь с бывшей возлюбленной своего
покойного отца госпожой Оота и его постоянно мучает созна¬
ние вины: ему кажется, будто она полюбила в нем его отца.
Страдания молодого человека усугубляются после известия о
том, что госпожа Оота покончила с собой; он чувствует себя
виновником ее смерти и не может простить себе, что во время
одного из свиданий с нею напомнил ей о прежней ее связи с
отцом.Когда спустя полтора года к нему приходит Фумико, заме¬
нившая в его сердце госпожу Оота, Кикудзи счастлив. Однако
на следующий день Фумико исчезает, и через некоторое время
Кикудзи получает от нее письмо с просьбой забыть ее. Она
знает, что он помолвлен с Юкико Инамура, не хочет мешать
его браку и уезжает с твердым намерением никогда больше
не увидеться с ним. Кикудзи, желая во что бы то ни стало
разыскать, вернуть Фумико, отправляется по ее следу. Но
розыски ни к чему не приводят. По прошествии некоторого
времени он женится на Юки,ко, но душевный конфликт его не
разрешен. И хотя Юкико нравится ему, она остается в его
сознании «недоступной»: его преследуют мысли о Фумико и
воспоминание о госпоже Оота. Он не может забыть своего не-248
давнего прошлого, которое встало между ним и Юкико как
неодолимая преграда. К мучительному чувству стыда за это
прошлое примешивается и сознание вины перед Юкико, кото¬
рую он не может сделать счастливой.Глубоко раскрыта душевная драма госпожи Оота. Узнав,
что Кикудзи помолвлен с Юкико, она мучительно переживает
свою связь с молодым человеком. К тому же она страдает от
сознания того, что ему известно о ее прошлой связи с его от¬
цом, и испытывает чувство вины перед дочерью Фумико, кото¬
рая все понимает и внутренне осуждает ее. Фумико самым ре¬
шительным образом препятствует ее встречам с Кикудзи, но
госпожа Оота не в силах порвать с ним, подавить свое чувство
н, не видя для себя иного выхода, кончает с собой.Страдает и Фумико. Она любит Кикудзи и в конце концов
приходит к нему, однако не может быть с ним счастлива. Ей
мучительно стыдно за мать и вместе с тем ее тяготит сознание
собственного греха — близости с человеком, с которым была
близка ее мать. Зная, что Кикудзи помолвлен с Юкико, Фу¬
мико считает, что как бы глубоко она его ни любила и какой
бы искренней ни казалось его ответное чувство, она не имеет
права на эту любовь. И Фумико принимает решение никогда
больше не видеть Кикудзи.Переживания выпадают и на долю Юкико. Она догадывает¬
ся о причине сдержанного отношения к себе молодого мужа, о
его чувствах, связанных с прошлым. К этому примешивалось
ощущение неловкости перед родными, которых она не решается
пригласить в гости, опасаясь, как бы они не догадались о «не¬
обычности» ее супружеских отношений с Кикудзи.Внимание писателя привлекает не столько сюжет (смена
событий и ситуаций), сколько детальный анализ душевных
движений героев, эволюция их эмоционального мира. Внутрен¬
ние коллизии Кикудзи, госпожи Оота, Фумико служат важ¬
нейшим импульсом развития действия в повести Кавабата.Подобно Танидзаки Дзюнитиро, Кавабата Ясунари вопло¬
тил в художественных образах классические японские пред¬
ставления о прекрасном. Традиционная эстетика красоты и
гармонии ярко выражена, например, в описании автором пове¬
сти «Тысяча журавлей» цветка повилики, что служанка поста¬
вила в подвесную вазочку—декоративную тыкву-перехватку
работы известного мастера, жившего более 300 лет назад: «Ди¬
кая повилика. Сама выросла. Стебелек тоненький, листья ма¬
люсенькие и один-единственный цветок — простенький, скром¬
ный, темно-фиолетовый.От мелких листьев и от темно-фиолетового цветка, свисав¬
ших из тыквы, смуглой, будто покрытой потемневшим от вре¬
мени красным лаком, веяло полевой прохладой...Кикудзи глядел на цветок и думал: в трехсотлетней тыкве
нежная повилика, которая проживет не более одного дня...249
Может быть, в таком сочетании есть своя гармония?» (300,
с. 76].К классическим традициям восходит в повести Кавабата и
трактовка природы, которая, как и у Танидзаки, гармонически
сливается с чувствами и настроениями героев, с их обликом.
Характерно, например, следующее описание: «Белый олеандр
и красный олеандр... Пунцовые цветы в густой темной зелени
горели, как полуденное солнце, а белые — источали прохладу.
Мягко колыхавшиеся волны цветов обрамляли фигурку Фуми¬
ко. Она тоже была белая — в белом платье, отделанном узкой
синей каймой по краям отложного воротника и карманов...
Лучи заходящего солнца пробивались сквозь листву за спиной
Фумико и падали к ногам Кикудзи» [300, с. 102].Интересна символика восприятия главным героем повести
заката солнца, видимого из окна электрички. «Перекатываю¬
щееся с ветки на ветку темно-красное солнце обжигало глаза,
и Кикудзи закрыл их. И тогда ему вдруг показалось, что белый
тысячекрылый журавль, выпорхнувший из розового фуросики
Юкико и прорвавшийся сквозь багровый закат, влетел под его
плотно сомкнутые веки» [300, с. 61],Так же как в «Гэндзи моногатари», природа в произведе¬
ниях Танидзаки и Кавабата, ее картины и образы помогают
выявлению существенных деталей внешнего облика персона¬
жей, их душевных движений и состояний, часто избавляя ав¬
тора от подробных описаний.Останавливает на себе внимание используемый Танидзаки
и Кавабата прием «одухотворения» произведений искусства,
органическое, естественное «вхождение» искусства в повседнев¬
ную жизнь героя, их слияние (как и в произведении Мурасаки
Сикибу).В повести «Тысяча журавлей», например, Кавабата
обращается к традиционной теме чайной церемонии. Она не
только служит фоном, на котором развертываются события и
складываются судьбы персонажей повести, но и способствует
раскрытию идеи произведения, характера героев и смысла их
поступков. Чайная церемония и ее атрибуты становятся своего
рода критерием устойчивых ценностей. Например, в чисто фор¬
мальном отношении Тикако, преподавательницы чайной цере¬
монии, к этому красивому древнему обряду выявляются при*
сущие ей сухость, черствость, бестактность, практицизм и, что
особенно парадоксально, отсутствие чувства прекрасного.
В связи с чайным обрядом по-настоящему раскрывается и ан¬
типод Тикако — нежная, изящная, чуткая Юкико. Не сучайно
самое сильное впечатление произвела эта девушка на главного
героя во время исполнения ею чайной церемонии. Он не запом¬
нил ее лица, но в памяти запечатлелись ее мягкие, грациозные
движения. «Девушка исполняла обряд по всем правилам, как
ее учили. Она делала все просто и естественно. Казалось, чай-250
яая церемония доставляет ей истинное удовольствие. Да и во
всей ее фигуре, в каждой ее позе была благородная простота.
Наблюдая, как «безукоризненно юная дочь Инамуры исполня¬
ла обряд приготовления чая, Кикудзи вдруг остро ощутил всю
красоту девушки» [300, с. 29].Произведения искусства помогают нарисовать облик персо¬
нажей, выявить наиболее существенные его че|рты. Так, миниа¬
тюра художника Мунэюки в чайном павильоне Кикудзи как
бы оттеняет все очарование Юкико в восприятии Кикудзи: «От
картины исходил едва уловимый аромат свежести. И картина,
и стихи, и ирисы в плоской вазе напоминали Юкико» [300,
с. 51—52].Большое значение имеет символика произведений искусст¬
ва, в частности чайной утвари. Чашки, например, олицетворяют
в глазах персонажей повести судьбы их нынешних и прежних
владельцев. В роли своеобразного образа-символа выступает
чашка госпожи Оота, подаренная Кикудзи ее дочерью Фумико:
«Белая глазурь... была с едва заметным красноватым оттен¬
ком. Красный оттенок словно бы проступал откуда-то изнутри.У верхнего края был виден легкий коричневатый налет.
В одном месте бледно-коричневый цвет чуть-чуть сгущался.Наверное, этого места постоянно касались губы, и от посто¬
янных прикосновений глазурь немного испортилась и пропита¬
лась чаем.Кикудзи смотрел на это место, и оно постепенно начало ка¬
заться ему красноватым.Неужели, это действительно след от губной помады, как
сказала Фумико?На внутренней стороне чашки в этом месте тоже был заме¬
тен бледный красновато-коричневый налет....Цвет слинявшей губной помады... Цвет увядшей, высох¬
шей алой розы... И... цвет крови, давным-давно капнувшей на
белоснежную поверхность...Сердце Кикудзи забилось сильнее...» {300, с. 87].Симптоматично, что, когда Фумико приходит к Кикудзи,
она намеренно разбивает эту чашку, символ ее матери, при¬
званный вечно напоминать Кикудзи о его умершей возлюблен¬
ной, о ее — с точки зрения Фумико — падении, о ее позоре.А вот другая сцена в чайном павильоне Кикудзи. Фумико,
которая подарила Кикудзи чашку покойной матери, попроси¬
ла его показать ей чашку его отца. «Чашка карацу была глад¬
кой, без рисунка. Сквозь синеву с легким абрикосовым нале¬
том проступали багровые блики.— Твердые, мужественные линии. Наверное, это любимая
дорожная чашка вашего отца. Она в его вкусе...Фумико, кажется, не замечала опасности, кроющейся в ее
словах.Кикудзи не отважился сказать, что чашка сино напоминает251
ему госпожу Оота. Но все равно сейчас эти чашки были ря¬
дом—словно сердца матери Фумико и отца Кикудзи.Старинные чашки. Их изготовили лет триста-четыреста на¬
зад. В строгих линиях ничего вычурного. Впрочем, была в этой
строгости своего рода чувственность. И сила...Две чашки рядом. Две прекрасные души. Кикудзи видел
своего отца и мать Фумико.Чашки... Реальные вещи. Реальные и непорочно прекрасные.
Они стоят рядом между ним и Фумико. А он и Фумико вдвоем
смотрят на чашки. И в них, живых, тоже нет ничего порочного.
Все чисто. Им дозволено сидеть вот так — рядом...Неужели от этих строгих линий и гладких поверхностей
у Кикудзи внезапно ушло куда-то чувство вины? Ведь Кикудзи
сказал Фумико тогда, сразу же после поминальной недели:
„...а я вот сижу здесь с вами... Может быть, я делаю что-то
очень-очень дурное?..“— Какая красота... — словно про себя произнес Кикудзи...»
[300, с. 110—111].О чашке из черного орибэ на чайной церемонии в храме
Энкакудзи, в которой Юкико подала Кикудзи чай, вспоминает
в своих письмах Фумико. Чашка принадлежала когда-то отцу
Фумико, а после его смерти была подарена ее матерью, гос-
.пожой Оота, отцу Кикудзи («И Юкико-сан подала вам чай в
этой чашке черного орибэ, и вы его выпили?.. Я не осмелива¬
лась поднять глаз, а тут еще мама:— Мне бы тоже хотелось выпить чаю из этой чашки!Может быть, мама в тот день выпила яд, заранее приготов¬
ленный для нее судьбой?..» [300, с. 163]). Фумико просит Ки¬
кудзи выманить эту чашку у Тикако и сделать так, чтобы она
пропала без вести.Творения искусства как бы обретают душу, с которой сли¬
вается душа человека. Их красота умиротворяет, делает воз¬
вышеннее мысли и чувства. Характерно восприятие главным
героем красоты кувшина сино, принадлежащего госпоже Оота
и подаренного ему Фумико: «Холодный и в то же время пол¬
ный внутреннего жара блеск сино напоминал Кикудзи тело
госпожи Оота. И не было в этом напоминании ни капельки
дурного, ни капельки горечи, ни капельки стыда, ибо прекрас¬
ное выше всего этого. А госпожа Оота была совершенным про¬
изведением природы. Природа хотела создать женщину и соз¬
дала госпожу Оота. А шедевр нельзя судить — у него нет по¬
роков... Вот о чем думал Кикудзи, когда смотрел на кувшин
сино...» (300, с. 109].Слияние искусства с жизнью в произведениях выдающихся
художников настоящего и прошлого по-своему опровергало
распространенные в сегодняшней Японии теории «чистого ис¬
кусства», апологеты которых рассматривают «Гэндзи-монога-
тари» как произведение «чистого искусства», ппедлагая видеть252
в Мурасаки Сикибу родоначальника эстетизма в японской ли¬
тературе и уж тем более стремясь представить как «закончен¬
ного эстета» ее последователя Танидзаки Дзюнитиро.Так, эстетика красоты и гармонии вновь была убедительно
противопоставлена эстетике жертвенности и культу силы, и,
заглушая призывы к поиску «активного героя» (мужчины), в
повести Кавабата с новой силой прозвучал гимн «непреходя¬
щей гармонии женской красоты».Обращение к роману Мурасаки в современной литературной
ситуации существенно и с точки зрения утверждения важности
сюжета и вымысла в произведении повествовательной прозы
(значение вымысла особо подчеркивается Мурасаки и в ее
эстетической платформе).Со времени появления в начале XX столетия так называе¬
мых «повестей о себе» — «ватакуси сёсэцу» — эта проблема не¬
однократно вставала в литературе Японии. Правдивость и убе~
дительность художественной передачи образа жизни, характе¬
ров, ситуаций, эмоционального мира персонажей литературно¬
го произведения опровергала мнение сторонников эго-романа
о том, что автор может правдиво писать только о себе самом.
Творческий опыт таких -крупных писателей, как Танидзаки и
Кавабата, как и опыт «Гэндзи моногатари», наглядно демон¬
стрирующий эффективность вымысла в повествовательной
прозе, используемого в соответствии с концепцией, планом,
реализуемого средствами композиции, может служить аргу¬
ментом и против модернистских теорий антиромана, пропо¬
ведующих отказ от сюжета, плана, композиции литературного
произведения.Влияние «Гэндзи моногатари» на творчество современных
писателей Японии, прежде всего традиционного направления,
на формирование их творческого метода, эстетических взгля¬
дов естественно сопровождалось и прямыми заимствованиями
из романа Мурасаки, разного рода реминисценциями, аллю¬
зиями и т. д.Прежде всего бросается в глаза ситуативная общность:
один герой — мужчина и три женщины, с которыми поочередно
связывает его судьба. Соответственно повесть как бы распа¬
дается на три новеллы, и эти новеллы можно было бы назвать
именами женщин, с которыми Кикудзи завязывает любовные
связи: госпожа Оота, Фумико, Юкико. Уходит из жизни гос¬
пожа Оота — ее место в сердце Кикудзи занимает Фумико.
«Исчезает» Фумико — появляется Юкико, которая становится
женой Кикудзи.В (композиционном отношении обращают на себя внимание
«пропуски», аналогичные «пропущенным главам» «Гэндзи мо¬
ногатари». В частности, после установления факта исчезнове¬
ния Фумико автор не повествует подробно ни о переживаниях
Кикудзи, ни о тех мыслях, которые привели его в конце кон¬253-
дов к решению жениться на Юкико. Лишь пунктирно наметив
их взаимоотношения, предшествующие женитьбе, автор пере¬
носит нас в гостиницу, куда приезжают молодые супруги
Митани (Кикудзи и Юкико), совершая свадебное путешествие.
Можно предполагать тот же расчет на ассоциативный подтекст
л встречные эмоции читателя, которые столь характерны для
манеры Мурасаки Сикибу.В героях повести нетрудно уловить черты, роднящие их с
персонажами романа Мурасаки Сикибу. В Фумико можно об¬
наружить реминисценции образа Уцусэми, например, острое
сознание неодолимой преграды между собою и Кикудзи. Эту
преграду она видит, во-первых, в общественном положении, а
главное, в том, что у них очень разные судьбы. «У меня все
так мрачно, трагично» (она имеет в виду грех и смерть своей
матери, который огромной тяжестью лежит у нее на сердце).
Разрыв в общественном положении между собой и Гэндзи под¬
черкивает и Уцусэми, и это в ее представлении исключает воз¬
можность счастья с ним. Так же как Уцусэми, Фумико, усту¬
пив однажды Кикудзи, решительно уходит из его жизни, «ис¬
чезает» навсегда.Вместе с тем в образе Фумико можно обнаружить общее с
образом Фудзицубо, и прежде всего это тяготеющее над Фу¬
мико чувство вины, одержимость сознанием греха. Ее красота,
как и красота Фудзицубо, показана как бы сквозь цризму стра¬
дания, точнее, страдания и стыда. Характерно изображение
Фумико во время посещения Кикудзи, которого она цришла
просить, чтобы он простил ее мать и отказался от дальнейших
встреч с нею. «„И еще... пожалуйста, не звоните ей больше по
телефону!—Она залилась краской и, словно пытаясь побороть
отчаянный стыд, подняла голову и прямо посмотрела в лицо
Кикудзи. В ее глазах стояли слезы... — Умоляю вас!“ — Крас¬
ка, все больше заливая ее лицо, теперь потекла вниз на свет¬
лую, длинную шею, добралась до белой отделки ворота, под¬
черкивавшей -красоту этой шеи» [300, с. 42}.О ее глазах сказано, что они «словно жаловались на что-то»
[300, с. 32]. Кавабата часто описывает Фумико с опущенными
вниз глазами: «Влажные глаза Фумико почему-то увлажнились
еще больше, слезы падали ей на колени, и она пристально смо¬
трела на мокрые пятна» [300, с. 105J.Образ Тикако перекликается с образом Рокудзё: она по*
стоянно преследует Кикудзи и всегда появляется для того, что¬
бы помешать его счастью, а вместе с тем и счастью женщины,
с которой он связан. Подобно Рокудзё, Тикако порой как буд¬
то бы ненамеренно вторгается в его жизнь, расстраивая его
любовные дела. Как и у Рокудзё, такое поведение обусловлено
■ее положением отвергнутой возлюбленной (отца Кикудзи)
и неприязнью к госпоже Оота, занявшей ее место в его
сердце.254
В результате она оказывается объективной причиной не¬
счастья всех троих: и самого Кикудзи, и госпожи Оота, и Фу¬
мико. Недаром Кикудзи казалось, что «эта женщина букваль¬
но исходит ненавистью и неистребимой, хронической ревностью»
(300, с. 83]. В повести о ней говорится так же, как о Рокудзё
в романе Мурасаки Сикибу (достаточно вспомнить разговор
Гэндзи с Мурасаки в главе «Молодая поросль», тот самый раз¬
говор, который и навлек на Мурасаки смертельную болезнь).Некоторые черты облика Юкико воскрешают в памяти
образ Мурасаки — главной героини «Гэндзи моногатари». Как и
Мурасаки, Юкико описана в радужных, «весенних» тонах. Та¬
кой изображает ее автор на чайной церемонии, в самом наадле
повести: «На сёдзи за спиной девушки падала тень от молодой
листвы, и ее яркое, нарядное кимоно мягко светилось отражен¬
ным светом. От волос тоже исходил свет.Пожалуй, для чайной церемонии в комнате было слишком
светло, но свет только подчеркивал красоту девушки. Ее фуку¬
са (салфетка для чайной церемонии, обычно белая. — И. Б.)
алая, как пламя, не выглядела претенциозной, а, напротив, уси¬
ливала впечатление юной, весенней свежести, словно у нее в
руках цвел красный цветок.Казалось, еще секунда — и вокруг девушки закружатся ты¬
сячи крохотных белоснежных журавлей» (300, с. 30—31J.Такой же светлой, чистой, праздничной предстает Юкико
и в авторских характеристиках («От нее остается впечатление
яркости и свежести» [300, с. 32]) ив восприятии главного героя
(при воспоминании о Юкико на него «повеяло свежестью» [300,
с. 47], «Кикудзи показалось, что от девушки исходит слабое
сияние и освещает сумрачную глубину просторной комнаты»
[300, с. 49] и т. д.).Приведенные наблюдения подтверждают • влияние романа
Мурасаки Сикибу на творчество Танидзаки Дзюнитиро и Ка¬
вабата Ясунари.Обращение к «Гэндзи моногатари», как показало творче¬
ство этих двух писателей, особенно плодотворно в двух пла¬
нах—в плане развития заложенных в романе реалистических
тенденций и в плане сохранения и развития национальной са¬
мобытности. Это подчеркивает и прогрессивная литературная
критика Японии. Гармоническое сочетание лиризма субъектив¬
ного переживания с тяготением к реалистическому отражению
действительности — одно из ценнейших художественных досто¬
инств «Гэндзи моногатари». Создание • новых произведений в
русле этой традиции открывает большие возможности для
развития реализма в японской литературе. Это неоднократно
под‘, окивал современный писатель Абэ Томодзи.С нашей точки зрения, весьма существенно также наличие в
«Гэндзи моногатари» определенных черт романа-эпопеи (речь
идет именно о чертах, а не о принадлежности к данному типу255
романа, представляющему собой детище современной эпохи).
В самом деле, ведь Мурасаки Сикибу воссоздает жизнь, быт
и нравы целого социального слоя — придворного хэйанского
общества, прослеживает судьбы трех поколений героев на про¬
тяжении длительного художественного времени.Роман-эпопея появился в Японии в XX столетии. Уже в
послевоенные годы наблюдается определенное тяготение япон¬
ской литературы к этому жанру. Появляются такие произведе¬
ния, как автобиографическая трилогия Миямото Юрико, по¬
следняя часть которой — роман «Вехи» («Дохё»), вышел в
1950 г., роман Кита Морио «Семья Нирэ» («Нирэкэ-но хито¬
бито», 1964), многотомный роман Гомикава Дзюмпэй «Война
и люди» («Сэнсо то нингэн», 1965), роман в пяти частях Су¬
мин Суэ «Река без моста» («Хаси-но най кава», 1970) и др.В связи с развитием жанра романа-эпопеи японские писа¬
тели обращаются к опыту европейского романа, в частности
к JI. Толстому («Война и мир»), Голсуорси («Сага о Форсай¬
тах»). Однако далеко не бесперспективно и обращение к на¬
циональным традициям, в том числе и к традициям «Гэндзи
моногатари», которое способствовало бы художественному обо¬
гащению этого жанра. Об этом хорошо писал Кавабата Ясуна-
ри в последние годы своей жизни, когда он много размышлял
о перспективах развития японского романа.Тяготение современных японских писателей <к эпическому
охвату жизненных явлений Кавабата считал закономерным про¬
цессом и утверждал, что японский роман сегодня должен раз¬
виваться по пути сочетания традиционных лирико-субъективных
форм повествования с эпической широтой изображения дейст¬
вительности. Об этом писал он в своей -книге «Введение в ро¬
ман» («Сёсэцу нюмон», 1970): «В наше время в Японии, Азии
и Европе развертывается лрандиозная созидательная работа в
сфере романа, творческим процессом завладел эпический, дух,
объединяющий воедино субъективное и объективное вйдение
мира, иными словами, диалектический, синтетический творче¬
ский дух. Споры вокруг романа могут быть успешно разрешены
лишь тогда, когда этот здоровый дух укоренится в сознании
писателя и будет управлять его видением мира».Освоение представленного «Гэндзи моногатари» опыта соче¬
тания эпического начала с мощной лирической струей (при тя¬
готении романа к реалистическому воспроизведению действи¬
тельности) имеет очень важное значение с точки зрения пер¬
спектив развития в японской литературе жанра романа-эпопеи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕДанная книга, будучи первым в нашем литературоведении
комплексным исследованием классического японского романа,
представленного произведением Мурасаки Сикибу «Гэндзи мо¬
ногатари», не претендует, однако, на охват всей совокупности
проблем, которые могут быть связаны с этой темой. Нашей за¬
дачей было представить роман «Гэндзи моногатари» как це¬
лостную художественную структуру. Исходя из значительно¬
сти произведения, как такового, и его роли в культурном про¬
цессе Японии и в мировом литературном процессе и учитывая
при этом его малоизученность у нас и на Западе (отсутствие
у нас, в частности, не только монографии о нем, но и перевода
романа на русский язык), автор решил сосредоточить свое
внимание прежде всего на исследовании тех аспектов темы,
которые в свете сказанного предстают как наиболее существен¬
ные и без освещения которых трудно составить цельное пред¬
ставление и о самом произведении и о литературном явлении,
которое оно отражает. Это проблемы концепции, содержания
и темы романа, его метода, жанровых особенностей, структуры
и специфики художественного образа, системы средств ком¬
позиции.В итоге рассмотрения этих проблем «Гэндзи моногатари»
предстает как национальный вариант романного жанра в ми¬
ровой средневековой литературе, вариант достаточно интерес¬
ный и сравнительно редкий.Поскольку такие вопросы, как творческий метод, художест¬
венный образ, законы композиции, тесно связаны с мировоззре¬
нием автора и вне его не могут быть плодотворно рассмотрены,
автор книги, естественно, уделил серьезное внимание мировоз¬
зренческой основе произведения Мурасаки Сикибу.Важным фактором, обусловливающим национальные особен¬
ности жанра, является его генезис, характер и специфика ли¬
тературного процесса, предшествовавшего его возникновению
(в книге получила отражение и эта проблема).Историко-функциональное освещение романа Мурасаки Си¬
кибу позволило нам проследить влияние «Гэндзи моногатари»
на дальнейший ход литературного процесса в Японии и выявить
преемственные связи классического японского романа с совре¬
менной японской литературой.Но, повторяем, автор не претендовал и не мог претендовать
на исчерпывающее освещение темы «Классический японский
(роман», многие из аспектов которой еще ждут своего исследо¬
вателя.17 Зак. 654
ПРИЛОЖЕНИЕМурасаки Сикибу (очерк окизни и творчества)Настоящее имя писательницы неизвестно. Мурасаки — ее литературный
псевдоним, сикибу — ранг, к которому принадлежал ее муж (эти должностные
наименования часто входили в состав собственных имен). Несмотря на то
что существует целый ряд «биографий» Мурасаки, мы не располагаем точны¬
ми хронологическими данными о ее жизни.Одним из важнейших и надежных источников для реконструкции ее био¬
графии (при крайней скудости хронологических данных) до сих пор остается
ее «Дневник» и отчасти собрание ее поэтических произведений «Мурасаки Си¬
кибу сю». Эти произведения, в особенности «Дневник», помогают уяснить и
целый ряд важных идейно-эстетических и психологических моментов, лежащих
в основе ее главного произведения — «Гэндзи моногатари».Мурасаки Сикибу родилась около 978 г. (этот год приводится в «Эйга
моногатари» («Повести о расцвете»). Ока Кадзуо называет 973 г., но есть и
другие версии 1282, с. 114]. Происходила писательница из старинного аристо¬
кратического рода Фудзивара. Отец ее, Тамэтоки, принадлежал к младшей
ветви рода. Переменив ряд должностей (все они были невысокими) в столице,
он был назначен губернатором — сначала в провинцию Этидзэн (примерно в
994 г.), затем в более северную провинцию — Этиго. Он хорошо знал китай¬
скую литературу и философию, будучи учеником известного в то время калли¬
графа и ученого Сугавара Фумитоки (899—981), и сам сочинял стихи на ки¬
тайском языке.Мать будущей писательницы, дочь управляющего Правыми государевыми
конюшнями, Фудзивара Тамэнобу, умерла рано, когда Мурасаки была еще
девочкой. Имеются сведения также о старшем брате ее, Фудзивара Нобунори.По свидетельству биографов, Мурасаки воспитывалась в окружении ли¬
тературно одаренных людей, в атмосфере высокой учености. Приводят об¬
ширнейший список ее родственников (несколько поколений по обеим линиям),
наделенных творческими дарованиями. Помимо литературного таланта, кото¬
рый, по словам биографов, был воспринят Мурасаки Сикибу от предков, она
была хорошо знакома с японской и китайской классикой, учениями буддизма
и конфуцианства, прекрасно разбиралась в музыке и живописи и сама хорошо
играла на като, владела искусством составления ароматов [2821, с. 114].Вспоминая свое детство и атмосферу, в которой она воспитывалась, Му¬
расаки, в частности, приводит в своем дневнике следующий интересный факт:
«Когда мой брат Нобунори (тот, который служит сейчас в Правом департа¬
менте) был еще мальчиком, отцу очень хотелось сделать из него ученого,
знатока китайской литературы, и часто он сам приходил послушать, как Но¬
бунори читает свои уроки. При этом я всегда присутствовала и так быстро
усваивала язык, что вскоре уже помогала брату в тех случаях, когда тот за¬
труднялся. И тогда отец с сожалением произносил: „Как жаль, что ты не
мальчик". Но прошло совсем немного времени, и я пожалела о том, что про¬
явила себя таким образом: один человек за другим стали уверять меня в том,
что даже среди мальчиков не поощряется излишнее пристрастие к книгам.
А для девочки, конечно, дело обстояло и того хуже. После этих разговоров я
старалась всячески скрывать, что я могу написать хотя бы один иероглиф»
[115, с. 500].В 996 г. Мурасаки вместе с отцом выехала в провинцию Этиго. Прожив
здесь около двух лет, она вернулась в Киото, где вскоре вышла замуж за
придворного чиновника, лейтенанта императорской гвардии Фудзивара Нобу-258
така. По одной версии, ее замужество датируется 999 г., по другой — перио¬
дом 994—998 гг. 1282, с. 115]. По мнению Икэда Кикан и Акияма Кэн, именно
этот брак помог Мурасаки войти в высший свет. Однако должности, которые
занимал муж писательницы, и его чиновный ранг были примерно того же
уровня, что у ее отца (в частности, он также служил определенное время гу¬
бернатором— в провинциях Тикудзэн и Биттю). Поэтому у ученых больше
оснований считать, что путь в высший свет открыл перед ней ее литературный
талант (282, с. 115].Принято считать, что муж был более чем на 25 лет старше Мурасаки, а
ей самой в момент вступления в брак был 21 год.Мурасаки не была единственной женой Нобутака, однако, как считают
биографы, основываясь на стихах из ее поэтического сборника, в браке она
была счастлива [282, с. 1'15].В 1000 г. у нее родилась дочь Кэнси, предполагаемый автор будущего
дневника-романа «Сагоромо никки (моногатари)» (версия эта в последнее
время оспаривается).Мурасаки рано овдовела: ей было 26 лет, когда умер Нобутака (1001 г.).
Поэтические произведения писательницы свидетельствуют о том, что смерть
мужа была воспринята ею как большое горе; она слегла и даже готова была
постричься в монахини [282, с. 115]. В «Дневнике» Мурасаки вспоминала годы
после смерти мужа как «годы несчастья и растерянности». Моррис, однако,
подвергает сомнению как ее преданность мужу, так и горе после его смерти
на том основании, что в своем «Дневнике» она ни разу не упоминает имени
Нобутака [363, с. 254]. Около пяти лет после смерти мужа Мурасаки вела
уединенную жизнь в доме отца, часто коротая часы за чтением книг, в том
числе китайской классики. (Муж оставил ей богатую китайскую библиотеку.)Отец отказался от мысли взять ее с собой в Этидзэн, поскольку это могло
означать для нее потерю всякой надежды на приличное второе замужество.
Он обратился за помощью к своему влиятельному родственнику Фудзивара
Митинага, который и устроил ее на службу к своей дочери, будущей импе¬
ратрице Акико. (Митинага однажды уже помог Тамэтоки, когда пост губер¬
натора, который занимал Тамэтоки, из-за козней недоброжелателей едва не
был передан другому лицу.) Таким образом, Мурасаки появилась при дворе
между 1005 и 1007 гг, (существуют и другие версии датировок).В это время она была известна под именем То Сикибу (То—синоним
Фудзи, от Фудзивара). Затем некоторое время за ней удерживалось прозвище
«Госпожа Нихонги», данное ей императором Итидзё. Вот что пишет по этому
поводу Мурасаки в своем «(Дневнике»: «Государь повелел читать „Гэндзи
моногатари", все со вниманием слушали, и когда чтение закончилось, он из¬
волил сказать: „Она, стало быть, читала „Нихонги" („Анналы Японии**.—
И. Б.) и, видно, очень образованна. Это настоящий талант". После этих лест¬
ных слов государь, обратившись к придворным, повторил „Редкостный та-
лаит!“ И меня прозвали „Нихонги-но мицубонэ“ („Госпожа Нихонги“)» D115,
с. 500].Псевдоним «Мурасаки» был присвоен ей позже — вследствие популярно¬
сти «Гэндзи моногатари».Будущая писательница часть времени проводила в императорском дворце,
а часть — в загородном дворце Митинага, ибо Акико часто на долгое время
возвращалась в дом своего отца. Это была серьезная девица в возрасте около
16 лет. Вот как пишет о ней Мурасаки в своем «Дневнике»: «Императрица,
как это было хорошо известно тем, кто ее окружал, была ярой противницей
всякого рода кокетства и флирта, и когда во дворце случалось оказаться
мужчинам, нам лучше было и носа не показывать из своих комнат, если мы
только хотели сохранить с ней хорошие отношения... В одежде и прочих
предметах туалета мы являли поистине жалкое зрелище, ибо хорошо знали,
что, если бы кто-нибудь из нас обнаружил хоть малейший признак заботы
о подобных вещах, это было бы равносильно непростительному проступку по
отношению к нашей госпоже... И когда она узнавала, что кто-то допустил
хоть малейшую оплошность в своих вкусах или поведении, она с того дня
смотрела на виновницу как на редкое чудовище...17*259
Будучи юной и неопытной, она не имела никакого представления о том,
что вещи, которые она так осуждала, случались в жизни ежедневно, и, по¬
стоянно с горечью размышляя об испорченности тех, кто ее окружал, в конце
концов ограничила этот круг лицами, степенность которых позволяла на¬
деяться, что они не причинят ей ни малейшего беспокойства.Так она собрала вокруг себя определенное число весьма респектабельных
молодых дам. Достоинство их состояло в том, что они разделяли все ее
взгляды, хотя и казались несколько смешными, производя впечатление детей,
которые никогда не станут взрослыми.Но годы шли, ее величество начинала приобретать все больше жизненно¬
ного опыта и уже более не судила о людях так строго, как прежде, однако
за это время ее двор уже заслужил репутацию чрезвычайно скучного, и все,
кто мог, старались избегать его».Мурасаки сожалела, что отец не устроил ее ко двору тетки императора,
принцессы Сэнси, одной из виднейших фигур своего времени, отличавшейся
свободой взглядов и манер, «великой весталки», как ее называли (госпожа
Сэнси пять сроков подряд была жрицей храма Камо). Мурасаки была уве¬
рена, что там она была бы освобождена от обязательного присутствия на всех
банкетах и церемониях, не слышала бы бесконечных приказаний и распоря¬
жений типа: «Императрицу призывают в высочайшее присутствие, и она при¬
казывает вам сопровождать ее» или: «Будьте готовы принять Его Светлость
Первого министра, который может быть здесь с минуты на минуту».«Апартаменты принцессы Сэнси не подвержены внезапным тревогам и
вторжениям, от которых страдаем здесь мы. Там каждый может серьезно
посвятить себя чему угодно, к чему есть у него интерес и способности...»
«Там,— мечтала Мурасаки,— мне дали бы возможность жить, погруженной в
собственные мысли, как пень в землю, и в то же время меня не заставляли
бы прятаться от каждого мужчины, с которым я не была еще знакома, и если
бы я даже перекинулась с ним несколькими словами, никто не смотрел бы на
меня как на особу, совершенно утратившую чувство стыда. И я легко могу
представить себе, что при таких условиях я через некоторое время стала бы
по-настоящему оживленной и интересной».Однако, в то время как Мурасаки вздыхала по свободе и элегантности
двора принцессы Сэнси, ее молодой гоопоже пришла в голову мысль исполь¬
зовать ее для занятия, которое в свете рассматривалось как куда более не¬
подходящее для женщины, чем кокетство и флирт. У императрицы было тай¬
ное желание изучать китайский язык. Мурасаки, как явствует уже из первой
приведенной нами записи ее «Дневника», была достаточно хорошо знакома
с китайским (она присутствовала на занятиях своего брата). И хотя она
делала все для того, чтобы скрыть свое знание китайского языка (не случай¬
но она так ненавидела данное ей императором, хотя и из лучших побужде¬
ний, прозвище «Госпожа Нихонги»), притворяясь (как она и пишет об этом
в своем «Дневнике»), что не может прочесть иероглифы, написанные на доске
ее госпожой, но истина все же обнаружилась. И, начиная с лета 1008 г., в
большой тайне от всех, в те редкие минуты, когда никого не было вокруг,
она читала с юной императрицей две книги «'Песен Бо Цзюйи».Однако, как справедливо замечает А. Уэйли, «не серьезность женщин
внушила ей со временем отвращение ко двору Акико, но грубость и глупость
мужчин» [354, с. 10]. За ней настойчиво, хотя, возможно, в шутливой манере,
ухаживал Митинага, отец Акико, которому было в то время 42 года. Он уже
около 14' лет был Первым министром, и финансовая мощь фамилии Фудзивара
достигла при нем своего апогея.В 1008 г. Мурасаки Сикибу писала: «Из своей комнаты рядом со входом
на галерею я могу видеть сад. На земле лежит еще густая роса, и легкий
туман поднимается от нее. Его Светлость прогуливается по саду. Вот он подо¬
звал одного из своих приближенных и дает ему указание вычистить ручей.
Перед мандариновыми деревьями разбита клумба с патриниями в полном
цвету. Он срывает ветку и возвращается в дом, подает ее мне через верх
ширмы. Он выглядит очень величественным. Я помню, что еще не успела
напудрить лицо, и чувствую себя крайне смущенной. ,.Выходите! — кричит260
он.—И не задержитесь со своим стихотворением, или я потеряю терпение'1.
Это дает мне шанс ускользнуть от его испытующего взгляда. Я подхожу к
письменному столу и сочиняю следующее:Патринии цветок
Прекрасным кажется
В своем расцвете,Но это потомуЧто капельки росы на нем сверкают.„Хорошо! — сказал он, взяв стихотворение.— Вам не потребовалось для
этого много времени". И, послав за своей тушечницей, написал в ответ:Роса — тут ни при чем:Это мысли цветка
Заставляют пылать его щеки
И делают егоМилей всех остальных» [1191, с. 444]И еще два упоминания Мурасаки об отношении к ней Митинага: «Его
Светлость Первый министр заметил „Гэндзи моногатари" в комнате Ее Вели¬
чества и после обычных бессмысленных шуток по поводу этого вручил мне
свиток вместе со стихотворением, написанным на листе бумаги, к которому
была прикреплена ветка сливы:Зовется сливою
Прекрасный сей цветок.Так можно ли поверить,Что до сих пор
Никем не сорван он?На это я ответила:Цветок, тотЧто никем не сорван,Как могло случиться,Что сливоюОн назван был? [119, с. 504](Обыгрываются омонимы: сукимоно— „слива" и сукимоно — „ветреница".—
И. Б.)».Однажды, когда я спала в своей комнате, я услышала стук в дверь. Я бы¬
ла настолько напугана, что весь остаток ночи пролежала недвижно, едва осме¬
ливаясь дышать. На следующее утро пришло стихотворение от Его Свет¬
лости:Тук-тук, как птица куина,Ночь напролет
Со слезами и тоской
В дверь неприветливую Вашу
Стучался я...На это я ответила:Настойчивость у Вас
Столь велика была,Что в самом деле я
За птицу ту Вас приняла,И счастье мне, что так ошиблась я! {119, с. 504](В стихотворении также использована игра слов: куина означает и «водя¬
ной петушок» — название птицы и «не сожалеть».— И. Б.)261
А вот свидетельство 1010 г.: «Сегодня Его Светлость имел аудиенцию
у императора; когда она закончилась, они вместе вышли из приемной и вы¬
пили. Его Светлость, как всегда, был очень пьян, и, опасаясь беды, я стара¬
лась не попадаться на его пути. Но он заметил мое отсутствие и послал за
мной. „Здесь Отец вашей госпожи обедает с императором,— выкрикивал он.—
Не каждому выпадает шанс присутствовать при этом. Вы должны быть не¬
обычайно признательны. А вместо этого Вы, по-видимому, только и думаете
о том, как бы поскорее ускользнуть. Я не могу отпустить Вас! — Некоторое
время он еще продолжал журить меня, а потом сказал: — Ну, хорошо, раз
уж теперь Вы здесь, Вы должны сложить стихотворение. Это один из тех
дней, когда стихотворение за родителя императрицы слагается кем-то другим.
Вы вполне годитесь для этой роли; так поспешите же...“ Я боялась поначалу,
что, когда я покажусь, он начнет вести себя так, что поставит меня в очень
неловкое положение. Но оказалось, что он был вовсе не настолько пьян, хотя
и пребывал в весьма игривом настроении и при свете большой лампы выглядел
особенно привлекательным».По свидетельству Уэйли, Мурасаки ненавидела развлечения, которые
устраивались во дворце и всегда искала случая ускользнуть. Уэйли приводит
следующую характерную запись из ее «Дневника», посвященную описанию
празднества по случаю 15-го дня после рождения первого ребенка императри¬
цы Акико:«Старый Правый министр г-н Акимицу подошел шатающейся походкой,
громко стукнул по ширме, за которой мы сидели, и проделал в ней отверстие.
Это более всего нас поразило, так как министр был слишком уж стар для
таких проделок (ему было тогда 64 года). Но я уверена, что сам он вовсе
и не предполагал, что мог произвести такое впечатление. Последовало состя¬
зание в подборе парных вееров и шумные шутки, многие из которых были
в очень дурном вкусе.Вскоре пришел Правый генерал и встал рядом с колонной слева от нас.
Он смотрел на нас и, казалось, изучал наши туалеты, но уже совсем по друго¬
му, с иным, чем у тех, остальных, выражением лица. Он не выносил этих
пьяных оргий. Ах, побольше таких людей, как он! И я говорю это, несмотря
на то что его разговор часто бывает весьма неприличен, ибо он умеет придать
милый и забавный поворот всему, о чем бы он ни говорил. Я заметила, что,
когда большой бокал направлялся в его сторону, он не пил из него, но пере¬
давал его дальше, произнося обычные добрые пожелания. В это время
г-н Кинто кричал: — Генерал — в своем лучшем амплуа! Я надеюсь, что ма¬
ленькая Мурасаки где-то здесь, неподалеку. Но никто из Вас ни в малейшей
мере не похож на Гэндзи, и я подумал: „Что же здесь делать госпоже Му-
расаки?" Затем вице-канцлер весьма грубо повел себя с бедной госпожой
Хёбу, а Правый министр издавал комические звуки, которые я находила очень
неприятными. Было еще рано, и, хорошо зная, каковы должны быть после¬
дующие стадии развлечения, начавшегося в таком духе, я выждала, пока не
наступила короткая пауза, и договорилась с г-жой Сайсё сбежать и скрыться.
Тут, однако, сын Первого министра н другие молодые придворные ворвались
в комнату, снова поднялся гвалт; прослышав, что две дамы прячутся, они
выследили нас и бросились за ширму, за которой мы укрылись. Теперь мы
были пленницами...» [115, с. 470}.По записям в «Дневнике» можно проследить, как менялись взгляды и
сама психология писательницы. Особый интерес в этом плане представляют
те записи, в которых она передает собственные мысли и чувства. Следующий
отрывок относится к зиме 1008 г.: «Я люблю смотреть на снег здесь (в доме
отца Акико.— И. Б.). Со дня на день я все надеялась, что он пойдет раньше,
чем ее Величество переедет во Дворец,— тогда мне сразу же придется от¬
правиться домой (в родительский дом.— И. Б.). Спустя два дня после моего
приезда домой снег действительно пошел. Но здесь, где все так скучно и не
на что любоваться, он уже не доставляет мне той радости. Сидя снова у
привычного окна и глядя, как снег ложится на деревья перед домом, как живо
я вспоминаю те годы печали и растерянности! Тогда я привыкла просиживать
час за часом у этого окна, и каждый новый день походил на прошедший с262
‘ той лишь разницей, что за этот день расцвел или осыпался какой-нибудь цве¬
ток или какая-то певчая птичка прилетела или улетела. Так наблюдала я, как
| проходили весны и осени, следила за переменами на небе, любовалась вос-
' ходом луны, смотрела на те же ветви, заиндевелые от мороза или покрытые
снегом. И все это время я снова и снова спрашивала себя: „Что ждет меня в
будущем? Чем все это кончится?" Правда, иногда я любила читать, ибо в
те дни я получала определенное удовольствие от чтения самых обыкновенных
любовных историй; было у меня один или два близких друга, с которыми я
переписывалась, и было еще несколько людей, более чем просто знакомых,
с которыми я время от времени поддерживала связь. Так что теперь, когда
я мысленно возвращаюсь к этим дням, мне кажется, что и у меня было немало
своих маленьких радостей.Уже тогда я поняла, что наша семья была не из родовитых, однако эта
мысль редко тревожила меня. В те дни я была действительно далека от того
болезненного ощущения своего низкого положения в обществе, которое сейчас
делает жизнь при дворе постоянной пыткой для меня».«Сегодня я нашла роман, который привыкли считать очень интересные
и обнаружила, к своему удивлению, что теперь он уже больше не развлекает:
меня. То же и с моими друзьями. Я подумала, что те, с кем я привыкла быть-
ближе всего, будут теперь считать меня особой светской и легкомысленной,
и потому я даже не сказала им, что я здесь, что же касается других, на чье
благоразумие я полностью полагалась, то у меня есть все основания подо¬
зревать, что они показывают мои письма всем и каждому. Если они думают,'
что я для этого им писала, то они мало знают мой характер. Вполне естест¬
венно, что при таких обстоятельствах переписка либо должна прекратиться»
либо стать формальной и нерегулярной. Тем более что я теперь приезжаю
сюда очень редко, и потому во многих случаях, мне кажется, едва ли стоит
вообще возобновлять прежние знакомства, и многим из тех, кто хотел бы
посетить меня, я с извинением отказывала. Дело в том, что я теперь уже не
нахожу никакого удовольствия в общении с кем бы то ни было, за исклю¬
чением нескольких близких друзей. Это люди, которые действительно инте¬
ресуют меня, с ними я могу говорить серьезно о серьезных вещах, люди, с-
которыми я сблизилась естественно, без всяких усилий с моей стороны.
Боюсь, что все это звучит слишком сурово. Но, постойте, есть еще госпожа
Дайнагон. Мы с ней привыкли спать рядом во дворце и беседовать часами.Я представляю ее сейчас такой, какой она бывала обычно во время этих
бесед, и мне так хотелось бы, чтобы она была здесь, со мной. Так что и у
меня еще осталось немного человеческих чувств!»Несколько позже, той же самой зимой, Мурасаки наблюдала танцовщиц
Госэти во дворце и была удивлена, как они могли стать до такой степени
развязными и самоуверенными. Она писала: «Увидев нескольких офицеров
шестого ранга, подошедших к ним, чтобы взять у них веера, танцовщицы пря¬
мо бросили им веера в манере хотя и достаточной ловкой, однако совершенна
неподобающей для женщин. Я должна была бы совершенно потерять голову,
прежде чем смогла бы когда-нибудь решиться выступить в такой роли. Одна¬
ко и я уже делаю теперь много такого, на что несколько лет назад даже
не могла и представить себя способной. Да, поистине странны те скрытые
перемены, которые происходят в человеческом сердце, без сомнения, я буду
дальше все больше и больше терять свою щепетильность до тех пор, пока,
наконец, самые бесстыдные поступки не начнут казаться мне совершенно
правильными и естественными. Так размышляла я по поводу иллюзорности
всех наших суждений и мнений и начала уже рисовать себе перспективы
своего возможного развития. Столь невероятны были ситуации, в которых я
себя воображала, что я в конце концов совсем запуталась в них и уже не
могла себе представить ничего определенного».'По свидетельству биографов, Мурасаки была женщиной спокойной, урав¬
новешенной, склонной к самоуглубленности, достаточно тонкой, чтобы разби¬
раться в хитростях своих приятельниц, слегка ироничной, однако снисходи¬
тельной, доброжелательной и несколько пессимистичной [282, с. 1,15—116].Самый откровенный анализ собственного характера мы находим в записи26S
заключительной части «Дневника»: «...считают, что я мила, но застенчива, что
я очень суетна и тщеславна, скрытна, необщительна, стремлюсь держать людей
на расстоянии, что я поглощена изучеиием древних историй, самонадеянна,
живу в отвлеченном поэтическом мире и имею слабое представление о су¬
ществовании других людей, разве что время от времени отпускаю язвитель¬
ные н пренебрежительные замечания по их адресу. Такое мнение сложилось
у большинства незнакомых мне людей, и они, естественно, заранее уже готовы
невзлюбить меня. Однако, когда они узнают меня ближе, то находят, к свое¬
му крайнему удивлению, что я добра и мягка, т. е., по существу, совершенно
другой человек, вовсе не то чудовище, каким они меня себе представляли;
многие мне потом сами в этом признавались. И тем не менее я знаю, что
при дворе у меня сложилась репутация злобного и строгого педанта, но меня
это не слишком волнует, так как я к этому уже привыкла и понимаю, что
обязана этим некоторым чертам в моем характере, которые я не в силах
изменить. Императрица часто говорила мне, что хотя1 я обычно и не склонна
была раскрывать себя в присутствии высоких особ, однако она вскоре почув¬
ствовала, что знает меня более близко, чем кто-либо из остальных».По данным японского исследователя Ока Кадзуо, придворная служба пи¬
сательницы закончилась в 1013 г. [28>2, с. 117]. Однако по другим версиям,
в 4025 г. она все еще находилась на службе у Акико н принимала участие
в церемониях, связанных с днем рождения будущего императора Го-Рёдзэна
[354, с. XV].В 1011 г. отец писательницы был назначен губернатором провинции Эти¬
го, куда приехал затем и его сын Нобунори, который, однако, вскоре умер.
Мурасаки не намного пережила брата: Ока 'Кадзуо датирует ее смерть 1014 г.
(версии, основанные на данных «Повести о расцвете», относят ее смерть к
1025—1031 гг.). В 1031 г. имя Мурасаки исчезает из списков, в которых оно
могло фигурировать [354, с. XVI]. По версии Ёсано Акико, она умерла в кон¬
це 1015 или в начале 1016 г. [282, с. 117].Как же складывалась творческая биография Мурасаки? Совершенно оче¬
видно, что сначала она пробовала свой талант в поэзии. Основная масса ее
стихотворений была собрана в «Мурасаки Сикибу-сю». Много ее стихов вошло
в «Гэндзи моногатари». В «Дневнике» поэтических (произведений сравнитель¬
но мало.«Гэндзи моногатари» Мурасаки начала писать вскоре после смерти мужа,
коротая в одиночестве свои дни в родительском доме. Довольно распростра¬
нена версия, что книга была написана за три или самое большее за четыре
года, прошедшие со дня смерти мужа и до появления Мурасаки при дворе.
Другие исследователи считают, что в те тоды роман был начат, а завершен
где-то до наступления зимы 1008 г. Это предположение основывается на трех
ссылках на «Гэндзи моногатари», имеющихся в «Дневнике». Однако ни одна
из этих ссылок, как справедливо считает Уэйли, не говорит о том, что роман
был завершен. Первая ссылка лишь свидетельствует о том, что к этому вре¬
мени написана была значительная часть романа и можно уже понять, что
главной героиией его является женщина по имени Мурасаки. Та часть про¬
изведения, которая была прочитана императору, была, очевидно, первой гла¬
вой, она заканчивается фразой, взятой из «Анналов Я'понии»: «Некоторые го¬
ворят, что это был корейский предсказатель судьбы, который дал ему имя
Хикару — Блистательный» 1354, с. XV—XVI]. И, наконец, шутка Митииага по
поводу несовместимости между добродетельным поведением Мурасаки и эро¬
тическим характером ее книги говорит не более как о том, что к этому вре¬
мени было уже иаписано с полдюжииы глав. Значительно более вероятно,
пишет Уэйли, что «Гэндзи моногатари», будучи начат в 1001 г., постепенно
писался и после появления Мурасаки при дворе и не был завершен до, ска¬
жем, 1015 или даже 1020 г. Средняя и заключительная части действительно
создают впечатление, что они написаны человеком сравнительно более зрелого
возраста, чем части более ранние. В 1022 г. книга была, без сомнения, завер¬
шена, ибо «Дневник Сарасина» ссылается на «пятидесятиглавное „Повество¬
вание о Гэндзи4*» (з-54, с. XV). Как теперь считают, первые несколько глав
романа стали известны в придвориом окружении вскоре после их написания)264
и когда Мурасаки была приглашена в свиту императрицы, она уже завоева¬
ла славу талантливой писательницы. Находясь на службе у Акико, Мурасаки
продолжала работать над романом, писала стихи и начала вести «Дневник»
f282, с. 116]. По последним версиям, ее роман был завершен к 1010 г., при¬
мерно одновременно с завершением «(Дневника»: последняя запись в нем
датирована 2 февраля 1010 г. Начатый где-то в середине 1008 г., «Дневник»
представляет собой фиксацию событий, происходивших при дворе (празднеств,
обрядов, церемоний и т. д.), а также частично и личных переживаний, содер¬
жит характеристики придворных дам из свиты Акико и т. п. Он рисует
живую картину жизни Мурасаки при дворе. Общий объем его 66 с половиной
страниц японского текста (в новейшей перепечатке). Помимо того что «Днев-
пик» является ценным источником биографических данных, он дает важные
сведения о будничной и парадной сторонах придворной жизни той эпохи, об¬
ладает значительными литературными достоинствами, представляя одну из
интересных разновидностей жанра дневника в японской литературе. Однако
подлинную славу принес писательнице ее пятидесятичетырехглавный роман о
блистательном Гэндзи, обессмертивший ее имя.Изложение фабулы романа «Гэндзи моногатари*«Гэндзи моногатари» — произведение большого объема, со сложной струк¬
турой, обилием действующих лиц, побочных сюжетных ходов, с центральной
сюжетной линией, в значительной своей части уходящей в подтекст. Роман
не переведен на русский язык. Отсутствие у читателя предварительного зна¬
комства с фабулой романа и основными действующими лицами (а большин¬
ство их фигурирует в нашем исследовании), их статусом и взаимоотноше¬
ниями, а также (что весьма немаловажно) с общей атмосферой романа вы¬
нудило бы нас к постоянным разъяснениям ситуаций, побудительных мотивов
поведения героев, их связи с главным героем и т. д. Исходя из этих сообра¬
жений, мы сочли целесообразным дать краткое изложение фабулы романа.Некогда в царствование одного императора жило во дворце много кра¬
сивых придворных дам. Но была среди них одна, что красотой своей превзо¬
шла всех остальных. Известна она была под именем Кирицубо — «[Дама] из
Павильона павлоннй» (вокруг покоев ее были посажены павлонии). Красой
своей и нежностью снискала она особое расположение государя, хотя и не
была особой высокого звания. Император настолько к ней был привязан, что
не желал покидать ее даже для решения государственных дел. Это вызвало
ревность и зависть к Кирицубо других его жен и наложниц. Больше всех
злобствовала и преследовала ее Кокидэн Нёго, официальная жена импера¬
тора, госпожа его Северных покоев. Козни недругов причиняют много страда¬
ний молодой женщине, и здоровье ее постепенно ухудшается.У Кирицубо рождается ребенок — «мальчик необыкновенной красоты».
Вскоре после этого она тяжело заболевает и умирает, не в силах более вы¬
носить гонения и преследования своих недоброжелателей. Император долгое
время был безутешен.Когда ребенку исполнилось шесть лет, ему было дано имя Хикару — Бле¬
стящий, Блистательный — за необыкновенную красоту и ум, -которые вызыва¬
ли всеобщее восхищение.Во дворце уже пошли толки, что государь, пожалуй, сделает его наслед¬
ником престола, отстранив своего старшего сына — от Кокидэн Нёго. Но им¬
ператор решил, что высокий сан только осложнит жизнь его любимцу, и не
сделал, его принцем крови, а чтобы ребенок не оставался «без роду и пле¬
мени», государь дал ему родовое имя Гэндзи, поставив его тем самым в по¬
ложение простого подданного.Одиннадцати лет Гэндзи женится на принцессе Аои, дочери Левого ми¬
нистра. Аои на четыре года старше его и при всей своей красоте и благород-18 Зак. 654265
ствс довольно чопорна. Это сдерживает чувства Гэндзи. Он редко на веща ei
се, будучи всецело поглощен придворными развлечениями. о iТем временем при дворе появляется новая дама Фудзицубо Него, не- j
обыкновенно похожая на покойную возлюбленную императора, ее присутствие
мало-помалу развеивает государеву печаль. Она занимает место умершей и
получает прозвище'Принцесса Сияющего Солнца. Юный Гэндзи, который мно*
го слышал о том, что Фудзицубо очень напоминает ©го мать, по-детски при¬
вязывается к ней и хочет постоянно быть подле нее.Детская привязанность постепенно перерастает в любовь. Гэндзи упорно
стремится к заветной цели и в конце концов достигает ее. Наслаждаясь за¬
претной любовью, оба сознают, что совершают преступление по отношению
к государю. Это порождает глубокие душевные страдания Фудзицубо.Однажды ночью, в пору ранних летних дождей, Гэндзи и три его друга,
в том числе и самый близкий То-но Тюдзё, собираются в придворных покоях
и ведут разговор о женщинах. Каждый высказывает свое мнение, делится
собственным опытом. В конце концов все приходят к выводу, что очень труд¬
но выбрать женщину, которая была бы идеальной спутницей жизни. Одна —
хорошая жена, но так ревнива, что в ярости укусила супруга за руку, дру¬
гая — блистательна и изысканна, но непостоянна, третья — слишком скромна
и тиха, и, наконец, еще одна — чересчур учена. Не принимает никакого участия
в разговоре только Гэндзи, лишь изредка вставляя свои замечания.'В ту пору случай сводит Гэндзи с женщиной «среднего класса», женой
провинциального администратора. Прибегнув к хитрости, Гэндзи проникает
в ее покои и овладевает ею. Целомудренная и рассудительная Уцусэми со¬
знает, что ее положение ие позволяет ей принять любовь Гэндзи. Уступив
однажды его настойчивости, она решительно противится дальнейшим встре¬
чам. И когда Гэндзи снова тайно проникает в ее комнату, она, предвидя это,
заблаговременно скрывается, оставив ему лишь свою одежду — «пустую скор¬
лупку цикады» («уцусэми»).Как-то вечером Гэндзи случайно набрел на дом, где живет очень при¬
влекательная юная дама; дом находится в уединенном месте и обнесен вет¬
хим забором, увитым белым вьюнком. Судьба женщины глубоко трогает Гэнд¬
зи: оказалось, что она бывшая возлюбленная его приятеля То-но Тюдзё.
Будучи ие в состоянии вынести третирование со стороны официальной жены
Тюдзё, Югао решила скрыться в этом уединенном месте. Гэндзи привлекла
хрупкость и нежность женщины, и он начинает часто посещать ее, поначалу
скрывая свое лицо под маской и не называя своего имени. Чем больше он
узнавал ее, тем больше к ней привязывался, пока их не соединила наконец
глубокая пзаимная любовь. Гэндзи предложил Югао перебраться в более от¬
даленное место, где он мог бы навещать ее беспрепятственно. Но однажды
ночью, внезапно проснувшись, он увидел у изголовья женщину в белом,
которая тут же исчезла. Югао была мертва. Призрак оказался духом Рокудзё,
дамы гордой, самолюбивой и очень ревнивой, вдовы крупного сановника, с
которой -Гэндзи был связан длительное время до своего знакомства с Югао.
Призрак явился, чтобы отомстить Гэндзи за поруганную честь Рокудзё.Гэндзи в отчаянии. Он заболевает и несколько дней мечется в белой го¬
рячке.От служанки Югао, Укон, Гэндзи впервые узнает историю Югао. Расска¬
зала Укон и о ребенке, девочке от То-но Тюдзё, которую она, по ее словам,
никак не может разыскать.После похорон Югао Гэндзи отправляется в горный храм в поисках ис¬
целения от болеэии. В домике, у подножия горы, он случайно увидел хоро¬
шенькую девочку, живо напомнившую ему Фудзицубо, его мачеху, любовь i
к которой постоянно живет в его сердце. Гэндзи берет девочку на воспитание, I
он привозит ее во дворец, уделяет ей все свое свободное время, и девочка
привязывается к нему, как к отцу. Выясняется, что это племянница Фудзицу-
бо. Отношении Гэндаи с женой, Аои, становятся все более холодными. С каж¬
дой новой интригой Гэндзи растет их отчуждение. Аои не может простить
ему легкомыслия и даже не справляется о его здоровье, когда он возвращается
во дворец.266
Тем временем Фудзицубо заболевает и временно удаляется от двора.
Гэндзи навещает ее и вскоре узнает, что у нее должен родиться ребенок. Оба
с нетерпением и страхом ожидают его появления. Фудзицубо глубоко страдает
от сознания греховности своей связи с Гэндзи и старается всячески избегать
встреч с ним, что, естественно, очень его огорчает.Любопытство Гэндзи возбуждают разговоры о некоей молодой особе,
которая после смерти своего отца, принца 'Хитати-но мия, ведет уединенную
жизнь, находя утешение лишь в игре на кото. Гэндзи однажды проникает к
ней в сад, чтобы послушать ее игру, и, восхищенный, начинает бывать у нее.
Некоторое время у Гэндзи не было возможности внимательно рассмотреть
ее. 'Наконец ему это удалось. Он поражен, увидев широкий лоб, длинное
бледное лицо и большой нос, кончик которого алеет, как цветок шафрана.
Гэндзи тут же покидает женщину, но, подумав, понимает, какую, в сущности,
жалкую, одинокую жизнь она ведет, и из сострадания берет ее под свое по¬
кровительство.Вскоре у Фудзицубо рождается сын, вылитый Гэндзи. Гэндзи и Фудзи¬
цубо боятся, что императору бросится в глаза это сходство. Однако, когда
спустя четыре месяца ребенка показывают во дворце, император, отметив его
сходство с Гэндзи, как будто бы не -придает этому особого значения («Все
красивые дети в этом возрасте очень похожи»).Однажды, после веселого праздника любования цветами вишни, устроен¬
ного во дворце ранней весной, Гэндзи знакомится с некоей молодой особой
весьма веселого нрава по имени Обородзукиё (букв, «ночь с луною, подер¬
нутой облаком»). Это знакомство оказывается для него роковым. Дело в
том, что девушка — младшая сестра >Кокидэн Него, которая давно ненавидит
Гэндзи, и предназначена в наложницы наследному принцу.Важные события происходят на веселом празднико Камо, последовавшем
за отречением императора, отца Гэндзи, и восшествием на престол Судзаку,
его сына от Кокидэн Него. Роскошные экипажи заполняют улицы столицы,
сидящие в них придворные дамы соперничают яркостью своих нарядов. Каж¬
дый стремится занять лучшее место. ’В этой сумятице карета Рокудзё оттес¬
нена и повреждена экипажем Аои. Рокудзё чувствует себя публично оскорб¬
ленной; ее ревнивый и мстительный дух начинает навещать и мучить Аои,
ожидавшую ребенка. Аои умирает дав жизнь сыну Гэндзи — Югири. Смерть
Аои вызывает у Гэндзи чувство раскаяния и одиночества.Одно лишь радует его — юная Мурасаки, которая растет и хорошеет у
него на глазах. В 'конце концов она становится его возлюбленной, а затем
и женой.После долгой болезни Рокудзё, мучимая кошмарами, связанными со
«странной смертью» Аои, подавленная охлаждением к ней Гэндзи, решает
покинуть столицу и уехать в провинцию Исэ вместе с дочерью, выбранной
жрицей храма Исэ. В последний раз она принимает Гэндзи в своем загород¬
ном дворце, чтобы расстаться с ним навсегда.В этом же году умирает экс-император, отец Гэндзи, и род Гэндзи оста¬
ется без поддержки. Этим сразу же воспользовалась 'Кокидэн Него, мать им¬
ператора Судзаку. Она всячески притесняет Гэндзи. А он тем временем тайно
посещает Обородзукиё, служившую при дворе. Неожиданно это раскрывается,
и рассерженная мать-императрица с еще большим ожесточением преследует
Гэндзи. Едва он успел оправиться от этих неприятностей, а его уже ждет
новое огорчение: вторая вдова экс-императора, Фудзицубо Него, приняла ре¬
шение постричься в монахини, боясь возможного разоблачения своей страш*
ной тайны. В' этом она видит и единственный способ прекратить свои отно¬
шения с Гэндзи, которые превратились для нее в постоянный источник нрав¬
ственных мук. Новый год. всегда такой радостный и веселый, на этот раз
поверг Гэндзи в атмосферу печали и одиночества.Поздней весной, в состоянии безысходной грусти и апатии, он навещает
свою старинную приятельницу Ханатиру-сато (букв, «селение, где опадают
цветы»), хорошо знавшую его отца, и с нею вместе предается воспоминаниямо прошлом, которые навевают голос кукушки и благоухание цветущих ман¬
даринов.267
Гэндзи чувствует н понимает, что для него более невозможно терпеливо-
сносить ненависть и нападки 'Кокидэн, и он решает покинуть столицу и по¬
селиться временно на острове Сума.Перед отъездом он делает «прощальные визиты» — навещает отца Аои
и видится со своим маленьким сыном Югири; посещает монастырь, куда
ушла Фудзицубо, и трогательно прощается с нею. Особенно тяжелым и
грустным было прощание с Мурасаки, которую он готов был взять с собой,
но не сделал этого только потому, что не мог обречь ее на тяжелые лишения,
которые сулила жизнь в глуши на острове Сума.В Сума Гэндзи чувствует себя одиноким и заброшенным. Он много раз¬
мышляет о своем поведении в недавнем прошлом, о своих отношениях с
Фудзицубо, Рокудзё, тоскует о Мурасаки. С Фудзицубо он время от времени’
обменивается письмами. Гэндзи получает письмо и от Рокудзё из Исэ, в ко¬
тором та пишет, что должно пройти много времени, прежде чем будет ис¬
куплена ее вина (она имеет в виду роковые последствия своей ревности).
Переписка, игра на цитре, да зарисовки морского побережья — вот все, что’
утешает Гэндзи в его одиночестве.Вторую весну встречает он в ссылке, и вот однажды у берегов Сума
проносится жестокий шторм, подземные толчки вселяют ужас в сердца его'
обитателей. Непогода продолжается несколько дней. Гэндзи во сне является
покойный император, его отец, и повелевает ему немедленно покинуть это
место. А на следующее утро к берегу причаливает лодка с отшельником из
Акаси — Акаси-нюдо, находящимся под особым покровительством бога Су-
миёси. Ему также было видение и повеление свыше взять Гэндзи к себе в.
дом, в Акаси.Акаси-нюдо, в прошлом губернатор провинции, живет в Акаси с женой и
единственной дочерью, девушкой необыкновенной красоты и хорошего вос¬
питания. Гэндзи вспоминает, что несколько лет назад он слышал рассказ об
Ь этом отшельнике и его дочери — это было в горном храме, куда он приехал
для исцеления от лихорадки. Это пробуждает его интерес к девушке* а ее-
красота и благородные манеры поражают его. Акаси, подобно Уцусэми, бо¬
лезненно ощущает огромный разрыв в рангах между собой и Гэндзи и по¬
началу не допускает и мысли о возможности каких бы то ни было отношений
с ним. Она избегает его, однако в конце концов все же уступает и искренне
к нему привязывается. Гэндзи, однако, не воспринимает серьезно свои от¬
ношения с Акаси и даже не считает необходимым скрывать их от Мурасаки'
(будучи уверен к тому же, что слухи все равно дойдут до нее). В письме к
Мурасаки он называет роман с Акаси «преходящим сном».Осенью того же года из Хэйана приходит известие об императорском
прощении, и Гэндзи получает возможность возвратиться в столицу. Это боль¬
шая радость для него, в то время1 как для Акаси разлука с ним невыразимо
печальна. Гэндзи уезжает, оставив ей на память свое кото, на котором она
играла с таким искусством и выразительностью, трогая его до глубины души.В столице Гэндзи встречают с почестями. Особенно радостна для него-
встреча с Мурасаки.В марте следующего года у Акаси рождается дочь. В свое время астро¬
логи предсказали Гэндзи, что из троих его детей двое получат императорский'
сан, и он надеется, что в один прекрасный день его дочь станет императрицей
(маленькая Акаси — его третий ребенок). Гэндзи решает вызвать Акаси в-
столицу, где он мог бы следить за воспитанием дочери. Он уже решил пере¬
дать ее на попечение Мурасаки, у которой были все возможности дать девоч¬
ке необходимое образование и приобщить ее «к высшему обществу».Осенью Гэндзи совершает паломничество к святыне Сумиёси, в это время
там находится Акаси (возможно, преднамеренно). Ее сердце полно печали,,
когда она издали, из лодки, наблюдает пышную процессию Гэндзи, просле¬
довавшую вдоль берега. С грустью сознавая, что скромность ее происхож¬
дения навсегда останется неодолимой преградой между нею и Гэндзи, Акаси
возвращается домой.Положение Гэндзи при дворе постепенно упрочивается. Судзаку уходит
в отставку, и императором (под именем Рёдзэна) становится сын Гэндзи от268
фудзицубо. К этому времени возвращается в столицу Рокудзё вместе со своей
дочерью: провозглашение нового императора требует выбора новой жрицы
храма Исэ. Ни Рокудзё, ни Гэндзи уже не думают о возобновлении прежних
отношений: она собирается принять постриг, а он решил «не осложнять себе
жизнь отношениями на стороне, даже самого безобидного рода: у него проста
нет времени». Его поЬледняя встреча с Рокудзё происходит после ее постри¬
жения, за несколько дней до ее смерти. Рокудзё просит Гэндзи помочь ее
дочери Акиёси. После смерти Рокудзё Гэндзи горько сожалеет, что причинил
ей столько огорчений и разочарований и так и не смог вернуть ее доверия.Гэндзи оставил многих в столице в тоске и печали, когда уехал в Сума.
Среди них принцесса Суэцуму-хана, которая теперь ведет жизнь затворницы
на грани бедности. Ее дворец разрушается, запущенный сад превратился в
обиталище лис, прислуга разбежалась. Тем не менее принцесса решительно
отказывается покинуть свой дворец, готовый вот-вот рухнуть. Единственное
ее развлечение в этой уединенной жизни — чтение старинных любовных исто¬
рий. Она и сама живет в этом мире, веря, что в один прекрасный день к ней
снова придет Гэндзи.Однажды, проходя мимо ее дворца и вспомнив о своей старой знакомой,
Гэндзи решает навестить Суэцуму-хана. Ее радости нет границ, она поспешно
достает из сундуков свои старомодные, пахнущие пылью наряды, чтобы до¬
стойно встретить дорогого гостя.С того дня Суэцуму-хана возвращается к прежней счастливой жизни под
покровительством блистательного Гэндзи. По его распоряжению дворец Хи-
тати реставрирован, а позже она переселяется вместе с другими членами се¬
мейства Гэндзи и приближенными в его вновь отстроенный дворец.Направляясь к святыне Исияма для поклонения богине Каннон, Гэндзи
встречается у пограничной горы «Застава встреч» с Уцусэми, которая едет
в столицу вместе с мужем, отслужившим положенный срок в провинции. Муж
Уцусэми, бывший- уже в преклонных годах, вскоре умирает, а она постри¬
гается в монахини.Гэндзи сдержал слово, данное Рокудзё, и ее дочь Акиёси представлена
ко двору. В этот день во дворце устроена выставка-конкурс картин. Рассмат¬
ривание «картинок» — рисунков, иллюстраций и т. п. было любимым занятием
юного императора, и это стало своего рода модой при дворе. Так возникла
идея организации выставки-состязания, на которой представлены различные
картины, иллюстрации к книгам, рисунки, имевшиеся в распоряжении при¬
дворных. Участники выставки разделены на две партии: первая, возглавляе¬
мая Акиёси, представила картины старых мастеров — «классиков», вторая, во
главе с дочерью То-но Тюдзё,— произведения современных живописцев.
Выставка роскошно обставлена и красочно оформлена. Жюри, возглавляемое
Фудзицубо, решившей несколько отвлечься от своих обычных религиозных
занятий, присуждает победу партии Акиёси. Акиёси привлекает к себе внима¬
ние юного императора, и он отдает ей предпочтение перед ее соперницей —
дочерью То-но Тюдзё.После праздника картин во дворце состоялся любительский концерт, в
котором приняли участие Гэндзи, То-но Тюдзё и другие знатные придворные.Гэндзи в зените своей славы-. Однако ощущение непрочности его нынеш¬
него положения, смутное предчувствие надвигающейся катастрофы омрачают
его настроение и даже заставляют серьезно задумываться об уходе в мо¬
нашество.После неоднократных приглашений со стороны Гэндзи Акаси в конце
концов приезжает в столицу со своей маленькой дочерью. Она прекрасно со¬
знает, что переезд в Хэйан не принесет ей ничего, кроме одиночества и новых
огорчений, и решается на этот шаг только ради благополучия своей девочки.
Чтобы избежать ненужных пересудов и насмешек, она поселяется «вдали от
света» —в деревне Ои, в предместье Хэйана, где Гэндзи специально для нее
строит дворец. Из уважения к Мурасаки Гэндзи редко навещает Акаси, и
она находит утешение в заботах о ребенке и в игре на кото, которое подарил
ей Гэндзи. Гэндзи не терпится взять девочку к себе во дворец, но он долго
не решается приступить к разговору с Акаси, боясь огорчить ее. Акаси до-269
галынастся о его намерениях и, лаская маленькую дочку, со страхом ждет
дня. когда ой придется расстаться с нею. И dot однажды, холодным снеж¬
ным утром. Гэндзи приезжает, чтобы увезти депочку. Думая о благе и бу¬
дущем дочери, Акасн передает ее Гэндзи и едва не падает без сил.У Мурасаки нет собственных детей, и она принимает маленькую Акасн
как свою родную дочь. Отдает ей много времени, заботится о ее иосгштаиии
и образовании.поена не приносит с собой радости. Она омрачена для Гэндзи печальным
событием: умирает монахиня Фудзнцубо-нсин. Траур по ней широко отме¬
чается по всей стране.Ценою немалых жертв и невыносимых душевных мук Фудзицубо удалось
скрыть от сына его истинное происхождение, но, перед тем как уйти из жизни,
она испытывает потребность сказать ему правду. Смерть прерывает ее на
полуслове. Старый священник, духовник Фудзицубо, частично раскрывает
Рёдзэн тайну его рождения (сокрытием этой тайны он объясняет участив¬
шиеся стихийные бедствия — землетрясения, бури и т. д., как своего рода
кару богов). Рёдзэн чувствует себя узурпатором по отношению к Гэндзи
(Гэндзн, более достойный трона, оказывается оттесненным на второй план)
v приходит к мысли об отречении от престола. Гэндзн чувствует возросшую
почтительность к нему со стороны Рёдзэн и догадывается о ее истинной при¬
чине. Он уговаривает Рёдзэн не отказываться от трона, однако юноша мо¬
рально страдает от своего ложного положения.Гэндзн оказывает внимание молодой женщине по имени Асагао, с которой
был знаком раньше, в бытность ее жрицей храма Исэ, и время от времени
обменивался письмами. Он часто посещает ее резиденцию — дворец Момодзо-
ио («Персиковый сад»), и это серьезно беспокоит Мурасаки. Едва успокоив¬
шись после истории с Акасн, она переживает новую душевную драму. Асагао,
блестящая светская дама, равная ей по рангу, представляется ей значительно
более опасной соперницей, чем скромная девушка из провинции Акаси.Асагао, однако, упорно отвергает ухаживания Гэндзн: она не верит ни в
прочность его чувства, ни в серьезность его намерений и откровенно говорит
ему об этом. Однажды, в холодный зимний день, Гэндзн навещает ее, но,
как и всегда, оказывается вынужденным возвратиться ни с чем. В ответ на
его письмо она пишет: «Несмотря на годы, что прошли, вы остались таким же
легкомысленным». Ее решительный отказ не только больно бьет по самолюбию
блистательного Гэндзн, но и воспринимается им как свидетельство надвига¬
ющемся старости,Растет п мужает Ютирн. сын Гэндзн от Аои. Однако отец, к немалому
огорчению юноши, не спешит производить его в более высокий ранг. Гэндзн
считает, что двадцатилетний Югнрн не созрел еще для повышения в ранге,
к тому же эта акция вызвала бы разговоры в свете об использовании своего
влияния в личных целях. Гэндзи полагает, что Югири недостаточно образо¬
ван, и определяет его в Академию. Природный ум Югнрн, его дарования,
которыми он превзошел своего отца, вызывают восхищение профессоров.Случилось так, что Югнрн влюбился в свою двоюродную сестру Кумон-но
кари, с которой вместе воспитывался. Все умиляются юными влюбленными,
кроме отца Кумон-но кари, То-но Тюдзё, который занимает в то время важ¬
ный государственный пост. Он возмущен «мезальянсом», ибо надеется, что
его дочь в ближайшем будущем будет принята на придворную службу, а там,
как знать, в один прекрасный день станет императрицей. То-но Тюдзё всячески
стремится разлучить се с Югири, «недостойным» ее офицером шестого ранга.Завершается строительство дворца Рокудзё-нн. новой резиденции Гэндзн.
Здесь должны были поселиться Мурасакн и все главные наложницы и воз¬
любленные Гэндзи (в том числе Акасн, Суэцуму-хана и др.).В глухой провинции, на 'Кюсю, подрастает Тамакадзура. единственная
дочь Югао. незабываемой юношеской любви Гэндзи. ставшей жертвой «мсти¬
тельного духа» Рокудзё. После смерти матери Тамакадзура была взята своей
няней на 'Кюсю, куда получил назначение се муж. Теперь девушке девят¬
надцать лет, ее благородная красота, столь редкая в этих местах, становится
предметом оживленных толков. Приемная мать Тамакадзура обеспокоена сва*270
товством влиятельных женихов из местной знати, в особенности Тайфу-но
Гэн, который проявляет особое упорство. Чтобы избежать осложнений, няня,
собрав последние деньги, решает тайно увезти девушку в столицу и передать
ее отцу. 'По пути к храму Хасэ, куда направляется няня Тамакадзура, чтобы
помолиться о благополучии девушки, она встречает Укон, некогда находив¬
шуюся в услужении у Югао, а теперь состоящую на службе у Гэндзи. Укон
сообщает, что Гэндзи, .как и То-но Тюдзё, давно разыскивает Тамакадзура и
будет рад примять ее к себе, как родную дочь, тем более что она всколыхну¬
ла в его душе дорогие воспоминания.В новом дворце Гэндзи идут приготовления к встрече Нового года.
Накануне праздника -Гэндзи посещает своих друзей и знакомых — Суэцуму-
хана, Уцусэми,— уделяет много внимания Тамакадзура. Девушка принята в
свете, среди ее женихов принц Хигэкуро, один из самых богатых и влиятель¬
ных вельмож столицы; сын То-но Тюдзё, красавец Касиваги, и младший брат
Гэндзи, принц Соти-но мия. Тамакадзура не безразлична и самому Гэндзи.
Однажды он неожиданно появляется в ее комнате; застигнутая врасплох, Та-
макадзури встречает его по-домашнему, просто одетая, живо напоминая ему
Югао. Гэндзи не может скрыть своих чувств, к немалому смущению и воз¬
мущению неискушенной молодой девушки.Однако Гэндзи «не дал ходу милой привычке» — отчасти из уважения к
Мурасаки, отчасти потому, что считал Тамакадзура достойной значительна
большего, нежели статус наложницы. И он решает выдать ее за своего млад¬
шего брата Соти-ио мия. Однажды, когда принц Соти навестил Тамакадзура,.
Гэндзи удивил обоих, выпустив на волю сразу несколько светлячков, спе¬
циально спрятанных в складках его одежды, с тем чтобы принц мог лучше
рассмотреть девушку. Поведение Гэндзи, в особенности его роль свата, не¬
сколько озадачивает и даже огорчает Тамакадзура, которая не остается рав¬
нодушной к его обаянию и находит для себя большое удовольствие в постоян¬
ных его посещениях и беседах с ним, в уроках игры на кото, которые он
ей дает, и т. д.Тем временем Гэндзи продолжает проявлять большой интерес к подра¬
стающей Акаси и уделяет постоянное внимание ее воспитанию и образованию.То-но Тюдзё не имеет представления о том, что Тамакадзура давно жи¬
вет в резиденции Гэндзи, и предпринимает неоднократные попытки разыскать
дочь. Гэндзи понимает, что настало время передать девушку ее настоящему
отцу, тем более что к этому времени она заняла прочное положение в свете
и была прннята ко двору,— факт весьма существенный для такого честолюби¬
вого человека, .как То-но Тюдзё. Тамакадзура в замешательстве: ей не терпе¬
лось увидеть родного отца, но вместе с тем она привыкла и привязалась к
своему приемному отцу— Гэндзи.Одна любопытная деталь: однажды, Тамакадзура наблюдает император¬
скую процессию, направляющуюся к храму Оохара по случаю пышного син¬
тоистского празднества, и замечает необычайное сходство императора с Гэнд¬
зи. Как-то вечером Югири приходит навестить отца. Неожиданно налетает
страшный тайфун, вырывает с корнем деревья, ломает перегородки в доме.
При вспышке молнии Югири впервые видит любимую жену Гэндзи —Мура¬
саки. Он поражен ее красотой и долго еще находится под впечатлением
увиденного. Ему кажется, что буря разразилась в его собственной душе.Гэндзи хочет женить Югири на любимой им Кумои-но кари, но встре¬
чает решительное противодействие со стороны То-но Тюдзё. Югири делает
попытку проникнуть в покои Кумой; служанка девушки с возмущением вы¬
говаривает ему, указывая на его низкий ранг. Униженный Югнри вынужден
уйти, сетуя на своего отца за его упрямство. То-но Тюдзё принимает решение
увезти на время Кумоп к ее тетке.Тем временем Тамакадзура, которой жизнь, казалось бы, сулит самые
радужные перспективы, непреднамеренно входит в интимные отношения с
принцем Хигэкуро, к которому в глубине души не питает ничего, кроме от¬
вращения. Это решает ее судьбу: она становится второй женой Хигэкуро-но
Тайсё. Его первая жена, Макнбасира, душевнобольная, постоянно устраивает
ему дикие сцены ревности.271
Юная принцесса Акаси выбрана, наконец, императрицей, и Гэндзи со всем
своим семейством и свитой готовится отметить это событие. Организуется со¬
стязание в приготовлении ароматных смесей, в котором принимают участие
Гэндзи, Соти-но мия, Мурасаки, Акаси-мать, дама из «Селения опадающих
цветов» и другие знатные вельможи и придворные дамы. Дворец Рокудзё-ин,
окруженный цветущими сливами, собирается отметить и еще одно важное
событие: То-но Тюдзё дает наконец согласие на брак своей дочери с Югири,
Воздав должное характеру Югири и его верности, То-но Тюдзё торжественно
приглашает его на «банкет глициний».Акаси бесконечно рада тому, что ее дочь удостоена чести, о которой сама
она не смела и мечтать.Гэндзи—накануне своего сорокалетия. Он в расцвете сил и славы, не
обременен государственными делами (призвания к коим он не имел), но, по
существу, в его руках сосредоточено правление страной.По убедительной просьбе экс-императора Судзаку, который в то время
серьезно болен, Гэндзи дает согласие взять под свое покровительство его
дочь, юную принцессу Сан-но мия (Нёсан), иными словами, сделать ее своей
женой. Это решение роковым образом воздействует на Мурасаки. Понимая
лею политическую разумность такого шага, она воспринимает его как свой
<*закат». Удар слишком тяжел для Мурасаки — она заболевает. Незадолго
до этого Гэндзи говорит с ней о Рокудзё. Вспоминая эту женщину как инте¬
ресного человека с чувствительной душой и тонким пониманием прекрасного,
он сожалеет о ее тяжелом характере, ее ревнивой, мстительной натуре.Весною, на одном из придворных увеселений, где, как обычно, присут¬
ствуют Гэндзи, То-но Тюдзё, Югири и другие знатные придворные, сын То-но
Тюдзё, Касиваги, впервые увидев юную Нёсан, страстно влюбляется в нее.
Он пишет ей письма, но ответа не получает. Так продолжается довольно дол¬
го. Уже не надеясь завладеть Нёсан, Касиваги берет в наложницы ее старшую
сестру, принцессу Отиба. Но при первом же удобном случае он тайно прони¬
кает к Нёсан и овладевает ею, но добиться ответного чувства ему все же не
удается. Нёсан избегает его, решительно отказывается от встреч с ним. Каси*
ваги глубоко страдает, забрасывает Нёсан ревнивыми письмами.Гэндзи уделяет мало внимания молодой жене, его беспокоит здоровье
Мурасаки, Он вызывает заклинателей, которым удается через девушку-медиу-
ма «выявить» злого духа, вселившегося в Мурасаки и навлекшего на нее
болезнь. Злым духом оказалась не кто иная, как Рокудзё, которую побудил
к этой акции разговор 'Гэндзи с Мурасаки с упреками в ее адрес, которых
она не могла ему простить.Мурасаки болеет долго, то чувствуя временное облегчение, то снова впа¬
дая в беспамятство. Тем временем Гэндзи узнает, что Нёсан беременна, и,
обуреваемый подозрениями, решает навестить ее. У нее под подушкой он
.случайно находит письмо от Касиваги. С горечью размышляя о случившемся,
Гэндзи приходит к мысли о том, что это карма — воздаяние за его собствен¬
ное преступление по отношению к отцу.Касиваги, узнав, что Гэндзи все известно, тяжело заболевает в результа¬
те сильного нервного потрясения и умирает, будучи не в силах вынести угры¬
зений совести за свое «предательство» по отношению к Гэндзи, который был
«его другом.У Нёсан родится сын Каору, в котором Гэндзи видит черты поразитель*
«ого сходства с Касиваги. Нёсан глубоко страдает, понимая, что случилось
яепоправимое и что ей никогда не вернуть прежнего отношения Гэндзи. Она
решает постричься в монахини.Югири, будучи другом покойного Касиваги, заходит как-то справиться о
здоровье его вдовы, принцессы Отиба, которая после смерти мужа ведет оди¬
нокую, затворническую жизнь. Неожиданно для себя он обнаруживает, что
его чувства далеко превзошли обычное сострадание, визиты к Отиба стали
для него потребностью. Однажды, осенним вечером, он навещает ее, и они
вдвоем любуются вечерним пейзажем, вдыхая аромат осенних цветов, следя
за полетом диких гусей, вспоминая об умершем друге и супруге, испытывая
невыразимое чувство печального очарования осени. Югири играет китайскую272
мелодию, выражающую тоску женщины по супругу, на лютне (бива), Отиба
аккомпанирует ему на кото.Югири возвращается домой с лютней Касиваги, подаренной ему Отиба.
Кумой упрекает супруга за частые отлучки из дома и позднее возвращение.По мере того как подрастает маленький Каору, его сходство с Касиваги
становится все более разительным, и Югири чувствует, что отчаяние и стра¬
дания покойного 'Касиваги, свидетелем которых он был, имели отношение к-
рождению Каору.Любовь Югири к Отиба становится все сильнее. Он постоянно навещает
Отиба, не встречая, однако, с ее стороны ничего, кроме чувства признатель¬
ности за заботу о ней и ее матери. Кумой замечает перемену, происшедшую
с супругом, и испытывает муки ревности. Однажды, не в состоянии более
сдерживать себя, она вырывает из рук Югири письмо матери Отиба и, по¬
трясая им перед глазами изумленного супруга, устраивает ему сцену рев-!
ности. Югири признается, что у него есть другая женщина, и пытается убе¬
дить жену в том, что ей следует отнестись к этому спокойно, ибо в этом нет
ничего из ряда вон выходящего: он просто не является исключением из обще-
го правила. Однако Кумой, привыкшая к постоянству мужа, не может при¬
мириться со своим новым положением и вместе с детьми покидает дом Югири;
и возвращается к отцу To-но Тюдзё (уже вышедшему к этому времени в
отставку). Югири неоднократно пытается уговорить ее вернуться, но она
решительно отказывается. Не находя ответа в сердце Отиба (его последние-
посещения ее в загородном дворце в Оно и в ее доме в столице лишь поверг¬
ли его в состояние депрессии), покинутый женой и детьми, Югири забывается:
на время с дочерью Корэмицу, верного слуги Гэндзи, исполнительницей при¬
дворных танцев госэти, которая в свое время пленила его. Теперь она заняла
прочное положение при дворе. После женитьбы он встречался с нею всего
несколько раз, однако у нее от него четверо детей: два мальчика и две де¬
вочки.Болезнь Мурасаки (которая, казалось, начала было выздоравливать) во-
зобновилась с новой силой. Она умирает, несмотря на все заботы Гэндзи. Ее
смерть — тяжелый удар для него. «Он вдруг почувствовал, что ему не остает¬
ся ничего другого, как молиться, чтобы вскоре последовать за ней и возро¬
диться на одном цветке лотоса».Приходит цветущая весна и лето с кукованием кукушки, затем холодная
осень с вспышками светлячков, а там и зима со снежным покровом... Но красо¬
та преходящих времен года уже не интересует Гэндзи. Он не в силах пре¬
одолеть свое горе. У него появляется предчувствие, что он должен умереть
до наступления следующей весны. Гэндзи предает огню дорогие ему письма
от Мурасаки и делает последние распоряжения.Следующая глава, фигурирующая только в названии, «Сокрытие в обла¬
ках», символизирует смерть героя.Гэндзи ушел из жизни, как свет небес, скрывшихся в облаках. Равным»
ему (если таковые могли быть) были, как свидетельствовала молва, Ниоу н
Каору. Первый был сыном молодой Акаси, государевой наложницы, второй —
сыном Нёсан, последней жены Гэндзи. Оба были красивы, в особенности
Каору, который к тому же всегда оставлял после себя необычайно тонкий-
аромат (отсюда и его имя «Каору» — букв, «источающий аромат»). Ниоу,-
стараясь не отстать от него, также пропитывал свои одежды нежными бла¬
говониями (слово «ниоу» значит «благоухать»). Однако, если Каору человек
с мягкой, отзывчивой душой, натура серьезная, меланхолическая, существую¬
щая в постоянном предчувствии беды, с сознанием своей печальной обречен¬
ности (хорошо выраженным в процитированной им танка о «Бамбуковой ре^
ке»), то Ниоу достаточно самоуверен и к тому же порядочный ветреник. И тем-
не менее они добрые друзья, вместе посещают дом Кобаи, младшего брата
Касиваги, который чрезвычайно озабочен тем, как выдать замуж свою стар¬
шую дочь.Каору — внимательный и преданный сын: он проявляет постоянную за¬
боту о своей матери — монахине Нёсан.В Удзи, на окраине Хэйана, живут две девушки — принцессы Окимн и273.
Нака-но Ким». Живут они вместе со своим отцом — опальным принцем Хати-
но мия, восьмым сыном императора Кирицубо (отца Гэндзи). Каору, оказав¬
шись в Удзи. знакомится с этой семьей и начинает бывать у них. По сущест-*
ву, он их единственный гость. «Каору восхищается глубокой верой Хати-но мия
н его последовательным служением Будде. 'Каору и сам достаточно религио¬
зен; мысли о том. что рано или поздно он должен уйти от этого мира, сбли¬
жают его с Хати-ио мия. В сердце Каору рождается чувство к старшей из
сестер — нежной и кроткой Окими, которая напоминает ему легендарную деву-
печальницу, якобы живущую у моста Удзи.Неожиданно Каору находит ключ к тайне своего рождения, которая его
давно мучает. Старая монахиня Бэн-но кими, находящаяся в услужении у
Окнми, рассказывает ему о письме, написанном 'Касиваги, уже тяжело боль¬
ным, к своей возлюбленной Нёсан, из которого явствует, что он фактический
-отец Каору. Горько размышляя над печальной историей своего происхожде¬
ния, Каору впадает в еще большую меланхолию. С Хати-но мия его по-преж¬
нему связывают глубокие симпатии. Предчувствуя близкую смерть и готовясь
принять монашеский постриг, Хати-но мия очень озабочен и опечален не¬
счастной судьбой своих дочерей, оставшихся без матери. Их красота увядает
в глуши. По просьбе Хати-но мия Каору берет сестер под свое покрови¬
тельство.Поздней осенью принц Хати умирает, и святой отец, его духовный на¬
ставник, даже не разрешает ему повидать перед смертью своих дочерей, а до¬
черям— взглянуть на умершего отца. Каору приезжает утешить убитых го¬
рем сестер и помочь им. Он все еще горячо любит Окими, но природная за¬
стенчивость мешает ему открыться ей. Окими, со своей стороны, глубоко сим¬
патизирует молодому человеку, однако не верит в возможность счастья для
женщины вообще и для себя в частности и потому избегает Каору. Каору
хочет выдать младшую сестру за своего друга Ниоу. Окими же хочет, чтобы
он сам женился на Нака-но кими. Каору, естественно, отказывается и в один
прекрасный день привозит к сестрам Ниоу. Тот быстро сближается с Нака-но
кими — оба счастливы. Каору, все больше убеждаясь, что бесполезно даже
добиваться любви Окими, впадает в отчаяние. Окими же, не видя для себя
перспектив в жизни, постоянно погруженная в грустные думы, внезапно за¬
болевает и вскоре умирает.Нака-но кими вскоре покидает Удзи и поселяется в резиденции Ниоу.
Каору на правах старого друга продолжает навещать ее, подолгу беседуя с
нею. Счастье ее было непродолжительным. Ниоу в интересах карьеры должен
был взять в жены дочь Югири, Року-но кими. Нака-но кими ничего не оста¬
ется, как примириться со своим новым положением, она глубоко переживает
случившееся.Тем временем дружба и симпатии к ней со стороны Каору перерастают
в более нежные чувства. Нака-но кими замечает это и старается реже ви¬
деться с ним (хотя сама далеко не равнодушна к нему), понимая, что их
беседы могут быть истолкованы в свете в определенном смысле. Она решает
познакомить Каору с Укифунэ, своей сестрой по отцу, которая, по ее словам,
«живой образ» Окнми. Это вызывает интерес Каору, и он снова едет в Удзи,
где ему удается увидеть Укифунэ — возвращаясь домой после паломничества
в храм Хасэ, она останавливается на ночлег в Удзи в «домике на окраине».
Каору действительно обнаруживает в ней поразительное сходство с Окими и
влюбляется в нее.Укифунэ, незаконная дочь принца Хати-но мия, была взята на воспитание
в дом своего отчима, губернатора провинции Хитати. Мать ее неоднократно
ссорилась со своим мужем по поводу устройства ее жизни и, наконец, поручи¬
ла ее сестре Нака-но кими. Укифунэ приезжает к ней погостить и узнает
от нее о Каору. Но тут происходит событие, роковым образом изменившее
^судьбу девушки. Ниоу, узнав, что в доме остановилась некая молодая особа,
движимый любовным любопытством, тайно проникает к ней в комнату, хит¬
ростью овладевает ею. Укифунэ в смятении. Нака-но кими сильно огорчена.
Каору разыскивает наконец Укифунэ в ее резиденции в столице и увозит ее
в Удзи, где наслаждается любовью с ней. У Укифунэ возникает подозрение.274
что он и был ее непрошеным ночным гостем в резиденции Нака-но кимя.Ниоу вскоре узнает, что Укифунэ живет под покровительством Каору в
Удзи, и из любопытства отправляется туда. Ничего не подозревающая служан¬
ка принимает его за хозяина, 'Каору, и проводит в покои Укифунэ. Укйфун»
не в силах противостоять обаянию молодого принца, хотя всей душой желает
продолжения отношений с Каору. После ухода Ниоу она осознает весь ужас
происшедшего, испытывая глубокие душевные муки. Каору между тем пре¬
бывает в неведении, его любовь к Укифунэ возрастает, она все больше на¬
поминает ему Окими.Принц Ниоу, поглощенный мыслями об Укифунэ, не в состоянии усидеть
дома и снова тайно приезжает в Удзи. Он увозит испуганную девушку на
другой берег Удзи, в коттедж, где и проводит с ней целый день. Укифунэ
понимает, что влюбилась в него. Каору же, который по-прежнему ничего не-
знает об отношениях Укифунэ и Ниоу, делает приготовления, чтобы как мож¬
но скорее перевезти девушку в столицу, в свою резиденцию. Ниоу, со своей
стороны, стремится опередить его и увезти Укифунэ к себе.Укифунэ испытывает жестокие моральные муки и наконец принимает ре¬
шение броситься в реку Удзи.Однажды ночью Укифунэ исчезает. Обнаружена последняя запись, сде¬
ланная ею в дневнике, которая наводит всех на мысль, что девушка утопи¬
лась. «Мать Укифунэ готовит заупокойную службу по ней. Печальная весть,
повергает Каору в глубокое горе, он еще глубже осознает непостоянство всегсу
земного. Не менее опечален и Ниоу, который успел полюбить Укифунэ.Из паломничества в храм Хасэ возвращался Ёгава Содзу, священнослужи¬
тель монастыря на горе Хиэй. Он останавливается в храме Удзи, чтобы на¬
вестить свою больную престарелую мать. На горе за храмом, в тени, под де¬
ревьями, он замечает вдруг молодую женщину, лежащую без признаков жиз¬
ни. С большим трудом ему удается привести ее в чувство. Его сестра, мо¬
нахиня, берет девушку к себе в обитель, в Оно, в надежде, что это вернулась
к ней ее недавно умершая дочь. Очнувшись, Укифунэ понимает, что с ней
произошло: она вспоминает, что в тот момент, когда она хотела броситься
в реку, из-за деревьев навстречу ей метнулась какая-то тень, и от испуга
она потеряла сознание. Укифунэ считает, что ей остается только одно: при¬
нять постриг. Она отказывается назвать себя и просит священника совершить
необходимый обряд. Он делает это, невзирая на отчаянный протест своей
сестры, считающей, что девушка еще слишком молода, чтобы предпринимать
шаг, о котором она потом может горько пожалеть.После пережитого потрясения Каору все более склоняется к религиозной
жизни. Однажды по пути в монастырь, что на горе Хиэй, он посещает Егава
Содзу и случайно узнает от него о недавно обращенной молодой монахине»
живущей в обители в Оно. По описанию, Каору смутно догадывается, что это
может быть Укифунэ, и посылает ей письмо — через ее брата. •Письмо живо всколыхнуло в Укифунэ воспоминания о недавнем земном
бытии и заронило в ее душу сомнение в правильности сделанного шага. В ужа¬
се от своих мыслей, она не отвечает на письмо и решительно отказывается
вкйти к Каору, когда тот приезжает к ней в Оно. Окончательно убитый Као¬
ру, долго еще недоумевает, что же заставило Укифунэ решить свою судьбу
таким образом.18*
БИБЛИОГРАФИЯНа японском языке1. Абэ Аки о. «Гэндзи моногатари». Повесть и история.— Кодза «Нихон
бунгаку» (Лекции «Японская литература»), Т. 4. Токио, 1968.2. Абэ А кно. Кокубунгаку гайсэцу (Очерк японской литературы). Токио,
1968.3. Абэ Аки о. Нихон бунгаку. Тюкохэн (Японская литература. Раннее
средневековье). Токио, 1973.4. Абэ А к и о. Нихон бунгакуси-но сакухин кайсэцу (Японский историко-
литературный толковый словарь произведений). Токио, 1959.5. Абэ Томодзи. Бунгаку нюмон (Введение в литературу). Токио, 1964.6. А к и я м a iK э н. Возникновение древних моногатари.— Нихон бунгаку
кодза (Лекции по японской литературе). Т. 4. Токио, -1957.7. А киям а 'К эн. Гэндзи моногатари.— Нихон бунгаку кодза. Т. 2. Токио,1954.8. А к и я м а К э н. Становление литературы хэйанской аристократии.— Код¬
за «Нихон бунгаку». Т. 3. Токио, 1968.9. А о к и Такако. Нихон-но котэн бунгаку (Японская классическая лите¬
ратура). Токио, 1974.10. А со Исодзи. Нихон бунгакуси гайрон (Очерки по истории японской
литературы). Токио, 1967.11. Ас о Исодзи и др. Нихон бунгакуси-но сидо то дзиссай (История
японской литературы и руководство к ее изучению). Токио, 1961.12. Бунгаку-но дзянру (Жанры литературы).— Синбунгакурон дзэнсю (Пол¬
ное собрание новых трудов по литературе). Серия. Т. 4. Токио, 1941.13. Вака бунгаку дайдзитэн (Большой словарь по литературе «вака»). То¬
кио, .1967.14. Гэндай бунгаку то котэн (Современная литература и классика). Токио,
1970.15. Гэндзи* моногатари. I—III.— Нихон бунгаку кэнкю сире сосё (Собрание
исследовательских материалов по японской литературе). № 5—6, 19. То¬
кио, 1971—1972.16. Гэндзи моногатари. Комментарий Икэда Кикан. Т. 1—7. Токио, 1969.17. Гэндзи моногатари. Коммент. Ямагиси Токухэй.— Нихон котэн бунгачу
тайкэй (Японская классическая литература). Т. 14—18. Токио, 1972—1978.18. Гэндзи моногатари. Перевод на современный японский язык с коммен¬
тарием.— Нихон бунгаку тайкэй ^Японская литература. Серия). Т. 4—6.
Токио, 1955.19. Гэндзи моногатари. Перевод на современный японский язык Есано Аки¬
ко.— Нихон кокумин бунгаку дзенсю (Полное собрание произведений ли¬
тературы японского народа). Т. 3—4. Токио, 1955.20. Гэндзи моногатари. Перевод на современный японский язык Имаидзуми
Тадаёси. Т. 1—13. Токио, 1974—1975.21. Гэндзи моногатари кодза (Лекции о романе «Гэндзи моногатари»).
Под ред. Оригути Нобуо и Икэда Кикан. Т. 3. Токио, Л 953.22. Гэндзи моногатари эмаки (Свитки [с изображением сцен из] романа
«Гэндзи моногатари»). Токио, 1958.23. Екёкусю кайсэцу (Собрание лирических пьес для театра Но с коммента¬
риями). Т. 1—3. Токио, 1956.24. Есида Сэйити. Гэндай бунгаку то котэн (Современная литература
и классика). Токио, 1961.276
25. Е с и д а С э й и т и. Котзн бунгаку нюмои. (Введение в классическую ли-
тературу Японии). Токио, 1968.26. Ней да С э и и т и. Нихон бунгаку каисё дзитэн. 1. Котэнхэн (Споавоч-
ник по японской литературе. Т. 1. Классика). Токио, 1970.27. ё с и д а С э й и т и. Сёхо нихон бунгаку си (Введение в историю япон¬
ской литературы). Токио, I960.28. Идзуми Сикибу никки (Дневник Идзумн Сикибу)Нихон котэн бунга¬
ку тайкэй. Т. 20. Токио, 1972.29. И д э Ц у и э о. Нихон бунгэйси-ни окэру мудзёкан-но кокуфуку (Пре¬
одоление идеи «бренности жизни» в истории японской литературы). То¬
кио, 1959.30. И к а р а с и Тикара. Хэйантё бунгакуси. 2 (История литературы пе¬
риода Хэйан. Ч. 2).— Нихон бунгаку дзэнси (Всеобщая история японской
литературы). Т. 4. Токио, 1946.31. И караси Тикара. Сёва кансяку «Гэндзи моногатари» (Полный пере¬
вод романа «Гэндзи моногатари» на современный язык). Токио, 1959.32. И к а р а с и Тикара. Син кокубунгаку си (Новая история родной ли¬
тературы). Токио, -1924.33. Икэ да К и к а н. [Вступительное] пояснение,— Гэндзи моногатари. Ком¬
ментарии Икэда Кикан. Т. I. Токио, 1965.34. Икэ да 1Кикан. «Гэндзи моногатари» дзитэн (Глоссарий к роману
«Гэндзи моногатари»), Т. 1—2. Токио, I960.35. Икэ да Кикан. «Гэндзи моногатари» тайсэй («Гэндзн моногатари».
Исследования и материалы). Т. 1—8. Токио, 1953—1956.36. Икэ да Кикан. Моногатари бунгаку (Литература жанра моногатари).
Токио, 1940.37. Икэ да Кикан. Придворная литература.—Нихон бунгаку кодза (Лек¬
ции по японской литературе). Т. 2. Токио, 1954.38. Икэда Кикан. Хэйантё сэкацу то бунгаку (Жизнь и литература в
хэйанский период). Токио, 1956.39. Икэда Цутому. Мияко-но бунгаку (Литература столицы). Токио,
1914.40. Икэда Цутому и др. Нихон бунгэй сико (История японской лите¬
ратуры). Токио, 1959.41. Икэда Цутому. Цураюки.— Кодза «Нихон бунгаку». Т. 3. Токио,1968.42. И май Гэнъэ. Гэндзи моногатари. Нихон бунгакуси (История япон¬
ской литературы). Т. 1.4. 5. Токио, '1958.43. И м а и Гэнъэ. Исэ моногатари.— Нихон бунгаку кодза. Т. 4. Токио,
1957.44. И м а и Гэнъэ. Литература начала хэнанского периода.— Кодза «Нихонбунгаку». Т. 3.45. И м а и Гэнъэ. М-урасаки Сикибу (Жизнь и творчество Мурасаки Сн*
кибу, 970—1014).—Дзимбуцу сосё (Библиотека персоналий. Серия).
№ 131. Токио, 1973.46. И м а и Такудзи. (Кодай бунгэй сисоси-но кэнкю (История литератур¬
ной мысли в древней Японии). Токио, 1964.47. И м а и Такудзи. Развитие литературной мысли (в раннесредневеко*
вой Японии).— Кодза «Нихон бунгаку». Т. 4.48. Имаидзуми Тадаёси, Исидзава Ютака. Гэндзи моногатарн-
но кайсяку то бумпо (Истолкование и грамматический разбор романа
«Гэндзи моногатари»), Токио, 1955.49. Иноуэ Хироси. Нихон бунгакуси кодзитэн (Краткий справочник по
истории японской литературы). Токио, 1969.50. И с и г а м и К а т а с и. Нихон бунгаку хассо гэнрон (О становлении ли¬
тературного сознания в Японии). Токио, 1956.61. И с и г а м и К а т а с и. Нихон котэн бунгакуго дзитэн (Словарь лексики
японской классической литературы). Токио, 1956.52. И с и г а м и К а т а с и. Хассо тюсэй бунгакуси (История идейно-эстети¬
ческих концепций в средневековой японской литературе). Токио, 1957.277
53. Ней ка в а Тэцу. Кодай сёсэцусн-ко. Гэндзи моногатари то соно дзэн-
го (Повествовательная проза древней Японии в период создания романа.
«Гэндзн моногатари»). Токио, 1958.54. Псикава Тэцу. Становление и развитие литературы жанра моногата-?и.—.Кодза «Нихон бунгаку». Т. 3.1 т а г а к и И т и д з о. Кокубунгакусп ко (Очерк история японской ли¬
тературы). Токио, 1956.56. Итико Садацугу. Котэн бунгаку кэнкю хиккэй (Руководство к изу¬
чению классической литературы). Токио, 1967.57. Итико Тэйдзи. Нихон бунгакуси гайсэцу (Очерк истории японской
литературы). Токио, 1959.58. И то С эй. Бунгаку нюмон (.Введение в литературу). Токио, 1971.59. Иэнага С а бур о. Кодай кидзоку-но сэйсин (Духовный мир древней
аристократии).— Нихон бунгакуси (История японской литературы). Т, 2»
Ч. Э. Токио, 1958. v60. Кавабата Ясунари. Би-но сондзай то хаккэн (Прекрасное и его
выявление). Токио, 1969.61. Кавабата Ясунари. Кото (Старая столица). Токио, 1962.62. Кавабата Ясунари-сю.— Синхэн гэндай нихон бунгаку дзэнсю (Новое со¬
брание произведений современной японской литературы). Т. 1. Токио,
1957.63. Кагэро никки (Дневник эфемерной жизни).— Нихон котэн бунгаку тай*
кэй. Т. 20. Токио, '1972.64. Кадзамаки Кэйдзиро. Возникновение повествовательной прозы.—
Нихон бунгакуси. Т. 1.4. 1. Токио, 1956.65. Кадзамаки Кэйдзиро. «Гэндзи моногатари» («Гэндзи моногата-Sh». [Исследование романа]). Токио, 1954.кадзамаки Кэйдзиро. Нихон бунгакуси-но кэнкю (Исследования
в области истории японской литературы). Т. 2. Токио, 1961.67. К а д з а м а к и Кэйдзиро. Хэйан и литература.— Нихон бунгаку код-
за. Т. 2.68. К а м о Т ё м э й. Тёмэй мумэйсё (Записки без названия Тёмэйя).— Нихон
кагаку тайкэй (Японская поэтология). Т. 3. Токио, 1972.69. Камэи Кацуитиро. Отё-но кюдо то ирогономи (Путь к спасению и
культ любви в Хэйане). Токио, 1965.70. Канда Хидэо. Исикава Харуэ. Мурасаки Сикибу. Соно сэйкацу
то синри (Жизнь и психология Мурасаки Сикибу). Токио, 1957.71. Канэко Хикодзиро. Хэйан дзидай бунгаку то хакуси мондзю (Ли¬
тература хэйанского периода и поэзия Бо Цзюйи). Токио, 1955.72. IK а т о С ю и т и. Нихон бунгакуси дзёсэцу (Введение в историю япон¬
ской литературы). Т. 1. Токио, 1975.73. Киндаити Кёсукэ, Саэки Умэтомо, Оиси Сётаро. Синсэн
кокуго дзитэн (Новый словарь японского языка). Токио, '1963.74. Ки-но Цураюки. Тоса никки (Дневник путешествия из Тоса).— Ни¬
хон котэн бунгаку тайкэй. Т. 20. Токио, 1972.75. К и т а д з у м и Т о с и о. Нихон-но бунгэй исики (Литературное сознание
в Японии). Токио, 1960.76.‘К и та мура К и г и н. («Гэндзи моногатари»] когэцусё (Комментарии к
«Гэндзи моногатари»), Т. 1—6. Токио, 1936.77. К ита я м а Кэйта. «Гэндзи моногатари» дзитэн (Глоссарий к «Гэндзй
моногатари»), Токио, 1961.78. Кобаяси Томоаки. Мудзёкан-но бунгаку (Литература «бренности
жизни»). Токио, 1968.79. Кодза «Нихон бунгаку». Т. 3—4. Тюко-хэн (Раннее средневековье). То¬
кио, 1968.80. Кодза «Хикаку бунгаку» (Лекции «Сравнительное литературоведение»)•
Т. 1. Сэкай-но нака-но нихон бунгаку (Литература Японии в системе ми¬
ровой литературы). Токио, 1973. .81. Кодзики, Норито.— Нихон котэн бунгаку тайкэй. Т. 1. Токио, 1973.278
$2. Кокинвакасю (Собрание старых н новых песен Японии).—Нихон котэн
бунгаку тайкэй. Т. 8. Токио, 1973.83. Кокуго кокубунгаку кэнкюсн тайсэй (История исследований японского
языка и литературы. Серия). Т. 3—4. «Гэндзи моногатари». Токио,
1960—1961.$4, ;Кокуго кокубунгаку сирё дзукаи дайдзитэн (Большой иллюстрированный
справочник по японскому языку и литературе). Под ред. Ока <Кадзуо и
Токиэда Мотоки. Т. 2. Токио, 1963.85. К он до Тадаёси. Нихон бунгаку гэнрон (Истоки японской литера¬
туры). Токио, 1967.86. 'Котэн доккай дзитэн (Толковый словарь классической литературы).
Сост. Хакусэки Дайни и др. Токио, 1966.87. Котэн-но синкэнкю (Новые исследования классической литературы).
Сб. З'-й. Токио, 1957.68, iK У бота Уцубо. Вага котэн кансё (Мое вооприятие классики).— Ку-
бота Уцубо бунгаку сэнсю ('Избранные литературные произведения Кубо-
та Уцубо). Т. 6. Токио, 1959.89. Кувахара Такэо (сост.). Бунгаку рирон-но кэнкю (Исследования
теории литературы [сб. статей]). Токио, 1967.90. (Кувахара Такэо. Дэнто то киндай-ка (Традиции и модернизация).—
Кувахара Такэо. Дзэнсю (Полное собрание сочинений). Т. 3. Токио,1969.91. 'Кум э Цунэтами. Поэтический стиль Отомо Якамоти.— Нихон бун¬
гаку кэнкю сирё сосё. 2. Манъёсю. 1. Токио, 1971.92. «К у н и с а к и Мокутаро. Нихон бунгаку-но котэнтэки кодзо (Класси¬
ческая основа японской литературы). Токио, 1958.93. :К у р а н о Кэндзи. Исэ моногатари-но кэнкю (Исследование лириче¬
ской повести «Исэ моногатари»).— Нихон бунгаку кодза. Т. 3.94. Макура-но соси (Записки у изголовья).— Нихон котэн бунгаку тайкэй.Т. 19. Токио, 1973.95. Манъёсю (Собрание мириад листьев).— Нихон котэн бунгаку тайкэй.Т. 4—7. Токио, 1973.96. Манъёсю кодза (Лекции по «Манъёсю»). Т. 2 [«Манъёсю-но»] гэйдзюцу-
бн (Прекрасное (в поэзии) «Манъёсю»). Токио, 1952.97. Манъё-но дзидай то бунка («Манъёсю». Эпоха и культура). Токио, 1974.98. Маруяма Римпэй. Бунгэй синдзитэн (Новый литературный сло¬
варь). Токио, 1963.99. М а р у я м а Римпэй. Котэн цукай дзитэн (Толковый словарь терми¬
нов и лексики классической японской литературы). Токио, 1957.100. Мацуо Акира. Хэйан дзидай моногатари-но кэнкю (Исследование по¬
вествовательной прозы Хэйана). Ч. 1. Токио, 1955.301. Мацу да Такэо. Изучение частных поэтических собраний начала эпо¬
хи Хэйан.— Иванами кодза «Нихон бунгаку» (Лекции Иванами «Япон¬
ская литература»). Вып. 5, № 10. Токио, 1932.102. Мацуо С о. Сугавара Такасу-но мусумэ. Соно сакухин «Яха-но нэга-
ки»-но кэйтай-ни цуйтэ (О форме произведения дочери Сугавара Такасу
«Воопоминания о сновидении в полночь»). Токио, [б. г.].103. Маэда Таэко. Нихон бунгэйгаку-но хохо (Методика японского лите¬
ратуроведения).— Нихон бунгэйгаку-но кэнкю (Японское литературоведе¬
ние. Исследования). Сост. Санэката (Киёси. Токио, 1970.104. Мибу-но Тадаминэ. Десять стилей японской песни.— Нихон кага-
ку тайкэй. Т. 1. Токио, 1972.105. Минэгиси Ёсиаки. Утаавасэ-но кэнкю (Поэтические состязания. Ли¬
тературоведческий очерк). Токио, 1973.106. Мнура Кэйдзо. «Кокинвакасю» синко (Новое толкование «Кокин-
сю»), Токио, 1943.107. М и я д а в а и т и р о. «Уцубо моногатари» («Повесть о дупле». (Иссле¬
дование]). Токио, ГЭЗР.108. Ми я дз а к и Сохэй. Хэйан дзёрю никки бунгаку-но кэнкю (Исследо¬
вание женских дневников хэйанского периода). Токио, 1972.279
109. M ii я ii и с и Кадзуми. Нихои бунгаку-но сисоси (История литератур¬
ной мысли в Японии). Токио, 1959.110. Моногатари то сэцува (О жанрах моногатари и сэцува). Токио, 1974.111. Мори Сакаэ. Нихон бунгаку. I. Котэн (Японская литература, Т. 1.
Классический период). Токио, 1968.112. Мор ива кэ Кадзуо. Представление о прекрасном у Отомо Якамо-
ти.— Нихон бунгаку кэнкю сирё сосё. «Манъёсю». I (Японская литера-
тура. Исследования и материалы. Серия). Ч. 2. «Манъёсю». Ч. 1. Токио,
1972.113. Мотидзуки Сэйкё. Исследование жизни и творчества Мурасаки
Сикибу.— Нихон бунгаку кодза (Лекции по японской литературе). Т. 4.
Ч, 2. Токио. Изд-во «Кайдзося», 1934.114. Мотоори Норинага дзэнсю (Полное собрание сочинений Мотоори Нори-
нага). Т. 1. Токио, 1968.115. Мурасаки Сикибу. Мурасаки Сикибу никки (Дневник Мурасаки
Сикибу).— 'Нихон котэн бунгаку тайкэй. Т. 19. Токио, 1972.116. Мураяма Р ю. «Гэндзи моногатари» («Гэндзи моногатари» [в переводе
на современный язык]). Т. 1—2. Токио, 1960—1961.117. Мураяма Рю. «Гэндзи моногатари»-но сусумэ (О романе «Гэндзи
моногатари»). Токио, 1966.118. Мураяма Сюит и. Фудзивара Тэйка (Очерк жизни и творчества Фуд¬
зивара Тэйка). Токио, 19&6.119. Му сякодзи Т аду ко. Удзи сансё-но симаи (Три сестры из Удзи.
Женские образы романа «Гэндзи моногатари»). Токио, '1973.120. Мэгата С а к у о. Моногатари сакка эн-но кэнкю (Изучение творчества
писателей жанра моногатари). Токио, 1964.121. Мэдзаки Токуэ. Аривара Нарихира (886—941), Оно Комати
(IX в.).—Нихон сидзинсэн (Японские поэты. Серия). Т. 6. Токио, '1973.122. пагадзуми Ясуаки. Тюсэй бунгаку-но сэйрицу (Становление
средневековой литературы). Токио, 1963.123. Накада Норио. Синсэн кого дзитэн (Новый словарь древнеяпонско¬
го языка). Токио, 1964-.124. Накада Я сую к и. «Гэндзи моногатари»-но сэкай кодзо (Модель мира
в романе «Гэндзи моногатари»).— Нихон бунгэйгаку-но кэнкю. Токио,1970.125. Накада Ясуюки. Хэйантё бунгаку-но бунгэйтэки кэнкю (Литерату¬
ра Хэйана. Литературоведческий очерк). Токио, <1967.126. Накадзима Эцудзи. Черты литературы сэцува в «Гэндзи моногата¬
ри».—Котэн-но синкэнкю (Новые исследования классики). Т. 3. Токио,
1957.127. Накамура Синъитиро. Отё дзёрю сакка (Японские придворные
писательницы). Токио, 1959.128. Нихон бунка кэнкю (Исследование японской культуры). Т. 4. Ч. 1. То¬
кио, 1959.129. Накамура Синъитиро. «Гэндзи моногатари»-но сэкай (Мир «Гэнд¬
зи моногатари»), Токио, 1968.130. Н а м б а Хироси. Древняя литература женского потока,— Нихон бун¬
гаку кодза. Т. 4.131. Намба Хироси. Развитие литературы жанра моногатари.— Нихов
бунгакуси. Т. 2. Ч. 5. Токио, 1958.132. Н и с и о Минору.. Нихон бунгэйси-ни окэру тюсэйтэки-на моно (Эле¬
менты средневековья в истории японской литературы). Токио, 1954.133. Нисио Минору. Трансформация эстетических взглядов в средневеко¬
вой литературе Японии.— Нихон бунгакуси. Т. 6. Ч. 9. Токио, 1959.134. Нисисита Кёити. Сумиёси моногатари-но кэйтай-ни капсуру кэнкю
(Исследование формы «Повести о Сумиёси»). Токио, 1931.135. Нисисита Кёити. Хэйантё бунгаку (Хэйанская литература). Токио,
1960.136. Нитиэй буккё дзитэн (Японо-английский словарь буддийской терминоло¬
гии). Токио, 1965.280
137. Нихон бунгаку. 7. -Сакухин оёби сакка. 2. Хэйан дзидай. (Японская ли¬
тература. Т. 7. Кн. 2. Произведения и писатели эпохи Хэйан). Токио
[1932].138. Нихон бунгаку дзитэн. Сост. Идзумии Кюноскэ и др. (Словарь-справоч¬
ник ло японской литературе). Токио—Киото, 1962.139. Нихон бунгаку кодза (Лекции по японской литературе). Под ред. Оригути
,Синобу. Т. 2. СКодай-но бунгаку (Древняя литература). Ч. 2. Токио, 1954.140. Нихон бунгаку кодза. 3. Моногатари сёсэцу-хэн. Ф (Т. 3. Повествователь¬
ная проза. Ч. 1). Токио, 1934.141. Нихон бунгаку кэнкю-но сёмондай (Проблемы изучения японской лите¬
ратуры) Кодза «Нихон бунгаку». Т. 12. Токио, 1969.142. Нихон бунгаку-но битэки ринэн. Бунгаку хёронси (Эстетические принци¬
пы японской литературы. История литературной критики).—Нихон бун¬
гаку кодза. Т. 7. Токио, 1964.143. Нихон бунгаку-но дэнто то рэкиси (Традиции и история японской лите¬
ратуры [сб. статей]). Токио, 1975.144. Нихон-но сёсэцу (Повествовательная проза Японии). Ч. 1,—Нихон бун¬
гаку кодза. Т. 4. Токио, 1957.145. Нихон сёки. Ком мент. Такэда Юкити. Т. 1—6. Токио, Г953—1956.146. Номура Итидзо. Хэйан моногатари-но сэйрицу. «Гэндзи-моногата-
ри»-о тюсин то ситэ (Становление хэйанской повествовательной прозы.
На базе романа «Гэндзи-моногатари»), Токио, 1959.147. Носэй Асадзи. Кокубунгаку нюмон (Введение в родную литературу).
Токио, 1957.148. Оба Сюнсукэ. Нихон бунгаку гайрон (Общая теория японской лите¬
ратуры). Токио, 1961.149. Обунся кого дзитэн (Словарь древнеяпонского языка изд-ва «Обунся»).
Токио, 1961.150. Ода Токуёси. Буккё дай дзитэн (Буддийская энциклопедия). Токио,
1917.151. Одагири Су су му, Хираяма Дзёдзи. Нихон бунгакуси (Исто¬
рия японской литературы).— Сико то кэнкю (Руководство и исследова¬
ние. Серия). Токио, 1970.152. Ока (Кадзуо. «Гэндзи моногатарн»-но кнсотэки кэнкю. Мурасаки Си-
кибу-но сёгай то сакухин (Исследование основных аспектов романа
«Гэндзи моногатари». Жизнь и творчество Мурасаки Сикибу). Токио,1955.153. Ока Кадзуо, Мицуо Сатоси. Отё-но бунгаку (Литература эпохи
Хэйан). Токио, 1968.154. Ока Кадзуо. Хэйантё бунгаку дзитэн (Словарь по литературе перио¬
да Хэйан). Токио, 1972.155. Окадзаки Есиэ. Исследование «Гэндзи моногатари».—Нихон бунга¬
ку кодза. Т. 4. Токио, 1934.156. Окадзаки Есиэ. Котэн бунгэй-но кэнкю (Исследование литературы
классического периода).— Окадзаки Есиэ тёсакусю (Собрание сочинений
Окадзаки Есиэ). Т. 3. Токио, 1961.157. Окадзаки Есиэ. Нихон бунгэйгаку синрон (Новая теория японского
литературоведения). Токио, 1961.158. Окадзаки Есиэ. Нихон-но бунгэй (Японская литература). Токио,1964.159. Окадзаки Есиэ. Представление о прекрасном и идеологические те¬
чения в «Манъёсю».— «Манъёсю» тайсэй (Большая серия исследований
«Манъёсю»). Т. 1. Токио, 1953.160. Окадзаки 'Есиэ. Ситэки бунгэйкагу-но дзюрицу (Историческое ли¬
тературоведение в Японии). Токио, 1974.Г61. Окубо Тадаси. Теория моно-но аварэ.— Нихон бангаку кодза. Т. 4.162. О ни си Есинори. Бигаку (Эстетика). Т. 2. Токио, 1960.163. Оригути Нобуо. Нихон бунгакуси ното (Заметки по истории япон¬
ской литературы). Т. 1—2. Токио, 1957.164. Отё моногатари-сю (Собрание произведений придворной литературы жан¬281
ра моногатари).— Нихон-но котэи (Японская классика. Серия). Т. 5—6.
Токио.165. Оду Юити. Песня и лирическая повесть.— Кодза «Нихон бунгаку».
Т. 3. Токио, 1968.166. Сагоромо моногатари (Повесть о Сагоромо). Ком мент. Мацумура Хирод-
зн. Т. 1—2. Токио, 1967—1969.167. Сайго Нобуцуна. «Кодзики» кэнкю (Исследование «Кодзики*). То¬
кио, 1973.168. Сайго Нобуцуна. Мир «Синкокинсю».— Нихон бунгакуси. Т. 6.Ч. 5. Токио, 1959.169. Сайго Нобуцуна и др. Нихон бунгаку-но котэн (Классические про¬
изведения японской литературы). Токио, 1968.170. Сайго Нобуцуна. Нихон бунгаку-но хохо (Метод в японской лите¬
ратуре). Токио, 1955.171. Сайго Нобуцуна. Нихон кодай бунгакуси (История древнеяпонской
литературы). Токио, 1966.172. Сайто К и ё з. Тюсэй нихон бунгаку (Средневековая литература Япо¬
нии). Токио, 1969.173. Сакагути Гэнсё. Нихон бунгаку то буккё (Японская литература и
буддизм). Токио, 197*1.174. Сакухин-о тюсин тосита нихон бунгакуси (История японской литературы
по произведениям). Сост. Кадзимаки -Кэйдзиро. Токио, 1960.175. Санэката (Киёси. В мире теории японской литературы.— Нихон
бунгэйгаку-но кэнкю. Токио, 1970.176. Сасаки Нобуцуна. «Манъёсю»-но кокоро (Сердце «Манъёсю»).То*
кио, 1956.J 77. С а т о Дзинносукэ. Хэйан бунгакуси (История хэйанской литерату¬
ры). Токио, 1965.178. С а то Кэндзо. Об «Исэ-моногатари».— Котэн-но синкэнкю (Новые ис¬
следования классики). Т. 3. Токио, 1952..179. С а т о (Кэндзо. Отё бунгаку дзэнго VIII—XII (Придворная литература
Японии и литературный процесс VIII—XII вв.). Токио, '1969.180. С а то Кэн дзо. Придворная жизнь и женщина в древней Японии.—
Нихон бунгакуси. Т. 1.4. 3. Токио, 1958.181. С а эк и Ум это мо. «Гэндзи моногатари» синсё (Новый комментарий к
[фрагментам из) «Гэндзи моногатари»). Токио, 1963.182. Саяма В атару.-Проблема темы романа «Гэцдзи моногатари».— Ни¬
хон бунгаку кодза. Т. 4.183. Снгэмацу Нобухиро. «Гэндзи моногатари» кэнкюси (История изу¬
чения «Гэндзи моногатари»). Токио, 1961.184. Сида Энги. Кокубунгаку бэнран (Справочник по японской литерату¬
ре). Токио, 1961.185. Симада Киндзи. «Гэндзи моногатари» глазами компаративиста.—
Кодза «Хикаку бунгаку» (Лекции «Сравнительное литературоведение»).
Т. 1. Токио, 1973.186. СимадаКиндзи. «Гэндзи моногатари»-но кэн-гэн. Кайсяку (Заключи¬
тельные пояснения к фрагментам из «Гэндзи моногатари»).— Симада
Киндзи и др. (сост.). Хикаку бунгаку токухон (Хрестоматия по сравни¬
тельному литературоведению). Токио, 1973.187. Симада Рёдзи. Тюко бунгаку сотэн итиран (Спорные вопросы ли¬
тературы раннего средневековья). Токио, 1968.188. Симадзу Хисамото. Сякухо «Гэндзи моногатари» (Роман «Гэндзи
.моногатари» в переводе на современный японский язык). Токио, 1942..189. Симидзу Ютака. Нихон бунгаку ронко (Исследования в области
японской литературы). Токио, 1960.190. Синкокинвакасю.— Нихон котэн бунгаку тайкэй. Т. 28. Токио, 1973.191. Сиота Рёхэй. Кавабата Ясунари и классическое наследие.— Гэндай
бунгаку то котэи (Современная литература и классика). Токио, 1970.192. Сиота Рёхэй. -Котэн то Мэйдзи иго-но бунгаку (Японская классика
и лослемэйдзийская литература). Токио, 1959.282
193. Сонэ Тоёсукэ. «Гэндзи моногатари» дзёсэй гундзо (Женщины в ро¬
мане «Гэндзи моногатари»). Т. 4—15. Токио, 1965—1972.194. Сугияма Ясухико. Самбун хёгэн-но кико (Выразительные средст¬
ва повествовательной прозы). Токио, 1974.196. 'Судзуки Кадзуо. Дзёрю бунгаку-но кэйсэй (Формирование лите¬
ратуры женского потока).— 'Кодза нихон бунгаку. Т. 3. Кн. 1. Токио,1968.196. Судзуки Хиромити. Хэйан макки моногатари-ни цуйтэ-но кэнкю
(Исследование повествовательной прозы конца эпохи Хэйан). Токио, 1971.197. С у м и Тосихиса. Кокубунгаку кэнкю дзитэн (Японский литературо¬
ведческий словарь). Токио, 1962.198. «Сэкай». Токио, 1969, № 10.199. С э к о К а т а с и. Нихон бунгаку-но сидзэн кансё (Изображение природы
в японской литературе). Токио, 1969.200. Сэцува бунгаку (Литература сэцува).— Нихон бунгаку кэнкю сирё сосё
(Собрание материалов по исследованию японской литературы). Т. 35. То¬
кио, 1972.201. Сюдзуи Кэндзи, Сиота Рёхэй (сост.). Кокубунгаку-си (Исто¬
рия родной литературы). Токио, 1959.202. Та вар а (Н. «Гэндзи моногатари»-но мидзумори (Исследование романа
«Гэндзи моногатари»). Токио, 1972.203. Такаги Итиноскэ. История жанра моногатари.— Нихон бунгаку
кодза. 4. Моногатари сёсэцу хэн. 2 (Лекции по японской литературе).
Т. 4. Повествовательная проза. Ч. 2. Токио, 1934.204. Такаги Итиноскэ. Нихон бунгаку. Котэн (Справочник по японской
литературе. Классический период). Токио, 1969.205. Такасаки Масахидэ. Кодай бунгаку-но хассо то сюдан (Идейная
направленность и тематика древней литературы).—Нихон бунгакуси.
Т. Э. Ч. 9. Токио, 1959.206. Такасаки Масахидэ. «Гэндзи моногатари»-но сирон. Уцусэми-но
баан (Проблема личности в романе «Гэндзи моногатари» на примере
Уцусэми).—Котэн-но синкэнкю. Т. 3. Токио, 1957.207. Такацу Ёсихико. Нихон бунгакуси-но хохорон (О методике изуче¬
ния истории японской литературы). Токио, 1966.208. Такэда Юкити. «Манъёсю» дзэнтюсяку (Полное собрание коммен¬
тариев к «Манъёсю»), Т. 1—2. Токио, 1957.209. Такэно Тёдзи и Кодзи Кадзумицу. Нихон бунгакуси (Исто¬
рия японской литературы). Токио, <1957.210. Такэтори моногатари. Исэ-моногатари. Ямато моногатари.— Нихон котэн
бунгаку тайкэй. Т. 9. Токио, 1971.211. Танидзаки Дзюнитиро. «Гэндзи моногатари» синсяку (Новый
перевод «Гэндзи моногатари» на современный японский язык). Т. 1—6.
Токио, 1958.212. Та ни д за к и Дзюнитиро. Сасамэюки (Мелкий снег).— Танидзаки
Дзюнитиро сю (Избранные произведения Танидзаки Дзюнитиро). Т. 1.
Токио, 1966.213. Тэдзука Н обор у. «Гэндзи моногатари»-но синкэнкю (Новое иссле¬
дование «Гэндзи моногатари»). Токио, 1936.214. Уцубо моногатари (Повесть о дупле). <Коммент. Мияда Ваитиро. Токио,1956.215. Тюсэй бунгаку. Кэнкю то сирё (Средневековая литература. Исследование
и материалы). Сб. статей. Токио, 1958.216. Фудзивара Сюндзэй. О старых поэтических стилях.— Нихон кага-
ку тайкэй. Т. 2. Токио, 1972.217. Фудзивара Тэйка. Майгэцусё. Ежемесячные записки.—Нихон кага-
ку тайкэй. Т. 3. Токио, 1972.218. Фудзи мура Цукуру, Нисио Минору. Нихон бунгаку-си дзи-
тэн (Словарь по истории японской литературы). Токио, 1960.219. Фудзи мура Цукуру (ред.). Нихон бунгаку дайдзитэн (Японская
литературная энциклопедия). Т. 1. Токио, 1973.283
220. Фудз и ока С а к у т ар о. Кокубунгаку дзэнси (Всеобщая история япон¬
ской литературы). Т. 1. Токио, 1973.221. Фудзиока Тадаёси. Частные поэтические собрания.— Кодза «Ни¬
хон бунгаку-но сотэн» (Лекции «Спорные вопросы японской литерату¬
ры»). Т. 2. Токио, 1968.222. Фуку да Рикутаро, Мурамацу Садатака. Бунгаку его кай-
сэцу дзитэн (Аннотированный словарь литературной терминологии). То¬
кио. 1971.223. Ф у н а б а с и С э й и т и. «Гэндзи моногатари»-но айдоку то годоку (Ро¬
ман «Гэндзи моногатарн», его почитатели и хулители).— Нихон буйка
кэнкю ронсю (Сборник статей по исследованию японской культуры). Т. 1.
Токио, 1973.224. Ха га Коси р о. Нихон-тэки-на би-но сэйрицу то тэнкай (Японское по¬
нимание прекрасного, его возникновение и развитие).— Гэйдо сисосю
(Собрание трудов по эстетике). Токио, 1971.225. Хагитани Боку. Ки-но Цураюки.— Хэйантё никки (Дневники эпохи
Хэйан). Т. 1. Токио, 1971.226. Хара (Кунито. «Исэ моногатари». Сэйрицу то соно сэкай (Мир обра¬
зов «Исэ моногатари»). Токио, 1974.227. Харада Ёсиоки. Хэйан дзидай бунгаку гои-но кэнкю (Лексикологи¬
ческое исследование хэйанской литературы). Токио, Г962.228. Хасэгава Идзуми. Киндай нихон бунгаку ситёси (История тече¬
ний в современной литературе Японии). Токио, 1961.229. Ха я с и Фумицуки. «Кирицубо» п «Песнь о бесконечной тоске».—
■Нихон бунка кэнкю ронсю (Сборник статей по истории японской куль¬
туры). Т. 1. Токио, 1973.230. Хирабаяси Ха р у нор и (сост.) Нихон бунгакуси цурон (Краткий
очерк истории японской литературы). Осака, 1957.;231. Хирано Кимихиро. Кокугаку (Национальная наука).— Иванами
кодза «Нихон бунгакуси» (Лекции Иванами «История японской литера¬
туры»). Т. 8. Ч. 6. Токио, 1958.:232. Хисамацу Сэнъити. Дзёдай нихон бунгаку-но кэнкю (Исследова¬
ние древнеяпонской литературы). Токио, 1928.:233. Хисамацу Сэнъити. Кагакуси-но кэнкю. Карон-о тюсин то ситэ.
(Исследование по истории поэтологии. На базе теории поэзии танка).—
Иванами кодза «Нихон бунгаку». Вып. 9. № б'. Токио, 1932.•234. Хисамацу Сэнъити. Кадокава кокуго дзитэн (Словарь японского
языка изд-ва «Кадокава»). Токио, 1971.235. Хисамацу Сэнъити. Кокубунгаку э-но мити (Введение в японскую
литературу). Токио, 1958.236. Хисамацу Сэнъити (сост.). Нихон бунгаку ((История) японской
литературы). Токио. 1960.237. Хисамацу Сэнъити. Нихон бунгаку гайсэцу (Очерк японской лите¬
ратуры). Ч. 1.— Иванами кодза «Нихон бунгаку». Вып. 1. '№ 2. Токио,
1931.-238. Хисамацу Сэнъити. Нихон бунгаку дзитэн (Японский литературо¬
ведческий словарь). Токио, 1956.239. Хисамацу Сэнъити. Нихон бунгаку-но ситё (Идейные течения в
японской литературе). Токио, 1940.•240. Хисамацу Сэнъити. Нихон бунгакуси Симпан (История японской
литературы. Новое издание). Т. 2. Токио, 1973.241. Хисамацу Сэнъити. Нихон бунгакуси цусэцу (Очерки по истории
японской литературы). Токио, I960.242. Хисамацу Сэнъити (ред.). Синтё когуко дзитэн. Гэндайго. Кого
(Словарь старого и нового японского языка изд-ва «Синтёся»). Токио,1965.243. Хисамацу Сэнъити. Типы прекрасного в старояпонской литерату¬
ре.— Нихон бунгакуси. Сосэцу. Нэмпё (История японской литературы. Об¬
щий обзор. 'Хронологические таблицы). Токио, 1960.;284
244. ХисамацуСэ нъити. Тюсэй карой (Средневековая поэтика)Ива¬
нами кодза «Нихон бунгакуси». Т. 4. Ч. 3. Токио, 1958.245. Хисамацу Сэнъити, Асо Исодзи и др. (ред.). Нихон буигаку
сакухин дзиммэй дзитэн (Словарь персонажей из произведений японской
литературы). Токио, 1956.246. X ос а ка Кодзи. «Гэндзи моногатари»-но бумпо то кайсяку (Грамма¬
тический анализ и комментарии к роману «Гэндзи моногатари»). Токио,
1957.247. Хэйантё моногатари (Повествовательная проза хэйанского периода).—
Нихон бунгаку кэнкю сирё сосё. № 17—18. Токио, 1970—1972.248. Хэйтю моногатари. Идзуми Сикибу никки. Такамура моногатари. Токио,1969.248а. Цубоути С её. Сёсэцу синдзуй (Сокровенная суть «сёсэцу»)Ни¬
хон гэндай бунгаку дзэнсю (Полное собрание произведений современной
японской литературы). Т. 1. Токио, 1956.249. Цугита Дзюн. Кокубунгакуси синко (Новый курс истории японской
литературы). Т. 1. Токио, 1955.250. Цуда Сокити. Бунгаку-ни араварэтару кокумин сисо-но кэнкю (Идео¬
логия народа, отраженная в литературе). Т. 1. Кидзоку бунгаку-но дзи¬
дай (Эпоха литературы аристократии). Токио, 1957.251. Цуда Сокити. Нихон бунгэй-но кэнкю (Изучение художественной ли¬
тературы Японии). Токио, 1957.252. Цуда Сокити. Нихон котэн-но кэнкю (Исследование японской клас¬
сики). Т. 1—2. Токио, 1972—1973.253. Цуда Сокити. Сисо, буигэй, нихонго (Идеология, литература, язык
[сборник статей]). Токио, 1961.254. Цукахара Тэцудзо. Отё-но бунгаку то хохо (Придворная литера¬
тура и ее метод). Токио, 1971.255. Энти Фумико. «Гэндзи моногатари»-но сэкай (Мир «Гэндзи моно¬
гатари» [сборник статей}). Токио, 1974.256. Энти Фумико. Танидзаки Дзюнитнро и «Гэндзи моногатари».— Гэн¬
дай бунгаку то котэн (Современная литература и классика). Токио, 1970.257. Ям агути Тэйдзи. Манъё-но сэкай то сэйсин. Нихон миндзоку коко-
ро-но гэнтэн (Мир й дух «Манъёсю». Основы японского национального
характера). Токио, 1973.258. Ямада ё с и о. «Манъёсю» то нихон бунгэй («Манъёсю» и японская
литература). Токио, 1956.259. Ямамото Кэнкити. Котэн то гэндай бунгаку (Классическая и со¬
временная литература). Токио, 1968.260. Ямамото >К э н к и т и. Нихон-но кои-но ута (Японские песни любви).
Токио, 1976.261. Яманака Ютака. Хэйан дзидай-но дзёрю сакка (Писательницы эпо¬
хи Хэйан). Токио, 1963.На русском и западноевропейских языках262. Абэ Томодзи. Традиции и современность. Письмо из Японии.— «Но¬
вый мир», 1959, № М.263. Алексидзе А. Д. Византийский роман XII в. и любовная повесть Ни¬
киты Евгениана.— Никита Евгениан. Повесть о Дросилле и Харикле.
М., 1969.264. Акутагава Рюноскэ. Избранное. В 2-х томах. Пер. с яп. Т. 1. М.,1971.265. Античный роман. М., 1969.266. Астон В. Г. История японской литературы. Пер. с англ. Владивосток,
1904.267. Бахтин М-. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.268. Бедье Ж- Роман о Тристане и Изольде. Пер. А. Н. Веселовского Л
1968.285
269. lio Цзюйи. Вечная печаль. Пер. с кит. JI. Эйдлина.— Классическая
поэзия Мидии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977.270. Воронина И. А. Литературные истоки японского средневекового ро¬
мана.— Генезис романа в литературах Азии и Африки. Национальные ис¬
токи жанра. М., 1980.271. Воронина И. А. Поэтика классического японского стиха (VIII—
XIII вв.). М., 1978.272. Воронина И. А. Японская средневековая лирика и ее европейские со¬
ответствия.— Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока
и Запада. М., 1974.273. Бродский В. Е. Японское классическое искусство. М., 1969.274. Васильев А. С. Культы, религии, традиции в Китае. Мц 1970.275. Васильев В. П. Религии Востока. Конфуцианство, буддизм и даосизм.
СПб., 1908.276. В ер л и М. Общее литературоведение. М., 1957.277. 'Веселовский А. Н. Из истории романа и повести. Вып. 1. СПб., 1886..278. Всеобщая история литературы. Под ред. В. Ф. Корша и А. И. Кирпични-
кова. Т. 1—-2. СПб., 1880—1881.279. Гегель. Эстетика. В 4-х томах. Т. 3. М., 1971.280. Глускина А. Е. Заметки о японской литературе и театре. М., 1979.281. Глускина А. Е. «Манъёсю» как литературный памятник,—Манъёсю
(Собрание мириад листьев). В 3-х томах. Пер. с яп. А. Е. Глускиной.
Т. 1. М., 1971.282. Горегляд В. Н. Дневники и эссе в японской литературе X—XII вв.
М., 1974.283. Григорьева Т. П. Одинокий странник. О японском писателе Куники-
да Доппо. Mi., 1967.284. Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. М., '1979.285. Гринцер П. А. Древнеиндийская проза («Обрамленная повесть»). М.,
1963.286. Г р и ф ц о в Б. А. Теория романа. Mi, 1927.287. Гришина В. А. Литературно-критическое и публицистическое наследие
Исикава Такубоку. Автореф. канд. дне. М., 1973.288. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.289. Две старинные японские повести. Пер. со старояп. Веры Марковой. М.,
1976.290. ДнепровВ. Д. Проблемы реализма. Л., 1961.291. Днепров В. Д. Черты романа XX века. М.—Л., 1965.292. Д у б а ш и и с к и й И. А. Вопросы теории сюжета.— «Вопросы сюжето-
сложения». Вып. 4. Рига, 1976.293. Елисеев С. Е. Японская литература.— Литература Востока. Вып. 2.
Пг., 1920.294. ЗатонскийД. В. Искусство романа и XX век. М., 1973.295. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1562.296. История французской литературы. Т. 1. М.—Л., 1946.297. Исэ моногатари. Пер., вступ. ст. и примеч. И. И. Конрада. М., 1979.298. И т о И о б у о и др. История японского искусства. Пер. с яп. М., 1965.299. Иэнага Сабур о. История японской культуры. М., 1972.300. Кавабата Ясунари. Тысячекрылый журавль. Снежная страна. Но¬
веллы, рассказы, эссе. Пер. с яп. М., 1971.301. Киш кин Л. С. Проблема национального образного мышления и мето¬
дология изучения межславянских связей.— Славянские литературы XI—
XIX вв. VI международный съезд славистов. [Вып. I]. М-., 196®.302. Классическая проза Дальнего 'Востока. М., 1975.303. Кожинов В. В. Происхождение романа. М., 1963.304. Кожинов В. В. Эстетическая ценность романа.— Русская и зарубеж¬
ная литература. «Ученые записки Мордовского гос. университета».
Вып. 61. -Саранск, 1967.305. Конрад Н. И. «Гэндзи моногатари».— Н. И. Конрад. Японская ли¬
тература от «Кодзики» до «Токутоми». М., 1974.286
чОб Конрад Н. И, Очерки японской литературы. Статьи и исследования.
М., 1^73.307. Конрад Н. И. Роман Мурасаки Сикибу — Н. И. Конрад. Очерки
японской литературы. Статьи и исследования. М., 1973.308 Кэнко-хоси. Записки от скуки. Пер. с яп. В. Н. Горегляда. М., 1970.309! Легенда о Тристане и Изольде. М-., 1976.зю‘ Л и сев и ч И. С. Литературная мысль Китая на рубеже древности и
средних веков. М., 19-79.311. Литература Востока в новое время. М., 1976.ЗК2. Литература Востока в средние века. Ч. 1—2. М., 1970.313. Литература Китая и Японии.— Восток. Сб. 1. М., 1935.314. Лихачев Д. С. Об одной особенности реализма.— «Вопросы лите¬
ратуры». 1960, № 3.315. Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII вв. Л., 1973.316. Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. Mi, 1970.317. Манн Т. Собрание сочинений в 10-ти томах. Т. 10. М., 1961.318. Маркова В. Н. Предисловие.— Волшебные повести. Пер. с яп. В. Мар¬
ковой. М., 1902.319. Михайлов А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии
жанра в средневековой литературе. М., 1976.320. П и н у с Е. М. Человек в старой японской литературе.— Теоретические
проблемы восточных литератур. М'., 1969.-321. Попов К. А. «Кофудоки»— произведения классической японской лите¬
ратуры.— Историко-филологические исследования. Памяти академика
Н. И. Конрада. М., 1974.322. П осие л о в Г. Н. Проблемы исторического развития литературы. М.,
1972.323. Рехо К. Современный японский роман. М., 1977.324. Р н ф т и н Б. Л. Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае.М., 1970.325. Рифт и и (Б. Л. Классическая проза Дальнего Востока.— Классическая
проза Дальнего Востока. М., 1975.326. Розенберг О. О. Проблемы буддийской философии.— «Издания ф-та
восточных языков Петроградского ун-та». i№ 45. Ч. 2. Пг., 1918.327. С е м а н о в 'В. И. Китайский героический роман (XIV—XVI вв.) и его
роль в становлении новой литературы.— Реализм и его соотношение с
другими творческими методами. М., 1963.328. Смирнов И. П. От сказки к роману.—Труды отдела древнерусской
литературы. Т. 27. История жанров в русской литературе X—XVII вв. Л,.1972.329. Собрание древних и новых песен Ямато. Предисловие. Пер. А. Е. Глус-
кнной.— Н. И. Конрад. Японская литература в образцах и очерках. Л.,330. С у ч к о в Б. Л. Исторические судьбы реализма. М., 1973.331. Сэй Сёнагон. Записки у изголовья. Пер. со старояп. В. Марковой.М., 1975.33*2. Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении.Кн. 1—3. М.., 1962—1965.^33. Холодович А. А. На грани мифологии и литературы.— Литература
Китая и Японии. М., 1935.*34. Ч е р н е в и ч М*. Н., Штейн А. Л., Яхонтова М. А. История фран¬
цузской литературы. М., 1961.335. Anesaki М. History of Japanese Religion with Special Reference to the
Social and Moral Life of the Nation. Rutland, Vermount and Tokyo, 1963.*36. А г t 2 F. B. The Mind of the middle ages. N. Y., 1963'.«37. Brower R., Miner E. Japanese court poetry. Stanford, 1961.338. Cranston E. Introduction.— Izumi Shikibu diary. Transl. by E. Cran*
ston. Cambridge, Mass., il969.*39. С r a n s t о n E. Murasaki’s Art of fiction.— «Japan Quarterly», vol. 27,
April—June, 1971.287
340. The Courtly tradition m Japanese art and literature: selections from the
Hofer and Hyde collections exhibition. Cambridge, Mass., 1973.341. Florenz K- Geschichte der japanischen Lltteratur. Ausg. 2. Bd 10. Lpz.,
1909.342. Harper T. J. Medieval interpretations of Murasaki Shikibu’s «Defence of
the Art of fiction».— «Studies in Japanese Culture». Vol. 1. Tokyo, 1973.343. Introduction to classic Japanese literature. Ed. by Kokusai bunka Shinko-
kai. Tokyo. 1956.344. Jackson W. The literature of the middle ages. N. Y., 'I960.345. J a n e i r a A. M. Japanese and Western Literature. A comparative Study.
Tokyo, 1970.346. Japanese-English Buddhist distionary. Tokyo, 1965.347. Lewis C. S. The Allegory of Love. A study in medieval tradition. Ox.,
1946.348. McCullough W. H. Japanese Marriage Institutions in the Heian Pe¬
riod.— «Harvard Journal of Asiatic Studies», vol. 27, 1967.349. Miner E. An introduction to Japanese court poetry. Stanford, 1967.350. Miner E. Japanese poetic diaries. Berkley, Los Angeles, 1969.351. Miner E. Towards a New Conception of Classical Japanese Poetics.—
«Studies in Japanese Culture». Vol. 1. TokyO, 1973.352. Mo hi K- The three estates in medieval and Rennaissance literature.
N. Y., 1953.353. Morris I. The World of the shining prince. Court life in ancient Japan.
N. Y„ 1964.354. Murasaki Shikibu. The Tale of Genji. A novel in six parts. Transl.
from the Japanese by A. Waley. L., 1973.355. Shoko W. Japanese Buddhism. Tokyo, 1964.356. Suzuki D. T. Zen and Japanese Culture.— «Bollingen Series», LXIV,
N. Y., 'I960.357. The Teaching of Buddha. A Compendium of Many Scriptures. Transl. from
Japanese. Tokyo, 1966.358. Teele R. E. Otomo Yakamochi. Pre-Heian sensibility.—«Studies in Ja¬
panese culture». Vol. 1. Tokyo, 1973.359. Ueda Makoto. Literary and Art theories in Japan. Cleveland, >1967.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНдбэТомодзи 255
Акияма Кэн 258
Аоки Такако 10
Аояги Акио 204, 205
Аривара Мотоката 24
Аривара Нарихира 47', 97, '144, 147,
150, 213Аривара Юкихира 36, 150, 216
Астон В. Г. 121Бакин 121, 242
Басё 238Бахтин М. М. 82, 94
Боккаччо 206Бо Цзюйи 12, 13, 150-153
Броуэр Р. Ив, 37, 85, 229Веселовский А. Н. 82Гегель 82
Голсуорси 256
Гомикава Дзюмпэй 256
Горегляд В. Н. 91, 92, 94
Григорьева Т. П. 154
Грифцов Б. А. 82
Гургани 84, 86Джафф, Ирвинг 247
Дзиппэнся Икку 242
Днепров В. Д. 94
Ду Фу 12Елисеев С. Е. 194Есано Акико 264Есида Кэнко 16, 48, 58Есида Сэйити 9, 245, 246Идзуми Сикибу 69, 92
Икэда Кнкан 7, 258
Имаэ Гэнъэ 131
Имаи Такудзи 8
Ино Согн 5Исикава Такубоку 243
Исимото Тадаси 243
Исэ-но Тайсю 14, 99, 153
Ию Сэн 205, 206
Ихара Сайкаку (см. Сайкаку)Иэнага Сабуро 7, 8, 49, 127—129,132, 133Кавабата Ясунари 39, 242, 246, 248—
250, 253—2Й6
Кавагути Хисао 99
Кавара Садайдзин 23
Кадзамаки Кэйдзиро 7, 8, 46, 48, 204
Камо Мабути 44, 244
Камо-но Тёмей 8119 Зак. 654Камэи Кацуитнро 7, 54, 55, 57, 131132Каса Канамура 96
Кёкутэй Бакин (см. Бакин)Ки-но Томонори 38, 143, 145
Ки-но Тосисада 21', 23
Ки-но Цураюки 10, 14, 15, 21, 2324, 38, 93, 97, 122-4124, 134, 14б’
153Кишкин Л. 83Кита Морио 256Кобаяси Томоаки 7, 53, 68Кожинов В. В. 82Комати (см. Оно-но Комати)Конрад Н. И. 10, 15, 19, 20, 34, 45,48, 53, 78, 87, 121, 127, 130, 154,
209-213
Крэнстон' Э. Ю, 92
Кубота Macao 46, 48
Кубота Ущубо 6, 7, 9, 204
Кумадзава Бандзан 5
Кунисаки Мокутаро 8, 243
Кэнко-хоси — см. Есида Кэнко
Кэйтю 43Лафайет М. М. (10
Ли Бо 12Лихачев Д. С. 83, 129, 160, 162
Лукач Г. 82Майнер Э. 10, 18, 37, 85, 229
Маркова В. Н. 83, 87, 88
Мацуо Басё (см. Басё)Мибу-но Тадаминэ 14
Минамото Митимицу 14
Мисима Юкио 244, 245
Митакэ Киёси 121
Миура Кэйдзо 140
Михайлов А. Д. 82, 84
Мицунэ 215
Мицуо Сатоси 54, 57
Миямото Юрико 256
Мияниси Кадзуми 9, 132
Моррис И. 10, 30, 31, 48, 65, 67, 70,73, 74, 85, 259
Мотоори Норинага 6, 43-49, 49,54, 55, 76, 77, 205, 221. 223, 244
Мунэюки, Минамото 250
Мусякодзи Тацуко 9Нагадзуми Ясуаки 134
Накада Ясукжи 8, 49, 53, 54, 61, 90,129, 131, 132, 213
Накадзима Эцудзи 113, 118, 204,
205Намба Хироси 124Нарихира (см. Аривара Нарихира)289
Номура Итндзо 7Норинага (см. Мотоори Норинаг-а)
Нукада 14Одзаки Коё 242Ока Кадзуо 54, 57, 132, 258, 264
Окадзаки ёсиэ 8, 204
Окура (см. Яманоэ Окура)Описи Йсннори 24, 25
Оно-но Комати 14, 23, 99, 145
Оно-но Такамура 36, 93
Оригути Синобу 113, 118
Отомо Саканоэ 14, 20
Отомо Куронуси 195
Отомо Табито 20, 96
Отомо Якамоти 20, 61, 96
Оя Райсюн 63Пинус Е. М. 10, 133, Л34
По Э. 9Поспелов Г. Н. 82Рабиндранат Тагор 246 ’ 1 ■Рехо К. 44, 244Рютэй Танэхико 240—242Сгйго Нобуцуна 8, 17, 78, 80, 113,
128, 129, 134
Сайкаку 240, 241
Саканоэ Корэнори 36
Сандзённси Санэтака 5
Сато Кэндзо 9, 237
Саяма Ватару 8, 77, 134
Сидзю Дайнагон (см. Фудзивара
Кинто)Симада Киндзи 9
Симидзу Ютака 115
Сиода Рёхэй 9, 242
Смирнов И. П. 82
Содзё Хэндзё 122
Сонэ Тоёсукэ 8, 28
Сосэй (см. Сосэй-хоси)Сосзй-хоси 21
Сумии Суэ 256
Сэй Сёнагон 69, 81Табито (см. Отомо Табито)
Тайра Садафуми 97
Такасаки Масахидэ 9, 118, 163
Такасима Хидэдзи 244
Такахаси Мусимаро 96
Тйнабэ Фукумаро 96Танидзаки Дзюнитиро 9, 242, 246247, 249, 250, 253, 255
Танэхико (см. Рютэй Танэхико)Тао Юаньмин ,12
Толстой Л. Н. 256
Томонори (см. Ки но Томонори)
Тосисада (см. Ки-но Тоисада)
Тюнагон Юкихира (см. Аривара
Юкихира)Умэхара Такэси 132, 239
Уэда Акинари 241, 242
Уэда Макото 10
Уэйли А. 260, 262Франс А. (10Фудзивара Иэтака 143, 144
Фудзивара Кинто 92
Фудзивара Нотикагэ 195
Фудзивара Сюндзэй 43, 143, 238
Фудзивара Такаёси 90
Фудзивара Тэйка 4, 8, 37, 43, 126,143, 220
Фудзи мура Цукуру 241
Фудзиока Сакутаро 7, 53, 55, 68,
75Фукумаро (см. Танабэ Фукумаро)
Фунабаси Сэйити 6, 127, 128Хаяси Фусао 244, 245
Хиросугэ Тамоцу 134
Хисамацу Сэнъити 8—10, 32, 126,128, 221, 242
Хитомаро 38, 96
Холодович А. А. 80Цубоути Сёё 128
Цугита Дзюн 210
Цуда Сокити 7, 68
Цукахара Тэцудзо 128
Цураюки (см. Ки-но Цуракжи)Чемберлен Б. X. 194
Чжуанцзы 122
Чосер 206Эити Фумико 9
Это Дзюн 244, 245Я у. ад а Бимё 9, 242
Ямада Есио 145
Ямамото Кэнкити 9, 113, 118
Яманоэ Окура 61, 96
УКАЗАТЕЛЬ ЯПОНСКИХ ТЕРМИНОВАварэ 19-24, 26, 32, 34—37, 40—47, 55, 58, 82, 95, 125, 126, 194,202, 247
аварэ-но кодзо 34
айдзё-но аварэ 34, 35
яйёку 132амидаизм 51, 52, 69бамэнсэй 204
бугаку 30
будда 50—52, 70буддизм 12, 20, 44, 45, 49, 51, 53—58, 61—65v 69, 71, 73—76, 87, Ш,193, 243, 258
б\сидо 248вагакуся 44
вака 9, 237, 238
ватакуси сёсэцу 253гндзин 195
гокураку 51
го-но сэ 51
горакусюги 132
гунки 9, 46, 238, 239
гунки моногатари 46
гэндзицусюги 128
гэндзицутэки-на сесэцу 127
гэсаку 242дао 65, 154
даосизм 64, 66дзё 132 . . лдзёдо 51дзуйхицу 81, 205
Дзэн 52, 243
доку 59дэнки моногатари
весть) 83, 86, 87,(волшебная11?ёдзё 214, 216, 221, 222, 229
ёкёку 2Э8, 239
ёки хито 15, 27, 85
ёмихон 242
ёха Ш, 212ими 66
иннэнШ{Ь*ЯИ ООирогономи 15*. 16, ‘54, 78, 105,
109, 132, 164, 171, 191
Karypai 30
кайраку 50
кампаку 13
кана 14, 41, 56
кандо иппан мкэрма6б, М, 53, 55, 57, 63. 65, 67, 68.
7* 73, 75, Тб, 78, '129, 131, 178, 27219*катаими 66 .катё 64
кёкосэй 124
ки 81, 230
кикикан 55
китаноката 17
кодай 3кодокукан 131, 132
кокоро 25, 99
кокугаку 6, 43, 44, 244
конфуцианство 44, 64, 65, 256
коо 210котобагаки 96, 97
кэйси моногатари 114
кюдо 04, 57, 132, 171маи-но си 30
макокоро 44макото 82, 88, 120—123, 125, 127, 128мантра 50масурао 44махаяна 20, 50, 55мияби 20мондо 98моно 19, 154моногатари 43, 46—48, 55, 77, 81, 88,
116, 124. 125, 128, 135, 235, 243
моноими 38, 61мсно-но аварэ 8, 15, 19, 24, 25, 32-
40, 42-48, 54, 56, 57, 58, 65, Тб-
79, 82, 125-4128, 132, 161, 161,
180, 192, 239, 244, 246, 247
моно-но аварэ-о сиру 24, 25, 40, 4?
моно-но кокоро 20, 25, 65, 192
моно-но кэ 60, 62, 63, 131
муга 71мудзё 6, 56, 68, 78, 135
мудзёкаи 68, 74
мудзё-но аварэ 58никки 71
Но 238, 239
нэбуцу 52окаси 41, 42
омисоги 61
омой 99
омосироси 41рёбусинто 61,87рэнга 9, 217, 229, 237, 238сатори 65,243
сёсэцу 81
сёхицу 211
си-касю 93, 95—97
сикай 52
Сингои 50, 51
сннрн ёсикн 78синто 13, 20, 38, 49, 54, 59, 65, 87,158, 193. 194
синтоизм 49, 59, 61, 62, 64
сорагото 124
соси 81
с.-дока 125
сэйкацу ёсики 78
сэикацу-но мудзюн 54
сэйкацу*но фуан 49, 129, 130
сэнмэн-но фуан 49
сэссё 13
сэцува 93, 177
сэцува бунгаку 205
сюкаку 211
сюкусэ 55, 63, 68, 135
сюкусэ-но аварэ 58
сядзицусюги 128тадаёу 60
тампэн сёсэцу 81
тампэнсей 204
тампэн-хэн 204танка 26—28, 83, 95, 96, 98, 99, 101,117, 146, 159, 214—217, 227, 241,
273
таютан 54
тёваби 32
тёхэн сёсэцу 81
тэнгу 59Тэндай 50—52, 69
тюко 3
тюсэй 3тюхэн сёсэцу 81увэй 65удзи-но тёдзя 64
укиё 239укиёдзоси 239, 242
укиёэ 239ута моногатари 14, 117фуккосюги 6хагоромо
хайкай 237
хайку 237, 238, 241
хасигаки 96, 215
хиайби 32хиай-но аварэ 34, 35
хито вараэ 131
хонка 143хонка-дори 141, 143, 144, 214, 237"
цумадои 17Чань (ciM. Дзэн)эмакимоно 90
эмонюгатари 91энго 141, 142, 214, 217, 21^ 227 229
энсэсюги 132
эхон 242юби 32, 33юби-но аварэ 34, 35, 45
югэн 165юкари-котоба 141
Яматоэ 13, 90УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИИ«Алая лилия» 10
«Анна Каренина» 10
«Вехи» 256«Вечная печаль» 150, 152, 154
«Вис н Рамин» 84, 86
«Война и люди» («Сэнсо то нин-
гэн») 256
«Война и мир» 256
«Вэнь Сюань» 13«Гэндзи кокагами» («Малое зерцало
„Гэндзи моногатари"») 235
«Гэндзи моногатари эмаки» («Свит¬
ки „Гэндзи моногатари"») 90
«Гэндзи окагами» («Большое зер¬
цало „Гэндзи моногатари'1») 238
«Даодэцзин» 12
«Декамерон» 206«Есицунэки» («История Есицунэ»)121, 238«Идзуми Сикибу никки» («Дневник
Идзуми Сикибу») 44, 48, 92, 93,97, 100, 194292«Идзуми Сикибу-сю («Собрание сти¬
хов Идзуми Сикибуй») 93
«Исэ моногатари» («Повесть об
Исэ») 46, 93, 97, 114, 141, 146—
148, 148, 205, 212—214, 216, 217,
229
«Ицзин» 12«Кагэро никки» («Дневник эфемер¬
ной жизни») 47, 92, 93, 98, 99
«Кайфусо» 14«Кентерберийские рассказы» 206
«Кодзики» («Записи древних дел»)19, 20, 23, 38, 43, 81, 88, 90, 95;
1105, 106, 108, 109, МП, 117, 119,148, 193, 275
«Кокинсю» («Собрание старых и но¬
вых песен Японии») 14, 23, 40, 56,86, 95, 96, 101, 122, 141, 145, 146
«Кондзяку моногатари» («Повести о
ныне уже минувшем») 46
«Косёку итидай онна» («Любовные по¬
хождения одинокой женщины») 240
«Косеку итидай отоко» («Любовные «Стон горы» («Яма-но ото») 248
похождения одинокого мужчины») «Сэйрюсё» 5240«Кофудоки» («Древние записи о
землях и нравах») 89, 95
«Кэйкокусю» 14«Лже-Мурасаки и деревенский Гэнд¬
зи» («Нисэ-Мурасаки ииака Гэнд¬
зи») 240
«Лигейя» 9
«Лунь Юй» 12
«Мадам Бовари» 10
«Макура-но соси» («Записки у изго¬
ловья») 41, 42, 48, 81'«Манъёсю» («Собрание мириад ли¬
стьев») 14, 19, 20, 23, 44, 56, 95,96, 114, il22t 143, 145, 147, 149, 193
«Мелкий снег» («Сасамэюки») 246,
247«Мурасаки Сикибу никки» («Днев¬
ник Мурасаки Сикибу») 69, 70,
92—94, 258—260, 262, 264, 265
«Мурасаки Сикибу-сю» («Собрание
стихов Мурасаки Сикибу») 258,
264«Нансо Сатоми хаккэндэн» («Исто*
рия восьми псов из рода Сатоми»)
242«Нихонги» («Анналы Японии») 19,20, 23, 89, .90, 95,- 105, 117,- 119,
125.«Нихонсёки» (см. .«Нихонги»)«Нравы студентов нашего времени»
(«Тосэй сёсэй катаги») 128
«Обезьяний Гэндзи» 240 .«Окагами («Великое зерцало») 238
«Отикубо моногатари» («Повесть об
Отикубо») 87, )М4, 116, 128
«Принцесса Клевская» 10
«Река без моста» («Хаси-но най ка-
ва») 256
«Сага о Форсайтах» 256
«Сагоромо моногатари» («Повесть о
Сагоромо») 23?, 239, 259
«Сарасина никки» («Дневник Сара*
сина») 239, 264
«Семья Нирэ» («Нирэ-кэ-но хито-би-
то») 256 - • '«Синкокинсю» - («Новая Кокинсю»}
143,1145к 237 - - • -«Снежная страна» («Юкигуни») 248
«Старая столица» («Кото») 248«Сэндзайсю» («Собрание песен за
тысячу лет») 237
«Тадзё такон» («Много чувств, мно¬
го горя») 242
«Тайхэйки» («Сказание о великом
мире») 238
«Такаеси Гэндзи» («Гэндзи [монога¬
тари в картинах] Такаёси») 90
«Такамура моногатари» («Повесть о
Такамура») 93
«Такэтори моногатари» («Повесть о
старике Такэтори») 46, 87, 88, 114,118, 128«Токайдотю хидзакуригэ» («На сво¬
их на двоих по Токайдоскому
тракту») 242
«Торикаэбая моногатари» 239
«Тоса иикки» («Дневник путешест¬
вия из Тоса») 15, 24, 47, 81, 97,
124«Тристан и Изольда» 9, 84, 206
«Тысяча журавлей» («Сэмба-но цу-
ру») 248—250
«Угэцу моногатари» («Повесть о
дожде н луне») 242
«Удзисюи моногатари» («Позднее
собрание рассказов из Удзи») 46
«Уцубо моногатари» («Повесть о
дупле») 81, 87, 117, 128
«Фудоки» (см. «Кофудоки»)
«Хадзитоми» 239«Хайкай Гэндзи» («„Гэндзи" в жан¬
ре хайкай») 238
«Хамацу тюнагон моногатари» («По¬
весть о советнике Хамацу») 237,
239 _«Ходзёки» («Записки из кельи») 53,
81«Хэйкэ моногатари» («Повесть о до¬
ме Тайра») 46, 53, 209, 238, 239
«Хэнтю моногатари» («Повесть о
Хэйтю») 93, 97
«Цурэдзурэгуса» («Записки от ску¬
ки») 16, 48
«Чанхэн-гэ» («Поэма бесконечного
ропота») 113
. «Эйга моногатари» («Повесть о рас-
. цвете») 238, 258, 264
«Ямато моногатари» («Рассказы о-
Ямато») 97, 114
СОДЕРЖАНИЕВведение Глава 1. Роман «Гэндзи моногатари» и культура эпохи ХэйанКульт любви («ирогономи») и «очарования вещей» («моно-ноаварэ») Идеология буддизма, ее адаптация и место в хэйанской культуреРелигиозно-культовые традиции синто Влияние древнекитайских философских учений в романе (даосизмаи конфуцианства) Замысел и тема романа «Гэндзи моногатари» Глава 2. Литературные истоки и жанровые особенности классическогояпонского жанра Специфика литературного процесса и вопросы типологии японскогоромана. Жанр «Гэндзи моногатари» Лиричность и психологизм «Гэндзи моногатари» .Связь романа с фольклорной традицией Глава 3. Особенности творческого метода Мурасаки Сикибу. Эстетиче¬
ские принципы писательницы и их реализация в романе (принцип
«макото» — «истинность», реалистические тенденции романа)Глава 4. Художественный образ в романе «Гэндзи моногатари»Стилистические образы романа ,Образ человека в романе Роль и место природы в «Гэндзи моногатари» .......Глава 5. Композиция «Гэндзи моногатари»«Новеллистическая структура» и ее место в системе композицион¬
ных средств романа Роль сюжетно-фабульных средств связи Традиционные формы композиции . Глава 6. Некоторые особенности повествовательного стиля «Гэндзи мо¬
ногатари»Глава 7. «Гэндзи моногатари» в историко-функциональном освещении
Традиции «Гэндзи моногатари» в творчестве современных писате
лей Японии (Танидзаки Дзюнитиро и Кавабата Ясунари)Заключение Приложение Мурасаки Сикибу (очерк жизни и творчества) .....
Изложение фабулы романа «Гэндзи моногатари» ....Библиография Указатель имен Указатель японских терминовУказатель произведений ............
Ирина Александровна ВоронинаКЛАССИЧЕСКИЙ ЯПОНСКИЙ РОМАН
(«Гэндзи моногатари» Мурасаки Сикибу)Утверждено к печати
Институюм мировой литературы
им. А. М. Горького
Академии наук СССРРедактор Н. Я. Северина. Младший редактор Г. А. Бурова. Художник Э. JI. Эрман. Ху¬
дожественный редактор Б. Л. Резников. Технический редактор В. Л. Стуковнина-
Корректоры Р. Ш. Чемерис и П. С. ШинИБ 14267Сдано в набор 22.09.80. Подписано к печати 16.04.81. А-08471. Формат 60Х90*Л». Бумага
типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Уел. п. л. 18,5. Уел. кр4*
отт. 18,75. Уч.-изд. л, 22.04, Тираж 5000 экз. Изд. Afs 4764. Зак. № 654. Цена 2 р. 10 kvГлавная редакция восточной литературы издательства «Наука»Москва К-45, ул. Жданова, 12/13-я типография издательства «Наука*Москва Б-143, Открытое шоссе, 28 . .
2 p. 10 к.