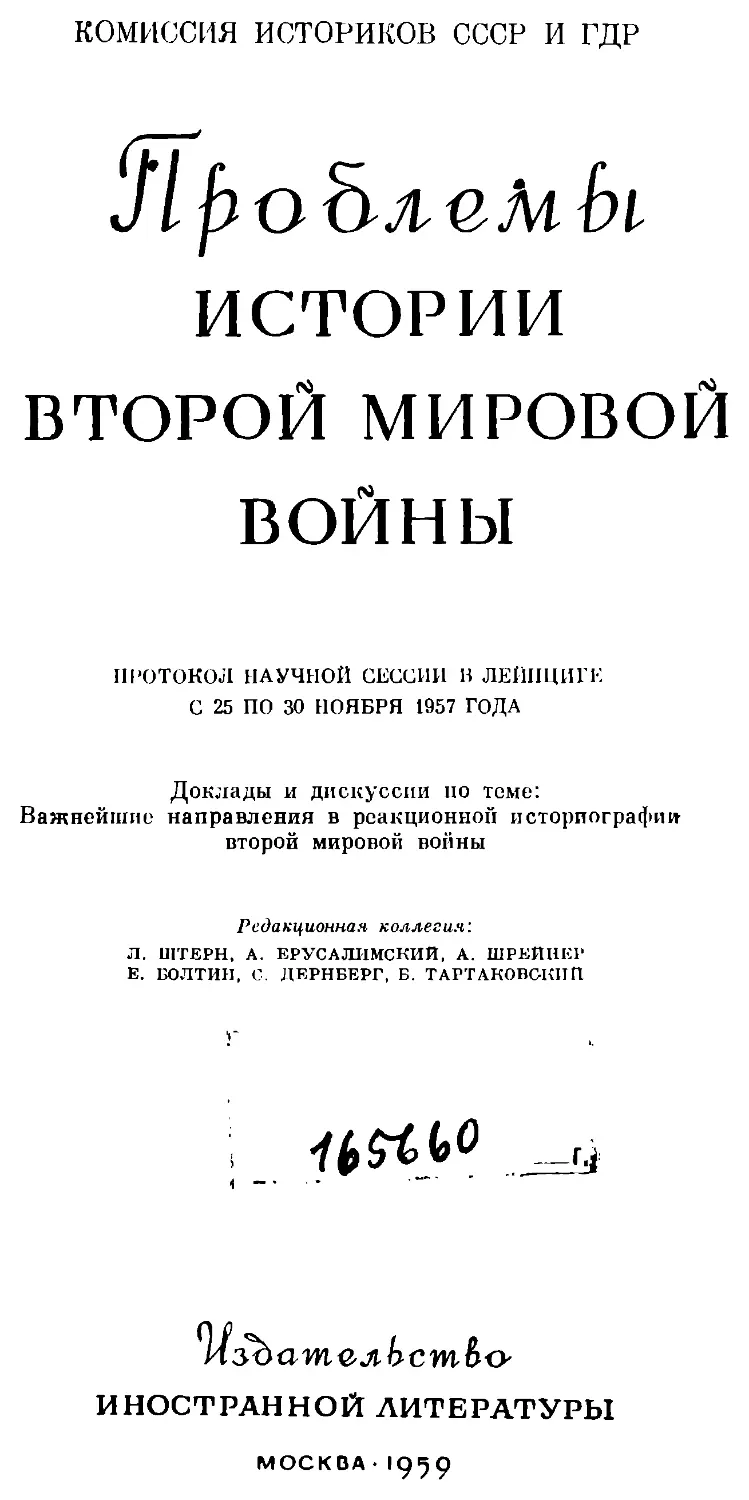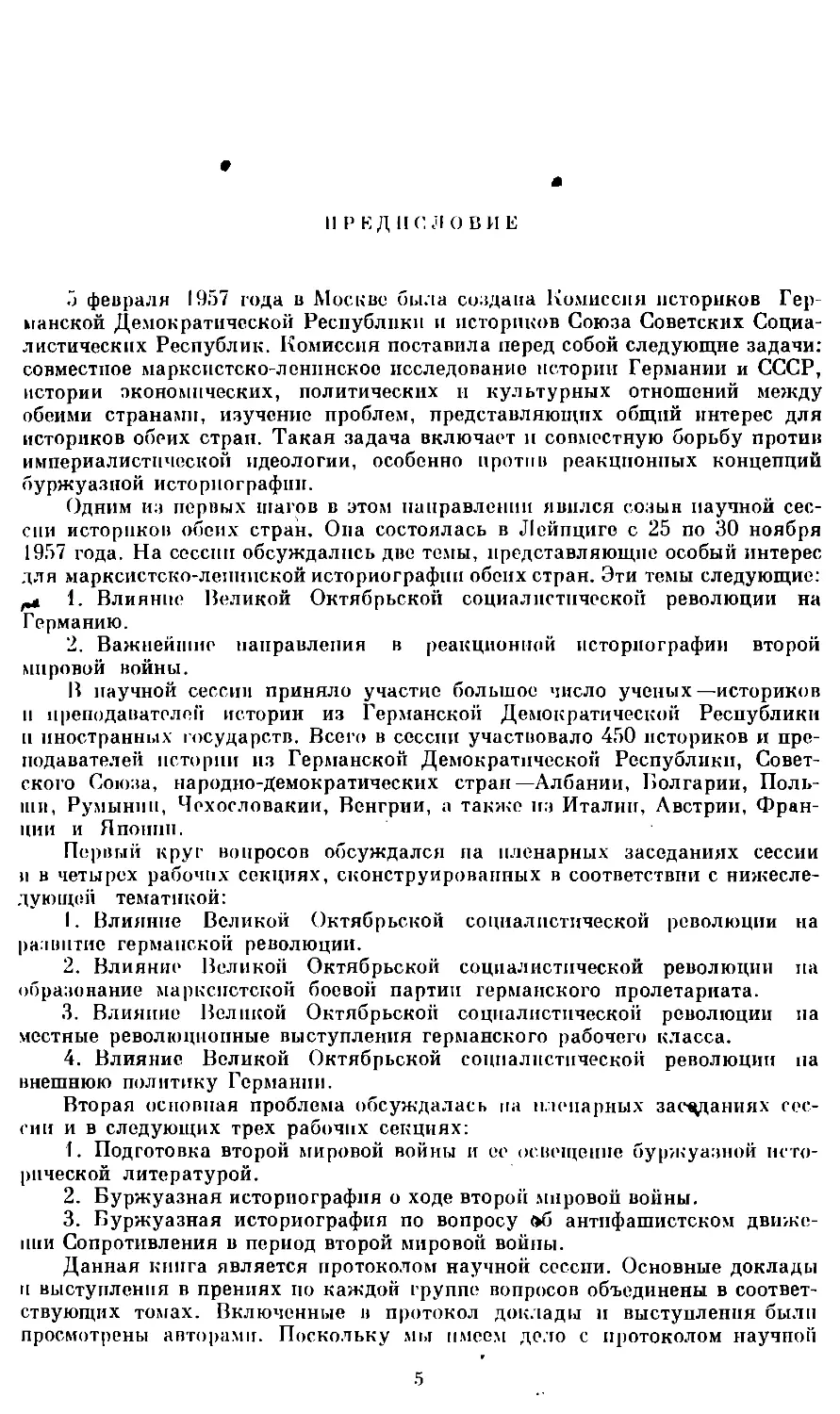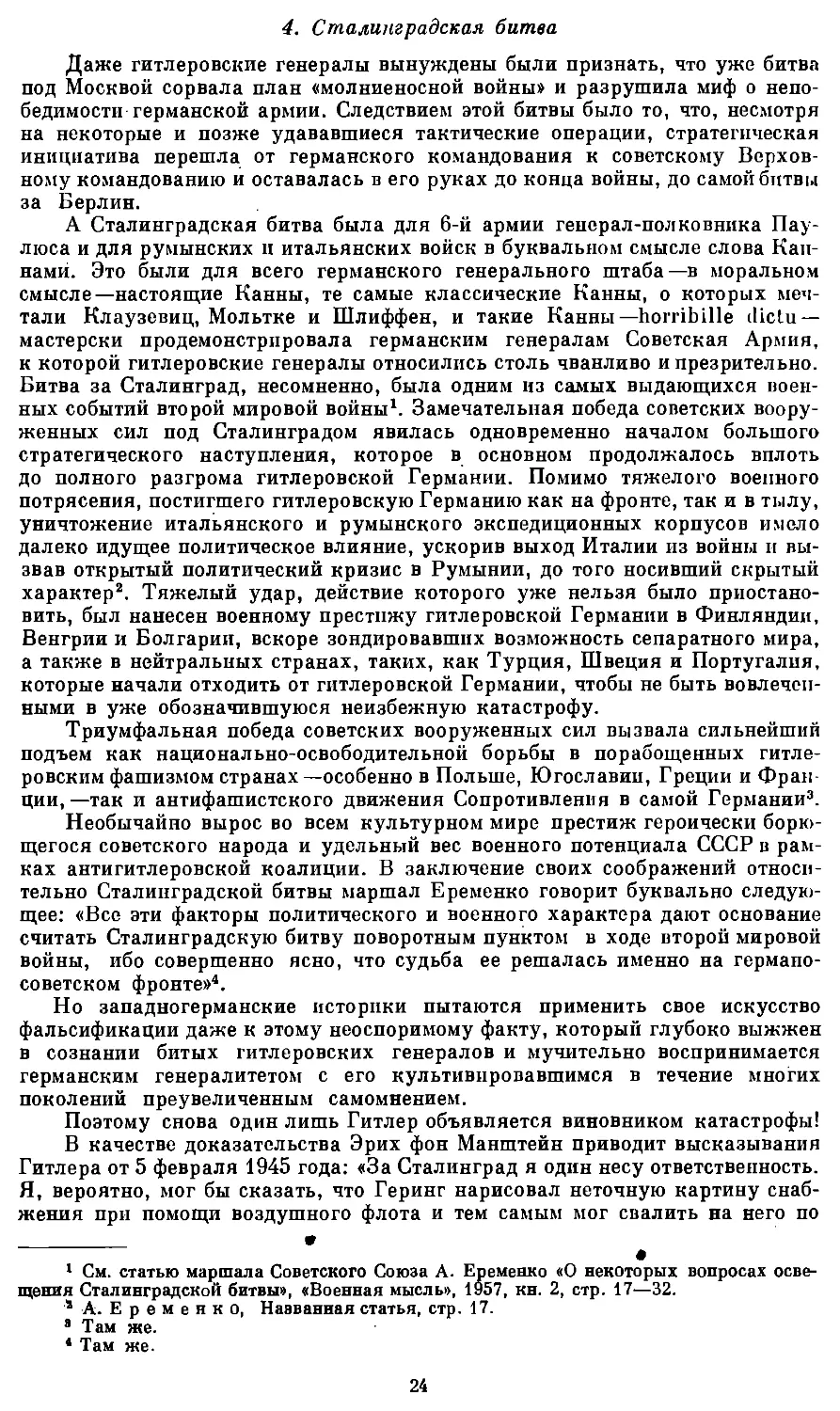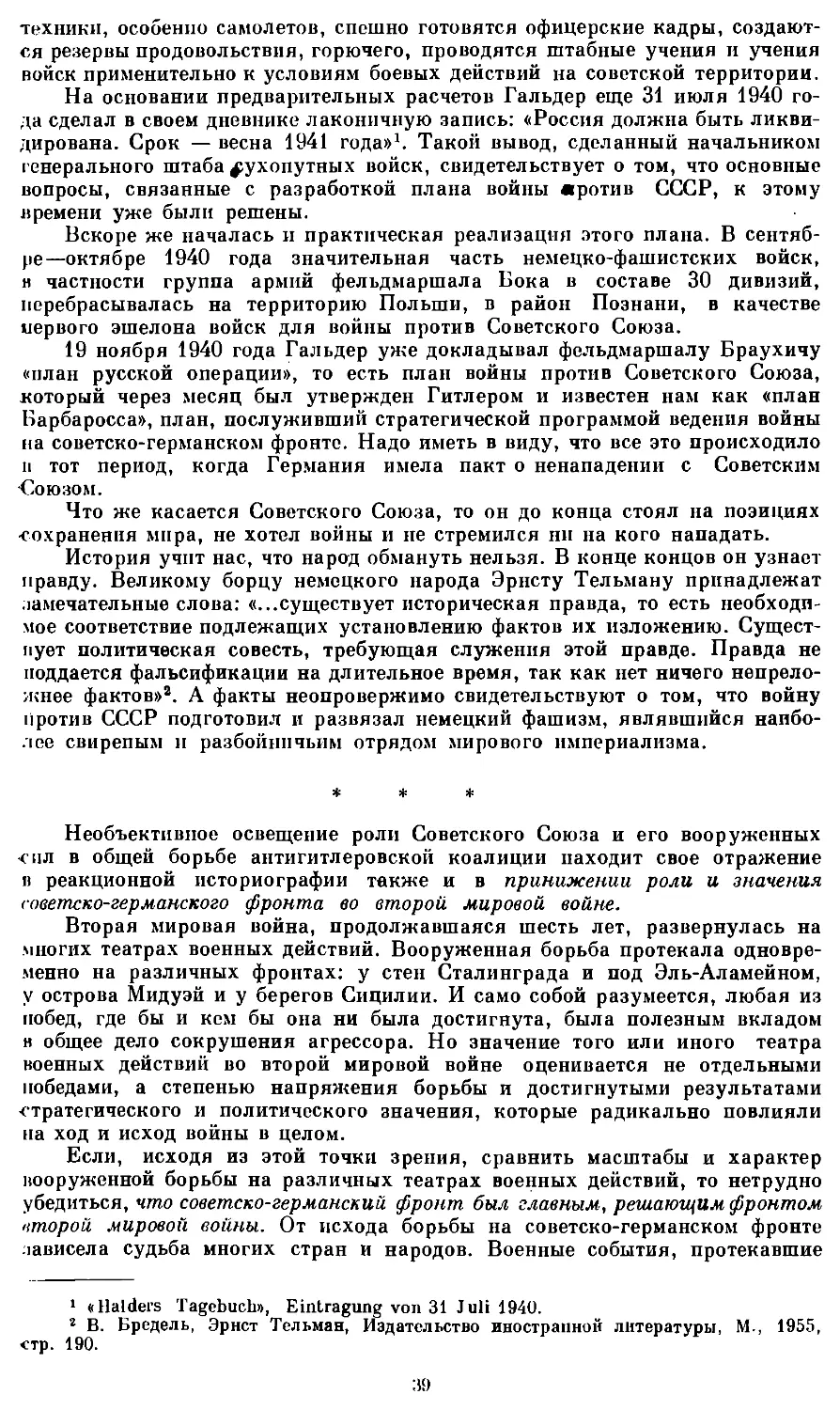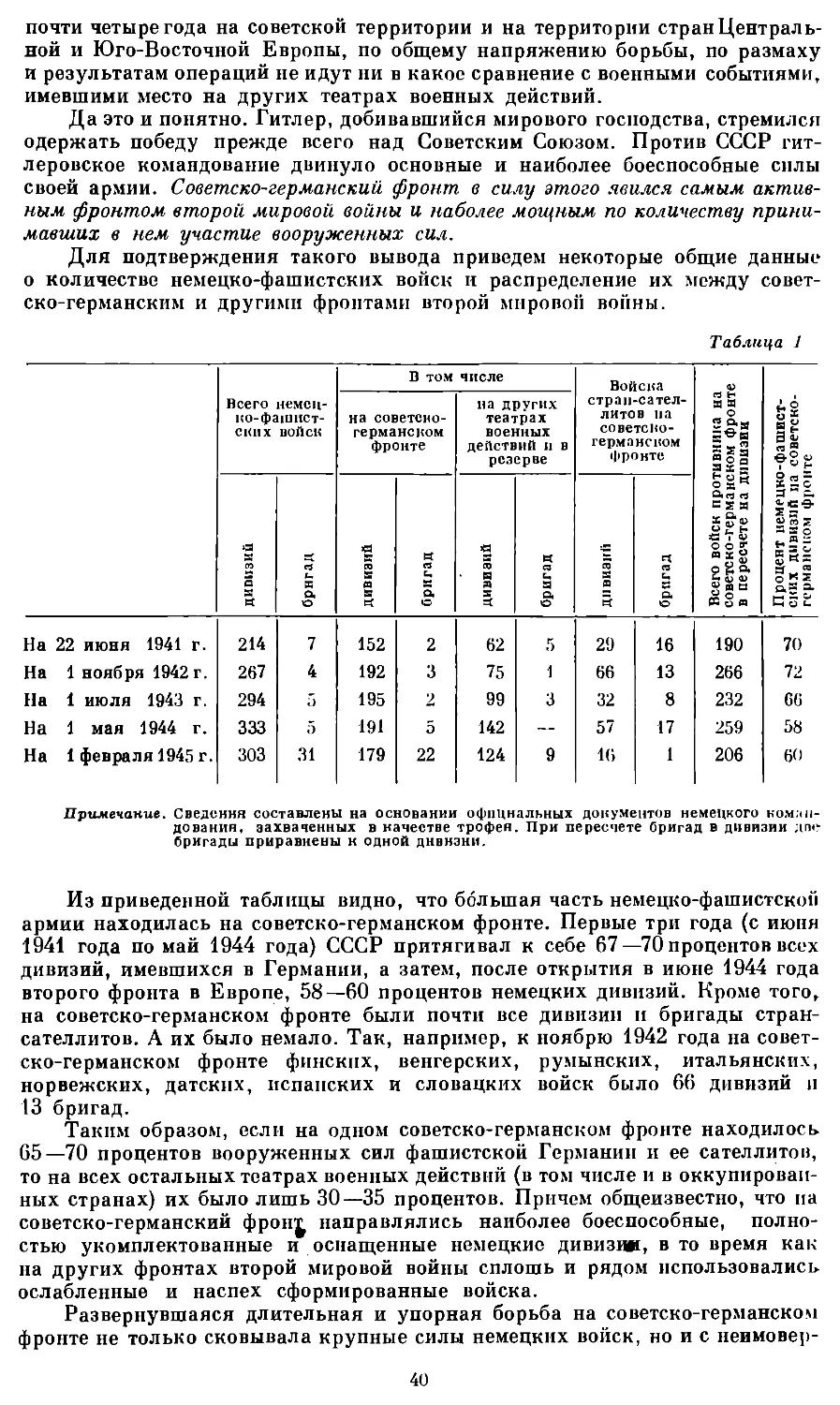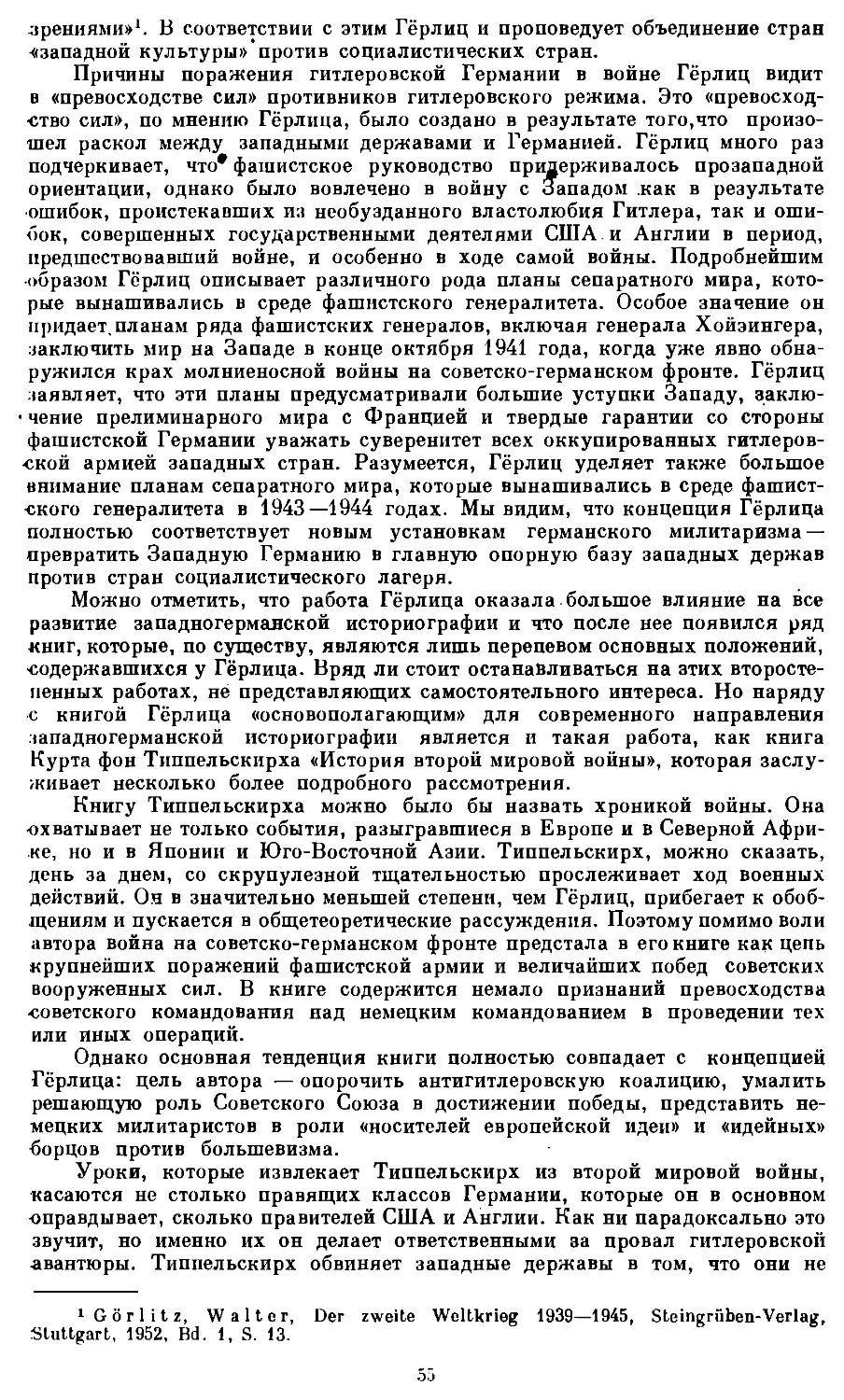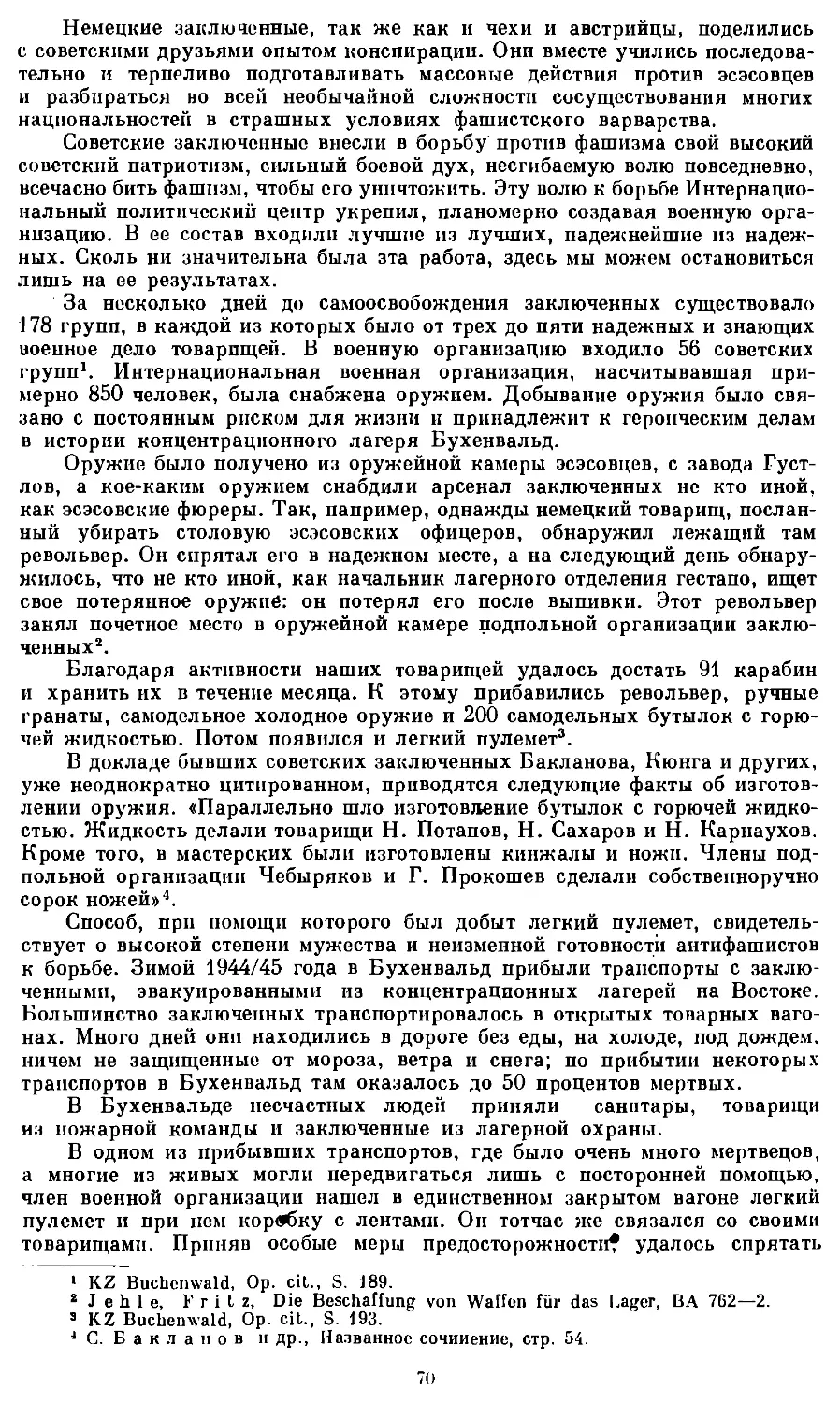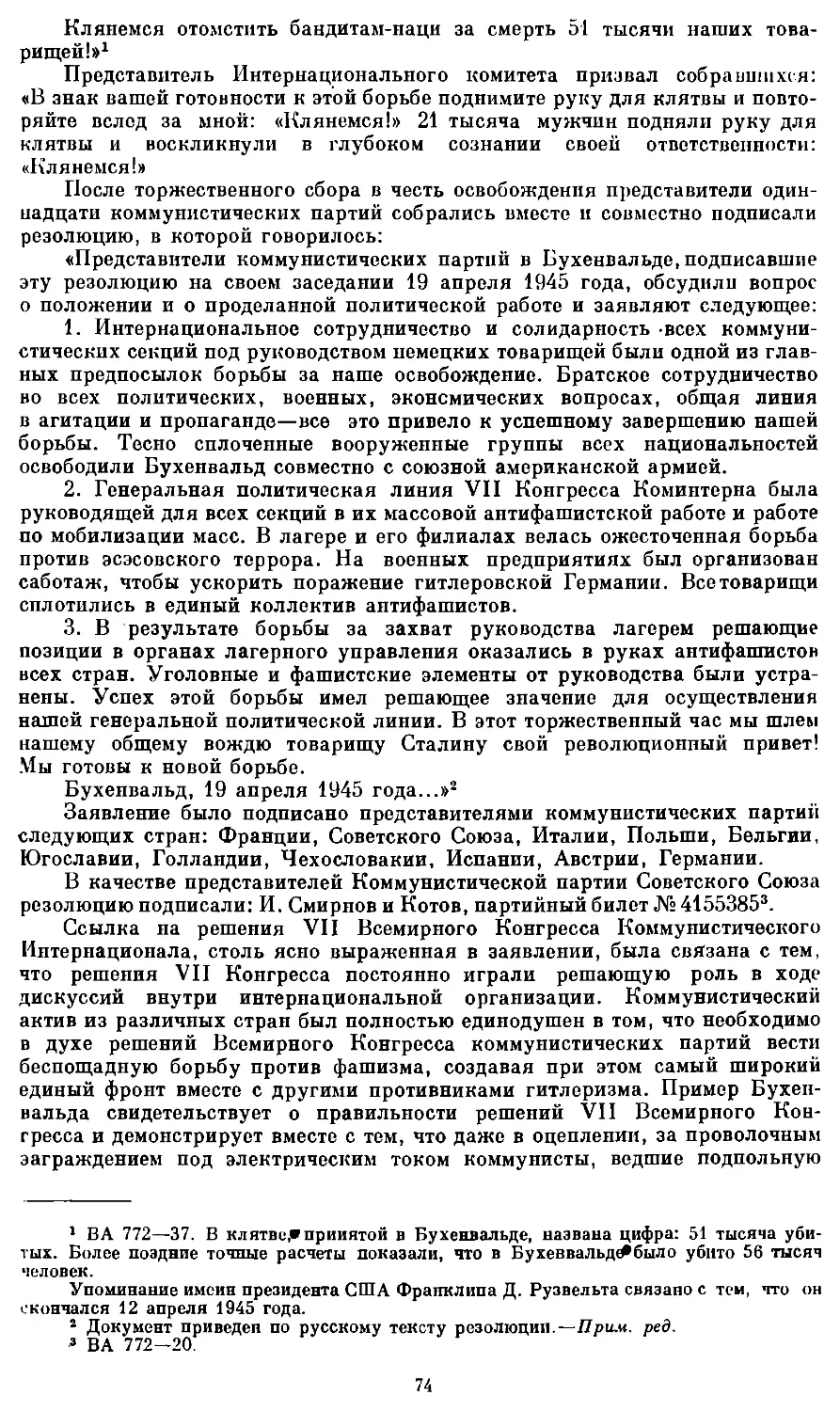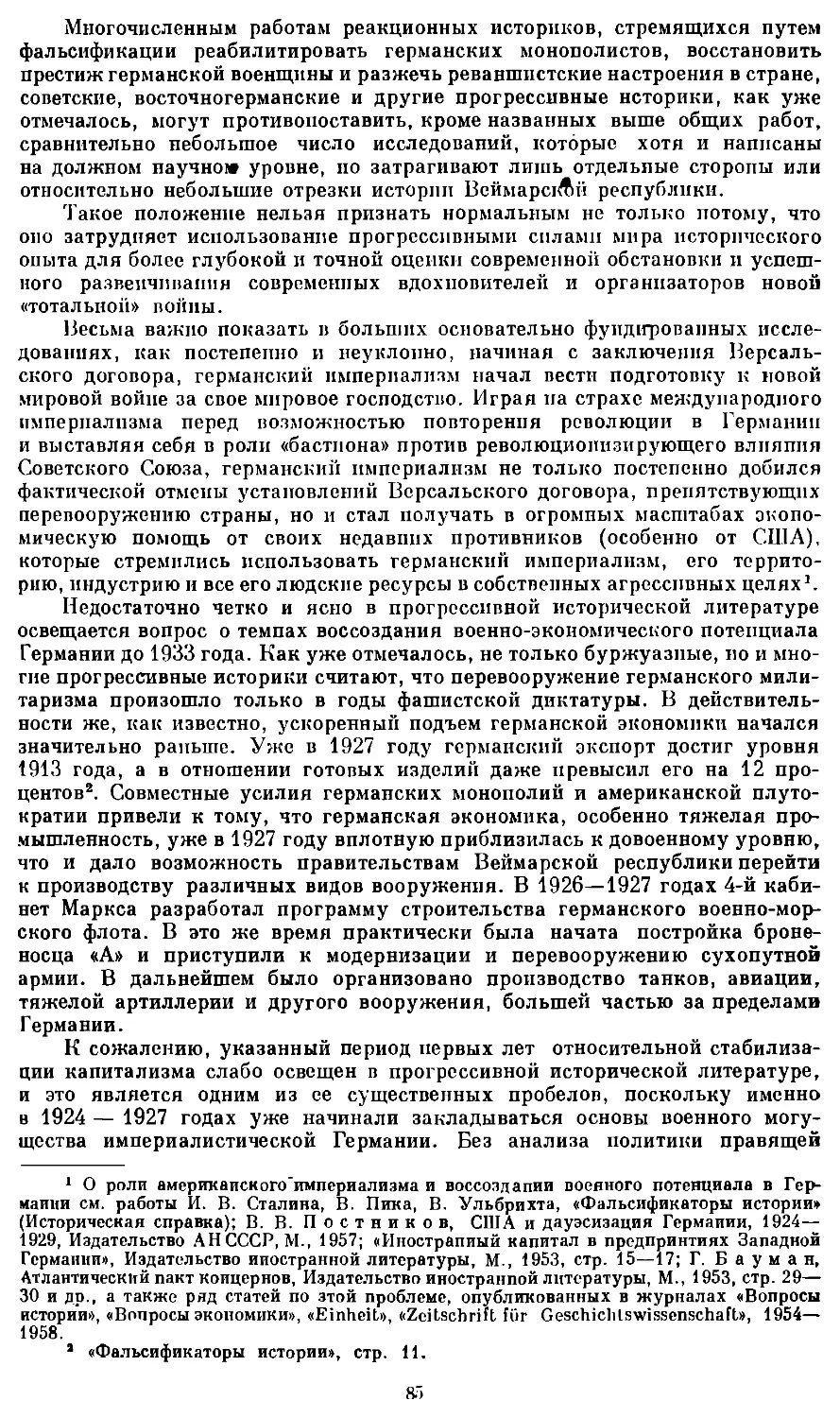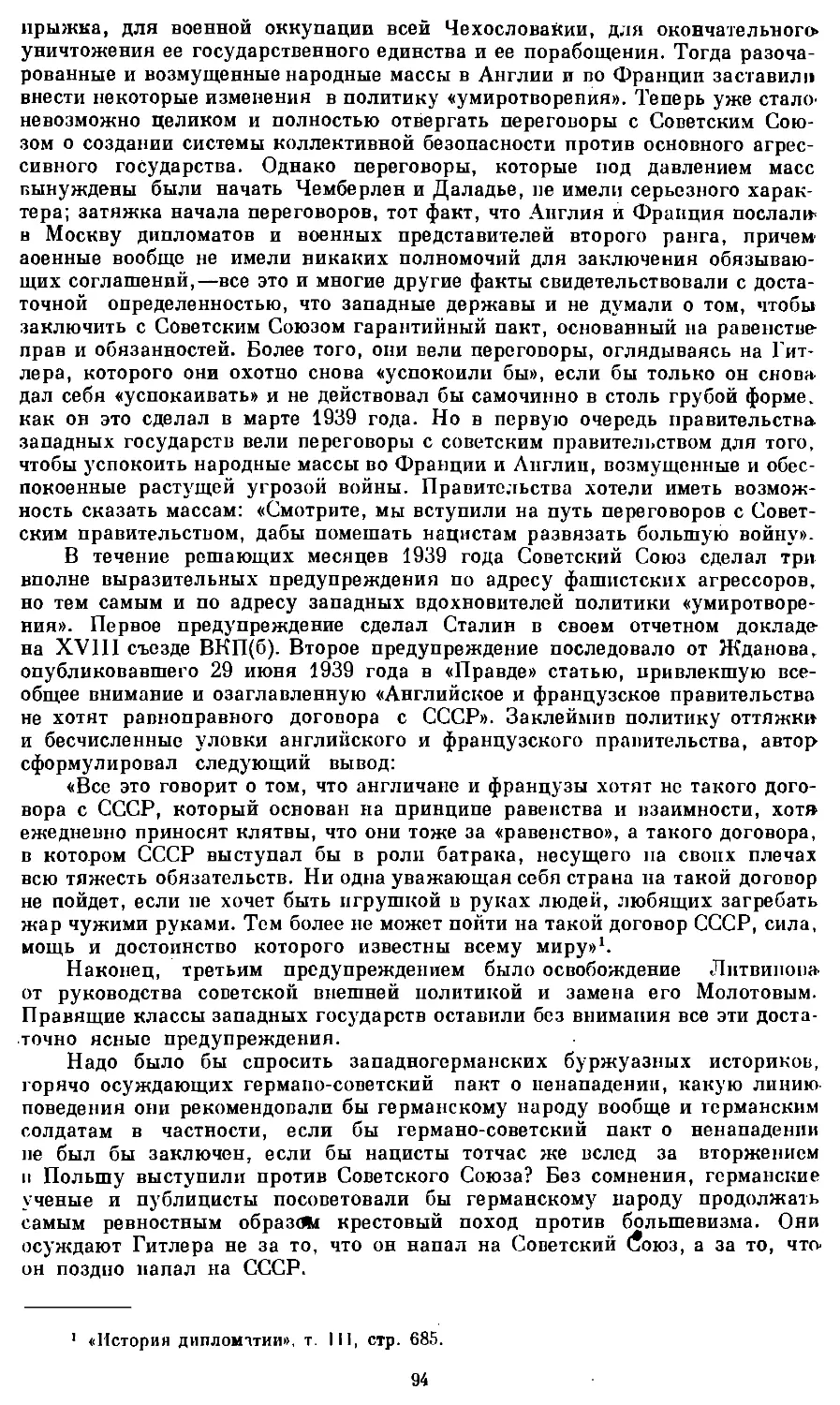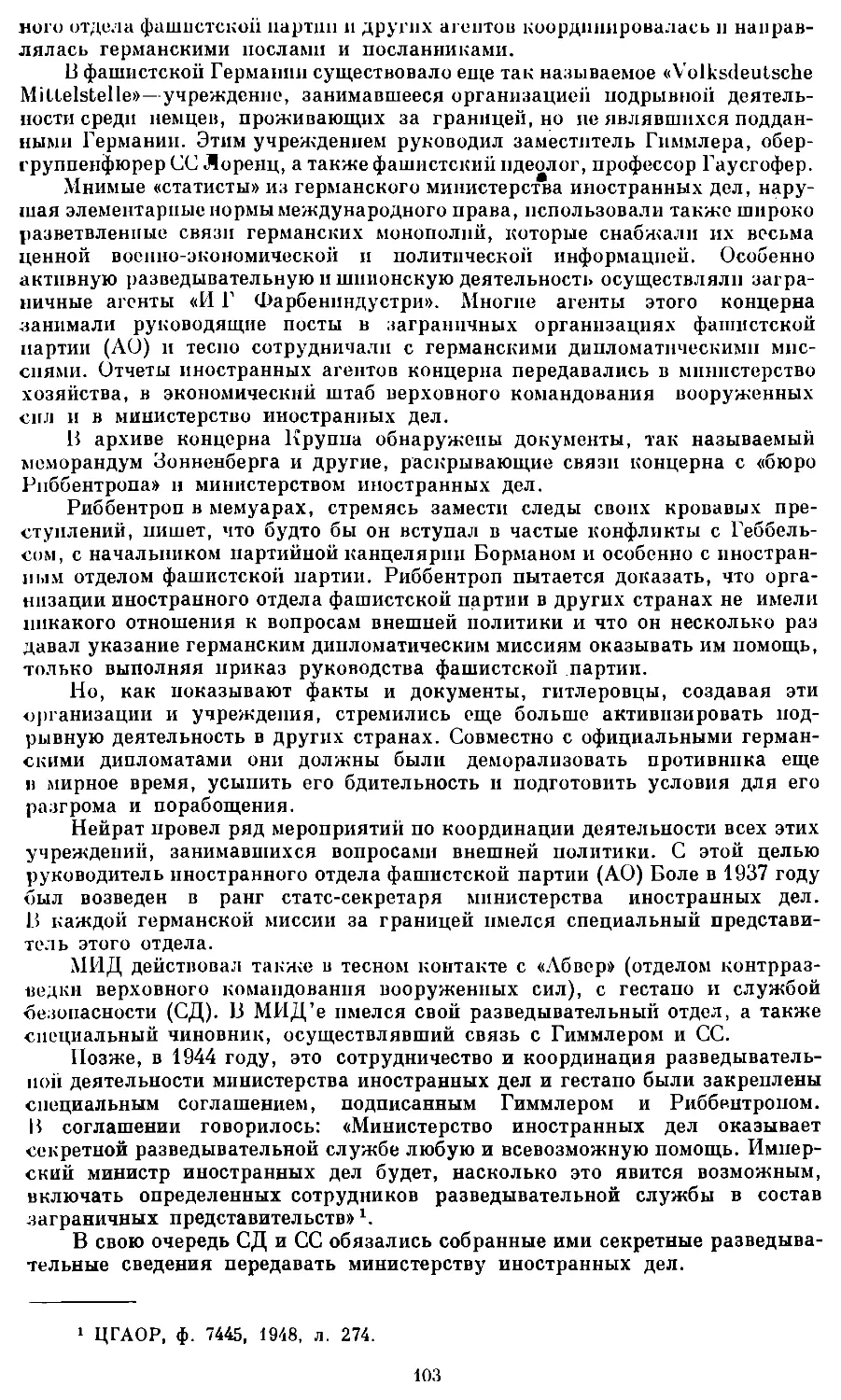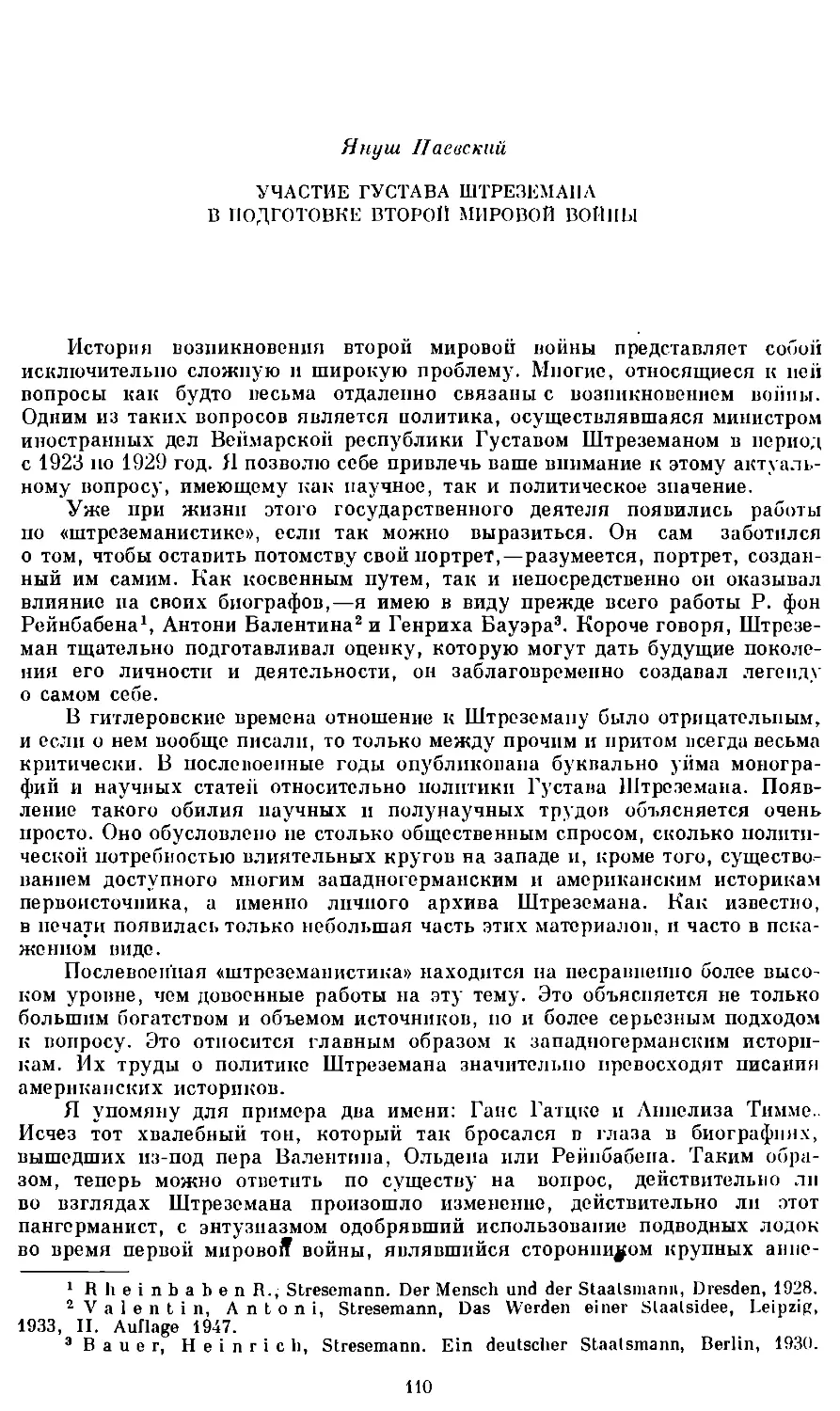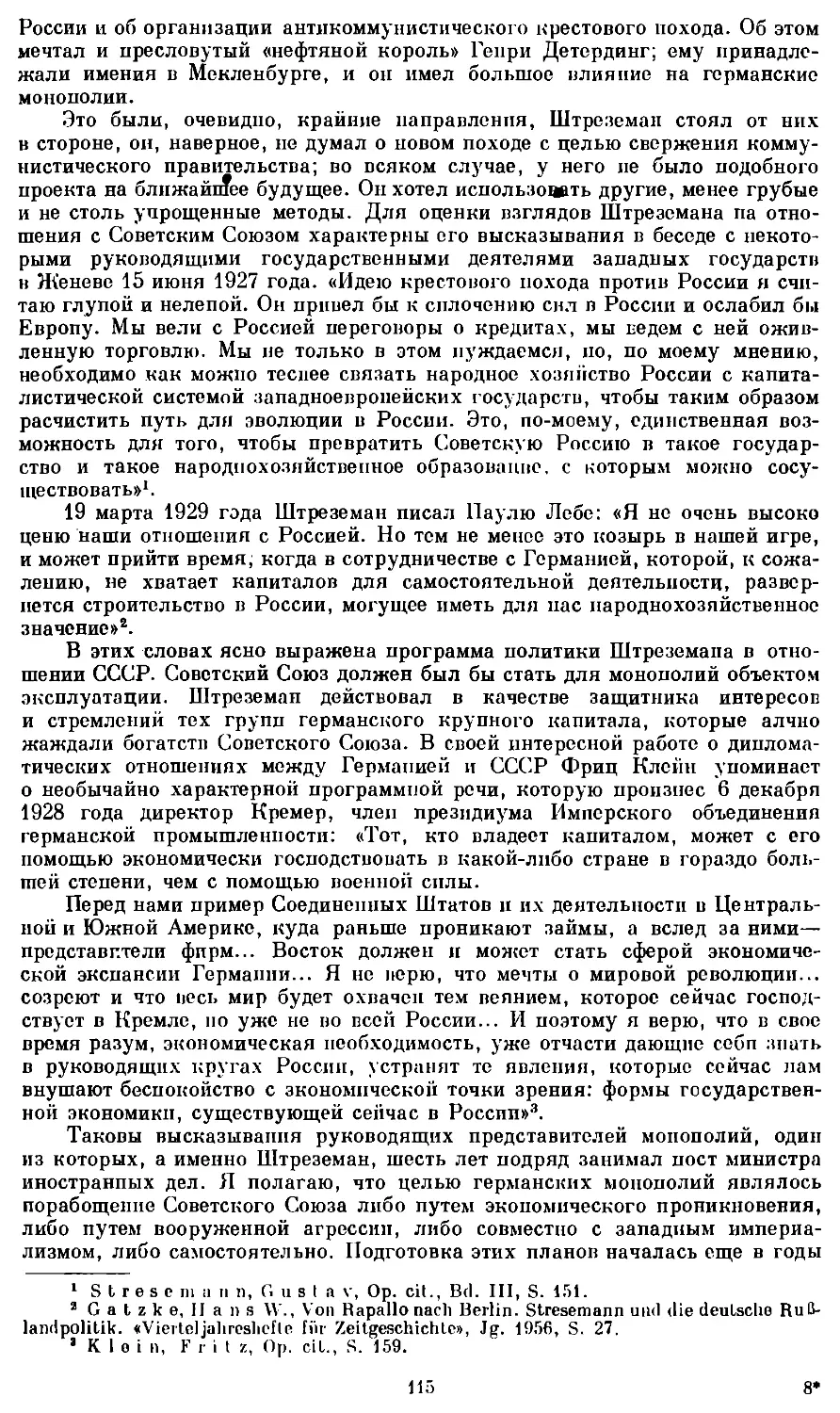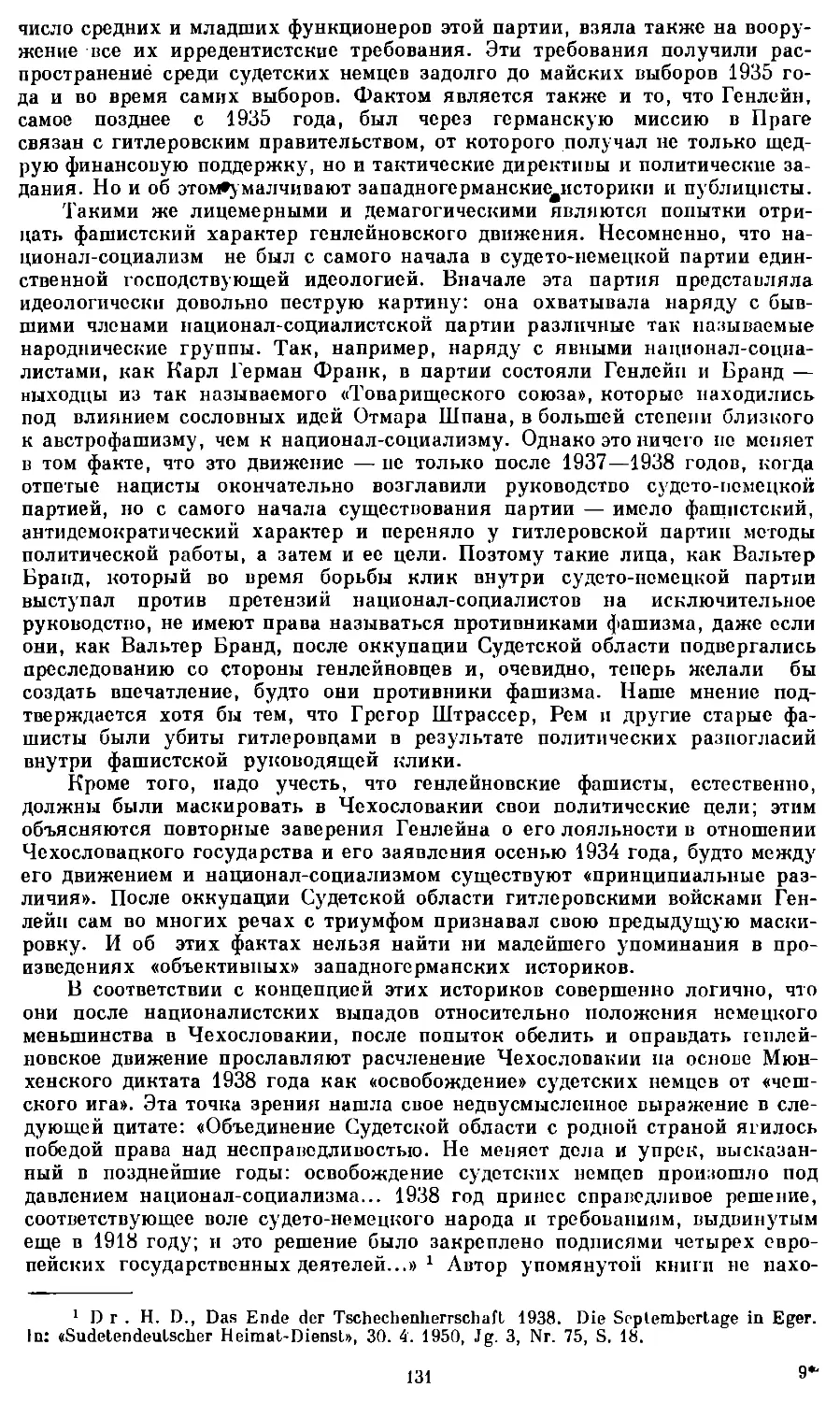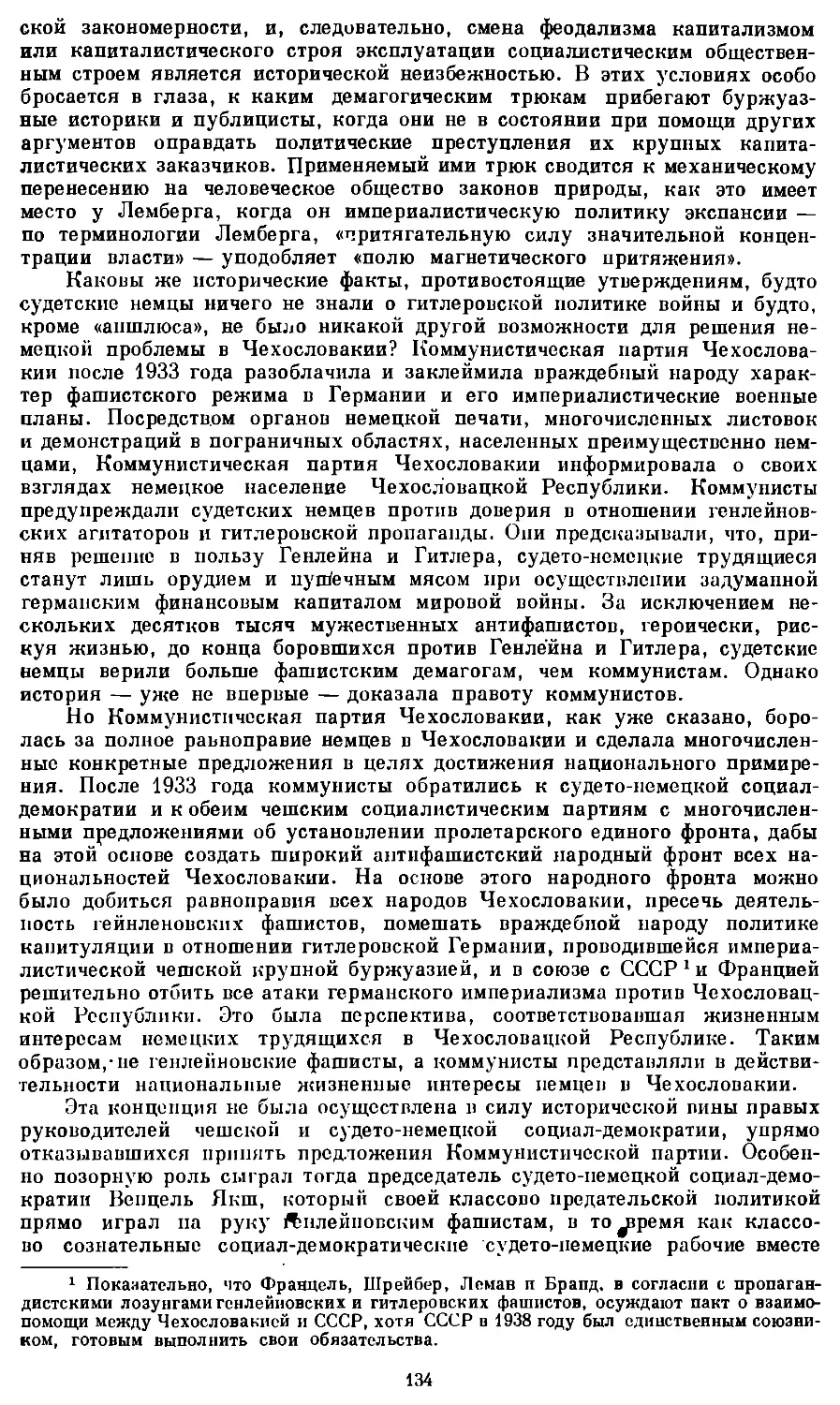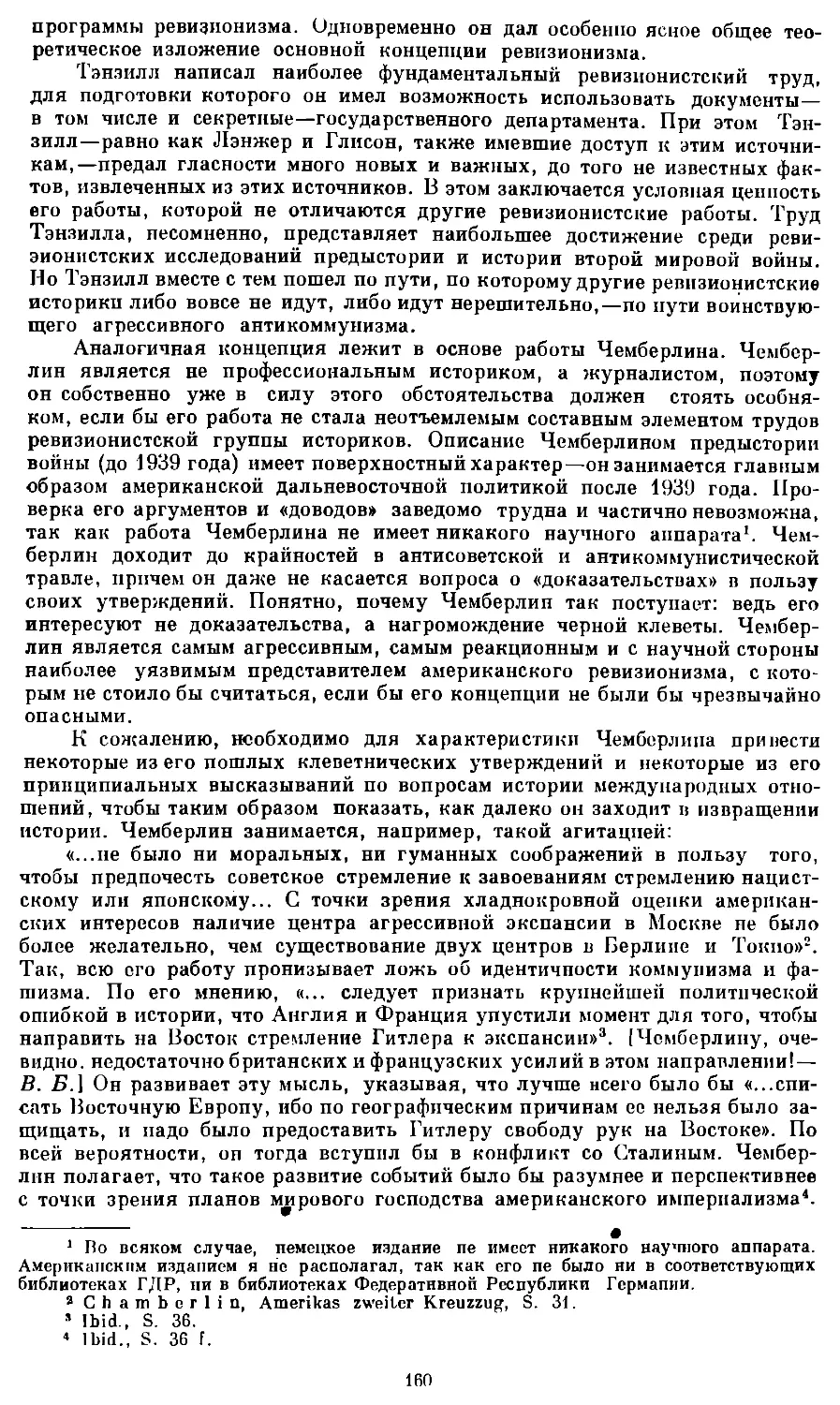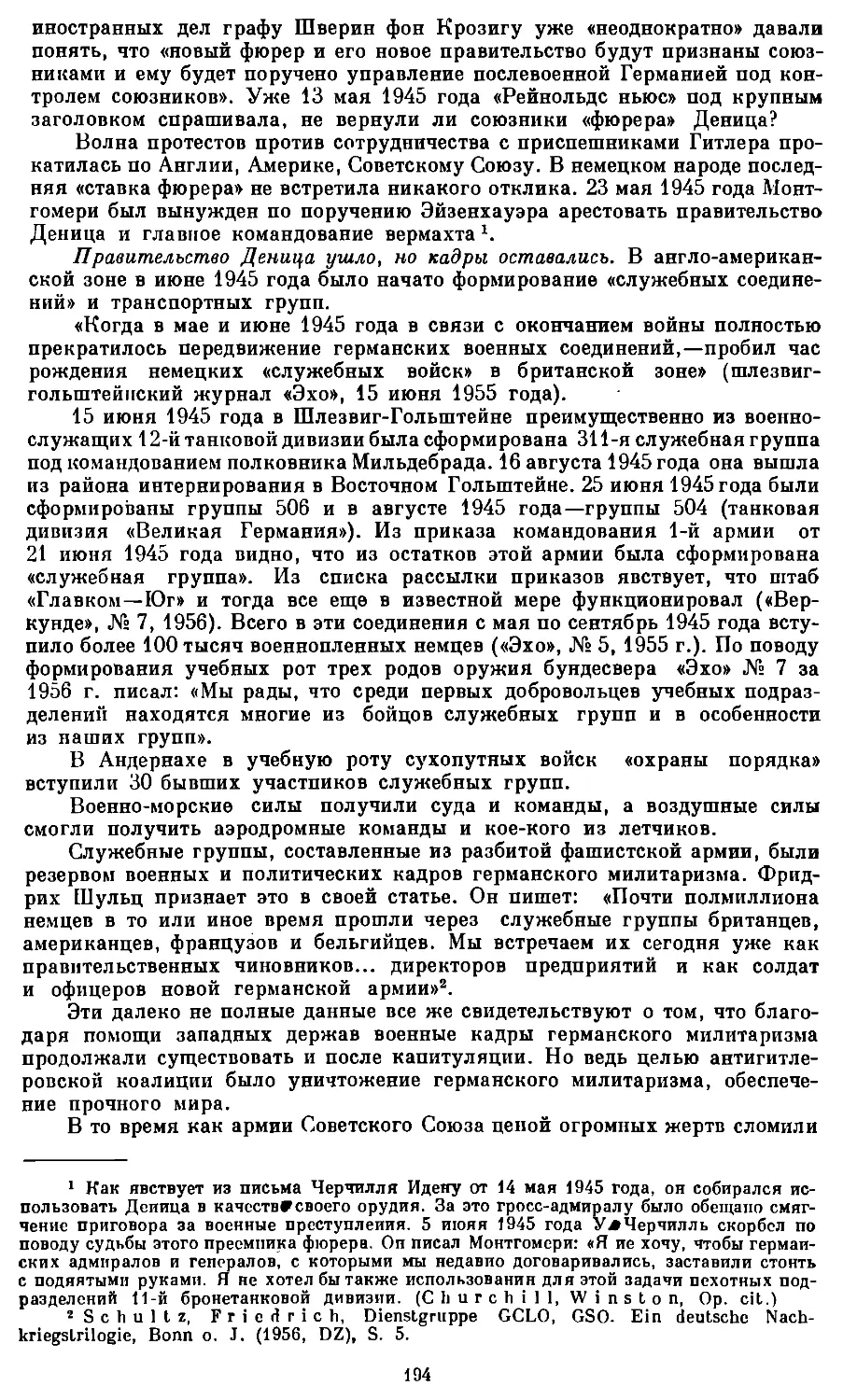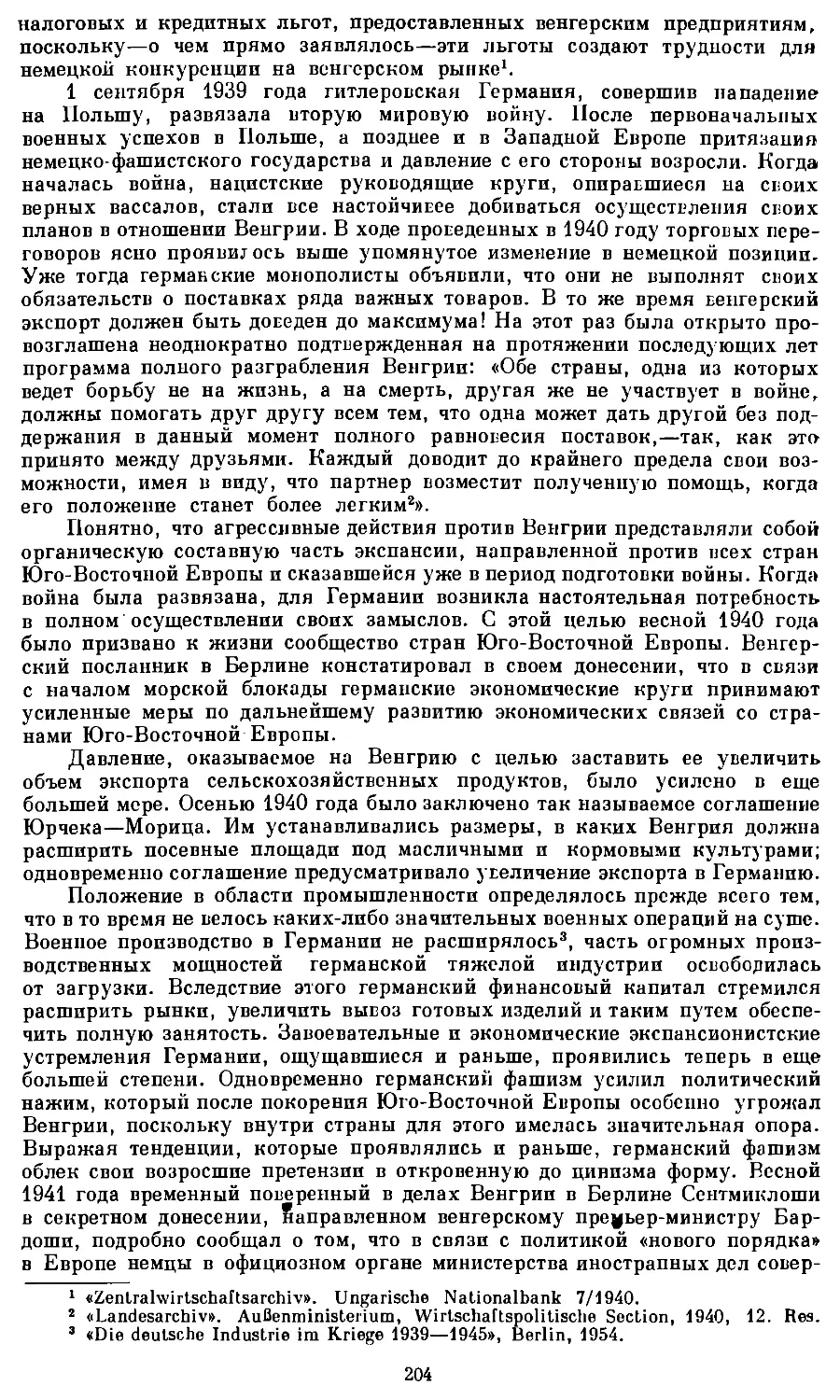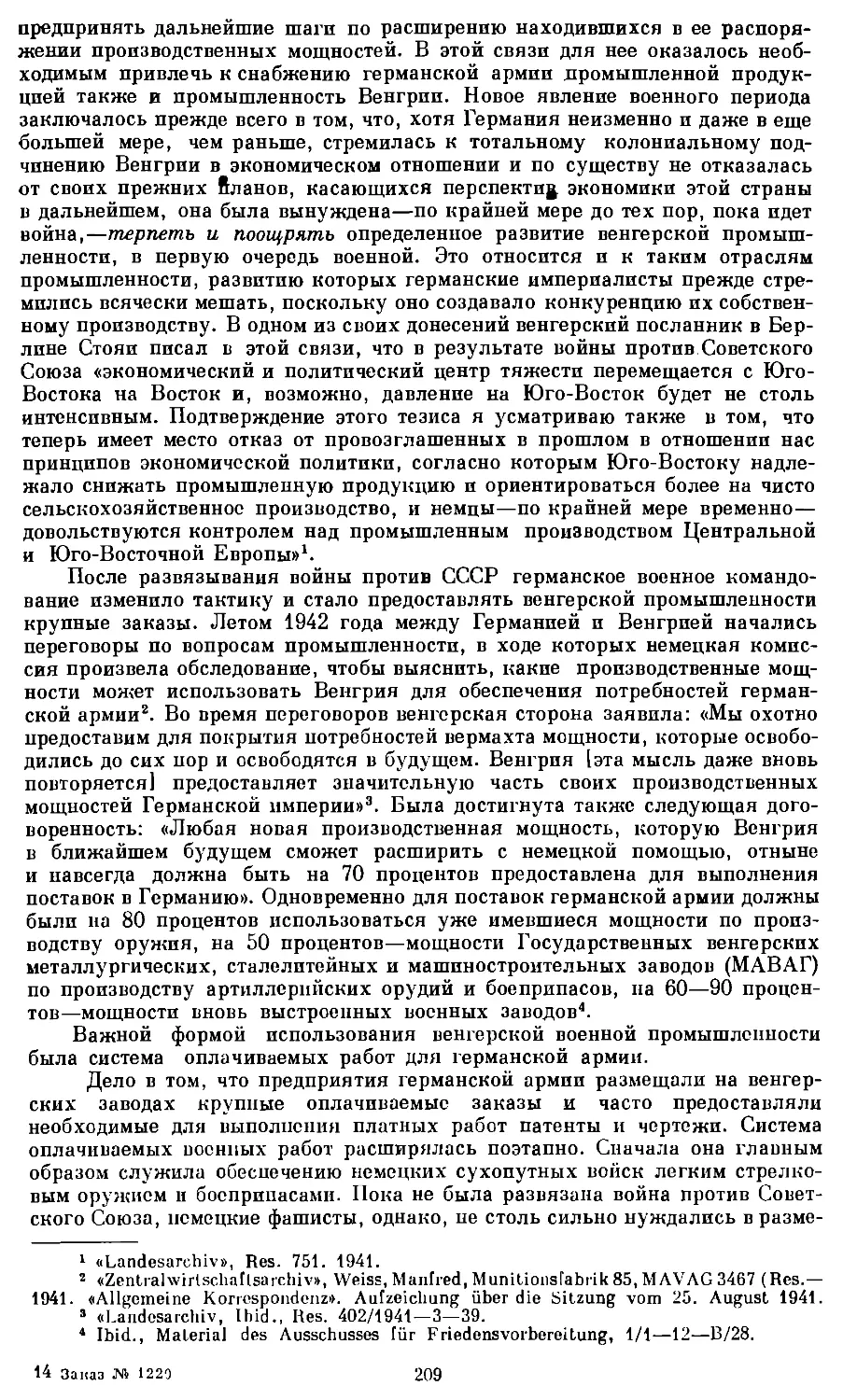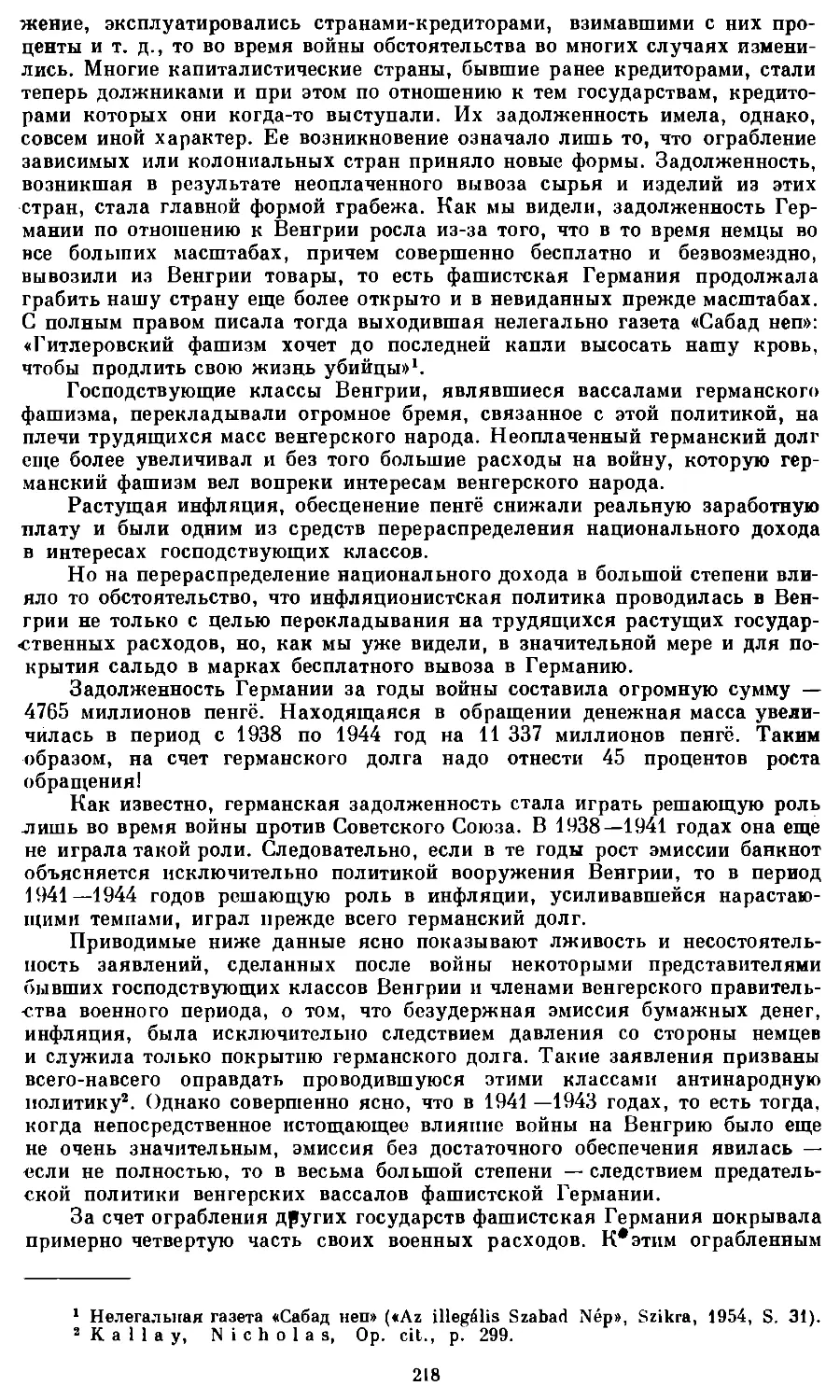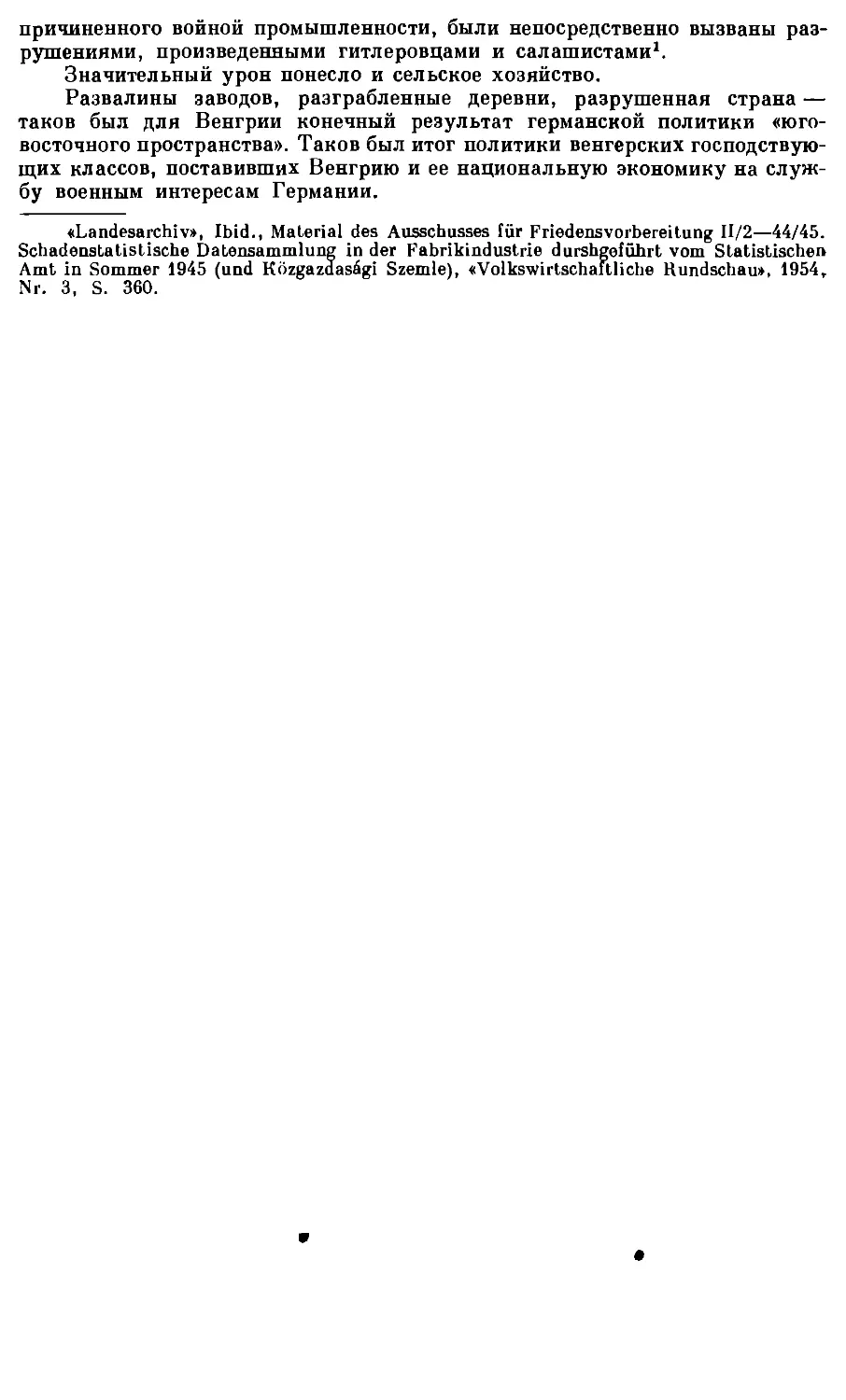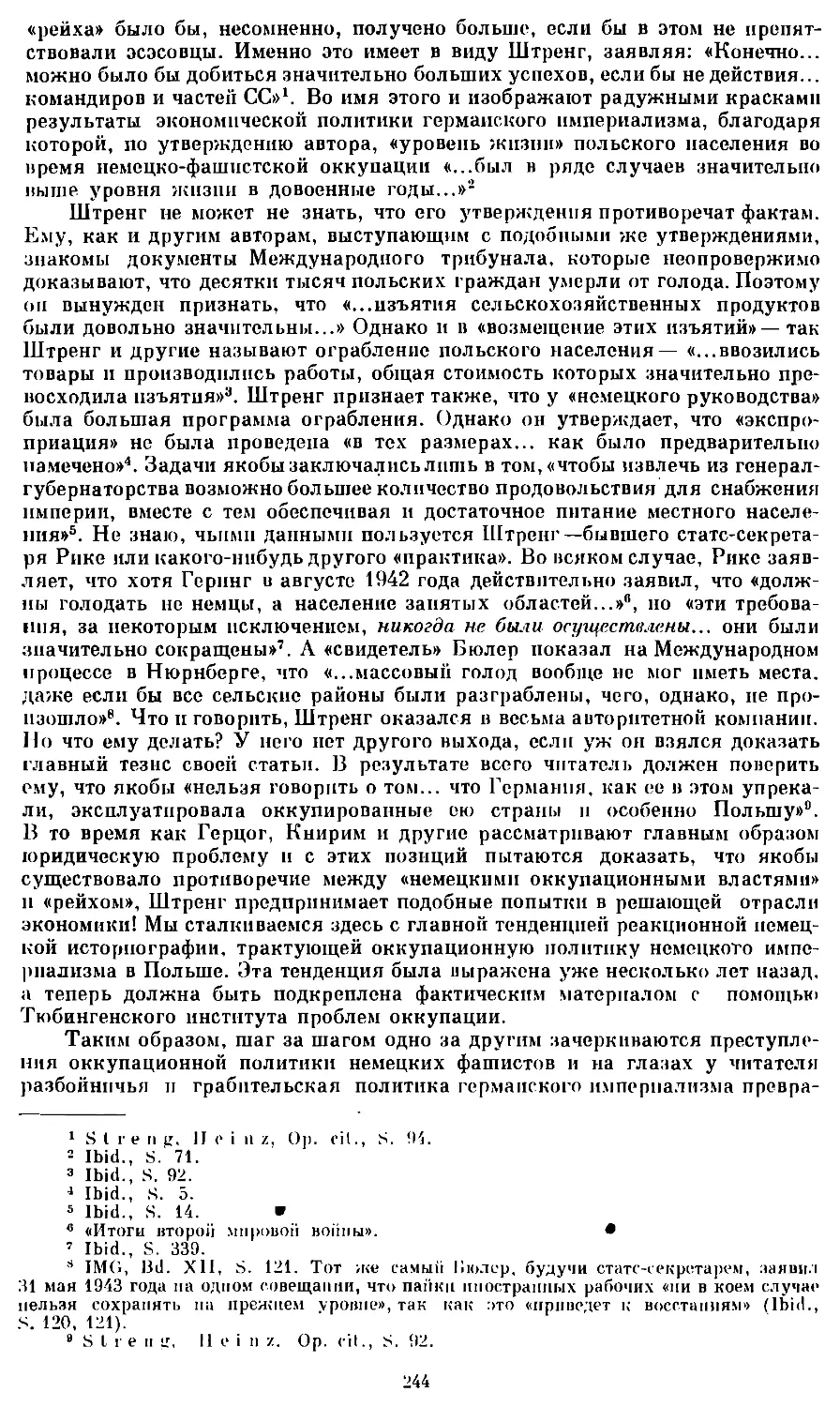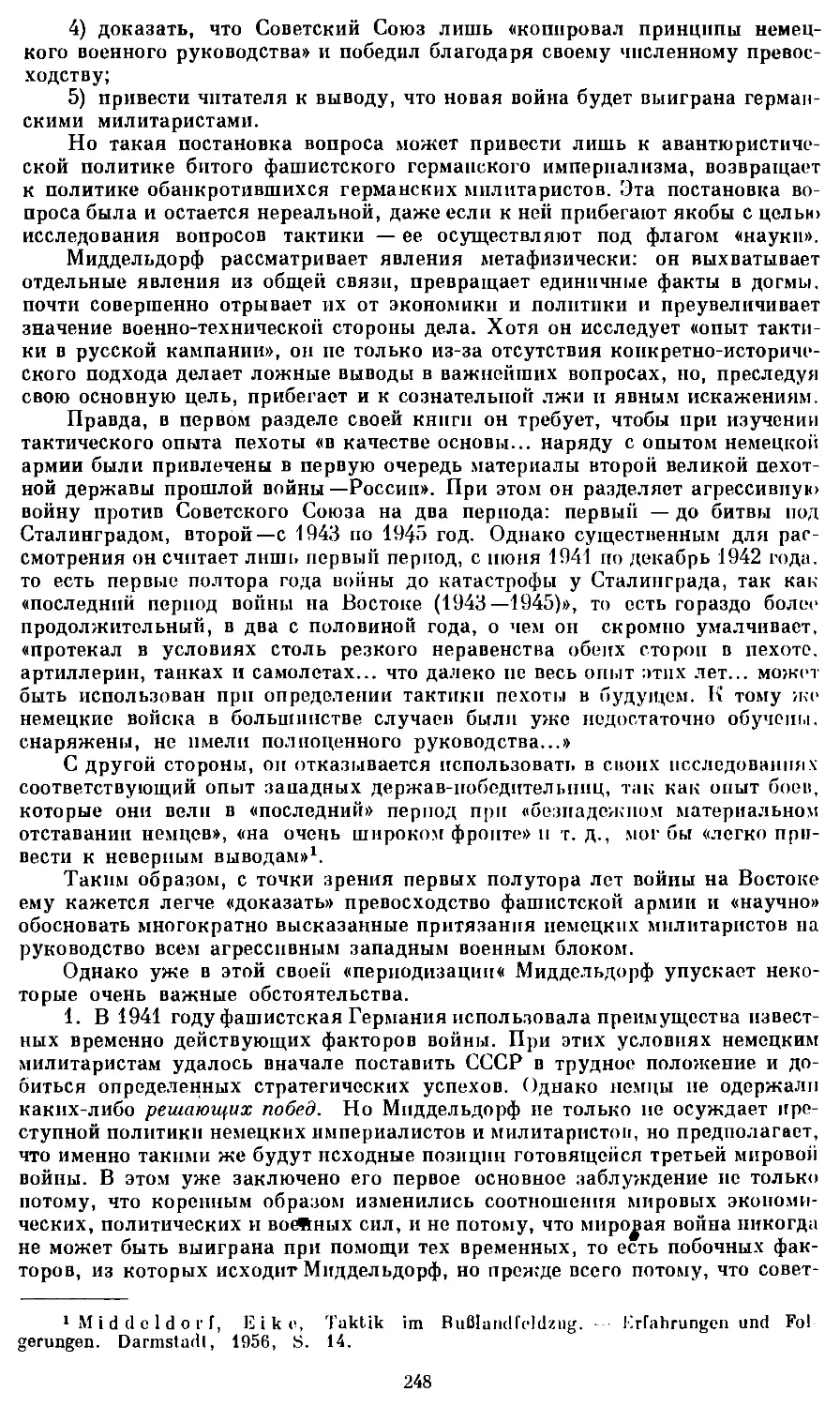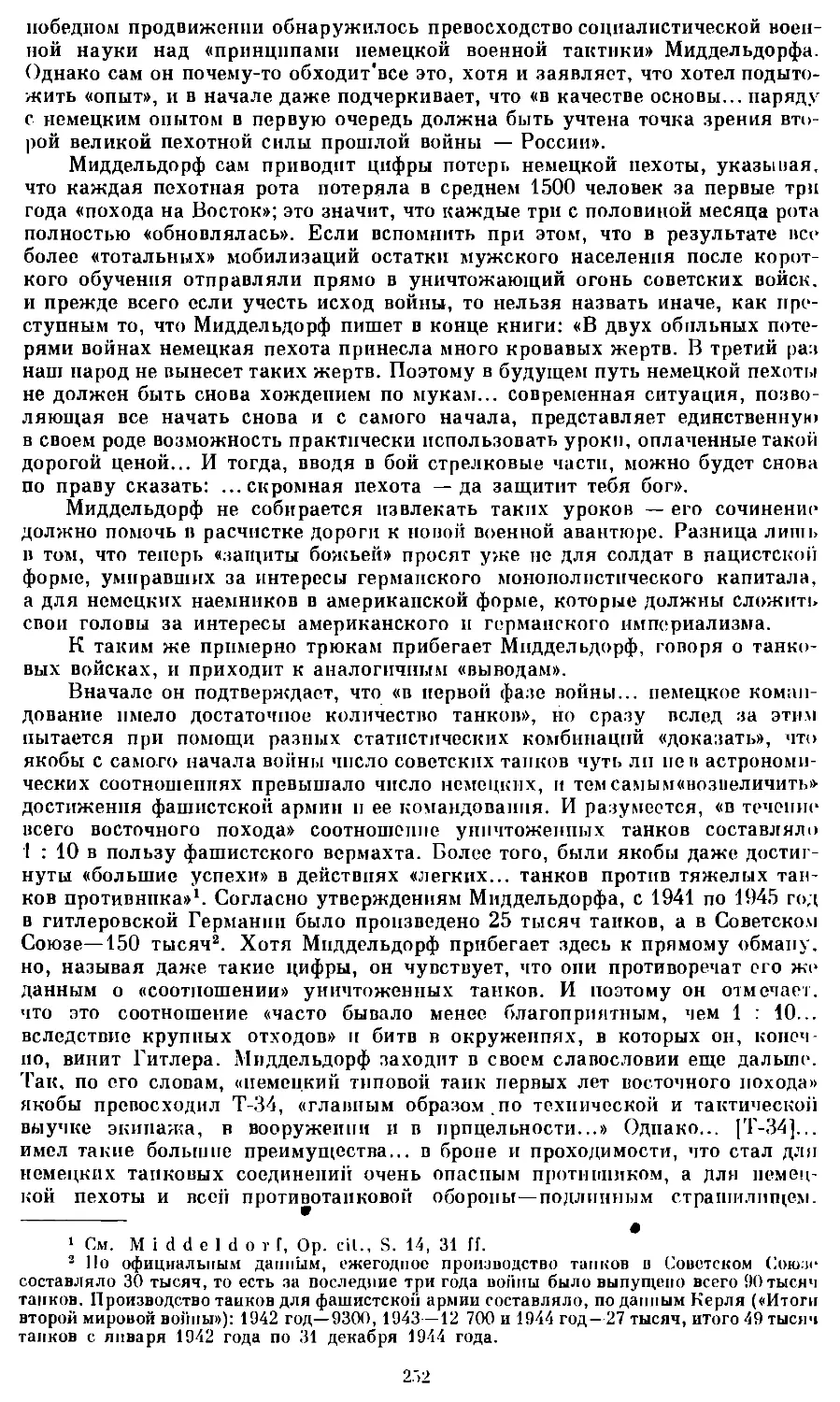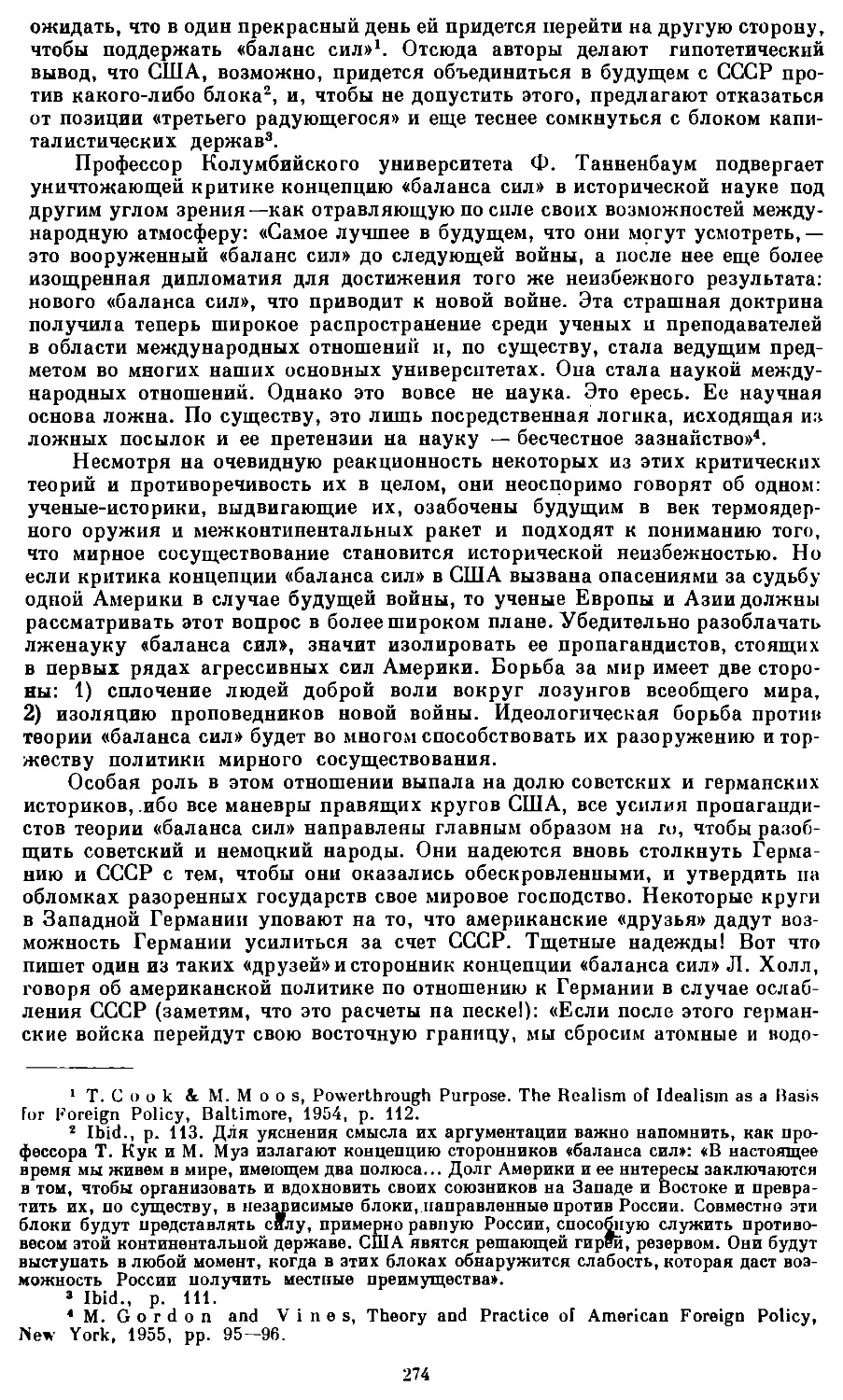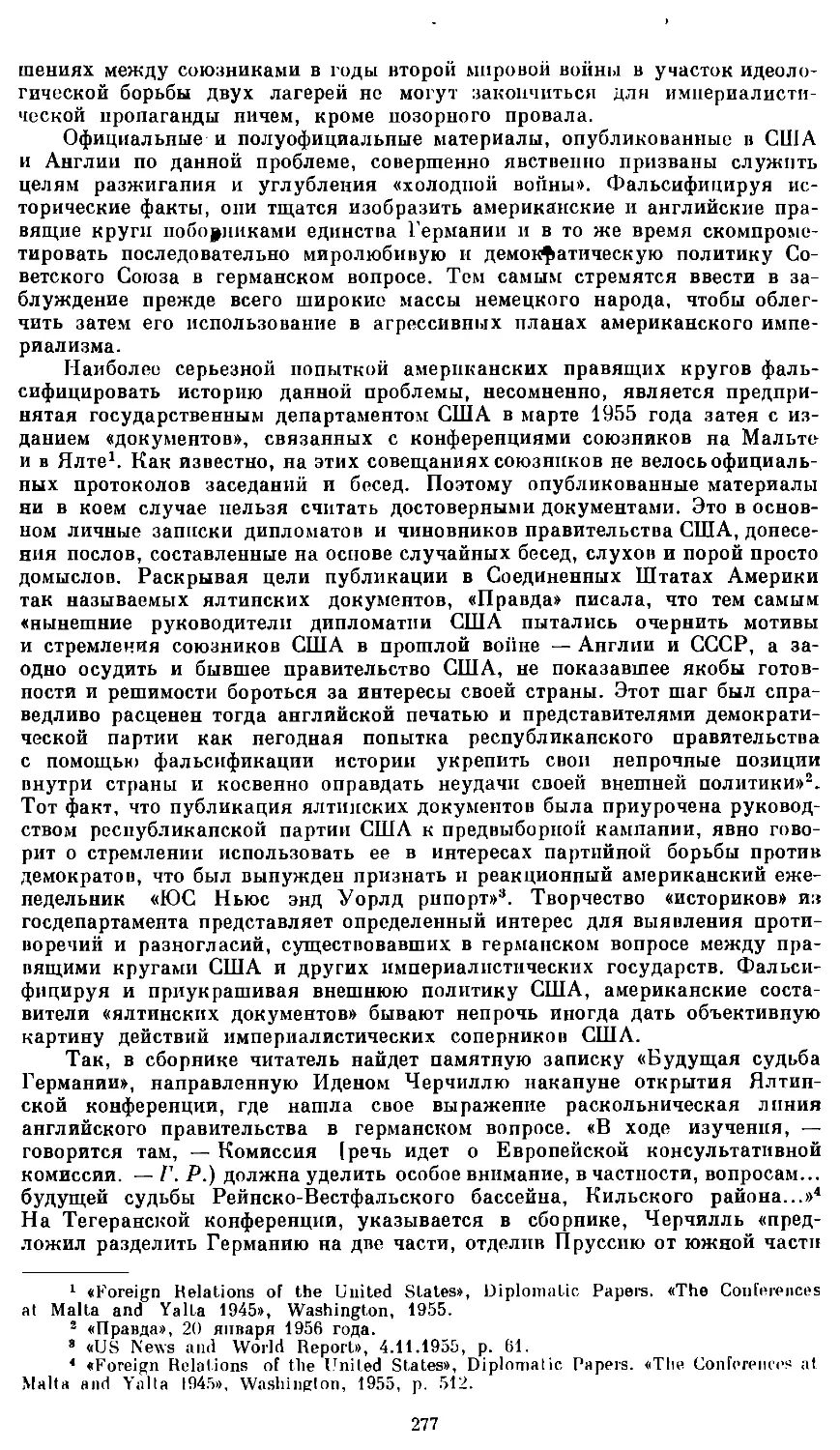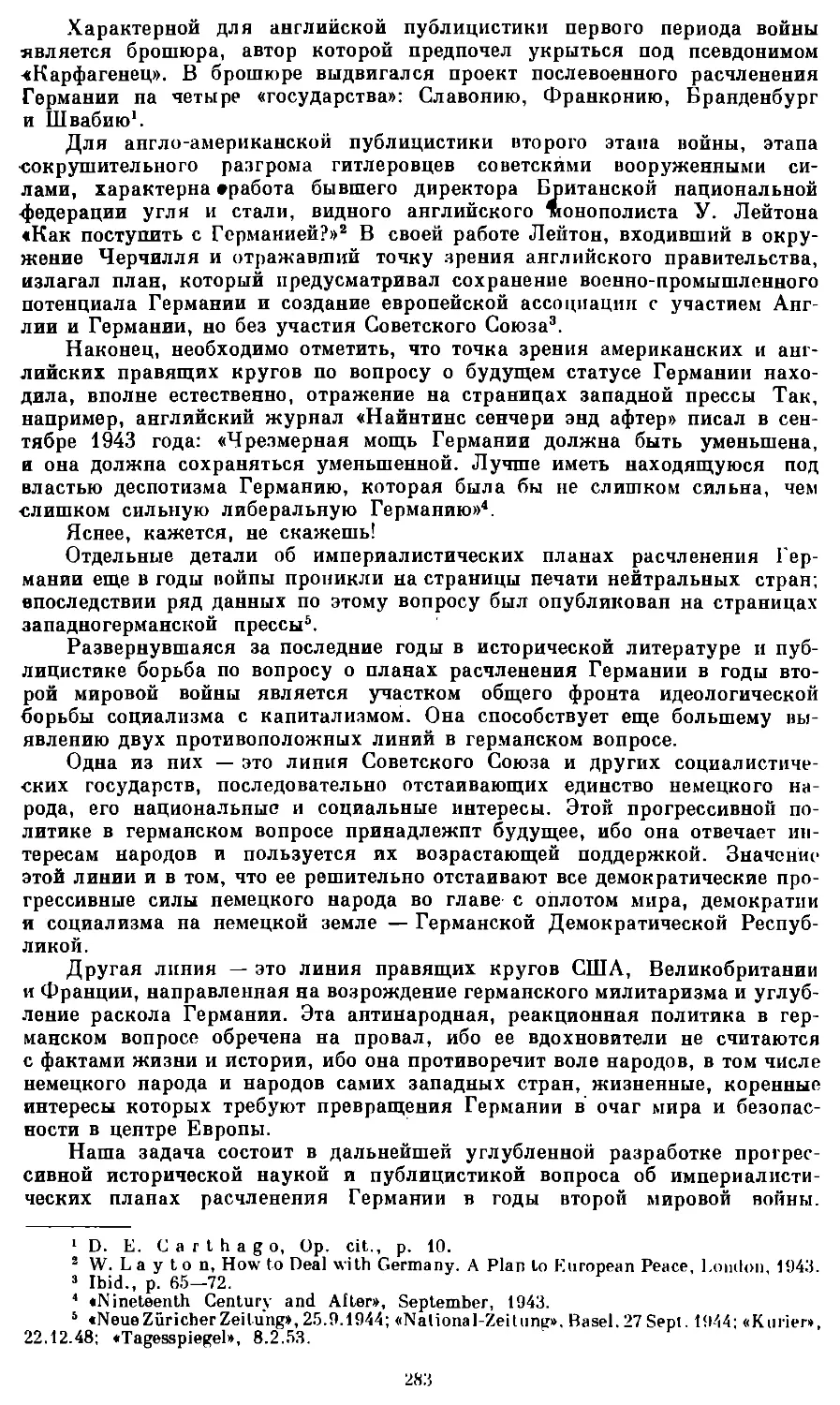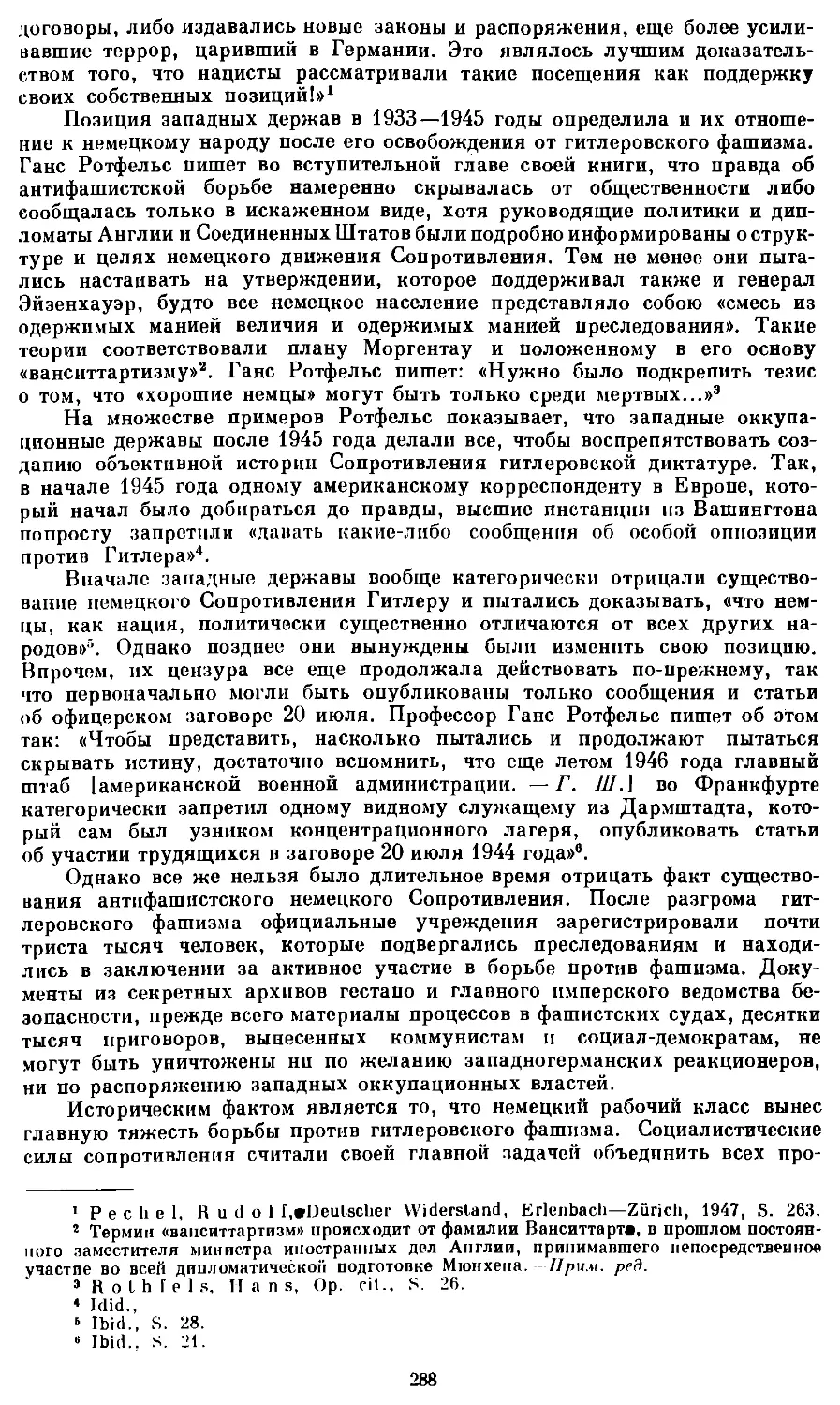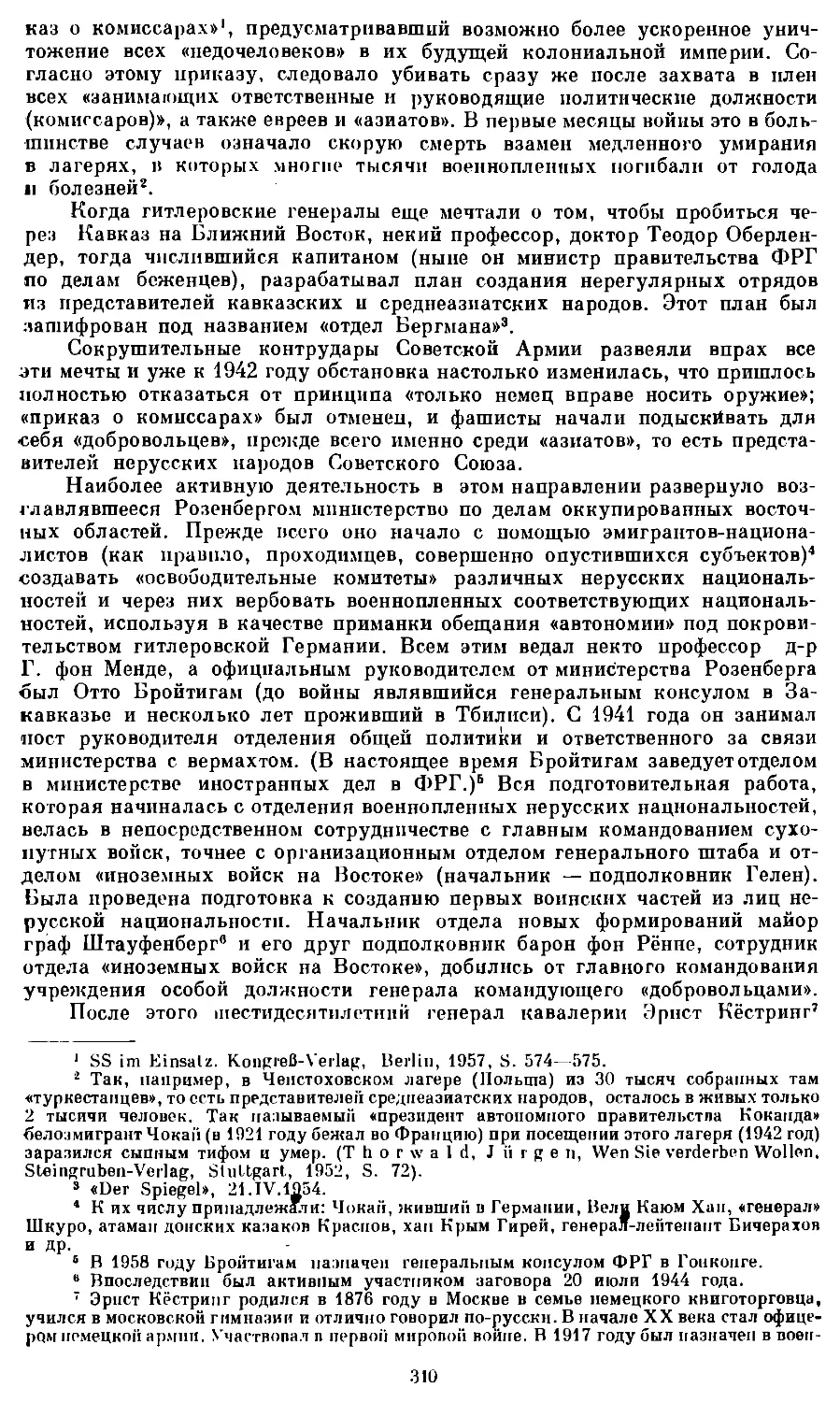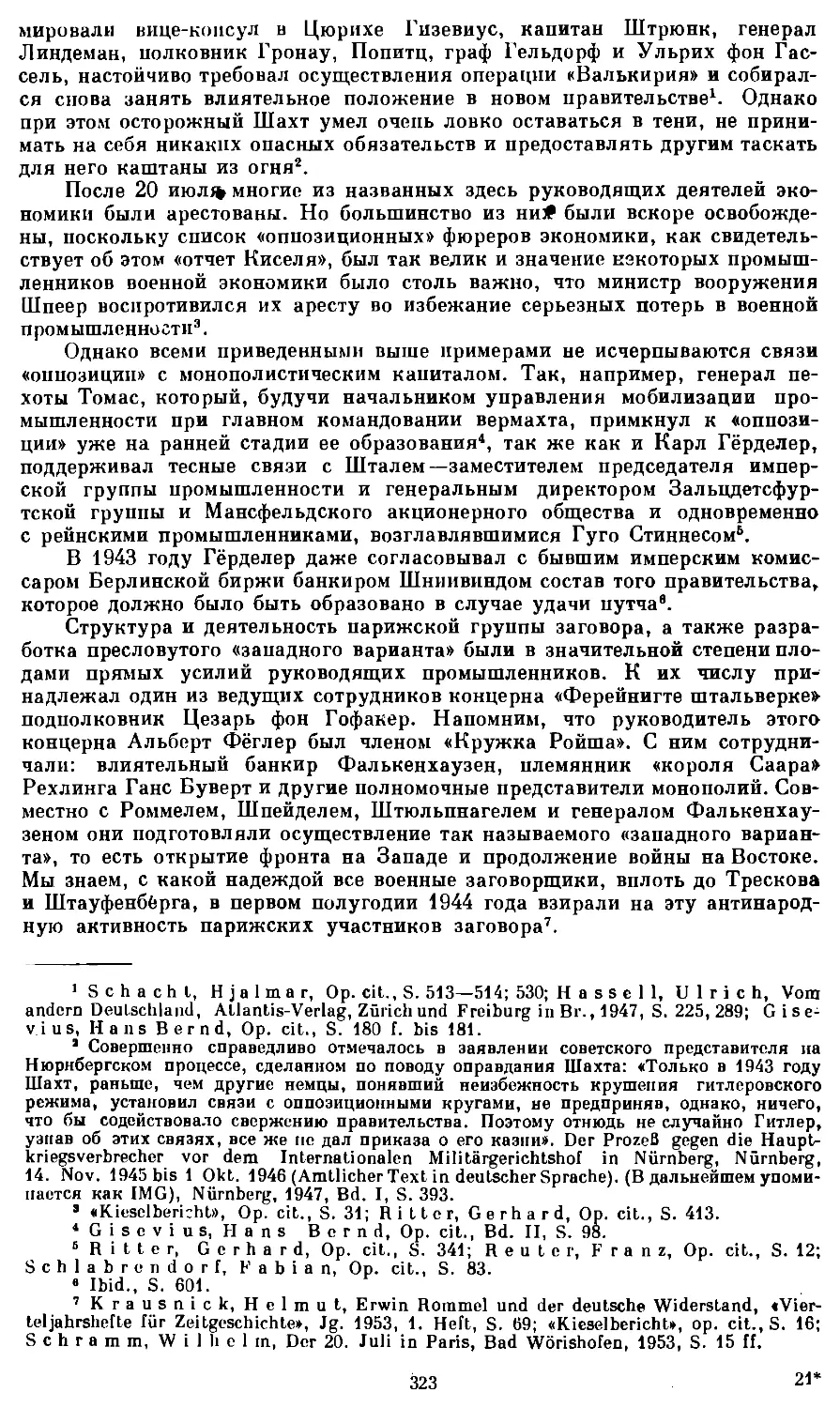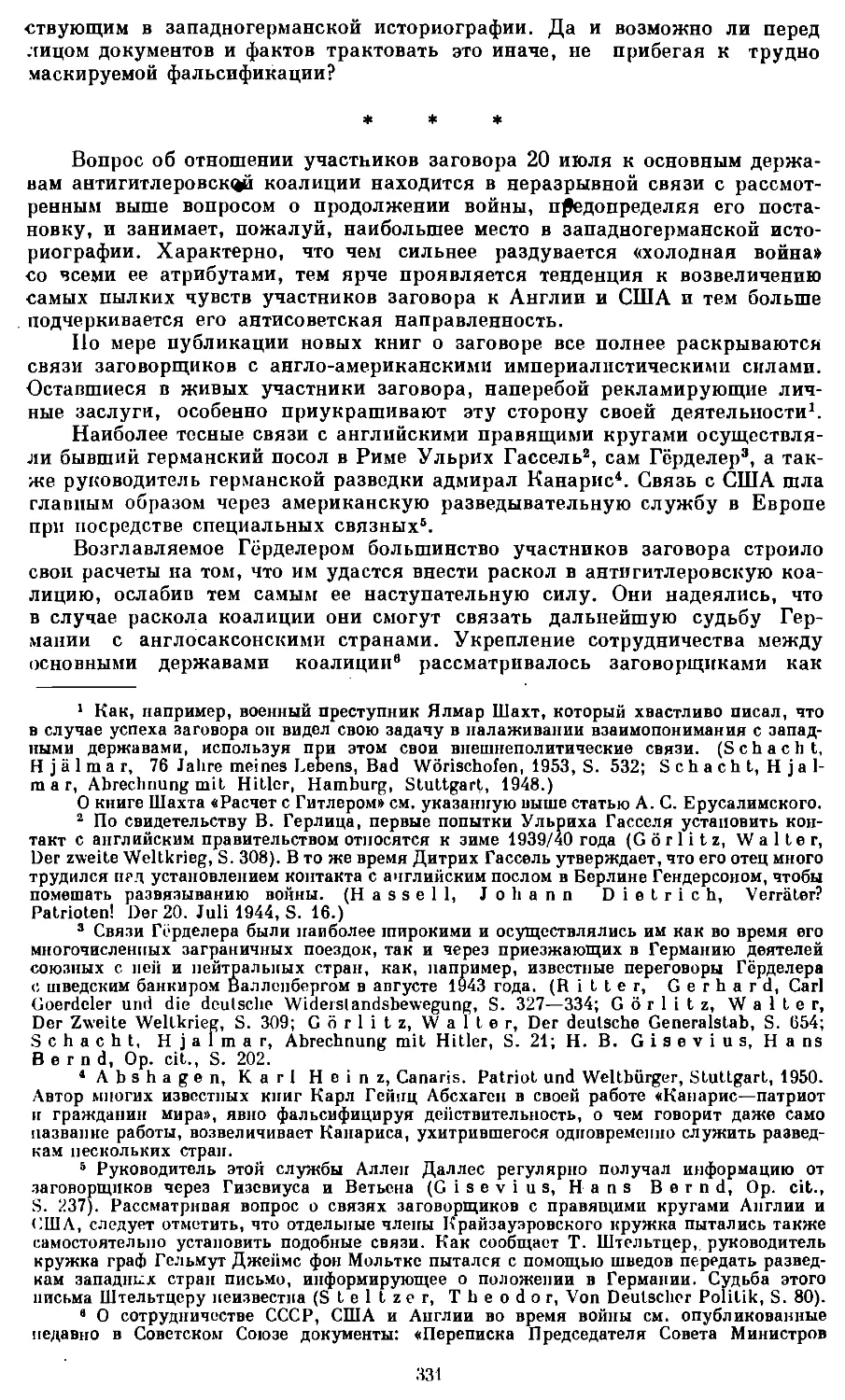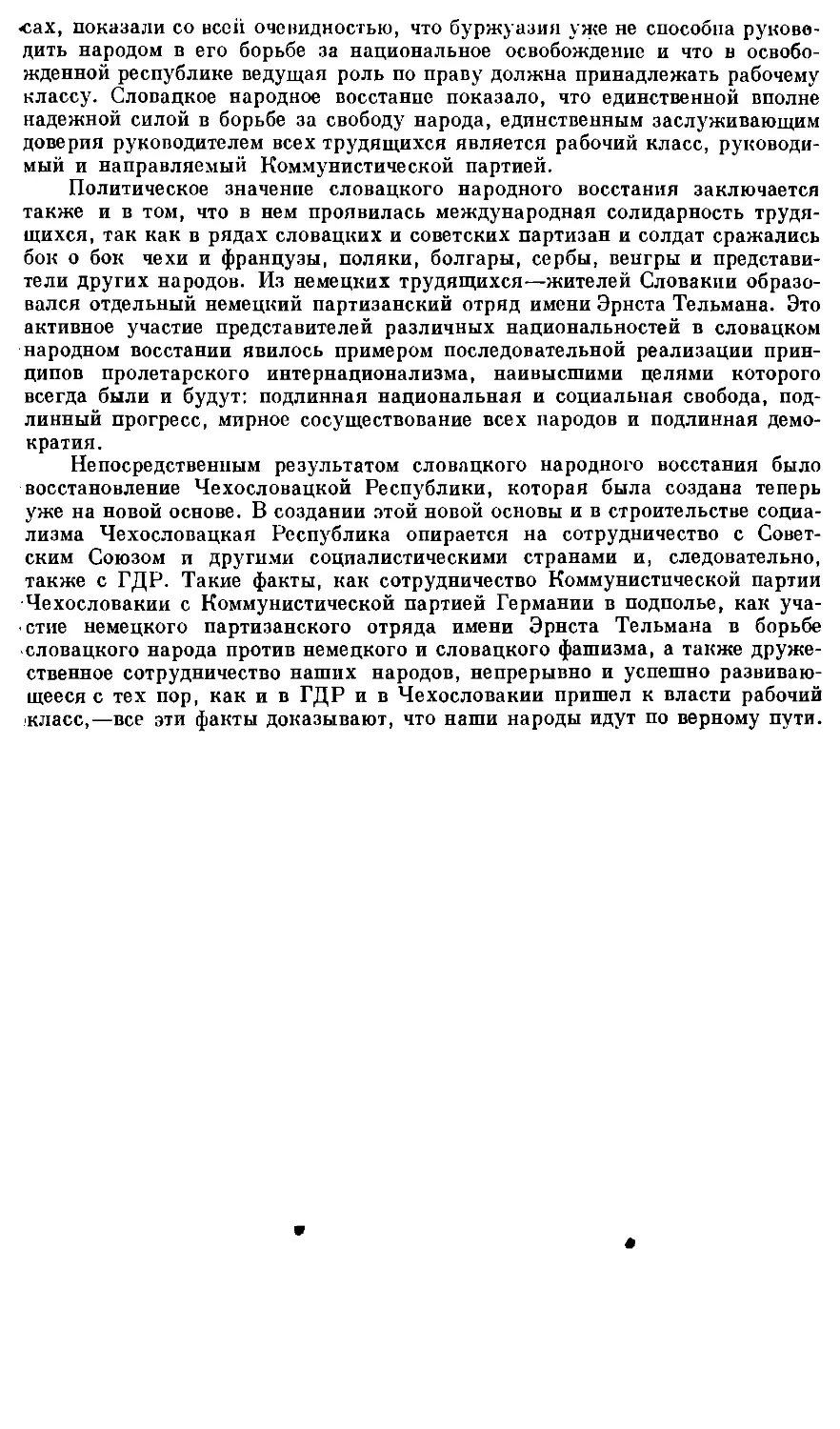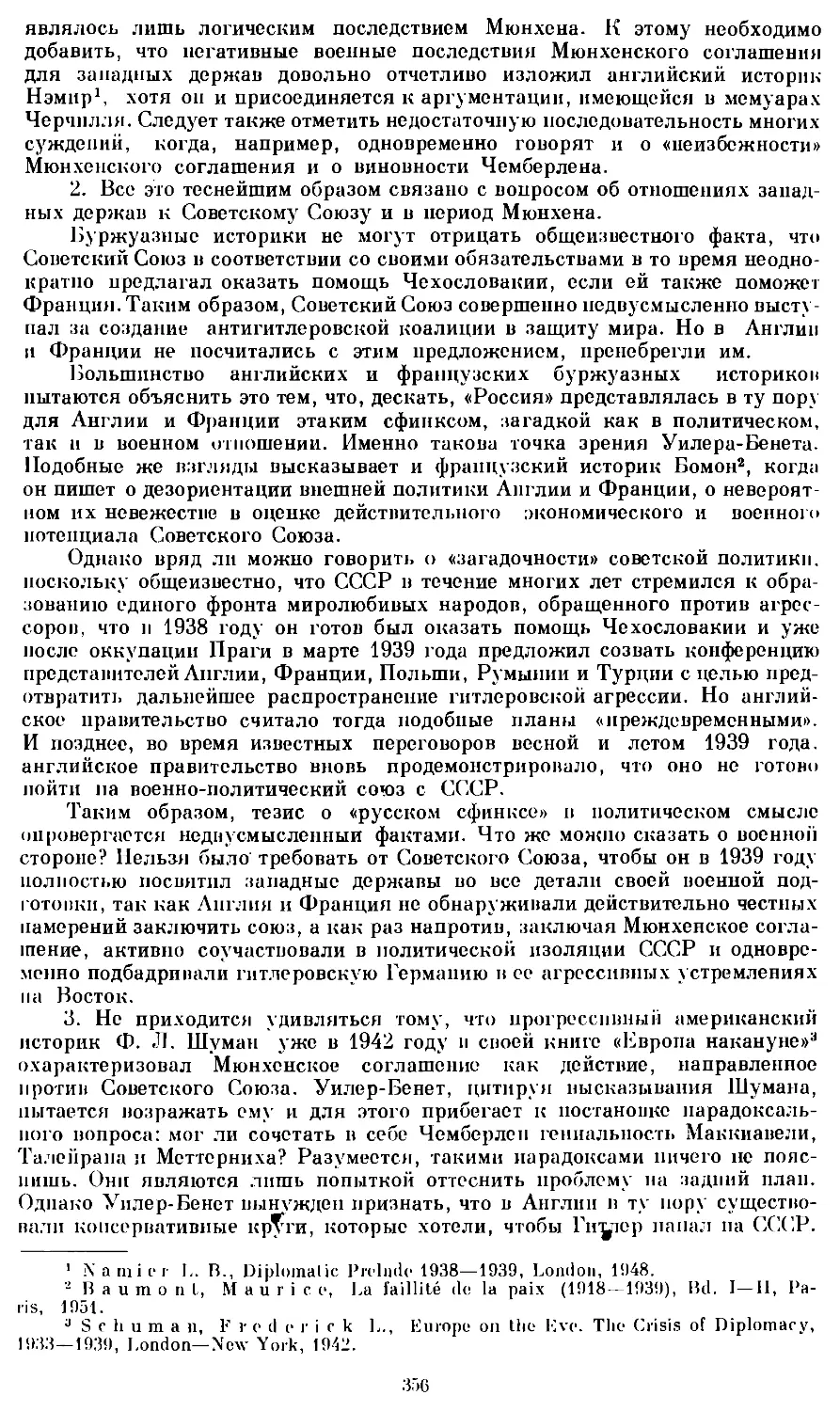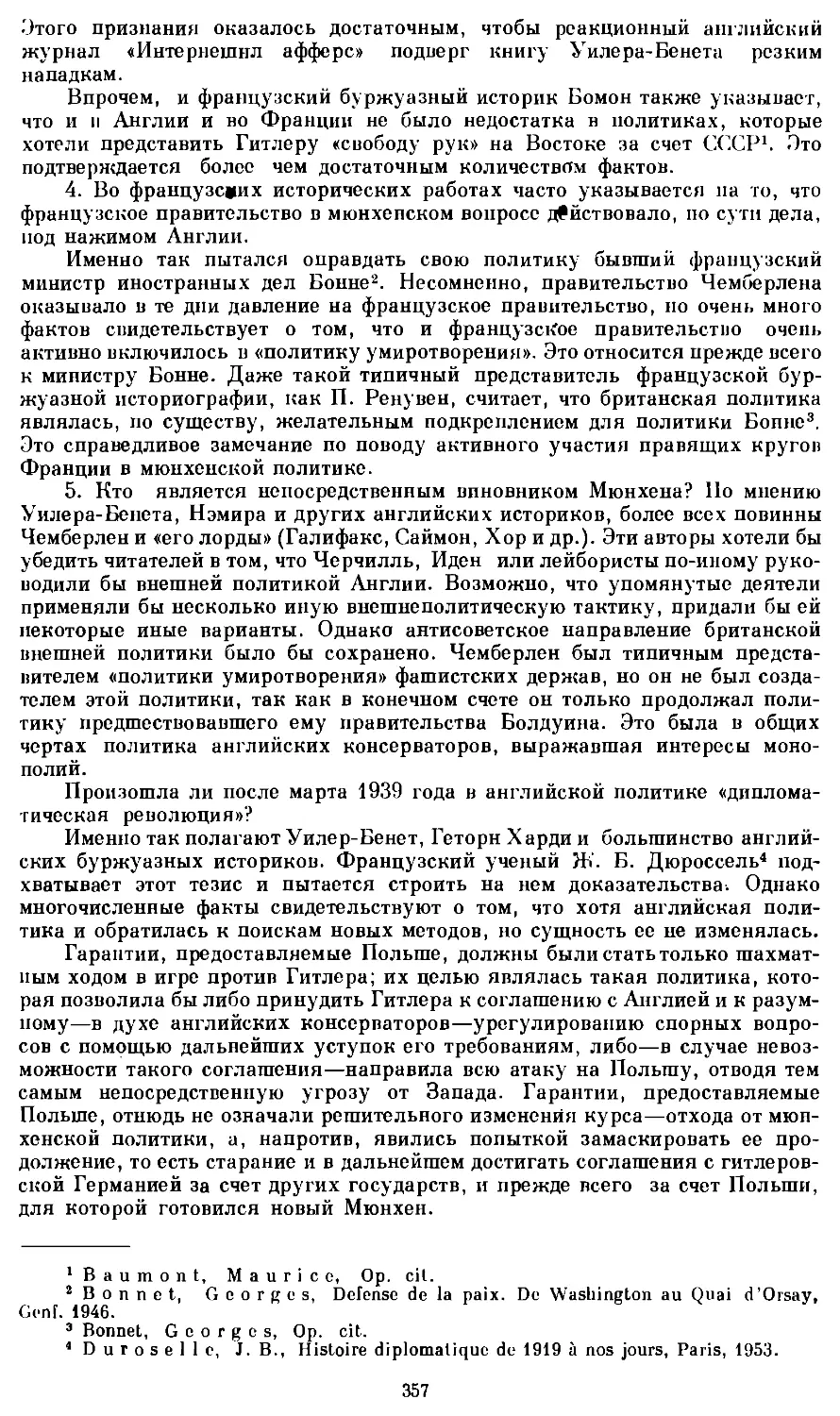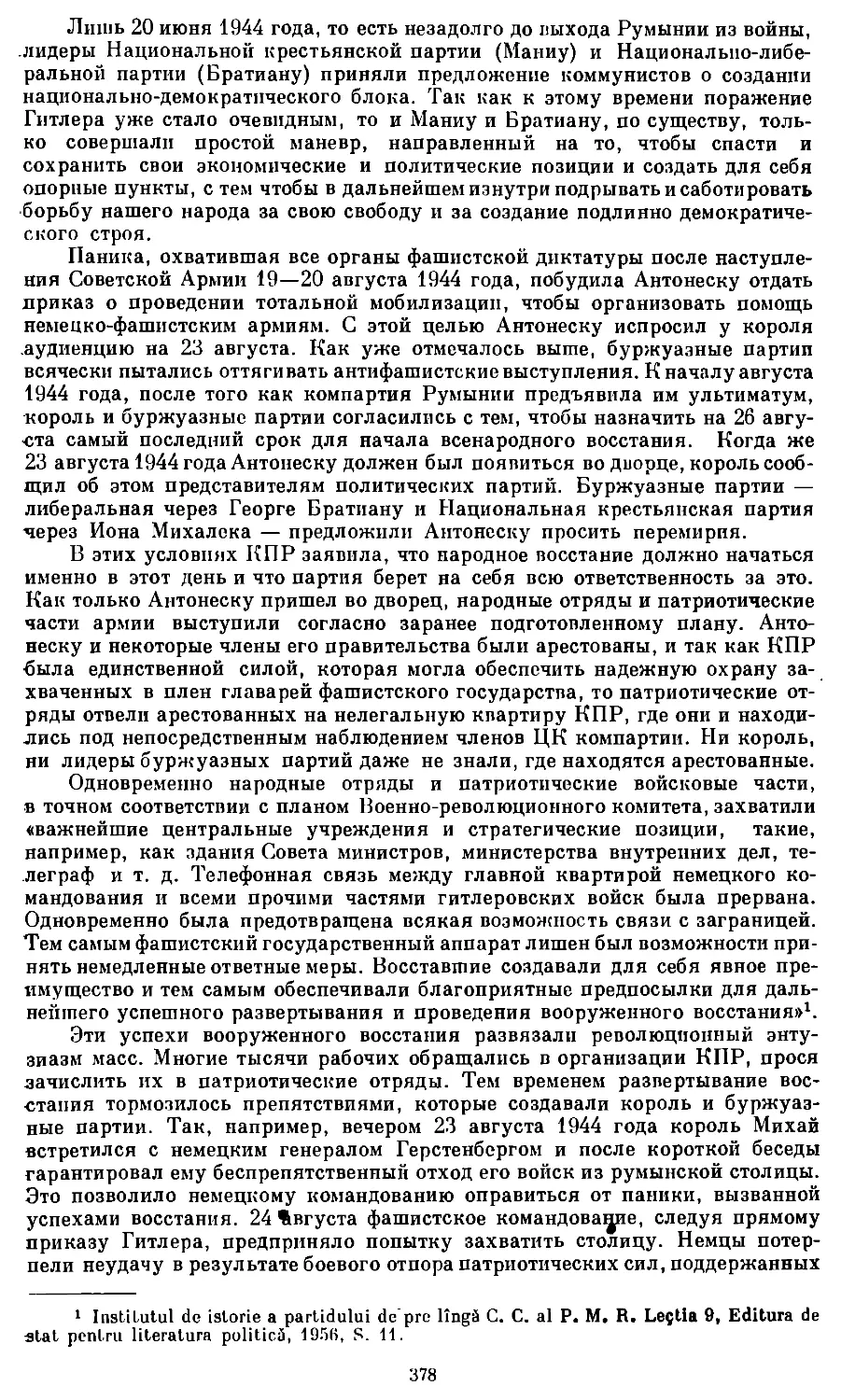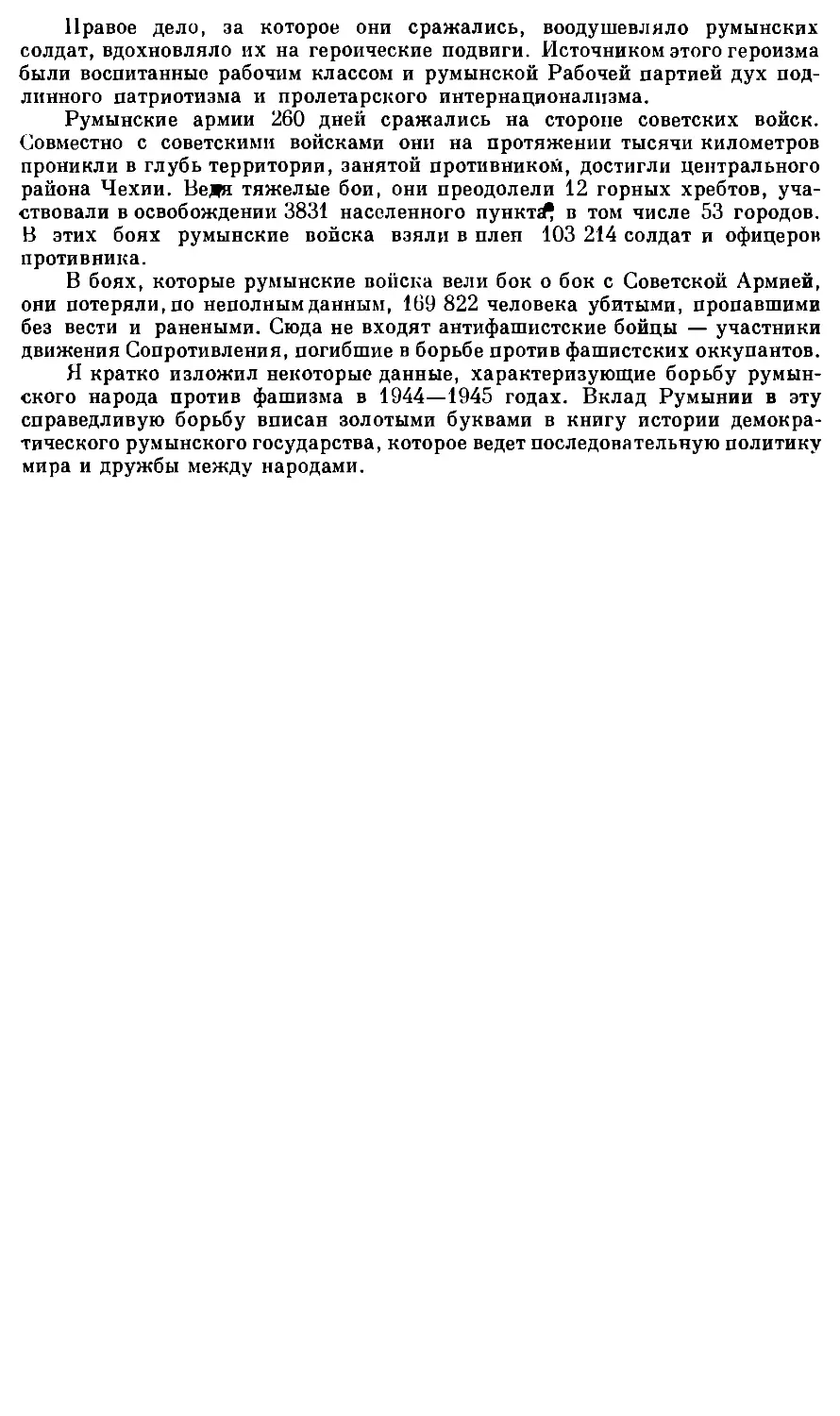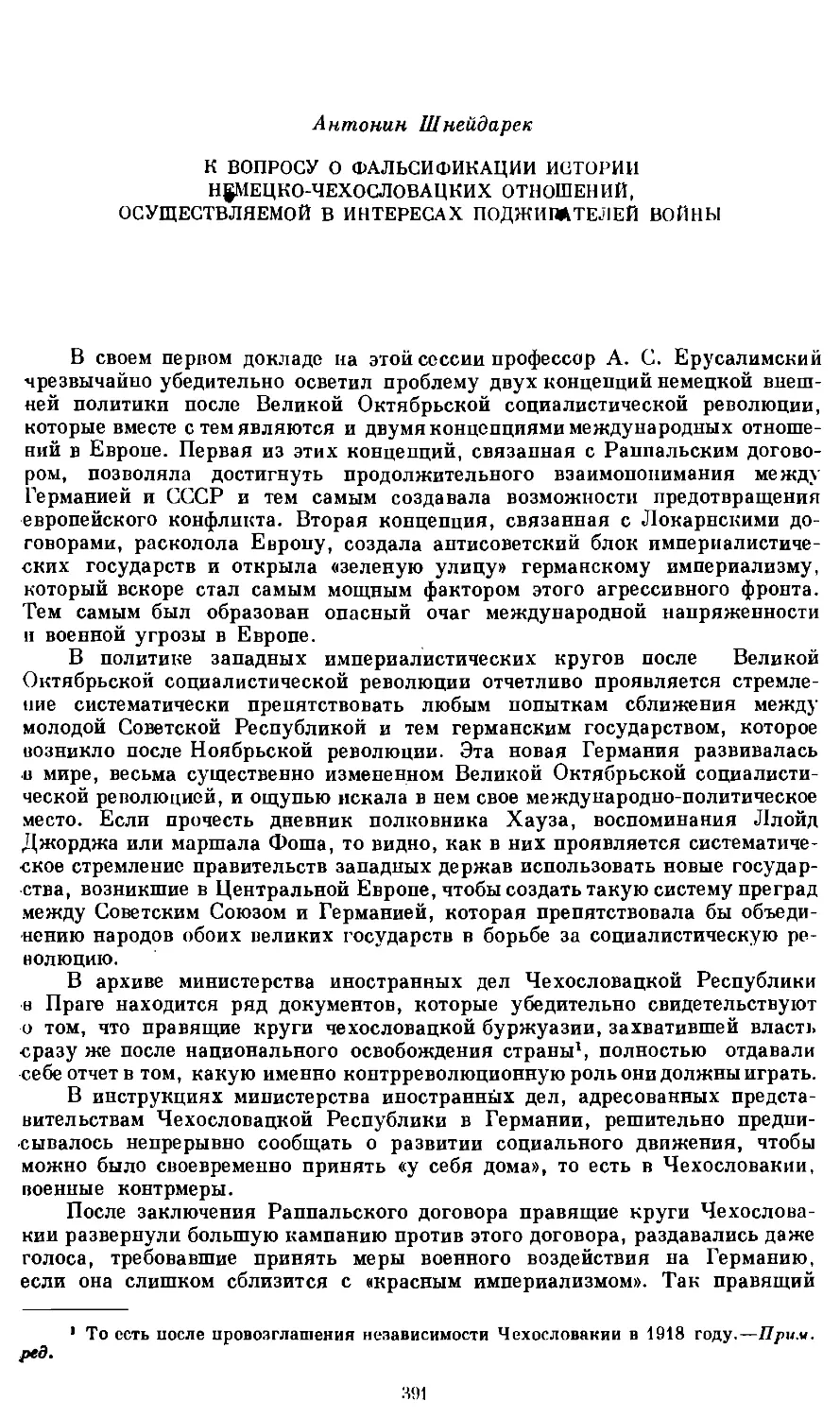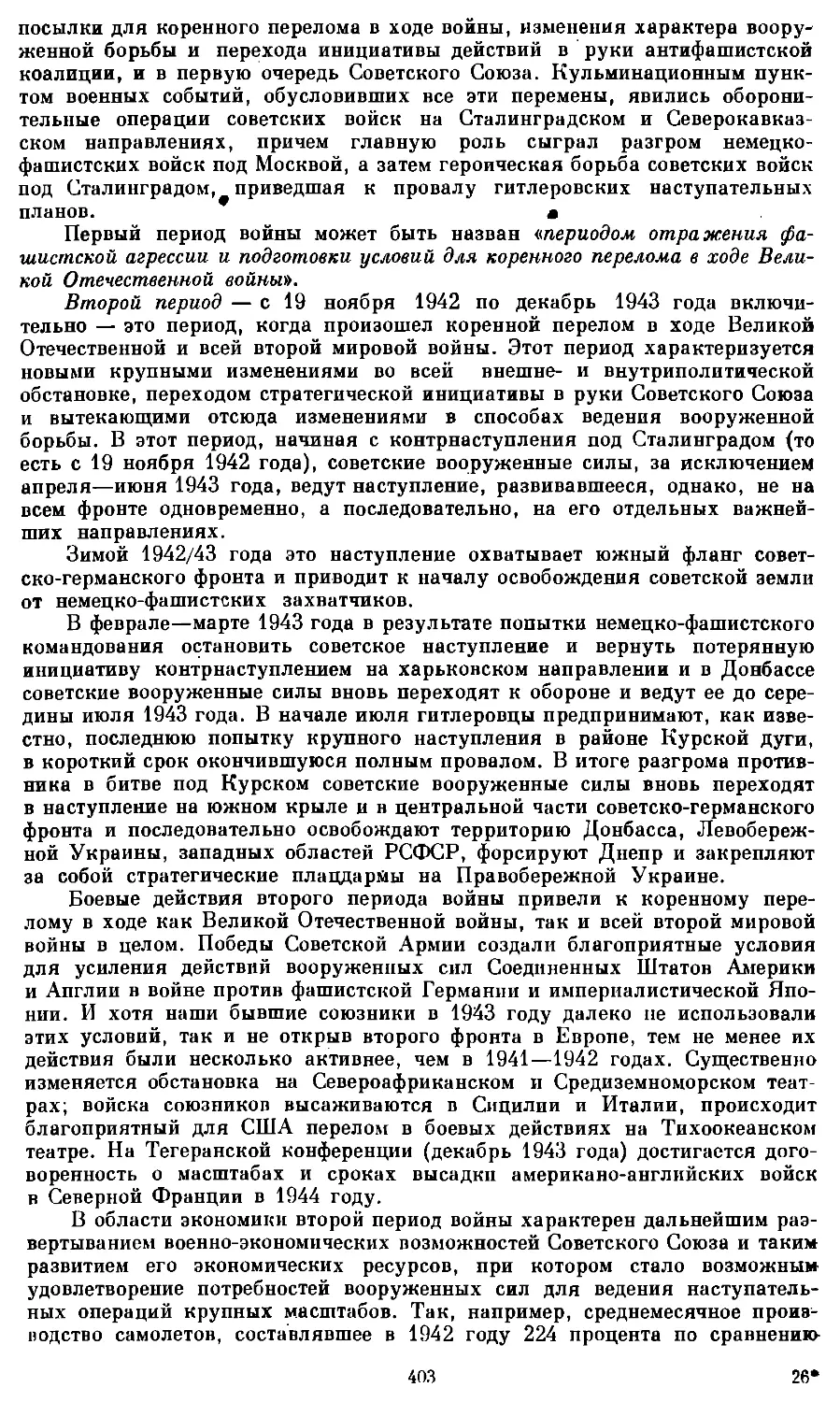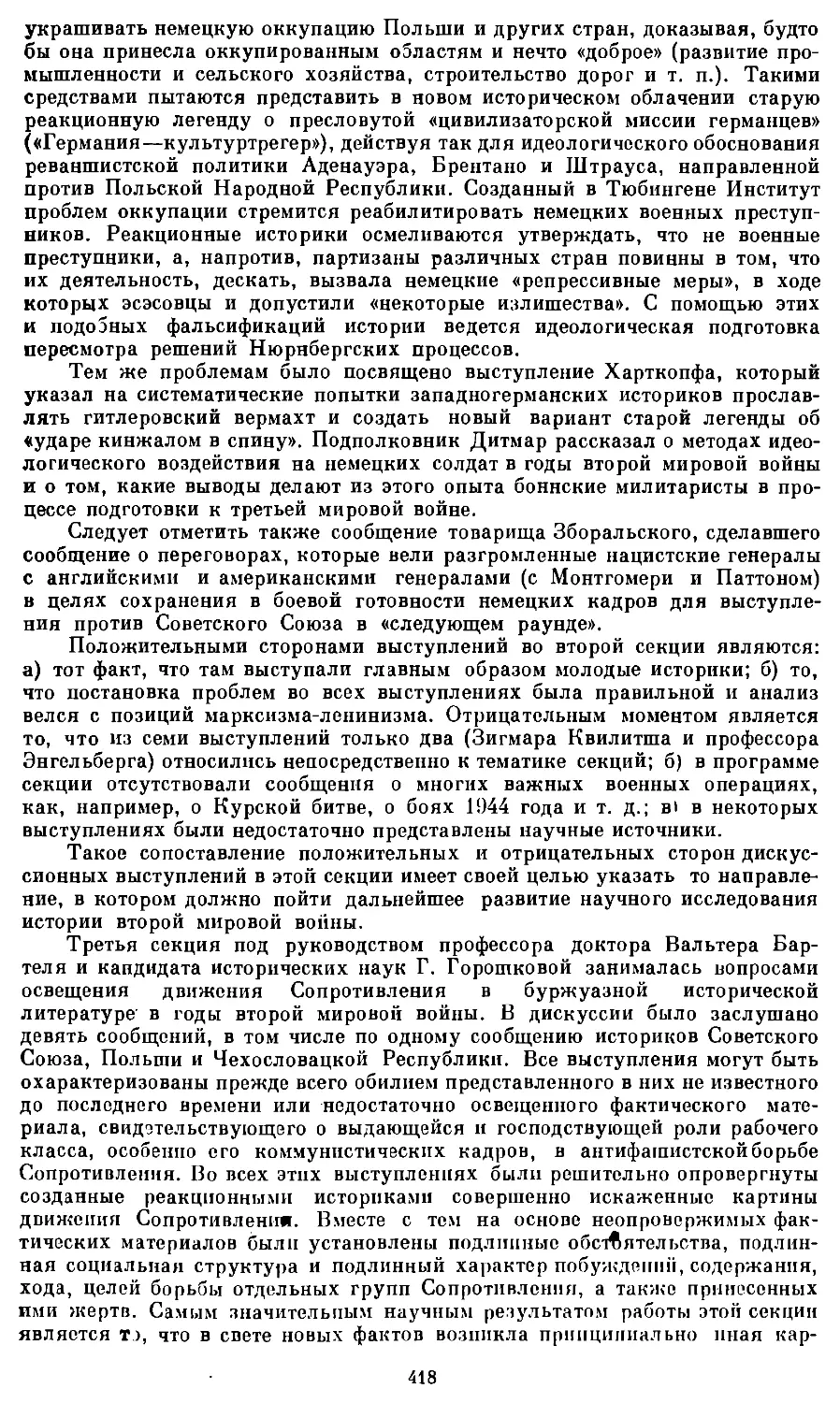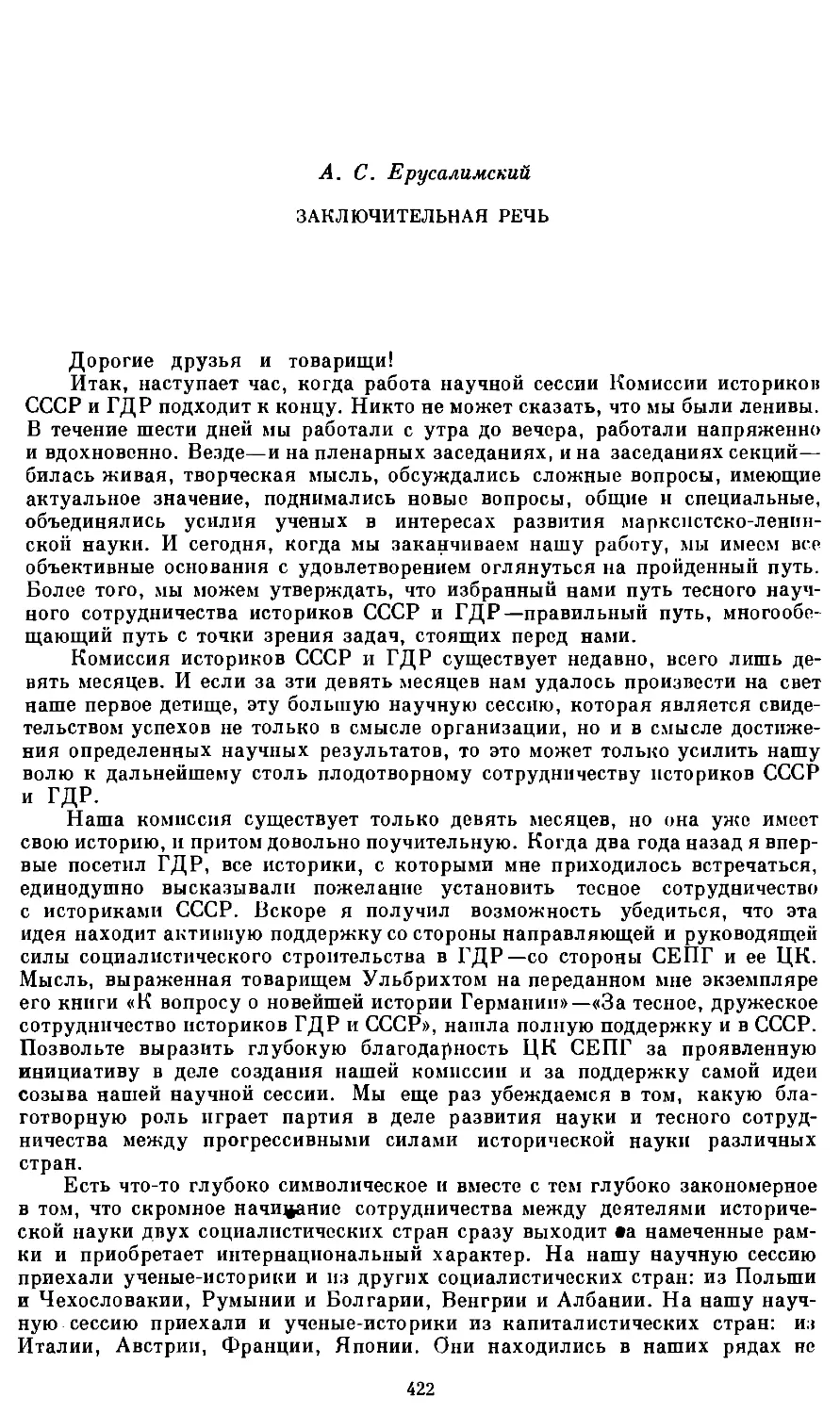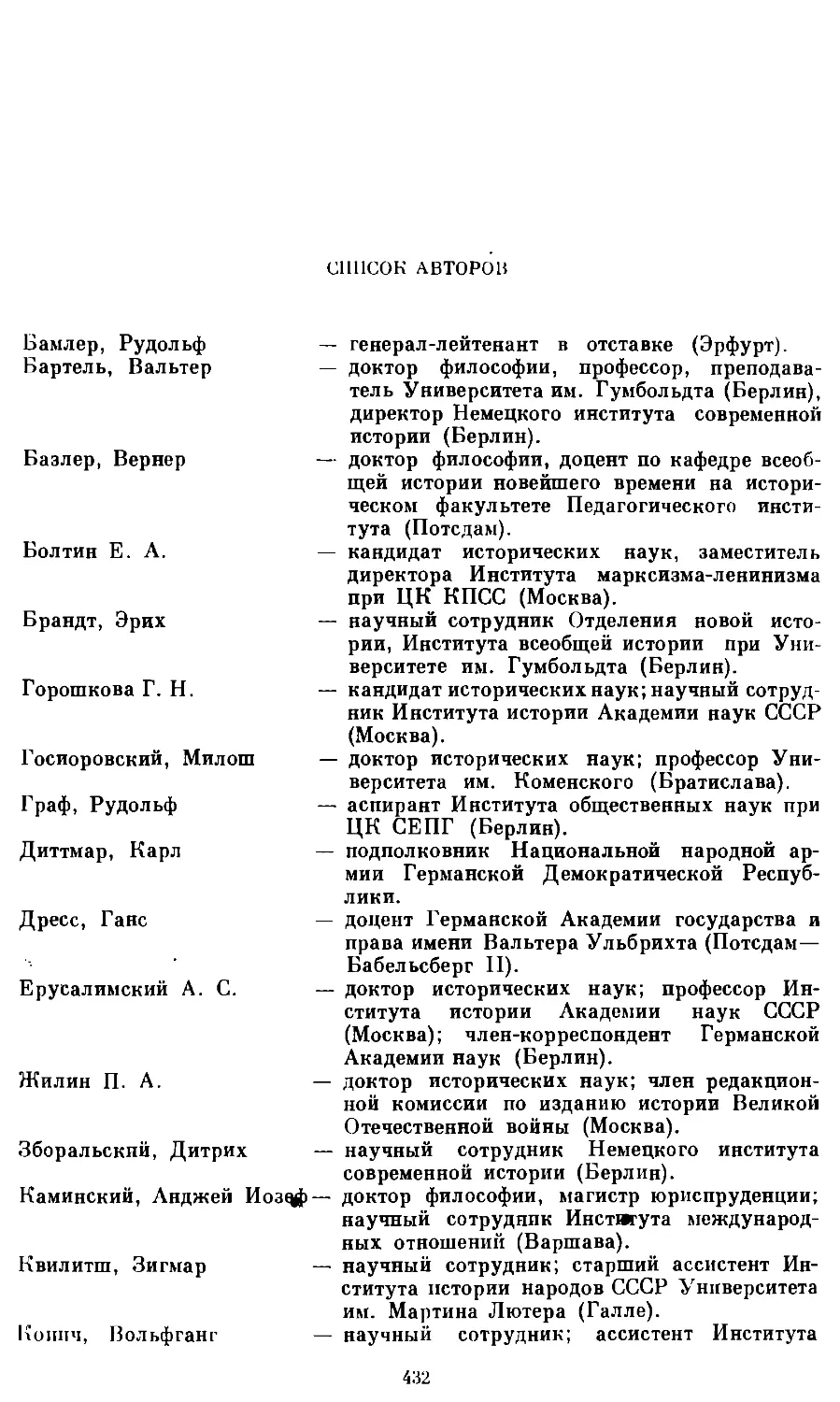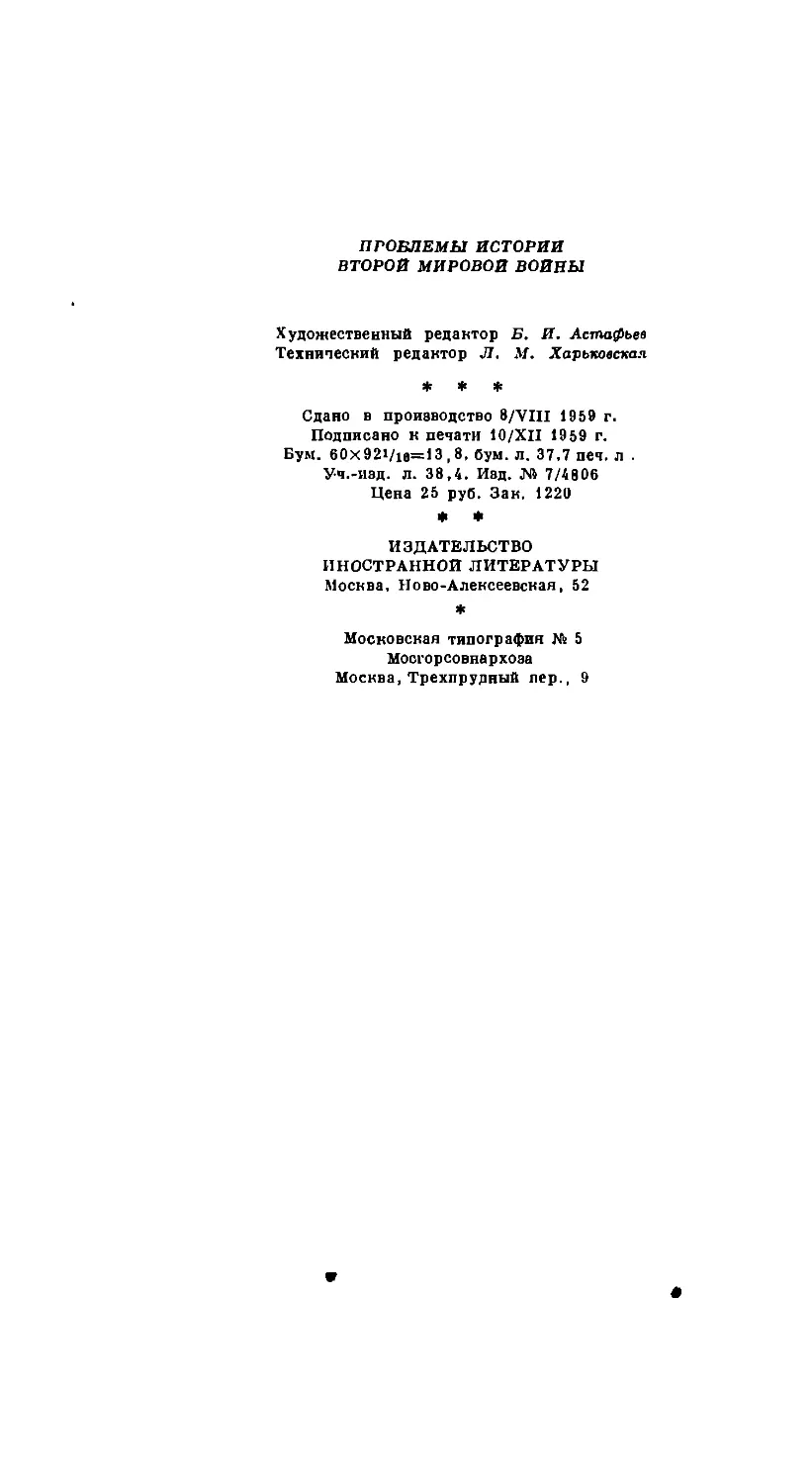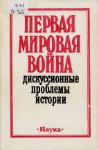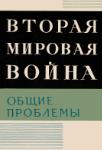Текст
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
и * л
Издательство и ностранной литературы
ж
Kommission der Historiker der DDR und der UdSSR
PROBLEME DER GESGHICHTE DES ZWEITEN WELTKRIEGES
PROTOKOLL der WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG IN LEIPZIG VOM 2 5. BIS 30. NOVEMBER 1957 IN ZWEI BANDEN
Referate und Diskussion zum Thema: Die wicbtigsten Richtungeri der reaktionaren Geschichtsschreibung uber den zweiten Weltkrieg
i'erantwortlich fur die redaktion: Leo Stern
Akademie—Verlag, Berlin
1958
КОМИССИЯ ИСТОРИКОВ СССР И ГДР
ЛфоЬлемЬь ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны
ПРОТОКОЛ НАУЧНОЙ СЕССИИ В ЛЕЙПЦИГЕ С 25 ПО 30 НОЯБРЯ 1957 ГОДА
Доклады и дискуссии по теме:
Важнейшие направления в реакционной историографии второй мировой войны
Редакционная коллегия:
Л. ШТЕРН, А. ЕРУСАЛИМСКИЙ, А. ШРЕЙНЕР Е. БОЛТИН, С. ДЕРНБЕРГ, Б. ТАРТАКОВСКПЙ
г
1 “• •• ~
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
москоа • 19 «5 9
А НПО Г А ЦИ Я
В ноябре 1957 года в Лейпциге (ГДР) состоялась конференция историков Советского Союза и Германской Демократической Республики с участием историков других социалистических стран и некоторых капиталистических государств. На конференции были заслушаны доклады и проведены дискуссии по двум главным темам: влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Германию и важнейшие направления реакционной буржуазной историографии второй мировой войны.
В данной книге представлены работы историКВв двенадцати стран, рассматривающие различные стороны предыстории и истории второй мировой войны и разоблачающие буржуазных фальсификаторов.
В книге дан научный анализ важнейших направлений реакционной буржуазной историографии второй мировой войны, па громадном документальном материале показапо, как западногерманская и американская историография искажают факты недавнего прошлого, пытаются реабилитировать гитлеровских генералов и промышленников, подготавливая тем самым идеологически народы своих стран к повой мировой войне.
Значительное место в книге отведено разоблачению буржуазной легенды о генеральской «революции,! против Гитлера — заговоре 20 июля 1944 года и показу движения Сопротивления, в котором решающую роль сыграли рабочий класс и его авангард — коммунистические партии.
Доклады советских авторов даются по русской стенограмме.
Первый том о влиянии Великой Октябрьской социалистической революции на Германию ныйдет в свет в начале 1960 года в Издательстве иностранной литературы.
Перевод с немецкого
К. \. ГНЕДИНА, О. М, НАКРОПИНА и Л. 3. ЯКОВЕНКО
Под редакцией
3. ШЕЙНИСА
II РЕДИ С. Л О ВИ Е
5 феврали 1957 года в Москве была создана Комиссия историков Германской Демократической Республики и историков Союза Советских Социалистических Республик. Комиссия поставила перед собой следующие задачи: совместное марксистско-ленинское исследование истории Германии и СССР, истории экономических, политических и культурных отношений между обеими странами, изучение проблем, представляющих общий интерес для историков обеих стран. Такая задача включает и совместную борьбу против империалистической идеологии, особенно против реакционных концепций буржуазной историографии.
Одним из первых шагов в этом направлении явился созыв научной сессии историков обеих стран. Опа состоялась в Лейпциге с 25 по 30 ноября 1957 года. На сессии обсуждались две темы, представляющие особый интерес для марксистско-ленинской историографии обеих стран. Эти темы следующие:
1. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Германию.
2. Важнейшие направления в реакционной историографии второй мировой войны.
В научной сессии приняло участие большое число ученых—историков и преподавателей истории из Германской Демократической Республики и иностранных государств. Всего в сессии участвовало 450 историков и преподавателей истории пз Германской Демократической Республики, Советского Союза, народно-демократических стран—Албании, Болгарии, Польши, Румынии, Чехословакии, Венгрии, а также из Италии, Австрии, Франции и Японии.
Первый круг вопросов обсуждался на пленарных заседаниях сессии и в четырех рабочих секциях, сконструированных в соответствии с нижеследующей тематикой:
1. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на развитие германской революции.
2. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции па образование марксистской боевой партии германского пролетариата.
3. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции па местные революционные выступления германского рабочего класса.
4. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции па внешнюю политику Германии.
Вторая основная проблема обсуждалась па пленарных заседаниях сессии и в следующих трех рабочих секциях:
1. Подготовка второй мировой войны и ее освещение буржуазной исторической литературой.
2. Буржуазная историография о ходе второй мировой войны.
3. Буржуазная историография по вопросу &б антифашистском движении Сопротивления в период второй мировой войны.
Данная книга является протоколом научной сессии. Основные доклады п выступления в прениях по каждой группе вопросов объединены в соответствующих томах. Включенные в протокол доклады и выступления были просмотрены авторами. Поскольку мы имеем дело с протоколом научной
5
сессии, то в него включены также выступления, отражающие научные взгляды, которых редакция не разделяет. Большинство иностранных участников сессии представили свои доклады на немецком языке. Редакция сделала в этих докладах лишь необходимые стилистические поправки. Доклады, отмеченные звездочкой(*), были представлены на сессию в письменном виде для включения в протокол сессии.
Комиссия историков Союза Советских Социалистических Республик и Германской Демократической Республики назначила в качестве ответственных лиц за редакцию первого тома протокола профессора А. С. Еруса-лимского (СССР) и профессора А. Шрайнера (ГДР), а за редакцию второго тома—профессора Е. А. Болтина (СССР) и профессора Лео Штерна (ГДР). Совместную ответственность за редакцию протокола в целом несут оба секретаря: от Германской секции—доцент С. Дернберг, от Советской секции—кандидат исторических наук Б. Г. Тартаковский.
Берлин, июль 1958 года
Редакционная коллегия
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 28 ноября 1957 года
Лео Штерн
ГЛАВНЫЙ ТЕНДЕНЦИИ РЕАКЦИОННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны
I. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И РАЗЛИЧИЯ В МЕТОДЕ ОПИСАНИЯ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫХ ВОЙН
Реакционная историография второй мировой войны в основном использует тот же метод, какой она применяла после первой мировой войны, лишь варьируя его в условиях новой обстановки. «Германская «Белая книга» об ответственности зачинщиков войны»1, которая была издана в 1919 году с разрешения министерства иностранных дел, а в особенности речи графа Брокдорф-Ранцау от 7 мая и 13 мая 1919 года, как известно, явились для легиона немецких историков сигналом к тому, чтобы изображать военную катастрофу 1918 года в духе сфабрикованной Людендорфом легенды об «ударе кинжалом в спину», и для того, чтобы пропагандировать военный реванш и преследуемые им цели.
Не лишено известной пикантности то, что этой же «концепцией Людендорфа» и духом реваншизма проникнуты выпущенные в 1956 году Федеральным архивом в Кобленце два последних тома «Мировой войны 1914—1918 годов»1 2. Историк Фриц Эрнст следующим образом оправдывает такую исходную позицию немецких историографов первой мировой войны: «Чтобы их понять, надо учесть ситуацию, сложившуюся до и после 1919 года; стремление защитить германскую армию периода мировой войны и ее вождей от нападок внутри страны и за ее пределами, защитить ее от бесчестной клеветы в Германии и от предъявленных Антантой требований капитуляции. В основе этой оборонительной позиции людей, не желавших отказаться от того, во что опп до сих пор верили, лежали вполне благородные мотивы»3. Хотя во введении к недавно законченному описанию первой мировой войны с подозрительным усердием подчеркивается научная объективность и обусловленная историческим подходом к событиям научная непредубеж ценность авторов, в действительности речь идет не об объективном изложении, а о ярко выраженной защите Гинденбурга, Людендорфа, германского генерального штаба, генералитета, офицерского корпуса и армии в целом. Во введении дословно сказано: «В целом на изложении не отразилось отношение к отдельным личностям. Все же, однако, необходимо было считаться с престижем старой армии и стремиться дать будущим поколениям представление о ее славе»4.
Таков, следовательно, заключительный эпилог германской военной историографии первой мировой войны, таков итог, подведенный в 1956 году! Что же можно сказать об исходных позициях реакционной и особенно запад
1 «Deutschland selluldig?», Carl Ileymanns-Verlag, Berlin, 1919.
2 Речь идет о томах 13 и 14 военно-исторического описания первой мировой войны, издававшегося Имперским архивом, впоследствии превращенным в Военно-исторический научно-исследовательский центр; к 1939 году был охвачен лишь период от 1914 года до весны 1917 года включительно (в двенадцати томах). В 1942 году был издан небольшим тиражом том 13 (для служебного пользования); к 1944 году был закончен том 14. Оба эти тома были в 1956 году вновь изданы в Кобленце Федеральным архивом и снабжены специальным введением.
3 Е г n s I. F г i I z, Zinn Elide des erslen Well krieges. In; «Die Welt als Gesclii-clite», 1957, II. 1, S. 58.
4 Ibid., S. 67.
9
ногерманской историографии, которая в 1945 году в совершенно иной мировой политической ситуации, чем в 1918 году, приступила к описанию второй мировой войны! Хотя империалистическая и милитаристская Германия была также и в первой мировой войне 1914—1918 годов в военном отношении разбита наголову, страна не была тогда оккупирована державами-победи тельницами и не была расколота на два государства с различной социальной структурой; тогда не было также Нюрнберга и главные военные преступники не понесли наказания, не были приговорены к смерти. Хотя в 1918 году обескровленная германская армия потерпела тяжелое военное и моральное поражение, она после перемирия вернулась на родину из оккупированных стран противника, сохранив в общем и целом порядок и организацию; только в связи с этим, конечно, в Веймарской республике и в «Третьей империи» могли, причем с успехом, распространяться известные легенды о сохранившемся «блеске оружия», об армии, «врагом не побежденной», и так называемая легенда об «ударе кинжалом в спину». С помощью этих легенд империалисты и милитаристы пытались снять с себя вину за поражение Германии и свалить вину на германский рабочий класс.
Однако вторая мировая война началась в 1939 году как тотальная война и закончилась тотальной катастрофой и безоговорочной капитуляцией после взятия Берлина советскими войсками и вступления в страну с запада американцев, англичан и французов. Характер этой войны реакционные военные историки не могли сфальсифицировать с помощью таких же примитивных методов, как в 1919 году, не могли таким же способом извратить ход событий, погасить о них память в сознании немецкого народа и преподнести историю в обрамлении легенд, пригодных для хрестоматии. Более сложная историческая обстановка 1945 года и последующих лет потребовала и более сложных и более утонченных методов.
В 1945 году ведущие немецкие историки, как, например, Фридрих Мей-неке и Герхард Риттер, произносили бессвязные ламентации по поводу масштаба национальной катастрофы и краха националистической и национал-социалистской исторической концепции, которая ранее с таким мастерством и усердием культивировалась буржуазными германскими историками. Глубоко потрясенный, старик Мейнеке поставил вопрос, характерный для историка-идеалиста: «Будут ли когда-нибудь в полном объеме поняты те неслыханные события и переживания, которые выпали на нашу долю в течение двенадцати лет существования Третьего рейха? Мы все это пережили, но полностью осмыслить эти события мы все без исключения не сумели... Германская история изобилует трудно разрешимыми загадками и трагическими переломными моментами. Однако вставшая перед нами теперь загадка и пережитая нами сейчас катастрофа превосходят все аналогичные трагические события и выходят за рамки нашего понимания»1. Возможно, что старый Мейнеке был в этих размышлениях искренен, но рассуждения Герхарда Риттера нельзя признать добросовестными. Он также выступил с аналогичными жалобами по поводу германской катастрофы 1945 года, с ламентациями относительно «власти зла и слепого случая в истории», «демонической силы власти» и «загадочной судьбы», которая якобы определяет историю Германии; однако, выдвинув историческую концепцию, возлагающую всю вину за катастрофу на Гитлера и оправдывающую германский монополистический капитал и германский генералитет, Риттер тем самым недалеко ушел от того основного направления, по которому до настоящего времени развивается западногерманская историография второй мировой войны. Так, еще в 1947 году Риттер поставил вопрос, утверждая: «Разве это не бессмыслица, что один человек сумел привести к такому неслыханному вторжению варварства в западный мир, какое мы Яережили, что он буквально по своему произволу зажег пожар во всем мире, причем никто не был в состоянии этому помешать»1 2.
1 «Die deutsche Katastroplie», Brockhaus-Verlag, Wiesbaden, 1947, S. 5.
2 «Geschichte als Bildungsmacht.», Deutsche Verlagsanst alt, Stuttgart, 1947, S. 24.
Дальнейшую эволюцию Герхарда Риттера характеризуют его настойчивые попытки обелить германский империализм и милитаризм, снять с него всякую вину за обе национальные катастрофы; его воинственное выступление на западногерманском Конгрессе историков в сентябре 1953 года в Бремене; опубликование им таких книг, как «Военное искусство и военное ремесло», книга о Герделере, «План Шлиффена»; многочисленные выпады Риттера в статьях и речах Против ГДР, Советского Союза и социалистического лагеря; его облеченная в сложную академическую формз^ концепция, рекомендующая германским монополистам и милитаристам в союзе с американским империализмом осуществить их нынешнее стремление к мировому господству в третьей мировой войне иным способом и более успешно, чем при Вильгельме II и Гитлере. В известной мере идеологическая эволюция Герхарда Риттера может служить иллюстрацией при освещении общего характера и общей идеологической направленности всей западногерманской историографии второй мировой войны.
В немецкой военно-исторической литературе можно часто встретить ссылку па высказывание Мольтке старшего, который в гордом сознании побед, одержанных Пруссией в 1864—1866 и в 1870—1871 годах, стремясь скрыть и приукрасить катастрофическое банкротство некоторых немецких генералов в этих войнах, сказал: «Долг уважения и любви к отечеству обязывает нас не губить престиж некоторых полководцев, ибо победы нашей армии связаны с определенными личностями»1. Если эта роковая фраза о «престиже» германских генералов с той поры служит для немецких военных историков непререкаемым правилом, даже применительно к выигранным войнам, то еще охотнее, как об этом свидетельствует опыт первой и второй мировых войн, они используют эту терминологию, говоря о проигранных войнах.
II. РЕАКЦИОННАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПРЕДЫСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОИНЫ
Известный английский теоретик военного дела Лиддл Гарт метко сформулировал основную тенденцию западногерманской историографии второй мировой войны: «Все поражения германской армии приписываются Гитлеру, все успехи—германскому генеральному штабу»2. Эта преобладающая тенденция подкрепляется рядом легенд, интерпретаций, конструкций и прямых подлогов, цель которых восстановить подорванный «престиж» германских генералов вообще и миф о непогрешимости германского генерального штаба в частности. Очевидно, в третий раз, когда истерический параноик Гитлер не будет мешать германскому генеральному штабу, ему удастся все, решительно все, что он предпримет.
Реакционная фальсификация истории второй мировой войны охватывает в основном следующий круг вопросов:
1) предыстория второй мировой войны;
2) фашистское нападение на Советский Союз 22 июня 1941 года;
3) так называемые поворотные пункты второй мировой войны;
4) роль Советской Армии во второй мировой войне;
5) германское движение Сопротивления и миф о двадцатом июля;
6) политика западных держав во второй мировой войне;
7) антифашистская борьба народов, порабощенных гитлеровским фашизмом;
8) крушение гитлеровской Германии и Нюрнбергские процессы военных преступников;
'Ernst, Fritz, Op. cit., S. 55.
’Liddell Hart В. H., Jctzl diirfen sic reden. Stultgarler Verlag GmbH, Stuttgart—Hamburg. 1948, S. 17.
11
9) так называемый образ Гитлера, роль эсэсовцев и других нацистских формирований во второй мировой войне;
10) так называемая интеграция Европы как идеологическое обоснование агрессивного Североатлантического пакта.
В своем докладе я ограничусь освещением первых трех, на мой взгляд самых важных, пунктов, так как рассмотрение других перечисленных вопросов выходит за рамки доклада.
По каждому из этих вопросов в Западной Германии, США, Англии, Франции, Италии, Швейцарии и других странах появилась уже обширнейшая литература. Я ограничусь рассмотрением важнейших вопросов, поскольку каждый из них будет детально освещен в содокладах, во время дискуссии и в рабочих секциях.
1. О предыстории второй мировой войны
Объектом реакционных извращений и фальсификаций в этом случае служат три основных комплекса вопросов: а) фашистская внешняя политика в период 1933—1939 годов; б) характер так называемой «политики умиротворения» западных держав в отношении гитлеровской Германии; в) роль Советского Союза в мировой политике в период 1933—1939 годов.
В основе освещения внешней политики гитлеровской Германии в период 1933—1939 годов лежит в скрытой или явпой форме тенденция, направленная к тому, чтобы возложить па одного Гитлера всю ответственность и всю вину, дабы таким образом реабилитировать те круги, которые привели его к власти и интересы которых он представлял. Так, например, Гейнц Хольдак1 видит во внешнеполитической концепции гитлеровского фашизма не общеизвестную захватническую программу германского империализма, а лишь заслуживающую осуждения личную политику Гитлера и Риббентропа. Германский институт экономических исследований в своей публикации «Германская промышленность в войне 1939—1945 годов» идет еще дальше в стремлении представить в безобидном свете германский империализм; он изображает его буквально как воплощение миролюбивых, не агрессивных внешнеполитических стремлений1 2. Другая разновидность реакционной фальсификации состоит в том, что проводится грань между миролюбивым Гитлером первых лет и агрессивным Гитлером позднейших лет. Так поступают Отто Мейснер3 и Отто Дитрих4 5. Однако нет недостатка в выступлениях, направленных к обелению и «агрессивного» Гитлера. Именно такое назначение имеет сборник «Германский Восток»6, выпущенный Высшей школой политических наук в Мюнхене; в этой книге используется лживая ссылка на международное право, чтобы представить аннексию Судетской области как «законное приращение территории».
По вопросу о так называемой «политике умиротворения» западных держав и исторической вине, падающей на английское и французское правительства, проводивших политику поощрения гитлеровской Германии, в буржуазной историографии и публицистике наблюдается значительное расхождение мнений. Разногласия касаются позиции, запятой Англией и Францией в связи с введением Гитлером всеобщей воинской повинности, в связи с гер-
1 II о 1 1 d а с k, Heine, Was wirklicli geschali. Die diplomatisclien Hinler-griinde der dcutschen Kriegspolilik, Nymphenburger Verlag, Miinchen, 1949, S. 90 ti. 165.
2 «Die deutsche Industrie ini Kriege 1939—1945», Deutsches Institut fur Wirtschafls-forschung, Dunker und HumbloL Berlin, 1954, S. 129.
3 Mei 6 n er, О I to, Stfatssekretar unter Ebert—Hindenburg^-Hitler. Hoffmann u. Gampe-Verlag, Hamburg, 1950, S. 615.
4 Dietrich Otto, Zwolf Jahre mil Hiller. Jsar Verlag, Miinchen. 1955, S. 56. f.
5 «Der deutsche Osten». Vcroffentlichungen der llochschule fiir Polilische Wisseii-
schaften e. V. Miinchen, Isar-Verlag, Miinchen, 1956, S. 70.
12
мано-английским морским соглашением, с оккупацией Рейнской зоны, абиссинским конфликтом, освободительной войной испанского народа, с аннексией Австрии, Судетской области и всей Чехословакии. Для этих расхождений по мнениях весьма характерным является то, что западногерманские историки в значительно более острой форме, чем французские и английские, осуждают так назьушемую «политику умиротворения» западных держав, ибо они—как, например, Гейнц Хольдак1 и Эрих Корду1 2 —видят в этом дополнительную возможность для политического оправдания германского империализма. Но, несмотря на формально резкую критику по адресу Англии и Франции, речь ни в коем случае но идет, конечно, о принципиальной критике их внешней политики. Западногерманские историки тщательно избегают обнажения подлинных корней «политики умиротворения». Цель этой политики западных держав заключалась в том, чтобы путем постоянных уступок гитлеровской Германии направить ее агрессию в определенном направлении, а именно против Советского Союза. Стремясь замаскировать подлинный смысл внешнеполитической концепции Англии п Франции, западногерманские историки снисходительно говорят об «отсутствии ясной линии»3, о «не-целеустремленности и непоследовательности»4 5 политики западных держав и вместе с тем о последовательной и подлинно «мирной политике Чемберлена»6. К такой же аргументации, как Эрих Кордт и Гейнц Хольдак, прибегают Вальтер Хофер6, Вальтер Гёрлиц и Герберт А. Квинт7 * *. С другой стороны, английский историк Джон У. Уилер-Венет, критикуя германский империализм и находя для него резкие слова осуждения, в то же время пытается оправдать позицию Чемберлена и Даладье в Мюнхене, ссылаясь на присущее им «чувство реальной политики»4. Уинстон Черчилль, который обычно критически оценивает политику Чемберлена, все же приписывает ему в связи с Мюнхеном благородную любовь к миру, которая, впрочем, в конечном счете устраняла опасность сегодня, с тем чтобы завтра навлечь гораздо большую опасность®. Только Эрнст Никиш в соответствии с исторической правдой устанавливает тот факт, что именно антисоветская позиция определяла западпую политику уступок Гитлеру, в котором вдохновители этой политики видели своего «великого кондотьера» в борьбе против СССР10 *. Никиш расценивает уничтожение Чехословакии как «вступление к европейской антибольшевистской акции»11, причем Чехословакия оказалась той жертвой, «которую принесли западные державы, чтобы самим избегнуть непосредственной угрозы со стороны Гитлера и направить его агрессию на Восток»12.
Что касается внешней политики СССР в 1933—1939 годах и советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, то вокруг них разыгрывается настоящая оргия враждебной Советскому Союзу фальсификации и клеветы. Преобладающий метод, в свое время уже использованный правительствами США, Англии и Франции в опубликованном в 1948 году тенденциозном сборнике «Nazi—Soviet Relations 1939—1941», состоит в том. что указанный договор рассматривается изолированно и в отрыве от всей
1 II о 1 1 d а с k, Н е i n z, Op. cit., S. 26.
2 Kordt, Erich, Wahn und Wirklichkeit, Hrsg. untcr Mitwirkung von Karl Heinz Abshagen. Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1948, 2. Atifl., S. 62 u. 118.
3 К о r d t, E r i c li, Op. cit., S. 58.
4 Ibid., S. 117.
5 H о 1 1 d a c k, Heinz, Op. cit., S. 26 u. S. 102.
" Hofer, Walther, Die Entfesselung des zweiten Weltkrieges, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1955, S. 47.
7 С б r 1 i L z, Walter, Q u i n d t 11 e r b e r t A., Adolf Hitler. Einc Bioir-raphie, Steingruben-Verlag, Stuttgart, 1952, S. 499.
3 W h c e 1 e r—В e n n e t t, John W., Die Nemesis der Macht. Die deutsclie Armee in der Politik 1918—1945. Droste-Verlag, Dusseldorf, 1954, S. 499.
•Churchill, Winston, The Second World War, v.
’° N ie к isch. E r n s t, Das Reich der niederen Diimonen, Rowohlt-Verlag, Hamburg, 1953, S. 279.
ч Ibid., S. 281.
•г Ibid.. S. 284.
13
предыстории международных отношений периода 1933—1939 годов. Хотя официальный ответ советского правительства, опубликованный в том же году под названием «Фальсификаторы истории»1, заклеймил эти грязные махинации, реакционные историки войны и поныне продолжают вести антисоветскую кампанию с помощью тех же методов и тех же аргументов; они стремятся прежде всего возложить на Советский Союз вину за развязывание второй мировой войны, за так называемый «сигнал к старту» и, кроме того, пытаются провести знак равенства между политикой Гитлера и Сталина, между гитлеровской Германией и Советским Союзом, дабы таким образом развязать в нынешней Польше националистические и антисоветские настроения. Особенное усердие в этом направлении проявляют историки А. Росси1 2, Вальтер Хофер3, Ганс Гюнтер Серафим4, Гейнц Хольдак5 *, Эрих Кордта и сэр Сэмуэль Хор7. Эти авторы сознательно игнорируют отклонявшиеся западными державами реальные предложения Советского Союза о разоружении, сделанные в 1933—1934 годах, они игнорируют тот факт, что Англия и Франция фактически поддерживали концепцию Гитлера, согласно которой в условиях всеобщего разоружения Германия может интенсивно вооружаться, чтобы создать так называемый бастион против большевизма, а СССР оказался бы в политической изоляции. Они игнорируют тот факт, что западные державы откровенно саботировали многолетние усилия Советского Союза, направленные на создание коллективной безопасности против фашистской агрессии (ось Берлин—Рим—Токио). Фальсификаторские методы реакции онной историографии заключаются в том, чтобы не подвергать тщательному рассмотрению период до Мюнхена, этого кульминационного пункта «политики умиротворения», а заниматься лишь периодом, наступившим после аннексии Чехословакии (март 1939 года); при этом сознательно переоценивается якобы наступившее с этого момента изменение внешнеполитического курса западных держав. В действительности же дело заключалось лишь в том, что Франция и Англия, опасаясь, как бы Гитлер не повернул на Запад свою военную машину, хотели иметь в лице СССР запасное оружие. Этот дипломатический маневр им был нужен для того, чтобы оказать известное дипломатическое давление на Гитлера и, наконец, чтобы создать видимость, будто они идут навстречу широким массам населения Англии и Франции, которые перед лицом непрерывных агрессивных действий гитлеровской Германии настойчиво требовали сотрудничества с СССР. Затяжные переговоры, которые вели в Москве второстепенные французские и английские военные миссии, не имевшие достаточных полномочий, отклонение абсолютно обоснованного в тогдашних политических условиях требования СССР о пропуске советских войск через Польшу для приостановки дальнейших агрессивных действий Гитлера,—все эти обстоятельства используются Вальтером Хофером7, Гейнцем Хольдаком8 и Сэмуэлем Хором8 как повод для того, чтобы выдвинуть сразу двоякого рода инсинуации против СССР; Советский Союз якобы использовал требование о пропуске войск в качестве «тактического средства», дабы: а) привести к срыву переговоры с западными державами и б) в сотрудничестве с гитлеровской Германией добиться изменения своих западных границ. Итак «красный империализм» в полном объеме!
1 «Фальсификаторы истории» (историческая справка), Госполитиздат, М., 1948.
2 Rossi A., Zwei Jahre deutsch-sowjetisches Biindnis, Verlag fiir Politik und Wirtschaft, Koln—Berlin, 1954.
’Hofer, Walther, Op. cit.
4 S er a p h i n, Han s-G ii n t h e r, Die deutsch— russischen Bezieh ungen 1939— 1941. In: Gottinger Beitrage zu Gegenwartsfragen. Volkerrecbt, Geschichte, Internationale Politik, H. H. Nolke-Verlag, Hamburg, 1949, H. 1.
•Holldack Heinz, Op. cit. •
“Kordt Erich, Op. cit.
7 Hoar e, Samuel, Neuen bewegte Jahre, Droste-Verlag, Diisseldorf, 1955.
7 Hofer, Walter, Op. cit., S. 72 f.
* Holldack, Heinz, Op. cit., S. 131 f.
"Hoare, Samuel. Op. cit., S. 340 ff.
14
Хофер1, Росси1 2, Ассман3, Мау и Краусник4 5, Хольдак3 идут в своих инсинуациях еще дальше: по их словам, Сталин и Гитлер делали «одно общее дело», заключили «пакт о нападении на Польшу»6, чтобы таким образом оказался возможным «четвертый раздел Польши»7. Так пускается в ход демагогический трюк, с помощью которого пытаются не только поставить Советский Союз на одну доску с гитлеровской Германией, но, кроме того —и эта цель особенно очевидна,—вбить kjAih между народно-демократической Польшей и СССР. При этом реакционные фальсификаторы истории сознательно обходят тот факт, что в действительности речь шла о воссоединении Белоруссии, Западной Украины и Молдавской республики, иными словами, о тех территориях, которые после первой мировой войны были насильственно отторгнуты от молодого Советского государства. Благодаря договору с Советским Союзом, утверждают фальсификаторы, Гитлер был избавлен от опасности войны на два фронта, и поэтому могла начаться война против Польши, а тем самым было положено начало цепной реакции второй мировой войны—quod erat demonstrandum.
Вершины злостной фальсификации и инсинуации достигает Типпельс-кирх, выдвигая следующее утверждение: «Так возникла война, которой никто не хотел, даже Гитлер, в той форме, какую она приняла, и в которой могла быть действительно заинтересована только одна держава—Советский Союз»8 *.
Дабы продемонстрировать свою «научную объективность», Г. Мау и Г. Краусник8, а также Хофер резко критикуют и Гитлера, разумеется post mortem, за заключение германо-советского пакта о ненападении. Так, Хофер обвиняет Гитлера в том, что он этим договором разрушил «плотины, воздвигнутые против большевистской России», и поэтому Гитлер несет перед историей ответственность за «вторжение этого не поддающегося учету европейско-азиатского фактора силы»10 11. С подобными же разглагольствованиями выступил воинственный Вальтер Хофер на X Международном съезде историков в Риме11.
Для характеристики несостоятельности этой литературной смеси извращений, фальсификации и лицемерия политиканствующих историков и воинствующих псевдоисториков мы в заключение напомним некоторые исторические факты: даже весной и летом 1939 года западные державы все еще стремились создать единый империалистический фронт против СССР при участии Польши, возглавляемой полковником Беком и Рыдз-Смиглы. Руководствуясь интересами сохранения независимости, советская внешняя политика вынуждена была рассматривать в качестве своей главной задачи в создавшейся ситуации взрыв этого единого фронта западных держав, Германии и действующей заодно с Германией Польши Бека и Рыдз-Смиглы.
1 Hofer, Walther, Op. cit., S. 37 f.
2 Hossi A., Op. cit., S. 196.
3 Assman n, Kurt, Deutsche Schicksalsjahre, Brockhaus-Verlag, Wiesbaden, 1950, S. 109.
4 К r a u s n i c k H., Mau H., Deutsche Geschichte der jiingsten Vergangenheit 1933—1945. Gemeinschaftsverlag Rainer Wunderlich, Verlag Hermann Leins in Tubingen und J. B. Netzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1956, S. 130.
5 Holl d a c k, Heinz, Op. cit., S. 220.
° Rossi A., Op sit., S. 196.
7 Ibid., S. 24.
8 К. Типпельскирх, История второй мировой войны, Издательство иностранной литературы, М., 1956, стр. 9—10.
Советские военные историки подвергают обстоятельной критике допускаемые Тип-пельскирхом грубые исторические фальсификации: Крупченко И., Фальсификация истории второй мировой войны бывшим гитлеровским генералом, «Военная мысль». 1957, кв. 5, стр. 89 и далее; 3 а й ц е в И., Грубая фальсификация истории второй мировой войны, «Пропагандист и агитатор», 1957, вып. 14.
’ Krausnick, Н. М a u Н., Op. cit., S. 130.
10 Сравните Hofer, Walther, Op. cit., S. 56 f.
11 Hofer, Walther, Objektivitat und Parteillichkeit. In: «Deutsche Rundschau». «2, Jg. (1956), H. 6, S. 593.
15
Поскольку правительства Англии и Франции в течение ряда лет игнорировали предложение СССР о заключении союза, а в тот период вели лишь затяжные военные переговоры с СССР, используя их главным образом в качестве дипломатического средства давления на Гитлера, советская внешняя политика не имела другого пути, кроме заключения пакта о ненападении < фашистской Германией. Историческая задача этого договора состояла для Советского Союза в том, чтобы разбить заговор мирового империализма против СССР и обеспечить для советского народа хотя бы на ограниченный срок передышку, столь существенную с военной точки зрения.
Э. Никит, объективность которого тогда еще не была извращена политической предвзятостью, говорил: «Советские жизненные интересы требовали того, чтобы основательно и окончательно подорвать англо-германские взаимоотношения и чтобы существованию советского государства больше не угрожала опасность британо-германского нападения. Конечно, советско-германский договор о ненападении был смелым, даже рискованным предприятием. Но международное положение было столь запутанным, что в этом предприятии как раз и заключалось спасение Советской России»1. Таким же пониманием действительного политического положения и корректностью отличается суждение генерала Гийома, бывшего французского военного атташе в Москве1 2. Эти два буржуазных историка возвышаются как одинокие островки элементарной порядочности над болотом реакционной буржуазной историографии.
2. Фашистское нападение на Советский Союз 22 июня 1941 года в оценке реакционной историографии
Несмотря на тот известный всему миру факт, что нападение гитлеровской Германии на СССР бесспорно представляло собой акт агрессии, несмотря на приговор Международного военного трибунала в Нюрнберге, который опроверг легенду о «превентивной войне» со стороны Гитлера, —все же подобной точки зрения, хотя с известными изменениями и ограничениями, все еще придерживаются многие буржуазные историки.
Их аргументация развивается по той же линии, что и в вопросе о предыстории второй мировой войны. Так, например, Росси утверждает, будто причиной разрыва между гитлеровской Германией и СССР явился «конфликт между двумя империалистическими программами». «Разрыв произошел из-за Балкан и проливов»3,- утверждает Росси. Лживый демагогический прием заключается в том, что договор о ненападении от 23 августа 1939 года связывается с мнимым совместным германо-советским «ревизионизмом» и с мнимой империалистической общностью обоих государств—гитлеровской Германии и Советского Союза. При такой исходной точке зрения уже нетрудно изобразить фашистское нападение на СССР как «конфликт между двумя сопер ничающимп империалистическими державами», а отсюда лишь один шаг к оправданию германского нападения на СССР как «превентивной войны». При этом реакционные историки с лицемерной «объективностью» утверждают, что в 1941 году Советский Союз действительно не напал бы на Германию, но он бы это обязательно сделал в тот момент, когда Германия оказалась бы в тяжелом военном положении в результате действий западных держав. К такой аргументации, в частности, прибегают Типпельскирх4 5 и Ассман, причем последний не без запоздалого удовлетворения констатирует, что с точки зрения перспективы событий Гитлер «правильно оценил ситуацию»8.
1 N i е k i s с h, Ernst, Op. cit., S. 292. »
‘Guillaume, Augustin, Warum siegle die Rote Arniee? Verlag fiir Kunst und Wissenscliaft, Baden—Baden 1949, S. 23 u. 29 ff.
3 R о s s i A.. Op. cit., S. 199.
* К. T и n n e л ь с к и p x, Названное сочинение.
5 Assman n. Kurt, Op. cit., S. 228.
16
К числу представителей этой антисоветской версии принадлежат также Холь-дак1, Мау и Краусник1 2 и Франц Гальдер3.
Самую реакционную версию тезиса о германской «превентивной войне» защищает геттингенский историк Серафим; он даже отбрасывает оговорки вышеперечисленных авторов, согласно которым СССР, хотя и напал бы в более позднее время, но не в 1941 году. Серафим говорит о существовавшей якобы в 1941 году конкрйной «опасности с Востока»4. качестве исторического доказательства этого своего фантастического тезиса Серафим между прочим ссылается на мнимые высказывания советских офицеров и комиссаров в сентябре 1940 года «о предстоящем выступлении против Германии»5. В качестве более глубокой причины конфликта между гитлеровской Германией и СССР Серафим приводит начатую Советским Союзом в июне 1940 года «акцию в Балтийском пространстве и против Румынии»6. К каким изощренным приемам в своей слепой ненависти к Советскому Союзу прибегает Серафим, чтобы подкрепить свои доводы, видно из приложения к его книге, где Серафим извращает историю при помощи произвольно подобранных и вырванных из общей связи документов Нюрнбергского процесса военных преступников, пытаясь таким образом подтвердить тезис о «превентивной войне», не упоминая о том, что Международный военный трибунал именно на основе этих материалов со всей решительностью отверг легенду о германской «превентивной войне», пущенную в оборот гитлеровскими генералами, сидевшими на скамье подсудимых.
В этой связи представляет интерес оценка, данная Уинстоном Черчиллем, который в отличие от германских военных историков не имеет оснований для того, чтобы реабилитировать гитлеровскую Германию. Хотя Черчилль не может скрыть, что он в основном занимает антисоветскую позицию, все же в его книге нет никакого упоминания о германской «превентивной войне». Черчилль констатирует, что Англия приветствовала вступление СССР в войну ввиду того, что это вело к решающему изменению соотношения военных сил. Однако Черчилль упрекает СССР за то, что он не сражался вместе с западными державами против гитлеровской Германии сразу же после начала войны7 *. Черчилль считает возможным особо осуждать Советский Союз за его равнодушие к тому, что Германия захватила полностью Балканы®, на основании чего Черчилль делает характерную для пего попытку оправдать сомнительное поведение западных держав по отношению к СССР во время войны. Черчилль упрекает Советский Союз в том, что он «проявил полное безразличие к участи западных держав, хотя это означало уничтожение того самого «второго фронта», открытия которого ему [СССР.—Ред. ] суждено было вскоре потребовать»9. Черчилль, однако, умалчивает о том, что именно по вине англо-французской политики в 1933—1939 годы не было осуществлено предложение СССР о союзе с западными державами, вследствие чего Советский Союз и был вынужден заключить германо-советский пакт о ненападении от 23 августа 1939 года. Он обходит многозначительным молчанием требующие еще своего исследования закулисные причины «drole de guerre» («странной войны»). Хотя и с других позиций, нежели западногерманские историки, Черчилль пытается оклеветать внешнюю политику СССР в период между 1939 и 1941 годами. С ханжеством и лицемерием типичного английского пуританина из мелкопоместных дворян Черчилль усматривает в нападении Гитлера па СССР «справедливое возмездие Немезиды».
1 Н о 1 1 d а с k, Heinz, Op. cit., S. 241.
2 Krausnick H., Mau H., Op. cit., S. 151.
’Halder, Franz, Hiller als Feldherr, Miinchener Dom-Verlag, Munchen, 1949,
S. 36 und Bor, Peter, Gespriiche mil Halder, Limes-Verlag, Wiesbaden, 1950, S. 194 f.
•Seraphim, Han s-G ii n t h e r, Op. cit., S. 42 f.
6 Ibid., S. 41 f.
« Ibid., S. 31.
’Churchill, Winston, Op. cit., ▼. 3/1. i
2 Ibid.
•Ibid.
То, что Черчилль обходит вопрос о «странной войне», имеет свои веские основания: ведь именно в ней отчетливо обнаружилась двуличная позиция западных держав в отношении СССР. Известно, что когда после совершенного I сентября 1939 года нападения на Польшу Гитлер отклонил ультиматум западных держав, требовавших отвода германских войск обратно на территорию Германии, это практически означало, что и на Западе возникло состояние войны. Тем не менее до похода Гитлера на Запад 10 мая 1940 года война на Западе имела характер символических военных действий, в связи с чем она и вошла в историю под знаменательным названием «странной войны», или «смешной войны». Однако закулисная сторона этой войны была далеко не смешной, а кровавой. И в тот период западные державы были заняты тем, чтобы направить агрессию Гитлера «по правильному пути», то есть против СССР. Отто Генрих Кюнер1 старается «вскрыть закулисную сторону дела», оставаясь при этом сознательно на поверхности явлений; с притворным удивлением он недоумевает, почему после германского нападения на Польшу западные державы не предпринимали никаких военных действий, хотя 8 дивизиям первой линии и 25 резервным немецким дивизиям там противостояло 85 одних только французских дивизий. Даже Кюнер признает несостоятельным примитивное объяснение, согласно которому генерал Гамелен, будучи теоретиком оборонительной войны, принадлежавшим к старой школе, не хотел пожертвовать линией Мажино; ссылка на взгляды Гамелена не объясняет, в частности, почему не были предприняты воздушные налеты на Германию с целью ослабить натиск Германии на польского союзника. Ведь для этого не было надобности оставлять линию Мажино.
Совершенно очевидно, что обе стороны—и германские историки и Черчилль—не заинтересованы в том, чтобы без необходимости раскрывать перед миром грязную политическую игру, которая велась обеими сторонами со времени «странной войны» вплоть до таинственного полета Рудольфа Гесса в Англию. Однако приведенных фактов уже достаточно, чтобы было ясно, как далеки от действительности те обвинения, которые реакционные военные историки с деланным возмущением наивных людей выдвигают по адресу Советского Союза, упрекая его в том, что он якобы проводил «двусмысленную» политику в 1939—1941 годах.
III. ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ПУНКТЫ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОИНЕ
Можно сказать, что самую разнузданную целенаправленную пропаганду реакционные историки войны ведут при описании так называемых поворотных пунктов во второй мировой войне. Изложенные для видимости трезвым языком бесстрастных летописцев, все эти спекулятивные утверждения и комбинации по поводу «поворотных пунктов» в войне на самом деле оказываются неотъемлемой составной частью идеологической подготовки третьей мировой войны.
Эти спекуляции и подтасовки относительно «поворотных моментов» касаются не только таких крупных военных операций, как сражение под Дюнкерком, операция «Морской лев», воздушное сражение за Англию, битва за Москву, Сталинградское сражение, борьба в Северной Африке (Эль-Аламейн), вторжение во Францию (операция «Оверлорд») и сражение в Тихом океане (Мидузй) и т.^ц. К этому делу привлекаются и второстепенные моменты, например наличие в английском воздушном ф.^те радиометрической аппаратуры, бомбардировка Пеенемюнде или определенные ошибочные
1 Кб h п е г, OttoHeinrich, Walin und Untergang 1939—1945, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1957, S. 35.
18
стратегические решения, и этим второстепенным моментам приписывается решающая роль в ходе войны. Таким образом, в конечном счете в качестве причин германского поражения приводятся случайности, чтобы таким образом оправдать политику германского империализма и милитаризма и вытекающие из его природы внешнеполитические авантюры, агрессивные действия и войны. В рамках настоящего доклада нет возможности привести полный перечень встречающихся в реакционной историографии «поворотных пунктов», якобы решивших ход войны; мы ограничимся освещением наиболее важных моментов.
1. юнкерское чудо» (конец мая 1940 года)
Как известно, с Дюнкерком связана легенда о «подаренной победе», причем в этой связи впервые выдвигается тезис о единоличной вине Гитлера. Реакционные историки войны, и особенно германские генералы, придают чрезвычайное значение констатации того, что Гитлер издал под собственную полную ответственность пресловутый «приказ о приостановке» наступления; так пишут Квинт1, Эрфурт1 2, Кюнер3, Типпельскирх4, Мильтон Шульман5, Честер Вильмот6 и Курт Ассман7.
Для обоснования «приказа о приостановке» приводится много различных соображений.
А. Болотистая фландрская местность оказалась непригодной для применения танков.
Б. Танковая группа Клейста нуждалась в отдыхе после операции Булонь —Турнэ —Калэ —Ипр —Лилль.
В. Гитлер возлагал слишком большие надежды на авиацию Геринга, не желая предоставить генералам возможность самостоятельно одерживать победы, так как благодаря предыдущим победам сильно возрос их престиж; таково, например, мнение Эрфурта8 9.
Г. Гитлер хотел в первую очередь закончить войну с Францией, и его политической целью была не Англия, а Париж; так пишет Честер Вильмот8.
Д. Наконец, согласно версии Ассмана10 11, наиболее близкой к истине, Гитлер по политическим соображениям дал англичанам возможность уйти из Дюнкерка; ведь он и воздушному флоту приказал воздержаться от бомбардировки Дюнкерка. И на этом этапе войны цель Гитлера заключалась в том, чтобы заключить мир с Англией и предложить ей любую поддержку в будущей совместной войне против Советского Союза.
С отступлением англичан из Дюнкерка тесно связана раздуваемая военноисторической литературой операция «Морской лев». После военной катастрофы Франции Гитлер, как известно, с большой настойчивостью добивался соглашения с Англией, в чем он, по утверждению Черчилля11, получил поддержку—и это весьма показательно—со стороны Швеции, США и Ватикана. Когда попытки Гитлера договориться с Англией все же потерпели крушение (после многочисленных нарушений Гитлером договоров англичане уже не считали его подходящим партнером для переговоров и соглашений),
1 Quint Herbert A., Die Wendepunkte des Krieges, Steingriiben-Verlag, Stuttgart, 1950, S. 13.
’ Erf ur th, W a 1 d e m a r, Geschichte des deutschen Generalstabs 1918—1945, Musterschmidl-Verlag, Gottingen, 1957, S. 245.
3 К ii h n c r, Otto Heinrich, Op. cit., S. 55.
4 К. T и и n e л ь с к и p x, Названное сочинение.
5 S b u 1 m a n, M i 1 t о n, Die Niederlage im Westen. Mil einer Einfiihrung von Prof. Dr. Gerhard Ritter. Bertelsmann, Gutersloh, 1949, S. 96.
9 Wilmot, Chester, Der Kampf um Europa, A. Metzger-Verlag, Frankfiirt/M.— Berlin, 1954. S. 71. (Aus dem Englischen von 11. Steinhoff.)
7 Ass m an n, Kurt, Op. cit., S. 169 f.
* Erlurtli, W a 1 d e m a r, Op. cit., S. 245.
9 Wilmot, Chester, Op. cit, S. 6.
10 Assman n, Kurt, Op. cit., S. 170.
11 C h u г c h i 1 1, Winston, Op. cit., v. 2/1.
19
тогда 16 июля 1940 года Гитлер отдал приказ о подготовке высадки в Англии (операция «Морской лев»). Однако начало этой операции по различным соображениям все время откладывалось, пока в октябре 1940 года от нее не отказались вообще, заменив этот проект новым планом: совместно с франкистской Испанией закрыть Англии доступ в Средиземное море, заперев Гибралтар (операция «Феликс»), Мы не станем останавливаться подробно на многочисленных противоречивых комментариях, спекуляцих, предположениях и взаимных обвинениях, которые в этой связи высказаны в «Книге почета германской армии»1, у Ассмана1 2, ПуттКамера3, Эрфурта4, Черчилля5 *, Квинта’, Кессельринга7, Манштейна8 *, Шульмана8, Бора10 11, Росси11 и других.
Самый существенный вопрос, связанный с операцией «Морской лев», несомненно, затрагивают Путткамер12, Типпельскирх13 и Фуллер14; они не считают это предприятие серьезно задуманной военной операцией, рассматривая его лишь как «нордическую хитрость», гигантский маневр Гитлера с целью ввести в заблуждение СССР. Гитлер тогда уже занимался «русским вопросом», то есть планами нападения на СССР. Фуллер и многие немецкие генералы считают, однако, что величайшая стратегическая ошибка Гитлера заключалась в том, что он в своих планах нападения на Россию шел по следам Наполеона. По их мнению, роковую роль для гитлеровской Германии в конечном счете сыграло предположение, что можно в «молниеносной войне» сокрушить Россию, якобы являвшуюся последним английским мечом на континенте, и тем самым побудить Англию к соглашению. Интересная черта этой аргументации—ее исходное положение: не Советский Союз, а Англия якобы являлась главным противником. А так как Гитлер не мог нанести Англии непосредственное военное поражение, то он искал победы на косвенных путях—в Средиземном море либо в войне против Советского Союза — и в результате проиграл войну.
Нетрудно вскрыть подлинный смысл этих рассуждений, перегруженных множеством военно-стратегических доводов: переоценка «битвы за Англию», перенесение решающих моментов войны во времени назад на лето 1940 года должны служить тому, чтобы преуменьшить удельный вес Советского Союза в антигитлеровской коалиции, преуменьшить и оклеветать значение исключительных военных успехов СССР, битвы за Москву и Сталинградской битвы, непрерывного ряда сокрушительных боев и «котлов», в которых гитлеровские генералы на пути от Сталинграда до Берлина были наголову разбиты Советской Армией.
2. Битва за Москву
Поражение германских войск осенью 1941 года было настолько очевидным, что его невозможно отрицать. Тем не менее битые нацистские генералы и западногерманские историки пытаются всячески преуменьшить значение битвы за Москву, принизить героические успехи советских войск, советского
1 «Мировая война 1939—1945 годы», Издательство иностранной литературы, М., 1957.
2 Assman n, Kurt, Op. cit., S. 177 f.
’ Puttkame r, Karl, Jesko, Die unheimliche See. Hitler und die Kriegs-marine. Dokumente zur Zeitgeschichte, Verlag Karl Kiihne, Wien—Miinchen, 1952, Bd. 2, S. 39.
4 Erfurt h, Waldemmar, Op. cit., S. 249.
6 Churchill, Winston, Op. cit., Y.2/1.
“Quint, Herbert A., Op. cit., S. 28 ff.
7 Kesselring, Albert, Gedanken zum zweiten Weltkrieg, Athenaum-Verlag, Bonn, 1957, S. 77 ff.
8 Manstein, Erich, Verlorene Siege. Atheniium-Verlag, Bonn, 1957, S. 167 ff.
•Shulman, Mil to л, Op. cit., S. 112.
10 В о r, Peter, Op. cit., S. 177. »
11 Rossi, A., Op. cit., S. 128.
12 Puttkame r, Karl Jesko, Op. cit., S. 38.
13 К. Типпельскирх, Названное сочинение.
14 Дж. Ф. С. Ф у л л е р, Вторая мировая война 1939—1945 гг., Издательство иностранной литературы, М., 1956.
20
народа и Коммунистической партии Советского Союза. Они пытаются объяснить поражение всевозможными причинами, и прежде всего возложить вину на Гитлера.
В действительности же германский генеральный штаб ввел в действий под Москвой 80 дивизий, в том числе 14 танковых, 9 моторизованных и до 1000 боевых самолетов 2-го воздушного флота, перебазированного из района Средиземного мо{Л. Битва за Москву имела решающее значение не только для дальнейшего хода Великой Отечественной войны советского народа, но и для всей мировой войны в целом1. Под Москвой германский вермахт — бесспорно, сильнейшая армия капиталистического мира—потерпел свое первое крупное поражение. Был нанесен серьезнейший удар мифу о непобедимости германской армии, возникшему после победоносных «молниеносных войн» против Польши, Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии, Франции, Югославии и Греции. Таким образом, битва за Москву имела огромное как военное, так и политическое значение: 1) под ударами советских вооруженных сил потерпела крушение заранее подготовленная германским генеральным штабом молниеносная война против СССР; 2) с этого времени стратегическая инициатива перешла в руки советского Верховного командования и тем самым военное положение на Восточном фронте решающим образом изменилось в пользу Советского Союза; 3) политическим результатом победоносной битвы за Москву явился рост авторитета СССР во всем мире и особенно в глазах народов Европы, порабощенных гитлеровским фашизмом. После победоносной битвы за Москву народы увидели в лице Советского Союза реальную силу, способную не только остановить фашистские агрессивные войска, но и разгромить их1 2.
Но в каком же виде предстает проигранная фашистской Германией битва за Москву в кривом зеркале битых гитлеровских генералов и идеологов германского милитаризма? Ссылки на «необозримые русские пространства», на «генерала Грязь», на «генерала Мороз», на «генерала Зиму»—все это несостоятельные аргументы, которые, как бумеранг, попадают в тех, кто их пустил в ход, ибо советские военные операции проводились в тех самых условиях, в каких сражались германские войска. И вот тут-то постоянным спасителем попавших в беду германских генералов оказывается «генерал Гитлер»! С редким единодушием, почти дословно повторяя друг друга, германские военные историки приписывают Гитлеру всю полноту вины за поражение под Москвой. Он допустил решающие ошибки как при выработке военно-стратегического плана, так и при его осуществлении. Рассуждения этих историков сводятся к следующему:
1) Гитлер недооценил значение Москвы и задержал продвижение армейской группы «Центр», чтобы из военно-экономических соображений форсировать боевые действия в направлении Киева и Ленинграда. Так утверждают «Книга почета германской армии»3, Брем4, Кессельринг5 6, Герлиц®, Типпель-скирх7 8 и Эрфурт®. При этом генерал Эрфурт особо подчеркивает, что гитлеровская Германия из-за операций на Балканах потеряла пять недель, которые оказались решающими для исхода войны против России9.
2) Несмотря на все предостережения своих генералов, Гитлер сознательно игнорировал наступательную силу Советской Армии и с пеной у рта неистовствовал по поводу мнительности и пораженчества генералов10. Гит
1 В. К у р а с о в, Великая победа под Москвой, «Военная мысль»,1957, кн. I, стр 5.
2 Курасов, Названная статья, стр. 13.
3 «Мировая война. 1939—1945 годы».
4 Brehm, Bruno, Ага Rande des Abgrunds. Von Lenin bis Truman. Leopold
Stocker-Verlag. Graz/Gottinger, 1952, S. 274.
6 К e s s e 1 r.i n g, Albert, Op. cit., S. 112.
1 Gorli t z, Walter, Quint Herbert A., Op. cit., S. 577 f.
7 К. Типпельскирх, Названное сочинение.
8 Erfurt h, Waldemar, Op. cit., S. 263.
• Ibid.
10 «Мировая война. 1939—1945 годы».
21
лер полагал, что сила советских войск сломлена, и поэтому он якобы приказал расформировать сорок дивизий и прекратить производство боеприпасов. К тому же он рассчитывал на крушение «коммунистического режима» после первых же тяжелых испытаний1.
3) Со всеми этими просчетами Гитлера связана неудовлетворительная подготовка войск для зимней кампании, на вероятность которой Браухич указывал еще в июле 1941 года. Но Гитлер был твердо убежден, что солдаты еще к рождеству вернутся домой1 2.
4) Когда Рундштедт уже в октябре 1941 года ввиду приближения зимы потребовал от Гитлера приостановки наступления, то генералы Бок и Браухич поддержали Гитлера в его неправильных решениях3.
Генералы, правда, признают, что, когда началось сокрушительное контрнаступление советских вооруженных сил и нужно было поспешно оттянуть фронт назад, Гитлер взял в свои руки верховное командование и тем самым предотвратил панику; однако они, с другой стороны, упрекают Гитлера за то, что он с тех пор сохранил за собой верховное командование армией и вследствие своего упрямства и военного невежества привел к тяжелым стратегическим и тактическим кризисам. Так высказываются «Книга почета германской армии»4, Бруно Брем5 *, Курт фон Типпельскирх0, а также Лиддл Гарт7.
Ни один из гитлеровских генералов не оспаривает, что поражение под Москвой имело тяжелые последствия для гитлеровской Германии. Типпельскирх выделяет деморализующее психологическое воздействие поражения, так как невольно напрашивалась параллель с походом Наполеона в Россию в 1812 году и с его конечной судьбой8; Фуллер в свою очередь сравнивает сложившееся положение с битвой за Париж в 1914 году и с «чудом на Марне»9. Ассман признает, что он считал Эль-Аламейн решающим поворотным моментом в войне, пока тщательно не изучил зимнюю кампанию в России; теперь он пришел к выводу, что сражение за Москву было решающим поворотным моментом в войне. С тех пор инициатива перешла в руки советского Верховного командования и германские войска уже не могли оправиться после потери престижа, понесенной в битве под Москвой10 11. Тем самым Ассман полностью подтверждает констатацию советского генерала армии Курасова.
3. Бои за Эль-Аламейн
Некоторые военные историки намеренно преувеличивают значение битвы у Эль-Аламейна (осень 1942 года) и военных действий в бассейне Средиземного моря. Так, например, событиям в Северной Африке Типпельскирх придает гораздо большее значение, чем Сталинграду, с точки зрения общего хода второй мировой войны11. Смысл этого ясен. Путем перенесения центра тяжести всех военных событий с Восточного фронта в бассейн Средиземного моря должен быть преуменьшен удельный вес Восточного фронта и преуменьшено значение Советской Армии, сыгравшей решающую роль в разгроме гитлеровского фашизма.
Не вдаваясь в подробности, отметим, что буржуазные историки посто
1 В о г, Peter, Op. cit., S. 214 und О u i n t Herbert A., Op. cit., S. 78.
2 Bor, Peter, Op. cit., S. 198 und Brehm Bruno, Op. cit., S. 275.
’Wilmot, Chester, Op. cit., S. 78 f.
4 «Мировая война. 1939—1945 годы».
5 Brehm, Bruno, Op»cit., S. 274.
8 К. Типпельскирх, Названное сочинение. •
’Liddell Hart, Op. cit., S. 350 f.
8 К. Типпельскирх, Названное сочинение.
° Дж. Ф. С. Фуллер, Названное сочинение.
10 Assmaiin, Kurt, Op. cit., S. 286.
11 К. T и п п е л ь с к и р х, Названное сочинение.
22
янно впадают в противоречия и что даже германские генералы, особенно Ассман, вынуждены, преодолевая внутреннее предубеждение, признать, что германской армии в битве под Москвой был нанесен решительный удар, от которого она уже больше не смогла оправиться. Легко понять, почему в первую очередь английские историки культивируют легенду, будто центр тяжести войны находился в бассейне Средиземного моря: тем самым выдвигается на первый план участие Англии в войне. Так, Уинстон Черчилль говорит в свойственной ем/ парадоксальной манере: «До фть-Аламейна мы не одержали ни одной победы. После Эль-Аламейна мы не понесли ни одного поражения»1. Фуллер называет сражение у Эль-Аламейна «самым решающим сухопутным сражением с целью защиты интересов союзников и одним из самых решающих в истории Англии»1 2. Ему вторят Типпельскирх3 и «Книга почета германской армии»4 5 *; они распространяются насчет тяжелых последствий понесенного поражения для морального состояния итальянского народа. Решающая причина поражения под Эль-Аламейном, по их мнению, заключается в отсутствии боеспособного военно-морского флота и авиации. Не лишено интереса, что тем самым Типпельскирх и «Книга почета» признают, какое далеко идущее значение имела героическая борьба советских войск, отразившаяся даже на Североафриканском театре военных действий. Ведь именно 2-й военно-воздушный флот, на отсутствие которого в Африке эти авторы так горько жалуются, был переброшен Гитлером на Восточный фронт8. Таким образом, советские вооруженные силы косвенно внесли немалый вклад и в победу английских войск под Эль-Аламейном.
Нет серьезных оснований подробно рассматривать горячие споры между гитлеровскими генералами о том, можно ли было путем более энергичных и более целеустремленных операций в Средиземном море все же добиться успешного для Германии окончания войны. В этих спорах только одно достойно внимания, и в этом случае генералы Кессельринг (воздушный флот)8, Ассман (военно-морской флот)7, Эрфурт (сухопутные войска)8 и другие упрекают Гитлера за то, что он, придавая главное значение континентальным операциям, рассматривал Средиземное море как второстепенный театр военных действий. По их мнению, Гитлер роковым образом не понял решающих для исхода войны возможностей, которые открывались для гитлеровской Германии в Средиземном море. Однако усердно стремясь возложить вину на Гитлера и оправдать себя, генералы полностью упускают из виду, что, если бы Гитлер даже захотел перенести центр тяжести военных операций на Средиземное море, это было просто невозможно, потому что главные силы германской армии были скованы па Восточном фронте и там уже решился исход войны.
В заключение этого раздела надо еще указать на реваншистские тенденции, которые ясно обнаруживаются в спорах между бывшими гитлеровскими генералами. Разнообразные и запутанные рассуждения и предположения военного и политического характера по типу: «что было бы, если бы...», должны помочь генералам, ныне находящимся у власти, создать у читателя впечатление, будто все обязательно сложилось бы иначе, если бы в свое время послушались этих непогрешимых стратегов. Однако в будущем, поскольку,) во главе Федеративной Республики Германии уже находятся люди, .которые не связывают генералов в их решениях, как это делал Гитлер, а предоставляют им полную свободу рук, дела обязательно пойдут хорошо.
1 Ch urch i 1 J, W i ns Ion, Op. cit., v. 4/2.
2 Дж. <1>. С. Фуллер, Названное сочинение, стр. 313.
3 К. Типпельскирх, Названное сочинение.
4 «Мировая война. 1939—1945 годы».
5 К u h п е г, Otto Heinrich, Op. cit., S. 170 f.
8 «Итоги второй мировой войны», Издательство иностранной литературы, М., 1957.
7 Assmann, Kurt, Op. cit., S. 126 ff.
• Erffurth, Waldemar, Op. cit., S. 252.
23
4. Сталинградская битва
Даже гитлеровские генералы вынуждены были признать, что уже битва под Москвой сорвала план «молниеносной войны» и разрушила миф о непобедимости германской армии. Следствием этой битвы было то, что, несмотря на некоторые и позже удававшиеся тактические операции, стратегическая инициатива перешла от германского командования к советскому Верховному командованию и оставалась в его руках до конца войны, до самой битвы за Берлин.
А Сталинградская битва была для 6-й армии генерал-полковника Паулюса и для румынских и итальянских войск в буквальном смысле слова Каинами. Это были для всего германского генерального штаба—в моральном смысле—настоящие Канны, те самые классические Канны, о которых мечтали Клаузевиц, Мольтке и Шлиффен, и такие Канны—horribille dictu — мастерски продемонстрировала германским генералам Советская Армия, к которой гитлеровские генералы относились столь чванливо и презрительно. Битва за Сталинград, несомненно, была одним из самых выдающихся военных событий второй мировой войны1. Замечательная победа советских вооруженных сил под Сталинградом явилась одновременно началом большого стратегического наступления, которое в основном продолжалось вплоть до полного разгрома гитлеровской Германии. Помимо тяжелого военного потрясения, постигшего гитлеровскую Германию как на фронте, так и в тылу, уничтожение итальянского и румынского экспедиционных корпусов имело далеко идущее политическое влияние, ускорив выход Италии из войны и вызвав открытый политический кризис в Румынии, до того носивший скрытый характер1 2. Тяжелый удар, действие которого уже нельзя было приостановить, был нанесен военному престижу гитлеровской Германии в Финляндии, Венгрии и Болгарии, вскоре зондировавших возможность сепаратного мира, а также в нейтральных странах, таких, как Турция, Швеция и Португалия, которые начали отходить от гитлеровской Германии, чтобы не быть вовлеченными в уже обозначившуюся неизбежную катастрофу.
Триумфальная победа советских вооруженных сил вызвала сильнейший подъем как национально-освободительной борьбы в порабощенных гитлеровским фашизмом странах—особенно в Польше, Югославии, Греции и Фраи ции,—так и антифашистского движения Сопротивления в самой Германии3.
Необычайно вырос во всем культурном мире престиж героически борющегося советского народа и удельный вес военного потенциала СССР в рамках антигитлеровской коалиции. В заключение своих соображений относительно Сталинградской битвы маршал Еременко говорит буквально следующее: «Все эти факторы политического и военного характера дают основание считать Сталинградскую битву поворотным пунктом в ходе второй мировой войны, ибо совершенно ясно, что судьба ее решалась именно на германосоветском фронте»4.
Но западногерманские историки пытаются применить свое искусство фальсификации даже к этому неоспоримому факту, который глубоко выжжен в сознании битых гитлеровских генералов и мучительно воспринимается германским генералитетом с его культивировавшимся в течение многих поколений преувеличенным самомнением.
Поэтому снова один лишь Гитлер объявляется виновником катастрофы!
В качестве доказательства Эрих фон Манштейн приводит высказывания Гитлера от 5 февраля 1945 года: «За Сталинград я один несу ответственность. Я, вероятно, мог бы сказать, что Геринг нарисовал неточную картину снабжения при помощи воздушного флота и тем самым мог свалить на него по
1 См. статью маршала Советского Союза А. Еременко «О некоторых вопросах освещения Сталинградской битвы», «Военная мысль», 1957, кн. 2, стр. 17—32.
* А. Еременко, Навванная статья, стр. 17.
3 Там же.
4 Там же.
24
крайней мере часть ответственности. Однако он является моим преемником^ мною самим назначенным, и поэтому я не могу возложить на него бремя ответственности за Сталинград»1.
Тезис о единоличной вине Гитлера обосновывается следующим образом:
1) Гитлер недооценил военный потенциал советских вооруженных сил. Когда Гальдер в 1942 году указал Гитлеру на бесперспективность нового наступления, тот снял Гальдера с поста начальника генерального штаба2.
2) Вследствие недооценки советских вооружеЛых сил Гитлер ослабил предназначенные для наступления на Сталинград германские войска и одновременно предпринял наступление на нефтяные районы Кавказа и даже придавал этим наступательным операциям большее значение. Такова точка зрения «Книги почета»3, Эрфурта4, Отто Генриха Кюнера8, Отто Дитриха® и Петера Бора* 7.
3) Когда еще можно было вырваться из сталинградского котла, Гитлер воспрепятствовал этому, несмотря на возражения генералов; об этом сообщают Ганс Шпейдель8 и Эрих фон Манштейн9.
4) Гитлер переоценил возможности деблокирования и слишком доверился совершенно утопическим обещаниям Геринга о снабжении окруженной группировки с воздуха. Это утверждают «Книга почета»10 11, Ганс-Детлеф X. фон Роден11 и Ганс Дерр12. Тут заметна тенденция возложить ответственность, кроме Гитлера, и на Геринга, которого обвиняют в том, что его аналогичные преувеличенные обещания повели к проигрышу «воздушной битвы за Англию».
Кроме Манштейна, который начисто отрицает решающее военное значение Сталинграда13, все остальные военные историки вынуждены его признать, делая большие или меньшие оговорки; например, Гальдер называет Сталинград поворотным пунктом в «полководческой славе Гитлера»(1) — и, надо заметить, не только его славе14 * *. Мейснер признает, что Сталинград вызвал глубокий кризис доверия18; Типпельскирх, который, правда, придает военному поражению в Северной Африке большее значение, чем Сталинградскому сражению, признает вместе с тем, что поражение в Сталинграде было более «наглядным» для сознания германского народа1®. Форман видит в Сталинградском сражении начало конца, но отмечает, что рассудок просто-напросто отказывался «додумать до конца эту перспективу»17; Эрфурт все же считает не исключенным, что при правильном руководстве можно было достигнуть ничейного исхода войны18; Гёрлиц признает, что Сталинград явился тяжелым потрясением для Германии, ее союзников и нейтральных государств19; Хильгрубер подчеркивает, что Сталинград явился поворотным
'Manstein, Erich, Op. cit., S. 395; Ср. также Liddell, H a r l В. H ..
Op. cit., S. 372 u. 377.
“Halder, Franz, Op. cit., S. 52.
9 «Мировая война. 1939—1945 годы».
4 Erfurt h, Waldemar, Op. cit., S. 278 ff.
‘Kiihner, Otto Heinrich, Op. cit., S. 145 ff.
“Dietrich, Otto, Op. cit., S. 109.
7 Bor, Peter, Op. cit., S. 218.
8 S p e i d e 1, Hans, Invasion 1944, Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins,. Tiibingen/Stuttgart, 1952, S. 22.
"Manstein, Erich, Op. cit., S. 368 ff.
10 «Мировая война. 1939—1945 годы».
11 R о de h n, Han s-D etlev Herhudt, Die Luftwaffe ringt um Stalingrad, Limes-Verlag, Wiesbaden, 1950, S. 24.
12 D о e r r, Hans, Der Feldzug nach Stalingrad. Mittler &. Sohn,’ Darmstadt, 1955, S. 118 ff.
18 Manstein, Erich, Op. cit., S. 321 f.
14 H a 1 d e r, Franz, Op. cit., S. 55.
16 Meissner, Otto, Op. cit., S. 580.
18 К. Типпельскирх, Названное сочинение.
l7Vormann, Nikolaus, Tscherkassy, Kurt. Vowinkel Verlag, Heidelberg, 1954, S. 10.
18 Erfurt h, Waldemar, Op. cit., S. 289.
18 G 6 r 1 i t z, Walter, Der zweite Weltkrieg 1939—1945, Steingriiben-Verlag, Stuttgart, 1952, Bd. I, S. 415.
25
моментом в германо-румынских отношениях1; «Книга почета» вынуждена признать большое влияние, оказанное сталинградским поражением на боевую силу армии, ее моральное состояние1 2; Лиддл Гарт поддерживает мнение Рунд-штедта и других нацистских генералов, будто бы «при более гибком руководстве борьбой» можно было избежать поражения3; наконец, Черчилль рассматривает весну 1943 года как поворотный момент, но—и это показательно-только на Восточном фронте, а не для хода всей войны в целом4.
Другая версия, направленная к тому, чтобы преуменьшить значение катастрофического поражения под Сталинградом, подчеркивает, что окружение 6-й армии советским войскам удалось осуществить с помощью прорыва не на линии расположения германских войск, а в расположении итальянских и румынских войск, причем военным качествам последних дается весьма отрицательная характеристика5 *. Представляет также интерес клеветническая оценка поведения генерал-полковника Паулюса в Сталинграде. Так, Дерр считает, что 24 января 1943 года уже были налицо зловещие признаки крушения 6-й армии, и поэтому Паулюс имел право и был обязан свою ответственность за судьбу 200 тысяч человек [фактически их было около 300 тысяч.—Л. Ш.] поставить выше приказа о продолжении борьбы, уже ставшего беспредметным". По мнению Типпельскирха, Паулюс не был человеком, способным нарушить военную дисциплину7; с другой стороны, Манштейн, который в качестве главнокомандующего в большой степени несет личную ответственность за разгром 6-й армии, сваливает эту вину на Паулюса, утверждая, что успешный прорыв сквозь кольцо окружения был вполне возможен, но высокое чувство ответственности и внутренняя душевная борьба не позволили Паулюсу действовать вопреки «приказу фюрера»8.
В ходе дискуссии на нашей сессии генерал-майор в отставке д-р Корфес, ближайший сотрудник Паулюса в его штабе, подробно доложит о роковой роли Манштейна в Сталинградском сражении, о его служебных отношениях с Паулюсом и о военном банкротстве Манштейна, которое он впоследствии пытался приукрасить за счет Паулюса.
IV. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОИНА И ЗАДАЧИ МАРКСИСТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
Естественно, что в рамках своего доклада я не могу поставить перед собой задачу рассмотреть все проблемы истории второй мировой войны, явившейся предметом реакционной фальсификации истории. Надлежало лишь выделить основные тенденции реакционной буржуазной историографии и основные задачи, к которым — со значительным опозданием — обязательно должна обратиться марксистская историческая наука о второй мировой войне, если мы не хотим отстать и оставить поле исследования свободным для изощренных идеологов и пропагандистов третьей мировой войны.
Кроме уже затронутого мною круга проблем, марксистско-ленинская историческая наука должна сделать предметом глубокого исследования следующий круг вопросов:
I. К вопросу о предыстории второй мировой войны
1 II i 1 1 g г u b е г, Andreas, Hitler, Konig Carol und Marschall Antonescu. Die deutsch—rumanischen Beziehungen 1938—1944. Franz Steiner-Verlag, Wiesbaden, 1954, S. 155 u. 167.
2 «Мировая война. 1939-^1945 годы».
’Liddell Hart В. II., Op. cit., S. 384. •
4 Churchill, Winston, Op. cit., v. 4/2.
5 H i llgr uber, Andreas, Op. cit., S. 151 f.
“Doerr, 11 a n s, Op. cit., S. 117 ff.
' К. Типпельскирх, Названное сочинение.
“Manstein, Erich, Op. cit., S. 372.
26
1. Роль германского монополистического капитала в подготовке и проведении второй мировой войны.
2. Роль германского генералитета при захвате власти Гитлером и в подготовке второй мировой войны.
3. Героическая борьба Коммунистической партии Германии против фашистской диктатуры и агрессивной политики гитлеровского фашизма.
4. Предыстория ^второй мировой войны в кривом зеркале реакционной историографии. *
II. Вторая мировая война как предмет исследования марксистской исторической науки
1. Характер и периодизация второй мировой войны.
2. Фашистское нападение на Советский Союз 22 июня 1941 года.
3. Так называемые поворотные моменты второй мировой войны.
4. Роль Советской Армии во второй мировой войне.
Ш. К политике союзников во второй мировой войне
1. Конференция в Касабланке и тезис о коллективной ответственности германского народа в заявлении об «Unconditional Surrender».
2. Конструктивная политика Советского Союза в германском вопросе, проводившая четкую грань между гитлеровским режимом и германским народом.
3. Вопросы мировой политики на конференции в Тегеране.
4. Проблема «второго фронта» в антигитлеровской коалиции.
5. Характер и закулисные причины плана Моргентау.
6. Ялтинская конференция.
IV. Значение второстепенных театров военных действий во второй мировой войне
1. Военные действия в бассейне Средиземного моря и их политические аспекты.
2. Военные действия в Скандинавии (Северная Атлантика, Северное море и Балтийское море).
3. Военные действия на Тихом океане и их влияние на политику союзников.
V. Движение Сопротивления гитлеровскому фашизму
1. Пролетарское движение Сопротивления гитлеровскому фашизму.
2. Буржуазная и военная оппозиция гитлеровскому режиму и ее причины.
3. Антифашистская борьба в концентрационных лагерях.
4. Активная борьба антифашистских групп Сопротивления протии фашистской армии.
5. 20 июля 1944 года — вымысел и действительность.
6. Освободительная борьба народов, порабощенных гитлеровским фашизмом (борьба партизан во Франции).
VI. Основные тенденции реакционной историографии после второй мировой войны.
1. Политика западных держав по отношению к германскому монополистическому капиталу в первые годы после крушения гитлеровского фашизма.
2. Роль экономического и военного потенциала Западной Германии в агрессивных планах американского и английского империализма.
3. Возрождение германского империализма после второй мировой войны при прямом содействии империализма США.
4. Возрождение германского милитаризма и включение Западной Германии в агрессивный Атлантический блок.
5. Отдельные этапы и основные тенденции реакционной историографии с 1945 года по настоящее время.
6. Реваншизм в западногерманской историографии.
VII. Германский реваншизм и идеологическая подготовка третьей мировой войны.
27
1. Ревизия нюрнбергских процессов военных преступников западногерманской историографией.
2. Неофашистский пересмотр так называемого «образа Гитлера».
3. «Интеграция Европы» как идеологическое дополнение НАТО (Общий рынок, Европейское объединение угля и стали, «Евратом»).
VIII. Задачи марксистской исторической науки в борьбе против идеологов третьей мировой войны.
Так как значительная часть упомянутых выше проблем будет освещена на этой сессии в содокладах и выступлениях в прениях, я ограничусь-лишь рассмотрением последних двух пунктов раздела VII, а именно: неофашистский пересмотр «образа Гитлера» и «интеграция Европы» как идеологическое дополнение НАТО, после чего я обращусь к задачам марксистского научного исследования в борьбе против идеологов третьей мировой войны.
V. НЕОФАШИСТСКИЙ ПЕРЕСМОТР ТАК НАЗЫВАЕМОГО „ ОБРАЗА ГИТЛЕРА" И „ИНТЕГРАЦИЯ ЕВРОПЫ" КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИВЕСОК К НАТО .
Западногерманские историки не в состоянии и не желают объяснить возникновение гитлеровского фашизма как наиболее шовинистической разбойничьей и варварской разновидности германского империализма его классовой основой. За исключением Хальгартена1, они избегают даже того, чтобы коснуться столь явных связей гитлеровского фашизма с германским монополистическим капиталом. Даже работа Карла Дитриха Брахера1 2, в основном довольно объективная, не идет в указанном направлении дальше попыток осветить этот вопрос.
Известно, что гитлеровские генералы пытаются возложить на Гитлера вину за поражение в войне и за национальную катастрофу. Однако весьма показательно, что по истечении некоторого промежутка времени, через десять или двенадцать лет после 1945 года, западногерманские историки постепенно, но вполне целеустремленно приступили к пересмотру «образа Гитлера». Так, вездесущий Вальтер Герлиц возлагает на массы ответственность за метеорный взлет «великого барабанщика» Гитлера, который якобы явился «глашатаем всех неоформленных желаний и стремлений»3; Ротфельс пытается представить Гитлера и национал-социализм в специфическом историко-психологическом освещении, усматривая в них «последнюю вершину и перелом в процессе секуляризации XIX столетия»4 s *. Фридрих Мейнеке и Герхард Риттер положили начало типичной тенденции, которая в дальнейшем в самых различных оттенках и вариациях разрабатывается западногерманской историографией; она характеризуется субъективизмом и иррационализмом, на основе которых пытаются объяснить «загадку», «феномен», «демоническую силу» Гитлера, стремясь таким образом, с одной стороны, отмежеваться от него в вопросе о соучастии, а с другой — приписать содействие, соучастие и вытекающие из этого ответственность и вину различным мистическим и демоническим свойствам «феномена» — Гитлера. Петер Бор подчеркивает известную «лунатическую уверенность» Гитлера, его «граничащую с чудом, способность чувствовать то, что носится в воздухе»8. Мы уже говорили о том, что Мейснер® и Дит
1 Hallgarten G. F. W., Hitler, Reichswehr und die Industrie. Europaische Verlagsanstalt, Frankfurt a/M., 1955, 2. Aufl.
2 Bracher, KarlOietrich, Die Aufliisung dor Weimarer Republik, Ring Verlag, Stuttgart und Diisseldorf, 1957, 2. Aufl. •
’Gorlitz, Walter, Quint, Herbert A., Op. cit., S. 631.
4 Rothfels, Hans, Die deutsche Opposition gegen Hitler, Krefeld, 1949. S. 54.
s Bor, Peter, Op. cit., S. 22.
“Meissner, Otto, Op. cit., S. 615.
28
рих1 проводят грань между «разумным и умеренным Гитлером первых лет» bi более поздним Гитлером со всеми его отрицательными чертами.
В такой или аналогичный манере пишут Форман1 2, Честер Вильмот3, Хирль4 * 6 и Кордт8. О «роковой роли Гитлера» как полководца во второй мировой войне пишут, особо подчеркивая при этом невиновность гитлеровских генералов в поражении, Латернзерн® бывший защитник обвиняемых на процессе военных преступников в Нюрнберге, и Эрфурт, который вслед за Риттером в конце своей книги, совершенйЬ безмятежно отрицая их виновность, констатирует, что «германский генеральный штаб в Третьей империи безусловно ничего не имел общего с милитаризмом»7. В таком же духе высказываются Кессельринг8 и Лиддл Гарт9.
О том, что действительность была совершенно иной, свидетельствует хотя бы общеизвестная роль германского генералитета при захвате власти Гитлером. Это, в частности, признал Бломберг в своих показаниях перед Международным военным трибуналом. По его признанию, германский генералитет видел в реваншистской войне «святой долг», и в этом заключалась «главная причина частично тайного перевооружения, начатого примерно за десять лет до прихода Гитлера к власти и усиленно проводившегося при нацистском режиме»10 11. Гальдер заявил в своих беседах с Петером Бором, что офицерский корпус поддержал Гитлера потому, что Гитлер вывел армию из «тупика», в котором находился стотысячный рейхсвер, и, кроме того, содействовал продвижению по службе в соответствии со способностями, без учета служебного стажа11. Если, как подчеркивают Эрфурт и Шпейдель, Гитлер пришел к власти легально и «громадное большинство немецкого народа длительное время после начала второй мировой войны шло за Гитлером»12, то все же столь оппозиционно настроенные генералы должны были, хотя бы 30 июня 1934 года, уяснить себе, что Германией управляет преступник. Это констатирует даже Герхард Риттер, упрекая рейхсвер за то, что он в ту пору не совершил государственного переворота13. Но против этого упрека у гитлеровских генералов всегда имеется наготове знаменитая ссылка на «присягу». Сопротивление Гитлеру было затруднено тем, что начиная с 1934 года присяга уже приносилась, дескать, не на верность «народу и отечеству», а лично Адольфу Гитлеру. Об этом говорят Краусник14 * 16 и Честер Вильмот18. Ближе всего к правде, пожалуй, Ульрих фон Гассель, когда он трезво констатирует, что прогитлеровская позиция германского офицерского корпуса имела вполне материальные основания. Он говорит: «Для большинства из них карьера в самом пошлом смысле этого слова, денежные подарки и жезл фельдмар
1 Dietrich, Otto, Op. cit., S. 56. f. u. 274 f.
2Vormann, Nikolaus s, Op. cit., S. 27 f.
3 Wilmot, Chester, Op. cit., S. 168 f.
4 H i er 1, Konstantin, Volk oder Schickal. Studie uber Entstehung uno
Ausgang des 2. Wellkrieges. Heidelberg, 1954.
6 К or dt, Erich, Op. cit., S. 53 f.
8 Laternser, Hans, Verteidigung deutscher Soldaten. Pladoyers voralli-erten Gerichten, Bohnemeier Verlag, Bonn, 1950.
7 Erffurth, Waldemar, Op. cit., S. 311.
8 Kesselring, Albert, Op. cit., S. 11 f.
•Liddell Hart В. H., Op. cit., S. 17 f.
10 Der ProzeB gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militargerich-tschof. Niirnberg 14. Nov. 1945 bis 1. Okr. 1946 (amtlicher Text in deutscher Sprache), Bd. XXXII, S. 464. (Далее упоминается как IMG.)
11 В о r, Peter, Op. cit., S. 98 u. 101.
11 Er f u r t h, Waldemar, Op. cit., S. 311; Ср. также Speidel, Hans, Op. cit., S. 30.
13 Hitler, Gerhard, Garl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbwegung, Stuttgart, 1954, S. 136 f.
14 К r a u s n i c k, Helmut, Vorgeschichte und Beginn des militarischen Wider-
standes gegen Hiller. In: Die Vollmacht des Gewissens. Hrsg. von der Europaischen Publication e. V., Verlag Hermann Hinn, Mijnchen 1956, S. 235 f.
16 Wilmot, Chester, Op. cit., S. 80 f.
29
шала были важнее, чем исторические цели и нравственные ценности, поставленные на карту»1. Вот почему в Западной Германии применяется идеологическая косметика для приукрашивания «образа Гитлера». Вот почему занимаются болтовней о «непостижимой загадке», о «демонической силе» и «феномене» Гитлера!
После крушения гитлеровского фашизма курс западных держав был направлен не только на то, чтобы в оккупированных ими зонах сохранить прежний социальный режим, но и на то, чтобы поставить на службу своим далеко идущим антисоветским планам экономический военный потенциал Западной Германии. По мере развития этой политики германские империалисты, милитаристы и их идеологи перестали себя изображать «бедными грешниками». Их настроение стало оптимистическим, они преисполнились ноаых надежд. Если в прошлом рассуждали и мыслили категориями «заката Европы», то теперь заговорили об «интеграции Европы». Одним из самых ранних поборников «европейской интеграции» был бывший командир дивизии СС «Гитлерюгенд» Курт Майер; на сборах СС его постоянно чествуют в качестве аденауэровского танкового лидера.
Офицер канадской разведки Мильтон Шульман рассказал о беседах, которые он вел с пресловутым Куртом Майером в 1945 году в лагере военнопленных. Согласно сообщениям Шульмана, Майер предлагал свои услуги в организации эсэсовской дивизии «Европа» для поддержки Соединенных Штатов в войне против Японии1 2. Даже у Шульмана вызвала отвращение эта раболепная и угодливая психология наемного ландскнехта. Он констатировал, что нельзя надеяться на то, что можно «перевоспитать подобного рода нацистов»3. В основу концепции и надежд возродившегося после 1945 года германского империализма и милитаризма легли вынашивавшиеся еще в середине войны Геббельсом и Гиммлером, сторонниками Герделера и оппозиционной военщиной расчеты на то, что к концу войны еще удастся сражаться на стороне США против Советского Союза. Этой концепцией объясняются те весьма сложные, коснувшиеся очень многих участников своеобразные связи, которые уже во время войны установились между представителями буржуазной и военной оппозиции, с одной стороны, и действовавшим из Швейцарии резидентом американской разведки Алленом Даллесом, братом государственного секретаря Джона Фостера Даллеса, — с другой. Этой же концепцией объясняется и то, что дело дошло до прямых переговоров с нацистской разведкой, которая вела с Даллесом переговоры о передаче американцам в организованном порядке «оборонительной системы Австрии»4. Таким путем хотели воспрепятствовать тому, чтобы после уже обозначившегося крушения гитлеровской Германии «коммунисты п другие антигосударственные элементы» пришли к власти в Австрии; Аллен Даллес дал определенное согласие на осуществление этих планов.
Хотя западные державы, особенно США, уже во время войны тайно, а после 1945 года слегка замаскированно делали все для того, чтобы сохранить и укрепить существовавшие фашистские силы, тем не менее литературные глашатаи неофашизма бросают западным державам упрек в том, что они уже тогда не говорили и не действовали открыто. Так, например, отъявленный нацист Бруно Брем, выступив с прославлением созданного Гитлером «нового порядка в Европе», заявляет: «Народы Восточной Европы ценили всегда лишь одно почетное звание защитников Запада»5. Немцы за границей, составлявшие пятую колонну Гитлера, «являлись пере
1 Hassell, U 1 г i с Vom andcren Deutschland. Aus den nachgelassenen Tagebiicherifl938 bis 1944. Atlantis-Verlag, Ziirich u. Freiburgi. Br.M947, 2. Aull., S. 303.
’Shulman, Milton, Op. cit., S. 567 f.
3 Ibid., S. 568.
4 Hagen (Hottl), Walter, Die geheime Front. Organizationen, Personenund Aktionen des deutschen Geheimdienstes. Nibelungen-Verlag, Linz/Wien 1950, S. 459.
s Brehm, Bruno, Op. cit., S. 492; vgl. auch S. 717 ff. u. 614 ff.
30
довым отрядом Европы. Они находились на передовых позициях Запада, который постоянно надо было защищать против вторжения с Востока»1. После длинных рассуждений по поводу переселения немцев из восточных районов Европы Брем приходит к выводу, что все же придется «вновь призвать в целях защиты остальной Европы»1 2 ост-эльбских юнкеров. Эти же мысли пережевывают Хассо фон Мантейфель3 в книге «Итоги второй мировой войны», а «Также Арпц4 и Шнейдер5. В самых различных вариантах можно встретить эту мысль в многотомных сочинениях западногерманских историков, экономистов, юристов и военных. Эта мысль каждодневно используется .западногерманскими политиками, публицистами и журналистами. Планы «европейской интеграции» являются в известной степени той идеологической замазкой, которая должна скрепить агрессивный Североатлантический блок, Европейское объединение угля и стали, Общий европейский рынок и «Евратом». Вместе с тем усиленно раздуваемая идея «европейской интеграции» является не чем иным, как идеологической дымовой завесой, за которой германский реваншизм сейчас усиленно проводит перевооружение. С помощью понятий, почерпнутых из фашистского арсенала, германские милитаристы и реваншисты и работающие на них воинственные историки и публицисты осуществляют идеологическую подготовку третьей мировой войны.
Политической подоплекой целенаправленной реакционной пропаганды, находящей свое выражение в фальсификации истории мировой войны, является союз между возрожденным германским империализмом и милитаризмом, с одной стороны, и империализмом Соединенных Штатов — с другой. Из примечательной и точной оценки положения, данной Мильтоном Шульманом, видно, до какой степени хорошо осведомленным представителям западных держав было ясно, в каком направлении развернутся события. Шульман говорит: «Даже если германскому народу [читай: германскому милитаризму. —Л. Ш.} не удастся играть первенствующую роль в будущей войне, тем не менее он окажется весьма полезным и ценным военным помощником для той страны, которой удастся заручиться его поддержкой. Значение угрозы, какую представляет Германия, заключается именно в ее роли ландскнехта, готового служить тому, кто больше ему предложит, и это является для германского милитаризма более привлекательным. Гораздо выгоднее быть незначительным участником при дележе добычи победителем, чем самому постоянно нести потери. Немцы, жаждущие мести, в этом факте видят единственный козырь, которым они еще при жизни могут располагать. Уже сейчас они начинают использовать этот козырь в полной мере»6.
Но ведь такова в точности внешнеполитическая концепция западногерманского монополистического капитала, концепция деятелей, являющихся его политическим инструментом, — Аденауэра, Брентано, Штрауса, Шпейделя, Хойзингера, Камхубера и их воинственных идеологов — Риттера, Гёрлица, Серафима и других.
Своеобразие нынешнего положения заключается в том, что западногерманские милитаристы и их идеологи являются слугами двух господ: империализма США в качестве одного из важнейших его инструментов в борьбе за осуществление планов мирового господства и одновременно германского империализма, который хочет реализовать свои собственные планы насильственных завоеваний при поддержке империализма США. Поэтому идеологи германского империализма и милитаризма вынуждены, приспосабливаясь к духу современности, добиваться осуществления своих
1 Brehm, Bruno, Op. ci I., S. 492; vgl. auch S. 717 f. u. 614 ff.
г Ibid., S. 645. Ml
3 «Итоги второй мировой войны», Издательство иностранной литературы, М., 1957.
‘ Там же.
‘ Там же.
* Shulman, М i 11 о n, Op. cit., S. 560.
31
•ближайших и будущих целей под прикрытием так называемой европейской идеи, «единства Запада», защиты «западной культуры» и т. п. Таким образом, они одновременно преследуют три или четыре цели: во-первых, экспансию в Западной Европе под флагом «европейской интеграции», которая фактически направлена к экономическому порабощению западногерманским империализмом таких стран, как Франция, Италия и страны Бенилюкса; во-вторых, экспансию во французских, бельгийских и голландских колониях путем экономического проникновения под флагом Общего рынка; в-третьих, экспансию в страны Ближнего и Среднего Востока (Турция, Иран, Индия), и в особенности в арабские страны, под флагом антиколонпализма; в-четвертых, но далеко не в последнюю очередь, военную экспансию в отношении ГДР под флагом «воссоединения», а также военную экспансию в отношении Чехословакии, Польши и Советского Союза под флагом реваншизма и ревизионизма. В то время как первые три цели, учитывая высокий удельный вес экономического потенциала, предполагается достигнуть при помощи так называемых мирных средств, — к осуществлению четвертой цели можно стремиться, только идя на риск новой мировой войны под главенством США.
Легко понять, что этот возникший после второй мировой войны клубок экономических, политических и военных ближних и дальних целей германского империализма должен неизбежно вызывать и вызывает серьезные противоречия и конфликты в лагере держав — участниц НАТО; с этим и связаны изощренные идеологические маневры для обмана масс в Западной Германии.
VI. ЗАДАЧИ МАРКСИСТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ИДЕОЛОГОВ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В настоящее время все еще продолжает нарастать мутная волна издаваемых в странах НАТО публикаций документов, писаний, мемуаров, литературных этюдов, памфлетов, статей, разборов хода сражений, монографий, военно-стратегических исследований относительно отдельных театров войны, родов оружия и армейских формирований, политических версий предыстории, хода и перипетий второй мировой войны, причем затрагиваются все проблемы — обсуждаемые или подлежащие обсуждению.
Пишут отставные и находящиеся на службе государственные деятели, дипломаты, политики, генералы, военные исследователи, профессиональные историки и дилетанты, публицисты, философы, богословы, экономисты, социологи и юристы; пишут штурмовики, эсэсовцы и гестаповцы, бывшие руководители и сотрудники шпионских организаций, вдовы и бывшие любовницы повешенных военных преступников, личные адъютанты, переводчики, курьеры, личные врачи, секретари и прочие слуги бывших нацистских сановников; пишут бесчисленные пираты пера и прочие темные элементы, обретающиеся на политической свалке.
Но молчат подлинные закулисные вдохновители политики «Третьей империи», инициаторы кровавого террора против германского рабочего класса, проводившегося эсэсовцами, штурмовиками и гестапо; молчат соучастники фашистов, осуществлявших массовые убийства в концентрационных лагерях, свирепую военную агрессию и разбойничьи войны против народов соседних с Германией стран; молчат гиены капиталистической наживы, которые обогатились благодаря преступной истребительной войне против евреев, поляков, чехов, югославов, русских и других народов; ку>лчат подстрекатели зверских убийств и казней во Франции, Бельгии, Голландии, Норвегии, Греции, Югославиии, Чехословакии, Польше и Советском Союзе; молчат те, кто субсидировал и нажился на деятельности политических гангстеров и авантюристов Гитлера, Гиммлера, Геринга, Геббельса, Риббентропа,
32
Розенберга, Гейдриха, Кальтенбруниера и других; короче говоря, молчат сто пятьдесят сверхмиллионеров: Крупп, Абс, Мартон, Берг, Ройш, Ганиель, Хеш, Стиннес, Рехлинг, Сименс, Клекнер, Шпенрат, Квант, Пфердменгес и прочие германские монополисты и финансовые магнаты.
Они и теперь, как во времена Вильгельма и Гитлера, за кулисами держат нити в своих руках. По-прежнему власть у них, между тем как функции управлений, командования, администри^рвания и выступления перед общественностью возложены на людей, являющихся их покорным орудием. Если раньше в этой роли выступал Вильгельм II или Гитлер с его пособниками, то теперь такую же роль играют Аденауэр с его свитой из министров, генералов, юристов и бюрократов, профессоров, журналистов, публицистов и прочих идеологов германского монополистического капитала. Отличие от эпохи Вильгельма II или Гитлера заключается лишь в том, что ныне западногерманские политики и идеологи, как уже сказано, должны служить двум господам — германскому и американскому монополистическому капиталу.
Однако как господа, так и слуги, по убеждению или по традиции, стоящие на империалистических, реставраторских, реваншистских, антипролетар-ских, антисоветских и неофашистских позициях, целиком ориентируются на Соединенные Штаты в своих внешнеполитических и военно-стратегических концепциях. Они видят в США главную империалистическую силу мировой реакции и уверенно ожидают, что в союзе с империализмом США осуществят в третьей мировой войне те цели, при проведении которых они потерпели позорное крушение в двух предыдущих мировых войнах.
Этим фактом обусловлена своеобразная двойственность в западногерманской буржуазной историографии второй мировой войны. Так как идеологическая подготовка третьей мировой войны, происходящая ныне в союзе с американским империализмом и в рамках Североатлантического блока, не может быть успешной, если пользоваться скомпрометировавшими себя политическими категориями национал-социализма, расизма и североарийского господства над людьми, то приходится прибегать к методам изощренной маскировки и прикрытия подлинных целей. Те, кто был вчера самым отъявленным нацистом и сегодня является отчаянным милитаристом, реваншистом и империалистом, теперь выступают в роли проникновенных демократов, просвещенных европейцев, ставших после переживаний 1945 года ревностными борцами за мораль, свободу и право, пылкими защитниками западной культуры, стойкими борцами за дело господне, за церковь и христианство, верными хранителями «единства западной цивилизации», одаренными всеми солдатскими добродетелями крестоносцами против марксизма, ленинизма и большевизма, самоотверженными «передовыми борцами за единую Европу». Однако они готовы выполнять свою роль при условии, если эта Европа будет подчинена хорошо вооруженной Германии, оснащенной новейшим атомным и ракетным оружием. При этом всеми военными историками, авторами мемуаров, нацистскими генералами и политическими комментаторами более или менее открыто подчеркивается мысль, что стратегическое острие «объединенной Европы», находящейся под военным руководством Западной Германии, должно быть направлено против Советского Союза, против мирового социалистического лагеря, и в особенности против ГДР, Чехословакии и Польши. Таким образом, тенденции, в открытом или скрытом виде пронизывающие реакционную историографию второй мировой войны, хотя и прикрашены и преподнесены в христианско-западном, европейско-освободительном, демократически-прогрессивном виде, на самом деле являются хорошо известными старыми тенденциями германского империализма, милитаризма и реваншизма, свирепой реакции, военной агрессии и «холодной войны».
Совершенно очевидно, что методы, практикуемые реакционными идеологами при фальсификации истории второй мировой войны, теперь, в связи с особым положением германского империализма, имеют по сравнению
Заказ № I 220
33
с 1918 годом более изощренный, утонченный и рафинированный характер. В прошлом еще можно было ограничиться методами примитивного национализма, шовинизма и реваншизма. Теперь, однако, необходимы интеллекту-ализированные, психологически разработанные методы, поставляемые с кухни «психологической войны» американского и германского империализма; это методы так называемого «indirect approach», идеологического «подкрадывания сзади», на обходных путях, с помощью трогательных легенд, увлекательных рассказов, интимных историй и сенсаций из жизни бывших «великих людей», посредством полуправды и абсолютной лжи хотят достигнуть того, чего уже нельзя легко достигнуть прямыми путями. Эти методы необходимы империалистам по той причине, что широкие массы еще сохранили в памяти пропагандистские приемы, применявшиеся Геббельсом. Массы помнят, как все это дважды начиналось и как все это дважды кончалось. Непрерывные удары от Сталинграда до Берлина внушили массам вполне обоснованное уважение к военной силе Советской Армии и объединенного социалистического лагеря.
Методы идеологической фронтальной атаки и обходных маневров, обходных и тайных путей, идеологического одурманивания и идеологической диверсии должны быть разоблачены, заклеймены и разбиты со всей энергией, с гневом и революционной страстью. Мутную идеологическую волну германского милитаризма и реваншизма можно приостановить не с помощью декламации, заклинаний, проклятий и призывов, а благодаря знанию конкретных фактов, трезвому исследованию фактов, ясному пониманию связей исторических событий, научно-обоснованной аргументации и воинствующей партийности. Марксистские историки ГДР в первую очередь призваны к борьбе против растлителей германской нации. Можно сказать, что историки ГДР находятся на передовой линии фронта в идеологической борьбе против германского империализма и милитаризма и против их идеологов. А вместе с историками призваны вести ту же борьбу все философы, юристы, экономисты, художники и писатели Германской Демократической Республики.
Западногерманские империалисты и милитаристы, руководимые хорошо осознанным классовым инстинктом, направили на первую линию огня, какой является исследование современной истории, даже таких активных и выслужившихся специалистов по истории средних веков, как Герхард Риттер, Перси Эрнст Шрамм, Аубин, Герман Геймпель, а также историков, ранее занимавшихся главным образом XVII—XIX столетиями, как, например, Ганс Ротфельс, Эрнст Хубач и другие. В сложной международной обстановке опытные идеологи германского империализма и милитаризма старшего поколения должны указать западногерманской молодежи политические цели и дать идеологическое направление.
С помощью наших друзей и соратников из Советского Союза и стран народной демократии, а также наших друзей из капиталистических стран мы должны приняться за обработку запущенного нами участка, каким является история второй мировой войны: мы должны тот идеологически и политически взрывчатый материал, который накоплен для борьбы против нас, превратить во взрывчатый материал, действующий в нашу пользу. Нашей неотложной задачей является раскрытие объективной исторической истины в освещении проблем второй мировой войны. Мы должны написать марксистскую историю второй мировой войны, которую от нас давно ждут. Мы должны сделать из нее сильное и хорошо отточенное оружие против фальсификаторов и клеветников, подстрекателей и поджигателей, которые, субъективно или объективно служа американскому и германскому империализму, ведут идеологическую подготовку третьей мировой войны.
Мы можем это сделать! Мы должны это сделать! •
П. .1. Жилин
РОЛЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ И ЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Сейчас, когда прошло уже более двенадцати лет со времени окончания второй мировой воины, все отчетливее и ярче раскрываются и значение и уроки этого крупнейшего военного события всемирной истории. Чем глубже мы проникаем в сущность и характер процессов, происходивших в военные годы, тем отчетливее мы представляем себе картину второй мировой войны. Одновременно возникают все новые и новые проблемы, решение которых представляет большой теоретический и практический интерес для исторической науки, и не только для нее, но и вообще для всей науки.
Содержательный доклад профессора, доктора Лео Штерна «Главные тенденции реакционной историографии второй мировой войны», прослушанный нами с большим вниманием, еще более укрепляет наше убеждение в том, что необходимо вести более решительную борьбу против фальсификаторов истории второй мировой войны.
В своем кратком сообщении об освещении роли Советского Союза во второй мировой войне в буржуазной историографии я хочу остановиться лишь на главных направлениях, по которым идет фальсификация истории второй мировой войны в буржуазной исторической литературе.
* *
Вторая мировая война охватила почти все страны мира и втянула в кровопролитную вооруженную борьбу миллионные массы людей. Чтобы представить масштабы военных событий и жертвы, понесенные человечеством в минувшей войне, позвольте напомнить некоторые основные данные. В вооруженную борьбу были втянуты народы пятидесяти пяти государств, или более 80 процентов населения земного шара. На полях сражений на различных театрах войны участвовало около 110 миллионов солдат и офицеров. Жертвами войны (убитыми и пропавшими без вести), по предварительным подсчетам, стало свыше 30 миллионов человек. Сама Германия относится к числу наиболее пострадавших государств. Она потеряла в войне 7 миллионов человек. Огромные жертвы понесли народы стран, боровшихся против фашистского ига. Так, например, Польша, по заявлению Юзефа Циранкевича, потеряла 6 миллионов человек, или каждого шестого человека; Югославия потеряла 1,7 миллиона, пли 10 процентов населения.
Но основную тяжесть ожесточенной борьбы с фашистской Германией вынес на себе советский народ, его вооруженные силы, его партизаны, действовавшие в тылу врага. Нет ни одного парода, который пострадал бы от второй мировой войны так, как пострадал парод Советского Союза. Его людские и материальные потерн огромны. Вероломное нападение гитлеровской Германии нанесло народному хозяйству СССР ущерб, который вместо с военными расходами п временной потерей доходов от промышленности и сельского хозяйства составил, как об этом заявил па юбилейной сессии
35
3*
Верховного Совета СССР Н. С. Хрущев, огромнейшую сумму — 2 триллиона 569 миллиардов рублей1.
Но жертвы, понесенные в войне народами, были не напрасны. Выдающаяся победа над фашизмом явилась всемирно-историческим событием, имевшим огромное международное значение. Это значение состояло, во-первых, в том, что советский парод отстоял свободу и независимость СССР — первого в мире социалистического государства.
Великая Отечественная война Советского Союза, явившаяся важнейшей составной частью второй мировой войны, была самой справедливой из всех справедливых войн, когда-либо происходивших в истории. Она велась в интересах всего прогрессивного человечества.
Победа над фашистской Германией в этой войне послужила яркой демонстрацией политического, экономического и военного превосходства СССР над странами капитализма, крепости советского общественного и государственного строя, могущества советских вооруженных сил.
Само собой разумеется, что исторические победы, одержанные советским народом на фронтах и в тылу в период Великой Отечественной войны, были подготовлены всем развитием советского социалистического государства, огромной политической и организаторской деятельностью нашей Коммунистической партии. Именно благодаря тому, что под руководством партии в невиданно короткие сроки были осуществлены индустриализация страны, коллективизация сельского хозяйства, культурная революция, Советский Союз оказался способным устоять перед натиском фашистской Германии и ее союзников.
Победа над фашизмом во второй мировой войне потрясла и ослабила общий фронт мирового капитализма. Она создала условия для революционного перехода многих народов Европы и Азии от капитализма к социализму, открыла широкую перспективу для утверждения социализма в этих странах, ускорила образование мирового социалистического лагеря и обеспечила условия для нынешних и грядущих побед коммунизма. Без решительной победы над фашистской Германией и империалистической Японией, в достижение которой Советский Союз внес великий вклад, не смогло бы развернуться так успешно строительство социализма в странах народной демократии.
Бурное национально-освободительное движение, получившее особенно широкий размах в странах Ближнего и Среднего Востока, в значительной степени также обусловлено победой, одержанной во второй мировой войне над силами империалистической реакции. Народы этих стран, долгое время находившиеся в колониальной и полуколониальной зависимости от Англии и США, в своей национально-освободительной борьбе против империалистической агрессии опираются прежде всего на опыт народов Советского Союза. Здесь в полной мере оправдываются ленинские слова, сказанные им полвека назад: «Опыт борьбы просвещает быстрее и глубже, чем могли бы при других условиях сделать годы пропаганды»1 2.
Реакционные силы империализма, руководящие круги монополистического капитала хорошо понимают, какое революционизирующее влияние на народные массы оказала и оказывает одержанная в войне победа над фашизмом. Они видят, насколько сильно возросло в результате этой победы влияние СССР на ход мировой истории.
Вот почему империалисты, являясь представителями наиболее реакционной общественной системы и будучи злейшими врагами социализма, стремятся всеми силами и средствами ослабить и извратить роль Советского Союза во второй мировой войне.
Особую активность в этом проявляют империалисты США, Англии
1 И. С. Хр у щ е в, Сорок лет Великов Октябрьской социалистической революции. Доклад на юбилейной сессии Верховного Совета СССР С> ноября 1957 года, Гос-политиздат, М., стр. 21.
2 В. И. Л е п и н, Сочинения, т. 9, стр. 322.
36
и Западной Германии, усиленно разжигающие «холодную войну» и ведущие открытую борьбу против Советского Союза. Сейчас, как и прежде, говоря словами В. И. Ленина, «буржуазия клевещет на нас неустанно всем аппаратом своей пропаганды и агитации»1.
Буржуазия использует для этого различные формы и способы. В качестве одного из важных каналов идеологической борьбы широко используется и реакционная историография второй мировой войны. Именно в США, Англии и Западной Германии за последние годы вышло боюыпое количество литературы по истории второй мировой войны, в которой дается фальсифицированное изображение роли Советского Союза в войне, принижается его государственная, экономическая и военная мощь.
Враждебное извращение роли Советского Союза во второй мировой войне, принижение великого вклада советских людей в дело достижения победы над фашизмом, естественно, не способствуют улучшению международной атмосферы, а создают все большую и большую напряженность в международных отношениях.
В кратком докладе невозможно, разумеется, подробно остановиться на многочисленных изданиях, в которых в той или иной степени, прямо или косвенно принижается роль Советского Союза во второй мировой войне. Фальсификация идет по многим направлениям. Здесь можно рассмотреть лишь основные из этих направлений реакционной историографии.
Прежде всего при ознакомлении с литературой по истории второй мировой войны, изданной в США, Англии и Западной Германиии, нетрудно заметить, что основные усилия фальсификаторов направлены на извращение причин возникновения войны между Германией и СССР.
Искажая предвоенную мирную внешнюю политику Советского Союза, политические деятели, теоретики и историки этих стран клевещут на советское правительство и Коммунистическую партию, изображая их политику как политику, которая якобы угрожала независимости западных стран, в том числе и Германии.
Так, например, бывший генерал Курт Типпельскирх, выступая сейчас в роли историка, утверждает, что нападение фашистской Германии на СССР было будто бы вынужденным, что оно носило превентивный характер, что в войне больше всего был заинтересован Советский Союз1 2.
В распространении этой ложной версии Типпельскирх не одинок. Он отражает взгляды немецко-фашистского генералитета. Кейтель на допросе 17 юиня 19.45 года заявил советским представителям: «Я утверждаю, что все подготовительные мероприятия, проводившиеся нами до весны 1941 года, носили характер оборонительных приготовлений на случай возможного нападения Красной Армии. Таким образом, всю войну на Востоке в известной мере можно назвать превентивной».
Легенду об угрозе Германии со стороны Советского Союза распространяют не только бывшие гитлеровские генералы, но и английские военные писатели, такие, как Лиддл Гарт и Фуллер. Так, например, Лиддл Гарт в книге «Стратегия непрямых действий», оправдывая агрессию Гитлера, направленную па Восток, против СССР, указывает, что если бы Германия продолжала войну с Англией, то «тем самым Германия поставила бы себя под опасный удар в спину со стороны России, так как Гитлер чувствовал, что его договор со Сталиным не обеспечил бы нейтралитет России ни на одну минуту дольше, чем это соответствовало бы интересам Сталина»3.
Преднамеренная фальсификация Типпельскирхом, Фуллером, Лиддл Гартом предвоенных внешнеполитических событий, причин войны между
1 В. И. Лени и, Сочинения, т. 31, стр. 339.
2 К. Типпельскирх, История второй мировой войны, Издательство иностранной литературы, М., 1956, стр. 9—10.
3 IS. X. Л и д д л Гарт, Стратегия непрямых действий, Издательство иностран ной литературы, М., 1957, стр. 318.
37
Германией и СССР совершенно очевидна. Выполняя социальный заказ империалистов, они стремятся обмануть свой народ и народы других стран, представить в ложном свете предвоенную политику Советского Союза.
Но в памяти людей еще свежи предвоенные события. Общеизвестно, что СССР выступал тогда как инициатор коллективного отпора агрессору, стремился к мирному сосуществованию государств с различным социально-политическим строем.
В связи с нарастанием реальной угрозы со стороны германского империализма мирная политика Советского Союза, его предложения о коллективном отпоре агрессору имели особое значение. Коммунистическая партия Советского Союза первая поняла и предвидела, какую грозную опасность для мира и демократии представляет фашизм, и призывала народы миролюбивых стран предотвратить надвигавшуюся войну. В этом состояла величайшая заслуга нашей Коммунистической партии.
Правящие же круги западных держав, прежде всего Англии и Франции, упорно отказывались общими усилиями обуздать германских милитаристов, предотвратить развязывание второй мировой войны. Более того. Именно империалисты США, Англии и Франции, щедро финансируя германских монополистов, помогли им вскормить гитлеризм, вооружить фашистские полчища, толкая их все ближе к советским границам.
Обличительным документом для всех тех, кто пытается извратить события, связанные с возникновением войны между СССР и Германией, представить ее как «превентивную войну» со стороны Германии, являются высказывания самого Гитлера, которые стали нам известны из записей начальника штаба сухопутных войск (ОКХ) генерала Гальдера. На совещании военных руководителей 30 марта 1941 года Гитлер, излагая цели и планы войны против СССР, говорил: «Наши задачи в отношении России: разбить вооруженные силы и уничтожить государство. Война против России — это борьба двух идеологий. Уничтожающий приговор большевизму, который равносилен социальному преступлению. Речьидето борьбе на уничтожение. Нашей первостепенной задачей, заявлял фюрер, является уничтожение большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции. Новые государства будут без собственной интеллигенции. Не следует допускать, чтобы образовалась новая интеллигенция. Здесь будет достаточно лишь примитивной социали-стской интеллигенции»1.
Западногерманские историки, мемуаристы и генштабисты, те, кто стоял близко к разработке планов вторжения в СССР, умалчивают о тайной подготовке вооруженных сил Германии к войне против Советского Союза, скрывают роль немецкого генерального штаба в разработке стратегических планов нторжения на советскую территорию. Они не желают раскрыть вероломную н коварную деятельность гитлеровского правительства.
Но то, что тогда было тайным, теперь становится явным. Из документов немецкого генерального штаба видно, что уже начиная с июля 1940 года, то есть сразу же после оккупации Германией Франции, узкая группа штабных генералов — Гальдер, Йодль, Маркс и Паулюс — получила от Гитлера задание приступить к разработке плана войны против СССР. Взоры гитлеровских стратегов обращаются на Восток. С этого времени в генштабе всесторонне изучается Восточный театр военных действий, активизируется деятельность немецкой разведки, получившей задание определить группировку, силы советских войск, их вооружение, разведать характер укреплений наших .западных государственных границ, собрать сведения об основных промышленных центрах СССР и важных стратегических военных объектах.
Фашистская Германия стала в большом масштабе готовиться к агрессии против Советского СомЛа. В Германии резко увеличивается количество пехотных и танковых дивизий, возрастает производство всех видов военной
1 «Halders Tagebucli». Einlragung von 30 Marz 1941.
38
техники, особенно самолетов, спешно готовятся офицерские кадры, создаются резервы продовольствия, горючего, проводятся штабные учения и учения войск применительно к условиям боевых действий на советской территории.
На основании предварительных расчетов Гальдер еще 31 июля 1940 года сделал в своем дневнике лаконичную запись: «Россия должна быть ликвидирована. Срок — весна 1941 года»1. Такой вывод, сделанный начальником генерального штаба сухопутных войск, свидетельствует о том, что основные вопросы, связанные с разработкой плана войны «ротив СССР, к этому времени уже были решены.
Вскоре же началась и практическая реализация этого плана. В сентябре—октябре 1940 года значительная часть немецко-фашистских войск, в частности группа армий фельдмаршала Бока в составе 30 дивизий, перебрасывалась на территорию Польши, в район Познани, в качестве первого эшелона войск для войны против Советского Союза.
19 ноября 1940 года Гальдер уже докладывал фельдмаршалу Браухичу «план русской операции», то есть план войны против Советского Союза, который через месяц был утвержден Гитлером и известен нам как «план Барбаросса», план, послуживший стратегической программой ведения войны на советско-германском фронте. Надо иметь в виду, что все это происходило в тот период, когда Германия имела пакт о ненападении с Советским •Союзом.
Что же касается Советского Союза, то он до конца стоял на позициях сохранения мира, не хотел войны и не стремился ни на кого нападать.
История учит нас, что народ обмануть нельзя. В конце концов он узнает правду. Великому борцу немецкого народа Эрнсту Тельману принадлежат замечательные слова: «...существует историческая правда, то есть необходимое соответствие подлежащих установлению фактов их изложению. Существует политическая совесть, требующая служения этой правде. Правда не поддается фальсификации на длительное время, так как нет ничего непреложнее фактов»®. А факты неопровержимо свидетельствуют о том, что войну против СССР подготовил и развязал немецкий фашизм, являвшийся наиболее свирепым и разбойничьим отрядом мирового империализма.
* * *
Необъективное освещение роли Советского Союза и его вооруженных сил в общей борьбе антигитлеровской коалиции находит свое отражение и реакционной историографии также и в принижении роли и значения советско-германского фронта во второй мировой войне.
Вторая мировая война, продолжавшаяся шесть лет, развернулась на многих театрах военных действий. Вооруженная борьба протекала одновременно на различных фронтах: у стен Сталинграда и под Эль-Аламейном, у острова Мидуэй и у берегов Сицилии. И само собой разумеется, любая из побед, где бы и кем бы она ни была достигнута, была полезным вкладом в общее дело сокрушения агрессора. Но значение того или иного театра военных действий во второй мировой войне оценивается не отдельными победами, а степенью напряжения борьбы и достигнутыми результатами стратегического и политического значения, которые радикально повлияли на ход и исход войны в целом.
Если, исходя из этой точки зрения, сравнить масштабы и характер вооруженной борьбы на различных театрах военных действий, то нетрудно убедиться, что советско-германский фронт был главным, решающим фронтом второй мировой войны. От исхода борьбы на советско-германском фронте зависела судьба многих стран и народов. Военные события, протекавшие 1 2
1 «Halders Tagebuch», Eintragung von 31 Juli 1940.
2 В. Бредель, Эрнст Тельман, Издательство иностранном литературы, М., 1955, стр. 190.
39
почти четыре года на советской территории и на территории стран Центральной и Юго-Восточной Европы, по общему напряжению борьбы, по размаху и результатам операций не идут ни в какое сравнение с военными событиями, имевшими место на других театрах военных действий.
Да это и понятно. Гитлер, добивавшийся мирового господства, стремился одержать победу прежде всего над Советским Союзом. Против СССР гитлеровское командование двинуло основные и наиболее боеспособные силы своей армии. Советско-германский фронт в силу этого явился самым активным фронтом второй мировой войны и наболев мощным по количеству принимавших в нем участие вооруженных сил.
Для подтверждения такого вывода приведем некоторые общие данные о количестве немецко-фашистских войск и распределение их между советско-германским и другими фронтами второй мировой войны.
Таблица 1
В том числе
Всего немецко-фашистских войск
на советско-германском фронте
на других театрах военных действий и в резерве
Войска страи-сател-литов на советско-германском
Фронте
На 22 июня 1941 г. 214
На На На На
1 ноября 1942 г.
1 июля 1943 г.
1 мая 1944 г.
1 февраля 1945 г.
267
294
333
303
152
192
195
191
179
62 5
75 1
99 3
142 —
124 9
29
66
32
57
16
16
13
8
17
1
190
266
232
259
206
70
72
66
58
60
Примечание. Сведения составлены на основании официальных документов немецкого командования, захваченных в качестве трофея. При пересчете бригад в дивизии две бригады приравнены к одной дивизии.
Из приведенной таблицы видно, что большая часть немецко-фашистской армии находилась на советско-германском фронте. Первые три года (с июня 1941 года по май 1944 года) СССР притягивал к себе 67—70 процентов всех дивизий, имевшихся в Германии, а затем, после открытия в июне 1944 года второго фронта в Европе, 58—60 процентов немецких дивизий. Кроме того, на советско-германском фронте были почти все дивизии и бригады стран-сателлитов. А их было немало. Так, например, к ноябрю 1942 года на советско-германском фронте финских, венгерских, румынских, итальянских, норвежских, датских, испанских и словацких войск было 66 дивизий и 13 бригад.
Таким образом, если на одном советско-германском фронте находилось 65—70 процентов вооруженных сил фашистской Германии и ее сателлитов, то на всех остальных театрах военных действий (в том числе и в оккупированных странах) их было лишь 30—35 процентов. Причем общеизвестно, что на советско-германский фрон^ направлялись наиболее боеспособные, полностью укомплектованные и оснащенные немецкие дивизии, в то время как на других фронтах второй мировой войны сплошь и рядом использовались ослабленные и наспех сформированные войска.
Развернувшаяся длительная и упорная борьба на советско-германском фронте не только сковывала крупные силы немецких войск, но и с неимовер
40
ной быстротой их поглощала. В войне против Советского Союза немецко-фашистская армия понесла наибольшие потери в людях и в военной технике. По сведениям немецкого генштаба сухопутных войск, уже за первые пять месяцев войны, то есть еще до перехода советских войск в контрнаступление под Москвой, потери немецких войск (убитыми, ранеными и без вести пропавшими) составили 743 тысячи человек, плп 23,1 процента от общей численности немецких в^йск, находившихся на советско-германском фронте1.
Активный характер боевых действий СоветсйЬй Армии, выразившийся в упорных оборонительных сражениях и решительных наступательных операциях, широко развернувшееся партизанское движение в тылу противника выводили из строя одну за другой кадровые немецкие дивизии. Гитлеровское-командование вынуждено было раньше времени лишиться своих оперативных и стратегических резервов и пополнять войска за счет мобилизации людских контингентов внутри страны и переброски дивизий с других, менее активных фронтов.
Обобщая данные отчетов (преимущественно отчетных карт оперативного управления германского генштаба сухопутных войск), можно проследить общую картину переброски войск из других стран и театров военных действий на советско-германский фронт1 2.
Таблица 2
1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.
Дивизий (пехотных, горнострелковых, кавалерийских, авиадесантных и др.)............
Танковых дивизий ............
Бригад.......................
94
6
10
48
10
6
102 46
8 6
28 6
Такие крупные переброски войск на советско-германский фронт могли производиться лишь потому, что обстановка на других театрах военных действий позволяла это делать.
И. В. Сталин в письме к Рузвельту от 16 марта 1943 года писал, что «в самый напряженный период боев против гитлеровских войск, в период февраль—март, англо-американское наступление в Северной Африке не только не форсировалось, но и вообще не проводилось, а намеченные для него сроки отложены. Тем временем Германия уже успела перебросить с Запада против советских войск 36 дивизий, из них 6 дивизий танковых. Легко понять, какие затруднения это создало для Советской Армии и как это облегчило положение немцев на советско-германском фронте»3.
Приведенные факты наглядно показывают, какое большое количество войск немецко-фашистское командование бросало на советско-германский фронт в наиболее решающие периоды войны. В то же время остатки разбитых дивизий и бригад выводились на пополнение. В 1942 году было снято с фронта и выведено па пополнение 11 дивизий, в 1943 году —25 дивизий в 1944 году —22 дивизии и в 1945 году — 16 дивизий.
Казалось, было бы вполне оправданным, чтобы решающий фронт борьбы во второй мировой войне, каким, бесспорно, являлся советско-германский
1 «Halders Tagebuch», Eintragung von 30 November 1941.
2 «Сборник материалов по составу, группировке и перегруппировке сухопутных войск фашистской Германии и войск бывших ее сателлитов на советско-германском фронте за период 1941—1945 гг.>>, вып. 2—5, Воепно-паучное управление генштаба, 1956 — 1957 гг.
3 «Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». Госполитиздат, И., 1957, стр. 58.
41
фронт, нашел достойную оценку и соответствующее его значению отражение в исторической литературе. Однако буржуазные реакционные историки стали на иной путь — на путь фальсификации и замалчивания роли советско-германского фронта.
Если внимательно ознакомиться с вышедшими в США, Англии и Западной Германии «капитальными трудами» по истории второй мировой войны — а их издано уже немало, — то можно убедиться, что основными приемами авторов этих книг являются односторонность и тенденциозность освещения военных событий на советско-германском фронте. Описания событий на этом фронте по объему занимают непростительно мало места, а по методу изложения они заслуживают прямого осуждения.
Ознакомление с этими работами не дает представления о напряженной борьбе, в которую был втянут весь советский народ, все его материальные и духовные силы.
Действия Советской Армии в этих изданиях излагаются, как правило, неконкретно, упрощенно и необъективно. Советское военное искусство, оригинальные планы, разработанные советским командованием и воплощенные в активных наступательных действиях советских войск,— все это осталось вне поля зрения авторов.
Некоторые из буржуазных авторов пытаются оправдать это тем, что в их распоряжении будто бы «не было опубликованных русскими работ по этому вопросу, которыми можно было бы воспользоваться»1. Такой аргумент несостоятелен. По истории Великой Отечественной войны в Советском Союзе опубликовано достаточно книг, брошюр и статей. В этих работах в основном верно освещались фактические события войны, раскрывались планы советского командования, описаны действия войск фронтов й отдельных армий. При желании авторы могли бы использовать их в своих работах. Но такого желания, видимо, не было.
* * *
В буржуазной исторической литературе извращается самый характер вооруженной борьбы на советско-германском фронте и факторы, определившие победу советских вооруженных сил над немецко-фашистской армией.
Даже при том поверхностном и слишком ограниченном показе боевой деятельности советских войск, который имеется в книгах буржуазных авторов, нельзя не отметить нарочито тенденциозной, недобросовестной оценки ими наиболее важных военных событий советско-германского фронта.
Действия Советской Армии в первый период войны буржуазные историки (Фуллер, Типпельскирх, Гудериан) стремятся изобразить как пассивные. Если поверить их описаниям, то получается, что советские войска чуть ли не добровольно сдавались в плен, то и дело попадали в подготовленные для них «котлы» и оставляли там огромное число людей и боевой техники.
Слов нет, этот период войны по целому ряду причин был для нас наиболее тяжелым. Советскому народу и его армии пришлось тогда перенести серьезные испытания, изведать горечь поражений и неудач. Но дает ли это право буржуазным историкам охаивать советские войска, мужественно и беззаветно боровшиеся с вероломно вторгшимся противником в исключительно тяжелых, невыгодных условиях стратегической обстановки?
Особенно много буржуазными историками допускается извращений исторических фактов при освещении ими переломных моментов на советско-германском фронте, ознаменовавшихся крупными поражениями немецко-фашистской армии. К ниу прежде всего относятся поражения гитлеровцев под Москвой, Сталинградом и Курском. Вместо того чтобЛ объективно, правдиво оценить истинные причины поражений фашистских войск в этих знаме
1 К. Т и п п е л ь с к и р х, Названное сочинение, стр. J.
42
нательных сражениях, буржуазные историки выискивают всякого рода доводы.
Основной причиной поражения немецко-фашистских войск, а следовательно, и важнейшим фактором успехов Советской Армии буржуазные историки и мемуаристы по-прежнему считают тяжелые климатические условия. Д. Боковер, опубликовавший в журнале министерства обороны США «татью «Сделать ^му союзницей», после длительных рассуждений на эту тему заключает: «Зима, слишком холодная для Немецких войск, привела немецкую военную машину к решающему поражению».
Так же как и Боковер, бывшие немецко-фашистские генералы, английские военные теоретики и историки с видом беспристрастных исследователей пытаются доказать, что причинами поражения гитлеровских войск под Москвой явилось не военное искусство Советской Армии, а климатические условия: суровая русская зима и распутица. Английский военный писатель Фуллер в книге «Вторая мировая война» безапелляционно утверждает: «С полным основанием можно считать, что не сопротивление русских, как бы велико оно ни было, и не влияние погоды на действия германской авиации, а грязь, в которой застрял германский транспорт за линией фронта, спасла Москву»1.
Курт Типпельскирх также считает, что овладеть Москвой не удалось потому, что в октябре «... наступил период полной распутицы. Двигаться по дорогам стало невозможно, грязь прилипала к ногам, к копытам животных, колесам повозок и автомашин. Даже так называемые шоссе стали непроезжими. Наступление остановилось». Но затем, пишет он, «погода резко изменилась, а к концу месяца [ноября. —П. Ж.] ударили морозы, доходившие до тридцати (I) и больше градусов ниже нуля». В связи с этим якобы «обмороженных было больше, чем пострадавших от огня противника»1 2.
Следовательно, по «глубокомысленному» заключению Фуллера и Тип-пельскирха, грязь и сильные морозы были основными причинами неудачного наступления немцев под Москвой и решающими факторами успеха Советской Армии в период контрнаступления зимой 1941/42 года.
Такие утверждения буржуазным историкам потребовались для того, чтобы извратить действительность, в ложном свете представить силу сопротивления советского народа, замолчать высокие боевые качества советских войск.
Зимой у нас в России иногда действительно бывает холодно. Правда, далеко не настолько, как это «показалось» Типпельскирху и другим бывшим гитлеровским генералам. По данным Главного управления метеорологической службы, в 1941 году, например, температура (абсолютный минимум) в подмосковных районах (Серпухов, Кашира, Дмитров, Быково) была: в октябре минус 8,2 градуса, в ноябре минус 17,3 и в декабре минус 28,6 градуса. Как видно из этих данных, никакого мороза в тридцать и более градусов ниже нуля ни в октябре, ни в ноябре под Москвой не было.
Но климатические условия были одинаковы для обеих сторон. И если .немецкое верховное командование не предусмотрело условия русского климата, то это лишь свидетельствует о его просчете и незнании тех факторов, с которыми могли встретиться войска в ходе боевых действий.
Многими буржуазными историками выдвигается еще один, не менее важный с их точки зрения довод в обоснование причин поражения гитлеровской армии на советско-германском фронте. Они утверждают, что Советская Армия, начиная уже с ее перехода в контрнаступление под Москвой, одерживала победы лишь в результате огромного, подавляющего численного превосходства над своим противником.
Буржуазные историки хотят убедить доверчивого читателя в том, что -советский народ одержал победу не в результате героической борьбы с агрес
1 Д ж. Ф. С. Фуллер, Вторая мировая война 1939—1945 гг., Издательство .иностранной литературы, М., 1956, стр. 168.
2 К. Типпельскирх, Названное сочинение, стр. 200, 201.
43
сором, не потому, что его армия обладала высокими боевыми и моральными качествами, а просто якобы потому, что советские войска численно превосходили своего противника. Тот же Типпельскирх в своей безудержной фантазии заявляет, что в момент перехода советских войск в контрнаступление под Москвой они «имели двадцатикратное превосходство в силах»1.
Такие утверждения «исследователя» лишь еще больше убеждают советского читателя в злонамеренном фальсифицировании автором исторических фактов. Ничего подобного в действительности не было.
Как известно, советские войска, застигнутые внезапным вторжением противника, в первые месяцы войны вынуждены были сражаться при чрезвычайно невыгодном соотношении сил. На избранных гитлеровским командованием стратегических направлениях, особенно на центральном, московском направлении, противник сосредоточил свои основные силы, в несколько раз превосходившие силы наших войск. Основная задача советского командования в этот период заключалась в том, чтобы как можно быстрее лишить противника этого важного преимущества. К началу перехода советских войск в контрнаступление под Москвой советскому командованию удалось значительно улучшить соотношение сил и даже добиться некоторого численного перевеса: по пехоте — в 1,2, а по авиации — в 1,7 раза. Что же касается танков и артиллерии, то противник превосходил войска Западного фронта соответственно в 2,5 и 1,7 раза.
Грубейшие искажения истины допускают буржуазные авторы, когда утверждают, что и под Сталинградом, и летом 1943 года, и в период наступательных операций 1944 года — везде Советская Армия обладала многократным численным превосходством. Если бы это было действительно так, то можно не сомневаться в том, что немецко-фашистские войска были бы изгнаны с нашей территории значительно раньше.
В англо-американской исторической литературе получила широкое распространение версия о том, что победа Советского Союза в войне с фашистской Германией в значительной мере определялась поставками США по ленд-лизу, что ленд-лиз был решающим фактором успехов Советского Союза. В книге «Роковые решения», изданной в 1956 году в Нью-Йорке, говорится: Американские «поставки в огромной степени помогли красному колоссу возместить потери, понесенные в первые месяцы войны, и в ходе войны постепенно усилить военную мощь России... Можно без преувеличения сказать, что без такой огромной американской поддержки русские войска вряд ли были бы в состоянии перейти в наступление в 1943 году»1 2.
Опубликованная недавно Министерством иностранных дел СССР «Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг.» вносит ясность в этот вопрос. Помещенные в переписке документы показывают, что поставки для СССР являлись незначительными: они были в три раза меньше поставок, которые получила Великобритания3. Кроме того, американцы часто направляли пе то, в чем нуждался Советский Союз, прерывали отправку караванов грузовых судов и в самые тяжелые периоды борьбы на советско-германском фронте.
О том, как оцениваются поставкиСША по ленд-лизу для Советского Союза, можно судить и по высказываниям некоторых видных американских деятелей. Бывший президент США Герберт Гувер, давно зарекомендовавший себя как враг Советского Союза, вынужден был заявить, что «он [СССР) остановил немцев даже до того, как получил ленд-лиз»4. Таким образом, даже американские деятели опровергают этот тезис.
1 К. Типпельскирх, Названное сочинение, стр. 207»
2 «Роковые решения», Воеииздат, М., 1958, стр. 114—115.
3 Великобритания получила материалов по леид-лнзу на 30 269 миллионов долларов, СССР — на 9800 миллионов долларов.
1 См. статью Уильяма Фостера «Октябрьская революция п рабочий класс США» («Коммунист», 1957, № 15, стр. 64).
44
В англо-американской исторической литературе довольно часто можно встретить утверждения, что начиная с середины 1944 года, а именно после открытия второго фронта, центр военных событий якобы переместился на Запад.
Такие взгляды не основываются ни на каких сколько-нибудь внушающих доверия фактах. Напротив, факты говорят о том, что и в этот период войны основные силы гитлеровской армии паходдлись на советско-германском фронте, являвшемся решающим фронтом. Из имевшихся на 1 мая 1944 года 333 немецко-фашистских дивизий на советско-германском фронте была 191 дивизия, а на Западном — лишь 60 дивизий.
Гитлеровские войска, противостоявшие англо-американским войскам, значительно уступали в боеспособности войскам, действовавшим против Советской Армии. Это были в большинстве своем или восстановленные или вновь сформированные дивизии. Некомплект этих дивизий составлял 25 — 30 процентов, в танковых дивизиях имелось не более 100—130 танков.
Начальник штаба немецко-фашистских войск на Западном фронте генерал-лейтенант Вестфаль давал такую оценку своим войскам: «Было общеизвестно, что боеспособность немецких войск на Западе уже к моменту вторжения была намного ниже, чем боеспособность наших дивизий на Востоке. Соединения, понесшие огромные потери в боях на Восточном фронте, приходилось обменивать на такие же соединения, пополненные на Западе»1.
Из этих данных совершенно очевидна несостоятельность утверждений о перемещении центра военных событий на Западный фронт в середине 1944 года.
Буржуазная реакционная историческая литература отрицает роль Советского Союза в разгроме империалистической Японии. Американские и английские историки заявляют, что Япония была сокрушена только благодаря усилиям американских водруженных сил и главным образом в результате атомных бомбардировок Нагасаки и Хиросимы.
Особенно отчетливо эта линия проведена в книге «Кампании войны на Тихом океане», изданной в 1946 году в Вашингтоне и представляющей собой официальный отчет комиссии, созданной по распоряжению президента. Авторы этой книги изображают дело таким образом, как будто войну с Японией вела только Америка, что это была какая-то обособленная, «американская» война, не связанная с общей борьбой союзников1 2. Такая преднамеренная фальсификация понадобилась ее авторам для того, чтобы обосновать исключительное право США на единоличное вмешательство во все тихоокеанские дела после капитуляции Японии.
Как в книге «Кампании войны на Тихом океане», так и в других работах англо-американских историков замалчиваются боевые действия советских вооруженных сил по разгрому Квантунской армии в Маньчжурии, не освещаются операции советского Тихоокеанского флота по овладению Курильскими островами, Сахалином и японскими базами в Корее.
В то же время общеизвестно, что Советский Союз внес важный вклад в борьбу с империалистической Японией. Строго выполняя союзнические обязательства, советские вооруженные силы нанесли сокрушительный удар по основной наиболее сильной группировке японских войск и тем самым значительно ускорили окончание завершающегося этапа второй мировой войны.
* * *
В кратком обзоре освещения роли Советского Союза во второй мировой войне мы остановились лишь на основных направлениях той фальсификации,
1 Westphal, Siefried, Beer in Fesseln. Aus den Papieren des Stabchefs von Hommel, Kesselring und Rundstcdt, Bonn, 1950, S. 264.
2 Обстоятельный разбор этой кпиги см. в предисловии к русскому изданию, написанном профессором И. С. Исаковым, «Кампании войны па Тихом океане», Воениздат, 1956.
45
которая получила широкое распространение в буржуазной реакционной исторической литературе.
Нет никакого сомнения в том, что извращение важнейших исторических событий второй мировой войны, и прежде всего извращение роли Советского Союза в войне, преследует определенные идеологические и военные цели. Империалистическая реакция, усиленно разжигающая «холодную войну», направляет и использует историографию второй мировой войны для своих преступных замыслов.
Буржуазные реакционные историки, применяя различные способы фальсификации, пытаются представить в ложном свете роль Советского Союза-в достижении победы над фашистской Германией и империалистической Японией. Это делается для того, чтобы в глазах народных масс принизить государственную, экономическую и военную мощь СССР и создать преувеличенное представление о военной мощи США и Англии.
Бывшие видные гитлеровские генералы, активно выступая ныне в качестве историков и мемуаристов, стремятся реабилитировать германский генералитет, оправдать его действия в период второй мировой войны и тем самым! заслужить доверие у империалистических заправил Североатлантического блока.
Необходимо признать, что советскими историками еще недостаточно развернут фронт борьбы против грубых и злонамеренных извращений истории СССР периода второй мировой войны. Лучшей формой борьбы с фальсификаторами, разумеется, является создание книг, монографий, всесторонне и глубоко освещающих события Великой Отечественной войны — наиболее важного периода истории Советского государства.
Над решением этой давно назревшей проблемы усиленно работают сейчас советские историки. Создание научной истории Великой Отечественной войны и правильное истолкование всех внутренних и внешних процессов войны— одна из важнейших и первостепенных задач советской исторической науки.
Д. Е. Мельников
ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ войАе
В ОСВЕЩЕНИИ ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
При оценке современной западногерманской историографинп необходимо учесть прежде всего то обстоятельство, что, как никогда раньше, она находится под влиянием потребностей политической конъюнктуры. В этом, несомненно, находит свое отражение общий процесс развития буржуазной историографии, которая все больше отходит от требований объективности и в последнее время дошла до полного отрицания причинной связи между историческими явлениями и объективным ходом истории вообще. Характерно, что кумиром современной западногерманской историографии стал такой реакционный историк-идеалист, как Якоб Буркхардт, концепция которого лучше всего выражена в известных его словах: «Мы не посвящены в смысл истории и не знаем его». Буркхардт трактует весь исторический процесс как «перманентный великий кризис». Эта реакционная концепция пришлась как нельзя лучше по вкусу западногерманским историкам.
Своеобразие положения в Западной Германии состоит в том, что в роли историков второй мировой войны в основном выступают бывшие гитлеровские генералы. Они сочиняют при этом не только мемуарную литературу (это было бы еще более или менее понятным), но выступают с большими историческими трудами и даже с книгами, посвященными теоретическим проблемам истории. Роль историка-втеоретика» взял на себя, в частности, бывший генерал-полковник гитлеровского вермахта Лотар Реидулиц. В книге «Опасные границы политики», опубликованной в Австрии в 1954 году, Рендулиц пытается прежде всего доказать, что объективное изложение исторических событий вообще невозможно и что, следовательно, невозможно дать объективную оценку фашистской агрессии и фашистских злодеяний во время второй мировой войны. Рендулиц обрушивается против «механической причинности», то есть против существования какой-либо причинной связи между явлениями истории. «Механическая причинность, — пишет он, — не учитывает ни свободного решения людей, ни влияния иррациональных элементов»1. «В истории и в политике, — заявляет далее Рендулиц,— часто говорят об исторической необходимости, однако невозможно привести сколько-нибудь точные доказательства существования таковой»1 2.
Политический смысл подобных «теорий» совершенно ясен. Современная западногерманская историография выполняет определенный социальный заказ, она служит целям оправдания фашистской агрессии, прежде всего агрессии против Советского Союза, и изощряется в попытках опровергнуть закономерность поражения фашистской Германии во второй мировой войне, особенно поражения гитлеровской армии на советско-германском фронте. Полностью отвлекаясь от объективных факторов, обусловив ших это поражение, западногерманская историография пытается свести эти причины к ряду субъективных факторов якобы случайного характера. При этом оценка причин поражения фашистской Германии во второй миро-
1 Н е n d u 1 i с, Lothar, Gefahrliche Greazen der Politik, Salzburg, 1954, S. 24Я.
2 Ibid., S. 251.
47
ной войне в западногерманской историографии подвергалась различного рода трансформациям и изменениям в соответствии с различными этапами процесса восстановления германского милитаризма и империализма. Ниже мы попытаемся проследить эту трансформацию и выявить некоторые ее закономерности. Но, разумеется, предлагаемую нами схему классификации западногерманской историографии следует рассматривать лишь как весьма условную схему, которая хотя и отражает основные тенденции развития западногерманской историографии, но не может претендовать на универсальность. Заранее оговоримся, что, как и всякая схема, она не может быть механически отнесена ко всем трудам западногерманских историков, появившимся на том пли ином этапе послевоенного развития Западной Германии.
Изучение истории второй мировой войны и тех уроков, которые следовало извлечь пз нее с точки зрения милитаристских сил западных стран, включая и милитаристские силы Германии, началось вскоре же после окончания войны. Первоначально оно происходило под опекой оккупационных сил западных держав. При штабе американских оккупационных сил в Германии был создан специальный отдел под названием «Комитет по изучению истории войны». К сотрудничеству в этом комитете были привлечены бывшие начальники генерального штаба гитлеровской армии Гальдер и Гудериан. Несколько позже возник Отдел по изучению военно-морских операций в Северном и Балтийском морях, где сотрудничали гитлеровские адмиралы Хейе и Руге.
Направление работ этих комитетов было совершенно определенным: они должны были изучать прежде всего опыт войны на Востоке, то есть на советско-германском фронте. Комитеты были частью антисоветской пропагандистской машины, созданной западными державами вскоре же после окончания войны. Но вместе с тем они выполняли и определенные «практические» функции. Они были призваны вооружить будущих империалистических агрессоров знанием и опытом ведения военных операций на Востоке.
Труды указанных выше комитетов до сих пор не увидели света. Западногерманская историография второй мировой войны начала создаваться, по существу, лишь с 1949 года. В этом году, в частности, был опубликован первый генеральный труд по истории второй мировой войны — книга Франца Гальдера «Гитлер как полководец»1. Но как в этой книге, так и в изданной вскоре книге Гейнца Гудериана «Воспоминания солдата», мы, несомненно, можем найти отражение их деятельности в Комитете по изучению истории войны. Правда, в предисловии к книге Гальдера специально подчеркивается, что она написана по инициативе издательства и что Гальдер даже «против своей воли согласился в конце концов написать этот труд». Но подобные утверждения преследовали явно цели маскировки и были призваны, в частности, скрыть прямую причастность американских властей к труду Гальдера.
Книга Гальдера «Гитлер как полководец»—не мемуары или, вернее, не только мемуары. Это труд, претендующий на оценку целого этапа истории и задуманный именно как историческое произведение. Он характеризует вместе с тем ранний этап развития западногерманской историографии, тот этап, который продолжается примерно до 1951 года. На этом этапе основная задача западногерманской историографии заключалась в том, чтобы найти главного виновника поражения Германии во второй мировой войне, оправдав вместе с тем ее подлинных инициаторов и организаторов — германский монополистический капитал и немецкую военщину.
Само название книги Гальдера «Гитлер как полководец» говорит о намерениях автора. Поставив» в центр своего исследования фигуру Гитлера, Гальдер стремится сделать его единственным виновником *сех бед Германии, главным образом всех поражений фашистских войск во второй мировой войне. Это своеобразное выражение мифа «об ударе кинжалом в спину». Как извест-
1 Halder, Franz. Hitler als Feldher, Munchner Dom-Verlag, Munchen, 1949.
48
но, этот миф был впервые сформулирован генералом Людендорфом в разговоре с английским генералом Малькольмом в 1919 году. «Германская армия, — заявил тогда Людендорф, — не виновна в поражении. Нам нанесли удар кинжалом в спину». Двадцать шесть лет спустя, в мае 1945 года, гитлеровский фельдмаршал фон Рундштедт, прослушав выступление министра Шверина фон Крозига о капитуляции Германии, заявил: «Не германская армия виновна в этом... Германская армия имела плохих политических руководителей». •
Книга Гальдера и посвящена распространению легенды о «хороших генералах», которые не могли привести Германию к победе лишь потому, что были связаны по рукам и ногам плохими политиками, и в первую очередь «злым гением» Германии Гитлером.
Чтобы доказать этот тезис, Гальдер прежде всего пытается свести основные причины поражения гитлеровской Германии в войне к различного рода частностям и случайностям. Он не только не может подняться до понимания общественных причин поражения фашизма, но и не в силах понять действительную расстановку сил и подлинные стратегические просчеты германского командования, приведшие к краху фашистской империи.
По существу Гальдер сводит причины поражения фашистской Германии в войне к тому, что Гитлер пренебрег советами генералов — сосредоточить основные силы германских войск для захвата Москвы—и в «решающий момент» отдал предпочтение южному направлению, в частности операциям против Киева. Это якобы привело к перенапряжению войск и дало возможность Советской Армии подготовиться к контрнаступлению. «Стратегически неправильное решение дать битву у Киева,— пишет Гальдер, — чрезмерное перенапряжение войск, которые, доверяя руководству, напрягли свои последние силы, и целеустремленное мощное наступление русских, которые, по словам Гитлера, были уничтожены,— все это наряду с необыкновенно суровой, даже по русским понятиям, зимой привело к ряду чувствительных военных неудач. С ними уже не мог справиться главнокомандующий сухопутными силами...»1
Гальдер, разумеется, далек от того, чтобы обвинить Гитлера в развязывании войны против Советского Союза. Более того, он оправдывает фашистскую агрессию, заявляя, что Гитлер вынужден был начать войну на Востоке для того, чтобы «защитить Германию». Он лишь осуждает «чрезмерность» стратегических целей Гитлера, заявляя, что Гитлер должен был бы «ограничиться» оккупацией Украины, Белоруссии и прибалтийских стран, «создать стратегическое предполье у немецкой и румынской границы и тем самым получить залог для мирных переговоров». Гальдер пытается отнести за счет одного лишь Гитлера все те основные пороки, которые были свойственны стратегии германского империализма вообще, никогда не знавшей границ в осуществлении основного требования германского империализма — завоевания мировой гегемонии. «Пределы военных возможностей Германии, — пишет в этой связи Гальдер, — он [Гитлер] сбросил со счета, заверив, что не доведет дело до войны на два фронта, как довели бездарные деятели 1914 года». И далее, описывая дилемму, стоявшую перед германским командованием после победы фашистской Германии над Францией в 1940 году, Гальдер заявляет: «Выход должен был найти политик, и он мог это сделать: с Западом против Востока или с Востоком против Запада. За каждый из этих выходов потребовалось бы дорого заплатить... Но это выходило за рамки возможностей властолюбивого диктатора»2.
Итак, способ действия Гальдера-историка довольно прост. Из его рас-суждений читатель должен сделать вывод, что и в военном и в политическом отношениях войну можно было выиграть, если бы прислушивались к голосу таких военных деятелей, как он сами его коллеги, то есть к голосу германской
1 Halder, Franz, Op. cit., S. 387.
! H a 1 der, Franz, Op. cit., S. 20, 27.
4 Злила .V 122U 49
военщины. Поражения фашистской Германии в войне, согласно Гальдеру, можно было избежать, и, следовательно, для Германии имеются еще возможности «переиграть войну». Эти положения и составляют содержание всех работ, относящихся к первому этапу развития западногерманской историографиии, о котором мы говорили выше. Пожалуй, еще более ясно, чем в книге Гальдера, это основное направление западногерманской историографии в первый послевоенный период отражено в мемуарах Гудериана «Воспоминания солдата». Для Гудериана поражение гитлеровской Германии в войне объясняется попросту лишь цепью недоразумений и стихийных бедствий. Первое место среди последних занимает... русский климат! Поистине можно сказать, что многие места в книге Гудериана напоминают исследования метеоролога. Гудериан подробнейшим образом распространяется об обильных дождях весной 1941 года, которые мешали сосредоточению немецких войск на русских границах. Затем он переходит к жалобам на русское лето, так как из-за жары и зноя, а главное из-за пыли выходили из строя машины и автоматическое оружие. Осенний период также не удовлетворил Гудериана, ибо дороги оказались размытыми и машины застревали в грязи. Но особое негодование вызвала у гитлеровского генерала русская зима. Гудериан вспоминает, что мороз зимой 1941/42 года достигал тридцати и более градусов и что это, мол, приводило к выведению из строя «как лошадей и моторов, так и людей». И, наконец, о наступившей затем весне Гудериан отзывается следующим образом: «За суровой зимой 1941/42 года последовала весна, которой опять сопутствовала грязь, тормозившая движение и приведшая к тому, что наступательные действия вновь должны были быть отложены»1.
Все эти рассуждения Гудериана не имеют ничего общего со сколько-нибудь вдумчивым и объективным описанием тех подлинных событий и причин, которые привели к поражению фашистской армии, в частности к краху кампании 1941 —1942 годов. Гудериан не хочет признать ни авантюристи-чности планов германского военного руководства, ни мощи и самоотверженности советских войск, которые, действуя в тех же самых климатических условиях, сумели уже в первые месяцы войны приостановить фашистское вторжение, ни патриотизма и морального превосходства народов Советского Союза, боровшихся за правое дело. Фальсифицируя историю войны, Гудериан, равно как и Гальдер и прочие защитники германского милитаризма из числа бывших гитлеровских генералов, дипломатов и т. д., хочет доказать, что дело не в превосходстве советского общественного и государственного строя, а также советского военного искусства, а в частных ошибках фашистского «фюрера» и некоторых его советников.
Книгами Гальдера и Гудериана было положено начало целой серии апологетических трудов, имевших своей целью оправдать не только генералитет, но и фашистских промышленников, дипломатов и так далее. Особую активность развили бывшие гитлеровские дипломаты, перу которых также принадлежит ряд трудов, посвященных истории второй мировой войны, в частности дипломатической истории. Начиная с книги Эриха Кордта «Между безумием и действительностью»2, вышедшей еще в 1947 году, в исторической литературе появляется большое количество книг, оправдывающих всех бывших гитлеровских дипломатов, сыгравших, как известно, немалую роль в развязывании войны. В этих книгах делается попытка доказать, что гитлеровские дипломаты находились в ярой оппозиции к... гитлеровской дипломатии. В некоторых из этих произведений делается попытка связать воедипо военную и дипломатическую оппозицию, сняв с военных и дипломатических деятелей вину как за развязывание войны, так и за поражение фашистской Германии в этой войне. Характерна в этом отношении книга Гейера фон
1 «Итоги второй мировой войны», Издательство иностранной литературы, М., 1957.
Kordt, Erich, Zwischen Walin und Wirklichkcit, Slultgartcr Lnion Verlag, Stuttgart, 1947.
50
Швеппенбурга «Воспоминания военного атташе». В ней содержится специальная глава, посвященная «борьбе за мир»... германского генерального штаба1. К этой же серии относится книга Дирксена «Москва, Токио, Лондон», Вейцзеккера «Воспоминания» и другие.
Политическая цель всей этой литературы ясна: немецкий милитаризм стремится оправдать своих наиболее видных представителей, с тем чтобы получить возможность вновь начать свою старую игру, приспособившись, разумеется, к изменившимся условиям.
Этот мотив проходит красной нитью также и через всю последующую литературу. Однако с развитием западногерманского милитаризма и укреплением его позиций в Западной Германии мы можем встретить в исторических трудах, посвященных второй мировой войне, и некоторые новые мотивы, которые на том или ином этапе становятся господствующими.
Вторым этапом в развитии западногерманской историографии следует, по нашему мнению, считать период от начала военных переговоров между представителями Западной Германии и западных держав в Петерсберге в январе 1951 года до подготовки и утверждения Парижских соглашений в 1953—1954 годах.
Как известно, представителями Западной Германии в военных переговорах с западными державами, которые подготавливались в 1950 году и официально начались в январе 1951 года, являлись бывшие фашистские генералы Хойзингер и Шпейдель. Эти два генерала выпустили свои труды, посвященные истории второй мировой войны, которые знаменуют в известной степени новое направление в западногерманской историографии. Мы имеем в виду книги Хойзингера «Сопротивление приказу» и Шпейделя «Вторжение 1944 года».
Мы уже говорили о том, что стремление к оправданию фашистского генералитета остается лейтмотивом всех работ реакционных западногерманских историографов. Но акценты меняются.
Основные усилия Хойзингера, Шпейделя и их последователей заключаются в том, чтобы доказать, что поражение Германии в войне объясняется разладом между «противниками большевизма» в Германии и западных странах, и сделать из этого вывод, что союз западных держав с Западной Германией мог бы привести к поражению Советского Союза в новой, замышляемой империалистами войне.
Генерал Хойзингер написал свою книгу «Сопротивление приказу» в форме диалога главным образом между высшими офицерами генерального штаба. Из этих диалогов должно явствовать, во-первых, что германский генеральный штаб и кадровое офицерство германской армии непричастны к ошибкам Гитлера, а следовательно, могут быть с успехом использованы новыми организаторами «крестового похода» против большевизма. Во-вторых, что ведущие гитлеровские генералы всегда были за союз- с Западом, осуждали гитлеровские планы покорения западных стран и пытались толкнуть Гитлера на сепаратный мир с США и Англией в ходе второй мировой войны. Описывая обстановку 1940 года, когда была закончена кампания во Франции, Хойзингер указывает: «Весь мир и немецкий народ ожидали мирных предложений Гитлера Англии. Однако вместо ожидаемых звуков свирели в рейхстаге внезапно раздались звуки фанфар. Генералов производили в фельдмаршалы в таком количестве, как этого никогда не бывало в прусско-немецкой истории. Высшим сановникам немецкой армии была оказана этим плохая услуга. Затем попытка покорить Англию в воздушной войне! Не вышло! Затем угрожали вторжением и испугались его осуществления! Что же теперь? Проблема «Англия» так же не разрешена, как и прежде»1 2.
1 Sell weppenburg, Freiherr G е у г, Erinnerungen eines Militar-attaches, Deutsche Veriags anslall, Stuttgart. 1949, S. 65.
2 Heusinger, Adol f, Befehl im Widerstreit, Rainer Wunderlich-Verl'ag-Hermann Leins Tiibingen—Stuttgart, 1950, S. 14-15.
51 4*
Именно в том, что не удалось сговориться генералам и дипломатам Англии и Германии, Хойзингер видит основную причину поражения Германии в войне. Он очень подробно описывает колебания Гитлера, связанные с его известными проанглийскими симпатиями. С явным удовлетворением Хойзингер цитирует, например, следующие слова Гитлера: «Я знаю, что значит Британская империя для стабилизации всего мира, что значат англосаксы для нашей нордической расы. Я вовсе не хочу оспаривать у них их доминирующего положения в мире»1.
Из-за чего же возникла война между Англией и Германией? Если верить Хойзингеру, то лишь из чистого недоразумения. Основная вина за это, по его мнению, падает на Гитлера, который не сумел вовремя остановиться в осуществлении своих территориальных притязаний. Но немалую долю вины несут также и определенные английские круги, которые отнеслись с недостаточным пониманием к проанглийским стремлениям фашистского фюрера и главное фашистских генералов
Хойзингер считает, что даже на последнем этапе войны еще можно было «спасти» положение, войдя в сговор с западными союзниками. Вот его запись разговора с генералом фон Тресковым.
«.Хойзингер. Гитлера нужно склонить к тому, чтобы он отказался от Верховного командования армией и Восточным фронтом и расстался с Кейтелем. Цейцлер того же мнения. Если кто-нибудь вообще может сделать это, То только он. Он может скорее добиться чего-либо у Гитлера, чем другие. Может быть, это ему еще удастся.
Фон Тресков. А если нет, что тогда?
Хойзингер. После неудачи 1942 года необходимо теперь опять вырвать инициативу у русских и укрепить Восточный фронт... Если это удастся, то таким образом будет создана основа для того, чтобы окончить войну путем разумных политических мероприятий...
Фон Тресков. Допустим, что нам удастся добиться положения, которое, по нашему мнению, создаст базис для переговоров: с кем должны мы вести переговоры — с Россией или с западными державами?
Хойзингер. Я стою за западное решение. Но конечной целью должно быть полное окончание войны...
Фон Тресков. Я не верю в то, что западные державы когда-нибудь сядут с Гитлером застоя переговоров, но сделают это с другим руководством Германии. Возможно, также против России... Союз западных держав с Россией заключен вовсе не из-за сердечной склонности»2.
В другом месте, когда речь опять зашла о необходимости начать мирные переговоры, Хойзингер вкладывает в уста некоего анонимного офицера оперативного отдела генерального штаба следующую оценку событий, данную его начальником, то есть самим Хойзингером: «Совместный путь с Россией означал бы конец Европы. Если мы вообще еще можем выбирать, тогда мы должны выбирать только Запад. Тем необходимее держать Восточный фронт»3. И, наконец, характеризуя установки участников заговора против Гитлера из числа генералов (кстати сказать, сам Хойзингер причисляет себя также к заговорщикам, хотя он таковым не являлся, о чем свидетельствует его быстрое освобождение органами гестапо после случайного ареста), Хойзингер пишет: «Участники заговора хотели спасти Германию, по крайней мере •от азиатских орд, и закончить войну на Западе»4.
В книге Шпейделя «Вторжение 1944 года» мысль о необходимости союза между милитаристскими силами Германии и западных держав «для общей борьбы против большевизма» еще более конкретизируется. Шпейдель подробно повествует о планке командования Западным фронтом, прежде всего ----------- л
1Heusinger, Adolf, Befehl im Widerstreit, Rainer Wunderlich-Verlag ^Hermann Leins, Tubingen— Stuttgart, 1950, S. 18.
2 Heusinger, Adolf, Op. cit., S. 538—539.
3 Ibid, S. 47.
* Ibid., S. 49.
52
о планах таких генералов, как Роммель, Штюльпнагель и другие, начать переговоры с западными державами в 1944 году, открыть фронт для англо-американских войск на Западе и, заключив сепаратный мир с Англией и США, повернуть войска с Западного фронта на Восток. Шпейдель критикует союзное командование за «нерешительность действий», которая, мол, затрудняла осуществление планов сепаратного мира. Давая оценку вторжению 1944 года, Шпейдель пишет: «Как во время высадки в Африке в 1942 году, так и теперь союзное командование не использовало до конца имевшиеся большие оперативные возможности, ибо в противном случае война была бы закончена еще в 1944 году»1. Таким образом, полностью исказив действительный ход событий, Шпейдель пытается доказать, что исход войны решался не на Востоке, а на Западе. Что касается положения на Востоке, то Шпейдель дает понять, что сепаратный мир на Западе не только мог бы привести к стабилизации фронта, но даже к поражению Советского Союза.
Разумеется, и в книге Хойзингера и в книге Шпейделя полностью поддерживается миф о «невиновности» генералов в войне, в частности в поражении фашистских войск на советско-германском фронте. Но, как видно из приведенных отрывков, политическая направленность этих трудов совершенно определенна. Она связана с потребностями того периода, когда правящие круги США и Англии открыто взяли курс на союз с милитаристскими силами Западной Германии и когда началась подготовка к возрождению вермахта. Не удивительно, что идеологи этого союза среди старого фашистского генералитета —Хойзингер и Шпейдель —все более становятся ведущими фигурами нового западногерманского вермахта. После восстановления вооруженных сил Западной Германии и включения Западной Германии в НАТО Хойзингер был назначен начальником «Руководящего штаба», то есть фактически главнокомандующим вооруженными силами Западной Германии, а Шпейдель — командующим вооруженными силами НАТО в Центральной Европе.
Положения, нашедшие свое воплощение в книгах Хойзингера и Шпейделя, легли в основу всей последуюшей литературы, посвященной истории второй мировой войны. Конечно, каждый из новых исторических трудов, взятый в отдельности, имеет свою специфику и не может быть механически подогнан под ту схему, о которой мы писали выше. Но мы уже говорили о том, что нашей целью является выявление главных тенденций развития западногерманской историографии, и с этой точки зрения мы можем утверждать, что положение о необходимости американо-англо-боннского союза красной нитью проходит через подавляющее большинство произведений, посвященных второй мировой войне, которые написаны после 1951 года.
В этой связи необходимо прежде всего остановиться на двух крупных исследованиях второй мировой войны — двухтомном труде Вальтера Гёрли-ца «Вторая мировая война» и книге Курта Типпельскирха «История второй мировой войны».
Следует с самого начала оговориться, что историк найдет в этих трудах немало ценных материалов фактического порядка, которые, несомненно, могут помочь раскрыть истинную картину военных событий и причин поражения фашизма в войне. Тем не менее тенденциозность этих произведений настолько пагубно отразилась на их содержании, что эти книги нельзя воспринять иначе, как попытку фальсификации характера войны в целом и причин поражения фашистских войск в войне. Упадок буржуазной историо-графиии в период общего кризиса капитализма ярко сказался и на этих трудах. Они служат целям современных сторонников возрождения вермахта и превращения Западной Германии в основной оплот НАТО в Европе.
Книга Вальтера Гёрлцца «Вторая мировая война» является первым обобщающим трудом по истории войны, написанном в Западной Германии не
1 S р е i d е 1, Hans, Invasion 1944, Rainer Wunderlich-Verlag Hermann LeinS; -Tiibingen—Stuttgart, 1952.
53
профессиональным военным, а историком. Несколько слов о Гёрлице. Гёр-лиц —историк нового поколения, деятельность которого началась в фашистской Германии в 1936 году. Он является автором ряда трудов о немецких политических деятелях. После войны были опубликованы его книги о Штре-эемане (1947 г.), о фон Штейне (1949 г.) и о немецком генеральном штабе (1950 г.). Последняя из упомянутых книг написана с определенной политической целью: опровергнуть доказанное на Нюрнбергском процессе главных немецких преступников обвинение германского генерального штаба в том, что он является виновником развязывания второй мировой войны. Заключительная фраза этой книги гласит: «Обвинения Международного военного трибунала в Нюрнберге, предъявленные генеральному штабу, в причастности к организации второй мировой войны не имеют никаких оснований»1.
Таким образом, вся прошлая деятельность Гёрлица как историка делала его особо пригодным для выполнения столь важной с точки зрения западногерманской буржуазии задачи, как создание фундаментального труда по истории второй мировой войны, в котором был бы реабилитирован германский милитаризм и его штаб — генералитет и вместе с тем показана пригодность современного западногерманского милитаризма служить целям нового крестового похода всех реакционных сил Запада против Советского Союза.
В предисловии к своей книге «Вторая мировая война» Гёрлиц пишет: «Фактом является то, что в течение шести лет, с 1939 по 1945 год, германские вооруженные силы боролись еще раз в соответствии со своими великими традициями, хотя они и вели войну, в которой руководство и фронт были поставлены перед неразрешимыми задачами, хотя верховное руководство Империи совершило безответственные ошибки и навлекло на себя непоправимую вину и хотя в конце концов германские вооруженные силы должны были капитулировать в результате огромного превосходства сил». Более того, Гёрлиц идет еще дальше и заявляет, что вторая мировая война, как ни одна из войн со времени Тридцатилетней войны, «имеет, подобно Янусу, два лика: лик, обращенный вперед, и лик, обращенный назад»1 2.
Это уже звучит прямым оправданием гитлеровской агрессии вообще. До Гёрлица никто еще в такой прямой форме не писал о том, что война имела, мол, не только реакционный и агрессивный характер (или, пользуясь терминологией Гёрлица, «лик, обращенный назад»), но и некий «прогрессивный характер», ибо, опять-таки пользуясь терминологией Гёрлица, второй ее «лик был обращен вперед».
Из рассуждений Гёрлица отчетливо явствует, что он имел при этом в виду попытку фашистской Германии создать объединенный фронт европейских держав в борьбе против большевизма, считая, что руководство фашистской Германии, создавая свою «Объединенную Европу», как бы предвидело грядущие планы создания единого реакционного блока в Европе, в котором германские милитаристы заняли бы главенствующие позиции. Впрочем, Гёрлиц прямо говорит о том, что Гитлер был «предтечей нового политического порядка в Европе, при котором под руководством немцев велась бы борьба против мирового большевизма»3.
Гёрлиц является ярым пропагандистом идеи объединения западногерманской и англо-американской реакции в борьбе против социализма и создания пресловутой «Объединенной Европы». «Последняя война,—пишет, он,— ознаменовала безусловный конец конфликтов между отдельными национальными государствами в Европе... Одним из самых характерных моментов второй мировой войны является переход от эпохи конфликтов между отдельными национальными государствами к эпохе конфликтов между мировоз-
1 G о г 1 i t z, Walter, Der deutsche Ceneralstab 1657—1945, Verlag der Frankfurter Hefte, Frankfurt am Main, 1950, S. 703.
2 Go r 1 i t z, Walter, Der zweite Weltkrieg 1939—1945, Steingriiben-Verlag, Stuttgart, 1952, Bd. 1, S. 13, 14.
3 Ibid., S. 15.
54
прениями»1. В соответствии с этим Гёрлиц и проповедует объединение стран «западной культуры» против социалистических стран.
Причины поражения гитлеровской Германии в войне Гёрлиц видит в «превосходстве сил» противников гитлеровского режима. Это «превосходство сил», по мнению Гёрлица, было создано в результате того,что произошел раскол между западными державами и Германией. Гёрлиц много раз подчеркивает, что* фашистское руководство придерживалось прозападной ориентации, однако было вовлечено в войну с Западом как в результате ошибок, проистекавших из необузданного властолюбия Гитлера, так и ошибок, совершенных государственными деятелями США и Англии в период, предшествовавший войне, и особенно в ходе самой войны. Подробнейшим •образом Гёрлиц описывает различного рода планы сепаратного мира, которые вынашивались в среде фашистского генералитета. Особое значение он придает, планам ряда фашистских генералов, включая генерала Хойзингера, заключить мир на Западе в конце октября 1941 года, когда уже явно обнаружился крах молниеносной войны на советско-германском фронте. Гёрлиц заявляет, что эти планы предусматривали большие уступки Западу, заклю- чение прелиминарного мира с Францией и твердые гарантии со стороны фашистской Германии уважать суверенитет всех оккупированных гитлеровской армией западных стран. Разумеется, Гёрлиц уделяет также большое внимание планам сепаратного мира, которые вынашивались в среде фашистского генералитета в 1943—1944 годах. Мы видим, что концепция Гёрлица полностью соответствует новым установкам германского милитаризма — превратить Западную Германию в главную опорную базу западных держав против стран социалистического лагеря.
Можно отметить, что работа Гёрлица оказала большое влияние на все развитие западногерманской историографии и что после нее появился ряд книг, которые, по существу, являются лишь перепевом основных положений, содержавшихся у Гёрлица. Вряд ли стоит останавливаться на этих второстепенных работах, не представляющих самостоятельного интереса. Но наряду с книгой Гёрлица «основополагающим» для современного направления западногерманской историографии является и такая работа, как книга Курта фон Типпельскирха «История второй мировой войны», которая заслуживает несколько более подробного рассмотрения.
Книгу Типпельскирха можно было бы назвать хроникой войны. Она охватывает не только события, разыгравшиеся в Европе и в Северной Африке, но и в Японии и Юго-Восточной Азии. Типпельскирх, можно сказать, день за днем, со скрупулезной тщательностью прослеживает ход военных действий. Он в значительно меньшей степени, чем Гёрлиц, прибегает к обобщениям и пускается в общетеоретические рассуждения. Поэтому помимо воли автора война на советско-германском фронте предстала в его книге как цепь крупнейших поражений фашистской армии и величайших побед советских вооруженных сил. В книге содержится немало признаний превосходства советского командования над немецким командованием в проведении тех или иных операций.
Однако основная тенденция книги полностью совпадает с концепцией Гёрлица: цель автора — опорочить антигитлеровскую коалицию, умалить решающую роль Советского Союза в достижении победы, представить немецких милитаристов в роли «носителей европейской идеи» и «идейных» борцов против большевизма.
Уроки, которые извлекает Типпельскирх из второй мировой войны, касаются не столько правящих классов Германии, которые он в основном оправдывает, сколько правителей США и Англии. Как ни парадоксально это звучит, но именно их он делает ответственными за провал гитлеровской авантюры. Типпельскирх обвиняет западные державы в том, что они не
1 G б г 1 i t г, Walter, Stuttgart, 1952, Bd. 1, S. 13.
Der zweite Weltkrieg 1939—1945, Steingriiben-Verlag,
55
сумели «своевременно» отказаться от союза с СССР и вступить в союз с германскими милитаристами. Главным виновником этого он считает Рузвельта. «Трагическая вина Рузвельта,— пишет Типпельскирх,— в том, что он не отказался своевременно от этого противоестественного союза. Вместо этого он пошел по порочному пути «безоговорочной капитуляции». Так он стал могильщиком нового устойчивого мирового порядка»1.
Мы видим, что и здесь «выводы» автора обращены не столько в прошлое, сколько в будущее. Типпельскирх является пропагандистом союза западногерманской и англо-американской реакции в борьбе против прогресса и социализма. Именно с этой точки зрения он и рассматривает причины поражения фашистской Германии в войне и уроки войны.
Пожалуй, наиболее ярко эта тенденция выражена в большом коллективном труде крупнейших представителей фашистского военного командования, вышедшем в 1953 году и озаглавленном «Итоги второй мировой войны». Авторы и не скрывают, что они имеют в виду не прошлое, а будущее. Подзаголовок книги так и гласит: «Выводы и обязательство на будущее».
Книга «Итоги второй мировой войны» занимает особое место в западногерманской исторической литературе. Она является не только и не столько историческим трудом, сколько платформой, вокруг которой объединились все старые руководители вермахта. Достаточно перечислить хотя бы некоторых из наиболее видных авторов отдельных статей: фельдмаршал Кессельринг, генерал-полковник Гудериан, генерал-полковник Рендулиц, генерал Типпельскирх, вице-адмирал Ассман, бывший министр гитлеровского правительства граф Шверин фон Крозиг и другие.
В роли инициатора и редактора этого труда выступает генерал Хассо фон Мантейфель, написавший заключительную, итоговую главу книги. Для характеристики этого генерала достаточно привести отзыв о нем Гёрли-ца — этого ярого защитника германского генералитета. Описывая военные операции последнего этапа существования гитлеровской империи, ГёрлиЦ говорит: «В ходе этих оборонительных боев выдвинулось последнее поколение германских командующих на Востоке: грубые фельдфебельские типы... люди, безусловно верившие в Гитлера и обладавшие упорством в проведении военных операций вроде... отличившегося под Житомиром командира 7-й танковой дивизии из группы Манштейна генерала Хассо фон Мантейфеля»1 2. Но, как видно, генералы, казавшиеся еще в 1950 году «грубыми фельдфебелями» даже таким реакционным историкам, как Гёрлиц, в 1953 году выступают уже в роли основных носителей идей «европейской общности» и американо-боннского военного союза.
Некоторые авторы коллективного труда «Итоги второй мировой войны» уже раньше выступали со своими работами (Гудериан, Ассман, Типпельскирх и др.). Но сейчас они полностью «перестроились» в соответствии с основной установкой книги, о которой мы писали выше.
Наиболее ясно эта установка сформулирована в заключительной главе книги, принадлежащей перу Мантейфеля. «В настоящее время, — пишет Мантейфель, — отдельные нации с их примитивными армиями старого типа просто не в состоянии обеспечить свою безопасность. В этих новых условиях предпосылкой для создания настоящей безопасности становятся уже крупные континентальные и зональные военные союзы, в которых нации, находясь в тотальной боевой готовности, приспособленной к их географическим условиям, могут объединиться для совместной борьбы за свое существование»3. Это заявление Мантейфеля не нуждается в длинных комментариях. Совершенно ясно, что Мантейфель и иже с ним переквалифицировались из оруженосцев Гитлера в оруженосцев-организаторов Североатлантического блока. Под этим углом зрения Мантейфель и предлагает переоцетАггь итоги войны.
1 К. Типпельскирх, История второй мировой войны, Издательство иностранной литературы, М., 1956, стр. 571.
2 G б г 1 i t z, Walter, Der Deutsche Generalstab, S. 635.
3 «Итоги второй мировой войны», стр. 615—616.
56
Если будет сделана такая переоценка, заявляет Мантейфель, «тогда итоги минувшей войны не останутся простой суммой теоретических взглядов, но будут использованы в новой практической (!) жизни. Тогда вторая мировая война перестанет казаться нам падением и гибелью мира, а превратится в новую ступень развития»1.
Итак, круг замкнулся! Начав с попыток взвалить всю вину за проигранную войну на Гитлера, с жалоб на то, что фюрер вдвлек Германию в безнадежную войну вопреки воле генералов, немецкие милитаристы кончили прославлением войны «как новой ступени» в развитии человечества.
Выводы авторов книги «Итоги второй мировой войны», касающиеся причин поражения гитлеровской Германии, также приспособлены к потребностям Североатлантического блока. Если отбросить некоторые частности, то их можно свести к следующему.
Во-первых, авторы книги «Итоги второй мировой войны» приходят к выводу, что одной из важнейших причин поражения гитлеровской Германии в войне была недооценка «восточного противника», то есть Советского Союза. Это привело к тому, что гитлеровская Германия пренебрегла необходимостью гораздо более тщательной подготовки к войне.
Автор статьи «Опыт войны с Россией» Гудериан в этой связи вынужден сделать ряд горьких признаний. Он пишет, например, о советском командовании: «Во второй мировой войне стало очевидным, что и советское верховное командование обладает высокими способностями в области стратегии». «Русский солдат,— заявляет Гудериан,— всегда отличался особым упорством, твердостью характера...»1 2 Более того, Гудериан приходит к выводу, что сокрушить Советский Союз путем непосредственного вторжения на континент — чисто фронтальным наступлением на него с суши — вообще невозможно. Отсюда его рекомендация будущему агрессору: «Если наступающий будет обладать превосходством на море, то авиация и флот могут создать ему предпосылки для успешного вторжения в Россию при условии, что авиация и флот будут тесно взаимодействовать с достаточным количеством наземных войск и что их действия будут носить характер не фронтального наступления, а охватывающего удара по самой важной цели»3.
Нетрудно видеть, что рекомендация Гудериана приспособлена к новым стратегическим установкам руководителей Североатлантического блока^ которые делают ставку на окружение Советского Союза сетью авиационных баз и на широкое применение метода «стратегических бомбардировок».
Второй основной вывод, касающийся причин поражения гитлеровской Германии в войне, сводится как раз к тому, что, по мнению авторов книги, гитлеровское руководство не уделяло достаточного внимания развитию авиации. В книге имеется специальная глава «Немецкая авиация», написанная фельдмаршалом Кессельрингом. Кессельринг заявляет, что «Гитлер не отвел авиации положенного ей первого места в вооруженных силах, а Геринг не сумел сделать из перспективы неограниченной воздушной войны никаких тактических, технических и организационных выводов»4. В соответствии с этим Кессельринг и дает наказ будущему агрессору: «В вооружении страны авиация должна занимать первое место»5. Нет сомнения, что этот вывод также пришелся по вкусу нынешним руководителям Североатлантического блока.
В-третьих, одной из основных причин поражения фашистской Германии в войне авторы книги «Итоги второй мировой войны» считают слабость немецкого военно-морского флота, в особенности надводного. Об этом подробно говорится в статье вице-адмирала Курта Ассмана «Война на море».
И, наконец, в-четвертых, важнейшую причину поражения гитлеровской Германии в войне бывшие гитлеровские генералы — авторы книги «Итоги
1 «Итоги второй мировой войны», стр. 625.
2 Там же, стр. 133.
3 Там же, стр. 132—133.
1 Там же, стр. 213.
5 Там же.
57
ъторой мировой войны» усматривают в недоучете Гитлером, его ставкой и генеральным штабом решающего значения бассейна Средиземного моря, а отсюда недостаточное внимание к африканской кампании Роммеля.
Надо сказать, что в ряде работ, вышедших еще до появления книги «Итоги второй мировой войны», эта причина уже ставилась во главу угла. Так, например, известная работа Курта Ассмана «Годы, решившие судьбу Германии»1, по существу, полностью посвящена доказательству этого тезиса. В книге «Итоги второй мировой войны» наиболее ярко указанный тезис выражен в статье Кессельринга «Война в бассейне Средиземного моря». Подробно описывая операции в восточной части Средиземноморского бассейна, Кессельринг заявляет: «Удачно проведенные здесь кампании могли бы явиться решающими для исхода всей войны»1 2.
В основу этих рассуждений положена опять-таки старая идея сепаратного мира с Западом. Победа в бассейне Средиземного моря мыслилась как «решающий удар» по Британской империи, который должен был побудить Англию заключить мир с Германией. Но нельзя не видеть в самих этих рассуждениях некрытую угрозу западным союзникам западногерманских милитаристов, которые подчеркивают свое большое военное превосходство над Англией и дают понять, что гитлеровскому вермахту легко было бы справиться с западными странами.
Таковы некоторые основные произведения, характеризующие развитие германской реакционной историографии после 1950—1951 годов. Положения, развиваемые в этих произведениях, и сейчас еще определяют лицо западногерманской историографии. Но наряду с этим в 1953 —1954 годах начали появляться произведения, открыто прославляющие Гитлера и выдвигающие старые претензии германского милитаризма, обращенные не только на Восток, но и на Запад. Когда мы говорим о третьем этапе развития реакционной западногерманской историографии, начавшемся в 1953 —1954 годах, то мы имеем в виду именно подобного рода произведения. Разумеется, книги, прославляющие Гитлера, появлялись и до 1953 года. Но, как правило, они принадлежали перу второстепенных лиц и не являлись столь распространенными. Теперь же они все более и более начинают определять основную тенденцию развития западногерманской историографии, посвященной истории второй мировой войны.
Нам кажется излишним останавливаться на каждом из подобных произведений в отдельности, поскольку историческая ценность их минимальна. 'Собственно говоря, их вообще уже нельзя назвать историческими произведениями: они являются чисто пропагандистскими или апологетическими работами, полными злобной клеветы и ненависти ко всему прогрессивному. К разряду таких книг мы относим «труд» Манштейна «Проигранные сражения», Кессельринга «Солдат до последнего дня», Пауля Гауссера «Войска СС в наступлении», Рендулица «Опасные границы политики», посмертные записки Риббентропа, изданные под названием «Между Лондоном и Москвой», книга Руделя «Несмотря ни на что»3 * s и т. д. и т. п.
Характерным для всех перечисленных книг является, во-первых, попытка полностью оправдать гитлеровскую агрессию и свести причины поражения Германии в войне к недостаточно решительному осуществлению гитлеровской программы; во-вторых, наглое оправдание всех гитлеровских зверств •как на Востоке, так ина Западе и «сожаление» о том, что фашистское командование недостаточно расправлялось со своими противниками и тем самым ускорило поражение Германии; в-третьих, прославление наиболее жестоких
1 Assmann, Kurt* Deutsche Schicksalsjahre, Eberhart Brockhaus-Verlag, Wiesbaden, 1950. *
2 «Итоги второй мировой войны», стр. 109.
3 М anstei n, Erich, Verlorene Siege, Athenaum-Verlag, Bonn, 1955; Kes-
selring, Albert, Soldat bis zum letzten Tag, Athenaum-Verlag, Bonn, 1953; H a u s-
s e r, Paul, Op. cit.; Rendulic, Lothar, Gefabrliche Grenzen der Politik, iPilgram-Verlag, Salzburg, 1954; Rudel, Hans, Ulrich, Trotzdem. Bad Ischl, 1951.
58
и верных Гитлеру полководцев, включая эсэсовских палачей; в-четвертых, •открытая пропаганда фашистской идеологии, расовой теории и идеи «превосходства немецкой нации над всеми народами»; в -пятых, пропаганда развязывания новой войны Германии против всех своих прежних противников.
Вот как, например, Кессельринг описывает Гитлера: «Становление Гитлера как будущего руководителя немецкого народа относится ко времени 'первой мировой воины и к неспокойным послевоенным временам. В период между 1921 и 1945 годами он чувствовал себя прежде всего солдатом, даже и в пору расцвета своей политической карьеры. Поэтому его политические организации обрели военную форму, поэтому он создал вермахт, который внешне производил приятное впечатление, а по своей внутренней ценности и по материальному оснащению отвечал самым высоким требованиям ведения войны... Преследуемый судьбой, покинутый своим народом, с надломленными силами, не дождавшись ни от кого спасения, он ушел в иной мир»1. Так, пожалуй, никто не писал после 1945 года о Гитлере, об этом палаче и авантюристе, развязавшем по воле пушечных королей Германии самую тяжелую в истории человечества войну.
А вот какие выводы делает Кессельринг о воздушной войне над Англией: «Как выяснилось позднее, для настоящего разгрома народа, обладающего внутренней мощью и большим военным потенциалом, нужно обладать сильным военно-воздушным флотом, для того чтобы совершать налеты днем и ночью и продолжать террористические (!) бомбардировки в течение нескольких лет, усиливая их день ото дня»1 2. Кессельринг прямо упрекает гитлеровское командование в мягкотелости по отношению к Англии. Он сокрушается по поводу того, что недостаточно расправлялся с мирным населением Италии, хотя, как известно, он был официально изобличен английским военным судом в убийстве 335 итальянских заложников.
Поистине чудовищные формы принимает прославление гитлеровской войны в «труде» Пауля Гауссера «Войска СС в наступлении». «Незабудь-те, — пишет он, — что эсэсовцы были первыми европейцами, павшими в войне, и что они после войны были объявлены вне закона только потому, что верили в неделимость западной цивилизации. Нельзя забыть пролитой ими крови. Европейская идея является единственным политическим идеалом, за который сегодня еще стоит сражаться. Никогда мы еще не были так близки к его осуществлению, как во время второй мировой войны»3. Это не что иное, как призыв снова ринуться в войну за гитлеровскую программу порабощения европейских народов да еще рука об руку с эсэсовскими палачами.
Приведенных образчиков достаточно, чтобы характеризовать «новое» направление западногерманской историографии. Оно прямой дорогой ведет к возрождению «историографии» фашистских времен!
♦ • ♦
Бессмертный подвиг свободолюбивых народов, спасших человечество от фашизма, не удастся ни умалить, ни опорочить никакими лжеисторическими сочинениями немецких милитаристов. Именно этот подвиг — подвиг миллионов простых людей во всем мире, с оружием в руках боровшихся против смертельной опасности порабощения народов немецким фашизмом и уничтожения европейской цивилизации, является главной причиной поражения гитлеровской Германии в войне. Эта воля народов цементировала антигитлеровскую коалицию и не давала некоторым реакционным лидерам западных стран осуществить свои планы сепаратного мира с германским милитаризмом. Вторая мировая война явилась ярчайшим свидетельством того, что судьбу мира в наш век решают народы, их стремление к прогрессу и ненависть к империалистическому порабощению.
1 Kesselring, Albert, Op. cit., S. 386— 387.
2 Ibid., S. 106.
3 H a u s s e r, Paul, Op. cit., S. 262.
59
Решающую роль в победе над гитлеровским фашизмом играл Советский Союз, который вынес на своих плечах главную тяжесть войны и нанес фашистской Германии поражения, определившие крах гитлеровской империи. В ходе войны ярко было продемонстрировано превосходство советского общественного и государственного устройства над общественным и государственным устройством капиталистических стран. Трудящиеся Советского Союза защищали свою родину, ставшую первым в мире социалистическим государством. Они боролись за великие идеалы свободы, демократии, социализма.
Неувядаемой славой покрыли себя советские вооруженные силы, которые нанесли одно поражение за другим фашистским войскам. Советское военное искусство, основанное на глубоком понимании общественных процессов и марксистско-ленинской диалектике, во время второй мировой войны также показало свое несомненное превосходство над стратегией и тактикой гитлеровского командования. Советские вооруженные силы опирались при этом не только на самоотверженный труд миллионов советских патриотов в тылу, но и на поддержку всех порабощенных гитлеровцами народов и всего прогрессивного человечества. Лучшие люди Германии в концентрационных лагерях и в гитлеровском подполье также прилагали все силы к освобождению немецкого народа от гитлеровской тирании и ждали прихода Советской Армии, как армии-освободительницы.
Прогрессивное человечество не забудет уроков второй мировой войны и сделает все возможное, чтобы не допустить развязывания империалистами новой, еще более кровавой военной катастрофы.
Вальтер Бартель
СОВМЕСТНАЯ БОРЬБА НЕМЕЦКИХ и советских борцов сопротивление в фашистском КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ БУХЕНВАЛЬД И ОСВЕЩЕНИЕ ЭТОГО ВОПРОСА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
18 октября является исторической датой в германо-русских отношениях. 18 октября 1813 года в Лейпциге русские войска сражались совместно с немецкими солдатами против французского завоевателя Наполеона Бонапарта. Спустя сто двадцать восемь лет потомки этих русских людей, отдавших когда-то свою кровь и жизнь за свободу европейских народов, были брошены самым бесчеловечным образом в германский фашистский концентра-•ционный лагерь.
В середине октября 1941 года эсэсовская комендатура концлагеря Бухенвальд приказала отгородить внутри лагеря проволокой пять жилых бараков. У входа в барак № 7 эсэсовцы велели водрузить доску с надписью «Лагерь советских военнопленных»1. Этот акт, противоречащий международному праву, является одним из многих нарушений права, совершенных нацистским режимом в отношении собственного народа и других народов.
Эсэсовское командование отдало строгий приказ через старост отдельных блоков лагеря: ни один из заключенных не должен войти в соприкосновение с советскими военнопленными; во время доставки военнопленных в лагерь все заключенные должны находиться в своих бараках.
18 октября 1941 года в Бухенвальд прибыло две тысячи советских военнопленных. Они прошли пешком с востока Германии до Рурской области, оттуда в Мюнхен, а потом прямо в Веймар. Это была многонедельная пытка.
Военнопленные получали голодный паек, были лишены элементарных гигиенических условий, им было отказано в какой бы то ни было врачебной помощи1 2.
Заключенные, находившиеся в лагере, в течение многих лет испытывали на себе всю жестокость и бесчеловечность фашизма. Однако перед тем, что они увидели теперь, померкло все, что было в прошлом. Истощенные советские военнопленные походили на скелеты, их обмундирование превратилось в лохмотья, на ногах вместо сапог были тряпки. Многие уже не могли передвигаться, но ни один не падал на землю, их поддерживали товарищи. Глаза пленных сверкали неистовой ненавистью. На их лицах было написано глубокое презрение к фашистским мучителям.
Военнопленных повели в баню. Немецкие политические заключенные сделали попытку приблизиться к ним, но натолкнулись на ледяной отказ. Да и как могли советские люди, в течение месяцев видевшие только фашистскую Германию, внезапно почувствовать доверие к немецким антифашистам?
Однако случилось нечто такое, в силу чего и пленные советские солдаты и люди, находившиеся несколько лет в плену у германского фашизма, исполнились счастливой уверенностью: даже самый разнузданный фашистский террор не может задушить благородную пдетоТпролетарского пнтернациона-
1 Звукозапись беседы с Куртом Леонгардом. Buchenwaldarchiv beim Deutschen Institut fur Zeitgeschichte, Berlin (далее упоминается как BA.), 522—10.
2 Schuhbauer, Josef, Die ersten russischen Kriegsgefangenen im KL Buchenwald. BA 522—2.
61
лизма. Когда военнопленных, возвращавшихся из бани, повели к отгороженным жилым баракам, заключенные нарушили установленный эсэсовцами запрет. Они вышли из своих бараков и дали военнопленным все, что только мог дать заключенный. Последний кусок хлеба был вынут из шкафчика, тщательно сбереженная на воскресенье сигарета, ломтик колбасы, жалкая порция маргарина, яблоко, пара носков или платок — все это заключенные отдали советским людям.
В этом чудесном акте солидарности и помощи приняли участие заключенные всех наций — австрийские, чехословацкие, голландские и немецкие заключенные. Никто не остался в стороне. Никто не сделал попытки допести эсэсовцам о поступках, совершенных вопреки запрету1.
На глазах у немецких политических заключенных можно было заметить слезы. Это были слезы стыда при виде позорного обращения немцев с советскими солдатами. Но это были и слезы радости, вызванные ярким проявлением пролетарской солидарности.
Эсэсовцы отомстили на свой лад. Трое ответственных старост блоков — немецкие коммунисты1 2, которые должны были обеспечить соблюдение приказа, запретившего всякий контакт между заключенными и военнопленными, — были наказаны двадцатью пятью палочными ударами. Кроме того, их отправили в штрафную роту, где они были обречены на гибель от голода и непосильной работы. Пролетарская помощь сорвала этот план.
Эсэсовский фюрер Флорштедт заявил заключенным, выстроенным для проверки у ворот лагеря: «красные» сочли возможным продемонстрировать свою солидарность с большевиками, поэтому по поручению эсэсовского коменданта Коха он приказывает лишить всех заключенных пищи на один день3.
Эта жалкая попытка расколоть лагерь провалилась. Среди заключенных никто не заговорил о том, что лучше было бы отказаться от проявления солидарности. Заключенные голодали с чувством гордого презрения к эсэсовским бандитам. Они голодали, но были счастливы, что они совершили хорошее дело. Наказание, примененное эсэсовцами, они воспринимали как высокую награду.
Голод и избиения — такова была зверская реакция эсэсовских варваров на наглядно обнаружившуюся и подтвержденную реальным делом дружбу и солидарность между политическими заключенными и народами Советского Союза, теми народами, которые вели во имя человечества самую тяжелую борьбу в истории своего народа и в истории всего человечества.
Небольшой кусочек хлеба и сигарета, каждый жест немцев, чехов и австрийцев, просивших: «Возьми, советский друг, возьми то, что мы можем’ дать», — все это было победой благородной идеи социализма над бесчеловечностью загнивающего общественного строя. Спустя восемь лет после захвата власти фашистами, после того как по вине СС в странах Европы были пролиты реки крови и слез, после того как десятки тысяч погибли' мученической смертью, в Бухенвальде несколько тысяч заключенных заявили: нас можно убить, но никогда не удастся вырвать из наших сердец дух пролетарского интернационализма! В оцеплении, за проволочным ограждением, по которому был пропущен электрический ток, под дулами пулеметов, нацеленных со сторожевых вышек в сторону заключенных, пролетарии-и крестьяне, художники и ученые развернули бессмертное знамя самой человечной идеи нашего времени — знамя социализма.
Несмотря на расправу эсэсовцев, через несколько месяцев, когда в Бухенвальд прибыл транспорт советских женщин, их таким же способом снабдили пищей и одеждой. Женщины были отправлены в Равенсбрюк; онш
1 М о u 1 i s, М i 1 о s 1 a w, То byl Buchenwald, Prag., 1957, S. 55; К о g о n, Eugen, Der SS-Staat, Berlin, 1947, S. 223.
2 Курт Ваббель, Иозеф Шубауэр и Курт Леонгард.
8 М о u 1 i s, И i 1 о s 1 a w, Op. cit., S. 56; Н. Симаков («Советская Сибирь»,. 2 июня 1957 года).
62
поблагодарили бухенвальдцев в письме, в котором говорилось, что они снова обрели мужество, чтобы продержаться и продолжать борьбу1.
Об этих прекрасных делах и дальнейших событиях сохранились лишь немногие документы, найденные в архивах эсэсовской комендатуры концентрационного лагеря в Бухенвальде. Причина совершенно ясна: фашисты могли фиксировать в своих актах только то, что им становилось известным. Между тем является историческим фактом, что не было ни одного случая предательства, так как существовавшая в лагере политическая организация строго придерживалась ленинских принципов нелегально борющейся партии и объединила вокруг себя самые сознательные кадры.
Эсэсовцы чувствовали, что в лагере действует интернациональный, антифашистски!! актив. Они и арестовывали каждый раз на выбор то одного, то другого заключенного, но никогда им не удавалось нащупать ядро организации, какой-либо национальный или интернациональный центр.
Поэтому дальнейшее изложение доклада построено на рассказах о пережитом, на письменно зафиксированном изложении определенных политических событий в лагере и на опубликованных выступлениях бывших немецких, советских и чешских заключенных* 2.
После вышеуказанного проявления интернациональной солидарности и поддержки советских военнопленных контакт между ними и политическими заключенными был чрезвычайно затруднен, так как за посещение бараков военнопленных эсесовцы налагали тяжелое наказание и связь можно было устанавливать, только тщательно соблюдая все меры предосторожности. Тем не менее связь была установлена после того, как советские люди увидели, что наряду с эсэсовской комендатурой и ее охранными отрядами существует другой мир, мир сознательных антифашистских борцов.
Тот факт, что всех заключенных использовали на военном производстве, привел к следующему решению: весной 1942 года эсэсовцы сами ликвидировали стену, которая была воздвигнута между военнопленными и другими заключенными. Военнопленные были распределены по рабочим командам и таким образом вступили в контакт с представителями всех национальностей, находившихся в лагере.
Позднее прибыли новые транспорты советских пленных, которых в отличие от военнопленных эсесовцы называли советскими гражданскими пленными. То были угнанные в Германию советские граждане, либо военнопленные, бежавшие из лагерей и снова задержанные, либо советские люди, которые ввиду сопротивления на принудительных работах были отправлены в концентрационный лагерь3 * * 6 * 8. Так называемые советские гражданские пленные были поставлены в особенно тяжелые условия. Они должны были работать больше других, получали меньший паек и были направлены в те команды, над которыми начальствовали «зеленые», то есть уголовные преступники, назначенные эсэсовцами. Тогда началась упорная систематическая борьба за то, чтобы вызволить советских граждан из команд,
* KZ Buchenwald. Bericht des internationalen Lagerkomitees. Weimar, 1949, S. 47 f.; Keim, Karl, Der Wahrheit die Ehre. BA 518—7, S. 13 f.
2 Кроме вышеупомянутой, имеется следующая литература: Неопубликованные сообщения: «Bericht uber die Arbeit der Arbeitsstatistic», BA 72—10; Busse, Ernst, Die Gescbichte des Krankenhauses in KL Buchenwald, BA 7—2; К e i n, Karl, Op. cit.; С. Котов, Нелегальная организация в концентрационном лагере (рукопись)—Политическая работа в инструментальной кладовой ВА 71—4; Kindiger, Jakob, Bericht vom Jakob, BA 5211 —11; «Skizze der Gescbichte des Parteiaktivs KL Buchenwald», BA 712—1. И. Смирнов, О военной работе (рукопись); Stotzel, August,
Haftlingskommando Gustoloff Werk Weimar, BA 565 — И; Опубликованные сообщения: С. Бакланов («Восточно-Сибирская правда», Иркутск, 28 июня 1957 года) KL
Buchenwald, Op. cit.; В u n z о 1, Alfred, Erlebnisse eines politishen Gefangenen in
KL Buchenwald, Weimar, 1946; Caspar, Martin (in: «Neues Deutschland», Berlin, v. 7 11. 1957; Das war Buchenwald. Leipzig, 1945). H. К юн г («Московская правда»,
6 апреля 1957 года); он же: «Бухенвальдское сопротивление» («Исторический архив»,
1957, №4). И. Тычков и М. Цветков («Рабочий край», Иваново, 21 мая 1957 года).
8 «Исторический архив», 1957, № 4, стр. 83.
63
где условия были особенно тяжелыми, и включить их в такие команды, где усилиями политических заключенных были созданы, если можно так выразиться, сносные условия. В этих условиях политические заключенные, а именно немцы, должны были разъяснить вновь прибывшим советским пленным, каковы особые методы борьбы в лагере. Советские граждане справедливо рассматривали работу на военном производстве в лагере как помощь фашизму. В связи с этим происходили поразительные выступления советских военнопленных против принуждения к какой бы то ни было работе.
Когда одну из колонн вывели за пределы территории, оцепленной проволокой, через которую был пропущен электрический ток, некоторые советские граждане остановились и отказались сделать хотя бы шаг. Эсэсовцы набросились на них, повалили советских людей на землю, топтали их ногами, но военнопленные отказались повиноваться и умерли мученической смертью1. Это был геройский поступок, и заключенные склонили головы перед этим безмолвным подвигом. Однако такой путь не позволял повести на борьбу тысячи людей. Для этого нужно было применить другие средства и методы.
И в фашистском лагере первой предпосылкой для успешной антифашистской борьбы и сопротивления явилось создание политически сильной организации, усвоившей все правила конспирации.
С первого дня своего пребывания в Бухенвальде, с 1937 года, немецкие коммунисты работали над созданием нелегальной партийной организации. Они опирались в этом на испытанные принципы большевистской партии и применяли их в соответствии с особыми условиями лагеря. Непреложными принципами организации являлись преданность партии, железная дисциплина, безусловное выполнение всех мероприятий, намеченных партийным центром.
Благодаря этому бывшие советские заключенные могли констатировать 30 марта 1957 года в «Литературной газете»: «Советские военнопленные застали в Бухенвальде крепкую, давно сложившуюся подпольную организацию немецких коммунистов. Во главе ее стояли мужественные люди. Они оказывали неоценимую помощь своим советским друзьям».
В московском журнале «Исторический архив» сказано в этой связи следующее: «В Бухенвальдский лагерь были брошены наиболее активные антифашисты, здесь томились героические коммунисты Германии, высоко несшие знамя борьбы против фашизма»1 2.
После прибытия заключенных иностранцев немецкие коммунисты искали и нашли товарищей среди представителей других национальностей. В результате совместной многолетней терпеливой работы в 1943 году возник нелегальный интернациональный центр, к которому принадлежали представители девяти национальностей3.
С. Бакланов, один из основателей Советского центра, рассказывает о помощи, оказанной немецкими коммунистами советским заключенным: «Сильные духом стали организовывать борьбу с фашистами. Русским вначале помогли в этом узники из Чехословакии, Франции, самой Германии и других стран. Они были брошены в Бухенвальд раньше и сумели уже создать свою подпольную организацию, многие из членов которой занимали должности лагерной обслуги и могли общаться со всеми заключенными»4.
В той же статье говорится: «Вскоре Бакланову удалось познакомиться с коммунистами—немцем Гельмутом Тиманном и чехом Винценцом Кветом, а те устроили ему свидание с другим русским военнопленным, сибиряком Николаем Симаковым»5.
1Kostejin, RudTlf, In: «Illas revoluce», Praha, I. H. 1955, zit. bei Moulis Miloslaw, Op. cit., S. 58.
2 «Исторический архив», 1957, № 4, стр. 82.
’ Mnnlis, Miloslaw, Op. cit., S. 83.
4 С. Баклан ой и др., Победители смерти (рукопись).
5 Там же.
64
В докладе «Победители смерти», составленном бывшими советскими бухенвальдскими заключенными—Баклановым, Кюнгом, Назировым, Симаковым и Левченковым—и изданном Советским комитетом ветеранов войны (секция Военнопленные и жертвы фашизма), содержатся следующие сведения о создании нелегального центра всех советских пленных:
«Большую роль в организации связей между этими товарищами [речь идет о различных нелегальных группах советских пленных, сначала работавших разрозненно.—В. />.] сыграли чешский ЯЬммунист Винценц Инне-ман ... австрийский врач Густав Бозе... и немецкий коммунист Вальтер Бартель»1.
В том же докладе советские друзья сформулировали задачу своего центра в семи пунктах:
«1) сплочение советских людей в единый коллектив;
2) противодействие фашистской пропаганде;
3) поднятие патриотического духа;
4) установление интернациональных связей;
5) поднятие авторитета советских людей п Советского Союза среди тех заключенных, которые отравлены ядом лживой антисоветской пропаганды;
6) организация материальной помощи для поддержки ослабевших;
7) организация саботажа»1 2.
Поставленная в последнем пункте задача осуществления саботажа относилась в первую очередь к организованному эсэсовцами военному производству, где использовался труд заключенных.
С ни с чем не сравнимой изобретательностью заключенные разных национальностей организовали систематический успешный саботаж военного производства. Авторы доклада «Победители смерти» сообщают о существовании специальных групп саботажа на предприятиях Густлов, цеха которых были расположены рядом с лагерем3.
Группы саботажа ускоряли износ станков, добавляя битое стекло в машинное масло, портили резцы, фрезы и сверла, перегревали ударники ружейных затворов и сокращали таким образом объем продукции, которая при задании в 55 тысяч карабинов упала до 6 тысяч штук в апреле 1944 года и 600 —в июне 1944 года4.
Магдебургский завод Польтаверке установил в лагере агрегат для восстановления двух сантиметровых стреляных патронных гильз. В присутствии техников предприятия агрегат работал прекрасно. Но через несколько дней, после того как они покинули лагерь, аппаратура вышла из строя. Названные авторы рассказывают, что они получили от немецких коммунистов из лазарета шприцы с серной кислотой, с помощью которой и разрушили тончайшие приборы агрегата5.
В так называемом цехе Ми-бау изготовлялись точные приборы для Фау-2. Там работала группа саботажа, состоявшая из немцев, чехов и поляков; ей удалось обезвредить военные материалы, накопленные за много месяцев. Гестапо направило в лагерь специальную комиссию для расследования причин брака, но эта комиссия не пришла к каким-либо результатам, ибо цеха были разрушены в результате англо-американского воздушного налета в 1944 году6.
Одним из важнейших центров борьбы сопротивления был лазарет. Туда отдельные землячества пленных направляли своих товарищей, особенно испытанных в движении Сопротивления. Некоторые из них должны были заранее приобрести медицинские познания, и они осваивали эту область так быстро, что это вызывало удивление специалистов-медиков. Токарь по
1 С. Ба к л а н о п в др., Названное сочинение.
2 Там же.
3 Там же, стр. 29.
4 Там же; KZ Buchenwald, Op. cit., S. 179.
5 С. В а к л а п о в и др., Названное сочинение, стр. 29.
6 Там же, стр. 30; KZ Buchenwald, Op. cit., S. 180.
5 Заказ M 122u 6.5
металлу, депутат рейхстага от Коммунистической партии Германии Вальтер Кремер, будучи старшиной в лазарете, лечил многих больных и даже решался производить сложные операции. Под его руководством лазарет тайно от СС и с помощью похищенного для этой цели материала был расширен. Использование медикаментов из запасов эсэсовцев для лечения заключенных являлось обычным делом.
Столь же щедро товарищи, работавшие в амбулатории, давали освобождение от работы ослабевшим, старикам и тем товарищам, которых рекомендовало нелегальное руководство.
После убийства Вальтера Кремера эту работу продолжал коммунистический депутат рейхстага Эрнст Буссе.
Выдающиеся дела совершали санитары лазарета для спасения заключенных, находившихся под угрозой смерти. Если своевременно становилось известным, что кому-либо угрожала опасность уничтожения, эти антифашисты по согласованию с Интернациональным центром направлялись в лазарет. Здесь они через несколько дней «умирали» и выходили из лазарета под именем действительно умершего заключенного. В организации нодобного обмена имен участвовали по меньшей мере восемь товарищей. Каждый из них рисковал своей жизнью. К чести антифашистов, ни одна из этих манипуляций не была раскрыта1. Бывший советский пленный Тычков рассказывает о случае с одним молодым лейтенантом ленинградцем, который как-то раз стал расхваливать свою родину. Какой-то шпик донес об этом эсэсовцам. Борису Смирнову—так звали ленинградца—должны были сделать «впрыскивание» яда. «Я немедленно сообщил об этом Гельмуту Тпманну и просил его сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь неосторожного юноши. Риск был большой, но люди на него пошли. Отто Кипп, работавший заместителем капо больницы (самоуправления), переложил учетную карточку смертника в картотеку группы, предназначенной для отправки в другой лагерь. Ленинградец остался жив»* 1 2.
Для спасения людей, находившихся под угрозой смерти, прибегали к различным способам: искусственно вызывали лихорадку, организовывали мнимые операции и имитировали заразные болезни.
Так, благодаря сотрудничеству заключенных различных наций, в обстановке ужаса и террора был создан в лазарете очаг человечности. Согласно неполным сведениям, только благодаря обмену имен и номеров была спасена жизнь трех бельгийцев, двадцати шести советских граждан и двух евреев3. Может показаться, что это немного по сравнению с цифрой в 56 тысяч убитых эсэсовцами, но 31 человеку спасли жизнь благодаря готовности других заключенных рискнуть своей жизнью, благодаря интернациональной солидарности. Осталось неизвестным, сколько людей было спасено благодаря использованию других возможностей.
В борьбе против общего врага—германского фашизма выковался стальной союз, связавший немецких и советских заключенных, сознательных антифашистов всех наций.
Наши советские друзья сформулировали идею интернациональной деятельности: голландцы, немцы, русские и французы—все вместе крепят дружественный союз4. Этот дружественный союз имел свои собственные законы, которые в значительной степени определялись высокой боевой моралью советских патриотов.
Когда в 1942 году начались работы по очистке территории уже упомянутого предприятия Густлов, то предназначенная для этой цели команда в целях маскировки получила название «команда Икс». Мгновенно весь лагерь облетел лозунг: «Команда Икс—работа нике».
*
1 Н. Иванов («Московская Правда», 6 апреля 1957 года); П u п г о 1, Alfred, Op., cit., S. 35 f., KZ Buchenwald, Op. cit., S. 89.
2 H. Тычков («Рабочий край», Иваново. 21 мая 1957 года).
• Busse, Ernst, Op. cit.
‘С. Бакланов и др., Названное сочинение, стр. 27.
66
Другое русское слово служило лозунгом при саботаже военного производства. Это слово—«помаленьку». Несомненно, что французы его произносили иначе, чем немцы, а итальянцы иначе, чем поляки, однако каждый знал, что имелось в виду: работайте медленней, и война быстрее придет к концу.
Тяжкая жизпь в фашистском концентрационном лагере, повседневная борьба против зверского террора эсэсовцев, вечно грызущий голод и многие другие трудности в лагере вызывали горячие спфы между заключенными, в том числе и между друзьями. Возникали разногласия по самым различным вопросам. К этому надо прибавить, что настроение падало, когда приходили плохие известия с фронта, когда обуревала тоска по жене и ребенку, когда голод заглушал всякую разумную мысль. Тогда создавалось положение, при котором чрезвычайно сужалась база для бесед о нелегальной борьбе и ее методах. Требовалось большое терпение, чтобы успокоить людей, перебросить новые мосты между заключенными, чтобы лишить возникающие разногласия характера национальных противоречий.
Если в Бухенвальде в течение многолетней совместной борьбы представителей многих европейских народов и после того, как заключенные, восс/ав, освободили сами себя, не произошли националистические эксцессы, то это явилось результатом творческой политической работы, направленной к взаимному пониманию, к совместной борьбе, к уничтожению всех тех преград, которые были созданы провокаторами, эсэсовцами и глупцами—таких тоже имелось достаточно.
Сознательные заключенные противопоставляли расизму и шовинизму нацистов учение о научном социализме. В беседах и подпольных кружках они обновляли свои знания об уроках освободительной борьбы рабочего класса. Наряду с немногими марксистскими трудами, нелегально хранившимися в лагерной библиотеке и выдававшимися только узкому кругу людей, существовали материалы для занятий и учебы, которые были восстановлены и записаны на память.
Член нелегального советского центра Николай Кюнг рассказывает в своих воспоминаниях, что он писал работу о битве за Москву. Он же восстановил по памяти характеристику Октябрьской революции, данную в «Кратком курсе истории ВКП(б)». Эти материалы переводились на немецкий язык и обсуждались в политических группах немцев, голландцев, австрийцев и чехов, владевших немецким языком1.
Советские военнопленные контрабандой пронесли в лагерь отрывки «Истории ВКП(б)». Из них был переведен на немецкий язык раздел о диалектическом и историческом материализме и использован в качестве учебного пособия1 2.
Членам нелегальной организации удалось наладить прием иностранных радиопередач. Сообщения Советского информационного бюро и Лондонского радио в подпольных собеседованиях доводились до сведения национальных комитетов, которые в свою очередь передавали их отдельным товарищам. Информация и сообщения по соображениям конспирации распространялись в форме подслушанных разговоров и слухов3 4.
В докладах бывших советских пленных указывается: «Немец Вальтер Бартель и чех Випценц Иннеман систематически устно информировали соответствующих товарищей о действительном положении на фронтах Отечественной войны, о нарастающей силе сопротивления советских войск и об ухудшающемся экономическом положении гитлеровской Германии'1»
Тем материалом, который военнопленные получали в устной информации, они заполняли свою газету «Правда пленных». Она писалась от руки
1 «Исторический архив», 1957, № 4, стр. 91; Н. С и м а к о в, Названное сочинение; Н. Кюнг, Воспоминания о Бухенвальде (рукопись), стр. 16, 18.
2 W о 1 f, Walter, In: «Thiiringer Volk», Erfurt, 10.4. 1948.
8 «Bericht fiber die antifaschistische Information im Lager Buchenwald», BA 73—26.
4 Ibid., S. 32.
67
и выпускалась в одном экземпляре. Редактором этой «Правды пленных» был советский товарищ Левченков, а секретарем—товарищ Евгении Яльцев1.
Многолетняя подпольная борьба Сопротивления не могла вестись только с помощью политического оружия. Неоценимое значение имели и дополнительный кусок хлеба, одеяло, пара носков и сигарета, своевременная помощь больным и раненым. Они укрепляли моральное состояние, силу сопротивления и надежду на победу среди людей, находившихся в заключении.
Но не хлебом единым жив человек. Заключенные в лагере наблюдали, как приходила н уходила весна, наступало лето; приходила осень с ее долгими дождливыми днями; одежда прилипала к коже, когда заключенные, несмотря на непогоду, должны были стоять на общем плацу, где проходила перекличка, потому что это нравилось эсэсовцам. Наступала морозная холодная зима с ее ледяными ветрами, свирепствовавшими в горах.
Мысли людей снова и снова обращались к родине и семьям. Громадное большинство заключенных, и в том числе все советские товарищи, не получали ни единой весточки от жен и детей. Они ничего не знали о родителях, о братьях и сестрах. Они могли только надеяться, что когда-нибудь увиДят их. Не приходится удивляться, что при этих обстоятельствах раздавались голоса отчаяния, распространялось унынпе и мог потухнуть слабый огонек воли к жизни.
Советским заключенным принадлежит большая заслуга в том, что они сумели на пустом месте развернуть культурное движение, проявляя при этом творческую силу и замечательный энтузиазм. Все заключенные тосковали по свету и красоте, по музыке и хорошим книгам, по женам и детям. Их тоска нашла свое выражение в песнях и стихах, созданных в лагере, в многочисленных рисунках и в самых различных формах, присущих искусству. Стремление к культурной жизни проявлялось в разнообразных формах и приобретало особую выразительность и силу убеждения в саркастических остротах. В истории концентрационного лагеря Бухенвальд почетное место занимает искусство как оружие в борьбе против фашистского зверства и террора, против военного производства, за высокую человеческую мораль, за дружбу между заключенными.
Вот несколько примеров того, как развернулась культурная жизнь благодаря советским друзьям, обладавшим великолепным даром импровизации.
Летом 1944 года они устроили музыкально-литературное представление, которое состоялось в послеобеденные часы в лазарете. Это выступление проходило под охраной подпольной военной организации, и довольно многим людям была дана возможность увидеть это представление.
Советские артисты декламировали Некрасова, Герцена, Маяковского и Горького. Они показали сцены в лесу, гулянье, один из участников прочитал великолепные слова Горького о Человеке. Другая группа спела песню волжских бурлаков. Они были одеты в соответствующие костюмы. Где они достали эти вещи, осталось их артистической тайной. Подтягивая бечеву на примитивной сцене, они прекрасно спели известную песню, которая глубоко проникла в сердца слушателей, обитавших в пекле фашистского варварства.
Об одной из таких постановок рассказала газета «Советская культура» 29 июня 1957 года. «Раздвинулся занавес... в зал полились звуки песни «От края п до края...» из оперы «Тихий Дон» И. Дзержинского. Французы, немцы, поляки и другие представители из интернациональных бараков, наверное, не понимали слов песни, но по их лицам было видно, какое большое удовлетворение они испьЛ'Ывалп... Заключенные забыли* что они находятся в концлагере Бухенвальд, где... смерть всегда стояла рядом с тобой... Такие
1 С. Г> а к л а п о в и др., Названное сочинение, стр. 34.
68
концерты укрепляли среди узников Бухенвальда веру в свои силы, в грядущее освобождение, которого они дождались»1.
Культурные мероприятия были связаны с национальными праздниками представителей отдельных наций. 1 Мая и 7 ноября праздновались в 1943 и 1944 годах интернациональным антифашистским активом в демонстративной и достойной форме. Товарищи приветствовали друг друга 7 ноября лозупгом*«Красная Армия победит!». Эти слова целый день повторялись в лагере; таким образом на всех языках получила свое выражение безусловная уверенность в том, что скоро наступит победа Красной Армии, победа социализма над фашизмом.
Об этом свидетельствует и новогодний праздник на пороге 1945 года, о котором одни из участников рассказывает следующее: «Под новый 1945 год была показана сцена в богемской гостинице. Из гостиницы был вытолкнут старик с надписью на одежде «1944 год». Подбирая обрывки бумаги, он поглядывал на часы; они показывали половину двенадцатого... Ровно в полночь циферблат часов раскрылся и оттуда выглянул ребенок в советской военной форме с цифрой «1945» на груди... Так символически было показано то, чего все ждали в 1945 году»1 2.
Исключительное значение приобрели организованные в лагере траурные собрания в связи с убийством председателя Коммунистической партии Германии Эрнста Тельмана. Надо отметить, что Эрнст Тельман никогда не находился в заключении в лагере Бухенвальд. В ночь с 17 на 18 августа 1944 года он был доставлен из тюрьмы в Баутцене в концентрационный лагерь Бухенвальд и там застрелен эсэсовцами на рассвете 18 августа 1944 года. Убийцы собственноручно сожгли Эрнста Тельмана в крематории.
Фашистское правительство воспользовалось тем; что 24 августа 1944 года был совершен англо-американский воздушный налет на мастерские по изготовлению вооружения в лагере Бухенвальд для распространения бесстыдной лжи, будто Эрнст Тельман погиб во время этого воздушного палета. Информацию об этом фашистская печать дала только 14 сентября 1944 года.
Боль, вызванная убийством великого трибуна немецкого парода, сочеталась с твердым намерением, несмотря па все угрозы эсэсовцев, отметить его память достойным образом. В подвале, где находилась вещевая камера, состоялось траурное собрание, в котором участвовали заключенные многих национальностей. К сожалению, среди участников находился провокатор, который сообщил эсэсовцам о нелегальном собрании, ио благодаря особым мерам предосторожности он не мог назвать имена организаторов, оратора и чтеца. Эсэсовцы провели массовые аресты, но, несмотря на садистские иытки, арестованные молчали. И в этой своей акции эсэсовцы не сумели раскрыть нелегальную антифашистскую организацию3.
Узнав об убийстве Эрнста Тельмана, советский подпольный центр решил устроить тайное траурное собрание. Николай Кюнг вспоминает об этом собрании: «В барак, где мне было поручено провести митинг, я пришел уже после отбоя [ежевечерний сигнал, после которого запрещалось выходить из бараков.—В. £>.]; в целях конспирации приходилось говорить с людьми в темноте, чтобы провокатор, если такой окажется в бараке, не смог потом узнать оратора. Остановившись у двери, я громко обратился к заключенным и по напряженной тишине понял, что люди слушают меня. Я сообщил товарищам о новом преступлении гитлеровцев и коротко рассказал им о Тельмане. По моему предложению сотни слушавших меня людей в темноте почтили память вождя немецких коммунистов минутой скорбного молчания»4.
1 Б. II а э и р о и и В. X о йф е ц («Советская культура», 29 июня 1957 года).
2 Звукозапись беседы со Многом, Апитцом, Заидбергом Галле... ВА 9—3.
3 ВА 73—9, 73—16, 75—1, 72—8.
* II. К ю п г («Учительская газета», Москва, И апреля 1957 года); С. Бакланов и др., Названное сочинение, стр. 59.
69
Немецкие заключенные, так же как и чехи и австрийцы, поделились с советскими друзьями опытом конспирации. Они вместе учились последовательно и терпеливо подготавливать массовые действия против эсэсовцев и разбираться во всей необычайной сложности сосуществования многих национальностей в страшных условиях фашистского варварства.
Советские заключенные внесли в борьбу против фашизма свой высокий советский патриотизм, сильный боевой дух, несгибаемую волю повседневно, всечасно бить фашизм, чтобы его уничтожить. Эту волю к борьбе Интернациональный политический центр укрепил, планомерно создавая военную организацию. В ее состав входили лучшие из лучших, надежнейшие из надежных. Сколь ни значительна была эта работа, здесь мы можем остановиться лишь на ее результатах.
За несколько дней до самоосвобождения заключенных существовало 178 групп, в каждой из которых было от трех до пяти надежных и знающих военное дело товарищей. В военную организацию входило 56 советских групп1. Интернациональная военная организация, насчитывавшая примерно 850 человек, была снабжена оружием. Добывание оружия было связано с постоянным риском для жизни и принадлежит к героическим делам в истории концентрационного лагеря Бухенвальд.
Оружие было получено из оружейной камеры эсэсовцев, с завода Густ-лов, а кое-каким оружием снабдили арсенал заключенных не кто иной, как эсэсовские фюреры. Так, например, однажды немецкий товарищ, посланный убирать столовую эсэсовских офицеров, обнаружил лежащий там револьвер. Он спрятал его в надежном месте, а на следующий день обнаружилось, что не кто иной, как начальник лагерного отделения гестапо, ищет свое потерянное оружие: он потерял его после выпивки. Этот револьвер занял почетное место в оружейной камере подпольной организации заключенных* 2.
Благодаря активности наших товарищей удалось достать 91 карабин и хранить их в течение месяца. К этому прибавились револьвер, ручные гранаты, самодельное холодное оружие и 200 самодельных бутылок с горючей жидкостью. Потом появился и легкий пулемет3.
В докладе бывших советских заключенных Бакланова, Кюнга и других, уже неоднократно цитированном, приводятся следующие факты об изготовлении оружия. «Параллельно шло изготовление бутылок с горючей жидкостью. Жидкость делали товарищи Н. Потапов, Н. Сахаров и Н. Карнаухов. Кроме того, в мастерских были изготовлены кинжалы и ножи. Члены подпольной организации Чебыряков и Г. Прокошев сделали собственноручно сорок ножей»4.
Способ, при помощи которого был добыт легкий пулемет, свидетельствует о высокой степени мужества и неизменной готовности антифашистов к борьбе. Зимой 1944/45 года в Бухенвальд прибыли транспорты с заключенными, эвакуированными из концентрационных лагерей на Востоке. Большинство заключенных транспортировалось в открытых товарных вагонах. Много дней они находились в дороге без еды, на холоде, под дождем, ничем не защищенные от мороза, ветра и снега; по прибытии некоторых транспортов в Бухенвальд там оказалось до 50 процентов мертвых.
В Бухенвальде несчастных людей приняли санитары, товарищи из пожарной команды и заключенные из лагерной охраны.
В одном из прибывших транспортов, где было очень много мертвецов, а многие из живых могли передвигаться лишь с посторонней помощью, член военной организации нашел в единственном закрытом вагоне легкий пулемет и при нем коряку с лентами. Он тотчас же связался со своими товарищами. Приняв особые меры предосторожности? удалось спрятать
* KZ Buchenwald, Op. cit., S. 189.
2 J eh 1 e, Fritz, Die Beschaffung von Waffen fiir das Lager, BA 762—2.
3 KZ Buchenwald, Op. cit., S. 193.
* С. Бакланов и др., Названное сочинение, стр. 54.
70
пулемет между трупами, которые на открытой платформе были доставлены в крематорий. Таким образом мертвецы привезли оружие живым, чтобы они могли защищать свою жизнь.
Советский товарищ Кюнг в своих воспоминаниях сообщает о многозначительном событии, происшедшем в последние месяцы существования фашистского лагеря. Командование СС приказало собрать всех немцев на месте сбора заключенных у ворот (аппельплац). Комендант лагеря Пистер призвал их добровольно вступить в войска ССГ Рейхсфюрер СС, заявил Пистер, протягивает немцам руку примирения: им предоставляется честь в качестве совершенно равноправных участников защищать немецкое отечество с оружием в руках.
«Однако немецкие политические заключенные молчали, рассказывает И. Кюнг. Тут же стоял писарь, готовый записыватыдобровольцев, ионе было ни одного. Это была жестокая борьба нервов. На границе жизни и смерти, па плацу, в ста метрах от крематория, стояли друг против друга два мира, два враждебных лагеря... Эта неравная борьба окончилась победой заключенных, победой немецких коммунистов: ни один из них ие записался в фашистскую армию»1.
Таков рассказ советского товарища Кюнга. К этому можно добавить, что среди немецких политических заключенных ночью после этого события происходила оживленная дискуссия. Некоторые члены Коммунистической партии, проявившие себя иаилучшим образом в борьбе против фашизма, внесли предложение откликнуться на призыв эсэсовцев. Они доказывали, что этим открывается возможность получить в руки оружие. Никто ие сумеет потом помешать тому, чтобы зто оружие было использовано против подлинного врага—фашизма.
Политический центр немецких коммунистов постановил, что ни один из членов партии не должен последовать призыву записаться в СС. Это решение было обосновано следующим образом:
1. Нет никакого доказательства, что бывшие политические заключенные в нынешних условиях действительно получат оружие. При этом ссылались на тот факт, что Карл Либкнехт хотя и был призван в армию, ио оружия в руки не получил.
2. Вероятнее всего эсэсовцы воспрепятствуют тому, чтобы группы бывших политических заключенных вошли в полном составе в воинские подразделения. Эсэсовцы разобщат товарищей и заранее парализуют их действенную силу.
3. Но решающим аргументом было следующее соображение: ни один из наших иностранных товарищей не поймет нашего поведения. Перед ними будет лишь один неоспоримый факт: добровольное вступление немецких коммунистов в эсэсовскую организацию террора и убийств. Они потеряют всякое доверие, и будет разорван тот интернациональный союз, который только один и может служить залогом успешной борьбы против фашизма.
Эта аргументация Центра убедила немецких антифашистов. Ни один немецкий коммунист не пошел в войска эсэсовцев.
Этот факт и многие совместные действия в борьбе против зверского террора эсэсовцев укрепили взаимное доверие находившихся в лагере врагов фашизма. Опираясь на это взаимное доверие, Иитернациоиальный антифашистский центр сумел успешно провести последний бой с эсэсовской комендатурой в Бухенвальде.
В начале апреля 1945 года с военной точки зрения обстановка в лагере чрезвычайно осложнилась. Число вооруженных эсэсовцев было болып-обычного, но их оружейные склады были уже очищены. План освобождее нпя, разработанный руководством иитериациоиальиой военной организации, предусматривал, что ударная группа должна пробиться к оружейному
Н. Кюнг, Воспоминания о Бухенвальде, стр. 40.
71
складу эсэсовцев и захватить там большое количество оружия. Однако после того как оружейные склады были эвакуированы, пришлось от этого плана отказаться. В конце марта и начале апреля 1945 года руководство интернациональной военной организации и Интернациональный политический центр весьма обстоятельно и с сознанием своей большой ответственности неоднократно обсуждали перспективы вооруженного выступления. Сложность положения определялась еще тем фактом, что советские войска в это время находились еще в районе Ратибор-Бреславль (Вроцлав)1, между тем как американские войска уже десять дней подряд топтались на месте на линии Эйзенах—Гота—Ордруф.
Проведенное до настоящего времени исследование операций 3-й американской армии генерала Паттона, действовавшей в районе Бухенвальда, пока еще не привело к окончательным выводам. Высказывания в мемуарах отдельных американских генералов и схемы боевых действий соответствующих американских дивизий не дают ясного ответа на вопрос, почему американские вооруженные силы палец о палец не ударили, чтобы освободить десятки тысяч заключенных в Бухенвальде, в том числе граждан союзных государств1 2.
Интернациональный антифашистский центр вел исключительно трудную, ио успешную борьбу против эсэсовцев, намеревавшихся эвакуировать из лагеря всех заключенных. В своей тактике Интернациональный центр прибегал к разнообразным средствам—от задержки отправки транспортов до открытого мятежа. Таким образом, эсэсовцы не могли достигнуть своей цели. В результате ко дню восстания и самоосвобождения в лагере вопреки намерениям эсэсовцев насчитывалась 21 тысяча заключенных.
6 апреля командование СС вызвало к воротам лагеря 46 заключенных. Ознакомившись со списком еще 5 апреля, Интернациональный центр пришел к выводу, что речь идет о попытке подорвать силу сопротивления интернациональной организации путем массового уничтожения наиболее известных заключенных. Поэтому было решено спрятать от эсэсовцев этих 46 заключенных и открыто объявить, что всякая попытка выдать эсэсовцам этих заключенных будет рассматриваться как предательство и вызовет соответствующую кару.
На следующий день ни один из вызванных заключенных не выполнил приказа эсэсовцев. Этот открытый бунт привел в неистовство эсэсовское руководство. В бешенстве оно направило в лагерь 3 тысячи хорошо вооруженных эсэсовцев, но спрятанные заключенные не были обнаружены.
Из 46 разыскиваемых антифашистов 9 человек были спрятаны в 56 блоке, где большинство составляли советские заключенные3.
С помощью самодельного радиопередатчика был направлен призыв о помощи к армии Паттона. Призыв гласил: «Шлите оружие. Эсэсовцы посылают заключенных на смерть». Доказано, что призыв был услышан, по ответа не последовало. Тем временем уже на 9 апреля было назначено отправление 480 советских военнопленных. По распоряжению политического центра им было дано в достаточном количестве огнестрельное оружие, а боевые группы были приведены в готовность па случай, если при обыске заключенных у ворот оружие будет найдено. По заранее разработанному плану военнопленные освободили себя во время транспортировки. Руководитель советского центра Н. Симаков был организатором этой успешной операции.
В полдень 11 апреля Интернациональный политический центр отдал приказ о вооруженном выступлении, которое было проведено военной орга-
1 0KW—-HericIiL vom 11.4. 1945 in «Leipziger Neueste Nachrichten, 12.4. 1945.
2 Patton, George S., Krieg, wie icli ihn crlebte, Bern, 1950, S. 196—210.
3 Kindiger, Jakob, Op. cit.; KZ Buchenwald, Op. cit., S. 203; «Голос свободы»— орган русской секции лагерного комитета Бухенвальда, А; 5, 26.4. 1945, статья 6, ВА 7117—1.
низацией планомерно, весьма быстро и с полным успехом. Более сотни эсэсовцев попали в плен. Через два часа после начала операции по самоосвобождению лагерь с 21 тысячью заключенных уже находился под охраной вооруженной военной организации самих заключенных. Подпольный интернациональный политический центр реорганизовался в Интернациональный лагерный комитет и единогласно избрал автора этих строк своим председателем1. * л
Самоосвобождение произошло в тот момент военных действий, когда лишь отдельные танки американской армии промчались вблизи лагеря, не занимая города Веймара. Два дня освобожденный лагерь находился между фронтами. Только спустя 48 часов, 13 апреля 1945 года, в лагерь вступило подразделение американской армии. Его первым приказом было требование о сдаче оружия. Советские, чешские, польские, французские, бельгийские и'итальянские заключенные заявили протест в качестве граждан стран, ведших борьбу против гитлеровской Германии. Однако американские офицеры настаивали на выполнении их приказа. Заявив торжественный протест, бывшие заключенные сдали оружие.
В заключение мы приведем два документа этой совместной международной борьбы. 19 апреля 1945 года антифашисты, освободившиеся собственными силами, почтили память убитых в Бухенвальде и его отделениях за пределами лагеря 56 тысяч граждан многих европейских стран. На месте лагерного сбора (аппельплац), где происходило столько ужасов и фашистских зверств, состоялся торжественный траурный митинг. На французском, русском, польском, немецком и английском языках было зачитано следующее торжественное заявление, принятое Интернациональным лагерным комитетом.
«Мы, антифашисты—бывшие политзаключенные концлагеря Бухенвальд, собрались на траурный митинг, чтобы почтить память умерщвленных фашистской бестией в Бухенвальде и его командах 51 тысячи наших товарищей...
51 тысяча отцов, мужей, братьев, сыновей приняли мучительную смерть, потому что они были борцами против фашистского режима убийц!
51 тысяча матерей, жен, детей взывают к мести!
Мы, оставшиеся в живых, мы, свидетели всех гнусных дел вампиров-наци, мы еще вчера видели гибель наших товарищей. Единственной нашей мыслью было: «Когда придет день местп?»
Сегодня мы свободны. Мы благодарны доблестным армиям союзников— СССР, США, Англии, принесшим нам и всем народам жизнь и свободу.
Мы здесь отмечаем память великого друга антифашистов всех стран Ф. Д. Рузвельта.
Слава его памяти!
Мы, бывшие политзаключенные Бухенвальда: русские, французы, поляки, чехи, немцы, испанцы, итальянцы, австрийцы, бельгийцы, голландцы, англичане, люксембуржцы, югославы, румыны, венгры,—совместна боролись против СС, против нацистской банды за наше собственное освобождение. Мы твердо были уверены: наше дело правое, победа будет за нами!
Мы, представители всех национальностей, проводили жестокую, беспощадную, обильную жертвами борьбу. И эта борьба еще не закончена! Гитлеризм еще окончательно не уничтожен на земном шаре! Еще находятся на свободе наши мучители-садисты. Поэтому мы клянемся перед всем миром на этом аппельплаце, на этом месте ужасов, творимых фашистами,что мы прекратим борьбу только тогда, когда последний фашистский преступник предстанет перед судом Правды.
Уничтожение фашизма со всеми его корнями—наша задача! Это долг наш перед погибшими товарищами, их семьями!
1 l.agerbciiclil \г. 1, Нисlieiiwaltl, 11.4. 1945, ВЛ 711—1.
73
Клянемся отомстить бандитам-наци за смерть 51 тысячи наших товарищей!»1
Представитель Интернационального комитета призвал собравшихся: «В знак вашей готовности к этой борьбе поднимите руку для клятвы и повторяйте вслед за мной: «Клянемся!» 21 тысяча мужчин подняли руку для клятвы и воскликнули в глубоком сознании своей ответственности: «Клянемся!»
После торжественного сбора в честь освобождения представители одиннадцати коммунистических партий собрались вместе и совместно подписали резолюцию, в которой говорилось:
«Представители коммунистических партий в Бухенвальде, подписавшие эту резолюцию на своем заседании 19 апреля 1945 года, обсудили вопрос о положении и о проделанной политической работе и заявляют следующее:
1. Интернациональное сотрудничество и солидарность всех коммунистических секций под руководством немецких товарищей были одной из главных предпосылок борьбы за наше освобождение. Братское сотрудничество во всех политических, военных, экономических вопросах, общая линия в агитации и пропаганде—все это привело к успешному завершению нашей борьбы. Тесно сплоченные вооруженные группы всех национальностей освободили Бухенвальд совместно с союзной американской армией.
2. Генеральная политическая линия VII Конгресса Коминтерна была руководящей для всех секций в их массовой антифашистской работе и работе по мобилизации масс. В лагере и его филиалах велась ожесточенная борьба против эсэсовского террора. На военных предприятиях был организован саботаж, чтобы ускорить поражение гитлеровской Германии. Все товарищи сплотились в единый коллектив антифашистов.
3. В результате борьбы за захват руководства лагерем решающие позиции в органах лагерного управления оказались в руках антифашистов всех стран. Уголовные и фашистские элементы от руководства были устранены. Успех этой борьбы имел решающее значение для осуществления нашей генеральной политической линии. В этот торжественный час мы шлем нашему общему вождю товарищу Сталину свой революционный привет! Мы готовы к новой борьбе.
Бухенвальд, 19 апреля 1945 года...»1 2
Заявление было подписано представителями коммунистических партий следующих стран: Франции, Советского Союза, Италии, Польши, Бельгии, Югославии, Голландии, Чехословакии, Испании, Австрии, Германии.
В качестве представителей Коммунистической партии Советского Союза резолюцию подписали: И. Смирнов и Котов, партийный билет № 41553853.
Ссылка на решения VII Всемирного Конгресса Коммунистического Интернационала, столь ясно выраженная в заявлении, была связана с тем, что решения VII Конгресса постоянно играли решающую роль в ходе дискуссий внутри интернациональной организации. Коммунистический актив из различных стран был полностью единодушен в том, что необходимо в духе решений Всемирного Конгресса коммунистических партий вести беспощадную борьбу против фашизма, создавая при этом самый широкий единый фронт вместе с другими противниками гитлеризма. Пример Бухенвальда свидетельствует о правильности решений VII Всемирного Конгресса и демонстрирует вместе с тем, что даже в оцеплении, за проволочным заграждением под электрическим током коммунисты, ведшие подпольную
1 В А 772—37. В клятве,* принятой в Бухенвальде, названа цифра: 51 тысяча убитых. Более поздние точные расчеты показали, что в Бухеввальд^было убито 56 тысяч человек.
Упоминание имени президента США Фрапклипа Д. Рузвельта связано с тем, что он скончался 12 апреля 1945 года.
2 Документ приведен по русскому тексту резолюции.—Прим. ред.
3 ВА 772 —20.
74
борьбу, находились в тесной связи с мировым фронтом борьбы против фашизма и войны.
В заключительной части своего сообщения я хочу кратко остановиться на том, как отразилась в западногерманской литературе германо-советская совместная борьба в фашистском концентрационном лагере. Многого об этом не скажешь, ибо, как правило, западногерманская историография игнорирует эти факты.*В соответствующей литературе мы находим лишь общие поверхностные замечания, которые свидетельствуют о плохом знании предмета, ибо буржуазные западногерманские историки не н состоянии даже понять интернациональную антифашистскую борьбу Сопротивления. Герхард Риттер вовсе умалчивает об антифашистской борьбе в концентрационных лагерях, хотя само заглавие его книги претендует на полное освещение германского движения Сопротивления. Вместо этого Риттер приводит две цитаты по вопросу о том, какую опасность для нацистского государства— потенциально—представляло наличие в стране советских военнопленных и лиц, угнанных на принудительные работы1.
В этой связи следует указать на правительственную декларацию, разработанную группой Герделера. Как известно, организаторы заговора 20 июля 1944 года подготовили ряд заявлений, которые они намеревались довести до сведения народа, если бы им удалось самим, без участия парода, захватить власть. В подготовленной «Инструкции о применении закона об осадном положении» говорится по вопросу о политических заключенных в концентрационных лагерях следующее: «Лица, которые по политическим причинам находятся в заключении, должны быть немедленно освобождены, если этому не препятствуют особые обстоятельства. В случае необходимости их надо передать в ведение прокуратуры. Концентрационные лагеря должны быть заняты войсками, охрана должна быть разоружена . Освобождение из лагеря должно производиться с осторожностью и первоначально ограничиваться теми случаями, когда заключение в лагерь безусловно противоречило праву и справедливости»2.
Если к этому прибавить, что та же инструкция в совершенно определенной форме требовала подавления всяких выступлений населения против функционеров гитлеровской партии и чиновников нацистского государства, то обнаружится глубочайшее различие между подходом фашистского режима к политическим заключенным и своим противникам, находившимся в концентрационных лагерях. Организаторы заговора 20 июля, во всяком случае окружение Герделера, предполагали лишь после позднейшей проверки освобождать из лагерей активных антифашистских борцов, многие из которых томились в концентрационных лагерях с самого начала нацистского господства. При этом полностью оставался открытым вопрос о том, кто именно будет проводить эту проверку. Смысл всей этой затеи явно заключался в намерении держать последовательных противников фашистской Германии в заключении до тех пор, пока в достаточной степени укрепится новый режим генералов и реакционных политиков. Вероятно, коммунистам предстояло вследствие их «опасности для государства» вкушать новую свободу за проволочным заграждением.
В той же инструкции мы обнаруживаем чудовищные намерения в отношении людей, угнанных на принудительные работы, и военнопленных. Там говорится буквально следующее: «Надо обеспечить, чтобы военнопленные и иностранные рабочие пока оставались на своих рабочих местах»3. Эта последняя фраза означала, что предполагалось взять под защиту фашистское насилие над людьми, ибо на основании этой инструкции каждый рабочий на принудительных работах или военнопленный, который вопреки намерениям новых хозяев'попытался бы уйти от адского рабства германских воен
1 Ritter, Ger h ar d, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, Stuttgart, 1955, S. 374 und 376.
’Hassel. Ulrich, Op. cit., S. 387.
•Hasse, Ulrich, Op. cit., S. 388.
75
ных предприятий и концентрационных лагерей, был бы вновь арестован и, возможно, даже наказан.
Другое произведение, претендующее на освещение всего комплекса движения Сопротивления, принадлежит перу Ганса Ротфельса. Он повторяет, не подвергая критике, вслед за английским офицером Кристофером Барнеем, находившимся в заключении в Бухенвальде, тезис, согласно которому «до лета 1943 года в Бухенвальде практически не было ни одного иностранца»1. По-видимому, этот английский офицер причислял к коренным немцамиз «великой Германии» австрийцев, находившихся в лагере с 1938 года, арестованных патриотов из Чехословакии и Польши, помещенных в лагерь с 1939 года. Совершенно непонятно далее, как мог этот английский офицер ничего не знать о присутствии советских военнопленных, французских, бельгийских и голландских заключенных, которые задолго до 1943 года были брошены в лагерь Бухенвальд и другие фашистские лагеря.
Рудольф Пехель, один из немногих западногерманских историков, сообщает сведения о движении Сопротивления в концентрационных лагерях. Он пишет: «И в концентрационных лагерях они |коммунисты. — В. 5.] образовали ядро, вокруг которого формировалось сопротивление эсэсовским палачам и их подручным. С каждым годом они оказывали все большую помощь всем иностранцам, а также товарищам из буржуазных кругов»2.
Два западногерманских автора, Евгений Когон и Бенедикт Каутский, сын известного Карла Каутского, находились в течение многих лет в заключении в концлагере в Бухенвальде. Оба они были свидетелями замечательного поведения советских заключенных в лагере. Однако Когон не хочет объективно признать этот факт и применяет для этой цели примитивный трюк. В своей известной книге «Государство СС» он говорит: «В то время как военнопленные составляли хорошо дисциплинированный отряд, с большим уменьем и с полным правом заботившийся о преимуществах для своего коллектива (группа, отобранная для отправки из «Шталаг’а» в концентрационный лагерь, фактически состояла из коммунистов, которые с полным сознанием защищали свое дело), состав украинцев был довольно случайным. С самого начала их немецкие партийные товарищи создали для них такое преимущественное положение, что почти невозможно было высказать малейшую жалобу по адресу «русского»3.
Когон пытается обобщить отдельные явления, имевшие место среди советских, так называемых гражданских пленных, и клевещет чуть ли не на всех украинцев. Вместе с тем он вынужден признать, что немецкие антифашисты не допускали различного отношения к советским пленным и выступали в защиту всех заключенных советских граждан.
Б. Каутский в такой же форме признает, что поведение советских военнопленных произвело в лагере сильное впечатление, но и Каутский, подобно Когону, оскорбительно отзывается о гражданских пленных. Что касается советских военнопленных, то он называет их «классово сознательными коммунистами, с которыми можно было найтп общую линию, преодолевая первое недоверие и трудности с языком, как раз в общении с ними особенно заметные»4.
В большинстве рассказов о пережитом н других концентрационных лагерях содержится мало сведений о позиции и борьбе советских заключенных. Иосиф Иоз, католик п активный работник в лазарете концлагеря в Дахау, лишь упоминает о «выдержке русских» и признает, что его прежнее представление о Советском Союзе было неправильным5.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что западногерманская историография игнорирует события, связанные с совместной борьбой немецких и совет-__________ •
1 R о t h Г е 1 s, И a n s. Die dculsche Opposition gegen Hitler, Krefeld, 1949, S. 25.
2 Peche I, Rudolf. Deutsche? Widerstand, Zurich, 1947, S. 69.
3 К о g о n. E u g e n, Op. cit., S. 369 f.
4 К a u t s k y, Benedict, Teufel und Verdamnite, Zurich, 1946, S. 148
r' Joos, Joseph, l.eben anf Widerruf, Trier, 1948, S. 83 f.
76
ских заключенных и фашистских концентрационных лагерях. Либо западногерманские историки не знают ничего об этих выступлениях, либо умалчивают об известных им фактах, потому что они расходятся с их концепцией. Когда же (это относится к Когону и Каутскому) они были свидетелями исторических событий и достаточно о них осведомлены, то они извращают действительность.
За прошедшие годы бывшие заключенные фашистских концентрационных лагерей опубликовали большое число статей в газетах и журналах. Появился ряд брошюр и несколько книг. Все они написаны под непосредственным впечатлением пережитого и не претендуют на научное изложение.
В начале 1957 года в Праге была издана книга бывшего бухенвальдского заключенного Мплослава Мулиса «То byl Buchenwald». Это весьма обстоятельный труд с богатым фактическим материалом, причем особое внимание уделяется движению Сопротивления. По моему личному мнению, зто самое лучшее произведение о Бухенвальде из всех до сих пор появившихся.
Тот факт, что марксистская историческая наука до сих пор почти не занималась вопросом антифашистского движения Сопротивления, является серьезным недостатком и упущением прогрессивных, а именно марксистских немецких историков. К сожалению, мы находимся на самом начальном этапе этой работы. Так, по решению Интернационального бухенвальдского комитета летом 1955 года была создана Интернациональная редакционная комиссия в целях издания документации по истории фашистского концентрационного лагеря в Бухенвальде. Над составлением этой документации работают студенты Института немецкой истории, Университета Карла Маркса в Лейпциге, а также молодые ученые вместе с бывшими бухенвальдскими заключенными. Эта книга должна выйти в сентябре 1958 года в связи с открытием национального памятника в Бухенвальде.
Появились некоторые достойные внимания новые публикации Института марксизма-ленинизма при Центральном Комитете Социалистической единой партии Германии. Как при подготовке документации, так и при публикации Институтом марксизма-ленинизма было осуществлено сотрудничество молодой научной смены со старшими историками, к чему уже ранее призывал профессор д-р Штерн. Установлено, что таким образом достигаются наилучшие результаты.
Большую, сердечную благодарность надо выразить редакции «Исторического архива» в Москве, которая в № 4 от 1957 года опубликовала материалы под заголовком: «Бухенвальдское сопротивление». Следует в этой связи высказать надежду, что этот хороший пример послужит тому, что и в других странах научно-исторические журналы отведут место для освещения международного движения Сопротивления в Германии, тем более что «Исторический архив» обещал продолжать свои публикации1.
Надо признать большим достижением настоящей сессии, что здесь впервые марксистские историки из двенадцати стран выскажутся по вопросу об интернациональном движении Сопротивления в Германии. Эта конференция должна была бы обязать марксистских историков не ограничиваться разоблачением фальсификации буржуазной историографии по вопросам антифашистского движения Сопротивления, но самим создать историю борьбы сотен тысяч людей из многих европейских стран, находившихся на фабриках, в лагерях принудительного труда, в тюрьмах, па каторге и концентрационных лагерях. Мы обязаны зто сделать во имя мучеников освободительной борьбы европейских народов. Мы обязаны зто сделать во имя будущих поколений, чтобы они поняли сущность фашизма, следовали примеру и боролись в духе своих героических предшественников, дабы фашизм уже никогда не мог поработить народы Европы.
1 Опубликовано в журнале «Исторический архпв», 1957, № <>.
77
ДИСКУССИЯ В РАБОЧИХ СЕКЦИЯХ
Пятница, 29 ноября 1957 года
1-я РАБОЧАЯ СЕКЦИЯ
Подготовка второй мировой войны и ее описание: в буржуазной историографии
Руководители: Гергард Шильферт, В. T. Фомин
В. Д. Кульбакин
9 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУР
О ПОДГОТОВКЕ ГЕРМАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА КО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
В трудах В. И. Ленина содержится исчерпывающее объяснение причин возникновения империалистических войн. Ленин неизменно подчеркивал, что эти войны не случайны, порождены самой сущностью империализма и являются продолжением империалистической политики иными средствами1.
С такой же настойчивостью в ленинских произведениях проводится и та мысль, что ответственность за подготовку и развязывание войн несут не только и не столько отдельные, наделенные верховной властью лица, сколько класс капиталистов в целом, вся зашедшая в тупик система империализма2.
Руководствуясь указаниями В. И. Ленина, прогрессивные историки разработали и опубликовали ряд трудов, посвященных проблеме подготовки империалистических войн. Огромное значение для разоблачения реакционной политики германского империализма, игравшего, как известно, особую роль в развязывании мировых войн, имеют решения съездов КПСС и КПГ, высказывания Н. С. Хрущева, работы И. . В. Сталина, Э. Тельмана, В. Пика и В. Ульбрихта. Ценный вклад в разработку этого вопроса внесли историки ГДР, а также советские историки, посвятившие свои работы истории Германии.
К сожалению, многие из опубликованных по этому вопросу исторических работ уделяют относительно мало внимания подготовке второй мировой войны в Германии в годы относительной стабилизации капитализма и мирового экономического кризиса, то есть в те годы, когда закладывались с помощью американского и английского капитала основы военной мощи империалистической Германии.
К числу таких работ, например, относится книга К. Гейдена «История германского фашизма», изданная в СССР еще в 1935 году. Гейден считает, что подготовка Германии к войне осуществлена в годы фашистской диктатуры, что'крупная промышленность и союзы промышленников «подверглись нападению» со стороны Гитлера3 и что плодами прихода Гитлера к власти из крупных монополистов воспользовался будто бы лишь один Тиссен. Эти и некоторые другие утверждения автора, написавшего в общем содержательную книгу, во многом снижают ее ценность, так как противопоставляют Гитлера правящей верхушке германских монополистов и фактически дают повод для реабилитации их.
Известная работа Р. Сэсюли «ИГ Фарбениндустри» в свое время получила широкое признание среди прогрессивных читателей. Однако Сэсюли в своей книге также заявляет, что немецкая промышленность только при Гитлере получила возможность всерьез взяться за подготовку войны4. Сам
1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 23, стр. 68
2 Там же, т. 28, стр. 62—63.
2 К. Г’е идеи, История германского фашизма, Соиэкгиз, М.—Л., 1935, стр. 334.
’ Р. Сэсюли, ИГ Фарбениндустри, Издательство пиостраниой литературы, М., 1948, стр. 95, 106 и др.
6 Заказ № 1220 gj
автор опровергает это утверждение достаточно убедительным фактическим материалом.
Косвенно в ряде случаев подобная точка зрения выдвигается и Ю. Кучинским—автором широко известных экономических работ. Так, например, в его книге «Очерки германского империализма» говорится, что катастрофа, к которой гитлеровцы привели Германию в 1945 году, началась в 1933 году1. Если говорить о катастрофе, в которую, несомненно, был ввергнут немецкий народ, то предпосылки к ней возникли значительно раньше, с тех пор как германские монополии с помощью американского и английского капитала приступили к воссозданию воепно-экономического потенциала Германии. В противном случае вся вина возлагается только на Гитлера, а класс монополистов остается в тени.
Неясные, а подчас и не вполне правильные положения в трактовке вопроса о роли германских монополий в подготовке второй мировой войны содержатся и в ряде работ советских историков. Перечислять все работы, страдающие подобными недостатками, нет необходимости, ибо существо дела заключается не в количестве книг, неправильно или недостаточно полно освещающих проблему подготовки германскими империалистами второй мировой войны, а в отсутствии достаточного числа хорошо фундированных многоплановых исследований, исчерпывающе и разносторонне освещающих указанную проблему. Что касается буржуазно-империалистической историографии, то она из года в год повышает внимание к проблеме подготовки второй мировойв ойны. Как объясняет возникновение второй мировой войны реакционная историография?
Следует сказать, что в течение периода, истекшего между двумя мировыми войнами, освещение этого вопроса претерпело в буржуазной и право-социал-демократической историографии ряд изменений. В период Веймарской республики подготовка к войне велась под лозунгом достижения «равенства вооружений», якобы необходимого для обороны страны в случае агрессии против Германии. Теоретическое «обоснование» этому лживому лозунгу дал, как известно, «теоретик» социал-демократии Карл Каутский2.
После фашистского переворота буржуазные реакционные историки совершили крутой поворот в освещении вопросов, связанных с подготовкой к войне. Никто из них теперь уже и не пытался отрицать факт перевооружения Германии. Напротив, они наперебой стали восхвалять мероприятия фашистского правительства и монополий, связанные с экономической, дипломатической и идеологической подготовкой к агрессивной войне. В помощь германским реакционным историкам активно выступили их американские и английские коллеги, всячески расписывавшие «чудо возрождения» Германии, имея в виду прежде всего ее потенциальную способность к агрессии против Советского Союза.
Совсем по-иному стало обстоять дело после начала второй мировой войны, вернее после решающих побед Советской Армии, и особенно после окончательного разгрома гитлеровской военной машины. Один за другим реакционные германские и западноевропейские историки стали менять свое отношение к Гитлеру и его ближайшему окружению. Лишь некоторые из них продолжали признавать, хотя и с большими оговорками, отдельные факты поддержки фашистов германскими монополиями, юнкерством и военщиной. Подавляющее же большинство их стало выступать с отрицанием того факта, что гитлеровцам оказывалась помощь со стороны финансово-промышленных кругов империалистической Германии. Как и прежде, они заявляли, что экономическая и военная мощь Германии была воссоздана будто бы лишь в годы фашистской диктатуры, но вместе с тем они обвиняли теперь Гитлера в авантюризме, в недостаточной подготовленности отельных отраслей
1 Ю. Кучинский, Очерки истории германского империализма, Издательство иностранной литературы, М., 1952, стр. 305.
’Kautsky К., Wehrfrage und Sozialdemokralie, Berlin, 1928, S. 61 ff.
82
экономики к войне, в военной бездарности и все это для того, чтобы взвалить всю вину за подготовку войны, а главное за ее неудачу на Гитлера и тем самым оправдать германских монополистов. Такая трактовка вопроса в равной мере характерна как для германских, так и для американских реакционных историков и публицистов. Несмотря на то, что США считались противниками Германии, министр финансов США Моргентау, излагая в 1945 году свой план расчленения Германии, не Лшел нужным говорить о германских милитаристах как виновниках и организаторах агрессии. Вместо этого он пытался возложить ответственность на немецкий народ, в первую очередь на немецкий пролетариат1.
С такой же «концепцией» выступил постоянный заместитель министра иностранных дел Англии Ванситтарт. Он так же бесцеремонно стремился оправдать действия господствующих классов Германии, усматривая причину войны не в их агрессивных устремлениях, а в левом социалистическом движении и «в тиранических устремлениях германской души»1 2.
В 1947 году, прибегая к фальсификации истории, пытался реабилитировать действия германских милитаристов председатель крупного американского акционерного общества «Джонс Мэнвилл» Люис Броун, заявивший, что Гитлер опирался не на монополистов и юнкеров, а на немецкий народ и что, придя к власти, он будто бы отбросил монополистов в сторону, как отбрасывают лестницу после того как, она использована3. Другой американский автор, профессор Джордж Кеннан, пытался затушевать как роль германских империалистов в подготовке войны, так и поддержку их со стороны американских монополий4, стремившихся использовать потенциальную агрессивность германских милитаристов в своих корыстных целях.
В Западной Германии одной из первых откровенных попыток реабилитации германских монополий явилась книга Яльмара Шахта «Расчет с Гитлером»5, в которой он сводит счеты не столько с Гитлером, сколько с прогрессивными силами народа, стремится возвеличить роль магнатов капитала и тем самым оправдать их нынешний курс на сговор с американскими империалистами. Будучи одним из главных виновников подготовки войны, Шахт позволяет себе утверждать, что если бы ему дали вести до конца финансирование гитлеровского государства, то он бы обеспечил создание условий, исключающих возможность использования гитлеровской военно» машины в агрессивных целях. В другой своей книге «76 лет моей жизни» Шахт пишет, что «с середины 1936 года мои взаимоотношения с Гитлером медленно, но неуклонно ухудшались. Мое влияние на его политику, особенно в области экономической, в первые годы было плодотворным, с середины 1936 года оно стало быстро падать»6.
Это заявление примечательно тем, что оно опровергает всю концепцию Шахта и является убедительным доказательством виновности германских монополий, в том числе Шахта, в военных преступлениях, поскольку к 1936—1937 годам Германия в основном уже была подготовлена к войне п Гитлеру в дальнейшем оставалось только найти предлог для ее развязывания.
С заявлениями Шахта перекликаются работы западногерманских историков. Так, по мнению профессора Герхарда Риттера, Веймарская республика к 1932—1933 годам исчерпала свой кредит в глазах большинства народа и целая треть его будто бы рассчитывала достичь своих целей при помощи вождя, диктатора7.
1 См. А. С. Е р у с а л и м с к и й, О некоторых попытках реабилитации германского империализма в современной реакционной историографии, «Вопросы истории», № 8, 1953, стр. 97.
2 Там же, стр. 98.
3 Там же, стр. 99.
4 Там же. стр. I 13.
‘Schacht. II jalmar, Abrechnung mil Hiller, Jlamburg-Slultgarl,"’1948
• S c li a c li I, II j a 1 m a r, 76 Jahre meines Lebens, Bad Worishofen, 1953, S. 487.
7 Cp. «Einheil». II. 8, 1957, S. 1052; Ritter G., in: «Frankfurter Allgemeine
Zeilung», v. 29.4. 1955.
83
6
Профессор западноберлинского Института политических наук Карл Дитрих Брахер, западногерманские историки Карл Миш, Хубертус Левен-штейн, Эрвин Виккерт, Ганс Херцфельд1 и некоторые другие также всячески пытаются обелить германских монополистов, отрицают наличие взаимных связей германского монополистического капитала и гитлеровской партии, считают гитлеровский режим «надклассовым», диктатурой «одного человека», пишут о «неприязненном отношении» германских монополий к Гитлеру, за исключением отдельных лично ему симпатизировавших финансистов и промышленников, усердно стараются реабилитировать германскую военщину и т. д.
Однако даже реакционные историки, всячески маскируя и «опровергая» поддержку гитлеровцев монополистическими кругами, нередко вынуждены делать признания, противоречащие их основным концепциям. Так, например, в ряде случаев они косвенно признают заинтересованность германских [монополий в гитлеровской диктатуре, ссылаются па факты оказания ими конкретной финансовой и другой помощи фашистам, пишут о наличии связей между союзами монополистов и фашистской партией, о симпатиях к фашистам рейхсвера и т. д.1 2 Но эти признания не являются характерными для работ указанных западногерманских историков, в целом защищающих реакционные, антинаучные взгляды по вопросу о роли германских монополий в подготовке второй мировой войны и установлении фашистской диктатуры.
От западногерманских историков не отстают и гитлеровские генералы, как по команде начавшие издавать свои пространные мемуары о второй мировой войне. От историков их отличает только то, что они делают в своих писаниях главный упор на военную сторону деятельности Гитлера, якобы не согласовывавшего своих действий с генеральным штабом и командующими армиями3. Однако и генералы далеко не всегда ограничиваются одной лишь военной стороной дела. Так, например, генерал Типпельскирх уже на первой странице своей объемистой работы объясняет возникновение войны «хитростью Гитлера», его «дьявольским искусством скрывать свои истинные мысли»4. Вице-адмирал в отставке Курт Ассман, вступая в противоречие с историческими фактами, говорит о том, что только при Гитлере, да и то лишь после начала войны с Англией, на передний план выступили вопросы, связанные с созданием военно-морского флота5 *. Генерал-фельдмаршал в отставке Кессельринг заявляет, что германская военная авиация была создана после установления власти Гитлера, но «забывает» при этом добавить, что база для этого была создана в конце 20-х и начале 30-х годов9. Генерал Ганс Керль в статье «Военная экономика и военная промышленность» делает даже такой вывод, что «состояние германской экономики в начале войны может быть охарактеризовано следующим образом: «К мировой войне Германия во всех отношениях была не подготовлена»7 *.
1 М i s с h, Carl, Deutsche Geschichte in Zeitaltcr der Massen von der Franzosi-schen Revolution bis zur Gegenwart, Stuttgart, 1952, S. 360 ff.; Wickert, Erwin, Dramatische Tage in Hitlers'Reich, Stuttgart, 1952, S. 18 ff.; Herzfeld, Hans, Weltmachte und Weltkriege, 1890 bis 1945, T. II, Braunschweig, 1952; Lowenstein, Deutsche Geschichte. Der Weg des Reiches in zwei Jahrtausenden, Frankfurt a/M., 1954, S. 513 f.; В r a (her K. D., Die Auflosungder Weimarer Republik, Stuttgart, 1955, S. 334, 684 ff.; H a 1 1 g a r t e n G. W. F., Hitler, Reichswehr und Industrie, Frankfurt a/M., 1955, S. 113 ff.
2 Cp. Bracher K. D., op. cit., S. 691, 693—694; H a 1 1 g а г t e n G. W. F., Op. cit., S. 91, 115—118; Misch C., Op. cit., S. 374.
3 Cp. G б г 1 i t z W., JDer deutsche Generalstab, Frankfurt a/M., 1950; Halder, Franz, Hitler als Feldherz, Munchen, 1949; К. Типпельскирх, История второй мировой войны, Издательство иностранной литературы, М., 1956.
•К. Типпельс к и р х, Названное сочинение, стр. 5.
5 «Итоги второй мировой войны», Издательство иностранной литературы, М., 1957,
стр. 157.
° Там же, стр. 363.
’ Там же.
84
Многочисленным работам реакционных историков, стремящихся путем фальсификации реабилитировать германских монополистов, восстановить престиж германской военщины и разжечь реваншистские настроения в стране, советские, восточногерманские и другие прогрессивные историки, как уже отмечалось, могут противопоставить, кроме названных выше общих работ, сравнительно небольшое число исследований, которые хотя и написаны на должном научно» уровне, по затрагивают лишь отдельные сторопы или относительно небольшие отрезки истории Веймарски республики.
Такое положение нельзя признать нормальным не только потому, что оно затрудняет использование прогрессивными силами мира исторического опыта для более глубокой и точной оценки современной обстановки и успешного развенчивания современных вдохновителей и организаторов новой «тотальной» войны.
Весьма важно показать в больших основательно фундированных исследованиях, как постепенно и неуклонно, начиная с заключения Версальского договора, германский империализм начал вести подготовку к новой мировой войне за свое мировое господство. Играя па страхе международного империализма перед возможностью повторения революции в Германии и выставляя себя в роли «бастиона» против революционизирующего влияния Советского Союза, германский империализм не только постепенно добился фактической отмены установлений Версальского договора, препятствующих перевооружению страны, но и стал получать в огромных масштабах экономическую помощь от своих недавних противников (особенно от США), которые стремились использовать германский империализм, его территорию, индустрию и все его людские ресурсы в собственных агрессивных целях1.
Недостаточно четко и ясно в прогрессивной исторической литературе освещается вопрос о темпах воссоздания военно-экономического потенциала Германии до 1933 года. Как уже отмечалось, не только буржуазные, ио и многие прогрессивные историки считают, что перевооружение германского милитаризма произошло только в годы фашистской диктатуры. В действительности же, как известно, ускоренный подъем германской экономики начался значительно раньше. Уже в 1927 году германский экспорт достиг уровня 1913 года, а в отношении готовых изделий даже превысил его на 12 процентов1 2. Совместные усилия германских монополий и американской плутократии привели к тому, что германская экономика, особенно тяжелая промышленность, уже в 1927 году вплотную приблизилась к довоенному уровню, что и дало возможность правительствам Веймарской республики перейти к производству различных видов вооружения. В 1926—1927 годах 4-й кабинет Маркса разработал программу строительства германского военно-морского флота. В это же время практически была начата постройка броненосца «А» и приступили к модернизации и перевооружению сухопутной армии. В дальнейшем было организовано производство танков, авиации, тяжелой артиллерии и другого вооружения, большей частью за пределами Германии.
К сожалению, указанный период первых лет относительной стабилизации капитализма слабо освещен в прогрессивной исторической литературе, и это является одним из ее существенных пробелов, поскольку именно в 1924 — 1927 годах уже начинали закладываться основы военного могущества империалистической Германии. Без анализа политики правящей
1 О роли америкаиского'империалиэма и воссоздапии военного потенциала в Германии см. работы И. В. Сталина, В. Пика, В. Ульбрихта, «Фальсификаторы истории» (Историческая справка); В. В. Постников, США и дауэсизация Германии, 1924— 1929, Издательство АН СССР, М., 1957; «Иностранный капитал в предприятиях Западной Германии», Издательство иностранной литературы, М., 1953, стр. 15—17; Г. Бауман, Атлантический пакт концернов, Издательство иностранпой литературы, М., 1953, стр. 29— 30 и др., а также ряд статей по этой проблеме, опубликованных в журналах «Вопросы истории», «Вопросы экономики», «Einheit», «Zeitschrift fiir Geschiclilswissenschaft», 1954— 1958.
2 «Фальсификаторы истории», стр. И.
85
клики Германии этого периода и достигнутых ею результатов трудно объяснить последующее ускоренное развитие германской империалистической экономики, достигшее своей еще более высокой точки в 1928—1929 годах при правительстве правого социал-демократа Г. Мюллера1.
При этом правительстве правящая клика Веймарской республики уделяла особенно большое внимание развитию тяжелой промышленности. Представители веймарской правящей клики откровенно заявляли тогда, что массовое производство вооружения и снаряжения может быть успешным только п случае достижения превосходства в тяжелой индустрии.
Именно об этом писал в одной из своих книг видный деятель Демократической партии Шенайх1 2 и вслед за ним один из лидеров социал-демократии П. Леви. Старое понятие военной индустрии, подчеркивал Леви, исчезло: се место заняла общая индустрия. Вооружение не есть готовый продукт индустрии, а потенция, способность индустрии превращать последние данные научного опыта в индустриальный продукт. Исходя из подобных посылок, «Имперский союз германской индустрии» в 1928 году опубликовал меморандум, в котором настойчиво потребовал увеличения дотаций и субсидий для тяжелой промышленности3.
Руководствуясь теми же соображениями, командующий рейхсвером генерал Сект составил план перевооружения армии. Основная идея этого плана заключалась в том, чтобы сосредоточить усилия промышленности пе на массовом изготовлении оружия и накоплении его на складах, а на том, чтобы обеспечить рост тяжелой индустрии и на этой основе совершенствовать все виды вооружения, отбирая каждый раз наилучшие образцы его и одновременно ведя подготовку к массовому производству оружия после начала войны. При этом Сект рекомендовал пе скупиться на субсидии предприятиям на содержание экспериментальных мастерских, подчеркивая каждый раз, что это «лучше и дешевле, чем накопление и содержание быстро устаревающего вооружения»4.
В результате такой политики веймарских правительств и щедрой помощи американских монополий Германия, несмотря на потерю в итоге войны важнейших в промышленном отношении областей, в 1929 году по выплавке чугуна и стали стояла впереди Франции и Англии, занимая второе (после США) место в мире, а по добыче угля— второе место в Европе5 *. Не менее показательны данные и по другим отраслям промышленности, связанным с военным производством. Выработка электроэнергии в Германии в 1928 году более чем в 5 раз превысила уровень 1913 года, производство автомашин— почти в 7, производство алюминия—в 32 раза9. Исключительно велики были сдвиги в германской химической промышленности7. Числившаяся «разоруженной» и «мирной», империалистическая Германия уже в 1929 году имела значительно более мощную тяжелую промышленность и вкладывала в нее гораздо больше средств, чем в 1913 году. Значительными были также сдвиги и в области внешней торговли. По общему вывозу Германия занимала в 1929 году третье место в мире (после США и Англии), по промышленному же экспорту (по темпам прироста) она шла наравне с Соединенными Штатами Америки.
Так выглядел военно-экономический потенциал Германии в 1928— 1929 годах, в конце периода относительной стабилизации капитализма.
1 Подробно о деятельности этого правительства см. работу В. Д. Кульбакина, Милитаризация Германии в 1928—1930 гг., Госполнтиздат, М., 1954.
4 Schoneich, Zelin Jahre Kampf fiir Frieden und Recht, Hamburg, 1929, S. 200.
3 «Organisatorischer Aufbau des Reichsverbandes der deutschen Industriellen», Berlin, 1929; Verhandlungen dei Reichstages vom 15.3. 1929, S. 1450.
4 V. S e e c k t H., Gedanken eines Soldaten, Berlin, 1929, 98—99.
3 «Новые материалы к работе В. И. Ленина, «Империализм, как высшая стадия капитализма», Партиздат, М., 1935, стр. 179.
• Статистический сборник «СССР и капиталистический мир», Соцзкгиз, М.—Л., 1934, стр. 46, 53, 77.
7 Д. Вудман, Германия вооружается, Огиз—Соцэкгиз, М., 1935, стр. 148—149.
86
Однако было бы ошибкой считать, что рост военной экономики ь Германии резко снизился в годы мирового экономического кризиса.
И в 1929—1933 годах веймарская Германия, несмотря на общий упадок хозяйственной деятельности, продолжала сохранять довольно высокие темпы развития тяжелой промышленности, особенно тех ее отраслей, которые играли важную роль в дальнейшей милитаризации страны *.
К сожалению,^! этот период, как определенный этап подготовки германского империализма к войне, в конечном счЛе также слабо освещен в прогрессивной исторической литературе и является в известном отношении таким же белым пятном в истории Германии, как и период 1925— 1927 годов.
Параллельно с воссозданием военно-экономического потенциала в Германии задолго до прихода к власти Гитлера шла интенсивная идеологическая обработка масс для новой мировой войны.
Правда., в первые годы после заключения Версальского мира она не-могла быть официально направлена против капиталистических стран-победительниц и сводилась больше всего к антисоветской пропаганде, которая давала возможность германским милитаристам поддерживать благожелательное отношение западных держав к вопросу перевооружения Германии. Однако это вовсе не означало примирения и покорности германских милитаристов по отношению к их западнокапиталистическим соперникам. Об этом весьма красноречиво свидетельствуют такие факты, как убийство Ратенау, являвшегося сторонником лояльного отношения к выполнению обязательств по Версальскому договору, уход в отставку правительства Вирта, активизация шовинистических элементов, организованных в различные реакционные союзы, возникновение фашистской партии. Основными задачами пропагандистской деятельности указанные реакционные организации уже в то время считали не только борьбу с революцией и антисоветскую деятельность, но и в равной мере антиверсйлизм и реваншизм, игру на ущемленном национальном чувстве немецкого народа. И если германская буржуазия не пожелала выступить активно в поддержку путча Каппа—Лютвица, разгромленного германским рабочим классом, и не помогла фашистским мятежникам в 1923 году, то вовсе не по той причине, что она не симпатизировала путчистам, а исключительно потому, что международная обстановка в этот период была неблагоприятной для установления реакционной диктатуры.
Лишь спустя несколько лет, когда улеглись послевоенные страсти и кровавый германский империализм с помощью своих недавних противников полностью завершил восстановление военно-экономического потен-щиала страны, идеологическая подготовка масс к войне в Германии стала приобретать свои обычные формы. Не прекращая антисоветской пропаганды, германские империалисты все чаще и настойчивее стали выступать и против своих англо-американских покровителей и доброжелателей, требуя восстановления прежних границ, возврата утраченных колоний и т. д.
Не случайно, что к этому же времени резко активизировала свою деятельность германская фашистская партия, до тех пор находившаяся на положении опекаемого крупной буржуазией стратегического резерва. Внутри страны теперь ей уже никто (если не считать коммунистов) не мешал осуществлять не только антисоветскую пропаганду, но и пропаганду реванша. Доказано, что именно к 1928—1929 годам фашистская партия с помощью германских и американских империалистов смогла пройти путь своего развития, без которого ей в дальнейшем не удалось бы осуществить в короткий «срок подготовку к захвату государственной власти в Германии. Если в 1927 году гитлеровская партия насчитывала 40 тысяч, а летом 1929 года— 120 тысяч, То в марте 1930 года в ее рядах состояло уже 210 тысяч человек. В эти же годы фашисты перестроили организационную структуру своей
1 Некоторые данные об этом см. в работах: Kuczinski J., Die Bewegung der -dentschen Wirtschaft von 1800—1946, B., 1947, S. 135; Дж. Мартин, Братство бизнеса, Издательство иностранной литературы, М-, 1951, стр. 101—102.
87
партии применительно к той роли, которую ей готовила крупная германская буржуазия, окончательно оформили свои боевые организации—штурмовые (СА), защитные (СС) отряды, укрепили различного рода вспомогательные организации и усилили за счет щедрых ассигнований буржуазии милитаристскую пропаганду1. Большую поддержку гитлеровцам для организации идеологической подготовки войны теперь оказывали и американские империалисты. Джои Фостер Даллес, давно уже не скрывавший своих симпатий к гитлеровцам, одним из первых начал оказывать им щедрую денежную помощь. По известному заявлению сенатора К. Пеппера из Флориды (октябрь 1944 года), Даллес был одним из тех, кто помог Гитлеру прийти к власти, «ибо именно через фирму Даллеса и банковскую корпорацию Шредера Гитлер получал деньги, необходимые ему для начала своей карьеры международного бандита»1 2. Известно также, что американская помощь Гитлеру непрерывно возрастала. Если в 1929 году Гитлер получил от своих заокеанских покровителей 10 миллионов долларов (через амстердамский банкирский дом «Мендельсон и К0»), то н 1931 году (через этот же банк, а также через Роттердамский банковский консорциум и при посредстве Римского коммерческого банка) ему было вручено 15 миллионов долларов3.
Пользуясь средствами, которыми их ссужали германские и американские монополии, гитлеровцы проводили сотни и тысячи собраний, печатали в миллионных тиражах листовки и брошюры, а в 1929 году они организовали совместно с националистами так называемое народное волеизъявление против «плана Юнга», собравшее более 5 миллионов подписей избирателей. Эта затея была явно демагогической, так как, разглагольствуя о своем мнимом «несогласии» с «планом Юнга», фашисты, как и другие буржуазные партии, на деле одобряли новый репарационный план, претворяя в жизнь его грабительские установки в отношении народных масс Германии4.
К этому времени всеобъемлющая идеологическая подготовка к войне постепенно переставала быть монополией фашистов и националистов. Все больше в нее стали втягиваться и другие буржуазные партии, в том числе и входящие в официальный правительственный блок—Веймарскую коалицию. Так, министр путей сообщения, представитель партии «Центра» Штегер-вальд, выступая перед избирателями города Боттропа, следующим образом закончил свою речь:
«Германский народ должен постепенно уяснить себе, что ему предстоит в ближайшее десятилетие завоевать себе мир или потерять его».
Этот же империалистический тезис многословно развивал в своей книге «Внешняя политика Германии в послевоенное время» министр юстиции того же правительства, член демократической партии Эрих Кох Везер.
«Германия не может реализовать свои потенциальные возможности внутри страны,—писал он,—без выхода на мировую арену способности ее зачахнут. Она нуждается не только в сырье, но и в жизненном пространстве». Особое место в книге отводилось вопросу обоснования необходимости для Германии колоний, «исправлению» в пользу Германии границ с Данией и Италией, «освобождению» Саара и Рейнской области и возврату Германии Эльзаса и Лотарингии5.
В 1928 году вышла книга «Народ и пространство» под редакцией буржуазного экономиста В. Зомбарта, в которой также прямо ставился вопрос о необходимости^проникновения германского капитала в другие страны6.
1 К. Гейден, Названное сочинение, стр. 203; А. Н о р д е н, Уроки германской истории, Издательство иностранной литературы, М., 1948, стр. 97.
1 Д. Мейер, ПеизбежйЬ ли гибель Америки? Издательство иностранной литературы, М., 1950, стр. 38. *
« «Einbeit», 1949, N 1, S, 74.
4 «Die Rote Fahne», 3, 12. 1929.
5 «Kolnische Zeilung», 11. 11. 1929; Koch-Weser E., Deutschlands Auflenpo-litik in der Nachkriegszeit, Berlin, 1929, S. 123, 141.
• «Volk und Raum», Hamburg, 1928, S. 218.
88
Столь же откровенно высказался и съезд германских промышленников, происходивший 21 сентября 1929 года. Выступивший на этом съезде правительственный советник Кастль заявил:
«Германия вынуждена продавать свои товары возможно большему числу стран и в возможно больших размерах... Германия должна при этом прибегать к самым крайним мерам конкуренции... Германия должна всегда быть первой срсдй»своих конкурентов»1.
Таким образом, распространяемая реакцнопиыйи буржуазными авторами версия о том, что активную борьбу за возврат колоний и пересмотр установлений Версальского договора Германия развернула лишь после прихода фашистов к власти, пе имеет под собой никакой почвы. Отсюда вытекает, что вопрос об идеологической подготовке ко второй мировой войне в годы, непосредственно предшествующие приходу к власти Гитлера, заслуживает такого же пристального внимания прогрессивных историков, как и вопрос о создании материально-экономических предпосылок к этой войне.
* * *
Приведенные в настоящем сообщении материалы и соображения позволяют подвести следующие предварительные итоги. Реакционная буржуазная историография послевоенных лет, как правило, стремится взвалить всю ответственность за военно-экономическую, политическую и идеологическую подготовку к повой мировой войне только на Гитлера и его ближайшее окружение, которое осуществляло эту подготовку якобы вопреки и помимо крупной германской буржуазии, ввиду чего последняя будто бы пе виновна в преступлениях, совершенных гитлеровцами.
Советские историки, историки ГДР, стран народной демократии и прогрессивные историки капиталистических стран в своем большинстве дают правильную общую оценку агрессивным планам и действиям германского империализма, подтверждая новыми данными марксистско-ленинские выводы о природе и сущности империалистических войн.
Однако большинство этих историков касается лишь частично или в слишком общем виде конкретных сторон деятельности правительств Веймарской республики, сделавших очень много для воссоздания военноэкономического потенциала Германии до црихода фашистов к власти.
Особенно слабо освещена указанная сторона деятельности правительств периода 1925—1927 и 1930—1933 годов.
Восполнение этих пробелов является настоятельно необходимым не только для утверждения исторической истины, которая гласит, что пришедшие в 1933 году к власти немецкие фашисты получили в наследство от правительств Веймарской республики все необходимое для непосредственной ускоренной подготовки к войне, для массового производства вооружений, для завершения идеологической подготовки к войне и для беспощадной расправы с революционным рабочим классом и его авангардом—Коммунистической партией.
Разработка указанных вопросов будет иметь огромное актуальное значение и для разоблачения тех реакционных западногерманских монополистических кругов, которые в свое время подготовили вторую мировую-еойну и призвали для ее развязывания к власти Гитлера, а сейчас вместе с империалистами США готовят новую мировую войну, призвав для этой же цели к власти матерого реакционера, реваншиста Конрада Аденауэра.
Проводимая последним реакционная внутренняя политика (запрещение КПГ, преследование революционных рабочих организаций и т. д.) сопутствует активной реакционной внешней политике так же, как в свое время гитлеровский террор (запрещение КПГ, массовые репрессии в отношении революционных рабочих) сопутствовал агрессивной внешней политике-фашистского правительства, приведшей ко второй мировой войне.
1 См. «Коммунистический Интернационал», 1929, № 43, стр. 4.
89
Альфред Мойзелъ
ПОЛИТИКА «УМИРОТВОРЕНИЯ» И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Прежде чем я приступлю к рассмотрению политики «умиротворения», «успокоения», «невмешательства»—это различные наименования одной и той же политики,—я хочу вкратце сказать, что я понимаю под такой политикой. Я имею в виду те мероприятия империалистических западных держав, которые были предназначены для того, чтобы помочь германскому фашизму в подготовке и развязывании войны, причем западные державы рассчитывали, что нацистская агрессия будет направлена исключительно против Востока, в первую очередь против Советского Союза.
Профессор Лео Штерн вчера справедливо указал в своем докладе, что западногерманские историки дают неодинаковую оценку «policy oi appeasement» («политики умиротворения»).
В 1956 году на съезде историков в Ульме возник спор между профессором Г. Ротфельсом из Тюбингена и мною относительно политики «умиротворения». Ротфельс защищал эту политику при помощи следующих аргументов: уступки, которые сделали Гитлеру английские вдохновители политики «умиротворения», были необходимы, чтобы предотвратить войну; преисполненный глубокой любви к миру, английский народ до последней минуты стремился избежать войны.
По этому поводу я здесь ограничусь двумя критическими замечаниями:
1. Когда «policy of appeasement» связывают с любовью английского народа к миру, то упускают из виду тот факт, что правительство Н. Чемберлена, находившееся в то время у власти в Англии, представляло не интересы английского народа, а интересы высших классов Англии.
2. Уступки, полученные нацистами, были сделаны не прямо за счет английского народа, а за счет других народов; эти уступки делались в соответствии с пресловутой крестьянской мудростью:
Пресвятой Флориан,
Защити мой дом, пусть сосед погорит.
В отличие от того направления, которое защищает политику «умиротворения» и сожалеет о ее провале, в западногерманской историографии существует другое течение, которое резко критикует и осуждает политику «умиротворения».
Существенная черта этого второго направления заключается в том, что критика по адресу политики «умиротворения» служит для маскировки той чудовищной вины, которую несут за возникновение и ведение войны германские монополисты, крупные помещики и милитаристы, а вместе с ними и миллионы мелкобуржуазных приверженцев и попутчиков национал-социализма. Иными словами: политика «умиротворения», политика постоянных уступок Гитлеру, проводившаяся в Англии Чемберленом, а во Франции— Даладье (называю только некоторые имена), могла имет». временный успех лишь потому, что в тот период в Германии отсутствовали—выражаясь весьма осторожно—какие бы то ни было ощутимые признаки открытой оппозиции против Гитлера, и казалось, что Гитлер, выдвигая свои шовинистические и милитаристские требования, действительно выступал от имени германского
90
народа. Германская антинацистская оппозиция стала незримой, невидимой в силу существенных причин; эти причины настолько очевидны, что в среде собравшихся здесь историков мне незачем об этом говорить. Однако ведь всякое явление имеет свои причины, но эти причины ничего не меняют в самом факте существования данного явления.
За время моего изгнания я в Англии многократно говорил о германской проблеме с ангжчанами. При этом я неоднократно и неизменно указывал, что в Германии существует антифашистЛсая оппозиция, которая еще до 1933 года вела борьбу в очень тяжелых условиях, а теперь эти условия стали столь страшными, что тот, кто не был участником борьбы, не может себе их даже представить и трудно подыскать достаточно сильные слова, чтобы оценить героизм подпольных борцов Сопротивления; в большинстве случаев меня спрашивали: «В таком случае скажите, что делает ваша оппозиция? В каких делах, в распространении каких мнений она находит свое выражение?» Мне нелегко было ответить на эти вопросы.
Поэтому, когда мы, германские марксистские историки, обсуждаем проблемы политики «умиротворения», нужно не оставлять в тени нацистский террористический режим, его политику жесточайшего угнетения и безудержной экспансии, нельзя направлять огонь только против политики «умиротворения» и тем самым обелять главных виновников.
Само собой разумеется, между обоими факторами существовало диалектическое взаимодействие: кажущееся отсутствие внутригерманской оппозиции стимулировало политику «умиротворения», а политика «умиротворения» в свою очередь усиливала нацистов, ибо она, естественно, создавала представление, что Гитлер во внешней политике может делать все, что захочет; ему, как правило, удаются самые отчаянные замыслы.
В каких существенных событиях проявилась наиболее определенно политика «умиротворения», проводившаяся империалистическими западными державами? Она обнаружилась в сентябре 1933 года, когда Гитлер отказался от участия в конференции по разоружению и вышел из Лиги Наций, чтобы получить свободу действий для перевооружения Германии. Она дала себя знать в марте 1935 года, когда была введена всеобщая воинская повинность и начато строительство воздушного флота; тем самым была открыто прокламирована зловещая политика вооружений, дотоле сохранявшаяся в тайне. Политика «умиротворения» проявила себя в марте 1936 года, когда германские фашистские войска вступили в демилитаризованную Рейнскую зону п вскоре после этого началось строительство так называемого «западного вала».
Понятно, что это были события, имевшие большие исторические последствия. Второй Локарнский договор, так называемый Рейнский пакт, предусматривал, что Франция и Бельгия получают англо-итальянскую гарантию против нападения Германии, не спровоцированного с французской или бельгийской стороны; Рейнский пакт предусматривал одновременно, что Германия получает англо-итальянскую гарантию против нападения Франции или Бельгии, неспровоцированного с германской стороны. Иными словами: Рейнский пакт сделал Англию третейским судьей в Европе; союзные договоры, которые после первой мировой войны заключила Франция с Польшей и странами Малой Антанты (Чехословакия, Румыния, Югославия), были полностью отданы в руки Англии. Если бы, например, возник конфликт между Германией и Польшей из-за Данцига или «Польского коридора» и Польша призвала бы на помощь своего союзника Францию, то Франция могла оказать просимую помощь только в том случае, если бы Англия заявила, что речь идет о «неспровоцированном нападении» Германии на Францию; если бы, однако, Англия заявила, что Франции это не касается и речь идет об изолированном польско-германском конфликте и что в этом случае выступление Франции против Германии представляет «неспровоцированное нападение» на Германию и тем самым вступает в силу англо-итальянская гарантия, данная Германии, то руки Франции оказались бы связанными.
91
После второго Локарнского договора, сделавшего Англию третейским судьей в Европе, обе сильнейшие континентальные державы имели все основания добиваться благосклонности Англии. Легко понять, что английский империализм не желал, чтобы его лишили этой столь выгодной для него позиции. Поэтому Остин Чемберлен столь энергично противился «духу Туари». Если переговоры, которые Бриан и Штреземан вели в Туари, вообще что либо означали, то они были направлены к тому, чтобы достигнуть за спиной Англии соглашения между Францией и Германией против Англии и против СССР; это была совместная попытка Франции и Германии—хотя, собственно, из противоположных побуждений—освободиться от неудобной английской опеки.
Военная оккупация Рейнской области, которая означала одновременна разрыв и Версальского договора и Локарнских договоров, в корне изменила существовавшее положение. Теперь французская система союзов в Восточной Европе уже находилась в зависимости не от английского, а от германского фашистского империализма, то есть она практически потеряла всякую цену, опа была аннулирована.
Выйдя из Лиги Наций и отказавшись от участия в конференции по разоружению, приступив к ремилитаризации, введя всеобщую воинскую повинность, начав строительство воздушного флота, заняв демилитаризированную Рейнскую зону, нацизм перевалил через гору—теперь он мог осуществить свой самый опасный замысел: уничтожить территориальные постановления Версальского договора. Эта акция началась с аннексии Австрии в марте 1938 года и была продолжена в сентябре 1938 года, когда Гитлер, Муссолини, Чемберлен и Даладье на роковом Мюнхенском совещании заставили Чехословакию уступить нацистской Германии Судетскую область.
В те годы, о которых я сейчас говорю, в мировой политике противостояли друг другу две концепции, которые я по возможности кратко охарактеризую.
Одна концепция была представлена Советским Союзом. Это был план, согласно которому все державы, заинтересованные в сохранении неделимого мира, должны были создать систему коллективной безопасности, чтобы воспрепятствовать возникновению второй мировой войны, помршать тому, чтобы германский империализм вторично зажег мировой пожар. Надо ли говорить о том, что при осуществлении этой концепции человечество было бы избавлено от постигших его в 1939 году безмерных бедствий. Политика коллективной безопасности, важнейшим и самым могущественным проводником которой являлся Советский Союз, была политикой обеспечения мира. Она была направлена против националистической политики агрессии и экспансии и именно поэтому соответствовала подлинным интересам народов, в том числе и германского народа.
Вторая, прямо противоположная концепция—это проводившаяся влиятельными кругами западных империалистов политика «умиротворения» или «успокоения». В ее основе лежали следующие соображения:
1. В силу причин классово-политического характера надо сохранить существование национал-социализма, ибо он представляет собой «последнюю плотину западной цивилизации» против большевизма.
2. Если национал-социализм должен продолжать существовать, нужно согласиться на его экспансию.
3. Если национал-социализм нуждается в экспансии, то, само собой разумеется, его экспансия не должна быть направлена против Запада, что было бы опасно для западных держав; нужно направить экспансию национал-социализма против Востока, против славянских народов, прежде всего против социалистического Советского Союза, ибо это окажемся весьма выгодным для империалистических держав.
4. Для того чтобы дать желательное направление национал-социалистской экспансии, необходимо помочь нацистам в этом деле, убрать препятствия, закрывающие им путь на Восток. «Мир на Западе, война на
92
Востоке»—такова была коротко сформулированная программа вдохновителей политики «умиротворения» или «успокоения».
Приведенные выше аргументы, попятно, не могли привести к тому, чтобы политика «умиротворения» вызывала сочувствие английского либо французского, голландского, бельгийского или какого-либо другого народа. В последующем иуюжении я ограничиваюсь Англией, во-первых, потому, что в Англии споры относительно альтернативы ^политика умиротворения или коллективная безопасность» играли решающую роль, и, во-вторых, потому, что я благодаря моему пребыванию в Англии в те времена лучше могу обрисовать положение, сложившееся тогда там, и потому, что многие признаки говорят о том, что, например, настроения простого человека .но Франции были весьма схожи с настроениями простого человека в Англии.
В Лондоне или каком-лпбо провинциальном городе в Англии для «man tn the street», «простого человека с улицы», наиболее характерными были две черты:
1) растущая антипатия, даже отвращение к национал-социалистскому террористическому режиму;
2) глубокая любовь к миру, коренящаяся в традициях английской истории.
С тех пор как в 1066 году Англия была завоевана норманнами, ни один вражеский солдат не вступал на ее территорию. Участие Англии в больших войнах, опустошавших европейский континент, выражалось в том, что она вступала в союз со второй по силе континентальной державой против самой сильной (Испания, Франция, Германия), предоставляла субсидии и при случае посылала войска на континент; однако за период со времени завоевания Англии норманнами (1066) и до первой мировой войны (1914— 1918) борьба на континенте лишь частично затрагивала Англию, если не считать наполеоновских войн.
В течение ряда столетий, когда в самой Англии царил мир, а в континентальных столкновениях она принимала лишь косвенное участие, английский народ проникся глубокой любовью к миру. Хладнокровные и цинично расчетливые деятели, занимавшие командные позиции в английской экономике и английском государстве, предвидевшие нападение германского фашизма на Советский Союз и желавшие этого, злоупотребили любовью к миру английского народа, изображая как политику мира свою политику «успокоения», бывшую на самом деле политикой подготовки войны, и в то же время пытались оклеветать политику коллективной безопасности, которая в действительности была политикой мира.
Вдохновители политики «умиротворения» пропагандировали ложную альтернативу: либо мы сделаем уступки Гитлеру, либо он начнет войну. Между тем в действительности каждая уступка, сделанная Гитлеру, все больше приближала войну, но при худших условиях. Подлинной альтернативой по отношению к политике «умиротворения» была не война, а политика коллективной безопасности, неутомимо защищаемая Советским Союзом. Эта политика могла предотвратить вторую мировую войну и предотвратить третью мировую войну, если будут сделаны необходимые выводы из предыстории и истории второй мировой войны и если эти уроки будут учтены миролюбивыми народами. Когда после рокового Мюнхенского совещания, на котором было решено отдать Судетскую область нацистам, британский премьер-министр Невиль Чемберлен вернулся в Лондон, он на аэродроме в Кройдене, сходя с самолета, помахал листом бумаги с его и Гитлера подписями и крикнул ликующей толпе: «Отныне мир обеспечен на целые поколения!» Больше не будет новых актов нацистской агрессии. Теперь наци и их фюрер «ублаготворены».
Примерно через полгода, в марте 1939 года, случилось ужасное событие— нацисты все же совершили новый акт агрессии. То, что предвидели и предсказывали знатоки национал-социализма, произошло: германский фашистский империализм использовал Судетскую область как трамплин для нового
93
прыжка, для военной оккупации всей Чехословакии, для окончательного» уничтожения ее государственного единства и ее порабощения. Тогда разочарованные и возмущенные народные массы в Англии и во Франции заставили внести некоторые изменения в политику «умиротворения». Теперь уже стало-невозможно целиком и полностью отвергать переговоры с Советским Союзом о создании системы коллективной безопасности против основного агрессивного государства. Однако переговоры, которые под давлением масс вынуждены были начать Чемберлен и Даладье, не имели серьезного характера; затяжка начала переговоров, тот факт, что Англия и Франция послали» в Москву дипломатов и военных представителей второго ранга, причем' аоенные вообще не имели никаких полномочий для заключения обязывающих соглашений,—все это и многие другие факты свидетельствовали с достаточной определенностью, что западные державы и не думали о том, чтобы заключить с Советским Союзом гарантийный пакт, основанный на равенстве-прав и обязанностей. Более того, они вели переговоры, оглядываясь на Гитлера, которого они охотно снова «успокоили бы», если бы только он снова дал себя «успокаивать» и не действовал бы самочинно в столь грубой форме, как он это сделал в марте 1939 года. Но в первую очередь правительства западных государств вели переговоры с советским правительством для того, чтобы успокоить народные массы во Франции и Англин, возмущенные и обеспокоенные растущей угрозой войны. Правительства хотели иметь возможность сказать массам: «Смотрите, мы вступили на путь переговоров с Советским правительством, дабы помешать нацистам развязать большую войну».
В течение решающих месяцев 1939 года Советский Союз сделал три вполне выразительных предупреждения по адресу фашистских агрессоров, но тем самым и по адресу западных вдохновителей политики «умиротворения». Первое предупреждение сделал Сталин в своем отчетном докладе-на XVIII съезде ВКП(б). Второе предупреждение последовало от Жданова, опубликовавшего 29 июня 1939 года в «Правде» статью, привлекшую всеобщее внимание и озаглавленную «Английское и французское правительства не хотят равноправного договора с СССР». Заклеймив политику оттяжки и бесчисленные уловки английского и французского правительства, автор сформулировал следующий вывод:
«Все это говорит о том, что англичане и французы хотят не такого договора с СССР, который основан на принципе равенства и взаимности, хот» ежедневно приносят клятвы, что они тоже за «равенство», а такого договора, в котором СССР выступал бы в роли батрака, несущего па своих плечах всю тяжесть обязательств. Ни одна уважающая себя страна па такой договор не пойдет, если не хочет быть игрушкой в руках людей, любящих загребать жар чужими руками. Тем более не может пойти на такой договор СССР, сила, мощь и достоинство которого известны всему миру»1.
Наконец, третьим предупреждением было освобождение Литвинова-от руководства советской внешней политикой и замена его Молотовым. Правящие классы западных государств оставили без внимания все эти достаточно ясные предупреждения.
Надо было бы спросить западногерманских буржуазных историков, горячо осуждающих германо-советский пакт о ненападении, какую линию поведения они рекомендовали бы германскому народу вообще и германским солдатам в частности, если бы германо-советский пакт о ненападении не был бы заключен, если бы нацисты тотчас же вслед за вторжением и Польшу выступили против Советского Союза? Без сомнения, германские ученые и публицисты посоветовали бы германскому народу продолжать самым ревностным образяд крестовый поход против большевизма. Они осуждают Гитлера не за то, что он напал на Советский (?оюз, а за то, что-он поздно напал на СССР.
«История дипломатии», т. Ill, стр. 685.
94
Германо-советский пакт о ненападении дал народам СССР мир на полтора года. И германский народ получил мир на Востоке. Этот мир существовал бы и в дальнейшем, если бы 22 июня 1941 года нацисты, нарушив данное ими слово, не вторглись в СССР, чтобы грабить, разорять, жечь, поджигать и убивать. Утверждение, будто предстояло нападение СССР на Германию и будто Гитлер таким образом начал превентивную войну, представляет чистейшую выдумку. Это признают безоговорочно даже такие враждебно относящиеся к СССР историки, как Герхард Риттер.
Со всей определенностью нужно подчеркнуть, что летом 1939 года нацисты не стояли перед таким выбором: война на одном фронте против западных держав (и Польши) или война на два фронта. Перед ними стояла другая альтернатива: война против западных держав и Польши или война против Советского Союза. Они избрали первый вариант и хорошо знали, почему сделали такой выбор. Предусмотренная вдохновителями политики «умиротворения» программа «мир на Западе, война на Востоке» превратилась в «войну на Западе, мир на Востоке».
После того как западные державы помогли германскому империализму вновь оседлать коня, он скоро показал, на что он способен. Он показал это а форме, весьма неприятной для его покровителей. Когда германский империализм поработил Норвегию, Данию, Голландию, Бельгию и Францию, когда под угрозой оказались британские острова, центр Британской империи, тогда политика «умиротворения» йришла к своему заслуженному позорному концу.
Если подобную политику попытаются проводить в иных исторических условиях, она обречена на такой же позорный конец.
Однако расчеты Гитлера и его приспешников полностью провалились. Они потерпели крах благодаря неслыханному героизму, с которым народы Советского Союза в Великой Отечественной войне остановили агрессора, отбросили назад, преследовали его на территории Германии и прикончили в его последнем логове.
Из предыстории и истории второй мировой войны мы должны извлечь важный урок.
В Германской Демократической Республике эти выводы сделаны. Необходимо, чтобы они были поняты нашими соотечественниками в Западной Германии. Этого можно достигнуть только в результате решительной борьбы с буржуазной историографией.
Я должен сделать еще несколько замечаний о характере и периодизации второй мировой войны. Во-первых, потому, что здесь речь идет в значительной степени о научно еще не разработанной области, которая всегда привлекает историков-марксистов, точнее говоря, должна была бы их привлекать. Во-вторых, потому, что буржуазные историки, пытающиеся приукрасить политику «умиротворения» и придать ей безобидный характер, утверждают, что политика «умиротворения» прекратилась после начала войны. Английские и французские империалисты, в сентябре 1939 года усердно стремившиеся к тому, чтобы ублаготворить Гитлера, якобы поняли, что зто невозможно, решили прогнать ненасытного Гитлера и героически защищать Польшу, на которую он напал.
Можно сказать словами Фауста: «Какое зрелище! Но только зрелище, увы!»
Я надеюсь, мне удастся показать, что буржуазные историки не сводят концы с концами.
С историко-политической точки зрения вторая мировая война распадается на три периода, отчетливо отличающихся один от другого.
Первый период начался в сентябре 1939 года и окончился в июне 1940 года.
Второй—начался в июне 1940 года и закончился 22 июня 1941 года. Третий—начался 22 июня 1941 года и окончился 8 мая 1945 года.
В течение первого периода национальный элемент был воплощен в сопро
95
тивлении, оказанном польским народом вторжению германского фашизма; «днако отнюдь не национальный элемент наложил отпечаток на этот период. Гораздо более характерным для этого периода был империалистический конфликт между западными державами, с одной стороны, и нацистской Германией—с другой. При этом все дело было в размере той цены, которую требовал Гитлер за осуществление запланированного им нападения на СССР. Западные державы—под руководством британского империализма с Н. Чемберленом во главе—были, правда, готовы дать весьма высокую цену, однако все же не такую, которая была бы равнозначна их самоубийству. Вокруг размера этой цены и шла борьба в течение этого периода. С точки зрения западных империалистических держав речь шла о продолжении той же политики «умиротворения», но только при помощи других, подлинно отчаянных средств. Эти попытки зашли наиболее далеко, когда западные державы двинули против СССР Финляндию—«пешку» в политической, дипломатической и военной шахматной игре; тогда, после начала военных действий между Финляндией и СССР, Лига Наций, бывшая уже при последнем издыхании, исключила Советский Союз с поразительной быстротой, резко отличавшейся от обычной медлительности Лиги Наций. При помощи всех этих мероприятий западные державы хотели показать германскому империализму, что они готовы даже оказать ему дипломатическую и военную поддержку в войне против СССР, но при одном условии: он должен был оставить в покое Западную и Северную Европу. Но Гитлер не желал на это согласиться. Так как он испытывал спасительный страх перед Советским Союзом, он не хотел нападать на него, прежде чем будет господствовать над всем континентом к Западу от советской границы. В апреле 1940 года он окончательно отверг предложения западных держав, двинул нацистские вооруженные силы в Данию и Норвегию и развернул месяцем позднее временно успешный «блиц-криг», «молниеносную войну» против Голландии, Бельгии и Франции. Так начался второй период второй мировой войны, который длился почти год—от падения Третьей французской республики до разрыва германосоветского пакта и нападения на СССР.
Из числа разнообразных событий, происходивших в течение второго периода, я хочу выделить три существенных события.
Во-первых, после того, как политика «умиротворения» в своей последней отчаянной форме полностью [провалилась, самый отъявленный «умиротворитель»—Чемберлен был свергнут и на его место пришел Уинстон Черчилль. Это произошло 10 апреля 1940 года, в тот самый день, когда началось германо-фашистское нападение на скандинавские страны. Хотя Черчилль являлся таким же классово сознательным британским империалистом, каким был Чемберлен, между ними существовало важное политическое различие. Чемберлен видел главного врага в СССР, Черчилль—в нацистской Германии. Поэтому Чемберлен был готов идти вперед с нацистской Германией против СССР, а Черчилль готов был объединиться с СССР против нацистской Германии.
Во-вторых, после крушения Третьей французской республики во Франции пришла к власти крайне реакционная группировка, которая уже многие годы добивалась падения республики, подчинения французского империализма германскому фашистскому империализму и ради «сотрудничества» с нацистской Германией была готова пожертвовать франко-британской Антан той—союзом с Великобританией, существовавшим с начала столетия. За то время, пока значительная часть французской территории была оккупирована нацистской армией, а под ее покровительством вело свое призрачное существование марионеточно^правительство Петэна—Лаваля, выросло и окрепло французское движение Сопротивления, в котором решающую роль играла лучшая и наиболее сознательная часть французского рабочего класса.
В-третьих, когда весной 1941 года фашистская Германия начала свой «балканский поход», то народы Югославии и Греции оказали героическое сопротивление пемецким и соответственно итальянским агрессорам. В Юго-
96
славии и Греции вторая мировая война приняла характер справедливой, антифашистской, национально-освободительной войны.
Резюмируя, я могу сказать, что второй период второй мировой войны— от нюня 1940 года до июня 1941 года—носил характер переходного периода от империалистического конфликта между гитлеровской Германией и западными державами к справедливой, антифашистской, национально-освободительной войне, примем этот второй элемент явно играл все большую роль. Он приобрел решающее значение, когда германсЛш нацистский империализм, нарушив германо-советский пакт о ненападении, осуществил злодейское нападение на Советский Союз (22 июня 1941 года), чем было положено начало третьему периоду второй мировой войны. Этот период охватывает Великую Отечественную войну Советского Союза и справедливую оборонительную войну народов, находившихся в союзе с советским народом. Он закончился 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией нацистской армии, разгромом фашистского аппарата принуждения, чей заслуженный и позорный конец означал освобождение и германского народа от нацистского террористического господства.
Заказ № 1 220
В. Т. Фомин.
ГЕРМАНСКИЕ ДИПЛОМАТЫ—СОУЧАСТНИКИ ПОДГОТОВКИ ФАШИСТСКОЙ агрессии и ЛЕГЕНДА ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ИСТОРИИ
В реакционной западногерманской и американской исторической литературе и публицистике получила широкое распространение легенда об «оппозиции» и «противодействии» германских дипломатов фашистскому режиму, гитлеровской агрессии. Эта легенда особенно настойчиво пропагандируется в мемуарах бывших гитлеровских дипломатов Гасселя \ Вепцзекера 2, Э. Кордта3, П. Шмидта4. Даже такие военные преступники, как Риббентроп5, Папен®, гитлеровский посол Дирксен 7, стремясь снять с себя ответственность за преступления фашистского режима, пытаются доказать, что они якобы не одобряли агрессивных планов Гитлера. Известно, что эта легенда явилась главным козырем защиты на заседаниях Международного военного трибунала над главными немецкими военными преступниками, а также на процессе над руководящими чиновниками германского министерства иностранных дел (процесс «Вильгельмштрассе», организованном американскими властями в Нюрнберге в 1947—1948 годах.
Активная роль в распространении этой легенды принадлежит также американским контрразведчикам и пропагандистам. Большинство этих мемуаров гитлеровских чиновников было издано по американским лицензиям, под редакцией или с предисловием бывшего начальника американской военной разведки Вильяма Доновена или известного американского разведчика Аллена Даллеса 8 (см. его предисловие к мемуарам Гасселя и т. д.). В своих мемуарах, которые называются «Германское подполье», Аллен Даллес выступает в роли создателя и активного пропагандиста этой легенды. Широкое распространение эта версия получила также в трудах западногерманских и американских историков, публицистов и писателей: в работах Риттера9, Пехеля 10, в книге американского историка Пола Сэберп11, специально посвященной истории дипломатического ведомства фашистской Германии.
'Hassel, Ulrich, Vom anderen Deutschland, Aus den nachgelassenen Tap-biichern 1938—1944. Zurich und Freiburg, 1947.
2 Weizsacker, Ernst, Erinnerungen, Munchen—Leipzig—Freiburg, 1950.
3 К or d t, Erich, Wahn und Wirklichkeit, Stuttgart, 1948.
4 Schmidt, Paul, Statist auf diplomatischer Biihne (1923—1945), Bonn, 1949.
5 Ribbentrop, Joachim, Zwischcn London und Moskau, Starnbergen Sec, 1954.
6 Pape n, Franz, Der Wahrheit cine Gasse, Munchen, 1952.
’Dirksen, Herbert, Moskau, Tokio, London, Stuttgart, 1950.
8 D a 1 1 e s, Allan, Verschvorung in Deutschland, Zurich, 1948; G ise v i us, Hans Bernd, Bis zum bi^eren Ende, Zurich, 1946; Schlabrendorf, Fabian, Offizierc gegen Hilter, Zurich, 1946. *
8 Ritter, Gerhard, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, Stuttgart^ 1954.
10 P e c h e 1, Rudolf, Deutscher Widerstand, Erlenbach-Ziirich, 194’’
11 Seabury, Paul, The WilhelmstraBe, A Study of German diplomats under the Nazi regime, Berkeley and Judeles, 1954.
98
Авторы указанных работ с помощью фальсификации фактов и документов стремятся показать гитлеровских дипломатов в роли носителей «благородных» традиций германской истории, «враждебно» относившихся к агрессивной политике германского фашизма.
Эта легенда является составной частью милитаристской идеологии западногерманского империализма.
Проводя политику превращения Западной Германии в заповедник фашизма и агрессии, возрождая вермахт, империалисты также стремятся наряду с гитлеровскими генералами и эсэсовскими офицерами, фашистскими юристами—палачами народов использовать дипломатические кадры фашистского рейха для подготовки агрессивной войны.
Ныне большинство постов в дипломатическом ведомстве Западной Германии занимают закоренелые фашисты. Еще 16 октября 1951 года Аденауэр признал в бундестаге, что из 383 служащих МИД’а ФРГ 138 служили при Риббентропе и 134 были членами фашистской партии1. Во время судебного процесса в Карлсруэ над Коммунистической партией Западной Германии представители КПГ предъявили список 34 служащих боннского МИД’а, рапсе являвшихся активными членами фашистской партии. Суд вынужден был признать этот список «соответствующим истине»1 2.
В настоящее время число гитлеровских дипломатов, находящихся на дипломатической службе, увеличилось: фашист Отто фон Бисмарк, бывший начальник политического отдела германского МИД’а и гитлеровский посол в Риме в 1940 году, является заместителем германского делегата в Европейском совете; Теодор Кордт, бывший советник германского посольства в Лондоне, один из инициаторов англо-германского империалистического сговора в 1938—1939 годах, ныне посол ФРГ в Афинах; Фриц Твардовски, крупный чиновник германского МИД’а периода Веймарской республики и гитлеровского рейха, посол в Мексике; важный пост по подготовке дипломатических кадров в Западной Германии занимает бывший начальник отдела переводов МИД’а Германии, доверенное лицо Гитлера Пауль Шмидт и др.
Легепда об «оппозиции» помимо реабилитации гитлеровских дипломатов, вновь призванных германскими империалистами для подготовки агрессивной войны, имеет также и другую цель. Она должна помочь идеологическому обоснованию проамериканского курса внешней политики правительства Аденауэра, политики тесного сотрудничества с агрессивным Североатлантическим блоком.
В связи с этим западногерманские и американские реакционные историки и публицисты поднимают па щит германских дипломатов, являвшихся сторонниками американо-английской ориентации.
Германское министерство иностранных дел, так же как и генеральный штаб вермахта, являлось центром, где разрабатывались и откуда исходили наиболее агрессивные планы германского империализма. Германские дипломаты, подобно генералам, рекрутировались в первую очередь из прусского юнкерства, из южногерманской аристократии, а также из семей крупных торговцев и промышленников и являлись ярыми сторонниками наиболее реакционных режимов.
В связи с тем, что после поражения в первой мировой войне был дискредитирован не только генеральный штаб, но также и кайзеровское дипломатическое ведомство—в глазах общественности оно было пе менее ответственным за войну, чем генералитет,—правящей клике Веймарской республики приходилось совершать ряд маневров, чтобы, как и в случае с генеральным штабом, сохранить в неприкосновенности и дипломатическое ведомство, его
1 См. Warburg, James Р., Germany—Key to Peace, Gambridge, 1953, pp. 173—174.
2 «Белая книга о процессе йротив Коммунистической партии Германии», Издательство иностранной литературы, М., 1956, стр. 173—175.
99
7*
кадры для подготовки реваншистской войны. Несмотря на многочисленные речи, произносимые лидерами социал-демократов в рейхстаге о необходимости замены профессиональных дипломатов—аристократов «политиками» и «парламентариями», дальше этого дело не пошло.
В двадцатых годах вес основные дипломатические посты были заняты кайзеровскими дипломатами.
В 1929 году из 15 важнейших дипломатических миссий за границей 13 возглавлялись лицами, служившими в дипломатическом ведомстве при кайзере (Леопольд фон Геш—посол в Париже, затем Лондоне, Вильгельм Зольф—посол в Токио, Адольф Мюллер—посол в Берне и т. д.)1.
Все эти дипломаты были монархистами, сторонниками крайней реакции. «С детства,—пишет Вейцзекер,—еще со школьной скамьи я был монархистом»1 2.
Германским дипломатам, так же как монополистам и генералам, принадлежала немалая «заслуга» в установлении фашистского режима в Германии, который они рассматривали как панацею против ненавистной им демократии и как орудие агрессии. После установления гитлеровской диктатуры германские дипломаты получили такую власть, такую возможность для своей деятельности, какими они никогда не располагали. Им не нужно было больше считаться с контролем рейхстага, с общественным мнением, с печатью. Фашистский террористический режим создал весьма благоприятные условия для внешнеполитических авантюр, для замены дипломатии политикой вероломства и разбоя, а международного права—методом полицейского кулака и бряцания оружием, что стало «кодексом» части гитлеровских дипломатов.
Не случайно германские дипломаты (Нейрат, Отто Бисмарк, Вильгельм Зольф и др.) встретили приход к власти гитлеровцев как осуществление своих надежд для возобновления борьбы за мировое господство.
Отто Бисмарк (советник германского посольства в Лондоне) уже в 1933 году вступил в фашистскую партию, В. Зольф, будучи вице-президентом Штутгартского института по укреплению связей с зарубежными немцами, начал создавать «пятую колонну» за границей и т. д.
Гитлеровцы в первые месяцы своей диктатуры предпринимали попытки использовать для выполнения дипломатических поручений своих гауляйтеров. Однако зти попытки эмиссаров Гитлера выступить на международной арене привели к ряду скандалов и закончились весьма плачевно. Розенберг, Лей, Рейнгардт,. Гейдрих, Теодор Гибихт, выезжавшие в Женеву, Рим Лондон с различными дипломатическими поручениями, оставили о себе печальную славу.
Фашистской террористической диктатуре монополистического капитала не было никакой нужды заменять чиновников дипломатического ведомства, которые проявили себя в качестве верных слуг германского империализма. Гитлеровцы широко использовали профессиональных дипломатов — аристократов; их международные связи, громкие титулы, светский лоск, красноречие—все это способствовало сближению гитлеровцев с аристократическими кругами других стран и облегчило маскировку их агрессивных планов. Как сообщает американский историк Сэбери, семь начальников отделов МИД’а Германии, находившиеся на службе к 30 января 1933 года и служившие в дипломатическом ведомстве еще до первой мировой войны, продолжали оставаться на своих постах и после установления фашистской диктатуры3. В дипломатических миссиях фашистской Германии за границей аристократы были представлены даже шире, чем в период Веймарской республики.
1 S е а Ь и г у, Paul, Op. cit., р. 10.
2 W с i z s а с к о г, Ernst. Op. cit., S. 106.
3 S e a b u r y, Paul, Op. cit., p. 26.
100
I
Вейцзекер и другие пытаются доказать, что будто бы после захвата власти фашистами дипломаты, опасаясь за судьбу Германии, не желали оставлять свои посты из патриотических побуждений.
«Я был согласен с Бюловым (статс-секретарем МИД’а),—пишет Вейцзекер,—что нельзя»было дезертировать. Мы принадлежали к числу тех лиц, без которых нельзя было обойтись»1.
Реакционные историки и пропагандисты создают легенду о том, что в германском МИД’е в годы фашистской диктатуры существовала «группа Сопротивления», состоявшая из дипломатов-аристократов.
«Особую роль,—пишет Пехель,—играла «группа Сопротивления» в МИДов 1 2. Он причисляет к этой группе братьев Теодора и Эриха Кордт, Твардовски, Бюлова, Вейцзекера, Шуленбурга, Гасселя, Надольного и др.
Как рассказывает Вейцзекер, в 1936 году в кулуарах съезда фашистской партии в Нюрнберге он обсуждал с дипломатами вопрос об оставлении дипломатической службы.
«Здесь,—пишет он,—мы снова пришли к выводу, что было бы бессмысленно находиться в стороне от происходящих событий... Специалисты не должны покидать свои посты для замещения их опасными дилетантами» 3.
Вейцзекер, Кордт и другие фальсификаторы истории пытаются доказать, что немецкие дипломаты, «отрицательно» относившиеся к фашистскому режиму, остались на своих постах также и потому, что им «не были известны внешнеполитические цели фашизма, а то, что они знали, они не могли принять всерьез»4. Личный переводчик и доверенное лицо Гитлера Пауль Шмидт в целях популяризации этой версии даже назвал свои мемуары «Статист на дипломатической арене»5 *.
В работах буржуазных авторов предпринимается немало попыток реабилитации даже такого военного преступника, как барон фон Нейрат, приговоренного Международным военным трибуналом в Нюрнберге к 15 годам тюремного заключения. Вейцзекер, Э. Кордт пишут, будто Нейрат был введен в кабинет Гитлера Гинденбургом для того, чтобы «сдерживать крайности фашистского режима».
«Его [Нейрата] внешнеполитической программой,—пишет Вейцзекер,— была мирная эволюция» **.
Однако американский посол в Австрии Мессершмидт еще в 1935 году следующим образом характеризовал значение деятельности дипломатов старой школы в гитлеровском рейхе.
«Европа не может избавиться от мифа о том, что фон Нейрат, Папен, Маккензеп являются дипломатами старой школы и людьми неопасными. На самом деле они являются лишь послушным орудием режима, и именно потому, что внешний мир смотрит на них как на безвредных людей, они могут работать более эффективно. Они могут проводить политику раздора просто потому, что распространяют миф о том, что не поддерживают фашистский режим»7.
Факты показывают, что германские дипломаты после захвата власти гитлеровцами не только не выступали в роли «статистов», «пассивных наблюдателей» или «противников» фашистского режима, но активно содействовали подготовке агрессивной войны и создавалп благоприятные внешнеполитические условия для этой агрессии.
1 W е i z s а с k е г, Е г nsl, Op. cit., S. 106.
2 P с c li с 1, Rudolf, Op. cit., S. 108.
3 Wcizsacker, Ernsl, Op. cit., S. 125.
4 Ibid., S. 103.
’Schmidt, Paul, Op. cit.
“Wcizsacker, Ernst, Op. cit., S. 134.
7 Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства (в дальнейшем—ЦГАОР). «Материалы и документы Нюрнбергского процесса», фонд 7445, д. № 62, л. 274.
101
II
Следующим аргументом фальсификаторов истории, который должен подтвердить их легенду о противодействии германских дипломатов агрессивным планам гитлеровцев, является утверждение, что при гитлеровцах министерство иностранных дел не играло какой-либо значительной роли в решении внешнеполитических вопросов и что его функции были переданы специальным внешнеполитическим органам, созданным в фашистской партии.
Действительно, помимо министерства иностранных дел, в фашистской Германии имелся ряд других учреждений, занимавшихся внешнеполитическими вопросами.
В 1933 году в гитлеровской партии было создано «бюро Риббентропа», в задачу которого входил перехват шифрованной переписки иностранных государств и организация подрывной деятельности за границей. Перед войной аппарат «бюро» состоял из 300 человек1. В нем служили сынки аристократов, офицеры в отставке, а также артистки, продавщицы, лица без всяких профессий и такие лица, как Отто Абец, Генрих Штамер, Барон Штейпгарт, Мартин Лютер, Вальтер Хевель и другие, сыгравшие позже большую роль в установлении фашистского «нового порядка» в Европе. Риббентроп установил тесный контакт с фашистскими элементами в Англии и Франции — де Бриноном, лордом Ротермнром, Фланденом, Гамильтоном и другими.
На Нюрнбергском процессе, а также в своих мемуарах Риббентроп пытался скрыть подрывную деятельность этой организации и изображал ее как учреждение, занимавшееся только вопросами «культурных связей» Германии с другими странами 1 2.
В действительности «бюро Риббентропа» сыграло значительную роль в подрыве безопасности народов, в создании «пятых колонн» в других странах.
Даже п период пребывания Риббентропа на посту посла в Лондоне (1936—1938 годы) он оставался руководителем «бюро», часто выезжал в Берлин и инструктировал своих сотрудников. В министерстве иностранных дел Германии имелся специальный чиновник для связи с «бюро Риббентропа». Этим чиновником и был Эрих Кордт, позже назначенный начальником секретариата министерства иностранных дел3. Реакционные публицисты и историки (А. Даллес, Гизевиус, Пехель, Риттер), изображая Э. Кордта в качестве центральной фигуры «оппозиции» в германском МИД’е, тщательно скрывают его связь с «бюро Риббентропа». Странную забывчивость проявляет в своих мемуарах и Эрих Кордт. Он вовсе не упоминает о деятельности этого «бюро» и тем более о своих связях с ним.
Первого апреля 1933 года в нацистской партии было создано «Внешнеполитическое бюро» Розенберга.
Основной его задачей, как неоднократно об этом говорил сам Розенберг, было руководство подрывной деятельностью против СССР и стран Восточной Европы, являвшихся ближайшим объектом германской империалистической агрессии.
«Внешнеполитическое бюро» Розенберга работало в тесном контакте с министерством иностранных дел и верховным командованием вооруженных сил. Оно сыграло большую роль в подготовке фашистской агрессии в страны Восточной и Северной Европы.
Одной из важных внешнеполитических организаций являлся также Иностранный отдел—Ausland Organisation (далее упоминается как АО)— фашистской партии, возглавляемый гауляйтером Боле, направлявший деятельность немцев—членов»фашистской партии, подданных Германии, проживавших за границей. Все сведения, собранные БоНе, передавались в гестапо, контрразведку и МИД. Деятельность представителей Иностран
1 S е а Ь и г у, Paul, Op. cit., р. 52.
2 Ribbentrop, Joachim, Op. cit., S. 102.
3 Seabury, Paul, Op. cit., S. 100.
102
ного отдела фашистской партии и других агентов координировалась и направлялась германскими послами и посланниками.
13 фашистской Германии существовало еще так называемое «Volksdeulsche Millelstelle»—учреждение, занимавшееся организацией подрывной деятельности среди немцев, проживающих за границей, но ие являвшихся подданными Германии. Этим учреждением руководил заместитель Гиммлера, обер-группенфюрер СС Лоренц, а также фашистский идеолог, профессор Гаусгофер.
Мнимые «статисты» из германского министерства иностранных дел, нарушая элементарные нормы международного права, использовали также широко разветвленные связи германских монополий, которые снабжали их весьма ценной военно-экономической и политической информацией. Особенно активную разведывательную и шпионскую деятельность осуществляли заграничные агенты «И Г Фарбениндустри». Многие агенты этого концерна нанимали руководящие посты в заграничных организациях фашистской партии (АО) и тесно сотрудничали с германскими дипломатическими миссиями. Отчеты иностранных агентов концерна передавались в министерство хозяйства, в экономический штаб верховного командования вооруженных сил и в министерство иностранных дел.
13 архиве концерна Круппа обнаружены документы, так называемый меморандум Зонненберга и другие, раскрывающие связи концерна с «бюро Риббентропа» н министерством иностранных дел.
Риббентроп в мемуарах, стремясь замести следы своих кровавых преступлений, пишет, что будто бы он вступал в частые конфликты с Геббельсом, с начальником партийной канцелярии Борманом и особенно с иностранным отделом фашистской партии. Риббентроп пытается доказать, что организации иностранного отдела фашистской партии в других странах не имели никакого отношения к вопросам внешней политики и что он несколько раз давал указание германским дипломатическим миссиям оказывать им помощь, только выполняя приказ руководства фашистской партии.
Но, как показывают факты и документы, гитлеровцы, создавая эти организации и учреждения, стремились еще больше активизировать подрывную деятельность в других странах. Совместно с официальными германскими дипломатами они должны были деморализовать противника еще в мирное время, усыпить его бдительность и подготовить условия для его разгрома и порабощения.
Нейрат провел ряд мероприятий по координации деятельности всех этих учреждений, занимавшихся вопросами внешней политики. С этой целью руководитель иностранного отдела фашистской партии (АО) Боле в 1937 году был возведен в ранг статс-секретаря министерства иностранных дел. В каждой германской миссии за границей имелся специальный представитель этого отдела.
МИД действовал также в тесном контакте с «Абвер» (отделом контрразведки верховного командования вооруженных сил), с гестапо и службой безопасности (СД). В МИД’е имелся свой разведывательный отдел, а также специальный чиновник, осуществлявший связь с Гиммлером и СС.
Позже, в 1944 году, это сотрудничество и координация разведывательной деятельности министерства иностранных дел и гестапо были закреплены специальным соглашением, подписанным Гиммлером и Риббентропом. В соглашении говорилось: «Министерство иностранных дел оказывает секретной разведывательной службе любую и всевозможную помощь. Имперский министр иностранных дел будет, насколько это явится возможным, включать определенных сотрудников разведывательной службы в состав заграничных представительств»х.
В свою очередь СД и СС обязались собранные ими секретные разведывательные сведения передавать министерству иностранных дел.
1 ЦГАОР, ф. 7445, 1948, л. 274.
103
Таким образом, трудно было найти, где кончалась деятельность гестапо, контрразведки и других подрывных организаций гитлеровцев и где начиналась деятельность дипломатов. Германские дипломатические миссии, торговые представительства, контрразведка, учреждения фашистской партии, агенты германских монополий в тесном контакте вели подрывную деятельность в других странах и готовили против них фашистскую агрессию.
Ill
Для доказательства «оппозиционности» дипломатов гитлеровскому режиму буржуазные историки часто ссылаются на некоторые перемены, произведенные в иностранном ведомстве Германии в начале 1938 года, накануне аншлюса Австрии. 4 февраля 1938 года вместо Нейрата министром иностранных дел был назначен Риббентроп, в Токио вместо Дирксена, назначенного послом в Лондон, был направлен генерал Отт. Гассель был отозван из Рима п вместо него послом был назначен сын известного фельдмаршала—Маккензен. В связи с отставкой Гасселя распространяется особенно много легенд.
Перемещения, произведенные гитлеровцами в конце 1937 —начале 1938 года в руководстве вермахтом («кризис» Фриче), военной экономикой (отставка Шахта), в дипломатическом ведомстве, объясняются тем, что после завершения перевооружения страны и разработки планов агрессии на решающих постах в армии, экономике, иностранном ведомстве они желали иметь более последовательных сторонников своей авантюристической политики. Среди германских монополистов, генералов, дипломатов не было разногласий по вопросу направления агрессии «Drang nach Osten», являвшейся основой внешнеполитической программы гитлеровцев.
Однако представители старой прусско-германской аристократии п монополистов еще хорошо помнили печальные уроки истории, заветы Бисмарка и других идеологов германского империализма об опасности для Германии войны на два фронта, о «кошмаре коалиции» и т. д. Несмотря па создавшуюся благоприятную для фашистской агрессии внешнеполитическую обстановку, несмотря на политику поощрения агрессии правительствами западных империалистических держав, среди части правящих кругов фашистской Германии продолжало существовать опасение, что авантюристическая внешняя политика правительства может вовлечь Германию в мировую войну, к которой она еще не была подготовлена. Эта часть правящих кругов Германии также была тесно связана с англо-американскими империалистами н не желала разрыва с ними. Гассель и другие понимали военную слабость и неподготовленность Италии как союзника в предыдущей войне. Поэтому Гассель, братья Кордт и некоторые другие германские дипломаты, подобно генералу Беку, вопреки официальному курсу фашистского правительства, выражали опасение в связи с угрозой разрыва с западными державами х.
В связи с этим к руководству министерства иностранных дел, как и к руководству вермахта, а также в качестве послов в страны—союзницы гитлеровской Германии были призваны такие же фашисты, но более последовательные сторонники авантюристической агрессивной политики германского империализма.
Заслуги Нейрата, Гасселя и других также не были забыты германскими империалистами. Барон Нейрат был назначен председателем тайного кабинета министров, Ульрих фен Гассель был назначен на руководящий пост в так называемый Центральноевропейский экономическт! совет (Mittel-europaischer Wirtschaftstag)—крупное объединение монополистов Германии, занимавшееся мобилизацией экономических ресурсов стран Восточной
1 S е а Ь и г у, Paul, Op. cit., S. 122.
104
Европы, представлявшее интересы «ИГ Фарбениндустри», концерна Круппа и других монополистов.
Ряд буржуазных историков-публицистов рассматривает назначение Риббентропа на пост министра иностранных дел и другие перемещения в иностранном ведомстве как «революцию» в германской внешней политике 4. Будто бы с этого времени Гитлер больше не считался с мнением дипломатов, окончательно оттеснил их от участия в решении внешнеполитических вопросов и они не принимали участия в подготовке аншлюса Австрии, в захвате Чехословакии, в подготовке войны с Польшей.
В действительности к этому времени подавляющее большинство германских дипломатов стали членами фашистской партии и прочно связали себя с преступным гитлеровским режимом.
Свое назначение на пост статс-секретаря (февраль 1938 года) Вейцзекер стремится изобразить не как показатель доверия к нему гитлеровцев, а как автоматический перевод с ранее занимаемого им (с 1936 года) тоже весьма ответственного поста начальника политического отдела МИД’а па освободившуюся вакансию в связи с уходом Маккензена.
В целях реабилитации гитлеровских дипломатов Вейцзекер пытается выступать под чужим флагом, использовать популярное среди народов знамя антифашистской борьбы, знамя борьбы за мир. «Для иностранного ведомства,—пишет Вейцзекер,—борьба за мир во всем мире была высшей обязанностью. Этой цели мы посвящали все наши силы. Я и решил принять этот пост для того, чтобы продолжать эту борьбу и ликвидировать пропасть, образовавшуюся между новым министром и нашим ведомством» 2.
«Весьма скромным,—пишет Вейцзекер,—было участие МИД’а в аншлюсе Австрии» 3. Всю ответственность за подготовку аншлюса он возлагает на Гитлера, Геринга, Риббентропа.
Однако Вейцзекер не желает распространяться о тех чинах и почестях, которые посыпались на него и на других дипломатов после захвата Австрии, что являлось признанием Гитлером их заслуг в деле аншлюса.
В апреле 1938 года Гитлер присвоил Вейцзекеру высокий эсэсовский чин—обергруппенфюрера (генерала) СС, а начальнику политического отдела МИД’а Эрнсту Верману—чин штандартенфюрера СС. Эсэсовские чины были присвоены и другим сотрудникам министерства иностранных дел. Все они, в том числе Риббентроп, Вейцзекер, Верман, носили эсэсовскую форму4. Ныне Вейцзекер стремится умалить значение этих фактов. Он пишет, что в борьбе за подлинную цель, то есть за «сохранение мира», он должен был идти на такие жертвы, что ради этого готов был носить не только черный мундир эсэсовца, но даже зеленый и красный мундир5.
Особенно много пишут гитлеровские дипломаты о своей «оппозиционной» деятельности летом и осенью 1938 года, накануне захвата Чехословакии.
Эрих Кордт утверждает, что будто бы накануне и в дни мюнхенского сговора фашистский режим переживал критические дин. В это время, ио его словам, часть генералов и дипломатических чиновников готовили государственный переворот в Германии.
Действительно, часть представителей правящих кругов фашистской Германии летом и осенью 1938 года опасалась, что авантюристическая политика Гитлера может вовлечь Германию в мировую войну. Это опасение, проявлявшееся в момент аншлюса Австрии, особенно усилилось при подготовке захвата Чехословакии, которая была связана договором о взаимопомощи с Францией и СССР.
1 S е а Ь и г у, Paul, Op. cit., р. 91.
2 Wei z sacker, Ernst, Op. cit., S. 145.
3 Риббентроп также пишет, что будто бы, находясь в Лондоне, он не знал о планах Гитлера в отношении Австрии и услышал об этом только из сообщения, передававшегося по радио. См. Ribbentrop, J oachim, Op. cit., S. 136.
4 Seabury, Paul, Op. cit., S. 103.
5 W e i z s a c k e r, Ernst, Op. cit., S. 153.
105
Эта группировка в правящих кругах Германии, к которой принадлежала часть монополистов во главе с Тиссеном, некоторые генералы и дипломаты, была недовольна тем, что Гитлер при поддержке стоявших за ним империалистических сил, вместо того чтобы готовиться к непосредственному нападению на СССР, начал осуществлять в Европе весьма рискованные агрессивные действия, нарушавшие интересы англо-франко-американских империалистов, что могло привести Германию к конфликту с этими странами. Поэтому часть представителей гитлеровской верхушки для избежания такой случайности предпринимала меры помимо официальных каналов для примирения обострившихся империалистических противоречий и разрешения их путем организации крестового похода всей международной империалистической реакции против страны социализма. Эти происки наиболее последовательных сторонников мюнхенской политики и правящих кругах фашистской Германии реакционные историки и публицисты и пытаются использовать для доказательства наличия в правящих классах Германии «оппозиции» гитлеровскому режиму.
Вейцзекер пишет, что в августе 1938 года он собирался подать в отставку. В те дни и происходит его сближение с начальником генерального штаба генерал-полковником Беком *, который уговорил его не оставлять службу в министерстве иностранных дел, так как он мог использовать свой пост для сохранения мира. «В случае моей отставки Третья империя потеряла бы еще одного солдата»,—пишет Вейцзекер 1 2.
Вейцзекер, Кордт, Даллес, Гизевиус, вслед за ними Риттер и другие буржуазные историки и пропагандисты пытаются доказать, что летом 1938 года, в период чехословацкого кризиса, «оппозиционные» германские дипломаты, действуя в тесном контакте с генералами, развили активность, направленную на то, чтобы помешать осуществлению гитлеровского агрессивного плана против Чехословакии и составили свой «контр-план». Если генералы должны были действовать в Берлине, то германские дипломаты активизировались в Лондоне. Как пишет Эрих Кордт, они сообщали английскому правительству о неподготовленности германской армии и о незавершенности ее вооружения, проинформировали Чемберлена о сроке, назначенном для «переворота» (между 14 и 16 сентября), в день, когда Чемберлен должен был посетить Гитлера 3.
Однако в результате того, что Чемберлен согласился на созыв Мюнхенского совещания и пошел на капитуляцию перед Гитлером, эта сделка не состоялась. Правящие круги Англии заявили представителям «оппозиции», что они делают ставку на Гитлера, так как поел о дний^ является «бастионом против мировой революции»4.
Далее Вейцзекер с восхищением пишет о мюнхенском сговоре империалистов. «Я признаю без оговорок,—пишет Вейцзекер,—что день подписания мюнхенского соглашения был последним счастливым днем в моей жизни» 5 6.
Дирксен, близко знавший Вейцзекера и братьев Кордт, отмечает в своих мемуарах, что только после войны, па Нюрнбергском процессе, он услышал о том, что братья Кордт (один из которых являлся при нем советником посольства в Лондоне), а также Вейцзекер «участвовали в движении Сопротивления» *. Риббентроп в своих заметках также писал, что при каждом внешнеполитическом успехе Германии они выражали большую радость и «сердечно поздравляли его» 7. «Никогда в разговоре со мной,—пишет Риббентроп,—Вейцзекер не выражал недовольства внешней политикой Германии» 8 и далее: «С Кордтом я часто обсуждал важные политические
1 Wei zsacker, Е ьп s t, Op. cit., S. 172.
2 Ibid., S. 173. •
3 К ord t, E rich, Op. cit., S. 129.
4 Dulles, Allan, Op. cit., S. 42.
3 Wei zsacker, Ernst, Op. cit., S. 193.
6 Dirksen, Herbert, Op. cit., S. 224.
7 Ribbentrop, Joachim, Op. cit., S. 278.
8 Ibid., S. 279.
106
«опросы. Однако он никогда пе высказал мне недовольства пашей внешней политикой...» х.
Бывший сотрудник германского МИД’а, в 1939 году эмигрировавший из Германии, В. Путлиц также пишет: «Советником посольства в Лондоне стал вместо Вермана Теодор Кордт, старший брат Эриха Кордта, заведующего приемной ^Риббентропа. Как п Дирксен, Кордт являлся поборником германской экспансии па Восток и поэтому считал, что от Англии следует добиваться благожелательного отношения, если даже не активной поддержки»
Вейцзекер, братья Кордт и другие чиновники германского МИД’а пе только не были противниками захвата Чехословакии и других агрессивных актов гитлеровцев, но приняли активное участие в их подготовке п осуществлении. Документы из архива германского министерства иностранных дел, которые оказались в числе трофеев, захваченных советскими войсками после пх победоносного вступления в Берлин, полностью изобличают Вейцзекера, Кордта и других германских дипломатов в подготовке захвата Чехословакии и в других преступлениях гитлеровского правительства. Так, например, 29 марта 1938 года на специальном совещании в германском министерстве иностранных дел по так называемому «Судсто-немец-кому вопросу», проходившему под председательством Риббентропа, присутствовали статс-секретарь фон Маккензеп, мииистерпаль-директор Вейцзекер, посланник иДТраге Эп.зеплор, легационный советник с правом доклада фон Твардовски, легациопные советники Альтенбург и Кордт. Вместе с сотрудниками министерства иностранных дел в совещании участвовали от Центрального бюро «фольксдейче»—обергруппенфюрер СС Лоренц и профессор Гаусгофер, а также представители судетских гитлеровцев—Генлейн, Франк и др. 1 2 3
Позже Вейцзекер принимал участие в конференции в Годесберге и в других переговорах, где решалась судьба Чехословакии4. Он договорился с правительством санационной Польши о ее участии в агрессии против Чехословакии.
«Господин Вейцзекер,—доносил 29 сентября 1938 года польский посол . 111ПСКИЙ в Варшаву,—имевший перед собой карту генерального штаба, отметил, что он хотел бы, чтобы завтра наш военный атташе, с соответствующим компетентным лицом из штаба, нанес на карте демаркационную линию с тем, чтобы на случай возможных операций ие произошло столкновения между нашими вооруженными силами» 5 6.
Активное участие в подготовке расчленения Чехословакии принял н Эрих Кордт. Накануне войны ио поручению гитлеровского правительства он развил большую активность по достижению англо-германского антисоветского сговора. С этой цэлыо он вступил в тесный контакт с мюнхенскими кругами английской буржуазии и руководящими лицами английского правительства, в частности с советником Чемберлена Горацием Вильсоном *. Во время тайных переговоров с пим Теодор Кордт подготовил империалистическую сделку, которая затем была завершена в Мюнхене7.
Большую активность проявили Вейцзекер и Кордт при подготовке империалистического сговора с Англией за счет народов Восточной Европы летом 1939 года при подготовке нападения на Польшу.
Среди документов, предъявленных в 1948 году на процессе над сотрудниками «Вильгельмштрассе», имеется заметка Вейцзекера, в которой ска
1 Ribbentrop Joachim, Op. cit., S. 279.
2 В. Пут л и ц, По пути в Германию, Издательство иностранной литературы, М., 1937, стр. 218—219.
3 См. «Документы и материалы канула второй мировой войны», т. I, стр. 114.
1 Там же, стр. 257.
5 Там же, стр. 270.
6 «Документы и материалы кануна второй мировой войны», т. II, стр. 34.
7 Там же, стр. 35.
107
зано: «Мы всегда должны иметь в виду военное решение вопроса о Данциге и переложить вину за это на Польшу» *.
Не случайно об этих фактах они не желают распространяться в своих мемуарах.
Опубликованные советским правительством документы из архива Германского МИД’а и другие материалы показывают, что ни Вейцзекер, пн Кордт, ни другие германские дипломаты были не «пассивными» исполнителями планов гитлеровцев или «статистами», а являлись активными проводниками агрессивной внешней политики германского империализма.
IV
Фальсификаторы истории далее пытаются создать впечатление, что будто бы после начала войны основные вопросы внешней политики решались Риббентропом и небольшой группой его приближенных, а дипломаты якобы почти совсем прекратили свою деятельность. В свою очередь Риббентроп в показаниях на Нюрнбергском процессе, а также в мемуарах утверждал, что н вопросах внешней политики решающая роль принадлежала Гитлеру, который даже составлял сам тексты нот и вел переговоры с иностранными государствами, а министр иностранных дел будто бы только иногда мог высказывать свою точку зрения. Риббентроп вопреки фактам пытался доказать, что дипломатическое ведомство не имело никакого отношения к военным вопросам. После же 1941 года министерство иностранных дел будто было вовсе отстранено от дел, связанных с «Восточным пространством», так как эти вопросы находились в ведении министерства, возглавляемого Розенбергом2. В связи с тем, что Гитлер не считался с его мнением, а также в связи со столкновением с Гессом и Герингом, пишет Риббентроп, он трижды просил Гитлера дать ему отставку с поста министра, но последний ответил отказом3.
Однако, как показывают факты, с началом войны чиновники дипломатического ведомства вместе с немецко-фашистскими войсками, вместе с отрядами СС приняли участие в порабощении и ограблении пародов, в установлении фашистского «нового порядка» в Европе. Представители МИД’а сопровождали германские армии в их грабительских походах на Западе и Востоке Европы.
В министерстве иностранных дел были созданы отделы по делам военнопленных, политических заключенных в оккупированных странах и т. д. Чиновники министерства иностранных дел принимали участие в самых кровавых преступлениях гитлеровцев—истреблении еврейского и других народов, насильственном угоне населения оккупированных стран па каторжные работы в Германию, в наборе рекрутов в соединения СС. Большая часть сотрудников МИД’а работала в тесном контакте с гестапо4. Германские дипломаты проводили маскировку террористических действий гитлеровцев в оккупированных странах.
Дипломатические отношения Германии с другими странами весьма сократились, и она имела свои представительства только в 22 государствах, главным образом в странах—сателлитах Германии'’. Но сотрудники МИД’а не остались без дела. Германские дипломаты участвовали в вербовке рабочих на военные предприятия Германии из нейтральных и вассальных стран, с этой целью они оказывали давление на правительства. Специальные команды (зопдеркомапдос) под руководством чиновников МИД’а наступали
1 «Der Tagesspiegel», 14 Januar 1948.
2 Ribbentrop, Joachim, Op. cit., S. 130.
3 Ibid., S. 123.
4 Seabury, Paul, Op. cit., S. 142.
5 Ibid., S. 112.
108
имеете с войсками и захватывали в оккупированных странах культурные ценности, библиотеки, архивы.
Германское министерство иностранных дел нарушало элементарные нормы международных прав в обращении с дипломатическими представителями других стран, ставшими жертвами фашистской агрессии.
Так, например, после нападении па Югославию в апреле 1941 года около 200 сотрудшфов югославских дипломатических миссий в Германии, пользовавшихся правом иммунитета, пожелали выехать в Швейцарию. Однако при содействии МИД'а Германии они были арестованы гестапо и заключены в концентрационные лагеря; большинство из них было замучено до смерти эсэсовцами1.
Неслыханное вероломство в истории цивилизованных народов проявили германские дипломаты при подготовке нападения на СССР. Несмотря па то, что между Германией и Советским Союзом имелся договор о ненападении, германские дипломаты вместе с генералами готовили агрессивную войну против СССР.
Германские дипломаты при подготовке агрессивной войны против СССР стремились к тому, чтобы полностью изолировать Советский Союз в дипломатическом отношении, создать против него коалицию империалистических государств всего мира. Еще 18 мая 1941 года германское министерство иностранных дел подготовило декларацию, устанавливавшую оперативные зоны в Северном ледовитом океане, в Балтийском и Черном морях, которые объявлялись зоной военных действий против СССР1 2.
Германские дипломаты подготовили лживую провокационную декларацию Гитлера, объявленную им 22 нюня, в которой Советское правительство задним числом обвинялось в несоблюдении советско-германского пакта.
Несколько месяцев спустя германское министерство иностранных дел выступило с клеветническим заявлением о том, что будто бы еще до нападения Германии на СССР Англия и Советский Союз вели переговоры о совместном нападении на Германию. Эта грязная фальшивка понадобилась германским дипломатам для того, чтобы создать видимость оправдания вероломного нападения фашистской Германии па СССР3.
После нападения иа Советский Союз в министерстве иностранных дел Германии был создан специальный «русский комитет», возглавляемый графом Шулепбургом. Этот комитет, действуя совместно с командованием армии и гестапо, принимал участие по всех кровавых злодеяниях гитлеровцев иа оккупированной территории Советского Союза.
Приведенные факты и документы неопровержимо свидетельствуют о том, что германские дипломаты наряду с генералами были активными соучастниками фашистской агрессии. Они участвовали в планировании и подготовке агрессивной войны, в проведении политики международного разбоя.
Предпринимаемые ныне буржуазными историками и пропагандистами попытки изобразить гитлеровских дипломатов в роли «статистов» и «оппозиционеров», участников «движения Сопротивления» являются вымыслом, фальсификацией истории.
Мы знаем, что действительную борьбу против гитлеровского террористического режима в Германии вели антифашисты, руководимые коммунистами. Однако в данном реферате мы не могли осветить этот большой вопрос. Исследование действительной антифашистской борьбы является важнейшей задачей историков-марксистов.
1 ЦГАОР, ф. 7445, д. № 16, л. 6.
2 Там же, д. № 38, л. 193.
3 «Правда», 30 ноября 1941 года.
Януш Наевский
УЧАСТИЕ ГУСТАВА ШТРЕЗЕМАИА
В ПОДГОТОВКЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
История возникновения второй мировой войны представляет собой исключительно сложную и широкую проблему. Многие, относящиеся к пей вопросы как будто весьма отдаленно связаны с возникновением войны. Одним из таких вопросов является политика, осуществлявшаяся министром иностранных дел Веймарской республики Густавом Штреземаном в период с 1923 ио 1929 год. Я позволю себе привлечь ваше внимание к этому актуальному вопросу, имеющему как научное, так и политическое значение.
Уже при жизни этого государственного деятеля появились работы по «штреземанистике», если так можно выразиться. Он сам заботился о том, чтобы оставить потомству свой портрет,—разумеется, портрет, созданный им самим. Как косвенным путем, так и непосредственно он оказывал влияние на своих биографов,—я имею в виду прежде всего работы Р. фон Рейнбабена1, Антони Валентина1 2 и Генриха Бауэра3. Короче говоря, Штрезе-ман тщательно подготавливал оценку, которую могут дать будущие поколения его личности и деятельности, он заблаговременно создавал легенду о самом себе.
В гитлеровские времена отношение к Штреземапу было отрицательным, и если о нем вообще писали, то только между прочим и притом всегда весьма критически. В послевоенные годы опубликована буквально уйма монографий и научных статей относительно политики Густава Штреземаиа. Появление такого обилия научных и полунаучных трудов объясняется очень просто. Оно обусловлено не столько общественным спросом, сколько политической потребностью влиятельных кругов на западе и, кроме того, существованием доступного многим западногерманским и американским историкам первоисточника, а именно личного архива Штреземаиа. Как известно, в печати появилась только небольшая часть этих материалов, и часто в искаженном виде.
Послевоенная «штреземанистика» находится па несравненно более высоком уровне, чем довоенные работы па эту тему. Это объясняется не только большим богатством и объемом источников, по и более серьезным подходом к вопросу. Это относится главным образом к западногерманским историкам. Их труды о политике Штреземаиа значительно превосходят писания американских историков.
Я упомяну для примера два имени: Ганс Гатцке и Липолиза Тимме. Исчез тот хвалебный тон, который так бросался в глаза в биографиях, вышедших из-под пера Валентина, Ольдепа или Рейпбабепа. Таким образом, теперь можно ответить по существу на вопрос, действительно ли во взглядах Штреземаиа произошло изменение, действительно ли этот пангерманист, с энтузиазмом одобрявший использование подводных лодок во время первой мировой войны, являвшийся сторонником крупных анпе-
1 Rheinbaben R., Stresemann. Der Mensch und der Staalsniann, Dresden, 1928.
2 Valentin, Antoni, Stresemann, Das Werden einer Slaalsidee, Leipzig, 1933, II. Auflage 1947.
’Bauer, Heinrich, Stresemann. Ein deutsclier Staatsmann, Berlin, 1930.
110
ксий, внезапно превратился в апостола мира и примирения народов? Тимме констатирует со всей определенностью: «Напрасно мы стали бы искать в документах отражение тех политических уроков, которые он (то есть Штреземап) мог бы извлечь из принципиальных ошибок германской внешней политики до мировой войны, из политики мировой экспансии, военно-морского строительства, из колониальной политики или тем более из политики, определявшей цели Германии во время войны. В массе документов, составляющих наследство, пет и следа подо^рой критики. Все, чему Штреземап научился па протяжении многих лет, относится главным образом к тактике и методу» '. Этого примера пока достаточно. Хотя западногерманские авторы извлекли па свет много неизвестных секретных и ценных документов и пролили луч света на некоторые неясные стороны политики Штреземапа, все же они уклоняются от обобщающей оценки Штреземана. Этот недостаток в изложении западных буржуазных историков я хотел бы теперь восполнить с помощью германских прогрессивных ученых.
Материалы, собранные после войны в публикациях по вопросам «штрезе-маиистики» и почерпнутые главным образом из личного архива министра, позволяют сформулировать и обосновать утверждение, что политика Штреземана была направлена против примирения народов и сохранения мира, она пела прямо к войне.
Кем был Густав Штреземап или, точнее выражаясь, какой класс он пред ставлял и чьи интересы защищал? В противоположность западным историкам, которые занимаются главным образом внешней политикой Штреземана, Фриц Клейн, немецкий историк-марксист, обращает внимание па взгляды Штреземана по вопросам внутренней политики, а именно на его отношение к рабочему движению. Штреземан был противником грубых методов подавления в борьбе против рабочего класса. Напротив, он стремился к тому, чтобы привлечь рабочих при помощи различных уступок и искусных поблажек; он надеялся таким путем «приблизить к государству» рабочие массы. Этой точки зрения он держался и в кайзеровские времена и в период Веймарской республики. В его внешней политике Клейн не видит никаких следов «перемен» и подобно Тимме справедливо констатирует, что «тщетно пытаться найти в многочисленных речах и статьях Штреземана какое-либо определенное признание, свидетельствующее о превращении крайнего германского империалиста в борца за мир» а.
Напротив, нет недостатка в высказываниях противоположного характера, говорящих о том, что в поведении этого человека произошло только одно изменение, а именно изменение его тактики.
18 ноября 1918 года под свежим впечатлением поражения [имеется в виду поражение Германии.—Прим. ред. \ Штреземап писал своему другу: «...поэтому я остался па борту нашего корабля, чтобы в случае, если будет потеряй черио-бело-краспый флаг, по меньшей мере водрузить черно-краспо-золотой и не допустить такого позора, когда в конце концов над нашим старым национал-либеральным флотом развевалось бы красное или розовое знамя международной демократии» 3.
Я позволю себе, однако, не согласиться целиком с утверждением Клейна, что Штреземан в своей общественной деятельности всегда выступал в качестве представителя легкой индустрии. Создается впечатление, что Клейн обычно рассматривает Штреземана как управляющего делами саксонского объединения владельцев шоколадных фабрик в Дрездене; между тем будущий канцлер и министр иностранных дел был с 1907 года подлинным руководителем Центрального объединения германских промышленников в Бер
1 Thimme, A n n е 1 i s е, Gustaw Stresemann, Legende und Wirklichkeit, «HZ», 13d. 181 (1956), S. 336—337.
2 К 1 e i n, F г i t z, Die diplomatischen Beziehungen Deutsclilands zur Sowjetunion, Berlin, 1952, S. 127.
’Stresemann, Gustav, Vermachtnis, Der NachlaB in drei Biinden. Erster Band, Berlin, 1932 S. 15.
Ill
лине и членом очень многих наблюдательных сонетов. Он возглавлял Нацио-нал-лнберальпую партию, которая представляла в парламенте тяжелую индустрию и была проводником империалистических планов монополий. Известно, что у Штреземана было много врагов среди представителей крупного капитала. Они часто вели с ним упорные бон, но это еще не дает оснований для того, чтобы его рассматривать как защитника интересов средней буржуазии.
Для того чтобы надлежащим образом оценить политику Штреземана — министра иностранных дел, нужно обратить внимание на его тесные связи с американским капиталом и вместе с тем на его позицию н вопросе о Советском Союзе и германо-советских отношениях.
Сегодня на основе новейших исследований и в свете секретных документов из архива Штреземана, ставших достоянием общественности в послевоенные годы, нам ясно, что при оценке политики Штреземана надо исходить не из его стараний получить поддержку английского капитала или из его дружественных бесед с Брианом в Женеве и Туари; нужно учитывать прежде всего его связи с американским капиталом. В этом мы находим соответствующую основу для понимания политики монополий, господствовавших в Веймарской республике, и деятельности их выдающегося представителя — Штреземана. Только в том случае, если всходить из зависимости германской крупной буржуазии от американского капитала, можно правильно понять политику Штреземана по отношению к Советскому Союзу. Западногерманский историк Гирш сделал меткое замечание: «Рассматривая этот единственный вопрос (его отношение к Америке), можно проследить иа эволюцией Штреземана от доверенного лица промышленности до государственного деятеля международного масштаба и тем самым более полно попять его политику в целом»1.
Лорд д’Абернон, бывший многие годы послом Англии в Берлине, писал во введении к своим мемуарам: «Американское влияние было решающим по всех важных вопросах, касающихся развития Германия в послевоенные годы»1 2. Весьма показательно высказывание самого Штреземана: «...наша судьба зависит от решения Соединенных Штатов»3.
Впервые Штреземан установил связи с американским крупным капиталом в 1912 году во время многонедельной поездки в Соединенные Штаты.
12 марта 1914 года было создано Германо-американское промышленное объединение. Фактическим руководителем этой организации, ревностно добивавшимся тесной увязки деятельности трестов и картелей Германии с Сое ди-пенными Штатами, был не кто иной, как Штреземан. И во время войны он работал в Германо-американском экономическом объединении. В изменившихся послевоенных условиях Штреземан со всей энергией вновь принялся за эту работу. Неустанно вел он переговоры с американскими банками о кредитах для германской промышленности и играл большую роль и подготовке германо-американского торгового договора 1923 года. Он отошел от активной работы в Германо-американском экономическом объединении только в августе 1923 года, после того как занял пост канцлера и министра иностранных дел.
Штреземан, естественно, и в дальнейшем сохранил тесные связи с американскими банками, действуя уже на более широкой основе как руководитель внешней политики Веймарской республики. Большим успехам, которых Штреземан достиг в качестве министра иностранных дел, он обязан в значительной степени поддержке американского капитала и его орудия—американской дипломатии. Компенсацией за эту поддержку явилась зависимость Германии от западного финансовопЯмира, и особенно от заправил нью-йоркской биржи.
1 Н i г s с h, F е 1 i х, Slresemann, Ballia und die Vereinigten Slaalen, «Vierteljalires-befte fiir Zeitgeschichte», Jg., 1955, S, 20.
2 D’A b e n о n, An Ambassador of Peace, v. I, London, 1929, p. 18.
3 Hirsch, Felix, Op. cit., S. 34.
112
Можно усомниться в том, что германскому народу действительно принесли пользу громадные американские кредиты.
Несомненно, что за время официальной деятельности Штреземаиа на Вильгельмштрассе, с 13 августа 1923 года по 3 октября 1929 года, Локарно было самым важным актом имперского правительства Германии на международном поприще.
Относительно «Цокарпо существует обширная литература. Я не пытаюсь освещать эту проблему в целом и не собираюсь*излагать разнообразные взгляды по поводу этого важного исторического события. Я ограничусь тем, что вкратце укажу на некоторые его аспекты в свете источников, опубликованных за последние годы.
Прежде всего остановлюсь па самом факте возникновения Локарно. Он, конечно, связан со многими моментами. На самый важный указал Клейн, напомнив запись Штреземаиа о его беседе летом 1925 года с директором Американского федерального резервного банка Стронгом, директором Английского банка Норманом, а также с доктором Яльмаром Шахтом. Запись гласит: «Похоже, что создается нечто вроде англо-американо-герман-ского банковского треста, а для этого, конечно, необходимо в качестве предпосылки заключение гарантийного пакта. Нам срочно нужны миллиарды»
Эту запись Клейн с полным основанием толкует в том смысле, что, с точки зрения Штреземаиа, Локарно было обусловлено желанием получить американские кредиты и связаться с американской политикой.
Еще при жизни Штреземаиа было широко распространено мнение, которое еще сегодня многие поддерживают, будто политика этого государственного деятеля представляла постоянное лавирование между Западом и Востоком. Он побуждал обе стороны—и капиталистические западные державы и Советский Союз—постоянно делать уступки в пользу Германии, давая понять, а порой угрожая, что он намерен сблизиться с противником.
Для освещения этой тактики часто ссылаются на два факта и две даты. После того как 16 октября 1925 года были заключены Локарнские договоры, связавшие Германию с Западом, Штреземан 24 апреля 1926 года подписал договор о нейтралитете и ненападении с Советским Союзом. Очевидно, что политика Штреземаиа представляла неустанное маневрирование между Западом и Востоком; так, например, перед отъездом в Локарно он принял Чичерина в Берлине и т. п. Однако все это было лишь тактикой. По существу, Веймарская республика сделала выбор в пользу империалистических западных держав, и случилось это именно в Локарно.
Несмотря на свои маневры между Лондоном, Нью-Йорком и Москвой, Штреземан недвусмысленно отвергал упреки в том, что все это с его стороны сводится к чистой тактике. В знаменитом письме прусскому кронпринцу от 7 сентября 1926 года он писал:
«Мы не можем играть роль английского меча на континенте, как некоторые полагают, и не можем идти на союз между Германией и Россией. Я предупреждаю против утопии, выражающейся в заигрывании с большевизмом. Если русские будут в Берлине, тотчас же над императорским замком взовьется красное знамя, и этим будут очень довольны в России, так как там стремятся к мировой революции. Европа вплоть до Эльбы будет болыпевизирована, а все прочее будет отдано на съедение французам» * 2.
В своем секретном дневнике Штреземан записал 19 июля 1925 года: «Многих сильно беспокоят будущие отношения с Россией. От сотрудничества с ней я жду немногого, по меньшей мере пока там господствует большевизм» э.
Мы констатируем, таким образом, что Локарно знаменует переход Веймарской республики на сторону англосаксонских держав. Возникает вопрос, в чем же заключалось подлинное значение Локарно? Я уже отметил
’ Klein, Fritz, Op. cit., S. 137.
2 Stresemann, Gustav, Op. cit» Bd. II, S. 554.
3 Ibid., S. 154.
Ь Заказ № 1220 113
выше, что существенной причиной локарнской политики Штреземана было стремление связаться с американским капиталом. Но каковы были те политические цели, которых хотел Штреземап достигнуть с помощью локарнской политики? Надо ясно сказать: политика Локарно была в первую очередь направлена против Польши, а во вторую очередь—против Советского Союза. Штреземан открыто говорил о том, что будет предпринята акция против Польши.
В своей статье, опубликованной без подписи в газете «Гамбургер Фремден-блатт» от 10 апреля 1925 года, Штреземан констатировал expressis verbis, что проявленная им инициатива в отношении локарнского пакта безопасности имела своей целью «сконцентрировать силы на стремлении к позднейшему присоединению немецких областей на Востоке»1. В до сих пор еще не опубликованном письме к послу в Вашингтоне фон Мальтцану от 7 апреля 1925 года Штреземан писал: «Наша политика в отношении предложения о гарантиях пакта была несомненно правильной, она охраняет Рейнскую область от последствий французских посягательств, взорвала Антанту и открыла новые возможности на Востоке» 1 2. В еще более определенной форме он осветил этот вопрос в письме к министру фон Кейделю от 27 ноября 1925 года. Назвав Локарнские договоры «перемирием», он писал дальше: «Я вижу в Локарно сохранение за нами Рейнской области и возможность возвращения немецких земель на Востоке» 3. Теперь становится понятно, почему Штреземан и своем письме германскому послу в Лондоне Штамеру от 19 апреля 1926 года подчеркнул, что решение польского вопроса—это. «быть может, самый важный вопрос европейской политики вообще» 4.
Однако пересмотр границы с Польшей не являлся главной задачей Штреземана, а только важным, неизбежным этапом на пути к основной главной цели. Эта цель предусматривала подчинение Советского Союза империалистической эксплуатации.
Живущий в Соединенных Штатах немецкий историк Гатцке опубликовал работу о политике Штреземана в отношении Советского Союза. Он опирается главным образом на неопубликованные материалы из архива Штреземана и при этом обратил особое внимание на советско-германские отношения во время переговоров о вступлении Германии в Лигу Наций и подготовки Локарно. Все же автор не хотел или не сумел установить истину, заключающуюся в том, что в этих переговорах, в ходе которых большую роль играл вопрос о Польше ввиду ее географического положения, Штреземан занимал не просоветскую, а антипольскую позицию. Сопротивление Штреземана применению статьи 16 Устава Лиги Наций имело антипольский, а не просоветский характер. Речь шла отнюдь не о безопасности Советского Союза и не о том, чтобы соответственно затруднить нападение па него капиталистических западных держав под покровительством Лиги Наций. Речь шла о том, чтобы в случае войны против Советского Союза затруднить оказание Польше помощи со стороны западных государств. Это не одно и то же!
Как известно, было время, когда империалистические западные государства рассматривали Польшу как форпост в борьбе против СССР, как существенную часть так называемого cordon sanitaire (санитарного кордона), согласно известному выражению Клемансо. В Веймарской республике действовали империалисты, которые охотно взяли бы эту роль на себя. Известный «калийный король» Арнольд Рехберг и генерал Макс Гоффман сговорились с высшими офицерами французского генерального штаба относительно франко-гермаЖжого военного сотрудничества против Советской
1 Stresemann, Gustav, Op. cit., Bd. II, S. 95.
2 Thimme, Annelise, Op. cit., S. 316.
3 Stresemann, Gustav, Op. cit., Bd. II, S. 246.
4 Erdmann, Karl Dietrich, Das Problem der Ost- order Westorientierumj in der Locarnopolitik Stresemanns. In: «Geschichte in Wissenschaft und Unterricht», 6. Je. 1955, S. 137.
114
России и об организации антикоммунистического крестового похода. Об этом мечтал и пресловутый «нефтяной король» Генри Детердинг; ему принадлежали имения в Мекленбурге, и он имел большое влияние на германские монополии.
Это были, очевидно, крайние направления, Штреземан стоял от них в стороне, он, наверное, не думал о новом походе с целью свержения коммунистического правительства; во всяком случае, у него не было подобного проекта на ближайшее будущее. Он хотел использоиить другие, менее грубые и не столь упрощенные методы. Для оценки взглядов Штреземаиа па отношения с Советским Союзом характерны его высказывания в беседе с некоторыми руководящими государственными деятелями западных государств в Женеве 15 июня 1927 года. «Идею крестового похода против России я считаю глупой и нелепой. Он привел бы к сплочению сил в России и ослабил бы Европу. Мы вели с Россией переговоры о кредитах, мы ведем с ней оживленную торговлю. Мы не только в этом нуждаемся, по, по моему мнению, необходимо как можно теснее связать народное хозяйство России с капиталистической системой западноевропейских государств, чтобы таким образом расчистить путь для эволюции в России. Это, по-моему, единственная возможность для того, чтобы превратить Советскую Россию в такое государство и такое народнохозяйственное образование, с которым можно сосуществовать»1.
19 марта 1929 года Штреземан писал Паулю Лебе: «Я не очень высоко ценю наши отношения с Россией. Но тем не менее это козырь в нашей игре, и может прийти время; когда в сотрудничестве с Германией, которой, к сожалению, не хватает капиталов для самостоятельной деятельности, развернется строительство в России, могущее иметь для пас народнохозяйственное значение»1 2.
В этих словах ясно выражена программа политики Штреземаиа в отношении СССР. Советский Союз должен был бы стать для монополий объектом эксплуатации. Штреземан действовал в качестве защитника интересов и стремлений тех групп германского крупного капитала, которые алчно жаждали богатств Советского Союза. В своей интересной работе о дипломатических отношениях между Германией и СССР Фриц Клейн упоминает о необычайно характерной программной речи, которую произнес 6 декабря 1928 года директор Кремер, член президиума Имперского объединения германской промышленности: «Тот, кто владеет капиталом, может с его помощью экономически господствовать в какой-либо стране в гораздо большей степени, чем с помощью военной силы.
Перед нами пример Соединенных Штатов и их деятельности в Центральной и Южной Америке, куда раньше проникают займы, а вслед за ними— представители фирм... Восток должен н может стать сферой экономической экспансии Германии... Я не перю, что мечты о мировой революции... созреют и что весь мир будет охвачен тем веянием, которое сейчас господствует в Кремле, ио уже не во всей России... И поэтому я верю, что в свое время разум, экономическая необходимость, уже отчасти дающие себп знать в руководящих кругах России, устранят те явления, которые сейчас лам внушают беспокойство с экономической точки зрения: формы государственной экономики, существующей сейчас в России»3.
Таковы высказывания руководящих представителей монополий, один из которых, а именно Штреземан, шесть лет подряд занимал пост министра иностранных дел. Я полагаю, что целью германских монополий являлось порабощение Советского Союза либо путем экономического проникновения, либо путем вооруженной агрессии, либо совместно с западным империализмом, либо самостоятельно. Подготовка этих планов началась еще в годы
1 S t resem а п n, G usl a v, Op. cit., Bd. Ill, S. 151.
2 Gatzke, Hans VV., Von Rapallonach Berlin. Stresemann und die deutsche RuB-landpolitik. «Vierteljahreshefle fiir Zeitgeschichte», Jg. 1956, S. 27.
’Klein, Fritz, Op. cit., S. 159.
115
8*
пребывания Штреземана на Вильгельмштрассе. Не подлежит сомнению, что Штреземан играл в этом деле руководящую роль. Он выступал, как о том свидетельствует вся его деятельность, в качестве доверенного лица американского крупного капитала и как посредник между американскими н немецкими монополиями.
Политика Штреземана ставила перед собой две цели: одну близкую, другую далекую, одну задачу ближайшую, другую более отдаленную. Ближайшей целью, необходимой для реализации последующей цели, было уничтожение Польши. Отсюда стремление Штреземана добиться ревизии границ Польши и ее хозяйственного распада. Ясно, что такая политика Штреземана была направлена против стабилизации международных отношений и вела к всеобщему беспокойству во всем мире. Но гораздо большее значение имела реализация другой, более далекой цели, а именно порабощение Советского Союза. Неизбежным последствием подобных стремлений должно было явиться деление мира на два борющихся лагеря: с одной стороны агрессивный блок империалистических государств, с другой—Советский Союз. Несомненно, что подобное деление мира вело непосредственно к войне, хотя империалисты и говорили только о мирном проникновении и о мирной эксплуатации. О чем с самого начала своего сотрудничества мечтали англосаксонские и германские империалисты, свидетельствует заявление, сделанное еще в Локарно Остином Чемберленом. Имея в виду возможность германо-русского конфликта, он заявил: «Те, кто разоружил Германию, будут первыми, кто ее вновь вооружит»1.
В заключение приведем следующее свидетельство: 26 мая 1941 года майор Вурмзпдлер, офицер гитлеровского генерального штаба, заявил в речи по радио, что Гитлер, прийдя к власти в 1933 году, уже застал законченной техническую подготовку к перевооружению, и при том благодаря рейхсверу, следовательно благодаря Штреземану, ибо его политика сделала возможными обширные мероприятия, подготовившие вооружение Германии.
‘Erdmann, Karl, Op. cit., S. 144.
Вольфганг Копин
•АИАДНОГЕРМАНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АННЕКСИИ АВСТРИИ
Захват Австрии фашистской Германией явился началом ряда агрессивных выступлений, которые привели ко второй мировой войне и в конечном счете к разгрому фашистского германского государства.
В Австрии были испытаны методы, которые решено было в дальнейшем применить при нападении па Чехословакию и Польшу.
Германская буржуазия стремилась подчинить себе Австрию начиная с 1918 года, когда Австро-Венгерская монархия распалась, как карточный домик, в результате борьбы за независимость ранее угнетенных наций и национальных групп. Победившие в войне империалистические державы с помощью Версальского договора обуздали агрессивные устремления германской буржуазии. Они изменили свою позицию лишь тогда, когда к власти пришел Гитлер, являвшийся наилучшим союзником западных держав в борьбе против СССР1.
Германский монополистический капитал еще в период Веймарской республики подготовил почву для уничтожения австрийского государства. Трест «Ферейнигте штальверке» (Дюссельдорф) с 1929 года начал контролировать крупнейшее австрийское металлургическое объединение «Альпине-Монтангезельшафт». Тресты АЭГ и ОСРАМ подчинили себе всю электротехническую промышленность Австрии. Химический концерн «ИГ Фарбен» заключил с американским концерном Дюпона соглашение, давшее возможность взять под контроль всю австрийскую химическую промышленность1 2.
Параллельно с экономической подготовкой происходил все шире развертывавшийся пропагандистский поход. Прикрываясь лозунгом самоопределения наций, политики и историки требовали аншлюса, то есть присоединения Австрии к Германии. Не случайно в Западной Германии некоторые историки уделяют большое внимание тем планам политиков Веймарской республики, при помощи которых они по поручению монополистического капитала подготовляли аншлюс; такое значение имел, например, н 1931 году проект таможенной унии 3.
Германские империалисты теперь пытаются не упоминать о террористических методах фашистов, чтобы таким образом снова подготовить захват Австрии.
Недаром Якоб Кайзер заявил 2 марта 1951 года в Зальцбурге: «Подлинная Европа может быть создана только, если будет восстановлено германское единство. Я напоминаю вам, что это касается, кроме Германии и Австрии, еще части Швейцарии, Саара и Эльзас-Лотарингии»4.
1 Мы здесь не касаемся позиции империалистических великих держав, содействовавших аннексии Австрии, равно как усилий СССР, стремившегося обуздать агрессора путем создания системы коллективной безопасности.
2 S р i г a, Leopold, Wie die Annexion Oslerreiclis xvirtschafllicli vorbereitel wurde, «Weg und Ziel», Nr. 4/1955, S. 294 ff.
3 Hauser, Oswald, Der Plan einer deulsch-bslerreichischen Zollunion von 1931 und die europaisclie Federation, «HZ», Bd. 179/1955, S. 45 ff.
1 В r a n d xv e i п e г, II e i n r i c h, Die AnschluBgefahr, Berlin, 1954, S. 25.
117
Во время Берлинской конференции министров иностранных дел Аденауэр выболтал свои планы в отношении Австрии. Он сказал, что незачем оплакивать «Восточную Германию» п Берлин. «Мы имеем реальные возможности компенсировать эту потерю путем экономического, политического и военного сближения с /Хвстрпей. В этом Соединенные Штаты помогут Федеративной Республике»1.
Тезис об экономической зависимости Австрии от Германии, пропагандируемый, например, Папеном, должен расчистить путь для «холодного аншлюса». В этом деле и Отто фон Габсбург не оказался в стороне—он назвал Австрию щитом и опорой Германии1 2. Его план заключается в том, чтобы под флагом Габсбургов объединить ранее угнетенные народы в составе федерации, которая должна в качестве великой державы войти в Европейское содружество. Пока в Западной Германии в государственном аппарате н народном хозяйстве господствуют старые агрессивные группировки, Австрии постоянно угрожает опасность. Поэтому изложение истории новейшего времени, затрагивающее проблемы прошлого, имеет историческое значение для настоящего. Наша обязанность заключается в том, чтобы сорвать маску с германских империалистов, руки которых обагрены кровью миллионов людей.
Западногерманские историки, защитники агрессивной политики германского империализма, сожалеют лишь о том, что Австрия была присоединена к Германии Гитлером, ибо после его падения присоединение Австрии потеряло всякую силу. Национализм и безумие великодержавных стремлений некоторых историков Западной Германии сделал их слепыми. Они не замечают того факта, что австрийская нация консолидировалась в борьбе за освобождение от гитлеровского фашизма. В результате развитие национальной проблемы вообще оставляется без внимания. В Бонне под лозунгом «Единство Европы против большевизма» подготовляется экономическое порабощение Австрии, которое должно расчистить путь для возобновления политического господства германского империализма. Это та самая политика, которая осуществлялась до 1933 года с той лишь разницей, что на этот раз под покровительством Соединенных Штатов политика нацистов изображается как осуществление стремлений всех австрийцев и немцев, для того чтобы эти концепции сделать приемлемыми для народов Европы.
Большинство исследований, посвященных вопросу об аннексии Австрии, начинаются с освещения германо-австрийских отношений в период между 1918 и 1933 годами. Как известно, 12 ноября 1918 года немецкая часть Австрии была решением Временного национального собрания объявлена составной частью Германской республики. 12 марта 1919 года этот закон был утвержден австрийским Учредительным национальным собранием. Западногерманский историк Эйхштедт в своей книге «От Дольфуса к Гитлеру» подробно излагает все детали и самые различные варианты планов, касавшихся будущего Австрии3. Он пытается доказать, что в 1918 году большинство австрийского народа желало присоединения к Германии. Однако он пе указывает причин, в силу которых этой позиции придерживались, например, австрийские социал-демократы.
Когда 30 октября 1918 года рабочие Вены создали Красную гвардию и призвали к свержению ненавистной монархии, социал-демократический премьер Зейц предложил буржуазным партиям создать коалиционное правительство. Он опасался, что правительство, состоящее из социал-демократов, будет пополнено революционными силами и рабочий класс заставит его действовать. Карл Реннер, полностью разоблачивший себя в качестве заступника Гитлера в 1938 году при народном голосовании, Аяступил 11 ноября
1 В г and weiner, Heinrich, Die AnschluBgefahr, Berlin, 1954, S. 24.
2 H a h s b u r g, Olio, Entscheidung uni Europa, Innsbruck—Wien—Miinchen, 1953, S. 98 ff.
• E i c h s t a d I, U 1 r i c li, Von DoHfuB zu Hiller — Geschichle des AnschluBes Ostereichs 1933 his 1938, Wiesbaden, 1955, S. 2 ff.
118
1918 года на заседании Государственного совета и сделал заявление относительно коалиции с буржуазными партиями, ссылаясь при этом на революцию в Германии: «Если мы будем вынуждены вместе с рабочим классом создать правительство, зависящее от Солдатского совета, то под ударом окажется не только государственность, но и весь экономический строй»1.
Правые социал-демократические лидеры выступали за присоединение к Германии, потому что стремились помочь ослабевшей австрийской буржуазии в деле укрепления ее политической и экономической мощи. Их интересовало только сохранение капиталистического ^троя. Поэтому они стремились к тому, чтобы австрийские рабочие, с громадным воодушевлением следившие за революционным движением в Германии, были с помощью идеи аншлюса отвлечены от борьбы против собственных эксплуататоров. Этот вопрос давно известен и не нуждается в новом исследовании.
25 января 1921 года Коммунистическая партия Австрии на своем объединительном съезде объявила в связи с вопросом об аншлюсе, что решение этой проблемы должно иметь своей предпосылкой свержение буржуазии. Планам правых социал-демократов Коммунистическая партия противопоставила классовые интересы пролетариата. Интересы рабочего класса обеих стран требовали не присоединения Австрии к Германии Носке, а борьбы против собственной буржуазии как в Германии, так и в Австрии1 2 3.
В некоторой части австрийских изданий, например в диссертации Эрнста Георга Баумгертнера «Позиция австрийской прессы по вопросу об аншлюсе в 1918—1938 годах», по крайней мере упоминается позиция, занятая Коммунистической партией Австрии. В Западной Германии о борьбе коммунистов большей частью не говорится ни словаа.
Версия о стремлении к единству всех австрийцев и немцев распространяется для того, чтобы оправдать агрессивную политику германского фашизма.
Приведенные примеры показывают, что излюбленным методом некоторых историков является попытка скрыть неприятные для них события и таким образом извратить историю.
Через год после своей победы в Германии в июле 1934 года германские фашисты попытались разбить австрийское государство с помощью нацистского переворота. Они рассчитывали с помощью многомесячного пропагандистского похода, диверсий, взрывов и убийств создать такое положение, при котором Австрия, как зрелый плод, упадет им в руки. Однако они просчитались. Австрийские рабочие не оказали поддержки фашистским бандам. При нападении фашистов на правительственную резиденцию Дольфус был убит. В многочисленных писаниях утверждается, будто Гитлер не знал о предстоящем выступлении. Однако Ульрих Эйхштедт, который написал одну из наиболее обстоятельных работ по австрийской проблеме, указывает, что и после 30 января 1933 года нелегальная австрийская фашистская партия по-прежнему являлась составной частью национал-социалистской партии Германии. Как и прежде, Гитлеру принадлежала высшая власть
1 «Die AnsclduBfrage in Hirer kullurellen, politischen und wirtschafllichen Bedeulung». Hrsg. v. Friedrich F. G. Kleinwaechler und Heinz v. Paller, Wien—Leipzig, 1930, S. 69.
2 Baumgartner, Ernst Georg, Die Oslerreichische Presse in ihrer Stell-lungnahme zur AnschluBfrage 1918—1938, Diss. Mschr., Wien, 1951, S. 128 а. Когда в 1921 году австрийские правительственные партии в Зальцбурге организовали голосование отно-ептелыго присоединения к Германии, Коммунистическая партия Австрии заивила: «Мы, коммунисты, будем упорно и бесстрашно и дальше вести борьбу против реакционного лозунга об аншлюсе и сохраним солидарность и братство по оружию с нашими немецкими товарищами по ту сторону границы» (Baumgartner, ErnstGeorg, Op. cit., S. 129).
3 В изданной венским профессором Генрихом Венедиктом «Истории Австрийской Республики» (В е n е d i k t, H e i n r i c h, Geschichte der Republik Osterreich, Munchen, 1954) автор соответствующего раздела Адам Вандручка ограничивается лишь злобной клеветой по адресу Коммунистической партии Австрии (S. 471). О Бенедикте см. рецензию Франца Веста (W е s t, Franz, Geschichlsschreibung fiir den Hausgebraucb ч!ег Koalition, In: «Weg und Ziel», Nr. 2/1955, S. 152 ff).
119
и право отдавать приказания1, но в дальнейшем тот же автор отрицает соучастие Гитлера в венском мятеже* 2 3.
Он ссылается при этом на показания Геринга и фон Нейрата на Нюрнбергском процессе военных преступников. Эйхштедт даже утверждает, что путчисты не имели намерения убить австрийского федерального канцлера '.
Автор книги сообщает о секретном материале, который был захвачен австрийскими властями и расшифрован, но он не излагает более точное содержание этого материала. В этих документах содержалось три различных сообщения, связанных с положением, сложившимся после нападения на правительственную резиденцию. Первое из этих сообщений должно было быть отправлено после смерти федерального канцлера Дольфуса4 5.
Почему Эйхштедт об этом не сообщает, хотя он не забыл ни одной самой маловажной дипломатической версии? Свидетельница, которая находилась в те критические часы у Гитлера в Бейрейте, сообщает, что Гитлера тогда систематически информировали о событиях его адъютанты Шауб и Брюкнер. С трудом скрывая свою радость, Гитлер заявил: «Я должен на час отправиться туда и показаться, иначе люди подумают, что я к этому причастен»6.
Австрийские историки также распространяют версию, будто Гитлер не был причастен к путчу. Так, например, и в изданной Бенедиктом «Истории Австрийской Республики» говорится: «Выступление было, конечно, связано с планами партийного руководства в Мюнхене, но не имперского правительства»8.
В этом случае сознательно проводится грань между германской правительственной политикой и деятельностью национал-социалистской партпи. Насколько нереально подобное разграничение, стало очевидным в результате событий 30 июня 1934 года, когда Гитлер от имени имперского правительства приказал убить всех неугодных ему людей—от начальника штаба штурмовых отрядов Рема до генерала рейхсвера Шлейхера.
Даже Эрих Кордт ближе к правде в своем изложении. Он расценивает согласие Гитлера на путч как признак неуверенности и нервозности7.
После событий 30 июня 1934 года германские фашисты пытались добиться легкого внешнеполитического успеха, чтобы таким образом укрепить свое положение. В феврале 1934 года, после того как в Австрии были расстреляны рабочие, боровшиеся за сохранение своих последних демократических прав, они заключили с правительством Дольфуса перемирие. Гитлер надеялся, что во время июльского путча австрийский рабочий класс присоединится к его бандам убийц. Путч провалился, потому что рабочие Вены не оказали поддержки палачу германских рабочих. Несмотря на террор со стороны клерикального правительства Австрии, рабочие этой страны не позволили использовать себя ради преступных целей германских фашистов. В этой сложной ситуации они проявили высокую классовую сознательность.
При исследовании и изложении новейшей истории нельзя не подвергнуть критике обильную западногерманскую мемуарную литературу, которая представляет основу для многих очерков новейшей истории.
Классическим примером искусного извращения фактов являются мемуары Мейснера. Так, например, в своей книге «Статс-секретарь при Эберте—Гинденбурге—Гитлере» Мейснер утверждает, что Гитлер тотчас же
‘Eichstadt, Ulrich, Op. cit., S. 33.
2 Ibid., S. 51.
3 Ibid., S. 53. • e
1 «Beitriige zur Vorgeschichte und Geschichte der Julirevolte», Wien, 1934, S. 56.
5 Wagner, Friedelind, The Royal Family of Bayreuth, London, 1948, p. У8-and further; Zit. bei: Bullock, Allan, Hitler—eine Studie iiber Tyrannei, Dusseldorf, 1953, 2. Aufl., S. 326.
8 Benedikt, Heinrich, Op. cit., S. 223.
7 К о r d t, E r i c b, Walin und Wirklichkeit. Stuttgart, 1948, S. 39 f.
120
после июльского путча в Вене отозвал Габихта, руководителя австрийских нацистов, резиденцией которого был Мюнхен. Гитлер это сделал якобы потому, что «Габихта обвиняли в связях с мятежниками»1.
В этом случае Мейснера поправляет «правдолюбец» Папен, который сообщает, что он потребовал отозвания Габихта, чтобы создать хорошие условия для начала своей «деятельности» в Вене1 2 3.
Мейснер указывает в предисловии, что он хочет события «описывать так, как они действительно происходили». Это ну^сно, в частности, по той причине, что многие архивы уничтожены или попали «в неприятельские страны». И вот Мейснер сообщает, что австрийский легион был использовав только для строительства дорог в южной Германии и т. п.а
Присмотримся повнимательнее к этой эмигрантской организации. Как раз в этом вопросе наши архивы могут дать ответ господину Мейснеру.
Весьма показательно, что легион состоял не только из эмигрантов, но также из командированных туда австрийских фашистов. Один из легионеров сообщает, что он с сентября 1933 по сентябрь 1934 года служил в легионе на основании приказа своего австрийского гаулейтера4 *.
Во время попытки путча легионеры перешли границу, вооруженные пистолетами, автоматами и ручными гранатами6. После июльских событий легион получил наименование Организации помощи. Командир бригад» СС Роденбюхер 31 августа 1934 года докладывал, в частности, о деятельности Организации помощи следующее: «Специальные задания референта по приему беженцев, а именно шпионаж, контрразведка и соответственно разведка, исходят от гестапо»8.
29 августа 1935 года на курорте Бад-Айблинг и в Розенгейме делодошло до крупных столкновений, когда во время уличных учений легионеры, вооруженные карабинами, оскорбляли население7.
В распоряжении легиона имелась даже артиллерия, которая была расположена в Граслфинге. В Зендене находилась воздушная эскадрилья, насчитывавшая 24 самолета8. 23 июля 1937 года были даны распоряжения о реорганизации легиона. Каждый член австрийских штурмовых отрядов, находившийся в Германии, был обязан служить определенное время в легионе. Холостые, вполне пригодные для военной службы мужчины должны были пробыть в легионе год. После трех месяцев военного обучения мог состояться перевод в особое соединение9.
В январе 1937 года Гитлер поставил перед Роденбюхером следующую задачу:
«Создание соединения, способного действовать и отличающегося мобильностью в развертывании»10.
Так выглядит на деле мейснеровское мирное строительство дорог.
Само собой разумеется, что западногерманская империалистическая историография занимается не только тем, что просто скрывает факты и их фальсифицирует. Весьма злободневным вопросом является публичная реабилитация и прославление фашистских офицеров и генералов, которых предполагается использовать в агрессивной армии НАТО. 24 июня 1937 года, то есть через год после заключения соглашения о «нормализации» германоавстрийских отношений, были изданы «указания относительно унификации-
1 Mei finer, Otto, Slaatssekreliir unler Ebert- Hindenburg—Hiller, Hamburg, 1950, 3. Aufl., S. 355.
2 Papen, Franz, Der Wahrheit eine Gasse, Miinchen, 1952, 2. Aufl., S. 383.
3 MeiBner, Otto, Op. cit., S. 445.
4 «Deutsches Zenlralarchiv Potsdam», Reichsministerium des Innern, Abt. I A, Bd, 25913, Bl. 24 (Далее упоминается как: DZA Potsdam).
• «Betriige zur Vorgeschichte und Geschichte de Julirevolto», S. 57 f.
• DZA Potsdam, Reichsministerium des Innern, Abt. I A, Bd. 25912, 24.
7 Ibid., Bd. 25915, Bl. 206.
" Ibid., Bd. 25916, Bl. 122.
’ Ibid., Bd. 25918, Bl. 9.
10 Ibid., Bd. 25920/1. Bl. 58.
121
а деле подготовки войны». В этих указаниях под девизом «План Отто» предусматривалась вооруженная интервенция против Австрии1.
В беседе с главнокомандующими армии, флота и авиации в ноябре 1937 года Гитлер указал, что оккупация Австрии и Чехословакии является предпосылкой для всех дальнейших военных операций1 2.
Гитлер даже отметил, что выступления против Австрии и Чехословакии должны быть проведены в скором времени.
А теперь в Западной Германии делаются попытки обелить прежних и нынешних генералов, при этом ссылаются на то, что они в марте 1938 года якобы не располагали никаким подробным планом захвата Австрии.
Петер Бор в своей книге приписывает Гальдеру утверждение, будто занятие Австрии явилось неожиданностью для военного министерства3. Гальдер называет аннексию самым значительным успехом Гитлера.
Реакционер Эрфурт, офицер в отставке, почти непрерывно с 1910 по 1945 год работавший в генеральном штабе, также категорически утверждает, что «овладение» Австрией было решено без участия армии4. Вестфаль, начальник штаба Роммеля, Кессельринга и Рундштедта в своей книге «Армия в оковах» также утверждающий, что генералы вели себя безупречно, описывает, как Бек и Манштейн отнеслись к сообщению о предстоявшем вступлении армии в Австрию. Оба генерала были вызваны к Гитлеру, который сообщил им, что хочет разрешить проблему аншлюса путем ввода войск5. Бек ответил, что в этом случае можно только импровизировать. Он предложил провести мобилизацию обоих баварских армейских корпусов, равно как одной танковой и одной дивизии ландвера. Офицеры отнюдь не протестовали; Австрия была оккупирована без плана военных действий6.
Западногерманская историография в отношении австрийской проблемы видит свою главную задачу в том, чтобы изобразить аннексию как выполнение давнишних желаний всех немцев и австрийцев. В этом случае всех опережает старый империалист Папен. В 1934 году он принял назначение на пост германского посла в Вене, хотя за несколько недель до того некоторые его ближайшие друзья были убиты. Предоставим Папену объяснить •свое поведение. Он пишет: «Растущая угроза европейской солидарности ввиду подпольной войны большевиков во всех странах... вот что имело решающее значение»7.
В связи с растущим авторитетом Советского Союза этот старый авантюрист стал нервничать. Он безоговорочно пошел за Гитлером, потому что никогда не сомневался в его фанатически враждебном отношении к большевизму. Папен снимает с себя маску, когда пишет: «Изолированная Австрия была нежизнеспособна совершенно так же, как теперь она будет нежизнеспособна без связи с Западной Германией»8.
Эти слова со всей очевидностью характеризуют отвратительную физиономию германского империализма. Кстати отметим, что уже в связи с захватом Австрии Папен ставил задачу подготовить хорошую базу для нападения на СССР. Папен сейчас изображает себя противником нацистов, поэтому представляет интерес оценка роли Папена, содержащаяся в высказывании одного из главных военных преступников Альфреда Розенберга, как известно,
1 IMG, Bd. XXXIV Dok. 175—С, S. 734 ff.
2 «Akten zur deulsclien auswiirligen Politik 1918—1945», Serie D, Baden-Baden, 1950, Bd. I, S. 29 f.
3 Bor, Peter, Gespriiche mit Halder, Wiesbaden, 1950, S. 117.
4 Erfiirth, Waldemar, Die Geschichte des deutschen Generalslabes von 1918 1945, Gottingen, Berlin, Fr^hkfurt, 1957, S. 194.
5 Westphal, Siegfried, Heer in Fesseln, Bonn 1952f 2 Aufl., S. 69 f.
6 Генерал-полковник Век высказал лишь опасение относительно тех внешнеполити-ческих последствий, к которым могут привести выступления против Австрии и Чехословакии, поэтому он требовал основательного изучения положения. (Foerster, W о 1 f-:<_r a ng, Generaloberst Ludwig Beck, Miinchen, 1953, S. 82).
’Papon, Franz, Op. cit., S. 292.
8 Ibid., S. 393.
122
повешенного в Нюрнберге, мемуары которого тем не менее появились в Западной Германии. Розенберг пишет, что Папена он «считал весьма симпатичным»1. Но в Западной Германии есть люди, которые более правильно оценивают роль Папена. Так, например, Якоб Штекер пишет в книге «Люди германской судьбы»: «Таким образом, набожный католик, любезно улыбающийся дипломат был самым подходящим человеком для того, чтобы заманить преемника канцлера Дольфуса фон Шушнига в гитлеровский капкан в ОберзалЧщберг»1 2. ж
Большинство западногерманских историков, а также бывшие и нынешние политики подробно описывают тот неистовый восторг, с которым в Австрии были встречены германские войска и Гитлер. Нет надобности приводить эти высказывания. Но для Шахта и их недостаточно. Он утверждает, что «партийно-политическое извращение истории» направлено к тому, чтобы преуменьшить степень ликования по поводу аншлюса3 4.
Шахт в этом случае по достоинству занимает место рядом с Розенбергом. Предоставим слово беспристрастному свидетелю, английскому журналисту Геди, не находившемуся под влиянием нацистского великодержавного угара. Он сообщает, что незадолго до аншлюса в Граце были сконцентрированы все молодые нацисты из окрестностей города, а также из Зальцбурга, Клагенфурта и Инсбрука, чтобы организовать грандиозные демонстрации'1. Зейс-Йнкварт был послан Шушнигом в Грац в целях «умиротворения». В результате два часа подряд штурмовики маршировали перед Зейс-Инквартом, который потом встретил отборные отряды гитлеровским приветствием.
Через несколько дней 5 марта нацисты организовали такой же «бродячий цирк» в Линце. Таким образом, население было психологически подготовлено к вступлению германских войск. Подлинная же буря восторга поднялась тогда, когда Шушниг, наконец, попытался противостоять Гитлеру, объявив в своей речи об организации народного голосования5 *.
Сила сопротивления австрийского народа была длительное время парализована действиями угнетавшего его правительства. Рабочий класс потерпел поражение в феврале 1934 года и был лишен всех своих легальных политических и профсоюзных организаций. В феврале 1938 года австрийские рабочие, используя терпимость правительства Шушнига, снова начали открыто выступать. Начало создаваться широкое пародное движение против германского фашизма.
Об этом писал 24 марта 1938 года Иоганн Коплениг, председатель Коммунистической партии Австрии:
«В решающие недели между соглашениями в Берхтесгадене и И марта в австрийских народных массах произошел процесс, который не сможет не оказать влияния на будущее Австрии. Впервые в истории страны рабочие установили контакт с крестьянами, коммунисты и социалисты—с католическими народными массами. Среди народа начало устанавливаться взаимопонимание, начал возникать широкий фронт борьбы в защиту свободы и независимости. И во главе этого фронта снова стоял австрийский рабочий класс»0.
7 марта 1938 года состоялось собрание в переполненном рабочем клубе Флорисдорфа. Один из социалистов потребовал, чтобы рабочие поставили правительству условия, от выполнения которых зависело, окажут ли они поддержку Шушнигу или нет7.
1 Rosenberg, Alfred, I.elzte Aufzeicliiuingen, Gottingen, 1955, S. 171.
2 S t о k e r, J a k о b, Manner des deulscben Schicksals, Berlin, 1949, S. 119.
3 Sc h a ch t, H ja 1 m a r, 76 Jabre meines Lebens, Bad Worishofen, 1953, S. 489.
4 G e d у e, G. E. R., Die Bastionen fielen, Wien, o. J., S. 242 ff.
5 Ibid., S. 238 ff.
8 «Коммунисты в борьбе за независимость Австрии», сборник, Издательство иностранной литературы, М., 1956, стр. 48.
7 Перед этим уже происходили переговоры между рабочими делегациями и правительством, по ходу которых Шушниг сделал некоторые уступки.
123
Почему историки Западной Германии об этом ничего не сообщают? Почему они не пишут о том, что на этом собрании выступил коммунист, который сказал, что вести переговоры с Шушнигом—это лишняя трата времени, и без этого можно прийти к единству. На свете есть только один непримиримый смертельный враг всех рабочих, лишь один свирепый, бессердечный погонщик рабов—Адольф Гитлер1.
Утром 11 марта на венских улицах царило ликование и воодушевление. Женщины, стоя на разукрашенных грузовиках, разбрасывали листовки, содержавшие призыв к участию в народном голосовании. На Кернтенер-штрассе в Вене не было видно ни одного штурмовика. Заявление Шушнига о борьбе под лозунгом «Красно-бело-красное знамя или смерть» мобилизовало рабочих Вены. Казалось, что австрийское правительство наконец предоставляет свободу действий социалистам и коммунистам, ранее подвергавшимся преследованиям, для борьбы против фашистской опасности. «Однако трусливые лидеры профсоюза сначала запросили Отечественный фронт, надлежит ли и профсоюзам участвовать в демонстрации»1 2.
В 1938 году австрийский рабочий класс был слишком слаб, чтобы противостоять и германским фашистам, и австрийским фашистам, и собственному правительству. Многолетняя враждебная рабочему классу политика австрийского правительства принесла горькие плоды. Показательно, что первыми вступили в Вену Гиммлер и его гестаповцы. Австрийский нацистский главарь Райнер сообщал об этом: «Из самолета рейхсфюрера СС, к которому мы приблизились, вышли люди с автоматами. Они окружили самолет и взяли автоматы на изготовку»3.
Так началось хождение Австрии по мукам. Западногерманские и австрийские буржуазные историки замечают только цветы, они нс видят крови и слез4.
Значительная часть австрийского народа, шедшая на поводу у фашизма, быстро прозрела вследствие чудовищного, жестокого террора5 * *.
Главный переводчик в германском министерстве иностранных дел Пауль Шмидт отмечает, что при поездке Гитлера и Риббентропа в мае 1938 года в Италию южнотирольское население не приветствовало «коричневого диктатора»; из этого факта Пауль Шмидт делает вывод, что, по предположению южнотирольцев, их предали ради дружбы с Римом8. Ему вообще не приходит в голову, что могли быть люди, которые вовсе не мечтали о «коричневом рае». Сейчас снова речь идет о том, чтобы расширить сферу господства германского империализма. Поэтому предпринимаются попытки приукрасить и изобразить в более приглядном виде методы фашистских агрессоров.
Можно в этом отношении привести еще один характерный пример. Некоторые авторы, в том числе и гитлеровский шеф прессы Дитрих, сообщают, что через сутки после захвата Австрии Гитлер еще не думал об
1 G е d у е, G. Е. R., Op. cit., S. 255.
2 Ibid., S. 272.
После встречи в Берхтесгадене состоялись стачки протеста под лозунгом: «Мы не позволим продать нас Гитлеру!» Функционеры австрийского объединения профсоюзов призвали рабочих к борьбе за свободу и независимость. От имени 409 тысяч организованных рабочих они призвали австрийский народ «не пожалеть сил в борьбе за Австрию» («Frankfurter Zeitung», Nr. 97—98, 23. Eebruar 1938).
3 IMG, Bd. XXXIV. Dok. 4005—PS, S. 38.
После берхтесгаденского диктата Зейс-Инкварт передал двум представителям гестапо список фамилий всех ранее подвергавшихся аресту социал-демократов и коммунистов. Таким образом, гестапо сразу Чгогло приступить к своему кровавому делу (G е d v е, G.E.R., Op. cit., S. 235). "
4 Имеются исключения: так, например, Кордт пишет: «Примененные методы напоминали захват власти в Германии» (К о г d t, Е г i с h, Op. cit., S. 105).
5 Romani k, Felix, Osterreich 1933 bis 1945, Die wirtscbafllicben Auswirkun-
gen des Freibeitskampfes und der Okkupation Osterreichs, Diss. phil. Mschr., Wien, 1953.
Романик сообщает также о борьбе Сопротивления патриотических сил в Австрии.
• S с b m i d t, Р a u 1, Statist auf diplomascher Buhne 1923—1945, Bonn, 1953, S. 391.
124
аншлюсе1. Воодушевление и положительная реакция за границей привели к тому, что у него созрело соответствующее решение. Как это согласовать с угрозами Гитлера в Берхтесгадене, когда он заявил Шушнигу: «Я говорю вам, что всю эту так называемую австрийскую проблему я так или иначе разрешу. Кто знает, может быть, через день я буду в Вене, как весенняя гроза! Тогда вы кое-что увидите! Я хотел бы избавить от этого австрийцев. Это будет стоить многих жертв—вслед за армией придут штурмовики и легион. Никто не сумеет воспрепятствовать мщению, в том числе и я! Вы хотите сделать из Австрии вторую Испанию!»1 2 Кто может, учитывая это заявление, сомневаться относительно намерений Гитлера? Когда Шуш-нинг хотел внести два несущественных изменения в текст подготовленного заявления, Гитлер демонстративно приказал позвать Кейтеля. Тем не менее все эти факты позволяют Мейснеру констатировать, что Шушниг подписал диктат хотя и под политическим давлением, но добровольно!3 Разве Мейснер действительно так плохо знал методы своих хозяев?
Германские империалисты вновь стремятся установить свое господство « Европе. В этом им помогают и реакционные австрийские историки. Бенедикт характеризует призыв Шушнига к народному голосованию как опрометчивый шаг4.
Бенедикт критикует фашизм лишь по той причине, что он не сумел разрешить проблему аншлюса «в форме, соответствующей австрийскому мышлению» 5. Господа пз Бонна будут, конечно, благодарны Бенедикту за подобные рассуждения.
Западногерманские историки, ныне приукрашивающие агрессивные методы фашистов, помогают германскому империализму подготавливать новые военные авантюры. Как во времена Гитлера, монополисты на Рейне и в Руре, особенно после заключения Австрийского государственного договора, с алчностью протягивают свои руки к части национализированных австрийских предприятий. Правительства обеих стран санкционировали эти интриги, заключив соглашение о возвращении частного имущества.
Независимо от того, идет ли речь об историках или бывших политиках и военных, наша задача заключается в том, чтобы разоблачить пропагандистов Аденауэра, дабы в результате их зловещей деятельности на народы Европы не обрушилось новое несчастье.
1 D i е L г i с 11, О t t о, 12 Jahre mit Hitler, Munchen, 1955, S. 52.
Это утверждение в основном базируется на показаниях Геринга (IMG, Bd. IX, S. 505—506) и Нейрата (IMG, Bd. XVI, S. 704) в Нюрнберге. Историки сознательно путают государственно-правовые вопросы и подлинные планы.
2 Schuschnigg, Kurt, Ein Requiem in Rot—WeiS—Rot, Ziirich, 1946, S. 41 ff.
В атом случае речь идет не о припадке ярости Гитлера, и это признает даже Дирксен, который ссылается на ставшую после опубликования документов известной беседу Гитлера с Гендерсопом. Гитлер сообщил английскому послу, что дело дойдет до борьбы, если Англия будет противодействовать «разумному урегулированию австрийской проблемы со стороны Германии» (Dirksen, Herbert, Moskau—Tokio—London. Stuttgart o.
3 Meiflner, Op. cit., S. 447.
5Benedikt, Heinrich, Op. cit., S. 266.
• Ibid., S. 200.
Герхард Фукс
ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСА О СУДЕТСКИХ НЕМЦАХ (1933—1938). В ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Так называемая проблема судетских немцев занимает важное место в истории подготовки второй мировой войны германским империализмом. Политика угнетения, проводившаяся чешской империалистической крупной буржуазией в отношении национальных меньшинств Чехословакии и, следовательно, в отношении судетских немцев, дала фашистскому германскому правительству повод для вмешательства во внутренние дела Чехословакии, и это новело при содействии империалистических западных держав к расчленению Чехословакии осенью 1938 года и к полной оккупации Чехословацкой Республики гитлеровской Германией в марте 1939 года. Фашистская партия судетских немцев сыграла в этих событиях чрезвычайно активную роль пятой колонны германского империализма. Тем самым она существенно помогла германскому империализму в создании предпосылок для запланированной им войны с целью установления «нового порядка» в Европе: был создан сильный военный потенциал, обширный резервуар рабочей силы и обеспечен свободный выход к Балканам, которые были нужны как плацдарм для агрессии против Советского Союза.
Многие историки в Западной Германии, занятые так называемыми восточноевропейскими исследованиями, уделяли внимание этим событиям. Мы хотим здесь рассмотреть некоторые работы, предметом которых является эволюция немецкого меньшинства в Чехословакии в период подготовки второй мировой войны. Освещение дипломатических событий но время так называемого судетского кризиса и их отражение в западногерманской исторической литературе представляет собой задачу отдельного исследования.
Хотя печатные труды упомянутых историков зачастую различаются между собой в оценке определенных деталей и событий, псе же они имеют одну общую черту, а именно присущий им националистический характер. В основе всех этих работ о развитии германского меньшинства в Чехословакии с 1918 по 1938 год лежит одна и та же концепция. Она сводится к утверждению, что наряду с капиталистическим чехословацким государством угнетение германского меньшинства осуществлял весь «чешский народ... с помощью биологических и экономических, организационных и идейных средств борьбы»1. Эта «чешская политика» якобы вызвала у судетских немцев равнодушие к буржуазной демократии 1 2 и в конце концов отдала их в руки фашизма. По этой причине, а также потому, что «чехи в тридцатых годах неправильно оценивали европейскую ситуацию в самой ее основе... они довели до крушения свое госуда|цство»3. Таким образом, утверждают, будто чеш-
1 Е г а и z е 1, Е m i 1, Die Politik der SudeLendeulschen in der Tschechoslowakei 1918—1938, In: «Die Deutschen in Bohmen und Miihren», Ein historischer Riickblick. Griifel-finq bei Munchen, 1952, 2. Aufl., S. 347.
2 Franzel, Emil, Op. cit., S. 350.
3 Ibid., S. 344.
126
екая нация в целом сама несет вину за потерю ею самостоятельности в 1939— 1945 годы, а в конечном счете и за трагедию судето-немецких трудящихся 1.
Буржуазные идеологи, до 1938 года почти все находившиеся на службе у судето-немецкой буржуазии, не могут или не хотят видеть классовый характер первой Чехословацкой Республики. С 1918 по 1938 год в Чехословакии власть находилась в руках чешской империалистической крупной буржуазии. В дву^иной Австро-Венгерской монархии судетская буржуазия вместе с германской буржуазией альпийских ^провинций представляла политически господствующий класс, который не только подвергал социальному угнетению всех трудящихся, но и держал под национальным гнетом меньшинства, в том числе и чехов; однако после 1918 года картина резка изменилась.
Хотя Чехословакия выросла из политических массовых выступлений чешских и словацких трудящихся, возникших в результате Великой Октябрьской социалистической революции, тем не менее вследствие определенных внутриполитических и внешнеполитических обстоятельств Чехословакия стала буржуазно-демократической страной. Теперь пришедший к власти чешский финансовый капитал в свою очередь стал угнетать национальные-меньшинства: словаков, венгров, поляков и немцев. Буржуазные идеологи не хотят или не могут понять, что угнетение национальных меньшинств буржуазией того народа, который составляет большинство в стране, вытекает из существа буржуазных многонациональных государств с капиталистическим классовым строем. Поэтому ни одному капиталистическому многонациональному государству не удается осуществить действительнодемократическое решение национального вопроса. Только там, где уничтожено господство эксплуататорских классов, имеется возможность полностью претворить в жизнь право народов на самоопределение. Первым примером такого решения явилась Советская Россия после 1917 года.
Коммунистическая партия Чехословакии была внутри Чехословацкой. Республики единственной силой, которая до оккупации гитлеровской Германией последовательно боролась за полное равноправие всех народов Чехословакии. Коммунистическая партия объединила в своих рядах сознательных революционных пролетариев всех народов, населявших Чехословакию, между тем как не только буржуазные, но и социал-демократические партии были построены на национальной основе. Организовывая многочисленные забастовки, немецкие и чешские пролетарии вместе боролись против чешских и немецких эксплуататоров. Чешские и немецкие рабочие во время этих боев были сражены пулями чехословацкой жандармерии, которая, как и весь государственный аппарат, в первую очередь служила интересам чешской крупной буржуазии, но, когда находилось под угрозой капиталистическое классовое господство в целом, защищала и судето-немецких эксплуататоров. В парламенте, где фракция Коммунистической партии Чехословакии была сильной, а также в своих многочисленных обращениях к правительству коммунисты всех национальностей требовали полного экономического и политического равноправия, особенно для судетских немцев, ибо этот вопрос становился в условиях фашистского окружения все более жизненной проблемой чехословацкой демократии. Чешский пролетариат в многочисленных массовых выступлениях оказал поддержку этой политике Коммунистической партии Чехословакии, направленной, к удовлетворению национальных чаяний судето-немецких трудящихся.
Западногерманские историки, занимающиеся судето-немецким вопросом, обходят молчанием все приведенные факты. Эти факты несовместимы
1 Эту концепцию можно найти у Шрайбера (S с h г е i b е г, R u d о 1 f, Die politische Entwicklung und Bedeulung dor Sudclenlander. In: «Die Dcutschen in Bohmen und Miihren», S. 88 ff.), Вейцзекера (W eizsacker, Wilhelm, Geschichte der Deutschen in Bohmen und Miihren, Hamburg, 1950, S. 22 ff.), Лемана (1, e h m a n n, E r n s t, Wir Sudetendeu-tsche, Doitmund, 1952, 4. Aufl., S. 72 ff. und S. 172 ff.) и Шварца (Schwarz, Ernst. Sudetendeulsches Schicksal im I.aufe der Jahrhunderle. Augsburg o. j., passim).
127
с националистической концепцией, согласно которой будто бы весь чешский народ, от безработного пролетария до могущественного финансиста, как Прейсс или Беран, был охвачен «стремлением к уничтожению» 1 судетских немцев, между тем как судетские немцы, от голодающего безработного текстильщика до богатейшего маргаринового короля Шихта в Ауссиге, якобы в свою очередь были объединены в «народную общность» и боролись за свое существование под единым руководством без всяких «партийных распрей». Таким образом, эта националистическая фальсификация истории создает основу для оправдания фашистского генлейновского движения.
В общих чертах можно наметить следующие соображения, дающие возможность ответить на вопрос, почему Генлейну вообще удалось повести за собой значительные массы. Почти 80 процентов немцев, живших в Чехословакии, голосовали за судето-пемецкую партию на общинных выборах 1938 года. Первой причиной явилась политика национального угнетения со стороны чешской буржуазии, которая ограничивала права национальных меньшинств — например в школах, при поступлении на государственную службу и в применении родного языка. Далее, большое значение имело катастрофически тяжелое экономическое положение, в котором оказались судето-немецкие трудящиеся, когда мировой экономический кризис с чрезвычайной силой отразился на состоянии промышленности в Судетской области после крушения Австро-Венгрии, в сильнейшей степени зависевшей от экспорта; кроме того, в Чехословакии экономическое оживление после кризиса давало себя знать медленнее, чем в других странах. Из общего числа миллиона безработных в Чехословакии больше половины принадлежало к немецкому населению, хотя немцы составляли только 22 процента всего населения страны. Вполне понятно, что при таких обстоятельствах социальная и националистическая демагогия генлейновских фашистов нашла благодатную почву. Этому способствовало и то обстоятельство, что после 1933 года судетские немцы принимали за чистую монету сообщения о мнимых успехах, достигнутых по ту сторону границы в «Третьей империи», например в уничтожении безработицы и т. п.; при этом судетские немцы не видели или не хотели видеть связанный с экономической политикой фашизма курс германского империализма на войну. Следует, наконец, упомянуть и о том, что часть чешской буржуазии, которая после 1933 года все более ориентировалась на гитлеровскую Германию, оказывала политическую поддержку движению Генлейна и подвергала преследованию антифашистские силы. Само собой разумеется, что на состояние промышленности в Судетской области влияло и то обстоятельство, что в капиталистической конкурентной борьбе, представляющей при капитализме закономерное явление, чешские капиталисты имели все возраставшее преимущество перед немецкими предпринимателями благодаря тому, что в их распоряжении находился государственный аппарат. Между тем в Австро-Венгерской империи положение было совершенно иным. Немецкая буржуазия никогда не могла примириться со своим экономическим и, как мы видели, политическим второстепенным положением в Чехословакии. Перед ее идеологами стояла задача— вести борьбу против этого второстепенного положения и связать трудящиеся массы немецкого населения в Чехословакии с интересами немецкой буржуазии в Чехословакии, а также в «Третьей империи»; к сожалению, это им вполне удалось.
При этих обстоятельствах не удивительно, что упомянутые историки в своих работах весьма сожалеют по поводу отставания судетских капиталистов в конкурентной, борьбе 1 2. Шрайбер называет эту конкурентную борьбу «националистическим злоупотреблением экономикой»3 со стороны
1 Lehmann, Ernst, Op. cit., S. 76 und often Аналогичная терминология встречается в этой связи почти у всех названных авторов.
2 Weizsiicker, Wilhelm, Op. cit., S. 28 1; Franiel, E m i 1, Op. cil., S. 349; Schrieber, Rudolf, Op. cit.,S. 287 f.
’Schreiber, Rudolf, Op. cit., S. 288.
128
«чехов». Леман также, пользуясь уже знакомым нам методом, приписывает «чехам» вину за все несчастья, причем он в прямом противоречии с историческими фактами даже говорит о том, что «чехи навлекли на судето-немецкий промышленный район мировой экономический кризис» *. Эти историки пи словом не упоминают о том, что судето-немецкие капиталисты сами способствовали увеличению безработицы, закрывая без всяких на то оснований предприятия, продавая машины за границу и с помощью других манипуляций. Напротив^ Францель выступает с демагогическим утверждением, будто во время кризиса «чешское население жило*в благополучии», между тем как в Судетской области царили безработица и нужда1 2. Несомненно, что благосостояние чешских капиталистов возросло, но ведь и Шихт и Либик также вели в Судетской области образ жизни, «соответствовавший их положению». С другой стороны, Францель полностью игнорирует ту упорную борьбу, которую вели чешские пролетарии, сельскохозяйственные рабочие и малоземельные крестьяне против чешских фабрикантов, крупных землевладельцев и спекулянтов; в этой борьбе трудящихся за улучшение их тяжелого материального положения они встречали последовательную поддержку только со стороны Коммунистической партии Чехословакии. В упомянутых работах ничего не говорится и о том, что в определенных монополистических организациях совместно участвовали немецкие и чешские капиталисты. Только один раз и к тому же в другой связи Францель с сожалением констатирует, что «особенно некоторые имущие слои среди немцев... всегда обнаруживали явную склонность идти вместе с чехами в борьбе за свои классовые интересы» (то есть с чешскими капиталистами.—Г. Ф.). Это обстоятельство «было препятствием для решительного выступления судетских немцев» э.
Этой констатацией Францель невольно подтверждает, что не существовало «античешского» единства интересов судетских немцев. Обычно буржуазные историки стараются с помощью таких националистических понятий, как «судето-немецкая общность» или «немецкая народная группа в Чехословакии», да и вообще с помощью всей своей концепции скрыть классовое расслоение на эксплуататоров и эксплуатируемых внутри немецкого меньшинства в Чехословакии.
Фашистское движение Генлейна, которому в значительной степени удалось создать подобие «народной общности» среди судетских немцев, прославляется Францелем «как великое народное движение 1933 года»4 5. Францель называет «революционным движением»6 те националистические буржуазные союзы немцев в Чехословакии, которые были созданы в двадцатых годах и затем вошли в состав генлейновского движения. При этих обстоятельствах не удивительно, если он называет установление фашистской диктатуры в Германии «социальной революцией» ®. Он прославляет Генриха Рута и Конрада Генлейна за «духовное» и соответственно «организационное обновление»7 8 судето-немецких гимнастических обществ, которые еще до 1933 года являлись боевым отрядом немецкой буржуазии в Чехословакии, а затем стали ядром судето-немецкой партии. Францель по-своему последователен, когда называет руководителя словацких фашистских ирредентистов Глинку «мужественным передовым борцом» среди словаков ®.
Ни Францель, ни авторы других работ не находят ни одного слова для осуждения генлейновского движения. Напротив, они все стараются снять с судето-немецкой партии обвинение в том, что она с самого начала была
1 Lehmann, Ernst, Op. cit., S. 128.
2 Franzel, Emil, Op. cit., S. 356.
3 Ibid, S. 343.
4 Ibid., S. 357.
5 lb:d., S. 359.
• Ibid., S. 363.
’ Ibid., S. 358.
8 Ibid., S. 345.
9 Занаа № 1220
129
фашистской партией ирредентистов. Леман прямо отвергает понятие «ген-лейновские фашисты», беря его постоянно в кавычки1. Шрайбер также подчеркивает: «Это не было обманом, когда в 1934 году Генлейн развернул программу национального самоуправления, ясно отмежевываясь от национал-социализма» 1 2.
Это утверждение можно найти пе только у Шрайбера, но в том или ином варианте у Лемана, Францеля, Вайцзеккера, Лемберга3, и прежде всего у Вальтера Бранда, в прошлом видного генлейновского фашиста и близкого сотрудника Конрада Генлейна. И он чувствовал себя призванным к тому, чтобы взяться за перо, дабы снять с фашистского генлейновского движения и, естественно, с самого себя обвинение в иррсдентизме и фашизме. Он лицемерит, утверждая, что судето-немецкая партия не была «за несколько месяцев до «аншлюса» в 1938 году ирредентистской политической организацией... Она... честно искала решение внутригосударственно-правовых границ Чехословакии». Решение национальной проблемы «считалось возможным в рамках федералистической организации Чехословацкого государства» 4 5.
Сам Бранд вынужден признать, что предоставление территориальной автономии судетским немцам означало бы передачу власти в Судетской области фашистам и тем самым фактически передачу Чехословакии гитлеровской Германии. Показательно, что эту сторону дела почти полностью оставляют без внимания Францель, Леман, Вайцзекер и Шрайбер. Но Бранд, признавая это обстоятельство, одновременно сам себя разоблачает как империалистического германского великодержавного шовиниста. Бранд пишет. «Хотя и было ясно, что подобная государственно-правовая перестройка Чехословакии в известном смысле привела бы к включению ее в сферу влияния сильной германской империи, в этом не было бы ничего противоречащего природе вещей в соответствии с историей страны на протяжении столетий» Б. Для таких людей, как Бранд, нет ничего «противоречащего природе вещей» в том, что чешский народ в течение многих сотен лет находился под гнетом немецких феодалов или капиталистов. Поэтому теперь, когда чешский народ навсегда сбросил иго собственной и немецкой империалистической буржуазии, эти люди неистовствуют в ненависти к чешскому народу и выступают против него со скрытыми и даже открытыми угрозами.
В этой связи надо заметить, что не только судето-немецкие историки имеют обыкновение, рассматривая так называемую немецкую проблему в истории чешского народа, сводить се к вопросу о взаимоотношениях между немцами и чехами в пределах Богемии и Моравии. У чешских буржуазных историков также можно встретить подобный неверный подход, который служит классовым интересам чешской буржуазии и отвергается чешской марксистской исторической наукой ®.
Вместе с тем надо признать искажением истории утверждение, будто судето-немецкая партия до весны 1938 года честно выдвигала требования автономии. Чехословацкие архивы, равно как и воспоминания судето-немецких антифашистов, содержат многочисленные доказательства того, что после роспуска немецкой национал-социалистской партии в Чехословакии осенью 1933 года партия Генлейна, включив в свои ряды значительное
1 Lehman, Ernst, Op. cit., S. 186.
2 Schreiber, Rudol f, Op. cit., S. 91. Так же высказывается Шрайбер в своей статье (Schreiber, Rudolf, Tschechoslowakei und Sudetendeutsche. Von der Entrcch-tung zur Vertreibung. In: «Heimat im Herzen. Wir Sudetendculschc». Hg. W. I'leyer, Salzburg, 1949, S. 209).
’Lehmann, Ern s^, Op. cit., S. 79; F r a n z e 1, Emil, Op. cit., S. 371; Weizsacker, Wilhelm, Op. cit., S. 31; L e m Ъ e r g, E * g e n, Zur Geschichte der deutschen Volksgruppcn in Ost—und Mittcleuropa. In: «Zeilschrift fiir Ustforschung, 1952, S. 337.
4 Brand, Walter, Die Sudetendeutsche Tragodie, Lauf bei NOrnbergo. J. (1949), S. 30, 32.
5 Ibid., S. 33.
• Ha jek J. S., Nemecka otazka a ceskoslovenska politika, Prag, 1954, S. 6 ff.
130
число средних и младших функционеров этой партии, взяла также на вооружение все их ирредентистские требования. Эти требования получили рас-пространениё среди судетских немцев задолго до майских выборов 1935 года и во время самих выборов. Фактом является также и то, что Генлейн, самое позднее с 1935 года, был через германскую миссию в Праге связан с гитлеровским правительством, от которого получал не только щедрую финансовую поддержку, но и тактические директивы и политические задания. Но и об этом»} малчивают западногерманские^историки и публицисты.
Такими же лицемерными и демагогическими являются попытки отрицать фашистский характер генлейновского движения. Несомненно, что национал-социализм не был с самого начала в судето-немецкой партии единственной господствующей идеологией. Вначале эта партия представляла идеологически довольно пеструю картину: она охватывала наряду с бывшими членами национал-социалистской партии различные так называемые народнические группы. Так, например, наряду с явными национал-социалистами, как Карл Герман Франк, в партии состояли Генлейн и Бранд — выходцы из так называемого «Товарищеского союза», которые находились под влиянием сословных идей Отмара Шпана, в большей степени близкого к австрофашизму, чем к национал-социализму. Однако это ничего по меняет в том факте, что зто движение — не только после 1937—1938 годов, когда отпетые нацисты окончательно возглавили руководство судето-немецкой партией, но с самого начала существования партии — имело фашистский, антидемократический характер и переняло у гитлеровской партии методы политической работы, а затем и ее цели. Поэтому такие лица, как Вальтер Брапд, который во время борьбы клик внутри судето-немецкой партии выступал против претензий национал-социалистов на исключительное руководство, не имеют права называться противниками фашизма, даже если они, как Вальтер Бранд, после оккупации Судетской области подвергались преследованию со стороны генлейновцев и, очевидно, теперь желали бы создать впечатление, будто они противники фашизма. Наше мнение подтверждается хотя бы тем, что Грегор Штрассер, Рем и другие старые фашисты были убиты гитлеровцами в результате политических разногласий внутри фашистской руководящей клики.
Кроме того, надо учесть, что генлейновские фашисты, естественно, должны были маскировать в Чехословакии свои политические цели; этим объясняются повторные заверения Генлейна о его лояльности в отношении Чехословацкого государства и его заявления осенью 1934 года, будто между его движением и национал-социализмом существуют «принципиальные различия». После оккупации Судетской области гитлеровскими войсками Генлейн сам во многих речах с триумфом признавал свою предыдущую маскировку. И об этих фактах нельзя найти ни малейшего упоминания в произведениях «объективных» западногерманских историков.
В соответствии с концепцией этих историков совершенно логично, что они после националистских выпадов относительно положения немецкого меньшинства в Чехословакии, после попыток обелить и оправдать геплей-новское движение прославляют расчленение Чехословакии па основе Мюнхенского диктата 1938 года как «освобождение» судетских немцев от «чешского ига». Эта точка зрения нашла свое недвусмысленное выражение в следующей цитате: «Объединение Судетской области с родной страной явилось победой права над несправедливостью. Не меняет дела и упрек, высказанный в позднейшие годы: освобождение судетских немцев произошло под давлением национал-социализма... 1938 год принес справедливое решение, соответствующее воле судето-немецкого народа и требованиям, выдвинутым еще в 1918 году; и это решение было закреплено подписями четырех европейских государственных деятелей...» 1 Автор упомянутой книги не нахо
1 Dr. Н. D., Das Ende der Tschechenherrschaft 1938. Die Scplembcrtage in Eger. In: «Sudetendeulscher Heimat-Dienst», 30. 4. 1950, Jg. 3, Nr. 75, S. 18.
9*"
131
дит ни слова для осуждения германского фашизма. Он не находит ни слова, чтобы сказать о том, что судето-немецкие трудящиеся «вернулись домой» в страну самого зловещего фашистского варварства, где у них одним ударом отобрали все буржуазно-демократические свободы, которые им предоставила Чехословацкая Республика, и где они в конечном счете погибали сотнями тысяч во имя интересов и прибылей немецкого финансового капитала, Круппа и Флика, акционеров треста «И. Г. Фарбен», а также других промышленных и банковских концернов, к числу которых принадлежали и судето-немецкие капиталисты. В конце концов судетские немцы были вынуждены покинуть свою родину вследствие их роковой приверженности к германскому фашизму, который во время второй мировой войны совершил чудовищные злодеяния в отношении народов Европы, в частности и чешского народа.
Несмотря на этот убедительный исторический опыт, буржуазные историки и публицисты ничему не научились и все забыли. Леман полностью становится на позиции автора, цитированного выше, когда он пишет: «Нам, как народной группе, совершенно безразлично, кто нам вернет свободную отчизну, точно так же как нам в свое время было безразлично, кто нас освободит от чехов: Эберт, Гинденбург или Гитлер» * *.
В. Вейцзекер, Е. Францель, Е. Шварц и Р. Шрайбер не высказываются так открыто, но, несмотря на то, что они мимоходом критикуют Гитлера и национал-социализм, они, по существу, занимают ту же позицию. Какой иной смысл имеют их утверждения, что фашистская судето-немецкая партия и ее руководящая клика — это «национальные силы»2 и «руководящие люди» 3 судетских немцев. Таким образом, вопреки историческим фактам создается впечатление, будто политические авантюристы и военные преступники, такие, как Конрад Генлейн и Карл Герман Франк, были выразителями жизненных интересов трудящихся немецкого меньшинства в Чехословакии.
С другой стороны, знаменательно, что ни один из названных авторов ни единым словом не упомянул о том, что за расчленение и в конечном счете за полную оккупацию Чехословакии значительная доля ответственности падает прежде всего на судето-немецкую буржуазию и ее политических представителей в партии Генлейна, а также и на большинство трудящихся судетских немцев, поддержавших Генлейна. Благодаря захвату Чехословацкой Республики было устранено одно из последних препятствий на пути к развязыванию второй мировой войны германским финансовым капиталом.
Между тем идеологи возрождающегося германского империализма, напротив, стремятся освободить судето-немецкую буржуазию и пошедших тогда за нею заблуждавшихся трудящихся от всякой ответственности за историческое развитие. Выдвигается утверждение, что судетские немцы сделались «объектом мировой политики» 4, «простым объектом национал-социалистской политики»5 и что поэтому они потеряли «даже самую малую возможность самостоятельного решения»®.
Эти утверждения находятся в противоречии с тем фактом, что во время общинных выборов в мае—июне 1938 года около 80 процентов немецких избирателей в Чехословакии подали свои голоса за генлейновскую партию и сделали это не под лозунгом так называемого решения через автономию, а под влиянием тайно распространяемого, лозунга, согласно которому «он»,
1 Lehmann, Ernst, Op. cit., S. 186; то же самое Schwarz, Ernst, Op. cit., S. 59 f. v
8 Franzel, Emil, Op. cit., S. 365. •
8 Weizsacker, Wilhelm, Op. cit., S. 31.
’Lehmann, Ernst. Op. cit., S., 172.
* Franzel, Emil. Op. cit., S. 372; то же самое Brand, Walter, Op. cit., S. 59 und 61; Schreiber, Rudolf, Op. cit., S. 94. In: «Die Deutschen in Bohmen und Mahren».
• Lehman, Ernst, Op. cit., S. 172.
132
то есть Гитлер, скоро придет и «вернет в свой дом» Судетскую область, подобно тому как это случилось с Австрией.
Если западногерманские авторы по возможности стараются скрыть исторические факты, то, с другой стороны, они все же не могут утверждать, что в большинстве судетские немцы являлись противниками германского фашизма. Отсюда для этих историков и публицистов и вытекает необходимость защищать позицию большинства судетских немцев, чтобы таким образом сохранить свою концепцию, согласно которой во всем повинны «чехи».
Шварц пишет: «Разве знали судетские немцт?, что их партия является для Гитлера только одной из фигур в большой игре?»1 «Слишком поздно,— полагает Лемберг, — поняли немецкие меньшинства в граничащих с Германией странах, что Гитлер не представлял их интересов, а злоупотреблял ими как «опорными пунктами своей империалистической политики» 1 2. Однако, если бы даже они своевременно поняли всю связь событий, сомнительно, «помогло ли бы судетским'немцам, если бы они проявили отрицательное отношение к Гитлеру. Он все же добился бы возможности вмешаться...»3 4 Судетские немцы якобы не имели другого выхода, так как у них не было иной возможности для достижения национального равноправия, а угнетение со стороны «чехов» стало невыносимым. «Поэтому мюнхенские соглашения и последовавшее за ними объединение судето-немецких областей с империей должны были рассматриваться как пришедшее в последний момент спасение от чрезвычайной беды»* [курсив Вейцзекера.—Г. Ф. 1. Евгений Лемберг приводит самые изощренные доказательства для того, чтобы снять с судето-немецкой буржуазии и ее сторонников историческую ответственность за участие в развязывании второй мировой войны; он пишет: «При отсутствии других сил интеграции было совершенно естественно, что быстро усиливающаяся после 1933 года Германия воздействовала на немецкие национальные группы Восточной и Центральной Европы, как электрический ток, и приковала их к себе. Тенденция к объединению с национальным государством была настолько сильной, что ей подчинились и те политики, которые ожидали пагубных последствий от объединения с национал-социалистской Германией. В этом отношении притягательная сила, исходящая из пункта значительной коцентрации власти, действует сильнее, чем разумные соображения и материальные выгоды. Этот закон раскрывается в истории судето-немецкой партии Генлейна, которая в своем огромном большинстве стремилась к автономии внутри Чехословацкой Республики5 6, однако побуждаемая к этому маленьким, даже не руководящим меньшинством все в большей степени попадала в поле магнетического притяжения гитлеровского государства»® [курсив мой.—Г. Ф.1.
Эта детерминистская манера изложения отрицает, таким образом, факт сознательного подрыва чехословацкой буржуазной демократии со стороны судето-немецкой буржуазии и ее политического орудия — генлейновского движения, действовавшими в интересах империалистической агрессивной политики фашистской Германии. В результате эти силы освобождаются от всякой ответственности за последствия своей политики, ибо они, по мнению Лемберга, не могли действовать иначе, даже если бы этого хотели. Как общее правило, империалистические идеологи не знают меры в отрицании стократно подтвержденного тезиса исторического материализма, согласно которому развитие человеческого общества происходит на основе историче
1 Schwarz, Ernst, Op. cit., S. 60.
2 Lemberg, Eugen, Op. cit., S. 337 f.
’Schwarz, Ernst, Op. cit., S. 59; то же самое Schreiber, R u d о 1 f, in: «Heimat im Herzen», Op. cit., S. 210. Леман полагает также, что, протестуя против мюнхенского диктата, судетские немцы выступили бы против своих жизненных интересов (Lehman, Eugen, Op. cit., S. 81).
4 Wei zsiick e r, Wilhelm, Op. cit., S. 32; то же самое Schreiber, Ru-
dolf, in: «Heimat im Herzen», S. 210.
6 Это положение мы выше уже опровергли.
• Lemberg, Ernst, Op. cit., S. 337.
133
ской закономерности, и, следовательно, смена феодализма капитализмом или капиталистического строя эксплуатации социалистическим общественным строем является исторической неизбежностью. В этих условиях особо бросается в глаза, к каким демагогическим трюкам прибегают буржуазные историки и публицисты, когда они не в состоянии при помощи других аргументов оправдать политические преступления их крупных капиталистических заказчиков. Применяемый ими трюк сводится к механическому перенесению на человеческое общество законов природы, как это имеет место у Лемберга, когда он империалистическую политику экспансии — по терминологии Лемберга, «притягательную силу значительной концентрации власти» — уподобляет «полю магнетического притяжения».
Каковы же исторические факты, противостоящие утверждениям, будто судетские немцы ничего не знали о гитлеровской политике войны и будто, кроме «аншлюса», не было никакой другой возможности для решения немецкой проблемы в Чехословакии? Коммунистическая партия Чехословакии после 1933 года разоблачила и заклеймила враждебный народу характер фашистского режима в Германии и его империалистические военные планы. Посредством органов немецкой печати, многочисленных листовок и демонстраций в пограничных областях, населенных преимущественно немцами, Коммунистическая партия Чехословакии информировала о своих взглядах немецкое население Чехословацкой Республики. Коммунисты предупреждали судетских немцев против доверия в отношении генлейнов-ских агитаторов и гитлеровской пропаганды. Они предсказывали, что, приняв решение в пользу Генлейна и Гитлера, судето-немецкие трудящиеся станут лишь орудием и пушечным мясом при осуществлении задуманной германским финансовым капиталом мировой войны. За исключением нескольких десятков тысяч мужественных антифашистов, героически, рискуя жизнью, до конца боровшихся против Генлейна и Гитлера, судетские немцы верили больше фашистским демагогам, чем коммунистам. Однако история — уже не впервые — доказала правоту коммунистов.
Но Коммунистическая партия Чехословакии, как уже сказано, боролась за полное равноправие немцев в Чехословакии и сделала многочисленные конкретные предложения в целях достижения национального примирения. После 1933 года коммунисты обратились к судето-немецкой социал-демократии и к обеим чешским социалистическим партиям с многочисленными предложениями об установлении пролетарского единого фронта, дабы на этой основе создать широкий антифашистский народный фронт всех национальностей Чехословакии. На основе этого народного фронта можно было добиться равноправия всех народов Чехословакии, пресечь деятельность гейнленовских фашистов, помешать враждебной народу политике капитуляции в отношении гитлеровской Германии, проводившейся империалистической чешской крупной буржуазией, и в союзе с СССР 1 и Францией решительно отбить все атаки германского империализма против Чехословацкой Республики. Это была перспектива, соответствовавшая жизненным интересам немецких трудящихся в Чехословацкой Республике. Таким образом,-не генлейновские фашисты, а коммунисты представляли в действительности национальные жизненные интересы немцев в Чехословакии.
Эта концепция не была осуществлена в силу исторической пины правых руководителей чешской и судето-немецкой социал-демократии, упрямо отказывавшихся принять предложения Коммунистической партии. Особенно позорную роль сыграл тогда председатель судето-немецкой социал-демократии Венцель Якш, который своей классово предательской политикой прямо играл па руку Лплейповским фашистам, в то ^ремя как классово сознательные социал-демократические судето-немецкие рабочие вместе
1 Показательно, что Францель, Шрейбер, Лемав п Брапд, в согласии с пропагандистскими лозунгами генлейповских и гитлеровских фашистов, осуждают пакт о взаимопомощи между Чехословакией и СССР, хотя СССР в 1938 году был единственным союзником, готовым выполнить свои обязательства.
134
с рабочими-коммунистами вели тяжелую борьбу против гитлеровских банд. Последовательно проводя свою прежнюю политическую линию, Якш сейчас находится в лагере агрессивного Североатлантического блока и принадлежит к числу главных подстрекателей реваншизма против народно-демократической Чехословакии. Поэтому надо признать чистой демагогией попытки Якша создать впечатление, будто он и подобные ему лица являлись единственными подлинными защитниками интересов судето-немецких трудящихся1. •
Предательство в отношении Чехословакии быЛо совершено также империалистами Англии, США и Франции, которые пожертвовали своим союзником, чтобы таким образом направить агрессию германских империалистов на Восток, против Советского Союза.
Предательство было совершено в отношении собственного народа империалистической чешской буржуазией, поставившей свои классовые интересы выше национальных, капитулировавшей перед Гитлером и, таким образом, несущей главную вину за потерю чешским народом национальной самостоятельности в период с 1939 года по 1945 год 1 2.
Перед лицом этих фактов и исторических событий снова обнаруживается несостоятельность тезисов западногерманских историков. Надо ясно сказать: это фальсификация истории, когда «отобранные» факты истолковываются тенденциозно, с националистической точки зрения, и одновременно вовсе игнорируются другие существенные исторические факты, в данном случае, например, роль и политика Коммунистической партии Чехословакии в отношении судетских немцев. Возникает, однако, вопрос: какую цель преследуют фальсификаторы истории, чьи интересы они представляют?
Ответ можно дать, в дополнение к сказанному выше, рассмотрев те приемы и способы, при помощи которых они освещают угнетение чешского народа немецким финансовым капиталом между 1939—1945 годами. Оккупация остальной Чехословакии в марте 1939 года фашистским вермахтом именуется лишь «тяжким психологическим промахом в отношении чехов». «Третья империя» якобы упустила «благоприятную возможность», для того чтобы «разочаровавшихся в Западе и Востоке чехов привлечь на свою сторону с помощью великодушия и хорошего обращения»3. Вместо этого обращение имперских немцев с чехами было «не ловким». Шварц полагает, что «закрытие их [чехов.—Г. Ф.\ высших школ было актом произвола со стороны министерства просвещения и глупостью... Посылка такого человека, как Гейдрих, в качестве имперского протектора в Прагу явилась дальнейшей глупостью». Его убийство вызвало карательные мероприятия, отличавшиеся «ненужной жестокостью». И «германская сторона» сожалела о «каре в Лидице»4. В остальном чехам якобы хорошо жилось. Леман пишет: «Но во время второй мировой войны большинство чехов зарабатывало лучше, чем когда бы то ни было в своей стране...»5 6 Героическое активное сопротивление сотен тысяч чешских патриотов, боровшихся против фашистских угнетателей, либо отрицается, либо сводится к мелочам, либо подвергается оскорб
1 См. работу Венцеля (W enzel, J a ks ch, Benesch war gewarnt, Munchen, 1949), а также его статью (W enzel, J aksch, Westeuropa—Ostdeutschland—Gesamteuropa. In: «AuBenpolilik», 1957, S. 487 ff.). В этой статье недвусмысленно выражена приверженность Венцеля к НАТО.
2 Если Францель называет тогдашнего президента Эдуарда Бенеша «главным виновником катастрофы, постигшей его народ» (Franzel, Emil, Op. cit., S.371), то этим самым он маскирует ответственность всей чешской империалистической буржуазии за судьбу чешского народа. Ие хочет ли Францель представить в качестве хороших союзников западногерманских реваншистов тех национальных предателей, с которыми чешский трудящийся народ рассчитался в 1945—1948 годах и которые сейчас частично находятся в Западной Германии как контрреволюционные эмигранты и всеми способами выступают против народной власти в Чехословацкой Республике?
3 Schreiber, Rudolf, in: «Die Deutschen in Bohmen und Miihren», S. 97.
‘Schwarz, Ernst, Cp. cit., S. 60 f. Надо здесь отметить, что выражение
«кара» маскирует преступное массовое убийство невинных людей.
6 Lehman, Ernst, Op. cit., S. 82.
135
лениям. Так, например, Шрейбер утверждает, будто чешскому движению Сопротивления на хватало «каких бы то ни было страстных героических черт» Ч Эти историки просто-напросто стараются скрыть неисчислимые кровавые жертвы, принесенные чешскими и словацкими борцами Сопротивления во главе с коммунистами.
Таким образом, в принципе не осуждается насильственное включение чешского народа в сферу власти германского империализма. Подвергаются лишь критике методы, примененные «Гейдрихом», «министром просвещения» или Гитлером. Поэтому не удивительно, если Шрейбер именует империалистическую грабительскую войну, развязанную германским финансовым капиталом, как «немецкое дело» 1 2, а Леман приписывает зверства в концентрационных лагерях «деятельности некоторых преступных личностей при нацистском режиме»3 ('следовательно, даже не нацистскому режиму в целом.— Г. Ф.). Так «снимается вина с тех, кто несет подлинную ответственность за вторую мировую войну, — с германских монополистических капиталистов; недаром эти историки фактически становятся на уже вышеуказанную позицию генлейновского фашиста Бранда, согласно которой угнетение чешского народа германской буржуазией «не противоречило природе вещей».
Только Вейцзекер применяет выражение «несправедливое насилие», когда характеризует лишение чешского народа его национальной независимости. Однако уже в следующих фразах, лживо изображая отношения между немецким и чешским народами как «цепь ошибок и вины», он осуждает выселение судетских немцев и в следующей, завуалированной гуманистической шелухой форме дает выход своему реваншизму: «...и мы горячо желаем, чтобы нашему народу были свойственны справедливость и выдержка, если он в будущем обретет счастье, имея возможность определять благополучие и неблагополучие других народов»4.
Вейцзекер, который, излагая историю немцев в Чехословакии, не устает пользоваться понятием права на самоопределение народов, хотел бы таким образом, чтобы немцы, а вернее германские империалисты, когда они снова будут располагать достаточной властью, смогли бы определять судьбу других народов. Таким образом, Вейцзекер разоблачает себя как представителя идеологии германского монополистического капитала, который за всю свою историю всегда пренебрегал свободой и независимостью других народов и использовал право самоопределения наций исключительно как орудие пропаганды, служащей коренным классовым интересам германского монополистического капитала.
Но из числа цитированных историков и публицистов лишь меньшая часть решается высказываться даже как Вейцзекер. Большинство из них описывает выселение судетских немцев в самых зловещих красках и открыто требует пересмотра решений, принятых в Потсдаме, реституции й возвращения на родину переселенцев с предоставлением им новых «земельных участков». При этом уже раздаются замаскированные реваншистские угрозы, порой такие угрозы высказываются откровенно. Излюбленным аргументом для обоснования так называемого права на родину является противоречащее всем принципам международного права утверждение, будто мюнхенский диктат еще сегодня имеет международно-правовую силу5. Конечно, идеологи, которые до 1945 года в качестве профессоров Немецкого университета в Праге или в роли публицистов выступали как представители интересов судето-немецкой буржуазии, теперь перешли, на «европейские, хри-
1 Schreiber, Rudolf, Op. cit., S. 98. •
1 Ibid.
3 Lehmann, Ernst, Op. cit., S. 82.
* We is z a cker, Wilhelm, Op. cit., S. 152.
6 «Научный'» фундамент для такого утверждения дает Рашхофер (Raschofer, Hermann, Die Sudettenfrage. Ihre vdlkerrechtliche Entwicklung vom ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Munchen, 1953).
13Г)
стианско-западные» позиции. Однако, как и прежде, они проповедуют мнимое превосходство «немцев» над «чехами» во всех областях жизни, пытаясь обосновать этот тезис, прибегая к фальсификации истории, распространяющейся даже на доисторическую эпоху. В нацистско-расистском духе Леман противопоставляет немецкое «индивидуальное достижение» чешскому «массовому человеку» * *, который вследствие своей «восточной существенной предопределенности» снова и снова будет возвращаться «к степи», даже после того как «прекратится господство Кремля над этим пространством европейской судьбы». Поэтому «судетские немцы являютЛ1 неотъемлемой составной частью тех сил, которые укрепляют центр Европы»2. Правда, в большинстве своем историки, занимающиеся судетской проблемой, избирают более академическую манеру выражения, но в принципе их изложение не отличается от рассуждений Лемана.
Эта литература объективно преследует задачу внушить переселенцам, как и всем немцам, с одной стороны, идеи реваншизма, а с другой — идею освободительной миссии по отношению к чешскому народу, который якобы страдает под «восточным коммунистическим режимом». Шрейбер, Вейцзекер, Шварц, Францель, Лемберг, Леман и другие снабжают, таким образом, идеологическим оружием реваншистские «судето-немецкие землячества» и другие так называемые «организации изгнанников» в Западной Германии3.
Прибегая к фальсификации истории, демагогии и лицемерию, эти идеологи стремятся Создать впечатление, будто они являются представителями жизненных интересов судетских немцев — переселенцев. В действительности же они снова, как и перед второй мировой войной, сознательно вводят в заблуждение трудящихся, вызывают в их рядах ненависть против чешского народа, дабы снова вопреки их жизненным интересам злоупотребить судетскими немцами, включив их в подготовляющийся «третий раунд» германского империализма.
1 Lehmann, Ernst, Op. cit., S. 25.
г Ibid., S. 195.
• Критический обзор развития идеологии и оргавизационных форм западногерманского реваншизма, направленного против Чехословацкой Республики, дает Антонин Шиейдарек (Snejdarek, Antonin, in: «Deutsche AuCenpolitik», Sonderheft 1/1957, S. 52 If.).
Б. Г. Тартаковский
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ РЕАКЦИОННОЙ ИСТОРИОГРАФИЕЙ ВОПРОСА О РОЛИ ГЕРМАНСКИХ МОНОПОЛИЙ В ПОДГОТОВКЕ И РАЗВЯЗЫВАНИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Выяснение и раскрытие зловещей роли крупных германских промышленных и финансовых монополий в подготовке и развязывании гитлеровской агрессии является одной из важнейших задач марксистских историков. Кроме того, возрождение и дальнейшее развитие экономической мощи монополистического капитала в Западной Германии в наши дни требует тщательного изучения тайной деятельности этих монополий (или их непосредственных предшественников) во второй половине тридцатых годов, когда они являлись вдохновителями и прямыми организаторами создания агрессивной военной машины германского империализма. Наконец, детальное рассмотрение этой деятельности особенно необходимо и потому, что протекала она по большей части в глубокой тайне и до сих пор многие детали недостаточно ясны.
Надо также иметь в виду, что в буржуазной реакционной историографии второй мировой войны эта проблема нашла относительно незначительное отражение. Написаны десятки, если не сотни, книг о дипломатической предыстории войны, изданы многие тома различных дипломатических документов; появилось огромное количество литературы — исторических исследований, публицистических работ, мемуаров и т. п. — относительно роли германского генералитета в подготовке и организации войны; сказано немало слов в адрес фашистской партии и ее главаря. Но число книг, посвященных роли настоящих тайных вдохновителей агрессивных действий, крайне незначительно, да и изображается эта роль, как правило, в извращенном виде. Не разоблачать, а всячески прикрывать истинную роль монополий, отрицать, подтасовывая факты или попросту игнорируя прямую зависимость их агрессивных планов и действий от стремлений и расчетов промышленных и финансовых магнатов — такова цель, которую ставят перед собой даже те немногие историки и публицисты реакционного лагеря, которые в какой-то степени затрагивают эту тему.
Марксистская историография дала четкую и ясную характеристику преступной деятельности монополистических заправил. В работах Вильгельма Пика и Вальтера Ульбрихта1 на основе многочисленных неопровержимых фактов показано, как крупнейшие германские монополии способствовали приходу к власти кровавой нацистской клики, как они всемерно содействовали вооружению Германии и развязыванию войны. Важным вкладом в дело разоблачения истинного лица германских крупнейших монополий являются работы Альберта Нордена2, показывающие не только деятельность монополий внутри Германии, но и их связи с монополистическими объединениями США, Англии и Франции. Роль монополистов в при-__________ •
1 Pieck W., Reden und Aufsiitze, Bd. I—IV, Berlin, 1950—1955; U Ibr ich t W., Der faschistische deutsche Imperialismus (1933—1945), Berlin, 1952; В. Ульбрихт, К истории новейшего времени, Издательство ипостранной литературы, М., 1957.
! А. Нордеи, Уроки германской истории, Издательство иностранной литературы, М., 1948; А. И о р д е н, Так делаются войны, Издательство ипостранной литературы, М., 1951; А. Нордеи, Во имя нации, Издательство иностранной литературы, М. 1953.
138
ходе фашизма к власти и в годы господства фашизма обрисована в работе Пауля Ванделя1. Вопрос о взаимоотношениях монополий и гитлеровского правительства, об их участии в преступлениях фашизма затрагивает в своей работе, посвященной героической антифашистской и антивоенной борьбе Коммунистической партии Германии, Отто Винцер1 2.
Зловещая роль монополий как организаторов и вдохновителей второй мировой войны отражена также и в некоторых марксистских работах, посвященных в осш^рном характеристике современного западногерманского монополистического капитала. Таковы работы Г. ^Баумана3, на основе большого фактического материала показывающие преемственность современных западногерманских монополий по отношению к монополистическим объединениям гитлеровской Германии, а также широкие международные связи крупнейших трестов и концернов западногерманской промышленности. В работе Ю. Кучинского «Очерки истории германского империализма»4 дана картина возникновения и развития монополистического капитала в Германии, а также предпринимательских организаций и пропагандистских учреждений, создававшихся монополиями. Здесь также дана общая характеристика роли монополий в подготовке и развязывании войны. Подробный анализ преступной деятельности меднорудного концерна «Мансфельд» дан в недавно вышедшей работе Ганса Раданта5 6, основанной в значительной мере на архивных материалах.
Таким образом, в марксистской историографии вопрос о роли магнатов монополистического капитала Германии в подготовке и развязывании второй мировой войны получил довольно широкое освещение. Однако, к сожалению, более подробное, детальное изучение деятельности отдельных крупнейших монополий, как «ИГ Фарбен», концерн Круппа, Стальной трест и т. д., еще ведется недостаточно. Между тем в целях разоблачения всевозможных легенд, имеющих целью оправдать- монополистов, изобразить их «противниками» гитлеровского режима, укрыть их от ответственности за чудовищные преступления фашизма, особенно необходимо широкое выявление и обнародование фактических материалов, показывающих истинное лицо этих покровителей и приспешников фашизма.
В конце 40-х — начале 50-х годов появилось также несколько работ антифашистски настроенных публицистов и ученых за пределами Германии, главным образом в США, разоблачавших действительное участие крупнейших промышленных п финансовых монополий Германии в преступлениях гитлеризма. Ценность этих работ определяется тем, что в них использованы неопубликованные и скрытые от широкой общественности документы. Но авторы этих книг, основываясь на буржуазной методологии, не только недостаточно объективны, но и по ряду вопросов проводят реакционную точку зрения.
Несколько таких работ посвящены крупнейшему в Германии химическому концерну «ИГ Фарбениндустри». Такова, например, книга бывшего руководителя отделения информации и связи финансового отдела американской секции Союзного Контрольного Совета для Германии Ричарда Сэсюли °. Здесь подробно рассматриваются не только история и международные связи «ИГ Фарбенидустри», но и закулисная роль руководителей концерна как в годы Веймарской^республики, так и в годы фашизма. Много
1 W a n d е 1, Р. Der deutsche Imperialismum und seine Kriege— das nationale Un-gliick Deutschlands, Berlin, 1955.
2 О. Винцер, 12 лет борьбы против фашизма и войны, Издательство иностранной литературы, М., 1956.
3 Г. Бауман, Атлантический пакт концернов, Издательство иностранной литературы, М., 1953.
4 Ю. К у ч и н с к и й, Очерки истории германского империализма, Издательство
иностранной литературы, М., 1952.
6 Radandt, И., Kriegesverbrecherkonzern Mansfeld, Berlin, 1957.
• Р. С з с ю л и, ИГ Фарбениндустри, Издательство иностранной литературы, М., 1948.
139
численные факты, приводимые в книге, показывают роль «ИГ Фарбен» в тайном перевооружении Германии и в создании германского военного потенциала в предвоенные годы, а также активное участие концерна в военных преступлениях фашизма: грабеже чужих территорий, эксплуатации рабского труда военнопленных, насильственно угнанных жителей временно оккупированных территорий и т. д. Неопровержимые, основанные на подлинных документах и показаниях самих руководителей концерна факты активного соучастия в преступлениях нацизма приводятся в книге бывшего главного обвинителя на процессе «ИГ Фарбен» в Нюрнберге в 1947 году Дж. Дюбуа1. Эта книга представляет особый интерес также потому, что материалы процесса «ИГ Фарбен», как и других процессов, проводившихся американской военной администрацией в Нюрнберге в 1947—1948 годах, до сего времени не опубликованы.
В книге Дюбуа приводятся яркие факты самого активного участия заправил концерна «ИГ Фарбен» Крауха, Шмица, Ильгнера, Тер-Меера и других не только в создании военной машины германского империализма, но и в преступлениях гитлеровцев в годы войны. «Директора «ИГ Фарбен»,— пишет Дюбуа, — обладали достаточным могуществом, чтобы готовить войну. В течение целых шести лет они развивали свое могущество, создавая беспрецедентную военную машину»1 2. Приводя много примеров соучастия заправил «ИГ Фарбен» в подготовке агрессивной войны, Дюбуа в то же время допускает ряд клеветнических выпадов против Советского Союза в духе «холодной войны», что, разумеется, значительно снижает ценность его книги.
К числу книг буржуазных авторов, способствующих выявлению преступной роли германских монополий, относится и работа Джеймса Мартина, занимавшего до 1947 года пост начальника отдела декартелизации Американской военной администрации в Германии3. Мартин оперирует интереснейшими фактами, основываясь на документальных материалах; он показывает, как крупнейшие монополии — концерны Круппа, Маннесмана, Флика. Ганиэля, трест «Ферейнигте штальверке» и многие другие — участвовали в преступных делах фашистских правителей и наживались на войне. Мартин также демонстрирует связи германских монополий с монополиями США.
Кое-какие данные о роли монополий в предвоенный период имеются и в большой работе западногерманского публициста Курта Прицколейта4. посвященной главным образом характеристике современных западногерманских монополий и их влияния на государственный аппарат. Однако Прицколейт касается предвоенного периода лишь вкратце и рисует взаимоотношения между промышленными магнатами и гитлеровским государством неправильно. Он изображает фашистское государство как нечто независимое от монополий, которые, правда, «не имели никаких разумных оснований быть в плохих отношениях с Третьей империей» и использовали ее в своих интересах. Однако, по характеристике Прицколейта, эти монополии лишь «сотрудничали» с гитлеровцами. Автор не видит в гитлеровском правительстве выразителя интересов монополий; он даже говорит, что Гитлер «не особенно любил самостоятельных магнатов концернов с Рейна и из Рура»°. Справедливо считая, что концепция авторитарного государства «не появилась из сумасшедшей головы австрийского интеллигента», а «была глубоко заложена в политическом мышлении... господствующей группы магнатов
1 Du В о i s I. Е., The Devil’s Chemists, Boston, 1952. •
2 Ibid., p. 336.
3 Дж. Мартин, Братство бизнеса, Издательство иностранной литературы, М., 1951.
‘Pritzkoleit К. Die neuen Herren. Die Machtigen in Staat und Wirtschaft, Wien—Miichen—Basel, 1955.
8 Ibid, S. 99.
140
тяжелой промышленности» *, Прицколейт не дает правильного объяснения существа процесса усиления политической реакции в империалистическую эпоху. Он совершенно неверно характеризует Веймарскую республику, противопоставляя ее монополиям и даже утверждая, что они занимали по отношению к республике «оборонительную позицию»1 2. Приводя факты, свидетельствующие о прямом сращивании государственного аппарата € крупнейшими монополиями (состав Совета по делам вооружений, в который входили председатель правления Стального ^треста Феглер, председатель правления АЭГ Бюхер, крупнейший саарский промышленник Рехлинг и другие 3), автор не делает из этого и других подобных фактов должных выводов, и его критика монополий является, таким образом, половинчатой.
Подавляющее большинство историков как в Западной Германии, так и в США и Англии стоит на открыто реакционных позициях, выступая в качестве защитников германского монополистического капитала. Однако в первые послевоенные годы, когда в памяти народов были еще слишком -свежи кровавые злодеяния фашизма, апологеты монополий старались всячески обойти вопрос о роли монополистов в войне; выступать прямо в их защиту было тогда попросту невозможно. Даже американские военные власти в Германии не могли тогда прямо отрицать ответственность монополий; они были вынуждены под давлением общественности в демагогиче-•ских целях включить в число проводимых ими в Нюрнберге процессов военных преступников процессы директоров «ИГ Фарбен», Альфреда Круппа и его директоров, а также Фридриха Флика. В ходе этих процессов были выявлены факты чудовищных преступлений монополистических заправил, их прямая ответственность за злодеяния гитлеровской шайки. Однако в планы руководителей империалистической политики США отнюдь не входило действительное наказание преступников; вдохновители и организаторы -внешнеполитического курса США ставили перед собой совершенно иные цели.
Организация процессов промышленников была лишь ловким трюком, рассчитанным на обман общественного мнения и в Европе и за океаном. И хотя в ходе всех этих процессов были представлены неопровержимые доказательства соучастия обвиняемых в преступлениях гитлеровских бандитов, вынесенные американским трибуналом приговоры предусматривали •смехотворно небольшие сроки тюремного заключения некоторым из обвиняемых; остальные были попросту оправданы! А спустя два-три года и эти военные преступники были освобождены и получили фактически обратно свои богатства.
В этих приговорах содержались принципиальные основы полной и окончательной реабилитации монополистических заправил, поскольку были признаны недоказанными — вопреки очевидным фактам — два важнейших пункта обвинительного заключения: участие в подготовке и ведении агрессивной войны и в заговоре против мира4. И именно это обстоятельство адвокаты монополий восприняли как сигнал к наступлению во имя полной реабилитации могущественных покровителей нацизма. «Тот факт, — писал и 1951 году директор западногерманского Института международного права при Геттингенском университете Герберт Краус, — что по этим пунктам были вынесены оправдательные приговоры... имеет огромное не только правовое, но и политическое значение. Таким образом, ведущие группы германской промышленности оправданы от обвинений, которые использовались заинтересованными кругами внутри страны и за границей в пропагандистских целях...»5 6 Не удивительно поэтому, что как раз в последующий
1 Pritzkoleit К., Op. cit,. S. 17.
« Ibid., S. 60.
3 Ibid., S. 157—158.
1 A p p 1 e m a n, I., Military Tribunals and International Crimes, Indianopolis, 1954,
pp. 171—175, 208.
6 Masch ke H., Das Krupp—Urteil und das Problem des Pliinderung, Gottingen. 1951, S. 5 f.
141
период, в начале 50-х годов, и в США, и в Англии, и в Западной Германии появляются апологетические работы Лохнера, Петерсона, Нормана Паундса, Класса, Рейхельта, Машке, тер Меера и других1, в которых делается попытка полностью оправдать монополии, объявить несостоятельными и недоказанными все обвинения в их адрес.
По мере того как в Западной Германии под покровительством США вновь угрожающе росли и уреплялись силы империализма и агрессии, возрождались крупнейшие монополистические объединения, все смелее и откровеннее стали выступать и идеологические оруженосцы монополий. Теперь они ничтоже сумняшеся стали полностью отрицать какое бы то ни было участие промышленных и финансовых магнатов Германии в подготовке и развязывании войны, в военных преступлениях гитлеризма, изображая их не только в роли личных противников Гитлера и врагов войны, по даже в роли пострадавших от нее.
Какими же методами и источниками пользуются адвокаты монополистических заправил, чтобы, вопреки очевидным фактам, доказывать полную непричастность промышленных и финансовых кругов к разработке и осуществлению агрессивных замыслов германского империализма?
Наиболее распространенный способ заключается в полном замалчивании роли монополий в войне. И если в каком-либо объемистом труде, со скрупулезной точностью излагающем множество второстепенных событий, читатель не находит вообще никакого упоминания не только о роли, но часто даже и о существовании монополин да если это повторяется в десятках других книг, то это создает совершенно извращенную картину действительного хода событий. И не случайно эта «забывчивость» оказалась свойственной подавляющему большинству буржуазных историков второй мировой войны. Такое умалчивание весьма красноречиво. В нем есть свой, заранее продуманный расчет. Выполняя идеологический заказ империалистической буржуазии, современные реакционные историки вовсе не ставят своей целью объективный анализ всех важнейших исторических фактов. Не желая видеть истинных причин, которые привели к развязыванию войны, они стараются, описывая чисто внешнюю сторону событий, уделяя основное внимание дипломатическим переговорам, чисто военным мероприятиям и т. п., доказать, что война явилась результатом личных стремлений Гитлера, происков нацистской верхушки и т. д. Конечная цель такой постановки вопроса ясна: снять всякую ответственность за войну и военные преступления с тех сил, которые являлись тайным двигателем всей грандиозной военной машины германского империализма и которые сейчас вновь играют ведущую роль в Федеративной Республике Германии.
В многочисленных работах, посвященных предыстории войны и анализу вызвавших ее причин, можно найти много рассуждений и соображений, иногда даже верных и метких. Указывают, что принятие грабительского-Версальского мира посеяло «зубы дракона, из которых должен был вырасти еще более гибельный конфликт, чем потушенный этим насильственным миром»1 2. Говорят о «нацистских заговорщиках»3, об экспапсионистских стремлениях германской военщины, о психологических особенностях Гитлера, о «демонической, неограниченной власти» фашизма, который «развязал войну, чтобы закрепить свое величие»4. Но во всех этих рассуждениях мы напрасно стали бы искать раскрытия действительных, глубоких, коренных
1 I, о с h n е г L., Die Miichligen und der Tyrann, Darmstadt, 1955; Peterson E. W., Hjalmar Schact for and against Hiller, Roslon, 1954; Pound s N., The Ruhr, London, 1952; Klass G., Kri^>ps. The slory of industrial Empire, London, 1954; Reich e 1 * W., Das Erbe dor I. G. Farben, Dusseldorf, 1956; Ter M e • r F., Die I. G. Far-ben, Dusseldorf, 1953; M a s c h k e IL, Op. cit.
г Д ж. Ф. С. Фуллер, Вторая мировая война 1939—1945 гг., Издательство иностранной литературы, М., 1956, стр. 33.
3 С a v е F. and о I h., The Origins and Consequences of World War II, N. Y.,1948, p. 364.
4 «Итоги второй мировой войны», Издательство иностранной литературы, М., стр. 34.
142
причин, вызвавших мировую катастрофу. Упоминание о германском монополистическом капитале, о его планах мирового господства, о его экономической экспансии, короче говоря, об экономических основах борьбы за передел мира по инициативе наиболее агрессивных представителей международного империализма, почти полностью отсутствует в работах о второй мировой войне у подавляющего большинства буржуазных авторов1. Реакционные историки стараются скрыть внутреннюю, органическую связь крупных монополий с нацизмом, с агрессивными действиями германских империалистических кругов. Фашистская партия Гитлера — £го наиболее яркое проявление господства самых агрессивных кругов монополистического капитала — изображается как некое внеклассовое явление, порожденное различными психологическими, идеологическими и политическими причинами и в равной степени стоящее над всеми классами и группами, в том числе и над крупным монополистическим капиталом.
Другой метод фальсификации роли германских монополий в войне заключается в том, чтобы, не обходя полностью этого вопроса, создать у читателя совершенно превратное представление о нем. Авторы, пользующиеся таким методом, уделяют этой проблеме самое минимальное внимание: от нескольких строк до самое большее одной-двух страниц. Взаимоотношения Гитлера и монополий изображаются ими в извращенном виде как отношения господства и подчинения, причем подчиненной стороной являются именно монополии, вынужденные — якобы против своей воли — выполнять распоряжения гитлеровского правительства, подчиняться созданному им аппарату государственного регулирования хозяйством и т. д. «Интересы бизнеса, — пишут американские авторы Хайнес и Гофман, — были с этого времени (имеется в виду принятие четырехлетнего плана Геринга в 1935 году) подчинены контролю партии»2. Аналогичную концепцию проводят Кейв и другие. Будучи вынужденными признать, что «в нацистской экономической системе охранялись интересы собственности богатых промышленников, юнкеров, военных руководителей и вообще высших классов», они всячески подчеркивают, что «частная инициатива... была подчинена растущему правительственному контролю... все более и более детальному регулированию»3. А поскольку они умалчивают о том, что во главе организаций государственно-монополистического капитализма стояли такие магнаты капитала, как Тиссен, Крупп, Феглер, Бюхер и другие, у читателя может создаться впечатление полной подчиненности всех капиталистов, в том числе крупнейших промышленников и банкиров, фашистской клике, стоявшей у руководства страной. Авторы подобных работ вообще не упоминают о том, что представители крупнейших монополий много раз во всеуслышание заявляли о своей полной солидарности со всеми целями и действиями нацистских главарей как накануне, так и во время войны, что они получали гигантские прибыли от военных заказов и охотно пользовались неограниченными возможностями беспощадной эксплуатации рабского труда иностранных рабочих и грабежа чужих территорий.
В некоторых работах эта же мысль проводится несколько более завуалированно. Для их авторов характерна готовность признать реакционность политических взглядов монополистов и даже участие некоторых из них в тайном перевооружении Германии в годы Веймарской республики. Но эти факты преподносятся так, чтобы создать впечатление их незначительности. Так, например, поступает Норман Паундс, автор большой работы о промышленности Рура. Он пишет и о «зловещей» роли германских монополий в период между двумя войнами и об опасности «концентрации индустриальной мощи в немногих руках», не скрывая того, что промышленники
1 Н a i n е s С. a'n d Н о f f m a n n R., The Origins and Background of the Second World War, N. Y., 1947; Pollock and Thomas, Op. cit.
! 11 a ines C. and Hoffmann R., Op. cit., p. 352.
’Cave and oth., Op. cit., p. 304.
143
оказывали денежную поддержку «реакционным и антилиберальным политическим движениям»1. Но в то же время он старается изобразить эту поддержку как незначительную, причем утверждает, что промышленники помогали «больше правым организациям вообще, чем нацистам в частности...»1 2 Столь же большими оговорками сопровождает Паундс и тезис об участии промышленников в тайном перевооружении Германии. Он считает, что это участие доказано только по отношению к Круппу, оговариваясь при этом, что и это «нельзя понимать буквально», поскольку продукция этого концерна «использовалась не только для вооружения, нои для других мирных целей, а исследования имели большое научное значение»3. Все эти оговорки нужны Паундсу для оправдания своего основного вывода о том, что «тяжелые обвинения... против рурских промышленников в общем преувеличены»4 и что, следовательно, хотя они, может быть, кое в чем и виноваты, их нельзя считать ответственными ни за приход фашизма к власти, ни за войну.
Наконец, третий, наиболее откровенный метод, применяемый адвокатами германских монополий, заключается в решительном отрицании какого бы то ни было участия их в подготовке и развязывании войны.
Этот метод получил особое распространение за последние три-четыре года, то есть именно тогда, когда в результате всей послевоенной политики правящих кругов США возрождение агрессивных сил германского империализма в Западной Германии пошло особенно быстрыми темпами.
Во-первых, многие авторы пытаются доказать непричастность монополистов к установлению господства Гитлера. Сводя все причины прихода фашизма к власти либо ко всякого рода закулисным политическим интригам5 6, либо к психологическому влиянию гитлеризма на массы, апологеты монополий категорически отрицают тот факт, что создание правительства Гитлера явилось прямым результатом активных действий промышленных и финансовых магнатов.
Промышленники, утверждает один из таких авторов (Штехерт), «не хотели поставить на место либеральной власти национал-социалистов. Они искали решение не в реакционном, а в прогрессивном направлении •.
Особенно активно пропагандирует эту легенду американский публицист Лохнер, в прошлом руководитель берлинского отделения Ассошиэйтед Пресс. Заявляя, что нацистское движение было якобы по существу движением «маленьких людей», он старается доказать, что «Гитлер, несомненно, достиг своей цели без промышленников» 7.
Без всяких оснований Лохнер объявляет фальсификацией известное письмо промышленников Гинденбургу от ноября 1932 года, в котором крупнейшие монополисты настаивали на немедленном назначении Гитлера рейхсканцлером 8 *. Письмо это (правда, в виде проекта) фигурировало в числе документов Нюрнбергского процесса®, а в 1956 году подлинник его эа собственноручными подписями был обнаружен в делах канцелярии президента в Центральном архиве в Потсдаме10 11. В книге Лохнера заправилы монополий выглядят убежденными «демократами» и злейшими противниками Гитлера, «...не было идеи, столь далекой от их мнений, чем идея о том, чтобы сделать Гитлера диктатором...»11, — уверяет он.
1 Р o u'n d s N., Op. cit., pp. 246, 248.
3 Ibid., p. 248.
3 Ibid.
4 Ibid., p. 250. См. также HallgartenG. W.’F., Hitler, Reichswehr und Indu-
strie, Frankfurt a/M., 1955, I* 116 f.
6 Brae her K. D., Die Auflosung der Weimsrer Republic 1955.
• S tech er t K., Wie war das moglich? Stokholm, 1945, S. 350.
’ Lochner L., Op. cit., S. 41.
8 Ibid, S. 40.
• «Nazi Conspiracy and Agression», v. VI, p. 796.
10 «Zeitschrift fur Geschichtswissentschaft», N 2, 1956, S. 366 ff.
11 Lochner, Op. cit., S. 40.
144
Подтасовывая факты, Лохнер утверждает также, что большинство монополистов либо вообще не оказывало финансовой поддержки нацистам, либо эта поддержка была случайной и крайне незначительной по сравнению с той помощью, которую они оказывали другим правым партиям и организациям. 13 тех же случаях, когда невозможно просто отрицать факты такой поддержки, Лохнер объясняет ее... «человеческими слабостями», утверждая, что это нельзя расценивать как «политический акт»1-.
Для Лохнера, к|к и для других подобных ему авторов, хороши лишь те источники, которые подтверждают его предвзятые «сложения. Поэтому он пользуется почти исключительно сведениями, полученными им в личных беседах с промышленниками и финансистами (он уверяет, что имел беседы со «всеми существующими деятелями германского индустриального мира»1 2), различными показаниями последних перед комиссиями по денацификации и т. д., а также их апологетическими мемуарами, представляющими яркий образчик самой бесстыдной фальсификации действительных фактов.
Такой активнейший сторонник нацизма, как Шахт, в своих книгах3 утверждает, что содействовал приходу Гитлера к власти... во имя защиты демократии. Не будучи в силах отказаться от изобличающих его документов4, он утверждает, что считал необходимым назначение Гитлера рейхсканцлером именно в целях соблюдения демократических принципов, поскольку нацисты являлись крупнейшей партией рейхстага. «Воля парода, — лицемерно восклицает он, — должна... всегда оставаться верховным законом государственного руководства»5 6.
Шахт сам создал легенду о том, что сотрудничал с Гитлером только в целях помешать ему осуществить национал-социалистскую программу, чтобы, говоря словами апологета Шахта американца Петерсона, «стать наследником Гитлера и повести германскую нацию назад, к прежнему образу жизни»®.
Эту легенду подхватили также другие реакционные историки. Мало того, такую версию стали использовать для оправдания и прочих монополистических заправил, чтобы снять с них ответственность за приход к власти фашистской клики7.
Во-вторых, фальсификаторы пытаются доказать, что германские монополии не были заинтересованы в войне и даже якобы стремились к сохранению мира. Игнорируя неопровержимые факты, оперируя подтасованными цифрами, адвокаты монополистических заправил утверждают, что, поскольку продукция германских монополий была в значительной части предназначена на экспорт, а война, мол, означала разрыв международных связей и потерю иностранных рынков, она была якобы экономически невыгодна промышленникам. При этом сознательно умалчивается об экономической экспансии германских монополий за последние десятилетия, о борьбе за внешние рынки, за источники сырья, за сферы приложения капитала, за колонии, о гигантском расширении экономического могущества монополий и получении ими небывалых прибылей в годы гитлеризма, особенно в период войны.
В наиболее откровенной форме эта попытка освободить монополистов от ответственности за войну проводится в работе Лохиера н. Но мы напрасно стали бы искать в ней какие-либо серьезные доказательства, какие-либо
1 Lochncr, Op. cit., S. 114 and further.
2 Ibid., S. 27.
3 Schacht H., Abrechnung mit Hitler, Hamburg/Stultgart, 1948; S c li a c h t, II., 76 Jahre meines Lebens, Bad Worishofen, 1953.
4 «Nazi Conspirasy and Agression»... Suppl. A, S. 1196—1197, v. VI, p. 526, v. VII, p. 513—514. См. также «Zeitschrift fur Geschichlswissenschaft», N 4, 1957: «Neue Dokumente zur Rolle Schachts bei der Vorbereitung der IIiIlerdiktatur».
s Schacht II., 76 Jahren meines Lebens, S. 327.
6 Peterson E., Op. cit., p. 360.
’ Lochncr L., Op. cit., S. 222; Pounds, N., Op. cit., S. 250.
9 L о c h n e r, Op. cit.
10 Заказ W» 1220
145
экономические выкладки; такие расчеты сразу повернулись бы против ее автора. Главным источником служат для Лохнера неизвестно откуда полученные данные о высказываниях отдельных промышленников накануне войны, неопубликованные мемуары бывшего директора одного из заводов Круппа Гриссмана и главным образом явно апологетическая записка бывшего начальника военно-экономического управления верховного командования германской армии Томаса, написанная им по заданию американских властей в 1945—1946 годах. Бездоказательные утверждения Томаса о том, что якобы «промышленность не имела экспансионистских намерений», что «в ее кругах никогда не было стремления к войне»1 и т. п., Лохнер считает неоспоримыми.
Столь же «веские» аргументы приводит в своей брошюре один из директоров «ИГ Фарбен» военный преступник тер Меер, нагло заявляющий, что «для такого предприятия, как «ИГ Фарбен», который экспортировал во все страны мира более четверти своей продукции, имел многочисленные деловые связи в странах, теперь ставших вражескими, война означала самый тяжелый удар, который только мог быть ему нанесен»1 2.
Такого рода «доказательства» по существу опровергаются самим тер Меером, который признает, что гитлеровское правительство оказывало концерну огромную финансовую поддержку 3, что за первые четыре года войны оборот концерна вырос на 55 процентов 4 и т. д. Опровергает их, против своей воли, и другой апологет «ИГ Фарбен» Рейхельт, который признает, что только за 1942 год сумма инвестиций концерна составила 600 миллионов марок, что «почти все существовавшие предприятия в годы войны были расширены и было построено много новых», что «ИГ Фарбен» являлся основным производителем множества важнейших видов военной продукции s 6.
Не имея возможности полностью отрицать активную роль монополистов в вооружении Германии и в войне, западногерманские фальсификаторы истории изображают их действия исключительно как выполнение ими «своего долга по отношению к стране»9, не говоря ни слова при этом о тех колоссальных выгодах, которые получили крупные промышленники в ходе войны.
Еще один довод, которым пользуются апологеты монополий, заключается в рассуждениях о том, что Гитлер якобы «не доверял промышленности своих планов агрессии и никогда не советовался с нею при подготовке к войне» (Лохнер)7. Все доказательства этого сводятся к тому, что, мол, на секретных совещаниях военных руководителей отсутствовали представители монополий. Несостоятельность такого «аргумента» не нуждается в доказательствах; вряд ли кому-либо могла прийти в голову мысль о том, что участие монополистов в подготовке войны выражалось в разработке военных операций.
В-третьих, анализируя итоги второй мировой войны, апологеты германского империализма стараются доказать, что поражение Германии в войне явилось результатом не только политических, дипломатических и иных просчетов Гитлера, не только его дилетантского руководства военными операциями, но и результатом того, что Гитлер пренебрег мнениями промышленников и начал войну, не закончив в должной мере экономической подготовки к ней. Эта последняя мысль с наибольшей последовательностью проводится военным преступником Шахтом в его упомянутых выше мемуарах, а также американским публицистом Петерсоном и авторами известной книги «Итоги второй мировой войны», вышедшей под редакцией
1 Lochner, Op. cit., 9. 225. *
! Ter Meer F., Op. cit., S. 112.
3 Ibid., S. 91.
4 Ibid., S. 114.
• ReicheltW. O., Op. cit., S. 42—43.
6 Ter Meer F., Op. cit., S. 113.
’ Lochner, Op. cit., S. 221; Г) u В о i s J. E., Op cit., S. 337.
146
гитлеровского генерала Хассо фон Мантейфеля. Ганс Керль видит одну из главных причин экономического краха Германии в ходе войны в том, что не был найден «правильный синтез частной инициативы и государственного руководства»1 и что организационная неразбериха в государственных органах по руководству экономикой мешала промышленникам развить военное производство в должной степени и сделать его достаточно гибким. Таким образом, автор считает виной гитлеровского правительства то, что оно недостаточно прислуЛивалось к мнению монополий 41 не всегда следовало их советам в конкретных вопросах организации военной экономики. Шахт пытается выдать свои разногласия с нацистскими руководителями по некоторым конкретным вопросам создания военной экономики за разногласия принципиального характера. Не будучи в силах отрицать своей роли в организации гитлеровской военной экономики, Шахт хочет доказать, что его участие в этом преследовало цель лишь... помешать вооружению Германии. На основании того факта, что накануне войны между ним и Герингом существовали определенные разногласия относительно путей дальнейшего финансирования быстро возраставших военных расходов, Шахт пытается доказать, что его уход с поста руководителя военной экономики был следствием стремления помешать развязыванию войны. А некоторые связи, которые Шахт имел с руководителями заговора 20 июля 1944 года, дают этому ближайшему сотруднику Гитлера повод изобразить себя чуть ли не главным организатором движения Сопротивления* 2.
Таким «миротворцем» и «врагом фашизма» изображает Шахта и Петерсон. «С 1936 года, — утверждает он, — Шахт делал все что мог и в финансовом и в политическом отношении, чтобы приостановить вооружение»3. Доказанное многочисленными документами Нюрнбергского военного трибунала полное согласие Шахта с захватническими планами нацистов (его заявления по поводу того, что Германия силой захватит себе колонии, его действия в момент захвата Австрии — установление грабительского курса обмена шиллинга на рейхсмарку, — его личное участие в захвате чехословацкого государственного банка, его публичные приветствия Гитлеру в связи с разгромом Франции и т. д.)4 * Петерсон изображает как тактический шаг для осуществления неких особых политических целей. Шахт выставляет в качестве своей заслуги то, что он «никогда не был членом нацистской партии»6, и это всячески обыгрывается Петерсоном, умалчивающим о том, что этот защитник гитлеризма в 1937 году, то есть тогда, когда, по его словам, он вел «борьбу» против вооружения Германии, был награжден золотым зпачком нацистской партии.
Но и Петерсон не может полностью отрицать тот неоспоримый факт, что деятельность Шахта сыграла значительную роль в перевооружении Германии. «Шахт, — пишет он, — содействовал вооружению Германии, подозревая, если не зная, что Гитлер использует эту армию для агрессии»6. Однако отсюда Петерсон делает вывод, оправдывающий Шахта, утверждая, что для последнего вся эта деятельность была лишь «путем, стимулирующим восстановление Германии»7.
Таковы основные приемы и средства, которыми пользуются реакционные историки в целях оправдания истинных виновников войны.
Разоблачение этой опасной фальсификации — одна из важных задач марксистских историков.
1 «Итоги второй мировой войны», стр. 361.
* Schacht И., 76 Jahre meines Lebens.
’ Peterson Е. W., Op. cit., S. 362.
4 См. «Нюрнбергский процесс», т. 11., M., 1951, стр. 569—573.
3 Schacht Н., Op. cit., S. 375.
6 Peterson E. W., S. 362.
' Ibid.
10'
Вернер Базлер
АМЕРИКАНСКИЙ «РЕВИЗИОНИЗМ»
И ПРЕДЫСТОРИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Уже к концу войны в Соединенных Штатах усилилась, а по окончании войны развилась.так называемая «новая школа»1 по вопросам предыстории и истории второй мировой войны; ее представителей иногда именуют прагматистами, презентистами, негативистами, а чаще всего их называют ревизионистами1 2.
В дальнейшем изложении мы воспользуемся наименованием «ревизионисты», учитывая, что эта группа сама себя так называет и что такое обозначение стало преобладающим в международной литературе. К тому же понятие «новая школа» ни к чему не обязывает, да и является неточным, поскольку это направление в американской историографии возникло еще во время первой мировой войны. Этот ревизионизм получил такое наименование потому, что он подвергает пересмотру «официальные» или «традиционные» взгляды по вопросам политической предыстории и истории второй мировой войны. Однако эти авторы не только переоценивают определенную картину исторических событий, пересматривают интерпретацию предыстории и истории второй мировойвойны, но, по сути дела, ревизуют важные принципы научного исторического исследования, те принципы, в силу которых необходимо: учитывать всю совокупность событий, делать выводы только на основании точно сформулированных доказательств, не следует упрощать исторические факты, надо освещать исторические события в связи с соответствующей исторической ситуацией, а не на основании соображений, возникших постфактум. Само собой разумеется, что, хотя у ревизионистов «на бумаге все получилось весьма логично»3, в действительности они как буржуазные историки не имеют представления об общей связи исторических событий, а тем более о закономерности процесса исторического развития.
По этим своим методам и политическим взглядам, которые впрочем между собой неполностью совпадают, ревизионисты представляют особо реакционную группу среди американских историков4.
1 Такое обозначение употребляют Марушкин и Яковлев, «Вопросы истории» за 1956 год, №7: Б. И. Марушкин, Н. Н. Я к о пл ев, Историки американской «повой школы» об участии США во второй мировой войне.—Прим. ред.
г Такое обозначение является, по-видимому, наиболее распространенным. Им поль-вуются пыпешпие руководящие идеологи этой группы Барнс (Barnes, Revisionism and the Historical Blackout. In: Perpetual War for Perpetual Peace, Caldwell, Idaho, 1953), так называет эту группу Мардок в своем исследовании о вступлении Соединенных Штатов во вторую мировую войну («Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte», 1956, Н. 1.), Вагпер в своем исследовании (W a g г, Geschichte und Zeitgeschichte. Pearl Harbor im Kreuz-feuer dor Forschung, «Historische Zeilschrift», 1957, Bd. 183, П. 2) и Таскано в своем докладе на X Международном конгрессе историков (Т о s с а п о, Origini е Vicende diplomat ichc della Seconda Guerra Mondi ale, «Relazioni», Bd. V, Firenze, 1955).
3 Murdock, Op. cit., S. 113.
4 К числу ревизионистских работ принадлежат в первую очередь: Flynn,J ohn Т., The Truth ahout Pearl Harbor, 1944; The Final Secret of Pearl Harbor, 1945; Beard, Chales A., American Foreign Policy in the Making 1932—1940, 1946, ders.: Roosevelt
148
Впрочем, при всем своем единодушии в нападках на научно обоснованную историческую картину международных отношений в период 1932— 1945 годов и вообще в нападках на историческую науку ревизионисты не представляют окончательно сложившуюся и однородную по своим взглядам группу. Хотя Мардок и отмечает такие различия во взглядах1, он все же ограничивается указаниями на различные исходные моменты при рассмотрении американской внешней политики у отдельных ревизионистских критиков. •
Мардок не выходит за пределы формального внешнего рассмотрения вопроса, когда он видит различие лишь в том, какой именно факт американской внешней политики, выразителем которой был Рузвельт, выбирают отдельные ревизионисты в качестве исходного пункта для своей уничтожающей критики.
Обычно американских специалистов по международным отношениям и по американской внешней политике до второй мировой войны и во время войны разбивают на две группы: «ревизионисты» и «регуляристы»* 1 2; такая классификация, по нашему мнению, страдает известным формализмом в оценке, и это ведет хотя бы к тому, что — как свидетельствует пример Бейли3 — его иногда причисляют к «регуляристам»4, а иногда к «ревизионистам»5 6.
Бывает и так, что рассуждения американского дипломата и историка Джорджа Ф. Кеннана® используются, с одной стороны, ревизионистами для
and the Coming of the War 1941, 1948; Morgenstern, George, Pearl Harbor, 1947; Cahmberlin, William Henry, America’s Second Crusade, 1950; Sanborn, F r e d r i с R., Design for War, 1951; Tansill, Charles C., Back Door to War, 1952; Barnes, Harry Elmer, Perpetual War for Perpetual Peace, 1953; Theobald, Robert A., The Final Secret of Pearl Harbor, 1954; Neumann, William C.; Percy L. Greaves jr.; GeorgeA. Lundberg.
1 Murdock, Op. cit., S. 93.
2 Это определение дано Мардоком.
3 Bailey, America faces Russia, New York, 1950; Woodrow Wilson and the lost Peace, New York, 1944; The Man in the Street. The Impact of American Public Opinion on Foreign Policy, New York, 1948; A Diplomatic History of the American People.
• Так называет Мардок.
’ У Марушкина и Яковлева, Названное сочинение.
6 Kennan, Americas Aubenpolitik 1900—1950 und ihre Stellung zur Sowjetmacht, Zurich, 1952. Частично обе стороны, ревизионисты и регуляристы, ссылаются на Кеннана для подтверждения своих взглядов; это происходит оттого, что в вышеназванном произведении Кеннан, как правило, стремится дать всем проблемам многостороннее освещение, а это открывает возможность для различного использования и, предположительно, злоупотребления отдельными высказываниями и суждениями. Замечания Кеннана, вырванные из общего контекста работы, действительно могут быть использованы обеими сторонами. При этом, однако, самого Кеннана нельзя обвинять в «двойственной морали», присущей ревизионистам. Вообще, Кеннан, если рассматривать его рассуждения в их совокупности, стоит довольно далеко от ревизионистов —во всяком случае, дальше, чем от регуляристов, хотя вместе с тем его никак нельзя причислять к регуляристам. Широкая «применимость» работы Кеннана с точки зрения обеих сторон основана на том, что Кеннан сначала использует доводы обеих сторон, азатем эти аргументы—особенно в нх крайнем выражении—доводит до абсурда. Кениап, как буржуазный политик, слипжом умен, а как буржуазный историк еще достаточно честен и поэтому пе может одобрить профашистские тенденции ревизионистов, а касаясь нынешней политики США, не может благословить политику «па грани войны», политику целеустремленной военной подготовки и воины против социалистических государств. Но вместе с тем ои—явно выражепвый представитель и идеолог американского империализма, «американского образа жизни», и, следовательно, противник Советского Союза; поэтому ои не в состоянии до конца попять реальные исторические и политические факты.
Взгляды Кепнана по вопросам предыстории второй мировой войны можно в общем сформулировать следующим образом: причины второй мировой войны, правда, заложены в последствиях первой мировой войны, однако в период между двумя войнами существовали, еще в рамках буружуазной демократии, возможности пля того, чтобы предотвратить вторую мировую войну и захват фашистами власти в Германии. Кеннан осуждает то, что во время Веймарской республики США «расточительным и, конечно, глупейшим образом» поддерживали в Германии силы, политика которых в конечном счете привела ко второй мировой войне. В дальнейшем необходимо было— и в этом случае мы с Ксппаном вполне* согласны—своевременно и энергично выступить против Гитлера и его политики.
149
обоснования своей точки зрения1, а с другой стороны, эту же аргументацию используют их противники против ревизионистов* 1 2. Так же обстоит дело и у «регуляристов»3.
Лэнжера и Глисона4, старающихся избегнуть всякого политического высказывания применимого или могущего быть отнесенным к современности,— ничто не поставит на одну доску с Раухом5 *, который ясно понял роль антикоммунизма в политике «умиротворения», проводившейся западными державами в отношении фашизма перед второй мировой войной0. Равным образом нельзя объединить этих историков с Бемисом, который защищает политику Рузвельта, но, занимая острую антисоветскую позицию, заявляет, что именно эта политика создала предпосылки для противодействия «еще большей коммунистической опасности», то есть для осуществления политики «с позиции силы» и «холодной войны»7.
Мы здесь не предполагаем поставить во всем объеме и тем более осветить всю проблему классификации американской историографии предыстории и истории второй мировой войны. Изложив позицию важнейших ревизионистских историков по вопросу о предыстории второй мировой войны, мы попытаемся не только дать общую характеристику этой группы историков в целом, но осветить также существующие между ними различия в подходе к вопросу, иными словами, охарактеризуем различные политические аспекты концепций отдельных историков.
Когда ревизионисты анализируют причины второй мировой войны, они единодушно подчеркивают, что сам факт участия США в первой мировой войне был, по их мнению, ошибкой8, и указывают на Версальский договор, как на начало всех несчастий и бед.
При этом они обращают внимание — в известной мере доказательно, а подчас не вполне убедительно — на расхождение между 14 пунктами Вильсона и Версальским договором, а участие США во второй мировой войне расценивают как шаг, направленный к сохранению «бездарного произведения 1919 года»9. Они доказывают вместе с тем, что неустранение несправедливостей, допущенных в Версале, создало предпосылки для прихода Гитлера к власти и насильственного изменения положения в Европе10.
В этих рассуждениях раскрываются типичные черты ревизионизма: упрощенчество и полуправда, в силу чего он не только входит в противоречие с исторической наукой, но даваемая им интерпретация истории международных отношений после первой мировой войны обнаруживает опасное совпа
В Мюнхене или после Мюнхена—момент для этого уже был упущен. Показательно, кроме того, что Кеннап дает отрицательную н притом совершенно правильную оценку немецкой «генеральной оппозиции».
1 Barnes, Perpetual War for Perpetual Peace, p. 231, 610 f.
2 Wagner, Op. cit., S. 311 f.
3 Millis, Walter, This is Pearl, 1947; Feis, Herbert, The Road to Pearl Harbor, 1950; Rausch, Basil, Roosevelt from Munich to Pearl Harhor, 1950; Langer, Willi a m L. and Gleason, S., Everett, The Challenge to Isolation, 1952: «The Undeclared War», 1953; Bemis, Samuel Flagg, The United States as a World Power; Bailey, Thomas, A., Op. cit., Newins, Allan, The United States and its Place in World Affairs, New York, 1954; («The New Deal in World Affairs», New York, 1954; «The New Deal in World Affairs»), Morison, Sam uel Elliot I, By Land and Sea; Pratt, Julius, A History of United States Foreign Policy, New York, 1955; S-h otwell, J amcsThomson, On the Rim of Abyss, New York, 1936; Perkins, Dexter, The new age of Franklin Roosevelt 1932—1945, 1957; Bartlett, Rhul; Craig, Gordon, Griffin, Carles; Earl, EdwardMead; Com ma ger, HenrySteel; Schlesinger jr., Arthur, The age of Roosevelt. The Crisis of the Old Order 1919—1933, 1957; Snyder, Richard; Palmer, Norman; Cole, Wayne. •
4 Lange r—G 1 e a s о n, Op. cit. •
6 Rauch, Op. cit.
9 Ibid., S. 36 f.
’ «New York Times», 15.10.1950. «Yale Review», 40.9.1950, S. 151.
8 T a n s i 1 1, Die Hinlerlur zum Kricge, Dusseldorf, 1956, S. 39.
9 Ibid.
111 Barnes, Op. cit., S. 631.
150
дение с фашистской «аргументацией»; это отличительная черта многих произведений ревизионистских историков.
Рассматривая условия возникновения фашизма и общий характер международных отношений между 1919 и 1939 годом, никто не отрицает значения мирных договоров, подписанных в 1918—1919 годах, продиктованных империалистами определенным государствам и народам. Нов конечном счете Версальский договор был лишь одним из факторов, способствовавших возникновению новой войны. Тот, <го придает абсолютное значение этому фактору как причине второй мировой войны, тем самым игнорирует^! отрицает воинствующий шовинизм и реваншизм агрессивных кругов в Германии, и больше того, полностью их оправдывает; это значит, что главных виновников катастрофы второй мировой войны представляют бедными, обиженными и затравленными жертвами Версальской системы. Впрочем, как раз советская сторона, самым резким образом критиковавшая Версальский договор, со всей определенностью подчеркивала, что ревизия Версальской системы не может оправдать новые акты насилия, развязывание новой войны. Наконец, Версальский договор не был результатом «мудрости» или «непонимания» или «глупости» дипломатов и политиков, не был он ни «произведением искусства», ни «бездарным произведением», он явился выражением империализма как такового, а вопрос о пересмотре договора был в первую очередь связан с проблемой свержения империализма.
1$ своем описании предыстории второй мировой войны и в своих нападках на внешнюю политику американского правительства тридцатых и сороковых годов ревизионисты бьют в ту же самую точку, какую их предшественники по ревизионизму избрали для своих нападок на внешнюю политику Вильсона. Это обусловлено общностью их основной политической позиции— изоляционизмом. Впрочем, существует и непосредственная преемственная и тематическая связь между старшим и младшим поколением ревизионистов— Барнс и Тэнзилл написали ревизионистские работы и о первой мировой войне1.
Общая тенденциозность аргументов, используемых ревизионистами для обоснования захвата власти Гитлером и в последовавшем развязывании второй мировой войны, видна из того, что все проблемы, касающиеся Польши—границы Польши, Данциг, «коридор» и т. п.,—освещаются всецело в ду- хе реакционных и агрессивных сил Германии1 2, а вина за крушение международной конференции по разоружению 1931—1933 годов односторонне вопреки фактам возлагается только на западные державы3, причем о роли Германии в срыве переговоров вовсе не упоминается. Совершенно односторонне и без всякого учета агрессивных намерений германских правительств, выдвигавших требование о равноправии вооружений, Бирд пишет о конференции по разоружению: «Для интернационалистов4 это [конференция по разоружению.—В. В.] означало возможность получить во имя мира подпись Соединенных Штатов под договором, аналогичным Уставу Лиги Наций— под договором об определении агрессора и его подавлении с помощью экономических репрессий, дискриминации или военной силы»5.
1 Barnes, The Genesis of the World War, 1926; In Quest of Truth and Justice, 1928; World Politics in Modern Civilisation 1930; American Investimcnt, Abroad. Studies in American Imperialism (six volums), 1928—1935; T a n s i 1 1, America goes to War, 1938.
2 T a n s i 1 1, Die llintertiir zum Kriege, S. 62 f.
Ibid.
4 Под интернационализмом ревизионисты понимали следующее: мир во всем мире желателен и возможен; он неделим и может быть обеспечен Соединенными Штатами только в тесной связи с объединением наций, уполномоченных в целях мирного разрешения международных конфликтов и восстановления мира применять эффективные санкции или силу по отношению к агрессорам или нарушителям мира; в случае возникновения какой-либо большой войны между европейскими или азиатскими державами Соединенные Штаты не могут остаться нейтральными (Beard, American Foreign Policy in the Making, 1031 — 1940, New Haven, 1946, p. I. Note).
•’ Ibid., S. 123.
♦'1
При этом ревизионисты даже не опровергают известное и им мнение правительства США, согласно которому Германия и позиция германского правительства явились главным препятствием для разоружения1. Одним из решающих ревизионистских тезисов является тезис о готовности Гитлера к миру. Так, например, Тэнзилл полагает, что речь Гитлера в рейхстаге от 17 мая 1933 года содержала «примирительные замечания»1 2. Отвечая в этой речи на призыв к разоружению, с которым Рузвельт выступил 16 мая 1933 года, Гитлер вновь выдвинул требование о равноправии в вопросах вооружений, следовательно, практически потребовал легализации вооружений. При этом он сделал несколько малозначительных и ни к чему не обязывающих замечаний о том, что он не будет «применять силу»3. Эти замечания служат для Тэн-зилла доказательством того, что гитлеровская Германия якобы выражала готовность договориться, но правительство США относилось отрицательно ко всем попыткам германской стороны пойти навстречу США. Так умышленно оставляется без внимания тот факт, что и первый этап фашистской политики, когда она перед внешним миром демонстрировала свое миролюбие и готовность договориться, следует объяснять и он объясняется именно подготовкой фашистской экспансии4 5. Не удивительно, что Бирд с самого начала неохотно прибегает к выражению «агрессор»6.
Если, однако, Бирд и вся его школа производят такую далеко идущую переоценку всех ценностей, допускают такое смешение всех понятий и позиций, то они по праву заслужили упрек, что они являются циничными моралистами с «двойным дном», ибо для собственного правительства они находят лишь слово осуждения, а для Гитлера и властителей Японии не знают ничего иного, кроме похвал8; они заслужили и упрек в том, что «фашистские и национал-социалистские программы и методы изображаются ими в удивительно розовом свете»7; однако было бы таким же упрощенчеством, в каком винят ревизионистов, делать из всего изложенного вывод, что ревизионисты просто-напросто неизменно стоят на стороне агрессоров. Позиция ревизионистских историков и публицистов (Чемберлин представляет известное исключение)8 гораздо сложнее и противоречивее.
Эти противоречия, на которые то и дело натыкаешься в сочинениях указанных историков, и прямые ошибки, характерные для большинства работ группы Бирд—Тэнзилл—Барнс, на что, с моей точки зрения, никто не обратил внимания, являются следствием не только тех бесспорно имеющихся противоречий, возникших между стремлением к серьезному научному исследованию и желанием выполнить требования империализма9. Все это имеет еще более глубокие основания.
О том, какими противоречивыми бывают рассуждения ревизионистов, можно судить по той позиции, которую занял Бирд в отношении внешней политики Рузвельта перед второй мировой войной; эту политику он харак
1 Т a n s i 1 1, Op. cit., S. 63.
2 Ibid., S. G3 f.
3 Ihid.
4 См. в этой связи Брахера (В г а с h е г, Das Anfangsstadium dor IIitlerschen AcBenpolitik, «Vierteljahrsheftefiir Zeitgeschichte», 1957. H. I.). Надо подчеркнуть, что некоторые американские дипломаты и тем самым и государственный департамент хорошо понимали двуличие «мирной» политики гитлеровского правительства. Американский дипломат Мессерсмит писал 23 ноября 1933 года государственному департаменту (помощнику государственного секретаря Филипсу): «Гитлер и его окружение в данный момент действительно искренне желают мира, но только для того, чтобы иметь возможность подготовиться к применению насилия, для чего они ждут подходящего момента» (Т a n s i 1 1, Op. cit., S. 311). r
5 Характерно, что Бирд слово «агрессор» берет в кавычки (Beard, Op. oil., S. 41).
6 Murdock, Op. cit., S. 113.
7 Wagner, Op. cit., S. 307.
я Chamberlin, Amerikas zweiter Kreuzzug, Bonn, 1952.
9 См. рецензию Хасса па книгу Тзнзилла (Т а n s i 1 1, Ilinterl.iir zum Kriege).
Рецензия опубликована в журнале «Deutcshe AuBenpolitik», 1957, II. 7.
152
теризует как «опеку над миром, сохранение статус-кво в международных отношениях, попытку принудить к миру с помощью военных угроз»1.
В таком же духе Бирд оценивает коллективную безопасность, видя в ней только средство для сдерживания Германии и Японии1 2. Но эти рассуждения находятся в резком противоречии с замечаниями Бирда об опасности и агрессивности фашизма. Так, в журнале «Форин афферс» за апрель 1936 года в статье «Воспитание у нацистов» он следующим образом квалифицировал эту систему: «Занятый только собой, вынашивая затаенные обиды и поддаваясь бешенству, разжигаемому системой Аоинственпого воспитания, немецкий народ созревает для того дня, когда Гитлер, его специалисты и его армия закончат подготовку и будут в достаточной степени уверены в успехе внезапного и сокрушительного нападения—будь то на Востоке или на Западе. Было бы ошибкой исходить из иного представления о гитлеровском государстве или о целях германской системы воспитания»3. Что касается коллективной безопасности, то тот же Бирд высказывает следующий упрек: «... вместо того, чтобы объединиться с Францией и Россией и занять мужественную позицию против Гитлера, британское правительство добивалось модуса вивенди с Гитлером, если не оказывало поддержку его антисоветским планам»4. В этой же связи Бирд совершенно правильно оценивает германоанглийское морское соглашение 1935 года, характеризуя его не только как существенный удар по Версальской системе, но и как выступление против дела мира и возлагая в этом случае на английское правительство серьезную ответственность5 6.
Двойственностью отличается позиция, занятая Бирдом по вопросу об итальянской агрессии в Эфиопии. С одной стороны, он определенно констатирует, что в это время положение в Европе «становилось все хуже и хуже»8: «Италия решилась начать жестокую войну против Эфиопии, Гитлер... пошел еще дальше по пути преследования евреев, социалистов, коммунистов и либералов—он вышел из Лиги Наций и вооружил Германию»7. Но из этой оценки не делается никаких выводов. Тэнзилл, идущий еще дальше по пути ревизионизма и принадлежащий к той группе ревизионистов, профашистская позиция которых совершенно ясна, оставляет без внимания оценку, данную Бирдом, и даже недвусмысленно защищает агрессию итальянских фашистов. Он рассматривает нападение на Эфиопию как результат того, что в 1919 году не были удовлетворены колониальные претензии Италии8, и заявляет в связи с нападением на Эфиопию, что «... для Италии было жизненно необходимо приобрести колонии, которые не только могли бы принять достаточное число переселенцев, но и поставляли бы существенное сырье для итальянской промышленности»9. К числу многих несообразностей, которыми изобилуют работы Тэнзилла и работы других ревизионистов, принадлежит и то, что Тэнзилл, говоря об «агрессивной позиции» Эфиопии10 11, одновременно признает, что правительство Эфиопии было' готово путем третейского разбирательства урегулировать инцидент у колодца Уол-уолп, который был использован итальянским правительством как повод для агрессии. Одного из обычных фашистских «мирных заверений», а именно заявления Муссолини в беседе с главным редактором «Пари суар»: «Разногласия с Англией действительно бессмысленны, и нельзя себе представить
1 Heard, Op. cit., S. 122.
2 ibid., S. 125.
3 Beard, Op. cit., S. 179, Anmerkung I.
4 Ibid., S. 171.
5 Ibid., S. 170 f.
6 Beard, Op. cit., S. 170.
- Ibid.
H Tansill, Die llintertiir zum Kriege, S. 194.
9 Ibid., S. 201.
10 Ibid.
11 Ibid., S 202.
конфликт между обеими странами...»1,—одного этого заявления оказалось достаточно для доказательства того, что Муссолини делал «примирительные жесты»* 2 и не хотел, чтобы из конфликта в Эфиопии выросла европейская война3. Этого никто не отрицает, по ведь итальянские фашисты избегали европейской войны не из любви к миру, а потому, что они, естественно, предпочитали осуществить без помех свою экспансию. Хотя довольно длинные рассуждения Тэнзилла о конфликте в Эфиопии лишний раз свидетельствуют о колеблющейся и бесхарактерной позиции правительств США, Велйкобритании и Франции по отношению к агрессору4, все же Тэнзилл называет «боевым призывом к оружию»5 *, то есть подлежащим осуждению вмешательством США, такое мало эффективное мероприятие правительства США, как, например, заявление от 15 ноября 1935 года, согласно которому определенные виды сырья подпадали под действие Закона о нейтралитете, и, следовательно, их нельзя было поставлять воюющим сторонам.
Весь образ мышления Тэнзилла становится ясным, когда узнаешь, почему он столь энергично берет сторону итальянских фашистов. Используя типичную империалистическую терминологию, он характеризует Эфиопию как страну, которая «была безнадежно отсталой и крайне нуждалась в разумном руководстве со стороны высокоцивилизованного государства...»" (в руководстве именно со стороны фашистской Италии!—В. Б.).
С другой стороны, достойны внимания некоторые указания Тэнзилла на проводившуюся правительством США политику уступок итальянскому фашизму. Так, например, правительство США отклонило просьбу эфиопского правительства оказать ему поддержку путем защиты ненарушпмости постановлений пакта Келлога7; он приводит и такой пример: государственный секретарь Хэлл решительно выступил против намерения компании «Стандард ойл» получить нефтяные концессии в Эфиопии8 9. В тогдашних условиях такая позиция Хэлла означала больше, чем дружественный жест по отношению к итальянским фашистам, которые сами рассчитывали на захват нефтяных месторождений. В одном месте Тэнзилл дает понять, что и в вопросе об Эфиопии профашистская политика уступок, проводившаяся американским и британским правительствами, в большей мере определялась антисоветскими соображениями. Тэнзилл сообщает о том, как однажды на обеде британский министр иностранных дел Иден и американский дипломат Вильсон выражали свое недовольство Литвиновым по поводу того, что он «очень зло выступал», а точнее резко нападал на «политику умиротворения»®.
В другом месте Тэнзилл обращает внимание на то, что; игнорируя призыв бывшего военного министра США Ньютона Д. Бекера, сказавшего: «Только смелостью можно спасти мир»10 11 12, правительство США тем самым решительно высказалось против подобной политики смелости11.
Никто не мог бы предположить, что представитель ревизионизма, которому присущи ярко выраженные профашистские черты, способен высказать совершенно правильные суждения при описании событий, связанных с гражданской войной в Испании. Так, Бирд констатирует: «Германия и Италия послали вооруженные силы в Испанию, чтобы помочь мятежникам [курсив мой.—В. Б.]. Россия оказала помощь лояльным ее элементам»1"
* Beard Op. cit., S. 260.
- Ibid.
3 Ibid.
1 Ibid., S. 261 ff.
* Ibid., S. 271.
9 Ibid., S. 297.
7 Ibid, S. 213. *
3 Ibid., S. 219. •
9 Ibid., S. 230.
10 Ibid., S. 214.
11 Ibid.
12 Beard, Op. cit., S. 178. Формулировка Бирда в отношении Германии и Италии имеет характер резкого осуждения; в формулировке, касающейся СССР, заметна большая сдержанность и положительная оценка.
154
Бирд также правильно оценивает требование Рузвельта в январе 1937 года о распространении эмбарго на оружие, военное снаряжение и амуницию; Бирд считает, что это мероприятие было выгодно Франко. Оно только внешне выглядело как невмешательство, «в действительности же это было нечто гораздо большее, в первую очередь это был удар по республиканскому правительству Испании... оно сопровождалось победой фалангистов и фашистских мятежников...»1 Бирд осуждает также быстрое признание правительвгвом США Франко1 2.
В освещении аннексии Австрии особенно брвсается в глаза вся запутанность и противоречивость ревизионистской историографии, обычно отличающейся весьма бережным обхождением с агрессорами. Тэнзилл, который в своем описании «политики умиротворения» обычно заходит гораздо дальше Бирда, Барнса и других, говорит об «аншлюсе» следующее: «Австро-германские отношения в период с 1936 по 1938 год представляют яркий пример закулисных методов нацистской дипломатии»3.
Зато Тэнзилл буквально захлебывается от усердия, расхваливая Гитлера в связи с агрессивностью фашистской Германии в отношении Польши. Тэнзилл пишет:«... Гитлер не хотел войны с Польшей. Польша могла служить для него буфером, нейтрализующим всякую русскую угрозу против разбухшей Третьей империи, Польша могла бы, вероятно, оказаться союзником в будущем нападении на Советский Союз. Если бы Польша согласилась на роль главного сателлита в нацистской системе, то и для нее была бы обеспечена возможность экспансии. Германия и Польша могли бы совместно господствовать в Европе, на территории от Лиссабона до Варшавы слово Гитлера было бы законом. Но Бека не слишком сильно привлекали политические возможности, открывавшиеся на пути германо-польского сотрудничества... Он предпочел, несмотря на преобладающую германскую мощь, поддерживать надежды на сохранение политической независимости Польши... Он и польский кабинет последовали совету Чемберлена и выбрали путь, который повел к войне с Германией и в конечном итоге к уничтожению польского государства...»4
С этим высказыванием перекликается мнение того же Тэнзилла относительно речи Рузвельта от 14 апреля 1939 года, в которой последний сказал: «Должны ли мы действительно признать, что пароды не могут найти иных, лучших методов для осуществления своего назначения, кроме тех, которые применялись 1500 лет назад гуннами и вандалами?»5 * По мнению Тэнзилла, это заявление было «вызывом»0. А несколько дальше Тэнзилл говорит «о нерешительных попытках британского и французского правительств подыскать какую-либо основу для соглашения с Москвой»7 *; при этом он возлагает ответственность за провал этих попыток в первую очередь на британское правительство ввиду его совершенно неудовлетворительной политики в отношении СССР3. Тем самым Тэнзилл приближается к оценке, данной Бирдом, который, как уже упомянуто9, резко обвиняет британское правительство за то, что оно, вместо того чтобы выступить вместе с советским правительством против гитлеровской Германии, подбодрило Гитлера в его намерениях, направленных против СССР10 11.
Аналогичные выводы делает Барнс. Он справедливо видит в Рузвельте соучастника Мюнхенского соглашения11 и почти одобряет готовность Совет
1 Beard, Op. с i t., S. 181.
2 Ibid.
3 T a n s i 1 1, Op. cit., S. 410.
’ Ibid,. S. 550.
6 Ibid., S. 559 f.
• Ibid.
7 Ibid., S. 567.
’ Ibid., S. 568.
9 Ibid., S. 178, Anmerkung 40.
10 Beard, Op. cit., S. 171.
11 Ibid., S. 632.
155
ского Союза вести войну ради сохранения Чехословакии1; далее Барнс заявляет: «Болдуин и Чемберлен согласились на нарушение Гитлером Версальского договора, потому что они рассчитывали, что Гитлер в своих действиях против СССР будет шахматной фигурой в руках Британской империи»1 2. С иронией Барнс отмечает, что западные державы вступили в войну, в обстановке для них как раз не очень благоприятной, тогда как в условиях, гораздо более благоприятных для западных держав, они на протяжении ряда лет давали Гитлеру отсрочку, хотя именно тогда можно было легко и быстро подавить агрессора3.
Сэнборн, касаясь политики правительства США накануне войны, также возлагает на Рузвельта ответственность за мюнхенскую политику и за самое мюнхенское соглашение4, но вскоре снова выбрасывает за борт все эти соображения, чтобы обвинить Рузвельта в том, что он недостаточно серьезно относился «к опасности, угрожавшей со стороны коммунистов»5, а ведь такой упрек практически означает одобрение мюнхенской политики.
Ревизионистская школа связывает описание предыстории второй мировой войны с далеко идущим оправданием политики экспансии европейских агрессоров, и это ведет, например, к тому, что Барнс отрицает угрозу мирового господства со стороны гитлеровской Германии6, или к тому, что Тэнзилл с сожалением осуждает приговоры Международного военного трибунала в Нюрнберге и казнь военных преступников, ибо последние будто бы предприняли в сущности лишь ликвидацию той послевоенной Версальской системы, за которую несут ответственность западные политики7. Однако в еще большей степени американские историки и публицисты8 покидают реальную почву при оценке политики правящих кругов Японии. Критика ревизионистов еще больше направлена против политики правительства США в отношении Японии, чем против американской политики в отношении фашистской Германии и Италии. Это, конечно, обусловлено главным образом тем, что в конечном счете нападение Японии на Пирл-Харбор явилось непосредственным поводом для вступления США в войну. Вместе с тем определенное значение имело и то обстоятельство, что о террористических мероприятиях гитлеровского правительства американская общественность была особенно хорошо осведомлена не в последнюю очередь благодаря непосредственному контакту с эмигрантами из Германии; последствия преследований оппозиционеров всех направлений и евреев вызвали у американской общественности гораздо большее сочувствие, чем последствия японской экспансии, которая распространялась в первую очередь на народы «низшей расы». С этой точки зрения ревизионистам было гораздо труднее преодолеть существующее в широких кругах американского народа отвращение именно к германскому фашизму, чем повлиять в ревизионистском про-японском духе на неясные представления о японском агрессоре, применив для этой цели соответствующие «научные» аргументы. Уже при оценке обстановки, сложившейся на Дальнем Востоке в период, предшествовавший 1939 году, ревизионисты сильно перегибают палку. Бирд выдвигает на первый план мысль, что японская экспансия в Китае была делом, не касающимся США, и что надо расценивать как «американское вмешательство» выступление правительства США за сохранение статус-кво, существовавшего до 1930—1931 годов, и призыв Рузвельта к соблюдению «святости договоров»®.
1 Ibid., S. 633.
2 Heard, Op. cit., S. 631.
3 Ibid., S. 632. j
4 Sanborn, Roosevelt is frustrated in Europe. In: В a r u e s^Op. cit., S. 196.
5 Ibid., S. 203.
6 Barnes, Op. cit., S. 9.
7 Ibid., S. 96 f.
9 Не все ревизионисты являются профессиональными историками; некоторые, как, например, Чемберлин и другие,—журналистами.
3 В е а г d, Op. cit., S. 182.
156
Исходя’из этой основной концепции изоляционизма—чем, конечно, объективно оправдывается японская политика экспансии,—Бирд описывает американскую политику на Дальнем Востоке в самых резких критических тонах и характеризует ее как ничем не обоснованное вмешательство в чужие дела.
Ньюмен в своих рассуждениях заходит еще дальше1. Показательно, что он предпослал своей работе следующую характеристику Японии, данную в ноябре 1937 года организацией «California Cammillee of Pacific Friendship»: «Япоййя нам никогда не причинял^ вреда. Япония нам не угрожает. Япония держалась по отношению к нам лучше, чем любая великая держава, как в вопросе об уплате долгов, так и в обращении с посетителями и резидентами из США; Япония никогда не пыталась вмешиваться в наши дела. Япония—единственная великая держава, которая выплатила нам все суммы без отсрочки и до последнего цента...»1 2 Далее Ньюмен констатирует: «Война между США и Японией никогда не была—как это изображают официальные или полуофициальные исторические труды—борьбой между добром и злом или столкновением между миролюбивой нацией и наглым представителем агрессии и хаоса... Победоносные державы всегда пытаются преподнести в виде вечных истин подобные оценки недавно закончившихся войн»3.
Точно так же и при описании дальнейших событий японская экспансия частично оправдывается, но при этом Ньюмен все же должен признать, что мнимые «несправедливости» в отношении Японии послужили основанием для усиления в Японии крайних шовинистических групп военщины(!)4. В этой связи Ньюмен особо критикует Вашингтонское морское соглашение от 1922 года5 6, ускорение военно-морского строительства в США при Рузвельте8 и непризнание японского марионеточного государства Маньчжоуго, видя во всем этом проявление «недружелюбия» и даже «угрозы в отношении Японии»7 со стороны США.
На основе своего обширного обзора источников Тэнзилл конкретизирует теории ревизионизма по поводу дальневосточной политики США. Однако при этом Тэнзилл привносит в изложение весьма характерную для части ревизионистских историков новую точку зрения, а именно открытую и воинствующую вражду к Советскому Союзу. Прежде всего Тэнзилл атакует тезис Стимсона8 о непризнании—о непризнании японской агрессии; это далеко не действенное и вовсе не энергичное выступление правительства США, по мнению Тэнзилла, представляло «роковой шаг, заведший в тупик страха и напрасных усилий, причем неизбежным последствием этого шага явилось вовлечение Америки во вторую мировую войну»9. Однако Тэнзилл не только утверждает, что созданный японской экспансией очаг войны являлся делом, не касающимся США, но, кроме того, заявляет, что все действия японской военщины были обусловлены «красной опасностью»10 *. Национально-освободительную борьбу в Китае Тэнзилл квалифицирует как «коммунистическую опасность». Это обоснование и мнимую «советскую угрозу» он использует как исходный пункт для кампании в защиту «оборонительных действий»(!) Японии в Маньчжурии11. Протесты в самой Америке против японской экспансии клеветнически освещаются в резком и несколько озлоб
1 Neumann, How American Policy towards Japan contributed to War in the Pacific. In: Barnes, Op. cit.
2 Ibid., S. 231.
3 Ibid., S. 233.
4 Ibid., S. 234.
5 Neumann, Op. cit., S. 246 f.
6 Ibid., S. 244 ff.
7 Ibid., S. 241.
9 Стимсон был государственным секретарем США при Гувере, предшественнике Рузвельта.
9 Т a n s i I I, Op. cit., S. 133.
10 Ibid., S. 84 ff., 119 ff., 139.
,l Ibid., S. 139.
157
ленном тоне1. Даже доклад Литтона1 2, резко раскритикованный за его двойственность советским правительством и им отвергнутый, расценивается Тэпзиллом вовсе как провокационное выступление против Японии, ибо этот доклад все же содержал признание впны японского правительства, а это, естественно, не соответствует антисоветскому комплексу Тэнзилла и его представлению о причинах войны на Дальнем Востоке. Тэнзилл выражает сожаление: «Косвенно решение [Лиги Наций в соответствии с докладом Литтона.—В.Б. ] о том, что остается в силе суверенитет Китая над тремя провинциями [провинциями Маньчжурии.—В. £>.[, означало подтверждение [Лигой Наций.—В. Б.] принципа Стимсона о непризнании»3.
Пытаясь найти видимость оправдания даже для распространения японской агрессии на весь Китай, Тэнзилл говорит по поводу нападения Японии на Шанхай и аннексии провинции Жехе (1933 год) следующее: «Ввиду хаотических условий, существовавших в Китае, Япония была вынуждена защищать свои интересы от угрожающей волны коммунизма (?) и от неумеренных требований (?) соперничавших между собой китайских генералов...»4 5 В другом месте Тэнзилл еще более беззастенчиво дает волю своим симпатиям: «Если бы Япония оставалась бездеятельной в Северном Китае, через короткий срок гигантские массы фанатичных коммунистов двинулись бы непосредственно на Маньчжурию и Корею. Япония должна была либо продвинуть вперед свои границы в Китае, либо стать свидетельницей того, как ее армия была бы сброшена в море»4.
Эта откровенная защита японских агрессоров все же не мешает Тэн-зиллу не только дать весьма выразительную и совершенно правильную характеристику колеблющейся, слабохарактерной, двойственной позиции правительства США в вопросах дальневосточной политики6, но и тем самым продемонстрировать лживость его собственного тезиса о «миролюбии» властителей Японии. В итоге этого ревизионисты, и особенно тот же Тэнзилл, запутываются в противоречиях, типичных для этой школы. С одной стороны, Тэнзилл подчеркивает: «Нет сомнений, что Япония не хотела войны с Соединенными Штатами...»7, а с другой—несколько ниже, он вынужден признать, что эта «готовность договориться», проявленная японским правительством, отнюдь не была выражением доброй воли и подлинного миролюбия, но определялась холодным империалистическим расчетом, а именно: «Одной из причин сближения Японии с Соединенными Штатами было убеждение токийского правительства, что война между Японией и Россией почти неизбежна»8 *. При этом Тэнзилл тут же сам подрывает свою теорию о «красной опасности» и «благородных» намерениях японских милитаристов. Не подвергая критике, а, наоборот, подчеркивая значение цитаты, он приводит выдержку из доклада от 6 октября 1933 года посла США в Японии Грю, одного из американских «умиротворителей». Из этого доклада явствует, что американский посол считал «не исключенным» тот факт, что Япония уже тогда приняла решение «в благоприятный момент убрать русское препятствие на пути своих честолюбивых стремлений»^)8.
Изображая антияпонскую войну Сопротивления с 1937 года как «происки» китайских коммунистов и Советского Союза10 и представляя в своем
1 Т a n s i 1 1, Op. cit., S. 136.
2 Доклад Литтона являлся докладом Комиссии Лиги Наций о положении в Китае и Маньчжурии ( В е 1 о f f, The Foreign Policy of Soviet Russia 1929—1941, London, 1956, 4 Aufl., Bd., I, S. 44).
3 T a n s i I 1, Op. cit.. S. 143.
1 Ibid., S. 155. •
5 Ibid., S. 179. •
’ Ibid., S. 156 ff.
7 Ibid., S. 153.
3 Ibid., S. 159.
• Ibid., S. 160. Цитируется no «Foreign Relations of the United States», 1933, v 111. S. 421 ff.
10 Tansill, Op. cit., S. 497 ff.
158
описании предательское соглашение Чан Кай-ши с японскими милитаристами от 14 июня 1937 года1 как «мирный жест», как путь к «мирному урегулированию» конфликта1 2, Тэнзилл тут же дает представление о двуличной и предательской позиции Чан Кай-ши3 и тем самым вновь совершенно правильно оценивает один из факторов предыстории второй мировой войны. Мало того, опровергая свою «теорию» о «коммунистических происках», Тэнзилл указывает, что японские милитаристы были главными виновниками «инцидента у мостаг Марко Поло» 7 июля 1937 года, а ведь это событие явилось толчком для начала антияпонской войны # Китае4. Это признание, правда, сопровождается попытками оправдать японскую сторону, но тем не менее оно констатирует факт, который невозможно игнорировать.
В этой связи Тэнзилл дает правильную характеристику позиции Советского Союза, хотя обычно он, как и вообще ревизионисты, обходит молчанием политику Советского Союза или время от времени высказывает недоказанные или недоказуемые клеветнические утверждения относительно советской внешней политики. На этот раз Тэнзилл упоминает о том, что советский поверенный в делах в Вашингтоне Уманский 2 октября 1937 года посетил помощника государственного секретаря Сэмнера Уэллеса и поставил перед правительством США вопрос о его готовности к сотрудничеству в области военных и экономических санкций против агрессора5.
Что касается дальнейшего изложения ревизионистами развития международных отношений на Дальнем Востоке и американской дальневосточной политики, то оно концентрируется, естественно, на событиях 1940— 1941 годов, то есть на событиях, относящихся уже к истории второй мировой войны, о которых здесь докладывать не придется.
Прежде чем давать общую оценку американской ревизионистской историографии и прежде чем характеризовать—в некоторой степени различные—исходные пункты ревизионистской критики американской внешней политики того времени, необходимо сделать некоторые краткие замечания о месте, которое занимают внутри этого течения отдельные, наиболее существенные труды ревизионистов.
Самым выдающимся представителем новейшего ревизионизма (ревизионизма в отношении истории второй мировой войны) следует считать Бирда (вслед за Флином, который никогда пе мог сравняться с Бирдом). Вплоть до самой своей смерти (1948 год) Бирд был признанным главой школы. В отличие от Флина, который исследовал только события, непосредственно связанные с японским нападением на Пирл-Харбор, Бирд был первым американским историком, который дал ревизионистское освещение американской внешней политики в целом эа период между 1932 и 1941 годами. Рамки его изложения определяются в первую очередь тем, что ему тогда еще не были доступны документы государственного департамента, личного архива Рузвельта и т. п., то есть источники, тогда еще не опубликованные.
Барпс, ставший после смерти Бирда главой ревизионистской школы, в изданной им коллективной работе6 дал самый содержательный общий обзор
1 Речь идет о том, что Чан Кай-щи согласился уволить всех чиновников, выступавших в Северном Китае против «-китайско-японского сотрудничества» [то есть против коллаборационизма.—В. B.J, и выслать из пекинского района все «коммунистические элементы».
2 Т a n s i I 1, Op. cit., S. 498.
3 Ibid.
1 Ibid., S. 498.
5 Ibid., S. 517.
6 В этой книге содержатся следующие работы; Barnes, Preface, Revisionism and the Historical Blackout; Summary and Conclusions; Tansill, The United States and the Road to War in Europe, Japanese-American Relations 1921 — 1941, the Pacific Back Road to War. Sanborh, Roosevelt is frustrated in Europe; Neumann, How American Policy toward Japan contributed to War in the Pacific; Morgenstern, The Actual Road to Pearl Harbor, Greaves, The Pearl Harbor Investigations; Chamberlin, The Bankruptcy of Policy: Zundberg, American Foreign Policy in the Light of National Interest of the Mid-Century.
159
программы ревизионизма. Одновременно он дал особенно ясное общее теоретическое изложение основной концепции ревизионизма.
Тэнзилл написал наиболее фундаментальный ревизионистский труд, для подготовки которого он имел возможность использовать документы— в том числе и секретные—государственного департамента. При этом Тэнзилл—равно как Лэнжер и Глисон, также имевшие доступ к этим источникам,—предал гласности много новых и важных, до того не известных фактов, извлеченных из этих источников. В этом заключается условная ценность его работы, которой не отличаются другие ревизионистские работы. Труд Тэнзилла, несомненно, представляет наибольшее достижение среди ревизионистских исследований предыстории и истории второй мировой войны. Но Тэнзилл вместе с тем пошел по пути, по которому другие ревизионистские историки либо вовсе не идут, либо идут нерешительно,—по пути воинствующего агрессивного антикоммунизма.
Аналогичная концепция лежит в основе работы Чемберлина. Чемберлин является не профессиональным историком, а журналистом, поэтому он собственно уже в силу этого обстоятельства должен стоять особняком, если бы его работа не стала неотъемлемым составным элементом трудов ревизионистской группы историков. Описание Чемберлином предыстории войны (до 1939 года) имеет поверхностный характер—он занимается главным образом американской дальневосточной политикой после 1939 года. Проверка его аргументов и «доводов» заведомо трудна и частично невозможна, так как работа Чемберлина не имеет никакого научного аппарата1. Чемберлин доходит до крайностей в антисоветской и антикоммунистической травле, причем он даже не касается вопроса о «доказательствах» в пользу своих утверждений. Понятно, почему Чемберлин так поступает: ведь его интересуют не доказательства, а нагромождение черной клеветы. Чемберлин является самым агрессивным, самым реакционным и с научной стороны наиболее уязвимым представителем американского ревизионизма, с которым не стоило бы считаться, если бы его концепции не были бы чрезвычайно опасными.
К сожалению, необходимо для характеристики Чемберлина привести некоторые из его пошлых клеветнических утверждений и некоторые из его принципиальных высказываний по вопросам истории международных отношений, чтобы таким образом показать, как далеко он заходит в извращении истории. Чемберлин занимается, например, такой агитацией:
«...не было ни моральных, ни гуманных соображений в пользу того, чтобы предпочесть советское стремление к завоеваниям стремлению нацистскому или японскому... С точки зрения хладнокровной оценки американских интересов наличие центра агрессивной экспансии в Москве не было более желательно, чем существование двух центров в Берлине и Токио»1 2. Так, всю его работу пронизывает ложь об идентичности коммунизма и фашизма. По его мнению, «... следует признать крупнейшей политической ошибкой в истории, что Англия и Франция упустили момент для того, чтобы направить на Восток стремление Гитлера к экспансии»3. (Чемберлину, очевидно. недостаточно британских и французских усилий в этом направлении! — В. 5.] Он развивает эту мысль, указывая, что лучше нсего было бы «...списать Восточную Европу, ибо по географическим причинам ее нельзя было защищать, и надо было предоставить Гитлеру свободу рук на Востоке». По всей вероятности, он тогда вступил бы в конфликт со Сталиным. Чемберлин полагает, что такое развитие событий было бы разумнее и перспективнее с точки зрения планов мирового господства американского империализма4.
1 По всяком случае, немецкое издание пе имеет никакого научного аппарата. Американским изданием я не располагал, так как его пе было ни в соответствующих библиотеках ГДР, пи в библиотеках Федеративной Республики Германии.
» Chamberlin, Amerikas zweiter Kreuzzug, S. 31.
’ Ibid., S. 36.
4 Ibid., S. 36 f.
160
В связи с кратким описанием предвоенного политического кризиса в 1939 году Чемберлин выступает с утверждением, будто пакт трех держав— Великобритании, Франции и СССР—можно было осуществить, только «принеся в жертву Польшу п прибалтийские государства»1. Известно, что для такого предположения нельзя найти доказательств в существующих источниках, особенно британских2. А «источники», к которым прибегает Чемберлин и кое-кто другой, являются более чем сомнительными3. Чемберлин крайне сожалеет, что не удалось повернуть войну против Востока. «То, что легко могло стать германским выступлением против Советского Союза, было повернуто иа Запад»4. С похвалой Чемберлин упоминает о высказывании, к сожалению, не названного им американского дипломата: «Мы должны были заключить мир с Германией и Японией, когда они были еще слишком слабы для того, чтобы напасть на нас, но уже достаточно сильны для того, чтобы стать подходящими партнерами в коалиции против Советского Союза»5. Тем самым Чемберлин раскрывает подлинные цели, преследуемые его книгой: Германия должны была—и должна теперь—быть использована в качестве «бастиона против большевизма».
Сделав резкие выпады против Нюрнбергского процесса, на котором слушалось дело главных немецких военных преступников8, и исходя из той точки зрения, что «второй крестовый поход Америки был плодом иллюзии»7, Чемберлин приходит к следующим показательным для настоящего времени выводам: «Идея создания объединеннойЗападнойЕвропы, которая предаст забвению свои разногласия и будет способна оказать сопротивление советской агрессии, до тех пор останется беспредметной, пока этот план не будет распространен и на Германию как на активного и равноправного участника политических, экономических и военных решений8. Тем самым Чемберлин продемонстрировал, для чего написана его книга: она написана для того, чтобы с помощью «исторических аргументов» оказать мнимо научную идеологическую поддержку современным политическим концепциям Даллеса и Аденауэра.
Надо, кстати, отметить—и это действительно более чем симптоматично,— что именно работы Чемберлина (еще в 1952 году) и Тэнзилла (в 1956 году) были изданы на немецком языке в Западной Германии. Ни один другой американский труд по предыстории и истории второй мировой войны не удостоился в Западной Германии перевода на немецкий язык, в том числе даже официозный основной труд по американской внешней политике Лэн-жера и Глисона”. Далеко не во всех пунктах можем мы с этим трудом согласиться, тем не менее он представляет значительное научное достижение и в научном отношении добросовестнее и политически менее односторонен, нежели работа Тэнзилла и тем более писания Чемберлина. Но, конечно, научная и политическая «уравновешенность»10 не вызывает симпатии в руководящих кругах Федеративной Республики. По мнению этих кругов, защит-
1 Chamberlin, Op. cit., S. 44.
2 «Dokuments on Britisii Foreign Policy 1919—1939». Third Series, V, IV—VII.
3 Лукашевич, польский посол в Париже, сделал свои сообщения лишь в 1944 году, следовательно, к тому времени, когда произошли определенные события в польско-советских отношениях; в силу этого напрашивается вывод, что высказывания Лукашевича имели специфическое назначение. Кроме того, Лукашевич в своей информации ссылается на «мнения» и «взгляды» польских дипломатов, а вовсе не на конкретные факты, чего следовало бы ожидать от обоснованной аргументации.
Работа Умятовского (Umiatowski, Russia and Polish Repnblik, Aquafondata, 1945)—также «источник» мутного н специфического происхождения.
1 Chamberlin, Op. cit., S. 44.
5 Ibid., S. 263.
" Ibid., S. 250 ff.
Ibid., S. 273.
3 Ibid., S. 175.
9 Langer, Gleason, Op. cit.
10 Штейнсдорф, переводчик Тэнзилла, совершенно в духе ревизионистов резко критикует «уравновешенность» Лзнжера и Глисона.
11 Заказ 1220 цц
ники фашистской политики и нынешней политки «холодной войны», естественно, являются лучшими пропагандистами политики НАТО, нежели историки и публицисты, верно освещающие фашистскую внешнюю политику1.
Рассматривая общую характеристику, даваемую ревизионистами предыстории второй мировой войны, мы должны в первую очередь констатировать, что они исходят из неправильной оценки агрессивности германских и итальянских фашистов и японских милитаристов, причем они либо допускают недооценку опасности, какую являли собой агрессоры, либо обнаруживают чуть ли не открытую симпатию к фашистам и милитаристам в связи с их враждебностью в отношении Советского Союза и коммунизма1 2. В крайнем случае в фашизме видят «преувеличенный национализм», обусловленный Версалем3. Поскольку позорные дела германских фашистов нельзя полностью замолчать, им находят объяснение, ссылаясь на «патологическое душевное состояние нацистских фюреров»4, и тем самым придают их преступлениям с исторической точки зрения субьективный характер. Это относится и к такому высказыванию Тэнзилла: «Безудержность его [Гитлера.—В. 5.] речей, его сомнительная программа обновления Германии и безумие его фанатичных приверженцев (I) вызвали во многих американских кругах личную ненависть к Гитлеру...»5 При такой оценке, естественно, отрицается угроза фашистского мирового господства6, причем—весьма ловко, хотя при этом и правильно,—отмечается, что «после 22 июня 1941 года», то есть после нападения гитлеровской Германии на СССР, такая угроза, во всяком случае, уже не существовала7. Это рассуждение интересно потому, что является косвенным признанием решающей роли Советского Союза в войне. Однако на этом же основании и (тут обнаруживается отрицательная сторона подобной аргументации) ставится вопрос, нужно ли было вообще Соединенным Штатам при таком положении принимать участие в борьбе8 * 10 11.
С этим вопросом ревизионисты связывают еще и другую проблему. Они полемизируют с ними упрощенно сформулированным мнимым тезисом регу-ляристов и правительства США, будто гитлеровская Германия проектировала нападение на США (Сэнборн)®, Иэ того факта, что в германской документации нельзя найти доказательств, говорящих о конкретной подготовке гитлеровским правительством предстоящего нападения на США111, ревизионисты делают ложный вывод, будто гитлеровская Германия вообще не представляла опасности для США и что Гитлер стремился избежать всего того, что могло бы вызвать конфликт с США11.
Далее ревизионисты выдвигают против Рузвельта обвинения в том, что он коварно й с помощью обмана общественности вовлек США в войну без всякой на то необходимости12. При этом делаются ядовитые замечания по
1 Отметим, папример, что с западногерманской стороны была подвергнута уничтожающей критике (см. «Historische zeitschrift>>, 1955, Bd. 180, H. I) небольшая работа американской исследовательницы Уотен Мэри Антонпа (W athen М агу Antonia, The Policy of England and France towards the «Anschluss» of 1938, Washington, 1954); эта работа в своей основе представляет ясное, паучно обоснованное обвинение фашистской политики экспансии и британской и французской политики «умиротворения».
2 Между прочим, достойно внимания, что переводчик работы Тэпзплла Штейнсдорф был вынужден предпослать этой открыто профашистской работе нечто вроде предупреждения. Он считает нужным подчеркнуть: «Читатели впали бы в глубокое заблуждение, если бы усмотрели в этой кпнге оправданно политики Гитлера...» (Т a n s i 1 1, Op. cit., S. 21). Впрочем, тут не поможет нн самое лучшее предупреждение, пи самое горячее отрицание, ибо книга Тэнзилла, несмотря ни па какие оговорки, объективно является отпущением грехов главным военным преступникам.
’ Т а п s i 1 1, Op. cit., S. 308.
4 Ibid., S. 310.
5 Ibid. S. 23. *
9 Barnes, Op. cit., S. 9. •
7 Idib.
9 Ibid.
» Ibid., S. 191.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Chamberlin, bei Barnes, Op. cit., S. 489.
162
поводу того, что внутриполитические и хозяйственные трудности побудили Рузвельта произнести 5 октября 1937 года в Чикаго известную речь «о карантине» и тем самым начать непосредственную подготовку американского вмешательства в мировой конфликт1. Если даже в этих указаниях и есть доля правды1 2, то все же надо иметь в виду, что лично Рузвельту были свойственны сильные политические колебания и что после 1933 года он был вынужден постоянно лавировать из-за того, что влиятельные американские круги оказывали сильное^опротивление его политике3. Учитывая необходимость для Рузвельта лавировать и преодолевать серьезное сопротивление, препятствовавшее энергичному выступлению против агрессоров, следует, по моему мнению, рассматривать главный довод, приводимый ревизионистами для обоснования своей теории о «военных происках» Рузвельта, Стимсона и др.; таким доводом является ссылка на содержащуюся в дневнике Стимсона запись от 25 ноября 1941 года. Стимсон в этой записи, имея в виду Японию, ставит вопрос: «Как мы придем к тому, чтобы сделать первый выстрел, не подвергая себя серьезной опасности?»4.
Нельзя согласиться и с утверждением, что Рузвельт был движущей силой, под воздействием которой Великобритания и Франция поддержали сопротивление Польши против Германии5 6, тем более что эта поддержка имела только символический характер. Ведь английское и французское правительства были готовы пожертвовать Польшей. Подобные утверждения, возлагающие на Рузвельта главную вину за обострение положения в Европе в 1939 году, вызывают скептическое отношение, даже независимо от того, что они основаны на фактическом оправдании политики Гитлера. Приводимые Тэнзиллом заявления уже потому представляются сомнительными, что речь идет о сообщениях, специально сделанных дополнительно.
В этой связи можно поставить вопрос: почему именно приводимые Тзн-зиллом обстоятельства (указания Рузвельта американскому послу в Париже Буллиту) не содержатся ни в имеющейся в изобилии и столь широко доступной документации государственного департамента, ни в обильных материалах архива Рузвельта, с его обширной личной и официальной перепиской и т. п.?
Обращаясь к общей оценке событий, даваемой ревизионистами, надо вновь подчеркнуть, что некоторые ревизионисты—прежде всего Сэнборн, но в еще большей степени Тэнзилл и Чемберлин—рассматривают предысторию и историю второй мировой войны со злостной антисоветской и антикоммунистической позиции, при этом в большинстве случаев они даже не утруждают себя хотя бы видимостью «доказательств»®. Поэтому не приходится
1 Т a n s i1 ], Op. cit., S. 380.
2 Надо учесть, что в 1937 году начался новый мировой экономический кризис, и Рузвельт действительно в это время столкнулся с особенно серьезным сопротивлением со стороны консервативных кругов, энергично боровшихся против его Нового курса.
3 В этой связи см. прежде всего работу Робинсона (Robinson, Edgar Е и-g е n е, The Roosvelt Leaderschip, 1933—1945). Робинсон придерживается консервативных взглядов, но не является определенным противником Рузвельта. Он высказывает ряд возражений по поводу Нового курса, но пытается быть справедливым в отношении Рузвельта.
По моему мнению, упреки по адресу Робинсона в релятивизме п внутренпих противоречиях (W a g п е г, Op. cit., S. 310) певполне обоснованны. Следует иметь в виду, что Рузвельту н его политике присущи противоречия, обусловленные классовыми пн-. тересами, и эти противоречия находят свое отражение в изложении Робинсона.
Надо еще указать на работы Рауха (R .a u с h, Basil, The History of the New Deal, а также: «Roosevelt, From Munich to Pearl Harbor», New York, 1950).
1 T a n s i 1 1, Op. cit., S. 24.
5 Ibid., S. 596 ff.
6 Весьма типичный пример фальсификации история представляют рассуждения Тэнзилла в связи со срывом ненавистного нацистского флага на пароходе «Бремен» в нью-йоркском порту; этот эпизод служит для Тэнзилла поводом для того, чтобы приписать «коммунистам» вину эа то, что между Германией и США сложились плохие' отношения. Он пишет: «В связи с этим следует напомнить, что в 1934 году Коммунпвтичес-
11*
163
удивляться, если именно группа Чемберлин—Тэнзилл—Сэнборн выступает с такой общей оценкой предыстории второй мировой войны: «Германия была вовлечена в войну с Великобританией и Францией, между тем как она предпочла бы конфликт с Россией из-за Украины»1. По поводу развития событий на Дальнем Востоке Тэнзилл клеветнически заявляет, что основное стремление советского правительства якобы заключалось в том, чтобы «Японию и Соединенные Штаты втянуть в войну: такая война уничтожила бы японскую плотину, которая мешала красной волне разлиться по широким равнинам Китая»* 1 2. Из этого делается вывод, что Рузвельт недооценивал «коммунистическую опасность»3. А отсюда нетрудно сделать еще шаг и выступить с самыми резкими нападками на совместные действия США и СССР после 1941 года4.
Приведенные выше взгляды ревизионистов, касающиеся общей оценки и ревизионистской интерпретации предыстории второй мировой войны, позволяют сделать принципиальный вывод, что ревизионизм, частично проявляя безразличие в отношении политики экспансии агрессивных держав, смазывая вопрос о вине и ответственности за войну и в лице некоторых своих представителей частично выступая с открытой защитой агрессоров, не только извращает историческую правду, но прямо или косвенно действует в интересах реакционных и агрессивных держав.
Нужно, однако, подчеркнуть—и в нашем сообщении это было неоднократно указано,—что ревизионизм5 вместе с тем во многих случаях правильно оценивает отдельные события из предыстории второй мировой войны.
Фактом является то, что ревизионисты запутались в своих противоречиях, в сплетении правды, фальсификаций, подтасовок, полуправды и упрощенчества. Но все это не исключает того, что ревизионистская концепция преподносится с большим подъемом и решительностью, играет зловещую политическую роль, ибо защита этой концепции—сознательно или бессознательно в зависимости от позиции отдельных ревизионистских историков—служит на пользу современным реакционным силам. Как же все-таки дело доходит до этих, часто весьма острых противоречий в описании и оценке событий ревизионистами? Ввиду того что большинство ревизионистских историков проводит серьезные научные исследования—у Тэнзилла особенно ясно видно глубокое проникновение в источники,—то факты зачастую вынуждают их говорить правду. Однако тогда ревизионисты входят в противоречие со своим предвзятым мнением и своей методологией, направленной к тому, чтобы истолковывать прошлое с точки зрения перспектив современности, в соответствии с политическими требованиями американского монополистического капитала.
Каков же исходный пункт ревизионистской концепции, тот аспект, под которым они освещают прошедшее? Несомненно, что одна группа американских ревизионистов рассматривает предысторию и историю второй мировой войны с той точки зрения, что необходимо «после окончания второй мировой войны выяснить, кто несет вину за то, что, с одной стороны, капиталистический мир вышел из войны ослабленным, а с другой—Советски и
кая партия и Соединенных Штатах активно старалась раздуть пламя американского недовольства в отношении Германии и Японии. Обе державы являлись плотинами па пути красной волны, угрожавшей Европе н Азии. Для советской дипломатии было бы большой победой, если бы удалось втравить Америку в войну с обоими соперниками России. Ничто не было более желательно для Кремля, как то, чтобы Соединенные Штаты стали бы бороться ради целей, интересовавших Россию.
При чтении дипломатической переписки тридцатых годов легко обнаружить, как неутомимо трудились коммунистические агенты, чтобы отравить ядом ненависти германо-американские отношения» (Т a n s i 1 1, Op. cit., S. 339). •
1 T a n s i 1 1, Op. cit., S. 599.
°- Ibid, S. 153.
:1 Sanborn, bei Barnes. Op. cit., S. 192, 203, 206.
1 Barnes, Op. cit., S. 217.
5 Напомним, что автор употребляет выражение «ревизионизм» не в обычном смысле, а имея в виду определенную школу американских историков. — Прим. ред.
164
Союз стал сильнее, и возник социалистический лагерь, а также Китайская Народная Республика»1. Это бесспорно относится к Тэнзиллу, об антикоммунизме которого мы не раз упоминали. Это относится также к Сэнборну, который нападает на антигитлеровскую коалицию1 2 и возмущается тем, что война, как это ему представляется, «привела к вторжению Советского Союза в Маньчжурию, Китай и Северную Корею»3, то есть к освобождению этих стран от империалистического ига. Подобная тенденция, конечно, особенно характерна для Чемберлина, который постоянно ставит на одну доску коммунизм и фашизм4, выражая острое недовольство по поводу того, что исход второй мировой войны вследствие поражения Германии и Японии подорвал «политическое равновесие» в Европе и Азии5 6. Он называет также «безоговорочную капитуляцию» Германии актом «умиротворения советской диктатуры»1*.
Обращаясь к современности, Чемберлин, конечно, осуждает принцип единогласия пяти великих держав в Совете Безопасности7.
У Ньюмена также, хотя и чуть слабее, выражено разочарование в связи с глубокими переменами, происшедшими в мире в результате второй мировой войны8 9. Таким образом, эта группа ревизионистов ясно обнаруживает целевую направленность и реакционный характер своих работ.
Было бы, однако, неправильно приписывать такие же мотивы другой группе историков—Бирду, Барнсу, Ландбергу. Они также возмущены современным положением, но по иным причинам, чем упомянутая выше антикоммунистическая группа. Барнес испытывает настоящий страх перед таким развитием «свободного мира», которое ведет к бесчеловечному, жестокому, тоталитарному и построенному на лжи общественному порядку, какой описан в человеконенавистнической, пессимистической утопии Джорджа Оруэлла®. Барнс испытывает также страх перед опустошительной катастрофой третьей мировой войны10 ii. Он самым решительным образом выступает против современного американского полицейского государства11, против возможности того, чтобы состояние войны существовало перманентно внутри и вне ее, и против возникновения милитаризированного государственного капитализма12.
Он содрогается при мысли о ближайшем будущем, когда историки будут вынуждены постоянно заниматься фальсификацией13. Во избежание недоразумений следует подчеркнуть, что это страшное видение будущего—отнюдь не только фантастического государства 1984 года по книге Оруелла— Барнс относит исключительно к эволюции капиталистической системы, но отнюдь не социалистического мира14. Барнс критикует не только Оруэлла, но также Джеймса Барнхэма15 16, известного идеолога «холодной войны»10.
Ландберг выступает против всех империалистических мероприятий США, таких, как войны и вооруженное вторжение17. При этом он ставит
1 Hass, Op. cit., S. 606.
2 Barnes, Op. cit., S. 217.
3 Ibid., S. 222.
1 Ibid., S. 507.
5 Ibid., S. 495.
6 Ibid.
7 Ibid., S. 500.
6 Ibid., S. 265.
9 Orwell, 1984, New York, 1949.
10 Barnes, Op. cit., S. VIII.
ii Ibid., S. 3.
I2 Ibid., S. 7.
*3 Ibid., S. 10.
14 Ibid., S. 7.
Burnham, The Managerial Revolution; The Macchiavelliuns; The Struggle for the World; The Coming Defeat of Communism; Containment or Liberation?; Das Regime der Manager, Stuttgart, 1948.
16 В a r n e s, Op. cit., S. 62.
17 Ibid., S. 567.
165
вопрос, что сказали бы американцы, если бы СССР оккупировал Кубу или Мексику или соответственно создал бы там военные базы1. Атакуя косвенно политику правительства США, он спрашивает, можно ли было бы в таких действиях СССР видеть «оборонительные мероприятия»; Ландберг осуждает также «помощь Соединенных Штатов Европе». Эту «помощь» он называет «политикой плохо прикрытого подкупа с нашей стороны (подкупа наций, получающих помощь, чтобы они оставались не коммунистическими) и шантажа с их стороны (дайте нам биллион, иначе мы станем коммунистами)»1 2.
Но между группой Барнс—Бирд—Ландберг и группой Тэнзилл—Чемберлин существует связь в том отношении, что как у Чемберлина, так и у Ньюмена (и здесь мы вновь сталкиваемся с путаницей и противоречием) можно встретить нападки па современную внешнюю политику США. Так, Чемберлин с ужасом говорит о том, что и в «свободных странах» экономическая безопасность находится под угрозой, бремя вооружений и задолженность все более увеличиваются, опасность инфляции постоянно растет, существует угроза чудовищной атомной войны и не менее трети населения США располагает только прожиточным минимумом (граница бедности) или менее того3. На словах Чемберлин выступает против усиливающегося фашизма в США. Этим он лишь маскирует свою антидемократическую и антикоммунистическую концепцию4.
Равным образом и Ньюмен выступает против политики Трумэна5 *, против НАТО, против программы военной помощи и т. п., а между тем как раз историков из группы Тэнзилл—Чемберлин—Ньюмен с их оценкой второй мировой войны можно по праву назвать идеологами политики Трумэна®.
Учитывая, что и среди регуляристов существуют отдельные группировки, следует отметить, что ревизионистская группа Барнс—Бирд—Ландберг, касаясь современных проблем, меньше критикует группу Лэнжер— Глисона и больше нападает на Коммеджера, который поддерживал политику Трумэна, политику «globalaney», «холодной войны», и подготовки общественного порядка «типа 1984 года»7; эта группа ревизионистов атакует также Бимеса, Шатуэлла, Бейли, Ирла, Шлезингера младшего и других, шедших по такому же пути, как Коммеджер, так что по сравнению с этими историками Дройзен и Трейчке кажутся «невинными младенцами»8 *.
Барнс выступает против тех американских историков-регуляристов, которые рассматривают всю историю Германии как плод безумия и как деятельность предшественников Гитлера, которые охотнее всего истребили бы всех немцев®.
Барнс выступает также против того, что современные программы мирового господства объявлены международными крестовыми походами во имя свободы и мира10 *. Он требует, чтобы прекратился кошмар страха, регламентации, разрушений, неуверенности, инфляции и полнейшей неплатежеспособности11.
Однако исходная точка зрения этой группы ревизионистов не является прогрессивной. Она связана с прошлым, с иллюзиями. Не вдумываясь в процесс исторического развития, не проявляя ни малейшего понимания ужасных последствий империализма, Барнс и его группа в качестве запоздалых либералов XIX столетия тоскуют в середине XX века «по доброму старому времени», когда, правда, «рабочий день длился десять часов и почасовая
1 Barnes, Op. cil., S. 568.
2 Ibid., S. 572.
3 Ibid., S. 508 f.
1 ibid., S. 540 I. •
5 ibid., S. 542 f. •
“ Ibid., S. 552.
7 Barnes, Op. cil., S. 78, Anmerkung 53.
3 Ibid., S. 60.
’’ Ibid.
10 Ibid., S. 54.
" Ibid., S. 629.
166
заработная плата составляла всего несколько центов, но зато фунт хорошего бифштекса стоил 15 центов, а самое лучшее виски—только 85 центов за кварту...»1. В своей явно устаревшей тоске по былому счастью эти историки забывают о реальности мировой истории. Они серьезно думают, что достаточно только США замкнуться в своей скорлупе, и все наладится лучшим образом. Эти историки не хотят и не способны понять, что тем самым оказывают поддержку тем реакционным силам, которым желали бы противодействовать. ОнК могут сколько угодно осуждать реакцию и оруэлловское государство 1984 года, и все же их позиция Объективно является реакционной, ибо в силу своего изоляционизма, в силу того, что им свойственно придавать условный характер любой точке зрения и смешивать все противостоящие друг другу позиции в международной политике, они наносят удар в спину прогрессивным силам мира, о чем свидетельствует их подход к предыстории и истории второй мировой войны.
Таким образом, факты свидетельствуют о том, что обе группы американских ревизионистов—сколь ни различны их исходные точки зрения и их политическая позиция по современным проблемам—все же в совокупности стоят на стороне реакционных сил в науке и политике.
1 Barnes, Op. cit., S. 5.
Анджей Иозеф Каминский
СОУЧАСТИЕ И ВИНА ПРУССКО-НЕМЕЦКИХ ГЕНЕРАЛОВ В РАЗРАБОТКЕ ВОЕННЫХ ПЛАНОВ ГИТЛЕРА
К числу попыток западногерманских националистических и реакционных историков, направленных к тому, чтобы оправдать представителей прусско-германского милитаризма, принадлежит и распространяемая ими версия, будто генералы рейхсвера и гитлеровского вермахта первое время вовсе ничего не знали о военных планах Гитлера. В качестве даты, когда Гитлер якобы впервые раскрыл перед генералами свои военные планы, называется 5 ноября 1937 года, тот день, когда состоялось известное совещание, на котором присутствовали руководители всех трех родов войск и внешней политики «Третьей империи». Содержание этого совещания зафиксировано в так называемом протоколе Госбаха.
Вальтер Гёрлиц пишет, например, в своей работе о прусско-германском генеральном штабе: «Конечно, сначала никто не предполагал, что Гитлер носится с планами, которые должны повести к войне»1.
«До 1937 года не было известно ни одно определенное высказывание Гитлера, которое давало бы основание сделать вывод, что он в принципе занят другими военными планами»1 2 [кроме планов обороны.—А. /Г.].
«У полковника Госбаха, адъютанта Гитлера, который был начальником центрального отдела генерального штаба и часто общался с Беком, тем не менее не создалось такого впечатления, что Гитлер в период, предшествовавший 1937 году, носился с планами агрессии»3.
Согласно Гёрлицу, беседа от 5 ноября 1937 года свидетельствует о том, что «Гитлер, как глава государства, впервые недвусмысленно дал понять, что его целью является новая мировая война»4.
Такие утверждения можно также встретить, например, у Ганса Рот-фельса. В своей статье, озаглавленной «Политическое завещание германского Сопротивления», он пишет:
«Таким образом... Уилер-Бенет... осуждал руководителей армии и флота, а также господина фон’Нейрата, присутствовавших на беседе 5 ноября 1937 года, зафиксированной полковником Госбахом, в которой Гитлер впервые [курсив мой.—А. /Г.] раскрыл свои агрессивные планы, за то, что они обосновали свои сомнения технически-ведомственпыми, следовательно, политико-военными, а отнюдь не моральными соображениями. Он полагает, что это относится и к Беку, который лишь позже ознакомился с текстом записей Госбаха. Только при полном непонимании конкретной обстановки можно ожидать проявления нравственного возмущения на «совещании у фюрера», но вместе с тем разве кто-нибудь решится сказать, что он заглянул во внутренний мир молчаливых людей...»5.
1 G б г 1 i z, Walter, Der deutsche Generalstab, Geschichte und Gestalt, 1657—1945, Frankfurt/Main, 1950, S. 411.
2 Ibid., S. 435.
’ Ibid., S. 411.
1 Ibid., S. 446.
5 «Vierteljahreshefte fiir Zeitgeschichte», 1954, Nr. 4, S. 334.
168
Эту последнюю мысль Ротфельс развивает в другом месте, вообще отрицая право историков иметь суждение по поводу поступков какого-либо прусско-германского генерала. Подобная личность оказывается выше приговора смертных людей. Так, мы узнаем из книги Ротфельса, что при разработке проблем, связанных с германской оппозицией Гитлеру, многие вопросы пришлось оставить открытыми:
«Не только вопросы, связанные с фактами, которые, может быть, никогда не будут раскрыты полностью, но и вопросы, связанные с оценкой поступков, так как эти проблемы выходят за пределы компетенции историков и, пожалуй, вообще «простых смертных»1.
Нет, конечно, надобности подробно останавливаться на подобных утверждениях, на этой слишком наивной попытке не допустить чрезмерно любопытных и лишенных пиетета прогрессивных историков к исследованию столь бесславных деяний прусско-германских генералов.
Надо, однако, заметить, что дата известного совещания—5 ноября 1937 года—представляет определенные преимущества для попыток реакционной милитаристской историографии снять с генералов всякую вину. Если бы руководители рейхсвера и вермахта действительно узнали о готовящейся подготовке плана войны лишь к концу 1937 года или даже позднее, как усердно подчеркивает Ротфельс, тогда получилось бы, что вооружению «Третьей империи», которое совершенно открыто и весьма интенсивно осуществлялось с 1935 года, они содействовали, искренне веря, что речь идет о вооружениях для обороны. Тогда можно было бы спокойно утверждать, что в конце 1937 года они уже не могли отступать, тем более что в известном совещании участвовали не все командующие вермахта и особенно сухопутных сил, а лишь высшие, наиболее преданные Гитлеру командующие отдельных родов оружия.
Между тем приведенная версия не имеет абсолютно ничего общего с исторической правдой, хотя она буквально или по смыслу приводится не только вышеназванными историками, но и многими другими.
В действительности при посещении генерала барона фон Гаммерштейн-Экворда Гитлер имел возможность в течение четырех дней после захвата власти беседовать с собравшимися у генерала командующими армии и флота. О речи, произнесенной Гитлером 3 февраля 1933 года, сохранились заметки генерал-лейтенанта Либмана, опубликованные в «Фиртельяресхефте фюр цейтгешихте». В этих заметках, вкратце передающих содержание речи, мы читаем в указанном журнале следующее2:
«Создание вермахта—важнейшая предпосылка для достижения цели: отвоевание пол. власти...
Как должна быть использована пол. власть после ее завоевания? Сейчас еще нельзя сказать. Может быть, завоевание новых экспорт, возм., может быть—это еще лучше,—завоевание нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация. Бесспорно, что только с помощью пол. власти и борьбы могут быть изменены теперешние экономил, условия»3. В этой связи надо отметить, что альтернатива—возможности для экспорта или «жизненное пространство»—наглядно свидетельствует о том, что речь идет не об интересах германского народа, а об интересах подлинных хозяев Гитлера, то есть монополистического капитала.
Надо вместе с тем отметить, что Гёрлиц упоминает о речи Гитлера от 3 февраля 1933 года, однако ни слова не говорит о цитированных мною высказываниях, как они изложены в заметках генерала Либмана.
В статье Герхарда Риттера можно прочесть следующее:
1 R о t h f е 1 s, Hans, Die deutsche Opposition gegen Hitler. Eine Wiirdigung, Krefeld, 1951, S. 189.
2 Запись приводится с сохранением сокращений, имеющихся в немецком тексте.— Прим. ред.
3 «Vierteljahresliefte fur Zeitgeschichte», 1954, Nr. 4, S. 435.
169
«Известно, что Гитлер... столкнулся с озадаченностью и сильной озабоченностью вместо поенного энтузиазма, когда он впервые в ноябре 1937 года раскрыл перед руководством вооруженных сил свои планы насильственного расширения германского жизненного пространства»1.
Так говорит Риттер, хотя несколько выше, в связи с другим вопросом, он приводит записи генерала фон Либмана, опубликованные в журнале «Фиртельяресхефте фюр цейтгешихте».
Годом позже и, следовательно, задолго до начала развертывания вооружений Гитлер в еще более недвусмысленной форме изложил генералам тот же самый ход мыслей. Это стало известно из письменного заявления покойного генерал-фельдмаршала фон Вейхса, которое было зачитано в мае этого года на так называемом «процессе Рема», проведенном в Мюнхене против Зеппа Дитриха и Липперта. Полным текстом этого заявления я еще не располагаю и цитирую его содержание по передаче, опубликованной в газете «Ди вельт»:
«18 фераля 1934 года Гитлер созвал в Берлине, в военном министерстве, совещание высших офицеров рейхсвера и высших руководителей штурмовых отрядов. Вейхс принимал участие в этом совещании. Там Гитлер произнес речь, которая начиналась следующими словами: «Немецкий народ идет навстречу страшным бедствиям» [это было, к сожалению, верно, но только не в том смысле, в каком понимали оратор и его слушатели.—А. /Г.]. Он, Гитлер, с помощью государственных мероприятий действительно устранит безработицу, однако через восемь лет она возобновится, поэтому нужно создать новое жизненное пространство. Необходимо, сказал далее Гитлер, сначала нанести военные удары по Западу, а затем по Востоку. Отряды Рема для этих целей совершенно непригодны. Он предпочел бы создать народную армию... Вейхс заявил по поводу этой речи Гитлера: «Итак, уже в 1934 году Гитлер ориентировался на агрессивную войну...»1 2.
Таким образом, просто неверно, будто бы генералы ничего не знали о намерении Гитлера развязать агрессивную войну. Как уже говорил об этом здесь профессор Штерн, фальшивым является нарисованный западногерманскими историками двойственный «образ Гитлера»—«мирного» Гитлера первых лет и воинственного Гитлера более поздних лет. Может лишь возникнуть вопрос, согласились ли генералы с бесспорно хорошо известными им намерениями Гитлера.
Однако вопрос поставлен неправильно. Это Гитлер в данном случае согласился с прусско-германскими генералами, военные планы которых были гораздо более давнего происхождения.
Так, еще в сентябре 1922 года создатель рейхсвера генерал фон Сект заявил рейхсканцлеру Вирту:
«Существование Польши нетерпимо, несовместимо с жизненными потребностями Германии. Она должна исчезнуть и исчезнет...»3.
Как отклик на это заявление звучат слова, сказанные 30 мая 1938 года преемником Секта, столь восхваляемым руководителем так называемой оппозиции Гитлеру генералом Беком:
«Это верно, что Чехия в том виде, как она навязана Версальским диктатом, невыносима для Германии»4.
Уже приведенные здесь профессором Штерном сделанные в Нюрнберге заявления фон Бломберга и Бласковица говорят о том, что после 1919 года, и особенно после 1924 года, весь тогдашний офицерский корпус рейх
1 Sammelwerk: «Schicksalsfragen der Gegenwart, Handbuch», politisch-istorischer Bildung, herausgegeben vom Cundesministerium fur Verteidigung, Innere Fiihrung, Erster Band, Max Niemeyer-Verlag, Tiibingen, 1957, S. 407. (Ritter, Oerhard, Der 20. J uli 1944, die Wehrmacht und der politische Widerstand gegen Hitler, S. 367).
2 «Die Welt», vom. 9.5.1957, Nr. 107, Ausgabe B.
’Schliiddekopf, Ott o-E r n s t, Das Heer uhd die Republik. Quellen zur Politik der Reichswehrfiihrung 1918 bis 1933, Hannover u. Frankfurt/Main, 1955, S. 163.
4 W h e e 1 e r-B e n n e t, John W., Die Nemesis der Macht. Die deutsche Armee in der Politik 1918—1945, Dusseldorf, 1954, S. 422.
170
спора был проникнут убеждением, что в свое время вопрос о так называемом Польском коридоре будет решен «в случае необходимости— силой оружия».
Война против Польши «рассматривалась как священный долг, хотя опа и была горькой необходимостью».
В этом пункте показания обоих, то есть Бломберга и Бласковпца, текстуально совпадают. Бласковиц прибавляет к этому следующее:
«Проводившееся сначала тайно (1933—1935 гг.), а затем открыто вооружение Германии я Приветствовал. Все офицеры арьуги разделяли этот взгляд н поэтому не имели никакого основания противодействовать Гитлеру»1.
На совещании командующих в министерстве рейхсвера 25 ноября 1930 года министр Тренер сказал (согласно записям генерал-лейтенанта Либмана):
«Он [то есть Греннер.—А. /Г.] преследует только одну цель—укрепление вооруженных сил и обороноспособности, дабы армия и народ были в свое время готовы. Он не может объявить свои планы и цели. Ни один руководитель не может этого сделать. Невозможно достигнуть целей штурмом, как этого столь сильно хочет молодежь...»1 2
Для полноты картины мы еще добавим, что в декабре 1923 года было сделано весьма характерное замечание по ходу процесса против немецкого писателя Вандта, который якобы похитил документы из Имперского архива. Эксперт рейхсвера заявил, что в результате того, что разоблачен бельгийский сотрудник, работавший вместе с прусско-немецкими милитаристами во время первой германской оккупации Бельгии, причинен ущерб благополучию германской империи, «...поскольку мы таким образом лишимся в будущем его поддержки!»3
В вынесенном на процессе приговоре также говорилось о том, что в случае изменения политических условий, которое может легко произойти, Германия могла бы нуждаться в помощи бельгийского сотрудника.
«Это могло означать,—как пишет д-р Фридрих Кауль,—лишь новую войну и новое нападение на Бельгию. Когда же еще могла бы понадобиться помощь бельгийского сотрудника?»4
Таким образом, генералы знали о военных планах Гитлера; они имели свои собственные, ранее разработанные военные планы. Кроме того, они помогли Гитлеру захватить власть и одобрили его военные плавы еще до того, как он пришел к власти.
Так, например, на упомянутом совещании в министерстве рейхсвера 25 октября 1930 года генерал Шлейхер заявил (согласно записям генерал-лейтенанта Либмана):
«Каждый подпишется под национальной частью программы [Гитлера], хотя такие требования, как «отмена мирных договоров», могут рассматриваться как цель, а не как нечто, осуществимое в настоящее время»5 6.
На аналогичном совещании 11 или 12 января 1932 года генерал Грейнер сказал:
«Намерения и цели Гитлера хороши; однако это фанатик, исполненный воодушевления и вулканической силы, так что он неизбежно применяет часто неправильные средства...» и т. п.®
Я полагаю, что в свете этих фактов и документов версия о мнимой неосведомленности и вытекающей отсюда мнимой невиновности прусско-германских генералов в связи с военными планами Гитлера должна быть признана полностью необоснованной и неверной, должна рассматриваться как сознательное извращение исторической правды.
1 IMG, Bd. XXXII, Erklarung v. Blombergs vom 7.11.1945 und Blasrowiz vom 10.11.1945, Dokument 3704—PS, Beweisstiick UZ—536 und US—537, S. 464 u. 468.
2 «Virteljahrshefte fiir Zeitgeschichte», 1954, Nr. 4, S. 408.
1 Kaul, Friedrich Karl, Justiz wird zum Verbrelien. Der Pitaval der Wei-maier Republik. Berlin, 1953, S. 144.
4 Ibid.
’’ «Vierteljahrshefte fiir Zeilgescliiclite», 1954, Nr. 4, S. 406.
6 Ibid., S. 417.
171
Эрих Брандт
ЗАМЕЧАНИЯ К АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ВОПРОСА О ВСТУПЛЕНИИ США
И ЯПОНИИ ВО ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ
Я позволю себе сделать некоторые замечания относительно американской историографии по вопросу о вступлении во вторую мировую войну США и Японии, не ставя перед собой цели более подробно исследовать причины вступления в войну этих двух империалистических держав. По данному вопросу в США также имеются разногласия между историками-«реви-зионистами» и такими, которые более или менее безоговорочно высказываются в пользу рузвельтовской внешней политики. Не стану останавливаться здесь на общих исходных позициях «ревизионистов», поскольку сегодня это уже сделал д-р Базлер в своем, на мой взгляд, весьма ценном выступлении, посвященном «ревизионизму» в американской исторической литературе о предыстории второй мировой войны.
Мне представляется очень метким указание д-ра Базлера на необходимость различать среди «ревизионистов» две группы, которые делают свои выводы относительно исторических событий, исходя из точек зрения, заслуживающих различной оценки: с одной стороны, группу Тэнзилла, Чемберлина и т. д. и с другой—историков, группирующихся вокруг Барнеса и Бирда, хотя при этом, как подчеркнул д-р Базлер, надо, разумеется, иметь в виду, что объективно обе группы, находясь на позициях, реакционных в своей основе, идеологически поддерживают империализм.
Говоря о причинах, в силу которых сегодня в американской историографии предыстории и хода второй мировой войны имеется два главных течения, я хотел бы отметить следующее. На мой взгляд, в этом не в последнюю очередь находит свое отражение тот факт, что в среде американской буржуазии тогда, как и теперь—хотя ныне и не в такой мере,—не существовало единства мнений относительно направления главного удара ее политики; какой путь к осуществлению ее далеко идущих экономических и политических планов является наилучшим. Эта определенная политическая раздвоенность американской буржуазии, раздвоенность, социальную основу которой надо усматривать в экономических противоречиях внутри капиталистического класса, и особенно между различными монополистическими группировками, проявляется также и в историографии.
Что касается антинаучного метода, которым пользуются историки-«ревизионисты» и который обнаруживается в их противоречивых взглядах, в произвольном подборе источников, лишь бы они укладывались в рамки их концепции, в упрощенном подходе к историческим событиям и процессам, то здесь я могу лишь подчеркнуть то, что убедительно показал в своем выступлении д-р Базлер.
Я хотел бы, дав общ^ю оценку взглядам «ревизионистов» по вопросу о вступлении в войну США и Японии, сосредоточить взимание на антисоветских тенденциях американской историографии и в заключение сделать несколько методологических замечаний.
В своей критике рузвельтовской внешней политики «ревизионисты» исходят из того, что Рузвельт стоял якобы во главе заговора, целью которого было, вопреки воле американского народа, вовлечь США в войну. Таков
172
главный тезис американских историков-«ревизионистов», который мы встречаем в более или менее модифицированной форме. Небезынтересно, что некоторые реакционные историки, например Рэндал и Поттер, упрекали и великого американского президента Линкольна в том, что он, мол, своими «маневрами» заставил рабовладельцев Южных штатов выступить в роли агрессора1. Тот же упрек бросают Рузвельту и в отношении Японии псторики-«ревизионисты»; прежде всего здесь следует назвать Моргенштерна и Бирда1 2. Показательно такщр, что американские историки-«ревизионисты», в частности группирующиеся вокруг Тэнзилла, использую# аргументы, выдвинутые японским радиовещанием, которое 28 ноября 1941 года заявило: «США нарушили мир... США одни несут ответственность за то, что теперь представляется почти неизбежным»3. Хочу напомнить также о том, что аргументация большого числа историков-«ревизионистов», утверждающих, будто американская политика не оставляла для Японии другого пути, кроме агрессии, совпадает с апологетической аргументацией, содержавшейся в показаниях японского военного преступника генерала Тодзио, премьер-министра и военного министра в критические месяцы 1941 года, в Международном военном трубинале в Токио; к сожалению, в Германии очень мало известно об этом процессе против японских военных преступников4.
Далее характерной чертой американской историографии, особенно периода 1940—1941 годов, является следующее: вместо того чтобы показать, насколько недостаточно США были подготовлены к войне против агрессивных держав, историки-«ревизионисты» бросают правительству Рузвельта упрек, что оно-де провело ряд мероприятий, из-за которых США оказались втянутыми в войну против Японии.
Теперь я хотел бы остановиться на антисоветских тенденциях в американской историографии этого вопроса, причем сначала мне хотелось бы указать на расхождения в американских буржуазных кругах по поводу политики, которую следовало проводить по отношению к Советскому Союзу. Сразу же после преступного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, 23 июня 1941 года, Рузвельт и заместитель государственного секретаря Сэмнер Уэллес заявили, что США поддержат Советский Союз в его борьбе против нацистской Германии5 6. 6 июля 1941 года Рузвельт направил японскому премьер-министру Коноэ послание, в котором—хотя и в очень сдержанных выражениях—предостерег его от нападения на Советский Союз®. Однако одновременно с этим государственный секретарь США Хэлл неоднократно высказывал свои антисоветские взгляды. Так, 23 августа 1941 года, беседуя с японским послом в Вашингтоне Номура, он дошел до того, что поставил под сомнение мирную политику Советского Союза7. Антисоветскую позицию занимал и Грю, который па протяжении долгих лет был послом США в Токио. В донесении Хэллу от 29 сентября 1941 года он утверждал, будто Япония вступила в союз с Германией и Италией, чтобы «обезопасить себя от России»8. Врагами Советского Союза были также многочисленные военные лидеры США. В меморандуме от 19 июля 1941 года начальник главного штаба военно-морского флота адмирал Тернер предлагал, чтобы США оттягивали свое вступление в войну до тех пор, «пока Япония не будет вовлечена
1 Bemis S. F., The United States as a World Power, New York, 1955, p. 379.
- Morgenstern G., Pearl Harbor: The Story of the Secret War, New York, 1947; Beard Ch., American Foreign Policy in the Making, 1932—1940, New Haven, 1946; Heard Ch., President Roosvelt and the Coming of the War, 1941, New' Haven, 1948.
3 M i 1 1 i s W., This is Pearl, New York, 1947, p. 277.
4 Ср. РагипскийМ. Ю. иРозенблитС. Я., Международный процесс главных японских военных преступников, Издательство Академии наук СССР, М.—Л., 1950.
5 М i 1 1 i s W., Op. cit., S. 94—95.
6 «Foreign Relations of the United States», Japan, 1931—1941, vol. II, Washington, 1943, p. 502—503.
7 Ibid., p. 568.
8 Ibid., p. 646.
173
в войну в Сибири»1. Одновременно он высказался против эмбарго на ввоз в Японию нефти. 5 ноября 1941 года два военных руководителя—главнокомандующий военно-морскими силами адмирал Старк и главнокомандующий сухопутными войсками генерал Маршалл—в своем меморандуме предложили Рузвельту не начинать войну против Японии, в случае если Япония нападет на Советский Союз. «Нападение [Японии.—Э. 5.] на Россию не явилось бы оправданием интервенции США в отношении Японии»,—заявляли Старк и Маршалл1 2. При этом надо вспомнить о военной ситуации, и которой находился Советский Союз в начале ноября 1941 года. Ни один из буржуазных историков США, работы которых я до сих пор проштудировал, не отмежевывается от этих антисоветских планов американского верховного командования.
Антисоветские тенденции в тогдашней и нынешней американской политике находят свое отражение и в современной американской историографии. Чтобы оправдать приготовления японских империалистов к нападению на Советский Союз, некоторые историки, искажая действительность, приписывают Советскому Союзу агрессивные намерения в отношении Японии. Например, известный американский историк Бемис пишет, что советско-японский пакт о ненападении от 13 апреля 1941 года якобы защитил Японию от нападения с Севера3. Такого же взгляда придерживается американский историк Друммонд. Бэсс, автор труда по новой истории Дальнего Востока, тоже утверждает, будто Япония чувствовала угрозу со стороны Советского Союза и на этом основании принимала меры к тому, чтобы отразить советское нападение4 * 6. Д-р Базлер уже упоминал о лживом утверждении Тэнзилла, который среди американских историков-«ревизионистов» стоит, вне всякого сомнения, на самых крайних правых позициях. Тэнзилл утверждает, будто главная забота советского правительства состояла в том, чтобы втянуть Японию и США в войну друг с другом.
В этой связи мне представляется важным исследовать вопрос, почему не были осуществлены планы агрессии против Советского Союза, вынашивавшиеся японскими империалистами. То, что у японских империалистов имелись конкретные планы нападения на Советский Союз, является фактом. Как мне сообщил наш японский гость профессор Уэсуги, па это неоднократно обращала внимание прогрессивная японская историография. В американской историографии мы тоже находим упоминание, например, о том, что на императорской конференции 2 июля 1941 года были утверждены планы подготовки к войне против Советского Союза3. После конференции японское верховное командование подробно разрабатывало стратегические и тактические планы с целью подготовки агрессивной войны против Советского Союза. Исследования, предпринятые мною до настоящего времени, показывают, что от планов нападения на Советский Союз, подготовлявшихся японскими империалистами, отказались лишь в сентябре—октябре 1941 года. И в данной связи знаменательно, что в телеграмме японского посла в Вашингтоне Номура министру иностранных дел Того, направленной 14 ноября 1941 года, содержится следующая констатация: время, когда Германия одерживала победы, прошло, и советское сопротивление стало прочным’.
Такое же признание содержится и в адресованном Рузвельту меморандуме Старка и Маршалла от 27 ноября 1941 года, в котором сообщается: «Немедленное нападение Японии па приморские провинции [Советского Союза.— Э. Б.] маловероятно, поскольку русские армии слишком сильны»7.
1 F е i s Н., The Road to Pearl Harbor, Princeion, 1950, p. 232.
2 «Investigation of the Pearl Harbor Attack», Washington, 1946, p. 242 (79 Cong.
2 Sess., Sen. Doc. N 244). 9 «
3 В e m i s S. F., Diplomatic History of the United States, New York, 1, p. 165.
4 В u s s C. A., The Far East, a History of Recent and Contemporary Internatio-
nal Relations in East Asia, New York, 1955, p. 338.
6 F e i s H., Op. cit., S. 215—218.
8 «Investigation of the Pearl Harbor Attack», p. 352.
7 Ibid., p. 390.
174
Помоему, то обстоятельство, что планы осуществления агрессии против Советского Союза, взлелеянные японскими империалистами, были сорваны в результате героического отпора врагу, который оказала Красная Армия, вновь подчеркивает роль Советского Союза во второй мировой войне. По понятным причинам американские историки лишь от случая к случаю и очень неполно исследуют вопрос о том, почему в 1941 году Япония не напала па Советский Союз.
Теперь несколу<о замечаний о методологии, которой пользуются реакционные американские историки. Д-р Базлер уже указал на то, что один из методов реакционных историков заключается в простом игнорировании тех фактов, которые не согласуются с их концепцией. Так, например, один из ведущих «ревизионистов» Бирд в своей критике рузвельтовской внешней политики полностью игнорирует переговоры Хэлла и Номура, проведенные перед Атлантической конференцией Черчилля и Рузвельта в августе 1941 года1. У Моргенштерна мы находим только кое-какие намеки на эти очень важные переговоры, в ходе которых большинство кабинета Рузвельта осознало, что дальнейшее проведение политики «умиротворения» по отношению к Японии может иметь крайне неблагоприятные последствия с точки зрения интересов американского капитализма. С этого-то момента и был взят курс—хотя и весьма неуверенно—на оказание известного сопротивления агрессивным планам Японии.
Для американской «ревизионистской» историографии также типично и то, что в ней—за немногими исключениями—полностью или почти полностью игнорируется внутреннее и международное положение Японии. В случаях когда заходит речь о ее внутреннем положении, мы сталкиваемся с той же тенденцией, которую можем обнаружить и в реакционной японской историографии. Для того чтобы избавить японских монополистов от ответственности за войну на Тихом океане, всю вину в развязывании войны перекладывают на японскую милитаристскую клику, причем сочпнают легенду, будто между кликой военщины и хозяевами монополий существовало, мол, противоречие. Так, американский историк Рейшауэр изображает Коноэ в качестве премьер-министра, который в любом случае желал избежать войны1 2. Напомним, что тот же самый Копоэ выступил за присоединение Японии к фашистскому Тройственному пакту. Упомянутый американский историк и самого императора изображает умеренным и либеральным3, хотя в некоторых случаях даже сама агрессивная клика милитаристов была вынуждена призывать императора к умеренности.
Наконец, мне хотелось бы сделать следующее замечание по поводу статьи двух советских историков, Марушкина и Яковлева, о «новой школе». В ней констатируется, что «новая школа» не достигла доминирующего положения в американской историографии. Я думаю, что исследование того, является ли верным это положение, представляет собой очень сложную проблему, и, по-моему, мы, историки-марксисты, должны в гораздо большей мере, чем до сих пор, анализировать учебники для школ и высших учебных заведений, поскольку их влияние значительно сильнее, чем то, какое оказывают монографии по специальным вопросам,
Я полагаю, мои краткие замечания показали, что и в вопросе о вступлении США и Японии во вторую мировую войну реакционная историография совершенно искажает историческую действительность и что она в силу своей классовой позиции и тех функций, которые она выполняет в классовой борьбе, не в состоянии дать картину, с научной точностью отображающую исторические события и процессы. Эта важная задача выпадает на нашу долю, на долю историков-марксистов.
1 Подробный анализ этих переговоров дан в работе советского историка Б. Рс-дова «Роль США и Японии в подготовке и развязывании войны на Тихом океане в 1938— 1941 гг.», Госполитиздат, М., 1951.
2 ReischauerE. D., Japan, Past and Present, New York, 1947, p. 172.
8 Ibid.
175
Альфред Ферстер
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ХАРАКТЕРА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Я хотел бы высказать некоторые соображения но вопросу о характере второй мировой войны. Профессор Мойзель уже говорил о том, что в ходе второй мировой войны ее характер изменился: из империалистической она превратилась в народную. Говоря о времени, когда это случилось, профессор Мойзель назвал период между маем 1940 года и июнем 1941 года, то есть период между нападением на Францию и нападением на Советский Союз. Я придерживаюсь мнения, что превращение второй мировой войны в народную произошло лишь с вступлением в войну Советского Союза.
В настоящее время существуют две точки зрения по вопросу о характере второй мировой войны. В тезисах Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза «К сорокалетию Великой Октябрьской социалистической революции (1917—1957)» подчеркивается, что вторая мировая война из империалистической превратилась в антифашистскую, освободительную войну. Этому противостоит тезис, что вторая мировая война с самого начала носила характер антифашистской, освободительной, вступление же в нее Советского Союза лишь усилило этот антифашистский освободительный характер. Возникает вопрос: какими критериями следует руководствоваться при оценке той или иной войны и определении ее характера. В. И. Ленин по этому поводу говорит:
«С точки зрения марксизма, т. е. современного научного социализма, основной вопрос при обсуждении социалистами того, как следует оценивать войну и как следует относиться к ней, состоит в том, из-за чего эта война ведется, какими классами она подготовлялась и направлялась»1.
Таким образом, войну надо анализировать с точки зрения ее классового характера и исторических условий. Это, как мне представляется, — главный принцип для оценки войн. Давая войне оценку, надо делать различие между непосредственным поводом к ней и се существенными причинами— например, между убийством эрцгерцога в июле 1914 года как непосредственным исходным пунктом первой мировой войны и военными целями империалистических держав как ее существенными причинами или же между вопросом о Польском коридоре как непосредственным исходным пунктом второй мировой войны и планами мирового господства германских империалистов н империалистическими завоевательными целями США, Англии, Франции и др. как существенными причинами ее возникновения.
Рассматривая войну, нельзя, по-моему, иметь в виду только ее исходный пункт, ее движущие силы и ее результаты; надо принимать во внимание также ход войны, роль, которую играют в ней народные массы. Если рассматривать события под этим углом зрения, то в характере включения народных масс в ход второй Мировой войны имеются различия. Например, нападение гитлеровской Германии на Польшу, Голландию, Бельгию, Францию п на северные страны—Данию и Норвегию—показывает, что империалистические правительства этих государств удерживали народные массы от серьеа-
1 В. 11. Ленин, Сочинения, т. 24, стр. 362.
176
кого сопротивления фашистским агрессорам. Можно напомнить о сделанных вчера высказываниях относительно так называемой «странной войны» на Западе в 1939—1940 годах. Я хочу сказать, что и в период между военной оккупацией Франции фашистской армией и нападением на Советский Союз ход войны определялся империалистической политикой воюющих держав и война еще не превратилась в народную, как утверждал профессор Мойзель. Правильно, конечно, что с самого начала имелись элементы народной войны, которые усиливались в ее ходе. Но я думаю, что до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз ход и тем самым характер первой фазы второй мировой войны определяли империалистические военные цели. С нападенпем па Советский Союз начинается вторая фаза второй мировой войны.
В этой фазе возникает антигитлеровская коалиция. Определяющим фактором дальнейшего хода войны становится теперь освободительная борьба народов Советского Союза и одновременно народная борьба в странах, подвергшихся фашистской агрессии. Антифашистское движение Сопротивления нарастает. Возникают антифашистские национальные Комитеты освобождения и т. д. Тем самым война развивалась по линии превращения в народную войну против фашизма. Надо подчеркнуть, что антифашистская народная борьба была связана с борьбой против собственных эмигрантских империалистических правительств и реакционных антисоветских сил.
О том, что вторая мировая война началась как война империалистическая, свидетельствуют многочисленные документы коммунистических партий и Коммунистического Интернационала того периода. Я хотел бы привести цитату из одной лишь статьи Мао Цзэ-дуна от 28 сентября 1939 г.: «Разразившаяся теперь война является как со стороны Англии и Франции, так и со стороны Германии войной несправедливой, захватнической, империалистической». Или еще одна цитата: «Мировая империалистическая война разразилась в результате того, что империалистические государства пытаются найти выход из нового экономического и политического кризиса. По своему характеру эта война как со стороны Германии, так и со стороны Англии и Франции является несправедливой, захватнической, империалистической войной. Коммунистические партии всего мира должны решительно выступать против этой войны...» 1
Указания на то, что вторая мировая война началась как империалистическая, мы находим и в других документах Коммунистического Интернационала и в книге Уильяма 3. Фостера об истории Коммунистической партии Соединенных Штатов2. После нападения на Советский Союз коммунистические партии в своих решениях определили и квалифицировали превращение империалистической войны в войну народную. Ограничусь при этом лишь ссылкой на книгу Фостера, пе цитируя. Но я полагаю, что и эти высказывания некоторых коммунистических партий показывают, что в первый период войны, то есть с ее начала в 1939 году до вступления в войну Советского Союза в 1941 году, она расценивалась как целиком и полностью империалистическая. Позиция коммунистических партий изменилась, когда было совершено нападение на Советский Союз—центр пролетарского движения. С этого момента рабочий класс, а под его руководством также и другие патриотические антифашистские силы в странах, оккупированных гитлеровскими фашистами, активно вступили в борьбу против гитлеровцев.
Таким образом, к характеристике второй мировой войны можно сделать следующие обобщающие замечания. Существовавший до сих пор взгляд, согласно которому вторую мировую войну с самого начала можно рассматривать как антифашистскую, освободительную, представляется мне неправильным. При такой оценке умаляется значение самоотверженной борьбы советского народа против германских и японских фашистов и милитаристов
1 Мао Ц л :>-д у и. Избранные произведения, т. III, Издательство иностранной литературы, М., 1953, стр. 85, 120.
“Foster, William Z., Gescliiclile der Koinniunislisclien I’arlei der VereiniS-ten Slaalen, Berlin, 1956.
12 Заказ д:. 122»
177
как важной предпосылки освобождения от фашизма народов Европы я Азии. К тому же здесь неправильно расценивается роль народных масс—движущей силы истории и процесс их включения в ход войны.
Наряду с этим существовавшая концепция не помогала раскрытию различия классовых интересов буржуазии и пролетариата. Но ведь была разница между подлинно патриотическими народными силами, например коммунистами, и рядившимися в тогу патриотизма националистическими силами в действительности поддерживавшими Гитлера. Далее, существовавшая концепция не направляла наше внимание на вопрос о том, что подлинная и действенная борьба против гитлеровского фашизма должна была развертываться и как борьба против собственного господствующего класса.
Таким образом, на мой взгляд, верной является характеристика второй мировой войны, содержащаяся в тезисах Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. Эта характеристика имеет большое актуальное значение прежде всего с точки зрения правильного освещения роли народных масс. Характер войны меняется, как я уже сказал, в ходе исторического процесса. В период до нападения на Советский Союз преобладали империалистические военные цели, и они определяли характер войны. После вступления в войну СССР возникла антигитлеровская коалиция и во всех странах, порабощенных германским фашизмом, развернулось широкое движение Сопротивления, ведущей силой которого был рабочий класс, возглавляемый коммунистами. После вступления в войну Советского Союза определяющим фактором стало антифашистское освободительное движение.
Эти несколько замечаний—результат еще не завершенного исследования вопроса. Разумеется, отдельные положения должны быть тщательно обоснованы и доказаны. Но я думаю, что эти замечания показывают, в каком направлении нам надо работать, чтобы правильно представить себе характер второй мировой войны, а также тот момент, когда произошел перелом. Если мы начнем теперь проводить исследовательскую работу в том направлении, как было вчера показано профессором Штерном, если мы будем в этом направлении исследовать антифашистское движение Сопротивления, роль советских войск, роль империалистических западных держав, то мы придем к единому мнению и в вопросе о характере второй мировой войны.
2-я РАБОЧАЯ СЕКЦИЯ
Буржуазная историография о ходе второй мировой войны
Руководители: Эрнст Энгельберг, Е. А. Болтин
12*
Зигмар Квилитш
ПРИЧИНЫ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
В ОСВЕЩЕНИИ ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ ИСТОРИКОВ
Два обстоятельства привлекли к Сталинградской битве особое внимание западногерманских историков: во-первых, это сражение явилось крупней» шим военным поражением, какое когда-либо знала гитлеровская Германия, во-вторых, Сталинградская битва явилась решающим поворотом в ходе второй мировой войны.
На книжном рынке Западной Германии в последние годы появился целый ряд произведений, подробно излагающих сталинградские события. Их авторы—преимущественно высшие офицеры фашистского вермахта: понятно, что они часто выступают pro domo, в свою защиту, стремятся критически изобразить ход операции в Советском Союзе во второй половине 1942 года. При этом они приходят не только к выводам военно-научного характера. Результаты их исследований являются также в высшей степени актуальными в политическом отношении.
Какая же картина событий получается, если говорить конкретно?
План наступления на Советский Союз был разработай генеральным штабом и в общем одобрен генералитетом, который был согласен с нападением на Советский Союз и, следовательно, как и Гитлер, несет полную ответственность за последствия этого нападения. После успехов немцев на первом этапе войны в высших кругах офицерского корпуса воцарился восторженный оптимизм. Он проявился, например, в следующей записи в дневнике Гальдера, который позднее критиковал Гитлера за недооценку боевой мощи советских вооруженных сил и пытался противопоставить свое мнение точке зрения генерального штаба: «По всей вероятности, нс будет преувеличением, если я скажу, что военный поход против России будет выигран в течение 14 дней»1.
Но, как известно, 1941 год не принес решения. Поэтому в 1942 году общее стратегическое положение вынудило командование фашистского вермахта предпринять второе большое наступление. Однако потери, понесенные в предыдущем году, позволяли предпринять его лишь на одном участке фронта. Гитлер и руководящие генералы единогласно выбрали Юг.
Оперативный план, встретивший общее одобрение, предусматривал:
1. Прорыв на Воронеж.
2. Окружение и уничтожение главных сил Красной Армии в районе западнее Сталинграда.
3. За этим следует продвижение на Сталинград и на Кавказ.
Командование фашистского вермахта надеялось, что по достижении этих целей оно сможет нанести решающий удар в северном направлении, в тыл Москвы. Вопреки прошлогоднему опыту, свидетельствовавшему об обратном, в этом плане вновь сказалась сильная недооценка боевой мощи и возмо ясностей Советской Армии. Эту ошибку совершил не только Гитлер, но и его генералы. Кроме работы Гальдера, в западногерманских исследованиях о Сталин
1 Liddell Н а г I В. Н., Die deutsch-russisclie Anseinanderselzung. In: «Die Role Armee», Bonn, 1957, S. 113.
181
граде нигде нет ни слова критики общих целей, поставленных оперативным планом ’.
Вначале наступление, начатое 28 июня 1942 года, дало значительный территориальный выигрыш. Южная ударная группировка прорвалась из района Таганрога на восток. На севере вскоре войска достигли Дона в районе Воронежа. Однако здесь соединения Красной Армии, командование которой понимало решающее стратегическое значение этого плацдарма, оказали не ожидавшееся упорное сопротивление. Вследствие этого немецкое верховное командование попало в трудную ситуацию: захват Воронежа имел большое значение, однако в то же время для осуществления намеченного окружения советских соединений западнее Допа требовалось как можно скорее направить отсюда вдоль Дона удар на юго-восток. Успешное сопротивление советских войск у Воронежа вынудило немцев раздробить свои силы. Это привело к тому, что не была достигнута ни одна из поставленных целей: нанести удар на восток через Воронеж не удалось, наступление захлебнулось в городе, а фланговая операция вдоль Допа развивалась не достаточно быстро, чтобы обеспечить охват главных сил Красной Армии с тыла.
Этот успех обороны советских вооруженных сил имел решающее значение для дальнейших боев и тем самым также для Сталинградской битвы. Фашистскому командованию не удалось создать желаемую исходную позицию восточнее и севернее Воронежа, необходимую для обеспечения северного фланга операций в направлении Волги и Кавказа и для того, чтобы постоянно держать под угрозой Центральную Россию. И, наоборот, советское Верховное командование получило благодаря этому надежный оборонительный рубеж па Дону.
Западногерманские исследования Сталинградской битвы не удостаивают вниманием этот советский успех у Воронежа 1 2. Но именно этот успех, а не мнение Гитлера, будто силы Советского Союза на исходе, послужил важнейшей причиной изменения оперативного плана, предпринятого 23 июля3 и столь сильно критикуемого в западногерманской историографии,— изменения, согласно которому был отдан приказ о немедленном захвате нефтяных районов Кавказа и Закавказья и взятии Сталинграда.
Особое значение придается вызванному этим раздроблению германских сил, которые были вынуждены вести операцию в двух направлениях, расходящихся под прямым углом. С точки зрения западногерманских исследований, следовало ограничиться либо Кавказом, либо Сталинградом. Правда, мнения о том, что именно должно было стоять на первом плане, не совпадают4. Далее, в приказе—немедленно продвигаться на Сталинград и на Кавказ— не учитывалось (и это подчеркивается неоднократно), что КраснаяАрмия не потерпела решающего поражения и что примененная ее командованием умелая тактика лавирования и обороны значительно затрудняла и замедляла продвижение фашистских армий вперед и существенно ослабляла ударную силу немцев 5 6.
План немецкой группы армий «Б»—взять Сталинград в результате охвата с двух сторон—находит в западногерманских исследованиях Сталинградской битвы всеобщее одобрение. По этому плану 6-я армия должна была дви
1 Halder F., Hitler als Feldherr, Miinchen, 1949, S. 48 f; К. Типпельскирх, История второй мировой войны, Издательство иностранной литературы, 1956, стр. 228 и сл.; R i е с к е г К., Ein Mann verliert einen Weltkrieg, Frankfurt, 1955, S. 99; Greiner H., Die Oberste Wehrmachtfuhrung 1939—1943, Wiesbaden, 1951, S. 395; Doerr H., Der Feldzug nach Stalingrad, Darmstadt, 1955, S. 15.
2 Об этом факте упоминает без анализа последствий Гудериан.
Г. Гудериан, Опыт войны с Россией. См. «Итоги второ* мировой войны», Издательство ипостранной литературы, М., 1957, стр. 127.
3 Об измененном плане см. Doerr Н., Op. cit., S. 26 ff.
4 Doerr Н., Op. cit. S. 30; R i e k e г К., Op. cit., S. 105, 122; E r f u r t W.
Die Geschichte des deutschen Generalstabes von 1918 bis 1945, Gottingen, 1957, S. 278 f.
6 См. «Итоги второй мировой войны», стр. 79; Doerr II., Op. cit., S. 19, 41; G г e i n e г H., Op. cit., S. 397.
182
гаться к Волге севернее Сталинграда, а 4-я танковая армия—наступать вдоль реки южнее города. В дальнейшем обе армии должны были соединиться, наступая вдоль реки. Но сопротивление советских соединений опять-таки оказалось более сильным, чем предусматривал план немецкого верховного командования. Обе наступающие армии продвигались вперед лишь очень медленно и с большими потерями. В конце концов 4-я танковая армия была вынуждена, не достигнув Волги, прекратить наступление, отклониться к северу и совместно с 6-« армией перейти к фронтальной атаке города1. Так начались затянувшиеся па месяцы уличные бои, котфые принесли огромные потери и постепенно поглотили все резервы германского Восточного фронта. Попытка охвата была сорвана успешным сопротивлением Красной Армии. Если верховное командование вермахта надеялось на то, что исход войны будет окончательно решен в 1942 году, если оно заранее не хотело отказаться от всего похода, то оно было вынуждено рискнуть совершить фронтальную атаку. Однако западногерманские исследования обходят молчанием это важнейшее заключение, имеющее огромное значение для всего последующего.
В результете германского наступления, продолжавшегося и в пределах города Сталинграда, направление линии фронта решающим образом изменилось. Главные силы наступающих немецких армий образовали острие двух глубоких клиньев, накрепко застрявших на Кавказе и в Сталинграде. Ахиллесовой пятой были сильно растянувшиеся фланги—на Севере вдоль Дона, от Воронежа до Сталинграда, и на юге от Сталинграда до Северного Кавказа. Сил для их достаточного обеспечения не было. Поэтому командование было вынуждено—хотело оно этого или нет—использовать 35 дивизий союзников: венгерских, румынских и итальянских.
Сосредоточение основных германских сил на острие клина при недостаточном обеспечении флангов западногерманские исследования Сталинградской битвы считают одной из важнейших причин успеха советского контрнаступления, которое в середине ноября в течение трех дней привело к окружению немецкой 6-й армии. Гитлеру бросают упрек в том, чтЬ он, не веря в опасность контрудара, пренебрег этим участком фронта, хотя ему постоянно указывали на приготовления советских войск к наступлению1 2.
Однако многочисленные источники ясно показывают, что Гитлер видел слабость северного фланга и боялся наступления, правда в другом направлении, па Ростов3 4, но что он—и здесь его точка зрения совпадала с мнением большинства генералов1—не верил в возможность крупного советского наступления, которое повело бы к решающим успехам. В чем конкретно заключались приготовления Красной Армии к наступлению, не было известно; немцы ни в коем случае не предполагали, что одновременно последуют совершенно неожиданные удары по северному и южному флангам немецкой армии на Сталинградском фронте, которыми начался разгром 6-й армии.
Однако обсуждение в западногерманской литературе ошибок Гитлера, являющихся также ошибками большей части генералитета, заслоняет более важные причины успеха советского наступления 19 и 20 ноября; так, только в одном месте имеется небольшая ссылка на то, что советские армии, вновь введенные в бой в конце 1942 года, были вооружены гораздо лучше, чем до тех пор, так как теперь на полную мощность работали советские промышленные предприятия на Урале, возможности которых, впрочем, сильно недооценивались 5.
Так, почти вся западногерманская историография игнорирует тот решающий факт, что в конце 1942 года была завершена перестройка советского
1 Doerr Н., Op. cit., S. 33, 36 f.
2 Erfurt W., Op. cit., S. 280, 284; G б r 1 i t z W., Der Zweite Weltkrieg, Stuttgart, 1951, Bd. I, S. 394; D о e г r H., Op. cit., S. 59; Manstein E., VerloreneSiege, Bonn, 1955, S. 322; К. Типпельскирх, История второй мировой войны, стр. 259.
’ Grei пег Н., Op. cit., S. 402, 404, 407, 409, 410, 415.
4 Лишь Гальдер неоднократно предупреждал о грозящей опасности.
6 К. Типпельскирх, Названное сочинение.
183
народного хозяйства для работы в новых, военных условиях. Советский тыл поставлял военные материалы, прежде всего танки и артиллерию, в таком количестве и такого качества, что материальная оснащенность советских вооруженных сил впервые во всех отношениях превзошла оснащенность немецких войск. 13 сочетании с героизмом советских солдат это было важнейшей причиной победного исхода контрнаступления. К тому же были удачно выбраны момент нанесения удара—когда фашистское командование бросило в район Сталинграда последние немецкие резервы—и направление главного удара. При этом упомянутые выше ошибки фашистского командования облегчили осуществление советских планов.
Таким образом, важнейшая причина победы советского контрнаступления—и о ней западногерманская историография полностью умалчивает— заключалась в превосходстве советского общественного строя. Моральная сила советского народа нашла свое выражение в выдающихся достижениях соединений Красной Армии, в самоотверженном труде всего тыла, во все возрастающем количестве снабжавшего фронт всем необходимым. Советский общественный строй доказал, что он обеспечивает больше резервов, больше источников силы и большую стойкость народа,—это и явилось решающим фактором.
Западногерманская историография периода после окружения 6-й армии естественным образом уделяет главное внимание вопросу о том, можно ли было деблокировать немецкие соединения, находившиеся в крайней опасности.
Всеобщее неодобрение западногерманских историков вызывает решение Гитлера (принимая которое он, разумеется, был всесторонне поддержан) воздержаться от приказа отрезанной армии идти на прорыв сразу же после начала блокады, так как он надеялся восстановить положение ударом извне, а пока по воздуху снабжать войска, находившиеся в «котле». Повсеместно исследуется вопрос: имел ли прорыв шансы на успех? Никто не решается прямо утверждать это, наоборот, высказывается много обоснованных сомнений1. Во всяком случае, здесь опять-таки едва ли принимается во внимание факт, имеющий для ответа на этот вопрос решающее значение: с одной стороны, Советскому командованию тоже были известны места, в которых мог бы быть предпринят прорыв, и оно приготовило резервы для отпора. С другой стороны, советское наступление велось таким образом, что фронт немцев был оттеснен далеко на Запад от «котла». Даже если бы прорыв удался, то ближайшие немецкие позиции, которые предстояло бы достигнуть, в среднем находились на расстоянии 75—150 километров 1 2 3.
Последней возможностью взорвать «котел» была попытка снять осаду путем удара извне. Для этого к 10 декабря были успешно сосредоточены все части, какие только можно было набрать.
Оперативный план снятия осады предусматривал три акции: операции в направлении на Сталинград от участка фронта у Чира через Дон у Калача к востоку и из района Котельниково—к северо-востоку. При приближении этих ударных групп к фронту окруженных войск части 6-й армии должны были предпринять попытку прорваться им навстречу.
Неудачу этого предприятия западногерманская историография объясняет целой цепью причин: атаки советских войск на немецкие позиции на реке Чир сковали находившиеся там силы и сделали невозможным их выступление на выручку окруженным частямя. Атаки в районе Котельниково н здесь весьма существенно ухудшили ^исходную позицию ^намеченного
1 G о г 1 i t z W., Op. cit., S. 399; Greiner H., Op. cit., S. 424; Haider F., Op. cit., S. 53; E r f u r t W., Op. cit., S. 284; D о e г r H., Op. cit., S. 70; К. Типпельскирх, названное сочинение, стр. 259; Manstein Е., Op. cit., S. 332; R iener, Op. cit., S. 154 f.
2 Doerr H., Op. cit., S. 76.
3 Ibid., S. 79; Manstein E., Op. cit., S. 356, 361.
184
наступления 1 и тем самым еще более снизили и без того незначительные шансы на успех.
Признание этого факта западногерманской историографией встречается лишь в единичных случаях. Напротив, повсеместно делается указание на следующие два обстоятельства, решившие судьбу 6-й армии: 1) новое советское наступление в районе Среднего Дона в направлении на Ростов, поставившее под вопрос существование всего германского южного фронта, и 2) отказ Гитлера дать командованию окруженной армии приказ о прорыве в тот момент, когда войска, посланные для вызволен^! из окружения, застряли в 70 километрах от «котла» в результате сильного сопротивления советских войск и могли держаться только с большим трудом.
В этой связи решению Гитлера, запретившего прорыв, приписывают большое значение с точки зрения провала попытки спять осаду, чем новому широкому наступлению советских войск. Хотя признают, что возникшая в результате удара Красной Армии угроза всему Южному фронту немцев ввиду отсутствия оперативных резервов вынудила германское командование оттянуть массу танков группы, предназначенной для снятия осады, а тем самым и вовсе заставила его отказаться от предприятия, но при этом полагают, что если бы Гитлер дал Паулюсу соответствующий приказ пойти па про рыв, то можно было бы спасти часть 6-й армии 1 2.
При конкретном исследовании шансов на успех прорыва—против которого, как известно, выступали Паулюс и начальник его штаба—в западногерманской историографии высказывается много сомнений, наблюдается большая неуверенность и прежде всего содержится фактический материал, показывающий огромные трудности такой попытки3. При этом западногерманские исследователи Сталинградской битвы—и это опять-таки характерно— почти совершенно не учитывают еще некоторые, имеющие немалое значение возможности советской стороны. Верховное командование Красной Армии знало, где могла бы быть предпринята попытка прорыва. Части, которые были оттянуты с фронта окружения и брошены навстречу немецким войскам, шедшим извне к Сталинградскому фронту, были тотчас же заменены новыми соединениями, переправленными через Волгу. Сверх того, южнее Калача были сконцентрированы сильные оперативные резервы, которые в любое время могли бы атаковать открытый фланг прорвавшихся частей 6-й армии.
После провала этой попытки выручить извне окруженные соединения и оттеснения немецких частей за их исходные позиции 6-я армия потерпела окончательное поражение и, следовательно, Сталинградская битва была окончательно проиграна. По этому поводу существует полное единодушие.
В целом о западногерманской историографии Сталинградской битвы можно сказать следующее (причем надо иметь в виду, что между отдельными работами существуют расхождения в степени, какая приписывается значению той или иной из причин поражения).
Уже одни заглавия книг, появившихся в последние годы, показывают общую концепцию западногерманской историографии этого вопроса. Такие заголовки, как «Потерянные победы», «Сталинград—потерянная победа». «Один человек проигрывает мировую войну», в такой же мере характеризуют концепцию западногерманских исследований Сталинградской битвы, как и следующая красноречивая цитата из последней среди упомянутых книг:
«Тот, кто пытается трезво и по-деловому подойти к событиям, приведшим к этой катастрофе, не может не констатировать, что причиной здесь было не превосходство советского военного искусства и даже в первую очередь
1 Doerr Н., Op. cit., S. 81 f.
2 G б г 1 i t z W., Op. cit., S. 405; К. Типпельскирх, названное сочинение, стр. 260; R i е к е г К., Op. cit., 158 f.; Erfurt W., Op. cit., S. 286; Manstein E., Op. cit., S. 362 f., 342, 375 f.; Doerr H., Op. cit., S. 93, 98, 100, 117 f. •Sch^eibert H., Nach Stalingrad — 48 kilometer!, Heidelberg, 1956, S. 107, 120’
• Mans tei n E., Op. cit., S. 364 f, 369 ff; Doerr H., Op. cit., S. 95; S c h e i-bert H., Op. cit., S. 127.
185
не подавляющее превосходство противника в людях и технике, а неспособность к военному делу, дилетантизм и самодурство нескольких человек»1.
Из этого можно сделать следующие выводы:
1. Западногерманская историография ни в коем случае не в состоянии оценить успех Красной Армии в битве под Сталинградом. Причины поражения немецких войск она пытается найти не в успешных ударах советских войск, не говоря уже о превосходстве советского общественного строя, а преимущественно во второстепенных факторах: в ошибках планирования фашистского верховного командования, особенно Гитлера. Хотя она и критикует беспримерную недооценку боевой мощи Советской Армии германским верховным командованием и крепость советского социалистического государства, сама она по сей день допускает ту же ошибку.
2. Западногерманская историография переоценивает ошибки Гитлера, несомненно часто приводившие к тяжелым последствиям. Она пытается доказать наличие принципиальных противоречий между его оперативными воззрениями и взглядами части его генералов, которые были согласны с нападением на Советский Союз, а также и с летним наступлением 1942 года и придерживались другого мнения лишь по некоторым тактическим вопросам.
3. Эта концепция западногерманской историографии исторически неверна и политически крайне опасна. Стремление доказать, будто основная причина поражения под Сталинградом заключалась в дилетантизме Гитлера и некоторых преданных ему офицеров, ведет к оправданию остальной, не менее повинной части генералитета, а недооценка роли Советской Армии— к взгляду, что новая попытка, если она будет осуществлена исключительно под руководством военных специалистов, имела бы верные шансы на успех. В конечном итоге эта концепция способствует идеологической подготовке третьей мировой войны.
1 R i е к 6 г К., Op. cit., S. 169.
Дитрих Зборалъский
К ИСТОРИИ СОТРУДНИЧЕСТВА АГРЕССИВНЫХ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ КРУГОВ С РАЗГРОМЛЕННОЙ ФАШИСТСКОЙ АРМИЕЙ И ПОПЫТКИ СПАСТИ ЕЕ КАДРЫ
В ходе материальной и идеологической подготовки к войне против •социалистических стран и, в частности, против Советского Союза крупная буржуазия в капиталистических странах, и прежде всего в Федеративной Республике Германии, выдвигает различного рода клеветнические утверждения. Они должны оправдать перед налогоплательщиками расходы на гонку вооружений, представить в более выгодном свете возрождение германского милитаризма. Так, для того чтобы оправдать создание и существование НАТО, участие в нем Западной Германии, говорят о «русском империализме» и его стремлениях к «экспансии», о том, что Советский Союз не разоружался после капитуляции Германии в мае 1945 года. Генерал Ганс Шпейдель выступил с такого рода рассуждениями в еженедельнике «Дас парламент»1. В статье, многозначительно озаглавленной «Задача всего народа», он искажает историю и ссылается на Черчилля как на главного свидетеля, способного подтвердить его измышления. Черчилль писал в своих мемуарах:
«Уничтожение военной мощи Германии повлекло за собой коренное изменение отношений между коммунистической Россией и западными демократиями. Они потеряли своего общего врага, война против которого была почти единственным звеном, связывавшим их союз» 1 2
Так Черчилль попытался свалить ответственность за «холодную войну» на Советский Союз, замести следы того, что агрессивные круги США и Великобритании уже в ходе последних боев второй мировой войны нарушили соглашения антигитлеровской коалиции и сотрудничали с битыми гитлеровскими генералами.
Это сотрудничество продолжается и в наши дни и принимает самые различные формы. Мы ограничимся здесь рассмотрением тех форм сотрудничества, которые имели место в последние дни второй мировой войны.
31 марта 1945 года Черчиль предлагал Эйзенхауэру3 форсировать Эльбу, в случае если сопротивление немцев ослабнет и появится опасность, что Советская Армия прорвет немецкие позиции в Австрии.
1 апреля 1945 года Черчиль обратился к Рузвельту и еще раз указал на необходимость взятия Берлина англо-американскими силами. «Я считаю,—писал Черчилль,—что с политической точки зрения нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток и что в том случае, если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять» 4. Черчилль стремился взять Берлин отнюдь не из соображений престижа; это явствует уже из его отношения к вопросу освобождения Чехословакии. 30 апреля 1945 года он предложил Трумэну, чтобы США освободили по возможности большую часть Западной Чехословакии, утверждая, что это изменит послевоенную обстановку, окажет влияние на развитие соседних стран.
1 «Das Parlament», N 36/1956 vom 5. September.
2 C h u r c li i 1 1, Winston, The Second World War, vol. II/2.
3 C h u r c h i 1 1, Winston, Op. cit.
4 Ibid.
187
«Если западные союзники,—восклицал он, —не будут играть важную роль в освобождении Чехословакии, эту страну постигнет участь Югославии»1. Следует подчеркнуть, что Черчилль в данном случае говорит вовсе не об «экспансионистских стремлениях» Советского Союза; он боится, что развитие Чехословакии пойдет по народно-демократическому пути. Во избежание этого и для поддержки чешской буржуазии он и хотел, чтобы американские воинские части расположились в Западной Чехословакии.
Если проследить хронологически, как протекали события на отдельных фронтах (на севере и на юге), то обнаруживаются следующие факты сотрудничества между англо-американскими и фашистскими генералами.
Северный район:
1—2 мая. Остатки 9-й и 12-й армий, а также остатки группы войск «Висла» отступают в поисках спасительного убежища за линию англо-американского фронта: Демиц—Людвигслуст—Шверин—Висмар, продолжая при этом боевые действия на востоке 1 2.
Вот что сообщает бывший командующий группы войск «Висла» генерал Курт фон Типпельскирх: «Вследствие этого удара по незащищенному тылу группы армий «Висла» последняя оказалась всего лишь на расстоянии 20—30 км от фронта русских войск, грозивших ей пленом или уничтожением; от этого группу армий могло спасти лишь благоразумие западного противника. В тот же день командующие обеими армиями—21-й и 3-й танковой,— не дожидаясь начала переговоров о повсеместном прекращении огня, установили личный контакт с американцами и добились того, что их повернутые фронтом против русских войска получили право, сложив оружие в ходе дальнейшего отступления, перейти через линию фронта американцев. Обе армии были спасены от безоговорочной капитуляции на поле боя, которая неизбежно привела бы их в русский плен.
Основные массы этих армий в последнюю минуту исчезли за линией американских войск» 3.
«Отходом» 21-й танковой армии руководили с бывшего аэродрома Ней-штадт до тех пор, пока советские танки не показались на горизонте» 4. Отход осуществился практически под непосредственным наблюдением американского генерала Гэйвина, штаб которого расположился в Людвигслусте.
По этому поводу певец немецкого милитаризма Вальтер Гёрлиц пишет с циничной откровенностью: «Американцы молчаливо наблюдали за тем. как в это же самое время мы еще вели арьергардные бои с преследующими нас русскими»5.
5—9 мая. С 8 часов 5 мая 1945 года на северный район распространилось соглашение о капитуляции, заключенное между главным командованием вермахта и 21-й армейской группой англо-американских войск. В Северо-Западной Германии, в Голландии и Дании прекратились военные действия против британских и американских соединений, равно как и все боевые действия против западных держав. Это соглашение о перемирии с Монтгомери предоставило военному и политическому руководству империалистической Гер
1 Churchill, Winston, Op. cit.
2 2 мая форсировавшие Эльбу части 21-й армейской группы добрались до Балтийского моря, но остановились у Кильского канала.
3К. Типпельскирх, История второй мировой войны, Издательство иностранной литературы, М., 1957, стр. 548.
* Thor wald, Jurgen, Das Ende an der Elbe, 3. Aufl., Stuttgart, 1951, S. 279.
Торвальд подробно описывает в своей квигс сделку, заключенную между Гэйви-ном и командующим немецкими армиями, в частности между Г. и фон Типпельскирхом (стр. 276—278). Генерал Гэйвии принадлежал к 18-му американскому корпусу десантных войск Риджуэя, стяжавшего себе затем печальную славу в Корее. В конце апреля 1945 года этот десантный корпус был временно подчинен 21-й армейской группе Монтго мери.
5 G о г 1 i t z, Walter, DerZweite Welllkrieg, 1939—1945, Stuttgart. 1952, Bd. Il, S. 574.
188
мании еще одну передышку для реорганизации «верхушки рейха» и для передачи ей всего военного руководства.
Англичане поддержали немецкое командование, предоставив Деницу права экстерриториальности во Фленсбург-Мюрвике и разрешив ему использовать радиостанцию Фленсбурга1. Более того, после капитуляции в северном районе штабы главного командования вермахта и главного командования военным флотом, а также «главная ставка фюрера» не были взяты в плен. К тому же англичане пе закрыли порты в району капитуляции и тем самым позволили немецким милитаристам действовать против Советского Союза, то есть против военного союзника Англии. В тот самый день, когда вступило в силу соглашение о капитуляции в северном районе, командование военно-морскими силами издало следующий приказ:
«Немедленно прекратить военные действия против англичан и амери канцев... Находящимся в Копенгагене эскадренным миноносцам, миноносцам, мотоботам, пароходам немедленно перебазироваться на восток» 1 2.
Кроме того, был отдан приказ оборонять Борнхольм в случае высадки советского десанта 3.
Подобно генералу Гэйвину, британский адмирал Хольт также оказывал пассивную помощь фашистским вооруженным силам вице-адмирала Крейша. Немецким кораблям удалось уже 7 мая покинуть район Копенгагена и «взять курс на восток»4 5. Следствием этих противозаконных действий явилось морское сражение между германским конвоем и советскими военно-морскими силами, которое произошло 9 мая в 19 часов в районе западнее Борнхольма6 7.
Сотрудничество Монтгомери и стоявших за ним реакционных кругов с Деницем дошло до того, что днем 6 мая Монтгомери через британского подполковника «У» передал Деницу, что рекомендует ему отвести назад фронт, которым командовал Шернер ®.
Южный район. В южном районе германские милитаристы тоже получили поддержку, обеспечившую их военные действия на Восточном и Юго-Восточном фронтах ’.
5—7 мая. Продвижение 3-й американской армии под командованием Паттона до линии Пльзен (6 мая)—Линц (5 мая) и 3-й дивизии 15-го корпуса 7-й американской армии до Берхтесгадена (4 мая), а других частей 7-й американской армии до Мюнхена (30 апреля) и Иннсбрука (3 мая) привели к распаду всей системы обороны в Южной Германии. С 6 мая главнокомандующий группы «Запад» фельдмаршал Кессельринг и главное командование военно-воздушными силами находились в американском плену. Однако Кессельрингу было позволено 7 мая «передислоцировать» свой штаб в «Берхтесга-дснер-Хоф»—в Берхтесгаден. Будучи военнопленным, он пользовался полной свободой передвижения, его сопровождал лишь один американец. Вот что рассказывал об этом сам Кессельринг:
1 Военно-морское училище в Фленсбург-Мюрвике оставалось экстерриториальным вплоть до ареста правительства Деница. Радиостанция перешла под британский контроль 13 мая.
2 В е k k е г. С a j u s, Kauipf und Unlergang der Kriegsmarine. Hannowcr, 1953, S. 239.
2 Запись в военном журнале главного командования вермахта; цитировано по S с 11 и 1 t z, Joachim, Die letzlen 30 Tage. Aus dem Kriegslagebuch des OKW, Stutt-garl, 1951, S. 90.
4 В e к к e r, Ca jus, Op. cil., S. 250.
5 Ibid., S. 253. Беккер прнзпает, что германские корабли знали, что с момента вступления в силу безоговорочной капитуляции нм надлежало войти в один из портов, занятых советскими войсками (S. 251).
“ Liidde-Neuralh, Werner, Die Regicrung Donitz, 2. Aullage, Gollingen, 1953, S. 76, 98. Уже с 1 мая Черчилль узнал через Трумэна, что Эйзенхауэр не хочет переступать установленной соглашениями с Советской Армией линии Карловы Вары—Ильзен—Будеевице. Шернер командовал центральной группой войск «Центр» преимущественно в силе-зскобогемском районе.
7 Ввиду краткости статьи мы не можем здесь остановиться подробнее на капитуляции триестского гарнизона.
189
«Уже тот факт, что я смог без сопровождения американцев посетить штабы восточных групп войск в Цельтвеге и Граце п передать им свои приказания, был одним из доказательств корректного поведения американского генерала, но вместе с этим это свидетельствовало о напряженных отношениях между союзниками» *.
Сообщение Кессельринга подтверждается записями в дневнике начальника главного штаба германских ВВС генерала Коллера 1 2.
Какие же это приказы мог отдавать Кессельринг, когда он сам был военнопленным? 6 мая в 14.20 Дениц сообщил Кессельрингу, атакжеШернеру и генералу Винтеру3, что Эйзенхауэр потребовал общей капитуляции на всех фронтах, но что он примет и частную капитуляцию отдельных соединений и частей, не сражавшихся на Востоке. Главное командование вермахта отдало приказ, не оказывая сопротивления, пропустить американские войска на восток (Чехословакия) и на южном направлении4. По настоянию Эйзенхауэра 7 мая в 01.30 Дениц передал Йодлю полномочия подписать в Реймсе официальный протокол о безоговорочной капитуляции на всех фронтах. Через пять минут были отданы приказы Кессельрингу и генералу Винтеру, а также по телеграфу в группы войск «Центр» и «Остмарк» и главнокомандующему группы «Юго-Восток».
«Необходимо отвести все, что можно, с восточных фронтов и с максимальной скоростью перебросить на Запад, в случае необходимости даже продвигаться с боями через расположение советских войск.
Немедленно прекратить все враждебные действия против англо-американцев и сдаваться им в плен. Общая капитуляция будет еще сегодня подписана Эйзенхауэром. Эйзенхауэр обещал генерал-полковнику Йодлю прекращение военных действий к 9 мая 1945 года в 0.00 часов по немецкому летнему времени» 5 *.
Следствием этого приказа была поездка Кессельринга в Цельтвег и Грац. Начальник генштаба военно-воздушных сил, будучи уже тоже «военнопленным», приказал всем военно-воздушным соединениям, расположенным в Чехословакии, «отступить в сторону американо-английских войск—просто вылетать и приземляться на любом западном аэродроме»0.
7 мая Черчилль тоже не дремал. После того как в 02.41 часов Йодль подписал в Реймсе капитуляцию и стало известно, что безоговорочная капитуляция входит в силу 9 мая в 00.00, Черчилль еще раз обратился к Эйзенхауэру, настаивая, чтобы американские части продвинулись к Праге7.
Так как советское Верховное командование уже 4 мая отклонило предложение Эйзенхауэра, то американские войска остались на линии Карловы Вары—Пльзен—Будеевице. Однако верность Эйзенхауэра союзническому долгу не распространялась на его подчиненных. 7 мая в Пльзен8, находившийся уже в течение суток в руках американцев, прибыл на самолете полковник генштаба Мейер-Детринг из штаб-квартиры Деница. Он должен был «разъяснить» группе войск Шернера последний приказ главного командования вермахта от 8 мая 1945 года (22.00 часа) о прекращении огня в 00.00 часов.
1 Kesselring, Albert, Soldat bis zum letzen Tag, Bonn, 1953, S. 422. Еще 7 мая он уехал через туннель Тауэрн на юг.
2 Koller, Karl, Der letze Monat, Die Tagebuchaufzeichnung des ehemaligen Chefs des Generalstabes der deutschen Luftwaffe vom 14 April bis 27 Mai 1945, Mannheim. 1949, S. 89.
3 Представитель главного командования вермахта в южном районе.
‘Schultz, Joachim, Op. cit., S. 81.
5 Ibid., S. 87.
“Koller, Karl, Op.»cit., S. 119.
’Churchill, Winston, Op. cit., Это была последняя Попытка Черчилли спасти группу поиск «Центр» от советского плена.
8 В районе Пльзена действовала 3-я американская армия под командованием Паттона, который не спешил помочь антифашистам в концлагере Бухенвальд. Именно Паттон приказал немедленно разоружить антифашистскую группу Сопротивления в лагере и настолько скомпрометировал себя профашистским выступлением в Баварии, что его пришлось отозвать с поста командующего уже в начале октября 1945 года.
190
Что значило это разъяснение к приказу, видно из дневника главного командования вермахта. Там сказано:
«Для этой группы войск в особенности важно как можно дольше продолжать бои против Советов, ибо только таким образом значительные части немецких войск смогут выиграть время, чтобы пробиться к западным противникам»1.
Из записей в дневнике совершенно ясно виднб, что клика Деница одной рукой подписывала, а другой снова разрывала подписанное. И в этом ее прикрывали англичане и американцы. Без помощ# англичан Мейер-Детринг не смог бы вылететь, а без помощи американцев не смог бы приземлиться в Пльзене. С помощью Паттона, предоставившего ему американские самолеты и американский конвой, Мейер-Детринг прорвался через линию фронта и партизанские районы Чехословакии. Западнее Йозефова (восточная Чехословакия) находилась штаб-квартира Шернера. 8 мая утром Мейер-Детринг прибыл туда * 2.
Группа войск «Центр» не сложила оружия к сроку, указанному в безоговорочной капитуляции. В результате сотрудничества Паттона с фашистским генштабом еще после 8 мая 1945 года продолжались бои немецких соединений в Чехословакии с чешскими партизанами и Советской Армией. Последнее сражение было 18 мая 1945 года у Табора. Фон Натцмер признает, что немецкие офицеры совершенно цинично нарушали ими уже подписанные условия. Так, офицеры 78-й штурмовой дивизии, например, отказались капитулировать 8 мая западнее Оломоуца и отдали приказ пробиваться на запад. «Это была последняя попытка... для большинства заранее обреченная па провал 3 4—так с неприкрытым цинизмом говорится сегодня.
Насколько дружественно относились к немецким милитаристам некоторые американские и английские генералы, видно уже из того, что они не разоружили ни главнокомандующих, ни их штабы, ни даже их охрану. Так, например, главное командование вермахта, главное командование военно-морского флота и главное командование ВВС, а также некоторые штабы соединений и их охрана не были разоружены *, а кадры вермахта были не только «спасены», сосредоточены, но и закамуфлированы. При этом западные союзники преследовали двойную цель:
1) сохранить командные и ключевые позиции для оставшихся представителей немецкого империализма;
2) иметь под рукой вспомогательные войска на случай войны против Советского Союза.
Для германских милитаристов сохранение кадров тоже было выгодным по двум причинам:
1) они сохраняли военную власть и могли задушить в зародыше всякое антифашистское демократическое выступление как проявление «невоинского» поведения;
2) пока в их распоряжении находились вооруженные и невооруженные соединения, они могли выступать как одна из «договаривающихся сторон» и, возможно, даже влиять на послевоенное развитие Германии.
Для обеспечения прежних ключевых и командных позиций главное командование вермахта, главное командование военно-морских сил и главное командование военно-воздушных сил сохраняли соответствующим образом вооруженные части «охраны» численностью каждая до батальона. 8—9 мая в военном дневнике главного командования вермахта сделана
‘Schultz, Joachim. Op. cit., S. 93.
2 N a tzmer 0., Generalleutnant a. D. «Die letzten Tage der Heeresgruppe Mitte. In: «Die пене Feuerwehr», Nr. 38, vom Juni 1955. Thorwa'ld, J ii r g e n, Op. cit., S. 363.
3 Das Buch der 78 Sturm-Division. Hrsg. Kameradschaltswerk der 78. Sturm-Divi-sion., Tiibingen o. J., S. 321.
4 L ii d d e-N e u r a t h, Op. cit., S. 104; Ke s s e 1 r i n g, Albert, Op. cit.. S. 421; Koller, Karl, Op. cit., S. 118; «Wehrkunde» H. 7/1956, S. 356; «Der deutsche Soldat», H. 6/1956. Мейер-Детринг был в том же звании включен в состав штаба бундесвера и к настоящему времени уже стал бригадным генералом.
191
запись, из которой видно, что союзники разрешили создание «органов порядка». Члены пресловутого корпуса полевой жандармерии были вновь вооружены1 и заботились о соблюдении «спокойствия и порядка» как в войсках, так и вокруг них, там, где они располагались в «районах интернирования». С момента капитуляции перед англичанами, состоявшейся 5 мая, началась реорганизация немецких соединений, находившихся в районе Шлезвиг-Гольштинии или введенных туда. Эта реорганизация осуществлялась по поручению англичан. Согласно распоряжению Монтгомери, был создан центральный штаб под руководством фельдмаршала Буша. Немецкие пленные армии, корпуса, дивизии и т. п. были подчинены соответствующим британским командным инстанциям1 2.
Так как в результате частичной капитуляции некоторые соединения оказались разобщенными или самораспустились, были сформированы новые армии, корпуса, дивизии и т. п3.
Кроме того, прилагались усилия к соединению трех родов оружия вермахта (сухопутных войск, морского флота и воздушных сил). Один только этот факт решительно опровергает уверения англичан, немецких милитаристов и историков в том, что речь шла хотя бы о «чисто вспомогательных организациоппых формах», создаваемых для организованного возвращения военнопленных. Немецкие соединения были приписаны к определенным «областям интернирования». Эти мероприятия англичане начали проводить 5 мая и продолжали их после безоговорочной капитуляции. Нацистский фельдмаршал Буш, стремившийся сохранить власть в армии, стал доверенным лицом англичан 4.
Сотрудничество между Монтгомери и нацистскими генералами привело к тому, что в ночь с 11 на 12 мая правительственная радиостанция Девица передала сообщение о том, что по приказу гросс-адмирала, с согласия английских оккупационных властей, фельдмаршал Буш принял командование над Шлезвиг-Гольштейном, а также в районе расположения 21-й армейской группы Монтгомери5. Под влиянием протестов общественности Буша отозвали, но реорганизация нацистского вермахта ^одолжалась. 13 мая Шульц записал в своем дневнике: «Генерал-полковник Йодль намерен на основании своих переговоров с генералом Руксом внести следующие предложения...»6 При обсуждении создавшегося положения в главной квартире Деница 13 мая Йодль, говоря о военной политике, которую следует осуществлять в будущем, сказал: «Своими собственными силами мы не справимся, нам нужна помощь извне, и это значит, что центр тяжести всей деятельности должен быть перенесен в область политики»7.
1 Schultz, Joachim, Op. cit., S. 106 f., «Wehrkunde» N 6, 1956. В округ Шлезвиг-Гольштейн для поддсржапия порядка была введена бригада «Великая Германия» (Schultz, Joachim, Op. cit., S. 106). См. также отчет о британо-германском сотрудничестве в «Die neue Feuerwehr», июнь 1955 года. Силезский 7-й полк Швейдница покинул в начале мая район Данцига и в полном составе (кроме 13-й и 14-й рот) сдался с оружием в плен. Этн пехотинцы, как сказано в хронике, были последней немецкой частью, сдавшей оружие во второй мировой войне; в качестве 1-го пехотного полка военной жандармерии они сложили оружие лишь в начале 1946 года («Deutsche Soldaten-zeitung», N 20, 9.7.1953, S. 6.).
2 S c h u 11 z, Joachim, Op. cil. (Eintragung des Auflrages unter den 5. Mai).
3 Так, например, командование группы войск «Мюллер» (генерал Фридрих Вильгельм Мюллер) и корпус «Штокгаузеп» с соответствующими подразделениями.
4 S с h u 11 z, Joachim, Op. cit., S. 104. «Так. например, фельдмаршал Бутл докладывает, что он не может взять на себя ответственность за выполнение порученных ему фельдмаршалом Монтгомери задач в указанном районе, так как он не располагает больше вооруженными силами и ие мовкет оказать необходимого влияния». (Запись от 12 мая.)
5 «Reynolds News», 13.5.1945, London. •
6 Schultz, Joachim, Op. cit., S. 111. Речь идет здесь о «разделении Германии на три района»: 21-й армейской группы, 12-й американской группы войск и еще одной американской группы войск, с которыми должны были сотрудничать соответствующие немецкие части, а также о реорганизации главного командования вермахта. (Sc hull z, Joachim, Op. cit., S. 112.)
• Ibid.
192
Как в политической, так и военной деятельности немецкого милитаризма ведущим фактором была их антисоветская направленность. Отнюдь пе случайно то, что Дениц, снова «наводя порядок» в своем офицерском корпусе, пользовался поддержкой англичан1. Эта поддержка заключалась в том, что была предоставлена возможность фашистским офицерам частично сохранять командные функции и после капитуляции. Они по-прежнему иедалп вопросами дисциплины и организации частей, местным управлением и даже в известие^ степени кадрами. Кроме того, англичане сохранили фашистскую военную юрисдикцию. «С помощью Лриговоров,—как сказано в одной из статей в «Веркунде»,—осуществлялась в значительной мере поенная власть» 1 2.
Так, уже после капитуляции в северном районе офицеры, военно-полевые суды и патрули полевой жандармерии выносили смертные приговоры. Производились также повышения в чинах и представления к наградам3. Англичане тоже повышали в должности военнослужащих германского вермахта, как только те сменили флаг. Это относилось прежде всего к военно-морским соединениям, часть которых была подчинена королевским военно-морским силам и продолжала нести службу. Из бывших германских военно-воздушных сил англо-американцы принимали к себе не соединения, а отдельных лиц, однако большинство кадров держалось наготове в районах иптерпирования. Не кто иной, как Черчилль, дал Монтгомери указание тщательно собирать немецкое оружие и быть готовым к совместным действиям с побежденными немецкими войсками на случай, если русские станут продвигаться дальше.
Впервые Черчилль признался в том, что существовало такое указание, в своей речи в Вудфорде. В письме от 9 мая 1945 года к Эйзенхауэру Черчилль призывал не уничтожать немецкое оружие, а вооружать им союзников4. Указание о сохранении немецкого оружия было отдано, далее, 17 мая 1945 года начальнику штаба ВВС и генералу Исмею для комитета начальников штабов s 6.
В то время как Черчилль открыто выступал против общих соглашений антигитлеровской коалиции, американцы оставались более сдержанными. Они «выжидали», как объяснял Трумэн.
«Германского правительства больше не было, была только группа во главе с гросс-адмиралом во Фленсбурге, которая утверждала, что представляет рейх. Мы не обратили внимания на его притязания, но наша армия внимательно следила за ним» ®.
Осторожное поведение американцев объяснялось следующими причинами:
1) нельзя было игнорировать настроения народных масс, дружественных Советскому Союзу;
2) не было военного превосходства над Советским Союзом, так как «бэби» (то есть атомная бомба.—Ред.) еще не появилась на свет;
3) пе была еще окончена войпа с Японией.
Тем не менее агрессивные круги США уже шли по стопам Черчилля. Однако общественность выступила против этого сговора союзников. Именно так следует понимать разоблачительную заметку, которая была опубликована в «Дейли геральд» 16 мая 1945 года. В ней говорилось, что министру
1 L й d d e-N е u г a t h, Op. cit., S. 101 f. Генерал Коллер в своем районе, выступая в последний раз 24 мая, также призывал своих офицеров придерживаться антисоветского курса. (Koller, Op. cit., S. 125 f.)
2 «Wehrkunde», Nr. 4/1956, S. 208.
3 До 17 мая в картотеке главного командования ВМС еще регистрировались награды. Карл Липгенс, адъютапт командира 32-го армейского корпуса, сообщает, что
«с согласия союзнических властей» (американская зона) еще 5 иювя 1945 года производились повышения в чинах («Wehrkunae», № 7, 1956.)
‘Churchill, Winston, Op. cit.
6 Ibid.
’Truman, Harry S., Memoiren, Bd. I, Das Jahr der Entscheidungen, Stuttgart, 1955, S. 279.
13 Занав M 1220 193
иностранных дел графу Шверин фон Крозигу уже «неоднократно» давали понять, что «новый фюрер и его новое правительство будут признаны союзниками и ему будет поручено управление послевоенной Германией под контролем союзников». Уже 13 мая 1945 года «Рейнольдс ньюс» под крупным заголовком спрашивала, не вернули ли союзники «фюрера» Деница?
Волна протестов против сотрудничества с приспешниками Гитлера прокатилась по Англии, Америке, Советскому Союзу. В немецком народе последняя «ставка фюрера» не встретила никакого отклика. 23 мая 1945 года Монтгомери был вынужден по поручению Эйзенхауэра арестовать правительство Деница и главное командование вермахта
Правительство Деница ушло, но кадры оставались. В англо-американской зоне в июне 1945 года было начато формирование «служебных соединений» и транспортных групп.
«Когда в мае и июне 1945 года в связи с окончанием войны полностью прекратилось передвижение германских военных соединений,—пробил час рождения немецких «служебных войск» в британской зоне» (шлезвиг-голыптейиский журнал «Эхо», 15 июня 1955 года).
15 июня 1945 года в Шлезвиг-Гольштейне преимущественно из военнослужащих 12-й танковой дивизии была сформирована 311-я служебная группа под командованием полковника Мильдебрада. 16 августа 1945 года она вышла из района интернирования в Восточном Гольштейне. 25 июня 1945 года были сформированы группы 506 и в августе 1945 года—группы 504 (танковая дивизия «Великая Германия»). Из приказа командования 1-й армии от 21 июня 1945 года видно, что из остатков этой армии была сформирована «служебная группа». Из списка рассылки приказов явствует, что штаб «Главком—Юг» и тогда все еще в известной мере функционировал («Вер-кунде», № 7, 1956). Всего в эти соединения с мая по сентябрь 1945 года вступило более 100 тысяч военнопленных немцев («Эхо», № 5, 1955 г.). По поводу формирования учебных рот трех родов оружия бундесвера «Эхо» № 7 за 1956 г. писал: «Мы рады, что среди первых добровольцев учебных подразделений находятся многие из бойцов служебных групп и в особенности из наших групп».
В Андернахе в учебную роту сухопутных войск «охраны порядка» вступили 30 бывших участников служебных групп.
Военно-морские силы получили суда и команды, а воздушные силы смогли получить аэродромные команды и кое-кого из летчиков.
Служебные группы, составленные из разбитой фашистской армии, были резервом военных и политических кадров германского милитаризма. Фридрих Шульц признает это в своей статье. Он пишет: «Почти полмиллиона немцев в то или иное время прошли через служебные группы британцев, американцев, французов и бельгийцев. Мы встречаем их сегодня уже как правительственных чиновников... директоров предприятий и как солдат и офицеров новой германской армии»1 2.
Эти далеко не полные данные все же свидетельствуют о том, что благодаря помощи западных держав военные кадры германского милитаризма продолжали существовать и после капитуляции. Но ведь целью антигитлеровской коалиции было уничтожение германского милитаризма, обеспечение прочного мира.
В то время как армии Советского Союза ценой огромных жертв сломили
1 Как явствует из письма Черчилля Идену от 14 мая 1945 года, он собирался использовать Деиица в качеств»своего орудия. За это гросс-адмиралу было обещано смягчение приговора за военные преступления. 5 июня 1945 года У»Черчилль скорбел по поводу судьбы этого преемника фюрера. Он писал Монтгомери: «Я ие хочу, чтобы германских адмиралов и генералов, с которыми мы недавно договаривались, заставили стоить с поднятыми руками. Я не хотел бы также использовании для этой задачи пехотных подразделений 11-й бронетанковой дивизии. (Churchill, Winston, Op. cit.)
2 Schultz, Friedrich, Dienstgruppe GCLO, GSO. Ein deutsche Nach-kriegstrilogie, Bonn o. J. (1956, DZ), S. 5.
194
сопротивление фашистских агрессоров, агрессивные круги США протягивали им руки.
Когда Монтгомери пропустил группу войск «Висла» через свои позиции, его 21-я армейская группа приняла на себя функции собирания фашистского вермахта. Когда Деииц получил права экстерриториальности и другие возможности для того, чтобы вести «войну на Востоке», 21-я армейская группа стала в последний момент телохранителем поборников этой войны. Монтгомери и Паттон нЛали выполнять те задачи создания боевого охранения фашистской армии, которые она сама уже выполнить не могла. Именно поэтому Мейер-Детринг смог выполнить свое последнее поручение как офицер генерального штаба гитлеровского вермахта—посетить Шернера, а военный преступник Кессельринг, уже будучи военнопленным, смог отдавать приказы.
Буржуазная историография, авторы мемуаров и историй дивизий исходят при рассмотрении последних военных событий из того, что единственно верным решением было вести бои на Востоке и прекратить огонь на Западе. На этой формулировке следует еще специально остановиться. Они пытаются оправдать военные действия против Красной Армии задачами «спасения немцев от большевизма». Таким образом, они стоят на позициях преемников Гитлера, Деница и других военных преступников.
Как только они заговаривают о сотрудничестве между англо-американскими и гитлеровскими генералами, они начинают оправдывать коварство англо-американцев и нарушение ими союзнических соглашений. Они пытаются объяснить измену англо-американского командования, нарушившего обязательства и отступившего от целей антигитлеровской коалиции, предававшего своих советских союзников по оружию, не чем иным, как «чуткостью» и «рыцарством» западных офицеров (Типпельскирх) либо их «образцовым» поведением (Кессельринг). Кайус Бекер говорит о том, что немцы так «ловко» вели переговоры, что англичане смогли «формально» с ними согласиться.
Нарушение договорных обязательств, типичнее для империалистической политики вообще, оправдывают в тех случаях, когда оно направлено против СССР. Партизанские отряды называют «бандами», а военных преступников, вроде Депица,—«мучениками» и «поборниками европейской культуры».
Преемника Гитлера изображают законным главой государства, а арест правительства Деница в книге Вальтера Гёрлица назван «беспримерным поступком».
Это лишь одна сторона событий, другая сторона относится к немецким войскам. Реакционные историографы задались целью изобразить героями тех солдат, которые в самые последние дни сражались против Советской Армии. Это «герои», которые не получили в большинстве случаев — увы! — признания западных держав, но уже, мол, защищали «Запад».
По мнению буржуазных историков и авторов военных мемуаров, даже бесцельное продолжение боев после капитуляции («Книга 78-й штурмовой дивизии») и принесенные в них кровавые жертвы оправданы тем, что «хоть немногие были спасены от большевизма».
Подведем итоги.
Ни буржуазные авторы в Западной Германии, ни буржуазные историки англо-американского блока не создали связной правдивой истории последних дней войны.
Как только речь заходит о сотрудничестве между англо-американцами и немцами, то оно рассматривается только в пределах отдельных изолированных участков фронта.
Во всех мемуарах, опубликованных в Западной Германии, идеализируется борьба, продолжавшаяся и тогда, «когда уже пробил последний час», и воспевается измена англо-американцев целям антигитлеровской коалиции, и в особенности своему советскому союзнику.
Все буржуазные исследования заканчиваются на безоговорочной капи-
195
13*
туляции еще и потому, чтобы избежать вопросов, почему англо-американское руководство сохранило кадры нацистского вермахта.
Буржуазная немецкая историография, всячески избегая рассматривать затронутые здесь вопросы либо давая совершенно беспорядочное и искаженное описание событий, становится тем самым на сугубо антинародную позицию, так как по сути дела оправдывает фашистскую стратегию.
Тем, что именно западногерманские буржуазные историки выступают в качестве пособников нарушения международных соглашений и предательства, они особенно мешают взаимопониманию народов.
Руководствуясь классовыми принципами, все авторы буржуазных работ, мемуаров и т. п. в той или иной степени способствуют идеологической подготовке «нового похода на Восток».
Эрнст Энгелъберг
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВОЕННОЙ ЭКОНОМИКИ ГЕРМАНИИ В 1942—1944 ГОДАХ *
Мы в Германской Демократической Республике лишь начинаем исследование фашистской военной экономики. Возможно, что в нашем отставании повинны и трудности доступа к источникам; важные архивные материалы, в том числе относящиеся к большим процессам, развернувшимся после 1945 года, находятся вне пределов нашей республики.
Материалы, лежащие в основе данного доклада,в значительной мере заимствованы из: 1) обширного систематизированного собрания вырезок из современных (по большей части фашистских) газет; 2) большой неопубликованной работы, в свою очередь построенной на материале, почерпнутом из технических и экономических журналов, а также из книжной литературы; 3) объемистой картотеки, содержащей данные о предпринимателях и так называемых виртшафтсфюрерах. Далее, я привлек опубликованные источники и работы, изданные после 1945 года.
На рубеже 1941—1942 годов германская военная экономика вступила в новую, весьма примечательную стадию развития. На основе концентрации производства, осуществленной в принудительном порядке посредством издания законов и распоряжений и сопровождавшейся бессовестной, жесточайшей эксплуатацией всех доступных людских и материальных ресурсов Германии и Европы и безудержным сокращением производства предметов потребления, германские монополисты значительно расширили свою власть.
Начало войны нацистской Германии с Соединенными Штатами, конечно, повлияло на развитие германской военной экономики. Однако решающим для перехода военной экономики в новую фазу, для ее немедленной радикальной перестройки был провал фашистской стратегии молниеносной войны против Советского Союза. Пережив под Москвой Марну второй мировой войны, германские войска были вынуждены отступить.
В мою задачу не входит разбор военных и политических последствий поражения фашистов. В экономическом отношении упорное и эффективное сопротивление народов Советского Союза имело своим последствием то, что в конце 1941 года потребление германской стороной оружия, боеприпасов и снаряжения впервые превысило их производство германской военной промышленностью. Началась значительная нехватка военных материалов. Если во время предшествующих кампаний, в 1939—1941 годах, фронт постоянно потреблял меньше, чем производилось в Германии, то с конца 1941 года характерным становится отставание военной промышленности. Народы Советского Союза сорвали все расчеты политических и военных стратегов молниеносной войны германского империализма, которые мнили себя умнее всех на свете.
В критически обострившейся ситуации конца 1941 года фашистским заправилам не оставалось ничего, кроме нового усиления рационализации во всех областях экономики и общественной жизни.
Благодаря концентрации производства (при одновременном сокращении производства потребительских товаров) и ограблению оккупированных тер
197
риторий германская военная промышленность за период с начала 1942 года до июля 1944 года увеличила свою продукцию в три раза.
Самыми распространенными методами достижения концентрации производства и производственно-технической рационализации были нормирование, типизация и специализация. Так, например, машиностроение за эти два года претерпело изменение даже структурного характера.
Вследствие того что машиностроительные заводы были вынуждены специализироваться на выпуске определенной продукции и объединиться друг с другом, не только усилилась концентрация производства, но в силу экономических и организационных причин облегчались также контроль и управление предприятиями. Машиностроительная промышленность все больше превращалась в своего рода единое огромное предприятие со многими сцециализированными предприятиями и цехами. Во главе этой отрасли в качестве генерального директора находился уполномоченный по машиностроению.
Как уже сказано, процесс концентрации производства происходил не только в машиностроении, но во всех отраслях промышленности и ремесла, хотя в разных отраслях он протекал по-разному.
Если до 1942 года предприниматели извлекали выгоду из многообразия государственных планирующих органов и слабой координации между ними, то начиная с этого времени, когда потребности империалистической войны заставили перейти к более централизованному руководству военным производством и к более строгой координации между предприятиями (как, например, в машиностроении), крупные промышленники расширяли свое могущество, становясь почетными государственными функционерами в так называемых «отраслевых управлениях» имперского министерства хозяйства. В компетенцию этих «отраслевых управлений» входили все функции руководства экономикой—руководство импортом, производством и экспортом.
Решающими факторами, позволившими крупным промышленникам осуществить диктатуру над средними и мелкими предпринимателями и превратить управления министерства хозяйства в сверхкартели, во всеохватывающие монополистические организации, были: выну жденное членство и принцип вождизма—«фюрерпринцип». Орудуя лозунгом «перемещения производства на наиболее рентабельные предприятия», они вынуждали заводы и фабрики сокращать выпуск продукции или вовсе закрываться. 27 мая 1942 года «Нейе Цюрхер цейтунг» писала по этому поводу: «Отраслевые комитеты отдельных отраслевых и экономических группделают предложения о закрытии предприятий', тем самым члены комитетов становятся, так сказать, палачами своих коллег и, вероятно, реже—самоубийцами».
До конца 1942 года управления министерства хозяйства существовали наряду с соответствующими органами министерства вооружений и боеприпасов, носившими название главных комитетов и объединений. Однако до тех пор, пока указом Гитлера от 2 сентября 1943 года Шпеер в качестве «имперского министра вооружений и военного производства» не был уполномочен руководить всей германской промышленностью, практиковалась система личной унии между упомянутыми органами министерства хозяйства и министерства вооружений и боеприпасов.
Могущество монополий возрастало не только в результате усиленной концентрации производства, но и благодаря системе приобретения и распределения сырья. До конца мая 1942 года возникли—причем можно доказать, что это произошло по инициативе ведущих предпринимателей,—пять имперских объединений, представлявших собой отраслевые управления особого рода: три по руководству текстильной промышленностью (синтетическое волокно, отделка текстиля, лубяные волокна), угольное и железоделательное имперские объединения.
Эти имперские объединения охватывали все предприятия соответствующей отрасли независимо от военного или гражданского характера выпускаемой продукции. Их полномочия распространялись в вертикальном напра-
198
влепии—от добычи или производства сырья до выпуска готовой продукции и сбыта.
Железо служило для военной экономики «ведущим сырьем», как называли его согласно специальной терминологии. В условиях военно-экономического государственно-монополистического хозяйства те, кто держал в своих руках это ведущее сырье, пользовались особенно большой властью. Поэтому мне представляется необходимым остановиться на некоторых подробностях, касающи^я имперского объединения железоделательной промышленности. В эту организацию были вынуждены в«йти следующие предприятия и заводы: железные рудники, чугунолитейные заводы, сталелитейные заводы, сталепрокатные заводы, а также поставщики руды, лома, чугуна, стали и проката; при этом были присоединены и реорганизованы целые картельные союзы перечисленных предприятий. Реорганизация заключалась, в частности, в том, что прежние картели потеряли свой характер добровольных объединений, поскольку все аутсайдеры были вынуждены вступить в организацию. Объединение производителей стали-сырца, являвшееся добровольной организацией сталепромышленников, было распущено, а в ноябре 1942 года было основано «Сообщество железоделательных и сталелитейных заводов в имперском объединении железоделательной промышленности» (ЭСГЭ).
К тому же географическая сфера действия имперского объединения не должна была ограничиваться территорией германской империи. Предусматривались разграбление рудных ресурсов и запасов лома во всех оккупированных и порабощенных областях а также использование имеющихся там предприятий железоделательной и стальной промышленности. Люксембургские металлургические заводы были даже непосредственно включены в картели германской тяжелой промышленности.
Длинный список функций, выполнявшихся имперским объединением железоделательной промышленности, соответствовал уже известному нам комплексу чрезвычайных прав так называемых отраслевых управлений. Сюда входили распределение заказов и сырья, контроль над производством, изменение ассортимента выпускаемой продукции, а также свертывание предприятий и отраслей производства.
Вместе с присоединением картелей к имперскому объединению в распоряжении этого центрального руководящего органа оказывался налаженный аппарат. Так, картели и раньше поощряли специализацию отдельных металлургических заводов и распределяли в соответствии с нею заказы, поступающие от торговцев и других клиентов.
Картели усилились уже в результате приема в них аутсайдеров.Более того, картельный аппарат фактически превратился в государственный аппарат.
Но решающее изменение совершилось внутри самих картелей. Председателем ЭСГЭ, то есть союза железных и стальных картелей, созданного внутри имперского объединения, был назначен генеральный директор заводов Маннесмана Вильгельм Цтнген. Его помощниками стали столь же важные лица. Сам по себе этот факт не может вызвать удивления: хозяева концернов и раньше были широко представлены в правлениях картелей. Скорее надо подчеркнуть следующее обстоятельство, сопровождавшее упомянутые назначения: теперь эти хозяева осуществляли свою власть над участниками картелей не только благодаря олицетворенной в них экономической мощи, находившей свое юридическое выражение в картельных договорах, по, сверх того, еще и благодаря чрезвычайным полномочиям, которые по их требованию предоставило им государство.
Вслед за ведущим сырьем—железом сразу же особое значение приобрел уголь, материал, находящий себе столь разнообразное применение. Мне приходится отказаться от более детального освещения имперского объединения угольной промышленности. Все же я хочу сопоставить его президиум с президиумом имперского объединения железоделательной промышлен
199
ности. Дело в том, что, как обнаруживается при таком сопоставлении, обоими имперскими объединениями, без подставных лиц, руководили четыре концерна: Круппа, Флика, «Ферейнигте штальверке» и «Герман Геринг-верке», тогда как непосредственная власть других групп была ограничена отдельными отраслями экономики; при этом влияние было, конечно, взаимопроникающим. Можно, например, назвать объединение Маннесман—Зальцдет-фурт; обе фирмы взаимно были представлены в наблюдательных советах. Надо также подчеркнуть, что прежде всего «Ферейнигте штальверке» и Флик были широко представлены в президиумах обоих концернов.
Чтобы дополнить картину, бросим взгляд на совет по вооружениям в министерстве Шпеера! Здесь мы обнаружим те же группы и тех же лиц, которые господствовали и в важнейших имперских объединениях в сфере деятельности министерства Функа: Альфреда Круппа, Эрнста Пенсгена из «Ферейнигте штальверке», Пауля Плейгера из «Герман Геринг-верке», Вильгельма Цангена из концерна Маннесмана и Германа Рехлинга.
Следовательно, так называемое «тотальное руководство хозяйством» в рамках так называемой «экономики тотальной войны» и в условиях так называемой «свободы предпринимательской инициативы» осуществлялось маленькой группой магнатов тяжелой промышленности в союзе с некоторыми ведущими концернами других отраслей, например фирмой Сименса в электротехнической промышленности (Сименс, между прочим, был представлен также в концернах Маннесмана и «Ферейнигте штальверке») и «ИГ Фарбениндустри» в химической промышленности. По сравнению с периодом, предшествовавшим 1942 году, круг «всемогущих» сузился, хотя в него вошел представитель нацистского треста. Власть отдельных лиц, принадлежавших к этому кругу, особенно усиливалась тем, что они были облечены государственными полномочиями.
Раньше печать, зависимая от крупнейших предпринимателей и находившаяся в сфере их влияния, по их наущению называла этих магнатов «виртшафтсфюрерами»—вождями хозяйства, чтобы придать больше блеска окружавшему их ореолу «морального и интеллектуального превосходства». Теперь, во время второй мировой войны, они стали виртшафтсфюрерами в непосредственном, истинно нацистском смысле этого слова.
В заключительной главе своего труда «Империализм, как высшая стадия капитализма» В. И. Ленин говорит о четырех главных видах монополий. Это, во-первых, монополия, которая выросла из концентрации производства; во-вторых, монополия, которая привела к усиленному захвату важнейших источников сырья, особенно для каменноугольной и железоделательной промышленности; в-третьих, монополия, которая выросла из банков, превратившихся посредством «личной унии» промышленного и банковского капитала в монополистов финансового капитала; в-четвертых, монополия, которая выросла из колониальной политики.
Сегодня в моем выступлении шла речь только о первых двух главных видах монополий, причем я оперировал лишь немногочисленными примерами, которых, конечно, недостаточно. У меня нет возможности останавливаться на монополиях третьего и четвертого главных видов.
Обобщая изложенное, можно сказать, что во время второй мировой войны германская военная экономика носила государственно-монополистический характер в еще большей мере, чем в первую мировую войну. Мы лишь вкратце показали, что начиная с 1942 года государственно-монополистический характер германского империализма достиг своей высокоразвитой формы, то есть, как заявил профессор Рейхардт в состоявшейся в Советском Союзе дискуссии по ЛЬиге Е. Варги «Изменения в экономике капитализма в итоге второй мировой войны», что не государство направляет экономический процесс, а в действительности крупные монополии направляют государство в соответствии со своими интересами.
Можно было бы привести много примеров, не в последнюю очередь публикуемых в периодической печати, иллюстрирующих предпринимаемые сегодня
200
в Западной Германии попытки морально оправдать монополистический капитал в глазах немецкого народа, изобразить его безгрешным, чтобы дать ему возможность лучше подготовиться к новой войне.
В буржуазной западногерманской литературе мы не видим никакого принципиального отмежевания от фашистской военной политики. Скорее мы наблюдаем стремление указать на воображаемые и действительные ошибки, допущенные в области военной экономики,—указать на них с невысказанной целью лучше провести третью мировую войну. Во-вторых, вина за действительные и вымышленные ошибки взмаливается на нацистов, при этом на как можно меньшее число нацистов, а охотнее всего—на одного только Гитлера. Подобно тому как реабилитируются генералы Гитлера, в весьма светлых красках изображаются «испытанные», «теоретически подготовленные», «обладающие профессиональным опытом» капитаны индустрии.
Тот факт, что именно монополистический капитал привел к власти Гитлера, замалчивается, как замалчивается и другой факт, а именно, что немецкие предприниматели активно участвовали в подготовке войны, что именно этой цели служила их деятельность в соответствующих совещательных органах. Подобным же образом мы видим стремление создать впечатление, будто войну можно было бы выиграть, если бы, мол, до 1942 года предприниматели не пользовались столь большим влиянием.
Нам еще предстоит многое сделать для конкретного разоблачения германских монополистов и их пособников. Эта работа имеет огромную важность для борьбы против западногерманского милитаризма, против рейнско-рурских поджигателей войны.
В то же время наша задача заключается и в дальнейшем развитии и укреплении демократического и социалистического сознания населения Германской Демократической Республики. В своей повседневной работе мы слишком легко позволяем оттеснить себя на оборонительные позиции—когда, например, подчас мы ставим в центр наших дискуссий проблему свободы, то попадается на удочку идеологического плутовства так называемого «свободного мира».
Наоборот, мы должны были бы постоянно сознавать, что свобода— это функция классовой борьбы. В центр дискуссии мы должны ставить вопрос: где кто господствует. В Западной Германии господствуют те самые силы, которые дважды на протяжении нашего столетия ввергли в пожар войны Европу и весь мир, а наш народ толкнули к национальным катастрофам, из которых одна была хуже другой. У нас, в Германской Демократической Республике, господствуют те силы, которые всегда вели борьбу против милитаристов, против капиталистических поджигателей войны и военных преступников. В нас жив дух Вильгельма Либкнехта и Августа Бебеля, которые в 1870—1871 годах мужественно выступили против антифранцуз-ского шовинизма. В нас жив дух Карла Либкнехта, до последнего вздоха восстававшего против дьявольского союза капиталистов и милитаристов; в нас жив дух пролетариев, боровшихся в рядах Сопротивления против разбойничьей фашистской войны.
Здесь, в Германской Демократической Республике, мы свободны, от военных провокаторов, от поджигателей войны; мы свободны для борьбы за справедливый и гуманный общественный строй, свободны для социализма, свободны для борьбы за длительный мир\
Дъёрдъ Ранки
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ВЕНГРИИ НА СЛУЖБЕ ГЕРМАНСКОЙ ВОЕННОЙ ЭКОНОМИКИ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ1
После захвата власти в Германии фашизмом в 1933 году германская экономическая политика была поставлена на службу подготовке новой империалистической войны. Эта экономическая политика принесла с собой значительное увеличение производственных мощностей, в первую очередь, разумеется, в военной промышленности, и, кроме того, экономическую автаркию. Важными элементами последней были быстрое развитие в Германии сельскохозяйственного производства и накопление значительных запасов сельскохозяйственного и промышленного сырья. Осуществление этих мероприятий находилось в органической связи с внешнеторговой политикой Германии, политикой, подвергшейся изменениям уже в начале 30-х годов.
Важной составной частью германских военных приготовлений было создание соответствующего хинтерланда для германской военной экономики в странах Юго-Восточной Европы. По многим причинам государства Юго-Восточной Европы были сочтены подходящими для этой роли. Данный район издавна представлял собой сферу интересов германского империализма, который, несмотря на то, что его сильно потеснили в 20-х годах, все еще располагал здесь многочисленными позициями в экономике. Малые государства Юго-Восточной Европы представлялись ему весьма подходящими для его целей уже в силу своего географического положения, поскольку даже в случае длительной морской блокады возможность использования экономических ресурсов этих стран в ходе планируемой войны казалась обеспеченной прежде всего потому, что на них можно было сравнительно легко оказывать политическое, военное или экономическое давление. Страны Юго-Восточной Европы были по большей части аграрными странами, в них имеется также исключительно важное стратегическое сырье: бокситы в Венгрии, нефть в Румынии, различные цветные металлы в Югославии, причем в виду своей отсталости в производстве многих видов промышленной продукции они сильно зависели от импорта. Поэтому с точки зрения германского финансового капитала их можно было рассматривать как органический привесок к немецко фашистской военной экономике. Германия, платежный баланс которой был неблагоприятен, а золотой и валютный запасы незначительны, отказалась от системы многосторонней торговли и добивалась заключения двусторонних торговых соглашений. Поскольку упомянутые страны боролись с подобными же валютными трудностями, они тоже были склонны заключать клиринговые соглашения.
Процесс расширения германского «жизненного пространства», начавшийся еще в начале 30-х годов, вне всякого сомнения, значительно усилился после Мюнхенского соглашения и после того, как была развязана вторая мировая война. Политическое значение мюнхенского сговора состояло в том, что фашистская Германия получила свободу рук на Востоке, что, между прочим, означало и молчаливое представление в ее распоряжение
1 Данный реферат основан на труде, принадлежащем И. Беренду и Д. Ранки под тем же названием.
202
Восточной Европы. То обстоятельство, что в результате поглощения Австрии и Чехословакии германский империализм смог значительно усилить свои экономические и политические позиции в странах Юго-Восточной Европы, разумеется, сыграло решающую роль для его экспансии. В соответствии с изменившейся ситуацией гитлеровская Германия в 1939 году начала широкое экономическое наступление на страны Юго-Восточной Европы. Юго-Восточной Европе, согласно теории великого хозяйственного пространства, откровенно была зуотована роль продовольственной и сырьевой базы Германии. Германские империалисты намеревались # соответствии со своими планами целиком покрывать за счет этого района свои потребности в продовольствии и сырье. Вопрос заключался, следовательно, не в том, какую часть избытка сельскохозяйственной продукции этих стран могла бы получить Германия, а в том, в какой форме и насколько они вообще в состоянии покрывать ее потребности. Цель фашистского германского государства состояла в том, чтобы любыми средствами добиться увеличения импорта сельскохозяйственных продуктов при неизменных ценах. Особенно усиленное наступление велось против Румынии и Югославии, так как в то время эти страны еще не находились в сфере непосредственного политического влияния Германии. В Венгрии эта цель была достигнута с меньшей затратой сил, так как из стран Юго-Восточной Европы она уже на протяжении многих лет поддерживала с Германией самые тесные экономические и—в еще большей степени—политические отношения.
В начале 1939 года германское правительство направило венгерским властям меморандум, в котором были в общих чертах определены место и роль Венгрии в германских планах. Первая часть меморандума посвящалась венгерскому сельскому хозяйству. Суть германских требований излагалась там следующим образом: «Венгерское сельское хозяйство должно в большей мере, чем до сих пор, приспособиться к потребностям германского рынка».
Под большим приспособлением к потребностям германского рынка имелось в виду, что венгерское сельское хозяйство должно особенно увеличить производство тех продуктов, в которых нуждалась военная экономика Германии, в частности масличных культур, пшеницы, жиров и кормовых культур. Германия была бы склонна потреблять весь венгерский экспорт этих товаров. Одновременно указывалось на то, что Венгрия лишь тогда получит возможность расширить экспорт сельскохозяйственной продукции (а в его расширении были в высшей степени заинтересованы венгерские средние и крупные землевладельцы), когда германские монополисты в свою очередь смогут увеличить вывоз в Венгрию своих промышленных изделий. Беэ всяких обиняков заявлялось, что параллельно с расширением экспорта продуктов сельского хозяйства «...при любых переговорах надлежит поставить на первое место необходимость увеличения направляемого в Венгрию германского импорта». В интересах увеличения импорта промышленных товаров выдвигалось даже требование «перестроить всю венгерскую импортную политику», что означало отмену системы протекционистских тарифов и импортных ограничений. Это было бы равносильно безоговорочному подчинению венгерской промышленности интересам немецкого финансового капитала. Во второй части меморандума содержались экстраординарные «предложения» относительно венгерской промышленности. Многозначительно уже название этой главы меморандума: «Приспособление венгерского промышленного производства к нуждам германского экспорта». Под учетом интересов германского экспорта подразумевалось следующее. Поскольку ввоз в Венгрию немецких промышленных изделий имеет большое значение, то для Венгрии, говорилось в меморандуме, представляется наиболее целесообразным развивать сельскохозяйственное производство, что не противоречило бы также и интересам германского импорта. В своем вмешательстве во внутренние дела Венгрии нацисты заходили так далеко, что наряду с предъявлением таможенных и других требований настаивали на отмене
203
налоговых и кредитных льгот, предоставленных венгерским предприятиям, поскольку—о чем прямо заявлялось—эти льготы создают трудности для немецкой конкуренции на венгерском рынке1.
1 сентября 1939 года гитлеровская Германия, совершив нападение на Польшу, развязала вторую мировую войну. После первоначальных военных успехов в Польше, а позднее и в Западной Европе притязания немецко-фашистского государства и давление с его стороны возросли. Когда началась война, нацистские руководящие круги, опиравшиеся на своих верных вассалов, стали все настойчивее добиваться осуществления своих планов в отношении Венгрии. В ходе проведенных в 1940 году торговых переговоров ясно проявилось выше упомянутое изменение в немецкой позиции. Уже тогда германские монополисты объявили, что они не выполнят своих обязательств о поставках ряда важных товаров. В то же время венгерский экспорт должен быть доведен до максимума! На этот раз была открыто провозглашена неоднократно подтвержденная на протяжении последующих лет программа полного разграбления Венгрии: «Обе страны, одна из которых ведет борьбу не на жизнь, а на смерть, другая же не участвует в войне, должны помогать друг другу всем тем, что одна может дать другой без поддержания в данный момент полного равновесия поставок,—так, как это принято между друзьями. Каждый доводит до крайнего предела свои возможности, имея в виду, что партнер возместит полученную помощь, когда его положение станет более легким1 2».
Понятно, что агрессивные действия против Венгрии представляли собой органическую составную часть экспансии, направленной против всех стран Юго-Восточной Европы и сказавшейся уже в период подготовки войны. Когда война была развязана, для Германии возникла настоятельная потребность в полном осуществлении своих замыслов. С этой целью весной 1940 года было призвано к жизни сообщество стран Юго-Восточной Европы. Венгерский посланник в Берлине констатировал в своем донесении, что в связи с началом морской блокады германские экономические круги принимают усиленные меры по дальнейшему развитию экономических связей со странами Юго-Восточной Европы.
Давление, оказываемое на Венгрию с целью заставить ее увеличить объем экспорта сельскохозяйственных продуктов, было усилено в еще большей мере. Осенью 1940 года было заключено так называемое соглашение Юрчека—Морица. Им устанавливались размеры, в каких Венгрия должна расширить посевные площади под масличными и кормовыми культурами; одновременно соглашение предусматривало увеличение экспорта в Германию.
Положение в области промышленности определялось прежде всего тем, что в то время не велось каких-либо значительных военных операций на суше. Военное производство в Германии не расширялось3, часть огромных производственных мощностей германской тяжелой индустрии освободилась от загрузки. Вследствие этого германский финансовый капитал стремился расширить рынки, увеличить вывоз готовых изделий и таким путем обеспечить полную занятость. Завоевательные и экономические экспансионистские устремления Германии, ощущавшиеся и раньше, проявились теперь в еще большей степени. Одновременно германский фашизм усилил политический нажим, который после покорения Юго-Восточной Европы особенно угрожал Венгрии, поскольку внутри страны для этого имелась значительная опора. Выражая тенденции, которые проявлялись и раньше, германский фашизм облек свои возросшие претензии в откровенную до цинизма форму. Весной 1941 года временный поверенный в делах Венгрии в Берлине Сентмиклоши в секретном донесении, Заправленном венгерскому премьер-министру Бар-доши, подробно сообщал о том, что в связи с политикой «нового порядка» в Европе немцы в официозном органе министерства иностранных дел совер
1 «Zentralwirtschaftsarchiv». Ungarische Nationalbank 7/1940.
2 «Landesarchiv». AuBenministerium, Wirtschaftspolitisclie Section, 1940, 12. Res.
3 «Die deutsche Industrie im Kriege 1939—1945», Berlin, 1954.
204
шенно открыто и ясно сформулировали принципы своей экономической политики. Они недвусмысленно заявили, говорилось в донесении, что страны юго-востока Европы «должны приспосабливаться к своим естественным условиям» и что индустриализация «противоречит аграрному характеру этих стран». Излагая колонизаторские планы, орган германского министерства иностранных дел с циничной откровенностью писал: «Одновременно с политической ревизией страны Юго-Восточной Европы должны и в экономическом отношении приспособиться к требованиям континентальной экономики [то есть германского финансового капитала]. Их сельскохозяйственное производство будет регулироваться в соответствии с потребностями других частей континента. Главными культурами сельского хозяйства являются зерновые и масличные; дополнительно должны возделываться и другие технические культуры. Могла бы получить развитие также связанная с этим промышленность по переработке сельскохозяйственного сырья... Добыча сырья [имеются в виду нефть, руда и легкие металлы] будет дополнена местной промышленностью, использующей ресурсы гидроэнергии и перерабатывающей сырье в полуфабрикаты» (отныне об этом было объявлено в гораздо более повелительном тоне, чем в 1938 и 1939 годах). В заключение поверенный в делах Сентмиклоши обратил внимание на следующие моменты: «В отношении промышленности мы исходя из венгерской точки зрения можем ожидать, что Германия выявит устремления троякого рода, которые проявлялись и до сих пор, хотя и в меньшей степени: при создании и развитии промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственное сырье, немцы добиваются «направляемого сотрудничества», что означало бы, что они посредством постоянного вмешательства со своей стороны придали бы развитию в этой области формы, соответствующие потребностям германского рынка. Что касается существующих отраслей промышленности, то здесь, напротив, можно отметить стремление германской стороны включить их в сферу германских интересов. И, наконец, будет всеми средствами тормозиться возникновение предприятий, которые с немецкой точки зрения являлись бы неудобными; полезными же будут считаться предприятия, основанные немецким капиталом или по крайней мере с его участием»1.
В данный период все усиливавшиеся экспансионистские устремления Германии проявлялись уже отнюдь не только в форме заявлений о принципах. Усилия были направлены на то, чтобы в результате конкуренции, еще более ожесточенной, чем до сих пор, уничтожить предприятия, которые с точки зрения немцев не приносили выгоды и даже являлись помехой, либо воспрепятствовать дальнейшему расширению производственной мощности таких предприятий. В соответствии с этим в течение 1940 года экспорт германских товаров в Венгрию был значительно увеличен. Господствующим экономическим кругам Германии, ссылавшимся на венгерские, а также германские территориальные приобретения, во многих случаях удалось добиться существенного расширения контингента ввозимых Венгрии товаров. Так, контингент товаров, ввозимых Германией, был расширен уже в январе 1940 года под тем предлогом, что Венгрия воссоединила Прикарпатье и что Германия также увеличила свою территорию. Через несколько месяцев, в июле 1940 года, был заключен договор, предусматривавший дальнейшее увеличение германского импорта в следующем хозяйственном году. 15 сентября 1940 года Венгрии было предъявлено новое требование о расширении импорта из Германии со ссылкой на воссоединение Венгрии с Северной Трансильванией, а позднее, в 1941 году,—еще одно по случаю присоединения областей, примыкающих к Венгрии с Юга; оба эти требования были удовлетворены. Таким образом, в течение одного только года и без того значительный импорт немецких товаров возрос на 35 процентов. Впервые на протяжении многих лет баланс германо-венгерской торговли вновь стал пассив
1 «Landesarchiv», Ibid., 466/1941. Res.
205
ным1. Этому способствовало также то обстоятельство, что в соответствии с требованием Германии был повышен обменный курс германской марки.
Помимо перенесения острой конкурентной борьбы на внутренний рынок, на котором германский финансовый капитал применял все средства—от продажи товаров по бросовым ценам до промышленного шпионажа,—германский финансовый капитал со все большей силой выступал против венгерских предпринимателей, прежде всего против венгерской тяжелой промышленности, также и на Балканах. Оказывая политическое давление и прибегая к демпинговым ценам, он стремился заполучить в собственные руки балканские экспортные рынки венгерской промышленности.
Но было бы неправильно на основании этого делать вывод, что в 1939 и 1940 годах германским монополистам удалось добиться снижения уровня промышленного производства Венгрии. Высокая военная конъюнктура открыла и перед венгерской промышленностью постоянно растущие возможности расширения производства, причем увеличивавшийся германский экспорт был лишь незначительной помехой. Хотя уже до 1941 года более или менее удалось поставить на службу интересам германской военной экономики некоторые отрасли венгерского хозяйства—сельскохозяйственное производство, добычу сырья,—все же сильный финансовый капитал Венгрии, несмотря на большое давление, мог и дальше сохранять свои позиции в тех отраслях промышленности, которые не были непосредственно связаны с германскими военно-экономическими интересами.
22 июня 1941 года, после завоевания большей части Европы, когда вся экономика порабощенных стран была поставлена на службу военно-экономическим интересам Германии, гитлеровские войска вероломно вторглись в Советский Союз. Хортистская Венгрия вскоре присоединилась к этому разбойничьему походу.
Еще до того как была развязана война против Советского Союза, военное командование Германии сознавало, что этот шаг потребует от германской военной машины и экономики такого напряжения сил, которое превосходит все, имевшее место ранее. Именно поэтому уже в период подготовки к войне эксплуатировались все отрасли экономики порабощенных стран и вассальных государств. Так, по сравнению с более ранним периодом был прежде всего увеличен вывоз сырья и продовольствия. Во время германо-венгерских экономических переговоров в июле 1941 года вешерская делегация приняла на себя обязательство о том, что Венгрия обеспечит для Германии 50 процентов «излишков пшеницы и ржи»—50 процентов того количества, которое оставалось после покрытия скудных рационов. Кроме того, венгерское правительство обязалось до окончания войны экспортировать излишки сельскохозяйственного производства вновь присоединенных областей, примыкающих к Венгрии с юга. Согласно договору, Венгрии разрешалось покрывать за счет этих областей только собственные потребности в растительном масле и конопле, и то лишь в размерах, соответствовавших прежнему импорту из Югославии. Помимо излишков зерна, в Германию должны были вывозиться все излишки масличных семян и 80 процентов излишков кукурузы. Для обеспечения больших количеств «излишков» 15 августа, через несколько недель после окончания переговоров, было издано распоряжение, регулирующее помол. Распоряжение предусматривало получение при помоле высокого процента муки и предписывало экономное ведение мукомольного хозяйства. Этим дело не ограничилось. Вскоре последовало другое, еще более жесткое «распоряжение об экономии». 6 сентября в Будапеште и его окрестностях была введена карточная система на муку и хлеб, что в первую очередь ущемляло жизненные игЯересы широких рабочих масс.^Рацион устанавливался в 2 килограмма муки в месяц и в 250 граммов хлеба в день.
1 Magyar Gydripar (-Ungarische Fabrikindustrie). Folge 1940, Nr. 12 Statisztikai Evko- • nyv (-Stalistisches Jahrbuch).
206
В области животноводства Венгрия обязалась ежегодно вывозить 56 тысяч голов крупного рогатого скота и столько же овец. В ответ на предложение венгерской делегации о поставках 100 тысяч свиней германское правительство потребовало 175 тысяч1.
По прсшествии нескольких месяцев, когда немецким войскам было нанесено поражение под Москвой, стало, однако, ясно, что планы молниеносной войны сорваны и фашистским захватчикам предстоят тяжелые, длительные бои. Это обстоятельство ставило германскую экономику перед все большими трудностями, с которыми она уже не м^Гла справиться. По мере роста трудностей, возникавших перед Германией, бремя, лежавшее на порабощенных странах и вассальных государствах, тоже становилось тяжелее. Пресс, при помощи которого из этих стран выжимали все больше и больше, завинчивался туже. В декабре 1941 года Риббентроп вызвал к себе венгерского премьер-министра Бардоши и с недвусмысленной прямотой потребовал дальнейшего увеличения экспорта. В своих доверительных записях Бардоши так рассказывает о переговорах с Риббентропом: «Сославшись на то, что теперь они вынуждены максимально напрягать силы, Риббентроп заявил, что, как он должен признать, им требуется все, чтобы быть в состоянии успешно довести до конца нынешнюю гигантскую схватку. Он откровенно сказал мне, что прежде всего требуются нефть и зерно! Он просит нас предпринять все в этом отпсшении. Ведь мы, сказал он, сами должны видеть, что в разверну! шейся сейчас борьбе они приносят наибольшие жертвы и все те, кто располагает резервами, которыми можно поступиться, должны поспешить на помощь Германской империи...» Уже два дня спустя начались конкретные переговоры об увеличении экспорта. С германской стороны их вели Кло-диус и Мориц, с венгерской—статс-секретарь министерства снабжения Иштван Лошонци. В ходе этих переговоров нацистское правительство уже не довольствовалось так называемыми «излишками», а требовало дальнейших жертв. Здесь было с грубой откровенностью сформулировано, что именно имел в виду Риббентроп, говоря о «резервах, которыми можно поступиться»: нам нечего ссылаться на то, что у нас в этом или в будущем году ве предвидится излишков; ограничивая в известной мере снабжение своей страны, мы должны прежде всего поспешить к ним на помощь1 2. В донесении венгерского посланника в Берлине Дёме Стояи об этих переговорах говорилось:
«Лошонци обещал, что он учтет и это. Именно для того, заявил он, чтобы удовлетворить подобные запросы, венгерское правительство намерено ввести дальнейшие ограничения и рационирование»3. В соответствии с этим в феврале 1942 года и в последующие месяцы ежедневный хлебный паек был уменьшен до 200 граммов, а ежемесячный рацион муки—до 1,6 килограмма. Летом 1942 года были введены дальнейшие ограничения и хлебный паек был снижен до 150 граммов. Безоговорочное подчинение венгерской экономики германскому фашизму поставило в очень тяжелое положение рабочих и всех трудящихся Венгрии. Из всех европейских стран население Венгрии снабжалось хуже других. Если в Германии весной 1942 года дневная норма хлеба составляла все еще 286 граммов, месячный паек сахара равнялся 1012 и жиров—927 граммам, то в Венгрии выдавалось лишь 200 граммов хлеба в день, сахара—600 граммов и жиров 720 граммов в месяц4.
Наряду с требованиями об увеличении экспорта зерна, мяса, жиров и других продуктов сельского хозяйства немецкие фашисты предъявляли непомерные и все время возраставшие требования также и в отношении вывоза из Венгрии жизненно важного сырья для военной промышленности, в первую очередь нефти и бокситов. Еще во время переговоров, состоявшихся
1 «Landesarchiv», Ibid., Vertrauliches Protokoll Nr. 21 der deutsch-ungariscben Wirt-schaftsverhandlungen.
2 «Landesarchiv», Ibid., Res. 996, 10.12.1941.
3 Ibid., Res., 1006. 12.12.1941.
4 Lagebericht Nr. 50 des Ungarischen Wirtschaftsinstitutes, S. 111.
207
в июле 1941 года, венгерская делегация обязалась в больших количествах экспортировать упомянутое сырье. В соответствии с соглашением Венгрия должна была экспортировать в следующем году 830 тысяч тонн бокситов. В действительности же в 1942 году было вывезено 865 тысяч тонн бокситов при общей добыче 988 547 тонн. 1 августа 1942 года венгерское правительство на основе межгосударственного соглашения обязалось ежегодно вывозить 1 миллион тонн бокситов. В то время общая добыча еще не достигла этого уровня, и лишь в 1943 году она составила количество, запланированное для экспорта. В 1943 году в Германию были вывезены почти все добытые бокситы, но и этого уже не хватало. В 1943 году было заключено соглашение, в котором предусматривалось дальнейшее увеличение добычи бокситов в 1943/44 хозяйственном году до 1,5 миллиона тонн и в 1944/45 хозяйственном году—до 2 миллионов тонн, с тем что все это количество тут же будет вывезено в Германию1.
В такой же мере германские капиталисты претендовали на все большую часть венгерских запасов нефти. Добыча нефти в Венгрии была начата лишь в 1937 году, то есть незадолго до войны.Созданное с участием американского капитала Венгерско-Американское нефтяное акционерное общество (МАОРТ) в военные годы существенно увеличило производство,чтобы помогать снабжению вермахта. Большая часть растущей из года в год добычи шла в Германию. В 1937 году было получено едва ли больше 2 тысяч тонн нефти, и даже в 1938 году нефтедобыча составляла лишь примерно 43 тысячи тонн. В годы войны добыча резко повысилась. В 1939 году было добыто 143 тысячи тонн, в 1941—422 тысячи и в 1943—уже 842 тысячи тонн нефти. На секретном совещании, состоявшемся в 1942 году, министр промышленности заявил: «При таком уровне добычи уже вполне можно было бы покрывать всю внутреннюю потребность, притом без ограничений. В основе ограничений лежат военные нужды и то, что мы, руководствуясь общими целями войны, вывозим в Германию и Италию значительные количества переработанной сырой нефти и даже неочищенную сырую нефть»1 2. Например, в конце 1941 года, для того чтобы отправить в Германию внеочередной транспорт нефти (80 тысяч тонн), пришлось поставить на прикол весь частный автотранспорт. Когда во время упомянутых выше переговоров с Риббентропом Бардоши сказал ему об этом, «Риббентроп взял записку, взглянул на нее и заметил, что немцы действительно недавно получили от нас 80 тысяч тонн нефти и очень благодарны нам за это. Но, по его мнению, это количество можно было бы увеличить до 120 тысяч тонн»3. В 1942 году в Германию было вывезено примерно 300 тысяч тонн нефти, по преимуществу очищенной, в 1944 году—400 тысяч тонн. Это составляло приблизительно половину всей венгерской нефтедобычи4.
Таким образом, основные отрасли сырьевой промышленности были в большой мере заняты выполнением немецких заказов. Расширенный вывоз продовольствия и сельскохозяйственного, а также промышленного сырья полностью отвечал давнему стремлению немцев низвести Венгрию до уровня сырьевой базы. В этом отношении война принесла с собой изменения лишь постольку, поскольку требования Германии в огромных размерах возросли количественно и вывоз увеличился до крайних пределов возможного. Но теперь война против Советского Союза требовала от фашистской Германии непосильного напряжения. Уже было не достаточно целиком поставить на службу германской военной машине экономические ресурсы оккупированных территорий Европы. Гитлеровская Германия была вынуждена
1 «Landesarchiv», Ibid., Material des Ausschusses fiir Friedansvorbereitung II/2— 28/13 und 1/1—3/1—24/2!).
! «Landesarchiv», Ibid., Parlamentakten. Protokoll des 42-er Ausschusses 19.10. 1942. XXX, S. 349.
3 «Landesarchiv», Ibid, Res. 996, 10.12.1941.
4 Ibid., Paket 706. Vertrauliches Protokoll Nr. 25 fiber die deutsch-ungarischen Be-sprechungen, S. 71—73.
208
предпринять дальнейшие шаги по расширению находившихся в ее распоряжении производственных мощностей. В этой связи для нее оказалось необходимым привлечь к снабжению германской армии промышленной продукцией также и промышленность Венгрии. Новое явление военного периода заключалось прежде всего в том, что, хотя Германия неизменно и даже в еще большей мере, чем раньше, стремилась к тотальному колониальному подчинению Венгрии в экономическом отношении и по существу не отказалась от своих прежних Кланов, касающихся перспектив экономики этой страны в дальнейшем, она была вынуждена—по крайней мере до тех пор, пока идет война,—терпеть и поощрять определенное развитие венгерской промышленности, в первую очередь военной. Это относится и к таким отраслям промышленности, развитию которых германские империалисты прежде стремились всячески мешать, поскольку оно создавало конкуренцию их собственному производству. В одном из своих донесений венгерский посланник в Берлине Стояи писал в этой связи, что в результате войны против Советского Союза «экономический и политический центр тяжести перемещается с Юго-Востока на Восток и, возможно, давление на Юго-Восток будет не столь интенсивным. Подтверждение этого тезиса я усматриваю также в том, что теперь имеет место отказ от провозглашенных в прошлом в отношении нас принципов экономической политики, согласно которым Юго-Востоку надлежало снижать промышленную продукцию и ориентироваться более на чисто сельскохозяйственное производство, и немцы—по крайней мере временно— довольствуются контролем над промышленным производством Центральной и Юго-Восточной Европы»1.
После развязывания войны против СССР германское военное командование изменило тактику и стало предоставлять венгерской промышленности крупные заказы. Летом 1942 года между Германией и Венгрией начались переговоры по вопросам промышленности, в ходе которых немецкая комиссия произвела обследование, чтобы выяснить, какие производственные мощности может использовать Венгрия для обеспечения потребностей германской армии1 2. Во время переговоров венгерская сторона заявила: «Мы охотно предоставим для покрытия потребностей вермахта мощности, которые освободились до сих пор и освободятся в будущем. Венгрия [эта мысль даже вновь повторяется] предоставляет значительную часть своих производственных мощностей Германской империи»3. Была достигнута также следующая договоренность: «Любая новая производственная мощность, которую Венгрия в ближайшем будущем сможет расширить с немецкой помощью, отныне и навсегда должна быть на 70 процентов предоставлена для выполнения поставок в Германию». Одновременно для поставок германской армии должны были на 80 процентов использоваться уже имевшиеся мощности по производству оружия, на 50 процентов—мощности Государственных венгерских металлургических, сталелитейных и машиностроительных заводов (МАВАГ) по производству артиллерийских орудий и боеприпасов, па 60—90 процентов—мощности вновь выстроенных военных заводов4.
Важной формой использования венгерской военной промышленности была система оплачиваемых работ для германской армии.
Дело в том, что предприятия германской армии размещали на венгерских заводах крупные оплачиваемые заказы и часто предоставляли необходимые для выполнения платных работ патенты и чертежи. Система оплачиваемых военных работ расширялась поэтапно. Сначала она главным образом служила обеспечению немецких сухопутных войск легким стрелковым оружием и боеприпасами. Пока не была развязана война против Советского Союза, немецкие фашисты, однако, не столь сильно нуждались в разме
1 «Landesarehiv», Res. 751. 1941.
2 «Zentralwirlschaflsarchiv», Weiss, Manfred, Munitionsfabiik 85, MAVAG 3467 (Res.— 1941. «Allgemeine Korrespondenz». Aufzeichung fiber die Sitzung vom 25. August 1941.
3 «Landesarehiv, Ihid., Res. 402/1941—3—39.
1 Ibid., Material des Ausschusses fur Friedensvorbereitung, 1/1—12—13/28.
14 Заказ № 1220
209
щении оплачиваемых заказов и почти не использовали в этих целях венгерскую промышленность. До 30 сентября 1941 года по их поручению были выполнены платные работы стоимостью лишь в 130 миллионов пенгё. Но с середины 1941 года немецкое военное командование стремилось расширить систему оплачиваемых работ, на что охотно шли и венгерские капиталисты. Оно добилось отмены системы обязательных разрешений Совета министров. Был установлен довольно значительный максимум в 580 миллионов пенгё, который с июля 1943 года был увеличен до 660 миллионов, а в мае 1944 года повышен до 825 миллионов пенгё1.
Для контроля над выполнением венгерской промышленностью оплачиваемых работ немецкий финансовый капитал и германское военное командование создали специальную комиссию—так называемую Германскую промышленную комиссию в Венгрии (ДИКО). Под предлогом контроля над платными работами ДИКО в официальном порядке осуществляла надзор за всей венгерской промышленностью, так как работы этого рода затрагивали всю военную промышленность страны. Сфера деятельности ДИКО выходила далеко за рамки контроля над оплачиваемыми работами. Тем самым система оплачиваемых работ—хотя она и гарантировала венгерским капиталистам огромные прибыли и таким образом делала для них возможным некоторое расширение предприятий—в конечном счете вела к усилению экономического подчинения Венгрии, ставя ее в еще большую зависимость от немецкого финансового капитала. Это проявлялось не только в немецком контроле над промышленностью, но и в том, что в результате системы оплачиваемых работ снабжение венгерской промышленности сырьем и оборудованием в большой мере было поставлено в зависимость от германского финансового капитала, поскольку их поставки осуществлялись исключительно в соответствии с интересами немецких монополистов. Германское военное руководство всемерно ограничивало самостоятельное снабжение Венгрии сырьем и низводило венгерскую промышленность главным образом до уровня исполнителя оплачиваемых работ1 2.
Нередко система оплачиваемых работ принимала и такие формы, при которых германские капиталисты вовсе не предоставляли потребное для этих работ сырье, а попросту брали его «взаймы» из венгерских военных резервов. Так было, например, при поставках Государственными венгерскими металлургическими, сталелитейными и машиностроительными заводами, Венгерским оптическим комбинатом и другими фирмами3. Разумеется, подобные «долги» никогда не возвращались; более того, в дальнейшем нередко случалось так, что не вносилась даже плата за выполненную работу. Таким образом, система оплачиваемых работ стала еще одним средством полного разграбления Венгрии, причем она в немалой мере способствовала инфляции, тяжело ударившей в первую очередь по трудящимся массам.
Особо важное место в системе так называемых оплачиваемых работ занимает совместная программа самолетостроения, определенная договором, заключенным в 1941 году.
С этой целью был значительно расширен Венгерский вагоно-и машиностроительный завод и, кроме того, начато серийное производство самолетов «Мессершмит» на заводах Вейса Манфреда и сооруженном германскими империалистами совместно с фирмой Вейс Манфред Дунайском авиационном заводе. В соответствии с программой венгерские заводы должны были ежемесячно выпускать 50 самолетов типов «Мессершмит-109» и «Мессершмит-210», а также 700 авиационных моторов «Даймлер-Бенц». Германская армия должна была получать дне трети этих самолетов и венгерская—одну треть.
В первые месяцы 1944 года упомянутые завод1#достигли запланированного уровня производства, но начиная с лета 1944 года выпуск самолетов и моторов ввиду бомбардировок вновь пришлось ограничить.
1 «Landesarchiv», П/2—28/13.
2 Ibid., Res. 703, 252—1942.
3 Ibid. Res. 400—1941.
210
Тем не менее германской армии было поставлено свыше пятисот самолетов. Впоследствии, после оккупации страны немцами, указанные заводы находились непосредственно под немецким руководством—Винер-Ней-штадт-Флюгцейгверке (ВПФ)1.
Развитие алюминиевой промышленности во время войны тоже отчасти явилось результатом форсированного самолетостроения в соответствии с «совместной» программой. На этом примере вновь видно, как германские монополисты захватывали не только венгерские сырдевые богатства, нои производственные мощности. Уже в 30-х годах германский финансовый капитал настаивал на увеличении в Венгрии добычи бокситов, но одновременно он сопротивлялся тому, чтобы это сырье перерабатывалось внутри страны, и тормозил развитие венгерской алюминиевой промышленности. До войны бокситы перерабатывались только на глиноземном заводе в Мадьяроваре производительностью всего лишь в 10 тысяч тонн и на Чепельском алюминиевом заводе. В годы войны было начато строительство второго глиноземного завода в Айка (20 тысяч тонн) вместе с алюминиевым заводом и одновременно еще одного алюминиевого завода в Фелыпегалла. Но все эти предприятия, вместе взятые, могли переработать лишь малую часть отечественной добычи бокситов. До начала войны против Советского Союза «определенные иностранные промышленные круги обращали наше внимание на то, что венгерские алюминиевые заводы не смогут продержаться...—заявил министр промышленности1 2.—После начала войны против СССР немцы, которые на протяжении ряда лет боролись против сооружения венгерского алюминиевого завода, наоборот, впали в другую крайность». По инициативе немцев в марте 1942 года с целью значительного расширения венгерской алюминиевой промышленности и переработки глиноземного сырья было заключено соглашение о создании Акционерного общества по переработке глиноземного сырья долины Дуная. Предусматривались капиталовложения в размере 70 миллионов пенгёна строительство глиноземного завода годовой мощностью в 60 тысяч тонн и алюминиевого завода при нем. Поскольку в этом нуждалось германское командование, поставки оборудования взяла на себя немецкая фирма «Ферейнигте алюмипиумвсрке». В силу этого германскому капиталу была обеспечена ведущая роль в новом предприятии. Таким образом, были приняты меры к тому, чтобы создаваемая в Венгрии алюминиевая промышленность сразу же оказалась под контролем германского капитала. В соглашении предусматривалось, что расширение венгерской алюминиевой промышленности может быть осуществлено лишь в той мере, в какой это не ставит под угрозу снабжение венгерским сырьем алюминиевой промышленности Германии. Группа венгерских капиталистов, вошедшая в предприятие,— Акционерное общество по переработке глиноземного сырья алюминиевой промышленности—обязалась «всеми доступными средствами стремиться к тому, чтобы потребность Акционерного общества промышленности по переработке глиноземного сырья долины Дуная в боксите ни в количественном, ни в качественном отношении не оказывала влияния на снабжение бокситом немецких глиноземных заводов3. В качестве гарантии этого венгерское правительство взяло обязательство, что «в течение двадцати пяти лет начиная с 1 августа 1942 года в Германию будет разрешен ввоз одного миллиона тонн бокситов, причем не будет взиматься ни таможенная пошлина, ни какой-либо иной сбор»4.
1 «Zentralwirtschaftsarchiv». Urkundensammlung Weiss Manfred, Zentralwirtschaftsarchiv. Ungarische Waggon- und Maschinenfabrik 26., Ibid., Res. 238—1941. Ibid., Material des Ausschusses fiir Friedensvorbereitung 11/2—28/13. Archiv des Instituts fiir Par-teigeschichte, 11/2. Betriebsmaterial. Donau Flugzeugbau A.G. und Zentralwirtschaftsarchiv Ungarische Waggon- und Maschinenfabrik, 122.
2 «Landesarchiv», Ibid., Protokoll der Parlamentsausschusse vom 4. November 1941, V.S. 132.
3 Ibid., Protokoll des 42-er Ausschusses vom 19. Oktober 1942, XXX, S. 416.
* Ibid., Res. 30/1942.
211
14*-
Таким образом, возникло парадоксальное положение, при котором германский финансовый капитал—хотя он и стремился всеми средствами тормозить развитие венгерской промышленности—был вынужден, имея в виду собственные военные интересы, поощрять ее развитие как раз в тот период, когда зависимость Венгрии от фашистской Германии все более возрастала. В этих условиях, когда германская промышленность даже при помощи тотальной мобилизации была не в состоянии удовлетворить собственные военные потребности, военные интересы господствующих классов Германии требовали того, чтобы, по крайней мере временно, подчинение Венгрии происходило не путем полного калечения венгерской промышленности, а скорее путем ее все большего включения в германскую военную машину. Этот процесс отражается и в картине германо-венгерской торговли в военные годы, которая при постоянном количественном увеличении венгерского экспорта показывает в то же время рост удельного веса промышленных изделий в общем объеме экспорта из Венгрии.
Таблица 3
Год Импорт (в млн. пенгё) % но всему импорту Экспорт (в млн. пенгё) % ко всему экспорту
19381 171 40,9 239 45,7
1939 237 48,4 304 50,3
1940 316 52,4 249 49,4
1941 429 58,5 475 61,4
1942 483 51,5 632 54,9
1943 612 53,4 776 60,3
1944 568 70,3 628 73,6
1 Включая Австрию.
Надо отметить, что в действительности объем торговли с Германией был еще большим, так как в приведенных данных не учтен тайный экспорт. Этот тайный экспорт направлялся исключительно в Германию. Его объем может быть оценен в 15 процентов общего объема экспорта.
Структура экспорта в Германию показывает рост вывоза промышленных изделий (в %):
Таблица 4
1940 1941 1942 1943
Сельское хозяйство . . 82,1 76,4 68,9 69,0
Промышленность . . . 17,9 23,6 31,1 31,0
100,0 100,0 100,0 100,0
Приплюсовывание тайного экспорта, который состоял только из военных материалов, еще больше подчеркивает роль промышленности как экспортера.
Подчинение нуждам германской военной экономики наложило свой отпечаток и на структуру венгерской промышленности. Вообще военный характер развития промышленности вызывает в ней структурные изменения. Промышленность перестраивается на выпуск по большей части товаров не первой необходимости, тогда как в отраслях, выпускающих предметы потребления, а также и многих отраслях тяжелой промышленности, изготов-
212
ляющих средства производства, наблюдается спад. Подобные структурные сдвиги быстро и очень отчетливо обнаружились в венгерской промышленности, в которой, поскольку она с самого начала расширялась как составная часть германской военной машины, возникли резкие диспропорции. В капиталистических странах обусловленные войной диспропорции в промышленности возникают в результате одностороннего развития определенных «военных пропорций», происходящего из-за того, что -капиталисты стремятся переориентировать промышленность на всестороннее удовлетворение военных нужд. .«
Вся промышленность Венгрии, считавшейся вассальным государством, рассматривалась как привесок к германской военной промышленности. В силу этого отрасли, призванные удовлетворять некоторые потребности войны, получили в соответствии с требованиями германского командования чрезмерное развитие (как, например, самолетостроение, производство боеприпасов и т. д.). В то же время другие отрасли в соответствии с немецкими интересами [как, например, производство военных транспортных средств и тяжелого вооружения] далеко отстали от тогдашнего уровня военной техники. Колонизаторские устремления Германии еще более усугубили вызванные войной структурные сдвиги в венгерской промышленности, и таким образом, несмотря на значительное развитие тяжелой индустрии, во всей промышленности Венгрии образовались особенно сильные диспропорции.
На том основании, что получили развитие некоторые отрасли тяжелой индустрии, нельзя, конечно, делать вывод, будто германский финансовый капитал отказался от своих прежних планов включения Венгрии в рамки «жизненного пространства» фашистской Германии и низведения ее до уровня страны, поставляющей сырье и продовольствие и располагающей разве только скромной пищевой промышленностью. Германский финансовый капитал и во время войны прилагал все силы к тому, чтобы после ее победного—по его расчетам—завершения воплотить в жизнь этот план.
Такое стремление проявлялось, в частности, в том, что германские монополисты преимущественно поощряли производство тех военных материалов и соглашались на расширение тех военнопромышленных мощностей, применение которых в мирных условиях представлялось менее всего вероятным. В то же время они продолжали всеми средствами препятствовать дальнейшему развитию многочисленных важных отраслей военной промышленности, которые хотя и имели бы огромное значение для увеличения венгерского военного производства, но не представляли существенного интереса для Германии. Эти же самые отрасли могли бы одновременно послужить важной составной частью венгерской мирной экономики. Их развитие способствовало бы росту венгерской индустрии и могло бы повести к ее независимости от заграницы. Но вызванные войной и явившиеся следствием германских колонизаторских устремлений структурные сдвиги служили совсем другой цели—цели удушения промышленности Венгрии.
Итак, обусловленное войной развитие венгерской промышленности находилось в непосредственной связи с военными интересами Германии и было подчинено им. В соответствии с нуждами германской военной экономики дальнейшие перспективы промышленности Венгрии определялись, с одной стороны, большими возможностями развития, с другой же—барьерами, между которыми оставался лишь очень узкий проход. В первую очередь существенный рост промышленности способствовал дальнейшему увеличению экономической мощи венгерского финансового капитала. Но наряду с этим на индустриальном развитии Венгрии во время войны сказалась и противоположная тенденция, проявлявшаяся в форме экспансионистских устремлений германского финансового капитала. Монополистические круги Германии стремились приобретать в экономике новые и новые позиции, причем для достижения этой цели они широко использовали политическую зависимость Венгрии.
213
Характерно и весьма существенно с точки зрения экономической экспансии германского финансового капитала то, что германские индустриальные и банковские круги в очень большой мере использовали в своих корыстных интересах присоединение Венгрией ряда территорий. В аннексированных Венгрией областях они экспроприировали многочисленные акции, с давних пор находившиеся во владении сербов, хорватов и чехов.
Разумеется, германский финансовый капитал не довольствовался приобретением важных позиций в областях, присоединенных к Венгрии. В планах германского империализма вся территория Венгрии была отнесена к германскому «жизненному пространству». Если во время войны германские империалисты и не смогли осуществить свой первоначальный замысел удушения венгерской промышленности, то они, во всяком случае, стремились обеспечить себе все возрастающее влияние на нее. Хотя эти устремления шли, конечно, вразрез с интересами крупных капиталистов Венгрии, последние, вне всякого сомнения, получали все же и известную выгоду, в первую очередь во вновь развившихся отраслях военной промышленности. Дело в том, что германские монополисты, стараясь расширить свое влияние, тоже участвовали в огромных капиталовложениях; часто они даже играли в этом деле ведущую роль. Хотя, как отмечалось выше, все это открывало перед крупнейшими группировками венгерского финансового капитала известные возможности, в сущности это было важным фактором, способствовавшим немецкой экспансии. Так, например, в расширении венгерского самолетостроения наряду с банковской группой Вейс Манфред очень большую роль сыграл также и германский капитал. При сооружении и оборудовании предприятий Дунайского акционерного общества авиационных заводов германскому капиталу принадлежала ведущая роль1.
Подобным же образом по инициативе немцев было основано Венгерское акционерное общество бокситовых рудников. Особенно живой интерес проявила к этому компания «Дюренер металлверке АГ»1 2. Так же на основе соглашения с германским финансовым капиталом было создано Акционерное общество по переработке глиноземного сырья долины Дуная (Dunavolgyi Timfoldgyar Resrvenytarsasag). В нем, кроме групп венгерского финансового капитала и венгерского государства, участвовала также немецкая фирма «Ферейнигте алюминиумверке», которой принадлежало до трети акций. Таким образом, в соответствии с этими соглашениями немцы в основном подчинили своему влиянию большинство крупных предприятий Венгрии3. Германские империалисты стремились наложить свою руку и на венгерскую нефтедобывающую промышленность. Но в соответствии с договором, заключенным до войны, американская компания «Стандард ойл» уже обеспечила свои интересы в этой отрасли. Еще в июле 1941 года немецкий концерн «ИГ Фарбениндустри» изъявил желание вступить с американской фирмой в переговоры о приобретении принадлежавших последней акций МАОРТ (Венгеро-Американское акционерное общество нефтяной промышленности). 13замеп концерн выразил готовность отказаться от своей доли участия в южно-американских предприятиях. «Стандард ойл» склонялась к тому, чтобы пойти на эту сделку. Одпако в конце концов ввиду отрицательной позиции американских властей, обусловленной политическими мотивами, она все же не уступила своих акций4.
Не ограничиваясь попытками приобрести уже существующие нефтедобывающие предприятия, немецкие капиталисты проявляли стремление обеспечить за собой также и те месторождения нефти, которые, как можно было предположить, будут обнаружены впоследствии. Так, еще в августе 1940 года германская компания «Вннтерсхалль АГ» заключила с венгерским правительством договор о разведке нефти и одновременно получила преимуще
1 «Zentralwirlschaftsarchiv». Weiss Manfred, Urkundensammlung. 55. 1048’2.
2 «Landesarchiv», Ibid., II/2.—28/13.
3 Ibid., Res. 30/42.
4 Ibid., Chiffredepeschen vom 22. Juli und 2. August 1941.
214
ственные права на приобретение товаров и концессионные права. Уже в этом договоре предусматривалось, что, в случае если прилегающая к договорному району с юга территория будет присоединена к Венгрии, ее нефтяные ресурсы также будут переданы фирме «Винтерсхалль АГ»1.
Германский финансовый капитал стремился закрепиться также в других отраслях венгерской промышленности или расширить там свои позиции. Он пытался вовлечь в сферу своего влияния важнейшие отрасли экономики, важнейшие предприятия! В одном из своих донесений премьер-министру Венгрии Бардоши Лнгерский посланник в Берлину Стояи сообщал по этому поводу следующее: «Имперская группа промышленности получила указание о разработке детальных предложений относительно участия некоторых отраслей германской промышленности и групп капиталистов в венгерских предприятиях или же в расширении капитала уже существующих предприятий»1 2.
Важнейшим методом экспорта германского капитала с целью расширения сферы его влияния было присвоение части акций венгерских предприятий. Разумеется, венгерские капиталисты не уступали добровольно немецким финансовым акулам свои позиции. Один из способов германской экспансии заключался в том, что при захвате гитлеровским фашизмом европейских стран австрийские, французские и другие паи в венгерских кредитных учреждениях и промышленных предприятиях попадали в руки немцев. Особо важное значение для проникновения немецкого капитала имело то, что в 1941—1942 годах почти 140 тысяч акций Венгерского всеобщего кредитного банка, Magyar Altalanos Hitelbank, держателями которых являлись французские банкиры, было захвачено германским Дрезденским банком. Вместе с захваченными ранее у венских Ротшильдов примерно 20 тысячами акций этот пакет гарантировал Дрезденскому банку более чем 18-процентное участие. Вследствие этого представители немецкого капитала смогли непосредственно войти в состав совета директоров кредитного банка и тем самым оказывать определенное влияние на экономическую жизнь Венгрии. Для немецкого капитала это не только создало возможность участия в развитии новых отраслей промышленности, но и явилось важнейшим шагом на пути финансовой экспансии3.
Кроме того, немецкий капитал стремился приобрести позиции в большинстве крупных предприятий. В этой связи надо, в частности, подчеркнуть, что немцы, как сообщал в 1940 году торговый атташе английской миссии, смогли получить солидный пай в Акционерном обществе электротехнического машиностроительного, вагоно- и судостроительного заводов—«Ганц и К°»— благодаря продаже акций американскими держателями германским фирмам4.
Само собой разумеется, что этим не исчерпываются факты о стремлении германского финансового кадитала приобрести в Венгрии важные предприятия. Так, например, «ИГ Фарбениндустри» предприняла шаги к получению доли в Акционерном обществе химико-фармацевтической фабрики «Кинонн», которая интересовала немецкий концерн главным образом ввиду развернутой ею широкой экспортной деятельности. Летом 1941 года наблюдательный совет этого венгерского предприятия вел переговоры по поводу того, что «...немецкие фабрики и экспортеры уже в течение нескольких недель придерживаются эмбарго на поставки материалов нашему предприятию... Этот запрет на поставки материалов является следствием распоряжения, изданного германским министерством хозяйства... Его можно также поста
1 «Landesarchiv», Res. 41—1942 und «Zentralwirlschaftsarchiv». Korrespondenz des Industriesekretarials der Kommerzialbank. Auslandspressemeldungen.
2 «Landsarchiv», Ibid., Res. 572—1941.
s Zentralwirlschaftsarchiv der Ungarischen Allgemeinen (Kurs-Kredilbank. Sek-retariat-Kreditbank). I. Paket und Metallwaren-, Waffen- und Maschinenfabrik AG. Material von Istvan Rerenyi.
4 «Zentralwirlschaftsarchiv». Ganz-Fahrik. Prolokoll der Priisidialsitzungen. 19. J uni 1940.
215
вить в связь с прежними устремлениями, которые постоянно были направлены к тому, чтобы обеспечить крупным немецким фирмам, в первую очередь «ИГ Фарбениндустри» и «Шерингверке», пай и решающее влияние в обществе «Киноин»1. Чтобы защититься от нажима со стороны немцев, группа капиталистов, возглавлявшая компанию «Киноин», допустила избрание в совет директоров представителей небольшой германской фирмы («Вальтер Гаупт») и домашнего врача Гитлера д-ра Морелля1 2.
Но, несмотря на упорные попытки, германский финансовый капитал не смог добиться сколько-нибудь значительного участия в венгерской промышленности, если не считать ее заново созданных отраслей и присвоения им венгерских акций, находившихся в руках австрийского, чешского, французского и других иностранных держателей. Таким образом, даже во время войны он не имел возможности играть в промышленности Венгрии доминирующую роль. Прежние германские, австрийские и чешские вложения являлись существенной частью позиций германского империализма. По справке для внутреннего пользования, составленной в конце 1942 года крупными банками, немцам принадлежали акции в венгерской промышленности на сумму свыше 200 миллионов пенгё3.
Экономическое развитие Венгрии во время войны во многих отношениях определялось тем, что на первый план безоговорочно выдвигались германские интересы. Как мы видели, развитие промышленности и вызванные войной изменения ее структуры, помимо вывоза огромных количеств сельскохозяйственной продукции и промышленного сырья, в решающей степени определялись целями германского фашизма. Подчинение экономической жизни страны немецким интересам, в какой бы форме оно ни происходило, стало средством разграбления Венгрии. В экономическом отношении подчинение интересам Германии проявилось в форме «чисто внешнеторговых связей». В соответствии с различными торговыми соглашениями германская сторона должна была компенсировать венгерский экспорт товарными поставками или каким-либо другим путем. Эти соглашения уже сами по себе служили средством ограбления страны, так как основывались на неэквивалентном товарообмене. К тому же во время войны курс марки повысился по отношению к пенгё. Кроме того, цены на товары, ввозимые из Германии, были повышены в гораздо больших размерах, чем цены на предметы венгерского экспорта. Все это привело к следующему: в годы войны Венгрия в обмен на равное количество германских импортных товаров была вынуждена экспортировать гораздо больше, чем до войны. Одно уже изменение немецкими фашистами соотношения между экспортными и импортными ценами, которое они произвели к собственной выгоде, в первые же девять месяцев 1941 года имело для Венгрии своим результатом дополнительную нагрузку в 5 миллионов пенгё на каждые 100 миллионов внешнеторгового оборота4. К концу войны сумма этой доплаты значительно возросла; она составляла уже 29 миллионов на каждые 100 миллионов пенгё5.
Применение этого метода вообще характерно—хотя и не в столь ярко
1 «Zentrahvirtschaftsarchiv», Chinoin. Protokoll des Aufsichtsrates vom 21. August 1941.
2 Ibid., vom 21. August 1941 fom April 1944. После оккупации Германией д-р Морелл был назначен заместителем генерального директора.
s «Zentralwirtschaftsarchiv». Material der Kreditbankdirektion. Deutsch-ungarischer Aktientausch. Liste der deutsohen Kapitalbeteiligungen.
4 Bericht des Landesverbandes der Urgarlandischen Fabrikftdustriellen (GyOSZ) worn Jahre 1942. Budapest, 1943, S. 21, 22.
5 Kalla y, Nicholas, Hungarian Premier, a Personal Account of a Nations Struggle in the Second World War, New York, 1954, p. 302. Это подтверждается и другими источниками, оценивающими повышение цеи на венгерские товары к концу 1943 года в 117 процентов, а на немецкие—в 190 процентов.
216
выраженной форме—для экономических и внешнеторговых отношений между более развитыми империалистическими державами и отсталыми, зависимыми странами. В ходе войны торговые отношения подобного рода очень скоро становились средством открытого разграбления Венгрии в широких масштабах. За отправляемые в гитлеровскую Германию товары, составлявшие примерно 60 процентов всего венгерского экспорта, Венгрия получала все меньшую компенсацию, в соответствии с чем постоянно увеличивалась задолженность Ге^ании венгерскому государству.
Значительная^ задолженность германского « государства существовала уже ко времени войны против Советского Союза. Еще в 30-х годах сальдо внешнеторгового баланса было пассивным в общем для Германии, хотя и не очень значительно. Правда, весной 1941 года баланс внешней торговли оказался пассивным для венгерской стороны: по клиринговому счету образовалась задолженность в размере около 30 миллионов, которая была погашена лишь в июне того же года. Вскоре, однако, положение вновь изменилось. В конце концов германское правительство вовсе перестало оплачивать поставки из Венгрии, переложив погашение возрастающего долга на венгерское государство. Выход, найденный на первых порах, состоял в том, что Национальный банк, а также консорциум будапештских финансовых учреждений «одолжили» германской расчетной кассе 300 миллионов пенгё, иными словами, выплатили соответствующую сумму венгерским капиталистам. Но начиная с лета 1942 года германский долг вырос настолько, что для урегулирования этого вопроса потребовались межгосударственные переговоры. Германское правительство проявило привычную для него циничную откровенность, подчеркнув, что в будущем его долг возрастет еще больше, то есть что оно не намерено оплачивать венгерские поставки. Вместо этого оно полностью возложило погашение задолженности на венгерское казначейство. Один из высокопоставленных чиновников германского министерства финансов, Листер, заявил, что большую часть венгерских поставок «...собственно... следовало бы рассматривать как контрибуцию с целью совместного ведения войны, и их подлежащая возвращению стоимость будет занесена в бухгалтерские книги... Урегулирование в связи с суммами, зарегистрированными таким образом, является вопросом, который возникнет и подлежит разрешению лишь после войны»* 1.
Господствующие классы Венгрии рассчитывали на то, что в один прекрасный день эти вложения с лихвой окупятся — частично путем допуска к участию в ограблении порабощенных стран, главным же образом после победного окончания войны, на что они надеялись. В 1942 и 1943 годах германская задолженность продолжала возрастать. Уже в конце 1941 года германская задолженность составляла 140 миллионов марок. В 1942 году она подскочила до 506 миллионов марок, что соответствовало 800 с лишним миллионов пенгё! Насколько велика эта сумма станет ясно, если мы будем иметь в виду, что она почти на 40 процентов превышает потребность венгерского казначейства, покрытую посредством эмиссии! «Германскому казначейству мы предоставляем в кредит на 60 процентов больше, чем венгерскому,— констатировал президент Венгерского национального банка. — Таким образом, это очень большая нагрузка»2. Но к 1943 году и эта огромная сумма удвоилась, составив 1035 миллионов марок!3 А в 1944 году германский долг возрастал еще более высокими темпами. Все это увенчалось оплатой расходов по оккупации нашей родины гитлеровскими войсками в размере почти 2 миллиардов пенгё, которые также шли за счет венгерского народа.
Таким образом, гитлеровская Германия много задолжала Венгрии. Но если до войны страны-должники попадали, как правило, в зависимое поло
1 «Landesarchiv» Ibid., Dossier fiber die deutsch-ungarischen Verhandlungen 1942.
1 «Landesarchiv», Ibid., Protokoll des 42-er Ausschusses vom 8, April 1943, XXXI, S.384.
• «Statistische Rundschau» (Statisztikai Szemle), Jahrfolge 1946, S. 131.
217
жение, эксплуатировались странами-кредиторами, взимавшими с них проценты и т. д., то во время войны обстоятельства во многих случаях изменились. Многие капиталистические страны, бывшие ранее кредиторами, стали теперь должниками и при этом по отношению к тем государствам, кредиторами которых они когда-то выступали. Их задолженность имела, однако, совсем иной характер. Ее возникновение означало лишь то, что ограбление зависимых или колониальных стран приняло новые формы. Задолженность, возникшая в результате неоплаченного вывоза сырья и изделий из этих стран, стала главной формой грабежа. Как мы видели, задолженность Германии по отношению к Венгрии росла из-за того, что в то время немцы во все больших масштабах, причем совершенно бесплатно и безвозмездно, вывозили из Венгрии товары, то есть фашистская Германия продолжала грабить нашу страну еще более открыто и в невиданных прежде масштабах. С полным правом писала тогда выходившая нелегально газета «Сабад неп»: «Гитлеровский фашизм хочет до последней капли высосать нашу кровь, чтобы продлить свою жизнь убийцы»1.
Господствующие классы Венгрии, являвшиеся вассалами германского фашизма, перекладывали огромное бремя, связанное с этой политикой, на плечи трудящихся масс венгерского народа. Неоплаченный германский долг еще более увеличивал и без того большие расходы на войну, которую германский фашизм вел вопреки интересам венгерского народа.
Растущая инфляция, обесценение пенгё снижали реальную заработную плату и были одним из средств перераспределения национального дохода в интересах господствующих классов.
Но на перераспределение национального дохода в большой степени влияло то обстоятельство, что инфляционистская политика проводилась в Венгрии не только с целью перекладывания на трудящихся растущих государственных расходов, но, как мы уже видели, в значительной мере и для покрытия сальдо в марках бесплатного вывоза в Германию.
Задолженность Германии за годы войны составила огромную сумму — 4765 миллионов пенгё. Находящаяся в обращении денежная масса увеличилась в период с 1938 по 1944 год на 11 337 миллионов пенгё. Таким образом, на счет германского долга надо отнести 45 процентов роста обращения!
Как известно, германская задолженность стала играть решающую роль лишь во время войны против Советского Союза. В 1938—1941 годах она еще не играла такой роли. Следовательно, если в те годы рост эмиссии банкнот объясняется исключительно политикой вооружения Венгрии, то в период 1941—1944 годов решающую роль в инфляции, усиливавшейся нарастающими темпами, играл прежде всего германский долг.
Приводимые ниже данные ясно показывают лживость и несостоятельность заявлений, сделанных после войны некоторыми представителями бывших господствующих классов Венгрии и членами венгерского правительства военного периода, о том, что безудержная эмиссия бумажных денег, инфляция, была исключительно следствием давления со стороны немцев и служила только покрытию германского долга. Такие заявления призваны всего-навсего оправдать проводившуюся этими классами антинародную политику1 2. Однако совершенно ясно, что в 1941 —1943 годах, то есть тогда, когда непосредственное истощающее влияние войны на Венгрию было еще не очень значительным, эмиссия без достаточного обеспечения явилась — если не полностью, то в весьма большой степени — следствием предательской политики венгерских вассалов фашистской Германии.
За счет ограбления других государств фашистская Германия покрывала примерно четвертую часть своих военных расходов. К*этим ограбленным
1 Нелегальная газета «Сабад неп» («Az illegdlis Szabad Nep», Szikra, 1954, S. 31).
2 К a 1 1 a y, Nicholas, Op. cit., p. 299.
218
Таблица 5
Годы Прирост обращения Рост германского долга Удельный вес германского долга в приросте обращения (в %)
(в млн. nei нгё в год)
1941 598 326 Л 54
1942 974 558 57
1943 1433 963 67
1944 7789 2918 37
государствам принадлежала и Венгрия. В Венгрии возникло своеобразное положение, при котором перераспределение национального дохода происходило не только к выгоде венгерских господствующих классов, но и в пользу германского финансового капитала. Финансовый капитал Германии экспроприировал часть венгерского национального дохода. Точно так же, как венгерские солдаты истекали кровью не только ради интересов господствующих классов собственной страны, но прежде всего в интересах германского фашизма, связанные с войной лишения и нищета венгерского рабочего класса и всего трудящегося населения служили обогащению не одних лишь венгерских, но и германских капиталистов.
В связи с двойственной политикой правительства Каллаи и предпринятыми им слабыми, половинчатыми попытками выйти из войны германские нацисты при поддержке крайних фашистских элементов внутри страны 19 марта 1944 года оккупировали Венгрию и с согласия хортистской клики поставили у власти марионеточное правительство Стояи. Если и прежде ограбление страны производилось во все больших размерах и становилось все более неприкрытым, то теперь, во время оккупации, германское господство осуществлялось непосредственно и ограбление превратилось в открытый наглый разбой. Для трудящихся германская оккупация означала не только разнузданный террор, но также новое тяжелое материальное бремя, связанное с покрытием оккупационных расходов в 2 миллиарда пенгё, взятым на себя венгерским марионеточным правительством.
С октября 1944 года, когда началось освобождение нашей родины советскими войсками, гитлеровцы вместе со своими салашистскими пособниками принялись вывозить в Германию оборудование заводов и фабрик и разрушать то, что оставалось в стране.
Едва ли можно было найти хотя бы несколько предприятий, не тронутых нацистами.
Низведя страну до уровня последнего из вассалов нацистской Германии и превратив ее в поле сражения, господствующие классы Венгрии обрекли венгерский народ на величайшие страдания и подвергли венгерское народное хозяйство военным опустошениям. Разбойничья война на стороне Германии обошлась Венгрии в 40 процентов национального достояния. Венгерская промышленность понесла тяжелый урон. Заводским сооружениям и машинному оборудованию был нанесен ущерб, оцениваемый примерно в 900 миллионов пенгё (в ценах 1938 года); это означает, что было уничтожено около половины основного капитала венгерской индустрии. Погибло 75 процентов оборудования и примерно 33 процента энергетического оборудования. Было повреждено или уничтожено более половины заводов и фабрик, причем их производственная мощность уменьшилась приблизительно на 46 процентов. Вследствие этого производственная мощность всей промышленности снизилась на 24 процента. Запасы сырья и готовых изделий, находившиеся на заводах, почти полностью были уничтожены, что равнозначно гибели ценностей на сумму свыше миллиарда пенгё. Примерно 20 процентов ущерба
219
причиненного войной промышленности, были непосредственно вызваны разрушениями, произведенными гитлеровцами и салашистами1.
Значительный урон понесло и сельское хозяйство.
Развалины заводов, разграбленные деревни, разрушенная страна — таков был для Венгрии конечный результат германской политики «юго-восточного пространства». Таков был итог политики венгерских господствующих классов, поставивших Венгрию и ее национальную экономику на службу военным интересам Германии.
«Landesarchiv», Ibid., Material des Ausschusses fur Friedensvorbereitung II/2—44/45. Schadenstatistiscbe Datensammlung in der Fabrikindustrie dursbgefuhrt vom Statistischen Amt in Sommer 1945 (und Kozgazdasdgi Szemle), «Volkswirtschaftliche Rundschau», 1954, Nr. 3, S. 360.
Карл Диттмар
О МЕТОДАХ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОЛДАТ ВЕРМАХТА. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕЖНИХ И ПРИМЕНЕНИИ НОВЫХ МЕТОДОВ ПРИ СОЗДАНИИ БУНДЕСВЕРА
Одно из мнений, широко распространяемых немецкими милитаристами, состоит в том, что они во время восточного похода с чисто военной точки зрения были якобы на должной высоте. В военном деле, как полагают они, мало что нужно учить заново. «Но тем более заботит нас моральное состояние и внутренняя сплоченность бундесвера»1, — жалуются они. Нам понятны их заботы. Если бы бундесвер действительно служил лишь целям обороны, «ак они это утверждают, то им не нужно было бы ломать себе голову над тем, как поддержать боевой дух своей армии. Во время второй мировой войны немецким милитаристам самим пришлось убедиться в том, что в противоположность гитлеровскому вермахту, вымуштрованному для захватнической войны, Советская Армия обладала высокими морально-политическими качествами; и это было одним из факторов, обеспечивших превосходство советских войск на фронтах. Ныне немецких милитаристов поражает то, что другие империалистические государства годами ведут войны против антиимпериалистического освободительного движения в Азии и Африке, но колонизаторам все же не удается добиться победы. Несмотря на то, что армии капиталистических держав вооружены новейшим оружием и хорошо обучены, они терпят одно поражение за другим. Западногерманская военная пресса объясняет это тем, что «вера и дисциплина, энтузиазм и самопожертвование» антиимпериалистических армий выше, чем в войсках колонизаторов. Поэтому, дескать, в генеральных штабах империалистических армий все больше задумываются «над значением пропаганды и политической идеологии» в войсках и традиционное представление о том, будто армию надо держать подальше от политической жизни, должно быть отброшено1 2.
В этих словах выражено признание того факта, что сегодня империалистам уже не удается с помощью старых методов отделять армию от народа, не допускать проникновения в армию прогрессивных идей.
В этой связи следует вспомнить о том, что во время первой мировой войны 1914—1918 годов военнослужащим кайзеровской армии было строго запрещено заниматься политическими проблемами. В августе 1917 года германский генеральный штаб издал распоряжение, в котором говорилось: «Каждый начальник должен немедленно пресекать всякую самостоятельную политическую деятельность офицеров и докладывать об этом начальнику отдела III В»3. Эту меру считали необходимой, так как после Февральской революции в России участились случаи неподчинения приказам и в войсках все более распространились антивоенные настроения.
После Великой Октябрьской социалистической революции немецким милитаристам становилось все труднее изолировать свои войска от политических событий. Когда немецкая буржуазия направила рейхсвер для подавления революционного движения пролетариата, опа вынуждена была одно
1 «Der deulsche Soldat in der Armee von Morgen», Miirtclien, 1954, S. 293.
2 M e r s, Armee und politische Ideologic. In «Neuses Soldatentum», Frankfurt/M, 1957, H. 1, S. 9.
2 «Итоги второй мировой войны», Издательство иностранном литературы, М., 1957.
221
временно предпринять специальные меры, чтобы предотвратить возможность воздействия социалистической идеологии на солдат.
К этому времени относится введение в немецкой армии преподавания так называемых государственно-гражданских предметов. Хубе в своей книге «Пехотинец», изданной в 1925 году, считает этот метод идеологического воздействия настоятельно необходимым, так как, по его словам, при тогдашней ситуации в Германии к солдатам предъявлялись значительно более высокие требования, чем когда-либо раньше.
В этом учебнике, по которому командиры обучали новобранцев, рейхсвер был назван «самым мощным рассадником патриотического духа» и новобранцу «разъяснялось», что он должен держаться подальше от коммунистов, так как они, мол, «сознательно отвергают понятие родины и видят спасение человечества в братании народов»1. В этой книге есть также раздел «отечественной истории», где прославляются самые реакционные стороны прошлого Германии.
На основе этих же принципов государственно-политического воспитания строили свою военно-политическую подготовку вермахта немецкие фашисты. В новом издании справочника Хубе «Пехотинец», вышедшем в 1934 году, было сделано примечательное добавление, что захват власти национал-социализмом в Германии коренным образом изменил отношение вермахта к государству в том смысле, что теперь солдату не нужно держаться подальше от политики, так как уже не существует больше «разлагающих влияний» и «все здоровые силы» соединены крепкой рукой и теперь, дескать, долг солдата — «проникнуться духом национал-социалистского государства», в чем ему помогут радио, газеты, а также национал-социалистские книги ротной библиотеки1 2.
В книге Рейберта «Боевая подготовка сухопутных войск», изданной в августе 1940 года, подчеркивается, что главными задачами подготовки является «предотвращение большевистской опасности и уничтожение марксизма и коммунизма3». Это были, как известно, основные лозунги идеологической подготовки гитлеровских солдат к войне против Советского Союза. С этой целью была создана целая система идеологического воспитания и необходимый аппарат.
Несмотря на все усилия, предпринятые в этой области, гитлеровская клика и ее генералы вынуждены были после поражений 1942—1943 годов на Восточном фронте признать быстрое снижение морального состояния солдат, в особенности после того, как представители Национального комитета «Свободная Германия» начали антифашистскую пропаганду на фронте. Поэтому гитлеровцы, для того чтобы препятствовать влиянию движения «Свободная Германия», вынуждены были принять чрезвычайные меры прежде всего на Восточном фронте. Одной из таких мер было назначение «офицеров-национал-социалистских руководителей», которые должны были в соответствии с национал-социалистским воззрением будить и укреплять в войсках недостающие идеологические силы4.
Западногерманские милитаристы в идеологической подготовке третьей мировой войны пользуются ныне теми же демагогическими средствами, что и гитлеровцы. Официальным пропагандистским центром в бундесвере является особый отдел «внутреннего руководства» боннского военного министерства, во главе которого стоит полковник граф Баудиссин. Этот новый «реформатор армии» часто подвергается нападкам со стороны жаждущих реванша немецких милитаристов, мнение которых выражают газеты «Дейче зольда-тенцейтунг» и «Дер шталжельм». Но Баудиссин вызывает их недовольство отнюдь не принципиальными возражениями против их Аантюристических
1 Н u b е, Der Infanterisl, 1925, S. 235.
2 Ibid., S. 274.
2 Reibert, Der Dienstunlerrichl im Heer, 1940, S. 23—24.
4 M e i e г-W i 1 k e r, Die geistigen Krafte in der deutschen Wehrmacht des XX, Jabrhunderts, «Wehrwissenschaflliche Rundschau», Darmstadt, 1957, N2 9, S 500.
222
агрессивных планов, а лишь тем, что они считают неудачными его лозунги «демократической армии» и «граждан в военной форме», ибо такие фразы могут помешать установлению неограниченной военной диктатуры в Западной Германии1. Однако по существу между методами идеологического воздействия, которые применяет особый отдел «внутреннего руководства» боннского военного министерства, и теми методами, которые используют реваншистские воинские союзы, развернувшие свою деятельность в Запад-гой Германии, нет*сколько-нибудь значительной разницы. Их общая задача состоит в том, чтобы, лишь разделив между собой роли, обеспечить немецкому империализму пушечное мясо для третьей мировой войны. В то время как Баудиссин еще пытается перед лицом общественности замаскировать немецкий милитаризм демократической фразеологией, другие гитлеровские офицеры, занимающие руководящие посты в бундесвере, совершенно открыто заявляют, что западногерманские вооруженные силы должны быть обучены и воспитаны по образцу гитлеровской армии.
Агрессивный авантюристический характер идеологической обработки солдат в бундесвере ярко проявляется в том, как немецкие милитаристы в политической подготовке армии истолковывают самое понятие государства, которым определяется западногерманский закон о воинской повинности.
В их изложении государство создается сочетанием трех элементов: «народ, территория и власть»1 2. Солдату бундесвера внушают, что он должен чувствовать себя ответственным «за судьбу всего народа, в том числе и тех. кто проживает вне сферы действия конституции», потому что «население Федеративной Республики, а также и немцы в восточной зоне составляют народ нашего государства»3. Отождествляя понятия государства и народа, они пытаются тем самым затушевать факт существования двух немецких государств, принципиально отличающихся друг от друга по социальному, экономическому и политическому устройству. Такими средствами солдата бундесвера хотят убедить в том, что его присяга в верности западногерманскому государству включает в себя обязательство с помощью насилия объединить «народ и территорию», потому что это, как выразился однажды Гудериан, является предпосылкой объединения с «территориями, лежащими к востоку от линии Одер—Нейсе»4.
Хальштейн, этот западногерманский Дон-Кихот, еще в 1952 году проболтался о том, что захватнические цели западногерманских милитаристов простираются гораздо дальше, когда он потребовал «объединения всех частей континента до Урала»5 *. Однако это донкихотство весьма серьезно проявляется на практике в обучении солдат бундесвера. Как сообщала газета «Зюддейче цейтунг», некий «офицер внутреннего руководства» 1-й горнострелковой дивизии в Миттенвальде (Бавария) заявил следующее: «Наших новобранцев мы будем с первых же дней знакомить с традициями бывшей 1-й горно-стрелковой дивизии. С этой целью мы демонстрируем фильм о походе в Россию, в котором показано водружение имперского военного флага на Эльбрусе»’.
Западногерманские милитаристы не скрывают того, что, разрабатывая задачи и методы воспитания солдат, они опираются на опыт гитлеровской армии. Командующий западногерманским военным флотом в Балтийском море адмирал флота Герлах заявил буквально следующее: «В вермахте многое было поставлено образцово... И это может послужить только ценным опытом для нашего будущего»7.
1 К началу 1958 года Баудиссин по настоянию этой группы был переведен па строевую должность.
1 Rehm, Der Politische Inhalt des Soldatengesetzes. In: «Werhkunde», Munchen, 1957, N. 3, S. 147.
3 Ihid.
1 Guderian, Kann Westereuropa verleidigt werden?, Gottingen, 1950. S. 69.
5 «Deutsche AuBenpolitik», Berlin, 1957, Sonderehefl, N. 1, S. 77.
• «Siiddeutsche Zeitung», Stuttgart, 2.4.1957.
7 «Der Spiegel», Hamburg, 1957, N. 14.
223
Немецкие милитаристы считают особенно необходимым эту идеологическую ориентацию на традиции гитлеровского вермахта, потому что, как они говорят, солдат «уже в мирное время находится на фронте идеологической борьбы против большевизма»1.
Для обобщения и использования опыта гитлеровского вермахта в бундесвере создана должность так называемого «особого офицера по вопросам внутреннего руководства». Газета «Боннер корреспонденц» от 25 января 1957 года пишет, что эти «офицеры внутреннего руководства» напоминают тех «офицеров национал-социалистского руководства», которые появились в последние годы второй мировой войны и отвечали за систематическую пропаганду нацистских взглядов в своих частях.
В действительности эти так называемые идеологические воспитатели играют в бундесвере ту же роль, что и гитлеровские политические шпики в фашистском немецком вермахте. В одной из инструкций, изданных Бау-диссином, так определяется круг задач этих офицеров: «Несмотря на запрещение КПГ, надо рассчитывать на то, что в войсках все же будут появляться коммунистические агитаторы. Они будут прибегать к различным средствам маскировки. После разоблачения их следует передавать соответствующим органам»1 2. Как известно, гитлеровское государство уже незадолго перед своим крушением пыталось поднять боевой дух своих войск аналогичными военно-политическими методами, а в боннской армии наследник «офицера национал-социалистского руководства» уже с первого дня существования бундесвера является обязательной составной частью войск.
В штабе каждого корпуса, дивизии и бригады, а также в соответствующих военно-воздушных и морских штабах западногерманских вооруженных сил предусмотрена должность G 1 (первый помощник командира), который является ответственным за моральное состояние войск. Ему подчиняются «офицер внутреннего руководства» и «офицер по вопросам прессы, информации и культработы». В подразделениях от полка и ниже задачи «внутреннего руководства» выполняет офицер, назначаемый соответствующим командиром»3.
Важной составной частью мероприятий бундесвера в военно-идеологической области является так называемая государственно-политическая подготовка, которую организует в войсках «отдел внутреннего руководства». Она ведется по следующим разделам:
а. Общая информация.
Этот раздел включает преподавание общих сведений о государстве, военного дела и истории (2 часа в неделю).
б. Политическая информация о текущих событиях проводится регулярно 1 раз в неделю.
На этих занятиях так называемые «офицеры особого назначения» пользуются материалами, которые издаются «отделом внутреннего руководства» и воинскими союзами ветеранов гитлеровского вермахта. Так, например, каждая рота получает регулярно по пяти экземпляров «Информации для войск» и серийных выпусков «Издания внутреннего руководства». Один экземпляр предназначается командиру роты, три — командирам взводов, а пятый находится в ротной читальне. Характерно, что первый выпуск серийного издания называется «Проблемы большевизма». Интересно также, что уставное предписание боннского военного министерства ДУ 90/1 рекомендует авторам наставлений и учебных материалов, используемых в бундесвере, принимать как «образцы языка и стиля» устав и наставления гитлеровской армии от 1936 года,»не возражая против заимствования отдельных фраз и формулировок. По специальному указанию боннского^военного министер
1 «Bonner Korrespondenz», 16.9. 1957.
2 «Information file die Truppe», N. 1, Bonn. In «Mililarwissenschaftliche Aufsatze», Berlin, 1957, Heft 10, S. 47.
3 «Taschenbuch fur Wehrfragon», Bonn, 1956, S. 186—187.
224
ства каждая рота получает несколько экземпляров еженедельной газеты «Дас парламент», издаваемой так называемым Федеральным центром отечественной службы1.
Командиры подразделений бундесвера обязаны иметь «Дас парламент» во всех читальнях и казармах. В пятнадцати номерах этой газеты в 1957 году печатался «Справочник мирового коммунизма», составленный при активном участии русских белогвардейцев и представляющий собой не что иное, как собрание фальшиво^ и клеветы на Советский Союз.
Наряду с уже названным особым «отделом Лутреннего руководства» боннского военного министерства аденауэровская партия Христианско-демократический союз создала пропагандистскую организацию, специально предназначенную для воздействия на солдат бундесвера, которая выступает под маскировочным названием «Рабочее содружество демократических кружков».
В докладах и лекциях, подготовленных этой организацией, в подразделениях бундесвера также ведется самая яростная травля всех противников Аденауэра внутри страны, распространяется клевета на демократические и социалистические государства. Эта пропаганда направлена также на раздувание милитаристских и реваншистских традиций.
Одним из руководителей этого «Рабочего содружества» является гитлеровец Эдгар Ян, который выдвинулся еще в нацистском вермахте как офицер национал-социалистского руководства. Создавая вышеупомянутый центр военно-политической пропаганды в бундесвере, Ян опирался прежде всего на опытных гитлеровцев. По его мнению, этих «специалистов» необходимо привлекать, «так как их опыт имеет очень важное значение»1 2.
В докладе, с которым Ян выступил перед солдатами и офицерами бундесвера после провала суэцкой авантюры англо-французских империалистов, он заявил, что США должны были бы заговорить языком оружия, так как г Советским Союзом иначе действовать нельзя. Этот матерый фашист твердит о том, что «решительное столкновение с Советским Союзом неизбежно»3. Это так называемое «Рабочее содружество», которое в Западной Германии уже называют «Ротой пропаганды ХДС», получает ежемесячно, как писала гамбургская газета «Ди вельт» 6 марта 1957 года, более 50 тысяч марок из секретного фонда федерального правительства, предназначенного для прессы и информации.
Эта интенсивная идеологическая обработка солдат в Западной Германии объясняется тем, что империалистам пришлось уже убедиться в том, что нельзя рассчитывать на успех войны против социалистических государств, если в народе пет к этому психологических предпосылок, нет веры в справедливость п законность капиталистической системы и ее целей, нет к ней доверия. Словом, нет внутренней готовности повиноваться4.
Ведущие политики и военные Западной Германии очень хорошо понимают, что победа в современной войне без мобилизации всей психической и духовной энергии армии и народных масс невозможна.
Поэтому и проводится столь усиленным темпом идеологическая обработка солдат для реваншистской агрессивной войны. Естественно, что не следует недооценивать влияние этой пропаганды на войска. Вспомним, что гитлеровскому государству удалось держать в своих фашистских сетях многих немецких солдат и офицеров буквально вплоть до последнего мгновения. Вспомним, что еще и сегодня многие люди в Западной Германии не сознают в полной мере всю преступную*!! человеконенавистническую сущность идео
1 Один из крупнейших шпионских и диверсионных центров, существующих в Западной Германии.—Прим- ред.
- «Der Spiegel», 10.7.1957.
3 «Neues Deutschland» vom 4.2. 1957 (DDR Ausgabe).
1 Foertsch, Psychologisclie Kriegluhrung. In: «VVehrkunde», 154 II. 1, S. 4.
15 Заказ K« 1220 225
логии разбитого гитлеровского государства, что боннское государство содействует активизации этих фашистских и милитаристских сил.
Великая Отечественная война Советского Союза и победоносная борьба народно-освободительных армий против империалистических агрессоров являются неопровержимым доказательством того, что преступные планы империалистов, несмотря на их идеологическое шулерство, обречены на провал. Тем не менее мы обязаны следить за всеми действиями милитаристов в области идеологии и систематически разоблачать их.
Рудольф Граф
О НЕКОТОРЫХ ПОПЫТКАХ РЕАКЦИОННОЙ ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ ОККУПАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ НЕМЕЦКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА В ПОЛЬШЕ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В рамках моего сообщения можно указать лишь на некоторые попытки, предпринимаемые в Западной Германии с целью фальсифицировать оккупационную политику немецкого империализма в Польше в период второй мировой войны. При этом я ограничиваюсь рассмотрением работ нескольких откровенно реакционных историков и публицистов, которые, как мне кажется, в этом вопросе наиболее отчетливо выражают устремления немецкого империализма.
Исходя из реваншистских устремлений и с целью обмана масс, пытаются доказать, что страдания польского народа якобы начались только после его освобождения от немецкого фашизма Советской Армией. Антисоветская целеустремленность реакционной западногерманской историографии и публицистики побудила их в течение длительного времени после окончания второй мировой войны избегать конкретных исследований оккупационной политики немецкого империализма. Однако теперь уже, видимо, сообразили, что этим нельзя уничтожить в памяти трудящихся масс сам факт оккупации. Поэтому все чаще слышны голоса, требующие более действенной реабилитации немецкого империализма.
Главный секретарь Мюнхенского института современной истории д-р Пауль Клюке заявил, например, совершенно недвусмысленно; «...втечение этих двенадцати лот осуществлялись террор, убийства, хладнокровные убийства по спискам» и потребовал «тактично, серьезно и с достоинством исследовать факты...», потому что только таким образом «...можно очистить себя от тех преступных действий... от которых нельзя избавиться, пытаясь их молча отрицать»1.
Итак, справедливо указав, что нельзя просто отрицать «преступления двенадцати лет», автор с похвальной откровенностью признается, почему именно он требует их «тактично, серьезно и с достоинством исследовать». Такого рода признания встречаются редко, но тем чаще пытались и пытаются делать это на практике.
Вальтер Гёрлиц—один из тех западногерманских историков, усилия которых специально направлены на реабилитацию немецкого империализма и милитаризма. Основная цель его книг — доказать, что якобы существовали противоречия между политикой Гитлера и СС, с одной стороны, и немецким финансовым капиталом (соответственно фашистским генеральным штабом) — с другой.
В работе, написанной им вместе с Квинтом, желая обелить немецкий финансовый капитал, он прежде всего утверждает, что те, кто финансировал Гитлера, якобы ожидали от него вовсе не того, «что он потом натворил»1 2. «Поэтому нельзя утверждать, что Гитлера «сделали» крупные промышленники для того, чтобы он осуществил их экспансионистские планы»3. Написан-
1 К 1 u k е, Paul, Aufgaben und Methoden Zeitgeschichtlicher Forschung. In:. Europa—Archiv, Frankfurt/M, 1955, N. 7, S. 7436.
2 Gorli tz, Walter, Quint, Herbert A., Adolf Hitler—ein Biographic, Stuttgart, 1952, S. 284.
3 Ihid., S. 287.
227
15*
ная Гёрлицем и Квинтом биография Гитлера на первый взгляд представляется обличением Гитлера, но в действительности является попыткой реабилитировать немецкий финансовый капитал.
Так же как и вся реакционная западногерманская историография, Гёрлиц и Квинт ни одним словом не упоминают о разоблачениях, сделанных американской комиссией Килгора, которые были опубликованы в 1945 году в одной из газет американских оккупационных войск в Германии. Там, в частности, говорится: «Неверно утверждение, будто немецкие крупные промышленники лишь в последнюю минуту и не совсем добровольно присоединились к национал-социализму. Они с самого начала были его восторженными покровителями... Военизация немецкой экономики и лихорадочная подготовка к агрессивной войне проводились под непосредственным руководством немецких промышленников». Вслед за этим перечислялись 42 фамилии крупных немецких финансистов и предпринимателей, в том числе Пфердменгес, Крупп, Флик и Цанген»1.
Реакционная западногерманская историография замалчивает также и книгу Сэсюли «ИГ Фарбениндустри»2, на основании которой бывший американский сенатор Клод Пеппер сделал следующий примечательный вывод: «Поджигателями войны в Германии были в собственном смысле этого слова не столько коричневорубашечники Адольфа Гитлера и горлодеры-штурмовики, сколько весьма изысканно одетые и с виду почтенные персоны вроде Яльмара Шахта или Германа Шмица, генерального директора «ИГ Фар-беп»3.
Реакционная западногерманская историография уже давно обходит все эти документы. Вместо этого погружаются в мистику, стараясь прикрывать тех, кто в действительности стоял за Гитлером. «Корни Гитлера... — в его демонической натуре»4, — заявляют Гёрлиц и Квинт. Он был «замкнутым в себе одиночкой... непостижимым»5 *. И вообще-то, оказывается, национал-социализм мог прийти к власти только потому, что в «Гитлере он нашел человека, который... умел овладевать массами, вести их за собой и своими речами внушить им новую веру»®.
Такой субъективистской точки зрения придерживаются не только Гёрлиц и Квинт. Уже значительно раньше Мейнеке возвестил, что гитлеровское движение, дескать, «было одним из великих исторических примеров единственной в своем роде, не поддающейся учету власти личности»7. Таким образом, весь национал-социализм превращается как бы в своего рода частное дело Гитлера, хотя многие миллионы были израсходованы на предвыборные кампании и подкуп, способствовавшие популярности Гитлера, а банды штурмовиков, забрасываемые подачками миллионеров, «расчищали дорогу» своему «фюреру» средствами неслыханного дотоле террора, и первую очередь против Коммунистической партии.
Эта исходная идеологическая позиция является также основой для оценок оккупационной политики немецкого империализма в Польше. Так. например, Гёрлиц заявляет: «Не бог и не немецкий народ хотели этого, а Гитлср»8. Гёрлиц молча причисляет немецкий монополистический капитал, поджигателей войны к трудящемуся народу и затем начинает от имени «Германии» п от имени «народа» критиковать политику Гитлера. Но критикует он вовсе не захватническую политику немецкого империализма, не
' «Allgemeine Zeitung», Berlin, 12 Oktober 1945.
- P. С э c io л и, ИГ Фарбениндустри, Издательство иностранной литературы, М.,
19 48. •
S a s и 1 у, Richard, IG Earben, Berlin, 1952 (Vorworty. S. 19 -20.
1 Gii rl i tz, Oui nt,. Op. cit., S. 287.
Ibid., S. 632?
i; Ibid., S. 307.
7 Meinecke, Friedrich, Die deutsche Katastrophe, Wiesbaden, 1948, S. 141.
" Go r I i t z, Wa 1 ter, Der zweite Weltkrieg, 1939—1945, Stuttgart, 1951, Bd. I, S. 68.
228
совершенные им против других народов преступления, а только лишь методы Гитлера.
По Гёрлицу, выходит, что «ошибка» Гитлера состояла лишь в том, что он «действовал, угрожая насилием, и в дикой спешке», что «было типичным для поведения Гитлера»1. Но и этой точки зрения придерживается не один Гёрлиц. Она является преобладающей в реакционных западногерманских работах о странах Восточной Европы. Так, например, известный буржуазный ученый, специалиЛ по Востоку Герман Аубин критикует на словах нацистскую политику расизма и насильственной германизации, которую проводил немецкий империализм, но в то же время пытается еще и теперь поддерживать старые притязания немецкого империализма на польские области с помощью исторических ссылок так же, как он это делал при Гитлере. Под прикрытием «антифашистской» критики Гитлера буржуазная западногерманская историография, занимающаяся восточноевропейскими странами, пытается создать такое впечатление, будто фашистская агрессия против Польши не являлась составной частью захватнической политики эксплуататорских классов Германии, которую они вели в течение столетий.
И когда Аубин ныне критикует германизаторскую политику германского империализма, то в конечном счете он сожалеет лишь о том, что уже «...почти не осталось немцев на Востоке» и что те «немцы», которые живут сейчас восточнее Одера и Нейсе, не в состоянии «...даже в самой малой степени осуществлять то взаимодействие западной и восточной культуры, которое в течение длительного исторического периода осуществляли немцы»1 2. В этом он винит Гитлера, потому что тот «своим призывом «На родину, в Германию!»3 начал разрывать издревле сложившиеся связи народных культур». Однако он ни одним словом не упоминает о том, что сам осыпал своего «фюрера» благодарственными славословиями и поставлял ему аргументы для этой политики. Реакционные исследования по восточным вопросам ограничиваются формальной критикой Гитлера, совершенно недвусмысленно оправдывая при этом тогдашние претензии империализма. Так, Гаузе заявляет: «Моральное обоснование немецких требований во многом потеряло свою силу в настоящее время, так как Гитлер, осуществляя их, пользовался аморальными средствами...»4
Существо критики со стороны реакционной историографии по адресу Гитлера по сути касается лишь вопроса, почему германскому империализму не удалось уничтожить Советский Союз и помешать победе рабочего класса в теперешних народно-демократических странах.
Таким образом, и Гёрлиц отнюдь не осуждает агрессивную политику германского империализма, рассматривая последствия оккупации Польши в своих якобы антигитлеровских писаниях. Он осуждает «политику генерал-губернатора в Польше» только за то, что эта политика привела к такому «неожиданному» результату: немцам «при появлении русских оказалось невозможным добиться d более широких масштабах поддержки поляков...»5. И в последнем издании Плетца, традиционном буржуазном справочнике, можно прочесть, что «Германия благодаря тем неправильным мерам», которые основывались «на отношении Гитлера к народам Востока», потеряла симпатии этих народов®.
Все это свидетельствует об уровне «науки», которая вынуждена прибегать к подобным ухищрениям для того, чтобы утаить от народа правду о неизбежном крахе капитализма. Совершенно очевидно, что авторов не столько интересует война и ее последствия для народов, сколько те политические
1 Gorlitz, Quint, Op. cit., S. 499.
2 Aubin, Hermann, Die Deutschen in der Geschichte des Ostens. In «Geschichte in Wissenschaft und Unterricht», Stuttgart, 1956, H. 9, S. 544.
3 «На родину, в Германию!» («Heim ins Reich»)—под этим лозунгом в 1938—1939 годах Гитлером осуществлено переселение немцев из Прибалтики и Западной Украины.— Прим. ред.
4 Gause, Fritz, Deutsche-slawische Schicksalsgemeinschaft, 1952, S. 279.
5 Gorlitz, Walter, Op. cit., Bd. II, S. 97.
’ Ploetz, Auszug aus der Geschichte, 25 Aufl., Wiirzburg, 1956, S. 1102.
229
убытки, которые война принесла немецкому империализму. Поэтому они критикуют Гитлера и указывают на то, что он мог еще лучше соблюдать интересы финансового капитала. И больше всего их беспокоит, что немецкий империализм не имеет массовой базы, которая настоятельно необходима для осуществления новых агрессивных замыслов. Оказывается, эти авторы сожалеют о миллионах жертв отнюдь не из гуманности, а лишь потому, что вследствие этого германский империализм полностью разоблачил себя в глазах народов как убийца миллионов людей. Задача реакционной историографии в том и заключается, чтобы снять эти обвинения с германского империализма. Попытки в этом направлении делаются уже в течение нескольких лет.
Польских рабочих и всех польских патриотов хотят уговорить, что с их стороны, дескать, было неправильно отвернуться от германского империализма и бороться на стороне Советского Союза. Им лгут, пытаются создать лживую версию, будто немецкая оккупация дала польскому народу всяческие преимущества. Гёрлиц еще в 1952 году сказал, что «... неправильная политика, осуществлявшаяся в Польше, не должна заслонять всего того, что было сделано для расширения польской промышленности и улучшения методов ведения сельского хозяйства»1. В том же году Готхольд Роде утверждал, что «... широкие слои крестьянства и мелких ремесленников... извлекли из немецкой оккупации весьма значительные материальные выгоды» * 2.
Два года спустя Эзебек, руководитель отдела отечественной политики так называемого землячества Восточной Пруссии, одной из многочисленных шовинистических организаций Западной Германии, имел наглость заявить: «Германия еще во время войны вложила в польские области миллиарды и создала капитал», из которого Польша еще и сегодня извлекает выгоду3. Ликвидация безработицы, обусловленная гонкой вооружения, была в свое время одним из главных козырей гитлеровской социальной демагогии. Подобно этому теперь в справочнике Плетца написано, что «безработица в оккупированных областях» являлась исключением4. Вот уж поистине «беспримерное достижение» — миллионы поляков были угнаны на рабский труд в Германию, оставшихся на родине—принудили работать (часто без всякой оплаты) на фашистскую военную машину. Об этих методах «ликвидации безработицы» Плетц умалчивает так же, как умалчивает и о лагерях смерти, которые также сыграли значительную роль.
«Правдоподобие» утверждений такого рода достаточно характеризуется уже и тем, какими источниками пользовался автор; в большинстве случаев — это пропагандистские материалы нацистов, с помощью которых они пытались оправдать свою политику во время оккупации, или то, что бормотали, стараясь оправдаться перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге, некогда столь могущественные представители «тысячелетней империи». Так, например, Геринг пытался следующим образом доказать свою невиновность: «Вывоз продукции местного хозяйства не имел столь большого значения. Наоборот, с вывозом было нс так... в генерал-губернаторстве экономика укреплялась и развивалась»5. Впрочем, Геринг признал, что это относилось к тем отраслям экономики, которые работали на войну. Однако такие авторы, как Гёрлиц и Эзебек, замалчивают это признание, так как в противном случае их утверждения о помощи польской экономике оказались бы уже совершенно несостоятельными.
Тогдашний статс-секретарь и начальник отдела генерал-губернаторства И. Бюлер, так же как и бывший руководитель имперского ведомства и уполномоченный генерал-губернаторства в Берлине, издали в 1940 году одну из
’Gorlitz, Walter, Op. cit., Bd. II, S. 100. *
2 «Osteuropa», Stuttgart, 1952, S. 147.
’Esebeck, Haus Gert, Vertriebene Deutsche und Exilpolen. In: «Aullen-politik», Stuttgart, 1954, N. 1, S. 24.
4 Ploetz, Op. cit., S. 1104.
6 Der ProzeS gegen die Hauptkriegsverbrecher von dem Internationalen Militiiige-richtshof, Niirnberg, 14 November 1945—1 Oktober 1946, Bd. 9, S. 351.
230
многих книг1, посвященных «экономическим успехам империи» в оккупированных областях. В этом издании уже можно обнаружить те аргументы, которые ныне повторяют некоторые западногерманские историки, когда они, описывая немецко-фашистскую оккупационную политику, пытаются сохранить для немецкого империализма все, что только возможно. В вышеупомянутом пропагандистском сочинении говорилось, что «немецкая империя» не щадит сил для экономического развития польских областей, так как «генерал-губернаторство до^>кно по крайней мере само себя прокормить»1 2. Подобные заявления предназначались для общественности. Йогда же фашистские заправилы информировали друг друга о фактическом положении, они делали другие выводы. Так, например, в одном из секретных докладов говорится: «Перед войной снабжение генерал-губернаторства продуктами питания было очень хорошим. Существовал избыток мяса в количестве 472 тысяч центнеров3. Однако вследствие усиленного расходования, обусловленного военными действиями [читай: начавшееся ограбление Польши германским империализмом.—Р. Г.], избыток уступил место большой нехватке4 * 6. Итак, в то время как фашисты прекрасно знали, что снабжение польского населения ухудшилось в связи с оккупацией, они в своей пропаганде объясняли зто «польской бесхозяйственностью», отсутствием деловых способностей у людей «низшей расы» и т. д. и, ссылаясь на это, лгали, что Германия якобы предпринимает величайшие усилия, чтобы прокормить польский народ. Я напоминаю об этой лживой фашистской пропаганде лишь для того, чтобы охарактеризовать сегодняшних западногерманских историков, которые вновь пытаются изобразить грабительскую политику германского империализма как своего рода помощь.
Уже в 1950 году Г. Серафим, выступая под флагом «объективности», новел в этом направлении массированную атаку. Он заявил, что справочный том к протоколам Нюрнбергского процесса® непригоден для научной работы, потому что: а) там не отмечены должным образом те мнимые экономические достижения Третьей империи, которые, мол, шли на пользу угнетенным народам, и б) не отражены должным образом защитительные речи обвиняемых главных военных преступников3. Это уже была откровенная попытка дискредитировать официальные материалы Международного военного трибунала, свидетельствующие о преступлениях, совершенных по заданию германского империализма, и тем самым попытка преподнести пропагандистскую болтовню нацистов как исторические факты.
Очевидно, эта версия все же слишком неудобна даже для самых приверженных апологетов германского империализма. Чувствуется, что Гёрлпцу делается не по себе, когда он пытается смягчить оценки оккупационной политики германского империализма, которая имела такие тяжелые последствия для пострадавших от нее народов. За недостатком аргументов он скатывается до самого низкого уровня пропаганды «холодной войны», чтобы с помощью самой подлой клеветы на Советский Союз отвлечь внимание от немецко-фашистских преступлений. Германский империализм хотел бы внушить народным массам, что, освобождая народы от фашизма, Советская Армия якобы этим осуществляла агрессию. Поэтому, когда Гёрлиц пишет в своей «Истории второй мировой войны» об освободительной борьбе Советской Армии, он отказывается даже от той видимости научности, которую еще как-
1 Das Generalgouvernement und seine Wirtschaft, Berlin, 1940.
2 Ibid., Abschnitt С I, S. 3.
3 Эти цифры выведены из расчета годового потребления мяса 20 килограммов па душу населения.
* Amt des Generalgouvernements fur die besetzten polnischen Gebiete, Abt. Erniilirung
und Landwirtschaft, Stat. Amt: Die Erniihrung und Landwirtschaft im Generalgouvernement fur die besetzten polnischen Gebiete. Reihe В, H 1. 7. D.H. 2.3 (Nur fur den Dienstgebrauch!), S. 95.
6 IMG, Bd. XXIII—XXIV.
•Seraphim, Hans-Gunter, Quellen zur Erforschung der Gescbichte des Dritten Reiches. In: «Europa—Archive, Frankfurt/M, 1950, S. 3028—3031.
231
то пытался соблюдать, стараясь уменьшить преступления немецких фашистов в Польше. Здесь же он ничем не отличается от наиболее рьяных идеологов империализма, которые, раздувая «холодную войну», не останавливаются перед самой подлой ложью. Было бы недостойно этой научной конференции подробно разбирать аргументы, применяемые в той кухне, где готовится отравленная идеология шпионских центров империализма. Гёрлиц клевещет на Советскую Армию, принесшую миллионы жертв, совершенно так же, как зто пытается сделать Аденауэр, во время его пребывания в Москве, за что, как известно, он и получил решительную отповедь. В своей ненависти к Советскому Союзу Гёрлиц и другие историки не останавливаются перед распространением лживых утверждений Геббельса, будто польские офицеры, расстрелянные в районе Катыни, были убиты советскими войсками1. Хотя еще во время второй мировой войны и после нее было неоднократно доказано, что это было одним из тех многочисленных, совершенных фашистами массовых убийств, которые являлись частью общей политики германизации, осуществлявшейся германским империализмом.
Все эти авторы опираются — иначе, разумеется, и быть не может — на геббельсовскую пропаганду и, в частности, на заявления некоторых врачей, сделанные в свое время под нажимом эсэсовцев, действовавших по приказу Геббельса.
Между тем болгарин д-р Марков, который также принимал участие в произведенном эсэсовцами «расследовании» трупов в Катыни, тотчас же после освобождения его страны Советской Армией заявил, что вся действовавшая там комиссия была постоянно окружена гестаповцами. «Все врачи, принимавшие участие в этом расследовании, считали, что состояние предъявленных им трупов опровергало утверждение немцев, будто массовые убийства были совершены в 1940 году. Все делегаты были вынуждены подписать протокол, подготовленный немцами»1 2. Это заявление полностью соответствует другому заявлению. Немецкие офицеры Штриффинг и Дире заявили в Ленинграде, что в конце осени 1941 года возле Катыни... эсэсовцами были расстреляны польские офицеры, советские граждане и евреи»3. Как сообщает газета «Стокгольм тиднингсн», в это же время бригаденфюрер СС Шелленберг заявил, что кампания у Катынских могил была организована Риббентропом и Геббельсом совместно с Гиммлером4. Это же подтверждается, наконец, записью в дневнике Геббельса, которую цитирует американец Гершл Д. Мейер. 9 апреля 1943 года Геббельс записал: «Польский конфликт все еще находится в центре внимания... Признают, что мне удалось внести глубокий раскол в ряды противника»5. Таким образом, совершенно очевидно, что нацистская банда стремилась прежде всего ослабить впечатление от военных поражений, нанесенных Советской Армией гитлеровцам, посеять раздор между Советским Союзом и его союзниками и если удастся, то даже и взорвать антигитлеровскую коалицию. Однако эта попытка оказалась столь же бесплодной, как п старания скрыть от мировой общественности преступление у Катыни. Именно это почувствовал и сам Геббельс, когда несколько дней спустя, 8 мая 1943 года, он записал в своем дневнике: «К сожалению, в могилах в Катынском лесу было обнаружено германское снаряжение... Крайне важно, чтобы это осталось в полной тайне»®. Для Гёрлица и ему подобных эта забота Геббельса, видимо, является священным заветом. Сейчас, как и раньше, они продолжают замалчивать все разоблачения, обнаружившие лжи
1 Gorlitz, Walter, Polen gehort zum Abendland. In: «Der europaische Oaten» N. 11/1956, S. 680; M e у er, E lyio,Uberdie Darstellungder deutsch-polnischen Beziehungen im Geschicbtsunterricht, Braunschweig, 1956, S. 18; These 46; Ploetz, Op. cit., S. 1171.
2 Aus einem Bericht der Ag. Bulg. In: «Keesings Archiv der Gegenwart», 1945, S.105 E.
3 Ibid., S. 593 B.
1 Ibid., S. 299 F.
5 Г. Мейе p, Неизбежна ли гибель Америки? Издательство иностранной литературы, М., 1950, стр. 122—123.
8 Там же, стр. 123.
232
вость Геббельса и его банды. Но этим они лишь разоблачают самих себя. Неспособные смотреть в лицо историческим фактам, они продолжают повторять фашистскую клевету, потому что они руководствуются не благородными целями науки, а интересами германского империализма1.
Как показывают приведенные мною примеры, уже в течение многих лет делаются попытки представить в неверном свете оккупационную политику германского империализма. Характерно, что никто из названных здесь авторов так и не попыталс^доказать свои утверждения. Однако эта сказка о мнимых экономических «благодеяниях Германии» в Польи#Ь показалась весьма привлекательной и заслуживающей дальнейшего развития, поскольку все результаты «исследования», достигнутые к настоящему времени, представляются им совершенно недостаточными для чего-либо другого. В западногерманских научно-исторических журналах в последнее время раздаются голоса, требующие «...подробнее исследовать значение концернов и их неоднократно преувеличенную роль [курсив мой.—Р. Г.] в политике»1 2. Итак, то, о чем большинство западногерманских авторов до сих пор не решалось говорить открыто, теперь будет сказано вслух: финансовый капитал, дескать, не оказывал никакого влияния на политику. Это утверждение тогсГже порядка, что и статьи экономического обозревателя гамбургской газеты «Ди вельт» Фрида, который объясняет сохранение фирмы Круппа «во все времена взлетов и падений» только «личными достоинствами... образцового предпринимателя» и его «глубокими связями» с рабочими. Но, отмечая, что это «предприятие производило все больше вооружения...», обеспечивая подготовку к войне, Фрид ссылается уже не на «личные достоинства», а на условия политического развития»3. И поэтому, дескать, осуждение Круппа «...за использование на его предприятиях иностранных рабочих («рабский труд») и за приобретение имущества в других странах («мародерство и грабеж») следует «объяснить ... лишь атмосферой первых послевоенных лет...»4 Исключением являются авторы издания Плетца, которые, обнаруживая несколько большее понимание действительного положения вещей, отмечают:
«Май 1953 года. В связи с ремилитаризацией Западной Германии раздаются многочисленные призывы помиловать всех заключенных»5.
Однако нецитированные здесь авторы являются создателями защищаемых ими концепций. Это сами представители немецкого монополистического капитала сочли необходимым дать «научное» направление новому этапу «исследований». Не кто иной, как член правления концерна «ИГ Фарбенин-дустри» Август фон Книрим, лично предпринял попытку представить «неоднократно преувеличивающуюся роль концернов» в ином свете, так, как это
1 Чудовищное преступление, совершенное гитлеровцами в Катыни, было предметом разбирательства на Международном процессе в Нюрнберге. Из всех материалов, находившихся в распоряжении Специальной Комиссии, занимавшейся расследованием зверств гитлеровцев в Катыни, а именно показаний свыше ста опрошенных ею свидетелей, данных судебно-медицинской экспертизы, документов и вещественных доказательств, извлеченных из могил Катынского леса, с неопровержимой ясностью вытекают нижеследующие выводы:
1. Военнопленные поляки, находившиеся в трех лагерях западнее Смоленска и занятыо на дорожностроительных работах до начала войны, оставались там и после вторжения немецких оккупантов в Смоленск, до сентября 1941 года включительно.
2. В Катынском лесу осенью 1941 года производились немецкими оккунационнымв властями массовые расстрелы польских военнонленных из вышеуказанных лагерей.
3. Массовые расстрелы польских военнонленных в Катынском лесу производило немецкое военное учреждение, скрывавшееся нод условным наименованием «штаб 537-го строительного батальона», во главе которого стояли оберстлейтенант Арнес и его сотрудники обер-лейтенант Рекс, лейтенант Хотт.
Расстреливая польских военнонленных в Катынском лесу, немецко-фашистские захватчики последовательно осуществляли свою политику физического уничтожения славянских народов.—Прим. ред.
2 Rach, Alfred, Geschichlsunlerricht in der Ostzone. In: «Geschichte in Wis-senschaft und Unterricht», 1955, H. I, S. 35.
3 F г i e d, F e г d i n a n d, Krupp, Tradition und Aufgabe, Bad Godesberg, 1956, S. 14.
4 Ibid., S. 34.
5 Ploetz, Op. cit., S. 1222.
233
угодно представителям концернов. Книрим был главным юристом «ИГ Фарбениндустри» и в 1948 году привлекался к суду вместе с другими главарями концерна. Его книга «Нюрнберг. Проблемы права и человечности»1 посвящена так называемым «посленюрнбергским» процессам, которые проходили в американских военных судах. Книрим открыто высказал все то, что другие реакционные историки (кроме Гёрлица) до сего времени решались говорить лишь намеками. Он безоговорочно и решительно оправдывает немецкий финансовый капитал, снимая с него всякую ответственность за вторую мировую войну и совершенные во время войны преступления. Разумеется, не случайным является факт, что это утверждение сделал один из представителей монополий. Он и сам объясняет, что именно побудило его к этому. «По-видимому, многим еще мерещится участие немецкой промышленности в подготовке к грабительской войне и... утверждения нюрнбергских обвинителей проникли в сознание общественности глубже, чем приговор суда»1 2. Книрим в своей книге задался целью окончательно освободить немецкий монополистический капитал от давящих на него кошмаров общественного мнения. Поэтому он осыпает похвалами те американские суды, которые уже в 1948 году попытались завуалировать роль немецкого монополистического капитала. В то же время Книрим резко критикует их за те случаи, когда они открыто не смогли оправдать обвиняемых. Так Книрим выступает в качестве судьи по собственному делу.
В его гнусном писании более двухсот страниц посвящено юридическим «доказательствам» того, что при рассмотрении дел военных преступников должно было руководствоваться только теми правовыми нормами, которые являются законными и приемлемыми в данных делах «с его [то есть военного преступника. —Р. Г.] точки зрения. Это могут быть либо законы, действующие на месте совершения преступления, либо законы, действующие на родине обвиняемого. И в том и в другом случае всех обвиняемых и все действия их должно было судить на основе немецкого права того времени»3. Эти чудовищные утверждения означают не что иное, как защиту правовых порядков, установленных германским империализмом не только в Германии, но и во всех областях, оккупированных во время второй мировой войны. Исходя из этого, он вполне логично заключает: «Следовательно, рассматривая вопрос, являлись ли замышляемые ими действия правомерными или неправомерными, обвиняемые могли ссылаться только на немецкое право. И если они знали или полагали, что их действия законны в соответствии с немецким правом, то и не могли считать себя неправыми»4 5. Эту юридическую исходную позицию Книрим использует после того, как он искажает или фальсифицирует многочисленные исторические факты для того, чтобы затем выдвинуть требование — оправдания всех осужденных за военные преступления немецких промышленников (а также фашистских генералов), ибо следует признать, «что вся деятельность немецких промышленников во время войны протекала в условиях чрезвычайного положения...»6 и они не имели возможности «сопротивляться» [государству, действовавшему тогда праву.—Р. Г.)6.
О книге Книрима я говорю так подробно отнюдь не затем, чтобы ее здесь анализировать. В пределах моего сообщения невозможно, конечно, рассмотреть все многочисленные примеры того, как Книрим умышленно фальсифицирует исторические факты7. Но я посвятил столько времени рас
1 Knieriem, August, Niirnberg. Rechtliche und menschliche Probleme,
Stuttgart, 1953.
3 Ibid., S. 544.
3 Ibid., S. 271. »
4 Ibid., S. 251. •
5 Ibid., S. 522.
• Ibid., S. 521.
7 Приведем лишь один пример. Макс Ильгнер, бывший начальник сети шпионских организаций «ИГ Фарбениндустри», распространенной по всему миру, заявил 18 июня 1945 года, что верховное командование сухопутных войск и службы безопасности хотело поставить во главе всех «уполномоченных контрразведки» (так именует Ильгнер руководи
234
смотрению этой книги потому, что ее направление стало основой для целого ряда работ по «исследованию» оккупационной политики немецкого империализма во время второй мировой войны.
В Тюбингене создан Институт проблем оккупации. В серии «Труды Тюбингенского института проблем оккупации», посвященной «районам немецкой оккупации во время второй мировой войны», уже подготовлено несколько работ. Они посвящены конкретным вопросам оккупации. Этим они отличаются от ранее опубликованных произведений, в которых, как уже было сказано, хотя и высказываются различные утве]Лкдения, но не делается попыток их доказать1.
Прежде чем я обращусь к рассмотрению отдельных работ, я хочу сделать несколько замечаний о тех целях, которые поставил перед собой сам институт. В введении к первому выпуску «Трудов Тюбингенского института проблем оккупации», изданному в декабре 1954 года н посвященному немецко-фашистской оккупации стран Северной и Западной Европы, говорится, что в этой работе представлены «первые результаты исследований по отдельным темам проблематики института...»2 В дальнейшем предусмотрено «...после окончания исследований по всем отдельным вопросам дать первый более или мепее законченный обзор всей немецкой оккупационной политики во время второй мировой войны». Указывается, что все работы должны основываться на «...отчетах и докладах немецких оккупационных властей, на соответствующем юридическом материале и также на немецких и иностранных публикациях...» Кроме того, как отмечалось, будут также широко привлекаться документы нюрнбергских процессов. После публикации этих «первых плодов» работы «...будут представлены для критических отзывов и дополнений» лицам, которые сами принимали заметное участие в управлении оккупи
телей шпионских центров) так называемого «главного уполномоченного по контрразведке» и выдвинуло своего кандидата. Однако исполнительный совет могущественного «ИГ Фар-бен», членом которого был также и Книрим, решил, что «на зту должность должен быть назначен член высшего совета «ИГ Фарбен», то есть именно исполнительного совета, поскольку речь идет о весьма деликатной миссии» (Документ № 11, глава 4 доклада Килгора. Заявление Макса Ильгнера о помощи, которую оказывали зарубежные отделения «ИГ Фарбениндустри» вермахту, СД, гитлеровскому правительству и нацистской партии 18 июня 1945 года, опубликовано в книге Сэсюли «ИГ Фарбениндустри»). Итак, хотя Книрим знает по собственному опыту, насколько могущественным и самостоятельным было правление «ИГ Фарбен», он все же пытается изобразить, будто гигантский концерн находился в руках фашистского государства. В действительности же все было как раз наоборот. Фашистский государственный аппарат был орудием реализации государственно-политических и завоевательных устремлений могущественных крупнейших концернов, и в первую очередь «ИГ Фарбениндустри».
‘ Исключением является диссертация Т. Кудыба (Т. К u d у b a, Die strukturelle Veriinderung der polnischen Wirtschaft wiihrend der Bezatzungszeit 1939—1944, Bonn, 1950). Эта работа отличается от многих других буржуазных работ о немецкой оккупационной политике в Польше некоторыми положительными качествами. В ней приводится обширный фактический материал о масштабах грабежа, совершенного германским империализмом, и о том, как отразилась оккупация на социально-экономическом развитии прежде всего мелких собственников, которые в большинстве лишились собственности. Тем самым диссертация Кудыба опровергает целиком вымышленное утверждение Роде о том, будто бы именно эти слои населения извлекли материальные выгоды из оккупации. Однако Кудыба, стараясь дать общую оценку этой политики, не затрагивает существа проблемы. Он не ставит вопроса о характере войны. Его удовлетворяет простая констатация того факта, что оккупация «...является одним из неизбежных элементов войны» (стр. 174). Он рассматривает всю политику германского империализма в Польше с точки зрения безопасности оккупантов. Хотя он и намекает, что «целью немецкого плана было приспособление экономической структуры польских областей к потребностям и задачам великой Германии» (стр. 157), он отделяет, однако, политику германского империализма от самого ведения войны за мировое господство. Он осуждает массовые убийства и ограбление Польши потому, что считает, что «безопасность» оккупантов была бы обеспечена и без этих варварских мероприятий. Он не идет дальше критики методов оккупантов и приходит к выводу: «Было бы, например, гораздо рентабельнее и разумнее не демонтировать военную промышленность Польши, а оставить ее иа своих местах, включив в систему немецкой военной машины (стр. 181). Кудыба попросту не заметил, что именно это делал по мере сил гермарский империализм.
2 Все приводимые цитаты взяты из введения к первому выпуску «Трудов».
235
рованными областями. Итак, значит, обращаются к «практикам» (следовало бы сказать к «имеющим опыт работы на Востоке») за критическими отзывами, а отнюдь ие к народам, страдавшим от фашистской оккупации, и ие к антифашистским борцам этих народов. Собранные таким путем «данные опросов» будут переработаны в «завершающие статьи по отдельным темам». Все вместе должно затем «...служить основой для всеобъемлющего описания и достойной оценки [оккупационной политики германского империализма.—Р. Г.) с правовой, экономической, исторической и политической точек зрения». Причем историческая и политическая оценки будут даны в пределах общего исторического анализа.
Это уже в достаточной степени характеризует задачи института. Книрим, будучи одним из руководителей концерна, сам пишет о роли концерна во время войны. Точно так же и представители других фашистских учреждений должны сами указать, как следует изображать их историческую роль. Тем самым хотят заполнить тот пробел в западногерманской историографии, который образуют проблемы оккупационной политики. То, что реакционные историки раньше осмеливались утверждать в общих чертах, теперь должно быть «доказано» конкретными фактами, которые представят сами «практику» оккупационной политики, и таким образом будет создана именно такая историческая картина, какая нужна германскому империализму, —картина, которой ко всему еще будет придана видимость результатов широко поставленной научно-исследовательской работы.
Одним из авторов этих «Трудов» является Отто Бройтигам. Даже некоторые биографические данные дают достаточно полное представление о нем. В 1920 году Бройтигам начал свою карьеру дипломатического слуги германского империализма в министерстве иностранных дел. После прихода Гитлера к власти он стал руководителем сектора «Россия» п отделе экономической информации министерства иностранных дел. В 1940 году Бройтигам был генеральным консулом в Батуми; после вероломного нападения на Советский Союз, будучи капитаном запаса, направлен в генеральный штаб сухопутных сил. Там он был вначале связным между Розенбергом и ставкой Гитлера и в 1942 году его назначили уполномоченным пресловутого «министерства по делам Востока» при группе войск «А». Вместе с Розенбергом он вырабатывал планы уничтожения еврейского населения и сам лично несет ответственность за убийство десятков тысяч людей. Согласно планам Бройтигама и Розенберга, которые утверждал Гитлер, в частности были созданы концлагеря Освенцим, Люблин и Майданек. Бройтигам был разоблачен, как убийца тысяч евреев, и боннский министр иностранных дел Брентано вынужден был отстранить его от руководства Восточным отделом министерства иностранных дел вследствие протестов общественного мнения во многих странах. Но в то же время Бройтигам был «реабилитирован», потому что германский империализм также не собирается отказываться от этого палача «с опытом работы на Востоке», как и от Шпейделя в Западной Европе.
Институт проблем оккупации в введении к представленным Бройтига-мом «Трудам»1 заявляет, что именно этот человек «оказался той личностью», в которой институт открыл «особенно компетентного... специалиста». Тем самым косвенно признается, что для германского империализма самые подлые преступники против человечности оказываются не просто незаменимыми, но даже особо ценными специалистами также и в историографии.
Охарактеризовав одного этого автора и установив цели института, нетрудно предвидеть результаты, которые можно ожидать от таких «исследований». Некий д-р Гюнтер Моритц получил, например, задание написать о «Судопроизводстве в Областях, оккупированных Германией в 1939 —
1 В га u t i gam, Otto, Oberblick uber die besetzten Oslgebiete wahrend des 2. Weltkrieges. Inst. f. Bes. Frag., Studio Nr. 3, Tubingen, 1954.
Бройтигам оправдывает здесь политику германского империализма по отношению к Советскому Союзу. Я не останавливаюсь па этом, так как это выходит за рамки моего доклада.
236
1945 годах»1. По его представлениям, немецко-фашистские власти вообще не совершали ничего несправедливого, так как все их действия были «узаконены». Только эсэсовцы допустили «некоторые перегибы», которые являлись незаконными, однако генерал-губернатор и другие фашистские учреждения не были с ними согласны. Таким образом, для этого д-ра Моритца достаточно того, что массовые убийства и ограбления были «узаконены», и совершенно безразлично, что они все же оставались при этом преступлениями. Что касается «перегибов», допускавшихся эсэсовцами, то эта версия не нова. Уисе несколько лет тому назад ее распространял Гёрлиц. Он говорил, что только «эсэсовцы... в отдельных случаях (!) были повинны в жестоких расправах...» При этом он также пытается прежде всего отрицать те жертвы, которые принес рабочий класс и другие трудящиеся. Он упоминает лишь о «массовых убийствах» евреев, поджогах, убийствах ксендзов и помещиков2. В другом месте он говорит, что Гитлер «...провозгласил истребление верхних слоев польского народа и интеллигенции»э, так как он, дескать, яростно обрушился на «голубой интернационал» дворянства и старых княжеских родов»4. Так же как и Гёрлиц, Плетц отмечает только «борьбу против польской интеллигенции (многочисленные аресты) и против евреев»6.
Конечно, это правда, что немецкий империализм в Польше в газовых камерах и крематориях концлагерей, а также другими зверскими способами уничтожил более трех миллионов евреев (впрочем, о том, что немецкие монополисты обогатились за счет их имущества, Гёрлиц умалчивает). Правда п то, что уничтожение польской интеллигенции (а отнюдь не только «многочисленные аресты») также входило в программу германского империализма и стоило многих жертв. Эти преступления были составными частями общего плана германизации, разработанного германским империализмом. В ходе осуществления плана производилось также ограбление польских помещиков и польской буржуазии. Но, несмотря на признание фактов, книга Гёрлица по сути искажает историю, так как она создает представление, будто фашистский террор в Польше был направлен исключительно против евреев и помещиков. Гёрлицу нужна фальсификация, так как он пытается отрицать, что польский рабочий класс был главной силой в национальной освободительной борьбе против оккупантов и что переход его к социалистическому строительству после освобождения страны Советской Армией — закономерный результат этой борьбы. И если у Гёрлица и Моритца встречаются взаимно противоречивые оценки роли генерал-губернатора, то зто совершенно несущественно. И тоти другой защищают немецкий финансовый капитал, пытаясь представить его политику по отношению к польскому народу как уклонения некоторых эсэсовцев.
Тем самым не только всячески умаляются преступления фашистов, но прежде всего искажается сущность фашистского государства. Ведь именно фашистское государство было тем орудием, с помощью которого немецкие монополии проводили свою разбойничью и бесчеловечную политику. В этом отношении показательна история Краковского кабельного завода. Это предприятие продолжало свою работу во время оккупации под руководством дочернего предприятия АЭГ. В письме от 19 мая 1942 года за подписями двух директоров излагалось требование, чтобы краковское Управление рабочей силы принудительно выслало большое число польских рабочих этого предприятия. Дирекция требовала, чтобы польским рабочим было показано ин конкретных примерах... что действительно существует высылка в трудовые лагеря... о которой уже «ранее предупреждалось, как о возможном адми
1 Moritz, Gunther, Gerichtsbarkeit in den von Deutschland beselzlen Gebie-leii 1939—1945. Sludie Nr. 7, Tubingen, 1955.
- Gorlitz, Walter, Der zweite Weltkrieg, Bd. I, S. 67.
’Gorlitz, Walter, Der deutsche Generalstab, Erankfurt/M, 1950, S. 509.
* Ibid., S. 626.
’ Ploetz, Op. cit., S. 1170.
237
нистративном взыскании», так как от этой меры «дирекция ожидает значительного повышения аккуратности в работе» [то есть прибылей. — Р. Г.1].
К этому письму был приложен список, содержащий 101 фамилию так называемых «недобросовестных» польских рабочих из городского района Кракова и 40 из сельского района. Из этого же письма явствует, что уже раньше дирекция предприятия предъявляла Управлению рабочей силы подобные требования. Немецкий рабочий Карл Эккерт, который был во время войны, как специалист, направлен концерном АЭГ на краковское предприятие, позднее писал в своих воспоминаниях об этом периоде: «...время от времени... [польских.—/*. Г.[ рабочих молча уводили, и они исчезали навсегда...»1 2
Так органы фашистского государства исполняли приказы немецких концернов. Именно это соотношение сил пытаются сегодня отрицать западногерманские историки и, в частности, Институт проблем оккупации.
Другой сотрудник этого института, Роберт Герцог, написал работу, рассматривающую «Основные черты немецкого оккупационного управления в странах Восточной и Южной Европы во время второй мировой войны»3. Он пытается оправдать всю оккупационную политику некими чрезвычайными условиями — ничего более точного о них не говорится, — которые, по его словам, существовали в течение всего времени оккупации и побуждали оккупационные власти «предпринимать различные шаги и мероприятия». Придерживаясь известного правила «держи вора», этот автор имеет в виду прежде всего партизанское движение, которое, с точки зрения оккупантов, было, разумеется, «незаконным». Во многих мемуарах фашистских генералов, как и в юридических сочинениях западногерманских авторов, уже делались попытки объявить партизанское движение противоречащим международному праву. Представитель монополий Книрим тоже высказывался по этому поводу, заявив, что с точки зрения моральной партизан можно чествовать, как героев, но с точки зрения международного права их следует судить, как военных преступников.
Все эти чудовищные утверждения должны создать впечатление, будто немецкие оккупанты по существу не замышляли и не делали ничего такого особенного и лишь определенные «события» (при этом имеют в виду в первую очередь патриотическую борьбу—движение Сопротивления угнетенных народов) вынудили их применять репрессии. Такую же тенденцию обнаруживала и работа Герцога.
Все эти авторы, разумеется, исходят из буржуазного представления о войне, как о неотвратимой роковой силе, обрушившейся на человечество, и поэтому не пытаются разобраться в ее причинах и движущих силах. Поэтому сама сущность империализма оказывается глубоко скрытой, и все преступления пытаются оправдать известной «необходимостью», возникающей в ходе войны. Таким образом, в массовых убийствах повинны не агрессоры, а сами жертвы, так как они оказывали сопротивление. Статья Герцога является попыткой оправдать массовые убийства польских патриотов, совершенные фашистами, и подкрепить тезис Книрима, что и такие действия должны расцениваться согласно нормам немецкого фашистского права.
Интересно было бы узнать, какое влияние оказал тем временем этот институт на содержание некоторых диссертаций, представленных за это время к защите в Тюбингенском университете. Некто Зигфрид Германн готовил свою диссертацию* в Институте проблем оккупации. Он специально подчеркивает, что пользовался материалами, которые противоречат документам
1 «Betriebsarchiv Kabelwerk Oberspree» (далее упоминается как KWO): Марре «Krakau I», unpag. v
2 KWO, Erinnerungen des Genossen Karl Eckert aus dem*KWK.
3 Herzog, Robert, Grundziige der deutschen Besatzungsverwaltung in den ost- und sudosteuropaischen Landern wahrend des zweiten Weltkriegs. Inst, fur Bes. Frag., Studie Nr. 4, Tuningen, 1955.
‘Hermann, Siegfried, Die Kollektivstrafe unter besonderer Beriicksichti-gung ihrer Anwendung wahrend der deutschen Besetzungen im 2. Weltkrieg. Diss. 1955. Tubingen, rechts- und wirtschaftwiss. Fak.
238
Международного военного трибунала в Нюрнберге, и что достать их помог ему, по его словам, «прежде всего Институт проблем оккупации в Тюбингене...» «Часть приводимых мною данных основывается на устных сообщениях лиц, которых можно считать компетентными в рассматриваемых здесь проблемах немецкой оккупации»1. Это полностью соответствует принципам Института проблем оккупации, который опирается на испытанных слуг германского империализма. При таких обстоятельствах не должны удивлять выводы этой работы, в которых утверждается, что организованные массовые убийства маскируется юридическим термином коллективное наказание» и объявляются превентивными мерами оккупантов.
Другая диссертация — автор ее Гюнтер Корбмахер — посвящена так называемому оккупационному праву на отчуждение 1 2. Любопытно замечание автора о том, что его работа посвящена вопросу «из того круга тем Института проблем оккупации, который относится к юридической проблематике оккупации»3 4. Корбмахер, который ссылается также и на Гёрлица и Книрима, нападает на приговоры Нюрнбергского военного трибунала, утверждая, что так как ко времени второй мировой войны не существовало четко сформулированных правовых предпосылок для определения понятия «ограбление», то нюрнбергские суды были объективно не в состоянии выносить обоснованные приговоры. Это вполне совпадает с позицией Книрима, которая открыто рассчитана на оправдание немецкого финансового капитала.
Таким образом, работы этого института, а также его влияние на научную деятельность в Тюбингенском университете позволяют сделать вывод, что здесь предполагается развернуть общую ревизию Нюрнбергских процессов военных преступников, причем духовный отец этого начинания пришел из правления концерна «ИГ Фарбениндустри». Все то, что до сих пор различные реакционные историки и публицисты утверждали голословно, должно быть теперь подтверждено конкретными материалами, которые представляют охарактеризованные выше «компетентные» круги.
Этой цели служит и работа Гейнца фон Штренг «Сельское хозяйство в генерал-губернаторстве»*, в которой рассмотрена важная сторона оккупационной политики германского империализма в Польше. Незначительная роль Штренга не заслуживает серьезной полемики, и если я тем не менее подробно останавливаюсь на его «исследовании», то только потому, что в нем наиболее отчетливо проявляется направление Института проблем оккупации (не будет преувеличением сказать, что это является направлением германского империализма) в освещении конкретных форм немецко-фашистской оккупации. В этой статье представлены, так сказать, в концентрированном виде многие уже ранее выдвигавшиеся неверные утверждения. Главное из них сводится к тому, что «немцы» якобы так увеличили продуктивность польского сельского хозяйства, как этого не смогло сделать польское государство. Штренг, который проявил особое старание в списывании фашистских пропагандистских сочинений, повторяет утверждение, будто польское сельское хозяйство и польский народ получили от этого значительные выгоды, а для «Германии» это было, дескать, обременительно.
Прежде всего Штренг объявляет «достижением» немецкого фашизма в сельском хозяйстве Польши разорение и изгнание мелких землевладельцев. «Немецкое руководство... в качестве первой меры в сельском хозяйстве предприняло... освобождение сельскохозяйственных площадей»5. Правда, при этом были неизбежны «некоторые крутые меры». «Но в общем и целом
1 Hermann, Siegfried, Op. cit., aus dem Vorwort.
2 Korbmacher, Gunter, Das Entnahmerecht des Okkupanten. Eine volker-rechtliche Untersuchung unter besonderer Berucksichtigung der Rechtaprechung der Niirn-berger Militartribunale und der deutschen Besetzungen im 2. Weltkriege. Diss. 1956, Tubingen, rechts-und wirtschaftswiss. Fak.
3 Ibid., S. 3.
4 S t r e n g, Heinz, Die Landwirtschaft im Generalgouvernement, Inst. f. Bes. Frag., Tubingen, 1955, Studio Nr. 6.
’Strong, Heinz, Op. cit., S. 45.
239
благодаря тому, что были ликвидированы карликовые хозяйства и освободившиеся таким образом люди перешли на работу в промышленность, повысилась производительность труда»1. Так во имя производительности труда здесь оправдывается проводившееся фашистскими оккупантами массовое разорение крестьян. Вторым важным фактором «повышения производительности труда» Штренг считает значительные капиталовложения германского империализма в некоторые отрасли экономики, в том числе и в промышленность. При атом Штренг ссылается на факты. Однако он использует их не для серьезного исследования сущности оккупационной политики немецких фашистов, а злоупотребляет ими для намеренных искажений. Он отлично знает, какие потери, какие страшные жертвы принесла польскому народу немецкая оккупация. Поэтому Штренг вынужден отметить, что польза, которую, дескать, получило сельское хозяйство, не может возместить несправедливостей, «причиненных Польше в целом...»1 2 С помощью такого пошлого суждения о несравнимости экономических и правовых ценностей он пытается отделить экономику германского империализма от его политики. Он признает, что все экономические мероприятия немецких властей были направлены исключительно «...на укрепление немецкой экономики и немецкого военного потенциала». Но когда речь будет идти о сумме, выраженной в польских претензиях Германии в связи с возмещением ущерба от войны, то вся деятельность и успехи немецкого управления «сельским хозяйством Польши нужно будет принимать в расчет в пользу Германии»3. Так Штренг стремится соединить несовместимо противоречивые оценки. Для этого он прибегает к трюку, искусственно противопоставляя друг другу политику «немецкого руководства в Польше» и политику гитлеровской «империи».
На восьми страницах он оперирует данными об экспорте и импорте рейха. При этом он не ограничивается только сельскохозяйственными продуктами. Он включает туда и промышленные товары и хочет этим доказать, что «...оккупация генерал-губернаторства... особенно в период 1939—1943 годов, была экономическим бременем для империи»4.
Само название таблицы «Внешняя торговля Германии с генерал-губернаторством в 1940—1944 годах»5 призвано ввести читателя в заблуждение. В Польше не было ни одной независимой организации, которая могла бы вести торговлю с каким-либо другим государством. Оккупанты прежде все-го'конфисковали почти все польское имущество, так что Польше вообще печем было торговать.
Но независимо от этих фактов уже и цифровые данные искажают действительное положение6.
Таблица в
Ввоз в тысячах центнеров Вывоз в тысячах центнеров Сальдо
Каменный уголь . . . 1 25 119 -25 118
Машины 87 548 - 461
Штренг заимствовал эти цифры из других источников7. Но если они даже и точно отражают количество каменного угля, ввезенного в генерал-губернаторство в 1940—1944 годах, это никак нс доказывает утверждений Штренга.
1 Strong, Heinz, Op? cit., S. 47. *
- Ibid., S. 95.
' Ibid.
4 Ibid., S. 92.
Ibid., S. 88.
11 Ibid.
7 Штренг указывает в качестве источника «Кбгпег», N. 471Л 25/6.
240
Здесь просто замалчивается грабительский захват польских промышленных областей, включенных германским империализмом в Германии в состав государственной территории.
Так же как теперь Штренг, еще во время войны П. Г. Серафим пытался доказать, будто генерал-губернаторство для «Германии» обременительно1.
Но Серафим сделал при этом одно важное признание, которое Штренг сегодня замалчивает. Серафим писал: «В экономике сильнее всего сказывается сужение энергетической базы генерал-губернаторства вследствие утраты почти всех месторождений угля, ибо Домбровский if так называемый Краковский бассейны присоединены к Верхней Силезии... Это вызывает значительную экономическую зависимость генерал-губернаторства от всего Силезского угольного района и значительное обременение торгового баланса ввиду необходимости ввозить каменный уголь и кокс из империи»1 2. Итак, вследствие грабительского присоединения польских областей к «империи» остальная территория была отрезана от угольной базы. Замалчивая этот разбойничий захват, Штренг хочет доказать, что германская империя оказывала генерал-губернаторству экономическую помощь. Столь же ложны и приведенные выше цифры таблицы Штренга о поставках машин из Германии в Польшу. Допустим, что и они соответствуют действительному числу различных машин, ввезенных на территорию бывшего генерал-губернаторства. Но и это не может ни в какой мере служить доказательством для Штренга. Все те сельскохозяйственные и промышленные машины, которые немецкие оккупанты ввозили в польские области, они направляли на земли и предприятия, отобранные у поляков, чтобы за счет польского народа в максимальной степени удовлетворять свои военные нужды и ненасытную жажду прибылей. Конечно, за эти годы были сделаны значительные капиталовложения, но не в польскую экономику, а в те предприятия, которые в результате грабежа временно оказались «собственностью» немецкого финансового капитала. Но даже с этой точки зрения они не были бременем ни для «империи», ни для отдельных концернов. Наоборот, они были источником дополнительных прибылей для германского финансового капитала.
Я постараюсь показать это на примере уже упоминавшегося ранее Краковского кабельного завода. Это предприятие, как и многие другие, было захвачено германским империализмом и уже с 12 сентября 1939 года передано в ведение немецких концернов. Это прежде всего свидетельствует о том, как спешил германский крупный капитал закрепить за собой военную добычу. Предприятие было конфисковано верховным командованием сухопутных сил как военное предприятие и передано под опекунское управление немецкой фирме по переработке продукции металлургической промышленности («Фервертунгсгезелыпафт»). Эта фирма передала завод в аренду концерну АЭГ с тем условием, что будет создана дочерняя фирма, которая под названием «Краковский кабельный завод — промышленное общество с ограниченной ответственностью» станет юридическим представителем хищнически присвоенного польского предприятия. Владельцем завода и получателем большей части прибылей оставалась первая фирма —«Фервертунгсгезель-шафт». Из баланса видно, что при годовом обороте около 11,5 миллиона злотых (1940 год) эта фирма за время с 13 сентября 1939 года по 31 декабря
1 В издании «Kiirschners Deulschec Gelelirtenkalender» отмечается на стр. 2224, что II. Г. Серафим является сейчас ординарным профессором и референтом по вопросам восточноевропейской экономики при университете в Мюнхене. В этом календаре не упомянуты, однако, его прежние должности: руководитель отдела «История и европейский вопрос» в главном управлении нацистской партии; ответственный секретарь фашистского расистского журнала «Дер вельт-кампф»; главный советник по делам военного управления и консультант по еврейскому вопросу при инспекции военной промышленности на Украине и сотрудник Института «Германский труд на Востоке», который был идеологическим центром германизации Польши («Dokumente der Zeit», Berlin, 1956, N. 102, S. 934).
2 .S e ra p Ii i in P. II., Die Wirlschaflsslniktur des Generalgouverneincnls, Krakau. 1941, s. 48—49.
16 Заказ I 220
241
1940 года получила 1 936 716,46 злотых прибыли*. Эта сумма образовалась из арендной платы за производственные сооружения, из процентов за «переданные запасы» и из других «обязательств», предусмотренных арендным договором с фирмой ККБ. Согласно этому договору, «Фервертунгсгезельшафт» финансировала большую часть капиталовложений. Однако все расходы были гораздо ниже суммы прибыли. Один из сохранившихся ревизионных отчетов включает следующие данные о капиталовложениях: на 1939 год (то есть с 12 сентября по 31 декабря) — 43 600 и на 1940 год —904 300 злотых1 2. Если даже допустить, что «Фервертунгсгезельшафт» финансировала все капиталовложения, сделанные за 1939 и 1940 годы, то есть затратила 947 900 злотых, то все же осталось около 1 миллиона злотых чистой прибыли. Из упомянутого отчета видно, однако, что по многим из статей капиталовложений, включенным в общую сумму, ни владелец «Фервертунгсгезельшафт», ни производственная фирма ККБ ничего, или почти ничего, не затратили, так как эти ценности были изъяты из других польских предприятий, закрытых во избежание конкуренции, а чаще вследствие «расовой неполноценности» владельцев. Таким образом, «Фервертунгсгезельшафт», несмотря на значительность капиталовложений, досталось более 1 миллиона злотых прибыли от предприятия, которое не стоило ему ни одного пфеннига. Нельзя поэтому считать такое положение обременительным. Бремя несли не те, кто вкладывал капитал, — не немецкие финансисты, а польский народ, так как эти капиталовложения были сделаны за счет его собственности, которой польский народ не мог распоряжаться вследствие того, что на его земле хищнически хозяйничал германский империализм. Но более того. Так как обязательства производственной фирмы Краковский кабельный завод по отношению к владельцу — опекуну «Фервертунгсгезельшафт» в определенной части определялись годовым оборотом, который благодаря капиталовложениям все время увеличивался (в военных заказах недостатка не было), то в последующие годы прибыли должны были еще вырасти. К сожалению, по этому поводу мы не располагаем документальными материалами.
Сохранились, однако, некоторые документы, которые позволяют судить об условиях жизни и труда польских рабочих этого предприятия. Хотя эти немногие материалы не дают возможности получить полное представление обо всем, они совершенно недвусмысленно свидетельствуют о жестокой эксплуатации, бесчеловечном терроре и о героическом сопротивлении польских рабочих. Это чувствуется почти в каждом документе. Немецкие монополисты не остановились перед тем, чтобы обречь на голодную смерть женщин и детей, и прекращали снабжение польских рабочих продовольствием, которое и без того было чрезвычайно скудным вследствие ограбления Польши. Таким путем они надеялись сломить сопротивление польского рабочего класса. Я особенно подчеркиваю эти факты, так как в них заключено конкретное доказательство жестокой политики, которую вели именно деятели немецких концернов, тогда как реакционные историки характеризуют ее как «перегибы», допускаемые «отдельными» эсэсовцами. Главари концернов были не менее жестоки, чем палачи в мундирах СС. Но они зато умели тайно обделывать свои грязные дела — эксплуататоров и убийц, руководить преступлениями, оставаясь в тени. Реакционная западногерманская историография пытается завуалировать или — более того — фальсифицировать эти обстоятельства. К тому же стремится и Штренг.
Для характеристики этого «ученого», а тем самым и всего Института проблем оккупации необходимо отметить, что он безоговорочно списывает пропагандистские сочинения фашистов и все изложенное в них объявляет историческими фактами. При этом следует подробнее рассмотреть отдель
1 KWO, Kabelwerk Krakau Betriebsgesellschaft m. b. II., Geschaftsbericht 1939-1940, Anlage 2, Handelsbilanz.
2 KWO, Bericht Nr. VI/9406 nebst vier Anlagen der deutschen Revisions- und Treu-hand Aktiengesellschaft Berlin uber die bei der Kabelwerk Krakau Aktiengesellschaft, Krakau, vorgenommene Sonderprufung, Exemplar Nr. 4, Fol. 2.
242
ные аргументы, их происхождение и их отношение к действительным фактам, чтобы убедиться в том, как под флагом «исследования» прославляется политика фашизма.
Штренг утверждает, напрпмер, что немецкие оккупанты сразу же после занятия Варшавы спасли от голодной смерти «десятки тысяч жителей», так как они доставили польскому населению зерно и другое продовольствие*. Именно этим «аргументом» в свое время пользовалась фашистская пропаганда. «Снабжение хлебом 1#огло быть обеспечено только потому, что из империи было вывезено в генерал-губернаторство зерно»1 2. Так или нечто в этом роде писали по всякому поводу хозяйничавшие в Польше нацистские фюреры (по терминологии Института проблем оккупации скромно именуемые «практиками»). Но в одном из секретных докладов на эту же тему было написано нечто совсем другое: «Ввоз большого количества продовольствия из других областей или из империи был невозможен уже потому, что из-за войны были разрушены железнодорожные коммуникации и т. д.»3 Даже если мотивировки и не совсем соответствуют действительности4, то само по себе зто является признанием, что фактически для польского населения ничего по было сделано. Но Штренг, выбирая источники, считает целесоообразным отказаться от использования этих секретных докладов. В то же время, как показывает следующим пример, он очень хорошо знаком с нацистской литературой.
Как известно, оккупанты с целью ограбления Польши создали много государственно-монополистических предприятий, в частности Центральное сельскохозяйственное управление (23 ноября 1939 года). Бывший руководитель главного отдела продовольствия и сельского хозяйства в так называемом правительстве генерал-губернаторства Науманн заявил в 1943 году в одном из своих докладов: «Центральное сельскохозяйственное управление было создано как чисто государственное учреждение с очень небольшим капиталом, недостаточным для решения тех задач, которые были перед ним поставлены»5. Буквально те же слова мы встречаем у Штренга на 31 странице его статьи. Пе станем выяснять, почему имепно Штренг не назвал источник: то ли из стыда, то ли из боязни, что в лихорадке свободной конкуренции его перегонит какой-нибудь другой «историк». 13о всяком случае, он не указывает источника, а приписывает себе открытие этой мудрости. Затем он сообщает, что к 30 июня 1943 года этот первоначальный небольшой капитал «...вследствие успешного ведения дел... вырос на 60 миллионов злотых...», и уверяет, что эта деятельность определялась не столько «стремлением к прибыли, сколько служением всеобщей пользе»6. Если добавить, что и эти слова также взяты из речи Науманна (хотя на этот раз и не дословно), то станет ясно, как точно и безоговорочно следует Штренг установкам фашистской пропаганды.
Стараясь привести свое «исследование» к нужному ему выводу, он, несомненно, приобретет печальную пзвестность. Все эти экономические успехи Штренг приписывает рейху. Он уверяет, что «рейх», «промышленники», «немецкое управление сельским хозяйством» вкладывали средства и оказывали помощь польской экономике, тогда как за террор, массовые уничтожения населения несут ответственность «местные немецкие власти». И от
1 S t г е n g, Heinz, Op. cit.., S. 5.
1 Generalgouverneinent: Ein Jalir Aufbauarbeit im Distrikt Krakau, Krakau-War-schau, 1940, S. 65.
3 Generalgouvernement: Berichle der Abteilung Innere Verwallung im Amt des Chefs des Distrikts Warschau, Warschau, 1940 (geheim). Berichl II: Die inneie Verwaltung im Distrikt Warschau, S. 42.
* Железные дороги, ведущие па Запад, были исправны. Некоторые нацистские главари хвастались во время войны тем, что еще осенью 1939 года они отправили только из так называемого Краковского округа в Германию 8699 польских рабочих. К тому же периоду они смогли уже вывезти в рейх более 25 тысяч штук птвцы, более 5 миллионов яиц и даже... крупный рогатый скот и телят (Ein Jahr Aufbauarbeil im Distrikt Krakau, S. 66, 67, 69, 87).
• Das Generalgouverneinent, seine Venvaltung und seine Wirlschaft, Kiakau, 1943, S. 125.
• S t r e n g, Heinz, Op. cit., S. 31, 32.
243
16»
«рейха» было бы, несомненно, получено больше, если бы в этом не препятствовали эсэсовцы. Именно это имеет в виду Штренг, заявляя: «Конечно... можно было бы добиться значительно больших успехов, если бы не действия... командиров и частей СС»1. Во имя этого и изображают радужными красками результаты экономической политики германского империализма, благодаря которой, по утверждению автора, «уровень жизни» польского населения во время немецко-фашистской оккупации «...был в ряде случаев значительно выше уровня жизни в довоенные годы...»1 2
Штренг не может не знать, что его утверждения противоречат фактам. Ему, как и другим авторам, выступающим с подобными же утверждениями, знакомы документы Международного трибунала, которые неопровержимо доказывают, что десятки тысяч польских граждан умерли от голода. Поэтому он вынужден признать, что «...изъятия сельскохозяйственных продуктов были довольно значительны...» Однако и в «возмещение этих изъятий»—так Штренг и другие называют ограбление польского населения— «...ввозились товары и производились работы, общая стоимость которых значительно превосходила изъятия»3. Штренг признает также, что у «немецкого руководства» была большая программа ограбления. Однако ои утверждает, что «экспроприация» не была проведена «в тех размерах... как было предварительно намечено»4. Задачи якобы заключались лишь в том, «чтобы извлечь из генерал-губернаторства возможно большее количество продовольствия для снабжения империи, вместе с тем обеспечивая и достаточное питание местного населения»5. Не знаю, чьими данными пользуется Штренг—бывшего статс-секретаря Рике или какого-нибудь другого «практика». Во всяком случае, Рике заявляет, что хотя Геринг в августе 1942 года действительно заявил, что «должны голодать не немцы, а население запятых областей...»0, ио «эти требования, за некоторым исключением, никогда не были осуществлены... они были значительно сокращены»7 8. А «свидетель» Бюлер показал на Международном процессе в Нюрнберге, что «...массовый голод вообще не мог иметь места, даже если бы все сельские районы были разграблены, чего, однако, не произошло»6. Что и говорить, Штренг оказался в весьма авторитетной компании. Но что ему делать? У него нет другого выхода, если уж он взялся доказать главный тезис своей статьи. В результате всего читатель должен поверить ему, что якобы «нельзя говорить о том... что Германия, как ее в этом упрекали, эксплуатировала оккупированные ею страны и особенно Польшу»0. В то время как Герцог, Книрим и другие рассматривают главным образом юридическую проблему и с этих позиций пытаются доказать, что якобы существовало противоречие между «немецкими оккупационными властями» п «рейхом», Штренг предпринимает подобные попытки в решающей отрасли экономики! Мы сталкиваемся здесь с главной тенденцией реакционной немецкой историографии, трактующей оккупационную политику немецкого империализма в Польше. Эта тенденция была выражена уже несколько лет назад, а теперь должна быть подкреплена фактическим материалом с помощью Тюбингенского института проблем оккупации.
Таким образом, шаг за шагом одно за другим зачеркиваются преступления оккупационной политики немецких фашистов и на глазах у читателя разбойничья п грабительская политика германского империализма превра-
1 Siren ц, JI е i в z, Op. cit., S. 94.
2 Ibid., S. 71.
3 Ibid., S. 92.
1 Ibid., S. 5.
5 Ibid., S. 14. •
® «Итоги второй мировой войны». •
7 Ibid., S. 339.
8 IMO, 13d. XII, S. 121. Тот же самый Вюлер, будучи статс-секретарем, заяви.'! 31 мая 1943 года на одном совещании, что пайки иностранных рабочих «ни в коем случае нельзя сохранять на прежнем уровне», так как :>то «приведет к восстаниям» (Ibid., S. 120, 121).
8 Siren" 11 е i n z. Op. cit., S. 92.
244
тцается в своеобразную систему великодушной благотворительности, помощи польскому народу. И все это производится под ширмой «антифашизма», под флагом критики «немецких оккупационных властей». Политику немецкого финансового капитала называют политикой «рейха» и пытаются утверждать, что она якобы противоречила политике «руководства». В итоге ответственный редактор журнала «Дер еропеише остен» Гордон советует польскому пароду «...забыть чувства вражды... между поляками и немцами...1, так как все противоречия межу^тми, по существу, не большие, чем... те различия, которые бывают везде...»* 2 *
Что касается отношений между трудящимися обеих стран, то с этими словами можно полностью согласиться. Но Гордон имеет в виду пе те отношения, которые, к нашей радости, постоянно улучшаются на основе социалистического строительства в Польской Народной Республике и в ГДР. Нет, Гордону хотелось бы, чтобы польский народ забыл звериный лик немецкого империализма и ослабил бдительность по отношению к его новым агрессивным планам. С этой же целью пытаются клеветнически истолковать освобождение Польши Советской Армией как агрессию Советского Союза, а победу польского рабочего класса — как его поражение. Утверждают даже, что «события после войны, после 1945 года, были, возможно... еще тяжелее, чем ужасные события военного времени»3.
Известно, что польская нация потеряла в результате немецко-фашистской оккупации более 6 миллионов человек. Кроме того, немецкий фашизм оставил Польше 1,6 миллиона людей, полностью или частично утративших работоспособность. Материальные потерн Польши составили 38 процентов ее довоенного национального богатства. Реакционная западногерманская историография просто скрывает эти факты. Но, с другой стороны, именно из этих ран она пытается извлечь политический капитал для борьбы против социализма. Отказываясь признавать замечательные успехи польского рабочего класса и всего трудящегося народа, реакционные историки и другие апологеты империализма пытаются внушить польскому народу, что он неспособен построить социализм. И в подтверждение этого враги социализма ссылаются на кровавые раны, нанесенные польскому пароду германским империализмом, и злорадно подчеркивают и преувеличивают неизбежные трудности социалистического строительства. Так, например, Серафим торжествующе попил: «Специализированные отрасли промышленности страдают от резкой нехватки квалифицированной рабочей силы, п поляки вынуждены сокращать или совсем прекращать производство»4. При этом, однако, он не упоминает ни одним словом, что почти вся польская интеллигенция и значительная часть квалифицированных рабочих пали жертвами тех попыток германизации, в которых и сам Серафим принимал соответствующее участие.
В сборнике, изданном Германом Лубином, написано: «Польское население пе смогло восстановить ремесла и промышленность Силезии во всем их многообразии»5. Так апологеты германского империализма пытаются использовать последствия немецко-фашистской оккупации не только для клеветы па социализм, по и одповременно для гальванизации старой легенды о том, что только германский империализм может принести нашим восточным соседям культуру и прогресс. И для этого германскому империализму требуется такая историография, которая изображала бы основные характерные черты его оккупационной политики — эксплуатацию, грабеж, массовые убийства населения — как нечто прямо противоположное пли хотя бы оправдала немецкий финансовый капитал, сняв с него ответственность за эти преступления.
'Gordon, Е (1 m и и d, Polen inuG wicdcr an seinen Platz kommen. In: «Der ptiropiiische Osten», Miinchen, 1956, Nr. 5, S. 260.
2 Ibid., S. 259.
3 Ibid., S. 261.
4 S e г a p Ii i n P. 11., Ostwarts der Oder und NeiBe, Hannover, 1949, S. 74.
5 Obst E., Schwarz G., Die osldeutsche Wirtschaft im RabmeB Europas. In: A u b i n, H e rm a n n, Der deutsche Osten und das Abendland, Miinchen, 1953, S. 192.
245
Не кто иной, как председатель западногерманского объединения историков Герман Аубин вновь выдвинул старый тезис буржуазных исследований европейского востока как основу политической программы: «притязания восточных немцев на их родную землю... вырастают из великого труда колонистов»1. О чем именно при этом идет речь, он предусмотрительно предоставляет говорить другим авторам: «...только оказавшись в немецких руках, тяжелая промышленность в Силезии могла бы стать подспорьем для тяжелой промышленности Западной Германии»1 2.
Соответствие точки зрения этих авторов взглядам правящих кругов Бонна совершенно очевидно. «Федеральное правительство настаивает на том... что основанная на международном праве территория Германии определяется германскими государственными границами по их состоянию на 3t декабря 1937 года и что немецкий народ не может считать линию Одер — Нейсе ни настоящей, ни будущей границей Германии»3.
Так заявил Брентано в правительственной декларации западногерманскому бундестагу. А 22 сентября 1957 года агентство ДПА сообщило из Нью-Йорка, что Аденауэр в интервью, данном корреспондентам «Коламбиа бродкастинг корпорейшн», сказал: «Настанет день, когда вся область по ту сторону Одера и Нейсе войдет в Объединение угля и стали»4.
В свете этих фактов роль реакционной западногерманской историографии предельно ясна. Так же как перед второй мировой войной, она служит целям идеологической подготовки войны и поставляет германскому империализму аргументы для его агрессивных притязаний.
1 /Vubin, Hermann, Op. cit., S. 17.
’ О bst E., Schwarz G., Op. cit., S. 192.
3 Deutscher Bundestag—188. Sitzung, Bonn, Donnerstag, den 31. Januar 1957, S.. 10 642 (D).
4 «Die Welt», Hamburg, 23.9.1957.
Вернер Харткопф
ПОПЫТКИ ПРОСЛАВЛЕНИЯ ФАШИСТСКОГО ВЕРМАХТА
И СОЗДАНИЯ НОВОЙ ЛЕГЕНДЫ ОБ «УДАРЕ КИНЖАЛОМ В СПИНУ» В КНИГЕ МИДДЕЛЬДОРФА «ТАКТИКА В РУССКОЙ КАМПАНИИ»
Реакционные силы Западной Германии, которые теперь выдвинулись на положение главного союзника агрессивного американского империализма, используют все средства для создания западногерманской армии наемников, для подготовки новых агрессивных войн против Советского Союза и всего социалистического лагеря. Этой цели служит также идеологическая подготовка войны. В этой связи особая роль отведена литературе по военным вопросам. Целый поток произведений фашистских вояк призван восстановить «честь» всей фашистской армии в целом и, в частности, тех военачальников, которые приобрели наиболее постыдную известность. Прославляя их подвиги и подчеркивая бездарность и невежество Гитлера в военном деле, пытаются создать новую разновидность легенды] «об ударе кинжалом в спину».
Одной из книг, преследующих такую цель, является «Тактика в русской кампании» Эйке Миддельдорфа, выпущенная в 1956 году издательством «Миттлер унд зон» в Дармштадте.
Выступая по второму пункту повестки дня нашей конференции, который посвящен, в частности, западногерманской литературе о второй мировой войне, я хотел бы прежде всего высказать некоторые соображения об этой книге и осветить ее реакционное идейно-политическое содержание.
Свою военную карьеру Мпддельдорф сделал при фашизме. С 1944 года и до самой капитуляции гитлеровской Германии он состоял в штабе фашистского верховного командования сухопутных войск в должности «референта по использованию тактического боевого опыта».
При нынешнем развитии Западной Германии в одну из самых агрессивных империалистических стран Миддельдорф, естественно, рассматривается там как крупная сила. Уже с 1952 года (!) он был «референтом ведомства Бланка», которое превратилось в «федеральное министерство обороны». Эта книга тем более ценна для западногерманских империалистов, что предисловие к ней написал пресловутый нацистский генерал-лейтенант Хойзингер, который рекомендует содержащиеся в ней «ценные предложения и советы» учесть и использовать в Западной Германии при формировании антинародной армии наемников.
Построение книги Миддельдорфа показывает, что автор хотел рассмотреть и частично рассмотрел с военно-технической точки зрения ряд важных проблем войны против Советского Союза. Одновременно, однако, эта книга демонстрирует всю слабость империалистической военной идеологии вообще и немецкой империалистической идеологии в частности. Миддельдорф хотел бы:
1) доказать, что фашистская армия превосходила Советскую Армию «как в начале, так и в конце войны»;
2) исходя из этого, обосновать притязания битого германского империализма на руководящую роль внутри агрессивного империалистического военного блока;
3) свалить ответственность за поражение фашистской армии главным образом на Гитлера и оправдать немецких милитаристов;
247
4) доказать, что Советский Союз лишь «копировал принципы немецкого военного руководства» и победил благодаря своему численному превосходству;
5) привести читателя к выводу, что новая война будет выиграна германскими милитаристами.
Но такая постановка вопроса может привести лишь к авантюристической политике битого фашистского германского империализма, возвращает к политике обанкротившихся германских милитаристов. Эта постановка вопроса была и остается нереальной, даже если к ней прибегают якобы с целью исследования вопросов тактики — ее осуществляют под флагом «науки».
Миддельдорф рассматривает явления метафизически: он выхватывает отдельные явления из общей связи, превращает единичные факты в догмы, почти совершенно отрывает их от экономики и политики и преувеличивает значение военно-технической стороны дела. Хотя он исследует «опыт тактики в русской кампании», он не только из-за отсутствия конкретно-исторического подхода делает ложные выводы в важнейших вопросах, но, преследуя свою основную цель, прибегает и к сознательной лжи и явным искажениям.
Правда, в первом разделе своей книги он требует, чтобы при изучении тактического опыта пехоты «в качестве основы... наряду с опытом немецкой армии были привлечены в первую очередь материалы второй великой пехотной державы прошлой войны —России». При этом он разделяет агрессивную войну против Советского Союза на два периода: первый — до битвы под Сталинградом, второй—с 1943 по 1945 год. Однако существенным для рассмотрения он считает лишь первый период, с июня 1941 по декабрь 1942 года, то есть первые полтора года войны до катастрофы у Сталинграда, так как «последний период войны на Востоке (1943—1945)», то есть гораздо более1 продолжительный, в два с половиной года, о чем он скромно умалчивает, «протекал в условиях столь резкого неравенства обеих сторон в пехоте, артиллерии, танках и самолетах... что далеко не весь опыт этих лет... может быть использован при определении тактики пехоты в будущем. К тому же немецкие войска в большинстве случаев были уже недостаточно обучены, снаряжены, не имели полноценного руководства...»
С другой стороны, он отказывается использовать в своих исследованиях соответствующий опыт западных держав-победительниц, так как опыт боев, которые они вели в «последний» период при «безнадежном материальном отставании немцев», «на очень широком фронте» п т. д., мог бы «легко привести к неверным выводам»1.
Таким образом, с точки зрения первых полутора лет войны на Востоке ему кажется легче «доказать» превосходство фашистской армии и «научно» обосновать многократно высказанные притязания немецких милитаристов на руководство всем агрессивным западным военным блоком.
Однако уже в этой своей «периодизации* Миддельдорф упускает некоторые очень важные обстоятельства.
1. В 1941 году фашистская Германия использовала преимущества известных временно действующих факторов войны. При этих условиях немецким милитаристам удалось вначале поставить СССР в трудное положение и добиться определенных стратегических успехов. Однако немцы не одержали каких-либо решающих побед. Но Миддельдорф не только не осуждает преступной политики немецких империалистов и милитаристов, но предполагает, что именно такими же будут исходные позиции готовящейся третьей мировой войны. В этом уже заключено его первое основное заблуждение не только потому, что коренным образом изменились соотношения мировых экономических, политических и воЛных сил, и не потому, что мировая война никогда не может быть выиграна при помощи тех временных, то есть побочных факторов, из которых исходит Миддельдорф, но прежде всего потому, что совет-
1 М i d d с 1 d о г f, Eike, Taktik im Bufllandfeldziig. - Erfahrungen und Fol gerungen. Darmstadl, 1956, S. 14.
248
ское командование сегодня совершенно определенно считает, что так называемая «активная оборона» вовсе не является классической формой военного искусства, а была вызвана условиями того времени. Тем самым ныне имеется полная ясность относительно того, что к обещаниям империалистических стран о ненападении надо относиться с максимальной осторожностью и что 22 июня 1941 года уже не повторится. Сегодня, как сказал Н. С. Хрущев, в случае агрессии Аденауэра Советскому Союзу не потребуется много средств, чтобы разгромить агрессоров, не дав им возможности даже перейти собственные границы. *
2. Вторая коренная ошибка Миддельдорфа состоит в том, что при «исследовании» он исходит исключительно из «немецких принципов ведения войны» и всячески это подчеркивает, хотя в действительности эти принципы покоятся на неспособности немецких милитаристов реально оценивать экономические, моральные, политические и военные возможности, или, иначе говоря, на общеизвестном безграничном высокомерии немецких милитаристов.
Обратимся к «исследованиям» Миддельдорфа.
По поводу главных родов войск и способов ведения ими боя он заявляет, например: «Не может быть никаких сомнений в том, что... немецкие сухопутные войска как в начале войны, так и в конце ее располагали более сильной пехотой»1. Но первые «сомнения» невольно возникают уже тогда, когда сам он сразу же после столь бойкого утверждения начинает перечислять, в чем именно советские войска превосходили немцев. Так, например, советская пехота была сильнее немецкой «в ночном бою», «в бою в лесу и на болотах», «в подготовке снайперов», «в строительстве позиций», «в зимних боях», «в большем количестве автоматического оружия», «крупнокалиберных минометов» и вообще «в большем количестве оружия из расчета на каждого солдата» и «в большем количестве офицеров». К этому надо прибавить недостатки вооружения немецкой стороны, в особенности отсутствие эффективного противотанкового оружия. Автор пишет: «Пожалуй, самой печальной главой в истории пехоты был вопрос о противотанковой обороне. Начиная с 37-мил-лиметрового противотанкового орудия, прозванного в армии «колотушкой», через 50-мнллиметровые к 75-миллиметровым моторизованным противотанковым пушкам шло хождение по мукам немецкой пехоты в ее борьбе против русского танка «Т-34»1 2.
Чтобы у читателя уже с первых страниц не возникли еще более значительные «сомнения», сообщения о других факторах, определивших советское превосходство, автор подает, можно сказать, по каплям на протяжение всей книги. Так, он вынужден неоднократно говорить о силе обороны советских войск, которую он, впрочем, объясняет исключительно «национальным характером».
«На что способен русский пехотинец благодаря преимущественно пассивным чертам своего национального характера, показала, в частности, неудача немецкой операции «Цитадель»: «Русские яростно сопротивлялись даже в одиночку, обороняли каждый окопчик до последнего вздоха, и это почувствовали отлично вооруженные немецкие атакующие дивизии»3. В другом месте Миддельдорф говорит о том, как Советская Армия «отлично научена» рыть окопы и маскироваться, оборонять населенные пункты и вести ночные атаки4. Это не мешает ему, однако, в заключении книги сказать: «Неправильно было бы утверждать, что русский солдат превосходит немецкого в ночном бою». Он якобы даже «морально» уступал ему5. В то же самое время он признает, что «русский солдат — защитник первоклассно оборудованных позиций», «упорный и превосходный наблюдатель» и, наконец, что «рус-
1 М i d d с 1 (1 о г f, Elk е. Taklik im HuBlandfeldzug. - Erfahrungcn und Folgerungen. Darmstadt, 1956, S. 11.
2 Ibid., S. 12.
3 Ibid., S. 13.
4 Ibid., S. 14.
6 Ibid., 180.
249
скин всегда стремится к рукопашному бою, к штыковой атаке», в которой «русский чувствовал свое превосходство»1. Мимоходом Миддельдорф упоминает о советском искусстве отвлекающих маневров, засад, внезапных ударов, о строгом соблюдении тайны в советских войсках, об искусстве в распространении дезориентирующих слухов, устройстве мнимых позиций и многом другом. Но Миддельдорф при этом даже не пытается найти причины этого качественного превосходства, напротив, он пытается преуменьшить его, заявляя, что во всем том, о чем он писал, Советская Армия превосходила фашистскую «в начале войны», предоставляя мыслящему читателю следовать логике фактов и самому уже добавить: «а в конце войны — тем более». С другой стороны, Миддельдорф всячески подчеркивает, что фашистская армия имела превосходство в наступлении. Для первого периода войны это утверждение в известной степени обоснованно и объясняется прежде всего временными факторами, действовавшими в начале фашистского нападения. Это признают даже «корифеи» нацистской армии — впрочем, так же неохотно и обиняками, как Миддельдорф. Тогдашний начальник генерального штаба Гальдер записал в своем дневнике 3 июля 1941 года: «Пожалуй, не будет преувеличения сказать, что кампания в России была выиграна в течение двух недель». 10 августа 1941 года тот же Гальдер уже записал:
«Мы ввели в бой наши последние резервы... Мы теперь предпринимаем последнюю, отчаянную попытку помешать тому, чтобы наша главная оборонительная линия не застыла в позиционной войне...»1 2 [Курсив мой.—В. X.].
Генерал Буле сообщал Гальдеру 19 августа 1941 года, что в Южной группе войск боеспособны только 60 процентов танков. 24 августа он сообщил, что в пехотных дивизиях осталось в среднем 40 процентов личного состава, в танковых—50 процентов.
Типпельскирх вынужден, например, сделать такое признание: «Наступление на Москву, начатое 2 октября, остановилось, войска не достигли своей цели. Армиям, наносившим удар на юге, удалось лишь на некоторое время овладеть Ростовом-на-Дону, который уже в конце ноября пришлось отдать обратно. В руках противика продолжал оставаться и Ленинград. Более того, русские войска оказались достаточно сильными, чтобы вместе с резервами, подтянутыми с Дальнего Востока, перейти на центральном участке фронта от обороны к контрнаступлению. Меч возмездия был обнажен... Немецкой армии благодаря железной воле Гитлера и ценой больших потерь в людях и технике все же удалось воспрепятствовать русским, надеявшимся в ходе своего контрнаступления добиться уничтожения сил немецкого восточного фронта, осуществить свои планы»3.
Кессельрингу в его заносчивых, примитивных и в высшей степени гнусных высказываниях об агрессивной войне фашизма против Советского Союза также приходится сознаться, что фашистская армия в конце октября «вынуждена была перейти» к обороне. Хотя, по словам того же Кессельринга, Советский Союз обладал лишь «неполноценными резервами»4.
Миддельдорф, категорически утверждая превосходство фашистской армии в наступлении, явно сел в лужу. Для всего последующего длительного периода войны, с октября 1942 по май 1945 года, это утверждение вообще совершенно несостоятельно. Это признает он и сам — в завуалированной форме,—когда пишет о битве под Курском в июле 1943 года: «За все четыре года войны на Востоке это была единственная крупная немецкая наступательная операция, которая не удалась уже в самом начале»5. Миддельдорф явно хочет ввести читателя в заблуждение. Хотя это была и единственная
1 Mid deldor Г, Е i4< е, Taktik im RuBlandfeldzug.—Erfahrungen und Fol-geruugen. Darnisladl, 1956, S. 202. *
* Garlbolf, Die Sowjetarmee—VVesen und Lehre, Koln, 1955, S. 479.
3 «Итоги второй мировой войны», Издательство иностранной литературы, М., 1957, стр. 78—79.
1 Kesselring, Soldal bis zum letzlen Tag, Bonn, 1953, S. 112 ff.
5 Middeldor Г, Op. cil., S. 32.
250
крупная наступательная операция, которая уже вначале потерпела поражение, но она произошла в июле 1943 года, то есть за два года до окончания войны, тогда как предшествующая битва—Сталинградская—крупная наступательная операция, хотя и началась было удачно, но закончилась полным разгромом наступавших немецких войск. Это наступление развертывалось примерно через год после начала войны, значит, за три года до ее окончания. Характерно для метода Миддельдорфа, что из всех крупных битв он более подробна останавливается только на Курском сражении 1943 года. Зимнее сражение 1941 года он не только не разбирает, но даже не упоминает о нем, о Сталинградской битве говорит лишь мимоходом и совершенно «забывает» обо всей цепи сражений 1944—1945 годов, которые принесли фашизму сокрушительный разгром.
Между тем «светила» фашистской армии, как они ни изворачиваются, тоже в конце концов вынуждены признать эти факты.
Гудериан пишет, например: «Переход к обороне [в 1942 году. — В. X.] был би признанием собственного поражения в кампании 1941 года»1 [курсив мой.— В. X.J. И далее: «30 января 1943 года 6-я армия капитулировала. С большим трудом генералу Клейсту удалось спасти свою группу армий «А», отведя ее в начале января 1943 года за Дон в нижнем его течении. В конце января 1943 года на северном участке бывшего фронта наступления немецкой армии пришлось оставить Воронеж. Итак, летняя кампания 1942 года закончилась для немецкой армии тяжелым поражением. С этого времени немецкие войска на Востоке навсегда перестали наступать»1 2.
Типпельскирх идет еще дальше: сталинградская операция «пе имела бы успеха даже и в том случае, если бы в результате ее немецкой армии удалось захватить Сталинград и продвинуться до Грозного. Дело в том, что наступательная мощь немецкой армии иссякла, да и сама армия, как и армия сателлитов Германии, была слишком слаба даже для того, чтобы на 2000-километровом фронте, от Кавказа до Воронежа, выдержать натиск русского контрнаступления. Когда в конце июля было принято решение и в дальнейшем преследовать две цели, исход войны со всеми его последствиями был окончательно предрешен»3.
Каковы бы пи были суждения по отдельным вопросам, в общем из них видно, что фашистские вояки со всеми их «руководящими принципами военного искусства» полностью обанкротились. Те «крупные немецкие наступательные операции», о которых так высокопарно болтает Миддельдорф, оказались в конечном счете колоссальными поражениями фашистской армии и ее командования и выдающимися победами Советской Армии.
Дерр вынужден признать, что «... в 1942 году Сталинград стал поворотным пунктом второй мировой войны... для Германии битва под Сталинградом является самым тяжелым поражением в ее истории, для России — ее самой большой победой... Ни один из ее союзников в этой войне не может похвалиться такой победой»4. И далее: «Сталинград как военное событие не был таким подвигом, как битва за Фермопилы... он должен войти в историю войн как величайшая ошибка, какую когда-либо совершило военное командование, как величайшее злоупотребление живой силой бойцов, которое когда-либо свершала государственная власть»5.
С этих пор, после битвы на Курской дуге летом 1943 года, — и уже окончательно — инициатива перешла в руки советских войск. Отныне и впредь уже только они навязывали противнику развитие событий. Советские армии наступали и летом и зимой, выигрывали битвы в огромных окружениях, одерживали победы сразу на нескольких участках фронта, и в течение последующих лет войны силы советских войск непрерывно возрастали и в их
1 «Итоги второй мировой войны», стр. 126.
2 Там же, стр. 129.
3 Там же, стр. 80—81.
4 Doerr, Der Feldzug nacli Stalingrad, Darmstadt, 1955, S. 113.
5 Ibid., 119.
251
победном продвижении обнаружилось превосходство социалистической военной науки над «принципами немецкой военной тактики» Миддельдорфа. Однако сам он почему-то обходит'все это, хотя и заявляет, что хотел подытожить «опыт», и в начале даже подчеркивает, что «в качестве основы... наряду с немецким опытом в первую очередь должна быть учтена точка зрения второй великой пехотной силы прошлой войны — России».
Миддельдорф сам приводит цифры потерь немецкой пехоты, указывая, что каждая пехотная рота потеряла в среднем 1500 человек за первые три года «похода на Восток»; это значит, что каждые три с половиной месяца рота полностью «обновлялась». Если вспомнить при этом, что в результате все более «тотальных» мобилизаций остатки мужского населения после короткого обучения отправляли прямо в уничтожающий огонь советских войск, и прежде всего если учесть исход войны, то нельзя назвать иначе, как преступным то, что Миддельдорф пишет в конце книги: «В двух обильных потерями войнах немецкая пехота принесла много кровавых жертв. В третий раз наш народ не вынесет таких жертв. Поэтому в будущем путь немецкой пехоты не должен быть снова хождением по мукам... современная ситуация, позволяющая все начать снова и с самого начала, представляет единственнуи» в своем роде возможность практически использовать уроки, оплаченные такой дорогой ценой... И тогда, вводя в бой стрелковые части, можно будет снова по праву сказать: ...скромная пехота — да защитит тебя бог».
Миддельдорф не собирается извлекать таких уроков — его сочинение должно помочь в расчистке дороги к новой военной авантюре. Разница лишь в том, что теперь «защиты божьей» просят уже не для солдат в нацистской форме, умиравших за интересы германского монополистического капитала, а для немецких наемников в американской форме, которые должны сложить свои головы за интересы американского и германского империализма.
К таким же примерно трюкам прибегает Миддельдорф, говоря о танковых войсках, и приходит к аналогичным «выводам».
Вначале он подтверждает, что «в первой фазе войны... немецкое командование имело достаточное количество танков», но сразу вслед за этим пытается при помощи разных статистических комбинаций «доказать», что якобы с самого начала войны число советских танков чуть ли не в астрономических соотношениях превышало число немецких, и темсамым«возпеличить» достижения фашистской армии и ее командования. И разумеется, «в течение всего восточного похода» соотношение уничтоженных танков составляло 1 : 10 в пользу фашистского вермахта. Более того, были якобы даже достигнуты «большие успехи» в действиях «легких... танков против тяжелых танков противника»1. Согласно утверждениям Миддельдорфа, с 1941 по 1945 год в гитлеровской Германии было произведено 25 тысяч танков, а в Советском Союзе—150 тысяч1 2. Хотя Миддельдорф прибегает здесь к прямому обману, но, называя даже такие цифры, он чувствует, что они противоречат ого же данным о «соотношении» уничтоженных танков. И поэтому он отмечает, что это соотношение «часто бывало менее благоприятным, чем 1 : 10... вследствие крупных отходов» и битв в окружениях, в которых он, конечно, винит Гитлера. Миддельдорф заходит в своем славословии еще дальше. Гак, по его словам, «немецкий типовой танк первых лет восточного похода» якобы превосходил Т-34, «главным образом.по технической и тактической выучке экипажа, в вооружении и в прицельности...» Одпако... |Т-34]... имел такие большие преимущества... в броне и проходимости, что стал для немецких тапковых соединений очень опасным противником, а для немецкой пехоты и всей противотанковой обороны—подлинным страшилищем.
1 См. Middeldorf, Op. cil., S. 14, 31 ff.
2 По официальным данным, ежегодное производство танков в Советском Союзе составляло 30 тысяч, то есть за последние три года войны было выпущено всего 90 тысяч танков. Производство танков для фашистской армии составляло, по данным Керля («Итоги второй мировой войны»): 1942 год—9300, 1943—12 700 и 1944 год—27 тысяч, итого 49 тысяч танков с января 1942 года по 31 декабря 1944 года.
252
Подобная «логика» принадлежит, очевидно, к «основным стратегическим принципам» немецких милитаристов. Она полностью игнорирует представителей противной стороны. Все расчеты не могут решить главного противоречия: ведь нельзя же только благодаря лучшей броне и проходимости стать ни «страшилищем для всей противотанковой обороны и пехоты», ни «опасным противником» других танков1. Миддельдорф и в этом противоречит себе: «Почти все немецкие оборонительные бои во время прошлой войны на Востоке определялись чем, что противник вводил в действие крупные танковые соединения. В этих боях хорошо укрепленные и Удобные для обороны позиции часто бывали прорваны напором комбинированных танковых п пехотных атак врага...»1 2 (Этого признания уже не могут опровергнуть все последующие оговорки Миддельдорфа.) Замечая, что его «расчеты» неубедительны, он ищет другого выхода и заявляет, что постоянно растущее преимущество советских танковых сил «определялось войной на нескольких фронтах, американскими поставками по ленд-лизу, а также значительностью немецких потерь, понесенных в ходе больших отступлений». Миддельдорф попросту рассчитывает на глупцов. Более влиятельные фашистские военные, которые сейчас с ним сотрудничают, подтвердят, что в 1941 —1943 годах до 80 процентов немецких соединений находились на Восточном фонте и о войне «на нескольких фронтах», о которой говорит Миддельдорф, не могло быть и речи до июня 1944 года, то есть до времени, когда благодаря победам советских войск на Восточном фронте исход войны был уже предрешен. Миддельдорф прекрасно знает, что численность войск, находившихся в Африке, а затем в Италии, по сравнению с находившимися на Восточном фронте была незначительна, в то же время фашистское верховное командование в первые годы войны против Советского Союза было уверено, что нечего опасаться открытия настоящего второго фронта, то есть фронта в Западной Европе. Что же касается американских поставок по ленд-лизу, то и здесь Миддельдорф обманывает читателя. Общеизвестно, что эти поставки были произведены в общем па сумму 10,8 миллиарда долларов, в счет которых было поставлено также 10 тысяч танков, то есть небольшое число в сравнении с продукцией советских предприятий3. Что же касается «высоких потерь при отступлениях», то они, естественно, имеют свои причины. Миддельдорф, согласно «задаче своего исследования», усматривает вину только Гитлера. Совершенно очевидно, что он не смеет и не хочет раскрыть более глубокие причины, так как тогда он вынужден был бы...говорить о Советской Армии. Вместо этого в книге Миддельдорфа одно противоречие нагромождается на другое. Так, например, он утверждает, что «с обеих сторон противотанковая оборона... в общем отказала». Однако во многих других случаях Миддельдорф пишет о Советской Армии нечто прямо противоположное. Далее он заявляет:
1 Генерал-лейтенант в отставке Шнейдер, который во время войны был начальником отдела разработки и испытаний вооружения, боеприпасов и технического оснащения сухопутных войск и к тому же одно время командиром танковой дивизии, пишет в книге «Итоги второй мировой войны»: «Несмотря па некоторые конструктивные недостатки, немецкие танки вполне оправдали себя в первые годы войны... до тех пор пока в начале октябри 1941 года восточнее Орла перед немецкой 4-й танковой дивизией пе появились русские тапки Т-34 и пе показали нашим привыкшим к победам танкистам свое превосходство в вооружении, броне и маневренности. Танк Т-34 произвел сенсацию» (стр. 302).
Хотя и Шнейдер там не говорит о людях, но его признания идут гораздо дальше, чем признания Миддельдорфа. Превосходство советского тапка над немецким оказалось столь велико, что, по словам Шнейдера, были предприняты попытки построить подобный же. Но «попытка создать тапк по образцу русского Т-34 после его тщательной проверки немецкими конструкторами оказалась неосуществимой» (стр. 303).
2 М i il (I е I d о г f, Op. cilS. 156.
3 В западногерманской реваншистской и милитаристской литературе американские поставки Советскому Союзу по ленд-лизу играют главную роль и соответственно раздуваются. А в литературе США, в частности, например, в таком признанном образцовом издании, как «Советская армия. Сущность и уроки», эти поставки почти вовсе пе упоминаются. Очевидно, американские милитаристы более трезво и реалистичнее, чем их немецкие «коллеги», оценивают силы Советского Союза.
253
«Опыт борьбы на Востоке, где противник располагал значительными танковыми силами, артиллерией и минометами, по сути дела, опрокинул все-выработанные в мирное время немецкие представления о... критериях выбора позиций. В противоположность всем довоенным уставам армий крупных сухопутных держав вышедший в 1936 году русский «Полевой устав Рабоче-крестьянской Красной Армии» отдает предпочтение противотанковой обороне... Важнейшим подтверждением русской точки зрения о преимущественной роли противотанковой обороны может опять служить... немецкое наступление на Курск в июле 1943 года. Там были введены в бой 19 полностью-вооруженных танковых соединений... и приходится констатировать, что русские принципы преимущественного значения противотанковой обороны, полностью оправдались»1.
Говоря об артиллерии, Миддельдорф исходит из того, что во второй-мировой войне артиллерия показала себя «классическим орудием поддержки» пехоты и танков.
Перед лицом фактов Миддельдорф вынужден реалистично оценивать советское артиллерийское вооружение. Он характеризует его как «очень хорошее и современное», «удовлетворяющее всем современным требованиям», указывая, что «колоссальные цифры производства орудий в России» позволили Советской Армии «создать чрезвычайно большое число разного рода артиллерийских соединений». При этом он совсем забывает свое собственное определение роли артиллерии как «классического оружия поддержки пехоты и танков», по не учитывает и того, что в Советской Армии артиллерия считалась «главной ударной силой», и вместо этого представляет дело так, будто бы непрерывно понижалась боеспособность «едва обученной русской пехоты» и поэтому она «нуждалась во все более крупных сосредоточениях артиллерии».
Таким образом, Миддельдорф втихомолку меняет роли. Он просто «забыл» о том, что сам же писал раньше, и вынужден, хотя и в обрамлении из антисоветских фраз, признать достоинства советской пехоты. Так, например, он пишет, что для советских пехотных атак было характерно предварительное, постепенное и скрытое продвижение бойцов к оборонительных» рубежам противника. Но так как Миддельдорфу все же нужно «доказать превосходство» фашистской армии, то он имеет наглость утверждать, что «хотя русская артиллерия год от года...становилась все более действенной... но до наступлений 1944 года русским артиллеристам, как правило, удавалось лишь в единичных случаях подавлять немецкие батареи. В последний же год войны у немцев оставалось лишь совсем немного артиллерии, а то и вовсе никакой не было»1 2. До таких утверждений можно додуматься лишь с помощью «испытанных немецких стратегических принципов». У пего не хватает мужества написать, что, например, в зимней битве 1941 года только с 3 декабря 1941 года по 15 января 1942 года фашисты потеряли 2766 танков и 4801 орудие, что в Сталинграде потери фашистов составляли 1550 танков и 6700 орудий и что только в последние четыре месяца войны было уничтожено 12 тысяч немецких танков и 23 тысячи орудий, причем немалую роль в этом сыграла советская артиллерия.
Миддельдорф «исследует» также и «бон в собых условиях». Признавая, что зимой 1941/42года «немецкая армия... накопила... особенно горький опыт», он приходит к выводу, что «решающим» является «обучение войск с таким расчетом, чтобы зимние условия были для них дополнительным союзником». О «боях в котлах» он судит по-иному: «Если окружение под Демянском и угрожавшее и лишь с трупом предотвращенное окружение во время оборонительных боев под Ржевом можно было еще как-то оправдать с оперативной точки зрения, то катастрофы в Сталинграде, Севастополе, Тунисе, Черкассах и др. достаточно ясно показывают, что, утратив стратегическую иници
1 М i d d е 1 d о г f. Op. cit., S. 132.f.
2 Ibid., S. 93.
254
ативу, нельзя сознательно идти на окружение—это означает лишь бессмысленные жертвы»1. Во всех «котлах», «не оправдываемых с оперативной точки зрения», повинен, разумеется, Гитлер. Хотя Миддельдорф и дает указания, как именно следует вести себя, оказавшись в окружении, начиная с предотвращения «угрозы окружения» и вплоть до «прорыва из окружения в катастрофических ситуациях», он прежде всего предостерегает от окружения как такового. Немецкий опыт по второй мировой войне'учит тому, что «ни в коем случае нельзя допускать окружения, если оно не вызвано настоятельной необходимостью»1 2. Однако, следуя логике Мидделвдорфа, и в будущем вообще уже должна быть устранена самая возможность «котлов», так как уже нет в живых главного виновника их — Гитлера. Допуская таковую возможность, он тем самым признает, что и другие фашистские военачальники ответственны за это и что образование окружений не з последнюю очередь зависело от Советской Армии и ее командования.
То чисто абстрактное рассмотрение, которому Миддельдорф подвергает проблему партизанской борьбы, хотя и не является слишком глубоким, но вполне правильно характеризует условия, определяющие успех этой борьбы. А конкретные исследования советского партизанского движения у Миддельдорфа выдержаны, однако, в том же духе, что и псе другие разделы. Он пишет, что партизапское движение возникло «в результате грубых ошибок высшей немецкой гражданской администрации». В соответствии с основной мелодией своей книги он и здесь отделяет политические преступления фашистско-немецкого империализма и милитаризма от его военных преступлений: он готов слегка осудить первые, чтобы еще более громогласно оправдать вторые. При этом он не видит и не понимает ни объективной основы, ни субъективных факторов, определивших возникновение и великие успехи советского партизанского движения.
Гартхоф, тоже враг Советского Союза, но не столь заносчивый, как Миддельдорф, пишет, например, о взаимодействии Советской Армии с партизанами следующее; «Особенно убедительным примером может служить поражение танковых дивизий генерала фон Клейста под Ростовом в ноябре 1941 года. В то время как Красная Армия теснила силы Клейста на фронте, партизаны действовали у него в тылу и заняли часть Ростова...»3
Это произошло, однако, в то время, когда ни «высшее немецкое политическое руководство», ни «немецкая администрация» еще пе могли совершить «тяжелых ошибок» или «грубых перегибов».
Но если в общем плане Миддельдорф анализирует этот вопрос как буржуазный военный специалист, то борьбу против партизан он рассматривает как неисправимый фашистский офицер, который требует подавлять партизан фашистскими методами, хотя и обрамляет это требование христианско-демократическими фразами и специальными военными терминами.
В последнем разделе своей книги «Общие выводы» Миддельдорф окончательно сбрасывает маску. Разумеется, он должен считаться с реальностью, с тем, что та нацистская армия, которую теперь восстанавливают боннские милитаристы, была полностью разгромлена. Поэтому он время от времени отмечает, что советское командование умело «быстро» использовать уроки боев и делать их «общим достоянием» армии; он «даже» признает,что, например, управление крупными танковыми соединениями, в особенности в 1945 году осуществлялось оперативно и тактически на должной высоте». Однако все катастрофические, решившие исход войны поражения 1941—1944 годов, он относит только за счет Гитлера, приказы которого «делали неприменимыми испытанные немецкие стратегические принципы и даже превращали пх в свою противоположность», и поэтому, дескать, фашистской армии «которая была учителем» для своих противников, не удалось противостоять совет-
1 Mi dd el dor f, Op. cil.. S. 213.
2 Ibid., S. 215.
3 G a r t h о f f, Op. cil., S. 45fi.
255
«.кой стратегии, явившейся отражением немецкого боевого опыта 1941 — 1942 годов»1.
Вот где собака зарыта. По Мпддельдорфу, оказывается, что сокрушительное поражение фашистской Германии на деле все же явилось победой немецких милитаристов, точнее, их военного искусства, их «стратегических принципов», с той лишь «маленькой разницей», что эти принципы, разработанные такими даровитыми фашистскими генералами, они, увы, сами не смели применять, потому что это им запрещал Гитлер. Советские же генералы, которые не должны были подчиняться приказам Гитлера, могли применять «эти принципы» в боях против «своих наставников». Миддельдорф имеет наглость утверждать подобную бессмыслицу, несмотря на то, что в исследованиях по конкретным вопросам он неоднократно сам же должен был признавать, что советская военная наука в отличие от военной науки всех других стран еще до войны лучше разрешила важнейшие проблемы стратегии и тактики и что превосходство именно этих ее решений обнаружилось во время войны. И если присмотреться к тем конкретным предложениям, которые Миддельдорф вносит по вопросам вооружения, организации и боевых действий войск для боннской армии НАТО, то становится ясно, что это он во многих очень существенных вопросах опирается на советское военное искусство.
Если и впрямь Гитлер в течение всей войны так мелочно вмешивался даже в вопросы тактики и предоставлял фашистскому генералитету так мало «свободы действий», то значит этот генералитет состоял просто из болванов, и это тем хуже для тех, кто должен будет под руководством таких командиров еще раз «воспользоваться столь дорого оплаченными уроками». У Миддельдорфа есть все основания молчать о том, почему, например, Гудериан был разбит в 1941 году, так же как Манштейн в 1942 году или Венк в 1945 году, хотя первому была предоставлена полная свобода действий для захвата Москвы, второму—для того чтобы пробиться к армии, окруженной под Сталинградом, а третьему — чтобы «прорвать» осаду Берлина. Они так же, как многие другие, имели все возможности доказать свое умение. Если бы Миддельдорф был действительно добросовестным исследователем, он не сваливал бы всю вину на одного Гитлера, он должен был бы признать банкротство немецких «стратегических принципов» и отдать должное превосходству социалистической военной науки. Тогда он мог бы действительно извлечь определенные уроки. Но он остался верен своей «науке» и дошел до нелепого утверждения, будто «...и во второй фазе войны — после Сталинграда ...принципы немецкой тактики выдерживали испытания в тех случаях, когда они еще применялись ослабленными войсками и когда вмешательство Гитлера не превращало их в свою противоположность. Но и тогда часто проявлялось тактическое превосходство немецких войск»2 [курсив мой.—В. X.].
Право же, это не защита «испытанных» немецких «стратегических и тактических принципов», а, напротив, для всех нормально мыслящих людей — это признание их полного банкротства. Так что хочется сказать, что если раньше кому-либо были не вполне ясны причины поражения фашистов, то теперь уже они стали совершенно ясными.
Во всей западногерманской фашистской милитаристской литературе принята именно такая методика «доказательства»: все пли почти все авторы сваливают «вину» на Гитлера потому, что это, конечно, легче всего сделать, и потому, что это предоставляет боннским правителям наилучшпе возможности оправдать старую, дискредитированную, опозоренную милитаристскую клику, с тем чтобы Т)ни могли еще раз приняться за старое. Однако при более внимательном рассмотрении выясняется нечто совсем другое. Типпельскирх сообщает, например, что «решение» взять укрепления у Седа
1 М i d (1 е 1 d о г f. Op. cil.. S. 158.
- Ibid.. S. 237.
2i>6
на во время так называемой «кампании во Франции» исходило от Манштейна и Гудериана, но его присвоило себе «верховное командование сухопутных сил». Оказывается, Гитлер был с ним согласен. Что касается наступления в районе Курска в 1943 году, то, как пишет Типпельскирх, идея его возникла у Гитлера, но была поддержана «начальником генерального штаба» и «высшим командованием Восточного фронта». По словам же Гудериана, это вообще была идея не Гитлера. «Видя эти трудности, тогдашний начальник немецкого генерал^ого штаба хотел сделать попытку снова взять инициативу на Востоке в свои руки и решающим образомослабить наступательную мощь русских. Он предложил Гитлеру осуществить наступление на дугу русского фронта под Курском, глубоко вдававшуюся в расположение немецких войск. Гитлер долго колебался, потому что хорошо понимал трудности этого предприятия, о которых ему, кстати, очень убедительно рассказал командующий войсками под Курском генерал-полковник Модель. Но под конец Гитлеру пришлось все-таки согласиться с мнением генерала Цендлера. Наступление провалилось. Армия понесла тяжелые потери, не восполнимые при нашем бедственном положении. Инициатива на Восточном фронте окончательно перешла к противнику. С этого времени немецкая армия постоянно отступала»1.
Кессельринг высказывается еще яснее: «Гитлер выслушивал мои доклады в любой час ночи, он выслушивал все, что я говорил ему, не прерывая, проявлял большое понимание всех поднимаемых мною вопросов и принимал решения почти всегда в духе моих предложений...»1 2 «Если моя совесть или мое разумение противоречили мыслям и приказам Гитлера, то мне оставалось... либо истолковать их по-своему и соответственно смягчить, что я и делал довольно часто как ранее, так и в этот период [имеются ввиду последние месяцы войны.—В. X.], либо открыто высказать Гитлеру свое мнение»3. Таким образом, в глазах Типпельскирха, Гудериана и Кессельринга оценки Гитлера, которые дает Миддельдорф, являются просто невежественными.
Действительные причины поражения фашизма были совершенно иными. Одной из главных причин было то, что Гитлер, его империалистические хозяева и покровители, его ведущие политические сподвижники и фашистский генералитет были кучкой авантюристов, которая играла ва-банк, добиваясь неосуществимых целей — мирового господства и уничтожения Советского Союза.
В противоречии с опытом тысяч немецких офицеров и миллионов немецких солдат, которые в беспримерных по размаху боях испытали на себе могучую ударную силу советских войск и советского оружия, в противоречии со своими собственными конкретными утверждениями Миддельдорф заявляет, что советские командиры, включая средний офицерский состав, «всегда» недостаточно умело руководили маневренными боевыми действиями, недостаточно умели организовать и гибкое взаимодействие всех родов оружия. После всего выясненного ранее не приходится уже удивляться, что и эти заявления Миддельдорф пытается частично обосновать фашистской расовой «теорией». Он полагает, что дух и разум находятся в зависимости от веса тела, а так как «принцип отбора в Красной Армии построен на предпочтении... «здоровяков» тем, кто более умственно развит, то, «возможно, и в будущем» советские наступательные операции окажутся, несмотря на толковое и правильное начало, все же «ограниченными». Вывод Миддельдорфа, будто Советская Армия в 1941 году «находилась на грани поражения», столь же малоудивителен, как и его заявление, будто «разгром на Восточном фронте начался только тогда, когда численное соотношение людской силы и материалов достигло 1 : 10 в пользу русских». Ни Миддельдорф, ни его сегодняшние
1 «Итоги второй мировой войны», стр. 130.
2 Kesselring, Op. cit., S. 386.
3 Ibid., S. 376.
17 Заняв № 1220 257
хозяева и вдохновители не могут и не хотят понять, что отнюдь не Советский Союз был в 1941 году «накануне поражения», а, напротив, фашистская Германия проиграла вторую мировую войну уже 22 июня 1941 года, потому что Советский Союз вел самую справедливую в своей истории войну, потому что это была война всех народов Советского Союза против фашизма, война, которая слилась с борьбой других свободолюбивых народов, и потому что для них это была война за национальное существование.
Непонимание этого вопроса — третья основная ошибка Миддельдорфа.
История показала, что разгром немецко-фашистского Восточного фронта начался уже с поражения фашистов под Москвой и стал совершенно ясным под Сталинградом.
Об этом совершенно явственно свидетельствуют дневники, которые в то время вели влиятельные фашистские военные главари. Эти дневники не оставляют камня на камне от утверждений Миддельдорфа. Общие потери первого месяца войны составили 23 301 человек. К 31 декабря они достигли 830 403 человек, то есть 26 процентов состава войск, находившихся на Восточном фронте, из них 173 722 убитых. Через год после начала войны с Советским Союзом потери составили 1,3 миллиона, то есть более 40 процентов состава войск Восточного фронта, из них 271 612 убитых. 30 ноября генерал Буле писал Гальдеру, что не хватает 340 тысяч человек, то есть 50 процентов боевого состава пехотных соединений. 17 августа Гальдер сообщал, что фон Лееб «нарисовал очень мрачную картину... войска истощены». 3 декабря фон Бок сообщал ему, что «нельзя предвидеть момента, когда боеспособность войск будет окончательно сломлена». 19 декабря фон Клюге докладывал: «Войска охвачены апатией, обстановка очень нездоровая». В примечании к своему дневнику, сделанному уже после окончания войны, генерал-полковник Гальдер пишет по поводу записи 15 января 1942 года, что командующие («группами войск», то есть фронтов) в то время «почти единодушно хотели оставить русский фронт и отступить в генерал-губернаторство»1.
Таким образом, высказывались невольные признания того, что Советская Армия, даже предоставленная только самой себе, уже в то время добилась успехов, оказавших решающее воздействие на исход войны1 2. Миддельдорф напрасно пытается опровергнуть эту историческую правду фальсификациями в масштабах таблицы умножения. Советское партийное, государственное и военное руководство с самого начала предсказало исход войны. Коммунисты за границами Советского Союза также были в состоянии предсказать закономерный конец фашизма, потому что в противоположность фашистским и милитаристским авантюристам они научно анализировали войну. Так, Мао Цзэ-дун писал, например, 12 октября 1942 года, еще в то время, когда шло наступление фашистских армий на Сталинград:
«...эта битва является не только переломным моментом в ходе советско-германской войны и даже не только переломным моментом в ходе нынешней мировой войны против фашизма, но она явится и переломным моментом во всей истории человечества. Все без исключения стратегические замыслы Гитлера в войне против Советского Союза потерпели крах... Он еще не отдает себе отчета в том несоответствии, которое существует между его реальными силами и аппетитом, и в результате, взвалив на себя непосильную ношу, попал теперь в безвыходное положение. А Советский Союз, наоборот, в ходе войны становится все сильнее и сильнее... Четвертый этап войны, который
1 В то время не было ни второго фронта н никаких видов на его открытие. Великобритания не была еще в состо^тии начать действия против фашистской Германии, а Соединенные Штаты, которые вступили в войну только в декабре 1941 д#да, должны были вначале оправиться от потрясения, вызванного нападением агрессивного японского милитаризма. Их поставки Советскому Союзу, которые и сами по себе не оказали решающего влияния па ход войны, в то время, с июпя 1941 по 15 января 1942 года, играли совершенно незначительную роль.
2 Эти признания относятся ко времени войны. Сегодня гитлеровские генералы, как и Миддельдорф, все зто «забыли».
258
начнется этой зимой, сведет Гитлера в могилу... Вся политическая и военная жизнь фашистского государства, каким является гитлеровское государство, с самого дня его появления на свет зиждится на наступлении, а с окончанием наступления кончается и его жизнь. Сталинградская битва остановит фашистское наступление; эта битва носит решающий характер. Этот ее решающий характер определит судьбу всей мировой войны в целом»1.
Для Миддельдорфа эти важнейшие проблемы — книга за семью печатями. Поэтому не удивительно, что он совершенно обошел в своем сочинении все эти факторы, действительно решающие исход воййы, после чего Миддельдорф «надеется», что, дескать, «в будущем будут наличествовать другие субъективные и материальные предпосылки».
Разумеется, Миддельдорф может быть вполне уверен, что предпосылки будут другими, но вовсе не такими, как он «надеется». Однако, даже исходя из этой своей «точки зрения», Миддельдорф решительно предостерегает от «стратегии широкого фронта», которая приведет «только к позиционной войне» и «позволит ...русскому противнику полностью проявить свои сильные стороны».
Так Миддельдорф «последовательно» развивает главный исходный тезис своей книги, о котором я говорил вначале: он хочет прославить фашистских вояк, оправдать их, свалить «вину» за их поражение исключительно на Гитлера, свести явное превосходство Советского Союза лишь к простому количественному превосходству. При новом нападении на Советский. Союз он рассчитывает на простое повторение тех условий, которые существовали в 1941 году, на те временно действующие стратегические факторы, которыми располагала тогда фашистская армия. При этом такое нападение он в соответствии с бесстыдством и жестокостью германского империализма считает само собой разумеющейся целью. Но тем самым Миддельдорф «доказал» лишь коренной порок «немецких стратегических принципов», которые служат агрессивным планам германского империализма и в соответствии с его классовой сущностью и философской ограниченностью не способны раскрыть объективные закономерности войны, основываются на недооценке противника, его средств и возможностей и на переоценке собственных сил п не учитывают решающих для исхода войны факторов. К тому же еще Миддельдорф оказался просто самым обыкновенным фальсификатором истории.
3. Его следующая решающая ошибка состоит в том, что он в своем «исследовании» подходит к вопросам с позиций своего бывшего штаба и, за редкими исключениями, совершенно не учитывает советского военного искусства.
Нельзя, конечно, ожидать от Миддельдорфа, что он станет на точку зрения социализма. Но если бы он как «исследователь» подходил к вопросам более реально, то в его «исследованиях» нельзя было бы уже за километр распознать дурно пахнущие упражнения реваншиста. Если бы он понял или учел хотя бы кое-что из этого, то заметил бы, что именно благодаря социалистическому общественному и государственному строю Советского Союза, вся деятельность которого определяется политикой Коммунистической партии, эта власть, как говорит Ленин, и в военном отношении оказывается несравненно сильнее всех прежних, и ее как революционную власть не может заменить никакая другая. Это так хотя бы уже только потому, что трудящиеся советской страны, которые ценой больших жертв и лишений свергли царизм и капитализм и построили социалистическое общество, никогда не отдадут завоеванную ими свободу пи старым, ни новым фашистам и нанесут сокрушительное поражение любому хищнику, который осмелился бы на нее покушаться. Совершенно ясно, что с развитием и укреплением социализма должны развиваться и крепнуть морально-политические факторы, крепнуть дружба между народами Советского Союза и что нынешнее морально-политиче-
1 М а о Ц з э-д у и, Избранные произведения, т. 4, Издательство иностранной литературы, М., 1953, стр. 189, 191.
259
17*
ское единство советского общества и дружба народов СССР обладают не только объективными основами, но и создают субъективные силы, которые в соответствии с размахом и содержанием работы Коммунистической партии и советского государства постоянно способствуют дальнейшэму укреплению советского социалистического общества. Таким образом, Миддельдорф глубоко заблуждается, если думает, что замечательные успехи Советской Армии в обороне можно «обосновать» только мнимыми, преимущественно «пассивными чертами русского народного характера». Этим так же мало можно объяснить успехи Советской Армии, как и героический труд населения в тылу, который Миддельдорф почти полностью игнорирует, что, впрочем, также отвечает целям его работы.
Правильнее было бы, если Миддельдорф, исследуя причины решающих для исхода войны наступлений и атак Советской Армии, не ссылался на «отступательные маневры» и «выравнивание фронта» или на «ошибки Гитлера», а принял во внимание действительно объективные основы наступательного порыва советских армий. А эти основы определяются именно тем, что революционный рабочий класс в армии социалистического общества играет ведущую роль. В соответствии с этой объективной основой социалистическая военная наука проникнута наступательным духом. Только учитывая эти решающие факторы, можно, например, объяснить партизанское движение. Оно возникло в тылах фашистских фронтов не «под давлением комиссаров», как утверждает Миддельдорф, а добровольно и получило колоссальный размах. И существовало оно не только в «малонаселенных» или «бездорожных» местностях. Ведь это партизаны подложили бомбу в постель Кубе—фашистскому «властителю» Белоруссии; это партизаны в Каунасе в 1943 году захватили живым гитлеровского генерала. Все это доказывает бывшему нацистскому офицеру и теперешнему «сотруднику» боннского военного министерства Миддельдорфу, что партизанское движение не зависит от «населенности местности» и «состояния дорог», что характер местности — лишь одно из тех условий, которые определяют формы, средства и методы партизанской борьбы. Великая сила социалистического общества проявляется также и на примере зимних боев 1941 года. Любое капиталистическое государство при подобных условиях действительно оказалось бы побежденным. Только советское государство доказало свою силу и превосходство и тем самым вселило надежду и показало пример победы всем порабощенным фашизмом народам. Эта война продемонстрировала полное превосходство социалистической военной науки и вместе с тем правильность тезиса о постоянно действующих главных факторах войны — таких, как прочность тыла, дух армии, количество и качество дивизий, вооружение войск и организаторские способности командного состава. Говоря, например, об одном только из этих факторов — о прочности тыла, подразумевают все: общественный и государственный строй, организацию и масштабы производства, идеологию и все отрасли науки, моральные устои и организованность народа. О героическом труде советского тыла здесь не приходится много говорить. Рабочие, крестьяне и интеллигенция, женщины, мужчины, молодежь под руководством Коммунистической партии и советского государства создавали в социалистической промышленности и социалистическом сельском хозяйстве все необходимое для победы. Поэтому Миддельдорф поступил бы правильнее, если бы он «прежде всего» извлек уроки из второго периода войны, который, по его же словам, протекал «под знаком такого резкого несоответствия в количестве пехоты, артиллерии, танков и самолетов у обеих сторон». Притом сегодня он не должен забывать, что промышленность Советского Союза производит в настоящее время в три с половиной раза* больше продукции, чем в 1940 году, а один лишь прирост производства стали по новому пятилетнему плану будет равен всему производству стали в Западной Германии. Он должен также принять во внимание, что теперь существует мировая система социалистических государств, и их сотрудничество и дружба неизмеримо увеличивают ее экономическую, политическую, моральную и военную мощь.
260
Однако Миддельдорф остается верен себе. Рассуждая о «будущем», он рассчитывает на «преимущества» духа «западного изобретательства», на «превосходство технических возможностей и современных методов производства», долженствующих обеспечить всем необходимым ту наступательную армию, создания которой он требует для ведения новой разбойничьей войны. При этом он упускает из виду все другие факторы. Разумеется, военная техника является материальной основой боеспособности армии, точно так же как вооружение является материальной основой военного искусства. (Поэтому и наши военные специалисты не должн^Г оставить без внимания книгу Миддельдорфа.) Однако влияние всех этих факторов на ход и результат войны определяется людьми. Политико-моральное состояние и боевой дух армии неотделимы от общественного строя так же, как от характера и масштаба военного обучения. Но социалистический лагерь располагает не только лучшим вооружением, но и лучшими людьми, потому что вследствие уничтожения капитализма и построения социализма исчезли империалисты, юнкеры, фашисты и милитаристы и впервые в истории широкие народные массы получили возможность свободно развиваться. Фашистские государственные и военные деятели достаточно хорошо почувствовали, что означала выдающаяся роль коммунистов в Советской Армии и за ее пределами. Миддельдорф не должен забывать и того, что большая часть офицеров и солдат Советской Армии —коммунисты и комсомольцы, которые при защите Советского Союза будут стоять на переднем крае и что большинство находящихся сейчас в Советской Армии офицеров—участники Великой Отечественной войны Советского Союза, которые в течение четырех лет войны постоянно пополняли свои знания. Так как у империалистических государств нет подобного тыла, то они вынуждены в соответствии со своими империалистическими принципами, с одной стороны, возлагать надежду только на технику, а с другой — обманывать свои народы. Так как и Миддельдорф делает ставку на ту же лошадку, то надо ему напомнить, что был разгромлен не только немецкий фашизм, но сокрушительное поражение потерпели и американский империализм в Корее и французский империализм во Вьетнаме, что сила социалистического лагеря во главе с Советским Союзом оказалась настолько мощной, что заставила английских и французских империалистов прекратить агрессию против Египта, как только агрессоров предупредили, что она закончится их гибелью. Расчеты Миддельдорфа на дух «западного изобретательства» и на «превосходящие технические способности и современные методы производства» не оправдались уже во время второй мировой войны. Очевидно, он забыл, что в начале сам говорил об огромных количествах советского оружия и признал его выдающиеся качества. Именно это служило для него одним из «необходимых» главных тезисов, на основе которых он пытается создать легенду об «ударе кинжалом в спину» и спасти «честь» фашистского генералитета. Сегодня, когда Советский Союз стал ведущей державой в области военной авиации, атомного оружия н ракетной техники, строить такие расчеты и обосновывать их на этот раз «географическими» соображениями так же глупо, как и измерять интеллект весом тела. При этом надо отметить, что сложным оружием могут владеть только высококвалифицированные бойцы. Миддельдорф, уже рассуждая о второй мировой войне, не мог решить возникавших у него противоречий, когда писал о «первоклассных орудиях», «огромной военной продукции» и способности Советского Союза организовывать «крупные военно-техпические соединения». Ведь все это осуществимо только при наличии квалифицированных специалистов, тех, кто создает это оружие, конструирует и производит его на современных предприятиях, и тех, кто владеет им в бою. Что же после этого можно сказать по поводу его утверждений о якобы «низком интеллектуальном уровне» Советской Армии, которая тем не менее в целом ряде вопросов военной подготовки, согласно тому же Миддельдорфу, в частности в «боях» при «особых условиях», превосходила фашистскую армию, хотя именно в этих условиях, опять-таки по мнению Миддельдорфа, предъявляются «повышенные требования к духу
261
войск». А теперь еще нужно добавить, что в настоящее время не только постоянно повышается уровень образования всего населения СССР, но, по признанию даже англичан и американцев, в подготовке научных кадров Советский Союз уже опередил Запад как по количественным показателям, так и по качеству и в наши дни совершает огромный прыжок вперед, значение которого, в том числе и для обороны Советского Союза и всего социалистического лагеря, неизмеримо велико. Поэтому Миддельдорф может быть уверен, что социалистический общественный строй будет не только постоянно развиваться соответственно закономерностям социализма, но что это развитие найдет свое отражение как в социалистической военной мысли и социалистической военной науке, так и в вооруженных силах социализма, непоколебимо стоящих на страже мира.
А Миддельдорф, который полагает, что западногерманское население способно, действуя в интересах американского и германского империализма, еще раз «начать с самого начала, из ничего...», чтобы «применить на практике столь дорого оплаченные уроки», может сегодня обмануть лишь тех, кто хочет быть обманутым. Но ему не удастся с помощью своих фашистских сказок, как бы они ни украшались специальной военной терминологией, умалить, замазать или исказить ту роль, которую сыграл Советский Союз в целом и его армии в особенности в деле исхода войны и освобождения народов от фашизма.
Н. Н. Яковлев
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕАКЦИОННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ • ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙПЦ»
Среди проблем, разрабатываемых американской буржуазной историографией, вопросы второй мировой войны занимают видное место. Шесть драматических лет дают много пищи для размышлений и выводов. В эти годы произошло крутое изменение в соотношении сил между социализмом и капитализмом, после окончания войны социализм стал мировой системой. Причины этого ясны для историков-марксистов и объяснены ими. Грандиозные изменения в мире отражают поступательное движение человечества, являются проявлением объективных законов развития человеческого общества.
Эти изменения очевидны всем, и, хотя они крайне неприятны официальному Вашингтону, их нельзя отменить, вернуть мир к старому — пусть даже объединенной резолюцией обеих палат Конгресса. Современная политическая стратегия США, строящаяся на политике «с позиций силы» в отношении лагеря социализма, должна учитывать причины ослабления капиталистической системы в результате второй мировой войны с тем, чтобы не допустить повторения этого в будущем. Так считают правящие круги Америки. Но дать научное объяснение этих причин — значит показать обреченность капиталистической системы. Конечно, не это нужно правящим кругам США. От исторической науки они ожидают помощи для изыскания рецептов спасения капиталистической системы. Однако американская реакция пытается остановить колесо истории, не понимая сил, приводящих его в движение.
Маститый американский историк Ч. Бирд как-то заметил о буржуазной исторической науке: «История. Так это всего-навсего кот, которого тащат за хвост в места, куда он редко хочет идти. Другой человек, придерживающийся иных взглядов, используя те же материалы, мог бы написать книгу, содержащую концепции, противоположные моим»1. Насмешливое и циничное, но глубоко пессимистическое замечание Ч. Бирда метко характеризует метод американской буржуазной историографии — релятивизм. Всего несколько десятилетий тому назад положение фон Ранке «писать так, как это собственно происходило», было общепризнанным и служило критерием профессионального мастерства буржуазного историка. Теперь это положение сознательно выброшено за борт. «Если вместо того чтобы спросить, как часто следует, переписывать историю, мы спросим, как часто ее будут переписывать, то вот ответ: историю будут переписывать в будущем, как и в прошлом, каждый день»,— категорически заявляет профессор Д. Хекстер из Нью-Йорка1 2.
Этот антинаучный подход сказывается на состоянии всей американской буржуазной историографии, начиная с подбора источников и документов. Релятивизм и научное исследование противоположны. Релятивист не нуждается в объективных фактах, напротив, он ищет ухода от действительности.
1 Е. Goldman, The Origins of the Beard’s Economic Interpretation of the Constitution, «Journal of the History of Ideas», 1952, v. 13, N 2, pp. 246—247.
2 J. H e x t e r, The Historian and his Day, «Political Science Quarterly», July 1954, v. 69, N 2, pp. 232—233.
263
Этим объясняется, почему в США выходит все меньше документальных публикаций. Национальная комиссия по публикации источников отмечала в 1954 году в докладе президенту: «Расцвет выпуска документов государственными или частными организациями приходится на XIX век», хотя с тех пор типографская техника далеко шагнула вперед1. По истории второй мировой войны в США, собственно, выпущен один небольшой сборник документов, изданный, бесспорно, в политических целях1 2 и носящий очевидные признаки фальсификации. Речь идет о сборнике «Конференции на Мальте и в Ялте в 1945 году»3. «Правда», анализируя этот сборник в большой статье, отмечала 20 января 1956 года, что руководители американской внешней политики «пустили в ход эти фальшивки, чтобы дать поборникам «холодной войны» новое оружие в их походе против дальнейшего ослабления международной напряженности...»
Основная публикация документов «Внешние отношения США» пока доведена до 1939 года. Но едва ли ее материалы за последующие годы внесут существенный вклад в изучение истории второй мировой войны. В рецензии на тома этой публикации за 1938 год ведущий американский исторический журнал «Америкэн хисторикал ревью» отмечал: «По существу, эти тома дают совершенно недостаточно материалов, чтобы судить о целях США; по иронии судьбы читатель может узнать о политике любой страны, кроме нашей собственной»4. В соответствующих органах США хранятся различные германские архивы. Журнал «Форин афферс», отмечая, что работы германских историков по вопросам второй мировой войны «имеют небольшую ценность», хладнокровно констатирует: «Многое спрятано в США и Англии, и поэтому понятны жалобы германских историков по поводу того, что они лишены возможности изучать собственную современную историю по первоисточникам»5 6. Пока идет широкий процесс микрофильмирования в архивном отделе управления генерального адъютанта США, к началу 1957 года было отснято 400 тысяч катушек пленки, в том числе архивов нацистской партии, бумаг Гитлера, Геринга, Гиммлера и др.®.
Видный английский историк профессор В. Медликотт, имея в виду волну релятивизма, изумлен одним из его проявлений в американской буржуазной историографии кануна и периода второй мировой войны: «По-видимому, нельзя привести лучшего примера тенденции преувеличения уникальности современных событий, чем утверждения, которые мы слышим из США о том, что начиная с 1919 года дипломатия приходит в упадок»7. Отсюда заявления о том, что дипломатическая история якобы не имеет особой ценности. Однако это противоречит тем усилиям, которые предпринимаются в США, чтобы создать соответствующий послужной список американской внешней политике.
Во-первых, уничтожается или прячется все то, что может бросить тень на «бескорыстные» мотивы Соединенных Штатов, особенно в период второй мировой войны. «Важнейшее донесение «Восточный ветер, дождь» и другие компрометирующие документы были изъяты из официальных архивов и, по-видимому, уничтожены. Секретная, имеющая неоценимое значение переписка между Рузвельтом и Черчиллем была спрятана и, возможно, уничтожена. Был принят закон, запрещающий разглашать ее содержание, но полное собрание посланий едва ли будет обнаружено. Стоит только раз пойти на компромисс с совестью, как нельзя уже установить границы, до каких быст
1 «А National Program for the Publication of Historical Documents. A Report to the President by a National Histcwical Publication Commission», Washington, 1954, p. 9.
2 «U. S. News and World Report», 4.2.1955, p. 61. •
3 «The Conferences at Malta and Yalta 1945», Washington, 1955.
4 «American Historical Review», January 1956, p. 367.
6 «Foreign Affairs», January 1955, v. 31, N 2, pp. 225—226.
6 «American Historical Review», April 1957, p. 792.
7 W. Medlicott, The Scope and Study of International History, «International Affairs», October 1955, v. 31, N 4j p. 424.
264
ро и легко дойдет фальсификация на поводу политических требований»1, — пишет американский профессор X. Барнс. В этих условиях приобретает неоценимое значение инициатива Министерства иностранных дел СССР, выпустившего двухтомную публикацию «Переписка председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.».
Во-вторых, история второй мировой войны непрерывно переписывается, в том числе в позднейших изданиях изменяются и официальные документы, опубликованные ранее. Выступления Ф. Рузвельта? например, в публикации 1950 года1 2 значительно отличаются от современных: опущены целые абзацы и изменены формулировки3. Если так дело обстоит с официальными текстами документов президента, то легко представить себе, насколько произволен подбор фактов в на первый взгляд «капитальных» работах американских буржуазных историков. Среди них выделяется группа официальных историков, оперирующих документами государственного департамента, высших правительственных ведомств, архивами американских государственных деятелей. Наибольшую известность в США и за их пределами получили работы В. Лангера и С. Глисона, Р. Шервуда, X. Трефуса, Г. Фейса и, пожалуй, «Дневники Форрестола», подготовленные к печати У. Миллсом и Э. Даффилдом4.
Группа этих работ является ведущей в официальной американской историографии и главным источником сведений из неопубликованных архивов5 6 по политическим вопросам. Основополагающая монография— работа В. Лангера и С. Глисона, в которой по выходе еще двух томов будет изложена вся внешнеполитическая история США в годы второй мировой войны. Названные авторы—не всегда профессиональные историки, большей частью они чиновники высших ведомств США или лица, близкие к правительству и использовавшиеся на правительственной службе. Положения этих работ популяризируются в многочисленных общих и специальных курсах профессиональных историков, перечислить которые представляется затруднительным, не превращая настоящий краткий обзор в аннотированный библиографический указатель. Наиболее известные работы второй группы принадлежат перу профессора Т. Бейли, С. Бемиса, Ф. Р. Даллеса, Р. Леопольда, Б. Рауха, Д. Перкинса, Д. Пратта.
Огромное внимание уделяется написанию военной истории второй мировой войны: с 1947 года выходит 96-томная история американской армии под редакцией К. Гринфильда, с 1948 года издается 7-томная история американских военно-воздушных сил под редакцией В. Крейвена и Д. Кейта, а также 12-томная история военно-морского флота под редакцией С. Морисона. Эти огромные публикации финансируются военным ведомством, для их написания привлечены большие силы и средства: только историки армии собрали 17 120 томов документов. Среди вышедших томов этих серий наиболее значительными, с точки зрения общеисторической, а не специально военной, представляются работы Р. Клина, М. Мэтлоффа и Э. Снелла, М. Уотсона®. Появление многих десятков томов военной истории, написанных по опреде-
1 Н. Е. Barnes, Revisionism and the Historical Blackout, «Perpetual War for Perpetual Peace», ed. by H. Barnes, Caldwell, 1953, p. 74.
2 «The Public Papers and Addresses of Eranklin D. Roosevelt», N. Y., 1950, v. 1—4.
3S. Rosenman, Working with Roosevelt, N. Y., 1952, p. 222—223, 551.
4 W. Langer and S. Gleason, The Challenge to Isolation 1937—1940, N. Y., 1952; The Undeclared War 1940—1941, N. Y., 1954; P. Шервуд, Рузвельт и Гопкинс, Издательство иностранной литературы, М., 1958; Н. Т г е f о u s s е, Germany and American Neutrality 1939—1941, N. Y., 1951; H. Feis, The Road to Pearl-
Harbour, Princeton, 1950; «The Forrestal Diaries», ed. by W. Mills and E. Duffield, N. Y., 1951.
6 Некоторые факты приводятся в мемуарах Д. Бирнса, У. Леги, Э. Стеттипиуса, Г. Трумэна.
6 R. С 1 i n е, Washington Command Post: The Operations Division, Washington, 1951; M. M a 11 о f f und E Snell, Strategic Planning lor the Coalition Warfare 1941—1942, Washington, 1953; M. W a t s о n, Chief of Staff: Prewar Plans and Preparations, Washington, 1950.
265
лейному плану и хорошо подготовленных профессионально, не могло не оказать определенного влияния на американскую историческую науку в целом. Уже два года тому назад «Американ хисторикал ревью» отмечал: «Военные историки нашего дня продемонстрировали тот факт, что изменения в военных учреждениях страны затрагивают социальные учреждения, и наоборот, то есть существует взаимосвязь между военными и гражданскими учреждениями и их политикой»1.
При подходе к проблемам второй мировой войны между официальными гражданскими и военными историками можно установить довольно существенную разницу. Смысл общих установок для группы гражданских историков неплохо охарактеризовал профессор X. Барнс: «Газеты 14 января 1951 года сообщили, что президент Трумэн создал1 2 корпус придворных историков для подготовки приемлемой истории мировых событий и американской политики. Было объявлено, что цель заключается в том, чтобы защитить американских граждан от лжи в работах «коммунистически-империалистических историков...» Придворные историки будут работать в тесном сотрудничестве с историками, уже используемыми вооруженными силами и государственным департаментом. Можно заранее сказать, что любой историк, который разойдется во мнениях с официальными учебниками и интерпретациями, будет рассматриваться как агент «коммунистического империализма»3. Что касается военных историков, то Д. Эйзенхауэр дал им следующую директиву: «История второй мировой войны должна без всяких умалчиваний раскрыть участие армии в войне». Комментируя директиву Эйзенхауэра, главный редактор истории армии г. Гринфильд подчеркивает: «У нас есть то преимущество, что в истории второй мировой войны армия хочет получить обобщение своего опыта для руководства в дальнейшем, а для этого необходима полная и откровенная история»4.
Однако было бы необоснованно ввиду этого ожидать выхода в свет работ, объективно и научно освещающих проблемы второй мировой войны даже по военным вопросам5 6. Осенью 1953 года в Принстонском университете профессор О. Хандлин выступил на совещании Исследовательского совета в области социальных наук. Он говорил: «Американские историки «сжились с релятивизмом». Ученые, которых некогда беспокоило открытие, что история не может достичь научной объективности или конечной истины, теперь научились разрабатывать темы, не позволяющие им избегнуть субъективного подхода, и примирились с фактом, что полная объективная «истина» невозможна... Одним из проявлений признания истории и исторической науки явилось то,что федеральное правительство взяло на службу большое количество историков, чтобы описать историю участия США во второй мировой войне»®.
Общая концепция американской официальной историографии сводится к тому, что США не несут решительно никакой ответственности за вторую мировую войну. Сначала американское правительство пыталось предотвратить войну, а когда на США напали злонамеренные агрессоры, верно сотрудничало с военными союзниками. Что касается американских вооруженных сил, то они доблестно сражались и внесли чуть ли не решаю
1 «American Historical Review», January 1956, p. 336.
2 Текст послания Трумэна Американской исторической ассоциации; см. «American Historical Review», April 1951, pp. 711—712.
3 «Perpetual War for Perpetual Peace», pp. 65—66.
4 K.Greenfield, The Historian and the Army, New Brunswick, 1954, pp. 8—9.
6 Мемуары американского генералитета, как, например, книги О. Брэдли, В. Дипа, М. Кларка и многих других, ^же снискали печальную известность в этом отношении.
6 «American Historical Review», January 1956, pp. 331—3$2. Нельзя не напомнить в этой связи замечательные слова Ф. Энгельса, сказанные почти сто лет назад: «Буржуазия все превращает в товар, а, следовательно, также и историю. В силу самой ее природы, в силу условий ее существования ей свойственно фальсифицировать всякий товар; фальсифицировала она также и историю. Ведь лучше всего оплачивается то сочинение, в котором фальсификация истории наиболее соответствует интересам буржуазии». («Архив Маркса и Энгельса», 1948, т. 10, стр. 104.)
266
щий вклад в войну, но, поскольку наивные американцы отправились за океан в полном неведении относительно политических целей войны, они упустили из своих рук плоды победы. Все просто, как в школьной хрестоматии, но не выдерживает соприкосновения с фактами. Это не замедлили заметить и в Соединенных Штатах, причем люди, которых даже Комитет по расследованию антиамериканской деятельности палаты представителей не внес бы в список «красных».
Едва отгремели выстрелы второй мировой войны, как концепция о том, что США не несут ответственности за нее, выдвйзутая еще в 1942—1943 годах1, получила мощный удар. Ч. Бирд выступил с книгой «Развитие американской внешней политики 1932—1940 гг.». Госдепартамент в своей публикации «Мир и война» ограничился замечанием, что США «давно» собирались вступить в войну. «Когда было принято это великое, революционное решение? — спрашивал Ч. Бирд.—Государственный департамент просто указывает: «давно». Как давно? В 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940 годах? Что касается точного года или приблизительной даты, публикация госдепартамента не дает ответа даже намеком»1 2. Эта и последующая книга Ч. Бирда3 явились идейным знаменем новой школы—прагматистов—презентистов — негативистов.
Историки этой школы4 попытались возродить «ревизионистское» направление, которое пышно расцвело в США в 30-е годы. Ч. Бирда особенно интересовал вопрос о конституционных границах прерогатив президента и о нарушении их Ф. Рузвельтом, а его последователи сделали акцент на общем направлении внешней политики Соединенных Штатов. Основное внимание они сосредоточили на предвоенном периоде в общем убедительно, а иногда остроумно, доказывая ответственность США за возникновение второй мировой войны. Их главный упрек американской внешней политике заключался в том, что Соединенные Штаты утратили «свободу рук» и без крайней необходимости ввязались в войну, тогда как США якобы никто не угрожал. В этих целях они разработали версию о том, что Рузвельт спровоцировал Японию напасть на Пирл-Харбор, чтобы толкнуть американский народ на войну5 6.
Деятельность школы достигла кульминационной точки в конце 40-х годов; она переплелась с политической борьбой и была освещена восходившей тогда звездой сенатора Д. Маккарти, который черпал в работах этих историков новые аргументы для «охоты за ведьмами». Прагматисты—презентисты — негативисты оказались в лагере крайней реакции. Но, поскольку они попытались распространить положение о «свободе рук» для США и на современный период, то есть стали на позиции «неоизоляционизма», их мотивы были поставлены под серьезное сомнение руководящими кругами США.
В 1953 году вышел главный сборник этой школы, озаглавленный по сове1-ту Ч. Бирда «Вечная война за вечный мир». Составитель профессор X. Барнс охарактеризовал его цель так: сборник является «тяжелой артиллерией, стреляющей не только по мыше, пусть елейной и претенциозной»®, но и по
1 F. D a v i s and Е. L i n d 1 е у, How War Came: An American White Paper, N. Y., 1942; Peace and War: United States Foreign Policy 1931—1941, Washington, 1943.
2 Ch. Bea rd, American Foreign Policy in the Making 1932—1940, Yale, 1946, p. 34.
3 Ch. Beard, President Roosevelt and the Coming of the War, 1941, Yale, 1948.
4 Наиболее основательной работой этого направления—причем автору удалось ис-
пользовать архивы государственного департамента—является книга Тэнзилла (С. Tansill, Back Door to War, Chicago, 1950). Основные работы историков указанной школы: G. Morgenstern, Pearl-Harbour, N. Y., 1948; J. Flynn, The Roosevelt Myth, N. Y., 1948; F. Sanborn, Design for War, N. Y., 1952.
6 Эта «теория» прагматистов—презентистов—негативистов не могла не доставить живейшего удовлетворения некоторой части командования вооруженных сил США, которое объясняет свои служебные упущения и катастрофу в Пирл-Харборе «интригами» Вашингтона. См., например, R. Theobald, The Final Secret of Pearl-Harbour, N. Y., 1954.
• Первоначально этот коллективный труд был задуман как ответ на книгу Райха (В. Rauch, Roosevelt. From Munich to Pearl-Harbour, N. Y., 1950).
267
всей официальной историографии второй мировой войны1. Профессор Ф. Шевилл восторженно писал в связи с выходом сборника: «Эта книга является актом невиданного мужества, который, на мой взгляд, ставит редактора и его коллег высоко на пьедестал гражданского мужества... Я не могу не выразить надежду, что произойдет чудо, к книге прислушаются, и она положит начало потоку критики, который сметет «придворных историков» в их укреплениях»1 2. Надеждам не суждено было оправдаться, сборник замолчали. В последнее время влияние прагматистов—презентистов—негати-вистов резко упало. По-видимому, этому способствовала в какой-то степени идейная дискредитация и смерть главного «охотника за ведьмами» Д. Маккарти. Г. Фейс недавно безапелляционно заметил, что разница между этой школой и исторической наукой такая же, как между «полицейской историей и историей»3.
Борьба мнений в исторической науке о второй мировой войне теснейшим образом связана с современной непрерывной политической дискуссией о путях американской внешней политики. Большой знаток США английский профессор Г. Ласки писал об одной из сторон психологического климата в США: «Идолопоклонство перед Америкой сочетается с широкораспространенным мнением: все другие государства проводят политику силы и руководствуются зловещими мотивами с целью заманить американскую девственницу в свои воровские притоны и там лишить США невинности и имущества»4. Американская реакция подняла шумную кампанию, обвиняя правительство Ф. Рузвельта в том, что оно «предало» интересы США во время второй мировой войны. «Забрасывая грязью мраморную фигуру Рузвельта, принудив демократов вести надуманную войну о Ялте»5, реакция сформулировала основные «ошибки», которые якобы совершили США. Выяснилось, что грубейший промах американского правительства заключается в том, что США, вступив в войну, способствовали разрушению «баланса сил» в Европе и Азии, бросив свой вес в коалиционной войне против держав оси. США не дали возможности нацистской Германии и милитаристской Японии ослабить, обескровить Советский Союз.
Упреки эти в той или иной степени выдвигались и выдвигаются всей без исключения американской буржуазной историографией — от крикливых книжонок Д. Маккарти, Э. Моурера, X. Болдуина, У. Чемберлина до академических курсов типа работ Т. Бейли и Д. Пратта. Однако постепенно теория «баланса сил» завладела умами ряда реакционных историков, и возникло еще одно направление в американской историографии — школа «реальной политики»0. Появление этой школы не означало возникновение на американской почве качественно нового течения в исторической науке, напротив, деятели школы «реальной политики» лишь суммировали и точнее определили все то, что было давно неотъемлемой частью теории и практики американской внешней политики. Поскольку концепция «баланса сил» давала теоретическое объяснение политики с «позиции силы», американские правящие круги немедленно подняли ее на щит.
Когда в 1951 годуД. Кеннан опубликовал курс своих лекций «Американская дипломатия 1900—1950 гг.», значение школы «реальной политики»
1 «Perpetual War for Perpetual Peace», p. 7.
2 «Political Science Quarterly», June 1954, v. 69, N. 2 (Advertisement).
3 «Yale Review», Spring 1956, v. 45, N. 3, p. 380.
4 H. L a s k y, American Democracy, N. Y., 1948, p. 249.
5 «The Nation», 7. 4. 1954.
• Ее основателем считается чикагский профессор Г. Моргентау, наиболее активные* деятели—профессиональные историки Р. Осгуд, Г. Граемац. Видную роль играют в прошлом работники государственного аппарата Дж. Кеннан, Ч. Маршалл,*11. Холл. Идеологическое кредо школы «реальной политики» изложено в работах: Н. Morgentahu, Defense of National Interest, N. Y., 1950; American Foreign Policy, N. Y., 1951; What is the American Tradition?, N. Y., 1953; R. Osgood, Ideals and Self-Interest in America’s Foreign Relations, Chicago, 1953; Ch. Marshall, The Limits of Foreign Policy, N. Y., 1954; H. H a 1 1 e, The Nature of Power, London, 1955; G. К e n n a n, American Diplomacy 1900—1950, Chicago, 1951; Realities of American Foreign Policy, Princeton, 1954.
268
в реакционной историографии круто возросло. Теперь эта школа имела в своих рядах основоположника политики «сдерживания», автора нашумевшей статьи «Истоки советской политики», опубликованной в июльском номере журнала «Форин афферс» за 1947 год и подписанной интригующим псевдонимом «г-н X», ибо в то время Д. Кеннан был главой отдела планирования государственного департамента. Водоворот обвинений и контробвинений в связи с политикой США во время второй мировой войны прорезала концепция «баланса сил%, прочно опиравшаяся на посылки и следствия формальной логики. *
Послевоенные критики в Америке спекулятивно утверждали, что США в силу своей уступчивости и близорукости проглядели усиление СССР; не было необходимости оказывать ему помощь по ленд-лизу в таких размерах, «второй фонт» нужно было открыть на Балканах и не допустить выхода советских вооруженных сил в Центральную Европу, следовало предотвратить вступление СССР в войну с Японией. Основные ошибки были допущены на военных конференциях в Тегеране, Ялте и Потсдаме, когда западные союзники необоснованно сделали огромные уступки СССР и, выдвинув требование «безоговорочной капитуляции», открыли путь к военному преобладанию Советского Союза в Европе и Азии. Школа «реальной политики» и вместе с ней Д. Кеннан предложили искать объяснение событий второй мировой войны и ее последствий в реальном соотношении сил. Оценка соответственных сил в момент свершения тех или иных событий — единственный критерий правомерности наступивших результатов.
Д. Кеннан отмел как безответственную болтовню обвинения правительства США и «коммунизме» (так ставили вопрос маккартисты). «Я не думаю,— говорил он, — что нам следует искать величайшие ошибки второй мировой войны в принятых под давлением событий сбивчивых решениях, которые определяли развитие военных операций и создавали основу межсоюзнических отношений в огне войны. Иными словами, я не думаю, чтобы ошибки крылись в неправильных решениях нескольких высокопоставленных лиц. Я полагаю, что ошибки носили значительно более глубокий характер и они заключались в неправильном отношении и понимании всей нашей страной характера войны, в которую мы были вовлечены». Перед войной «Германия и Россия1 представляли собой страшную для Запада проблему. Если бы они были вместе, их нельзя было бы сокрушить. Любое из этих двух государств западные державы могли разбить только при помощи другого». Конечно, подчеркивает Д. Кеннан, «было бы значительно более осмотрительно в годы, предшествовавшие войне, вести политику так, чтобы столкнуть Германию и СССР с тем, чтобы они истощили друг друга. Этого не произошло, и США оказались в войне с Германией, поэтому случилось так, что не было решительно никаких перспектив на победу над Германией без помощи России»1 2 3.
В послевоенные годы на страницах американской печати и в работах буржуазных историков можно найти немало альтернативных планов, как следовало Соединенным Штатам проводить свою политику. По поводу всех этих проектов, задним числом сокрушающих СССР, Д. Кеннан замечает: «Нет никаких оснований полагать, что если бы мы вели себя иначе в отношении ленд-лиза или военных конференций, исход военных действий в Европе отличался сколько-нибудь заметным образом от того, какой имел место»1’ Г. Моргентау констатирует: «СССР разбил Германию собственными силами»4. Где же основная ошибка? Д. Кеннан отвечает: «Перед нами все еще была решающая дилемма: Гитлер был таким человеком, с которым компромиссный мир
1 Школа «реальной политики», как правило, при рассмотрении «баланса сил» сбрасывает со счетов Японию, указывая, что события на Дальнем Востоке носили второстепенный характер и определялись в конечном итоге ходом войны в Европе. Что касается Италии п восточноевропейских сателлитов нацистской Германии, то о них обычно вообще не упоминается.
2 G. Kennan, Op. cil., pp. 75- -77, 88.
3 Jbid., p. 87.
4 H. M о г де n I h a u. Op. cil., p. 167.
269
был невозможен и немыслим»1. Следовательно, ошибка заключалась в том, что был нанесен сокрушающий удар по германскому милитаризму, в то время как СССР выходил из войны победителем. Так и формулирует это положение начальник штаба при президенте адмирал В. Леги в связи с конференцией в Ялте: «Важнейшее решение конференции—уничтожить германский милитаризм сделает Россию господствующей державой в Европе»1 2. Однако образ действия, предлагаемый Д. Кеннаном, был неосуществим: народы мира, в том числе лучшие люди Германии, были преисполнены решимости уничтожить нацистскую тиранию. О мире с германским фашизмом не могло быть и речи.
Школа «реальной политики», канонизировавшая принцип «баланса сил», сознательно оставляет в тени существенное обстоятельство: вся англо-американская стратегия в период второй мировой войны была попыткой претворить его в жизнь в той мере, в какой это позволял характер войны, бывшей антифашистской, освободительной. Основные усилия США приложили к тому, чтобы максимально ослабить СССР и Германию. Достаточно указать на сознательное затягивание сроков войны, проволочки с открытием второго фронта. В послании У. Черчиллю 24 июня 1943 года после отказа западных держав открыть второй фронт в 1943 году И. В. Сталин подчеркивал: «Нельзя забывать, что речь идет о сохранении миллионов жизней в оккупированных районах Западной Европы и России и о сокращении колоссальных жертв советских армий, в сравнении с которыми жертвы англо-американских войск составляют небольшую величину»3.
Когда второй фронт был открыт в Западной Европе в июне 1944 года, то это было сделано лишь потому, что попытки англо-американских войск развить операции в Италии были сорваны сопротивлением германской группы армий под командованием генерал-фельдмаршала А. Кессельринга на позиции «Густав». Вялые действия западных союзников, несомненно, укрепляли положение гитлеровского режима и затягивали войну. Фон Гассель помечает в своем дневнике 23 февраля 1944 года: «Военное положение стабилизировалось в результате замедления наступления англо-американцев в Италии»; 8 апреля 1944 года он вновь пишет «о стратегических ошибках англо-американцев»4 *. Об ударе на Балканы и выходе в Юго-Восточную Европу в этих условиях не приходилось и думать. Нужно было предотвратить освобождение Европы советскими вооруженными силами.
Профессор С. Мозли (Колумбийский университет) отмечает: продолжение кампании на Балканах, «по-видимому, привело бы к тому, что не только вся Германия, но также Дания, Нидерланды, Бельгия и, возможно, Франция были бы освобождены советскими войсками»6. «Удар на Балканах,— пишет Ч. Маршалл (консультант палаты представителей по внешнеполитическим вопросам),— вполне возможно, открыл бы дорогу русским до самого Рура»®. Наконец, авторитетное мнение биографа Ф. Рузвельта, Р. Шервуда: «Если бы силы англо-американцев были сосредоточены в Южной и Юго-Восточной Европе, что в конечном счете могло бы помешать русским проникнуть в Рур, Саар и даже Нормандию?»7 Таким образом, речь шла не о выполнении обязательства, а о достижении политических целей голой силой.
Излюбленный тезис американской реакционной историографии, бесконечные ссылки на то, что СССР якобы не признает никаких соглашений, в то время как англо-американцы чтут святость международных договоров. Дело обстоит как раз наоборот, и это можно проследить на примере мотивов США
1 G. Kennan, Op. cit., р. 87.
! W. Leahy, I was There, N. Y., 1950, p. 323.
3 «Переписка председателя^овета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войвы 1941—1945 гг.», Госполптиздат, М., 1957, т. I, стр. 138.
4 «The Hassel Diaries, 1938—1944», N. Y., 1947, pp. 327, 341.
6 «The Fate of East Central Europe», ed. by S. Kertes. University of Notre Dame Press, 1956, pp. 61—62.
•Ch. Marshall, Op. cit., p. 75.
7 P. Шервуд, Названное сочинение, т. II, стр. 218.
270
при заключении соглашений с СССР о зонах оккупации в Германии и о восстановлении территориальных прав СССР на Дальнем Востоке (Курильские острова и остров Сахалин). Что касается первого, то достаточно сослаться на выводы Д. Кэмпбелла1, сделанные на основании изучения документов в архивах государственного департамента: «Возможно было два пути предотвратить исход, имевший место: 1 —вообще не заключать никакого соглашения о зонах оккупации, предоставив союзным войскам находиться там, куда они выйдут в конце^войны... и 2—заключить соглашение о совместной оккупации всей Германии. *
Первый вариант влек за собой риск того, что русские окажутся на Рейне, что в начале 1944 года, когда было принято решение о советской зоне, представлялось более вероятным исходом, нежели выход американцев и англичан на Одер.
Второй вариант... серьезно рассматривался в государственном департаменте в 1944 году». Он был отвергнут, так как, «хотя западные державы получили бы некоторые позиции в Восточной Германии, советские солдаты также получили бы доступ на Рейн и в Рур»1 2.
Предысторию ялтинских соглашений изучил также по архивам государственного департамента профессор Р. Зонтаг, руководивший в 1946—1949 годах изданием германских документов в США. «Из материалов государственного департамента совершенно очевидно, что американские политики, гражданские и военные, не имели уверенности в своей способности, пока продолжалась война, заставить (курсив в тексте) СССР принять американские планы организации материка Азии». Соглашение о Курильских островах и острове Сахалин приветствовалось в американских правящих кругах, так как «эти уступки также устанавливали границу советского продвижения в районе, в котором не было эффективных сил, чтобы сдержать это продвижение»3. Военное министерство США поставило в известность правительство' весной 1945 года, что нет никакой возможности опередить советские войска4. Изложенных двух примеров достаточно для иллюстрации очевидного положения о том, что США неизменно полагались на политику силы, используя международные соглашения лишь в тех случаях, когда было необходимо прикрыть клочком бумаги обнаруживавшиеся бреши.
Политика «баланса силы» в годы второй мировой войны дорого обошлась советскому и германскому народам, да и другим народам Европы и Азии, но принесла существенные выгоды США. Общая стоимость войны для СССР составила 485 миллиардов долларов (128 миллиардов прямого ущерба в оккупированных районах и 357 миллиардов — расходы на войну, а также потери доходов населения в результате оккупации)5 *. Общая стоимость войны для Германии—670 миллиардов марок®. По подсчетам западногерманского профессора Г. Арнца, «сумма потерь немецкого и русского (в широком смысле) народов составляет около 10 процентов всего населения Германии и России»7. Военные расходы США равняются 330 миллиардам долларов (но в то же время национальный доход вырос с 64 миллиардов долларов в 1938 году до 160 миллиардов долларов в 1944 году). Людские потери Соединенных Штатов на фронтах—229 тысяч человек. На территории СССР и Германии
1 Д. Кэмпбелл в прошлом работал в отделе планирования государственного департамента; ныне глава Исследовательского отдела по политическим вопросам Совета международных отношений. Известен как автор полуофициальных ежегодных изданий «США в международных делах».
2 D. Campbell, Negotiations with the Soviets, «Foreign Affairs», January 1956, v. 34, N. 2, p. 315.
3 R. S о n t a g, Reflections on the Jalta Papers, «Foreign Affairs», July 1955, v. 33, N. 4, pp. 618—621.
4 J. G re w, Turbulent Era, N. Y., 1952, v. 2, p. 1458.
6 Данные оглашены советской делегацией на СНИДе в Москве 17 марта 1947 года «Известия», 18 марта 1947 года.
• «Итоги второй мировой войны», Издательство иностранной литературы, М., 1957, стр. 434.
7 Там же, стр. 601.
271
в результате военных действий погибли миллионы женщин, детей, стариков. На территории США при взрыве бомбы в штате Орегон погибло 6 человек, чем исчерпались потери гражданского населения. Это была одна из бомб, которые японцы запускали на «авось» на воздушных шарах.
Тем не менее правящие круги США были серьезно разочарованы итогами войны. Рецензируя переписку глав правительств СССР, США и Англии в годы второй мировой войны, журнал «Коммунист» отмечал, что в войне «главная цель американских и английских правящих кругов сводилась к обеспечению за собой мирового господства за счет ослабления Советского Союза, Германии и Японии»1. Мировое господство не было достигнуто, и в первую очередь потому, что СССР, несмотря на большие потери, вышел из войны окрепшим, став главным препятствием на пути новых претендентов на мировое господство. Отсюда стремление правящих кругов США достичь все той же старой цели — мирового господства, несмотря на новые условия, сложившиеся в мире. Одних сил США для этого недостаточно, потому они стараются найти союзников, которых можно бросить на первую линию огня за американские, в конечном итоге, интересы. Теория «баланса сил» подсказывает таких союзников: Германию и Японию. Для доказательства, что их было достаточно для фатального ослабления СССР во вторую мировую войну при соответствующей политике США, и направлены усилия школы «реальной политики» в американской историографии.
Выводы теоретиков «баланса сил» приняты на вооружение современной внешней политики США. «Разгром Германии и Японии ...— отмечал Д. Ачесон —...устранил противовесы, в течение многих лет уравновешивавшие Россию... Сосуществование победителей и «баланс сил» требовали создания противовеса мощи советской системы»1 2. Э. Стивенсон видит недостаток послевоенной системы международных отношений в том, что «коротко говоря, мощь России нечем уравновесить... Больше не осталось никого, кто бы мог сделать это для нас»3. Ч. Маршалл указывает, что это привело к тому, что «наши действия потеряли свою эффективность. Раньше, когда мы обычно стояли в стороне, наше решение выступить на мировой арене приводило к быстрому восстановлению баланса. Заключив постоянные союзы, мы лишились возможности внезапно изменить обстановку неожиданным появлением на мировой арене»4. А меньше всего, как отмечал генерал Ч. Маршалл на совещании у президента в апреле 1945 года, США склонны выполнять «грязную работу» в военных делах5 *. «Основа нашего военного планирования заключалась в том, чтобы не подвергать наши войска большей опасности, чем это было необходимо»,—подчеркивает Г. Трумэн®. Так было во вторую мировую войну, так рассчитывают США действовать в будущем.
Рассматривая современное соотношение сил, Д. Кеннан отмечает, что сейчас имеется пять районов, обладающих достаточным потенциалом для ведения большой войны. Северная Америка, Великобритания, Япония, Германия и СССР. Первые три, как полагает Д. Кеннан, смогут поддержать военные усилия Соединенных Штатов. Вопрос, с точки зрения американских стратегов, упирается в отношения между последними двумя. Д. Кеннан считает, что установление тесных связей между СССР и Германией грозит опрокинуть мировой «баланс США». «Отношения между Германией и Россией — ключ нашей проблемы безопасности в физическом смысле... наша основная задача — предотвратить объединение военно-промышленного потенциала всей Евразии»,— заключает он7.
1 «Коммунист», 1957, 14, стр. 96. л
2 D. Acheson, A Democrat Looks al his Parly, N. Y., 1955, pp. 90—91.
:l A. Stevenson, Call to Greatness, N. Y., 1956, p. 25.
4 Ch. Marshall, Op. cit., p. 81.
5 «The Forrestal Diaries», ed. by W. Mills, N. Y., 1951, p. 51.
“ «The Memoirs of H. Truman», N. Y., 1956, v. I, p. 217.
’ G. Kennan, Realities of American Foreign Policy, Princeton, 1954, p. 65.
272
Но Германия, в данном случае речь идет о Западной Германии, будет вольна определять свою политику только при достижении полной независимости. Бывший министр авиации Т. Финлеттер подчеркивает, что в независимости Германии таится угроза для планов США. Если возникнет «независимая Западная Германия с ее собственной национальной армией, то сомнительно, чтобы система НАТО уцелела»1. В этом корень американской политики по отношению к Германии. Призрак независимой и Дружественной к СССР Германии преследуем Вашингтон. Именно поэтому правящие круги США стремятся посеять раздор между советским и немецким народами. Не дружескими чувствами к Германии, а желанием использовать ее в своих интересах проникнута американская политика. За пышными декларациями о «единстве» Запада скрывается циничная политика «баланса сил», которая несет неисчислимые беды народам Европы и Азии.
Обозревая американскую реакционную историографию второй мировой войны, нельзя не заметить, что школа «реальной политики», несомненно, оттесняет все остальные направления. Больше того, историки других школ в возрастающей степени заимствуют аргументы у этого направления1 2. Уже одно это ярчайшим образом показывает подчинение современной истории в США несомненно агрессивному внешнеполитическому курсу американских правящих кругов. Связь между политикой с «позиции силы» и теорией «баланса сил» очевидна; вторая служит идеологическим обоснованием первой, а нужды первой вызвали бурный расцвет второй. Но не менее очевидна неблаговидная роль, которую играют сторонники теории «баланса сил» в создании напряженности в мире. История поучительна, однако исторические экскурсы в плане «баланса сил», несомненно, вредны и опасны.
Основные постулаты этого направления в исторической науке, претендующего на реализм, открыты для критики подлинно реальных историков, да и любых здравомыслящих людей в самих США. Критики эти отличаются далеко не прогрессивными убеждениями. Они понимают место этой школы в идеологическом арсенале США и обычно начинают разбор теории «баланса сил» с указания на ее общепризнанное господствующее положение в исторической науке или в виде современной версии — политики с «позиции силы» в политической жизни. Крупный бизнесмен Д. Брассерт (Нью-Йорк) отмечает в «Политикал сайенс квотерли»: эта теория— «главная политическая теория» в США сегодняшнего дня. Ее «придерживается большинство современных историков и комментаторов». Однако «уже само название — политика «баланса сил»— показывает, что для достижения дипломатических целей в конечном итоге необходимо применить в момент их реализации подавляющую военную силу». Это «возрождение в XX веке английской политики «баланса сил» XIX века... но теперь развитие техники и атомной энергии идет настолько быстро, что большинство из ведущих государств сможет нанести нокаутирующий удар в любом месте на нашей планете. Все это, возможно, ослабило аргументацию политики «баланса сил» в ее самой цитадели—способности возбу ждать всеобщий страх и смятение. Это, возможно, припело нас к осознанию того, что политика силы не может быть успешной в XX столетии»3 [курсив мой.—Н. Я.).
Профессоры политической истории Т. Кук и М. Муз доказывают несостоятельность этой концепции с иных позиций как теории, которая не имеет иных целей, кроме самоцели: поддерживать «баланс силы» ради самого баланса. «Державе, собирающейся действовать в качестве баланса, следует
1 Т. Финлеттер, Сила п политика, Издательство иностранной литературы, М., 1956, стр. 63.
2 Это в высшей степени интересный вопрос, заслуживающий самостоятельного исследования, которое, по-видимому, будет способствовать раскрытию умственного обнищания американских буржуазных историков, так сказать, «дефилиацию» исторических взглядов в угоду одной установке.
3 J. Brassert, Power Politics, versus «Political ecology», «Political Science Quarterly», December, 1956, v. 71, N. 4, p. 554.
16 Заказ № 12211
273
ожидать, что в один прекрасный день ей придется перейти на другую сторону, чтобы поддержать «баланс сил»1. Отсюда авторы делают гипотетический вывод, что США, возможно, придется объединиться в будущем с СССР против какого-либо блока1 2, и, чтобы не допустить этого, предлагают отказаться от позиции «третьего радующегося» и еще теснее сомкнуться с блоком капиталистических держав3.
Профессор Колумбийского университета Ф. Танненбаум подвергает уничтожающей критике концепцию «баланса сил» в исторической науке под другим углом зрения—как отравляющую по силе своих возможностей международную атмосферу: «Самое лучшее в будущем, что они могут усмотреть, — это вооруженный «баланс сил» до следующей войны, а после нее еще более изощренная дипломатия для достижения того же неизбежного результата: нового «баланса сил», что приводит к новой войне. Эта страшная доктрина получила теперь широкое распространение среди ученых и преподавателей в области международных отношений и, по существу, стала ведущим предметом во многих наших основных университетах. Опа стала наукой международных отношений. Однако это вовсе не наука. Это ересь. Ее научная основа ложна. По существу, это лишь посредственная логика, исходящая из ложных посылок и ее претензии на науку — бесчестное зазнайство»4.
Несмотря на очевидную реакционность некоторых из этих критических теорий и противоречивость их в целом, они неоспоримо говорят об одном: ученые-историки, выдвигающие их, озабочены будущим в век термоядерного оружия и межконтинентальных ракет и подходят к пониманию того, что мирное сосуществование становится исторической неизбежностью. Но если критика концепции «баланса сил» в США вызвана опасениями за судьбу одной Америки в случае будущей войны, то ученые Европы и Азии должны рассматривать этот вопрос в более широком плане. Убедительно разоблачать лженауку «баланса сил», значит изолировать ее пропагандистов, стоящих в первых рядах агрессивных сил Америки. Борьба за мир имеет две стороны: 1) сплочение людей доброй воли вокруг лозунгов всеобщего мира, 2) изоляцию проповедников новой войны. Идеологическая борьба против теории «баланса сил» будет во многом способствовать их разоружению и торжеству политики мирного сосуществования.
Особая роль в этом отношении выпала на долю советских и германских историков, ибо все маневры правящих кругов США, все усилия пропагандистов теории «баланса сил» направлены главным образом на го, чтобы разобщить советский и немецкий народы. Они надеются вновь столкнуть Германию и СССР с тем, чтобы они оказались обескровленными, и утвердить па обломках разоренных государств свое мировое господство. Некоторые круги в Западной Германии уповают на то, что американские «друзья» дадут возможность Германии усилиться за счет СССР. Тщетные надежды! Вот что пишет один из таких «друзей» и сторонник концепции «баланса сил» Л. Холл, говоря об американской политике по отношению к Германии в случае ослабления СССР (заметим, что это расчеты на песке!): «Если после этого германские войска перейдут свою восточную границу, мы сбросим атомные и водо
1 Т. С о о к 4 М. Moos, Powerthrough Purpose. The Realism of Idealism as a Basis for Foreign Policy, Baltimore, 1954, p. 112.
2 Ibid., p. 113. Для уяснения смысла их аргументации важно напомнить, как профессора Т. Кук и М. Муз излагают концепцию сторонников «баланса сил»: «В настоящее время мы живем в мире, имеющем два полюса... Долг Америки и ее интересы заключаются в том, чтобы организовать и вдохновить своих союзников на Западе и Востоке и превратить их, по существу, в независимые блоки,направленные против России. Совместно эти блоки будут представлять силу, примерно равную России, способную служить противовесом этой континентальной державе. США явятся решающей гирВи, резервом. Они будут выступать в любой момент, когда в этих блоках обнаружится слабость, которая даст возможность России получить местные преимущества».
3 Ibid., р. 111.
4М. Gordon and Vines, Theory and Practice of American Foreign Policy, New York, 1955, pp. 95—96.
274
родные бомбы на Германию»1. Такой образ действий логично вытекает из самой концепции «баланса сил»: США — главная держава мира, остальные страны — ослабленные, второстепенные, нещадно эксплуатируемые и в случае «неповиновения» наказываемые Соединенными Штатами.
Учитывая все это, необходимо сосредоточить усилия не только на разоблачении фальсификации истории второй мировой войны, но и на показе несостоятельности тех выводов, которые делает из ее опыта современная американская буржуЛная историография и которые представляют далеко не академический интерес. Тем самым историки внесут новый значительный вклад как в расширение границ понимания истории человечества, так и в обеспечение дела мира, что необходимо для процветания всех отраслей науки.
1 L. Hall, The Nature of Power, London, 1955, p. 203.
Автор длительное время работал в отделе планирования государственного департамента. Книге предпослано предисловие Д. Ачесопа. В нашем распоряжении—английское издание 1955 года. В 1952—1955 годах она выдержала несколько изданий в США под названием «Civilisation and Foreign Policy».
1R’
Г. Л. Розанов
ПЛАНЫ РАСЧЛЕНЕНИЯ ГЕРМАНИИ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ИХ ОСВЕЩЕНИЕ В РЕАКЦИОННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»
Рассмотрение вопроса о планах, вынашиваемых в годы второй мировой войны империалистическими кругами США, Англии и Франции в отношении будущего Германии, имеет серьезное политическое и научное значение.
Курс на ремилитаризацию Германии, проводимый ныне правительством США вкупе с правительствами Англии и Франции, неизбежно означает вместе с тем и курс на расчленение Германии, ибо между проблемой мира и проблемой германского единства существует тесная органическая связь. Уничтожение Германии как единого государства и, следовательно, как великой державы, как самостоятельного фактора мировой политики рассматривается в правящих кругах западных империалистических держав как важнейшая предпосылка превращения Западной Германии в очаг реваншизма и милитаризма для последующего использования ее в качестве ударного кулака в борьбе против сил социализма п демократии в Европе. Именно поэтому правящие круги западных стран встали на путь прямого нарушения тех соглашений с Советским Союзом, которые были заключены в годы войны и непосредственно после войны и которые имели целью обеспечение мира и безопасности в Европе и реальную помощь германскому народу с тем, чтобы Германия на деле стала демократическим и миролюбивым государством. Именно поэтому правящие круги западных держав помешали после окончания войны созданию единой демократической миролюбивой Германии. Именно поэтому они восстановили военную промышленность в Западной Германии и поспешно воссоздают германскую армию, возглавляемую гитлеровскими генералами. Тем самым правящие круги США, Англии и Франции, поддержанные немецкими монополистами, фашистами и милитаристами, о которых товарищ Гротеволь метко сказал, что они «вначале проиграли единство Германии, а затем продали его»1, не только создали серьезную угрозу делу мира и безопасности в Европе, но и воздвигли немалые препятствия на пути объединения всех немцев в единое, миролюбивое, демократическое государство.
Вместе с тем с очевидной целью обмануть международное общественное мнение и свалить вину за раскол Германии, осуществленный США и Англией после войны, с больной головы на здоровую, осложнить отношения между советскпм п немецким народами и очернить миролюбивую советскую внешнюю политику империалистические фальсификаторы истории, видимо, полагая, что у народов короткая память, не раз пытались за последние годы выступать с антисоветскими клеветническими измышлениями. Они приписывают Советскому Союзу мифические планы... расчленения Германии, якобы существовавшие в годы второй мировой войны. Конечно, эта шулерская игра империалистической пропаганды сшита белыми нитками. Жизнь уже показала, кто является врагом единства Германии, а кто является другом и союзником немецкого народа в его борьбе за объединение своей страны на миролюбивой и демократической основе. Попытки империалистической пропаганды превратить вопрос о единстве Германии и отно-
1 «Neues Deutschland», 9. 8. 1957.
276
шениях между союзниками в годы второй мировой войны в участок идеологической борьбы двух лагерей не могут закончиться для империалистической пропаганды ничем, кроме позорного провала.
Официальные и полуофициальные материалы, опубликованные в США и Англии по данной проблеме, совершенно явственно призваны служить целям разжигания и углубления «холодной войны». Фальсифицируя исторические факты, они тщатся изобразить американские и английские правящие круги поборниками единства Германии и в то же время скомпрометировать последовательно миролюбивую и демофатическую политику Советского Союза в германском вопросе. Тем самым стремятся ввести в заблуждение прежде всего широкие массы немецкого народа, чтобы облегчить затем его использование в агрессивных планах американского империализма.
Наиболее серьезной попыткой американских правящих кругов фальсифицировать историю данной проблемы, несомненно, является предпринятая государственным департаментом США в марте 1955 года затея с изданием «документов», связанных с конференциями союзников на Мальте и в Ялте1. Как известно, на этих совещаниях союзников не велось официальных протоколов заседаний и бесед. Поэтому опубликованные материалы ни в коем случае нельзя считать достоверными документами. Это в основном личные записки дипломатов и чиновников правительства США, донесения послов, составленные на основе случайных бесед, слухов и порой просто домыслов. Раскрывая цели публикации в Соединенных Штатах Америки так называемых ялтинских документов, «Правда» писала, что тем самым «нынешние руководители дипломатии США пытались очернить мотивы и стремления союзников США в прошлой войне — Англии и СССР, а заодно осудить и бывшее правительство США, не показавшее якобы готовности и решимости бороться за интересы своей страны. Этот шаг был справедливо расценен тогда английской печатью и представителями демократической партии как негодная попытка республиканского правительства с помощью фальсификации истории укрепить свои непрочные позиции внутри страны и косвенно оправдать неудачи своей внешней политики»1 2. Тот факт, что публикация ялтинских документов была приурочена руководством республиканской партии США к предвыборной кампании, явно говорит о стремлении использовать ее в интересах партийной борьбы против демократов, что был вынужден признать и реакционный американский еженедельник «ЮС Ньюс энд Уорлд рипорт»3. Творчество «историков» из госдепартамента представляет определенный интерес для выявления противоречий и разногласий, существовавших в германском вопросе между правящими кругами США и других империалистических государств. Фальсифицируя и приукрашивая внешнюю политику США, американские составители «ялтинских документов» бывают непрочь иногда дать объективную картину действий империалистических соперников США.
Так, в сборнике читатель найдет памятную записку «Будущая судьба Германии», направленную Иденом Черчиллю накануне открытия Ялтинской конференции, где нашла свое выражение раскольническая линия английского правительства в германском вопросе. «В ходе изучения, — говорится там, — Комиссия [речь идет о Европейской консультативной комиссии. — Г. Р.) должна уделить особое внимание, в частности, вопросам... будущей судьбы Рейнско-Вестфальского бассейна, Кильского района...»4 На Тегеранской конференции, указывается в сборнике, Черчилль «предложил разделить Германию на две части, отделив Пруссию от южной части
1 «Foreign Relations of the United States», Diplomatic, Papers. «The Conferences at Malta and Yalta 1945», Washington, 1955.
2 «Правда», 20 января 1956 года.
8 «US News and World Report», 4.11.1955, p. 61.
4 «Foreign Relations of the United States», Diplomatic Papers. «The Conferences at Malta and Yalta 1945», Washington, 1955, p. 512.
277
Германии... он добавил, что южногерманское государство с правительством, пожалуй в Вене, может служить указанием на характер^великого раздела Германии»1.
Что касается французских правящих кругов, говорится в сборнике, то генерал де Голль, занимавший тогда пост главы временного французского правительства, в декабре 1944 года заявил, что «Рейн является естественной границей Франции, и выразил желание, чтобы французские войска всегда находились на этой границе»1 2.
Наконец, составители сборника допустили и вполне определенное признание той позиции раскола Германии, которую последовательно занимали в Ялте представители США. Президент США заявил на конференции, говорится в сборнике, что «он выступает за расчленение Германии... Он по-прежнему считает, что раздел Германии на пять государств или даже на семь государств — это хорошая мысль»3.
Хотя грубо фальсификаторский характер ялтинских документов, опубликованных госдепартаментом США в марте 1955 года, незамедлительно стал очевиден международной общественности, «историки» из госдепартамента не успокоились.
29 декабря 1955 года руководитель архивного отдела госдепартамента США Нобл заявил о выходе в свет нового, якобы «полного» тома «Документов Ялтинской конференции». Газеты и радио США подняли вокруг этих материалов шум, пытаясь представить их как новое слово американской историографии. На деле, писала «Правда», «нет никакой гарантии, что эти «документы» — не плод фантазии чиновников или не результат преднамеренной фальсификации, совершенной в определенных целях чиновниками госдепартамента США»4.
Центральное место в новой «публикации» госдепартамента США занимал меморандум американского посла военных лет в Москве Гарримана о беседе по германскому вопросу с одним из бывших работников Народного комиссариата иностранных дел СССР. Гарриман приписывал советскому правительству намерение расчленить Германию на несколько мелких самостоятельных государств, лишить ее тяжелой промышленности и вывезти из Германии на территорию союзных государств два-три миллиона немцев для использования их в качестве рабочей силы. «Историографы» госдепартамента США не могли привести ни одного советского документа, ни одного выступления руководящих деятелей Советского Союза, чтобы подкрепить выдумки Гарримана. Это и понятно, ибо таких документов или выступлений не было и нет. Публикация «меморандума Гарримана» была предпринята с очевидной целью обмануть международное общественное мнение и свалить вину за раскол Германии, осуществленный США и Англией, на Советский Союз. Грубо фальсифицируя факты и пытаясь приписать советскому правительству планы расчленения Германии, руководители госдепартамента рассчитывали тем самым осложнить отношения между советским и немецким народами и заодно очернить советскую внешнюю политику.
Однако американским фальсификаторам истории, как этого и следовало ожидать, не удалось добиться поставленных целей. Клеветническая вылазка госдепартамента США встретила достойный отпор. «Стремление народов к миру и мирному сотрудничеству, — писала «Правда», — настолько широко и всесильно, что его нельзя остановить или задержать с помощью примитивной фальсификации истории. Фальсификаторы лишь разоблачают себя как противников укрепления мира и международного сотрудничества»5.
1 «Foreign Relations of the United States», Diplomatic Papers. «The Conferences at Talta and Yalta 1945», Washington, 1955, p. 612—613.
2 Ibid., p. 572.
3 Ibid., p. 614.
4 «Правда». 20 января 1956 года.
5 Там же.
278
Следующая группа материалов, затрагивающих вопрос об империалистических планах расчленения Германии в период второй мировой войны, содержится в многочисленных воспоминаниях и книгах видных политических и военных деятелей западных держав, опубликованных за последние годы.
В Соединенных Штатах Америки увидела свет 13-томная публикация выступлений Ф. Рузвельта в годы второй мировой войны1, там же опубликовали свои воспоминания бывший президент США Г. Трумэн1 2, бывшие государственные секретари К. Хэлл3, Э. Стеттин^с4, Дж. Бирнс5 * 7 8, вышли работы бывших министров Д. Форрестола9, Дж. Маршалла’, Г. Моргентау9, видных деятелей госдепартамента С. Уэллеса®, адмирала У. Леги10 11, Дж. Кеннана11, военных деятелей Д. Эйзенхауэра 12, О. Брэдли13, Д. Паттона14 и многие другие. Из работ подобного рода, опубликованных в Англии, следует отметить 6-томную публикацию У. Черчилля15 * 17 18 и книги Р. Ванситтарта1®. Среди работ американских авторов наиболее достоверные данные о планах западных держав в отношении Германии содержатся в книгах К. Хэлла, У. Леги, С. Уэллеса и Г. Моргентау, то есть в книгах тех государственных деятелей США, которые на определенных этапах войны принимали непосредственное участие в формировании и осуществлении американской политики в германском вопросе.
В воспоминаниях К. Хэлла указывается, что в последние годы его пребывания на посту государственного секретаря (1943—1944 годы) подготовка планов будущего расчленения Германии заняла большое место в деятельности правительственного аппарата США, и прежде всего государственного департамента.
На 1-й Квебекской конференции (август 1943 года) американские и английские участники ее без особого труда договорились о такой послевоенной «реорганизации» Германии, при которой, пишет К. Хэлл, «Германия перестала бы существовать как единое государство»1’. На конференцию министров иностранных дел США, СССР и Великобритании в Москву в октябре 1943 года, указывает К. Хэлл, он отправился уже с готовым проектом «расчленения Германии на три или большее число государств, которые были бы полностью независимы друг от друга и связаны лишь почтовыми, таможенными соглашениями, соглашениями о передвижении, а, может быть, также и по вопросам снабжения электроэнергией»19.
Адмирал У. Леги, начальник штаба президента США во время Тегеранской конференции, подтверждает в своей работе, что 30 ноября 1943 года президент США предложил остальным участникам конференции «разделить
1 F г a nlk l'i n D. Rto о s e v e 1 t, The Public Papers and Addresses. (1941—1945), N. Y., 1946—1950.
2 «Memoirs by Harry S. Truman», v. I—II, N. Y., 1955—1956.
3 «The Memoirs of Cordell Hull», v. I—II, N. Y., 1948.
* E. S te ttinius, Roosevelt and the Russians. The Yalta Conference, N. Y., 1949.
6 J. Byrnes, Speaking Frankly, N. Y., 1947.
• J. Forrestal, The Papers, N. Y., 1951.
7 G. Marshall, Biannial Report of the Chief of Staff of the US Army 1943—1945, Washington, 1945.
8 H. M о rg e n t h a u, Germany is our Problem, New York - London, 1945; H. Merge n t h a u, Postwar Treatment of Germany. Annals of the American Academy of Political and Social Science, V. VII, 1946.
• S. Welles, The Time for Decision, N. Y., 1944.
10 W. L e a h у, I was There, London, 1950.
11 G. Kennan, American Diplomacy 1900—1950, Chicago, 1951.
12 D. Eisenhower, Crusade in Europe, N. Y., 1948.
18 O. Bradley, A Soldier’s Story, N. Y., 1951.
14 J. Patton, War as I know it, London, 1947.
16 W; Churchill, The Second World War, v. I—VI, 1948—1954.
18 R. W a n s i 11 a r t, Black Record, London, 1941.
R. Wansittart, The Bones of Contention, N. Y., 1945.
17 K. Hull, Op. cit., v. II, p. 1233—1234.
18 Ibid., p. 1165.
279
империю [то есть Германию. —Г. Р.\ на пять больших государств»1. За этим планом, указывает бывший заместитель государственного секретаря Уэллес, последовал в июне 1944 года новый американский проект, предусматривавший расчленение Германии на три отдельных государства: южногерманское, западногерманское и восточногерманское1 2. Работы бывшего министра финансов в правительстве США Генри Моргентау дают возможность вскрыть во всех деталях план уничтожения Германии, выношенный в американских правящих кругах к сентябрю 1944 года. Представляя те финансово-монополистические круги США, которые страдали от германской конкуренции и стремились во что бы то ни стало уничтожить Германию как империалистического конкурента США, Моргентау настаивал на том, чтобы вся Западная Германия до Рейна была включена в состав Франции, Рурский промышленный район и обширная область на северо-западе Германии, включая Кильский канал, превращены в «международную зону», а оставшаяся территория была бы разделена на две части, ибо, как цинично отмечает в своей книге Моргентау, «с двумя Германиями будет легче справляться, чем с одной»3. Выдвинутая Моргентау программа предусматривала проведение не только ряда политических мероприятий, в корне подрывающих единство немецкой нации и немецкого государства, но и уничтожение промышленного потенциала Германии. «Путь Германии к будущему миру, — писал Моргентау, — лежит через ферму, через обработку земли»4.
Материалы, опубликованные в английской мемуарной литературе, в частности в работах Ванситтарта и Черчилля, убедительно свидетельствуют о том, что планы расчленения Германии играли немаловажную роль не только в политике американских правящих кругов, но п во внешней политике правительства Великобритании, которое рассматривало эти планы в качестве составной части курса на союз с ослабленной Германией против Советского Союза, возрождение антисоветского санитарного кордона и утверждение господства британского империализма в Европе. В своих работах Ванситтарт последовательно выступал за ликвидацию сколько-нибудь значительного промышленного потенциала Германии и превращение ее в аграрно-сырьевой придаток Англии5. Планы, вынашиваемые английскими кругами, близкими к Ванситтарту, имеют много общего с планами расчленения и ликвидации единого германского государства, подготовленными в США, в частности с планом Моргентау. Как для тех, так и для других характерен раздел Европы на несколько федераций, предназначенных в качестве плацдармов для борьбы с «большевизмом», то есть против Советского Союза, а также рабочего и национально-освободительного движения в Европе. В то же время они отражали наличие глубоких империалистических противоречий, существовавших в германском вопросе между английским и американским империализмом. Если правящие круги США, выступая со своими планами по вопросу о будущем Германии, стремились упрочить позиции американского империализма в Европе и во всем мире, то планы английских правящих кругов в германском вопросе исходили из обратного: всемерного ослабления позиций США и усиления собственных позиций.
Многочисленные материалы, опубликованные по данной проблеме в военных мемуарах Черчилля, показывают, что осуществление планов британских правящих кругов в отношении Германии должно было, по их расчетам, во-первых, предотвратить создание объединенного фронта борьбы всего немецкого народа за национальную независимость, во-вторых, подорвать конкурентоспособность немецкой промышленности, в-третьих, предотвратить появление сильного единого германского государства и тем самым сохранить известил равновесие сил в Европе.
1 W. Leahy, Op. cit., р. 249.
’ S. Welles, Op. cit., p. 336.
3 H. Morgen than, Germany is our Problem, p. 155.
4 Ibid., p. 48.
5 R. W a n s i t t a r t, The Bones of Contention, pp. 50—54, 80, 94.
280
Уже в записи, относящейся к началу 1943 года, Черчилль признает, что правящими кругами Англии «было предпринято несколько попыток выработать проект условий мира, которые учитывали бы гнев завоевателей в отношении Германии. Они выглядели... ужасно»1. Во время встречи с гузвельтом в Вашингтоне в мае 1943 года Черчилль сформулировал английскую точку зрения по вопросу о будущем Германии следующим образом:
«В юго-восто'шой Европе будет создано несколько федераций — дунайская федерация, базирующаяся на Вену, которая^должна будет в некоторой степени заполнить брешь, образовавшуюся в результате исчезновения Австро-Венгерской империи. К этой группе могла бы присоединиться Бавария... Мне бы хотелось, чтобы Пруссия была отделена от остальной Германии и чтобы 40 миллионов ее населения представляли такое европейское сообщество, с которым можно будет справиться»1 2.
28 ноября 1943 года, как признает сам Черчилль, он первым на Тегеранской конференции поднял вопрос о необходимости «далеко идущих территориальных изменений в отношении Германии»3. Эта мысль была не за-медлительно подхвачена делегацией США, которая выступила с планом расчленения Германии на пять частей:
1. Пруссия.
2. Ганновер и северо-западная часть Германии.
3. Саксония и район Лейпцига.
4. Гессен—Дармштадт, Гессен—Кассель и район к югу от Рейна.
5. Бавария, Баден и Вюртемберг.
Эти пять частей должны быть самоуправляющимися, но, кроме них, намечается создать еще две части, управляемые Объединенными Нациями:
1 Киль, Кильский канал и Гамбург.
2 . Рур и Саар.
Эти районы находились бы под опекой Объединенных Наций»4.
Черчилль, говорится в его мемуарах, в принципе поддержал план расчленения Германии и призывал «вдохнуть жизнь в эти отрезанные куски»5. Черчилль вынужден признать, что и американский план расчленения Германии и английские поправки к нему были решительно отвергнуты делегацией Советского Союза. Ее глава И. В. Сталин, по признанию Черчилля, заявил: «Австрия существовала независимо и может существовать так и дальше. Точно так же Венгрия должна вести независимое существование. Было бы в высшей степени неразумно создавать ...новые комбинации, будь то Дунайская или другие»6.
Отдельную группу материалов, освещающих в той или иной степени империалистические планы расчленения Германии в годы второй мировой войны, составляют опубликованные на Западе исторические исследования, публицистические выступления и данные прессы.
Большинство буржуазных исторических исследований по данной проблеме целиком или в основной своей части написаны на основании упоминавшихся выше официальных материалов, опубликованных правительственными органами западных держав, и опубликованной на Западе мемуарной литературы. В противоположность «исследованиям» подобного рода известный интерес для историков демократических стран представляет книга американского историка Р. Шервуда, основанная на материалах архива личного советника президента Рузвельта —Гарри Гопкинса7, а также основанные на богатых личных впечатлениях работы профессора Ф. Мозелп,
1 W. С Ii и г с Ji i 1 1, Op. cit., vol. IV. The Hinge of Fate, London, 1951, p. 617.
" Ibid., pp. 717—718.
3 W. Churchill, Op. cit., vol. Closing the Ring, London, 1952, p. 318.
4 Ibid., p. 354.
5 Ibid., p. 355.
• Ihid.
7 P. Шервуд, Рузвельт и Гопкинс, Издательство иностранной литературы М.,. 1958, т. 2, стр. 493.
281
являвшегося в 1942—1946 годах научным экспертом государственного департамента США1. В документах архива Гопкинса содержится признание той позиции, которую занимал Советский Союз по отношению к планам расчленения Германии, с которыми выступили на Тегеранской конференции представители США и Великобритании. Глава делегации СССР И. В. Сталин, говорится там, противопоставил идее расчленения Германии идею демилитаризации Германии, поставив вопрос о необходимости искоренения после войны духа пруссачества и ликвидации фашистского генерального штаба. Что касается американских и английских проектов расчленения Германии, то «И. В. Сталин, — пишет Р. Шервуд, — без особого энтузиазма отнесся к обоим предложениям...», так как «он не видит большой разницы между населением одной части Германии и другой... Он заявил, что у немцев всегда будет сильное стремление к объединению»1 2. Выяснению исторического места и преемственности империалистических планов расчленения Германии служит вышедшая в 1945 году в Париже книга Я. Дортена, бывшего руководителя сепаратистского движения в Рейнской области3.
В многочисленных публицистических работах западных авторов по данной проблеме ярко отразились две неразрывно связанные между собой линии англо-американских правящих кругов в германском вопросе в годы второй мировой войны. С одпой стороны, линия на всемерное ослабление Германии, вызванная боязнью перед Германией, как мощным империалистическим конкурентом, а также страхом перед демократическими силами немецкого народа. С другой стороны, стремление использовать потенциал Германии для борьбы против Советского Союза, демократического движения народов Европы.
Подобно тому как в англо-американских планах на первом этапе войны — в период временных успехов гитлеровских орд (1939—1942 годы)—преобладала первая линия, а после решительного поворота в развитии событий на советско-германском фронте—вторая, аналогичную картину можно наблюдать и в западной публицистике. В первые годы войны в США и Англии появилось большое число работ, авторы которых откровенно выступали не только с требованиями ликвидации единого германского государства, но и с каннибальскими проповедями уничтожения немецкой нации4.
Типичным образчиком американской публицистики подобного рода является небезызвестная работа Т. Кауфмана «Германия должна погибнуть», суть которой полностью раскрывалась в словах на суперобложке «Всеобъемлющий план уничтожения германской нации и тотального искоренения германского народа». Кауфман, выступая с требованием «лишить народ Германии возможности воспроизводить себе подобных»5 6, предлагал после победы стерилизовать всех немецких женщин моложе 45 лет и всех немецких мужчин моложе 60 лет — всего 48 миллионов человек.
Другой американский публицист Себастиан Хаффнер требовал разделить Германию на восемь частей. «Германская империя, — писал он, — должна исчезнуть и должны быть вытравлены последние семьдесят пять лет немецкой пстории. Немцы должны быть отодвинуты назад... к 1866 году»®.
1 Р h. Е. М о s е 1 у, Dismemberment of Germany. The Allied Negotiations from Yalta to Potsdam. «Foreign Affairs», April, 1950; The Occupation of Germany, «Foreign Affairs», July, 1950.
8 P. Шервуд, Названное сочинение, т. 2, стр. 493.
3 J. A. D о г t е н, La 4>ag6die Rhenane, Paris, 1945.
* T. N. Kaufman, Germany Must Perish, N. Y., 1941; If. G e 1 b e r, Peace by Power. N. Y., 1943; E. 0. L orimer, What the German needs, London, 1942; Ch. F. Heart-m a n, There Must Be No Germany after War, 1942; P. E i n z i g, Gan we Win the Peace?, London, 1942; D. E. С a г t h a g o, Partioning Germany, To make a third war impossible,
London, 194; S. H a f f n e r, Germany: Jekyll and Hyde, N. Y., 1941.
6 T. N. Kaufmann, Op. cit., p. 93.
8 S. Haffner, Op. cit., p. 285.
282
Характерной для английской публицистики первого периода войны является брошюра, автор которой предпочел укрыться под псевдонимом «Карфагенец». В брошюре выдвигался проект послевоенного расчленения Германии на четыре «государства»: Славонию, Франконию, Бранденбург и Швабию*.
Для англо-американской публицистики второго этапа войны, этапа сокрушительного разгрома гитлеровцев советскими вооруженными силами, характерна ^работа бывшего директора Британской национальной -федерации угля и стали, видного английского Тюнополиста У. Лейтона «Как поступить с Германией?»1 2 В своей работе Лейтон, входивший в окружение Черчилля и отражавший точку зрения английского правительства, излагал план, который предусматривал сохранение военно-промышленного потенциала Германии и создание европейской ассоциации с участием Англии и Германии, но без участия Советского Союза3.
Наконец, необходимо отметить, что точка зрения американских и английских правящих кругов по вопросу о будущем статусе Германии находила, вполне естественно, отражение на страницах западной прессы Так, например, английский журнал «Найнтинс сенчери энд афтер» писал в сентябре 1943 года: «Чрезмерная мощь Германии должна быть уменьшена, и она должна сохраняться уменьшенной. Лучше иметь находящуюся под властью деспотизма Германию, которая была бы не слишком сильна, чем слишком сильную либеральную Германию»4.
Яснее, кажется, не скажешь!
Отдельные детали об империалистических планах расчленения Германии еще в годы войны проникли на страницы печати нейтральных стран; впоследствии ряд данных по этому вопросу был опубликован на страницах западногерманской прессы5.
Развернувшаяся за последние годы в исторической литературе и публицистике борьба по вопросу о планах расчленения Германии в годы второй мировой войны является участком общего фронта идеологической борьбы социализма с капитализмом. Она способствует еще большему выявлению двух противоположных линий в германском вопросе.
Одна из них — это линия Советского Союза и других социалистических государств, последовательно отстаивающих единство немецкого народа, его национальные и социальные интересы. Этой прогрессивной политике в германском вопросе принадлежит будущее, ибо она отвечает интересам народов и пользуется их возрастающей поддержкой. Значение этой линии и в том, что ее решительно отстаивают все демократические прогрессивные силы немецкого народа во главе с оплотом мира, демократии и социализма на немецкой земле — Германской Демократической Республикой.
Другая линия — это линия правящих кругов США, Великобритании и Франции, направленная на возрождение германского милитаризма и углубление раскола Германии. Эта антинародная, реакционная политика в германском вопросе обречена на провал, ибо ее вдохновители не считаются с фактами жизни и истории, ибо она противоречит воле народов, в том числе немецкого народа и народов самих западных стран, жизненные, коренные интересы которых требуют превращения Германии в очаг мира и безопасности в центре Европы.
Наша задача состоит в дальнейшей углубленной разработке прогрессивной исторической наукой и публицистикой вопроса об империалистических планах расчленения Германии в годы второй мировой войны.
1 D. Е. Carthago, Op. cit., р. 10.
2 W. Lay to n, How to Deal with Germany. A Plan to European Peace, London, 1943.
3 Ibid., p. 65—72.
4 «Nineteenth Century and After», September, 1943.
5 «NeueZiiricherZeitung», 25.9.1944; «Nalional-Zeitung». Basel. 27 Sept. 1944; «Kurier», 22.12.48; «Tagesspiegel», 8.2.53.
283
Необходимо доводить до сведения мировой общественности неопровержимые факты, свидетельствующие о том, что нынешняя раскольническая политика западных империалистических держав в германском вопросе не является случайной, что она имеет глубокие корни и истоки, относящиеся еще к периоду второй мировой войны. Еще тогда правительства США и Великобритании выступали с многочисленными проектами ликвидации единого германского государства и уничтожения немецкого народа. Разоблачение замыслов империалистических государств, несомненно, еще больше будет способствовать дискредитации реакционной политики западных держав в германском вопросе и укреплять миролюбивые силы, которые ей противостоят.
3-я РАБОЧАЯ СЕКЦИЯ
Буржуазная историография и проблемы движения антифашистского Сопротивления в годы второй мировой войны
Руководители: Вальтер Бартель, Г. Н. Горошкова
Гейнц Шуман
ПРОБЛЕМА АНТИФАШИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
В сентябре 1956 года в Брауншвейге встретились историки из Германской Демократической Республики и из Федеративной Республики Германии, чтобы обсудить, как освещена в исторической литературе деятельность антивоенных сил во время первой мировой войны и антифашистского Сопротивления во время второй мировой войны. При сопоставлении исторических работ обнаружилось резкое расхождение в оценках антифашистской борьбы. Участники совещания отметили, что в западногерманских учебниках истории антифашистское Сопротивление освещается односторонне и недостаточно, в то время как в исторических работах, вышедших в Германской Демократической Республике, вопросы эти подробно и полно освещены. В совместном заявлении историков Восточной и Западной Германии, принятом в конце совещания, сказано, что «оценка движения Сопротивления возможна на основе правильной оценки войны и тех сил, которые заинтересованы в войне. Западногерманские коллеги потребовали, чтобы в их исторических учебниках подробнее освещалось движение Сопротивления и более объективно характеризовались участвовавшие в нем различные слои населения»1.
В чем причины столь разных оценок антифашистской борьбы?
ПрофессорГанс Ротфельс, член ученого совета западногерманскогоИнсти-тута современной истории, говоря о том, что препятствует западногерманским историкам правильно оценивать антифашистское движение Сопротивления, видит «корень проблемы» в том, что западные державы несут значительную долю ответственности за укрепление гитлеровской диктатуры и развязывание второй мировой войны1 2. В этой связи оп напоминает, что вплоть да начала второй мировой войны многие государственные деятели восхищались Гитлером и его террористической системой.
Этого мнения придерживался отнюдь не только профессор Ротфельс3. Доктор Рудольф Пехель, один из главных участников подготовки 20 июля 1944 года, с горечью отмечает характерную особенность гитлеровского режима: «После каждого очередного визита иностранных государственных деятелей либо отменялись ранее существовавшие внешнеполитические
1 «Gescbichte in der Schule», Verlag Volk und Wissen, Berlin, 1957, Jahrg. 10, Hcfl 2, S. 82
2 Rolhlels, Hans, Die Deutsche Opposition gegen Hitler, Krefeld, 1949, S. 26.
3 В начале июля 1945 года тогдашний председатель Социал-демократической партии Германии Ганс Фогель писал в предисловии к «Белой книге немецкой оппозиции»: «Ужасы, творившиеся в концентрационных лагерях, всё, чему подвергались немецкие противники национал-социализма в 1933—1939 годах, были известны правительствам иностранных государств...
Но только осенью 1939 года, то есть сразу после начала войны, тогдашнее английское правительство Чемберлена опубликовало «Белую книгу» о Германии, которая называлась «Сообщения об обращении с немецкими гражданами в Германии». В предисловии к этим сообщениям было написано:
«Эти документы не были предназначены для опубликования, и до тех пор, пока существовала малейшая надежда на достижение взаимопонимания с немецким правительством, было бы неверным предпринимать что-либо, что могло бы обострить отношения между двумя странами».
287
договоры, либо издавались новые законы и распоряжения, еще более усиливавшие террор, царивший в Германии. Это являлось лучшим доказательством того, что нацисты рассматривали такие посещения как поддержку своих собственных позиций!»1
Позиция западных держав в 1933—1945 годы определила и их отношение к немецкому народу после его освобождения от гитлеровского фашизма. Ганс Ротфельс пишет во вступительной главе своей книги, что правда об антифашистской борьбе намеренно скрывалась от общественности либо сообщалась только в искаженном виде, хотя руководящие политики и дипломаты Англии и Соединенных Штатов были подробно информированы о структуре и целях немецкого движения Сопротивления. Тем не менее они пытались настаивать на утверждении, которое поддерживал также и генерал Эйзенхауэр, будто все немецкое население представляло собою «смесь из одержимых манией величия и одержимых манией преследования». Такие теории соответствовали плану Моргентау и положенному в его основу «ванситтартизму»1 2. Ганс Ротфельс пишет: «Нужно было подкрепить тезис о том, что «хорошие немцы» могут быть только среди мертвых...»3
На множестве примеров Ротфельс показывает, что западные оккупационные державы после 1945 года делали все, чтобы воспрепятствовать созданию объективной истории Сопротивления гитлеровской диктатуре. Так, в начале 1945 года одному американскому корреспонденту в Европе, который начал было добираться до правды, высшие инстанции из Вашингтона попросту запретили «давать какие-либо сообщения об особой оппозиции против Гитлера»4.
Вначале западные державы вообще категорически отрицали существование немецкого Сопротивления Гитлеру и пытались доказывать, «что немцы, как нация, политически существенно отличаются от всех других народов»5 6. Однако позднее они вынуждены были изменить свою позицию. Впрочем, их цензура все еще продолжала действовать по-прежнему, так что первоначально могли быть опубликованы только сообщения и статьи об офицерском заговоре 20 июля. Профессор Ганс Ротфельс пишет об этом так: «Чтобы представить, насколько пытались и продолжают пытаться скрывать истину, достаточно вспомнить, что еще летом 1946 года главный штаб (американской военной администрации. —Г. Ш.\ во Франкфурте категорически запретил одному видному служащему из Дармштадта, который сам был узником концентрационного лагеря, опубликовать статьи об участии трудящихся в заговоре 20 июля 1944 года»9.
Однако все же нельзя было длительное время отрицать факт существования антифашистского немецкого Сопротивления. После разгрома гитлеровского фашизма официальные учреждения зарегистрировали почти триста тысяч человек, которые подвергались преследованиям и находились в заключении за активное участие в борьбе против фашизма. Документы из секретных архивов гестапо и главного имперского ведомства безопасности, прежде всего материалы процессов в фашистских судах, десятки тысяч приговоров, вынесенных коммунистам и социал-демократам, не могут быть уничтожены нп по желанию западногерманских реакционеров, ни по распоряжению западных оккупационных властей.
Историческим фактом является то, что немецкий рабочий класс вынес главную тяжесть борьбы против гитлеровского фашизма. Социалистические силы сопротивления считали своей главной задачей объединить всех про-
1 Р е с h е 1, R udoi Г,•Deutscher Widersland, Erlenbach—Zurich, 1947, S. 263.
2 Термин «ваиситтартизм» происходит от фамилии Ванситтарта, в прошлом постоянного заместителя министра иностранных дел Англии, принимавшего непосредственное участие во всей дипломатической подготовке Мюнхена. IIрим. ред.
3 R о I h f е 1 s, Hans, Op. cit.. S. 26.
« Idid.,
s Ibid., S. 28.
6 Ibid., S. 21.
288
тивников террористического режима в антифашистском народном фронте, свергнуть Гитлера и сохранить немецкому народу мир. Большинство западногерманских историков полагает, что о серьезном сопротивлении можно говорить лишь после начала второй мировой войны п что наиболее значительную роль в сопротивлении играли военные. Однако эти представления опровергаются следующими цифрами. В 1933 году фашистскими судами были вынесены приговоры 20 565 антифашистам по обвинению в «государственной измене» и других политических преступ^ниях. И в последующие годы прежде всего коммунисты и социал-демократы осуждались на длительные сроки тюремного заключения и все чаще им выносились смертные приговоры за участие в нелегальной борьбе против фашизма.
В 1936 году за нелегальную деятельность было арестовано 11 678 коммунистов и 1374 социал-демократа. В 1937 году — 8068 коммунистов и 733 социал-демократа.
Из сообщений гестапо и статистических данных явствует, что в 1934 году Коммунистическая партия Германии выпустила 1 238 202 экземпляра, в 1935—1 670 300, в 1936 — 1 643 200 и в 1937 году — 927 430 экземпляров нелегальных изданий1.
Эти отнюдь не исчерпывающие данные свидетельствуют не только о размахе антифашистской борьбы, но и очень убедительно показывают руководящую роль социалистических сил в борьбе против гитлеровского фашизма.
В одном из докладов гестапо за декабрь 1934 года говорится, что активность членов Коммунистической партии Германии не удается подавить, несмотря на самые жестокие террористические меры. В качестве мотива приводится тот факт, что КПГ располагает «кадрами революционеров, которые в течение десятилетий обучались и закалялись в повседневной борьбе». В этом же донесении говорится: «Даже когда часть этих кадров время от времени подвергается разгрому, то каждый раз вновь возникает организационный центр, который вновь пытается связать все нити. Это полностью соответствует политическим взглядам коммунистов, согласно которым распространение их мировоззрения не может быть предоставлено случаю или стихийному самотеку, а должно быть планомерно организовано на основе большевистских принципов»1 2.
Полицейское управление Висбадена сообщало 28 марта 1935 года: «Вновь и вновь подтверждается тот факт, что нелегальная КПГ располагает огромным штабом работников, обладающих выдающимися организационными и тактическими способностями, которые, несмотря на самые строгие наблюдения, неустанно работают и в некоторых районах с известным успехом сумели воссоздать организации нелегальной КПГ»3.
Война выдвинула перед членами Коммунистической партии новые задачи. Несмотря на огромные потери, которые понесла партия в борьбе против фашизма, коммунисты продолжали стоять во главе антифашистского фронта борьбы против гитлеровского фашизма. В судебных процессах нескольких крупных групп Сопротивления, действовавших под руководством выдающихся деятелей немецкого рабочего движения — группы Шульце-Бойзена и Гарнака, группы Урпга, группы Лехлейтера в Мангейме — и судебных процессах организаций Сопротивления, которыми руководили Антон Зефков, Франц Якоб, Бернгард Бестлейн, д-р Теодор Нейбауэр и Георг Шуман, было вынесено более тысячи смертных приговоров4.
1 Эти цифры учитывают лишь обнаруженные гестапо материалы. Institut fiir Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Archiv. Lageberichte der Gestapo.
2 Ibid., Gestapo-Akte 33/56/a, Bl. 154.
3 Ibid., Gestapo-Akte 33/45/a, Bl. 256.
4 Летом 1944 года гитлеровский министр юстиции Тирак привел в бюллетене «Ди лаге», предназначенном для «руководящих кадров НСДАП», следующие данные о смертных приговорах:'
1939 г.—99
1941—г. 1292
1943 г,—5336
19 Заказ № 1220
289
Кадры нелегальной Коммунистической партии Германии готовы были на любые жертвы, чтобы с честью выполнить свой долг перед немецким народом и всеми другими народами.
Однако в Западной Германии очень неохотно публикуются и используются в качестве свидетельства статистические материалы гестапо и другие документы именно потому, что эти материалы недвусмысленно опровергают все тенденциозные изображения немецкой оппозиции против Гитлера как создания буржуазных и военных кругов и легенду о 20 июля 1944 года как о единственно активном движении против Гитлера.
В западногерманских учебниках истории в настоящее время господствует тенденция изображать борьбу против фашизма как дело офицерских кругов, интеллигенции, дипломатов и церковной оппозиции. Даже о борьбе социал-демократической партии и свободных профсоюзов говорится, как правило, только в связи с офицерским заговором 20 июля 1944 года.
В учебнике для старших классов1, изданном Обществом преподавателей истории, следующим образом говорится о характере и возможностях антифашистской борьбы:
«К успеху могло привести лишь такое подпольное движение, которое могло рассчитывать на помощь руководящих военных деятелей и на применение находящихся в их распоряжении средств... Самую’ крупную акцию против режима Гитлера готовил бывший начальник генерального штаба генерал-полковник Бек совместно с бывшим обер-бургомистром Лейпцига д-ром Гёрделером».
В другом учебнике истории для старших классов* 1 2 мы находим следующее замечание: «Лишь немногие мужчины и женщины пришли к выводу, что моральная ответственность за судьбу народа требует от них выступить против роковой силы. В этом движении Сопротивления объединились католики, протестанты и свободомыслящие, офицеры, представители старой аристократии, министры, дипломаты, высшие государственные служащие, политики, лидеры профсоюзов, буржуазное студенчество и рабочие. Это не было просто отражением террора, не было и легкомысленным нарушением национальной дисциплины перед лицом врага. Лучшие из этих людей тяжело страдали от сомнений и угрызений совести, сознавая необходимость вступить в заговор против руководства государства в условиях войны. Но их побуждали к этому страдания всего немецкого народа».
Таким образом, замалчивается тот исторический факт, что гитлеровская диктатура была направлена в первую очередь против немецкого рабочего класса и тем самым прежде всего вызвала сопротивление социалистического движения. Замалчивается также и то, что десятки тысяч членов Коммунистической и Социал-демократической партий были арестованы и осуждены за то; что вели организованную нелегальную борьбу против гитлеровской диктатуры задолго до того, как в Германии вообще начала возникать антигитлеровская оппозиция буржуазных и военных кругов.
Западногерманские работы по истории не дают ясного ответа и на такой чрезвычайно важный вопрос: какие именно силы были заинтересованы в создании гитлеровской диктатуры и в развязывании второй мировой войны. Фашизм рассматривается как более или менее случайное, надклассовое явление и никак не раскрывается та роковая роль, которую играл немецкий
В этой сводке учтены только смертные приговоры, вынесенные фашистскими судами, и нет данных о тех, кто был убит в гестапо и в концлагерях.
Были приведены следующие данные об арестах в период с января по март 1944 года: январь 1944—42 480 •
февраль » —45 071 •
март » —46 302
(Institut fiir Marxismus—Leninismus beim ZK der SED, Archiv, WeiBbprh der deulscben Opposition. Herausgegeben vom Parteivorstandt der SPD, London 1946, Maschinenschrifl).
1 Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt/M., Berlin—Bonn, 1955, S. 145.
2 «Grundriss der Gescbichte», Ausgabe A, IV Band, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1954, S. 168—169.
290
финансовый капитал в передаче власти гитлеровской клике, в укреплении гитлеровской диктатуры п в подготовке разбойничьей империалистической войны1.
Но, уклоняясь от исследования этих главных вопросов, невозможно объективно осветить историю антифашистского движения Сопротивления и правильно оценить всех его участников, представлявших разные слои немецкого народа.
Этот основной недостаток характерен не только для официальных учебников, издаваемых в Федеративной Республике, ш проявляется и в многочисленных публикациях западногерманских историков, даже частично тех из них, кто серьезно занимается проблемами немецкого Сопротивления. Антифашистский писатель Гюнтер Вейзенборн, который сам деятельно участвовал в нелегальной борьбе против фашизма, в своей работе о немецком движении Сопротивления1 2 даже не упоминает о роли немецкого финансового капитала. Хотя во введении к своей книге он отмечает, что коммунисты давали направление антифашистскому Сопротивлению и принесли в борьбе против фашизма наибольшие жертвы, сама по себе его работа свидетельствует о том, что он все же недостаточно ясно представляет себе принципиальную разницу между нелегальными борцами Коммунистической партии и буржуазной и военной оппозицией. Поэтому, несмотря на большое количество приведенных им ценных документов, свидетельствующих о выдающемся значении деятельности представителей социалистического лагеря, Гюнтеру Вейзеиборну все же не удалось дать объективную картину антифашистского Сопротивления и всех участвовавших в нем сил.
Это противоречие между формальным признанием ведущей роли коммунистов в антифашистской борьбе и преувеличенно высокой оценкой буржуазной и военной оппозиции против Гитлера еще более резко и демонстративно проявляется у западногерманского писателя Вальтера Хаммера. В книге «Столпы державы в руке палача»3 он рассказывает о судьбе 557 депутатов парламента во время гитлеровского режима4. Хаммер не отрицает, что именно депутаты и руководящие деятели КПГ были первыми пз тех, кто, не щадя свою жизнь, участвовал в антифашистском Сопротивлении. Но, чрезвычайно высоко оценивая заслуги даже бывших высших чипов гитлеровского вермахта, которые лишь под влиянием военных поражений пошли против Гитлера, Хаммер считает нужным умалять заслуги коммунистов, участнйков борьбы Сопротивления, потому что оставшиеся в живых подпольщики из КПГ и СДПГ после освобождения страны от фашизма вместе с другими демократическими силами навсегда покончили с милитаризмом и фашизмом на востоке Германии. Вальтер Хаммер, так же как и многие его единомышленники, не понимает, что идеи антифашистского движения Сопротивления сохранили свою действенность и после победы Советской Армии над гитлеровской армией и его лучшие и наиболее последовательные
1 Так, например, борьба против гитлеровского фашизма многими западногерманскими историками ограничивается «моральными или религиозными чувствами» и «чугст-вом порядочности», чтобы тем самым обосновать отрицание классовых противоречии между гитлеровским режимом и антифашистским движением Сопротивления. Франц Бем пишет в своей работе «Движение Сопротивления или революция»: «И с той и с другой стороны были немцы всех сословий, классов и профессий начиная с безработных чернорабочих бедняков до крупных промышленников, сановников и фельдмаршала. Так как решающим: критерием был критерий этический и речь шла о политической нравственности, то решение «за» или «против» Гитлера определялось пе принадлежностью к тому или иному сословию, классу или профессии, а только принадлежностью человека к человеческой: породе («Der Monat», Juni 1955, N. 81, 7. Jahrgang).
2 W e.i se n bo r n, Gunter, Der Lautlose Aufstand, Hamburg, 1954.
3 Hammer, Walter, Hohes Haus in Henkers Hand, Frankfurt/M., 1956?
• 4 Среди перечисленных Вальтером Хаммером «антифашистских» депутатов парламента называется и нынешний федеральный канцлер Конрад Аденауэр, который получал от гитлеровского правительства ежегодную пенсию в 12тысяч марок ив 1938 году получил от города Кельна 280 тысяч марок. По поводу кратковременного ареста Аденауэра Хаммер замечает: «Д-р Аденауэр так удачно симулировал, что его отправили не в Бухенвальд, а в больницу». (Ibid., S.’ 25.)
291
19*;
представители борются за установление демократического строя во всей Германии.
Характерной особенностью многих западногерманских публикаций является попытка при помощи понятия «немецкое Сопротивление» стереть принципиальную разницу между социалистическим движением и буржуазной и военной оппозицией против Гитлера.
Однако там, где западногерманские историки серьезно занимаются проблемами движения Сопротивления, они все же приходят к выводу, что «трудящееся население» вынесло на себе главную тяжесть антифашистской борьбы. «Бессмысленно спрашивать, — пишет Ганс Ротфельс в своей книге «Немецкая оппозиция против Гитлера», — в какое именно мгновение действительно началось активное политическое сопротивление гитлеровскому господству. В некоторых его ранних формах оно было простым продолжением той борьбы, которая велась еще до захвата власти национал-социалистами. Носителями идей этой ранней оппозиции были левые и антифашистские круги. Но условия «подполья» заставили их обратиться к новым методам. Первой партией, которую запретили, была КПГ. Удары, нанесенные этой партии, лишили ее почти всех руководителей, но у коммунистов было существенное преимущество: они владели техникой революционной работы, и таким образом КПГ создала образцы для организации ячеек движения Сопротивления.
Другие, более или менее левые партии — Социал-демократическая, Демократическая и партия Центра — некоторое время еще питали иллюзии относительно возможностей политической оппозиции»1.
Упомянутый выше Рудольф Пехель в своей работе о немецком движении Сопротивления также приходит к выводу, что террор гитлеровцев был направлен в первую очередь против Коммунистической партии Германии и что коммунисты проявили себя самой последовательной силой антифашистского Сопротивления. Рудольф Пехель, который был связан с различными группами Сопротивления, начиная от правых оппозиционных групп до подпольщиков-коммунистов, следующим образом пишет о захвате власти фашистами:
«Непосредственно после захвата власти Гитлером начались кровавые преследования коммунистов. После того как Геринг организовал поджог рейхстага в феврале 1933 года, эти преследования быстро перерастали в массовое истребление. Несмотря на это, коммунисты были единственной партией, которая после роспуска и ареста большинства руководителей и функционеров немедленно развернула борьбу против гитлеровского режима в нелегальных условиях. Руководители КПГ сидели в тюрьмах гестапо и в концентрационных лагерях, против них велись многочисленные судебные процессы. На них сыпались смертные приговоры и длительные сроки тюремного заключения. Но их поведение перед кровавыми судьями было, за небольшим исключением, образцовым, так что иногда казалось, что только они и были истинными представителями Сопротивления. Они так мужественно держались на суде, что даже самых прожженных гитлеровских судей пробирала дрожь перед стойкостью и непоколебимой решимостью обвиняемых и их гневным отвращением к нацизму.
И в концентрационных лагерях они образовали то ядро, вокруг которого кристаллизовалось сопротивление эсэсовским палачам и их подруч-Н ЫМ')1 2.
Признание того факта, что социалистические силы движения Сопротивления вели нелегальную антифашисткую борьбу еще до того, как образо-
1 Rothfels, Hans, Op. cit., S. 59.
2 Pec h el, Rudolf, Op. cit., S. 67—68.
О мужественном поведении и ведущей роли коммунистов в концентрационных лагерях сообщает также Эрнст Вихерт (W iechert, Ernst, Der Totenwald, Verlag kurt Desch, Miinchen, 1946 und Aufbau-Verlag, Berlin, 1947). Weis s-R u t h e 1, Arnold, .Nacht und Nebel, Munchen, 1946.
2 92
вались буржуазные и военные оппозиционные группы, заставляет некоторых западногерманских историков критически пересматривать те публикации, появившиеся в Западной Германии, в которых искажается характер и истинное соотношение сил в движении Сопротивления гитлеровскому режиму.
Рудольф Пехель следующим образом пишет о многообразных попытках оправдать главарей гитлеровской армии, снять с них ответственность за преступления фашистов, совершенные особенно в период второй мировой войны: *
«Генералы соглашались со всем — и с тем, чт<? в подчиненных им районах эсэсовцы убивали евреев и граждан других стран, и с тем, что вопреки международному праву расстреливали пленных советских комиссаров и солдат-коммунистов, а также вражеских летчиков и парашютистов; совершались и многие другие чудовищные вещи... Для генералов ссылка на присягу была не более как трусливой попыткой укрыться от своей совести и ответственности»1.
Однако и в работах западногерманских историков Ротфельса и Пехеля содержатся искажения политики нелегальной Коммунистической партии и Советского Союза, который оказывал немецкому движению Сопротивления самую действенную поддержку. Несмотря на то, что профессор Ротфельс и Рудольф Пехель критически относятся к работам буржуазных историков, они все же остаются на их точке зрения. Это проявляется в первую очередь в том, что они частично соглашаются с теми оценками Советского Союза и Коммунистической партии Германии, которые исходят от западных держав.
Их работы, однако, отличаются от многих других публикаций западногерманских историков тем, что в них видны серьезные попытки справедливо оценить социалистические силы немецкого движения Сопротивления. В противоположность материалам, опубликованным Социал-демократической партией, они, например, подчеркивают политическое значение контакта руководящих деятелей Социал-демократической партии с коммунистами1 2.
«Белая книга немецкой оппозиции»3, подготовленная правлением СДПГ, содержит ценные материалы о движении Сопротивления в Германии. На 150 машинописных страницах перечислены имена антифашистов, которые подверглись преследованиям и были убиты, и приводятся данные о массовых процессах в фашистских судах. «Белая книга немецкой оппозиции» доказывает на основе многочисленных точных данных, что террор гитлеровских фашистов был направлен прежде всего против коммунистов и социал-демократов, которые проявили себя наиболее последовательной и мощной силой в борьбе против фашизма и войны. Однако здесь же повторяется противоречащее этому факту утверждение буржуазных историков, будто заговор 20 июля явился высшей точкой и самым значительным событием движения Сопротивления... В предисловии к «Белой книге» говорится: «И все же в эти трагические годы освободительной борьбы внутри Германии произошло событие, которое показало стремление значительных сил немецкого народа свергнуть собственными силами гитлеровский режим и прекратить войну. То было движение за мир 20 июля 1944 года. Оно опиралось на представителей широких слоев немецкого народа — от социал-демократов и профсоюзных активистов до антифашистски настроенных католиков и консерватив
1 Р е с h е 1, Rudolf, Op. cit., S. 174—175.
2 После того как на местах, во многих случаях еще до войны и во время воины, установилось сотрудничество между социал-демократическими и коммунистическими группами, в октябре 1943 года удалось установить связь с ведущими деятелями СДПГ в Берлине. В переговорах принимали участие д-р Лебер и профессор Рейхвейн (СДПГ) и от оперативного руководства нелегальной КПГ—Антон Зефков, Франц Якоб и д-р Теодор Нейбауэр. Главной темой обсуждения были вопросы антифашистского единстве действий. Переговоры были прерваны в июле 1944 года вследствие ареста всех этих подпольщиков.
3 «Белая книга немецкой оппозиции», изданная СДПГ, была размножена в рукописи в 1946 году в Лондоне.
293
ных элементов. Эта попытка свергнуть режим военной катастрофы революционными средствами, взаимодействуя с частью армии, была, как явствует из сообщений немногих оставшихся в живых руководителей движения, тщательно подготовлена на широкой основе».
«Белая книга» и другие публикации СДПГ, хотя и содержат указания на связи социал-демократических кругов с движением 20 июля, однако никак не оценивают переговоры, которые вели д-р Лебер и профессор Рейх-вейн (СДПГ) с членами центрального оперативного руководства нелегальной КПГ Антоном Зефковым, Францем Якобом и д-ром Нейбауэром. А между тем сотрудничество коммунистических и социал-демократических групп движения Сопротивления и взаимопонимание между руководящими социал-демократами и коммунистами, достигнутое в тяжелых условиях подполья, имеет огромное значение для правильного освещения истории и, естественно, приводит к выводам, важным для современной борьбы против возродившегося милитаризма и фашизма в Западной Германии.
Изданная правлением Социал-демократической партии Германии «Летопись социалистического движения» также избегает этих необходимых выводов. В ней замалчивается самоотверженная борьба нелегальной Коммунистической партии Германии за освобождение немецких трудящихся от фашизма. Не упоминаются также ни VII Конгресс Коммунистического Интернационала, ни конференции КПГ в Брюсселе и в Берне, которые имели огромное значение для антифашистского движения Сопротивления. В «Летописи» нет ни слова об убийстве вождя немецких рабочих Эрнста Тельмана1.
Такая же односторонность, характерная для «Летописи», изданной правлением СДПГ, присуща и другим социал-демократическим публикациям, посвященным событиям времен фашизма. Социал-демократы до сих пор обычно избегали публиковать в более широком масштабе работы на темы антифашистской борьбы в подполье. Их издания такого рода ограничиваются главным образом воспоминаниями бывших руководящих социал-демократов1 2, которые всячески стремятся снять с Социал-демократической партии и руководства профсоюзов главную ответственность за установление гитлеровской диктатуры3.
Объемистая работа профессора Герхарда Риттера «Карл Гёрделер и немецкое движение Сопротивления»4, которая послужила основой многим западногерманским историкам движения Сопротивления, написана с антисоветских и антикоммунистических позиций и препятствует автору дать хотя бы приблизительно достоверную историю движения Сопротивления.
1 Другие социал-демократические авторы также замалчивают самоотверженную борьбу коммунистов. В сборнике жизнеописаний деятелей немецкого Сопротивления, изданном Аннедорой Лебер (Annedora Leber, Das Gewissen sleht auf, Berlin— Erankfurt/M., 1954), представлены биографии руководящих деятелей Социал-демократической партии и профсоюзов, а также военных, дипломатов и религиозных противников гитлеровского режима. Но среди 64 жизнеописаний нет биографии ни одного из коммунистов, погибших в борьбе против фашизма.
2 N oske, Gustav, Erlebtes aus Aufstieg und Niedergang einer Demokratie, Offenbach, 1947. Lobe, Paul, Der Weg war lang. If. Aufl., Beilin, 1954. S tamp fe r,F riod rich, Die vierzehn Jahre der ersten deutschen Republik. 3.Auflage, Hamburg, 1953. Severing, Carl, Mein Lebensweg, Koln, 1950, Band II. К e i 1, Wilhelm, Erlobnisse eines Sozialdemokraten, Stuttgart, 1948, Band II.
3 Эрих Матиас в своей работе (Matthias, Erich, Der Untergang der alten Sozialdemokratie 1933, «Vierteljahrshefte fiir Zeitgeschichte»...) указывает на субъективный характер этих воспоминаний,которые отличаются «эмоциональным характером» критики, и подчеркивает, что политика Социал-демократической партии и профсоюзного руководства в 1933 году с самого пачала заключалась в том, что мнимая решительность скрывала теорию бездействия, которая позволяла негибкому, беспомощному, охваченному сомнениями партийному руководству отнестись к захвату власти, как к обычному правительственному кризису (Ibid., S. 265).
1 Ritter, Gerhard, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, StuUirnrt, 1955.
294
Достаточно сказать, например, что профессор Риттер решается утверждать, будто «Сопротивление обеих христианских церквей гитлеровскому владычеству было единственным сопротивлением, которое имело практический успех»1.
Однако даже профессор Риттер вынужден признать следующее: «Мы встретили в тюрьмах гестапо в 1944 году коммунистов, которые находились в заключении уже 11 лет и продолжали оставаться такими же стойкими в своих убеждениях»1 2. Однако это не мешает ему высказывать бессмысленные утверждения, что Лтпшь после нападения Гитлеру на Советский Союз у немецких коммунистов появились новые и на этот раз ясные цели борьбы»3.
Героическую борьбу коммунистов за освобождение немецкого народа от фашизма профессор Риттер считает «государственной изменой». В то время как он осыпает самыми восторженными похвалами участников заговора 20 июля за то, что они сумели установить связь с западными странами, он клевещет на участников движения Сопротивления — коммунистов за то, что они чувствовали себя солидарными со всеми угнетаемыми фашизмом народами и поддерживали освободительную борьбу Советского Союза.
Профессор Риттер не признает, так же как и большинство его западногерманских коллег, что «немецкое Сопротивление» после начала второй мировой войны могло стать действенным только в союзе с народами, на которые напал фашизм, и в ходе войны должно было все больше и больше сливаться с той антифашистской освободительной борьбой, которую угнетенные народы вели против фашизма под руководством Советского Союза. В этом и состоит большое национальное значение антифашистского движения Сопротивления и принципиальное отличие его от оппозиции буржуазных и военных кругов, которые хотели, заключив сепаратный мир с западными державами, продолжать начатую Гитлером преступную войну против Советского Союза. Они не думали о том, чтобы даже в самом отдаленном будущем ликвидировать экономическую основу германского фашизма и милитаризма, и поэтому менее всего могли всерьез понять национальные интересы немецкого народа. Профессор Герхард Риттер приводит в своей книге объемом в 628 страниц много доказательств того, каким реакционным было направление кружка Гёрделера. Стоит отметить хотя бы то, что в этой книге наряду с Карлом Гёрделером «истинными представителями сопротивления» Гитлеру изображаются бывший главнокомандующий оккупационными войсками во Франции фон Штюльпнагель, генерал-лейтенант Шпейдель, генерал-полковник Гальдер, то есть те, кто разделяет главную ответственность за преступления гитлеровской армии. После того что они вовлекли в свой заговор самого «рейхсфюрера СС»4, других главарей гестапо и нацистской партии, лишь неудачно сложившиеся обстоятельства помешали установить военную диктатуру в Германии.
Подобные же попытки оправдывать руководителей немецкой военщины, которые активно помогали гитлеровцам подавлять немецкий народ, захватывать и угнетать почти все европейские страны, предпринимают и другие западногерманские историки. Герман Мау и Гельмут Краусник следующим образом пишут в «Истории недавнего прошлого Германии»5 о движении Сопротивления: «Чем дальше, тем яснее становилось, что успешно руководить такой борьбой могли только те, кто сам оставался в аппарате тотального государства либо установил связи с руководителями ключевых позиций, словом те, кто имел в своем распоряжении средства материальной мощи. Поэтому взоры оппозиции были направлены на наиболее выдаю
1 Ritter, Gerhard, Carl Goerdeler und die deiutsche Widerstandsbcweguiig, Stuttgart, 1955, S. 107.
'- Ibid., S. 100.
Ibid., S. 102.
4 Гиммлера.—Прим. ped.
s Mau, Hermann und К r a u s n i c k, Helmut, Deutsche Geschichte der jiingsten Vergangenheit, Stuttgart, 1956, S. 175.
295
щихся представителей бывших партий, профсоюзов, чиновничества и духовенства. Оппозиция все более настойчиво обращалась к армии».
О движении Сопротивления, организованном коммунистами и социал-демократами, вообще не упоминается.
В 1952 году в издательстве В. Кольхаммера в Штутгарте вышла книга Карла Миша «История Германии в эпоху массовых движений от французской революции до нашего времени». В этой книге, насчитывающей 555 страниц, история борьбы против Гитлера изложена на двух страничках и притом завершается следующим утверждением: «Коммунистический сектор оппозиции был очень доволен тем, что Гитлер приведет капиталистическо-буржуазное общество к гибели, которую коммунисты считали неизбежной. По настоящему в оппозицию они встали только в связи с войной Гитлера против России. А социал-демократы утешали себя тем, что строгие властители недолго властвуют. Буржуазии не хватало решимости. Оппозиционно настроенные представители буржуазии, к которым довлели социалисты, а также и коммунисты, объединялись в «кружки», которые пе шли дальше теоретизирования...
Как и во времена Бисмарка, то один, то другой покидали закоулки оппозиции. Гитлер и даже Геббельс оказывали магическое влияние на массы. Те немногие, кто оставался непоколебимым в своем отрицании фашизма, не имели между собой связи...»1.
Понятно, что «историк» Карл Миш, восторженный поклонник Бисмарка, сам «находившийся под магнетическим влиянием Гитлера и Геббельса», уделив несколько скудных фраз немецкой оппозиции, пространно и весьма одобрительно пишет о мероприятиях гитлеровского правительства. Особо следует отметить скромное указание, имеющееся на первой странице объемистого «исторического труда» Миша: «Эта книга была написана и издана с американской помощью».
Можно привести бесчисленное количество примеров непосредственного воздействия западных держав и западногерманского правительства на освещение истории немецкого сопротивления Гитлеру. Но все они ничем принципиально друг от друга не отличаются и отражают экономическое и политическое развитие на Западе Германии. Едва лишь силы реакции и милитаризма оправились от поражения и начали подготовку к новым военным авантюрам, они стали прилагать усилия и к тому, чтобы фальсифицировать историю недавнего прошлого немецкого народа. Все это, несомненно, является наступлением реакционеров, которые пользуются далеко идущей поддержкой из-за границы.
В то время как Гюнтер Вейзенборн, Рудольф Пехель, Ганс Ротфельс и другие западногерманские авторы в своих давно опубликованных произведениях полемизировали только с отдельными выступлениями некоторых бывших нацистских главарей, пытавшихся выдавать себя за противников Гитлера, таких, как Шахт, Гизевиус, Рудольф Дильс2, ныне западногерманский книжный рынок наводнен изданиями, уже открыто оправдывающими фашистский террор и прославляющими гитлеровскую войну.
Те меткие характеристики офицерского корпуса гитлеровского вермахта, которые дали Рудольф Пехель и другие западногерманские историки, приобретают сегодня большое злободневное значение в связи с многочисленными попытками реабилитировать бывших нацистских генералов и офицеров, с тем чтобы использовать их в западногерманских вооруженных силах НАТО. Публикации, изданные за последнее время в Западной Германии, не оставляют никаких сомнений в том, что фальсификация истории антифашистского движения Соп^ртивления является одним из средств психологи----------- •
1 Misch, Carl, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Masson von der franzosischen Revolution bis zur Gegenwart, Stuttgart, 1952, S. 503 f.
2 Schacht, Hjalmar, Abrechnungmit Hitler, Berlin, Frankfurt/Main, Miinchen, 1949; Cisevius, Hans Bernd, Bis zum bitteren, Ende, Ziirich 1954; Diehls R., Luzifer ante portas. Es spricht der erste Chef der Gestapo, Stuttgart, 1950.
296
ческой подготовки новой войны. Ограниченность времени не позволяет мне подробно говорить о фашистской литературе. Необходимо, однако, указать на то, что эта литература отнюдь не случайно появилась на книжном рынке в Западной Германии и других западных странах. Этому способствовала фальсификация истории антифашистского движения Сопротивления, мешающая отличить многие работы по новейшей истории от воспоминаний военных преступников1.
Движению Сопротивления в Германии не удалсь собственными силами сломить гитлеровцев. Немецкий народ получил ^вободу из рук победоносной Советской Армии. Но тем не менее героическая борьба передовых сил нашего народа, борьба, продолжавшаяся двенадцать лет, останется самым лучшим национальным подвигом, совершенным во мраке фашистского варварства.
Реакционной историографии издавна свойственно стремление вытравливать из памяти народов революционные свободолюбивые традиции.
Перед немецкими историками стоит задача защищать драгоценное наследие антифашистского движения Сопротивления от любых фальсификаций, предпринимаемых идеологами империализма. Уже пора смелее обращаться к исследованиям и публикациям материалов антифашистского движения Сопротивления и, в частности, поведать о многих примерах братского сотрудничества немецких и советских людей во время второй мировой войны, о тех, кто отдал жизнь, сохраняя верность идеям пролетарского интернационализма.
Сотни тысяч немецких антифашистов были брошены гитлеровцами в тюрьмы. Но как ни зверствовали империалисты — ни тюрьмы, ни концлагеря, ни топор, пи петля не смогли уничтожить в сердцах классово сознательных немецких рабочих воспоминания о Великой Октябрьской социалистической революции. И в эти тяжелые годы именно Советский Союз вдохновлял лучших сыновей и дочерей нашего народа, придавая им силы, чтобы они могли быть достойными борцами против варварского гитлеровского фашизма.
1 Вот некоторые названия из многочисленных фашистских изданий, опубликованных в Западной Германии: Rosenberg, Alfred, Letzte Aufzeichnungen, Gottingen, 1956; HauBer, Paul, Waffen SS im Einsatz, Gottingen, o. J.; Ribbentrop, Joachim, Zwischen London und Moskau, Leonie am Starnberger See 1954; H e В, I 1 s e, England—Niirnberg—Spandau (Gefangener des Friedens) Leonie am Starnberger See 1955; Lippert, Julius, Liichle... und verbirg die Triinen (Erlebnisse und Bemerkungen eines deutschen Kriegsverbrechers). Leonie am Starnberger See 1955; Grimm, Hans, Warum—woher—aber wohin? Vor, unter und nach der geschichtlichen Erscheinung Hitlers. Lippoldsberg, 1954; Panzermeyer, Grenadiere der Waffen SS, Stuttgart.
Илъза Краузе
СОТРУДНИЧЕСТВО НЕМЕЦКИХ И ИНОСТРАННЫХ АНТИФАШИСТОВ В ГЕРМАНИИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ и ОСВЕЩЕНИЕ ЭТОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Наша историческая литература все еще не уделяет необходимого внимания исследованию и освещению совместной борьбы немецких и иностранных антифашистов в годы второй мировой войны. За исключением тех ценных указаний, которые содержатся в произведениях Вильгельма Пика и Вальтера Ульбрихта1, а также в работах Отто Винцера «12 лет борьбы против фашизма и войны»1 2, профессора Вальтера Бартеля «Германия в годы фашистской диктатуры 1933—1945 гг.»3 и в нескольких публикациях Института марксизма-ленинизма4, у нас все еще нет обобщающего научного труда на эту тему.
Деятели исторической науки в Советском Союзе опубликовали ряд ценных исследований о сотрудничестве советских военнопленных с немецкими антифашистами, в которых проявился большой интерес к этой проблематике. Они высоко оценивают, в частности, героическую борьбу советских и немецких патриотов Международного антифашистского комитета в Лейпциге. В работе советского историка Е. А. Бродского «Освободительная борьба советских людей в фашистской Германии (1943—1945 годы)»5 6 наряду с проникновенным изображением героической борьбы, которую вели советские люди на фашистских военных предприятиях и в лагерях принудительного труда, сообщается о многих примерах их тесного сотрудничества с немецкими антифашистами.
Например, в советском журнале «Исторический архив»® опубликованы статьи советских патриотов, рассказывающие о борьбе, которую вели политзаключенные в концентрационном лагере Бухенвальд. Подобные же отчеты о тесном боевом содружестве антифашистов разных стран имеются и по женскому концлагерю Равенсбрюк, по концлагерю Саксенхаузен и по другим фашистским лагерям, в которых находились большие группы советских людей вместе с представителями других народов.
Интернациональная солидарность в борьбе против гитлеровского фашизма, так ярко проявившаяся во время второй мировой войны, является одной из характерных черт антифашистского движения Сопротивления. Немецкие и иностранные антифашисты, возглавляемые советскими людьми — военнопленными или насильно угнанными в Германию рабочими, неоднократно создавали объединенные группы Сопротивления и в труднейших условиях военного времени вели героическую подпольную работу. И фашистам, не
1 В. II и к, Избранные произведения, Господмтпздат, М., 1956; В. Ульбрихт, К истории новейшего времени, Издательство иностранной литературы, М., 1957.
2 О. В и и ц е р, 12 лет борьбы против фашизма и войны, Издательство иностранной литературы, М., 1956.
3 Bartel, Walter, Deutschland in der Zeil der faschistis^ien Diklafur 1933 bis 1945. Verlag Volk und Wissen, Berlin, 1956.
1 N i t zsche, Ger ha r d, Die Saefkow—Jacob—Biistlein-Gruppe. Dietz Verlag, Berlin, 1957 und Glonda jewski, G erlrud, Schu ma n и, II ei’n z, Neubauer-Poser-Gruppe, Dietz Verlag, Berlin, 1957.
5 «Вопросы истории», 1957, № 3, стр. 85—99.
6 «Исторический архив», 1957, № 4, стр. 82—100.
298
смотря на жесточайший террор, не удалось уничтожить идеи пролетарского интернационализма, глубоко укоренившиеся в сердцах всех угнетенных ими народов, в том числе и в сердцах немецких трудящихся.
В Национальном комитете «Свободная Германия», возникшем в Советском Союзе, и в движении «Свободная Германия», которое развивалось в западных и Скандинавских странах, немецкие антифашисты, рискуя своей жизнью, смело вели пропаганду среди солдат, пытаясь спасти их от бесславной гибели. Они ^принимали участие в освободительной борьбе народов Греции, Югославии, Словакии, Франции и других стран, воплощая тем самым демократическую и миролюбивую Германию.
Мое сообщение я хотела бы ограничить несколькими примерами, которые показывают, как велась на территории Германии совместная интернациональная борьба за уничтожение гитлеровского фашизма.
Вероломное нападение фашистской армии на миролюбивые народы Европы зажгло в патриотах всех стран пламя неугасимой ненависти. И широкие трудящиеся массы во главе с народами Советского Союза поднялись на героическую борьбу против фашистских захватчиков. Правда, гитлеровским войскам удалось оккупировать многие европейские страны, но они никогда не могли сломить волю к свободе, вдохновлявшую угнетенные народы. И так же как во многих странах, захваченных гитлеровцами, где патриоты объединились под руководством партий рабочего класса для борьбы против фашистского варварства, так и в самой фашистской Германии военнопленные и насильно угнанные иностранные рабочие объединялись с передовыми сознательными немецкими рабочими, создавая активные группы Сопротивления.
Немецкие антифашисты пытались облегчить горькую участь насильно пригнанных в Германию рабочих и военнопленных, прежде всего советских людей. Большую помощь в этом неоднократно оказывали немецкие врачи, которых привлекали к участию в деятельном осуществлении братской солидарности члены коммунистических групп Сопротивления.
Искренняя антифашистка доктор Маргарита Бланк до самого дня своей казни, весной 1945 года, была всей душой предана интересам народа. В деревне Паницш у Лейпцига, где она работала врачом, доктор Бланк снабжала медикаментами советских рабочих и французских военнопленных и добивалась для них облегченных условий труда. Более того, постоянно слушая московские и лондонские радиопередачи, она рассказывала об их сообщениях иностранным рабочим и военнопленным. Профессор Гицельт, который в 1943—1944 годах был рентгенологом в Лейпциге, помогал иностранным рабочим и военнопленным как врач. Вместе с тем он участвовал в работе подпольного Интернационального антифашистского комитета, в частности дал возможность одному советскому комсомольцу слушать московское радио и распространять эти сообщения среди своих товарищей. Профессор Гицельт также был арестован гестапо и в конце 1944 года приговорен к смерти за государственную измену и «пособничество врагу». Однако ему удалось в последнюю минуту бежать1.
Немецкие коммунисты не только пытались облегчить жизнь иностранных рабочих, находившихся в фашистской Германии, но видели в них, и прежде всего в советских рабочих и военнопленных, своих союзников в борьбе против гитлеризма.
Руководство группы Зефков—Якоб—Бестлейп в октябре 1943 года следующим образом сориентировало группы Сопротивления в Берлине: «Мы никогда не участвуем в благотворительности ради самой благотворительности. Мы не проповедники сострадания и помогаем иностранным рабочим, руководствуясь нашим пролетарским классовым сознанием, для того чтобы совместно с ними сокрушить нашего общего врага»1 2.
1 Профессор д-р Гицельт в настоящее время япляется руководителем онкологической клиники при больнице Шарите в Берлине.
2 N i t s с h е, Gerhard, Op. cit., S. ИЯ.
299
Все возраставшее число смертных приговоров, выносимых фашистскими судами, не могло запугать антифашистов. Вновь и вновь создавали они на территории Германии разветвленные организации Сопротивления и совместно со своими советскими, польскими, французскими соратниками и антифашистами других наций защищали идею пролетарского интернационализма. Члены общегерманской подпольной организации Сопротивления, которой руководили Гарро Шульце-Бойзен (обер-лейтенант из министерства авиации), доктор Арвид Гарнак, Вильгельм Гуддорф, Вальтер Гуземан, Ион Зиг и другие выдающиеся деятели нелегальной Коммунистической партии Германии, считали одцой из своих главных задач поддержку антифашистской освободительной борьбы Советского Союза.
Рабочий-металлист Роберт У риг и доктор Беппо Рёмер создали в Бер лине организацию движения Сопротивления, которая установила прочные связи с иностранными рабочими военных предприятий.
Мангеймская группа Сопротивления Георга Лехляйтера и антифашистские группы в других немецких городах боролись плечом к плечу с иностранными товарищами.
В Гамбурге в 1941—1942 годах коммунисты Бернгард Бестлейн, Франц Якоб и Роберт Абсхаген создали группу Сопротивления, которая установила связи с иностранными рабочими на гамбургских верфях и крупных заводах.
Замечательные примеры братского содружества подавали антифашисты, объединенные в группах Зефкова—Якоба—Бестлейна, в тюрингенской группе Нейбауэра—Позера и в лейпцигской группе Шумана—Энгерта—Крессе. Им удалось в период войны создавать активные подпольные организации, действовавшие на обширных пространствах. Совместно с военнопленными и иностранными рабочими они осуществляли саботаж на фашистских военных предприятиях и вели действенную разъяснительную работу среди немецких и иностранных рабочих.
Особенно тесным было сотрудничество немецких антифашистов из группы Зефкова—Якоба—Бестлейна с советскими, польскими и французскими рабочими и военнопленными, занятыми на берлинских предприятиях. Так, например, коммунист Макс Зауэр, работавший мастером на оружейном заводе Штольценберг в Берлине — Райникендорф, помогал нелегальной группе Сопротивления, созданной в лагере угнанных советских граждан при военном заводе в Берлине—Виттенау, и принимал участие в политическом совещании, которое проводилось под видом «вечеринки». Встречи с советскими патриотами происходили на квартирах немецких антифашистов. Они же снабжали советских людей одеждой, продуктами, создавали им возможность слушать московское радио и распространять его сообщения в лагерях.
Группа Зефкова—Якоба—Бестлейна поддерживала тесную связь и с французскими коммунистами. Их переписка с немецкими товарищами может служить замечательным свидетельством боевого братства. В письме французских патриотов, написанном в мае—июне 1944 года, говорится о сотрудничестве с немецкими антифашистами, о работе среди французских военнопленных, которых они вовлекали в борьбу против фашизма и войны.
В своем ответном письме коммунисты из группы Зефкова—Якоба—Бестлейна выражали радость по поводу установления связи с французскими товарищами1. Обе группы обменивались листовками и другими материалами.
Создание единого боевого фронта с иностранными патриотами явилось существенной особенностью политической работы также и в группе Сопротивления, которой руководили доктор Теодор Нейбауэр и Магнус Позер. Тюрингенские антифашисчы организовывали материальную поддержку советским рабочим и военнопленным и помогали в политической работе советским группам Сопротивления, действовавшим в лагерях принудительного труда, снабжая их пропагандистскими материалами. Так, например,
1 Nitzsche, Gerhard, Op. cit., S. 193—197.
300
в связи с годовщиной вероломного нападения немецких фашистов на Советский Союз была издана листовка на русском языке, в составлении которой участвовал беспартийный ученый-лингвист, — «Письмо военнопленным красноармейцам, рабочим и работницам из Советского Союза». С большим трудом удалось перенести русский текст на клише и размножить его с помощью импровизированного печатного станка. Эти листовки распространялись затем надежными иностранными антифашистами в лагерях и на заводах. •
Советских рабочих и военнопленных постоянно информировали о положении на фронтах, о победе советских войск в районе Сталинграда. Листовки призывали их бороться совместно с немецкими антифашистами за скорейшее окончание войны. В одной из таких листовок говорится: «Революционный рабочий класс Германии чувствует свою братскую связь со всеми иностранными рабочими и особенно с вами, русские товарищи. Везде, где мы можем сопротивляться фашизму, будем действовать совместно. И тогда, в решающий момент, когда гитлеровцев погонят не только на фронтах, но также из всех стран, мы окажемся достаточно сильными...»1
Французские военнопленные также налаживали связи с немецкими антифашистами, прежде всего через доктора Теодора Нейбауэра и других участников подпольной группы, владевших французским языком. По поручению французских коммунистов Теодор Нейбауэр составил листовку, обращенную к французским военнопленным и рабочим. Эта листовка напоминала им о примерах товарищества и дружбы немецких антифашистов и доказывала, что немецких рабочих и немецкий народ нельзя отождествлять с немецкими фашистскими преступниками. Листовка призывала французских патриотов помогать немецкому рабочему классу в борьбе против ненавистного фашистского гнета. Эта листовка распространялась не только в лагерях, находившихся в Тюрингии, но была передана и группам Сопротивления в Берлине, Лейпциге и других городах, которые распространяли ее там среди французских военнопленных.
Лейпцигские антифашисты из группы Шумана — Энгерта — Крессе также поддерживали самые тесные контакты с иностранными рабочими на военных предприятиях и сотрудничали с немецкими и советскими патриотами, создавшими в Лейпциге Интернациональный антифашистский комитет. Средн них особенно выделялся антифашист Курт Крессе, наладивший прочную связь с советскими пленными, работавшими с ним на одном заводе. Так, в частности, он передал советским патриотам листовку «Гитлер проиграл войну», изданную в сентябре 1943 года в Тюрингии антифашистами из группы Нейбауэра — Позера. Эта листовка, распространявшаяся также и на лейпцигских предприятиях среди немецких и иностранных рабочих, давала общую оценку положения на фронтах и призывала трудящихся свергнуть гитлеровскую диктатуру и передать власть в руки трудового народа1 2.
Борцы движения Сопротивления, прежде всего советские патриоты, отличались мужеством, храбростью и упорством при выполнении конкретных задач подпольной политической работы. Они объединенными усилиями изготовляли и распространяли листовки и одновременно готовились к вооруженным выступлениям с тем, чтобы, ослабляя фашистский режим, ускорить разгром гитлеризма.
Немецкий коммунист Рихард Енш, приговоренный гитлеровским судом в конце 1944 года к смертной казни, создал в феврале 1943 года в Брухмюле (округ Нидербарним) антифашистскую группу, в которой рука об руку работали немецкие и советские патриоты. Эта группа Сопротивления была связана с лагерями советских граждан и французских военнопленных, которые находились в районах Ораниенбурга п Берлина. Советские участники группы установили связь с другими советскими патриотами и помогали им созда
1 G 1 о n d a j е w s k i, G е г I. г и <1 und S с h u m а и п, Heinz, Op. cil., S.120 f.
2 Ibid., S. 105 ff.
301
вать подпольные организации. Антифашисты побуждали иностранных рабочих всячески мешать военному производству, чтобы ускорить окончание войны. Рихард Енш знакомил советских патриотов с расположением важнейших военных предприятий и стратегических объектов в районе Берлина и помогал им устанавливать связи с находившимися там иностранными рабочими. Немецкие и советские патриоты приняли меры с целью раздобыть оружие, чтобы к началу наступления советских войск быть в боевой готовности и развернуть вооруженную борьбу на территории Германии. Антифашисты — участники этой группы были убеждены, что немецкий народ, и прежде всего немецкий рабочий класс, восстанет совместно с иностранными рабочими, чтобы с помощью советских войск свергнуть ненавистное фашистское иго1.
Другой немецкий антифашист Вилли Гилыпер, также приговоренный фашистским судом к смертной казни и казненный в конце 1944 года, создал в начале того же года в Берлине совместно с советскими патриотами подпольную группу, которую обеспечивал нелегальной литературой Фриц Гольц —немецкий коммунист и член группы Зефкова — Якоба — Бест-лейна. Группа Гилыпера установила связь с рабочими лагерями при берлинских военных заводах, в которых находились советские граждане, и призывала их организовываться и, замедляя темпы работы, всячески саботируя производство, содействовать скорейшему окончанию войны1 2.
Последовательная борьба сознательных рабочих побуждала и представителей непролетарских слоев организовывать помощь иностранным рабочим. В июле 1943 года профессор Хавеман и военный врач доктор Георг Гроскурт создали в Берлине Европейский союз, положивший в основу своей деятельности изданный ими манифест. Эта антифашистская группа, состоявшая преимущественно из представителей интеллигенции, стремилась привлечь к участию в своей деятельности иностранных рабочих и интеллигентов. Представители французских и советских граждан, угнанных на принудительные работы в Германию, пытались через одного шведского антифашиста, связанного с Хавеманом и Гроскуртом, передавать письма дипломатическим представителям своих стран в Стокгольме3.
В Южной Германии активную подпольную работу вела группа «Ан-тинацистский немецкий народный фронт» (АНФ), созданная в конце 1942 года коммунистами и членами Христианско-радикальной рабочей и крестьянской партии. Находившиеся в Мюнхене пламенные антифашисты руководили подпольными группами, действовавшими по всей Южной Германии, готовились к вооруженной борьбе. Они работали в тесном контакте с подпольной организацией, созданной советскими офицерами — «Братское сотрудничество военнопленных» (БСВ), которая объединяла активные группы Сопротивления, существовавшие почти во всех лагерях принудительного труда в Южной Германии.
БСВ разработало план формирования боевых групп, способных выступить в назначенный час. Обе организации создали Единый фронт немецких и советских патриотов, который был настолько силен, что гестапо оказалось вынужденным образовать специальный отдел для борьбы против этой разветвленной массовой организации4.
Группу Сопротивления «Интернациональный антифашистский комитет» образовали в Лейпциге в 1942—1943 годах немецкие и советские коммунисты и комсомольцы. Это была одна из самых значительных подпольных организаций в Саксонии. Политическое руководство группой осуществляли
1 Institut fiir Marxismus-Leninismus beim ZK derSED, Archiv. Gestapo-Akte Janscb.
2 Ibid., Gestapo-Akte Hielscher.
3 Антифашисты из Европейского союза в своем манифесте солидаризировались с Советским Союзом и в дальнейшем стремились к тесному сотрудничеству с ним. Георг Гроскурт и другие участники этой группы были убиты 8 мая 1944 года.
4 Institut fiir Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Archiv.
302
советский коммунист Николай Румянцев1 и немецкий коммунист Макс Гауке8. Его сын Карл Гауке, достигший к тому времени шестнадцати лет, работал связным в группе немецких антифашистов, которой тогда уже помогал врач-рентгенолог Фриц Гицельд. Эта группа самым тесным образом сотрудничала с советскими комсомольцами Борисом Лозинским, Валентином Спиридоновым и другими. Особенно выделялась своей активной и умелой подпольной работой комсомолка Таисия Тонконог, учительница из района Днепропетровска1 2 3.
Советские участники группы поддерживали связь с лагерями при военных заводах, расположенных в районе Лейпцига, и с лагерем военнопленных советских офицеров, содействуя созданию там подпольных организаций.
И советские и немецкие члены этих организаций, готовя кадры для вооруженной борьбы, проявляли отвагу и решимость и были преисполнены непоколебимой веры в победу рабочего класса. Об этом свидетельствуют выпущенные ими листовки. Одна пз листовок, написанных Максом Гауке, которую в лагерях распространяли советские патриоты, называлась «Призыв ко всем!» В ней было написано: «Здесь, в гитлеровской Германии, вас кормят еще хуже, чем ваших немецких товарищей по работе. Но тот, кто голодает, болеет, а больные работают хуже. Заявляйте о том, что вы голодны, своим мастерам на фабриках. Кричите им об этом в лицо. Снова и снова требуйте врачебной помощи. Требуйте достаточного питания! Требуйте надежных бомбоубежищ на заводах и в лагерях! Защищайте вашу жизнь, вашу силу и здоровье. Они вам понадобятся, когда и в Германии возникнут боевые группы, чтобы бороться против фашизма здесь. Устанавливайте надежные связи между лагерями. Все должны освободиться, чтобы жить по-человечески. Пусть поляки и французы, бельгийцы и голландцы, чехи, русские, итальянцы и немцы объединятся в борьбе против фашизма, в борьбе за свободу и будут наготове»4.
Советский патриот Румянцев написал листовки на русском языке, в которых призывал своих земляков крепиться и бороться против фашистских бандитов. Он призывал их организовываться, с тем чтобы помочь немецкому народу в его борьбе за освобождение от гитлеризма5.
После Сталинградской победы усилилась деятельность антифашистов в подразделениях гитлеровской армии, усилилась их политическая работа и в ряде случаев им удалось установить связь с группами антифашистского Сопротивления. Я хочу привести два из многочисленных примеров героической борьбы немецких антифашистов.
Вернер Кубе, двадцати двух лет, сын коммуниста, служил в немецкой авиации. Он руководил рабочей бригадой в мастерских по ремонту самолетов, и в его бригаду были направлены для работы советские военнопленные. Все они были чрезвычайно истощены, и Вернер Кубе на свои деньги покупал для военнопленных продукты, сообщал им политические и военные новости и помог создать группу Сопротивления. Когда Вернера Кубе предал шпион и его арестовали 1 сентября 1944 года на аэродроме в Альтенбурге, он открыто заявил о своей солидарности с иностранными рабочими, о своей преданности идеям пролетарского интернационализма. Молодой рабочий Вернер Кубе был убит палачами СС в деревне в районе Риза 20 апреля 1945 года вместе с четырьмя другими немецкими солдатами, обвиненными в «разложении армии и коммунистической пропаганде». Когда его расстреливали, Кубе воскликнул, так что слышали жители деревни: «Долой Гитлера! Германия должна жить!»
1 Николай Румянцев был застрелен во время допроса в гестапо летом 1944 года.
2 Макс Гауке был осужден иа смерть в конце 1944 года, ио ему удалось бежать перед казнью.
3 Таисия Тонконог была убита летом 1944 года гестаповцами в Лейпцигской тюрьме.
4 Gestapo-Akte, Hauke.
5 Ibid.
303
Среди членов группы Зефкова — Якоба — Бестлейна было много антифашистов, мобилизованных в армию, которые поддерживали связь с группами Сопротивления в лагерях иностранных рабочих. Так, в донесении гестапо об антифашистской деятельности обер-ефрейтора санитара Альфреда Юнга, который служил в охране лагеря военнопленных в Фюрстенберге на Одере, говорится, что Альфред Юнг «вел коммунистическую пропаганду среди русских, сербских и французских военнопленных, содержащихся в фюрстен-бергском лагере», и что он «наряду с пропагандистской литературой передавал русским, сербам и французам различные политические рефераты и воззвания и в свою очередь от них передавал материалы для Коммунистической партии Германии»1. Фашисты были вынуждены издать специальный приказ, в котором всем комендантам лагерей для военнопленных вменялось в обязанность принять меры для подавления каких бы то ни было форм соприкосновения солдат охраны с военнопленными.
Несмотря на фашистский террор, многие сознательные рабочие па немецких заводах оставались верны принципам классовой солидарности. Так, например, . именно поэтому фюрер предприятия концерна электрозаводов ОСРАМ счел необходимым издать особый циркуляр для всех рабочих и служащих. Этот циркуляр гласил: «Имеются основания для того, чтобы вновь указать на то, что, как мы уже однажды недвусмысленно подчеркивали в нашем циркуляре № 4247, строжайше запрещены всякое общение и всякие связи с русскими. Посему запрещается передавать русским какие бы то пи было подношения, будь то одежда, продукты питания или табак. Мы вновь требуем от наших сотрудников точнейшим образом придерживаться этих указаний, о нарушении каковых мы будем вынуждены в каждом случае ставить в известность государственную полицию»8. Подобные же угрожающие распоряжения были изданы почти на всех предприятиях.
Немецкие и иностранные антифашисты призывали трудящихся усиливать акты саботажа в военной промышленности, чтобы тем самым ускорить окончание начатой фашистами грабительской войны. Так, например, на лейпцигском военном заводе «Хазаг» объединились для совместной борьбы немецкие и польские рабочие.
На берлинском заводе «Рейнметал-Борзиг» немецкие антифашисты помогали советским патриотам, выпуская листовки, призывавшие рабочих срывать военное производство. Многие иностранные и немецкие рабочие на различных заводах по всей Германии проводили отдельные совместные выступления. Секретные донесения гестапо свидетельствуют о том, что многие иностранные рабочие уклонялись от работы в тех необычайно плохих условиях, в которые они были поставлены на немецких заводах, причем упорство их сопротивления нарастало с каждым годом. Летом 1944 года в секретном информационном бюллетене «для руководящих кадров НСДАП» фашистский министр юстиции Тиран приводил данные о росте движения Сопротивления немецких и иностранных антифашистов. Согласно этим данным, только с января до марта 1944 года «за участие в движении Сопротивления (иностранцев)» было арестовано 6969 человек.
По обвинению в «запретном общении с иностранными рабочими и военнопленными» в течение первых трех месяцев 1944 года было арестовано 6229 человек. Подобные же материалы имеются и по второму кварталу 1944 года1 2 3.
Все эти мужественные действия рабочих наносили значительный ущерб немецкой военной промышленности. В секретном циркуляре № 66 отдела контрразведки 3-го военного округа требовалось принятие решительных мер. Была создана обширная шпионская организация, некоторой принадле
1 Gestapo-Akle Jung, Alfred.
2 Ni tzsche, Gerhard, Op. cit., S. 52.
3 Ibid., WeiBbuch der deutschen Opposition. London, 1946 (Maschinenschtrift).
304
жали немцы и иностранцы, терроризировавшая^немецких и иностранных рабочих на военных заводах и выдававшая их гестапо1.
В общем интернациональном движении Сопротивления многие тысячи немецких антифашистов проявили себя надежными борцами против фашизма, империализма и милитаризма. Братская солидарность немецких антифашистов и их борьба против гитлеровского режима помогли патриотам многих стран направлять справедливую ненависть своих народов против подлинных виновников войны, не отождествляя немецкий народ с гитлеровцами. л
В проекте одной из листовок французских антифашистов говорится: «Немецкие антифашистские товарищи, сплоченные вокруг Коммунистической партии Германии, никогда не были сторонниками колючей проволоки, концлагерей и порабощения других народов... У немецких трудящихся и у нас теперь одни и те же цели и интересы»1 2.
Совместная борьба немецких и иностранных антифашистов была одной из основополагающих предпосылок восстановления дружбы немецкого народа с советским и с народами других стран Европы. Опыт этой борьбы против фашизма и войны учит народы всех стран необходимости своевременно объединяться для сопротивления. Вот почему мы непримиримо осуждаем реакционных историков из Западной Германии, которые искажают и грубо клевещут на традиции совместной борьбы немецких и иностранных антифашистов.
Западногерманская историография, как правило, пытается отрицать самый факт того, что в годы второй мировой войны несколько миллионов человек были насильно угнаны в Германию, где они подвергались жесточайшей эксплуатации. Некоторые западногерманские историки и журналисты рассматривают иностранных рабочих и военнопленных только как представителей «вражеских государств», которые вели войну с Германией. Они замалчивают или клеветнически извращают мужественную борьбу немецких антифашистов, и прежде всего коммунистов, которые и в годы фашистской диктатуры сохраняли в чистоте принципы братской связи с трудящимися всех стран.
В западногерманских учебниках по истории для старших классов вообще не упоминается совместная борьба немецких п иностранных патриотов. В учебнике для средней школы3 борьба народов, подвергшихся нападению, клеветнически определяется как «проводившаяся жестокими средствами партизанская война».
Западногерманский «историк» Карл Миш в своей книге «История Германии в эпоху массовых движений от Французской революции до нашего времени»4 также ни словом ие упоминает о движении Сопротивления в Германии
Подпольная борьба коммунистов, социал-демократов и беспартийных рабочих противоречила политике прославляемой западногерманскими историками буржуазной оппозиции, которая видела в миллионах насильно угнанных в Германию рабочих и военнопленных лишь «элементы беспорядка п угрозы». Сотрудничество немецких и иностранных антифашистов соответствовало не только интересам немецких трудящихся, но и национальным интересам всего немецкого народа.
1 Instit ut fiir Marxismus-Leninismus beim ZK SED, Archiv. Сводка гестапо о деятельности подпольных организаций советских патриотов в Германии в 1944 году содержит следующие данные об арестах: в Брауншвейге арестованы 21 человек, в Хемнице—59 (Советский рабочий комитет), в Карлсруэ—10 (Братское сотрудничество военнопленных), в Бадене—300, в Лейпциге по делу Интернационального антифашистского комитета—33 советских и 12 немецких антифашистов, в Мюнхене—314. Ibid., Gestapo-Akte, Hauke.
2 Цит. но Nitzsche, Gerhard, Op. cit., S. 54.
3 Lehrbuch fiir die Oberprimal, Grundzuge der Geschichte, Diesterxveg Verlag.
4 M i s c h, Carl, Deutsche Geschichte im Zeitaller der Massen von der Franzdsi-chen Revolution bis zur Gegenwarl. Stuttgart, 1952, S., 503 ff.
20 Запав № 1220
305
.Лишь некоторые западногерманские историки все >ке упоминают об этой совместной борьбе. Так, например, Ганс Ротфельс1 пишет, что «братание между немецкими и завезенными иностранными рабочими» представляло собой «важный фактор».
Рудольф Пехель1 2 замечает, что были немцы, «которые делали все, что могли, для того, чтобы помочь насильно завезенным иностранным рабочим облегчить участь военнопленных».
Следует, однако, иметь в виду, что буржуазная историография, оценивая связи немецких противников Гитлера, применяет двойную мерку.
Говоря о представителях буржуазной оппозиции, устанавливавшей контакты с западными державами, буржуазные историки считают, что эти шаги предпринимались на основе сознания «национальной ответственности» для того, чтобы «либо предотвратить развязывание несправедливой и в конечном счете безнадежной войны, либо покончить с войной, избавив Германию от ее самых худших последствий»3.
Напротив, когда речь идет о наиболее последовательных представителях антифашистского Сопротивления как из рабочей среды, так и из патриотических буржуазных кругов, которые устанавливали связь с советскими людьми, о таких, как, например, антифашисты из группы Шульце-Бойзен — Гарнак, то, по мнению западногерманских историков, их действия несовместимы с понятием «немецкого Сопротивления». В связи с этим задним числом оправдываются расправы фашистских судов, убивавших выдающихся представителей немецкого народа, так как последние, мол, «служили враждебной иностранной державе» и поэтому являлись изменниками родины «не только по букве закона»4.
Профессор Риттер пользуется фашистской терминологией гитлеровцев, чтобы клеветать на братское сотрудничество между немецкими и иностранными группами Сопротивления. Он не может умолчать о том, что такое сотрудничество между немецкими и иностранными антифашистами действительно существовало. Однако он пытается умалить большое политическое значение этой общей борьбы, говоря, что в ней смешивались «подлинный идеализм с обычной драчливостью» и что все участники «кончали на виселице»5. Герхард Риттер не останавливается даже перед самой грязной клеветой на группу Шульце-Бойзен—Гарнак, деятельность которой имела такое большое значение для освобождения нашего народа. Он характеризует эту группу борцов Сопротивления как «шпионский центр» и солидаризируется со смертными приговорами, вынесенными фашистским судом этим отважным антифашистам0.
В приложении к еженедельнику «Дас парламент» от 7 декабря 1955 года группа Шульцс-Бон.зен—Гарнак также названа «шпионским центром». Антифашистам, участникам этой группы, вменяется в вину их стремление сотрудничать с Советским Союзом и совместно с советскими войсками и иностранными рабочими в Германии бороться за свержение фашистской диктатуры. Группу Шульце-Бойзен—Гарнак называют «просоветским движением сопротивления со всеми характерными признаками просоветской организации» и противопоставляют ее военной оппозиции 20 июля.
Эти искажения и фальсификация служат классовым интересам немецких империалистов. В то время как профессор Риттер отказывает немецким революционным силам в каком бы то ни было национальном самосознании, он прославляет сотрудничество буржуазных и военных кругов с за-
1 R о t h f е 1 s, Hans, Die Opposition gegen Hitler, Krefeld, 1949, S. 186.
2 Pechel, Rudolf* Deutscher Widerstand, Eugen-Rentsch-Verlag, Erlenbach-Zurich, 1947, S. 110. *
3 Ritter, Gerhard, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, Stuttgart, 1955, S. 103.
4 Ibid., S. 103.
5 Ibid., S. 102.
“ Ibid., S. 103.
306
ладными державами, целью которых было продолжение воблы против Советского Союза и укрепление германского империализма.
Американские империалисты с величайшей готовностью предоставили в распоряжение профессора Риттера все тщательно «оберегаемые» ими документы и материалы об антигитлеровском движении Сопротивления. И Риттер полностью оправдал ожидания германских и иностранных империалистов. Он фальсифицирует эти материалы не только дя того, чтобы оклеветать движение Сопротивления, но и для того, чтобы обосновать агрессивные планы германских и иностранных империалистов.
В противоположность национализму и шовинизму буржуазной и военной оппозиции социалистические силы движения Сопротивления были воодушевлены идеей пролетарского интернационализма, сознанием неразрывных братских связей, объединяющих рабочих всех стран в борьбе против военщины и фашизма.
Я привела здесь отдельные примеры того, как боролись немецкие и иностранные антифашисты за свержение фашизма, милитаризма и монополистического капитализма за мирное строительство социалистической Германии. Они боролись и героически погибали. Им служил примером социалистический Советский Союз, который после победы Великой Октябрьской социалистической революции стал залогом мира и братского сотрудничества народов. Советские патриоты, находившиеся в Германии, и немецкие антифашисты несли в массы трудящихся идеи социализма и дружбы народов.
Когда Советская Армия свергла гитлеровскую диктатуру, антифашисты были первыми, кто мобилизовался на строительство новой демократической Германии.
Существование Германской Демократической Республики, которая свято блюдет героические традиции интернациональной антифашистской борьбы, дает народам уверенность в том, что немецкий рабочий класс и весь трудовой народ Германии твердо и целеустремленно вступили на путь мира и дружбы народов.
2D*
.Пеон Небенцалъ
МУСА ДЖАЛИЛЬ-ПОЭТ И БОРЕЦ
22 апреля 1957 года татарский поэт Муса Джалиль был посмертно удостоен советским правительством Ленинской премии за его книгу, одно название которой уже должно привлечь живейшее внимание всех, кто изучает историю борьбы антифашистского движения Сопротивления. Сборник стихов называется «Моабптская тетрадь».
А за четырнадцать месяцев до этого, накануне дня, когдя поэту, погибшему от рук фашистских палачей, исполнилось бы 50 лет, правительство удостоило его высокого звания Героя Советского Союза.
И если этой наградой отмечалось величие его подвигов солдата и патриота, то Ленинской премией весь советский народ чествовал выдающееся литературно-художественное значение творчества поэта, а с ним и высокую зрелость татарской национальной культуры.
Муса Джалиль по праву явился первом из деятелен литературы н искусства, удостоенным этих обеих высочайших наград.
«Весь мир и мировая литература, — сказал советский поэт Самед Вур-гун на торжественном собрании, посвященном памяти Мусы Джалиля, — знают многих поэтов, чьи имена обессмертила неувядающая слава. По таких, как поэт и герой Муса Джалиль, который увековечил свое имя и непреходящими поэтическими творениями п своей героической кончиной, такпх пе много. Это великий Вайрой, это прославленный венгерский народный поэт Петефи, это герой Юлиус Фучик и, наконец, Муса Джалиль».
Однако, несмотря па все это, творчество и деятельность Мусы Джалиля у нас, в Германской Демократической Республике, почти неизвестны. Мы должны быть благодарны издательству «Культур унд фортшритт» за то, что оно дало немецкому читателю сборник избранных стихотворений «Из Моа-битской тетради» в переводах Франца Лешницера. Эта книга может дать некоторое представление о поэтическом творчестве необычайно разностороннего и многообразно одаренного человека, выдающегося представителя татарской культуры, которая бурно развилась в годы советской власти.
Мало что известно у нас и о последнем периоде жизни Мусы Джалиля, о его участии в антифашистском Сопротивлении; все, что у нас сообщалось в печати на эту тему, сейчас уже устарело в свете новых исследований.
Поэтому я хотел бы здесь коротко изложить то, что удалось разузнать о последних годах жизни Мусы Джалиля благодаря совместным исследованиям советских, бельгийских и немецких товарищей.
В исследованиях, которые велись в Германской Демократической Республике по инициативе Отдела печати при председателе Совета Министров и «Прессе дер Советуппон», приняли участие товарищи из Комитета участников антифашистского двиЖепня Сопротивления и из Инс^1тута марксизма-ленинизма. Наибольшим успехом, достигнутым в ходе этих исследований, было то, что нашей редакции удалось найти товарища Мусы Джалиля но камере Моабптской тюрьмы, бельгийского антифашиста Андрэ Тиммерманса и установить с ним первую связь. Воспоминания Аидрэ Тиммерманса (ведь это именно он спас для потомства «Моабитскпе тетради» поэта), а также
308
дополнительные исследования, проведенные в Советском Союзе публицистом 10. Корольковым, создают главные основы тех представлении об антифашистской деятельности Мусы Джалиля, которые мы уже имеем сегодня.
Муса Джалиль и его товарищи боролись против фашизма в необычайно сложных и трудных условиях — в рядах пресловутого татарского Идель-уральского легиона, созданного наемниками Розенберга. Антифашистов выслеживали татарские белогвардейцы, продавшиеся гитлеровцам, им приходилось действовать в среде земляков, которые^непрерывно подвергались усиленной националистической пропаганде, развернутой эмигрантами. Проблема «легионов» и так называемой «власовской армии» ни в Германской Демократической Республике, пи, насколько мне известно, в советской печати еще не рассматривалась, тогда как в Западной Германии немало писали и печатали обо всем этом. Однако в западногерманских работах и статьях, сколько бы мы ни искали, мы не обнаружим имен Мусы Джалиля и его боевых друзей, потому что большинство авторов — это белые эмигранты, старающиеся напомнить о своих «заслугах». Существуют, однако, и немецкие авторы, которые преследуют несколько иные цели: они пытаются объяснить явный провал планов использования советских граждан в вооруженной борьбе против нх государства, а также неудачу всех попыток разжечь национальную рознь между народностями Советского Союза. Именно этому посвящена объемистая книга Юргена Торвальда «Кого они хотят погубить» (отчет о великой измене), изданная в Штутгарте издательством Штейнгрюбен1.
Согласно Торвальду, «добрый» вермахт и столь же «добрый» Розенберг хотели, дескать, освободить советский народ, сотрудничая с Власовым, а им мешали злой Гитлер и злые «эсэсовцы», которые не хотели давать политической программы «освободительной армии», не хотели признавать Власова «союзником» и тем самым обрекли гитлеровскую Германию на поражение. Как намекает название книги, они были ослеплены богами1 2 и поэтому не узрели «великой возможности».
Этой весьма недвусмысленной попытке подать под новым соусом легенду об «освободительной миссии» гитлеровского вермахта необходимо противопоставить исторические факты.
Гитлер обрушился на Советский Союз, одержимый яростной жаждой грабежа и безудержным стремлением к уничтожению; его главной целью было, уничтожив Советскую Армию, «разделить по всем правилам искусства огромный пирог», с тем чтобы, «во-первых, овладеть им, во-вторых, управлять и, в-третьих, эксплуатировать».
Эти циничные слова были сказаны 16 июля 1941 года в беседе Гитлера с Розенбергом, Ламмерсом, Кейтелем и Герингом, во время которой было окончательно принято решение об издании пресловутых «приказовфюрера», которые вводили в Действие преступный аппарат розенберговского министерства по делам Востока.
В ходе того же собеседования было заявлено буквально следующее: «Нашим железным принципом является и должно всегда оставаться непоколебимое правило: никогда не допускать, чтобы кто-либо иной, кроме немцев, носил оружие. Это особенно важно. И даже если вначале может показаться более легким привлечь для вооруженной помощи какие-либо иные покоренные нами народы, все же это неправильно! Ибо в один прекрасный день это неотвратимо обратилось бы против нас. Только немец может носить оружпе; пи в коем случае не славянин, не чех, не казак, не украинец...»3
В ту пору эти заправилы «избранной расы господ» казались самим себе очень сильными. Уже в марте 1941 года они издали так называемый «при
1 «Wen Sie verderben wollen» (Bericlit des groBen Verrats).
2 Древнегреческая пословица гласит: «Боги поражают слепотой тех, кого они хотят погубить».—Прим. ред.
3 Существует запись этой беседы, сделанная, вероятио, Гиммлером. Она включена в отчеты Нюрнбергского процесса. (IMG, Bd. XXXVIII, S. 86 If.)
309
каз о комиссарах»*, предусматривавший возможно более ускоренное уничтожение всех «недочеловеков» в их будущей колониальной империи. Согласно этому приказу, следовало убивать сразу же после захвата в плен всех «занимающих ответственные и руководящие политические должности (комиссаров)», а также евреев и «азиатов». В первые месяцы войны это в большинстве случаев означало скорую смерть взамен медленного умирания в лагерях, в которых многие тысячи военнопленных погибали от голода и болезней1 2.
Когда гитлеровские генералы еще мечтали о том, чтобы пробиться через Кавказ на Ближний Восток, некий профессор, доктор Теодор Оберлен-дер, тогда числившийся капитаном (ныне он министр правительства ФРГ по делам беженцев), разрабатывал план создания нерегулярных отрядов из представителей кавказских и среднеазиатских народов. Этот план был зашифрован под названием «отдел Бергмана»3.
Сокрушительные контрудары Советской Армии развеяли впрах все эти мечты и уже к 1942 году обстановка настолько изменилась, что пришлось полностью отказаться от принципа «только немец вправе носить оружие»; «приказ о комиссарах» был отменен, и фашисты начали подыскйвать для себя «добровольцев», прежде всего именно среди «азиатов», то есть представителей нерусских народов Советского Союза.
Наиболее активную деятельность в этом направлении развернуло возглавлявшееся Розенбергом министерство по делам оккупированных восточных областей. Прежде всего оно начало с помощью эмигрантов-националистов (как правило, проходимцев, совершенно опустившихся субъектов)4 * создавать «освободительные комитеты» различных нерусских национальностей и через них вербовать военнопленных соответствующих национальностей, используя в качестве приманки обещания «автономии» под покровительством гитлеровской Германии. Всем этим ведал некто профессор д-р Г. фон Менде, а официальным руководителем от министерства Розенберга был Отто Бройтигам (до войны являвшийся генеральным консулом в Закавказье и несколько лет проживший в Тбилиси). С 1941 года он занимал пост руководителя отделения общей политики и ответственного за связи министерства с вермахтом. (В настоящее время Бройтигам заведует отделом в министерстве иностранных дел в ФРГ.)6 7 Вся подготовительная работа, которая начиналась с отделения военнопленных нерусских национальностей, велась в непосредственном сотрудничестве с главным командованием сухопутных войск, точнее с организационным отделом генерального штаба и отделом «иноземных войск на Востоке» (начальник — подполковник Гелен). Была проведена подготовка к созданию первых воинских частей из лиц нерусской национальности. Начальник отдела новых формирований майор граф Штауфенберг® и его друг подполковник барон фон Рённе, сотрудник отдела «иноземных войск на Востоке», добились от главного командования учреждения особой должности генерала командующего «добровольцами».
После этого шестидссятилетиий генерал кавалерии Эрнст Кёстринг’
1 SS im Einsatz. KongreB-Verlag, Berlin, 1957, S. 574—575.
2 Так, например, в Чепстоховском лагере (Польша) из 30 тысяч собранных там «туркестапцев», то есть представителей среднеазиатских народов, осталось в живых только 2 тысячи человек. Так называемый «президент автономного правительства Кокапда» белозмигрант Чокай (в 1921 году бежал во Францию) при посещении этого лагеря (1942 год) заразился сыпным тифом и умер. (Т h о г w а 1 d, J й г g е и, Wen Sie verderben Wollen, Steingruben-Verlag, Stuttgart, 1952, S. 72).
3 «Der Spiegel», 21. IV.1954.
4 К их числу принадлежали: Чокай, живший в Германии, Вели Каюм Хаи, «генерал»
Шкуро, атаман донских казаков Краснов, хан Крым Гирей, генерал-лейтенант Вичерахов и др.
6 В 1958 году Бройтигам назначен генеральным консулом ФРГ в Гонконге.
6 Впоследствии был активным участником заговора 20 июли 1944 года.
7 Эрнст Кёстринг родился в 1876 году в Москве в семье немецкого книготорговца, учился в московской гимназии и отлично говорил по-русскн. В начале XX века стал офицером немецкой армии. Участвовал в первой мировой войне. В 1917 году был назначен в воен-
310
был направлен 9 августа 1942 года в Винницу в качестве командующего частями «добровольцев».
Другая группа немецких офицеров из отдела военной пропаганды главного командования вермахта (к ней принадлежали руководитель сектора активной пропаганды Николаус фон Гроте и полковник Ганс Мартин) старалась, сотрудничая с белогвардейской организацией НТС и выступая с великорусскими социально-революционными лозунгами, создать «русскую добровольческую гфмию» из военнопленных и гражданских лиц, угнанных на принудительные работы в Германию. Западногерманские историки охотно распространяются о «достойном сожаления параллелизме» и «соперничестве» между обеими упомянутыми группами. Но в действительности эта была продуманная шулерская игра с четким разделением ролей, целью которой являлось: использовать советских граждан как русской, так и нерусских национальностей в своих военных целях.
Легионы, подчинявшиеся главному командованию сухопутных войск, размещались в Польше* 1, и каждый из них имел свой кадровый батальон, в который поступали рекруты, прибывающие из лагерей военнопленных. Их обследовали, обмундировывали и включали в часть. Одновременно шло формирование полевых батальонов. Вербовку в лагерях проводили соответствующие националистические комитеты эмигрантов. Однако, несмотря на ужасающие условия жизни военнопленных, вербовщики сталкивались с величайшими трудностями в своих попытках принудить советских людей служить с оружием в руках ненавистным гитлеровцам. При вербовке мусульман ревностные услуги оказывал наемник Гитлера, «его святейшество» Саид Мухамед Амин эль Хусейн — иерусалимский муфтий, который разъезжал по лагерям, пропагандируя гитлеровский «новый порядок».
Во время одной из таких поездок муфтий познакомился с Мусой Джалилем. В июне 1942 года тяжело раненный Муса Джалиль попал в плен на Волховском фронте и был переправлен через Холмский и Демблинский лагеря в Вустрау (округ Нойруппин). Муса Джалиль использовал встречу с муфтием для того, чтобы под именем Гумерова перейти в распоряжение Комитета идель-уральских тюрко-татар, разумеется, с намерением подрывать его деятельность.
Несколько слов об этом комитете. Это название придумали «комитету» для «татарско-башкирского государства», которое предполагалось после разгрома СССР создать между Волгой и Уралом под протекторатом гитлеровской Германии. Главой комитета по назначению профессора Менде был татарский белоэмигрант некий Абдрахман Шафи-Алмас. В течение многих лет он жил с турецким паспортом в Берлине и был даже собственником дома на одной тихой улице вблизи площади Рихарда Вагнера. Это обстоятельство заслуживает упоминания, поскольку в этом же доме в течение некоторого времени проживал Муса Джалиль, после того как его освободили из лагеря в Вустрау.
Джалилю было поручено заниматься «культурной работой» в лагере. Это позволяло ему почти беспрепятственно общаться с людьми и проникнуть в глубокий тыл противника. Он немедленно использовал представившиеся возможности для того, чтобы организовать движение Сопротивления.
Нам известно, что деятельность организаций Сопротивления советских патриотов, находившихся на территории Германии, к тому времени уже до
пую комиссию при гетмане Скоропадском. С 1927 по 1930 год работал военным атташе немецкого посольства в Москве. В 1933 году был уволен в отставку, по в 1935 году вновь занял ту же должность в Москве. В июле 1941 года Кёстрипг вернулся в Германию через Баку, Тбилиси, Стамбул.
1 В сентябре 1942 года были сформированы: Туркестанский легион под командовав нием обер-лейтенанта Эрнеке в Зеленке; Азербайджанский легион—манора Риделя, там же; Грузинский легион—майора Хусселлев Веселой; Армянский легион—в Пропотне. Впоследствии из Грузинского был выделен Северокавказский легион. Грузинский легион под командованием обер-лейтенанта Брейтнера размещался в Крушине. Идель-уральский легион майора фоп Зикепдорфа был сформирован в Эдлине, в районе Радома.
311
стигла значительного размаха. Недавно в советской печати была опубликована первая обобщающая работа на эту тему. Основываясь на очень большом фактическом материале, автор этой работы Е. А. Бродский установил, что освободительная борьба советских патриотов «приобрела характер серьезной силы, оказывавшей все более мощное влияние на внутриполитическое положение гитлеровского государства. Советские люди своей самоотверженной борьбой с врагом в его собственной стране способствовали поражению фашизма и победе свободолюбивых сил всего мира»1.
* * *
Одним из участков этой героической борьбы, потребовавшей немало жертв, была деятельность группы Сопротивления Мусы Джалиля, которая возникла в самый критический момент войны в сердце вражеской столицы в Берлине и работала в чрезвычайных условиях внутри легиона. Группа поставила перед собой задачу — противодействовать националистической пропаганде комитета и, взывая к подлинным патриотическим чувствам своих татарских земляков, побуждать их к боевым действиям. Все это было не просто. Важнейшим, а в течение долгого времени и единственным оружием борцов Сопротивления было живое слово, гневные, зовущие на борьбу творения поэта. Эмигрантский националистический комитет, пользуясь помощью гитлеровцев, издавал печатную газету «Идель-Урал». А борцы Сопротивления бывали счастливы, когда им удавалось достать ротатор для размножения листовок.
Прежде всего были установлены связи с различными лагерями военнопленных в Германии. Джалиль ездил в Свинемюнде, где находилась большая группа пленных татар и башкир. Удалось направить членов группы Сопротивления также и в Дрезден. По свидетельству Тиммерманса, деятельность группы развертывалась «главным образом в Гамбурге». И все же основным очагом всей подпольной работы должен был стать Радомский лагерь, где располагался кадровый батальон волжских татар. Весной 1943 года Джалиль отправился в Радом в качестве «культработника».
Об этом периоде поведал очевидец, один из товарищей Джалиля по лагерю военнопленных столяр татарин Талгат Гимранов, которого, впрочем, Муса Джалиль не посвящал в деятельность группы Сопротивления. Однако Талгат Гимранов сам наблюдал, как эта деятельность проявлялась в жизни лагеря. Он рассказывает: «Хотя они тоже были пленными за колючей проволокой, но использовали для борьбы против фашизма все средства, какие только были доступны в лагерных условиях. Гитлеровцы старались бросить приманку пленным и с этой целью разрешали время от времени устраивать нечто вроде вечеров самодеятельности. И тогда военнопленные декламировали стихи, пели народные песни и даже ставили небольшие пьесы.
Муса Джалиль тоже читал свои стихи. Он в них прибегал к аллегориям, иногда даже заменял одни слова другими, но каждый раз мы все понимали, что именно хотел сказать поэт в действительности, что он имел в виду. Его стихи внушали нам всем надежду, придавали нам новые силы. Одну из пьес тоже написал Джалиль...
Стихи Джалиля — и уже не в том виде, какими он их читал публично, а без пропусков, без замены слов — переписывались, ходили по рукам в лагере, их заучивали наизусть; но почти никому не было известно, кто именно является автором этих волнующих строк».
По рассказам Гимранова, подтвержденным и другими материалами, деятельность борцов Сопротивления стала очень скоро приносить плоды. Первый батальон, сформированный в районе Радома, находившийся на марше к фронту, восстал и перешел к партизанам. В настоящее время известно, что восстание этого батальона было отнюдь не единичным слу-
1 «Вопросы истории», 1957, А: 3, стр. 99.
312
часы, а являлось частью той вооруженной борьбы, которую вели советские граждане, загнанные в легион. Вскоре после того, как была разгромлена подпольная организация Сопротивления, восстал четвертый батальон, и составе которого было несколько тысяч человек. Это восстание также в значительной степени было подготовлено деятельностью группы Джалиля1.
Группа организовывала также побеги военнопленных. Весной 1943 года, примерно в конце мая, рассказывал Гимранов, из Радомского лагеря организованно убежало много военнопленных. Группа Сопротивления снабдила их картой, самодельным компасом, продуктами # оружием.
На август того же года Джалиль и его товарищи запланировали восстание в лагере п массовый уход легионеров. При этом они рассчитывали на поддержку польских партизан, с которыми была установлена связь. Арест группы помешал исполнению этого плана.
В настоящее время уже известно, каким образом удалось гестаповцам раскрыть группу Сопротивления, действовавшую в Радомском лагере и в Берлине, и как были арестованы Джалиль и его товарищи. Нам известны имена борцов Сопротивления, которые были схвачены и затем казнены вместе с Джалилем. Здесь следует назвать такие имена: Абдулла Алишев — татарский детский писатель из Казани; журналист Ахмед Симаев — сотрудник одной из московских редакций. Кроме того, в группу входили: инженер Фуад Булатов, артист Амиров, врач Хизамутдппов, бухгалтер Тариф Ша-баев, юрист Мичурин, а также Курмашов, Габиддула Баталов, Сейфульму-люков и Шарипов. Деятельность борцов Сопротивления весьма .встревожила гестаповцев. Начальник лагеря майор Ф. Зикендорф приказал начать вербовку шпионов, которые помогли бы гестапо раскрыть организаторов участившихся побегов из лагеря и составителей листовок, которые распространялись среди легионеров. Выбор гестаповцев пал па Махмута Ю., неустойчивого и к тому времени уже деморализованного военнопленного. Однако и его пе удалось сразу же сделать предателем. В течение многих ночей его запугивали, грозили ему смертью, уводили в лес, якобы на расстрел, заставляли копать себе могилу, после чего снова тащили в комендатуру. Так продолжалось почти неделю. На всех допросах присутствовал член националистического эмигрантского комитета, который не скрывал своей близости к гестапо. В шестую ночь Махмут не вынес пыток и дал письменное обязательство сотрудничать в гестапо. Провокатора включили в бригаду «культработников», к которой принадлежал Муса Джалиль. Именно в это время группа Сопротивления готовила массовый побег из лагеря.
Вскоре — в начале июля — два члена группы Курмаш и Баталов были направлены из Радома в Берлин якобы затем, чтобы достать для лагеря нацистскую пропагандистскую литературу. Джалиль поручил им привезти из Берлина листовки, которые там составлялись и размножались. Но вместе с обоими борцами Сопротивления поехал в Берлин и провокатор Махмут. В гестапо ему дали задание следить за Курмашем и Баталовым.
Уже в пути провокатору удалось вкрасться к ним в доверие, п он узнал о действительной цели их поездки. После возвращения в лагерь антифашисты начали распространять листовки и прятали их в матрацных чехлах и наволочках. Махмут взял одну пачку листовок себе. Он также спрятал ее в подушку, но в тот же день донес об этом гестаповцам.
В ночь на 12 августа барак, в котором размещалась «культбригада», был оцеплен солдатами. Гестаповцы произвели обыск и арестовали многих
1 Когда в конце 1943 года основная масса «восточных формировании» была передислоцирована во Францию, гитлеровцы считали Идель-уральский легион самым «ненадежным». Начальник оперативного отдела штаба командующего «добровольческими частями» при Главном командовании Западного фронта (I. Л.) подполковник Вальтер Хапзен писал в споем дневнике: «10 августа. Командир кадровой добровольческой дивизии в Лионе вынужден разоружить Волготатарский и Армянский легионы. Все это одна и та же явно трагическая линия развития... 6 сентября. Командир Волготатарского батальона 827 докладывает о разоружении остатков его батальона» (Thorwald, J Qrgen, Op. cit., S. 402 f.).
313
•подпольщиков. Так первоначально была провалена лагерная группа Сопротивления, после чего волна арестов захлестнула берлинскую часть организации. Вскоре были арестованы Симаев, Алишев и другие. Арестовали также и провокатора Махмута. Его содержали в одиночной камере, а затем на рассвете увезли в Варшаву, где он получил денежное вознаграждение за предательство, после чего был переправлен в Австрию1.
Поскольку члены группы Сопротивления считались военнослужащими подразделения вермахта, их дальнейший путь проходил уже через военные тюрьмы и, вероятно, также через военный суд, что имело большое значение для дальнейшего хода событий.
* * *
С декабря 1943 до марта 1944 года Муса Джалиль содержался в камере № 382 военно-следственной тюрьмы на Лертерштрассе вместе с борцом бельгийского движения Сопротивления Андрэ Тиммермансом. От него-то и стали известны многие подробности, характеризующие величие души Джалиля, который до самого конца не склонился перед фашистскими палачами. Он использовал снисходительность тюремных надзирателей (в большинстве пожилых людей, призванных по всеобщей мобилизации) для того, чтобы неутомимо предаваться поэтическому творчеству. К сожалению, в настоящей работе я не могу более подробно описать историю сердечной дружбы, связавшей бельгийского и татарского патриотов.
Примерно за две недели до того, как Муса Джалиль был отправлен в Дрезден, где должен был проводиться процесс (это произошло в марте 1944 года), он вручил Андрэ Тиммермансу тетради со своими стихамиМоабит-ского цикла1 2.
Тиммерманс сумел переслать их со своими личными вещами в Бельгию, а после своего освобождения передал советскому консулу в Брюсселе.
В Моабитскпх стихах Мусы Джалиля слышно биение пламенного сердца, в них раскрываются глубокие чувства и мысли поэта, его заветные надежды и страстные мечты. В этих стихах мы ощущаем боевой дух героя-коммуниста, его твердую уверенность в победе, которую ничто не в силах поколебать. И чем больше вчитываешься в эти стихотворения, тем более убеждаешься, что их мог создать только борец, обладающий железной волей, настоящий патриот, верный сын своего народа.
Поэт был очень озабочен тем, удастся ли ему передать для потомков свои последние произведения, которые он считал своим завещанием.
На последней странице одной из сохранившихся тетрадок написано его рукой:
«Другу, умеющему читать по-татарски и который прочтет эту тетрадь.
Это писал Муса Джалиль, известный татарскому народу как поэт. После того как он испытал все ужасы фашистского концлагеря и не склонился перед угрозой смерти, его доставили в Берлин. Здесь ему было предъявлено обвинение в участии в подпольной политической организации, в ведении советской пропаганды... и он был заключен в тюрьму. Вероятно, его приговорят к смерти. Он погибнет. Но у него есть 115 стихотворений,написанных им в плену и в заточении. Его беспокоит их судьба. Поэтому он постарается переписать хотя бы 60 из этих 115 стихотворений. Когда эта тетрадь попадет в твои руки, тщательно и внимательно перепиши стихи начисто,
1 Тиммерманс, однако, утверждает, что, насколько он понял nt рассказов Джалиля, предатель был также привлечен к суду и осужден.
2 Это были две небольшие (10X6 см) самодельные тетрадки. На первой странице надпись: «Карманная записная книжка для пемецко-турецко-русских слов и стихотворений». На второй—посвящение: «Моему дорогому другу Андрэ Тиммермансу от Мусы Джалиля. 1943—1944 гг., Берлин». Все записи сделаны арабским шрифтом, который знаком многим татарским интеллигентам. В обеих тетрадях 87 стихотворений.
314
сохрани их и после войны сообщи в Казань и опубликуй как стихи погибшего поэта татарского народа. Это мое завещание. Муса Джалиль. 1943. Декабрь».
* * *
Судебный процесс Мусы Джалиля и его товарищей состоялся в марте 1944 года в Дрездене, вероятней всего, в военном суде. Все обвиняемые были приговорены к см^эти. Ввиду сильных разрушений, которым подвергся впоследствии Дрезден, нельзя было надеяться обнаружить там какие-либо документальные материалы этого процесса1.
В августе Тиммерманс снова встретился с Мусой Джалилем в тюрьме Шпандау. После неудачного покушения на Гитлера (20 июля 1944 года), как рассказывает Тиммерманс, всех политических заключенных Моабит-ской тюрьмы перевезли в Шпандау1 2.
О дальнейшей судьбе Мусы Джалиля у нас еще нет никаких достоверных документальных данных. Говорят, что Мусу Джалиля и его товарищей видели в военной тюрьме в Тегеле летом 1944 года. Все они были в наручниках, а на Мусе Джалиле были к тому же еще ножные кандалы. Из Тегель-ской тюрьмы Джалилю якобы тоже удалось передать еще одну тетрадку3 <о стихами, но где опа находится сейчас, пока еще неизвестно.
Если все эти данные правильны, значит путь борьбы и страданий Мусы Джалиля пролег через все военные тюрьмы Берлина4. Но где же завершился этот путь?
Твердо установлено только то, что вопреки самым первым сообщениям Муса Джалиль был казнен не в Плёцензее.
Тюремный священник из Плёцензее, который сам был противником войны и фашизма, приводит в своих воспоминаниях очень точные данные о казнях, которые производились в Плёцензее (в 1933—1944 годах было казнено 1800 человек). Все эти казни были тщательно зарегистрированы и дела о них полностью сохранились. В них пе было найдено ничего о Мусе Джалиле5.
1 R ответ па наш запрос прокурор Дрезденского округа писал: «Следственные и судебные материалы по делам борцов движения Сопротивления хранились в Дрездене в здании Высшего земельного суда Саксонии па Пильпицерштрассе. Это здание сгорело дотла во время тотальной воздушной бомбардировки Дрездена в ночь с 12 на 13 февраля 1945 года. При этом были уничтожены все находившиеся там архивы судебных дел.
Все относившиеся к политическим процессам материалы судов и прокуратуры, которые находились в здании суда па Мюнхенской площади в Дрездене, незадолго до вступления Красной Армии были вынесены нацистами во двор суда, облиты бензином н полностью сожжены.
В здании бывшей Дрезденской судебной тюрьмы, большая часть которой повреждена от пожаров, где в настоящее время находится 1-я следственная тюрьма, не сохранилось никаких документов со времен нацизма.
1 Ввиду участившихся воздушных бомбардировок Моабитская тюрьма считалась недостаточно падежной в смысле возможности побегав. Р о е 1 с h a u, Harald Die letzten Stunden. Berlin 1949, S. 100.
3 С тех пор как были опубликованы эти материалы, в советской печати появился ряд новых документов и материалов о героическом подвиге Мусы Джалиля.—Прим. ред.
4 К концу воины была одна центральная военная тюрьма и три филиала: Летер-штраесь 61, Летерштрассе 3, Тегель и Шпандау (Р о е 1 с h а п, Н а г а 1 d, Op. cil., S. 12).
3 По этому поводу нами получено следующее письмо от генерального прокурора 'Судебной палаты Западного Перлина от 23 октября 1956 года:
«Относительно пребывания в заключении вышеназванного лица ие удалось ничего установить по архивам бывшей военной тюрьмы Моабит, которые сохраняются ныне в тюрьме для малолетних преступников Плёцензее. В картотеке казненных также не отмечены ни Джалиль, ни Залилов.»
Подобные же розыски, предпринятые в 1957 г. па фамилию Гумерова, были также •безрезультатны (письмо от 28 августа 1957).
Был исследован и весь кровавый реестр гитлеровцев, в который занесены все осужденные па смерть нацистскими судами, казненные за время с 1939 до 1945 года. Этот список был просмотрен листок за листком (он занимает несколько тысяч листов) в поисках упоминаний Джалиля, Гаумерова, или Гумерова. Как сообщает министерство юстиции, в этом кровавом реестре не упоминаются ни Муса Джалиль, ни его умерщвленные друзья.
315
Советские солдаты, которые в ходе боев за Верлиц, заняли Моабитскую тюрьму, обнаружили на последней странице одной из книг тюремной библиотеки следующую надпись на русском языке:
«Я, известный татарский поэт Муса Джалиль, являюсь политическим заключенным Моабптской тюрьмы и приговорен к расстрелу...Прошу передать мой привет Л. Фадееву, П. Тычине и моим родным».
Если допустить, что эта запись сделана уже после процесса (а определенность формулировки допускает только этот вывод), то, следовательно, Джалиль и его товарищи были, согласно «приговору», расстреляны. Видимо, Джалиль, будучи привезен из Дрездена, первоначально находился в тюрьме на Лертерштрассе и лишь позднее, когда тюрьма очищалась, был доставлен в Шпандау. Возможно, что именно тюрьма в Тегеле была его последним пристанищем перед расстрелом, на что указывает и сообщение об оковах.
Всех осужденных на смерть, содержавшихся в берлинских военных тюрьмах вплоть до 1944 года, расстреливали, как правило, на полигоне Юнг-фернхайде. Средн них были и большие группы иностранных борцов Сопротивления; так, например, 4 июня 1943 года были расстреляны 32 человека из голландской группы Сопротивления Стинкеля, одна группа норвежцев и другие1.
Если Муса Джалиль и его товарищи были убиты там, то, значит, местом их последнего упокоения является кладбище военнопленных в Деберице, куда доставляли тела расстрелянных иностранцев...
Но, хотя многие данные позволяют сделать именно такой вывод, все же это только предположение. Потому что, как пишет Пельхау, «кроме официальных казней, людей убивали по всей Германии... Можно сказать, что до самого последнего мгновения существования «Третьей империи», в ней все еще продолжали расстреливать и вешать. Последние казни производились уже под грохот орудий наступающих союзных армий»1 2.
Муса Джалиль и его храбрые друзья были в числе жертв фашистского террора, свирепствовавшего в самые последние месяцы войны.
* * *
Те скупые материалы о последнем периоде жизни Мусы Джалиля, которыми располагаем мы, не содержат никаких указаний о наличии связей между поэтом и немецкими антифашистами.
Однако ему было присуще горячее чувство интернационализма, которое побуждало его уже с юности с горячим волнением следить за борьбой немецкого рабочего класса. В 1924 году восемнадцатилетний Муса Джалиль написал поэму «Фрагменты», которую литературоведы причисляют к наиболее значительным произведениям татарского искусства 20-х годов. Ее тема ясна уже из подзаголовка: «Из переписки с немецким коммунистом». В память о Руре.
В 1935 году поэт снова вернулся к немецкой тематике. Его поэма «Джим» направлена прежде всего против расистского бреда фашистов, который был ненавистен и отвратителен для гуманиста Джалиля.
Величавым документом пролетарского интернационализма является стихотворение «В стране Альман», написанное им в декабре 1943 года.
Из своей камеры в Моабптской тюрьме Муса Джалиль обращался с взволнованным призывом к передовым сплам немецкого народа, с которыми он чувствовал живую связь, в которые он верил тогда, когда находился в руках фашистских палачей:
*
С песней придите, *
Придите так же.
Как в девятнадцатом шли году:
1 Р о е I с h a u, Hara) d, Op. cil., S. 33 ff.
2 Ibid., S. 14(5.
316
G кличем «Рот Фронт», колоннами, маршем. Вскинув правый кулак на ходу! Солнцем Германию осветите! Солнцу откройте в Германию путь Тельман пусть говорит с трибуны! Маркса и Гейне отчизне вернуть!
То, о чем мечтав Муса Джалиль, находясь в камере Моабитской тюрьмы, •стало действительностью в нашей Республике и будет действительностью во всей Германии. И в борьбе за эту высокую цель, в борьбе, которую мы ведем против темных сил милитаризма на Западе нашей родины, с нами рядом сражается Муса Джалиль, великий поэт и патриот.
Вильгельм Эрзиль
К ВОПРОСУ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ХАРАКТЕРА ЗАГОВОРА 20 ИЮЛЯ 1944 ГОДА В ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИЕЙ
Как известно, среди произведений западногерманской публицистики! ж академической историографии нет недостатка в таких, в которых руководящие деятели заговора 20 июля 1944 года изображаются убежденными противниками фашизма, миролюбивыми политиками и образцовыми патриотами. Возникла обширная литература, в которой их «оппозиция» представляется в виде героического «восстания совести», совершенного «избранниками» немецкой нации против «зла» и «сатанинского начала», воплощенных в Гитлере и его тирании, участников заговора провозглашают передовыми борцами за «европейское единство» и свободное государственное устройство в Германии.
Были, конечно, и такие офицеры—представители буржуазии и некоторых религиозных течений, —которые поддерживали заговор из патриотизма, честно и самоотверженно включались в борьбу против фашизма за национальные интересы народа. Это обстоятельство, как и сам факт покушения на Гитлера, осуществленного в его ставке, в так называемом «Волчьем бастионе», мужественное поведение военных и штатских участников заговора после их арестов облегчают буржуазным историкам искажение классовой сущности подлинного характера «оппозиции». Широкое распространение таких версий, которые вводят в заблуждение общественность, требует самого тщательного исследования всех средств фальсификации исторической действительности, потому что с помощью этих средств не только удается перекрашивать в антифашистов отдельных лиц—большей частью бывших гитлеровцев, —но и предпринимается попытка, направленная, по удачному выражению «Нейе цюрхер цейтунг», на то, чтобы стереть из памяти немецкого и всех европейских пародов неприятную реальность самого понятия «Третьей империи»1.
Если, однако, отвести в сторону все многочисленные, сотни раз повторенные заявления о якобы исходящих из «вечности» и «определяемых нравственными и религиозными основами» 1 2 источниках того сопротивления, которое осуществляли Гёрделер, Бек, Гассель, Мольтке, Попитц, Ольбрихт и Тресков, то за покровами мнимого «поручения господа бога»3 обнаруживаются реальные классовые силы, определившие и возникновение и характер заговора. При подробном исследовании связей руководящих деятелей «оппозиции» с представителями крупной промышленности и крупного землевладения становится очевидным, насколько цели, стремление п даже самое
1 «Сегодня уже нельзя^скрывать сомнений и тревоги, вызываемых тем обстоятельством, что в немецкой истории недавнего прошлого обпаружилас^тепдепция подставлять вту «лучшую Германию» взамен Германии вообще, с тем чтобы реальность «Третьей империи» исчезла в тени той горстки люден, которые оказывали или пытались оказывать ей сопротивление». «Neue Zurcner Zeitung», N. 97, 8.VI.1955 Fernausgabe.
2 R о t li f с 1 s, Hans, Das polilische Vermachtnis des deutschen Widerstandes. In: «Vierteljahreshefte Гйг Zeitgeschichte», 2. Jg., 1954, H. 4, S. 331.
3 Peche), Rudolf, Deutsche Gegenwart, Darmstadt und Berlin, 1953, S. 259'.
318
время образования «оппозиции» соответствовали политическим и экономическим интересам определенного крыла монополистического капитала и юнкерства, в силу чего именно «оппозиция» стала подлинным социально-политическим выразителем этих интересов.
Большинство западногерманских историков и публицистов явно избегает всестороннего анализа фактов и раскрытия интересов различных классов, социальных слоев и групп, проявлявшихся в отдельных положениях, программах и стремлениях оппозиционеров, потому что такого рода исследование неизбежно обнаруживает, что часть тех сил, которые первоначально безоговорочно или с незначительными оговорками поддерживали Гитлера и нацистскую политику, по мере того как становилось очевидным банкротство фашизма, начинали ориентироваться на политическую платформу «оппозиции» и в значительной степени повлияли на многие ее тактические программные положения. Но так как большинство буржуазных историков, несмотря на все имеющиеся в их распоряжении источники, не расположены исследовать эти решающие факторы, определяющие деятельность Гёрделера. и Бека, то в литературе мы находим лишь очень скупые и чаще всего недостаточно определенные данные, не позволяющие более точно судить об отношениях, которые связывали различные группы концернов и крупных землевладельцев с кружками фрондирующих генералов, дипломатов, высшей бюрократии и с деятелями распущенных буржуазных партий. Однако все же в публикуемых различных материалах время от времени появляются сообщения, которые позволяют сделать некоторые вполне определенные и достаточно обоснованные выводы.
Если не считать Ялмара Шахта, то, несомненно, именно Карл Гёрделер был теснее всех иных связан с руководящими кругами немецкого промышленного, банковского и торгового капитала благодаря своей долголетней деятельности в качестве «имперского комиссара цен» в правительствах Брю-нинга и Гитлера. За группой экономических экспертов, возглавлявшейся Шахтом и Гёрделером, в 1934—1936 годах шла почти вся немецкая империалистическая буржуазия и генералитет рейхсвера. Это положение изменилось в связи с нарастанием экономических и политических трудностей, возникавших перед фашистским режимом, что и привело к отставке Гёрделера, а позднее к уходу Шахта с поста имперского министра хозяйства. Подлинную сущность той критики Гитлера, которая исходила от Шахта и Гёрделера и связанной с ними группы высших офицеров, возглавляемых генерал-полковником Беком, очень точно определил Филипп Денгель еще в 1938 году.
«Эти круги предостерегали Гитлера от военных авантюр и провокаций, требовали частичного изменения так называемого геринговского четырехлетнего плана и создания предпосылок для заключения значительного займа заграницей. Кроме того, они требовали от Гитлера, чтобы армия была выключена из системы «унификации»1.
Своей критикой фашистской политики вооружения и особенно пресловутых четырехлетних планов Геринга уже в 1936 году Гёрделер проявил себя как представитель вполне определенных и отнюдь не малозначительных экономических сил* 2, которые в такой же форме выражали свое недовольство отдельными направлениями гитлеровской экономической, внутренней и внешней политики. Но так как решающие силы немецкой буржуазии почти полностью одобряли политику Гитлера, то критика Гёрделера встретила в кругах промышленников «преимущественно отрицательное отношение»3.
’ «Коммунистический интернационал», 1938, № 3, стр. 22.
! Т го u е, Wilhelm, Vierteliahresliefte fiir Zeitgeschi elite, 1955, S. 192.
3 Reuter, Franz, Der 20 Yuli und seine Vorgeschichte, Berlin, 1946, S. 6.
«Гёрделер обсуждал свои критические соображения и иные мысли со многими лицами, в том числе с представителями промышленности. Но первоначально он встречал наряду с отдельными проявлениями сочувствия и согласия преимущественно отрицательное отношение, во всяком случае -к резкости его суждений».
319
Первыми и главными столпами для Герделера явились владелец крупнейшего в Европе концерна по производству электрооборудования Роберт Бош и генеральный директор акционерного общества «Заксенверк» и многолетний президент объединения саксонских промышленников Виттке
Аллен Даллес в своей книге «Заговор в Германии» очень «осторожно» замечает: «Гёрделер всегда старался «подружиться с промышленниками»1 2.
Таким путем Гёрделер находил «единомышленников в оценке авантюристических последствий гитлеровской внутренней и внешней политики, вернее определенные экономические круги нашли своего «единомышленника» в лице Гёрделера. Через своего бывшего лейпцигского сотрудника Эвальда Лезера и с помощью влиятельного крупного промышленника барона Тило фон Вильмовского он получил доступ в концерн «пушечного короля» Густава Круппа фон Болен унд Гальбах. Однако вмешательство Гитлера воспрепятствовало Гёрделеру после его отставки с поста «комиссара по контролю над ценами» занять пост одного из директоров крупповского концерна, на что он первоначально рассчитывал. Впрочем, ему возместили это щедрым финансированием его длительных заграничных путешествий в 1937 — 1939 годах3. Снабженный рекомендательными письмами Шахта и денежными субсидиями Густава Круппа фон Болен унд Гальбах, везде любезно принимаемый как неофициальный представитель немецкого монополистического капитала, Гёрделер объездил множество стран Европы, передней Азии и Америки. Его задачи явно заключались не только в том, чтобы укреплять старые зарубежные связи немецких монополий и налаживать новые связи уже непосредственно для выкристаллизовывающейся «оппозиции», но также и в том, чтобы, изучая реальное отношение к гитлеровской политике заграницей, разрабатывать собственные тактические концепции более гибкой политики германского империализма. Одновременно Гёрделеру была предоставлена постоянная должность финансового советника концерна Боша и его представителя в Берлине. Это позволяло ему находить законные обоснования для своих разъездов «по делам оппозиции». Деловые связи фирмы стали для него не только отличным источником информации, но были эффективно использованы при налаживании связей между фрондирующими группировками для скрепления «оппозиционных» сил.
Насколько тесным было сотрудничество Гёрделера с Бошем, а также с его генеральным директором Вальцем и другими посвященными, явствует уже из того, что они встречались не реже одного раза в 14 дней на совещаниях, проводившихся в здании главного правления этого влиятельного концерна4. Именно отсюда протягивались нити к Герману Ройшу (металлургические заводы «Гуте хоффнунгсхютте») и к Карлу Бошу («ИГ Фарбениндустри»),
Однако финансовую поддержку Гёрделеру оказывал не только Бош, который даже помог ему приобрести поместье, но также и влиятельный «король бурого угля» и крупный помещик Вентцель из Тойченталя в Центральной Германии5.
Влияние всех этих монополистов и аграриев на политическую ориентацию Гёрделера совершенно очевидно. Особенно ярко отражаются в планах и программе Гёрделера взгляды тех промышленников, которыми руководил Бош.
Такого же рода связи поддерживали и бывшие сановники нацистского государства, ставшие впоследствии противниками Гитлера, Ульрих фон Гас-
1 Reuter, Franz, Der 20 Yuli und seine Vorgescichle, Berlin 1946, S. 7; W e n-z e 1, Georg, Deutsche Wixlschaftsfiihrer, Hamburg—Berlin—Leipzig, 1930, S. 2430.
2 D и I 1 e s, Allan W., Vcrschworung in Deutschland, Kassel, 1949, S. 59.
3 R i Iler, Gerhard, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, Stuttgart, 1954, S. 155 f.
4 Ibid., S. 152—153; Dulles, Op. cit., S. 52; S i c g ni u n d-S ch u 1 ze, F r i ed-r i c h, Die Deutsche Widerstandsbewegung im Spiegel der ausliindischen Literatur, Stuttgart, 1947, S. 3.
5 P e c h e 1, Rudolf, Deutscher Widerstand, Erlenbach—Zurich, 1947, S. 233.
320
сель и Попитц. Последний установил их еще в пору своего пребывания на посту прусского министра финансов; причем следует отметить, что как Гас-сель, так п Попитц были очень близкими друзьями фон Вильмовского, зятя Круппа1.
С помощью Вильмовского бывший немецкий посол в Риме фон Гассель после своей отставки получил место в президиуме и наблюдательном комитете Среднеевропейского экономического объединения. Это позволило Гасселю установить прочные ^вязи с многочисленными владельцами заводов и руководящими деятелями промышленности. Кроме того, чао он наладил тесное сотрудничество с влиятельным банкиром Шниивиндом, у него началось сближение с Бошем, Ройшем и Шахтом. Пользуясь их покровительством, этот новоявленный «оппозиционер» получил возможность изложить свои взгляды на общее положение и перспективы гитлеровской Германии другим капиталистам Гамбурга, Бохума и Дортмунда. Следует, между прочим, отметить, что он выступал в Дюссельдорфе в Промышленном клубе в том же зале, в котором за восемь лет до этого Гитлер заискивающе добивался от крупных промышленников поддержки своих планов. Даже сам по себе этот факт показателен: уже к 1940 году в определенных кругах буржуазии настроение существенно изменилось. Однако и многие другие заговорщики, занимавшие в годы войны офицерские должности в войсках, разведывательных органах или генеральном штабе, являлись в действительности доверенными агентами монополистических группировок.
К их числу принадлежали крупный коммерсант Николаус фон Галем, действовавший по поручениям верхнесилезского концерна, главный советник авиационной фирмы «Люфтганза» Клаус Бонхёффер и руководящие сотрудники той же фирмы Отто Ион и принц Луи Фердинанд, причем последний был главной фигурой в монархистских планах Бека, Гёрделера и других.2
Доверенными агентами крупной промышленности следует считать также Лангбена, через которого Попитц устанавливал конспиративные связи с Гиммлером3, генерал-майором фон Тресковым4, капитаном Штрюнком6 и рядом других лиц, связанных с покушением 20 июля 1944 года.
По этим каналам воздействовали на формировавшуюся «оппозицию» буржуазные и юнкерские круги. Последние использовали главным образом дворян-офицеров. Именно такой была в конечном счете основная социальная база «оппозиции», та питательная среда, развитие которой оживлялось углубившимся кризисом фашизма и нараставшей угрозой крушения гитлеровской империи под могучими ударами советских войск. Вполне определенная группировка монополистов и помещиков, та самая, которая в свое время поддерживала политику Брюнинга, после чего с известными оговорками приняла фашизм и помогла ему прийти к власти, перед лицом грозящего поражения пыталась теперь совершить поворот. Шел сбор всех недовольных и встревоженных, прежде всего тех, кто раньше шел за Брюнингом и Паленом, а теперь смыкался с бывшими нацистами, которые начинали отрекаться от своего режима и создавали из них своего рода стратегическую резервную позицию. В целях маскировки эта группировка объединялась с подлинными антифашистскими силами из среды буржуазии, офицерства, социал-демократии.
1 «Rhcinische Post», Dusseldorf, 21.9.1953.'
2 Zeller, Eberhard, Geist der Freiheit,'Munchen, 1952, S. 101; S c h 1 a fare n d о r f f, Fabian, Offiziere gegen Hitler, Zurich, 1951, S. 220, 20. Juli 1944. Исправленное и дополненное издание специального выпуска еженедельника «Das Parlament»: Die Wahrheit uber den 20. Juli 1944. Bearbeitet von Hans Royce, hg. v. c. Bundeszentrale fur Heimatdienst, 2 Aufl., Bonn, 1954, S. 9, 16.
’Reuter, Franz, Op. cit., S. 18.
4 S c h 1 a b г e n d о r ff, Fabian, Op. cit., S. 161.
1 G i s e v i u s, H a n s Bernd, Bis zum bitter°n Ende, Bd. II, Zurich, 1947, S. 180.
21 Заказ Л» 1220
321
Одной из тех руководящих сфер, которые оказывали значительное влияние на политику «оппозиции», был так называемый «круж.ок Ройша», представлявший собой организационно рыхлое объединение, своеобразный дискуссионный клуб ведущих представителей монополии и юнкерства. На собраниях этого кружка, происходивших обычно в имении Вентцеля в Тойченталь, близ Галле, участвовали в числе прочих такие влиятельные промышленники, как Альберт Феглер из треста «Ферейнигте штальверке», тайный советник Бюхер из АЭГ и уже упоминавшиеся руководящие деятели промышленности —Эвальд Лезер, Карл Бош, а также Карл Фридрих фон Сименс, крупные аграрии граф Гарденберг и Вентцель и не в последнюю очередь организатор фашистской военной экономики Ялмар Шахт Этот кружок, которым руководили Г. Ройш и Я. Шахт, назывался, по утверждению последнего, Комитетом индустриализации сельского хозяйства1 2.
Однако совершенно неправдоподобно утверждение Шахта, будто в столь критические для фашизма годы, как 1943 и 1944, этот комитет рассматривал якобы только вопросы будущей индустриализации сельского хозяйства. У нас больше оснований в этом случае верить руководителю Специальной комиссии по расследованию событий 20 июля оберштурмбанфюреру СС Кизелю, который сообщал: «В так называемом «Кружке Ройша», представляющем собою разветвленное по всей Германии содружество руководящих деятелей экономики, группирующихся вокруг коммерции советника Ройша, бывшего директора металлургических заводов «Гуте хоффнунгсхютте», а также вокруг фирмы Бош (Гёрделер был по завещанию душеприказчиком Боша), равно как и в «застольных беседах» в имении одного из крупнейших землевладельцев Германии Вентцеля в Тойченталь, близ Галле-на-Заале, Гёрделер находил ту среду, в которой развивал свои идеи и вербовал сторонников»3.
Гёрделёр часто пользовался возможностью развивать «свои экономические и политические идеи» перед членами «Кружка Ройша»4. Однако Г. Риттер, который во всех иных случаях посвящает целые страницы любому мельчайшему проявлению «патриотической» деятельности Гёрделера, ограничивается лишь одним упоминанием в тексте и двумя—в примечаниях, говоря о таких столь значительных событиях. За этим явно скрывается его желание не проливать света на подлинную роль этого широкого буржуазно-помещичьего объединения, чтобы тем самым не скомпрометировать «нравственные» мотивы деятельности гёрделеровской «оппозиции», раскрывая ее связи со столь известными военными преступниками. Однако мы не ошибемся, допустив, что «Кружок Ройша» был одним из тех дискуссионных объединений, в которых изыскивались выходы и обсуждались средства избежания смертельной опасности, угрожавшей немецкому империализму вследствие поражения гитлеровского режима. И одним из таких выходов, одним из таких средств для этих кругов, несомненно, являлась поддержка тех планов, которые разрабатывала «оппозиция», сгруппировавшаяся вокруг Гёрделера, Бека, Гасселя и Попитца, а также Кружок в Крейзау и парижская группа заговорщиков.
Участие в заговоре и политическую роль Ялмара Шахта различные западногерманские публицисты и историки по вполне понятным соображениям либо вовсе отрицают либо стараются всячески умалить5. Ведь уже одно имя профашиста Шахта компрометирует теорию «восстания совести» и разоблачает подлинные политические мотивы деятельности тех сил, которые привели к 20 июля. Однако Шахт не только состоял в «Кружке Ройша», но. будучи в курсе развития всей подготовки переворота, о которой его инфор-
1 Ritter, Gerhard, Op. cit., S. 413, 521, 545.
2 Sch a c h t, Hjalmar, 76 jahre meines Lebens, Bad Worishofen, 1953, S. 542.
3 SS-Bericht iiber den 20. Juli. Aus den Papieron des SS-Obersturmbannfuhrers Dr. Kiesel. «Nordwestdeutsche Hefte», Jg. 2, 1947, H. 2, S. 21.
4 Ritter, Gerhard, Op. cit., S. 413, 545.
6 Pechel, Rudolf, Op. cit., S. 229.
322
миро вали вице-консул в Цюрихе Гизевиус, капитан Штрюнк, генерал Линдеман, полковник Гронау, Попитц, граф Гельдорф и Ульрих фон Гас-сель, настойчиво требовал осуществления операции «Валькирия» и собирался снова занять влиятельное положение в новом правительстве1. Однако при этом осторожный Шахт умел очепь ловко оставаться в тени, не принимать на себя никаких опасных обязательств и предоставлять другим таскать для него каштаны из огня1 2.
После 20 июли многие из названных здесь руководящих деятелей экономики были арестованы. Но большинство из ни# были вскоре освобождены, поскольку список «оппозиционных» фюреров экономики, как свидетельствует об этом «отчет Киселя», был так велик и значение некоторых промышленников военной экономики было столь важно, что министр вооружения Шпеер воспротивился их аресту во избежание серьезных потерь в военной промышленности3.
Однако всеми приведенными выше примерами не исчерпываются связи «оппозиции» с монополистическим капиталом. Так, например, генерал пехоты Томас, который, будучи начальником управления мобилизации промышленности при главном командовании вермахта, примкнул к «оппозиции» уже на ранней стадии ее образования4 *, так же как и Карл Гёрделер, поддерживал тесные связи с Шталем—заместителем председателя имперской группы промышленности и генеральным директором Зальцдетсфур-тской группы и Мансфельдского акционерного общества и одновременно с рейнскими промышленниками, возглавлявшимися Гуго Стиннесом6.
В 1943 году Гёрделер даже согласовывал с бывшим имперским комиссаром Берлинской биржи банкиром Шниивиндом состав того правительства, которое должно было быть образовано в случае удачи путча®.
Структура и деятельность парижской группы заговора, а также разработка пресловутого «западного варианта» были в значительной степени плодами прямых усилий руководящих промышленников. К их числу принадлежал один из ведущих сотрудников концерна «Ферейнигте штальверке» подполковник Цезарь фон Гофакер. Напомним, что руководитель этого концерна Альберт Фёглер был членом «Кружка Ройша». С ним сотрудничали: влиятельный банкир Фалькенхаузен, племянник «короля Саара» Рехлинга Ганс Буверт и другие полномочные представители монополий. Совместно с Роммелем, Шпейделем, Штюльпнагелем и генералом Фалькенхау-зеном они подготовляли осуществление так называемого «западного варианта», то есть открытие фронта на Западе и продолжение войны на Востоке. Мы знаем, с какой надеждой все военные заговорщики, вплоть до Трескова и Штауфенбёрга, в первом полугодии 1944 года взирали на эту антинародную активность парижских участников заговора7.
1 Schacht, Hjalmar, Op. cit., S. 513—514; 530; Hassell, Ulrich, Vom
andern Deutschland, Atlantis-Verlag, Zurich und Freiburg in Br., 1947, S. 225,289; Gise-v.ius, Hans Bernd, Op. cit., S. 180 f. bis 181.
3 Совершенно справедливо отмечалось в заявлении советского представителя на Нюрнбергском процессе, сделанном по поводу оправдания Шахта: «Только в 1943 году Шахт, раньше, чем другие немцы, понявший неизбежность крушения гитлеровского режима, установил связи с оппозиционными кругами, не предприняв, однако, ничего, что бы содействовало свержению правительства. Поэтому отнюдь не случайно Гитлер, узнав об этих связях, все же пе дал приказа о его казни». Der ProzeB gegen die Haupt-kriegsverbrecher vor dem Internationalen Militargerichtshof in Nurnberg, Niirnberg, 14. Nov. 1945 bis 1 Okt. 1946 (Amtlicher Text in deutscher Sprache). (В дальнейшем упоминается как IMG), Nurnberg, 1947, Bd. I, S. 393.
3 «Кieselbericht», Op. cit., S. 31; Ritter, Gerhard, Op. cit., S. 413.
* G i se v i us, Hans Bernd, Op. cit., Bd. II, S. 98.
6 Ritter, Gerhard, Op. cit., S. 341; Reuter, Franz, Op. cit., S. 12; Schlabrendorf, Fabian, Op. cit., S. 83.
• Ibid., S. 601.
7 Krausnick, Helmut, Erwin Rommel und der deutsche Widerstand, «Vier-teljahrshefte fiir Zeitgeschichte», Jg. 1953, 1. Heft, S. 69; «Kieselbericht», op. cit., S. 16; Schramm, Wilhelm, Der 20. Juli in Paris, Bad Worishofen, 1953, S. 15 ff.
323
21*
«Мы солидаризуемся с правомерностью деяний и идеями этих мужей, ибо все это можно выразить понятием «дух свободы». В таких словах Теодор Хейс призывал в 1954 году историков, теологов, юристов и бывших военных исследовать проблемы заговора «во всей их духовной глубине»1. Когда доктор Вильгельм фон Шрамм после подробного изучения деятельности парижской группы «оппозиции» исследовал во всей «духовной глубине» господствовавший в ней «дух свободы», он писал, огорченно укоряя судьбу: «Итак, немцам не было представлено ни одного шанса направить войска, высвобождавшиеся при эвакуации Запада, против врага христианского мира и цивилизованных наций»1 2. Выполнение всех этих планов, основанных на «дальновидных международно-политических соображениях3» Гофакера, Штюльпнагеля и Шпейделя, было сорвано прежде всего победоносным наступлением советских войск и освободительной антифашистской борьбой народов.
Однако неужели корни такой политики следует искать «в нравственной и религиозной сфере», как пытается уверить Г. Ротфельс? Неужели и впрямь заговорщики руководствовались мотивами, коренящимися «в вечных принципах»? Можно ли все охарактеризованные выше факты совместить с понятиями «восстановления человеческого достоинства», к которому якобы стремилась штатская и военная фронда, как заявил, столь часто цитируемый с тех пор граф Мольтке и как уверяют западногерманские историки.
Нет. Целями «оппозиции» были цели одной из фракций немецкого монополистического капитала, выступавшей в союзе с юнкерством, военной фрондой и консервативными политиками из среды высшей бюрократии. Однако для маскировки своей подлинной сущности, для более успешного осуществления своей политики все они старались объединиться также и с подлинными антифашистами иэ буржуазного и социал-демократического лагеря.
Не по идеалистическим мотивам, но исходя прежде всего из реальных классовых интересов немецкого империализма и милитаризма возник заговор 20 июля 1944 года.
Рассмотрим в заключение отдельные сохранившиеся списки кандидатов министров, а также лиц, предназначенных для занятия руководящих государственных постов. Уже в этих списках обнаруживается, как органически срасталось предполагаемое новое правительство с магнатами промышленности и юнкерами, с их непосредственными доверенными агентами. Вот, например, имена из числа самых первых: Лезер, Лежен-Юнг, Шниивинд, Гермес, фон Гайль, Блессинг, Шланге-Шёнинген, Шверин-Крозиг и другие—уже только они убедительно свидетельствуют о том подавляющем влиянии, которое оказывали на заговор руководители крупной промышленности4.
Такого рода исследование неизбежно показывает, насколько ошибочна тенденция односторонне ограничивать изучение истории заговора только характеристикой роли отдельных руководящих политических и военных представителей. Грубой фальсификацией является, когда заговор 20 июля 1944 года объявляют «немецким сопротивлением» и тут же иронически отзываются о подлинном героическом антифашистском Сопротивлении, которым руководили коммунисты, искажают или вовсе замалчивают его. В действительности же именно э-то Сопротивление, которое осуществлялось с величайшими жертвами и до и после 1933 года, спасало честь немецкого рабочего класса и немецкой нации во мраке страшной ночи фашистского ада. И потому исследование именно этого Сопротивления должно по праву нахо-
1 HeuB, Th., 20. Juli 1944, «Staatsbiirgerliche Informationen», Sonderbeilage Nr. 1, Hsg. Bundeszentrale fur Heimatdienst, Bonn, S. 4.
’ Schramm, W i I he I in, Warum die Westlosung nicht v^rwicklicht wurde. 20. Juli in Paris, S. 79.
3 R о thfels, Hana, Op. cit., S. 331.
4 Ср. данные о составе проектируемых правительств: R i’L t е г, Gerhard, Op. cit., 601—603; W h e e 1 e r-B ennet, John W., Die Nemesis d. Macht, DQsseldorf, 1954, S. 622; Weisenborn G., Der lautlose Aufstand, Hamburg, 1954, S. 142; Dulles, Allan, Op. cit., S. 230—231.
324
диться в центре внимания всех прогрессивных историков, изучающих этот период истории Германии.
Боннский профессор Макс Браубах в своей речи, произнесенной три года тому назад, заявил, что, дескать, является еще спорным «не действовали ли за кулисами [заговора.—В. Э.] главным образом буржуазные силы, стремившиеся к реставрации .военно-чиновничьего государства старого типа»1. Однако этот якобы спорный вопрос совершенно недвусмысленно решается не толь#о после анализа внутриполитических и внешнеполитических планов заговора, но и на основе характеристики движущих сил «оппозиции», определявших ее характер.
1 «Das Parlament», 8.12.1954.
Г. Н. Горощкова
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАГОВОРА 20 ИЮЛЯ 1944 ГОДА В ОСВЕЩЕНИИ ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
В истории Германии периода второй мировой войны трудно назвать еще какое-либо событие, которому было бы уделено столько внимания западногерманской историографией, как это имеет место в отношении заговора 20 июля 1944 года. Обширные тома исторических исследований, не менее объемистая мемуарная’ литература, брошюры и памфлеты, журнальные и газетные статьи и, что особенно важно, документация—все это, собранное вместе, могло бы без преувеличения составить довольно большую библиотеку.
Интерес к этому бесспорно значительному событию имеет не только исторический характер. И не одно лишь желание внести вклад в разработку этой проблемы руководит западногерманскими историками, авторами мемуаров, публицистами, посвящающими свои работы заговору 20 июля. И даже не своего рода сенсационность, окутывающая всякого рода заговоры, а тем более политические, привлекает их. Этот интерес определяется поразительным созвучием планов заговора, и прежде всего их внешнеполитических аспектов, с тем, что происходит на современной политической арене Феде ративной Республики Германии. Характерно, что и ряд основных действующих лиц остается одним и тем же. Более того, из фигур, бывших в свое время отчасти за кулисами, как и надлежало заговорщикам, они переходят на авансцену, все активнее включаясь в непосредственный ход событий.
Историки Германской Демократической Республики и частично советские историки уже дали оценку политической сущности заговора 20 июля 1944 года, в том числе и его внешнеполитических планов1. Указывая на несомненное мужество и готовность к самопожертвованию некоторых заго-
1 В. Ульбрихт, К истории новейшего времени, Издательство иностранной литературы, М., 1957.
S I е г n, Leo, Deutschlands jungste Geschichte in Spiegel der burgerlichen und rnarcistischen Geschichtsschreibung, «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», H. 4, 1955.
Stern, Leo Proffessor Ritter—ein Barde des deutschen Imperialismus. «Neues Deutschland», 18.VI.1955.
Norden, Albert, Die Wahrheit uber den 20. Juli, «Tagliche Rundschau», 20.VII.1949
Ackermann, Anton, Legende und Wahrheit uber den 20. Juli 1944, «Einheit», H. 12, 1947.
Schmidt R., Die entlarvlern «Helden», «Tagliche Rundschau», 13. VIII, 1948.
Pless e, Werner, Zum antifaschistischen Widerstandskampf in Mitteldeulschland (1939 bis 1945), «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», H. 6, 1954.
Rudolph, Rolf und Gerhard, Sieger t, Gerhard Ritter, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, Ibid., H. 1, 1956.
Из работ советских авторов следует указать:
И. М. М а й с к и й, К возрождению германского милитаризм*, «Вопросы истории»,
Д. М е л ь и и к о в, Перед концом, «Международная жизнь», № 5, 1955.
Г. М. Беспалов, Возрождение германского милитаризма—угроза миру, М., 1953.
Е. Бродский. Заговор 20 июля и социально-политический характер гёрделе-ровской оппозиции, Диссертация, М., 1949.
326
ворщиков, эта оценка исходя из объективных критериев марксистской исторической науки раскрывает подлинные империалистические устремления участников заговора.
В справедливом определении характера заговора 20 июля, данном Вальтером Ульбрихтом в его работе «К истории новейшего времени», говорится: «Буржуазные круги привели Гитлера к власти и поддерживали политику германо-фашистского империализма до тех пор, пока ему сопутствовали военные успехи. Н(^ теперь, накануне катастрофы, они попытались спрыгнуть с поезда, мчащегося к пропасти, в надежде сохранить основы господства монополистического капитала»1.
Спасение германского империализма участники заговора 20 июля 1944 года видели прежде всего в соглашении с реакционными кругами США и Англии, что высвободило бы германские войска на Западе, и в продолжении всеми силами войны на Востоке, против Советского Союза, причем Германии отводилась роль «защитного буфера». Такую же роль заговорщики отводили Германии и в послевоенном устройстве мира, где она, по их замыслам, заняла бы решающее место в объединенной под ее гегемонией Европе. Нетрудно заметить, как сходна эта концепция с навязчивыми утверждениями гитлеровской пропаганды.
Эту несложную и неновую концепцию разделяли не все участники заговора, а их большинство, возглавляемое Карлом Гёрделером. В общем числе заговорщиков это большинство было подавляющим, и именно оно определяло политическое лицо заговора. Поэтому не случайно, что западногерманская историография основное внимание уделяет освещению взглядов этого большинства, пытаясь зачастую выдать его взгляды за мнение всех участников заговора. В бесчисленном множестве страниц западногерманской историографии заговора 20 июля, за бесконечным ворохом деталей, наслоений, а порой и фальсификации при внимательном рассмотрении всегда можно обнаружить основные черты и целевую направленность внешнеполитических планов большинства участников заговора.
Характерно, что западногерманские исследователи и авторы мемуаров и не пытаются скрыть существо планов большинства заговорщиков. Наоборот, общая тенденция сводится к тому, чтобы подчеркнуть близость этих планов к современности, их известную актуальность, если брать это понятие с точки зрения классовых устремлений буржуазии.
Наряду с этим западногерманская историография пытается всячески замолчать или упомянуть мимоходом внешнеполитические планы левого крыла участников заговора, группировавшихся вокруг полковника Штауф-фенберга. И лишь в отдельных исследованиях и мемуарах, буквально по крупицам, мы сможем найти освещение этих взглядов. Причины такого отношения определяются, несомненно, характером взглядов левого крыла.
В кратком сообщении не представляется возможным проанализировать все обилие источников и литературы по исследуемой проблеме, а также весь комплекс связанных с ней вопросов. Поэтому автор ограничивает свою задачу рассмотрением наиболее важных внешнеполитических аспектов заговора, а именно: вопрос о продолжении войны; позиция в отношении основных держав антигитлеровской коалиции; территориальные притязания и послевоенное устройство мира. При этом разграничении необходимо иметь в виду, что все указанные аспекты тесно связаны между собой и взаимно обусловливаются.
Исследование названных проблем определило и выбор источников. Автор не считает необходимым ссылаться на все изученные им источники и литературу, а лишь—на основные, наиболее рельефно подтверждающие выводы, к которым пришел автор в процессе работы. В то же время автор ограничивает и характер исследуемого материала, используя здесь лишь
В. Ульбрихт, Названное сочинение, стр. 37.
327
три основных канала западногерманской историографии: документы1, мемуарную литературу и монографические исследования.
* * *
Решающее значение в формировании внешнеполитических планов, как и во всей подготовке заговора 20 июля, сыграла катастрофа немецких войск под Сталинградом. Это признают почти все западногерманские историки.
Не случайно один из ведущих западногерманских историков Герхард Риттер в своем широко аргументированном труде «Карл Гёрделер и немецкое движение Сопротивления»1 2 два первых раздела центральной главы наз-звал: «До Сталинграда» и «После Сталинграда».
О влиянии исхода Сталинградской битвы на усиление движения Сопротивления и активизацию различных групп, участвовавших в заговоре 20 июля, свидетельствуют историк германского генерального штаба Вальтер Гёрлиц3, генерал в отставке Курт Типпельскирх4, известный буржуазный историк Фридрих Мейнеке5 6, участник заговора Ганс Бернд Гизевиус® и многие другие авторы.
Как указывает Гёрлиц, после поражения под Сталинградом среди оппозиционно настроенных офицеров начались поиски создания такого правительства, которое было бы в состоянии начать переговоры с союзниками и добиться «конструктивного мира не только для Германии, но и для всего европейского континента». И в этой связи Гёрлиц справедливо упоминает полковника Штауффенберга в качестве ведущей фигуры оппозиции среди военных7. Известно, что возглавляемое Штауффенбергом левое меньшинство участников заговора выступало за прекращение войны на всех фронтах8. И хотя позиция меньшинства по этому вопросу, как и по ряду
1 Характерно, что в первые месяцы после окончания войны публикация документов заговора 20 июля была начата на немецком языке в США, а затем уже в Западной Германии. См., например, «GoerdelerspolitischesTestament», Dokumente des anderen Deutschland, N. Y., 1945.
2 Ritter, Gerhard, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, Stuttgart, 1955.
Работа Герхарда Риттера содержит наиболее многочисленный фактический материал о внешнеполитических планах заговора 20 июля. В качестве приложения в книгу включены двенадцать впервые публикуемых документов, имеющих исключительное значение для изучения политического характера заговора.
s Gorlitz, Walter, Der Deutsche Generalstab, Frankfurt am Main, 1950, S, 611. Gerlitz, Waller, Der zweite Weltkrieg 1939—1945, Stuttgart, 1952, S. 303.
4 К. Типпельскирх, История второй мировой войны, Издательство иностранной
литературы, М., 1956, стр. 411.
6 Meinecke, Friedrich, Die deutsche Katastrophe, Wiesbaden, 1947, S. 146. (О книге Фридриха Мейнеке «Германская катастрофа» см. А. С. Ерусалимский, О некоторых попытках реабилитации германского империализма, «Вопросы истории», 1953, №8, стр. 106—107.)
’Gisevius, Hans Bernd, Bis zum bitteren Ende, Bd. II, Hamburg, 1947, S. 224.
Г. Гизевиус осуществлял связь заговорщиков с руководителем американской разведки в Европе Алленом Даллесом.
7 Gorlitz, Walter, Der deutsche Generalstab, S. 611.
Гёрлиц даже указывает, что Штауффенберг был «подлинным революционером, убежденным в необходимости установления демократической республики, проведении свободных выборов, восстановлении профсоюзов». (Ibid., S. 621.)
8 Из числа видных участников заговора взгляды Штауффенберга разделяли также генерал-полковник Хаммерштейн, Адам Тротт цу Зольц и бывший посол в Советском Союзе Шуленбург. Они были готовы вести переговоры с Советским Союзом, а также сотрудничать с коммунистами. Штауффенберг и Адам Тротт устанавливали связи с активными силами Сопротивления из числа рабочего класса. (В. Ульбрихт, Названное сочинение, стр. 43.) См. также Gisffvius, Hans Bernd, Bis zum bittern Ende, Bd. II, S. 240-241.)
Адам Тротт принадлежал к Крайзаузровскому кружку и являлся, по существу, его внешнеполитическим советником (Крайзауэр—имение, принадлежавшее руководителю кружка графу Гельмуту Джеймсу фон Мольтке; здесь обычно происходили дискуссии членов кружка). Программа кружка в основном была составлена в духе утопических христианских представлений. Но в кружке не было полного единства: часть его членов по
328
других вопросов, не была достаточно четко сформулированной и до конца последовательной, тем не менее она отличалась от позиции большинства участников заговора.
Требование немедленного мира—это единственно правильное для всякого немецкого патриота решение—не разделяло правое большинство во главе с д-ром Карлом Гёрделером1.
Напрасно отдельные исследователи * 1 2 и авторы мемуаров3 пытаются представить всех учавников заговора в качестве поборников немедленного прекращения войны и заключения мира. Большинство историков и участников событий 20 июля, а также (и это является решающим) документы свидетельствуют, что этот вопрос обстоял гораздо сложнее.
Позиция Гёрделера и его единомышленников по вопросу немедленного прекращения войны ясно определена в опубликованных документах. В проекте Воззвания к немецкому народу4 *, которое намеревались предать гласности в случае успеха заговора, говорилось: «Наша первая задача состоит в том, чтобы покончить с варварскими методами ведения войны, прекратить убийства людей и уничтожение культурных и экономических ценностей за линией фронта. Мы все знаем, что мы не властны над войной и миром»6. Отсюда видно, что руководящая верхушка заговора и его большинство отнюдь не намеревались прекратить затянувшуюся кровопролитную войну, невзирая даже на огромные потери немецкой армии.
В то же время вопрос о перемирии и заключении мира, согласно почти единодушному признанию всей западногерманской историографии, имел
своим убеждениям примыкала кШтауффенбергу. В кружок входила также группа социал-демократов, среди которых были сторонники левых взглядов. Среди последних следует упомянуть профессора Рейхвайна (Ritter, Gerhard, Carl Goerdeler und die deulsche Widerstandsbewegung, S. 335; Steltzer, Theodor, Von deutscher Politik, Dokumente, Aufsatze und Vortrage, Frankfurt am Main 1949). В приложении к книге Теодора Штельт-цера впервые были опубликованы документы Крайзауэровского кружка. Сам Штельтцер являлся членом кружка; после войны он стал премьер-министром земли Шлезвиг-Гольштейн в английской зоне оккупации. См. также Moltke, HelmuthJames, Letzte Briefe aus dem Gefangnis Tegel, Berlin, 1951.
1 В возглавляемое Гёрделером консервативное большинство входили генерал -фельдмаршалы фон Вицлебен, Роммель, генералы Шпейдель, Штюльпнагель, Остер, Ольбрихт, адмирал Канарис, дипломат фон Гассель, бывший министр финансов Пруссии Попитц и другие. По ряду вопросов с ними солидаризировались социал-демократы Лейтнер, Мирендорф, Лебер. Это правое большинство играло определяющую роль не только в разработке внешнеполитических и внутриполитических планов заговора, но и в политической ориентации участников, а также установлении связей. На Штауффенберга была возложена вся организационная подготовка и фактическое выполнение самого акта покушения на Гитлера, а также быстрое осуществление всех необходимых вслед за тем мероприятий. Между правым большинством и сторонниками взглядов Штауффенберга существовали серьезные разногласия по коренным политическим вопросам. Отсутствие единства характерно и для участвовавших в заговоре социал-демократов. Наряду с указанными выше видными функционерами к заговорщикам примыкали рядовые социал-демократы, рассматривавшие заговор как форму борьбы за свержение ненавистного гитлеровского режима.
2 См., например, Dreecken, Wilhelm, Deutsche Selbstbesinnung, Am ersten Jahrestag des 20. Juli. Jahr 1945, S. 4. Вильгельм Дреекен с большим восторгом отзывается о «героях 20 июля», которые хотели «спасти Германию».
* Schlabrendorf'l, Fabian, Offiziere gegen Hitler, Zurich, 1946, S. 30. Фабиан фон Шлабрендорф с начала 1941 года был связным офицером при видном участнике заговора генерале фон Трескове, выполняя функции по связи между военной оппозицией против Гитлера, находившейся на Восточном фронте, и руководством заговора (Ibid., S. 51, 58).
Muller, Wolfgang, Gegen eine neue DolchstoBluge. Ein Erlebnisbericht zum 20 juli 1944, Hannover, 1947, S. 42. Полковник Вольфганг Мюллер в качестве начальника одного из пехотных управлений верховного командования войск принимал участие в заговоре.
4 «Aufruf an das Deutsche Volk», Dokumente zum 20. Juli. «Воззвание к немецкому народу» опубликовано вместе с тремя другими документами («Воззвание к армии», «Правительственное заявление по радио» и («Заявление для прессы») в качестве приложения к книге участника заговора, публициста Рудольфа Пехеля (Р е с h е 1, R u d о 1 f,.
Deutscher Widerstand, Erlenbach Ziirich, 1948, S. 304—325).
6 Pechel, Rudolf, Op. cit., S. 306.
329
для большинства участников заговора две стороны: западную и восточную. Это большинство стремилось закончить войну на Западном фронте, с тем чтобы, перебросив высвободившиеся войска, продолжать' ее на Востоке, против Советского Союза.
По свидетельству одного из участников заговора, Франца Рейтера, если ^планировалось одновременно закончить войну на Востоке, то «только таким образом, чтобы ни в коем случае не потерять при этом симпатии западных держав и возможности с ними договориться»1. Большинство же исследователей и авторов мемуаров1 2, по существу, отрицают наличие каких-либо стремлений у возглавляемого Гёрделером большинства заговорщиков окончить войну против Советского Союза.
Западногерманская историография большое место уделяет так называемому «плану Роммеля»3. Генерал-фельдмаршал Роммель в то время командовал одной из основных западных групп войск и принимал активное участие в подготовке заговора. Соавтором этого плана является не кто иной, как Ганс Шпейдель, о чем он хвастливо упоминает в своих мемуарах4 *. О подробностях, на которых стоит остановиться, пишет бывший главный военный репортер, прикомандированный к армейским группам Роммеля и Рунд-штедта, Вильгельм фон Шрамм в книге «20 июля в Париже»6. Согласно плану Роммеля—Шпейделя, известного также под названием «плана генеральского мира», предполагалось, что специально выделенная без участия Гитлера группа немецких генералов заключит перемирие на Западном фронте непосредственно с Эйзенхауэром и Монтгомери. Все оккупированные на Западе территории будут переданы под управление США и Англии, а немецкие войска отведены за линию «западного вала»9. План Роммеля — Шпейделя являлся важной составной частью общего плана спасения германского империализма.
Следует отметить, что заговорщики не стремились к быстрому освобождению других оккупированных территорий. В проекте правительственной речи Гёрделера как предполагаемого канцлера указывалось, что эти области будут эвакуированы лишь в зависимости «от необходимости сохранения порядка и безопасности»7 *.
Таковы были планы заговора 20 июля по основному жизненно важному в тот период для немецкой нации вопросу о немедленном прекращении войны. Следует отметить, что изложенное выше толкование является господ
1 Reuter, Franz, Der 20. Juli und seine Vorgeschichte, Berlin, 1946, S. 28. О себе Франц Рейтер говорит, что его убеждения формировались под влиянием западногерманских либералов. Во время войны он служил в штабе генерала Томаса, начальника экономического отдела верховного командования вермахта и видного участника заговора. По заявлению Рейтера, в его задачи входило осуществление связи между Томасом, с одной стороны, и Гёрделером и другими участниками заговора из числа гражданских лиц— с другой. Отсюда, как указывает Рейтер, связь между ним и Гёрделером была «самой тесной*. (Ibid., S. 11—12.)
2 Типичным является высказывание упоминаемого выше генерала Типпельскирха, который писал, что надеялись «путем отвода немецких войск из занятых ими областей на Западе склонить союзные державы к прекращению боевых действий на Западном фронте и воздушных налетов на Германию и благодаря этому окажется возможным удерживать Восточный фронт по ту сторону имперской грапицы» (К. Типпел ьскирх, История второй мировой войны, стр. 413).
s Подробности см. Gerlitz, Walter, Der deutsche Generalstab, S. 644. Hassell, Johann Dietrich, Verrater? Patrioten! Der 20. Juli 1944, Koln, 1946, S. 28. Дитрих Гассель—сын одного из видных участников заговора Ульриха Гасселя.
4 Speidel, Hans, Invasion 1944, Ein Beitrag zu Rommels und des Reiches Schicksal, Tubingen und Stuttgart, 1949<Ганс Шпейдель, бывший начальник штаба армии Роммеля,
является в настоящее время командующим войсками НАТО в «Центральной Европе.
6 Schramm, Wilhelm, Der 20. Juli in Paris, Bad Worishofen, 1953.
"Speidel, Hans, Invasion 1944, S. 91 ff. S h r a m m, Wilhelm, Op. cit., S. 54—56.
7 «Das Regierungsprogramm vom 20. Juli 1944». Carl Goerdelers Geplante Rundfun-
krede nach Ubernahme der offentlichen Gewalt (Aus dem Nachla3 herausgegeben von
Prof. Dr. Gerhard Ritter, Freiburg). «Die Gegenwart», Nr. 12/13,1946, S. 13.
330
ствующим в западногерманской историографии. Да и возможно ли перед лицом документов и фактов трактовать это иначе, не прибегая к трудно маскируемой фальсификации?
* * *
Вопрос об отношении участников заговора 20 июля к основным державам антигитлеровски коалиции находится в неразрывной связи с рассмотренным выше вопросом о продолжении войны, предопределяя его постановку, и занимает, пожалуй, наибольшее место в западногерманской историографии. Характерно, что чем сильнее раздувается «холодная война» со всеми ее атрибутами, тем ярче проявляется тенденция к возвеличению самых пылких чувств участников заговора к Англии и США и тем больше подчеркивается его антисоветская направленность.
По мере публикации новых книг о заговоре все полнее раскрываются связи заговорщиков с англо-американскими империалистическими силами. Оставшиеся в живых участники заговора, наперебой рекламирующие личные заслуги, особенно приукрашивают эту сторону своей деятельности1.
Наиболее тесные связи с английскими правящими кругами осуществляли бывший германский посол в Риме Ульрих Гассель1 2, сам Гёрделер3, а также руководитель германской разведки адмирал Канарис4 *. Связь с США шла главным образом через американскую разведывательную службу в Европе при посредстве специальных связных6 * * 9.
Возглавляемое Гёрделером большинство участников заговора строило свои расчеты на том, что им удастся внести раскол в антигитлеровскую коалицию, ослабив тем самым ее наступательную силу. Они надеялись, что в случае раскола коалиции они смогут связать дальнейшую судьбу Германии с англосаксонскими странами. Укрепление сотрудничества между основными державами коалиции® рассматривалось заговорщиками как
1 Как, например, военный преступник Ялмар Шахт, который хвастливо писал, что в случае успеха заговора он видел свою задачу в налаживании взаимопонимания с западными державами, используя при этом свои внешнеполитические связи. (Schacht, Н j а 1 m а г, 76 Jahre meines Lebens, Bad Worischofen, 1953, S. 532; Schacht, Hjal-m a r, Abrechnung mit Hitler, Hamburg, Stuttgart, 1948.)
О книге Шахта «Расчет с Гитлером» см. указанную выше статью А. С. Ерусалимского.
2 По свидетельству В. Герлица, первые попытки Ульриха Гасселя установить контакт с английским правительством относятся к зиме 1939/40 года (Gorlitz, Walter, Der zweite Weltkrieg, S. 308). В то же время Дитрих Гассель утверждает, что его отец много трудился нгд установлением контакта с английским послом в Берлине Гендерсоном, чтобы помешать развязыванию войны. (Hassell, Johann Dietrich, Verrater? Patrioten! Der 20. Juli 1944, S. 16.)
3 Связи Гёрделера были наиболее широкими и осуществлялись им как во время его многочисленных заграничных поездок, так и через приезжающих в Германию деятелей союзных с ней и нейтральных стран, как, например, известные переговоры Гёрделера с шведским банкиром Валленбергом в августе 1943 года. (Ritter, Gerhard, Carl Goerdeler und die deulsche Widerstandsbewegung, S. 327—334; Gorlitz, Walter, Der Zweite Weltkrieg, S. 309; Gorlitz, Walter, Der deutsche Generalstab, S. 654; Schacht, Hjalmar, Abrechnung mit Hitler, S. 21; H. B. G i s e v i u s, Hans Bernd, Op. cit., S. 202.
4 A bshage n, Karl Heinz, Canaris. Patriot und Weltburger, Stuttgart, 1950.
Автор многих известных книг Карл Гейнц Абсхаген в своей работе «Канарис—патриот н гражданин мира», явно фальсифицируя действительность, о чем говорит даже само название работы, возвеличивает Канариса, ухитрившегося одновременно служить разведкам нескольких стран.
6 Руководитель этой службы Аллен Даллес регулярно получал информацию от заговорщиков через Гизевиуса и Ветьена (Gisevius, Hans Bernd, Op. cit., S. 237). Рассматривая вопрос о связях заговорщиков с правящими кругами Англии и США, следует отметить, что отдельные члены Крайзауэровского кружка пытались также самостоятельно установить подобные связи. Как сообщает Т. Штельтцер, руководитель
кружка граф Гельмут Джеймс фон Мольтке пытался с помощью шведов передать развед-
кам западных стран письмо, информирующее о положении в Германии. Судьба этого письма Штельтцеру неизвестна (Steltzer, Theodor, Von Deutscher Polilik, S. 80).
9 О сотрудничестве СССР, США и Англии во время войны см. опубликованные недавно в Советском Союзе документы: «Переписка Председателя Совета Министров
331
не менее тяжелое бедствие, чем прямые удары но гитлеровской военной машине.
Под прикрытием рассуждений о мнимой «большевистской опасности», Гёрделер и его сообщники стремились прежде всего раздуть противоречия между Англией и Советским Союзом1. Об этих коварных замыслах наиболее наглядно свидетельствуют документы.
Опубликованный Риттером «План послевоенного устройства мира», составленный Гёрделером в конце 1943 года и предназначенный для английского читателя* 1 2, исходил из такой исторически абсурдной предпосылки, что между Англией и Германией существует «естественная общность интересов», в то время как между Англией и Россией «якобы всегда должны быть противоречия»3. В этом плане па все лады расписывалась судьба Англии в случае поражения Германии (читай: германского империализма). По мнению Гёрделера, поражение Германии «усилило бы Советский Союз» и создало бы «огромную опасность для Англии»4 *. Исходя из классовых империалистических интересов, Гёрделер полагал, что только «сильная Германия» может «оградить Европу» и обеспечить в ней интересы Англии и США, которые при этом условии не только сохранят свои позиции, но и освободят свои силы для Восточной Азии6. Последнее обстоятельство, бесспорно, имело немаловажное значение в планах заговорщиков, которые, как бы указывая путь для дальнейшей экспансии Англии и США, продолжали цепляться за планы Гитлера, направленные на установление гегемонии Германии в Европе®. Гёрделер доказывал, что создание нового правительства в Германии вытекает из «собственных интересов» США и Англии7, поскольку лишь с таким правительством возможно установление взаимопонимания, в чем руководящая верхушка заговора особенно рассчитывала на английские правящие круги8 9. Нетрудно видеть, что подобные планы были направлены против интересов европейских и азиатских народов. Политика неприкрытого империалистического дележа ясно проглядывала в каждой строке, написанной Гёрделером.
Страх перед ростом народных прогрессивных сил в Европе и внутри самой Германии определял отношение большинства участников заговора к стране социализма—Советскому Союза. Все документы заговорщиков, в особенности «Тайный меморандум Гёрделера», адресованный германским генералам®, обнаруживают этот страх во всем его неприкрытом милитаристском обличьи. Этот страх с особой силой звучит также в мемуарах Ульриха Гасселя10, совершавшего беспрерывно поездки в нейтральные страны с целью сколачивания антисоветского блока.
Западногерманская историография особенно подчеркивает антисовет
СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великов Отечественной войны 1941—1945 гг.», т. I—II, Госполитиздат, М., 1957; см. также В. Хвостов, Документы о сотрудничестве Советского Союза с США и Англией («Правда», 14 сентября 1957 года.)
1 Это стремление подчеркнул даже Гитлер в своей речи генералам после разгрома заговора (Schramm, Wilhelm, Op. cit., S. 385).
2 «Friedensplan Goerdelers, Vermutlich liir britische Leser bestimmt. Wahrscheinlich vom Spatsommer oder Herbst 1943», Anhang VI zu Gerhard Ritter, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, S. 570—576.
» Ibid., S. 570.
4 Ibid., S. 573.
6 Ibid., S. 573—574.
8 Таким путем, как справедливо указывает В. Ульбрихт, они рассчитывали политическими средствами добиться того, чего нельзя уже было достигнуть чисто военными средствами (см. В. Ульбрияг, Названное сочинение).
’Ritter, Gerhard, Op. cit., S. 396. •
• A bshagen, Heinz Karl, Canaris, S. 259.
9 «Geheime Denkschrift Goerdelers, fur die Generalitat bestimmt, uber die Notwen-digkeit eines Staatsstreichs, 26 Marz 1943», Anhang VII zu Gerhard Ritter «Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung», S. 577—595.
10 Hassell, Ulrich, Vom anderen Deutschland. Aus den Nachgelassenen Tage-biichern 1938—1944, Zurich, 1947, S. 132.
332
скую направленность внешнеполитических планов Гёрделера и его единомышленников1, их беззастенчивую спекуляцию теми же самыми «доводами» которыми как ранее, так и во времена заговора пользовался Гитлер. А наиболее страстный поклонник и комментатор писаний Гёрделера Герхард Риттер называет своего героя «пророком»1 2, обнаруживая тем самым и свое подлинное лицо, которое он подчас пытается спрятать под маской объективности.
Анализируя отношение левого крыла заговора к основным державам антигитлеровской коалиции, следует подчеркнуть, мто при всей своей непоследовательности оно не разделяло позицию большинства, как ни пытается это замолчать или упомянуть лишь мимоходом подавляющая масса западногерманских историков и авторов мемуаров.
Излагая внешнеполитические планы Крайзауэровского кружка, один из его членов Эмиль Хенк3 указывает на разработанные в результате дискуссий основные черты этих планов: политика мира, которая только и может спасти от хаоса; сотрудничество со всеми народами и отказ от политики силы; Россия есть и будет мощной европейской державой, отсюда Германия не должна блокироваться с западными державами против Востока или наоборот с Советским Союзом против западных держав; лишь Британская империя поможет обеспечить экономическое единство и преодолеть хозяйственную разруху Европы.
Следует иметь в виду, что указанную программу разделяли не все члены Крайзауэровского кружка, а только его лучшая патриотическая часть4 5. Но даже Г. Риттер признает, что отдельные члены кружка «выражали симпатии идее установления хорошего соседства с Россией (в духе исторических традиций), симпатии к социализму», а не к «западным капиталистическим державам».
Среди членов кружка были и такие люди, как, например, социал-демократ Рейхвейн, который, как указывает Риттер, «видел в России великую и мощную державу будущего, против которой и без которой невозможна больше европейская политика»6. Несомненно, что эти люди выражали оценку патриотической части участников заговора 20 июля в отношении Советского Союза и его места в системе международных отношений. Указания Риттера свидетельствуют также о настроениях среди части членов социал-демократической партии накануне поражения гитлеровской Германии.
Нетрудно заметить, что в целом внешнеполитическая программа Крайзауэровского кружка являлась известным шагом вперед по сравнению с реакционными планами Гёрделера и его сообщников. Стремление к миру и сотрудничеству с другими народами, справедливая оценка роли Советского Союза в общеевропейской политике, отказ от сколачивания антисоветских блоков—все это имело прогрессивное значение. В то же время эта программа отличалась непоследовательностью и имела такие существенные недостатки, как преклонение перед экономическими возможностями Англии
1 По мнению Риттера, эту позицию разделяла и социал-демократическая часть участников заговора 20 июля, группировавшаяся вокруг Лебера. Как указывает Риттер, эти «старые социал-демократы» были «решительными противниками коммунизма; как я буржуазная оппозиция, они стремились к тесному сотрудничеству с Западом». (R i t-t е г, Gerhard, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, S. 377). Приведенное утверждение Риттера справедливо лишь в отношении реакционных деятелей социал-демократической партии. Размежевание среди социал-демократов, ясно обозначившееся к концу войны, несомненно, имело место и среди социал-демократической части участников заговора.
2 Ibid., S. 333.
8 Henk, Emil, Die Tragodie des 20. Juli 1944. Ein Beitrag zur politischen Vorgeschichte, Heidelberg, 1946, S. 29—30. Эмиль Хенк принадлежал к социал-демократической части Крайзауэровского кружка.
4 Г. Риттер в этой связи пишет: «Нельзя сказать, что как единое целое кружок склонялся к установлению взаимопонимания с Востоком вместо Запада» (Ritter, Gerhard, Op. cit., S. 334).
5 Ibid.
333
с ее империей, отказ по существу от дружественного сотрудничества с Советским Союзом и др.
Более определенно за сотрудничество с Советским Союзом выступал Штауффенберг. Как указывает Риттер, Штауффенберг стремился к «братству всех угнетенных Гитлером народов на основе взаимопонимания с русским соседом»1. За установление дружественного контакта с Советской страной высказывались также отдельные рядовые участники заговора»1 2.
Отношение к Советскому Союзу, с одной стороны, и к Англии и США — с другой, являлось не только основным пробным камнем для определения политической сущности планов различных участвовавших в заговоре 20 июля групп, но оно является таковым и для тех, кто пишет и выносит свое суждение об этом заговоре.
* * *
Большое место западногерманской историографией заговора 20 июля отводится планам послевоенного устройства мира.
При рассмотрении этого наиболее близко соприкасающегося с современностью вопроса следует прежде всего остановиться на тех территориальных притязаниях, которые выдвигались гёрделеровским большинством заговорщиков. Основная забота при этом сводилась к тому, чтобы не только сохранить территории, захваченные перед войной Гитлером, но и получить дополнительные куски.
Выдвигаемые требования Гёрделер и его единомышленники сформулировали в трех документах3, предназначенных для английского правительства. При сравнении этих документов бросается в глаза рост империалистических аппетитов участников заговора, на которых не повлияли даже военные поражения Германии.
В первом документе одним из основных условий, выдвигаемых, по существу, ультимативно, «вне всякого обсуждения», значилось непременное^ присоединение Австрии и Судетской области к Германии, а также установление германо-польской границы в рамках 1914 года4 *.
Более подробно территориальные вопросы устройства послевоенной Германии были разработаны в документах, составленных Гёрделером. В первом варианте здесь значились такие пункты, как подтверждение достигнутого перед войной присоединения Австрии, Судетской и Мемельской областей к Германии; восстановление германских границ 1914 года в отношении Бельгии, Франции и Польши; возвращение германских колоний или равноценных колониальных областей и пр.6 * 8 В дальнейшем появились требования о присоединении Южного Тироля, урегулировании границ с Данией и др.в
1 Ritter, Gerhard, Op. cit., S. 374—375. См. также P e c h e 1, Rudolf,. Op. cit., S. 182; Gisevius, Hans Bernd, Op. cit., S. 240 ff..
2 См., например, Reuter, Franz, Op. cit., S. 29.
s Первый документ—заявление, переданное 22 февраля 1940 года в Арозе (Швейцария) Ульрихом Гасселем посланцу Галифакса (Hassell, Ulrich, Op. cit., S. 132—
133). Второй документ—«План послевоенного устройства мира», 30 мая 1941 года («Friedensplan Goerdelers, Zur Obermittlung an die britische Regierung bestimmt, vom 30. Mai 1941»; Anhang Vzu Ritter Gerhard, Op. cit., S. 569). Третий, уже упомянутый выше документ был также составлен Гёрделером осенью 1943 года и предназначен для английского читателя («Friedensplan Goerdelers, vermutlich fur britische Leser bestimmt. Wahrscheinlich vom Spatsommer oder Herbst 1943». Anhang VIzuRitterGerhard, Cart
Goerdeler und die deutscheWiderstandsbewegung S. 570—576).
6 Hassell, U 1 r it h, Op. cit., S. 132—133. *
6 Friedensplan Goerdelers, zur Obermittlung an die britiscne Regierung bestimmt, vom 30. Mai 1941, Anhang Vzu Ritter Gerhard, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, S. 569.
8 Friedensplan Goerdelers, vermutlich fiir britische Leser bestimmt, Wahrscheinlich vom Spatsommer oder Herbst 1943. Anhang VI zu G e г h a r d Ritter, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, S. 570—571.
334
Планы большинства участников заговора о территориальном устройстве Германии исходили из указанной выше предпосылки создания «сильной Германии», которая могла бы стать гегемоном скроенной по их проектам Европы.
Никто из участников заговора 20 июля, естественно, не может претендовать на изобретение идеи «объединенной Европы», этого вечно старого и опять ставшего «новым» лозунга империалистов. Заговорщики лишь спроектировали, как лучше п^тспособить «объединенную Европу» к интересам германского империализма. Сформулированные в упояйшаемых выше «планах послевоенного устройства мира», составленных Гёрделером1, в проекте его программной правительственной речи1 2, в заявлении Гасселя3, в многочисленных исследованиях и мемуарах4 эти планы являются выражением наиболее агрессивных устремлений германского империализма.
Поскольку главным обоснованием была «идея» защиты «свободной Европы», входящей в ее состав в качестве руководящей силы «здоровой и жизнеспособной Германии»5 * *, все составные части плана соответственно подгонялись и мотивировались. В качестве одного из элементов плана прежде всего предусматривалось сохранение военной мощи Германии как «средства принуждения»8.
Стремясь после проигранной войны добиться перераспределения колоний, сырьевых и других ресурсов в пользу германского империализма, Гёрделер и его сообщники предлагали создание общеевропейского союза государств, в который вошли бы соответствующие объединения европейских стран по географическому принципу’. Помимо присоединения к Германии ряда стран и областей, предусматривалась перекройка карты всей Европы и в особенности восточной ее части8. В рамках общеевропейского союза предполагалось организовать единое общеевропейское министерство экономики, управление колониями, координацию в области культуры и, наконец, общую-полицию и единый общеевропейский вермахт9. За образец будущего союза предлагалось взять Британское содружество наций10.
Большинство западногерманских исследователей и авторов мемуаров, излагая с большим сочувствием планы послевоенного устройства мира.
1 «Friedensplan Goerdelers, zur Obermittlung an die britischc Regierung bestimmt, vom 30. Mai 1941». Anbang Vzu Ritter, Gerhard Carl Gocrdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, S. 569. «Friedensplan Goerdelers, vermutlich fiir britische Leser bestimmt. Wahrscheinlich vom Spiitsommer oder Herbst 1943». Anhang VI, Ibid., S. 570— 756.
«Geheime Denkschrift Goerdelers, fiir die Generalitat bestimmt, iiber die Notwendigkeit eines Staalsstreichs. 26. Marz 1943». Anbang VII, Ibid., S. 577—595.
2 «Das Regierungsprogramm vom 20.Juli 1944», Carl Goerdelers geplannte Rundfun-krede nach Ubernahme der offentlichen Gewalt. In: «Die Gegenwart», Nr. 12/13, 1946, S. 11—14.
"Hassell, Ulrich, Vom anderen Deutschland, S. 132—133.
* Pechel, Rudolf, Deulscher Widerstand, S. 214—221.
Carl Zuckmayer, Carlo Mierendorff. Portrat eines deutschen Sozialisten, Berlin, 1947, S. 29. Книга посвящена участнику заговора, видному социал-демократу Карло Мирендорфу A b е t z, Otto, Das offene Problem, Koln, 1951, S. 287. (Otto Абетц был германским послом в Париже в период заговора 20) июля. Westphal, Siegfreid, Heer in Fesseln. Aus den Papieren des Stabschef von Rommel, Kesselring una Rundstedt, Bonn, 1950, S. 42—44. (Зигфрид Вестфаль являлся начальником штаба армии Роммеля в Африке, Кессельринга—в Италии и Рундштедта—в последний период войны на Западном фронте). (Miille г, Johannes, Sturz in den Abgrund. Die letzten zehn Monate vom zO. Juli 1944 bis zum 8 Mai 1945, Offenbach, 1947, S. 13). Иоганес Мюллер—видный социал-демократический деятель-журналист.
"Hassel, Ulrich, Op. cit., S. 132—133; Ritter, Gerhard, Op. cit., S. 327—332.
• «Geheime Denkschrift Goerdelers... «Anbang VII, zu Ritter, Gerhard Carl Goerdeler..., S. 578.
’Pechel, Rudolf, Op. cit., S. 215.
"Ritter, Gerhard, Op. cit., S. 329.
"Pechel, Rudolf, Op. cit., S. 216.
10 R i t ier, G e r Ii a r d, Op. cit., S. 319.
335
составленные гёрделеровским большинством заговора 20 июля, солидаризируется с последними.
Но, к сожалению, западногерманская историография не уделяет такого же внимания планам послевоенного устройства, выдвигаемым другими участвовавшими в заговоре 20 июля группами.
Программа Крайзауэровского кружка по этому вопросу изложена Риттером1, Пехелем1 2, Штельтцером3, а также очень бегло руководителем кружка Мольтке4. Эта программа предстает перед нами в довольно туманной и расплывчатой форме. Программа включала создание европейской федерации на основе товарищеского союза, во главе которого будет стоять «европейский совет». В основу взаимоотношений между государствами предлагалось положить принципы христианства.
В нашем распоряжении имеется еще меньше материалов о планах Штауффенберга и его друзей о послевоенном устройстве Европы. Имеющиеся указания говорят о том, что планы эти, хотя и не были достаточно ясными и четко оформленными, шли дальше программы Крайзауэровского кружка и в то же время отличались от замыслов гёрделеровского большинства.
Даже Риттер, хотя и с известной иронией, признает, что группа Штауффенберга мечтала о «своего рода антифашистской мировой революции», в которой эти люди пойдут «рука об руку с коммунистами и с находящимися в Германии рабочими из оккупированных стран». Указывая также, что эта группа призывала к «братству всех угнетенных Гитлером народов на основе мирного взаимопонимания с русским соседом»5 6, Риттер пытается при этом иронизировать по поводу «фантазии» и «политического честолюбия» Штауффенберга.
* * * г
Основные тенденции западногерманской историографии в освещении планов заговора 20 июля достаточно ясны. Даже краткий анализ политической сущности этих планов убедительно показывает их классовую основу и вскрывает причины столь необузданного их воспевания. Становится также понятно, почему так расхваливаются планы, выдвинутые большинством участников заговора, а глава этого большинства Карл Гёрделер поднят почти иа высоту «национального героя».
Гёрделер и его единомышленники разработали планы, направленные на спасение германского империализма в период наиболее сильной его катастрофы—крушения гитлеровского режима. Эти планы были рассчитаны также на расширение и упрочение позиций германского империализма в будущем. И разве не ясно, что перекройка карты Европы в интересах германских монополий, участие последних в грабеже колоний и, наконец, установление гегемонии империалистической Германии в «объединенной» под ее эгидой Европе—все это продолжает оставаться предметом вожделений германского империализма и в наши дни.
Проекты, разработанные гёрделеровским большинством заговорщиков, не ограничивались рамками одной Германии. Эти проекты были направлены против коренных интересов европейских и азиатских народов, против коренных интересов народа собственной страны; их основное острие было направлено против страны социализма—Советского Союза. И пропаганда
1 Ritter, Gerhard, Op. cit., S. 335.
2 P e c h e 1, Rudolf, Op. cit., S. 117—123.
’ S tel t zer, Theodor, Von deulscher Politik, S. 79—80. См. также опубликованные T. Штельтцером в ^пложении документы: «Die Kreisauer Dokumente», S. 154— 169; в особенности Anlage II. Entwurf vom 9.8.1943. «Grundsiitze liir die Neuordnung», S. 156—162.
4 «А German of the resistance. The last letters of Count Helmuth James von Moltke»,
p. 28—29.
6 Ritter, Gerhard, Op. cit., S. 374—375. G isevi u J, Hans Bernd, Op. cit., S. 209—210.
336
этих империалистических антинародных планов—а именно это является основной задачей западногерманской историографии заговора 20 июля—представляет большую политическую опасность.
Эта опасность становится тем более серьезной, что существо взглядов и проектов участников заговора прикрывается многоречивыми рассуждениями, действующими на воображение и чувства. Пользуясь этим, западногерманская историография пытается заставить поверить в реальность1 внешнеполитических плансф заговора 20 июля, опрокинутых самой жизнью.
Совершенно ясна также тенденция западногерманской историографии к замалчиванию или упоминанию мимоходом планов левого крыла заговорщиков. При всей своей неоформленности и непоследовательности эти планы выражали стремления здоровых прогрессивных сил немецкого народа.
Задача историков-марксистов Германской Демократической Республики, Советского Союза и других стран—более основательно разработать эту актуальную тему и создать новые исторические труды, посвященные внешнеполитическим планам заговора 20 июля.
1 Характерным для подобных устремлений западногерманской историография является высказывание Риттера в заключении к его книге «Карл Гёрделер и немецкое движение Сопротивления». Риттер пишет: «Политические идеалы этого движения, наиболее кристальным и всеобъемлющим выразителем которых являлся Карл Гёрделер, с тех пор доказали, что это были здоровые идеалы с большой будущностью как для Германии, так и для Европы и для всего мира» (Ritter, Gerhard, Op. cit., S. 437).
32 Заняв № IZ2'J
Ганс Дресс
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПЛАНЫ ГЁРДЕЛЕРА В ЗЕРКАЛЕ ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Наиболее известные западногерманские историки и мемуаристы, прежде всего Герхард Риттер1, Ганс Ротфельс1 2, Рудольф Пехель3, Фабиан фон Шлаб-рендорф4 и американец Аллен Даллес5 *, в течение послевоенных лет более или менее старательно пытались изобразить планы конституции, составлявшиеся Гёрделером как «демократические». Более того, Герхард Риттер в своей известной книге «Карл Гёрделер и немецкое движение Сопротивления» заявляет с самым серьезным видом, что то государство, которое имел в виду создать Гёрделер, было бы «подлинно народным и даже можно сказать рабочим государством»8. Этот же тезис Риттер совсем недавно весьма энергично защищал в полемике против журналистки Маргерет Бовери7. Поскольку Риттер является в среде западногерманских историков тем человеком, который благодаря своим исследованиям архивов в США и своим личным связям с семьей Гёрделеров лучше других познакомился с конституционными планами Гёрделера, то, несомненно, стоит подробно рассмотреть, насколько обоснован этот его поразительный тезис.
Предпринимая такое исследование, я позволяю себе сослаться только на уже опубликованные материалы. Прошу также разрешить мне ограничиться в пределах этого сообщения попыткой опровергнуть упомянутый тезис Риттера лишь на основе данных о том, какое место отводил Гёрделер в своей системе конституции центральным государственным органам.
Считаю нужным отметить уже вначале, что планировавшийся Гёрделером общественный строй Германии, разумеется, не мог предназначаться пи для народного, ни для рабочего государства, а является типичным для империалистического государства8.
Из анализа основных проблем того общественного строя, который планировал Гёрделер, можно сделать следующие выводы:
1. Этот общественный строй должен был обеспечить осуществление основного экономического закона современного капитализма со всеми вытекающими из этого последствиями.
2. Частнокапиталистическая собственность с преобладанием монополистического капитала должна была составлять материальную основу для а) политической власти немецких монополистов и юнкеров, орудием которой должно было стать правительство Гёрделера, а также
1 Ritter, Gerhard, Goerdelers Verfassungsplane. In: «Nordwesldeutsche Hefte», Heft 9/19-46; derselbe, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, Stuttgart, 1955.
2 R о th f els, II a n s, Die deutsche Opposition gegen Hitler, Krefeld, 1949.
3 Pec li el, Rudolf, Deutscher Widerstand, Erlenbach—Ziirich, 1947.
•Schlabrendorfif Fabian, Offiziere gegen Hilter, Zurich—Wien— Konstanz, 1951. •
’Dulles, Allen, Welsh, Verschworung in Deutschland, Zurich, 1948.
‘Ritter, Gerhard, Qp. cit., S. 288.
7 Ritter, Gerhard, Wie leicht wird Zeitgeschichte zum Argernis. In: «Die Welt», Nr. 259, vom 3. 11. 1956.
“Ritter, Gerhard, Op. cit., Anhang I u. II, S. 553 ff.
338
б) политики этого правительства, которая первоначально должна была быть направлена на то, чтобы продолжать войну и тем самым помешать Советскому Союзу разгромить гитлеровский фашизм на немецкой территории, а затем—после устранения Гитлера—на то, чтобы держать в узде прогрессивные демократические силы (прежде всего рабочий класс).
Справедливость этой оценки я старался доказать в статье, которая публикуется в «Цейтшрифт фюр гетпихтсвиссеншафт»1.
I
Итак, когда предусматривают создание реакционного общественного строя, можно уже просто логически заключить, что на его основе должна возникнуть такая система государственных органов, которая способна обеспечить классовые интересы монополистов и юнкеров.
Все характерные признаки империалистического государства, проявляющиеся в построении системы государственных органов, в подчинении системы государственного аппарата монополиям, в бюрократическом централизме, в разрушении буржуазного парламентаризма и в оттеснении парламента за счет исполнительной власти на задний план, а также в фактическом уничтожении местного самоуправления, обнаруживаются и в созданных Гёрделером планах будущего государства монополистов и юнкеров.
В рамках этого сообщения невозможно, однако, дать исчерпывающее доказательство вышеуказанных основных положений для государственного устройства планировавшегося Гёрделером государства. Поэтому я должен ограничиться лишь разбором отдельных важных черт, которые должны были быть присущи правительству Гёрделера. Я делаю правительство предметом своего исследования, ибо именно ему, как я в том убежден, отведена роль главнрго звена в планировавшейся Гёрделером системе государственного устройства.
Это становится особенно очевидным после исследования тех методов и средств, которые намечено было применить, формируя правительство, а также при анализе состава этого правительства, его правовых отношений с другими государственными органами и его полномочий, предусмотренных планами Гёрделера1 2,
При этом вырисовывается следующая картина:
1. Министры, в том числе, вероятно, и рейхсканцлер, назначаются «генеральным наместником» (глава государства). При подборе членов правительства генеральный наместник вовсе не обязан привлекать только тех лиц, которые пользуются доверием имперских палат. Уже в этом положении заключено недвусмысленное отрицание буржуазно-демократического парламентаризма.
2. Из различных списков министров, которые Гёрделер начал составлять еще в 1943 году3, стало известно, кто именно предназначался им для того, чтобы править немецким народом взамен гитлеровской диктатуры. То были представители [военщины4, националистов5 6 * 8, политического (католицизма®
1 «Zeilschrift fiir Geschihtswissenschaft», 1957, Н. 6, S. 1134 ff.
2 Ritter, Gerhard, Op. cit., Anhang I, S. 557.
’Ritter, Gerhard, Op. cit., S. 601 if. u. W h e e 1 e r-B e n n e t t, John W., Die Nemesis der Macht, Diisseldorf, 1954, S. 644.
4 Генеральный наместник—генерал-полковник Людвиг Век; военный министр—
генерал пехоты Фридрих Ольбрихт; главнокомандующий вооруженными силами—генерал-фельдмаршал Эрвин фоп Витцлебен; командующий сухопутными войсками—генерал-полковник Эрих Хеппнер.
6 Рейхсканцлер—д-р Карл Гёрделер, министр экономики—Пауль Лежепе-Юпг,
министр финансов—Эвальд Лезер.
8 Вице-канцлер—Якоб Кайзер, министр юстиции—Йозеф Вирмер, министр культов—Эйген Больц, министр сельского хозяйства—Андреас Гермес, министр восстановления—Бернгард Леттергаус.
339
22*
и правых социал-демократов1—иными словами, в большинстве своем те доверенные лица монополистов и аграриев, которые еще не слишком явно скомпрометировали себя связями с нацизмом.
3. 13 тех правовых отношениях, которые предполагалось установить между правительством и другими центральными государственными органами—рейхстагом1 2, имперской палатой сословий3, главой государства4,— а также в характере предоставляемых им всем полномочий отчетливо выразилось стремление предоставить господствующее положение именно правительству. Это явствует из следующих фактов:
а. Правительство должно было издавать законы без согласия рейхстага. 'Гем самым предусмотренное Веймарской конституцией пресловутое право чрезвычайных декретов, с помощью которого была подготовлена гитлеровская диктатура, превращалось в постоянно действующий основной закон. Чтобы ослабить гнетущее впечатление, которое, несомненно, должен был произвести этот пункт, он был дополнен демагогической, но практически совершенно нереальной оговоркой, согласно которой правительство обязывалось отменять законы, принятые без санкции рейхстага, либо подавать в отставку в тех случаях, когда эти законы будут отклонены обеими палатами и притом не менее чем двумя третями голосов одной из них (какой именно, не указано).
Практическая нереальность этой оговорки определяется уже тем, что сам социальный состав обеих палат исключал возможность их выступления против любых реакционных махинаций, которых, несомненно, следовало ожидать от правительства. Как известно, Гёрделер намеревался учредить рейхстаг из 300 депутатов, выбираемых на основе чрезвычайно недемократичной избирательной системы. Половину из них, то есть 150 депутатов, должны были избирать областные выборщики, сами также избираемые выборщиками окружными, которых в свою очередь избирали бы выборщики общинные. При этом депутатом рейхстага мог быть избран только тот, кто имел бы не менее, чем пятилетний стаж деятельности в органах местного самоуправления. Тем самым исключалась возможность избрания рабочих-производственников. Вторую половину рейхстага должны были составить 150 депутатов, избираемых непосредственно в 150 избирательных округах из числа тех, кто не менее пяти лет занимал какие-либо выборные должности. В каждом из 150 округов допускалось выдвигать не более четырех кандидатов; избранным считался получивший простое большинство голосов, все прочие голоса уже не принимались во внимание.
Право голоса предоставлялось только немцам, достигшим 25 лет, а избраны могли быть только достигшие 35 лет. Тем самым молодежь фактически и юридически лишалась избирательных прав. Совершенно очевидно, что избранный таким образом и в таких условиях рейхстаг, в котором политические партии играли бы только второстепенную роль, уже никак не мог стать органом демократического представительства. Однако Гёрделер не доверял даже такому «отборному» рейхстагу и поэтому предусмотрел в качестве «тормоза», который должен был в особых случаях действовать против рейхстага, создание еще «имперской палаты сословий» из представителей капиталистов, церковных организаций, университетов и правлений профсоюзов. А для того, чтобы при любых условиях иметь в этой «палате сословий» послушное большинство, генеральный наместник должен был сам назначать 50 депутатов из «знатных» немцев всех сословий не моложе пятидесяти лет. С помощью этих пятидесяти «знатных» немцев, разумеется, было бы предотвращено
1 Вице-капцлер—Вилыжьм Лейшнер, министр внутренних дел—Юлиус Лебер, мипистр информации—Теодор Хаубах. Эти данные совпадают Л списком министров, опубликованном в книге Уилера—Бенета (W h е 1 1 е г-В ennctl, J. G. W., Op. .cit., S. 644).
2 Ritter, Gerhard, Op. cit., Anhang I, S. 556 f.
3 Ibid., S. 557.
‘ Ibid., S. 558.
340
образование опасного большинства в палате сословий в том случае, если бы вдруг обе палаты вздумали потребовать отмены законов, изданных без их согласия, или отставки правительства.
6. Для тех преимуществ, которые предоставлялись правительству в его отношениях с палатами, характерно положение, согласно которому палатам разрешалось принимать финансовые законопроекты по расходам, не предусмотренным бюджетом, только с согласия правительства.
Основываясь на этом положении, правительство, действующее в интересах господствующего класса, могло бы, например, препятствовать любым расходам на социальные нужды, необходимость в которых возникла бы в течение бюджетного года. И, напротив, предоставленное рейхстагу формальное право наблюдения за исполнением бюджета фактически уничтожалось тем, что в случае если бы рейхстаг отказал в одобрении, то его могла дать и одна только «палата сословий», более надежная с точки зрения правящих классов. Однако Гёрделер хотел обеспечить свое правительство от любых колебаний, даже «палаты сословий». Поэтому было предусмотрено, что, в случае если и палата откажется утвердить правительственные расходы, такое утверждение может [быть осуществлено в специальном «неполитическом» комитете, который соберется под председательством президента имперского бюждетного управления и будет составлен из одинаковых групп представителей обеих палат. Нетрудно догадаться, в чью пользу решал бы такой комитет «проверенных специалистов», в случае если действительно возник бы какой-нибудь конфликт. Тем самым и классическое бюджетное право, которым так гордятся буржуазные демократы, превращалось из права парламента в право правительства.
в. Правительство, которое в принципе предполагалось состоящим из девяти министров (внутренних дел, иностранных дел, просвещения, восстановления, экономики и труда, финансов, юстиции, сельского хозяйства, вооруженных сил), должен был возглавить рейхсканцлер, наделенный самодержавными полномочиями. Ему предоставлялось право добиваться через генерального наместника отставки министров, не согласных с его политикой. При этом пе требовалось ни считаться с желаниями самих министров, ни запрашивать мнение остальных членов правительства и уж, конечно, не предусматривались никакие согласования с палатами. Все это было направлено на то, чтобы сделать рейхсканцлера полновластным хозяином правительства, а членов совета министров—его послушными подчиненными. Указывалось, что рейхсканцлер определяет ведущие линии правительственной политики, однако не указывалось, перед кем он ответственен за эту политику. Если к тому же вспомнить, что ни рейхсканцлеру, пи министрам не требовалось доверия палат, то станет еще более очевидным намерение Гёрделера освободить рейхсканцлера и министров от парламентского контроля.
4. О задачах этого задуманного Гёрделером правительства можно судить по содержанию проекта правительственной декларации1, который начинается с провозглашения «власти закона», но ни одним словом не упоминает ни о прекращении военных действий, ни о готовности к переговорам. Зато декларация призывает к «защите отечества» и требует от немецкого народа принесения новых бессмысленных жертв ради продолжения начатой Гитлером войны в условиях принудительного труда, созданных военной экономикой.
Тем самым запланированное Гёрделером правительство разоблачает себя как агентуру определенных фракций крупной немецкой буржуазии и ее союзников из числа крупнейших помещиков, как орудие тех сил, что пытались посредством разрыва с Гитлером спасти империализм как общественный строй в Германии.
1 «20. Juli 1944». Ilrsg. von der Bundeszcnlrale fiir Heimatdienst, 2. Auflage, Bonn, 1951, S. 40-54.
341
II
Несмотря на краткость предоставленного мне для доклада времени, считаю необходимым сделать несколько принципиальных замечаний о тех «основных правах»1, которые по проектам Гёрделера должны были быть предоставлены гражданам Германии, чтобы тем самым дать несколько более завершенное представление о его конституционных планах.
Характерными для этих обещанных народу основных прав являются по-моему нижеследующие черты:
1. Планировавшиеся основные права предусматривались как права граждан государства, которое должно было стать орудием власти монополистов, юпкеров и милитаристов, орудием власти, обращенной против народа.
2. Хотя в словах декларативных заявлений об основных правах, которые есть и в памятной записке о внутреннем положении в Германии (сентябрь 1943 г.) и в проекте правительственной декларации, содержатся ссылки на традиции буржуазных прав и свобод, однако уже сами формулировки Гёрделера ограниченнее и слабее того, что сказано об основных правах в текстах конституций 1849 и 1919 годов. Гёрделер не мог обойтись в своих проектах конституцип без раздела об основных правах, потому что он был вынужден придавать своему будущему государству видимость демократических форм. Но все его обещания на тему об основных правах являются не чем иным, как набрасыванием демократического покрова на диктатуру монополистической буржуазии и юнкерства.
3. Эти основные права в условиях общественного строя, покоящегося на капиталистической собственности—а для Гёрделера именно капиталистическая собственность является единственной основой любого экономического и культурного прогресса,—остаются для трудящихся только формальными и лицемерными условностями. Однако все же эти основные права могли бы иметь большое значение, будучи использованы в той борьбе, которую трудящиеся массы повели бы под руководством рабочего класса против антинародных планов правительства Гёрделера за осуществление своих демократических и национальных требований.
4. Среди тех основных прав, которые обещал Гёрделер, имеются лишь традиционные права, предусматривающие политические свободы, такие, например, как свобода слова и печати, свобода совести, религиозных культов п неприкосновенность личности.
Однако полностью отсутствуют основные социально-экономические права для трудящихся, такие, как право на труд, па отдых, на материальное обеспечение в старости и в случае болезни или инвалидности. Отсутствует и такое, само собой разумеющееся даже в капиталистическом государстве завоевание рабочего класса, как право забастовок. Об этом ничего не сказано в гёрде-леровских проектах конституции.
5. Наконец, каждое из предполагаемых этими проектами основных пран сопровождается ограничительной оговоркой. Так, например, сказано, что права свободы личности должны быть 'защищены от каких бы то ни было посягательств, за исключением тех случаев, когда имеется соответствующее решение судьи, основанное на законе. Тем самым уже фактически отменяется собственно основное право, поскольку оно может быть в любое время ограничено с помощью простых законов, которые, как уже указывалось, могло бы издавать само правительство.
Таким образом, те основные права, которые Гёрделер собирался предоставить немецким гражданам, значительно отставали ^Ьже от тех прав, которые—во всяком случае, хоть формально—были по необходимости включены в посвященный основным правам раздел Веймарской конституции как само собой разумеющиеся завоевания рабочего класса.
1 R i I, I е г, Gerlia г il, Op. cil., Anhang I, S. 553 und Erlwuif eincr Regicrungs-erkliiiung, abgediuckl in: «20. Juli 19'14», Op. cil., S. 46—54.
342
♦ * • *
Итак, для нас теперь совершенно очевидны основные черты той конституции, которую стремился ввести в Германии Гёрделер. Она была бы очень значительным шагом назад даже по сравнению с Веймарской конституцией, так как устраняла многие существенные достижения, зафиксированные и основном законе Веймарской республики—такие, как буржуазное избирательное право, свобода создания партий, предоставление законодательных прав только рейхстагу, ответственность правительства перед парламентом, парламентский контроль над деятельностью правительства и основные законы о социальных правах. Взамен этих достижений, завоеванных немецкими рабочими в революционных боях 1918—1919 годов, Гёрделер хотел, как показывает исследование его проектов конституции, ввести непрямую мажоритарную систему выборов, ограничить политические партии, лишить власти рейхстаг, учредить вторую реакционную палату, создать всесильное правительство, не подчиняющееся парламенту, и очень сильно урезать основные права и политические свободы.
Каким образом, несмотря на эти, явно антидемократические проекты конституции, Герхард Риттер все же смог прийти к совершенно невероятному выводу, что «государство, которое проектировал Гёрделер, должно было быть самым доподлинно народным, даже можно сказать рабочим государством», остается личной тайной этого историка.
Мне представляется, что совершенно правы были те социалисты—участники заговора 20 июля 1944 года, которые, зная обо всех этих проектах, упрекали Гёрделера в «буржуазной патриархальности»1. Но к такому заключению относительно планов Гёрделера приходили не только проницательные социалисты. Даже известный английский буржуазный историк Уилер-Бенет, которого уж никак нельзя заподозрить в социалистических взглядах, вынужден был, обобщая свои исследования проектов Гёрделера, сделать, к величайшему раздражению Якоба Кайзера1 2, такой примечательный вывод: «Столь же очевидно, что заговор, по существу, не был демократическим движением. Общим для всех его участников было искреннее стремление предохранить отечество от самой опустошительной катастрофы»3.
Если к этому еще добавить, что заговорщики 20 июля 1944 года хотели предохранить от опустошительной катастрофы именно отечество монополистов и крупнейших помещиков п ради этого собирались продолжать империалистическую грабительскую войну против СССР вопреки интересам трудящихся масс Германии, то, исходя из всех произведенных исследований, можно вполне присоединиться к выводу Уилера-Бенета.
Чтобы соблюсти верность исторической истине, необходимо дополнить эту констатацию результатами подробного анализа конституционных проектов Гёрделера и решительно указать на то, что запроектированное им государство не могло быть ни «народным», ни «рабочим», а должно было стать только децентрализованным, тоталитарным юнкерски-буржуазным государством на сословной основе, которое не собиралось никак затрагивать ключевые позиции власти монополистического капитала и крупного землевладения.
1 R i I t е г, Gerhard, Op. cit., S. 288.
2 Сравните речь бывшего министра ФРГ по общегерманским вопросам Якоба Кайзера, произнесенную в день десятой годовщины смерти Карла Гёрделера («Bulletin der Prcsse- und Informationsamtes der Bundesregierung», N. 27, 9. 2. 1955, S. 219 f.).
3 Wheele r-B e n n e t, John W., Op. cit., S. 710.
Вацлав Потеранский
ПОЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ЕГО ОТОБРАЖЕНИЕ В ЭМИГРАНТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Польское движение Сопротивления, развернувшееся против фашистской оккупации, все еще не нашло полного отражения в исторической науке, несмотря на значительную роль, которую сыграла борьба польского народа в годы второй мировой войны. Польский народ был первой жертвой вооруженной фашистской агрессии и уже с первых дней оккупации, сразу же после трагической утраты своей независимости, повел борьбу за освобождение родины. Большинство народа безоговорочно включилось в боевой фронт, противопоставленный фашистским угнетателям. Все классы общества, за исключением очень немногочисленных склонившихся перед врагом и предательских элементов, сознавали необходимость освободительной борьбы и создания нового польского государства.
В ответ на планы массового истребления и на террор оккупантов польский народ начал вести борьбу, создавать подпольную сеть политических и военных организаций. Политическая жизнь польского народа стала развиваться по двум направлениям—в оккупированной стране и в эмиграции.
Одно из этих направлений представляло польское эмигрантское правительство во главе с генералом Владиславом Сикорским. Оно опиралось на четыре партии, которые до сентября 1939 года были в оппозиции к правительству довоенной Польши. Эмигрантское правительство приняло решение бороться против «Третьей империи» и создало во Франции польскую армию, готовую сражаться на стороне западных союзников за освобождение родины. Согласно политическим планам эмигрантского правительства, новая Польша должна была стать буржуазной республикой, которая на основе договорных обязательств сотрудничала бы с западными державами. Эмигрантское правительство заявило о состоянии войны с СССР, поскольку советское государство заняло белорусские и западноукраинские земли, аннексированные в 1921 году Польшей Пилсудского. Эта политическая концепция стала основой того освободительного движения внутри страны, которое организовывала либеральная буржуазия, и воплотилась в «теории двух врагов», согласно которой и Германию и Советский Союз следовало считать противниками польского народа.
Второе направление польской политической жизни складывалось непосредственно в стране и в эмиграции—в СССР. Его представлял революционный левый фронт, то есть коммунисты, левые социалисты и левое крыло крестьянского движения. Усилия польских левых в стране и польских коммунистов в СССР привели в конце 1941 и начале 1942 года к созданию Польской рабочей партии (ППР). Требование вооруженной борьбы против оккупантов приобрело решающее значение, особенно после 22 июня 1941 года, когда польские земли стаж! тылами фашистских армий. Дольская рабочая партия полностью осознала значение этой борьбы; она понимала, что участие польского народа облегчит усилия антифашистской коалиции и ускорит свержение ига фашистской оккупации, которая ежедневно приносила все новые беды народу, вызывала все новые потери. Освободительную борьбу польского народа ППР увязывала прежде всего с борьбой советского народа
344
против фашистской агрессии. ПНР, будучи революционной марксистской партией, понимала, что СССР является союзником польского народа в его борьбе за свое национальное и социальное освобождение.
В программе ППР было указано, что новая Польша должна быть демократическим государством, в котором вся политическая власть будет принадлежать народу, руководимому рабочим классом. Порукой полной независимости и вместе с тем политического и социального освобождения партия считала дружеское*Ьотрудничество с Советским Ссуозом, который воплощает самые последовательные силы в борьбе против фашизма. В вопросе о восточных границах, то есть о границе с СССР, партия, стоявшая на позициях марксизма-ленинизма, признавала право на самоопределение народов Западной Белоруссии и Западной Украины и предлагала мирное решение пограничных проблем.
Для осуществления лозунгов вооруженной борьбы ППР создала Народную гвардию («Гвардия людова»—ГЛ), которая с весны 1942 года начала свою деятельность со значительных вооруженных диверсий. Основываясь на принципах марксизма-ленинизма, партия выдвинула лозунги единого национального фронта и призвала к сотрудничеству всех антифашистов и патриотов.
В противовес этой политике группы, принадлежавшие к лондонскому лагерю, ни в чем не изменили своих позиций, продолжая все так же пропагандировать теорию «двух врагов». В их подпольной печати публиковались призывы к спокойствию, требования пассивного выжидания благоприятного момента, когда «оба врага» истекут кровью. И только под нажимом общественного мнения, под влиянием той борьбы, которую вели ППР и ГЛ, руководящие политические организаторы вынуждены были изменить свое отношение и призвать к гражданскому сопротивлению, впрочем довольно ограниченному. Однако они не переставали клеветать на ППР, ГЛ и советских партизан и называли ту борьбу, которую они вели, «коммунистической подрывной деятельностью».
На рубеже 1942—1943 годов Центральный Комитет ППР, несмотря на то, что обстоятельства были не особенно благоприятными, обратился к представительству лондонского правительства на территории Польши, к так называемой «Делегатуре», с предложением сотрудничать в борьбе против фашистских оккупантов. От имени ППР вел переговоры товарищ Владислав Гомулка. «Делегатура» отвергла это предложение и отказалась сотрудничать с ППР и ГЛ, так как продолжала занимать антисоветскую позицию и рассматривала ППР как агентуру иностранной державы.
Руководящие политические деятели лондонского правительства знали, что начало и размах вооруженной борьбы в Польше привели в движение весь народ, что народные массы отвергают руководство лондонского правительства, противятся его установкам, сами признали СССР своим союзником в освободительной борьбе и сами были намерены решать вопрос о будущем польском правительстве. Поэтому из Лондона был направлен призыв с «винтовкой к ноге» ждать приказов, которые будут отданы в подходящий момент, то есть в тот момент, когда начнет решаться вопрос о власти в стране.
Эти указания очень часто тормозили стремления многих борцов подполья, которые готовы были немедленно выступать против оккупантов.
Антинародные и антисоветские классовые позиции не позволяли политикам «Делсгатуры» лондонского правительства видеть подлинные интересы польского народа, которые заключались прежде всего в ускоренном разгроме Гитлера.
Великая заслуга ППР перед народом и союзниками заключалась'в том, что она повела самоотверженную борьбу против оккупантов и с момента своего возникновения проводила политику дружбы и сотрудничества польского народа с Советским Союзом. Именно этого не могли простить ППР все реакционные группы.
345
После прекращения переговоров с «Делегатурой» (февраль 1943) и после разрыва официального польско-советского союза (апрель 1943) партия повела усиленную работу с целью создания демократического народного представительства, которое могло бы руководить широким боевым движением всех демократических сил страны. Эта работа увенчалась успехом. Зимой 1943/44 года была образована Крайова Рада Народова—КРН, в которую вошли: ППР, революционное крыло левых социалистов (Рабочая партия польских социалистов—РППС), группа левых деятелей крестьянского движения и некоторые другие передовые демократические группы.
Политическая и боевая деятельность левых сил, которые сосредоточивались вокруг ППР и КРН, привели к созданию народной Польши. Она смогла возникнуть благодаря усилиям народных масс, стремившихся к национальному и социальному освобождению, и благодаря Советской Армии, которая изгнала с польской земли фашистских оккупантов.
Все эти процессы, происходившие в политической жизни нашего народа в годы второй мировой войны, продолжают влиять и на польскую историографию, посвященную событиям этого времени.
В эмигрантской историографии по-прежнему, так же как во время войны, преобладают антинародные и антисоветские концепции. Эти концепции особенно заметно проявляются в литературе мемуарного характера. Такие авторы, как Тадеуш Бур-Комаровский в своей книге «Подпольная армия» или Стефан Корбоньский в книге «Именем Республики», а также Зигмупт Заремба в книге «Война и конспирация», не могут и сегодня еще освободиться от политических страстей и взглядов того времени. Они продолжают жить старыми представлениями и не способны объективно оценить обстановку, сложившуюся в период с 1939 по 1944 год. Они не отказываются от «теории двух врагов» и описывают трудную борьбу польского народа во второй мировой войне как борьбу, которая велась якобы «на два фронта». В их высказываниях о немецко-польских отношениях они не отделяют фашистской Германии от немецкого народа. Для них врагами являются все немцы вообще. Они не разоблачают германский империализм и фашизм и не пытаются обнаружить социально-исторические корни фашизма. К Советскому Союзу они относятся почти так же, как к фашизму, а во многих вопросах даже еще хуже.
Их объединяет оценка Польской рабочей партии, ио поводу которой они утверждают, что ППР является советской агентурой. О боевой деятельности ППР, о борьбе Народной гвардии и Народной армии они обычно вообще не упоминают. Поэтому представляемая ими картина борьбы польского народа оказывается неполной и даже просто искаженной. Они намеренно преувеличивают роль так называемого «подпольного государства», пытаясь доказывать, что оно якобы было признано всем народом. Все политические группы, которые не признавали лондонское правительство и его «Делега-туру», характеризуются в их книгах как агентура коммунизма или как политические группы, находящиеся под влиянием коммунизма. Такая оценка дастся прежде всего ППР, РППС, левому крестьянскому движению и другим демократическим организациям.
Исключение делается только для недвусмысленно фашистских организаций, таких, как «Траншея» («Шанец») и Национальные вооруженные силы (Народове силы збройне—НСЗ), которые не признавали лондонское правительство, так как считали его слишком демократичным и «уступчивым» по отношению кСССР. Об этих организациях упомянутые авторы отзываются снисходительно, примерив так же, как добрые отцы о строптивых, но любимых детях. •
Эти авторы пе хотят думать и тем более не хотят писать о том, что часть фашистских НСЗ, прежде всего пресловутая «Бригада святого креста» под командованием Богун-Домбровского, покинула территорию Польши вместе с частями фашистского вермахта! Эти авторы умалчивают об убийствах членов ППР, солдат Народной гвардии и Народной армии, а также
346
деятелей социалистических и демократических организаций, которые совершали отряды НСЗ и другие фашистские банды. В эмигрантской историографии играет значительную роль Институт имени генерала Сикорского, находящийся в Лондоне. Этот институт издал в 1950 году трехтомный труд, озаглавленный «Польские вооруженные силы во второй мировой войне». Третий том представляет собой монографию, посвященную движению Сопротивления на территории Польши, хотя в заголовке его значится только Отечественная армия (Армия крайова—АК). •
В этой монографии очень односторонне рассматривается проблематика борьбы польского народа в годы оккупации. У читателя этой книги может создаться впечатление, что политические и военные силы подпольного движения Сопротивления в Польше были представлены только так называемым официальным подпольным государством»—то есть «Делегатурой» лондонского правительства—и Отечественной армией. Чтобы доказать это, в книге почти вовсе ие упоминается о боевых действиях ППР, Гвардии людовой, Армии людовой и других военных организаций, не подчинявшихся главному командованию АК. Ничего пе сказано в этом томе и о разногласиях, которые существовали в лондонской эмиграции и в рядах АК. Между тем само собой разумеется, что в таком конгломерате политических сил, когда с одной стороны действовали Национальная партия (Стронництво народове—СН) и Христианско-демократическая партия (Стронництво праци—СП), а с другой стороны Крестьянская партия (Стронництво людове—СЛ) и правое крыло бывшей ППС, никогда не могло быть политического единства. Ряды АК (Отечественной армии) также пе были политически едиными. В них неоднократно обнаруживались и сталкивались самые противоречивые политические тенденции, начиная от фашистских, представленных отрядами НСЗ, которые весной 1944 года подчинялись командованию АК, и кончая демократическими, которые представлялись крестьянскими батальонами (Батальоны хлоп-ски—БХ)и которые также признали верховное командование АК.
О ППР и о ГЛ (Народная гвардия) авторы упоминают лишь вскользь, называя их «незначительной агентурой». Но одновременно они распространяются о «большой коммунистической опасности» и тем самым впадают в противоречие.
Вся эта книга—внешне обстоятельная монография—в действительности является апологией лондонского лагеря, показывает только его положительные стороны, скрывает его недостатки и фальсифицирует общую картину польских левых сил.
Однако из этой книги нее же можно почерпнуть много интересных сведений о структуре так называемого «подпольного государства», о конспиративной деятельности, об армии, и о многих фактах организации саботажа и диверсий, направленных против фашистской военной машины.
Историки эмиграции до сегодняшнего дня не могут решиться дать хотя бы приблизительно объективное описание польского движения Сопротивления, несмотря на то, что они в Лондоне располагают обширными источниками для изучения польского «подпольного государства». Едва ли можно надеяться, что эти люди, которые так срослись со старыми представлениями п идеями, все же решатся в одни прекрасный день дать объективный, соответствующий истине исторический обзор польского движения Сопротивления в годы второй мировой войны.
Мы вынуждены отметить, что и в самой Польше историки еще не создали истории польского движения Сопротивления. В статьях, которые были опубликованы до 1956 года, проявлялась известная односторонность, основанная па схематическом представлении о чрезвычайно сложных политических отношениях в польском подпольном движении Сопротивления. В некоторых статьях, рефератах и научно-популярных изданиях нс всегда справедливо оценивались действительные факты. Наибольшей слабостью этих работ было неумение достаточно правильно учесть общую связь событий в годы второй мировой войны.
347
Мы надеемся, что некоторые научные учреждения, например такие, как Институт истории Польской Академии наук, Комиссия военной истории при министерстве национальной обороны, Институт истории партии при ЦК ПОРП, Историческая комиссия при Союзе борцов за свободу и независимость, издадут в ближайшее время некоторые работы, свободные от искажений и схематических представлений прошедших лет, в которых будут представлено подлинное значение, характер и размах польского движения Сопротивления.
Эти работы, основанные на принципах марксизма-ленинизма, явятся одновременно ответом на новые попытки фальсификации прошлого, предпринятые некоторыми публицистами и буржуазными историками, которые с помощью своих старых теорий пытаются оправдывать деятельность польской реакции в Тоды второй мировой войны.
Милош Госиоровский
СЛОВАЦКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНИЕ—ВКЛАД СЛОВАЦКОГО НАРОДА В ОБЩУЮ БОРЬБУ ПРОГРЕССИВНЫХ СИЛАМИ РА •против ГИТЛЕРОВСКОГО ФАШЦЗМА*
Я хотел бы на нашей сессии сделать несколько замечаний о том вкладе, который словацкий народ внес в общую борьбу против гитлеровского фашизма в годы второй мировой войны.
Общеизвестно, в частности об этом неоднократно говорилось на нашей сессии, что Чехословакия была одной из первых зарубежных жертв гитлеризма. Ни чешский, ни словацкий народы, разумеется, никогда не примирялись с предательством чешской и словацкой буржуазии, которая, принимая мюнхенский диктат и сотрудничая с гитлеровцами, предавала свободу этих пародов.
С первых же дней оккупации, которая расчленила Чехословакию, Коммунистическая партия начала организовывать антифашистскую борьбу чешского и словацкого народов. Ввиду того, что после расчленения чехословацкого государства развитие в Словакии приняло иной характер, чем в чешских областях, антифашистскую борьбу словацкого народа организовывала Коммунистическая партия Словакии, являвшаяся частью Коммунистической партии Чехословакии. Цели борьбы, которую развертывала КПС, определил товарищ Широкий, который писал в мае 1939 года, что «сегодня перед словацким народом открывается яснее, чем когда-либо прежде, путь к его национальному освобождению, и это путь самого тесного братского союза между словацким и чешским народами, путь нерасторжимого единства общего Национального фронта обоих народов», и указывал, что «целью национально-освободительной борьбы словацкого народа является демократическая Чехословацкая Республика»1.
Большое положительное значение для национально-освободительной борьбы словацкого народа имело то обстоятельство, что словацкие коммунисты, несмотря на их организационную самостоятельность, поддерживали постоянную связь со своими чешскими товарищами и работали под руководством зарубежного центра единой Коммунистической партии Чехословакии, который возглавлял товарищ Клемент Готвальд.
Поэтому даже после насильственного расчленения чехословацкого государства товарищ Готвальд мог выступать также и от имени словацких коммунистов и заявить, что «чешский и словацкий народы борются против режима оккупантов и колонизаторов» и «можно уверенно утверждать, что оккупированная Чехословакия никогда не будет надежным тылом для Гитлера». При этом он отмечал, что «больше всего придает силы народным массам Чехословакии глубокое сознание того, что великая непобедимая держава—Советский Союз—страна социализма, страна грядущего, стоит на их стороне, на стороне права правды и справедливости2.
Руководствуясь ясным пониманием перспектив, основанном на глубокой уверенности в том, что Чехословакия будет возрождена с помощью социалистического Советского Союза и его армии, Коммунистическая партия разра
1 «Rundschau», Basel (Schweiz) 10.5.1939. ’ Ibid.
349
батывала стратегию борьбы протии фашизма, стратегию борьбы за освобождение чешского и словацкого народов. То была стратегия национальной и демократической революции, которую должен был возглавить рабочий класс, создавая предпосылки для постепенного привлечения на свою сторону всех угнетенных слоев народа, ведя за собой крестьянство, интеллигенцию-и вообще всех, кто по тем или иным причинам захотел бы принять участие в национально-освободительной борьбе. Тем самым рабочий класс, политически представляемый своим боевым авангардом—Коммунистической партией, уже в силу своей ведущей роли в национально-освободительной борьбе, создавал предпосылки для того, чтобы освобожденная Чехословацкая Республика могла вступить на путь строительства социализма.
Народ Словакии участвовал в этой борьбе уже с самого ее начала. Об этом свидетельствует, в частности, крупная забастовка горняков в Хандлова (Крикерхау), происходившая в октябре 1940 года. Особое значение Ханд-ловской забастовки заключается в том, что она явилась объединенным выступлением словацких и немецких горняков, причем против представителей словацкого фашистского режима выступали прежде всего рабочие-словаки, а против представителей немецкой фашистской партии—главным образом немецкие горняки.
После разбойничьего нападения гитлеровской армии на Советский Союз компартия Словакии уже в 1942 году поставила перед собой задачу подготовить массовое восстание словацкого народа. В мае 1942 года КПС начала создавать в Словакии партизанские отряды. Партизанское движение достигло большого подъема в 1943 году и особенный размах приобрело в начале 1944 года, когда в Словакию пробились группы советских партизан. Словацкий народ восторженно приветствовал советских людей и помогал им. Примером может служить хотя бы такой факт. Советская партизанская группа Егорова первоначально насчитывала 23 человека, которые спрыгнули с парашютами на словацкую землю, но уже через неделю в группе было 850 партизан1.
Летом 1944 года в Словакии не оставалось области, в которой не было бы по меньшей мере одной партизанской группы.
Так возник в стране сплошной партизанский край, в котором в первой половине августа 1944 года развернулась массовая партизанская война. В конце августа 1944 года она переросла во всеобщее национально-освободительное восстание всего словацкого народа.
Советский Союз оказывал величайшую, неоценимую помощь героической борьбе словацкого народа. Уже 2 сентября 1944 года представитель. Народного Комиссариата иностранных дел СССР сообщил тогдашнему послу Чехословацкой Республики в Москве, что советское правительство «полагает, что словацкое восстание является общенациональным выступлением, что налицо предпосылки, дающие основания надеяться на успех, и что необходимо оказывать помощь»1 2.
Благодаря именно этой помощи в течение более чем двух месяцев почти восемьдесят тысяч исполненных решимости патриотов, более шестидесяти тысяч солдат и четырнадцать тысяч партизан боролись против превосходящих сил гитлеровской армии и при этом сковывали силы восьми фашистских дивизий, которые были чрезвычайно необходимы гитлеровскому командованию на других фронтах. Регулярная борьба словацких повстанцев на фронте длилась в течение двух месяцев. Однако восстание не закончилось после падения Банска-Бистрица. Партизанские группы передислоцировались в горы; по всей Словакии вскоре опять заполыхало неугасимое пламя партизанской войны. Эта^партизанская война словацкого народа слилась с героической борьбой Красной Армии, которая, ведя тяя<Ьлые бои, окончательно освободила всю территорию Словакии. Таким образом, национально
1 Sbornik tjslavu Slovenskeho narodneho povstania, Banska Bystrica, 1950, Jahr" II, 14.
2 Fierlinger, Zdenek, Ye sluibdch C’SR, Prag, 1948. II Teil, S. 353—354.
350
освободительная борьба завершилась полной победой идей Коммунистической партии Чехословакии, а тем самым и полной победой словацкого народного восстания.
«Своим всенародным восстанием и партизанской войной, которая развернулась почти по всей стране, словацкий народ дал неопровержимое доказательство своей политической зрелости», сказал товарищ Широкий на конференции Коммунистической партии Словакии в Жилине в августе 1945 года* 1.
В годы Великой Отечественной войны советского народа, которая была войной против ЛИертельного врага всего человечества—гитлеровского фашизма, главная задача всех прогрессивных сий*мира заключалась в том, чтобы возможно более эффективно содействовать поражению фашистов. И мы можем с гордостью сказать, что словацкое народное восстание существенно помогло военному разгрому фашистских врагов. В то самое время, когда немецкие фашисты не знали, откуда перебрасывать силы, чтобы удержать разваливающиеся фронты в Румынии, Венгрии, Польше и на Западе, у них в тылу образовалось еще одно поле битвы. Восстание лишило гитлеровские резервы словацкой армии, и в течение нескольких месяцев—с первых же дней, когда оно началось, и до победного конца—восстание сковывало восемь дивизий, которых очень недоставало гитлеровцам на других фронтах. Эти фашистские дивизии потеряли в Словакии 55 816 солдат и офицеров, а также большое количество оружия и военных материалов2. Восстание полностью выключило всю, столь важную для гитлеровского командования, транспортную сеть Словакии, в которой гитлеровцы нуждались не только для снабжения Восточного и Балканского фронтов, но и для начавшегося уже к тому времени массового отхода немецких войск с Балкан. Таким образом, «словацкий народ, руководимый своей славной Коммунистической партией, подняв восстание, развертывая революционную вооруженную борьбу против гитлеровских оккупантов и режима Тисо, вступил, как доблестный боец, в ряды антифашистского фронта миролюбивых народов»3. В этом прежде всего и заключается значение словацкого народного восстания.
Кроме того, значение словацкого народного восстания заключается также и в том, что оно являлось ударом, направленным не только против гитлеровского фашизма, но и против интриг англо-американских империалистов, которые рассчитывали с помощью своей чехословацкой агентуры заменить одного рабовладельца другим. Словацкий парод дал ясно попять, что он восстал против гитлеровского фашизма и его словацких пособников отнюдь не для того, чтобы попасть в рабство к западным империалистам.
Словацкий парод восстал еще и затем, чтобы показать всему миру, что он никогда не отождествлял себя с предательством словацкой буржуазии, совершенным в 1938—1939 годах. Значение словацкого народного восстания заключается также и в том, что в одной части чехословацкой государственной территории, которая была порабощена гитлеровским фашизмом, вновь возродилась Чехословацкая Республика. Словацкий народ, который поднялся на борьбу за возрождение Чехословакии, восстал по для того, чтобы возродить домюихспскис капиталистические условия, сделавшие республику зависимой от западных империалистов. Словацкий народ поднялся для того, чтобы в нерасторжимом союзе с братским чешским народом создать государство, в котором осуществились бы все его национальные и социальные чаяния и которое опиралось бы на своего спасителя и освободителя, на подлинного стража свободы всех пародов—на Советский Союз.
Предательство словацкой фашистской партии Глинки, которая во время восстания призвала для подавления своего парода злейших врагов человечества, равно как интриги части буржуазии, которая пыталась злоупотреблять национально-освободительной борьбой в своих классовых интерс-
1 S i г о к у, Viliam, Za Stasiне Slowensko v Socialistickom Ceskoslovensktt, Bratislava, 1952, S. 63.
’ «Archiv des Institute fiir Geschichte der KPO in Prag», N. 5—28/1944—1950, S. 358.
1 S iroky, Viliam, Op. cit., S. 269.
351
<ах, показали со всей очевидностью, что буржуазия уже не способна руководить народом в его борьбе за национальное освобождение и что в освобожденной республике ведущая роль по праву должна принадлежать рабочему классу. Словацкое народное восстание показало, что единственной вполне надежной силой в борьбе за свободу народа, единственным заслуживающим доверия руководителем всех трудящихся является рабочий класс, руководимый и направляемый Коммунистической партией.
Политическое значение словацкого народного восстания заключается также и в том, что в нем проявилась международная солидарность трудящихся, так как в рядах словацких и советских партизан и солдат сражались бок о бок чехи и французы, поляки, болгары, сербы, венгры и представители других народов. Из немецких трудящихся—жителей Словакии образовался отдельный немецкий партизанский отряд имени Эрнста Тельмана. Это активное участие представителей различных национальностей в словацком народном восстании явилось примером последовательной реализации принципов пролетарского интернационализма, наивысшими целями которого всегда были и будут: подлинная национальная и социальная свобода, подлинный прогресс, мирное сосуществование всех народов и подлинная демократия.
Непосредственным результатом словацкого народного восстания было восстановление Чехословацкой Республики, которая была создана теперь уже на новой основе. В создании этой новой основы и в строительстве социализма Чехословацкая Республика опирается на сотрудничество с Советским Союзом и другими социалистическими странами и, следовательно, также с ГДР. Такие факты, как сотрудничество Коммунистической партии Чехословакии с Коммунистической партией Германии в подполье, как участие немецкого партизанского отряда имени Эрнста Тельмана в борьбе словацкого народа против немецкого и словацкого фашизма, а также дружественное сотрудничество наших народов, непрерывно и успешно развивающееся с тех пор, как и в ГДР и в Чехословакии пришел к власти рабочий класс,—все эти факты доказывают, что наши народы идут по верному пути.
паз Л? 122(1
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
суббота, 30 ноября 1957 года
Казимир Пиварский
К ОСВЕЩЕНИЮ ПРЕДЫСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ II ФРАНЦУЗСКОЙ ИСТОРИОГРАФИЕЙ
В послевоенные годы в Англии и Франции появилось очень много исторических работ, посвященных предыстории второй мировой войны. Волыпинство этих работ написано буржуазными историками, тогда как марксистские исследования, такие, например, как книга молодых ученых-марксистов Бувье и Гакона1, составляют редкие исключения.
Столь же исключительными являются и достаточно объективные работы буржуазных историков, подобные, например, труду профессора Элизабет Уиск-мэнн (Кембридж) «Восточные соседи Германии»1 2, в котором убедительно доказывается право Польши на границу Одер—Нейсе, обоснованное историческими, политическими и экономическими предпосылками.
Само собой разумеется, я не собираюсь рассматривать всю английскую и французскую историческую литературу, относящуюся к нашей теме. Однако на основе немногих характерных примеров можно установить некоторые черты, специфически присущие этой историографии. Следует, кстати, отметить что, несмотря на относительно большое число работ, еще очень многие проблемы предыстории второй мировой войны совершенно не удовлетворительно освещены как в английской, так и во французской исторической литературе. Можно сослаться на статью Рене Ремона в одном из последних номеров журнала «Ревю франсез де сиенс политик», в которой говорится о недостатках французской историографии. Отмечается и недостаточное освещение проблемы Мюнхенского соглашения 1938 года. Как явствует из высказываний Ремона, он подразумевает отсутствие исследования проблематики Мюнхена в связи с внутриполитической обстановкой во Франции того времени.
Обратимся к примерам.
1. Большинство английских и французских историков констатирует, что так как Англия и Франция не были подготовлены к войне против гитлеровской Германии, то Мюнхенское соглашение являлось якобы «неизбежным». Те же взгляды высказывает и Уилер-Бенет в своей книге «Мюнхен: пролог к трагедии»3. Эта работа сохраняет видимость объективности, поскольку автор опирается на сравнительно обширный материал источников и на обильную—впрочем, только для 1948 года—литературу, как правило, не замалчивает фактов, излагает их точно и довольно разносторонне. Представленные им аргументы в защиту и в опровержение тезиса о недостаточной военной подготовленности Англии опровергают—при более точном анализе—тезис о «неизбежности» Мюнхенского соглашения, показывая, какое в конечном счете военное превосходство приобрела гитлеровская Германия именно в результате раздела Чехословакии и захвата значительной части ее военной промышленности. Еще больших возможностей добилась «Третья империя» после полной ликвидации Чехословакии весной 1939 года, что
1 Bouvier J., et Gacon J., La verite sur 1939, politique exterieure de 1’URSS d’oetobre 1938 a iuin 1941, Paris, 1953.
2 W iskema nn, Elizabeth, Germany’s Eastern Neighbours, London, 1956.
3 W h e e 1 e r-B e n n e t t, John W., Munich: Prologue to Tragedy, London, 1948.
355 23*
являлось лишь логическим последствием Мюнхена. К этому необходимо добавить, что негативные военные последствия Мюнхенского соглашения для западных держав довольно отчетливо изложил английский историк Нэмир1, хотя он и присоединяется к аргументации, имеющейся в мемуарах Черчилля. Следует также отметить недостаточную последовательность многих суждений, когда, например, одновременно говорят и о «неизбежности» Мюнхенского соглашения и о виновности Чемберлена.
2. Все это теснейшим образом связано с вопросом об отношениях западных держав к Советскому Союзу и в период Мюнхена.
Буржуазные историки не могут отрицать общеизвестного факта, что Советский Союз в соответствии со своими обязательствами в то время неоднократно предлагал оказать помощь Чехословакии, если ей также поможет Франция. Таким образом, Советский Союз совершенно недвусмысленно выступал за создание антигитлеровской коалиции в защиту мира. Но в Англии и Франции не посчитались с этим предложением, пренебрегли им.
Большинство английских и французских буржуазных историков пытаются объяснить это тем, что, дескать, «Россия» представлялась в ту пору для Англии и Франции этаким сфинксом, загадкой как в политическом, так и в военном отношении. Именно такова точка зрения Уилера-Бенета. Подобные же взгляды высказывает и французский историк Бомон1 2, когда он пишет о дезориентации внешней политики Англии и Франции, о невероятном их невежестве в оценке действительного экономического и военного потенциала Советского Союза.
Однако вряд ли можно говорить о «загадочности» советской политики, поскольку общеизвестно, что СССР в течение многих лет стремился к образованию единого фронта миролюбивых народов, обращенного против агрессоров, что в 1938 году он готов был оказать помощь Чехословакии и уже после оккупации Праги в марте 1939 года предложил созвать конференцию представителей Англии, Франции, Польши, Румынии и Турции с целью предотвратить дальнейшее распространение гитлеровской агрессии. Но английское правительство считало тогда подобные планы «преждевременными». И позднее, во время известных переговоров весной и летом 1939 года, английское правительство вновь продемонстрировало, что оно не готово пойти па военно-политический союз с СССР.
Таким образом, тезис о «русском сфинксе» в политическом смысле опровергается недвусмысленный фактами. Что же можно сказать о военной стороне? Нельзя было требовать от Советского Союза, чтобы он в 1939 году полностью посвятил западные державы во все детали своей военной подготовки, так как Англия и Франция не обнаруживали действительно честных намерений заключить союз, а как раз напротив, заключая Мюнхенское соглашение, активно соучаствовали в политической изоляции СССР и одновременно подбадривали гитлеровскую Германию в ее агрессивных устремлениях па Восток.
3. Не приходится удивляться тому, что прогрессивный американский историк Ф. Л. Шуман уже в 1942 году в своей книге «Европа накануне»3 охарактеризовал Мюнхенское соглашение как действие, направленное против Советского Союза. Уилер-Бенет, цитируя высказывания Шумана, пытается возражать ему и для этого прибегает к постановке парадоксального вопроса: мог ли сочетать в себе Чемберлен гениальность Маккиавели, Талейрана и Меттерниха? Разумеется, такими парадоксами ничего не пояснишь. Они являются лишь попыткой оттеснить проблему на задний план. Однако Уилер-Бенет вынужден признать, что в Англин в ту пору существовали консервативные крТти, которые хотели, чтобы Гитлер напал па СССР.
1 Namier I.. В., Diplomatic Prelude 1938—1939, London, 1948.
2 В a u m о n I, Maurice, La I’aillite de la paix (1918—1939), Bd. I—11, Paris, 1951.
3 Schuman, F r e d e r i c k L., Europe on the Eve. The Crisis of Diplomacy, 1933—1939, London—New York, 1942.
35G
Этого признания оказалось достаточным, чтобы реакционный английский журнал «Интернешнл афферс» подверг книгу Уилера-Бенета резким нападкам.
Впрочем, и французский буржуазный историк Бомон также указывает, что и в Англии и во Франции не было недостатка в политиках, которые хотели представить Гитлеру «свободу рук» на Востоке за счет СССР1. Это подтверждается более чем достаточным количеством фактов.
4. Во французских исторических работах часто указывается па то, что французское правительство в мюнхенском вопросе действовало, по сути дела, под нажимом Англии.
Именно так пытался оправдать свою политику бывший французский министр иностранных дел Бонне1 2. Несомненно, правительство Чемберлена оказывало в те дни давление на французское правительство, но очень много фактов свидетельствует о том, что и французское правительство очень активно включилось в «политику умиротворения». Это относится прежде всего к министру Бонне. Даже такой типичный представитель французской буржуазной историографии, как П. Ренувен, считает, что британская политика являлась, по существу, желательным подкреплением для политики Бонне3. Это справедливое замечание по поводу активного участия правящих кругов Франции в мюнхенской политике.
5. Кто является непосредственным виновником Мюнхена? Но мнению Уилера-Бенета, Нэмира и других английских историков, более всех повинны Чемберлен и «его лорды» (Галифакс, Саймон, Хор и др.). Эти авторы хотели бы убедить читателей в том, что Черчилль, Иден или лейбористы по-иному руководили бы внешней политикой Англии. Возможно, что упомянутые деятели применяли бы несколько иную внешнеполитическую тактику, придали бы ей некоторые иные варианты. Однако антисоветское направление британской внешней политики было бы сохранено. Чемберлен был типичным представителем «политики умиротворения» фашистских держав, но он не был создателем этой политики, так как в конечном счете он только продолжал политику предшествовавшего ему правительства Болдуина. Это была в общих чертах политика английских консерваторов, выражавшая интересы монополий.
Произошла ли после марта 1939 года в английской политике «дипломатическая революция»?
Именно так полагают Уилер-Бенет, Геторн Харди и большинство английских буржуазных историков. Французский ученый Ж. Б. Дюроссель4 подхватывает этот тезис и пытается строить на нем доказательства. Однако многочисленные факты свидетельствуют о том, что хотя английская политика и обратилась к поискам новых методов, но сущность ее не изменялась.
Гарантии, предоставляемые Польше, должны были стать только шахматным ходом в игре против Гитлера; их целью являлась такая политика, которая позволила бы либо принудить Гитлера к соглашению с Англией и к разумному—в духе английских консерваторов—урегулированию спорных вопросов с помощью дальнейших уступок его требованиям, либо—в случае невозможности такого соглашения—направила всю атаку на Польшу, отводя тем самым непосредственную угрозу от Запада. Гарантии, предоставляемые Польше, отнюдь не означали решительного изменения курса—отхода от мюнхенской политики, а, напротив, явились попыткой замаскировать ее продолжение, то есть старание и в дальнейшем достигать соглашения с гитлеровской Германией за счет других государств, и прежде всего за счет Польши, для которой готовился новый Мюнхен.
1 В a u mont, Maurice, Op. cit.
’Bonnet, Georges, Defense de la paix. De Washington au Quai d’Orsay, Genf. 1946.
3 Bonnet, Georges, Op. cit.
4 Durosellc, J. B., Histoire diplomatique de 1919 a nos jours, Paris, 1953.
357
Как известно, когда Польша подверглась нападению гитлеровской Германии, Англия и Франция не оказывали ей никакой помощи, хотя они и объявили войну «Третьей империи». Но в течение всех последующих месяцев они еще не отказались от мюнхенской политики, поскольку рассчитывали на «мирное урегулирование» с Германией. Расчеты мюнхенцев были опрокинуты только фашистской агрессией на Западе в 1940 году.
6. После Мюнхена Чемберлен заявил, что отныне мир обеспечен для целого поколения. Однако «золотой век» мюнхенской политики длился всего несколько месяцев. Внезапно стало ясно, что война ближе, чем когда-либо прежде. Уилер-Бенет пишет, что трагическая ирония истории заключалась в том, что искреннее стремление к миру стало одним из важнейших факторов развязывания второй мировой войны. Не будем говорить о том, что автор не указывает, о каком именно мире заботился Чемберлен. Речь шла о мире на Западе. При этом мюнхенцы ничего так не желали, как развязывания войны в Восточной Европе. Какими же соображениями руководствовался английский историк, когда он писал о «трагической иронии истории»? Уилер-Бенет подчеркивает, что мир нельзя было спасти потому, что Англия и Франция как до Мюнхена, так и после него недостаточно заботились о своих вооружениях. Однако, говоря об этом, он вообще не рассматривает возможности обеспечения мира средствами коллективной безопасности при участии Советского Союза.
Какие же выводы делает из этого Уилер-Бенет для будущего? Он утвер ждает, что мир может быть спасен только с помощью вооружения западных держав—сегодня, разумеется, под руководством США,—а не средствами соглашения, достигнутого между всеми странами на основе принципа мирного сосуществования государств с различными общественными системами и на основе их сотрудничества для обеспечения мира. Взамен предлагается вооружение Запада, в том числе и Германии!
Так пишет автор, который всего несколько лет тому назад издал книгу, представляющую собой очень основательное исследование исторических проблем развития немецкого милитаризма, и который, несомненно, ясно понимает, какую угрозу представляет собой это вооружение для дела мира и для Англии. Но такие или подобные выводы проистекают из основной идеологической концепции английской и французской буржуазной историографии.
Особенно отчетливо проявляются они в таких работах, как уже упоминавшаяся выше книга Дюросселя, охватывающая послевоенные годы вплоть до 1953 года. Подобная историография, исходящая из недемократических и антисоветских позиций, односторонне излагающая историю, замалчивающая или искажающая роль Советского Союза, не может служить ни взаимопониманию народов, ни миру, ни прогрессу.
Отто Корфес
СТАЛИНГРАД. ВОЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БИТВЫ В ОСВЕЩЕНИИ ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Избирая темой моего сообщения Сталинградскую битву, я исходил из ряда политических и военных причин.
Никто в мире не решится отрицать, что Сталинградская битва была но меньшей мере чрезвычайно значительным военным событием. Мы знаем, что эта битва явилась не только решающей для исхода войны, но определила существенные изменения в международной политической обстановке. Однако в мире существуют силы, которым представляется очень опасным влияние, произведенное этой битвой, и поэтому они стремятся принизить степень ее значения и всячески пытаются скрывать правду о Сталинграде, так как эта правда наносит удар их политическим взглядам и целям.
Поражение под Сталинградом явилось поражением агрессивных сил империализма. Победа советских народов, объединенных в социалистическом государстве, является предостережением для всех, кто надеется, что шествие социализма можно приостановить насилием. На этот факт закрывают глаза авторы многих исторических работ, опубликованных на Западе, при этом причиной отнюдь не всегда является их ограниченный кругозор. Более того, они хотят скрыть исторический опыт Сталинграда, стремясь ослепить народы для того, чтобы вовлечь их в войну против социалистических государств, так, чтобы они не увидели всей опасности подобных планов. Они хотят заставить народы участвовать в авантюрах, на которые они не смогли бы согласиться, познав действительный горький опыт второй мировой войны. Для достижения этой цели применяются различные средства, используются разные пути: принижаются достижения советских вооруженных сил и их командования.
Как правило, почти во всех, без исключения, случаях на стратегию и вмешательство дилетанта Гитлера возлагают ответственность за проигранные битвы и поражение в войне. Одни пытаются нас убедить, что только вследствие грубых ошибок Гитлера немецкий генеральный штаб не смог добиться заслуженной победы. Другие обвиняют командующего 6-й армией генерал-фельдмаршала Паулюса в том, что это его действия привели армию к гибели в Сталинграде. В последнем случае иные авторы к тому же еще выпячивают собственные заслуги и зато принижают деятельность других— метод довольно обычный в мемуарах всех времен.
Большинство всех этих публикаций, из которых я выбрал для рассмотрения лишь несколько наиболее типичных, обнаруживают одну общую тенденцию: стремление отрицать политическое влияние Сталинградской битвы. Это происходит потому, что именно ее политическое значение переросло ее непосредственно военное значение и поныне остается живым политическим фактором. Даже те, кто полагает, что создает объективную историческую картину, в действительности только поддерживают эту тенденцию, если они, с одной стороны, не раскрывают, не разоблачают движущие силы империалистической системы и подлинные экономические причины событий, а с другой стороны, не хотят видеть грандиозную мощь социалистической обороны.
359
Настало, наконец, время с беспощадной решимостью выступить против всех этих фальсификаций и искажений. Мы не можем больше позволять, чтобы удавался замысел обманщиков, пытающихся представить то, что было неизбежным результатом преступных замыслов, случайностью и виною одиночки, то есть событием, якобы лишенным прямой связи с общеполитическим развитием. Не может быть никаких сомнений и том, что действительной целью подобных усилий является реабилитация германского генерального штаба при одновременном ослаблении его политического значения, с тем чтобы убедить в его необходимости для будущей войны.
Но немецкий народ не должен никогда забывать: это неправда, что генеральный штаб лишь по принуждению следовал за Гитлером. Напротив, он в целом, как корпорация, совершенно добровольно посвятил все свое умение задачам захватнических войн. Чтобы предупредить возражения лиц, знающих систему взаимоотношении внутри штабов, заявляю, что я не делаю никакого различия между генеральным штабом сухопутных войск и генеральным штабом вооруженных сил (вермахта). Большинство сотрудников штаба вермахта пришли туда из сухопутных войск: Кейтель, Йодль, Цейт-цлер, Варлимонт, Булле, Шмундт и др.—вышли из недр генерального штаба сухопутных войск. Необходимо сейчас на основе оперативных планов наступления на Сталинград показать, что генеральный штаб во главе с Гитлером полностью ответственен за эту катастрофу. Я познакомился со всеми планами в мае 1942 года в главном командовании сухопутных войск.
После огромных потерь, которые немецкие войска понесли в кампании 1941 года, и прежде всего в решающей битве под Москвой, которая явилась первым в ряду жестоких поражений зимы 1941/42 года, немецкая армия уже не была в состоянии повести новое наступление на всем фронте.
Битва под Москвой была решающим военным фактором колоссальной значимости, однако она еще не привела к полному крушению той веры в победу, которая была у немецкого народа. Из-за своего ослабления в итоге зимней битвы немецкая армия, чтобы снова обрести наступательную силу, могла провести значительные наступательные операции лишь на одном участке фронта. Главной оперативной целью в 1941 году считалось уничтожение всех советских вооруженных сил в течение одной кампании, а это и тогда уже было утопией. Но в 1942 году об этом никто даже говорить не решался, чтобы не быть поднятым насмех. Однако генеральный штаб как советник Гитлера не извлек уроков из опыта зимы и по-прежнему, преступно недооценивая противника, считал возможным продолжать наступательную войну, следуя стратегии захватов. Войсковым командирам объясняли это крайней необходимостью, утверждая, что без кавказской нефти невозможно продолжать войну. Вульгарный лозунг Геббельса о «полезности войны»1 вполне соответствовал тезисам генерального штаба, выраженным в более пристойной форме о необходимости обеспечения стратегическим сырьем.
Кое-кто из командования сухопутных сил и представителей генерального штаба вермахта сегодня подвизается на Западе, например небезызвестные Хойзингер и Варлимонт.
Подлинной целью нового наступления должен был стать Кавказ. Как продолжение операции Гитлеру и главному командованию вермахта мерещился нажим па Турцию, совместно с которой они надеялись повести наступление на английские позиции в Азии. Но для этого нужно было сперва уничтожить советские армии к югу и западу от Дона, достигнуть Волги и с помощью всех введенных в действие сил захватить Сталинград.
Противоречива уже сама по себе задача критического анализа стратегии и кампаний такой войны, которая была не только поэтически ложной
1 Имеется в виду откровенное выступление Геббельса в августе 1942 года, когда он с совершенно неприкрытым цинизмом заявил, что война ведется «не во имя идей, а ради реальной пользы... за хлеб, за нефть, за уголь».—Прим. ред.
360
и бессмысленной, по вместе с тем безнравственной и преступной. Однако так как паши противники на Западе выдвигают на первый план прежде всего военные решения и ход операций, то и мы должны исходить из них, с тем чтобы правильно осветить их подлинные, хотя все еще и оспариваемые намерения. План, согласно которому надо было сначала взять Сталинград и лишь татем наступать на Кавказ, провалился. После того как сильно теснимые на Нижнем Допу советские войска быстро отошли на Кавказ, вновь проявилось то самодовольство германского генерального штаба, которое уже не раз бывало роковым для немецкого народа. НедооцЛшвая силы противника, немецкое главное командование вопреки элементарным основам военного искусства раздробило свои силы, разделило их на два направления и тем самым уже создало предпосылки для будущей катастрофы. 17-я армия и 1-я танковая армия были брошены па Кавказ, тогда как против значительно более мощных сил противника для очень трудного наступления па Сталинград были направлены 6-я армия и 4-я танковая армия. После того как 6-я армия потеснила крупные советские силы на правом берегу Чира, опа только 21 августа смогла форсировать Чир и лишь к середине сентября, преодолевая упорное сопротивление, пробилась к Сталинграду. За этим последовали два месяца изнурительных боев, в течение которых продолжались героические контратаки советских войск па северном фланге 6-й армии, и немецкие части в черте города могли продвигаться очень медленно ценой необычайно высоких потерь. Моя дивизия насчитывала 12 600 человек, когда мы перешли Донец; 10 тысяч осталось после того, как опа с боями форсировала Дон; 8 тысяч было, когда она пробилась в Сталинград, и около 2500 человек попали в советский плен 31 января 1943 года. 4-я танковая армия была нашим южным фланговым охранением в калмыцких степях. Немецкие войска, наступавшие на Кавказ, были задержаны прочной обороной в предгорьях. Им удалось захватить только один небольшой нефтяной район Майкопа. Никакие другие источники нефти никогда не были достигнуты.
Не может быть сомнений в том, что советские войска были в затруднительном положении, находясь под нажимом массированных наступательных сил немецких армий. Однако эти трудности слабели по мере того, как в упорных боях за Сталинград, в степях и на Кавказе все более значительно иссякали наступательные силы немцев. Следуя Клаузевицу, кульминационная точка наступления была пройдена. Немецкие атаки прекратились.
Л в это же самое время происходило то, что немецкое главное командование в своей заносчивости считало уже совершенно невозможным. В ходе ответных мероприятий советского Верховного командования в конце октября к северу от Дона и в степях на западе от Волги были сосредоточены значительные силы. В результате советского наступления, которое началось 19 ноября из района северо-запада и южнее Сталинграда, был прорван фронт немецких и румынских войск. Могучим ударом на Калач было достигнуто соединение наступавших войск, и 23 ноября 6-я армия, находившаяся в районе Сталинграда, была отрезана от всех других участков немецкого фронта.
Немецкое главное командование запретило прорываться из окружения, хотя именно эта мысль напрашивалась сама собой; 6-й армии было приказано занять круговую оборону и ей обещали помочь, развернув наступление в тыл окружающих войск. Но так как снабжение по воздуху оказалось совершенно недостаточным, то боевая сила окруженных частей слабела с каждым днем. Единственной пищей была конина и хлеб. На рождество еще каждый солдат получал по 200 граммов хлеба, по уже в начале января хлебный паек уменьшили до 50 граммов. К концу января не было уже ни конины, ни хлеба. После того как попытка прорыва окружения снаружи, предпринимавшаяся с 10 до 25 декабря—я о ней еще скажу особо,—осталась безуспешной и предложение о капитуляции, сделанное советским командованием, было отклонено, 11 января началось общее наступление советских
361
войск, которое завершилось полным разгромом окруженных частей. Говоря об этом, я не хотел бы умалчивать и о том, что мы, военачальники этих окруженных частей во главе с Паулюсом, тогда все еще находились под властью ложных представлений о воинском долге послушания, и поэтому мы несем ответственность за все последствия наших повторных отказов капитулировать. Целая армия, самая сильная армия немецкой Донской группы войск и всего Южного фронта, была уничтожена. Из 225 тысяч человек 90 тысяч попали в советский плен, 35 тысяч раненых были вывезены па самолетах и 100 тысяч умерли, погибли от голода и в боях.
Эти потери повлекли за собой чрезвычайно тяжелые последствия для всей немецкой армии; они значительно ослабили ее материальные силы. Но еще тяжелее для фашистских правителей был тот факт, что и армия и народ восприняли все, что свершилось под Сталинградом, как роковое поражение. Этого не могут не признать все честные свидетели. Один из таких авторов, молодой офицер генерального штаба, пишет: «Наступил роковой поворот немецкой военной судьбы. Вера в непобедимость нашего оружия, вера, которая прежде сдвигала горы, теперь была потрясена до самых основ и в армии и в народе. Со Сталинграда началась серия военных поражений, которые в конце концов привели к катастрофе»1. И другой автор, генерал-майор Ганс Дёрр, безоговорочно признает то большое значение, которое Сталинградская битва имела для Советского Союза: «Ни один из его союзников не может похвалиться такой победой». Дёрр отмечает, что после Сталинграда престиж русской стратегии у воюющих страп стал самым высоким. Советский Союз добился в Сталинграде значительно большего, чем просто победы, в самой великой из битв своей истории1 2.
Эти суждения заметно и притом весьма характерно отличаются от высказываний ведущих военачальников. Цитированные выше авторы понимают, что главное значение имеет не столько собственно военный успех, достигнутый в битве, сколько политические плоды победы. Это как раз тот урок, который немецкая военная мысль—разумеется, за исключением Клаузевица—обычно очень редко усваивает. Дёрр, к сожалению, не решается высказать того, что после победы в Сталинграде изменилась самая основа общего международного соотношения сил. Понятно, почему Дёрру нельзя признавать эту истину: ведь тем самым были бы лишены силы клеветнические тезисы западногерманской антисоветской пропаганды.
К подобным свидетельствам я отношу также некоторые разделы книги генерал-майора Бернгарда фон Лоссберга «В штабе главного командования вермахта». Так, например, Лоссберг, признает, что «война была преступно развязана Гитлером», что в 1942—1943 годах «наступление немецких армий на Востоке вторично закончилось большим поражением»3, а также пишет, что нет никаких оснований утверждать, будто Советский Союз в 1941 году готовился напасть на Германию.
Однако обо всем этом не желает ничего знать большинство других авторов различных публикаций о второй мировой войне и Сталинграде. В противоположность цитированным выше работам, авторы которых стремились к объективному изложению, такие весьма известные книги, как «Потерянные победы» генерал-фельдмаршала Манштейна и «История второй мировой войны» генерала пехоты Типпельскирха, являются произведениями, рассчитанными прежде всего на подготовку новой мировой войны. Чем иным еще можно объяснить то, что Манштейн считает возможным писать: «Несмотря на то, что немцы потеряли в общем пять армий, все же нельзя говорить, что эта утрата уже имела решающее значение для исхода войны»4. Это значит, что он возлагает вину за последстЛя Сталинграда только на Гитлера, с тем чтобы обе-
1 Toepkc, Gunter, Stalingrad—wie es wirklich war, Slade, 1949, S. 136
2 D о e r r, Hans, Der Feldzug nach Stalingrad, Darmstadt, 1955, S. 14.
3 Lossbe rg, Bernhard, Im Wehrmachtsfiihrungsstab, Hamburg, 1950., S. 151 f.
4 Manstein, Erich, Verlorene Siege, Bonn, 1957, S. 468.
362
лить себя и немецкий генеральный штаб. После этого есть все основания спросить у Манштейна: разве он сам не является в полной мере виновным в том, что, будучи командующим группой войск, исполнял приказыГитлера, хотя, судя по его, Манштейна, собственным утверждениям, уже тогда понял их губительную ошибочность? Почему же он тогда сознательно помогал осуществлять заведомо гибельные планы Гитлера? И одновременно следует напомнить Манштейну, что он не только участвовал в антисоветской пропагандистской травле, но и никак не возражал против подлого нападения на Советский Союз. •
В своей книге он утверждает, что «империя находилась в состоянии постоянной угрозы возможного близкого или отдаленного вмешательства Советского Союза в войну, несмотря на то, что Кремль первоначально представлялся весьма дружелюбным по отношению к Германии»1. Увлеченный клеветническим рвением, он не останавливается даже перед тем, чтобы вновь повторить сознательную пропагандистскую ложь, утверждая, что якобы «угрожающее сосредоточение советских войск на немецкой восточной границе должно было во всяком случае вызывать сомнения относительно будущей позиции Кремля* 2. В своей ненависти к Советскому Союзу он заходит настолько далеко, что даже предлагает Англии немецкую помощь в борьбе против СССР. Он пишет, что английское правительство, дескать, закрывало глаза на то, что «в изменившемся мире необходимо заботиться о восстановлении «международного равновесия» ввиду возросшей мощи Советского Союза и той опасности, которую эта мощь, целиком посвященная идее мировой революции, представляет для Европы»3. Таким образом, не может быть никакого сомнения в том, что Манштейн по меньшей мере одобрял большинство агрессивных планов Гитлера и теперь пытается обосновать их при помощи давно опровергнутой клеветы на Советский Союз. Тем самым он помогает натравливать немецкий народ, готовя его для новой войны против Советского Союза, но теперь уже в американских интересах.
Второй автор, генерал пехоты Типпельскирх, утверждает, что операции в Северной Африке с точки зрения общей стратегической обстановки имели якобы большее значение, чем Сталинград4. Не следует думать, что такое утверждение было простым безрассудством. Ведь в Сталинграде были полностью уничтожены 22 дивизии и к тому же еще 75 дивизий были отброшены от Дона, Волги и Кавказа и, понеся тягчайшие потери, оттеснены на исходные позиции своего летнего наступления. А в Северной Африке на второстепенном фронте были уничтожены 3 дивизии. Таким образом, Типпельскирх пытается утверждать, что успех западных держав, как бы мал он ни был сам по себе, имел большее политическое значение, чем решающая победа Советского Союза. Он пытается принизить значение Советского Союза в глазах мировой общественности и словно не замечает, как смешон он сам, делая подобные гротескные утверждения. К такого же рода клевете он прибегает и по другому поводу. Так, рассуждая о возможностях прорыва 6-й армии из окружения, он следующим образом оценивает умение советского армейского командования: «...если бы в тот момент проявили должную решительность, основная массса армии, без всякого сомнения, еще могла быть спасена—войска сделали бы невозможное, несмотря на ослабленное физическое состояние людей. И русские командиры оказались бы беспомощными, как никогда, перед такой внезапной атакой готовых на все и энергично руководимых немецких солдат»5. Злонамеренной клеветой па советских солдат и офицеров и к тому же клеветой, лишенной всяких оснований, которую может опровергнуть любой военнопленный из 6-й армии, является
'Manstein, Erich, Op. cit., S. 154.
2 Ibid., S. 170.
3 Ibid., S. 156.
4 К. Типпельскирх, История второй мировой войны, Издательство иностранной литературы, М., 1957.
5 Там же, стр. 260.
363
такое утверждение Типпельскирха: «Сколько из 90 тысяч пленных стали жертвами мести русских или умерли вследствие того, что русские не могли обеспечить их продовольствием, остается неизвестным»1.
В связи с этими заявлениями я констатирую следующее:
1. Если советское командование было якобы столь беспомощным перед отчаянными атаками немецких солдат, почему же сам Типпельскирх, будучи командующим 4-й армии, не использовал это столь безотказное средство, то есть «отчаянные атаки немецких солдат» после разгрома группы войск «Центр» в конце июня 1944 года, чтобы спасти остатки своей армии; почему же вместо этого он передал командование одном)’ из своих подчиненных генералов, а сам удрал на самолете, тогда как его армия со всеми генералами после тяжелых боев попала в плен?
2. Что касается тени, которую Типпельскирх злонамеренно бросает на советские органы, ведавшие военнопленными, то я могу на основании своих личных точных наблюдений заявить следующее: немцы в Сталинграде, сдаваясь в плен, уже были истощенными, изголодавшимися и больными и в таком состоянии прибывали в лагеря, расположенные в заснеженных степях. Они приносили с собой дизентерию, сыпной тиф и вшей. Никаких запасов продовольствия не было, все необходимое удавалось доставлять лишь постепенно, после прекращения боевых действий. Сыпной тиф распространялся стремительно. Десятки тысяч людей болели и многие умерли, несмотря на самоотверженные усилия советского медицинского персонала. При уходе за немецкими военнопленными умерли 2 советских врача и 14 медицинских сестер.
А поинтересовался ли когда-нибудь по долгу службы господин фон Тип-нельскирх, сколько советских военнопленных в Германии погибли от голода и сколько были просто хладнокровно убиты? В подтверждение я могу привести цитату из книги боннского профессора теологии Голльвицера, которого менее всего можно заподозрить в дружественных чувствах к Советскому Союзу. Тем не менее он вынужден признать: «95 тысяч человек попали в плен у Сталинграда... Я говорил со многими из них. Все единодушно утверждают, что высокая смертность среди военнопленных объясняется крайней степенью истощения и ужасающими условиями дальних переходов из района боевых действий в тыловые лагеря. И, значит, повинно в этом немецкое командование, которое не капитулировало своевременно, а не русские конвойные войска и не русский медицинский персонал. Напротив, немецкие военнопленные с величайшей похвалой отзывались о той самоотверженности, с какой русские врачи и сестры вкладывали буквально последние силы, чтобы спасти жизнь возможно большему числу немцев, и многие из этих врачей и сестер при этом сами пали жертвами сыпного тифа.
Именно такие, совершенно неожиданные для них наблюдения, побудили многих немцев, находившихся под Сталинградом, по-новому взглянуть на Советы и впоследствии примкнуть к Национальному комитету «Свободная Германия»1 2.
Если судить об этой войне, в частности о некоторых ее операциях, например о Сталинградской кампании, с чисто военной точки зрения, на что претендует Манштейн, то нельзя не обнаружить грубейших нарушений элементарных основ военного искусства. Попытка провести одновременную двойную наступательную операцию против Сталинграда и против Кавказа, имея для этого недостаточно сил и вместе с тем стараясь удерживать фронт длиною в 2 тысячи километров,—такая попытка могла закончиться только неудачей. Те, кто ее начинал, были ослеплены намерением пробить дорогу в Центральную Азию и вьНсопали немецкой армии могилу#на Волге. Вместо триумфа, к которому стремились, пришла кровавая катастрофа. Но в деп-
1 К. Типпельскирх, Названное сочинение, стр. 264.
2 G о 1 I w i t z е г, Helmuth, ... und fiihren, wohin Du nicht willat, Miinclien, 1956.
364
ствительности не может существовать изолированных, «чисто военных» суждений о войне, стратегии и даже об отдельной операции. Все они определяются политическими причинами, преследуют политические цели и при водит к политическим последствиям.
Битва под Сталинградом оказала огромное политическое воздействие па немецкий народ, на союзников, на Европу, на весь мир. Немецкая армия .лишилась ореола непобедимости. Авторитету Гитлера п его государства была нанесена неизлечимая рана.
В союзных с Германией государствах: Финляндии, Румынии, Венгрии и Италии—настроение резко упало. Силы, выступавшие с требованием мира, умножались и укреплялись. В оккупированных странах, и прежде всего в Югославии и Франции, усиливалось движение Сопротивлении, приобретая все больший размах и остроту. В Италии также часть народа выступила против фашизма и войны. В марте 1943 года Муссолини призывал Гитлера заключить мир с Советским Союзом. Немецкая армия вынуждена была оставлять все более значительные части оккупационных войск в покоренных странах, где наблюдалось сильное брожение. Политико-моральное состояние немецкого народа было также значительно потрясено. Его доверие к военному руководству получило жестокий удар. Вера в победу начала иссякать, и тотальная мобилизация всех сил на продолжение войны самым решительным образом показала всему народу серьезность созданшегося положения. И хотя это пе было достаточно ясно, но мир уже почувствовал, что после сталинградского поражения наступил решающий поворот в ходе войны. Действительно, дальнейшее развитие военных событий показало, что исход войны был решен именно в Сталинграде, что бои, окончательно уничтожавшие германский вермахт и фашизм, какими бы жестокими они ни были, в конечном счете только завершали дело, начатое в Сталинграде.
Народы Советского Союза и их Красная Армия знали теперь, что дух социализма и советского патриотизма, зажигавший сердца бойцов и вдохновлявший их на подвиги, является необычайно действенным оружием, и они знали, что конечная победа уже близка. У партизан и бойцов Сопротивления еще больше окрепла вера в победу, когда они узнавали об успехе Советского Союза. Эти успехи влияли также и на англо-американское командование. побуждая его значительно усиливать подготовку открытия второго фронта. Стремительное наступление советских войск внушало тревогу англо-американцам, возбуждало опасение, что они попадут в Европу к шапочному разбору. Эти опасения не были лишены оснований. Когда радио разнесло по всему миру весть о том, что вооруженные силы Советского Союза нанесли сокрушительное поражение фашистам, человечество поняло, что страна социализма сильнее, чем агрессор. Советский Союз стал символом освобождения пародов от фашизма.
11 для немецкого народа это страшное поражение принесло с собой глубокое политическое отрезвление. Прежде всего наиболее отчетливо это проявилось вереде военнопленных, взятых под Сталинградом. Они до последней степени были возмущены жестокими страданиями, испытанными в боях в окружении, сознавали, как бессмысленны были их кровавые жертвы, сознавали, что их командование гнусно злоупотребляло сверхчеловеческими усилиями солдат, поняли, что нее обещания прорвать окружение извне были обманом, и осознали наконец полнейшую абсурдность всей этой операции. Опп увидели, что, следуя за нацизмом, они шли по ложному пути. Теперь они смогли на собственном опыте лично убедиться в том, что те уродливые искаженные представления о Советском Союзе, которые им вдалбливала папистская пропаганда, были чудовищной клеветой. Из этого горького отрезвления, разочарования п возмущения, а также из желания спасти Германию от угрожавшей ей страшной судьбы возникло движение «Свободная Германия», пз которого вскоре образовался Национальный комитет.
Чтобы вы могли яснее представить себе тогдашнюю обстановку, я хочу сейчас с чисто военной точки зрения ретроспективно оценить попытки про
335
рыва окружения извне, которые Манштейн описал впоследствии так тенденциозно и так неправдиво.
Для прорыва сталинградского окружения была выделена 4-я танковая армия, составленная из двух танковых дивизий, к которым впоследствии добавили еще одну, 3-ю; армия имела в общей сложности 300 танков и самоходных орудий. В ее состав входили два слабых румынских армейских корпуса. Преодолевая очень большие трудности, эта ударная группа смогла 12 декабря начать наступление из района Котельниково, форсировать Аксай и после необычайно тяжелых боев выйти к 19 декабря на южный берег Меш-ково. Вечером того же дня командующий группой войск «Дон» фон Манштейн отдал приказ 6-й армии возможно скорее начать атаки в юго-западнОм направлении, известив о них шифрованным сигналом «Зимняя гроза», с тем чтобы пробиться к Донской Царице, установить связь с 4-й танковой армией и обеспечить продвижение обозов с боеприпасами и продуктами для окруженных частей.
Одновременно в этом приказе содержалось указание подготовить второй этап прорыва, который в случае необходимости должен был последовать за первым, то есть за «Зимней грозой». Операция, зашифрованная названием «Громовой удар», должна была осуществляться 6-й армией с целью соединения с частями 4-й танковой армии при одновременном постепенном отходе из района сталинградского котла1. Фельдмаршал Паулюс, получив этот приказ, начал немедленно готовить войска для осуществления первого варианта прорыва в соответствии с приказом. Манштейн знал, что такая подготовка потребует нескольких дней. 6-я армия могла начать бои не ранее 24— —25 декабря, поскольку все ее соединения были мобильны лишь в очень ограниченной степени.
Но прежде чем пришло распоряжение приступить к осуществлению операции «Зимняя гроза», 23 декабря последовало сообщение Манштейна о том, что как прорыв, так и удар по окружению извне приходится отложить.
Дело в том, что в течение этих дней сложилось чрезвычайно угрожающее положение к западу от Дона. Фронт в районе среднего Дона, который защищала 8-я итальянская армия, 16 декабря был прорван, а эта армия была разгромлена. Левый фланг группы войск фон Манштейна, оборонявшийся на линии Чира, также был вынужден отступить. К 23 декабря Красная Армия продвинулась на 180 километров к югу, и у немецких войск уже не было и даже не предвиделось возможностей остановить это наступление. Прорыв советских войск в направлении Ростова угрожал уничтожением всех немецких сил на Кавказе, а также восточнее и западнее Нижнего Допа. Именно эта опасная обстановка вынудила командующего группой «Дон» Манштейна прекратить 23 декабря наступление на Сталинград, отвести 6-ю танковую дивизию на западный берег Дона и всю 4-ю танковую армию — на линию Аксая. Этим решением была окончательно определена судьба 6-й армии.
Однако, вопреки фактам, Манштейн в своей книге «Потерянные победы» упрекает генерал-фельдмаршала Паулюса в том, что якобы он один повинен в гибели своей 6-й армии в Сталинграде. Манштейн утверждает, что, отдав приказ о прорыве и отступлении из района окружения, он тем самым снял с командующего 6-й армии Паулюса ответственность за невыполнение приказа Гитлера, требовавшего удерживать Сталинград любой ценой. Этоутверждение Манштейна не соответствует действительности. И это явствует даже из его собственных приказов, тексты которых он приводит в приложении к своей книге, а также из свидетельств генералов, попавших в плен под Сталинградом, к числу которых принадлежу и я. Итак, повторим факты.
Манштейн направил 19 декабря в 18.00 приказ 6-й арЛии, согласно которому она должна была подготовиться к тому, чтобы отступить из района окружения, однако осуществлять этот отход, только получив условный
1 Manstein, Erich, Op. cit., S. 367.
366
сигнал «Громовой удар». По только Паулюс, но и Манштейн тоже чувствовал себя связанным тем приказом Гитлера, который категорически запрещал прорыв пз окружения. И так же, как прежде Паулюс, Манштейн снова просил у Гитлера отменить это запрещение и разрешить 6-й армии оставить район Сталинграда. Манштейн не решился от своего имени приказать 6-й армии прорываться вопреки запрету Гитлера. Будучи командующим группы войск и соответственно начальником Паулюса, он был вправе отдать такой приказ, так же как и Паулус мог приказывать командирам своих корпусов и дивизий. Но пи тот, ни другой не нашли в себе мужества действовать вопреки приказу Гитлера. И если Манштейн не решился взять на себя ответственность за непослушание, то он нс вправе упрекать своего подчиненного в том, что тот также не захотел ослушаться. Сегодня Манштейн пытается спять с себя ответственность за принесение в жертву 6-й армии за счет фельдмаршала Паулюса. Именно поэтому я оглашаю здесь публично подлинный ход дела и опровергаю тенденциозное и неправдивое изложение этих фактов геперал-фсльдмаршалом Манштейном.
Подлинные причины неудачи попытки прорыва окружения извне имели совершенно иные основания. У немецкой армии ле было достаточно сил, чтобы достичь тех целей, к которым стремился Гитлер: захват Кубани и нефтяных месторождений Кавказа. Окружение, в которое попала 6-я армия, явилось следствием переоценки собственных и недооценки советских сил. Когда 19 ноября началось широкое советское наступление, то на всех угрожаемых участках не оказалось оперативных резервов, да и вообще не было стратегических резервов, чтобы прикрыть прорывы на Дону и в калмыцких степях. Все наличные войска и все те войска, что удалось перебросить с других фронтов, оказались недостаточно сильными даже для того, чтобы предотвратить расширение этих прорывов и приостановить развитие советского наступления.
Силы, сосредоточенные для прорыва окружения 6-й армии извне, как оказалось, были слишком слабы для того, чтобы осуществить эту задачу. Натолкнувшись на сильный отпор, они уже 19 декабря были остановлены на участке Мешково. Следовательно, неудачу попытки выручить 6-ю армию, окруженную под Сталинградом, определили отнюдь не ошибки командования этой армии, а умение и энергия советского командования, которое вела неудержимое наступление, располагая воодушевленными, гордыми победой войсками, и навязывало свою тактику немецкому главному командованию.
Все это, несомненно, известно также и Манштейну. И если он, несмотря ни на что, все же упрекает командующего 6-й армией в том, что тот якобы не использовал шансов для спасения своей армии, предоставленных ему в дни с 19 по 25 декабря Манштейном, то это определяется отнюдь не военными причинами. Свои подлинные мотивы Манштейн невольно высказывает в маленьком придаточном предложении: «...независимо от всего того, чти относится к личности командующего армией [то есть Паулюса.—О. Я.] и к его поведению в последующее время»1. Имеется в виду активная деятельность Паулюса в движении «Свободная Германия».
После поражения под Сталинградом генерал-фельдмаршал Паулюс понял, что, соблюдая воинское послушание, он действовал во вред немецкому пароду, что, упорно придерживаясь полученного приказа, он объективна согрешил против более высоких заколов—интересов нации. Он понял, чта путь, по которому он шел прежде, был ложным и неотвратимо должен был привести к гибели Германии и что поэтому отныне его патриотическим долгом является участие в обеспечении мирного будущего своего парода. Вог почему генерал-фельдмаршал Манштейн видит своего врага в человеке, которого тяжелые испытания привели к прозрению.
В то время как Паулюс отказался от поддержки выродившихся военных принципов пруссачества, тех, что прежде были идеалом воинского вос
1 Manstein, Erich, Op. cit., S. 371.
367
питания гитлеровской армии, Манштейн цепляется за традиции, принципы и взгляды германского генерального штаба, который в действительности полностью подчинился интересам империализма и в качестве послушного лакея захватнической политики империализма уже дважды содействовал тому, что немецкую армию обрекали на величайшие в ее истории поражения. Манштейн последовательно идет по старому пути и уже сегодня является одним из советников возрожденного германского империализма, который теперь, в третий раз, готовится к новым агрессиям, по на этот раз уже с атомным и ракетным оружием, готовый, не задумываясь, принести в жертву своим корыстным интересам даже самое существование нации.
Как генерал-фельдмаршал Паулюс, так и генерал-фельдмаршал Манштейн—оба послушно выполняли приказы Гитлера, и поэтому оба закономерно как полководцы должны были потерпеть поражение. Маиштейп горюет об утраченных победах, ради которых оп бесполезно пролил кровь немецких солдат. А генерал-фельдмаршал Паулюс примкнул к борьбе за освобождение Германии ст господства империализма и отдал свои силы на строительство Германской Демократической Республики. Он был единственным из бывших немецких генерал-фельдмаршалов, достигшим большой победы— победы над самим собой. Он разбил оковы, которыми опутали его в молодости и которые приковали его к милитаристскому мышлению, к системе, рассчитанной на то, чтобы армию, предназначенную для обороны, использовать в целях, чуждых и враждебных народу. Оп понял, что подлинным долгом солдата и офицера является пе служба во имя агрессивной войны, а борьба в рядах народа за мир, против подлинных причин войны и против ее поджигателей. И этим взглядам он остался вереи до самой смерти.
К сожалению, политические силы германского империализма и их милитаристское мышление устранены отнюдь не везде. На западе нашей родины они вновь находятся у власти. Нашей задачей как историков и бывших офицеров является с помощью всех моральных средств бороться против этих ничему не научившихся милитаристов и фальсификаторов истории. Нельзя допустить, чтобы им удалось втравить немецкий парод в братоубийственную войну и в новую международную бойню.
Рудольф Бамлер
РОЛЬ НЕМЕЦКОЙ ВОЕННОЙ СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЫ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ— ЗАПРЕТНАЯ ТЕМА ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Прогрессивная историческая наука, стремясь сорвать завесу с тайны, в которой подготавливаются войны—как этого требовал Ленин,—наталкивается на своеобразное белое пятно. Оно образовалось потому, что об одной из тех сил, которые играли весьма значительную роль в подготовке второй мировой войны, а именно о секретных разведывательных службах, историки второй мировой войны по вполне понятным причинам либо вообще не пишут, либо весьма скупо упоминают.
Многие из предшествующих ораторов уже достаточно подробно рассказали здесь о том, как империалистические государства, и среди них прежде всего милитаристские круги Федеративной Республики, стремятся и поныне не раскрывать эту тайну в послевоенной литературе и любыми средствами воспрепятствовать ее разоблачению. Поэтому не приходится удивляться, что в столь обильной послевоенной литературе Западной Германии почти не находится материалов для серьезных исторических исследований деятельности различных секретных служб, столь многочисленных во времена нацистского режима. Среди книг на эту тему, изданных в Западной Германии и, как правило, рассчитанных прежде всего на сенсацию, выделяется одна: книга Абсхагена «Канарис—космополит и патриот». Она интересна тем, что автор, в прошлом активный сотрудник немецкой разведки, пытается создать ореол ангельского миролюбия вокруг своего бывшего начальника, а в его лице и всей немецкой военной разведки. И поэтому, естественно, все факты, которые могли бы дать сколько-нибудь правильное историческое освещение деятельности Канариса и немецкой военной разведки, замалчиваются, искажаются либо их значение умаляется. Так, например, Абсхаген признает, что руководитель немецкой военной секретной разведки был ярым врагом социализма и Советского Союза, однако отрицает его участие в убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксембург, заявляя, что это выдумка вражеской пропаганды.
Поскольку в годы второй мировой войны я был начальником отдела контрразведки управления немецкой разведки, то есть находился в самом сердце немецкой секретной службы, я хочу попытаться, хотя бы на основе собственных наблюдений, рассказать о деятельности этой организации в подготовке второй мировой войны и показать тем самым, какое значение имела деятельность немецкой секретной службы в начале этой войны.
Каждому военному историку известно, что милитаризм, пользуясь средствами разведки, еще в мирных условиях закладывает основы для тех захватов и завоеваний, которые должны обеспечить исходные позиции будущих наступлений. Это утверждение, подкрепляемое всем опытом истории, я выдвигаю здесь не просто как умозрительный тезпс, но попытаюсь доказать его с помощью фактов.
Если придерживаться фактов, то Германия начала вторую мировую войну еще в 1936 году в Испании, то есть вдали от полей будущих сражений. Об этом факте стоит напомнить именно сейчас, после того как правительство
24 Заказ № 1220 369
Аденауэра с помощью договоров о Евратоме и «Общем рынке» теснейшим образом связалось со старыми колониальными державами. Снова и во все возрастающих масштабах западногерманские газеты, и особенно гамбургская «Ди Вельт», публикуют необычайно много корреспонденций о франкистской Испании и об отношении правительства «каудильо» к правительству Аденауэра.
В бюллетене федерального правительства в апреле 1957 года была опубликована статья, в которой мы читаем следующие строки: «Если во время назначенного в мае совещания министров в Бонне или в какое-либо другое время будет поставлен вопрос о приеме Испании в члены НАТО, то федеральное правительство не предвидит оснований для того, чтобы отказать в своей поддержке такому предложению. Оно соответствует не только стратегическим интересам и реальным основаниям, оно было бы актом последовательной европейской политики». Как уже отмечалось, такого рода взаимоотношения существуют давно. У них очень давняя предыстория. Уже вскоре после первой мировой войны было заключено соглашение с реакционным правительством экономически отсталой Испании о производстве там оружия, запрещенного Версальским договором. Так, например, вскоре после первой мировой войны на верфях в Аликанте с помощью немецких специалистов было начато строительство немецких подводных лодок.
Всем известно также, что Испания располагает богатыми залежами ценных металлов: меди, вольфрама, свинца, ртути и других, в разработке которых были заинтересованы крупные английские капиталисты; с жадностью зарились на них и немецкие концерны. Кроме того, Испания благодаря своему географическому положению господствует над западными воротами Средиземного моря и нац всем противолежащим африканским берегом. А в марокканских рынках магнаты немецкой тяжелой промышленности, как, например, Маннесманн, были заинтересованы еще перед первой мировой войной.
Сегодня уже всем известно, что США. и их западногерманские сателлиты осуществляют экономическое, политическое и военное проникновение в Испанию и Африку. Они, как мародеры, обирают еще при жизни умирающие колониальные империи—Францию и Англию. И подобно тому как после первой мировой войны возрожденный с помощью американского капитала немецкий империализм использовал Испанию в качестве трамплина для агрессин против Франции и Англии, так и сегодня корыстолюбивые и властолюбивые ученики Гитлера в Бонне пытаются повторить этот опыт. Вновь создалось такое положение, при котором франкистская Испания служит немецкой военной промышленности в качестве богатой и дешевой иностранной базы для вооружения Западной Германии, то есть точь-в-точь так же, как это было накануне и в годы второй мировой войны. И снова Испания становится трамплином для немецкого империализма, вынашивающего планы колониальной эксплуатации Северной Африки.
Я хотел бы прежде всего коротко охарактеризовать ту роль, которую военная секретная служба играла сразу же после окончания первой мировой войны и в начальный период второй мировой войны. Это совершенно необходимо, чтобы понять сегодняшнее положение и, так сказать, традиционную природу тех отношений, которые сложились между западногерманским империализмом под главенством Аденауэра и правительством Франко. В упомянутой выше книге Абсхагена отнюдь не случайно военная карьера Канариса излагается в главе «Мадридский тыл, 1916 год», посвященной его деятельности в Испании^ годы первой мировой войны. В ту пору Канарис был еще молодым морским офицером, уполномоченным^цемецкой секретной военно-морской службы, в Испании. Его главная задача заключалась в том, чтобы создавать на берегах Атлантики и Средиземного моря тайные пункты снабжения немецких подводных лодок. Кроме того, он всячески подстрекал вождей североафрпканских племен на «священную войну» против Англии и Франции, обещая им военную и финансовую помощь. Для осуществления
370
этих задач требовались, разумеется, доверенные лица. Такие люди были среди испанцев и крупных немецких торговцев, живших в Испании. Доверенными лицами стали, например, «испанский Стиннес»—Эчеваррьета, крупный немецкий торговец Зауэрман, его управляющий Ниман, живший в Лас-Пальмасе на Канарских островах, консул Лангенхейм, также являвшийся крупным торговцем с резиденцией в Тетуане (Испанское Марокко), консул Рюгеберг в Барселоне и некоторые другие.
В те годы Канарис познакомился с очень честодюбивым молодым испанским штабным офицером Франко, который командовал туземными конными отрядами испанской колониальной администрации. Благодаря таким связям у него создались хорошие отношения с вождями североафриканских племен. Эти связи, равно как и свободолюбие вождей племен, Канарис всячески использовал в годы первой мировой войны, выполняя свои задачи в Испании и в Испанском Марокко, особенно в колонии Рио д’Оро.
С этих пор и начали развиваться тесные отношения между Франко и немецкой секретной службой.
Победа испанских демократов на выборах в 1936 году и образование после этого республиканского правительства вызвали у немецких монополистов серьезные опасения: они испугались, что их влияние в Испании и Испанском Марокко может ослабеть. Поэтому они всячески содействовали разработке планов переворота в Испании, направленного против Испанского республиканского и демократического правительства, которое они называли—точно так же делается и сейчас в подобных случаях—коммунистическим. Для осуществления своих планов немецкие монополисты вновь прибегли к помощи военной разведки. Первоначально на роль военного лидера испанской контрреволюции предназначался генерал Санхурхо, живший в эмиграции в Португалии, который также был близок к немецкой секретной службе. Однако этот план был сорван конкурентом немецкой разведки—агентурой Интеллидженс сервис, «организовавшей», как бывало уже неоднократно прежде, аварию самолета, на котором Санхурхо вылетел, чтобы принять командование в Испании. При этой аварии Санхурхо погиб. Франко, являвшийся доверенным агентом Канариса, после свержения диктатуры Примо де Ривера был переведен правительством молодой Испанской Республики на отдаленные Канарские острова. Насколько непоследовательна и беспечна была в ту пору молодая Республика, видно уже из того, что хотя перевод Франко являлся, так сказать, наказанием, однако «наказанный» был назначен командующим войсками, расположенными па островах.
Как только поступило известие о гибели генерала Санхурхо, немецкая секретная служба немедленно начала действовать в Марокко. Служащий фирмы Лангенхейма, некий господин Ниман, который проживал в Лас-Пальмасе, воспользовавшись «случайно» оказавшимся там самолетом немецкой воздушной компании «Люфтганза», вылетел на нем в Тетуан, захватив с сбоой господина Франко, командующего войсками на Канарских островах, а точнее своего коллегу и агента немецкой разведки. В Тетуане они немедленно связались с немецким резидентом Лангенхеймом, который, занимаясь торговой деятельностью, одновременно выполнял еще и обязанности консула, действуя, разумеется, в духе указаний Канариса. Лангенхейм немедленно по телефону доложил о том, что Франко прибыл в Тетуан.
В это время пост верховного комиссара Испании в Испанском Марокко занимал полковник Бейгбедер-и-Атиенса. Прежде он был испанским военным аташе в Берлине и также поддерживал весьма тесные связи с немецкой разведкой. В те дни он отвел все своп войска, и прежде всего испанский Иностранный легион, на плоскогорье Кетана, в восьмидесяти километрах от Тетуана, и сосредоточил их там якобы для маневров. На том же самолете, который доставил Нимана и Франко из Лас-Пальмас в Тетуан, консул Лангенхейм вылетел затем в Берлин докладывать Канарису о сложившейся обстановке и представляющихся возможностях. Канарис говорил мне лично, что оп не считает Франко достойной заменой погибшего генерала Санхурхо
.371
24*
(именно в этом разговоре он сообщил мне, что катастрофу, при которой погиб Санхурхо, организовали англичане), однако он много лет сотрудничал с Франко и считал его надежной фигурой.
В этой ситуации, которая требовала быстрых решений, Канарис избрал Франко в качестве нового главнокомандующего контрреволюции. Это решение сразу же одобрили Геринг и Гитлер. В соответствии с предложениями Канариса Геринг первоначально откомандировал небольшие группы военнослужащих—две эскадрильи транспортных самолетов, замаскированных под гражданскую авиацию, в Тетуан, для того чтобы они переправили Франко и его авангардные части в Севилью, где контрреволюционный генерал Кейпо де Льяно уже создал небольшое предмостное укрепление. Транспортировку марокканских частей через Гибралтарский пролив в Севилью организовал опять-таки сотрудник немецкой разведки капитан военно-морского флота Хейнихен. Переправа первых марокканских войск на Иберийский полуостров создавала важнейшие предпосылки для того, чтобы признать Франко фактором силы и тем самым дать контрреволюции определенные шансы на успех.
Такова была одна сторона деятельности немецкой секретной службы во время организации испанской контрреволюции. Но я хотел бы отметить еще и другую сторону этой деятельности.
Германия в ту пору только начинала вооружаться и поэтому не обладала достаточными военными силами, чтобы в полной мере участвовать в том развитии конфликта в Испании, которое можно было предвидеть. К тому же было необходимо, учитывая напряженность обстановки в Европе, обзавестись союзником для такой весьма рискованной авантюры. Для того чтобы решить эту затруднительную задачу, вновь была использована секретная служба.
Канарис полетел в Рим, чтобы там встретиться с начальником итальянской разведки генералом Роатта, с которым он был лично знаком и дружен, и обсудить с ним планы участия Италии в испанской контрреволюции. Их обоих принял Муссолини, которого Канарис по поручению Гитлера убеждал в том, что создались благоприятные возможности для военной интервенции в Испании. Для этого он прибегал к намекам на лозунг «Маге nostrum»1, являвшийся излюбленным коньком Муссолини.
Именно тогда и было положено начало весьма активному, хотя и бесславному вмешательству Италии в испанскую войну, которое осуществлялось под командованием все того же начальника итальянской военной разведки генерала Роатта. На этом примере вы снова можете убедиться в том, какую роль играли органы секретной службы, расчищая пути для империалистического проникновения в слаборазвитые страны.
Дальнейшее расширение практической военной помощи, которую Германия оказывала Франко, в значительной степени определялось немецкой авиацией. В Берлине под непосредственным наблюдением Геринга был создан особый тайный штаб, который должен был руководить военной интервенцией в Испании. Начальником штаба был первоначально назначен генерал Вильберг; отсюда название—«Особый штаб В». Впоследствии им руководил Енике, ныне генерал-полковник в отставке, проживающий в Западной Германии.
Этот штаб, действовавший все время в тесном сотрудничестве с контрразведкой, оказывал влияние на весь ход операций в Испании. Он отправлял авиационные соединения, которые должны были поддерживать наступление колонн франкистской а>мии, продвигавшихся на Мадрид с юга. Он регулировал доставку замаскированных грузов вооружений, которые транспортировались на судах, направлял Франко группы немецких инструкторов, которые должны были обучать его неопытные войска современному воинскому
1 «Наше морен—под этим лозунгом итальянский фашизм предъявлял претензии на господство по всем бассейне Средиземного моря.—Прим. ред.
372
искусству, а также посылал немецкие части различных родов оружия для непосредственного участия в боях в Испании. Всеми этими частями руководил первоначально Варлимонт, бывший тогда в звании полковника, впоследствии известный военный преступник. Позднее его сменил немецкий военный атташе при Франко барон фон Функ.
Направляя в Испанию свои воинские части, германский генеральный штаб прежде всего ставил целью провести в крупных масштабах испытание новых видов оружия и тактических средств и вообще накоцрть опыт для второй мировой войны. Иными словами, Испания стала огромным кровавым полигоном германского генерального штаба, готовившего вторую мировую войну. И разве не чудовищно, что нынешний главнокомандующий бундесвера генерал Хойзингер, произнося недавно речь в Гамбурге, заявил: «Немецкие войска находятся в боевой готовности»? Итак, значит, снова создан полигон. Но теперь уже пе для второй, а для третьей мировой войны. Особый интерес представляет то обстоятельство, что с согласия Франко крупное отделение немецкой контрразведки обучало па испанской земле первые диверсионные группы, ставшие впоследствии ядром пресловутой дивизии «Бранденбург», которая приобрела такую черную славу в годы второй мировой войны.
Следует еще хотя бы коротко сказать о том, как именно немецкий монополистический капитал, чьи поручения выполняли все контрреволюционные и интервенционистские силы в Испании, пожинал плоды этого военного предприятия. В качестве полномочного руководителя «четырехлетнего плана» Геринг создал в Испании самые разнообразные экономические организации. Они должны были наряду с другими задачами обеспечить также оплату той военной помощи, которую Германия оказывала Франко поставками испанского сырья. По рекомендации немецкой контрразведки, руководителем крупнейшей из этих организаций, так называемой «Хисмы», был назначен некто Бернхард, бывший доверенный немецкой фирмы «Виллемер». Те функции, которые этот Бернхард выполнял тогда по заданиям Гитлера, сегодня приняли на себя многие другие заинтересованные организации. И от них от всех несет той же нефтью Сахары, которой охотно хотели бы попользоваться и империалисты США.
Но вернемся к военным проблемам. Несмотря на предоставленную ему огромную военную помощь, Франко все же не сумел уничтожить республиканские войска. Правда, ему удалось ворваться в пригороды Мадрида, достичь Мансанареса. Однако его сил было недостаточно для того, чтобы захватить весь город, который обороняли героические республиканские войска и интернациональные бригады.
В этой весьма критической для Франко ситуации немецкое командование снова поспешило ему на помощь. В Германии было создано несколько авиационных соединений, которые в ноябре 1936 года были переправлены в Испанию, образуя пресловутый «легион Кондор». Все транспорты погружались и выгружались тайно. Местом сосредоточения был испанский военный порт Эль Ферроль. Именно потому, что Франко пришел к власти с помощью Германии, и прежде всего с помощью немецкой секретной службы, он и в дальнейшем продолжал развивать военное и политическое сотрудничество с германским империализмом. Это сотрудничество продолжается и сегодня при соучастии американского империализма.
Таким образом, еще до начала второй мировой войны немецкая секретная служба играла чрезвычайно важную и роковую роль, от которой она отнюдь не отказалась и теперь. Изменилось лишь очень немногое: на место выбывшего вследствие «производственной аварии» Канариса пришел некто господин Гелен, по его «удлиненная рука»—генерал Шпейдель, несмотря па всю свою занятость в НАТО, время от времени появляется в Испании в качестве коммивояжера Гелена при Франко; вместо «Хисмы» действует теперь немецкое банковское объединение, которым руководит известный нацистский банкир Абе.
373
Все эти обстоятельства я хотел бы здесь особенно подчеркнуть: ведь речь идет о том самом Шпейделе, который в свое время, будучи молодым офицером, являлся помощником военного аташе в Париже. Уже тогда он играл настолько значительную роль в деятельности немецкой разведки, что Канарис счел возможным сделать для него исключение из правил, согласно которым военных атташе, поскольку они принадлежат к дипломатическому персоналу, не следует привлекать к работе секретной службы, и они вообще не должны с ней никак соприкасаться. Этой оценкой отнюдь не исчерпывается характеристика роли, которую немецкая секретная служба играла в подготовке и проведении второй мировой войны. Однако, считаясь с регламентом, я вынужден коснуться еще лишь нескольких фактов, из числа тех, которые мне известны.
Хотя о деятельности «пятой колоны» в ходе аншлюса Австрии в общем известно, считаю все же необходимым отметить в данном сообщении, что и в этом случае немецкая военная секретная служба сыграла очень важную роль. Из материалов Нюрнбергского процесса военных преступников, а также из книги Абсхагена известно имя фон Лахаузена, который тогда был обер-лейтенантом австрийской армии. Он числился офицером австрийского генерального штаба и служил в одном из важнейших отделов австрийского военного министерства—в разведывательном отделе, являясь референтом по Чехословакии. Этот австрийский «патриот» стал сотрудником немецкой секретной службы задолго до оккупации Австрии. То обстоятельство, что он был агентом немецкой секретной службы, существенно облегчило проведение оккупации Австрии именно таким образом, как этого хотела немецкая разведка. Лахаузен за оказанные им услуги был вознагражден сразу же после того, как Германия оккупировала его отечество: он был назначен начальником 2-го отдела немецкой контрразведки, то есть отдела по организации саботажа и диверсий.
Еще более откровенно действовала немецкая разведка во время оккупации Чехословакии. Вам всем известна роль Конрада Генлейна—руководителя немецких фашистов в Чехословакии. Вам известен и приказ Гитлера по вермахту, в котором предписывалось подготовить нападение на Чехословакию согласно плану, зашифорванному под названием «Операция Грюн». В этом плане немецкой разведке предназначалась очень важная роль. Генлейн также был агентом немецкой секретной службы и притом настолько значительным, что в качестве его личного консультанта в Чехословакию нелегально прибыл предшественник Лахаузена начальник отдела саботажа и диверсий майор Гросскурт. Таким образом, известная всем вам деятельность Генлейна, направленная на провоцирование судетского кризиса, осуществлялась под контролем и руководством немецкой секретной службы. Гросскурт и Гейнлейн формировали крупные диверсионные и штурмовые группы из так называемых «судетских немцев», которые должны были, едва начнется немецкое наступление, напасть с тыла на сильные пограничные укрепления чехословацких войск.
Обо всем этом немецкая послевоенная литература, понятно, почти ничего не пишет, либо искажает исторические факты, так ясс как это делалось, например, по поводу «легиона Кондор». Между тем было бы весьма полезно, чтобы немецкая историческая наука значительно глубже исследовала эти проблемы, с тем чтобы показать так называемым «землячествам» судетских немцев в Федеративной Республике, которые вновь попадают в сети тайной разведки немецкого милитаризма, поставляя ему провокаторов и реваншистов, их подлинное прошлое, ставшее теперь предметом сентиментальной рекламы. И тогда можно было бы убедиться в том, чего^действительно стоят крокодиловы слезы, проливаемые правительством Аденауэра.
И еще один факт. Бывший патер Тисо, занимавший в ту пору пост главы так называемого словацкого правительства, был, подобно Франко и Генлейну, уполномоченным немецкой контрразведки, агентом мюнхенского отдела контрразведки. Именно поэтому он был особенно удобен для своей
374
должности и этим же объясняется его антинародная и прогитлеровская деятельность, которая осуществлялась под руководством и надзором немецкой контрразведки. Кого же может удивить, что этот «глава правительства» сам предложил свою помощь для некоторых кажущихся почти невероятными мероприятий! Когда в 1941 году велась подготовка к нападению на Советский Союз, немецкая разведка установила, что послушное Гитлеру венгерское правительство не может рассчитывать на поддержку широких кругов венгерской общесъренности, если Венгрия совместно с Германией нападет на СССР. Понадобились особые средства, чтобы изменить настроение венгерского населения в пользу войны против Советского Союза. Для этого была пущена в ход провокация: по заданиям немецкой секретной службы немецкие самолеты без опознавательных знаков, вылетая со словацких аэродромов, бомбили венгерские населенные пункты в районе венгерско-советской границы. В сообщениях радио и печати это изображалось так, словно нападение совершили советские самолеты. Все это осуществлялось с ведома и при помощи доверенного лица немецкой разведки «президента» Словакии Тисо. Впрочем, эта провокация была лишь повторением опыта генерала Камхубера, нынешнего главнокомандующего воздушными силами в Бонне, который приказал своим самолетам бомбить Фрейбург и Брайсгау, что затем было приписано французам.
О тех событиях, которые предшествовали нападению на Польшу в 1939 году, общественность осведомлена значительно лучше благодаря разъяснительной работе польских организаций. Поэтому я хочу только напомнить о нападении на радиостанцию в Глейвице, для которого немецкая военная разведка снабдила эсэсовцев польскими мундирами, а также о тех провокационных подстрекательствах населения Бромберга (Быдгоща), которые также проводили эсэсовцы и которые завершились «бромбергской кровавой ночью», ссылками на которые потом пытались обосновать массовые убийства поляков.
Этим коротким рефератом я хотел привлечь внимание исторической науки к той роли, которую военная секретная служба сыграла в подготовке второй мировой войны. Разумеется, я понимаю, какие трудности стоят на пути исторического исследования именно этой области, поскольку источники и архивные материалы в большинстве случаев малодоступны для историка. Однако только исследования этого белого пятна в истории подготовки второй мировой войны могут объяснить многие из тех явлений нашей современности, которые все еще повергают в недоумение непосвященных людей. Как иначе, например, можно объяснить антинародную, провокационную роль иных политиканов на западе нашей родины, чья деятельность так часто проводится в интересах иностранных государств и во вред нашей нации?
Я напомню только о так называемом «процессе Шмайсера», совсем недавно проходившем в Ганновере, во время которого были официально обнаружены неопровержимые доказательства многолетних связей французской секретной службы с бывшим обер-бургомистром Кельна и руководителем движения рейнских сепаратистов, а ныне федеральным канцлером доктором Аденауэром.
Михаил Роллер
ВКЛАД РУМЫНСКОГО НАРОДА В АНТИФАШИСТСКУЮ ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ БОРЬБУ В 1944—1945 ГОДАХ
Вооруженное восстание 23 августа 1944 года положило начало народной революции в Румынии. Это вооруженное народное восстание должно было разрешить несколько задач. 23—24 августа 1944 года были решены следующие из них:
1. Патриотические силы народа, руководимые Коммунистической партией Румынии, свергли фашистскую военную диктатуру. Фашистское правительство во главе с генералом Антонеску было арестовано.
2. Трудящийся народ завоевал самые широкие возможности для своей деятельности, и Коммунистическая партия Румынии, которая в течение двадцати лет вынуждена была бороться в подполье, начала теперь действовать открыто.
3. Румыния вышла из несправедливой антисоветской войны, и уже 24 авугста 1944 года, то есть на следующий день после взрыва народной революции в нашей стране, румынская армия повернула оружие против Гитлера и тем самым примкнула к антигитлеровской коалиции, возглавляемой Союзом Советских Социалистических Республик.
Эти исторические события имели решающие последствия для развития Румынии. Вместе с тем они оказали значительное влияние и на дальнейший ход войны на ее последнем этапе. Успех вооруженного народного восстания в Румынии 23 и 24 авуста 1944 года определялся внутренними и внешними факторами. Внешние факторы хорошо известны всему миру. Это величие победы героической Советской Армии. После ряда замечательных успехов советские войска в ночь с 19 на 20 августа 1944 года начали новое наступление на фронте Яссы —Кишинев. Они прорвали вражескую оборону, окружили 15 немецких дивизий и разгромили еще 22 немецких и румынских дивизии. Паника на всей территории Румынии, вызываемая дезорганизацией, воцарившейся в немецких войсках, все усиливалась и создала благоприятные условия для осуществления мероприятий, порожденных внутренними факторами, то есть для выступлений, организованных и подготовленных антифашистскими силами румынского народа во главе с Коммунистической партией.
Вооруженное восстание, начавшееся 23 августа 1944 года, было задолго до его начала тщательно подготовлено на протяжении многих месяцев. С апреля до августа 1944 года шла уже непосредственная подготовка к вооруженному выступлению.
В 1943 году КПР удалось создать Отечественный фронт, в состав которого вошли, кроме Коммунистической партии,Крестьянский фронт (демократическая крестьянская организация), Союз патриотов, объединявший представителей передовой интеллигенции, часть мелкой буржуазии, и «Мадос» (организация венгерских Трудящихся). Этот Отечественный фронт боролся против фашистской диктатуры, за выход Румынии из антисоветской воины.
В апреле 1944 года, после того как была успешно проведена реорганизация всего аппарата КПР и укреплено партийное руководство, удалось, хотя и с большим напряжением, создать Единый рабочий фронт. Впервые за двадцать лет к 1 мая 1944 года был издан совместный манифест Коммуни
.476
стической партии Румынии и Румынской социал-демократической партии, основанный на общей антифашистской платформе.
В то же самое время бывший король и некоторые буржуазные партии (либералы и национал-царанисты) старались создать впечатление, что якобы и они являются противниками режима Антонеску, так как они боялись, что им придется разделить судьбу обреченного фашистского государства. КПР использовала эту обстановку и вместе с Социал-демократической партией обратилась к ним,9 предлагая обеспечить совместное выступление против фашистской диктатуры. В течение продолжительного времени буржуазные партии всячески его оттягивали. КПР была единственной политической партией, которая за период с мая до августа практически готовила вооруженное восстание.
Прежде всего компартия приступила к организации по всей стране отрядов патриотической гвардии. Эту патриотическую гвардию образовывали группы рабочих, которые тайно вооружались. Таким образом, только с 23 июня до 23 августа 1944 года возникло 50 групп, насчитывавших несколько тысяч рабочих. С апреля по август 1944 года КПР усиливала ряды и умножала число партизанских групп. Эти партизанские группы действовали в 1944 году в горах Караса, Бучедж и Вранчеа. Кроме того, партизанские группы были созданы в округах Олтеня, Марамуреш и Сучава.
Одно партизанское соединение действовало с мая до августа 1944 года в Праховской долине. Опорная база этого отряда была на горе Пиатра Маре, близ Тимишоарской долины и горы Клобучет у Предяла. Главная задача этого партизанского соединения заключалась в том, чтобы помешать снабжению гитлеровского фронта нефтью. Достаточно сказать, что только за четыре месяца лишь один этот отряд взорвал 16 составов с бензином. В тот же период был создан партизанский отряд в округе Тимишоара.
Несмотря на фашистский террор, народные массы поддерживали партизан. Казнь 29 крестьян летом 1944 года в деревне Моисени округа Бриа Маре, осужденных за помощь партизанам, расстрелы множества патриотов в долине Вазера, в Констанце, в Тульче и других местах,— все это не только не останавливало патриотической борьбы, но, напротив, вызывая еще больший гнев, вдохновляло на борьбу за правое дело освобождения.
Кроме того, на предприятиях возникали комитеты Единого рабочего фропта, в состав которых входили члены КПР, Социал-демократической партии и беспартийные рабочие. Эти комитеты включались в борьбу, возглавляемую КПР, и с мая до августа 1944 года усиленно организовывали саботаж и другие антивоенные выступления. Рабочие, объединяемые этими комитетами Единого фронта, которые поддерживали непосредственную связь с широкими массами на заводах и фабриках, были вместе с тем основной базой для роста патриотических вооруженных формирований.
И наконец КПР форсировала вооруженное восстание, образовав для руководства его непосредственной подготовкой Военно-революционный комитет. Наряду с постоянными связями, которые КПР поддерживала с рядовыми солдатами, партия наладила еще и связи с высшими офицерами, которые из патриотических побуждений стремились к тому, чтобы Румыния вышла из антисоветской войны. Большая часть этих высших офицеров принадлежала к штабу главного военного командования столицы. В ночь с 13 на 14 июня 1944 года был образован Военно-революционный комитет, задача которого заключалась в том, чтобы в кратчайший срок подготовить вооруженное восстание. Следует подчеркнуть, что этот Военно-революционный комитет был составлен из специалистов, а возглавлял его представитель Коммунистической партии Румынии, который должен был обеспечить координирование и организацию различных сил восстания. Все мероприятия, осуществлявшиеся по инициативе КПР и руководимые ее представителями, развертывались в атмосфере ненависти и откровенной враждебности румынского парода к войне и фашизму. Test самым расширялась база для предстоявших выступлений.
377
Лишь 20 июня 1944 года, то есть незадолго до иыхода Румынии из войны, лидеры Национальной крестьянской партии (Маниу) и Национальпо-либе-ральной партии (Братиану) приняли предложение коммунистов о создании национально-демократического блока. Так как к этому времени поражение Гитлера уже стало очевидным, то и Маниу и Братиану, по существу, только совершали простой маневр, направленный на то, чтобы спасти и сохранить свои экономические и политические позиции и создать для себя опорные пункты, с тем чтобы в дальнейшем изнутри подрывать и саботировать борьбу нашего народа за свою свободу и за создание подлинно демократического строя.
Паника, охватившая все органы фашистской диктатуры после наступления Советской Армии 19—20 августа 1944 года, побудила Антонеску отдать приказ о проведении тотальной мобилизации, чтобы организовать помощь немецко-фашистским армиям. С этой целью Антонеску испросил у короля аудиенцию на 23 августа. Как уже отмечалось выше, буржуазные партии всячески пытались оттягивать антифашистские выступления. К началу августа 1944 года, после того как компартия Румынии предъявила им ультиматум, король и буржуазные партии согласились с тем, чтобы назначить на 26 августа самый последний срок для начала всенародного восстания. Когда же 23 августа 1944 года Антонеску должен был появиться во дворце, король сообщил об этом представителям политических партий. Буржуазные партии — либеральная через Георге Братиану и Национальная крестьянская партия через Иона Михалека — предложили Антонеску просить перемирия.
В этих условиях КПР заявила, что народное восстание должно начаться именно в этот день и что партия берет на себя всю ответственность за это. Как только Антонеску пришел во дворец, народные отряды и патриотические части армии выступили согласно заранее подготовленному плану. Антонеску и некоторые члены его правительства были арестованы, и так как КПР €ыла единственной силой, которая могла обеспечить надежную охрану захваченных в плен главарей фашистского государства, то патриотические отряды отвели арестованных на нелегальную квартиру КПР, где они и находились под непосредственным наблюдением членов ЦК компартии. Ни король, ни лидеры буржуазных партий даже не знали, где находятся арестованные.
Одновременно народные отряды и патриотические войсковые части, в точном соответствии с планом Военно-революционного комитета, захватили «важнейшие центральные учреждения и стратегические позиции, такие, например, как здания Совета министров, министерства внутренних дел, телеграф и т. д. Телефонная связь между главной квартирой немецкого командования и всеми прочими частями гитлеровских войск была прервана. Одновременно была предотвращена всякая возможность связи с заграницей. Тем самым фашистский государственный аппарат лишен был возможности принять немедленные ответные меры. Восставшие создавали для себя явное преимущество и тем самым обеспечивали благоприятные предпосылки для дальнейшего успешного развертывания и проведения вооруженного восстания»1.
Эти успехи вооруженного восстания развязали революционный энтузиазм масс. Многие тысячи рабочих обращались в организации КПР, прося зачислить их в патриотические отряды. Тем временем развертывание восстания тормозилось препятствиями, которые создавали король и буржуазные партии. Так, например, вечером 23 августа 1944 года король Михай встретился с немецким генералом Герстенбергом и после короткой беседы гарантировал ему беспрепятственный отход его войск из румынской столицы. Это позволило немецкому командованию оправиться от паники, вызванной успехами восстания. 24 Августа фашистское командование, следуя прямому приказу Гитлера, предприняло попытку захватить столицу. Немцы потерпели неудачу в результате боевого отпора патриотических сил, поддержанных
1 Institutul de islorie a parlidului de pre llngii С. C. al P. M. R. Legtia 9, Editura de sial pentru literature politica, 1956, S. 11.
378
широкими народными массами и воинскими соединениями, которые последовали призыву компартии Румынии и начали героическую борьбу против гитлеровской армии. Таким образом, план немецко-фашистских войск захватить Бухарест провалился. Следует отметить, что в этих боях по обороне Бухареста патриотические народные отряды и части румынской армии захватили в плен десятки тысяч немецких солдат.
27 августа 1944 года соединения советских войск достигли Бухареста, и 30 августа 1944»года народные массы румынской столицы восторженно приветствовали Советскую Армию. Теперь успех*народного вооруженного восстания был полностью обеспечен.
♦ ♦ ♦
Непосредственным следствием победы народного вооруженного восстания был выход Румынии из антисоветской войны. Ныне румынский народ испытывает чувство особой радости, вспоминая о том, что румынские патриоты — солдаты и офицеры в течение двадцати четырех часов последовали призыву компартии Румынии и повернули оружие против гитлеровцев. Румынский народ гордится тем, что ему удалось еще до окончания войны разорвать союз, который правящие классы заключили с фашистской Германией, и включиться в войну против гитлеровского фашизма, сражаясь бок о бок с советскими войсками.
Эта глава современной истории Румынии пока еще мало исследована. Недавно авторский коллектив, составленный из историков — сотрудников института Истории партии при ЦК Румынской рабочей партии и работников Военной академии, сдал в печать работу, озаглавленную «Вклад Румынии в антифашистскую освободительную борьбу (23 августа 1944 года —9 мая 1945 года)». Это пока лишь скромный почин. В рабочих планах институтов истории Академии Румынской Народной Республики, институтов истории партии и исторических факультетов румынских университетов предусмотрена организация ряда интенсивных исследований этих вопросов.
Значение, которое имело участие Румынии в антифашистской войне, характеризуется следующими данными:
В период с 23 августа 1944 года и до 9 мая 1945 года румынские воинские части сражались плечом к плечу с советскими войсками на трех главных направлениях. В ряде боев, которые привели к освобождению северных районов Семиградья, советские и румынские солдаты добились общей победы.
После того как наша родина была полностью освобождена, румынские войска совместно с советскими армиями освобождали Венгрию и Чехословакию. Необходимо сразу же подчеркнуть, что после того, как 24 авуста 1944 года румынские войска повернули оружие против гитлеровцев, им пришлось вести жестокие бои в необычайно трудных условиях. А сосредоточение и реорганизацию румынских армий приходилось осуществлять непосредственно в ходе боевых действий.
В течение двух месяцев, то есть с 24 августа по 25 октября 1944 года, румынские части совместно с советскими армиями вели тяжелые бои за освобождение Северного Семиградья. В ходе этих операций румынскими войсками были освобождены 872 населенных пункта, в том числе 8 городов и 18 важных центров1.
Здесь нет необходимости описывать в отдельности каждую из операций, которые румынские части провели совместно с советскими армиями. Советская оценка той борьбы, которую румынские солдаты вели за освобождение Северного Семиградья, была выражена в одной из статей «Правды».
«Используя выгодную для обороны местность, немцы и венгры судорожно цепляются за каждый населенный пункт, за каждую высоту.
1 Эти цифровые данные взяты из находящейся в печати работы: «CoBtributia Romi-uiei la rdzboiul anlihitlerist 23 August 1944—9 Mai 1945» и из }Небника: «Istoria R. P. Н.» 1952.
379
Немецким и венгерским частям приказано любой ценой, любыми средствами сдержать наступление Красной Армии, действующей совместно с румынскими частями... Но все попытки остановить наше наступление только увеличивают потери врага...
Здесь каждый метр земли достается в жарком бою, каждый новый узел дорог становится ареной ожесточенной борьбы, включающей в себя и артиллерийскую дуэль и рукопашную схватку. Трансильванская земля горит под ногами немецких и венгерских захватчиков»1.
После освобождения всей территории нашей страны румынские войска приняли участие в боях, которые советские армии вели за освобождение Венгрии и Чехословакии.
В борьбе за освобождение Венгрии румынские войска участвовали в четырех крупнейших операциях:
а) они принимали участие в боях за Восточную Венгрию, где развернулась решающая битва за Дебрецен. В этих боях действовали 4 дивизии 1-й румынской армии, насчитывавшей 570 офицеров, 604 унтер-офицера и 13 753 солдата. Затем к ним присоединилась дивизия имени Тудора Владимиреску, составленная из бывших румынских военнопленных в Советском Союзе. Этой дивизии было присвоено звание Дебреценской дивизии имени Тудора Владимиреску в ознаменование того, что она героически сражалась эа освобождение города Дебрецена;
б) румынские войска участвовали в боях на среднем течении Тиссы. Здесь действовали 4 румынские дивизии, насчитывавшие 2216 офицеров, 2652 унтер-офицера и 51 990 солдат;
в) в боях на западном берегу Тиссы действовал VII армейский румынский корпус, принимавший также впоследствии участие в боях за освобождение Будапешта. Наступая с боями от Тиссы до центра венгерской столицы, VII румынский армейский корпус, насчитывавший 36 348 солдат, потерял в общей сложности 11 тысяч бойцов;
г) румынские войсковые части сражались также на фронте в северо-восточной Венгрии вплоть до предгорий. В этих боях румынская армия, сражавшаяся совместно с советскими войсками за освобождение Венгрии, принесла большие кровавые жертвы, потеряв 42 266 убитыми, ранеными и пропавшими без вести, что составляло 25 процентов всех румынских солдат и офицеров, участвовавших в борьбе за освобождение Венгрии.
Румынские войска, сражаясь на стороне советских войск и чехословацкого армейского корпуса, приняли участие также и в освобождении Чехословакии.
Румынские войска действовали на следующих четырех главных направлениях:
а) на чехословацких границах румынские части вели бои в декабре 1944 и январе 1945 года. В этих боях участвовало 80 тысяч румынских солдат. С 18 декабря 1944 года по 12 января 1945 года погибло 5400 румынских солдат, то есть 7 процентов всех участников военных операций;
б) в округе Ройнява бои шли с 12 по 23 января 1945 года. В них участвовало 8 румынских дивизий, насчитывавших 75 400 солдат. При этом потери составили 7 процентов — 5200 солдат;
в) в боях за Яворино, Зволен, Алмаш и Грон наступление на чехословацкой территории продолжалось в течение двух месяцев и велось на сильно пересеченной местности. В этих боях участвовали 15 румынских дивизий, насчитывавших 160 тысяч человек. Потери составили 28 тысяч, то есть 17 процентов всего личного состава;
г) наконец, следует Лметить, что 14 румынских диуший с апреля по май 1945 года принимали участие в боях за освобождение всей территории Чехии.
1 «Правда», 18 сентября 1944 года.
380
Правое дело, за которое они сражались, воодушевляло румынских солдат, вдохновляло их на героические подвиги. Источником этого героизма были воспитанные рабочим классом и румынской Рабочей партией дух подлинного патриотизма и пролетарского интернационализма.
Румынские армии 260 дней сражались на стороне советских войск. Совместно с советскими войсками они на протяжении тысячи километров проникли в глубь территории, занятой противником, достигли центрального района Чехии. Веда тяжелые бои, они преодолели 12 горных хребтов, участвовали в освобождении 3831 населенного пунктг^ в том числе 53 городов. В этих боях румынские войска взяли в плен 103 214 солдат и офицеров противника.
В боях, которые румынские войска вели бок о бок с Советской Армией, они потеряли, по неполным данным, 169 822 человека убитыми, пропавшими без вести и ранеными. Сюда не входят антифашистские бойцы — участники движения Сопротивления, погибшие в борьбе против фашистских оккупантов.
Я кратко изложил некоторые данные, характеризующие борьбу румынского народа против фашизма в 1944—1945 годах. Вклад Румынии в эту справедливую борьбу вписан золотыми буквами в книгу истории демократического румынского государства, которое ведет последовательную политику мира и дружбы между народами.
Дзюдзиро Увсуги
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
В ОСВЕЩЕНИИ РЕАКЦИОННОЙ ЯПОНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Я хотел бы сделать несколько замечаний о японской исторической литературе, посвященной второй мировой войне. После 1945 года в Японии были изданы многочисленные мемуары и дневники политических и военных деятелей, игравших значительную роль во время войны. Научная ценность этих изданий как исторических источников невелика, ибо авторы озабочены только тем, чтобы оправдать агрессивную политику японского правящего класса. В Японии до сих пор не появилось еще обобщающего труда буржуазных историков о подготовке и ходе второй мировой войны. Поэтому я в своей критике реакционной историографии вынужден ограничиться критическим анализом школьных учебников и особенно учебников, предназначенных для старших классов, а также тенденций, проявляющихся в упомянутых выше мемуарах и дневниках. Хотя после 1945 года некоторые учебники были написаны либеральными и частью даже марксистскими историками, все же в этих книгах обнаруживается очень много недостатков. А с тех пор как японское министерство культов в 1956 году усилило свой контроль, то усилились и реакционные тенденции, воплощаемые в школьных учебниках.
Для марксистских историков Японии исследование второй мировой войны очень затруднено, так как японское правительство скрывает от историков самые значительные материалы, характеризующие предысторию и ход второй мировой войны. Впрочем, и относительно других материалов японское правительство весьма мало заинтересовано в том, чтобы они стали достоянием общественности.
Вначале я хотел бы сказать об ответственности тэнно за развязывание второй мировой войны. Во всех мемуарах и дневниках тэнно— японский император — характеризуется как пацифист. Последнее доказывается якобы тем, что в октябре 1941 года он назначил премьер-министром реакционного милитариста Того. Тэнно хотел — так утверждают авторы мемуаров —использовать Того для сохранения мира, с тем чтобы он держал в узде милитаристскую клику. Важнейшим элементом этой реакционной апологетики монархии является стремление убедить читателей в том, что якобы существовало противоречие между милитаристской кликой, с одной стороны, и тэнно и монополистическим капиталом — с другой. Между тем достаточно напомнить, что в ту пору тэнно, согласно конституции, а также фактически был верховным главнокомандующим всех японских вооруженных сил, и без его согласия не могла быть осуществлена никакая агрессия. О том, какова в действительности была власть тэнно, выявилось со всей убедительностью в августе 1945 года во время капитуляции Японии. Вопреки утверждениям бывших политичешИх и военных деятелей, а т^кже реакционных историков в действительности все было наоборот, и отнюдь не тэнно удерживал милитаристскую клику, а в ряде случаев милитаристская клика удерживала тэнно от чрезмерно поспешных агрессивных действий. Подчеркивание пацифистской роли тэнно обнаруживает лишь намерение реакционных историков защитить авторитет тэнно и монархической бюрократии.
382
После крушения политики империалистических авантюр авторитет тэнно был значительно поколеблен в глазах народных масс. Однако и американские оккупационные власти и японский правящий класс хотели использовать в своих целях авторитет тэнно и монархической бюрократии. Это им было необходимо прежде всего для подавления народного движения, особенно в деревне. Этим объясняются и попытки реакционных мемуаристов и историков отрицать либо всячески замазывать ответственность тэнно за японскую агрессию и военные преступления на Дальнем Востоке. О том, что американские оккупационные власти и стоящие за Лтми американские монополии всячески поддерживали эти стремления, свидетельствует тот факт, что, тогда как все ответственные за войну японские политические и военные деятели были привлечены к суду Международного военного трибунала для Дальнего Востока, для тэнно было сделано исключение.
Вторым важным вопросом является ответственность японского монополистического капитала за развязывание второй мировой войны на Дальнем Востоке. В этом вопросе реакционная японская историография применяет тот же метод, что и в отношении к тэнно: она стремится всю ответственность за японскую агрессию свалить на милитаристскую клику. Так, например, четыре японских историка, которые участвовали в конгрессе историков в Брауншвейге в мае 1955 года, в своих рекомендациях по поводу того, как преподавать историю Японии в западногерманских учебных заведениях, заявили следующее: «Опираясь на солдат, выходцев преимущественно из весьма нуждающихся сельскохозяйственных областей, группы молодых профессиональных офицеров, чьи взгляды отличались государственно-социалистическими тенденциями, выступили против многопартийной политики парламента и власти дзайбацу (клика финансистов), требуя радикальных изменений»1. Таким образом, четыре японских буржуазных историка сваливают ответственность за агрессивную политику не только на милитаристскую клику, но еще и на молодых офицеров и даже на солдат, в большинстве своем выходцев из крестьянской среды. Японские реакционные историки усиленно подчеркивают те в общем второстепенные противоречия, которые существовали между монополистами и милитаристской кликой, и тем самым всячески замазывают ведущую роль дзайбацу в подготовке войны. Ту же тенденцию обнаруживают краткие очерки японской истории, которые опубликовал профессор Кобата в 1955 году в издаваемом в Брауншвейге «Интернационал ес ярбух фюр ден гешихтсунтеррихт». По утверждениям Кобата, после так называемого «дела 26 февраля 1936 года», то есть путча молодых офицеров, «воля армии определяла политику нации»1 2. Характерно также, что Кобата, который хотя и не является значительным японским историком, но взгляды которого типичны для большинства буржуазных историков Японии, ни одним словом даже не упоминает о роли тэнно.
Редакторы известного американского журнала «Форчун» также умалчивают об ответственности японских монополистов за фашизацию Японии и проведение политики агрессии. В специальном выпуске журнала, посвященном Японии, в 1944 году указывалось: «В начале 1936 года ведущие японские промышленники еще надеялись на возможность остановить стремление армии к созданию тоталитарного государства. Партия Минсей, поддерживаемая Мицубиси, победила на февральских выборах, выступая под лозунгом «Парламентское правительство или фашизм?» Однако победа промышленников только ускорила их собственное поражение. Не прошло и недели, как армейские горячие головы убили министра финансов Такахаси и других... Армия удвоила свои атаки против парламентаризма в собственной стране и против коммунизма в Китае и в России»3. Американские редак
1 Internalionales Jahrbuch fiir Geschichtsunterricht. Bd. III. Braunschweig, 1954,
2 Ibid., Bd. IV, Braunschweig, 1955, S. 60.
3 «Japan», Edit, of «Fortune», New York, 1944, p. 120.
383
торы, без сомнения, совершенно намеренно подчеркивают противоречие между армией и так называемыми «промышленниками». Но ведь именно эти промышленники, то есть японские монополисты, имели значительные интересы в Китае и боялись победы революционно-освободительного движения во всей Азии. Это они ввергли Японию в 1937 году в войну против Китая, а затем и против США — их соперника в борьбе за гегемонию в Азии.
Уже упоминавшиеся выше четыре японских профессора писали так: «Одновременно международная тенденция к образованию экономических блоков усиливала изоляцию Японии, которая, стремясь противодействовать сужению своих рынков, создала японо-маньчжурский блок, в 1937 году вступила в войну с Китаем, в ходе которой оккупировала значительную часть китайской территории»1.
Итак, по их мнению, получается, что правящий класс Японии в целом не несет никакой ответственности за агрессию. Виновна, оказывается, «международная тенденция», которая изолировала Японию.
Такие направления в японской историографии поддерживаются американскими монополистами. Свидетельством этого является уже тот факт, что оккупационные войска в конечном счете защитили дзайбацу, хотя они вначале распустили вооруженные силы Японии.
Для офицерских мемуаров характерно прежде всего стремление доказать, что, дескать, военная тактика японских вооруженных сил была недостаточно гибкой. Будь эта тактика более гибкой, Япония могла бы предотвратить безоговорочную капитуляцию.
Такие утверждения совершенно недвусмысленно ободряют те реакционные силы, которые стремятся ускорить воссоздание агрессивной армии.
Вопреки этим тенденциям некоторые либеральные историки все еще не перестают осуждать «глупую» войну против США, страны, которая экономически во много раз сильнее Японии. Такие историки видят причину поражения Японии только в ее экономической слабости по сравнению с Соединенными Штатами. Многие либеральные иторики объясняют поражение Японии исключительно военными действиями США. Тем самым должна быть оправдана нынешняя зависимость Японии от США. Поэтому для либеральных историков характерно то, что они почти не принимают во внимание того значения, которое имело упорное сопротивление Китая, а также участие СССР в войне на Дальнем Востоке. И, разумеется, они очень низко оценивают ту роль, которую сыграла борьба японских антифашистов в Китае, выступавших против милитаризма.
Как правило, все реакционные, а частично также более или менее и прогрессивные историки и публицисты недооценивают участие Советского Союза в войне на Дальнем Востоке.
Между тем, как явствует из нижеследующего меморандума принца Коноэ, растущее влияние Советского Союза и антивоенные настроения трудящихся Японии побудили часть японского правящего класса решиться на капитуляцию перед США и Великобританией. Бывший премьер-министр принц Коноэ, который тогда был одним из ближайших советников тэн-но, рассчитывал на то, чтобы использовать противоречия между США и Советским Союзом, и 14 февраля 1945 года передал тэнно специальный меморандум.
В этом меморандуме Коноэ требовал, чтобы Япония немедленно капитулировала перед Соединенными Штатами и Великобританией. Он писал: «Хотя поражение и нанесет ущерб достоинству тэнно, однако общественное мнение в США и Велпкс1британии не требует устранение монархии. Поэтому мы не должны бояться такой капитуляции, которая не ведет к уничтожению
1 Internationales Jahrbucli fiir Geschichtsunterricht. Bd. Ill, Braunschweig, 1955, S. 98.
384
государственного строя тэнно. Однако я испытываю страх при мысли, что поражение Японии может сопровождаться коммунистической революцией. В настоящее время все возрастает мощь Советского Союза и влияние коммунистических партий во всех странах. Этот факт вызывает большую тревогу в капиталистических державах. И в Японии так же, как с каждым днем нарастают условия для коммунистической революции (а именно усугубляется нищета трудящихся, растут силы рабочего класса, растут дружественные чувства к Советскому Союзу и вражда к США и Великобритании), усиливается движете той части офицерства, котоцря требует радикального изменения политики, и подобное же движение так называемых «новых» бюрократов, а также закулисные интриги левых»1.
Правящие круги Японии уже сознавали, что они потерпели решительное поражение, когда американские вооруженные силы в июне 1944 года овладели островом Сайпан, расположенным в Тихом океане на расстоянии 2200 километров от Токио. В следующем месяце премьер-министр генерал Того подал в отставку. Однако Япония все же не капитулировала, так как правящий класс очень боялся, что капитуляция сразу же вызовет крушение монархии. Именно поэтому правящий класс Японии откладывал капитуляцию, невзирая на безмерные страдания народных масс, в надежде на то, что союзники не будут требовать уничтожения монархии.
Политика правящего класса США особенно благоприятствовала тем стремлениям правящих кругов Японии, которые сформулировал в своем меморандуме Коноэ. Американские политические деятели хотели, чтобы Япония капитулировала еще до того, как СССР в соответствии с Ялтински! соглашением вступит в войну па Дальнем Востоке. Именно с этой целью американцы хотели уничтожить тех представителей самых реакционных японских военных кругов, которые готовились оказывать им яростное сопротивление на острове Хондо. Американцы сбросили на Японию атомные бомбы. Но этим они одновременно преследовали цель в начинавшейся тогда «холодной войне»: пригрозить атомными бомбами Советскому Союзу.
Вообще японская буржуазная историография утверждает, что атомная бомбардировка решила исход войны. Следует, однако, заметить, что хотя атомные бомбы были для японцев страшным потрясением, однако воздействие атомной бомбардировки на ход войны имело лишь второстепенное значение. Решающим же явилось участие Советского Союза в войне против Японии. Тем самым мы подходим к вопросу о том, как японская историография недооценивает роль Советского Союза в разгроме японского империализма.
Вышеприведенная трактовка атомной бомбардировки является со стороны буржуазной исторической литературы Японии попыткой умалить или вовсе отрицать роль Советского Союза в войне. Между тем совершенно очевидпо, что вступление Советского Союза в войну против Японии существенно ускорило поражение и капитуляцию Японии, так как именно события, связанные с эти этапом войны, окончательно убедили правящие классы Японии и японских солдат в полной безнадежности их положения. Дальнейшее оттягивание капитуляции стало уже бессмысленным для правящих классов, которые стремились лишь к сохранению монархии. Нельзя также забывать, что поражение немецкого фашизма в Европе, явившееся следствием героической самоотверженной борьбы советских армий и партизан, в значительной степени определило и разгром японского империализма.
Реакционные историки очень много болтают о том, что СССР, приняв участие в войне на Дальнем Востоке, дескать, нарушил пакт о ненападении, заключенный с Японией. Они замалчивают, однако, то важное обстоятельство. что Япония задолго до этого начала подготовку военного нападепия на
’Inoue, Suzuki: Nihon Kindai shi (Die Gesc.hicbtf dor Neueren Zeit Japans), Bd. II, Tokio, 1956, S. 341 (japanisch).
25 Заказ № 1220 385
СССР и уже к июню 1941 года сосредоточила на маньчжурской границе значительные контингенты войск — до 700 тысяч человек — и большую часть всех самолетов и танков, которыми она вообще располагала, продолжив это сосредоточение в то самое время, когда Советский Союз находился в чрезвычайно трудном военном положении. Реакционные историки стремятся с помощью подобных рассуждений оклеветать и исказить последовательную политику Советского Союза, направленную на защиту и обеспечение мира во всем мире. Вступление Советского Союза в войну против империалистической Японии осуществлялось на основе решений Ялтинской конференции и полностью соответствовало интересам советского и японского народов, так как ускорило окончание второй мировой войны.
Фрэнсис Коэн
К ВОПРОСУ О ФРАНЦУЗСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны*
Французские историки-марксисты очень интересуются вашей работой и поручили мне передать вашей сессии братские приветы и пожелания успеха. Эти историки, к сожалению, не смогли освободиться от своих текущих обязанностей, чтобы прибыть сюда. Однако результаты этой сессии будут самым тщательным образом изучены во всей Франции. Они будут интересны не только для историков и марксистов, но будут иметь значение для рабочего движения вообще и для всех передовых людей.
Ведущей мыслью всех ваших работ является сознание решающей роли народных масс в истории. Это особенно важно, потому что историки-марксисты, исследуя прошлое на основе научно-исторического метода, извлекают из него уроки для настоящего и будущего.
Германский империализм—заклятый враг французского народа, но вместе с тем он и злейший враг немецкого рабочего класса, немецкого трудового народа. На основе этого факта возник тесный дружеский союз между рабочим движением и подлинными демократами наших стран. Борьба против возрождения германского империализма является насущной задачей наших народов. В связи с этим изучению истории второй мировой войны придается особое значение.
Если бы собрать воедино все книги, выпускаемые у нас в стране на эту тему, то из них можно было бы создать большую библиотеку. Эту литературу составляют и беллетристические произведения, и записки, и воспоминания политических деятелей и генералов, и, наконец, объемистые университетские научные труды. О том, какое значение придает этим проблемам буржуазия, можно судить уже по тому факту, что создана специальная секретная франкогерманская комиссия, которой поручено пересмотреть историю немецко-французских отношений в духе принципов Малой Европы. Вся эта литература распространяет лживые и чрезвычайно вредные взгляды, рассчитанные на то, чтобы затемнить проблемы войны и мира, причем более всего старается реабилитировать немецких милитаристов и фашистов. Кроме того, с помощью этой литературы пытаются заставить людей забыть, что Советский Союз сыграл решающую роль во второй мировой войне и что его народы принесли самые большие жертвы.
Углубленные исследования буржуазной историографии, проводимые историками СССР, ГДРи других социалистических стран, первые итоги которых были доложены здесь, имеют исключительно большое значение. Французский рабочий класс особенно высоко оценит эти материалы как значительный вклад исторической науки в дело нашей борьбы за социализм, за мир.
Французские историки, связанные с рабочим классом, также включаются в эти исследования. Они будут излагать историческую правду о второй мировой войне и разоблачать и опровергать фальшивки буржуазных реакционных историков. Несмотря на то, что империалистические правительства все еще скрывают втайне очень многие подлинные разоблачительные документы, французские историки-марксисты, борясь против реакционной буржуазной лженауки, сумеют доказать ответственность империалистов за развязывание
387
25*
войны и правильно осветить роль Советского Союза и роль национальных и интернациональных движений Сопротивления, в том числе и немецкого. Они будут по-деловому спорить с теми немарксистскими коллегами, которые честно стремятся к истине, и многих из них смогут убедить.
Мы намерены издать во французских переводах некоторые наиболее значительные доклады, сделанные на пленуме и в рабочих комиссиях по второй теме.
Мы убеждены в том, что эти публикации найдут широкий отклик, вызовут творческие дискуссии и послужат делу сближения народов и делу мира.
Мы поздравляем вас с тем, что вы подаете замечательный пример сотрудничества историков различных стран па основе социалистического интернационализма.
Ренато Миэли
К ВОПРОСУ ОБ ИТАЛЬЯНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
• ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ*
Прошу вас простить меня за то, что я выступаю в столь поздний час. Но я чувствую себя обязанным лично приветствовать собравшихся здесь историков. И вдобавок я хотел бы сделать несколько замечаний о том, как буржуазные историки рассматривают проблемы второй мировой войны.
В буржуазно-реакционной литературе в числе прочих развивается и такая концепция, согласно которой ответственность за поражение немецкого фашизма во второй мировой войне следует возлагать пе на немецкий генералитет, а прежде всего на Гитлера. Одной из причин таких утверждений является стремление косвенно подчеркнуть, что и ныне немецкая военная машина является важным фактором и при соответствующих условиях ее можно использовать в войне против Советского Союза.
Однако в среде буржуазных историков западных стран обнаруживаются и нротивоположные тенденции. Так, например, в Италии значительное влияние имеют те политические направления в буржуазной историографии, представители которых утверждают, что Советский Союз могуч и опасен, и всячески стремятся возможно ярче размалевать несуществующую угрозу. Такими методами «обосновывают» и на этом основании требуют как можно сильнее вооружить итальянский империализм.
Буржуазные историки, испытывающие влияние таких взглядов, объясняют поражение немецкого фашизма во второй мировой войне уже не ошибками Гитлера пли немецкого генералитета, а прежде всего военной мощью Советского Союза. Таким образом, эти историки признают решающее значение Советского Союза дли исхода второй мировой войны. Но, ссылаясь па зто, они утверждают, что, дескать, именно потому, что Советский Союз был и является очень сильным в военном отношении, он п представляет собой большую угрозу для западноевропейских стран. Все это, по сути дела, различные проявления давно известной кампании, направленной па то, чтобы доказать, будто Советский Союз угрожает демократии в том смысле, какой придают этому понятию и искажают его реакционные империалистические идеологи Запада.
Поэтому наша критика тех реакционных буржуазных историков, которые занимаются проблемами, связанными с участием Советского Союза во второй мировой войнеj должна вестись на два фронта против обоих, бегло охарактеризованных здесь направлений: против утверждения, что участие Советского Союза в разгроме фашизма было незначительным, и против попыток, основанных па противоположных представлениях, когда, признавая решающее значение военной мощи Советского Союза во второй мировой войне, искусственно выводят из этого угрозу некоей современной опасности дли демократии, как ее представляют в духе буржуазно-парламентарных режимов.
Мы должны также иметь в виду, что в некоторых западных странах, например в Италии, есть и такие буржуазные историки, которые, отнюдь не являясь марксистами, все же не могут рассматриваться как буржуазнореакционные историки. Так, например, их точка зрения весьма близко сов-
389
падает с нашими представлениями о характере второй мировой войны. Само собой разумеется, что нашей первоочередной задачей является разгромить реакционные империалистические труды, посвященные второй мировой войне. Но, с другой стороны, мы должны учитывать, что в западных странах существуют и прогрессивные буржуазные историки, и, исходя из этого, так строить свою критику, чтобы помогать им. Если мы будем действовать правильно, то сможем добиться того, что многие из тех историков, которые сегодня еще не разделяют нашу точку зрения, будут под влиянием нашей аргументации приближаться и даже примыкать к нашим взглядам.
И в заключение я хочу еще коснуться одного внесенного здесь предложения. Некоторые товарищи предлагают вести совместные международные исследования истории антифашистского Сопротивления и партизанской борьбы в разных странах. Я приветствую эту инициативу и обещаю принять участие в ее осуществлении, как только возвращусь в Италию.
Антонин Шнейдарек
К ВОПРОСУ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ НЕМЕЦКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ОТНОШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ИНТЕРЕСАХ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ
В своем первом докладе на этой сессии профессор А. С. Ерусалимский чрезвычайно убедительно осветил проблему двух концепций немецкой внешней политики после Великой Октябрьской социалистической революции, которые вместе с тем являются и двумя концепциями международных отношений в Европе. Первая из этих концепций, связанная с Раппальским договором, позволяла достигнуть продолжительного взаимопонимания между Германией и СССР и тем самым создавала возможности предотвращения европейского конфликта. Вторая концепция, связанная с Локарнскими договорами, расколола Европу, создала антисоветский блок империалистических государств и открыла «зеленую улицу» германскому империализму, который вскоре стал самым мощным фактором этого агрессивного фронта. Тем самым был образован опасный очаг международной напряженности и военной угрозы в Европе.
В политике западных империалистических кругов после Великой Октябрьской социалистической революции отчетливо проявляется стремление систематически препятствовать любым попыткам сближения между молодой Советской Республикой и тем германским государством, которое возникло после Ноябрьской революции. Эта новая Германия развивалась в мире, весьма существенно измененном Великой Октябрьской социалистической революцией, и ощупью искала в нем свое международно-политическое место. Если прочесть дневник полковника Хауза, воспоминания Ллойд Джорджа или маршала Фоша, то видно, как в них проявляется систематическое стремление правительств западных держав использовать новые государства, возникшие в Центральной Европе, чтобы создать такую систему преград между Советским Союзом и Германией, которая препятствовала бы объединению народов обоих великих государств в борьбе за социалистическую революцию.
В архиве министерства иностранных дел Чехословацкой Республики в Праге находится ряд документов, которые убедительно свидетельствуют о том, что правящие круги чехословацкой буржуазии, захватившей власть сразу же после национального освобождения страны1, полностью отдавали себе отчет в том, какую именно контрреволюционную роль они должны играть.
В инструкциях министерства иностранных дел, адресованных представительствам Чехословацкой Республики в Германии, решительно предписывалось непрерывно сообщать о развитии социального движения, чтобы можно было своевременно принять «у себя дома», то есть в Чехословакии, военные контрмеры.
После заключения Раппальского договора правящие круги Чехословакии развернули большую кампанию против этого договора, раздавались даже голоса, требовавшие принять меры военного воздействия на Германию, если она слишком сблизится с «красным империализмом». Так правящий
1 То есть после провозглашения независимости Чехословакии в 1918 году.—При.ч. ред.
391
класс Чехословакии со своей стороны содействовал тому, чтобы значительная политическая концепция, воплощенная в Раппало, потерпела неудачу.
Ослепленные своекорыстными классовыми интересами, правящие круги Чехословакии деятельно участвовали в Локарнских договорах, способствуя тем самым новой эре систематического укрепления немецкого империализма, так что вскоре после этого из «яйца», снесенного Штреземаном, вылупилось гитлеровское чудовище. На протяжении этого периода—за 10 лет—нацистская Германия стала самой крупной силой антисоветской коалиции, образовавшейся на европейском материке; она стала той силой, которая начала уже совершенно самостоятельно определять взаимоотношения в группе антикоммунистических государств, которая образовалась в Европе. Вершинами этой политики немецкого империализма были захват Австрии и Мюнхенское соглашение 1938 года.
Когда империалистическая Германия стала самым мощным капиталистическим государством европейского материка, то опа с помощью западных великих держав в кратчайший срок ликвидировала всю так называемую систему безопасности стран Средней и Южной Европы, которую в течение нескольких лет народам этих стран представляли как наилучшую гарантию против угрозы немецкого империализма. Центральную позицию в этой системе наряду с Польшей занимала буржуазная Чехословакия, как главный член так называемой Малой Антанты.
Краеугольными камнями этой политики в самой Чехословакии были глубоко укоренившиеся в сознании ее народа представления о наследствен-^ ной, роковой и неисцелимой враждебности и вечной борьбе между народами Чехословакии и немецким народом. Эти представления проникали в сознание чешской буржуазии, подогреваемые официальной буржуазной идеологией Чехословацкой Республики домюнхенского периода. Ее официальные идеологи утверждали, что не империалистическая Германия, не ее монополии и юнкеры являются смертельными врагами чешского и словацкого народов, а якобы весь немецкий народ является этим врагом.
Мюнхенский сговор, события второй мировой войны—в первую очередь немецко-фашистская оккупация н борьба чешского и словацкого народов за свое освобождение — изменили не только соотношение классовых сил в Чехословакии, но и все общественное сознание ее народов. Когда в 1945 году победоносные советские войска освободили пароды Чехословакии от нацистского ига, то эти народы вслед за тем не только освободились от капитализма, но очень скоро начали освобождаться и от буржуазной идеологии.
Передовые марксистские историки Чехословакии систематически разоблачают вредность концепции буржуазной историографии о вечной борьбе между нашими народами и немецким народом. Уже опубликован ряд значительных документов, повествующих о совместной борьбе чешских, словацких и немецких передовых сил в разные периоды истории. Наряду с ними публикуются материалы, свидетельствующие о том, как реакционные силы стремились разбивать это единство сил прогресса и отравлять взаимоотноше-ниямежду народами с помощью ложного искажения и ихистории и взаимных связей. Работы Мацека, Грауса, Шолле, Коржалка, Краля, Гайека, Веселы, если говорить о наиболее крупных работах, очень много содействовали тому, чтобы представления о вечной вражде между чехами и немцами исчезли не только из чехословацкой историографии, но и из сознания наших народов.
Эта концепция продолжает существовать еще только в публицистике чешской и словацкой эмиграции и отмирает вместе с ней. Характерно — и это следует подчеркнуть,—что носители этой реакционной и антинациональной концепции нашли уЗёжище именно на территории Западной Германии. Так, например, в 1948 году в Людвигсбурге был основан так называемый Университет имени Масарика для эмигрантов из Чехословацкой Республики. Здесь история немецко-чехословацких отношений излагалась как история непрерывной ожесточенной борьбы. Именно так читался этот курс, пока существовал университет. После его развала реакционный курс истории
.492
немецко-чехословацких отношений начали преподавать в так называемом Институте имени Бенеша в Лондоне. Кроме того, необычайную активность проявили некоторые американские университеты, особенно Колорадский, в котором собралась группа эмигрантов и американских историков, сформировавшаяся вокруг «Джорнел оф сентрал Юропиен афферс». Однако вплоть до сегодняшнего дня важнейшим пропагандистским центром, главной задачей которого является разжигание национальной ненависти и подготовка новой войны? остается пресловутый радиоцентр «Свободная Европа», который находится на территории Федеративной Республики Германии.
Разумеется, и сегодня, так же как и после первой мировой войны, вся пропагандистская ярость чешских шовинистов направлена не против подлинных врагов народа Чехословакии, не против германского империализма, а против Германской Демократической Республики, которая покончила с империализмом в пределах своей территории и стала цитаделью мира и демократии в Германии.
Хотя с чехословацкой стороны вредные и антинаучные фальсификаторские концепции, касающиеся германо-чехословацких отношений, практически уничтожены, зато они в полной мере распространяются в реваншистской исторической литературе Федеративной Республики Германии.
Немецкая буржуазия в чешских областях еще в период перехода к империализму разработала концепцию, которая служила дополнением к агрессивным теориям германского империализма. Эта концепция, связанная с именем Адольфа Бахмана, впоследствии была широко использована гитлеровцами для «обоснования» захвата Чехии и Моравии и присоединения их к гитлеровской империи. Главная мысль этой концепции заключается в том. что славянские нации вплоть до прихода немецких колонистов в Чехию и Моравию были якобы очень отсталыми и всю культуру получили от немецких колонистов. История проникновения немцев в славянские области Чехословакии излагается как некое культурное движение, которое, мол, связало чешские земли, а также и Словакию с культурным миром Запада. А сопротивление, которое оказывалось захватчикам, объясняется тем, что это были, дескать, мятежи «неполноценных» племен против культуртрегеров. Такое искажение истории взаимоотношений народов Чехословакии и Германии еще более широко распространялось фашистской историографией, подчеркнуто утверждавшей, что Чехословакия возникла, дескать, как искусственное и противоестественное государственное образование, созданное только с помощью политических махинаций чешской и западной буржуазии. На этом основывалась и вся аргументация Гитлера, требовавшего уничтожения Чехословакии. Ои утверждал, что Чехословацкое государство должно во что бы то ни стало исчезнуть, так как оно является «искусственным образова нием».
Все эти утверждения мы сегодня снова обнаруживаем в реваншистской исторической литературе. За недостатком времени нельзя познакомить со всеми писаниями на эту тему, появившимися в Федеративной Республике. В 1947 году в Мюнхене было создано так называемое общество имени Адальберта Штифтера1, к которому вскоре присоединилась «комиссия историков». Год спустя возникла Историческая комиссия Судетской области, вокруг которой в очень короткое время сосредоточились все судетские историки-реваншисты. По инициативе этой комиссии был опубликован ряд реваншистских фальшивок, искажавших историю Чехословакии и историю немецко-чехословацких отношений. Пожалуй, самой важной из этих публикаций является сборник «Немцы в Богемии и Моравии», в котором некий Р. Шрейбер пишет, будто Чехословакия возникла без какого-либо сопротивления со стороны чешского и словацкого народов Австро-Венгрии. В этом же сборнике
1 Адальберт Штифтер (1805—1868)—австрийский писатель, уроженец Судетской области.—Прим. ред.
393
имеется статья Эмиля Францеля—члена группы Якша,—который заявляет, будто Чехословакию удалось основать только благодаря манифесту императора Карла от 16 октября 1918 года.
Кроме сборника «Немцы в Богемии и Моравии», был издан еще один сборник, подготовленный Исторической комиссией Судетской области, который посвящен истории периода оккупации и событиям после 1945 года. Эта работа — «Документы об изгнании судетских немцев» — содержит самую возмутительную фальсификацию истории Чехословакии. Точно так же, как и во всех других реваншистских писаниях судетских историков, в этой книге утверждается, будто чехи отлично жили в период гитлеровской оккупации и якобы не оказывали никакого сопротивления оккупантам. Сборник включает также грубую фальшивку на тему об участии судето-немецкой буржуазии в событиях, которые привели к Мюнхену. Кое-что об этом уже рассказал вчера товарищ Фукс в своем выступлении в первой секции. Я не стану здесь опровергать утверждения, будто бы немецкие граждане Чехословакии явились в 1938 году только объектом политики великих держав. Я ограничусь тем, что процитирую выдержку из речи Конрада Генлейна, которую он произнес 4 марта 1941 года в Вене: «Несмотря на то, что мы были вынуждены публично выступать по-иному, однако втайне мы, разумеется, были так тесно связаны с национал-социалистской революцией, что смогли стать ее составной частью».
Тем же духом проникнуты и соответствующие оценки словацкого восстания 1944 года и всенародного чешского национального восстания 1945 года. В работах тех реваншистских историков Западной Германии, которые, подобно Лембергу, Шрайберу, Францелю или Лодгману фон Ауэну, утверждают, что в Чехословакии не было вообще никакого Сопротивления, исторические факты либо полностью замалчиваются, либо искажаются. Словацкое национальное восстание пытаются, например, характеризовать как попытку так называемых словацких коллаборационистов спасти себя в последнюю минуту. Чешское национальное восстание 1945 года пытаются изображать простым последствием «поджигательских призывов» пражского радио. Однако в действительности, как рассказал вчера на заседании второй секции профессор Госиоровский, словацкое национальное восстание было великим историческим вкладом всего словацкого народа, руководимого своим рабочим классом, в дело общей освободительной борьбы пародов. Чешское национальное восстание 1945 года, которое стоило многих тысяч жертв, было, как это явствует из всей взаимосвязи событий, развивавшихся в чешских землях в период оккупации, вершиной той героической борьбы всенародного Сопротивления, которая велась на продолжении всех лет войны.
Подлинный смысл писаний реваншистских историков Западной Германии определяется той ролью, которая предназначена им в обработке общественного мнения Федеративной Республики. Их задачей является внушить немецкому народу ненависть к чехам и словакам, фальсифицировать историю этих наций и распространять утверждение, будто бы вся Чехословакия, и во всяком случае пограничные чехословацкие области, являются лишь временно оккупированными частями немецкой государственной территории. Все эти реваншистские писания, разумеется, не имеют ничего общего с наукой. Опровергнуть их утверждения и аргументацию не представляет особого труда. Но нельзя забывать, что они имеют очень широкое распространение в Западной Германии и в силу этого оказывают там значительное воздействие на общественное мнение. Поэтому первоочередной обязанностью всех историков и особенно историков Чехословацкой Республики и Германской Демократической Республики, которые так хорошо понимают друг друга и так хорошо сотрудничают, является совместными усилиями опровергать пропагандистские пасквили реваншистов и поджигателей войны, опровергать их средствами научной аргументации и внедрять в сознание всех немцев, всех чехов и всех словаков правду о подлинной истории взаимоотношений наших народов.
394
Сорок лет тому назад Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эпоху в истории человечества — эпоху, которая в конце концов приведет к полному устранению национальных противоречий и напряженности в отношениях между нациями. Те народы, которые уже вступили на путь Великого Октября и уже преодолели решающий поворот своей истории, то есть свергли капитализм, создают совершенно новые формы взаимоотношений. Народы Чехословакии покончили - со старыми порядками и строят новое социалистическое общество, которое для них является уже не мечтой, а в самое ближайшее время станет реальной действительностью. Часть немецкого народа также вступила на этот путь. И как далеко мы продвинулись в этом нашем совместном движении вперед, видит каждый немец — гражданин Германской Демократической Республики, посетивший Чехословацкую Республику, и каждый гражданин Чехословакии, посетивший Германскую Демократическую Республику. Оба эти государства являются не только добрыми соседями, но и военными союзниками, объединенными Варшавским договором, который создал великую оборонительную организацию всех сил мира и социализма и который будет существовать до тех пор, пока не будет устранена угроза новой империалистической войны в Европе.
Работы в области предыстории и истории второй мировой войны, как это указал и подчеркнул в своем докладе профессор Лео Штерн, будут иметь большое значение для дальнейшего, все более успешного разоблачения реваншистских, враждебных миру фальсификаций истории, осуществляемых в Западной Германии, и для внедрения в сознание подавляющего большинства всех немцев — граждан Федеративной Республики научно-справедливых представлений об истории наших народов и необходимости сотрудничества между ними. Это явится крупным вкладом передовой исторической науки в дело борьбы за мир.
Е. А. Болтин
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСТОРИИ ВЫШКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945 ГОДОВ В СССР
Заслушанные нами доклады и сообщения ио агорой теме нашей сессии, в частности интересный и содержательный доклад профессора Лео Штерна, убедительно подтверждают необходимость активной борьбы с реакционной буржуазной историографией второй мировой войны. Такая борьба должна вестись с позиций марксистско-ленинской идеологии. Бесспорно, наша сессия внесла известный вклад в эту борьбу. Однако надо признать, что этот вклад еще довольно скромен. И это следует сказать, в частности, о нас, советских историках.
Марксистско-ленинское исследование истории второй мировой войны имеет не только глубокий познавательный интерес, но и громадное политическое и воспитательное значение. Победа Советского Союза во второй мировой войне явилась важным событием истории и открыла собой новый этап в развитии социализма, создав условия для его превращения в мировую систему. Отечественная война, в которой народы Советского Союза, руководимые Коммунистической партией, нанесли решающее поражение злейшим силам капиталистической реакции, явилась лучшим доказательством необоримой силы и высокой жизнеспособности социалистического общественного и государственного строя, его превосходства над капиталистическим строем. Победа советских вооруженных сил над гитлеровской фашистской армией доказала правильность внешней и внутренней политики Коммунистической партии, ее неразрывную связь с широкими массами трудящихся, единство народов Советского Союза и их сплоченность вокруг знамени марксизма-ленинизма.
Вот почему для того, чтобы активно бороться с буржуазной идеологией, для того, в частности, чтобы убедительно разоблачать лживый, реакционный характер буржуазной историографии второй мировой войны, мы должны глубоко изучить историю Великой Отечественной войны Советского Союза, знать подлинную правду о героической борьбе советского народа и его вооруженных сил. Только при этом условии мы сумеем противопоставить буржуазной пропаганде гранитную стену фактов и доказательств, о которые разобьется ложь фальсификаторов истории.
Но, к сожалению, советская историческая паука еще не создала такие труды, которые позволили бы вооружить знанием фактов всех прогрессивных историков, стоящих на идейной платформе марксизма-ленинизма. Мы, советские историки, открыто признаем, что за истекшие после войны двенадцать лет нами сделано еще мало. В частности, велик наш долг перед вами, нашими иностранными коллегами, которые законно ждут от нас крупных научных трудов по истолки Отечественной и всей второй мировой войны.
Я нс буду подробно останавливаться на причинах, обусловивших отставание соцетской исторической науки в области разработки проблем второй мировой войны. Скажу лишь, что, на мой взгляд, корни этих причин надо искать в следующем: слишком острый, животрепещущий характер имели для нас события войны в первые послевоенные годы. Сложившаяся между
396
народная обстановка, раскол мира на два лагеря, «холодная война», которук» ведут империалисты против социалистического лагеря, и прежде всего против СССР,— все это наряду с некоторыми причинами внутреннего характера в минувшие годы ограничивало возможность обнародования многих документов военных лет и связывало инициативу советских историков в области исследования и обобщения опыта войны.
Впрочем, исследовательская работа велась и ведется в довольно значительных масштаба#; но ее результаты в виде опубликованных трудов пока еще совершенно недостаточны. •
Сейчас в области изучения и освещения истории Великой Отечественной войны в нашей стране наступил решительный перелом. Время сгладило остроту некоторых проблем военного периода, а современная обстановка настойчиво требует появления капитальных научных трудов, дающих полное, обоснованное и документированное изложение вашей советской марксистско-ленинской точки зрения на события Великой Отечественной войны и второй мировой войны.
На создание таких трудов и направлено постановление Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза «Об издании истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг.», принятое в сентябре 1957 года. Информация об этом постановлении была опубликована в советской прессе, и вам она, вероятно, известна.
Разрешите несколько подробнее остановиться на этом важном документе и рассказать о том, как намечается организовать работу по изданию советской истории войны.
* * *
Постановление ЦК КПСС, ставит перед советскими историками задачу: в течение 1957—1960 годов разработать и опубликовать пятитомный труд по истории Великой Отечественной войны объемом до 200 печатных листов. Этот труд должен представлять собой глубокое марксистское исследование, охватывающее все стороны военной истории 1941—1945 годов, внутренние процессы экономического и общественно-политического развития страны, а также международные отношения и внешнюю политику СССР в этот период.
В пятитомнике должен быть дан общий обзор и характеристика подготовки агрессии против СССР со стороны фашистской Германии и других империалистических держав, показана борьба советского народа на фронте и в тылу, важнейшие операции Советской Армии и Военно-Морского флота, могущество вооруженных сил СССР и характерные черты советского военного искусства. Одной из важнейших задач труда является показ роли Коммунистической партии Советского Союза как организатора борьбы с врагом, ее многогранной деятельности по руководству фронтом, партизанской войной в тылу врага, хозяйственной и политической жизнью страны. Труд должен всесторонне раскрыть огромные возможности социалистической системы хозяйства, советского общественного и государственного строя, показать дружбу пародов СССР и советский патриотизм, советскую внешнюю политику, а также всемирно-историческое значение победы над немецким фашизмом.
Уже одно перечисление этих вопросов ясно говорит о том, что пятитомный труд будет представлять собой общественно-политическую и военную историю Великой Отечественной войны как главной и решающей части второй мировой войны. Труд должен дать советскому народу и всему человечеству ясный ответ на вопрос: почему из этой самой тяжелой войны Советский Союз сумел выйти победителем, в чем заключаются источники несокрушимой мощи СССР и его вооруженных сил? Отсюда следует, что труд пе может быть только военно-стратегическим очерком, а должен разносторонне показать события войны во всем их многообразном проявлении и связи друг с другом.
397
Как же будет решаться эта задача в организационном отношении?
Для руководства разработкой «Истории Великой Отечественной войны»-Центральным Комитетом партии создана авторитетная редакционная комиссия под председательством кандидата в члены Президиума и секретаря ЦК КПСС действительного члена Академии наук СССР товарища Поспелова П. Н. В состав комиссии вошли видные советские ученые-историки, а также представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел СССР, ряда научных учреждений и общественных организаций и т. д. Редакционная-комиссия явится тем научным и организационным коллективным органом, который определит общее направление труда и рамки содержания его отдельных частей и обеспечит высокий научный и политический уровень труда1 в целом. Комиссия объединит усилия советских историков, всех заинтересованных учреждений и лиц вокруг задачи написания труда.
Непосредственная работа по написанию труда возложена на Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, в котором создается специальный Отдел истории Великой Отечественной войны. Отдел явится тем рабочим органом, который должен собрать весь необходимый документальный, цифровой и фактический материал, обобщить его и выполнить значительную часть-авторского труда. Однако к написанию истории, а также к консультационной-и редакционной работе, кроме штатных сотрудников отдела, будет привлечен и широкий научно-исторический актив. К разработке отдельных материалов предполагается привлечь не только историков и опытных литераторов, но-и некоторых участников войны, личные воспоминания и впечатления которых представляют историческую ценность.
Великая Отечественная война была не только вооруженной борьбой Советской Армии, авиации и флота на фронте, но и трудовым подвигом! всего советского народа, который своей работой на. фабриках, заводах, в колхозах и совхозах, на железнодорожном и водном транспорте и во всех других отраслях народного хозяйства обеспечил победу над врагом. Для всестороннего описания этой войны будут привлечены поэтому не только-архивные документы военного ведомства, но и материалы партийных органов, различных хозяйственных министерств, ведомств, общественных организаций.
Из сказанного выше следует, что работа Отдела истории Великой Отечественной войны не может и не будет замыкаться рамками одного только Института марксизма-ленинизма; институт должен сыграть роль активного организатора всех сил, привлеченных к сбору материалов и к написанию истории Великой Отечественной войны.
Задача, поставленная Центральным Комитетом партии, не ограничивается-разработкой и выпуском в свет пятитомной Истории войны. В целях оказания помощи научным кадрам в разработке проблем военного периода признано необходимым издать пять томов документальных сборников по истории войны, каждый по 35—40 печатных листов. Сборники включат документы, характеризующие внешнюю и внутреннюю политику партии и советского правительства в годы войны, состояние и рост советской военной экономики, ведение войны советскими вооруженными силами, руководство партизанской борьбой в тылу врага и т. п.
Важность издания документальных сборников совершенно очевидна. Только публикация документов обеспечит создание источниковедческой базы, необходимой для работы историков над проблемами Великой Отечественной войны. Конечно, пять томов документов не могут исчерпать всего огромного документального фон^а истории войны, но мы намерены отобрать и достаточно полно представить важнейшие документы, дающее отправной материал по основным вопросам подготовки, ведения и обеспечения войны во всем ее многообразии.
Создание сборников документов потребует привлечения сил государственных и ведомственных архивов и всех тех советских учреждений и организаций, которые располагают документальным материалом. Для такого-
398
привлечения и использования документов Институту марксизма-ленинизма даны широкие полномочия.
Наконец, для того чтобы удовлетворить запросы широких кругов советских читателей, особенно рабочих, колхозников и молодежи, наряду с созданием капитального пятитомного труда и выпуском документальных сборников намечено подготовить и издать однотомник —«История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг.» объемом 35—40 печатных листов. Однотомник должен дать научно-популярный очерк истории войны, доступный и понятйый самым различным категорцрм читателей.
Разработка и подготовка к изданию труда «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг.», документальных сборников и однотомника является важной и ответственной задачей всех советских историков. Сосредоточение основной работы по написанию истории войны в Институте марксизма-ленинизма отнюдь не означает какого бы то ни было умаления роли и задач других научных организаций в данной области, а тем более свертывания или ограничения их деятельности. Напротив, предполагается широко развернуть и активизировать работу всех научно-исторических учреждений, занятых проблемами истории войны. Задачи разностороннего освещения истории Великой Отечественной и второй мировой войны настолько широки и многогранны, что на поприще их выполнения место найдется всем.
Но в этой связи может возникнуть вопрос: почему же Центральный Комитет партии поручил разработку истории войны Институту марксизма-ленинизма, а, скажем, не военному ведомству, которое располагает многими документами?
Важность и целесообразность такой постановки вопроса подтверждается недавним решением Октябрьского пленума ЦК КПСС, отрицательно оценившего деятельность бывшего министра обороны СССР маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Имя товарища Жукова широко известно не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. В лице Г. К. Жукова наш народ уважает одного из своих выдающихся полководцев. Заслуги маршала Жукова высоко оценены Коммунистической партией и советским правительством. Ио все это не могло послужить основанием для того, чтобы не замечать или прощать грубые политические ошибки, допущенные товарищем Жуковым.
В частности, одной из таких ошибок было преувеличение Г. К. Жуковым: своей персональной роли в победе советского народа и попытка на этой основе-насадить культ своей личности в Советской Армии.
Наша партия, разоблачив на XX съезде культ личности И. В. Сталина, как несовместимый с марксизмом-ленинизмом, повела смелую борьбу с последствиями этого культа во всех областях нашей идеологической работы, в том числе и в области истории Великой Отечественной войны. За годы после XX съезда советская историческая наука достигла в этом отношении значительных успехов, очистила историю войны от культа Сталина. Постановление Октябрьского пленума ЦК убедительно свидетельствует о том, что партия никому не позволит осужденный культ личности Сталина заменить каким бы то пи было новым культом.
Наша точка зрения заключается в том, что победа советского народа в Отечественной войне была обеспечена не военным гением одного лица, а коллективными усилиями Коммунистической партии, советского правительства, героической Советской Армии — ее полководцев и доблестных воинов, всего советского народа. «История Великой Отечественной войны», создаваемая по решению ЦК КПСС, должна именно в этом духе показать, всенародный характер нашей борьбы и победы, не преуменьшая, разумеется, и личных заслуг отдельных выдающихся политических деятелей и полководцев, но и не преувеличивая их роли.
Приступая к ныполнению задачи, поставленной ЦК КПСС, коллектив научных работников Института марксизма-ленинизма отдает себе отчет в том, что ему предстоит нелегкая работа. Трудность заключается прежде всего в правильном решении основных вопросов содержания труда, от чего будет зависеть его научная и идеологическая ценность.
Мне хочется коснуться двух таких вопросов содержания, над которыми мы сейчас работаем и постановка которых носит дискуссионный характер.
Первый вопрос — о характере второй мировой войны.
Вторая мировая война возникла и протекала в сложной и противоречивой обстановке, когда, с одной стороны, решающим являлось коренное противоречие между капиталистическим миром и единственным государством социализма — Советским Союзом и, с другой стороны, имелись и серьезные противоречия между двумя враждующими группировками империалистических стран. Мы знаем, что на известном этапе исторического процесса вторая группа противоречий оказалась на какое-то время сильнее первой, что и привело к тому, что война вспыхнула в сентябре 1939 года прежде всего между крупными капиталистическими странами Европы. Лишь спустя полтора — два года, после нападения Германии на СССР и Японии на США война разрослась до всемирного масштаба. С этого же момента сложился такой своеобразный и единственный в истории союз, как антифашистская коалиция, в которую наряду с капиталистическими державами англосаксонско-французского блока вошел и социалистический Советский Союз, занявший в ней ведущее место.
Спрашивается: каков же был политический характер войны и был ли он одинаковым на всем ее протяжении?
Напрасно было бы искать ответа на этот вопрос в буржуазной историографии — там мы не найдем ничего, кроме ложных, идеалистических, реакционных концепций, которые уже были разобраны в предыдущих докладах; поэтому я не буду на них останавливаться.
Ленин учил нас определять характер войны не по официальным декларациям воюющих стран и не по виду действий их вооруженных сил (наступление, оборона), а по той классовой внешней и внутренней политике, продолжением которой является данная война для каждого государства. С этой точки зрения гитлеровская Германия, бесспорно, с самого начала и до конца вела агрессивную, несправедливую, захватническую войну, войну империалистическую. С этим, я думаю, согласны не только все присутствующие, но и многие честныё буржуазные историки.
Но хотя фашистская Германия выступила как агрессор, можем ли мы утверждать, что со стороны англо-французской коалиции война с первых дней была справедливой, освободительной? Такая точка зрения в недавнем прошлом, по существу, разделялась советской исторической наукой, которая исходила из того, что в войне Англии и Франции против Германии преобладал антифашистский элемент, и подчеркивала, что вступление в войну СССР лишь усилило освободительный, справедливый характер второй мировой войны.
Сейчас мы считаем необходимым подвергнуть эту точку зрения серьезному обсуждению. На самом деле, разве правящие реакционные круги Англии и Франции, а также США, которые на первых порах оставались вне войны, не способствовали всей своей политикой развязыванию гитлеровской агрессии, не преследовали в этой войне собственных империалистических целей? Надо пряЖо и отчетливо заявить, что вторая мировая война была начата правящими кругами обеих враждующий капиталистических коалиций ради реакционных, империалистических, классовых интересов правящей буржуазии. Это дает нам полное основание говорить о характере второй мировой войны в ее начальном этапе как войны империалистической, за развязывание которой песет ответственность не одна фашистская Герма
400
ния (хотя она и является агрессором), а мировая система империализма в целом.
Однако, называя вторую мировую войну на ее первой стадии империалистической, мы не можем не видеть ее своеобразия и крупных отличий от первой мировой войны 1914—1918 годов, являвшейся империалистической для всех воевавших государств.
Немецкий фашизм, непосредственно развязавший войну, был наиболее свирепым и разбойничьим отрядом мирового империализма. В момент начала войны гитлеровцы уже присоединили к свое* империи Австрию, лишили свободы и государственной независимости Чехословакию. Угроза фашистского порабощения вынудила народы капиталистических стран Европы, подвергшиеся гитлеровской агрессии, поднять знамя антифашистской борьбы. Это не только полностью относится к таким странам, как Польша, Югославия, Норвегия и другие, но и к Англии и Франции. Буржуазия ловко воспользовалась этим обстоятельством. В частности, английская буржуазия, особенно после поражений, понесенных в 1940 году англофранцузскими вооруженными силами, широко использовала в своих целях антифашистские настроения народных масс и сумела выдвинуть в так называемой «битве за Англию» на первый план общенациональные задачи войны.
Но все же, несмотря на зарождение народного антифашистского движения, мы не можем не подчеркивать империалистический характер второй мировой войны на ее первом этапе, до нападения Германии на СССР. Лишь после 22 июня 1941 года, когда встал вопрос о защите первого государства социализма, война для капиталистических стран антифашистской коалиции, вопреки воле заправил капиталистического мира приобрела справедливый, освободительный характер, хотя американо-английские империалисты наряду с общими интересами продолжали преследовать в ней свои корыстные, империалистические цели.
Что же касается Советского Союза, то для его народов война была с первого и оставалась до последнего дня самой справедливой, прогрессивной, подлинно всенародной войной.
Бее это позволяет нам говорить о превращении для стран антифашистской коалиции второй мировой войны в целом из империалистической в справедливую, освободительную.
Полагаю, что по этому вопросу нам следовало бы продолжить обмен мнениями после данной сессии.
Второй вопрос, который я хочу осветить, — это о научной периодизации Великой Отечественной и второй мировой войны.
Этот вопрос тоже сейчас подвергается обсуждению в среде советских историков. Важность и необходимость правильной и обоснованной периодизации войны вряд ли нуждается в доказательствах, хотя следует оговорить, что всякая периодизация, разумеется, является условной.
Я изложу предварительные соображения о периодизации войны, которые сводятся к следующему.
1. Главным признаком деления Великой Отечественной войны на периоды следует считать крупные изменения в военно-политической обстановке, обусловленные общими экономическими и политическими факторами, определявшими характер и ход вооруженной борьбы между СССР Германией.
2. Следует рассматривать Великую Отечественную войну как главную часть второй мировой войны в целом. Учитывая, что решающим фронтом второй мировой войны является советско-германский фронт, в основу периодизации второй мировой войны надо положить этапы вооруженной борьбы между СССР и Германией, а также изменения, происходившие во внешнеполитическом и внутреннем положении Советского Союза в ходе войны.
26 Завал М 1220
401
С этой точки зрения представляется целесообразным разделить Великую Отечественную войну на три крупных периода.
Первый период — с 22 июня 1941 года по ноябрь 1942 года. Этот период включает законченный этап развития военно-политической обстановки. Вооруженная борьба Советского Союза против фашистской Германии характеризуется в этот период преимущественно стратегической обороной советских вооруженных сил и их вынужденным отступлением в глубь страны. В этот период фашистская Германия дважды предпринимала крупное наступление против Советского Союза, но оба раза это наступление было остановлено, не достигнув конечных целей, выдвигавшихся гитлеровской стратегией. Советские вооруженные силы в первый период войны преследовали основную цель: остановить фашистское нашествие, преградить путь врагу в глубь страны. Вместе с тем они пытались овладеть стратегической инициативой и перейти к наступательному образу действий: наиболее крупную часть этой попытки составило контрнаступление Советской Армии под Москвой в декабре 1941 года. Однако объективных предпосылок для коренного изменения характера вооруженной борьбы зимой 1941/42 года еще не имелось и добиться решающего перелома в ходе военных действий советские вооруженные силы в это время не смогли. Поэтому в целом первый период войны проходит под знаком обороны и отхода советских вооруженных сил в глубь страны.
В то же время в первый период уже были созданы необходимые условия и предпосылки для коренного перелома в ходе войны. В частности, были заложены основы экономического обеспечения победы Советского Союза. Известно, что потеря территории н ряда экономических районов в 1941 году вызвала резко сокращение экономических ресурсов и падение производства. В результате в 1942 году основные показатели экономики СССР были значительно ниже довоенных. Так, выплавка чугуна в 1942 году составила 32,2 процента от уровня 1940 года, выплавка стали—44,3, производство проката—41,2, электростали—45,4 процента; только производство качественного металла возросло на 6,3 процента. Посевная площадь по СССР сократилась в 1942 году по сравнению с 1941 годом на 20,4 миллиона гектаров.
Тем не менее благодаря мобилизации Коммунистической партией на нужды войны всех ресурсов страпы и героическому труду народа начиная с февраля—марта 1942 года советская военная экономика вступает на путь неуклонного укрепления и развития. Это подтверждается, например,тем, что среднемесячное производство танков в 1942 году составляло 320 процентов от уровня 1941 года, самолетов—224 процента и т.д.
В конце первого периода войны советская военная экономика уже обеспечивала необходимые условия для перехода инициативы в руки Советской Армии, что предопределило^последующий перелом в ходе военных действий в пользу Советского Союза.
В первый период войны создаются благоприятные условия для СССР и в области международных отношений и международной политики. Уже в начале этого периода складывается антифашистская коалиция, выдвигается задача открытия второго фронта в Европе и благодаря героическим действиям советских вооруженных сил возникают предпосылки для перелома в ходе вооруженной борьбы в пользу капиталистических стран антифашистской коалиции на Североафриканском, Атлантическом и Тихоокеанском театрах военных действий.
Первый период является также определенным этапом развития советского военного искусства, Жоторое после ряда первоначальных неудач наших войск на основе опыта войны нашло правильные пути решения оперативных ж тактических задач как в обороне, так и в наступлении.
Таким образом, в конечном счете в первый период войны было не только остановлено наступление немецко-фашистских войск и достигнуто стратегическое равновесие борющихся сторон, но и созданы все необходимые пред-
402
посылки для коренного перелома в ходе войны, изменения характера вооруженной борьбы и перехода инициативы действий в руки антифашистской коалиции, и в первую очередь Советского Союза. Кульминационным пунктом военных событий, обусловивших все эти перемены, явились оборонительные операции советских войск на Сталинградском и Северокавказском направлениях, причем главную роль сыграл разгром немецко-фашистских войск под Москвой, а затем героическая борьба советских войск под Сталинградом, приведшая к провалу гитлеровских наступательных планов. •
Первый период войны может быть назван териодом отражения фашистской агрессии и подготовки условий для коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны».
Второй период — с 19 ноября 1942 по декабрь 1943 года включительно — это период, когда произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной и всей второй мировой войны. Этот период характеризуется новыми крупными изменениями во всей внешне- и внутриполитической обстановке, переходом стратегической инициативы в руки Советского Союза и вытекающими отсюда изменениями в способах ведения вооруженной борьбы. В этот период, начиная с контрнаступления под Сталинградом (то есть с 19 ноября 1942 года), советские вооруженные силы, за исключением апреля—июня 1943 года, ведут наступление, развивавшееся, однако, не на всем фронте одновременно, а последовательно, на его отдельных важнейших направлениях.
Зимой 1942/43 года это наступление охватывает южный фланг советско-германского фронта и приводит к началу освобождения советской земли от немецко-фашистских захватчиков.
В феврале—марте 1943 года в результате попытки немецко-фашистского командования остановить советское наступление и вернуть потерянную инициативу контрнаступлением на харьковском направлении и в Донбассе советские вооруженные силы вновь переходят к обороне и ведут ее до середины июля 1943 года. В начале июля гитлеровцы предпринимают, как известно, последнюю попытку крупного наступления в районе Курской дуги, в короткий срок окончившуюся полным провалом. В итоге разгрома противника в битве под Курском советские вооруженные силы вновь переходят в наступление на южном крыле и в центральной части советско-германского фронта и последовательно освобождают территорию Донбасса, Левобережной Украины, западных областей РСФСР, форсируют Днепр и закрепляют за собой стратегические плацдармы на Правобережной Украине.
Боевые действия второго периода войны привели к коренному перелому в ходе как Великой Отечественной войны, так и всей второй мировой войны в целом. Победы Советской Армии создали благоприятные условия для усиления действий вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и Англии в войне против фашистской Германии и империалистической Японии. И хотя наши бывшие союзники в 1943 году далеко пе использовали этих условий, так и не открыв второго фронта в Европе, тем не менее их действия были несколько активнее, чем в 1941—1942 годах. Существенно изменяется обстановка на Североафриканском и Средиземноморском театрах; войска союзников высаживаются в Сицилии и Италии, происходит благоприятный для США перелом в боевых действиях на Тихоокеанском театре. На Тегеранской конференции (декабрь 1943 года) достигается договоренность о масштабах и сроках высадки американо-английских войск в Северной Франции в 1944 году.
В области экономики второй период войны характерен дальнейшим развертыванием военно-экономических возможностей Советского Союза и таким развитием его экономических ресурсов, при котором стало возможным удовлетворение потребностей вооруженных сил для ведения наступательных операций крупных масштабов. Так, например, среднемесячное производство самолетов, составлявшее в 1942 году 224 процента по сравнению
403
26'
с 1941 годом, в 1943 году достигло 381 процента от уровня 1941 года, то есть увеличилось почти в четыре раза. В результате количественного и качественного роста артиллерии дульная энергия одного залпа всех видов советской артиллерии в 1943 году увеличилась по сравнению с 1941 годом вдвое и т. д. Следует отметить, что в 1942 году происходит и дальнейший рост военной экономики фашистской Германии, хотя он и ограничивается рядом неблагоприятных условий; однако темпы роста немецкой военной экономики оказываются значительно ниже темпов развития советской военной экономики.
В области советского военного искусства второй период войны характеризуется совершенствованием оперативных и тактических приемов действий советского командования и войск, основанных на передовом опыте войны, на развитии боевой техники и ее массовом применении. В частности, советские войска приобретают значительный и разносторонний опыт наступательных действий.
В целом второй период войны может быть назван «.периодом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны».
Третий период — с конца декабря 1943 года до конца войны. В этот период наблюдаются дальнейшие изменения в военно-политической обстановке в пользу Советского Союза. Советские вооруженные силы переходят от наступления на отдельных направлениях к общему наступлению на всем стратегическом фронте, проводимому в форме как последовательных, так и одновременных крупных наступательных операций. Значительное численное и техническое превосходство советских вооруженных сил, безраздельная стратегическая инициатива и господство в воздухе советской авиации обусловливают возможность нанесения по немецко-фашистским войскам ударов громадной нарастающей силы.
С 24 декабря 1943 года советские войска возобновляют наступление на Правобережной Украине; в январе наступление распространяется и на северный фланг фронта. Все это приводит к окончательному освобождению Украины, к полной ликвидации блокады Ленинграда и освобождению Ленинградской области, а затем и освобождению Крыма. Весной 1944 года советские вооруженные силы впервые пересекают границы государств гитлеровского блока и переносят военные действия на территорию, оккупированную противником (в Румынию).
Еще шире развертывается наступление советских войск летом 1944 года и в зимней кампании 1945 года. Для этих кампаний характерны такие исключительные по своим масштабам наступательные операции Советской Армии, как Белорусская, Львовско-Сандомирская, Ясско-Кишиневская, Висло-Одерская, Берлинская и ряд других.
Изменяется и характер вооруженной борьбы против фашистской Германии бывших союзников СССР по антифашистской коалиции. С высадкой в июне 1944 года американо-английских войск в Северной Франции наконец создается, хотя и с большим опозданием, второй фронт против фашистской Германии в Западной Европе. С этого момента возникает возможность стратегического взаимодействия между операциями советских и американо-английских вооруженных сил. Положение фашистской Германии в Западной Европе в связи с потерей оккупированных территорий Бельгии и Франции ухудшается; наличие второго фронта в известной степени способствует ускорению поражения Германии, хотя главная роль в ее разгроме продолжает до конца войны принадлежать советским вооруженным силам.
В соотношении военной экономики борющихся cTojyjH в третий период войны происходят дальнейшие коренные изменения. В то время как экономика фашистской Германии начиная с июля 1944 года прогрессирующими темпами начинает катиться вниз, экономические возможности Советского Союза и всей антифашистской коалиции продолжают возрастать. Так, выплавка чугуна в СССР в 1944 году составила 150,2 процента от уровня
404
1942 года, стали — 134,6, производство проката—135 процентов; на этой основе среднемесячное производство самолетов в 1944 году превысило уровень 1941 года на 440 процентов, а в 1945 году (январь—май) — на 500 процентов, производство танков также увеличилось в пять раз, а дульная энергия одного залпа артиллерии всех видов возросла по сравнению с 1941 годом втрое (а по сравнению с 1943 годом — в 1,5 раза).
Советское военное искусство в третий период Войны достигло наиболее высокого уровня своего развития особенно в области наступления.
В третьем периоде войны советские вооруженные силы не только окончательно изгоняют врага из пределов Советского Союза, но и решают новую задачу, поставленную перед ними политикой Коммунистической партии и советского государства, — задачу помощи борющимся народам Европы и освобождения их от фашистского ига. В этот период происходит окончательный распад гитлеровского блока; ряд бывших союзников Германии, с помощью СССР вышедших из гитлеровской коалиции, поворачивают свое оружие против фашистской Германии (Румыния, Болгария). Все это приводит к глубоким изменениям в международной обстановке и в международном положении Советского Союза, утверждая его авторитет как страны — освободительницы народов от фашистского ига.
Третий период войны заканчивается полной победой Советского Союза и антифашистской коалиции над фашистской Германией. Он может быть назван териодом победоносного завершения Великой Отечественной войны».
Предлагаемое деление Великой Отечественной войны на три периода, по нашему мнению, определяет собой и периодизацию второй мировой войны в целом, поскольку, как уже было отмечено выше, главным и решающим фронтом этой войны являлся советско-германский фронт. Наиболее целесообразным представляется деление второй мировой войны на четыре периода; при этом первый период может остаться в рамках действующей периодизации и охватывать время до нападения фашистской Германии на Советский Союз (1 сентября 1939—21 июня 1941 года); остальные периоды должны соответствовать периодам Великой Отечественной войны.
Несколько особое место в периодизации второй мировой войны занимает заключительный этап войны с Японией, так как в характере этой войны произошло коренное изменение в связи с вступлением в войну Советского Союза 9 августа 1945 года.
Представляется целесообразным выделить кампанию советских вооруженных сил на Дальнем Востоке за рамки третьего периода Великой Отечественной войны и рассматривать ее как особый, завершающий этап второй мировой войны в бассейне Тихого океана.
Таковы основные соображения о периодизации войны, которые необходимо подвергнуть дальнейшему обсуждению.
♦ * *
Дорогие друзья и товарищи!
Позвольте мне в заключение сказать, что разработку истории второй мировой войны во всех странах социалистического лагеря надо резко усилить. Потоку различных фальсифицированных и тенденциозных работ, выбрасываемых на книжный рынок западногерманскими авторами, как советские историки, так и историки ГДР еще не противопоставили своих сколько-нибудь значительных марксистских трудов. Мы понимаем, что немецкие товарищи находятся в этом отношении в более трудном положении, чем мы. Но давайте объединим наши усилия, будем совместно решать вопросы истории войны, шире обмениваться мнениями, документами, работами и этим поможем друг другу в кратчайший срок ликвидировать наше отставание в разработке исторических проблем периода второй мировой войны.
405
Я выражаю пожелание, чтобы Комиссия историков СССР и ГДР после окончания настоящей сессии занялась всерьез этим важным вопросом.
С аналогичным призывом — шире резвернуть исследование истории войны, больше общаться и обмениваться опытом — я обращаюсь и к присутствующим здесь представителям научно-исторических кругов братских социалистических стран, а также к прогрессивным историкам других стран.
В непримиримой борьбе прогрессивной, марксистско-ленинской исторической науки с реакционной буржуазной историографией победа будет на нашей стороне — в этом нет никаких сомнений!
Герхард Шильферт
СООБЩЕНИЕ О ДИСКУССИИ В ПЕРВОЙ РАБОЧЕЙ СЕКЦИИ НА ТЕМУ: «ПОДГОТОВКА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
И ЕЕ ОПИСАНИЕ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ»
На утреннем и вечернем заседаниях первой рабочей комиссии 29 ноября нрисутствовало примерно 120 человек, на других заседаниях подчас бывало и больше слушателей. Всего в прениях выступило 13 человек, которые касались главным образом основных проблем, затронутых в докладе «Главные тенденции реакционной историографии второй мировой войны», оглашенном на заседании 28 ноября.
Большая часть сообщений была на достаточно высоком уровне, во многих случаях были удачно привлечены и использованы публицистические и архивные источники. Именно этим отличались выступления большинства молодых участников дискуссии, таких, как Фукс, Брандт и Копич. Вместе с тем следует отметить недостаток, проявлявшийся в работах некоторых молодых товарищей, которые, привлекая весьма обширный материал, не вполне справлялись с разработкой теоретических проблем.
Большое основополагающее значение имели оба доклада советских историков товарищей Кульбакина и Фомина. Очень благоприятным для хода дискуссии было то, что они выступили уже в начале заседания и заложили необходимые основы разностороннего и пробуждающего творческую инициативу обсуждения главных проблем. Кульбакин призвал марксистско-ленинских историков к тесному сотрудничеству в исследовании исторической роли немецких монополий в отдельные периоды с 1919 по 1939 год. Причем особое значение должно иметь исследование той помощи, которую англо-американские империалисты оказывали германскому империализму.
Очень важным было выступление Тартаковского, отметившего, что для выполнения наших задач необходима глубокая научная критика реакционной историографии. Это выступление, так же как и выступление товарища Паевского, во многом продвинуло нас на пути к поставленной цели. Паевский исследовал очень важную, как он справедливо подчеркнул, проблему истории немецкой внешней политики в период после 1918 года — деятельность Густава Штреземана. Он очень убедительно исследовал и осветил концепцию Штреземана о необходимости связей между советской и капиталистической экономикой. Основной заслугой этого сообщения было то, что оно внесло значительно большую ясность в понимание всей политики Штреземана по отношению к СССР. Паевский справедливо критиковал то обстоятельство, что до настоящего времени этим проблемам не уделялось достаточно внимания. Из выступлений Кульбакина и Паевского вновь стало очевидным, что необходимо более глубоко анализировать внутренние немецкие условия и процессы развития после 1918 года.
Особенно положительным было то, что большинство сообщений целесообразно дополняли друг друга. Такими взаимодополняющими были, например, выступления товарищей Фомина и Каминского. В то время как Фомин, опровергая тезисы современной западногерманской реакционной историографии, доказал виновность немецкой дипломатии в подготовке войны, Каминский привел подобные же доказательства относительно немецкого генералитета. Особенно хорошо дополняли друг друга выступления
407
Базлера и Брандта, которые, несмотря на краткость их сообщений, создали по основным и самым существенным вопросам достаточно полную картину реакционной историографии США и ее главных направлений. Оба референта доказали весьма примечательное обстоятельство, что многие реакционные американские историки в своих оценках фашистских агрессоров Германии, Италии и Японии уже приблизились к прямому оправданию фашистских агрессоров.
Новую оживленную научную дискуссию о характере второй мировой войны вызвало выступление Мойзеля. Он выдвинул концепцию, согласно которой вторая мировая война вплоть до поражения Франции в 1940 году носила характер империалистической войны, хотя ранее уже и обнаруживала существенные черты, характерные для войны антифашистской и освободительной. Ферстер, возражавший ему, полагает, что вторая мировая война может считаться антифашистской освободительной войной только с момента нападения гитлеровской Германии на Советский Союз.
В дополнение к этим выступлениям я со своей стороны подчеркнул настоятельную необходимость усилить и ускорить нашу исследовательскую работу и творческие научные дискуссии — в частности также и по вопросу о характере второй мировой войны — в духе тех направляющих указаний, которые дал в своем докладе профессор Лео Штерн.
Эрнст Энгельберг
9 СООБЩЕНИЕ О ДИСКУССИИ
ВО ВТОРОЙ РАБОЧЕЙ СЕКЦИИ ЙА ТЕМУ: «БУРЖУАЗНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О ХОДЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
Первым выступил Квилитш, говоривший о том, как западногерманская историография изображает Сталинградскую битву. Он подробно остановился на ходе военных действий во время этой битвы и в заключение охарактеризовал главные версии по этому вопросу, существующие в западногерманской историографии.
Зборальский сообщил о переговорах и сотрудничестве разбитых немецких военачальников с англо-американскими штабами в мае 1945 года, целью которых было сохранение боевой готовности немецкой военной машины для нового «похода на Восток». Он рассказал о разногласиях между Черчиллем и Эйзенхауэром в связи с выбором направления удара, подчеркнул, что уже после официальной капитуляции еще велись бои на море и на суше против советских вооруженных сил, бои, целью которых, по формулировке сегодняшней буржуазной литературы, было «спасение немцев от советского потопа».
Основываясь на данных, опубликованных в фашистской экономической прессе и журналах, и пользуясь соответствующей подсобной литературой, Энгельберг исследовал процесс концентрации немецкой промышленности, происходивший в 1942—1944 годах. Вследствие поражения немцев под Москвой в конце 1941 года, после вступления в войну США, в немецкой промышленности создалось «кризисно-обостренное положение». С помощью усиленной рационализации (в нормировании и стандартизации), а также с помощью усиления исходящих от государства принудительных мер (создание «отраслевых управлений» в министерствах и «имперских объединений» в важнейших областях промышленности) нацисты пытались спасти положение. Государственно-монополистический капитализм вступил в новую стадию развития, проявившуюся в том, что аппарат картелей стал частью государственного аппарата. Властители концернов — круппы, флики, пенсгены, рехлинги, цангены и другие — использовали свои чрезвычайные полномочия, чтобы, действуя под маской «тотального управления экономикой», создавать сверхкартели и поглощать последних «аутсайдеров». Не государство руководило монополиями, а, напротив, крупные монополии руководили государством.
В западной историографии делаются попытки обелить немецких промышленных магнатов, так же как обеляют немецких генералов. Для этого упорно доказывается, что в поражении германского империализма повинны только нацистские главари, которые по-дилетантски во все вмешивались и якобы даже пытались руководить промышленностью.
Интересное исследование экономической жизни Венгрии, подчиненной немецкой военной экономике, представил Ранки. Еще до нападения на Советский Союз страны бассейна Дуная считались «естественной сферой интересов» германского империализма. После этого нападения значительно усилилась эксплуатация сателлитов Германии и особенно Венгрии. Так, например, 90 процентов всех бокситов и более половины венгерской нефти шли
409
в Германию. Немецкие предприятия захватили также позиции, принадлежавшие прежде французским и английским акционерам в Венгрии. Немецкая марка оценивалась непосредственно по курсу пенгё, вследствие чего Венгрия, не повышая импорта, вынуждена была экспортировать больше, чем раньше. Неизмеримо вырос выпуск бумажных денег. Покупательная способность населения все уменьшалась, происходило новое перемещение национального дохода. В соответствии со стратегическими и экономическими концепциями германского империализма Венгрия была низведена до положения поставщика сырья для немецкой военной машины.
Диттмар сообщил о средствах идеологического воздействия на немецких солдат в ходе второй мировой войны и о тех выводах, которые делают из этого опыта боннские милитаристы. Фашистское командование в свое время придавало очень большое значение реакционным идеологическим влияниям на солдат. А сегодня боннские властители в своей подготовке к третьей мировой войне пользуются теми же методами, которые раньше применяли гитлеровцы. Создан институт «офицеров особого назначения», которые должны заниматься «внутренним руководством», издаются соответствующие учебные пропагандистские материалы. В «газетах для солдат» снова совершенно открыто полемизируют с самим понятием «граждане в мундирах»1, ибо этот принцип мог бы воспрепятствовать созданию военной диктатуры. Большое внимание уделяется специальным военно-психологическим исследованиям.
Выступление Графа было посвящено оккупационной политике немецкого империализма в Польше. Он рассказал о так называемых «исследованиях Востока», которые направлены на то, чтобы представить в невинном виде немецких оккупантов. Эти «исследователи Востока» утверждают, что фашисты, мол, приносили Польше также и добро. В Тюбингене создан специальный Институт проблем оккупации, особой целью которого является реабилитация немецких военных преступников. Там искажают историю, утверждая, что немецкие «репрессивные меры» начали применяться только вследствие деятельности партизан и что СС повинны только в «некоторых перегибах» и т. п. Ведется идеологическая подготовка общей ревизии решений Нюрнбергского процесса над военными преступниками. Докладчик особенно подробно остановился на лживых утверждениях, что якобы «генерал-губернаторство1 2 было первоначально обузой» для Германии. Так старая реакционная легенда о «цивилизаторской миссии германцев» теперь выступает в новых исторических одеждах, с тем чтобы служить реваншистской политике германского империализма, которую открыто ведет федеральное правительство.
Харткопф говорил о попытках прославления бывшего вермахта и о стремлении создать новую легенду об «ударе кинжалом в спину» 3. Особенно подробно он остановился на клевете, распространяемой Миддельдорфом. Последний пытается всячески умалить достижения Советской Армии, но при этом часто противоречит сам себе, так как не может отрицать выдающихся качеств советских людей и советского оружия.
К числу достижений нашей секции следует отнести и то, что в дискуссии участвовали преимущественно молодые историки. Их выступления свидетельствовали о том, что они, руководствуясь принципами марксизма-ленинизма, разоблачают фальсификации и искажения буржуазных исто
1 Западногерманская реваншистская пропаганда, стараясь демагогически защищать политику вооружения, доказывает, что «бундесвер» якобы существенно отличается от гитлеровского вермахта, и утверждает, что военнослужащие ФРГ—это, мол, не прежние покорные винтики военной машины, а «граждане в мундирах».—Прим. ред.
2 Так называлась гитлеровцами оккупированная Польша.—Прим. ред.
3 Немецкая реакционная пропаганда после первой мировой войны усиленно распространяла лживую легенду, будто бы немецкая армия была до конца непобедимой, а поражение Германии явилось следствием «удара кинжалом и спину», нанесенного Ноябрьской революцией.—Прим. ред.
410
риков и публицистов. Работы молодых историков отличались правильной □остановкой проблем и партийностью.
К сожалению, остались нерассмотренными некоторые важные вопросы, такие, например, как Курская битва или операции Красной Армии в 1944 году, которые представляют весьма благодарный материал, доказывающий выдающееся значение Восточного фронта для хода второй мировой войны. Такие важные политические события, как образование антигитлеровской коалиции и конференции в Тегеране и Ялте, такг^е не были достаточно подробно исследованы. Но из этого, разумеется, ни в коем случае нельзя заключить, будто недооценивается все историческое значение и политическая актуальность этих проблем.
В секции «Истории событий второй мировой войны» рассматривалась весьма обширная тематика. В различных докладах и выступлениях обсуждались проблемы военной экономики, политических и военных событий войны. В каждом отдельном случае рассматривался весьма разносторонний и обширный комплекс вопросов. Поэтому следовало бы подумать о том, чтобы на будущих сессиях такого масштаба еще более детально дифференцировать тематику секций. Так, можно предложить разделение на секции по таким примерно темам:
1. Военная экономика.
2. Внутренняя и внешняя политика отдельных государств.
3. Ход военных событий.
Вальтер Бартель
СООБЩЕНИЕ О ДИСКУССИИ В ТРЕТЬЕЙ РАБОЧЕЙ СЕКЦИИ НА ТЕМУ: «БУРЖУАЗНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ И ПРОБЛЕМЫ АНТИФАШИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны»
Дискуссионные выступления в третьей секции принесли много интересных и ценных дополнений к обоим главным докладам по второму пункту повестки дня сессии.
Гейнц Шуман в своем выступлении доказал, что пролетарское движение Сопротивления, руководимое Коммунистической партией Германии, выдвинуло самых активных антифашистских борцов и понесло самые большие жертвы. Как правило, буржуазная историография сознательно игнорирует классовые монополистическо-юнкерские корни фашизма. Некоторые буржуазные историки и публицисты, такие, как Пехель, Ротфельс и Вейзен-борн, упоминают о пролетарском Сопротивлении, однако они смазывают при этом существенные различия между теми целями, которые ставили перед собой, с одной стороны, буржуазная оппозиция, а с другой—антифашистская борьба рабочего класса, руководимая Коммунистической партией Германии. Для социал-демократической публицистики характерно то, что она в полном согласии с буржуазной литературой провозглашает вершиной движения Сопротивления события 20 июля 1944 года и в то же время пытается отрицать виновность Социал-демократической партии Германии и руководства реформистских профсоюзов за приход фашизма к власти. В целом все реакционные буржуазные тенденции в описаниях истории движения Сопротивления объективно облегчают психологическую подготовку к третьей мировой войне.
Ильза Краузе, основываясь на ряде еще не опубликованных архивных материалов Института марксизма-ленинизма, рассказала о сотрудничестве немецких и иностранных антифашистов в общей борьбе против фашизма и войны. Западногерманская историография всячески принижает значение того факта, что миллионы людей из многих европейских стран были насильственно угнаны на принудительную работу в Германию. Западногерманская историография отрицает или искажает факты совместной борьбы немецких и иностранных антифашистов на предприятиях, в лагерях принудительного труда и в концентрационных лагерях. Герхард Риттер особенно яростно клевещет на сотрудничество коммунистов, социал-демократов и беспартийных немцев с Советским Союзом, называя его «изменой родине», тогда как связи буржуазной оппозиции с западными державами он объявляет «действиями, основанными на чувстве национальной ответственности». Необходимо полностью опровергнуть все реакционные искажения истории, пользуясь фактами героической интернациональной антифашистской борьбы, которая велась в условиях самого жестокого террора. Этой задаче до последнего времени в Германс^й Демократической Республике еще не уделялось достаточно внимания. *
Кандидат исторических наук т. Горошкова в своем выступлении рассмотрела внешнеполитические планы заговорщиков 20 июля и то, как они характеризуются западногерманской историографией. Круги, связанные с Гёрделером и генералами-заговорщиками, стремились, поддерживая теснейшую связь с англо-американцами, взорвать антигитлеровскую коа
412
лицию, с тем чтобы сохраййТЬ существование германского Империализма. Эти круги старались обострять англо-советские противоречия и в противовес этому пропагандировали торжество основных интересов немецких и английских правящих классов.
Только кружок Крайзаузровский и лично Штауфенбург были сторонниками контактов с Советским Союзом и выступали против того, чтобы подчинить будущее Германии коалиции с западными державами, направленной против Советского Союза.
Горошкова доказала, что целью внешнепоЛттических планов группы Гёрделера являлось создание сильной империалистической Германии в качестве форпоста против Советского Союза. Группа Гёрделера считала оправданными аннексию Австрии и Судетской области. Она требовала восстановления немецко-польской границы на основе статута 1914 года. Окружение Гёрделера рассчитывало также на пересмотр немецких западных границ и требовало возвращения бывших немецких колоний. По существу, программой группы Гёрделера являлось обеспечение власти германского империализма в Центральной и Западной Европе и направление ее острия против Советского Союза. Внешнеполитические концепции группы Гёрделера противоречили жизненным интересам всех европейских народов, в том числе и немецкого народа.
Дресс говорил о конституционных планах Гёрделера и их освещении в западногерманской историографии. Конституционные планы, разработанные группой Гёрделера, были по своим основным тенденциям реакционными. Они стремились обеспечить капиталистическую частную собственность как основу господства монополистического капитала. В них отрицалось право рабочего класса и трудящегося народа на руководящую роль в той немецкой демократической республике, которая должна была быть создана после свержения гитлеровского режима. Конституционные планы Гёрделера являлись реакционными даже в сравнении с буружазными конституциями 1849 и 1919 годов. Это проявилось, в частности, в его проектах реакционной избирательной системы, двухпалатного представительного органа, включающего вновь созданную «палату имперских сословий», в самодержавных полномочиях имперского канцлера и в ограничении основных буржуазно-демократических правовых норм. Окружение Гёрделера стремилось к созданию юнкерски-буржуазного сословного, децентрализованного «тоталитарного» государства, в котором неограниченно господствовала бы империалистическая буржуазия.
Леон Небенцаль в своем выступлении привел весьма интересные данные о жизни и борьбе татарского поэта Мусы Джалиля. Его сообщение основывалось на материалах, полученных в результате совместных усилий советских, немецких и бельгийских передовых историков и антифашистов и позволяло воссоздать образ татарского гуманиста и борца Сопротивления. Муса Джалиль, действуя с большим умением и редким мужеством, развернул в фашистских лагерях для военнопленных обширную работу по мобилизации советских граждан татарской национальности на борьбу за советскую родину. Муса Джалиль, который принес свою жизнь в жертву в борьбе против фашизма, известен также и в Германии благодаря его книге «Моабит-ские тетради», которая вышла в издательстве «Культур унд Фортшрит».
Вацлав Потеранский сделал сообщение о том, как в эмигрантской литературе изображается польское движение Сопротивления, причем он характеризовал оба главных направления польского движения Сопротивления. Буржуазно-либеральная оппозиция находилась под влиянием польского эмигрантского правительства и боролась за восстановление антинародного буржуазного польского государства таким, каким оно было до 1939 года. В соответствии с этим и буржуазная эмигрантская литература пропагандирует направленные против рабочего класса и даже прямо агрессивные антисоветские тенденции. Одновременно она отождествляет весь немецкий народ с гитлеровским режимом. В противоположность этому революционные левые
413
силы, руководимые рабочим классом, выступали за право народов на самоопределение, за мирное разрешение проблемы восточных границ. Современное польское правительство является законным наследником демократического народного представительства, возникшего в ходе польской освободительной борьбы в годы второй мировой войны. Марксистским историкам в Польше предстоит еще решить много серьезных задач в изложении истории движения Сопротивления.
Вильгельм Эрзиль указал в своем выступлении на непосредственные связи руководящих деятелей группы Гёрделера с кругами крупной буржуазии. За спиною Гёрделера, Попитца, фон Гасселя, Фалькенгаузена, Го-факера и других стояли определенные группы немецкого монополистического капитала, такие, как Крупп, Бош и Ройш, а также представители крупных аграриев, такие, как Вентцель-Тойченталь и другие. Учитывая эти закулисные силы, 20 июля являлось отнюдь не «восстанием совести», а попыткой обеспечить в Германии власть монополистов и юнкеров, отделив ее от предстоящего крушения фашистского режима.
Милош Госиоровский сообщил о сотрудничестве немцев и словаков в борьбе против фашистской оккупации. Словацкие, советские и немецкие партизаны участвовали в словацком народном восстании, которое было целеустремленно подготовлено коммунистами. Именно этим восстанием был заложен краеугольный камень для создания Чехословацкой Народной Республики.
В заключение я хотел бы подчеркнуть тот исторический факт, что почти во всех европейских странах борьбу против фашизма и войны вели совместно патриоты различных народов.
В ходе совещаний секции было со всей ясностью установлено, что:
1. История антифашистского движения Сопротивления является значительным разделом в истории героических подвигов народных масс.
2. Буржуазная историография в освещении темы интернационального антифашистского движения Сопротивления разоблачает себя как апологет немецкого империализма. Буржуазные историки, за немногими исключениями, оказываются неспособными распознать подлинный смысл народной борьбы, либо—что еще хуже—они замалчивают истину и искажают факты в интересах своих капиталистических заказчиков.
3. Исследование международной борьбы участников движения Сопротивления вновь подтверждает тот факт, что только научный социализм создает основы правильного познания подлинных движущих сил исторических событий и понимания роли народных масс как движущей силы истории.
4. Деятельность нашей секции может рассматриваться только как начало. Секция, насчитывавшая Ю0 участников, призывает всех историков — и прежде всего молодых ученых в каждом институте и каждой организации — посвятить свои силы почетной задаче: систематически и в гармоническом сотрудничестве исследовать и сохранить великое наследство международной борьбы против губителей наций, за мир и дружбу народов, сохранить это наследство для современников и потомков и превратить его в острое оружие, обращенное против поджигателей войны. На соратниках патриотов, сражавшихся против фашизма и войны, и на молодых наследниках их славных традиций лежит почетная обязанность сделать достоянием самых широких народных масс факты жизни, борьбы и героической гибели подлинных защитников народа, подлинных патриотов и воинов единственносправедливой войны.
Лео Штерн
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Легко понять, что в обобщающем заключительном слове я даже в самой приблизительной степени не могу уделить достаточно внимания всем тем мыслям, проблемам, фактическим дополнениям и углубленной разработке определенных вопросов, которые содержались в сообщениях участников нашей сессии, выступавших в прениях по моему докладу «Главные тенденции реакционной историографии второй мировой войны». Поэтому я ограничусь только характеристиками тех важнейших, основных мыслей и задач, которые вырастают из этой темы для прогрессивных историков.
Прежде всего я хотел бы отметить тот весьма существенный факт, чта мой доклад и доклады советских историков П. А. Жилина и Д. Е. Мельникова составляют вместе определенное логическое и методологическое целое. Независимо друг от друга, без предварительного обмена мнениями мы по всем основным вопросам и во всех наших выводах пришли к тождественным результатам. То же самое можно сказать о подавляющем большинстве выступлений в прениях во всех трех секциях в связи с основной темой сессии. Этот сам по себе поразительный факт определяется тем, что и докладчики и участники прений подходили к проблемам второй мировой войны с позиции марксизма-ленинизма, являясь вместе с тем последовательными антифашистами. Опираясь на эту общую методологическую основу, мы все, выступавшие на эту тему, были едины в нашем страстном стремлении разгромить реакционные фальсификации, писания и исследовать объективную историческую правду о причинах, ходе, перипетиях, исходе и уроках второй мировой войны. Эта объективная историческая правда о второй мировой войне должна стать острым оружием в борьбе против возрождающегося немецкого милитаризма и реваншизма, которые, действуя под покровительством империализма США в качестве бронированного кулака и военного плацдарма для третьей мировой войны, хотят осуществить то, чего им не удалось добиться в предшествующих первых двух мировых войнах.
О докладах советских товарищей Жилина и Мельникова, которые выступали на пленарных заседаниях, я упомяну вкратце, поскольку они у всех нас еще свежи в памяти. П. А. Жилин разрушил состряпанные реакционными историками войны антисоветские легенды о якобы ограниченном значение советско-германского фронта, разрушил их уже богатством и полнотою всех цифровых и фактических данных о гитлеровских дивизиях, которые были сосредоточены на Восточном фронте. Несостоятельность попыток иных бывших гитлеровских генералов, равно как и английских и американских военных историков, умалить ту роль, которую сыграли во второй мировой войне Советский Союз и советские вооруженные силы, так же как несостоятельность попыток всячески выпячивать значение других театров военных действий, прежде всего Западноевропейского, Средиземноморского и Тихоокеанского, становятся ясными уже после ознакомления с приведенными П. А. Жилиным данными о количестве гитлеровских дивизий, действовавших на разных фронтах. Даже в заключительный период второй мировой
415
войны, когда войска союзников уже высадились в Северной Африке, Италии и Нормандии, подавляющее большинство гитлеровских дивизий находилось на Восточном фронте. Более того, Гитлер даже перебрасывал свои части с западных фронтов, чтобы противопоставить их неудержимо наступающим советским войскам. С помощью фактов и неопровержимых аргументов товарищ Жилин опроверг и многиедругие лживые измышления реакционных историков, которые сознательно заменяют объективный анализ боевых операций Красной Армии различными неуклюжими домыслами, рассчитанными лишь на то, чтобы умалить решающее значение участия Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии.
Д. Е. Мельников дал глубокий анализ западногерманской реакционной историографии, которая пытается всеми средствами оправдать немецких империалистов и милитаристов, снять с них ответственность за развязывание и исход второй мировой войны и свалить всю вину на одного Гитлера. Прочно увязывая эту проблематику с современностью, он одновременно разоблачил тайные и явные цели Аденауэра, Штрауса, Шпейделя, Хойзингера, Кам-хубера и стоящих за ними сил немецкого монополистического капитала, которые развертывают идеологическую подготовку к третьей мировой войне. Доклад Д. Е. Мельникова является образцом объективно-научного анализа, который вместе с тем становится сокрушительным обвинением против немецких империалистов и милитаристов, неизменно являвшихся губителями немецкого народа. Мы выражаем обоим советским историкам самую сердечную благодарность за их чрезвычайно ценные доклады.
Прежде чем перейти к материалам прений в трех секциях, я хотел бы особо отметить значительные выступления доктора Корфеса и Бамлера — бывших генералов гитлеровской армии, которых мы также заслушали на пленарных заседаниях. Генерал-майор доктор Корфес, непосредственно принимавший участие в Сталинградской битве, с помощью ряда фактов опроверг лживые утверждения Манштейна, касающиеся истории битвы под Сталинградом и той роли, которую тогда сыграли генерал-полковник Паулюс и сам Манштейн. Бывший генерал-лейтенант Бамлер сообщил весьма поучительный, остававшийся доныне неизвестным материал, имеющий большое познавательное значение, о роли разведывательной службы гитлеровской Германии в подготовке и проведении второй мировой войны. Несомненно, одним из примечательных событий нашей сессии является то обстоятельство, что два бывших генерала гитлеровского вермахта выступили здесь свидетелями обвинения против Гитлера и против Адзнауэра, а также против их закулисных покровителей, которые сегодня, как и в прошлом, преследуют те же цели и пользуются теми же средствами.
Позвольте мне теперь вкратце охарактеризовать сущность работы трех секций, разрабатывавших мою тему. Первая секция, занимавшаяся проблемами подготовки второй мировой войны и ее отражением в буржуазной исторической литературе, работала под председательством профессора доктора Шильферта и советского доцента В. Т. Фомина. Из многочисленныхинаучно хорошо обоснованных выступлений, в которых непосредственно разрабатывались вопросы основного доклада, особенно следует отметить значительные сообщения советских историков В. Д. Кульбакина, Б. Г. Тарта-дсовского и В. Т. Фомина, а также польских историков Я. Паевского А. Каминского. Товарищ Кульбакин совершенно справедливо подчеркнул необходимость того, чтобы историки марксисты-ленинцы разрабатывали , и исследовали отдельные периоды развития немецкого монополистического капитала в период с 1919 по 1939 год, прежде всего его переплетения с англий-. ским и американским монополистическим капиталом. Ибо только так могут быть изучены подлинные политические факторы и в:Аимосвязь событий при подготовке второй мировой войны.
Б том же направлении развертывали аргументацию и другие советские историки. Б. Г. Тартаковский в своем выступлении показал, как реакцион-) ная западногерманская историография всячески отрицает либо замазывает
416
эти факты. В. Т. Фомин уделил наибольшее внимание той реакционной ролщ которую гитлеровская дипломатия сыграла в подготовке второй мировой войны. Польский историк Каминский осветил реакционную роль немецкого генералитета и до основания разоблачил тщательно разрабатываемую на Западе легенду о так называемой «генеральской оппозиции». Большое знау чение имело выступление польского историка Паевского как в своей истори? чески ретроспективной части, так и с точки зрения актуальной значимости критического исследования реакционной «легенды о Штреземане». Не может быть никаких сомнйшй в том, что выступления со^тских и польских тован рищей весьма убедительно доказали необходимость углубленных исследоз ваний немецкой истории после 1918 года—исследований, без которых .немыслим серьезный анализ предыстории второй мировой войны.
Серьезную научную дискуссию о характере второй мировой войны вы-; звало выступление профессора д-ра Альфреда Мойзеля. Не останавливаясь подробно на концепции, высказанной Мойзелем, и на его полемике с Фёрз стером, я думаю, что можно считать бесспорным утверждение, что объективное правдивое изложение истории второй мировой войны невозможно без принципиального выяснения характера этой войны с самого ее начала и до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. . ;
Считаю своим приятным долгом отметить здесь научные достижения молодых историков Германской Демократической Республики, участвоз вавших в работе этой секции, прежде всего Фукса, Бранда, д-ра Базлера и Копича. Для их сообщений характерно широкое использование публицистических и архивных источников, богатство которых, однако, не всегда было достаточно теоретически и методологически освоено. Это обстоятельз ство, впрочем, проявилось также и в выступлениях молодых участников двух других секций. Можно не сомневаться, что подобные недостатки будут устранены по мере накопления опыта работы в научных сессиях.
Второй секцией, занимавшейся проблемами событий второй мировой войны и связанными с нею специальными вопросами, руководили профессор д-р Энгельберг и профессор Болтин. Из работ этой секции я хотел бы особо отметить наряду с сообщением товарища Квилитша, который подверг критическому рассмотрению описание Сталинградской битвы в западногерманской исторической литературе, выступление профессора Энгель^ берга. На основе чрезвычайно интересной документации материалов фашистских экономических газет и журналов, а также соответствующей вспомогательной литературы он убедительно осветил тот процесс концентрации, который шел в немецкой тяжелой промышленности на протяжении войны. Благодаря тому что управленческий аппарат концернов вследствие«тоталь-, ного направления экономики» стал частью государственного аппарата, Крупп, Пёнсген, Рехлинг, Цанген, Абс и другие смогли создавать гигантские сверхконцерны. Не государство руководило монополиями, как это утверждали апологеты фашистского государственно-монополистического капитализма, а, напротив, крупные монополии руководили государством. Приведя научные доказательства этого факта, профессор Энгельберг. одновременно разгромил фальсификации западногерманских историков’ и публицистов, которые пытаются обелить немецких промышленных магнатов, подобно тому как они обеляют немецких генералов, сваливая всю ответственность на несостоятельность главарей нацистской партии, объяс^ няя причину поражения их вмешательством и некомпетентной опекой над экономикой.
Интересным дополнением к тому, что сообщил профессор Энгельберг, было выступление венгерского историка Д. Ранки, который рассказал об очень ценном специальном исследовании конкретных фактов, связанных с включением венгерской экономики в общую систему немецкой военной экономики. Ценные сведения содержало также выступление товарища Графа, охарактеризовавшего оккупационную политику Гитлера в Польше и показавшего, как реакционная западногерманская историография пытается при
'/2 27 Заказ № 1220
417
украшивать немецкую оккупацию Польши и других стран, доказывая, будто бы она принесла оккупированным областям и нечто «доброе» (развитие промышленности и сельского хозяйства, строительство дорог и т. п.). Такими средствами пытаются представить в новом историческом облачении старую реакционную легенду о пресловутой «цивилизаторской миссии германцев» («Германия—культуртрегер»), действуя так для идеологического обоснования реваншистской политики Аденауэра, Брентано и Штрауса, направленной против Польской Народной Республики. Созданный в Тюбингене Институт проблем оккупации стремится реабилитировать немецких военных преступников. Реакционные историки осмеливаются утверждать, что не военные преступники, а, напротив, партизаны различных стран повинны в том, что их деятельность, дескать, вызвала немецкие «репрессивные меры», в ходе которых эсэсовцы и допустили «некоторые излишества». С помощью этих и подобных фальсификаций истории ведется идеологическая подготовка пересмотра решений Нюрнбергских процессов.
Тем же проблемам было посвящено выступление Харткопфа, который указал на систематические попытки западногерманских историков прославлять гитлеровский вермахт и создать новый вариант старой легенды об «ударе кинжалом в спину». Подполковник Дитмар рассказал о методах идеологического воздействия на немецких солдат в годы второй мировой войны и о том, какие выводы делают из этого опыта боннские милитаристы в процессе подготовки к третьей мировой войне.
Следует отметить также сообщение товарища Зборальского, сделавшего сообщение о переговорах, которые вели разгромленные нацистские генералы с английскими и американскими генералами (с Монтгомери и Паттоном) в целях сохранения в боевой готовности немецких кадров для выступления против Советского Союза в «следующем раунде».
Положительными сторонами выступлений во второй секции являются: а) тот факт, что там выступали главным образом молодые историки; б) то, что постановка проблем во всех выступлениях была правильной и анализ велся с позиций марксизма-ленинизма. Отрицательным моментом является то, что из семи выступлений только два (Зигмара Квилитша и профессора Энгельберга) относились непосредственно к тематике секций; б) в программе секции отсутствовали сообщения о многих важных военных операциях, как, например, о Курской битве, о боях 1944 года и т. д.; в> в некоторых выступлениях были недостаточно представлены научные источники.
Такое сопоставление положительных и отрицательных сторон дискуссионных выступлений в этой секции имеет своей целью указать то направление, в котором должно пойти дальнейшее развитие научного исследования истории второй мировой войны.
Третья секция под руководством профессора доктора Вальтера Бартеля и кандидата исторических наук Г. Горошковой занималась вопросами освещения движения Сопротивления в буржуазной исторической литературе в годы второй мировой войны. В дискуссии было заслушано девять сообщений, в том числе по одному сообщению историков Советского Союза, Польши и Чехословацкой Республики. Все выступления могут быть охарактеризованы прежде всего обилием представленного в них не известного до последнего времени или недостаточно освещенного фактического материала, свидетельствующего о выдающейся и господствующей роли рабочего класса, особенно его коммунистических кадров, в антифашистской борьбе Сопротивления. Во всех этих выступлениях были решительно опровергнуты созданные реакционными историками совершенно искаженные картины движения Сопротивления. Вместе с тем на основе неопровержимых фактических материалов были установлены подлинные обстоятельства, подлинная социальная структура и подлинный характер побуждений, содержания, хода, целей борьбы отдельных групп Сопротивления, а также принесенных ими жертв. Самым значительным научным результатом работы этой секции является Т), что в свете новых фактов возникла принципиально иная кар
418
тина антифашистской борьбы Сопротивления, в которой обрела, наконец, правильную, соответствующую действительности характеристику и меру значения необычайно преувеличенная реакционными историками роль буржуазной, военной и церковной «оппозиции» и связанных с нею «людей 20 июля». В этих выступлениях были окончательно установлены подлинные факты, свидетельствующие о том, что ведущие силы 20 июля—офицеры, дипломаты, политические и церковные деятели, за исключением немногочисленных одиночен, во внешней политике преследовали все те же империалистические цели немецкого монополистического капитала и одновременно стремились вести последовательно реакционную внутреннюю политику, направленную против немецкого рабочего класса и всего трудового народа Германии.
Многозначительное выступление было посвящено жизни и борьбе татарского народного поэта Мусы Джалиля. Товарищ Небенцаль очень основательно исследовал жизненный путь этого советского патриота, который в труднейших условиях военного плена в гитлеровской Германии вел активную антифашистскую борьбу, воплощая великие идеи социализма и гуманизма.
Все выступления в этой секции вновь продемонстрировали, что начатые в различных странах, подвергавшихся в годы войны гитлеровской оккупации, исследования истории антифашистской борьбы движений Сопротивления, ведущейся на основе принципов марксизма-ленинизма, как правило, приводят к существенно близким и тождественным результатам и оценкам. То обстоятельство, что почти во всех европейских странах борьбу против фашизма и войны совместно вели патриоты различных народов, настоятельно требует, чтобы дальнейшие исследования истории антифашистского движения Сопротивления проводились также совместно на основе международного сотрудничества. Мы убеждены в том, что эта сессия послужит мощным толчком для дальнейшего развития совместной международной исследовательской работы по истории антифашистского движения Сопротивления.
Подводя итоги всем докладам, заслушанным на пленарных заседаниях, и работе секций, мы вправе сказать, что эта сессия положила начало анализу и оценкам реакционной историографии второй мировой войны. Мы должны были прежде всего наметить, так сказать, границы тех областей, в которых собираемся работать, чтобы соответственно устанавливать для себя и последующие задачи. Однако анализ главных тенденций реакционной историографии второй мировой войны не может вестись в отрыве от главных задач марксистско-ленинской исторической науки. Об этой главной задаче сообщил нам наш советский гость профессор Болтин в своем инструктивном докладе о созданной в Советском Союзе комиссии, поставившей себе задачу опубликовать к 1960—1961 годам «Историю Великой Отечественной войны Советского Союза». Для всех собравшихся здесь передовых историков соответственно главной задачей является создание в процессе совместной международной работы правдивой, фундаментально документированной и глубоко научной истории второй мировой войны. И при этом, как мне кажется, первоочередная задача именно историков Германской Демократической Республики заключается в разработке тех тематических циклов, которые были намечены в моем докладе. Разумеется, в них не трудно выделить много дополнительных, более подробных разделов.
Именно мы, историки Германской Демократической Республики, находящиеся на переднем крае идеологической борьбы, несем особенно большую ответственность за разработку объективно правдивой истории второй мировой войны. Мы должны сделать все, чтобы разрушить планы германского империализма, который в союзе с агрессивным империализмом США усиленно оснащается атомным оружием и обычными видами вооружения и надеется в третьей мировой войне добиться того, чего не смог добиться в первых двух войнах.
Наша сессия заложила ценные основы для осуществления этой задачи. Она дала нам уверенность в том, что мы находимся на правильном пути,
419
27*
J® л испытываю глубокую потребность горячо поблагодарить всех участников ^гостей и особенно представителей капиталистических стран, которые сообщили нам много ценных данных и интересных мыслей на темы второй мировой войны. Наша научная сессия убедительно показала, как это важно, чтобы марксистско-ленинские историки наверстали то, что было упущено в деле изучения истории второй мировой войны, чтобы они координировали свои работы и несли объективную историческую истину в народные массы. Только народные массы являются подлинными творцами истории, и только юни разрушат грязные планы империалистических поджигателей новой войны.
П. А. Жилин
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОЙ?)
Дорогие друзья и товарищи!
Мне, одному из двух советских докладчиков, выступавших по второй теме, рассматривавшейся на научной сессии, мало что остается сказать, так как оба доклада встретили единодушную поддержку как на пленарных заседаниях, так и в секциях. Более того, выступления историков Германской Демократической Республики и других стран дополнили и углубили те основные принципы, которые были изложены в докладах советских историков.
Результаты работы секций, сегодняшние интересные доклады профессора Пиварского (Польша), академика Роллера (Румыния) и профессора Иесуги (Япония), а также выступления генерал-майора в отставке Корфеса и генерал-лейтенанта в отставке Бамлера свидетельствуют о том, что совместная работа в течение этой недели спаяла наши силы и привела к новому подъему в исследованиях истории второй мировой войны. Сегодня мы вправе сказать, что совместная научная сессия историков Германской Демократической Республики и Советского Союза, по существу, переросла в конгресс прогрессивных историков многих стран. Наша встреча явилась совещанием историков, занимающих тождественные идеологические позиции, а именно позиции единственно правильной научной идеологии марксизма-ленинизма. И радостно отметить, что под этим знаменем объединяются как старшее поколение историков, так и молодые научные силы.
Коротко определяя самые существенные результаты нашей научной сессии, я решаюсь утверждать, что наша работа заложила прочные основы для дальнейшего изучения истории второй мировой войны. Наша сессия вылилась в мощное контрнаступление прогрессивных историков против реакционной буржуазной историографии. Проделанная работа свидетельствует о том, что мы перешли в решительное наступление против фальсификаторов истории второй мировой войны. Не приходится сомневаться в том, что лживые измышления историков США, Западной Германии и Англии не устоят под натиском неопровержимых фактов.
Дорогие друзья и товарищи! Давайте смело воплощать в публикациях, статьях и монографиях те мысли, которые мы здесь высказывали. Расскажем народу правду о прошлой войне, правду о тех, кто ее затеял и втянул в нее человечество. Наша работа будет значительно содействовать делу мира, содействовать тому, чтобы война больше не повторилась. И народы будут нам благодарны за это.
А. С. Ерусалимский
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ
Дорогие друзья и товарищи!
Итак, наступает час, когда работа научной сессии Комиссии историков СССР и ГДР подходит к концу. Никто не может сказать, что мы были ленивы. В течение шести дней мы работали с утра до вечера, работали напряженно и вдохновенно. Везде—и на пленарных заседаниях, и на заседаниях секций— билась живая, творческая мысль, обсуждались сложные вопросы, имеющие актуальное значение, поднимались новые вопросы, общие и специальные, объединялись усилия ученых в интересах развития марксистско-ленинской науки. И сегодня, когда мы заканчиваем нашу работу, мы имеем все объективные основания с удовлетворением оглянуться на пройденный путь. Более того, мы можем утверждать, что избранный нами путь тесного научного сотрудничества историков СССР и ГДР—правильный путь, многообещающий путь с точки зрения задач, стоящих перед нами.
Комиссия историков СССР и ГДР существует недавно, всего лишь девять месяцев. И если за зти девять месяцев нам удалось произвести на свет наше первое детище, эту большую научную сессию, которая является свидетельством успехов не только в смысле организации, но и в смысле достижения определенных научных результатов, то это может только усилить нашу волю к дальнейшему столь плодотворному сотрудничеству историков СССР и ГДР.
Наша комиссия существует только девять месяцев, но она уже имеет свою историю, и притом довольно поучительную. Когда два года назад я впервые посетил ГДР, все историки, с которыми мне приходилось встречаться, единодушно высказывали пожелание установить тесное сотрудничество с историками СССР. Вскоре я получил возможность убедиться, что эта идея находит активную поддержку со стороны направляющей и руководящей силы социалистического строительства в ГДР—со стороны СЕПГ и ее ЦК. Мысль, выраженная товарищем Ульбрихтом на переданном мне экземпляре его книги «К вопросу о новейшей истории Германии»—«За тесное, дружеское сотрудничество историков ГДР и СССР», нашла полную поддержку и в СССР. Позвольте выразить глубокую благодарность ЦК СЕПГ за проявленную инициативу в деле создания нашей комиссии и за поддержку самой идеи созыва нашей научной сессии. Мы еще раз убеждаемся в том, какую благотворную роль играет партия в деле развития науки и тесного сотрудничества между прогрессивными силами исторической науки различных стран.
Есть что-то глубоко символическое и вместе с тем глубоко закономерное в том, что скромное начинание сотрудничества между деятелями исторической науки двух социалистических стран сразу выходит «а намеченные рамки и приобретает интернациональный характер. На нашу научную сессию приехали ученые-историки и из других социалистических стран: из Польши и Чехословакии, Румынии и Болгарии, Венгрии и Албании. На нашу научную сессию приехали и ученые-историки из капиталистических стран: из Италии, Австрии, Франции, Японии. Они находились в наших рядах не
422
как наблюдатели и не как официальные представители, которые, как это бывает в капиталистических странах, свою задачу усматривают в том, чтобы приятно улыбаться и говорить ни к чему не обязывающие комплименты. Нет, они были активными участниками нашей сессии и внесли свой вклад в ее работу. Представляя передовую историческую науку разных стран, говоря на разных языках, они, как и мы, историки СССР и ГДР, говорили на одном языке, на языке пролетарского социалистического интернационализма. Среди буржуазных ученых Запада, находящихся в плену националистических концепций или объявляющих себя сто{Лнниками так называемого «европейского мышления», часто раздаются недоуменные голоса: «Что такое пролетарский интернационализм в науке?» Мы можем им ответить: «Вы хотите знать, что такое социалистический интернационализм? Посмотрите на нашу научную сессию, и вы узнаете, что такое социалистический интернационализм в науке». Это не декларация абстрактных принципов, а огромная жизненная сила, которая сплачивает людей науки на принципиальной основе, сплачивает их в интересах развития науки, поставленной на службу общественному прогрессу.
Мы люди скромные и понимаем, что нам предстоит сделать значительно больше, чем мы сделали до сих пор. Но, реально оценивая научное значение нашей сессии, мы можем сказать, что мы не только подвели итоги тому, что достигнуто в определенных областях, но и положили начало нашему продвижению вперед. В качестве предмета наших научных дискуссий мы поставили две темы: «Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Германию» и «Основные направления реакционной историографии второй мировой войны». Выбор этих тем вполне оправдал себя. Мы глубоко и всесторонне обсудили основные проблемы первой темы, рассмотрели ее основные аспекты и убедились, что можем сделать по меньшей мере три важных вывода: во-первых, ученые ГДР и СССР уже накопили огромный фактический, научно обоснованный материал, который может и должен стать фундаментом крупных обобщающих работ по различным аспектам и проблемам интересующей нас темы; во-вторых, что в наших рядах развернулась глубокая и волнующая многцх творческая дискуссия по вопросу о характере Ноябрьской революции; в-третьих, что глубокое влияние Октябрьской социалистической революции в России на Германию не ограничилось событиями 1917 — 1919 годов. Это влияние определялось, с одной стороны, великими освободительными идеями и принципами Великой Октябрьской социалистической революции, а с другой стороны, объективными условиями, сложившимися в самой Германии. Это влияние является глубоким, сложным и длительным процессом, нашедшим теперь свое воплощение в ГДР. Мы можем добавить, что осуществление принципов Великой Октябрьской революции в вопросах внешней политики, принципов пролетарского интернационализма, с одной стороны, и мирного сосуществования—с другой, имеет огромное значение для решения исторической задачи, вставшей перед немецким рабочим классом и всеми прогрессивными силами Германии, — задачи объединения Германии на мирной демократической основе.
И рассмотрение второй темы нашей сессии имело немаловажные научные результаты. Ввиду ряда причин изучение истории второй мировой войны с позиций марксизма-ленинизма до последнего времени явно отставало от задач, которые выдвигает перед нами жизнь. Это тем более недопустимо, что по другую сторону идеологического фронта как раз эта тема является предметом искусных фальсификаций, направленных к одной цели—преуменьшить историческую роль Советского Союза и совсем игнорировать огромный моральный и политический вес сил народного Сопротивления—антифашистского движения, которое даже в страшных условиях гитлеровских концентрационных лагерей и казематов развертывалось в самых благородных формах и под влиянием идей пролетарского интернационализма. На пашей сессии впервые в широком плане была дана научная критика исторических легенд, созданных в интересах реабилитации германского империализма
423
и милитаризма. Эта работа только начинается, и импульс, который мы здесь ощущаем, не может и не должен замереть. Наоборот, мы усматриваем нашу дальнейшую задачу в том, чтобы не только преодолеть отставание, наблюдавшееся в наших рядах, но и, захватив научную инициативу, перейти в наступление, сокрушить все фальсификации и легенды, созданные реакционной историографией, и установить историческую правду. Мы должны это сделать, и мы это сделаем, ибо историческая правда на нашей стороне. Если реакционная историография второй мировой войны, преследуя цели идеологической подготовки третьей мировой войны, является настоящей философией смерти, то прогрессивная марксистская наука, основанная на идеях исторической правды, воодушевлена глубокой и истинно передовой философией жизни. Опыт истории показал, что эта философия жизни и историческая правда всегда являлась могучим фактором, обеспечивающим моральную победу сил социального прогресса над силами темной реакции, сил мира над силами войны.
Тринадцать лет назад, в январе 1944 года простой гамбургский рабочий, которого Коммунистическая партия Германии выдвинула на высокий и ответственный пост своего вождя, наш незабвенный Эрнст Тельман из глубины мрачной ночи, которая окутывала Германию, зорким взглядом проникал в грядущее. Он твердо верил, что победа Советского Союза в его Великой Отечественной войне пробудит и немецкий народ, что эта победа облегчит борьбу немецкого народа против реакции, милитаризма и фашизма. Он был убежден в конечной победе немецкого народа над реакцией, так как знал, что правда истории на стороне народа и его партии, которая самоотверженно, последовательно и отважно сражается за интересы трудящихся. Незадолго до своей трагической гибели Тельман писал из фашистской тюрьмы соратнику и товарищу «по общей судьбе и по революционной борьбе»: «...существует историческая правда... Существует политическая совесть, требующая служения этой правде. Правда не поддается фальсификации на длительное время, так как нет ничего непреложнее фактов. Помни всегда, что наша совесть чиста, она ничем не запятнана по отношению к трудящемуся немецкому народу. Она не отягощена военными преступлениями, империалистической разбойничьей политикой, тиранией, террором, диктатурой и насилием над совестью, ущемлением свободы и произволом, лжесоциализмом, фашистскими расовыми теориями, философствованиями розенберговского толка, заносчивостью, высокомерием, хвастовством и пр. Мы ничем не запятнаны».
Могучая нравственная сила, выразившаяся в этих словах, была накоплена на всем протяжении долгой и мучительной истории рабочего класса Германии и всего немецкого народа, который в течение многих лет и даже целых столетий боролся за свои права, создавал и развивал демократические традиции и на всех этапах истории Германии был подлинным представителем и носителем национальных интересов страны.
Идея мира, которая глубочайшим образом соответствует подлинным интересам немецкого, советского и всех других народов, была и для нашей конференции ее главной идеей.
Наша сессия показала неразрывную связь марксистско-ленинской науки с историческими задачами рабочего класса. Мы и далее будем развивать н укреплять эти связи, ибо в этой глубокой связи мы усматриваем условия развития нашей науки. Дискуссия, которая имела место на нашей сессии, показала, что при различии оценок тех или иных исторических событий, оценок характера тех или иных социальных движений и явлений политической жизни у нас имейся единство общей научной позиции в основных методологических воззрениях: мы исходим из теории Исторического материализма. Именно это единство научных взглядов придает нам силу, уверенность в том, что наши научные исследования помогут народам решать задачи, которые сама история выдвигает перед нами и которые сама Клио, муза истории, воодушевляет их решать.
424
Позвольте с этой высокой трибуны заявить, что в конечном счете только высокий научный уровень нашей работы может обеспечить выполнение той роли, которую историк призван сыграть в общем движении народных масс, в их борьбе за мир и социализм. И если мы слышим голоса, что историки-марксисты занимаются не исследованием, а только пропагандой, то мы можем ответить: историк-марксист одержим стремлением раскрыть исторические закономерности и показать историческую правду. И так как историческая правда на нашей стороне, то это и составляет ее пропагандистскую силу. Наша наука сильна тем, что она являетсяЪаукой. Мы будем наращивать эту силу и тем самым наращивать наши стремления нести эту правду народным массам, в которых мы видим подлинных творцов истории. А тем, кто нас обвиняет в пропаганде, мы можем сказать: мы постараемся увеличить наши успехи в области науки, и это будет самым сильным орудием ее пропаганды. Вот почему мы не можем не отметить боевой, творческий дух, царивший на нашей сессии, боевой дух, который проявился в докладах и выступлениях всех делегаций, находящихся в этом зале. Этот дух является воплощением того благотворного влияния, которое оказывает на нас, историков, сила исторических документов—Декларации представителей коммунистических и рабочих партий и Манифеста мира. Вдохновляющая сила этих документов поистине неисчерпаема, и она еще скажется в дальнейшем. Мы приветствуем эти документы. Они заключают в себе глубокий анализ исторической обстановки, они звучат как призыв к самоспасению человечества. Они показывают реальные пути этого спасения—пути мира, социализма и демократии. Мы, историки, стоящие на позициях марксизма-ленинизма, отдаем себя борьбе за эти высокие идеи.
Есть в нашей сессии одна черта, особо примечательная и многообещающая: в ней участвуют ученые не только разных стран, но и разных поколений. Если старшее поколение принесло с собой опыт и эрудицию, то молодое поколение—усердие, жажду знаний и повышенный интерес к теоретическим и методологическим вопросам, имеющим актуальное значение. Нам приятно отметить это творческое содружество старых и молодых ученых. Но наша сессия показала и нечто более важное—результаты этого содружества, а именно рост молодых научных кадров в ГДР. Если вспомнить, что марксистская наука в Германии в течение длительного периода господства фашизма подвергалась зверским гонениям, то наличие быстрого роста этой науки и ее молодых кадров представляет собой один из самых поразительных фактов в истории современной Германии. Это является свидетельством большой заботы СЕПГ о кадрах историков. Это свидетельствует о силе идей научного социализма и больших творческих потенциях молодого поколения—борцов за социализм, за создание единой миролюбивой и демократической Германии.
Позвольте от всей души приветствовать молодых немецких ученых, принявших участие в нашей сессии. Мы убеждены, что, помножив идеи марксизма-ленинизма на свое немецкое прилежание, они создадут крупные научные труды, которые будут высоко оценены немецким народом. Мы убеждены, что они пойдут по правильному пути, не допустят провинциализации науки и не отступят от научных идей исторического материализма. Мы убеждены, что с возрастом и с приобретением академических званий они не утратят своего молодого боевого задора, а, наоборот, развивая традиции, созданные Марксом и Энгельсом, еще более придадут исторической науке полемическое и боевое качество, столь необходимое для борьбы с реакционной историографией Запада. Пожелаем им в этом успехов.
Наши задачи велики, наши задачи растут, и мы не должны переоценивать результаты наших усилий. Но прежде чем идти дальше, мы должны подвести итоги тому, что мы сделали. С этой целью было бы полезно опубликовать материалы и протоколы нашей сессии, разумеется, под совместной редакцией историков ГДР и СССР. Было бы полезно ускорить работу по изданию задуманного памп «Советско-немецкого ежегодника». Было бы
28 Эл низ Л« 1220
425
полезно создать немецко-советский сборник статей по истории Ноябрьской революции в Германии в связи с предстоящим в будущем году 40-летием этой революции. Учтя опыт настоящей сессии, наша комиссия уже и теперь должна разработать план следующей научной сессии, которая состоится в Москве. Словом, мы должны еще многое продумать и много предусмотреть, исходя из наших возможностей и из наших задач. Мы убедились, что успешное проведение научной сессии такого большого масштаба в немалой степени зависит от ее подготовки. В этом смысле позвольте мне от имени советской делегации и всех иностранных делегаций выразить свое восхищение организационной стороной сессии. Поистине, все было проведено отлично. Мы благодарим статс-секретариат высшей школы ГДР, который оказал огромную помощь при создании комиссии и при организации нашей сессии. Мы благодарим работников статс-секретариата—товарищей Преча, Никель и Ширмера, которые всегда оказывали нам огромные услуги. Мы благодарим всех работников Организационного бюро, которое обеспечило прекрасную работу всего механизма нашей сессии. Тут я должен в первую очередь упомянуть имя товарища Текельман, усилия которой мы должны оценить, а также и имя товарища Любшер. Замечательную, можно сказать самоотверженную, работу провели работники секретариата сессии Герда Кох и товарищ Бернет. Мы благодарим секретарей секций и всех переводчиков, без которых мы просто не могли бы работать. Мы благодарим всех лиц, сопровождавших иностранные делегации, весь большой коллектив, включая наших шоферов, которые помогли организации нашей большой научной сессии.
Особенно большую благодарность позвольте выразить секретарям советской и немецкой секций комиссии товарищам Тартаковскому и Дернбергу. Их роль в организации сессии трудно переоценить.
Дорогие друзья и товарищи! Мы заканчиваем нашу работу. Это значит, что мы должны расстаться друг с другом и с той атмосферой дружбы, в которой мы жили эти дни. Но расставаясь физически с нашими друзьями, мы не расстаемся с ними духовно. Мы всегда будем вместе творить и бороться, бороться и творить.
Завтра советская и другие иностранные делегации уезжают в Веймар, являющийся Меккой немецкой гуманистической культуры. Мы поклонимся там праху великих сынов немецкого народа—Гёте и Шиллера. Мы посетим также Бухенвальд — это позорище фашистских варваров и поклонимся праху немецких, советских и других антифашистов, погибших во имя торжества идеи социализма.
Для нас это не только волнующее воспоминание, но и призыв к борьбе.
Вот почему я хотел бы закончить свое выступление вещими словами немецкого гения:
«Жизни годы
Прошли недаром, ясен предо мной Конечный вывод мудрости земной.
Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой!»
ЗАЯВЛЕНИЕ
НАУЧНОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ИСТОРИКОВ СССР И ГДР
ПО ПОВОДУ МАНИФЕСТА МИРА ЙЪММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ
Историки из Албании, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Италии, Польши, Румынии, Советского Союза, Франции, Чехословакии и Японии, собравшиеся на научную сессию Комиссии историков СССР и ГДР, от всего сердца приветствуют Манифест мира коммунистических и рабочих партий от 19 ноября 1957 года. Подлинная наука может развиваться только в условиях мира, а мир может быть сохранен, только если все люди доброй воли, в том числе и люди науки, будут вести за него активную борьбу.
Мы рассматриваем нашу научную сессию как свой первый вклад в дело решения задач, поставленных в Манифесте мира коммунистических и рабочих партий.
Мы призываем всех прогрессивных историков словом и делом разъяснять народным массам тайны возникновения войн; показывать им истинных виновников войны в лице монополистов и милитаристов; особо разоблачать позорную роль западногерманских монополистов, которые совместно с правящими кругами США превращают Федеративную Республику Германии в главный опорный пункт НАТО, в опаснейший очаг войны в Европе; бороться со всеми формами идеологической подготовки к войне и укреплять в массах сознание того, что они являются решающей силой в деле предотвращения войн.
Будем непримиримо бороться против носителей идеологии подготовки войны, в каком бы обличье они ни выступали!
Все наши силы на осуществление благородной идеи мира!
28*
ПРИВЕТСТВИЕ ЦК КПСС
Комиссия историков СССР и ГДР, собравшаяся в Лейпциге на свою первую научную сессию, шлет Центральному Комитету КПСС свой горячий боевой привет.
Мы надеемся, что, поставив в центре своей работы вопрос о влиянии Великой Октябрьской социалистической революции на Германию и разоблачение реакционной фальсификации истории второй мировой войны, мы тем самым выдвинули такие важные проблемы исторической науки, изучение которых явится одновременно важным вкладом в дело борьбы за сохранение мира. В результате того, что в нашей сессии приняли участие ученые из двенадцати стран, она стала демонстрацией пролетарского интернационализма. Сессия показала большую силу международного сотрудничества марксистско-ленинских историков.
Мы полны твердой решимости и впредь вести свою научную работу на основе непобедимых идей марксизма-ленинизма и добиться новых успехов в идеологической борьбе за мир и социализм.
ПРИВЕТСТВИЕ ЦК СБИВ
Комиссия историков СССР и ГДР, собравшаяся в Лейпциге на свою первую научную сессию, шлет Центральному Комитету СЕПГ свой горячий боевой привет.
Мы надеемся, что, поставив в центре своей работы вопрос о влиянии Великой Октябрьской социалистической революции на Германию и разоблачение реакционной фальсификации истории второй мировой войны, мы тем самым выдвинули такие важные проблемы исторической науки, изучение которых явится одновременно важным вкладом в дело борьбы за сохранение мира.
В результате того, что в нашей сессии приняли участие ученые из двенадцати стран, она стала демонстрацией пролетарского интернационализма. Сессия показала большую силу международного сотрудничества марксистско-ленинских историков.
Мы полны твердой решимости и впредь вести свою научную работу на основе непобедимых идей марксизма-ленинизма и добиться новых успехов в идеологической борьбе за мир и социализм.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ ИСТОРИКОВ ГДР И СССР ОБ ИТОГАХ ПЕРВОЙ НАУЧНОЙ СЕССИИ КОМИССИИ, ПРОХОДИВШЕЙ С 25 ПО 30 НОЯБРЯ 1957 ГОДА В ЛЕЙПЦИГЕ
Комиссия историков ГДР и СССР рассматривает свою первую научную сессию как успешное начало делового сотрудничества историков Советского Союза и Германской Демократической Республики. Сессия, в которой участвовало почти 400 делегатов Германской Демократической Республики и 20 представителей советской науки, имеет большое научное и политическое значение.
Благодаря тому, что в ней приняли участие также 40 научных работников, представлявших десять других стран: Албанию, Болгарию, Францию, Италию, Японию, Австрию, Польшу, Румынию, Чехословакию и Венгрию,— сессия приняла характер международной конференции историков-марксистов. Весь ход сессии доказывает, насколько необходимы и плодотворны такие международные собеседования.
В ходе сессии подтвердилась также правильность выбора обеих основных тем. Изучение проблем—«Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Германию» и «Основные направления реакционной историографии второй мировой войны»—целиком и полностью соответствовало научным интересам историков обеих стран. Об этом же свидетельствовало и большое число сообщений, сделанных в ходе обсуждения. На пленарных заседаниях в семи секциях выступили наряду с пятью главными докладчиками еще 82 участника сессии. Кроме того, ряд сообщений был передан для приобщения к протоколам сессии. Большое значение сессии выражается и в том, что она не только обобщила значительный научный опыт, но и выдвинула новые побуждающие стимулы для дальнейших исследований.
При рассмотрении первой темы были сообщены многочисленные новые факты, подвергшиеся глубокому анализу, свидетельствовавшие о том, как многообразны формы и как огромны масштабы влияния Октябрьской революции на Германию. В ходе обсуждения наиболее значительными, центральными явились такие проблемы, как роль Советов в Германии в 1918—1919 годы, характер Ноябрьской революции, образование марксистско-ленинской боевой партии немецкого пролетариата. На сессии было выявлено огромное по своим последствиям влияние Великой Октябрьской социалистической революции на развитие советско-германских отношений в период между первой и второй мировыми войнами, а также значение основных принципов внешней политики Советского Союза для решения германской проблемы. Сессия показала, что в исследовании всемирно-исторического значения Великой Октябрьской социалистической революции достигнуты крупные успехи.
В дискуссии, развернувшейся по второй теме, были раскрыты и исследованы важнейшие направления реакционной историографии второй мировой войны, прежде всего главной тенденции западногерманской историографии. Кроме того, были приведены очень ценные и значительные дополнительные данные по исследованию отдельных проблем второй мировой войны, таких, как ее предыстория, ход военных событий, борьба антифашистского движения Сопротивления. Тем самым впервые был сделан опыт марксистского анализа главных направлений реакционной историографии второй мировой
430
иойны и одновременно сделан значительный шаг вперед к созданию собственной истории мировой войны, к тому, чтобы самим начать ее все более глубоко исследовать.
Вся сессия была проникнута боевым духом. Она призвала всех историков СССР и Германской Демократической Республики, равно как и других стран, мобилизоваться на борьбу против любых попыток ревизии марксистско-ленинской теории. Эта сессия явилась воплощением международной сплоченности исФориков-марксистов и выраж^рием силы пролетарского интернационализма в науке.
Эта сессия доказала, что историки обеих наших стран твердо стоят на позициях марксизма-ленинизма и исполнены единодушной решимости еще больше усилить непримиримую борьбу против реакционной идеологии.
В ходе работ сессии очень наглядно проявился рост молодых историков, которые выступали в прениях с рядом заслуживающих серьезного внимания сообщений. Это следует сказать прежде всего о представителях исторической науки Германской Демократической Республики, об успешном развитии которой за последние годы убедительно свидетельствовали работы, представленные на сессии.
Не все выступления находились на одинаковом уровне. В некоторых из них обнаруживалась еще известная слабость в научно-теоретическом овладении материалом. Рассмотрение различных оттенков буржуазной историографии все еще не было достаточно дифференцировано. Серьезным недостатком в работе сессии явилось то, что большинство докладов и сообщений— как с немецкой, так и с советской стороны—не были вовремя представлены. Это обстоятельство, несомненно, ограничило возможности развернутой дискуссии, так как участники сессии не могли более подробно и основательно подготовиться к выступлениям в секциях. На будущих сессиях необходимо, чтобы доклады заблаговременно предоставлялись для ознакомления участников.
Такие отдельные недостатки отнюдь не могут умалить значения сессии, которая явилась существенным вкладом в развитие марксистско-ленинских исследований новейшей истории и доказала плодотворность активного творческого сотрудничества историков наших социалистических государств. Сессия вместе с тем обеспечила установление личных контактов между историками Германской Демократической Республики, СССР и других стран социалистического лагеря, равно как с историками-марксистами некоторых капиталистических стран.
Участники сессии единодушно одобрили Манифест мира представителей коммунистических и рабочих партий и обратились к прогрессивным историкам всех стран с призывом усилить борьбу за обеспечение мира.
При рассмотрении первой проблемы выяснилось, что марксистско-ленинское исследование истории партии германского пролетариата все еще имеет серьезные пробелы. Рассмотрение второй проблемы вновь показало, что марксистские исследования истории антифашистского движения Сопротивления и международных отношений в годы второй мировой войны все еще не соответствуют тем задачам, которые выдвигает перед нами борьба против реакционной историографии.
Общие научные и политические итоги сессии следует оценивать как серьезный вклад в дело борьбы за укрепление мира и за победу социализма.
Председатели комиссии: профессор доктор А. Ерусалимский профессор доктор Л. Штерн Секретари комиссии: кандидат исторических наук Б. Тартаковский доцент С. Дернберг
Берлин, 6 ноября 1957 года.
СПИСОК АВТОРОВ
Бамлер, Рудольф Бартель, Вальтер — генерал-лейтенант в отставке (Эрфурт). — доктор философии, профессор, преподаватель Университета им. Гумбольдта (Берлин), директор Немецкого института современной
Базлер, Вернер истории (Берлин). — доктор философии, доцент по кафедре всеобщей истории новейшего времени на историческом факультете Педагогического инсти-
Болтин Е. А. тута (Потсдам). — кандидат исторических наук, заместитель директора Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (Москва).
Брандт, Эрих — научный сотрудник Отделения новой истории, Института всеобщей истории при Уни-
Горошкова Г. Н. верситете им. Гумбольдта (Берлин). — кандидат исторических наук; научный сотрудник Института истории Академии наук СССР (Москва).
Госиоровский, Милош — доктор исторических наук; профессор Университета им. Коменского (Братислава).
Граф, Рудольф — аспирант Института общественных наук при ЦК СЕПГ (Берлин).
Диттмар, Карл — подполковник Национальной народной армии Германской Демократической Республики.
Дресс, Ганс — доцент Германской Академии государства и права имени Вальтера Ульбрихта (Потсдам— Бабельсберг II).
Ерусалимский А. С. — доктор исторических наук; профессор Института истории Академии наук СССР (Москва); член-корреспондент Германской
Жилин П. А. Академии наук (Берлин). — доктор исторических наук; член редакционной комиссии по изданию истории Великой Отечественной войны (Москва).
Зборальский, Дитрих — научный сотрудник Немецкого института современной истории (Берлин).
Каминский, Анджей Иоз^ф — доктор философии, магистр юриспруденции;
научный сотрудник Института международных отношений (Варшава).
Квилитш, Зигмар — научный сотрудник; старший ассистент Института истории народов СССР Университета им. Мартина Лютера (Галле).
Коппч, Вольфганг — научный сотрудник; ассистент Института
432
Корфес, Отто
Коэн, Фрэнсис Краузе, Ильза •
Кульбакин В. Д.
Мельников Д. Е.
Мойзель, Альфред
Миэлн, Ренато Небенцаль, Леон
Паевский, Януш
Пиварский, Казимир
Потеранский, Вацлав
Ранки, Дьёрдь
Роллер, Михаил
Розанов Г. Л.
Тартаковский Б. Г.
Уэсуги, Дзюдзиро
Фёрстер, Альфред
истории Университета им. Фридриха Шиллера (Иена).
— доктор политических наук, генерал-майор в отставке; председатель общества бывших офицеров (Потсдам).
— главный редактор журнала «Решерш энтер-насьональ» (Париж).
— научный сотрудник; старший ассистент Института марксизма-ленинизма при [ЦК СЕПГ (Берлин).
— кандидат исторических наук и заместитель главного редактора журнала «Новая и новейшая история» (Москва).
— кандидат исторических наук; заведующий отделом журнала «Международная жизнь» (Москва).
— доктор политических наук; профессор; действительный член Германской Академии наук (Берлин); директор Музея истории Германии (Берлин).
— журналист (Рим).
— главный редактор журнала «Прессе дер Со-ветунион» (Берлин).
— доктор философии; профессор новой всеобщей истории Университета им. Адама Мицкевича (Познань).
— доктор исторических наук; профессор всеобщей и польской истории нового времени Ягел-лонского университета в Кракове; сотрудник Института истории польской Академии наук; директор Института истории Запада (Познань).
— историк польского рабочего движения; сотрудник Института истории партии при ЦК Польской объединенной рабочей партии (Варшава).
— кандидат исторических наук; научный сотрудник Института истории Венгерской Академии наук (Будапешт).
— член Академии наук Румынской Народной Республики по отделению истории (.Бухарест); профессор Института общественных наук при ЦК Румынской рабочей партии (Бухарест); директор Института истории Рабочей партии при ЦК Румынской рабочей партии.
— кандидат исторических наук; доцент Института международных отношений (Москва).
— кандидат исторических наук, научный сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (Москва).
— доктор философии; профессор, приглашенный для преподавания в Институте всеобщей истории при Университете им. Гумбольдта (Берлин).
— научный сотрудник; старший ассистент Института истории при Высшей школе немецких профсоюзов (Берлин).
433
Фомин В. Т. — кандидат исторических наук; доцент Академии общественных наук при ЦК КПСС
Фукс, Герхард (Москва). — научный сотрудник; старший ассистент Института истории Германии при Университете им. Мартина Лютера (Галле).
Харткопф, Вернер — аспирант института общественных наук при ЦК СЕПГ (Берлин).
Шильферт, Герхарт — доктор философии; профессор; заведующий кафедрой и директор Института всеобщей истории при Университете им. Гумбольдта (Берлин).
Шнейдарек, Антонин — доктор философии; ученый секретарь Института истории Чехословацкой Академии наук (Прага).
Штерн, Лео — доктор политических наук; профессор; заведующий кафедрой; действительный член Германской Академии наук (Берлин); директор
Энгельберг, Эрнст Института истории Германии (Галле). — доктор философии; профессор; заведующий кафедрой; директор Института истории Германии при университете им. Карла Маркса
Эрзиль, Вильгельм (Лейпциг). — доктор философии; доцент Германской Академии государственных и правовых наук им. Вальтера Ульбрихта; сотрудник Института всеобщей истории и истории Германии (Потс-
Яковлев Н. Н. дам —Бабельсберг). — кандидат исторических наук; научный сотрудник Института истории Академии наук СССР.
С О Д Е I* Ж А Н и I:
Предисловие .................................................. 5
Пленарное заседание. Четверг, 28 ноября 1957 года............. 7
Лео Штерн. Главные тенденции реакционной историографии второй мировой войиы.............................. 9
П. А. Жилин. Роль Советского Союза во второй мировой войне и ее освещение в буржуазной исторической литературе....................................... 33
Д. Е. Мельников. Причины поражения гитлеровской Германии во второй мировой войне в освещении западногерманской историографии........................... 47
Вальтер Бартель. Совместная борьба немецких и советских борцов Сопротивления в фашистском концентрационном лагере Бухенвальд и освещение этого вопроса в исторической литературе.......................... 61
Дискуссия в рабочих секциях. Пятница, 29 ноября 1957 года.
1-я рабочая секция. Подготовка второй мировой войны и ее описание в буржуазной историографии................... 79
В. Д. Кульбакин. Историческая литература о подготовке германского империализма ко второй мировой войне................................................... 81
Альфред Мойзель. «Политика умиротворения» и ее значение для второй мировой войны.......................... 90
В. Т. Фомин. Германские дипломаты—соучастники
подготовки фашистской агрессии и легенда фальсификаторов истории....................................... 98
Януш Паевский. Участие Густава Штреземана в подготовке второй мировой войны ............................. ПО
Вольфганг Копич. Западногерманская историография и некоторые вопросы аннексии Австрии................... 117
Герхард Фукс. Освещение вопроса о судетских немцах (1933—1938) в западногерманской исторической литературе ................................................ 126
Б. Г. Т а р т а к о в с к и й. Фальсификация реакционной историографией вопроса о роли германских монополий в подготовке и развязывании второй мировой войпы 138
Вернер Баз л ер. Американский «ревизионизм» и предыстория второй мировой войны............................ 148
Анджей Иозеф Каминский. Соучастие п вина прусско-немецких генералов в разработке военных планов Гитлера................................................ 168
Эрих Брандт. Замечания к американской историографии вопроса о вступлении США и Японии во вторую мировую войну.......................................... 172
435
Альфред Фёрстер. Замечания по поводу характера второй мировой войпы................................... 176
2-я рабочая секция. Буржуазная историография о ходе второй мировой войны.............................................. 179
Зигмар Квилитш. Причины победы Советской Армии"в Сталинградской битве в освещении западногерманских историков.............................................. 181
Дитрих Зборальский. К истории сотрудничества агрессивных англо-американских кругов с разгромленной фашистской армией и попытки спасти ее кадры............ 187
Эрнст Энгельберг. О некоторых проблемах военной экономики Германии в 1942—1944 годах................... 197
Дьёрдь Ранки. Экономическая жизнь Венгрии на службе германской военной экономики во время второй мировой войны................................................. 202
Карл Диттмар. О методах идеологического воспитания солдат вермахта, об использовании прежних и применении новых методов при создании бундесвера.................. 221
Рудольф Граф. О некоторых попытках реакционной западногерманской историографии фальсифицировать оккупационную политику немецкого империализма в Польше в период второй мировой войны.............................. 227
Вернер Харткопф. Попытки прославления фашистского вермахта и создания новой легенды об «ударе кинжалом в спину» в книге Миддельдорфа «Тактика в русской кампании» .................................................. 247
Н. Н. Яковлев. Основные тенденции реакционной американской историографии второй мировой войны ... - ... 263
Г. Л. Розанов. Планы расчленения Германии во время второй мировой войны и их освещение в реакционной исторической литературе ............................... 276
3-я рабочая секция. Буржуазная историография и проблемы движения антифашистского Сопротивления в годы второй мировой войны...................................................... 285
Гейнц Шуман. Проблема антифашистского движения
Сопротивления в западногерманской историографии .... 287
Ильза Краузе. Сотрудничество немецких и иностранных антифашистов в Германии в годы второй мировой войны и освещение этого сотрудничества в исторической литературе . ................................................ 298
Леон Небенцаль. Муса Джалиль—поэт и борец .... 308
Вильгельм Эрзиль. К вопросу о фальсификации характера заговора 20 июля 1944 года западногерманской историографией ............................................... 318
Г. Н. Горошков а. Внешнеполитические планы заговора 20 июля 1944 года в освещении западногерманской историографии ............................................. 326
Ганс Дрее с. Конституционные планы Гёрделера в зеркале западногерманской историографии........................ 338
Вацлав Потеранский. Польское движение Сопротивления и его отображение в эмигрантской литературе . . . 344
Милош Г о с и ^р о в с к п й. Словацкое национальное восстание— вклад словацкого народа в общую борьбу^црогрес-сивных сил мира против гитлеровского фашизма........... 349
Пленарное заседание. Суббота, 30 ноября 1957 года........... 353
Казимир Пиварский. К освещению предыстории второй мировой войны современной английской и французской историографией......................................... 355
436
Отто Корфес. Сталинград. Военное планирование и политические последствия битвы в освещении западногерманской историографии....................................... 359
Рудольф Бамлер. Роль немецкой военной секретной службы в подготовке и проведении второй мировой войны— запретная тема западногерманской историографии........... 369
Михаил Роллер. Вклад румынского народа в антифашистски освободительную борьбу в 1944—1945 годах .... 376
Дзюдзиро Уз су г и. Вторая мировая*ойна в освещении реакционной японской историографии ...................... 382
Фрэпсис Коэн. К вопросу о французской историографии второй мировой войны..................................... 387
Ренато Мизли. К вопросу об итальянской историографии второй мировой войны.................................•. . 389
Антонин Шнейдарек. К вопросу о фальсификации истории немецко-чехословацких отношений, осуществляемой в интересах поджигателей войны...................... 391
Е. А. Болтин. Некоторые проблемы разработки истории
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов в СССР . . 396
Герхард Шильферт. Сообщение о дискуссии в первой рабочей секции на тему: «Подготовка второй мировой войны и ее описание в буржуазной историографии»................ 407
Эрнст Энгельберг. Сообщение о дискуссии во второй рабочей секции на тему: «Буржуазная историография о ходе второй мировой войны».................................... 409
Вальтер Бартель. Сообщение о дискуссии в третьей рабочей секции на тему: «Буржуазная историография и проблемы антифашистского движения Сопротивления в годы второй мировой войны»................................. 412
Лео Штерн. Заключительное слово......................... 415
П. А. Жилин. Заключительное слово....................... 421
А. С. Е р у с а л и м с к и й. Заключительная речь...... 422
Заявление научной сессии Комиссии историков СССР и ГДР по поводу Манифеста мира . . . . ............................ 427
Приветствие ЦК КПСС........................................... 428
Приветствие ЦК СЕПГ .......................................... 429
Постановление Комиссии историков ГДР и СССР об итогах первой научной сессии комиссии, проходившей с 25 по 30 ноября 1957 года в Лейпциге................................................... 430
Список авторов............................................... 432
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Художественный редактор Б. И. Астафьев Технический редактор Л. М. Харьковская
* * *
Сдано в производство 8/VIII 1959 г. Подписано к печати 10/XII 1959 г.
Бум. 60х921/1в=13,8, бум. л. 37,7 печ. л .
Уч.-изд. л. 38,4. Изд. № 7/4806
Цена 25 руб. Зак. 1220 * *
ИЗДАТЕЛЬСТВО иностранной литературы Москва, Ново-Алексеевская, 52
*
Московская типография № 5 Мосгорсовнархоза
Москва, Трехпрудный лер., 9