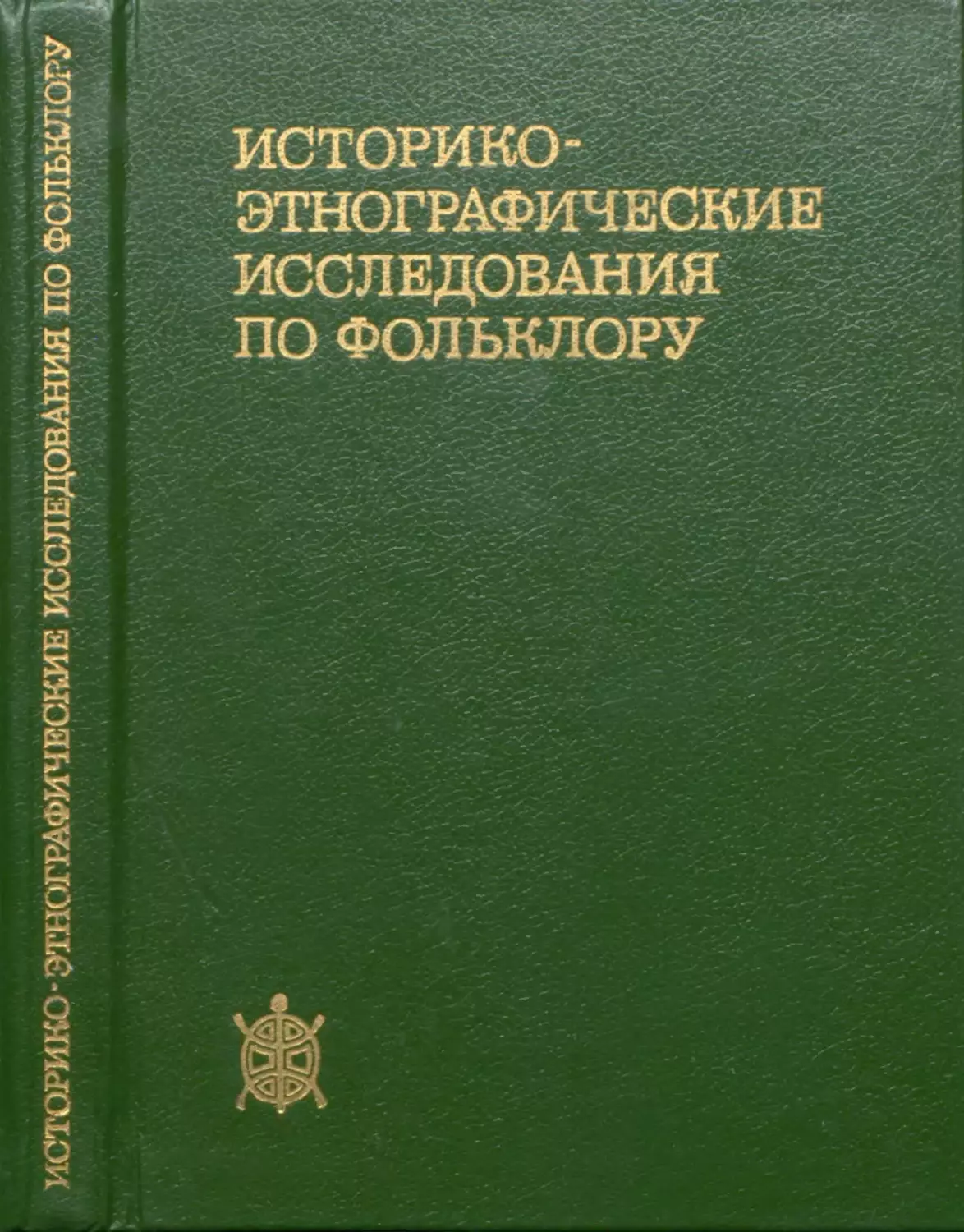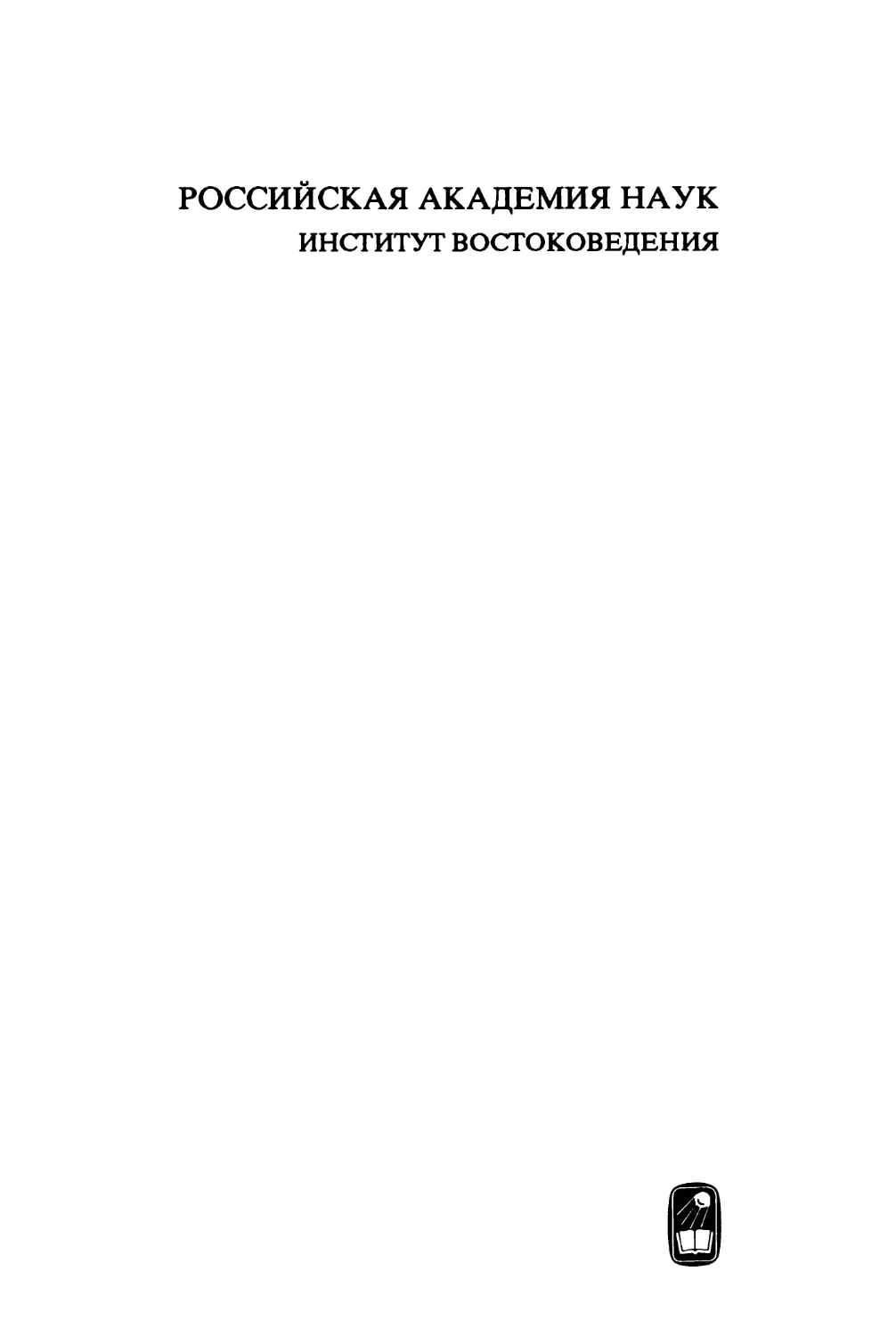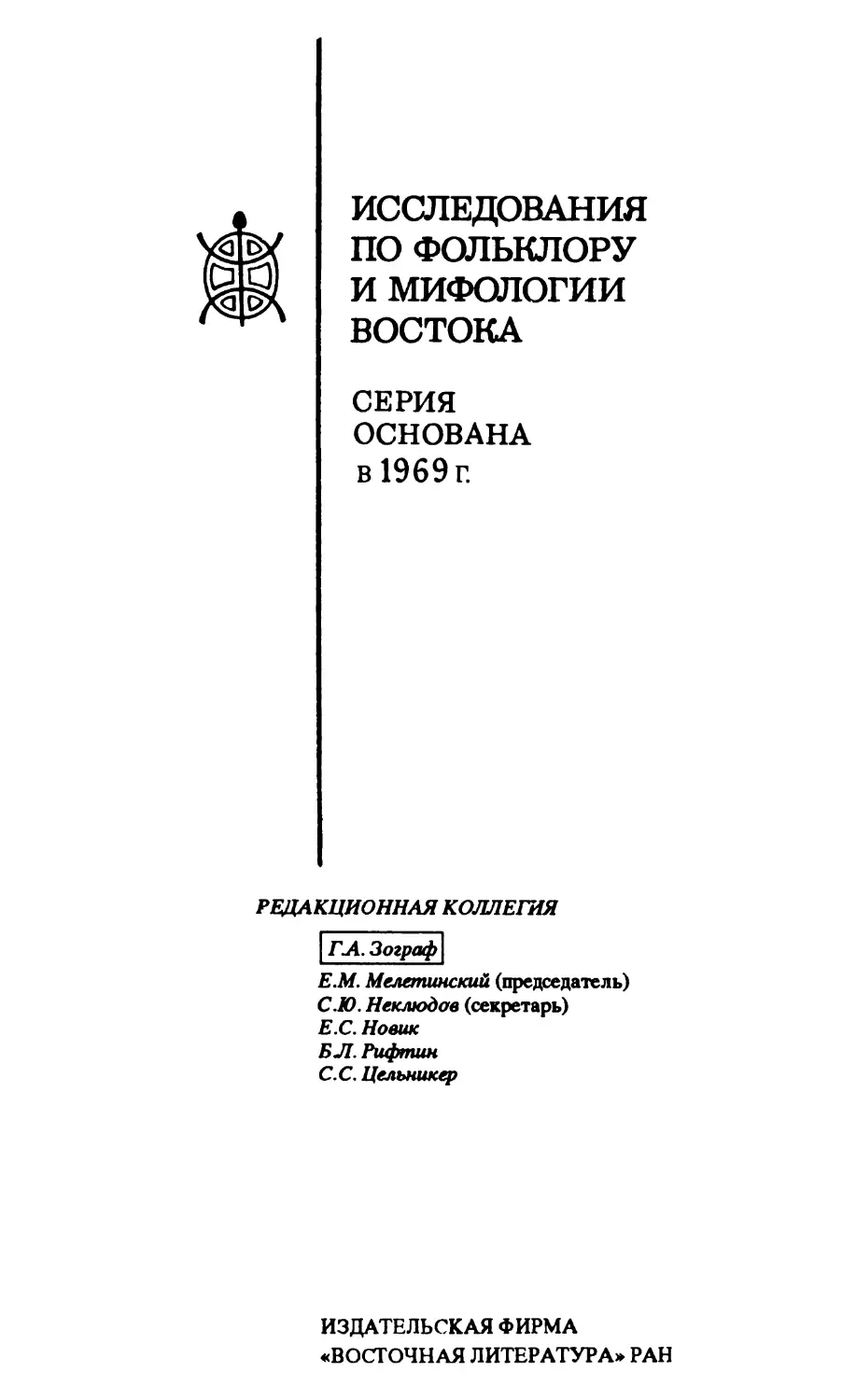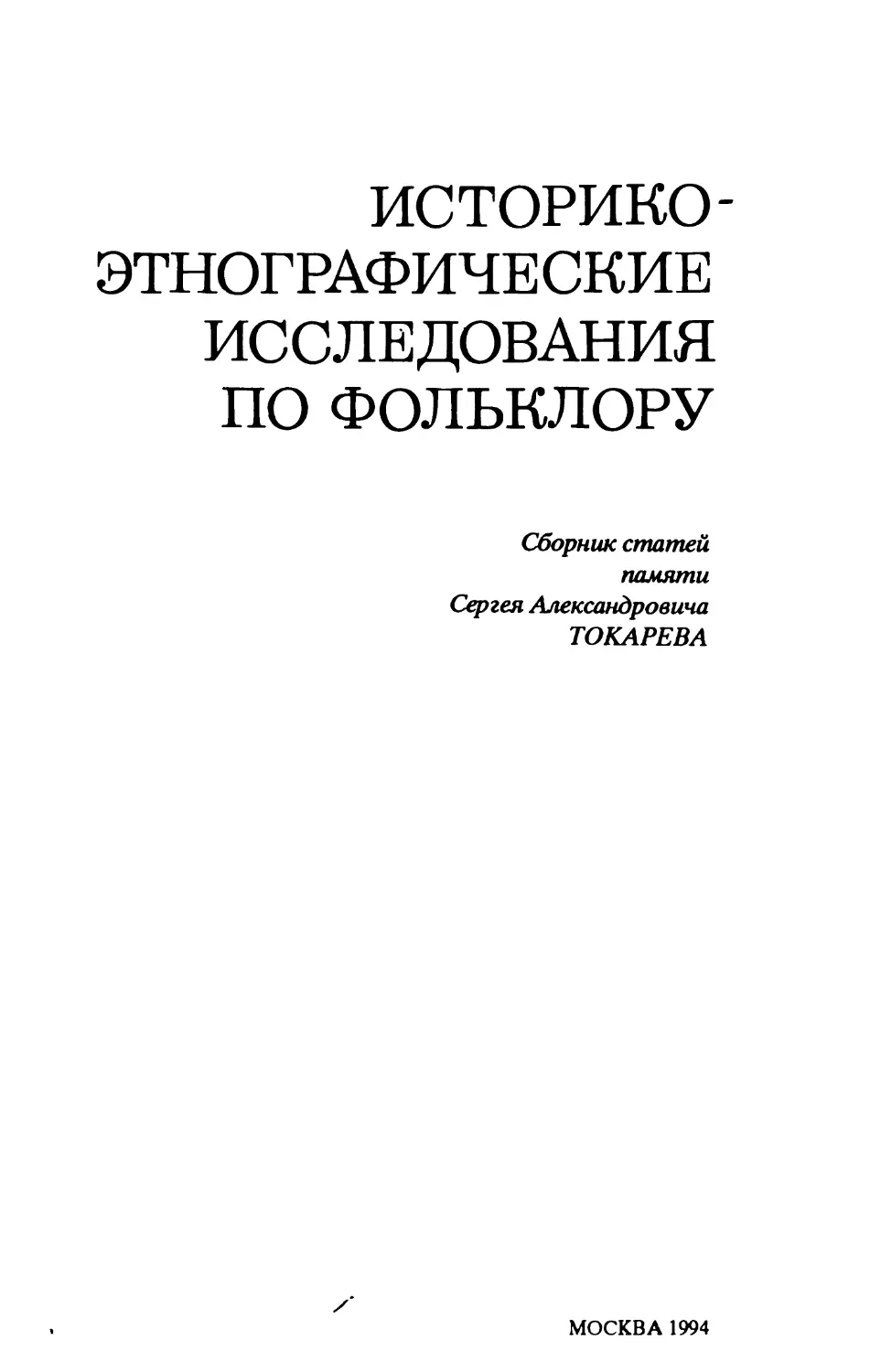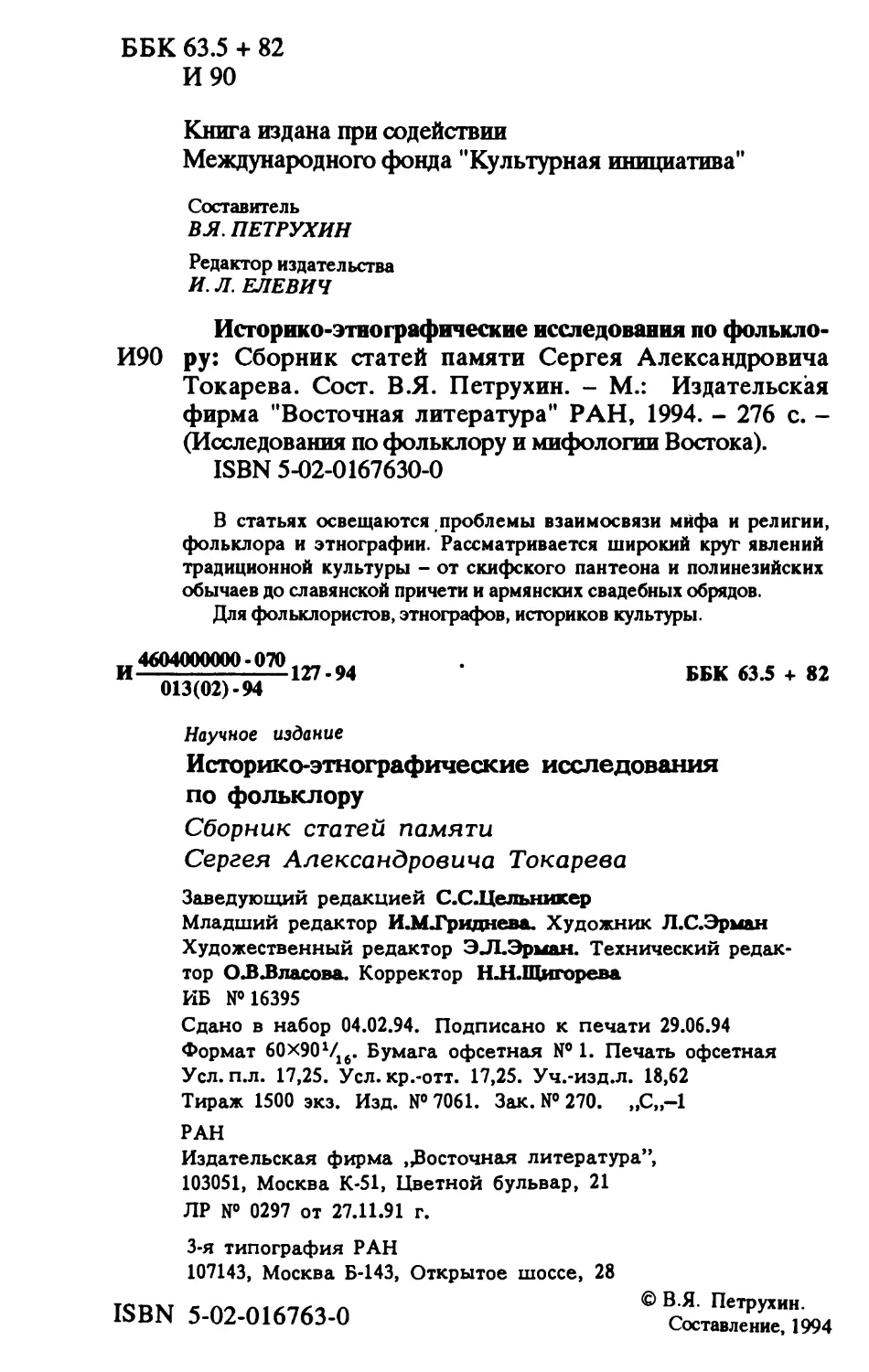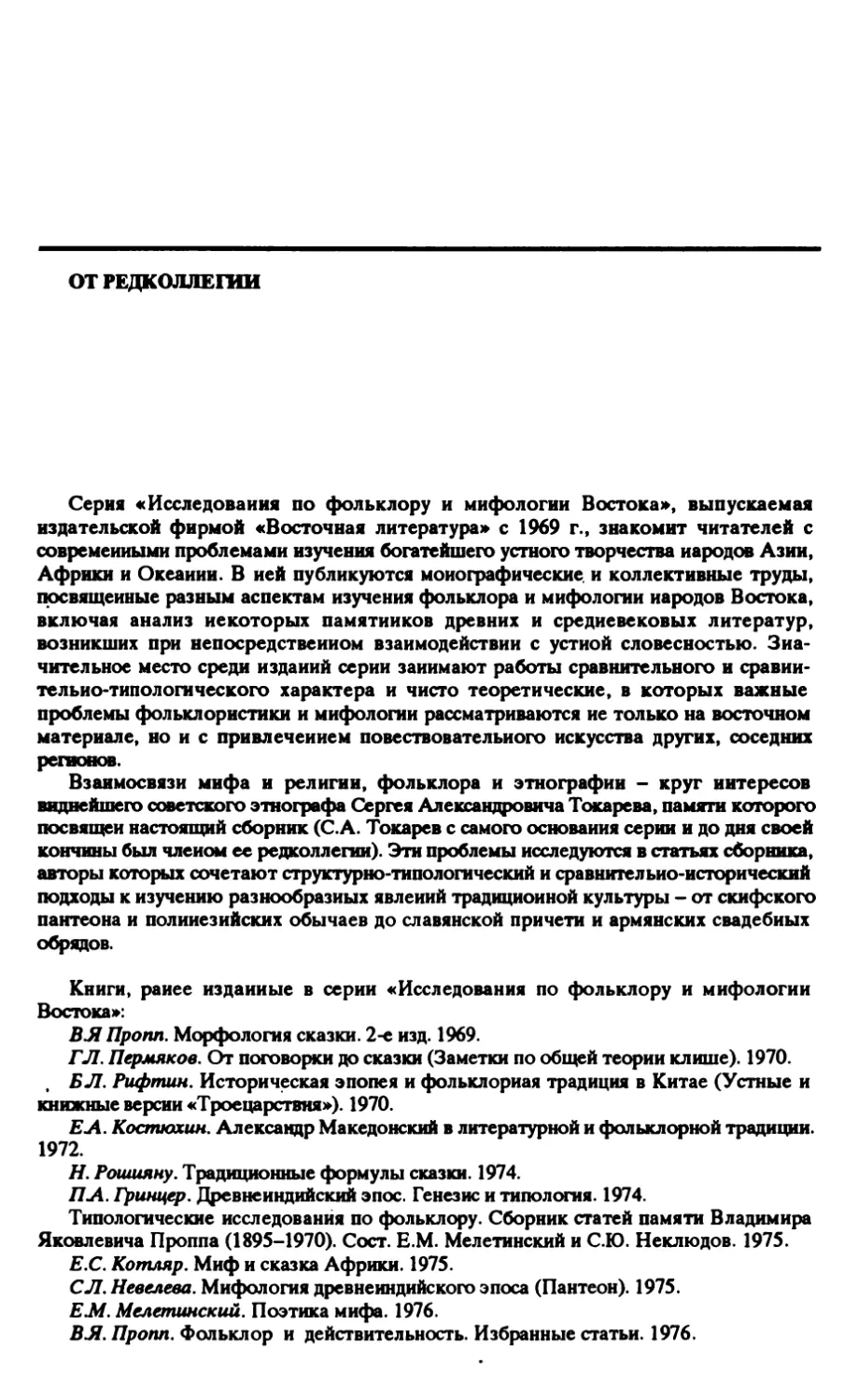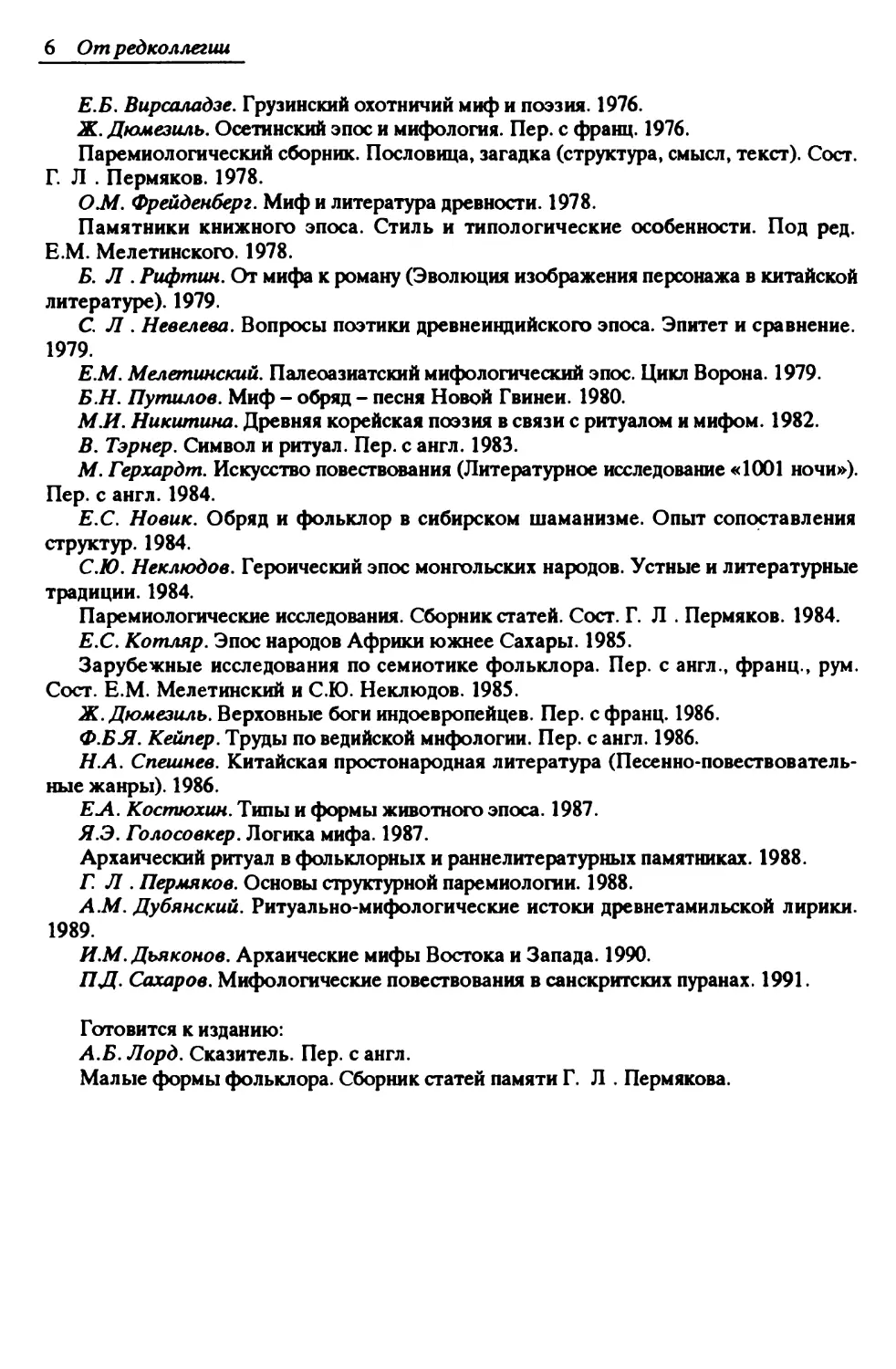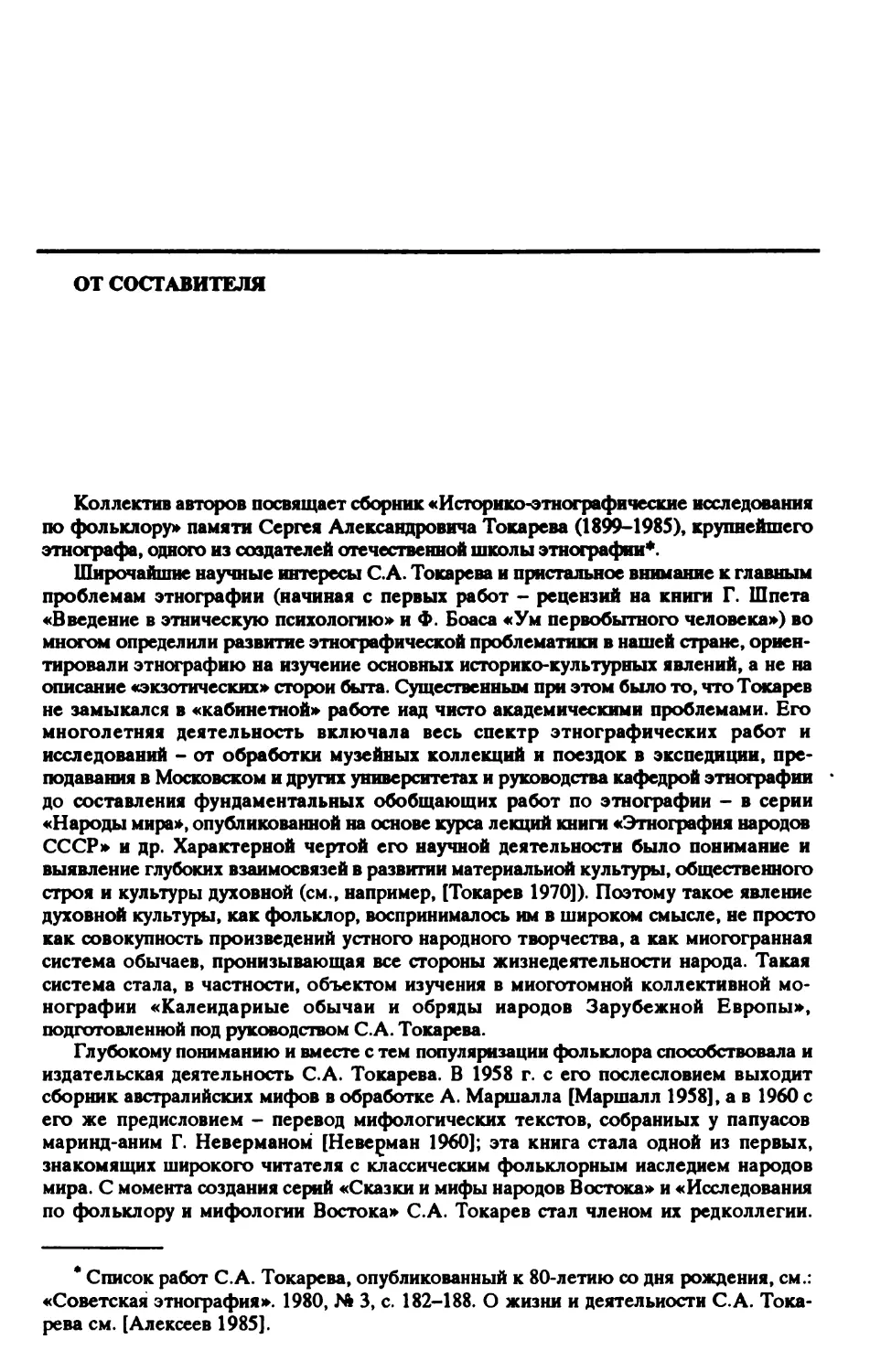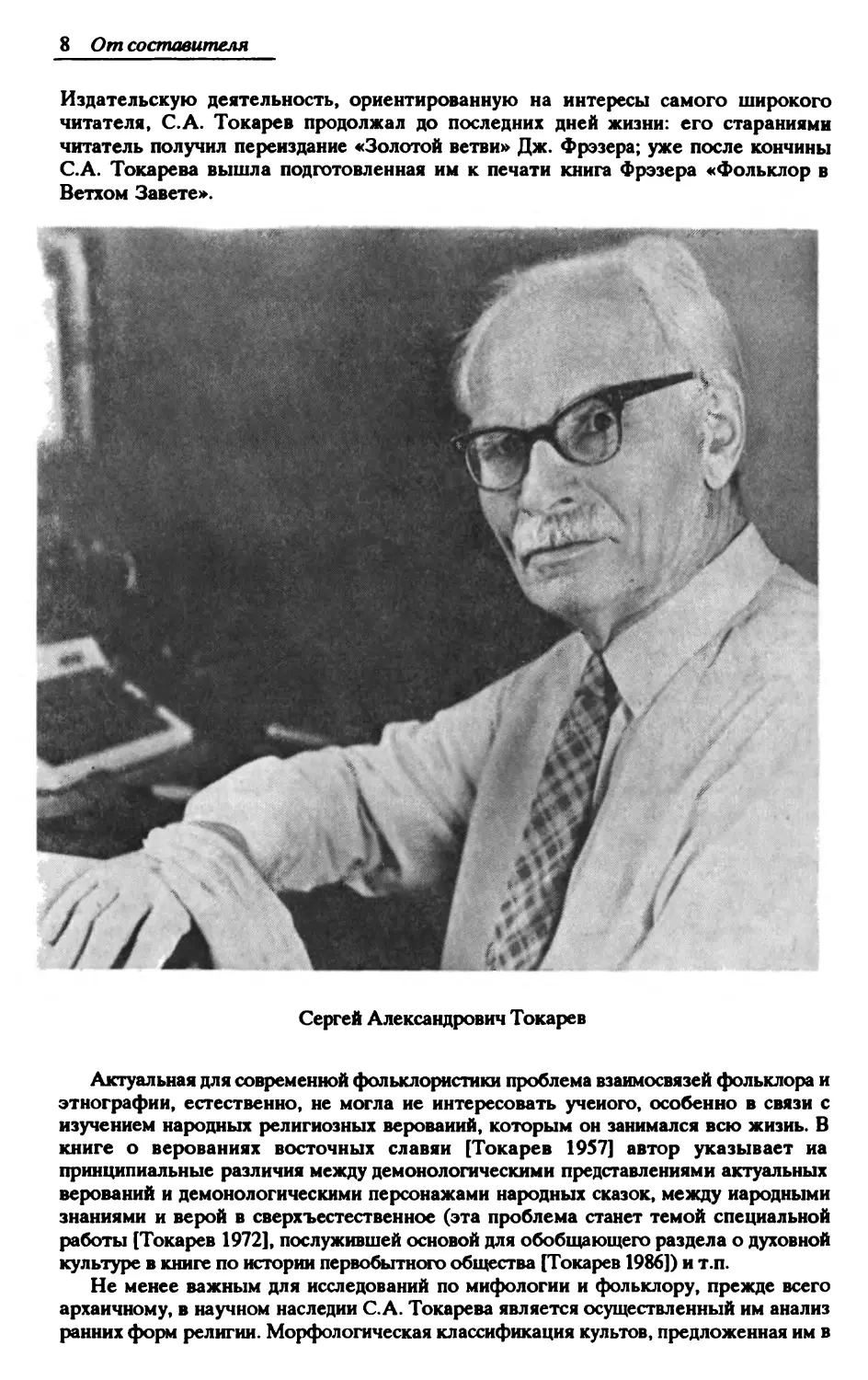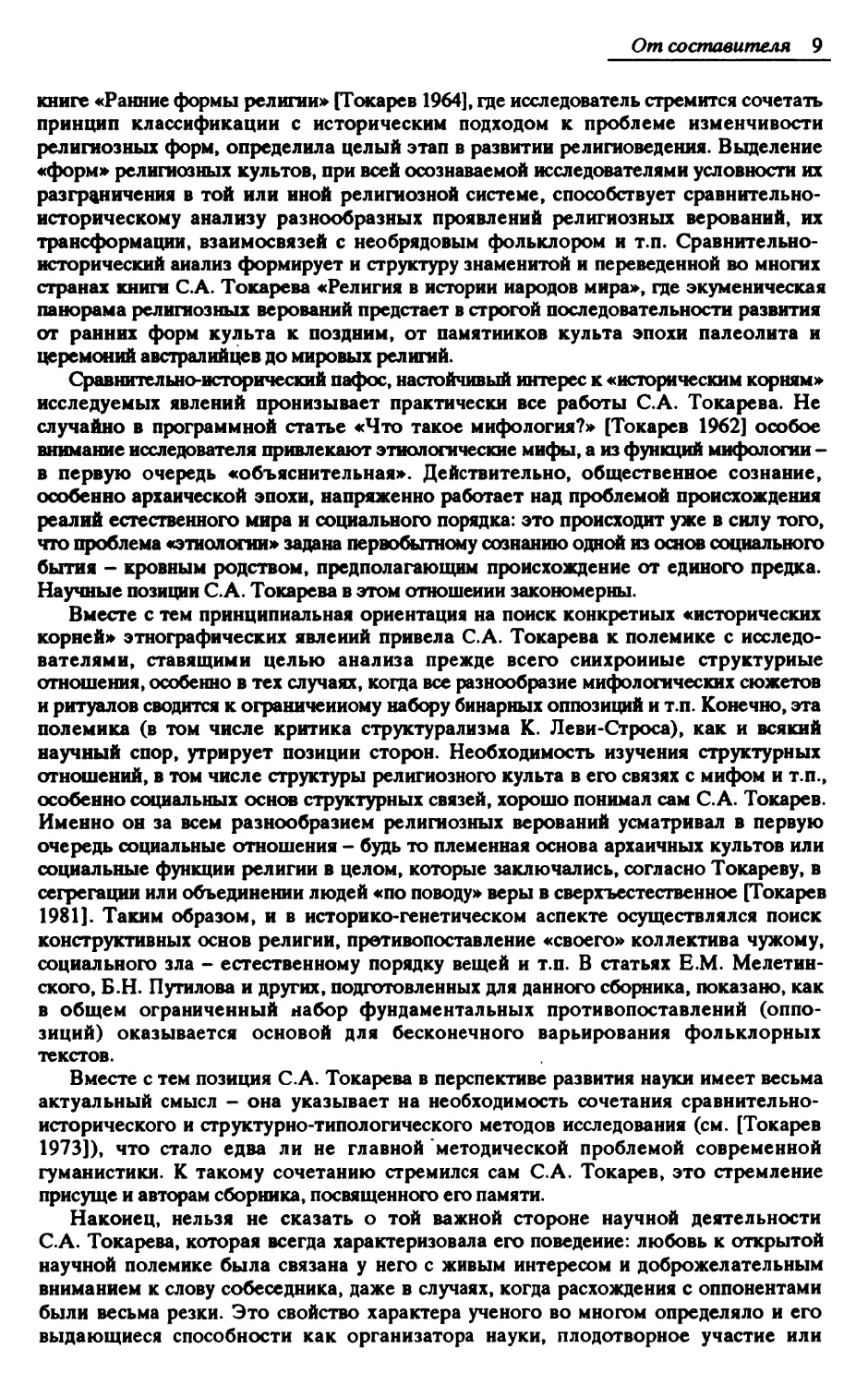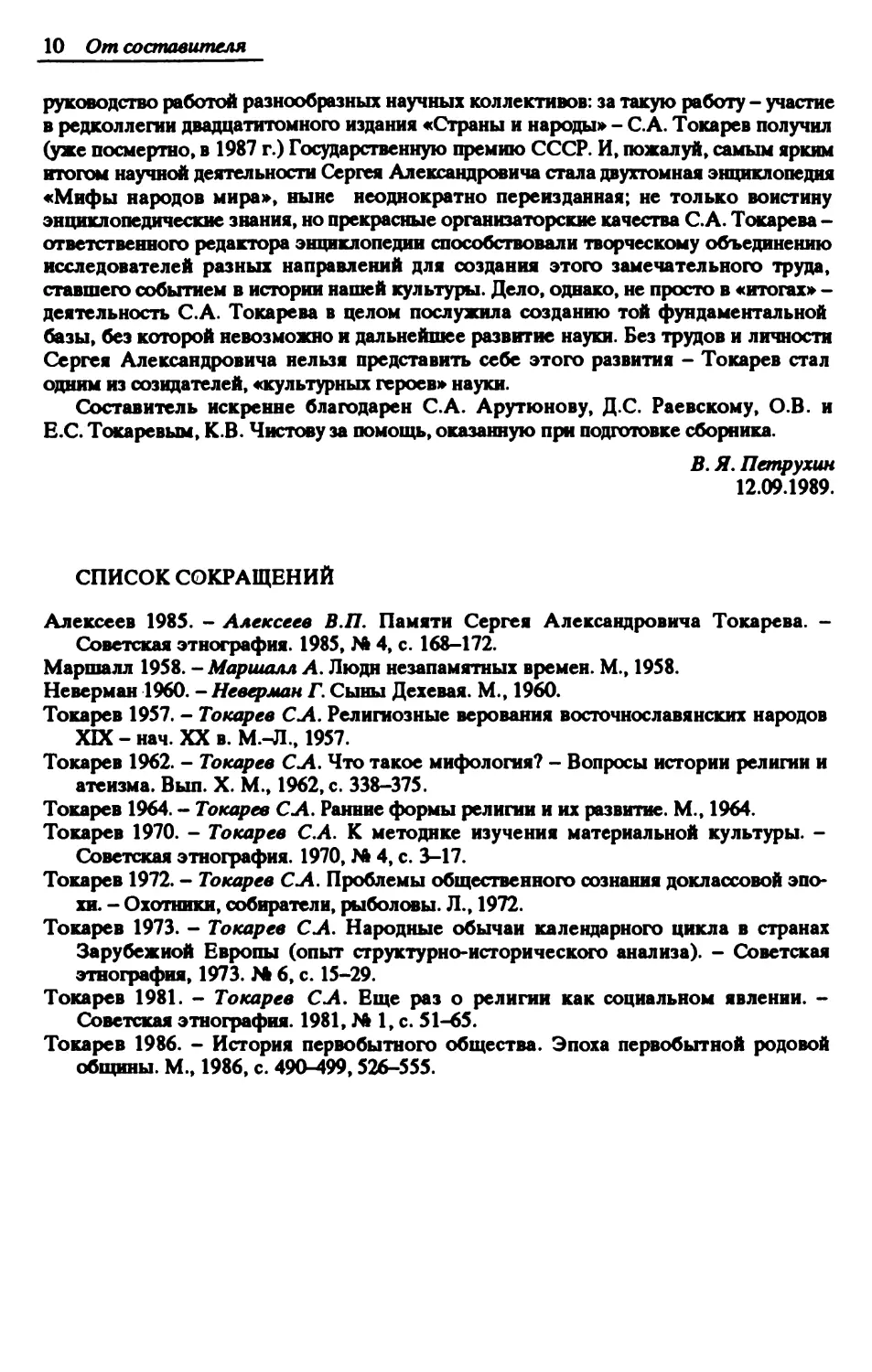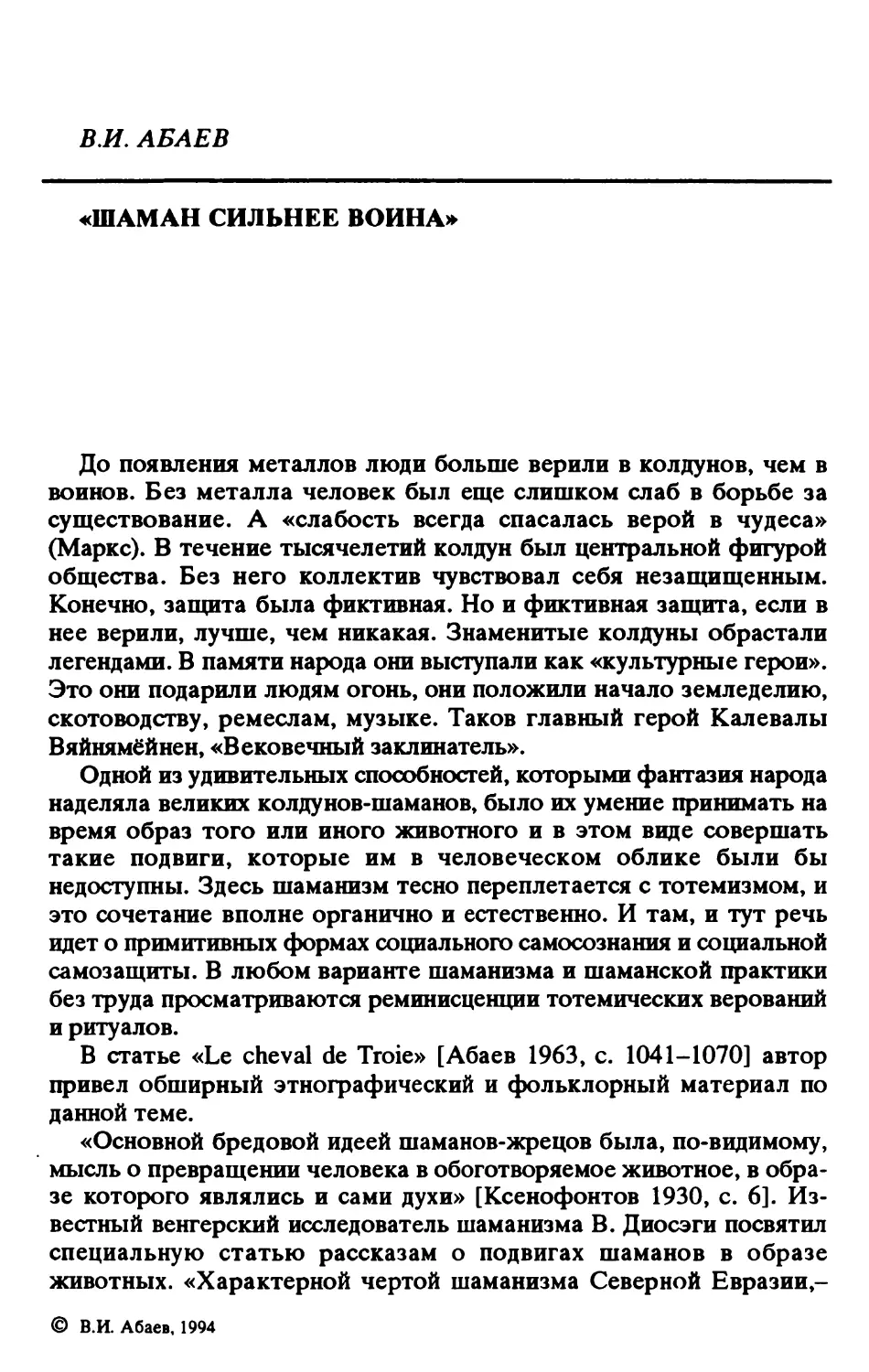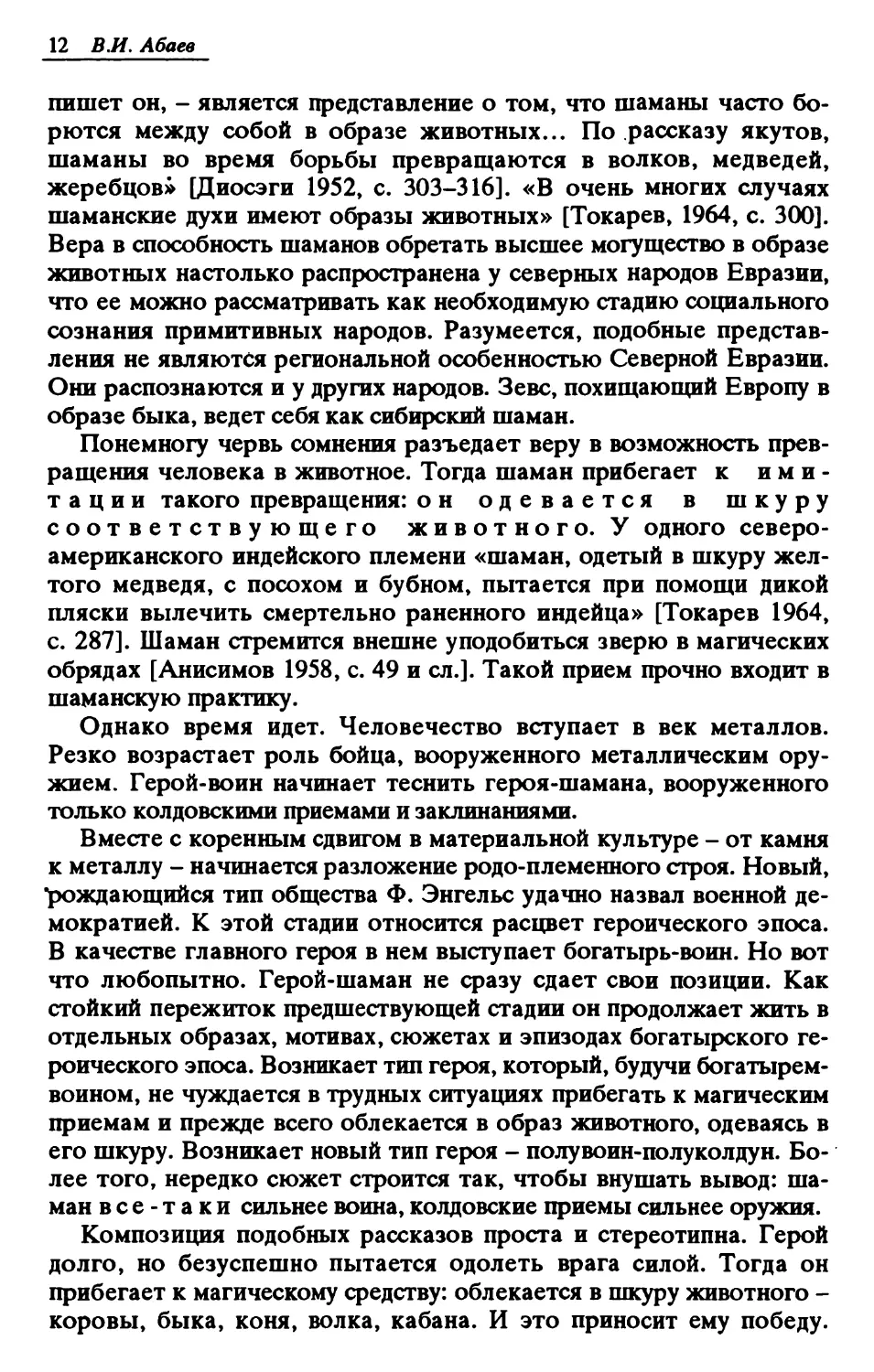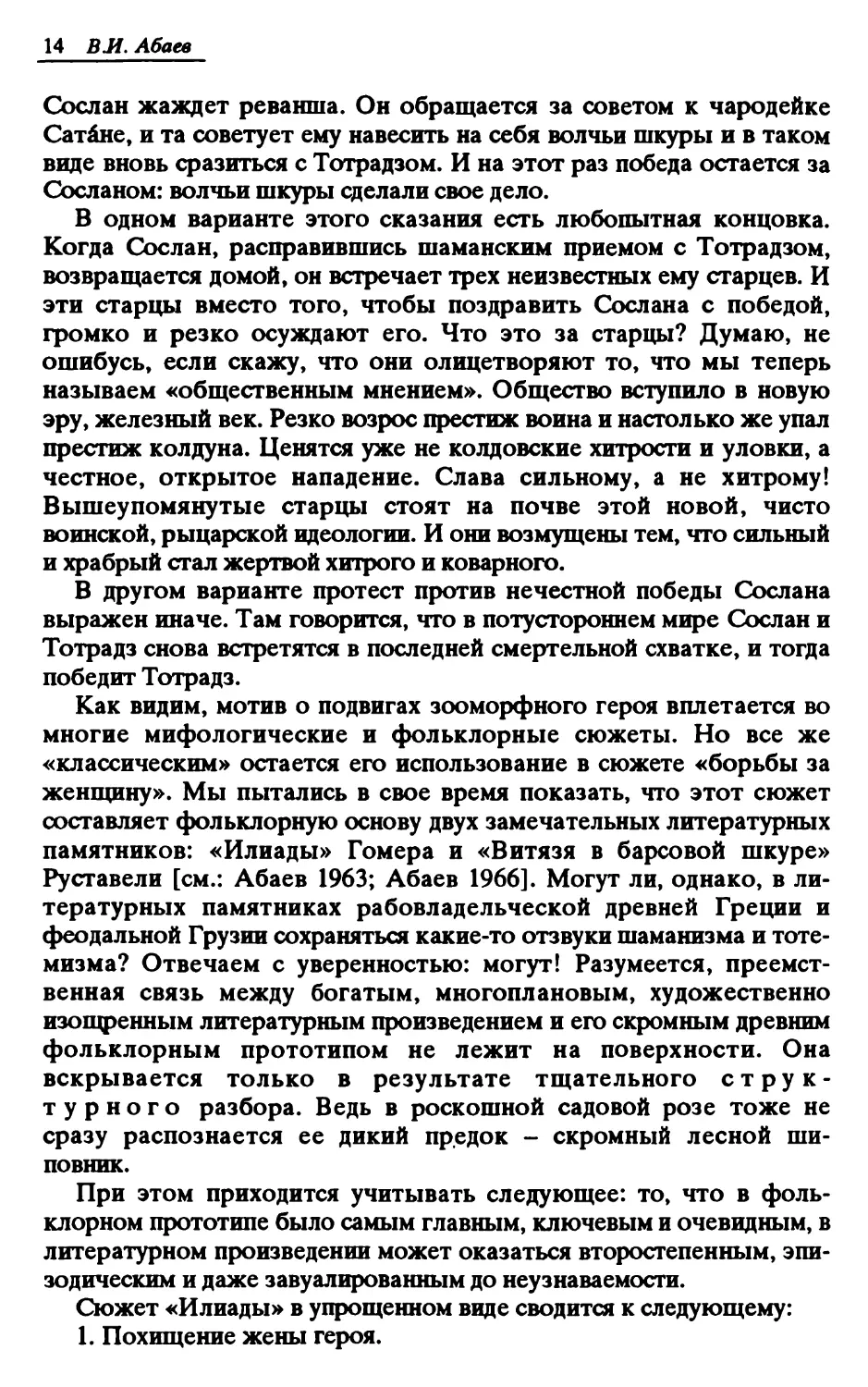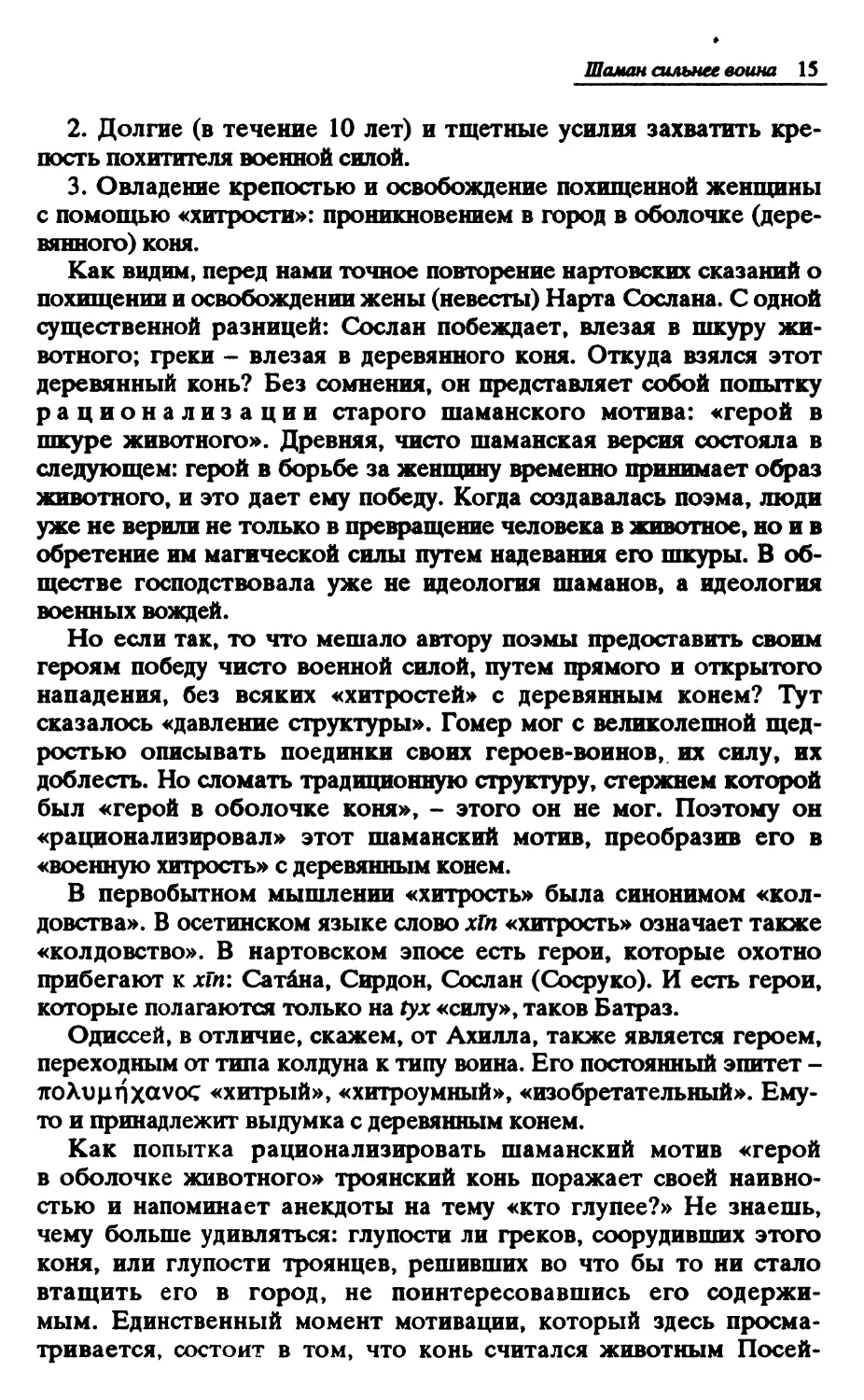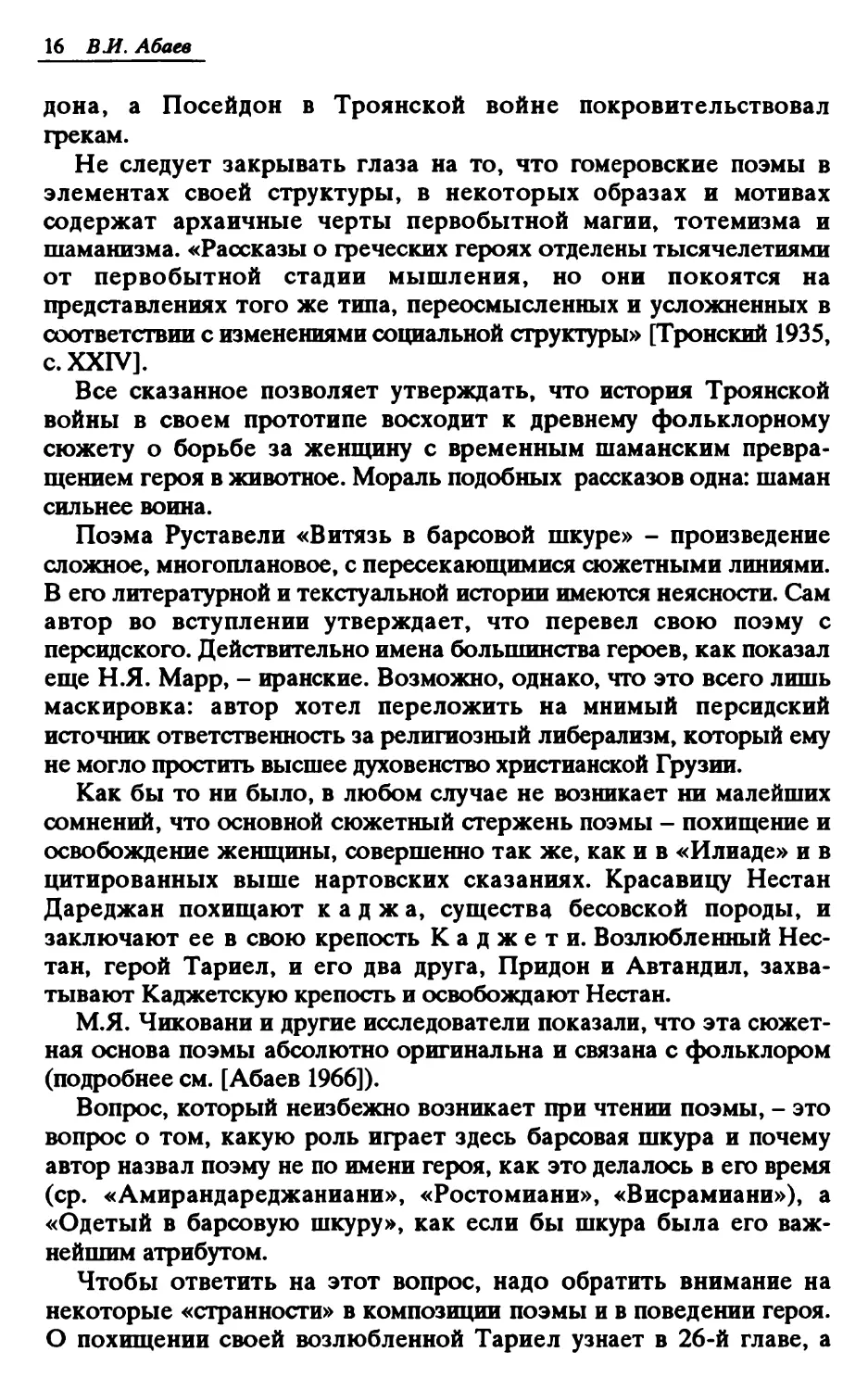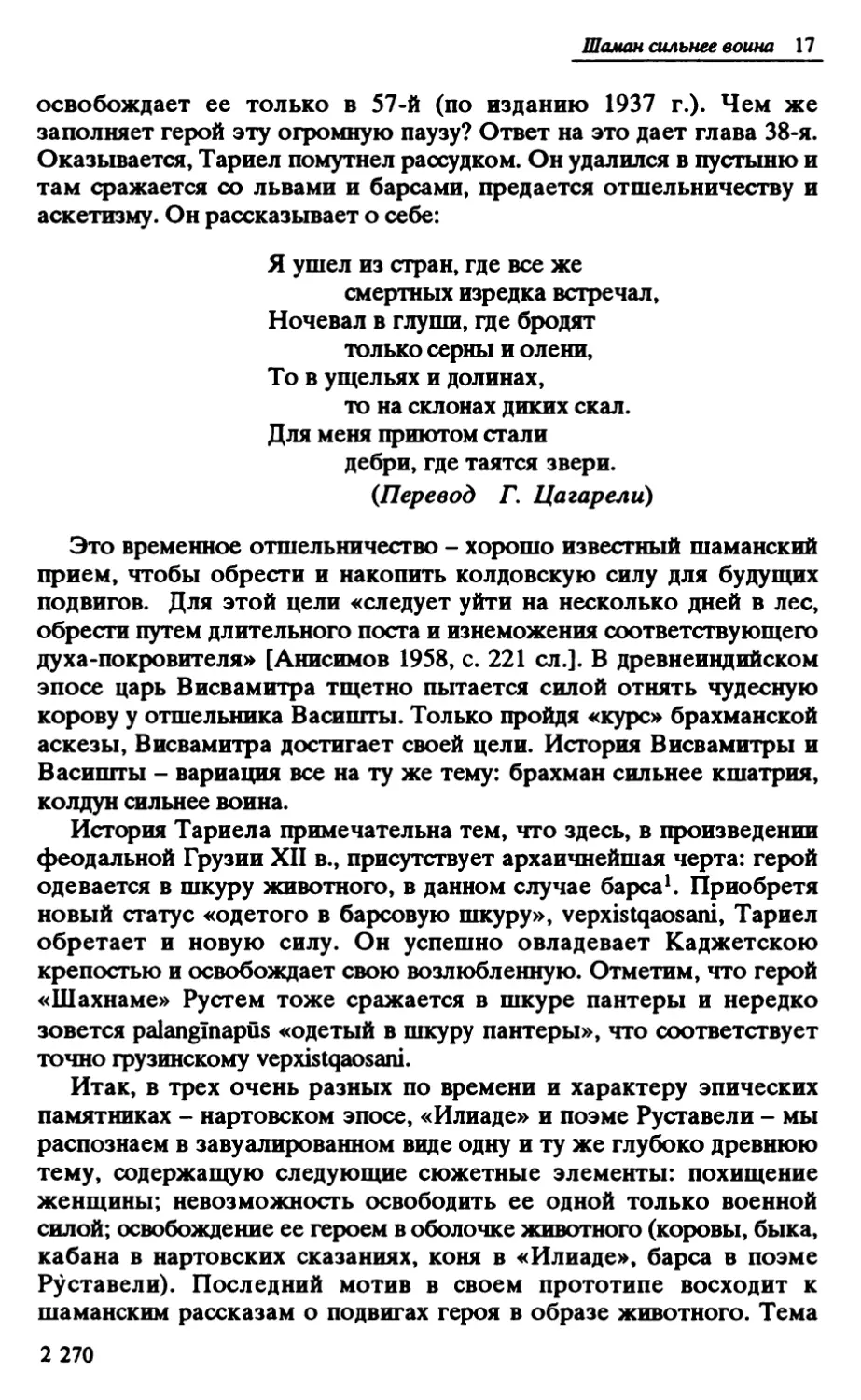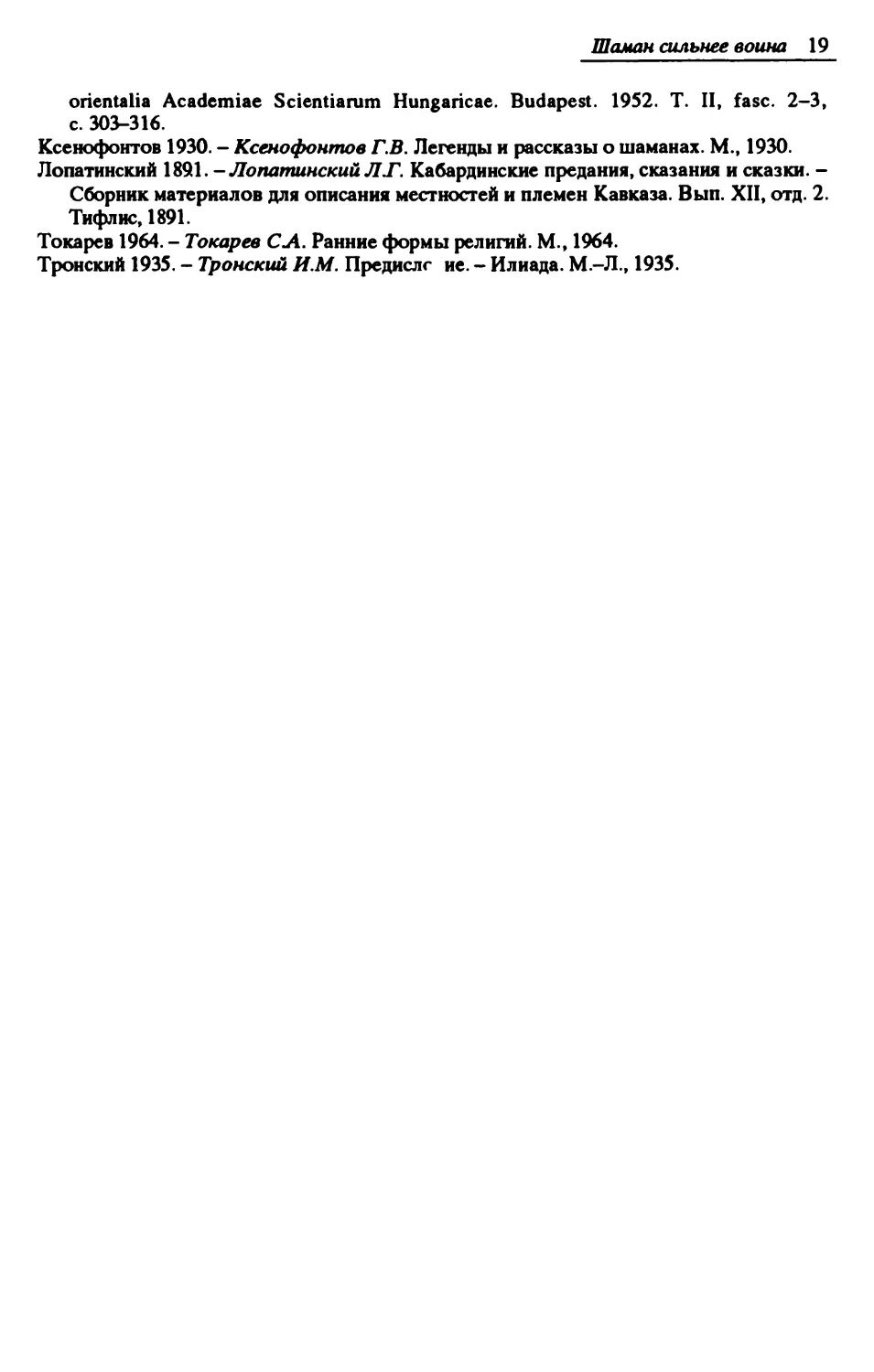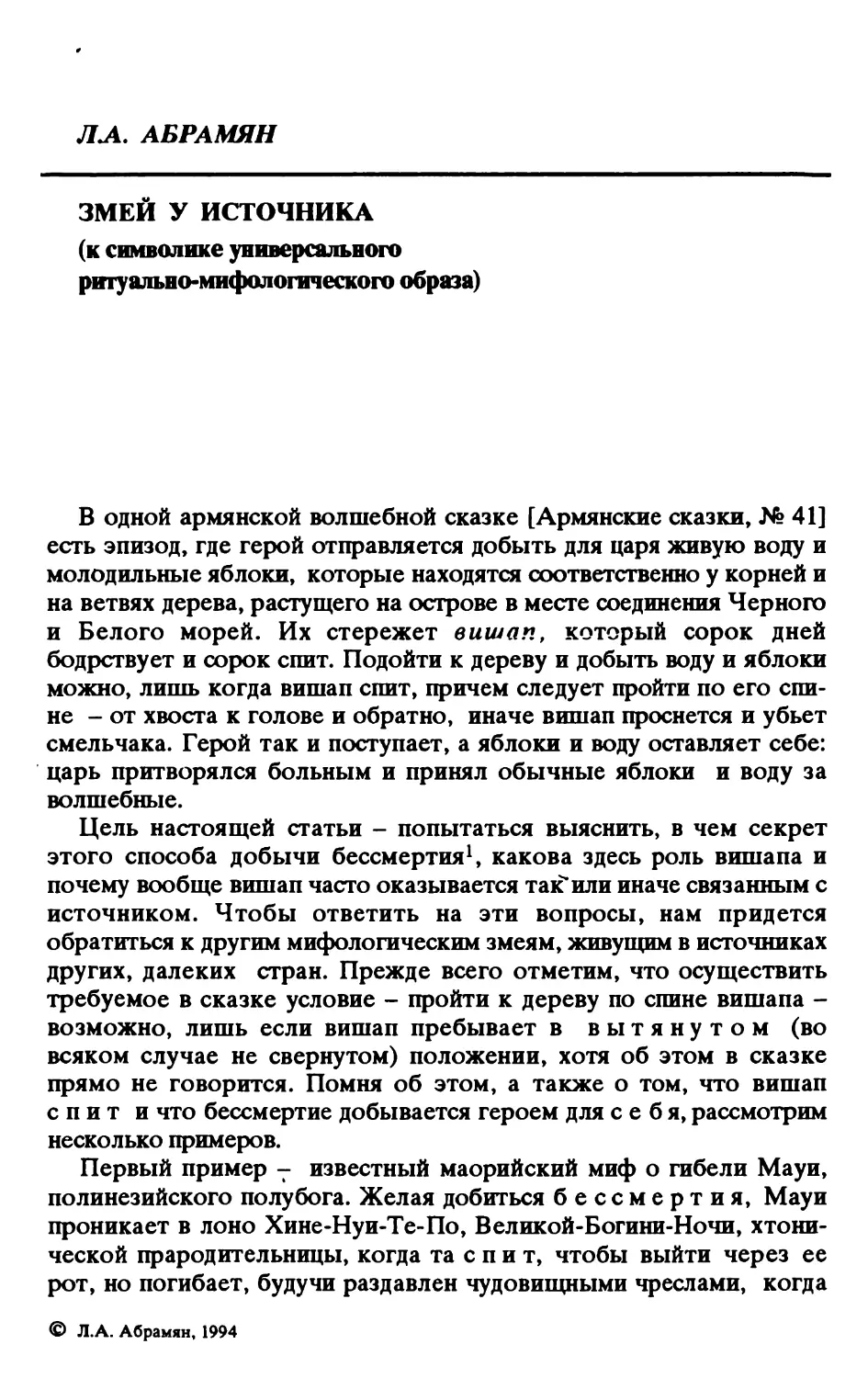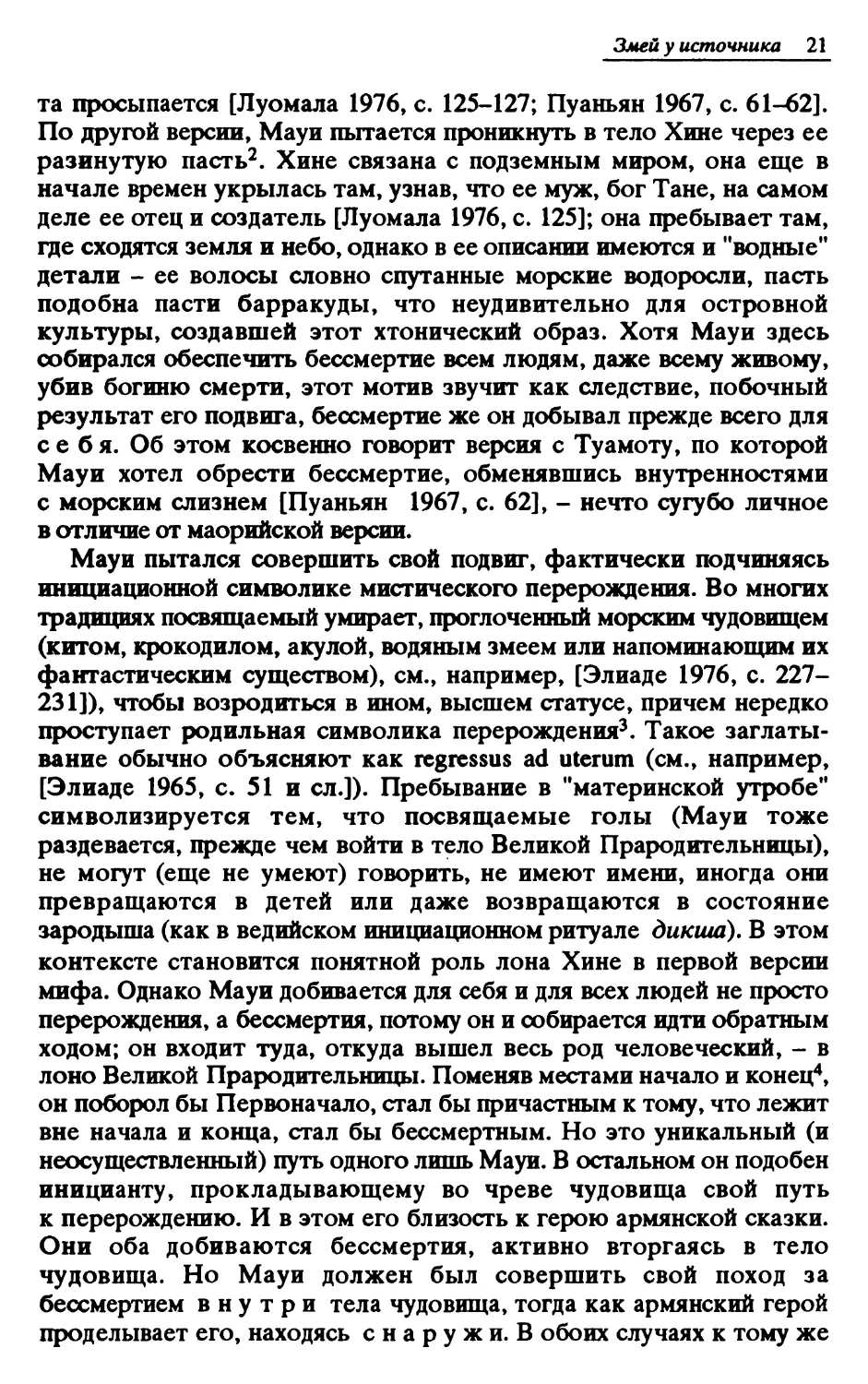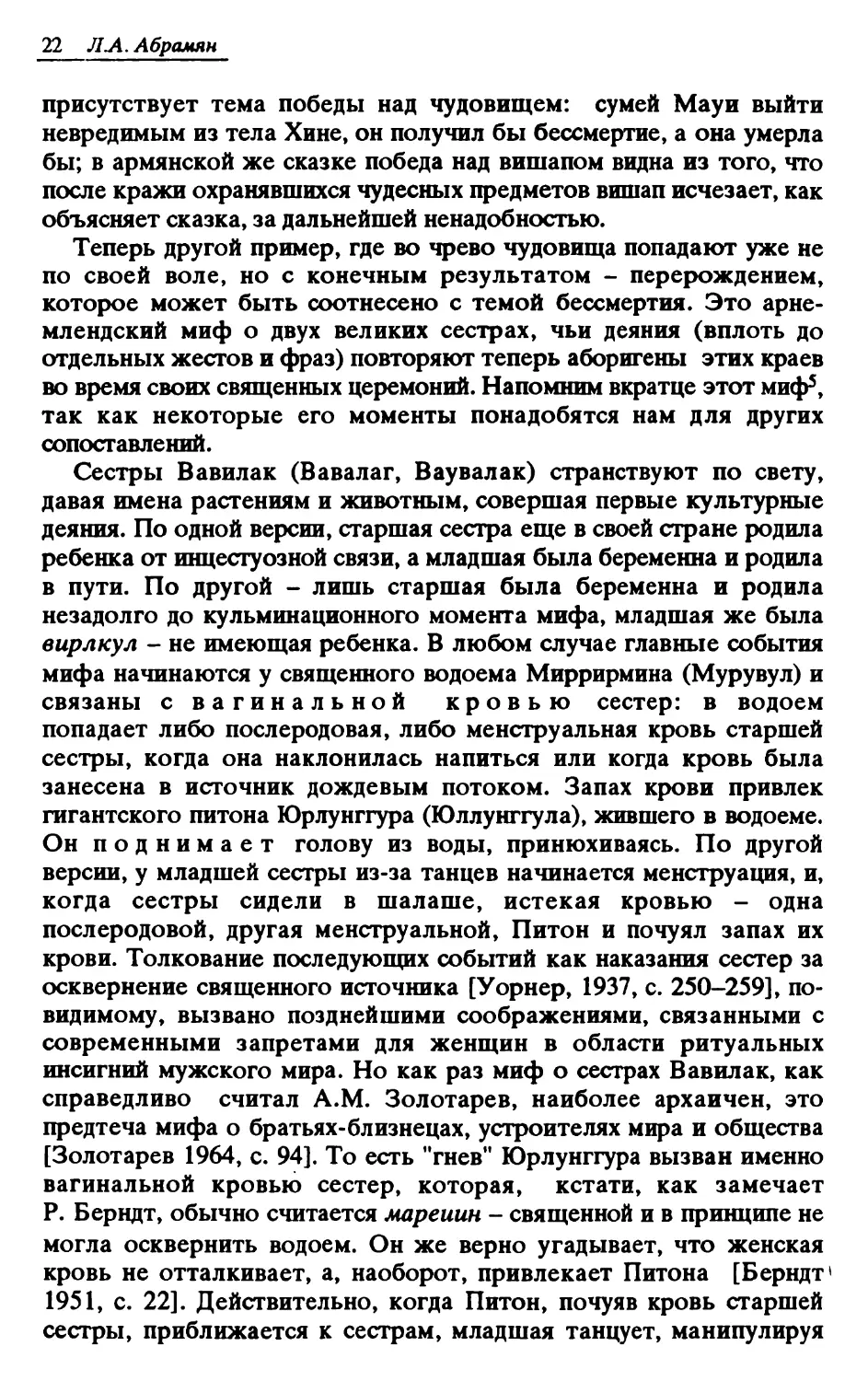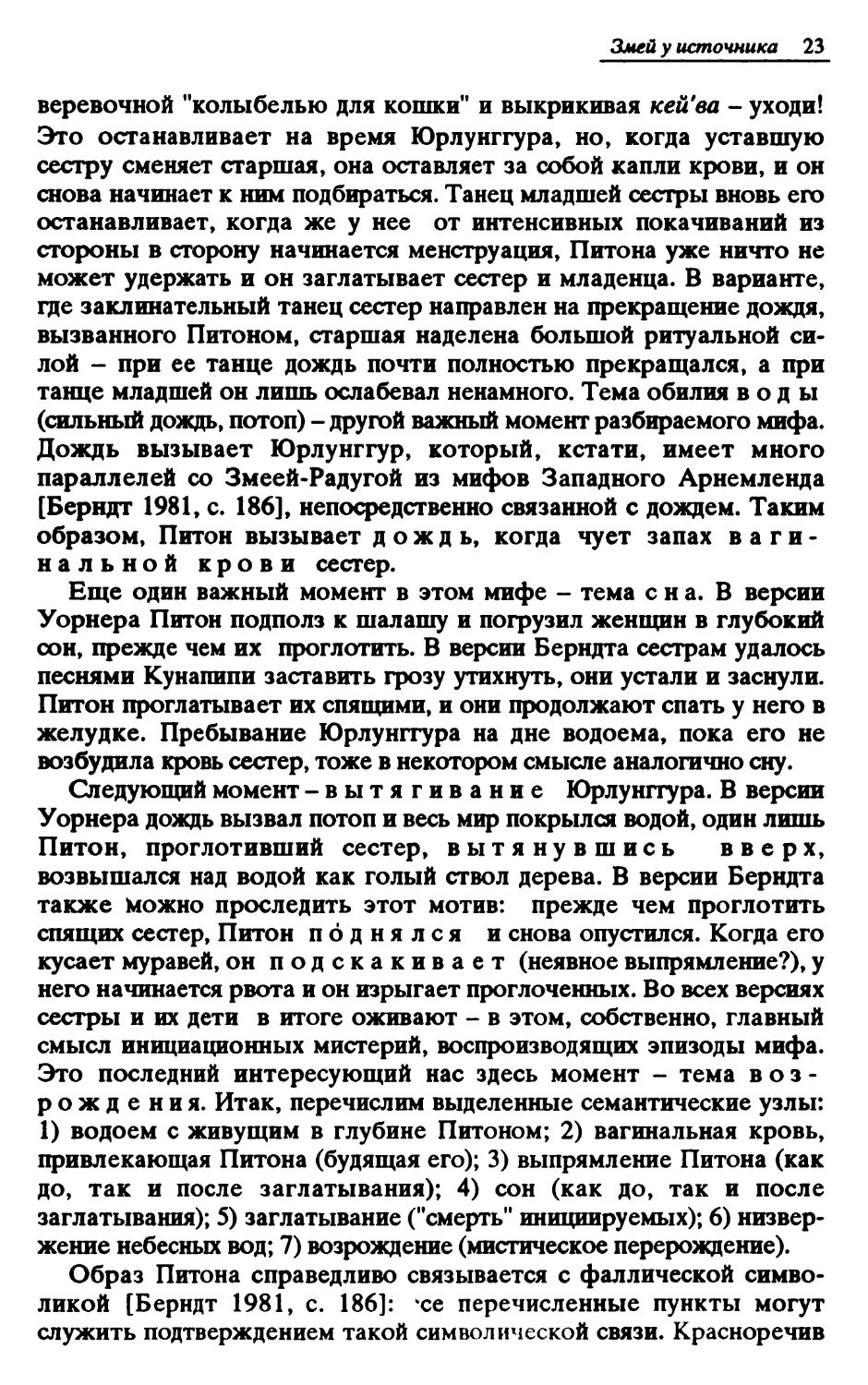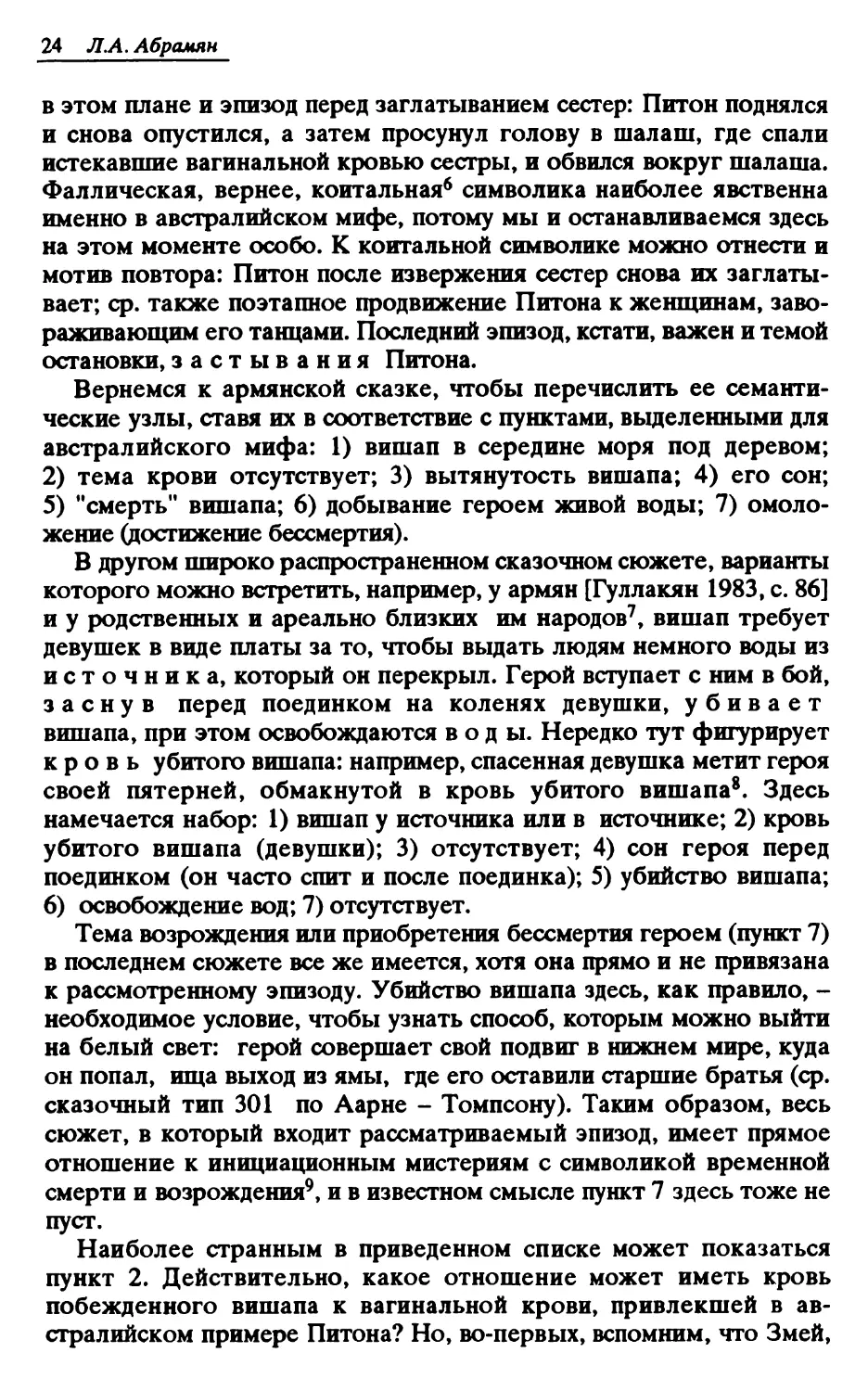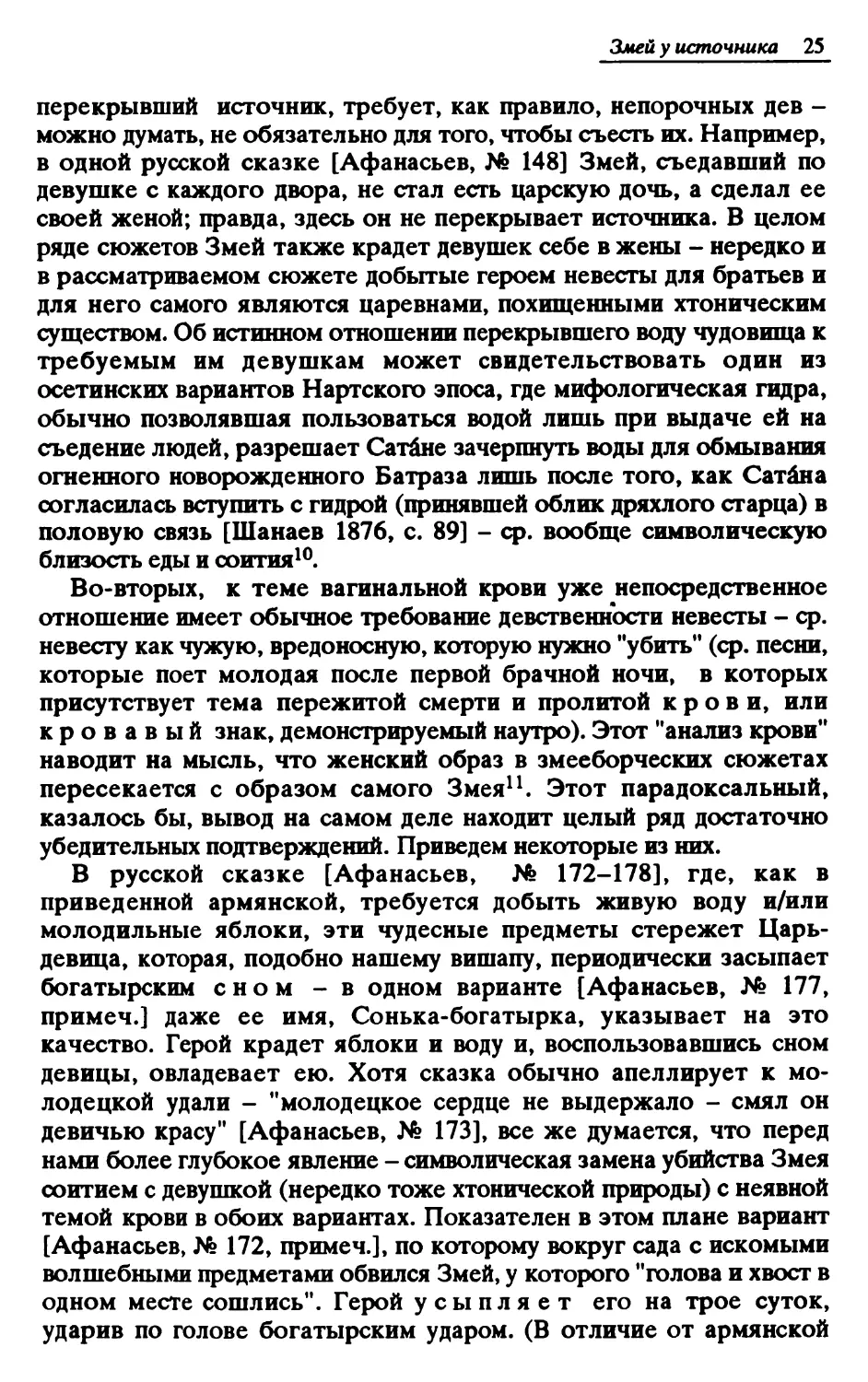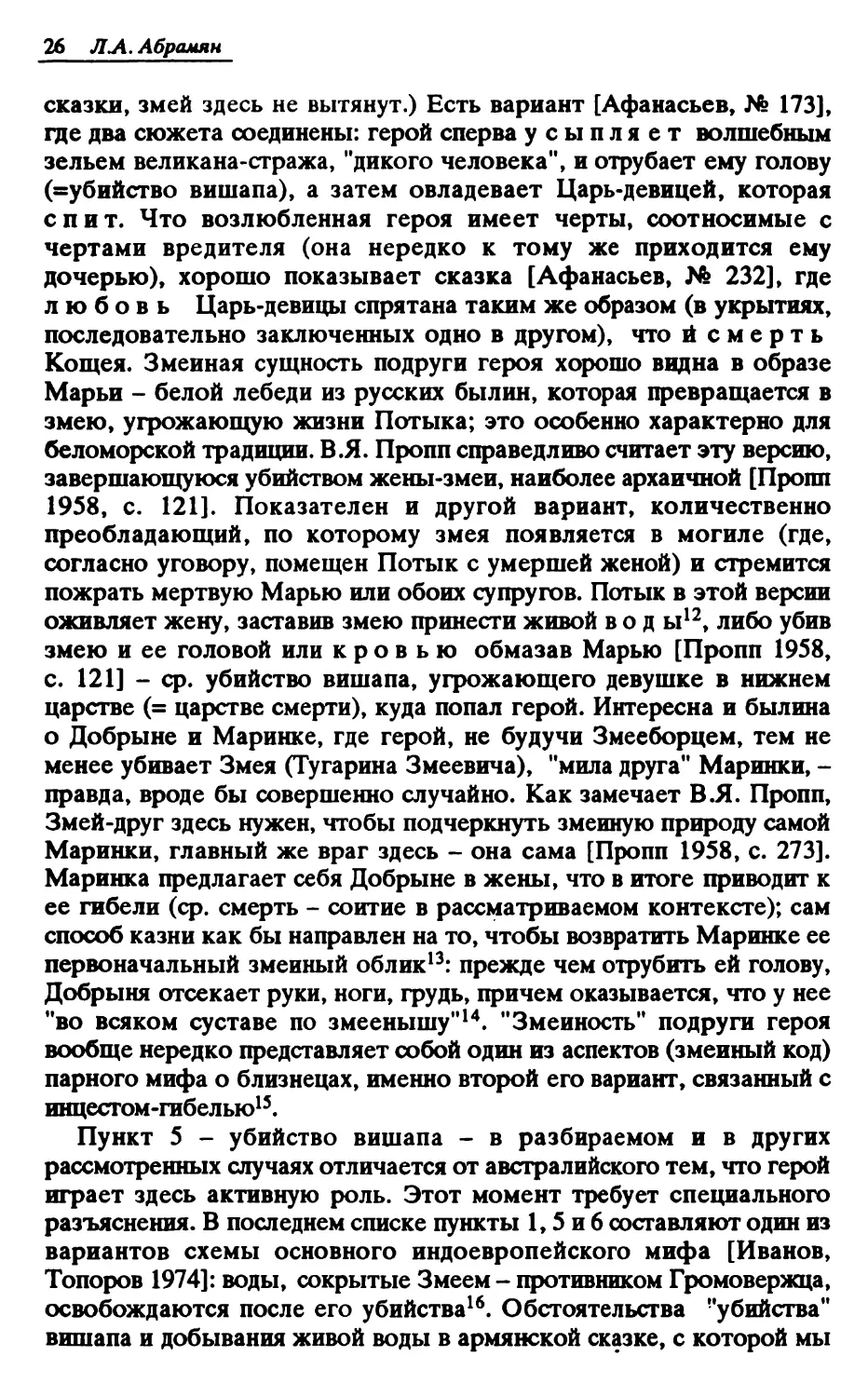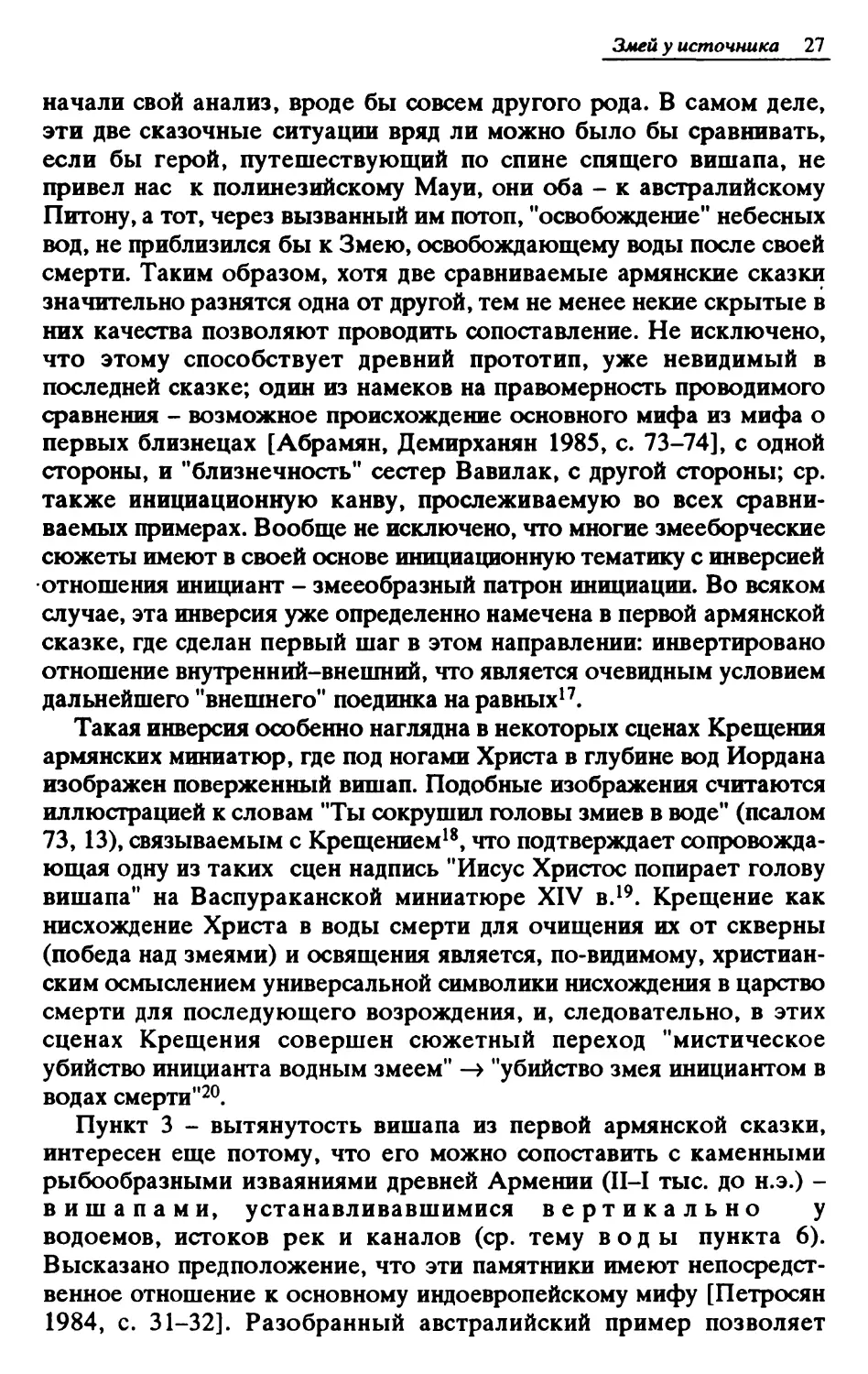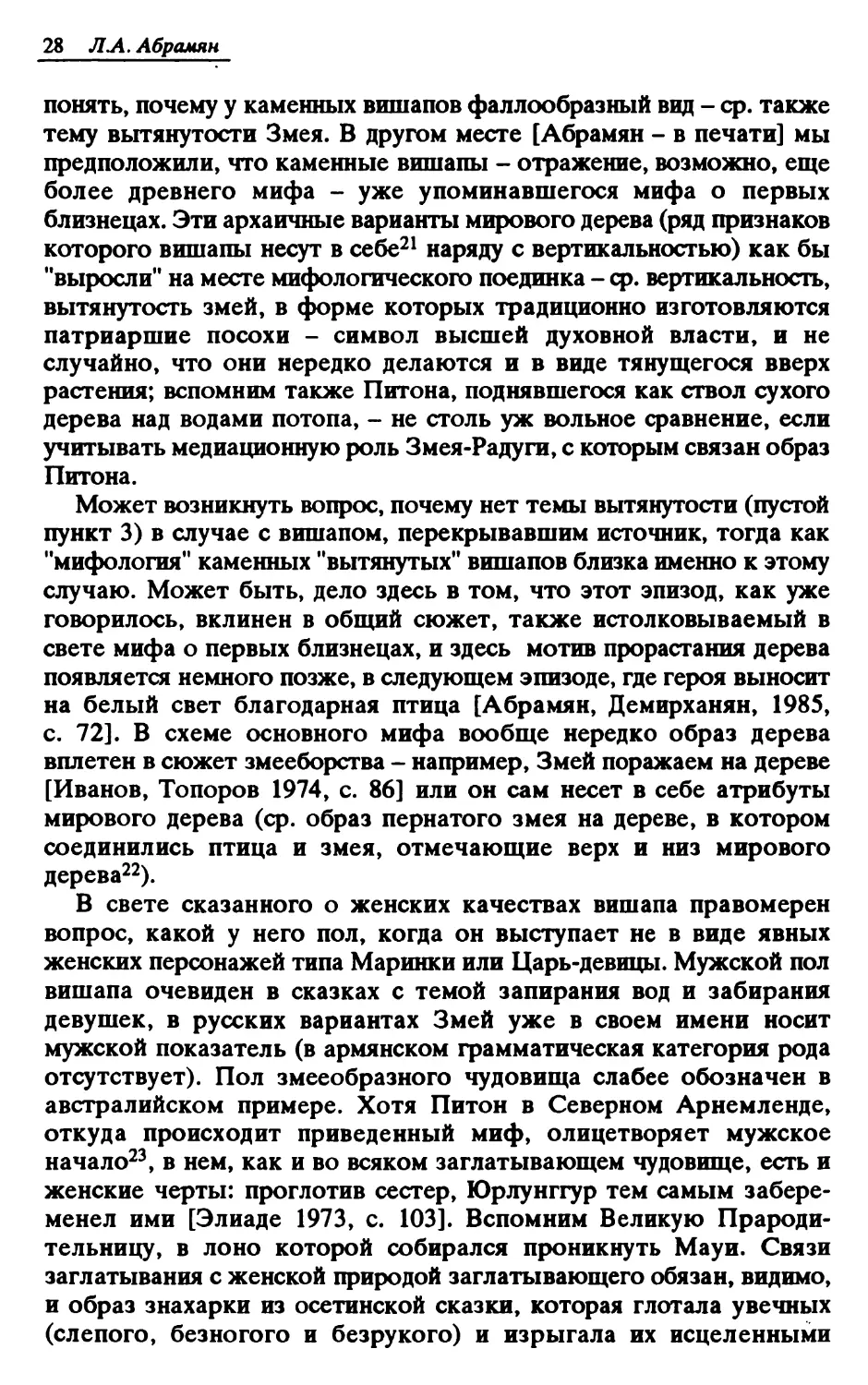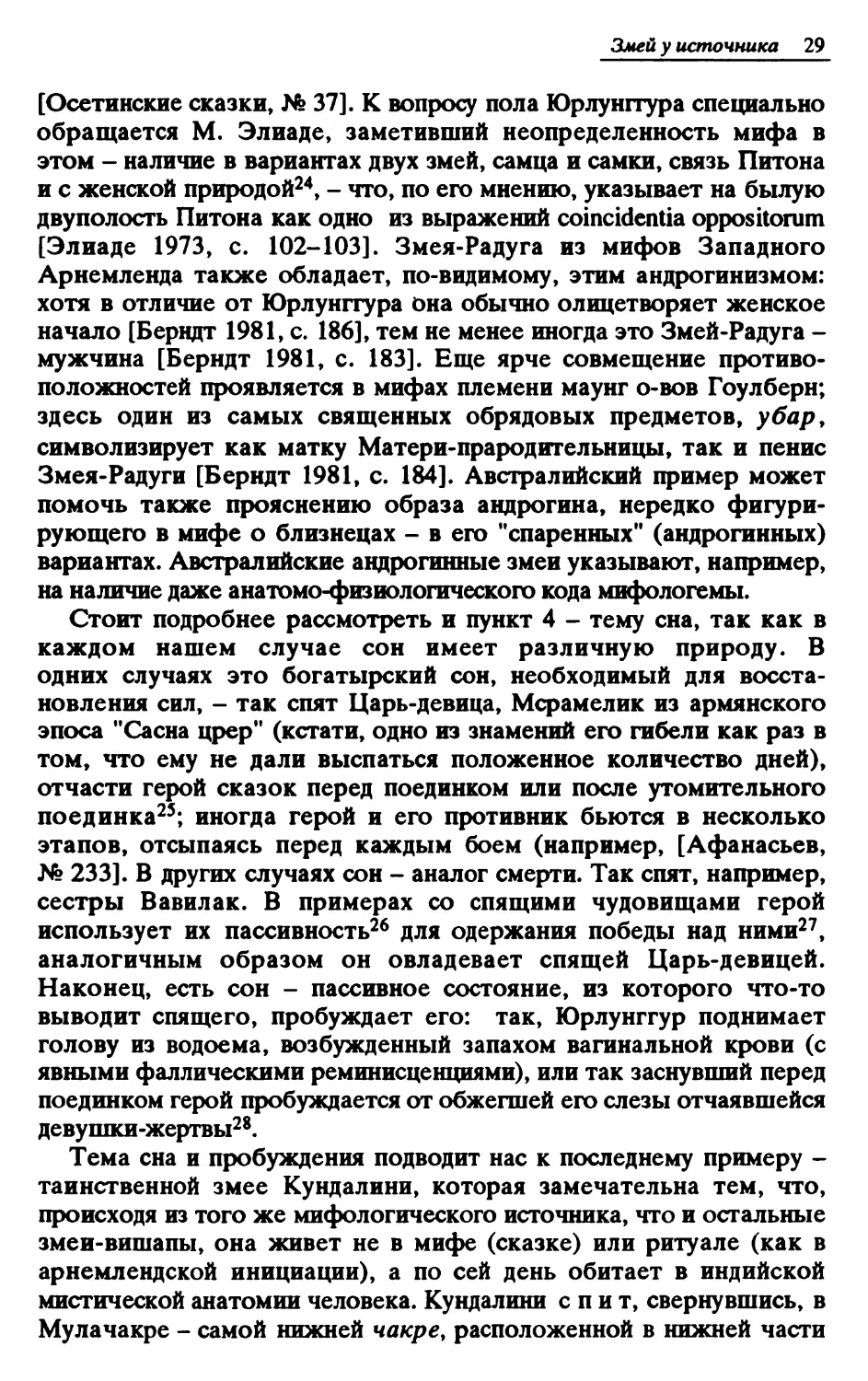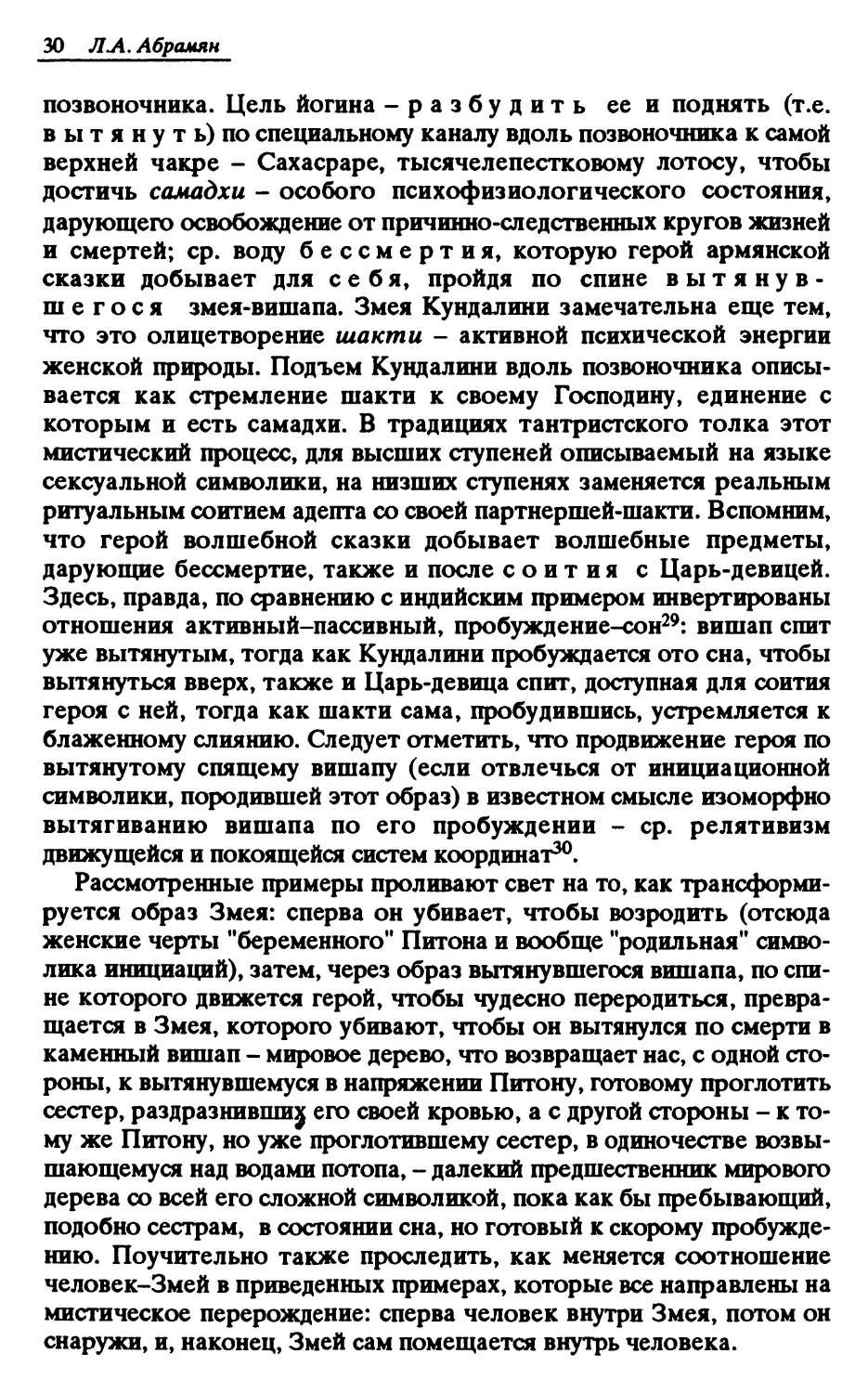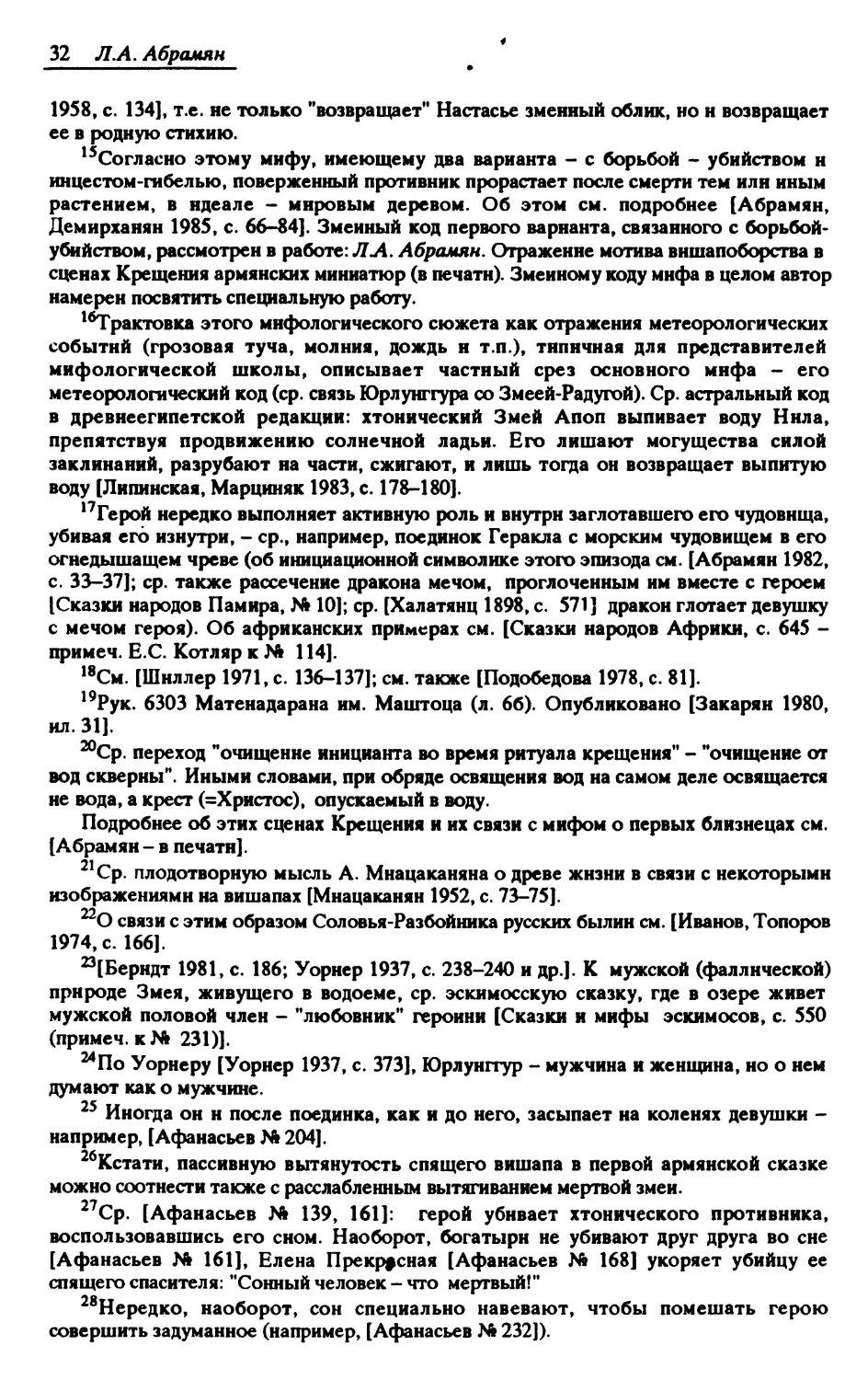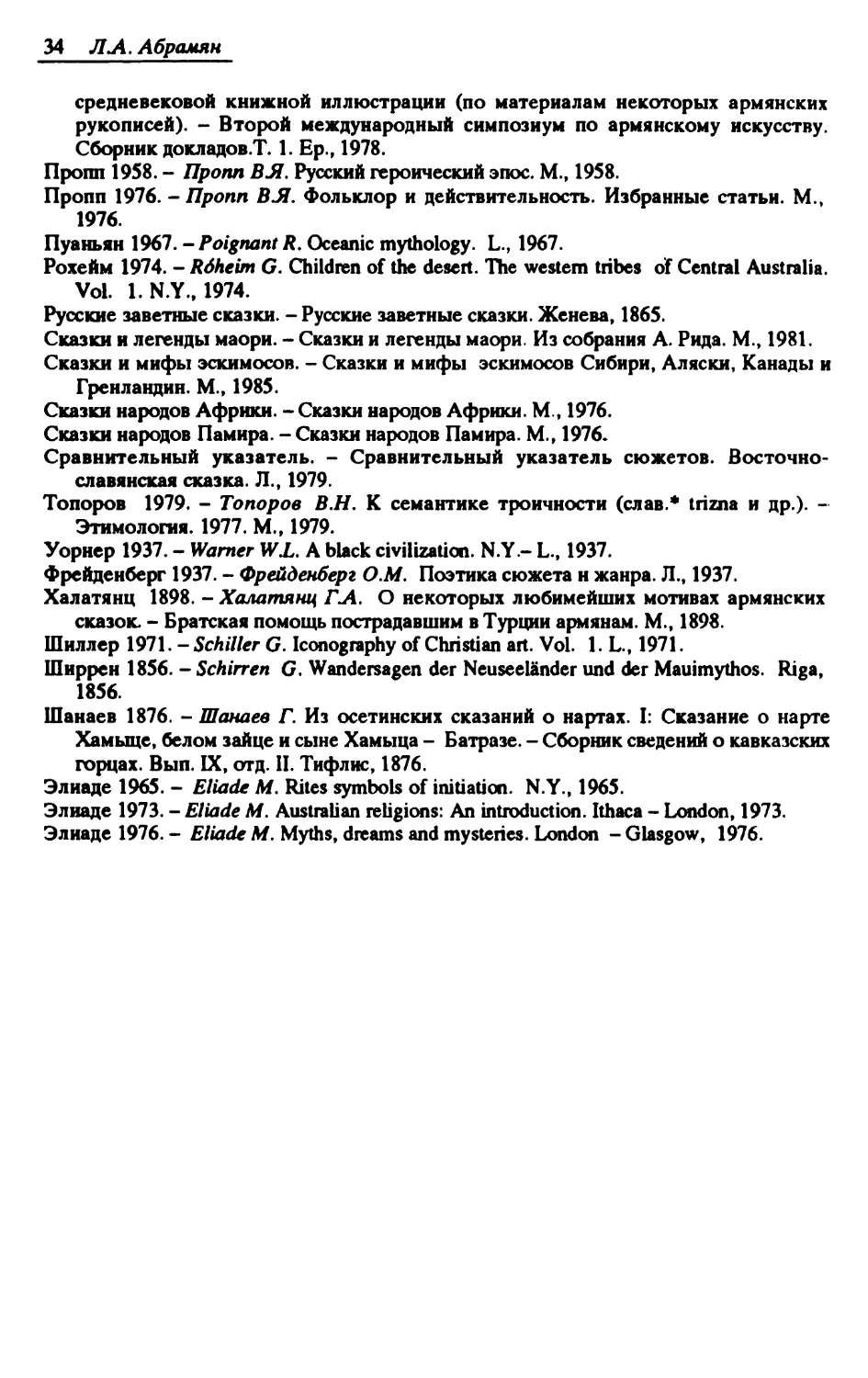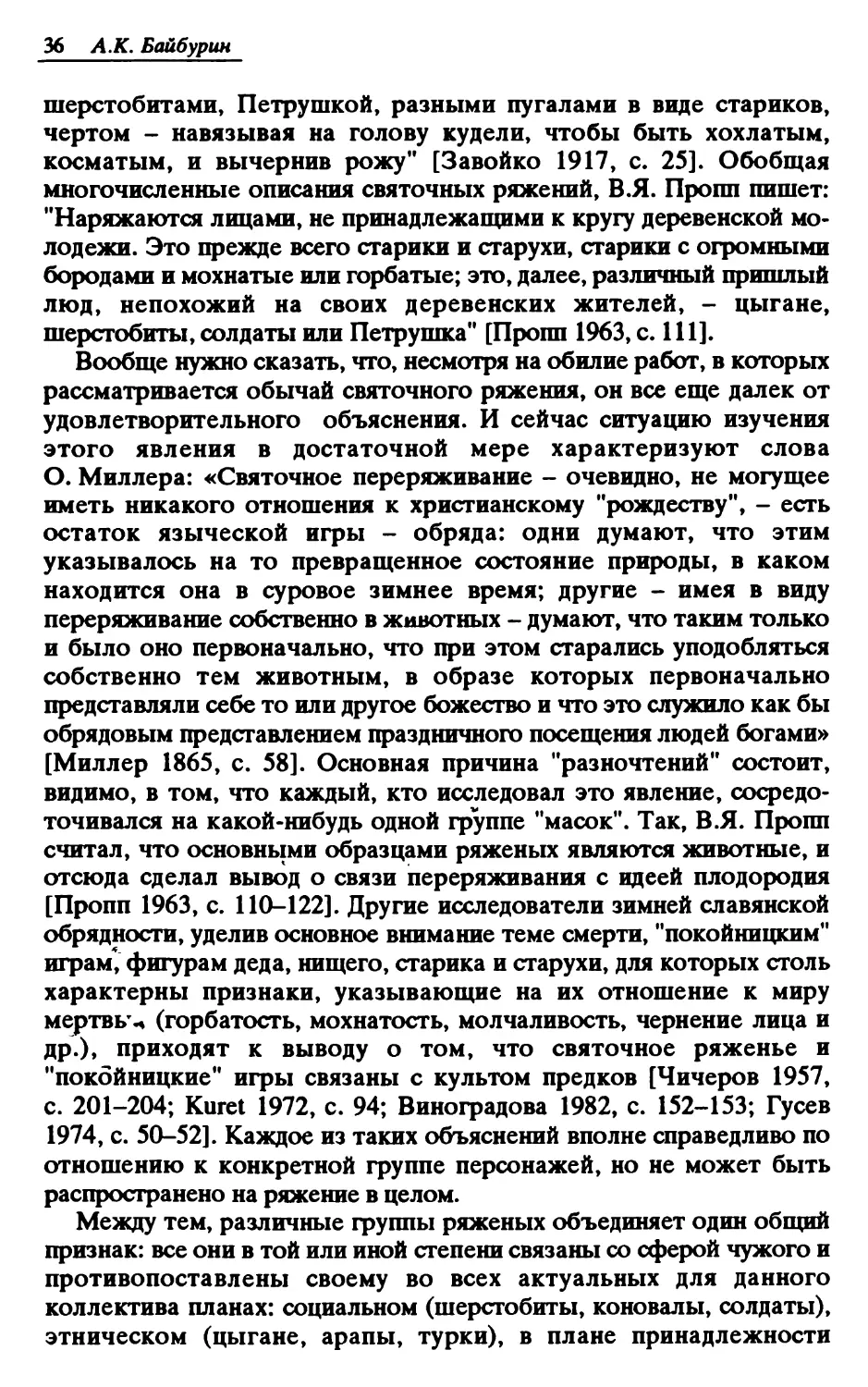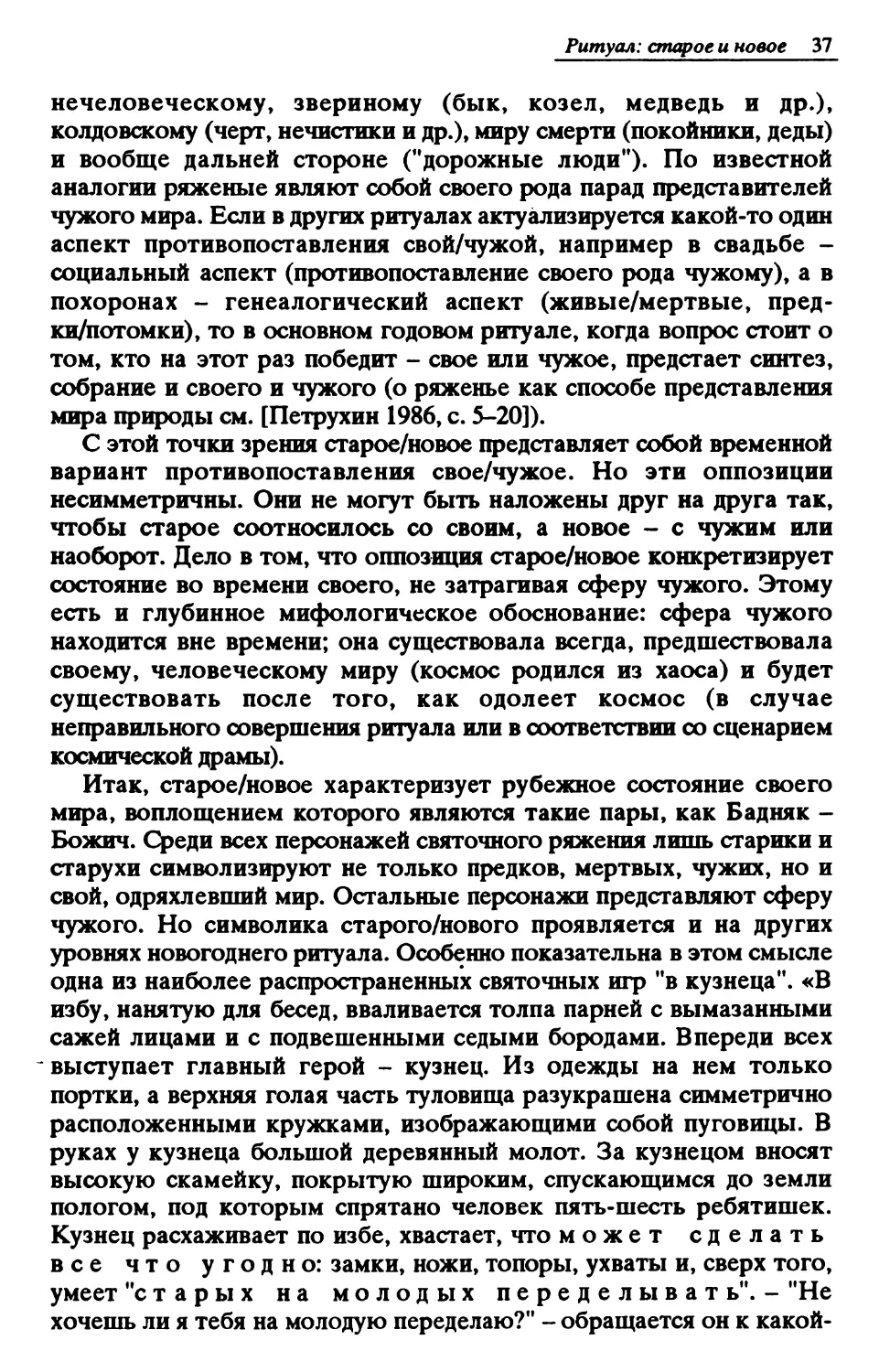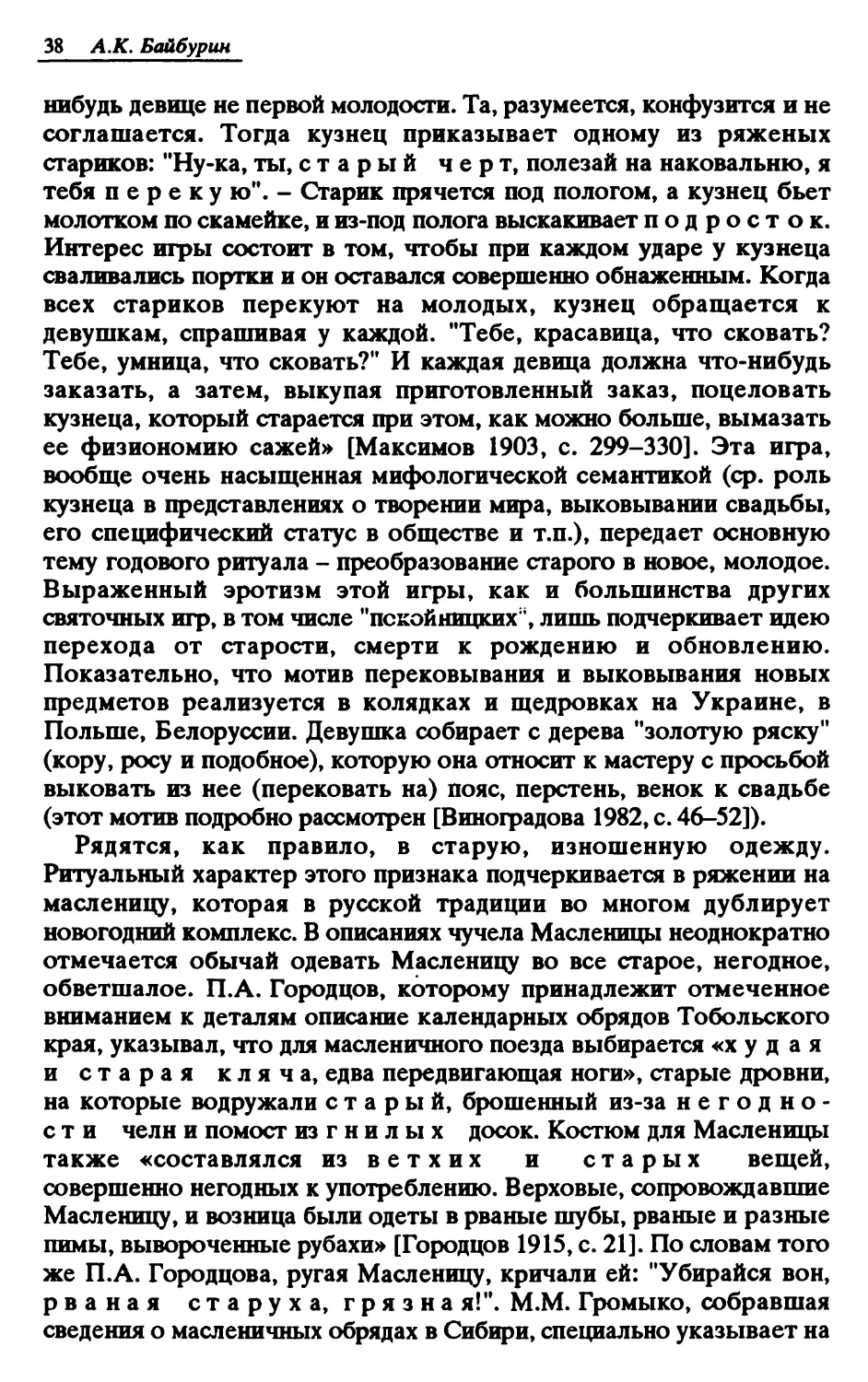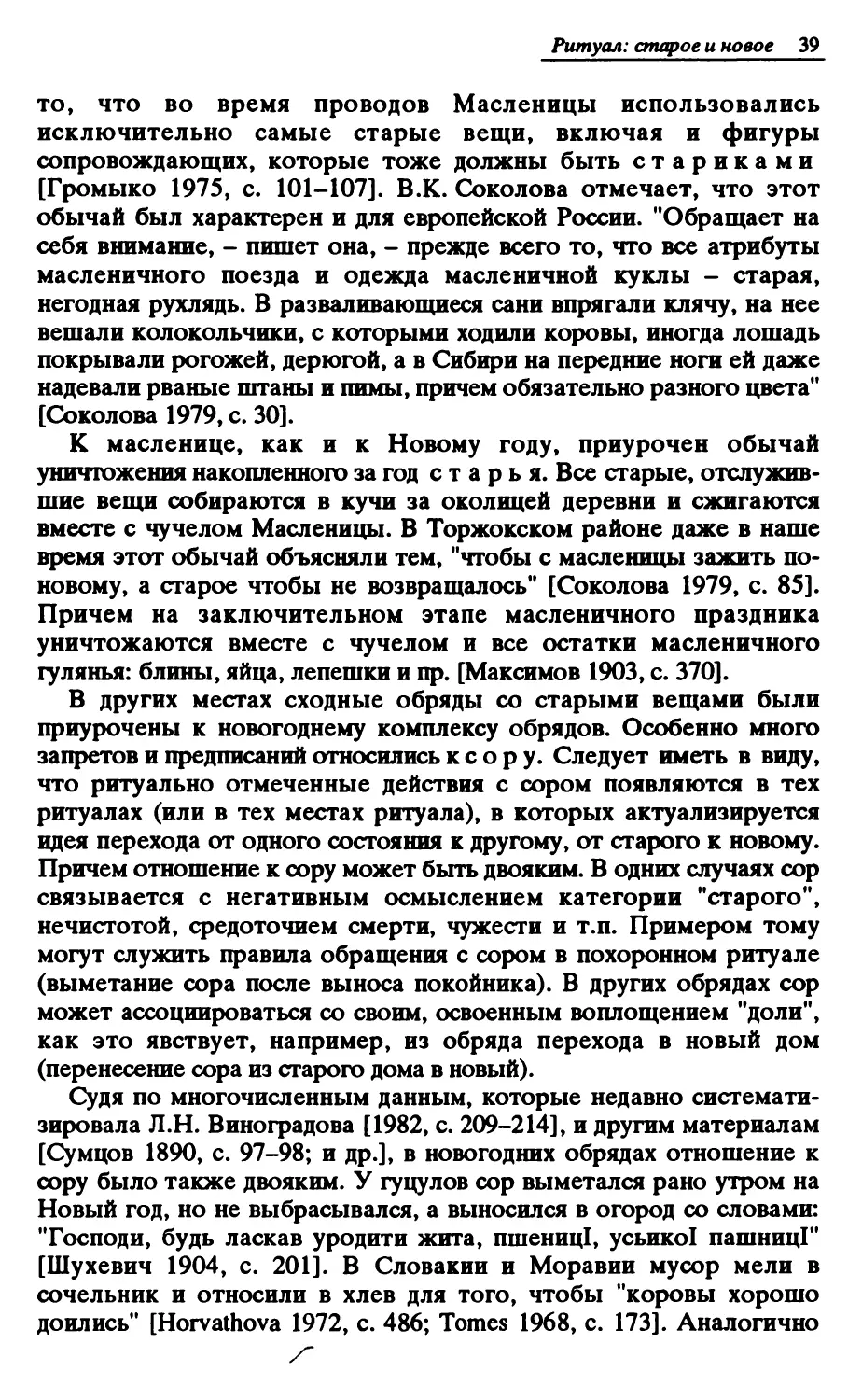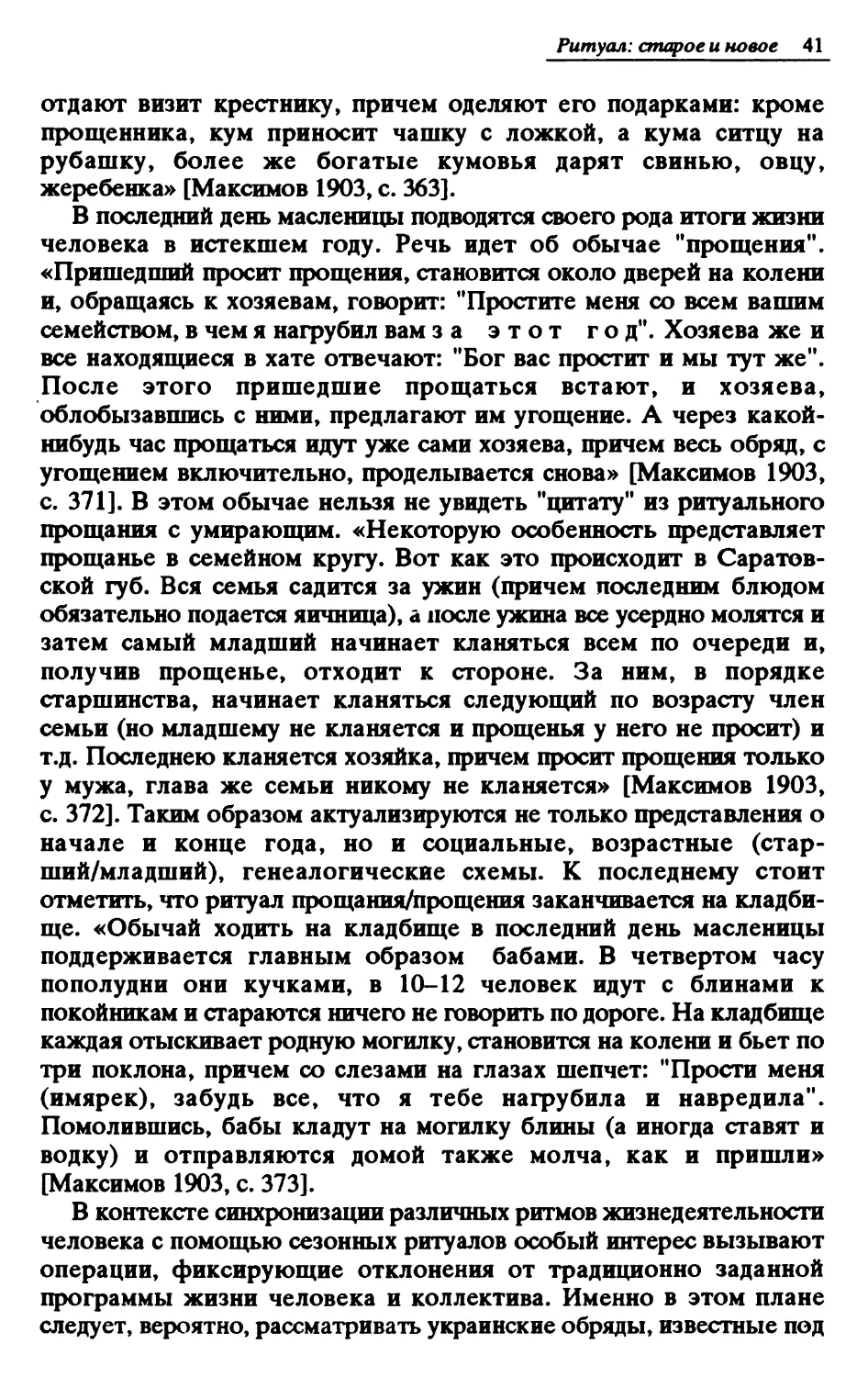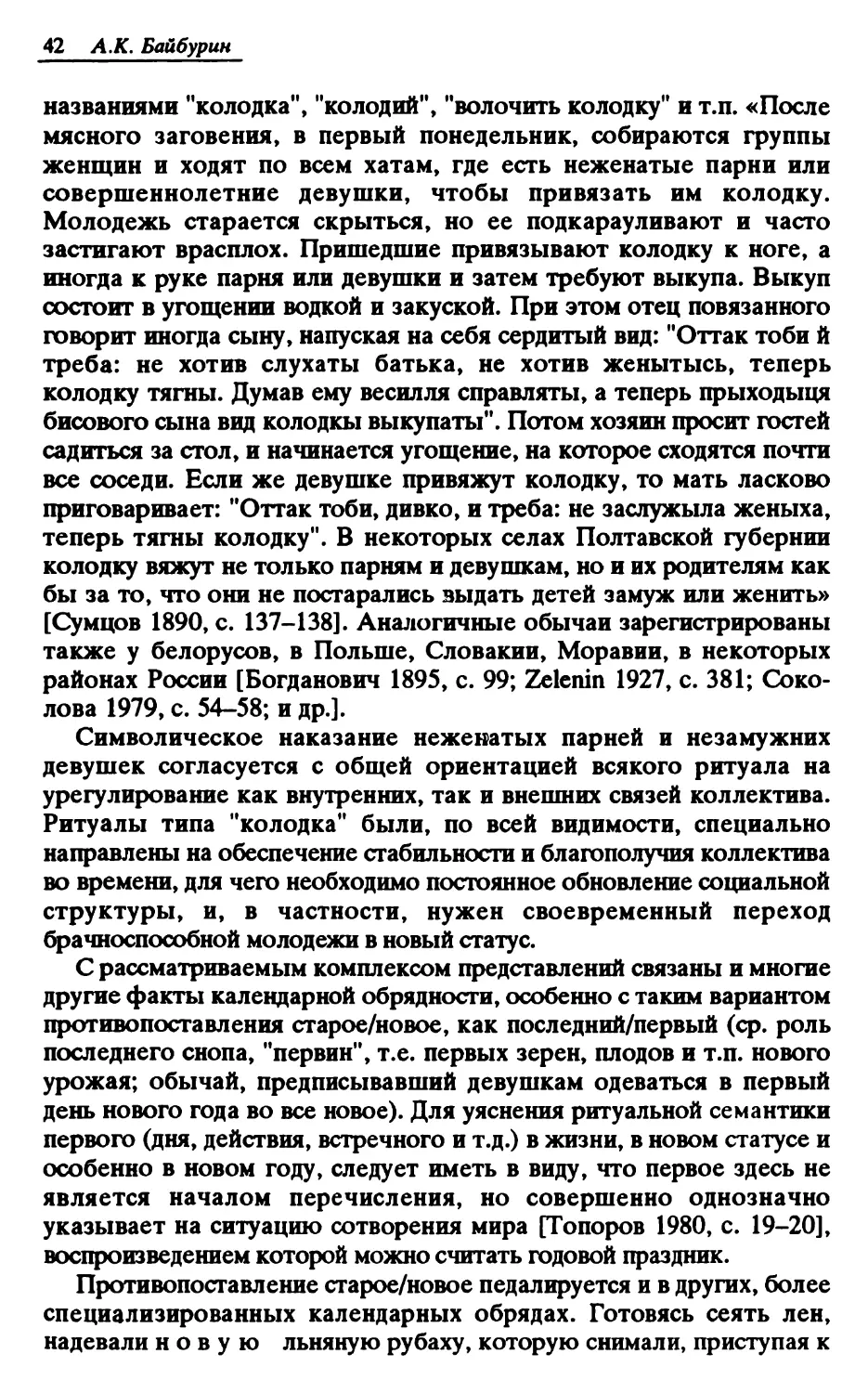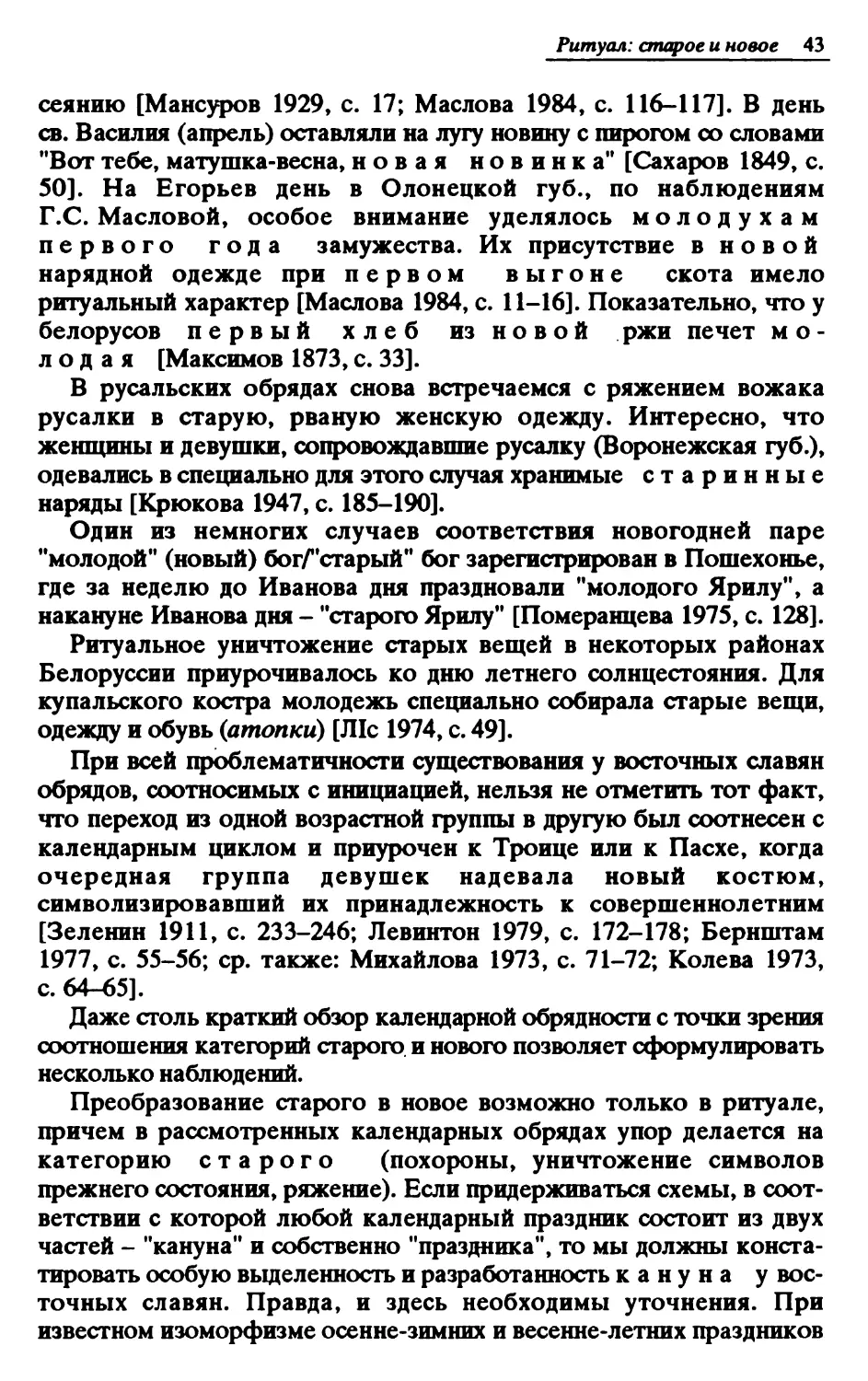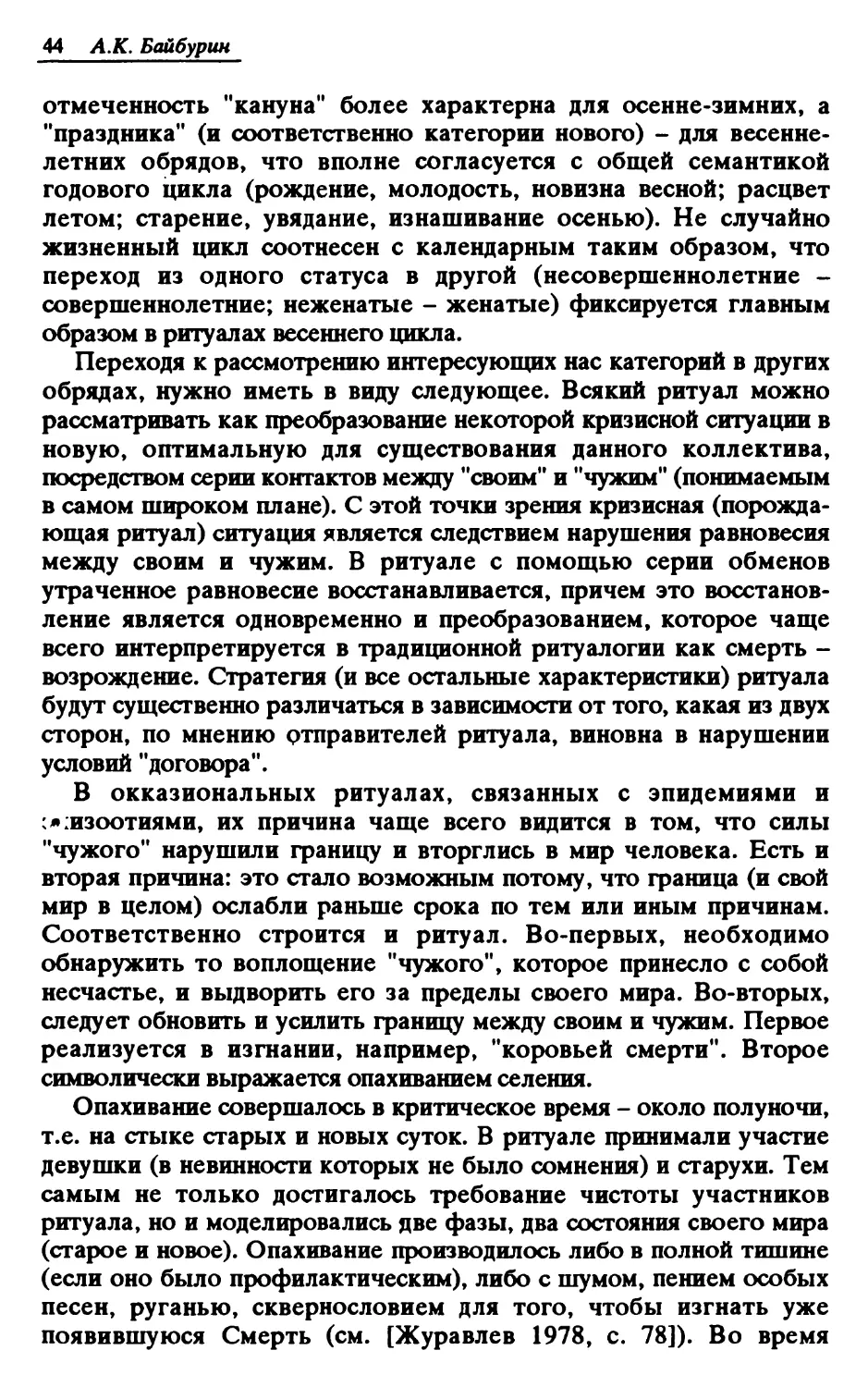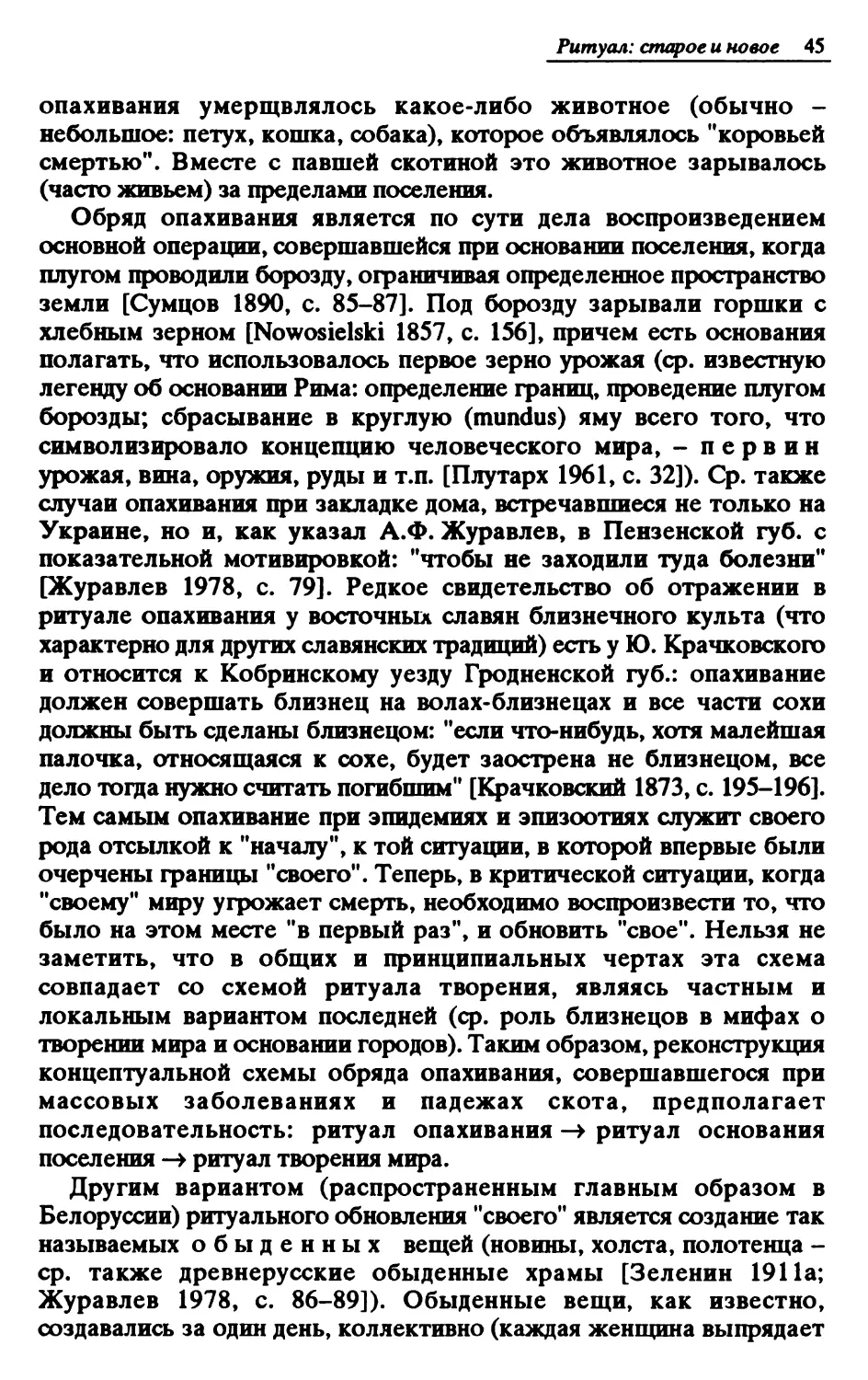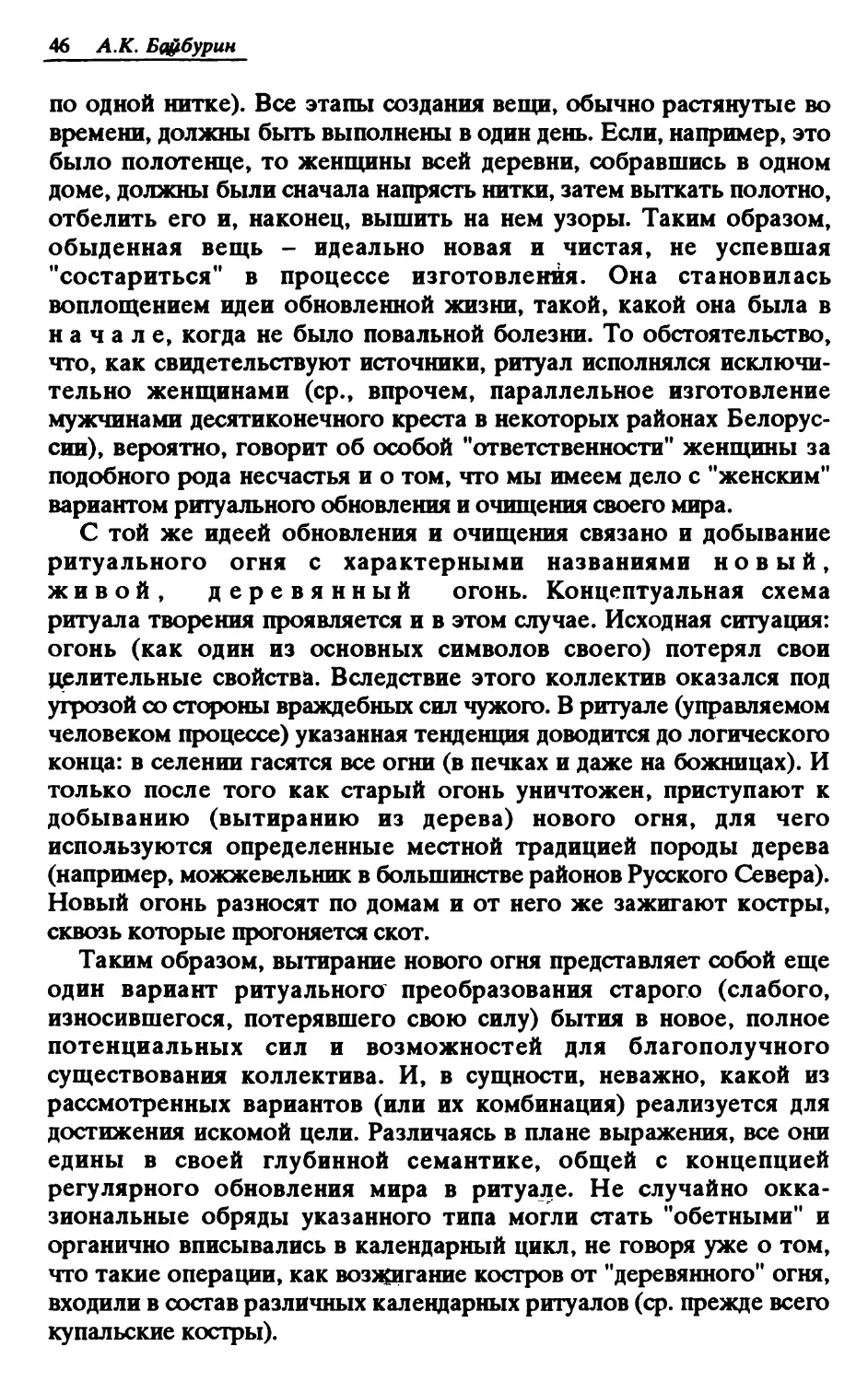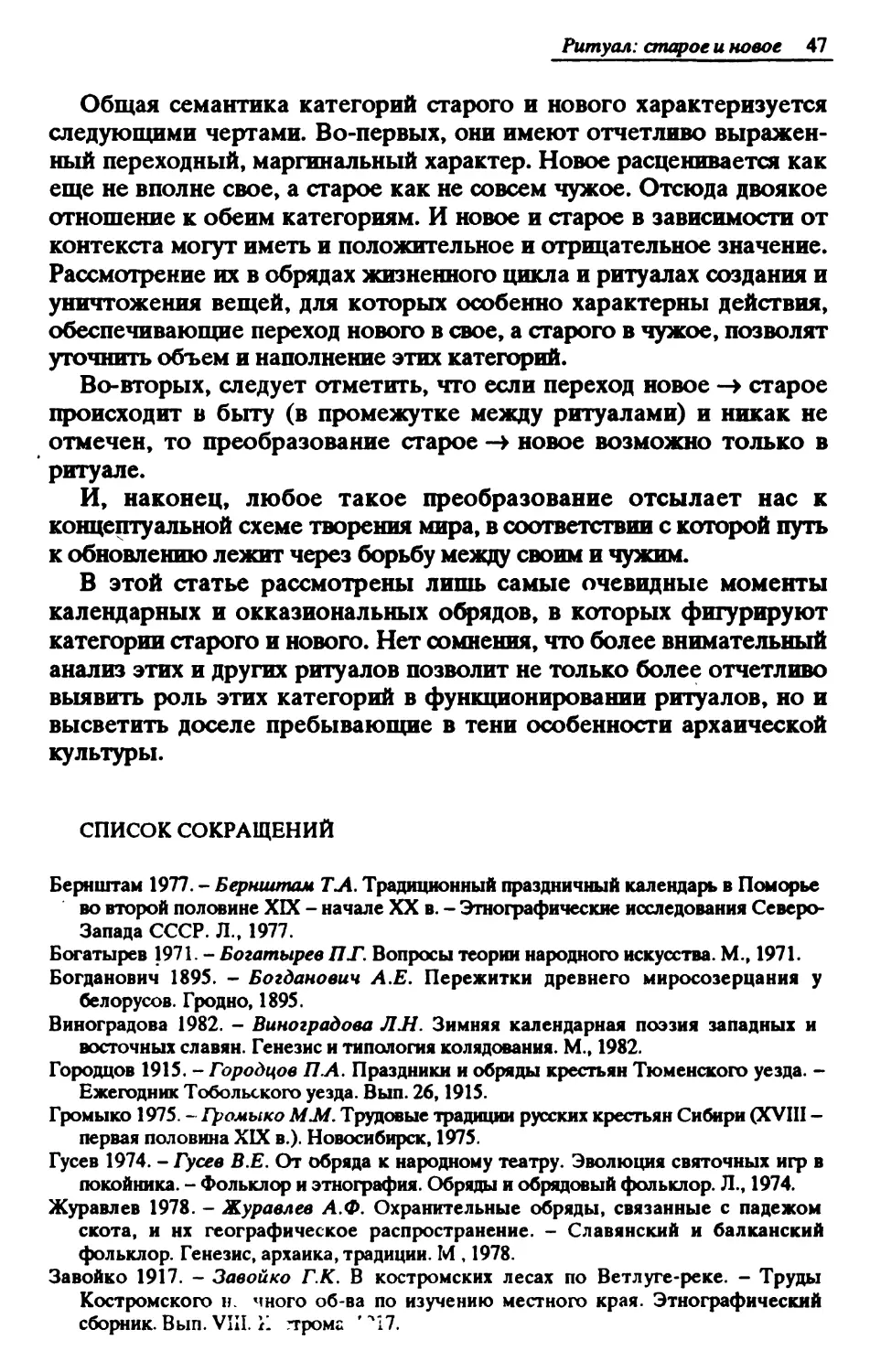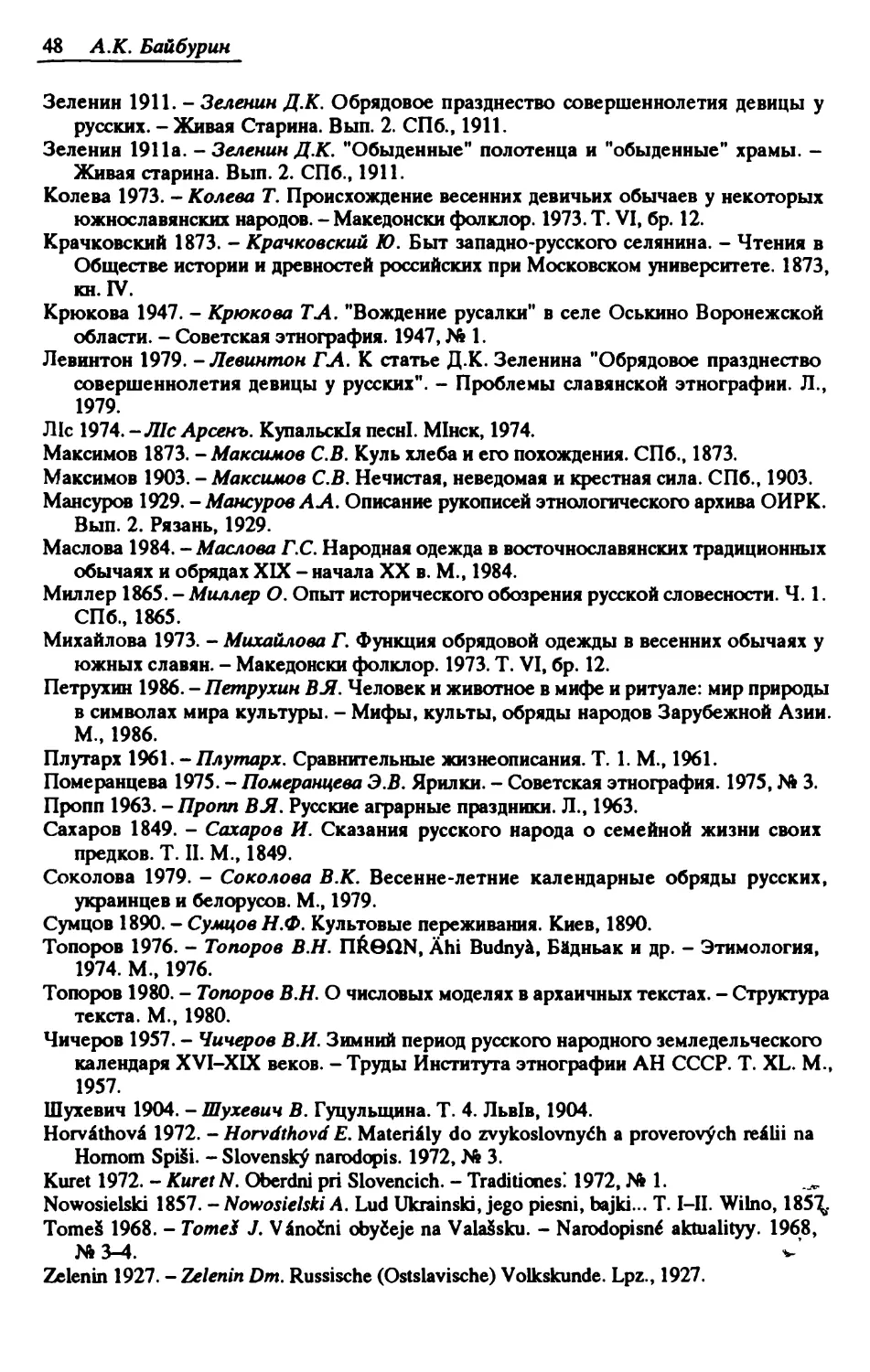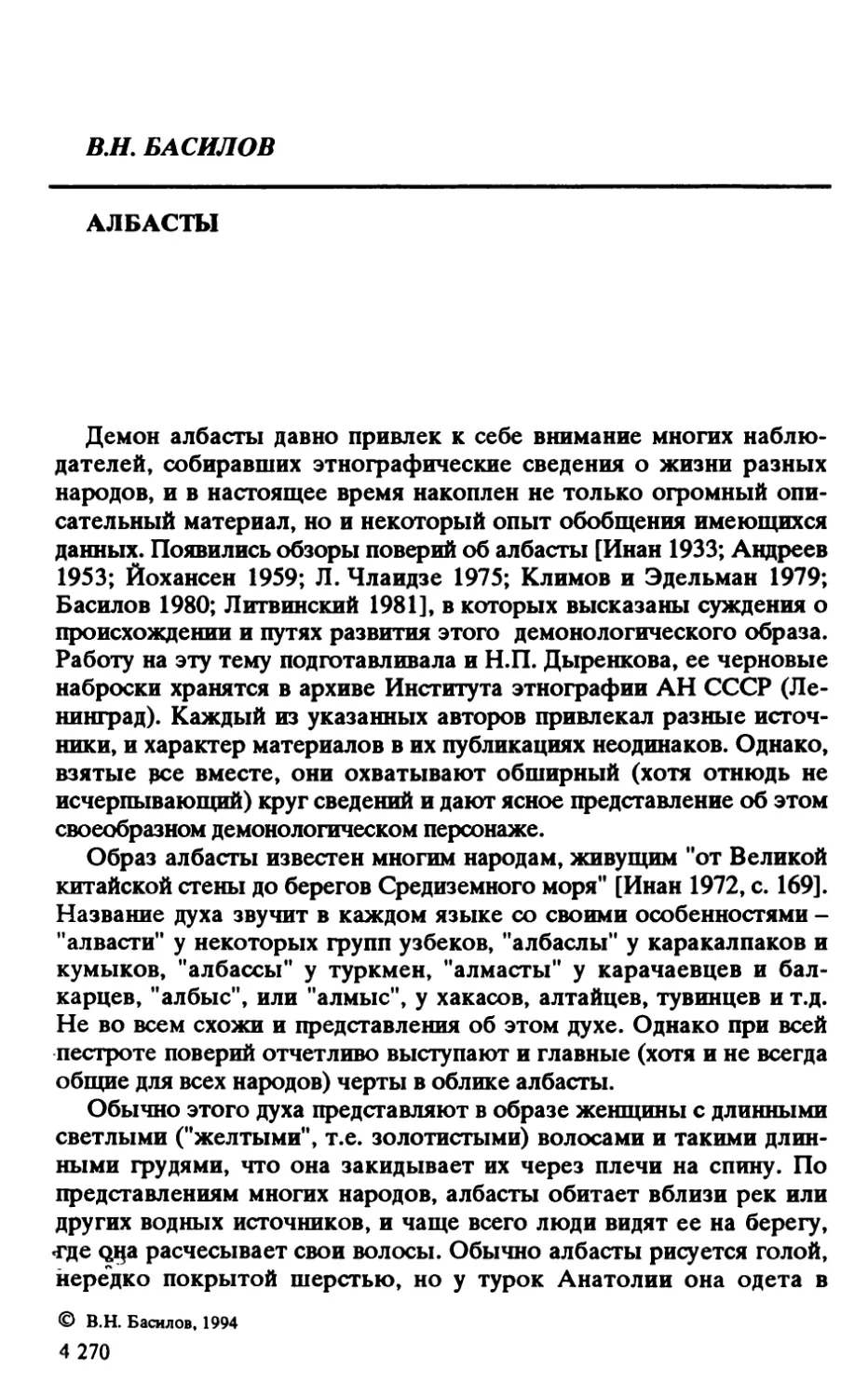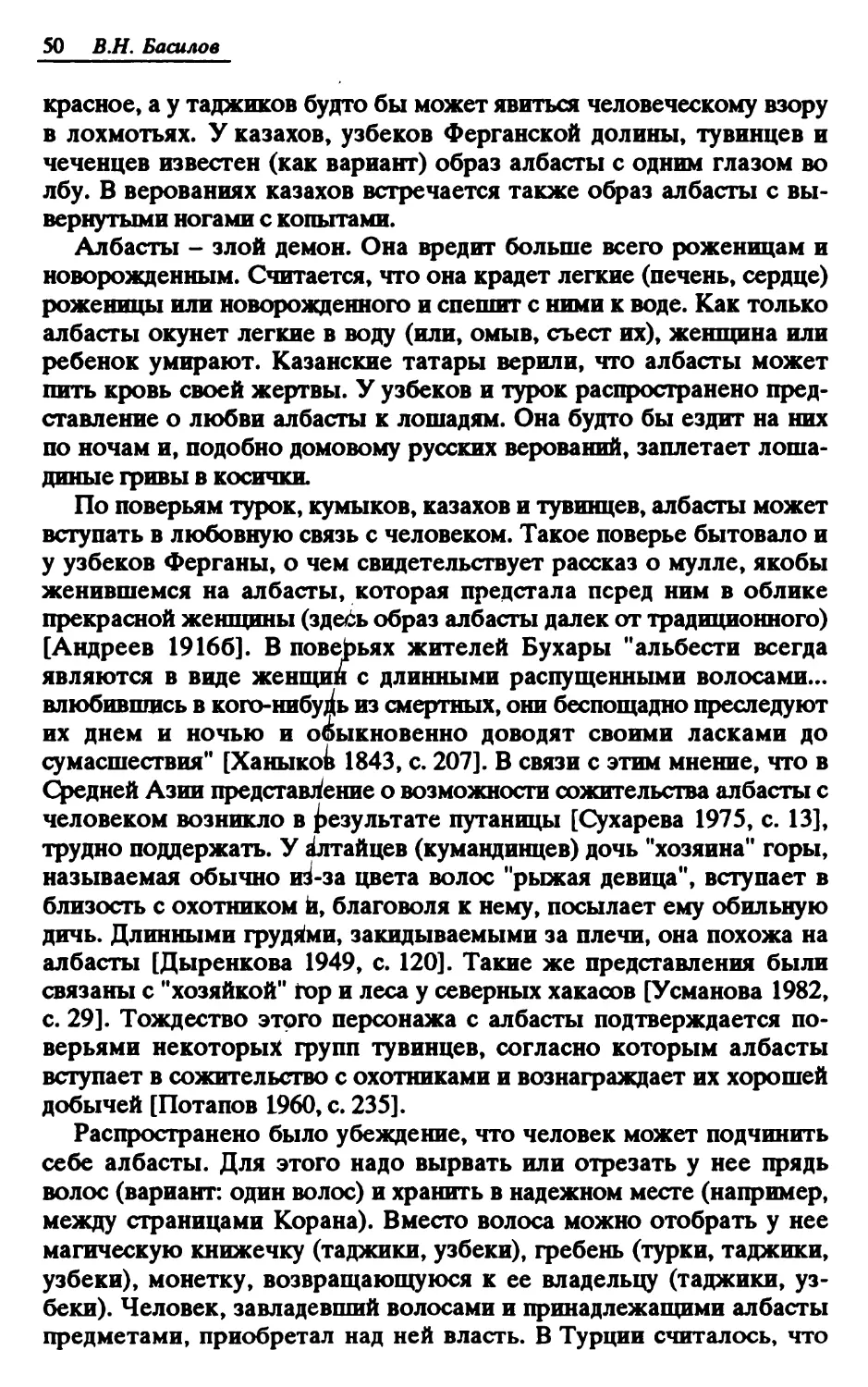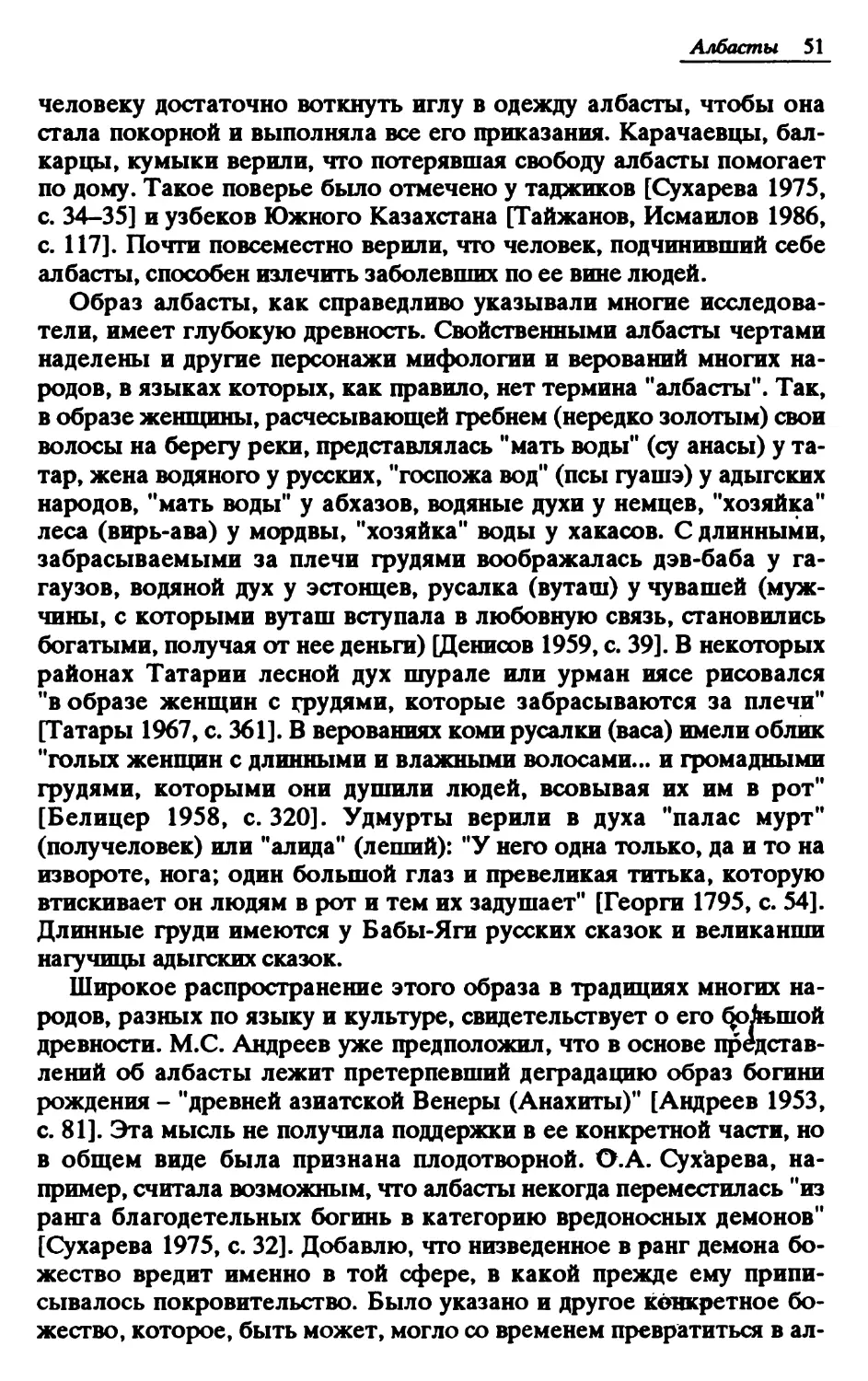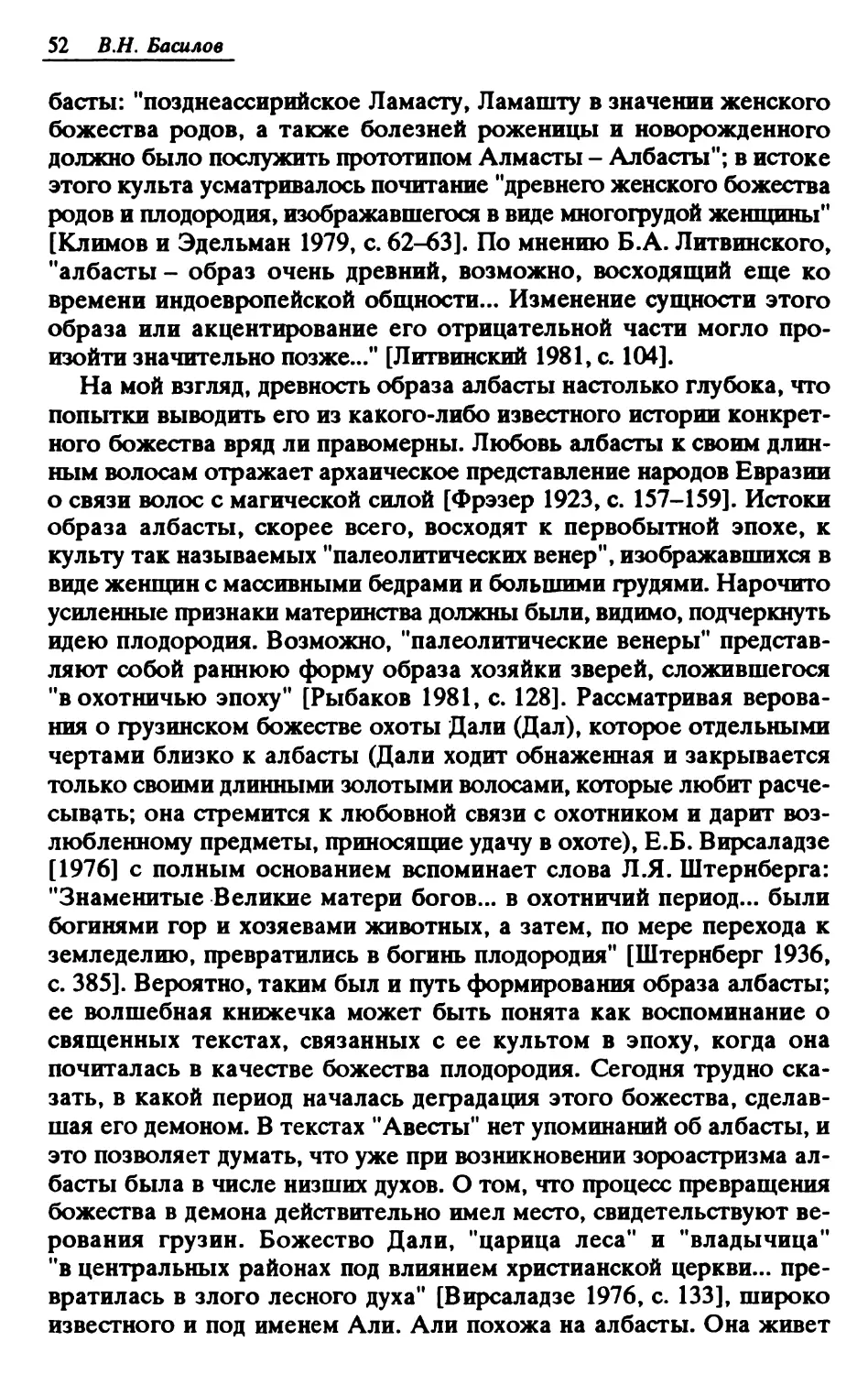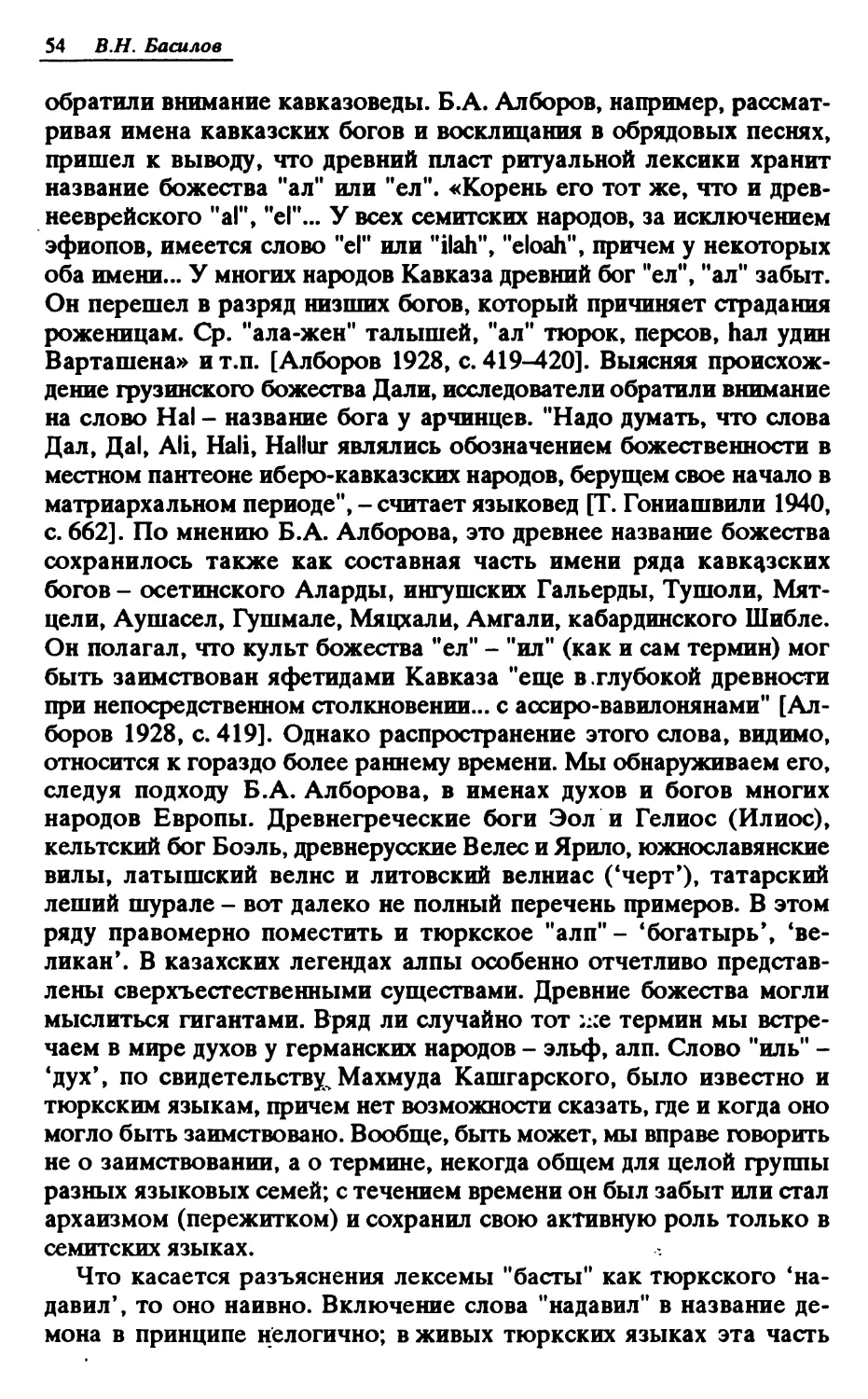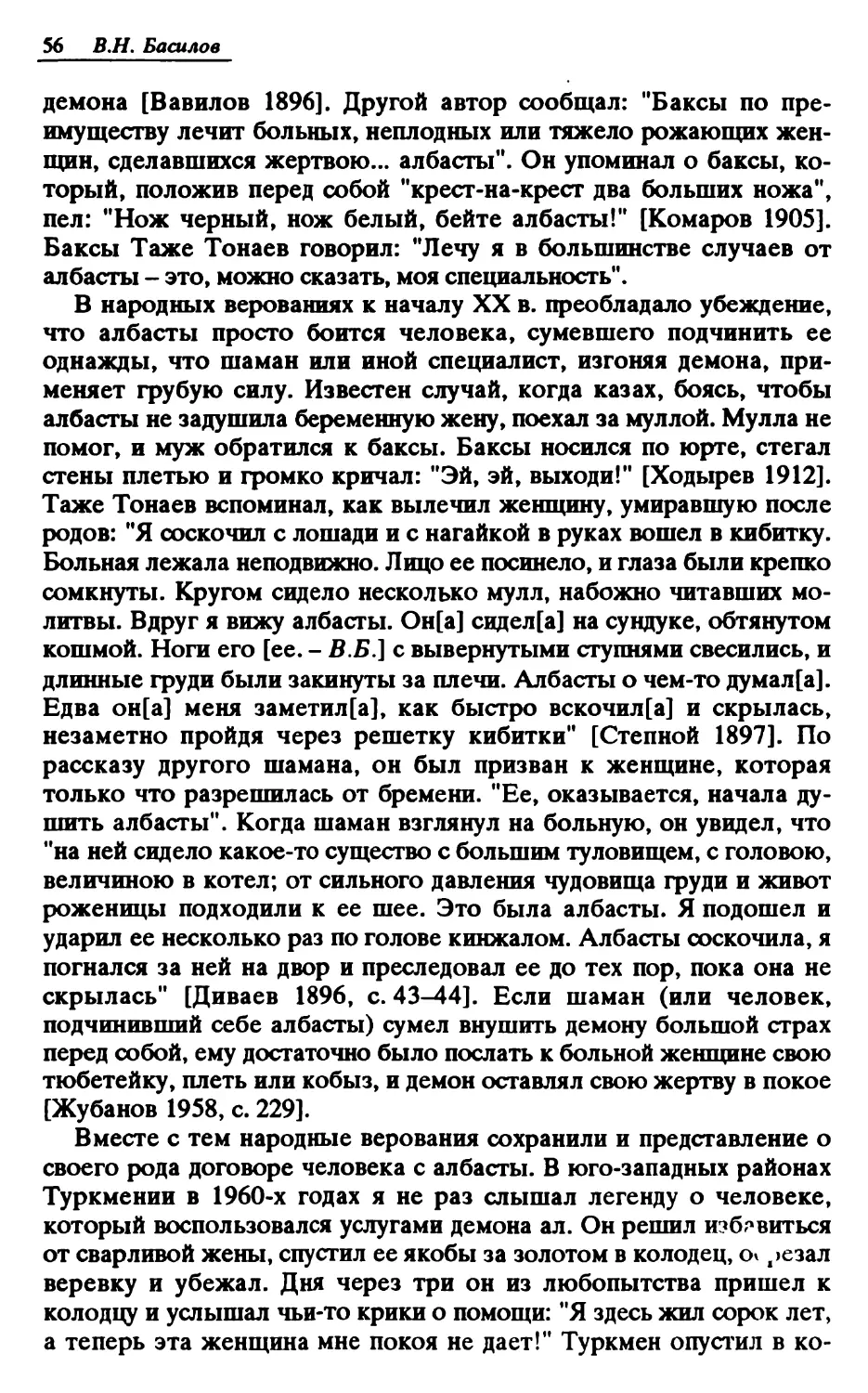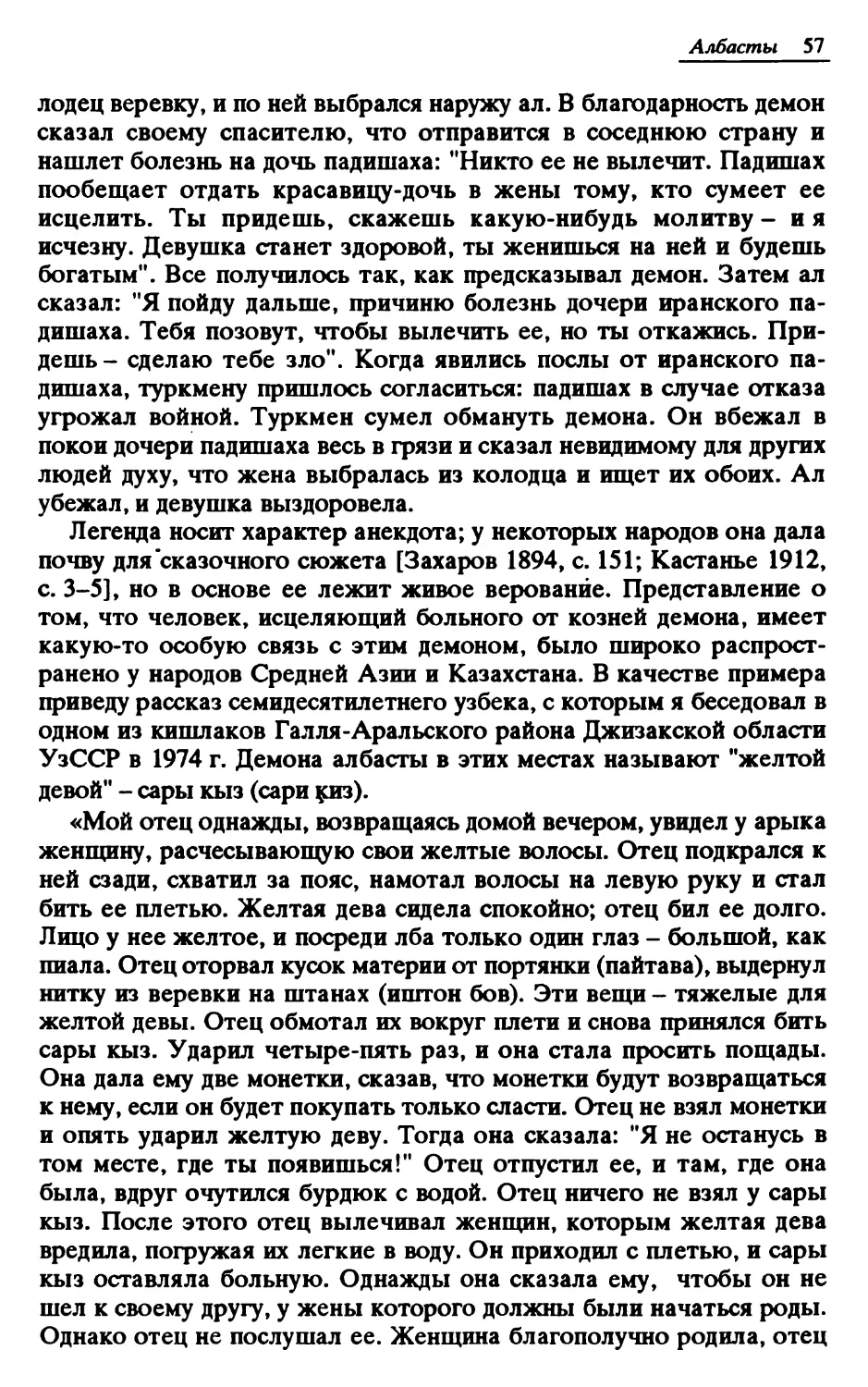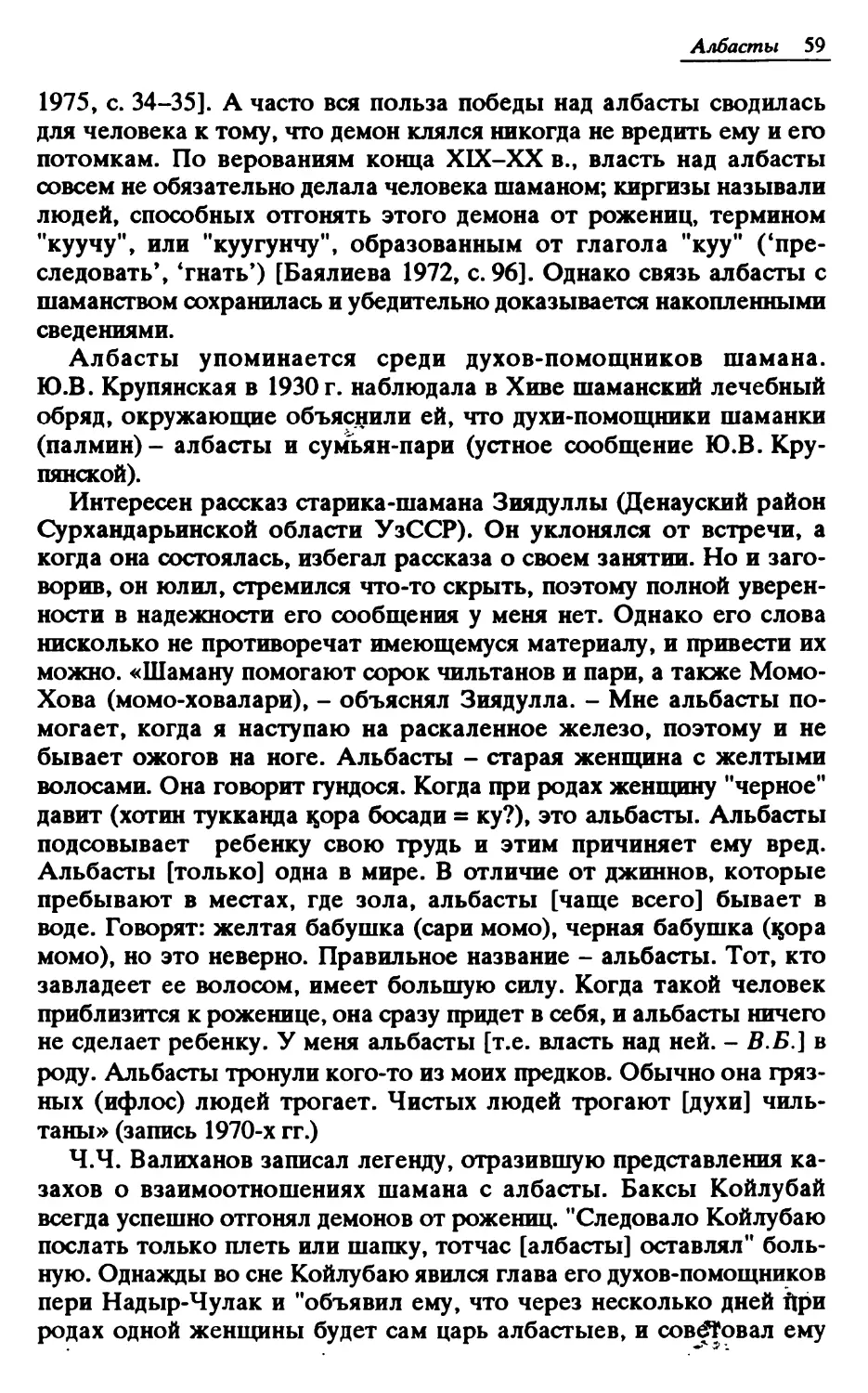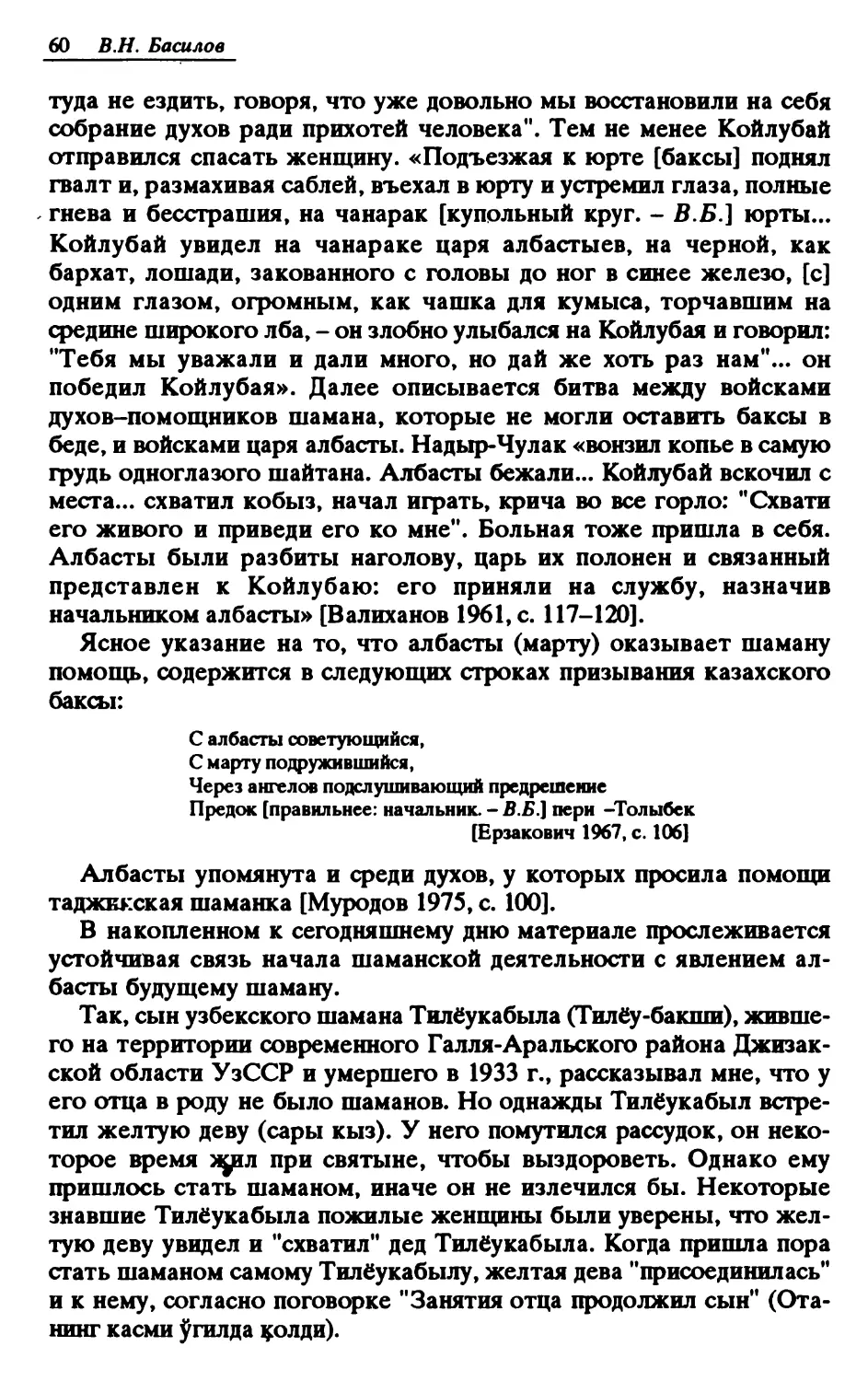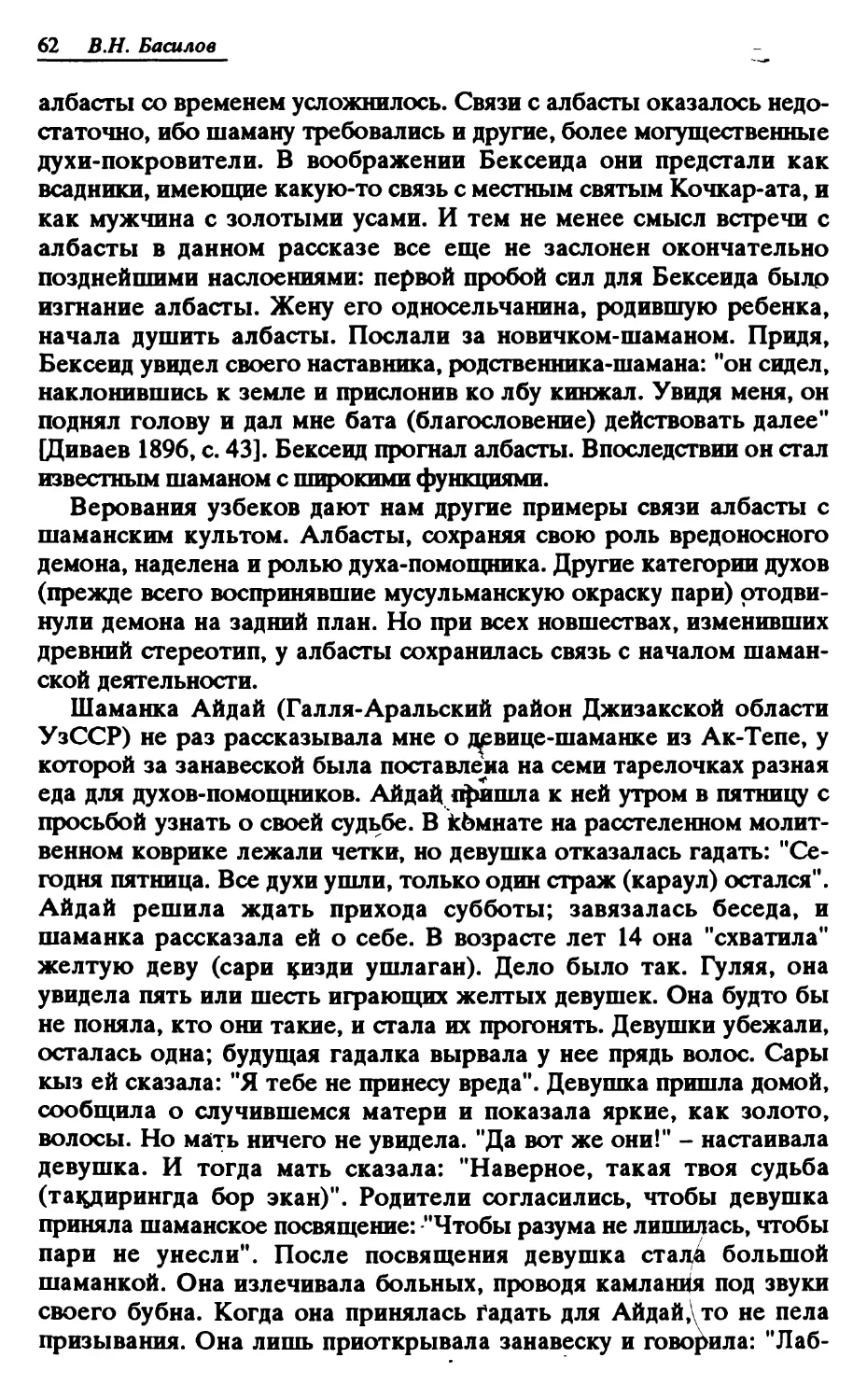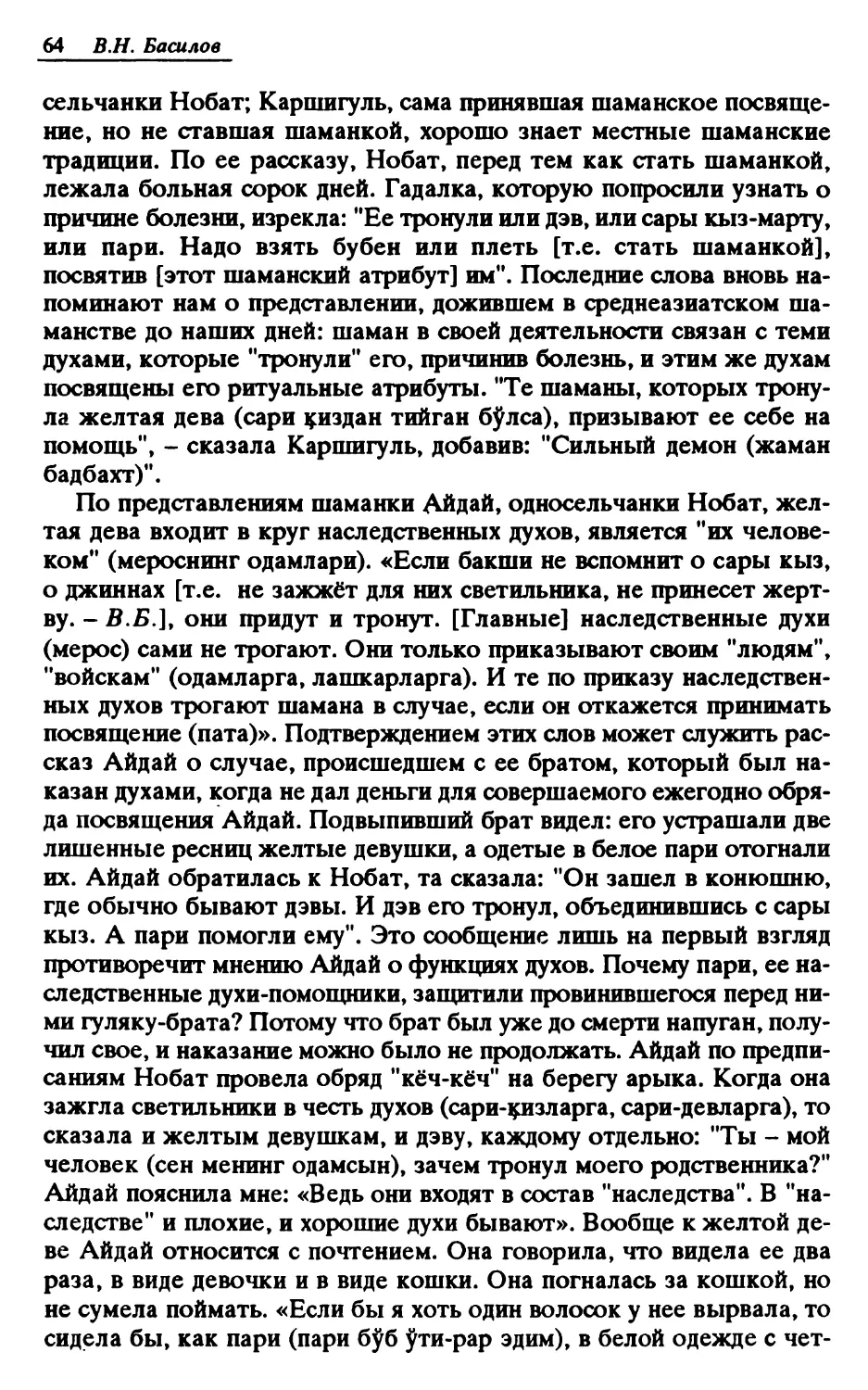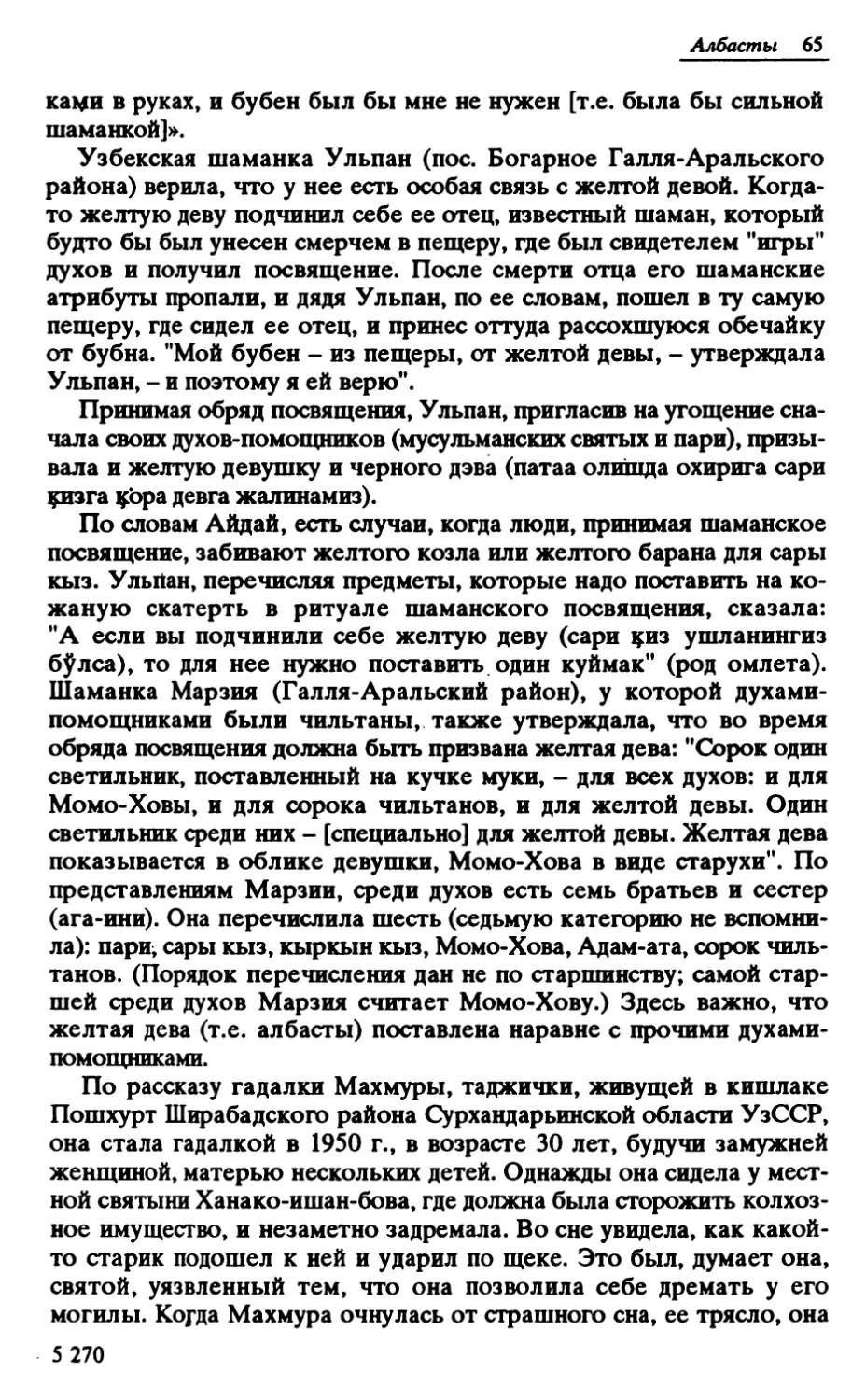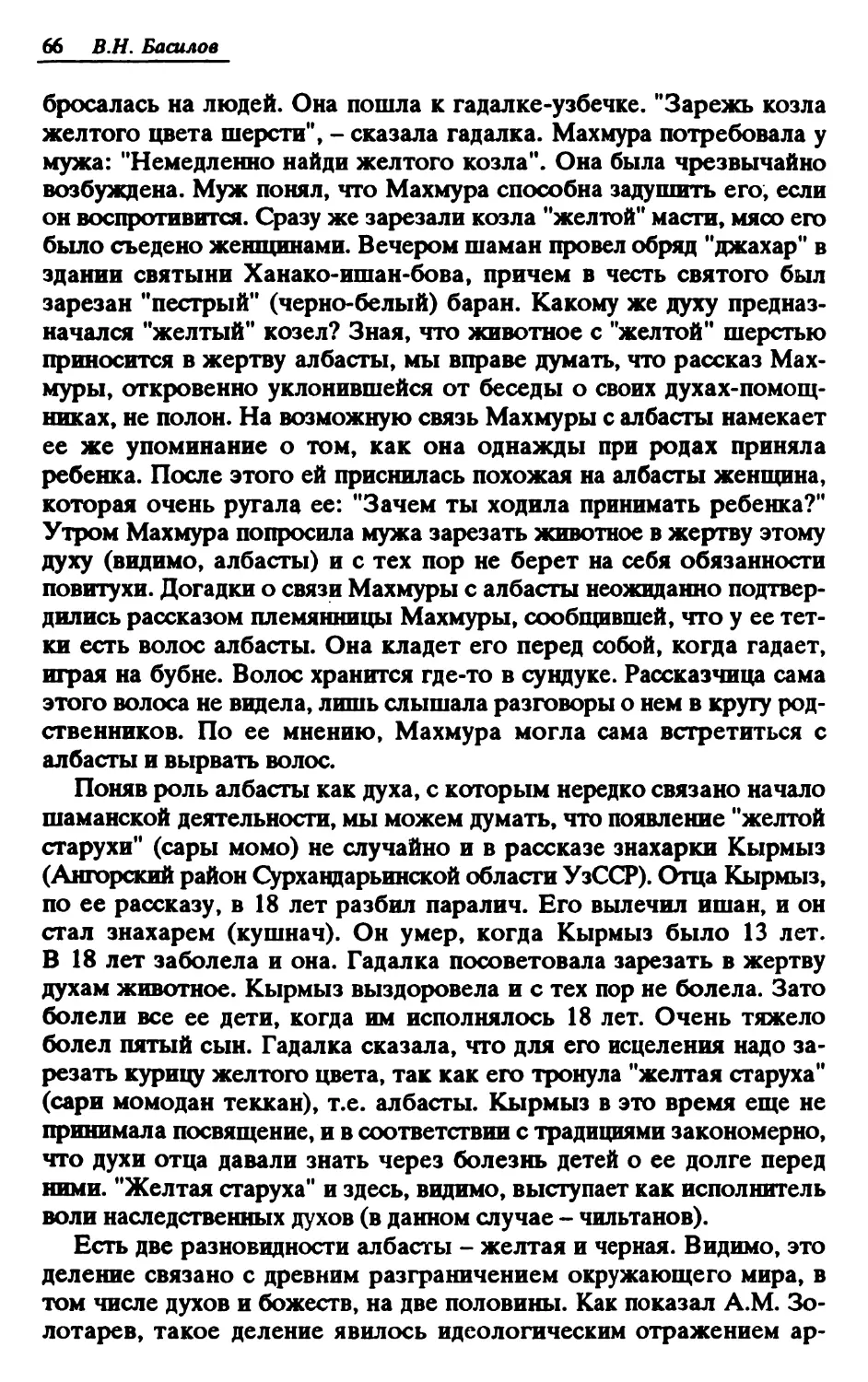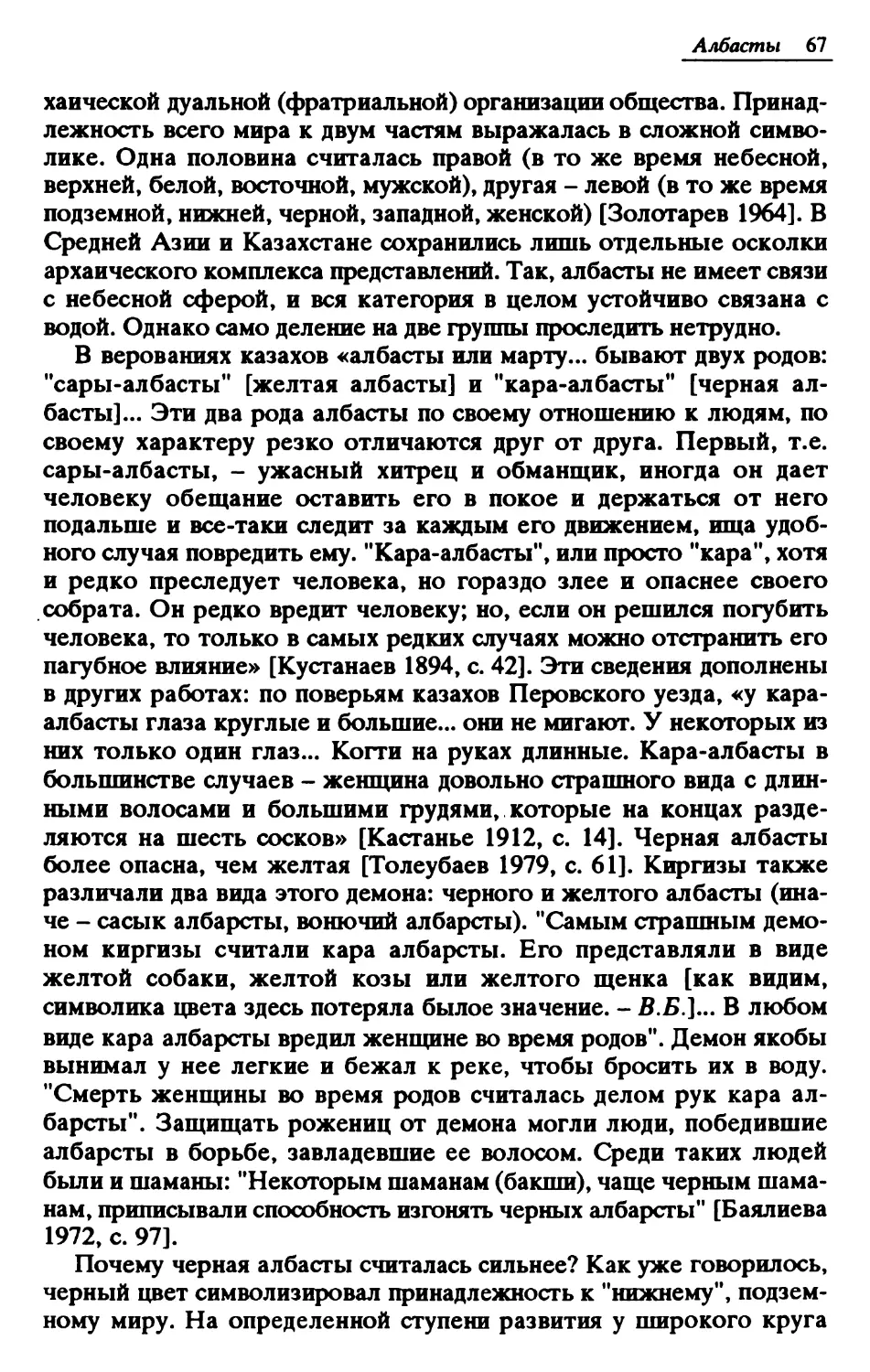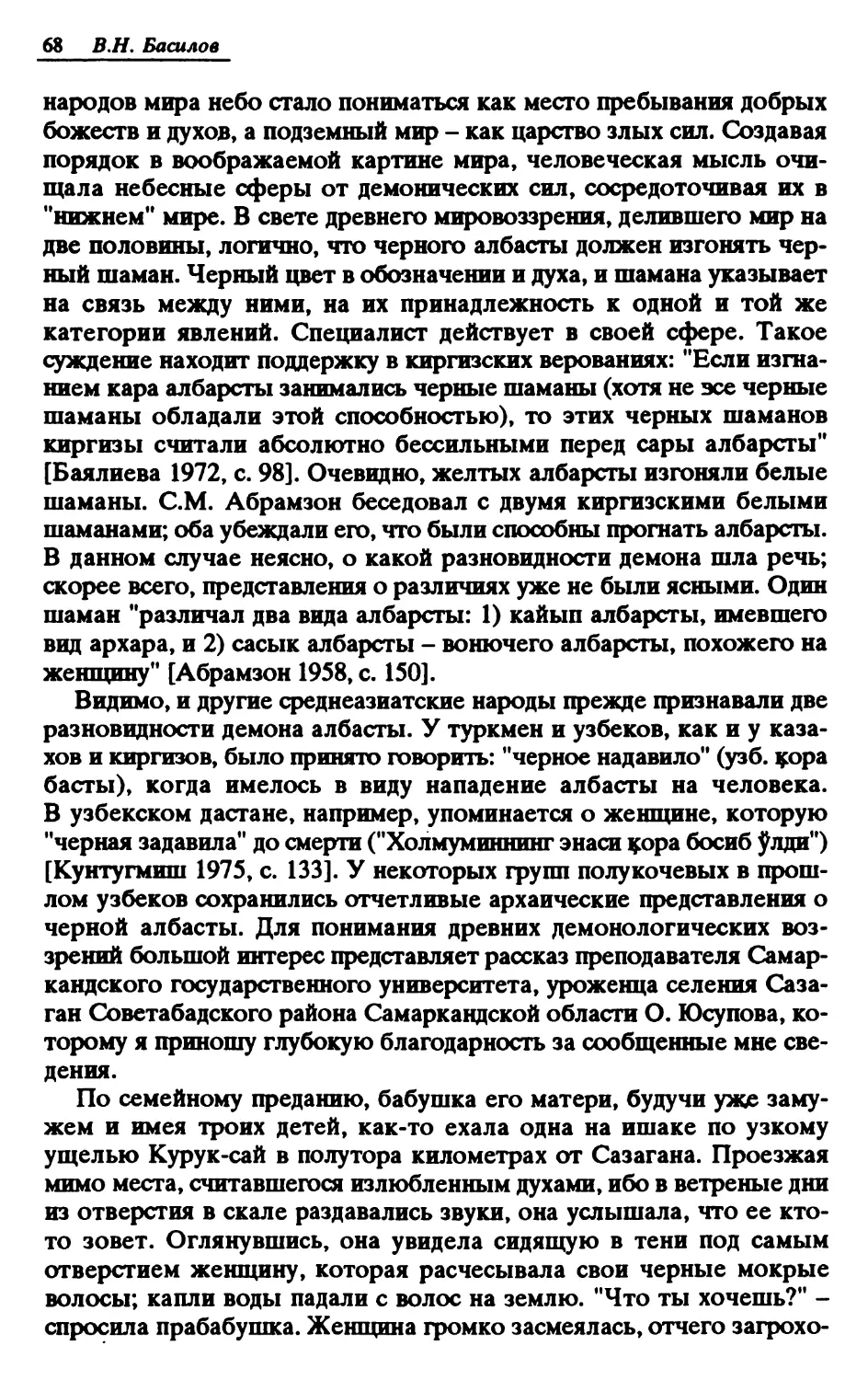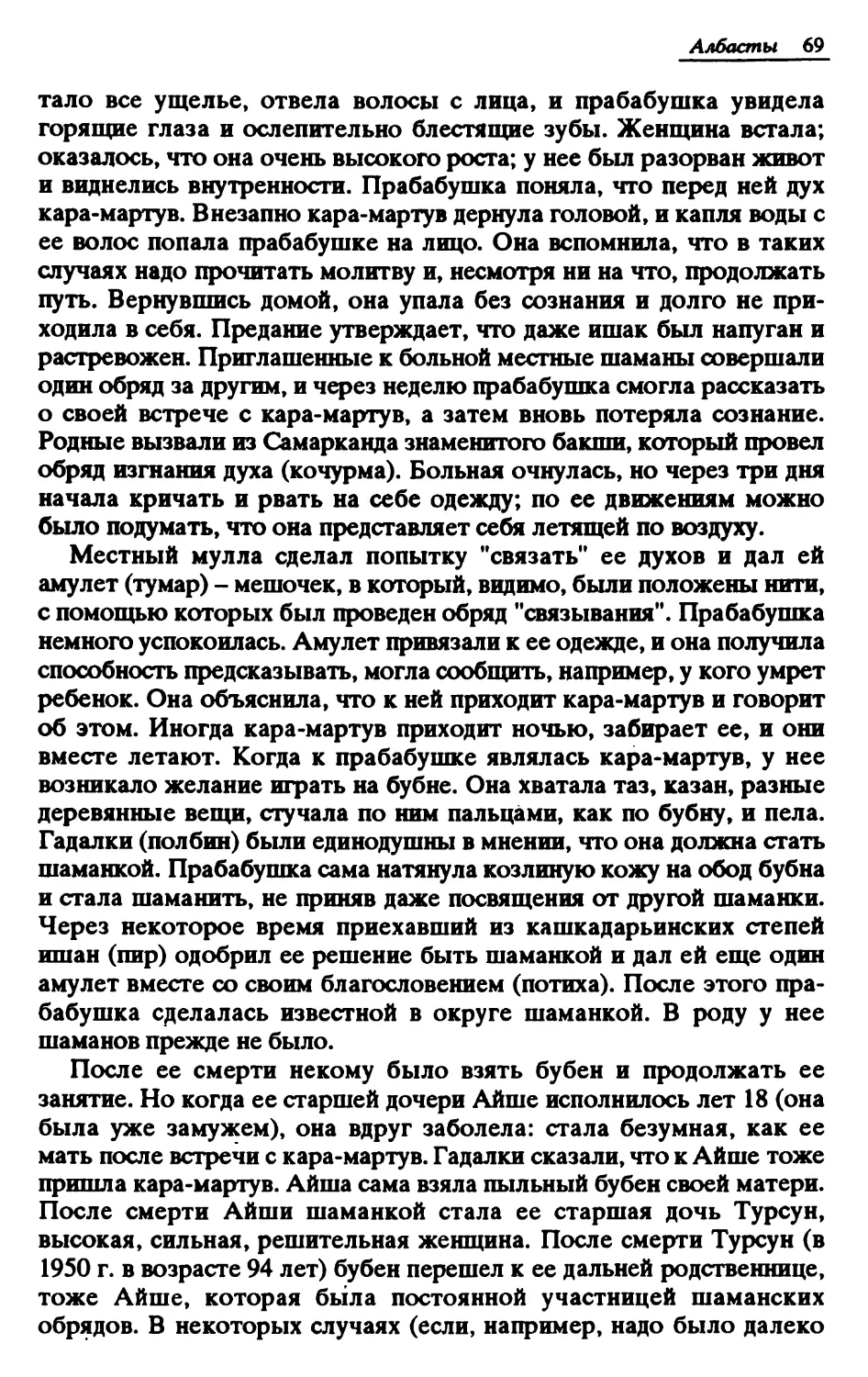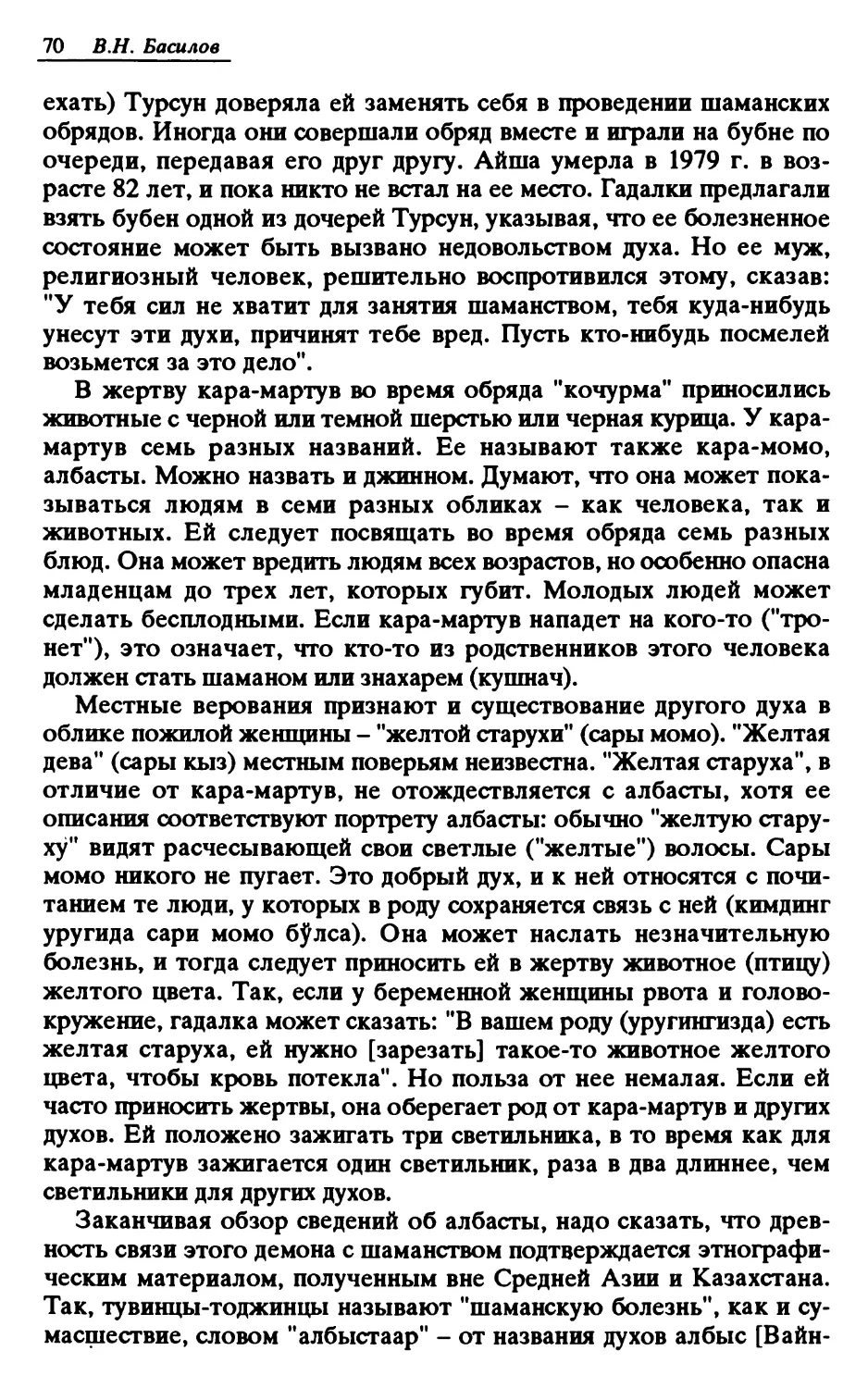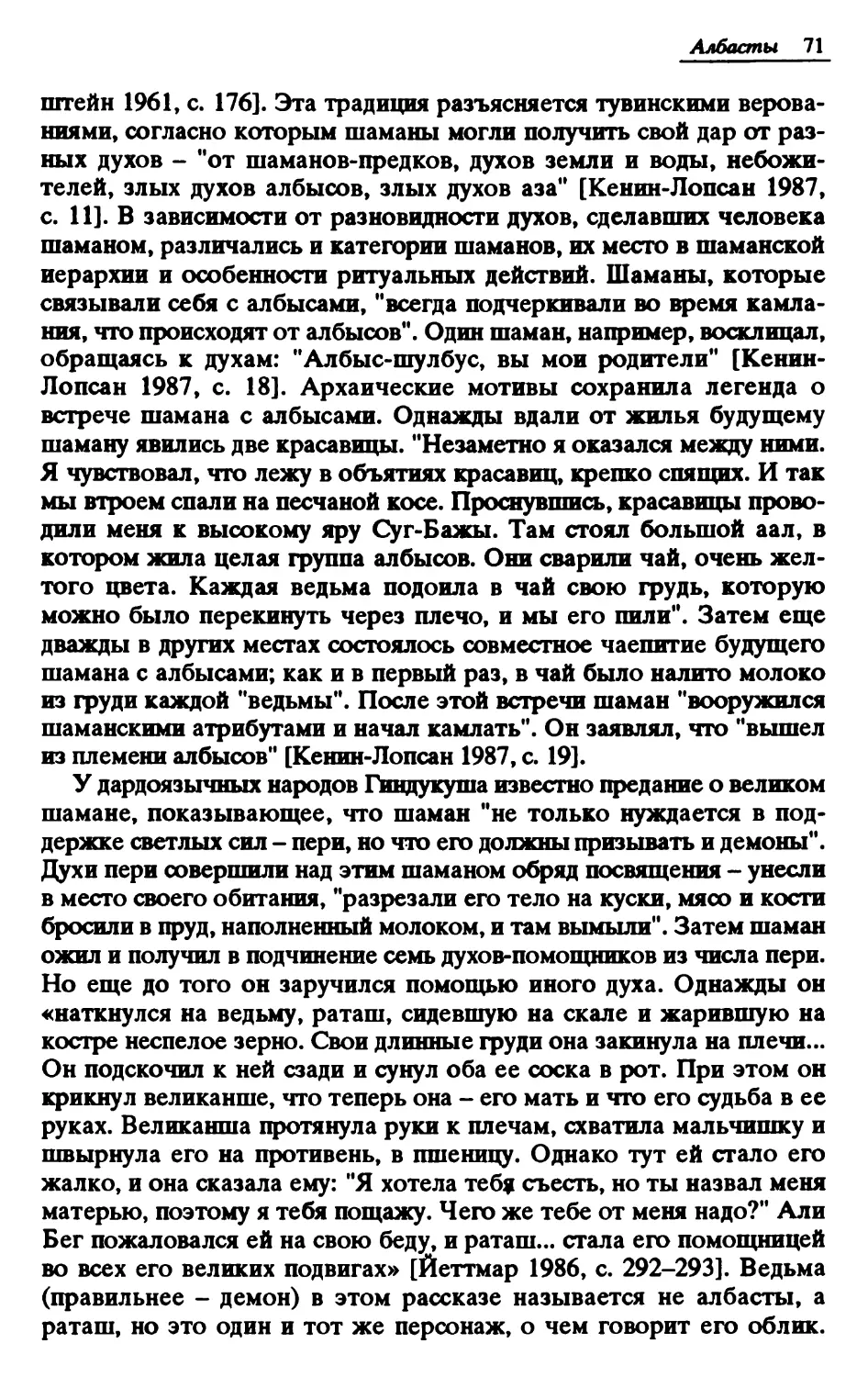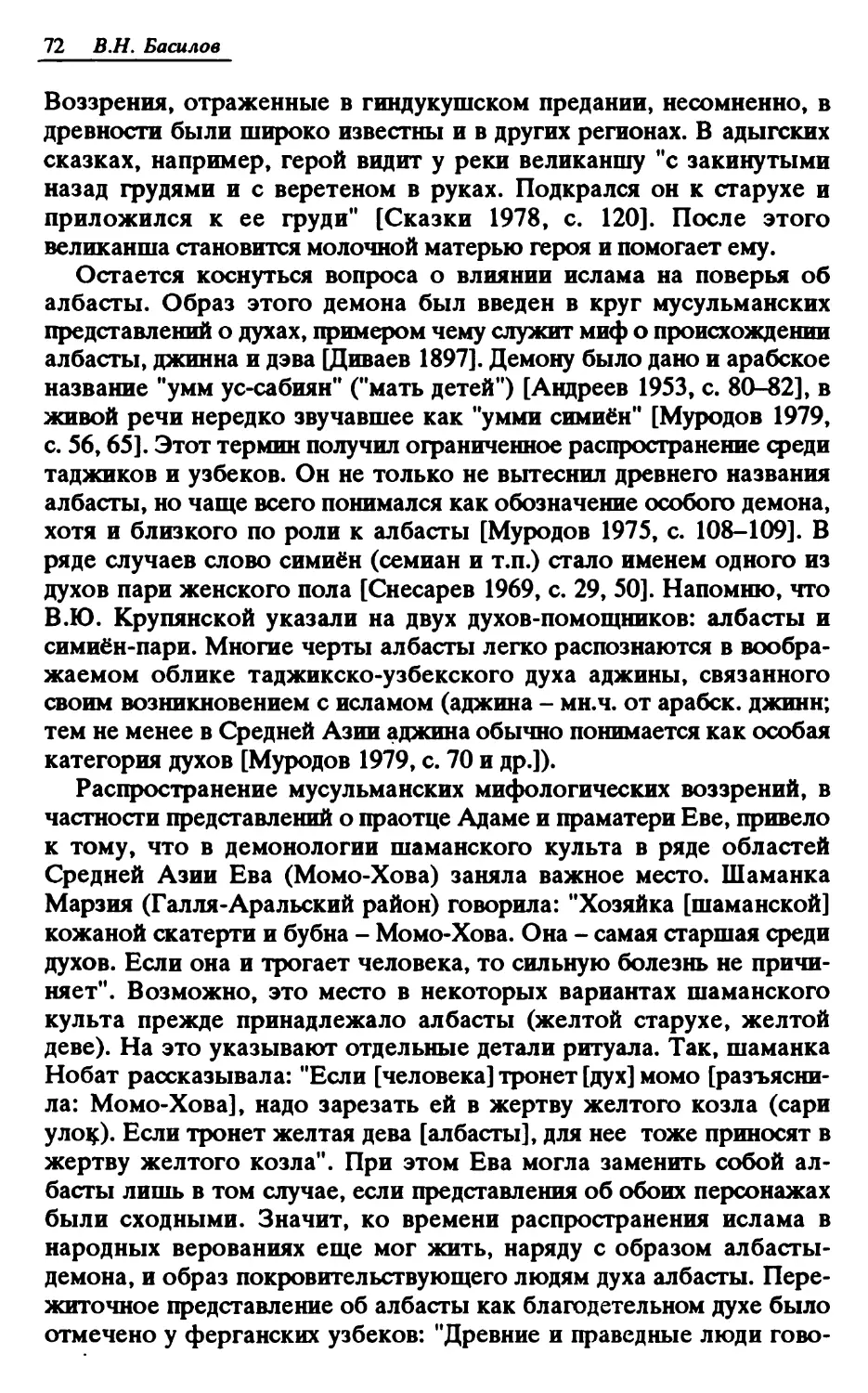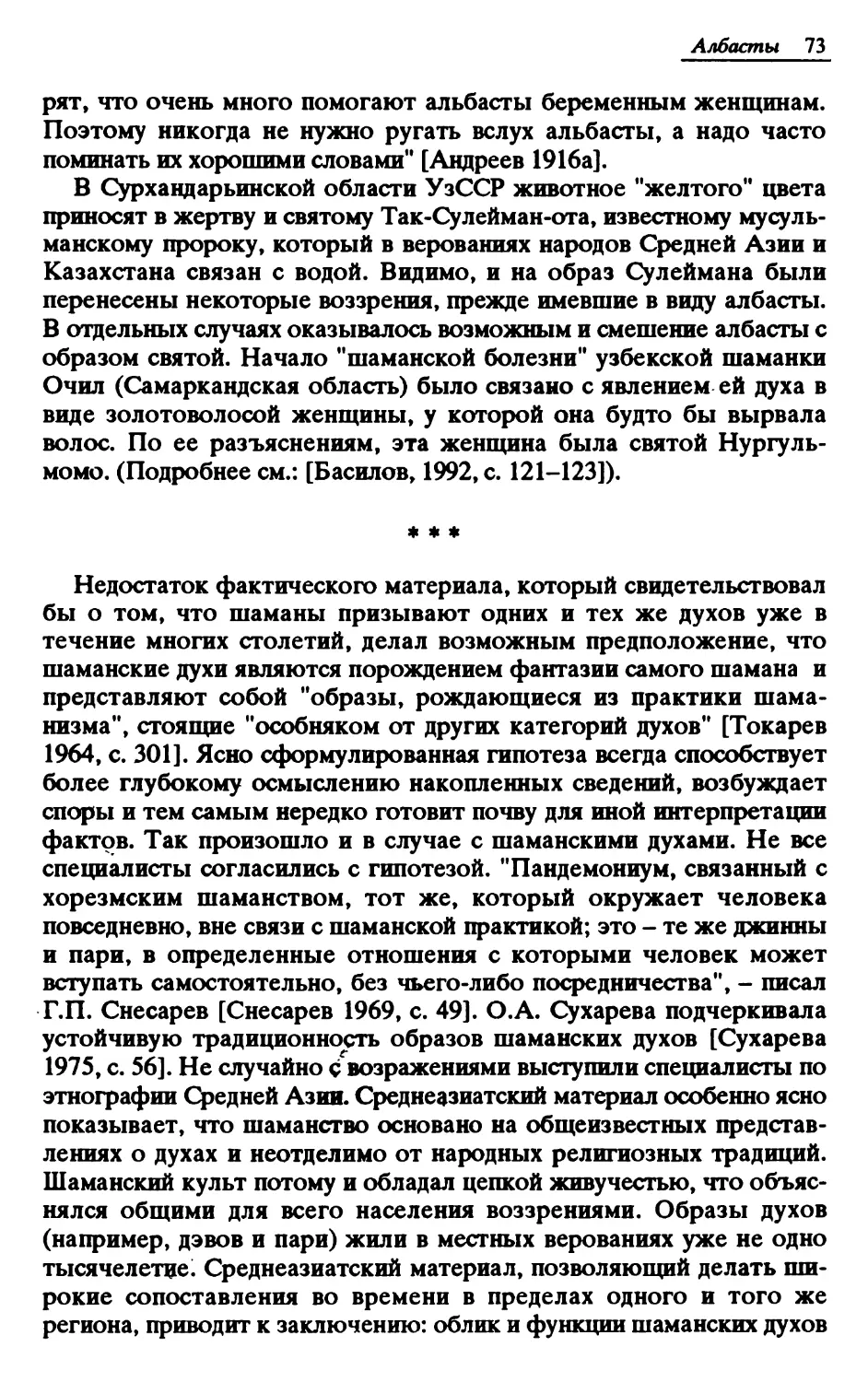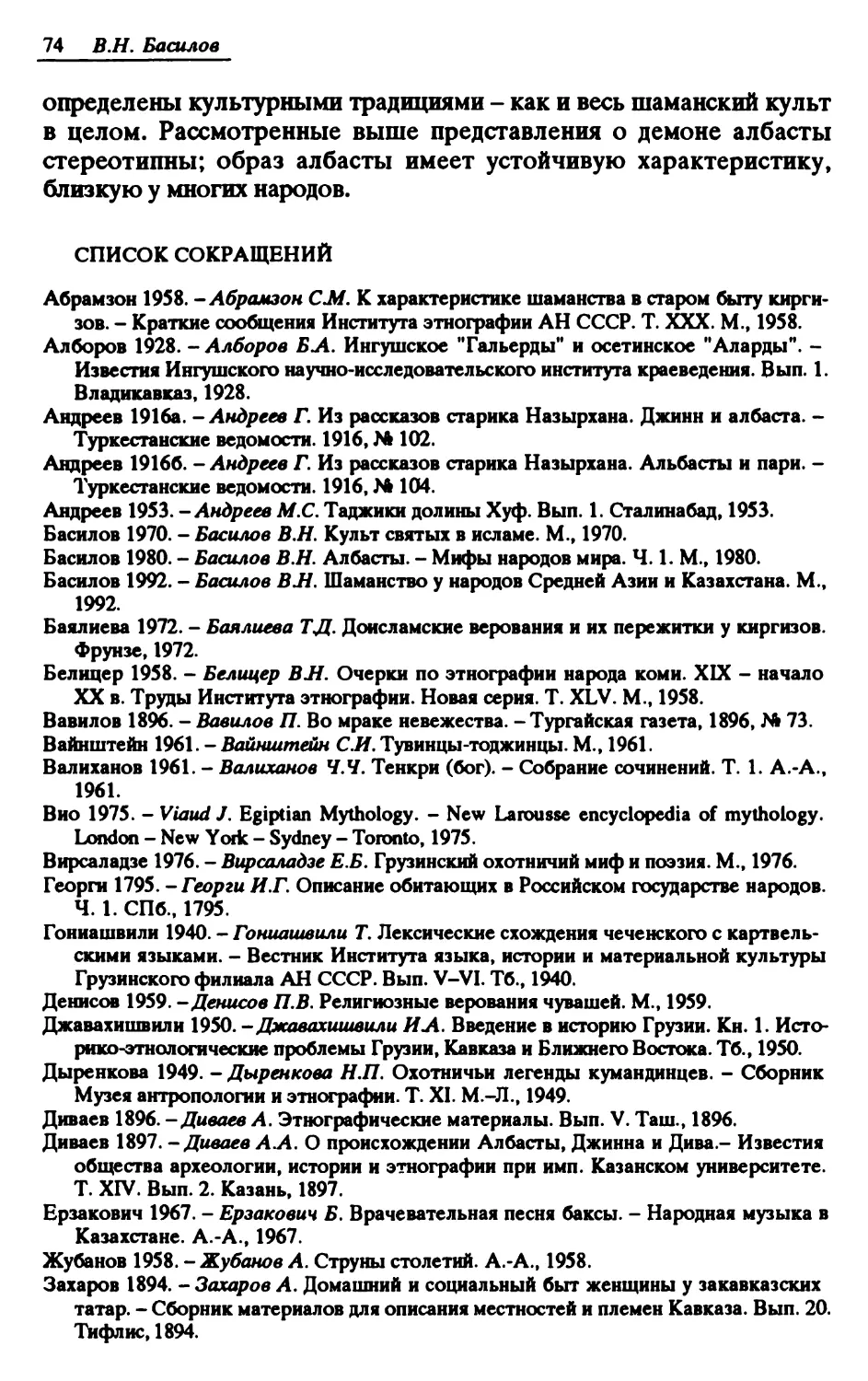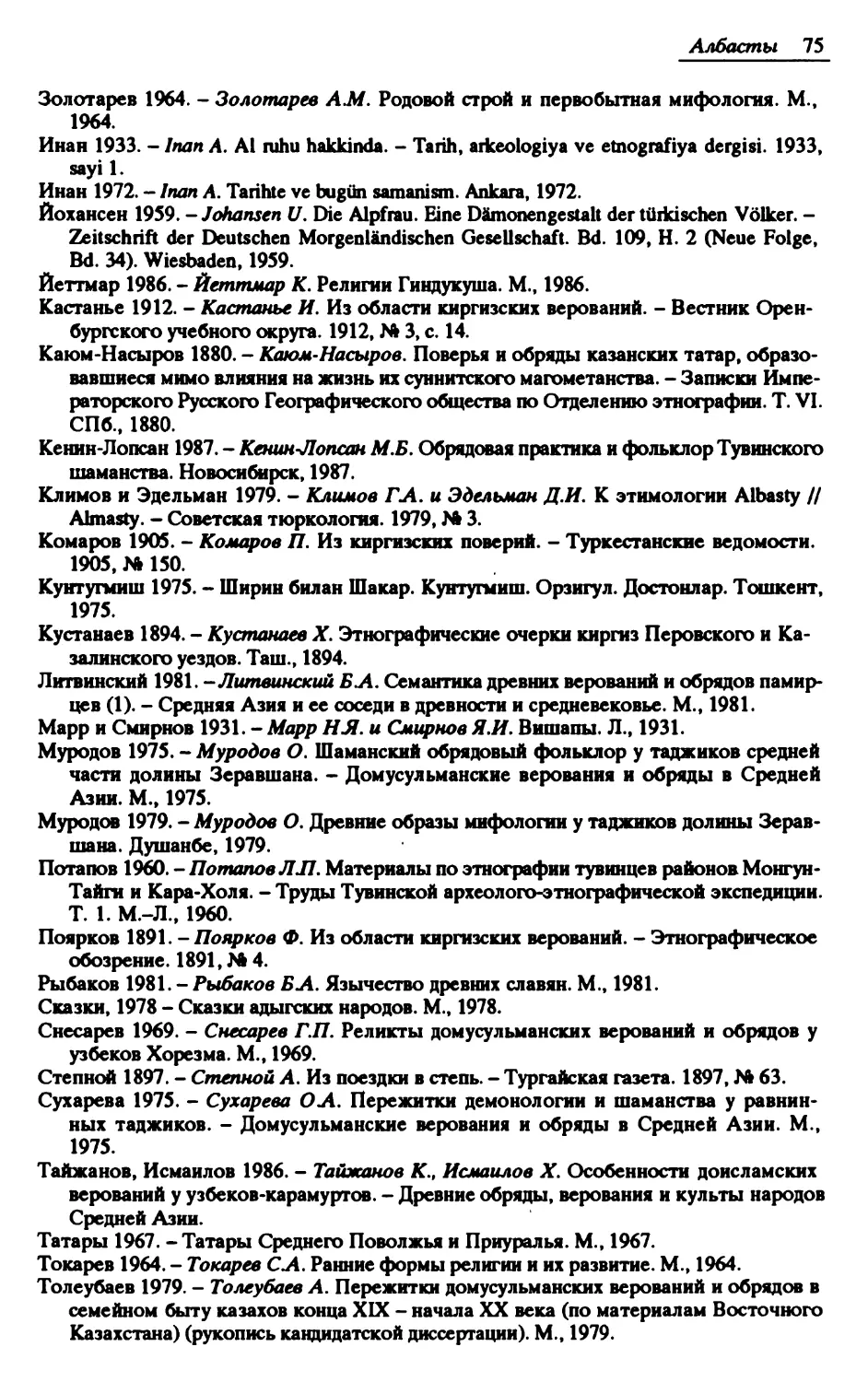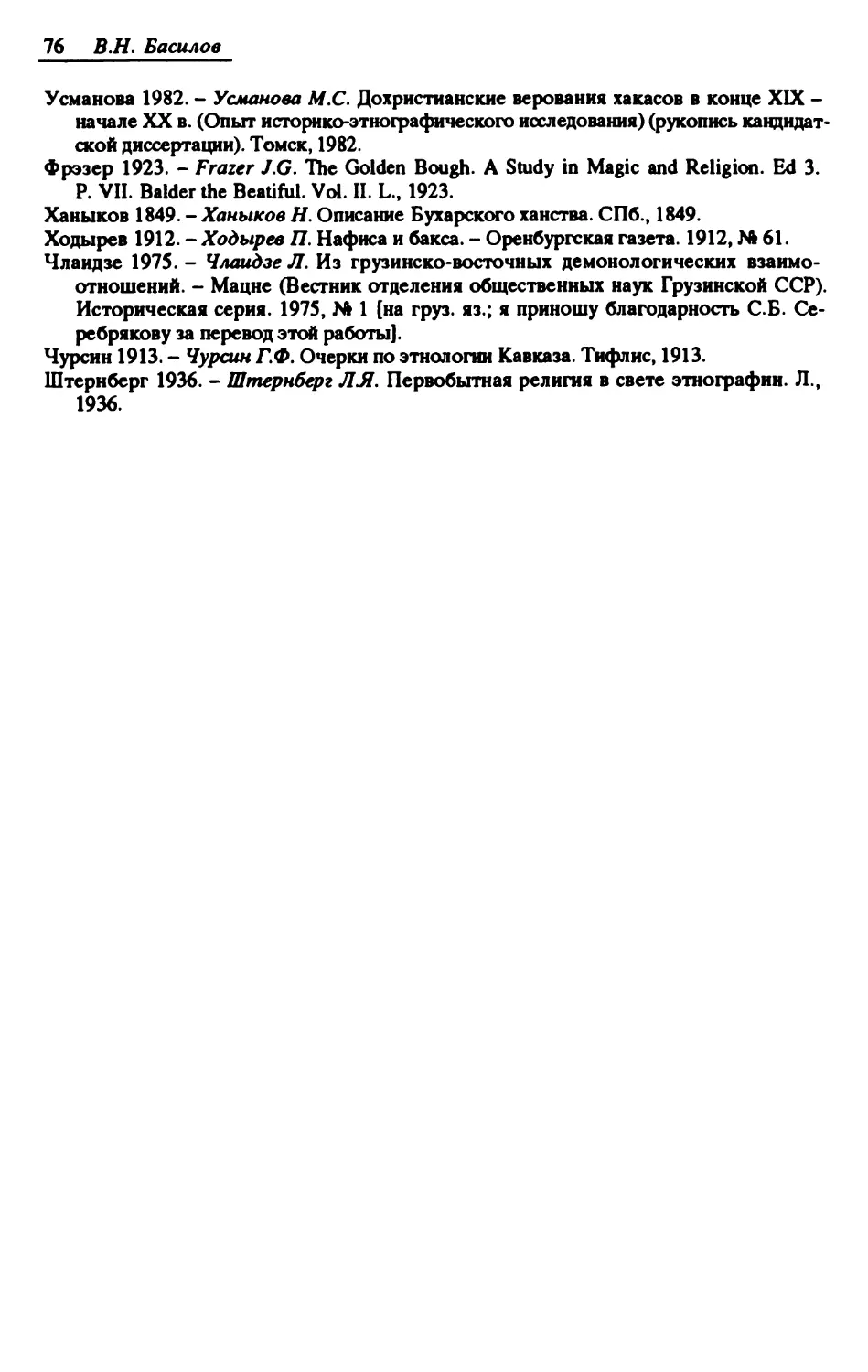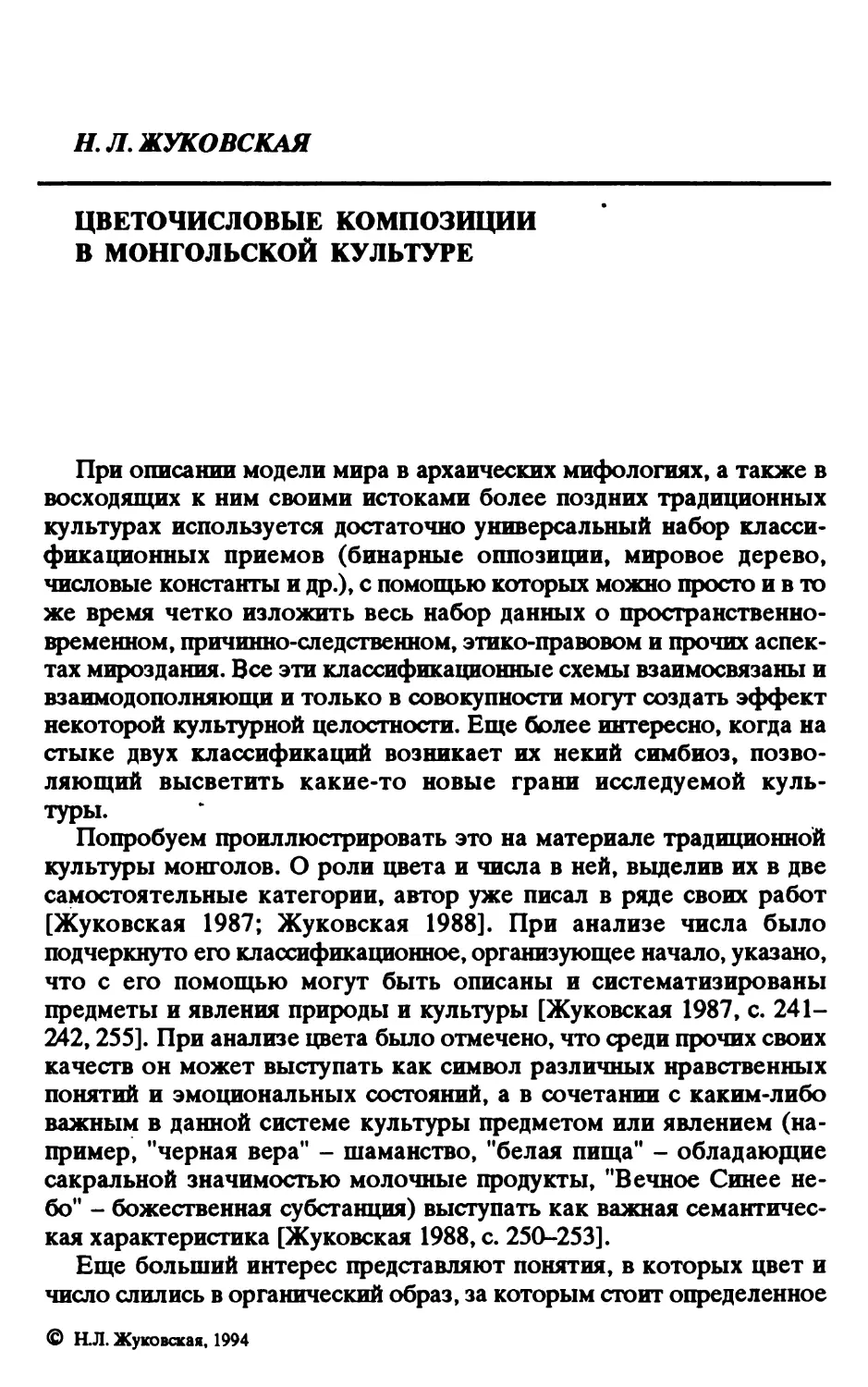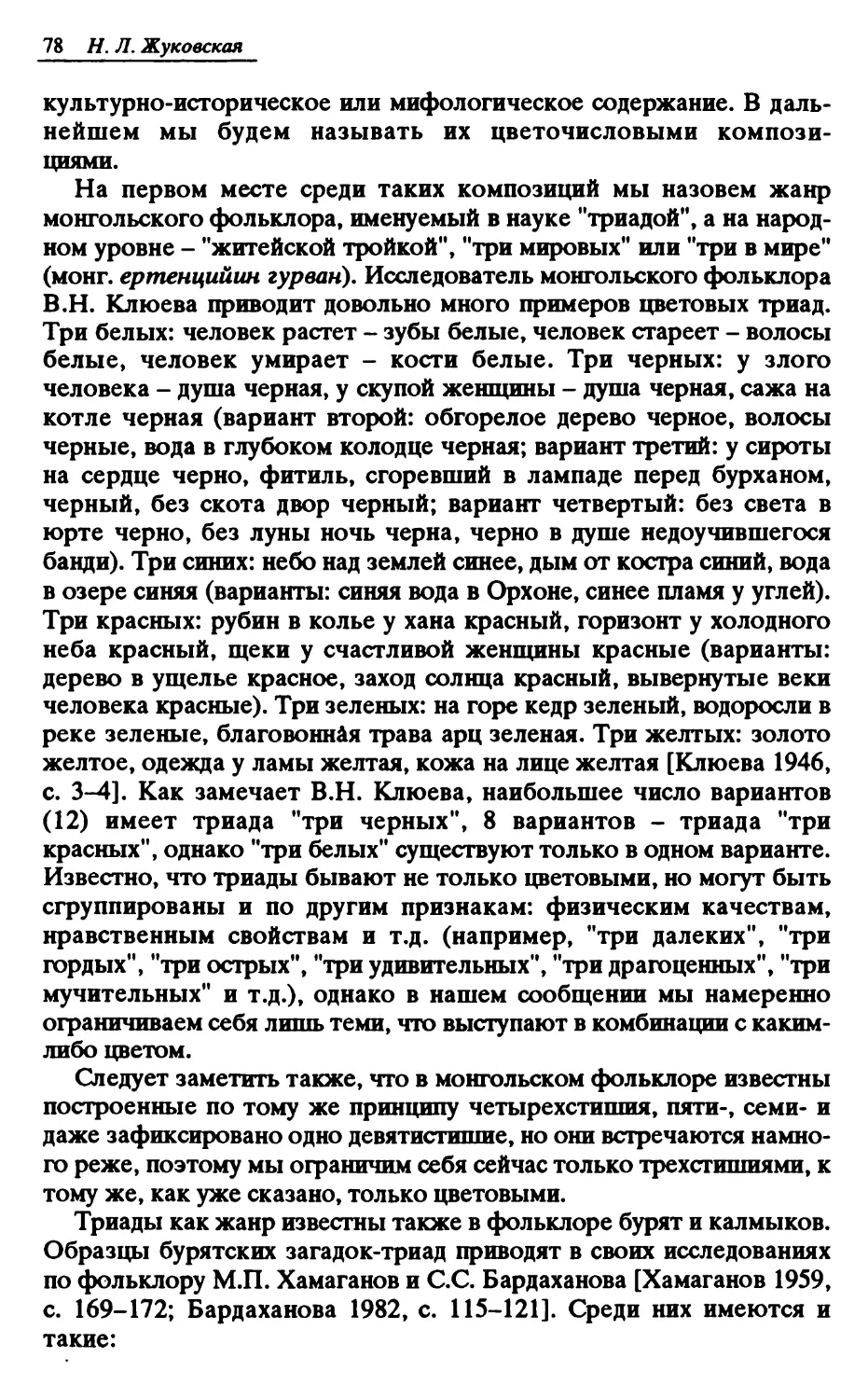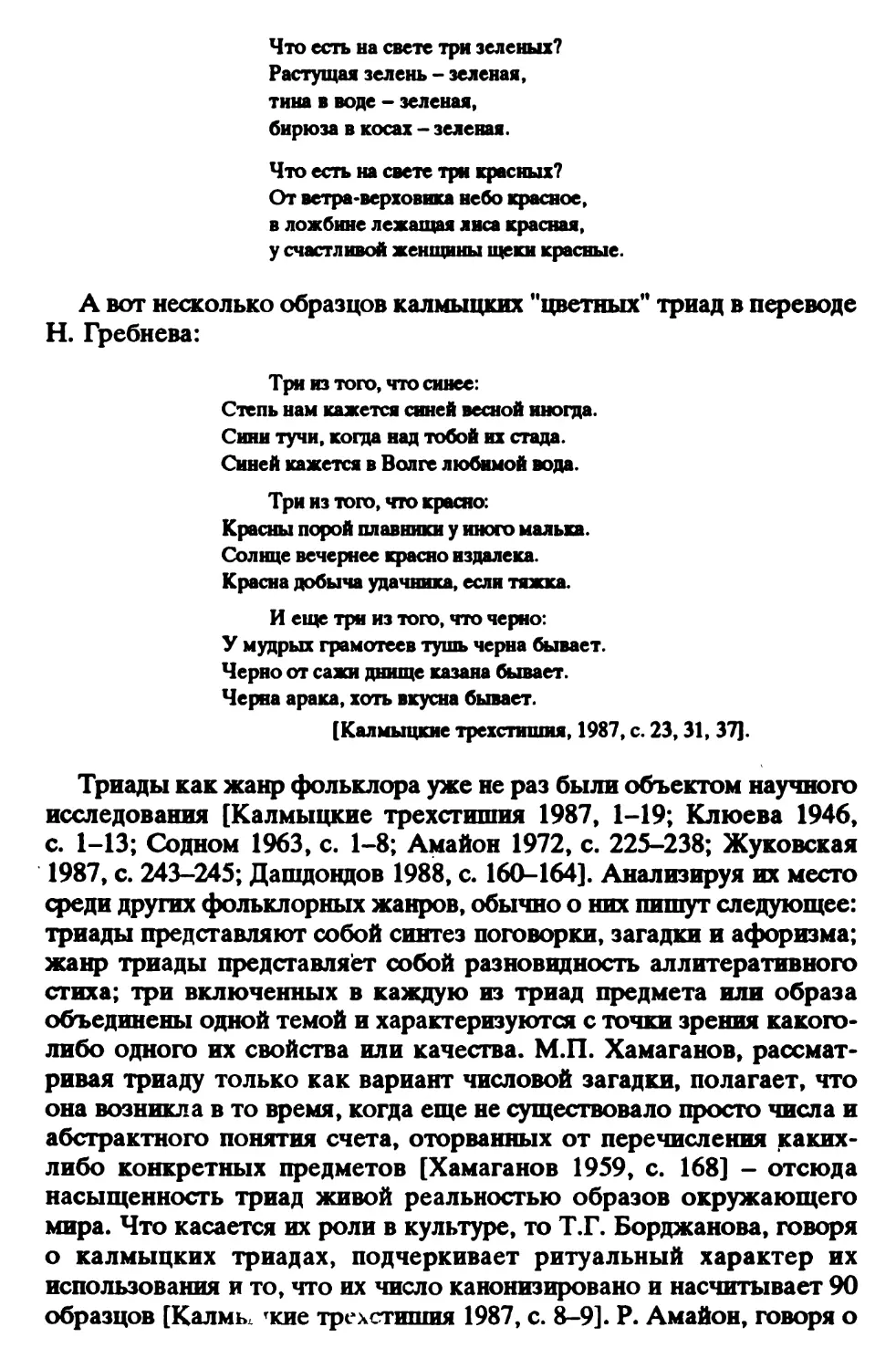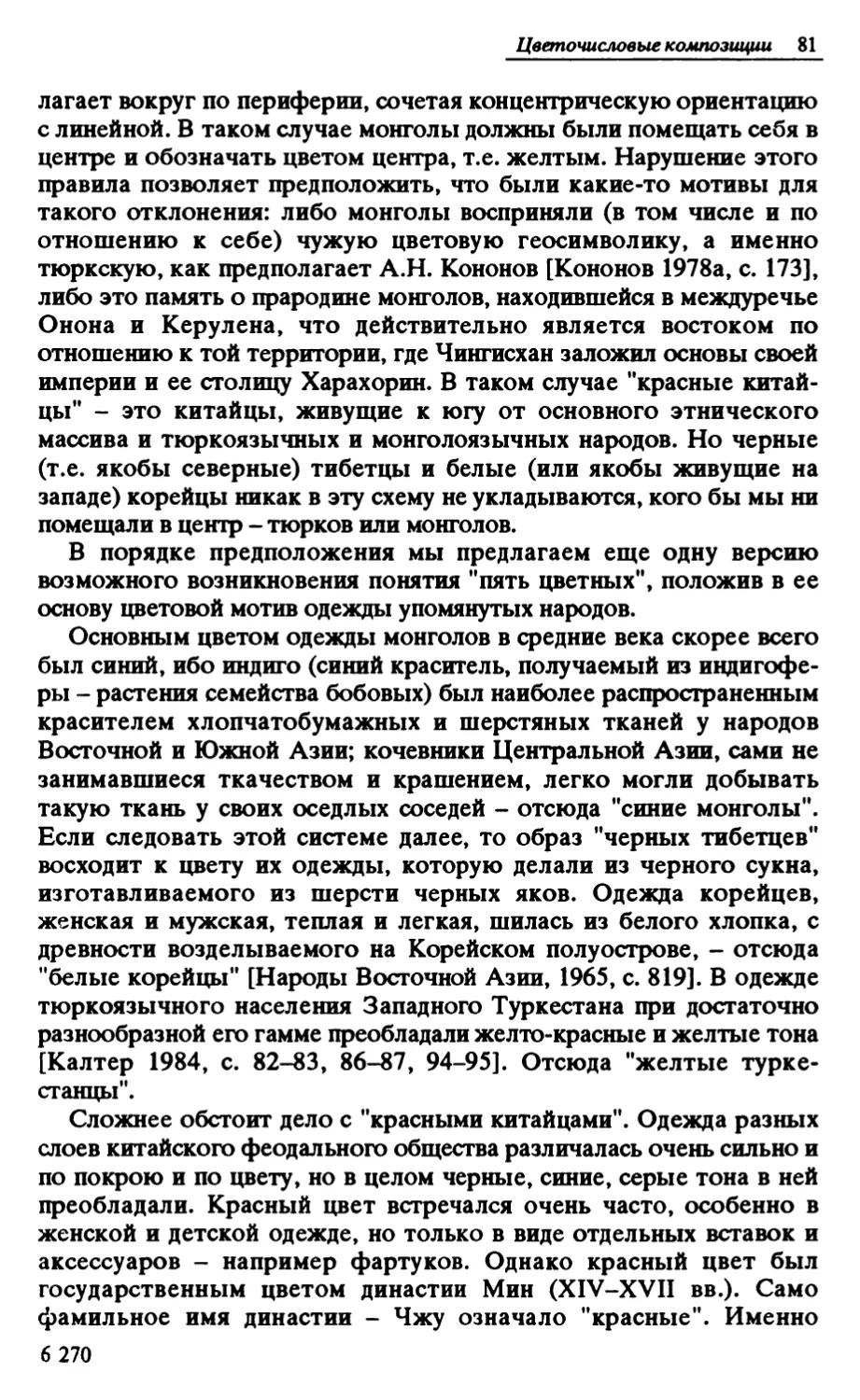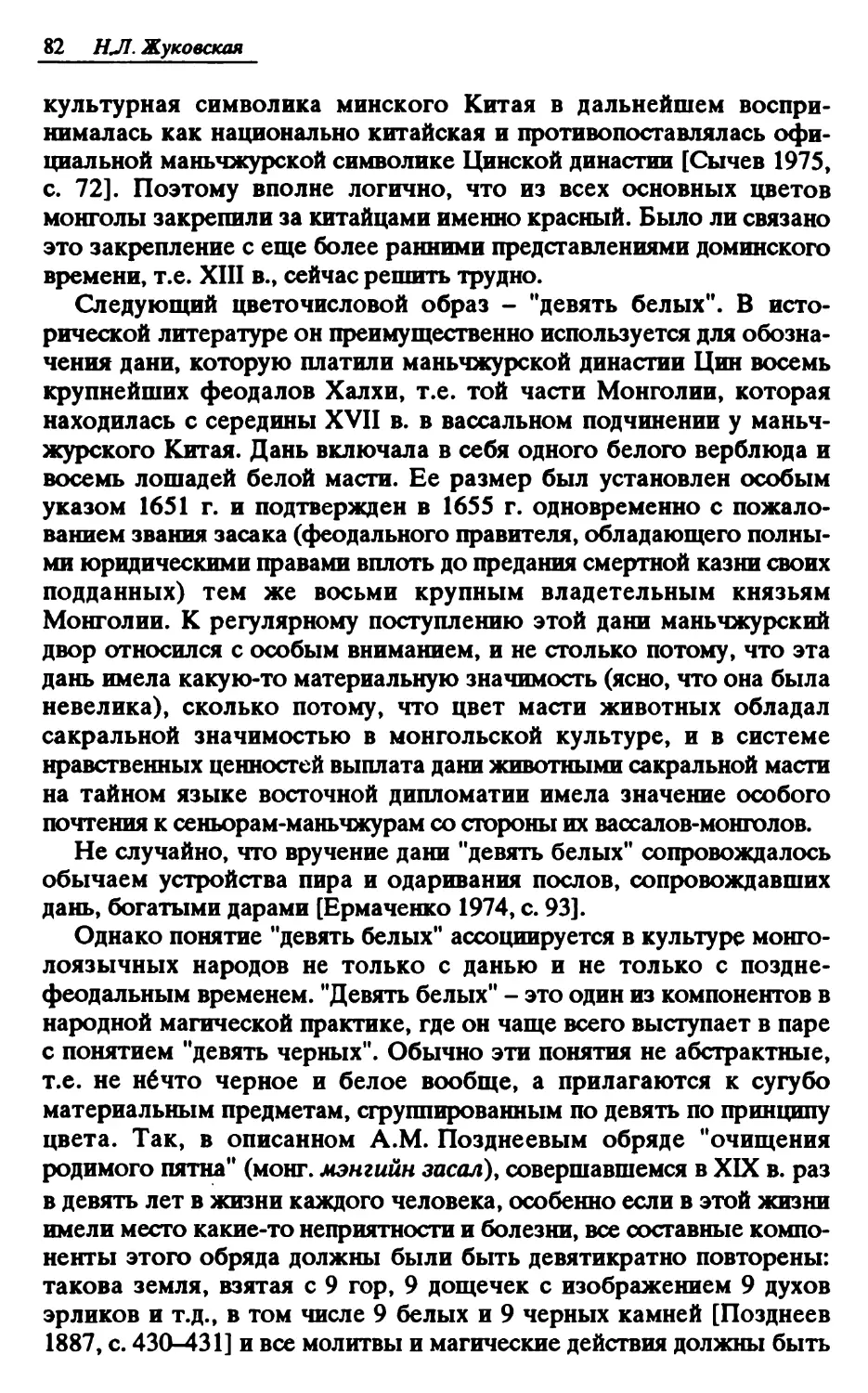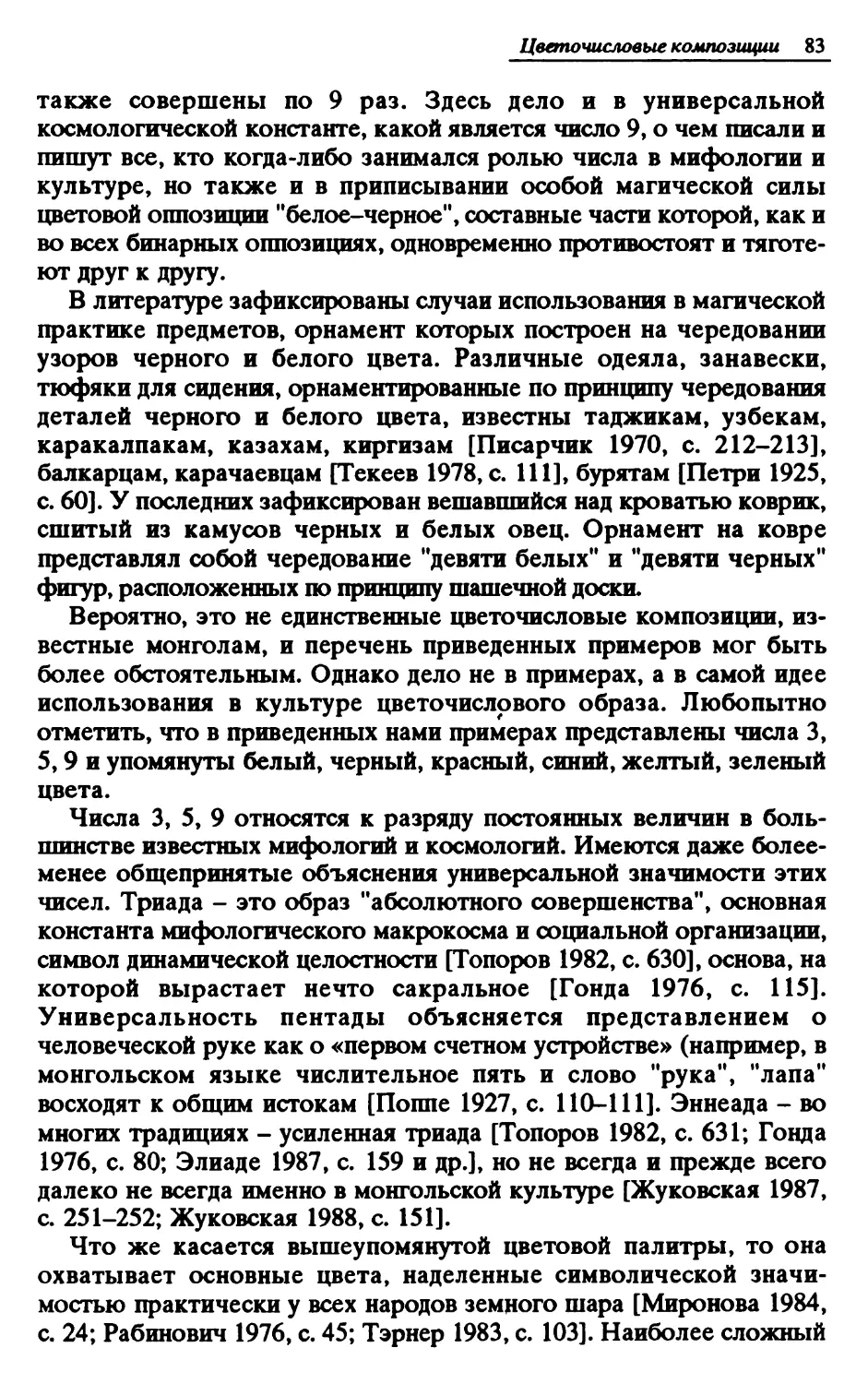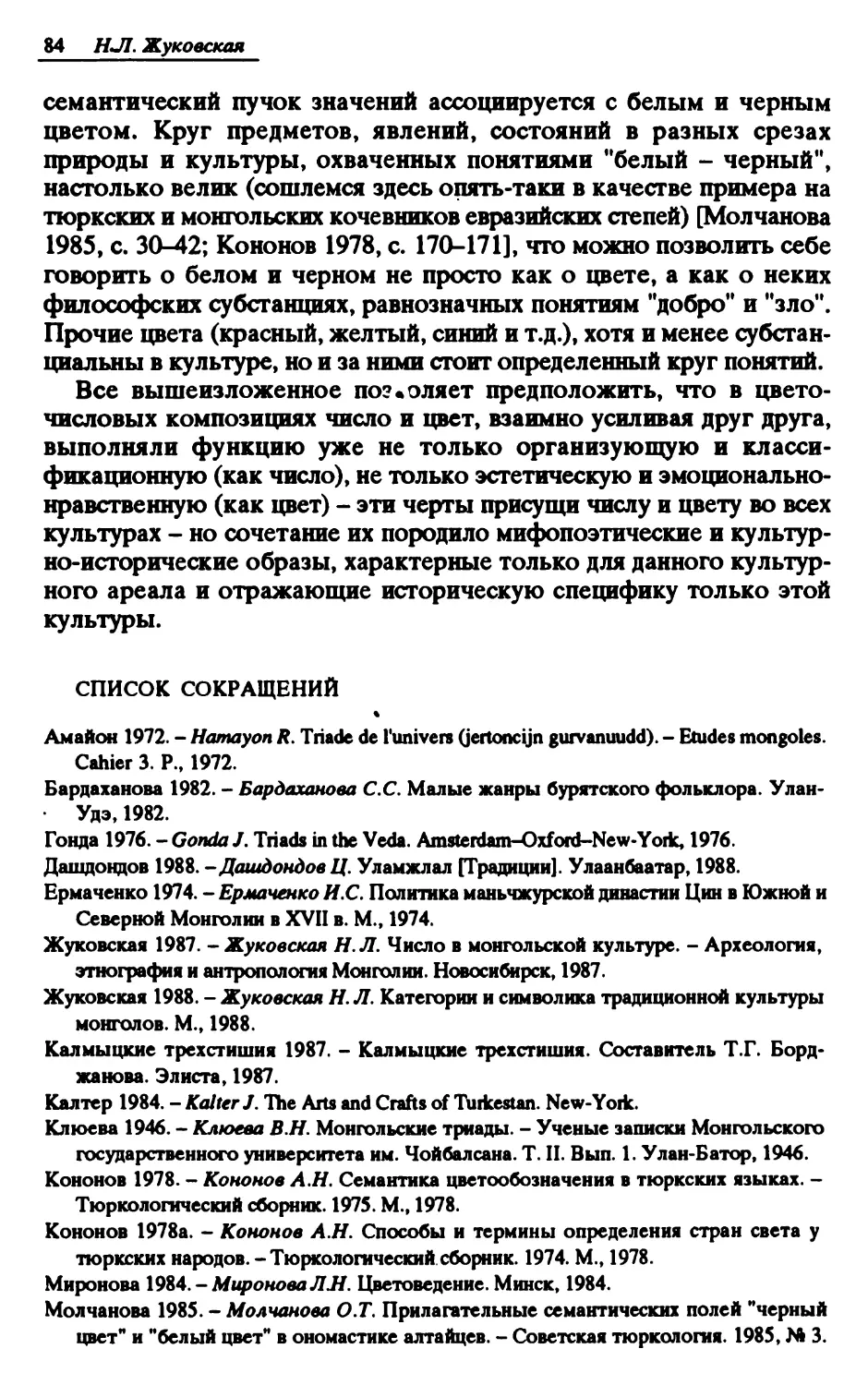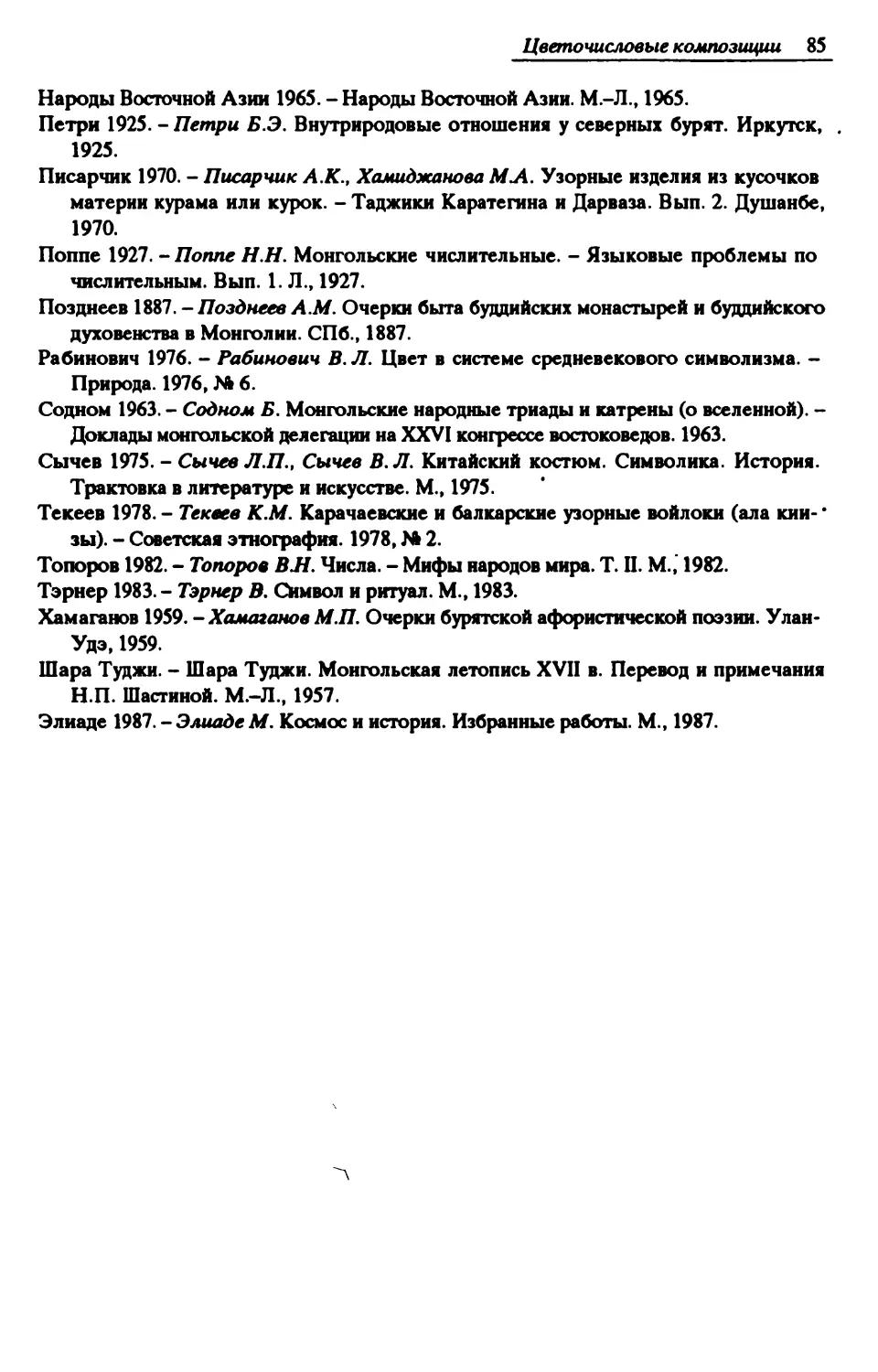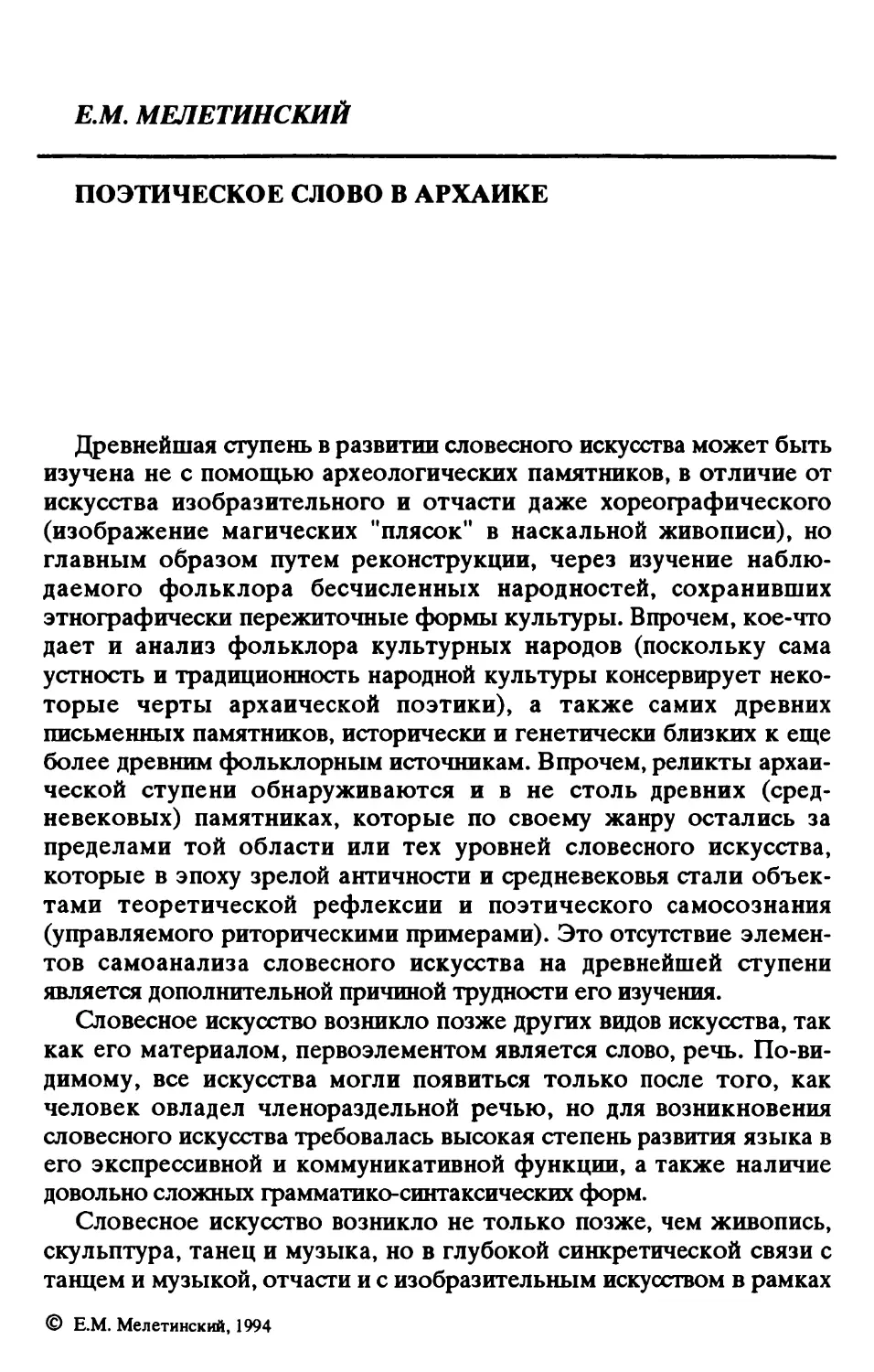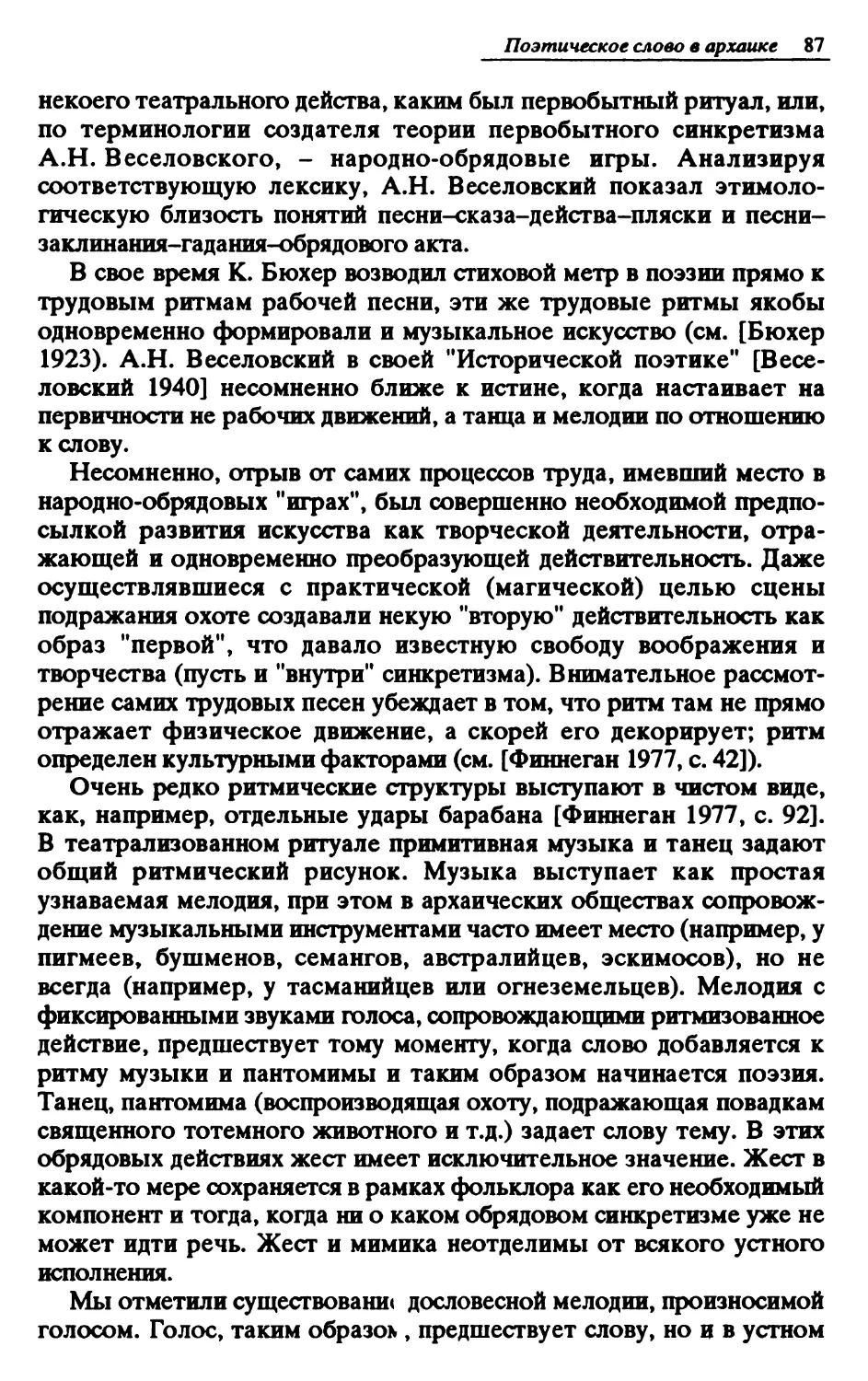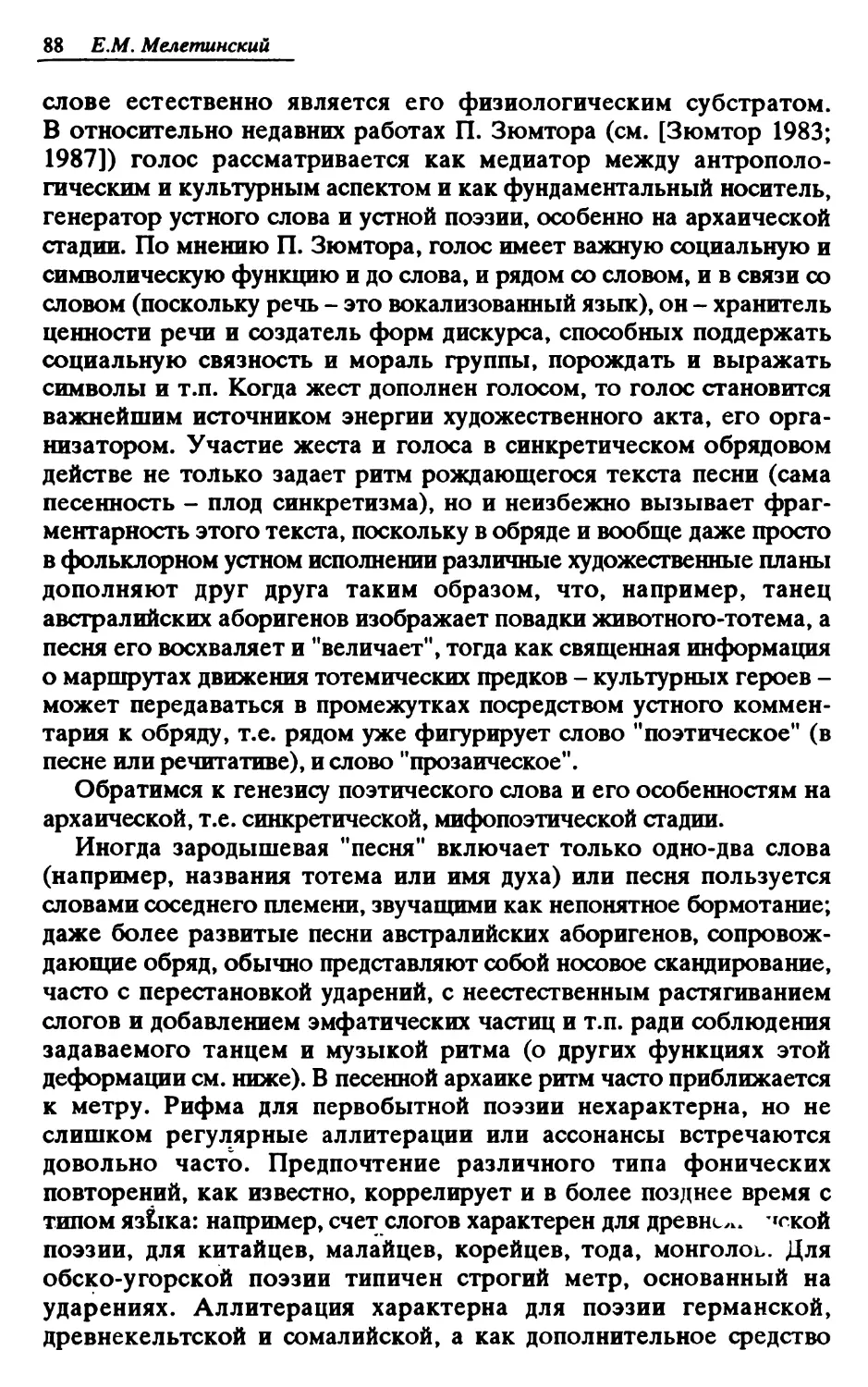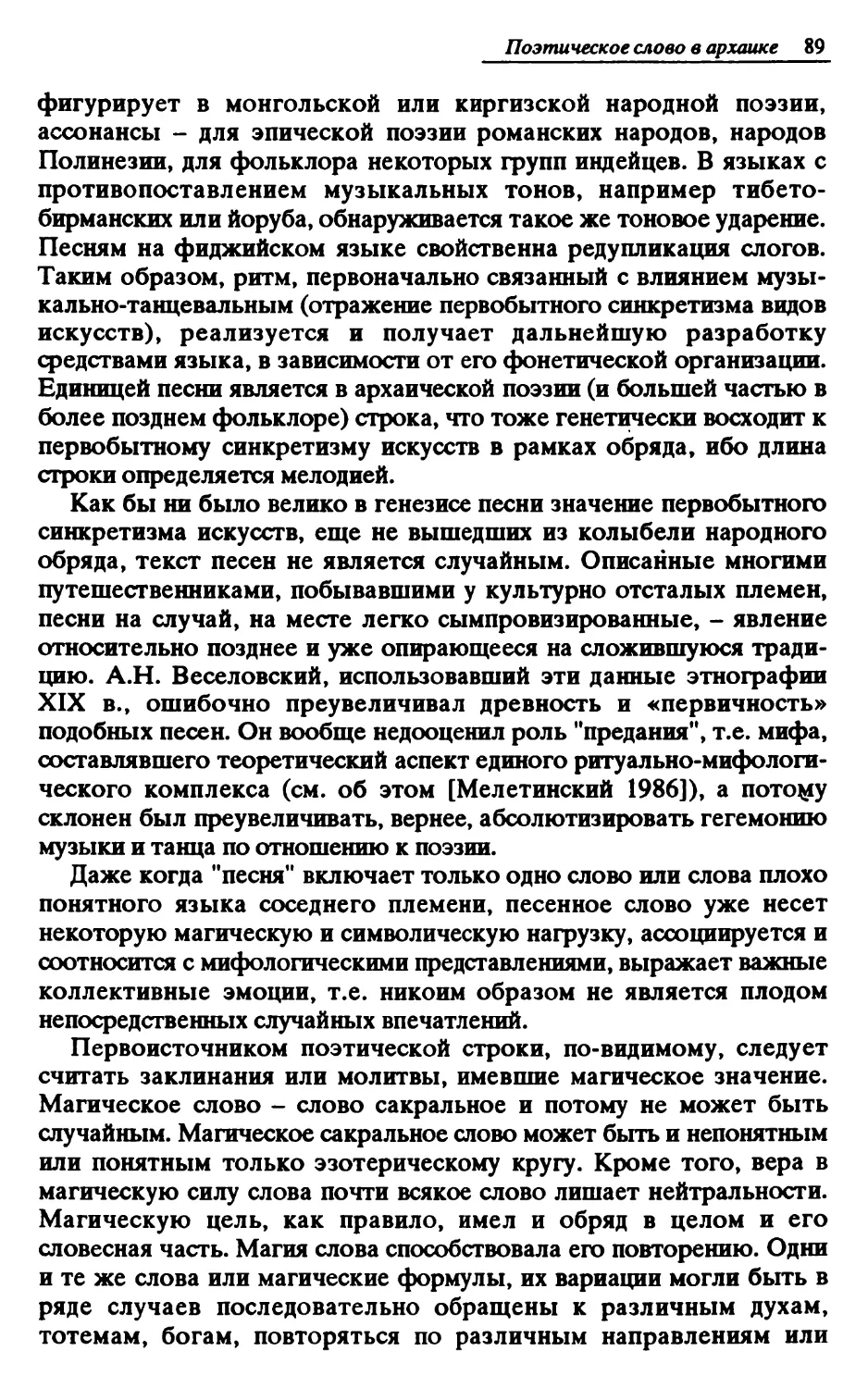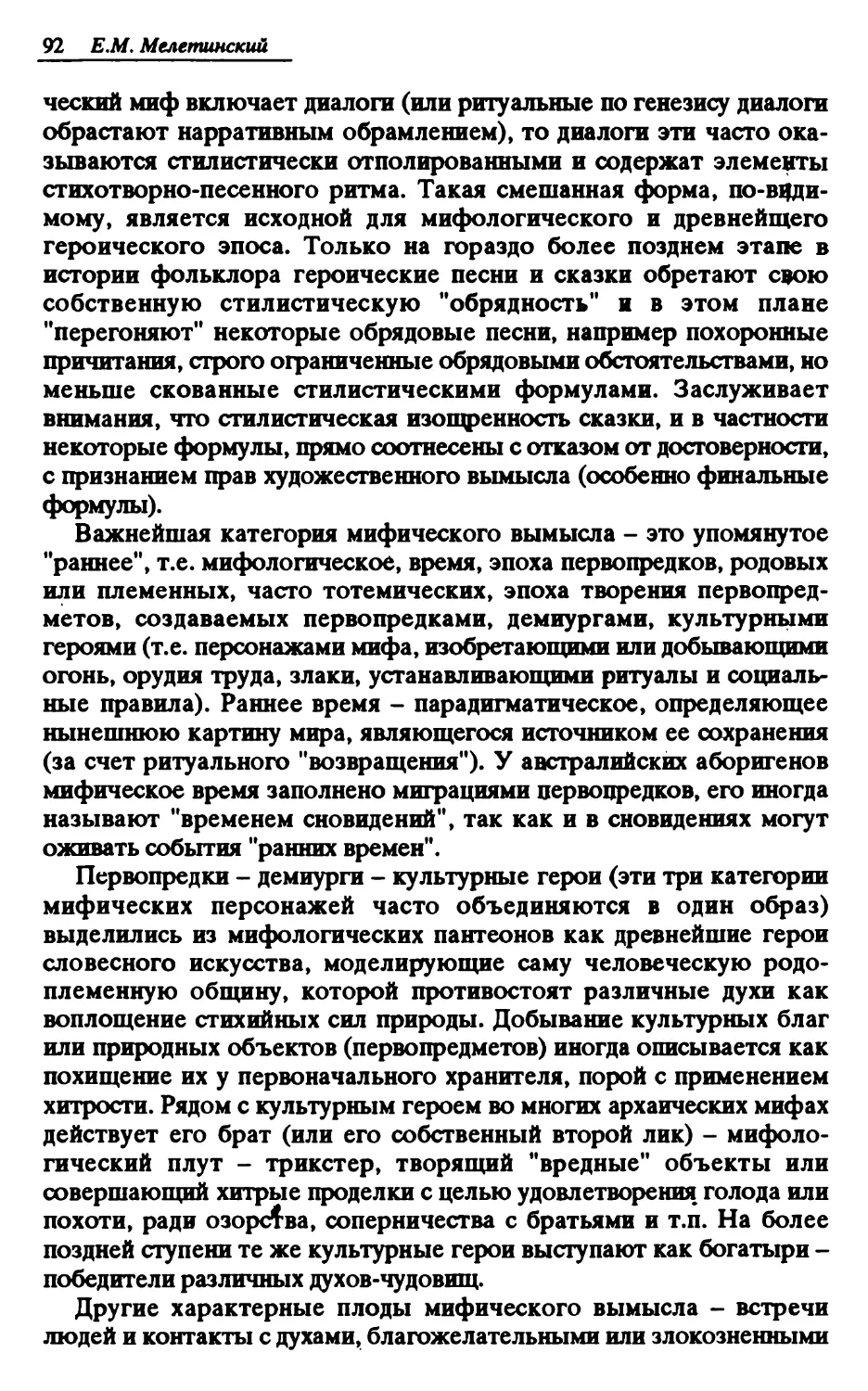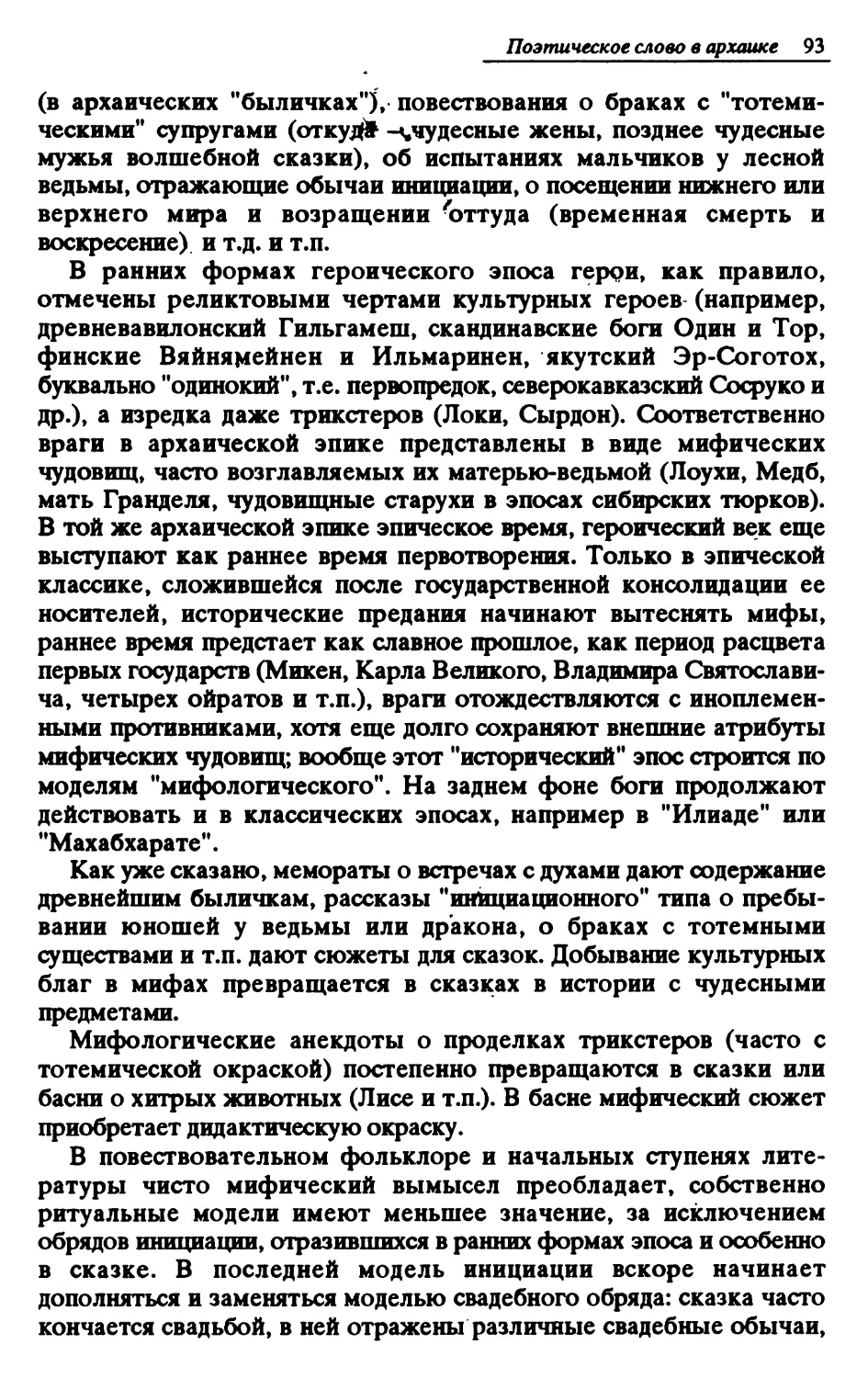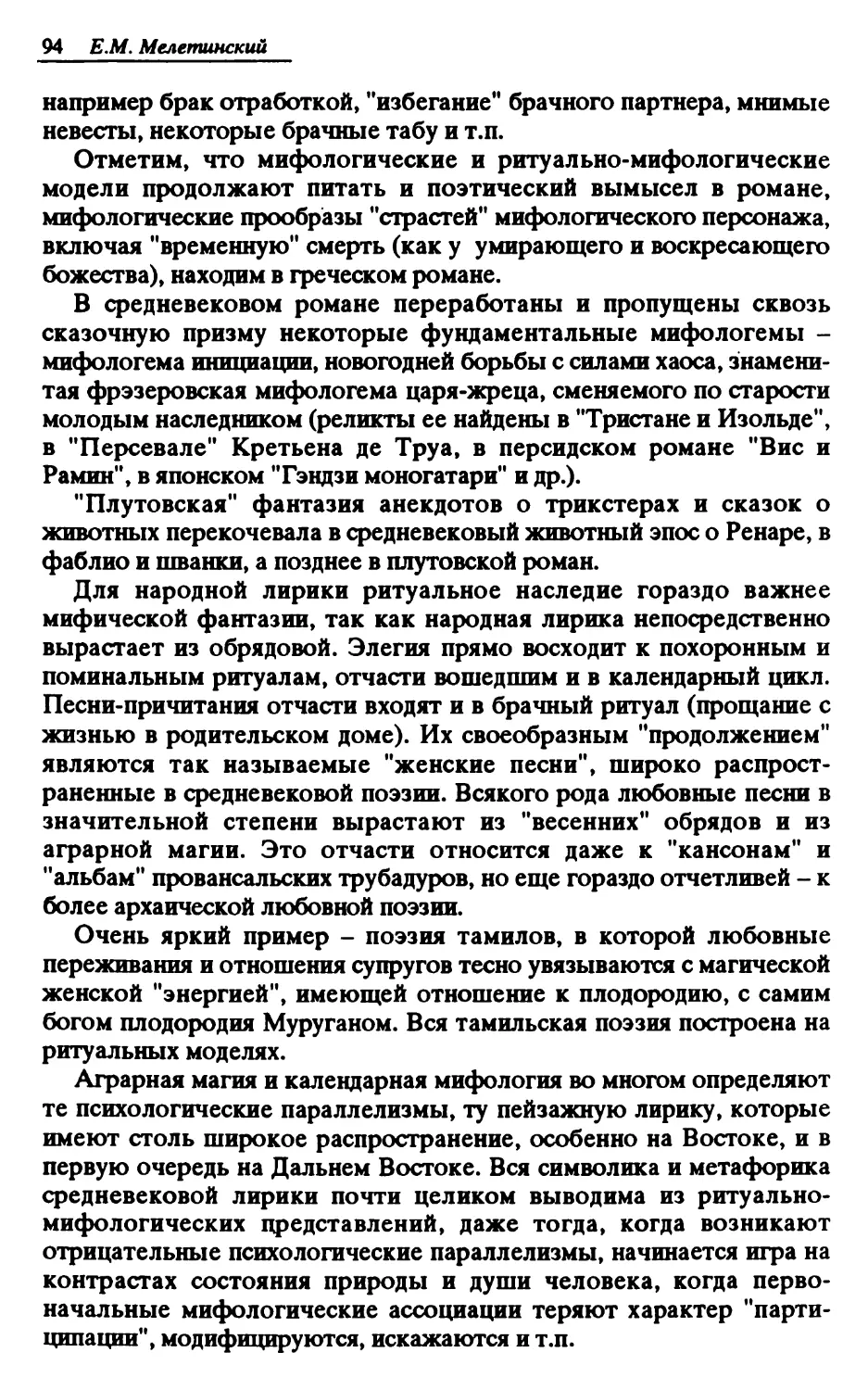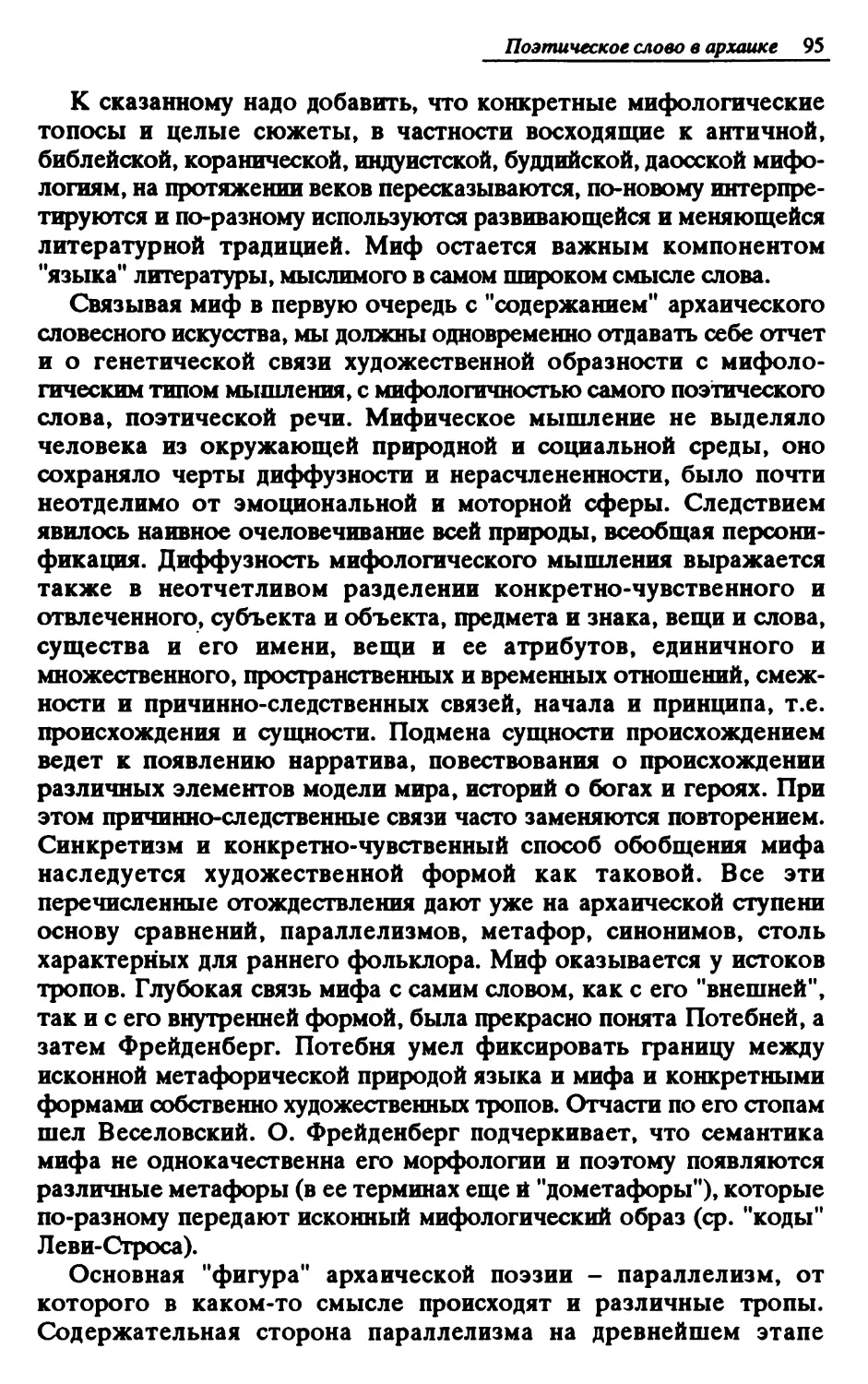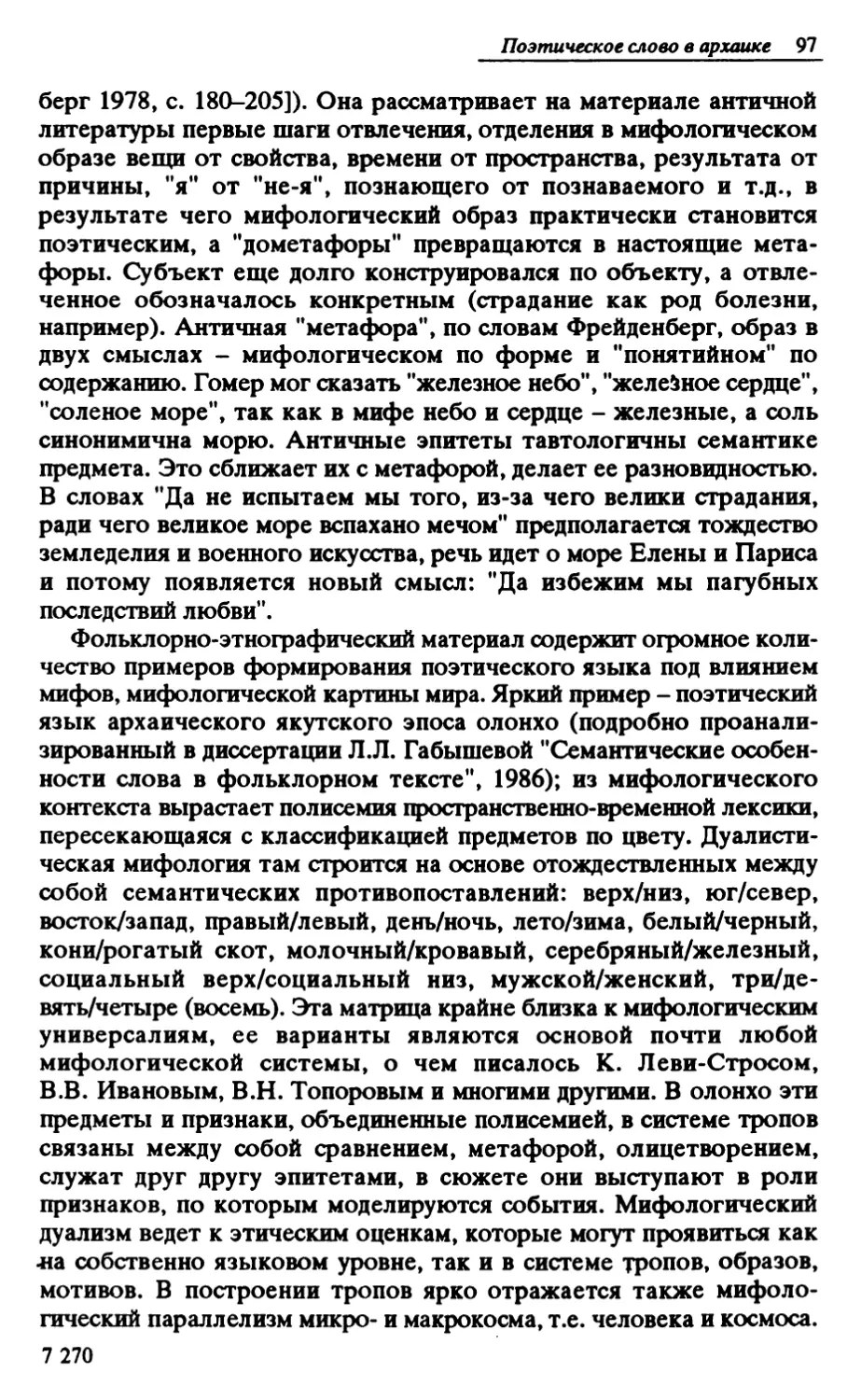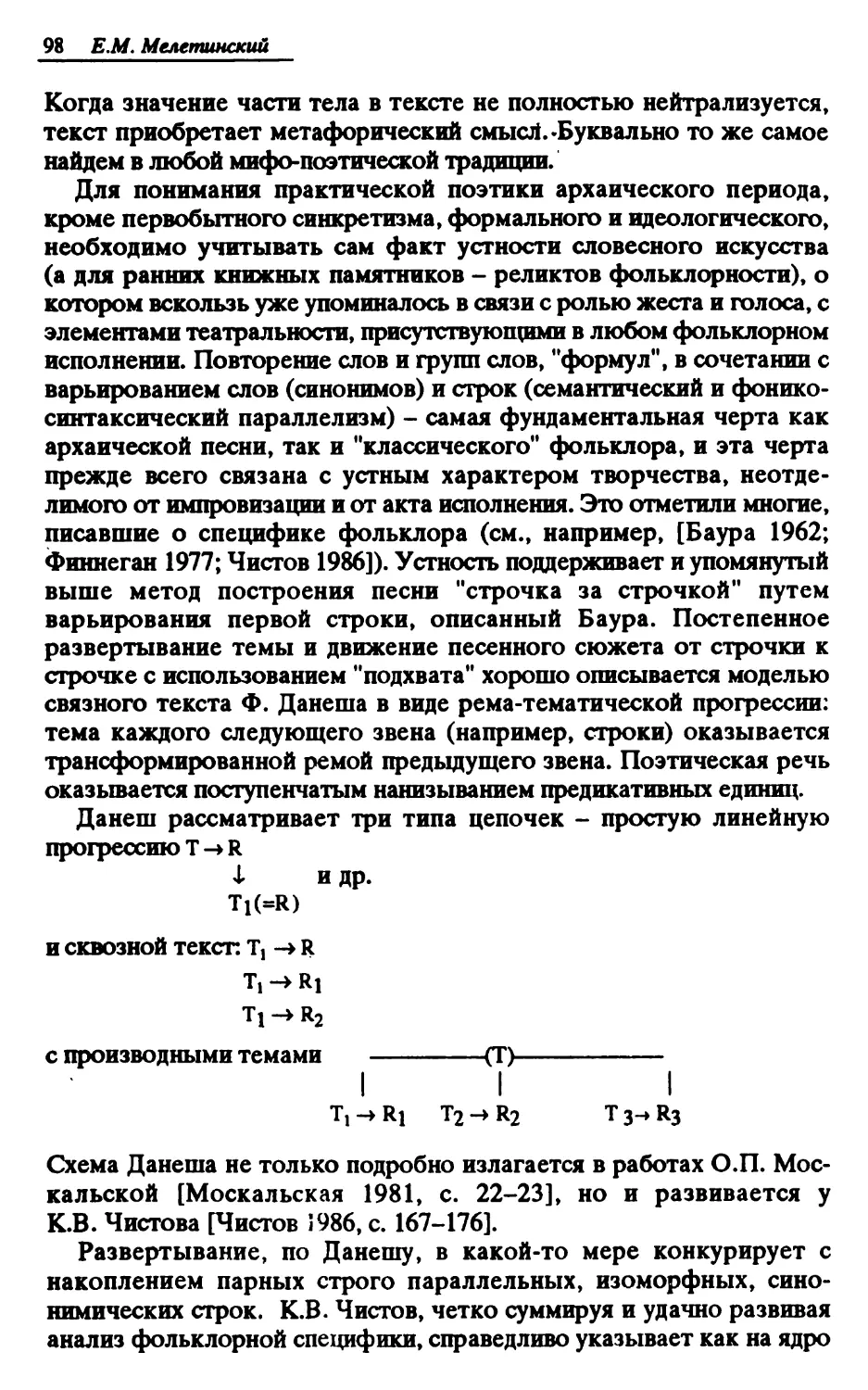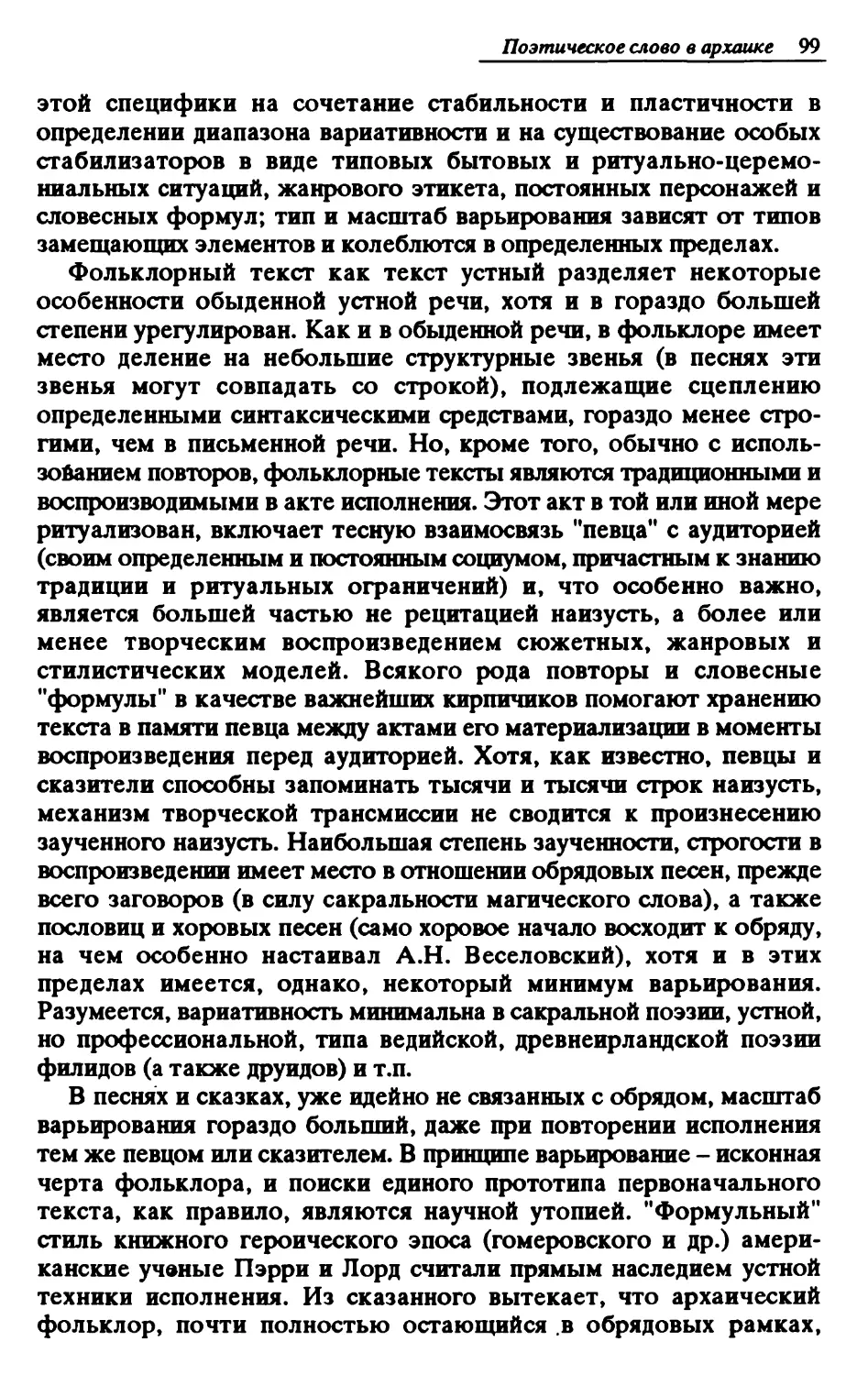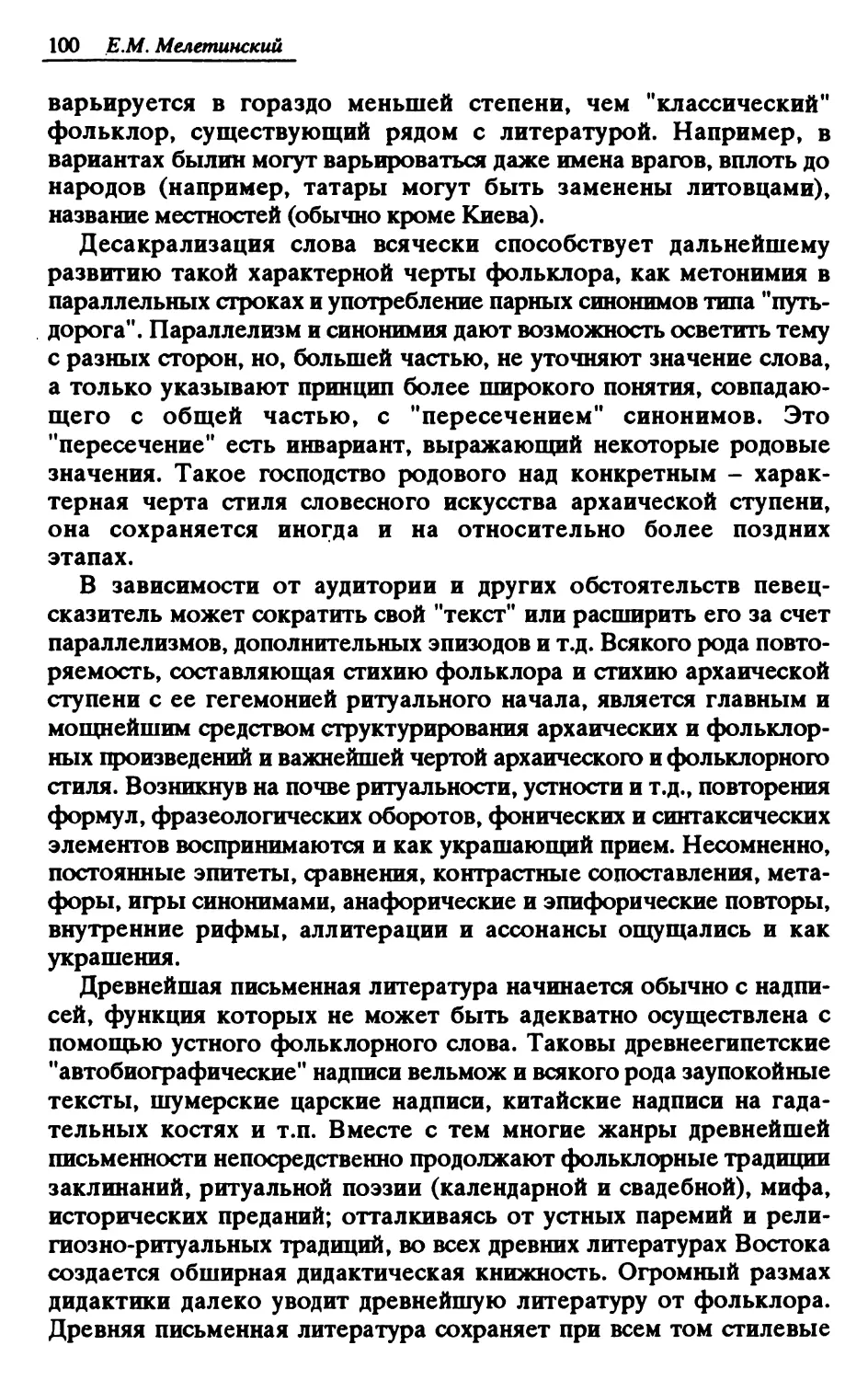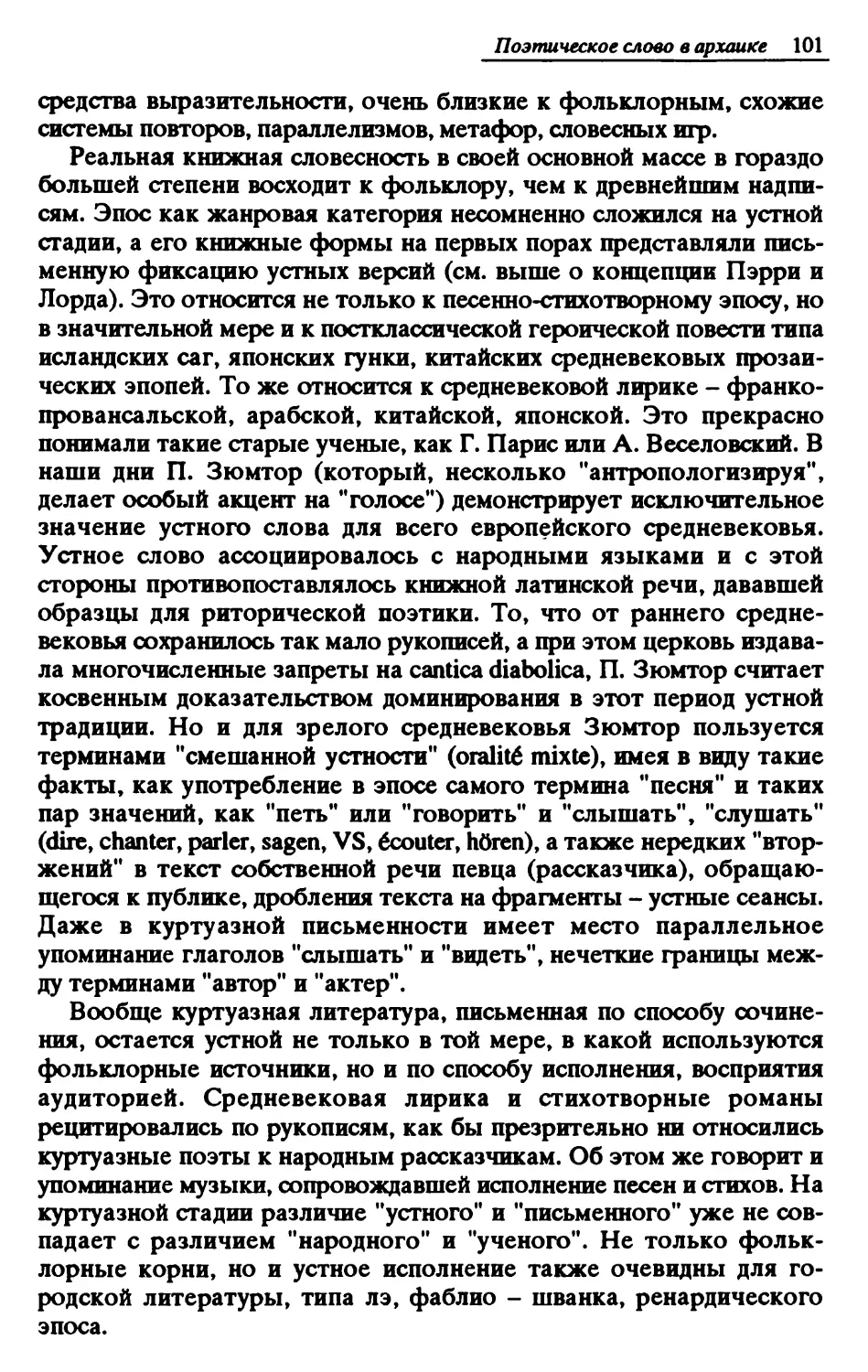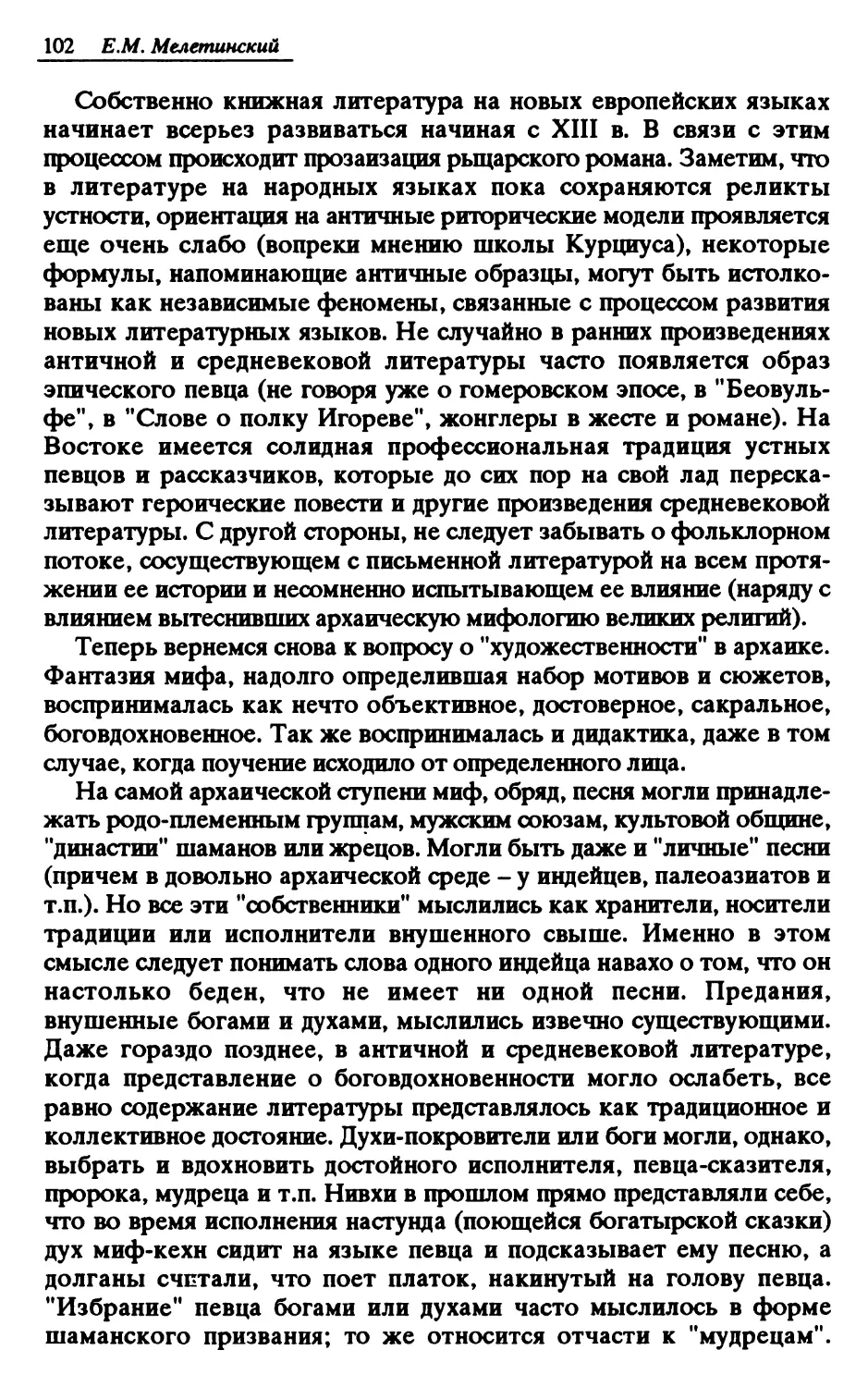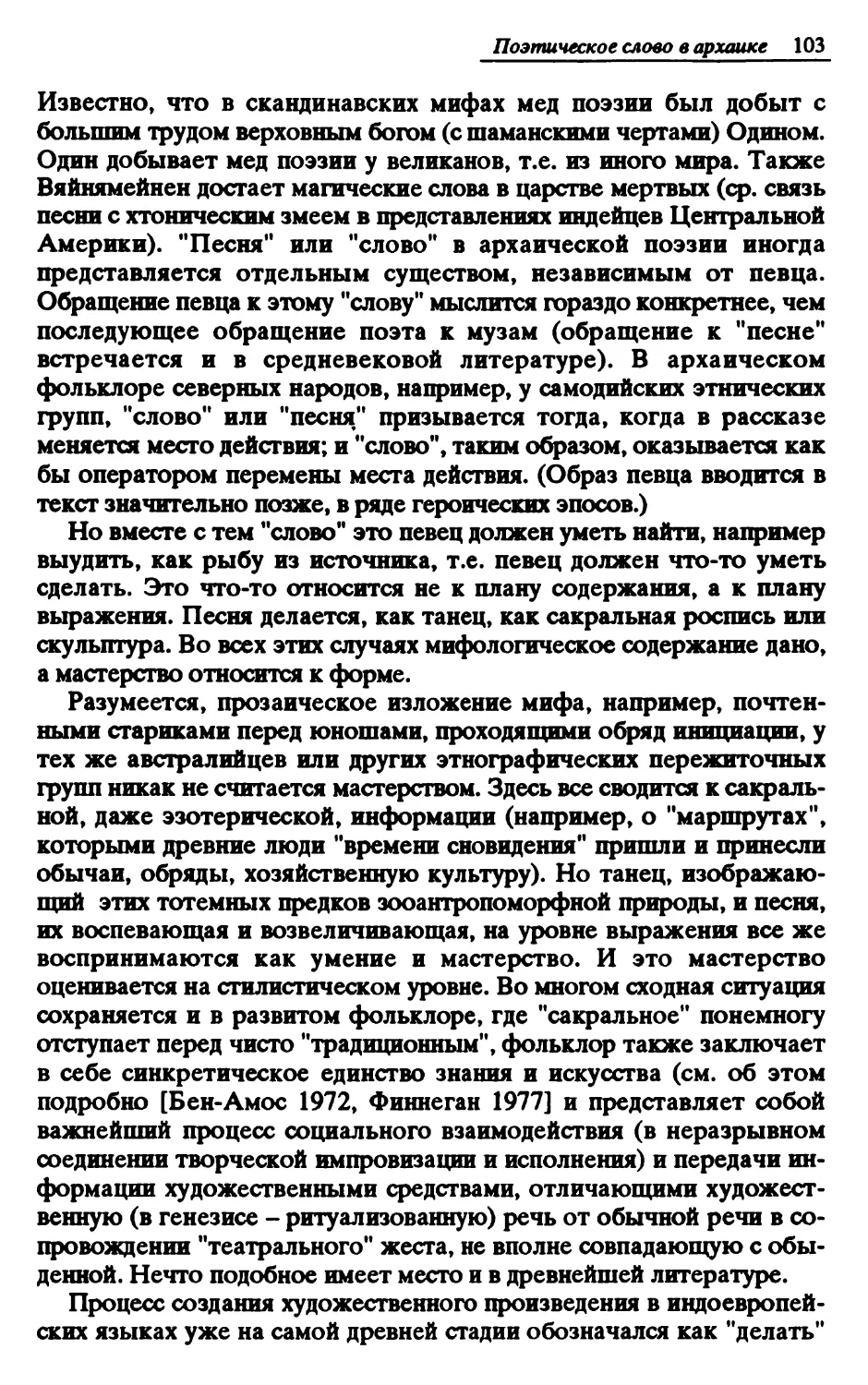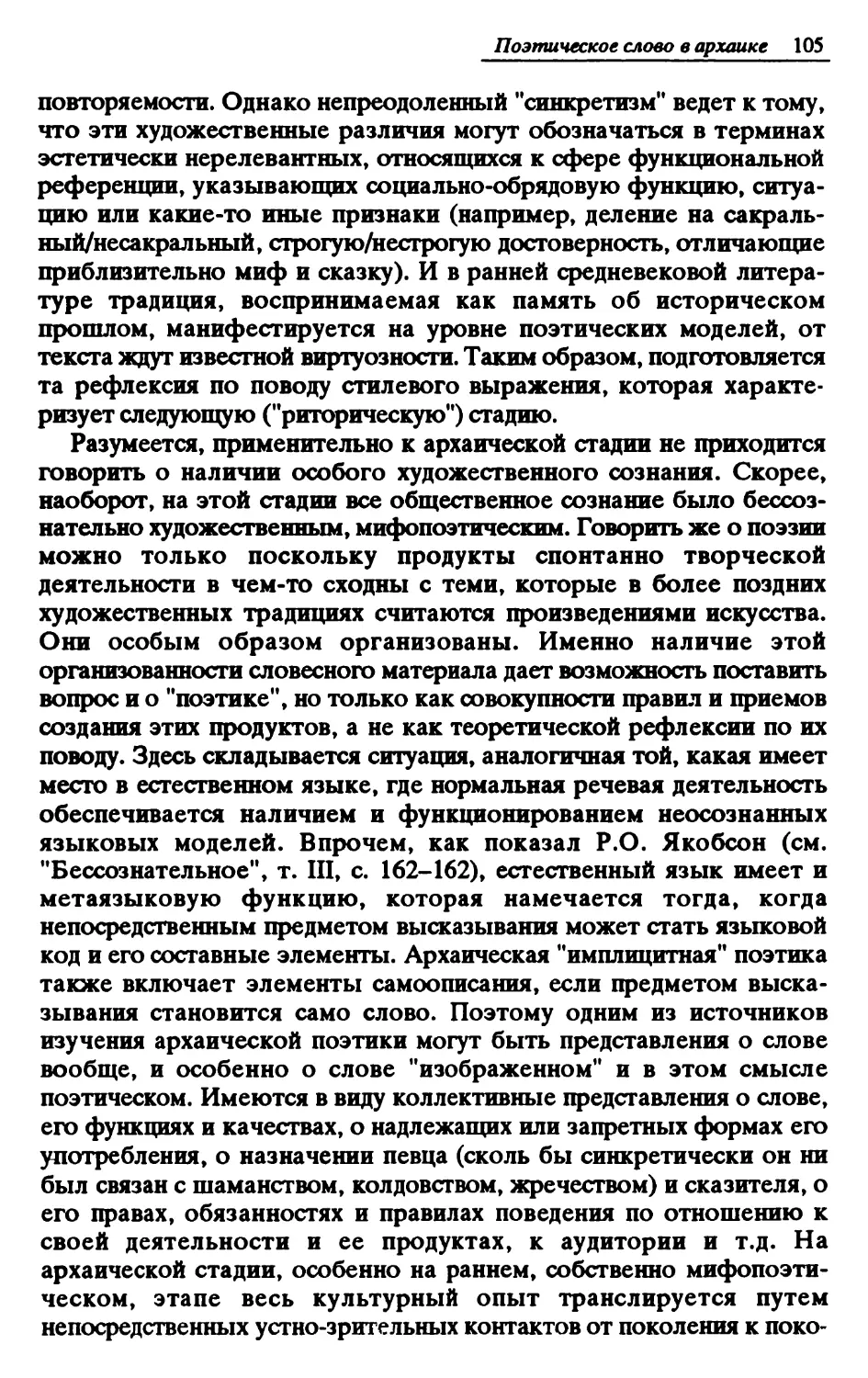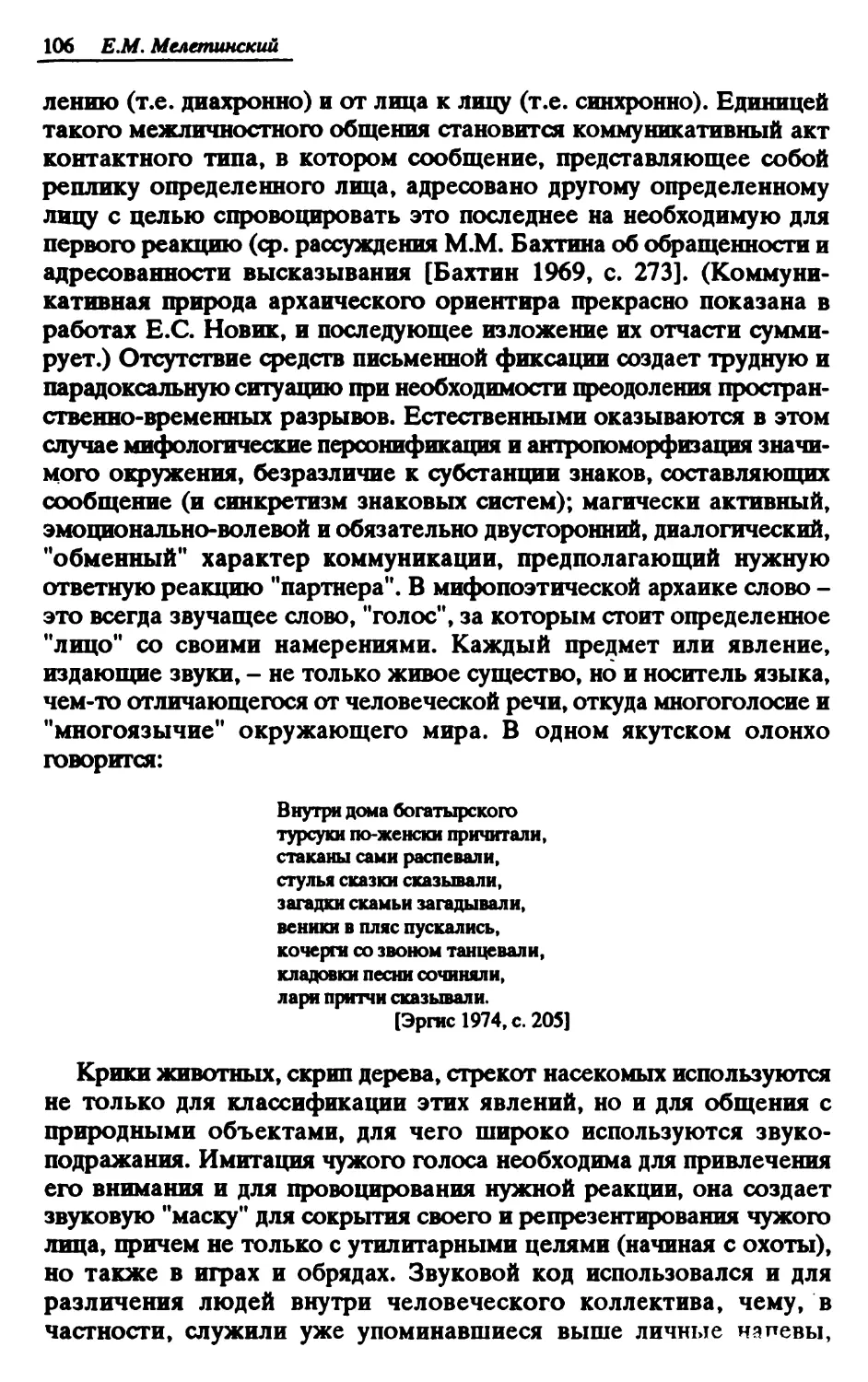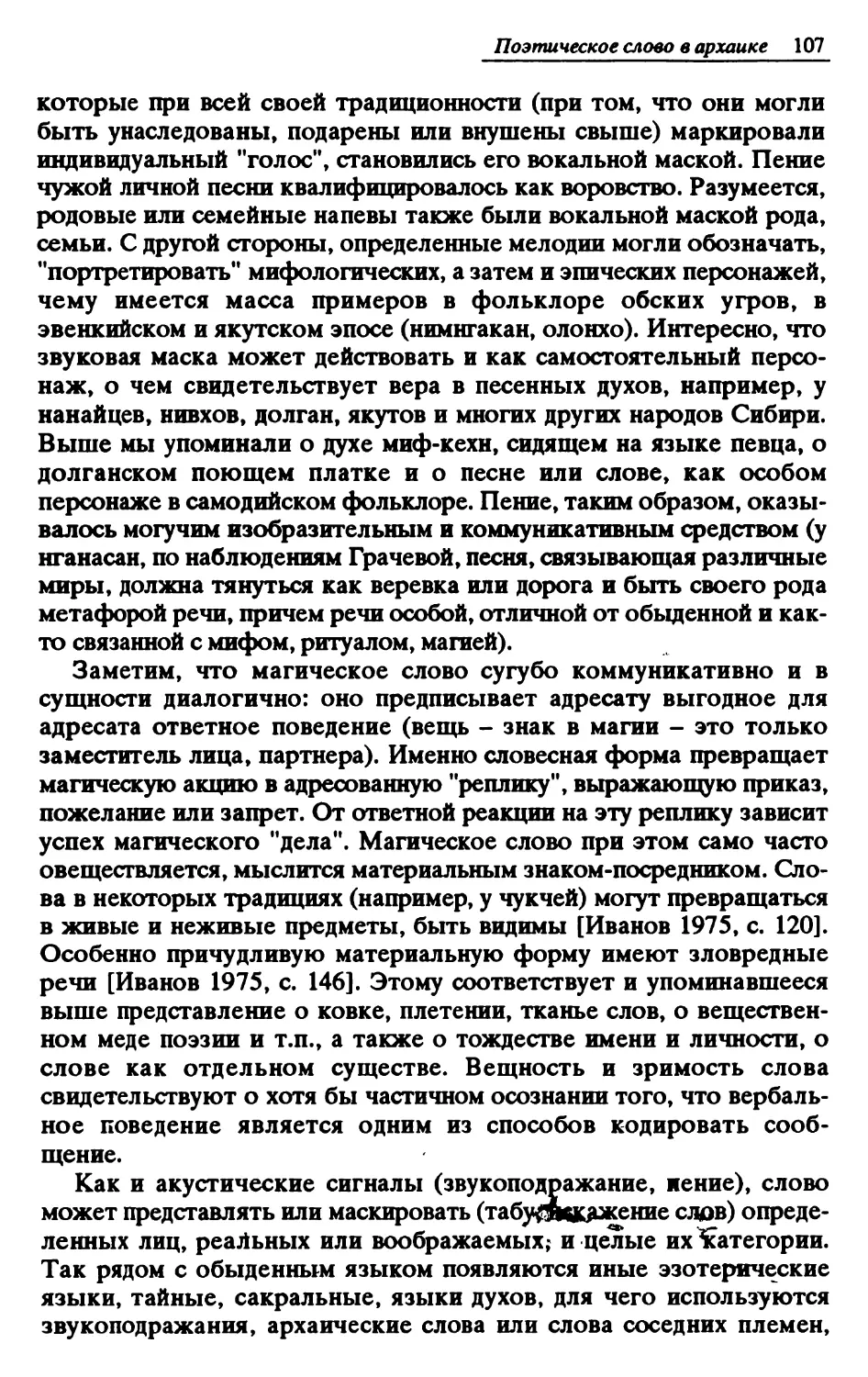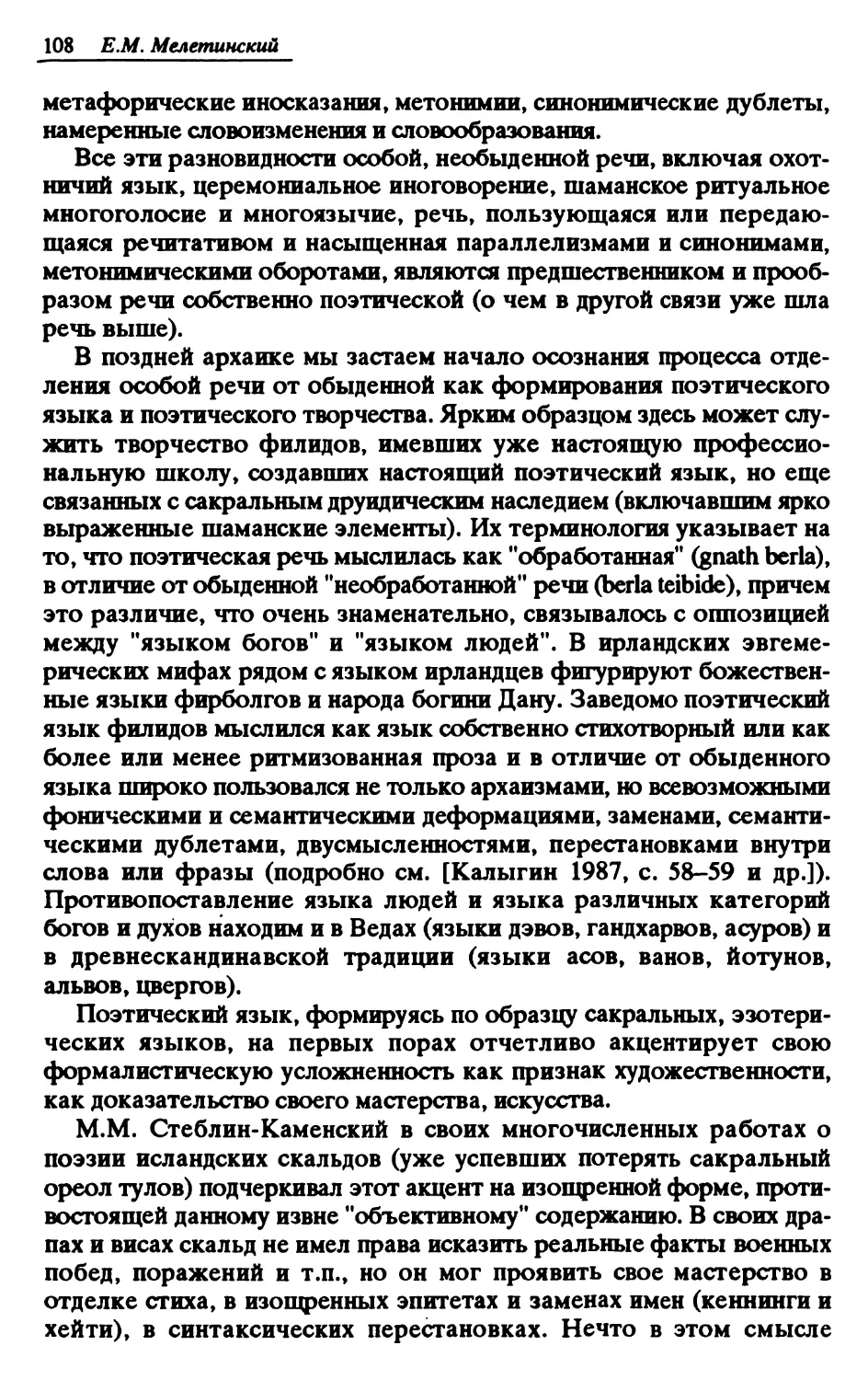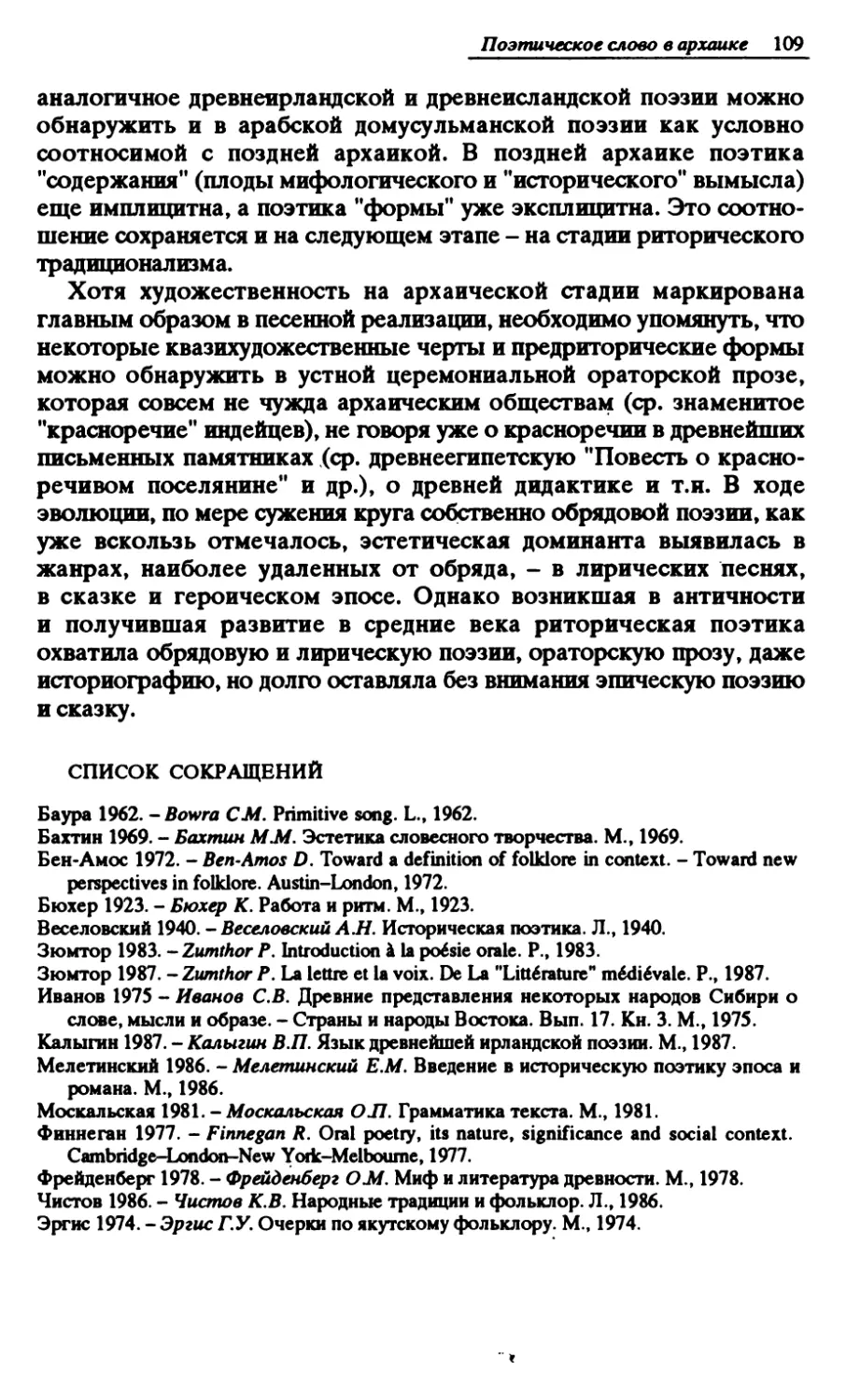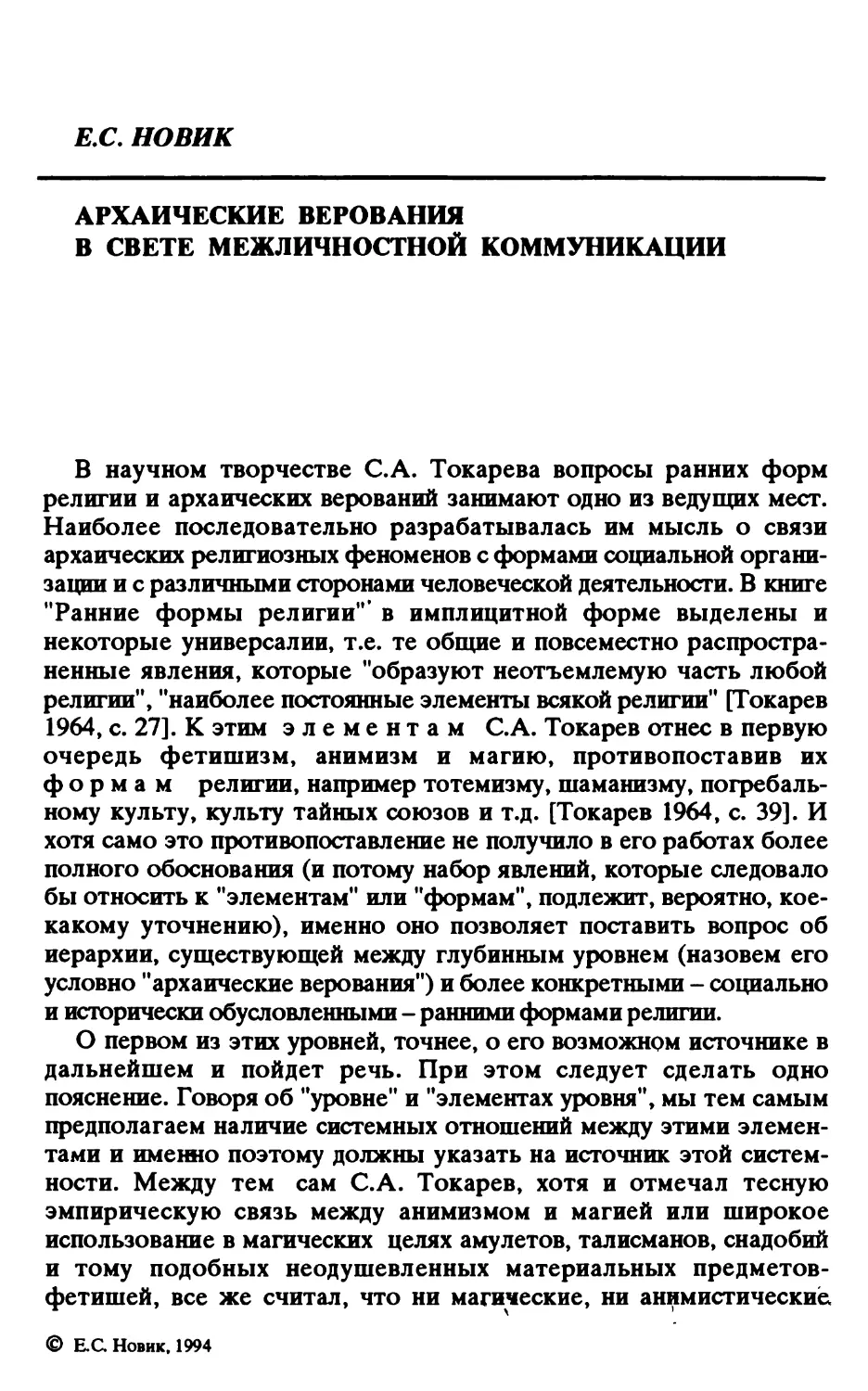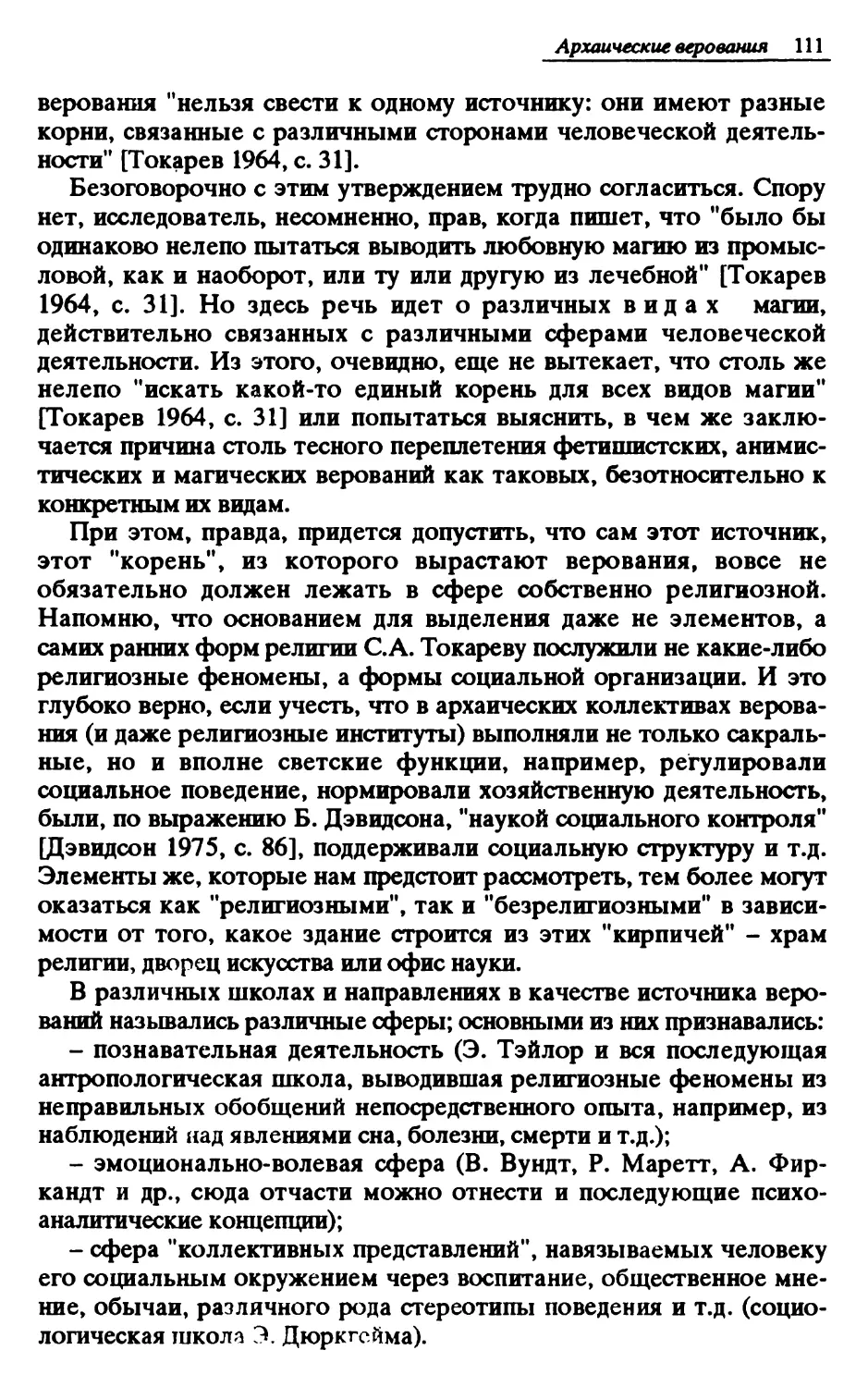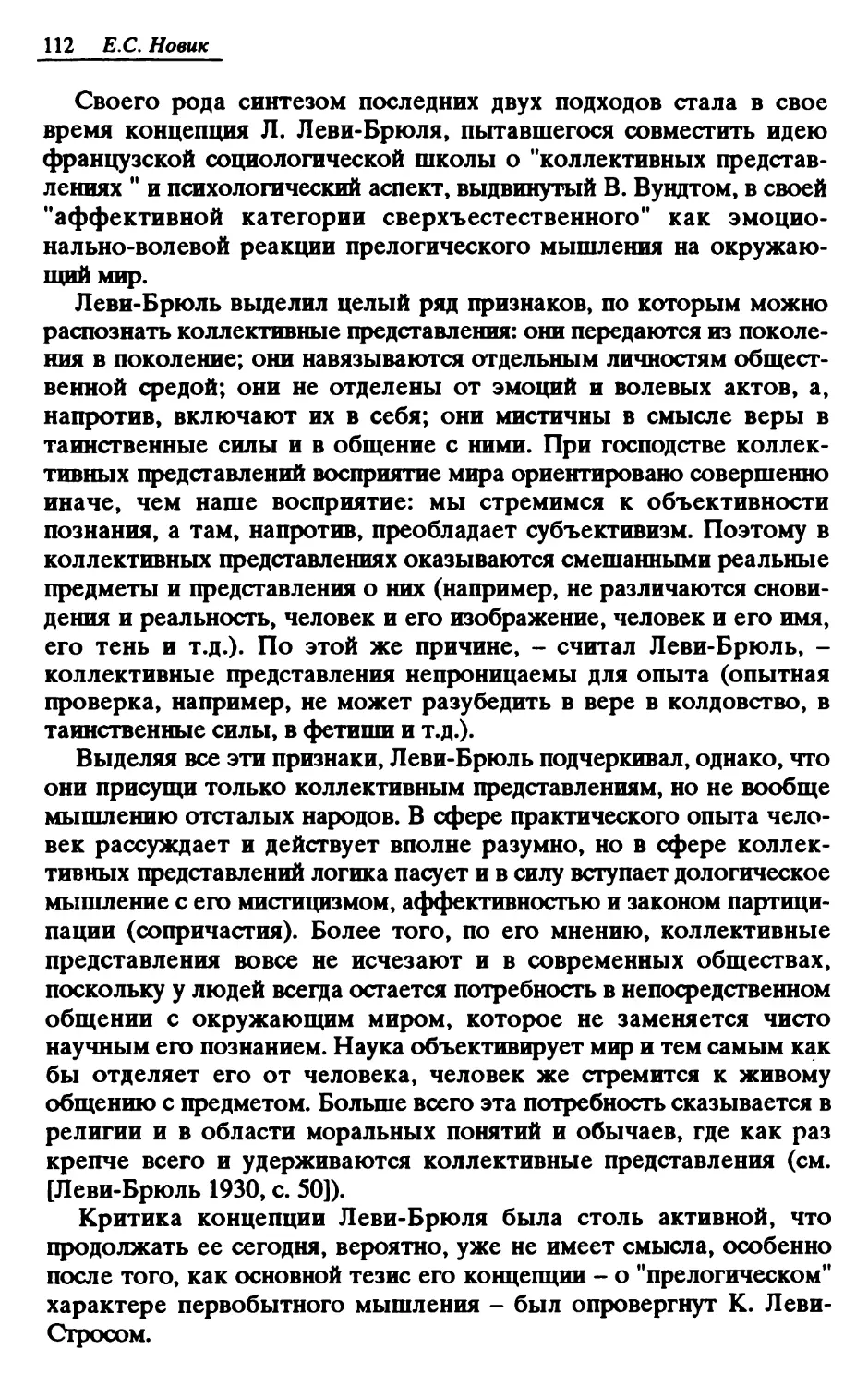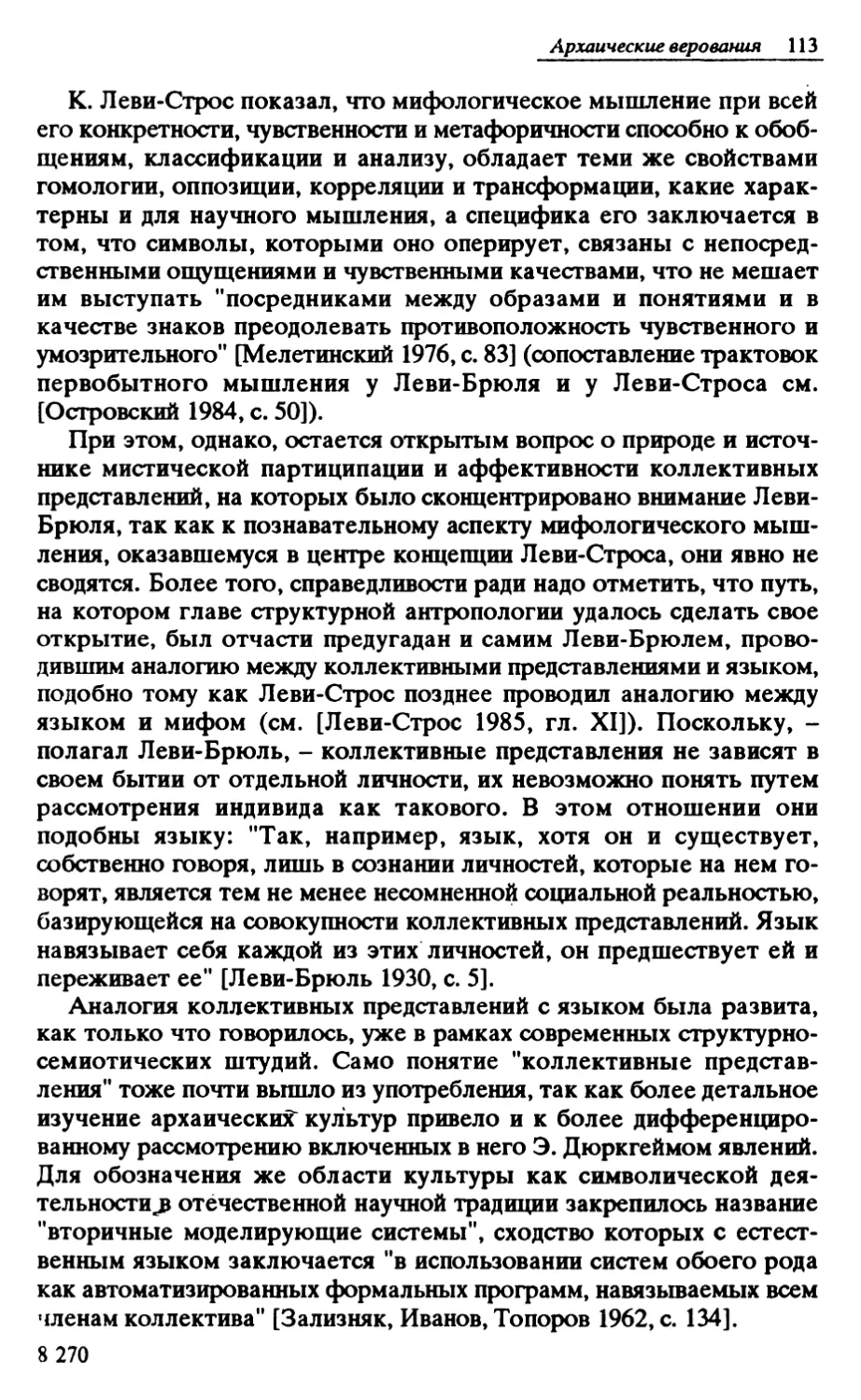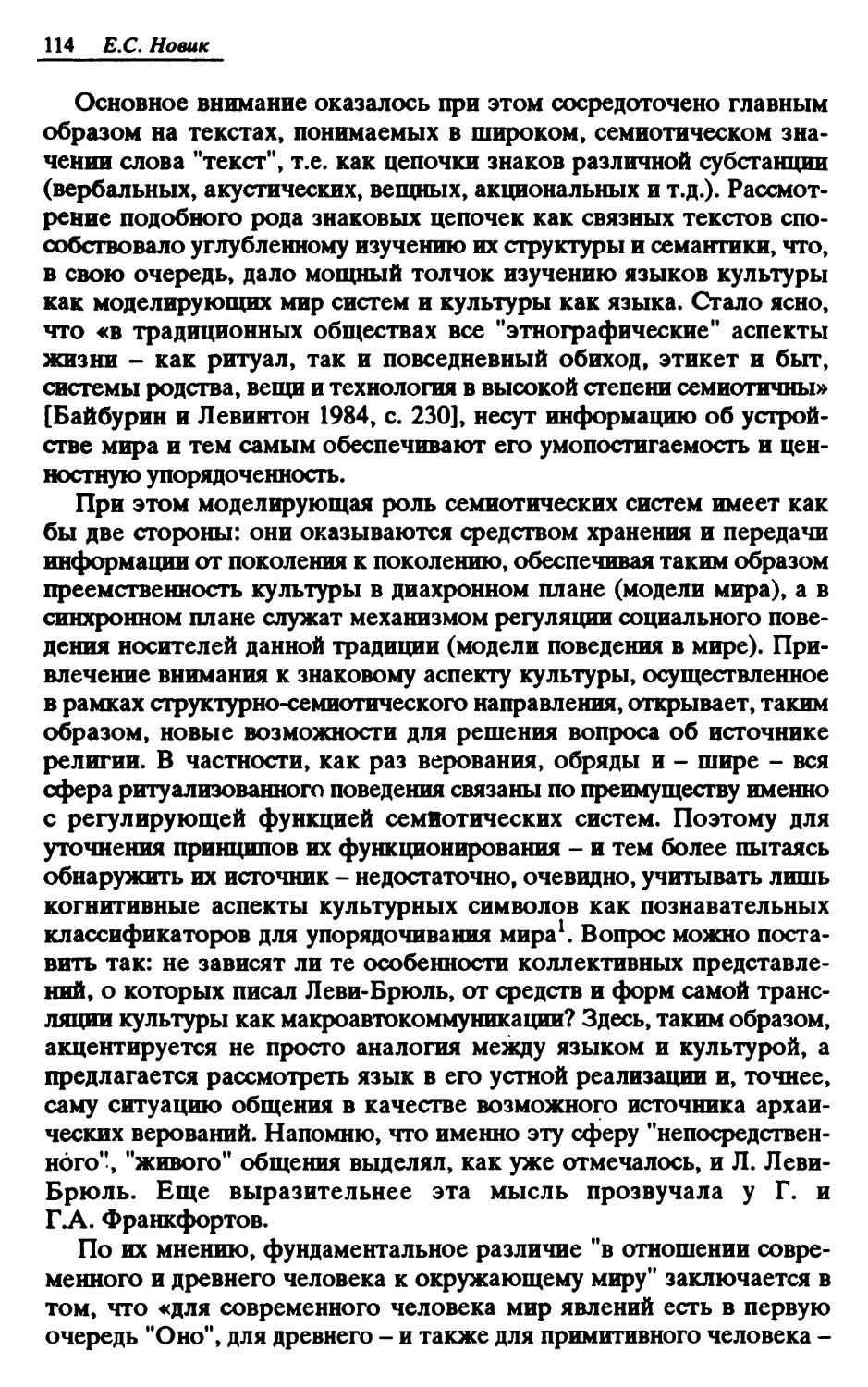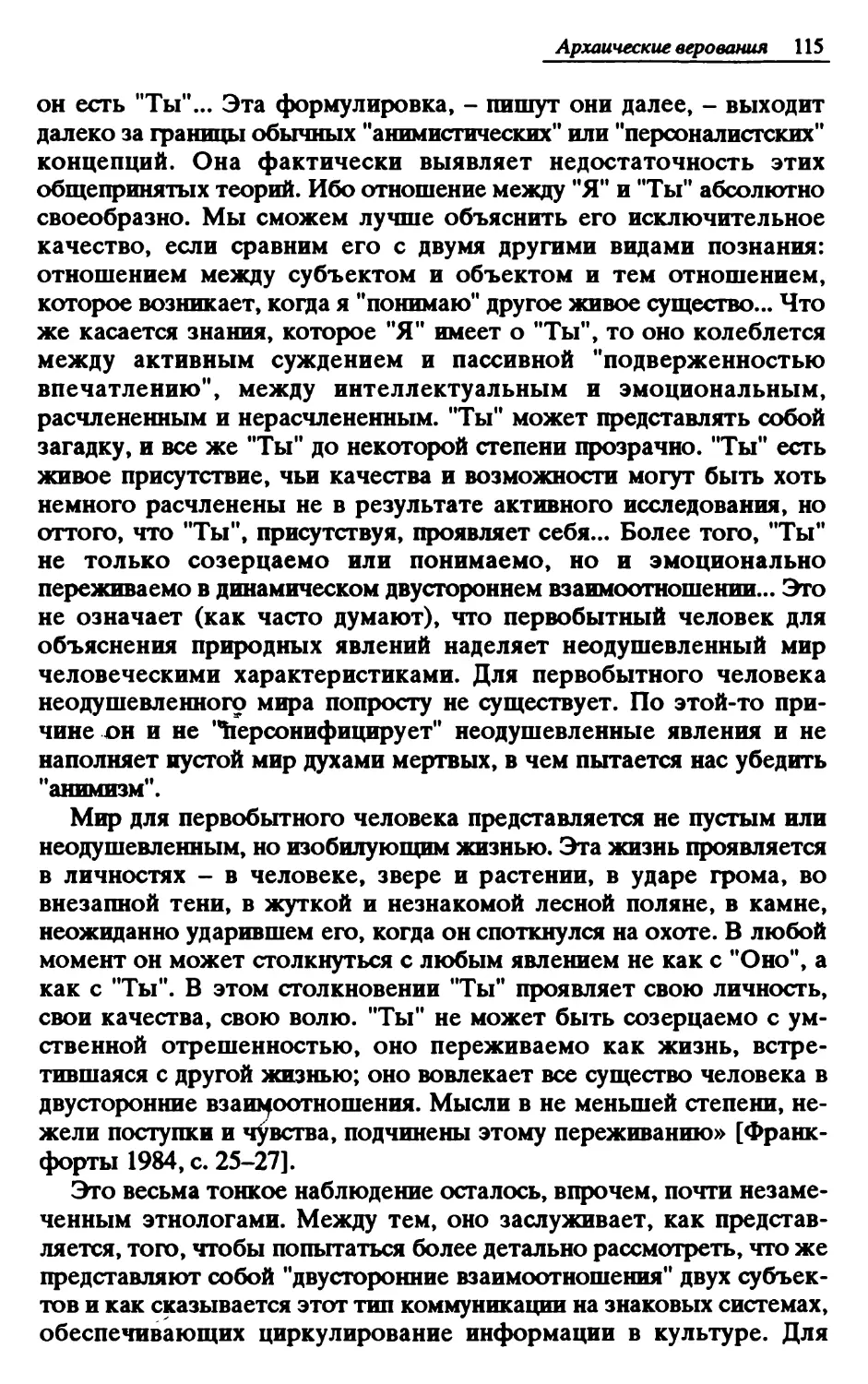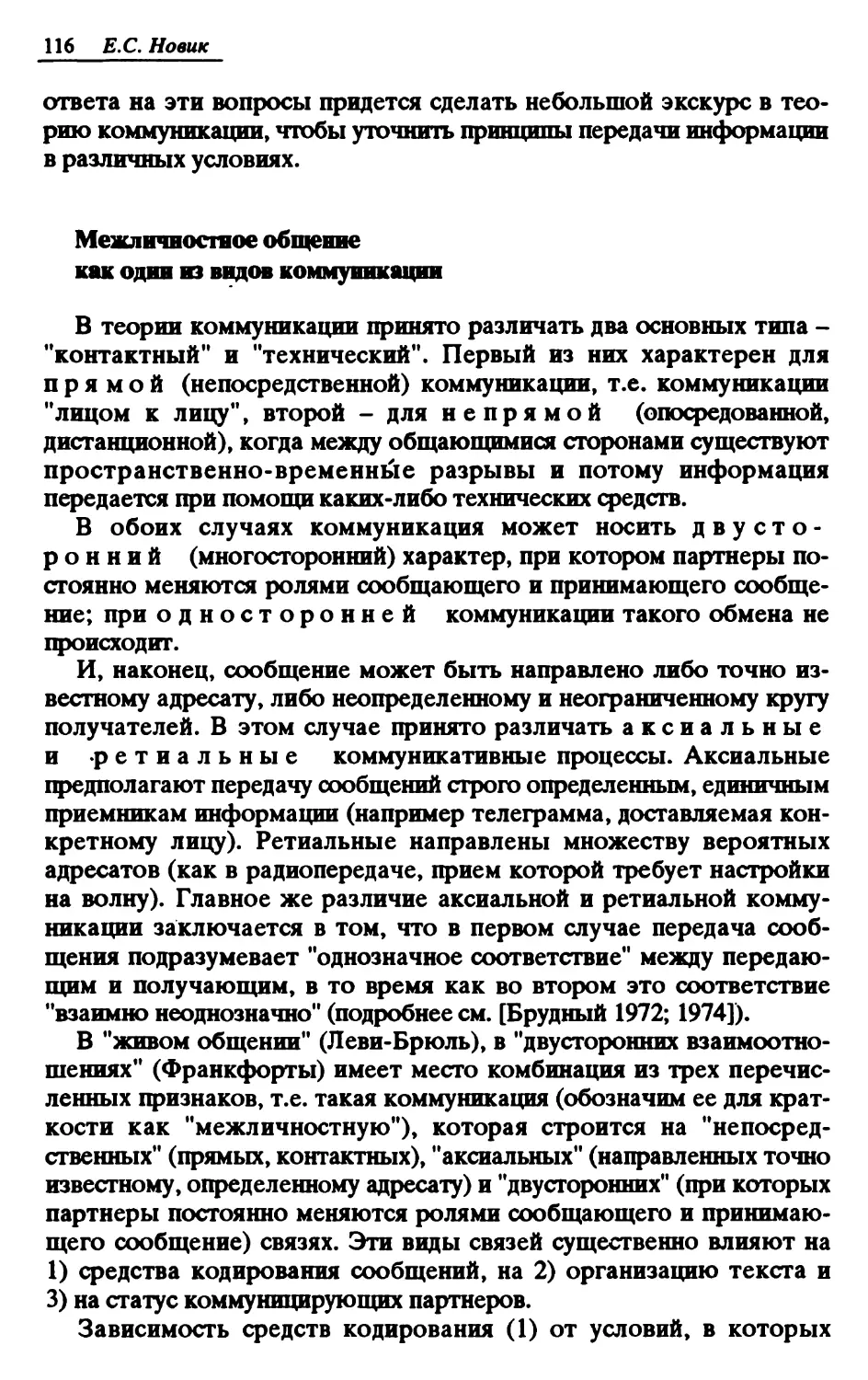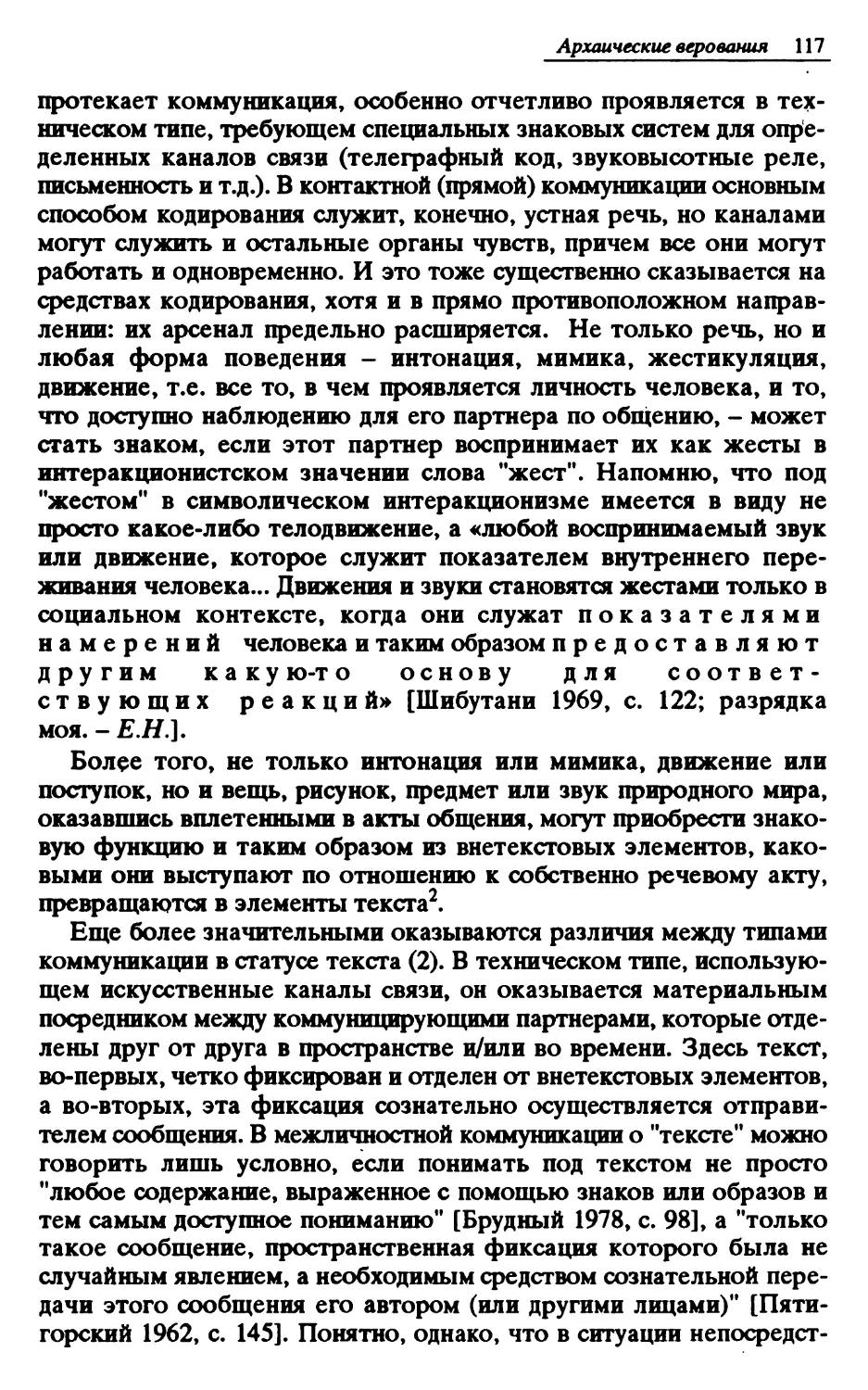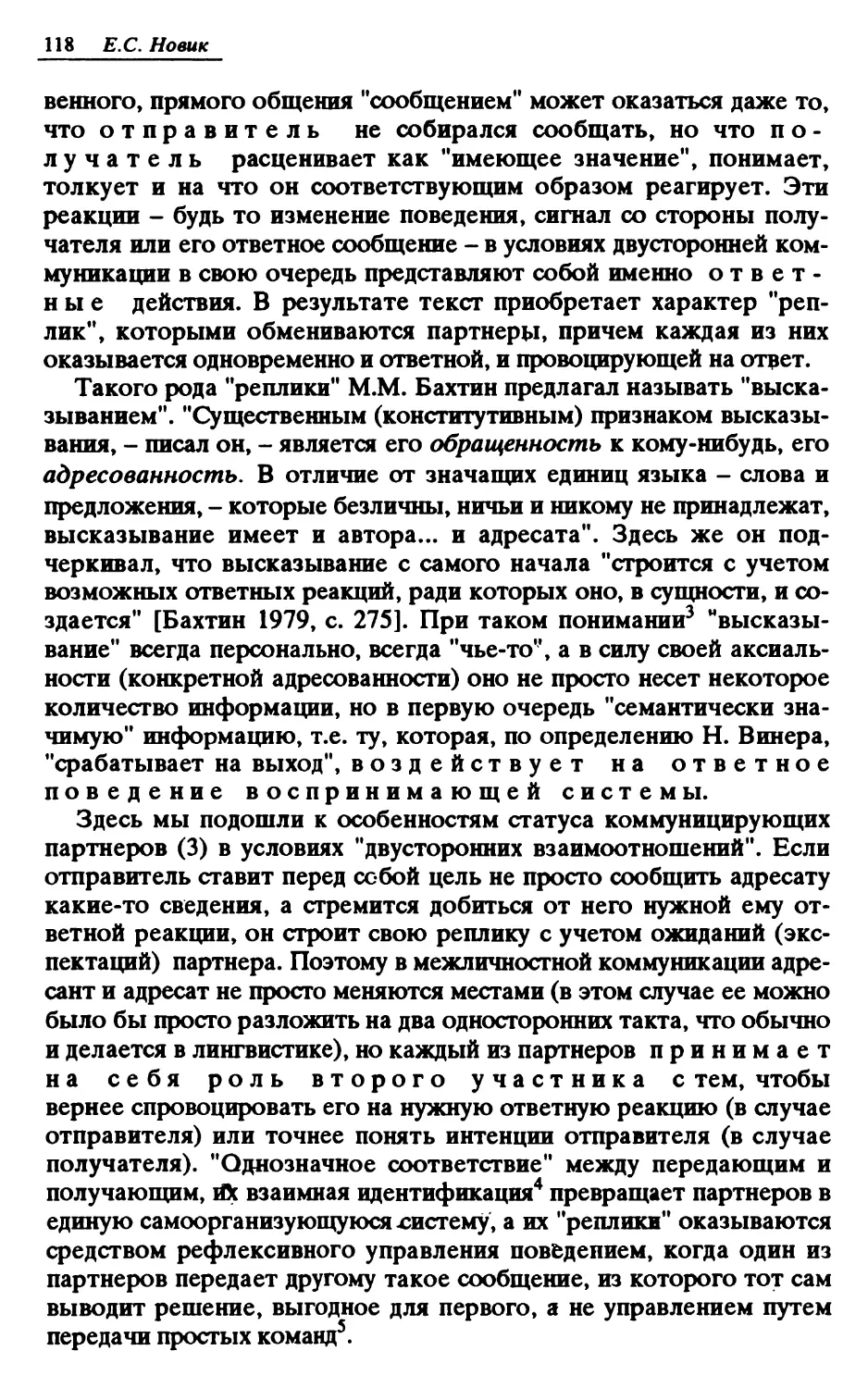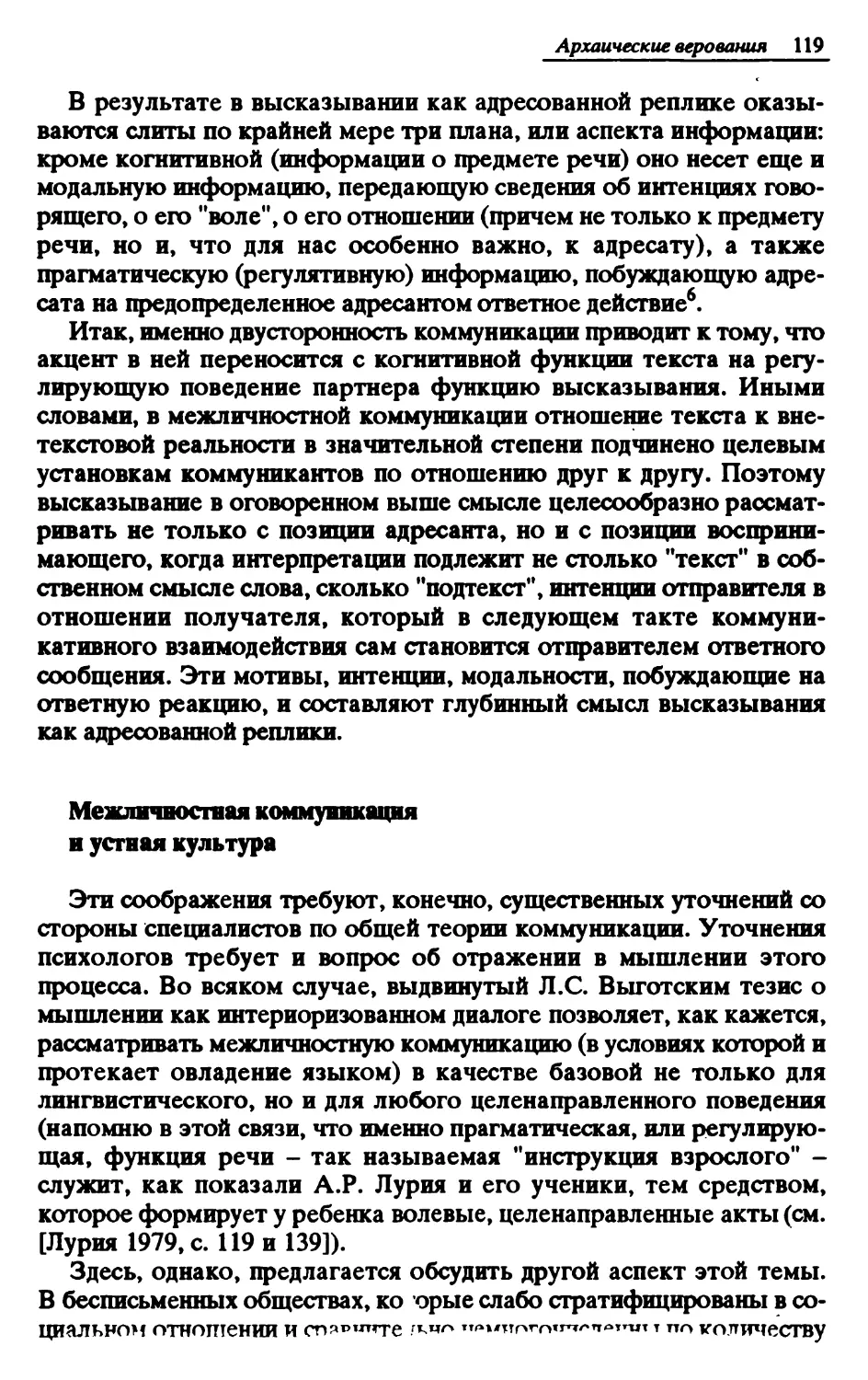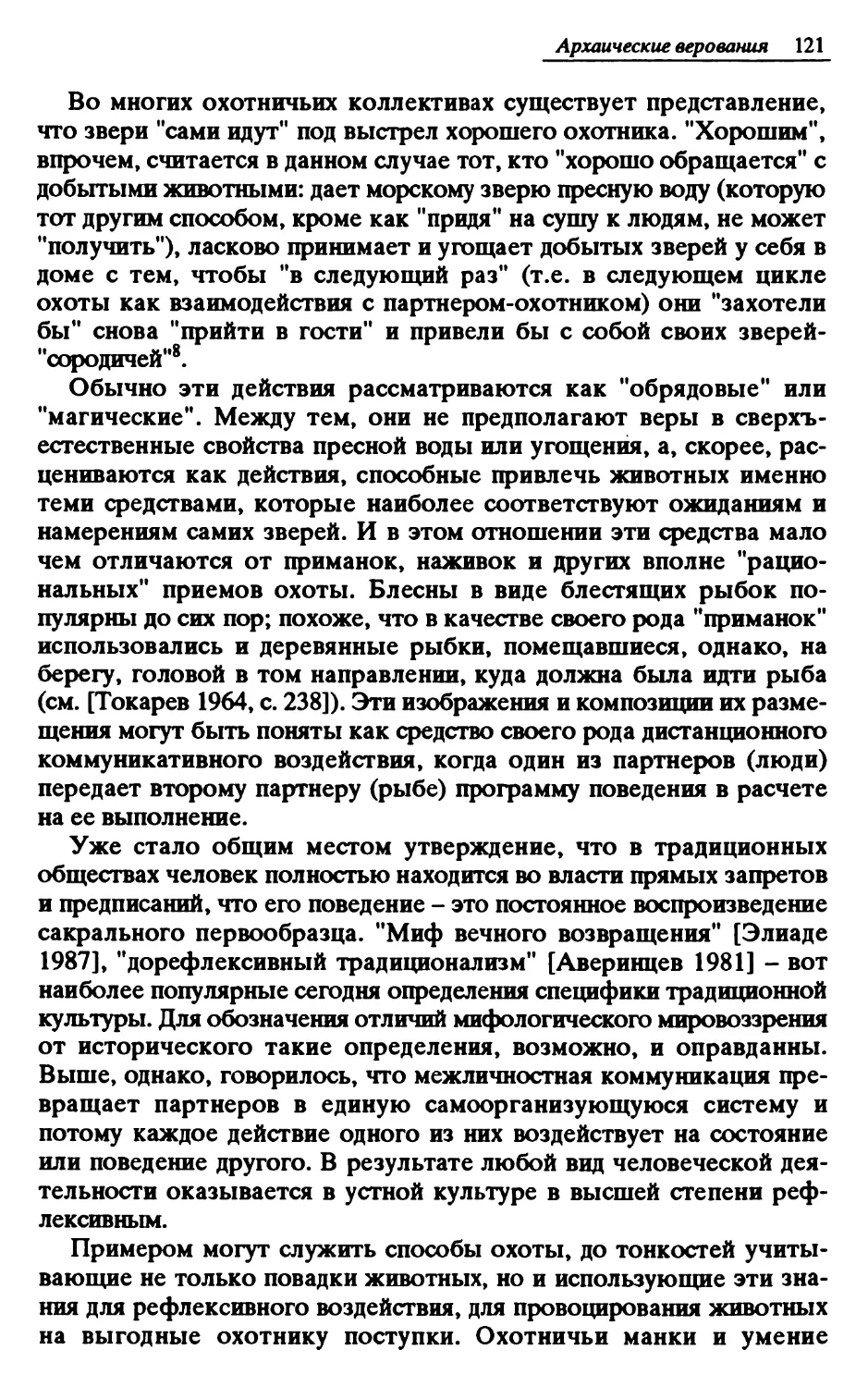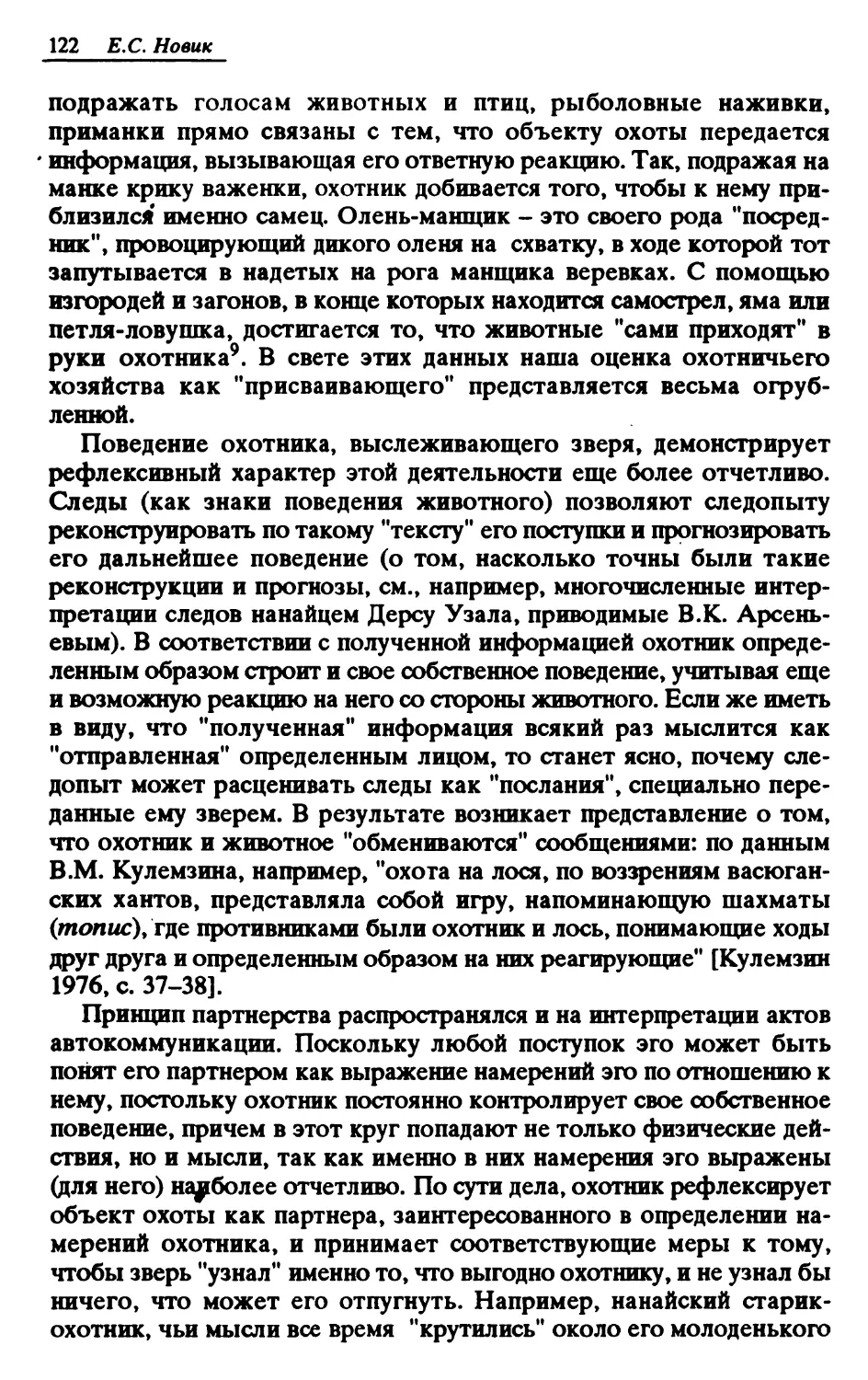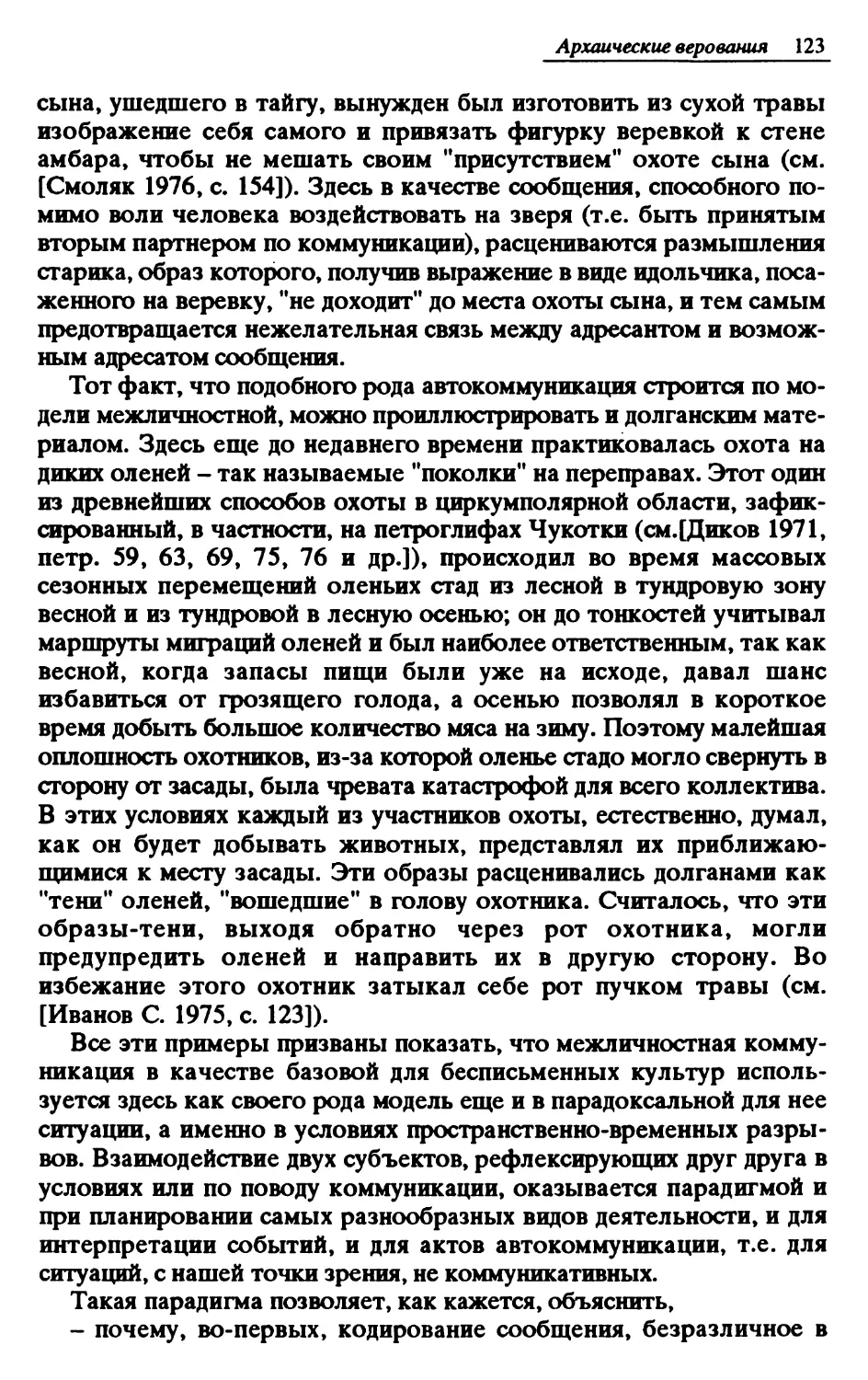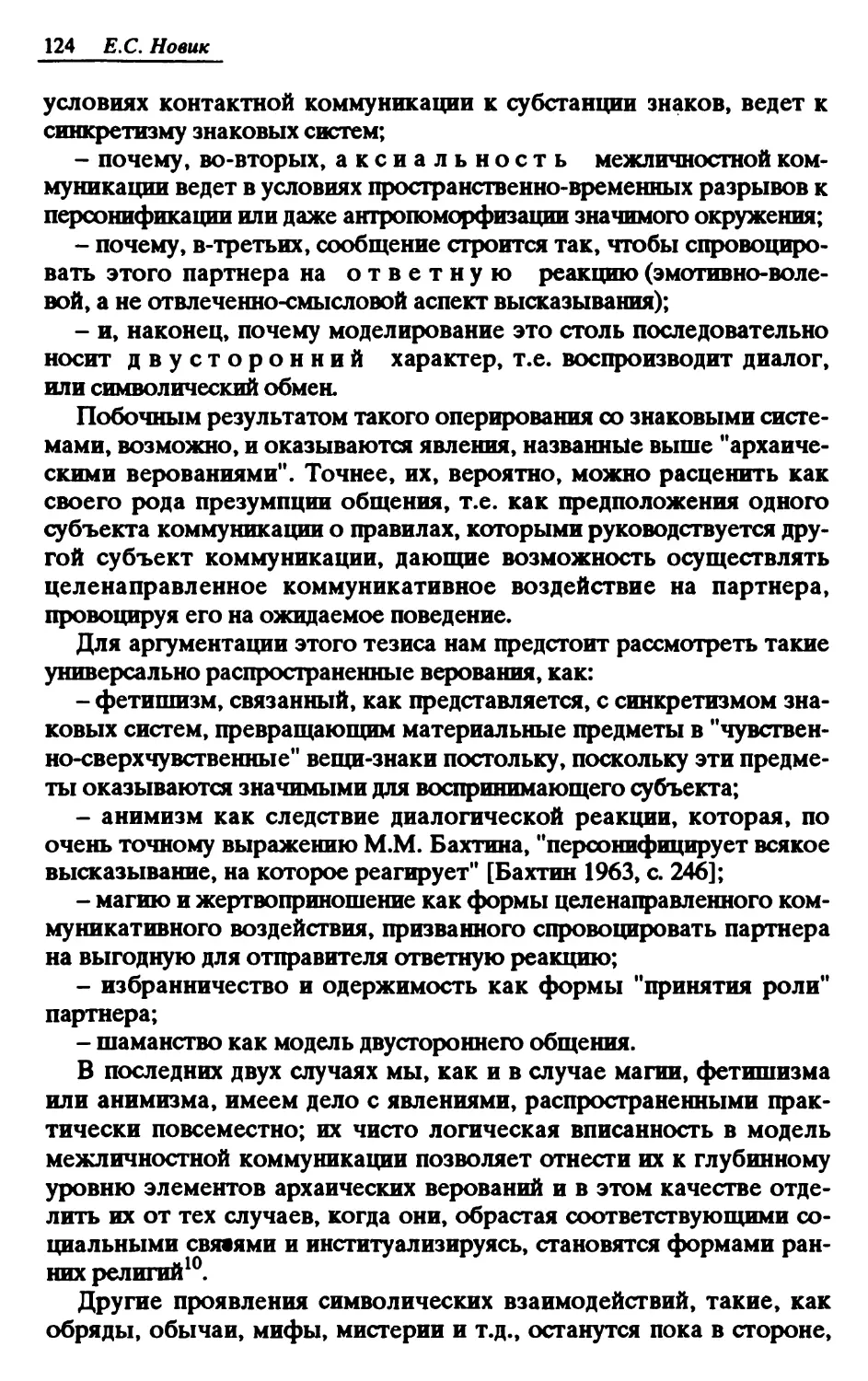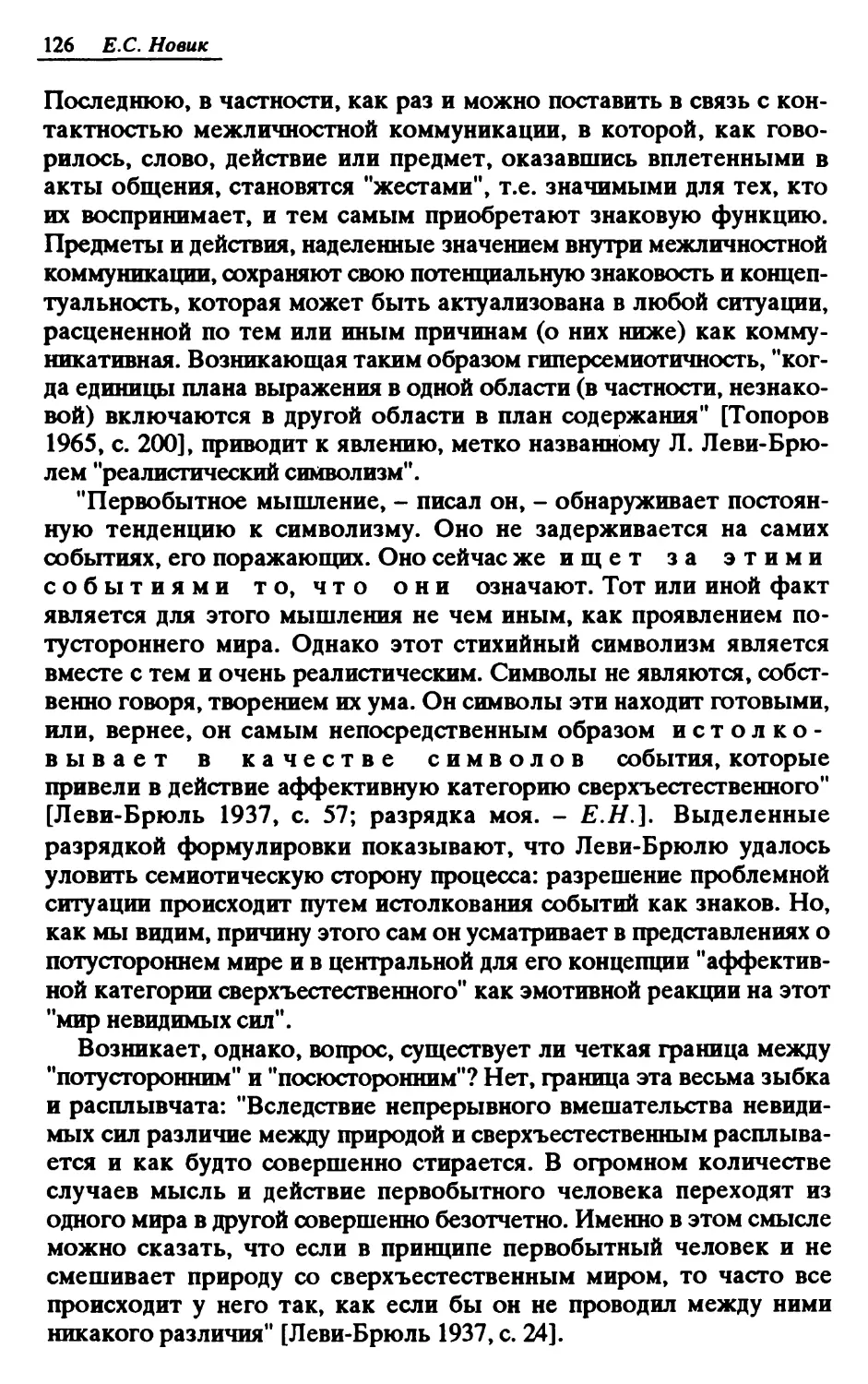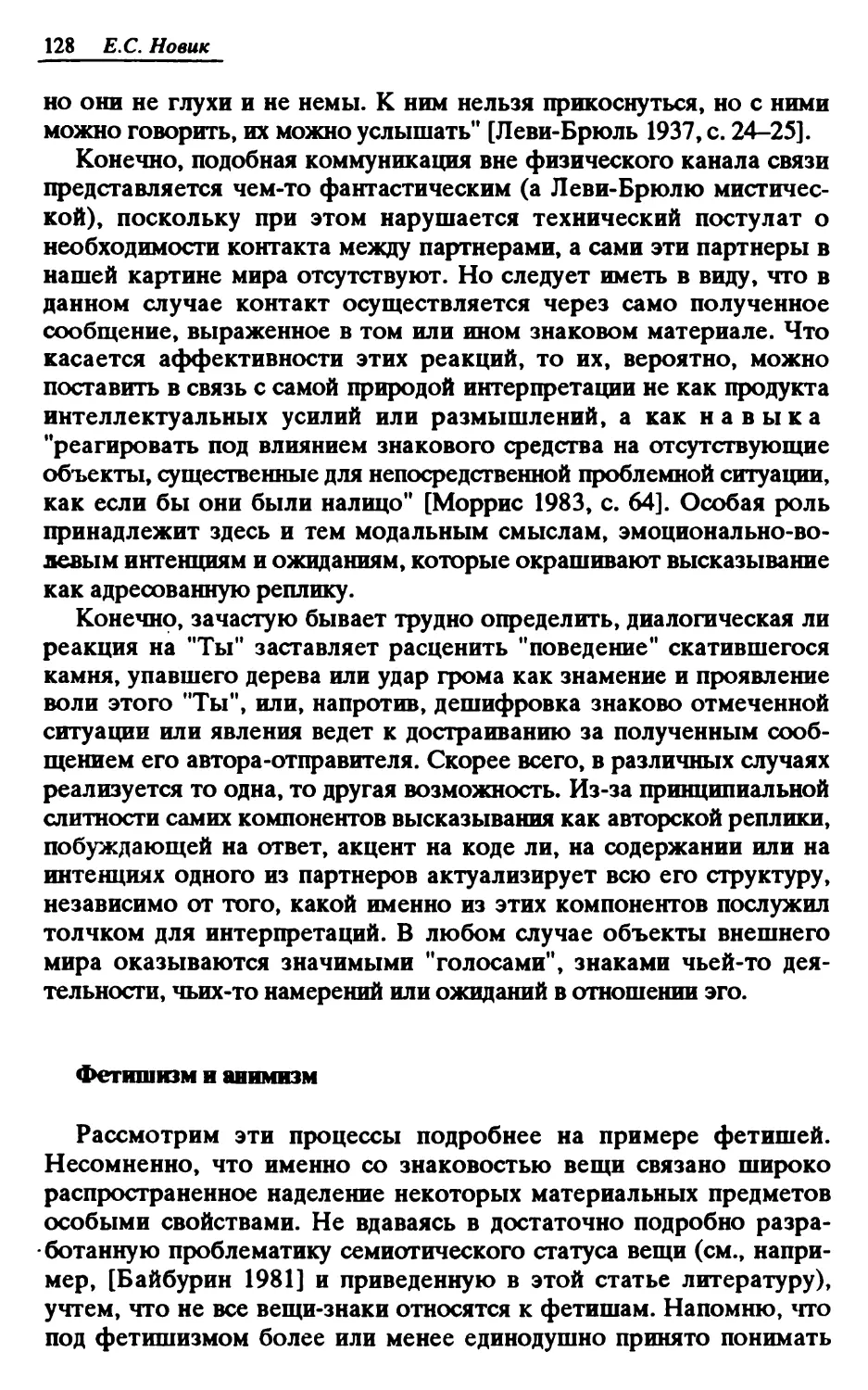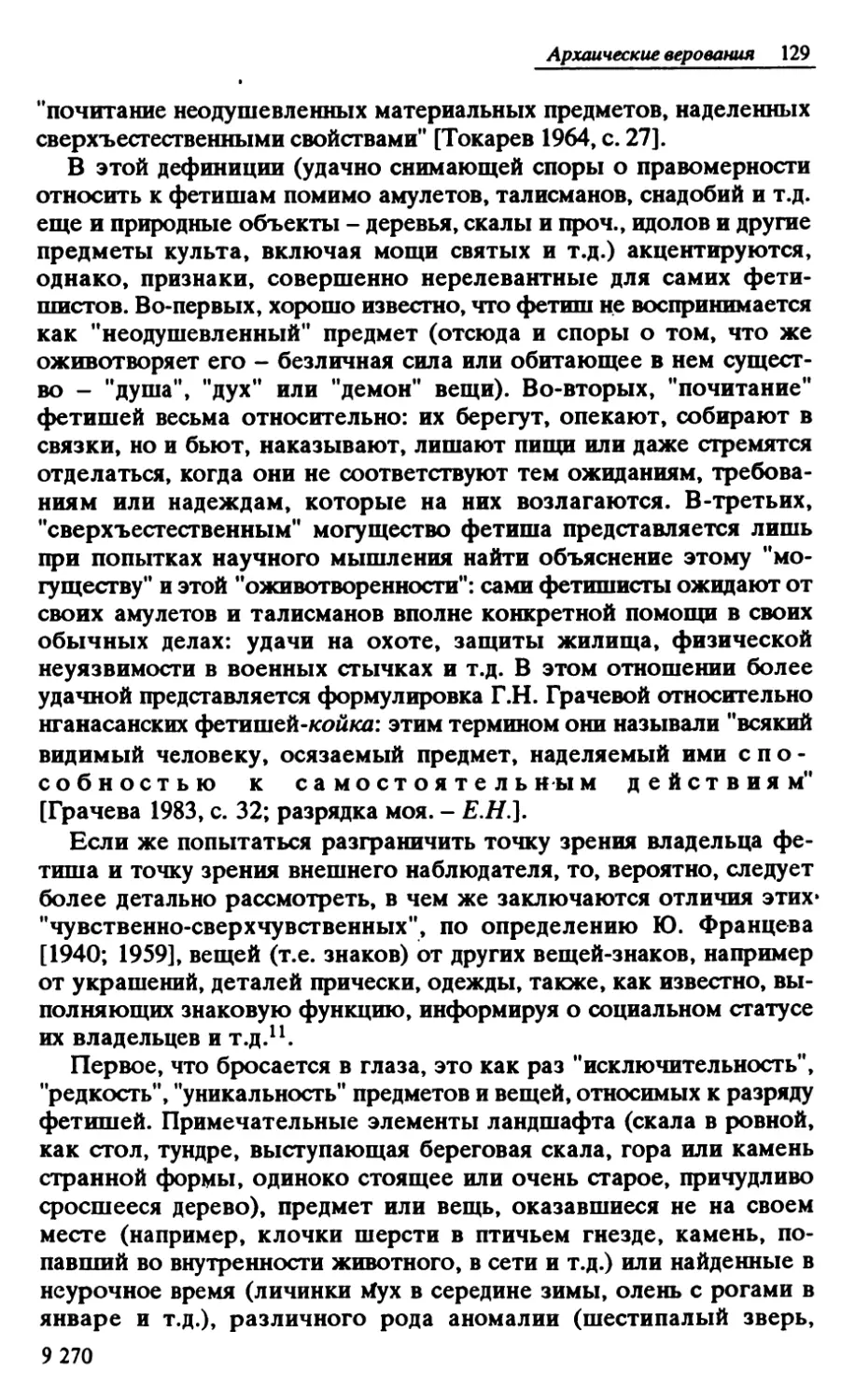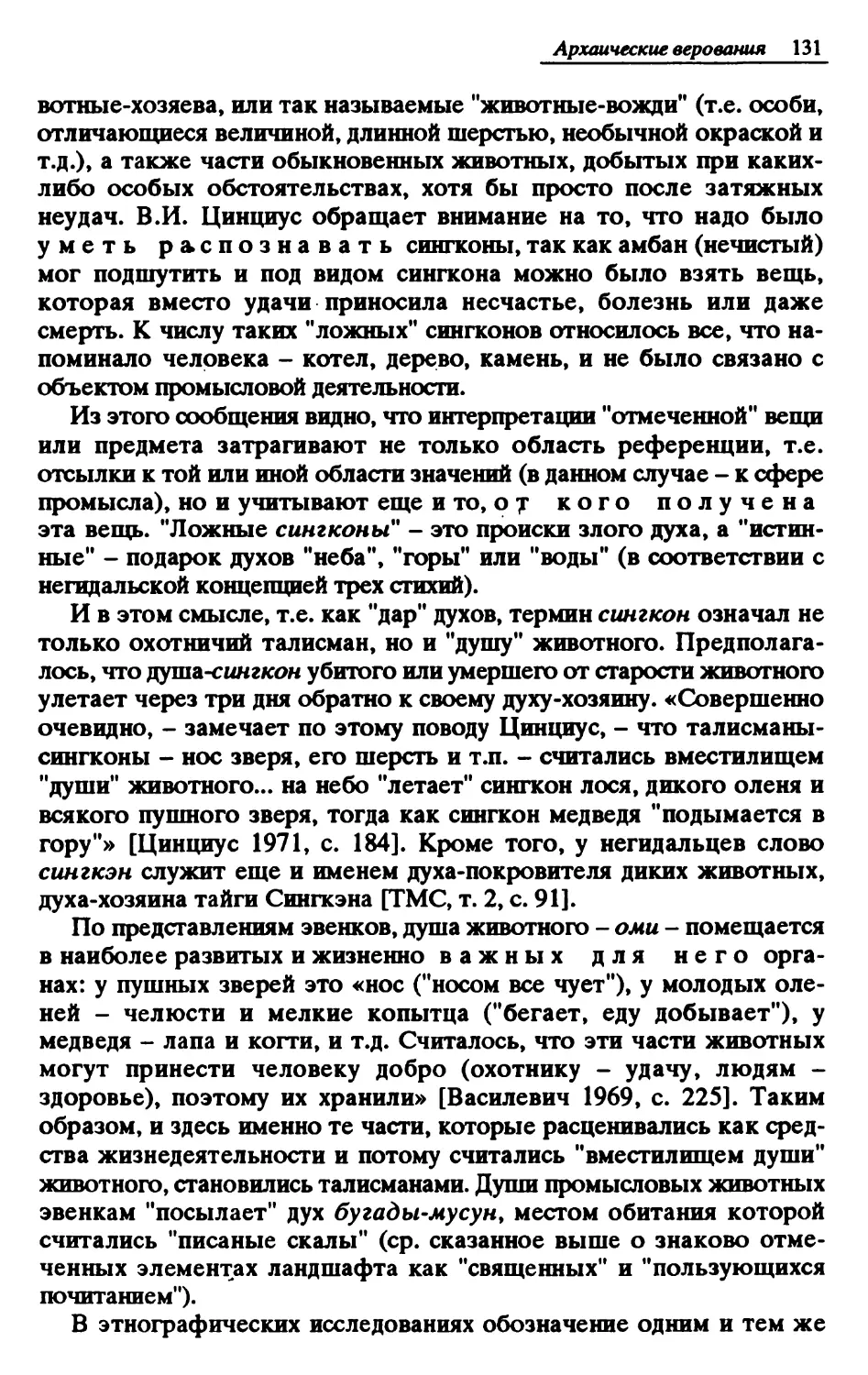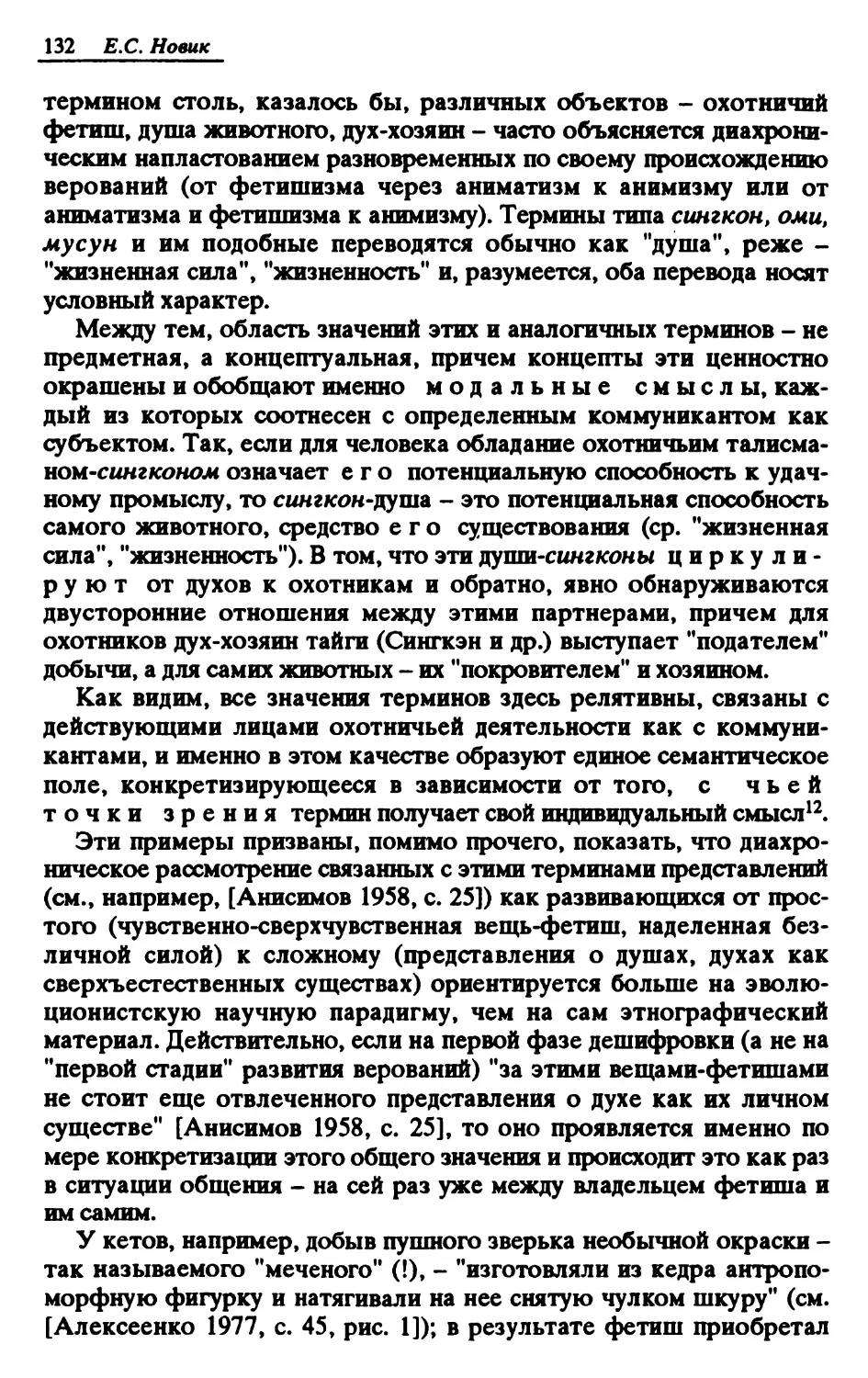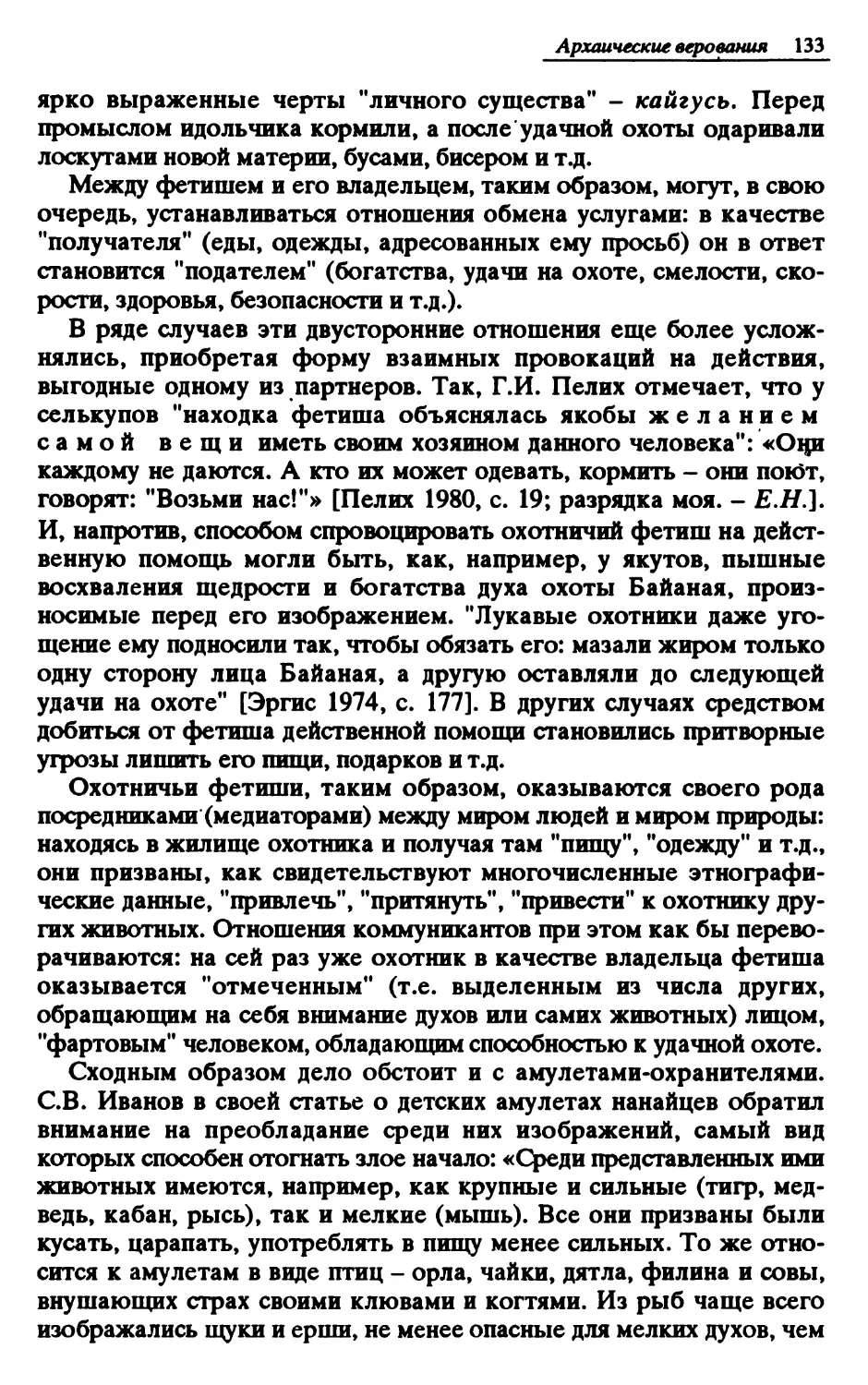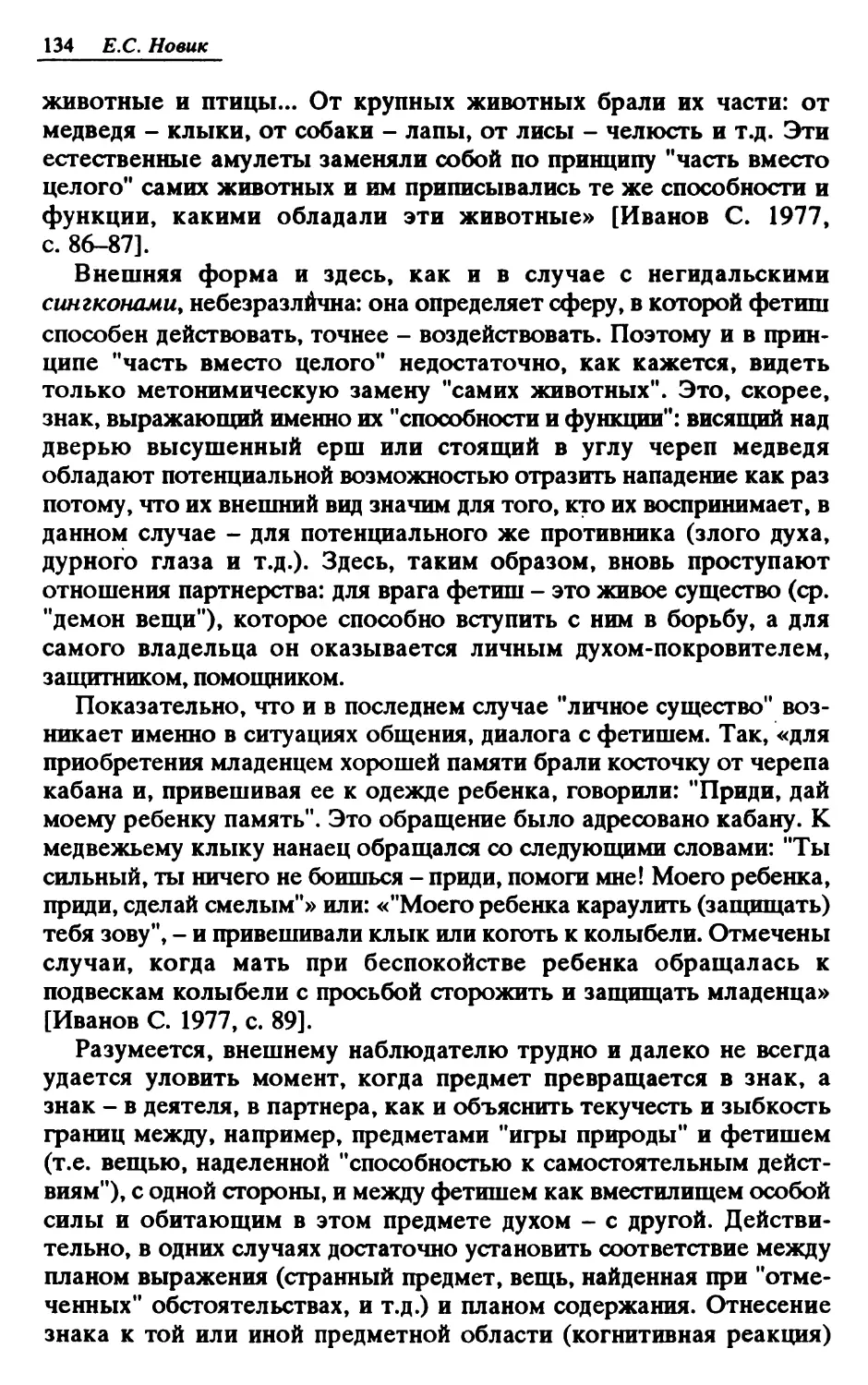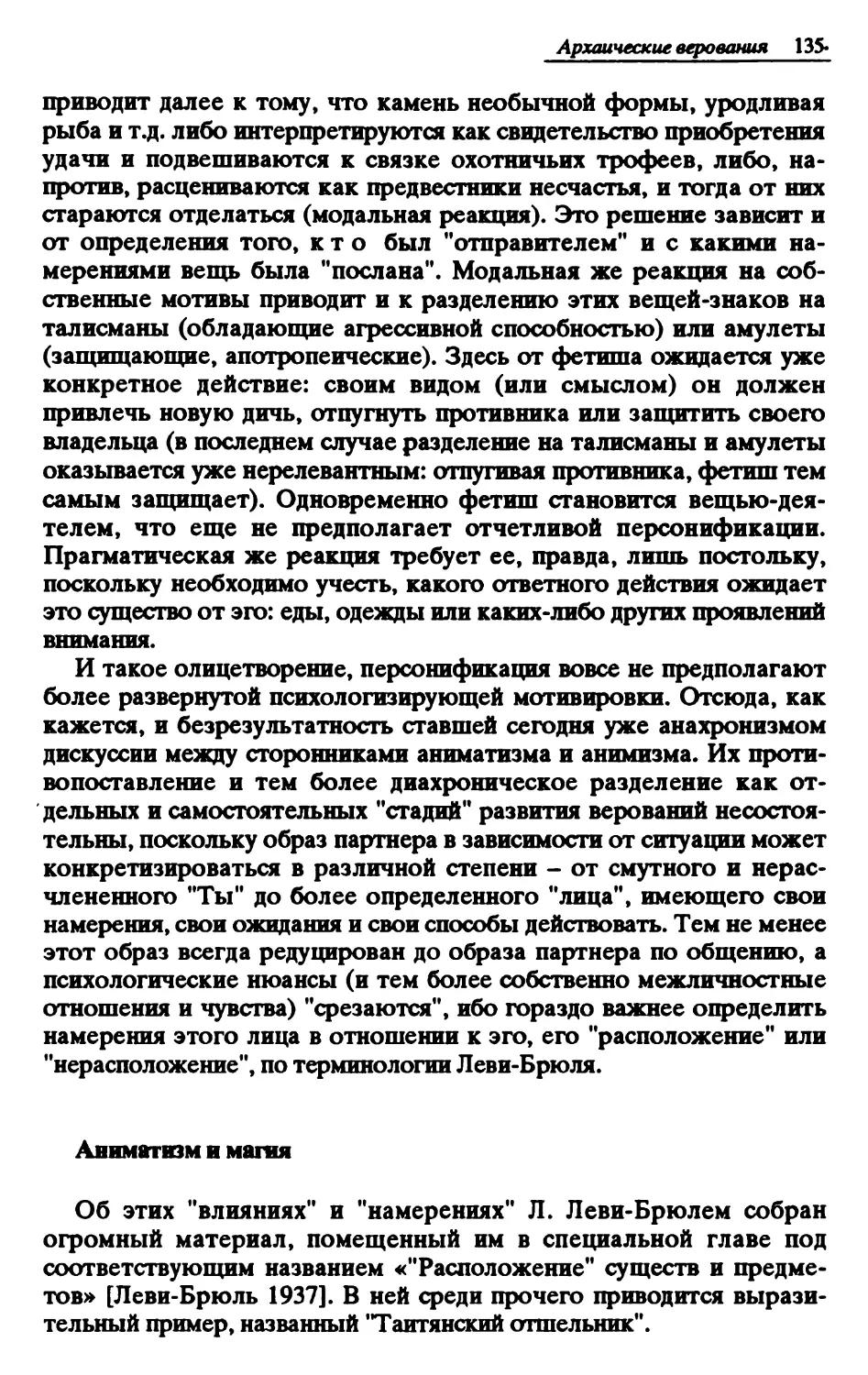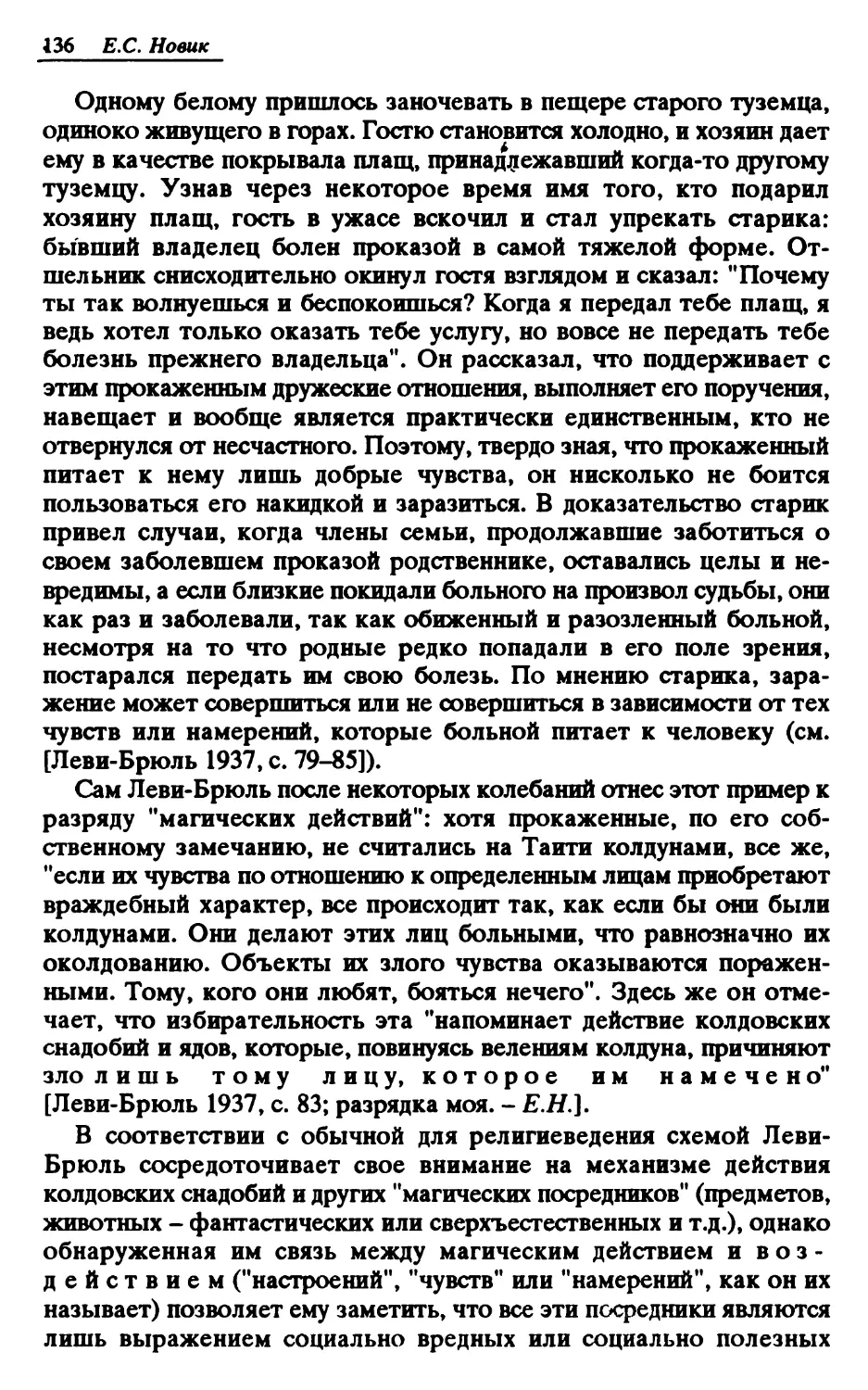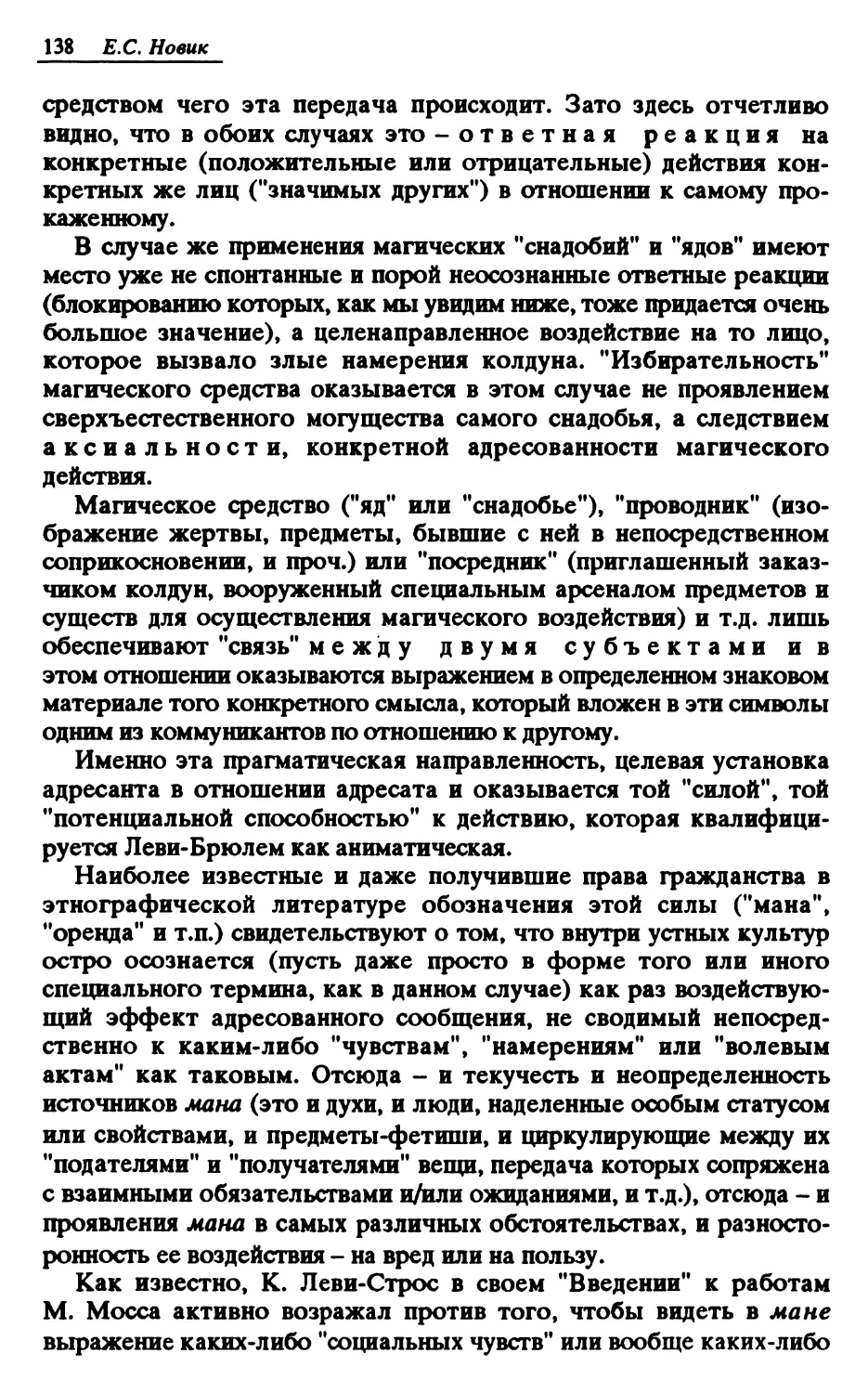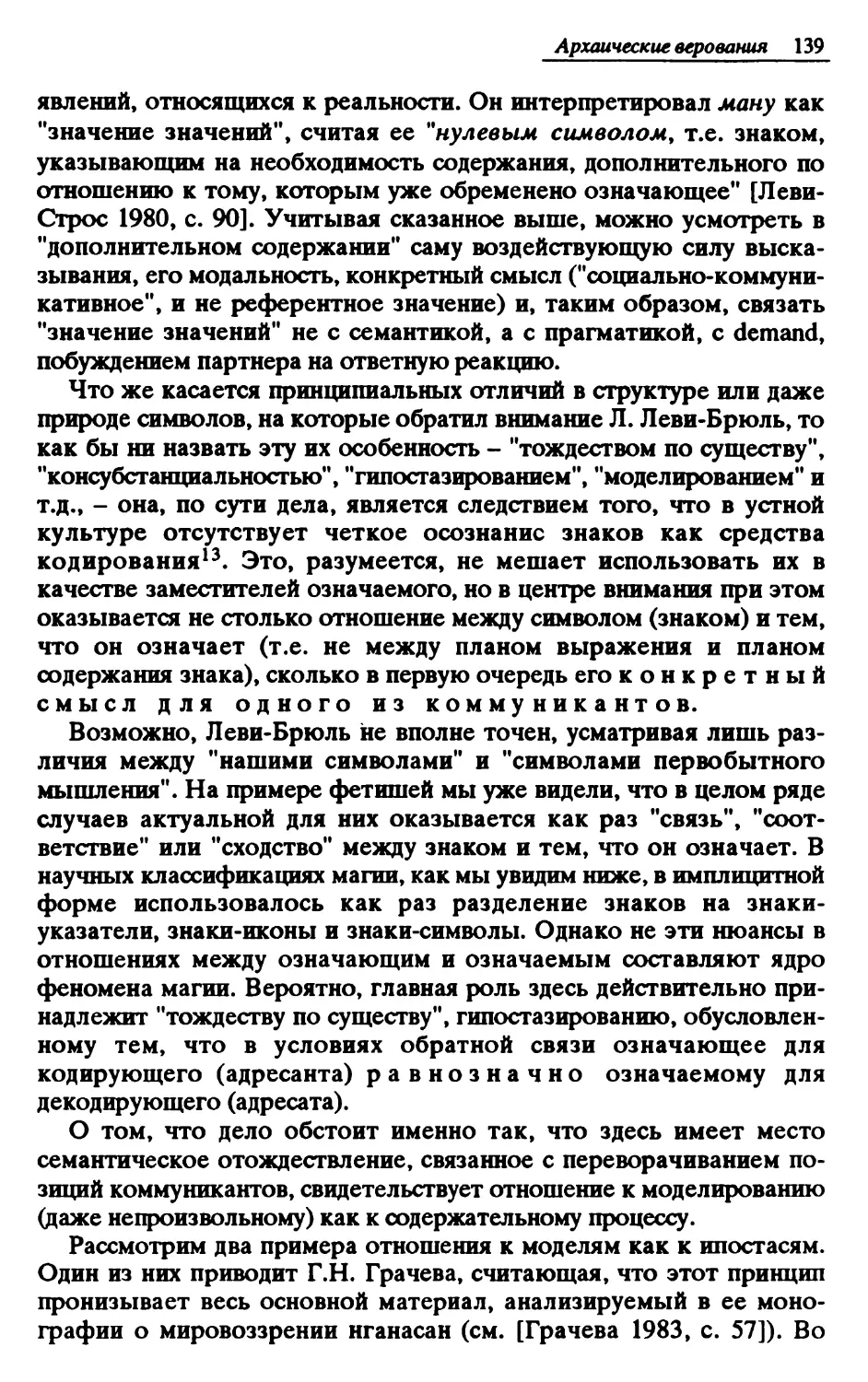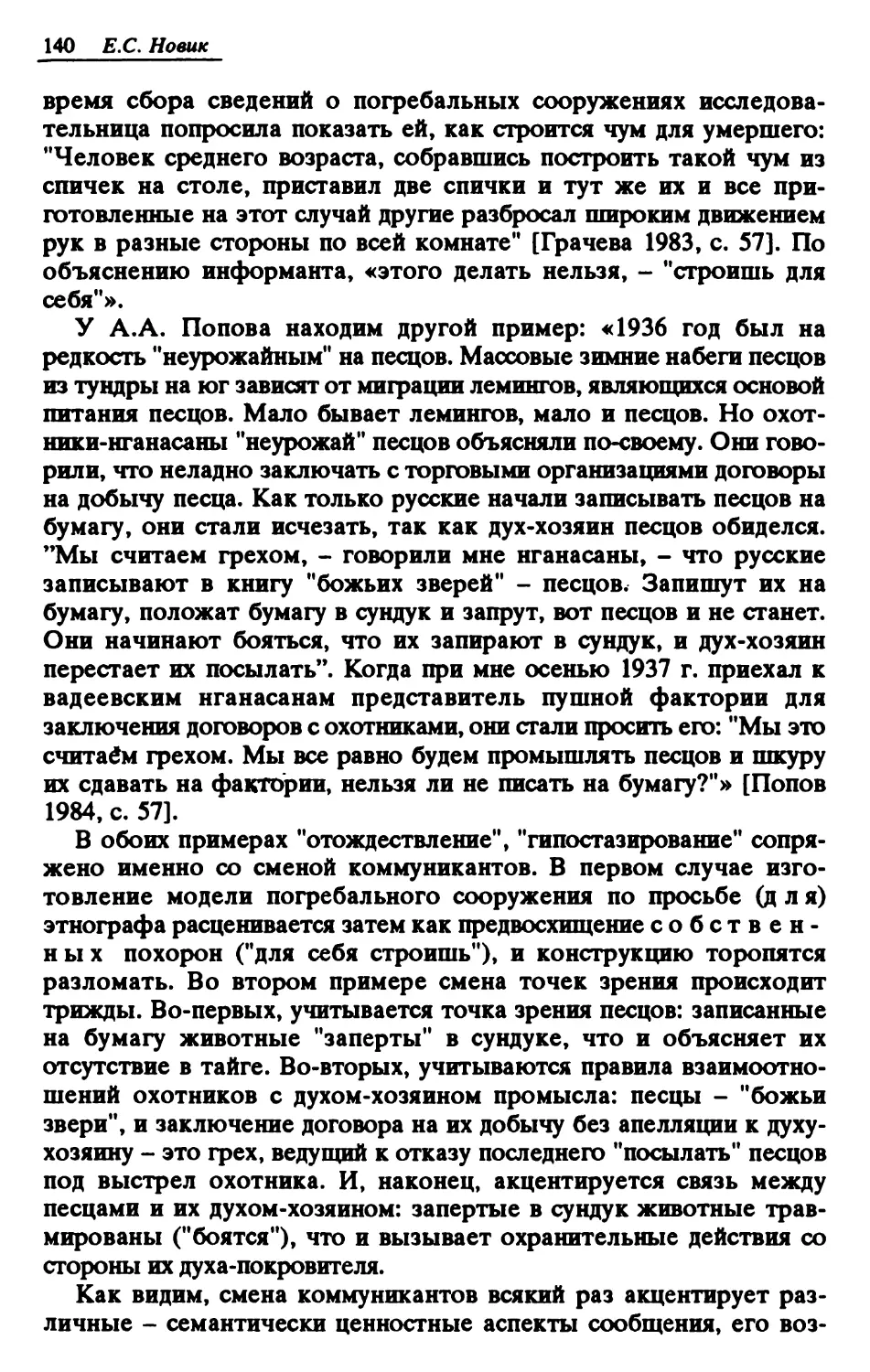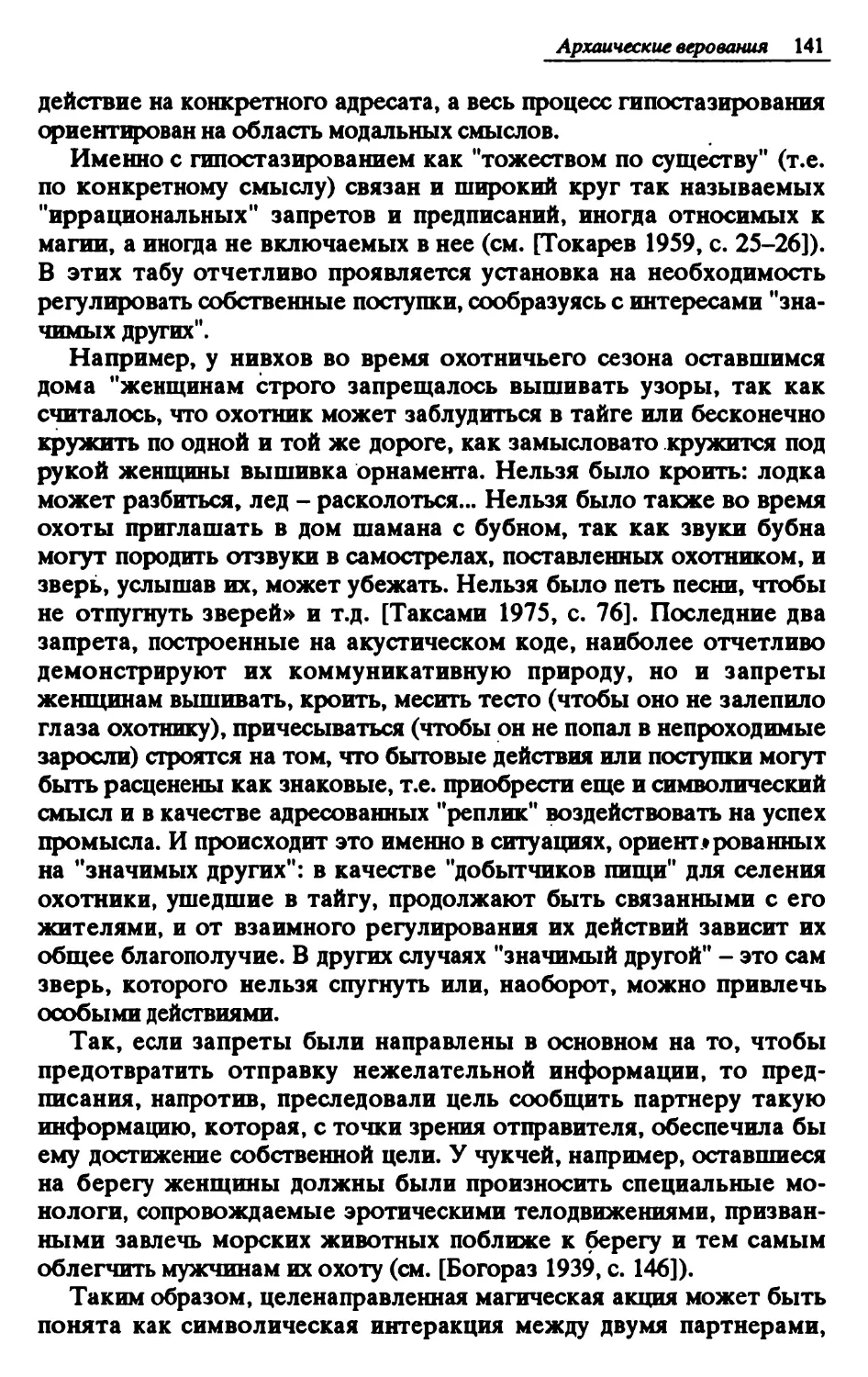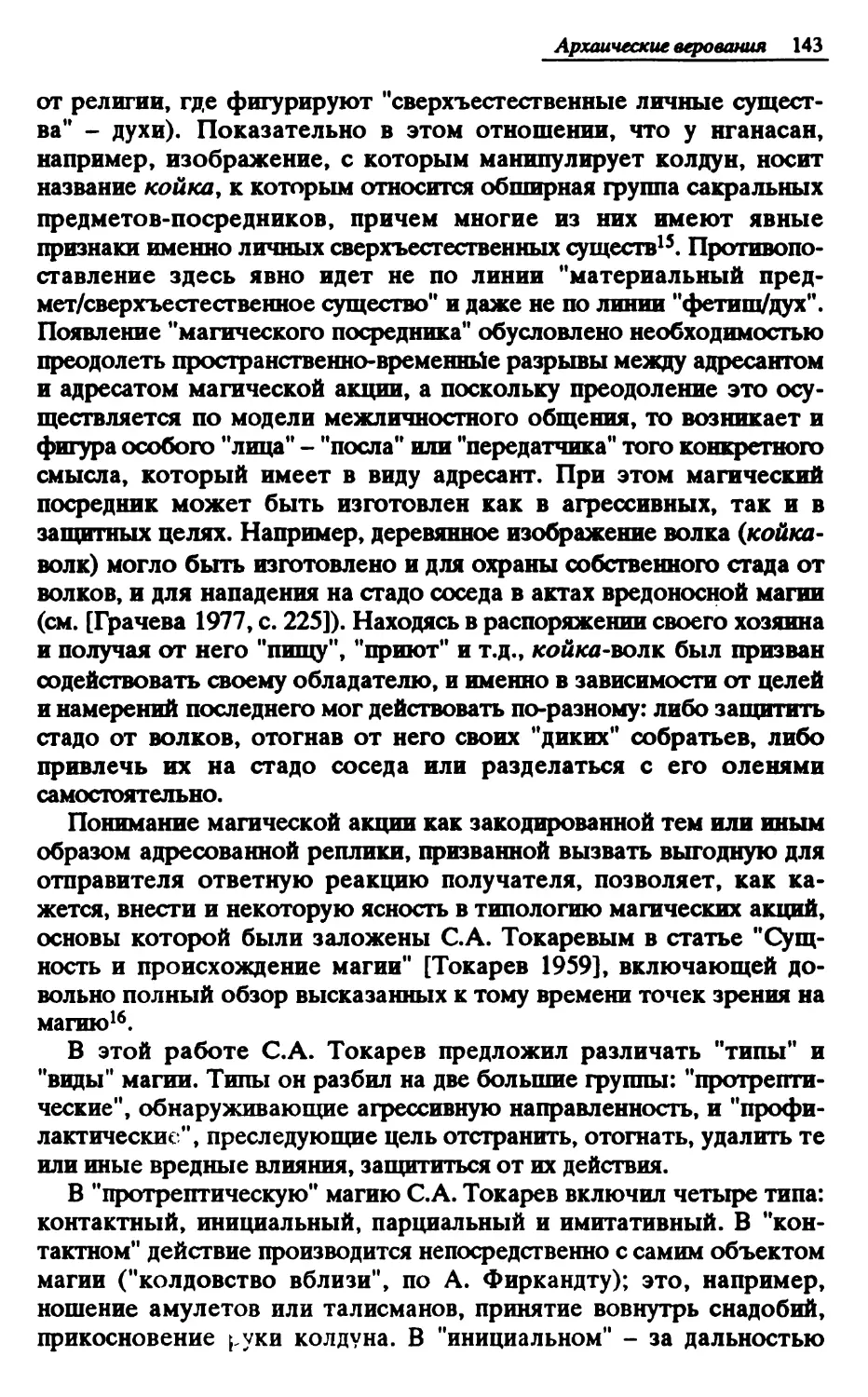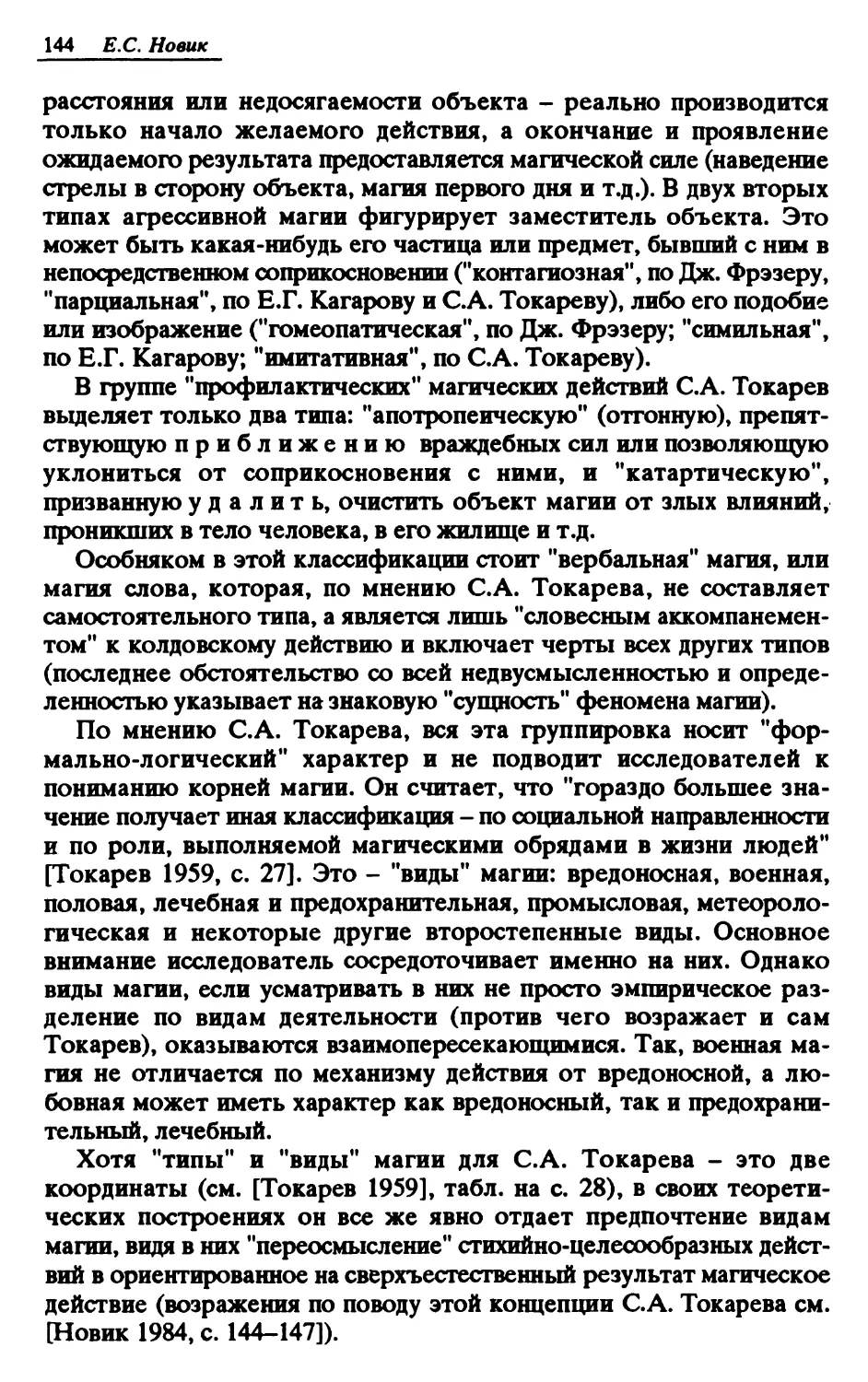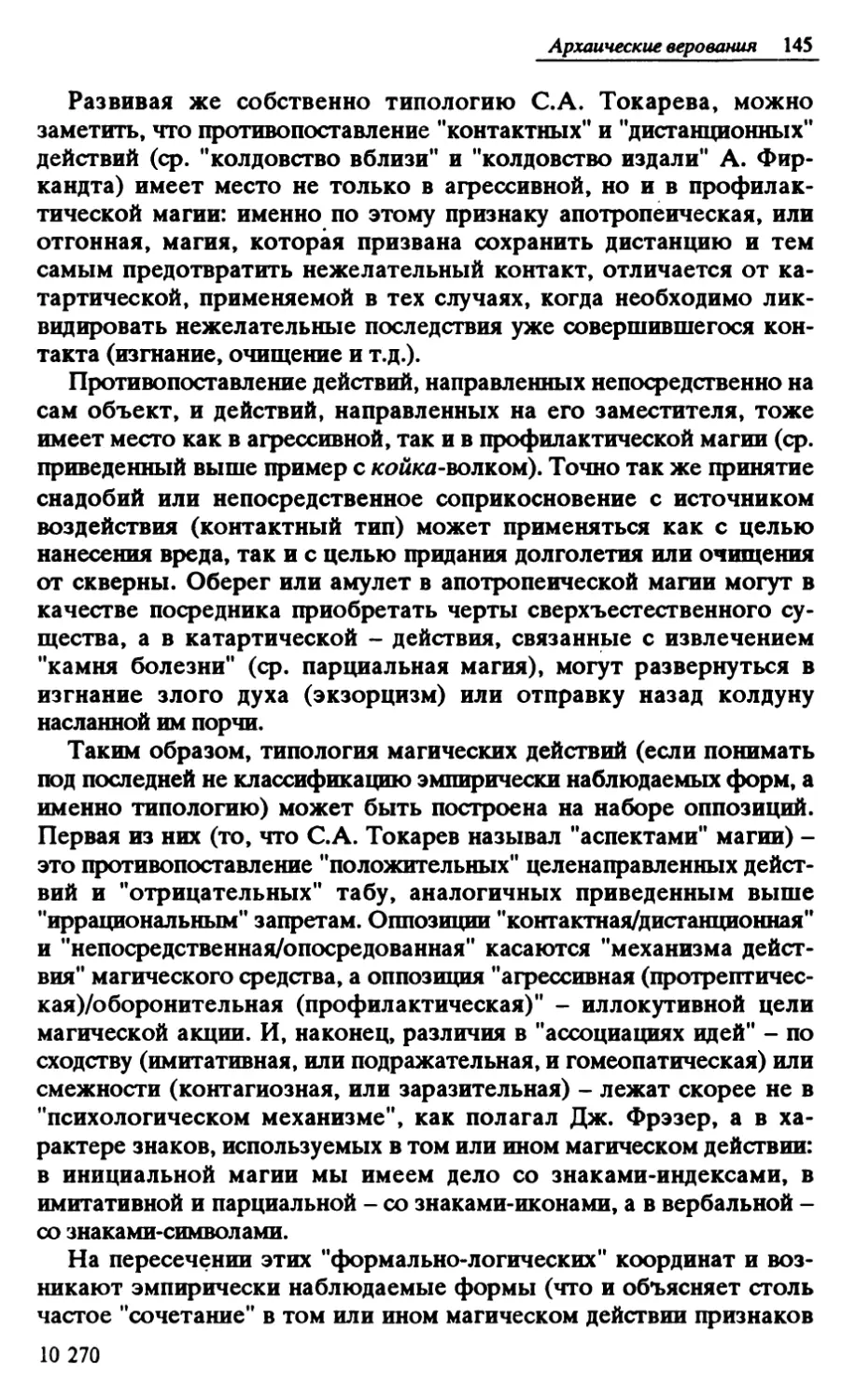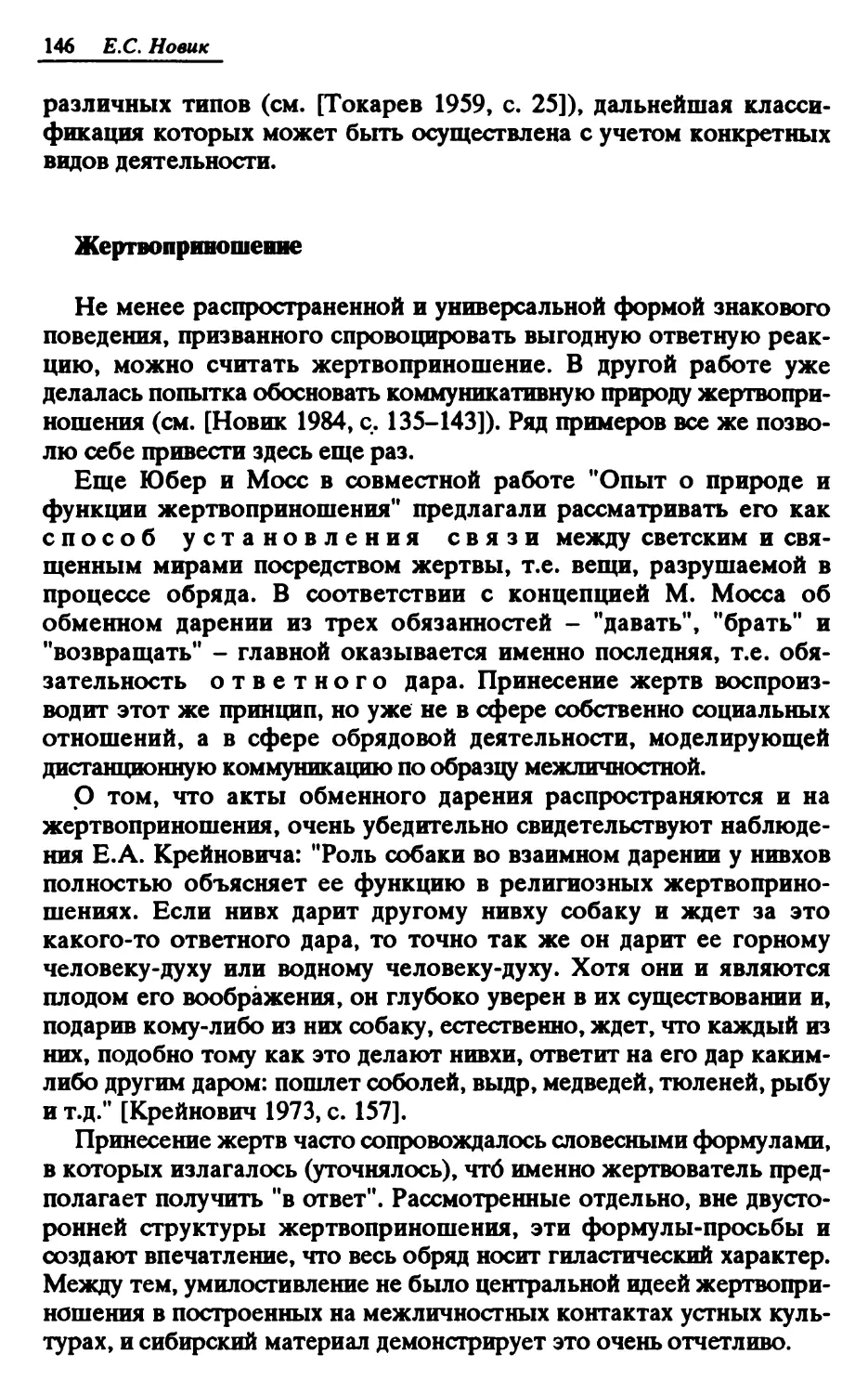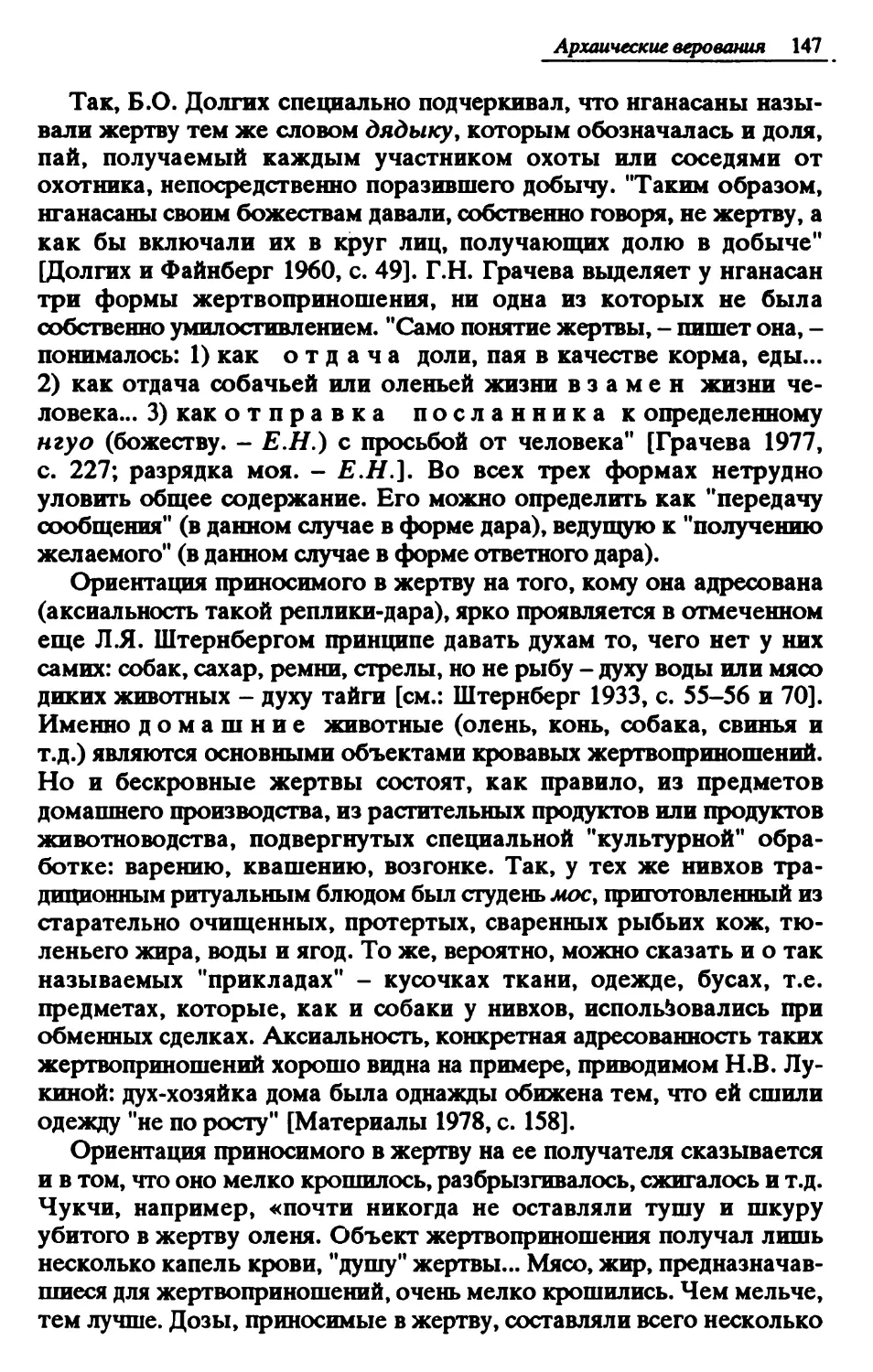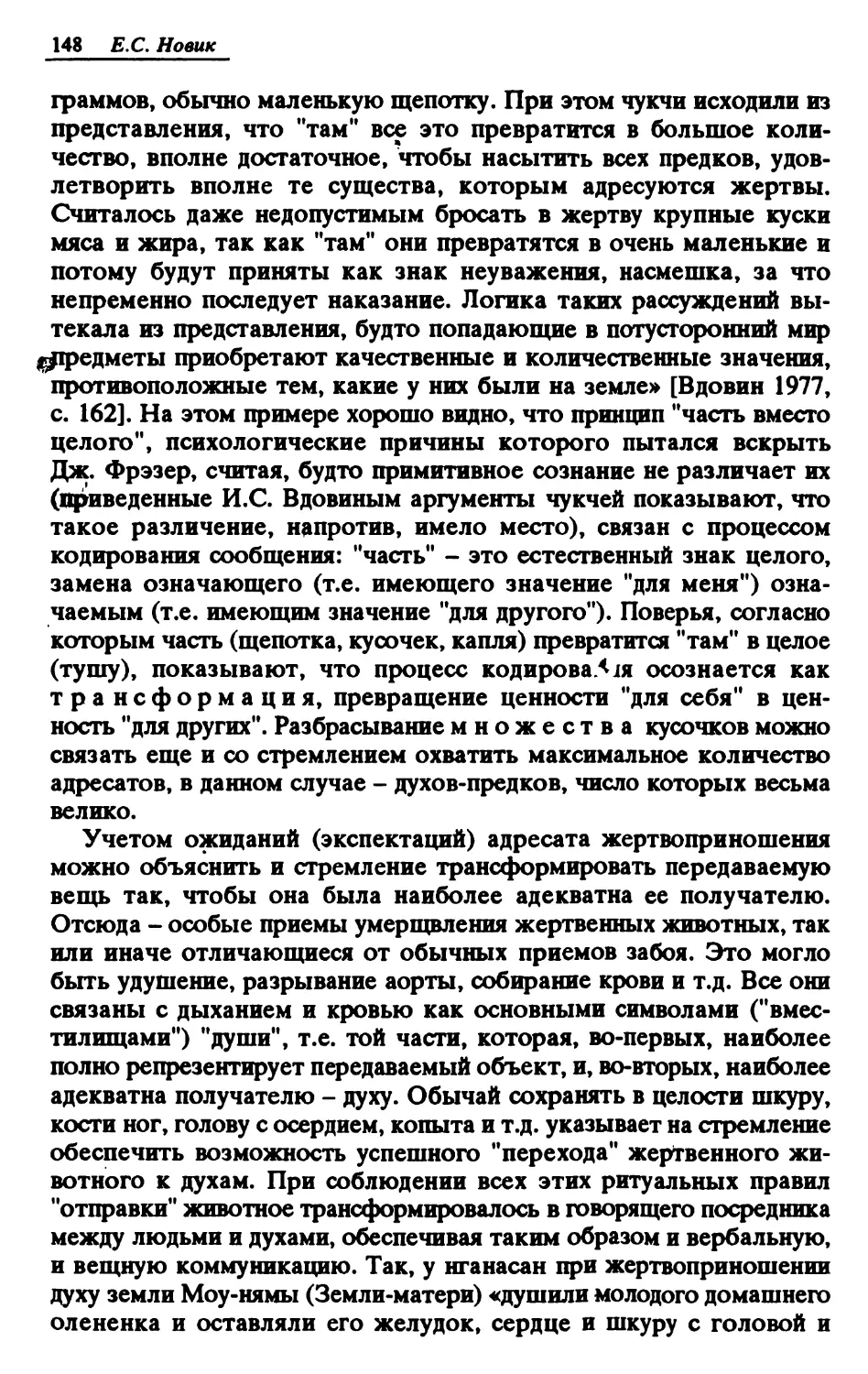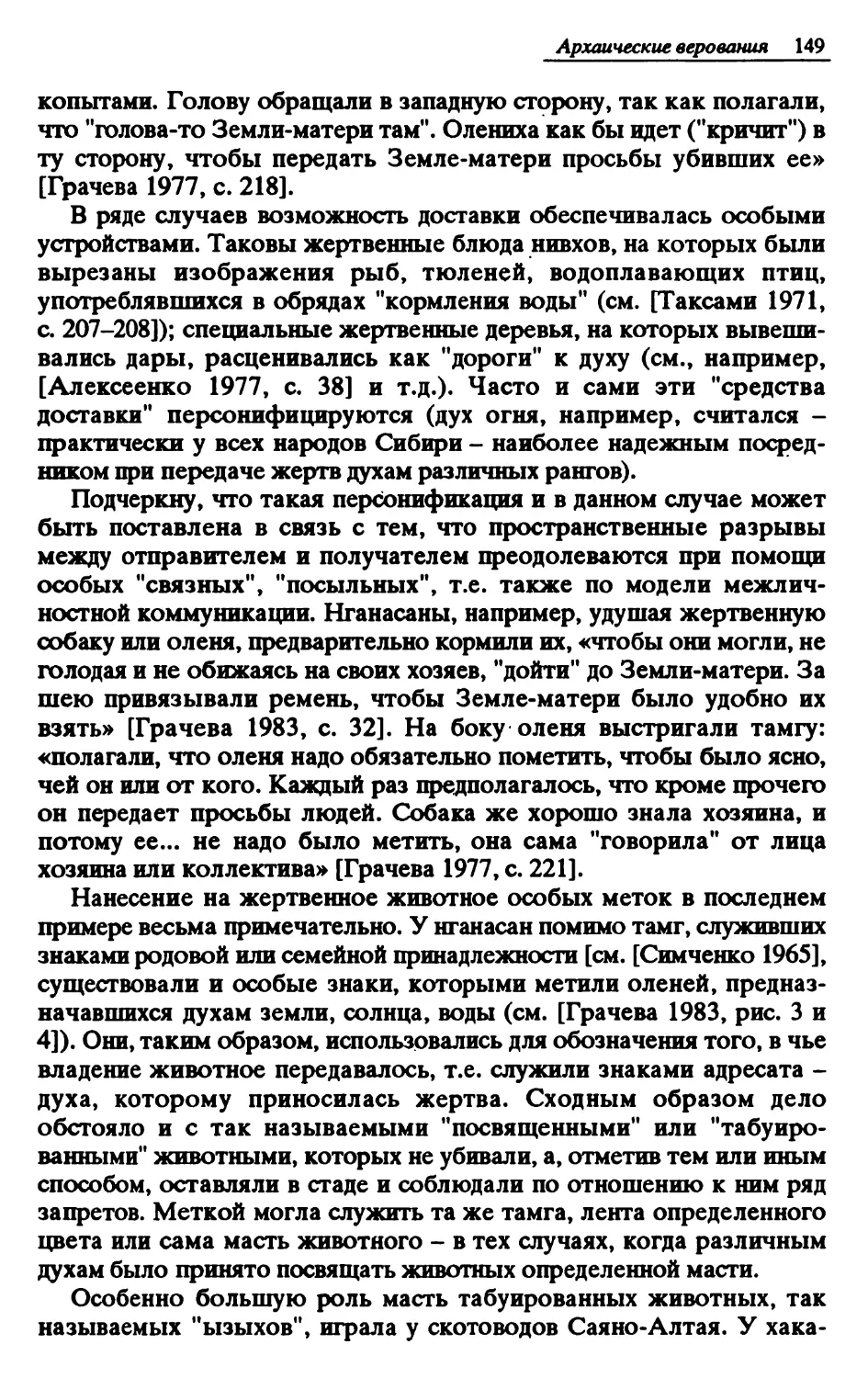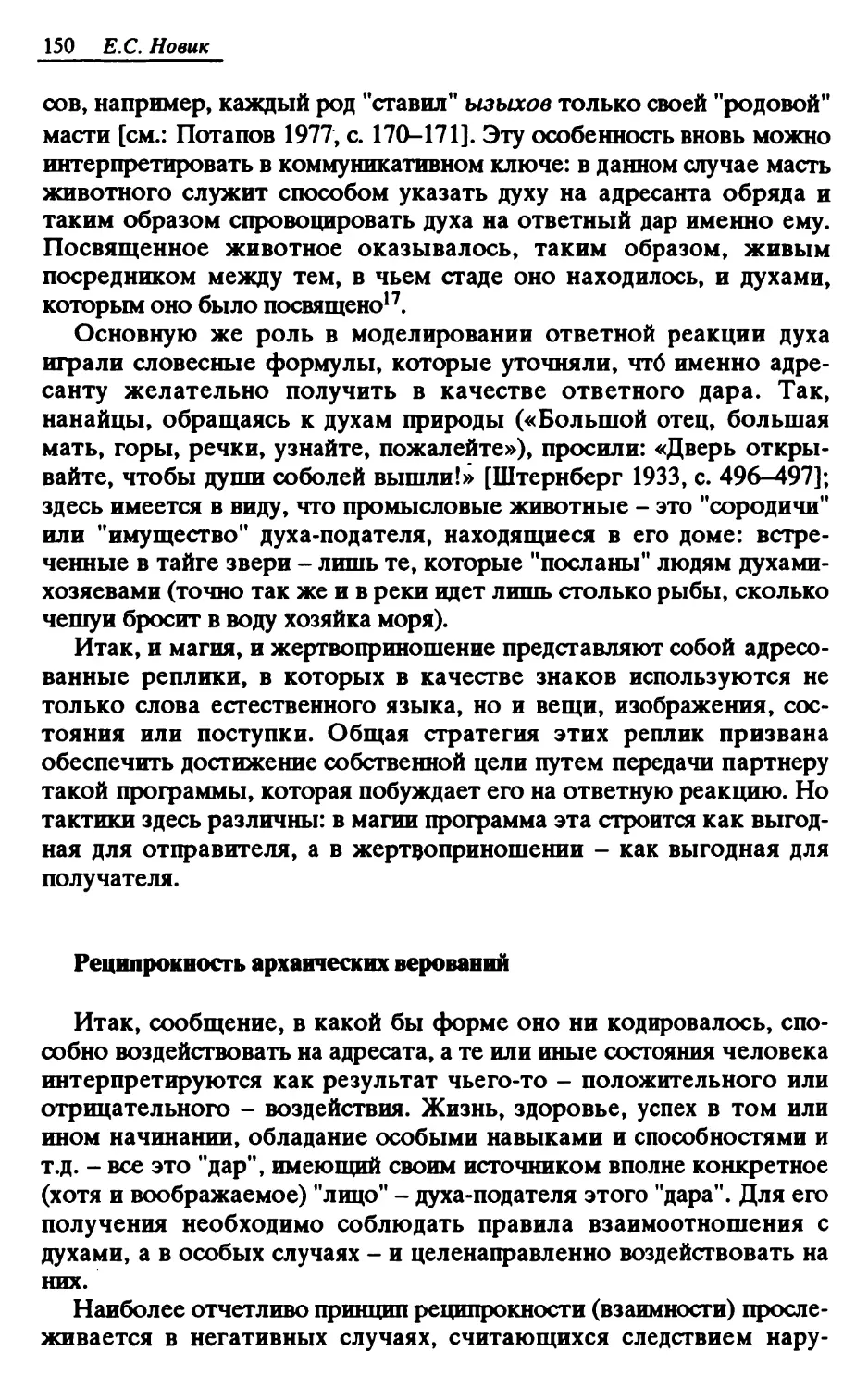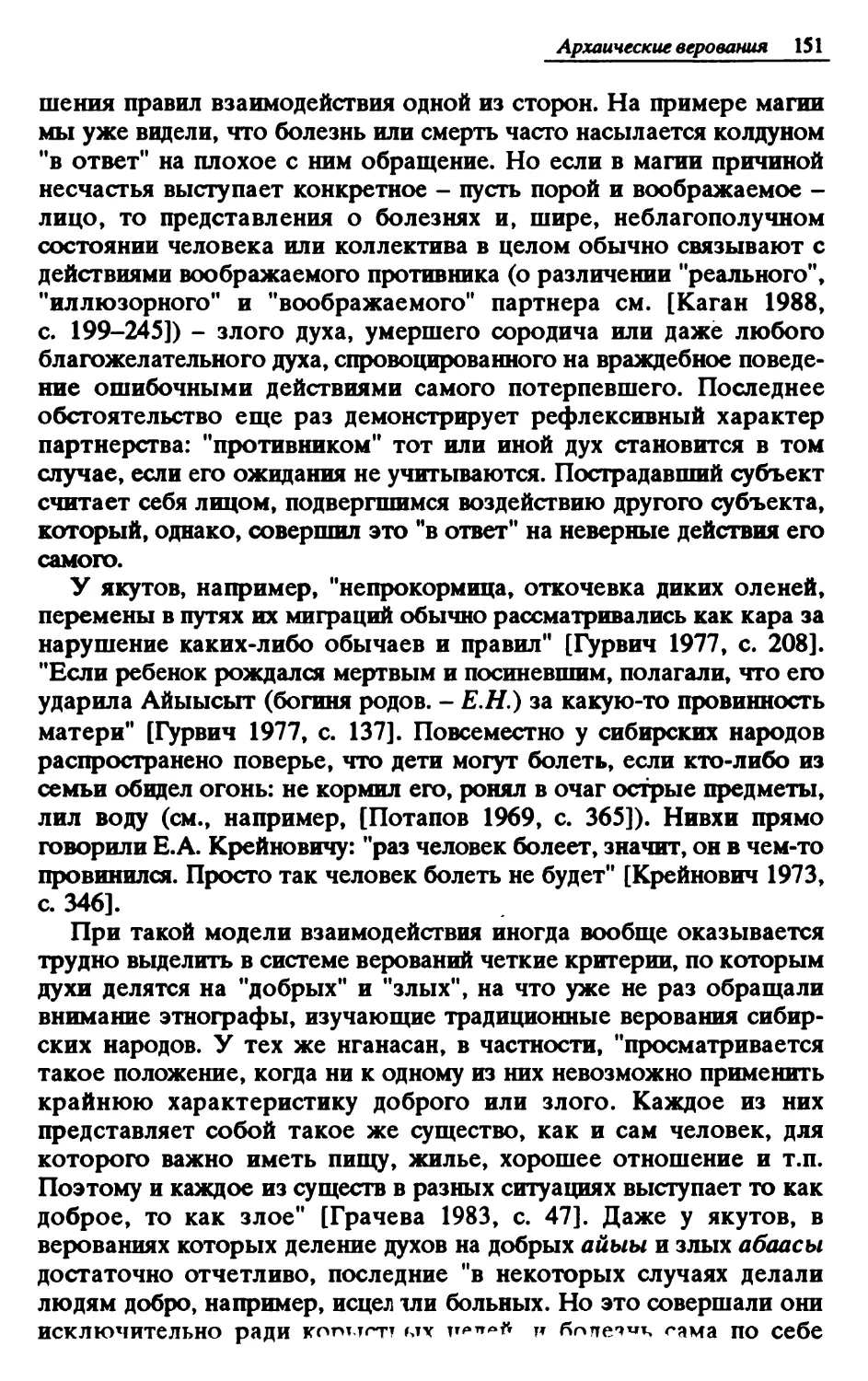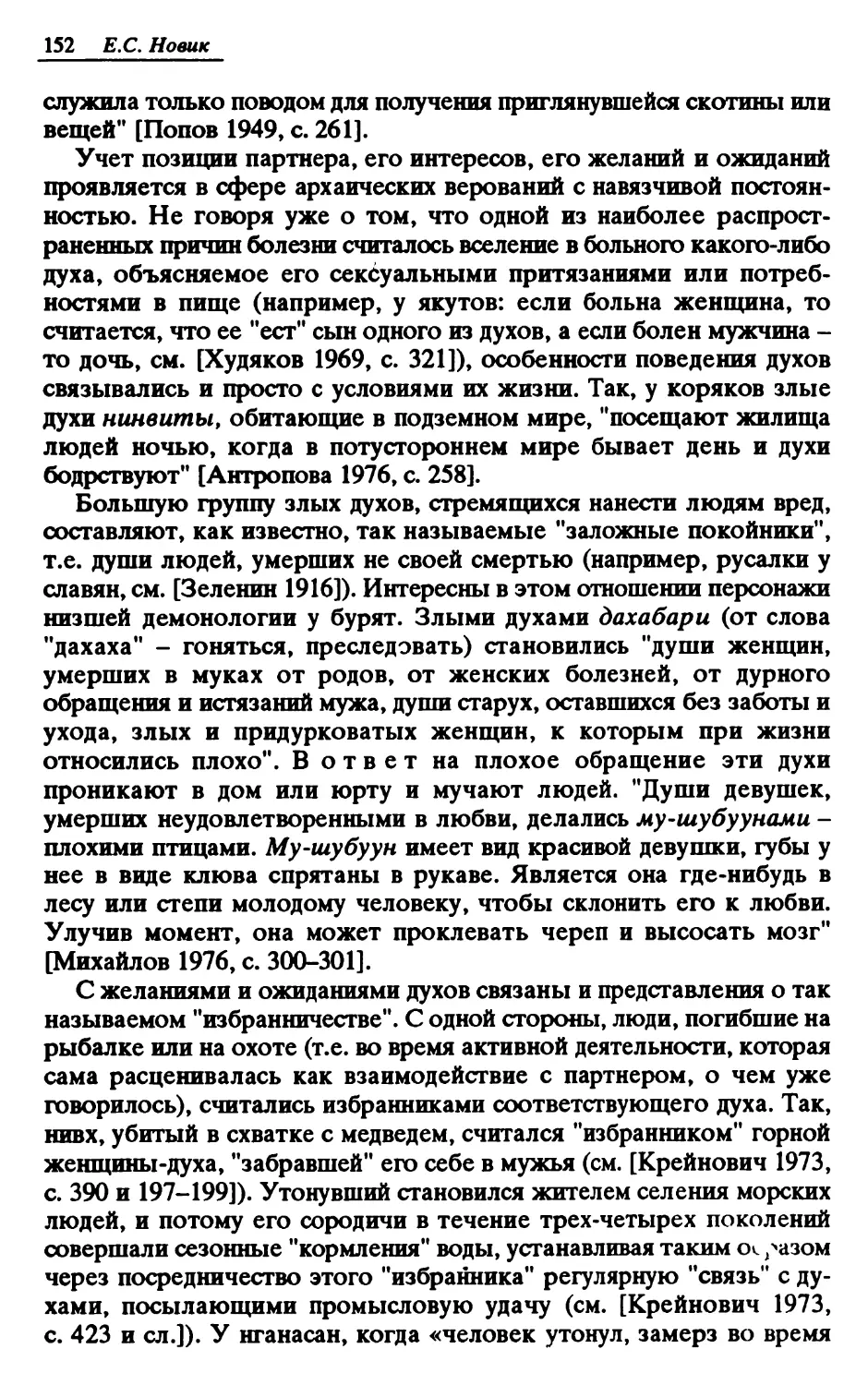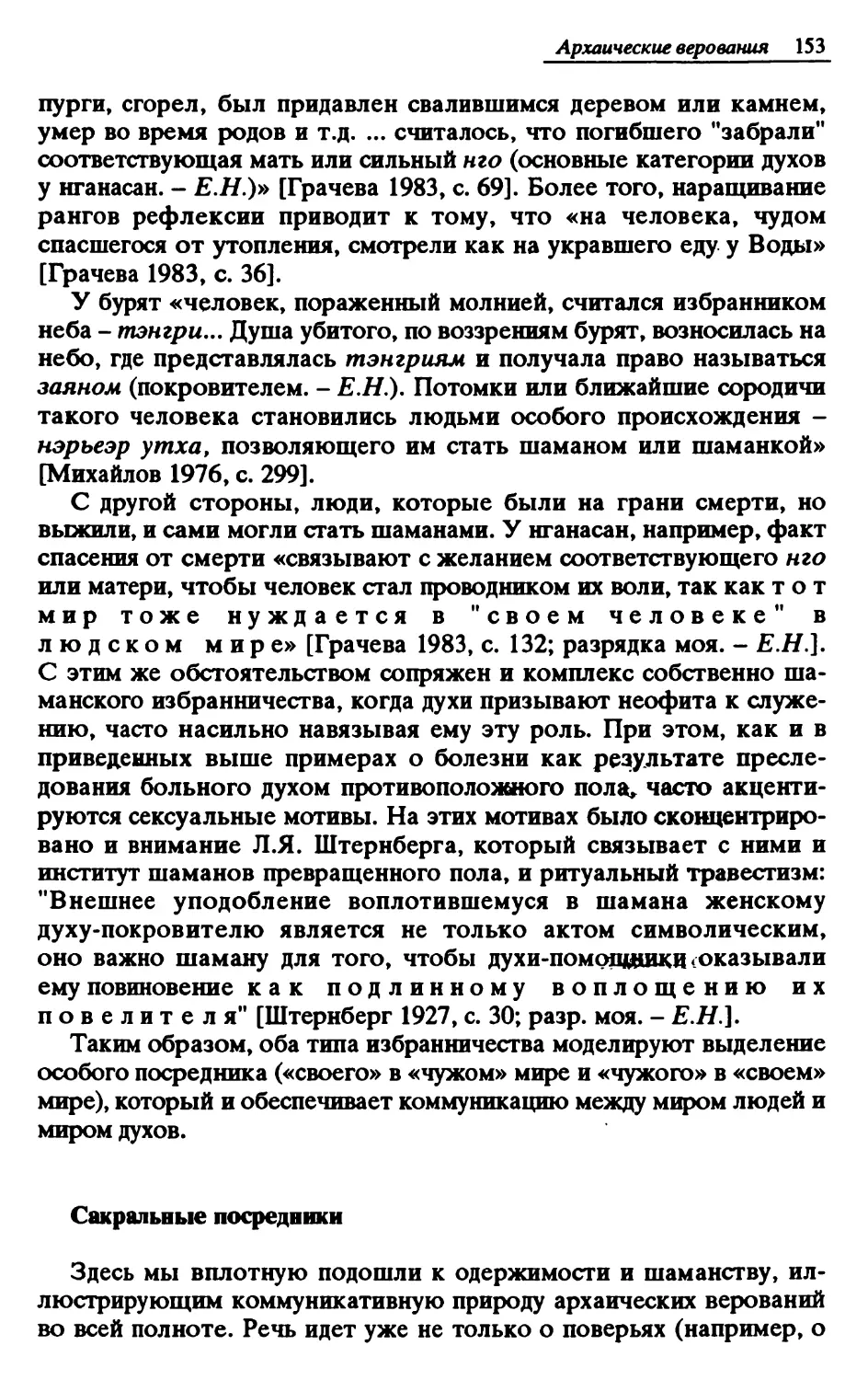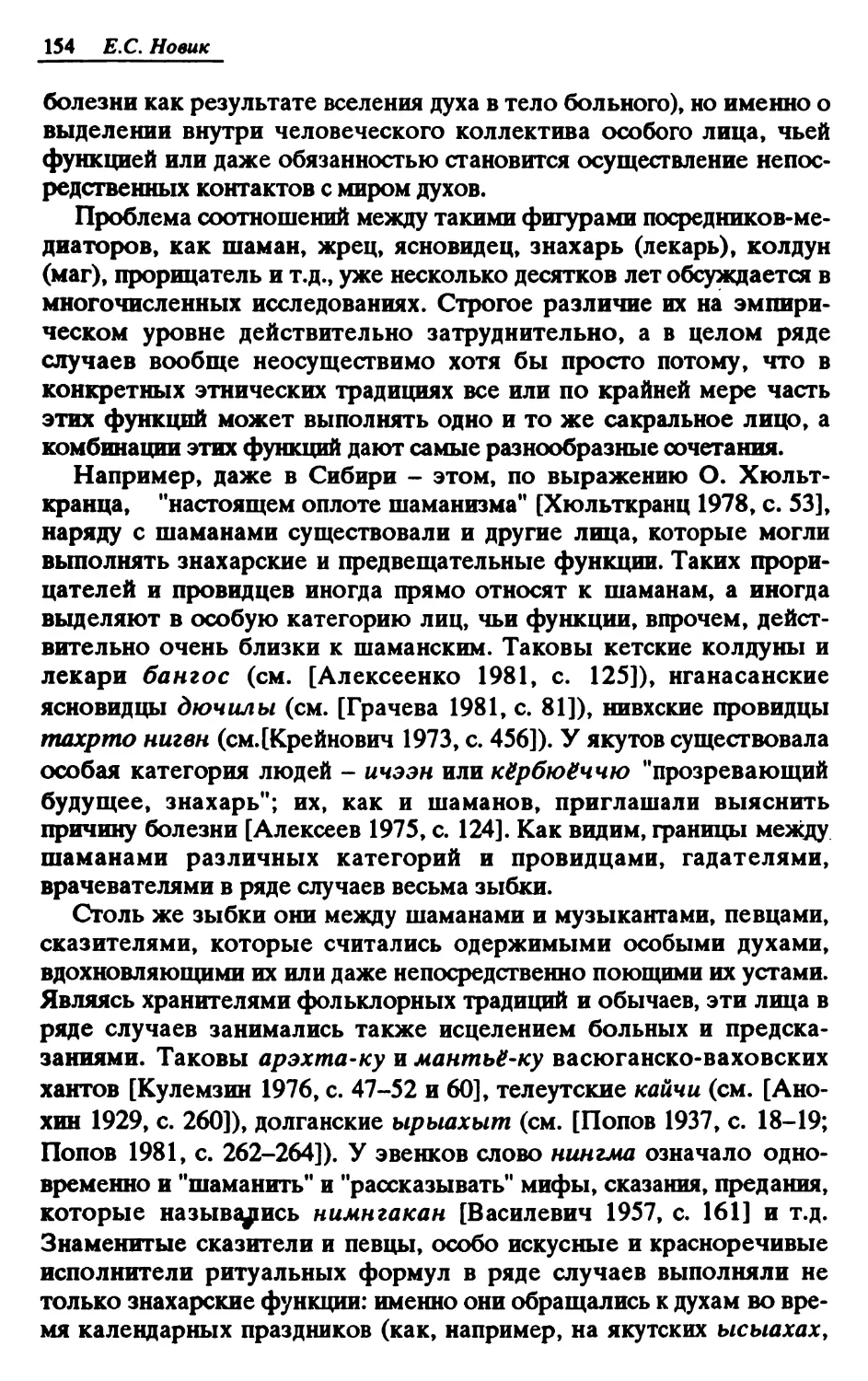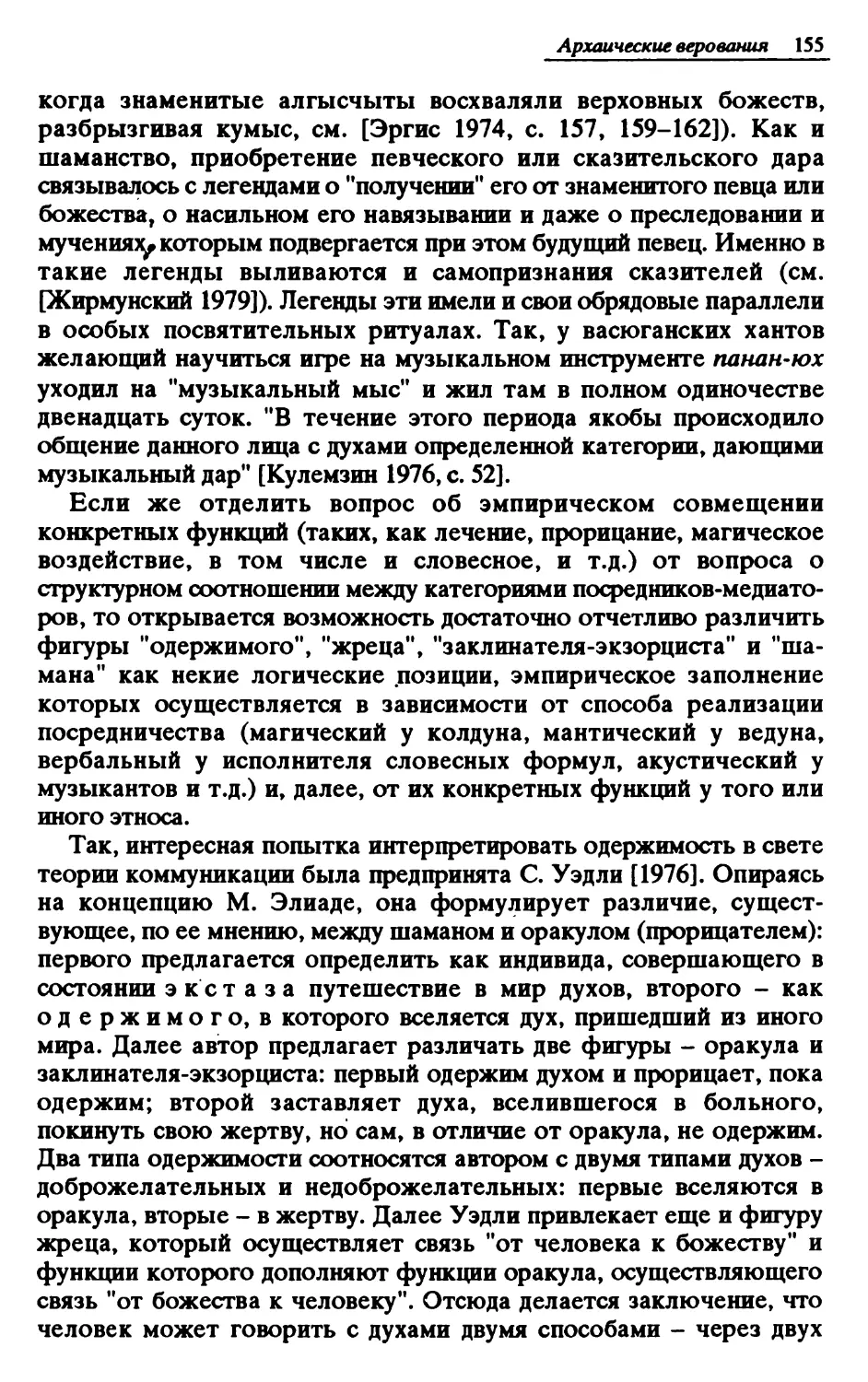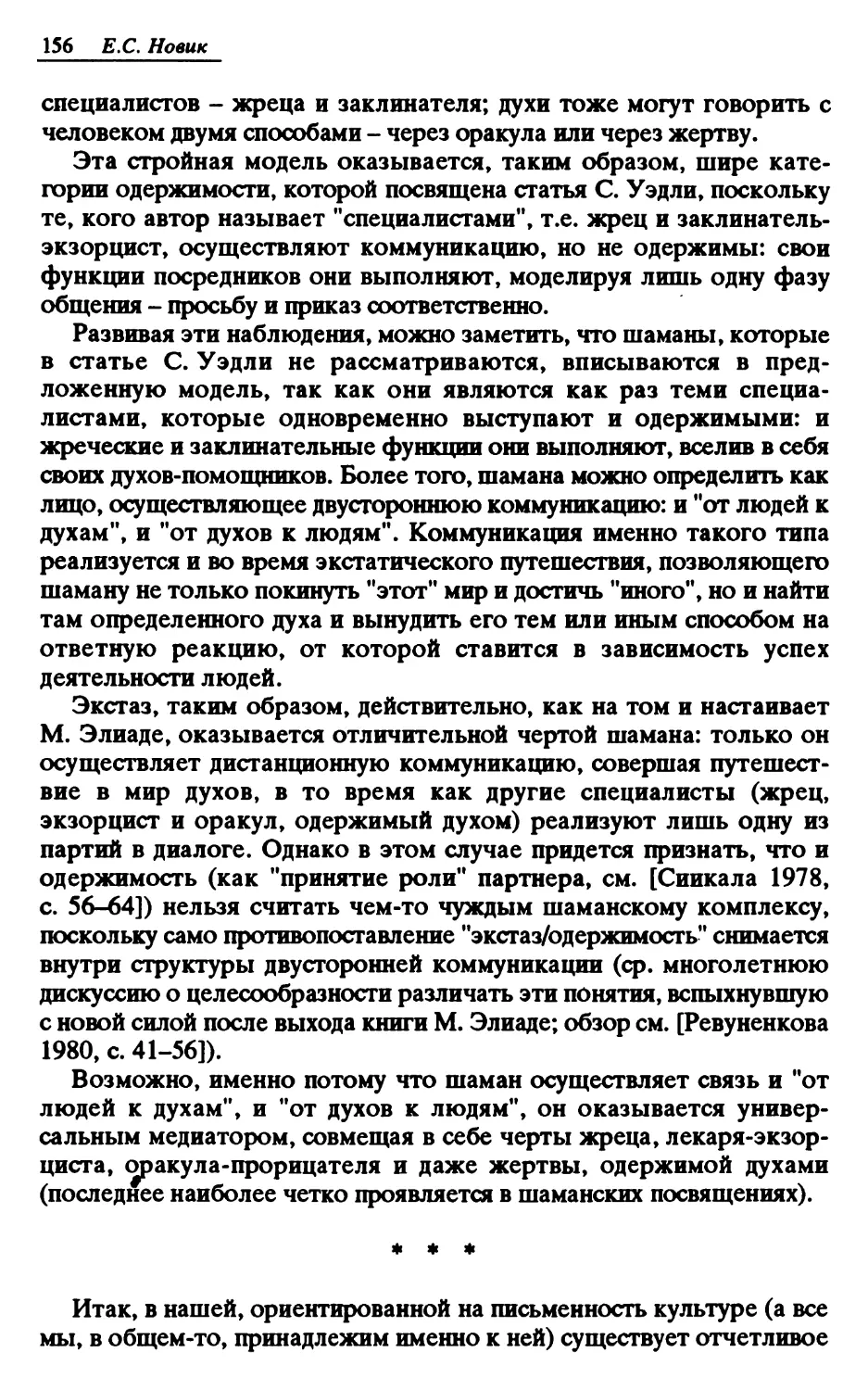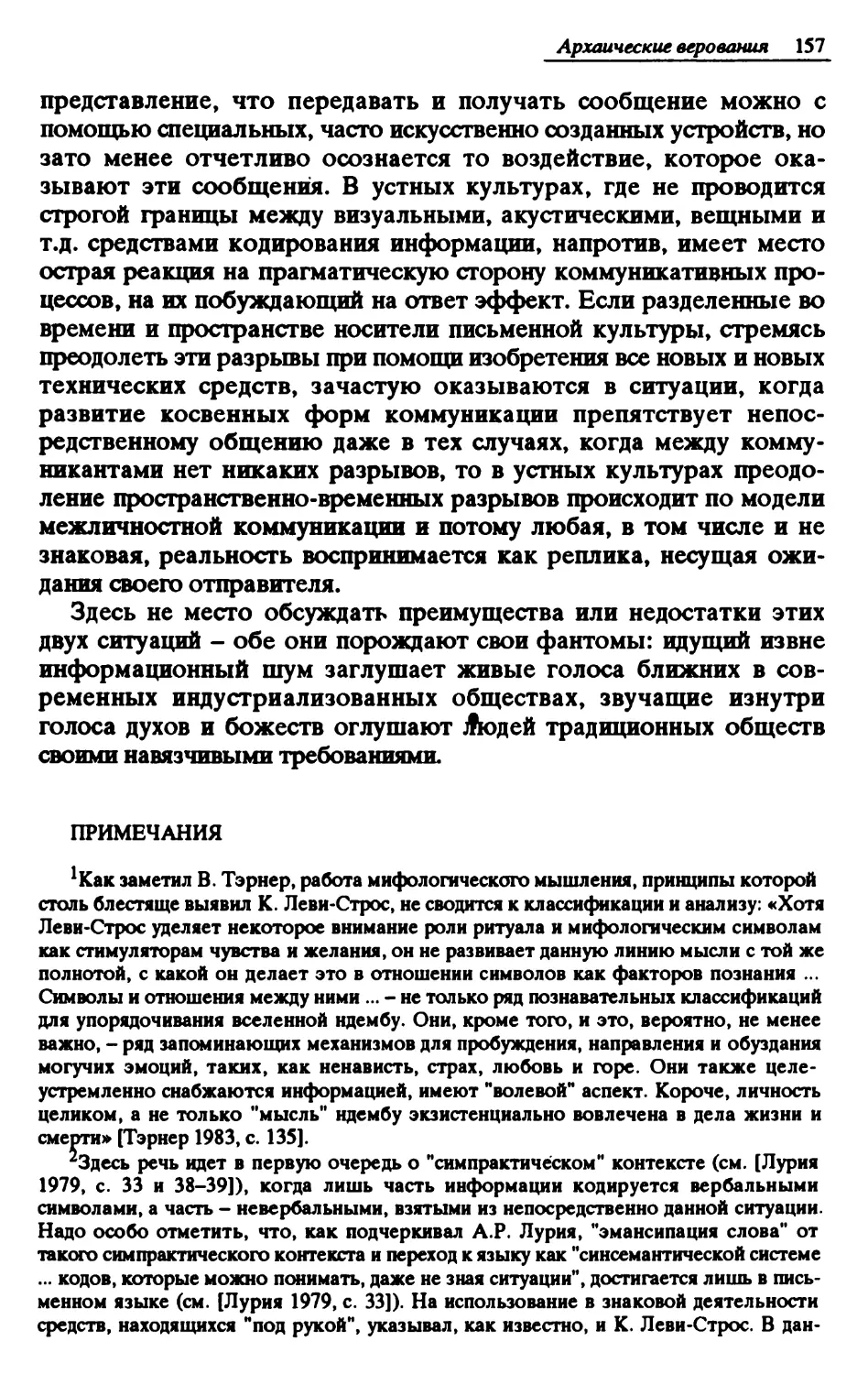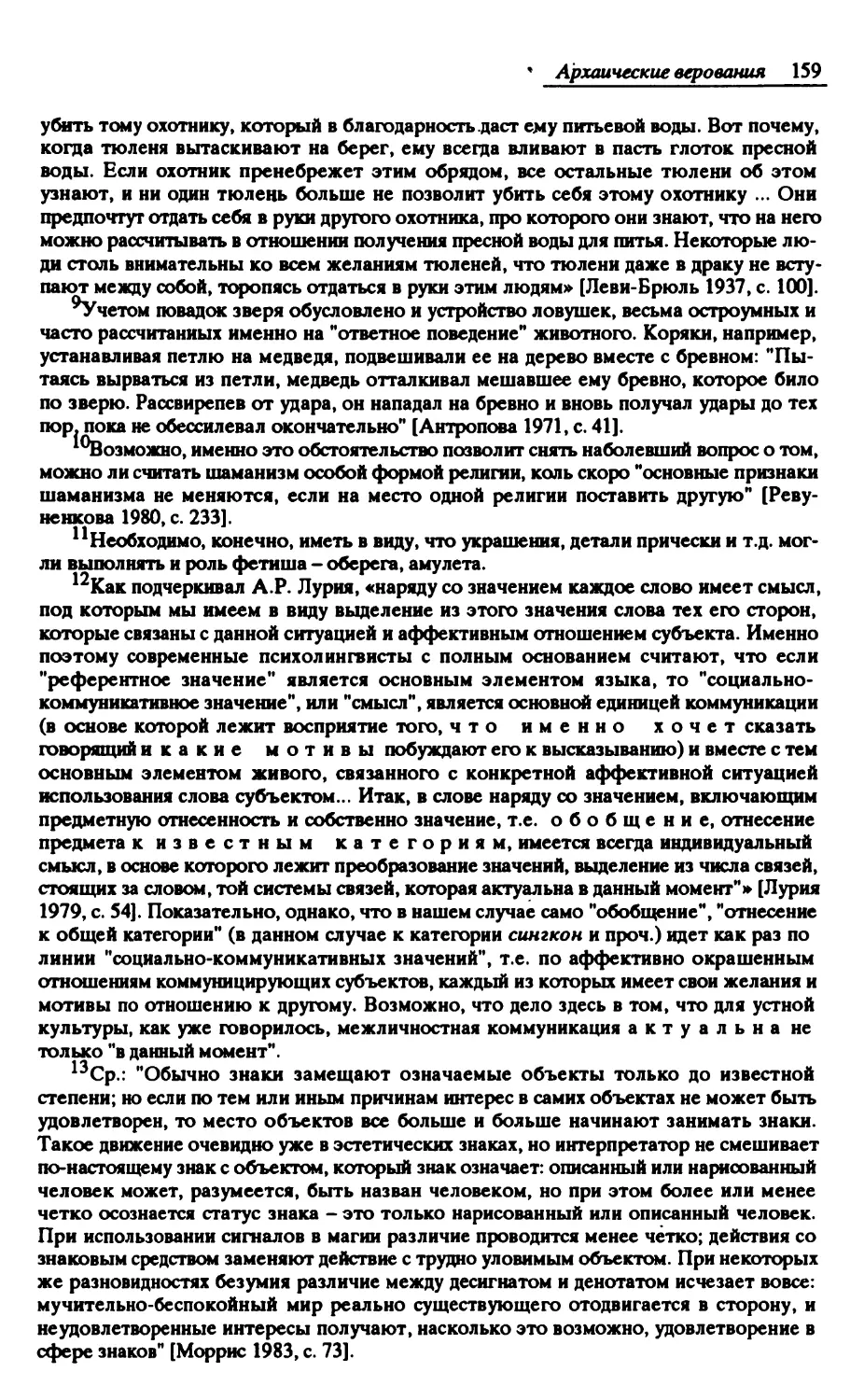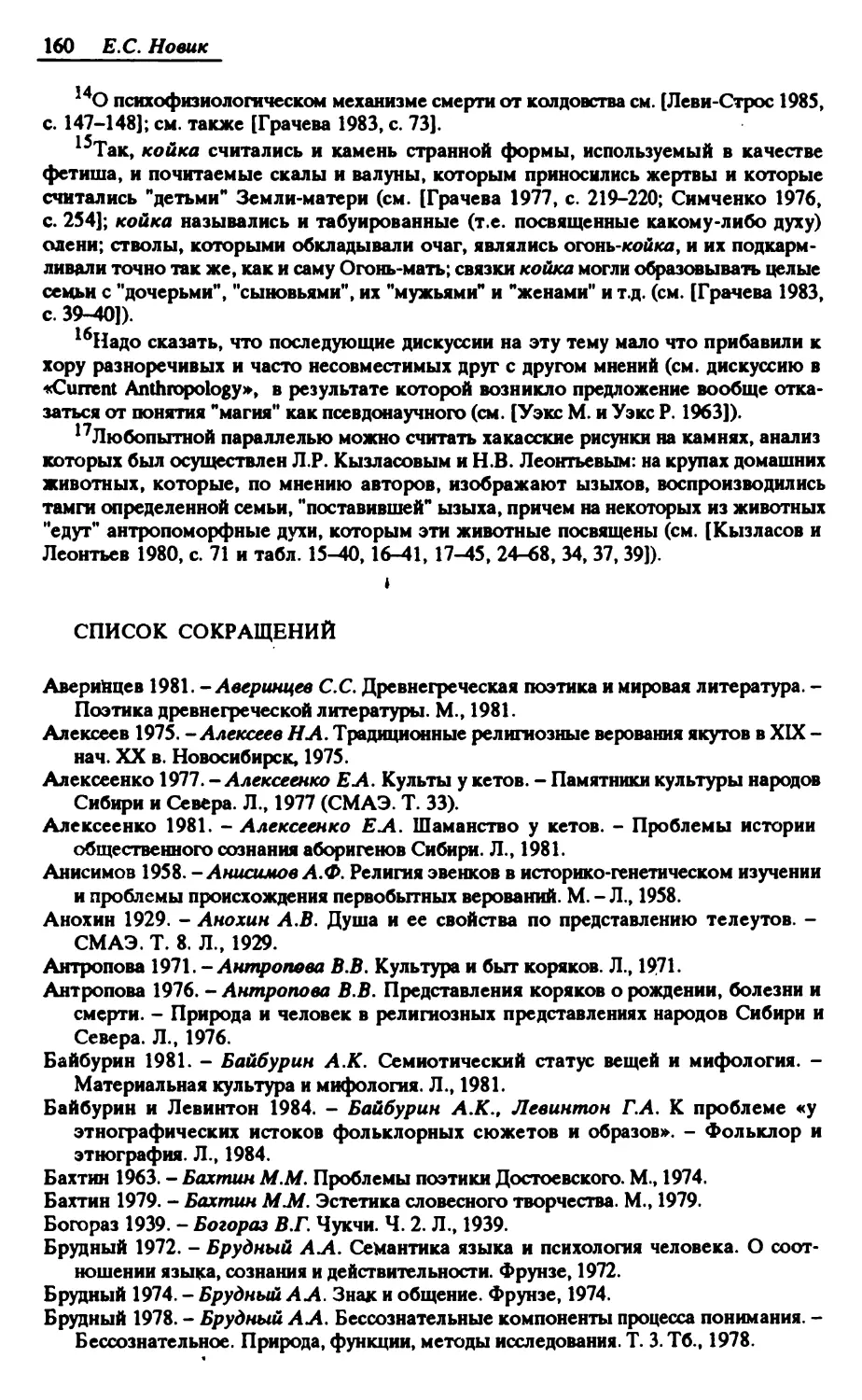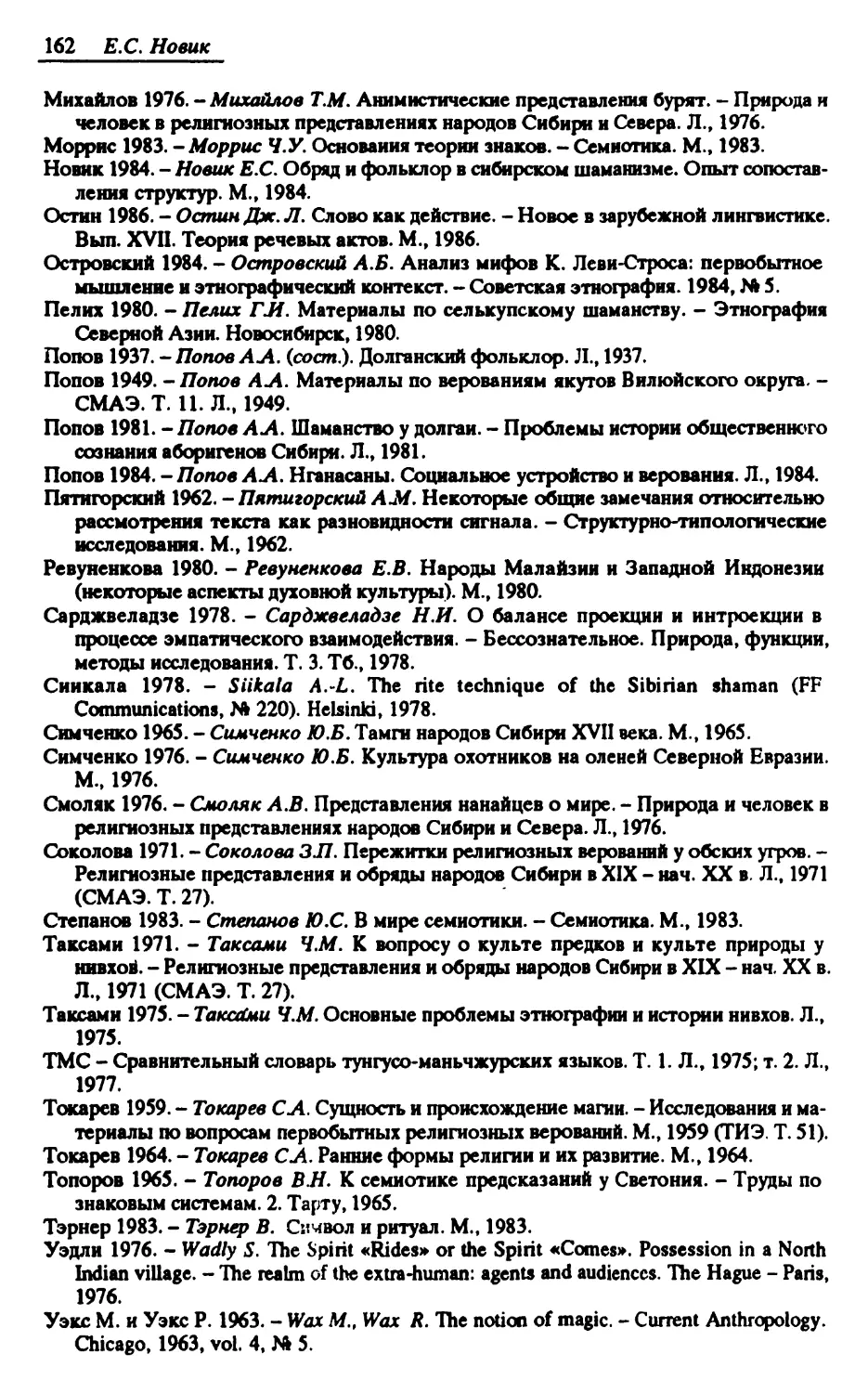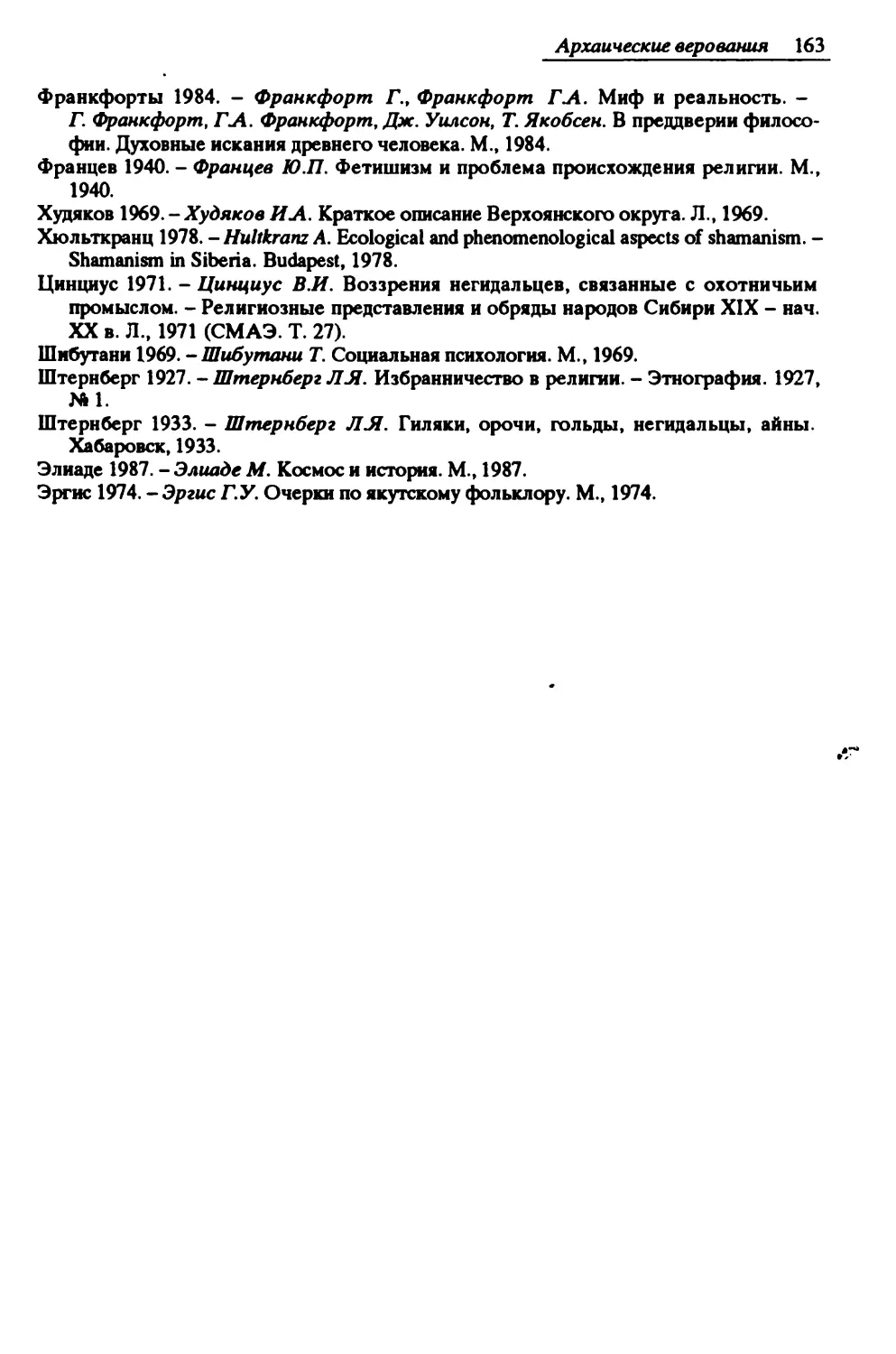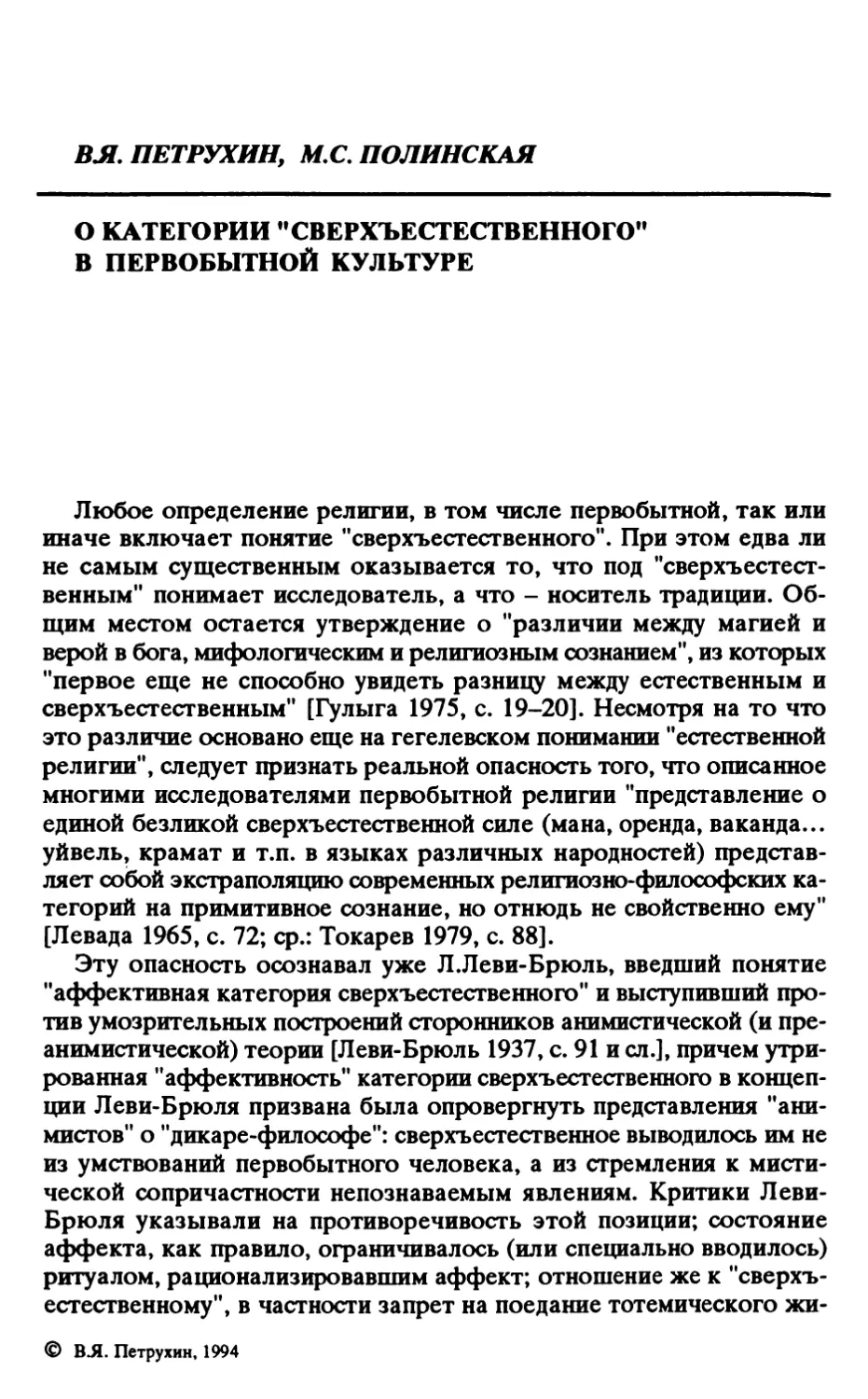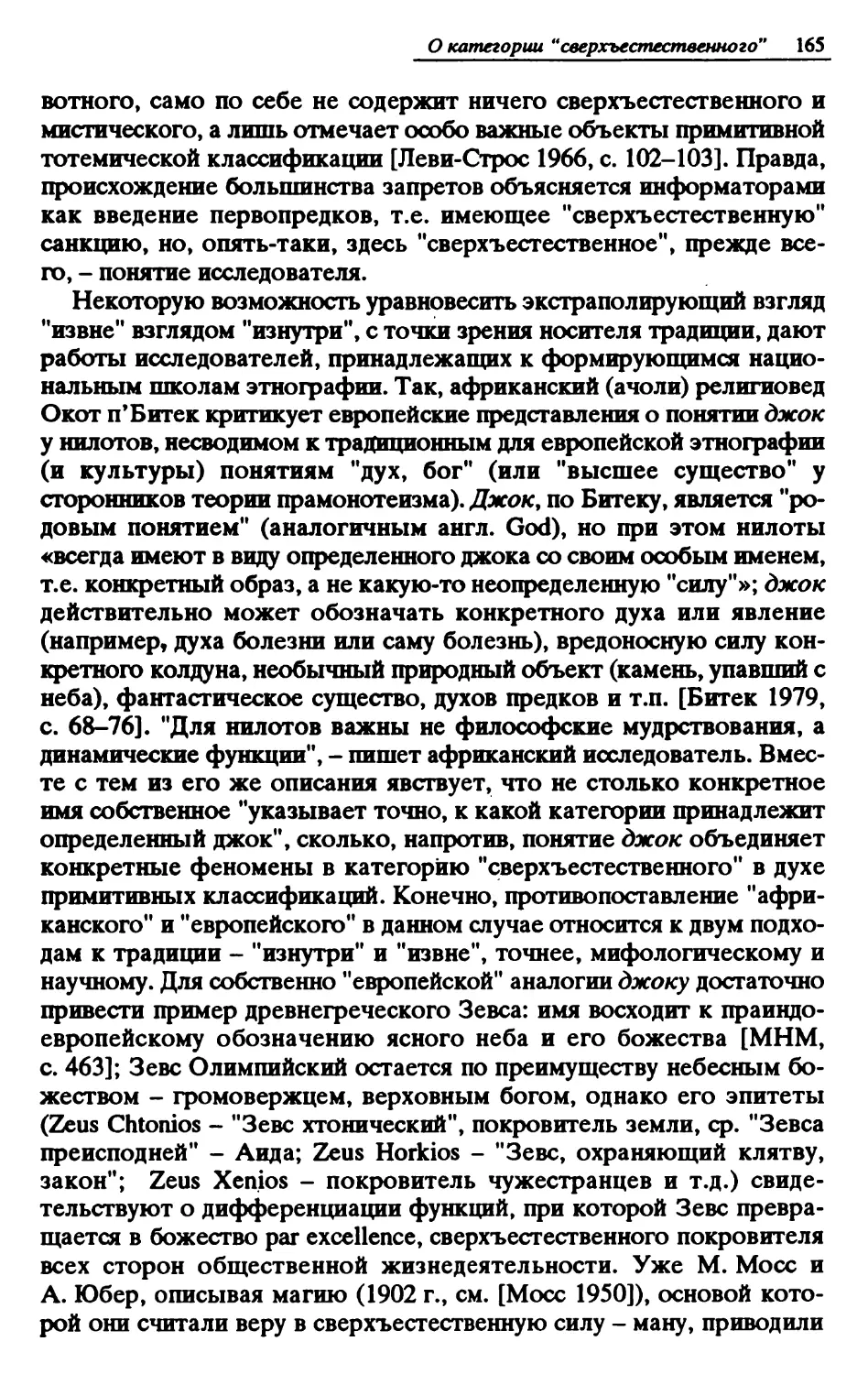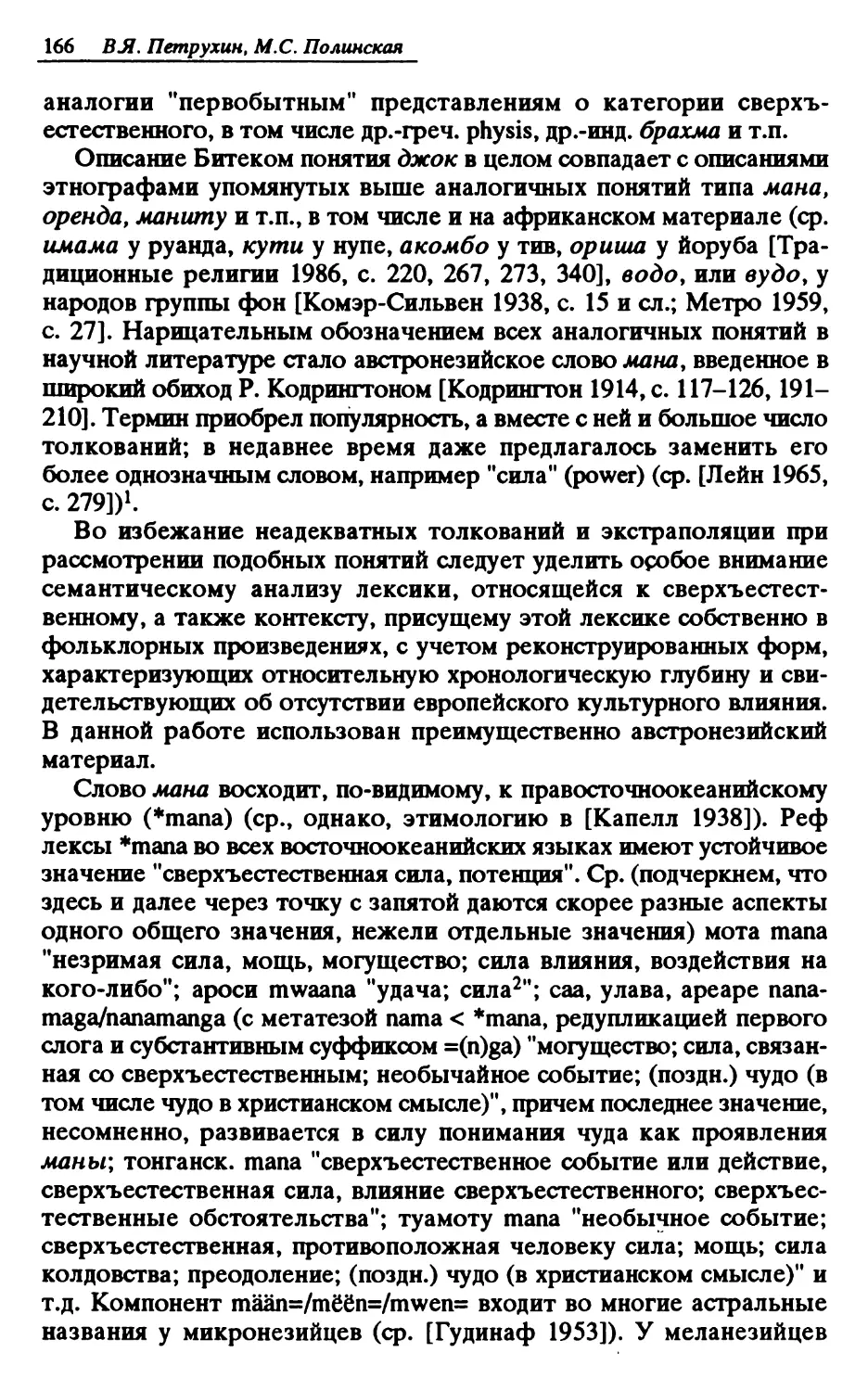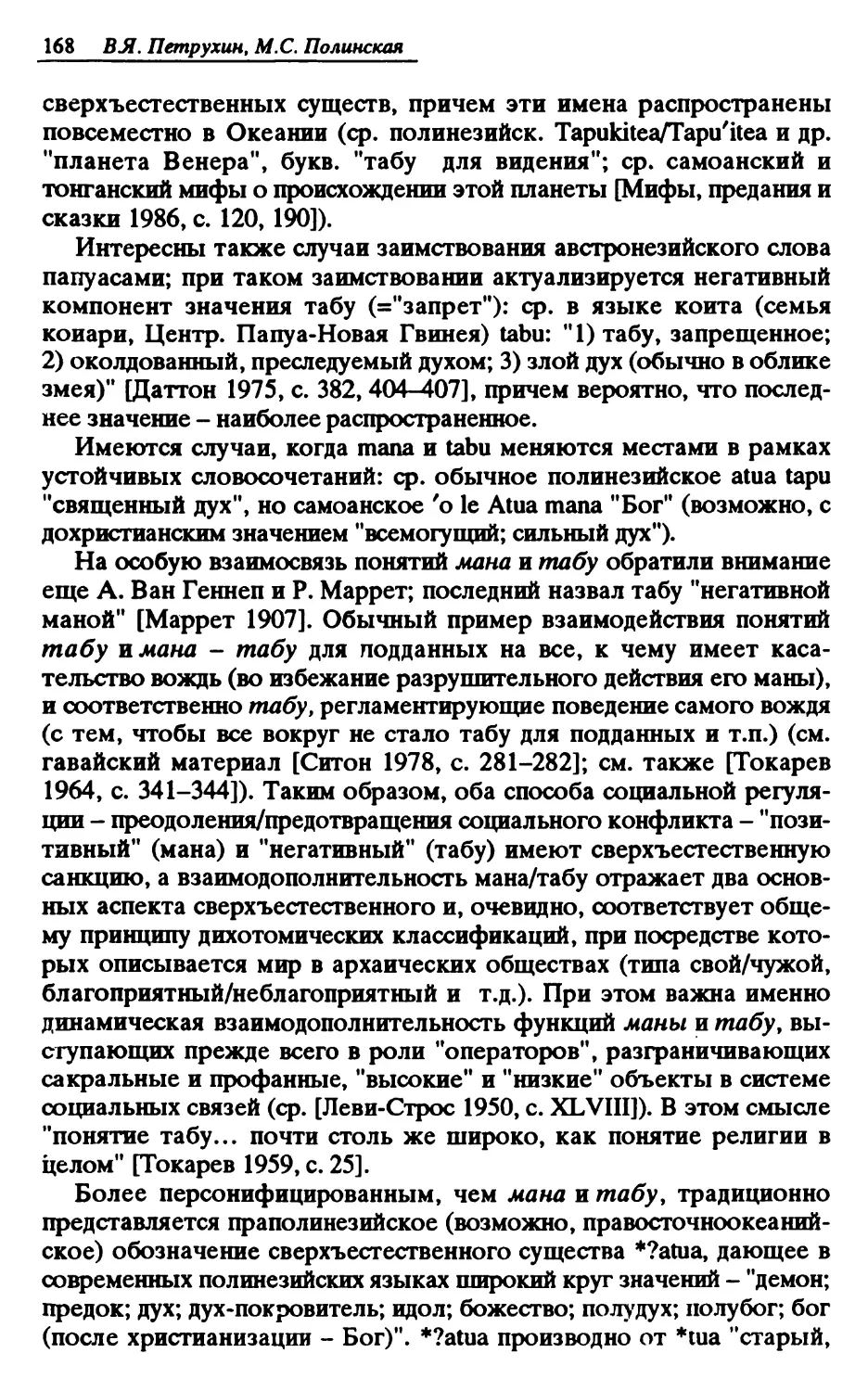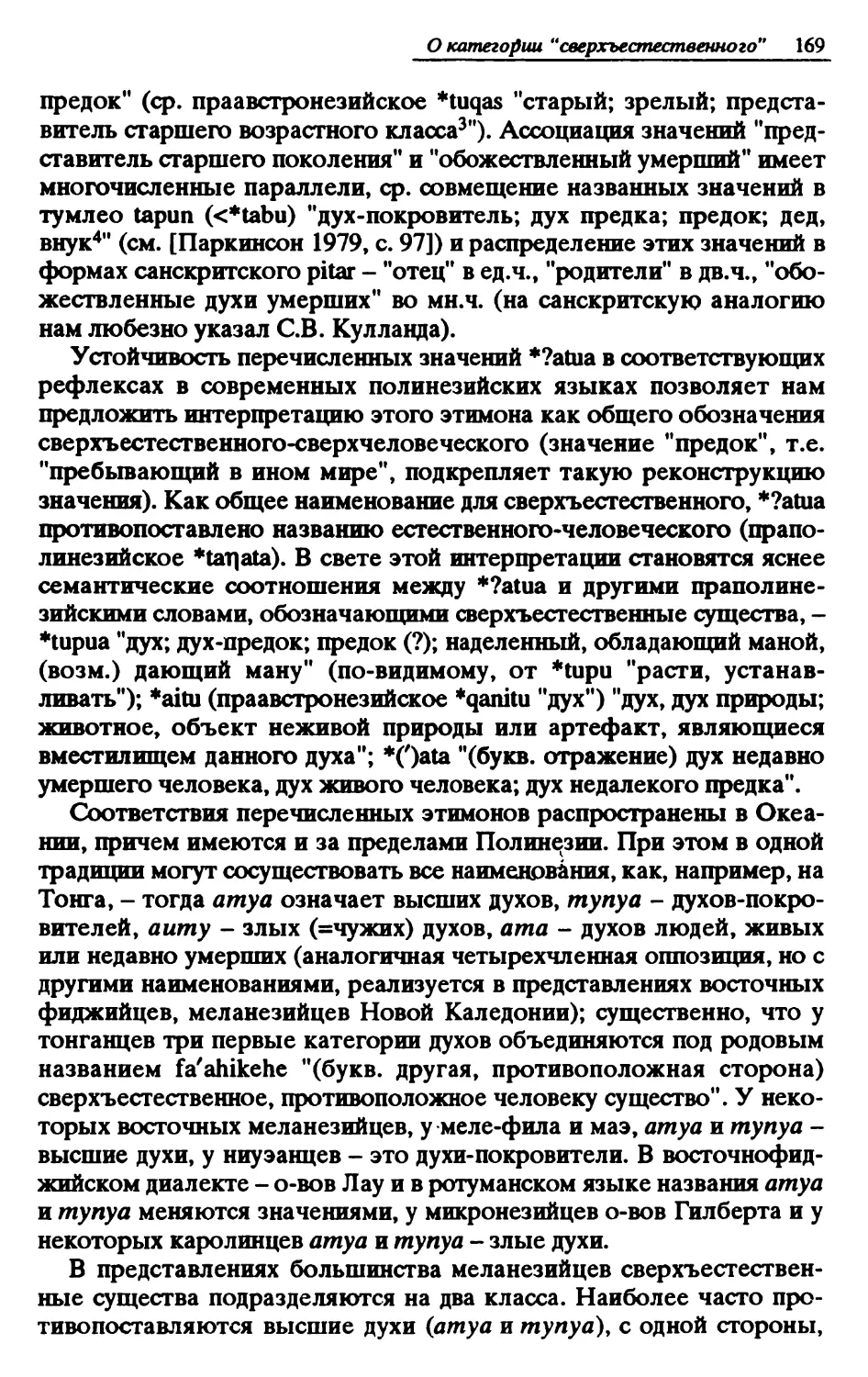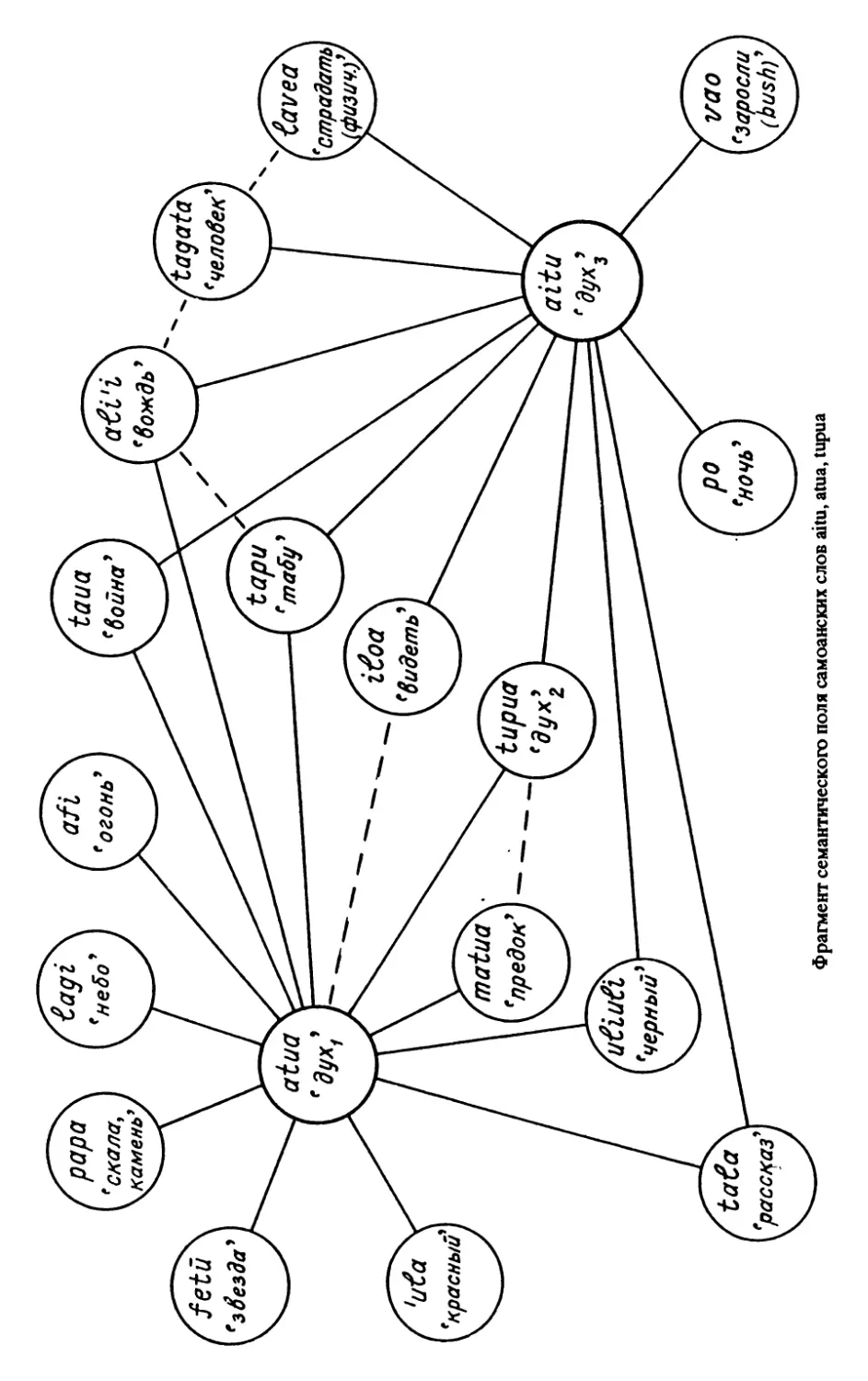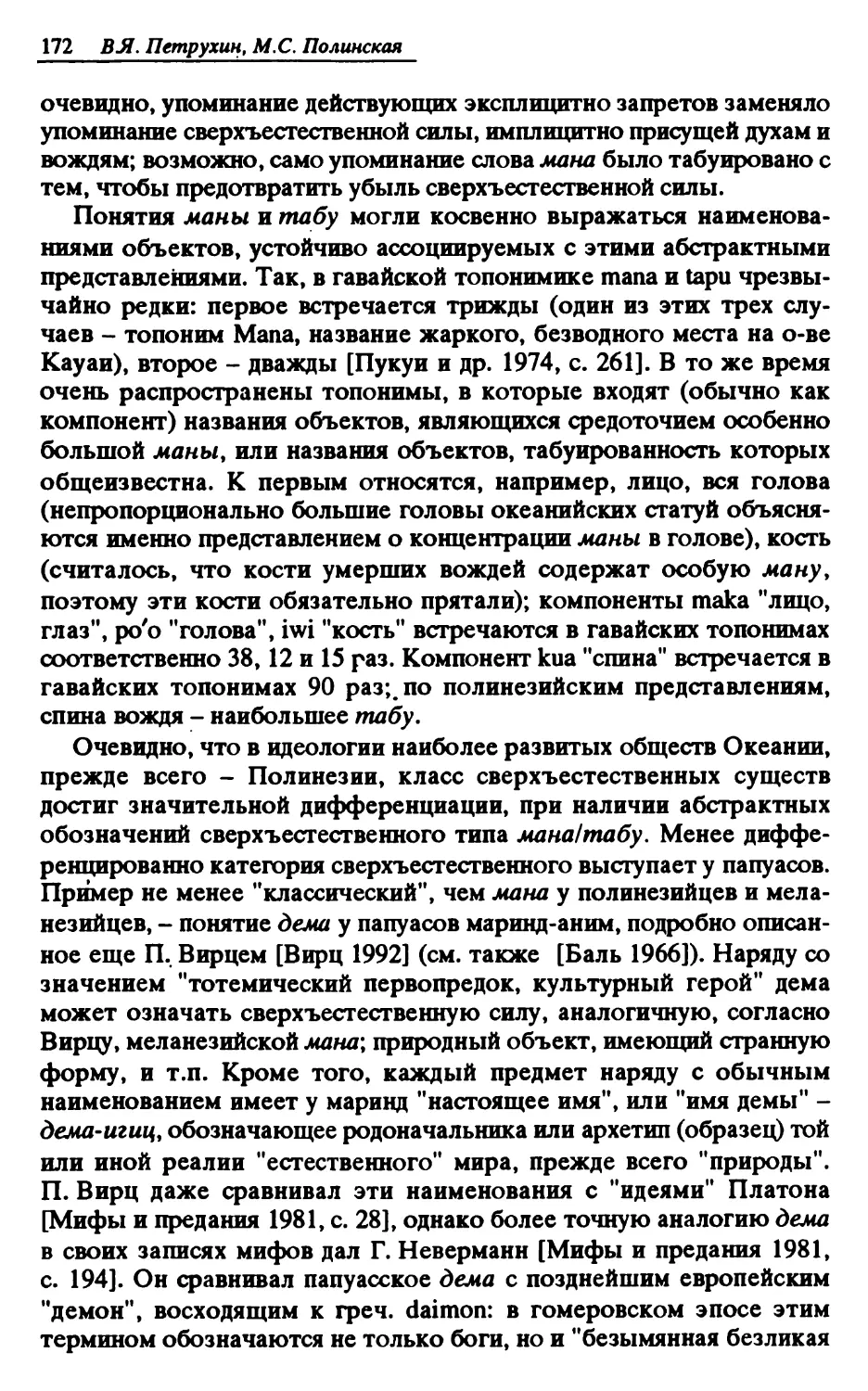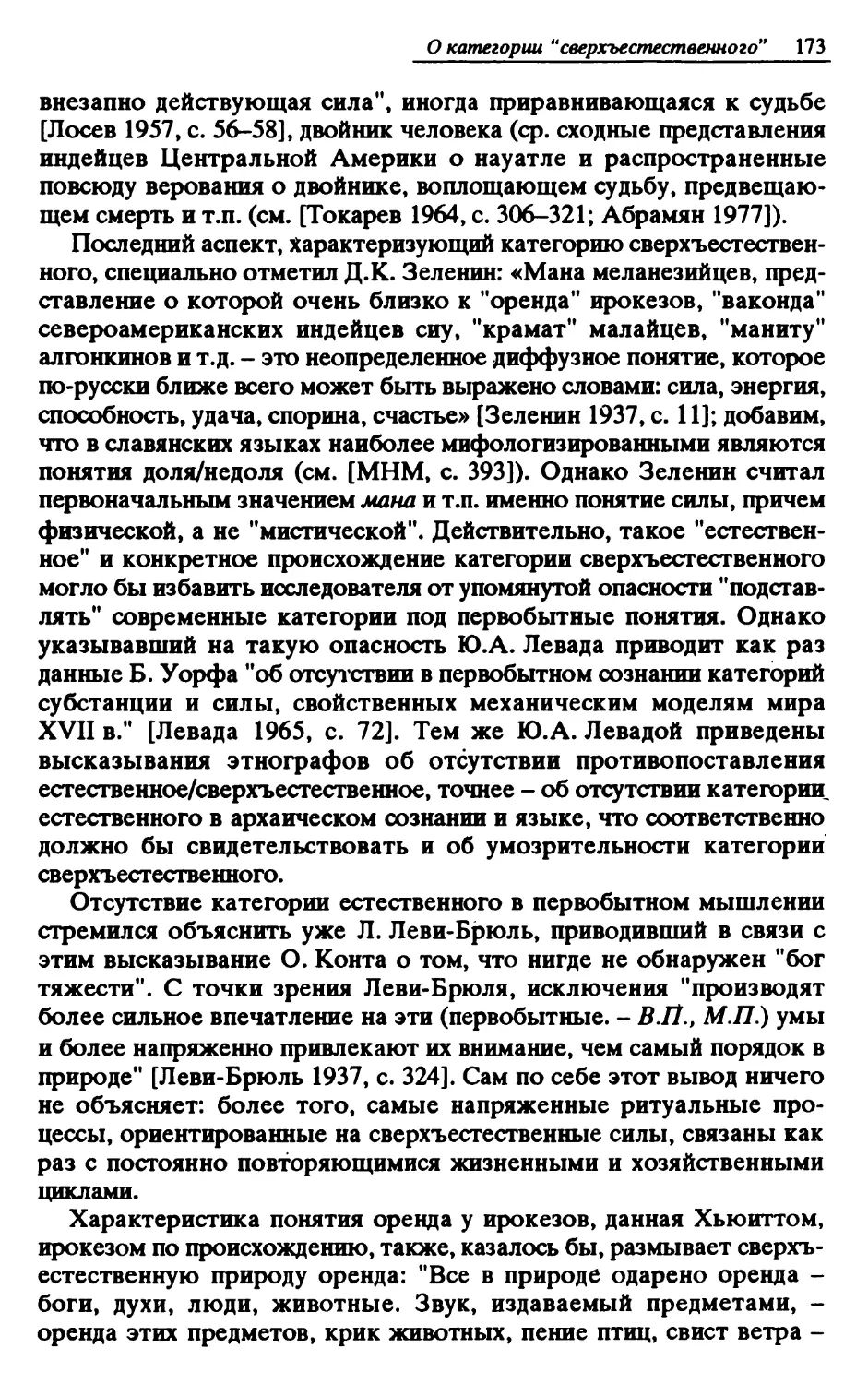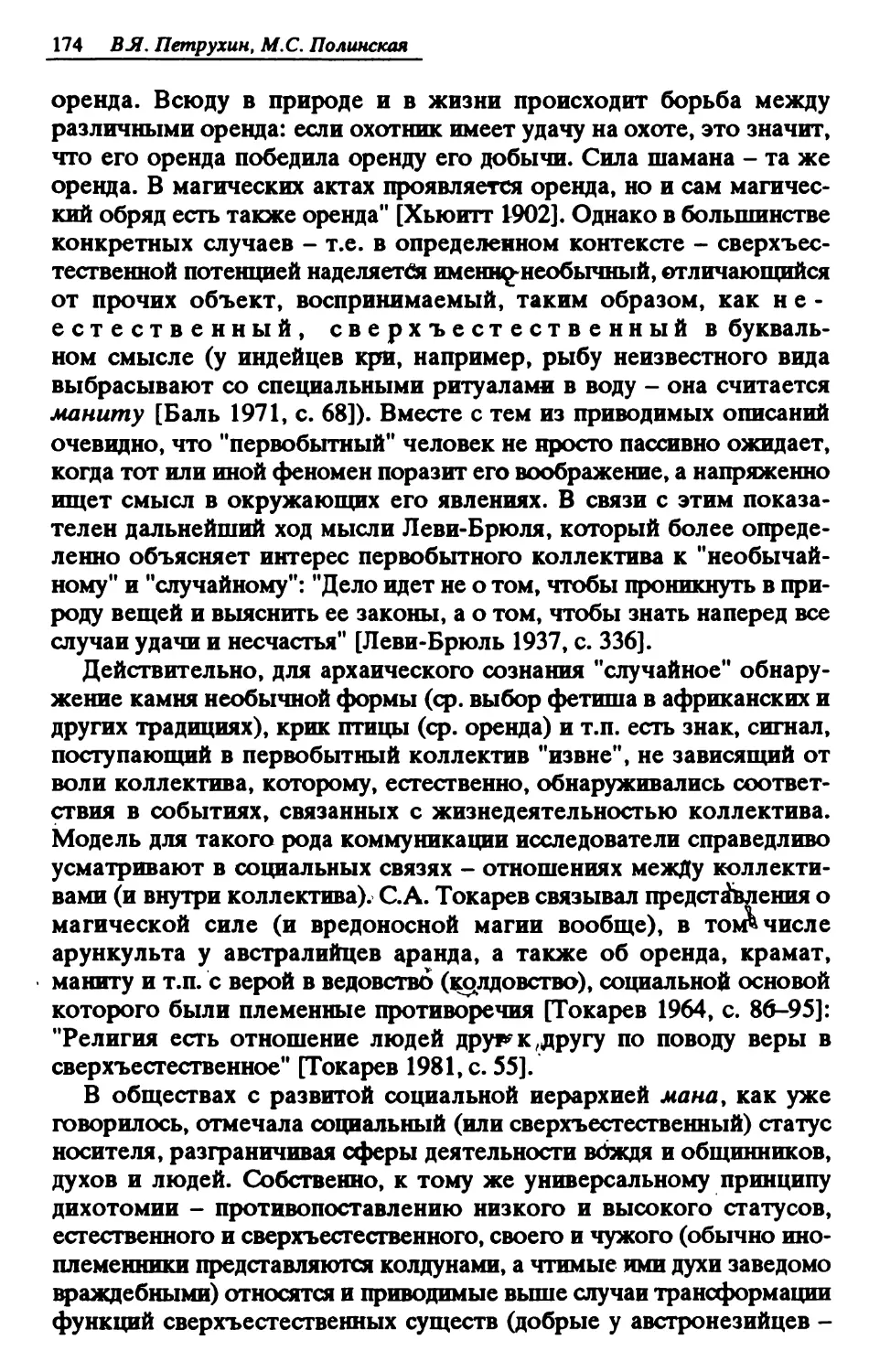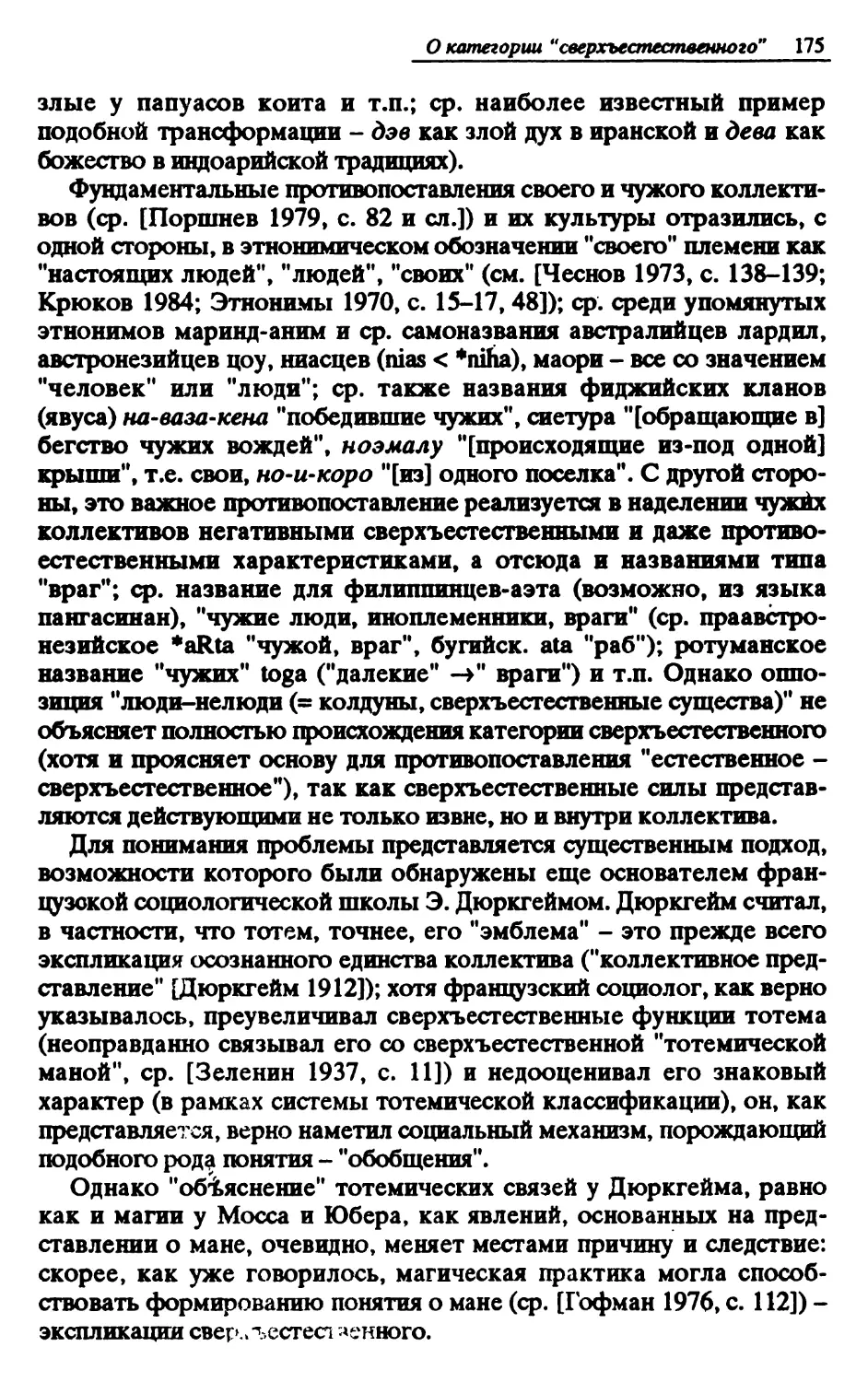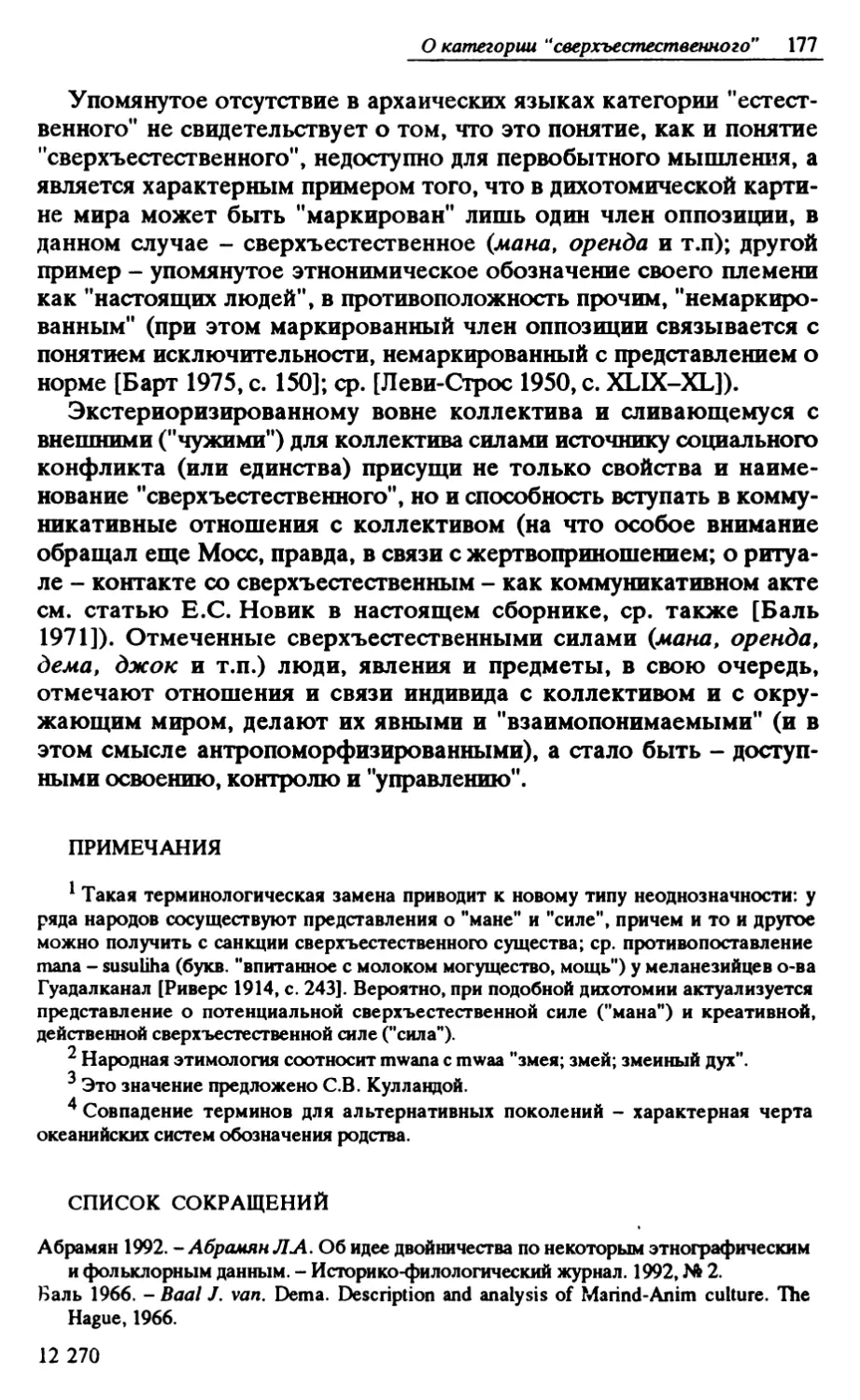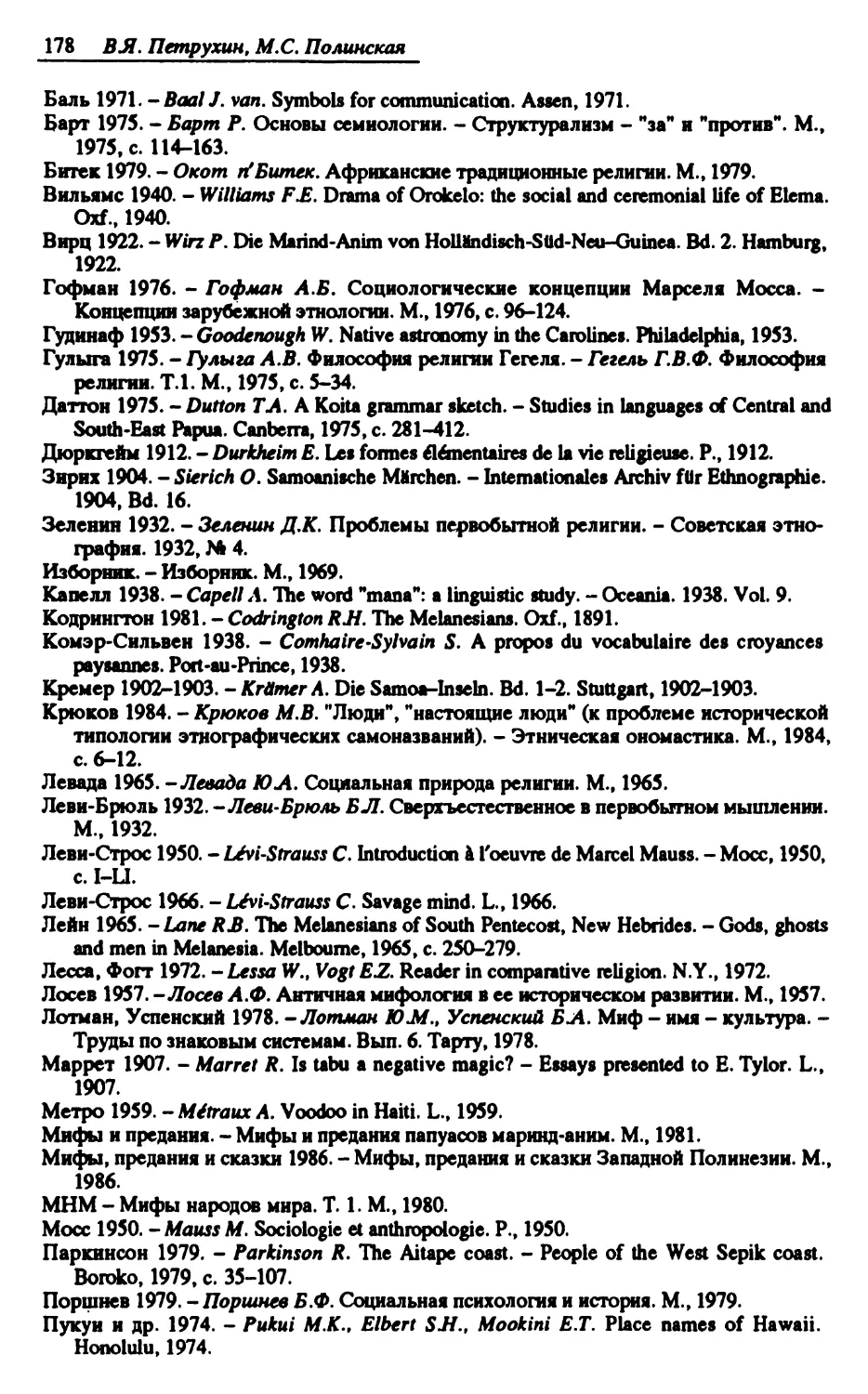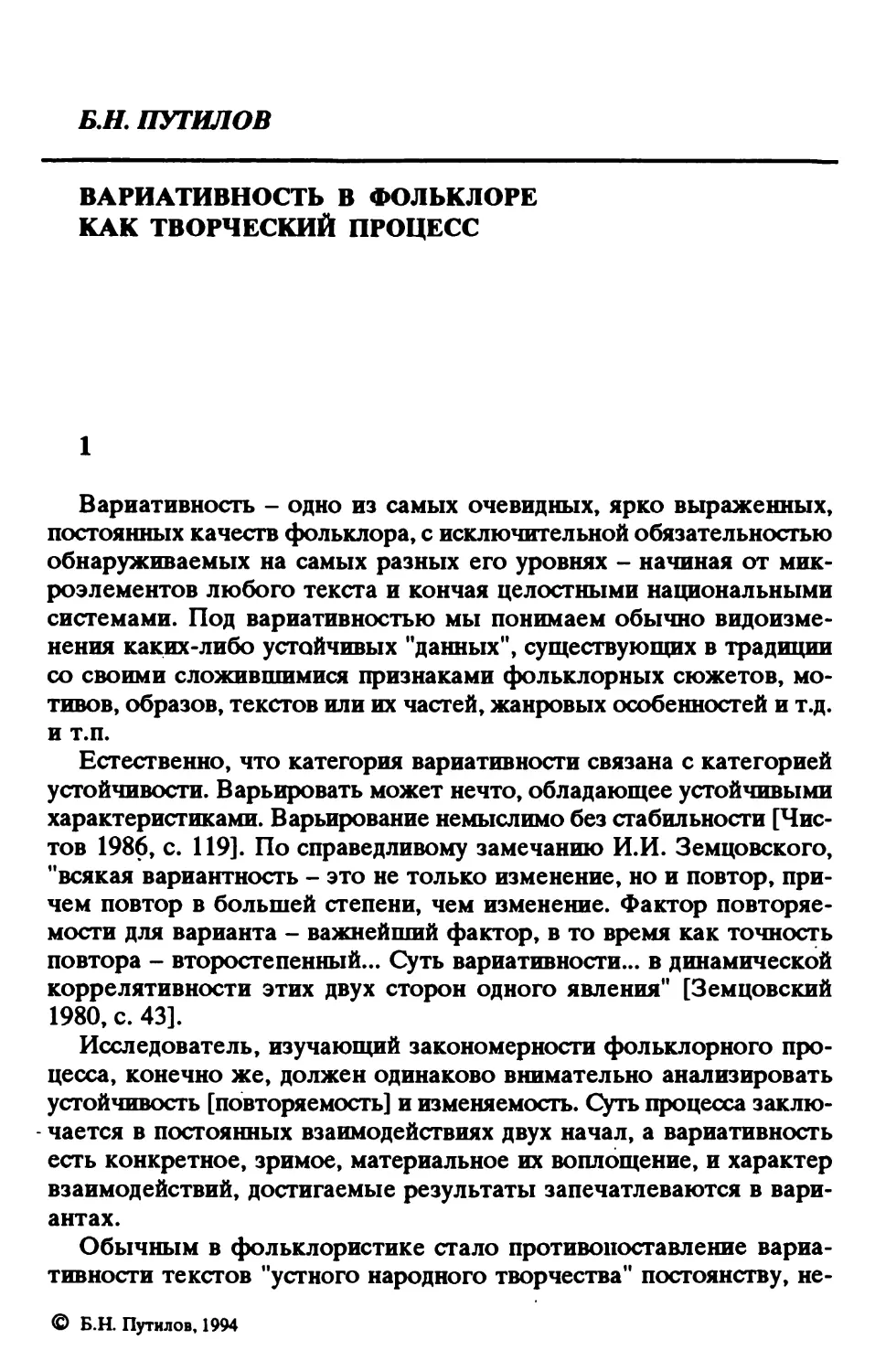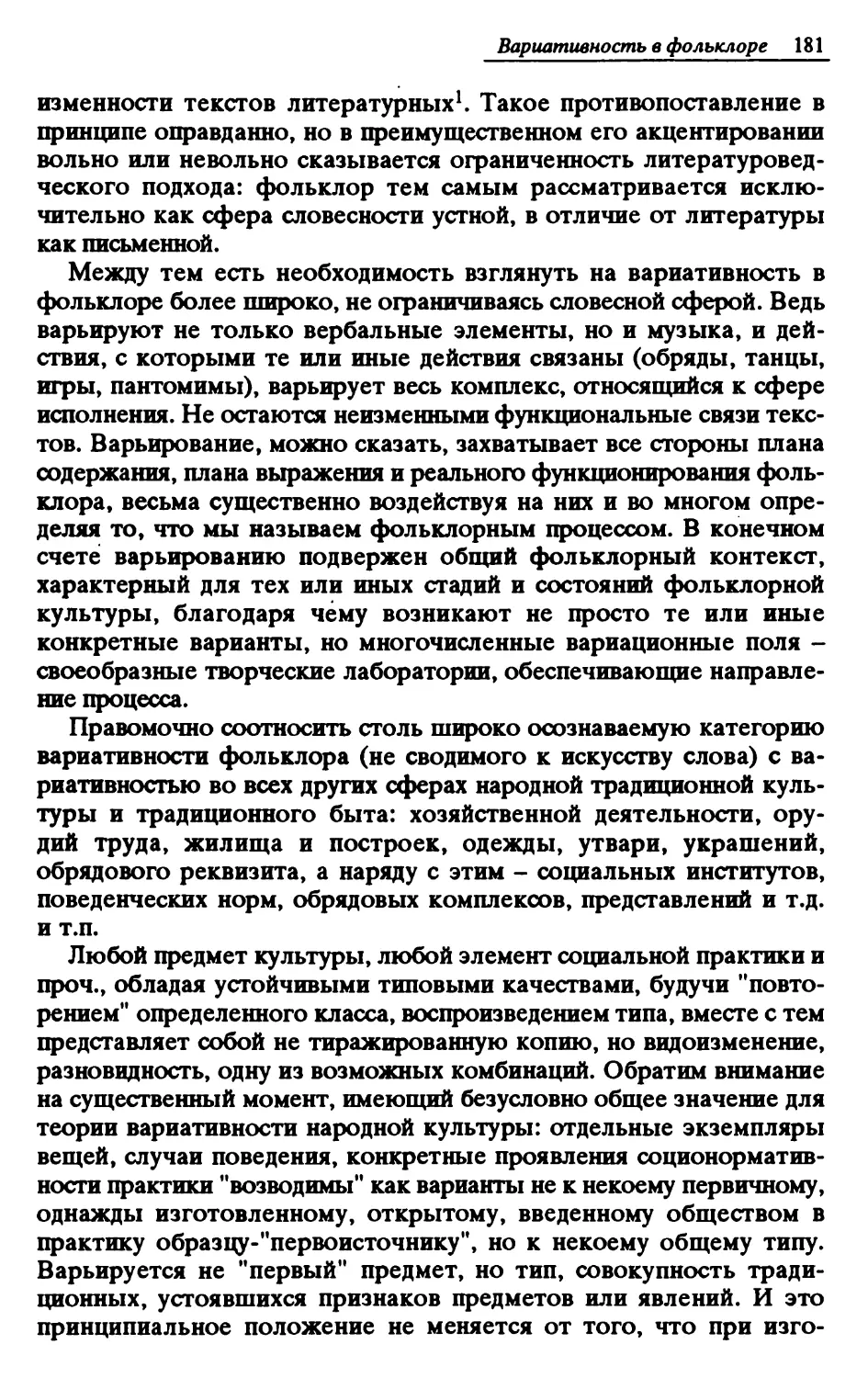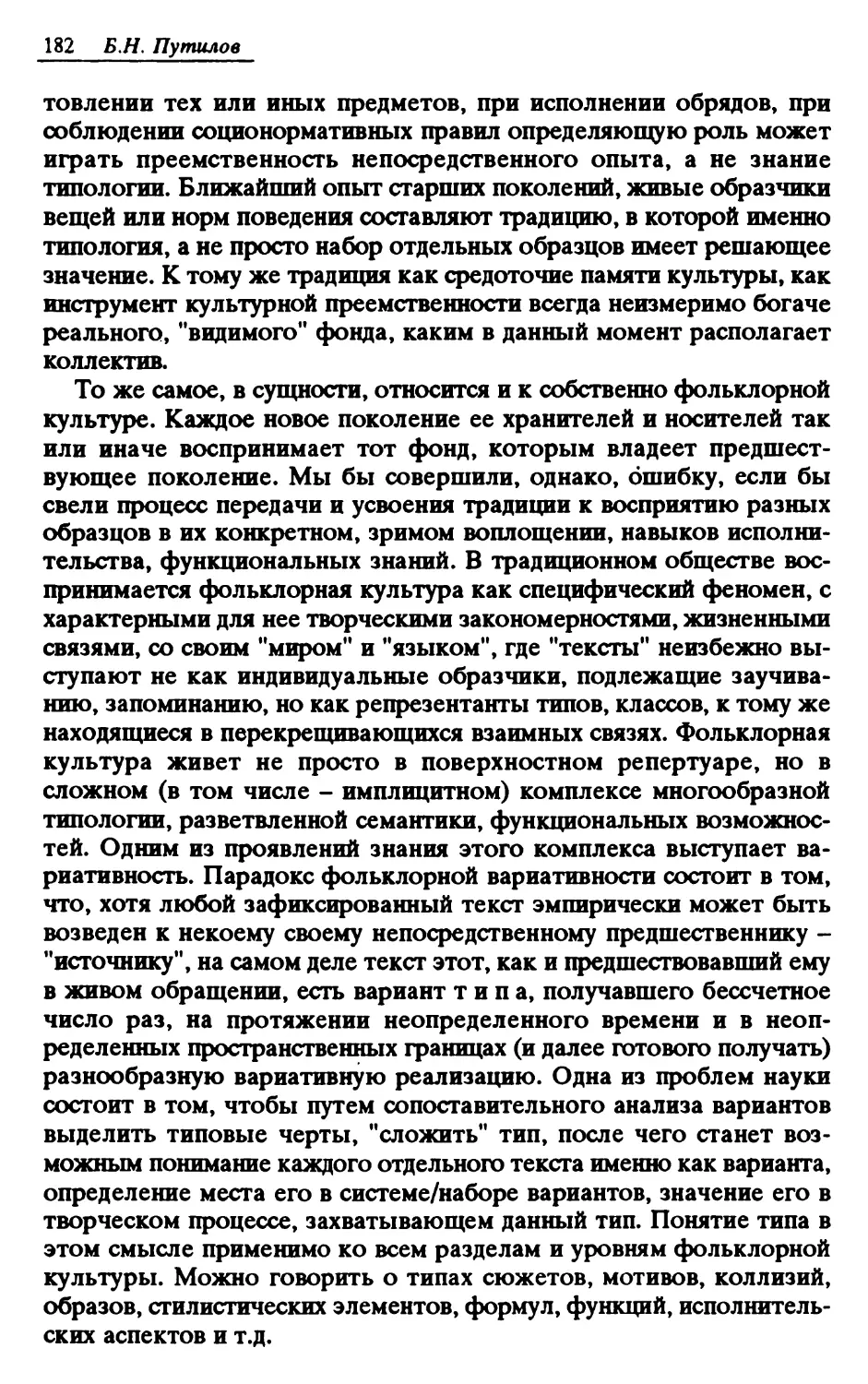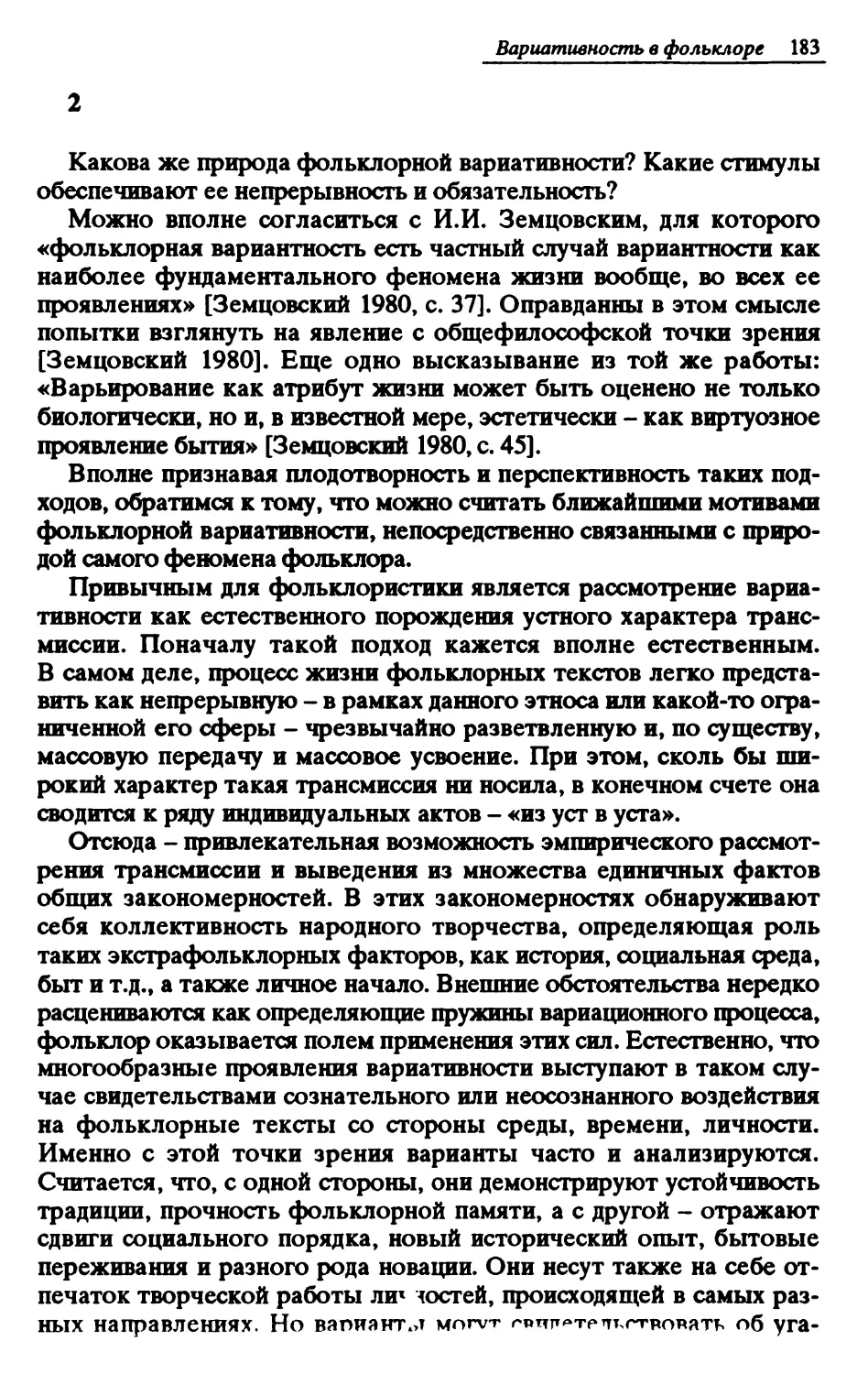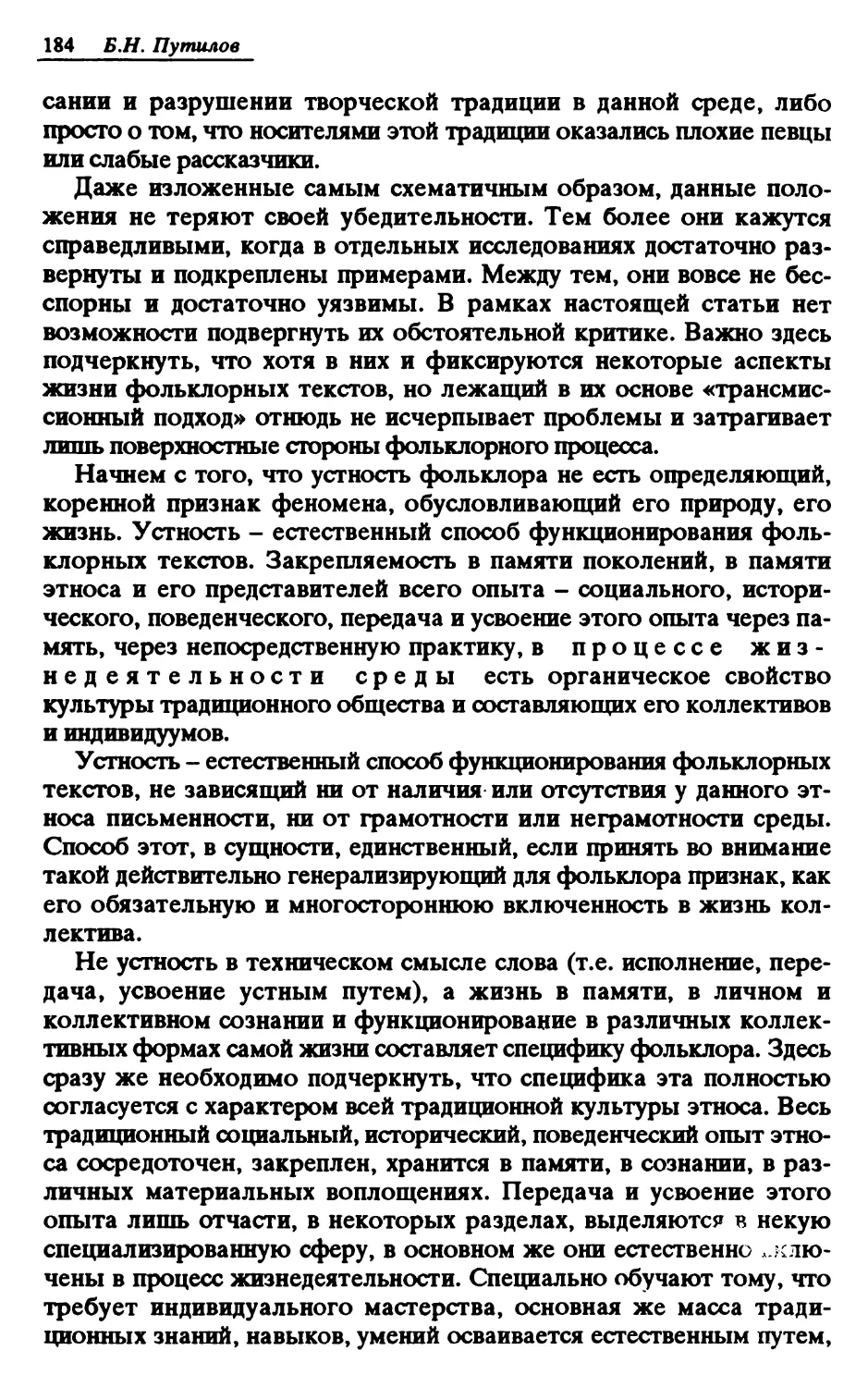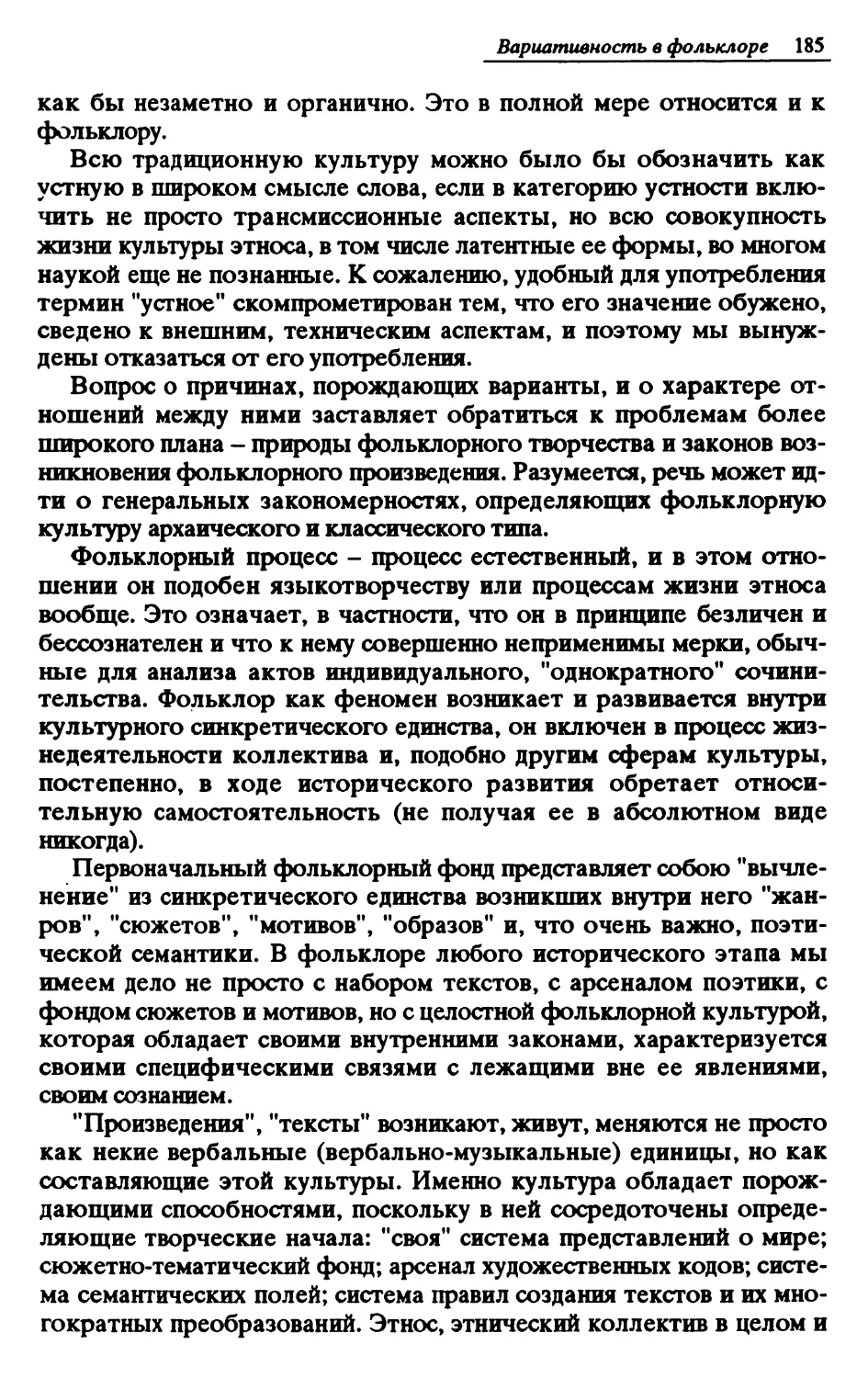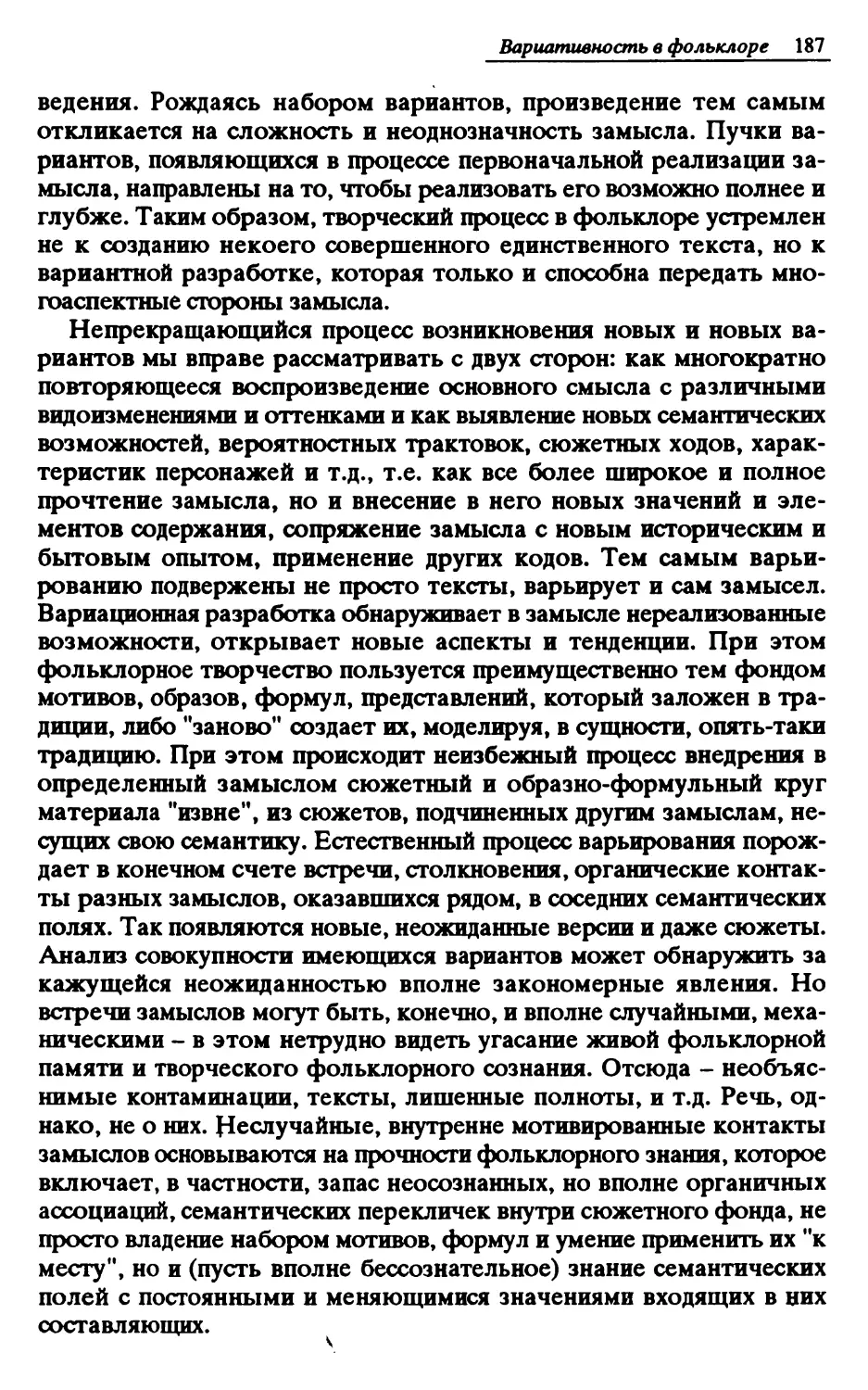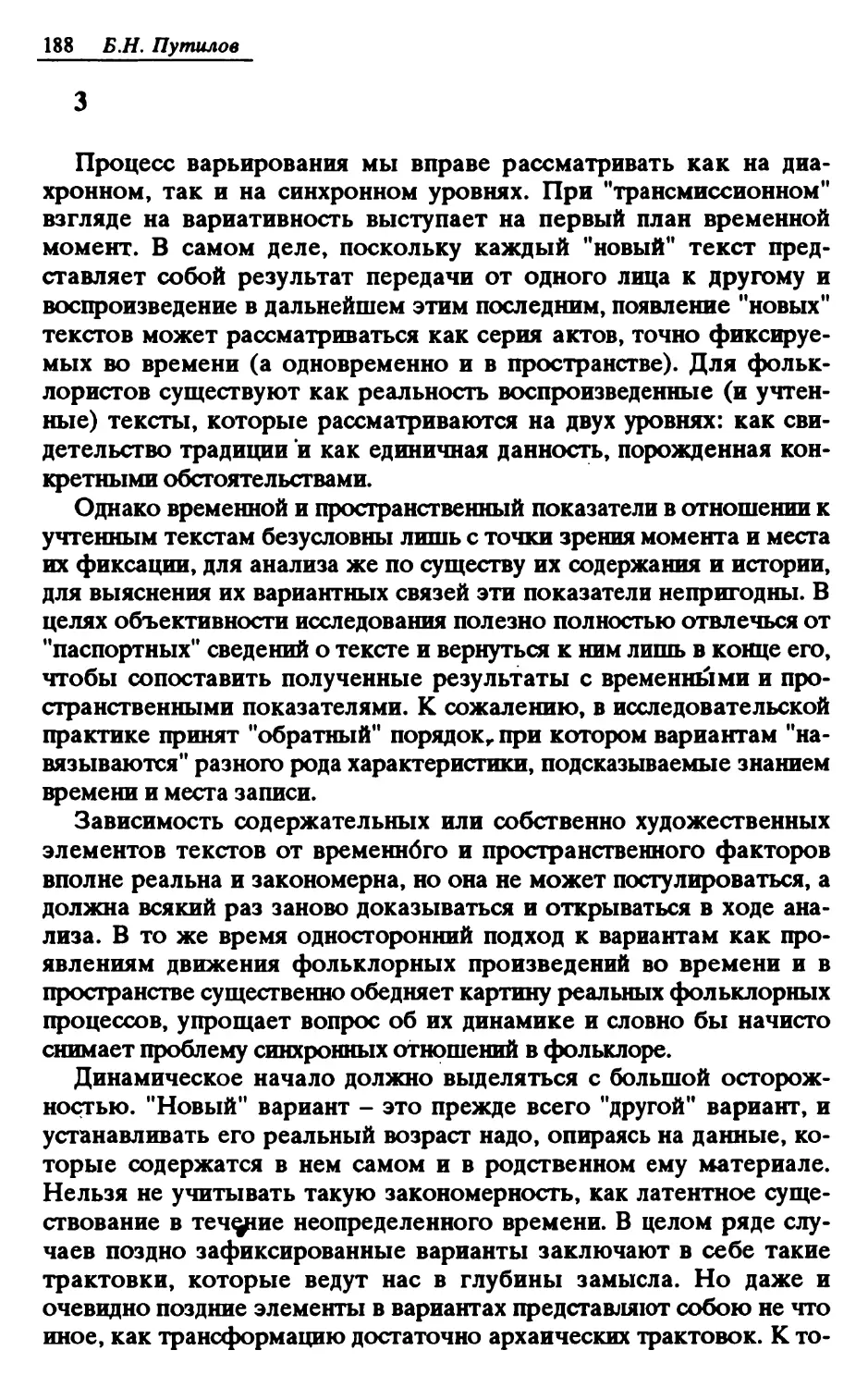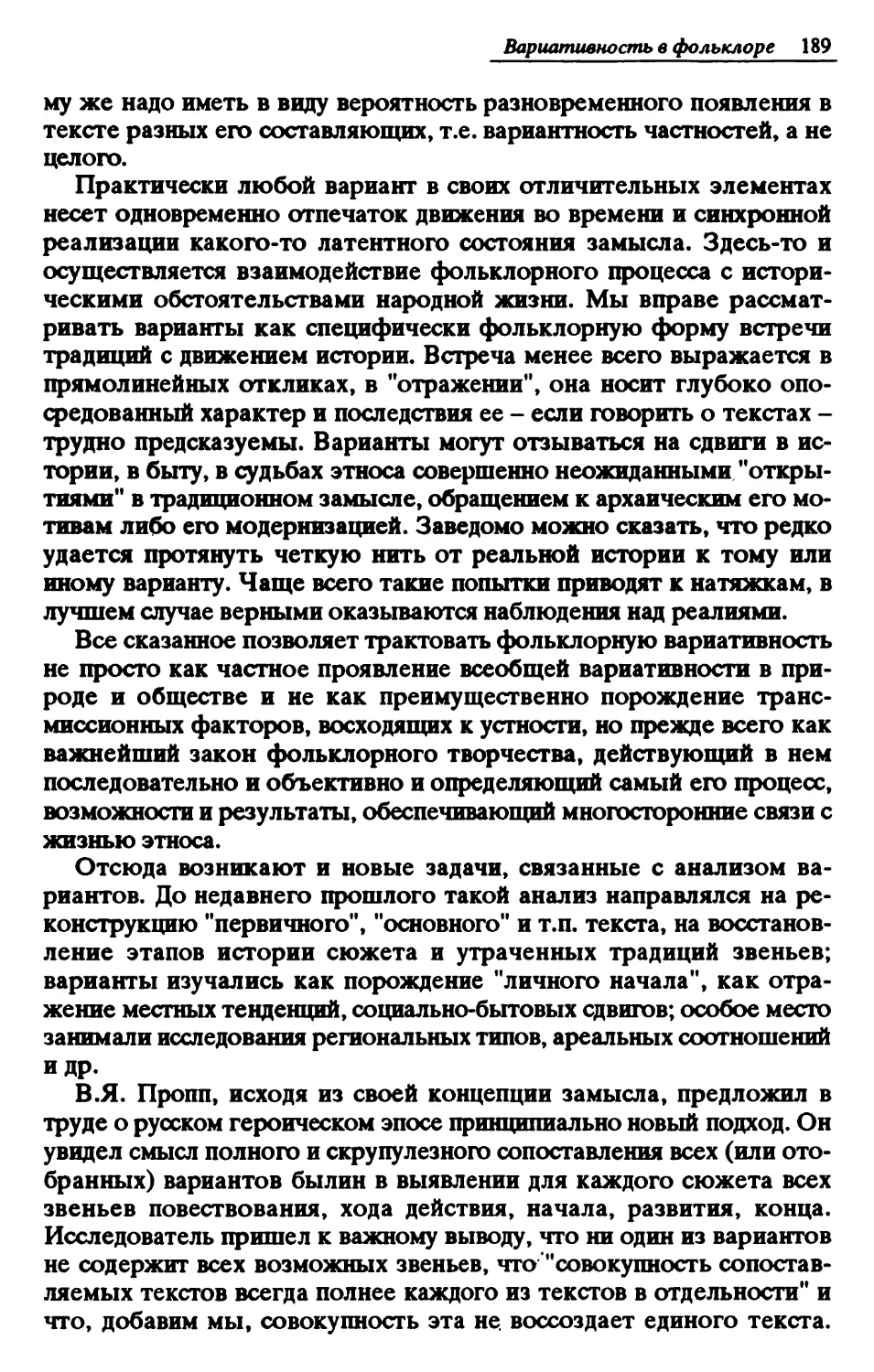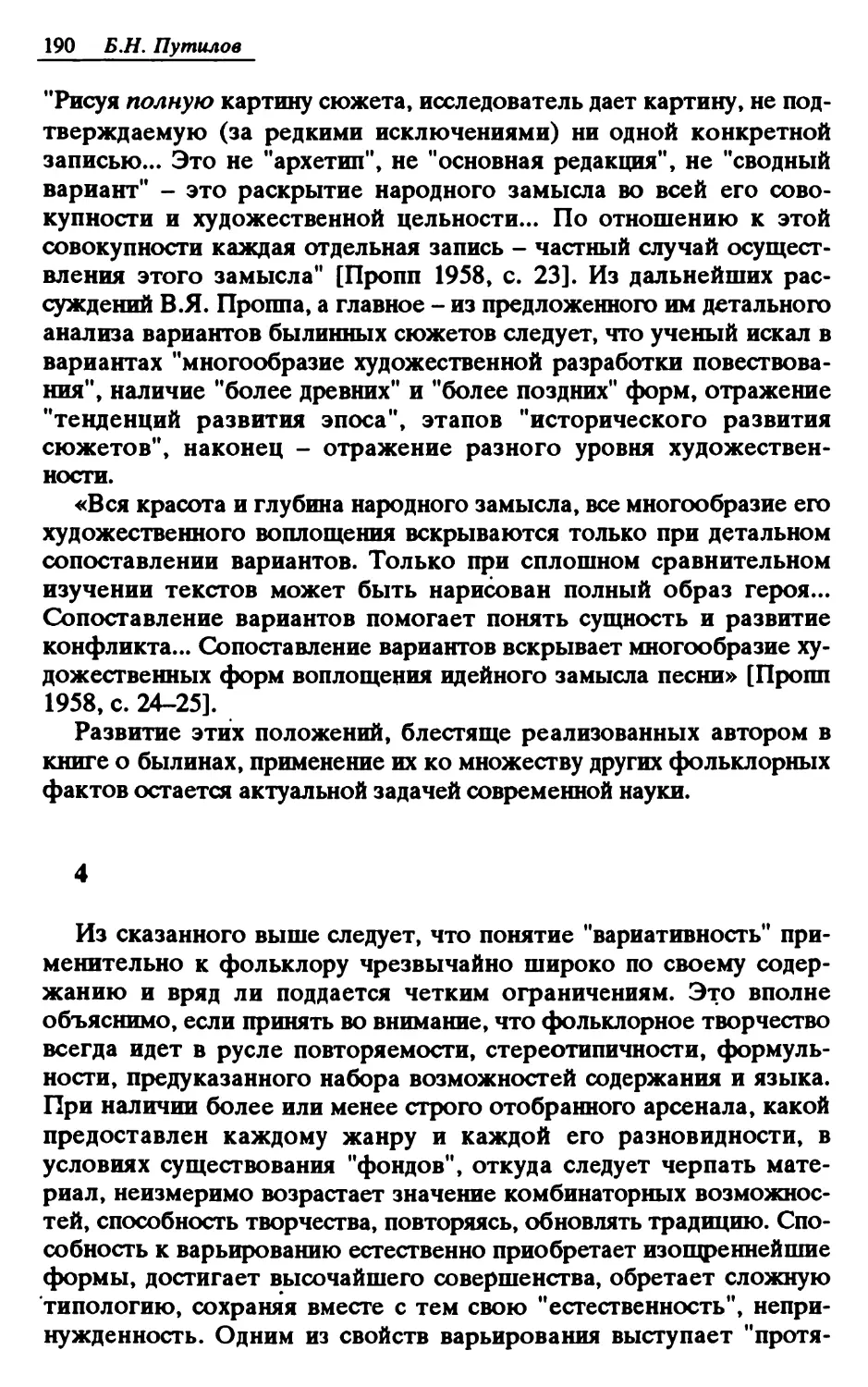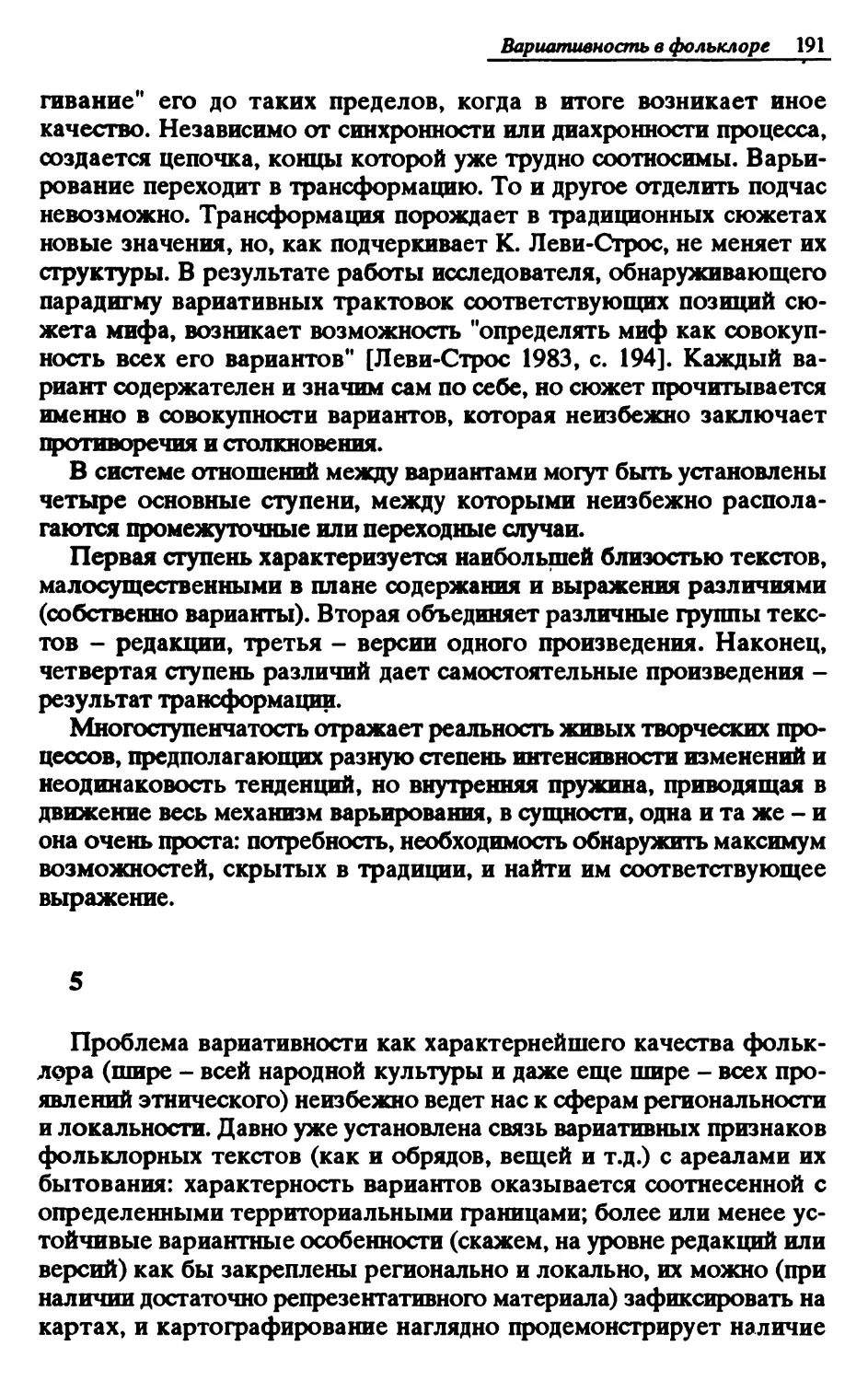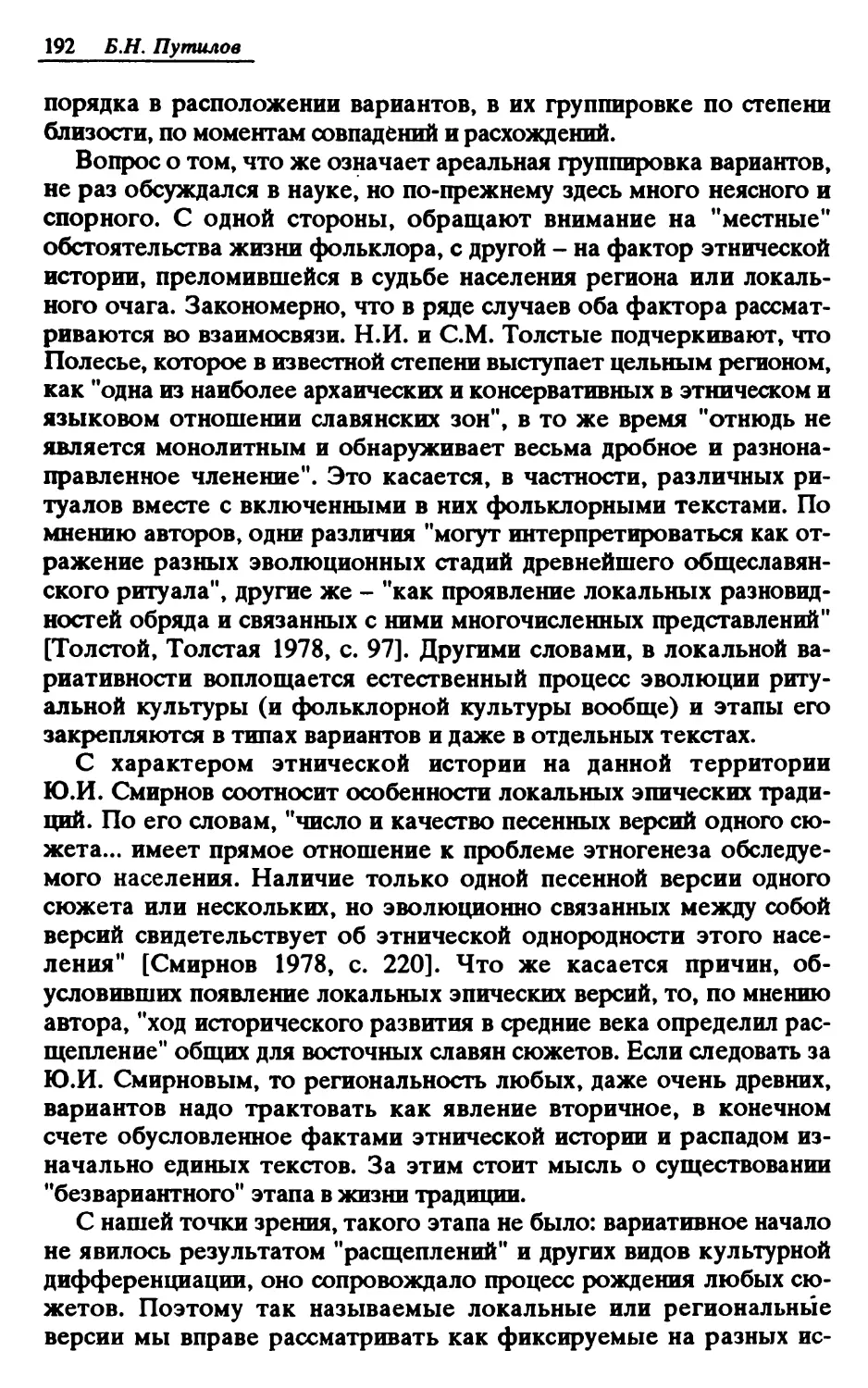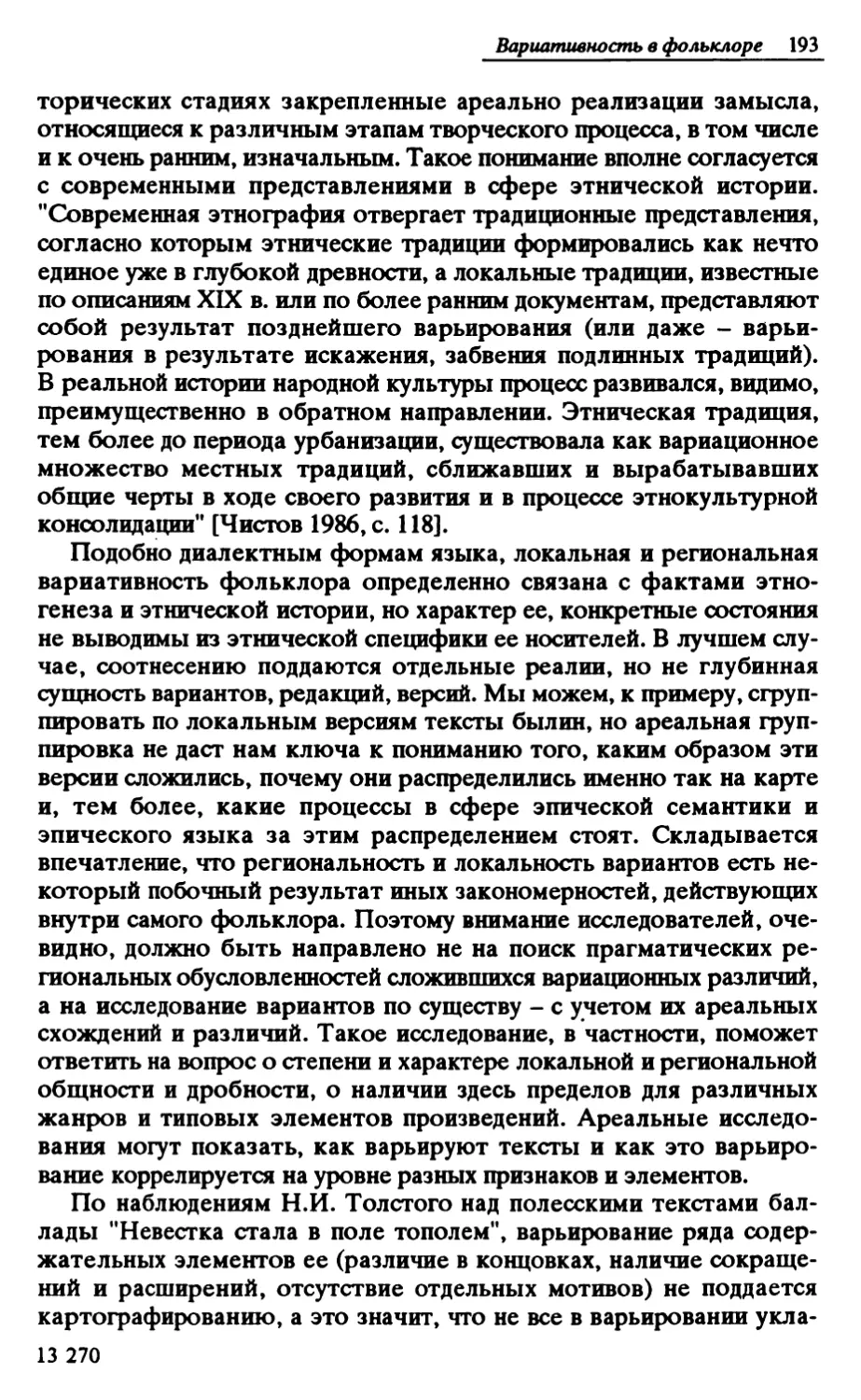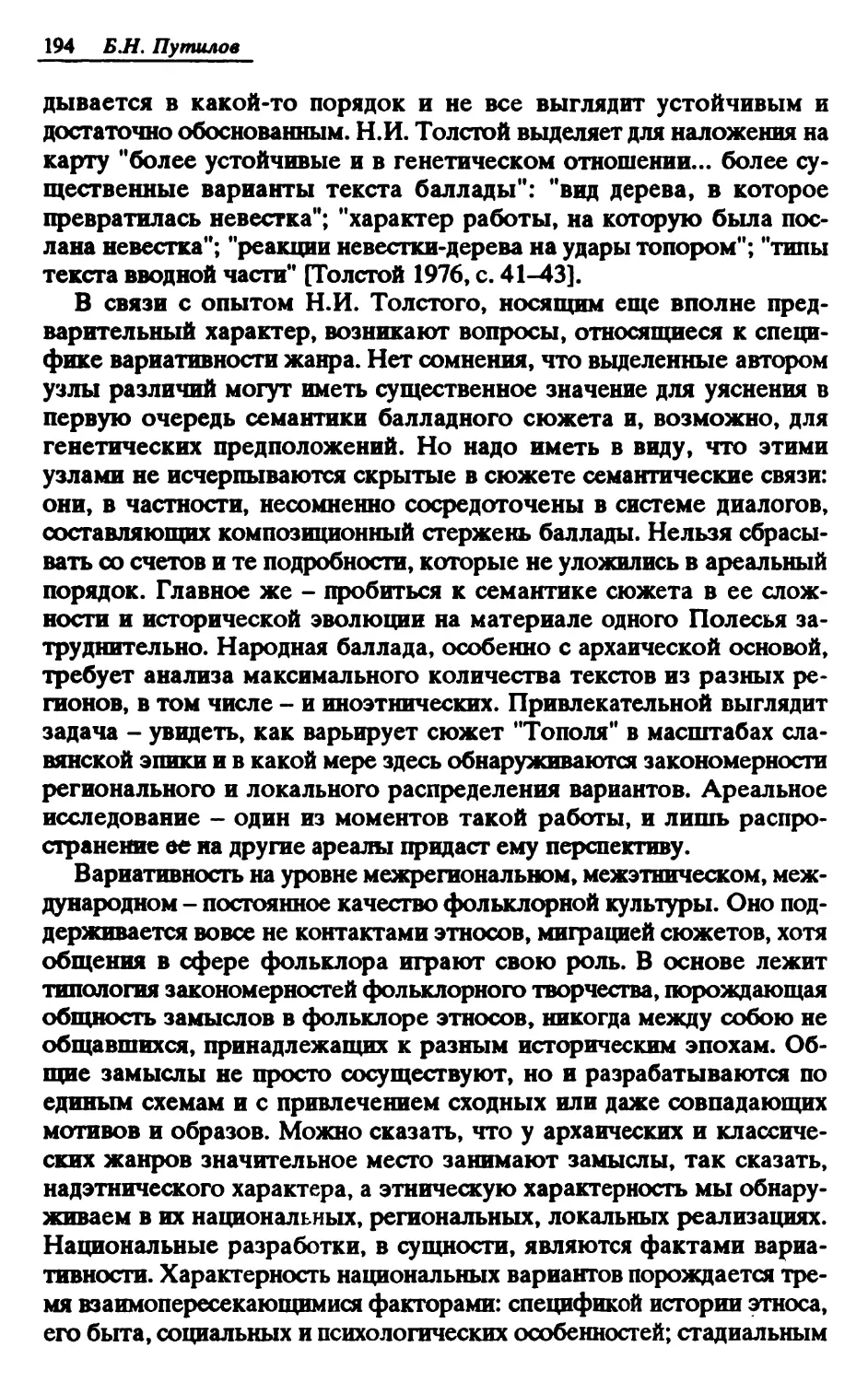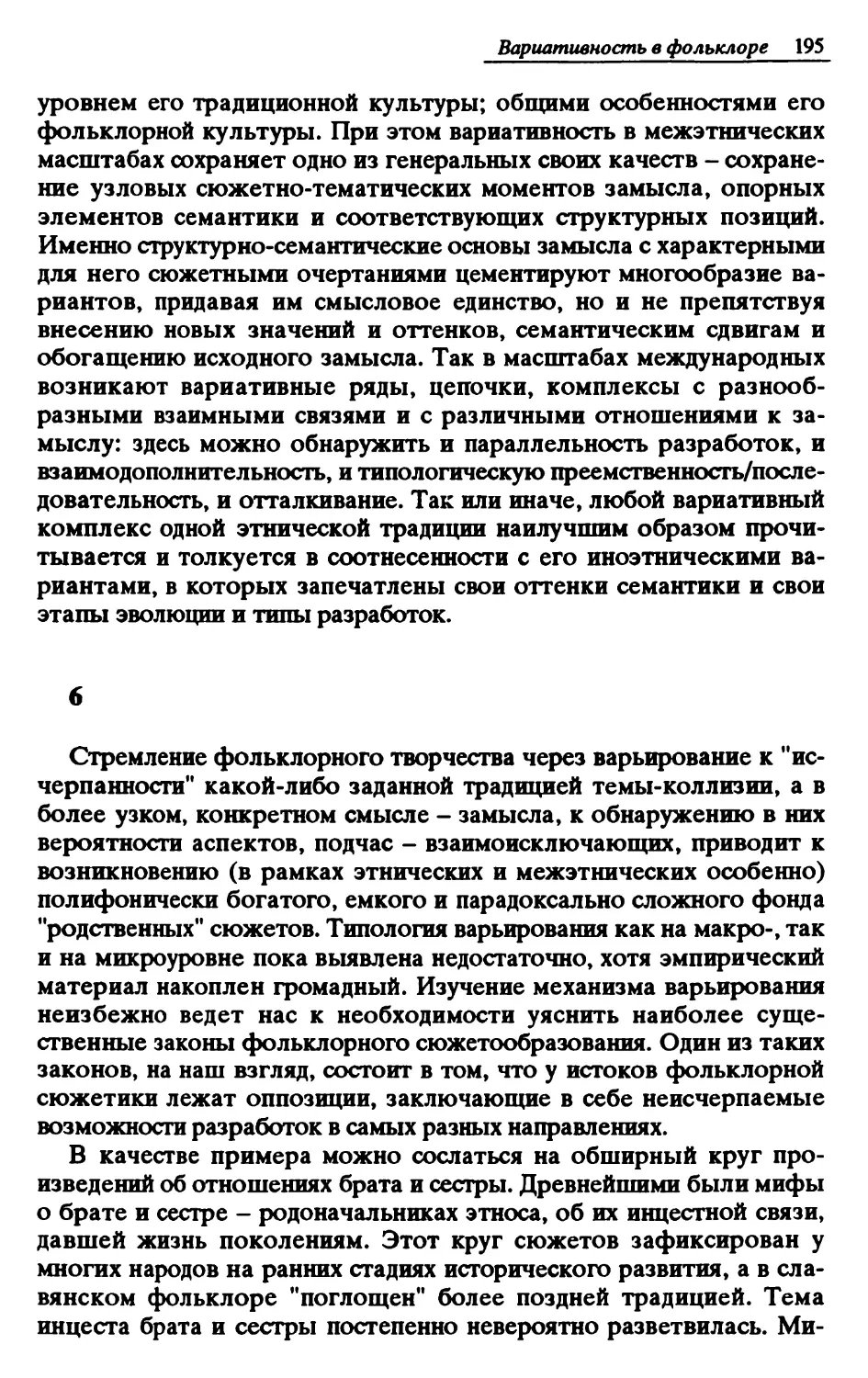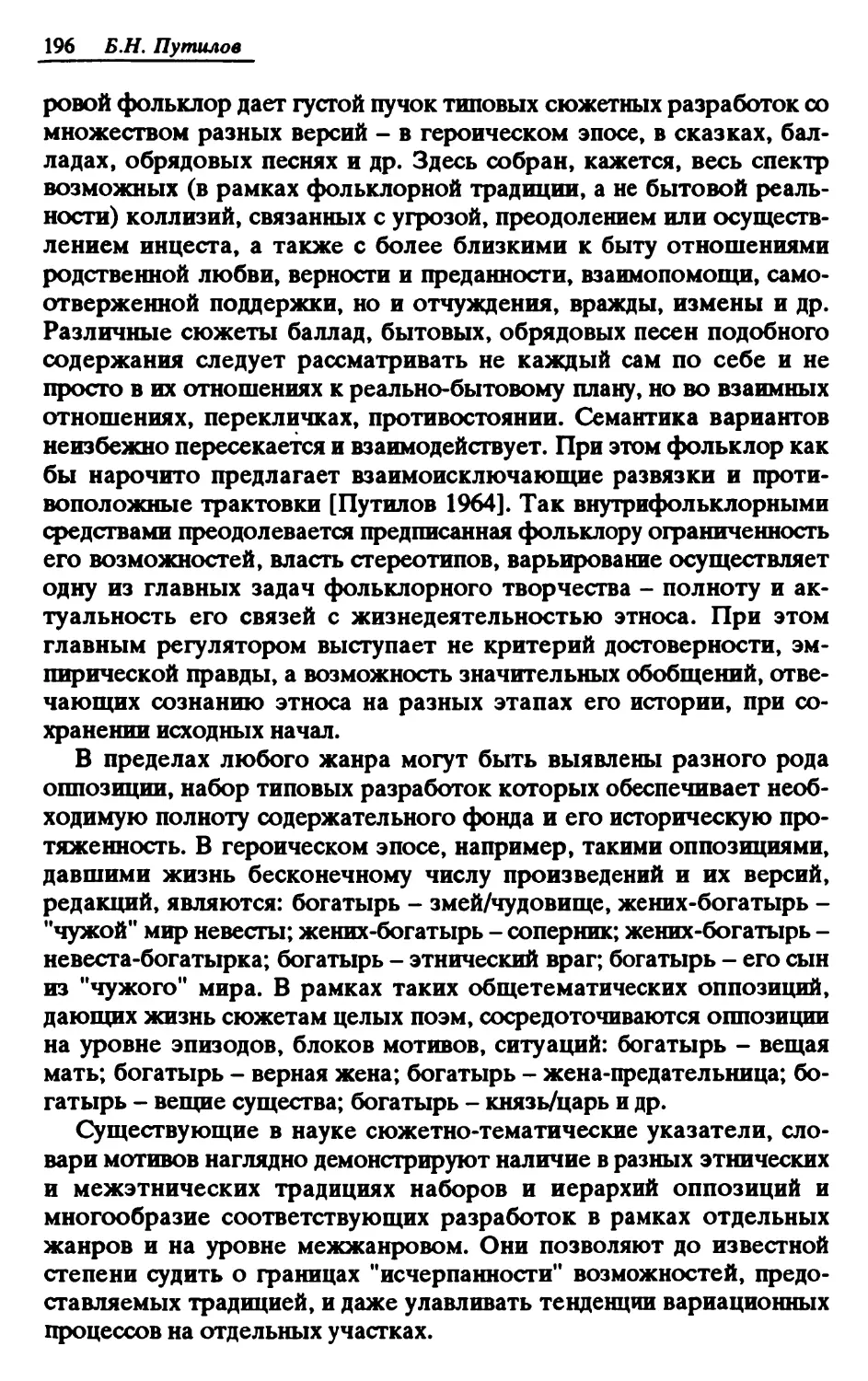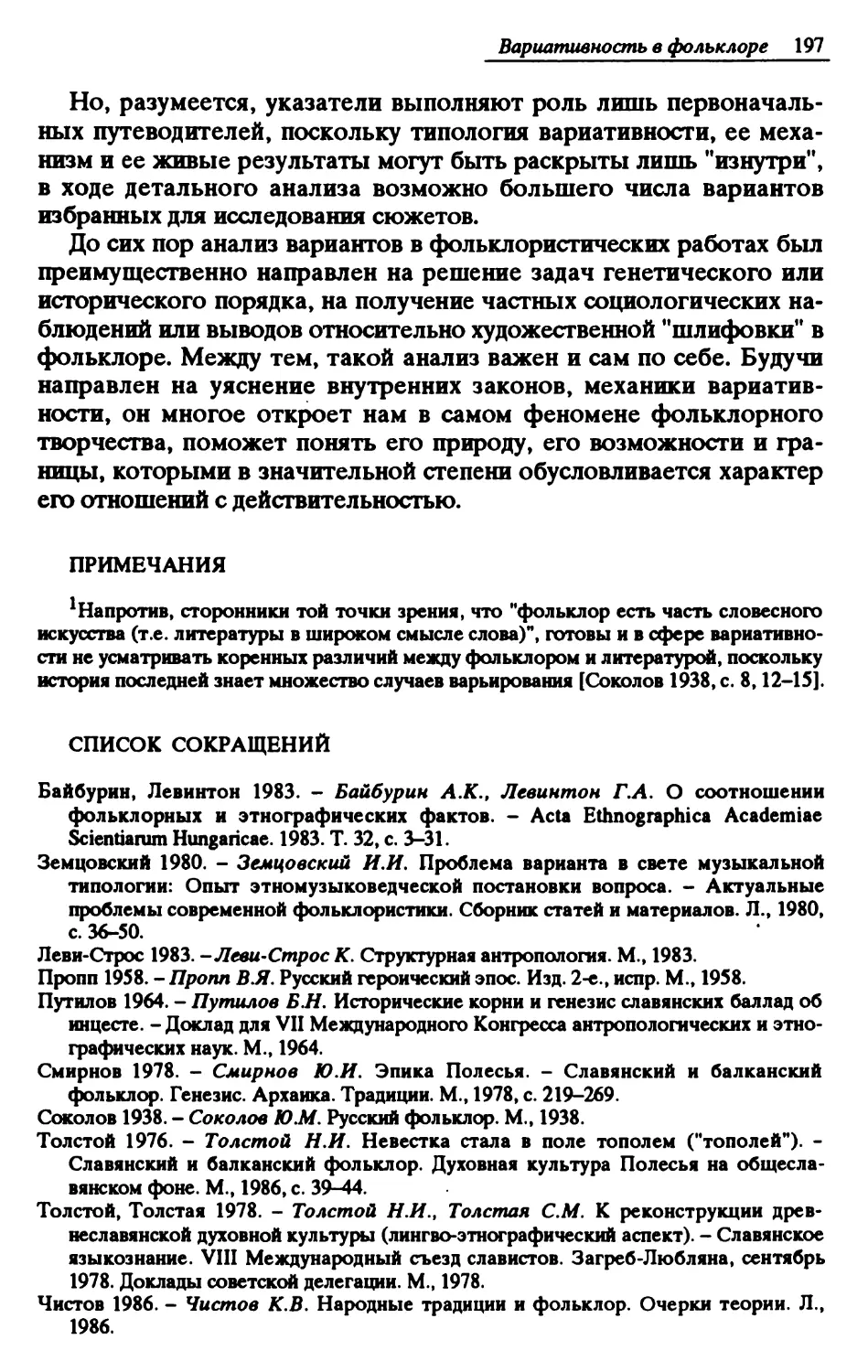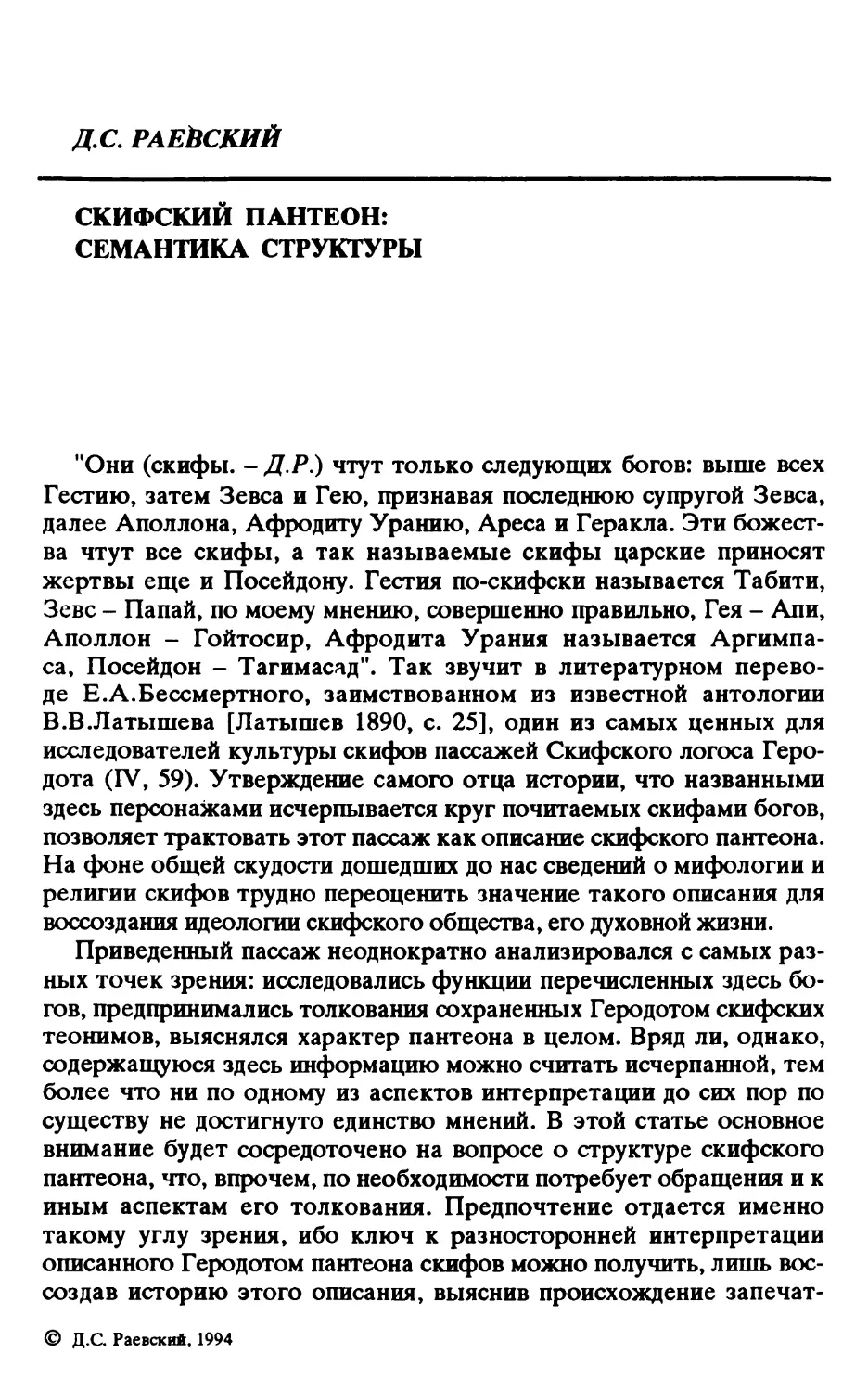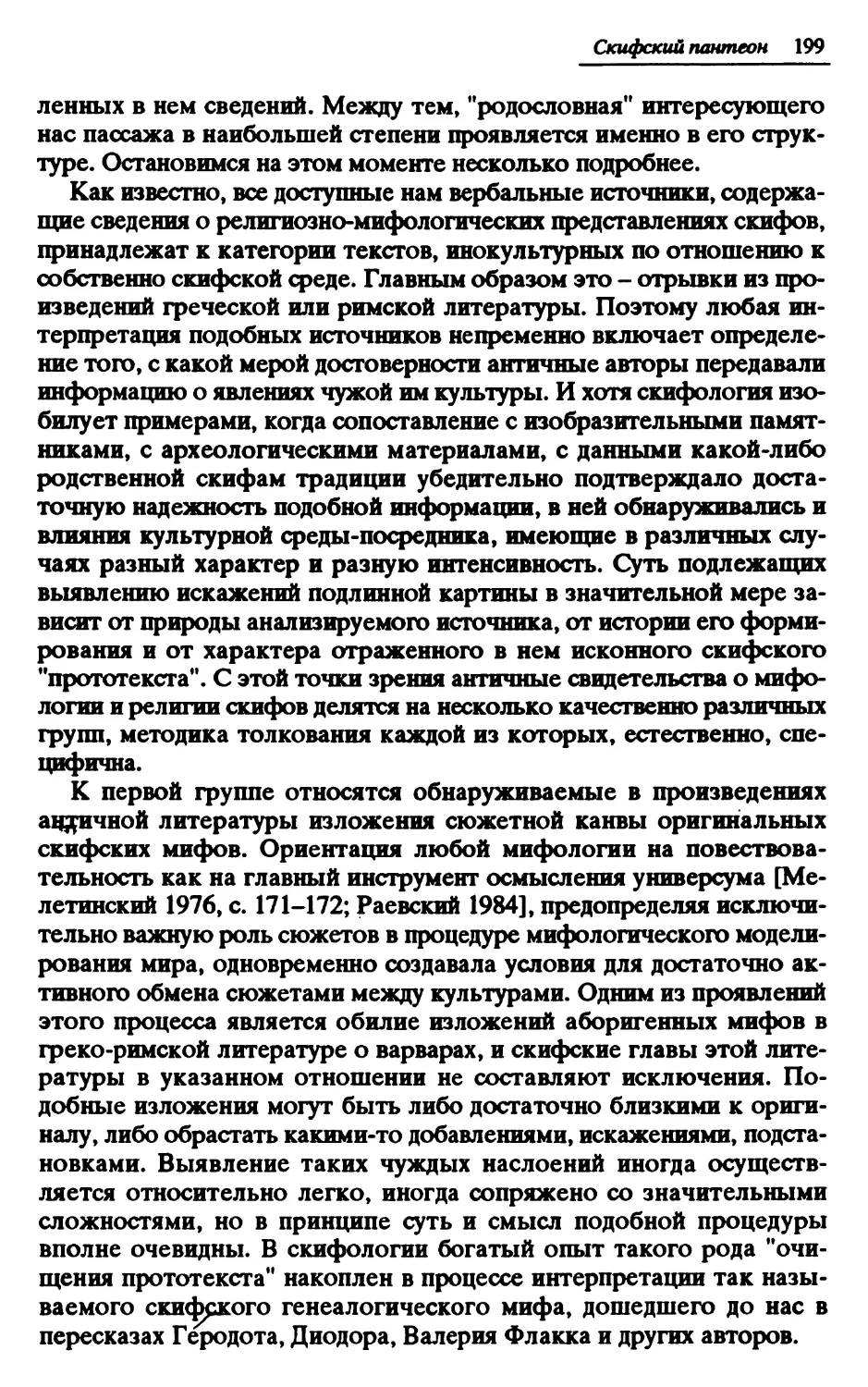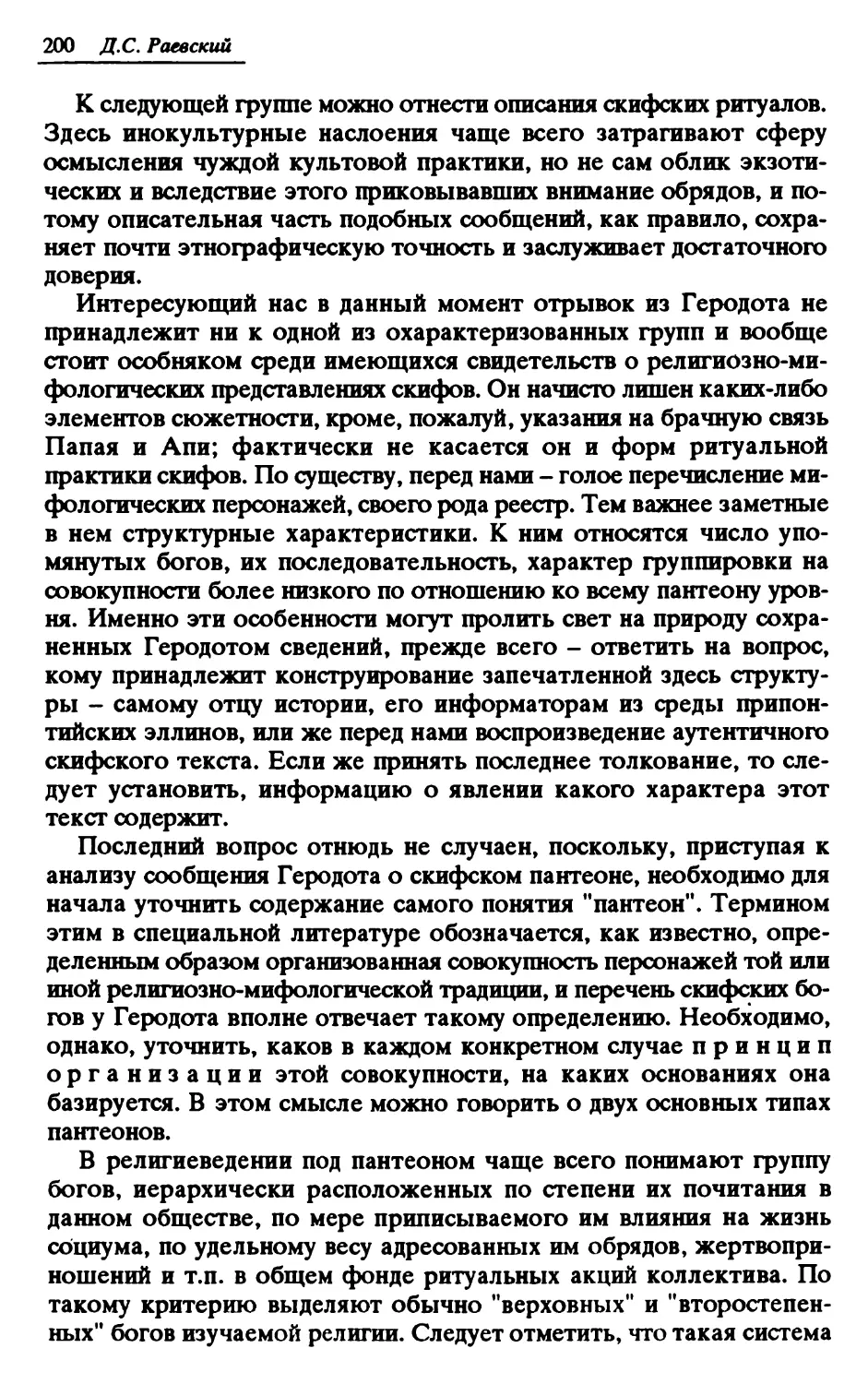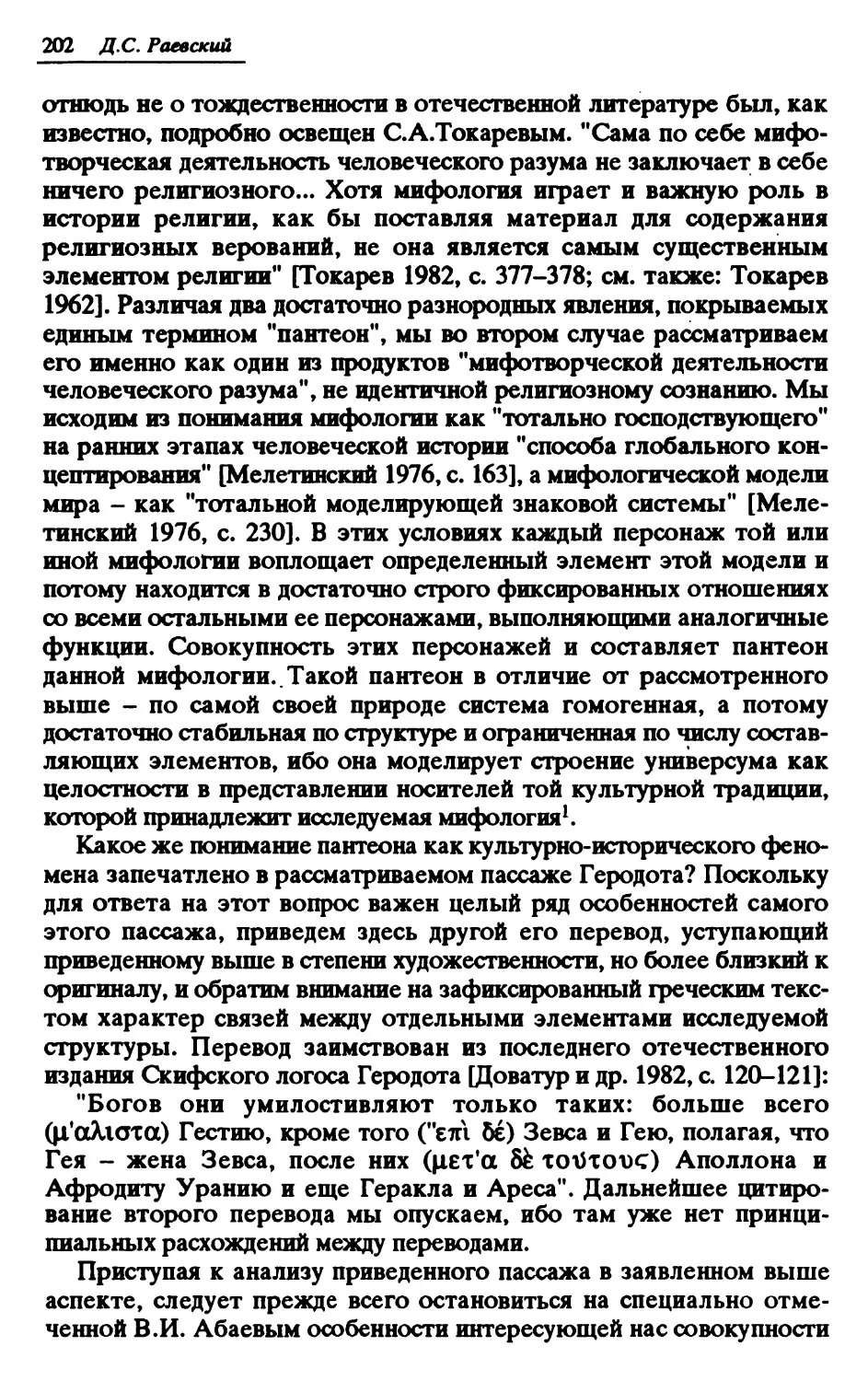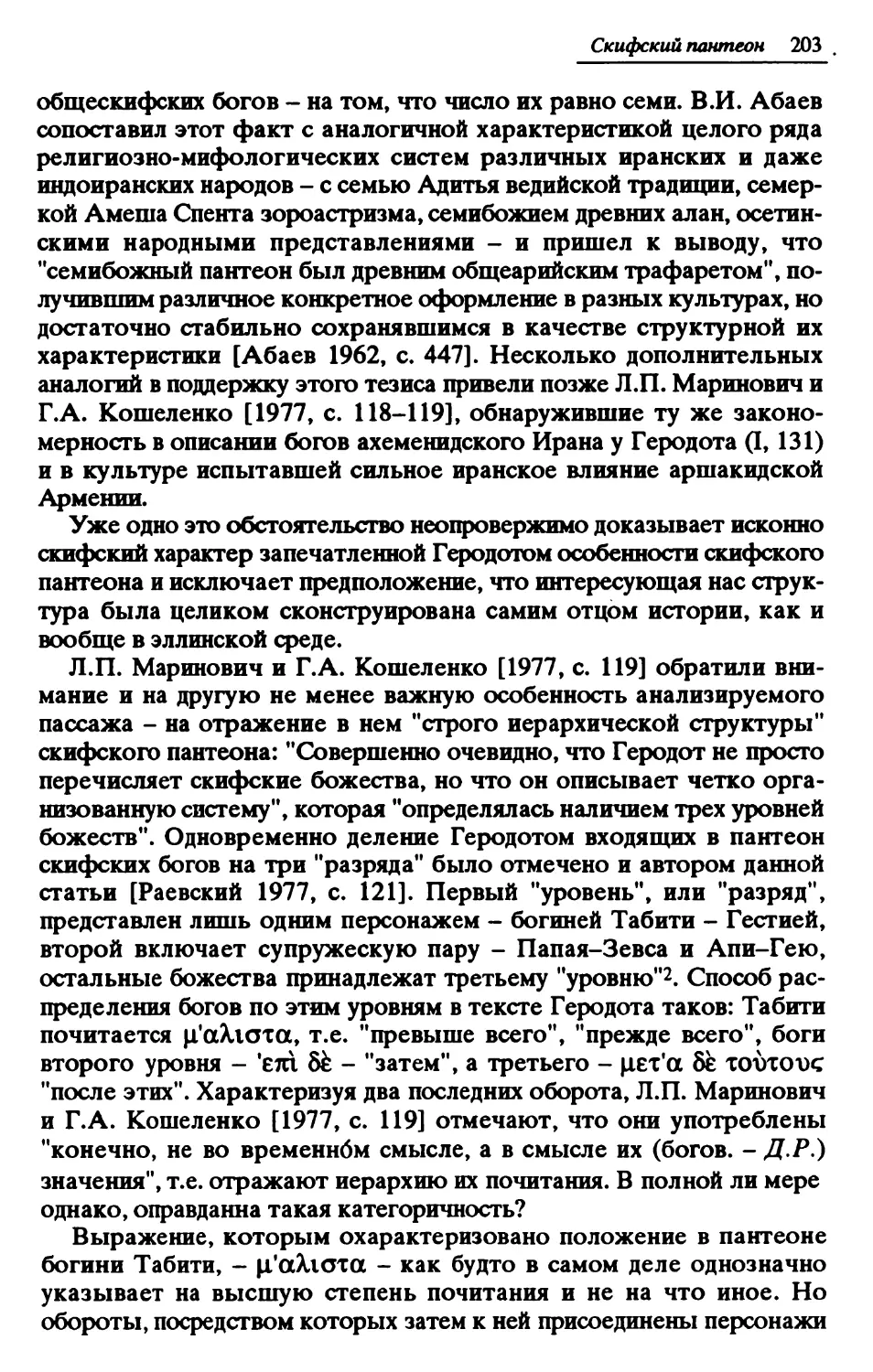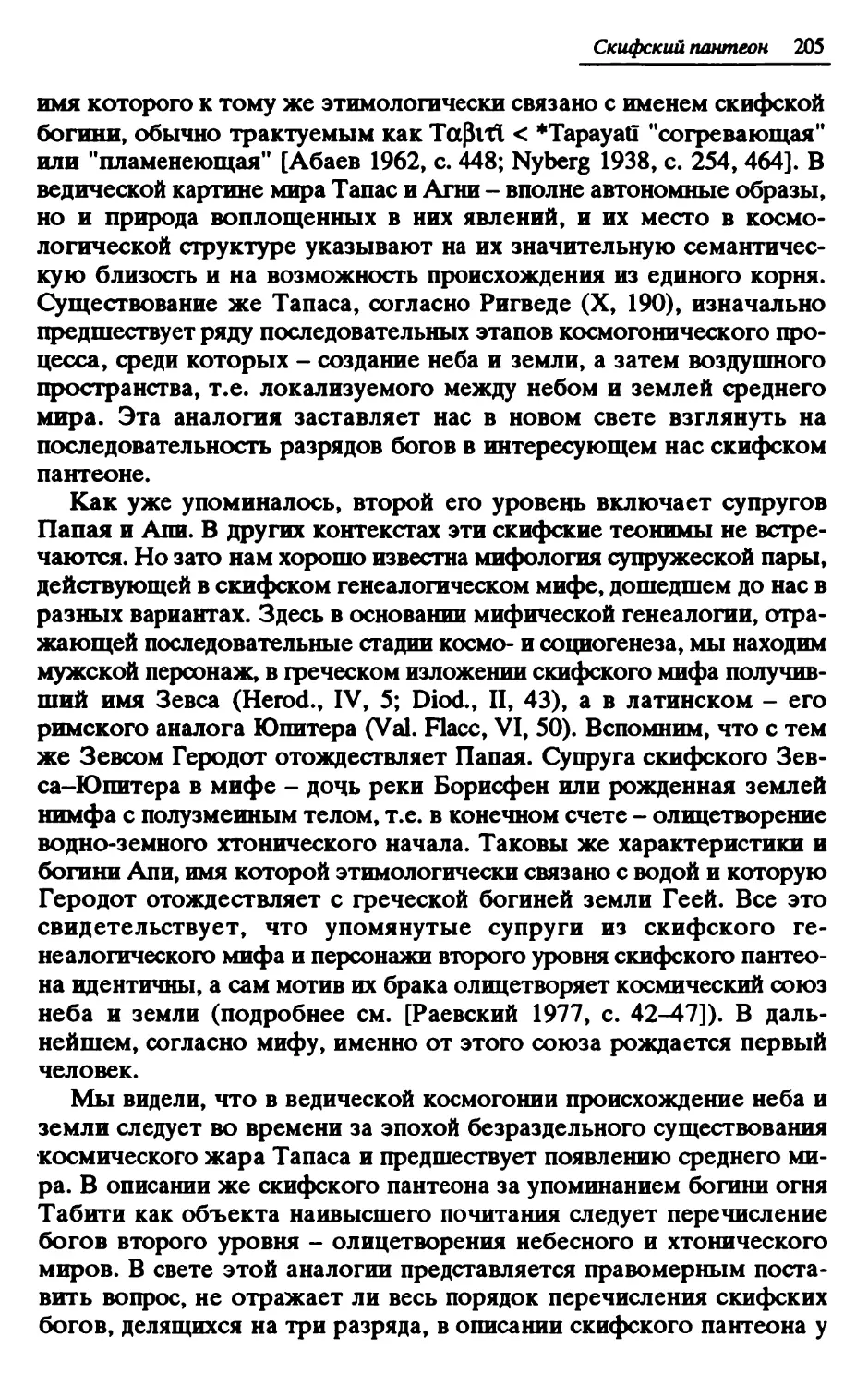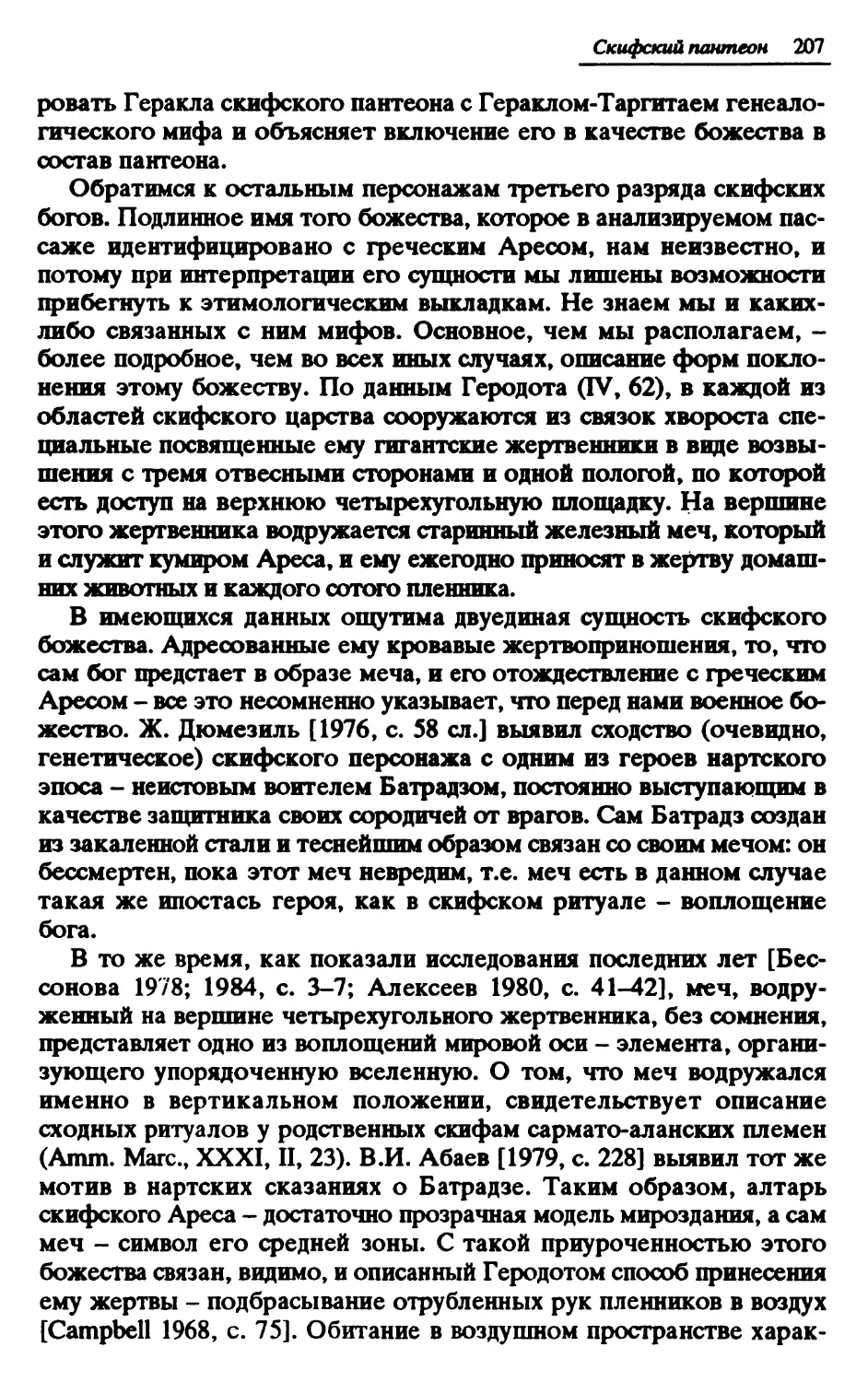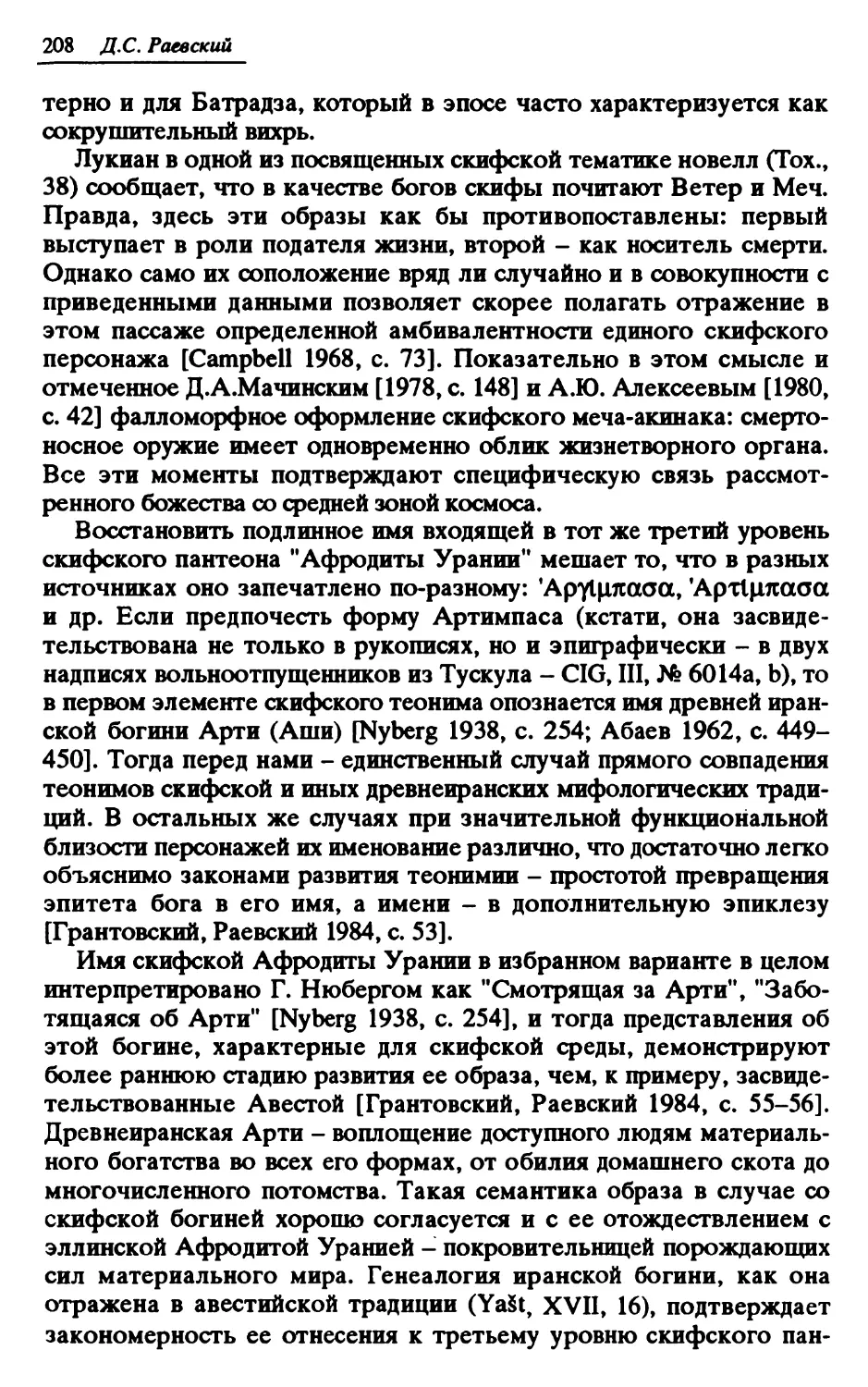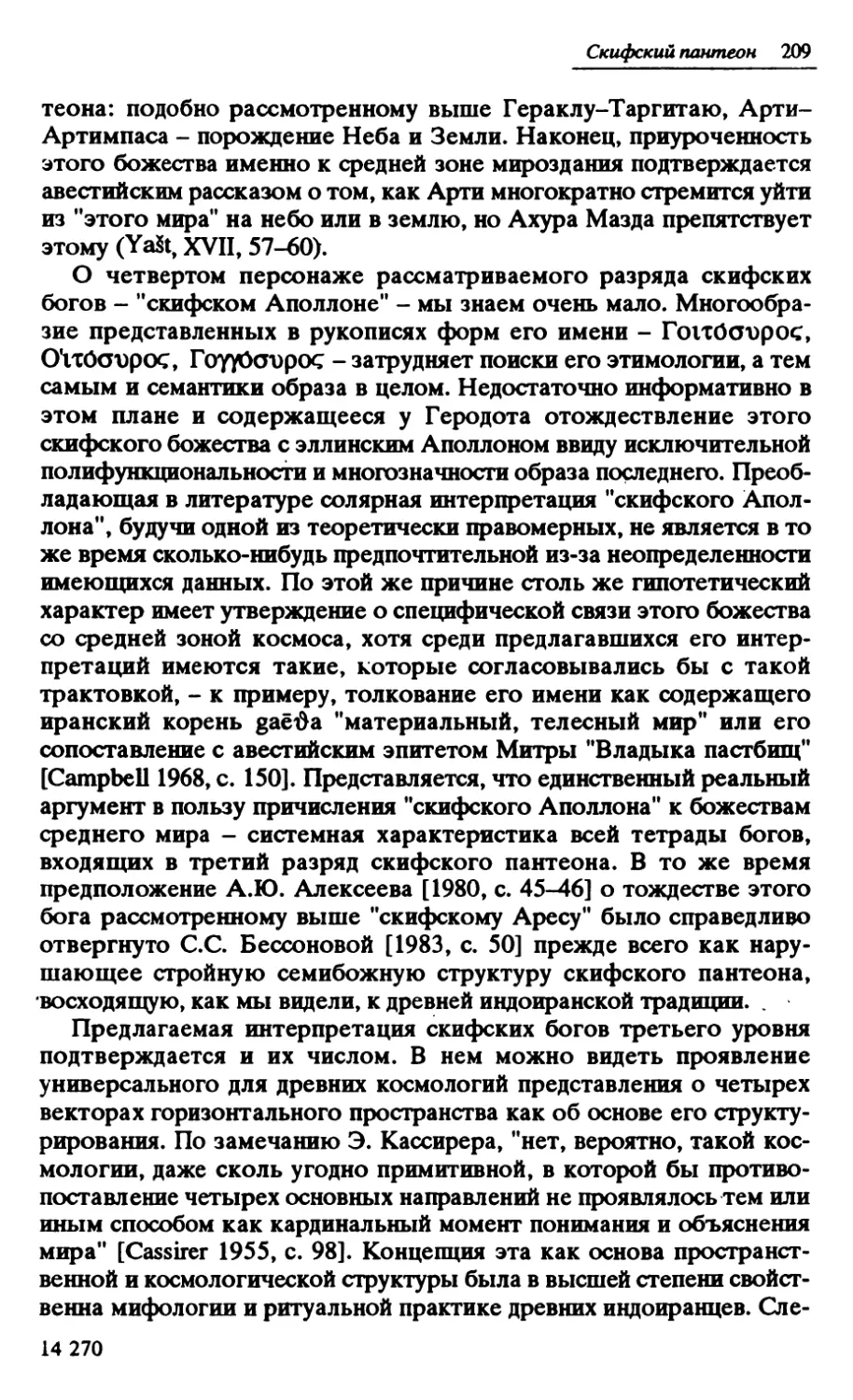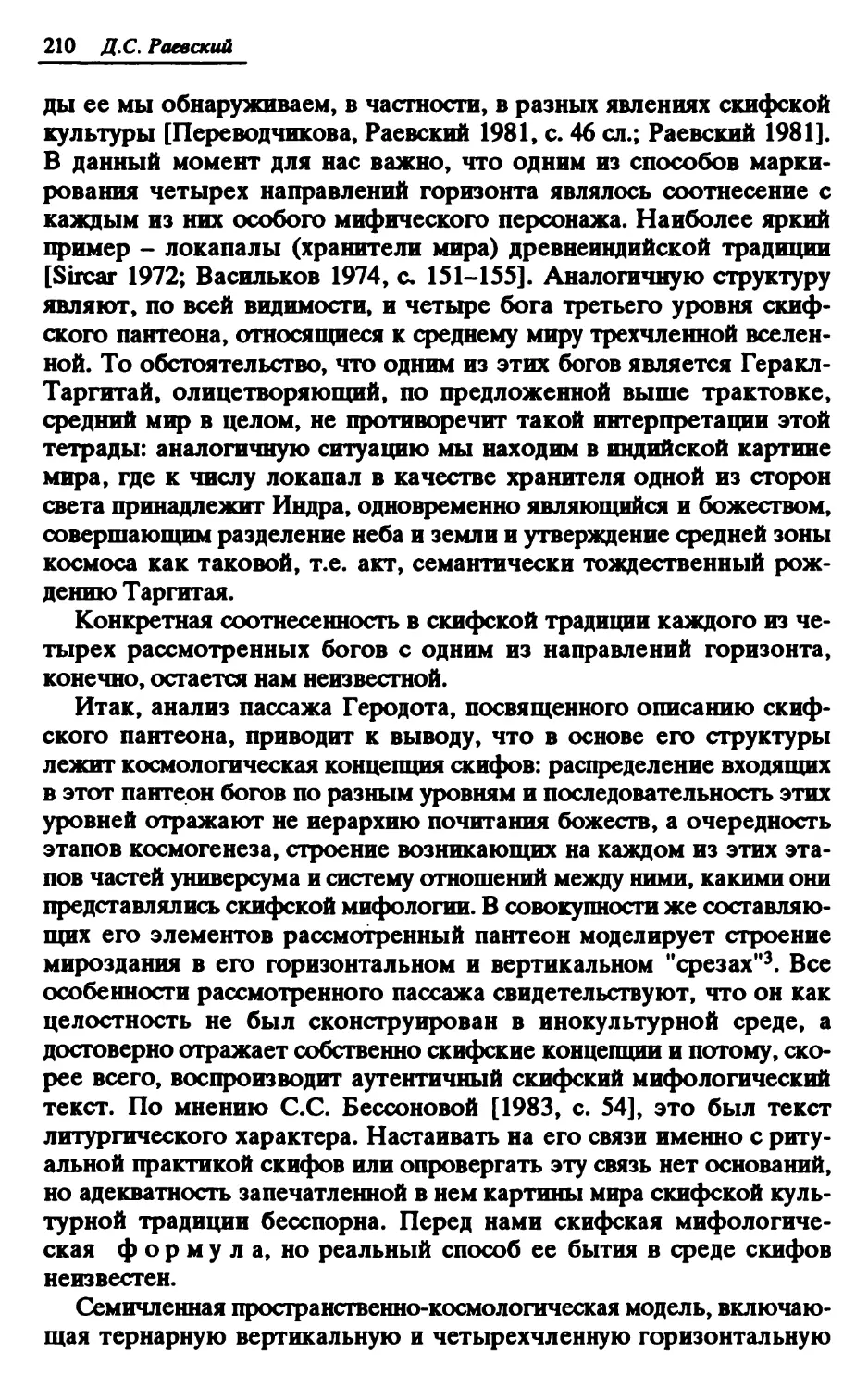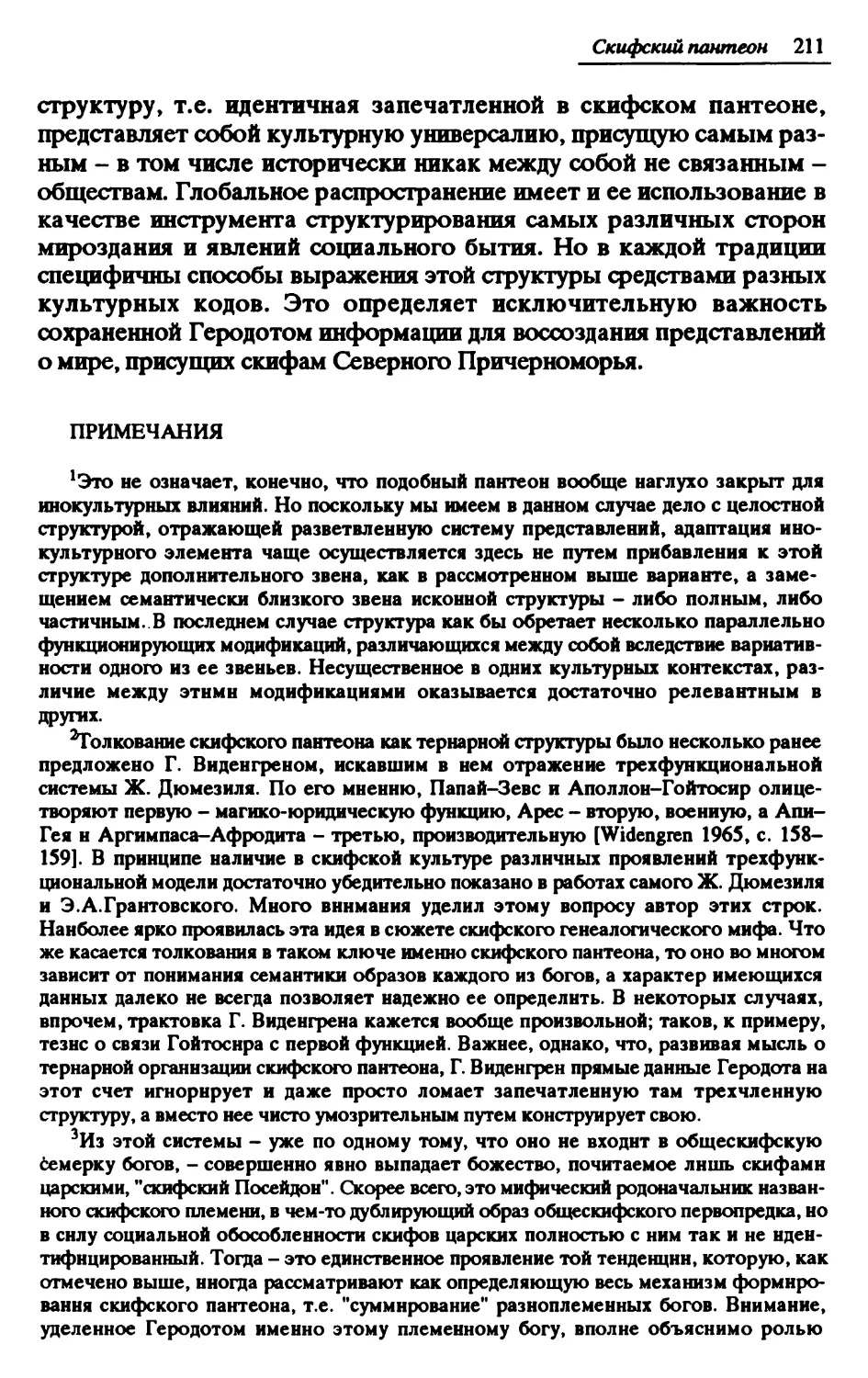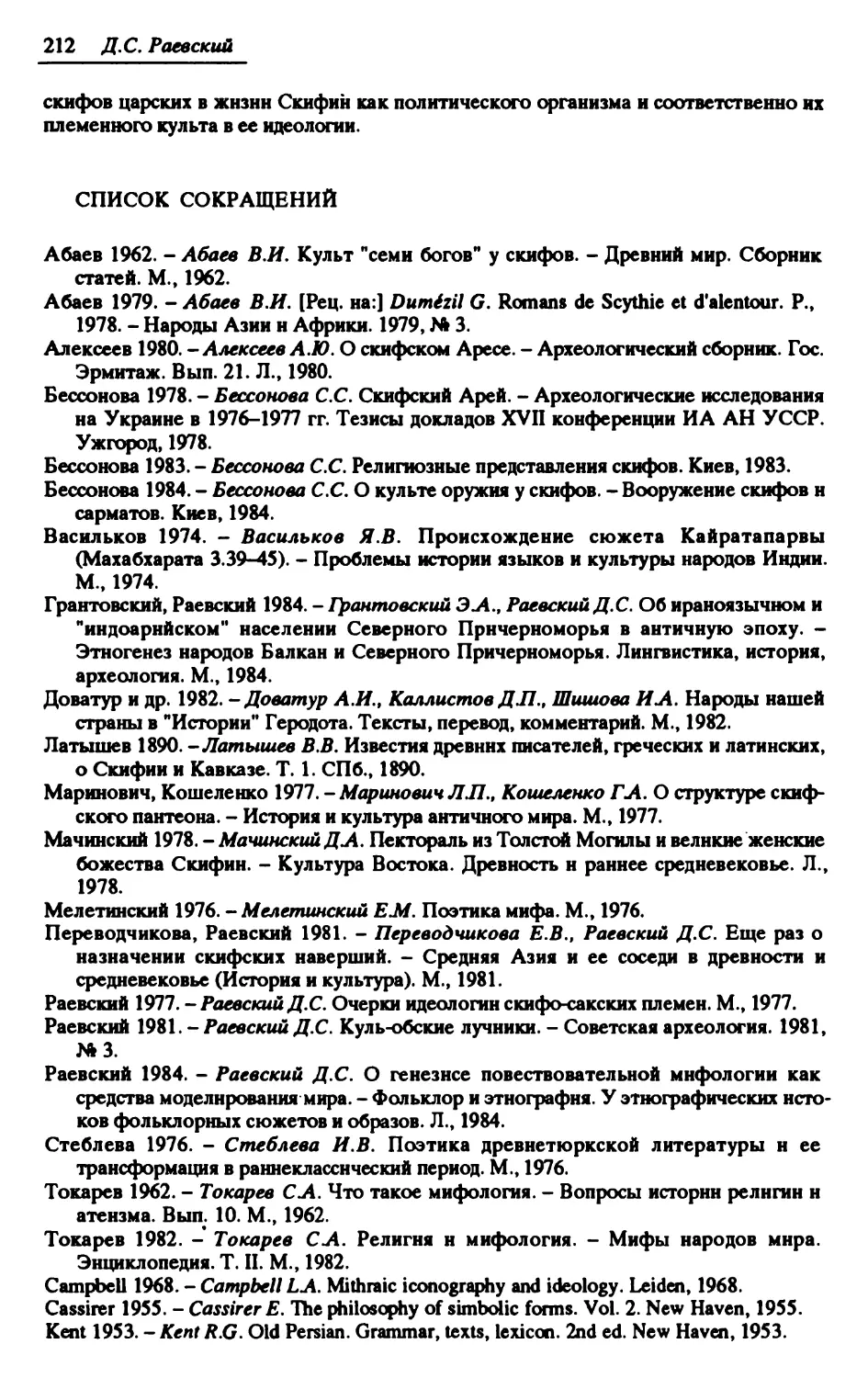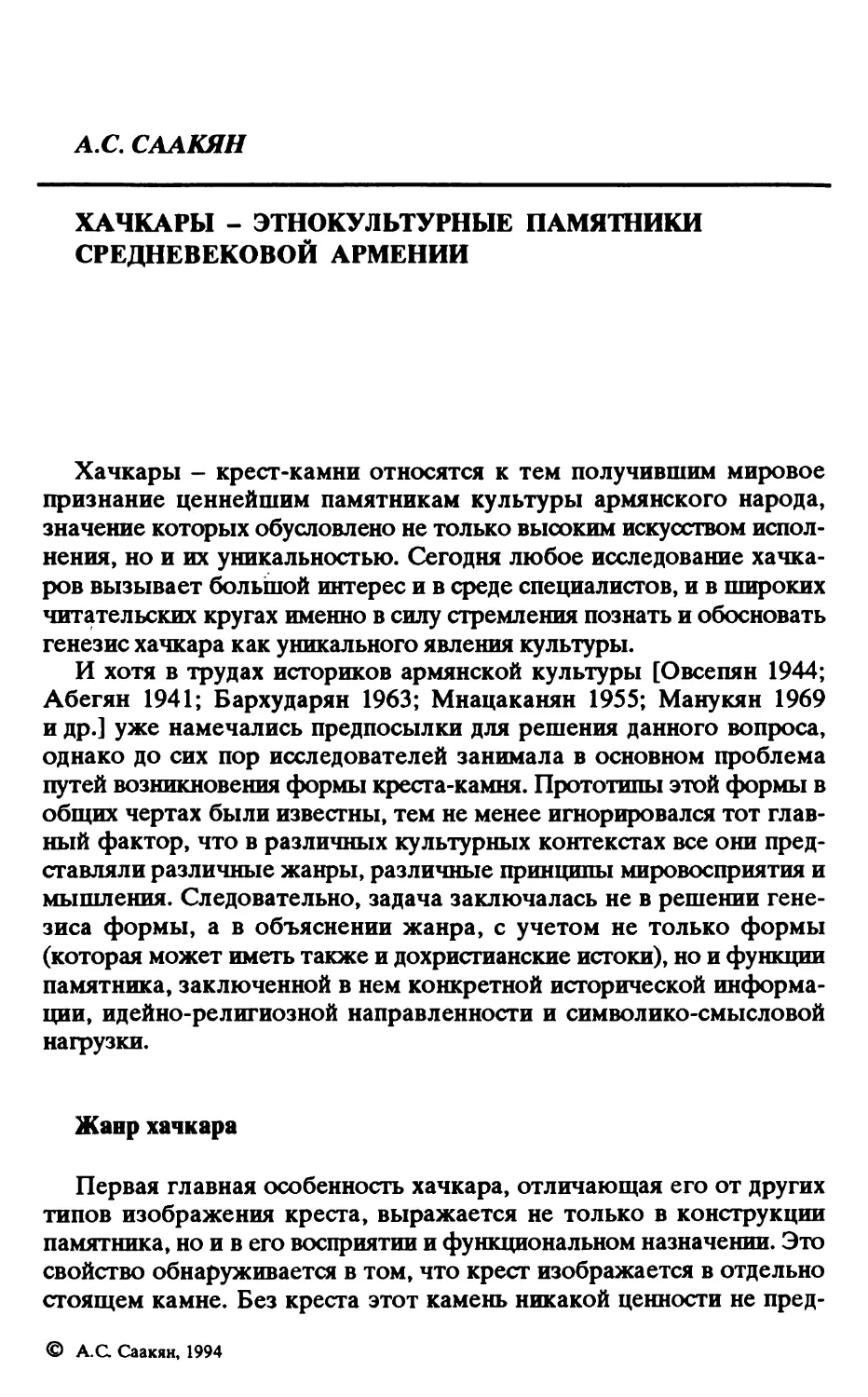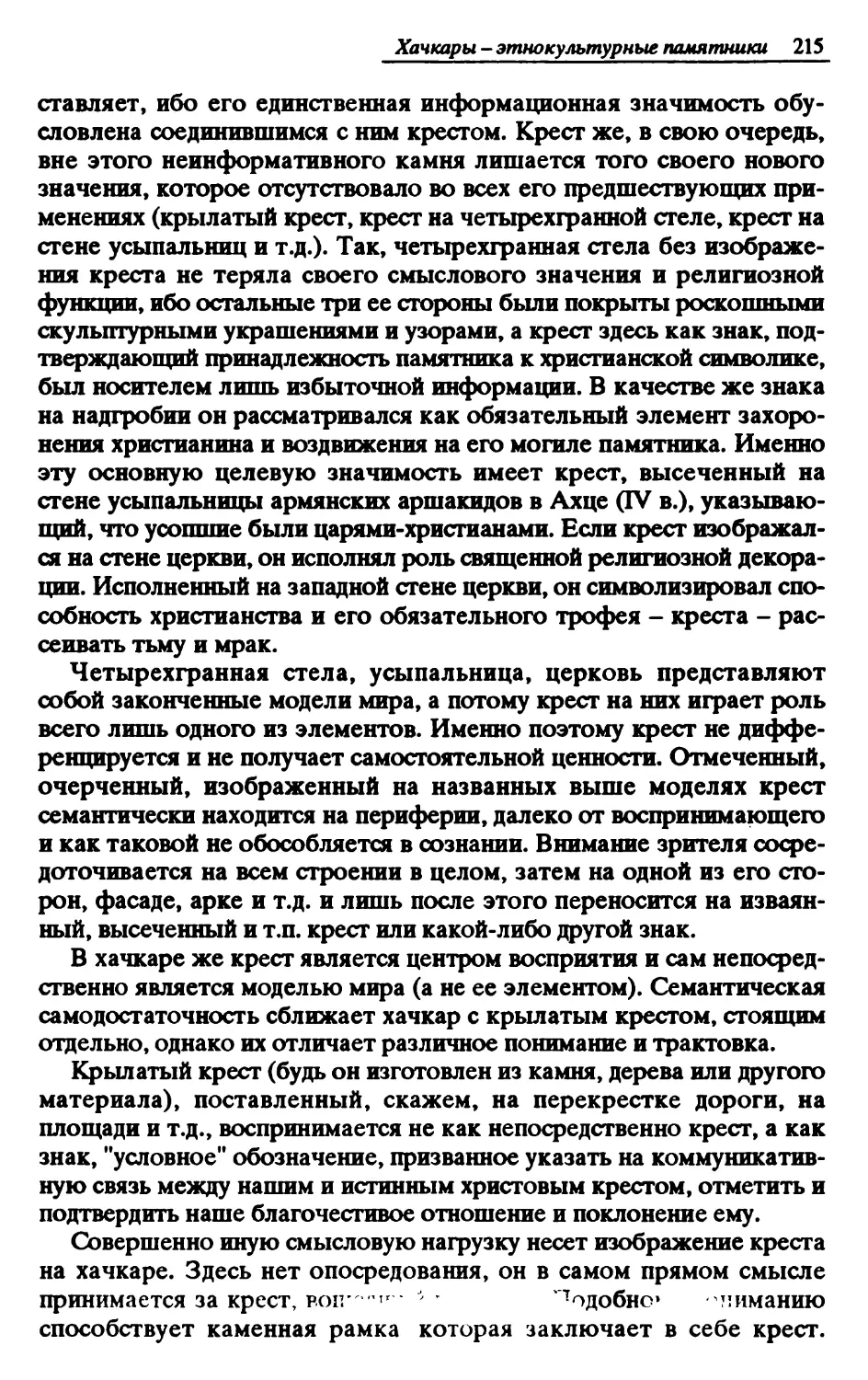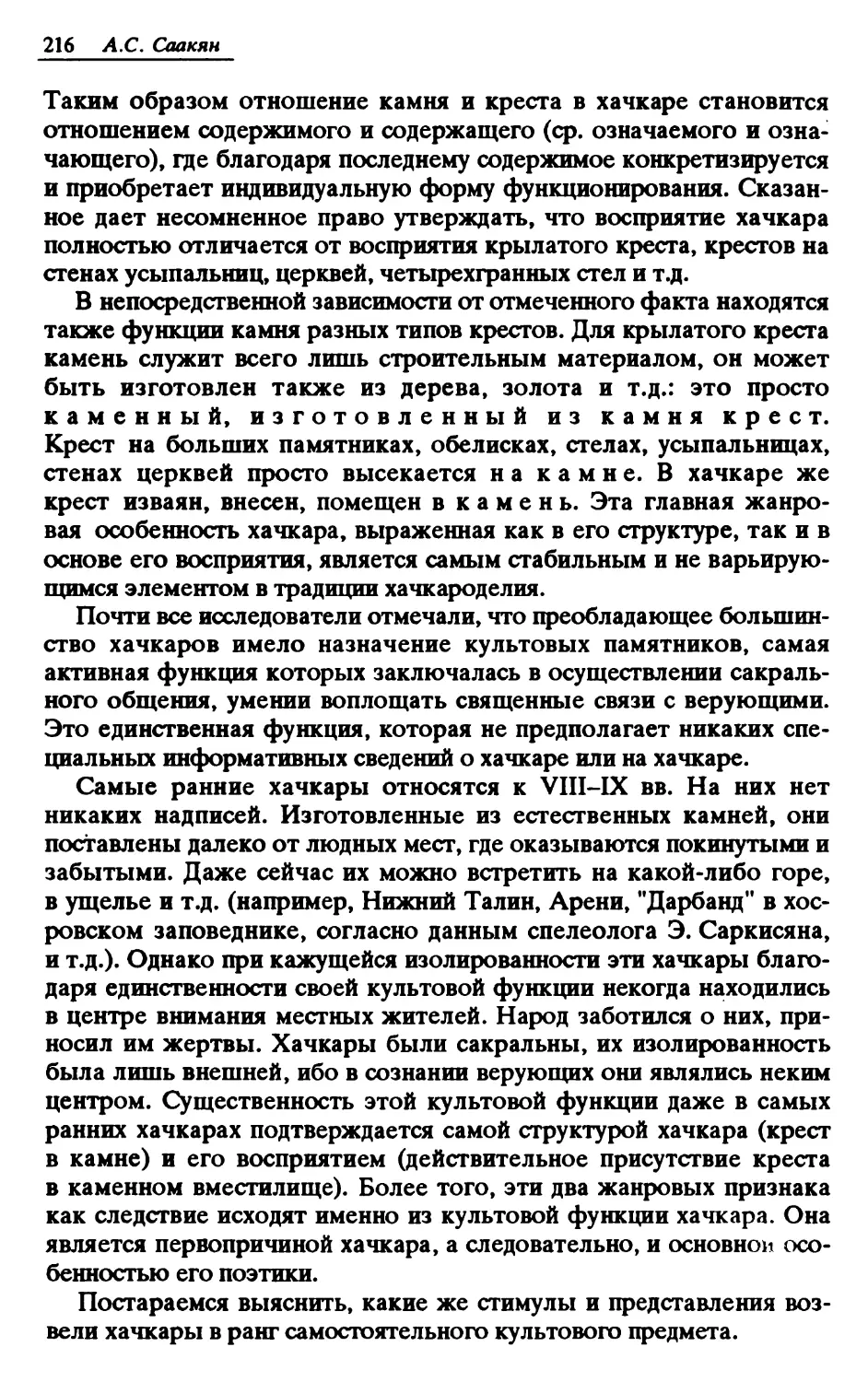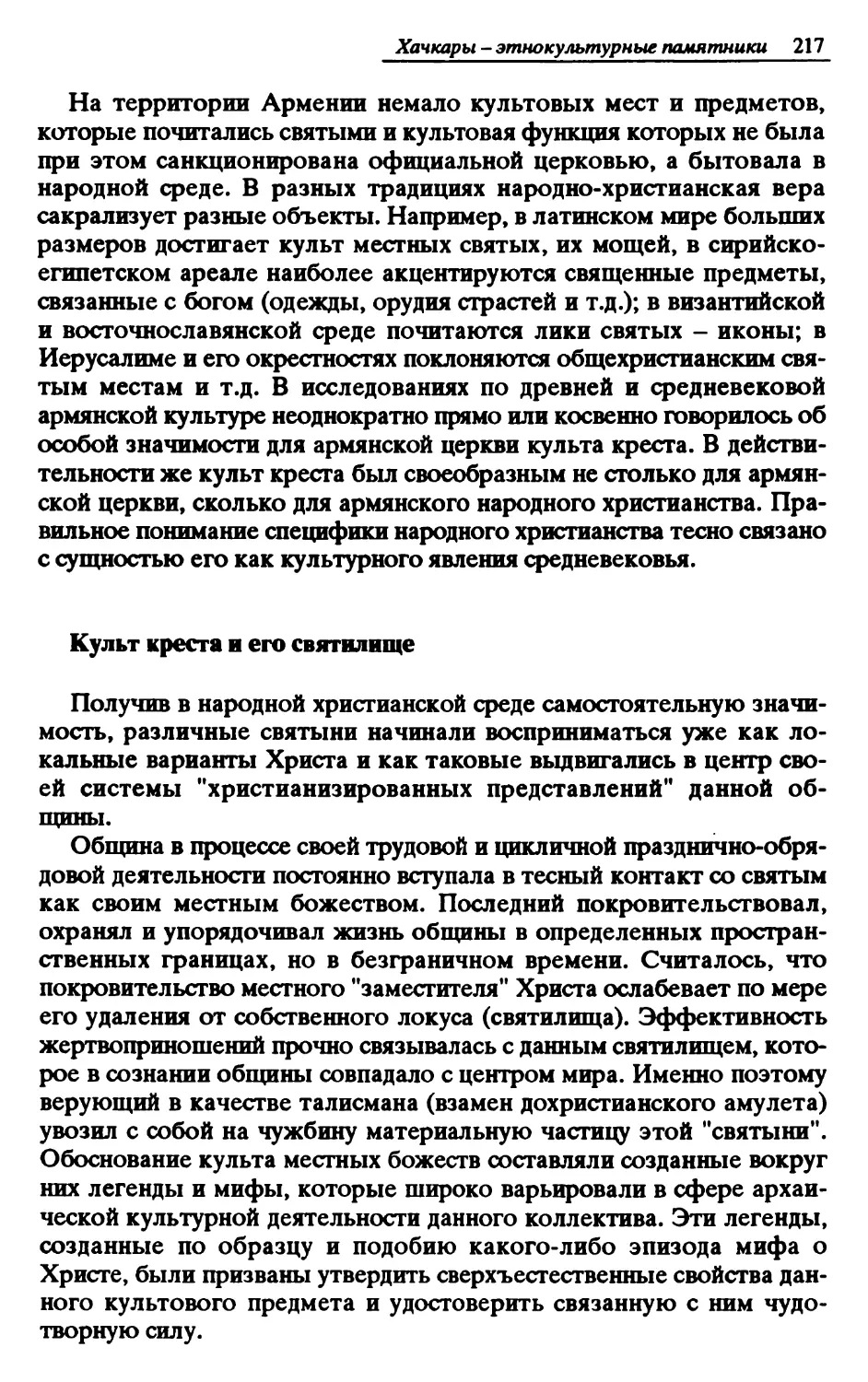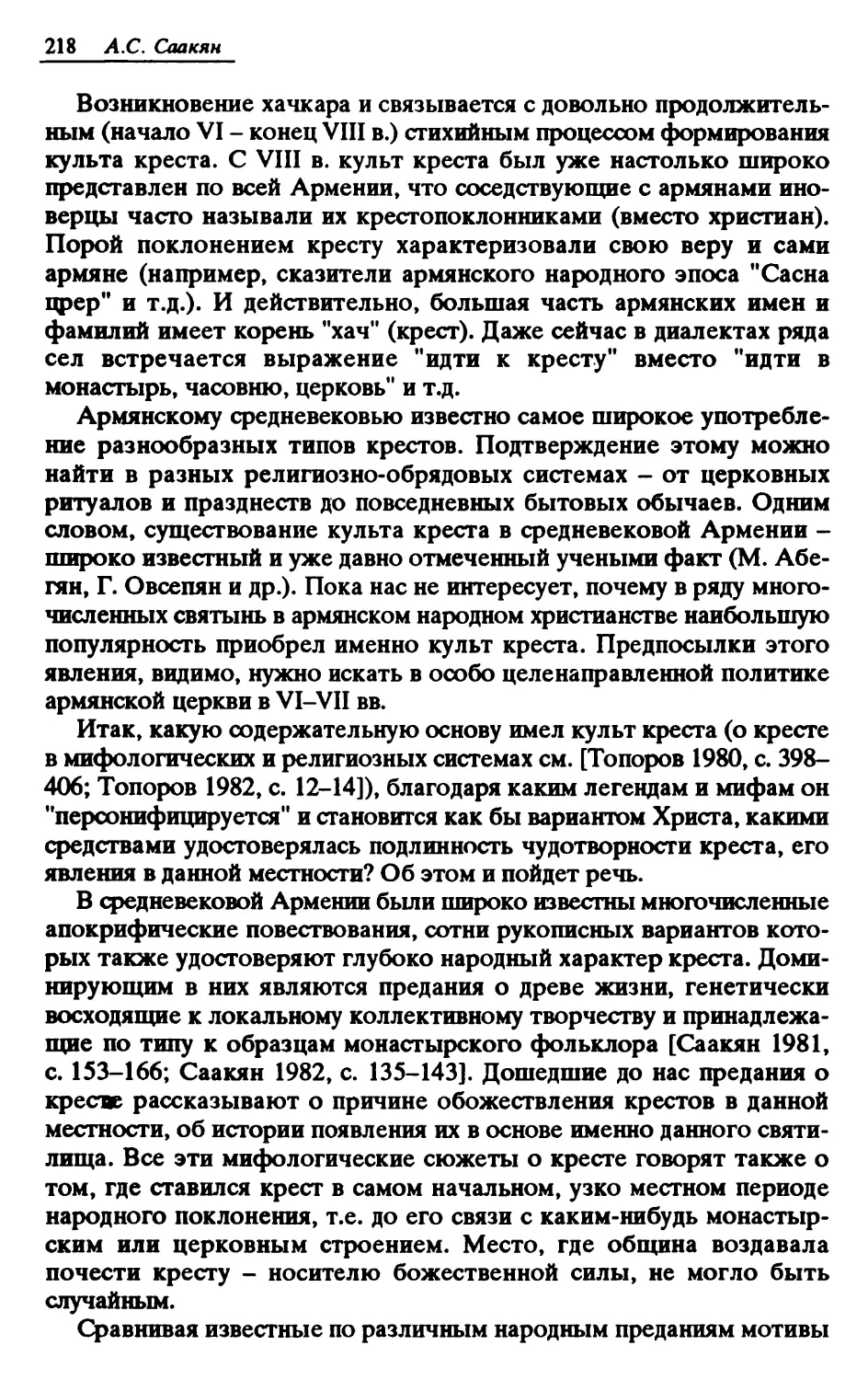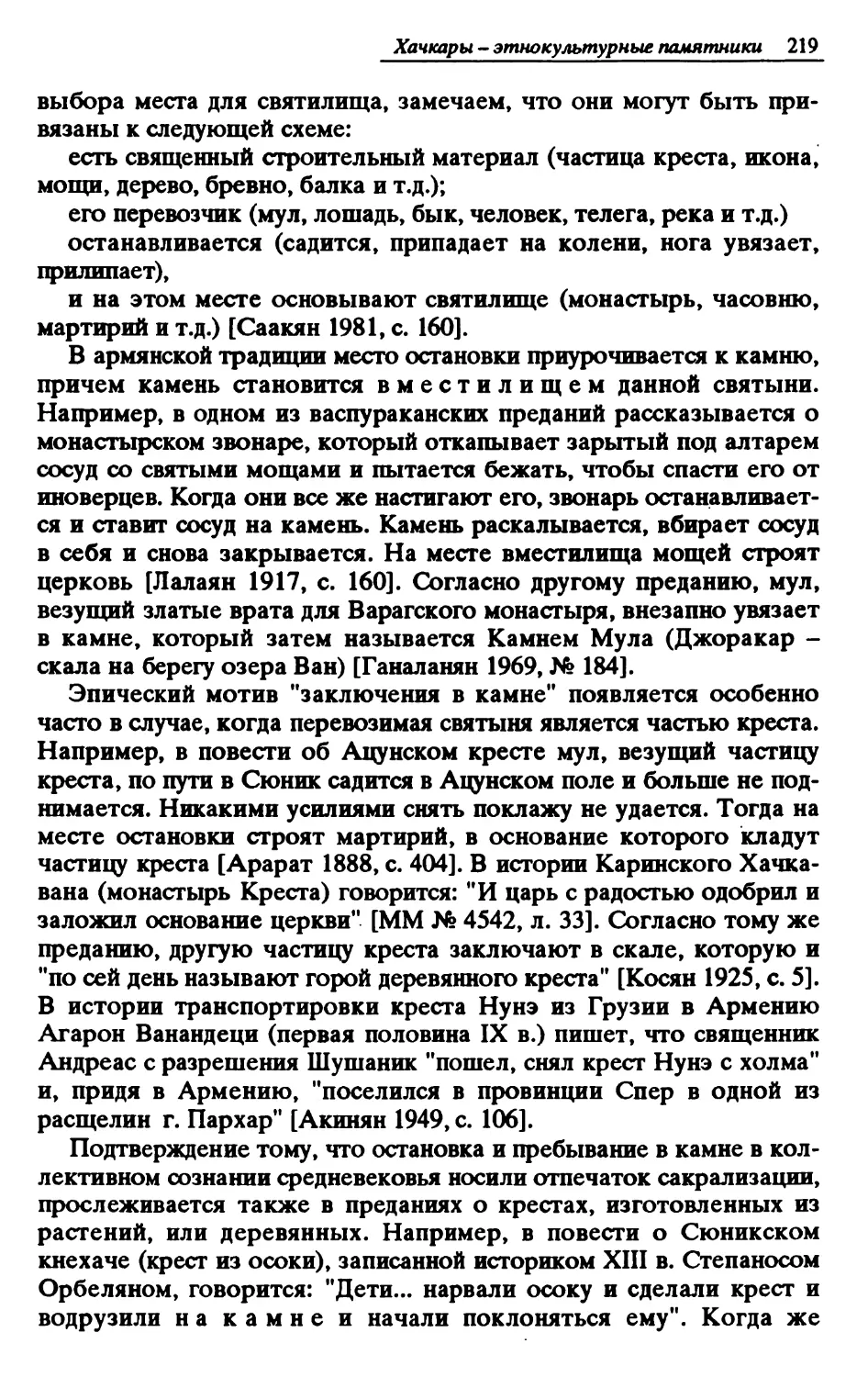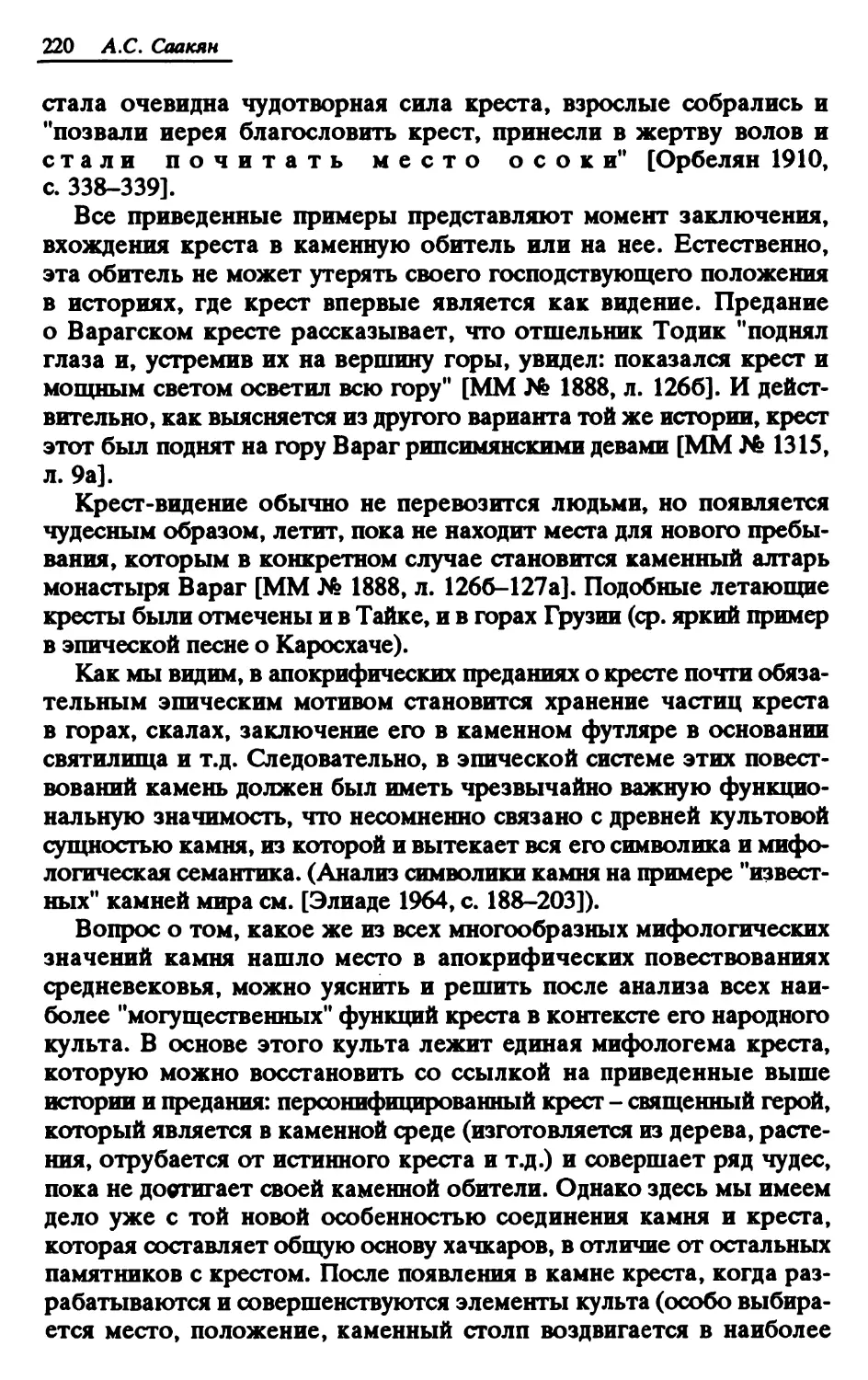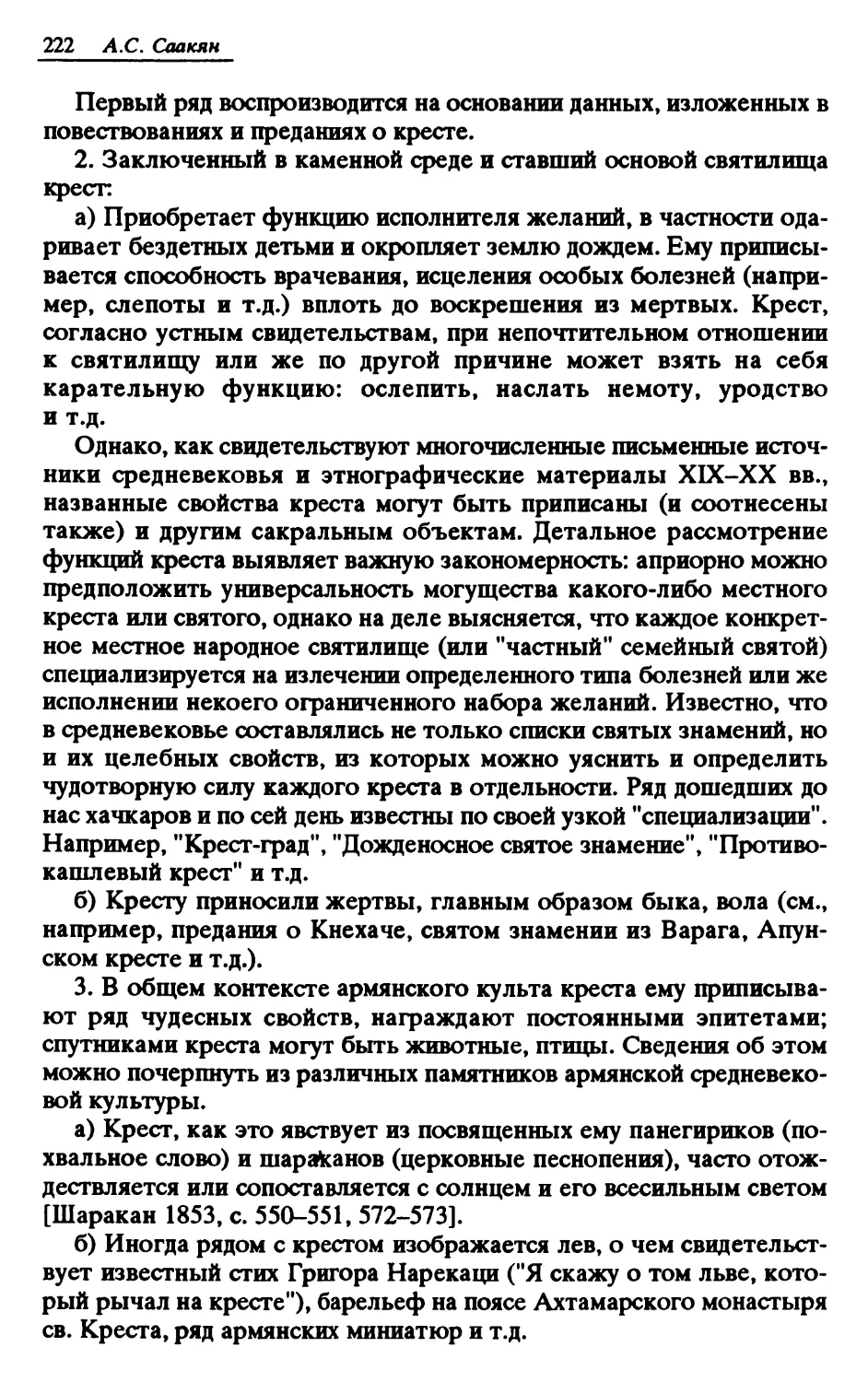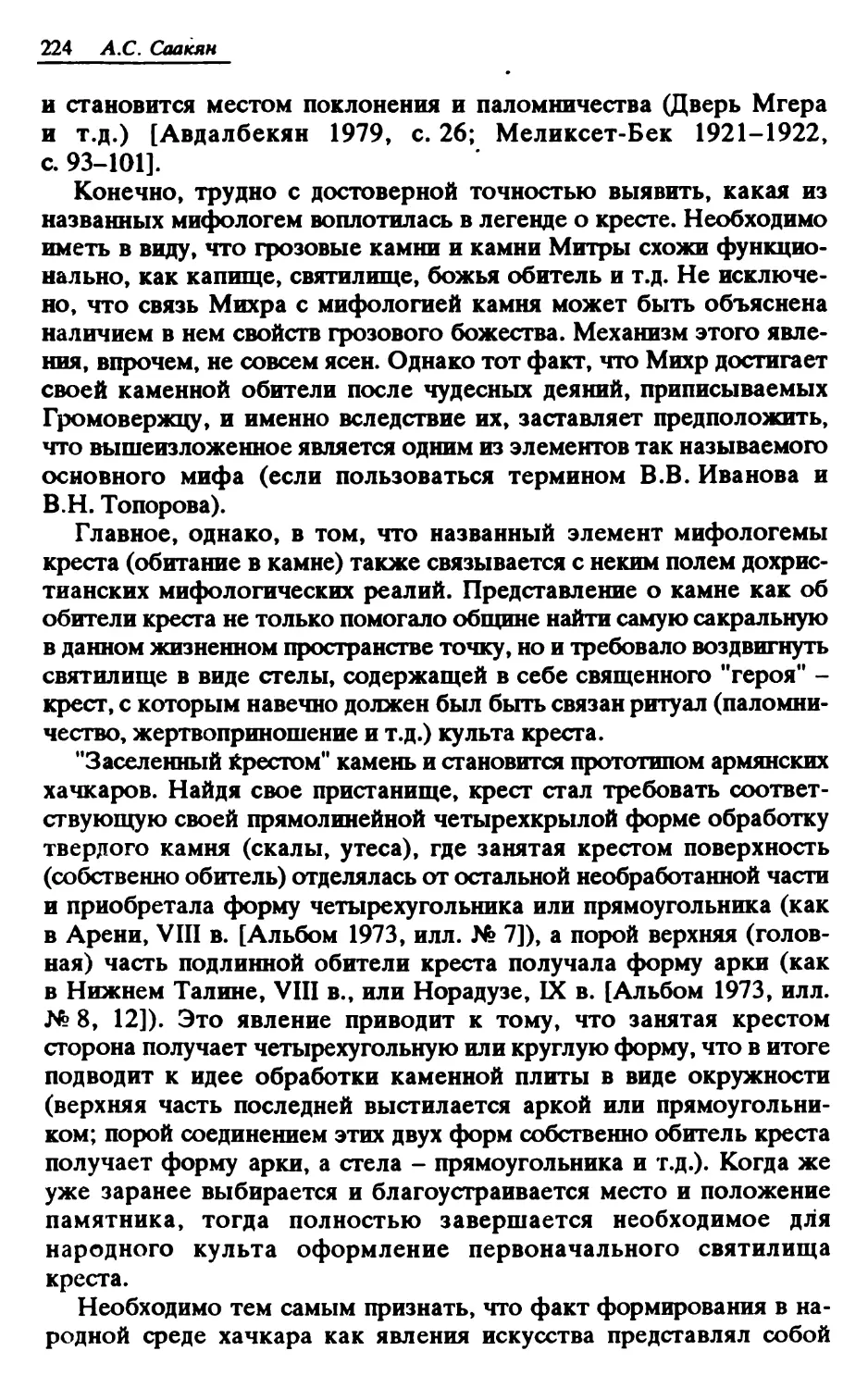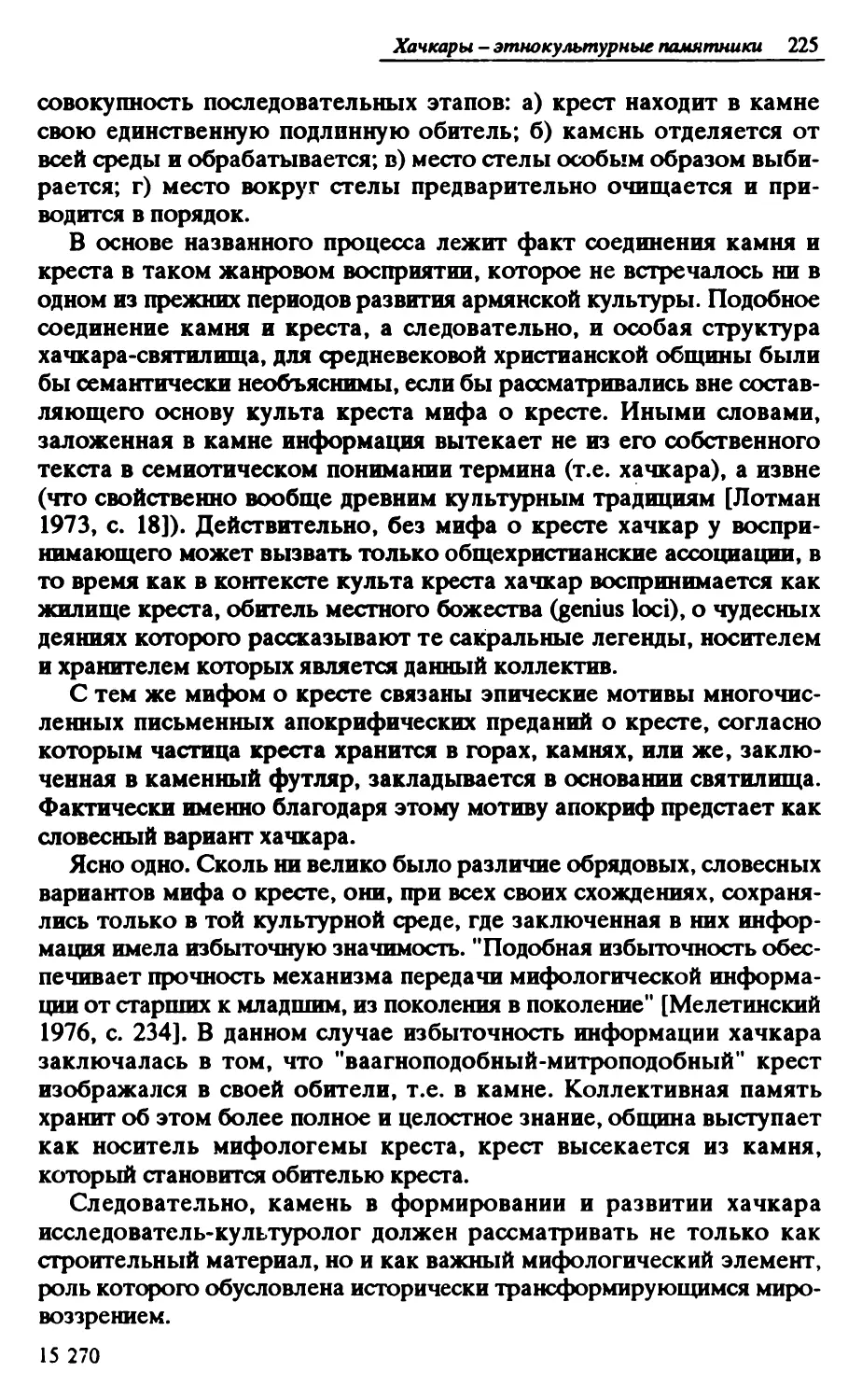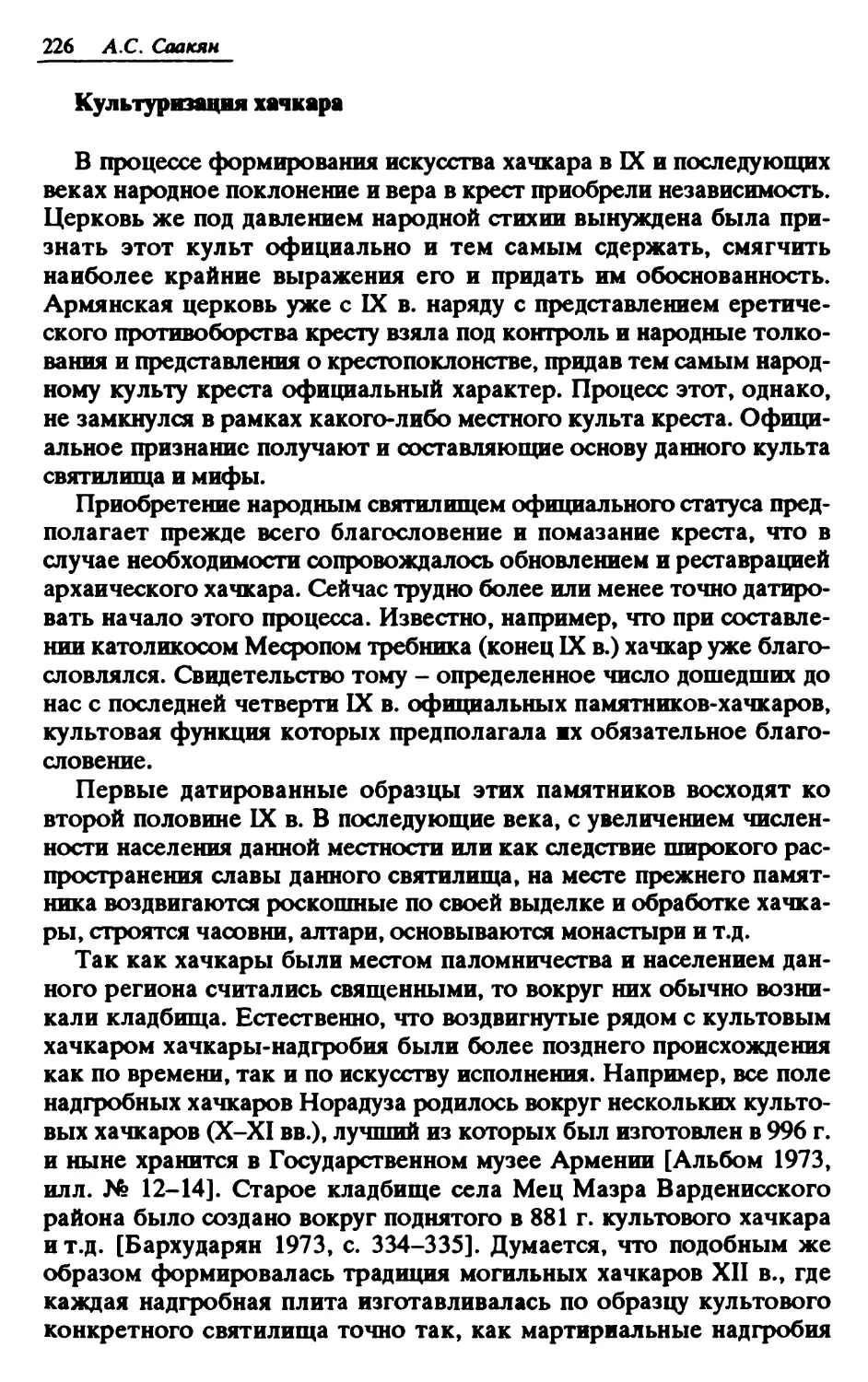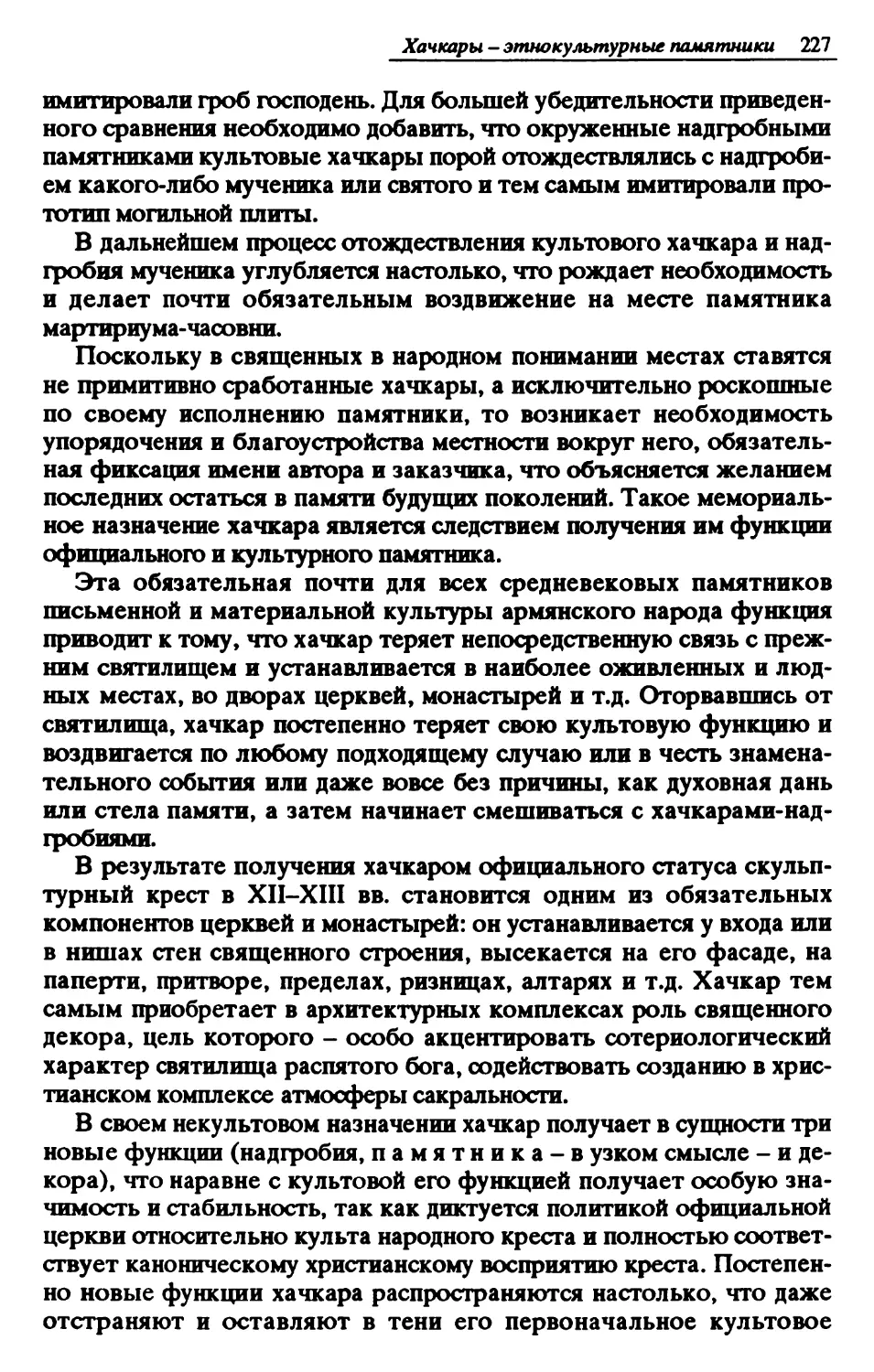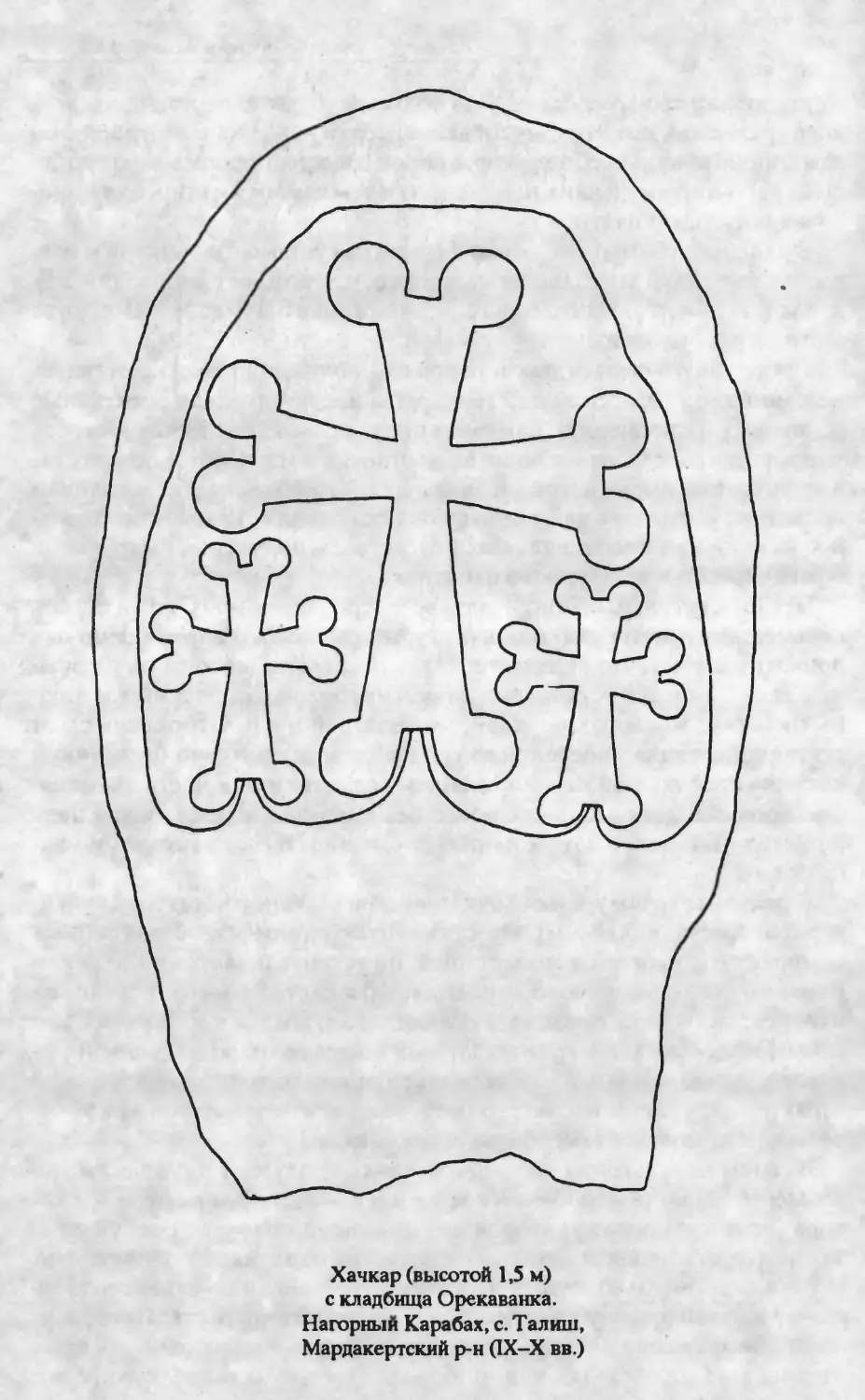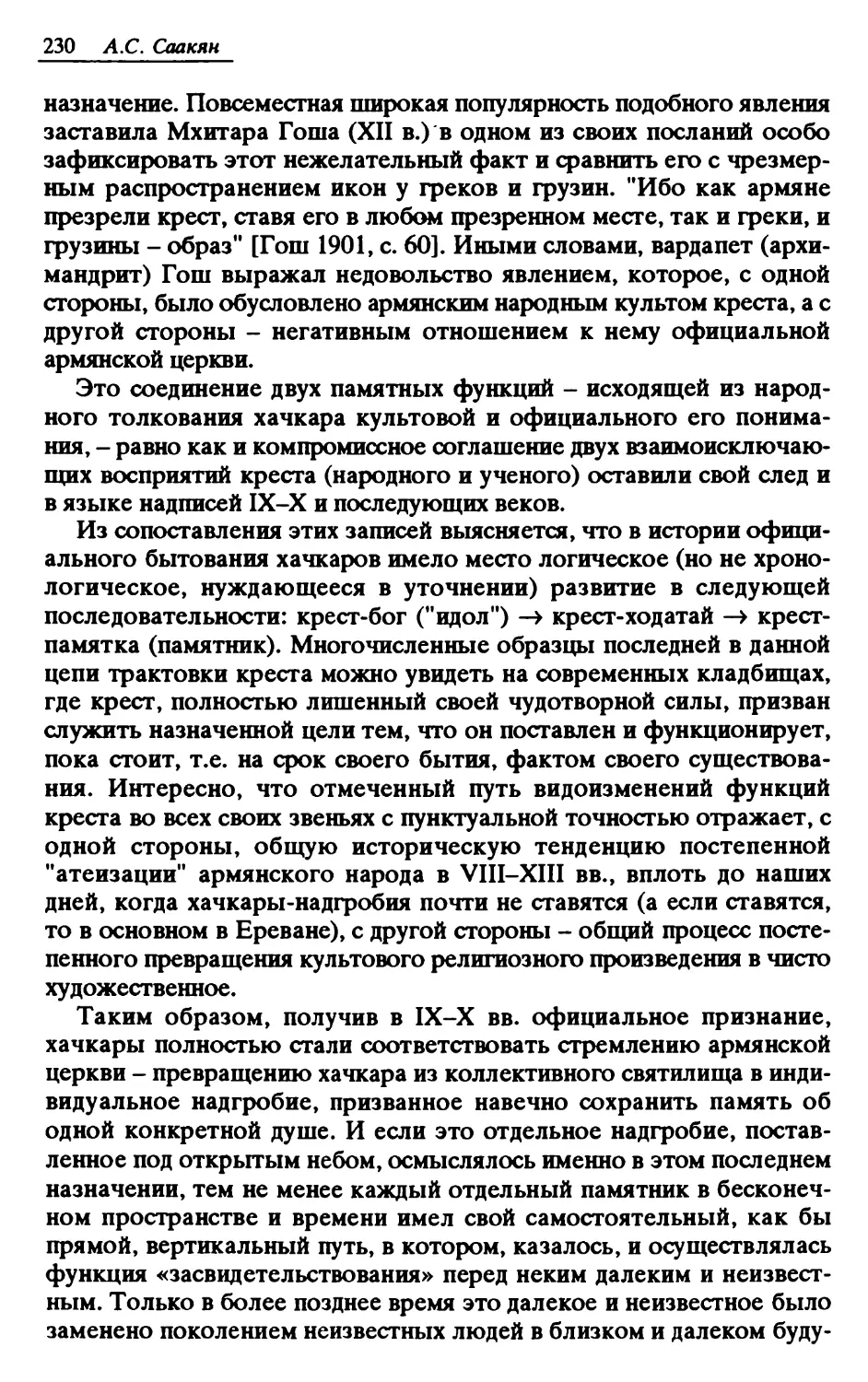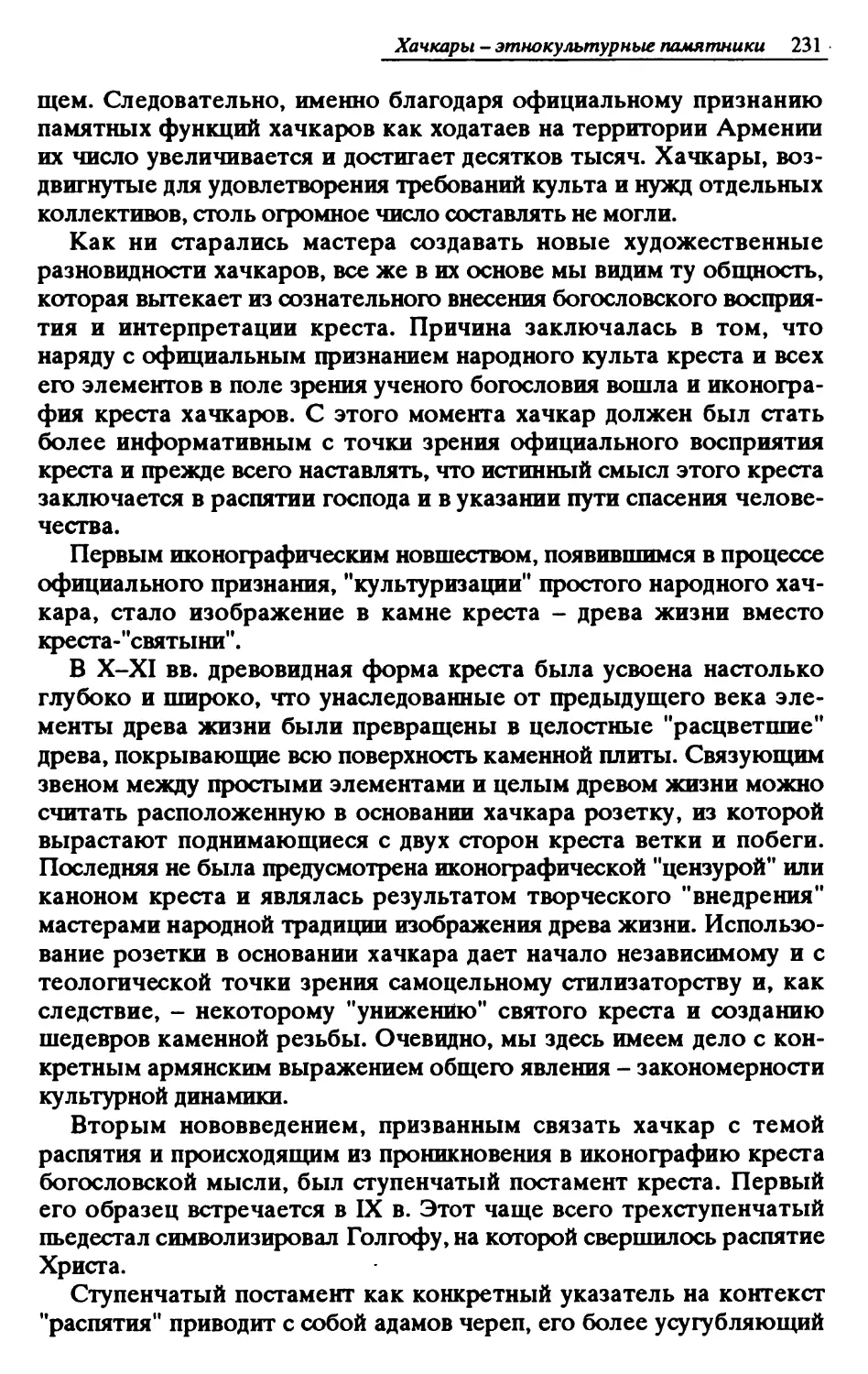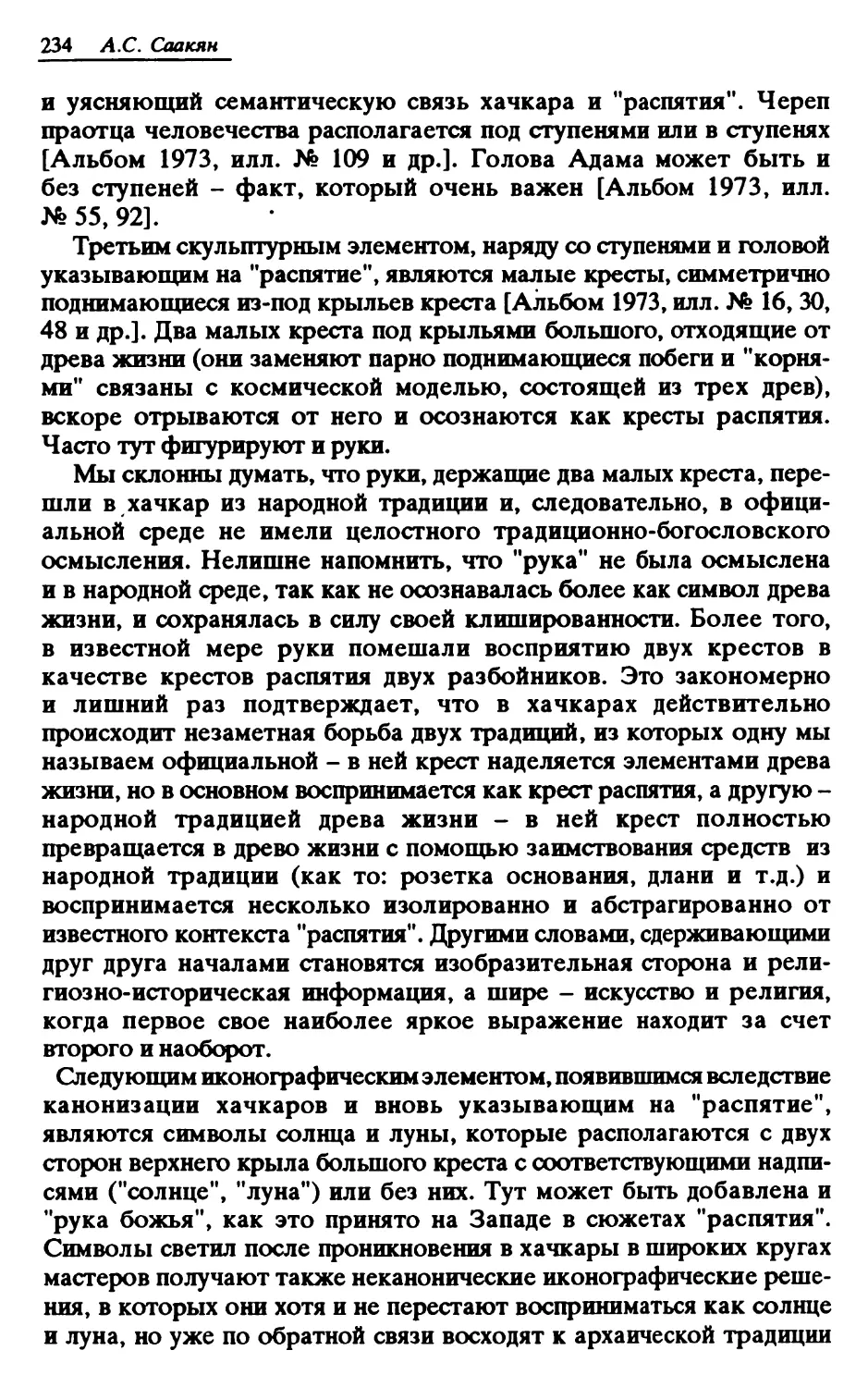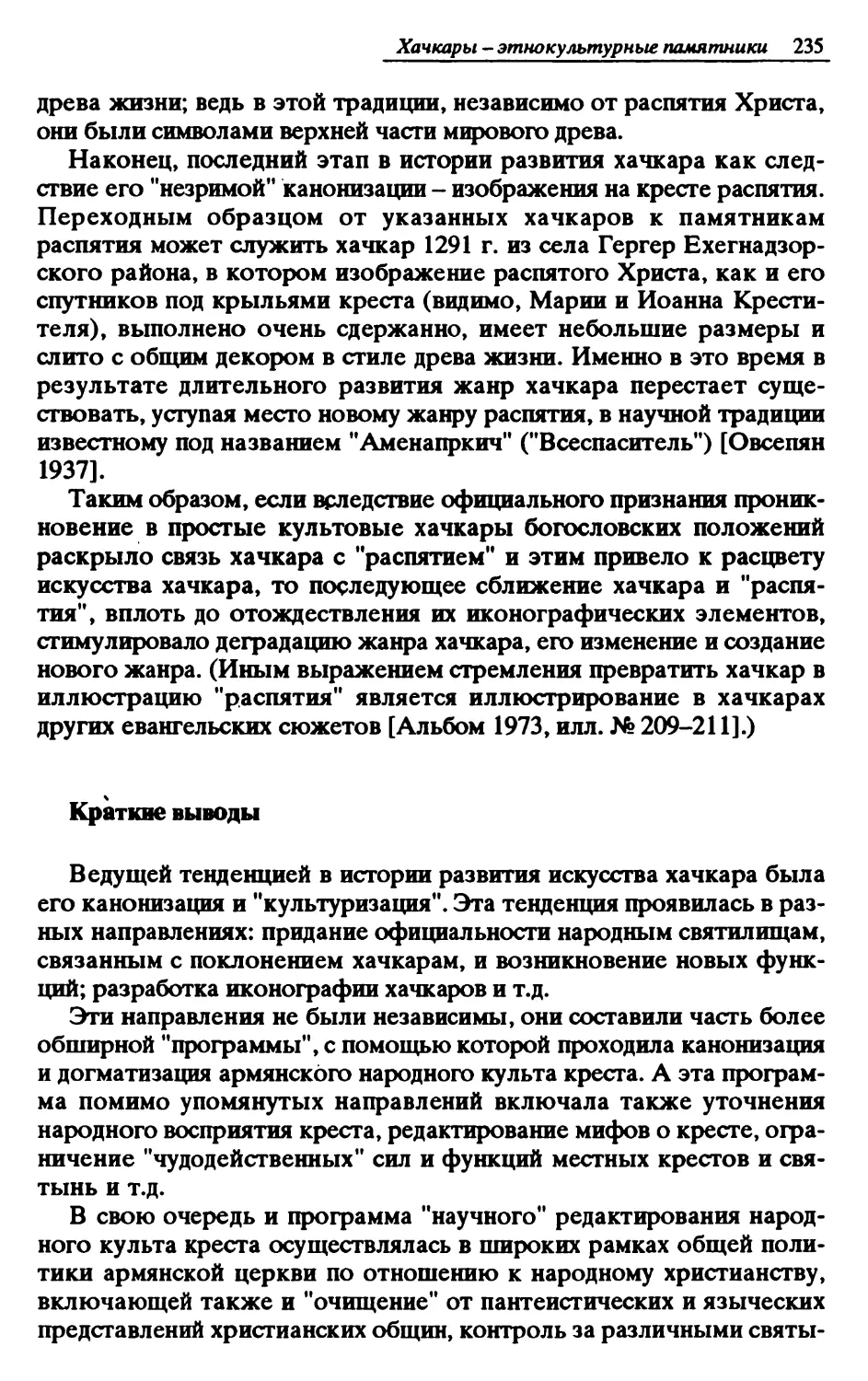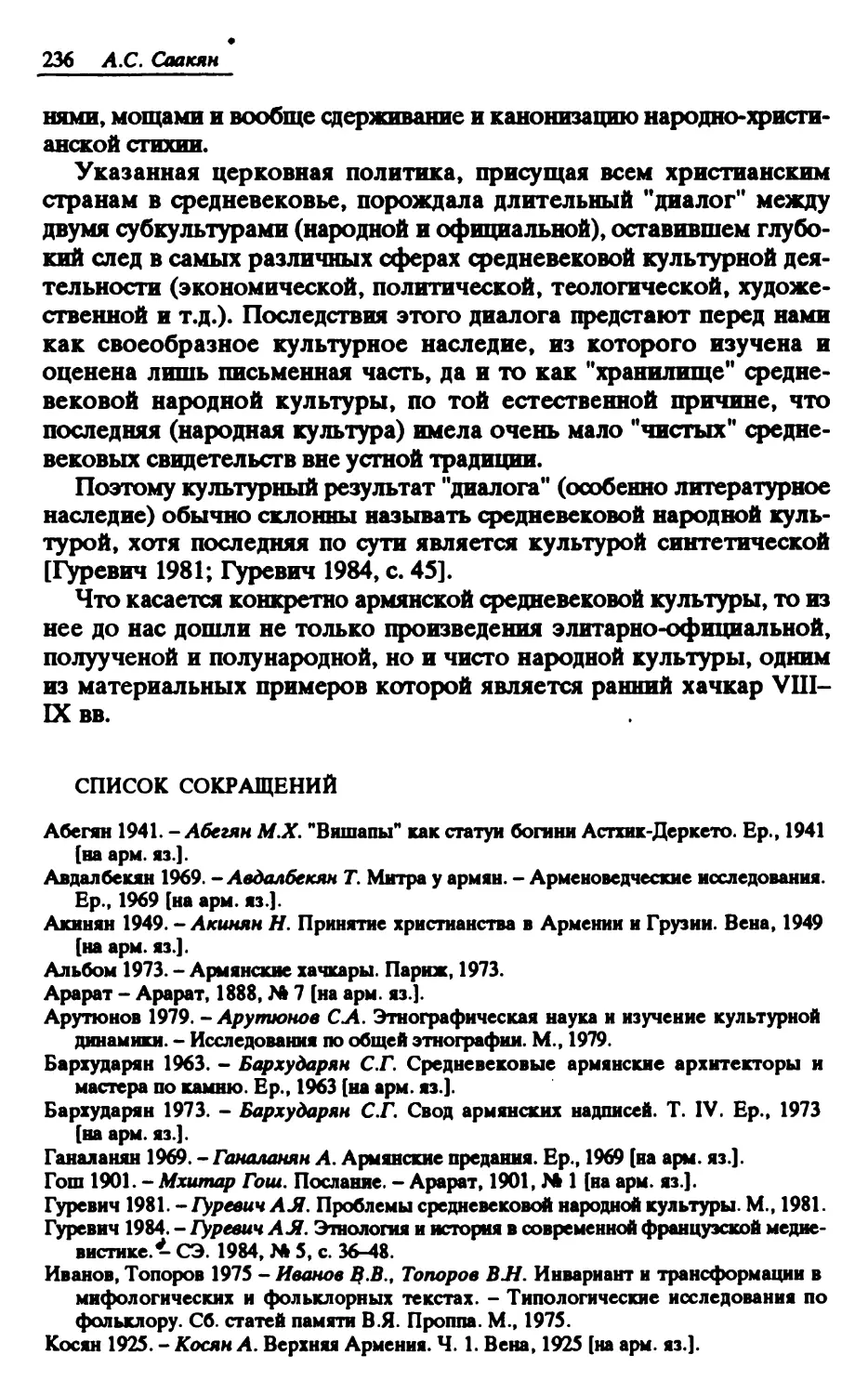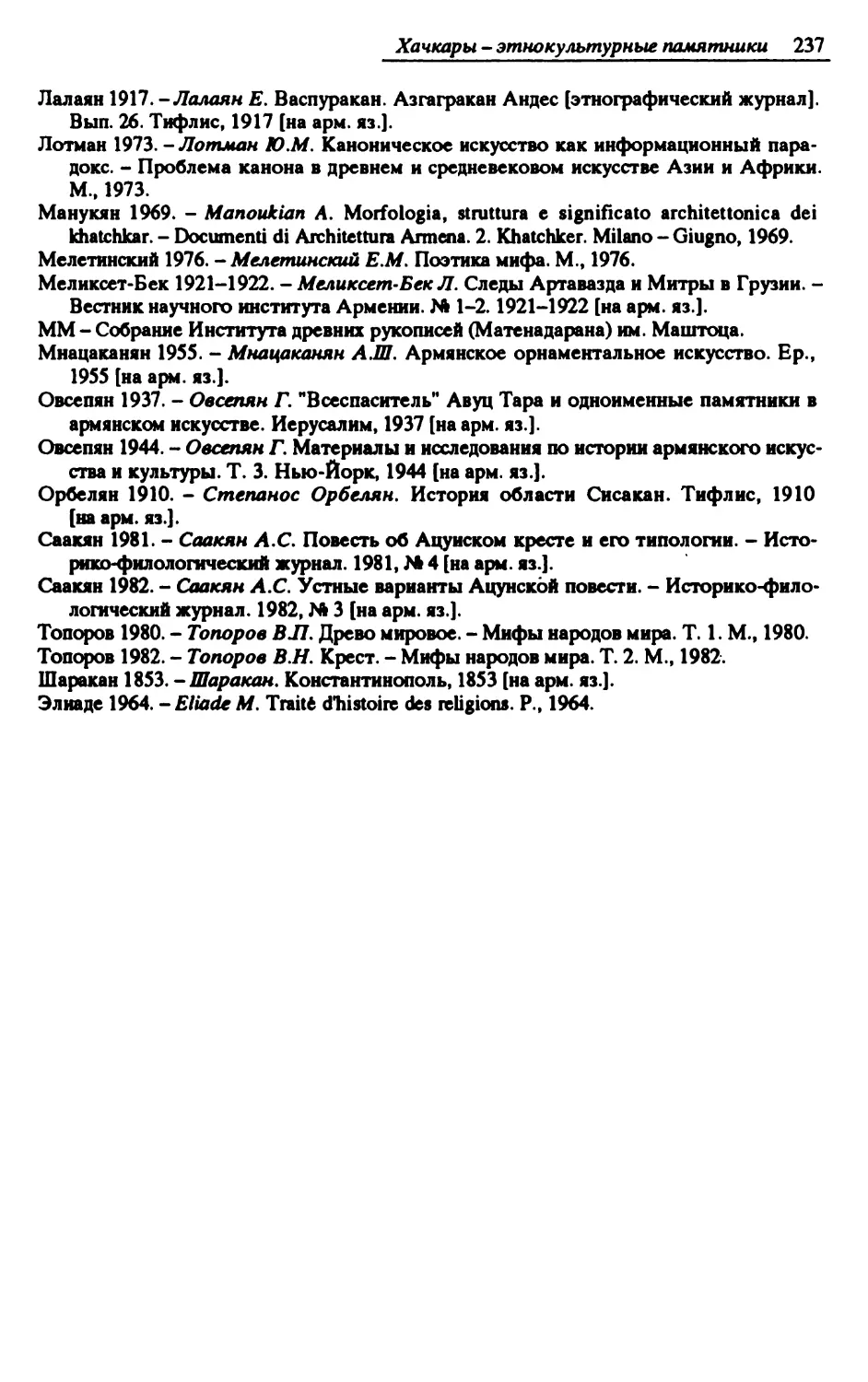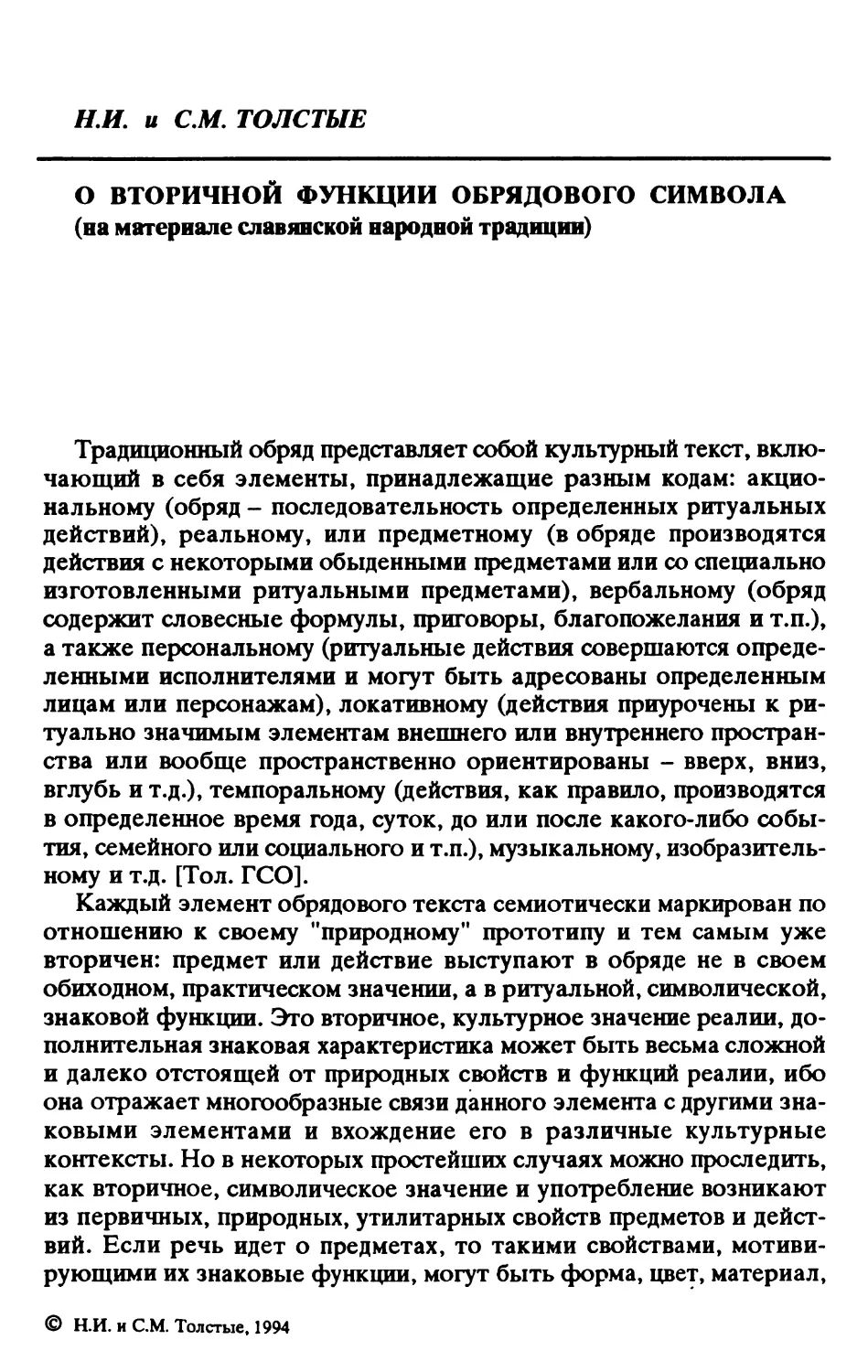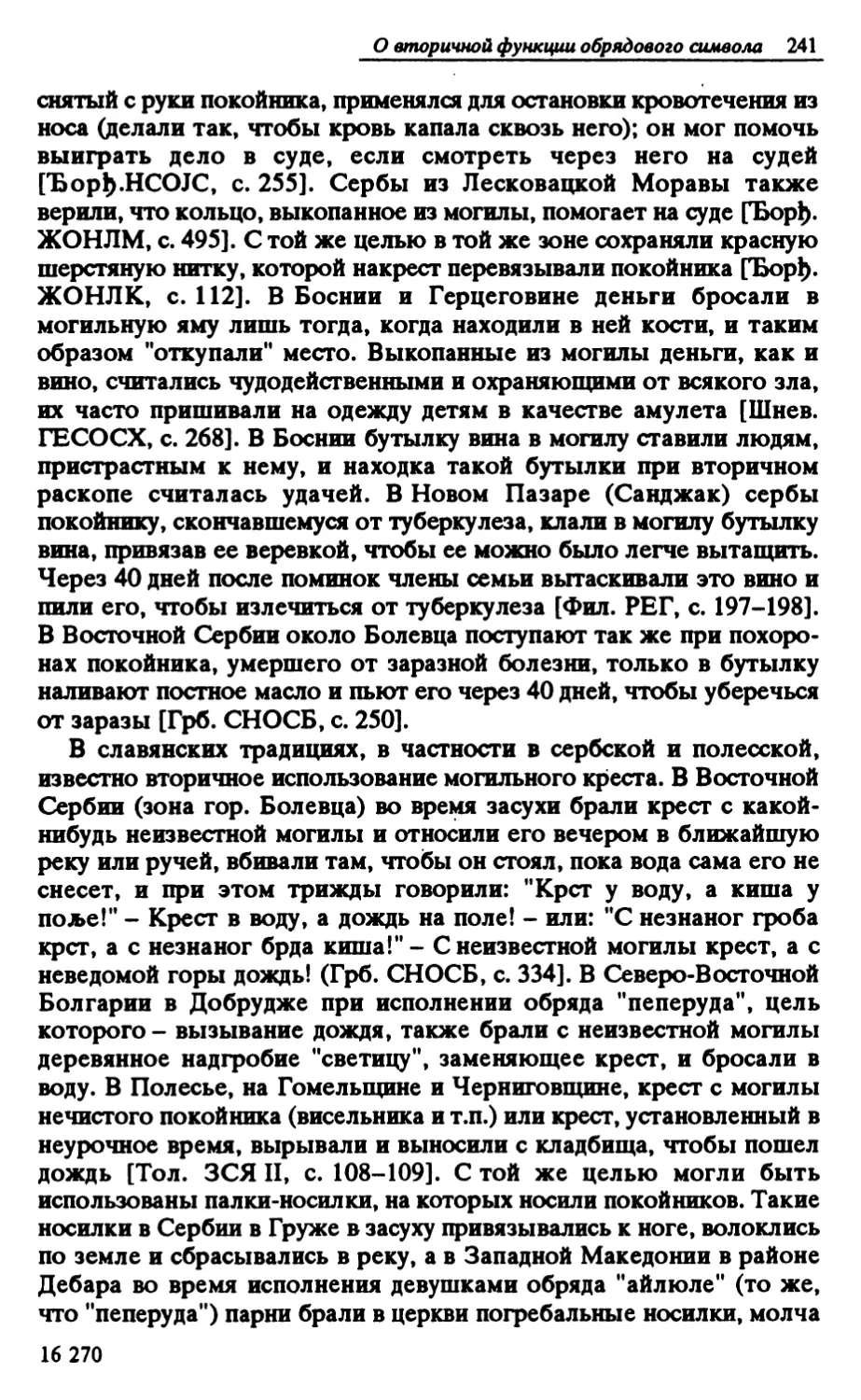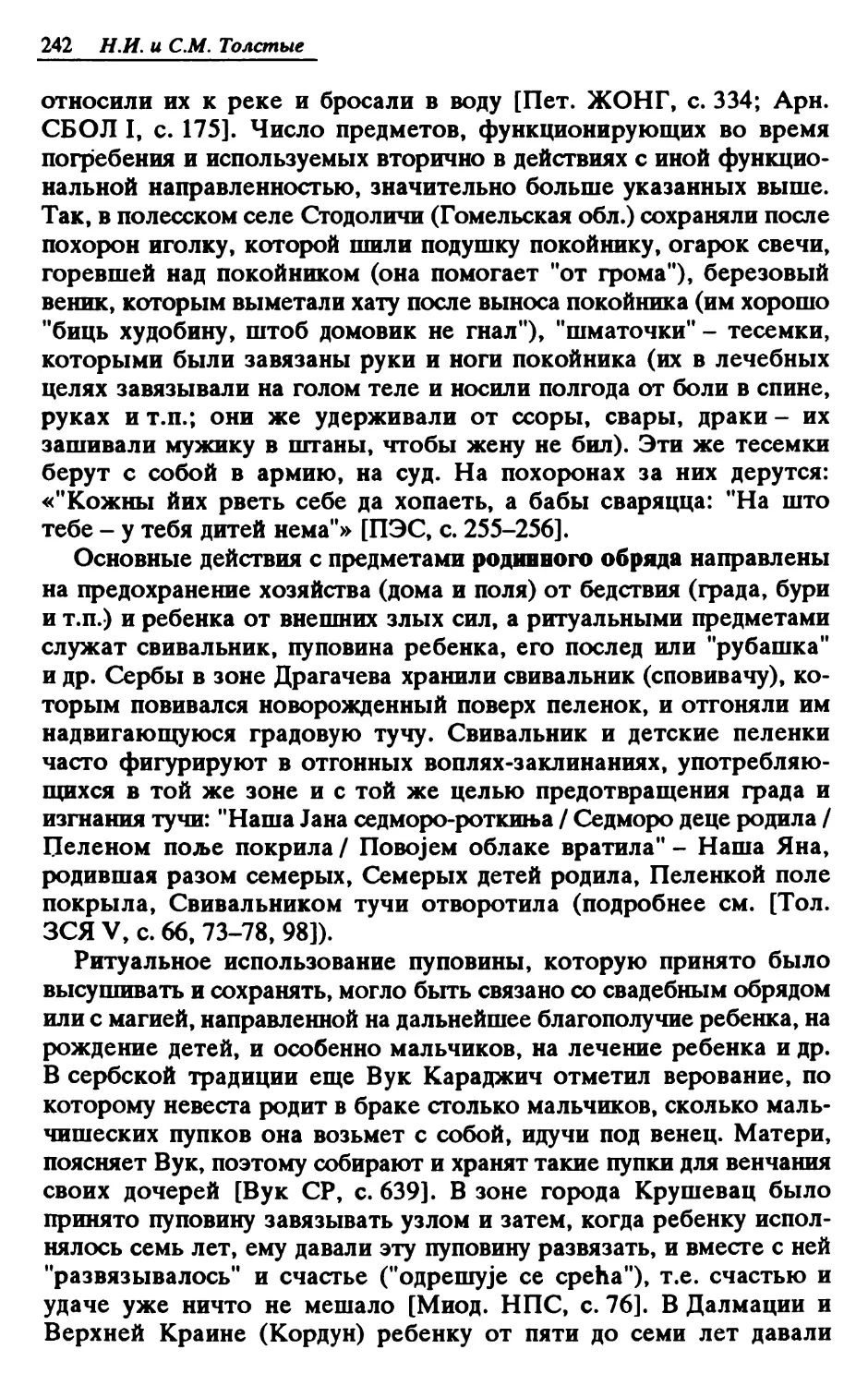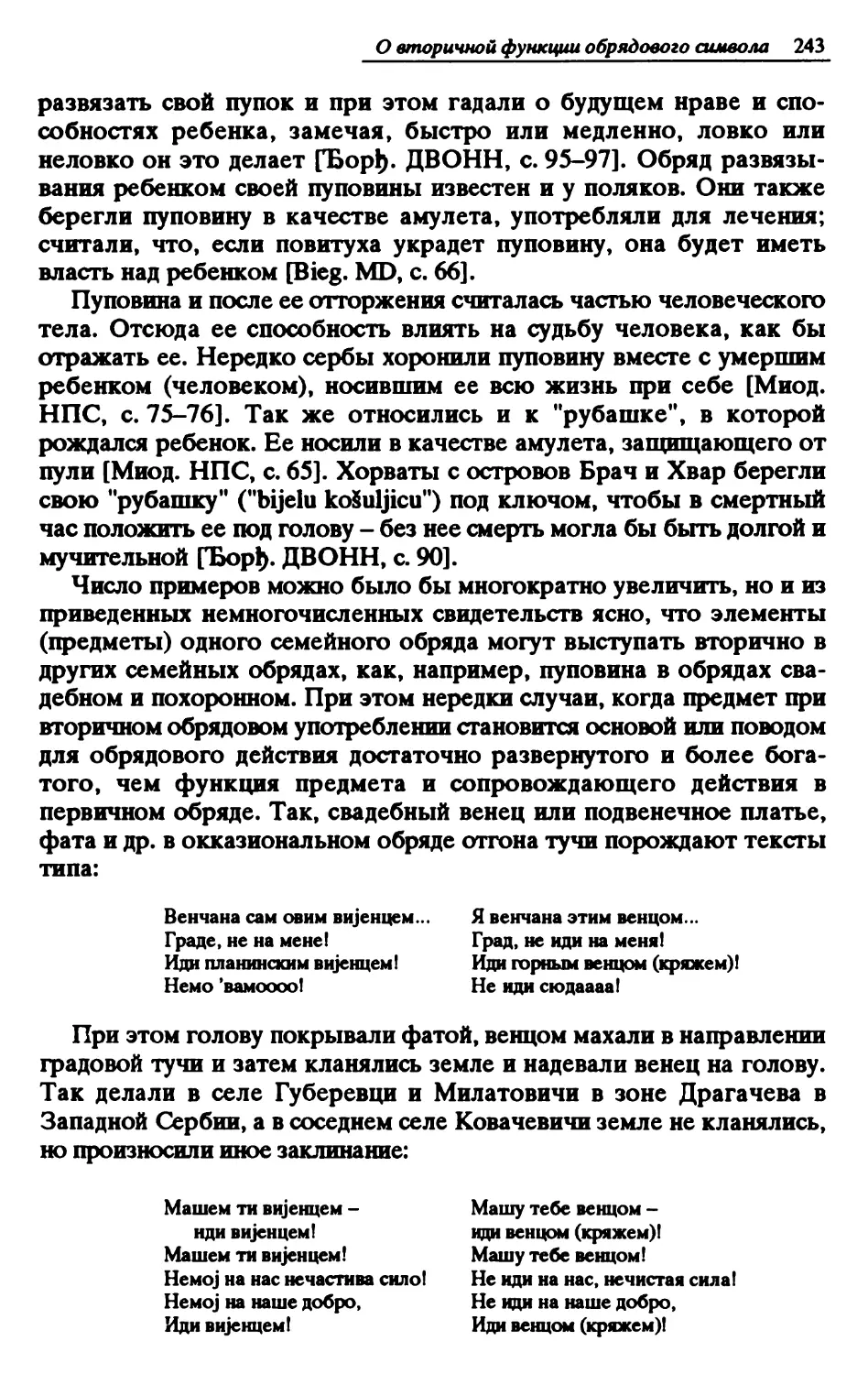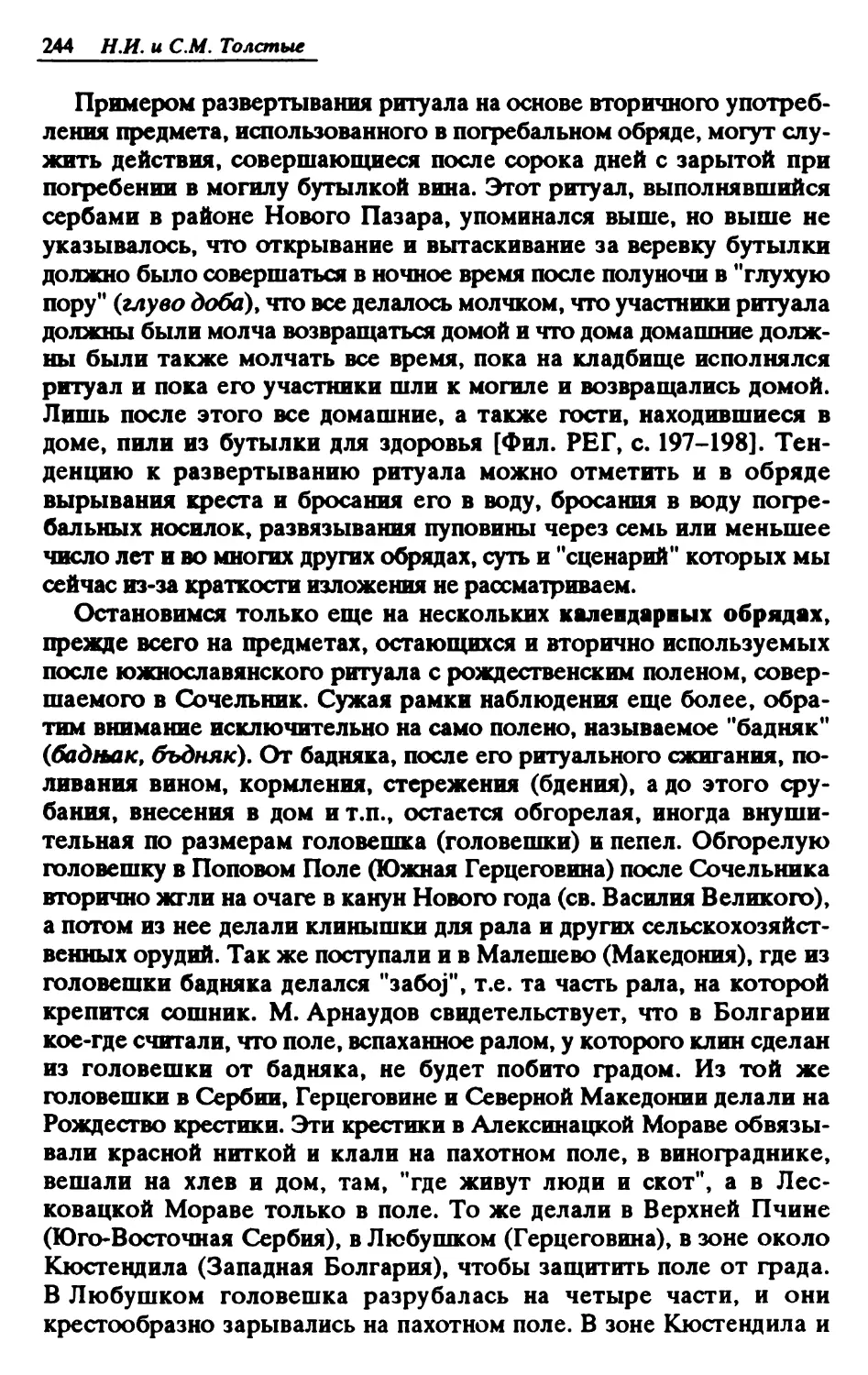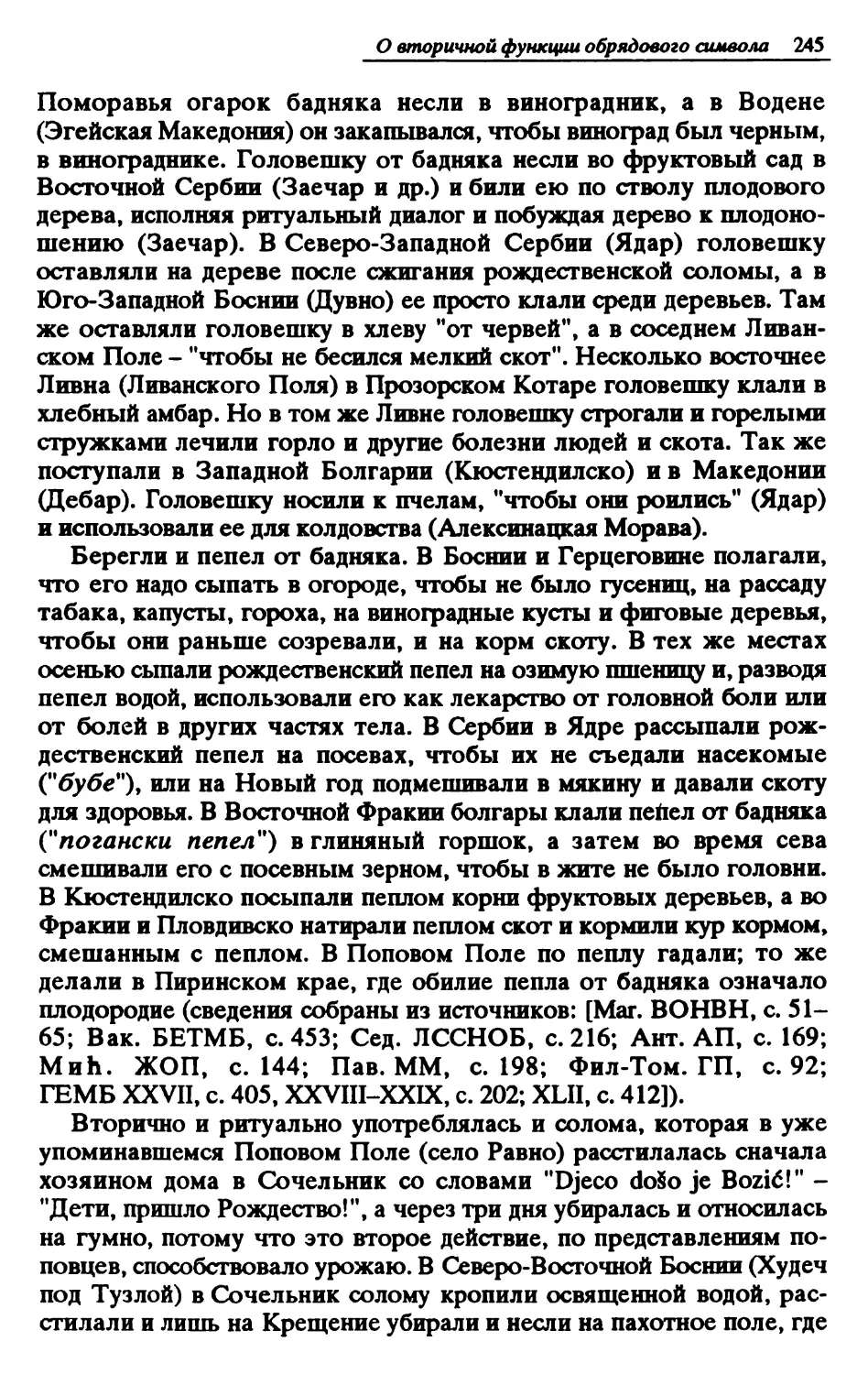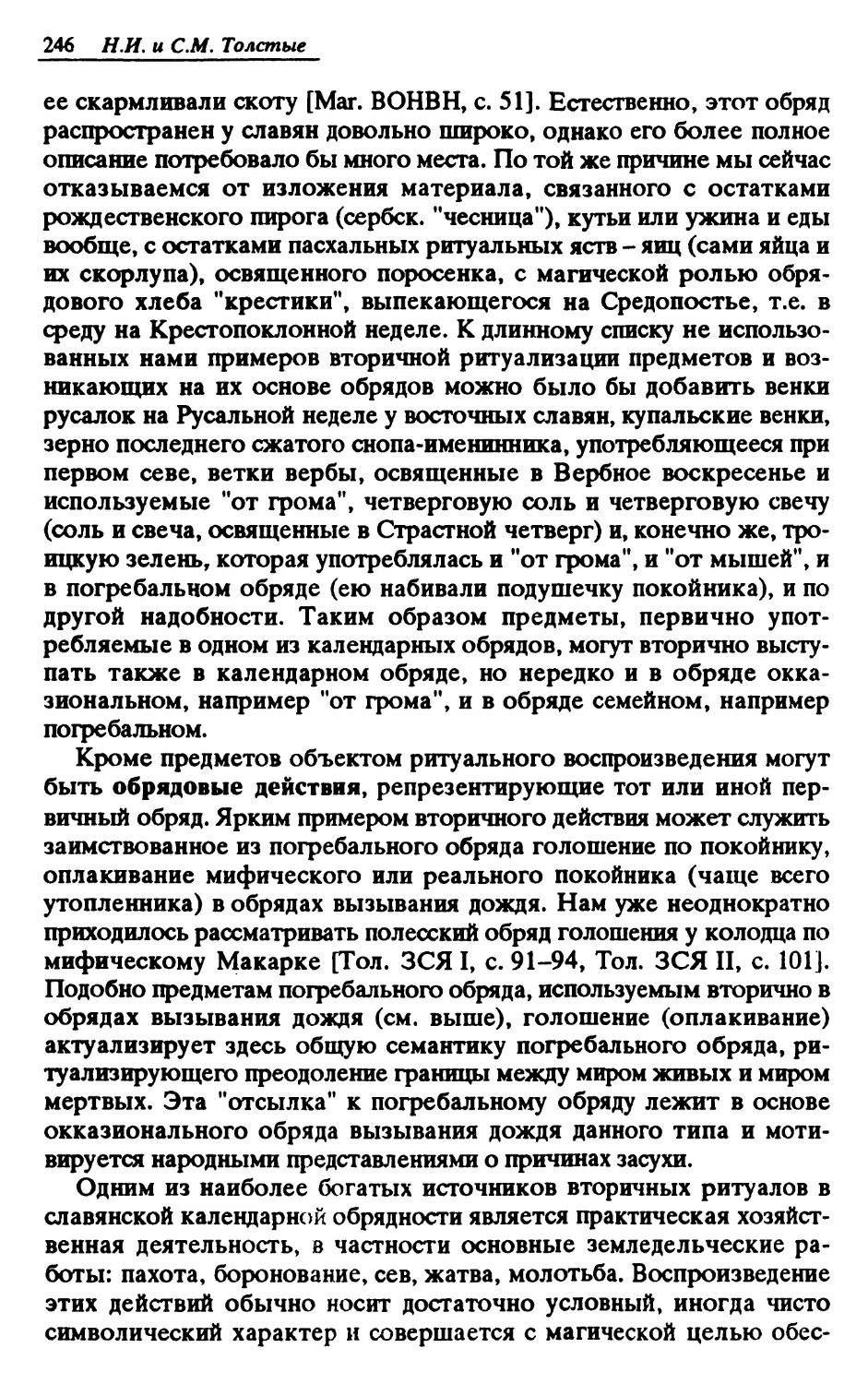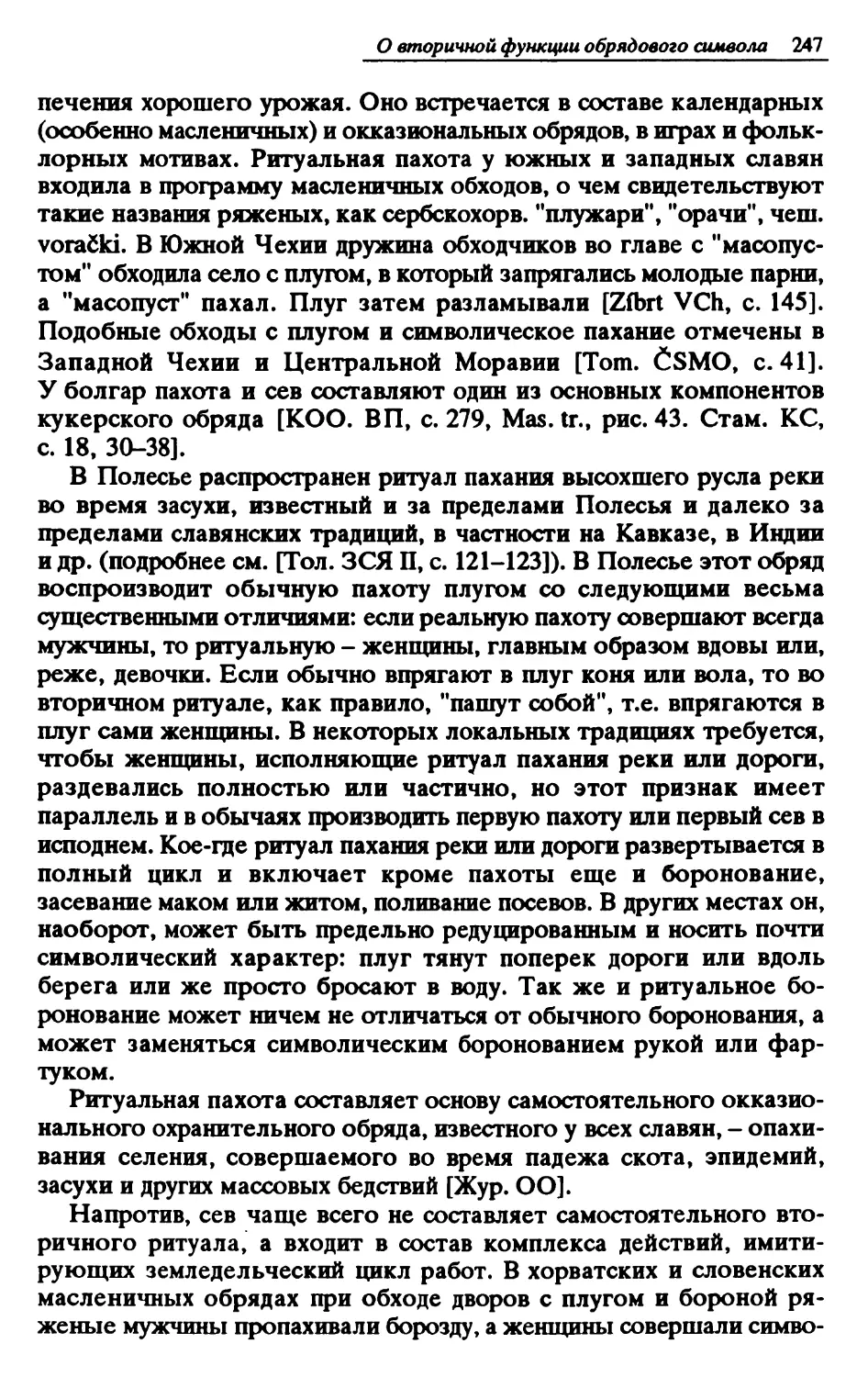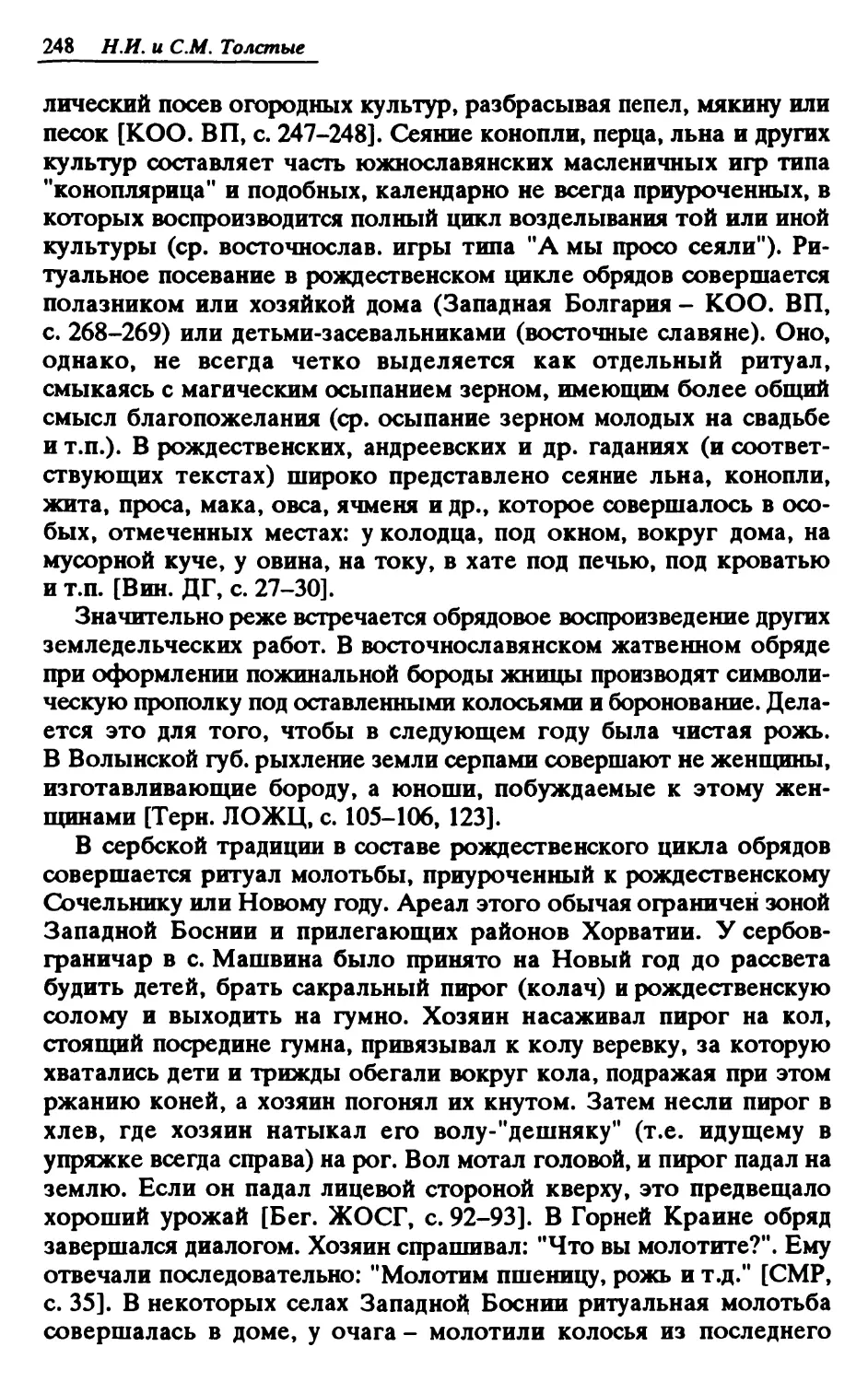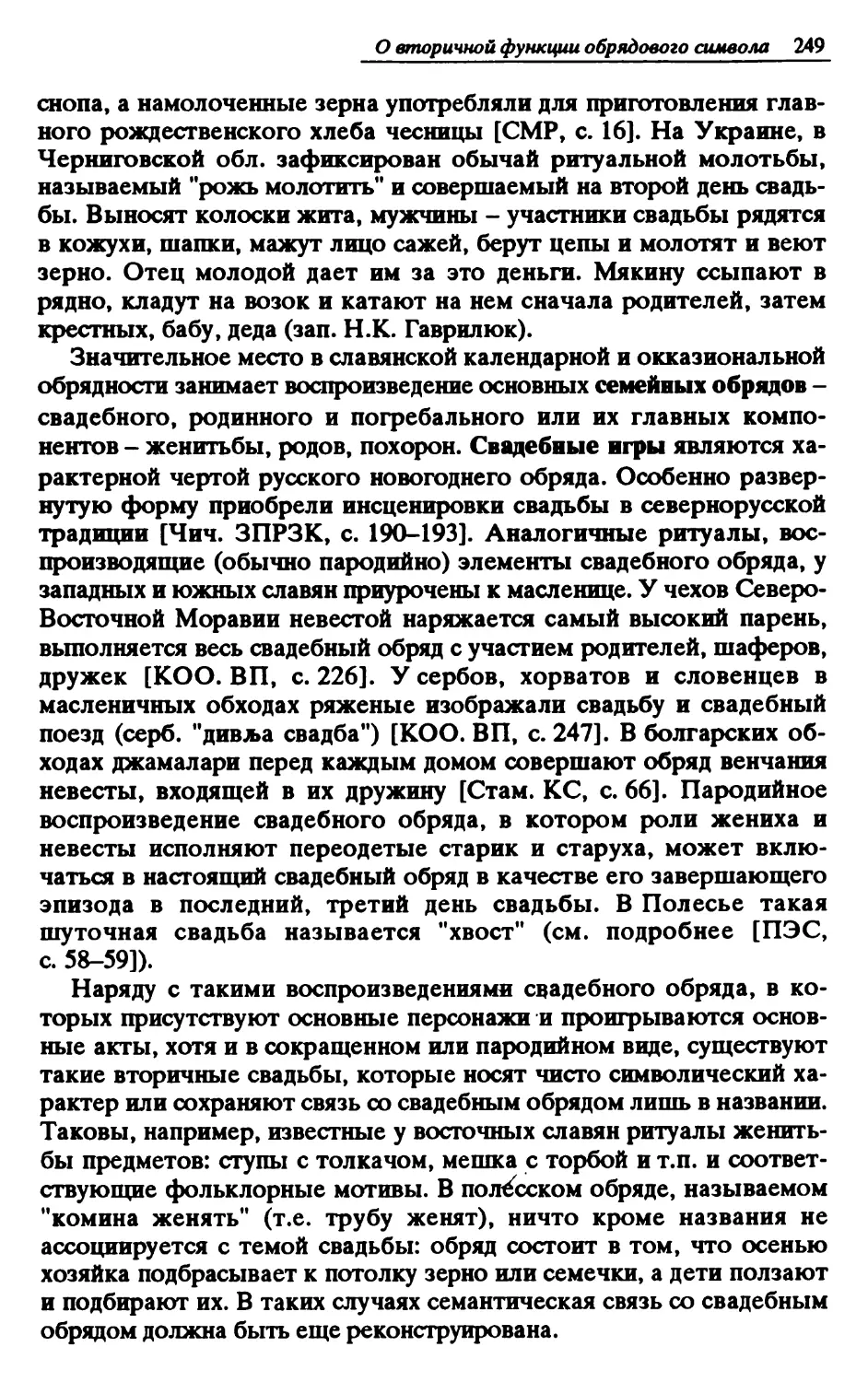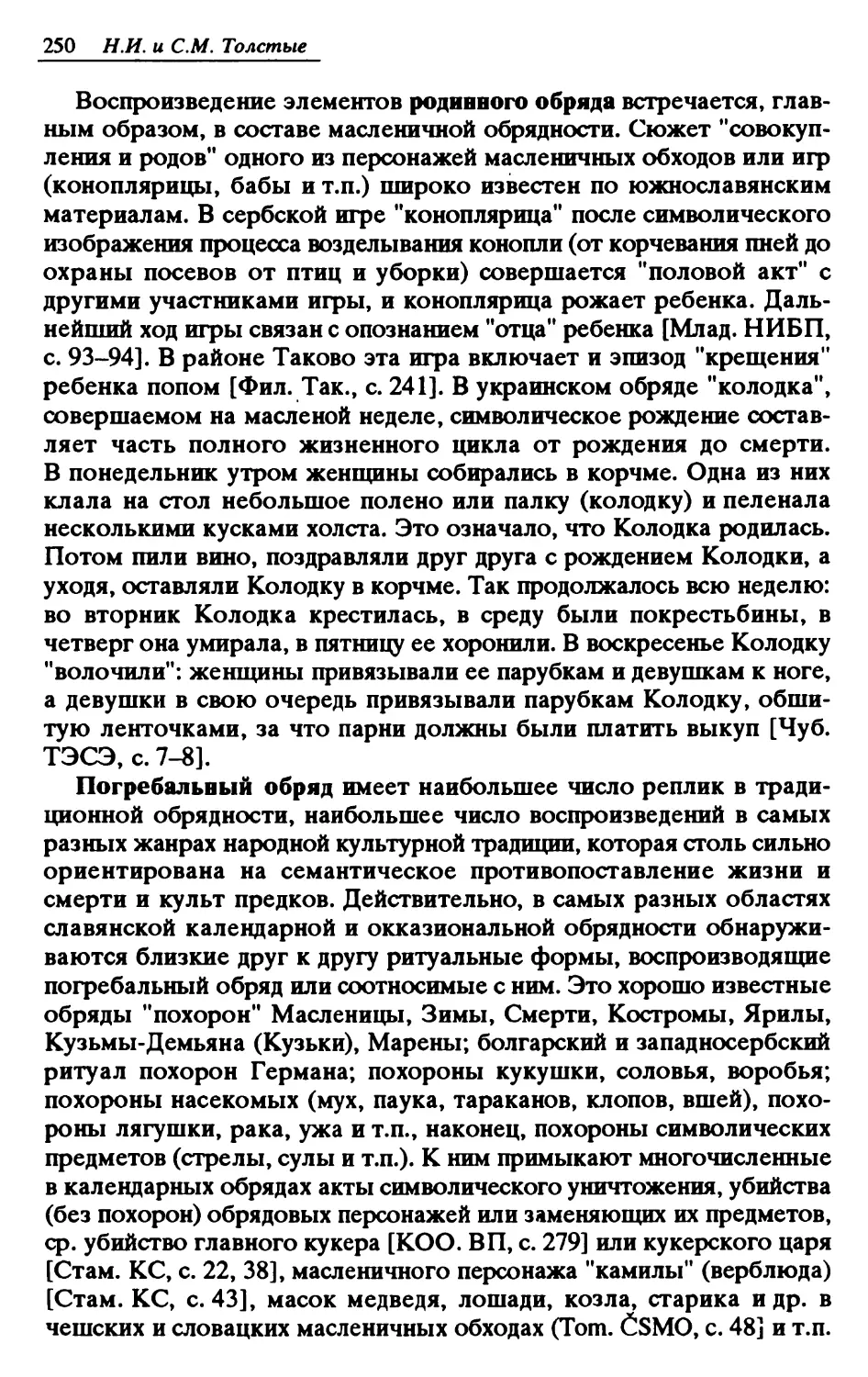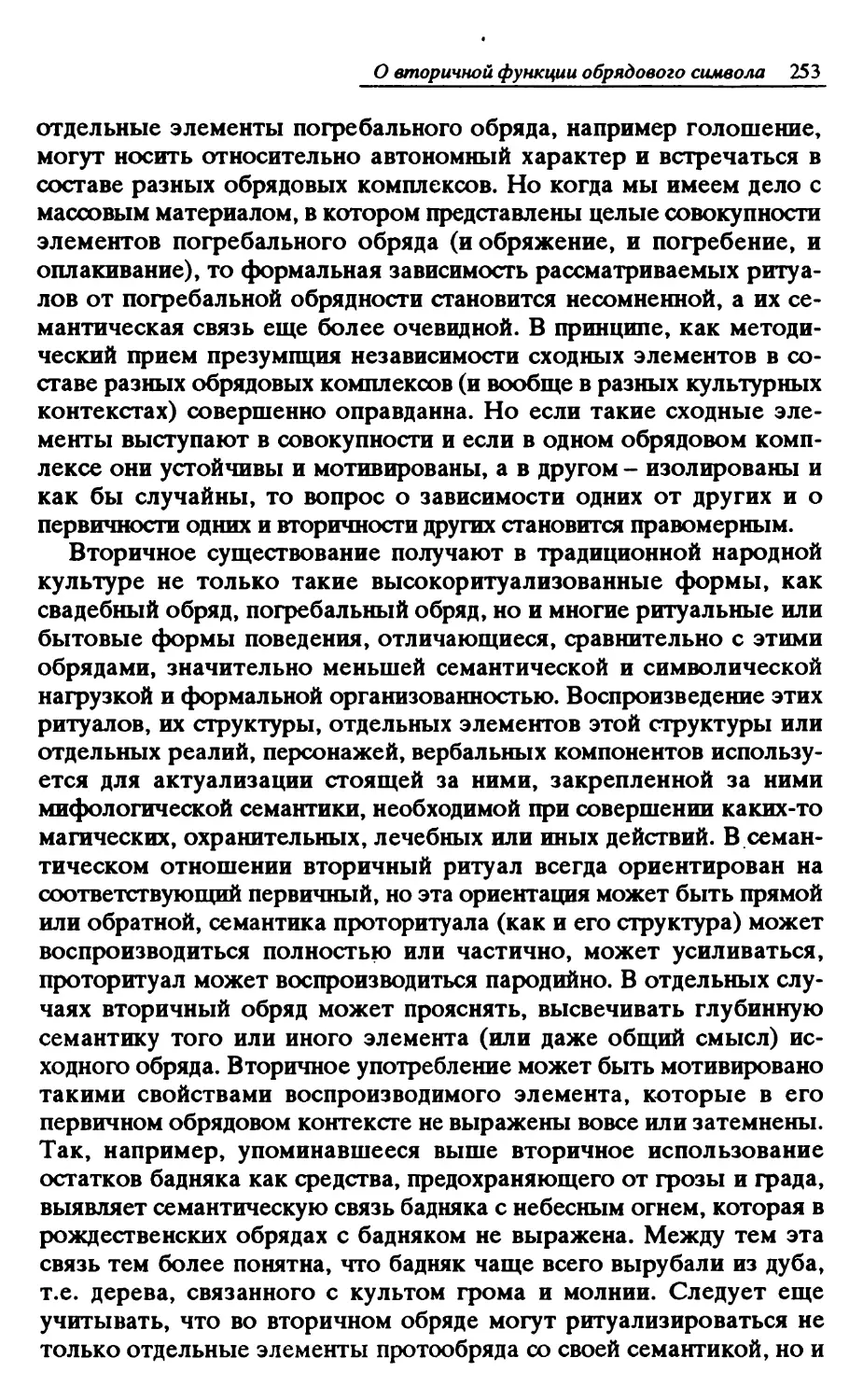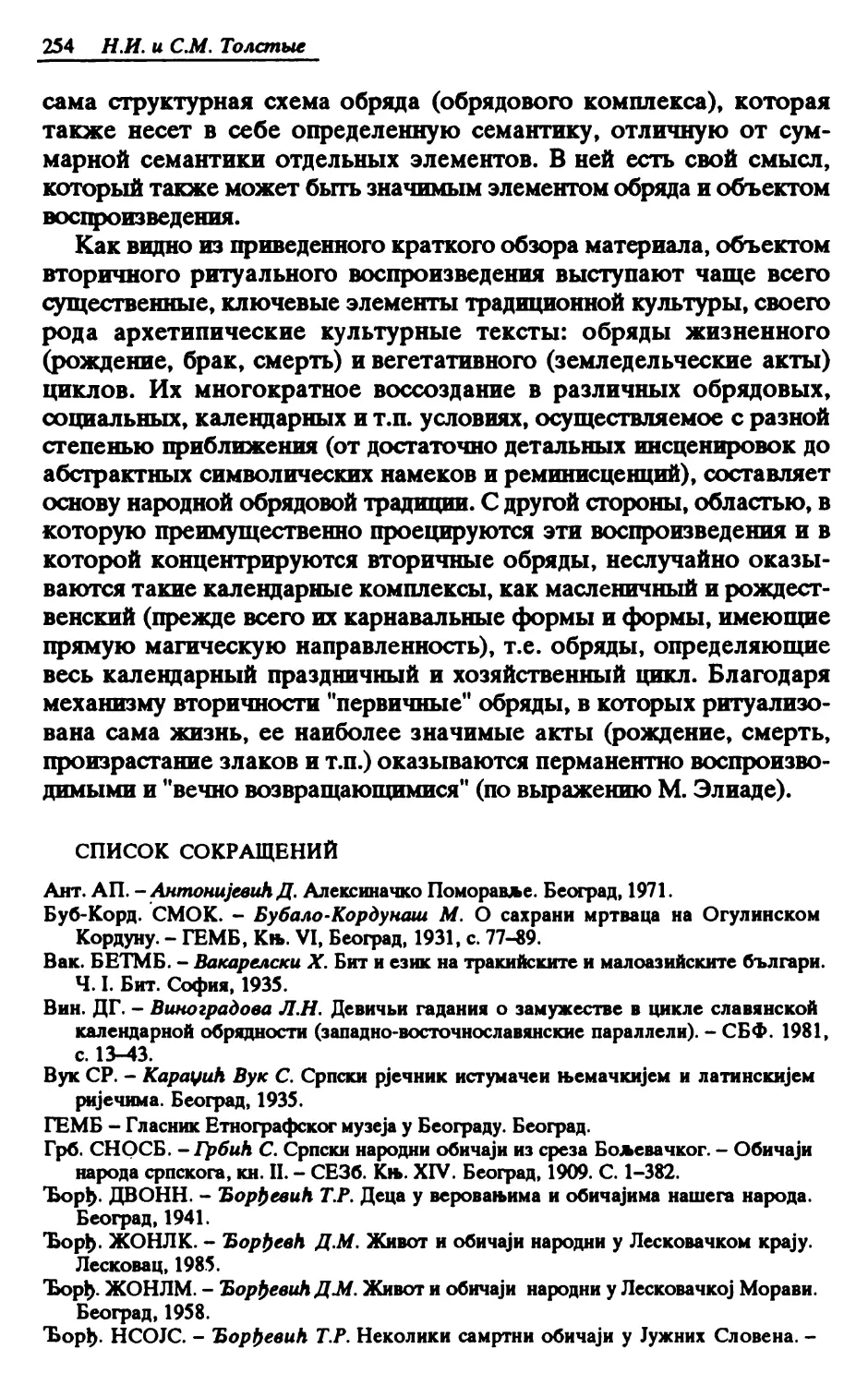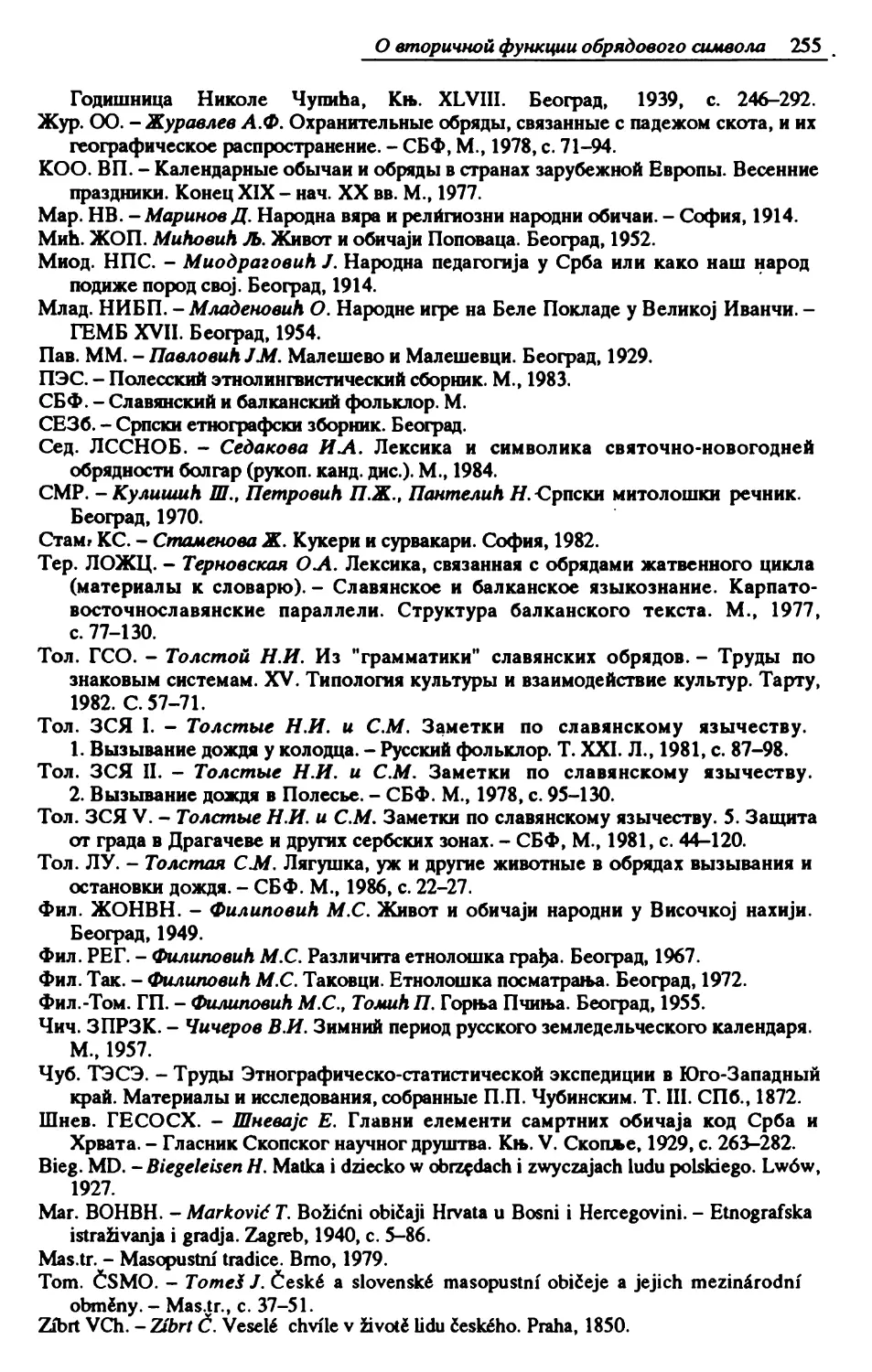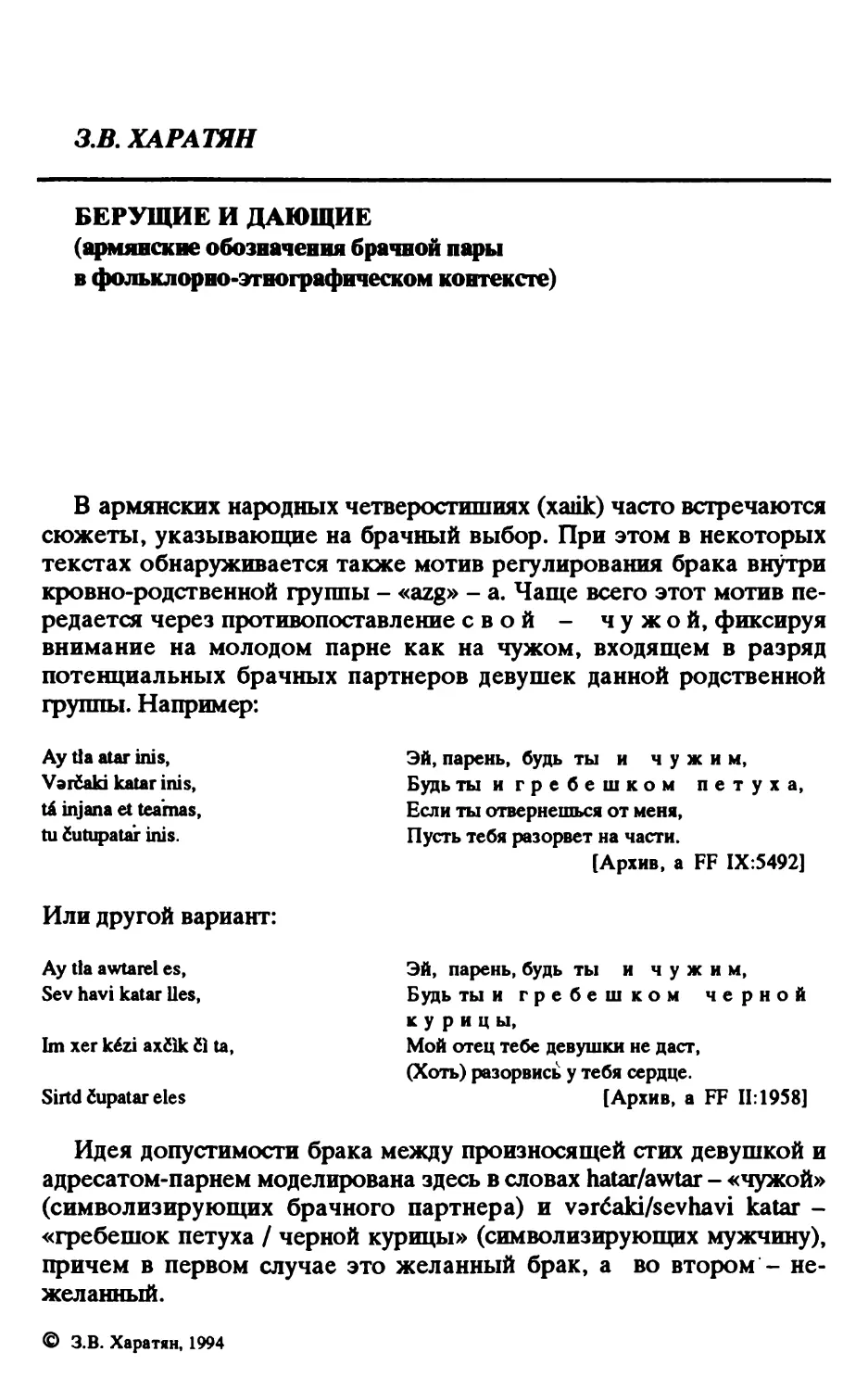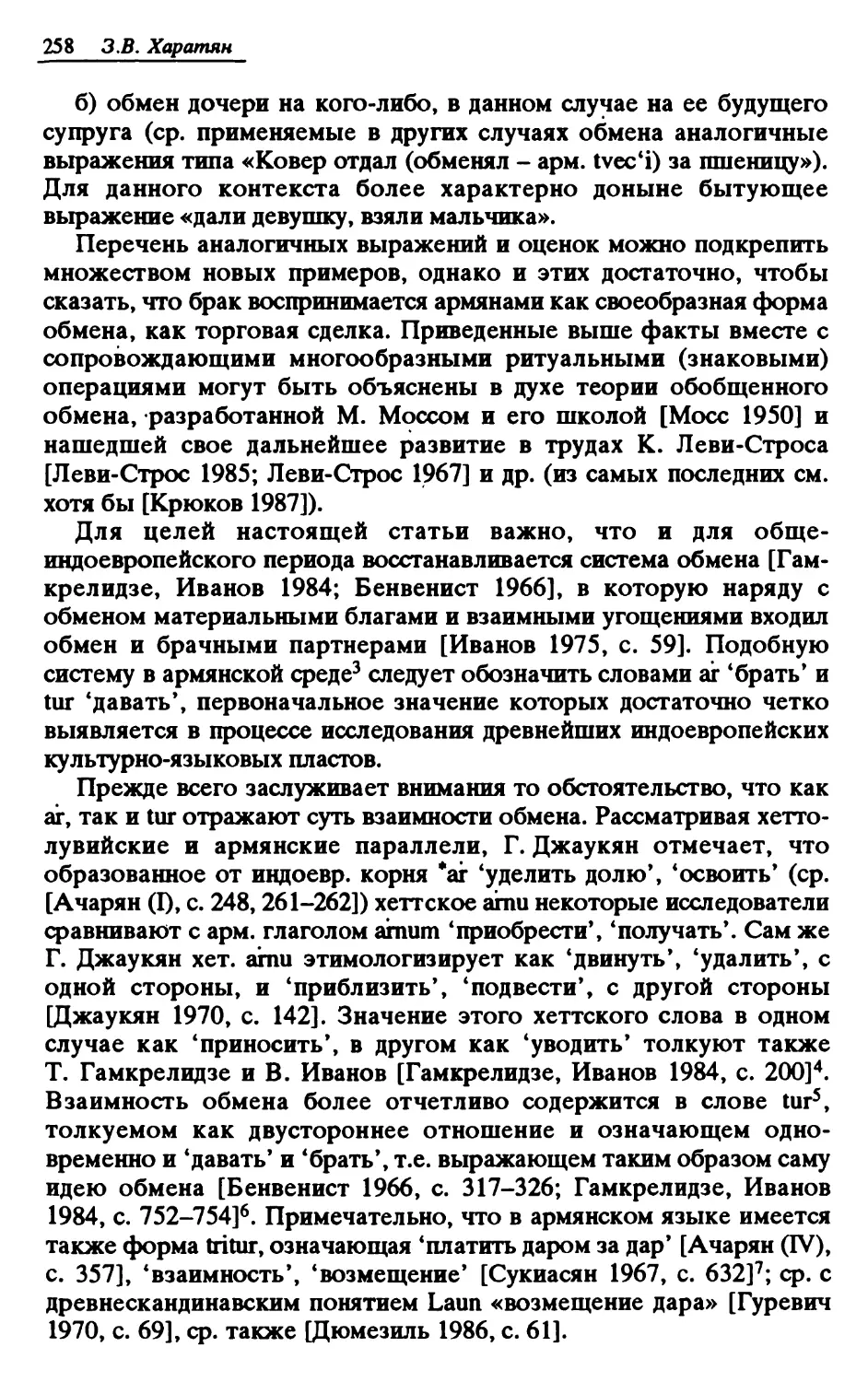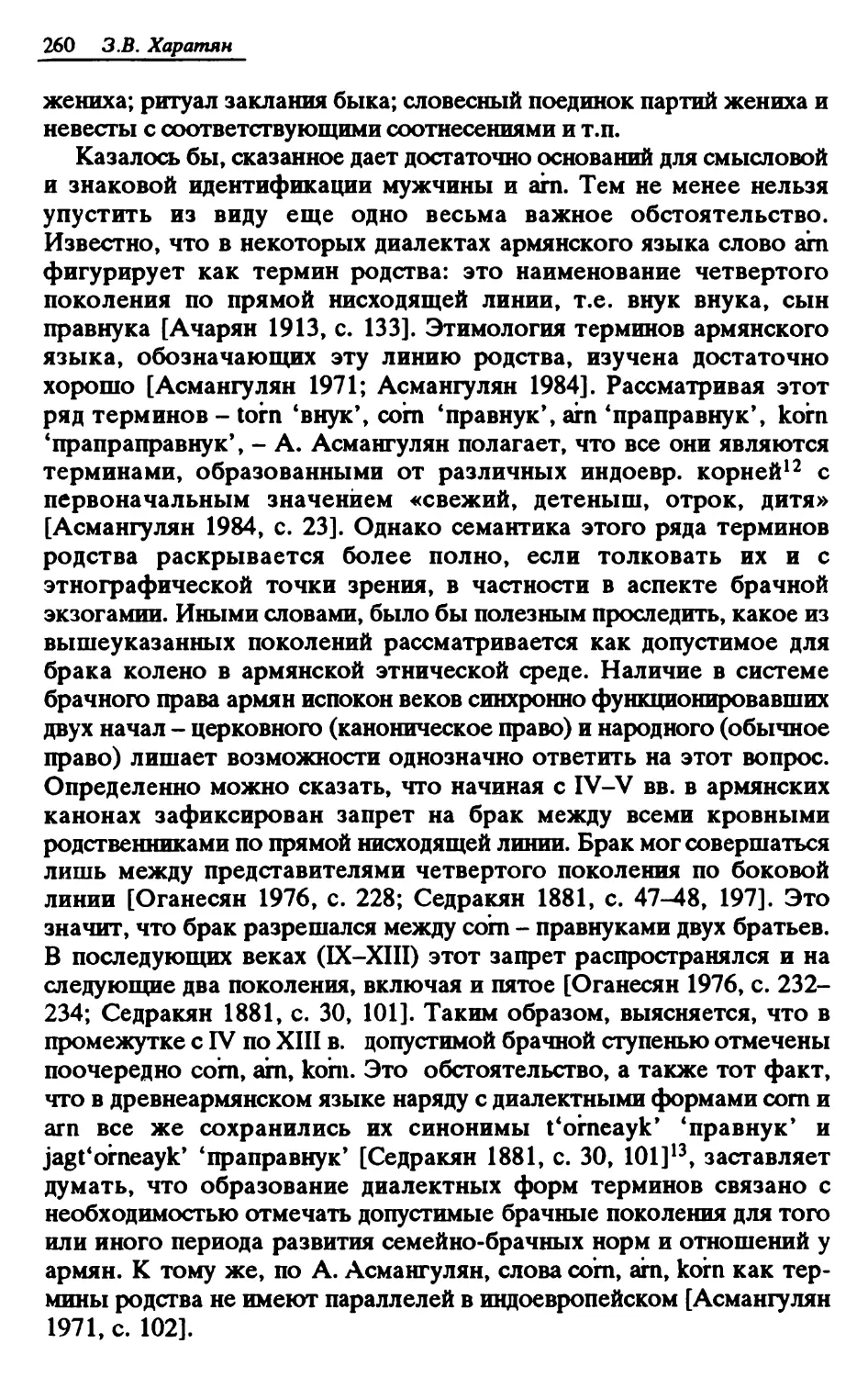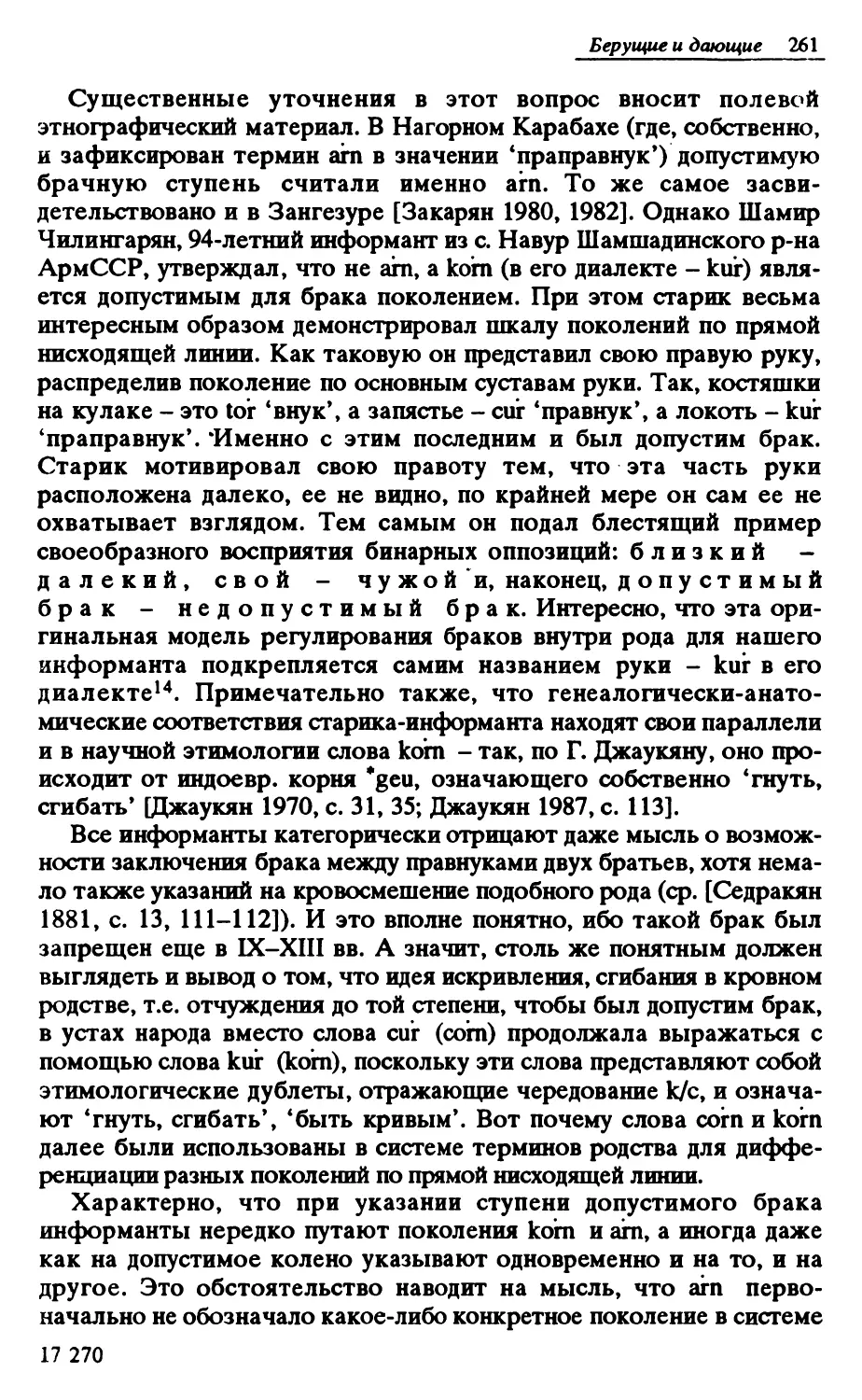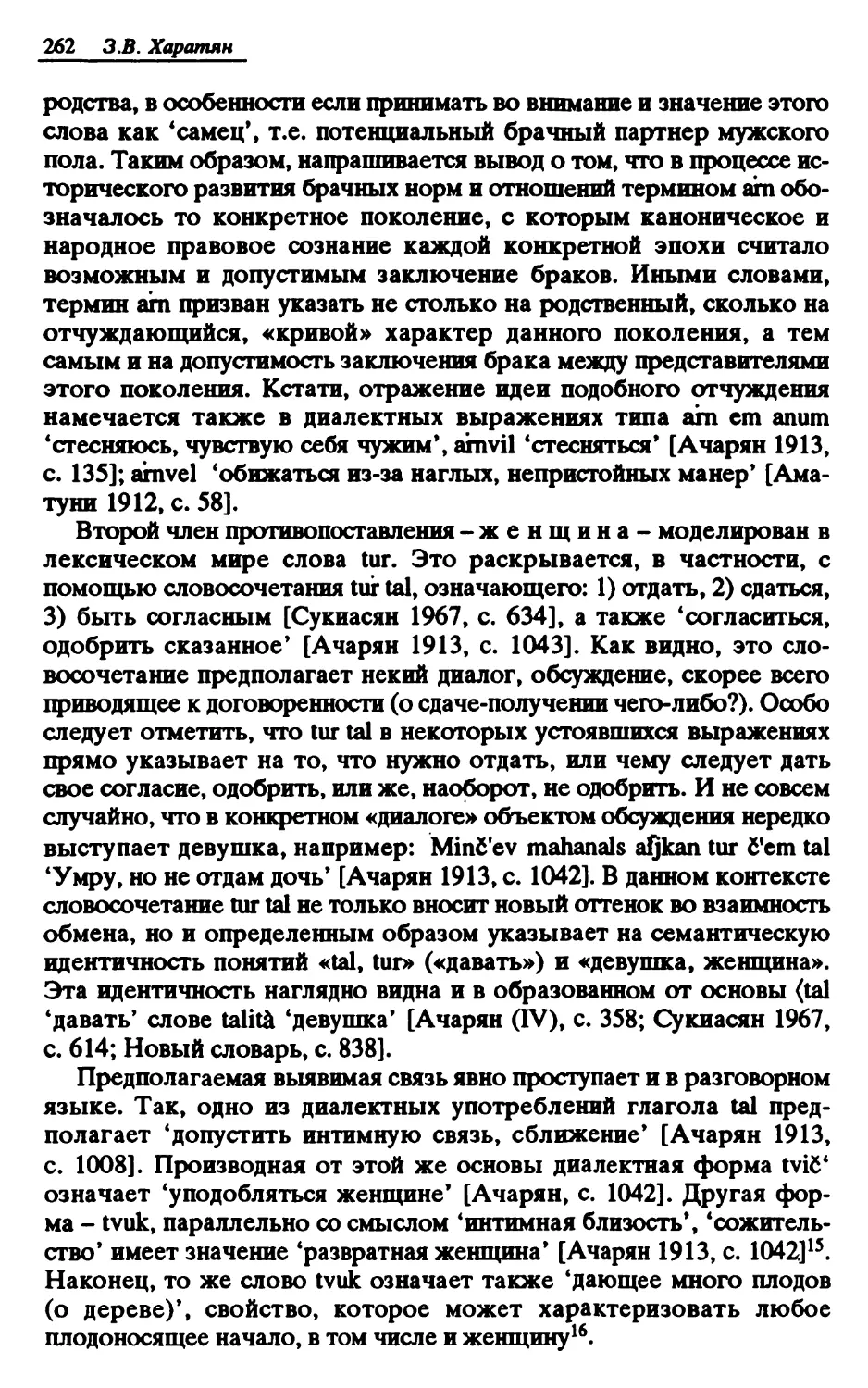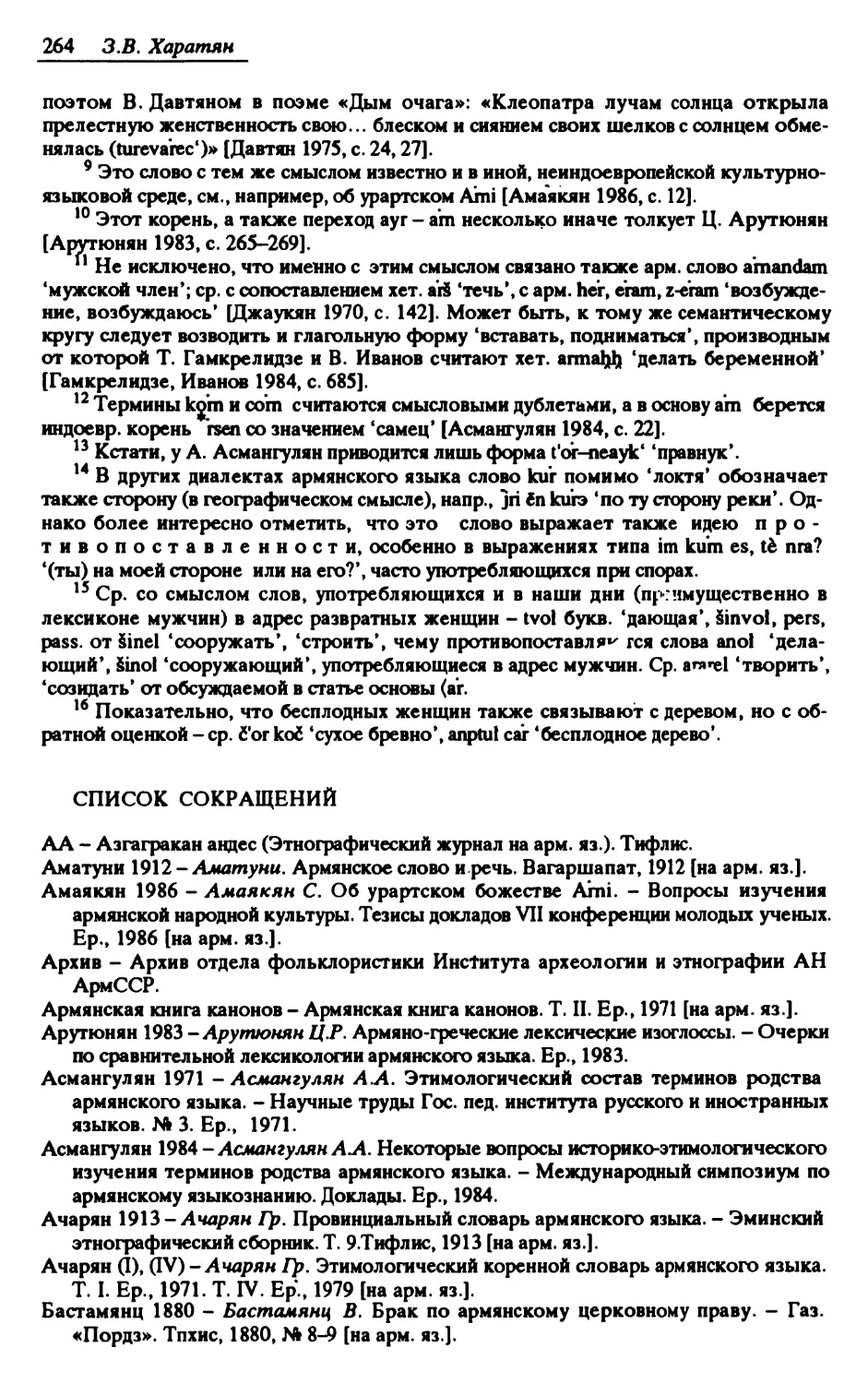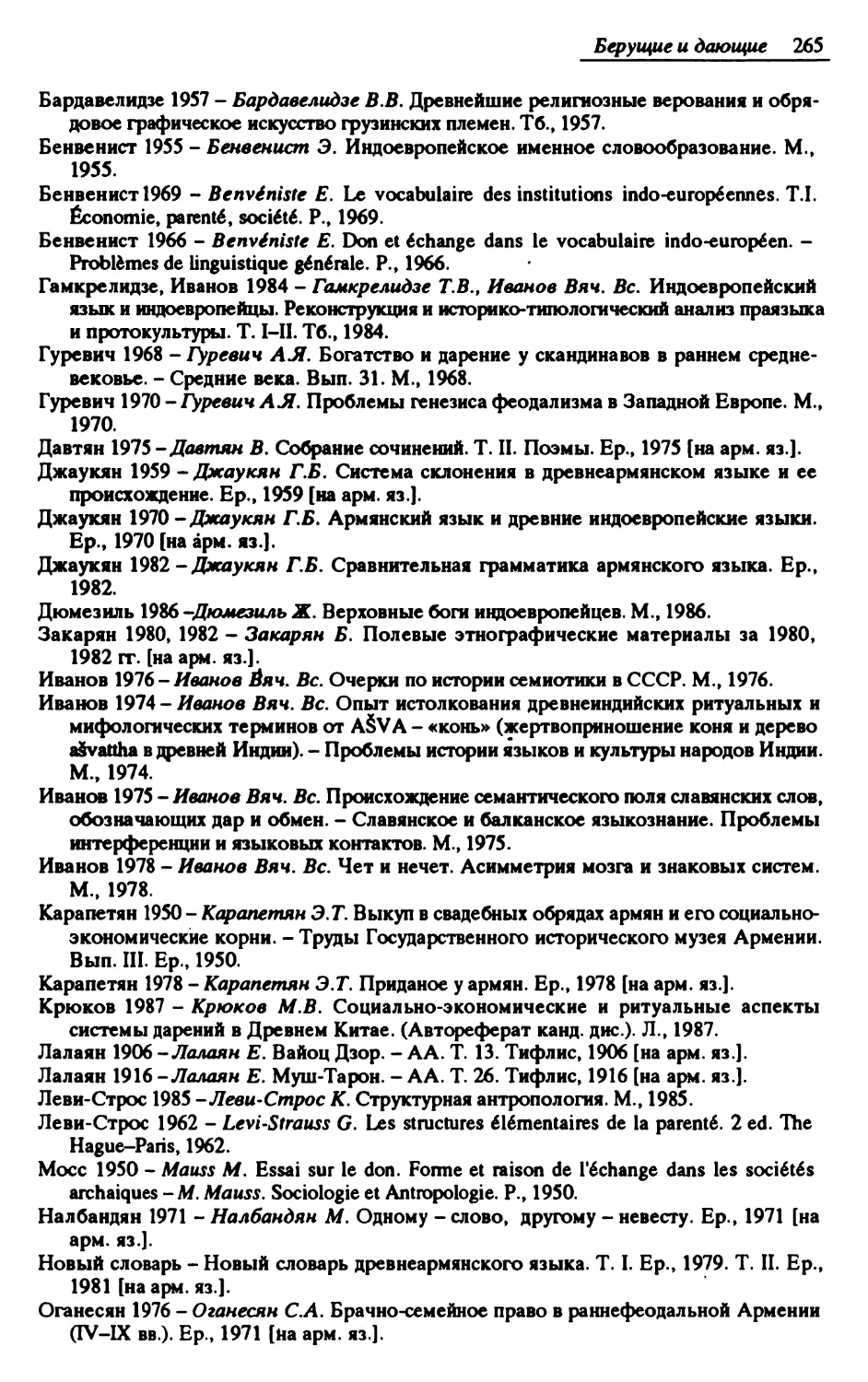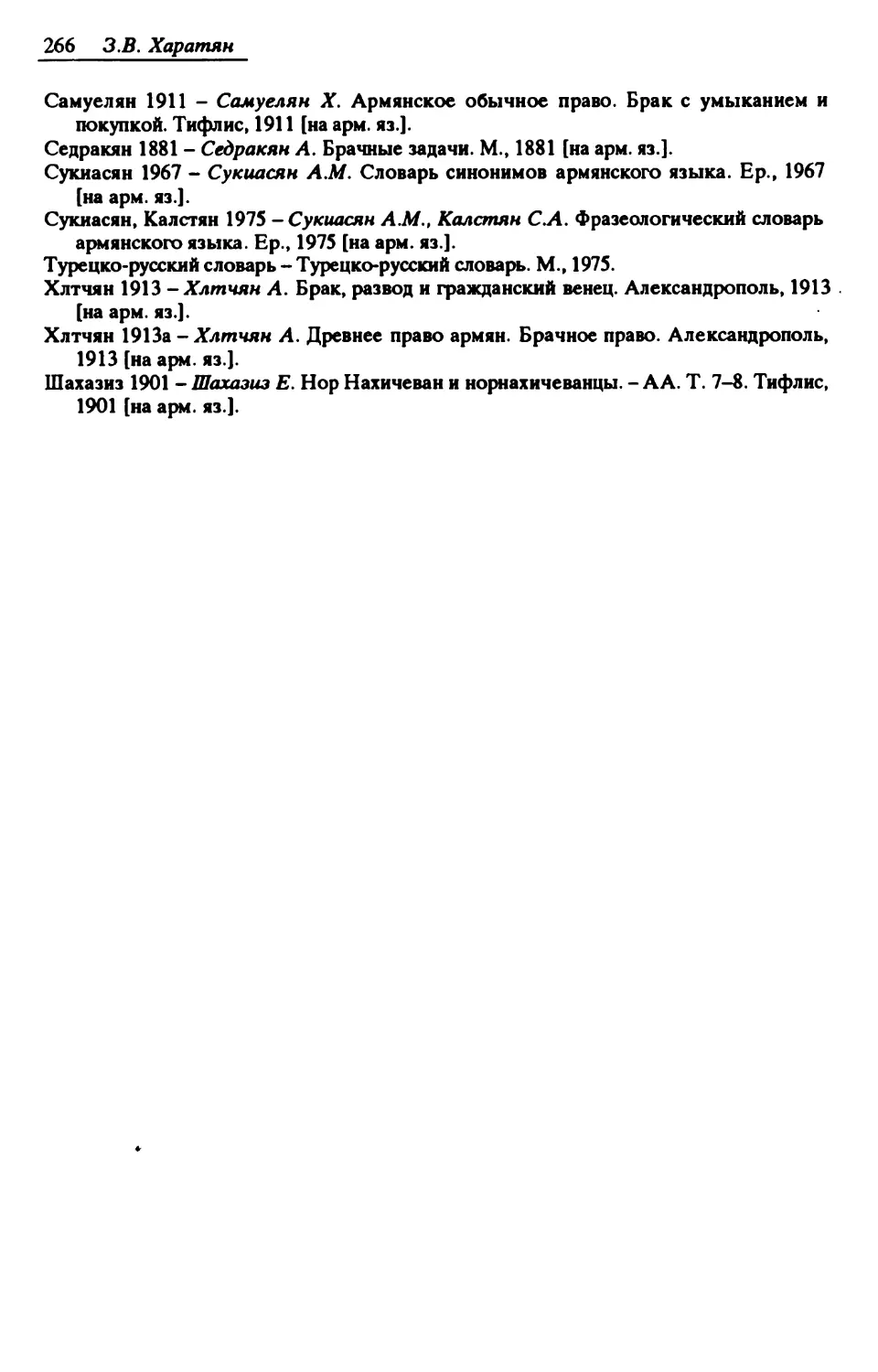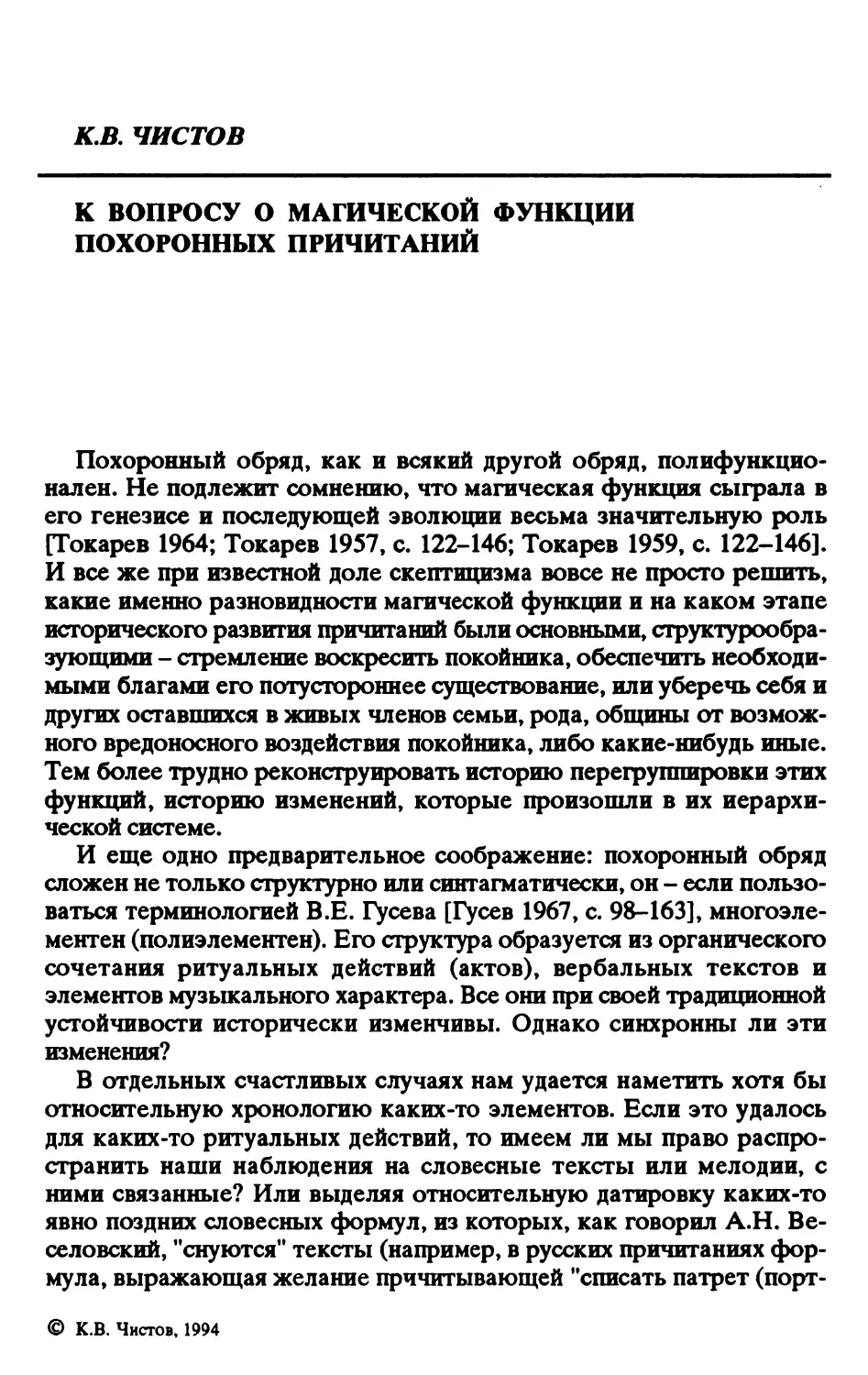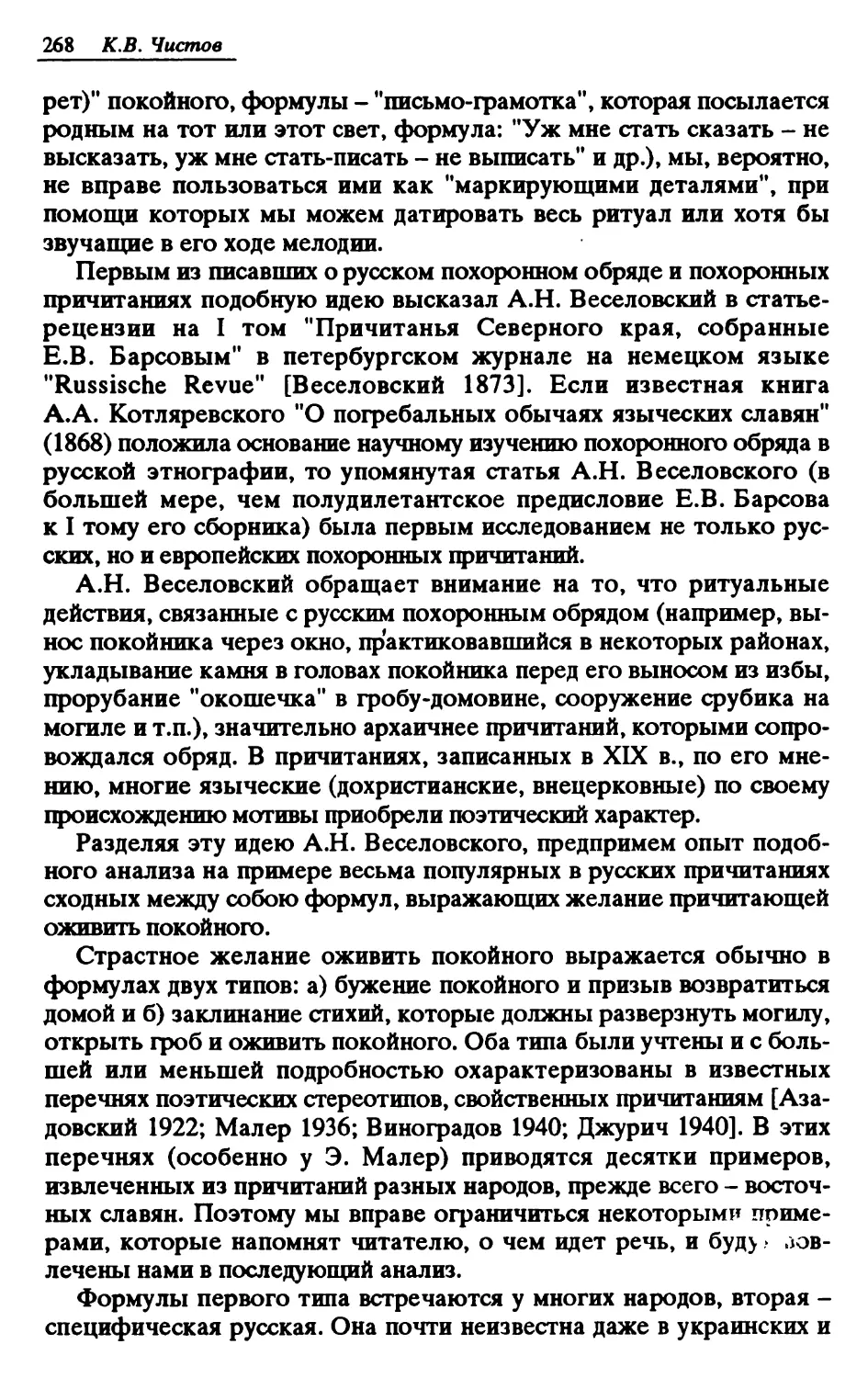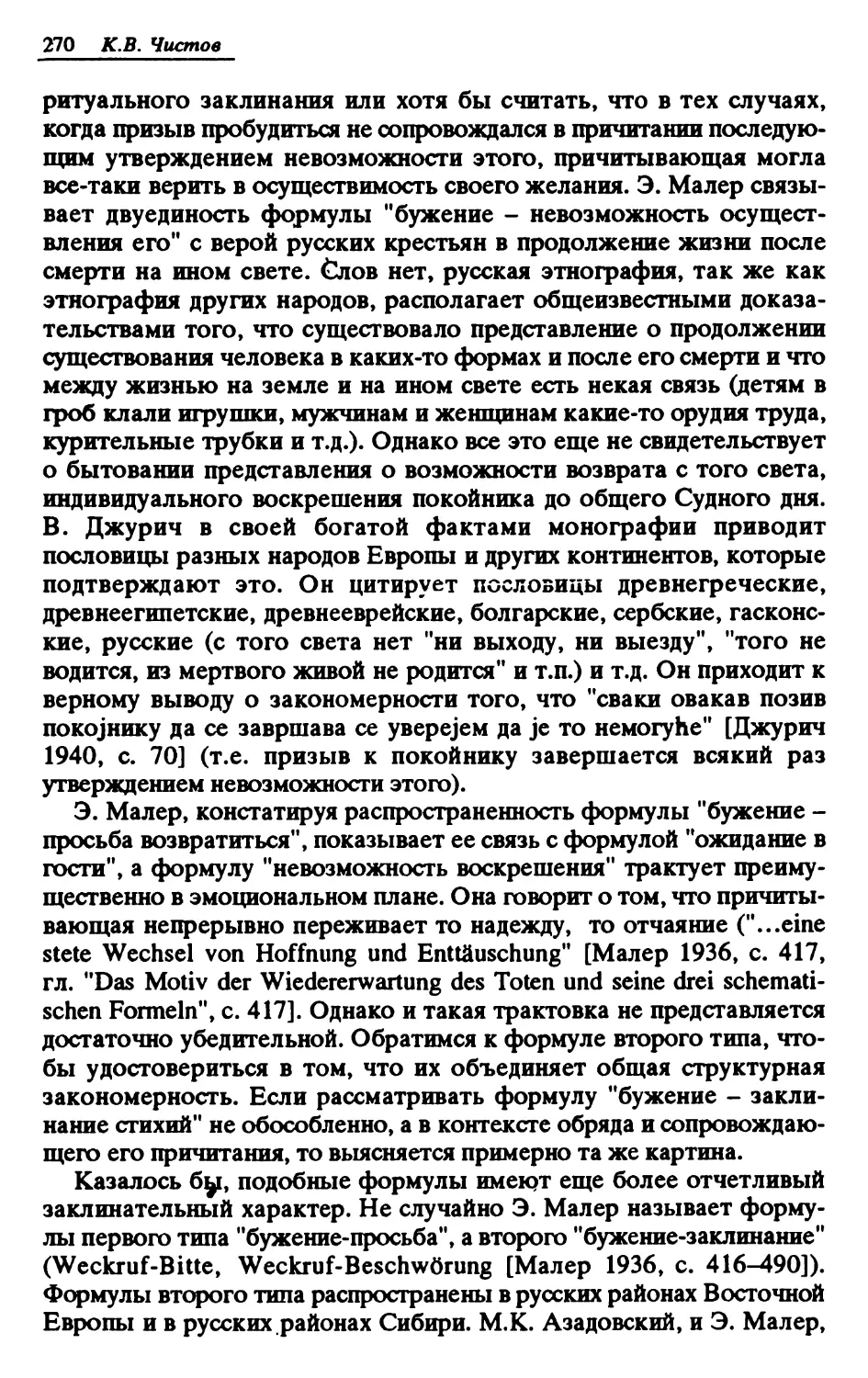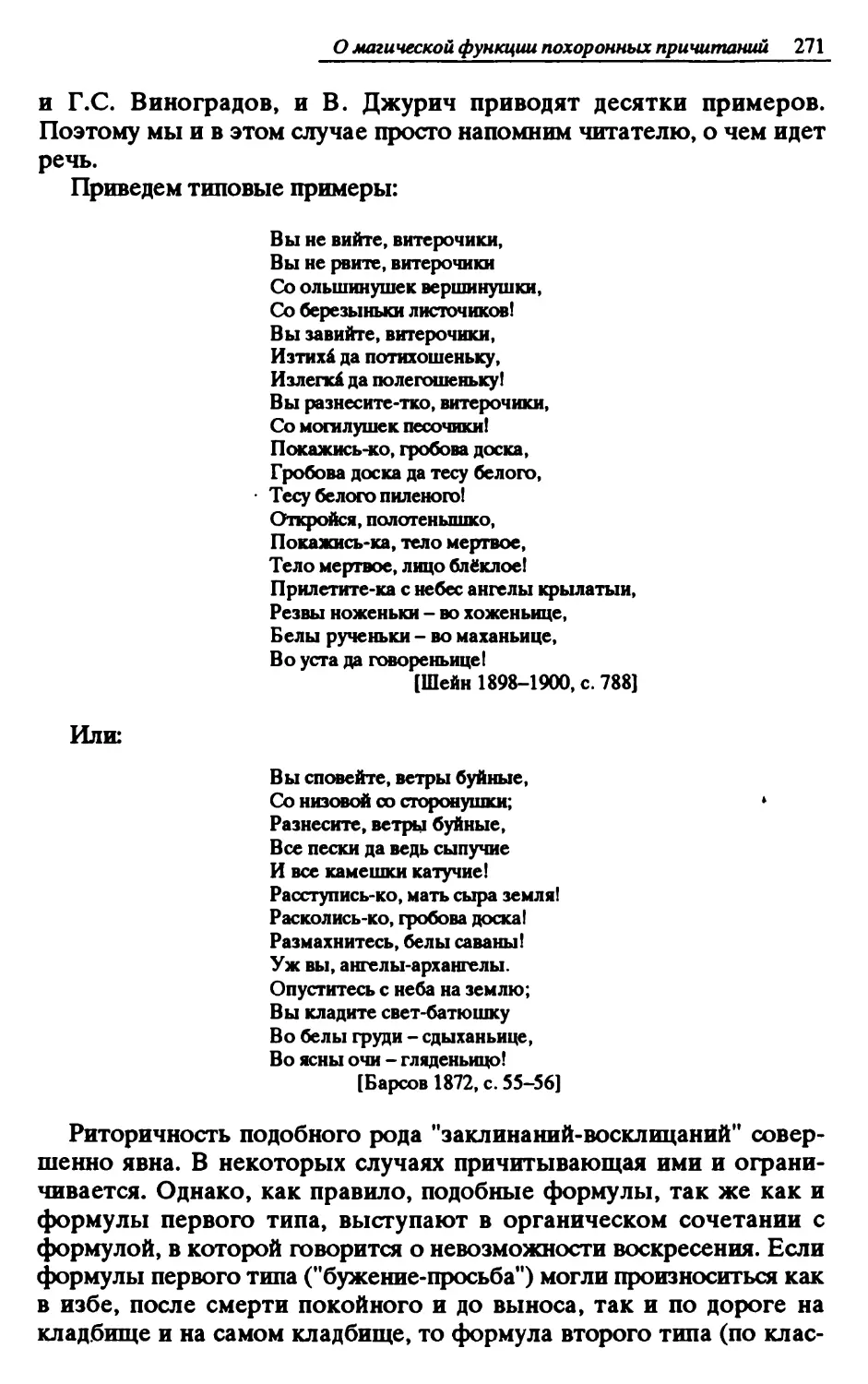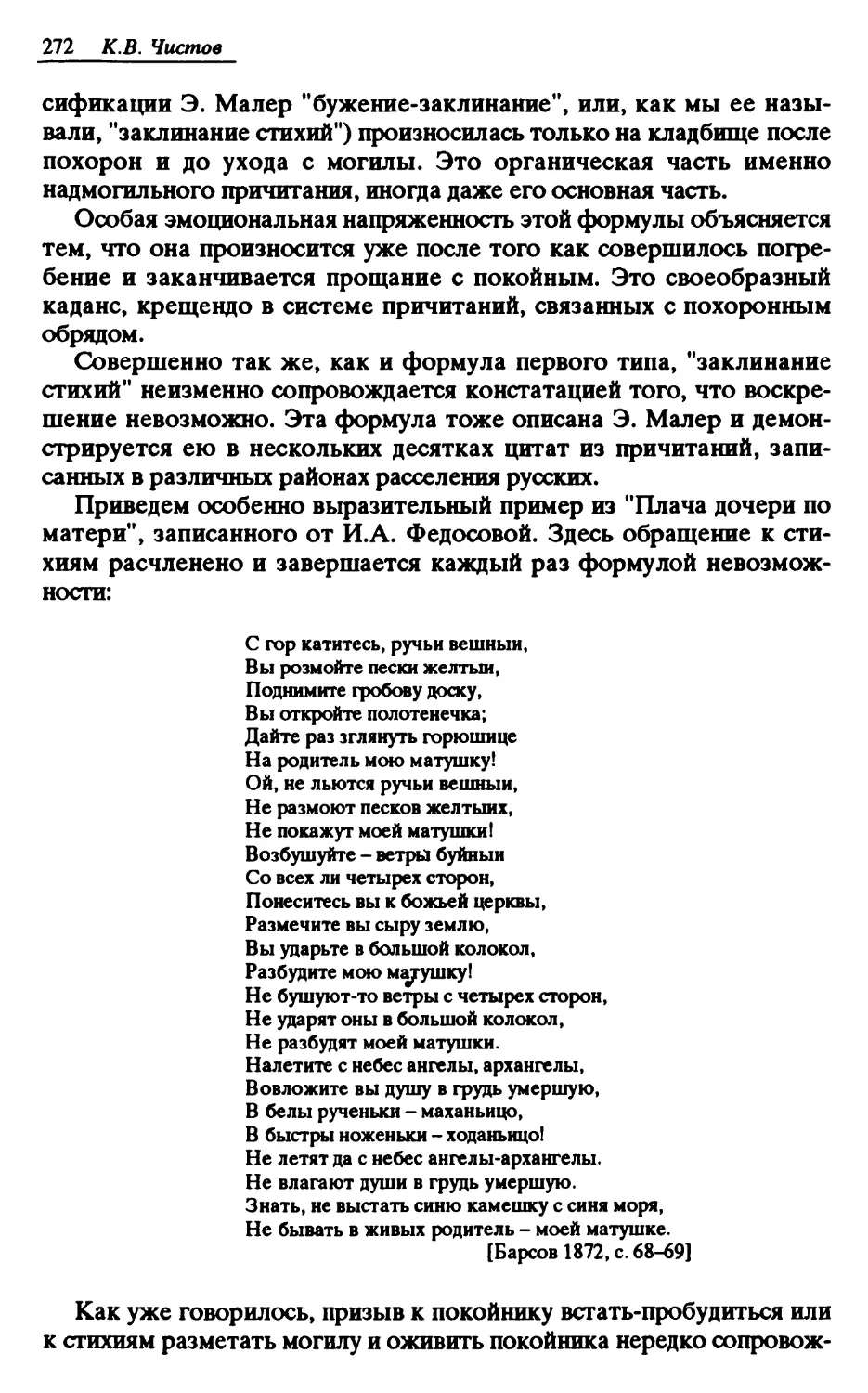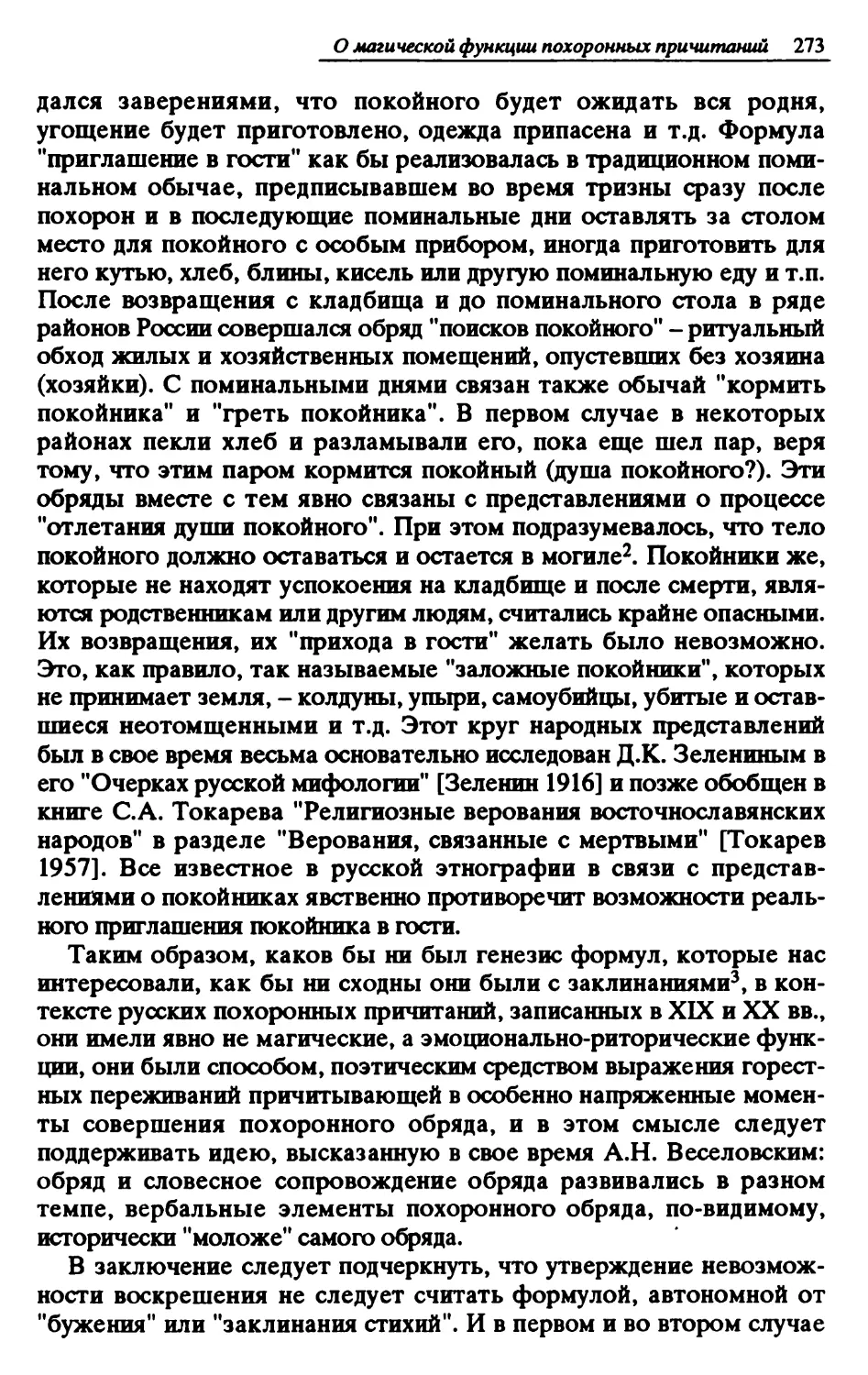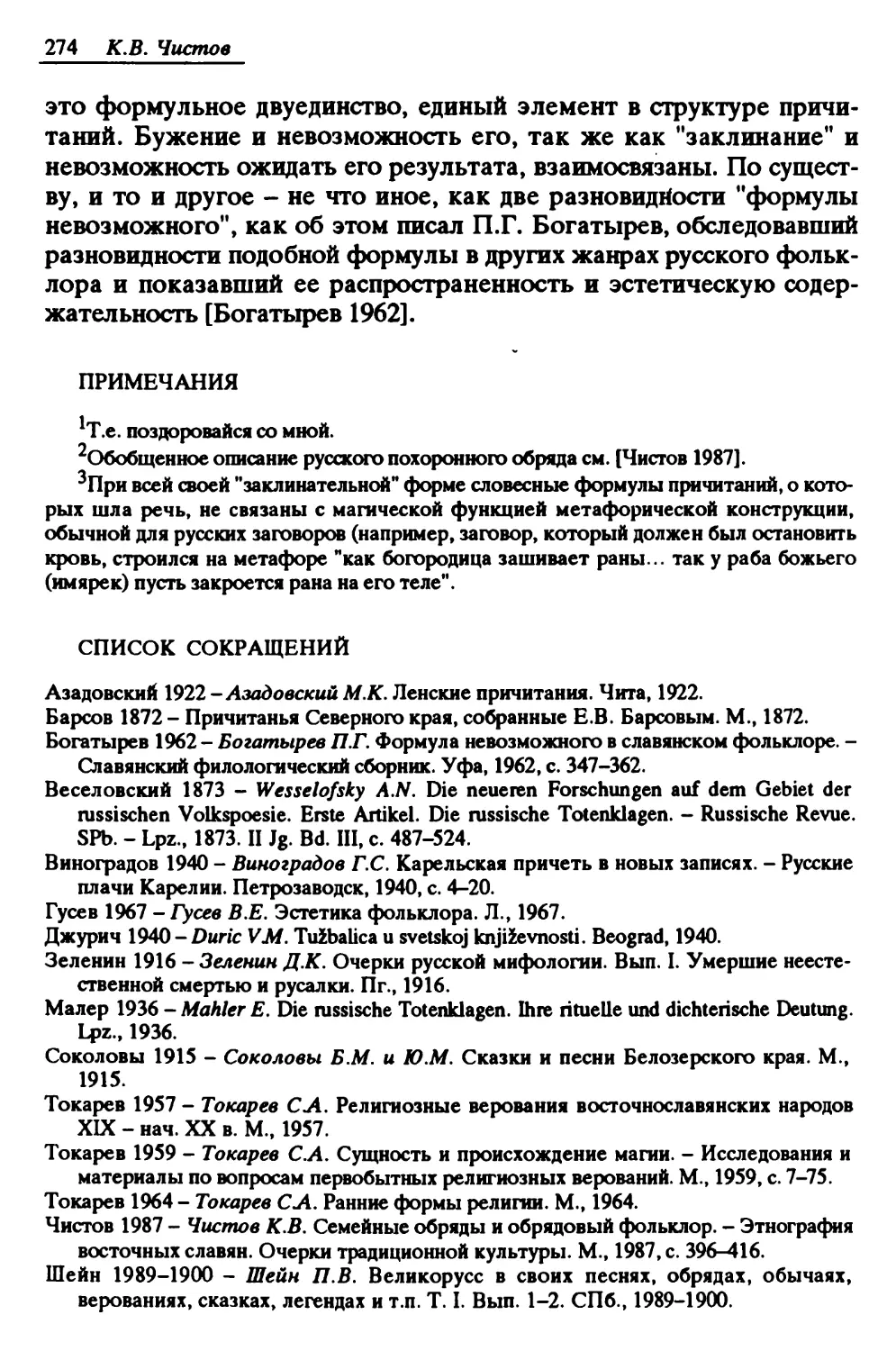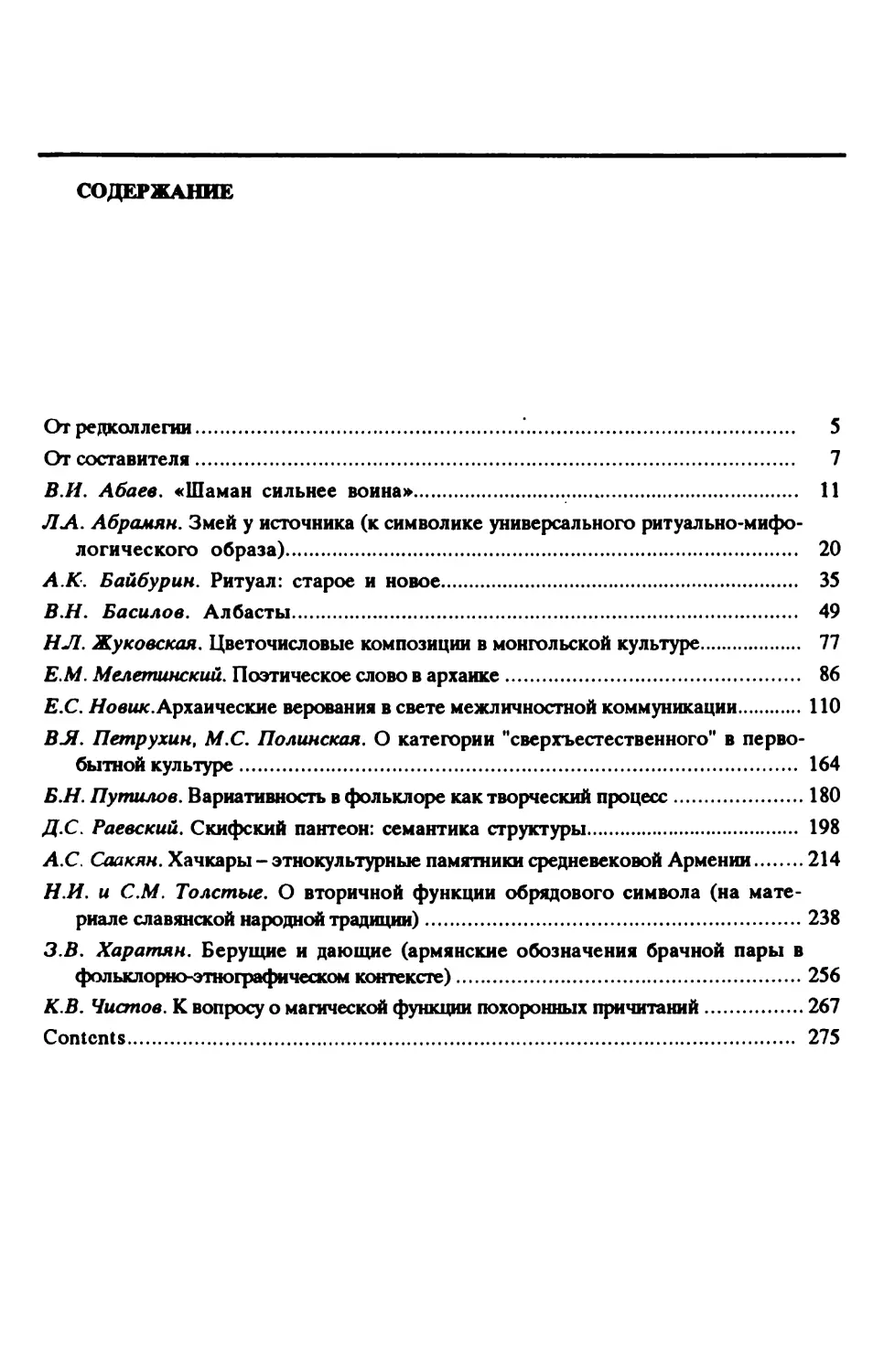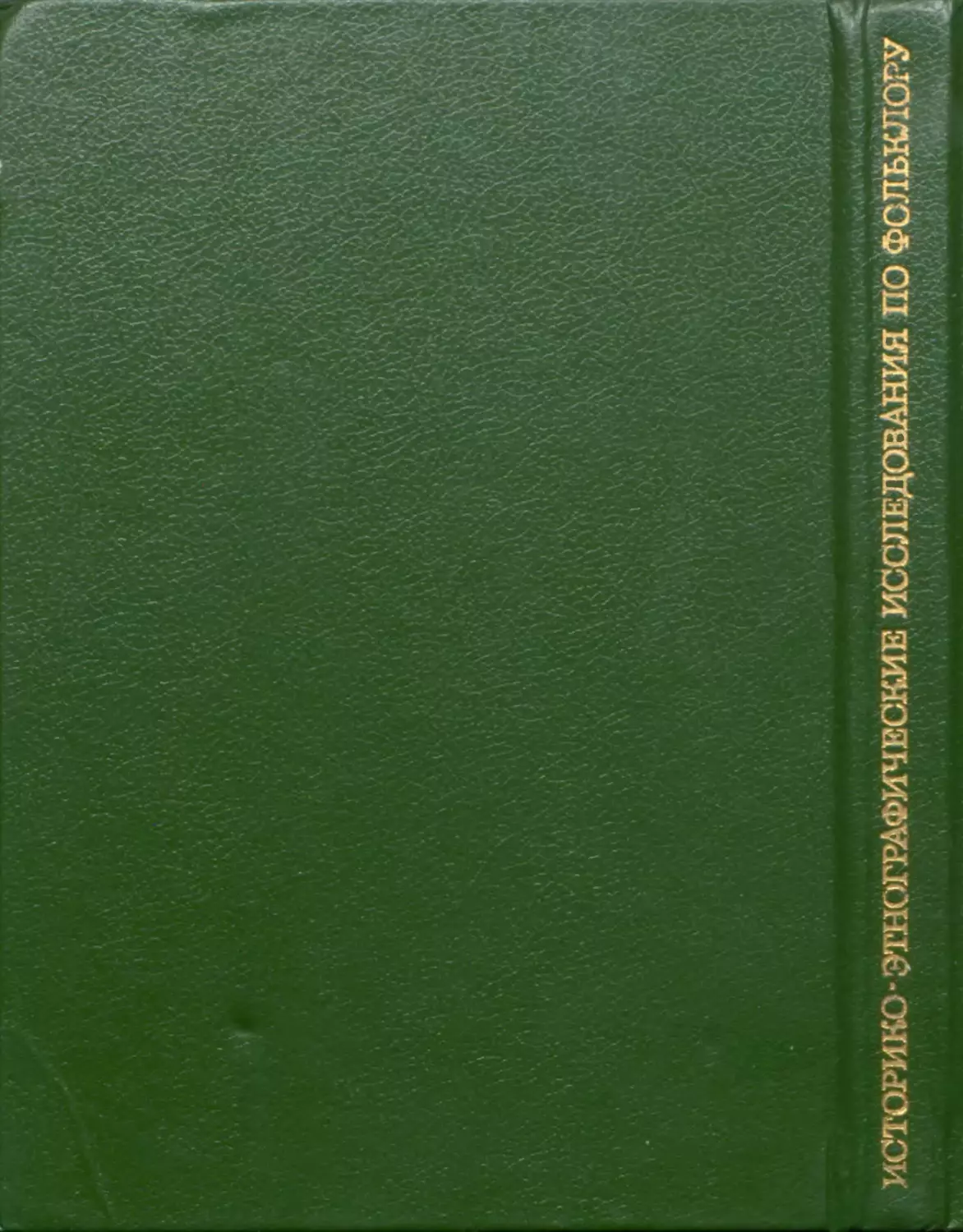Автор: Петрухин В.Я.
Теги: этнография этнос этникос этническая история история фольклор этнографические очерки сборник статей издательство восточная литература
ISBN: 5-02-0167630-0
Год: 1994
§ историко-
О ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ
g ИССЛЕДОВАНИЯ
§ ПО ФОЛЬКЛОРУ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ФОЛЬКЛОРУ
И МИФОЛОГИИ
ВОСТОКА
СЕРИЯ
ОСНОВАНА
в 1969 г.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
| ГА. Зограф]
Е.М. Мелетинский (председатель)
С.Ю. Неклюдов (секретарь)
Е.С. Новик
БЛ.Рифтин
С. С. Целышкер
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА
«ВОСТОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА» РАН
историко-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ФОЛЬКЛОРУ
Сборник статей
памяти
Сергея Александровича
ТОКАРЕВА
МОСКВА 1994
ББК 63.5 + 82
И 90
Книга издана при содействии
Международного фонда "Культурная инициатива"
Составитель
ВЯ. ПЕТРУХИН
Редактор издательства
И. Л. ЕЛЕВИЧ
Историко-этнографические исследования по фолькло-
И90 ру: Сборник статей памяти Сергея Александровича
Токарева. Сост. В.Я. Петрухин. - М.: Издательская
фирма ’’Восточная литература” РАН, 1994. - 276 с. -
(Исследования по фольклору и мифологии Востока).
ISBN 5-02-0167630-0
В статьях освещаются проблемы взаимосвязи мифа и религии,
фольклора и этнографии. Рассматривается широкий круг явлений
традиционной культуры - от скифского пантеона и полинезийских
обычаев до славянской причети и армянских свадебных обрядов.
Для фольклористов, этнографов, историков культуры.
Ю00000-070^
13Й2ГЙ-12’-’4 ““ 03 ‘ “2
Научное издание
Историко-этнографические исследования
по фольклору
Сборник статей памяти
Сергея Александровича Токарева
Заведующий редакцией С.С.Цельникер
Младший редактор И.МТриднева. Художник Л.С.Эрман
Художественный редактор ЭЛКЭрман. Технический редак-
тор О.В.Власова. Корректор НЛ.Щигорева
ИБ № 16395
Сдано в набор 04.02.94. Подписано к печати 29.06.94
Формат 60Х90х/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная
Усл. п.л. 17,25. Усл. кр.-отт. 17,25. Уч.-изд.л. 18,62
Тираж 1500 экз. Изд. № 7061. Зак. № 270. „С„-1
РАН
Издательская фирма „Восточная литература”,
103051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21
ЛР № 0297 от 27.11.91 г.
3-я типография РАН
107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28
ISBN 5-02-016763-0
© В.Я. Петрухин.
Составление, 1994
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Серия «Исследования по фольклору и мифологии Востока», выпускаемая
издательской фирмой «Восточная литература» с 1969 г., знакомит читателей с
современными проблемами изучения богатейшего устного творчества народов Азии,
Африки и Океании. В ией публикуются монографические, и коллективные труды,
посвященные разным аспектам изучения фольклора и мифологии народов Востока,
включая анализ некоторых памятников древних и средневековых литератур,
возникших при непосредственном взаимодействии с устной словесностью. Зна-
чительное место среди изданий серии занимают работы сравнительного и сравни-
тельно-типологического характера и чисто теоретические, в которых важные
проблемы фольклористики и мифологии рассматриваются не только на восточном
материале, но и с привлечением повествовательного искусства других, соседних
регионов.
Взаимосвязи мифа и религии, фольклора и этнографии - круг интересов
виднейшего советского этнографа Сергея Александровича Токарева, памяти которого
посвящен настоящий сборник (С А. Токарев с самого основания серии и до дня своей
кончины был членом ее редколлегии). Эти проблемы исследуются в статьях сборника,
авторы которых сочетают структурно-типологический и сравнительно-исторический
подходы к изучению разнообразных явлений традиционной культуры - от скифского
пантеона и полинезийских обычаев до славянской причети и армянских свадебных
обрядов.
Книги, ранее изданные в серии «Исследования по фольклору и мифологии
Востока»:
В Я Пропп. Морфология сказки. 2-е изд. 1969.
ГЛ. Пермяков. От поговорки до сказки (Заметки по общей теории клише). 1970.
, БЛ. Рифтин. Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае (Устные и
книжные версии «Троецарствня»). 1970.
ЕА. Костюхин. Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции.
1972.
Н. Роишяну. Традиционные формулы сказки. 1974.
ПА. Гринцер. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. 1974.
Типологические исследования по фольклору. Сборник статей памяти Владимира
Яковлевича Проппа (1895-1970). Сост. Е.М. Мелетинский и С.Ю. Неклюдов. 1975.
Е.С. Котляр. Миф и сказка Африки. 1975.
С Л. Невелева. Мифология древнеиндийского эпоса (Пантеон). 1975.
ЕЛИ. Мелетинский. Поэтика мифа. 1976.
ВЯ. Пропп. Фольклор и действительность. Избранные статьи. 1976.
6 От редколлегии
Е.Б. Вирсаладзе. Грузинский охотничий миф и поэзия. 1976.
Ж. Дюмезиль. Осетинский эпос и мифология. Пер. с франц. 1976.
Паремиологический сборник. Пословица, загадка (структура, смысл, текст). Сост.
Г. Л . Пермяков. 1978.
OJVf. Фрейденберг. Миф и литература древности. 1978.
Памятники книжного эпоса. Стиль и типологические особенности. Под ред.
Е.М. Мелетинского. 1978.
Б. Л . Рифтин. От мифа к роману (Эволюция изображения персонажа в китайской
литературе). 1979.
С. Л . Невелева. Вопросы поэтики древнеиндийского эпоса. Эпитет и сравнение.
1979.
Е.М. Мелетинский. Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл Ворона. 1979.
Б.Н. Путилов. Миф - обряд - песня Новой Гвинеи. 1980.
М.И. Никитина. Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и мифом. 1982.
В. Тэрнер. Символ и ритуал. Пер. с англ. 1983.
М. Герхардт. Искусство повествования (Литературное исследование «1001 ночи»).
Пер. с англ. 1984.
Е.С. Новик. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. Опыт сопоставления
структур. 1984.
С.Ю. Неклюдов. Героический эпос монгольских народов. Устные и литературные
традиции. 1984.
Паремиологические исследования. Сборник статей. Сост. Г. Л . Пермяков. 1984.
Е.С. Котляр. Эпос народов Африки южнее Сахары. 1985.
Зарубежные исследования по семиотике фольклора. Пер. с англ., франц., рум.
Сост. Е.М. Мелетинский и С.Ю. Неклюдов. 1985.
Ж. Дюмезиль. Верховные боги индоевропейцев. Пер. с франц. 1986.
Ф.БЯ. Кейпер. Труды по ведийской мифологии. Пер. с англ. 1986.
Н.А. Спешнее. Китайская простонародная литература (Песенно-повествователь-
ные жанры). 1986.
ЕЛ. Костюхин. Типы и формы животного эпоса. 1987.
Я.Э. Голосовкер. Логика мифа. 1987.
Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. 1988.
Г. Л . Пермяков. Основы структурной паремиологии. 1988.
А.М. Дубянский. Ритуально-мифологические истоки древнетамильской лирики.
1989.
И.М. Дьяконов. Архаические мифы Востока и Запада. 1990.
ПД. Сахаров. Мифологические повествования в санскритских пуранах. 1991.
Готовится к изданию:
А.Б. Лорд. Сказитель. Пер. с англ.
Малые формы фольклора. Сборник статей памяти Г. Л . Пермякова.
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Коллектив авторов посвящает сборник «Историко-этнографические исследования
по фольклору» памяти Сергея Александровича Токарева (1899—1985), крупнейшего
этнографа, одного из создателей отечественной школы этнографии*.
Широчайшие научные интересы С.А. Токарева и пристальное внимание к главным
проблемам этнографии (начиная с первых работ - рецензий на книги Г. Шпета
«Введение в этническую психологию» и Ф. Боаса «Ум первобытного человека») во
многом определили развитие этнографической проблематики в нашей стране, ориен-
тировали этнографию на изучение основных историко-культурных явлений, а не на
описание «экзотических» сторон быта. Существенным при этом было то, что Токарев
не замыкался в «кабинетной» работе над чисто академическими проблемами. Его
многолетняя деятельность включала весь спектр этнографических работ и
исследований - от обработки музейных коллекций и поездок в экспедиции, пре-
подавания в Московском и других университетах и руководства кафедрой этнографии
до составления фундаментальных обобщающих работ по этнографии - в серии
«Народы мира», опубликованной на основе курса лекций книги «Этнография народов
СССР» и др. Характерной чертой его научной деятельности было понимание и
выявление глубоких взаимосвязей в развитии материальной культуры, общественного
строя и культуры духовной (см., например, [Токарев 1970]). Поэтому такое явление
духовной культуры, как фольклор, воспринималось им в широком смысле, не просто
как совокупность произведений устного народного творчества, а как многогранная
система обычаев, пронизывающая все стороны жизнедеятельности народа. Такая
система стала, в частности, объектом изучения в многотомной коллективной мо-
нографии «Календарные обычаи и обряды народов Зарубежной Европы»,
подготовленной под руководством С.А. Токарева.
Глубокому пониманию и вместе с тем популяризации фольклора способствовала и
издательская деятельность С.А. Токарева. В 1958 г. с его послесловием выходит
сборник австралийских мифов в обработке А. Маршалла [Маршалл 1958], а в 1960 с
его же предисловием - перевод мифологических текстов, собранных у папуасов
маринд-аним Г. Неверманом [Неверман I960]; эта книга стала одной из первых,
знакомящих широкого читателя с классическим фольклорным наследием народов
мира. С момента создания серий «Сказки и мифы народов Востока» и «Исследования
по фольклору и мифологии Востока» С.А. Токарев стал членом их редколлегии.
* Список работ С.А. Токарева, опубликованный к 80-летию со дня рождения, см.:
«Советская этнография». 1980, № 3, с. 182-188. О жизни и деятельности С.А. Тока-
рева см. [Алексеев 1985].
8 От составителя
Издательскую деятельность, ориентированную на интересы самого широкого
читателя, С.А. Токарев продолжал до последних дней жизни: его стараниями
читатель получил переиздание «Золотой ветви» Дж. Фрэзера; уже после кончины
С.А. Токарева вышла подготовленная им к печати книга Фрэзера «Фольклор в
Ветхом Завете».
Сергей Александрович Токарев
Актуальная для современной фольклористики проблема взаимосвязей фольклора и
этнографии, естественно, не могла ие интересовать ученого, особенно в связи с
изучением народных религиозных верований, которым он занимался всю жизнь. В
книге о верованиях восточных славян [Токарев 1957] автор указывает на
принципиальные различия между демонологическими представлениями актуальных
верований и демонологическими персонажами народных сказок, между народными
знаниями и верой в сверхъестественное (эта проблема станет темой специальной
работы [Токарев 1972], послужившей основой для обобщающего раздела о духовной
культуре в книге по истории первобытного общества [Токарев 1986]) и т.п.
Не менее важным для исследований по мифологии и фольклору, прежде всего
архаичному, в научном наследии С.А. Токарева является осуществленный им анализ
ранних форм религии. Морфологическая классификация культов, предложенная им в
От составителя 9
книге «Ранние формы религии» [Токарев 1964], где исследователь стремится сочетать
принцип классификации с историческим подходом к проблеме изменчивости
религиозных форм, определила целый этап в развитии религиоведения. Выделение
«форм» религиозных культов, при всей осознаваемой исследователями условности их
разграничения в той или иной религиозной системе, способствует сравнительно-
историческому анализу разнообразных проявлений религиозных верований, их
трансформации, взаимосвязей с необрядовым фольклором и т.п. Сравнительно-
исторический анализ формирует и структуру знаменитой и переведенной во многих
странах книги С.А. Токарева «Религия в истории народов мира», где экуменическая
панорама религиозных верований предстает в строгой последовательности развития
от ранних форм культа к поздним, от памятников культа эпохи палеолита и
церемоний австралийцев до мировых религий.
Сравнительно-исторический пафос, настойчивый интерес к «историческим корням»
исследуемых явлений пронизывает практически все работы С.А. Токарева. Не
случайно в программной статье «Что такое мифология?» [Токарев 1962] особое
внимание исследователя привлекают этиологические мифы, а из функций мифологии -
в первую очередь «объяснительная». Действительно, общественное сознание,
особенно архаической эпохи, напряженно работает над проблемой происхождения
реалий естественного мира и социального порядка: это происходит уже в силу того,
что проблема «этиологии» задана первобытному сознанию одной из основ социального
бытия - кровным родством, предполагающим происхождение от единого предка.
Научные позиции С.А. Токарева в этом отношении закономерны.
Вместе с тем принципиальная ориентация на поиск конкретных «исторических
корней» этнографических явлений привела С.А. Токарева к полемике с исследо-
вателями, ставящими целью анализа прежде всего синхронные структурные
отношения, особенно в тех случаях, когда все разнообразие мифологических сюжетов
и ритуалов сводится к ограниченному набору бинарных оппозиций и т.п. Конечно, эта
полемика (в том числе критика структурализма К. Леви-Строса), как и всякий
научный спор, утрирует позиции сторон. Необходимость изучения структурных
отношений, в том числе структуры религиозного культа в его связях с мифом и т.п.,
особенно социальных основ структурных связей, хорошо понимал сам С.А. Токарев.
Именно он за всем разнообразием религиозных верований усматривал в первую
очередь социальные отношения - будь то племенная основа архаичных культов или
социальные функции религии в целом, которые заключались, согласно Токареву, в
сегрегации или объединении людей «по поводу» веры в сверхъестественное [Токарев
1981]. Таким образом, и в историко-генетическом аспекте осуществлялся поиск
конструктивных основ религии, противопоставление «своего» коллектива чужому,
социального зла - естественному порядку вещей и т.п. В статьях Е.М. Мелетин-
ского, Б.Н. Путилова и других, подготовленных для данного сборника, показано, как
в общем ограниченный набор фундаментальных противопоставлений (оппо-
зиций) оказывается основой для бесконечного варьирования фольклорных
текстов.
Вместе с тем позиция С.А. Токарева в перспективе развития науки имеет весьма
актуальный смысл - она указывает на необходимость сочетания сравнительно-
исторического и структурно-типологического методов исследования (см. [Токарев
1973]), что стало едва ли не главной методической проблемой современной
гуманистики. К такому сочетанию стремился сам С.А. Токарев, это стремление
присуще и авторам сборника, посвященного его памяти.
Наконец, нельзя не сказать о той важной стороне научной деятельности
С.А. Токарева, которая всегда характеризовала его поведение: любовь к открытой
научной полемике была связана у него с живым интересом и доброжелательным
вниманием к слову собеседника, даже в случаях, когда расхождения с оппонентами
были весьма резки. Это свойство характера ученого во многом определяло и его
выдающиеся способности как организатора науки, плодотворное участие или
10 От составителя
руководство работой разнообразных научных коллективов: за такую работу - участие
в редколлегии двадцатитомного издания «Страны и народы» - С.А. Токарев получил
(ухе посмертно, в 1987 г.) Государственную премию СССР. И, пожалуй, самым ярким
итогом научной деятельности Сергея Александровича стала двухтомная энциклопедия
«Мифы народов мира», ныне неоднократно переизданная; не только воистину
энциклопедические знания, но прекрасные организаторские качества С.А. Токарева -
ответственного редактора энциклопедии способствовали творческому объединению
исследователей разных направлений для создания этого замечательного труда,
ставшего событием в истории нашей культуры. Дело, однако, не просто в «итогах» -
деятельность С.А. Токарева в целом послужила созданию той фундаментальной
базы, без которой невозможно и дальнейшее развитие науки. Без трудов и личности
Сергея Александровича нельзя представить себе этого развития - Токарев стал
одним из созидателей, «культурных героев» науки.
Составитель искренне благодарен С.А. Арутюнову, Д.С. Раевскому, О.В. и
Е.С. Токаревым, К.В. Чистову за помощь, оказанную при подготовке сборника.
В. Я. Петрухин
12.09.1989.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Алексеев 1985. - Алексеев В.П. Памяти Сергея Александровича Токарева. -
Советская этнография. 1985, № 4, с. 168-172.
Маршалл 1958. - Маршалл А. Люди незапамятных времен. М., 1958.
Неверман 1960. - Неверман Г. Сыны Дехевая. М., 1960.
Токарев 1957. - Токарев С А. Религиозные верования восточнославянских народов
XIX - нач. XX в. М.-Л., 1957.
Токарев 1962. - Токарев С А. Что такое мифология? - Вопросы истории религии и
атеизма. Вып. X. М., 1962, с. 338-375.
Токарев 1964. - Токарев СА. Ранние формы религии и их развитие. М., 1964.
Токарев 1970. - Токарев СА. К методике изучения материальной культуры. -
Советская этнография. 1970, № 4, с. 3-17.
Токарев 1972. - Токарев С А. Проблемы общественного сознания доклассовой эпо-
хи. - Охотники, собиратели, рыболовы. Л., 1972.
Токарев 1973. - Токарев СА. Народные обычаи календарного цикла в странах
Зарубежной Европы (опыт структурно-исторического анализа). - Советская
этнография, 1973. № 6, с. 15-29.
Токарев 1981. - Токарев С А. Еще раз о религии как социальном явлении. -
Советская этнография. 1981, № 1,с. 51-65.
Токарев 1986. - История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой
общины. М., 1986, с. 490-499,526-555.
В.И. АБАЕВ
«ШАМАН СИЛЬНЕЕ ВОИНА»
До появления металлов люди больше верили в колдунов, чем в
воинов. Без металла человек был еще слишком слаб в борьбе за
существование. А «слабость всегда спасалась верой в чудеса»
(Маркс). В течение тысячелетий колдун был центральной фигурой
общества. Без него коллектив чувствовал себя незащищенным.
Конечно, защита была фиктивная. Но и фиктивная защита, если в
нее верили, лучше, чем никакая. Знаменитые колдуны обрастали
легендами. В памяти народа они выступали как «культурные герои».
Это они подарили людям огонь, они положили начало земледелию,
скотоводству, ремеслам, музыке. Таков главный герой Калевалы
Вяйнямёйнен, «Вековечный заклинатель».
Одной из удивительных способностей, которыми фантазия народа
наделяла великих колдунов-шаманов, было их умение принимать на
время образ того или иного животного и в этом виде совершать
такие подвиги, которые им в человеческом облике были бы
недоступны. Здесь шаманизм тесно переплетается с тотемизмом, и
это сочетание вполне органично и естественно. И там, и тут речь
идет о примитивных формах социального самосознания и социальной
самозащиты. В любом варианте шаманизма и шаманской практики
без труда просматриваются реминисценции тотемических верований
и ритуалов.
В статье «Le cheval de Troie» [Абаев 1963, с. 1041-1070] автор
привел обширный этнографический и фольклорный материал по
данной теме.
«Основной бредовой идеей шаманов-жрецов была, по-видимому,
мысль о превращении человека в обоготворяемое животное, в обра-
зе которого являлись и сами духи» [Ксенофонтов 1930, с. 6]. Из-
вестный венгерский исследователь шаманизма В. Диосэги посвятил
специальную статью рассказам о подвигах шаманов в образе
животных. «Характерной чертой шаманизма Северной Евразии,-
© В.И. Абаев, 1994
12 В.И. Абаев
пишет он, - является представление о том, что шаманы часто бо-
рются между собой в образе животных... По рассказу якутов,
шаманы во время борьбы превращаются в волков, медведей,
жеребцов» [Диосэги 1952, с. 303-316]. «В очень многих случаях
шаманские духи имеют образы животных» [Токарев, 1964, с. 300].
Вера в способность шаманов обретать высшее могущество в образе
животных настолько распространена у северных народов Евразии,
что ее можно рассматривать как необходимую стадию социального
сознания примитивных народов. Разумеется, подобные представ-
ления не являются региональной особенностью Северной Евразии.
Они распознаются и у других народов. Зевс, похищающий Европу в
образе быка, ведет себя как сибирский шаман.
Понемногу червь сомнения разъедает веру в возможность прев-
ращения человека в животное. Тогда шаман прибегает к ими-
тации такого превращения: он одевается в шкуру
соответствующего животного. У одного северо-
американского индейского племени «шаман, одетый в шкуру жел-
того медведя, с посохом и бубном, пытается при помощи дикой
пляски вылечить смертельно раненного индейца» [Токарев 1964,
с. 287]. Шаман стремится внешне уподобиться зверю в магических
обрядах [Анисимов 1958, с. 49 и сл.]. Такой прием прочно входит в
шаманскую практику.
Однако время идет. Человечество вступает в век металлов.
Резко возрастает роль бойца, вооруженного металлическим ору-
жием. Герой-воин начинает теснить героя-шамана, вооруженного
только колдовскими приемами и заклинаниями.
Вместе с коренным сдвигом в материальной культуре - от камня
к металлу - начинается разложение родо-племенного строя. Новый,
*рождающийся тип общества Ф. Энгельс удачно назвал военной де-
мократией. К этой стадии относится расцвет героического эпоса.
В качестве главного героя в нем выступает богатырь-воин. Но вот
что любопытно. Герой-шаман не сразу сдает свои позиции. Как
стойкий пережиток предшествующей стадии он продолжает жить в
отдельных образах, мотивах, сюжетах и эпизодах богатырского ге-
роического эпоса. Возникает тип героя, который, будучи богатырем-
воином, не чуждается в трудных ситуациях прибегать к магическим
приемам и прежде всего облекается в образ животного, одеваясь в
его шкуру. Возникает новый тип героя - полувоин-полуколдун. Бо-
лее того, нередко сюжет строится так, чтобы внушать вывод: ша-
ман все-таки сильнее воина, колдовские приемы сильнее оружия.
Композиция подобных рассказов проста и стереотипна. Герой
долго, но безуспешно пытается одолеть врага силой. Тогда он
прибегает к магическому средству: облекается в шкуру животного -
коровы, быка, коня, волка, кабана. И это приносит ему победу.
Шаман сильнее воина 13
В роли врага выступает часто похититель жены (невесты) героя, и
борьба ведется за ее возвращение. Приведу несколько иллюстраций
из так называемого нартовского эпоса народов Кавказа.
Абхазский вариант. Невеста героя, прекрасная Гунда,
похищена могучим Ерчхоу. Похититель укрылся в крепости Гумбэу.
Герой (его зовут Хважарпыс) долго пытается овладеть крепостью и
освободить свою невесту, но тщетно. На помощь приходит Нарт
Патраз. Он велит завернуть себя в коровью
шкуру и метнуть в крепость. В шкуре коровы Патраз
проломил неприступные дотоле стены и освободил Гунду [Абаев
1965, с. 1047].
Осетинский вариант. Владетель крепости Гори Елах-
caj ттон отказывается выдать свою дочь за Нарта Сослана. Тогда
последний решает похитить ее силой. Он собирает большое войско и
осаждает крепость. Война затянулась. Убедившись, что силой
ничего не сделаешь, Сослан зарезал быка, выпот-
рошил его, влез в его ш к у р у и притворился мерт-
вым. Таким образом ему удалось выманить Елахсарттона из кре-
пости и убить его [Абаев 1963, с. 1047-1048]. В этом варианте то,
что Сослан прикинулся мертвым, можно понять как наивную «воен-
ную хитрость». Но зачем он влезает в шкуру быка? На это
сказители не могут дать ответа. Но они твердо убеждены, что
бычья шкура - неустранимый элемент сказания.
Кабардинский вариант. Прекрасная и мудрая Сата-
ней похищена враждебным племенем Испов. Для ее освобождения
Нарты сгаряжают большое войско во главе с могучим Уазырмесом.
Долго длится осада. Но крепость неприступна. Победу приносит не
прославленный воин Уазырмес, а свинопас Горгоныж. Он вы-
потрошил кабана, влез в его шкуру и подкрал-
ся к крепости. Затем он метнул кабанью шкуру на крепостную стену
и разрушил ее. Сатаней была освобождена.
Мотив «героя в шкуре животного» встречается и в сюжетах, не
связанных с борьбой за женщину. В якутской героической поэме
«Эр-Соготох» богатырь Базымджи, снаряжаясь в поход, одевается в
шкуру быка, «приладив глаза к глазам, рот ко рту, уши к ушам»
[Абаев 1963, с. 1053].
В осетинском сказании о последней военной экспедиции Нарта
Урызмага говорится, что он велел зашить себя в шкуру коня и
забросить себя в море. Море вынесло его к владениям владыки
Кафтысар-Хуэндон-алдара, где ему предстояло совершить свой
последний боевой подвиг [Абаев 1963, с. 1058].
В нартовском сказании о схватке Сослана с юным Тотрадзом
знаменитый Нарт оказывается как воин несостоятельным. Тотрадз
побеждает его и на острие своего копья несет его в селение Нартов.
14 В Л. Абаев
Сослан жаждет реванша. Он обращается за советом к чародейке
СатАне, и та советует ему навесить на себя волчьи шкуры и в таком
виде вновь сразиться с Тотрадзом. И на этот раз победа остается за
Сосланом: волчьи шкуры сделали свое дело.
В одном варианте этого сказания есть любопытная концовка.
Когда Сослан, расправившись шаманским приемом с Тотрадзом,
возвращается домой, он встречает трех неизвестных ему старцев. И
эти старцы вместо того, чтобы поздравить Сослана с победой,
громко и резко осуждают его. Что это за старцы? Думаю, не
ошибусь, если скажу, что они олицетворяют то, что мы теперь
называем «общественным мнением». Общество вступило в новую
эру, железный век. Резко возрос престиж воина и настолько же упал
престиж колдуна. Ценятся уже не колдовские хитрости и уловки, а
честное, открытое нападение. Слава сильному, а не хитрому!
Вышеупомянутые старцы стоят на почве этой новой, чисто
воинской, рыцарской идеологии. И они возмущены тем, что сильный
и храбрый стал жертвой хитрого и коварного.
В другом варианте протест против нечестной победы Сослана
выражен иначе. Там говорится, что в потустороннем мире Сослан и
Тотрадз снова встретятся в последней смертельной схватке, и тогда
победит Тотрадз.
Как видим, мотив о подвигах зооморфного героя вплетается во
многие мифологические и фольклорные сюжеты. Но все же
«классическим» остается его использование в сюжете «борьбы за
женщину». Мы пытались в свое время показать, что этот сюжет
составляет фольклорную основу двух замечательных литературных
памятников: «Илиады» Гомера и «Витязя в барсовой шкуре»
Руставели [см.: Абаев 1963; Абаев 1966]. Могут ли, однако, в ли-
тературных памятниках рабовладельческой древней Греции и
феодальной Грузии сохраняться какие-то отзвуки шаманизма и тоте-
мизма? Отвечаем с уверенностью: могут! Разумеется, преемст-
венная связь между богатым, многоплановым, художественно
изощренным литературным произведением и его скромным древним
фольклорным прототипом не лежит на поверхности. Она
вскрывается только в результате тщательного струк-
турного разбора. Ведь в роскошной садовой розе тоже не
сразу распознается ее дикий предок - скромный лесной ши-
повник.
При этом приходится учитывать следующее: то, что в фоль-
клорном прототипе было самым главным, ключевым и очевидным, в
литературном произведении может оказаться второстепенным, эпи-
зодическим и даже завуалированным до неузнаваемости.
Сюжет «Илиады» в упрощенном виде сводится к следующему:
1. Похищение жены героя.
Шаман сильнее воина 15
2. Долгие (в течение 10 лет) и тщетные усилия захватить кре-
пость похитителя военной силой.
3. Овладение крепостью и освобождение похищенной женщины
с помощью «хитрости»: проникновением в город в оболочке (дере-
вянного) коня.
Как видим, перед нами точное повторение нартовских сказаний о
похищении и освобождении жены (невесты) Нарта Сослана. С одной
существенной разницей: Сослан побеждает, влезая в шкуру жи-
вотного; греки - влезая в деревянного коня. Откуда взялся этот
деревянный конь? Без сомнения, он представляет собой попытку
рационализации старого шаманского мотива: «герой в
шкуре животного». Древняя, чисто шаманская версия состояла в
следующем: герой в борьбе за женщину временно принимает образ
животного, и это дает ему победу. Когда создавалась поэма, люди
уже не верили не только в превращение человека в животное, но и в
обретение им магической силы путем надевания его шкуры. В об-
ществе господствовала уже не идеология шаманов, а идеология
военных вождей.
Но если так, то что мешало автору поэмы предоставить своим
героям победу чисто военной силой, путем прямого и открытого
нападения, без всяких «хитростей» с деревянным конем? Тут
сказалось «давление структуры». Гомер мог с великолепной щед-
ростью описывать поединки своих героев-воинов, их силу, их
доблесть. Но сломать традиционную структуру, стержнем которой
был «герой в оболочке коня», - этого он не мог. Поэтому он
«рационализировал» этот шаманский мотив, преобразив его в
«военную хитрость» с деревянным конем.
В первобытном мышлении «хитрость» была синонимом «кол-
довства». В осетинском языке слово хГп «хитрость» означает также
«колдовство». В нартовском эпосе есть герои, которые охотно
прибегают к хГп: Сатйна, Сирдон, Сослан (Сосруко). И есть герои,
которые полагаются только на tyx «силу», таков Батраз.
Одиссей, в отличие, скажем, от Ахилла, также является героем,
переходным от типа колдуна к типу воина. Его постоянный эпитет -
iroXvpnxttvoc «хитрый», «хитроумный», «изобретательный». Ему-
то и принадлежит выдумка с деревянным конем.
Как попытка рационализировать шаманский мотив «герой
в оболочке животного» троянский конь поражает своей наивно-
стью и напоминает анекдоты на тему «кто глупее?» Не знаешь,
чему больше удивляться: глупости ли греков, соорудивших этого
коня, или глупости троянцев, решивших во что бы то ни стало
втащить его в город, не поинтересовавшись его содержи-
мым. Единственный момент мотивации, который здесь просма-
тривается, состоит в том, что конь считался животным Посей-
16 ВЛ. Абаев
дона, а Посейдон в Троянской войне покровительствовал
грекам.
Не следует закрывать глаза на то, что гомеровские поэмы в
элементах своей структуры, в некоторых образах и мотивах
содержат архаичные черты первобытной магии, тотемизма и
шаманизма. «Рассказы о греческих героях отделены тысячелетиями
от первобытной стадии мышления, но они покоятся на
представлениях того же типа, переосмысленных и усложненных в
соответствии с изменениями социальной структуры» [Тройский 1935,
с. XXIV].
Все сказанное позволяет утверждать, что история Троянской
войны в своем прототипе восходит к древнему фольклорному
сюжету о борьбе за женщину с временным шаманским превра-
щением героя в животное. Мораль подобных рассказов одна: шаман
сильнее воина.
Поэма Руставели «Витязь в барсовой шкуре» - произведение
сложное, многоплановое, с пересекающимися сюжетными линиями.
В его литературной и текстуальной истории имеются неясности. Сам
автор во вступлении утверждает, что перевел свою поэму с
персидского. Действительно имена большинства героев, как показал
еще Н.Я. Марр, - иранские. Возможно, однако, что это всего лишь
маскировка: автор хотел переложить на мнимый персидский
источник ответственность за религиозный либерализм, который ему
не могло простить высшее духовенство христианской Грузии.
Как бы то ни было, в любом случае не возникает ни малейших
сомнений, что основной сюжетный стержень поэмы - похищение и
освобождение женщины, совершенно так же, как и в «Илиаде» и в
цитированных выше нартовских сказаниях. Красавицу Нестан
Дареджан похищают к а д ж а, существа бесовской породы, и
заключают ее в свою крепость К а д ж е т и. Возлюбленный Нес-
тан, герой Тариел, и его два друга, Придон и Автандил, захва-
тывают Каджетскую крепость и освобождают Нестан.
М.Я. Чиковани и другие исследователи показали, что эта сюжет-
ная основа поэмы абсолютно оригинальна и связана с фольклором
(подробнее см. [Абаев 1966]).
Вопрос, который неизбежно возникает при чтении поэмы, - это
вопрос о том, какую роль играет здесь барсовая шкура и почему
автор назвал поэму не по имени героя, как это делалось в его время
(ср. «Амирандареджаниани», «Ростомиани», «Висрамиани»), а
«Одетый в барсовую шкуру», как если бы шкура была его важ-
нейшим атрибутом.
Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратить внимание на
некоторые «странности» в композиции поэмы и в поведении героя.
О похищении своей возлюбленной Тариел узнает в 26-й главе, а
Шаман сильнее воина 17
освобождает ее только в 57-й (по изданию 1937 г.). Чем же
заполняет герой эту огромную паузу? Ответ на это дает глава 38-я.
Оказывается, Тариел помутнел рассудком. Он удалился в пустыню и
там сражается со львами и барсами, предается отшельничеству и
аскетизму. Он рассказывает о себе:
Я ушел из стран, где все же
смертных изредка встречал,
Ночевал в глуши, где бродят
только серны и олени,
То в ущельях и долинах,
то на склонах диких скал.
Для меня приютом стали
дебри, где таятся звери.
(Перевод Г. Цагарели)
Это временное отшельничество - хорошо известный шаманский
прием, чтобы обрести и накопить колдовскую силу для будущих
подвигов. Для этой цели «следует уйти на несколько дней в лес,
обрести путем длительного поста и изнеможения соответствующего
духа-покровителя» [Анисимов 1958, с. 221 сл.]. В древнеиндийском
эпосе царь Висвамитра тщетно пытается силой отнять чудесную
корову у отшельника Васишты. Только пройдя «курс» брахманской
аскезы, Висвамитра достигает своей цели. История Висвамитры и
Васишты - вариация все на ту же тему: брахман сильнее кшатрия,
колдун сильнее воина.
История Тариела примечательна тем, что здесь, в произведении
феодальной Грузии XII в., присутствует архаичнейшая черта: герой
одевается в шкуру животного, в данном случае барса1. Приобретя
новый статус «одетого в барсовую шкуру», vepxistqaosani, Тариел
обретает и новую силу. Он успешно овладевает Каджетскою
крепостью и освобождает свою возлюбленную. Отметим, что герой
«Шахнаме» Рустем тоже сражается в шкуре пантеры и нередко
зовется palanginapus «одетый в шкуру пантеры», что соответствует
точно грузинскому vepxistqaosani.
Итак, в трех очень разных по времени и характеру эпических
памятниках - нартовском эпосе, «Илиаде» и поэме Руставели - мы
распознаем в завуалированном виде одну и ту же глубоко древнюю
тему, содержащую следующие сюжетные элементы: похищение
женщины; невозможность освободить ее одной только военной
силой; освобождение ее героем в оболочке животного (коровы, быка,
кабана в нартовских сказаниях, коня в «Илиаде», барса в поэме
Руставели). Последний мотив в своем прототипе восходит к
шаманским рассказам о подвигах героя в образе животного. Тема
2 270
18 ВЛ. Абаев
«шаман сильнее воина» могла родиться в период перехода от
шаманской идеологии к воинской, когда на авансцену выступает уже
герой-воин, герой-богатырь, но и шаман не хочет сдавать свои
позиции и создает пропагандистские сюжеты с прозрачной моралью:
«А все же без колдовских хитростей не обойтись».
Первоначальный смысл мотива «герой в оболочке животного»
уже непонятен ни нартовским рапсодам, ни Гомеру, ни Руставели.
Он либо переосмысливается в «военную хитрость» (Троянский конь),
либо остается необъясненным.
Переходная эпоха создает и героев переходного типа: полу-
колдун-полувоин. Таков Сослан (Сосруко) в нартовскйх сказаниях2,
Одиссей в поэмах Гомера. Что касается Тариела, то в нем ре-
шительно преобладают черты рыцаря феодальной поры. Но и тут
барсова шкура выдает его сопричастность к древним магическим
ритуалам.
В заключение отмечу, что фольклорные и литературные сюжеты,
пережиточно сохраняющие древний мотив о превосходстве шамана
над воином, имеют прямое отношение к трифункциональной теории
Ж. Дюмезиля. Соперничество между шаманом и воином - это со-
перничество между первой, религиозно-жреческой, и второй, воен-
ной, функцией. Мы знаем из истории, что первая функция никогда не
отказывалась от претензий на первенствующую роль, хотя времена
шаманов давным-давно миновали. Пример - теократия в совре-
менном Иране. Хомейни - прямой преемник шаманов.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Художники-иллюстраторы поэмы изображают Тариела с небрежно накинутой
барсовой шкурой, как если бы эта шкура была чем-то вроде украшения. Между тем
в поэме ясно говорится, что шкура служила ему одеждой:
Mas t'ansa k*aba emosa
gare-tma bepxis tqavisa.
«На теле его была одежда из барсовой шкуры шерстью наружу».
2 «У кабардинцев, - замечает Лопатинский, - Сосруко скорее волшебник, чем бо-
гатырь» [Лопатинский 1891, с. 19].
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Абаев 1963. -Abaev V. Le cheval de Troie. - Annales. 1963. № 6. Novembre-Decembre. P.,
c. 1041-1070.
Абаев 1966. - Абаев В.И. О фольклорной основе поэмы Шота Руставели «Витязь в
барсовой шкуре». - Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1966.
T. XXV, вып. 4, с. 295-312.
Анисимов 1958. - Анисимов А.Ф. Религия эвенков. М., 1958.
Диосэги 1952. -Диосэги В. К вопросу о борьбе шаманов в образе животных. - Acta
Шаман сильнее воина 19
orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. 1952. T. II, fasc. 2-3,
c. 303-316.
Ксенофонтов 1930. - Ксенофонтов Г.В. Легенды и рассказы о шаманах. М., 1930.
Лопатинский 1891. -Лопатинский Л.Г. Кабардинские предания, сказания и сказки. -
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. XII, отд. 2.
Тифлис, 1891.
Токарев 1964. - Токарев СЛ. Ранние формы религий. М., 1964.
Тройский 1935. - Тройский И.М. Предислг ие. - Илиада. М.-Л., 1935.
ЛА. АБРАМЯН
ЗМЕЙ У ИСТОЧНИКА
(к символике универсального
ритуально-мифологического образа)
В одной армянской волшебной сказке [Армянские сказки, № 41]
есть эпизод, где герой отправляется добыть для царя живую воду и
молодильные яблоки, которые находятся соответственно у корней и
на ветвях дерева, растущего на острове в месте соединения Черного
и Белого морей. Их стережет вишап, который сорок дней
бодрствует и сорок спит. Подойти к дереву и добыть воду и яблоки
можно, лишь когда вишап спит, причем следует пройти по его спи-
не - от хвоста к голове и обратно, иначе вишап проснется и убьет
смельчака. Герой так и поступает, а яблоки и воду оставляет себе:
царь притворялся больным и принял обычные яблоки и воду за
волшебные.
Цель настоящей статьи - попытаться выяснить, в чем секрет
этого способа добычи бессмертия1, какова здесь роль вишапа и
почему вообще вишап часто оказывается так'или иначе связанным с
источником. Чтобы ответить на эти вопросы, нам придется
обратиться к другим мифологическим змеям, живущим в источниках
других, далеких стран. Прежде всего отметим, что осуществить
требуемое в сказке условие - пройти к дереву по спине вишапа -
возможно, лишь если вишап пребывает в вытянутом (во
всяком случае не свернутом) положении, хотя об этом в сказке
прямо не говорится. Помня об этом, а также о том, что вишап
с п и т и что бессмертие добывается героем для себя, рассмотрим
несколько примеров.
Первый пример т известный маорийский миф о гибели Мауи,
полинезийского полубога. Желая добиться бессмертия, Мауи
проникает в лоно Хине-Нуи-Те-По, Великой-Богини-Ночи, хтони-
ческой прародительницы, когда та с п и т, чтобы выйти через ее
рот, но погибает, будучи раздавлен чудовищными чреслами, когда
© Л.А. Абрамян, 1994
Змей у источника 21
та просыпается [Луомала 1976, с. 125-127; Пуаньян 1967, с. 61-62].
По другой версии, Мауи пытается проникнуть в тело Хине через ее
разинутую пасть2. Хине связана с подземным миром, она еще в
начале времен укрылась там, узнав, что ее муж, бог Тане, на самом
деле ее отец и создатель [Луомала 1976, с. 125]; она пребывает там,
где сходятся земля и небо, однако в ее описании имеются и "водные"
детали - ее волосы словно спутанные морские водоросли, пасть
подобна пасти барракуды, что неудивительно для островной
культуры, создавшей этот хтонический образ. Хотя Мауи здесь
собирался обеспечить бессмертие всем людям, даже всему живому,
убив богиню смерти, этот мотив звучит как следствие, побочный
результат его подвига, бессмертие же он добывал прежде всего для
себя. Об этом косвенно говорит версия с Туамоту, по которой
Мауи хотел обрести бессмертие, обменявшись внутренностями
с морским слизнем [Пуаньян 1967, с. 62], - нечто сугубо личное
в отличие от маорийской версии.
Мауи пытался совершить свой подвиг, фактически подчиняясь
инициационной символике мистического перерождения. Во многих
традициях посвящаемый умирает, проглоченный морским чудовищем
(китом, крокодилом, акулой, водяным змеем или напоминающим их
фантастическим существом), см., например, [Элиаде 1976, с. 227-
231]), чтобы возродиться в ином, высшем статусе, причем нередко
проступает родильная символика перерождения3. Такое заглаты-
вание обычно объясняют как regressus ad uterum (см., например,
[Элиаде 1965, с. 51 и сл.]). Пребывание в "материнской утробе"
символизируется тем, что посвящаемые голы (Мауи тоже
раздевается, прежде чем войти в тело Великой Прародительницы),
не могут (еще не умеют) говорить, не имеют имени, иногда они
превращаются в детей или даже возвращаются в состояние
зародыша (как в ведийском инициационном ритуале дикша). В этом
контексте становится понятной роль лона Хине в первой версии
мифа. Однако Мауи добивается для себя и для всех людей не просто
перерождения, а бессмертия, потому он и собирается идти обратным
ходом; он входит туда, откуда вышел весь род человеческий, - в
лоно Великой Прародительницы. Поменяв местами начало и конец4,
он поборол бы Первоначало, стал бы причастным к тому, что лежит
вне начала и конца, стал бы бессмертным. Но это уникальный (и
неосуществленный) путь одного лишь Мауи. В остальном он подобен
иницианту, прокладывающему во чреве чудовища свой путь
к перерождению. И в этом его близость к герою армянской сказки.
Они оба добиваются бессмертия, активно вторгаясь в тело
чудовища. Но Мауи должен был совершить свой поход за
бессмертием внутри тела чудовища, тогда как армянский герой
проделывает его, находясь снаружи. В обоих случаях к тому же
22 JIA. Абрамян
присутствует тема победы над чудовищем: сумей Мауи выйти
невредимым из тела Хине, он получил бы бессмертие, а она умерла
бы; в армянской же сказке победа над вишапом видна из того, что
после кражи охранявшихся чудесных предметов вишап исчезает, как
объясняет сказка, за дальнейшей ненадобностью.
Теперь другой пример, где во чрево чудовища попадают уже не
по своей воле, но с конечным результатом - перерождением,
которое может быть соотнесено с темой бессмертия. Это арне-
млендский миф о двух великих сестрах, чьи деяния (вплоть до
отдельных жестов и фраз) повторяют теперь аборигены этих краев
во время своих священных церемоний. Напомним вкратце этот миф5,
так как некоторые его моменты понадобятся нам для других
сопоставлений.
Сестры Вавилак (Вавалаг, Ваувалак) странствуют по свету,
давая имена растениям и животным, совершая первые культурные
деяния. По одной версии, старшая сестра еще в своей стране родила
ребенка от инцестуозной связи, а младшая была беременна и родила
в пути. По другой - лишь старшая была беременна и родила
незадолго до кульминационного момента мифа, младшая же была
вирлкул - не имеющая ребенка. В любом случае главные события
мифа начинаются у священного водоема Миррирмина (Мурувул) и
связаны с вагинальной кровью сестер: в водоем
попадает либо послеродовая, либо менструальная кровь старшей
сестры, когда она наклонилась напиться или когда кровь была
занесена в источник дождевым потоком. Запах крови привлек
гигантского питона Юрлунггура (Юллунггула), жившего в водоеме.
Он поднимает голову из воды, принюхиваясь. По другой
версии, у младшей сестры из-за танцев начинается менструация, и,
когда сестры сидели в шалаше, истекая кровью - одна
послеродовой, другая менструальной, Питон и почуял запах их
крови. Толкование последующих событий как наказания сестер за
осквернение священного источника [Уорнер, 1937, с. 250-259], по-
видимому, вызвано позднейшими соображениями, связанными с
современными запретами для женщин в области ритуальных
инсигний мужского мира. Но как раз миф о сестрах Вавилак, как
справедливо считал А.М. Золотарев, наиболее архаичен, это
предтеча мифа о братьях-близнецах, устроителях мира и общества
[Золотарев 1964, с. 94]. То есть "гнев” Юрлунггура вызван именно
вагинальной кровью сестер, которая, кстати, как замечает
Р. Берндт, обычно считается мареиин - священной и в принципе не
могла осквернить водоем. Он же верно угадывает, что женская
кровь не отталкивает, а, наоборот, привлекает Питона [Берндт
1951, с. 22]. Действительно, когда Питон, почуяв кровь старшей
сестры, приближается к сестрам, младшая танцует, манипулируя
Змей у источника 23
веревочной "колыбелью для кошки" и выкрикивая кей'ва - уходи!
Это останавливает на время Юрлунггура, но, когда уставшую
сестру сменяет старшая, она оставляет за собой капли крови, и он
снова начинает к ним подбираться. Танец младшей сестры вновь его
останавливает, когда же у нее от интенсивных покачиваний из
стороны в сторону начинается менструация, Питона уже ничто не
может удержать и он заглатывает сестер и младенца. В варианте,
где заклинательный танец сестер направлен на прекращение дождя,
вызванного Питоном, старшая наделена большой ритуальной си-
лой - при ее танце дождь почти полностью прекращался, а при
танце младшей он лишь ослабевал ненамного. Тема обилия воды
(сильный дождь, потоп) - другой важный момент разбираемого мифа.
Дождь вызывает Юрлунггур, который, кстати, имеет много
параллелей со Змеей-Радугой из мифов Западного Арнемленда
[Берндт 1981, с. 186], непосредственно связанной с дождем. Таким
образом, Питон вызывает дождь, когда чует запах ваги-
нальной крови сестер.
Еще один важный момент в этом мифе - тема с н а. В версии
Уорнера Питон подполз к шалашу и погрузил женщин в глубокий
сон, прежде чем их проглотить. В версии Берндта сестрам удалось
песнями Кунапипи заставить грозу утихнуть, они устали и заснули.
Питон проглатывает их спящими, и они продолжают спать у него в
желудке. Пребывание Юрлунггура на дне водоема, пока его не
возбудила кровь сестер, тоже в некотором смысле аналогично сну.
Следующий момент - вытягивание Юрлунггура. В версии
Уорнера дождь вызвал потоп и весь мир покрылся водой, один лишь
Питон, проглотивший сестер, вытянувшись вверх,
возвышался над водой как голый ствол дерева. В версии Берндта
также Можно проследить этот мотив: прежде чем проглотить
спящих сестер, Питон поднялся и снова опустился. Когда его
кусает муравей, он подскакивает (неявное выпрямление?), у
него начинается рвота и он изрыгает проглоченных. Во всех версиях
сестры и их дети в итоге оживают - в этом, собственно, главный
смысл инициационных мистерий, воспроизводящих эпизоды мифа.
Это последний интересующий нас здесь момент - тема воз-
рождения. Итак, перечислим выделенные семантические узлы:
1) водоем с живущим в глубине Питоном; 2) вагинальная кровь,
привлекающая Питона (будящая его); 3) выпрямление Питона (как
до, так и после заглатывания); 4) сон (как до, так и после
заглатывания); 5) заглатывание ("смерть" инициируемых); 6) низвер-
жение небесных вод; 7) возрождение (мистическое перерождение).
Образ Питона справедливо связывается с фаллической симво-
ликой [Берндт 1981, с. 186]: хе перечисленные пункты могут
служить подтверждением такой символической связи. Красноречив
24 Л.А. Абрамян
в этом плане и эпизод перед заглатыванием сестер: Питон поднялся
и снова опустился, а затем просунул голову в шалаш, где спали
истекавшие вагинальной кровью сестры, и обвился вокруг шалаша.
Фаллическая, вернее, коитальная6 символика наиболее явственна
именно в австралийском мифе, потому мы и останавливаемся здесь
на этом моменте особо. К коитальной символике можно отнести и
мотив повтора: Питон после извержения сестер снова их заглаты-
вает; ср. также поэтапное продвижение Питона к женщинам, заво-
раживающим его танцами. Последний эпизод, кстати, важен и темой
остановки,застывания Питона.
Вернемся к армянской сказке, чтобы перечислить ее семанти-
ческие узлы, ставя их в соответствие с пунктами, выделенными для
австралийского мифа: 1) вишап в середине моря под деревом;
2) тема крови отсутствует; 3) вытянутость вишапа; 4) его сон;
5) "смерть" вишапа; б) добывание героем живой воды; 7) омоло-
жение (достижение бессмертия).
В другом широко распространенном сказочном сюжете, варианты
которого можно встретить, например, у армян [Гуллакян 1983, с. 86]
и у родственных и ареально близких им народов7, вишап требует
девушек в виде платы за то, чтобы выдать людям немного воды из
источника, который он перекрыл. Герой вступает с ним в бой,
заснув перед поединком на коленях девушки, убивает
вишапа, при этом освобождаются воды. Нередко тут фигурирует
кровь убитого вишапа: например, спасенная девушка метит героя
своей пятерней, обмакнутой в кровь убитого вишапа8. Здесь
намечается набор: 1) вишап у источника или в источнике; 2) кровь
убитого вишапа (девушки); 3) отсутствует; 4) сон героя перед
поединком (он часто спит и после поединка); 5) убийство вишапа;
6) освобождение вод; 7) отсутствует.
Тема возрождения или приобретения бессмертия героем (пункт 7)
в последнем сюжете все же имеется, хотя она прямо и не привязана
к рассмотренному эпизоду. Убийство вишапа здесь, как правило, -
необходимое условие, чтобы узнать способ, которым можно выйти
на белый свет: герой совершает свой подвиг в нижнем мире, куда
он попал, ища выход из ямы, где его оставили старшие братья (ср.
сказочный тип 301 по Аарне - Томпсону). Таким образом, весь
сюжет, в который входит рассматриваемый эпизод, имеет прямое
отношение к инициационным мистериям с символикой временной
смерти и возрождения9, и в известном смысле пункт 7 здесь тоже не
пуст.
Наиболее странным в приведенном списке может показаться
пункт 2. Действительно, какое отношение может иметь кровь
побежденного вишапа к вагинальной крови, привлекшей в ав-
стралийском примере Питона? Но, во-первых, вспомним, что Змей,
Змей у источника 25
перекрывший источник, требует, как правило, непорочных дев -
можно думать, не обязательно для того, чтобы съесть их. Например,
в одной русской сказке [Афанасьев, № 148] Змей, съедавший по
девушке с каждого двора, не стал есть царскую дочь, а сделал ее
своей женой; правда, здесь он не перекрывает источника. В целом
ряде сюжетов Змей также крадет девушек себе в жены - нередко и
в рассматриваемом сюжете добытые героем невесты для братьев и
для него самого являются царевнами, похищенными хтоническим
существом. Об истинном отношении перекрывшего воду чудовища к
требуемым им девушкам может свидетельствовать один из
осетинских вариантов Нартского эпоса, где мифологическая гидра,
обычно позволявшая пользоваться водой лишь при выдаче ей на
съедение людей, разрешает Сатйне зачерпнуть воды для обмывания
огненного новорожденного Батраза лишь после того, как Сатйна
согласилась вступить с гидрой (принявшей облик дряхлого старца) в
половую связь [Шанаев 1876, с. 89] - ср. вообще символическую
близость еды и соития10.
Во-вторых, к теме вагинальной крови уже непосредственное
отношение имеет обычное требование девственности невесты - ср.
невесту как чужую, вредоносную, которую нужно ’’убить” (ср. песни,
которые поет молодая после первой брачной ночи, в которых
присутствует тема пережитой смерти и пролитой крови, или
кровавый знак, демонстрируемый наутро). Этот "анализ крови”
наводит на мысль, что женский образ в змееборческих сюжетах
пересекается с образом самого Змея11. Этот парадоксальный,
казалось бы, вывод на самом деле находит целый ряд достаточно
убедительных подтверждений. Приведем некоторые из них.
В русской сказке [Афанасьев, № 172-178], где, как в
приведенной армянской, требуется добыть живую воду и/или
молодильные яблоки, эти чудесные предметы стережет Царь-
девица, которая, подобно нашему вишапу, периодически засыпает
богатырским сном - в одном варианте [Афанасьев, № 177,
примеч.] даже ее имя, Сонька-богатырка, указывает на это
качество. Герой крадет яблоки и воду и, воспользовавшись сном
девицы, овладевает ею. Хотя сказка обычно апеллирует к мо-
лодецкой удали - ’’молодецкое сердце не выдержало - смял он
девичью красу" [Афанасьев, № 173], все же думается, что перед
нами более глубокое явление - символическая замена убийства Змея
соитием с девушкой (нередко тоже хтонической природы) с неявной
темой крови в обоих вариантах. Показателен в этом плане вариант
[Афанасьев, № 172, примеч.], по которому вокруг сада с искомыми
волшебными предметами обвился Змей, у которого "голова и хвост в
одном месте сошлись". Герой усыпляет его на трое суток,
ударив по голове богатырским ударом. (В отличие от армянской
16 ЛА. Абрамян
сказки, змей здесь не вытянут.) Есть вариант [Афанасьев, № 173],
Где два сюжета соединены: герой сперва усыпляет волшебным
зельем великана-стража, "дикого человека", и отрубает ему голову
(^убийство вишапа), а затем овладевает Царь-девицей, которая
спит. Что возлюбленная героя имеет черты, соотносимые с
чертами вредителя (она нередко к тому же приходится ему
дочерью), хорошо показывает сказка [Афанасьев, № 232], где
любовь Царь-девицы спрятана таким же образом (в укрытиях,
последовательно заключенных одно в другом), что й смерть
Кощея. Змеиная сущность подруги героя хорошо видна в образе
Марьи - белой лебеди из русских былин, которая превращается в
змею, угрожающую жизни Потыка; это особенно характерно для
беломорской традиции. В.Я. Пропп справедливо считает эту версию,
завершающуюся убийством жены-змеи, наиболее архаичной [Пропп
1958, с. 121]. Показателен и другой вариант, количественно
преобладающий, по которому змея появляется в могиле (где,
согласно уговору, помещен Потык с умершей женой) и стремится
пожрать мертвую Марью или обоих супругов. Потык в этой версии
оживляет жену, заставив змею принести живой вод ы12, либо убив
змею и ее головой или кровью обмазав Марью [Пропп 1958,
с. 121] - ср. убийство вишапа, угрожающего девушке в нижнем
царстве (= царстве смерти), куда попал герой. Интересна и былина
о Добрыне и Маринке, где герой, не будучи Змееборцем, тем не
менее убивает Змея (Тугарина Змеевича), "мила друга" Маринки, -
правда, вроде бы совершенно случайно. Как замечает В.Я. Пропп,
Змей-друг здесь нужен, чтобы подчеркнуть змеиную природу самой
Маринки, главный же враг здесь - она сама [Пропп 1958, с. 273].
Маринка предлагает себя Добрыне в жены, что в итоге приводит к
ее гибели (ср. смерть - соитие в рассматриваемом контексте); сам
способ казни как бы направлен на то, чтобы возвратить Маринке ее
первоначальный змеиный облик13: прежде чем отрубить ей голову,
Добрыня отсекает руки, ноги, грудь, причем оказывается, что у нее
"во всяком суставе по змеенышу"14. "Змеиность" подруги героя
вообще нередко представляет собой один из аспектов (змеиный код)
парного мифа о близнецах, именно второй его вариант, связанный с
инцестом-гибелью15.
Пункт 5 - убийство вишапа - в разбираемом и в других
рассмотренных случаях отличается от австралийского тем, что герой
играет здесь активную роль. Этот момент требует специального
разъяснения. В последнем списке пункты 1,5 и 6 составляют один из
вариантов схемы основного индоевропейского мифа [Иванов,
Топоров 1974]: воды, сокрытые Змеем - противником Громовержца,
освобождаются после его убийства16. Обстоятельства "убийства”
вишапа и добывания живой воды в армянской сказке, с которой мы
Змей у источника 27
начали свой анализ, вроде бы совсем другого рода. В самом деле,
эти две сказочные ситуации вряд ли можно было бы сравнивать,
если бы герой, путешествующий по спине спящего вишапа, не
привел нас к полинезийскому Мауи, они оба - к австралийскому
Питону, а тот, через вызванный им потоп, "освобождение" небесных
вод, не приблизился бы к Змею, освобождающему воды после своей
смерти. Таким образом, хотя две сравниваемые армянские сказки
значительно разнятся одна от другой, тем не менее некие скрытые в
них качества позволяют проводить сопоставление. Не исключено,
что этому способствует древний прототип, уже невидимый в
последней сказке; один из намеков на правомерность проводимого
сравнения - возможное происхождение основного мифа из мифа о
первых близнецах [Абрамян, Демирханян 1985, с. 73-74], с одной
стороны, и "близнечность" сестер Вавилак, с другой стороны; ср.
также инициационную канву, прослеживаемую во всех сравни*
ваемых примерах. Вообще не исключено, что многие змееборческие
сюжеты имеют в своей основе инициационную тематику с инверсией
отношения инициант - змееобразный патрон инициации. Во всяком
случае, эта инверсия уже определенно намечена в первой армянской
сказке, где сделан первый шаг в этом направлении: инвертировано
отношение внутренний-внешний, что является очевидным условием
дальнейшего "внешнего" поединка на равных17.
Такая инверсия особенно наглядна в некоторых сценах Крещения
армянских миниатюр, где под ногами Христа в глубине вод Иордана
изображен поверженный вишап. Подобные изображения считаются
иллюстрацией к словам "Ты сокрушил головы змиев в воде" (псалом
73, 13), связываемым с Крещением18, что подтверждает сопровожда-
ющая одну из таких сцен надпись "Иисус Христос попирает голову
вишапа" на Васпураканской миниатюре XIV в.19. Крещение как
нисхождение Христа в воды смерти для очищения их от скверны
(победа над змеями) и освящения является, по-видимому, христиан-
ским осмыслением универсальной символики нисхождения в царство
смерти для последующего возрождения, и, следовательно, в этих
сценах Крещения совершен сюжетный переход "мистическое
убийство иницианта водным змеем" —> "убийство змея инициантом в
водах смерти"20.
Пункт 3 - вытянутость вишапа из первой армянской сказки,
интересен еще потому, что его можно сопоставить с каменными
рыбообразными изваяниями древней Армении (II—I тыс. до н.э.) -
вишапами, устанавливавшимися вертикально у
водоемов, истоков рек и каналов (ср. тему воды пункта 6).
Высказано предположение, что эти памятники имеют непосредст-
венное отношение к основному индоевропейскому мифу [Петросян
1984, с. 31-32]. Разобранный австралийский пример позволяет
28 ЛА. Абрамян
понять, почему у каменных вишапов фаллообразный вид - ср. также
тему вытянутости Змея. В другом месте [Абрамян - в печати] мы
предположили, что каменные вишапы - отражение, возможно, еще
более древнего мифа - уже упоминавшегося мифа о первых
близнецах. Эти архаичные варианты мирового дерева (ряд признаков
которого вишапы несут в себе21 наряду с вертикальностью) как бы
"выросли" на месте мифологического поединка - ср. вертикальность,
вытянутость змей, в форме которых традиционно изготовляются
патриаршие посохи - символ высшей духовной власти, и не
случайно, что они нередко делаются и в виде тянущегося вверх
растения; вспомним также Питона, поднявшегося как ствол сухого
дерева над водами потопа, - не столь уж вольное сравнение, если
учитывать медиационную роль Змея-Радуги, с которым связан образ
Питона.
Может возникнуть вопрос, почему нет темы вытянутости (пустой
пункт 3) в случае с вишапом, перекрывавшим источник, тогда как
"мифология" каменных "вытянутых" вишапов близка именно к этому
случаю. Может быть, дело здесь в том, что этот эпизод, как уже
говорилось, вклинен в общий сюжет, также истолковываемый в
свете мифа о первых близнецах, и здесь мотив прорастания дерева
появляется немного позже, в следующем эпизоде, где героя выносит
на белый свет благодарная птица [Абрамян, Демирханян, 1985,
с. 72]. В схеме основного мифа вообще нередко образ дерева
вплетен в сюжет змееборства - например, Змей поражаем на дереве
[Иванов, Топоров 1974, с. 86] или он сам несет в себе атрибуты
мирового дерева (ср. образ пернатого змея на дереве, в котором
соединились птица и змея, отмечающие верх и низ мирового
дерева22).
В свете сказанного о женских качествах вишапа правомерен
вопрос, какой у него пол, когда он выступает не в виде явных
женских персонажей типа Маринки или Царь-девицы. Мужской пол
вишапа очевиден в сказках с темой запирания вод и забирания
девушек, в русских вариантах Змей уже в своем имени носит
мужской показатель (в армянском грамматическая категория рода
отсутствует). Пол змееобразного чудовища слабее обозначен в
австралийском примере. Хотя Питон в Северном Арнемленде,
откуда происходит приведенный миф, олицетворяет мужское
начало23, в нем, как и во всяком заглатывающем чудовище, есть и
женские черты: проглотив сестер, Юрлунггур тем самым забере-
менел ими [Элиаде 1973, с. 103]. Вспомним Великую Прароди-
тельницу, в лоно которой собирался проникнуть Мауи. Связи
заглатывания с женской природой заглатывающего обязан, видимо,
и образ знахарки из осетинской сказки, которая глотала увечных
(слепого, безногого и безрукого) и изрыгала их исцеленными
Змей у источника 29
[Осетинские сказки, № 37]. К вопросу пола Юрлунггура специально
обращается М. Элиаде, заметивший неопределенность мифа в
этом - наличие в вариантах двух змей, самца и самки, связь Питона
и с женской природой24, - что, по его мнению, указывает на былую
двуполость Питона как одно из выражений coincidentia oppositorum
[Элиаде 1973, с. 102-103]. Змея-Радуга из мифов Западного
Арнемленда также обладает, по-видимому, этим андрогинизмом:
хотя в отличие от Юрлунггура она обычно олицетворяет женское
начало [Берндт 1981, с. 186], тем не менее иногда это Змей-Радуга -
мужчина [Берндт 1981, с. 183]. Еще ярче совмещение противо-
положностей проявляется в мифах племени маунг о-вов Гоулберн;
здесь один из самых священных обрядовых предметов, у бар,
символизирует как матку Матери-прародительницы, так и пенис
Змея-Радуги [Берндт 1981, с. 184]. Австралийский пример может
помочь также прояснению образа андрогина, нередко фигури-
рующего в мифе о близнецах - в его "спаренных" (андрогинных)
вариантах. Австралийские андрогинные змеи указывают, например,
на наличие даже анатомо-физиологического кода мифологемы.
Стоит подробнее рассмотреть и пункт 4 - тему сна, так как в
каждом нашем случае сон имеет различную природу. В
одних случаях это богатырский сон, необходимый для восста-
новления сил, - так спят Царь-девица, Мсрамелик из армянского
эпоса "Сасна црер" (кстати, одно из знамений его гибели как раз в
том, что ему не дали выспаться положенное количество дней),
отчасти герой сказок перед поединком или после утомительного
поединка25; иногда герой и его противник бьются в несколько
этапов, отсыпаясь перед каждым боем (например, [Афанасьев,
№ 233]. В других случаях сон - аналог смерти. Так спят, например,
сестры Вавилак. В примерах со спящими чудовищами герой
использует их пассивность26 для одержания победы над ними27,
аналогичным образом он овладевает спящей Царь-девицей.
Наконец, есть сон - пассивное состояние, из которого что-то
выводит спящего, пробуждает его: так, Юрлунггур поднимает
голову из водоема, возбужденный запахом вагинальной крови (с
явными фаллическими реминисценциями), или так заснувший перед
поединком герой пробуждается от обжегшей его слезы отчаявшейся
девушки-жертвы28.
Тема сна и пробуждения подводит нас к последнему примеру -
таинственной змее Кундалини, которая замечательна тем, что,
происходя из того же мифологического источника, что и остальные
змеи-вишапы, она живет не в мифе (сказке) или ритуале (как в
арнемлендской инициации), а по сей день обитает в индийской
мистической анатомии человека. Кундалини спит, свернувшись, в
Мулачакре - самой нижней чакре, расположенной в нижней части
30 ЛА. Абрамян
позвоночника. Цель йогина - разбудить ее и поднять (т.е.
в ы т я н у т ь) по специальному каналу вдоль позвоночника к самой
верхней чакре - Сахасраре, тысячелепестковому лотосу, чтобы
достичь самадхи - особого психофизиологического состояния,
дарующего освобождение от причинно-следственных кругов жизней
и смертей; ср. воду бессмертия, которую герой армянской
сказки добывает для себя, пройдя по спине вытянув-
шегося змея-вишапа. Змея Кундалини замечательна еще тем,
что это олицетворение шакти - активной психической энергии
женской природы. Подъем Кундалини вдоль позвоночника описы-
вается как стремление шакти к своему Господину, единение с
которым и есть самадхи. В традициях тантристского толка этот
мистический процесс, для высших ступеней описываемый на языке
сексуальной символики, на низших ступенях заменяется реальным
ритуальным соитием адепта со своей партнершей-шакти. Вспомним,
что герой волшебной сказки добывает волшебные предметы,
дарующие бессмертие, также и после соития с Царь-девицей.
Здесь, правда, по сравнению с индийским примером инвертированы
отношения активный-пассивный, пробуждение-сон29: вишап спит
уже вытянутым, тогда как Кундалини пробуждается ото сна, чтобы
вытянуться вверх, также и Царь-девица спит, доступная для соития
героя с ней, тогда как шакти сама, пробудившись, устремляется к
блаженному слиянию. Следует отметить, что продвижение героя по
вытянутому спящему вишапу (если отвлечься от инициационной
символики, породившей этот образ) в известном смысле изоморфно
вытягиванию вишапа по его пробуждении - ср. релятивизм
движущейся и покоящейся систем координат30.
Рассмотренные примеры проливают свет на то, как трансформи-
руется образ Змея: сперва он убивает, чтобы возродить (отсюда
женские черты "беременного" Питона и вообще "родильная" симво-
лика инициаций), затем, через образ вытянувшегося вишапа, по спи-
не которого движется герой, чтобы чудесно переродиться, превра-
щается в Змея, которого убивают, чтобы он вытянулся по смерти в
каменный вишап - мировое дерево, что возвращает нас, с одной сто-
роны, к вытянувшемуся в напряжении Питону, готовому проглотить
сестер, раздразнивши^ его своей кровью, а с другой стороны - к то-
му же Питону, но уже проглотившему сестер, в одиночестве возвы-
шающемуся над водами потопа, - далекий предшественник мирового
дерева со всей его сложной символикой, пока как бы пребывающий,
подобно сестрам, в состоянии сна, но готовый к скорому пробужде-
нию. Поучительно также проследить, как меняется соотношение
человек-Змей в приведенных примерах, которые все направлены на
мистическое перерождение: сперва человек внутри Змея, потом он
снаружи, и, наконец, Змей сам помещается внутрь человека.
Змей у источника 31
ПРИМЕЧАНИЯ
!В армянском языке мотив бессмертия заключен уже в самом названии чудесных
яблок и воды -anmahakan.
2См. [Сказки и легенды маори, с. 56; Ширрен 1856, с. 34]. Этот миф (по
Фробениусу) использовал, в частности, В.Я. Пропп в своей знаменитой статье
"Ритуальный смех в фольклоре" [Пропп 1976, с. 185]: прародительница просыпается
от преждевременного смеха одного из спутников Мауи - маленькой трясогузки.
3Например, в Сьерра-Леоне и Либерии чудовище Наму глотает будущих членов
тайного общества Поро, четыре года беременно ими и рожает их на женский манер
(по [Элиаде 1976, с. 224]).
4Ср. с передвижением шамана по перевернутому древу - к истокам, Началу.
Герой армянской сказки тоже начинает и кончает свое опасное путешествие через
хвост вишапа.
^Известно несколько версий мифа, дошедших до нас благодаря У. Уорнеру и
Р. Берндту [Уорнер 1937, с. 250-259; Берндт 1951, с. 20-27; см. также: Берндт 1981,
с. 185-186].
6По аборигенному толкованию, Питон, вползающий в шалаш, подобен "пенису,
входящему в вагину" [Берндт 1951, с. 25].
7Например, у восточных славян [Сравнительный указатель, № 300]], осетин
[Осетинские сказки, № 45, 56], народов Памира [Сказки народов Памира, № 10],
абхазов [Абхазские сказки, № 78 - слон в роли дракона], абазин [Абазинские сказки,
№ 27], ассирийцев [Истребитель колючек, с. 110—120] и др.
8См. [Гуллакян 1983, с. 178]. Иногда герой пачкается кровью во время поединка,
так что ему приходится сменить одежду [Сказки народов Памира, № 10] - ср.
очищение Аполлона от драконьей крови, что Вячеслав Иванов считал профаническим
выражением таинства приобщения Аполлона к подземной сфере [Иванов 1923, с. 18].
9Об образе третьего брата рассматриваемого сюжета как реализации идеи вечной
смены в цикле жизнь - смерть - жизнь см. [Топоров 1979, с. 18-20].
10См., например, [Фрейденберг 1936, с. 80-82]. Ср.: «Таков путь и жены
прелюбодейной; поела и обтерла рот свой, и говорит: "Я ничего худого не сделала"»
(Книга притчей Соломоновых, 30. 20); австралийский пример подобного
отождествления приводит Г. Рохейм [Рохейм 1974, с. 245]. Ср. также [Афанасьев
№ 241; Русские заветные сказки, № 14].
11К связи девичьей крови (особенно менструальной - как в астралнйском примере)
со Змеем ср. недавно высказанную К. Найтом мысль о страхе мужчин перед
синхронным менструированием женщин, который породил, по его мнению, образ
самого дракона [Найт 1983, с. 21-50].
Женский персонаж, обычная мотивация поединка, нередко тяготеет не к Змею,
как здесь, а к Змееборцу - вплоть до полного его вытеснения [Иванов, Топоров 1977,
с. 112-113]. Если прослеживаемые авторами трансформации женского персонажа
относятся к дальнейшему развитию змееборческого сюжета (в частности, в
изображениях), то наша реконструкция относится к самому его началу.
12Связь темы воды с женой-змеей видна уже в том, что Марья - Лебедь, первая
встреча с ней происходит у реки, озера или моря [Пропп 1958, с. 114].
,3См. [Иванов, Топоров 1974, с. 171-172]. Маринка вообще выступает в былинах в
качестве трансформации змея (с. 171), ее имя указывает на связь с женским образом
основного мифа - по мнению авторов, на один из этапов дегенерации этого образа
(с. 179). Можно думать, однако, что здесь проглядывает и древнейший, женский
пласт образа Змея: ср. выше, примеч. 11.
14См. [Пропп 1958, с. 276]. Иван Годинович аналогичным образом расправляется с
Настасьей, иногда он не отрубает ей головы, оставив ее погибать в степи [Пропп
32 Л.А. Абрамян
1958, с. 134], т.е. не только "возвращает" Настасье змеиный облик, но н возвращает
ее в родную стихию.
15 Со гл ас но этому мифу, имеющему два варианта - с борьбой - убийством и
инцестом-гибелью, поверженный противник прорастает после смерти тем или иным
растением, в идеале - мировым деревом. Об этом см. подробнее [Абрамян,
Демирханян 1985, с. 66-84]. Змеиный код первого варианта, связанного с борьбой-
убийством, рассмотрен в работе: ЛА. Абрамян. Отражение мотива вншапоборства в
сценах Крещения армянских миниатюр (в печати). Змеиному коду мифа в целом автор
намерен посвятить специальную работу.
1 Трактовка этого мифологического сюжета как отражения метеорологических
событий (грозовая туча, молния, дождь н т.п.), типичная для представителей
мифологической школы, описывает частный срез основного мифа - его
метеорологический код (ср. связь Юрлунггура со Змеей-Радугой). Ср. астральный код
в древнеегипетской редакции: хтонический Змей Апоп выпивает воду Нила,
препятствуя продвижению солнечной ладьи. Его лишают могущества силой
заклинаний, разрубают на части, сжигают, и лишь тогда он возвращает выпитую
воду [Липинская, Марциняк 1983, с. 178-180].
17Герой нередко выполняет активную роль и внутри заглотавшего его чудовища,
убивая его изнутри, - ср., например, поединок Геракла с морским чудовищем в его
огнедышащем чреве (об инициационной символике этого эпизода см. [Абрамян 1982,
с. 33-37]; ср. также рассечение дракона мечом, проглоченным им вместе с героем
[Сказки народов Памира, № 10]; ср. [Халатянц 1898, с. 571] дракон глотает девушку
с мечом героя). Об африканских примерах см. [Сказки народов Африки, с. 645 -
примеч. Е.С. Котляр к № 114].
,8См. [Шиллер 1971, с. 136-137]; см. также [Подобедова 1978, с. 81].
19Рук. 6303 Матенадарана им. Маштоца (л. 66). Опубликовано [Закарян 1980,
ил. 31].
^Ср. переход "очищение иницианта во время ритуала крещения" - "очищение от
вод скверны". Иными словами, при обряде освящения вод на самом деле освящается
не вода, а крест (=Христос), опускаемый в воду.
Подробнее об этих сценах Крещения и их связи с мифом о первых близнецах см.
[Абрамян - в печати].
21 Ср. плодотворную мысль А. Мнацаканяна о древе жизни в связи с некоторыми
изображениями на вишапах [Мнацаканян 1952, с. 73-75].
связи с этим образом Соловья-Разбойника русских былин см. [Иванов, Топоров
1974, с. 166].
23 [Берндт 1981, с. 186; Уорнер 1937, с. 238-240 и др.]. К мужской (фаллической)
природе Змея, живущего в водоеме, ср. эскимосскую сказку, где в озере живет
мужской половой член - "любовник" героини [Сказки и мифы эскимосов, с. 550
(примеч. к № 231)].
24По Уорнеру [Уорнер 1937, с. 373], Юрлунггур - мужчина и женщина, но о нем
думают как о мужчине.
25 Иногда он н после поединка, как и до него, засыпает на коленях девушки -
например, [Афанасьев № 204].
26Кстати, пассивную вытянутость спящего вишапа в первой армянской сказке
можно соотнести также с расслабленным вытягиванием мертвой змеи.
27Ср. [Афанасьев № 139, 161]: герой убивает хтонического противника,
воспользовавшись его сном. Наоборот, богатыри не убивают друг друга во сне
[Афанасьев № 161], Елена Прекрасная [Афанасьев № 168] укоряет убийцу ее
спящего спасителя: "Сонный человек - что мертвый!"
28Нередко, наоборот, сон специально навевают, чтобы помешать герою
совершить задуманное (например, [Афанасьев № 232]).
Змей у источника 33
мСр. с приметами царицы, стерегущей волшебные предметы, в памирской сказке
[Сказки народов Памира, № 8], представляющими собой ряд инверсий: у нее глаза
открыты, когда она спит, и закрыты, когда бодрствует; жемчужины в головах и ногах
специально переставлены (ср. выше, примем. 4); наружные шаровары надеты внутрь,
а внутренние - наружу и т.п.
^Психологический эффект этого явления испытываешь, например, когда видишь
из окна вагона, как трогается стоящий напротив поезд: тебе кажется, что это
тронулся твой состав. Этот эффект, кстати, широко применяется в мультипликации
для передачи движения - перемещается не фигура, а фон.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Абазинские сказки. - Абазинские народные сказки. М., 1975.
Абрамян 1982. - Абрамян ЛА. Облысение героя и смерть Ахилла. - Семиотика и
проблемы коммуникации. Тезисы докладов. Ер., 1982.
Абрамян, в печати. - Абрамян ЛА. Отражение мотива вишапоборства в сценах
Крещения армянских миниатюр. - Материалы IV международного симпозиума по
армянскому искусству. Ер.
Абрамян, Демирханян 1985. - Абрамян ЛА., Демирханян АТ. Мифологема близнецов
и мировое дерево. - К выяснению значения одного класса наскальных изображений
древней Армении. - Историко-филологический журнал АН АрмССР. 1985, № 4,
с. 66-84.
Абхазские сказки. - Абхазские народные сказки. М., 1975.
Армянские сказки. - Армянские народные сказки (публикация Н.А. Акопян и
А.С. Саакяна). Ер., 1980 [на арм. яз.].
Афанасьев. - Народные русские сказки А.Н. Афанасьева Т. 1-3. М., 1984-1985.
Берндт 1951. -Berndt RM. Kunapipi. Meibom, 1951.
Берндт 1981. - Берндт РМ., Берндт К.Х. Мир первых австралийцев. М., 1981.
Гуллакян 1983 - Гуллакян С А. Указатель мотивов армянских волшебных сказок. Ер.,
1983.
Закарян 1980. - Закарян Л. Из истории Васпураканской миниатюры. Ер., 1980.
Золотарев 1964. - Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология. М.,
1964.
Иванов 1923. - Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. Баку, 1923.
Иванов, Топоров 1974. - Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области
славянских древностей. М., 1974.
Иванов, Топоров, 1977. - Иванов В.В., Топоров В.Н. Структурно-типологический
подход к семантической интерпретации изобразительного искусства в
диахроническом аспекте. - Труды по знаковым системам. Вып. VIII. Тарту, 1977.
Истребитель колючек. - Истребитель колючек. Сказки, легенды и притчи
современных ассирийцев. М., 1974.
Липинская, Марциняк 1983. - Липинская Я., Марциняк М. Мифология Древнего
Египта. М., 1983.
Луомала 1976.-Луомала К. Голос ветра. Полинезийские мифы и песни. М., 1976.
Мнацаканян 1952. - Мнацаканян А. О каменных "вишапах” и мифологии
вишапоборства. - Известия АН АрмССР. 1952, № 5 [на арм. яз.].
Найт 1983. - Knight С. L6vi-Strauss and the Dragon: "Mythologiques" reconsidered in the
light of an Australian aboriginal myth. - Man. Nos. Vol. 18, № 1, c. 21-50.
Осетинские сказки. - Осетинские народные сказки. М., 1973.
Петросян 1984. - Петросян А.Е. Реконструкция образов индоевропейского грозового
мифа в Армении. - Четвертая республиканская научная конференция молодых
языковедов (Тезисы докладов). Ер., 1984, с. 31-32 [на арм. яз.].
Подобедова 1978. - Подобедова О. К вопросу об источниках иконографии
'3 270
34 ЛА. Абрамян
средневековой книжной иллюстрации (по материалам некоторых армянских
рукописей). - Второй международный симпозиум по армянскому искусству.
Сборник докладов.?. 1. Ер., 1978.
Пропп 1958. - Пропп ВЛ. Русский героический эпос. М., 1958.
Пропп 1976. - Пропп ВЛ. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М.,
1976.
Пуаньян 1967. -Poignant R. Oceanic mythology. L., 1967.
Рохейм 1974. - R6heim G. Children of the desert. The western tribes of Central Australia.
Vol. I.N.Y., 1974.
Русские заветные сказки. - Русские заветные сказки. Женева, 1865.
Сказки и легенды маори. - Сказки и легенды маори. Из собрания А. Рида. М., 1981.
Сказки и мифы эскимосов. - Сказки и мифы эскимосов Сибири, Аляски, Канады и
Гренландии. М., 1985.
Сказки народов Африки. - Сказки народов Африки. М., 1976.
Сказки народов Памира. - Сказки народов Памира. М., 1976.
Сравнительный указатель. - Сравнительный указатель сюжетов. Восточно-
славянская сказка. Л., 1979.
Топоров 1979. - Топоров В.Н. К семантике троичности (слав.* trizna и др.). -
Этимология. 1977. М., 1979.
Уорнер 1937. - Warner WE. A black civilization. N.Y.- L., 1937.
Фрейденберг 1937. - Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета н жанра. Л., 1937.
Халатянц 1898. - Халатянц ГА. О некоторых любимейших мотивах армянских
сказок. - Братская помощь пострадавшим в Турции армянам. М., 1898.
Шиллер 1971. - Schiller G. Iconography of Christian art. Vol. 1. L., 1971.
Ширрен 1856. - Schirren G. Wandersagen der Neuseelander und der Mauimythos. Riga,
1856.
Шанаев 1876. - Шанаев Г. Из осетинских сказаний о нартах. I: Сказание о нарте
Хамыце, белом зайце и сыне Хамыца - Батразе. - Сборник сведений о кавказских
горцах. Вып. IX, отд. II. Тифлис, 1876.
Элиаде 1965. - Eliade М. Rites symbols of initiation. N.Y., 1965.
Элиаде 1973. - Eliade M. Australian religions: An introduction. Ithaca - London, 1973.
Элиаде 1976. - Eliade M. Myths, dreams and mysteries. London - Glasgow, 1976.
А.К. БАЙБУРИН
РИТУАЛ: СТАРОЕ И НОВОЕ
Сюжеты, затрагиваемые в данной статье, принято трактовать в
рамках противопоставлений жизнь/смерть; смерть/возрождение.
Представляется, что смещение внимания на категории старого и
нового позволит высветить более конкретный уровень воплощения
этой части универсальной парадигмы и объяснить некоторые факты,
до сих пор не вполне понятные.
В самом общем плане можно сказать, что категории старое/новое
реализуются прежде всего в тех мифах и ритуалах, в которых (и с
помощью которых) отмечается начало и конец того или иного цикла
(сезонного, природного, человеческой жизни, хозяйственного), смена
поколений (в первую очередь богов и людей), замена вещей из
предметного окружения человека и т.п.
Особую актуальность дихотомия старое/новое приобретает в
главном годовом празднике, когда старое соотносится с кануном, а
новое - с собственно праздником. В мифологическом плане этой
ситуации соответствует мифологема умирающего и воскресающего
бога. Основная идея кануна годового ритуала кратко сводится к
тому, что год (мир, бог) состарился (износился, обветшал, одряхлел).
В ритуале эта тенденция доводится до своего логического конца:
символ старого мира уничтожается, после чего жрецы приступают к
созданию нового мира. На уровне ритуальных реалий особенно
показателен в этом плане сербский Стари Бадньк - мифологический
персонаж и одновременно основной объект новогоднего ритуала
(пень, колода, бревно), уничтожаемый в ходе ритуала и дающий
жизнь новому, молодому богу (Млади Божий) [Топоров 1976, с. 3-15].
В восточнославянской, и в частности в русской, традиции внимание
привлекают несколько персонажей и атрибутов, воплощающих идею
старого, отживающего, но вместе с тем потенциально содержащих
зародыш нового, молодого. К их числу следует, вероятно, отнести
старика и старуху - непременных участников новогодне-
го ритуала. "Рядятся стариками со страшными горбами, коновалами,
© A.K. Байбурин, 1994
36 А.К. Байбурин
шерстобитами, Петрушкой, разными пугалами в виде стариков,
чертом - навязывая на голову кудели, чтобы быть хохлатым,
косматым, и вычернив рожу” [Завойко 1917, с. 25]. Обобщая
многочисленные описания святочных ряжений, В.Я. Пропп пишет:
"Наряжаются лицами, не принадлежащими к кругу деревенской мо-
лодежи. Это прежде всего старики и старухи, старики с огромными
бородами и мохнатые или горбатые; это, далее, различный пришлый
люд, непохожий на своих деревенских жителей, - цыгане,
шерстобиты, солдаты или Петрушка” [Пропп 1963, с. 111].
Вообще нужно сказать, что, несмотря на обилие работ, в которых
рассматривается обычай святочного ряжения, он все еще далек от
удовлетворительного объяснения. И сейчас ситуацию изучения
этого явления в достаточной мере характеризуют слова
О. Миллера: «Святочное переряживание - очевидно, не могущее
иметь никакого отношения к христианскому "рождеству”, - есть
остаток языческой игры - обряда: одни думают, что этим
указывалось на то превращенное состояние природы, в каком
находится она в суровое зимнее время; другие - имея в виду
переряживание собственно в животных - думают, что таким только
и было оно первоначально, что при этом старались уподобляться
собственно тем животным, в образе которых первоначально
представляли себе то или другое божество и что это служило как бы
обрядовым представлением праздничного посещения людей богами»
[Миллер 1865, с. 58]. Основная причина "разночтений” состоит,
видимо, в том, что каждый, кто исследовал это явление, сосредо-
точивался на какой-нибудь одной группе "масок”. Так, В.Я. Пропп
считал, что основными образцами ряженых являются животные, и
отсюда сделал вывод о связи переряживания с идеей плодородия
[Пропп 1963, с. 110-122]. Другие исследователи зимней славянской
обрядности, уделив основное внимание теме смерти, "покойницким”
играм* фигурам деда, нищего, старика и старухи, для которых столь
характерны признаки, указывающие на их отношение к миру
мертвь> (горбатость, мохнатость, молчаливость, чернение лица и
др.), приходят к выводу о том, что святочное ряженье и
"покойницкие” игры связаны с культом предков [Чичеров 1957,
с. 201-204; Kuret 1972, с. 94; Виноградова 1982, с. 152-153; Гусев
1974, с. 50-52]. Каждое из таких объяснений вполне справедливо по
отношению к конкретной группе персонажей, но не может быть
распространено на ряжение в целом.
Между тем, различные группы ряженых объединяет один общий
признак: все они в той или иной степени связаны со сферой чужого и
противопоставлены своему во всех актуальных для данного
коллектива планах: социальном (шерстобиты, коновалы, солдаты),
этническом (цыгане, арапы, турки), в плане принадлежности
Ритуал: старое и новое 37
нечеловеческому, звериному (бык, козел, медведь и др.),
колдовскому (черт, нечистики и др.), миру смерти (покойники, деды)
и вообще дальней стороне ("дорожные люди"). По известной
аналогии ряженые являют собой своего рода парад представителей
чужого мира. Если в других ритуалах актуализируется какой-то один
аспект противопоставления свой/чужой, например в свадьбе -
социальный аспект (противопоставление своего рода чужому), а в
похоронах - генеалогический аспект (живые/мертвые, пред-
ки/потомки), то в основном годовом ритуале, когда вопрос стоит о
том, кто на этот раз победит - свое или чужое, предстает синтез,
собрание и своего и чужого (о ряженье как способе представления
мира природы см. [Петрухин 1986, с. 5—20]).
С этой точки зрения старое/новое представляет собой временной
вариант противопоставления свое/чужое. Но эти оппозиции
несимметричны. Они не могут быть наложены друг на друга так,
чтобы старое соотносилось со своим, а новое - с чужим или
наоборот. Дело в том, что оппозиция старое/новое конкретизирует
состояние во времени своего, не затрагивая сферу чужого. Этому
есть и глубинное мифологическое обоснование: сфера чужого
находится вне времени; она существовала всегда, предшествовала
своему, человеческому миру (космос родился из хаоса) и будет
существовать после того, как одолеет космос (в случае
неправильного совершения ритуала или в соответствии со сценарием
космической драмы).
Итак, старое/новое характеризует рубежное состояние своего
мира, воплощением которого являются такие пары, как Бадняк -
Божич. Среди всех персонажей святочного ряжения лишь старики и
старухи символизируют не только предков, мертвых, чужих, но и
свой, одряхлевший мир. Остальные персонажи представляют сферу
чужого. Но символика старого/нового проявляется и на других
уровнях новогоднего ритуала. Особенно показательна в этом смысле
одна из наиболее распространенных святочных игр "в кузнеца". «В
избу, нанятую для бесед, вваливается толпа парней с вымазанными
сажей лицами и с подвешенными седыми бородами. Впереди всех
выступает главный герой - кузнец. Из одежды на нем только
портки, а верхняя голая часть туловища разукрашена симметрично
расположенными кружками, изображающими собой пуговицы. В
руках у кузнеца большой деревянный молот. За кузнецом вносят
высокую скамейку, покрытую широким, спускающимся до земли
пологом, под которым спрятано человек пять-шесть ребятишек.
Кузнец расхаживает по избе, хвастает, что может сделать
все что угодно: замки, ножи, топоры, ухваты и, сверх того,
умеет "старых на молодых переделы ват ь". - "Не
хочешь ли я тебя на молодую переделаю?" - обращается он к какой-
38 А.К. Байбурин
нибудь девице не первой молодости. Та, разумеется, конфузится и не
соглашается. Тогда кузнец приказывает одному из ряженых
стариков: "Ну-ка, ты, старый черт, полезай на наковальню, я
тебя п е р е к у ю". - Старик прячется под пологом, а кузнец бьет
молотком по скамейке, и из-под полога выскакивает подросток.
Интерес игры состоит в том, чтобы при каждом ударе у кузнеца
сваливались портки и он оставался совершенно обнаженным. Когда
всех стариков перекуют на молодых, кузнец обращается к
девушкам, спрашивая у каждой. "Тебе, красавица, что сковать?
Тебе, умница, что сковать?" И каждая девица должна что-нибудь
заказать, а затем, выкупая приготовленный заказ, поцеловать
кузнеца, который старается при этом, как можно больше, вымазать
ее физиономию сажей» [Максимов 1903, с. 299-330]. Эта игра,
вообще очень насыщенная мифологической семантикой (ср. роль
кузнеца в представлениях о творении мира, выковывании свадьбы,
его специфический статус в обществе и т.п.), передает основную
тему годового ритуала - преобразование старого в новое, молодое.
Выраженный эротизм этой игры, как и большинства других
святочных игр, в том числе "покойницких *, лишь подчеркивает идею
перехода от старости, смерти к рождению и обновлению.
Показательно, что мотив перековывания и выковывания новых
предметов реализуется в колядках и щедровках на Украине, в
Польше, Белоруссии. Девушка собирает с дерева "золотую ряску"
(кору, росу и подобное), которую она относит к мастеру с просьбой
выковать из нее (перековать на) пояс, перстень, венок к свадьбе
(этот мотив подробно рассмотрен [Виноградова 1982, с. 46-52]).
Рядятся, как правило, в старую, изношенную одежду.
Ритуальный характер этого признака подчеркивается в ряжении на
масленицу, которая в русской традиции во многом дублирует
новогодний комплекс. В описаниях чучела Масленицы неоднократно
отмечается обычай одевать Масленицу во все старое, негодное,
обветшалое. П.А. Городцов, которому принадлежит отмеченное
вниманием к деталям описание календарных обрядов Тобольского
края, указывал, что для масленичного поезда выбирается «худая
и старая кляча, едва передвигающая ноги», старые дровни,
на которые водружали старый, брошенный из-за негодно-
сти челн и помост из г н и л ы х досок. Костюм для Масленицы
также «составлялся из ветхих и старых вещей,
совершенно негодных к употреблению. Верховые, сопровождавшие
Масленицу, и возница были одеты в рваные шубы, рваные и разные
пимы, вывороченные рубахи» [Городцов 1915, с. 21]. По словам того
же П.А. Городцова, ругая Масленицу, кричали ей: "Убирайся вон,
рваная старуха, грязна я!". М.М. Громыко, собравшая
сведения о масленичных обрядах в Сибири, специально указывает на
Ритуал: старое и новое 39
то, что во время проводов Масленицы использовались
исключительно самые старые вещи, включая и фигуры
сопровождающих, которые тоже должны быть стариками
[Громыко 1975, с. 101-107]. В.К. Соколова отмечает, что этот
обычай был характерен и для европейской России. "Обращает на
себя внимание, - пишет она, - прежде всего то, что все атрибуты
масленичного поезда и одежда масленичной куклы - старая,
негодная рухлядь. В разваливающиеся сани впрягали клячу, на нее
вешали колокольчики, с которыми ходили коровы, иногда лошадь
покрывали рогожей, дерюгой, а в Сибири на передние ноги ей даже
надевали рваные штаны и пимы, причем обязательно разного цвета"
[Соколова 1979, с. 30].
К масленице, как и к Новому году, приурочен обычай
уничтожения накопленного за год старья. Все старые, отслужив-
шие вещи собираются в кучи за околицей деревни и сжигаются
вместе с чучелом Масленицы. В Торжокском районе даже в наше
время этот обычай объясняли тем, "чтобы с масленицы зажить по-
новому, а старое чтобы не возвращалось" [Соколова 1979, с. 85].
Причем на заключительном этапе масленичного праздника
уничтожаются вместе с чучелом и все остатки масленичного
гулянья: блины, яйца, лепешки и пр. [Максимов 1903, с. 370].
В других местах сходные обряды со старыми вещами были
приурочены к новогоднему комплексу обрядов. Особенно много
запретов и предписаний относились к с о р у. Следует иметь в виду,
что ритуально отмеченные действия с сором появляются в тех
ритуалах (или в тех местах ритуала), в которых актуализируется
идея перехода от одного состояния к другому, от старого к новому.
Причем отношение к сору может быть двояким. В одних случаях сор
связывается с негативным осмыслением категории "старого",
нечистотой, средоточием смерти, чужести и т.п. Примером тому
могут служить правила обращения с сором в похоронном ритуале
(выметание сора после выноса покойника). В других обрядах сор
может ассоциироваться со своим, освоенным воплощением "доли",
как это явствует, например, из обряда перехода в новый дом
(перенесение сора из старого дома в новый).
Судя по многочисленным данным, которые недавно системати-
зировала Л.Н. Виноградова [1982, с. 209-214], и другим материалам
[Сумцов 1890, с. 97-98; и др.], в новогодних обрядах отношение к
сору было также двояким. У гуцулов сор выметался рано утром на
Новый год, но не выбрасывался, а выносился в огород со словами:
"Господи, будь ласкав уродити жита, пшениц!, усьико! пашницГ
[Шухевич 1904, с. 201]. В Словакии и Моравии мусор мели в
сочельник и относили в хлев для того, чтобы "коровы хорошо
доились" [Horvathova 1972, с. 486; Tomes 1968, с. 173]. Аналогично
40 А.К. Байбурин
поступали с рождественской соломой в тех местах, где ею выстилали
пол на святки. Здесь домашний сор и солома соотносятся с идеями
плодородия и обилия.
В других местах мусор и солома отчетливо связывались с чужим,
нечистым, смертью [Богатырев 1971, с. 214]. Для таких случаев
совершенно справедливо сопоставление Л.Н. Виноградовой с
подметанием в контексте похорон и так называемых "проводных"
ритуалов [Виноградова 1982, с. 214 и далее]. Здесь сор и солома
являются воплощением (наряду, например, с рождественским
снопом) старого года и/или чужого в самых различных вариантах:
"нечистой силы" (которая всюду проникла во время святок),
"зверей", "мертвецов" ит.п.
В масленичном и новогоднем костре вместе с антропоморфными
фигурами Масленицы, дида, коляды и т.п. уничтожались не просто
символы уходящего года. Судя по приведенным и многим другим
материалам, каждый календарный цикл (день, месяц и в особенности
год) характеризуется постепенным накоплением "шлаков", отходов,
нечистоты, деструктивных сил и, как следствие, происходит его
изнашивание, старение, требующее специальных, ритуально
оформленных процедур, гарантирующих очищение и омоложение.
Причем это относится не только и не столько к концепции времени,
сколько к периоду жизни, взятой во всей ее полноте и
многоаспектности. Сезонные ритуалы синхронизируют все
виды деятельности. Не случайно в календарных ритуалах
актуализируются различные связи: диахронические
(предки/потомки), хозяйственные, социальные. На последних следует
остановиться несколько подробнее.
С этой точки зрения большой интерес представляет то
повышенное внимание, которое на масленице уделяется
молодоженам и новорожденным. Особенно
показательны в этом отношении так называемые "столбы".
«Состоит этот обычай в том, что молодые, нарядившись в свои
лучшие костюмы (обыкновенно в те самые, в которых венчались),
встают рядами ("столбами") по обеим сторонам деревенской улицы и
всенародно показывают, как они любят друг друга» [Максимов 1903,
с. 361]. После такой демонстрации новых семейных пар начинаются
ритуально обязательные визиты молодых ко всем, кто принимал
участие в их свадьбе, и в первую очередь к родителям невесты.
Характерно, что кроме молодоженов масленичные визиты
считались обязательными для крестных родителей родившихся в
этом году детей. «Родители новорожденных детей ходят к кумовьям
с "отвязьем", т.е. приносят им пшеничный хлеб - "прощенник" (этот
хлеб приготовляется специально для масленицы, он печется с
изюмом и украшается вензелями). В свою очередь, кум и кума
Ритуал: старое и новое 41
отдают визит крестнику, причем оделяют его подарками: кроме
прощенника, кум приносит чашку с ложкой, а кума ситцу на
рубашку, более же богатые кумовья дарят свинью, овцу,
жеребенка» [Максимов 1903, с. 363].
В последний день масленицы подводятся своего рода итоги жизни
человека в истекшем году. Речь идет об обычае "прощения".
«Пришедший просит прощения, становится около дверей на колени
и, обращаясь к хозяевам, говорит: "Простите меня со всем вашим
семейством, в чем я нагрубил вам за этот го д". Хозяева же и
все находящиеся в хате отвечают: "Бог вас простит и мы тут же".
После этого пришедшие прощаться встают, и хозяева,
облобызавшись с ними, предлагают им угощение. А через какой-
нибудь час прощаться идут уже сами хозяева, причем весь обряд, с
угощением включительно, проделывается снова» [Максимов 1903,
с. 371]. В этом обычае нельзя не увидеть "цитату" из ритуального
прощания с умирающим. «Некоторую особенность представляет
прощанье в семейном кругу. Вот как это происходит в Саратов-
ской губ. Вся семья садится за ужин (причем последним блюдом
обязательно подается яичница), а после ужина все усердно молятся и
затем самый младший начинает кланяться всем по очереди и,
получив прощенье, отходит к стороне. За ним, в порядке
старшинства, начинает кланяться следующий по возрасту член
семьи (но младшему не кланяется и прощенья у него не просит) и
т.д. Последнею кланяется хозяйка, причем просит прощения только
у мужа, глава же семьи никому не кланяется» [Максимов 1903,
с. 372]. Таким образом актуализируются не только представления о
начале и конце года, но и социальные, возрастные (стар-
ший/младший), генеалогические схемы. К последнему стоит
отметить, что ритуал прощания/прощения заканчивается на кладби-
ще. «Обычай ходить на кладбище в последний день масленицы
поддерживается главным образом бабами. В четвертом часу
пополудни они кучками, в 10—12 человек идут с блинами к
покойникам и стараются ничего не говорить по дороге. На кладбище
каждая отыскивает родную могилку, становится на колени и бьет по
три поклона, причем со слезами на глазах шепчет: "Прости меня
(имярек), забудь все, что я тебе нагрубила и навредила".
Помолившись, бабы кладут на могилку блины (а иногда ставят и
водку) и отправляются домой также молча, как и пришли»
[Максимов 1903, с. 373].
В контексте синхронизации различных ритмов жизнедеятельности
человека с помощью сезонных ритуалов особый интерес вызывают
операции, фиксирующие отклонения от традиционно заданной
программы жизни человека и коллектива. Именно в этом плане
следует, вероятно, рассматривать украинские обряды, известные под
42 А.К. Байбурин
названиями "колодка", "колодий", "волочить колодку" и т.п. «После
мясного заговения, в первый понедельник, собираются группы
женщин и ходят по всем хатам, где есть неженатые парни или
совершеннолетние девушки, чтобы привязать им колодку.
Молодежь старается скрыться, но ее подкарауливают и часто
застигают врасплох. Пришедшие привязывают колодку к ноге, а
иногда к руке парня или девушки и затем требуют выкупа. Выкуп
состоит в угощении водкой и закуской. При этом отец повязанного
говорит иногда сыну, напуская на себя сердитый вид: "Оттак тоби й
треба: не хотив слухаты батька, не хотив женытысь, теперь
колодку тягны. Думав ему весилля справляты, а теперь прыходыця
бисового сына вид колодкы выкупаты". Потом хозяин просит гостей
садиться за стол, и начинается угощение, на которое сходятся почти
все соседи. Если же девушке привяжут колодку, то мать ласково
приговаривает: "Оттак тоби, дивко, и треба: не заслужила жениха,
теперь тягны колодку". В некоторых селах Полтавской губернии
колодку вяжут не только парням и девушкам, но и их родителям как
бы за то, что они не постарались выдать детей замуж или женить»
[Сумцов 1890, с. 137-138]. Аналогичные обычаи зарегистрированы
также у белорусов, в Польше, Словакии, Моравии, в некоторых
районах России [Богданович 1895, с. 99; Zelenin 1927, с. 381; Соко-
лова 1979, с. 54-58; и др.].
Символическое наказание неженатых парней и незамужних
девушек согласуется с общей ориентацией всякого ритуала на
урегулирование как внутренних, так и внешних связей коллектива.
Ритуалы типа "колодка" были, по всей видимости, специально
направлены на обеспечение стабильности и благополучия коллектива
во времени, для чего необходимо постоянное обновление социальной
структуры, и, в частности, нужен своевременный переход
брачноспособной молодежи в новый статус.
С рассматриваемым комплексом представлений связаны и многие
другие факты календарной обрядности, особенно с таким вариантом
противопоставления старое/новое, как последний/первый (ср. роль
последнего снопа, "первин", т.е. первых зерен, плодов и т.п. нового
урожая; обычай, предписывавший девушкам одеваться в первый
день нового года во все новое). Для уяснения ритуальной семантики
первого (дня, действия, встречного и т.д.) в жизни, в новом статусе и
особенно в новом году, следует иметь в виду, что первое здесь не
является началом перечисления, но совершенно однозначно
указывает на ситуацию сотворения мира [Топоров 1980, с. 19-20],
воспроизведением которой можно считать годовой праздник.
Противопоставление старое/новое педалируется и в других, более
специализированных календарных обрядах. Готовясь сеять лен,
надевали новую льняную рубаху, которую снимали, приступая к
Ритуал: старое и новое 43
сеянию [Мансуров 1929, с. 17; Маслова 1984, с. 116-117]. В день
св. Василия (апрель) оставляли на лугу новину с пирогом со словами
"Вот тебе, матушка-весна, новая новинка" [Сахаров 1849, с.
50]. На Егорьев день в Олонецкой губ., по наблюдениям
Г.С. Масловой, особое внимание уделялось молодухам
первого года замужества. Их присутствие в новой
нарядной одежде при первом выгоне скота имело
ритуальный характер [Маслова 1984, с. 11-16]. Показательно, что у
белорусов первый хлеб из новой ржи печет мо-
лодая [Максимов 1873, с. 33].
В русальских обрядах снова встречаемся с ряжением вожака
русалки в старую, рваную женскую одежду. Интересно, что
женщины и девушки, сопровождавшие русалку (Воронежская губ.),
одевались в специально для этого случая хранимые старинные
наряды [Крюкова 1947, с. 185-190].
Один из немногих случаев соответствия новогодней паре
"молодой" (новый) бог/"старый" бог зарегистрирован в Пошехонье,
где за неделю до Иванова дня праздновали "молодого Ярилу", а
накануне Иванова дня - "старого Ярилу" [Померанцева 1975, с. 128].
Ритуальное уничтожение старых вещей в некоторых районах
Белоруссии приурочивалось ко дню летнего солнцестояния. Для
купальского костра молодежь специально собирала старые вещи,
одежду и обувь (атопки) [Л1с 1974, с. 49].
При всей проблематичности существования у восточных славян
обрядов, соотносимых с инициацией, нельзя не отметить тот факт,
что переход из одной возрастной группы в другую был соотнесен с
календарным циклом и приурочен к Троице или к Пасхе, когда
очередная группа девушек надевала новый костюм,
символизировавший их принадлежность к совершеннолетним
[Зеленин 1911, с. 233-246; Левинтон 1979, с. 172-178; Бернштам
1977, с. 55-56; ср. также: Михайлова 1973, с. 71-72; Колева 1973,
с. 64-65].
Даже столь краткий обзор календарной обрядности с точки зрения
соотношения категорий старого, и нового позволяет сформулировать
несколько наблюдений.
Преобразование старого в новое возможно только в ритуале,
причем в рассмотренных календарных обрядах упор делается на
категорию старого (похороны, уничтожение символов
прежнего состояния, ряжение). Если придерживаться схемы, в соот-
ветствии с которой любой календарный праздник состоит из двух
частей - "кануна" и собственно "праздника", то мы должны конста-
тировать особую выделенность и разработанность кануна у вос-
точных славян. Правда, и здесь необходимы уточнения. При
известном изоморфизме осенне-зимних и весенне-летних праздников
44 А.К. Байбурин
отмеченность "кануна" более характерна для осенне-зимних, а
"праздника" (и соответственно категории нового) - для весенне-
летних обрядов, что вполне согласуется с общей семантикой
годового цикла (рождение, молодость, новизна весной; расцвет
летом; старение, увядание, изнашивание осенью). Не случайно
жизненный цикл соотнесен с календарным таким образом, что
переход из одного статуса в другой (несовершеннолетние -
совершеннолетние; неженатые - женатые) фиксируется главным
образом в ритуалах весеннего цикла.
Переходя к рассмотрению интересующих нас категорий в других
обрядах, нужно иметь в виду следующее. Всякий ритуал можно
рассматривать как преобразование некоторой кризисной ситуации в
новую, оптимальную для существования данного коллектива,
посредством серии контактов между "своим" и "чужим" (понимаемым
в самом широком плане). С этой точки зрения кризисная (порожда-
ющая ритуал) ситуация является следствием нарушения равновесия
между своим и чужим. В ритуале с помощью серии обменов
утраченное равновесие восстанавливается, причем это восстанов-
ление является одновременно и преобразованием, которое чаще
всего интерпретируется в традиционной ритуалогии как смерть -
возрождение. Стратегия (и все остальные характеристики) ритуала
будут существенно различаться в зависимости от того, какая из двух
сторон, по мнению отправителей ритуала, виновна в нарушении
условий "договора".
В окказиональных ритуалах, связанных с эпидемиями и
энзоотиями, их причина чаще всего видится в том, что силы
"чужого" нарушили границу и вторглись в мир человека. Есть и
вторая причина: это стало возможным потому, что граница (и свой
мир в целом) ослабли раньше срока по тем или иным причинам.
Соответственно строится и ритуал. Во-первых, необходимо
обнаружить то воплощение "чужого", которое принесло с собой
несчастье, и выдворить его за пределы своего мира. Во-вторых,
следует обновить и усилить границу между своим и чужим. Первое
реализуется в изгнании, например, "коровьей смерти". Второе
символически выражается опахиванием селения.
Опахивание совершалось в критическое время - около полуночи,
т.е. на стыке старых и новых суток. В ритуале принимали участие
девушки (в невинности которых не было сомнения) и старухи. Тем
самым не только достигалось требование чистоты участников
ритуала, но и моделировались две фазы, два состояния своего мира
(старое и новое). Опахивание производилось либо в полной тишине
(если оно было профилактическим), либо с шумом, пением особых
песен, руганью, сквернословием для того, чтобы изгнать уже
появившуюся Смерть (см. [Журавлев 1978, с. 78]). Во время
Ритуал: старое и новое 45
опахивания умерщвлялось какое-либо животное (обычно -
небольшое: петух, кошка, собака), которое объявлялось "коровьей
смертью". Вместе с павшей скотиной это животное зарывалось
(часто живьем) за пределами поселения.
Обряд опахивания является по сути дела воспроизведением
основной операции, совершавшейся при основании поселения, когда
плугом проводили борозду, ограничивая определенное пространство
земли [Сумцов 1890, с. 85-87]. Под борозду зарывали горшки с
хлебным зерном [Nowosielski 1857, с. 156], причем есть основания
полагать, что использовалось первое зерно урожая (ср. известную
легенду об основании Рима: определение границ, проведение плугом
борозды; сбрасывание в круглую (mundus) яму всего того, что
символизировало концепцию человеческого мира, - п е р в и н
урожая, вина, оружия, руды и т.п. [Плутарх 1961, с. 32]). Ср. также
случаи опахивания при закладке дома, встречавшиеся не только на
Украине, но и, как указал А.Ф. Журавлев, в Пензенской губ. с
показательной мотивировкой: "чтобы не заходили туда болезни"
[Журавлев 1978, с. 79]. Редкое свидетельство об отражении в
ритуале опахивания у восточных славян близнечного культа (что
характерно для других славянских традиций) есть у Ю. Крачковского
и относится к Кобринскому уезду Гродненской губ.: опахивание
должен совершать близнец на волах-близнецах и все части сохи
должны быть сделаны близнецом: "если что-нибудь, хотя малейшая
палочка, относящаяся к сохе, будет заострена не близнецом, все
дело тоща нужно считать погибшим" [Крачковский 1873, с. 195-196].
Тем самым опахивание при эпидемиях и эпизоотиях служит своего
рода отсылкой к "началу", к той ситуации, в которой впервые были
очерчены границы "своего". Теперь, в критической ситуации, когда
"своему" миру угрожает смерть, необходимо воспроизвести то, что
было на этом месте "в первый раз", и обновить "свое". Нельзя не
заметить, что в общих и принципиальных чертах эта схема
совпадает со схемой ритуала творения, являясь частным и
локальным вариантом последней (ср. роль близнецов в мифах о
творении мира и основании городов). Таким образом, реконструкция
концептуальной схемы обряда опахивания, совершавшегося при
массовых заболеваниях и падежах скота, предполагает
последовательность: ритуал опахивания —> ритуал основания
поселения —> ритуал творения мира.
Другим вариантом (распространенным главным образом в
Белоруссии) ритуального обновления "своего" является создание так
называемых обыденных вещей (новины, холста, полотенца -
ср. также древнерусские обыденные храмы [Зеленин 1911а;
Журавлев 1978, с. 86-89]). Обыденные вещи, как известно,
создавались за один день, коллективно (каждая женщина выпрядает
46 А.К. Бабурин
по одной нитке). Все этапы создания вещи, обычно растянутые во
времени, должны быть выполнены в один день. Если, например, это
было полотенце, то женщины всей деревни, собравшись в одном
доме, должны были сначала напрясть нитки, затем выткать полотно,
отбелить его и, наконец, вышить на нем узоры. Таким образом,
обыденная вещь - идеально новая и чистая, не успевшая
"состариться" в процессе изготовления. Она становилась
воплощением идеи обновленной жизни, такой, какой она была в
начале, когда не было повальной болезни. То обстоятельство,
что, как свидетельствуют источники, ритуал исполнялся исключи-
тельно женщинами (ср., впрочем, параллельное изготовление
мужчинами десятиконечного креста в некоторых районах Белорус-
сии), вероятно, говорит об особой "ответственности" женщины за
подобного рода несчастья и о том, что мы имеем дело с "женским"
вариантом ритуального обновления и очищения своего мира.
С той же идеей обновления и очищения связано и добывание
ритуального огня с характерными названиями новый,
живой, деревянный огонь. Концептуальная схема
ритуала творения проявляется и в этом случае. Исходная ситуация:
огонь (как один из основных символов своего) потерял свои
целительные свойства. Вследствие этого коллектив оказался под
угрозой со стороны враждебных сил чужого. В ритуале (управляемом
человеком процессе) указанная тенденция доводится до логического
конца: в селении гасятся все огни (в печках и даже на божницах). И
только после того как старый огонь уничтожен, приступают к
добыванию (вытиранию из дерева) нового огня, для чего
используются определенные местной традицией породы дерева
(например, можжевельник в большинстве районов Русского Севера).
Новый огонь разносят по домам и от него же зажигают костры,
сквозь которые прогоняется скот.
Таким образом, вытирание нового огня представляет собой еще
один вариант ритуального преобразования старого (слабого,
износившегося, потерявшего свою силу) бытия в новое, полное
потенциальных сил и возможностей для благополучного
существования коллектива. И, в сущности, неважно, какой из
рассмотренных вариантов (или их комбинация) реализуется для
достижения искомой цели. Различаясь в плане выражения, все они
едины в своей глубинной семантике, общей с концепцией
регулярного обновления мира в ритуале. Не случайно окка-
зиональные обряды указанного типа могли стать "обетными" и
органично вписывались в календарный цикл, не говоря уже о том,
что такие операции, как возжигание костров от ’’деревянного" огня,
входили в состав различных календарных ритуалов (ср. прежде всего
купальские костры).
Ритуал: старое и новое 47
Общая семантика категорий старого и нового характеризуется
следующими чертами. Во-первых, они имеют отчетливо выражен-
ный переходный, маргинальный характер. Новое расценивается как
еще не вполне свое, а старое как не совсем чужое. Отсюда двоякое
отношение к обеим категориям. И новое и старое в зависимости от
контекста могут иметь и положительное и отрицательное значение.
Рассмотрение их в обрядах жизненного цикла и ритуалах создания и
уничтожения вещей, для которых особенно характерны действия,
обеспечивающие переход нового в свое, а старого в чужое, позволят
уточнить объем и наполнение этих категорий.
Во-вторых, следует отметить, что если переход новое —> старое
происходит в быту (в промежутке между ритуалами) и никак не
отмечен, то преобразование старое -> новое возможно только в
ритуале.
И, наконец, любое такое преобразование отсылает нас к
концептуальной схеме творения мира, в соответствии с которой путь
к обновлению лежит через борьбу между своим и чужим.
В этой статье рассмотрены лишь самые очевидные моменты
календарных и окказиональных обрядов, в которых фигурируют
категории старого и нового. Нет сомнения, что более внимательный
анализ этих и других ритуалов позволит не только более отчетливо
выявить роль этих категорий в функционировании ритуалов, но и
высветить доселе пребывающие в тени особенности архаической
культуры.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Бернштам 1977. - Бернштам ТА. Традиционный праздничный календарь в Поморье
во второй половине XIX - начале XX в. - Этнографические исследования Северо-
Запада СССР. Л., 1977.
Богатырев 1971. - Богатырев ПТ. Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
Богданович 1895. - Богданович А.Е. Пережитки древнего миросозерцания у
белорусов. Гродно, 1895.
Виноградова 1982. - Виноградова ЛИ. Зимняя календарная поэзия западных и
восточных славян. Генезис и типология колядования. М., 1982.
Городцов 1915. - Городцов ПА. Праздники и обряды крестьян Тюменского уезда. -
Ежегодник Тобольского уезда. Вып. 26,1915.
Громыко 1975. - Громыко ММ. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII -
первая половина XIX в.). Новосибирск, 1975.
Гусев 1974. - Гусев В.Е. От обряда к народному театру. Эволюция святочных игр в
покойника. - Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Л., 1974.
Журавлев 1978. - Журавлев А.Ф. Охранительные обряды, связанные с падежом
скота, и нх географическое распространение. - Славянский и балканский
фольклор. Генезис, архаика, традиции. М , 1978.
Завойко 1917. - Завойко Г.К. В костромских лесах по Ветлуге-реке. - Труды
Костромского н. много об-ва по изучению местного края. Этнографический
сборник. Вып. VIII. Е тгрома ’ "‘17.
48 А.К. Байбурин
Зеленин 1911. - Зеленин Д.К. Обрядовое празднество совершеннолетия девицы у
русских. - Живая Старина. Вып. 2. СПб., 1911.
Зеленин 1911а. - Зеленин Д.К. "Обыденные" полотенца и "обыденные" храмы. -
Живая старина. Вып. 2. СПб., 1911.
Колева 1973. - Колева Т. Происхождение весенних девичьих обычаев у некоторых
южнославянских народов. - Македонски фолклор. 1973. Т. VI, бр. 12.
Крачковский 1873. - Крачковский Ю. Быт западно-русского селянина. - Чтения в
Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1873,
кн. IV.
Крюкова 1947. - Крюкова ТА. "Вождение русалки" в селе Оськино Воронежской
области. - Советская этнография. 1947, № 1.
Левинтон 1979. -Левинтон ГА. К статье Д.К. Зеленина "Обрядовое празднество
совершеннолетия девицы у русских". - Проблемы славянской этнографии. Л.,
1979.
Л 1с 1974.-Л1с Арсенъ. Купальск1я песн!. М1нск, 1974.
Максимов 1873. -Максимов С.В. Куль хлеба и его похождения. СПб., 1873.
Максимов 1903. - Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903.
Мансуров 1929. - Мансуров А А. Описание рукописей этнологического архива ОИРК.
Вып. 2. Рязань, 1929.
Маслова 1984. - Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных
обычаях и обрядах XIX - начала XX в. М., 1984.
Миллер 1865. - Миллер О. Опыт исторического обозрения русской словесности. 4.1.
СПб., 1865.
Михайлова 1973. - Михайлова Г. Функция обрядовой одежды в весенних обычаях у
южных славян. - Македонски фолклор. 1973. Т. VI, бр. 12.
Петрухин 1986. - Петрухин ВЛ. Человек и животное в мифе и ритуале: мир природы
в символах мира культуры. - Мифы, культы, обряды народов Зарубежной Азии.
М., 1986.
Плутарх 1961. -Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 1. М., 1961.
Померанцева 1975. - Померанцева Э.В. Ярилки. - Советская этнография. 1975, № 3.
Пропп 1963. -Пропп ВЛ. Русские аграрные праздники. Л., 1963.
Сахаров 1849. - Сахаров И. Сказания русского народа о семейной жизни своих
предков. Т. II. М., 1849.
Соколова 1979. - Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских,
украинцев и белорусов. М., 1979.
Сумцов 1890. - Сумцов Н.Ф. Культовые переживания. Киев, 1890.
Топоров 1976. - Топоров В.Н. nftOQN, Ahi Budnyi, БМдньак и др. - Этимология,
1974. М., 1976.
Топоров 1980. - Топоров В.Н. О числовых моделях в архаичных текстах. - Структура
текста. М., 1980.
Чичеров 1957. - Чичеров В.И. Зимний период русского народного земледельческого
календаря XVI-XIX веков. - Труды Института этнографии АН СССР. Т. XL. М.,
1957.
Шухевич 1904. - Шухевич В. Гуцулыцина. Т. 4. Льв1в, 1904.
Horv£thov£ 1972. - Horvdthovd Е. Materidly do zvykoslovnydh a proverovych redlii na
Homom SpiSi. - Slovensty narodopis. 1972, № 3.
Kuret 1972. - Kuret N. Oberdni pri Slovencich. - Traditiones* 1972, № 1.
Nowosielski 1857. - Nowosielski A. Lud Ukrainski, jego piesni, bajki... T. I—II. Wilno, 185^.
Tome§ 1968. - Tomei J. VAno&ii obydeje na ValaSsku. - Narodopisnl aktualityy. 1968,
№3-4.
Zelenin 1927. - Zelenin Dm. Russische (Ostslavische) Volkskunde. Lpz., 1927.
В.Н. ВАСИЛОВ
АЛБАСТЫ
Демон албасты давно привлек к себе внимание многих наблю-
дателей, собиравших этнографические сведения о жизни разных
народов, и в настоящее время накоплен не только огромный опи-
сательный материал, но и некоторый опыт обобщения имеющихся
данных. Появились обзоры поверий об албасты [Инан 1933; Андреев
1953; Йохансен 1959; Л. Члаидзе 1975; Климов и Эдельман 1979;
Басилов 1980; Литвинский 1981], в которых высказаны суждения о
происхождении и путях развития этого демонологического образа.
Работу на эту тему подготавливала и Н.П. Дыренкова, ее черновые
наброски хранятся в архиве Института этнографии АН СССР (Ле-
нинград). Каждый из указанных авторов привлекал разные источ-
ники, и характер материалов в их публикациях неодинаков. Однако,
взятые рее вместе, они охватывают обширный (хотя отнюдь не
исчерпывающий) круг сведений и дают ясное представление об этом
своеобразном демонологическом персонаже.
Образ албасты известен многим народам, живущим "от Великой
китайской стены до берегов Средиземного моря" [Инан 1972, с. 169].
Название духа звучит в каждом языке со своими особенностями -
"алвасти" у некоторых групп узбеков, "албаслы" у каракалпаков и
кумыков, "албассы" у туркмен, "алмасты" у карачаевцев и бал-
карцев, "албыс", или "алмыс", у хакасов, алтайцев, тувинцев и т.д.
Не во всем схожи и представления об этом духе. Однако при всей
пестроте поверий отчетливо выступают и главные (хотя и не всегда
общие для всех народов) черты в облике албасты.
Обычно этого духа представляют в образе женщины с длинными
светлыми ("желтыми", т.е. золотистыми) волосами и такими длин-
ными грудями, что она закидывает их через плечи на спину. По
представлениям многих народов, албасты обитает вблизи рек или
других водных источников, и чаще всего люди видят ее на берегу,
<где Qija расчесывает свои волосы. Обычно албасты рисуется голой,
нередко покрытой шерстью, но у турок Анатолии она одета в
© В.Н. Басилов, 1994
4 270
50 В.Н. Василов
красное, а у таджиков будто бы может явиться человеческому взору
в лохмотьях. У казахов, узбеков Ферганской долины, тувинцев и
чеченцев известен (как вариант) образ албасты с одним глазом во
лбу. В верованиях казахов встречается также образ албасты с вы-
вернутыми ногами с копытами.
Албасты - злой демон. Она вредит больше всего роженицам и
новорожденным. Считается, что она крадет легкие (печень, сердце)
роженицы или новорожденного и спешит с ними к воде. Как только
албасты окунет легкие в воду (или, омыв, съест их), женщина или
ребенок умирают. Казанские татары верили, что албасты может
пить кровь своей жертвы. У узбеков и турок распространено пред-
ставление о любви албасты к лошадям. Она будто бы ездит на них
по ночам и, подобно домовому русских верований, заплетает лоша-
диные 1ривы в косички.
По поверьям турок, кумыков, казахов и тувинцев, албасты может
вступать в любовную связь с человеком. Такое поверье бытовало и
у узбеков Ферганы, о чем свидетельствует рассказ о мулле, якобы
женившемся на албасты, которая предстала перед ним в облике
прекрасной женщины (здесь образ албасты далек от традиционного)
[Андреев 19166]. В поверьях жителей Бухары "альбести всегда
являются в виде женщин с длинными распущенными волосами...
влюбившись в кого-нибудь из смертных, они беспощадно преследуют
их днем и ночью и обыкновенно доводят своими ласками до
сумасшествия" [Ханыко^ 1843, с. 207]. В связи с этим мнение, что в
Средней Азии представление о возможности сожительства албасты с
человеком возникло в результате путаницы [Сухарева 1975, с. 13],
трудно поддержать. У Алтайцев (кумандинцев) дочь "хозяина" горы,
называемая обычно и^-за цвета волос "рыжая девица", вступает в
близость с охотником й, благоволя к нему, посылает ему обильную
дичь. Длинными грудями, закидываемыми за плечи, она похожа на
албасты [Дыренкова 1949, с. 120]. Такие же представления были
связаны с "хозяйкой" Гор и леса у северных хакасов [Усманова 1982,
с. 29]. Тождество этого персонажа с албасты подтверждается по-
верьями некоторых групп тувинцев, согласно которым албасты
вступает в сожительство с охотниками и вознаграждает их хорошей
добычей [Потапов I960, с. 235].
Распространено было убеждение, что человек может подчинить
себе албасты. Для этого надо вырвать или отрезать у нее прядь
волос (вариант: один волос) и хранить в надежном месте (например,
между страницами Корана). Вместо волоса можно отобрать у нее
магическую книжечку (таджики, узбеки), гребень (турки, таджики,
узбеки), монетку, возвращающуюся к ее владельцу (таджики, уз-
беки). Человек, завладевший волосами и принадлежащими албасты
предметами, приобретал над ней власть. В Турции считалось, что
Албасты. 51
человеку достаточно воткнуть иглу в одежду албасты, чтобы она
стала покорной и выполняла все его приказания. Карачаевцы, бал-
карцы, кумыки верили, что потерявшая свободу албасты помогает
по дому. Такое поверье было отмечено у таджиков [Сухарева 1975,
с. 34-35] и узбеков Южного Казахстана [Тайжанов, Исмаилов 1986,
с. 117]. Почти повсеместно верили, что человек, подчинивший себе
албасты, способен излечить заболевших по ее вине людей.
Образ албасты, как справедливо указывали многие исследова-
тели, имеет глубокую древность. Свойственными албасты чертами
наделены и другие персонажи мифологии и верований многих на-
родов, в языках которых, как правило, нет термина "албасты". Так,
в образе женщины, расчесывающей гребнем (нередко золотым) свои
волосы на берегу реки, представлялась "мать воды" (су анасы) у та-
тар, жена водяного у русских, "госпожа вод" (псы гуашэ) у адыгских
народов, "мать воды" у абхазов, водяные духи у немцев, "хозяйка"
леса (вирь-ава) у мордвы, "хозяйка" воды у хакасов. С длинными,
забрасываемыми за плечи грудями воображалась дэв-баба у га-
гаузов, водяной дух у эстонцев, русалка (вуташ) у чувашей (муж-
чины, с которыми вуташ вступала в любовную связь, становились
богатыми, получая от нее деньги) [Денисов 1959, с. 39]. В некоторых
районах Татарии лесной дух шурале или урман иясе рисовался
"в образе женщин с грудями, которые забрасываются за плечи"
[Татары 1967, с. 361]. В верованиях коми русалки (васа) имели облик
"голых женщин с длинными и влажными волосами... и громадными
грудями, которыми они душили людей, всовывая их им в рот"
[Белицер 1958, с. 320]. Удмурты верили в духа "палас мурт"
(получеловек) или "алида" (леший): "У него одна только, да и то на
извороте, нога; один большой глаз и превеликая титька, которую
втискивает он людям в рот и тем их задушает" [Георги 1795, с. 54].
Длинные груди имеются у Бабы-Яги русских сказок и великанши
нагучицы адыгских сказок.
Широкое распространение этого образа в традициях многих на-
родов, разных по языку и культуре, свидетельствует о его ^р^ьшой
древности. М.С. Андреев уже предположил, что в основе представ-
лений об албасты лежит претерпевший деградацию образ богини
рождения - "древней азиатской Венеры (Анахиты)" [Андреев 1953,
с. 81]. Эта мысль не получила поддержки в ее конкретной части, но
в общем виде была признана плодотворной. О.А. Сухарева, на-
пример, считала возможным, что албасты некогда переместилась "из
ранга благодетельных богинь в категорию вредоносных демонов"
[Сухарева 1975, с. 32]. Добавлю, что низведенное в ранг демона бо-
жество вредит именно в той сфере, в какой прежде ему припи-
сывалось покровительство. Было указано и другое конкретное бо-
жество, которое, быть может, могло со временем превратиться в ал-
52 В.Н. Василов
басты: "позднеассирийское Дамасту, Ламашту в значении женского
божества родов, а также болезней роженицы и новорожденного
должно было послужить прототипом Алмасты - Албасты"; в истоке
этого культа усматривалось почитание "древнего женского божества
родов и плодородия, изображавшегося в виде многогрудой женщины"
[Климов и Эдельман 1979, с. 62-63]. По мнению Б.А. Литвинского,
"албасты - образ очень древний, возможно, восходящий еще ко
времени индоевропейской общности... Изменение сущности этого
образа или акцентирование его отрицательной части могло про-
изойти значительно позже..." [Литвинский 1981, с. 104].
На мой взгляд, древность образа албасты настолько глубока, что
попытки выводить его из какого-либо известного истории конкрет-
ного божества вряд ли правомерны. Любовь албасты к своим длин-
ным волосам отражает архаическое представление народов Евразии
о связи волос с магической силой [Фрэзер 1923, с. 157-159]. Истоки
образа албасты, скорее всего, восходят к первобытной эпохе, к
культу так называемых "палеолитических венер", изображавшихся в
виде женщин с массивными бедрами и большими грудями. Нарочито
усиленные признаки материнства должны были, видимо, подчеркнуть
идею плодородия. Возможно, "палеолитические венеры" представ-
ляют собой раннюю форму образа хозяйки зверей, сложившегося
"в охотничью эпоху" [Рыбаков 1981, с. 128]. Рассматривая верова-
ния о грузинском божестве охоты Дали (Дал), которое отдельными
чертами близко к албасты (Дали ходит обнаженная и закрывается
только своими длинными золотыми волосами, которые любит расче-
сывать; она стремится к любовной связи с охотником и дарит воз-
любленному предметы, приносящие удачу в охоте), Е.Б. Вирсаладзе
[1976] с полным основанием вспоминает слова Л.Я. Штернберга:
"Знаменитые Великие матери богов... в охотничий период... были
богинями гор и хозяевами животных, а затем, по мере перехода к
земледелию, превратились в богинь плодородия" [Штернберг 1936,
с. 385]. Вероятно, таким был и путь формирования образа албасты;
ее волшебная книжечка может быть понята как воспоминание о
священных текстах, связанных с ее культом в эпоху, когда она
почиталась в качестве божества плодородия. Сегодня трудно ска-
зать, в какой период началась деградация этого божества, сделав-
шая его демоном. В текстах "Авесты" нет упоминаний об албасты, и
это позволяет думать, что уже при возникновении зороастризма ал-
басты была в числе низших духов. О том, что процесс превращения
божества в демона действительно имел место, свидетельствуют ве-
рования грузин. Божество Дали, "царица леса" и "владычица"
"в центральных районах под влиянием христианской церкви... пре-
вратилась в злого лесного духа" [Вирсаладзе 1976, с. 133], широко
известного и под именем Али. Али похожа на албасты. Она живет
Албасты 53
в лесу» в скалах» в развалинах. Ее видят и на берегу реки» где она
расчесывает волосы золотым гребнем; она заманивает в воду
мужчин» плененных ее красотой. Если человек поймает Али»
обрежет у нее волосы и ногти или завладеет гребнем» Али будет ему
служить. В грузинских верованиях Али склонна к любовной связи с
людьми [Члаидзе 1975» с. 25 и др.].
Что касается этимологии названия "албасты", то предлагались
разные» далеко не всегда убедительные разъяснения - вплоть до
мнения» что в основе его лежит имя бога Ахурамазды (О. Олуфсен).
Как правило» в поисках исконного значения слова его разделяли на
две части "ал" и "басты", пытаясь понять смысл каждой отдельно.
Первые гипотезы принадлежат краеведам. Так» албасты возводили к
словам "аль - ‘рука* и басмак - ‘давить’: существо, давящее кого-
либо рукою; или от алт- ‘перед’ и басмак - ‘давить’: существо»
давящее перед» то есть грудь" [Каюм-Насыров 1880» с. 11]. По
другому мнению, «название "албасты" не состоит ли из междометия
"ал"» выражающего предостережение» внимание, и глагола
"басмак" - ‘давить*» [Кустанаев 1894. с. 42]. В примечании к статье
о верованиях казахов читаем: слово "албасты" происходит от слов
"ал" (возьми) и "басты" (давил) и означает: "взявши, дави" или "вот
давит" [Кастанье 1912» с. 13]. Профессиональная наука приняла
такую интерпретацию второй части слова» выдвинув иные разъяс-
нения первой части (ал-). Детальный обзор различных точек зрения
дан в статьях Г.А. Климова и Д. Эдельман» а также Б.А. Лит-
винского, поэтому я изложу лишь главное. Лексема "ал" трак-
товалась также как ‘красный* (Д. Мессарош, М. Рясянен), ‘огонь*
(А. Инан), ‘богатырь*, алп (А. Ашмарин, К.Х. Менгес, С.Е. Малов).
А. Инан и С.М. Демидов связывали слово "ал" с тюркскими язы-
ками. М.С. Андреев считал "ал" именем древнего божества. К та-
кому же заключению пришел Э. Бенвенист, видевший в лексеме
"ал" индоиранское обозначение демона; при этом "ал", по его
мнению» означает и ‘красный*, ‘алый’. Этимология М.С. Андреева -
Э. Бенвениста сегодня признается наиболее основательной; так, ее
принимают И.М. Стеблин-Каменский и Б.А. Литвинский (избегая,
впрочем» говорить о божестве).
Представляется несомненным, что название "албасты" сложилось
из двух разных слов, которые имели самостоятельное значение. Это
доказывается названием демона в форме "ал" у туркмен, персов»
части таджиков (также "ол"), у азербайджанцев и курдов (мать хал -
ал анасы), татов (мать ал - дедей ол), лезгин (женщина ал - ал паб),
турок (мать ал» девица ал» старуха ал - ал ана» ал кызы» ал кары)
ит.д. [Чурсин 1913, с. 91-92]. Ал - не имя, а название божества
(эквивалент слова "бог"), древнее распространение которого отнюдь
не ограничивается пределами семитического мира. На это слово уже
54 В.Н. Василов
обратили внимание кавказоведы. Б.А. Алборов, например, рассмат-
ривая имена кавказских богов и восклицания в обрядовых песнях,
пришел к выводу, что древний пласт ритуальной лексики хранит
название божества "ал" или "ел". «Корень его тот же, что и древ-
нееврейского "аГ, "еГ... У всех семитских народов, за исключением
эфиопов, имеется слово "еГ или "ilah", "eloah", причем у некоторых
оба имени... У многих народов Кавказа древний бог "ел", "ал" забыт.
Он перешел в разряд низших богов, который причиняет страдания
роженицам. Ср. "ала-жен" талышей, "ал" тюрок, персов, Нал удин
Варташена» и т.п. [Алборов 1928, с. 419-420]. Выясняя происхож-
дение грузинского божества Дали, исследователи обратили внимание
на слово Hal - название бога у арчинцев. "Надо думать, что слова
Дал, Да1, Ali, Hali, Hallur являлись обозначением божественности в
местном пантеоне иберо-кавказских народов, берущем свое начало в
матриархальном периоде", - считает языковед [Т. Гониашвили 1940,
с. 662]. По мнению Б.А. Алборова, это древнее название божества
сохранилось также как составная часть имени ряда кавказских
богов - осетинского Аларды, ингушских Гальерды, Тушоли, Мят-
цели, Аушасел, Гушмале, Мяцхали, Амгали, кабардинского Шибле.
Он полагал, что культ божества "ел" - "ил" (как и сам термин) мог
быть заимствован яфетидами Кавказа "еще в .глубокой древности
при непосредственном столкновении... с ассиро-вавилонянами" [Ал-
боров 1928, с. 419]. Однако распространение этого слова, видимо,
относится к гораздо более раннему времени. Мы обнаруживаем его,
следуя подходу Б.А. Алборова, в именах духов и богов многих
народов Европы. Древнегреческие боги Эол и Гелиос (Илиос),
кельтский бог Боэль, древнерусские Велес и Ярило, южнославянские
вилы, латышский велнс и литовский велниас ('черт*), татарский
леший шурале - вот далеко не полный перечень примеров. В этом
ряду правомерно поместить и тюркское "алп" - 'богатырь*, 'ве-
ликан*. В казахских легендах алпы особенно отчетливо представ-
лены сверхъестественными существами. Древние божества могли
мыслиться гигантами. Вряд ли случайно тот к:е термин мы встре-
чаем в мире духов у германских народов - эльф, алп. Слово "иль" -
'дух*, по свидетельству Махмуда Кашгарского, было известно и
тюркским языкам, причем нет возможности сказать, где и когда оно
могло быть заимствовано. Вообще, быть может, мы вправе говорить
не о заимствовании, а о термине, некогда общем для целой группы
разных языковых семей; с течением времени он был забыт или стал
архаизмом (пережитком) и сохранил свою активную роль только в
семитских языках.
Что касается разъяснения лексемы "басты" как тюркского ‘на-
давил’, то оно наивно. Включение слова "надавил" в название де-
мона в принципе нелогично; в живых тюркских языках эта часть
Албасты 55
названия "албасты" не понимается как ‘надавил’, что доказывается
хотя бы выражением "албасты басты" (‘албасты надавила*). В лек-
семе "басгы" следует видеть, как и в лексеме "ал", древнее название
духа (божества), ставшее в ряде языков в ходе идеологических
преобразований названием демона. Это название прослеживается у
разных, в том числе и у индоевропейских, народов - бес, бис, бяс
(‘черт’) у славян, уас-, уац- (‘святой’) у осетин, богиня очага Веста у
древних римлян (ее древнегреческое имя - Гестия - показывает, что
первый звук в этом слове варьировал), пйз (‘бог’) у мордвы, бистэ
(‘чертовка*) у айсоров, бог охоты Афсати (у осетин), Апсаты
(у карачаевцев и балкарцев), Апсати (у сванов), демоническая ста-
руха Мастан казахских сказок. Возможно, оно вошло и в состав
слова "вишап", означающего чудовищное существо, дракона в мифо-
логии армян [Марр и Смирнов 1931, с. 101-102]. Правомерно упо-
мянуть и о популярном в древнем Египте и за его пределами боге по
имени Бес, культ которого, по установившемуся в науке мнению,
возник вне Египта; одной из главных функций Беса было покро-
вительство браку и деторождению, вследствие чего его изображения
имелись в родильных домах, находящихся при храмах. С приходом
христианства к Бесу стали относиться как к демону; в одной из
легенд Моисей изгоняет Беса, державшего в страхе целую округу.
Близким именем называлась и популярная в Египте богиня Бает
(Бастет) [Вио 1975, с. 36-39]. Частица -ты в конце слова может быть
объяснена как показатель женского рода. В такой роли окончание -т
встречается в древнеегипетском и семитских языках; как пережиток,
оно прослеживается и в индоевропейских (в женских именах). Такое
объяснение делает понятным, почему слово "албасты" существует и
в форме "алмас", "албыс": очевидно, в ряде случаев показатель рода
в названии духа (божества, демона) не был обязательным.
♦ ♦ ♦
В Средней Азии и Казахстане, как и в других местах, албасты -
демон - причиняющий вред роженицам и младенцам. Она не только
крадет легкие. По казахским поверьям, она садится на роженицу и
давит ее своими огромными грудями так сильно, что женщина лиша-
ется чувств. Вера в козни албасты доставляла немало беспокойства
людям, и к ее изгнанию привлекались шаманы.
Так, имеется описание обряда, проведенного шаманом над бере-
менной женщиной, заболевшей будто бы по вине албасты. Баксы
играл на кобызе, вскакивал на саблю и "неистовствовал до рас-
света". В день родов с женщиной сделалось дурно, и ее муж, ис-
пугавшись, опять поскакал за таманом. Баксы признал, что жен-
щину вновь "давит" албасты (албасты басавутар) и взялся изгнать
56 В.Н. Басилов
демона [Вавилов 1896]. Другой автор сообщал: "Баксы по пре-
имуществу лечит больных, неплодных или тяжело рожающих жен-
щин, сделавшихся жертвою... албасты". Он упоминал о баксы, ко-
торый, положив перед собой "крест-на-крест два больших ножа",
пел: "Нож черный, нож белый, бейте албасты!" [Комаров 1905].
Баксы Таже Тонаев говорил: "Лечу я в большинстве случаев от
албасты - это, можно сказать, моя специальность".
В народных верованиях к началу XX в. преобладало убеждение,
что албасты просто боится человека, сумевшего подчинить ее
однажды, что шаман или иной специалист, изгоняя демона, при-
меняет грубую силу. Известен случай, когда казах, боясь, чтобы
албасты не задушила беременную жену, поехал за муллой. Мулла не
помог, и муж обратился к баксы. Баксы носился по юрте, стегал
стены плетью и громко кричал: "Эй, эй, выходи!" [Ходырев 1912].
Таже Тонаев вспоминал, как вылечил женщину, умиравшую после
родов: "Я соскочил с лошади и с нагайкой в руках вошел в кибитку.
Больная лежала неподвижно. Лицо ее посинело, и глаза были крепко
сомкнуты. Кругом сидело несколько мулл, набожно читавших мо-
литвы. Вдруг я вижу албасты. Он[а] сидел[а] на сундуке, обтянутом
кошмой. Ноги его [ее. - В.Б.] с вывернутыми ступнями свесились, и
длинные груди были закинуты за плечи. Албасты о чем-то думал [а].
Едва он[а] меня заметил[а], как быстро вскочил[а] и скрылась,
незаметно пройдя через решетку кибитки" [Степной 1897]. По
рассказу другого шамана, он был призван к женщине, которая
только что разрешилась от бремени. "Ее, оказывается, начала ду-
шить албасты". Когда шаман взглянул на больную, он увидел, что
"на ней сидело какое-то существо с большим туловищем, с головою,
величиною в котел; от сильного давления чудовища груди и живот
роженицы подходили к ее шее. Это была албасты. Я подошел и
ударил ее несколько раз по голове кинжалом. Албасты соскочила, я
погнался за ней на двор и преследовал ее до тех пор, пока она не
скрылась" [Диваев 1896, с. 43—44]. Если шаман (или человек,
подчинивший себе албасты) сумел внушить демону большой страх
перед собой, ему достаточно было послать к больной женщине свою
тюбетейку, плеть или кобыз, и демон оставлял свою жертву в покое
[Жубанов 1958, с. 229].
Вместе с тем народные верования сохранили и представление о
своего рода договоре человека с албасты. В юго-западных районах
Туркмении в 1960-х годах я не раз слышал легенду о человеке,
который воспользовался услугами демона ал. Он решил избавиться
от сварливой жены, спустил ее якобы за золотом в колодец, ov /сзал
веревку и убежал. Дня через три он из любопытства пришел к
колодцу и услышал чьи-то крики о помощи: "Я здесь жил сорок лет,
а теперь эта женщина мне покоя не дает!" Туркмен опустил в ко-
Албасты 57
лодец веревку, и по ней выбрался наружу ал. В благодарность демон
сказал своему спасителю, что отправится в соседнюю страну и
нашлет болезнь на дочь падишаха: "Никто ее не вылечит. Падишах
пообещает отдать красавицу-дочь в жены тому, кто сумеет ее
исцелить. Ты придешь, скажешь какую-нибудь молитву - и я
исчезну. Девушка станет здоровой, ты женишься на ней и будешь
богатым". Все получилось так, как предсказывал демон. Затем ал
сказал: "Я пойду дальше, причиню болезнь дочери иранского па-
дишаха. Тебя позовут, чтобы вылечить ее, но ты откажись. При-
дешь- сделаю тебе зло". Когда явились послы от иранского па-
дишаха, туркмену пришлось согласиться: падишах в случае отказа
угрожал войной. Туркмен сумел обмануть демона. Он вбежал в
покои дочери падишаха весь в грязи и сказал невидимому для других
людей духу, что жена выбралась из колодца и ищет их обоих. Ал
убежал, и девушка выздоровела.
Легенда носит характер анекдота; у некоторых народов она дала
почву для сказочного сюжета [Захаров 1894, с. 151; Кастанье 1912,
с. 3-5], но в основе ее лежит живое верование. Представление о
том, что человек, исцеляющий больного от козней демона, имеет
какую-то особую связь с этим демоном, было широко распрост-
ранено у народов Средней Азии и Казахстана. В качестве примера
приведу рассказ семидесятилетнего узбека, с которым я беседовал в
одном из кишлаков Галля-Аральского района Джизакской области
УзССР в 1974 г. Демона албасты в этих местах называют "желтой
девой" - сары кыз (сари £из).
«Мой отец однажды, возвращаясь домой вечером, увидел у арыка
женщину, расчесывающую свои желтые волосы. Отец подкрался к
ней сзади, схватил за пояс, намотал волосы на левую руку и стал
бить ее плетью. Желтая дева сидела спокойно; отец бил ее долго.
Лицо у нее желтое, и посреди лба только один глаз - большой, как
пиала. Отец оторвал кусок материи от портянки (пайтава), выдернул
нитку из веревки на штанах (иштон бов). Эти вещи - тяжелые для
желтой девы. Отец обмотал их вокруг плети и снова принялся бить
сары кыз. Ударил четыре-пять раз, и она стала просить пощады.
Она дала ему две монетки, сказав, что монетки будут возвращаться
к нему, если он будет покупать только сласти. Отец не взял монетки
и опять ударил желтую деву. Тогда она сказала: "Я не останусь в
том месте, где ты появишься!" Отец отпустил ее, и там, где она
была, вдруг очутился бурдюк с водой. Отец ничего не взял у сары
кыз. После этого отец вылечивал женщин, которым желтая дева
вредила, погружая их легкие в воду. Он приходил с плетью, и сары
кыз оставляла больную. Однажды она сказала ему, чтобы он не
шел к своему другу, у жены которого должны были начаться роды.
Однако отец не послушал ее. Женщина благополучно родила, отец
58 В.Н. Василов
вернулся домой с вознаграждением. Вдруг перед ним появилась
желтая дева. "Почему ты сделал наперекор мне? - спросила она. -
Я запрещала, потому что они тебе не дали бы много. И я собиралась
убить эту женщину. Теперь ты заболеешь". Отец действительно
заболел, но через несколько дней зарезал для сары кыз барана или
козу, поставил один светильник, и они подружились снова. Сары кыз
являлась ему и говорила, в каком случае он должен идти к больной
женщине, а в каком - нет».
Таким образом, исцеление людей, заболевших по вине албасты,
происходило по ее же указаниям. Зачем надо было демону вызывать
у людей болезнь и в то же время готовить свое изгнание?
Объяснение дают общие представления народов Средней Азии и
Казахстана о духах: принося болезнь, духи ждут жертвоприношений.
Шаман прогонял албасты, но вместе с тем, как свидетельствует
казахский материал, требовал у родственников пациентки жертвен-
ных животных, чтобы умилостивить духа (такой смысл, очевидно,
придавался и переселению духа в животное). Следовательно, для
демона его связь с человеком сулила выгоды. Народные верования
допускали, что связь с албасты могла быть использована в дурных
целях. Среди казахов бытовало мнение, что есть "люди, которые
знаются с албостою, которые употребляют ее своим орудием для
того, чтобы принести ближнему или соседу неприятность или даже
несчастье" [Поярков 1891, с. 43].
Подчеркну, что в рассказах о встречах человека с албасты демон
показывается человеку (чаще всего мужчине) сам. Видимо, в
народных поверьях некогда был ясно представлен мотив избран-
ничества. Вступая в борьбу с человеком, демон желал убедиться в
силе своего избранника. (Такая логика сохранилась в верованиях
туркмен-нохурли: девушка, падишах джиннов, предложила избран-
нику помериться силами; когда он победил, девушка сказала:
"Я много помогала твоим предкам. Испытав тебя, поняла, что ты
тоже можешь владеть джиннами" [Василов 1970, с. 104].) Власть над
албасты дает человеку способность помогать окружающим в слу-
чаях, когда им вредит албасты. Иначе говоря, человек прежде всего
властен над подчинившимся ему (первоначально: над избравшим его)
духом. Эта идея прослеживается и в характеристиках духов других
категорий, но в поверьях об албасты особенно ясна.
К началу^ХХ в. прежние представления о взаимном характере
связи албасты с человеком стали забываться и смысл связи
понимался чаще всего как подчинение демона сильному и догад-
ливому удальцу. Естественно, что при таком понимании возможно
было уже верить, что "демон превращается в прислугу завладевше-
го ею человека"; "своей властью над демоном такой человек поль-
зуется для того, чтобы не дать албасты вредить людям" [Сухарева
Албасты 59
1975, с. 34-35]. А часто вся польза победы над албасты сводилась
для человека к тому, что демон клялся никогда не вредить ему и его
потомкам. По верованиям конца XIX-XX в., власть над албасты
совсем не обязательно делала человека шаманом; киргизы называли
людей, способных отгонять этого демона от рожениц, термином
"куучу”, или ’’куугунчу”, образованным от глагола ”куу” (‘пре-
следовать*, 'гнать*) [Баялиева 1972, с. 96]. Однако связь албасты с
шаманством сохранилась и убедительно доказывается накопленными
сведениями.
Албасты упоминается среди духов-помощников шамана.
Ю.В. Крупянская в 1930 г. наблюдала в Хиве шаманский лечебный
обряд, окружающие объяснили ей, что духи-помощники шаманки
(палмин)- албасты и сумьян-пари (устное сообщение Ю.В. Кру-
пянской).
Интересен рассказ старика-шамана Зиядуллы (Денауский район
Сурхандарьинской области УзССР). Он уклонялся от встречи, а
когда она состоялась, избегал рассказа о своем занятии. Но и заго-
ворив, он юлил, стремился что-то скрыть, поэтому полной уверен-
ности в надежности его сообщения у меня нет. Однако его слова
нисколько не противоречат имеющемуся материалу, и привести их
можно. «Шаману помогают сорок чильтанов и пари, а также Момо-
Хова (момо-ховалари), - объяснял Зиядулла. - Мне альбасты по-
могает, когда я наступаю на раскаленное железо, поэтому и не
бывает ожогов на ноге. Альбасты - старая женщина с желтыми
волосами. Она говорит гундося. Когда при родах женщину "черное"
давит (хотин тукканда igopa босади = ку?), это альбасты. Альбасты
подсовывает ребенку свою грудь и этим причиняет ему вред.
Альбасты [только] одна в мире. В отличие от джиннов, которые
пребывают в местах, где зола, альбасты [чаще всего] бывает в
воде. Говорят: желтая бабушка (сари момо), черная бабушка (igopa
момо), но это неверно. Правильное название - альбасты. Тот, кто
завладеет ее волосом, имеет большую силу. Когда такой человек
приблизится к роженице, она сразу придет в себя, и альбасты ничего
не сделает ребенку. У меня альбасты [т.е. власть над ней. - В.Б.] в
роду. Альбасты тронули кого-то из моих предков. Обычно она гряз-
ных (ифлос) людей трогает. Чистых людей трогают [духи] чиль-
таны» (запись 1970-х гг.)
Ч.Ч. Валиханов записал легенду, отразившую представления ка-
захов о взаимоотношениях шамана с албасты. Баксы Койлубай
всегда успешно отгонял демонов от рожениц. "Следовало Койлубаю
послать только плеть или шапку, тотчас [албасты] оставлял" боль-
ную. Однажды во сне Койлубаю явился глава его духов-помощников
пери Надыр-Чулак и "объявил ему, что через несколько дней йри
родах одной женщины будет сам царь албастыев, и совковая ему
60 В.Н. Василов
туда не ездить, говоря, что уже довольно мы восстановили на себя
собрание духов ради прихотей человека". Тем не менее Койлубай
отправился спасать женщину. «Подъезжая к юрте [баксы] поднял
гвалт и, размахивая саблей, въехал в юрту и устремил глаза, полные
гнева и бесстрашия, на чанарак [купольный круг. - В.Б.] юрты...
Койлубай увидел на чанараке царя албастыев, на черной, как
бархат, лошади, закованного с головы до ног в синее железо, [с]
одним глазом, огромным, как чашка для кумыса, торчавшим на
средине широкого лба, - он злобно улыбался на Койлубая и говорил:
"Тебя мы уважали и дали много, но дай же хоть раз нам"... он
победил Койлубая». Далее описывается битва между войсками
духов-помощников шамана, которые не могли оставить баксы в
беде, и войсками царя албасты. Надыр-Чулак «вонзил копье в самую
1рудь одноглазого шайтана. Албасты бежали... Койлубай вскочил с
места... схватил кобыз, начал И1рать, крича во все горло: "Схвати
его живого и приведи его ко мне". Больная тоже пришла в себя.
Албасты были разбиты наголову, царь их полонен и связанный
представлен к Койлубаю: его приняли на службу, назначив
начальником албасты» [Валиханов 1961, с. 117-120].
Ясное указание на то, что албасты (марту) оказывает шаману
помощь, содержится в следующих строках призывания казахского
баксы:
С албасты советующийся,
С марту подружившийся,
Через ангелов подслушивающий предрешение
Предок [правильнее: начальник. - В.Б.] пери -Толыбек
[Ерзакович 1967, с. 106]
Албасты упомянута и среди духов, у которых просила помощи
таджикская шаманка [Муродов 1975, с. 100].
В накопленном к сегодняшнему дню материале прослеживается
устойчивая связь начала шаманской деятельности с явлением ал-
басты будущему шаману.
Так, сын узбекского шамана Тилёукабыла (Тилёу-бакши), живше-
го на территории современного Галля-Аральского района Джизак-
ской области УзССР и умершего в 1933 г., рассказывал мне, что у
его отца в роду не было шаманов. Но однажды Тилёукабыл встре-
тил желтую деву (сары кыз). У него помутился рассудок, он неко-
торое время х^рл при святыне, чтобы выздороветь. Однако ему
пришлось стать шаманом, иначе он не излечился бы. Некоторые
знавшие Тилёукабыла пожилые женщины были уверены, что жел-
тую деву увидел и "схватил" дед Тилёукабыла. Когда пришла пора
стать шаманом самому Тилёукабылу, желтая дева "присоединилась"
и к нему, согласно поговорке "Занятия отца продолжил сын" (Ота-
нинг касми ^гилда долди).
Албасты 61
Встречей с албасты началась шаманская карьера казахского
баксы Бексеида Манкишева, жившего в конце прошлого века в
окрестностях г. Чимкента. Его дед и прадед также были шаманами.
Когда Бексеиду было 13 лет, он однажды поймал лежавшего на
земле рябчика и положил себе за пазуху. Через некоторое время
птица превратилась в крошечную девочку с растрепанными
желтыми волосами. "Она посмотрела на меня и засмеялась. В испуге
я бросил девочку на землю... Мне приходилось слышать от
стариков, что в таких случаях следует бить эти существа... Я так и
сделал. Погнался за этой девочкой, поймал ее и сильно избил. Она
скрылась". В тот же день в другом месте Бексеид увидел около
обрыва трех играющих девочек, которые стали его дразнить. "Ве-
роятно, тут что-то нечистое, - подумал я, - и стал их бить. Две
девочки скрылись, а одна осталась. Вглядевшись в нее, я признал в
девочке ту самую, которую я только что бил. Я не оставил на ней
ни одного волоса, все выдрал... Я освободил ее. Волосы этой девоч-
ки я принес домой и показал всем. Мне сказали, что эти волосы
принадлежат албасты. Я их спрятал в книгу, которую тогда учил".
Через несколько дней Бексеид увидел двух всадников в белых
чалмах. Они сказали подростку: "Мы переночуем сегодня у тебя,
зарежешь ли ты для нас большого черного серке (козла)?" Бексеид
ответил, что скотом распоряжается его отец. Всадники рассвирепели
и замахнулись на него шашками. Бексеид в страхе ринулся домой.
Мать, узнав о случившемся, попросила отца принести в жертву
святым черного козла, но отец Не согласился. "У меня в тот же день
закрылись глаза, и я не мог открывать их". Отец зарезал козла.
Когда котел с мясом вскипел, мальчик увидел в верхнее отверстие
юрты уже знакомых ему двух всадников; они понесли его куда-то по
воздуху. Бексеид очнулся в мавзолее святого Кочкар-ата. Всадники
дали ему лист бумаги и предложили прочесть написанное на нем, но
мальчик не сумел сделать это. Всадники исчезли, а Бексеид вер-
нулся домой. "Оказалось, что я уже был сумасшедшим". Мальчика
отдали на излечение родственнице матери, тоже шаманке. Он
выздоровел. Однако вскоре он стал слышать звавшие его голоса, а
однажды опять не смог раскрыть глаза. «Живот начал раздуваться,
и я слег. Явился ко мне один человек. Он был с золотыми усами и
имел на пальце кольцо с драгоценным камнем. Человек этот сказал
мне: "Если ты будешь так лежать, то можешь умереть. Если же
встанешь и будешь служить мне, исполняя все мои приказания, то
слава твоя будет расти изо дня в день"... Я тут же посвятил себя в
баксы». У родственника-шамана Бексеид «достиг высших познаний
баксы» [Диваев 1896, с. 42,43].
Рассказ баксы Бексеида убедительно показывает, что древнее
представление о необходимости для будущего шамана встретиться с
62 В.Н. Басилов
албасты со временем усложнилось. Связи с албасты оказалось недо-
статочно, ибо шаману требовались и другие, более могущественные
духи-покровители. В воображении Бексеида они предстали как
всадники, имеющие какую-то связь с местным святым Кочкар-ата, и
как мужчина с золотыми усами. И тем не менее смысл встречи с
албасты в данном рассказе все еще не заслонен окончательно
позднейшими наслоениями: первой пробой сил для Бексеида было
изгнание албасты. Жену его односельчанина, родившую ребенка,
начала душить албасты. Послали за новичком-шаманом. Придя,
Бексеид увидел своего наставника, родственника-шамана: "он сидел,
наклонившись к земле и прислонив ко лбу кинжал. Увидя меня, он
поднял голову и дал мне бата (благословение) действовать далее"
[Диваев 1896, с. 43]. Бексеид прогнал албасты. Впоследствии он стал
известным шаманом с широкими функциями.
Верования узбеков дают нам другие примеры связи албасты с
шаманским культом. Албасты, сохраняя свою роль вредоносного
демона, наделена и ролью духа-помощника. Другие категории духов
(прежде всего воспринявшие мусульманскую окраску пари) отодви-
нули демона на задний план. Но при всех новшествах, изменивших
древний стереотип, у албасты сохранилась связь с началом шаман-
ской деятельности.
Шаманка Айдай (Га л л я-Аральский район Джизакской области
УзССР) не раз рассказывала мне о девице-шаманке из Ак-Тепе, у
которой за занавеской была поставлена на семи тарелочках разная
еда для духов-помощников. Айдай <фишла к ней утром в пятницу с
просьбой узнать о своей судьбе. В кЬмнате на расстеленном молит-
венном коврике лежали четки, но девушка отказалась гадать: "Се-
годня пятница. Все духи ушли, только один страж (караул) остался".
Айдай решила ждать прихода субботы; завязалась беседа, и
шаманка рассказала ей о себе. В возрасте лет 14 она "схватила"
желтую деву (сари ^изди ушлаган). Дело было так. Гуляя, она
увидела пять или шесть играющих желтых девушек. Она будто бы
не поняла, кто они такие, и стала их прогонять. Девушки убежали,
осталась одна; будущая гадалка вырвала у нее прядь волос. Сары
кыз ей сказала: "Я тебе не принесу вреда". Девушка пришла домой,
сообщила о случившемся матери и показала яркие, как золото,
волосы. Но мать ничего не увидела. "Да вот же они!" - настаивала
девушка. И тогда мать сказала: "Наверное, такая твоя судьба
(таедирингда бор экан)". Родители согласились, чтобы девушка
приняла шаманское посвящение: "Чтобы разума не лишилась, чтобы
пари не унесли". После посвящения девушка стада большой
шаманкой. Она излечивала больных, проводя камлания под звуки
своего бубна. Когда она принялась Гадать для АйдайА то не пела
призывания. Она лишь приоткрывала занавеску и говорила: "Лаб-
Албасты 63
бай!" (так принято в мусульманской среде откликаться на зов
свыше), а затем отвечала на вопрос Айдай. По мнению Айдай, сары
кыз входит в число наследственных духов девушки. Среди этих
духов основные - пари. Самая главная пари где-то сидит, отдает
распоряжения. Получила ее приказ и желтая дева: "К такой-то де-
вушке пойди, тронь ее, ибо она до сих пор не приняла наслед-
ственных духов (мерос)". Если бьгдевушка оказалась неспособной
удержать (жийиб б^лмаса) своих духов, они "тронули" бы кого-
нибудь из ее родственников.
У шаманки Нобат (Галля-Аральский район) "шаманская болезнь"
началась после того, как она услышала из колодца позвавший ее
голос. Она убеждена, что ее позвала желтая дева. Об этом говорил
ей и мулла, приглашенный исцелить ее: "Из колодца тронули вас
духи. Среди этих духов есть и сары кыз, и дураки (тентак). Дураков
я свяжу (тентакларни ман бойлайман), они не принесут вам вреда.
Вы будете видеть много снов; телегу увидите, на телеге поедете.
Это - откровение (аён) для вас, понятное вам. Став птицей с двумя
крыльями, так летать будете!" Этими словами он ясно давал понять,
что судьба Нобат - быть шаманкой. В представлении Нобат желтая
дева тесно связана с ее духами-помощниками сорока девами (кыркын
кыз). Как она подчеркивает, это - разные духи. Голос из колодца -
знак для человека, который должен принять посвящение. Посвя-
щение нужно сорока девам, желающим насладиться красной кровью
("Виз энди $иркин $из, шу [аёл] патаа олеин, дормизи $он жалашга.
Уни жалаш учун патаа буюради"). И так как желтая дева сильнее,
чем сорок дев, они ей "приказали" (выражение Нобат) подать голос
из колодца, т.е. "тронуть" Нобат. Нобат пояснила: есть люди, ко-
торые хватают желтую деву, если она "трогает" их (бир кишилар,
сари $из тийиб, сари $изни ушлаган б^лади), и тем самым подчиняют
ее себе. "Желтая дева не у каждого человека бывает [в подчи-
нении]", - сказала она. По ее мнению, шаманы так или иначе свя-
заны с желтой девой. «Если сары кыз не тронет, человек шаманом
не станет. Если тронет сары кыз, человек будет настоящим
шаманом. Сары кыз [- сильный дух:] все стороны знает [т.е. знает
обо всем, что происходит вокруг. - В.Б.] и извещает об этом ша-
мана. Где есть шаман, там есть и сары кыз. Если схвативший
желтую деву человек скажет: "Ха!", она от него убегает [т.е. он
отгоняет демона от роженицы]. Если шаман или шаманка
происходят из потомков человека, которого тронула сары кыз
(^зи сари $из тийган кишилардинг уругзатида б^лса), то они во
время камлания (бо$им) призывают [на помощь] сары кыз, ибо
такой человек сам подчинил себе сары кыз (^зи сари $из ушлаган
б^лади)».
Интересно замечание Каршигуль, дальней родственницы и одно-
64 В.Н. Василов
сельчанки Нобат; Каршигуль, сама принявшая шаманское посвяще-
ние, но не ставшая шаманкой, хорошо знает местные шаманские
традиции. По ее рассказу, Нобат, перед тем как стать шаманкой,
лежала больная сорок дней. Гадалка, которую попросили узнать о
причине болезни, изрекла: "Ее тронули или дэв, или сары кыз-марту,
или пари. Надо взять бубен или плеть [т.е. стать шаманкой],
посвятив [этот шаманский атрибут] им". Последние слова вновь на-
поминают нам о представлении, дожившем в среднеазиатском ша-
манстве до наших дней: шаман в своей деятельности связан с теми
духами, которые "тронули" его, причинив болезнь, и этим же духам
посвящены его ритуальные атрибуты. "Те шаманы, которых трону-
ла желтая дева (сари ?издан тийган б^лса), призывают ее себе на
помощь", - сказала Каршигуль, добавив: "Сильный демон (жаман
бадбахт)".
По представлениям шаманки Айдай, односельчанки Нобат, жел-
тая дева входит в круг наследственных духов, является "их челове-
ком" (мероснинг одамлари). «Если бакши не вспомнит о сары кыз,
о джиннах [т.е. не зажжёт для них светильника, не принесет жерт-
ву. - В.Б.], они придут и тронут. [Главные] наследственные духи
(мерос) сами не трогают. Они только приказывают своим "людям",
"войскам" (одамларга, лашкарларга). И те по приказу наследствен-
ных духов трогают шамана в случае, если он откажется принимать
посвящение (пата)». Подтверждением этих слов может служить рас-
сказ Айдай о случае, происшедшем с ее братом, который был на-
казан духами, когда не дал деньги для совершаемого ежегодно обря-
да посвящения Айдай. Подвыпивший брат видел: его устрашали две
лишенные ресниц желтые девушки, а одетые в белое пари отогнали
их. Айдай обратилась к Нобат, та сказала: "Он зашел в конюшню,
где обычно бывают дэвы. И дэв его тронул, объединившись с сары
кыз. А пари помогли ему". Это сообщение лишь на первый взгляд
противоречит мнению Айдай о функциях духов. Почему пари, ее на-
следственные духи-помощники, защитили провинившегося перед ни-
ми гуляку-брата? Потому что брат был уже до смерти напуган, полу-
чил свое, и наказание можно было не продолжать. Айдай по предпи-
саниям Нобат провела обряд "кёч-кёч" на берегу арыка. Когда она
зажгла светильники в честь духов (сари-^изларга, сари-девларга), то
сказала и желтым девушкам, и дэву, каждому отдельно: "Ты - мой
человек (сен менинг одамсын), зачем тронул моего родственника?"
Айдай пояснила мне: «Ведь они входят в состав "наследства". В "на-
следстве" и плохие, и хорошие духи бывают». Вообще к желтой де-
ве Айдай относится с почтением. Она говорила, что видела ее два
раза, в виде девочки и в виде кошки. Она погналась за кошкой, но
не сумела поймать. «Если бы я хоть один волосок у нее вырвала, то
сидела бы, как пари (пари б^б ^ти-pap эдим), в белой одежде с чет-
Албасты 65
ками в руках, и бубен был бы мне не нужен [т.е. была бы сильной
шаманкой]».
Узбекская шаманка Ульпан (пос. Богарное Галля-Аральского
района) верила, что у нее есть особая связь с желтой девой. Когда-
то желтую деву подчинил себе ее отец, известный шаман, который
будто бы был унесен смерчем в пещеру, где был свидетелем ’’игры”
духов и получил посвящение. После смерти отца его шаманские
атрибуты пропали, и дядя Ульпан, по ее словам, пошел в ту самую
пещеру, где сидел ее отец, и принес оттуда рассохшуюся обечайку
от бубна. ’’Мой бубен - из пещеры, от желтой девы, - утверждала
Ульпан, - и поэтому я ей верю".
Принимая обряд посвящения, Ульпан, пригласив на угощение сна-
чала своих духов-помощников (мусульманских святых и пари), призы-
вала и желтую девушку и черного дэва (патаа олишда охирига сари
$изга £ора девга жалинамиз).
По словам Айдай, есть случаи, когда люди, принимая шаманское
посвящение, забивают желтого козла или желтого барана для сары
кыз. Ульйан, перечисляя предметы, которые надо поставить на ко-
жаную скатерть в ритуале шаманского посвящения, сказала:
"А если вы подчинили себе желтую деву (сари $из ушланингиз
б^лса), то для нее нужно поставить один куймак” (род омлета).
Шаманка Марзия (Га л ля-Аральский район), у которой духами-
помощниками были чильтаны, также утверждала, что во время
обряда посвящения должна быть призвана желтая дева: "Сорок один
светильник, поставленный на кучке муки, - для всех духов: и для
Момо-Ховы, и для сорока чильтанов, и для желтой девы. Один
светильник среди них - [специально] для желтой девы. Желтая дева
показывается в облике девушки, Момо-Хова в виде старухи". По
представлениям Марзии, среди духов есть семь братьев и сестер
(ага-ини). Она перечислила шесть (седьмую категорию не вспомни-
ла): пари, сары кыз, кыркын кыз, Момо-Хова, Адам-ата, сорок чиль-
танов. (Порядок перечисления дан не по старшинству; самой стар-
шей среди духов Марзия считает Момо-Хову.) Здесь важно, что
желтая дева (т.е. албасты) поставлена наравне с прочими духами-
помощниками.
По рассказу гадалки Махмуры, таджички, живущей в кишлаке
Пошхурт Ширабадского района Сурхандарьинской области УзССР,
она стала гадалкой в 1950 г., в возрасте 30 лет, будучи замужней
женщиной, матерью нескольких детей. Однажды она сидела у мест-
ной святыни Ханако-ишан-бова, где должна была сторожить колхоз-
ное имущество, и незаметно задремала. Во сне увидела, как какой-
то старик подошел к ней и ударил по щеке. Это был, думает она,
святой, уязвленный тем, что она позволила себе дремать у его
могилы. Корда Махмура очнулась от страшного сна, ее трясло, она
5 270
66 В.Н. Василов
бросалась на людей. Она пошла к гадалке-узбечке. "Зарежь козла
желтого цвета шерсти", - сказала гадалка. Махмура потребовала у
мужа: "Немедленно найди желтого козла". Она была чрезвычайно
возбуждена. Муж понял, что Махмура способна задушить его, если
он воспротивится. Сразу же зарезали козла "желтой" масти, мясо его
было съедено женщинами. Вечером шаман провел обряд "джахар" в
здании святыни Ханако-ишан-бова, причем в честь святого был
зарезан "пестрый" (черно-белый) баран. Какому же духу предназ-
начался "желтый" козел? Зная, что животное с "желтой" шерстью
приносится в жертву албасты, мы вправе думать, что рассказ Мах-
муры, откровенно уклонившейся от беседы о своих духах-помощ-
никах, не полон. На возможную связь Махмуры с албасты намекает
ее же упоминание о том, как она однажды при родах приняла
ребенка. После этого ей приснилась похожая на албасты женщина,
которая очень ругала ее: "Зачем ты ходила принимать ребенка?"
Утром Махмура попросила мужа зарезать животное в жертву этому
духу (видимо, албасты) и с тех пор не берет на себя обязанности
повитухи. Догадки о связи Махмуры с албасты неожиданно подтвер-
дились рассказом племянницы Махмуры, сообщившей, что у ее тет-
ки есть волос албасты. Она кладет его перед собой, когда гадает,
играя на бубне. Волос хранится где-то в сундуке. Рассказчица сама
этого волоса не видела, лишь слышала разговоры о нем в кругу род-
ственников. По ее мнению, Махмура могла сама встретиться с
албасты и вырвать волос.
Поняв роль албасты как духа, с которым нередко связано начало
шаманской деятельности, мы можем думать, что появление "желтой
старухи" (сары момо) не случайно и в рассказе знахарки Кырмыз
(Ангорский район Сурхандарьинской области УзССР). Отца Кырмыз,
по ее рассказу, в 18 лет разбил паралич. Его вылечил ишан, и он
стал знахарем (кушнач). Он умер, когда Кырмыз было 13 лет.
В 18 лет заболела и она. Гадалка посоветовала зарезать в жертву
духам животное. Кырмыз выздоровела и с тех пор не болела. Зато
болели все ее дети, когда им исполнялось 18 лет. Очень тяжело
болел пятый сын. Гадалка сказала, что для его исцеления надо за-
резать курицу желтого цвета, так как его тронула "желтая старуха"
(сари момодан теккан), т.е. албасты. Кырмыз в это время еще не
принимала посвящение, и в соответствии с традициями закономерно,
что духи отца давали знать через болезнь детей о ее долге перед
ними. "Желтая старуха" и здесь, видимо, выступает как исполнитель
воли наследственных духов (в данном случае - чильтанов).
Есть две разновидности албасты - желтая и черная. Видимо, это
деление связано с древним разграничением окружающего мира, в
том числе духов и божеств, на две половины. Как показал А.М. Зо-
лотарев, такое деление явилось идеологическим отражением ар-
Албасты 67
хаической дуальной (фратриальной) организации общества. Принад-
лежность всего мира к двум частям выражалась в сложной симво-
лике. Одна половина считалась правой (в то же время небесной,
верхней, белой, восточной, мужской), другая - левой (в то же время
подземной, нижней, черной, западной, женской) [Золотарев 1964]. В
Средней Азии и Казахстане сохранились лишь отдельные осколки
архаического комплекса представлений. Так, албасты не имеет связи
с небесной сферой, и вся категория в целом устойчиво связана с
водой. Однако само деление на две группы проследить нетрудно.
В верованиях казахов «албасты или марту... бывают двух родов:
"сары-албасты" [желтая албасты] и "кара-албасты" [черная ал-
басты]... Эти два рода албасты по своему отношению к людям, по
своему характеру резко отличаются друг от друга. Первый, т.е.
сары-албасты, - ужасный хитрец и обманщик, иногда он дает
человеку обещание оставить его в покое и держаться от него
подальше и все-таки следит за каждым его движением, ища удоб-
ного случая повредить ему. "Кара-албасты", или просто "кара", хотя
и редко преследует человека, но гораздо злее и опаснее своего
собрата. Он редко вредит человеку; но, если он решился погубить
человека, то только в самых редких случаях можно отстранить его
пагубное влияние» [Кустанаев 1894, с. 42]. Эти сведения дополнены
в других работах: по поверьям казахов Перовского уезда, «у кара-
албасты глаза круглые и большие... они не мигают. У некоторых из
них только один глаз... Когти на руках длинные. Кара-албасты в
большинстве случаев - женщина довольно страшного вида с длин-
ными волосами и большими грудями, которые на концах разде-
ляются на шесть сосков» [Касганье 1912, с. 14]. Черная албасты
более опасна, чем желтая [Толеубаев 1979, с. 61]. Киргизы также
различали два вида этого демона: черного и желтого албасты (ина-
че - сасык албарсты, вонючий албарсгы). "Самым страшным демо-
ном киргизы считали кара албарсты. Его представляли в виде
желтой собаки, желтой козы или желтого щенка [как видим,
символика цвета здесь потеряла былое значение. - В.Б,]... В любом
виде кара албарсты вредил женщине во время родов". Демон якобы
вынимал у нее легкие и бежал к реке, чтобы бросить их в воду.
"Смерть женщины во время родов считалась делом рук кара ал-
барсты". Защищать рожениц от демона могли люди, победившие
албарсты в борьбе, завладевшие ее волосом. Среди таких людей
были и шаманы: "Некоторым шаманам (бакши), чаще черным шама-
нам, приписывали способность изгонять черных албарсгы" [Баялиева
1972, с. 97].
Почему черная албасты считалась сильнее? Как уже говорилось,
черный цвет символизировал принадлежность к "нижнему", подзем-
ному миру. На определенной ступени развития у широкого круга
68 В.Н. Василов
народов мира небо стало пониматься как место пребывания добрых
божеств и духов, а подземный мир - как царство злых сил. Создавая
порядок в воображаемой картине мира, человеческая мысль очи-
щала небесные сферы от демонических сил, сосредоточивая их в
"нижнем" мире. В свете древнего мировоззрения, делившего мир на
две половины, логично, что черного албасты должен изгонять чер-
ный шаман. Черный цвет в обозначении и духа, и шамана указывает
на связь между ними, на их принадлежность к одной и той же
категории явлений. Специалист действует в своей сфере. Такое
суждение находит поддержку в киргизских верованиях: "Если изгна-
нием кара албарсты занимались черные шаманы (хотя не все черные
шаманы обладали этой способностью), то этих черных шаманов
киргизы считали абсолютно бессильными перед сары албарсты"
[Баялиева 1972, с. 98]. Очевидно, желтых албарсты изгоняли белые
шаманы. С.М. Абрамзон беседовал с двумя киргизскими белыми
шаманами; оба убеждали его, что были способны прогнать албарсты.
В данном случае неясно, о какой разновидности демона шла речь;
скорее всего, представления о различиях уже не были ясными. Один
шаман "различал два вида албарсты: 1) кайып албарсты, имевшего
вид архара, и 2) сасык албарсты - вонючего албарсты, похожего на
женщину" [Абрамзон 1958, с. 150].
Видимо, и другие среднеазиатские народы прежде признавали две
разновидности демона албасты. У туркмен и узбеков, как и у каза-
хов и киргизов, было принято говорить: "черное надавило" (узб. дора
басты), когда имелось в виду нападение албасты на человека.
В узбекском дастане, например, упоминается о женщине, которую
"черная задавила" до смерти ("Холмуминнинг энаси $ора босиб ^лди")
[Кунтугмиш 1975, с. 133]. У некоторых групп полукочевых в прош-
лом узбеков сохранились отчетливые архаические представления о
черной албасты. Для понимания древних демонологических воз-
зрений большой интерес представляет рассказ преподавателя Самар-
кандского государственного университета, уроженца селения Саза-
ган Советабадского района Самаркандской области О. Юсупова, ко-
торому я приношу глубокую благодарность за сообщенные мне све-
дения.
По семейному преданию, бабушка его матери, будучи уже заму-
жем и имея троих детей, как-то ехала одна на ишаке по узкому
ущелью Курук-сай в полутора километрах от Сазагана. Проезжая
мимо места, считавшегося излюбленным духами, ибо в ветреные дни
из отверстия в скале раздавались звуки, она услышала, что ее кто-
то зовет. Оглянувшись, она увидела сидящую в тени под самым
отверстием женщину, которая расчесывала свои черные мокрые
волосы; капли воды падали с волос на землю. "Что ты хочешь?" -
спросила прабабушка. Женщина громко засмеялась, отчего загрохо-
Албасты 69
тало все ущелье, отвела волосы с лица, и прабабушка увидела
горящие глаза и ослепительно блестящие зубы. Женщина встала;
оказалось, что она очень высокого роста; у нее был разорван живот
и виднелись внутренности. Прабабушка поняла, что перед ней дух
кара-мартув. Внезапно кара-мартув дернула головой, и капля воды с
ее волос попала прабабушке на лицо. Она вспомнила, что в таких
случаях надо прочитать молитву и, несмотря ни на что, продолжать
путь. Вернувшись домой, она упала без сознания и долго не при*
ходила в себя. Предание утверждает, что даже ишак был напуган и
растревожен. Приглашенные к больной местные шаманы совершали
один обряд за другим, и через неделю прабабушка смогла рассказать
о своей встрече с кара-мартув, а затем вновь потеряла сознание.
Родные вызвали из Самарканда знаменитого бакши, который провел
обряд изгнания духа (кочурма). Больная очнулась, но через три дня
начала кричать и рвать на себе одежду; по ее движениям можно
было подумать, что она представляет себя летящей по воздуху.
Местный мулла сделал попытку "связать" ее духов и дал ей
амулет (тумар) - мешочек, в который, видимо, были положены нити,
с помощью которых был проведен обряд "связывания". Прабабушка
немного успокоилась. Амулет привязали к ее одежде, и она получила
способность предсказывать, могла сообщить, например, у кого умрет
ребенок. Она объяснила, что к ней приходит кара-мартув и говорит
об этом. Иногда кара-мартув приходит ночью, забирает ее, и они
вместе летают. Когда к прабабушке являлась кара-мартув, у нее
возникало желание играть на бубне. Она хватала таз, казан, разные
деревянные вещи, стучала по ним пальцами, как по бубну, и пела.
Гадалки (полбин) были единодушны в мнении, что она должна стать
шаманкой. Прабабушка сама натянула козлиную кожу на обод бубна
и стала шаманить, не приняв даже посвящения от другой шаманки.
Через некоторое время приехавший из кашкадарьинских степей
ишан (пир) одобрил ее решение быть шаманкой и дал ей еще один
амулет вместе со своим благословением (потиха). После этого пра-
бабушка сделалась известной в округе шаманкой. В роду у нее
шаманов прежде не было.
После ее смерти некому было взять бубен и продолжать ее
занятие. Но когда ее старшей дочери Айше исполнилось лет 18 (она
была уже замужем), она вдруг заболела: стала безумная, как ее
мать после встречи с кара-мартув. Гадалки сказали, что к Айше тоже
пришла кара-мартув. Айша сама взяла пыльный бубен своей матери.
После смерти Айши шаманкой стала ее старшая дочь Турсун,
высокая, сильная, решительная женщина. После смерти Турсун (в
1950 г. в возрасте 94 лет) бубен перешел к ее дальней родственнице,
тоже Айше, которая была постоянной участницей шаманских
обрядов. В некоторых случаях (если, например, надо было далеко
70 В.Н. Василов
ехать) Турсун доверяла ей заменять себя в проведении шаманских
обрядов. Иногда они совершали обряд вместе и играли на бубне по
очереди, передавая его друг другу. Айша умерла в 1979 г. в воз-
расте 82 лет, и пока никто не встал на ее место. Гадалки предлагали
взять бубен одной из дочерей Турсун, указывая, что ее болезненное
состояние может быть вызвано недовольством духа. Но ее муж,
религиозный человек, решительно воспротивился этому, сказав:
"У тебя сил не хватит для занятия шаманством, тебя куда-нибудь
унесут эти духи, причинят тебе вред. Пусть кто-нибудь посмелей
возьмется за это дело”.
В жертву кара-мартув во время обряда "кочурма” приносились
животные с черной или темной шерстью или черная курица. У кара-
мартув семь разных названий. Ее называют также кара-момо,
албасты. Можно назвать и джинном. Думают, что она может пока-
зываться людям в семи разных обликах - как человека, так и
животных. Ей следует посвящать во время обряда семь разных
блюд. Она может вредить людям всех возрастов, но особенно опасна
младенцам до трех лет, которых губит. Молодых людей может
сделать бесплодными. Если кара-мартув нападет на кого-то (’’тро-
нет”), это означает, что кто-то из родственников этого человека
должен стать шаманом или знахарем (кушнач).
Местные верования признают и существование другого духа в
облике пожилой женщины - ’’желтой старухи” (сары момо). ’’Желтая
дева” (сары кыз) местным поверьям неизвестна. ’’Желтая старуха”, в
отличие от кара-мартув, не отождествляется с албасты, хотя ее
описания соответствуют портрету албасты: обычно "желтую стару-
ху” видят расчесывающей свои светлые ("желтые”) волосы. Сары
момо никого не пугает. Это добрый дух, и к ней относятся с почи-
танием те люди, у которых в роду сохраняется связь с ней (кимдинг
уругида сари момо б^лса). Она может наслать незначительную
болезнь, и тогда следует приносить ей в жертву животное (птицу)
желтого цвета. Так, если у беременной женщины рвота и голово-
кружение, гадалка может сказать: "В вашем роду (уругингизда) есть
желтая старуха, ей нужно [зарезать] такое-то животное желтого
цвета, чтобы кровь потекла”. Но польза от нее немалая. Если ей
часто приносить жертвы, она оберегает род от кара-мартув и других
духов. Ей положено зажигать три светильника, в то время как для
кара-мартув зажигается один светильник, раза в два длиннее, чем
светильники для других духов.
Заканчивая обзор сведений об албасты, надо сказать, что древ-
ность связи этого демона с шаманством подтверждается этнографи-
ческим материалом, полученным вне Средней Азии и Казахстана.
Так, тувинцы-тоджинцы называют "шаманскую болезнь”, как и су-
масшествие, словом "албыстаар" - от названия духов албыс [Вайн-
Албасты 71
штейн 1961» с. 176]. Эта традиция разъясняется тувинскими верова-
ниями, согласно которым шаманы могли получить свой дар от раз-
ных духов - ”от шаманов-предков, духов земли и воды, небожи-
телей, злых духов албысов, злых духов аза" [Кенин-Лопсан 1987,
с. И]. В зависимости от разновидности духов, сделавших человека
шаманом, различались и категории шаманов, их место в шаманской
иерархии и особенности ритуальных действий. Шаманы, которые
связывали себя с албысами, "всегда подчеркивали во время камла-
ния, что происходят от албысов". Один шаман, например, восклицал,
обращаясь к духам: "Албыс-шулбус, вы мои родители" [Кенин-
Лопсан 1987, с. 18]. Архаические мотивы сохранила легенда о
встрече шамана с албысами. Однажды вдали от жилья будущему
шаману явились две красавицы. "Незаметно я оказался между ними.
Я чувствовал, что лежу в объятиях красавиц, крепко спящих. И так
мы втроем спали на песчаной косе. Проснувшись, красавицы прово-
дили меня к высокому яру Суг-Бажы. Там стоял большой аал, в
котором жила целая группа албысов. Они сварили чай, очень жел-
того цвета. Каждая ведьма подоила в чай свою грудь, которую
можно было перекинуть через плечо, и мы его пили". Затем еще
дважды в других местах состоялось совместное чаепитие будущего
шамана с албысами; как и в первый раз, в чай было налито молоко
из груди каждой "ведьмы". После этой встречи шаман "вооружился
шаманскими атрибутами и начал камлать". Он заявлял, что "вышел
из племени албысов" [Кенин-Лопсан 1987, с. 19].
У дардоязычных народов Гиндукуша известно предание о великом
шамане, показывающее, что шаман "не только нуждается в под-
держке светлых сил - пери, но что его должны призывать и демоны".
Духи пери совершили над этим шаманом обряд посвящения - унесли
в место своего обитания, "разрезали его тело на куски, мясо и кости
бросили в пруд, наполненный молоком, и там вымыли". Затем шаман
ожил и получил в подчинение семь духов-помощников из числа пери.
Но еще до того он заручился помощью иного духа. Однажды он
«наткнулся на ведьму, раташ, сидевшую на скале и жарившую на
костре неспелое зерно. Свои длинные груди она закинула на плечи...
Он подскочил к ней сзади и сунул оба ее соска в рот. При этом он
крикнул великанше, что теперь она - его мать и что его судьба в ее
руках. Великанша протянула руки к плечам, схватила мальчишку и
швырнула его на противень, в пшеницу. Однако тут ей стало его
жалко, и она сказала ему: "Я хотела теб? съесть, но ты назвал меня
матерью, поэтому я тебя пощажу. Чего же тебе от меня надо?" Али
Бег пожаловался ей на свою беду, и раташ... стала его помощницей
во всех его великих подвигах» [Йеттмар 1986, с. 292-293]. Ведьма
(правильнее - демон) в этом рассказе называется не албасты, а
раташ, но это один и тот же персонаж, о чем говорит его облик.
72 В.Н. Басилов
Воззрения, отраженные в гиндукушском предании, несомненно, в
древности были широко известны и в других регионах. В адыгских
сказках, например, герой видит у реки великаншу "с закинутыми
назад грудями и с веретеном в руках. Подкрался он к старухе и
приложился к ее груди” [Сказки 1978, с. 120]. После этого
великанша становится молочной матерью героя и помогает ему.
Остается коснуться вопроса о влиянии ислама на поверья об
албасты. Образ этого демона был введен в круг мусульманских
представлений о духах, примером чему служит миф о происхождении
албасты, джинна и дэва [Диваев 1897]. Демону было дано и арабское
название ”умм ус-сабиян" ("мать детей”) [Андреев 1953, с. 80-82], в
живой речи нередко звучавшее как ”умми симиён” [Муродов 1979,
с. 56,65]. Этот термин получил ограниченное распространение среди
таджиков и узбеков. Он не только не вытеснил древнего названия
албасты, но чаще всего понимался как обозначение особого демона,
хотя и близкого по роли к албасты [Муродов 1975, с. 108-109]. В
ряде случаев слово симиён (семиан и т.п.) стало именем одного из
духов пари женского пола [Снесарев 1969, с. 29, 50]. Напомню, что
В.Ю. Крупянской указали на двух духов-помощников: албасты и
симиён-пари. Многие черты албасты легко распознаются в вообра-
жаемом облике таджикско-узбекского духа аджины, связанного
своим возникновением с исламом (аджина - мн.ч. от арабск. джинн;
тем не менее в Средней Азии аджина обычно понимается как особая
категория духов [Муродов 1979, с. 70 и др.]).
Распространение мусульманских мифологических воззрений, в
частности представлений о праотце Адаме и праматери Еве, привело
к тому, что в демонологии шаманского культа в ряде областей
Средней Азии Ева (Момо-Хова) заняла важное место. Шаманка
Марзия (Галля-Аральский район) говорила: "Хозяйка [шаманской]
кожаной скатерти и бубна - Момо-Хова. Она - самая старшая среди
духов. Если она и трогает человека, то сильную болезнь не причи-
няет”. Возможно, это место в некоторых вариантах шаманского
культа прежде принадлежало албасты (желтой старухе, желтой
деве). На это указывают отдельные детали ритуала. Так, шаманка
Нобат рассказывала: "Если [человека] тронет [дух] момо [разъясни-
ла: Момо-Хова], надо зарезать ей в жертву желтого козла (сари
уло$). Если тронет желтая дева [албасты], для нее тоже приносят в
жертву желтого козла”. При этом Ева могла заменить собой ал-
басты лишь в том случае, если представления об обоих персонажах
были сходными. Значит, ко времени распространения ислама в
народных верованиях еще мог жить, наряду с образом албасты-
демона, и образ покровительствующего людям духа албасты. Пере-
житочное представление об албасты как благодетельном духе было
отмечено у ферганских узбеков: "Древние и праведные люди гово-
Албасты 73
рят, что очень много помогают альбасты беременным женщинам.
Поэтому никогда не нужно ругать вслух альбасты, а надо часто
поминать их хорошими словами" [Андреев 1916а].
В Сурхандарьинской области УзССР животное "желтого" цвета
приносят в жертву и святому Так-Сулейман-ота, известному мусуль-
манскому пророку, который в верованиях народов Средней Азии и
Казахстана связан с водой. Видимо, и на образ Сулеймана были
перенесены некоторые воззрения, прежде имевшие в виду албасты.
В отдельных случаях оказывалось возможным и смешение албасты с
образом святой. Начало "шаманской болезни" узбекской шаманки
Очил (Самаркандская область) было связано с явлением ей духа в
виде золотоволосой женщины, у которой она будто бы вырвала
волос. По ее разъяснениям, эта женщина была святой Нургуль-
момо. (Подробнее см.: [Василов, 1992, с. 121-123]).
♦ ♦ ♦
Недостаток фактического материала, который свидетельствовал
бы о том, что шаманы призывают одних и тех же духов уже в
течение многих столетий, делал возможным предположение, что
шаманские духи являются порождением фантазии самого шамана и
представляют собой "образы, рождающиеся из практики шама-
низма", стоящие "особняком от других категорий духов" [Токарев
1964, с. 301]. Ясно сформулированная гипотеза всегда способствует
более глубокому осмыслению накопленных сведений, возбуждает
споры и тем самым нередко готовит почву для иной интерпретации
фактов. Так произошло и в случае с шаманскими духами. Не все
специалисты согласились с гипотезой. "Пандемониум, связанный с
хорезмским шаманством, тот же, который окружает человека
повседневно, вне связи с шаманской практикой; это - те же джинны
и пари, в определенные отношения с которыми человек может
вступать самостоятельно, без чьего-либо посредничества", - писал
Т.П. Снесарев [Снесарев 1969, с. 49]. О.А. Сухарева подчеркивала
устойчивую традиционность образов шаманских духов [Сухарева
1975, с. 56]. Не случайно с возражениями выступили специалисты по
этнографии Средней Азии. Среднеазиатский материал особенно ясно
показывает, что шаманство основано на общеизвестных представ-
лениях о духах и неотделимо от народных религиозных традиций.
Шаманский культ потому и обладал цепкой живучестью, что объяс-
нялся общими для всего населения воззрениями. Образы духов
(например, дэвов и пари) жили в местных верованиях уже не одно
тысячелетие. Среднеазиатский материал, позволяющий делать ши-
рокие сопоставления во времени в пределах одного и того же
региона, приводит к заключению: облик и функции шаманских духов
74 ВЛ. Василов
определены культурными традициями - как и весь шаманский культ
в целом. Рассмотренные выше представления о демоне албасты
стереотипны; образ албасты имеет устойчивую характеристику,
близкую у многих народов.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Абрамзон 1958. -Абрамзон СМ. К характеристике шаманства в старом быту кирги-
зов. - Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. Т. XXX. М., 1958.
Алборов 1928. - Алборов БА. Ингушское Тальерды" и осетинское "Аларды”. -
Известия Ингушского научно-исследовательского института краеведения. Вып. 1.
Владикавказ, 1928.
Андреев 1916а. - Андреев Г. Из рассказов старика Назырхана. Джинн и албаста. -
Туркестанские ведомости. 1916, № 102.
Андреев 19166. - Андреев Г. Из рассказов старика Назырхана. Альбасты и пари. -
Туркестанские ведомости. 1916, № 104.
Андреев 1953. -Андреев М.С. Таджики долины Хуф. Вып. 1. Сталинабад, 1953.
Басилов 1970. - Василов В.Н. Культ святых в исламе. М., 1970.
Басилов 1980. - Басилов В.Н. Албасты. - Мифы народов мира. Ч. 1. М., 1980.
Басилов 1992. - Басилов ВЛ. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. М.,
1992.
Баялиева 1972. - Баялиева ТД. Доисламские верования и их пережитки у киргизов.
Фрунзе, 1972.
Белицер 1958. - Белицер ВЛ. Очерки по этнографии народа коми. XIX - начало
XX в. Труды Института этнографии. Новая серия. Т. XLV. М., 1958.
Вавилов 1896. - Вавилов П. Во мраке невежества. -Тургайская газета, 1896, № 73.
Вайнштейн 1961. - Вайнштейн С.И. Тувинцы-тоджинцы. М., 1961.
Валиханов 1961. - Валиханов Ч.Ч. Тенкри (бог). - Собрание сочинений. Т. 1. А.-А.,
1961.
Вио 1975. - Viaud J. Egiptian Mythology. - New Larousse encyclopedia of mythology.
London - New York - Sydney - Toronto, 1975.
Вирсаладзе 1976. - Вирсаладзе Е.Б. Грузинский охотничий миф и поэзия. М., 1976.
Георги 1795. -Георги И.Г. Описание обитающих в Российском государстве народов.
Ч. 1. СПб., 1795.
Гониашвили 1940. - Гониашвили Т. Лексические схождения чеченского с картвель-
скими языками. - Вестник Института языка, истории и материальной культуры
Грузинского филиала АН СССР. Вып. V-VI. Тб., 1940.
Денисов 1959. -Денисов П.В. Религиозные верования чувашей. М., 1959.
Джавахишвили 1950. - Джавахишвили ИА. Введение в историю Грузии. Кн. 1. Исто-
рико-этнологические проблемы Грузии, Кавказа и Ближнего Востока. Тб., 1950.
Дыренкова 1949. - Дыренкова Н.П. Охотничьи легенды кумандинцев. - Сборник
Музея антропологии и этнографии. Т. XI. М.-Л., 1949.
Диваев 1896. -Диваев А. Этнографические материалы. Вып. V. Таш., 1896.
Диваев 1897. - Диваев А А. О происхождении Албасты, Джинна и Дива.- Известия
общества археологии, истории и этнографии при имп. Казанском университете.
Т. XIV. Вып. 2. Казань, 1897.
Ерзакович 1967. - Ерзакович Б. Врачевательная песня баксы. - Народная музыка в
Казахстане. А.-А., 1967.
Жубанов 1958. - Жубанов А. Струны столетий. А.-А., 1958.
Захаров 1894. - Захаров А. Домашний и социальный быт женщины у закавказских
татар. - Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 20.
Тифлис, 1894.
Албасты 75
Золотарев 1964. - Золотарев AM. Родовой строй и первобытная мифология. М.,
1964.
Инан 1933. - Inan A. Al ruhu hakkinda. - Tarih, arkeologiya ve etnografiya dergisi. 1933,
sayi 1.
Инан 1972. - Inan A. Tarihte ve bugiin samanism. Ankara, 1972.
Йохансен 1959. - Johansen U. Die Alpfrau. Eine D&monengestalt der tiirkischen Volker. -
Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. Bd. 109, H. 2 (Neue Folge,
Bd. 34). Wiesbaden, 1959.
Йеттмар 1986. - Йеттмар К. Религии Гиндукуша. М., 1986.
Кастанье 1912. - Кастанье И. Из области киргизских верований. - Вестник Орен-
бургского учебного округа. 1912, № 3, с. 14.
Каюм-Насыров 1880. - Каюм-Насыров. Поверья и обряды казанских татар, образо-
вавшиеся мимо влияния на жизнь их суннитского магометанства. - Записки Импе-
раторского Русского Географического общества по Отделению этнографии. Т. VI.
СПб., 1880.
Кенин-Лопсан 1987. - Кенин-Лопсан М.Б. Обрядовая практика и фольклор Тувинского
шаманства. Новосибирск, 1987.
Климов и Эдельман 1979. - Климов ГЛ. и Эдельман Д.И. К этимологии Albasty И
Almasty. - Советская тюркология. 1979, № 3.
Комаров 1905. - Комаров П. Из киргизских поверий. - Туркестанские ведомости.
1905, № 150.
Кунтугмиш 1975. - Ширин билан Шакар. Кунтугмиш. Орзигул. Достонлар. Тошкент,
1975.
Кустанаев 1894. - Кустанаев X. Этнографические очерки киргиз Перовского и Ка-
залинского уездов. Таш., 1894.
Литвинский 1981. -Литвинский БА. Семантика древних верований и обрядов памир-
цев (1). - Средняя Азия и ее соседи в древности и средневековье. М., 1981.
Марр и Смирнов 1931. - Марр НЯ. и Смирнов Я.И. Вишапы. Л., 1931.
Муродов 1975. - Муродов О. Шаманский обрядовый фольклор у таджиков средней
части долины Зеравшана. - Домусульманские верования и обряды в Средней
Азии. М., 1975.
Муродов 1979. - Муродов О. Древние образы мифологии у таджиков долины Зерав-
шана. Душанбе, 1979.
Потапов 1960. - Потапов ЛЛ. Материалы по этнографии тувинцев районов Монгун-
Тайги и Кара-Холя. - Труды Тувинской археолого-этнографической экспедиции.
Т. 1. М.-Л., 1960.
Поярков 1891. - Поярков Ф. Из области киргизских верований. - Этнографическое
обозрение. 1891, № 4.
Рыбаков 1981. - Рыбаков БА. Язычество древних славян. М., 1981.
Сказки, 1978 - Сказки адыгских народов. М., 1978.
Снесарев 1969. - Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у
узбеков Хорезма. М., 1969.
Степной 1897. - Степной А. Из поездки в степь. - Тургайская газета. 1897, № 63.
Сухарева 1975. - Сухарева О А. Пережитки демонологии и шаманства у равнин-
ных таджиков. - Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М.,
1975.
Тайжанов, Исмаилов 1986. - Тайжанов К., Исмаилов X. Особенности доисламских
верований у узбеков-карамуртов. - Древние обряды, верования и культы народов
Средней Азии.
Татары 1967. - Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967.
Токарев 1964. - Токарев С А. Ранние формы религии и их развитие. М., 1964.
Толеубаев 1979. - Толеубаев А. Пережитки домусульманских верований и обрядов в
семейном быту казахов конца XIX - начала XX века (по материалам Восточного
Казахстана) (рукопись кандидатской диссертации). М., 1979.
76 В.Н. Басилов
Усманова 1982. - Усманова М.С. Дохристианские верования хакасов в конце XIX -
начале XX в. (Опыт историко-этнографического исследования) (рукопись кандидат-
ской диссертации). Томск, 1982.
Фрэзер 1923. - Frazer J.G. The Golden Bough. A Study in Magic and Religion. Ed 3.
P. VII. Balder the Beatiful. Vol. II. L., 1923.
Ханыков 1849. - Ханыков H. Описание Бухарского ханства. СПб., 1849.
Ходырев 1912. - Ходырев П. Нафиса и бакса. - Оренбургская газета. 1912, № 61.
Члаидзе 1975. - ЧлаидзеЛ. Из грузинско-восточных демонологических взаимо-
отношений. - Мацне (Вестник отделения общественных наук Грузинской ССР).
Историческая серия. 1975, № 1 [на груз, яз.; я приношу благодарность С.Б. Се-
ребрякову за перевод этой работы].
Чурсин 1913. - Чурсин Г.Ф. Очерки по этнологии Кавказа. Тифлис, 1913.
Штернберг 1936. - Штернберг ЛЯ. Первобытная религия в свете этнографии. Л.,
1936.
Н. Л. ЖУКОВСКАЯ
ЦВЕТОЧИСЛОВЫЕ композиции
В МОНГОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЕ
При описании модели мира в архаических мифологиях, а также в
восходящих к ним своими истоками более поздних традиционных
культурах используется достаточно универсальный набор класси-
фикационных приемов (бинарные оппозиции, мировое дерево,
числовые константы и др.), с помощью которых можно просто и в то
же время четко изложить весь набор данных о пространственно-
временном, причинно-следственном, этико-правовом и прочих аспек-
тах мироздания. Все эти классификационные схемы взаимосвязаны и
взаимодополняющи и только в совокупности могут создать эффект
некоторой культурной целостности. Еще более интересно, когда на
стыке двух классификаций возникает их некий симбиоз, позво-
ляющий высветить какие-то новые грани исследуемой куль-
туры.
Попробуем проиллюстрировать это на материале традиционной
культуры монголов. О роли цвета и числа в ней, выделив их в две
самостоятельные категории, автор уже писал в ряде своих работ
[Жуковская 1987; Жуковская 1988]. При анализе числа было
подчеркнуто его классификационное, организующее начало, указано,
что с его помощью могут быть описаны и систематизированы
предметы и явления природы и культуры [Жуковская 1987, с. 241—
242,255]. При анализе цвета было отмечено, что среди прочих своих
качеств он может выступать как символ различных нравственных
понятий и эмоциональных состояний, а в сочетании с каким-либо
важным в данной системе культуры предметом или явлением (на-
пример, "черная вера" - шаманство, "белая пища" - обладающие
сакральной значимостью молочные продукты, "Вечное Синее не-
бо" - божественная субстанция) выступать как важная семантичес-
кая характеристика [Жуковская 1988, с. 250-253].
Еще больший интерес представляют понятия, в которых цвет и
число слились в органический образ, за которым стоит определенное
О Н.Л. Жуковская, 1994
78 Н. Л. Жуковская
культурно-историческое или мифологическое содержание. В даль-
нейшем мы будем называть их цветочисловыми компози-
циями.
На первом месте среди таких композиций мы назовем жанр
монгольского фольклора, именуемый в науке "триадой", а на народ-
ном уровне - "житейской тройкой", "три мировых" или "три в мире"
(монг. ертенцийин гурван). Исследователь монгольского фольклора
В.Н. Клюева приводит довольно много примеров цветовых триад.
Три белых: человек растет - зубы белые, человек стареет - волосы
белые, человек умирает - кости белые. Три черных: у злого
человека - душа черная, у скупой женщины - душа черная, сажа на
котле черная (вариант второй: обгорелое дерево черное, волосы
черные, вода в глубоком колодце черная; вариант третий: у сироты
на сердце черно, фитиль, сгоревший в лампаде перед бурханом,
черный, без скота двор черный; вариант четвертый: без света в
юрте черно, без луны ночь черна, черно в душе недоучившегося
банди). Три синих: небо над землей синее, дым от костра синий, вода
в озере синяя (варианты: синяя вода в Орхоне, синее пламя у углей).
Три красных: рубин в колье у хана красный, горизонт у холодного
неба красный, щеки у счастливой женщины красные (варианты:
дерево в ущелье красное, заход солнца красный, вывернутые веки
человека красные). Три зеленых: на горе кедр зеленый, водоросли в
реке зеленые, благовонная трава арц зеленая. Три желтых: золото
желтое, одежда у ламы желтая, кожа на лице желтая [Клюева 1946,
с. 3-4]. Как замечает В.Н. Клюева, наибольшее число вариантов
(12) имеет триада "три черных", 8 вариантов - триада "три
красных", однако "три белых" существуют только в одном варианте.
Известно, что триады бывают не только цветовыми, но могут быть
сгруппированы и по другим признакам: физическим качествам,
нравственным свойствам и т.д. (например, "три далеких", "три
гордых", "три острых", "три удивительных", "три драгоценных", "три
мучительных" и т.д.), однако в нашем сообщении мы намеренно
ограничиваем себя лишь теми, что выступают в комбинации с каким-
либо цветом.
Следует заметить также, что в монгольском фольклоре известны
построенные по тому же принципу четырехстишия, пяти-, семи- и
даже зафиксировано одно девятистишие, но они встречаются намно-
го реже, поэтому мы ограничим себя сейчас только трехстишиями, к
тому же, как уже сказано, только цветовыми.
Триады как жанр известны также в фольклоре бурят и калмыков.
Образцы бурятских загадок-триад приводят в своих исследованиях
по фольклору М.П. Хамаганов и С.С. Бардаханова [Хамаганов 1959,
с. 169-172; Бардаханова 1982, с. 115-121]. Среди них имеются и
такие:
Что есть на свете три зеленых?
Растущая зелень - зеленая,
тина в воде - зеленая,
бирюза в косах - зеленая.
Что есть на свете три красных?
От ветра-верховика небо красное,
в ложбине лежащая лиса красная,
у счастливой женщины щеки красные.
А вот несколько образцов калмыцких "цветных0 триад в переводе
Н. Гребнева:
Три из того, что синее:
Степь нам кажется синей весной иногда.
Сини тучи, когда над тобой их стада.
Синей кажется в Волге любимой вода.
Три из того, что красно:
Красны порой плавники у иного малька.
Солнце вечернее красно издалека.
Красна добыча удачника, если тяжка.
И еще три из того, что черно:
У мудрых грамотеев тушь черна бывает.
Черно от сажи днище казана бывает.
Черна арака, хоть вкусна бывает.
[Калмыцкие трехстишия, 1987, с. 23,31, 37].
Триады как жанр фольклора уже не раз были объектом научного
исследования [Калмыцкие трехстишия 1987, 1—19; Клюева 1946,
с. 1—13; Содном 1963, с. 1-8; Амайон 1972, с. 225-238; Жуковская
1987, с. 243-245; Дашдондов 1988, с. 160-164]. Анализируя их место
среди других фольклорных жанров, обычно о них пишут следующее:
триады представляют собой синтез поговорки, загадки и афоризма;
жанр триады представляет собой разновидность аллитеративного
стиха; три включенных в каждую из триад предмета или образа
объединены одной темой и характеризуются с точки зрения какого-
либо одного их свойства или качества. М.П. Хамаганов, рассмат-
ривая триаду только как вариант числовой загадки, полагает, что
она возникла в то время, когда еще не существовало просто числа и
абстрактного понятия счета, оторванных от перечисления каких-
либо конкретных предметов [Хамаганов 1959, с. 168] - отсюда
насыщенность триад живой реальностью образов окружающего
мира. Что касается их роли в культуре, то Т.Г. Борджанова, говоря
о калмыцких триадах, подчеркивает ритуальный характер их
использования и то, что их число канонизировано и насчитывает 90
образцов [Калмь гкие трехстишия 1987, с. 8-9]. Р. Амайон, говоря о
80 Н. Л. Жуковская
монгольских триадах, напротив, отмечает их неканоничность: триада
используется как интеллектуальная игра-диспут, содействует
развитию воображения путем поиска аналогий, помогает познавать
мир [Амайон 1972, с. 225-227].
Автор данной статьи полагает, что последний тезису можно
расширить. Наличие нескольких вариантов у многих триад говорит о
том, что это подвижный, а не застывший жанр, и вероятность
рождения нового афоризма в рамках устоявшихся правил зависит от
интеллекта, эрудиции, сообразительности и наблюдательности рас-
сказчика, т.е. тех самых черт личности, которые приветствует
любая культурная традиция и без которых ее передача из поколения
в поколение просто невозможна. Таким образом, легкий игровой
фольклорный жанр выступает как средство осмысления и познания
окружающего мира, осуществляемого с помощью трехчленных
схематических композиций [Жуковская 1987, с. 244].
Не менее интересна следующая цветочисловая композиция -
"пять цветных народов", чаще всего называемая в литературе
просто "пять цветных" (монг. таван енге), ибо ни один монгол и
монголовед никогда не спутают, о чем идет речь, если упоминается
этот термин. "Пять цветных" - понятие, возникшее в средние века и
с тех пор неизменно упоминаемое как в монгольских хрониках и
летописях, так и в монголоведческой научной литературе.
Иногда "пять цветных" упоминаются в парном сочетании с другим
понятием - "четыре чужих". Вот как расшифровывает оба эти
понятия монгольская феодальная хроника XVII в. "Шара Туджи":
"В год огня-коня родился хубилган Чингис-Хаган и покорил пять
цветных и четыре чужих народа". "Четыре чужих" - это "народ Цод
с одной ногой, народ - девицы, народ с глазом в груди, народ с
песьей головой", а "пять цветных" - это синие монголы, красные
китайцы, черные тибетцы, желтые туркестанцы, белые корейцы
[Шара Туджи, с. 178].
Чаще всего это цветочисловое понятие пытаются объяснить,
исходя из цветовой геосимволики монголов. О. Прицак, А.фон Габэн
и А.Н. Кононов приводят данные, согласно которым можно
утверждать, что для тюрко- и монголоязычных кочевников Евразии
было характерно следующее соотношение стран света с цветом:
север - черный, юг - красный, восток - голубой, запад - белый,
центр - желтый [Кононов 1978а, с. 160]. Однако, если исходить из
такого соотношения сторон света с цветом, то получится не очень
ясная картина.
Сами монголы, называя себя синими, тем самым помещали себя
на востоке. Это противоречит общепринятому этноцентристскому
правилу, согласно которому каждый народ, осваивая окружающее
пространство, помещает в центр его себя, а всех остальных распо-
Цветочисловые композиции 81
лагает вокруг по периферии, сочетая концентрическую ориентацию
с линейной. В таком случае монголы должны были помещать себя в
центре и обозначать цветом центра, т.е. желтым. Нарушение этого
правила позволяет предположить, что были какие-то мотивы для
такого отклонения: либо монголы восприняли (в том числе и по
отношению к себе) чужую цветовую геосимволику, а именно
тюркскую, как предполагает А.Н. Кононов [Кононов 1978а, с. 173],
либо это память о прародине монголов, находившейся в междуречье
Онона и Керулена, что действительно является востоком по
отношению к той территории, где Чингисхан заложил основы своей
империи и ее столицу Харахорин. В таком случае "красные китай-
цы” - это китайцы, живущие к югу от основного этнического
массива и тюркоязычных и монголоязычных народов. Но черные
(т.е. якобы северные) тибетцы и белые (или якобы живущие на
западе) корейцы никак в эту схему не укладываются, кого бы мы ни
помещали в центр - тюрков или монголов.
В порядке предположения мы предлагаем еще одну версию
возможного возникновения понятия "пять цветных", положив в ее
основу цветовой мотив одежды упомянутых народов.
Основным цветом одежды монголов в средние века скорее всего
был синий, ибо индиго (синий краситель, получаемый из индигофе-
ры - растения семейства бобовых) был наиболее распространенным
красителем хлопчатобумажных и шерстяных тканей у народов
Восточной и Южной Азии; кочевники Центральной Азии, сами не
занимавшиеся ткачеством и крашением, легко могли добывать
такую ткань у своих оседлых соседей - отсюда "синие монголы".
Если следовать этой системе далее, то образ "черных тибетцев"
восходит к цвету их одежды, которую делали из черного сукна,
изготавливаемого из шерсти черных яков. Одежда корейцев,
женская и мужская, теплая и легкая, шилась из белого хлопка, с
древности возделываемого на Корейском полуострове, - отсюда
"белые корейцы" [Народы Восточной Азии, 1965, с. 819]. В одежде
тюркоязычного населения Западного Туркестана при достаточно
разнообразной его гамме преобладали желто-красные и желтые тона
[Калтер 1984, с. 82-83, 86-87, 94-95]. Отсюда "желтые турке-
станцы".
Сложнее обстоит дело с "красными китайцами". Одежда разных
слоев китайского феодального общества различалась очень сильно и
по покрою и по цвету, но в целом черные, синие, серые тона в ней
преобладали. Красный цвет встречался очень часто, особенно в
женской и детской одежде, но только в виде отдельных вставок и
аксессуаров - например фартуков. Однако красный цвет был
государственным цветом династии Мин (XIV-XVII вв.). Само
фамильное имя династии - Чжу означало "красные". Именно
6 270
82 HJI. Жуковская
культурная символика минского Китая в дальнейшем воспри-
нималась как национально китайская и противопоставлялась офи-
циальной маньчжурской символике Цинской династии [Сычев 1975,
с. 72]. Поэтому вполне логично, что из всех основных цветов
монголы закрепили за китайцами именно красный. Было ли связано
это закрепление с еще более ранними представлениями доминского
времени, т.е. XIII в., сейчас решить трудно.
Следующий цветочисловой образ - "девять белых". В исто-
рической литературе он преимущественно используется для обозна-
чения дани, которую платили маньчжурской династии Цин восемь
крупнейших феодалов Халхи, т.е. той части Монголии, которая
находилась с середины XVII в. в вассальном подчинении у маньч-
журского Китая. Дань включала в себя одного белого верблюда и
восемь лошадей белой масти. Ее размер был установлен особым
указом 1651 г. и подтвержден в 1655 г. одновременно с пожало-
ванием звания засака (феодального правителя, обладающего полны-
ми юридическими правами вплоть до предания смертной казни своих
подданных) тем же восьми крупным владетельным князьям
Монголии. К регулярному поступлению этой дани маньчжурский
двор относился с особым вниманием, и не столько потому, что эта
дань имела какую-то материальную значимость (ясно, что она была
невелика), сколько потому, что цвет масти животных обладал
сакральной значимостью в монгольской культуре, и в системе
нравственных ценностей выплата дани животными сакральной масти
на тайном языке восточной дипломатии имела значение особого
почтения к сеньорам-маньчжурам со стороны их вассалов-монголов.
Не случайно, что вручение дани "девять белых" сопровождалось
обычаем устройства пира и одаривания послов, сопровождавших
дань, богатыми дарами [Ермаченко 1974, с. 93].
Однако понятие "девять белых" ассоциируется в культуре монго-
лоязычных народов не только с данью и не только с поздне-
феодальным временем. "Девять белых" - это один из компонентов в
народной магической практике, где он чаще всего выступает в паре
с понятием "девять черных". Обычно эти понятия не абстрактные,
т.е. не нбчто черное и белое вообще, а прилагаются к сугубо
материальным предметам, сгруппированным по девять по принципу
цвета. Так, в описанном А.М. Позднеевым обряде "очищения
родимого пятна" (монг. мэнгийн засал), совершавшемся в XIX в. раз
в девять лет в жизни каждого человека, особенно если в этой жизни
имели место какие-то неприятности и болезни, все составные компо-
ненты этого обряда должны были быть девятикратно повторены:
такова земля, взятая с 9 гор, 9 дощечек с изображением 9 духов
эр ликов и т.д., в том числе 9 белых и 9 черных камней [Позднеев
1887, с. 430-431] и все молитвы и магические действия должны быть
Цветочисловые композиции 83
также совершены по 9 раз. Здесь дело и в универсальной
космологической константе, какой является число 9, о чем писали и
пишут все, кто когда-либо занимался ролью числа в мифологии и
культуре, но также и в приписывании особой магической силы
цветовой оппозиции "белое-черное", составные части которой, как и
во всех бинарных оппозициях, одновременно противостоят и тяготе-
ют друг к другу.
В литературе зафиксированы случаи использования в магической
практике предметов, орнамент которых построен на чередовании
узоров черного и белого цвета. Различные одеяла, занавески,
тюфяки для сидения, орнаментированные по принципу чередования
деталей черного и белого цвета, известны таджикам, узбекам,
каракалпакам, казахам, киргизам [Писарчик 1970, с. 212-213],
балкарцам, карачаевцам [Текеев 1978, с. 111], бурятам [Петри 1925,
с. 60]. У последних зафиксирован вешавшийся над кроватью коврик,
сшитый из камусов черных и белых овец. Орнамент на ковре
представлял собой чередование "девяти белых" и "девяти черных"
фигур, расположенных по принципу шашечной доски.
Вероятно, это не единственные цветочисловые композиции, из-
вестные монголам, и перечень приведенных примеров мог быть
более обстоятельным. Однако дело не в примерах, а в самой идее
использования в культуре цветочислрвого образа. Любопытно
отметить, что в приведенных нами примерах представлены числа 3,
5,9 и упомянуты белый, черный, красный, синий, желтый, зеленый
цвета.
Числа 3, 5, 9 относятся к разряду постоянных величин в боль-
шинстве известных мифологий и космологий. Имеются даже более-
менее общепринятые объяснения универсальной значимости этих
чисел. Триада - это образ "абсолютного совершенства", основная
константа мифологического макрокосма и социальной организации,
символ динамической целостности [Топоров 1982, с. 630], основа, на
которой вырастает нечто сакральное [Гонда 1976, с. 115].
Универсальность пентады объясняется представлением о
человеческой руке как о «первом счетном устройстве» (например, в
монгольском языке числительное пять и слово "рука", "лапа"
восходят к общим истокам [Поппе 1927, с. 110-111]. Эннеада - во
многих традициях - усиленная триада [Топоров 1982, с. 631; Гонда
1976, с. 80; Элиаде 1987, с. 159 и др.], но не всегда и прежде всего
далеко не всегда именно в монгольской культуре [Жуковская 1987,
с. 251-252; Жуковская 1988, с. 151].
Что же касается вышеупомянутой цветовой палитры, то она
охватывает основные цвета, наделенные символической значи-
мостью практически у всех народов земного шара [Миронова 1984,
с. 24; Рабинович 1976, с. 45; Тэрнер 1983, с. 103]. Наиболее сложный
84 НЛ. Жуковская
семантический пучок значений ассоциируется с белым и черным
цветом. Круг предметов, явлений, состояний в разных срезах
природы и культуры, охваченных понятиями "белый - черный",
настолько велик (сошлемся здесь опять-таки в качестве примера на
тюркских и монгольских кочевников евразийских степей) [Молчанова
1985, с. 30-42; Кононов 1978, с. 170-171], что можно позволить себе
говорить о белом и черном не просто как о цвете, а как о неких
философских субстанциях, равнозначных понятиям "добро" и "зло".
Прочие цвета (красный, желтый, синий и т.д.), хотя и менее субстан-
циальны в культуре, но и за ними стоит определенный круг понятий.
Все вышеизложенное позволяет предположить, что в цвето-
числовых композициях число и цвет, взаимно усиливая друг друга,
выполняли функцию уже не только организующую и класси-
фикационную (как число), не только эстетическую и эмоционально-
нравственную (как цвет) - эти черты присущи числу и цвету во всех
культурах - но сочетание их породило мифопоэтические и культур-
но-исторические образы, характерные только для данного культур-
ного ареала и отражающие историческую специфику только этой
культуры.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Амайон 1972. - Hamayon R. Triade de I'univers (jertoncijn gurvanuudd). - Etudes mongoles.
Cahier 3. P., 1972.
Бардаханова 1982. - Бардаханова C.C. Малые жанры бурятского фольклора. Улан-
Удэ, 1982.
Гонда 1976. - GondaJ. Triads in the Veda. Amsterdam-Oxford-New-York, 1976.
Дашдондов 1988.-ДашдондовЦ. Уламжлал [Традиции]. Улаанбаатар, 1988.
Ермаченко 1974. - Ермаченко И.С. Политика маньчжурской династии Цин в Южной и
Северной Монголии в XVII в. М., 1974.
Жуковская 1987. - Жуковская Н.Л. Число в монгольской культуре. - Археология,
этнография и антропология Монголии. Новосибирск, 1987.
Жуковская 1988. - Жуковская И. Л. Категории и символика традиционной культуры
монголов. М., 1988.
Калмыцкие трехстишия 1987. - Калмыцкие трехстишия. Составитель Т.Г. Борд-
жанова. Элиста, 1987.
Калтер 1984. - KalterJ. The Arts and Crafts of Turkestan. New-York.
Клюева 1946. - Клюева В.Н. Монгольские триады. - Ученые записки Монгольского
государственного университета им. Чойбалсана. Т. II. Вып. 1. Улан-Батор, 1946.
Кононов 1978. - Кононов А.Н. Семантика цветообозначения в тюркских языках. -
Тюркологический сборник. 1975. М., 1978.
Кононов 1978а. - Кононов А.Н. Способы и термины определения стран света у
тюркских народов. - Тюркологический сборник. 1974. М., 1978.
Миронова МироноваЛН. Цветоведение. Минск, 1984.
Молчанова 1985. - Молчанова О.Т. Прилагательные семантических полей "черный
цвет" и "белый цвет" в ономастике алтайцев. - Советская тюркология. 1985, № 3.
Цветочисловые композиции 85
Народы Восточной Азии 1965. - Народы Восточной Азии. М.-Л., 1965.
Петри 1925. - Петри Б.Э. Внутриродовые отношения у северных бурят. Иркутск, .
1925.
Писарчик 1970. - Писарчик А.К., Хамиджанова МА. Узорные изделия из кусочков
материи курама или курок. - Таджики Каратегина и Дарваза. Вып. 2. Душанбе,
1970.
Поппе 1927. - Поппе Н.Н. Монгольские числительные. - Языковые проблемы по
числительным. Вып. 1. Л., 1927.
Позднеев 1887. - Позднеев А.М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского
духовенства в Монголии. СПб., 1887.
Рабинович 1976. - Рабинович В. Л. Цвет в системе средневекового символизма. -
Природа. 1976, № 6.
Содном 1963. - Содном Б. Монгольские народные триады и катрены (о вселенной). -
Доклады монгольской делегации на XXVI конгрессе востоковедов. 1963.
Сычев 1975. - Сычев Л.П., Сычев В. Л. Китайский костюм. Символика. История.
Трактовка в литературе и искусстве. М., 1975.
Текеев 1978. - Текаев К.М. Карачаевские и балкарские узорные войлоки (ала кии- *
зы). - Советская этнография. 1978, № 2.
Топоров 1982. - Топоров ВЛ. Числа. - Мифы народов мира. Т. II. М., 1982.
Тэрнер 1983. - Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983.
Хамаганов 1959. - Хамаганов М.П. Очерки бурятской афористической поэзии. Улан-
Удэ, 1959.
Шара Туджи. - Шара Туджи. Монгольская летопись XVII в. Перевод и примечания
Н.П. Шастиной. М.-Л., 1957.
Элиаде 1987. - Элиаде М. Космос и история. Избранные работы. М., 1987.
Е.М. МЕЛЕТИНСКИЙ
ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО В АРХАИКЕ
Древнейшая ступень в развитии словесного искусства может быть
изучена не с помощью археологических памятников, в отличие от
искусства изобразительного и отчасти даже хореографического
(изображение магических "плясок” в наскальной живописи), но
главным образом путем реконструкции, через изучение наблю-
даемого фольклора бесчисленных народностей, сохранивших
этнографически пережиточные формы культуры. Впрочем, кое-что
дает и анализ фольклора культурных народов (поскольку сама
устность и традиционность народной культуры консервирует неко-
торые черты архаической поэтики), а также самих древних
письменных памятников, исторически и генетически близких к еще
более древним фольклорным источникам. Впрочем, реликты архаи-
ческой ступени обнаруживаются и в не столь древних (сред-
невековых) памятниках, которые по своему жанру остались за
пределами той области или тех уровней словесного искусства,
которые в эпоху зрелой античности и средневековья стали объек-
тами теоретической рефлексии и поэтического самосознания
(управляемого риторическими примерами). Это отсутствие элемен-
тов самоанализа словесного искусства на древнейшей ступени
является дополнительной причиной трудности его изучения.
Словесное искусство возникло позже других видов искусства, так
как его материалом, первоэлементом является слово, речь. По-ви-
димому, все искусства могли появиться только после того, как
человек овладел членораздельной речью, но для возникновения
словесного искусства требовалась высокая степень развития языка в
его экспрессивной и коммуникативной функции, а также наличие
довольно сложных грамматико-синтаксических форм.
Словесное искусство возникло не только позже, чем живопись,
скульптура, танец и музыка, но в глубокой синкретической связи с
танцем и музыкой, отчасти и с изобразительным искусством в рамках
© Е.М. Мелетинский, 1994
Поэтическое слово в архаике 87
некоего театрального действа, каким был первобытный ритуал, или,
по терминологии создателя теории первобытного синкретизма
А.Н. Веселовского, - народно-обрядовые игры. Анализируя
соответствующую лексику, А.Н. Веселовский показал этимоло-
гическую близость понятий песни-сказа-действа-пляски и песни-
заклинания-гадания-обрядового акта.
В свое время К. Бюхер возводил стиховой метр в поэзии прямо к
трудовым ритмам рабочей песни, эти же трудовые ритмы якобы
одновременно формировали и музыкальное искусство (см. [Бюхер
1923). А.Н. Веселовский в своей “Исторической поэтике” [Весе-
ловский 1940] несомненно ближе к истине, когда настаивает на
первичности не рабочих движений, а танца и мелодии по отношению
к слову.
Несомненно, отрыв от самих процессов труда, имевший место в
народно-обрядовых “играх”, был совершенно необходимой предпо-
сылкой развития искусства как творческой деятельности, отра-
жающей и одновременно преобразующей действительность. Даже
осуществлявшиеся с практической (магической) целью сцены
подражания охоте создавали некую “вторую” действительность как
образ “первой”, что давало известную свободу воображения и
творчества (пусть и “внутри” синкретизма). Внимательное рассмот-
рение самих трудовых песен убеждает в том, что ритм там не прямо
отражает физическое движение, а скорей его декорирует; ритм
определен культурными факторами (см. [Финнеган 1977, с. 42]).
Очень редко ритмические структуры выступают в чистом виде,
как, например, отдельные удары барабана [Финнеган 1977, с. 92].
В театрализованном ритуале примитивная музыка и танец задают
общий ритмический рисунок. Музыка выступает как простая
узнаваемая мелодия, при этом в архаических обществах сопровож-
дение музыкальными инструментами часто имеет место (например, у
пигмеев, бушменов, семангов, австралийцев, эскимосов), но не
всегда (например, у тасманийцев или огнеземельцев). Мелодия с
фиксированными звуками голоса, сопровождающими ритмизованное
действие, предшествует тому моменту, когда слово добавляется к
ритму музыки и пантомимы и таким образом начинается поэзия.
Танец, пантомима (воспроизводящая охоту, подражающая повадкам
священного тотемного животного и т.д.) задает слову тему. В этих
обрядовых действиях жест имеет исключительное значение. Жест в
какой-то мере сохраняется в рамках фольклора как его необходимый
компонент и тогда, когда ни о каком обрядовом синкретизме уже не
может идти речь. Жест и мимика неотделимы от всякого устного
исполнения.
Мы отметили существование дословесной мелодии, произносимой
голосом. Голос, таким образок , предшествует слову, но и в устном
88 Е.М. Мелетинский
слове естественно является его физиологическим субстратом.
В относительно недавних работах П. Зюмтора (см. [Зюмтор 1983;
1987]) голос рассматривается как медиатор между антрополо-
гическим и культурным аспектом и как фундаментальный носитель,
генератор устного слова и устной поэзии, особенно на архаической
стадии. По мнению П. Зюмтора, голос имеет важную социальную и
символическую функцию и до слова, и рядом со словом, и в связи со
словом (поскольку речь - это вокализованный язык), он - хранитель
ценности речи и создатель форм дискурса, способных поддержать
социальную связность и мораль группы, порождать и выражать
символы и т.п. Когда жест дополнен голосом, то голос становится
важнейшим источником энергии художественного акта, его орга-
низатором. Участие жеста и голоса в синкретическом обрядовом
действе не только задает ритм рождающегося текста песни (сама
песенность - плод синкретизма), но и неизбежно вызывает фраг-
ментарность этого текста, поскольку в обряде и вообще даже просто
в фольклорном устном исполнении различные художественные планы
дополняют друг друга таким образом, что, например, танец
австралийских аборигенов изображает повадки животного-тотема, а
песня его восхваляет и "величает", тогда как священная информация
о маршрутах движения тотемических предков - культурных героев -
может передаваться в промежутках посредством устного коммен-
тария к обряду, т.е. рядом уже фигурирует слово "поэтическое" (в
песне или речитативе), и слово "прозаическое".
Обратимся к генезису поэтического слова и его особенностям на
архаической, т.е. синкретической, мифопоэтической стадии.
Иногда зародышевая "песня" включает только одно-два слова
(например, названия тотема или имя духа) или песня пользуется
словами соседнего племени, звучащими как непонятное бормотание;
даже более развитые песни австралийских аборигенов, сопровож-
дающие обряд, обычно представляют собой носовое скандирование,
часто с перестановкой ударений, с неестественным растягиванием
слогов и добавлением эмфатических частиц и т.п. ради соблюдения
задаваемого танцем и музыкой ритма (о других функциях этой
деформации см. ниже). В песенной архаике ритм часто приближается
к метру. Рифма для первобытной поэзии нехарактерна, но не
слишком регулярные аллитерации или ассонансы встречаются
довольно часто. Предпочтение различного типа фонических
повторений, как известно, коррелирует и в более позднее время с
типом яз&ка: например, счет слогов характерен для древне. *ской
поэзии, для китайцев, малайцев, корейцев, тода, монголоь. Для
обско-угорской поэзии типичен строгий метр, основанный на
ударениях. Аллитерация характерна для поэзии германской,
древнекельтской и сомалийской, а как дополнительное средство
Поэтическое слово в архаике 89
фигурирует в монгольской или киргизской народной поэзии,
ассонансы - для эпической поэзии романских народов, народов
Полинезии, для фольклора некоторых групп индейцев. В языках с
противопоставлением музыкальных тонов, например тибето-
бирманских или йоруба, обнаруживается такое же тоновое ударение.
Песням на фиджийском языке свойственна редупликация слогов.
Таким образом, ритм, первоначально связанный с влиянием музы-
кально-танцевальным (отражение первобытного синкретизма видов
искусств), реализуется и получает дальнейшую разработку
средствами языка, в зависимости от его фонетической организации.
Единицей песни является в архаической поэзии (и большей частью в
более позднем фольклоре) строка, что тоже генетически восходит к
первобытному синкретизму искусств в рамках обряда, ибо длина
строки определяется мелодией.
Как бы ни было велико в генезисе песни значение первобытного
синкретизма искусств, еще не вышедших из колыбели народного
обряда, текст песен не является случайным. Описанные многими
путешественниками, побывавшими у культурно отсталых племен,
песни на случай, на месте легко сымпровизированные, - явление
относительно позднее и уже опирающееся на сложившуюся тради-
цию. А.Н. Веселовский, использовавший эти данные этнографии
XIX в., ошибочно преувеличивал древность и «первичность»
подобных песен. Он вообще недооценил роль "предания", т.е. мифа,
составлявшего теоретический аспект единого ритуально-мифологи-
ческого комплекса (см. об этом [Мелетинский 1986]), а потоку
склонен был преувеличивать, вернее, абсолютизировать гегемонию
музыки и танца по отношению к поэзии.
Даже когда "песня" включает только одно слово или слова плохо
понятного языка соседнего племени, песенное слово уже несет
некоторую магическую и символическую нагрузку, ассоциируется и
соотносится с мифологическими представлениями, выражает важные
коллективные эмоции, т.е. никоим образом не является плодом
непосредственных случайных впечатлений.
Первоисточником поэтической строки, по-видимому, следует
считать заклинания или молитвы, имевшие магическое значение.
Магическое слово - слово сакральное и потому не может быть
случайным. Магическое сакральное слово может быть и непонятным
или понятным только эзотерическому кругу. Кроме того, вера в
магическую силу слова почти всякое слово лишает нейтральности.
Магическую цель, как правило, имел и обряд в целом и его
словесная часть. Магия слова способствовала его повторению. Одни
и те же слова или магические формулы, их вариации могли быть в
ряде случаев последовательно обращены к различным духам,
тотемам, богам, повторяться по различным направлениям или
90 Е.М. Мелетинский
странам света. При этом магическая сила аккумулировалась и
распределялась в сакральном пространстве. С другой стороны,
табуация некоторых слов и имен (например, связанных со смертью
или с социальными труппами, по отношению к которым субъект речи
обязан был придерживаться "избегания") приводила к синони-
мическому варьированию и метафорическому иносказанию. У само-
дийских народностей (и многих других) популярна очень богатая
тропами иносказательная песенная речь, как своего рода ритуальная
игра или как способ обращения с лицами, родовые отношения с
которыми еще не выяснены (т.е. неизвестно, нужно ли "избегание"
общения с этим лицом или нет). В силу магии слова повторение и
варьирование смысловых комплексов доминировало над повто-
рениями чисто звуковыми. Баура определяет метод построения
архаической песни как "строчка за строчкой" [Баура 1962, с. 69],
поскольку обычно на первую строку в рамках заданной мелодии и
темы накладывалась вторая строка, третья и т.д., повторяя или
варьируя первую. Даже на другой ступени и на совершенно ином
полюсе в каких-нибудь древнеегипетских "Текстах пирамид"
повторы и пары слов служили усилению магического эффекта.
В древнеегипетской литературе рассказ об успехе магического слова
или действия является характерной темой (см. рассказы о чудесах
Джеди .в "Папирусе Весткар"), так же как и в архаических
преданиях о призвании шаманов в старом сибирском фольклоре.
Сакральное, магическое слово было одновременно и мифо-
логическим, поскольку заклинания и ритуальные песни были
неотделимы от определенных представлений о предках, духах,
богах. Поэтому и знахарские заговоры часто включали элементы
мифологического повествования. Военная песня включала историю
бога войны. Магические ритуалы календарного типа могли включать
рецитацию мифов творения. Выше мы упоминали, что танец мог
задавать тему песни, но вместе с тем не следует забывать, что
танцу эту тему часто подсказывал миф; как уже подчеркивалось,
первобытный синкретизм искусств имел место в рамках "народно-
обрядовых игр", но эти игры с самого начала были религиозно-
магическим ритуалом, который должен был способствовать удаче на
охоте и на войне, помочь излечению от болезни, вызвать дождь и
плодородие, размножение животных (например, австралийские
обряды интичиума для размножения животных своего тотема), рост
деревьев и плодов (например, садовая магия папуасов), обеспечить
нормальную смену суток и времен года (календарные обряды
древнего мира), нормальное прохождение жизненного цикла (т.е.
переходные обряды, прежде всего инициация) и т.д. Целый ряд
ритуалов был непосредственно связан с мифами таким образом, что
ритуал имел свой мифологический эквивалент и обратно. Так,
Поэтическое слово в архаике 91
например, у австралийских аборигенов эквивалентом обрядов
интичиума по размножению тотема были тотемические мифы,
эквивалентом обрядов инициации - мифы о "всеобщем отце" -
культурном герое и патроне инициаций у юго-восточных племен
(например, обряд бора и миф о Байаме), или о Радужном Змее или
ведьме, глотающих детей, - у северных племен, эквивалентом
обрядов обеспечения плодородия - мифы о странствующих сестрах -
предках, разбрасывающих тотемы (например, ритуал Кунапипи и
миф о сестрах Ваувалук), и т.п. Впрочем иногда одному обряду
соответствует несколько мифов или одному мифу - несколько
обрядов; бывают и обряды, не имеющие прямого мифологического
эквивалента (например, обряд похорон у тех же австралийцев).
Мифы и обряды, даже в тех редких случаях, когда между ними нет
прямой эквивалентности, едины семантически (при том, что оценка
некоторых персонажей и их действий в мифе и обряде не всегда
совпадают) и структурно изоморфны. У тех же австралийцев мифы и
обряды имеют единую мистериальную структуру (нарушение
равновесия, беда/недостача, удаление героя из социума и его
испытания в ином мире, его возвышение ценой известных потерь в
новый, высший статус). Указанное семантическое единство -
необходимая предпосылка синкретизма форм искусств в рамках
обряда. Само по себе оно выражает синкретизм идеологический
(недооцененный А.Н. Веселовским), т.е. неразвернутое единство
зачатков искусства, религии, донаучных представлений, перво-
бытной "философии". Если обряд является гегемоном в формальном
синкретизме искусств, то миф - гегемон в идеологическом
синкретизме. Словесное искусство в момент своего рождения
оказывается, таким образом, неотделимым и от других искусств, и
от магии, и от сакральной "мудрости". Сакральное слово, сакральная
формула сливались с определенной мифологемой и, учитывая
парадигматический характер мифического "раннего" времени
(начала, причины, образца, источника магической энергии и
сакральности), мы должны понять, что связь с прошлым, т.е.
принадлежность к "содержанию" и "форме", к традиции, давала
дополнительно сакрализацию.
Стилистический уровень рождающегося словесного искусства
более тесно сопряжен с магическим обрядом, а поэтическое
воображение - с мифической мудростью. Это доказывается тем, что
обрядовая поэзия (лиро-эпическая по своему характеру), т.е. та
самая сопровождающая обряд песня, песенно-стихотворна и
определенным образом "отмечена" и отполирована стилистически, в
то время как прозаическое изложение мифа, часто вне обряда (хотя
и в рамках некоторых обрядовых ограничений), стилистически
совершенно нейтрально. Когда где-то на стыке с обрядом прозаи-
92 Е.М. Мелетинский
ческий миф включает диалоги (или ритуальные по генезису диалоги
обрастают нарративным обрамлением), то диалоги эти часто ока-
зываются стилистически отполированными и содержат элементы
стихотворно-песенного ритма. Такая смешанная форма, по-вцди-
мому, является исходной для мифологического и древнейшего
героического эпоса. Только на гораздо более позднем этапе в
истории фольклора героические песни и сказки обретают свою
собственную стилистическую "обрядность" и в этом плане
"перегоняют" некоторые обрядовые песни, например похоронные
причитания, строго ограниченные обрядовыми обстоятельствами, но
меньше скованные стилистическими формулами. Заслуживает
внимания, что стилистическая изощренность сказки, и в частности
некоторые формулы, прямо соотнесены с отказом от достоверности,
с признанием прав художественного вымысла (особенно финальные
формулы).
Важнейшая категория мифического вымысла - это упомянутое
"раннее", т.е. мифологическое, время, эпоха первопредков, родовых
или племенных, часто тотемических, эпоха творения первопред-
метов, создаваемых первопредками, демиургами, культурными
героями (т.е. персонажами мифа, изобретающими или добывающими
огонь, орудия труда, злаки, устанавливающими ритуалы и социаль-
ные правила). Раннее время - парадигматическое, определяющее
нынешнюю картину мира, являющегося источником ее сохранения
(за счет ритуального "возвращения"). У австралийских аборигенов
мифическое время заполнено мшрациями первопредков, его иногда
называют "временем сновидений", так как и в сновидениях могут
оживать события "ранних времен".
Первопредки - демиурги - культурные герои (эти три категории
мифических персонажей часто объединяются в один образ)
выделились из мифологических пантеонов как древнейшие герои
словесного искусства, моделирующие саму человеческую родо-
племенную общину, которой противостоят различные духи как
воплощение стихийных сил природы. Добывание культурных благ
или природных объектов (первопредметов) иногда описывается как
похищение их у первоначального хранителя, порой с применением
хитрости. Рядом с культурным героем во многих архаических мифах
действует его брат (или его собственный второй лик) - мифоло-
гический плут - трикстер, творящий "вредные" объекты или
совершающий хитрые проделки с целью удовлетворения голода или
похоти, ради озорства, соперничества с братьями и т.п. На более
поздней ступени те же культурные герои выступают как богатыри -
победители различных духов-чудовищ.
Другие характерные плоды мифического вымысла - встречи
людей и контакты с духами, благожелательными или злокозненными
Поэтическое слово в архаике 93
(в архаических "былинках"), повествования о браках с "тотеми-
ческими" супругами (откуда -^чудесные жены, позднее чудесные
мужья волшебной сказки), об испытаниях мальчиков у лесной
ведьмы, отражающие обычаи инициации, о посещении нижнего или
верхнего мира и возращении 'оттуда (временная смерть и
воскресение) и т.д. и т.п.
В ранних формах героического эпоса герри, как правило,
отмечены реликтовыми чертами культурных героев (например,
древневавилонский Гильгамеш, скандинавские боги Один и Тор,
финские Вяйнямейнен и Ильмаринен, якутский Эр-Соготох,
буквально "одинокий", т.е. первопредок, северокавказский Сосруко и
др.), а изредка даже трикстеров (Локи, Сырдон). Соответственно
враги в архаической эпике представлены в виде мифических
чудовищ, часто возглавляемых их матерью-ведьмой (Лоухи, Медб,
мать Гранде ля, чудовищные старухи в эпосах сибирских тюрков).
В той же архаической эпике эпическое время, героический век еще
выступают как раннее время первотворения. Только в эпической
классике, сложившейся после государственной консолидации ее
носителей, исторические предания начинают вытеснять мифы,
раннее время предстает как славное прошлое, как период расцвета
первых государств (Микен, Карла Великого, Владимира Святослави-
ча, четырех ойратов и т.п.), враги отождествляются с иноплемен-
ными противниками, хотя еще долго сохраняют внешние атрибуты
мифических чудовищ; вообще этот "исторический" эпос строится по
моделям "мифологического". На заднем фоне боги продолжают
действовать и в классических эпосах, например в "Илиаде" или
"Махабхарате".
Как уже сказано, мемораты о встречах с духами дают содержание
древнейшим быличкам, рассказы "инициационного" типа о пребы-
вании юношей у ведьмы или дракона, о браках с тотемными
существами и т.п. дают сюжеты для сказок. Добывание культурных
благ в мифах превращается в сказках в истории с чудесными
предметами.
Мифологические анекдоты о проделках трикстеров (часто с
тотемической окраской) постепенно превращаются в сказки или
басни о хитрых животных (Лисе и т.п.). В басне мифический сюжет
приобретает дидактическую окраску.
В повествовательном фольклоре и начальных ступенях лите-
ратуры чисто мифический вымысел преобладает, собственно
ритуальные модели имеют меньшее значение, за исключением
обрядов инициации, отразившихся в ранних формах эпоса и особенно
в сказке. В последней модель инициации вскоре начинает
дополняться и заменяться моделью свадебного обряда: сказка часто
кончается свадьбой, в ней отражены различные свадебные обычаи,
94 Е.М. Мелетинский
например брак отработкой, "избегание" брачного партнера, мнимые
невесты, некоторые брачные табу и т.п.
Отметим, что мифологические и ритуально-мифологические
модели продолжают питать и поэтический вымысел в романе,
мифологические прообразы "страстей" мифологического персонажа,
включая "временную" смерть (как у умирающего и воскресающего
божества), находим в греческом романе.
В средневековом романе переработаны и пропущены сквозь
сказочную призму некоторые фундаментальные мифологемы -
мифологема инициации, новогодней борьбы с силами хаоса, знамени-
тая фрэзеровская мифологема царя-жреца, сменяемого по старости
молодым наследником (реликты ее найдены в "Тристане и Изольде",
в "Персевале" Кретьена де Труа, в персидском романе "Вис и
Рамин", в японском "Гэндзи моногатари" и др.).
"Плутовская" фантазия анекдотов о трикстерах и сказок о
животных перекочевала в средневековый животный эпос о Ренаре, в
фаблио и шванки, а позднее в плутовской роман.
Для народной лирики ритуальное наследие гораздо важнее
мифической фантазии, так как народная лирика непосредственно
вырастает из обрядовой. Элегия прямо восходит к похоронным и
поминальным ритуалам, отчасти вошедшим и в календарный цикл.
Песни-причитания отчасти входят и в брачный ритуал (прощание с
жизнью в родительском доме). Их своеобразным "продолжением"
являются так называемые "женские песни", широко распрост-
раненные в средневековой поэзии. Всякого рода любовные песни в
значительной степени вырастают из "весенних" обрядов и из
аграрной магии. Это отчасти относится даже к "кансонам" и
"альбам" провансальских трубадуров, но еще гораздо отчетливей - к
более архаической любовной поэзии.
Очень яркий пример - поэзия тамилов, в которой любовные
переживания и отношения супругов тесно увязываются с магической
женской "энергией", имеющей отношение к плодородию, с самим
богом плодородия Муруганом. Вся тамильская поэзия построена на
ритуальных моделях.
Аграрная магия и календарная мифология во многом определяют
те психологические параллелизмы, ту пейзажную лирику, которые
имеют столь широкое распространение, особенно на Востоке, и в
первую очередь на Дальнем Востоке. Вся символика и метафорика
средневековой лирики почти целиком выводима из ритуально-
мифологических представлений, даже тогда, когда возникают
отрицательные психологические параллелизмы, начинается игра на
контрастах состояния природы и души человека, когда перво-
начальные мифологические ассоциации теряют характер "парти-
ципации", модифицируются, искажаются и т.п.
Поэтическое слово в архаике 95
К сказанному надо добавить, что конкретные мифологические
топосы и целые сюжеты, в частности восходящие к античной,
библейской, коранической, индуистской, буддийской, даосской мифо-
логиям, на протяжении веков пересказываются, по-новому интерпре-
тируются и по-разному используются развивающейся и меняющейся
литературной традицией. Миф остается важным компонентом
"языка" литературы, мыслимого в самом широком смысле слова.
Связывая миф в первую очередь с "содержанием" архаического
словесного искусства, мы должны одновременно отдавать себе отчет
и о генетической связи художественной образности с мифоло-
гическим типом мышления, с мифологичностью самого поэтического
слова, поэтической речи. Мифическое мышление не выделяло
человека из окружающей природной и социальной среды, оно
сохраняло черты диффузности и нерасчлененности, было почти
неотделимо от эмоциональной и моторной сферы. Следствием
явилось наивное очеловечивание всей природы, всеобщая персони-
фикация. Диффузность мифологического мышления выражается
также в неотчетливом разделении конкретно-чувственного и
отвлеченного, субъекта и объекта, предмета и знака, вещи и слова,
существа и его имени, вещи и ее атрибутов, единичного и
множественного, пространственных и временных отношений, смеж-
ности и причинно-следственных связей, начала и принципа, т.е.
происхождения и сущности. Подмена сущности происхождением
ведет к появлению нарратива, повествования о происхождении
различных элементов модели мира, историй о богах и героях. При
этом причинно-следственные связи часто заменяются повторением.
Синкретизм и конкретно-чувственный способ обобщения мифа
наследуется художественной формой как таковой. Все эти
перечисленные отождествления дают уже на архаической ступени
основу сравнений, параллелизмов, метафор, синонимов, столь
характерных для раннего фольклора. Миф оказывается у истоков
тропов. Глубокая связь мифа с самим словом, как с его "внешней",
так и с его внутренней формой, была прекрасно понята Потебней, а
затем Фрейденберг. Потебня умел фиксировать границу между
исконной метафорической природой языка и мифа и конкретными
формами собственно художественных тропов. Отчасти по его стопам
шел Веселовский. О. Фрейденберг подчеркивает, что семантика
мифа не однокачественна его морфологии и поэтому появляются
различные метафоры (в ее терминах еще й "дометафоры"), которые
по-разному передают исконный мифологический образ (ср. "коды"
Леви-Сгроса).
Основная "фигура" архаической поэзии - параллелизм, от
которого в каком-то смысле происходят и различные тропы.
Содержательная сторона параллелизма на древнейшем этапе
96 Е.М. Мелетинский
связана прежде всего с сопоставлением чего-то, происходящего в
жизни человека, с чем-то, происходящим в природе, т.е. с живот-
ными, растениями, небесными светилами и т.д. Предпосылкой,
обязательным условием для возникновения таких сопоставлений
является общее анимистическое мироощущение и антропомор-
физация природы, но не только; к этому обычно добавляются более
конкретные мифологические представления тотемистического
характера о родстве (в основе - тождестве) родовой группы и
породы животных-растений, о происхождении человека от растений
или животных, а также другие разнообразные мифы. Трудность
здесь заключается в том, чтобы различить процесс мифообразования
отчасти в связи с исконной общемифической "метафорической"
природой самого языка и возникновение параллелизмов и метафор
непосредственно в результате конкретного мифа. Иными словами,
символическое значение какого-то природного объекта (например,
цветка; скажем, рута является символом девственности в народной
поэзии) могло само возникнуть из параллелизма (когда одна из
параллелей выпадала), а могло предшествовать параллелизму,
порождать его. Первоначальное отождествление трансформи-
ровалось в явное или неявное сравнение. Проблема параллелизмов в
песенной архаике подробно рассматривается А.Н. Веселовским на
примерах фольклорной лирики (см. [Веселовский 1940, с. 125-199,
400-422]). А.Н. Веселовский все же должен признать, что "наш
поэтический стиль есть несколько измененный сколок со старого
мифического языка" [Веселовский 1940, с. 408]. А.Н. Веселовский, в
частности, останавливается на заговорах, в которых первая часть,
описывающая мифологический прецедент, является магически
действующей параллелью к некоему желанному действию.
В ряде приводимых А.Н. Веселовским фольклорных песен
имеются параллели между субъектами (лес - парень, вишня или
калина, рябина, черемуха - девица и т.д.), но и между объектами
действия и некоторыми признаками субъекта ("Явор шумит, а милый
журит"; "Вишня клонится до корня, а Марися до батьки"; зеленый
коррелирует с веселым, и т.п.). На известной ступени в фольклоре
из обычного параллелизма возникает отрицательный ("не буйны
ветры навеяли, не званы гости наехали").
А.Н. Веселовский показывает, как с искажением древнего
параллелизма могут возникнуть окаменевшие формулы, которые
"как-то не клеются с последующим ходом песни" и которыми
"начинают орудовать, как материалом поэтического языка" (с. 405).
Из первичного анимизма и дальнейшего смешения параллелей
А.Н. Веселовский выводит многие метафоры (с. 413 и ДрЭ.
Как уже отмечено выше о мифологическом генезисе метафоры,
интересные соображения высказала О. Фрейденберг (см. [Фрейден-
Поэтическое слово в архаике 97
берг 1978, с. 180-205]). Она рассматривает на материале античной
литературы первые шаги отвлечения, отделения в мифологическом
образе вещи от свойства, времени от пространства, результата от
причины, "я" от "не-я", познающего от познаваемого и т.д., в
результате чего мифологический образ практически становится
поэтическим, а "дометафоры" превращаются в настоящие мета-
форы. Субъект еще долго конструировался по объекту, а отвле-
ченное обозначалось конкретным (страдание как род болезни,
например). Античная "метафора*', по словам Фрейденберг, образ в
двух смыслах - мифологическом по форме и "понятийном" по
содержанию. Гомер мог сказать "железное небо", "железное сердце",
"соленое море", так как в мифе небо и сердце - железные, а соль
синонимична морю. Античные эпитеты тавтологичны семантике
предмета. Это сближает их с метафорой, делает ее разновидностью.
В словах "Да не испытаем мы того, из-за чего велики страдания,
ради чего великое море вспахано мечом" предполагается тождество
земледелия и военного искусства, речь идет о море Елены и Париса
и потому появляется новый смысл: "Да избежим мы пагубных
последствий любви".
Фольклорно-этнографический материал содержит огромное коли-
чество примеров формирования поэтического языка под влиянием
мифов, мифологической картины мира. Яркий пример - поэтический
язык архаического якутского эпоса олонхо (подробно проанали-
зированный в диссертации Л.Л. Габышевой "Семантические особен-
ности слова в фольклорном тексте", 1986); из мифологического
контекста вырастает полисемия пространственно-временной лексики,
пересекающаяся с классификацией предметов по цвету. Дуалисти-
ческая мифология там строится на основе отождествленных между
собой семантических противопоставлений: верх/низ, юг/север,
восток/запад, правый/левый, день/ночь, лето/зима, белый/черный,
кони/рогатый скот, молочный/кровавый, серебряный/железный,
социальный верх/социальный низ, мужской/женский, три/де-
вять/четыре (восемь). Эта матрица крайне близка к мифологическим
универсалиям, ее варианты являются основой почти любой
мифологической системы, о чем писалось К. Леви-Стросом,
В.В. Ивановым, В.Н. Топоровым и многими другими. В олонхо эти
предметы и признаки, объединенные полисемией, в системе тропов
связаны между собой сравнением, метафорой, олицетворением,
служат друг другу эпитетами, в сюжете они выступают в роли
признаков, по которым моделируются события. Мифологический
дуализм ведет к этическим оценкам, которые могут проявиться как
•на собственно языковом уровне, так и в системе тропов, образов,
мотивов. В построении тропов ярко отражается также мифоло-
гический параллелизм микро- и макрокосма, т.е. человека и космоса.
7 270
98 Е.М. Мелетинский
Когда значение части тела в тексте не полностью нейтрализуется,
текст приобретает метафорический смысл.-Буквально то же самое
найдем в любой мифо-поэтической традиции.
Для понимания практической поэтики архаического периода,
кроме первобытного синкретизма, формального и идеологического,
необходимо учитывать сам факт устности словесного искусства
(а для ранних книжных памятников - реликтов фольклорности), о
котором вскользь уже упоминалось в связи с ролью жеста и голоса, с
элементами театральности, присутствующими в любом фольклорном
исполнении. Повторение слов и групп слов, ''формул", в сочетании с
варьированием слов (синонимов) и строк (семантический и фонико-
синтаксический параллелизм) - самая фундаментальная черта как
архаической песни, так и "классического" фольклора, и эта черта
прежде всего связана с устным характером творчества, неотде-
лимого от импровизации и от акта исполнения. Это отметили многие,
писавшие о специфике фольклора (см., например, [Баура 1962;
Финнеган 1977; Чистов 1986]). Устность поддерживает и упомянутый
выше метод построения песни "строчка за строчкой" путем
варьирования первой строки, описанный Баура. Постепенное
развертывание темы и движение песенного сюжета от строчки к
строчке с использованием "подхвата" хорошо описывается моделью
связного текста Ф. Данеша в виде рема-тематической прогрессии:
тема каждого следующего звена (например, строки) оказывается
трансформированной ремой предыдущего звена. Поэтическая речь
оказывается посгупенчатым нанизыванием предикативных единиц.
Данеш рассматривает три типа цепочек - простую линейную
прогрессию т -»R
г и др.
Ti(=R)
и сквозной текст. Tj -> R
Tj->Ri
Ti->R2
с производными темами -----------(Т)-----------
I I I
?! -* R] Т2 -> R2 Т з-> R3
Схема Данеша не только подробно излагается в работах О.П. Мос-
кальской [Москальская 1981, с. 22-23], но и развивается у
К.В. Чистова [Чистов 1986, с. 167-176].
Развертывание, по Данешу, в какой-то мере конкурирует с
накоплением парных строго параллельных, изоморфных, сино-
нимических строк. К.В. Чистов, четко суммируя и удачно развивая
анализ фольклорной специфики, справедливо указывает как на ядро
Поэтическое слово в архаике 99
этой специфики на сочетание стабильности и пластичности в
определении диапазона вариативности и на существование особых
стабилизаторов в виде типовых бытовых и ритуально-церемо-
ниальных ситуаций, жанрового этикета, постоянных персонажей и
словесных формул; тип и масштаб варьирования зависят от типов
замещающих элементов и колеблются в определенных пределах.
Фольклорный текст как текст устный разделяет некоторые
особенности обыденной устной речи, хотя и в гораздо большей
степени урегулирован. Как и в обыденной речи, в фольклоре имеет
место деление на небольшие структурные звенья (в песнях эти
звенья могут совпадать со строкой), подлежащие сцеплению
определенными синтаксическими средствами, гораздо менее стро-
гими, чем в письменной речи. Но, кроме того, обычно с исполь-
зованием повторов, фольклорные тексты являются традиционными и
воспроизводимыми в акте исполнения. Этот акт в той или иной мере
ритуализован, включает тесную взаимосвязь "певца" с аудиторией
(своим определенным и постоянным социумом, причастным к знанию
традиции и ритуальных ограничений) и, что особенно важно,
является большей частью не рецитацией наизусть, а более или
менее творческим воспроизведением сюжетных, жанровых и
стилистических моделей. Всякого рода повторы и словесные
"формулы" в качестве важнейших кирпичиков помогают хранению
текста в памяти певца между актами его материализации в моменты
воспроизведения перед аудиторией. Хотя, как известно, певцы и
сказители способны запоминать тысячи и тысячи строк наизусть,
механизм творческой трансмиссии не сводится к произнесению
заученного наизусть. Наибольшая степень заученности, строгости в
воспроизведении имеет место в отношении обрядовых песен, прежде
всего заговоров (в силу сакральности магического слова), а также
пословиц и хоровых песен (само хоровое начало восходит к обряду,
на чем особенно настаивал А.Н. Веселовский), хотя и в этих
пределах имеется, однако, некоторый минимум варьирования.
Разумеется, вариативность минимальна в сакральной поэзии, устной,
но профессиональной, типа ведийской, древнеирландской поэзии
филидов (а также друидов) и т.п.
В песнях и сказках, уже идейно не связанных с обрядом, масштаб
варьирования гораздо больший, даже при повторении исполнения
тем же певцом или сказителем. В принципе варьирование - исконная
черта фольклора, и поиски единого прототипа первоначального
текста, как правило, являются научной утопией. "Формульный"
стиль книжного героического эпоса (гомеровского и др.) амери-
канские ученые Пэрри и Лорд считали прямым наследием устной
техники исполнения. Из сказанного вытекает, что архаический
фольклор, почти полностью остающийся .в обрядовых рамках,
100 Е.М. Мелетинский
варьируется в гораздо меньшей степени, чем "классический1'
фольклор, существующий рядом с литературой. Например, в
вариантах былин могут варьироваться даже имена врагов, вплоть до
народов (например, татары могут быть заменены литовцами),
название местностей (обычно кроме Киева).
Десакрализация слова всячески способствует дальнейшему
развитию такой характерной черты фольклора, как метонимия в
параллельных строках и употребление парных синонимов типа "путь-
дорога". Параллелизм и синонимия дают возможность осветить тему
с разных сторон, но, большей частью, не уточняют значение слова,
а только указывают принцип более широкого понятия, совпадаю-
щего с общей частью, с "пересечением" синонимов. Это
"пересечение" есть инвариант, выражающий некоторые родовые
значения. Такое господство родового над конкретным - харак-
терная черта стиля словесного искусства архаической ступени,
она сохраняется иногда и на относительно более поздних
этапах.
В зависимости от аудитории и других обстоятельств певец-
сказитель может сократить свой "текст" или расширить его за счет
параллелизмов, дополнительных эпизодов и т.д. Всякого рода повто-
ряемость, составляющая стихию фольклора и стихию архаической
ступени с ее гегемонией ритуального начала, является главным и
мощнейшим средством структурирования архаических и фольклор-
ных произведений и важнейшей чертой архаического и фольклорного
стиля. Возникнув на почве ритуальности, устности и т.д., повторения
формул, фразеологических оборотов, фонических и синтаксических
элементов воспринимаются и как украшающий прием. Несомненно,
постоянные эпитеты, сравнения, контрастные сопоставления, мета-
форы, И1ры синонимами, анафорические и эпифорические повторы,
внутренние рифмы, аллитерации и ассонансы ощущались и как
украшения.
Древнейшая письменная литература начинается обычно с надпи-
сей, функция которых не может быть адекватно осуществлена с
помощью устного фольклорного слова. Таковы древнеегипетские
"автобиографические" надписи вельмож и всякого рода заупокойные
тексты, шумерские царские надписи, китайские надписи на гада-
тельных костях и т.п. Вместе с тем многие жанры древнейшей
письменности непосредственно продолжают фольклорные традиции
заклинаний, ритуальной поэзии (календарной и свадебной), мифа,
исторических преданий; отталкиваясь от устных паремий и рели-
гиозно-ритуальных традиций, во всех древних литературах Востока
создается обширная дидактическая книжность. Огромный размах
дидактики далеко уводит древнейшую литературу от фольклора.
Древняя письменная литература сохраняет при всем том стилевые
Поэтическое слово в архаике 101
средства выразительности, очень близкие к фольклорным, схожие
системы повторов, параллелизмов, метафор, словесных игр.
Реальная книжная словесность в своей основной массе в гораздо
большей степени восходит к фольклору, чем к древнейшим надпи-
сям. Эпос как жанровая категория несомненно сложился на устной
стадии, а его книжные формы на первых порах представляли пись-
менную фиксацию устных версий (см. выше о концепции Пэрри и
Лорда). Это относится не только к песенно-стихотворному эпосу, но
в значительной мере и к постклассической героической повести типа
исландских саг, японских гунки, китайских средневековых прозаи-
ческих эпопей. То же относится к средневековой лирике - франко-
провансальской, арабской, китайской, японской. Это прекрасно
понимали такие старые ученые, как Г. Парис или А. Веселовский. В
наши дни П. Зюмтор (который, несколько "антропологизируя",
делает особый акцент на "голосе") демонстрирует исключительное
значение устного слова для всего европейского средневековья.
Устное слово ассоциировалось с народными языками и с этой
стороны противопоставлялось книжной латинской речи, дававшей
образцы для риторической поэтики. То, что от раннего средне-
вековья сохранилось так мало рукописей, а при этом церковь издава-
ла многочисленные запреты на cantica diabolica, П. Зюмтор считает
косвенным доказательством доминирования в этот период устной
традиции. Но и для зрелого средневековья Зюмтор пользуется
терминами "смешанной устности" (oralitg mixte), имея в виду такие
факты, как употребление в эпосе самого термина "песня" и таких
пар значений, как "петь" или "говорить" и "слышать", "слушать"
(dire, chanter, parler, sagen, VS, Icouter, httren), а также нередких "втор-
жений" в текст собственной речи певца (рассказчика), обращаю-
щегося к публике, дробления текста на фрагменты - устные сеансы.
Даже в куртуазной письменности имеет место параллельное
упоминание глаголов "слышать" и "видеть", нечеткие границы меж-
ду терминами "автор" и "актер".
Вообще куртуазная литература, письменная по способу сочине-
ния, остается устной не только в той мере, в какой используются
фольклорные источники, но и по способу исполнения, восприятия
аудиторией. Средневековая лирика и стихотворные романы
рецитировались по рукописям, как бы презрительно ни относились
куртуазные поэты к народным рассказчикам. Об этом же говорит и
упоминание музыки, сопровождавшей исполнение песен и стихов. На
куртуазной стадии различие "устного" и "письменного" уже не сов-
падает с различием "народного" и "ученого". Не только фольк-
лорные корни, но и устное исполнение также очевидны для го-
родской литературы, типа лэ, фаблио - шванка, ренардического
эпоса.
102 Е.М. Мелетинский
Собственно книжная литература на новых европейских языках
начинает всерьез развиваться начиная с XIII в. В связи с этим
процессом происходит прозаизация рыцарского романа. Заметим, что
в литературе на народных языках пока сохраняются реликты
устности, ориентация на античные риторические модели проявляется
еще очень слабо (вопреки мнению школы Курциуса), некоторые
формулы, напоминающие античные образцы, могут быть истолко-
ваны как независимые феномены, связанные с процессом развития
новых литературных языков. Не случайно в ранних произведениях
античной и средневековой литературы часто появляется образ
эпического певца (не говоря уже о гомеровском эпосе, в "Беовуль-
фе", в ’’Слове о полку Игореве", жонглеры в жесте и романе). На
Востоке имеется солидная профессиональная традиция устных
певцов и рассказчиков, которые до сих пор на свой лад переска-
зывают героические повести и другие произведения средневековой
литературы. С другой стороны, не следует забывать о фольклорном
потоке, сосуществующем с письменной литературой на всем протя-
жении ее истории и несомненно испытывающем ее влияние (наряду с
влиянием вытеснивших архаическую мифологию великих религий).
Теперь вернемся снова к вопросу о "художественности" в архаике.
Фантазия мифа, надолго определившая набор мотивов и сюжетов,
воспринималась как нечто объективное, достоверное, сакральное,
боговдохновенное. Так же воспринималась и дидактика, даже в том
случае, когда поучение исходило от определенного лица.
На самой архаической ступени миф, обряд, песня могли принадле-
жать родо-племенным группам, мужским союзам, культовой общине,
"династии" шаманов или жрецов. Могли быть даже и "личные" песни
(причем в довольно архаической среде - у индейцев, палеоазиатов и
т.п.). Но все эти "собственники" мыслились как хранители, носители
традиции или исполнители внушенного свыше. Именно в этом
смысле следует понимать слова одного индейца навахо о том, что он
настолько беден, что не имеет ни одной песни. Предания,
внушенные богами и духами, мыслились извечно существующими.
Даже гораздо позднее, в античной и средневековой литературе,
когда представление о боговдохновенности могло ослабеть, все
равно содержание литературы представлялось как традиционное и
коллективное достояние. Духи-покровители или боги могли, однако,
выбрать и вдохновить достойного исполнителя, певца-сказителя,
пророка, мудреца и т.п. Нивхи в прошлом прямо представляли себе,
что во время исполнения настунда (поющейся богатырской сказки)
дух миф-кехн сидит на языке певца и подсказывает ему песню, а
долганы считали, что поет платок, накинутый на голову певца.
"Избрание" певца богами или духами часто мыслилось в форме
шаманского призвания; то же относится отчасти к "мудрецам".
Поэтическое слово в архаике 103
Известно, что в скандинавских мифах мед поэзии был добыт с
большим трудом верховным богом (с шаманскими чертами) Одином.
Один добывает мед поэзии у великанов, т.е. из иного мира. Также
Вяйнямейнен достает магические слова в царстве мертвых (ср. связь
песни с хтоническим змеем в представлениях индейцев Центральной
Америки). "Песня" или "слово" в архаической поэзии иногда
представляется отдельным существом, независимым от певца.
Обращение певца к этому "слову" мыслится гораздо конкретнее, чем
последующее обращение поэта к музам (обращение к "песне"
встречается и в средневековой литературе). В архаическом
фольклоре северных народов, например, у самодийских этнических
групп, "слово" или "песня" призывается тогда, когда в рассказе
меняется место действия; и "слово", таким образом, оказывается как
бы оператором перемены места действия. (Образ певца вводится в
текст значительно позже, в ряде героических эпосов.)
Но вместе с тем "слово" это певец должен уметь найти, например
выудить, как рыбу из источника, т.е. певец должен что-то уметь
сделать. Это что-то относится не к плану содержания, а к плану
выражения. Песня делается, как танец, как сакральная роспись или
скульптура. Во всех этих случаях мифологическое содержание дано,
а мастерство относится к форме.
Разумеется, прозаическое изложение мифа, например, почтен-
ными стариками перед юношами, проходящими обряд инициации, у
тех же австралийцев или других этнографических пережиточных
групп никак не считается мастерством. Здесь все сводится к сакраль-
ной, даже эзотерической, информации (например, о "маршрутах",
которыми древние люди "времени сновидения" пришли и принесли
обычаи, обряды, хозяйственную культуру). Но танец, изображаю-
щий этих тотемных предков зооантропоморфной природы, и песня,
их воспевающая и возвеличивающая, на уровне выражения все же
воспринимаются как умение и мастерство. И это мастерство
оценивается на стилистическом уровне. Во многом сходная ситуация
сохраняется и в развитом фольклоре, где "сакральное" понемногу
отступает перед чисто "традиционным", фольклор также заключает
в себе синкретическое единство знания и искусства (см. об этом
подробно [Бен-Амос 1972, Финнеган 1977] и представляет собой
важнейший процесс социального взаимодействия (в неразрывном
соединении творческой импровизации и исполнения) и передачи ин-
формации художественными средствами, отличающими художест-
венную (в генезисе - ритуализованную) речь от обычной речи в со-
провождении "театрального" жеста, не вполне совпадающую с обы-
денной. Нечто подобное имеет место и в древнейшей литературе.
Процесс создания художественного произведения в индоевропей-
ских языках уже на самой древней стадии обозначался как "делать"
104 Е.М. Мелетинский
(в греческом, древнеиндийском, кельтских, славянских; и по-китайски
’’поэт” - цзочжэ буквально означал “делатель”), ’’плести”, ’’тесать”.
В одном из гимнов "Ригведы” версификационные поиски сравнивают-
ся с трудом плотника. И на гораздо более позднем этапе средне-
вековые поэты-трубадуры сопоставляли поэзию с ковкой, золоче-
нием, раскрашиванием и т.п. Примерно такие же сравнения можно
найти у арабских поэтов. В древнеирландском языке теми же
терминами creth, dan обозначали поэзию и ремесло, термин dan
входил в сложные слова, обозначающие поэму или стихотворный
размер, a creth в глоссариях трактовался так же как “мудрость”.
Само название основной категории поэтов - филиды - скорей всего
следует расшифровать как “провидцы” (а возможно, оно намекает на
связь с потусторонним миром как источником мудрости); термин
поэтическое искусство (Filidecht) часто глоссируется как “мудрость”,
“знание” (см. [Калыгин, 1987, с. 20-21]). И практически филиды были
одновременно знатоками права и королевских генеалогий, предска-
зателями (в частности, в ритуале королевских инаугураций), совет-
никами королей и поэтами. Почти то же самое следует сказать о
скандинавских тулах. Скандинавский верховный бог Один - одно-
временно тул, шаман и добытчик поэтического меда (ср. финского
Вяйнямейнена и др.). Все это реликты синкретизма, но нас здесь
интересует другое. ’’Мудрость” поэта (получение которой на
древнейшей ступени неотделимо от шаманского экстаза, а позднее
трактуется как боговдохновенность) указывает на его способность
получить извне, из высших мифических источников “содержание” для
поэзии и вдохновение для ее создания, но само это создание воспри-
нимается как делание, ремесло и мастерство, ведущее к формаль-
ному совершенству. В архаической аудитории собственно “худо-
жественные” элементы воспринимаются и как умение, мастерство, и
как знаки определенного типа социальной коммуникации, как куль-
турные формы его узнавания - узнавания, порождающего удоволь-
ствие. Такими культурно узнаваемыми имплицитно-художествен-
ными формами являются прежде всего сами факторы ритмичнос-
ти - просодичность, повторяемость, структурность, риторические
интенции, формулы. В качестве необрядового примера укажем на
паремии - поговорки, пословицы, загадки (столь блестяще изученные
прежде всего в трудах Г.Л. Пермякова). Пословицы являются
набором суждений здравого смысла, моделирующих определенные
социальные ситуации, т.е. они относятся к области "знания”, однако
их культурное узнавание связано с их специфической формой,
направляется на контрасты и парадоксальные заострения, на
элементы ритма фонических повторов и т.д. Подтипы "худо-
жественной” коммуникации ("жанры” в широком смысле слова)
узнаются в зависимости от более конкретного характера этой
Поэтическое слово в архаике 105
повторяемости. Однако непреодоленный "синкретизм" ведет к тому,
что эти художественные различия могут обозначаться в терминах
эстетически нерелевантных, относящихся к сфере функциональной
референции, указывающих социально-обрядовую функцию, ситуа-
цию или какие-то иные признаки (например, деление на сакраль-
ный/несакральный, строгую/нестрогую достоверность, отличающие
приблизительно миф и сказку). И в ранней средневековой литера-
туре традиция, воспринимаемая как память об историческом
прошлом, манифестируется на уровне поэтических моделей, от
текста ждут известной виртуозности. Таким образом, подготовляется
та рефлексия по поводу стилевого выражения, которая характе-
ризует следующую ("риторическую") стадию.
Разумеется, применительно к архаической стадии не приходится
говорить о наличии особого художественного сознания. Скорее,
наоборот, на этой стадии все общественное сознание было бессоз-
нательно художественным, мифопоэтическим. Говорить же о поэзии
можно только поскольку продукты спонтанно творческой
деятельности в чем-то сходны с теми, которые в более поздних
художественных традициях считаются произведениями искусства.
Они особым образом организованы. Именно наличие этой
организованности словесного материала дает возможность поставить
вопрос и о "поэтике", но только как совокупности правил и приемов
создания этих продуктов, а не как теоретической рефлексии по их
поводу. Здесь складывается ситуация, аналогичная той, какая имеет
место в естественном языке, где нормальная речевая деятельность
обеспечивается наличием и функционированием неосознанных
языковых моделей. Впрочем, как показал P.O. Якобсон (см.
"Бессознательное", т. III, с. 162-162), естественный язык имеет и
метаязыковую функцию, которая намечается тогда, когда
непосредственным предметом высказывания может стать языковой
код и его составные элементы. Архаическая "имплицитная" поэтика
также включает элементы самоописания, если предметом выска-
зывания становится само слово. Поэтому одним из источников
изучения архаической поэтики могут быть представления о слове
вообще, и особенно о слове "изображенном" и в этом смысле
поэтическом. Имеются в виду коллективные представления о слове,
его функциях и качествах, о надлежащих или запретных формах его
употребления, о назначении певца (сколь бы синкретически он ни
был связан с шаманством, колдовством, жречеством) и сказителя, о
его правах, обязанностях и правилах поведения по отношению к
своей деятельности и ее продуктах, к аудитории и т.д. На
архаической стадии, особенно на раннем, собственно мифопоэти-
ческом, этапе весь культурный опыт транслируется путем
непосредственных устно-зрительных контактов от поколения к поко-
106 Е.М. Мелетинский
лению (т.е. диахронно) и от лица к лицу (т.е. синхронно). Единицей
такого межличностного общения становится коммуникативный акт
контактного типа, в котором сообщение, представляющее собой
реплику определенного лица, адресовано другому определенному
лицу с целью спровоцировать это последнее на необходимую для
первого реакцию (ср. рассуждения М.М. Бахтина об обращенности и
адресованности высказывания [Бахтин 1969, с. 273]. (Коммуни-
кативная природа архаического ориентира прекрасно показана в
работах Е.С. Новик, и последующее изложение их отчасти сумми-
рует.) Отсутствие средств письменной фиксации создает трудную и
парадоксальную ситуацию при необходимости преодоления простран-
ственно-временных разрывов. Естественными оказываются в этом
случае мифологические персонификация и антропоморфизация значи-
мого окружения, безразличие к субстанции знаков, составляющих
сообщение (и синкретизм знаковых систем); магически активный,
эмоционально-волевой и обязательно двусторонний, диалогический,
"обменный" характер коммуникации, предполагающий нужную
ответную реакцию "партнера". В мифопоэтической архаике слово -
это всегда звучащее слово, "голос", за которым стоит определенное
"лицо" со своими намерениями. Каждый предмет или явление,
издающие звуки, - не только живое существо, но и носитель языка,
чем-то отличающегося от человеческой речи, откуда многоголосие и
"многоязычие" окружающего мира. В одном якутском олонхо
говорится:
Внутри дома богатырского
турсуки по-женски причитали,
стаканы сами распевали,
стулья сказки сказывали,
загадки скамьи загадывали,
веники в пляс пускались,
кочерги со звоном танцевали,
кладовки песни сочиняли,
лари притчи сказывали.
[Эргис 1974, с. 205]
Крики животных, скрип дерева, стрекот насекомых используются
не только для классификации этих явлений, но и для общения с
природными объектами, для чего широко используются звуко-
подражания. Имитация чужого голоса необходима для привлечения
его внимания и для провоцирования нужной реакции, она создает
звуковую "маску" для сокрытия своего и репрезентирования чужого
лица, причем не только с утилитарными целями (начиная с охоты),
но также в играх и обрядах. Звуковой код использовался и для
различения людей внутри человеческого коллектива, чему, в
частности, служили уже упоминавшиеся выше личные напевы,
Поэтическое слово в архаике 107
которые при всей своей традиционности (при том, что они могли
быть унаследованы, подарены или внушены свыше) маркировали
индивидуальный "голос", становились его вокальной маской. Пение
чужой личной песни квалифицировалось как воровство. Разумеется,
родовые или семейные напевы также были вокальной маской рода,
семьи. С другой стороны, определенные мелодии могли обозначать,
"портретировать" мифологических, а затем и эпических персонажей,
чему имеется масса примеров в фольклоре обских угров, в
эвенкийском и якутском эпосе (нимнгакан, олонхо). Интересно, что
звуковая маска может действовать и как самостоятельный персо-
наж, о чем свидетельствует вера в песенных духов, например, у
нанайцев, нивхов, долган, якутов и многих других народов Сибири.
Выше мы упоминали о духе миф-кехн, сидящем на языке певца, о
долганском поющем платке и о песне или слове, как особом
персонаже в самодийском фольклоре. Пение, таким образом, оказы-
валось могучим изобразительным и коммуникативным средством (у
нганасан, по наблюдениям Грачевой, песня, связывающая различные
миры, должна тянуться как веревка или дорога и быть своего рода
метафорой речи, причем речи особой, отличной от обыденной и как-
то связанной с мифом, ритуалом, магией).
Заметим, что магическое слово сугубо коммуникативно и в
сущности диалогично: оно предписывает адресату выгодное для
адресата ответное поведение (вещь - знак в магии - это только
заместитель лица, партнера). Именно словесная форма превращает
магическую акцию в адресованную "реплику", выражающую приказ,
пожелание или запрет. От ответной реакции на эту реплику зависит
успех магического "дела". Магическое слово при этом само часто
овеществляется, мыслится материальным знаком-посредником. Сло-
ва в некоторых традициях (например, у чукчей) могут превращаться
в живые и неживые предметы, быть видимы [Иванов 1975, с. 120].
Особенно причудливую материальную форму имеют зловредные
речи [Иванов 1975, с. 146]. Этому соответствует и упоминавшееся
выше представление о ковке, плетении, тканье слов, о веществен-
ном меде поэзии и т.п., а также о тождестве имени и личности, о
слове как отдельном существе. Вещность и зримость слова
свидетельствуют о хотя бы частичном осознании того, что вербаль-
ное поведение является одним из способов кодировать сооб-
щение.
Как и акустические сигналы (звукоподражание, некие), слово
может представлять или маскировать (табудокдоение слов) опреде-
ленных лиц, реальных или воображаемых; и целые их категории.
Так рядом с обыденным языком появляются иные эзотерические
языки, тайные, сакральные, языки духов, для чего используются
звукоподражания, архаические слова или слова соседних племен,
108 Е.М. Мелетинский
метафорические иносказания, метонимии, синонимические дублеты,
намеренные словоизменения и словообразования.
Все эти разновидности особой, необыденной речи, включая охот-
ничий язык, церемониальное иноговорение, шаманское ритуальное
многоголосие и многоязычие, речь, пользующаяся или передаю-
щаяся речитативом и насыщенная параллелизмами и синонимами,
метонимическими оборотами, являются предшественником и прооб-
разом речи собственно поэтической (о чем в другой связи уже шла
речь выше).
В поздней архаике мы застаем начало осознания процесса отде-
ления особой речи от обыденной как формирования поэтического
языка и поэтического творчества. Ярким образцом здесь может слу-
жить творчество филидов, имевших уже настоящую профессио-
нальную школу, создавших настоящий поэтический язык, но еще
связанных с сакральным друидическим наследием (включавшим ярко
выраженные шаманские элементы). Их терминология указывает на
то, что поэтическая речь мыслилась как "обработанная*' (gnath berla),
в отличие от обыденной "необработанной" речи (berla teibide), причем
это различие, что очень знаменательно, связывалось с оппозицией
между "языком богов" и "языком людей". В ирландских эвгеме-
рических мифах рядом с языком ирландцев фигурируют божествен-
ные языки фирболгов и народа богини Дану. Заведомо поэтический
язык филидов мыслился как язык собственно стихотворный или как
более или менее ритмизованная проза и в отличие от обыденного
языка широко пользовался не только архаизмами, но всевозможными
фоническими и семантическими деформациями, заменами, семанти-
ческими дублетами, двусмысленностями, перестановками внутри
слова или фразы (подробно см. [Калыгин 1987, с. 58-59 и др.]).
Противопоставление языка людей и языка различных категорий
богов и духов находим и в Ведах (языки дэвов, гандхарвов, асуров) и
в древнескандинавской традиции (языки асов, ванов, йотунов,
альвов, цвергов).
Поэтический язык, формируясь по образцу сакральных, эзотери-
ческих языков, на первых порах отчетливо акцентирует свою
формалистическую усложненность как признак художественности,
как доказательство своего мастерства, искусства.
М.М. Стеблин-Каменский в своих многочисленных работах о
поэзии исландских скальдов (уже успевших потерять сакральный
ореол тулов) подчеркивал этот акцент на изощренной форме, проти-
востоящей данному извне "объективному" содержанию. В своих дра-
пах и висах скальд не имел права исказить реальные факты военных
побед, поражений и т.п., но он мог проявить свое мастерство в
отделке стиха, в изощренных эпитетах и заменах имен (кеннинги и
хейти), в синтаксических перестановках. Нечто в этом смысле
Поэтическое слово в архаике 109
аналогичное древнеирландской и древнеисландской поэзии можно
обнаружить и в арабской домусульманской поэзии как условно
соотносимой с поздней архаикой. В поздней архаике поэтика
"содержания” (плоды мифологического и "исторического” вымысла)
еще имплицитна, а поэтика "формы” уже эксплицитна. Это соотно-
шение сохраняется и на следующем этапе - на стадии риторического
традиционализма.
Хотя художественность на архаической стадии маркирована
главным образом в песенной реализации, необходимо упомянуть, что
некоторые квазихудожественные черты и предриторические формы
можно обнаружить в устной церемониальной ораторской прозе,
которая совсем не чужда архаическим обществам (ср. знаменитое
"красноречие” индейцев), не говоря уже о красноречии в древнейших
письменных памятниках (ср. древнеегипетскую "Повесть о красно-
речивом поселянине” и др.), о древней дидактике и т.н. В ходе
эволюции, по мере сужения круга собственно обрядовой поэзии, как
уже вскользь отмечалось, эстетическая доминанта выявилась в
жанрах, наиболее удаленных от обряда, - в лирических песнях,
в сказке и героическом эпосе. Однако возникшая в античности
и получившая развитие в средние века риторическая поэтика
охватила обрядовую и лирическую поэзии, ораторскую прозу, даже
историографию, но долго оставляла без внимания эпическую поэзию
и сказку.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Баура 1962. - Bowra CM. Primitive song. L., 1962.
Бахтин 1969. - Бахтин ММ. Эстетика словесного творчества. М., 1969.
Бен-Амос 1972. - Ben-Amos D. Toward a definition of folklore in context. - Toward new
perspectives in folklore. Austin-London, 1972.
Бюхер 1923. - Бюхер К. Работа и ритм. М., 1923.
Веселовский 1940. -Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940.
Зюмтор 1983. - Zumthor Р. Introduction i la po£sie orale. P., 1983.
Зюмтор 1987. - Zumthor P. La lettre et la voix. De La "Literature” mldilvale. P., 1987.
Иванов 1975 - Иванов C.B. Древние представления некоторых народов Сибири о
слове, мысли и образе. - Страны и народы Востока. Вып. 17. Кн. 3. М., 1975.
Калыгин 1987. - Калыгин В.П. Язык древнейшей ирландской поэзии. М., 1987.
Мелетинский 1986. - Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и
романа. М., 1986.
Москальская 1981. -Москальская О Л. Грамматика текста. М., 1981.
Финнеган 1977. - Finnegan R. Oral poetry, its nature, significance and social context.
Cambridge-London-New York-Melbourne, 1977.
Фрейденберг 1978. - Фрейденберг ОМ. Миф и литература древности. М., 1978.
Чистов 1986. - Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. Л., 1986.
Эргис 1974. - Эргис Г.У. Очерки по якутскому фольклору. М., 1974.
Е.С. НОВИК
АРХАИЧЕСКИЕ ВЕРОВАНИЯ
В СВЕТЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В научном творчестве С.А. Токарева вопросы ранних форм
религии и архаических верований занимают одно из ведущих мест.
Наиболее последовательно разрабатывалась им мысль о связи
архаических религиозных феноменов с формами социальной органи-
зации и с различными сторонами человеческой деятельности. В книге
"Ранние формы религии"' в имплицитной форме выделены и
некоторые универсалии, т.е. те общие и повсеместно распростра-
ненные явления, которые "образуют неотъемлемую часть любой
религии", "наиболее постоянные элементы всякой религии" [Токарев
1964, с. 27]. К этим элементам С.А. Токарев отнес в первую
очередь фетишизм, анимизм и магию, противопоставив их
формам религии, например тотемизму, шаманизму, погребаль-
ному культу, культу тайных союзов и т.д. [Токарев 1964, с. 39]. И
хотя само это противопоставление не получило в его работах более
полного обоснования (и потому набор явлений, которые следовало
бы относить к "элементам" или "формам", подлежит, вероятно, кое-
какому уточнению), именно оно позволяет поставить вопрос об
иерархии, существующей между глубинным уровнем (назовем его
условно "архаические верования") и более конкретными - социально
и исторически обусловленными - ранними формами религии.
О первом из этих уровней, точнее, о его возможном источнике в
дальнейшем и пойдет речь. При этом следует сделать одно
пояснение. Говоря об "уровне" и "элементах уровня", мы тем самым
предполагаем наличие системных отношений между этими элемен-
тами и имешю поэтому должны указать на источник этой систем-
ности. Между тем сам С.А. Токарев, хотя и отмечал тесную
эмпирическую связь между анимизмом и магией или широкое
использование в магических целях амулетов, талисманов, снадобий
и тому подобных неодушевленных материальных предметов-
фетишей, все же считал, что ни магические, ни анимистические
© Е.С. Новик. 1994
Архаические верования 111
верования ’'нельзя свести к одному источнику: они имеют разные
корни, связанные с различными сторонами человеческой деятель-
ности” [Токарев 1964, с. 31].
Безоговорочно с этим утверждением трудно согласиться. Спору
нет, исследователь, несомненно, прав, когда пишет, что "было бы
одинаково нелепо пытаться выводить любовную магию из промыс-
ловой, как и наоборот, или ту или другую из лечебной” [Токарев
1964, с. 31]. Но здесь речь идет о различных видах магии,
действительно связанных с различными сферами человеческой
деятельности. Из этого, очевидно, еще не вытекает, что столь же
нелепо "искать какой-то единый корень для всех видов магии”
[Токарев 1964, с. 31] или попытаться выяснить, в чем же заклю-
чается причина столь тесного переплетения фетишистских, анимис-
тических и магических верований как таковых, безотносительно к
конкретным их видам.
При этом, правда, придется допустить, что сам этот источник,
этот "корень”, из которого вырастают верования, вовсе не
обязательно должен лежать в сфере собственно религиозной.
Напомню, что основанием для выделения даже не элементов, а
самих ранних форм религии С.А. Токареву послужили не какие-либо
религиозные феномены, а формы социальной организации. И это
глубоко верно, если учесть, что в архаических коллективах верова-
ния (и даже религиозные институты) выполняли не только сакраль-
ные, но и вполне светские функции, например, регулировали
социальное поведение, нормировали хозяйственную деятельность,
были, по выражению Б. Дэвидсона, "наукой социального контроля"
[Дэвидсон 1975, с. 86], поддерживали социальную структуру и т.д.
Элементы же, которые нам предстоит рассмотреть, тем более могут
оказаться как "религиозными", так и "безрелигиозными" в зависи-
мости от того, какое здание строится из этих "кирпичей" - храм
религии, дворец искусства или офис науки.
В различных школах и направлениях в качестве источника веро-
ваний назывались различные сферы; основными из них признавались:
- познавательная деятельность (Э. Тэйлор и вся последующая
антропологическая школа, выводившая религиозные феномены из
неправильных обобщений непосредственного опыта, например, из
наблюдений над явлениями сна, болезни, смерти и т.д.);
- эмоционально-волевая сфера (В. Вундт, Р. Маретт, А. Фир-
кандт и др., сюда отчасти можно отнести и последующие психо-
аналитические концепции);
- сфера "коллективных представлений”, навязываемых человеку
его социальным окружением через воспитание, общественное мне-
ние, обычаи, различного рода стереотипы поведения и т.д. (социо-
логическая школа Э. Дюркгсйма).
112 ЕС. Новик
Своего рода синтезом последних двух подходов стала в свое
время концепция Л. Леви-Брюля, пытавшегося совместить идею
французской социологической школы о "коллективных представ-
лениях " и психологический аспект, выдвинутый В. Вундтом, в своей
"аффективной категории сверхъестественного" как эмоцио-
нально-волевой реакции прелогического мышления на окружаю-
щий мир.
Леви-Брюль выделил целый ряд признаков, по которым можно
распознать коллективные представления: они передаются из поколе-
ния в поколение; они навязываются отдельным личностям общест-
венной средой; они не отделены от эмоций и волевых актов, а,
напротив, включают их в себя; они мистичны в смысле веры в
таинственные силы и в общение с ними. При господстве коллек-
тивных представлений восприятие мира ориентировано совершенно
иначе, чем наше восприятие: мы стремимся к объективности
познания, а там, напротив, преобладает субъективизм. Поэтому в
коллективных представлениях оказываются смешанными реальные
предметы и представления о них (например, не различаются снови-
дения и реальность, человек и его изображение, человек и его имя,
его тень и т.д.). По этой же причине, - считал Леви-Брюль, -
коллективные представления непроницаемы для опыта (опытная
проверка, например, не может разубедить в вере в колдовство, в
таинственные силы, в фетиши и т.д.).
Выделяя все эти признаки, Леви-Брюль подчеркивал, однако, что
они присущи только коллективным представлениям, но не вообще
мышлению отсталых народов. В сфере практического опыта чело-
век рассуждает и действует вполне разумно, но в сфере коллек-
тивных представлений логика пасует и в силу вступает дологическое
мышление с его мистицизмом, аффективностью и законом партици-
пации (сопричастия). Более того, по его мнению, коллективные
представления вовсе не исчезают и в современных обществах,
поскольку у людей всеща остается потребность в непосредственном
общении с окружающим миром, которое не заменяется чисто
научным его познанием. Наука объективирует мир и тем самым как
бы отделяет его от человека, человек же стремится к живому
общению с предметом. Больше всего эта потребность сказывается в
религии и в области моральных понятий и обычаев, где как раз
крепче всего и удерживаются коллективные представления (см.
[Леви-Брюль 1930, с. 50]).
Критика концепции Леви-Брюля была столь активной, что
продолжать ее сегодня, вероятно, уже не имеет смысла, особенно
после того, как основной тезис его концепции - о "прелогическом"
характере первобытного мышления - был опровергнут К. Леви-
Сгросом.
Архаические верования 113
К. Леви-Строс показал, что мифологическое мышление при всей
его конкретности, чувственности и метафоричности способно к обоб-
щениям, классификации и анализу, обладает теми же свойствами
гомологии, оппозиции, корреляции и трансформации, какие харак-
терны и для научного мышления, а специфика его заключается в
том, что символы, которыми оно оперирует, связаны с непосред-
ственными ощущениями и чувственными качествами, что не мешает
им выступать "посредниками между образами и понятиями и в
качестве знаков преодолевать противоположность чувственного и
умозрительного" [Мелетинский 1976, с. 83] (сопоставление трактовок
первобытного мышления у Леви-Брюля и у Леви-Строса см.
[Островский 1984, с. 50]).
При этом, однако, остается открытым вопрос о природе и источ-
нике мистической партиципации и эффективности коллективных
представлений, на которых было сконцентрировано внимание Леви-
Брюля, так как к познавательному аспекту мифологического мыш-
ления, оказавшемуся в центре концепции Леви-Строса, они явно не
сводятся. Более того, справедливости ради надо отметить, что путь,
на котором главе структурной антропологии удалось сделать свое
открытие, был отчасти предугадан и самим Леви-Брюлем, прово-
дившим аналогию между коллективными представлениями и языком,
подобно тому как Леви-Строс позднее проводил аналогию между
языком и мифом (см. [Леви-Строс 1985, гл. XI]). Поскольку, -
полагал Леви-Брюль, - коллективные представления не зависят в
своем бытии от отдельной личности, их невозможно понять путем
рассмотрения индивида как такового. В этом отношении они
подобны языку: "Так, например, язык, хотя он и существует,
собственно говоря, лишь в сознании личностей, которые на нем го-
ворят, является тем не менее несомненной социальной реальностью,
базирующейся на совокупности коллективных представлений. Язык
навязывает себя каждой из этих личностей, он предшествует ей и
переживает ее" [Леви-Брюль 1930, с. 5].
Аналогия коллективных представлений с языком была развита,
как только что говорилось, уже в рамках современных структурно-
семиотических штудий. Само понятие "коллективные представ-
ления" тоже почти вышло из употребления, так как более детальное
изучение архаических культур привело и к более дифференциро-
ванному рассмотрению включенных в него Э. Дюркгеймом явлений.
Для обозначения же области культуры как символической дея-
тельности р отечественной научной традиции закрепилось название
"вторичные моделирующие системы", сходство которых с естест-
венным языком заключается "в использовании систем обоего рода
как автоматизированных формальных программ, навязываемых всем
членам коллектива" [Зализняк, Иванов, Топоров 1962, с. 134].
8 270
114 Е.С. Новик
Основное внимание оказалось при этом сосредоточено главным
образом на текстах, понимаемых в широком, семиотическом зна-
чении слова "текст", т.е. как цепочки знаков различной субстанции
(вербальных, акустических, вещных, акциональных и т.д.). Рассмот-
рение подобного рода знаковых цепочек как связных текстов спо-
собствовало углубленному изучению их структуры и семантики, что,
в свою очередь, дало мощный толчок изучению языков культуры
как моделирующих мир систем и культуры как языка. Стало ясно,
что «в традиционных обществах все "этнографические" аспекты
жизни - как ритуал, так и повседневный обиход, этикет и быт,
системы родства, вещи и технология в высокой степени семиотичны»
[Байбурин и Левинтон 1984, с. 230], несут информацию об устрой-
стве мира и тем самым обеспечивают его умопостигаемость и цен-
ностную упорядоченность.
При этом моделирующая роль семиотических систем имеет как
бы две стороны: они оказываются средством хранения и передачи
информации от поколения к поколению, обеспечивая таким образом
преемственность культуры в диахронном плане (модели мира), а в
синхронном плане служат механизмом регуляции социального пове-
дения носителей данной традиции (модели поведения в мире). При-
влечение внимания к знаковому аспекту культуры, осуществленное
в рамках структурно-семиотического направления, открывает, таким
образом, новые возможности для решения вопроса об источнике
религии. В частности, как раз верования, обряды и - шире - вся
сфера ритуализованного поведения связаны по преимуществу именно
с регулирующей функцией семиотических систем. Поэтому для
уточнения принципов их функционирования - и тем более пытаясь
обнаружить их источник - недостаточно, очевидно, учитывать лишь
когнитивные аспекты культурных символов как познавательных
классификаторов для упорядочивания мира1. Вопрос можно поста-
вить так: не зависят ли те особенности коллективных представле-
ний, о которых писал Леви-Брюль, от средств и форм самой транс-
ляции культуры как макроавтокоммуникации? Здесь, таким образом,
акцентируется не просто аналогия между языком и культурой, а
предлагается рассмотреть язык в его устной реализации и, точнее,
саму ситуацию общения в качестве возможного источника архаи-
ческих верований. Напомню, что именно эту сферу "непосредствен-
ного", "живого" общения выделял, как уже отмечалось, и Л. Леви-
Брюль. Еще выразительнее эта мысль прозвучала у Г. и
Г.А. Франкфортов.
По их мнению, фундаментальное различие "в отношении совре-
менного и древнего человека к окружающему миру" заключается в
том, что «для современного человека мир явлений есть в первую
очередь "Оно", для древнего - и также для примитивного человека -
Архаические верования 115
он есть "Ты”... Эта формулировка, - пишут они далее, - выходит
далеко за границы обычных "анимистических” или "персоналистских”
концепций. Она фактически выявляет недостаточность этих
общепринятых теорий. Ибо отношение между "Я” и "Ты” абсолютно
своеобразно. Мы сможем лучше объяснить его исключительное
качество, если сравним его с двумя другими видами познания:
отношением между субъектом и объектом и тем отношением,
которое возникает, когда я "понимаю" другое живое существо... Что
же касается знания, которое "Я" имеет о "Ты", то оно колеблется
между активным суждением и пассивной "подверженностью
впечатлению", между интеллектуальным и эмоциональным,
расчлененным и нерасчлененным. "Ты" может представлять собой
загадку, и все же "Ты" до некоторой степени прозрачно. "Ты" есть
живое присутствие, чьи качества и возможности могут быть хоть
немного расчленены не в результате активного исследования, но
оттого, что "Ты", присутствуя, проявляет себя... Более того, "Ты"
не только созерцаемо или понимаемо, но и эмоционально
переживаемо в динамическом двустороннем взаимоотношении... Это
не означает (как часто думают), что первобытный человек для
объяснения природных явлений наделяет неодушевленный мир
человеческими характеристиками. Для первобытного человека
неодушевленного мира попросту не существует. По этой-то при-
чине он и не 'Персонифицирует" неодушевленные явления и не
наполняет пустой мир духами мертвых, в чем пытается нас убедить
"анимизм".
Мир для первобытного человека представляется не пустым или
неодушевленным, но изобилующим жизнью. Эта жизнь проявляется
в личностях - в человеке, звере и растении, в ударе грома, во
внезапной тени, в жуткой и незнакомой лесной поляне, в камне,
неожиданно ударившем его, когда он споткнулся на охоте. В любой
момент он может столкнуться с любым явлением не как с "Оно", а
как с "Ты". В этом столкновении "Ты" проявляет свою личность,
свои качества, свою волю. "Ты" не может быть созерцаемо с ум-
ственной отрешенностью, оно переживаемо как жизнь, встре-
тившаяся с другой жизнью; оно вовлекает все существо человека в
двусторонние взаимоотношения. Мысли в не меньшей степени, не-
жели поступки и чувства, подчинены этому переживанию» [Франк-
форты 1984, с. 25-27].
Это весьма тонкое наблюдение осталось, впрочем, почти незаме-
ченным этнологами. Между тем, оно заслуживает, как представ-
ляется, того, чтобы попытаться более детально рассмотреть, что же
представляют собой "двусторонние взаимоотношения" двух субъек-
тов и как сказывается этот тип коммуникации на знаковых системах,
обеспечивающих циркулирование информации в культуре. Для
116 Е.С. Новик
ответа на эти вопросы придется сделать небольшой экскурс в тео-
рию коммуникации, чтобы уточнить принципы передачи информации
в различных условиях.
Межличностное общение
как один из видов коммуникации
В теории коммуникации принято различать два основных типа -
"контактный" и "технический". Первый из них характерен для
прямой (непосредственной) коммуникации, т.е. коммуникации
"лицом к лицу", второй - для непрямой (опосредованной,
дистанционной), когда между общающимися сторонами существуют
пространственно-временное разрывы и потому информация
передается при помощи каких-либо технических средств.
В обоих случаях коммуникация может носить двусто-
ронний (многосторонний) характер, при котором партнеры по-
стоянно меняются ролями сообщающего и принимающего сообще-
ние; при односторонней коммуникации такого обмена не
происходит.
И, наконец, сообщение может быть направлено либо точно из-
вестному адресату, либо неопределенному и неограниченному кругу
получателей. В этом случае принято различать аксиальные
и ретиальные коммуникативные процессы. Аксиальные
предполагают передачу сообщений строго определенным, единичным
приемникам информации (например телеграмма, доставляемая кон-
кретному лицу). Ретиальные направлены множеству вероятных
адресатов (как в радиопередаче, прием которой требует настройки
на волну). Главное же различие аксиальной и ретиальной комму-
никации заключается в том, что в первом случае передача сооб-
щения подразумевает "однозначное соответствие" между передаю-
щим и получающим, в то время как во втором это соответствие
"взаимно неоднозначно" (подробнее см. [Брудный 1972; 1974]).
В "живом общении" (Леви-Брюль), в "двусторонних взаимоотно-
шениях" (Франкфорты) имеет место комбинация из трех перечис-
ленных признаков, т.е. такая коммуникация (обозначим ее для крат-
кости как "межличностную"), которая строится на "непосред-
ственных" (прямых, контактных), "аксиальных" (направленных точно
известному, определенному адресату) и "двусторонних" (при которых
партнеры постоянно меняются ролями сообщающего и принимаю-
щего сообщение) связях. Эти виды связей существенно влияют на
1) средства кодирования сообщений, на 2) организацию текста и
3) на статус коммуницирующих партнеров.
Зависимость средств кодирования (1) от условий, в которых
Архаические верования 117
протекает коммуникация, особенно отчетливо проявляется в тех-
ническом типе, требующем специальных знаковых систем для опре-
деленных каналов связи (телеграфный код, звуковысотные реле,
письменность и т.д.). В контактной (прямой) коммуникации основным
способом кодирования служит, конечно, устная речь, но каналами
могут служить и остальные органы чувств, причем все они могут
работать и одновременно. И это тоже существенно сказывается на
средствах кодирования, хотя и в прямо противоположном направ-
лении: их арсенал предельно расширяется. Не только речь, но и
любая форма поведения - интонация, мимика, жестикуляция,
движение, т.е. все то, в чем проявляется личность человека, и то,
что доступно наблюдению для его партнера по общению, - может
стать знаком, если этот партнер воспринимает их как жесты в
интеракционистском значении слова "жест". Напомню, что под
"жестом" в символическом интеракционизме имеется в виду не
просто какое-либо телодвижение, а «любой воспринимаемый звук
или движение, которое служит показателем внутреннего пере-
живания человека... Движения и звуки становятся жестами только в
социальном контексте, когда они служат показателями
намерений человека и таким образом предоставляют
другим каку ю-т о основу для соответ-
ствующих реакций» [Шибутани 1969, с. 122; разрядка
моя. - Е.Н.].
Более того, не только интонация или мимика, движение или
поступок, но и вещь, рисунок, предмет или звук природного мира,
оказавшись вплетенными в акты общения, могут приобрести знако-
вую функцию и таким образом из внетекстовых элементов, како-
выми они выступают по отношению к собственно речевому акту,
превращаются в элементы текста2.
Еще более значительными оказываются различия между типами
коммуникации в статусе текста (2). В техническом типе, использую-
щем искусственные каналы связи, он оказывается материальным
посредником между коммуницирующими партнерами, которые отде-
лены друг от друга в пространстве и/или во времени. Здесь текст,
во-первых, четко фиксирован и отделен от внетекстовых элементов,
а во-вторых, эта фиксация сознательно осуществляется отправи-
телем сообщения. В межличностной коммуникации о "тексте" можно
говорить лишь условно, если понимать под текстом не просто
"любое содержание, выраженное с помощью знаков или образов и
тем самым доступное пониманию" [Брудный 1978, с. 98], а "только
такое сообщение, пространственная фиксация которого была не
случайным явлением, а необходимым средством сознательной пере-
дачи этого сообщения его автором (или другими лицами)" [Пяти-
горский 1962, с. 145]. Понятно, однако, что в ситуации непосредст-
118 Е.С. Новик
венного, прямого общения "сообщением" может оказаться даже то,
что отправитель не собирался сообщать, но что по-
лучатель расценивает как "имеющее значение", понимает,
толкует и на что он соответствующим образом реагирует. Эти
реакции - будь то изменение поведения, сигнал со стороны полу-
чателя или его ответное сообщение - в условиях двусторонней ком-
муникации в свою очередь представляют собой именно ответ-
ные действия. В результате текст приобретает характер "реп-
лик", которыми обмениваются партнеры, причем каждая из них
оказывается одновременно и ответной, и провоцирующей на отрет.
Такого рода "реплики" М.М. Бахтин предлагал называть "выска-
зыванием". "Существенным (конститутивным) признаком высказы-
вания, - писал он, - является его обращенность к кому-нибудь, его
адресованность. В отличие от значащих единиц языка - слова и
предложения, - которые безличны, ничьи и никому не принадлежат,
высказывание имеет и автора... и адресата". Здесь же он под-
черкивал, что высказывание с самого начала "строится с учетом
возможных ответных реакций, ради которых оно, в сущности, и со-
здается" [Бахтин 1979, с. 275]. При таком понимании3 "высказы-
вание" всегда персонально, всегда "чье-то", а в силу своей аксиаль-
ности (конкретной адресованности) оно не просто несет некоторое
количество информации, но в первую очередь "семантически зна-
чимую" информацию, т.е. ту, которая, по определению Н. Винера,
"срабатывает на выход", воздействует на ответное
поведение воспринимающей системы.
Здесь мы подошли к особенностям статуса коммуницирующих
партнеров (3) в условиях "двусторонних взаимоотношений". Если
отправитель ставит перед собой цель не просто сообщить адресату
какие-то сведения, а стремится добиться от него нужной ему от-
ветной реакции, он строит свою реплику с учетом ожиданий (экс-
пектаций) партнера. Поэтому в межличностной коммуникации адре-
сант и адресат не просто меняются местами (в этом случае ее можно
было бы просто разложить на два односторонних такта, что обычно
и делается в лингвистике), но каждый из партнеров принимает
на себя роль второго участника с тем, чтобы
вернее спровоцировать его на нужную ответную реакцию (в случае
отправителя) или точнее понять интенции отправителя (в случае
получателя). "Однозначное соответствие" между передающим и
получающим, йк взаимная идентификация4 превращает партнеров в
единую самоорганизующуюся систему, а их "реплики" оказываются
средством рефлексивного управления поведением, когда один из
партнеров передает другому такое сообщение, из которого тот сам
выводит решение, выгодное для первого, а не управлением путем
передачи простых команд5.
Архаические верования 119
В результате в высказывании как адресованной реплике оказы-
ваются слиты по крайней мере три плана, или аспекта информации:
кроме когнитивной (информации о предмете речи) оно несет еще и
модальную информацию, передающую сведения об интенциях гово-
рящего, о его "воле", о его отношении (причем не только к предмету
речи, но и, что для нас особенно важно, к адресату), а также
прагматическую (регулятивную) информацию, побуждающую адре-
сата на предопределенное адресантом ответное действие6.
Итак, именно двусторонность коммуникации приводит к тому, что
акцент в ней переносится с когнитивной функции текста на регу-
лирующую поведение партнера функцию высказывания. Иными
словами, в межличностной коммуникации отношение текста к вне-
текстовой реальности в значительной степени подчинено целевым
установкам коммуникантов по отношению друг к другу. Поэтому
высказывание в оговоренном выше смысле целесообразно рассмат-
ривать не только с позиции адресанта, но и с позиции восприни-
мающего, когда интерпретации подлежит не столько "текст" в соб-
ственном смысле слова, сколько "подтекст", интенции отправителя в
отношении получателя, который в следующем такте коммуни-
кативного взаимодействия сам становится отправителем ответного
сообщения. Эти мотивы, интенции, модальности, побуждающие на
ответную реакцию, и составляют глубинный смысл высказывания
как адресованной реплики.
Межличностная коммуникация
и устная культура
Эти соображения требуют, конечно, существенных уточнений со
стороны специалистов по общей теории коммуникации. Уточнения
психологов требует и вопрос об отражении в мышлении этого
процесса. Во всяком случае, выдвинутый Л.С. Выготским тезис о
мышлении как интериоризованном диалоге позволяет, как кажется,
рассматривать межличностную коммуникацию (в условиях которой и
протекает овладение языком) в качестве базовой не только для
лингвистического, но и для любого целенаправленного поведения
(напомню в этой связи, что именно прагматическая, или регулирую-
щая, функция речи - так называемая "инструкция взрослого" -
служит, как показали А.Р. Лурия и его ученики, тем средством,
которое формирует у ребенка волевые, целенаправленные акты (см.
[Лурия 1979, с. 119 и 139]).
Здесь, однако, предлагается обсудить другой аспект этой темы.
В бесписьменных обществах, ко орые слабо стратифицированы в со-
циальном отношении и сп^пттт<те ттгь><ттпгОтГгГ^тт^тг11Т т количеству
120 Е.С. Новик
членов, большинство систем жизнеобеспечения строилось преимуще-
ственно на межличностных контактах. Межличностную коммуника-
цию можно поэтому рассматривать как основную, базовую для
устных культур еще и в том смысле, что весь опыт транслируется в
них путем непосредственных устных или устно-зрительных кон-
тактов. "Вплетенность" языка в несобственно речевые действия, в
"симпрактический контекст" приводит, с одной стороны, к вы-
движению на первый план речевой прагматики, а с другой - к
повышению семиотического статуса невербальных средств общения.
При этом слово оказывается по преимуществу коммуникативным
"действием" (см. [Остин 1986]), а физическое действие или предмет,
напротив, еще и знаком в этом коммуникативном взаимодействии7. В
результате в устной культуре происходит как бы "удвоение" мира
предметов и действий в мире знаков, участники деятельности ока-
зываются одновременно и партнерами по общению (как вербаль-
ному, так и невербальному), а сама деятельность, будучи впле-
тенной в акты межличностной коммуникации, расценивается как
"взаимодействие" этих партнеров.
Однако ни один вид деятельности не протекает только "лицом к
лицу". Не говоря уже о том, что целенаправленная дея-
тельность требует для своей реализации наличия специальной про-
граммы, плана (которые, в свою очередь, предполагают необхо-
димость воплощения их в каком-либо знаковом материале), в любой
культуре стоит еще и проблема смоделировать дистанционную ком-
муникацию. И если устная речь оказывается хорошо приспособлен-
ной для контактной коммуникации, которая надежно обеспечена
обратной связью возникающими в ней диалогическими отношениями,
то в условиях пространственно-временных разрывов этого не проис-
ходит. Для дистанционной коммуникации необходимы искусственно
созданные средства. В дописьменных обществах это пиктография и
различные условные системы (зарубки, узелки и тому подобные
знаки-указатели), область применения которых, однако, очень мала.
Основную роль здесь приобретают вторичные моделирующие систе-
мы, специфика которых состоит в том, что они надстраиваются над
коммуникативной ситуацией в целом. Такого рода моделирование
неизбежно будет сопровождаться выражением в знаках и образах не
только текста, но именно высказывания в оговоренном выше смыс-
ле, сопряженного с его отправителем или с его получателем, т.е. по
крайней мере с одним из коммуникантов, а в пределе - выражением
в знаковом материале и коммуницирующих партнеров, и их реплик.
Функционирование таких знаковых систем носит характер бмена
адресованными репликами, выражающими ожидания своего отправи-
теля в отношении получателя. Несколько примеров, приводимых
ниже, призваны проиллюстрировать в общем виде этот процесс.
Архаические верования 121
Во многих охотничьих коллективах существует представление,
что звери "сами идут" под выстрел хорошего охотника. "Хорошим",
впрочем, считается в данном случае тот, кто "хорошо обращается" с
добытыми животными: дает морскому зверю пресную воду (которую
тот другим способом, кроме как "придя" на сушу к людям, не может
"получить"), ласково принимает и угощает добытых зверей у себя в
доме с тем, чтобы "в следующий раз" (т.е. в следующем цикле
охоты как взаимодействия с партнером-охотником) они "захотели
бы" снова "прийти в гости" и привели бы с собой своих зверей-
"сородичей"8.
Обычно эти действия рассматриваются как "обрядовые" или
"магические". Между тем, они не предполагают веры в сверхъ-
естественные свойства пресной воды или угощения, а, скорее, рас-
цениваются как действия, способные привлечь животных именно
теми средствами, которые наиболее соответствуют ожиданиям и
намерениям самих зверей. И в этом отношении эти средства мало
чем отличаются от приманок, наживок и других вполне "рацио-
нальных" приемов охоты. Блесны в виде блестящих рыбок по-
пулярны до сих пор; похоже, что в качестве своего рода "приманок"
использовались и деревянные рыбки, помещавшиеся, однако, на
берегу, головой в том направлении, куда должна была идти рыба
(см. [Токарев 1964, с. 238]). Эти изображения и композиции их разме-
щения могут быть поняты как средство своего рода дистанционного
коммуникативного воздействия, когда один из партнеров (люди)
передает второму партнеру (рыбе) программу поведения в расчете
на ее выполнение.
Уже стало общим местом утверждение, что в традиционных
обществах человек полностью находится во власти прямых запретов
и предписаний, что его поведение - это постоянное воспроизведение
сакрального первообразца. "Миф вечного возвращения" [Элиаде
1987], "дорефлексивный традиционализм" [Аверинцев 1981] - вот
наиболее популярные сегодня определения специфики традиционной
культуры. Для обозначения отличий мифологического мировоззрения
от исторического такие определения, возможно, и оправданны.
Выше, однако, говорилось, что межличностная коммуникация пре-
вращает партнеров в единую самоорганизующуюся систему и
потому каждое действие одного из них воздействует на состояние
или поведение другого. В результате любой вид человеческой дея-
тельности оказывается в устной культуре в высшей степени реф-
лексивным.
Примером могут служить способы охоты, до тонкостей учиты-
вающие не только повадки животных, но и использующие эти зна-
ния для рефлексивного воздействия, для провоцирования животных
на выгодные охотнику поступки. Охотничьи манки и умение
122 Е.С. Новик
подражать голосам животных и птиц, рыболовные наживки,
приманки прямо связаны с тем, что объекту охоты передается
информация, вызывающая его ответную реакцию. Так, подражая на
манке крику важенки, охотник добивается того, чтобы к нему при-
близился именно самец. Олень-манщик - это своего рода "посред-
ник", провоцирующий дикого оленя на схватку, в ходе которой тот
запутывается в надетых на рога манщика веревках. С помощью
изгородей и загонов, в конце которых находится самострел, яма или
петля-ловушка, достигается то, что животные "сами приходят" в
руки охотника9. В свете этих данных наша оценка охотничьего
хозяйства как "присваивающего" представляется весьма огруб-
ленной.
Поведение охотника, выслеживающего зверя, демонстрирует
рефлексивный характер этой деятельности еще более отчетливо.
Следы (как знаки поведения животного) позволяют следопыту
реконструировать по такому "тексту" его поступки и прогнозировать
его дальнейшее поведение (о том, насколько точны были такие
реконструкции и прогнозы, см., например, многочисленные интер-
претации следов нанайцем Дереу Узала, приводимые В.К. Арсень-
евым). В соответствии с полученной информацией охотник опреде-
ленным образом строит и свое собственное поведение, учитывая еще
и возможную реакцию на него со стороны животного. Если же иметь
в виду, что "полученная" информация всякий раз мыслится как
"отправленная" определенным лицом, то станет ясно, почему сле-
допыт может расценивать следы как "послания", специально пере-
данные ему зверем. В результате возникает представление о том,
что охотник и животное "обмениваются" сообщениями: по данным
В.М. Кулемзина, например, "охота на лося, по воззрениям васюган-
ских хантов, представляла собой игру, напоминающую шахматы
(тонне), где противниками были охотник и лось, понимающие ходы
друг друга и определенным образом на них реагирующие" [Кулемзин
1976, с. 37-38].
Принцип партнерства распространялся и на интерпретации актов
автокоммуникации. Поскольку любой поступок эго может быть
понят его партнером как выражение намерений эго по отношению к
нему, постольку охотник постоянно контролирует свое собственное
поведение, причем в этот круг попадают не только физические дей-
ствия, но и мысли, так как именно в них намерения эго выражены
(для него) наиболее отчетливо. По сути дела, охотник рефлексирует
объект охоты как партнера, заинтересованного в определении на-
мерений охотника, и принимает соответствующие меры к тому,
чтобы зверь "узнал" именно то, что выгодно охотнику, и не узнал бы
ничего, что может его отпугнуть. Например, нанайский старик-
охотник, чьи мысли все время "крутились" около его молоденького
Архаические верования 123
сына, ушедшего в тайгу, вынужден был изготовить из сухой травы
изображение себя самого и привязать фигурку веревкой к стене
амбара, чтобы не мешать своим "присутствием” охоте сына (см.
[Смоляк 1976, с. 154]). Здесь в качестве сообщения, способного по-
мимо воли человека воздействовать на зверя (т.е. быть принятым
вторым партнером по коммуникации), расцениваются размышления
старика, образ которого, получив выражение в виде идольчика, поса-
женного на веревку, "не доходит” до места охоты сына, и тем самым
предотвращается нежелательная связь между адресантом и возмож-
ным адресатом сообщения.
Тот факт, что подобного рода автокоммуникация строится по мо-
дели межличностной, можно проиллюстрировать и долганским мате-
риалом. Здесь еще до недавнего времени практиковалась охота на
диких оленей - так называемые "поколки” на переправах. Этот один
из древнейших способов охоты в циркумполярной области, зафик-
сированный, в частности, на петроглифах Чукотки (см.[Диков 1971,
петр. 59, 63, 69, 75, 76 и др.]), происходил во время массовых
сезонных перемещений оленьих стад из лесной в тундровую зону
весной и из тундровой в лесную осенью; он до тонкостей учитывал
маршруты миграций оленей и был наиболее ответственным, так как
весной, когда запасы пищи были уже на исходе, давал шанс
избавиться от грозящего голода, а осенью позволял в короткое
время добыть большое количество мяса на зиму. Поэтому малейшая
оплошность охотников, из-за которой оленье стадо могло свернуть в
сторону от засады, была чревата катастрофой для всего коллектива.
В этих условиях каждый из участников охоты, естественно, думал,
как он будет добывать животных, представлял их приближаю-
щимися к месту засады. Эти образы расценивались долганами как
"тени” оленей, "вошедшие” в голову охотника. Считалось, что эти
образы-тени, выходя обратно через рот охотника, могли
предупредить оленей и направить их в другую сторону. Во
избежание этого охотник затыкал себе рот пучком травы (см.
[Иванов С. 1975, с. 123]).
Все эти примеры призваны показать, что межличностная комму-
никация в качестве базовой для бесписьменных культур исполь-
зуется здесь как своего рода модель еще и в парадоксальной для нее
ситуации, а именно в условиях пространственно-временных разры-
вов. Взаимодействие двух субъектов, рефлексирующих друг друга в
условиях или по поводу коммуникации, оказывается парадигмой и
при планировании самых разнообразных видов деятельности, и для
интерпретации событий, и для актов автокоммуникации, т.е. для
ситуаций, с нашей точки зрения, не коммуникативных.
Такая парадигма позволяет, как кажется, объяснить,
- почему, во-первых, кодирование сообщения, безразличное в
124 Е.С. Новик
условиях контактной коммуникации к субстанции знаков, ведет к
синкретизму знаковых систем;
- почему, во-вторых, аксиальность межличностной ком-
муникации ведет в условиях пространственно-временных разрывов к
персонификации или даже акгропоморфизации значимого окружения;
- почему, в-третьих, сообщение строится так, чтобы спровоциро-
вать этого партнера на ответную реакцию(эмотивно-воле-
вой, а не отвлеченно-смысловой аспект высказывания);
- и, наконец, почему моделирование это столь последовательно
носит двусторонний характер, т.е. воспроизводит диалог,
или символический обмен.
Побочным результатом такого оперирования со знаковыми систе-
мами, возможно, и оказываются явления, названные выше "архаиче-
скими верованиями". Точнее, их, вероятно, можно расценить как
своего рода презумпции общения, т.е. как предположения одного
субъекта коммуникации о правилах, которыми руководствуется дру-
гой субъект коммуникации, дающие возможность осуществлять
целенаправленное коммуникативное воздействие на партнера,
провоцируя его на ожидаемое поведение.
Для аргументации этого тезиса нам предстоит рассмотреть такие
универсально распространенные верования, как:
- фетишизм, связанный, как представляется, с синкретизмом зна-
ковых систем, превращающим материальные предметы в "чувствен-
но-сверхчувственные" вещи-знаки постольку, поскольку эти предме-
ты оказываются значимыми для воспринимающего субъекта;
- анимизм как следствие диалогической реакции, которая, по
очень точному выражению М.М. Бахтина, "персонифицирует всякое
высказывание, на которое реагирует" [Бахтин 1963, с. 246];
- магию и жертвоприношение как формы целенаправленного ком-
муникативного воздействия, призванного спровоцировать партнера
на выгодную для отправителя ответную реакцию;
- избранничество и одержимость как формы "принятия роли"
партнера;
- шаманство как модель двустороннего общения.
В последних двух случаях мы, как и в случае магии, фетишизма
или анимизма, имеем дело с явлениями, распространенными прак-
тически повсеместно; их чисто логическая вписанность в модель
межличностной коммуникации позволяет отнести их к глубинному
уровню элементов архаических верований и в этом качестве отде-
лить их от тех случаев, когда они, обрастая соответствующими со-
циальными связями и институализируясь, становятся формами ран-
них религий10.
Другие проявления символических взаимодействий, такие, как
обряды, обычаи, мифы, мистерии и т.д., останутся пока в стороне,
Архаические верования 125
хотя уже сейчас можно предположить, что и в их основе лежит та
же субъект-субъектная, а не субъект-объектная парадигма. Та-
кой, например, универсально распространенный обычай, как даро-
обмен, отдельные фазы которого разорваны во времени и простран-
стве, является реализацией двусторонних связей, скреп-
ляющих социальную структуру архаических коллективов по прин-
ципу "на дар ждут ответа" (особенно четко коммуникативная при-
рода обобщенного дарообмена стала понятной после той интерпре-
тации, которую концепция М. Мосса о нем как о "целостном со-
циальном факторе" получила у К. Леви-Строса). Диалогическая,
обменная природа шаманских сеансов, промысловых и других сезон-
ных обрядов, изоморфность родин (моделирующих "получение" ре-
бенка от природной сферы) и похорон (моделирующих уход, отправ-
ку умершего в мир мертвых), свадьбы (где циклы церемониальных
обменов пронизывают все ее компоненты и получают "точку схо-
да" - новую семью) были уже достаточно подробно продемонстриро-
ваны в другой работе автора (см. [Новик 1984, гл. IV]). Подчеркну
здесь еще раз, что обряды оказываются своего рода "программами"
будущей целенаправленной деятельности;
их специфика заключается, в частности, как раз в том, что они
планируют ее как диалогическое взаимодействие, символический
обмен с "другими". Мифы, имеющие сюжетную организацию (кото-
рая может быть понята в данном случае как фиксация взаимо-
действий между партнерами в особом вербальном тексте), позво-
ляют преодолеть не только пространственные, но и временное раз-
рывы между их персонажами (культурными героями - первопред-
ками - демиургами (см. [Мелетинский 1971]) и живущим поколе-
нием. Установление такой связи, такой коммуникации осуществля-
ется (моделируется) в мистериях, представляющих собой инсцени-
ровку мифов, во время которой происходит "воплощение" мифиче-
ских предков в их потомках.
Приводимые ниже примеры в основном будут относиться к сибир-
ским традициям, но, думается, сходные явления без труда могут
быть обнаружены и в других - аналогичных по типу базовой ком-
муникации - культурах.
"Потусторонний мир"
как мир символов и смыслов
Начнем с синкретизма, под которым принято понимать, во-пер-
вых, нерасчлененность видов деятельности и вытекающий отсюда
"идеологический синкретизм" (см. [Мелетинский 1972, с. 158-159]) и,
во-вторых, слитность знаковых систем (см. [Иванов В. 1976, с. 54]).
126 Е.С. Новик
Последнюю, в частности, как раз и можно поставить в связь с кон-
тактностью межличностной коммуникации, в которой, как гово-
рилось, слово, действие или предмет, оказавшись вплетенными в
акты общения, становятся "жестами", т.е. значимыми для тех, кто
их воспринимает, и тем самым приобретают знаковую функцию.
Предметы и действия, наделенные значением внутри межличностной
коммуникации, сохраняют свою потенциальную знаковость и концеп-
туальность, которая может быть актуализована в любой ситуации,
расцененной по тем или иным причинам (о них ниже) как комму-
никативная. Возникающая таким образом гиперсемиотичность, "ког-
да единицы плана выражения в одной области (в частности, незнако-
вой) включаются в другой области в план содержания" [Топоров
1965, с. 200], приводит к явлению, метко названному Л. Леви-Брю-
лем "реалистический символизм".
"Первобытное мышление, - писал он, - обнаруживает постоян-
ную тенденцию к символизму. Оно не задерживается на самих
событиях, его поражающих. Оно сейчас же ищет за этими
событиями то, что они означают. Тот или иной факт
является для этого мышления не чем иным, как проявлением по-
тустороннего мира. Однако этот стихийный символизм является
вместе с тем и очень реалистическим. Символы не являются, собст-
венно говоря, творением их ума. Он символы эти находит готовыми,
или, вернее, он самым непосредственным образом истолко-
вывает в качестве символов события, которые
привели в действие аффективную категорию сверхъестественного"
[Леви-Брюль 1937, с. 57; разрядка моя. - Е.Н.]. Выделенные
разрядкой формулировки показывают, что Леви-Брюлю удалось
уловить семиотическую сторону процесса: разрешение проблемной
ситуации происходит путем истолкования событий как знаков. Но,
как мы видим, причину этого сам он усматривает в представлениях о
потустороннем мире и в центральной для его концепции "аффектив-
ной категории сверхъестественного" как эмотивной реакции на этот
"мир невидимых сил".
Возникает, однако, вопрос, существует ли четкая граница между
"потусторонним" и "посюсторонним"? Нет, граница эта весьма зыбка
и расплывчата: "Вследствие непрерывного вмешательства невиди-
мых сил различие между природой и сверхъестественным расплыва-
ется и как будто совершенно стирается. В огромном количестве
случаев мысль и действие первобытного человека переходят из
одного мира в другой совершенно безотчетно. Именно в этом смысле
можно сказать, что если в принципе первобытный человек и не
смешивает природу со сверхъестественным миром, то часто все
происходит у него так, как если бы он не проводил между ними
никакого различия" [Леви-Брюль 1937, с. 24].
Архаические верования 127
Тем не менее если не саму границу, то область, где она может
пролегать, Леви-Брюлю тоже удалось нащупать. В наиболее
отчетливых случаях - это область неожиданного, необычного,
поражающего воображение. Ссылаясь на работы П. Вирца о
мифологии маринд-аним, он пишет: "Все необычное и странное, все
поражающее туземца, все вызывающее в нем волнение и оста-
навливающее его внимание тем самым ipso facto обнаруживает, что
одна такая сила или несколько их действует где-то близ него. Все
привычное, все обыденное, все, как мы бы сказали, согласное с
законами природы нисколько его не беспокоит... Странное же и
необычное имеет для него значение знамения, которым пренебречь
было бы по меньшей мере неосторожно и неблагоразумно. Подобное
явление необходимо сейчас же, если это возможно, истол-
ковать, так как оно дает знать о вмешательстве невидимого
мира в обычный ход вещей" [Леви-Брюль 1937, с. 271-272; разрядка
моя. - Е.Н.].
Истолковать, впрочем, это можно еще и так: все то, что
необычно, что каким-либо образом отклоняется от установленного
порядка, не лишено значения, значимо по тем или иным причинам
(т.е. отмечено в семиотическом смысле слова), - все это
требует дешифровки и таким образом воспринимается как знамение,
предзнаменование, предупреждение. Собственно говоря, именно эта
выделенность из "шума", "фона" и превращает то или иное явление
или объект внешнего мира в знаки, которые подлежат интер-
претации.
С дешифровкой знамения можно, например, поставить в связь
ситуацию, названную Леви-Брюлем "идеей двойного присутствия",
когда "два одновременных факта, совершающихся в разных местах,
оказываются тесно спаянными между собой" [Леви-Брюль 1937,
с. 56]. "Сопричастность" этих фактов можно объяснить тем, что под
план выражения (знамение) подводится план содержания (событие,
совершившееся в другом месте). Ту же дешифровку (а не просто
"сопричастность"), но уже во времени, можно обнаружить в интер-
претациях предзнаменований как знаков будущих событий.
Если же учесть, далее, что полученное сообщение интерпрети-
руется еще и как чье-то высказывание, то станет ясно, почему
установлением соответствия между означающим и означаемым дело
часто не ограничивается, а необычный звук, движение или предмет
расцениваются как проявление чьей-то воли, чьего-то влияния: за
сообщением встает его отправитель, т.е. некое лицо, выражающее
свои намерения и/или требующее определенной ответной реакции.
По сути дела, эту ориентацию на отправителя (ср. "Ты" Франк-
фортов) Леви-Брюль и обозначил как "мистическую ориентацию" на
"мир невидимых сил": "Эти силы невидимы и чаще всего неосязаемы,
128 Е.С. Новик
но они не глухи и не немы. К ним нельзя прикоснуться, но с ними
можно говорить, их можно услышать” [Леви-Брюль 1937, с. 24-25].
Конечно, подобная коммуникация вне физического канала связи
представляется чем-то фантастическим (а Леви-Брюлю мистичес-
кой), поскольку при этом нарушается технический постулат о
необходимости контакта между партнерами, а сами эти партнеры в
нашей картине мира отсутствуют. Но следует иметь в виду, что в
данном случае контакт осуществляется через само полученное
сообщение, выраженное в том или ином знаковом материале. Что
касается эффективности этих реакций, то их, вероятно, можно
поставить в связь с самой природой интерпретации не как продукта
интеллектуальных усилий или размышлений, а как навыка
"реагировать под влиянием знакового средства на отсутствующие
объекты, существенные для непосредственной проблемной ситуации,
как если бы они были налицо” [Моррис 1983, с. 64]. Особая роль
принадлежит здесь и тем модальным смыслам, эмоционально-во-
левым интенциям и ожиданиям, которые окрашивают высказывание
как адресованную реплику.
Конечнр, зачастую бывает трудно определить, диалогическая ли
реакция на "Ты” заставляет расценить "поведение” скатившегося
камня, упавшего дерева или удар грома как знамение и проявление
воли этого "Ты”, или, напротив, дешифровка знаково отмеченной
ситуации или явления ведет к достраиванию за полученным сооб-
щением его автора-отправителя. Скорее всего, в различных случаях
реализуется то одна, то другая возможность. Из-за принципиальной
слитности самих компонентов высказывания как авторской реплики,
побуждающей на ответ, акцент на коде ли, на содержании или на
интенциях одного из партнеров актуализирует всю его структуру,
независимо от того, какой именно из этих компонентов послужил
толчком для интерпретаций. В любом случае объекты внешнего
мира оказываются значимыми "голосами”, знаками чьей-то дея-
тельности, чьих-то намерений или ожиданий в отношении эго.
Фетишизм и анимизм
Рассмотрим эти процессы подробнее на примере фетишей.
Несомненно, что именно со знаковостью вещи связано широко
распространенное наделение некоторых материальных предметов
особыми свойствами. Не вдаваясь в достаточно подробно разра-
ботанную проблематику семиотического статуса вещи (см., напри-
мер, [Байбурин 1981] и приведенную в этой статье литературу),
учтем, что не все вещи-знаки относятся к фетишам. Напомню, что
под фетишизмом более или менее единодушно принято понимать
Архаические верования 129
"почитание неодушевленных материальных предметов, наделенных
сверхъестественными свойствами" [Токарев 1964, с. 27].
В этой дефиниции (удачно снимающей споры о правомерности
относить к фетишам помимо амулетов, талисманов, снадобий и т.д.
еще и природные объекты - деревья, скалы и проч., идолов и другие
предметы культа, включая мощи святых и т.д.) акцентируются,
однако, признаки, совершенно нерелевантные для самих фети-
шистов. Во-первых, хорошо известно, что фетиш не воспринимается
как "неодушевленный" предмет (отсюда и споры о том, что же
оживотворяет его - безличная сила или обитающее в нем сущест-
во - "душа", "дух" или "демон" вещи). Во-вторых, "почитание"
фетишей весьма относительно: их берегут, опекают, собирают в
связки, но и бьют, наказывают, лишают пищи или даже стремятся
отделаться, когда они не соответствуют тем ожиданиям, требова-
ниям или надеждам, которые на них возлагаются. В-третьих,
"сверхъестественным" могущество фетиша представляется лишь
при попытках научного мышления найти объяснение этому "мо-
гуществу" и этой "оживотворенности": сами фетишисты ожидают от
своих амулетов и талисманов вполне конкретной помощи в своих
обычных делах: удачи на охоте, защиты жилища, физической
неуязвимости в военных стычках и т.д. В этом отношении более
удачной представляется формулировка Г.Н. Грачевой относительно
нганасанских фетишей-койкя: этим термином они называли "всякий
видимый человеку, осязаемый предмет, наделяемый ими спо-
собностью к самостоятельным действиям"
[Грачева 1983, с. 32; разрядка моя. - Е.Н.].
Если же попытаться разграничить точку зрения владельца фе-
тиша и точку зрения внешнего наблюдателя, то, вероятно, следует
более детально рассмотреть, в чем же заключаются отличия этих»
"чувственно-сверхчувственных", по определению Ю. Францева
[1940; 1959], вещей (т.е. знаков) от других вещей-знаков, например
от украшений, деталей прически, одежды, также, как известно, вы-
полняющих знаковую функцию, информируя о социальном статусе
их владельцев и т.д.11.
Первое, что бросается в глаза, это как раз "исключительность",
"редкость", "уникальность" предметов и вещей, относимых к разряду
фетишей. Примечательные элементы ландшафта (скала в ровной,
как стол, тундре, выступающая береговая скала, гора или камень
странной с)юрмы, одиноко стоящее или очень старое, причудливо
сросшееся дерево), предмет или вещь, оказавшиеся не на своем
месте (например, клочки шерсти в птичьем гнезде, камень, по-
павший во внутренности животного, в сети и т.д.) или найденные в
неурочное время (личинки rfyx в середине зимы, олень с рогами в
январе и т.д.), различного рода аномалии (шестипалый зверь,
9 270
130 Е.С. Новик
животное-альбинос, нарост или мох необычной окраски) и т.д. - вот
тот круг предметов, которые обычно наделяются особой "силой" и
окружаются "почитанием".
Итак, первое, что отличает фетиш от других предметов или даже
вещей-знаков, это его уникальность, хотя бы в том отношении, что
он был получен в особых обстоятельствах, в том числе от особо
значимого лица (например - в современных условиях - от любимого
человека, от умерших родителей, став семейной реликвией и т.д.).
Разумеется, среди фетщпей можно встретить значительное число
предметов, не представляющих собой ничего уникального (это лишь
варианты того, что есть и у других). Но, по-видимому, отношение
самих владельцев к ним как к фетишам объясняется именно тем, что
для них они - собственные сокровища: каждый из этих
предметов имеет "свою" историю, а вся связка - это своего рода
"собрание" этих уникальных историй и аномалий.
Таким образом, акцент на коде, на плане выражения выделяет
фетиш из числа простых предметов, и это выделение предмета из
фона уже само по себе наделяет его значением, хотя и весьма
расплывчатым и неопределенным.
По наблюдению З.П. Соколовой, обские угры к разряду фетишей
относили камни необычной формы, археологические находки (не-
редко окруженные легендами) - наконечники стрел, каменные топо-
рики и тесла, метеориты, - «словом, все необычное, неизвестное или
таинственное. Их хранили "на случай" или для "предотвращения
беды", так как неизвестно, что они таят» [Соколова
1971, с. 223; разрядка моя. - Е.Н.]. Последнее обстоятельство
весьма примечательно. Оно показывает, что независимо и вне кон-
венциональных значений (актуальных, впрочем, как будет показано
ниже, во многих других случаях) эти предметы считаются таящими в
себе некий смысл, расшифровка которого затруднительна, и уже
поэтому во избежание беды их следует "хранить".
Таинственность эта сохраняется, однако, лишь до тех пор, пока
не будет установлено соответствие между найденной вещью (ее
формой, материалом, цветом и т.д.) и тем, чтб она озна-
чает, т.е. акцент с кода переносится на сообщение. Обычно это
происходит в соответствии с конвенциями, частично мотивирован-
ными физическими характеристиками самой вещи. Например, у
негидальцев, по наблюдениям В.И. Цинциус, в число охотничьих
фетишей-сингконов попадали предметы, "так или иначе относящиеся
(хотя бы по виду) к животному миру" [Цинциус 1971, с. 178]. Это
могли быть предметы так называемой "игры природы", имеющие
сходство с частями животных (крыльями, рогами, лапами, шерстью;
мох или лишайник, напоминающий по цвету шерсть животного),
клок шерсти на ветке, шерсть, выросшая на теле человека, жи-
Архаические верования 131
вотные-хозяева, или так называемые "животные-вожди” (т.е. особи,
отличающиеся величиной, длинной шерстью, необычной окраской и
т.д.), а также части обыкновенных животных, добытых при каких-
либо особых обстоятельствах, хотя бы просто после затяжных
неудач. В.И. Цинциус обращает внимание на то, что надо было
уметь распознавать сингконы, так как амбан (нечистый)
мог подшутить и под видом сингкона можно было взять вещь,
которая вместо удачи приносила несчастье, болезнь или даже
смерть. К числу таких "ложных” сингконов относилось все, что на-
поминало человека - котел, дерево, камень, и не было связано с
объектом промысловой деятельности.
Из этого сообщения видно, что интерпретации "отмеченной” вещи
или предмета затрагивают не только область референции, т.е.
отсылки к той или иной области значений (в данном случае - к сфере
промысла), но и учитывают еще и то, 07 кого получена
эта вещь. "Ложные сингконы" - это происки злого духа, а "истин-
ные” - подарок духов "неба”, "горы" или "воды" (в соответствии с
негидальской концепцией трех стихий).
И в этом смысле, т.е. как "дар" духов, термин сингкон означал не
только охотничий талисман, но и "душу" животного. Предполага-
лось, что душа-сингкон убитого или умершего от старости животного
улетает через три дня обратно к своему духу-хозяину. «Совершенно
очевидно, - замечает по этому поводу Цинциус, - что талисманы-
сингконы - нос зверя, его шерсть и т.п. - считались вместилищем
"души" животного... на небо "летает" сингкон лося, дикого оленя и
всякого пушного зверя, тогда как сингкон медведя "подымается в
гору"» [Цинциус 1971, с. 184]. Кроме того, у негидальцев слово
сингкэн служит еще и именем духа-покровителя диких животных,
духа-хозяина тайги Сингкэна [ТМС, т. 2, с. 91].
По представлениям эвенков, душа животного - оми - помещается
в наиболее развитых и жизненно важных для него орга-
нах: у пушных зверей это «нос ("носом все чует"), у молодых оле-
ней - челюсти и мелкие копытца ("бегает, еду добывает"), у
медведя - лапа и когти, и т.д. Считалось, что эти части животных
могут принести человеку добро (охотнику - удачу, людям -
здоровье), поэтому их хранили» [Василевич 1969, с. 225]. Таким
образом, и здесь именно те части, которые расценивались как сред-
ства жизнедеятельности и потому считались "вместилищем души"
животного, становились талисманами. Души промысловых животных
эвенкам "посылает" дух бугады-мусун, местом обитания которой
считались "писаные скалы" (ср. сказанное выше о знаково отме-
ченных элементах ландшафта как "священных" и "пользующихся
почитанием").
В этнографических исследованиях обозначение одним и тем же
132 Е.С. Новик
термином столь, казалось бы, различных объектов - охотничий
фетиш, душа животного, дух-хозяин - часто объясняется диахрони-
ческим напластованием разновременных по своему происхождению
верований (от фетишизма через аниматизм к анимизму или от
аниматизма и фетишизма к анимизму). Термины типа сингкон, оми,
мусун и им подобные переводятся обычно как "душа", реже -
"жизненная сила", "жизненность" и, разумеется, оба перевода носят
условный характер.
Между тем, область значений этих и аналогичных терминов - не
предметная, а концептуальная, причем концепты эти ценностно
окрашены и обобщают именно модальные смыслы, каж-
дый из которых соотнесен с определенным коммуникантом как
субъектом. Так, если для человека обладание охотничьим талисма-
ном-сингконом означает его потенциальную способность к удач-
ному промыслу, то сингкон-душа - это потенциальная способность
самого животного, средство его существования (ср. "жизненная
сила", "жизненность"). В том, что эти души-сингконы циркули-
руют от духов к охотникам и обратно, явно обнаруживаются
двусторонние отношения между этими партнерами, причем для
охотников дух-хозяин тайги (Сингкэн и др.) выступает "подателем"
добычи, а для самих животных - их "покровителем" и хозяином.
Как видим, все значения терминов здесь релятивны, связаны с
действующими лицами охотничьей деятельности как с коммуни-
кантами, и именно в этом качестве образуют единое семантическое
поле, конкретизирующееся в зависимости от того, с чьей
точки зрения термин получает свой индивидуальный смысл12.
Эти примеры призваны, помимо прочего, показать, что диахро-
ническое рассмотрение связанных с этими терминами представлений
(см., например, [Анисимов 1958, с. 25]) как развивающихся от прос-
того (чувственно-сверхчувственная вещь-фетиш, наделенная без-
личной силой) к сложному (представления о душах, духах как
сверхъестественных существах) ориентируется больше на эволю-
ционистскую научную парадигму, чем на сам этнографический
материал. Действительно, если на первой фазе дешифровки (а не на
"первой стадии" развития верований) "за этими вещами-фетишами
не стоит еще отвлеченного представления о духе как их личном
существе" [Анисимов 1958, с. 25], то оно проявляется именно по
мере конкретизации этого общего значения и происходит это как раз
в ситуации общения - на сей раз уже между владельцем фетиша и
им самим.
У кетов, например, добыв пушного зверька необычной окраски -
так называемого "меченого" (!), - "изготовляли из кедра антропо-
морфную фигурку и натягивали на нее снятую чулком шкуру" (см.
[Алексеенко 1977, с. 45, рис. 1]); в результате фетиш приобретал
Архаические верования 133
ярко выраженные черты ’’личного существа’’ - кайгусъ. Перед
промыслом идольчика кормили, а после удачной охоты одаривали
лоскутами новой материи, бусами, бисером и т.д.
Между фетишем и его владельцем, таким образом, могут, в свою
очередь, устанавливаться отношения обмена услугами: в качестве
"получателя" (еды, одежды, адресованных ему просьб) он в ответ
становится "подателем" (богатства, удачи на охоте, смелости, ско-
рости, здоровья, безопасности и т.д.).
В ряде случаев эти двусторонние отношения еще более услож-
нялись, приобретая форму взаимных провокаций на действия,
выгодные одному из партнеров. Так, Г.И. Пелих отмечает, что у
селькупов "находка фетиша объяснялась якобы желанием
самой вещи иметь своим хозяином данного человека": «Оци
каждому не даются. А кто их может одевать, кормить - они поют,
говорят: "Возьми нас!"» [Пелих 1980, с. 19; разрядка моя. - £.Я.].
И, напротив, способом спровоцировать охотничий фетиш на дейст-
венную помощь могли быть, как, например, у якутов, пышные
восхваления щедрости и богатства духа охоты Байаная, произ-
носимые перед его изображением. "Лукавые охотники даже уго-
щение ему подносили так, чтобы обязать его: мазали жиром только
одну сторону лица Байаная, а другую оставляли до следующей
удачи на охоте" [Эргис 1974, с. 177]. В других случаях средством
добиться от фетиша действенной помощи становились притворные
угрозы лишить его пищи, подарков и т.д.
Охотничьи фетиши, таким образом, оказываются своего рода
посредниками (медиаторами) между миром людей и миром природы:
находясь в жилище охотника и получая там "пищу", "одежду" и т.д.,
они призваны, как свидетельствуют многочисленные этнографи-
ческие данные, "привлечь", "притянуть", "привести" к охотнику дру-
гих животных. Отношения коммуникантов при этом как бы перево-
рачиваются: на сей раз уже охотник в качестве владельца фетиша
оказывается "отмеченным" (т.е. выделенным из числа других,
обращающим на себя внимание духов или самих животных) лицом,
"фартовым" человеком, обладающим способностью к удачной охоте.
Сходным образом дело обстоит и с амулетами-охранителями.
С.В. Иванов в своей статье о детских амулетах нанайцев обратил
внимание на преобладание среди них изображений, самый вид
которых способен отогнать злое начало: «Среди представленных ими
животных имеются, например, как крупные и сильные (тигр, мед-
ведь, кабан, рысь), так и мелкие (мышь). Все они призваны были
кусать, царапать, употреблять в пищу менее сильных. То же отно-
сится к амулетам в виде птиц - орла, чайки, дятла, филина и совы,
внушающих страх своими клювами и когтями. Из рыб чаще всего
изображались щуки и ерши, не менее опасные для мелких духов, чем
134 Е.С. Новик
животные и птицы... От крупных животных брали их части: от
медведя - клыки, от собаки - лапы, от лисы - челюсть и т.д. Эти
естественные амулеты заменяли собой по принципу "часть вместо
целого" самих животных и им приписывались те же способности и
функции, какими обладали эти животные» [Иванов С. 1977,
с. 86-87].
Внешняя форма и здесь, как и в случае с негидальскими
сингконами, небезразлйчна: она определяет сферу, в которой фетиш
способен действовать, точнее - воздействовать. Поэтому и в прин-
ципе "часть вместо целого" недостаточно, как кажется, видеть
только метонимическую замену "самих животных". Это, скорее,
знак, выражающий именно их "способности и функции": висящий над
дверью высушенный ерш или стоящий в углу череп медведя
обладают потенциальной возможностью отразить нападение как раз
потому, что их внешний вид значим для того, кто их воспринимает, в
данном случае - для потенциального же противника (злого духа,
дурного глаза и т.д.). Здесь, таким образом, вновь проступают
отношения партнерства: для врага фетиш - это живое существо (ср.
"демон вещи"), которое способно вступить с ним в борьбу, а для
самого владельца он оказывается личным духом-покровителем,
защитником, помощником.
Показательно, что и в последнем случае "личное существо" воз-
никает именно в ситуациях общения, диалога с фетишем. Так, «для
приобретения младенцем хорошей памяти брали косточку от черепа
кабана и, привешивая ее к одежде ребенка, говорили: "Приди, дай
моему ребенку память". Это обращение было адресовано кабану. К
медвежьему клыку нанаец обращался со следующими словами: "Ты
сильный, ты ничего не боишься - приди, помоги мне! Моего ребенка,
приди, сделай смелым"» или: «"Моего ребенка караулить (защищать)
тебя зову", - и привешивали клык или коготь к колыбели. Отмечены
случаи, когда мать при беспокойстве ребенка обращалась к
подвескам колыбели с просьбой сторожить и защищать младенца»
[Иванов С. 1977, с. 89].
Разумеется, внешнему наблюдателю трудно и далеко не всегда
удается уловить момент, когда предмет превращается в знак, а
знак - в деятеля, в партнера, как и объяснить текучесть и зыбкость
границ между, например, предметами "игры природы" и фетишем
(т.е. вещью, наделенной "способностью к самостоятельным дейст-
виям"), с одной стороны, и между фетишем как вместилищем особой
силы и обитающим в этом предмете духом - с другой. Действи-
тельно, в одних случаях достаточно установить соответствие между
планом выражения (странный предмет, вещь, найденная при "отме-
ченных" обстоятельствах, и т.д.) и планом содержания. Отнесение
знака к той или иной предметной области (когнитивная реакция)
Архаические верования 135»
приводит далее к тому, что камень необычной формы, уродливая
рыба и т.д. либо интерпретируются как свидетельство приобретения
удачи и подвешиваются к связке охотничьих трофеев, либо, на-
против, расцениваются как предвестники несчастья, и тогда от них
стараются отделаться (модальная реакция). Это решение зависит и
от определения того, кто был "отправителем" и с какими на-
мерениями вещь была "послана". Модальная же реакция на соб-
ственные мотивы приводит и к разделению этих вещей-знаков на
талисманы (обладающие агрессивной способностью) или амулеты
(защищающие, апотропеические). Здесь от фетиша ожидается уже
конкретное действие: своим видом (или смыслом) он должен
привлечь новую дичь, отпугнуть противника или защитить своего
владельца (в последнем случае разделение на талисманы и амулеты
оказывается уже нерелевантным: отпугивая противника, фетиш тем
самым защищает). Одновременно фетиш становится вещью-дея-
телем, что еще не предполагает отчетливой персонификации.
Прагматическая же реакция требует ее, правда, лишь постольку,
поскольку необходимо учесть, какого ответного действия ожидает
это существо от эго: еды, одежды или каких-либо других проявлений
внимания.
И такое олицетворение, персонификация вовсе не предполагают
более развернутой психологизирующей мотивировки. Отсюда, как
кажется, и безрезультатность ставшей сегодня уже анахронизмом
дискуссии между сторонниками аниматизма и анимизма. Их проти-
вопоставление и тем более диахроническое разделение как от-
дельных и самостоятельных "стадий" развития верований несостоя-
тельны, поскольку образ партнера в зависимости от ситуации может
конкретизироваться в различной степени - от смутного и нерас-
члененного "Ты" до более определенного "лица", имеющего свои
намерения, свои ожидания и свои способы действовать. Тем не менее
этот образ всегда редуцирован до образа партнера по общению, а
психологические нюансы (и тем более собственно межличностные
отношения и чувства) "срезаются", ибо гораздо важнее определить
намерения этого лица в отношении к эго, его "расположение" или
"нерасположение", по терминологии Леви-Брюля.
Аниматизм и магия
Об этих "влияниях" и "намерениях" Л. Леви-Брюлем собран
огромный материал, помещенный им в специальной главе под
соответствующим названием «"Расположение" существ и предме-
тов» [Леви-Брюль 1937]. В ней среди прочего приводится вырази-
тельный пример, названный 'Таитянский отшельник".
436 Е.С. Новик
Одному белому пришлось заночевать в пещере старого туземца,
одиноко живущего в горах. Гостю становится холодно, и хозяин дает
ему в качестве покрывала плащ, принадлежавший когда-то другому
туземцу. Узнав через некоторое время имя того, кто подарил
хозяину плащ, гость в ужасе вскочил и стал упрекать старика:
бывший владелец болен проказой в самой тяжелой форме. От-
шельник снисходительно окинул гостя взглядом и сказал: "Почему
ты так волнуешься и беспокоишься? Когда я передал тебе плащ, я
ведь хотел только оказать тебе услугу, но вовсе не передать тебе
болезнь прежнего владельца". Он рассказал, что поддерживает с
этим прокаженным дружеские отношения, выполняет его поручения,
навещает и вообще является практически единственным, кто не
отвернулся от несчастного. Поэтому, твердо зная, что прокаженный
питает к нему лишь добрые чувства, он нисколько не боится
пользоваться его накидкой и заразиться. В доказательство старик
привел случаи, когда члены семьи, продолжавшие заботиться о
своем заболевшем проказой родственнике, оставались целы и не-
вредимы, а если близкие покидали больного на произвол судьбы, они
как раз и заболевали, так как обиженный и разозленный больной,
несмотря на то что родные редко попадали в его поле зрения,
постарался передать им свою болезь. По мнению старика, зара-
жение может совершиться или не совершиться в зависимости от тех
чувств или намерений, которые больной питает к человеку (см.
[Леви-Брюль 1937, с. 79-85]).
Сам Леви-Брюль после некоторых колебаний отнес этот пример к
разряду "магических действий": хотя прокаженные, по его соб-
ственному замечанию, не считались на Таити колдунами, все же,
"если их чувства по отношению к определенным лицам приобретают
враждебный характер, все происходит так, как если бы они были
колдунами. Они делают этих лиц больными, что равнозначно их
околдованию. Объекты их злого чувства оказываются поражен-
ными. Тому, кого они любят, бояться нечего". Здесь же он отме-
чает, что избирательность эта "напоминает действие колдовских
снадобий и ядов, которые, повинуясь велениям колдуна, причиняют
зло лишь тому лицу, которое им намечено"
[Леви-Брюль 1937, с. 83; разрядка моя. - Е.Н.].
В соответствии с обычной для религиеведения схемой Леви-
Брюль сосредоточивает свое внимание на механизме действия
колдовских снадобий и других "магических посредников" (предметов,
животных - фантастических или сверхъестественных и т.д.), однако
обнаруженная им связь между магическим действием и в о з -
действием ("настроений", "чувств" или "намерений", как он их
называет) позволяет ему заметить, что все эти посредники являются
лишь выражением социально вредных или социально полезных
Архаические верования 137
"расположений", "зложелательств" или "хотений" колдуна в отно-
шении к другим лицам (будь то человек, предмет, животное,
растение или какое-либо явление природы).
В любом из этих случаев, однако, дело оказывается не в "на-
строениях" как таковых, а в стремлении колдуна добиться от этого
лица того, что самому колдуну "желательно". Этого вывода, впро-
чем, Леви-Брюль не делает, отмечая лишь, что и сами настроения
или чувства представляются архаическому мышлению "своего рода
автономными силами, которые можно рассматривать отдельно от
субъектов, которые их испытывают" [Леви-Брюль 1937, с. 85]
("зложелательство", например, приписываемое некоторым лицам с
дурной репутацией, может воплотиться в зверька, паука, вампира, в
особый утробный нарост в его теле; оно может проявиться и в
"поведении" его души, способной выходить ночью наружу и вредить
соседям по повелению своего хозяина или даже независимо от его
сознательных усилий, см. [Леви-Брюль 1937, с. 173]).
В результате Леви-Брюль приходит к выводу о "несостоя-
тельности анимистической схемы" и склоняется к аниматической
трактовке пронизывающих мир "невидимых сил". Тем не менее он не
остается глух и к семиотическому аспекту магии: вредоносная или
благодетельная "сила", исходящая от колдуна, является одновре-
менно "проводником", "материализацией", "символом" его намерений.
В этой связи Леви-Брюль обращает внимашке и на принципиальное
различие между "нашими символами" и "символами первобытного
мышления": "Отношение между символом и тем, что он выражает,
представляется этому мышлению не как связь, не как соответствие
или сходство, а как реальное сопричастие, как тождество по
существу, как консубстанциализация" [Леви-
Брюль 1937, с. 173; разрядка моя. - Е.Н.].
К этой характеристике знаков мы еще вернемся. Сейчас отметим
только, что Леви-Брюль проходит мимо одного важного и обна-
руженного им же самим обстоятельства: "влияния" и "располо-
жения", "хотения" и "намерения", даже если они объективируются в
каких-либо символах, лежат не в плоскости субъектно-объектных
отношений, а являются отношениями между двумя
субъектами, отношениями партнерства, взаимности. Особенно
ясно это видно на примере с "таитянским отшельником". Если в
ситуации с прокаженным и его другом передача плаща носила
характер "дара" ("Он мне подарил плащ, а болезнь оставил себе", -
объясняет хозяин пещеры своему гостю) и выражает благодарность
за доброе к себе отношение, то в случае неблагожелательного к
нему отношения прокаженный "намерен" (независимо от степени
осознания этого намерения им самим) передать именно болезнь,
причем в данном случае не уточняется, каким способом или по-
138 Е.С. Новик
средством чего эта передача происходит. Зато здесь отчетливо
видно, что в обоих случаях это - ответная реакция на
конкретные (положительные или отрицательные) действия кон*
кретных же лиц ("значимых других") в отношении к самому про-
каженному.
В случае же применения магических "снадобий" и "ядов" имеют
место уже не спонтанные и порой неосознанные ответные реакции
(блокированию которых, как мы увидим ниже, тоже придается очень
большое значение), а целенаправленное воздействие на то лицо,
которое вызвало злые намерения колдуна. "Избирательность"
магического средства оказывается в этом случае не проявлением
сверхъестественного могущества самого снадобья, а следствием
аксиальност и, конкретной адресованности магического
действия.
Магическое средство ("яд" или "снадобье"), "проводник" (изо-
бражение жертвы, предметы, бывшие с ней в непосредственном
соприкосновении, и проч.) или "посредник" (приглашенный заказ-
чиком колдун, вооруженный специальным арсеналом предметов и
существ для осуществления магического воздействия) и т.д. лишь
обеспечивают "связь" между двумя субъектами ив
этом отношении оказываются выражением в определенном знаковом
материале того конкретного смысла, который вложен в эти символы
одним из коммуникантов по отношению к другому.
Именно эта прагматическая направленность, целевая установка
адресанта в отношении адресата и оказывается той "силой", той
"потенциальной способностью" к действию, которая квалифици-
руется Леви-Брюлем как аниматическая.
Наиболее известные и даже получившие права гражданства в
этнографической литературе обозначения этой силы ("мана",
"оренда" и т.п.) свидетельствуют о том, что внутри устных культур
остро осознается (пусть даже просто в форме того или иного
специального термина, как в данном случае) как раз воздействую-
щий эффект адресованного сообщения, не сводимый непосред-
ственно к каким-либо "чувствам", "намерениям" или "волевым
актам" как таковым. Отсюда - и текучесть и неопределенность
источников мана (это и духи, и люди, наделенные особым статусом
или свойствами, и предметы-фетиши, и циркулирующие между их
"подателями" и "получателями" вещи, передача которых сопряжена
с взаимными обязательствами и/или ожиданиями, и т.д.), отсюда - и
проявления мана в самых различных обстоятельствах, и разносто-
ронность ее воздействия - на вред или на пользу.
Как известно, К. Леви-Строс в своем "Введении" к работам
М. Мосса активно возражал против того, чтобы видеть в мане
выражение каких-либо "социальных чувств" или вообще каких-либо
Архаические верования 139
явлений, относящихся к реальности. Он интерпретировал ману как
"значение значений", считая ее "нулевым символом, т.е. знаком,
указывающим на необходимость содержания, дополнительного по
отношению к тому, которым уже обременено означающее" [Леви*
Строе 1980, с. 90]. Учитывая сказанное выше, можно усмотреть в
"дополнительном содержании" саму воздействующую силу выска-
зывания, его модальность, конкретный смысл ("социально-коммуни-
кативное", и не референтное значение) и, таким образом, связать
"значение значений" не с семантикой, а с прагматикой, с demand,
побуждением партнера на ответную реакцию.
Что же касается принципиальных отличий в структуре или даже
природе символов, на которые обратил внимание Л. Леви-Брюль, то
как бы ни назвать эту их особенность - "тождеством по существу",
"консубстанциальностью", "гипосгазированием", "моделированием" и
т.д., - она, по сути дела, является следствием того, что в устной
культуре отсутствует четкое осознание знаков как средства
кодирования13. Это, разумеется, не мешает использовать их в
качестве заместителей означаемого, но в центре внимания при этом
оказывается не столько отношение между символом (знаком) и тем,
что он означает (т.е. не между планом выражения и планом
содержания знака), сколько в первую очередь его конкретный
смысл для одного из коммуникантов.
Возможно, Леви-Брюль не вполне точен, усматривая лишь раз-
личия между "нашими символами" и "символами первобытного
мышления". На примере фетишей мы уже видели, что в целом ряде
случаев актуальной для них оказывается как раз "связь", "соот-
ветствие" или "сходство" между знаком и тем, что он означает. В
научных классификациях магии, как мы увидим ниже, в имплицитной
форме использовалось как раз разделение знаков на знаки-
указатели, знаки-иконы и знаки-символы. Однако не эти нюансы в
отношениях между означающим и означаемым составляют ядро
феномена магии. Вероятно, главная роль здесь действительно при-
надлежит "тождеству по существу", гипостазированию, обусловлен-
ному тем, что в условиях обратной связи означающее для
кодирующего (адресанта) равнозначно означаемому для
декодирующего (адресата).
О том, что дело обстоит именно так, что здесь имеет место
семантическое отождествление, связанное с переворачиванием по-
зиций коммуникантов, свидетельствует отношение к моделированию
(даже непроизвольному) как к содержательному процессу.
Рассмотрим два примера отношения к моделям как к ипостасям.
Один из них приводит Г.Н. Грачева, считающая, что этот принцип
пронизывает весь основной материал, анализируемый в ее моно-
графии о мировоззрении нганасан (см. [Грачева 1983, с. 57]). Во
140 Е.С. Новик
время сбора сведений о погребальных сооружениях исследова-
тельница попросила показать ей, как строится чум для умершего:
"Человек среднего возраста, собравшись построить такой чум из
спичек на столе, приставил две спички и тут же их и все при-
готовленные на этот случай другие разбросал широким движением
рук в разные стороны по всей комнате" [Грачева 1983, с. 57]. По
объяснению информанта, «этого делать нельзя, - "строишь для
себя"».
У А.А. Попова находим другой пример: «1936 год был на
редкость "неурожайным" на песцов. Массовые зимние набеги песцов
из тундры на юг зависят от миграции лемингов, являющихся основой
питания песцов. Мало бывает лемингов, мало и песцов. Но охот-
ники-нганасаны "неурожай" песцов объясняли по-своему. Они гово-
рили, что неладно заключать с торговыми организациями договоры
на добычу песца. Как только русские начали записывать песцов на
бумагу, они стали исчезать, так как дух-хозяин песцов обиделся.
”Мы считаем грехом, - говорили мне нганасаны, - что русские
записывают в книгу "божьих зверей" - песцов. Запишут их на
бумагу, положат бумагу в сундук и запрут, вот песцов и не станет.
Они начинают бояться, что их запирают в сундук, и дух-хозяин
перестает их посылать”. Когда при мне осенью 1937 г. приехал к
вадеевским нганасанам представитель пушной фактории для
заключения договоров с охотниками, они стали просить его: "Мы это
считаем грехом. Мы все равно будем промышлять песцов и шкуру
их сдавать на фактории, нельзя ли не писать на бумагу?"» [Попов
1984, с. 57].
В обоих примерах "отождествление", "гипостазирование" сопря-
жено именно со сменой коммуникантов. В первом случае изго-
товление модели погребального сооружения по просьбе (для)
этнографа расценивается затем как предвосхищение собствен-
ных похорон ("для себя строишь"), и конструкцию торопятся
разломать. Во втором примере смена точек зрения происходит
трижды. Во-первых, учитывается точка зрения песцов: записанные
на бумагу животные "заперты" в сундуке, что и объясняет их
отсутствие в тайге. Во-вторых, учитываются правила взаимоотно-
шений охотников с духом-хозяином промысла: песцы - "божьи
звери", и заключение договора на их добычу без апелляции к духу-
хозяину - это грех, ведущий к отказу последнего "посылать" песцов
под выстрел охотника. И, наконец, акцентируется связь между
песцами и их духом-хозяином: запертые в сундук животные трав-
мированы ("боятся"), что и вызывает охранительные действия со
стороны их духа-покровителя.
Как видим, смена коммуникантов всякий раз акцентирует раз-
личные - семантически ценностные аспекты сообщения, его воз-
Архаические верования 141
действие на конкретного адресата, а весь процесс гипостазирования
ориентирован на область модальных смыслов.
Именно с гипостазированием как "тожеством по существу" (т.е.
по конкретному смыслу) связан и широкий круг так называемых
"иррациональных" запретов и предписаний, иногда относимых к
магии, а иногда не включаемых в нее (см. [Токарев 1959, с. 25-26]).
В этих табу отчетливо проявляется установка на необходимость
регулировать собственные поступки, сообразуясь с интересами "зна-
чимых других".
Например, у нивхов во время охотничьего сезона оставшимся
дома "женщинам строго запрещалось вышивать узоры, так как
считалось, что охотник может заблудиться в тайге или бесконечно
кружить по одной и той же дороге, как замысловато кружится под
рукой женщины вышивка орнамента. Нельзя было кроить: лодка
может разбиться» лед - расколоться... Нельзя было также во время
охоты приглашать в дом шамана с бубном, так как звуки бубна
могут породить отзвуки в самострелах, поставленных охотником, и
зверь, услышав их, может убежать. Нельзя было петь песни, чтобы
не отпугнуть зверей» и т.д. [Таксами 1975, с. 76]. Последние два
запрета, построенные на акустическом коде, наиболее отчетливо
демонстрируют их коммуникативную природу, но и запреты
женщинам вышивать, кроить, месить тесто (чтобы оно не залепило
глаза охотнику), причесываться (чтобы он не попал в непроходимые
заросли) строятся на том, что бытовые действия или поступки могут
быть расценены как знаковые, т.е. приобрести еще и символический
смысл и в качестве адресованных "реплик" воздействовать на успех
промысла. И происходит это именно в ситуациях, ориентированных
на "значимых других": в качестве "добытчиков пищи" для селения
охотники, ушедшие в тайгу, продолжают быть связанными с его
жителями, и от взаимного регулирования их действий зависит их
общее благополучие. В других случаях "значимый другой" - это сам
зверь, которого нельзя спугнуть или, наоборот, можно привлечь
особыми действиями.
Так, если запреты были направлены в основном на то, чтобы
предотвратить отправку нежелательной информации, то пред-
писания, напротив, преследовали цель сообщить партнеру такую
информацию, которая, с точки зрения отправителя, обеспечила бы
ему достижение собственной цели. У чукчей, например, оставшиеся
на берегу женщины должны были произносить специальные мо-
нологи, сопровождаемые эротическими телодвижениями, призван-
ными завлечь морских животных поближе к берегу и тем самым
облегчить мужчинам их охоту (см. [Богораз 1939, с. 146]).
Таким образом, целенаправленная магическая акция может быть
понята как символическая интеракция между двумя партнерами,
142 Е.С. Новик
один из которых моделирует с помощью цепочки знаков такую
программу поведения или такую картину деятельности, которая,
будучи полученной адресатом, обеспечит с его стороны жела-
тельную реакцию, спровоцировав его на выгодные для адресанта
ответные поступки.
Рассмотрим с этой точки зрения типичный пример вредоносной
магии. У нганасан, по материалам Г.Н. Грачевой, человек, желаю-
щий нанести вред своему соплеменнику, находил на земле или на
снегу его следы, резал их ножом и приговаривал: "Пусть умрет в
скором времени. Такого-то убиваю" [Грачева 1976, с. 56]. Объектом
магии здесь, конечно, выступает не материальный предмет (след),
как предлагал считать С.А. Токарев (см. [Токарев 1959, с. 13-14]), а
тот человек, на которого направлено магическое действие, в то
время как след выступает его знаком-заместителем. Протыкание
ножом следа - заместителя жертвы, хотя и совершается колдуном,
суть пара действий: нападение -> получение увечья. Словесная
формула здесь тоже не просто наговор, а та программа, которую
колдун предписывает конкретному адресату. Получив сведения о
том, что он стал объектом вредоносной магии, т.е. узнав о таких
"поступках" своего знака-заместителя, которые должны привести его
к гибели, адресат в дальнейшем лишь "выполняет" эту программу,
т.е. действительно может умереть14, если не предпримет ответных
обрядовых действий, которые носили у нганасан название
койкуптара, что значит "друг на друга беду наводить" (см. [Грачева
1976, с. 67]).
В других случаях предписывающая программа может адресо-
ваться не самой жертве, а тому посреднику, с которым манипу-
лирует колдун, и именно в этих случаях, как и в рассмотренных
выше примерах с фетишами, посредник этот приобретает персо-
нологические характеристики. Таков, например, уйвелъ чукчей, изго-
товлявшийся из частиц тела того, кого околдовывают; ему дается
поручение отыскать и уничтожить жертву: «Приняв вид сверхъес-
тественного животного, чудовища или неодушевленного предмета,
"уйвель" причиняет вред или смерть тому, на кого направлено
колдовство. Если этот человек обладает большей магической силой,
чем владелец "уйвеля", то он может защититься от "порчи" и
вернуть ее назад к пославшему» [Токарев 1959, с. 39].
Обратим внимание на то, что в обоих примерах акты вредоносной
магии предполагают возможность ответного действия типа
койкуптара или "возвращения порчи", что грозит несчастьем уже
самому колдуну.
Роль магического посредника не сводится, таким образом, к роли
пассивного "материального" предмета, на который, по Дж. Фрэзеру
и С.А. Токареву, направлено магическое действие (в отличие якобы
Архаические верования 143
от религии, где фигурируют "сверхъестественные личные сущест-
ва" - духи). Показательно в этом отношении, что у нганасан,
например, изображение, с которым манипулирует колдун, носит
название койка, к которым относится обширная группа сакральных
предметов-посредников, причем многие из них имеют явные
признаки именно личных сверхъестественных существ15. Противопо-
ставление здесь явно идет не по линии "материальный пред-
мет/сверхъестественное существо" и даже не по линии "фетищ/дух".
Появление "магического посредника" обусловлено необходимостью
преодолеть пространственно-временшЛе разрывы между адресантом
и адресатом магической акции, а поскольку преодоление это осу-
ществляется по модели межличностного общения, то возникает и
фигура особого "лица" - "посла" или "передатчика" того конкретного
смысла, который имеет в виду адресант. При этом магический
посредник может быть изготовлен как в агрессивных, так и в
защитных целях. Например, деревянное изображение волка (койка-
волк) могло быть изготовлено и для охраны собственного стада от
волков, и для нападения на стадо соседа в актах вредоносной магии
(см. [Грачева 1977, с. 225]). Находясь в распоряжении своего хозяина
и получая от него "пищу", "приют" и т.д., койка-волк был призван
содействовать своему обладателю, и именно в зависимости от целей
и намерений последнего мог действовать по-разному: либо защитить
стадо от волков, отогнав от него своих "диких" собратьев, либо
привлечь их на стадо соседа или разделаться с его оленями
самостоятельно.
Понимание магической акции как закодированной тем или иным
образом адресованной реплики, призванной вызвать выгодную для
отправителя ответную реакцию получателя, позволяет, как ка-
жется, внести и некоторую ясность в типологию магических акций,
основы которой были заложены С.А. Токаревым в статье "Сущ-
ность и происхождение магии" [Токарев 1959], включающей до-
вольно полный обзор высказанных к тому времени точек зрения на
магию16.
В этой работе С.А. Токарев предложил различать "типы" и
"виды" магии. Типы он разбил на две большие группы: "протрепти-
ческие", обнаруживающие агрессивную направленность, и "профи-
лактические”, преследующие цель отстранить, отогнать, удалить те
или иные вредные влияния, защититься от их действия.
В "протрептическую" магию С.А. Токарев включил четыре типа:
контактный, инициальный, парциальный и имитативный. В "кон-
тактном" действие производится непосредственно с самим объектом
магии ("колдовство вблизи", по А. Фиркандту); это, например,
ношение амулетов или талисманов, принятие вовнутрь снадобий,
прикосновение ^уки колдуна. В "инициальном" - за дальностью
144 Е.С. Новик
расстояния или недосягаемости объекта - реально производится
только начало желаемого действия, а окончание и проявление
ожидаемого результата предоставляется магической силе (наведение
стрелы в сторону объекта, магия первого дня и т.д.). В двух вторых
типах агрессивной магии фигурирует заместитель объекта. Это
может быть какая-нибудь его частица или предмет, бывший с ним в
непосредственном соприкосновении ("контагиозная", по Дж. Фрэзеру,
"парциальная", по Е.Г. Кагарову и С.А. Токареву), либо его подобие
или изображение ("гомеопатическая", по Дж. Фрэзеру; "симильная",
по Е.Г. Кагарову; "имитативная", по С.А. Токареву).
В группе "профилактических" магических действий С.А. Токарев
выделяет только два типа: "апотропеическую" (отгонную), препят-
ствующую приближению враждебных сил или позволяющую
уклониться от соприкосновения с ними, и "катартическую",
призванную удалить, очистить объект магии от злых влияний,
проникших в тело человека, в его жилище и т.д.
Особняком в этой классификации стоит "вербальная" магия, или
магия слова, которая, по мнению С.А. Токарева, не составляет
самостоятельного типа, а является лишь "словесным аккомпанемен-
том" к колдовскому действию и включает черты всех других типов
(последнее обстоятельство со всей недвусмысленностью и опреде-
ленностью указывает на знаковую "сущность" феномена магии).
По мнению С.А. Токарева, вся эта группировка носит "фор-
мально-логический" характер и не подводит исследователей к
пониманию корней магии. Он считает, что "гораздо большее зна-
чение получает иная классификация - по социальной направленности
и по роли, выполняемой магическими обрядами в жизни людей"
[Токарев 1959, с. 27]. Это - "виды" магии: вредоносная, военная,
половая, лечебная и предохранительная, промысловая, метеороло-
гическая и некоторые другие второстепенные виды. Основное
внимание исследователь сосредоточивает именно на них. Однако
виды магии, если усматривать в них не просто эмпирическое раз-
деление по видам деятельности (против чего возражает и сам
Токарев), оказываются взаимопересекающимися. Так, военная ма-
гия не отличается по механизму действия от вредоносной, а лю-
бовная может иметь характер как вредоносный, так и предохрани-
тельный, лечебный.
Хотя "типы" и "виды" магии для С.А. Токарева - это две
координаты (см. [Токарев 1959], табл, на с. 28), в своих теорети-
ческих построениях он все же явно отдает предпочтение видам
магии, видя в них "переосмысление" стихийно-целесообразных дейст-
вий в ориентированное на сверхъестественный результат магическое
действие (возражения по поводу этой концепции С.А. Токарева см.
[Новик 1984, с. 144-147]).
Архаические верования 145
Развивая же собственно типологию С.А. Токарева, можно
заметить, что противопоставление "контактных’' и "дистанционных"
действий (ср. "колдовство вблизи" и "колдовство издали" А. Фир*
кандта) имеет место не только в агрессивной, но и в профилак*
тической магии: именно по этому признаку апотропеическая, или
отгонная, магия, которая призвана сохранить дистанцию и тем
самым предотвратить нежелательный контакт, отличается от ка-
тартической, применяемой в тех случаях, когда необходимо лик-
видировать нежелательные последствия уже совершившегося кон-
такта (изгнание, очищение и т.д.).
Противопоставление действий, направленных непосредственно на
сам объект, и действий, направленных на его заместителя, тоже
имеет место как в агрессивной, так и в профилактической магии (ср.
приведенный выше пример с коика-волком). Точно так же принятие
снадобий или непосредственное соприкосновение с источником
воздействия (контактный тип) может применяться как с целью
нанесения вреда, так и с целью придания долголетия или очищения
от скверны. Оберег или амулет в апотропеической магии могут в
качестве посредника приобретать черты сверхъестественного су-
щества, а в катартической - действия, связанные с извлечением
"камня болезни" (ср. парциальная магия), могут развернуться в
изгнание злого духа (экзорцизм) или отправку назад колдуну
насланной им порчи.
Таким образом, типология магических действий (если понимать
под последней не классификацию эмпирически наблюдаемых форм, а
именно типологию) может быть построена на наборе оппозиций.
Первая из них (то, что С.А. Токарев называл "аспектами" магии) -
это противопоставление "положительных" целенаправленных дейст-
вий и "отрицательных" табу, аналогичных приведенным выше
"иррациональным" запретам. Оппозиции "контактная/дистанционная"
и "непосредственная/опосредованная" касаются "механизма дейст-
вия" магического средства, а оппозиция "агрессивная (протрептичес-
кая)/оборонительная (профилактическая)" - иллокутивной цели
магической акции. И, наконец, различия в "ассоциациях идей" - по
сходству (имитативная, или подражательная, и гомеопатическая) или
смежности (контагиозная, или заразительная) - лежат скорее не в
"психологическом механизме", как полагал Дж. Фрэзер, а в ха-
рактере знаков, используемых в том или ином магическом действии:
в инициальной магии мы имеем дело со знаками-индексами, в
имитативной и парциальной - со знаками-иконами, а в вербальной -
со знаками-символами.
На пересечении этих "формально-логических" координат и воз-
никают эмпирически наблюдаемые формы (что и объясняет столь
частое "сочетание" в том или ином магическом действии признаков
10 270
146 Е.С. Новик
различных типов (см. [Токарев 1959, с. 25]), дальнейшая класси-
фикация которых может быть осуществлена с учетом конкретных
видов деятельности.
Жертвоприношение
Не менее распространенной и универсальной формой знакового
поведения, призванного спровоцировать выгодную ответную реак-
цию, можно считать жертвоприношение. В другой работе уже
делалась попытка обосновать коммуникативную природу жертвопри-
ношения (см. [Новик 1984, с. 135—143]). Ряд примеров все же позво-
лю себе привести здесь еще раз.
Еще Юбер и Мосс в совместной работе "Опыт о природе и
функции жертвоприношения" предлагали рассматривать его как
способ установления связи между светским и свя-
щенным мирами посредством жертвы, т.е. вещи, разрушаемой в
процессе обряда. В соответствии с концепцией М. Мосса об
обменном дарении из трех обязанностей - "давать", "брать" и
"возвращать" - главной оказывается именно последняя, т.е. обя-
зательность ответного дара. Принесение жертв воспроиз-
водит этот же принцип, но уже не в сфере собственно социальных
отношений, а в сфере обрядовой деятельности, моделирующей
дистанционную коммуникацию по образцу межличностной.
О том, что акты обменного дарения распространяются и на
жертвоприношения, очень убедительно свидетельствуют наблюде-
ния Е.А. Крейновича: "Роль собаки во взаимном дарении у нивхов
полностью объясняет ее функцию в религиозных жертвоприно-
шениях. Если нивх дарит другому нивху собаку и ждет за это
какого-то ответного дара, то точно так же он дарит ее горному
человеку-духу или водному человеку-духу. Хотя они и являются
плодом его воображения, он глубоко уверен в их существовании и,
подарив кому-либо из них собаку, естественно, ждет, что каждый из
них, подобно тому как это делают нивхи, ответит на его дар каким-
либо другим даром: пошлет соболей, выдр, медведей, тюленей, рыбу
и т.д." [Крейнович 1973, с. 157].
Принесение жертв часто сопровождалось словесными формулами,
в которых излагалось (уточнялось), чтб именно жертвователь пред-
полагает получить "в ответ". Рассмотренные отдельно, вне двусто-
ронней структуры жертвоприношения, эти формулы-просьбы и
создают впечатление, что весь обряд носит гиластический характер.
Между тем, умилостивление не было центральной идеей жертвопри-
ношения в построенных на межличностных контактах устных куль-
турах, и сибирский материал демонстрирует это очень отчетливо.
Архаические верования 147
Так, Б.О. Долгих специально подчеркивал, что нганасаны назы-
вали жертву тем же словом дядыку, которым обозначалась и доля,
пай, получаемый каждым участником охоты или соседями от
охотника, непосредственно поразившего добычу. "Таким образом,
нганасаны своим божествам давали, собственно говоря, не жертву, а
как бы включали их в круг лиц, получающих долю в добыче"
[Долгих и Файнберг I960, с. 49]. Г.Н. Грачева выделяет у нганасан
три формы жертвоприношения, ни одна из которых не была
собственно умилостивлением. "Само понятие жертвы, - пишет она, -
понималось: 1) как отдача доли, пая в качестве корма, еды...
2) как отдача собачьей или оленьей жизни взамен жизни че-
ловека... 3) как отправка посланника к определенному
нгуо (божеству. - Е.Н.) с просьбой от человека" [Грачева 1977,
с. 227; разрядка моя. - Е.Н.}. Во всех трех формах нетрудно
уловить общее содержание. Его можно определить как "передачу
сообщения" (в данном случае в форме дара), ведущую к "получению
желаемого" (в данном случае в форме ответного дара).
Ориентация приносимого в жертву на того, кому она адресована
(аксиальность такой реплики-дара), ярко проявляется в отмеченном
еще Л.Я. Штернбергом принципе давать духам то, чего нет у них
самих: собак, сахар, ремни, стрелы, но не рыбу - духу воды или мясо
диких животных - духу тайги [см.: Штернберг 1933, с. 55-56 и 70].
Именно домашние животные (олень, конь, собака, свинья и
т.д.) являются основными объектами кровавых жертвоприношений.
Но и бескровные жертвы состоят, как правило, из предметов
домашнего производства, из растительных продуктов или продуктов
животноводства, подвергнутых специальной "культурной" обра-
ботке: варению, квашению, возгонке. Так, у тех же нивхов тра-
диционным ритуальным блюдом был студень мос, приготовленный из
старательно очищенных, протертых, сваренных рыбьих кож, тю-
леньего жира, воды и ягод. То же, вероятно, можно сказать и о так
называемых "прикладах" - кусочках ткани, одежде, бусах, т.е.
предметах, которые, как и собаки у нивхов, использовались при
обменных сделках. Аксиальность, конкретная адресованность таких
жертвоприношений хорошо видна на примере, приводимом Н.В. Лу-
киной: дух-хозяйка дома была однажды обижена тем, что ей сшили
одежду "не по росту" [Материалы 1978, с. 158].
Ориентация приносимого в жертву на ее получателя сказывается
и в том, что оно мелко крошилось, разбрызгивалось, сжигалось и т.д.
Чукчи, например, «почти никогда не оставляли тушу и шкуру
убитого в жертву оленя. Объект жертвоприношения получал лишь
несколько капель крови, "душу" жертвы... Мясо, жир, предназначав-
шиеся для жертвоприношений, очень мелко крошились. Чем мельче,
тем лучше. Дозы, приносимые в жертву, составляли всего несколько
148 Е.С. Новик
граммов, обычно маленькую щепотку. При этом чукчи исходили из
представления, что "там" все это превратится в большое коли-
чество, вполне достаточное, чтобы насытить всех предков, удов-
летворить вполне те существа, которым адресуются жертвы.
Считалось даже недопустимым бросать в жертву крупные куски
мяса и жира, так как "там" они превратятся в очень маленькие и
потому будут приняты как знак неуважения, насмешка, за что
непременно последует наказание. Логика таких рассуждений вы-
текала из представления, будто попадающие в потусторонний мир
предметы приобретают качественные и количественные значения,
противоположные тем, какие у них были на земле» [Вдовин 1977,
с. 162]. На этом примере хорошо видно, что принцип "часть вместо
целого", психологические причины которого пытался вскрыть
Дж. Фрэзер, считая, будто примитивное сознание не различает их
(приведенные И.С. Вдовиным аргументы чукчей показывают, что
такое различение, напротив, имело место), связан с процессом
кодирования сообщения: "часть" - это естественный знак целого,
замена означающего (т.е. имеющего значение "для меня") озна-
чаемым (т.е. имеющим значение "для другого"). Поверья, согласно
которым часть (щепотка, кусочек, капля) превратится "там" в целое
(тушу), показывают, что процесс кодировался осознается как
трансформация, превращение ценности "для себя" в цен-
ность "для других". Разбрасывание множества кусочков можно
связать еще и со стремлением охватить максимальное количество
адресатов, в данном случае - духов-предков, число которых весьма
велико.
Учетом ожиданий (экспектаций) адресата жертвоприношения
можно объяснить и стремление трансформировать передаваемую
вещь так, чтобы она была наиболее адекватна ее получателю.
Отсюда - особые приемы умерщвления жертвенных животных, так
или иначе отличающиеся от обычных приемов забоя. Это могло
быть удушение, разрывание аорты, собирание крови и т.д. Все они
связаны с дыханием и кровью как основными символами ("вмес-
тилищами") "души", т.е. той части, которая, во-первых, наиболее
полно репрезентирует передаваемый объект, и, во-вторых, наиболее
адекватна получателю - духу. Обычай сохранять в целости шкуру,
кости ног, голову с осердием, копыта и т.д. указывает на стремление
обеспечить возможность успешного "перехода" жертвенного жи-
вотного к духам. При соблюдении всех этих ритуальных правил
"отправки" животное трансформировалось в говорящего посредника
между людьми и духами, обеспечивая таким образом и вербальную,
и вещную коммуникацию. Так, у нганасан при жертвоприношении
духу земли Моу-нямы (Земли-матери) «душили молодого домашнего
олененка и оставляли его желудок, сердце и шкуру с головой и
Архаические верования 149
копытами. Голову обращали в западную сторону, так как полагали,
что "голова-то Земли-матери там”. Олениха как бы идет (’’кричит") в
ту сторону, чтобы передать Земле-матери просьбы убивших ее»
[Грачева 1977, с. 218].
В ряде случаев возможность доставки обеспечивалась особыми
устройствами. Таковы жертвенные блюда нивхов, на которых были
вырезаны изображения рыб, тюленей, водоплавающих птиц,
употреблявшихся в обрядах "кормления воды" (см. [Таксами 1971,
с. 207-208]); специальные жертвенные деревья, на которых вывеши-
вались дары, расценивались как "дороги" к духу (см., например,
[Алексеенко 1977, с. 38] и т.д.). Часто и сами эти "средства
доставки" персонифицируются (дух огня, например, считался -
практически у всех народов Сибири - наиболее надежным посред-
ником при передаче жертв духам различных рангов).
Подчеркну, что такая персонификация и в данном случае может
быть поставлена в связь с тем, что пространственные разрывы
между отправителем и получателем преодолеваются при помощи
особых "связных", "посыльных", т.е. также по модели межлич-
ностной коммуникации. Нганасаны, например, удушая жертвенную
собаку или оленя, предварительно кормили их, «чтобы они могли, не
голодая и не обижаясь на своих хозяев, "дойти" до Земли-матери. За
шею привязывали ремень, чтобы Земле-матери было удобно их
взять» [Грачева 1983, с. 32]. На боку оленя выстригали тамгу:
«полагали, что оленя надо обязательно пометить, чтобы было ясно,
чей он или от кого. Каждый раз предполагалось, что кроме прочего
он передает просьбы людей. Собака же хорошо знала хозяина, и
потому ее... не надо было метить, она сама "говорила" от лица
хозяина или коллектива» [Грачева 1977, с. 221].
Нанесение на жертвенное животное особых меток в последнем
примере весьма примечательно. У нганасан помимо тамг, служивших
знаками родовой или семейной принадлежности [см. [Симченко 1965],
существовали и особые знаки, которыми метили оленей, предназ-
начавшихся духам земли, солнца, воды (см. [Грачева 1983, рис. 3 и
4]). Они, таким образом, использовались для обозначения того, в чье
владение животное передавалось, т.е. служили знаками адресата -
духа, которому приносилась жертва. Сходным образом дело
обстояло и с так называемыми "посвященными" или "табуиро-
ванными" животными, которых не убивали, а, отметив тем или иным
способом, оставляли в стаде и соблюдали по отношению к ним ряд
запретов. Меткой могла служить та же тамга, лента определенного
цвета или сама масть животного - в тех случаях, когда различным
духам было принято посвящать животных определенной масти.
Особенно большую роль масть табуированных животных, так
называемых "ызыхов", играла у скотоводов Саяно-Алтая. У хака-
150 Е.С. Новик
сов, например, каждый род "ставил" ызыхов только своей "родовой"
масти [см.: Потапов 1977, с. 170-171]. Эту особенность вновь можно
интерпретировать в коммуникативном ключе: в данном случае масть
животного служит способом указать духу на адресанта обряда и
таким образом спровоцировать духа на ответный дар именно ему.
Посвященное животное оказывалось, таким образом, живым
посредником между тем, в чьем стаде оно находилось, и духами,
которым оно было посвящено17.
Основную же роль в моделировании ответной реакции духа
играли словесные формулы, которые уточняли, чтб именно адре-
санту желательно получить в качестве ответного дара. Так,
нанайцы, обращаясь к духам природы («Большой отец, большая
мать, горы, речки, узнайте, пожалейте»), просили: «Дверь откры-
вайте, чтобы души соболей вышли!» [Штернберг 1933, с. 496-497];
здесь имеется в виду, что промысловые животные - это "сородичи"
или "имущество" духа-подателя, находящиеся в его доме: встре-
ченные в тайге звери - лишь те, которые "посланы" людям духами-
хозяевами (точно так же и в реки идет лишь столько рыбы, сколько
чешуи бросит в воду хозяйка моря).
Итак, и магия, и жертвоприношение представляют собой адресо-
ванные реплики, в которых в качестве знаков используются не
только слова естественного языка, но и вещи, изображения, сос-
тояния или поступки. Общая стратегия этих реплик призвана
обеспечить достижение собственной цели путем передачи партнеру
такой программы, которая побуждает его на ответную реакцию. Но
тактики здесь различны: в магии программа эта строится как выгод-
ная для отправителя, а в жертвоприношении - как выгодная для
получателя.
Реципрокность архаических верований
Итак, сообщение, в какой бы форме оно ни кодировалось, спо-
собно воздействовать на адресата, а те или иные состояния человека
интерпретируются как результат чьего-то - положительного или
отрицательного - воздействия. Жизнь, здоровье, успех в том или
ином начинании, обладание особыми навыками и способностями и
т.д. - все это "дар", имеющий своим источником вполне конкретное
(хотя и воображаемое) "лицо" - духа-подателя этого "дара". Для его
получения необходимо соблюдать правила взаимоотношения с
духами, а в особых случаях - и целенаправленно воздействовать на
них.
Наиболее отчетливо принцип реципрокности (взаимности) просле-
живается в негативных случаях, считающихся следствием нару-
Архаические верования 151
шения правил взаимодействия одной из сторон. На примере магии
мы уже видели, что болезнь или смерть часто насылается колдуном
”в ответ" на плохое с ним обращение. Но если в магии причиной
несчастья выступает конкретное - пусть порой и воображаемое -
лицо, то представления о болезнях и, шире, неблагополучном
состоянии человека или коллектива в целом обычно связывают с
действиями воображаемого противника (о различении "реального",
"иллюзорного" и "воображаемого" партнера см. [Каган 1988,
с. 199-245]) - злого духа, умершего сородича или даже любого
благожелательного духа, спровоцированного на враждебное поведе-
ние ошибочными действиями самого потерпевшего. Последнее
обстоятельство еще раз демонстрирует рефлексивный характер
партнерства: "противником" тот или иной дух становится в том
случае, если его ожидания не учитываются. Пострадавший субъект
считает себя лицом, подвергшимся воздействию другого субъекта,
который, однако, совершил это "в ответ" на неверные действия его
самого.
У якутов, например, "непрокормица, откочевка диких оленей,
перемены в путях их миграций обычно рассматривались как кара за
нарушение каких-либо обычаев и правил" [Гурвич 1977, с. 208].
"Если ребенок рождался мертвым и посиневшим, полагали, что его
ударила Айыысыт (богиня родов. - Е.Н.) за какую-то провинность
матери" [Гурвич 1977, с. 137]. Повсеместно у сибирских народов
распространено поверье, что дети могут болеть, если кто-либо из
семьи обидел огонь: не кормил его, ронял в очаг острые предметы,
лил воду (см., например, [Потапов 1969, с. 365]). Нивхи прямо
говорили Е.А. Крейновичу: "раз человек болеет, значит, он в чем-то
провинился. Просто так человек болеть не будет" [Крейнович 1973,
с. 346].
При такой модели взаимодействия иногда вообще оказывается
трудно выделить в системе верований четкие критерии, по которым
духи делятся на "добрых" и "злых", на что уже не раз обращали
внимание этнографы, изучающие традиционные верования сибир-
ских народов. У тех же нганасан, в частности, "просматривается
такое положение, когда ни к одному из них невозможно применить
крайнюю характеристику доброго или злого. Каждое из них
представляет собой такое же существо, как и сам человек, для
которого важно иметь пищу, жилье, хорошее отношение и т.п.
Поэтому и каждое из существ в разных ситуациях выступает то как
доброе, то как злое" [Грачева 1983, с. 47]. Даже у якутов, в
верованиях которых деление духов на добрых айыы и злых абаасы
достаточно отчетливо, последние "в некоторых случаях делали
людям добро, например, нецел тли больных. Но это совершали они
исключительно ради копыстт ых п бптте^^ь сама по себе
152 Е.С. Новик
служила только поводом для получения приглянувшейся скотины или
вещей" [Попов 1949, с. 261].
Учет позиции партнера, его интересов, его желаний и ожиданий
проявляется в сфере архаических верований с навязчивой постоян-
ностью. Не говоря уже о том, что одной из наиболее распрост-
раненных причин болезни считалось вселение в больного какого-либо
духа, объясняемое его сексуальными притязаниями или потреб-
ностями в пище (например, у якутов: если больна женщина, то
считается, что ее "ест" сын одного из духов, а если болен мужчина -
то дочь, см. [Худяков 1969, с. 321]), особенности поведения духов
связывались и просто с условиями их жизни. Так, у коряков злые
духи нинвиты, обитающие в подземном мире, "посещают жилища
людей ночью, когда в потустороннем мире бывает день и духи
бодрствуют" [Антропова 1976, с. 258].
Большую группу злых духов, стремящихся нанести людям вред,
составляют, как известно, так называемые "заложные покойники",
т.е. души людей, умерших не своей смертью (например, русалки у
славян, см. [Зеленин 1916]). Интересны в этом отношении персонажи
низшей демонологии у бурят. Злыми духами дахабари (от слова
"дахаха" - гоняться, преследовать) становились "души женщин,
умерших в муках от родов, от женских болезней, от дурного
обращения и истязаний мужа, души старух, оставшихся без заботы и
ухода, злых и придурковатых женщин, к которым при жизни
относились плохо". В ответ на плохое обращение эти духи
проникают в дом или юрту и мучают людей. "Души девушек,
умерших неудовлетворенными в любви, делались му-шубуунами -
плохими птицами. Му-ту бу у н имеет вид красивой девушки, губы у
нее в виде клюва спрятаны в рукаве. Является она где-нибудь в
лесу или степи молодому человеку, чтобы склонить его к любви.
Улучив момент, она может проклевать череп и высосать мозг"
[Михайлов 1976, с. 300-301].
С желаниями и ожиданиями духов связаны и представления о так
называемом "избранничестве". С одной стороны, люди, погибшие на
рыбалке или на охоте (т.е. во время активной деятельности, которая
сама расценивалась как взаимодействие с партнером, о чем уже
говорилось), считались избранниками соответствующего духа. Так,
нивх, убитый в схватке с медведем, считался "избранником" горной
женщины-духа, "забравшей" его себе в мужья (см. [Крейнович 1973,
с. 390 и 197-199]). Утонувший становился жителем селения морских
людей, и потому его сородичи в течение трех-четырех поколений
совершали сезонные "кормления" воды, устанавливая таким о< /азом
через посредничество этого "избранника" регулярную "связь” с ду-
хами, посылающими промысловую удачу (см. [Крейнович 1973,
с. 423 и сл.]). У нганасан, когда «человек утонул, замерз во время
Архаические верования 153
пурги, сгорел, был придавлен свалившимся деревом или камнем,
умер во время родов и т.д. ... считалось, что погибшего "забрали"
соответствующая мать или сильный нго (основные категории духов
у нганасан. - Е.Н.)» [Грачева 1983, с. 69]. Более того, наращивание
рангов рефлексии приводит к тому, что «на человека, чудом
спасшегося от утопления, смотрели как на укравшего еду у Воды»
[Грачева 1983, с. 36].
У бурят «человек, пораженный молнией, считался избранником
неба - тэнгри... Душа убитого, по воззрениям бурят, возносилась на
небо, где представлялась тэнгриям и получала право называться
заяном (покровителем. - Е.Н.). Потомки или ближайшие сородичи
такого человека становились людьми особого происхождения -
нэръеэр утха, позволяющего им стать шаманом или шаманкой»
[Михайлов 1976, с. 299].
С другой стороны, люди, которые были на грани смерти, но
выжили, и сами могли стать шаманами. У нганасан, например, факт
спасения от смерти «связывают с желанием соответствующего нго
или матери, чтобы человек стал проводником их воли, так как тот
мир тоже нуждается в "своем человеке" в
людском мире» [Грачева 1983, с. 132; разрядка моя. - Е.Н.].
С этим же обстоятельством сопряжен и комплекс собственно ша-
манского избранничества, когда духи призывают неофита к служе-
нию, часто насильно навязывая ему эту роль. При этом, как и в
приведенных выше примерах о болезни как результате пресле-
дования больного духом противоположного пола, часто акценти-
руются сексуальные мотивы. На этих мотивах было сконцентриро-
вано и внимание Л.Я. Штернберга, который связывает с ними и
институт шаманов превращенного пола, и ритуальный травестизм:
"Внешнее уподобление воплотившемуся в шамана женскому
духу-покровителю является не только актом символическим,
оно важно шаману для того, чтобы духи-помопщики <оказывали
ему повиновение как подлинному воплощению их
повелителя" [Штернберг 1927, с. 30; разр. моя. - Е.Н.].
Таким образом, оба типа избранничества моделируют выделение
особого посредника («своего» в «чужом» мире и «чужого» в «своем»
мире), который и обеспечивает коммуникацию между миром людей и
миром духов.
Сакральные посредники
Здесь мы вплотную подошли к одержимости и шаманству, ил-
люстрирующим коммуникативную природу архаических верований
во всей полноте. Речь идет уже не только о поверьях (например, о
154 ЕС. Новик
болезни как результате вселения духа в тело больного), но именно о
выделении внутри человеческого коллектива особого лица, чьей
функцией или даже обязанностью становится осуществление непос-
редственных контактов с миром духов.
Проблема соотношений между такими фигурами посредников-ме-
диаторов, как шаман, жрец, ясновидец, знахарь (лекарь), колдун
(маг), прорицатель и т.д., уже несколько десятков лет обсуждается в
многочисленных исследованиях. Строгое различие их на эмпири-
ческом уровне действительно затруднительно, а в целом ряде
случаев вообще неосуществимо хотя бы просто потому, что в
конкретных этнических традициях все или по крайней мере часть
этих функций может выполнять одно и то же сакральное лицо, а
комбинации этих функций дают самые разнообразные сочетания.
Например, даже в Сибири - этом, по выражению О. Хюльт-
кранца, "настоящем оплоте шаманизма" [Хюльткранц 1978, с. 53],
наряду с шаманами существовали и другие лица, которые могли
выполнять знахарские и предвещательные функции. Таких прори-
цателей и провидцев иногда прямо относят к шаманам, а иногда
выделяют в особую категорию лиц, чьи функции, впрочем, дейст-
вительно очень близки к шаманским. Таковы кетские колдуны и
лекари бангос (см. [Алексеенко 1981, с. 125]), нганасанские
ясновидцы дючилы (см. [Грачева 1981, с. 81]), нивхские провидцы
тахрто нигвн (см.[Крейнович 1973, с. 456]). У якутов существовала
особая категория людей - ичээн или кёрбюёччю "прозревающий
будущее, знахарь"; их, как и шаманов, приглашали выяснить
причину болезни [Алексеев 1975, с. 124]. Как видим, границы между
шаманами различных категорий и провидцами, гадателями,
врачевателями в ряде случаев весьма зыбки.
Столь же зыбки они между шаманами и музыкантами, певцами,
сказителями, которые считались одержимыми особыми духами,
вдохновляющими их или даже непосредственно поющими их устами.
Являясь хранителями фольклорных традиций и обычаев, эти лица в
ряде случаев занимались также исцелением больных и предска-
заниями. Таковы ар эх та-ку и мантъё-ку васюганско-ваховских
хантов [Кулемзин 1976, с. 47-52 и 60], телеутские кайчи (см. [Ано-
хин 1929, с. 260]), долганские ырыахыт (см. [Попов 1937, с. 18-19;
Попов 1981, с. 262-264]). У эвенков слово нингма означало одно-
временно и "шаманить" и "рассказывать" мифы, сказания, предания,
которые назывались нимнгакан [Василевич 1957, с. 161] и т.д.
Знаменитые сказители и певцы, особо искусные и красноречивые
исполнители ритуальных формул в ряде случаев выполняли не
только знахарские функции: именно они обращались к духам во вре-
мя календарных праздников (как, например, на якутских ысыахах,
Архаические верования 155
когда знаменитые алгысчыты восхваляли верховных божеств,
разбрызгивая кумыс, см. [Эргис 1974, с. 157, 159-162]). Как и
шаманство, приобретение певческого или сказительского дара
связывалось с легендами о "получении" его от знаменитого певца или
божества, о насильном его навязывании и даже о преследовании и
мучениях^ которым подвергается при этом будущий певец. Именно в
такие легенды выливаются и самопризнания сказителей (см.
[Жирмунский 1979]). Легенды эти имели и свои обрядовые параллели
в особых посвятительных ритуалах. Так, у васюганских хантов
желающий научиться игре на музыкальном инструменте панан-юх
уходил на "музыкальный мыс" и жил там в полном одиночестве
двенадцать суток. "В течение этого периода якобы происходило
общение данного лица с духами определенной категории, дающими
музыкальный дар" [Кулемзин 1976, с. 52].
Если же отделить вопрос об эмпирическом совмещении
конкретных функций (таких, как лечение, прорицание, магическое
воздействие, в том числе и словесное, и т.д.) от вопроса о
структурном соотношении между категориями посредников-медиато-
ров, то открывается возможность достаточно отчетливо различить
фигуры "одержимого", "жреца", "заклинателя-экзорциста" и "ша-
мана" как некие логические позиции, эмпирическое заполнение
которых осуществляется в зависимости от способа реализации
посредничества (магический у колдуна, мантический у ведуна,
вербальный у исполнителя словесных формул, акустический у
музыкантов и т.д.) и, далее, от их конкретных функций у того или
иного этноса.
Так, интересная попытка интерпретировать одержимость в свете
теории коммуникации была предпринята С. Уэдли [1976]. Опираясь
на концепцию М. Элиаде, она формулирует различие, сущест-
вующее, по ее мнению, между шаманом и оракулом (прорицателем):
первого предлагается определить как индивида, совершающего в
состоянии экстаза путешествие в мир духов, второго - как
одержимого, в которого вселяется дух, пришедший из иного
мира. Далее автор предлагает различать две фигуры - оракула и
заклинателя-экзорциста: первый одержим духом и прорицает, пока
одержим; второй заставляет духа, вселившегося в больного,
покинуть свою жертву, но сам, в отличие от оракула, не одержим.
Два типа одержимости соотносятся автором с двумя типами духов -
доброжелательных и недоброжелательных: первые вселяются в
оракула, вторые - в жертву. Далее Уэдли привлекает еще и фигуру
жреца, который осуществляет связь "от человека к божеству" и
функции которого дополняют функции оракула, осуществляющего
связь "от божества к человеку". Отсюда делается заключение, что
человек может говорить с духами двумя способами - через двух
156 Е.С. Новик
специалистов - жреца и заклинателя; духи тоже могут говорить с
человеком двумя способами - через оракула или через жертву.
Эта стройная модель оказывается, таким образом, шире кате-
гории одержимости, которой посвящена статья С. Уэдли, поскольку
те, кого автор называет "специалистами", т.е. жрец и заклинатель-
экзорцист, осуществляют коммуникацию, но не одержимы: свои
функции посредников они выполняют, моделируя лишь одну фазу
общения - просьбу и приказ соответственно.
Развивая эти наблюдения, можно заметить, что шаманы, которые
в статье С. Уэдли не рассматриваются, вписываются в пред-
ложенную модель, так как они являются как раз теми специа-
листами, которые одновременно выступают и одержимыми: и
жреческие и заклинательные функции они выполняют, вселив в себя
своих духов-помощников. Более того, шамана можно определить как
лицо, осуществляющее двустороннюю коммуникацию: и "от людей к
духам", и "от духов к людям". Коммуникация именно такого типа
реализуется и во время экстатического путешествия, позволяющего
шаману не только покинуть "этот" мир и достичь "иного", но и найти
там определенного духа и вынудить его тем или иным способом на
ответную реакцию, от которой ставится в зависимость успех
деятельности людей.
Экстаз, таким образом, действительно, как на том и настаивает
М. Элиаде, оказывается отличительной чертой шамана: только он
осуществляет дистанционную коммуникацию, совершая путешест-
вие в мир духов, в то время как другие специалисты (жрец,
экзорцист и оракул, одержимый духом) реализуют лишь одну из
партий в диалоге. Однако в этом случае придется признать, что и
одержимость (как "принятие роли" партнера, см. [Сникала 1978,
с. 56-64]) нельзя считать чем-то чуждым шаманскому комплексу,
поскольку само противопоставление "экстаз/одержимость" снимается
внутри структуры двусторонней коммуникации (ср. многолетнюю
дискуссию о целесообразности различать эти понятия, вспыхнувшую
с новой силой после выхода книги М. Элиаде; обзор см. [Ревуненкова
1980, с. 41-56]).
Возможно, именно потому что шаман осуществляет связь и "от
людей к духам", и "от духов к людям", он оказывается универ-
сальным медиатором, совмещая в себе черты жреца, лекаря-экзор-
циста, оракула-прорицателя и даже жертвы, одержимой духами
(последнее наиболее четко проявляется в шаманских посвящениях).
♦ ♦ ♦
Итак, в нашей, ориентированной на письменность культуре (а все
мы, в общем-то, принадлежим именно к ней) существует отчетливое
Архаические верования 157
представление, что передавать и получать сообщение можно с
помощью специальных, часто искусственно созданных устройств, но
зато менее отчетливо осознается то воздействие, которое ока-
зывают эти сообщения. В устных культурах, где не проводится
строгой границы между визуальными, акустическими, вещными и
т.д. средствами кодирования информации, напротив, имеет место
острая реакция на прагматическую сторону коммуникативных про-
цессов, на их побуждающий на ответ эффект. Если разделенные во
времени и пространстве носители письменной культуры, стремясь
преодолеть эти разрывы при помощи изобретения все новых и новых
технических средств, зачастую оказываются в ситуации, когда
развитие косвенных форм коммуникации препятствует непос-
редственному общению даже в тех случаях, когда между комму-
никантами нет никаких разрывов, то в устных культурах преодо-
ление пространственно-временных разрывов происходит по модели
межличностной коммуникации и потому любая, в том числе и не
знаковая, реальность воспринимается как реплика, несущая ожи-
дания своего отправителя.
Здесь не место обсуждать преимущества или недостатки этих
двух ситуаций - обе они порождают свои фантомы: идущий извне
информационный шум заглушает живые голоса ближних в сов-
ременных индустриализованных обществах, звучащие изнутри
голоса духов и божеств оглушают Лодей традиционных обществ
своими навязчивыми требованиями.
ПРИМЕЧАНИЯ
^Как заметил В. Тэрнер, работа мифологического мышления, принципы которой
столь блестяще выявил К. Леви-Строс, не сводится к классификации и анализу: «Хотя
Леви-Строс уделяет некоторое внимание роли ритуала и мифологическим символам
как стимуляторам чувства и желания, он не развивает данную линию мысли с той же
полнотой, с какой он делает это в отношении символов как факторов познания ...
Символы и отношения между ними ... - не только ряд познавательных классификаций
для упорядочивания вселенной ндембу. Они, кроме того, и это, вероятно, не менее
важно, - ряд запоминающих механизмов для пробуждения, направления и обуздания
могучих эмоций, таких, как ненависть, страх, любовь и горе. Они также целе-
устремленно снабжаются информацией, имеют "волевой** аспект. Короче, личность
целиком, а не только "мысль" ндембу экзистенциально вовлечена в дела жизни и
смерти» [Тэрнер 1983, с. 135].
23десь речь идет в первую очередь о "симпрактическом" контексте (см. [Лурия
1979, с. 33 и 38-39]), когда лишь часть информации кодируется вербальными
символами, а часть - невербальными, взятыми из непосредственно данной ситуации.
Надо особо отметить, что, как подчеркивал А.Р. Лурия, "эмансипация слова" от
такого симпрактического контекста и переход к языку как "синсемантической системе
... кодов, которые можно понимать, даже не зная ситуации", достигается лишь в пись-
менном языке (см. [Лурия 1979, с. 33]). На использование в знаковой деятельности
средств, находящихся "под рукой", указывал, как известно, и К. Леви-Строс. В дан-
158 Е.С. Новик
ном случае заслуживает внимания и тот факт, что субстанциальные различия знаков
оказываются несущественными именно в условиях прямой коммуникации: одно и то
же сообщение может быть передано разными кодами за счет одновременной работы
естественных каналов - органов чувств человека.
^Понимание "высказывания** как единицы коммуникативного воздействия отли-
чается, таким образом, от лингвистического понимания "высказывания** как пропо-
зициональной функции с ее постоянными и переменными компонентами, позволяю-
щими различать "истинные" и "ложные" высказывания, и т.д., тем более что
сторонники семиотики как теории коммуникации «находят "высказывания" и в других
знаковых системах, например, считают, что знак уличного движения, воспрещающий
проезд, есть высказывание "Проезд воспрещен"» [Степанов 1983, с. 6]. К этой точке
зрения близка и позиция Ч. Морриса: «Даже знаки языка имеют много других
применений помимо сообщения подтверждающих пропозиций: они могут быть
многократно использованы для управления своим собственным поведением или
поведением других людей, употребляющих знаки, путем производства некоторых
интерпретанг. К этому типу относятся приказания, вопросы, просьбы и призывы и в
значительной степени знаки, используемые в литературе, живописи, скульптуре.
Эффективное использование знаков для эстетических и практических целей может
потребовать весьма существенных изменений по сравнению с наиболее эффективным
использованием тех же самых знаковых средств для целей науки» [Моррис 1983,
с. 71].
4Об "идентификации" как единстве "проекции" и "интроекции" и об использовании
этого психологического механизма при формировании "Я" и в принятии социальных
ролей см. [Сарджвеладзе 1978, с. 487]. Применение этих психологических моделей к
нашему материалу требует специальной разработки.
53десь имеется в виду концепция "конфликтующих структур" [Лефевр 1974],
являющаяся развитием классической теории игр. Эта концепция предполагает
понимание конфликта как "конфликта мыслящих" и потому предлагаемая в ней логика
рефлексивных игр, и в частности такой ее раздел, как "рефлексивное управление",
представляется чрезвычайно перспективной для анализа способов самоорганизации
человеческого коллектива. Рассмотрение коммуникации как надстраивающейся над
рефлексией предпринято в работе [Вартазарян 1981].
лингвистике последнюю связывают с так называемой "иллокутивностью", т.е. с
целевой установкой говорящего. Подчеркну, что кроме императивных конструкций
типа "приказание", "просьба", "призыв" и т.д., т.е. эксплицитных выражений желаний,
высказывание может оказаться еще и выражением имплицитных ожиданий, когда
адресант в расчете на ответ адресата заранее моделирует себя в качестве будущего
адресата.
^Подчеркну, что именно двусторонность межличностной коммуникации выводит ее
за рамки собственно вербальной: один из двух тактов коммуникативного взаимо-
действия может иметь вербальную форму (например, просьба), а "ответ" -
невербальную. И напротив, вместо "просьбы" адресант может предложить партнеру
"подарок", который в качестве первого такта оказывается "кредитом" и провоцирует
во втором (ответном) такте "платеж", "услугу", но и "славословие" как выражение
признания престижа кредитора. Обозначение таких символических интеракций как
"высказываний" призвано подчеркнуть их коммуникативный характер. В дальнейшем,
впрочем, вместо уместного здесь, но весьма громоздкого выражения "символическая
интеракция'* будет употребляться более привычный термин "коммуникация".
^Эскимосы, например, считают, что животные "умнее" людей. Они знают все,
включая человеческие мысли. Есть некоторые вещи, в которых они нуждаются н
которые они могут получить только от людей. Тюлени и киты, например, живут в
соленой воде, поэтому они всегда испытывают жажду. У них нет никакой воз-
можности получить пресную воду, кроме как у людей. Поэтому тюлень позволит себя
Архаические верования 159
убить тому охотнику, который в благодарность даст ему питьевой воды. Вот почему,
когда тюленя вытаскивают на берег, ему всегда вливают в пасть глоток пресной
воды. Если охотник пренебрежет этим обрядом, все остальные тюлени об этом
узнают, и ни один тюлень больше не позволит убить себя этому охотнику ... Они
предпочтут отдать себя в руки другого охотника, про которого они знают, что на него
можно рассчитывать в отношении получения пресной воды для питья. Некоторые лю-
ди столь внимательны ко всем желаниям тюленей, что тюлени даже в драку не всту-
пают между собой, торопясь отдаться в руки этим людям» [Леви-Брюль 1937, с. 100].
четом повадок зверя обусловлено и устройство ловушек, весьма остроумных и
часто рассчитанных именно на ’’ответное поведение** животного. Коряки, например,
устанавливая петлю на медведя, подвешивали ее на дерево вместе с бревном: "Пы-
таясь вырваться из петли, медведь отталкивал мешавшее ему бревно, которое било
по зверю. Рассвирепев от удара, он нападал на бревно и вновь получал удары до тех
пор. пока не обессилевал окончательно" [Антропова 1971, с. 41].
10Возможно, именно это обстоятельство позволит снять наболевший вопрос о том,
можно ли считать шаманизм особой формой религии, коль скоро "основные признаки
шаманизма не меняются, если на место одной религии поставить другую" [Реву-
ненкова 1980, с. 233].
11 Необходимо, конечно, иметь в виду, что украшения, детали прически и т.д. мог-
ли выполнять и роль фетиша - оберега, амулета.
^Как подчеркивал А.Р. Лурия, «наряду со значением каждое слово имеет смысл,
под которым мы имеем в виду выделение из этого значения слова тех его сторон,
которые связаны с данной ситуацией и аффективным отношением субъекта. Именно
поэтому современные психолингвисты с полным основанием считают, что если
"референтное значение" является основным элементом языка, то "социально-
коммуникативное значение", или "смысл", является основной единицей коммуникации
(в основе которой лежит восприятие того, что именно хочет сказать
говорящий икакие мотивы побуждают его к высказыванию) и вместе с тем
основным элементом живого, связанного с конкретной аффективной ситуацией
использования слова субъектом... Итак, в слове наряду со значением, включающим
предметную отнесенность и собственно значение, т.е. обобщение, отнесение
предмета к известным категориям, имеется всегда индивидуальный
смысл, в основе которого лежит преобразование значений, выделение из числа связей,
стоящих за словом, той системы связей, которая актуальна в данный момент"» [Лурия
1979, с. 54]. Показательно, однако, что в нашем случае само "обобщение", "отнесение
к общей категории" (в данном случае к категории сингкон и проч.) идет как раз по
линии "социально-коммуникативных значений", т.е. по аффективно окрашенным
отношениям коммуницирующих субъектов, каждый из которых имеет свои желания и
мотивы по отношению к другому. Возможно, что дело здесь в том, что для устной
культуры, как уже говорилось, межличностная коммуникация актуальна не
только "в данный момент".
13Ср.: "Обычно знаки замещают означаемые объекты только до известной
степени; но если по тем или иным причинам интерес в самих объектах не может быть
удовлетворен, то место объектов все больше и больше начинают занимать знаки.
Такое движение очевидно уже в эстетических знаках, но интерпретатор не смешивает
по-настоящему знак с объектом, который знак означает: описанный или нарисованный
человек может, разумеется, быть назван человеком, но при этом более или менее
четко осознается статус знака - это только нарисованный или описанный человек.
При использовании сигналов в магии различие проводится менее чётко; действия со
знаковым средством заменяют действие с трудно уловимым объектом. При некоторых
же разновидностях безумия различие между десигнатом и денотатом исчезает вовсе:
мучительно-беспокойный мир реально существующего отодвигается в сторону, и
неудовлетворенные интересы получают, насколько это возможно, удовлетворение в
сфере знаков" [Моррис 1983, с. 73].
160 Е.С. Новик
14O психофизиологическом механизме смерти от колдовства см. [Леви-Строс 1985,
с. 147-148]; см. также [Грачева 1983, с. 73].
15Так, койка считались и камень странной формы, используемый в качестве
фетиша, и почитаемые скалы и валуны, которым приносились жертвы и которые
считались "детьми" Земли-матери (см. [Грачева 1977, с. 219-220; Симченко 1976,
с. 254]; койка назывались и табуированные (т.е. посвященные какому-либо духу)
олени; стволы, которыми обкладывали очаг, являлись огонь-койка, и их подкарм-
ливали точно так же, как и саму Огонь-мать; связки койка могли образовывать целые
семьи с "дочерьми", "сыновьями", их "мужьями" и "женами" и т.д. (см. [Грачева 1983,
с. 39-40]).
16Надо сказать, что последующие дискуссии на эту тему мало что прибавили к
хору разноречивых и часто несовместимых друг с другом мнений (см. дискуссию в
«Current Anthropology», в результате которой возникло предложение вообще отка-
заться от понятия "магия" как псевдонаучного (см. [Уэкс М. и Уэкс Р. 1963]).
17Любопытной параллелью можно считать хакасские рисунки на камнях, анализ
которых был осуществлен Л.Р. Кызласовым и Н.В. Леонтьевым: на крупах домашних
животных, которые, по мнению авторов, изображают ызыхов, воспроизводились
тамги определенной семьи, "поставившей" ызыха, причем на некоторых из животных
"едут" антропоморфные духи, которым эти животные посвящены (см. [Кызласов и
Леонтьев 1980, с. 71 и табл. 15^0,16-41, 17-45, 24-68, 34, 37, 39]).
I
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АвериНцев 1981. - Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература. -
Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981.
Алексеев 1975. -Алексеев НА. Традиционные религиозные верования якутов в XIX -
нач. XX в. Новосибирск, 1975.
Алексеенко 1977. -Алексеенко ЕА. Культы у кетов. - Памятники культуры народов
Сибири и Севера. Л., 1977 (СМАЭ. Т. 33).
Алексеенко 1981. - Алексеенко ЕА. Шаманство у кетов. - Проблемы истории
общественного сознания аборигенов Сибири. Л., 1981.
Анисимов 1958. - Анисимов А.Ф. Религия эвенков в историко-генетическом изучении
и проблемы происхождения первобытных верований. М. - Л., 1958.
Анохин 1929. - Анохин А.В. Душа и ее свойства по представлению телеутов. -
СМАЭ. Т. 8. Л., 1929.
Антропова 1971. -Антропова В.В. Культура и быт коряков. Л., 1971.
Антропова 1976. - Антропова В.В. Представления коряков о рождении, болезни и
смерти. - Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и
Севера. Л., 1976.
Байбурин 1981. - Байбурин А.К. Семиотический статус вещей и мифология. -
Материальная культура и мифология. Л., 1981.
Байбурин и Левинтон 1984. - Байбурин А.К., Левинтон Г.А. К проблеме «у
этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов». - Фольклор и
этнография. Л., 1984.
Бахтин 1963. - Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1974.
Бахтин 1979. - Бахтин ММ. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Богораз 1939. - Богораз В.Г. Чукчи. Ч. 2. Л., 1939.
Брудный 1972. - Брудный АА. Семантика языка и психология человека. О соот-
ношении языка, сознания и действительности. Фрунзе, 1972.
Брудный 1974. - Брудный А А. Знак и общение. Фрунзе, 1974.
Брудный 1978. - Брудный А А. Бессознательные компоненты процесса понимания. -
Бессознательное. Природа, функции, методы исследования. Т. 3. Тб., 1978.
Архаические верования 161
Вартазарян 1981. - Вартазарян С.Р. К описанию процессов коммуникации. -
Семиотика и проблемы коммуникации. Ер., 1981.
Василевич 1957. - Василевич ГМ. Древние охотничьи и оленеводческие обряды
эвенков. - СМАЭ. Т. 17. Л., 1957.
Василевич 1969. - Василевич Г.М. Эвенки. Историко-этнографические очерки (XVIII -
нач. XX в ). Л., 1969.
Вдовин 1977. - Вдовин И.С. Религиозные культы чукчей. - Памятники культуры
народов Сибири и Севера. Л., 1977 (СМАЭ. Т. 33).
Грачева 1976. - Грачева Г.Н. Человек, смерть и земля мертвых у нганасан. -
Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л.,
1976.
Грачева 1977. - Грачева ГЛ. Традиционные культы нганасан. - Памятники культуры
народов Сибири и Севера. Л., 1977 (СМАЭ. Т. 33).
Грачева 1981. - Грачева Г.Н. Шаманы у нганасан. - Проблемы истории
общественного сознания аборигенов Сибири. Л., 1981.
Грачева 1983. - Грачева ГН. Традиционное мировоззрение охотников Таймыра (на
материале нганасан XIX - начала XX в.). Л., 1983.
Гурвич 1977.-Гурвич И.С. Культура северных якутов-оленеводов. М., 1977.
Диков 1971. - Диков Н.Н. Наскальные загадки древней Чукотки. Петроглифы
Пегтымеля. М., 1971.
Долгих и Файнберг I960. - Долгих Б.О., Файнберг Л.А. Таймырские нганасаны. -
Современное хозяйство, культура и быт малых народов Севера. М., 1960.
Дэвидсон 1975.-Дэвидсон Б. Африканцы. Введение в историю культурщ. М., 1975.
Жирмунский 1979. - Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение Востока и
Запада. Л., 1979.
Зализняк, Иванов, Топоров 1962. - Зализняк АА., Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н.
О возможности структурно-типологического изучения некоторых моделирующих
семиотических систем. - Структурно-типологические исследования. М., 1962.
Зеленин 1916. -Зеленин Д.К. Очерки русской мифологии. Ч. 1. Пг., 1916.
Иванов В. 1976. - Иванов Вяч. Вс. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976.
Иванов С. 1975. - Иванов С.В. Древние представления некоторых народов Сибири о
слове, мысли и образе. - «Страны и народы Востока». Вып. 17. Кн. 3. М., 1975.
Иванов С. 1977. - Иванов С.В. О детских «амулетах» нанайцев. - Памятники
культуры народов Сибири и Севера. Л., 1977 (СМАЭ. Т. 33).
Каган 1988. - Каган М.С. Мир общения. Проблема межсубъектных отношений. М.,
1988.
Крейнович 1973. - Крейнович ЕА. Нивхгу. Загадочные обитатели Сахалина и Амура.
М., 1973.
Кулемзин 1976. - Кулемзин В.М. Шаманство васюганско-ваховских хантов (конец
XIX - нач. XX в.). - Из истории шаманства. Томск, 1976.
Кызласов и Леонтьев 1980. - Кызласов Л.Р., Леонтьев Н.В. Народные рисунки
хакасов. М., 1980.
Леви-Брюль 1930. -Леви-БрюльЛ. Первобытное мышление. М., 1930.
Левн-Брюль 1937. - Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении.
М., 1937.
Леви-Строс 1980. -Леви-Строс К. Структурная антропология (сборник переводов).
М., 1980.
Левн-Строс 1985. -Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985.
Лефевр 1974. -Лефевр В. Конфликтующие структуры. М., 1974.
Лурия 1979. -Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1979.
Материалы 1978. - Материалы по фольклору хантов. Томск, 1978.
Мелетинский 1972. - Мелетинский Е.М. Первобытные истоки словесного искусства. -
Ранние формы искусства. М., 1972.
Мелетинский 1976. - Мелетинский ЕМ. Поэтика мифа. М., 1976.
11 270
162 Е.С. Новик
Михайлов 1976. - Михайлов Т.М. Анимистические представления бурят. - Природа и
человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976.
Моррис 1983. - Моррис Ч.У. Основания теории знаков. - Семиотика. М., 1983.
Новик 1984. - Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. Опыт сопостав-
ления структур. М., 1984.
Остин 1986. - Остин Дж. Л. Слово как действие. - Новое в зарубежной лингвистике.
Вып. XVII. Теория речевых актов. М., 1986.
Островский 1984. - Островский А.Б. Анализ мифов К. Леви-Строса: первобытное
мышление и этнографический контекст. - Советская этнография. 1984, № 5.
Пелих 1980. - Пелих ГН. Материалы по селькупскому шаманству. - Этнография
Северной Азии. Новосибирск, 1980.
Попов 1937. - Попов А А. (сост.). Долганский фольклор. Л., 1937.
Попов 1949. - Попов А А. Материалы по верованиям якутов Вилюйского округа. -
СМАЭ. Т. 11. Л., 1949.
Попов 1981. - Попов А А. Шаманство у долган. - Проблемы истории общественного
сознания аборигенов Сибири. Л., 1981.
Попов 1984. - Попов А А. Нганасаны. Социальное устройство и верования. Л., 1984.
Пятигорский 1962. - Пятигорский AM. Некоторые общие замечания относительно
рассмотрения текста как разновидности сигнала. - Структурно-типологические
исследования. М., 1962.
Ревуненкова 1980. - Ревуненкова Е.В. Народы Малайзии и Западной Индонезии
(некоторые аспекты духовной культуры). М., 1980.
Сарджвеладзе 1978. - Сарджвеладзе Н.И. О балансе проекции и интроекции в
процессе эмпатического взаимодействия. - Бессознательное. Природа, функции,
методы исследования. Т. 3. Тб., 1978.
Сникала 1978. - Siikala A.-L. The rite technique of the Sibirian shaman (FF
Conununications, № 220). Helsinki, 1978.
Симченко 1965. - Симченко Ю.Б. Тамги народов Сибири XVII века. М., 1965.
Симченко 1976. - Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии.
М., 1976.
Смоляк 1976. - Смоляк А.В. Представления нанайцев о мире. - Природа и человек в
религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976.
Соколова 1971. - Соколова ЗЛ. Пережитки религиозных верований у обских угров. -
Религиозные представления и обряды народов Сибири в XIX - нач. XX в. Л., 1971
(СМАЭ. Т. 27).
Степанов 1983. - Степанов Ю.С. В мире семиотики. - Семиотика. М., 1983.
Таксами 1971. - Таксами Ч.М. К вопросу о культе предков и культе природы у
нивхой. - Религиозные представления и обряды народов Сибири в XIX - нач. XX в.
Л., 1971 (СМАЭ. Т. 27).
Таксами 1975. - Таксами Ч.М. Основные проблемы этнографии и истории нивхов. Л.,
1975.
ТМС - Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Т. 1. Л., 1975; т. 2. Л.,
1977.
Токарев 1959. - Токарев С А. Сущность и происхождение магии. - Исследования и ма-
териалы по вопросам первобытных религиозных верований. М., 1959 (ТИЭ. Т. 51).
Токарев 1964. - Токарев С А. Ранние формы религии и их развитие. М., 1964.
Топоров 1965. - Топоров ВН. К семиотике предсказаний у Светония. - Труды по
знаковым системам. 2. Тарту, 1965.
Тэрнер 1983. - Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983.
Уэдли 1976. - Wadly S. The Spirit «Rides» or the Spirit «Comes». Possession in a North
Indian village. - The realm of the extra-human: agents and audiences. The Hague - Paris,
1976.
Уэкс M. и Уэкс P. 1963. - Wax M., Wax R. The notion of magic. - Current Anthropology.
Chicago, 1963, vol. 4, № 5.
Архаические верования 163
Франкфорты 1984. - Франкфорт Г., Франкфорт ГЛ. Миф и реальность. -
Г. Франкфорт, ГЛ. Франкфорт, Дж. Уилсон, Т. Якобсен. В преддверии филосо-
фии. Духовные искания древнего человека. М.» 1984.
Францев 1940. - Францев Ю.П. Фетишизм и проблема происхождения религии. М.,
1940.
Худяков 1969.-Худяков ИЛ. Краткое описание Верхоянского округа. Л., 1969.
Хюльткранц 1978. -Hultkranz A. Ecological and phenomenological aspects of shamanism. -
Shamanism in Siberia. Budapest, 1978.
Цинциус 1971. - Цинциус В.И. Воззрения негидальцев, связанные с охотничьим
промыслом. - Религиозные представления и обряды народов Сибири XIX - нач.
XX в. Л., 1971 (СМАЭ. Т. 27).
Шибутани 1969. - Шибутани Т. Социальная психология. М.» 1969.
Штернберг 1927. - Штернберг ЛЯ. Избранничество в религии. - Этнография. 1927,
Ml.
Штернберг 1933. - Штернберг ЛЯ. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны.
Хабаровск, 1933.
Элиаде 1987. - Элиаде М. Космос и история. М., 1987.
Эргис 1974. - Эргис ГУ. Очерки по якутскому фольклору. М., 1974.
ВЯ. ПЕТРУХИН, М.С. ПОЛЯНСКАЯ
О КАТЕГОРИИ ’’СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО'’
В ПЕРВОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЕ
Любое определение религии, в том числе первобытной, так или
иначе включает понятие "сверхъестественного”. При этом едва ли
не самым существенным оказывается то, что под ’’сверхъестест-
венным” понимает исследователь, а что - носитель традиции. Об-
щим местом остается утверждение о "различии между магией и
верой в бога, мифологическим и религиозным сознанием”, из которых
"первое еще не способно увидеть разницу между естественным и
сверхъестественным” [Гулыга 1975, с. 19-20]. Несмотря на то что
это различие основано еще на гегелевском понимании "естественной
религии”, следует признать реальной опасность того, что описанное
многими исследователями первобытной религии "представление о
единой безликой сверхъестественной силе (мана, оренда, ваканда...
уйвель, крамат и т.п. в языках различных народностей) представ-
ляет собой экстраполяцию современных религиозно-философских ка-
тегорий на примитивное сознание, но отнюдь не свойственно ему”
[Левада 1965, с. 72; ср.: Токарев 1979, с. 88].
Эту опасность осознавал уже Л.Леви-Брюль, введший понятие
"аффективная категория сверхъестественного" и выступивший про-
тив умозрительных построений сторонников анимистической (и пре-
анимистической) теории [Леви-Брюль 1937, с. 91 и сл.], причем утри-
рованная "аффективность" категории сверхъестественного в концеп-
ции Леви-Брюля призвана была опровергнуть представления "ани-
мистов” о "дикаре-философе”: сверхъестественное выводилось им не
из умствований первобытного человека, а из стремления к мисти-
ческой сопричастности непознаваемым явлениям. Критики Леви-
Брюля указывали на противоречивость этой позиции; состояние
аффекта, как правило, ограничивалось (или специально вводилось)
ритуалом, рационализировавшим аффект; отношение же к "сверхъ-
естественному", в частности запрет на поедание тотемического жи-
© ВЛ. Петрухин, 1994
О категории “сверхъестественного” 165
вотного, само по себе не содержит ничего сверхъестественного и
мистического, а лишь отмечает особо важные объекты примитивной
тотемической классификации [Леви-Строс 1966, с. 102-103]. Правда,
происхождение большинства запретов объясняется информаторами
как введение первопредков, т.е. имеющее "сверхъестественную"
санкцию, но, опять-таки, здесь "сверхъестественное", прежде все-
го, - понятие исследователя.
Некоторую возможность уравновесить экстраполирующий взгляд
"извне" взглядом "изнутри", с точки зрения носителя традиции, дают
работы исследователей, принадлежащих к формирующимся нацио-
нальным школам этнографии. Так, африканский (ачоли) религиовед
Окот п’Битек критикует европейские представления о понятии джок
у нилотов, несводимом к традиционным для европейской этнографии
(и культуры) понятиям "дух, бог" (или "высшее существо" у
сторонников теории прамонотеизма). Джок, по Битеку, является "ро-
довым понятием" (аналогичным англ. God), но при этом нилоты
«всегда имеют в виду определенного джока со своим особым именем,
т.е. конкретный образ, а не какую-то неопределенную "силу"»; джок
действительно может обозначать конкретного духа или явление
(например, духа болезни или саму болезнь), вредоносную силу кон-
кретного колдуна, необычный природный объект (камень, упавший с
неба), фантастическое существо, духов предков и т.п. [Битек 1979,
с. 68-76]. "Для нилотов важны не философские мудрствования, а
динамические функции", - пишет африканский исследователь. Вмес-
те с тем из его же описания явствует, что не столько конкретное
имя собственное "указывает точно, к какой категории принадлежит
определенный джок", сколько, напротив, понятие джок объединяет
конкретные феномены в категорию "сверхъестественного" в духе
примитивных классификаций. Конечно, противопоставление "афри-
канского" и "европейского" в данном случае относится к двум подхо-
дам к традиции - "изнутри" и "извне", точнее, мифологическому и
научному. Для собственно "европейской" аналогии джоку достаточно
привести пример древнегреческого Зевса: имя восходит к праиндо-
европейскому обозначению ясного неба и его божества [МНМ,
с. 463]; Зевс Олимпийский остается по преимуществу небесным бо-
жеством - громовержцем, верховным богом, однако его эпитеты
(Zeus Chtonios - "Зевс хтонический", покровитель земли, ср. "Зевса
преисподней" - Аида; Zeus Horkios - "Зевс, охраняющий клятву,
закон"; Zeus Xenios - покровитель чужестранцев и т.д.) свиде-
тельствуют о дифференциации функций, при которой Зевс превра-
щается в божество par excellence, сверхъестественного покровителя
всех сторон общественной жизнедеятельности. Уже М. Мосс и
А. Юбер, описывая магию (1902 г., см. [Мосс 1950]), основой кото-
рой они считали веру в сверхъестественную силу - ману, приводили
166 В Я. Петрухин, М.С. Полинская
аналогии "первобытным” представлениям о категории сверхъ-
естественного, в том числе др.-греч. physis, др.-инд. брахма и т.п.
Описание Битеком понятия джок в целом совпадает с описаниями
этнографами упомянутых выше аналогичных понятий типа мана,
аренда, маниту и т.п., в том числе и на африканском материале (ср.
имама у руанда, кути у нупе, акомбо у тив, ориша у йоруба [Тра-
диционные религии 1986, с. 220, 267, 273, 340], еодо, или еудо, у
народов группы фон [Комэр-Сильвен 1938, с. 15 и сл.; Метро 1959,
с. 27]. Нарицательным обозначением всех аналогичных понятий в
научной литературе стало австронезийское слово мана, введенное в
широкий обиход Р. Кодрингтоном [Кодрингтон 1914, с. 117-126,191-
210]. Термин приобрел популярность, а вместе с ней и большое число
толкований; в недавнее время даже предлагалось заменить его
более однозначным словом, например "сила” (power) (ср. [Лейн 1965,
с. 279])1.
Во избежание неадекватных толкований и экстраполяции при
рассмотрении подобных понятий следует уделить особое внимание
семантическому анализу лексики, относящейся к сверхъестест-
венному, а также контексту, присущему этой лексике собственно в
фольклорных произведениях, с учетом реконструированных форм,
характеризующих относительную хронологическую глубину и сви-
детельствующих об отсутствии европейского культурного влияния.
В данной работе использован преимущественно австронезийский
материал.
Слово мана восходит, по-видимому, к правосточноокеанийскому
уровню (*шапа) (ср., однако, этимологию в [Капелл 1938]). Реф
лексы *mana во всех восточноокеанийских языках имеют устойчивое
значение ’’сверхъестественная сила, потенция”. Ср. (подчеркнем, что
здесь и далее через точку с запятой даются скорее разные аспекты
одного общего значения, нежели отдельные значения) мота mana
"незримая сила, мощь, могущество; сила влияния, воздействия на
кого-либо"; ароси mwaana "удача; сила2"; саа, улава, ареаре папа-
maga/nanamanga (с метатезой пата < *тапа, редупликацией первого
слога и субстантивным суффиксом =(n)ga) "могущество; сила, связан-
ная со сверхъестественным; необычайное событие; (поздн.) чудо (в
том числе чудо в христианском смысле)", причем последнее значение,
несомненно, развивается в силу понимания чуда как проявления
маны-, тонганск. mana "сверхъестественное событие или действие,
сверхъестественная сила, влияние сверхъестественного; сверхъес-
тественные обстоятельства"; туамоту mana "необычное событие;
сверхъестественная, противоположная человеку сила; мощь; сила
колдовства; преодоление; (поздн.) чудо (в христианском смысле)" и
т.д. Компонент maan=/m££n=/mwen= входит во многие астральные
названия у микронезийцев (ср. [Гудинаф 1953]). У меланезийцев
О категории "сверхъестественного" 167
тумлео при поднесении даров ’’своему” духу произносится следующий
заговор: (tjo-wuep, tjo-wuep) раар mana-en, aphs mana-en (междо-
метие, 2 p.), «рыба - мана, саго - мана» [Паркинсон 1979, с. 97]. (Об
аналогах понятия мана у некоторых других меланезийских народов
см., например, [Кодрингтон 1914, с. 191 и др.; Тонкинсон 1981,
с. 260]). Ср. также [Хокарт 1914; 1922].
Этимология слова мана неясна. Можно высказать гипотезу о свя-
зи этого слова со словами, обозначающими бессчетное множество,
изобилие, бесконечное число (ср. западнополинезийское mano/mano-
mano ’’десять тысяч, множество” - с той же структурой значения,
что у др.-русск. тьма ’’десять тысяч; множество”; ароси mwana
"много; более десяти"). Забегая вперед, заметим, что понятия мана и
табу противопоставлены друг другу как два аспекта сверхъес-
тественного; в связи с этим интересна следующая лексическая пара
в меланезийском языке лау (о-в Малаита): mole/mola "много,
бесконечно много” -fa mola "снять табу" (fa ”(с)делать").
В Меланезии, в особенности в Западной, мана устойчиво ассо-
циируется с (сакральным) жаром и светом (ср. [Баль 1966, с. 205;
Кодрингтон 1914, с. 191; Лейн 1965, с. 258-260,279; Тонкинсон 1981,
с. 260] и см. ниже о гавайском топониме Mana); в ряде случаев слово
для маны вытесняется соответствующим наименованием жара или
света. Сходная ассоциация понятий наблюдается и у некоторых
папуасских народов (ср. [Баль 1966, с. 205; Вильямс 1940, с. 111]).
Мана, будучи "безличной и неотчуждаемой силой", как правило,
считается присущей конкретному объекту-фетишу, персонажу, духу
или человеку, особенно могущественному вождю. Однако действие
маны охватывает все социальные (включая и религиозные) связи
коллектива, в том числе имущественные -мана распространяется на
имущество вождя, его дары и т.п. Для понимания функции маны в
этих связях существенно соотношение понятия мана с другим
важнейшим понятием в рамках категории сверхъестественного -
табу.
Слово табу имеет праавстронезийское происхождение *ta(m)buh,
ср. правосточноокеанийское *ta(n)bu, праполинез. *tapu. Реконструи-
руемые значения: 1) "запретное; запрет", 2) "оскверненное, профани-
рованное (из-за нарушения табу)"; ср. также мальгашск. tabaka
"оскверненный, запятнанный, профанированный". Интересны неко-
торые случаи развития значения: вост.-фиджийск. tambu "священный;
неподвластный человеческим законам; необычайный"; нггела zabu
"незримый"; ароси zabu "(междометие) не смей; священный"; тон-
ганск. tapu «(глагол) быть запретным; быть незаконным; быть свя-
щенным; (имя существительное) запрет; сакральность; фетиш, ре-
ликвия; знак на стволе дерева, указывающий на запретность этого
дерева». Компонент tapu/tabu/zabu входит в состав имен некоторых
168 ВЯ. Петрухин, М.С. Полинская
сверхъестественных существ, причем эти имена распространены
повсеместно в Океании (ср. полинезийск. Tapukitea/Tapu'itea и др.
"планета Венера", букв, "табу для видения"; ср. самоанский и
тонганский мифы о происхождении этой планеты [Мифы, предания и
сказки 1986, с. 120, 190]).
Интересны также случаи заимствования австронезийского слова
папуасами; при таком заимствовании актуализируется негативный
компонент значения табу (^"запрет"): ср. в языке коита (семья
коиари, Центр. Папуа-Новая Гвинея) tabu: "1)табу, запрещенное;
2) околдованный, преследуемый духом; 3) злой дух (обычно в облике
змея)" [Даттон 1975, с. 382, 404-407], причем вероятно, что послед-
нее значение - наиболее распространенное.
Имеются случаи, когда mana и tabu меняются местами в рамках
устойчивых словосочетаний: ср. обычное полинезийское atua tapu
"священный дух", но самоанское zo le Atua mana "Бог" (возможно, с
дохристианским значением "всемогущий; сильный дух").
На особую взаимосвязь понятий мана и табу обратили внимание
еще А. Ван Геннеп и Р. Маррет; последний назвал табу "негативной
маной" [Маррет 1907]. Обычный пример взаимодействия понятий
табу и мана - табу для подданных на все, к чему имеет каса-
тельство вождь (во избежание разрушительного действия его маны),
и соответственно табу, регламентирующие поведение самого вождя
(с тем, чтобы все вокруг не стало табу для подданных и т.п.) (см.
гавайский материал [Ситон 1978, с. 281-282]; см. также [Токарев
1964, с. 341-344]). Таким образом, оба способа социальной регуля-
ции - преодоления/предотвращения социального конфликта - "пози-
тивный" (мана) и "негативный" (табу) имеют сверхъестественную
санкцию, а взаимодополнительность мана/табу отражает два основ-
ных аспекта сверхъестественного и, очевидно, соответствует обще-
му принципу дихотомических классификаций, при посредстве кото-
рых описывается мир в архаических обществах (типа свой/чужой,
благоприятный/неблагоприятный и т.д.). При этом важна именно
динамическая взаимодополнительность функций маны и табу, вы-
ступающих прежде всего в роли "операторов", разграничивающих
сакральные и профанные, "высокие" и "низкие" объекты в системе
социальных связей (ср. [Леви-Строс 1950, с. XLVIII]). В этом смысле
"понятие табу... почти столь же широко, как понятие религии в
целом" [Токарев 1959, с. 25].
Более персонифицированным, чем мана и табу, традиционно
представляется праполинезийское (возможно, правосточноокеаний-
ское) обозначение сверхъестественного существа *?atua, дающее в
современных полинезийских языках широкий круг значений - "демон;
предок; дух; дух-покровитель; идол; божество; полудух; полубог; бог
(после христианизации - Бог)". *?atua производно от *ша "старый,
О категории "сверхъестественного" 169
предок" (ср. праавстронезийское *tuqas "старый; зрелый; предста-
витель старшего возрастного класса3"). Ассоциация значений "пред-
ставитель старшего поколения" и "обожествленный умерший" имеет
многочисленные параллели, ср. совмещение названных значений в
тумлео tapun (<*tabu) "дух-покровитель; дух предка; предок; дед,
внук4" (см. [Паркинсон 1979, с. 97]) и распределение этих значений в
формах санскритского pitar - "отец" в ед.ч., "родители" в дв.ч., "обо-
жествленные духи умерших" во мн.ч. (на санскритскую аналогию
нам любезно указал С.В. Кулланда).
Устойчивость перечисленных значений *?atua в соответствующих
рефлексах в современных полинезийских языках позволяет нам
предложить интерпретацию этого этимона как общего обозначения
сверхъестественного-сверхчеловеческого (значение "предок", т.е.
"пребывающий в ином мире", подкрепляет такую реконструкцию
значения). Как общее наименование для сверхъестественного, *?atua
противопоставлено названию естественного-человеческого (прапо-
линезийское *taT]ata). В свете этой интерпретации становятся яснее
семантические соотношения между *?atua и другими праполине-
зийскими словами, обозначающими сверхъестественные существа, -
*tupua "дух; дух-предок; предок (?); наделенный, обладающий маной,
(возм.) дающий ману" (по-видимому, от *tupu "расти, устанав-
ливать"); *aitu (праавстронезийское *qanitu "дух") "дух, дух природы;
животное, объект неживой природы или артефакт, являющиеся
вместилищем данного духа"; *(z)ata "(букв, отражение) дух недавно
умершего человека, дух живого человека; дух недалекого предка".
Соответствия перечисленных этимонов распространены в Океа-
нии, причем имеются и за пределами Полинезии. При этом в одной
традиции могут сосуществовать все наименования, как, например, на
Тонга, - тогда ату а означает высших духов, тупуа - духов-покро-
вителей, аиту - злых (=чужих) духов, ата - духов людей, живых
или недавно умерших (аналогичная четырехчленная оппозиция, но с
другими наименованиями, реализуется в представлениях восточных
фиджийцев, меланезийцев Новой Каледонии); существенно, что у
тонганцев три первые категории духов объединяются под родовым
названием fazahikehe "(букв, другая, противоположная сторона)
сверхъестественное, противоположное человеку существо". У неко-
торых восточных меланезийцев, у меле-фила и маэ, атуа и тупуа -
высшие духи, у ниуэанцев - это духи-покровители. В восточнофид-
жийском диалекте - о-вов Лау и в ротуманском языке названия атуа
и тупуа меняются значениями, у микронезийцев о-вов Гилберта и у
некоторых каролинцев атуа и тупуа - злые духи.
В представлениях большинства меланезийцев сверхъестествен-
ные существа подразделяются на два класса. Наиболее часто про-
тивопоставляются высшие духи (атуа и тупуа), с одной стороны,
170 ВЛ. Петрухин, М.С. ПолиЛская
и духи природы (аиту\ духи живых или недавно умерших людей
(ата) - с другой, ср. соотв. hi'ona и 'akalo у улава. Другое харак-
терное противопоставление - все духи (атуа, тупуа, аиту), кроме
духов людей, с одной стороны, и духи людей - с другой, ср. соотв.
hizona и rete'a - у ареаре (при этом первые делятся на hizona akaro -
"своих", или духов суши, и [hi'ona] wasi "чужих", или духов океана;
наиболее суровые запреты называются apu ana wasi "табу, [нало-
женные] васи"), higona и aunga у ароси (аунга превращаются в хигона
после омовения в потусторонней реке жизни). Приведенные мелане-
зийские примеры также свидетельствуют о семантических перехо-
дах и перегруппировках внутри класса слов с общим значением
сверхъестественного существа.
Наблюдаемая трансформация семантики персонажей позволяет,
во-первых, реконструировать особый класс сверхъестественного
(противопоставляемый классу "естественного"), внутри которого и
происходят сдвиги значений, а во-вторых, констатировать характер-
ную инверсию функций одних и тех же персонажей у разных
этнических групп: ср. выше названия для добрых/злых духов у
полинезийцев и у микронезийцев.
Конкретные взаимосвязи персонажей внутри класса сверхъестест-
венного в его отношении к "естественному" (человек - природа)
можно определить, исследуя семантическое поле соответствующих
слов в определенной фольклорной традиции (о методике дистри-
бутивно-статистического анализа текста с целью выявления семан-
тических полей см. [Шайкевич 1976, с. 353—378]). Приводимое
семантическое поле слов atua, aitu, tupua (см. схему) получено при
индексировании текстов самоанского фольклора (проза [Штойбель
1896; Зирих 1904; Самоанские мифы 1891]; гимны [Фрэзер 1896—
1897; Кремер 1902-1903]); за интервал принималось: для прозы -
предложение (в пунктуационном понимании), для гимна - строка.
Использованный метод обычно различает пять уровней связи между
элементами текста; здесь приводятся слова, между которыми
имеется максимально сильная связь ("пятый уровень", на схеме -
сплошная линия), и слова, связанные сильной связью ("четвертый
уровень", на схеме - штриховая линия).
Схема позволяет наглядно проследить иерархию сверхъестествен-
ных существ: atua - tupua (-matua-) aitu и специальных связей
высших духов (атуа) с "горним миром" (небо, звезда, скала, огонь),
низших (аиту) с враждебной человеку сферой ("лес" - заросли, ночь).
При этом с понятием табу связаны прежде всего "крайние" -
низший и высший - члены иерархии духов, а также возглавляющий
социальную иерархию и по своей потенции (мана) стоящий на
границе сверхъестественного вождь (ali'i). Показательно при этом
отсутствие в текстах самого слова мана при наличии слова табу:
урара\ ('скала, ) ( 'He5°' J ('огонь’] /retu\ \ / / (‘Ww&z’) \ / ./ 4 ' ^""у atua\^^\_ УУсУ^ / \ \ t ’красный] / l X. / I /matua\- x. / l( 'предок’] : / / \ V У \ 4 / /ufiuaX — / 1 'черный’] /ta€ci\^~~ " у рассказ’] (taua\ — ( 'дойна ’ j /cfCt' l\ 'вождь ’ ] ^^—У''""(tagatcN \ / \ 1'человек’] ftapuy\ \ V ( 'табу’ j \ \ 1 f{avea\ \ \ / Vcmpadambi x \ \ / \1физич.)7 z&a\ x. \ \ / V-— ('видеть’) \ \ / / \\ \ / / ?УХ2 ) —У" ~г=\ 'д^' ) f po X ( vao > 1 'ночь’ ) у заросли \ J \(bush)’j
Фрагмент семантического поля самоанских слов aitu, atua, tupua
172 ВЛ. Петрухин, М.С. Полинская
очевидно, упоминание действующих эксплицитно запретов заменяло
упоминание сверхъестественной силы, имплицитно присущей духам и
вождям; возможно, само упоминание слова мана было табуировано с
тем, чтобы предотвратить убыль сверхъестественной силы.
Понятия маны и табу могли косвенно выражаться наименова-
ниями объектов, устойчиво ассоциируемых с этими абстрактными
представлениями. Так, в гавайской топонимике mana и tapu чрезвы-
чайно редки: первое встречается трижды (один из этих трех слу-
чаев - топоним Mana, название жаркого, безводного места на о-ве
Кауаи), второе - дважды [Пукуи и др. 1974, с. 261]. В то же время
очень распространены топонимы, в которые входят (обычно как
компонент) названия объектов, являющихся средоточием особенно
большой маны, или названия объектов, табуированность которых
общеизвестна. К первым относятся, например, лицо, вся голова
(непропорционально большие головы океанийских статуй объясня-
ются именно представлением о концентрации маны в голове), кость
(считалось, что кости умерших вождей содержат особую ману,
поэтому эти кости обязательно прятали); компоненты така ’’лицо,
глаз”, ро'о ’’голова”, iwi ’’кость” встречаются в гавайских топонимах
соответственно 38,12 и 15 раз. Компонент kua ’’спина" встречается в
гавайских топонимах 90 раз;, по полинезийским представлениям,
спина вождя - наибольшее табу.
Очевидно, что в идеологии наиболее развитых обществ Океании,
прежде всего - Полинезии, класс сверхъестественных существ
достиг значительной дифференциации, при наличии абстрактных
обозначений сверхъестественного типа мана/табу. Менее диффе-
ренцированно категория сверхъестественного выступает у папуасов.
Пример не менее "классический”, чем мана у полинезийцев и мела-
незийцев, - понятие дема у папуасов маринд-аним, подробно описан-
ное еще П. Вирцем [Вирц 1992] (см. также [Баль 1966]). Наряду со
значением "тотемический первопредок, культурный герой” дема
может означать сверхъестественную силу, аналогичную, согласно
Вирцу, меланезийской мана\ природный объект, имеющий странную
форму, и т.п. Кроме того, каждый предмет наряду с обычным
наименованием имеет у маринд "настоящее имя”, или "имя демы” -
дема-игиц, обозначающее родоначальника или архетип (образец) той
или иной реалии "естественного” мира, прежде всего "природы”.
П. Вирц даже сравнивал эти наименования с "идеями” Платона
[Мифы и предания 1981, с. 28], однако более точную аналогию дема
в своих записях мифов дал Г. Неверманн [Мифы и предания 1981,
с. 194]. Он сравнивал папуасское дема с позднейшим европейским
"демон", восходящим к греч. daimon: в гомеровском эпосе этим
термином обозначаются не только боги, но и "безымянная безликая
О категории “сверхъестественного” 173
внезапно действующая сила", иногда приравнивающаяся к судьбе
[Лосев 1957, с. 56-58], двойник человека (ср. сходные представления
индейцев Центральной Америки о науатле и распространенные
повсюду верования о двойнике, воплощающем судьбу, предвещаю-
щем смерть и т.п. (см. [Токарев 1964, с. 306-321; Абрамян 1977]).
Последний аспект, Характеризующий категорию сверхъестествен-
ного, специально отметил Д.К. Зеленин: «Мана меланезийцев, пред-
ставление о которой очень близко к "оренда” ирокезов, "ваконда"
североамериканских индейцев сиу, "крамат" малайцев, "маниту"
алгонкинов и т.д. - это неопределенное диффузное понятие, которое
по-русски ближе всего может быть выражено словами: сила, энергия,
способность, удача, спорила, счастье» [Зеленин 1937, с. 11]; добавим,
что в славянских языках наиболее мифологизированными являются
понятия доля/недоля (см. [МНМ, с. 393]). Однако Зеленин считал
первоначальным значением мана и т.п. именно понятие силы, причем
физической, а не "мистической". Действительно, такое "естествен-
ное" и конкретное происхождение категории сверхъестественного
могло бы избавить исследователя от упомянутой опасности "подстав-
лять" современные категории под первобытные понятия. Однако
указывавший на такую опасность Ю.А. Левада приводит как раз
данные Б. Уорфа "об отсутствии в первобытном сознании категорий
субстанции и силы, свойственных механическим моделям мира
XVII в." [Левада 1965, с. 72]. Тем же Ю.А. Левадой приведены
высказывания этнографов об отсутствии противопоставления
естественное/сверхъестественное, точнее - об отсутствии категории
естественного в архаическом сознании и языке, что соответственно
должно бы свидетельствовать и об умозрительности категории
сверхъестественного.
Отсутствие категории естественного в первобытном мышлении
стремился объяснить уже Л. Леви-Брюль, приводивший в связи с
этим высказывание О. Конта о том, что нигде не обнаружен "бог
тяжести". С точки зрения Леви-Брюля, исключения "производят
более сильное впечатление на эти (первобытные. - В.П., М.П.) умы
и более напряженно привлекают их внимание, чем самый порядок в
природе" [Леви-Брюль 1937, с. 324]. Сам по себе этот вывод ничего
не объясняет: более того, самые напряженные ритуальные про-
цессы, ориентированные на сверхъестественные силы, связаны как
раз с постоянно повторяющимися жизненными и хозяйственными
циклами.
Характеристика понятия оренда у ирокезов, данная Хьюиттом,
ирокезом по происхождению, также, казалось бы, размывает сверхъ-
естественную природу оренда: "Все в природе одарено оренда -
боги, духи, люди, животные. Звук, издаваемый предметами, -
оренда этих предметов, крик животных, пение птиц, свист ветра -
174 В Я. Петрухин, М.С. Полинская
оренда. Всюду в природе и в жизни происходит борьба между
различными оренда: если охотник имеет удачу на охоте, это значит,
что его оренда победила оренду его добычи. Сила шамана - та же
оренда. В магических актах проявляется оренда, но и сам магичес-
кий обряд есть также оренда" [Хьюитт 1902]. Однако в большинстве
конкретных случаев - т.е. в определенном контексте - сверхъес-
тественной потенцией наделяется именн^необычный, отличающийся
от прочих объект, воспринимаемый, таким образом, как не-
естественный, сверхъестественный в букваль-
ном смысле (у индейцев кри, например, рыбу неизвестного вида
выбрасывают со специальными ритуалами в воду - она считается
маниту [Баль 1971, с. 68]). Вместе с тем из приводимых описаний
очевидно, что "первобытный" человек не просто пассивно ожидает,
когда тот или иной феномен поразит его воображение, а напряженно
ищет смысл в окружающих его явлениях. В связи с этим показа-
телен дальнейший ход мысли Леви-Брюля, который более опреде-
ленно объясняет интерес первобытного коллектива к "необычай-
ному" и "случайному": "Дело идет не о том, чтобы проникнуть в при-
роду вещей и выяснить ее законы, а о том, чтобы знать наперед все
случаи удачи и несчастья" [Леви-Брюль 1937, с. 336].
Действительно, для архаического сознания "случайное" обнару-
жение камня необычной формы (ср. выбор фетиша в африканских и
других традициях), крик птицы (ср. оренда) и т.п. есть знак, сигнал,
поступающий в первобытный коллектив "извне", не зависящий от
воли коллектива, которому, естественно, обнаруживались соответ-
ствия в событиях, связанных с жизнедеятельностью коллектива.
Модель для такого рода коммуникации исследователи справедливо
усматривают в социальных связях - отношениях между коллекти-
вами (и внутри коллектива). С.А. Токарев связывал предсг&ления о
магической силе (и вредоносной магии вообще), в том*числе
арункульта у австралийцев аранда, а также об оренда, крамат,
маниту и т.п. с верой в ведовство (колдовство), социальной основой
которого были племенные противоречия [Токарев 1964, с. 86-95]:
"Религия есть отношение людей друг^к другу по поводу веры в
сверхъестественное" [Токарев 1981, с. 55].
В обществах с развитой социальной иерархией мана, как уже
говорилось, отмечала социальный (или сверхъестественный) статус
носителя, разграничивая сферы деятельности вдждя и общинников,
духов и людей. Собственно, к тому же универсальному принципу
дихотомии - противопоставлению низкого и высокого статусов,
естественного и сверхъестественного, своего и чужого (обычно ино-
племенники представляются колдунами, а чтимые ими духи заведомо
враждебными) относятся и приводимые выше случаи трансформации
функций сверхъестественных существ (добрые у австронезийцев -
О категории “сверхъестественного” 175
злые у папуасов копта и т.п.; ср. наиболее известный пример
подобной трансформации - дэв как злой дух в иранской и дева как
божество в индоарийской традициях).
Фундаментальные противопоставления своего и чужого коллекти-
вов (ср. [Поршнев 1979, с. 82 и сл.]) и их культуры отразились, с
одной стороны, в этнонимическом обозначении "своего" племени как
"настоящих людей", "людей", "своих" (см. [Чеснов 1973, с. 138-139;
Крюков 1984; Этнонимы 1970, с. 15—17,48]); ср. среди упомянутых
этнонимов маринд-аним и ср. самоназвания австралийцев лардил,
австронезийцев цоу, ниасцев (nias < *nifia), маори - все со значением
"человек" или "люди"; ср. также названия фиджийских кланов
(явуса) на-ваэа-кена "победившие чужих", сиетура "[обращающие в]
бегство чужих вождей", ноэмалу "[происходящие из-под одной]
крыши", т.е. свои, но-и-коро "[из] одного поселка". С другой сторо-
ны, это важное противопоставление реализуется в наделении чужйх
коллективов негативными сверхъестественными и даже противо-
естественными характеристиками, а отсюда и названиями типа
"враг"; ср. название для филиппинцев-аэта (возможно, из языка
пангасинан), "чужие люди, иноплеменники, враги" (ср. праавстро-
незийское *aRta "чужой, враг", бугийск. ata "раб"); ротуманское
название "чужих" toga ("далекие" —враги") и т.п. Однако оппо-
зиция "люди-нелюди (= колдуны, сверхъестественные существа)" не
объясняет полностью происхождения категории сверхъестественного
(хотя и проясняет основу для противопоставления "естественное -
сверхъестественное"), так как сверхъестественные силы представ-
ляются действующими не только извне, но и внутри коллектива.
Для понимания проблемы представляется существенным подход,
возможности которого были обнаружены еще основателем фран-
цузской социологической школы Э. Дюркгеймом. Дюркгейм считал,
в частности, что тотем, точнее, его "эмблема" - это прежде всего
экспликация осознанного единства коллектива ("коллективное пред-
ставление" [Дюркгейм 1912]); хотя французский социолог, как верно
указывалось, преувеличивал сверхъестественные функции тотема
(неоправданно связывал его со сверхъестественной "тотемической
маной", ср. [Зеленин 1937, с. И]) и недооценивал его знаковый
характер (в рамках системы тотемической классификации), он, как
представляется, верно наметил социальный механизм, порождающий
подобного родц понятия - "обобщения".
Однако "объяснение" тотемических связей у Дюркгейма, равно
как и магии у Мосса и Юбера, как явлений, основанных на пред-
ставлении о мане, очевидно, меняет местами причину и следствие:
скорее, как уже говорилось, магическая практика могла способ-
ствовать формированию понятия о мане (ср. [Гофман 1976, с. 112]) -
экспликации свер .ъестес*! энного.
176 ВЛ. Петрухин, М.С. Полинская
В позднейшей социологии, в том числе в социологии религии,
сходный механизм (в отношении негативных явлений) получил
название "эксгериоризация конфликта": цель религии видится в пре-
одолении любого кризисного состояния в обществе - социального
конфликта, болезни, смерти и т.д. - путем экстериоризации - выне-
сения их "источника" за пределы коллектива (ср. "козел отпущения"
и подобные образы, а также работы Б. Малиновского, М. Глукмана,
К. Клакхона, М. Спиро и др., приведенные в сборнике: Лесса-Фогт
1972, с. 71, 103, 480-481 и др.). Близкую точку зрения высказывал
С.А. Токарев: главное в содержании религии - "не имена богов и не
богословские учения об их свойствах, а то, какой ответ дает та или
иная религия на вопрос о происхождении зла в человеческой жизни"
[Токарев 1979, с. 92]. Экстериоризированный источник "зла" (или
"добра", если использовать этическую терминологию в отношении
архаического противопоставления неблагоприятного и благоприят-
ного - ср. тотем в концепции Дюркгейма) легко контаминируется с
внешними по отношению к коллективу явлениями и силами - будь то
иноплеменники, злые ийи добрые духи, благоприятные или небла-
гоприятные феномены природы.
В частности, этот же механизм объясняет семантику славянских
слов див - чудесная птица, падением с вершины дерева предвещаю-
щая поражение русским в "Слове о полку Игореве", дива, самоди-
ва - женский мифологический персонаж, чешек, div^ mui, divd fena и
т.п. демонические персонажи, связанные с лесом. Характерна их
связь, с одной стороны, с русским диво и другими славянскими
обозначениями чуда, с другой - со словами в значении "дикий",
контаминированном, в свою очередь, со значением "божий" (см.
[МНМ, с. 376-377], там же - хеттские и кетские параллели); ср.
также др.-рус. человеци дивии - обозначение мифических (чужих)
народов в раннегеографических описаниях ("Александрия" - см.
[Изборник, с. 264]).
Подобного рода контаминация значений, конечно, далека от
собственно "философских" категорий естественного и сверхъ-
естественного, так как включает и вполне естественные объекты -
но "естественные" именно с современной точки зрения, которую, как
уже говорилось, нельзя переносить на первобытные классификации.
Однако безусловно, что механизм формирования понятий о сверхъ-
естественном свидетельствует о достаточно высоком уровне абстра-
гирования, т.е. формирования категорий вообще в архаических об-
ществах [Лотман, Успенский 1976, с. 301]. При этом лингвисти-
ческая реконструкция в конкретных случаях (Океания) позволяет
предполагать по крайней мере правосточноокеанийскую, если не
праавстронезийскую, древность подобных категорий и их исходно
абстрактное значение.
О категории “сверхъестественного” 177
Упомянутое отсутствие в архаических языках категории “естест-
венного” не свидетельствует о том, что это понятие, как и понятие
“сверхъестественного”, недоступно для первобытного мышления, а
является характерным примером того, что в дихотомической карти-
не мира может быть "маркирован” лишь один член оппозиции, в
данном случае - сверхъестественное (мана, оренда и т.п); другой
пример - упомянутое этнонимическое обозначение своего племени
как "настоящих людей”, в противоположность прочим, "немаркиро-
ванным” (при этом маркированный член оппозиции связывается с
понятием исключительности, немаркированный с представлением о
норме [Барт 1975, с. 150]; ср. [Леви-Строс 1950, с. XLIX-XL]).
Экстериоризированному вовне коллектива и сливающемуся с
внешними ("чужими”) для коллектива силами источнику социального
конфликта (или единства) присущи не только свойства и наиме-
нование “сверхъестественного”, но и способность вступать в комму-
никативные отношения с коллективом (на что особое внимание
обращал еще Мосс, правда, в связи с жертвоприношением; о ритуа-
ле - контакте со сверхъестественным - как коммуникативном акте
см. статью Е.С. Новик в настоящем сборнике, ср. также [Баль
1971]). Отмеченные сверхъестественными силами (мана, оренда,
дема, джок и т.п.) люди, явления и предметы, в свою очередь,
отмечают отношения и связи индивида с коллективом и с окру-
жающим миром, делают их явными и "взаимопонимаемыми” (и в
этом смысле антропоморфизированными), а стало быть - доступ-
ными освоению, контролю и "управлению”.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Такая терминологическая замена приводит к новому типу неоднозначности: у
ряда народов сосуществуют представления о "мане" и "силе", причем и то и другое
можно получить с санкции сверхъестественного существа; ср. противопоставление
mana - susuliha (букв, "впитанное с молоком могущество, мощь") у меланезийцев о-ва
Гуадалканал [Риверс 1914, с. 243]. Вероятно, при подобной дихотомии актуализуется
представление о потенциальной сверхъестественной силе ("мана") и креативной,
действенной сверхъестественной силе ("сила").
2 Народная этимология соотносит mwana с mwaa "змея; змей; змеиный дух".
3 Это значение предложено С.В. Кулландой.
4 Совпадение терминов для альтернативных поколений - характерная черта
океанийских систем обозначения родства.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Абрамян 1992. - Абрамян ЛА. Об идее двойничества по некоторым этнографическим
и фольклорным данным. - Историко-филологический журнал. 1992, № 2.
Баль 1966. - Baal J. van. Dema. Description and analysis of Marind-Anim culture. The
Hague, 1966.
12 270
178 ВЯ. Петрухин, М.С. Полинская
Баль 1971. -Baal J. van. Symbols for communication. Assen, 1971.
Барт 197$. - Барт P. Основы семиологии. - Структурализм - "за" и "против". М.,
1975, с. 114-163.
Битек 1979. - Окот nf Битек. Африканские традиционные религии. М., 1979.
Вильямс 1940. - Williams F£. Drama of Orokelo: the social and ceremonial life of Elema.
Orf., 1940.
Вирц 1922. - Win P. Die Marind-Anim von HollMndisch-SUd-Neu-Guinea. Bd. 2. Hamburg,
1922.
Гофман 1976. - Гофман А.Б. Социологические концепции Марселя Мосса. -
Концепции зарубежной этнологии. М., 1976, с. 96-124.
Гудинаф 1953. - Goodenough W. Native astronomy in the Carolines. Philadelphia, 19S3.
Гулыга 1975. - Гулыга A.B. Философия религии Гегеля. - Гегель Г.В.Ф. Философия
религии. Т.1. М., 1975, с. 5-34.
Даттон 1975. - Dutton ТА. A Koita grammar sketch. - Studies in languages of Central and
South-East Papua. Canberra, 1975, c. 281-412.
Дюркгейм 1912. - Durkheim E. Les formes Admentaires de la vie religieuse. P., 1912.
Зирих 1904. - Sierich O. Samoanische MMrchen. - Internationales Archiv ftir Ethnographic.
1904, Bd. 16.
Зеленин 1932. - Зеленин Д.К. Проблемы первобытной религии. - Советская этно-
графия. 1932, № 4.
Изборник. - Изборник. М., 1969.
Капелл 1938. - Capell A. The word "mana": a linguistic study. - Oceania. 1938. Vol. 9.
Кодрингтон 1981. - Codrington RJL The Melanesians. Orf., 1891.
Комэр-Сильвен 1938. - Comhaire-Sylvain S. A propos du vocabulaire des croyances
paysannes. Port-au-Prince, 1938.
Кремер 1902-1903. - Krdmer A. Die Samoa-Inseln. Bd. 1-2. Stuttgart, 1902-1903.
Крюков 1984. - Крюков M.B. "Люди", "настоящие люди" (к проблеме исторической
типологии этнографических самоназваний). - Этническая ономастика. М., 1984,
с. 6-12.
Левада 1965. -Левада ЮЛ. Социальная природа религии. М., 1965.
Леви-Брюль 1932. -Леви-Брюль Б Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении.
М., 1932.
Леви-Строс 1950. - Ltvi-Strauss С. Introduction & 1'oeuvre de Marcel Mauss. - Мосс, 1950,
c. I-U.
Леви-Строс 1966. - Ltvi-Strauss C. Savage mind. L., 1966.
Лейн 1965. - Lane RB. The Melanesians of South Pentecost, New Hebrides. - Gods, ghosts
and men in Melanesia. Melbourne, 1965, c. 250-279.
Лесса, Фогг 1972. - Lessa W., Vogt EZ. Reader in comparative religion. N.Y., 1972.
Лосев 1957. -Лосев А.Ф. Ахпгтля мифология в ее историческом развитии. М., 1957.
Лотман, Успенский 1978. -Лотман ЮМ., Успенский БА. Миф - имя - культура. -
Труды по знаковым системам. Вып. 6. Тарту, 1978.
Маррет 1907. - Marret R. Is tabu a negative magic? - Essays presented to E. Tylor. L.,
1907.
Метро 1959. - Mttraux A. Voodoo in Haiti. L., 1959.
Мифы и предания. - Мифы и предания папуасов маринд-аним. М., 1981.
Мифы, предания и сказки 1986. - Мифы, предания и сказки Западной Полинезии. М.,
1986.
МНМ - Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980.
Мосс 1950. - Mauss М. Sociologie et anthropologic. Р., 1950.
Паркинсон 1979. - Parkinson R. The Aitape coast. - People of the West Sepik coast.
Boroko, 1979, c. 35-107.
Порщнев 1979. -Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1979.
Пукуи и др. 1974. - Pukui М.К., Elbert S.H., Mookini E.T. Place names of Hawaii.
Honolulu, 1974.
О категории “сверхъестественного” 179
Риверс 1914. - Rivers WJ{R. The history of Melanesian society. Cambridge, 1914.
Ситон 1978. - Seaton S.L. The early state in Hawaii. - The early state. The Hague, 1978,
c. 273-286.
Токарев 1959. - Токарев С А. Сущность и происхождение магии. - Исследования и
материалы по вопросам первобытных религиозных верований. (ТИЭ, т. 51). М.,
1959, с. 2-75.
Токарев 1964. - Токарев СЛ. Ранние формы религии и их развитие. М., 1964.
Токарев 1979. - Токарев С А. О религии как социальном явлении. - Советская
этнография. 1979, № 1.
Токарев 1981. - Токарев С А. Еще раз о религии как социальном явлении. -
Советская этнография. 1981, № 1.
Тонкинсон 1981. - Tonkinson R. Church and custom in Southeast Ambrym. - Vanuatu.
Politics, economics and ritual in island Melanesia. Sydney, 1981, c. 237-267.
Традиционные религии - Традиционные и синкретические религии Африки. М., 1986.
Фрэзер 1896-1897. - Fraser J. Folk-songs and myths from Samoa. - The Journal of the
Polynesian Society. 1896 (vol. 6), 1897 (vol. 7).
Хокарт 1914-HocartAM. Mana. - Man. 1914, № 46.
Хокарт 1922 - Hocart AM. Mana again. - Man. 1922, № 79.
Хьюитт 1902. - Hewitt J.NJL Orenda and a definition of religion. - American
anthropologist. 1902, vol. 4.
Чеснов 1973. - Чеснов Я.В. Название народа: откуда оно? - Советская этнография.
1973, № 6.
Шайкевич 1976. - Шайкевич АЯ. Дистрибутивно-статистический метод в семантике. -
Проблемы и методы семантических исследований. М., 1976.
Штойбель 1896. -Steubel О. Samoanische Texte. В., 1896.
Этнонимы 1970. - Этнонимы. М., 1970.
Б.Н. ПУТИЛОВ
ВАРИАТИВНОСТЬ В ФОЛЬКЛОРЕ
КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
1
Вариативность - одно из самых очевидных, ярко выраженных,
постоянных качеств фольклора, с исключительной обязательностью
обнаруживаемых на самых разных его уровнях - начиная от мик-
роэлементов любого текста и кончая целостными национальными
системами. Под вариативностью мы понимаем обычно видоизме-
нения каких-либо устойчивых "данных", существующих в традиции
со своими сложившимися признаками фольклорных сюжетов, мо-
тивов, образов, текстов или их частей, жанровых особенностей и т.д.
и т.п.
Естественно, что категория вариативности связана с категорией
устойчивости. Варьировать может нечто, обладающее устойчивыми
характеристиками. Варьирование немыслимо без стабильности [Чис-
тов 1986, с. 119]. По справедливому замечанию И.И. Земцовского,
"всякая вариантность - это не только изменение, но и повтор, при-
чем повтор в большей степени, чем изменение. Фактор повторяе-
мости для варианта - важнейший фактор, в то время как точность
повтора - второстепенный... Суть вариативности... в динамической
коррелятивности этих двух сторон одного явления" [Земцовский
1980, с. 43].
Исследователь, изучающий закономерности фольклорного про-
цесса, конечно же, должен одинаково внимательно анализировать
устойчивость [повторяемость] и изменяемость. Суть процесса заклю-
чается в постоянных взаимодействиях двух начал, а вариативность
есть конкретное, зримое, материальное их воплощение, и характер
взаимодействий, достигаемые результаты запечатлеваются в вари-
антах.
Обычным в фольклористике стало противопоставление вариа-
тивности текстов "устного народного творчества" постоянству, не-
© Б.Н. Путилов, 1994
Вариативность в фольклоре 181
изменности текстов литературных1. Такое противопоставление в
принципе оправданно, но в преимущественном его акцентировании
вольно или невольно сказывается ограниченность литературовед-
ческого подхода: фольклор тем самым рассматривается исклю-
чительно как сфера словесности устной, в отличие от литературы
как письменной.
Между тем есть необходимость взглянуть на вариативность в
фольклоре более широко, не ограничиваясь словесной сферой. Ведь
варьируют не только вербальные элементы, но и музыка, и дей-
ствия, с которыми те или иные действия связаны (обряды, танцы,
игры, пантомимы), варьирует весь комплекс, относящийся к сфере
исполнения. Не остаются неизменными функциональные связи текс-
тов. Варьирование, можно сказать, захватывает все стороны плана
содержания, плана выражения и реального функционирования фоль-
клора, весьма существенно воздействуя на них и во многом опре-
деляя то, что мы называем фольклорным процессом. В конечном
счете варьированию подвержен общий фольклорный контекст,
характерный для тех или иных стадий и состояний фольклорной
культуры, благодаря чему возникают не просто те или иные
конкретные варианты, но многочисленные вариационные поля -
своеобразные творческие лаборатории, обеспечивающие направле-
ние процесса.
Правомочно соотносить столь широко осознаваемую категорию
вариативности фольклора (не сводимого к искусству слова) с ва-
риативностью во всех других сферах народной традиционной куль-
туры и традиционного быта: хозяйственной деятельности, ору-
дий труда, жилища и построек, одежды, утвари, украшений,
обрядового реквизита, а наряду с этим - социальных институтов,
поведенческих норм, обрядовых комплексов, представлений и т.д.
и т.п.
Любой предмет культуры, любой элемент социальной практики и
проч., обладая устойчивыми типовыми качествами, будучи ’’повто-
рением" определенного класса, воспроизведением типа, вместе с тем
представляет собой не тиражированную копию, но видоизменение,
разновидность, одну из возможных комбинаций. Обратим внимание
на существенный момент, имеющий безусловно общее значение для
теории вариативности народной культуры: отдельные экземпляры
вещей, случаи поведения, конкретные проявления соционорматив-
носги практики "возводимы" как варианты не к некоему первичному,
однажды изготовленному, открытому, введенному обществом в
практику образцу-"первоисточнику", но к некоему общему типу.
Варьируется не "первый" предмет, но тип, совокупность тради-
ционных, устоявшихся признаков предметов или явлений. И это
принципиальное положение не меняется от того, что при изго-
182 Б.Н. Путилов
товлении тех или иных предметов, при исполнении обрядов, при
соблюдении соционормативных правил определяющую роль может
играть преемственность непосредственного опыта, а не знание
типологии. Ближайший опыт старших поколений, живые образчики
вещей или норм поведения составляют традицию, в которой именно
типология, а не просто набор отдельных образцов имеет решающее
значение. К тому же традиция как средоточие памяти культуры, как
инструмент культурной преемственности всегда неизмеримо богаче
реального, "видимого" фонда, каким в данный момент располагает
коллектив.
То же самое, в сущности, относится и к собственно фольклорной
культуре. Каждое новое поколение ее хранителей и носителей так
или иначе воспринимает тот фонд, которым владеет предшест-
вующее поколение. Мы бы совершили, однако, ошибку, если бы
свели процесс передачи и усвоения традиции к восприятию разных
образцов в их конкретном, зримом воплощении, навыков исполни-
тельства, функциональных знаний. В традиционном обществе вос-
принимается фольклорная культура как специфический феномен, с
характерными для нее творческими закономерностями, жизненными
связями, со своим "миром" и "языком", где "тексты" неизбежно вы-
ступают не как индивидуальные образчики, подлежащие заучива-
нию, запоминанию, но как репрезентанты типов, классов, к тому же
находящиеся в перекрещивающихся взаимных связях. Фольклорная
культура живет не просто в поверхностном репертуаре, но в
сложном (в том числе - имплицитном) комплексе многообразной
типологии, разветвленной семантики, функциональных возможнос-
тей. Одним из проявлений знания этого комплекса выступает ва-
риативность. Парадокс фольклорной вариативности состоит в том,
что, хотя любой зафиксированный текст эмпирически может быть
возведен к некоему своему непосредственному предшественнику -
"источнику", на самом деле текст этот, как и предшествовавший ему
в живом обращении, есть вариант типа, получавшего бессчетное
число раз, на протяжении неопределенного времени и в неоп-
ределенных пространственных границах (и далее готового получать)
разнообразную вариативную реализацию. Одна из проблем науки
состоит в том, чтобы путем сопоставительного анализа вариантов
выделить типовые черты, "сложить" тип, после чего станет воз-
можным понимание каждого отдельного текста именно как варианта,
определение места его в системе/наборе вариантов, значение его в
творческом процессе, захватывающем данный тип. Понятие типа в
этом смысле применимо ко всем разделам и уровням фольклорной
культуры. Можно говорить о типах сюжетов, мотивов, коллизий,
образов, стилистических элементов, формул, функций, исполнитель-
ских аспектов и т.д.
Вариативность в фольклоре 183
2
Какова же природа фольклорной вариативности? Какие стимулы
обеспечивают ее непрерывность и обязательность?
Можно вполне согласиться с И.И. Земцовским, для которого
«фольклорная вариантность есть частный случай вариантности как
наиболее фундаментального феномена жизни вообще, во всех ее
проявлениях» [Земцовский 1980, с. 37]. Оправданны в этом смысле
попытки взглянуть на явление с общефилософской точки зрения
[Земцовский 1980]. Еще одно высказывание из той же работы:
«Варьирование как атрибут жизни может быть оценено не только
биологически, но и, в известной мере, эстетически - как виртуозное
проявление бытия» [Земцовский 1980, с. 45].
Вполне признавая плодотворность и перспективность таких под-
ходов, обратимся к тому, что можно считать ближайшими мотивами
фольклорной вариативности, непосредственно связанными с приро-
дой самого феномена фольклора.
Привычным для фольклористики является рассмотрение вариа-
тивности как естественного порождения устного характера транс-
миссии. Поначалу такой подход кажется вполне естественным.
В самом деле, процесс жизни фольклорных текстов легко предста-
вить как непрерывную - в рамках данного этноса или какой-то огра-
ниченной его сферы - чрезвычайно разветвленную и, по существу,
массовую передачу и массовое усвоение. При этом, сколь бы ши-
рокий характер такая трансмиссия ни носила, в конечном счете она
сводится к ряду индивидуальных актов - «из уст в уста».
Отсюда - привлекательная возможность эмпирического рассмот-
рения трансмиссии и выведения из множества единичных фактов
общих закономерностей. В этих закономерностях обнаруживают
себя коллективность народного творчества, определяющая роль
таких экстрафольклорных факторов, как история, социальная среда,
быт и т.д., а также личное начало. Внешние обстоятельства нередко
расцениваются как определяющие пружины вариационного процесса,
фольклор оказывается полем применения этих сил. Естественно, что
многообразные проявления вариативности выступают в таком слу-
чае свидетельствами сознательного или неосознанного воздействия
на фольклорные тексты со стороны среды, времени, личности.
Именно с этой точки зрения варианты часто и анализируются.
Считается, что, с одной стороны, они демонстрируют устойчивость
традиции, прочность фольклорной памяти, а с другой - отражают
сдвиги социального порядка, новый исторический опыт, бытовые
переживания и разного рода новации. Они несут также на себе от-
печаток творческой работы ли* гостей, происходящей в самых раз-
ных направлениях. Но вариант .л mofvt грптт^трттт>гтронать об уга-
184 Б.Н. Путилов
сании и разрушении творческой традиции в данной среде, либо
просто о том, что носителями этой традиции оказались плохие певцы
или слабые рассказчики.
Даже изложенные самым схематичным образом, данные поло-
жения не теряют своей убедительности. Тем более они кажутся
справедливыми, когда в отдельных исследованиях достаточно раз*
вернуты и подкреплены примерами. Между тем, они вовсе не бес*
спорны и достаточно уязвимы. В рамках настоящей статьи нет
возможности подвергнуть их обстоятельной критике. Важно здесь
подчеркнуть, что хотя в них и фиксируются некоторые аспекты
жизни фольклорных текстов, но лежащий в их основе «трансмис-
сионный подход» отнюдь не исчерпывает проблемы и затрагивает
лишь поверхностные стороны фольклорного процесса.
Начнем с того, что устность фольклора не есть определяющий,
коренной признак феномена, обусловливающий его природу, его
жизнь. Устность - естественный способ функционирования фоль-
клорных текстов. Закрепляемость в памяти поколений, в памяти
этноса и его представителей всего опыта - социального, истори-
ческого, поведенческого, передача и усвоение этого опыта через па-
мять, через непосредственную практику, в процессе жиз-
недеятельности среды есть органическое свойство
культуры традиционного общества и составляющих его коллективов
и индивидуумов.
Устность - естественный способ функционирования фольклорных
текстов, не зависящий ни от наличия или отсутствия у данного эт-
носа письменности, ни от грамотности или неграмотности среды.
Способ этот, в сущности, единственный, если принять во внимание
такой действительно генерализирующий для фольклора признак, как
его обязательную и многостороннюю включенность в жизнь кол-
лектива.
Не устность в техническом смысле слова (т.е. исполнение, пере-
дача, усвоение устным путем), а жизнь в памяти, в личном и
коллективном сознании и функционирование в различных коллек-
тивных формах самой жизни составляет специфику фольклора. Здесь
сразу же необходимо подчеркнуть, что специфика эта полностью
согласуется с характером всей традиционной культуры этноса. Весь
традиционный социальный, исторический, поведенческий опыт этно-
са сосредоточен, закреплен, хранится в памяти, в сознании, в раз-
личных материальных воплощениях. Передача и усвоение этого
опыта лишь отчасти, в некоторых разделах, выделяются в некую
специализированную сферу, в основном же они естественно вклю-
чены в процесс жизнедеятельности. Специально обучают тому, что
требует индивидуального мастерства, основная же масса тради-
ционных знаний, навыков, умений осваивается естественным путем,
Вариативность в фольклоре 185
как бы незаметно и органично. Это в полной мере относится и к
фольклору.
Всю традиционную культуру можно было бы обозначить как
устную в широком смысле слова, если в категорию устности вклю-
чить не просто трансмиссионные аспекты, но всю совокупность
жизни культуры этноса, в том числе латентные ее формы, во многом
наукой еще не познанные. К сожалению, удобный для употребления
термин ’’устное” скомпрометирован тем, что его значение обужено,
сведено к внешним, техническим аспектам, и поэтому мы вынуж-
дены отказаться от его употребления.
Вопрос о причинах, порождающих варианты, и о характере от-
ношений между ними заставляет обратиться к проблемам более
широкого плана - природы фольклорного творчества и законов воз-
никновения фольклорного произведения. Разумеется, речь может ид-
ти о генеральных закономерностях, определяющих фольклорную
культуру архаического и классического типа.
Фольклорный процесс - процесс естественный, и в этом отно-
шении он подобен языкотворчеству или процессам жизни этноса
вообще. Это означает, в частности, что он в принципе безличен и
бессознателен и что к нему совершенно неприменимы мерки, обыч-
ные для анализа актов индивидуального, "однократного” сочини-
тельства. Фольклор как феномен возникает и развивается внутри
культурного синкретического единства, он включен в процесс жиз-
недеятельности коллектива и, подобно другим сферам культуры,
постепенно, в ходе исторического развития обретает относи-
тельную самостоятельность (не получая ее в абсолютном виде
никогда).
Первоначальный фольклорный фонд представляет собою "вычле-
нение” из синкретического единства возникших внутри него "жан-
ров", "сюжетов", "мотивов", "образов" и, что очень важно, поэти-
ческой семантики. В фольклоре любого исторического этапа мы
имеем дело не просто с набором текстов, с арсеналом поэтики, с
фондом сюжетов и мотивов, но с целостной фольклорной культурой,
которая обладает своими внутренними законами, характеризуется
своими специфическими связями с лежащими вне ее явлениями,
своим сознанием.
"Произведения", "тексты" возникают, живут, меняются не просто
как некие вербальные (вербально-музыкальные) единицы, но как
составляющие этой культуры. Именно культура обладает порож-
дающими способностями, поскольку в ней сосредоточены опреде-
ляющие творческие начала: "своя" система представлений о мире;
сюжетно-тематический фонд; арсенал художественных кодов; систе-
ма семантических полей; система правил создания текстов и их мно-
гократных преобразований. Этнос, этнический коллектив в целом и
186 Б.Н. Путилов
его отдельные группы (и даже отдельные личности) выступают
носителями этой культуры и ее творцами - но отнюдь не в при*
вычном для теории литературы или профессионального искусства
смысле.
Отсутствие "авторства", принципиальное отсутствие некоего
первичного сочинительского акта снимает вопрос о наличии
"исходного" текста, "первого" варианта. Создание фольклорного
произведения можно представить как процесс, по существу, не
имеющий начала, поскольку любой форме, скажем, песенной
реализации некоей темы, предшествует не поддающаяся учету
серия реализаций в формах песни же, мифа, аморфного
представления, слова с пучком значений, обряда или его элемента,
социально-бытового субстрата и т.д. Формы эти могут не только
предшествовать собственно фольклорным реализациям, но и
синхронно им соответствовать, и в этих случаях можно говорить об
изоморфности начал, которые всех их организуют (см. об этом
[Байбурин, Левинтон 1986]).
Таким образом, фольклорный текст "возводим" вовсе не обяза*
тельно к некоему гипотетическому вербальному тексту, но - рав-
ноправным образом - к одному из обрядовых текстов или "текстов"
из сферы социальных отношений, представлений, быта. Кстати
говоря, поиски такого рода "зависимостей" или перекличек, соот-
ветствий чрезвычайно продуктивны для исторического изучения
фольклорных текстов. Речь идет не просто об отношениях между
"реальностью" и ее "отражением", но о взаимозависимостях двух
(или многих) разновидностей реальности (ибо вербальный текст -
такая же реальность, как, скажем, обряд или социально-бытовой
институт) и разных кодов, в которых реализуется общая семантика.
Можно было бы сказать, что исходным для вербального текста
является смысл, семантическое ядро - то, что В.Я. Пройп удачно
обозначил термином "замысел" [Пропп 1958].
Имеется в виду не просто некая идея, но определенным образом
организованная семантика со своими сюжетными контурами (узлами
коллизии), "готовая" для многократного вербального (вербально-
музыкального) кодирования, т.е. для превращения в собственно
тексты. Замысел - это скорее еще предтекстовое состояние, и из
него могут рождаться (и фактически рождаются) пучки текстов.
Замысел заведомо предполагает одновременность, множественность
и неисчерпанность реализаций. Он не может быть представлен в
некоем изначально единственном и окончательнрм виде. Текст, у
которого нет параллельных, дополнительных, противостоящих реа-
лизаций, - это не фольклорный текст. Другими словами, варианты
изначафэны, они совершенно органичны не просто для фольклорного
процесса, но и для первоначального этапа возникновения произ-
Вариативность в фольклоре 187
ведения. Рождаясь набором вариантов, произведение тем самым
откликается на сложность и неоднозначность замысла. Пучки ва-
риантов, появляющихся в процессе первоначальной реализации за-
мысла, направлены на то, чтобы реализовать его возможно полнее и
глубже. Таким образом, творческий процесс в фольклоре устремлен
не к созданию некоего совершенного единственного текста, но к
вариантной разработке, которая только и способна передать мно-
гоаспектные стороны замысла.
Непрекращающийся процесс возникновения новых и новых ва-
риантов мы вправе рассматривать с двух сторон: как многократно
повторяющееся воспроизведение основного смысла с различными
видоизменениями и оттенками и как выявление новых семантических
возможностей, вероятностных трактовок, сюжетных ходов, харак-
теристик персонажей и т.д., т.е. как все более широкое и полное
прочтение замысла, но и внесение в него новых значений и эле-
ментов содержания, сопряжение замысла с новым историческим и
бытовым опытом, применение других кодов. Тем самым варьи-
рованию подвержены не просто тексты, варьирует и сам замысел.
Вариационная разработка обнаруживает в замысле нереализованные
возможности, открывает новые аспекты и тенденции. При этом
фольклорное творчество пользуется преимущественно тем фондом
мотивов, образов, формул, представлений, который заложен в тра-
диции, либо "заново” создает их, моделируя, в сущности, опять-таки
традицию. При этом происходит неизбежный процесс внедрения в
определенный замыслом сюжетный и образно-формульный круг
материала "извне”, из сюжетов, подчиненных другим замыслам, не-
сущих свою семантику. Естественный процесс варьирования порож-
дает в конечном счете встречи, столкновения, органические контак-
ты разных замыслов, оказавшихся рядом, в соседних семантических
полях. Так появляются новые, неожиданные версии и даже сюжеты.
Анализ совокупности имеющихся вариантов может обнаружить за
кажущейся неожиданностью вполне закономерные явления. Но
встречи замыслов могут быть, конечно, и вполне случайными, меха-
ническими - в этом нетрудно видеть угасание живой фольклорной
памяти и творческого фольклорного сознания. Отсюда - необъяс-
нимые контаминации, тексты, лишенные полноты, и т.д. Речь, од-
нако, не о них. Неслучайные, внутренне мотивированные контакты
замыслов основываются на прочности фольклорного знания, которое
включает, в частности, запас неосознанных, но вполне органичных
ассоциаций, семантических перекличек внутри сюжетного фонда, не
просто владение набором мотивов, формул и умение применить их "к
месту", но и (пусть вполне бессознательное) знание семантических
полей с постоянными и меняющимися значениями входящих в них
составляющих.
188 Б.Н. Путилов
3
Процесс варьирования мы вправе рассматривать как на диа-
хронном, так и на синхронном уровнях. При "трансмиссионном"
взгляде на вариативность выступает на первый план временной
момент. В самом деле, поскольку каждый "новый" текст пред-
ставляет собой результат передачи от одного лица к другому и
воспроизведение в дальнейшем этим последним, появление "новых"
текстов может рассматриваться как серия актов, точно фиксируе-
мых во времени (а одновременно и в пространстве). Для фольк-
лористов существуют как реальность воспроизведенные (и учтен-
ные) тексты, которые рассматриваются на двух уровнях: как сви-
детельство традиции и как единичная данность, порожденная кон-
кретными обстоятельствами.
Однако временной и пространственный показатели в отношении к
учтенным текстам безусловны лишь с точки зрения момента и места
их фиксации, для анализа же по существу их содержания и истории,
для выяснения их вариантных связей эти показатели непригодны. В
целях объективности исследования полезно полностью отвлечься от
"паспортных" сведений о тексте и вернуться к ним лишь в конце его,
чтобы сопоставить полученные результаты с временными и про-
странственными показателями. К сожалению, в исследовательской
практике принят "обратный" порядок, при котором вариантам "на-
вязываются" разного рода характеристики, подсказываемые знанием
времени и места записи.
Зависимость содержательных или собственно художественных
элементов текстов от временнбго и пространственного факторов
вполне реальна и закономерна, но она не может постулироваться, а
должна всякий раз заново доказываться и открываться в ходе ана-
лиза. В то же время односторонний подход к вариантам как про-
явлениям движения фольклорных произведений во времени и в
пространстве существенно обедняет картину реальных фольклорных
процессов, упрощает вопрос об их динамике и словно бы начисто
снимает проблему синхронных отношений в фольклоре.
Динамическое начало должно выделяться с большой осторож-
ностью. "Новый" вариант - это прежде всего "другой" вариант, и
устанавливать его реальный возраст надо, опираясь на данные, ко-
торые содержатся в нем самом и в родственном ему материале.
Нельзя не учитывать такую закономерность, как латентное суще-
ствование в течение неопределенного времени. В целом ряде слу-
чаев поздно зафиксированные варианты заключают в себе такие
трактовки, которые ведут нас в глубины замысла. Но даже и
очевидно поздние элементы в вариантах представляют собою не что
иное, как трансформацию достаточно архаических трактовок. К то-
Вариативность в фольклоре 189
му же надо иметь в виду вероятность разновременного появления в
тексте разных его составляющих, т.е. вариантность частностей, а не
целого.
Практически любой вариант в своих отличительных элементах
несет одновременно отпечаток движения во времени и синхронной
реализации какого-то латентного состояния замысла. Здесь-то и
осуществляется взаимодействие фольклорного процесса с истори-
ческими обстоятельствами народной жизни. Мы вправе рассмат-
ривать варианты как специфически фольклорную форму встречи
традиций с движением истории. Встреча менее всего выражается в
прямолинейных откликах, в ’’отражении”, она носит глубоко опо-
средованный характер и последствия ее - если говорить о текстах -
трудно предсказуемы. Варианты могут отзываться на сдвиги в ис-
тории, в быту, в судьбах этноса совершенно неожиданными "откры-
тиями" в традиционном замысле, обращением к архаическим его мо-
тивам либо его модернизацией. Заведомо можно сказать, что редко
удается протянуть четкую нить от реальной истории к тому или
иному варианту. Чаще всего такие попытки приводят к натяжкам, в
лучшем случае верными оказываются наблюдения над реалиями.
Все сказанное позволяет трактовать фольклорную вариативность
не просто как частное проявление всеобщей вариативности в при-
роде и обществе и не как преимущественно порождение транс-
миссионных факторов, восходящих к устности, но прежде всего как
важнейший закон фольклорного творчества, действующий в нем
последовательно и объективно и определяющий самый его процесс,
возможности и результаты, обеспечивающий многосторонние связи с
жизнью этноса.
Отсюда возникают и новые задачи, связанные с анализом ва-
риантов. До недавнего прошлого такой анализ направлялся на ре-
конструкцию "первичного", "основного" и т.п. текста, на восстанов-
ление этапов истории сюжета и утраченных традиций звеньев;
варианты изучались как порождение "личного начала", как отра-
жение местных тенденций, социально-бытовых сдвигов; особое место
занимали исследования региональных типов, ареальных соотношений
и др.
В.Я. Пропп, исходя из своей концепции замысла, предложил в
труде о русском героическом эпосе принципиально новый подход. Он
увидел смысл полного и скрупулезного сопоставления всех (или ото-
бранных) вариантов былин в выявлении для каждого сюжета всех
звеньев повествования, хода действия, начала, развития, конца.
Исследователь пришел к важному выводу, что ни один из вариантов
не содержит всех возможных звеньев, что "совокупность сопостав-
ляемых текстов всегда полнее каждого из текстов в отдельности" и
что, добавим мы, совокупность эта не. воссоздает единого текста.
190 Б.Н. Путилов
"Рисуя полную картину сюжета, исследователь дает картину, не под-
тверждаемую (за редкими исключениями) ни одной конкретной
записью... Это не "архетип", не "основная редакция", не "сводный
вариант" - это раскрытие народного замысла во всей его сово-
купности и художественной цельности... По отношению к этой
совокупности каждая отдельная запись - частный случай осущест-
вления этого замысла" [Пропп 1958, с. 23]. Из дальнейших рас-
суждений В.Я. Проппа, а главное - из предложенного им детального
анализа вариантов былинных сюжетов следует, что ученый искал в
вариантах "многообразие художественной разработки повествова-
ния", наличие "более древних" и "более поздних" форм, отражение
"тенденций развития эпоса", этапов "исторического развития
сюжетов", наконец - отражение разного уровня художествен-
ности.
«Вся красота и глубина народного замысла, все многообразие его
художественного воплощения вскрываются только при детальном
сопоставлении вариантов. Только при сплошном сравнительном
изучении текстов может быть нарисован полный образ героя...
Сопоставление вариантов помогает понять сущность и развитие
конфликта... Сопоставление вариантов вскрывает многообразие ху-
дожественных форм воплощения идейного замысла песни» [Пропп
1958, с. 24-25].
Развитие этих положений, блестяще реализованных автором в
книге о былинах, применение их ко множеству других фольклорных
фактов остается актуальной задачей современной науки.
4
Из сказанного выше следует, что понятие "вариативность" при-
менительно к фольклору чрезвычайно широко по своему содер-
жанию и вряд ли поддается четким ограничениям. Это вполне
объяснимо, если принять во внимание, что фольклорное творчество
всегда идет в русле повторяемости, стереотипичности, формуль-
ности, предуказанного набора возможностей содержания и языка.
При наличии более или менее строго отобранного арсенала, какой
предоставлен каждому жанру и каждой его разновидности, в
условиях существования "фондов", откуда следует черпать мате-
риал, неизмеримо возрастает значение комбинаторных возможнос-
тей, способность творчества, повторяясь, обновлять традицию. Спо-
собность к варьированию естественно приобретает изощреннейшие
формы, достигает высочайшего совершенства, обретает сложную
типологию, сохраняя вместе с тем свою "естественность", непри-
нужденность. Одним из свойств варьирования выступает "протя-
Вариативность в фольклоре 191
гивание" его до таких пределов, когда в итоге возникает иное
качество. Независимо от синхронности или диахронности процесса,
создается цепочка, концы которой уже трудно соотносимы. Варьи-
рование переходит в трансформацию. То и другое отделить подчас
невозможно. Трансформация порождает в традиционных сюжетах
новые значения, но, как подчеркивает К. Леви-Строс, не меняет их
структуры. В результате работы исследователя, обнаруживающего
парадигму вариативных трактовок соответствующих позиций сю-
жета мифа, возникает возможность "определять миф как совокуп-
ность всех его вариантов" [Леви-Строс 1983, с. 194]. Каждый ва-
риант содержателен и значим сам по себе, но сюжет прочитывается
именно в совокупности вариантов, которая неизбежно заключает
противоречия и столкновения.
В системе отношений между вариантами могут быть установлены
четыре основные ступени, между которыми неизбежно распола-
гаются промежуточные или переходные случаи.
Первая ступень характеризуется наибольшей близостью текстов,
малосущественными в плане содержания и выражения различиями
(собственно варианты). Вторая объединяет различные группы текс-
тов - редакции, третья - версии одного произведения. Наконец,
четвертая ступень различий дает самостоятельные произведения -
результат трансформации.
Многоступенчатость отражает реальность живых творческих про-
цессов, предполагающих разную степень интенсивности изменений и
неодинаковость тенденций, но внутренняя пружина, приводящая в
движение весь механизм варьирования, в сущности, одна и та же - и
она очень проста: потребность, необходимость обнаружить максимум
возможностей, скрытых в традиции, и найти им соответствующее
выражение.
5
Проблема вариативности как характернейшего качества фольк-
лора (шире - всей народной культуры и даже еще шире - всех про-
явлений этнического) неизбежно ведет нас к сферам региональное™
и локальности. Давно уже установлена связь вариативных признаков
фольклорных текстов (как и обрядов, вещей и т.д.) с ареалами их
бытования: характерность вариантов оказывается соотнесенной с
определенными территориальными границами; более или менее ус-
тойчивые вариантные особенности (скажем, на уровне редакций или
версий) как бы закреплены регионально и локально, их можно (при
наличии достаточно репрезентативного материала) зафиксировать на
картах, и картографирование наглядно продемонстрирует наличие
192 Б.Н. Путилов
порядка в расположении вариантов, в их группировке по степени
близости, по моментам совпадений и расхождений.
Вопрос о том, что же означает ареальная группировка вариантов,
не раз обсуждался в науке, но по-прежнему здесь много неясного и
спорного. С одной стороны, обращают внимание на "местные"
обстоятельства жизни фольклора, с другой - на фактор этнической
истории, преломившейся в судьбе населения региона или локаль-
ного очага. Закономерно, что в ряде случаев оба фактора рассмат-
риваются во взаимосвязи. Н.И. и С.М. Толстые подчеркивают, что
Полесье, которое в известной степени выступает цельным регионом,
как "одна из наиболее архаических и консервативных в этническом и
языковом отношении славянских зон", в то же время "отнюдь не
является монолитным и обнаруживает весьма дробное и разнона-
правленное членение". Это касается, в частности, различных ри-
туалов вместе с включенными в них фольклорными текстами. По
мнению авторов, одни различия "могут интерпретироваться как от-
ражение разных эволюционных стадий древнейшего общеславян-
ского ритуала", другие же - "как проявление локальных разновид-
ностей обряда и связанных с ними многочисленных представлений"
[Толстой, Толстая 1978, с. 97]. Другими словами, в локальной ва-
риативности воплощается естественный процесс эволюции риту-
альной культуры (и фольклорной культуры вообще) и этапы его
закрепляются в типах вариантов и даже в отдельных текстах.
С характером этнической истории на данной территории
Ю.И. Смирнов соотносит особенности локальных эпических тради-
ций. По его словам, "число и качество песенных версий одного сю-
жета... имеет прямое отношение к проблеме этногенеза обследуе-
мого населения. Наличие только одной песенной версии одного
сюжета или нескольких, но эволюционно связанных между собой
версий свидетельствует об этнической однородности этого насе-
ления" [Смирнов 1978, с. 220]. Что же касается причин, об-
условивших появление локальных эпических версий, то, по мнению
автора, "ход исторического развития в средние века определил рас-
щепление" общих для восточных славян сюжетов. Если следовать за
Ю.И. Смирновым, то региональность любых, даже очень древних,
вариантов надо трактовать как явление вторичное, в конечном
счете обусловленное фактами этнической истории и распадом из-
начально единых текстов. За этим стоит мысль о существовании
"безвариантного" этапа в жизни традиции.
С нашей точки зрения, такого этапа не было: вариативное начало
не явилось результатом "расщеплений" и других видов культурной
дифференциации, оно сопровождало процесс рождения любых сю-
жетов. Поэтому так называемые локальные или региональные
версии мы вправе рассматривать как фиксируемые на разных ис-
Вариативность в фольклоре 193
торических стадиях закрепленные ареально реализации замысла,
относящиеся к различным этапам творческого процесса, в том числе
и к очень ранним, изначальным. Такое понимание вполне согласуется
с современными представлениями в сфере этнической истории.
"Современная этнография отвергает традиционные представления,
согласно которым этнические традиции формировались как нечто
единое уже в глубокой древности, а локальные традиции, известные
по описаниям XIX в. или по более ранним документам, представляют
собой результат позднейшего варьирования (или даже - варьи-
рования в результате искажения, забвения подлинных традиций).
В реальной истории народной культуры процесс развивался, видимо,
преимущественно в обратном направлении. Этническая традиция,
тем более до периода урбанизации, существовала как вариационное
множество местных традиций, сближавших и вырабатывавших
общие черты в ходе своего развития и в процессе этнокультурной
консолидации" [Чистов 1986, с. 118].
Подобно диалектным формам языка, локальная и региональная
вариативность фольклора определенно связана с фактами этно-
генеза и этнической истории, но характер ее, конкретные состояния
не выводимы из этнической специфики ее носителей. В лучшем слу-
чае, соотнесению поддаются отдельные реалии, но не глубинная
сущность вариантов, редакций, версий. Мы можем, к примеру, сгруп-
пировать по локальным версиям тексты былин, но ареальная груп-
пировка не даст нам ключа к пониманию того, каким образом эти
версии сложились, почему они распределились именно так на карте
и, тем более, какие процессы в сфере эпической семантики и
эпического языка за этим распределением стоят. Складывается
впечатление, что региональность и локальность вариантов есть не-
который побочный результат иных закономерностей, действующих
внутри самого фольклора. Поэтому внимание исследователей, оче-
видно, должно быть направлено не на поиск прагматических ре-
гиональных обусловленностей сложившихся вариационных различий,
а на исследование вариантов по существу - с учетом их ареальных
схождений и различий. Такое исследование, в частности, поможет
ответить на вопрос о степени и характере локальной и региональной
общности и дробности, о наличии здесь пределов для различных
жанров и типовых элементов произведений. Ареальные исследо-
вания могут показать, как варьируют тексты и как это варьиро-
вание коррелируется на уровне разных признаков и элементов.
По наблюдениям Н.И. Толстого над полесскими текстами бал-
лады "Невестка стала в поле тополем", варьирование ряда содер-
жательных элементов ее (различие в концовках, наличие сокраще-
ний и расширений, отсутствие отдельных мотивов) не поддается
картографированию, а это значит, что не все в варьировании укла-
13 270
194 Б.Н. Путилов
дывается в какой-то порядок и не все выглядит устойчивым и
достаточно обоснованным. Н.И. Толстой выделяет для наложения на
карту “более устойчивые и в генетическом отношении... более су-
щественные варианты текста баллады": “вид дерева, в которое
превратилась невестка"; “характер работы, на которую была пос-
лана невестка"; “реакции невестки-дерева на удары топором"; “типы
текста вводной части" [Толстой 1976, с. 41-43].
В связи с опытом Н.И. Толстого, носящим еще вполне пред-
варительный характер, возникают вопросы, относящиеся к специ-
фике вариативности жанра. Нет сомнения, что выделенные автором
узлы различий могут иметь существенное значение для уяснения в
первую очередь семантики балладного сюжета и, возможно, для
генетических предположений. Но надо иметь в виду, что этими
узлами не исчерпываются скрытые в сюжете семантические связи:
они, в частности, несомненно сосредоточены в системе диалогов,
составляющих композиционный стержень баллады. Нельзя сбрасы-
вать со счетов и те подробности, которые не уложились в ареальный
порядок. Главное же - пробиться к семантике сюжета в ее слож-
ности и исторической эволюции на материале одного Полесья за-
труднительно. Народная баллада, особенно с архаической основой,
требует анализа максимального количества текстов из разных ре-
гионов, в том числе - и иноэтнических. Привлекательной выглядит
задача - увидеть, как варьирует сюжет “Тополя" в масштабах сла-
вянской эпики и в какой мере здесь обнаруживаются закономерности
регионального и локального распределения вариантов. Ареальное
исследование - один из моментов такой работы, и лишь распро-
странение ее на другие ареалы придаст ему перспективу.
Вариативность на уровне межрегиональном, межэтническом, меж-
дународном - постоянное качество фольклорной культуры. Оно под-
держивается вовсе не контактами этносов, миграцией сюжетов, хотя
общения в сфере фольклора играют свою роль. В основе лежит
типология закономерностей фольклорного творчества, порождающая
общность замыслов в фольклоре этносов, никогда между собою не
общавшихся, принадлежащих к разным историческим эпохам. Об-
щие замыслы не просто сосуществуют, но и разрабатываются по
единым схемам и с привлечением сходных или даже совпадающих
мотивов и образов. Можно сказать, что у архаических и классиче-
ских жанров значительное место занимают замыслы, так сказать,
надэтнического характера, а этническую характерность мы обнару-
живаем в их национальных, региональных, локальных реализациях.
Национальные разработки, в сущности, являются фактами вариа-
тивности. Характерность национальных вариантов порождается тре-
мя взаимопересекающимися факторами: спецификой истории этноса,
его быта, социальных и психологических особенностей; стадиальным
Вариативность в фольклоре 195
уровнем его традиционной культуры; общими особенностями его
фольклорной культуры. При этом вариативность в межэтнических
масштабах сохраняет одно из генеральных своих качеств - сохране-
ние узловых сюжетно-тематических моментов замысла, опорных
элементов семантики и соответствующих структурных позиций.
Именно структурно-семантические основы замысла с характерными
для него сюжетными очертаниями цементируют многообразие ва-
риантов, придавая им смысловое единство, но и не препятствуя
внесению новых значений и оттенков, семантическим сдвигам и
обогащению исходного замысла. Так в масштабах международных
возникают вариативные ряды, цепочки, комплексы с разнооб-
разными взаимными связями и с различными отношениями к за-
мыслу: здесь можно обнаружить и параллельность разработок, и
взаимодополнительность, и типологическую преемственносгь/после-
довательность, и отталкивание. Так или иначе, любой вариативный
комплекс одной этнической традиции наилучшим образом прочи-
тывается и толкуется в соотнесенности с его иноэтническими ва-
риантами, в которых запечатлены свои оттенки семантики и свои
этапы эволюции и типы разработок.
6
Стремление фольклорного творчества через варьирование к "ис-
черпанности" какой-либо заданной традицией темы-коллизии, а в
более узком, конкретном смысле - замысла, к обнаружению в них
вероятности аспектов, подчас - взаимоисключающих, приводит к
возникновению (в рамках этнических и межэтнических особенно)
полифонически богатого, емкого и парадоксально сложного фонда
"родственных" сюжетов. Типология варьирования как на макро-, так
и на микроуровне пока выявлена недостаточно, хотя эмпирический
материал накоплен громадный. Изучение механизма варьирования
неизбежно ведет нас к необходимости уяснить наиболее суще-
ственные законы фольклорного сюжетообразования. Один из таких
законов, на наш взгляд, состоит в том, что у истоков фольклорной
сюжетики лежат оппозиции, заключающие в себе неисчерпаемые
возможности разработок в самых разных направлениях.
В качестве примера можно сослаться на обширный круг про-
изведений об отношениях брата и сестры. Древнейшими были мифы
о брате и сестре - родоначальниках этноса, об их инцестной связи,
давшей жизнь поколениям. Этот круг сюжетов зафиксирован у
многих народов на ранних стадиях исторического развития, а в сла-
вянском фольклоре "поглощен" более поздней традицией. Тема
инцеста брата и сестры постепенно невероятно разветвилась. Ми-
196 Б.Н. Путилов
ровой фольклор дает густой пучок типовых сюжетных разработок со
множеством разных версий - в героическом эпосе, в сказках, бал-
ладах, обрядовых песнях и др. Здесь собран, кажется, весь спектр
возможных (в рамках фольклорной традиции, а не бытовой реаль-
ности) коллизий, связанных с угрозой, преодолением или осуществ-
лением инцеста, а также с более близкими к быту отношениями
родственной любви, верности и преданности, взаимопомощи, само-
отверженной поддержки, но и отчуждения, вражды, измены и др.
Различные сюжеты баллад, бытовых, обрядовых песен подобного
содержания следует рассматривать не каждый сам по себе и не
просто в их отношениях к реально-бытовому плану, но во взаимных
отношениях, перекличках, противостоянии. Семантика вариантов
неизбежно пересекается и взаимодействует. При этом фольклор как
бы нарочито предлагает взаимоисключающие развязки и проти-
воположные трактовки [Путилов 1964]. Так внутрифольклорными
средствами преодолевается предписанная фольклору ограниченность
его возможностей, власть стереотипов, варьирование осуществляет
одну из главных задач фольклорного творчества - полноту и ак-
туальность его связей с жизнедеятельностью этноса. При этом
главным регулятором выступает не критерий достоверности, эм-
пирической правды, а возможность значительных обобщений, отве-
чающих сознанию этноса на разных этапах его истории, при со-
хранении исходных начал.
В пределах любого жанра могут быть выявлены разного рода
оппозиции, набор типовых разработок которых обеспечивает необ-
ходимую полноту содержательного фонда и его историческую про-
тяженность. В героическом эпосе, например, такими оппозициями,
давшими жизнь бесконечному числу произведений и их версий,
редакций, являются: богатырь - змей/чудовище, жених-богатырь -
"чужой" мир невесты; жених-богатырь - соперник; жених-богатырь -
невеста-богатырка; богатырь - этнический враг; богатырь - его сын
из "чужого" мира. В рамках таких общетематических оппозиций,
дающих жизнь сюжетам целых поэм, сосредоточиваются оппозиции
на уровне эпизодов, блоков мотивов, ситуаций: богатырь - вещая
мать; богатырь - верная жена; богатырь - жена-предательница; бо-
гатырь - вещие существа; богатырь - князь/царь и др.
Существующие в науке сюжетно-тематические указатели, сло-
вари мотивов наглядно демонстрируют наличие в разных этнических
и межэтнических традициях наборов и иерархий оппозиций и
многообразие соответствующих разработок в рамках отдельных
жанров и на уровне межжанровом. Они позволяют до известной
степени судить о границах "исчерпанности" возможностей, предо-
ставляемых традицией, и даже улавливать тенденции вариационных
процессов на отдельных участках.
Вариативность в фольклоре 197
Но, разумеется, указатели выполняют роль лишь первоначаль-
ных путеводителей, поскольку типология вариативности, ее меха-
низм и ее живые результаты могут быть раскрыты лишь ’’изнутри”,
в ходе детального анализа возможно большего числа вариантов
избранных для исследования сюжетов.
До сих пор анализ вариантов в фольклористических работах был
преимущественно направлен на решение задач генетического или
исторического порядка, на получение частных социологических на-
блюдений или выводов относительно художественной "шлифовки” в
фольклоре. Между тем, такой анализ важен и сам по себе. Будучи
направлен на уяснение внутренних законов, механики вариатив-
ности, он многое откроет нам в самом феномене фольклорного
творчества, поможет понять его природу, его возможности и гра-
ницы, которыми в значительной степени обусловливается характер
его отношений с действительностью.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Напротив, сторонники той точки зрения, что "фольклор есть часть словесного
искусства (т.е. литературы в широком смысле слова)", готовы и в сфере вариативно-
сти не усматривать коренных различий между фольклором и литературой, поскольку
история последней знает множество случаев варьирования [Соколов 1938, с. 8,12-15].
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Байбурин, Левинтон 1983. - Байбурин А.К., Левинтон Г.А. О соотношении
фольклорных и этнографических фактов. - Acta Ethnographica Academiae
Scientiaium Hungaricae. 1983. T. 32, c. 3-31.
Земцовский 1980. - Земцовский И.И. Проблема варианта в свете музыкальной
типологии: Опыт этномузыковедческой постановки вопроса. - Актуальные
проблемы современной фольклористики. Сборник статей и материалов. Л., 1980,
с. 36-50.
Леви-Строс 1983. -Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983.
Пропп 1958. - Пропп В.Я. Русский героический эпос. Изд. 2-е., испр. М., 1958.
Путилов 1964. - Путилов Б.Н. Исторические корни и генезис славянских баллад об
инцесте. - Доклад для VII Международного Конгресса антропологических и этно-
графических наук. М., 1964.
Смирнов 1978. - Смирнов Ю.И. Эпика Полесья. - Славянский и балканский
фольклор. Генезис. Архаика. Традиции. М., 1978, с. 219-269.
Соколов 1938. - Соколов Ю.М. Русский фольклор. М., 1938.
Толстой 1976. - Толстой Н.И. Невестка стала в поле тополем ("тополей"). -
Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общесла-
вянском фоне. М., 1986, с. 39М4.
Толстой, Толстая 1978. - Толстой Н.И., Толстая С.М. К реконструкции древ-
неславянской духовной культуры (лингво-этнографический аспект). - Славянское
языкознание. VIII Международный съезд славистов. Загреб-Любляна, сентябрь
1978. Доклады советской делегации. М., 1978.
Чистов 1986. - Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. Очерки теории. Л.,
1986.
Д.С. РАЕВСКИЙ
СКИФСКИЙ ПАНТЕОН:
СЕМАНТИКА СТРУКТУРЫ
"Они (скифы. - Д.Р.) чтут только следующих богов: выше всех
Гестию, затем Зевса и Гею, признавая последнюю супругой Зевса,
далее Аполлона, Афродиту Уранию, Ареса и Геракла. Эти божест-
ва чтут все скифы, а так называемые скифы царские приносят
жертвы еще и Посейдону. Гестия по-скифски называется Табити,
Зевс - Папай, по моему мнению, совершенно правильно, Гея - Апи,
Аполлон - Гойтосир, Афродита Урания называется Аргимпа-
са, Посейдон - Тагимасад". Так звучит в литературном перево-
де Е.А.Бессмертного, заимствованном из известной антологии
В.В.Латышева [Латышев 1890, с. 25], один из самых ценных для
исследователей культуры скифов пассажей Скифского логоса Геро-
дота (IV, 59). Утверждение самого отца истории, что названными
здесь персонажами исчерпывается круг почитаемых скифами богов,
позволяет трактовать этот пассаж как описание скифского пантеона.
На фоне общей скудости дошедших до нас сведений о мифологии и
религии скифов трудно переоценить значение такого описания для
воссоздания идеологии скифского общества, его духовной жизни.
Приведенный пассаж неоднократно анализировался с самых раз-
ных точек зрения: исследовались функции перечисленных здесь бо-
гов, предпринимались толкования сохраненных Геродотом скифских
теонимов, выяснялся характер пантеона в целом. Вряд ли, однако,
содержащуюся здесь информацию можно считать исчерпанной, тем
более что ни по одному из аспектов интерпретации до сих пор по
существу не достигнуто единство мнений. В этой статье основное
внимание будет сосредоточено на вопросе о структуре скифского
пантеона, что, впрочем, по необходимости потребует обращения и к
иным аспектам его толкования. Предпочтение отдается именно
такому углу зрения, ибо ключ к разносторонней интерпретации
описанного Геродотом пантеона скифов можно получить, лишь вос-
создав историю этого описания, выяснив происхождение запечат-
© Д.С. Раевский, 1994
Скифский пантеон 199
ленных в нем сведений. Между тем, "родословная" интересующего
нас пассажа в наибольшей степени проявляется именно в его струк-
туре. Остановимся на этом моменте несколько подробнее.
Как известно, все доступные нам вербальные источники, содержа-
щие сведения о религиозно-мифологических представлениях скифов,
принадлежат к категории текстов, инокультурных по отношению к
собственно скифской среде. Главным образом это - отрывки из про-
изведений греческой или римской литературы. Поэтому любая ин-
терпретация подобных источников непременно включает определе-
ние того, с какой мерой достоверности античные авторы передавали
информацию о явлениях чужой им культуры. И хотя скифология изо-
билует примерами, когда сопоставление с изобразительными памят-
никами, с археологическими материалами, с данными какой-либо
родственной скифам традиции убедительно подтверждало доста-
точную надежность подобной информации, в ней обнаруживались и
влияния культурной среды-посредника, имеющие в различных слу-
чаях разный характер и разную интенсивность. Суть подлежащих
выявлению искажений подлинной картины в значительной мере за-
висит от природы анализируемого источника, от истории его форми-
рования и от характера отраженного в нем исконного скифского
"прототексга". С этой точки зрения античные свидетельства о мифо-
логии и религии скифов делятся на несколько качественно различных
групп, методика толкования каждой из которых, естественно, спе-
цифична.
К первой группе относятся обнаруживаемые в произведениях
авдичной литературы изложения сюжетной канвы оригинальных
скифских мифов. Ориентация любой мифологии на повествова-
тельность как на главный инструмент осмысления универсума [Ме-
летинский 1976, с. 171-172; Раевский 1984], предопределяя исключи-
тельно важную роль сюжетов в процедуре мифологического модели-
рования мира, одновременно создавала условия для достаточно ак-
тивного обмена сюжетами между культурами. Одним из проявлений
этого процесса является обилие изложений аборигенных мифов в
треко-римской литературе о варварах, и скифские главы этой лите-
ратуры в указанном отношении не составляют исключения. По-
добные изложения могут быть либо достаточно близкими к ориги-
налу, либо обрастать какими-то добавлениями, искажениями, подста-
новками. Выявление таких чуждых наслоений иногда осуществ-
ляется относительно легко, иногда сопряжено со значительными
сложностями, но в принципе суть и смысл подобной процедуры
вполне очевидны. В скифологии богатый опыт такого рода "очи-
щения прототекста" накоплен в процессе интерпретации так назы-
ваемого скис^ркого генеалогического мифа, дошедшего до нас в
пересказах Геродота, Диодора, Валерия Флакка и других авторов.
200 Д.С. Раевский
К следующей группе можно отнести описания скифских ритуалов.
Здесь инокультурные наслоения чаще всего затрагивают сферу
осмысления чуждой культовой практики, но не сам облик экзоти-
ческих и вследствие этого приковывавших внимание обрядов, и по-
тому описательная часть подобных сообщений, как правило, сохра-
няет почти этнографическую точность и заслуживает достаточного
доверия.
Интересующий нас в данный момент отрывок из Геродота не
принадлежит ни к одной из охарактеризованных групп и вообще
стоит особняком среди имеющихся свидетельств о религиозно-ми-
фологических представлениях скифов. Он начисто лишен каких-либо
элементов сюжетности, кроме, пожалуй, указания на брачную связь
Папая и Апи; фактически не касается он и форм ритуальной
практики скифов. По существу, перед нами - голое перечисление ми-
фологических персонажей, своего рода реестр. Тем важнее заметные
в нем структурные характеристики. К ним относятся число упо-
мянутых богов, их последовательность, характер группировки на
совокупности более низкого по отношению ко всему пантеону уров-
ня. Именно эти особенности могут пролить свет на природу сохра-
ненных Геродотом сведений, прежде всего - ответить на вопрос,
кому принадлежит конструирование запечатленной здесь структу-
ры - самому отцу истории, его информаторам из среды припон-
тийских эллинов, или же перед нами воспроизведение аутентичного
скифского текста. Если же принять последнее толкование, то сле-
дует установить, информацию о явлении какого характера этот
текст содержит.
Последний вопрос отнюдь не случаен, поскольку, приступая к
анализу сообщения Геродота о скифском пантеоне, необходимо для
начала уточнить содержание самого понятия "пантеон". Термином
этим в специальной литературе обозначается, как известно, опре-
деленным образом организованная совокупность персонажей той или
иной религиозно-мифологической традиции, и перечень скифских бо-
гов у Геродота вполне отвечает такому определению. Необходимо,
однако, уточнить, каков в каждом конкретном случае принцип
организации этой совокупности, на каких основаниях она
базируется. В этом смысле можно говорить о двух основных типах
пантеонов.
В религиеведении под пантеоном чаще всего понимают группу
богов, иерархически расположенных по степени их почитания в
данном обществе, по мере приписываемого им влияния на жизнь
социума, по удельному весу адресованных им обрядов, жертвопри-
ношений и т.п. в общем фонде ритуальных акций коллектива. По
такому критерию выделяют обычно "верховных" и "второстепен-
ных" богов изучаемой религии. Следует отметить, что такая система
Скифский пантеон 201
по самой своей природе достаточно динамична: место того или иного
персонажа в ее рамках может существенно меняться на протяжении
времени в зависимости от особенностей конкретного этапа социаль-
ной, экономической и даже политической истории народа. Здесь
сказываются экологические условия его обитания и зависящий от
них удельный вес каждого вида хозяйственной деятельности в
обеспечении материальных условий существования социума, общий
уровень развития общества, роль определенных социальных слоев в
его жизни, иерархическое положение в нем различных этнических
компонентов. Вторая особенность подобного пантеона состоит в том,
что он - открытая система, которая может более или менее легко
включать в себя богов иной культурной традиции и даже отдавать
им достаточно высокие позиции в божественной иерархии. В этой
связи можно вспомнить факты усвоения античным миром культа
египетской Исиды, иранского Митры и др. Да и в самом пантеоне
древних эллинов соседствуют вполне гетерогенные образы. Напом-
ним мнение о фригийском происхождении культа Кибелы, фракий-
ских или фригийских корнях почитания Диониса; даже истоки культа
Аполлона - одной из главенствующих на Олимпе фигур - прихо-
дится искать в культуре неиндоевропейской доэллинской среды.
Именно в таком ключе зачастую трактуют и описанный Геро-
дотом пантеон скифов, видя в нем совокупность персонажей, некогда
почитавшихся отдельными скифскими племенами и лишь в процессе
’’перерастания родо-племенных культов в союзоплеменной” оформив-
шихся в единый "пантеон верховных божеств” [Бессонова 1983,
с. 26, 40-41] как в некую целостность. При этом не исключают
наличия в этом пантеоне и богов, заимствованных у других народов.
К примеру, существует мнение, что культ "скифской Афродиты
Урании” был воспринят скифами в Передней Азии в период их
знаменитых походов [Бессонова 1983, с. 38-40]. М.И. Ростовцев
предполагал для скифского пантеона гетерогенность несколько иного
плана, видя в нем соединение "скифских” и "предскифских” богов,
отражающее полиэтничный - с участием неиранского субстрата -
состав населения Северного Причерноморья скифской эпохи
[Rostovtzeff 1922, с. 107]. Именно при таком - и только при таком -
понимании можно говорить о "создании пантеона” скифов [Бессонова
1983, с. 41] как о событии, поддающемся привязке к более или менее
определенному участку хронологической шкалы. Подобный подход,
естественно, определяет характер интерпретации всей структуры
описанного Геродотом скифского пантеона как явления прежде всего
религиозной сферы.
Однако пантеон может представлять и явление иного - мифо-
логического- характера. Вопрос о соотношении религии и
мифологии, об их тесной исторически обусловленной связи, но
202 Д.С. Раевский
отнюдь не о тождественности в отечественной литературе был, как
известно, подробно освещен С.А.Токаревым. ''Сама по себе мифо-
творческая деятельность человеческого разума не заключает в себе
ничего религиозного... Хотя мифология играет и важную роль в
истории религии, как бы поставляя материал для содержания
религиозных верований, не она является самым существенным
элементом религии" [Токарев 1982, с. 377-378; см. также: Токарев
1962]. Различая два достаточно разнородных явления, покрываемых
единым термином "пантеон", мы во втором случае рассматриваем
его именно как один из продуктов "мифотворческой деятельности
человеческого разума", не идентичной религиозному сознанию. Мы
исходим из понимания мифологии как "тотально господствующего"
на ранних этапах человеческой истории "способа глобального кон-
цептирования" [Мелетинский 1976, с. 163], а мифологической модели
мира - как "тотальной моделирующей знаковой системы" [Меле-
тинский 1976, с. 230]. В этих условиях каждый персонаж той или
иной мифологии воплощает определенный элемент этой модели и
потому находится в достаточно строго фиксированных отношениях
со всеми остальными ее персонажами, выполняющими аналогичные
функции. Совокупность этих персонажей и составляет пантеон
данной мифологии.. Такой пантеон в отличие от рассмотренного
выше - по самой своей природе система гомогенная, а потому
достаточно стабильная по структуре и ограниченная по числу состав-
ляющих элементов, ибо она моделирует строение универсума как
целостности в представлении носителей той культурной традиции,
которой принадлежит исследуемая мифология1.
Какое же понимание пантеона как культурно-исторического фено-
мена запечатлено в рассматриваемом пассаже Геродота? Поскольку
для ответа на этот вопрос важен целый ряд особенностей самого
этого пассажа, приведем здесь другой его перевод, уступающий
приведенному выше в степени художественности, но более близкий к
оригиналу, и обратим внимание на зафиксированный греческим текс-
том характер связей между отдельными элементами исследуемой
структуры. Перевод заимствован из последнего отечественного
издания Скифского логоса Геродота [Доватур и др. 1982, с. 120-121]:
"Богов они умилостивляют только таких: больше всего
(ц’аХюта) Гестию, кроме того ("ел! бе) Зевса и Гею, полагая, что
Гея - жена Зевса, после них (рет'а 5ё to'Otodc) Аполлона и
Афродиту Уранию и еще Геракла и Ареса". Дальнейшее цитиро-
вание второго перевода мы опускаем, ибо там уже нет принци-
пиальных расхождений между переводами.
Приступая к анализу приведенного пассажа в заявленном выше
аспекте, следует прежде всего остановиться на специально отме-
ченной В.И. Абаевым особенности интересующей нас совокупности
Скифский пантеон 203
общескифских богов - на том, что число их равно семи. В.И. Абаев
сопоставил этот факт с аналогичной характеристикой целого ряда
религиозно-мифологических систем различных иранских и даже
индоиранских народов - с семью Адитья ведийской традиции, семер-
кой Амеша Сленга зороастризма, семибожием древних алан, осетин-
скими народными представлениями - и пришел к выводу, что
"семибожный пантеон был древним общеарийским трафаретом", по-
лучившим различное конкретное оформление в разных культурах, но
достаточно стабильно сохранявшимся в качестве структурной их
характеристики [Абаев 1962, с. 447]. Несколько дополнительных
аналогий в поддержку этого тезиса привели позже Л.П. Маринович и
Г.А. Кошеленко [1977, с. 118-119], обнаружившие ту же законо-
мерность в описании богов ахеменидского Ирана у Геродота (I, 131)
и в культуре испытавшей сильное иранское влияние аршакидской
Армении.
Уже одно это обстоятельство неопровержимо доказывает исконно
скифский характер запечатленной Геродотом особенности скифского
пантеона и исключает предположение, что интересующая нас струк-
тура была целиком сконструирована самим отцом истории, как и
вообще в эллинской среде.
Л.П. Маринович и Г.А. Кошеленко [1977, с. 119] обратили вни-
мание и на другую не менее важную особенность анализируемого
пассажа - на отражение в нем "строго иерархической структуры"
скифского пантеона: "Совершенно очевидно, что Геродот не просто
перечисляет скифские божества, но что он описывает четко орга-
низованную систему", которая "определялась наличием трех уровней
божеств". Одновременно деление Геродотом входящих в пантеон
скифских богов на три "разряда" было отмечено и автором данной
статьи [Раевский 1977, с. 121]. Первый "уровень", или "разряд",
представлен лишь одним персонажем - богиней Табити - Гестией,
второй включает супружескую пару - Папая-Зевса и Апи-Гею,
остальные божества принадлежат третьему "уровню"2. Способ рас-
пределения богов по этим уровням в тексте Геродота таков: Табити
почитается (1'аХюта, т.е. "превыше всего", "прежде всего", боги
второго уровня - ’ста 5ё - "затем", а третьего - цет'а 5е tovto'DC
"после этих". Характеризуя два последних оборота, Л.П. Маринович
и Г.А. Кошеленко [1977, с. 119] отмечают, что они употреблены
"конечно, не во временнбм смысле, а в смысле их (богов. - Д.Р.)
значения", т.е. отражают иерархию их почитания. В полной ли мере
однако, оправданна такая категоричность?
Выражение, которым охарактеризовано положение в пантеоне
богини Табити, - ц'аХюта - как будто в самом деле однозначно
указывает на высшую степень почитания и не на что иное. Но
обороты, посредством которых затем к ней присоединены персонажи
204 Д.С. Раевский
двух других уровней, в принципе могут отражать и последователь-
ность во времени. Это обстоятельство приобретает особое значение,
если присмотреться к тому, какое именно божество вынесено в
скифском пантеоне на первое место.
Подробный анализ образа скифской богини Табити был пред-
принят мною ранее [Раевский 1977, с. 87-109]. Суммировав все
имеющиеся данные о ней и о формах ее почитания, я пришел тогда
к выводу, что богиня эта связана отнюдь не только с домашним оча-
гом, как обычно считали, исходя из отождествления ее Геродотом с
эллинской Гестией. Есть достаточно много оснований видеть в ней
воплощение огня во всех его проявлениях, и в этом отношении скиф-
ское божество семантически весьма близко к ведическому Агни. В
данный момент для нас особенно важно, что названных персонажей
двух разных индоиранских традиций сближает, помимо прочего,
обязательность их упоминания в начале всякого обрядового действия
и в качестве начального элемента любого ритуального перечисления
богов. Аналогичная особенность почитания огня с большей или
меньшей степенью полноты прослеживается в культуре древних
римлян, хеттов, славян. К ней восходят и некоторые проявления
культа той самой греческой Гестии, с которой сблизил Табити Геро-
дот. Специального внимания заслуживает свидетельство Страбона
(XV, III, 16), что "какому бы божеству ни приносили жертвы"
древние персы, "они прежде всего обращаются с молитвой к огню".
В свете всего сказанного становится вполне понятной первичная
позиция этой богини в скифском пантеоне. Это - проявление устой-
чивой и хорошо известной индоевропейской традиции, особенно
отчетливо проявляющейся в древних индоиранских культурах. В
конечном счете из связанных с огнем представлений и ритуалов
древних ариев вырисовывается понимание этой стихии как основного
элемента мира, всеобъемлющего и вездесущего. Таков, к примеру,
уже упоминавшийся ведический Агни, пребывающий одновременно
во всех трех сферах мироздания - в небе, в хтонических водах и
среди людей (RV, X, 45). Такова же, судя по всей совокупности
имеющихся данных, роль Табити в универсуме скифов, а помещение
ее Геродотом в первый разряд богов скифского пантеона можно
рассматривать как еще одно доказательство аутентичности
сохраненной отцом истории информации о структуре этого пан-
теона.
Между тем, огонь в картине мира древних индоиранцев высту-
пает в качестве универсального элемента прежде всего потому, что
он в конечном счете - первоэлемент, исходная субстанция космоге-
неза. Поэтому, сближая скифскую Табити с ведическим Агни, нельзя
в то же время не обратиться еще к одному образу ведической мифо-
логии. Речь идет о Тапасе - изначальном космическом жаре, само
Скифский пантеон 205
имя которого к тому же этимологически связано с именем скифской
богини, обычно трактуемым как Tahiti < *Tapayati "согревающая"
или "пламенеющая" [Абаев 1962, с. 448; Nyberg 1938, с. 254, 464]. В
ведической картине мира Тапас и Агни - вполне автономные образы,
но и природа воплощенных в них явлений, и их место в космо-
логической структуре указывают на их значительную семантичес-
кую близость и на возможность происхождения из единого корня.
Существование же Тапаса, согласно Ригведе (X, 190), изначально
предшествует ряду последовательных этапов космогонического про-
цесса, среди которых - создание неба и земли, а затем воздушного
пространства, т.е. локализуемого между небом и землей среднего
мира. Эта аналогия заставляет нас в новом свете взглянуть на
последовательность разрядов богов в интересующем нас скифском
пантеоне.
Как уже упоминалось, второй его уровень включает супругов
Папая и Апи. В других контекстах эти скифские теонимы не встре-
чаются. Но зато нам хорошо известна мифология супружеской пары,
действующей в скифском генеалогическом мифе, дошедшем до нас в
разных вариантах. Здесь в основании мифической генеалогии, отра-
жающей последовательные стадии космо- и социогенеза, мы находим
мужской персонаж, в греческом изложении скифского мифа получив-
ший имя Зевса (Herod., IV, 5; Diod., II, 43), а в латинском - его
римского аналога Юпитера (Vai. Flacc, VI, 50). Вспомним, что с тем
же Зевсом Геродот отождествляет Папая. Супруга скифского Зев-
са-Юпитера в мифе - дочь реки Борисфен или рожденная землей
нимфа с полузмеиным телом, т.е. в конечном счете - олицетворение
водно-земного хтонического начала. Таковы же характеристики и
богини Апи, имя которой этимологически связано с водой и которую
Геродот отождествляет с греческой богиней земли Геей. Все это
свидетельствует, что упомянутые супруги из скифского ге-
неалогического мифа и персонажи второго уровня скифского пантео-
на идентичны, а сам мотив их брака олицетворяет космический союз
неба и земли (подробнее см. [Раевский 1977, с. 42-47]). В даль-
нейшем, согласно мифу, именно от этого союза рождается первый
человек.
Мы видели, что в ведической космогонии происхождение неба и
земли следует во времени за эпохой безраздельного существования
космического жара Тапаса и предшествует появлению среднего ми-
ра. В описании же скифского пантеона за упоминанием богини огня
Табити как объекта наивысшего почитания следует перечисление
богов второго уровня - олицетворения небесного и хтонического
миров. В свете этой аналогии представляется правомерным поста-
вить вопрос, не отражает ли весь порядок перечисления скифских
богов, делящихся на три разряда, в описании скифского пантеона у
206 Д.С. Раевский
Геродота не только и не столько степень их почитания, сколько
последовательность возникновения элементов мироздания, три этапа
космогенеза, с чем, в частности, связан характер словесных оборо-
тов, использованных для сопряжения этих разрядов между собой.
Первоначально существует лишь Табити - огонь в самых разных его
проявлениях, пронизывающий впоследствии и весь универсум, пред-
ставленный во всех его элементах и зонах и потому наиболее
(|Г<хХют(Х) почитаемый. Существование Табити в ее уникальности -
это первый этап скифской космогонии и одновременно - первый
уровень скифского пантеона. Затем (’nrt 8ё) возникают небо (Па-
пай) и земля/вода (Апи), входящие во второй разряд скифских богов,
что составляет вторую стадию космогенеза. В таком случае четыре
божества третьего уровня, почитаемые после ранее названных
(дета 8ё тсгитоис), должны представлять тот средний мир, который
возникает вследствие брака богов второго уровня, а само появление
этой тетрады персонажей должно знаменовать третью, заключи-
тельную, стадию космогенеза.
Это предположение находит подтверждение уже в том обстоя-
тельстве, что именно в третий разряд пантеона входит божество,
которое Геродот называет Гераклом. Его скифского имени отец
истории при описании пантеона не называет. Но Гераклом в неко-
торых версиях уже упомянутого генеалогического скифского мифа, в
том числе в одном из Геродотовых его изложений (Herod., IV, 8-10),
именуется центральный персонаж, в других вариантах названный
Таргитаем (Herod., IV, 5-7) или Скифом (Diod., II, 43) и выступаю-
щий в роли первочеловека скифской мифологии и сына рассмотрен-
ной выше космической супружеской пары. В космологическом ас-
пекте рождение первочеловека представляет акт, эквивалентный
созданию средней зоны космоса, выступающей как мир людей по
преимуществу. Появление этой зоны как бы пространственно
разъединяет слитые до этого в брачном единении Небо и Землю. С
другой стороны, прямую аналогию пониманию среднего звена космо-
логической триады как персонифицированного в человеке и отож-
дествлению возникновения этого звена с созданием человека дает, к
примеру, традиционная формула надписей ахеменидского Ирана, где
в качестве равноправных демиургических деяний Ахура Мазды
называются создание неба, земли и смертного человека [Kent 1953,
с. 137, 141, 147 и др.]. Идентичная интерпретация космогенеза
представлена в тюркской мифологической традиции; так, в Большой
надписи Кюльтегина к его составляющим отнесены возникновение
вверху - голубого неба, внизу - бурой земли и между ними - чело-
веческих сынов [Стеблева 1976, с. 54]. Это означает, что первоче-
ловек в мифологии - такое же олицетворение одной из космических
зон, как божества неба и земли. Все это позволяет идентифици-
Скифский пантеон Iff?
ровать Геракла скифского пантеона с Гераклом-Таргитаем генеало-
гического мифа и объясняет включение его в качестве божества в
состав пантеона.
Обратимся к остальным персонажам третьего разряда скифских
богов. Подлинное имя того божества, которое в анализируемом пас-
саже идентифицировано с греческим Аресом, нам неизвестно, и
потому при интерпретации его сущности мы лишены возможности
прибегнуть к этимологическим выкладкам. Не знаем мы и каких-
либо связанных с ним мифов. Основное, чем мы располагаем, -
более подробное, чем во всех иных случаях, описание форм покло-
нения этому божеству. По данным Геродота (TV, 62), в каждой из
областей скифского царства сооружаются из связок хвороста спе-
циальные посвященные ему гигантские жертвенники в виде возвы-
шения с тремя отвесными сторонами и одной пологой, по которой
есть доступ на верхнюю четырехугольную площадку. На вершине
этого жертвенника водружается старинный железный меч, который
и служит кумиром Ареса, и ему ежегодно приносят в жертву домаш-
них животных и каждого сотого пленника.
В имеющихся данных ощутима двуединая сущность скифского
божества. Адресованные ему кровавые жертвоприношения, то, что
сам бог предстает в образе меча, и его отождествление с греческим
Аресом - все это несомненно указывает, что перед нами военное бо-
жество. Ж. Дюмезиль [1976, с. 58 сл.] выявил сходство (очевидно,
генетическое) скифского персонажа с одним из героев нартского
эпоса - неистовым воителем Батрадзом, постоянно выступающим в
качестве защитника своих сородичей от врагов. Сам Батрадз создан
из закаленной стали и теснейшим образом связан со своим мечом: он
бессмертен, пока этот меч невредим, т.е. меч есть в данном случае
такая же ипостась героя, как в скифском ритуале - воплощение
бога.
В то же время, как показали исследования последних лет [Бес-
сонова 1978; 1984, с. 3-7; Алексеев 1980, с. 41-42], меч, водру-
женный на вершине четырехугольного жертвенника, без сомнения,
представляет одно из воплощений мировой оси - элемента, органи-
зующего упорядоченную вселенную. О том, что меч водружался
именно в вертикальном положении, свидетельствует описание
сходных ритуалов у родственных скифам сармато-аланских племен
(Атт. Marc., XXXI, II, 23). В.И. Абаев [1979, с. 228] выявил тот же
мотив в нартских сказаниях о Батрадзе. Таким образом, алтарь
скифского Ареса - достаточно прозрачная модель мироздания, а сам
меч - символ его средней зоны. С такой приуроченностью этого
божества связан, видимо, и описанный Геродотом способ принесения
ему жертвы - подбрасывание отрубленных рук пленников в воздух
[Campbell 1968, с. 75]. Обитание в воздушном пространстве харак-
208 Д.С. Раевский
терно и для Батрадза, который в эпосе часто характеризуется как
сокрушительный вихрь.
Лукиан в одной из посвященных скифской тематике новелл (Тох.,
38) сообщает, что в качестве богов скифы почитают Ветер и Меч.
Правда, здесь эти образы как бы противопоставлены: первый
выступает в роли подателя жизни, второй - как носитель смерти.
Однако само их соположение вряд ли случайно и в совокупности с
приведенными данными позволяет скорее полагать отражение в
этом пассаже определенной амбивалентности единого скифского
персонажа [Campbell 1968, с. 73]. Показательно в этом смысле и
отмеченное Д.А.Мачинским [1978, с. 148] и А.Ю. Алексеевым [1980,
с. 42] фалломорфное оформление скифского меча-акинака: смерто-
носное оружие имеет одновременно облик жизнетворного органа.
Все эти моменты подтверждают специфическую связь рассмот-
ренного божества со средней зоной космоса.
Восстановить подлинное имя входящей в тот же третий уровень
скифского пантеона "Афродиты Урании" мешает то, что в разных
источниках оно запечатлено по-разному: Apytpnaoa, 'АртЦмсааа
и др. Если предпочесть форму Артимпаса (кстати, она засвиде-
тельствована не только в рукописях, но и эпиграфически - в двух
надписях вольноотпущенников из Тускула - CIG, III, № 6014а, Ь), то
в первом элементе скифского теонима опознается имя древней иран-
ской богини Арти (Аши) [Nyberg 1938, с. 254; Абаев 1962, с. 449-
450]. Тогда перед нами - единственный случай прямого совпадения
теонимов скифской и иных древнеиранских мифологических тради-
ций. В остальных же случаях при значительной функциональной
близости персонажей их именование различно, что достаточно легко
объяснимо законами развития теонимии - простотой превращения
эпитета бога в его имя, а имени - в дополнительную эпиклезу
[Грантовский, Раевский 1984, с. 53].
Имя скифской Афродиты Урании в избранном варианте в целом
интерпретировано Г. Нюбергом как "Смотрящая за Арти", "Забо-
тящаяся об Арти" [Nyberg 1938, с. 254], и тогда представления об
этой богине, характерные для скифской среды, демонстрируют
более раннюю стадию развития ее образа, чем, к примеру, засвиде-
тельствованные Авестой [Грантовский, Раевский 1984, с. 55-56].
Древнеиранская Арти - воплощение доступного людям материаль-
ного богатства во всех его формах, от обилия домашнего скота до
многочисленного потомства. Такая семантика образа в случае со
скифской богиней хорошо согласуется и с ее отождествлением с
эллинской Афродитой Уранией - покровительницей порождающих
сил материального мира. Генеалогия иранской богини, как она
отражена в авестийской традиции (YaSt, XVII, 16), подтверждает
закономерность ее отнесения к третьему уровню скифского пан-
Скифский пантеон 209
теона: подобно рассмотренному выше Гераклу-Таргитаю, Арти-
Артимпаса - порождение Неба и Земли. Наконец, приуроченность
этого божества именно к средней зоне мироздания подтверждается
авестийским рассказом о том, как Арти многократно стремится уйти
из ’’этого мира” на небо или в землю, но Ахура Мазда препятствует
этому (YaSt, XVII, 57-60).
О четвертом персонаже рассматриваемого разряда скифских
богов - ’’скифском Аполлоне” - мы знаем очень мало. Многообра-
зие представленных в рукописях форм его имени - ГогтОоирос,
О*1Т0аг)рос, ГоууОоврос - затрудняет поиски его этимологии, а тем
самым и семантики образа в целом. Недостаточно информативно в
этом плане и содержащееся у Геродота отождествление этого
скифского божества с эллинским Аполлоном ввиду исключительной
полифункциональности и многозначности образа последнего. Преоб-
ладающая в литературе солярная интерпретация "скифского Апол-
лона”, будучи одной из теоретически правомерных, не является в то
же время сколько-нибудь предпочтительной из-за неопределенности
имеющихся данных. По этой же причине столь же гипотетический
характер имеет утверждение о специфической связи этого божества
со средней зоной космоса, хотя среди предлагавшихся его интер-
претаций имеются такие, которые согласовывались бы с такой
трактовкой, - к примеру, толкование его имени как содержащего
иранский корень gaeda "материальный, телесный мир” или его
сопоставление с авестийским эпитетом Митры "Владыка пастбищ”
[Campbell 1968, с. 150]. Представляется, что единственный реальный
аргумент в пользу причисления "скифского Аполлона” к божествам
среднего мира - системная характеристика всей тетрады богов,
входящих в третий разряд скифского пантеона. В то же время
предположение А.Ю. Алексеева [1980, с. 45-46] о тождестве этого
бога рассмотренному выше "скифскому Аресу” было справедливо
отвергнуто С.С. Бессоновой [1983, с. 50] прежде всего как нару-
шающее стройную семибожную структуру скифского пантеона,
восходящую, как мы видели, к древней индоиранской традиции. .
Предлагаемая интерпретация скифских богов третьего уровня
подтверждается и их числом. В нем можно видеть проявление
универсального для древних космологий представления о четырех
векторах горизонтального пространства как об основе его структу-
рирования. По замечанию Э. Кассирера, "нет, вероятно, такой кос-
мологии, даже сколь угодно примитивной, в которой бы противо-
поставление четырех основных направлений не проявлялось тем или
иным способом как кардинальный момент понимания и объяснения
мира” [Cassirer 1955, с. 98]. Концепция эта как основа пространст-
венной и космологической структуры была в высшей степени свойст-
венна мифологии и ритуальной практике древних индоиранцев. Сле-
14 270
210 Д.С. Раевский
ды ее мы обнаруживаем, в частности, в разных явлениях скифской
культуры [Переводчикова, Раевский 1981, с. 46 сл.; Раевский 1981].
В данный момент для нас важно, что одним из способов марки-
рования четырех направлений горизонта являлось соотнесение с
каждым из них особого мифического персонажа. Наиболее яркий
пример - локапалы (хранители мира) древнеиндийской традиции
[Sircar 1972; Васильков 1974, с. 151-155]. Аналогичную структуру
являют, по всей видимости, и четыре бога третьего уровня скиф-
ского пантеона, относящиеся к среднему миру трехчленной вселен-
ной. То обстоятельство, что одним из этих богов является Геракл-
Таргитай, олицетворяющий, по предложенной выше трактовке,
средний мир в целом, не противоречит такой интерпретации этой
тетрады: аналогичную ситуацию мы находим в индийской картине
мира, где к числу локапал в качестве хранителя одной из сторон
света принадлежит Индра, одновременно являющийся и божеством,
совершающим разделение неба и земли и утверждение средней зоны
космоса как таковой, т.е. акт, семантически тождественный рож-
дению Таргитая.
Конкретная соотнесенность в скифской традиции каждого из че-
тырех рассмотренных богов с одним из направлений горизонта,
конечно, остается нам неизвестной.
Итак, анализ пассажа Геродота, посвященного описанию скиф-
ского пантеона, приводит к выводу, что в основе его структуры
лежит космологическая концепция скифов: распределение входящих
в этот пантеон богов по разным уровням и последовательность этих
уровней отражают не иерархию почитания божеств, а очередность
этапов космогенеза, строение возникающих на каждом из этих эта-
пов частей универсума и систему отношений между ними, какими они
представлялись скифской мифологии. В совокупности же составляю-
щих его элементов рассмотренный пантеон моделирует строение
мироздания в его горизонтальном и вертикальном "срезах"3. Все
особенности рассмотренного пассажа свидетельствуют, что он как
целостность не был сконструирован в инокультурной среде, а
достоверно отражает собственно скифские концепции и потому, ско-
рее всего, воспроизводит аутентичный скифский мифологический
текст. По мнению С.С. Бессоновой [1983, с. 54], это был текст
литургического характера. Настаивать на его связи именно с риту-
альной практикой скифов или опровергать эту связь нет оснований,
но адекватность запечатленной в нем картины мира скифской куль-
турной традиции бесспорна. Перед нами скифская мифологиче-
ская формула, но реальный способ ее бытия в среде скифов
неизвестен.
Семичленная пространственно-космологическая модель, включаю-
щая тернарную вертикальную и четырехчленную горизонтальную
Скифский пантеон 211
структуру, т.е. идентичная запечатленной в скифском пантеоне,
представляет собой культурную универсалию, присущую самым раз-
ным - в том числе исторически никак между собой не связанным -
обществам. Глобальное распространение имеет и ее использование в
качестве инструмента структурирования самых различных сторон
мироздания и явлений социального бытия. Но в каждой традиции
специфичны способы выражения этой структуры средствами разных
культурных кодов. Это определяет исключительную важность
сохраненной Геродотом информации для воссоздания представлений
о мире, присущих скифам Северного Причерноморья.
ПРИМЕЧАНИЯ
1Это не означает, конечно, что подобный пантеон вообще наглухо закрыт для
инокультурных влияний. Но поскольку мы имеем в данном случае дело с целостной
структурой, отражающей разветвленную систему представлений, адаптация ино-
культурного элемента чаще осуществляется здесь не путем прибавления к этой
структуре дополнительного звена, как в рассмотренном выше варианте, а заме-
щением семантически близкого звена исконной структуры - либо полным, либо
частичным..В последнем случае структура как бы обретает несколько параллельно
функционирующих модификаций, различающихся между собой вследствие вариатив-
ности одного из ее звеньев. Несущественное в одних культурных контекстах, раз-
личие между этнмн модификациями оказывается достаточно релевантным в
других.
Толкование скифского пантеона как тернарной структуры было несколько ранее
предложено Г. Виденгреном, искавшим в нем отражение трехфункциональной
системы Ж. Дюмезиля. По его мнению, Папай-Зевс и Аполлон-Гойтосир олице-
творяют первую - магико-юридическую функцию, Арес - вторую, военную, а Апи-
Гея н Аргимпаса-Афродита - третью, производительную [Widengren 1965, с. 158—
159]. В принципе наличие в скифской культуре различных проявлений трехфунк-
циональной модели достаточно убедительно показано в работах самого Ж. Дюмезиля
и Э.А.Грантовского. Много внимания уделил этому вопросу автор этих строк.
Наиболее ярко проявилась эта идея в сюжете скифского генеалогического мифа. Что
же касается толкования в таком ключе именно скифского пантеона, то оно во многом
зависит от понимания семантики образов каждого из богов, а характер имеющихся
данных далеко не всегда позволяет надежно ее определить. В некоторых случаях,
впрочем, трактовка Г. Виденгрена кажется вообще произвольной; таков, к примеру,
тезис о связи Гойтоснра с первой функцией. Важнее, однако, что, развивая мысль о
тернарной организации скифского пантеона, Г. В идеи грен прямые данные Геродота на
этот счет игнорирует и даже просто ломает запечатленную там трехчленную
структуру, а вместо нее чисто умозрительным путем конструирует свою.
3Из этой системы - уже по одному тому, что оно не входит в общескифскую
демерку богов, - совершенно явно выпадает божество, почитаемое лишь скифами
царскими, "скифский Посейдон". Скорее всего, это мифический родоначальник назван-
ного скифского племени, в чем-то дублирующий образ общескифского первопредка, но
в силу социальной обособленности скифов царских полностью с ним так и не иден-
тифицированный. Тогда - это единственное проявление той тенденции, которую, как
отмечено выше, иногда рассматривают как определяющую весь механизм формиро-
вания скифского пантеона, т.е. "суммирование" разноплеменных богов. Внимание,
уделенное Геродотом именно этому племенному богу, вполне объяснимо ролью
212 Д.С. Раевский
скифов царских в жизни Скифии как политического организма и соответственно их
племенного культа в ее идеологии.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Абаев 1962. - Абаев В.И. Культ "семи богов" у скифов. - Древний мир. Сборник
статей. М., 1962.
Абаев 1979. - Абаев В.И. [Рец. на:] Dumizil G. Romans de Scythie et d'alentour. P.,
1978. - Народы Азии и Африки. 1979, Aft 3.
Алексеев 1980. -Алексеев А.Ю. О скифском Аресе. - Археологический сборник. Гос.
Эрмитаж. Вып. 21. Л., 1980.
Бессонова 1978. - Бессонова С.С. Скифский Арей. - Археологические исследования
на Украине в 1976-1977 гг. Тезисы докладов XVII конференции ИА АН УССР.
Ужгород, 1978.
Бессонова 1983. - Бессонова С.С. Религиозные представления скифов. Киев, 1983.
Бессонова 1984. - Бессонова С.С. О культе оружия у скифов. - Вооружение скифов и
сарматов. Киев, 1984.
Васильков 1974. - Васильков Я.В. Происхождение сюжета Кайратапарвы
(Махабхарата 3.39-45). - Проблемы истории языков и культуры народов Индии.
М., 1974.
Грантовский, Раевский 1984. - Грантовский ЭА., Раевский Д.С. Об ираноязычном и
"индоарийском" населении Северного Причерноморья в античную эпоху. -
Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Лингвистика, история,
археология. М., 1984.
Доватур и др. 1982. -Доватур А.И., Каллистов ДЛ., Шишова ИА. Народы нашей
страны в "Истории" Геродота. Тексты, перевод, комментарий. М., 1982.
Латышев 1890. -Латышев В.В. Известия древних писателей, греческих и латинских,
о Скифии и Кавказе. Т. 1. СПб., 1890.
Маринович, Кошеленко 1977. - Маринович Л Л., Кошеленко ГА. О структуре скиф-
ского пантеона. - История и культура античного мира. М., 1977.
Мачинский 1978. - Мачинский ДА. Пектораль из Толстой Могилы и великие женские
божества Скифии. - Культура Востока. Древность и раннее средневековье. Л.,
1978.
Мелетинский 1976. - Мелетинский ЕМ. Поэтика мифа. М., 1976.
Переводчикова, Раевский 1981. - Переводчикова Е.В., Раевский Д.С. Еще раз о
назначении скифских наверший. - Средняя Азия и ее соседи в древности и
средневековье (История и культура). М., 1981.
Раевский 1977. -Раевский Д.С. Очерки идеологиискифо-сакских племен. М., 1977.
Раевский 1981. - Раевский Д.С. Куль-обские лучники. - Советская археология. 1981,
№3.
Раевский 1984. - Раевский Д.С. О генезисе повествовательной мифологии как
средства моделирования мира. - Фольклор и этнография. У этнографических исто-
ков фольклорных сюжетов и образов. Л., 1984.
Стеблева 1976. - Стеблева И.В. Поэтика древнетюркской литературы н ее
трансформация в раннекласснческий период. М., 1976.
Токарев 1962. - Токарев С А. Что такое мифология. - Вопросы истории религии и
атеизма. Вып. 10. М., 1962.
Токарев 1982. - Токарев С А. Религия и мифология. - Мифы народов мира.
Энциклопедия. Т. II. М., 1982.
Campbell 1968. - Campbell LA. Mithraic iconography and ideology. Leiden, 1968.
Cassirer 1955. - Cassirer E. The philosophy of simbolic forms. Vol. 2. New Haven, 1955.
Kent 1953. - Kent R.G. Old Persian. Grammar, texts, lexicon. 2nd ed. New Haven, 1953.
Скифский пантеон 213
Nyberg 1938. - Nyberg HS. Die Religionen des alten Iran. Lpz., 1938.
Rostovtzeff, 1922. - Rostovtzeff M. Iranians and Greeks in South Russia. Oxf., 1922.
Sircar 1972. - Sircar D.C. Guardians of the Quarters. - Religious life in Ancient India.
Calcutta, 1972.
Widengren 1965. - Widengren G. Die Religionen Irons. - Stuttgart, 1965.
А.С. СААКЯН
ХАЧКАРЫ - ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРМЕНИИ
Хачкары - крест-камни относятся к тем получившим мировое
признание ценнейшим памятникам культуры армянского народа,
значение которых обусловлено не только высоким искусством испол-
нения, но и их уникальностью. Сегодня любое исследование хачка-
ров вызывает большой интерес и в среде специалистов, и в широких
читательских кругах именно в силу стремления познать и обосновать
генезис хачкара как уникального явления культуры.
И хотя в трудах историков армянской культуры [Овсепян 1944;
Абегян 1941; Бархударян 1963; Мнацаканян 1955; Манукян 1969
и др.] уже намечались предпосылки для решения данного вопроса,
однако до сих пор исследователей занимала в основном проблема
путей возникновения формы креста-камня. Прототипы этой формы в
общих чертах были известны, тем не менее игнорировался тот глав-
ный фактор, что в различных культурных контекстах все они пред-
ставляли различные жанры, различные принципы мировосприятия и
мышления. Следовательно, задача заключалась не в решении гене-
зиса формы, а в объяснении жанра, с учетом не только формы
(которая может иметь также и дохристианские истоки), но и функции
памятника, заключенной в нем конкретной исторической информа-
ции, идейно-религиозной направленности и символико-смысловой
нагрузки.
Жанр хачкара
Первая главная особенность хачкара, отличающая его от других
типов изображения креста, выражается не только в конструкции
памятника, но и в его восприятии и функциональном назначении. Это
свойство обнаруживается в том, что крест изображается в отдельно
стоящем камне. Без креста этот камень никакой ценности не пред-
© А.С. Саакян, 1994
Хачкары - этнокультурные памятники 215
ставляет, ибо его единственная информационная значимость обу-
словлена соединившимся с ним крестом. Крест же, в свою очередь,
вне этого неинформативного камня лишается того своего нового
значения, которое отсутствовало во всех его предшествующих при-
менениях (крылатый крест, крест на четырехгранной стеле, крест на
стене усыпальниц и т.д.). Так, четырехгранная стела без изображе-
ния креста не теряла своего смыслового значения и религиозной
функции, ибо остальные три ее стороны были покрыты роскошными
скульптурными украшениями и узорами, а крест здесь как знак, под-
тверждающий принадлежность памятника к христианской символике,
был носителем лишь избыточной информации. В качестве же знака
на надгробии он рассматривался как обязательный элемент захоро-
нения христианина и воздвижения на его могиле памятника. Именно
эту основную целевую значимость имеет крест, высеченный на
стене усыпальницы армянских аршакидов в Ахце (IV в.), указываю-
щий, что усопшие были царями-христианами. Если крест изображал-
ся на стене церкви, он исполнял роль священной религиозной декора-
ции. Исполненный на западной стене церкви, он символизировал спо-
собность христианства и его обязательного трофея - креста - рас-
сеивать тьму и мрак.
Четырехгранная стела, усыпальница, церковь представляют
собой законченные модели мира, а потому крест на них играет роль
всего лишь одного из элементов. Именно поэтому крест не диффе-
ренцируется и не получает самостоятельной ценности. Отмеченный,
очерченный, изображенный на названных выше моделях крест
семантически находится на периферии, далеко от воспринимающего
и как таковой не обособляется в сознании. Внимание зрителя сосре-
доточивается на всем строении в целом, затем на одной из его сто-
рон, фасаде, арке и т.д. и лишь после этого переносится на изваян-
ный, высеченный и т.п. крест или какой-либо другой знак.
В хачкаре же крест является центром восприятия и сам непосред-
ственно является моделью мира (а не ее элементом). Семантическая
самодостаточность сближает хачкар с крылатым крестом, стоящим
отдельно, однако их отличает различное понимание и трактовка.
Крылатый крест (будь он изготовлен из камня, дерева или другого
материала), поставленный, скажем, на перекрестке дороги, на
площади и т.д., воспринимается не как непосредственно крест, а как
знак, "условное" обозначение, призванное указать на коммуникатив-
ную связь между нашим и истинным христовым крестом, отметить и
подтвердить наше благочестивое отношение и поклонение ему.
Совершенно иную смысловую нагрузку несет изображение креста
на хачкаре. Здесь нет опосредования, он в самом прямом смысле
принимается за крест, рсиг , г Подобно» ииманию
способствует каменная рамка которая заключает в себе крест.
216 А.С. Саакян
Таким образом отношение камня и креста в хачкаре становится
отношением содержимого и содержащего (ср. означаемого и озна-
чающего), где благодаря последнему содержимое конкретизируется
и приобретает индивидуальную форму функционирования. Сказан-
ное дает несомненное право утверждать, что восприятие хачкара
полностью отличается от восприятия крылатого креста, крестов на
стенах усыпальниц, церквей, четырехгранных стел и т.д.
В непосредственной зависимости от отмеченного факта находятся
также функции камня разных типов крестов. Для крылатого креста
камень служит всего лишь строительным материалом, он может
быть изготовлен также из дерева, золота и т.д.: это просто
каменный, изготовленный из камня крест.
Крест на больших памятниках, обелисках, стелах, усыпальницах,
стенах церквей просто высекается на камне. В хачкаре же
крест изваян, внесен, помещен в камень. Эта главная жанро-
вая особенность хачкара, выраженная как в его структуре, так и в
основе его восприятия, является самым стабильным и не варьирую-
щимся элементом в традиции хачкароделия.
Почти все исследователи отмечали, что преобладающее большин-
ство хачкаров имело назначение культовых памятников, самая
активная функция которых заключалась в осуществлении сакраль-
ного общения, умении воплощать священные связи с верующими.
Это единственная функция, которая не предполагает никаких спе-
циальных информативных сведений о хачкаре или на хачкаре.
Самые ранние хачкары относятся к VIII-IX вв. На них нет
никаких надписей. Изготовленные из естественных камней, они
поставлены далеко от людных мест, где оказываются покинутыми и
забытыми. Даже сейчас их можно встретить на какой-либо горе,
в ущелье и т.д. (например, Нижний Талин, Арени, "Дарбанд" в хос-
ровском заповеднике, согласно данным спелеолога Э. Саркисяна,
и т.д.). Однако при кажущейся изолированности эти хачкары благо-
даря единственности своей культовой функции некогда находились
в центре внимания местных жителей. Народ заботился о них, при-
носил им жертвы. Хачкары были сакральны, их изолированность
была лишь внешней, ибо в сознании верующих они являлись неким
центром. Существенность этой культовой функции даже в самых
ранних хачкарах подтверждается самой структурой хачкара (крест
в камне) и его восприятием (действительное присутствие креста
в каменном вместилище). Более того, эти два жанровых признака
как следствие исходят именно из культовой функции хачкара. Она
является первопричиной хачкара, а следовательно, и основной осо-
бенностью его поэтики.
Постараемся выяснить, какие же стимулы и представления воз-
вели хачкары в ранг самостоятельного культового предмета.
Хачкары - этнокультурные памятники 217
На территории Армении немало культовых мест и предметов,
которые почитались святыми и культовая функция которых не была
при этом санкционирована официальной церковью, а бытовала в
народной среде. В разных традициях народно-христианская вера
сакрализует разные объекты. Например, в латинском мире больших
размеров достигает культ местных святых, их мощей, в сирийско-
египетском ареале наиболее акцентируются священные предметы,
связанные с богом (одежды, орудия страстей и т.д.)', в византийской
и восточнославянской среде почитаются лики святых - иконы; в
Иерусалиме и его окрестностях поклоняются общехристианским свя-
тым местам и т.д. В исследованиях по древней и средневековой
армянской культуре неоднократно прямо или косвенно говорилось об
особой значимости для армянской церкви культа креста. В действи-
тельности же культ креста был своеобразным не столько для армян-
ской церкви, сколько для армянского народного христианства. Пра-
вильное понимание специфики народного христианства тесно связано
с сущностью его как культурного явления средневековья.
Культ креста н его святилище
Получив в народной христианской среде самостоятельную значи-
мость, различные святыни начинали восприниматься уже как ло-
кальные варианты Христа и как таковые выдвигались в центр сво-
ей системы "христианизированных представлений" данной об-
щины.
Община в процессе своей трудовой и цикличной празднично-обря-
довой деятельности постоянно вступала в тесный контакт со святым
как своим местным божеством. Последний покровительствовал,
охранял и упорядочивал жизнь общины в определенных простран-
ственных границах, но в безграничном времени. Считалось, что
покровительство местного "заместителя" Христа ослабевает по мере
его удаления от собственного локуса (святилища). Эффективность
жертвоприношений прочно связывалась с данным святилищем, кото-
рое в сознании общины совпадало с центром мира. Именно поэтому
верующий в качестве талисмана (взамен дохристианского амулета)
увозил с собой на чужбину материальную частицу этой "святыни".
Обоснование культа местных божеств составляли созданные вокруг
них легенды и мифы, которые широко варьировали в сфере архаи-
ческой культурной деятельности данного коллектива. Эти легенды,
созданные по образцу и подобию какого-либо эпизода мифа о
Христе, были призваны утвердить сверхъестественные свойства дан-
ного культового предмета и удостоверить связанную с ним чудо-
творную силу.
218 А.С. Саакян
Возникновение хачкара и связывается с довольно продолжитель-
ным (начало VI - конец VIII в.) стихийным процессом формирования
культа креста. С VIII в. культ креста был уже настолько широко
представлен по всей Армении, что соседствующие с армянами ино-
верцы часто называли их крестопоклонниками (вместо христиан).
Порой поклонением кресту характеризовали свою веру и сами
армяне (например, сказители армянского народного эпоса "Сасна
црер" и т.д.). И действительно, большая часть армянских имен и
фамилий имеет корень "хач" (крест). Даже сейчас в диалектах ряда
сел встречается выражение "идти к кресту" вместо "идти в
монастырь, часовню, церковь" и т.д.
Армянскому средневековью известно самое широкое употребле-
ние разнообразных типов крестов. Подтверждение этому можно
найти в разных религиозно-обрядовых системах - от церковных
ритуалов и празднеств до повседневных бытовых обычаев. Одним
словом, существование культа креста в средневековой Армении -
широко известный и уже давно отмеченный учеными факт (М. Абе-
гян, Г. Овсепян и др.). Пока нас не интересует, почему в ряду много-
численных святынь в армянском народном христианстве наибольшую
популярность приобрел именно культ креста. Предпосылки этого
явления, видимо, нужно искать в особо целенаправленной политике
армянской церкви в VI-VII вв.
Итак, какую содержательную основу имел культ креста (о кресте
в мифологических и религиозных системах см. [Топоров 1980, с. 398-
406; Топоров 1982, с. 12-14]), благодаря каким легендам и мифам он
"персонифицируется" и становится как бы вариантом Христа, какими
средствами удостоверялась подлинность чудотворности креста, его
явления в данной местности? Об этом и пойдет речь.
В средневековой Армении были широко известны многочисленные
апокрифические повествования, сотни рукописных вариантов кото-
рых также удостоверяют глубоко народный характер креста. Доми-
нирующим в них являются предания о древе жизни, генетически
восходящие к локальному коллективному творчеству и принадлежа-
щие по типу к образцам монастырского фольклора [Саакян 1981,
с. 153-166; Саакян 1982, с. 135-143]. Дошедшие до нас предания о
кресве рассказывают о причине обожествления крестов в данной
местности, об истории появления их в основе именно данного святи-
лища. Все эти мифологические сюжеты о кресте говорят также о
том, где ставился крест в самом начальном, узко местном периоде
народного поклонения, т.е. до его связи с каким-нибудь монастыр-
ским или церковным строением. Место, где община воздавала
почести кресту - носителю божественной силы, не могло быть
случайным.
Сравнивая известные по различным народным преданиям мотивы
Хачкары - этнокультурные памятники 219
выбора места для святилища, замечаем, что они могут быть при-
вязаны к следующей схеме:
есть священный строительный материал (частица креста, икона,
мощи, дерево, бревно, балка и т.д.);
его перевозчик (мул, лошадь, бык, человек, телега, река и т.д.)
останавливается (садится, припадает на колени, нога увязает,
прилипает),
и на этом месте основывают святилище (монастырь, часовню,
мартирий и т.д.) [Саакян 1981, с. 160].
В армянской традиции место остановки приурочивается к камню,
причем камень становится вместилищем данной святыни.
Например, в одном из васпураканских преданий рассказывается о
монастырском звонаре, который откапывает зарытый под алтарем
сосуд со святыми мощами и пытается бежать, чтобы спасти его от
иноверцев. Когда они все же настигают его, звонарь останавливает-
ся и ставит сосуд на камень. Камень раскалывается, вбирает сосуд
в себя и снова закрывается. На месте вместилища мощей строят
церковь [Лалаян 1917, с. 160]. Согласно другому преданию, мул,
везущий златые врата для Варагского монастыря, внезапно увязает
в камне, который затем называется Камнем Мула (Джоракар -
скала на берегу озера Ван) [Ганаланян 1969, № 184].
Эпический мотив "заключения в камне" появляется особенно
часто в случае, когда перевозимая святыня является частью креста.
Например, в повести об Ацунеком кресте мул, везущий частицу
креста, по пути в Сюник садится в Ацунском поле и больше не под-
нимается. Никакими усилиями снять поклажу не удается. Тогда на
месте остановки строят мартирий, в основание которого кладут
частицу креста [Арарат 1888, с. 404]. В истории Каринского Хачка-
вана (монастырь Креста) говорится: "И царь с радостью одобрил и
заложил основание церкви" [ММ № 4542, л. 33]. Согласно тому же
преданию, другую частицу креста заключают в скале, которую и
"по сей день называют горой деревянного креста" [Косян 1925, с. 5].
В истории транспортировки креста Нунэ из Грузии в Армению
Агарон Ванандеци (первая половина IX в.) пишет, что священник
Андреас с разрешения Шушаник "пошел, снял крест Нунэ с холма"
и, придя в Армению, "поселился в провинции Спер в одной из
расщелин г. Пархар" [Акинян 1949, с. 106].
Подтверждение тому, что остановка и пребывание в камне в кол-
лективном сознании средневековья носили отпечаток сакрализации,
прослеживается также в преданиях о крестах, изготовленных из
растений, или деревянных. Например, в повести о Сюникском
кнехаче (крест из осоки), записанной историком XIII в. Степаносом
Орбеляном, говорится: "Дети... нарвали осоку и сделали крест и
водрузили на камне и начали поклоняться ему". Когда же
220 А.С. Саакян
стала очевидна чудотворная сила креста, взрослые собрались и
"позвали иерея благословить крест, принесли в жертву волов и
стали почитать место осоки" [Орбелян 1910,
с. 338-339].
Все приведенные примеры представляют момент заключения,
вхождения креста в каменную обитель или на нее. Естественно,
эта обитель не может утерять своего господствующего положения
в историях, где крест впервые является как видение. Предание
о Варагском кресте рассказывает, что отшельник Тодик "поднял
глаза и, устремив их на вершину горы, увидел: показался крест и
мощным светом осветил всю гору" [ММ № 1888, л. 1266]. И дейст-
вительно, как выясняется из другого варианта той же истории, крест
этот был поднят на гору Вараг рипсимянскими девами [ММ № 1315,
л. 9а].
Крест-видение обычно не перевозится людьми, но появляется
чудесным образом, летит, пока не находит места для нового пребы-
вания, которым в конкретном случае становится каменный алтарь
монастыря Вараг [ММ № 1888, л. 126б-127а]. Подобные летающие
кресты были отмечены и в Тайке, и в горах Грузии (ср. яркий пример
в эпической песне о Каросхаче).
Как мы видим, в апокрифических преданиях о кресте почти обяза-
тельным эпическим мотивом становится хранение частиц креста
в горах, скалах, заключение его в каменном футляре в основании
святилища и т.д. Следовательно, в эпической системе этих повест-
вований камень должен был иметь чрезвычайно важную функцио-
нальную значимость, что несомненно связано с древней культовой
сущностью камня, из которой и вытекает вся его символика и мифо-
логическая семантика. (Анализ символики камня на примере "извест-
ных" камней мира см. [Элиаде 1964, с. 188-203]).
Вопрос о том, какое же из всех многообразных мифологических
значений камня нашло место в апокрифических повествованиях
средневековья, можно уяснить и решить после анализа всех наи-
более "могущественных" функций креста в контексте его народного
культа. В основе этого культа лежит единая мифологема креста,
которую можно восстановить со ссылкой на приведенные выше
истории и предания: персонифицированный крест - священный герой,
который является в каменной среде (изготовляется из дерева, расте-
ния, отрубается от истинного креста и т.д.) и совершает ряд чудес,
пока не достигает своей каменной обители. Однако здесь мы имеем
дело уже с той новой особенностью соединения камня и креста,
которая составляет общую основу хачкаров, в отличие от остальных
памятников с крестом. После появления в камне креста, когда раз-
рабатываются и совершенствуются элементы культа (особо выбира-
ется место, положение, каменный столп воздвигается в наиболее
Хачкары - этнокультурные памятники 221
оживленном и доступном месте), полностью завершается необходи-
мое для народного культа креста оформление его первоначального
святилища. Именно в таком качестве он и становится прототипом
последующих хачкаров.
Миф о кресте
Соединение в народном христианстве креста и камня является
мифологическим фактом, обусловленным всеми чудесными свойства-
ми креста, приписываемыми ему легендой. Иными словами, благо-
даря чудотворной силе креста формируется набор его признаков,
одним из обязательных требований которого и является каменное
вместилище. Этот набор признаков сам по себе древнее их носи-
теля - подлинного креста, который является центральным предме-
том культа местного христианства. Вообще можно констатировать,
что большая часть восприятий креста, возникшая в низших народ-
ных слоях как следствие проповеднической деятельности официаль-
ной церкви, по своему содержанию имеет дохристианское происхож-
дение (например, крест-амулет, грозовой крест-древо жизни,
дождевой крест, крест-молния, крест-солнце, пламя, огонь и т.д.).
Одним из примеров многочисленных выражений креста в самых
различных сферах духовной деятельности человека и является
хачкар.
Наиболее могущественные функции и свойства, приписываемые
кресту народным поклонением и культом, можно сгруппировать в
следующие ряды.
1. а) Крест до своего чудотворства находился на горе; его появле-
ние сопровождается ослепительным светом, сильнее солнечного,
громом и молнией, после чего идет дождь, и там, где он проходит,
природа оживает и расцветает.
б) Крест поворачивает или останавливает течение реки, после
чего освобождает воду, рассекает скалу и тем самым меняет или же
упорядочивает русло рек; сбрасывает с неба камни на головы про-
тивников и убивает их; во время войны со жрецами истребляет их
смерчем и ветром; окутывает туманом вражеское войско или же,
вселив в него безумие, заставляет истреблять друг друга (самих
себя) и тем самым побеждает.
в) До нахождения постоянного места пребывания (стоянки) в ка-
менной среде крест в процессе своих быстрых перемещений опуска-
ется на край скалы, под дерево, входит в воды реки и т.д.
г) Когда же, спасая от неожиданного нападения, его закапывают
в землю, а по прошествии опасности раскапывают, то его появление
сопровождается рождением родника.
222 А.С. Саакян
Первый ряд воспроизводится на основании данных, изложенных в
повествованиях и преданиях о кресте.
2. Заключенный в каменной среде и ставший основой святилища
крест:
а) Приобретает функцию исполнителя желаний, в частности ода-
ривает бездетных детьми и окропляет землю дождем. Ему приписы-
вается способность врачевания, исцеления особых болезней (напри-
мер, слепоты и т.д.) вплоть до воскрешения из мертвых. Крест,
согласно устным свидетельствам, при непочтительном отношении
к святилищу или же по другой причине может взять на себя
карательную функцию: ослепить, наслать немоту, уродство
и т.д.
Однако, как свидетельствуют многочисленные письменные источ-
ники средневековья и этнографические материалы XIX-XX вв.,
названные свойства креста могут быть приписаны (и соотнесены
также) и другим сакральным объектам. Детальное рассмотрение
функций креста выявляет важную закономерность: априорно можно
предположить универсальность могущества какого-либо местного
креста или святого, однако на деле выясняется, что каждое конкрет-
ное местное народное святилище (или "частный" семейный святой)
специализируется на излечении определенного типа болезней или же
исполнении некоего ограниченного набора желаний. Известно, что
в средневековье составлялись не только списки святых знамений, но
и их целебных свойств, из которых можно уяснить и определить
чудотворную силу каждого креста в отдельности. Ряд дошедших до
нас хачкаров и по сей день известны по своей узкой "специализации".
Например, "Крест-град", "Дожденосное святое знамение", "Противо-
кашлевый крест" и т.д.
б) Кресту приносили жертвы, главным образом быка, вола (см.,
например, предания о Кнехаче, святом знамении из Варага, Апун-
ском кресте и т.д.).
3. В общем контексте армянского культа креста ему приписыва-
ют ряд чудесных свойств, награждают постоянными эпитетами;
спутниками креста могут быть животные, птицы. Сведения об этом
можно почерпнуть из различных памятников армянской средневеко-
вой культуры.
а) Крест, как это явствует из посвященных ему панегириков (по-
хвальное слово) и тараканов (церковные песнопения), часто отож-
дествляется или сопоставляется с солнцем и его всесильным светом
[Шаракан 1853, с. 550-551, 572-573].
б) Иногда рядом с крестом изображается лев, о чем свидетельст-
вует известный стих Григора Нарекаци ("Я скажу о том льве, кото-
рый рычал на кресте"), барельеф на поясе Ахтамарского монастыря
св. Креста, ряд армянских миниатюр и т.д.
Хачкары - этнокультурные памятники 223
в) Особый интерес может представлять также ворон, память о ко-
тором сохранилась в ряде народных наименований святилищ (напри-
мер, Аграваванк - Вороний монастырь, Агравахач - Вороний крест
и т.д.). Помимо ворона спутниками креста могут быть и другие звери
и птицы.
г) Крест встречается также в составе армянских народных идиом
и клятв. Например, "клянусь отцом" (доел, солнцем отца), "небо сви-
детель", "этот бог", но и "этот крест". В эпосе "Сасна црер" крест
на правой руке Давида активно реагирует на клятвоотступничество
того, кому он покровительствует: он чернеет из-за грехопаде-
ния последнего и как предзнаменование неизбежности его нака-
зания.
Как показывает анализ приведенных выше рядов, в армянском
культе креста отчетливо прослеживаются две дохристианские мифо-
логемы: культ Громовержца (Ваагн) и культ солнца (Митра - Михр).
При этом следы грозового вишапоборца сохранились в основном
в народном восприятии и трактовке культа креста, а следы Митры -
в официальных, элитарных обоснованиях того же культа. Именно
этим объясняется тот факт, что первые в основном сохранились
в мифологических текстах (апокрифические повести и предания о
кресте), а вторые дошли до нас в авторских, ученых текстах и
толкованиях (текст в смысле термина в семиотике). Культ же Громо-
вержца если и составлял в свое время элитарную часть культуры, то
непосредственно мог питать народные представления о кресте,
постольку поскольку элементы этой культуры "теряют свой
элитарный, престижный знаковый характер и, постепенно спускаясь
по ступеням социальной лестницы, в конечном счете вновь
становятся элементом всеобщей народной культуры" [Арутюнов
1979, с. 31].
В анализируемой нами мифологеме креста, пожалуй, единствен-
ная отличительная особенность Михра, которая уживается с много-
образными свойствами грозового божества, - это окончательная оби-
тель креста - каменная среда. Однако необходимо помнить, что
каменная среда является также обителью грозового вишапоборца.
Противник, которого бог грозы преследует своим каменным или
другим оружием, по ряду вариантов также укрывается в каменной
среде. Грозовое божество рассекает камень, вслед за вишапом
входит туда и убивает его (ср. [Иванов, Топоров 1975, с. 44-76]).
Естественно поэтому, что наряду с обителью громовержца
сакрализуется также камень, скала, пещера и т.п., куда он вхо-
дит, чтобы убить вишапа. Каменная среда мифологически связана
также с Михром, носителем начала огня. Он живет в своей обите-
ли - камне, в который входит или же откуда рождается, вы-
ходит. Связанная с именем Митры каменная среда сакрализуется
224 А.С. Саакян
и становится местом поклонения и паломничества (Дверь Мгера
и т.д.) [Авдалбекян 1979, с. 26; Меликсет-Бек 1921-1922,
с. 93-101].
Конечно, трудно с достоверной точностью выявить, какая из
названных мифологем воплотилась в легенде о кресте. Необходимо
иметь в виду, что грозовые камни и камни Митры схожи функцио-
нально, как капище, святилище, божья обитель и т.д. Не исключе-
но, что связь Михра с мифологией камня может быть объяснена
наличием в нем свойств грозового божества. Механизм этого явле-
ния, впрочем, не совсем ясен. Однако тот факт, что Михр достигает
своей каменной обители после чудесных деяний, приписываемых
Громовержцу, и именно вследствие их, заставляет предположить,
что вышеизложенное является одним из элементов так называемого
основного мифа (если пользоваться термином В.В. Иванова и
В.Н. Топорова).
Главное, однако, в том, что названный элемент мифологемы
креста (обитание в камне) также связывается с неким полем дохрис-
тианских мифологических реалий. Представление о камне как об
обители креста не только помогало общине найти самую сакральную
в данном жизненном пространстве точку, но и требовало воздвигнуть
святилище в виде стелы, содержащей в себе священного "героя*' -
крест, с которым навечно должен был быть связан ритуал (паломни-
чество, жертвоприношение и т.д.) культа креста.
"Заселенный крестом" камень и становится прототипом армянских
хачкаров. Найдя свое пристанище, крест стал требовать соответ-
ствующую своей прямолинейной четырехкрылой форме обработку
твердого камня (скалы, утеса), где занятая крестом поверхность
(собственно обитель) отделялась от остальной необработанной части
и приобретала форму четырехугольника или прямоугольника (как
в Арени, VIII в. [Альбом 1973, илл. № 7]), а порой верхняя (голов-
ная) часть подлинной обители креста получала форму арки (как
в Нижнем Талине, VIII в., или Норадузе, IX в. [Альбом 1973, илл.
№ 8, 12]). Это явление приводит к тому, что занятая крестом
сторона получает четырехугольную или круглую форму, что в итоге
подводит к идее обработки каменной плиты в виде окружности
(верхняя часть последней выстилается аркой или прямоугольни-
ком; порой соединением этих двух форм собственно обитель креста
получает форму арки, а стела - прямоугольника и т.д.). Когда же
уже заранее выбирается и благоустраивается место и положение
памятника, тогда полностью завершается необходимое для
народного культа оформление первоначального святилища
креста.
Необходимо тем самым признать, что факт формирования в на-
родной среде хачкара как явления искусства представлял собой
Хачкары - этнокультурные памятники 225
совокупность последовательных этапов: а) крест находит в камне
свою единственную подлинную обитель; б) камень отделяется от
всей среды и обрабатывается; в) место стелы особым образом выби-
рается; г) место вокруг стелы предварительно очищается и при-
водится в порядок.
В основе названного процесса лежит факт соединения камня и
креста в таком жанровом восприятии, которое не встречалось ни в
одном из прежних периодов развития армянской культуры. Подобное
соединение камня и креста, а следовательно, и особая структура
хачкара-святилища, для средневековой христианской общины были
бы семантически необъяснимы, если бы рассматривались вне состав-
ляющего основу культа креста мифа о кресте. Иными словами,
заложенная в камне информация вытекает не из его собственного
текста в семиотическом понимании термина (т.е. хачкара), а извне
(что свойственно вообще древним культурным традициям [Лотман
1973, с. 18]). Действительно, без мифа о кресте хачкар у воспри-
нимающего может вызвать только общехристианские ассоциации, в
то время как в контексте культа креста хачкар воспринимается как
жилище креста, обитель местного божества (genius loci), о чудесных
деяниях которого рассказывают те сакральные легенды, носителем
и хранителем которых является данный коллектив.
С тем же мифом о кресте связаны эпические мотивы многочис-
ленных письменных апокрифических преданий о кресте, согласно
которым частица креста хранится в горах, камнях, или же, заклю-
ченная в каменный футляр, закладывается в основании святилища.
Фактически именно благодаря этому мотиву апокриф предстает как
словесный вариант хачкара.
Ясно одно. Сколь ни велико было различие обрядовых, словесных
вариантов мифа о кресте, они, при всех своих схождениях, сохраня-
лись только в той культурной среде, где заключенная в них инфор-
мация имела избыточную значимость. "Подобная избыточность обес-
печивает прочность механизма передачи мифологической информа-
ции от старших к младшим, из поколения в поколение" [Мелетинский
1976, с. 234]. В данном случае избыточность информации хачкара
заключалась в том, что "ваагноподобный-митроподобный" крест
изображался в своей обители, т.е. в камне. Коллективная память
хранит об этом более полное и целостное знание, община выступает
как носитель мифологемы креста, крест высекается из камня,
который становится обителью креста.
Следовательно, камень в формировании и развитии хачкара
исследователь-культуролог должен рассматривать не только как
строительный материал, но и как важный мифологический элемент,
роль которого обусловлена исторически трансформирующимся миро-
воззрением.
15 270
226 А.С. Саакян
Культуризация хачкара
В процессе формирования искусства хачкара в IX и последующих
веках народное поклонение и вера в крест приобрели независимость.
Церковь же под давлением народной стихии вынуждена была при-
знать этот культ официально и тем самым сдержать, смягчить
наиболее крайние выражения его и придать им обоснованность.
Армянская церковь уже с IX в. наряду с представлением еретиче-
ского противоборства кресту взяла под контроль и народные толко-
вания и представления о крестопоклонстве, придав тем самым народ-
ному культу креста официальный характер. Процесс этот, однако,
не замкнулся в рамках какого-либо местного культа креста. Офици-
альное признание получают и составляющие основу данного культа
святилища и мифы.
Приобретение народным святилищем официального статуса пред-
полагает прежде всего благословение и помазание креста, что в
случае необходимости сопровождалось обновлением и реставрацией
архаического хачкара. Сейчас трудно более или менее точно датиро-
вать начало этого процесса. Известно, например, что при составле-
нии католикосом Месропом требника (конец IX в.) хачкар уже благо-
словлялся. Свидетельство тому - определенное число дошедших до
нас с последней четверти IX в. официальных памятников-хачкаров,
культовая функция которых предполагала их обязательное благо-
словение.
Первые датированные образцы этих памятников восходят ко
второй половине IX в. В последующие века, с увеличением числен-
ности населения данной местности или как следствие широкого рас-
пространения славы данного святилища, на месте прежнего памят-
ника воздвигаются роскошные по своей выделке и обработке хачка-
ры, строятся часовни, алтари, основываются монастыри и т.д.
Так как хачкары были местом паломничества и населением дан-
ного региона считались священными, то вокруг них обычно возни-
кали кладбища. Естественно, что воздвигнутые рядом с культовым
хачкаром хачкары-надгробия были более позднего происхождения
как по времени, так и по искусству исполнения. Например, все поле
надгробных хачкаров Норадуза родилось вокруг нескольких культо-
вых хачкаров (X-XI вв.), лучший из которых был изготовлен в 996 г.
и ныне хранится в Государственном музее Армении [Альбом 1973,
илл. № 12-14]. Старое кладбище села Мец Мазра Варденисского
района было создано вокруг поднятого в 881 г. культового хачкара
и т.д. [Бархударян 1973, с. 334-335]. Думается, что подобным же
образом формировалась традиция могильных хачкаров XII в., где
каждая надгробная плита изготавливалась по образцу культового
конкретного святилища точно так, как мартириальные надгробия
Хачкары - этнокультурные памятники 227
имитировали гроб господень. Для большей убедительности приведен-
ного сравнения необходимо добавить, что окруженные надгробными
памятниками культовые хачкары порой отождествлялись с надгроби-
ем какого-либо мученика или святого и тем самым имитировали про-
тотип могильной плиты.
В дальнейшем процесс отождествления культового хачкара и над-
гробия мученика углубляется настолько, что рождает необходимость
и делает почти обязательным воздвижение на месте памятника
мартириума-часовни.
Поскольку в священных в народном понимании местах ставятся
не примитивно сработанные хачкары, а исключительно роскошные
по своему исполнению памятники, то возникает необходимость
упорядочения и благоустройства местности вокруг него, обязатель-
ная фиксация имени автора и заказчика, что объясняется желанием
последних остаться в памяти будущих поколений. Такое мемориаль-
ное назначение хачкара является следствием получения им функции
официального и культурного памятника.
Эта обязательная почти для всех средневековых памятников
письменной и материальной культуры армянского народа функция
приводит к тому, что хачкар теряет непосредственную связь с преж-
ним святилищем и устанавливается в наиболее оживленных и люд-
ных местах, во дворах церквей, монастырей и т.д. Оторвавшись от
святилища, хачкар постепенно теряет свою культовую функцию и
воздвигается по любому подходящему случаю или в честь знамена-
тельного события или даже вовсе без причины, как духовная дань
или стела памяти, а затем начинает смешиваться с хачкарами-над-
гробиями.
В результате получения хачкаром официального статуса скульп-
турный крест в ХП-ХШ вв. становится одним из обязательных
компонентов церквей и монастырей: он устанавливается у входа или
в нишах стен священного строения, высекается на его фасаде, на
паперти, притворе, пределах, ризницах, алтарях и т.д. Хачкар тем
самым приобретает в архитектурных комплексах роль священного
декора, цель которого - особо акцентировать сотериологический
характер святилища распятого бога, содействовать созданию в хрис-
тианском комплексе атмосферы сакральности.
В своем некультовом назначении хачкар получает в сущности три
новые функции (надтробия, памятника-в узком смысле - и де-
кора), что наравне с культовой его функцией получает особую зна-
чимость и стабильность, так как диктуется политикой официальной
церкви относительно культа народного креста и полностью соответ-
ствует каноническому христианскому восприятию креста. Постепен-
но новые функции хачкара распространяются настолько, что даже
отстраняют и оставляют в тени его первоначальное культовое
Хачкар (высотой 1,5 м)
с кладбища Орекаванка.
Нагорный Карабах, с. Талиш,
Мардакертский р-н (IX-X вв.)
Хачкар (высотой 1,8 м)
из с.Катос в районе Лачина
Надпись гласит:
«В год [...] поставил сей святой крест
при иерее отце Григоре.
Помяните во имя Христа»
230 А.С. Саакян
назначение. Повсеместная широкая популярность подобного явления
заставила Мхитара Гоша (XII в.) в одном из своих посланий особо
зафиксировать этот нежелательный факт и сравнить его с чрезмер-
ным распространением икон у греков и грузин. "Ибо как армяне
презрели крест, ставя его в любом презренном месте, так и греки, и
грузины - образ" [Гош 1901, с. 60]. Иными словами, вардапет (архи-
мандрит) Гош выражал недовольство явлением, которое, с одной
стороны, было обусловлено армянским народным культом креста, а с
другой стороны - негативным отношением к нему официальной
армянской церкви.
Это соединение двух памятных функций - исходящей из народ-
ного толкования хачкара культовой и официального его понима-
ния, - равно как и компромиссное соглашение двух взаимоисключаю-
щих восприятий креста (народного и ученого) оставили свой след и
в языке надписей IX-X и последующих веков.
Из сопоставления этих записей выясняется, что в истории офици-
ального бытования хачкаров имело место логическое (но не хроно-
логическое, нуждающееся в уточнении) развитие в следующей
последовательности: крест-бог ("идол") —> крест-ходатай —> крест-
памятка (памятник). Многочисленные образцы последней в данной
цепи трактовки креста можно увидеть на современных кладбищах,
где крест, полностью лишенный своей чудотворной силы, призван
служить назначенной цели тем, что он поставлен и функционирует,
пока стоит, т.е. на срок своего бытия, фактом своего существова-
ния. Интересно, что отмеченный путь видоизменений функций
креста во всех своих звеньях с пунктуальной точностью отражает, с
одной стороны, общую историческую тенденцию постепенной
"атеизации" армянского народа в VIII—XIII вв., вплоть до наших
дней, когда хачкары-надгробия почти не ставятся (а если ставятся,
то в основном в Ереване), с другой стороны - общий процесс посте-
пенного превращения культового религиозного произведения в чисто
художественное.
Таким образом, получив в IX-X вв. официальное признание,
хачкары полностью стали соответствовать стремлению армянской
церкви - превращению хачкара из коллективного святилища в инди-
видуальное надгробие, призванное навечно сохранить память об
одной конкретной душе. И если это отдельное надгробие, постав-
ленное под открытым небом, осмыслялось именно в этом последнем
назначении, тем не менее каждый отдельный памятник в бесконеч-
ном пространстве и времени имел свой самостоятельный, как бы
прямой, вертикальный путь, в котором, казалось, и осуществлялась
функция «засвидетельствования» перед неким далеким и неизвест-
ным. Только в более позднее время это далекое и неизвестное было
заменено поколением неизвестных людей в близком и далеком буду-
Хачкары - этнокультурные памятники 231
щем. Следовательно, именно благодаря официальному признанию
памятных функций хачкаров как ходатаев на территории Армении
их число увеличивается и достигает десятков тысяч. Хачкары, воз-
двигнутые для удовлетворения требований культа и нужд отдельных
коллективов, столь огромное число составлять не могли.
Как ни старались мастера создавать новые художественные
разновидности хачкаров, все же в их основе мы видим ту общность,
которая вытекает из сознательного внесения богословского восприя-
тия и интерпретации креста. Причина заключалась в том, что
наряду с официальным признанием народного культа креста и всех
его элементов в поле зрения ученого богословия вошла и иконогра-
фия креста хачкаров. С этого момента хачкар должен был стать
более информативным с точки зрения официального восприятия
креста и прежде всего наставлять, что истинный смысл этого креста
заключается в распятии господа и в указании пути спасения челове-
чества.
Первым иконографическим новшеством, появившимся в процессе
официального признания, "культуризации" простого народного хач-
кара, стало изображение в камне креста - древа жизни вместо
креста-'святыни".
В X-XI вв. древовидная форма креста была усвоена настолько
глубоко и широко, что унаследованные от предыдущего века эле-
менты древа жизни были превращены в целостные "расцветшие"
древа, покрывающие всю поверхность каменной плиты. Связующим
звеном между простыми элементами и целым древом жизни можно
считать расположенную в основании хачкара розетку, из которой
вырастают поднимающиеся с двух сторон креста ветки и побеги.
Последняя не была предусмотрена иконографической "цензурой" или
каноном креста и являлась результатом творческого "внедрения"
мастерами народной традиции изображения древа жизни. Использо-
вание розетки в основании хачкара дает начало независимому и с
теологической точки зрения самодельному стилизаторству и, как
следствие, - некоторому "унижению" святого креста и созданию
шедевров каменной резьбы. Очевидно, мы здесь имеем дело с кон-
кретным армянским выражением общего явления - закономерности
культурной динамики.
Вторым нововведением, призванным связать хачкар с темой
распятия и происходящим из проникновения в иконографию креста
богословской мысли, был ступенчатый постамент креста. Первый
его образец встречается в IX в. Этот чаще всего трехступенчатый
пьедестал символизировал Голгофу, на которой свершилось распятие
Христа.
Ступенчатый постамент как конкретный указатель на контекст
"распятия" приводит с собой адамов череп, его более усугубляющий
Хачкар из монастыря Гоша
в районе Иджевана
Мастер Погос (XIII в.)
Хачкар с кладбища Старой Джуги
Нахичевани (1604 г.)
Надпись гласил «В год 1053 [1604].
Сей крест в память души Хатун*
234 А.С. Саакян
и уясняющий семантическую связь хачкара и "распятия". Череп
праотца человечества располагается под ступенями или в ступенях
[Альбом 1973, илл. № 109 и др.]. Голова Адама может быть и
без ступеней - факт, который очень важен [Альбом 1973, илл.
№ 55, 92].
Третьим скульптурным элементом, наряду со ступенями и головой
указывающим на "распятие", являются малые кресты, симметрично
поднимающиеся из-под крыльев креста [Альбом 1973, илл. № 16, 30,
48 и др.]. Два малых креста под крыльями большого, отходящие от
древа жизни (они заменяют парно поднимающиеся побеги и "корня-
ми" связаны с космической моделью, состоящей из трех древ),
вскоре отрываются от него и осознаются как кресты распятия.
Часто тут фигурируют и руки.
Мы склонны думать, что руки, держащие два малых креста, пере-
шли в хачкар из народной традиции и, следовательно, в офици-
альной среде не имели целостного традиционно-богословского
осмысления. Нелишне напомнить, что "рука" не была осмыслена
и в народной среде, так как не осознавалась более как символ древа
жизни, и сохранялась в силу своей клишированности. Более того,
в известной мере руки помешали восприятию двух крестов в
качестве крестов распятия двух разбойников. Это закономерно
и лишний раз подтверждает, что в хачкарах действительно
происходит незаметная борьба двух традиций, из которых одну мы
называем официальной - в ней крест наделяется элементами древа
жизни, но в основном воспринимается как крест распятия, а другую -
народной традицией древа жизни - в ней крест полностью
превращается в древо жизни с помощью заимствования средств из
народной традиции (как то: розетка основания, длани и т.д.) и
воспринимается несколько изолированно и абстрагирование от
известного контекста "распятия". Другими словами, сдерживающими
друг друга началами становятся изобразительная сторона и рели-
гиозно-историческая информация, а шире - искусство и религия,
когда первое свое наиболее яркое выражение находит за счет
второго и наоборот.
Следующим иконографическим элементом, появившимся вследствие
канонизации хачкаров и вновь указывающим на "распятие",
являются символы солнца и луны, которые располагаются с двух
сторон верхнего крыла большого креста с соответствующими надпи-
сями ("солнце", "луна") или без них. Тут может быть добавлена и
"рука божья", как это принято на Западе в сюжетах "распятия".
Символы светил после проникновения в хачкары в широких кругах
мастеров получают также неканонические иконографические реше-
ния, в которых они хотя и не перестают восприниматься как солнце
и луна, но уже по обратной связи восходят к архаической традиции
Хачкары - этнокультурные памятники 235
древа жизни; ведь в этой традиции, независимо от распятия Христа,
они были символами верхней части мирового древа.
Наконец, последний этап в истории развития хачкара как след-
ствие его "незримой'1 канонизации - изображения на кресте распятия.
Переходным образцом от указанных хачкаров к памятникам
распятия может служить хачкар 1291 г. из села Гергер Ехегнадзор-
ского района, в котором изображение распятого Христа, как и его
спутников под крыльями креста (видимо, Марии и Иоанна Крести-
теля), выполнено очень сдержанно, имеет небольшие размеры и
слито с общим декором в стиле древа жизни. Именно в это время в
результате длительного развития жанр хачкара перестает суще-
ствовать, уступая место новому жанру распятия, в научной традиции
известному под названием "Аменапркич" ("Всеспаситель") [Овсепян
1937].
Таким образом, если вследствие официального признания проник-
новение в простые культовые хачкары богословских положений
раскрыло связь хачкара с "распятием" и этим привело к расцвету
искусства хачкара, то последующее сближение хачкара и "распя-
тия", вплоть до отождествления их иконографических элементов,
стимулировало деградацию жанра хачкара, его изменение и создание
нового жанра. (Иным выражением стремления превратить хачкар в
иллюстрацию "распятия" является иллюстрирование в хачкарах
других евангельских сюжетов [Альбом 1973, илл. № 209-211].)
Краткие выводы
Ведущей тенденцией в истории развития искусства хачкара была
его канонизация и "культуризация". Эта тенденция проявилась в раз-
ных направлениях: придание официальности народным святилищам,
связанным с поклонением хачкарам, и возникновение новых функ-
ций; разработка иконографии хачкаров и т.д.
Эти направления не были независимы, они составили часть более
обширной "программы", с помощью которой проходила канонизация
и догматизация армянского народного культа креста. А эта програм-
ма помимо упомянутых направлений включала также уточнения
народного восприятия креста, редактирование мифов о кресте, огра-
ничение "чудодейственных" сил и функций местных крестов и свя-
тынь и т.д.
В свою очередь и программа "научного" редактирования народ-
ного культа креста осуществлялась в широких рамках общей поли-
тики армянской церкви по отношению к народному христианству,
включающей также и "очищение" от пантеистических и языческих
представлений христианских общин, контроль за различными святы-
236 А.С. Саакян
нями, мощами и вообще сдерживание и канонизацию народно-христи-
анской стихии.
Указанная церковная политика, присущая всем христианским
странам в средневековье, порождала длительный "диалог" между
двумя субкультурами (народной и официальной), оставившем глубо-
кий след в самых различных сферах средневековой культурной дея-
тельности (экономической, политической, теологической, художе-
ственной и т.д.). Последствия этого диалога предстают перед нами
как своеобразное культурное наследие, из которого изучена и
оценена лишь письменная часть, да и то как "хранилище" средне-
вековой народной культуры, по той естественной причине, что
последняя (народная культура) имела очень мало "чистых" средне-
вековых свидетельств вне устной традиции.
Поэтому культурный результат "диалога" (особенно литературное
наследие) обычно склонны называть средневековой народной куль-
турой, хотя последняя по сути является культурой синтетической
[1уревич 1981; Гуревич 1984, с. 45].
Что касается конкретно армянской средневековой культуры, то из
нее до нас дошли не только произведения элитарно-официальной,
полуученой и полународной, но и чисто народной культуры, одним
из материальных примеров которой является ранний хачкар VIII—
IX вв.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Абегян 1941. -Абегян М.Х. "Вишапы” как статуи богини Астхик-Деркето. Ер., 1941
[на арм. аз.].
Авдалбекян 1969. - Авдалбекян Т. Митра у армян. - Арменоведческие исследования.
Ер., 1969 [на арм. яз.].
Акинян 1949. -Акинян Н. Принятие христианства в Армении и Грузии. Вена, 1949
[на арм. яз.].
Альбом 1973. - Армянские хачкары. Париж, 1973.
Арарат - Арарат, 1888, № 7 [на арм. яз.].
Арутюнов 1979. - Арутюнов С А. Этнографическая наука и изучение культурной
динамики. - Исследования по общей этнографии. М., 1979.
Бархударян 1963. - Бархударян С.Г. Средневековые армянские архитекторы и
мастера по камню. Ер., 1963 [на арм. яз.].
Бархударян 1973. - Бархударян С.Г. Свод армянских надписей. Т. IV. Ер., 1973
[на арм. яз.].
Ганаланян 1969. - Ганаланян А. Армянские предания. Ер., 1969 [на арм. яз.].
Гош 1901. - Мхитар Гош. Послание. - Арарат, 1901, № 1 [на арм. яз.].
Гуревич 1981. — Гуревич АЛ. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
Гуревич 1984. - Гуревич АЛ. Этнология и история в современной французской медие-
вистике . - СЭ. 1984, М 5, с. 36-48.
Иванов, Топоров 1975 - Иванов Ц.В., Топоров ВЛ. Инвариант и трансформации в
мифологических и фольклорных текстах. - Типологические исследования по
фольклору. Сб. статей памяти В.Я. Проппа. М., 1975.
Косян 1925. - Косян А. Верхняя Армения. Ч. 1. Вена, 1925 [на арм. яз.].
Хачкары - этнокультурные памятники 231
Лалаян 1917.-Лалаян Е. Васпуракан. Азгагракан Андес [этнографический журнал].
Вып. 26. Тифлис, 1917 [на арм. яз.].
Лотман 1973.-Лотман Ю.М. Каноническое искусство как информационный пара-
докс. - Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки.
М., 1973.
Манукян 1969. - Manoukian A. Morfologia, struttura е significato architettonica dei
khatchkar. - Document! di Architettura Armena. 2. Khatchker. Milano - Giugno, 1969.
Мелетинский 1976. - Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976.
Меликсет-Бек 1921-1922. - Меликсет-Бек Л. Следы Артавазда и Митры в Грузии. -
Вестник научного института Армении. № 1-2.1921-1922 [на арм. яз.].
ММ - Собрание Института древних рукописей (Матенадарана) им. Маштоца.
Мнацаканян 1955. - Мнацаканян А.Ш. Армянское орнаментальное искусство. Ер.,
1955 [на арм. яз.].
Овсепян 1937. - Овсепян Г. "Всеспаситель” Авуц Тара и одноименные памятники в
армянском искусстве. Иерусалим, 1937 [на арм. яз.].
Овсепян 1944. - Овсепян Г. Материалы и исследования по истории армянского искус-
ства и культуры. Т. 3. Нью-Йорк, 1944 [на арм. яз.].
Орбелян 1910. - Степанос Орбелян. История области Сисакан. Тифлис, 1910
[на арм. яз.].
Саакян 1981. - Саакян А.С. Повесть об Ацуиском кресте и его типологии. - Исто-
рико-филологический журнал. 1981, М 4 [на арм. яз.].
Саакян 1982. - Саакян А.С. Устные варианты Ацунской повести. - Историко-фило-
логический журнал. 1982, № 3 [на арм. яз.].
Топоров 1980. - Топоров ВЛ. Древо мировое. - Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980.
Топоров 1982. - Топоров В.Н. Крест. - Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982.
Шаракан 1853. - Шаракан. Константинополь, 1853 [на арм. яз.].
Элиаде 1964. -Eliade М. Traiti dliistoire des religions. P., 1964.
Н.И. и С.М. ТОЛСТЫЕ
О ВТОРИЧНОЙ ФУНКЦИИ ОБРЯДОВОГО СИМВОЛА
(на материале славянской народной традиции)
Традиционный обряд представляет собой культурный текст, вклю-
чающий в себя элементы, принадлежащие разным кодам: акцио-
нальному (обряд - последовательность определенных ритуальных
действий), реальному, или предметному (в обряде производятся
действия с некоторыми обыденными предметами или со специально
изготовленными ритуальными предметами), вербальному (обряд
содержит словесные формулы, приговоры, благопожелания и т.п.),
а также персональному (ритуальные действия совершаются опреде-
ленными исполнителями и могут быть адресованы определенным
лицам или персонажам), локативному (действия приурочены к ри-
туально значимым элементам внешнего или внутреннего простран-
ства или вообще пространственно ориентированы - вверх, вниз,
вглубь и т.д.), темпоральному (действия, как правило, производятся
в определенное время года, суток, до или после какого-либо собы-
тия, семейного или социального и т.п.), музыкальному, изобразитель-
ному и т.д. [Тол. ГСО].
Каждый элемент обрядового текста семиотически маркирован по
отношению к своему ’’природному” прототипу и тем самым уже
вторичен: предмет или действие выступают в обряде не в своем
обиходном, практическом значении, а в ритуальной, символической,
знаковой функции. Это вторичное, культурное значение реалии, до-
полнительная знаковая характеристика может быть весьма сложной
и далеко отстоящей от природных свойств и функций реалии, ибо
она отражает многообразные связи данного элемента с другими зна-
ковыми элементами и вхождение его в различные культурные
контексты. Но в некоторых простейших случаях можно проследить,
как вторичное, символическое значение и употребление возникают
из первичных, природных, утилитарных свойств предметов и дейст-
вий. Если речь идет о предметах, то такими свойствами, мотиви-
рующими их знаковые функции, могут быть форма, цвет, материал,
© Н.И. и С.М. Толстые, 1994
О вторичной функции обрядового символа 239
способ изготовления, повседневные функции и способы применения
и т.д. Так возникает ритуальная значимость перекрестка дорог,
раздвоенного ствола дерева, острых орудий (иглы, ножа, косы
и т.п.), металлических предметов, плетеных, связанных или витых
изделий (лапти, корзины, сеть, решето, венки и т.п.), вращающихся
(веретено) или бьющих (цеп, валек и т.п.) орудий, печной утвари
и т.п. Однако сама возможность такого рода мотивировки основы-
вается на символической (семиотической, культурной) интерпретации
абстрагированных от реальных предметов свойств (крестообразной,
заостренной и т.п. формы, двоичности, "железности”, перепле-
тенности и т.д.), предшествующей символической интерпретации
самих реалий. В более сложных случаях культурное значение и
функция предмета может быть обусловлена соотношением с другими
предметами по их практической или символической смежности и
параллельному употреблению, вхождению в однородные парадигма-
тические ряды или сходные контексты. Многообразие способов моти-
вации ведет к существенному осложнению структуры культурного
значения реалии, к возможности различного ее осмысления и к
разнообразию ее ритуальных функций.
Семиотизация и ритуализация являются универсальным меха-
низмом традиционной народной культуры. В качестве первичного,
исходного моделируемого объекта могут выступать не только пред-
меты внешнего мира, но и вся практическая жизненная и хозяйст-
венная деятельность людей - рождение, брак, смерть, пахота, сев,
жатва, уход за скотом, лечение и т.д., получающая семиотическое
осмысление и ритуализованные формы в соответствии со всей
системой мировоззрения, мифологией, картиной мира (семейные,
сельскохозяйственные, календарные обряды и др.).
Универсальность механизма семиотизации и ритуализации в ар-
хаических типах культуры приводит к тому, что их объектом ста-
новятся не только практические (природные) формы жизни, но и уже
ритуализованные, т.е. получившие статус культурных текстов. Речь
идет о ритуальном воспроизведении некоторого обряда, его части
или отдельных элементов, совершаемом в других условиях и с
другой функцией. Применительно к этим случаям следует говорить о
явлении вторичной ритуализации.
В работах, посвященных окказиональным славянским обрядам
вызывания дождя во время засухи, отгона градовой тучи и т.п., нам
уже приходилось обращать внимание на вторичное обрядовое ис-
пользование предметов, которые до этого фигурировали в одном из
семейных или календарных обрядов (в сербской традиции - сва-
дебный венец или фата, рождественская солома, пепел от рождест-
венского полена "бадняка", пасхальная скатерть, пасхальное кра-
шеное яйцо и др.) [Тол. ЗСЯ V, с. 71-99]. Примеры такого рода
240 НИ. и С.М. Толстые
легко могут быть умножены. Они особенно многочисленны в разного
рода магических ритуалах охранительного, отгонного и лечебного
свойства. При этом, как правило, семантическая связь реалии с
первичным обрядовым текстом хорошо осознается, и именно она
сообщает вторичным ритуалам особую сакральность и магическую
силу. Рассмотрим подробнее некоторые случаи вторичного употре-
бления обрядовых предметов.
Из предметов, связанных со свадебным обрядом, выделяются
лишь некоторые, преимущественно относящиеся к одежде. Так, в
сербской традиции используются вторично атрибуты невесты - ве-
нец, фата, подвенечное платье и пояс, венчальная рубаха. Сва-
дебным венцом машут навстречу градовой туче, чтобы ее отогнать,
и при этом надевают на голову подвенечную фату (зона Драгачево)
или машут с той же целью подвенечной рубахой, безрукавкой, в
которой невеста шла под венец, и фатой (зона Поцерина). Обряд
совершали замужние женщины, сопровождая его заклинательными
формулами (подробнее [Тол. ЗСЯ V, с. 72-73]). В полесской тра-
диции детская ’’чорна болезнь" (иначе "свое’’, "свое мучить” - су-
дороги, мучающие младенцев и вызывающие плач) лечится покры-
ванием ребенка "вшчаним платтям". Подвенечная одежда может
быть заменена одеждой покойника (”з мертвого одежа”), а детская
одежонка должна быть при этом повешена где-то подальше на
дереве - "на пущаш” (с. Сварицевичи Ровенск. обл., зап. Н.К. Гав-
рилюк, 1983 г.).
Из предметов погребального обряда в сербско-хорватской тради-
ции широко применяются повязка, которой подвязывают подбородок
покойника, мыло и гребень, которым мыли и причесывали покойни-
ка, освященная вода, кольцо покойника, красная нитка, которой
было принято перевязывать покойника, и др. Черногорцы и хорваты
считали, что мертвецкая повязка на суде может повлиять на против-
ника, и он потеряет дар речи (у него как бы окажется завязанным
рот). Поэтому в Самоборе некоторые, идучи на суд, кусочек такой
повязки клали в башмак, в Тимокской Крайне - под пояс, а в Коп-
ривнице эту повязку крали из гроба (она оставлялась в гробу в ногах
покойника) [ЪорЬ. HCOJC, с. 256-257; Шнев. ГЕСОСХ, с. 266].
В зоне Лесковца такая повязка-полотенце снималась перед отпе-
ванием и вешалась на могильный крест. Ее надо было сберечь, так
как куски ее полезны тем, кто уходит на войну [Ъор1). ЖОНЛМ,
с. 498]. Сербы-боснийцы сохраняли мыло и гребешок после омовения
и причесывания покойника, мылом можно было натирать больное
место [Фил. ЖОНВН, с. 177]. Сербы из Кордуна (Хорватия) берегли
воду, которая освящалась после погребения, и использовали ее как
средство от нечистой силы и как лекарство [Буб.-Корд. СМОК,
с. 85]. В Тимокской Крайне (Северо-Восточная Сербия) перстень,
О вторичной функции обрядового символа 241
снятый с руки покойника, применялся для остановки кровотечения из
носа (делали так, чтобы кровь капала сквозь него); он мог помочь
выиграть дело в суде, если смотреть через него на судей
[Ъор1).НСО1С, с. 255]. Сербы из Лесковацкой Моравы также
верили, что кольцо, выкопанное из могилы, помогает на суде [bopi).
ЖОНЛМ, с. 495]. С той же целью в той же зоне сохраняли красную
шерстяную нитку, которой накрест перевязывали покойника [Ъор1).
ЖОНЛК, с. 112]. В Боснии и Герцеговине деньги бросали в
могильную яму лишь тогда, когда находили в ней кости, и таким
образом "откупали" место. Выкопанные из могилы деньги, как и
вино, считались чудодейственными и охраняющими от всякого зла,
их часто пришивали на одежду детям в качестве амулета [Шнев.
ГЕСОСХ, с. 268]. В Боснии бутылку вина в могилу ставили людям,
пристрастным к нему, и находка такой бутылки при вторичном
раскопе считалась удачей. В Новом Пазаре (Санджак) сербы
покойнику, скончавшемуся от туберкулеза, клали в могилу бутылку
вина, привязав ее веревкой, чтобы ее можно было легче вытащить.
Через 40 дней после поминок члены семьи вытаскивали это вино и
пили его, чтобы излечиться от туберкулеза [Фил. РЕГ, с. 197-198].
В Восточной Сербии около Болевца поступают так же при похоро-
нах покойника, умершего от заразной болезни, только в бутылку
наливают постное масло и пьют его через 40 дней, чтобы уберечься
от заразы [Грб. СНОСБ, с. 250].
В славянских традициях, в частности в сербской и полесской,
известно вторичное использование могильного креста. В Восточной
Сербии (зона гор. Болевца) во время засухи брали крест с какой-
нибудь неизвестной могилы и относили его вечером в ближайшую
реку или ручей, вбивали там, чтобы он стоял, пока вода сама его не
снесет, и при этом трижды говорили: "Крет у воду, а киша у
поле!" - Крест в воду, а дождь на поле! - или: "С незнаног гроба
крст, а с незнаног брда киша!" - С неизвестной могилы крест, а с
неведомой горы дождь! (Грб. СНОСБ, с. 334]. В Северо-Восточной
Болгарии в Добрудже при исполнении обряда "пеперуда", цель
которого - вызывание дождя, также брали с неизвестной могилы
деревянное надгробие "светицу", заменяющее крест, и бросали в
воду. В Полесье, на Гомельщине и Черниговщине, крест с могилы
нечистого покойника (висельника и т.п.) или крест, установленный в
неурочное время, вырывали и выносили с кладбища, чтобы пошел
дождь [Тол. ЗСЯ II, с. 108-109]. С той же целью могли быть
использованы палки-носилки, на которых носили покойников. Такие
носилки в Сербии в Груже в засуху привязывались к ноге, волоклись
по земле и сбрасывались в реку, а в Западной Македонии в районе
Дебара во время исполнения девушками обряда "айлюле" (то же,
что "пеперуда") парни брали в церкви погребальные носилки, молча
16 270
242 Н.И. и С.М. Толстые
относили их к реке и бросали в воду [Пет. ЖОНГ, с. 334; Арн.
СБОЯ I, с. 175]. Число предметов, функционирующих во время
погребения и используемых вторично в действиях с иной функцио-
нальной направленностью, значительно больше указанных выше.
Так, в полесском селе Стодоличи (Гомельская обл.) сохраняли после
похорон иголку, которой шили подушку покойнику, огарок свечи,
горевшей над покойником (она помогает ”от грома”), березовый
веник, которым выметали хату после выноса покойника (им хорошо
"биць худобину, штоб домовик не гнал”), "шматочки” - тесемки,
которыми были завязаны руки и ноги покойника (их в лечебных
целях завязывали на голом теле и носили полгода от боли в спине,
руках и т.п.; они же удерживали от ссоры, свары, драки - их
зашивали мужику в штаны, чтобы жену не бил). Эти же тесемки
берут с собой в армию, на суд. На похоронах за них дерутся:
«"Кожны йих рветь себе да хопаеть, а бабы сваряцца: "На што
тебе - у тебя дитей нема”» [ПЭС, с. 255-256].
Основные действия с предметами родинного обряда направлены
на предохранение хозяйства (дома и поля) от бедствия (града, бури
и т.п.) и ребенка от внешних злых сил, а ритуальными предметами
служат свивальник, пуповина ребенка, его послед или "рубашка”
и др. Сербы в зоне Драгачева хранили свивальник (сповивачу), ко-
торым повивался новорожденный поверх пеленок, и отгоняли им
надвигающуюся градовую тучу. Свивальник и детские пеленки
часто фигурируют в отгонных воплях-заклинаниях, употребляю-
щихся в той же зоне и с той же целью предотвращения града и
изгнания тучи: "Наша Дана седморо-роткшьа / Седморо деце родила /
Пеленой поле покрила / Пово]ем облаке вратила” - Наша Яна,
родившая разом семерых, Семерых детей родила, Пеленкой поле
покрыла, Свивальником тучи отворотила (подробнее см. [Тол.
ЗСЯ V, с. 66, 73-78, 98]).
Ритуальное использование пуповины, которую принято было
высушивать и сохранять, могло быть связано со свадебным обрядом
или с магией, направленной на дальнейшее благополучие ребенка, на
рождение детей, и особенно мальчиков, на лечение ребенка и др.
В сербской традиции еще Вук Караджич отметил верование, по
которому невеста родит в браке столько мальчиков, сколько маль-
чишеских пупков она возьмет с собой, идучи под венец. Матери,
поясняет Вук, поэтому собирают и хранят такие пупки для венчания
своих дочерей [Вук СР, с. 639]. В зоне города Крушевац было
принято пуповину завязывать узлом и затем, когда ребенку испол-
нялось семь лет, ему давали эту пуповину развязать, и вместе с ней
"развязывалось” и счастье ("одрешу]е се cpeha"), т.е. счастью и
удаче уже ничто не мешало [Миод. НПС, с. 76]. В Далмации и
Верхней Крайне (Кордун) ребенку от пяти до семи лет давали
О вторичной функции обрядового символа 243
развязать свой пупок и при этом гадали о будущем нраве и спо-
собностях ребенка, замечая, быстро или медленно, ловко или
неловко он это делает [Ъор1). ДВОНН, с. 95-97]. Обряд развязы-
вания ребенком своей пуповины известен и у поляков. Они также
берегли пуповину в качестве амулета, употребляли для лечения;
считали, что, если повитуха украдет пуповину, она будет иметь
власть над ребенком [Bieg. MD, с. 66].
Пуповина и после ее отторжения считалась частью человеческого
тела. Отсюда ее способность влиять на судьбу человека, как бы
отражать ее. Нередко сербы хоронили пуповину вместе с умершим
ребенком (человеком), носившим ее всю жизнь при себе [Миод.
НПС, с. 75-76]. Так же относились и к "рубашке”, в которой
рождался ребенок. Ее носили в качестве амулета, защищающего от
пули [Миод. НПС, с. 65]. Хорваты с островов Врач и Хвар берегли
свою "рубашку” ("bijelu koSuljicu") под ключом, чтобы в смертный
час положить ее под голову - без нее смерть могла бы быть долгой и
мучительной [Ъор^. ДВОНН, с. 90].
Число примеров можно было бы многократно увеличить, но и из
приведенных немногочисленных свидетельств ясно, что элементы
(предметы) одного семейного обряда могут выступать вторично в
других семейных обрядах, как, например, пуповина в обрядах сва-
дебном и похоронном. При этом нередки случаи, когда предмет при
вторичном обрядовом употреблении становится основой или поводом
для обрядового действия достаточно развернутого и более бога-
того, чем функция предмета и сопровождающего действия в
первичном обряде. Так, свадебный венец или подвенечное платье,
фата и др. в окказиональном обряде отгона тучи порождают тексты
типа:
Венчана сам овим вщенцем...
Граде, не на мене!
Иди планинским вщенцем!
Немо 'вамоооо!
Я венчана этим венцом...
Град, не иди на меня!
Иди горным венцом (кряжем)!
Не иди сюдаааа!
При этом голову покрывали фатой, венцом махали в направлении
градовой тучи и затем кланялись земле и надевали венец на голову.
Так делали в селе Губеревци и Милатовичи в зоне Драгачева в
Западной Сербии, а в соседнем селе Ковачевичи земле не кланялись,
но произносили иное заклинание:
Машем ти ви)енцем -
иди ви]енцем!
Машем ти ви]енцем!
Немо] на нас нечестива сило!
Немс] на наше добро,
Иди ви]енцем!
Машу тебе венцом -
иди венцом (кряжем)!
Машу тебе венцом!
Не иди на нас, нечистая сила!
Не иди на наше добро,
Иди венцом (кряжем)!
244 Н.И. и С.М. Толстые
Примером развертывания ритуала на основе вторичного употреб-
ления предмета, использованного в погребальном обряде, могут слу-
жить действия, совершающиеся после сорока дней с зарытой при
погребении в могилу бутылкой вина. Этот ритуал, выполнявшийся
сербами в районе Нового Пазара, упоминался выше, но выше не
указывалось, что открывание и вытаскивание за веревку бутылки
должно было совершаться в ночное время после полуночи в "глухую
пору" (глуво доба), что все делалось молчком, что участники ритуала
должны были молча возвращаться домой и что дома домашние долж-
ны были также молчать все время, пока на кладбище исполнялся
ритуал и пока его участники шли к могиле и возвращались домой.
Лишь после этого все домашние, а также гости, находившиеся в
доме, пили из бутылки для здоровья [Фил. РЕГ, с. 197—198]. Тен-
денцию к развертыванию ритуала можно отметить и в обряде
вырывания креста и бросания его в воду, бросания в воду погре-
бальных носилок, развязывания пуповины через семь или меньшее
число лет и во многих других обрядах, суть и "сценарий" которых мы
сейчас из-за краткости изложения не рассматриваем.
Остановимся только еще на нескольких календарных обрядах,
прежде всего на предметах, остающихся и вторично используемых
после южнославянского ритуала с рождественским поленом, совер-
шаемого в Сочельник. Сужая рамки наблюдения еще более, обра-
тим внимание исключительно на само полено, называемое "бадняк"
(бадмак, бъдняк). От бадняка, после его ритуального сжигания, по-
ливания вином, кормления, стережения (бдения), а до этого сру-
бания, внесения в дом и т.п., остается обгорелая, иногда внуши-
тельная по размерам головешка (головешки) и пепел. Обгорелую
головешку в Поповом Поле (Южная Герцеговина) после Сочельника
вторично жгли на очаге в канун Нового года (св. Василия Великого),
а потом из нее делали клинышки для рала и других сельскохозяйст-
венных орудий. Так же поступали и в Малешево (Македония), где из
головешки бадняка делался "забо]", т.е. та часть рала, на которой
крепится сошник. М. Арнаудов свидетельствует, что в Болгарии
кое-где считали, что поле, вспаханное ралом, у которого клин сделан
из головешки от бадняка, не будет побито градом. Из той же
головешки в Сербии, Герцеговине и Северной Македонии делали на
Рождество крестики. Эти крестики в Алексинацкой Мораве обвязы-
вали красной ниткой и клали на пахотном поле, в винограднике,
вешали на хлев и дом, там, "где живут люди и скот", а в Лес-
ковацкой Мораве только в поле. То же делали в Верхней Пчине
(Юго-Восточная Сербия), в Любушком (Герцеговина), в зоне около
Кюстендила (Западная Болгария), чтобы защитить поле от града.
В Любушком головешка разрубалась на четыре части, и они
крестообразно зарывались на пахотном поле. В зоне Кюстендила и
О вторичной функции обрядового символа 245
Поморавья огарок бадняка несли в виноградник, а в Водене
(Эгейская Македония) он закапывался, чтобы виноград был черным,
в винограднике. Головешку от бадняка несли во фруктовый сад в
Восточной Сербии (Заечар и др.) и били ею по стволу плодового
дерева, исполняя ритуальный диалог и побуждая дерево к плодоно-
шению (Заечар). В Северо-Западной Сербии (Ядар) головешку
оставляли на дереве после сжигания рождественской соломы, а в
Юго-Западной Боснии (Дувно) ее просто клали среди деревьев. Там
же оставляли головешку в хлеву ”от червей”, а в соседнем Ливан-
ском Поле - "чтобы не бесился мелкий скот”. Несколько восточнее
Ливна (Ливанского Поля) в Прозорском Котаре головешку клали в
хлебный амбар. Но в том же Ливне головешку строгали и горелыми
стружками лечили горло и другие болезни людей и скота. Так же
поступали в Западной Болгарии (Кюстендилско) и в Македонии
(Дебар). Головешку носили к пчелам, "чтобы они роились” (Ядар)
и использовали ее для колдовства (Алексинацкая Морава).
Берегли и пепел от бадняка. В Боснии и Герцеговине полагали,
что его надо сыпать в огороде, чтобы не было гусениц, на рассаду
табака, капусты, гороха, на виноцэадные кусты и фиговые деревья,
чтобы они раньше созревали, и на корм скоту. В тех же местах
осенью сыпали рождественский пепел на озимую пшеницу и, разводя
пепел водой, использовали его как лекарство от головной боли или
от болей в других частях тела. В Сербии в Ядре рассыпали рож-
дественский пепел на посевах, чтобы их не съедали насекомые
("бубе"), или на Новый год подмешивали в мякину и давали скоту
для здоровья. В Восточной Фракии болгары клали пейел от бадняка
("погански пепел") в глиняный горшок, а затем во время сева
смешивали его с посевным зерном, чтобы в жите не было головни.
В Кюстендилско посыпали пеплом корни фруктовых деревьев, а во
Фракии и Пловдивско натирали пеплом скот и кормили кур кормом,
смешанным с пеплом. В Поповом Поле по пеплу гадали; то же
делали в Пиринском крае, где обилие пепла от бадняка означало
плодородие (сведения собраны из источников: [Mar. ВОНВН, с. 51-
65; Вак. БЕТМБ, с. 453; Сед. ЛССНОБ, с. 216; Ант. АП, с. 169;
МиЬ. ЖОП, с. 144; Пав. ММ, с. 198; Фил-Том. ГП, с. 92;
ГЕМБ XXVII, с. 405, XXVIII-XXIX, с. 202; XLII, с. 412]).
Вторично и ритуально употреблялась и солома, которая в уже
упоминавшемся Поповом Поле (село Равно) расстилалась сначала
хозяином дома в Сочельник со словами "Djeco doSo je Bozid!” -
’’Дети, пришло Рождество!”, а через три дня убиралась и относилась
на гумно, потому что это второе действие, по представлениям по-
ловцев, способствовало урожаю. В Северо-Восточной Боснии (Худеч
под Тузлой) в Сочельник солому кропили освященной водой, рас-
стилали и лишь на Крещение убирали и несли на пахотное поле, где
246 Н.И. и С.М. Толстые
ее скармливали скоту [Маг. ВОНВН, с. 51]. Естественно, этот обряд
распространен у славян довольно широко, однако его более полное
описание потребовало бы много места. По той же причине мы сейчас
отказываемся от изложения материала, связанного с остатками
рождественского пирога (сербск. "чесница”), кутьи или ужина и еды
вообще, с остатками пасхальных ритуальных яств - яиц (сами яйца и
их скорлупа), освященного поросенка, с магической ролью обря-
дового хлеба "крестики”, выпекающегося на Средопостье, т.е. в
среду на Крестопоклонной неделе. К длинному списку не использо-
ванных нами примеров вторичной ритуализации предметов и воз-
никающих на их основе обрядов можно было бы добавить венки
русалок на Русальной неделе у восточных славян, купальские венки,
зерно последнего сжатого снопа-именинника, употребляющееся при
первом севе, ветки вербы, освященные в Вербное воскресенье и
используемые "от грома", четверговую соль и четверговую свечу
(соль и свеча, освященные в Страстной четверг) и, конечно же, тро-
ицкую зелень, которая употреблялась и "от грома", и "от мышей", и
в погребальном обряде (ею набивали подушечку покойника), и по
другой надобности. Таким образом предметы, первично упот-
ребляемые в одном из календарных обрядов, могут вторично высту-
пать также в календарном обряде, но нередко и в обряде окка-
зиональном, например "от грома", и в обряде семейном, например
погребальном.
Кроме предметов объектом ритуального воспроизведения могут
быть обрядовые действия, репрезентирующие тот или иной пер-
вичный обряд. Ярким примером вторичного действия может служить
заимствованное из погребального обряда голошение по покойнику,
оплакивание мифического или реального покойника (чаще всего
утопленника) в обрядах вызывания дождя. Нам уже неоднократно
приходилось рассматривать полесский обряд голошения у колодца по
мифическому Макарке [Тол. ЗСЯ I, с. 91-94, Тол. ЗСЯ II, с. 101].
Подобно предметам погребального обряда, используемым вторично в
обрядах вызывания дождя (см. выше), голошение (оплакивание)
актуализирует здесь общую семантику погребального обряда, ри-
туализирующего преодоление границы между миром живых и миром
мертвых. Эта "отсылка" к погребальному обряду лежит в основе
окказионального обряда вызывания дождя данного типа и моти-
вируется народными представлениями о причинах засухи.
Одним из наиболее богатых источников вторичных ритуалов в
славянской календарной обрядности является практическая хозяйст-
венная деятельность, в частности основные земледельческие ра-
боты: пахота, боронование, сев, жатва, молотьба. Воспроизведение
этих действий обычно носит достаточно условный, иногда чисто
символический характер и совершается с магической целью обес-
О вторичной функции обрядового символа 2АП
печения хорошего урожая. Оно встречается в составе календарных
(особенно масленичных) и окказиональных обрядов, в играх и фольк-
лорных мотивах. Ритуальная пахота у южных и западных славян
входила в программу масленичных обходов, о чем свидетельствуют
такие названия ряженых, как сербскохорв. "плужари", "орачи", чеш.
voradki. В Южной Чехии дружина обходчиков во главе с "мясопус-
том" обходила село с плугом, в который запрягались молодые парни,
а "масопуст" пахал. Плуг затем разламывали [Zfbrt VCh, с. 145].
Подобные обходы с плугом и символическое пахание отмечены в
Западной Чехии и Центральной Моравии [Tom. CSMO, с. 41].
У болгар пахота и сев составляют один из основных компонентов
кукерского обряда [КОО. ВП, с. 279, Mas. tr., рис. 43. Стам. КС,
с. 18, 30-38].
В Полесье распространен ритуал пахания высохшего русла реки
во время засухи, известный и за пределами Полесья и далеко за
пределами славянских традиций, в частности на Кавказе, в Индии
и др. (подробнее см. [Тол. ЗСЯ П, с. 121-123]). В Полесье этот обряд
воспроизводит обычную пахоту плугом со следующими весьма
существенными отличиями: если реальную пахоту совершают всегда
мужчины, то ритуальную - женщины, главным образом вдовы или,
реже, девочки. Если обычно впрягают в плуг коня или вола, то во
вторичном ритуале, как правило, ’’пашут собой”, т.е. впрягаются в
плуг сами женщины. В некоторых локальных традициях требуется,
чтобы женщины, исполняющие ритуал пахания реки или дороги,
раздевались полностью или частично, но этот признак имеет
параллель и в обычаях производить первую пахоту или первый сев в
исподнем. Кое-где ритуал пахания реки или дороги развертывается в
полный цикл и включает кроме пахоты еще и боронование,
засевание маком или житом, поливание посевов. В других местах он,
наоборот, может быть предельно редуцированным и носить почти
символический характер: плуг тянут поперек дороги или вдоль
берега или же просто бросают в воду. Так же и ритуальное бо-
ронование может ничем не отличаться от обычного боронования, а
может заменяться символическим боронованием рукой или фар-
туком.
Ритуальная пахота составляет основу самостоятельного окказио-
нального охранительного обряда, известного у всех славян, - опахи-
вания селения, совершаемого во время падежа скота, эпидемий,
засухи и других массовых бедствий [Жур. ОО].
Напротив, сев чаще всего не составляет самостоятельного вто-
ричного ритуала, а входит в состав комплекса действий, имити-
рующих земледельческий цикл работ. В хорватских и словенских
масленичных обрядах при обходе дворов с плугом и бороной ря-
женые мужчины пропахивали борозду, а женщины совершали симво-
248 Н.И. и С.М. Толстые
лический посев огородных культур, разбрасывая пепел, мякину или
песок [КОО. ВП, с. 247-248]. Сеяние конопли, перца, льна и других
культур составляет часть южнославянских масленичных игр типа
"коноплярица" и подобных, календарно не всегда приуроченных, в
которых воспроизводится полный цикл возделывания той или иной
культуры (ср. восточнослав. игры типа "А мы просо сеяли"). Ри-
туальное посевание в рождественском цикле обрядов совершается
полазником или хозяйкой дома (Западная Болгария - КОО. ВП,
с. 268-269) или детьми-засевальниками (восточные славяне). Оно,
однако, не всегда четко выделяется как отдельный ритуал,
смыкаясь с магическим осыпанием зерном, имеющим более общий
смысл благопожелания (ср. осыпание зерном молодых на свадьбе
и т.п.). В рождественских, андреевских и др. гаданиях (и соответ-
ствующих текстах) широко представлено сеяние льна, конопли,
жита, проса, мака, овса, ячменя и др., которое совершалось в осо-
бых, отмеченных местах: у колодца, под окном, вокруг дома, на
мусорной куче, у овина, на току, в хате под печью, под кроватью
и т.п. [Вин. ДГ, с. 27-30].
Значительно реже встречается обрядовое воспроизведение других
земледельческих работ. В восточнославянском жатвенном обряде
при оформлении пожинальной бороды жницы производят символи-
ческую прополку под оставленными колосьями и боронование. Дела-
ется это для того, чтобы в следующем году была чистая рожь.
В Волынской губ. рыхление земли серпами совершают не женщины,
изготавливающие бороду, а юноши, побуждаемые к этому жен-
щинами [Терн. ЛОЖЦ, с. 105-106, 123].
В сербской традиции в составе рождественского цикла обрядов
совершается ритуал молотьбы, приуроченный к рождественскому
Сочельнику или Новому году. Ареал этого обычая ограничен зоной
Западной Боснии и прилегающих районов Хорватии. У сербов-
граничар в с. Машвина было принято на Новый год до рассвета
будить детей, брать сакральный пирог (колач) и рождественскую
солому и выходить на гумно. Хозяин насаживал пирог на кол,
стоящий посредине гумна, привязывал к колу веревку, за которую
хватались дети и трижды обегали вокруг кола, подражая при этом
ржанию коней, а хозяин погонял их кнутом. Затем несли пирог в
хлев, где хозяин натыкал его волу-"дешняку" (т.е. идущему в
упряжке всегда справа) на рог. Вол мотал головой, и пирог падал на
землю. Если он падал лицевой стороной кверху, это предвещало
хороший урожай [Бег. ЖОСГ, с. 92-93]. В Горней Крайне обряд
завершался диалогом. Хозяин спрашивал: "Что вы молотите?". Ему
отвечали последовательно: "Молотим пшеницу, рожь и т.д." [СМР,
с. 35]. В некоторых селах Западной Боснии ритуальная молотьба
совершалась в доме, у очага - молотили колосья из последнего
О вторичной функции обрядового символа 249
снопа, а намолоченные зерна употребляли для приготовления глав-
ного рождественского хлеба чесницы [СМР, с. 16]. На Украине, в
Черниговской обл. зафиксирован обычай ритуальной молотьбы,
называемый "рожь молотить" и совершаемый на второй день свадь-
бы. Выносят колоски жита, мужчины - участники свадьбы рядятся
в кожухи, шапки, мажут лицо сажей, берут цепы и молотят и веют
зерно. Отец молодой дает им за это деньги. Мякину ссыпают в
рядно, кладут на возок и катают на нем сначала родителей, затем
крестных, бабу, деда (зап. Н.К. Гаврилюк).
Значительное место в славянской календарной и окказиональной
обрядности занимает воспроизведение основных семейных обрядов -
свадебного, родинного и погребального или их главных компо-
нентов - женитьбы, родов, похорон. Свадебные игры являются ха-
рактерной чертой русского новогоднего обряда. Особенно развер-
нутую форму приобрели инсценировки свадьбы в севернорусской
традиции [Чич. ЗПРЗК, с. 190-193]. Аналогичные ритуалы, вос-
производящие (обычно пародийно) элементы свадебного обряда, у
западных и южных славян приурочены к масленице. У чехов Северо-
Восточной Моравии невестой наряжается самый высокий парень,
выполняется весь свадебный обряд с участием родителей, шаферов,
дружек [КОО. ВП, с. 226]. У сербов, хорватов и словенцев в
масленичных обходах ряженые изображали свадьбу и свадебный
поезд (серб. "дивл»а свадба") [КОО. ВП, с. 247]. В болгарских об-
ходах джамалари перед каждым домом совершают обряд венчания
невесты, входящей в их дружину [Стам. КС, с. 66]. Пародийное
воспроизведение свадебного обряда, в котором роли жениха и
невесты исполняют переодетые старик и старуха, может вклю-
чаться в настоящий свадебный обряд в качестве его завершающего
эпизода в последний, третий день свадьбы. В Полесье такая
шуточная свадьба называется "хвост" (см. подробнее [ПЭС,
с. 58-59]).
Наряду с такими воспроизведениями свадебного обряда, в ко-
торых присутствуют основные персонажи и проигрываются основ-
ные акты, хотя и в сокращенном или пародийном виде, существуют
такие вторичные свадьбы, которые носят чисто символический ха-
рактер или сохраняют связь со свадебным обрядом лишь в названии.
Таковы, например, известные у восточных славян ритуалы женить-
бы предметов: ступы с толкачом, мешка с торбой и т.п. и соответ-
ствующие фольклорные мотивы. В полёсском обряде, называемом
"комина женять" (т.е. трубу женят), ничто кроме названия не
ассоциируется с темой свадьбы: обряд состоит в том, что осенью
хозяйка подбрасывает к потолку зерно или семечки, а дети ползают
и подбирают их. В таких случаях семантическая связь со свадебным
обрядом должна быть еще реконструирована.
250 Н.И. u С.М. Толстые
Воспроизведение элементов родинного обряда встречается, глав-
ным образом, в составе масленичной обрядности. Сюжет “совокуп-
ления и родов" одного из персонажей масленичных обходов или игр
(коноплярицы, бабы и т.п.) широко известен по южнославянским
материалам. В сербской игре “коноплярица" после символического
изображения процесса возделывания конопли (от корчевания пней до
охраны посевов от птиц и уборки) совершается “половой акт" с
другими участниками игры, и коноплярица рожает ребенка. Даль-
нейший ход игры связан с опознанием “отца" ребенка [Млад. НИБП,
с. 93-94]. В районе Таково эта игра включает и эпизод "крещения"
ребенка попом [Фил. Так., с. 241]. В украинском обряде "колодка",
совершаемом на масленой неделе, символическое рождение состав-
ляет часть полного жизненного цикла от рождения до смерти.
В понедельник утром женщины собирались в корчме. Одна из них
клала на стол небольшое полено или палку (колодку) и пеленала
несколькими кусками холста. Это означало, что Колодка родилась.
Потом пили вино, поздравляли друг друга с рождением Колодки, а
уходя, оставляли Колодку в корчме. Так продолжалось всю неделю:
во вторник Колодка крестилась, в среду были покрестьбины, в
четверг она умирала, в пятницу ее хоронили. В воскресенье Колодку
"волочили": женщины привязывали ее парубкам и девушкам к ноге,
а девушки в свою очередь привязывали парубкам Колодку, обши-
тую ленточками, за что парни должны были платить выкуп [Чуб.
ТЭСЭ, с. 7-8].
Погребальный обряд имеет наибольшее число реплик в тради-
ционной обрядности, наибольшее число воспроизведений в самых
разных жанрах народной культурной традиции, которая столь сильно
ориентирована на семантическое противопоставление жизни и
смерти и культ предков. Действительно, в самых разных областях
славянской календарной и окказиональной обрядности обнаружи-
ваются близкие друг к другу ритуальные формы, воспроизводящие
погребальный обряд или соотносимые с ним. Это хорошо известные
обряды "похорон" Масленицы, Зимы, Смерти, Костромы, Ярилы,
Кузьмы-Демьяна (Кузьки), Марены; болгарский и западносербский
ритуал похорон Германа; похороны кукушки, соловья, воробья;
похороны насекомых (мух, паука, тараканов, клопов, вшей), похо-
роны лягушки, рака, ужа и т.п., наконец, похороны символических
предметов (стрелы, сулы и т.п.). К ним примыкают многочисленные
в календарных обрядах акты символического уничтожения, убийства
(без похорон) обрядовых персонажей или заменяющих их предметов,
ср. убийство главного кукера [КОО. ВП, с. 279] или кукерского царя
[Стам. КС, с. 22, 38], масленичного персонажа "камилы" (верблюда)
[Стам. КС, с. 43], масок медведя, лошади, козла, старика и др. в
чешских и словацких масленичных обходах (Tom. CSMO, с. 48] и т.п.
О вторичной функции обрядового символа 251
Большинство этих обрядов отражают связь с ритуалом похорон и на
лексическом уровне, т.е. носят название похороны или другие назва-
ния с тем же значением. Эти обряды имеют разные объекты, раз-
ную календарную приуроченность, разные функции и соответст-
венно воспроизводят погребальный обряд в разной степени и в
разных отношениях. Общей для них всех является сама ориентация
на структуру и семантику шлребального обряда, его вторичная
ритуализация. В этих вторичных похоронах имитируются основные
действия и составные части погребального обряда: прежде всего
сама смерть, составляющая семантическую доминанту обряда. Вто-
ричные обряды включают убиение, умерщвление, в том числе
потопление и повешение, разрывание на части, сожжение и другие
способы уничтожения кукол, чучел, птиц, насекомых, животных,
либо разыгрывание смерти участниками обряда. Затем могут инсце-
нироваться остальные действия: обряжение в смертную одежду;
прощание с покойником, отпевание; оплакивание, голошение. В них
воспроизводится похоронная процессия, рытье могилы, собственно
погребение (закапывание в землю) или же сжигание или пускание по
воде, поминки. В них воспроизводятся также основные реалии погре-
бального обряда: покойник (им может быть соломенная, тряпичная,
глиняная и т.п. кукла, чучело; деревце, трава; веник; живой чело-
век, исполняющий роль покойника; убитый зверек, птица, насе-
комое; символический предмет - лента, шпилька, монета), смертная
одежда - саван (рогожа, лоскут), гроб (им служит корыто, ящик,
коробка, спичечный коробок, носилки), могильная лопата (палка), мо-
гила, кладбище (чаще всего это поле, огород), поминальная еда.
Поскольку в большинстве случаев вторичные похороны входят в
состав того или иного календарного обряда (святки, проводы зимы,
масленица, троицкие обряды, купальский обряд, кузьминки), то они
обычно рассматривались и истолковывались в общем контексте и в
связи с общей семантикой этих обрядов или семантикой других
компонентов этих обрядов, что неизбежно приводило к разноречи-
вости и разноплановости толкований то в связи с культом уми-
рающего и воскресающего божества, то на почве солярной теории,
то в связи с культом растительности. Меньше внимания до сих пор
уделялось таким видам вторичных похорон, как южнославянский
обряд Герман и восточнославянские обряды убиения и похорон
лягушки, рака и других животных, составляющие особые окказио-
нальные обряды и имеющие четко выраженную функцию - вызы-
вание дождя (иногда остановку дождя). В отличие от восточно-
славянских святочных игр "в покойника", похорон Масленицы, Кост-
ромы, Кузьмы-Демьяна и т.п., в этих обрядах обычно отсутствуют
смеховые пародийные элементы, и погребальный обряд воспроизво-
дится с совершенной серьезностью и со всеми необходимыми
252 Н.И. и С.М. Толстые
церемониями (вплоть до участия настоящего попа в отпевании).
Обращают также на себя внимание и требуют специального истол-
кования такие особенности этих похорон, как девственность "по-
койников", отраженная в их убранстве, женский (в последнее время
детский) состав исполнителей, особая роль голошения, оплакивания,
"нечистые" места захоронения (перекрестки дорог, рвы, вода)
и другие ассоциации с "нечистыми" покойниками.
Вообще обряды вызывания дождя пронизаны погребальной се-
мантикой ц насыщены элементами погребального обряда, что свя-
зано с общими народными представлениями о природе дождя, при-
чинах засухи, и в частности о связи мертвых со стихией земной и
небесной влаги. Этими представлениями мотивированы прежде всего
ритуалы прямого обращения к покойникам (чаще всего утоплен-
никам) с просьбой послать дождь или, наоборот, отвести от села
грозовую или градовую тучу. В полесских обрядах убиения лягушки,
ужа, рак^ и других животных сам выбор этих животных в качестве
объекта (жертвы) в обряде вызывания дождя основан на их связи с
хтоническим миром или на их близости к водной стихии. Действия,
которым подвергаются эти животные, в такой же степени связаны с
кругом, представлений о смерти и потустороннем мире и в ряде
случаев составляют прямую параллель к отдельным элементам
погребального обряда. Прежде всего это касается самого акта убие-
ния животного. Способы умерщвления (убиение палкой, камнем, раз-
рывание на части) и некоторые детали дальнейших действий: подве-
шивание на ветке дерева, над колодцем, выбрасывание на дорогу,
на перекресток (места связи этого мира с потусторонним), - ассоции-
руются не только с элементами представлений о нечистой смерти, но
и с обрядами символического уничтожения разного рода ритуальных
предметов и чучел (купальского деревца, ведьмы, Костромы, масле-
ницы, русалки и т.п.). Наиболее развернутые варианты подобных
обрядов представляют собой уже настоящие ритуалы погребения и
оплакивания убитых животных. Ритуалы с лягушкой имеют
наиболее обширный ареал на территории Полесья и наиболее далеко
идущие параллели: у болгар при изготовлении глиняной куклы
Германа кое-где ловили и убивали лягушек и начиняли ими Германа;
на Кавказе у абхазцев во время засухи убивали лягушку; наконец,
в индийских обрядах вызывания дождя есть специальные ритуалы с
лягушкой, в том числе "свадьба лягушки", распространенная по всей
Индии (подробнее см. [Тол. ЗСЯ II, с. 112, 114; Тол. ЛУ, с. 22-27]).
Каждый отдельный обряд такого рода, особенно когда он носит
редуцированный характер и сводится, например, только к убийству
лягушки, ужа или медведки или, тем более, когда он представлен
только на уровне мотива или поверья, - каждый такой обряд трудно
квалифицировать как вторичный погребальный обряд, так как
О вторичной функции обрядового символа 253
отдельные элементы погребального обряда, например голошение,
могут носить относительно автономный характер и встречаться в
составе разных обрядовых комплексов. Но когда мы имеем дело с
массовым материалом, в котором представлены целые совокупности
элементов погребального обряда (и обряжение, и погребение, и
оплакивание), то формальная зависимость рассматриваемых ритуа-
лов от погребальной обрядности становится несомненной, а их се-
мантическая связь еще более очевидной. В принципе, как методи-
ческий прием презумпция независимости сходных элементов в со-
ставе разных обрядовых комплексов (и вообще в разных культурных
контекстах) совершенно оправданна. Но если такие сходные эле-
менты выступают в совокупности и если в одном обрядовом комп-
лексе они устойчивы и мотивированы, а в другом - изолированы и
как бы случайны, то вопрос о зависимости одних от других и о
первичности одних и вторичносги других становится правомерным.
Вторичное существование получают в традиционной народной
культуре не только такие высокоритуализованные формы, как
свадебный обряд, погребальный обряд, но и многие ритуальные или
бытовые формы поведения, отличающиеся, сравнительно с этими
обрядами, значительно меньшей семантической и символической
нагрузкой и формальной организованностью. Воспроизведение этих
ритуалов, их структуры, отдельных элементов этой структуры или
отдельных реалий, персонажей, вербальных компонентов использу-
ется для актуализации стоящей за ними, закрепленной за ними
мифологической семантики, необходимой при совершении каких-то
магических, охранительных, лечебных или иных действий. В семан-
тическом отношении вторичный ритуал всегда ориентирован на
соответствующий первичный, но эта ориентация может быть прямой
или обратной, семантика проторитуала (как и его структура) может
воспроизводиться полностью или частично, может усиливаться,
проторитуал может воспроизводиться пародийно. В отдельных слу-
чаях вторичный обряд может прояснять, высвечивать глубинную
семантику того или иного элемента (или даже общий смысл) ис-
ходного обряда. Вторичное употребление может быть мотивировано
такими свойствами воспроизводимого элемента, которые в его
первичном обрядовом контексте не выражены вовсе или затемнены.
Так, например, упоминавшееся выше вторичное использование
остатков бадняка как средства, предохраняющего от грозы и града,
выявляет семантическую связь бадняка с небесным огнем, которая в
рождественских обрядах с бадняком не выражена. Между тем эта
связь тем более понятна, что бадняк чаще всего вырубали из дуба,
т.е. дерева, связанного с культом грома и молнии. Следует еще
учитывать, что во вторичном обряде могут ритуализироваться не
только отдельные элементы протообряда со своей семантикой, но и
254 Н.И. и С.М. Толстые
сама структурная схема обряда (обрядового комплекса), которая
также несет в себе определенную семантику, отличную от сум-
марной семантики отдельных элементов. В ней есть свой смысл,
который также может быть значимым элементом обряда и объектом
воспроизведения.
Как видно из приведенного краткого обзора материала, объектом
вторичного ритуального воспроизведения выступают чаще всего
существенные, ключевые элементы традиционной культуры, своего
рода архетипические культурные тексты: обряды жизненного
(рождение, брак, смерть) и вегетативного (земледельческие акты)
циклов. Их многократное воссоздание в различных обрядовых,
социальных, календарных и т.п. условиях, осуществляемое с разной
степенью приближения (от достаточно детальных инсценировок до
абстрактных символических намеков и реминисценций), составляет
основу народной обрядовой традиции. С другой стороны, областью, в
которую преимущественно проецируются эти воспроизведения и в
которой концентрируются вторичные обряды, неслучайно оказы-
ваются такие календарные комплексы, как масленичный и рождест-
венский (прежде всего их карнавальные формы и формы, имеющие
прямую магическую направленность), т.е. обряды, определяющие
весь календарный праздничный и хозяйственный цикл. Благодаря
механизму вторичности "первичные" обряды, в которых ритуализо-
вана сама жизнь, ее наиболее значимые акты (рождение, смерть,
произрастание злаков и т.п.) оказываются перманентно воспроизво-
димыми и "вечно возвращающимися" (по выражению М. Элиаде).
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Ант. АП. - AnmoHujeeuh Д. Алексиначко Поморав*е. Београд, 1971.
Буб-Корд. СМОК. - Бубало-Кордунаш М. О сахрани мртваца на Огулинском
Кордуну. - ГЕМБ, Кн». VI, Београд, 1931, с. 77-89.
Вак. БЕТМБ. - Вакарелски X. Бит и език на тракийските и малоазийските българи.
Ч. I. Бит. София, 1935.
Вин. ДГ. - Виноградова Л.Н. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской
календарной обрядности (западно-восточнославянские параллели). - СБФ. 1981,
с. 13-43.
Вук СР. - Kapayuh Вук С. Српски р]ечник истумачеи н»емачки)ем и латинсшцем
ри]ечима. Београд, 1935.
ГЕМБ - Гласник Етнографског музе]а у Београду. Београд.
Грб. СНОСБ. -Tp6uh С. Српски пародии обича]и из среза Бо*евачког. - Обича]и
народа српскога, кн. II. - СЕЗб. Кн». XIV. Београд, 1909. С. 1-382.
Ъор^. ДВОНН. - Eopfree uh Т.Р. Деца у верован>има и обича]има нашего народа.
Београд, 1941.
Ъор1). ЖОНЛК. - Bopfyeeh Д.М. Живот и обича]и пародии у Лесковачком Kpajy.
Лесковац, 1985.
Ъор1>. ЖОНЛМ. - Bopfyeeuh Д.М. Живот и обича]и народни у Лесковачко] Морави.
Београд, 1958.
Ъор1). HCOJC. - Boptyeeuh Т.Р. Неколики самртни обича]и у 1ужних Словена. -
О вторичной функции обрядового символа 255
Годишница Николе ЧупиЬа, Кн». XLVIII. Београд, 1939, с. 246-292.
Жур. ОО. -Журавлев А.Ф. Охранительные обряды, связанные с падежом скота, и их
географическое распространение. - СБФ, М., 1978, с. 71-94.
КОО. ВП. - Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Весенние
праздники. Конец XIX - нач. XX вв. М., 1977.
Мар. НВ. -Маринов Д. Народна вяра и релйгиозни народни обичаи. - София, 1914.
МиЬ. ЖОП. Muhoeuh Л. Живот и обича]и Поповаца. Београд, 1952.
Миод. НПС. - МиодраговиК J. Народна педагогща у Срба или како наш народ
подиже пород ceoj. Београд, 1914.
Млад. НИБП. - МладеновиН О. Народне игре на Беле Покладе у Велико] Иванчи. -
ГЕ МБ XVII. Београд, 1954.
Пав. ММ. - ПавловиН}М. Малешево и Малешевци. Београд, 1929.
ПЭС. - Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983.
СБФ. - Славянский и балканский фольклор. М.
СЕЗб. - Српски етнографски зборник. Београд.
Сед. ЛССНОБ. - Седакова ИА. Лексика и символика святочно-новогодней
обрядности болгар (рукоп. канд. дис.). М., 1984.
СМР. - Кулиишк Ш., Петрович П Ж., Пантелик Я. Српски митолошки речник.
Београд, 1970.
Стам» КС. - Стаменова Ж. Кукери и сурвакари. София, 1982.
Тер. ЛОЖЦ. - Терновская О А. Лексика, связанная с обрядами жатвенного цикла
(материалы к словарю). - Славянское и балканское языкознание. Карпато-
восточнославянские параллели. Структура балканского текста. М., 1977,
с. 77-130.
Тол. ГСО. - Толстой Н.И. Из "грамматики" славянских обрядов. - Труды по
знаковым системам. XV. Типология культуры и взаимодействие культур. Тарту,
1982. С. 57-71.
Тол. ЗСЯ I. - Толстые Н.И. и С.М. Заметки по славянскому язычеству.
1. Вызывание дождя у колодца. - Русский фольклор. Т. XXI. Л., 1981, с. 87-98.
Тол. ЗСЯ II. - Толстые Н.И. и С.М. Заметки по славянскому язычеству.
2. Вызывание дождя в Полесье. - СБФ. М., 1978, с. 95-130.
Тол. ЗСЯ V. - Толстые Н.И. и С.М. Заметки по славянскому язычеству. 5. Защита
от града в Драгачеве и других сербских зонах. - СБФ, М., 1981, с. 44-120.
Тол. ЛУ. - Толстая СМ. Лягушка, уж и другие животные в обрядах вызывания и
остановки дождя. - СБФ. М., 1986, с. 22-27.
Фил. ЖОНВН. - ФилиповиЬ М.С. Живот и обича]и народни у Височко] нахщи.
Београд, 1949.
Фил. РЕГ. - ФилиповиК М.С. Различите етнолошка rpalja. Београд, 1967.
Фил. Так. - ФилиповиК М.С. Таковци. Етнолошка посматрака. Београд, 1972.
Фил.-Том. ГП. - ФилиповиЬ М.С., ТомиЬ П. Горн»а Пчшьа. Београд, 1955.
Чич. ЗПРЗК. - Чичеров В.И. Зимний период русского земледельческого календаря.
М., 1957.
Чуб. ТЭСЭ. - Труды Этнографическо-статистической экспедиции в Юго-Западный
край. Материалы и исследования, собранные П.П. Чубинеким. Т. III. СПб., 1872.
Шнев. ГЕСОСХ. - Шнева^с Е. Главки елементи самртних обича]а код Срба и
Хрвата. - Гласник Скопског научног друштва. Кн>. V. Скопле, 1929, с. 263-282.
Bieg. MD. -Biegeleisen Н. Matka i dziecko w obrz^dach i zwyczajach ludu polskiego. Lw6w,
1927.
Маг. BOHBH. - Markovid T. Boiidni obidaji Hrvata u Bosni i Hercegovini. - Etnografska
istrabvanja i gradja. Zagreb, 1940, c. 5-86.
Mas.tr. - Masopustni trad ice. Bmo, 1979.
Tom. CSMO. - Tomei J. Ceskd a slovensk6 masopustni obideje a jejich mezinArodni
obm&ny. - Mas.tr., c. 37-51.
Zibrt VCh. - Zibrt €. Vesel6 chvile v hvot£ lidu desk£ho. Praha, 1850.
З.В. ХАРАТЯН
БЕРУЩИЕ И ДАЮЩИЕ
(армянские обозначения брачной пары
в фольклорно-этнографическом контексте)
В армянских народных четверостишиях (xaiik) часто встречаются
сюжеты, указывающие на брачный выбор. При этом в некоторых
текстах обнаруживается также мотив регулирования брака внутри
кровно-родственной группы - «azg» - а. Чаще всего этот мотив пе-
редается через противопоставление свой - чужой, фиксируя
внимание на молодом парне как на чужом, входящем в разряд
потенциальных брачных партнеров девушек данной родственной
группы. Например:
Ay tla atar inis, Vardaki katar inis, tA injana et teamas, tu £utupatar inis. Эй, парень, будь ты и чужим, Будь ты и гребешком петуха, Если ты отвернешься от меня, Пусть тебя разорвет на части. [Архив, a FF 1Х:5492]
Или другой вариант:
Ay tla awtarel es, Sev havi katar lies, Эй, парень, будь ты и ч у ж и м, Будь ты и гребешком черной курицы,
Im xer k6zi axdlk £1 ta, Мой отец тебе девушки не даст, (Хоть) разорвись у тебя сердце.
Sirtd dupatar eles [Архив, a FF 11:1958]
Идея допустимости брака между произносящей стих девушкой и
адресатом-парнем моделирована здесь в словах hatar/awtar - «чужой»
(символизирующих брачного партнера) и vardaki/sevhavi katar -
«гребешок петуха / черной курицы» (символизирующих мужчину),
причем в первом случае это желанный брак, а во втором - не-
желанный.
© З.В. Харатян, 1994
Берущие и дающие 257
Имеются также варианты, где слова, моделирующие допус-
тимость брака, заменяются другими:
Ay du am u vam es,
Kanad'k'oleri xnjam es,
Ёп awv kasi tfc dam es,
Du im sirac yam es.
Ты - a p н и пламень,
Ты-плод зеленых лесов,
Кто скажет, что ты горек?
Ты - мой возлюбленный.
[Архив, a FF VI: 1782]
Замена слова «чужой» на varn - «пламень», а выражения «гре-
бешок петуха / черной курицы» на «плод зеленых лесов» достаточно
очевидна, поскольку все эти понятия находятся в пределах одного
семантического поля, привязанного к жениху. Менее очевидно в
этом плане появление здесь слова агп (арн), многочисленные
смысловые оттенки которого обнаруживаются в целом ряде
литературно-фольклорных и ритуальных текстов. Например, герой
повести-были М. Налбандяна1, обсуждая со своей сестрой вопрос
выбора невесты, говорит: «Воистину, моя купля-продажа (air ev tur)
может выглядеть удачной, если бы к моей сумме прибавились две
тысячи даровых рублей серебром» [Налбандян 1971, с. 124-125].
«Слово обручение, которое употребляют нахичеванцы, - пишет
Е. Шахазиз, - отмечает лишь простое действие обмена кольцами.
Для обозначения же обычая обручения вообще употребляют
турецкое слово ”beh"2, что, как известно, означает настоящий залог,
т.е. в таком случае невеста представляется как приобретенное
имущество или товар, за который оплачена не вся цена, а лишь ее
часть» [Шахазиз 1901, с. 78].
Собранные мной в различных районах Армянской ССР полевые
этнографические материалы изобилуют выражениями, указы-
вающими на брачный сговор или сватовство как на торговлю. Свата
направляли к родным девушки с пожеланием: «Да будет добрым
(удачным) твой базар!». После же удачного сговора обычно
говорили: «Да благословит бог твою куплю-продажу (ahitur)!». Свое
нежелание выдать дочь отец девушки выражал следующими
словами: «Не бывать у нас с вами купли-продажи (arutur)». Чаще же
всего просьбу свата отвергали словами, указывающими на
невозможность обмена своей дочери в качестве невесты на данного
парня - потенциального жениха. На армянском языке это
выражение звучит: «Es mardi talu atjik ёйпет», что дословно может
быть передано как «У меня нет дочери, чтобы дать мужу
(мужчине)». Словосочетание mrdi tai здесь может толковаться как:
а) собственно процесс замужества (ср. mardu gnal "выходить
замуж’; mardu tai "выдать замуж’ [Сукиасян, Калстян 1975, с. 416]), а
иногда и замужнее положение (ср. mardi tvi "выдал замуж’, mardi
gnac"ac а" (она) замужем’, mardi апл а "(она) у (такого-то мужа’ и т.п.).
258 З.В. Харатян
б) обмен дочери на кого-либо, в данном случае на ее будущего
супруга (ср. применяемые в других случаях обмена аналогичные
выражения типа «Ковер отдал (обменял - арм. tvec‘i) за пшеницу»).
Для данного контекста более характерно доныне бытующее
выражение «дали девушку, взяли мальчика».
Перечень аналогичных выражений и оценок можно подкрепить
множеством новых примеров, однако и этих достаточно, чтобы
сказать, что брак воспринимается армянами как своеобразная форма
обмена, как торговая сделка. Приведенные выше факты вместе с
сопровождающими многообразными ритуальными (знаковыми)
операциями могут быть объяснены в духе теории обобщенного
обмена, разработанной М. Моссом и его школой [Мосс 1950] и
нашедшей свое дальнейшее развитие в трудах К. Леви-Строса
[Леви-Строс 1985; Леви-Строс 1967] и др. (из самых последних см.
хотя бы [Крюков 1987]).
Для целей настоящей статьи важно, что и для обще-
индоевропейского периода восстанавливается система обмена [Гам-
крелидзе, Иванов 1984; Бенвенист 1966], в которую наряду с
обменом материальными благами и взаимными угощениями входил
обмен и брачными партнерами [Иванов 1975, с. 59]. Подобную
систему в армянской среде3 следует обозначить словами аг "брать" и
tur ‘давать’, первоначальное значение которых достаточно четко
выявляется в процессе исследования древнейших индоевропейских
культурно-языковых пластов.
Прежде всего заслуживает внимания то обстоятельство, что как
аг, так и tur отражают суть взаимности обмена. Рассматривая хетто-
лувийские и армянские параллели, Г. Джаукян отмечает, что
образованное от индоевр. корня *аг ‘уделить долю’, ‘освоить’ (ср.
[Ачарян (I), с. 248,261-262]) хеттское апш некоторые исследователи
сравнивают с арм. глаголом агпшп ‘приобрести’, ‘получать’. Сам же
Г. Джаукян хет. arnu этимологизирует как ‘двинуть’, ‘удалить’, с
одной стороны, и ‘приблизить’, ‘подвести’, с другой стороны
[Джаукян 1970, с. 142]. Значение этого хеттского слова в одном
случае как ‘приносить’, в другом как ‘уводить’ толкуют также
Т. Гамкрелидзе и В. Иванов [Гамкрелидзе, Иванов 1984, с. 200]4.
Взаимность обмена более отчетливо содержится в слове tur5,
толкуемом как двустороннее отношение и означающем одно-
временно и ‘давать’ и ‘брать’, т.е. выражающем таким образом саму
идею обмена [Бенвенист 1966, с. 317-326; Гамкрелидзе, Иванов
1984, с. 752—754]6. Примечательно, что в армянском языке имеется
также форма tritur, означающая ‘платить даром за дар’ [Ачарян (IV),
с. 357], ‘взаимность’, ‘возмещение’ [Сукиасян 1967, с. 632]7; ср. с
древнескандинавским понятием Laun «возмещение дара» [Гуревич
1970, с. 69], ср. также [Дюмезиль 1986, с. 61].
Берущие и дающие 259
Если для общеиндоевропейского периода аг и tur (каждый в
отдельности) толкуются как понятия, отражающие суть взаимности
обмена, то в позднейшем армянском языке смысл взаимности уже
наблюдается в словосочетании arevtur ‘торговля*. С этой точки
зрения примечательна форма turcvar, означающая помимо собственно
‘торговли’ также ‘сожительство’8, ‘разговор’, [Ачарян (I), с. 247], но
и ‘брак’, ‘свойство’ [Новый словарь (II), с. 892; Сукиасян 1967,
с. 634]. Первоначальное значение слов аг и tur в армянском языке
сильно потускнело и по той причине, что эти понятия диф-
ференцировались и стали обозначать противопоставляющихся по
признаку мужской - женский членов брачной пары.
На первый член противопоставления - мужчину лучшим
образом указывает широко используемое в армянских брачных
канонах выражение aim linel ‘выходить замуж* [Армянская книга
канонов, с. 115, 161, 259]. Однако aim здесь является древне-
армянской формой родительного падежа слова ауг ‘мужчина*,
которое рассматривается в одном семантическом поле с индоевр.
корнем *Нпег (t^9, толкуемым как ‘жизненная сила*, ‘мужская сила*
[Гамкрелидзе, Иванов 1984, с. 800-802; Джаукян 1970, с. 144]10.
Знаковое содержание первого члена противопоставления по
сущности раскрывается при рассмотрении смысловой нагрузки
древнеармянского слова aim ‘дикий баран - овен* [Новый словарь (I),
с. 307; Ачарян (!)• с. 261; Джаукян 1982, с. 111-113] от индоевр.
корня *ers или *wers. Э. Бенвенист отмечает смысловую не-
однозначность этих двух корней: *ers означает ‘самец*, указывая на
физическое значение самца как противопоставления самке в
животном мире; *wers же указывает на функциональное значение
самца вообще как воспроизводителя. Подобная четкая
дифференциация отсутствует в санскрите в силу идентификации в
мифопоэтической трактовке быка (w'rSabha) и самца вообще (rSabha)
[Бенвенист 1969, с. 21-25]. Характерно, что от этого корня в разных
индоевропейских языках образуются названия различных животных-
самцов, как, например, aim ‘овен’ в армянском. Гр. Ачарян полагает,
что самцы обозначались именно с помощью корня *eres ‘течь,
мокрота, влажность’ по той причине, что самец воспринимался как
‘истекающий’ [Ачарян (I), с. 261]11. Ко всему этому следует также
добавить характерное для многих этноязыковых и культурных, в
том числе и неиндоевропейских [Бардавелидзе 1957, с. 177-183;
Иванов 1978, с. 86], традиций представление о ритуальной знаковой
идентичности человека и быка или коровы [Иванов 1974; Иванов
1976, с. 53-54]. Эквивалентность жениха и быка и невесты и коровы
особенно ярко выступает в брачно-свадебном контексте у армян, в
частности в таких обычаях, как beran-bac‘ek‘ (букв, ‘раскрытие рта’)
у жениха - снятие обета молчания с обещаниями телки за речь
260 З.В. Харатян
жениха; ритуал заклания быка; словесный поединок партий жениха и
невесты с соответствующими соотнесениями и т.п.
Казалось бы, сказанное дает достаточно оснований для смысловой
и знаковой идентификации мужчины и агп. Тем не менее нельзя
упустить из виду еще одно весьма важное обстоятельство.
Известно, что в некоторых диалектах армянского языка слово агп
фигурирует как термин родства: это наименование четвертого
поколения по прямой нисходящей линии, т.е. внук внука, сын
правнука [Ачарян 1913, с. 133]. Этимология терминов армянского
языка, обозначающих эту линию родства, изучена достаточно
хорошо [Асмангулян 1971; Асмангулян 1984]. Рассматривая этот
ряд терминов - torn ‘внук’, сот ‘правнук’, агп ‘праправнук’, когп
‘прапраправнук’, - А. Асмангулян полагает, что все они являются
терминами, образованными от различных индоевр. корней12 с
первоначальным значением «свежий, детеныш, отрок, дитя»
[Асмангулян 1984, с. 23]. Однако семантика этого ряда терминов
родства раскрывается более полно, если толковать их и с
этнографической точки зрения, в частности в аспекте брачной
экзогамии. Иными словами, было бы полезным проследить, какое из
вышеуказанных поколений рассматривается как допустимое для
брака колено в армянской этнической среде. Наличие в системе
брачного права армян испокон веков синхронно функционировавших
двух начал - церковного (каноническое право) и народного (обычное
право) лишает возможности однозначно ответить на этот вопрос.
Определенно можно сказать, что начиная с IV-V вв. в армянских
канонах зафиксирован запрет на брак между всеми кровными
родственниками по прямой нисходящей линии. Брак мог совершаться
лишь между представителями четвертого поколения по боковой
линии [Оганесян 1976, с. 228; Седракян 1881, с. 47-48, 197]. Это
значит, что брак разрешался между corn - правнуками двух братьев.
В последующих веках (IX—XIII) этот запрет распространялся и на
следующие два поколения, включая и пятое [Оганесян 1976, с. 232-
234; Седракян 1881, с. 30, 101]. Таким образом, выясняется, что в
промежутке с IV по XIII в. допустимой брачной ступенью отмечены
поочередно com, ат, кот. Это обстоятельство, а также тот факт,
что в древнеармянском языке наряду с диалектными формами сот и
агп все же сохранились их синонимы t‘oi*neayk’ ‘правнук’ и
jagt‘orneayk’ ‘праправнук’ [Седракян 1881, с. 30, 101]13, заставляет
думать, что образование диалектных форм терминов связано с
необходимостью отмечать допустимые брачные поколения для того
или иного периода развития семейно-брачных норм и отношений у
армян. К тому же, по А. Асмангулян, слова com, ат, koi*n как тер-
мины родства не имеют параллелей в индоевропейском [Асмангулян
1971, с. 102].
Берущие и дающие 261
Существенные уточнения в этот вопрос вносит полевой
этнографический материал. В Нагорном Карабахе (где, собственно,
и зафиксирован термин агп в значении 'праправнук*) допустимую
брачную ступень считали именно агп. То же самое засви-
детельствовано и в Зангезуре [Закарян 1980, 1982]. Однако Шамир
Чилингарян, 94-летний информант из с. Навур Шамшадинского р-на
АрмССР, утверждал, что не агп, а кот (в его диалекте - кит) явля-
ется допустимым для брака поколением. При этом старик весьма
интересным образом демонстрировал шкалу поколений по прямой
нисходящей линии. Как таковую он представил свою правую руку,
распределив поколение по основным суставам руки. Так, костяшки
на кулаке - это tor ‘внук’, а запястье - сиг ‘правнук*, а локоть - киг
‘праправнук*. 'Именно с этим последним и был допустим брак.
Старик мотивировал свою правоту тем, что эта часть руки
расположена далеко, ее не видно, по крайней мере он сам ее не
охватывает взглядом. Тем самым он подал блестящий пример
своеобразного восприятия бинарных оппозиций: близкий -
далекий, свой - ч у ж о й и, наконец, д о п у ст и м ы й
брак - недопустимый брак. Интересно, что эта ори-
гинальная модель регулирования браков внутри рода для нашего
информанта подкрепляется самим названием руки - киг в его
диалекте14. Примечательно также, что генеалогически-анато-
мические соответствия старика-информанта находят свои параллели
и в научной этимологии слова кот - так, по Г. Джаукяну, оно про-
исходит от индоевр. корня *geu, означающего собственно ‘гнуть,
сгибать’ [Джаукян 1970, с. 31, 35; Джаукян 1987, с. 113].
Все информанты категорически отрицают даже мысль о возмож-
ности заключения брака между правнуками двух братьев, хотя нема-
ло также указаний на кровосмешение подобного рода (ср. [Седракян
1881, с. 13, 111-112]). И это вполне понятно, ибо такой брак был
запрещен еще в IX-XIII вв. А значит, столь же понятным должен
выглядеть и вывод о том, что идея искривления, сгибания в кровном
родстве, т.е. отчуждения до той степени, чтобы был допустим брак,
в устах народа вместо слова cur (com) продолжала выражаться с
помощью слова киг (кот), поскольку эти слова представляют собой
этимологические дублеты, отражающие чередование k/с, и означа-
ют ‘гнуть, сгибать*, ‘быть кривым*. Вот почему слова corn и korn
далее были использованы в системе терминов родства для диффе-
ренциации разных поколений по прямой нисходящей линии.
Характерно, что при указании ступени допустимого брака
информанты нередко путают поколения кот и aim, а иногда даже
как на допустимое колено указывают одновременно и на то, и на
другое. Это обстоятельство наводит на мысль, что агп перво-
начально не обозначало какое-либо конкретное поколение в системе
17 270
262 З.В. Харатян
родства, в особенности если принимать во внимание и значение этого
слова как ‘самец’, т.е. потенциальный брачный партнер мужского
пола. Таким образом, напрашивается вывод о том, что в процессе ис-
торического развития брачных норм и отношений термином агп обо-
значалось то конкретное поколение, с которым каноническое и
народное правовое сознание каждой конкретной эпохи считало
возможным и допустимым заключение браков. Иными словами,
термин агп призван указать не столько на родственный, сколько на
отчуждающийся, «кривой» характер данного поколения, а тем
самым и на допустимость заключения брака между представителями
этого поколения. Кстати, отражение идеи подобного отчуждения
намечается также в диалектных выражениях типа агп ет апшп
‘стесняюсь, чувствую себя чужим*, arnvil ‘стесняться* [Ачарян 1913,
с. 135]; arnvel ‘обижаться из-за наглых, непристойных манер* [Ама-
туни 1912, с. 58].
Второй член противопоставления - женщина - моделирован в
лексическом мире слова tur. Это раскрывается, в частности, с
помощью словосочетания tur tai, означающего: 1) отдать, 2) сдаться,
3) быть согласным [Сукиасян 1967, с. 634], а также ‘согласиться,
одобрить сказанное’ [Ачарян 1913, с. 1043]. Как видно, это сло-
восочетание предполагает некий диалог, обсуждение, скорее всего
приводящее к договоренности (о сдаче-получении чего-либо?). Особо
следует отметить, что tur tai в некоторых устоявшихся выражениях
прямо указывает на то, что нужно отдать, или чему следует дать
свое согласие, одобрить, или же, наоборот, не одобрить. И не совсем
случайно, что в конкретном «диалоге» объектом обсуждения нередко
выступает девушка, например: Mind’ev mahanals afjkan tur ё'еш tai
‘Умру, но не отдам дочь’ [Ачарян 1913, с. 1042]. В данном контексте
словосочетание tur tai не только вносит новый оттенок во взаимность
обмена, но и определенным образом указывает на семантическую
идентичность понятий «tai, tur» («давать») и «девушка, женщина».
Эта идентичность наглядно видна и в образованном от основы (tai
‘давать’ слове talite ‘девушка’ [Ачарян (IV), с. 358; Сукиасян 1967,
с. 614; Новый словарь, с. 838].
Предполагаемая выявимая связь явно проступает и в разговорном
языке. Так, одно из диалектных употреблений глагола tai пред-
полагает ‘допустить интимную связь, сближение* [Ачарян 1913,
с. 1008]. Производная от этой же основы диалектная форма tvid‘
означает ‘уподобляться женщине* [Ачарян, с. 1042]. Другая фор-
ма - tvuk, параллельно со смыслом ‘интимная близость*, ‘сожитель-
ство* имеет значение ‘развратная женщина* [Ачарян 1913, с. 1042]15.
Наконец, то же слово tvuk означает также ‘дающее много плодов
(о дереве)*, свойство, которое может характеризовать любое
плодоносящее начало, в том числе и женщину16.
Берущие и дающие 263
Таким образом, аг и tur, отражая смысл обобщенного обмена (тор-
говлю вообще), нередко (как в слове turevar) непосредственно
означают также интимное отношение, сближение полов, в том числе
и посредством брачного союза. При этом аг увязывается с признаком
мужской (жених, муж), a tur - с признаком женский
(невеста, жена) брачной пары.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Повесть написана в 1850-х годах, но опубликована лишь в 1971 г. О судьбе
рукописи см. [Налбандян 1971, с. 32].
2 Слово «Ьеп», перешедшее из арабского во многие языки (ср. турецк. behea
‘цена, стоимость' [Турецко-русский словарь, с. 105]), до наших дней функционирует в
разговорном армянском языке и употребляется в основном во время различных
торговых сделок, означая ту часть цены товара, которая оплачивается покупателем в
начале сделки. Однако beh чаще всего фигурирует как обычай, согласно которому
торгующиеся стороны обязаны держать свое слово в намечаемой сделке.
Слова «оплатить цену» не следует понимать дословно, ибо, как явствует из той же
повести М. Налбандяна, наоборот, жених рассчитывал разбогатеть за счет будущего
тестя. То же самое засвидетельствовано и у самого Е. Шахазиза: «Молодой человек
из городской среды перед браком заранее велел узнать, сколько денег намерен дать
за свою дочь будущий тесть, какое будет приданое» [Шахазиз 1901, с. 77].
3 Система дара и обмена в брачно-свадебных традициях армян все еще
нуждается в генетическом и структурно-семантическом анализе и осмыслении.
Правда, в специальной арменоведческой литературе освещен целый ряд вопросов
этой проблемы [Бастамян 1880; Карапетян 1978; Самуелян 1911; Хлтчян 1913,
Хлтчян 1913а], однако многие важные детали, определяющие именно аспекты
обобщенного обмена, остались вне поля зрения. Этим вопросам автор намерен
посвятить специальную работу.
4 Интересно отметить, что образуемая от хет. ага ‘товарищ, друг' форма araS-aran
‘друг друга' также подразумевает взаимную обратную связь [Гамкрелидзе, Иванов
1984, с. 755; Иванов 1975, с. 68]. О схожести значений ‘взаимного обмена' и ‘дружбы'
см. также [Дюмезиль 1986, с. 61].
5 В Новом словаре древнеармянского языка слова tarn и tuik* толкуются как ‘дар,
награда’ [Новый словарь (II), с. 842, 892]. У Гр. Ачаряна форма tur рассматривается
как третье значение глагола tai, который в именном применении может означать
‘дар’, ‘платеж’, ‘награда’ от индоевр. корня *<1э, d6, d [Ачарян (IV), с. 357-358]; ср. tur
(*dd-ro у Э. Бенвениста [Бенвенист 1955, с. 36] и Г. Джаукяна [Джаукян 1959,
с. 233; Джаукян 1970, с. J2, 51, 55, 78]. Т. Гамкрелидзе и В. Иванов индоевр. корень
слова находят в форме t'oH, что в индоевр. исторических диалектах и языковых
традициях могло означать в одном случае ‘давать’, в другом - ‘брать' [Гамкрелидзе,
Иванов 1984, с. 752-754]; ср. с приводимым А.Я. Гуревичем древнескандинавским «fa»
[Гуревич 1968, с. 189; Гуревич 1970, с. 70].
6 Близость понятий «брать» и «давать» в индоевр. языках впервые отмечена
Э. Бенвенистом [Бенвенист 1969, с. 81-82; Бенвенист 1966, с. 317-326]. В этой
близости полярных Значений он видит именно отражение принципа взаимности,
проявлявшегося в обмене дарами, услугами и т.п.
7 Любопытно, что при описании этнографических материалов Е. Лалаян слово
tritur применяет как раз в связи со взаимными дарами брачующихся сторон [Лалаян
1906, с. 146; Лалаян 1916, с. 160].
8 Именно этот смысл слова turevar глубоко воспринимался и искусно употреблялся
264 З.В. Харатян
поэтом В. Давтяном в поэме «Дым очага»: «Клеопатра лучам солнца открыла
прелестную женственность свою... блеском и сиянием своих шелков с солнцем обме-
нялась (tureva’rec*)» (Давтян 1975, с. 24,27].
9 Это слово с тем же смыслом известно и в иной, неиндоевропейской культурно-
языковой среде, см., например, об урартском Aimi [Амаякян 1986, с. 12].
10 Этот корень, а также переход ауг - aim несколько иначе толкует Ц. Арутюнян
[Арутюнян 1983, с. 265-269].
" Не исключено, что именно с этим смыслом связано также арм. слово amandam
‘мужской член*; ср. с сопоставлением хет. arS ‘течь*, с арм. heir, eram, z-eram ‘возбужде-
ние, возбуждаюсь* [Джаукян 1970, с. 142]. Может быть, к тому же семантическому
кругу следует возводить и глагольную форму ‘вставать, подниматься*, производным
от которой Т. Гамкрелидзе и В. Иванов считают хет. агтпаЭД ‘делать беременной*
[Гамкрелидзе, Иванов 1984, с. 685].
12 Термины kjm и сот считаются смысловыми дублетами, а в основу ат берется
индоевр. корень rsen со значением ‘самец* [Асмангулян 1984, с. 22].
13 Кстати, у А. Асмангулян приводится лишь форма t'dr-neayk‘ ‘правнук*.
14 В других диалектах армянского языка слово ku'r помимо ‘локтя* обозначает
также сторону (в географическом смысле), напр., jri dn кигэ ‘по ту сторону реки*. Од-
нако более интересно отметить, что это слово выражает также идею про-
тивопоставленности, особенно в выражениях типа im kum es, td nra?
‘(ты) на моей стороне или на его?*, часто употребляющихся при спорах.
15 Ср. со смыслом слов, употребляющихся и в наши дни (преимущественно в
лексиконе мужчин) в адрес развратных женщин - tvol букв, ‘дающая*, Sinvot, pers,
pass, от Sinel ‘сооружать’, ‘строить’, чему противопоставляв гея слова anol ‘дела-
ющий*, Sinoi ‘сооружающий*, употребляющиеся в адрес мужчин. Ср. ап»»е1 ‘творить*,
‘созидать* от обсуждаемой в статье основы (аг.
16 Показательно, что бесплодных женщин также связывают с деревом, но с об-
ратной оценкой - ср. ё'ог код ‘сухое бревно*, anptul саг ‘бесплодное дерево*.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АА - Азгагракан андес (Этнографический журнал на арм. яз.). Тифлис.
Аматуни 1912- Аматуни. Армянское слово и.речь. Вагаршапат, 1912 [на арм. яз.].
Амаякян 1986 - Амаякян С. Об урартском божестве Ami. - Вопросы изучения
армянской народной культуры. Тезисы докладов VII конференции молодых ученых.
Ер., 1986 [на арм. яз.].
Архив - Архив отдела фольклористики ИнсФитута археологии и этнографии АН
АрмССР.
Армянская книга канонов - Армянская книга канонов. Т. II. Ер., 1971 [на арм. яз.].
Арутюнян 1983 -Арутюнян Ц.Р. Армяно-греческие лексические изоглоссы. - Очерки
по сравнительной лексикологии армянского языка. Ер., 1983.
Асмангулян 1971 - Асмангулян АЛ. Этимологический состав терминов родства
армянского языка. - Научные труды Гос. пед. института русского и иностранных
языков. № 3. Ер., 1971.
Асмангулян 1984 -Асмангулян АЛ. Некоторые вопросы историко-этимологического
изучения терминов родства армянского языка. - Международный симпозиум по
армянскому языкознанию. Доклады. Ер., 1984.
Ачарян 1913 -Ачарян Гр. Провинциальный словарь армянского языка. - Эминский
этнографический сборник. Т. 9.Тифлис, 1913 [на арм. яз.].
Ачарян (I), (IV) -Ачарян Гр. Этимологический коренной словарь армянского языка.
Т. I. Ер., 1971. Т. IV. Ер., 1979 [на арм. яз.].
Бастамянц 1880 - Бастамянц В. Брак по армянскому церковному праву. - Газ.
«Пордз». Тпхис, 1880, № 8-9 [на арм. яз.].
Берущие и дающие 265
Бардавелидзе 1957 - Бардавелидзе В.В. Древнейшие религиозные верования и обря-
довое графическое искусство грузинских племен. Тб., 1957.
Бенвенист 1955 - Бенвенист Э. Индоевропейское именное словообразование. М.,
1955.
Бенвенист 1969 - Benvtniste Е. Le vocabulaire des institutions indo-europdennes. T.I.
Economic, parentd, socidtd. P., 1969.
Бенвенист 1966 - Benvtniste E. Don et dchange dans le vocabulaire indo-europden. -
Probldmes de linguistique gdndrale. P., 1966.
Гамкрелидзе, Иванов 1984 - Гамкрелидзе T.B., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский
язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка
и протокультуры. Т. I-II. Тб., 1984.
Гуревич 1968 - Гуревич АЛ. Богатство и дарение у скандинавов в раннем средне-
вековье. - Средние века. Вып. 31. М., 1968.
Гуревич 1970- Гуревич АЛ. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М.,
1970.
Давтян 1975 -Давтян В. Собрание сочинений. Т. II. Поэмы. Ер., 1975 [на арм. яз.].
Джаукян 1959 - Джаукян Г.Б. Система склонения в древнеармянском языке и ее
происхождение. Ер., 1959 [на арм. яз.].
Джаукян 1970 -Джаукян Г.Б. Армянский язык и древние индоевропейские языки.
Ер., 1970 [на арм. яз.].
Джаукян 1982 -Джаукян Г.Б. Сравнительная грамматика армянского языка. Ер.,
1982.
Дюмезиль 1986 -Дюмезилъ Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986.
Закарян 1980, 1982 - Закарян Б. Полевые этнографические материалы за 1980,
1982 гт. [на арм. яз.].
Иванов 1976 - Иванов Аяч. Вс. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976.
Иванов 1974 - Иванов Вяч. Вс. Опыт истолкования древнеиндийских ритуальных и
мифологических терминов от A§VA - «конь» (жертвоприношение коня и дерево
a&vattha в древней Индии). - Проблемы истории языков и культуры народов Индии.
М., 1974.
Иванов 1975 - Иванов Вяч. Вс. Происхождение семантического поля славянских слов,
обозначающих дар и обмен. - Славянское и балканское языкознание. Проблемы
интерференции и языковых контактов. М., 1975.
Иванов 1978 - Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем.
М., 1978.
Карапетян 1950 - Карапетян Э.Т. Выкуп в свадебных обрядах армян и его социально-
экономические корни. - Труды Государственного исторического музея Армении.
Вып. III. Ер., 1950.
Карапетян 1978 - Карапетян Э.Т. Приданое у армян. Ер., 1978 [на арм. яз.].
Крюков 1987 - Крюков М.В. Социально-экономические и ритуальные аспекты
системы дарений в Древнем Китае. (Автореферат канд. дис.). Л., 1987.
Лалаян 1906 -Далаян Е. Вайоц Дзор. - АА. Т. 13. Тифлис, 1906 [на арм. яз.].
Лалаян 1916-Лалаян Е. Муш-Тарон. - АА. Т. 26. Тифлис, 1916 [на арм. яз.].
Леви-Строс 1985-Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985.
Леви-Строс 1962 - Levi-Strauss G. Les structures dldmentaires de la parentd. 2 ed. The
Hague-Paris, 1962.
Mocc 1950 - Mauss M. Essai sur le don. Forme et raison de 1'dchange dans les socidtds
archaiques - M. Mauss. Sociologie et Antropologie. P., 1950.
Налбандян 1971 - Налбандян M. Одному - слово, другому - невесту. Ер., 1971 [на
арм. яз.].
Новый словарь - Новый словарь древнеармянского языка. Т. I. Ер., 1979. Т. II. Ер.,
1981 [на арм. яз.].
Оганесян 1976 - Оганесян С.А. Брачно-семейное право в раннефеодальной Армении
(TV-IX вв.). Ер., 1971 [на арм. яз.].
266 З.В. Харатян
Самуелян 1911 - Самуелян X. Армянское обычное право. Брак с умыканием и
покупкой. Тифлис, 1911 [на арм. яз.].
Седракян 1881 - Седракян А. Брачные задачи. М., 1881 [на арм. яз.].
Сукиасян 1967 - Сукиасян А.М. Словарь синонимов армянского языка. Ер., 1967
[на арм. яз.].
Сукиасян, Калстян 1975 - Сукиасян А.М., Калстян С.А. Фразеологический словарь
армянского языка. Ер., 1975 [на арм. яз.].
Турецко-русский словарь - Турецко-русский словарь. М., 1975.
Хлтчян 1913 -Хлтчян А. Брак, развод и гражданский венец. Александрополь, 1913
[на арм. яз.].
Хлтчян 1913а -Хлтчян А. Древнее право армян. Брачное право. Александрополь,
1913 [на арм. яз.].
Шахазиз 1901 - Шахазиз Е. Нор Нахичеван и норнахичеванцы. - АА. Т. 7-8. Тифлис,
1901 [на арм. яз.].
К.В. ЧИСТОВ
К ВОПРОСУ О МАГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
ПОХОРОННЫХ ПРИЧИТАНИЙ
Похоронный обряд, как и всякий другой обряд, полифункцио-
нален. Не подлежит сомнению, что магическая функция сыграла в
его генезисе и последующей эволюции весьма значительную роль
[Токарев 1964; Токарев 1957, с. 122-146; Токарев 1959, с. 122-146].
И все же при известной доле скептицизма вовсе не просто решить,
какие именно разновидности магической функции и на каком этапе
исторического развития причитаний были основными, структурообра-
зующими - стремление воскресить покойника, обеспечить необходи-
мыми благами его потустороннее существование, или уберечь себя и
других оставшихся в живых членов семьи, рода, общины от возмож-
ного вредоносного воздействия покойника, либо какие-нибудь иные.
Тем более трудно реконструировать историю перегруппировки этих
функций, историю изменений, которые произошли в их иерархи-
ческой системе.
И еще одно предварительное соображение: похоронный обряд
сложен не только структурно или синтагматически, он - если пользо-
ваться терминологией В.Е. Гусева [Гусев 1967, с. 98-163], многоэле-
ментен (полиэлементен). Его структура образуется из органического
сочетания ритуальных действий (актов), вербальных текстов и
элементов музыкального характера. Все они при своей традиционной
устойчивости исторически изменчивы. Однако синхронны ли эти
изменения?
В отдельных счастливых случаях нам удается наметить хотя бы
относительную хронологию каких-то элементов. Если это удалось
для каких-то ритуальных действий, то имеем ли мы право распро-
странить наши наблюдения на словесные тексты или мелодии, с
ними связанные? Или выделяя относительную датировку каких-то
явно поздних словесных формул, из которых, как говорил А.Н. Ве-
селовский, "снуются” тексты (например, в русских причитаниях фор-
мула, выражающая желание причитывающей "списать патрет (порт-
© К.В. Чистов, 1994
268 К.В. Чистов
рет)" покойного, формулы - ”письмо-грамотка”, которая посылается
родным на тот или этот свет, формула: "Уж мне стать сказать - не
высказать, уж мне стать-писать - не выписать” и др.), мы, вероятно,
не вправе пользоваться ими как "маркирующими деталями”, при
помощи которых мы можем датировать весь ритуал или хотя бы
звучащие в его ходе мелодии.
Первым из писавших о русском похоронном обряде и похоронных
причитаниях подобную идею высказал А.Н. Веселовский в статье-
рецензии на I том "Причитанья Северного края, собранные
Е.В. Барсовым” в петербургском журнале на немецком языке
"Russische Revue” [Веселовский 1873]. Если известная книга
А.А. Котляревского "О погребальных обычаях языческих славян”
(1868) положила основание научному изучению похоронного обряда в
русской этнографии, то упомянутая статья А.Н. Веселовского (в
большей мере, чем полудилетантское предисловие Е.В. Барсова
к I тому его сборника) была первым исследованием не только рус-
ских, но и европейских похоронных цричитаний.
А.Н. Веселовский обращает внимание на то, что ритуальные
действия, связанные с русским похоронным обрядом (например, вы-
нос покойника через окно, практиковавшийся в некоторых районах,
укладывание камня в головах покойника перед его выносом из избы,
прорубание "окошечка” в гробу-домовине, сооружение срубика на
могиле и т.п.), значительно архаичнее причитаний, которыми сопро-
вождался обряд. В причитаниях, записанных в XIX в., по его мне-
нию, многие языческие (дохристианские, внецерковные) по своему
происхождению мотивы приобрели поэтический характер.
Разделяя эту идею А.Н. Веселовского, предпримем опыт подоб-
ного анализа на примере весьма популярных в русских причитаниях
сходных между собою формул, выражающих желание причитающей
оживить покойного.
Страстное желание оживить покойного выражается обычно в
формулах двух типов: а) бужение покойного и призыв возвратиться
домой и б) заклинание стихий, которые должны разверзнуть могилу,
открыть гроб и оживить покойного. Оба типа были учтены и с боль-
шей или меньшей подробностью охарактеризованы в известных
перечнях поэтических стереотипов, свойственных причитаниям [Аза-
довский 1922; Малер 1936; Виноградов 1940; Джурич 1940]. В этих
перечнях (особенно у Э. Малер) приводятся десятки примеров,
извлеченных из причитаний разных народов, прежде всего - восточ-
ных славян. Поэтому мы вправе ограничиться некоторыми приме-
рами, которые напомнят читателю, о чем идет речь, и буду > вов-
лечены нами в последующий анализ.
Формулы первого типа встречаются у многих народов, вторая -
специфическая русская. Она почти неизвестна даже в украинских и
О маги ческой функции похоронных при читаный 269
белорусских, а также в типологически столь близких к русским -
карельских и мордовских причитаниях.
Приведем примеры формулы первого типа:
Уж ты встань-восстань, скаченая жемчужинка,
Со этой со брусовой белой лавочки,
Стань на резвы свои да ты на ноженьки,
Отшиби от сердца белы свои рученьки,
Уж ты сдий со мной доброе здоровьицо1,
Ты по-старому, мой светушко, по-прежнему...
[Барсов 1972, с. 89]
Или:
Встань-проснись, кормилец-батюшко,
Ты от сна да ты от крепково,
Ты открой да оци ясные.
Отвори уста сахарные,
Пожалей да сиротиноцьку,
Ты свою да доцьку милую,
Приласкай да словом ласковым!
[Соколовы 1915, № 330]
Казалось бы, перед нами типичное заклинание, поддержанное
всем эмоциональным строем похоронного ритуала и выраженное в
традиционном причитании. Однако, как правило (от которого, разу-
меется, имеются и отклонения, как от всякого правила), подобная
формула сопровождается формулами-восклицаниями, в которых го-
ворится о невозможности воскресить покойного. Так, вслед за стро-
ками нашего первого примера следует:
Как сегодняшним господним божьим денечком
Не встанешь ты со брусовой белой лавочки,
Не сшибаешь ты от сердча божьи рученьки,
Ты не сдиешь со мной доброго здоровьица,
Не спроговоришь единого словечушка...
[Барсов 1872, с. 90]
Заклинание (просьба, призыв и т.д.) сопровождается довольно
часто картинами, рисующими будущую встречу, обещанием снаб-
дить покойного новой одеждой (умерших девицами - украшениями),
посадить за стол, накормить и напоить, обещанием того, что его (ее)
будет ждать вся родня и т.п. Детализация или развертывание
формул, которыми все это выражается, зависит от ситуации
исполнения, от того, что наша фольклористика начала века назы-
вала "личным почином" исполнительницы.
Нет никаких оснований считать, что русский крестьянин XIX -
начала XX в. мог верить в пробуждение покойника под влиянием
270 К.В. Чистов
ритуального заклинания или хотя бы считать, что в тех случаях,
когда призыв пробудиться не сопровождался в причитании последую-
щим утверждением невозможности этого, причитывающая могла
все-таки верить в осуществимость своего желания. Э. Малер связы-
вает двуедикость формулы "бужение - невозможность осущест-
вления его" с верой русских крестьян в продолжение жизни после
смерти на ином свете. Слов нет, русская этнография, так же как
этнография других народов, располагает общеизвестными доказа-
тельствами того, что существовало представление о продолжении
существования человека в каких-то формах и после его смерти и что
между жизнью на земле и на ином свете есть некая связь (детям в
гроб клали игрушки, мужчинам и женщинам какие-то орудия труда,
курительные трубки и т.д.). Однако все это еще не свидетельствует
о бытовании представления о возможности возврата с того света,
индивидуального воскрешения покойника до общего Судного дня.
В. Джурич в своей богатой фактами монографии приводит
пословицы разных народов Европы и других континентов, которые
подтверждают это. Он цитирует пословицы древнегреческие,
древнеегипетские, древнееврейские, болгарские, сербские, гасконс-
кие, русские (с того света нет "ни выходу, ни выезду", "того не
водится, из мертвого живой не родится" и т.п.) и т.д. Он приходит к
верному выводу о закономерности того, что "сваки овакав позив
поко]нику да се завршава се yeepejeM да je то немогуЬе" [Джурич
1940, с. 70] (т.е. призыв к покойнику завершается всякий раз
утверждением невозможности этого).
Э. Малер, констатируя распространенность формулы "бужение -
просьба возвратиться", показывает ее связь с формулой "ожидание в
гости", а формулу "невозможность воскрешения" трактует преиму-
щественно в эмоциональном плане. Она говорит о том, что причиты-
вающая непрерывно переживает то надежду, то отчаяние ("...eine
stete Wechsel von Hoffnung und EnttHuschung" [Малер 1936, c. 417,
гл. "Das Motiv der Wiedererwartung des Toten und seine drei schemati-
schen Formeln", c. 417]. Однако и такая трактовка не представляется
достаточно убедительной. Обратимся к формуле второго типа, что-
бы удостовериться в том, что их объединяет общая структурная
закономерность. Если рассматривать формулу "бужение - закли-
нание стихий" не обособленно, а в контексте обряда и сопровождаю-
щего его причитания, то выясняется примерно та же картина.
Казалось бу, подобные формулы имеют еще более отчетливый
заклинательный характер. Не случайно Э. Малер называет форму-
лы первого типа "бужение-просьба", а второго "бужение-заклинание"
(Weckruf-Bitte, Weckruf-BeschwOrung [Малер 1936, с. 416-490]).
Формулы второго типа распространены в русских районах Восточной
Европы и в русских районах Сибири. М.К. Азадовский, и Э. Малер,
О магической функции похоронных причитаний 271
и Г.С. Виноградов, и В. Джурич приводят десятки примеров.
Поэтому мы и в этом случае просто напомним читателю, о чем идет
речь.
Приведем типовые примеры:
Вы не вийте, витерочики,
Вы не рвите, витерочики
Со ольшинушек вершинушки,
Со березыньки листочиков!
Вы завийте, витерочики,
Изтихб да потихошеньку,
ИзлегкА да полегошеньку!
Вы разнесите-тко, витерочики,
Со могилушек песочики!
Покажись-ко, гробова доска,
Гробова доска да тесу белого,
* Тесу белого пиленого!
Откройся, полотенышко,
Покажись-ка, тело мертвое,
Тело мертвое, лицо блёклое!
Прилетите-ка с небес ангелы крылатый,
Резвы ноженьки - во хоженьице,
Белы рученьки - во маханьице,
Во уста да говореньице!
[Шейн 1898-1900, с. 788]
Или:
Вы сповейте, ветры буйные,
Со низовой со сторонушки; *
Разнесите, ветры буйные,
Все пески да ведь сыпучие
И все камешки катучие!
Расступись-ко, мать сыра земля!
Расколись-ко, гробова доска!
Размахнитесь, белы саваны!
Уж вы, ангелы-архангелы.
Опуститесь с неба на землю;
Вы кладите свет-батюшку
Во белы груди - сдыханьице,
Во ясны очи - гляденьицо!
[Барсов 1872, с. 55-56]
Риторичность подобного рода "заклинаний-восклицаний" совер-
шенно явна. В некоторых случаях причитывающая ими и ограни-
чивается. Однако, как правило, подобные формулы, так же как и
формулы первого типа, выступают в органическом сочетании с
формулой, в которой говорится о невозможности воскресения. Если
формулы первого типа ("бужение-просьба") могли произноситься как
в избе, после смерти покойного и до выноса, так и по дороге на
кладбище и на самом кладбище, то формула второго типа (по клас-
272 К.В. Чистов
сификации Э. Малер "бужение-заклинание", или, как мы ее назы-
вали, "заклинание стихий") произносилась только на кладбище после
похорон и до ухода с могилы. Это органическая часть именно
надмогильного причитания, иногда даже его основная часть.
Особая эмоциональная напряженность этой формулы объясняется
тем, что она произносится уже после того как совершилось погре-
бение и заканчивается прощание с покойным. Это своеобразный
каданс, крещендо в системе причитаний, связанных с похоронным
обрядом.
Совершенно так же, как и формула первого типа, "заклинание
стихий" неизменно сопровождается констатацией того, что воскре-
шение невозможно. Эта формула тоже описана Э. Малер и демон-
стрируется ею в нескольких десятках цитат из причитаний, запи-
санных в различных районах расселения русских.
Приведем особенно выразительный пример из "Плача дочери по
матери", записанного от И.А. Федосовой. Здесь обращение к сти-
хиям расчленено и завершается каждый раз формулой невозмож-
ности:
С гор катитесь, ручьи вешныи,
Вы розмойте пески желтый,
Поднимите гробову доску,
Вы откройте полотенечка;
Дайте раз зглянуть горюшице
На родитель мою матушку!
Ой, не льются ручьи вешныи,
Не размоют песков желтыих,
Не покажут моей матушки!
Возбушуйте - ветры буйный
Со всех ли четырех сторон,
Понеситесь вы к божьей церквы,
Размечите вы сыру землю,
Вы ударьте в большой колокол,
Разбудите мою макушку!
Не бушуют-то ветры с четырех сторон,
Не ударят оны в большой колокол,
Не разбудят моей матушки.
Налетите с небес ангелы, архангелы,
Вовложите вы душу в грудь умершую,
В белы рученьки - маханьицо,
В быстры ноженьки - ходаньицо!
Не летят да с небес ангелы-архангелы.
Не влагают души в грудь умершую.
Знать, не выстать синю камешку с синя моря,
Не бывать в живых родитель - моей матушке.
[Барсов 1872, с. 68-69]
Как уже говорилось, призыв к покойнику всгать-пробудиться или
к стихиям разметать могилу и оживить покойника нередко сопровож-
О маги ческой функции похоронных причитаний 273
дался заверениями, что покойного будет ожидать вся родня,
угощение будет приготовлено, одежда припасена и т.д. Формула
"приглашение в гости" как бы реализовалась в традиционном поми-
нальном обычае, предписывавшем во время тризны сразу после
похорон и в последующие поминальные дни оставлять за столом
место для покойного с особым прибором, иногда приготовить для
него кутью, хлеб, блины, кисель или другую поминальную еду и т.п.
После возвращения с кладбища и до поминального стола в ряде
районов России совершался обряд "поисков покойного" - ритуальный
обход жилых и хозяйственных помещений, опустевших без хозяина
(хозяйки). С поминальными днями связан также обычай "кормить
покойника" и "греть покойника". В первом случае в некоторых
районах пекли хлеб и разламывали его, пока еще шел пар, веря
тому, что этим паром кормится покойный (душа покойного?). Эти
обряды вместе с тем явно связаны с представлениями о процессе
"отлетания души покойного". При этом подразумевалось, что тело
покойного должно оставаться и остается в могиле2. Покойники же,
которые не находят успокоения на кладбище и после смерти, явля-
ются родственникам или другим людям, считались крайне опасными.
Их возвращения, их "прихода в гости" желать было невозможно.
Это, как правило, так называемые "заложные покойники", которых
не принимает земля, - колдуны, упыри, самоубийцы, убитые и остав-
шиеся неотомщенными и т.д. Этот круг народных представлений
был в свое время весьма основательно исследован Д.К. Зелениным в
его "Очерках русской мифологии" [Зеленин 1916] и позже обобщен в
книге С.А. Токарева "Религиозные верования восточнославянских
народов" в разделе "Верования, связанные с мертвыми" [Токарев
1957]. Все известное в русской этнографии в связи с представ-
лениями о покойниках явственно противоречит возможности реаль-
ного приглашения покойника в гости.
Таким образом, каков бы ни был генезис формул, которые нас
интересовали, как бы ни сходны они были с заклинаниями3, в кон-
тексте русских похоронных причитаний, записанных в XIX и XX вв.,
они имели явно не магические, а эмоционально-риторические функ-
ции, они были способом, поэтическим средством выражения горест-
ных переживаний причитывающей в особенно напряженные момен-
ты совершения похоронного обряда, и в этом смысле следует
поддерживать идею, высказанную в свое время А.Н. Веселовским:
обряд и словесное сопровождение обряда развивались в разном
темпе, вербальные элементы похоронного обряда, по-видимому,
исторически "моложе" самого обряда.
В заключение следует подчеркнуть, что утверждение невозмож-
ности воскрешения не следует считать формулой, автономной от
"бужения" или "заклинания стихий". И в первом и во втором случае
274 К.В. Чистов
это формульное двуединство, единый элемент в структуре причи-
таний. Бужение и невозможность его, так же как "заклинание" и
невозможность ожидать его результата, взаимосвязаны. По сущест-
ву, и то и другое - не что иное, как две разновидности "формулы
невозможного", как об этом писал П.Г. Богатырев, обследовавший
разновидности подобной формулы в других жанрах русского фольк-
лора и показавший ее распространенность и эстетическую содер-
жательность [Богатырев 1962].
ПРИМЕЧАНИЯ
*Т.е. поздоровайся со мной.
^Обобщенное описание русского похоронного обряда см. [Чистов 1987].
^При всей своей "заклинательной" форме словесные формулы причитаний, о кото-
рых шла речь, не связаны с магической функцией метафорической конструкции,
обычной для русских заговоров (например, заговор, который должен был остановить
кровь, строился на метафоре "как богородица зашивает раны... так у раба божьего
(имярек) пусть закроется рана на его теле".
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Азадовский 1922 -Азадовский М.К. Ленские причитания. Чита, 1922.
Барсов 1872 - Причитанья Северного края, собранные Е.В. Барсовым. М., 1872.
Богатырев 1962 - Богатырев П.Г. Формула невозможного в славянском фольклоре. -
Славянский филологический сборник. Уфа, 1962, с. 347-362.
Веселовский 1873 - Wesselofsky A.N. Die neueren Forschungen auf dem Gebiet der
russischen Volkspoesie. Erste Artikel. Die russische Totenklagen. - Russische Revue.
SPb. - Lpz., 1873. II Jg. Bd. Ill, c. 487-524.
Виноградов 1940 - Виноградов Г.С. Карельская причеть в новых записях. - Русские
плачи Карелии. Петрозаводск, 1940, с. 4-20.
Гусев 1967 - Гусев В.Е. Эстетика фольклора. Л., 1967.
Джурич 1940-Dune VM. Tuibalica u svetskoj knjiievnosti. Beograd, 1940.
Зеленин 1916 - Зеленин Д.К. Очерки русской мифологии. Вып. I. Умершие неесте-
ственной смертью и русалки. Пг., 1916.
Малер 1936 - Mahler Е. Die russische Totenklagen. Ihre rituelle und dichterische Deutung.
Lpz., 1936.
Соколовы 1915 - Соколовы Б.М. и Ю.М. Сказки и песни Белозерского края. М.,
1915.
Токарев 1957 - Токарев С А. Религиозные верования восточнославянских народов
XIX - нач. XX в. М., 1957.
Токарев 1959 - Токарев С.А. Сущность и происхождение магии. - Исследования и
материалы по вопросам первобытных религиозных верований. М., 1959, с. 7-75.
Токарев 1964 - Токарев СЛ. Ранние формы религии. М., 1964.
Чистов 1987 - Чистов К.В. Семейные обряды и обрядовый фольклор. - Этнография
восточных славян. Очерки традиционной культуры. М., 1987, с. 396-416.
Шейн 1989-1900 - Шейн П.В. Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях,
верованиях, сказках, легендах и т.п. Т. I. Вып. 1-2. СПб., 1989-1900.
CONTENTS
Editors* Note...................................................................... 5
Compiler's Note.................................................................... 7
VJ. Abayev. The Shaman Is Stronger than the Warrior.............................. 11
LA. Abramyan. The Dragon by the Water Spring (on the Symbolism of Universal Ritual-
Mythological Image)............................................................ 20
AJC. Bayburin. Ritual: Old and New................................................ 35
VW. Basilov. Albasty.............................................................. 49
NX. Zhukovskaya. Colour-and-Number Compositions in Monogolian Culture............. 77
YeM. Meletinsky. A Poetic Word in the Early Times................................ 86
YeS. Novik. The Communicative Aspect of the Archaic Beliefs.......................110
V.Ya. Petrukhin, MS. Polinskaya. On the Category of Supernatural in Primitive Culture.. 164
BW. Putilov. Variation in Folklore as a Creative Process..........................180
DS. Rayevsky. The Scythian Pantheon: the Semantics of Structure...................198
AS. Saakyan. The Khachkars - Ethno-Cultural Monuments of Medieval Armenia........214
N.I. Tolstoi and SM. Tolstaya. On the Secondary Function of Ritual Symbol (the
Example of Slavonic Folk Tradition)............................................238
Z.V. Kharatyan. The Takers and givers (Armenian Designations of Bride and Groom in
Terms of Folklore and Ethnology).............................................. 256
K.V. Chistov. On the Magical Function of Funeral Lamentations.....................267
СОДЕРЖАНИЕ
От редколлегии......................................................... 5
От составителя.......................................................... 7
В.И. Абаев. «Шаман сильнее воина»..................................... 11
Л Л. Абрамян. Змей у источника (к символике универсального ритуально-мифо-
логического образа).................................................. 20
А.К. Байбурин. Ритуал: старое и новое.................................. 35
В.Н. Басилов. Албасты.................................................. 49
НЛ. Жуковская. Цветочисловые композиции в монгольской культуре......... 77
Е.М. Мелетинский. Поэтическое слово в архаике.......................... 86
Е.С. Новик. Архаические верования в свете межличностной коммуникации....ПО
В Я. Петрухин, М.С. Полинская. О категории ’’сверхъестественного” в перво-
бытной культуре..................................................... 164
Б.Н. Путилов. Вариативность в фольклоре как творческий процесс.........180
Д.С. Раевский. Скифский пантеон: семантика структуры.................. 198
А.С. Саакян. Хачкары - этнокультурные памятники средневековой Армении...214
Н.И. и С.М. Толстые. О вторичной функции обрядового символа (на мате-
риале славянской народной традиции)..................................238
З.В. Харатян. Берущие и дающие (армянские обозначения брачной пары в
фольклорно-этнографическом контексте)................................256
К.В. Чистов. К вопросу о магической функции похоронных причитаний......267
Contents.............................................................. 275
ИСТОРИКО- ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФОЛЬКЛОРУ
1