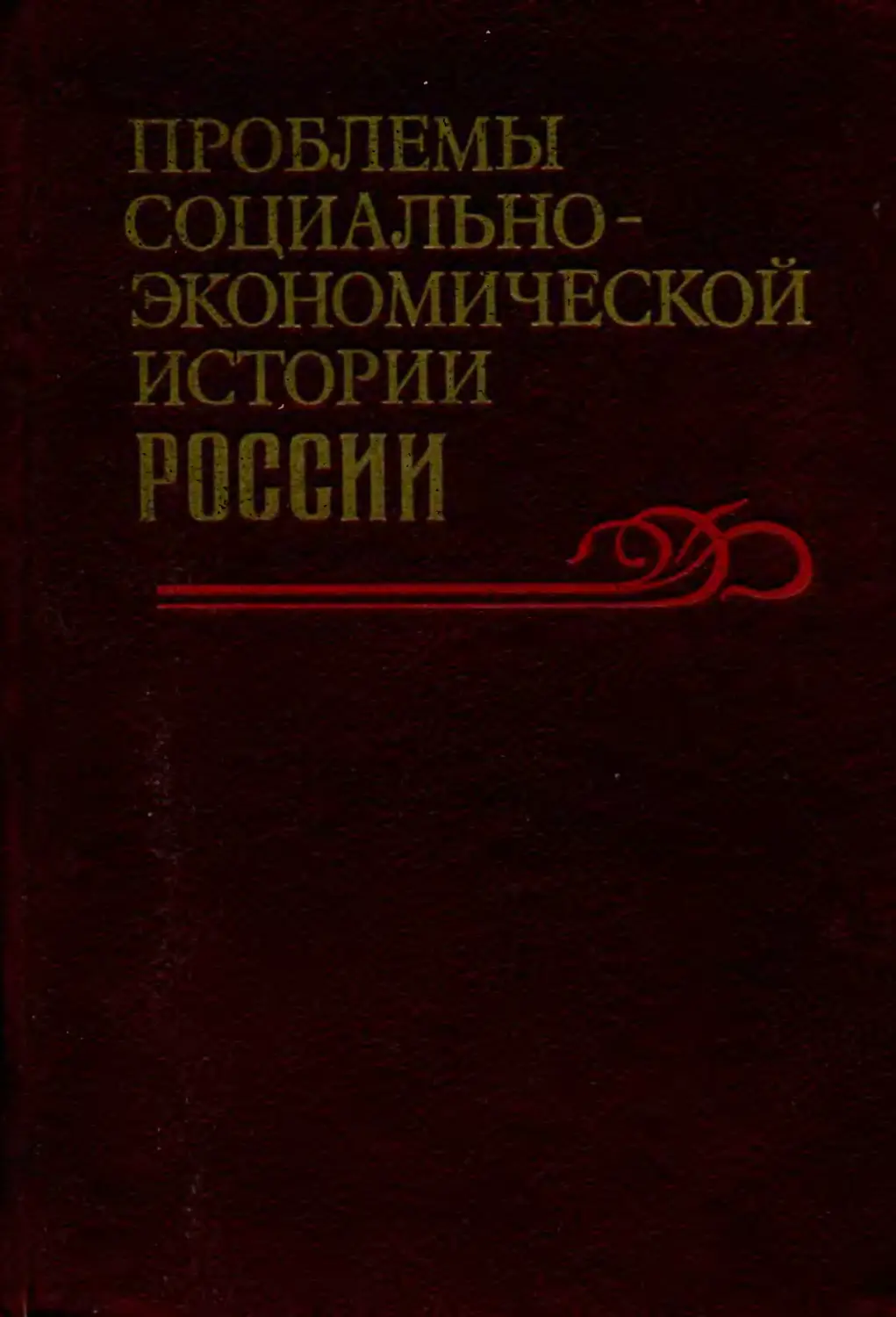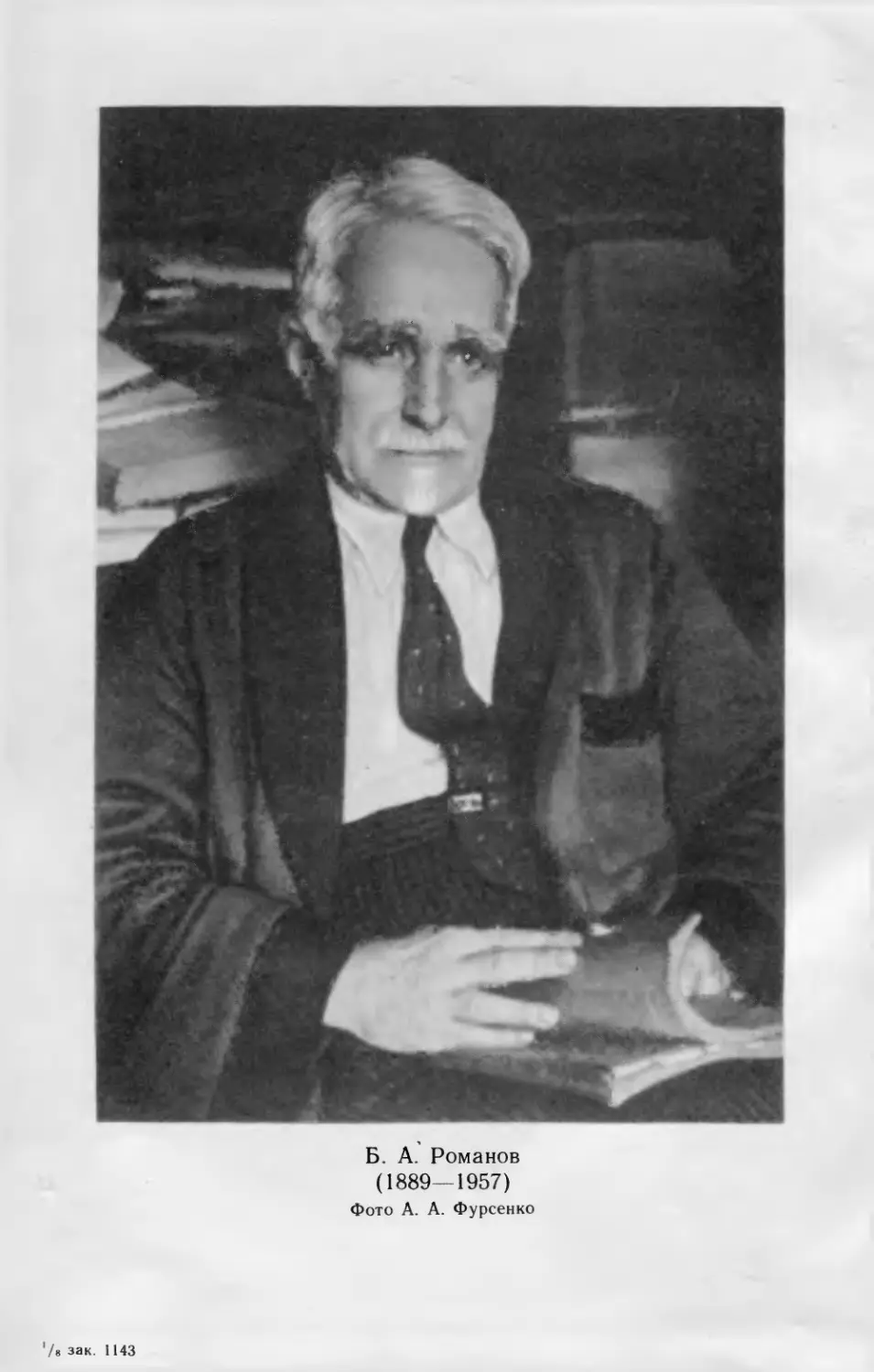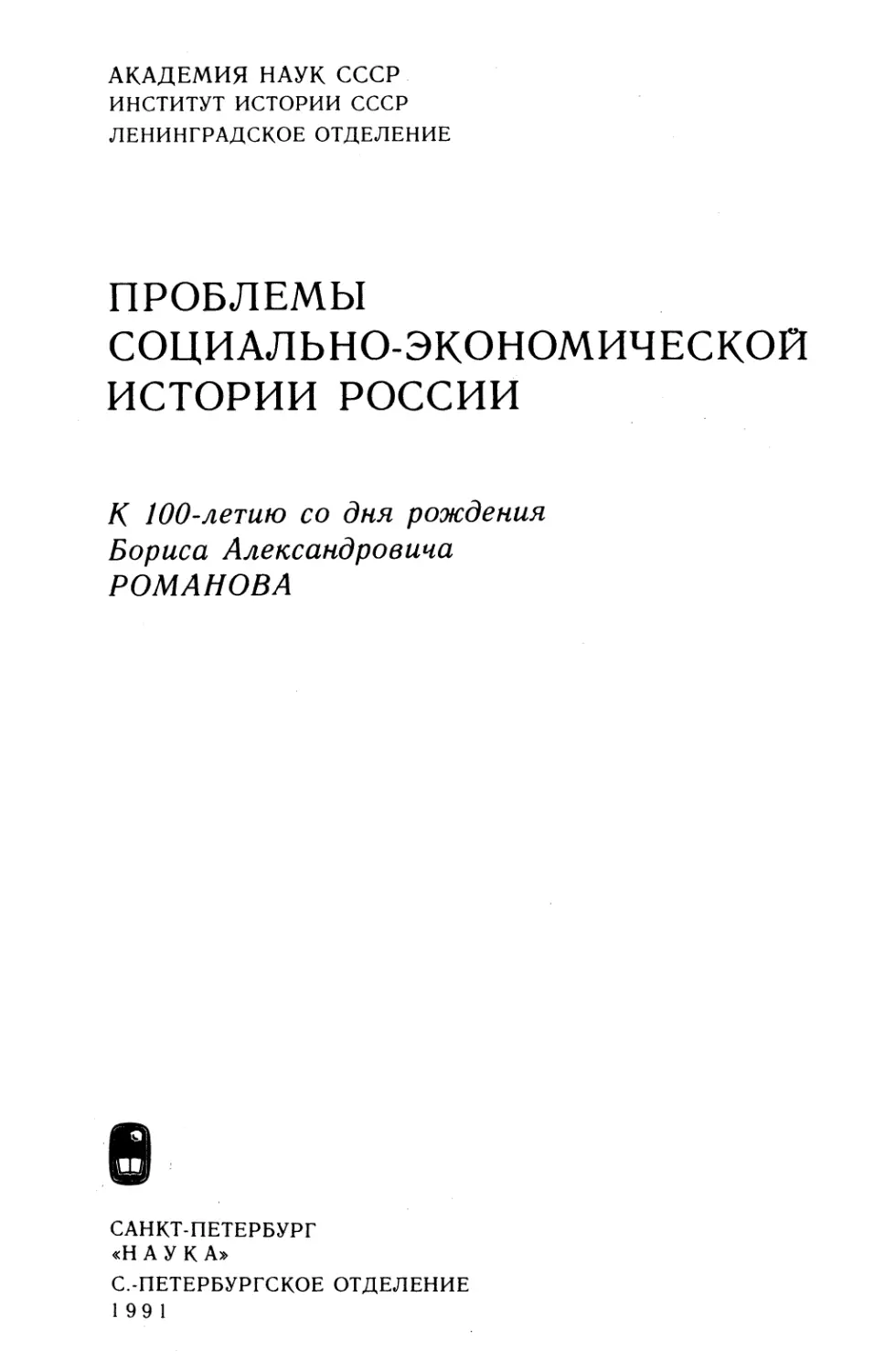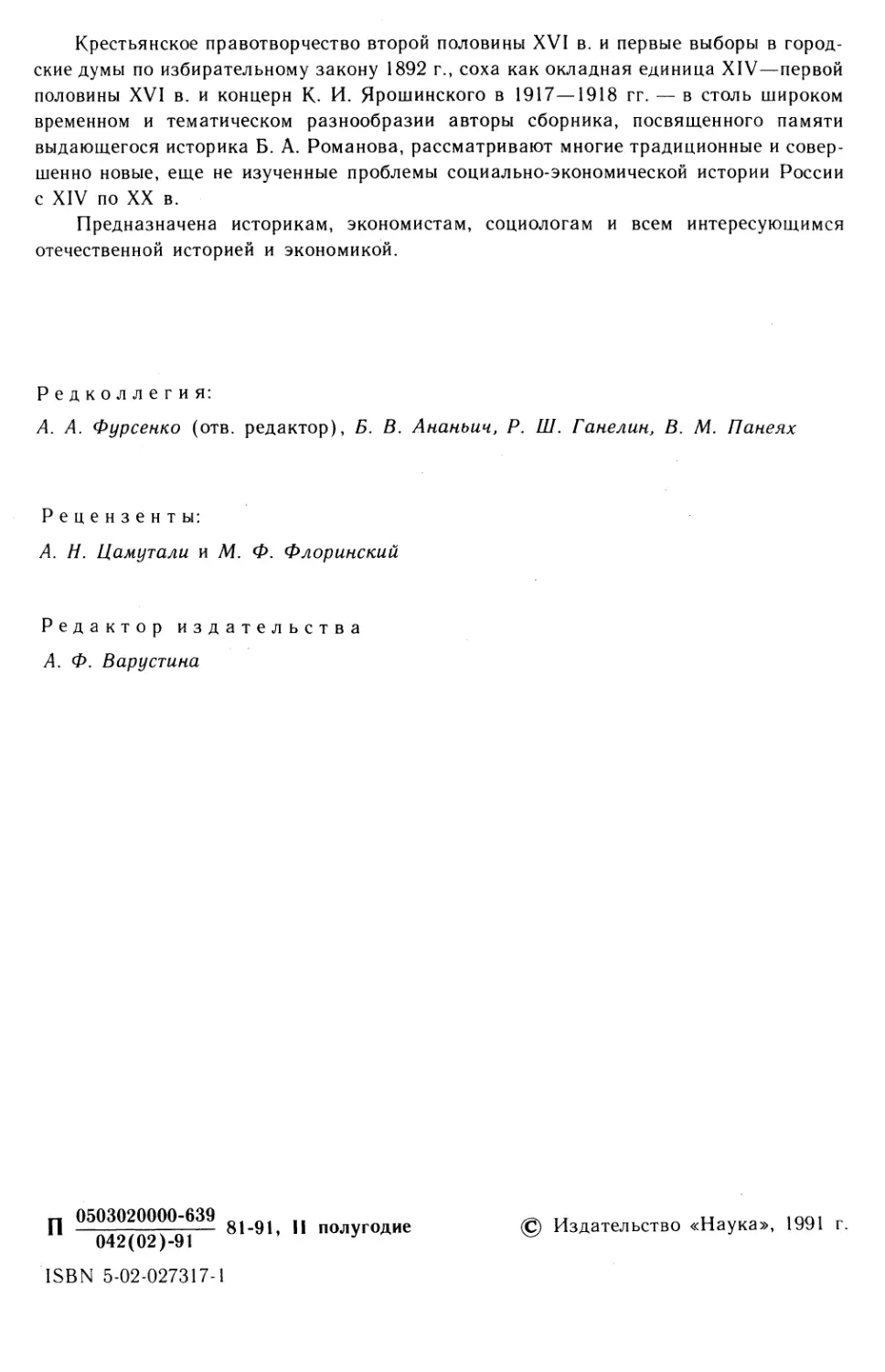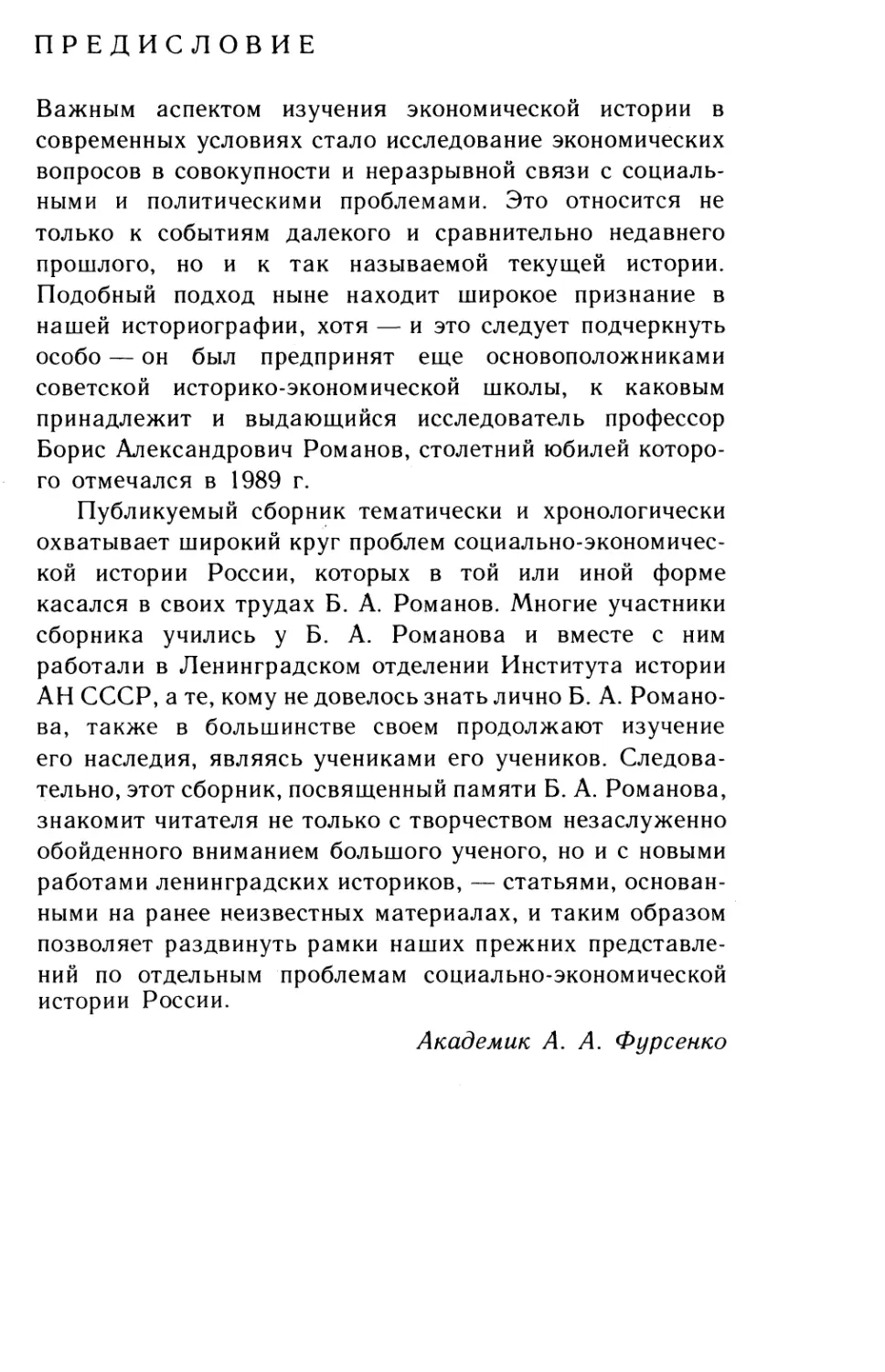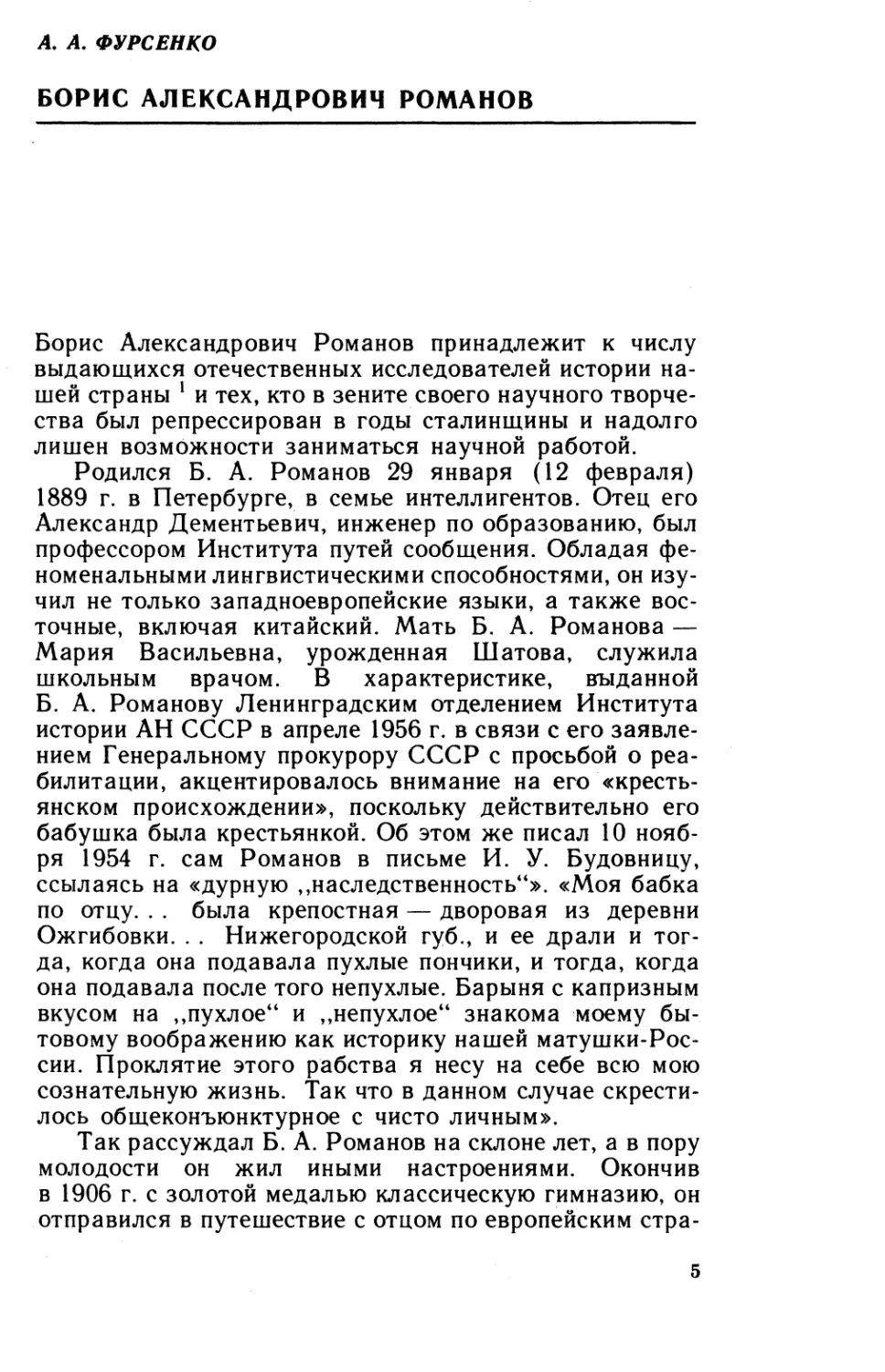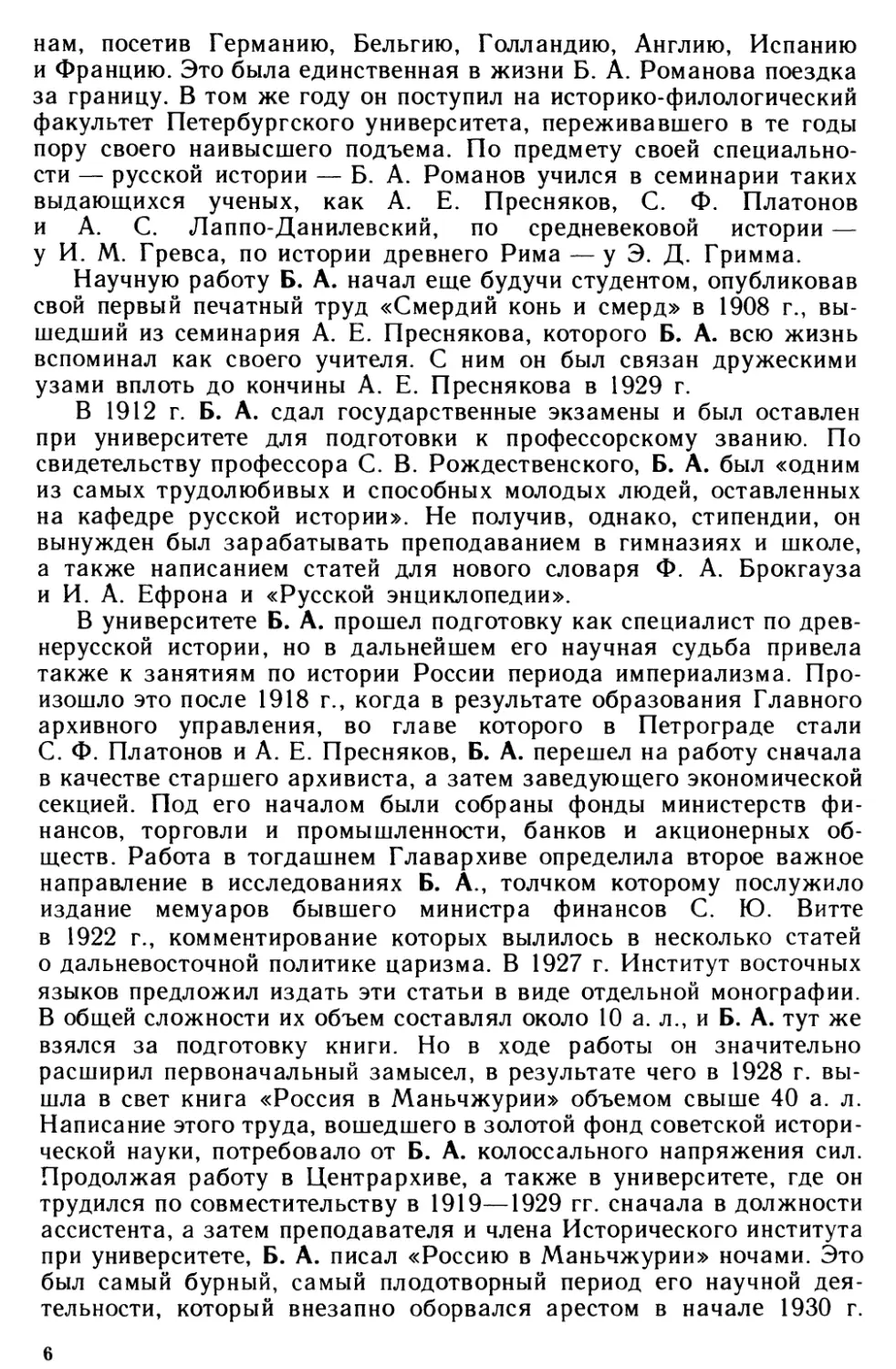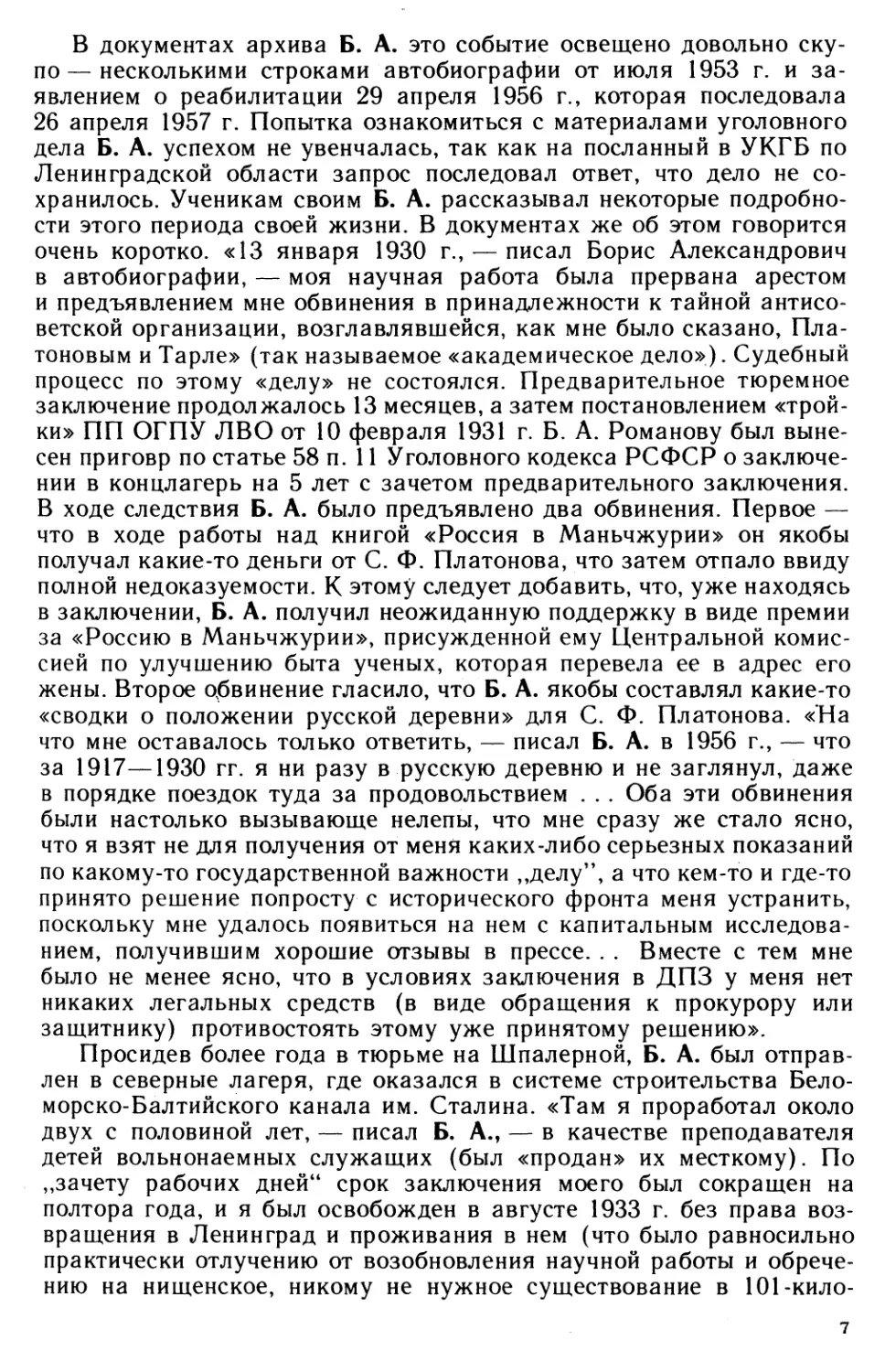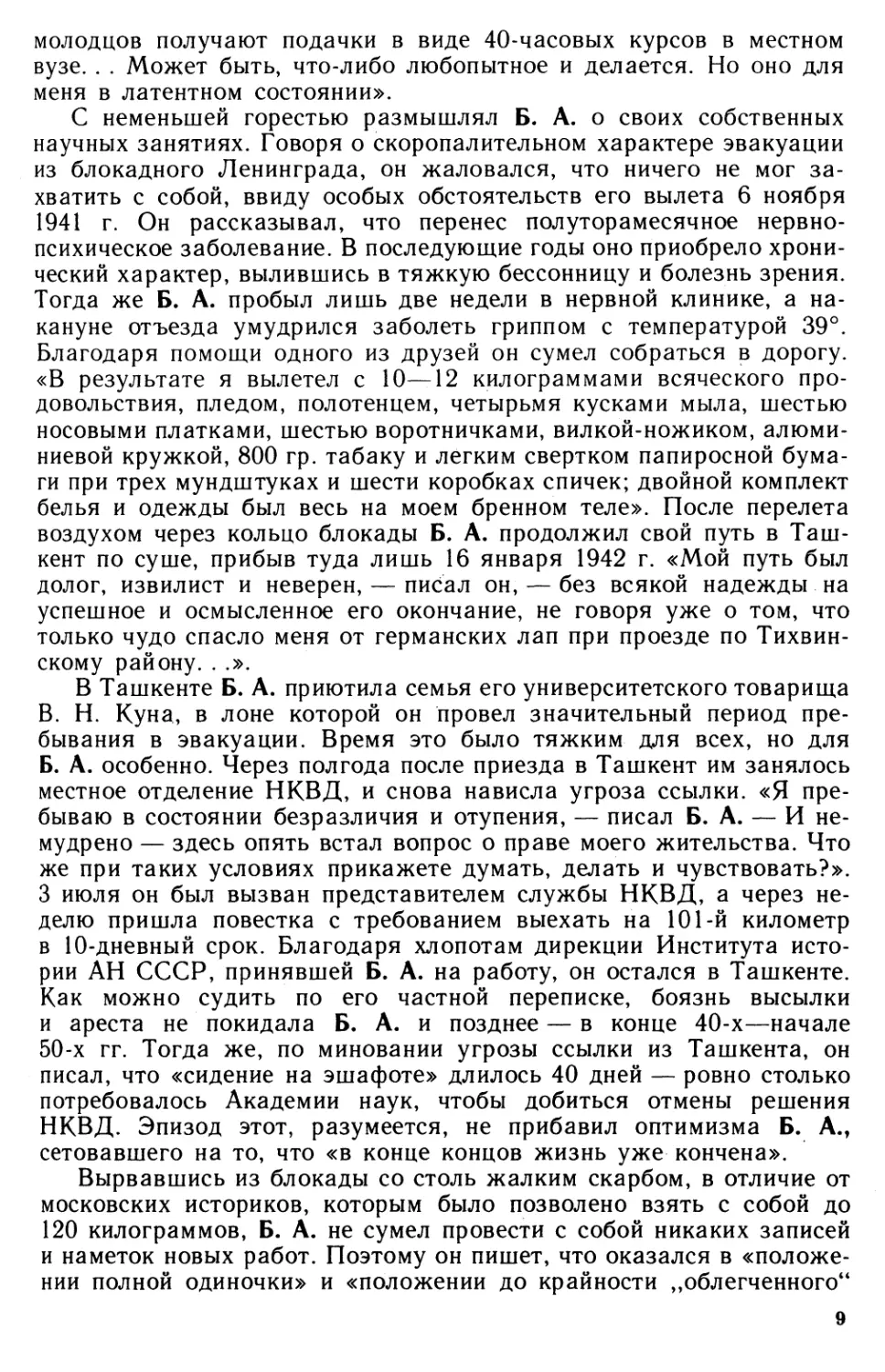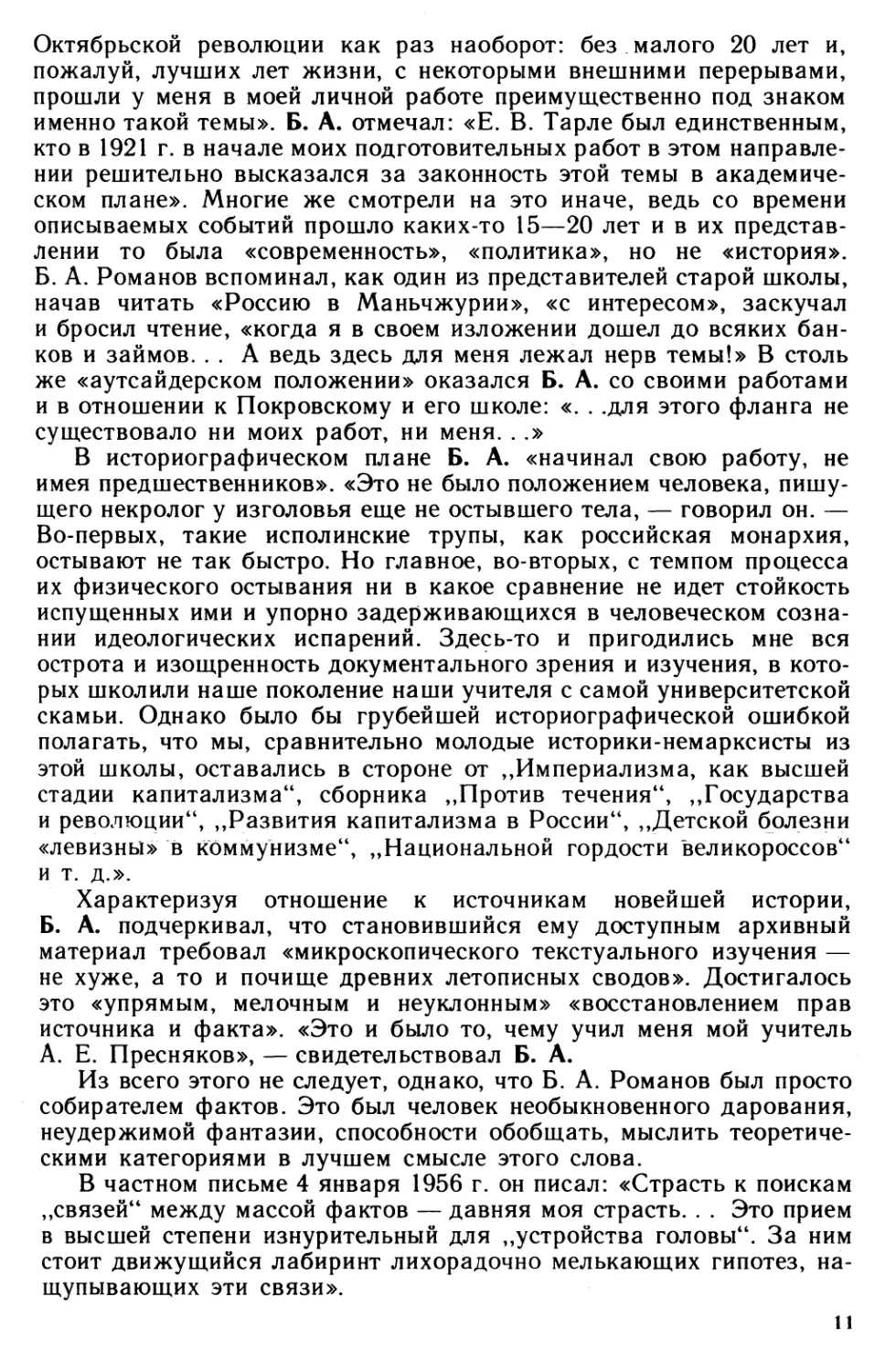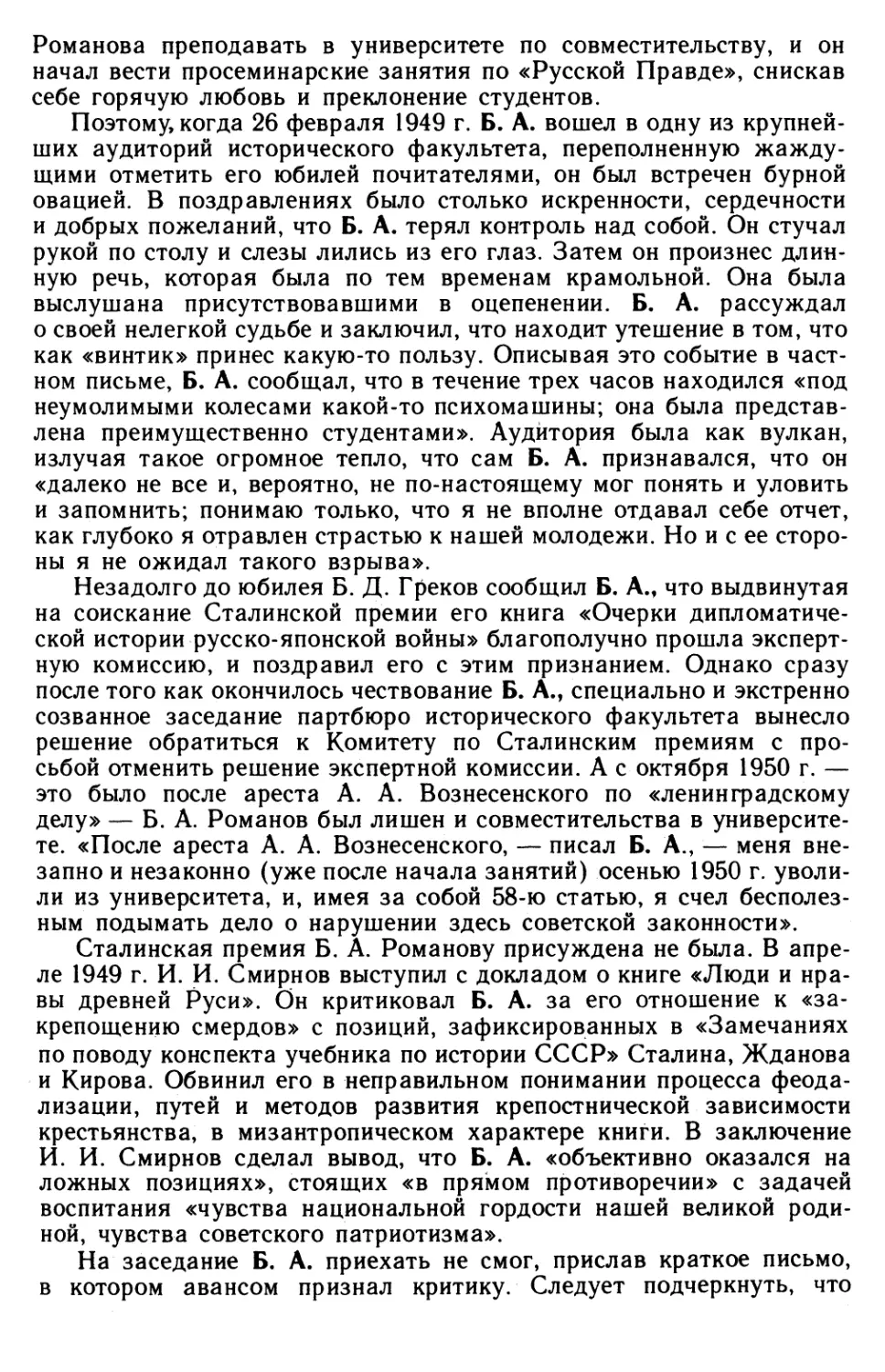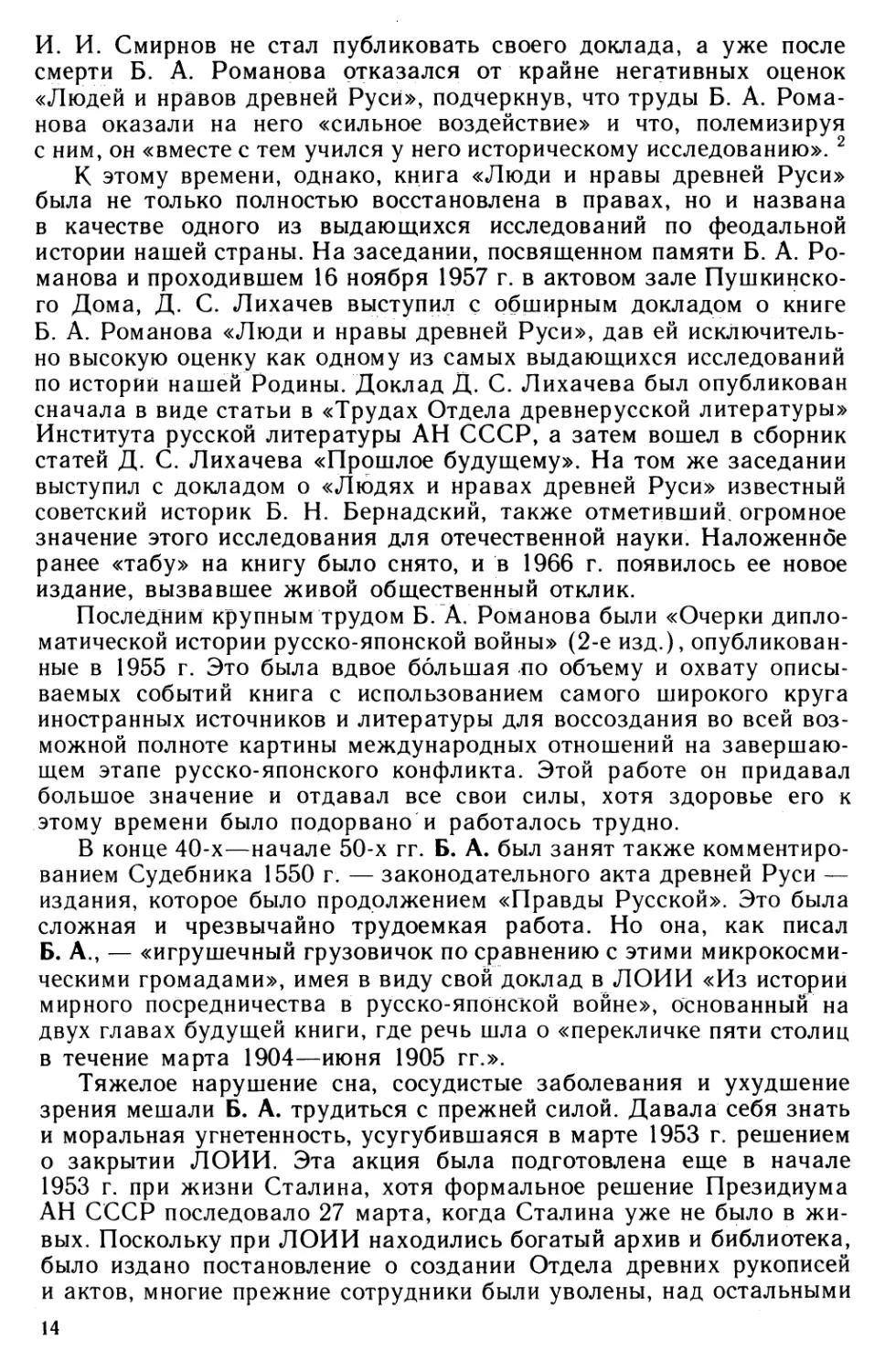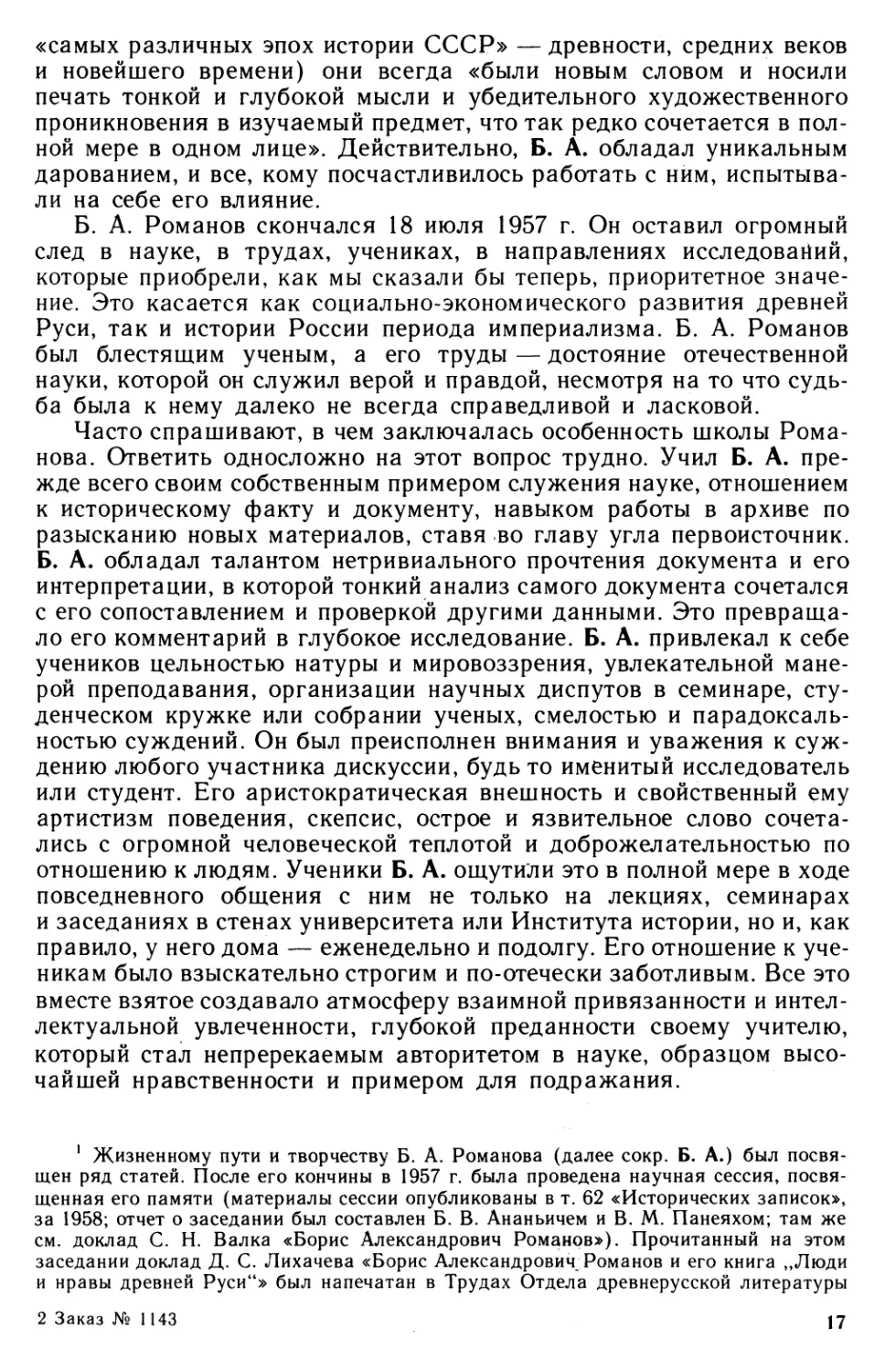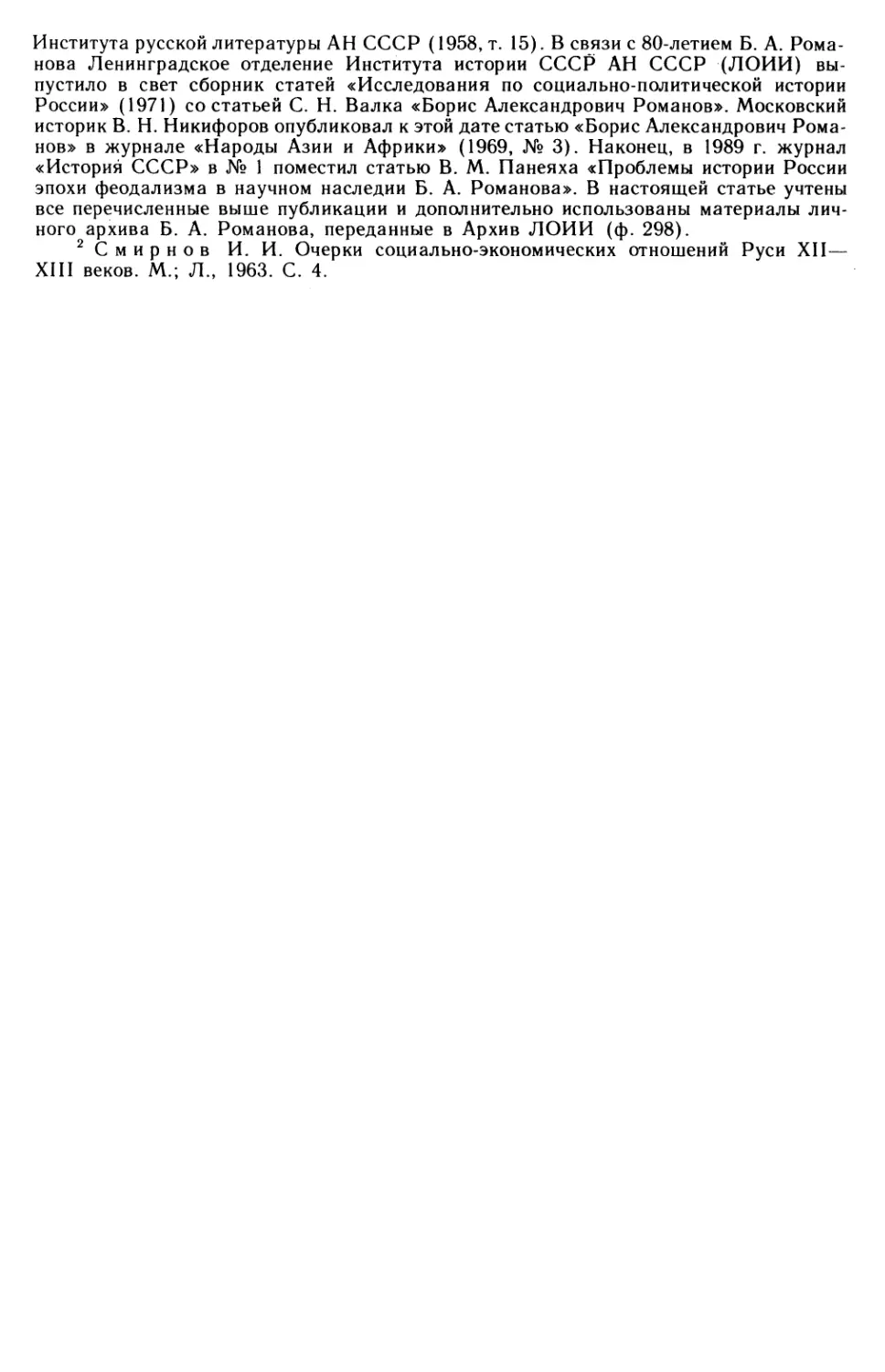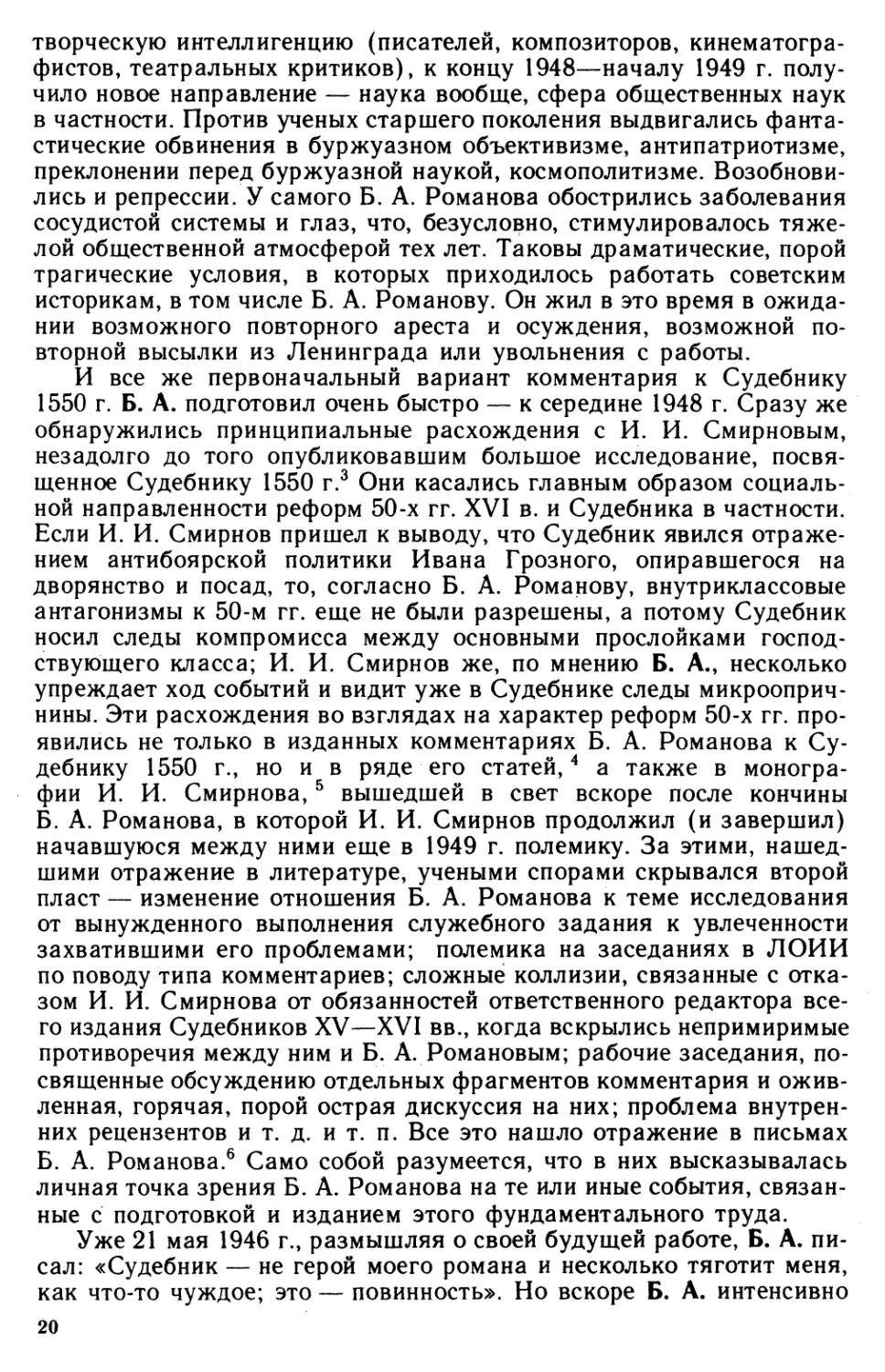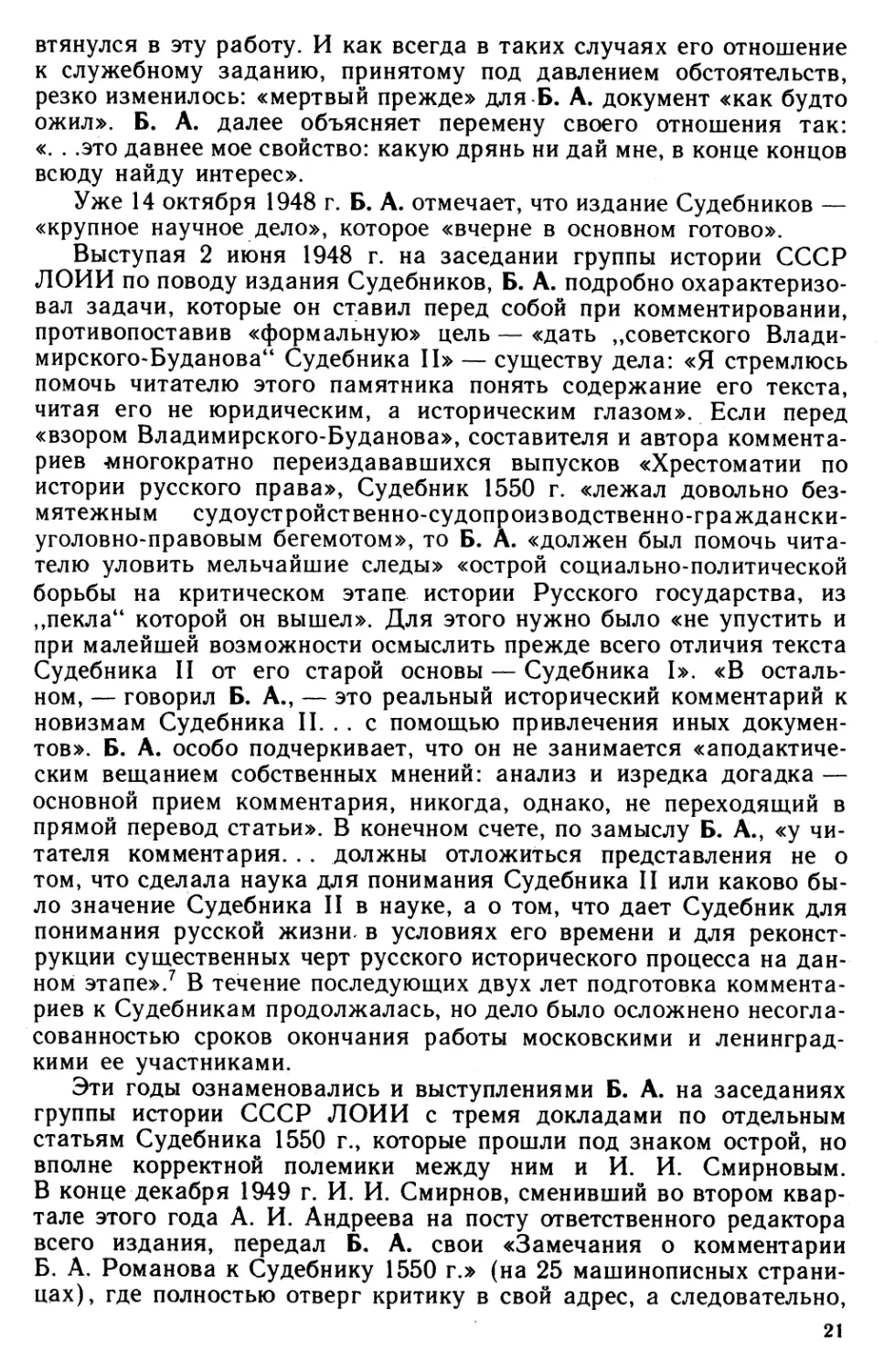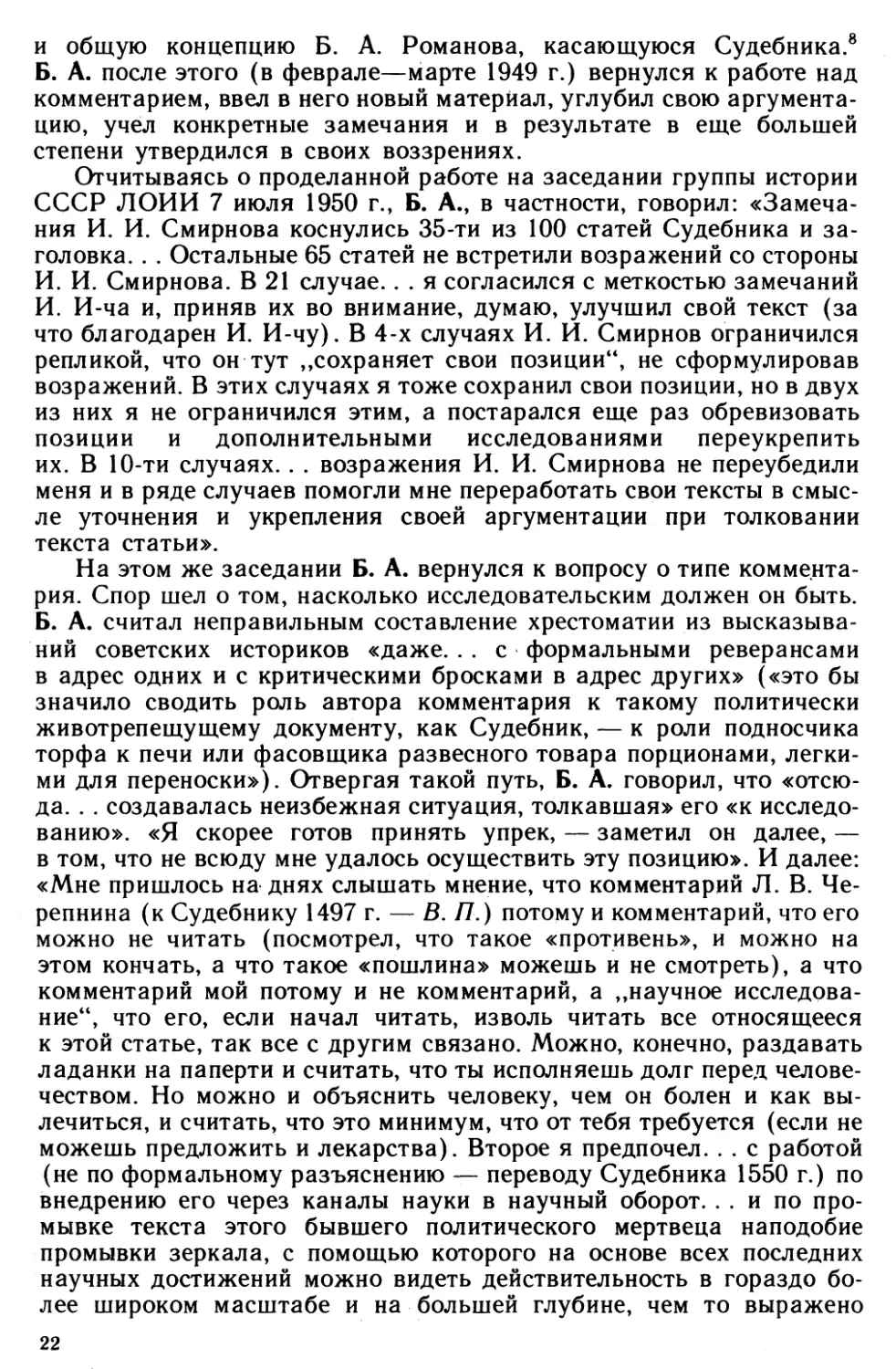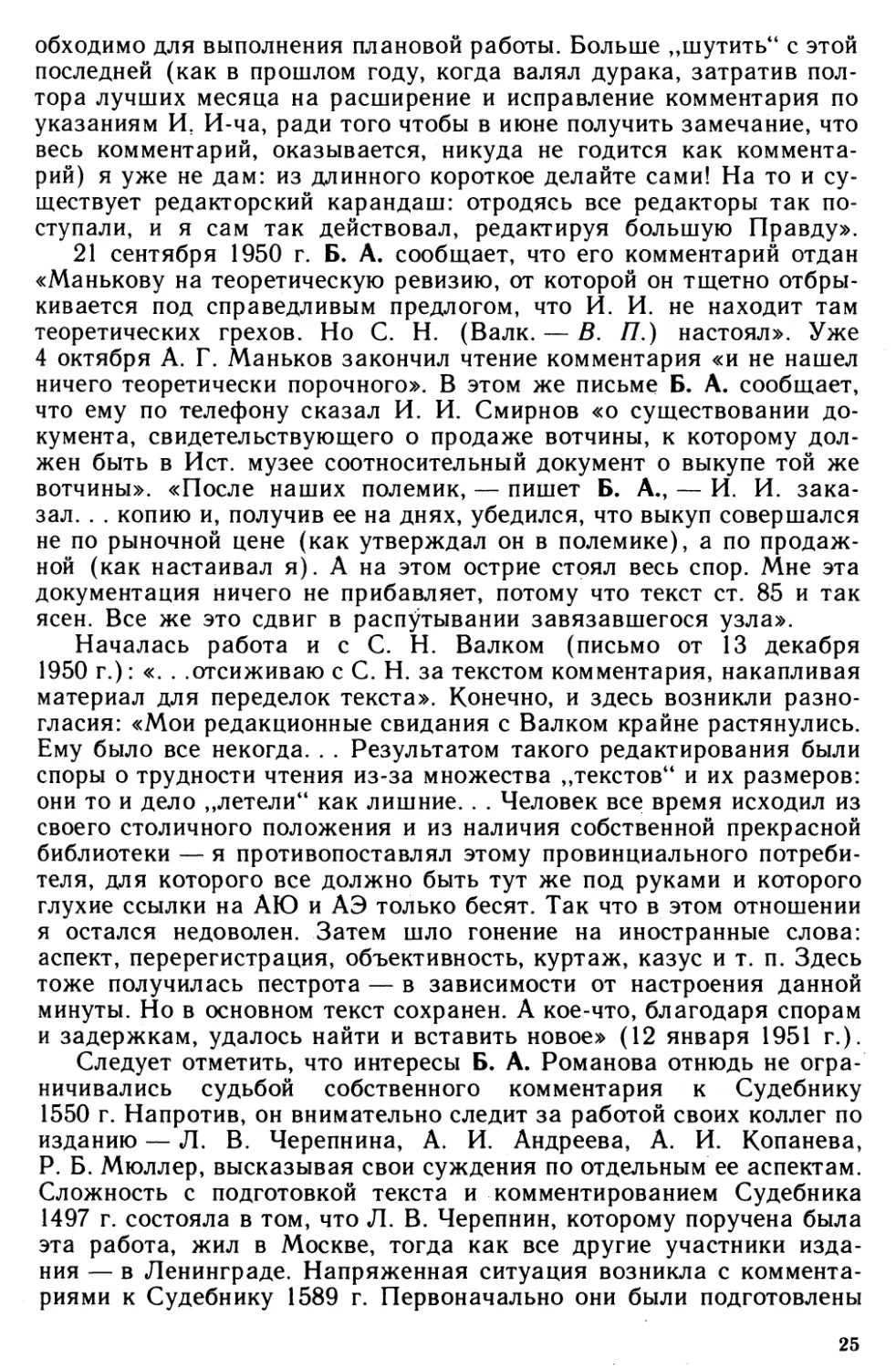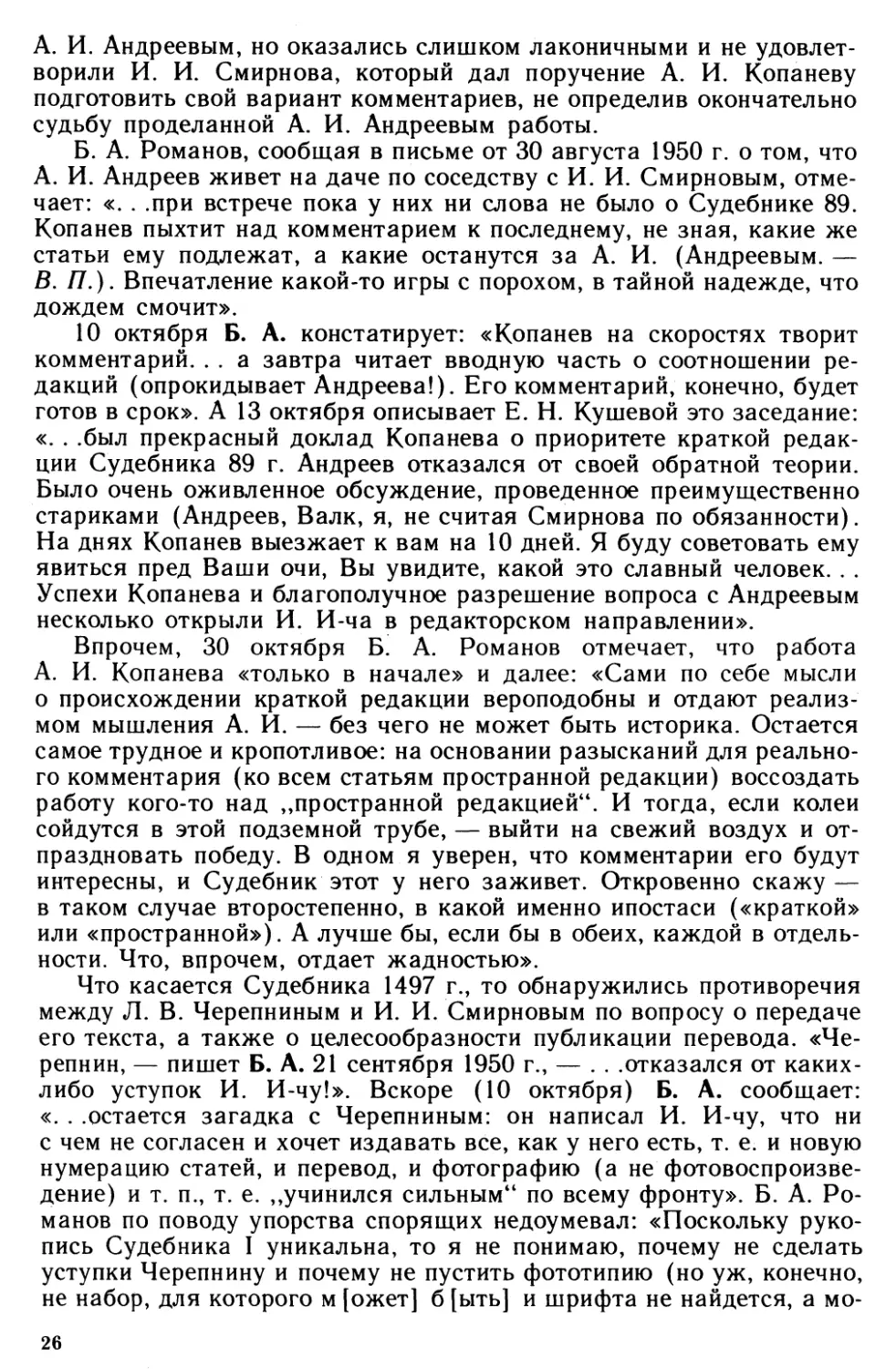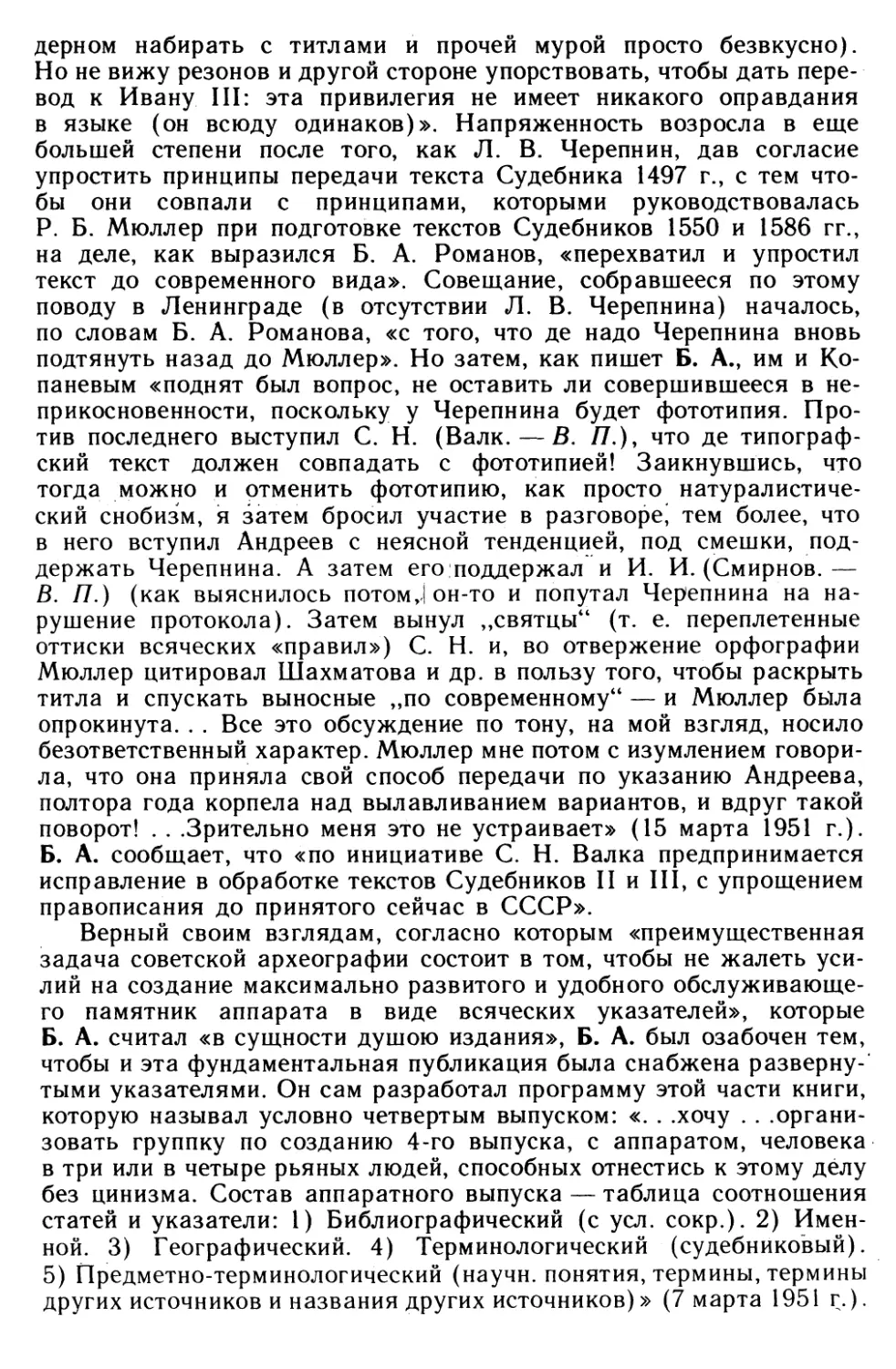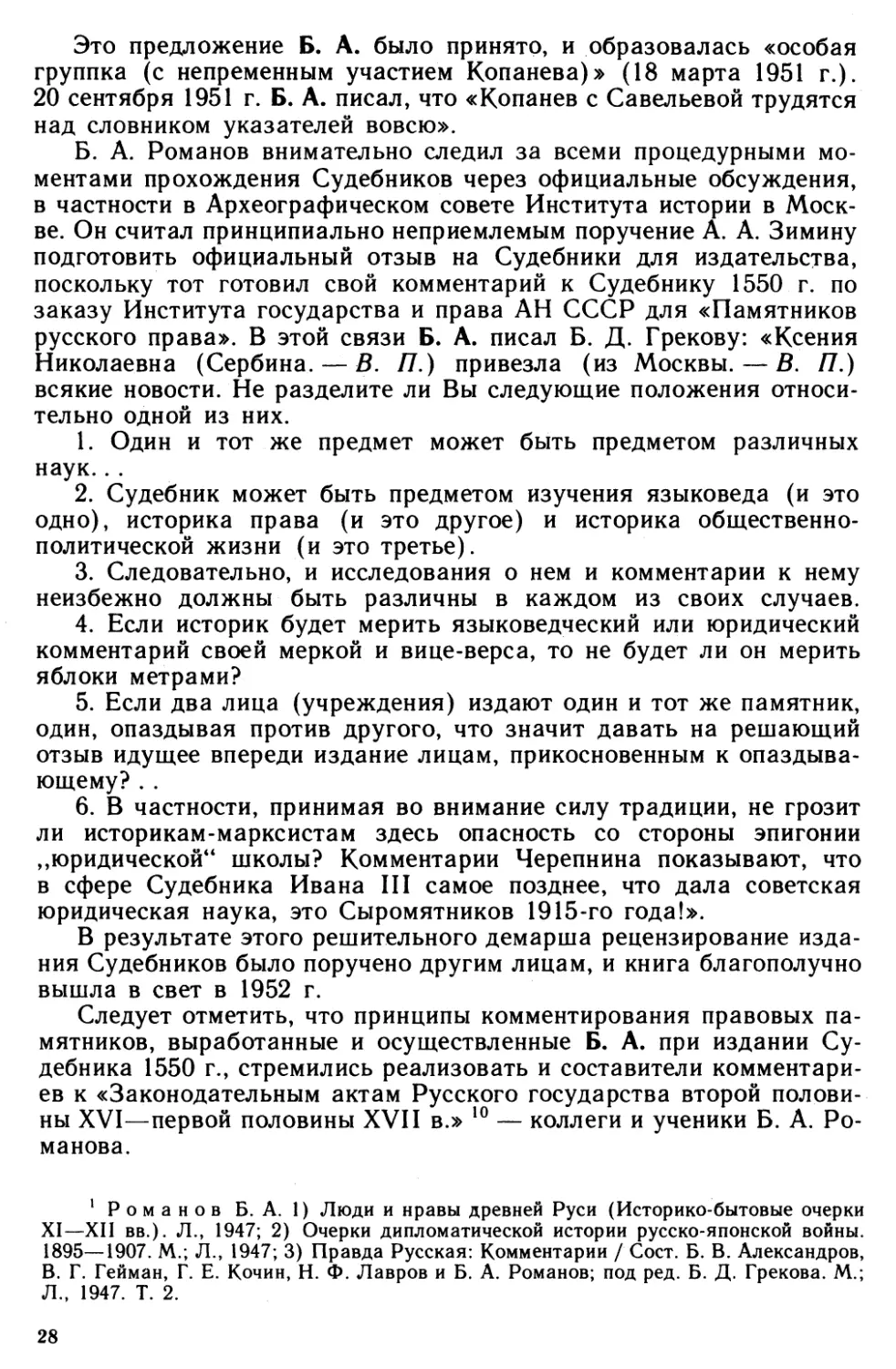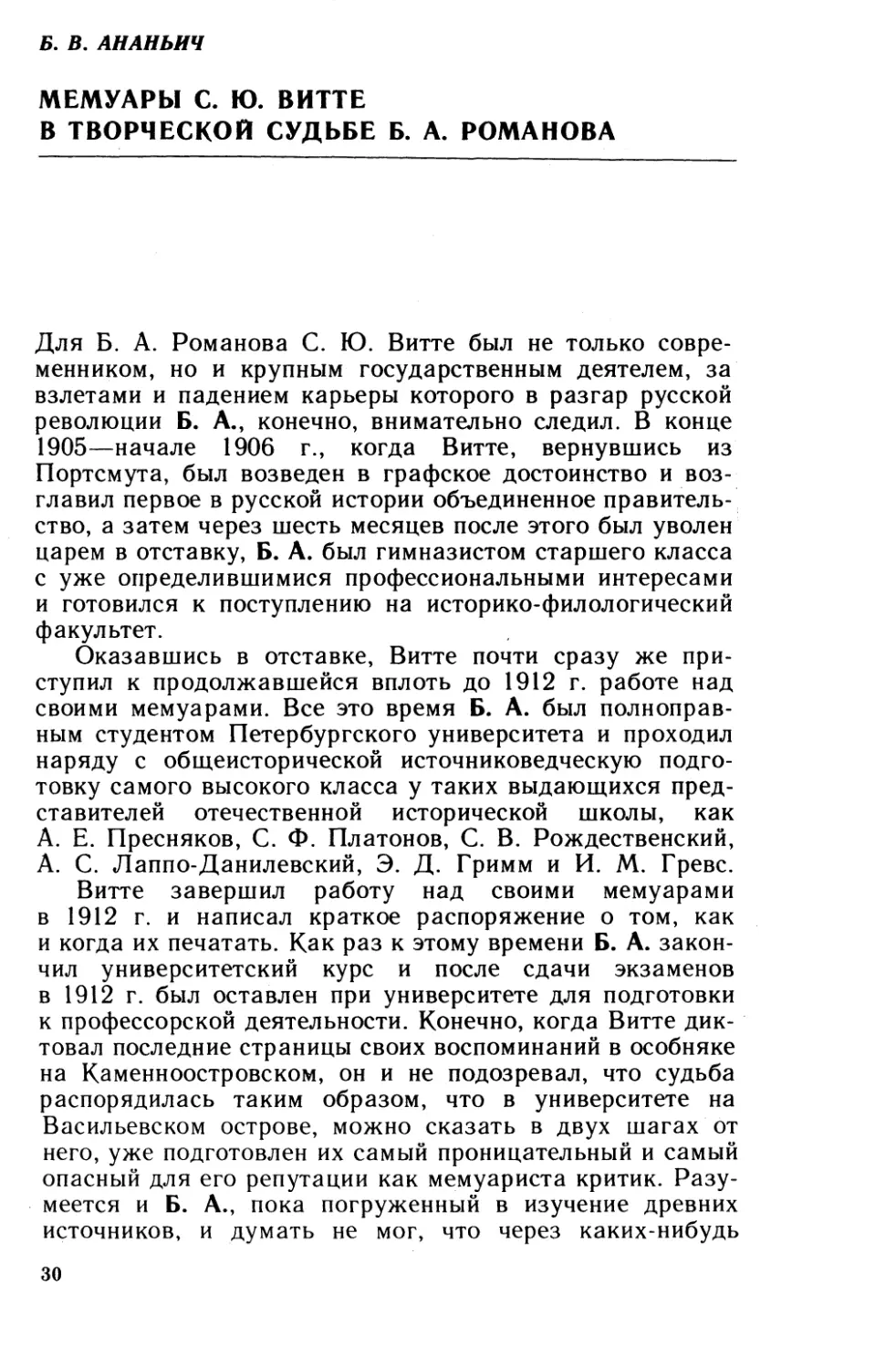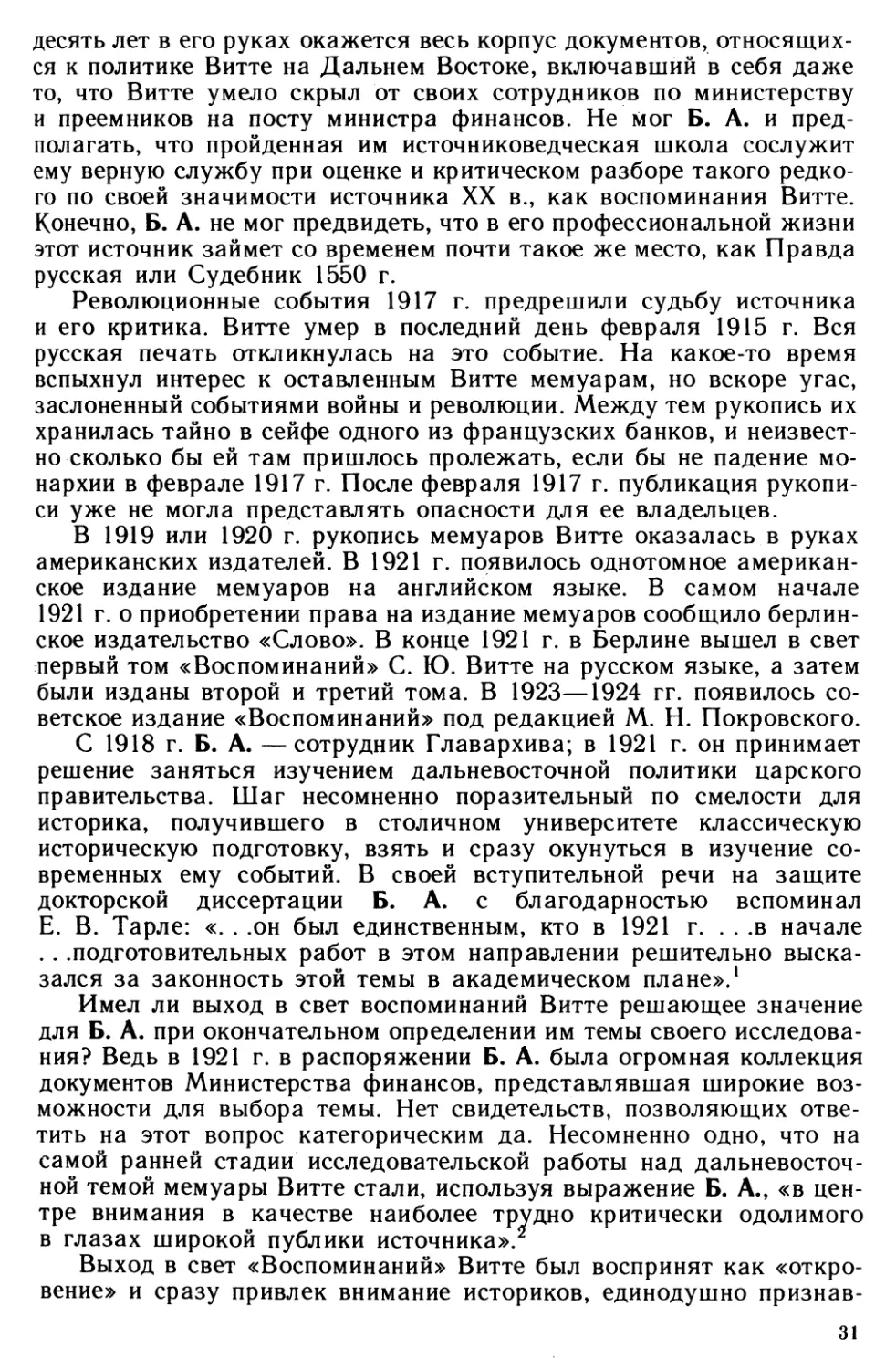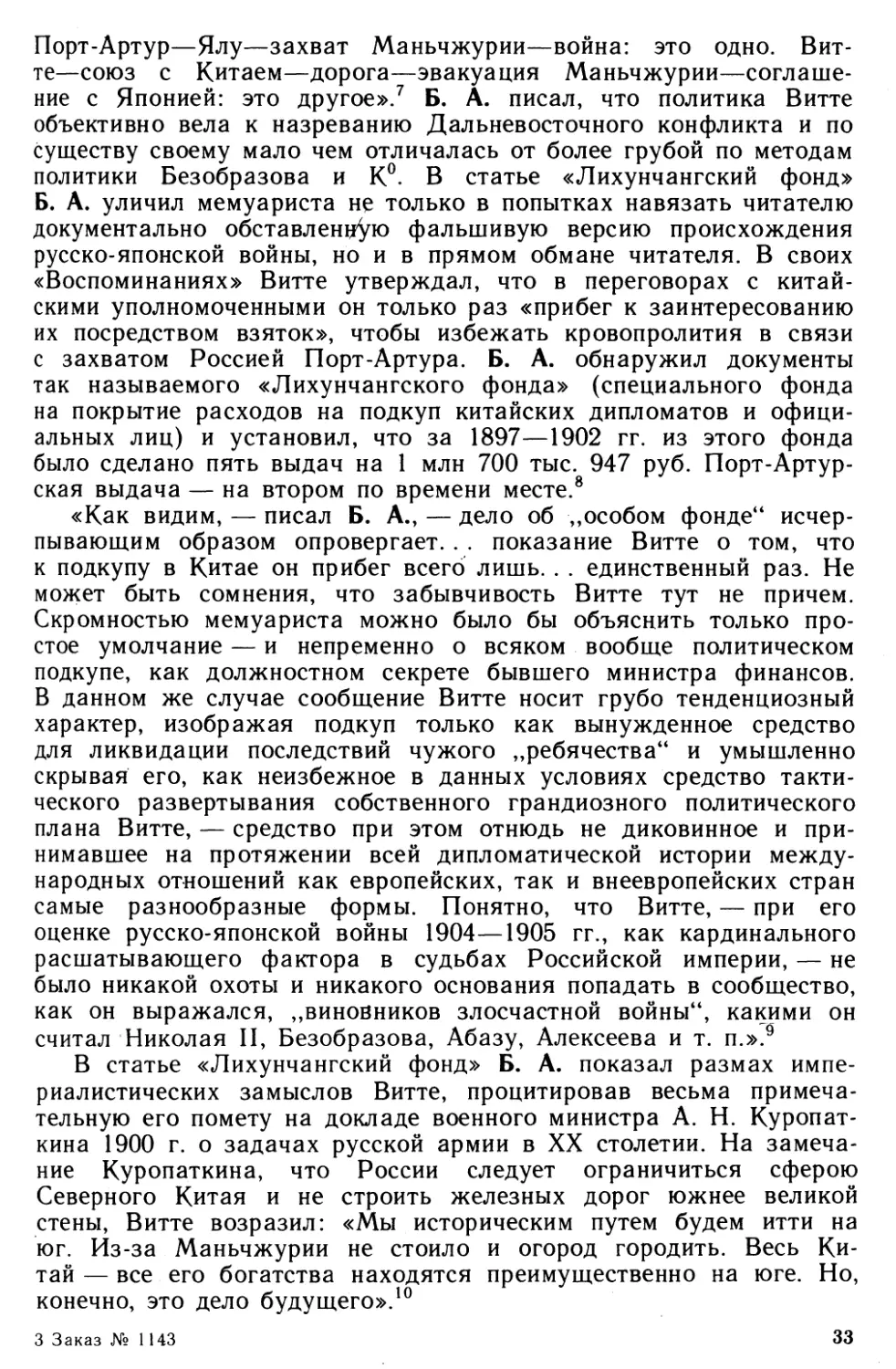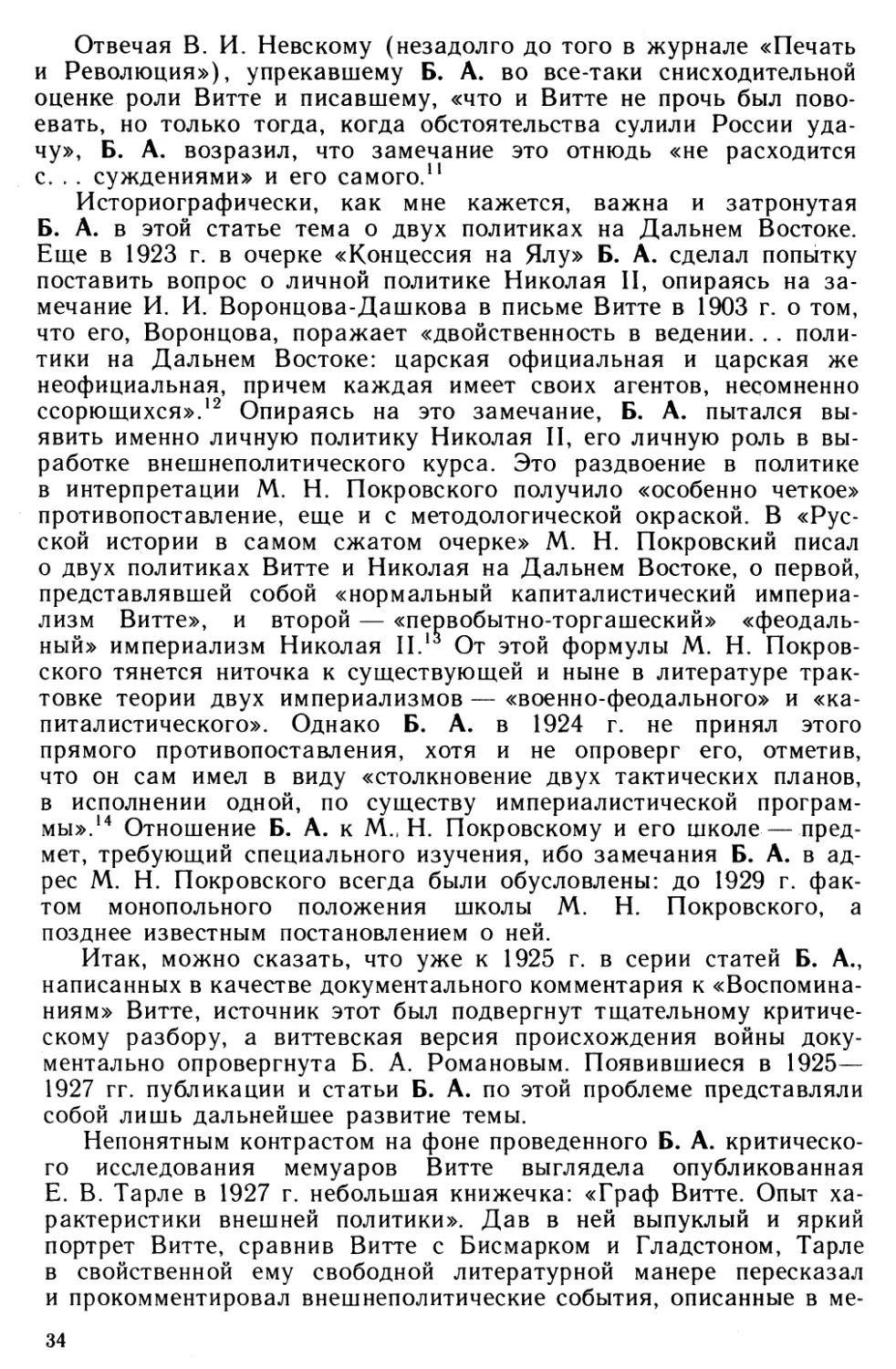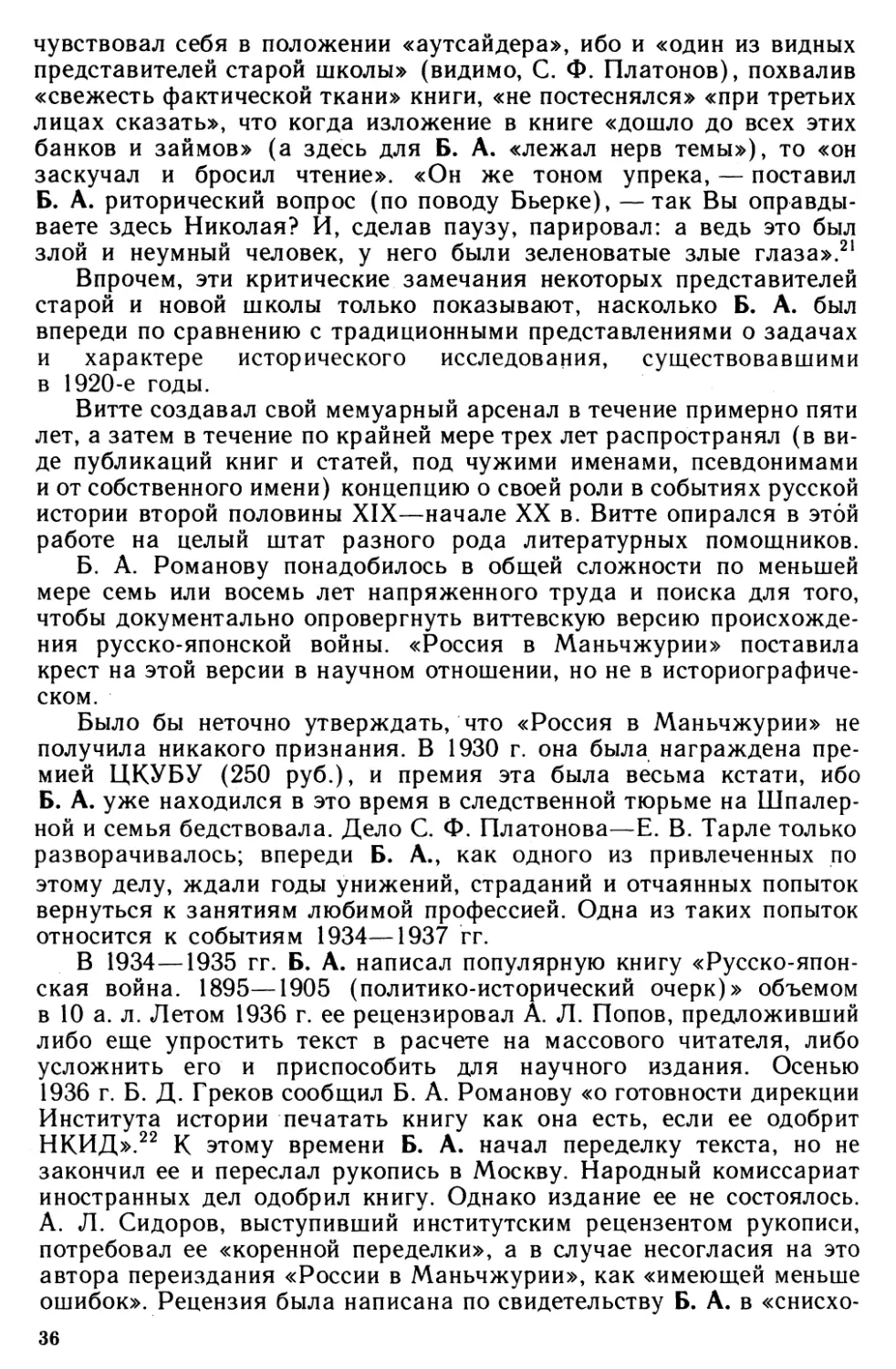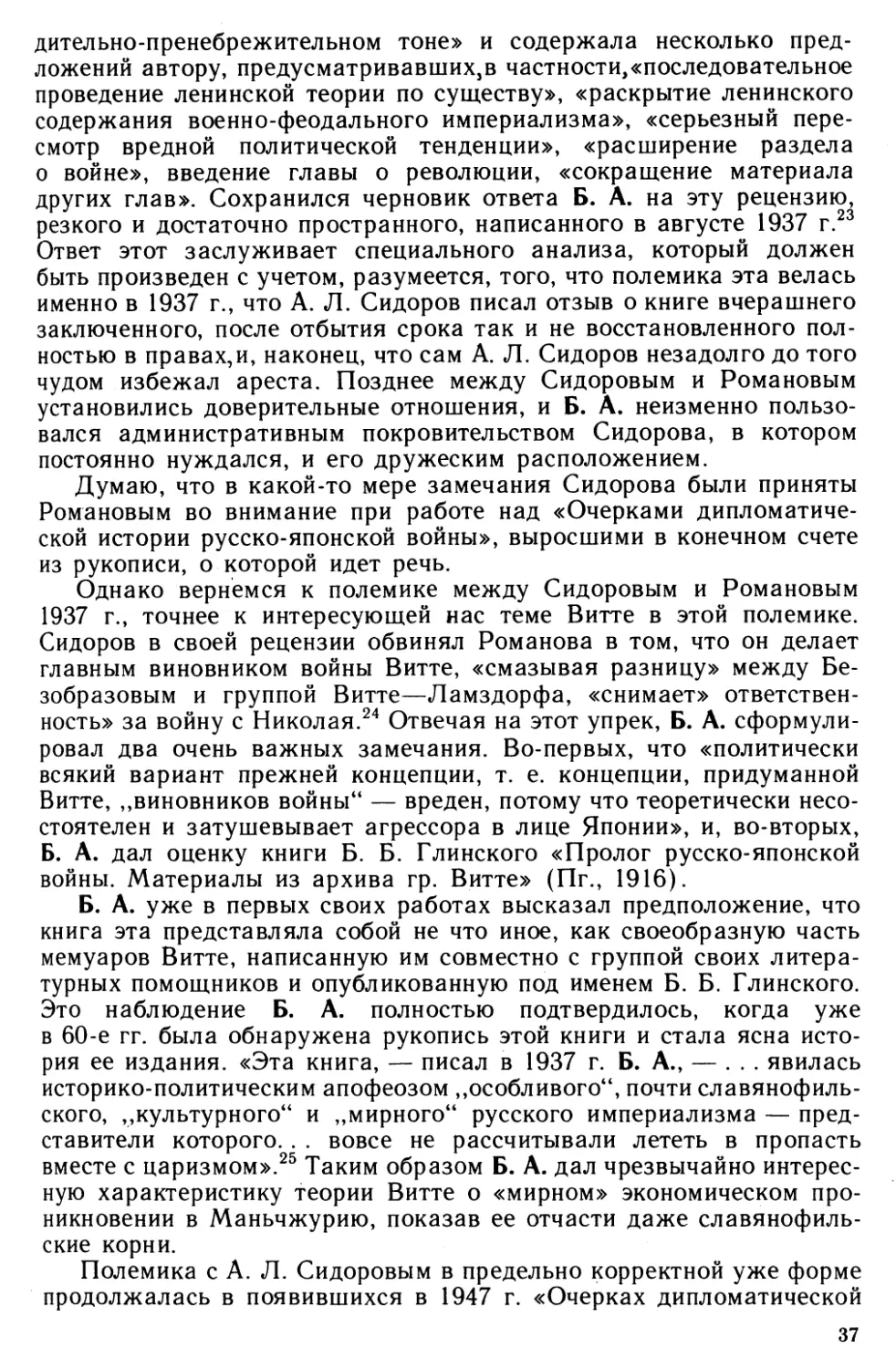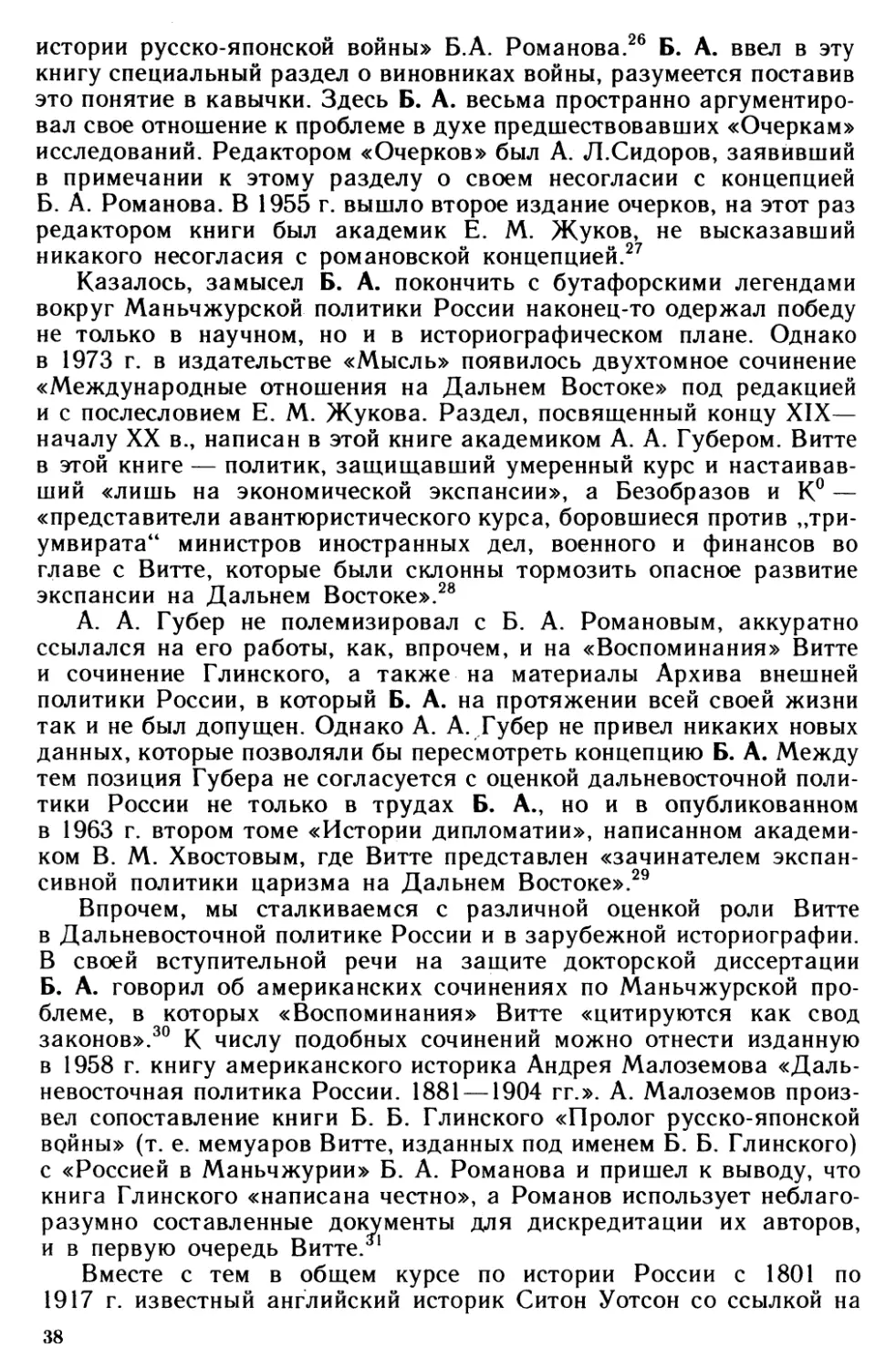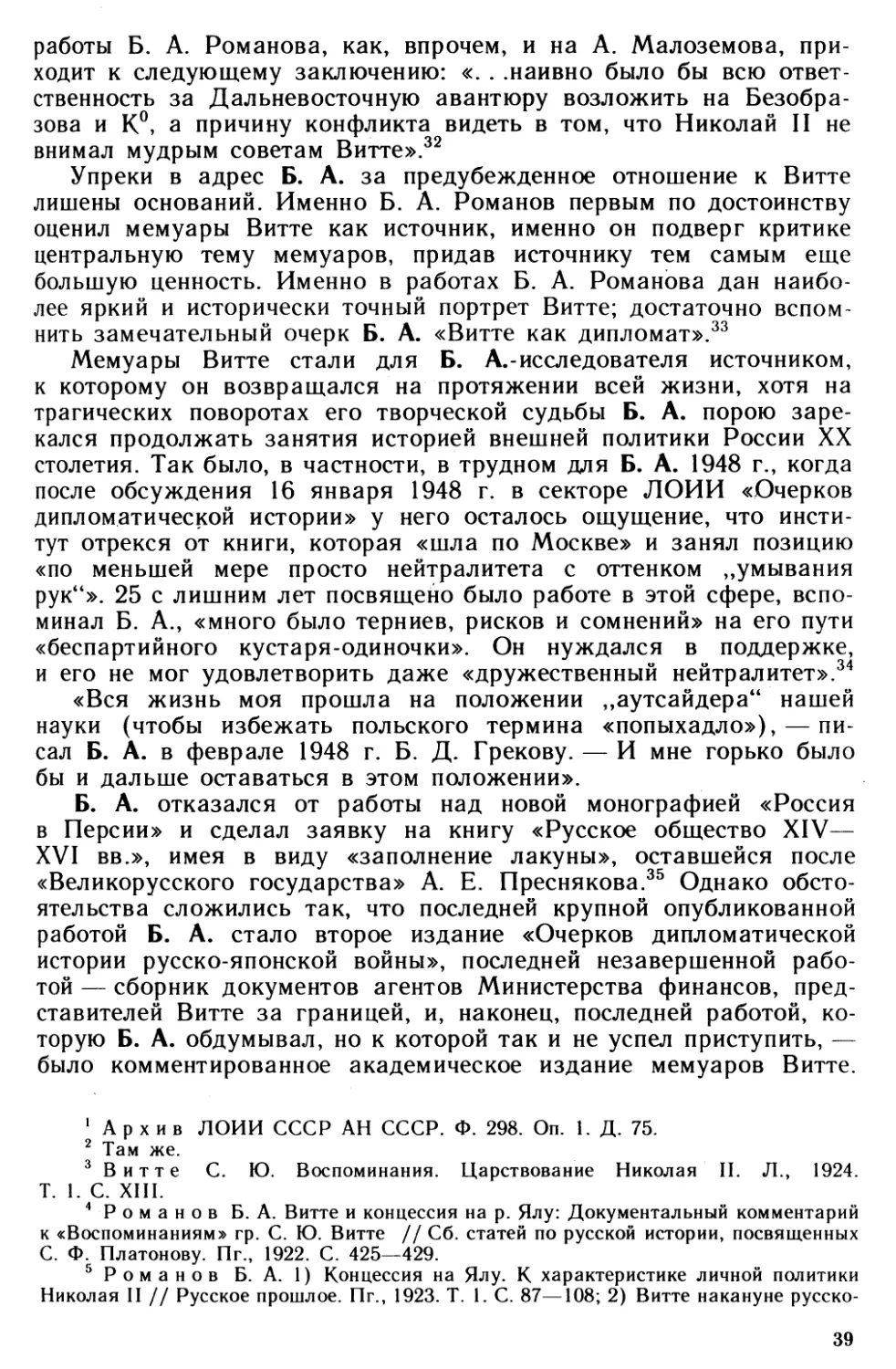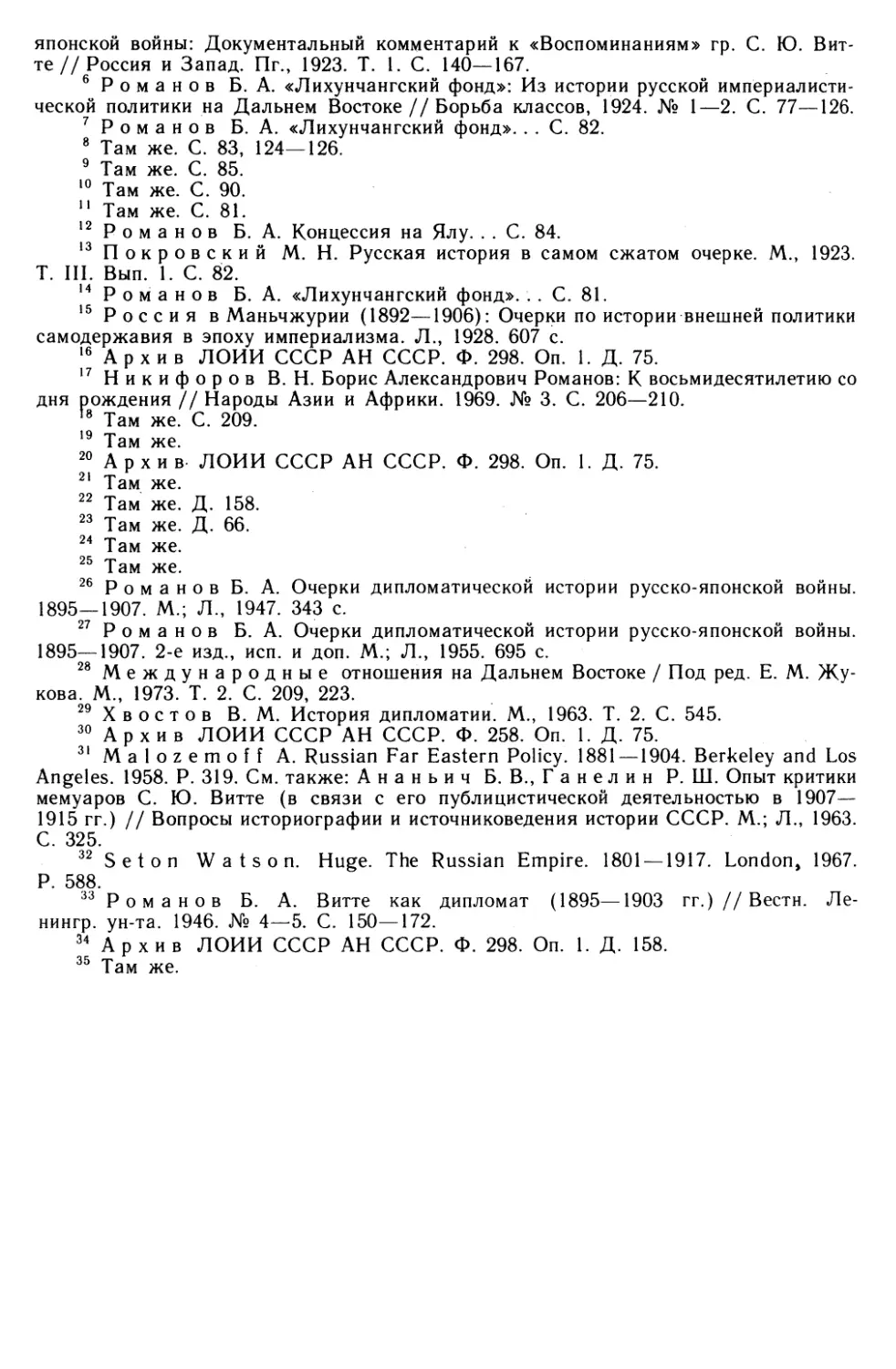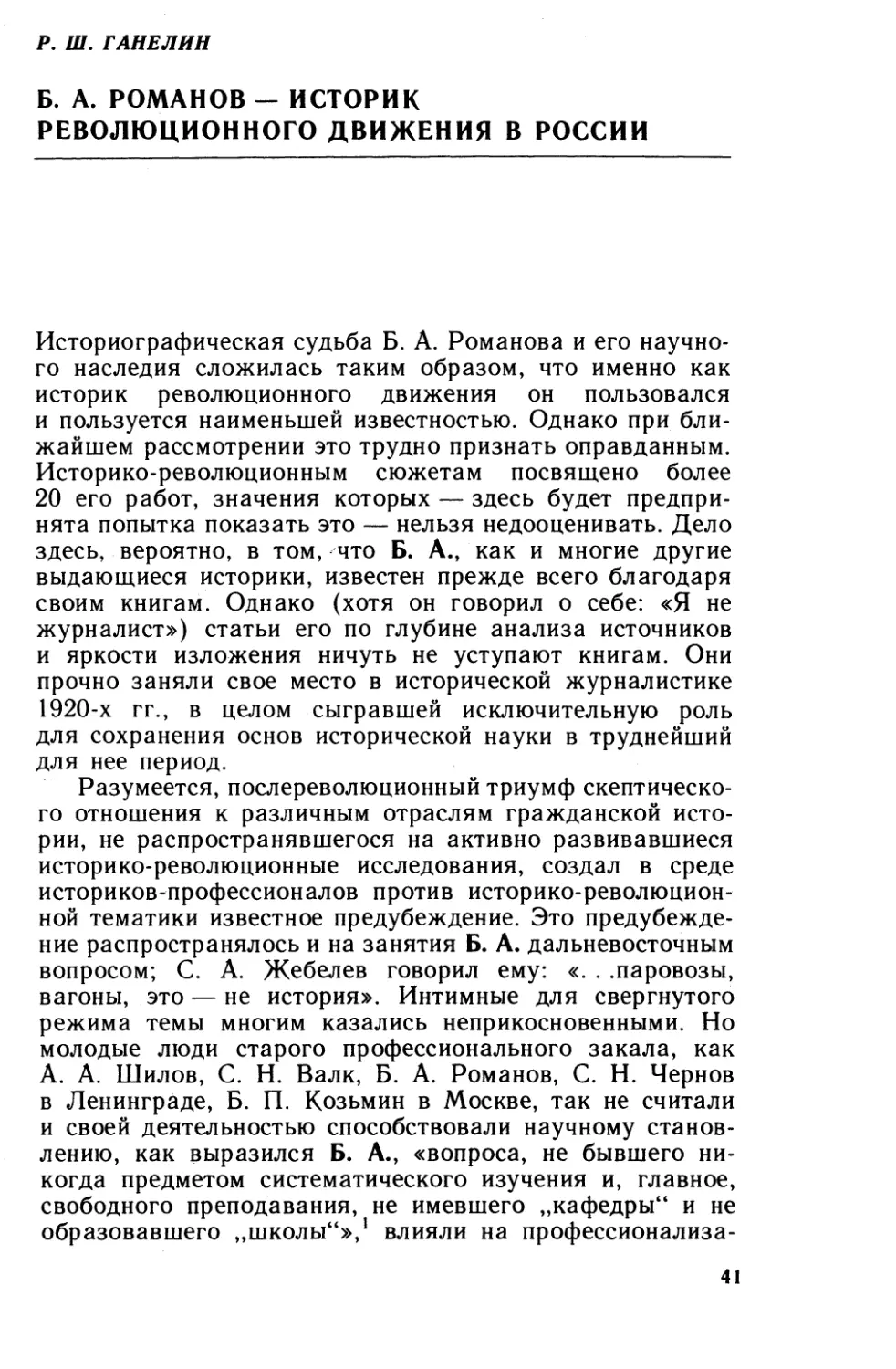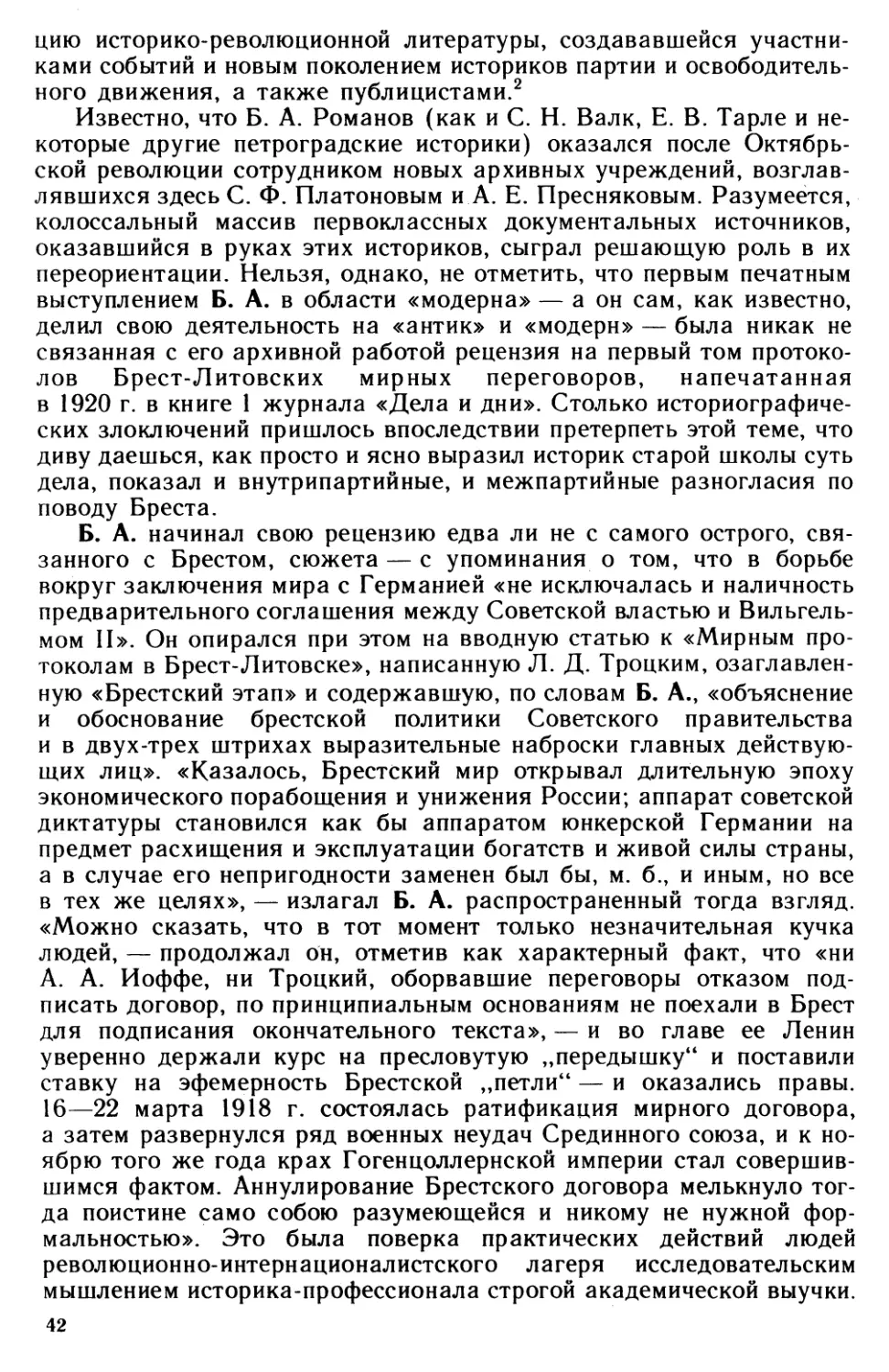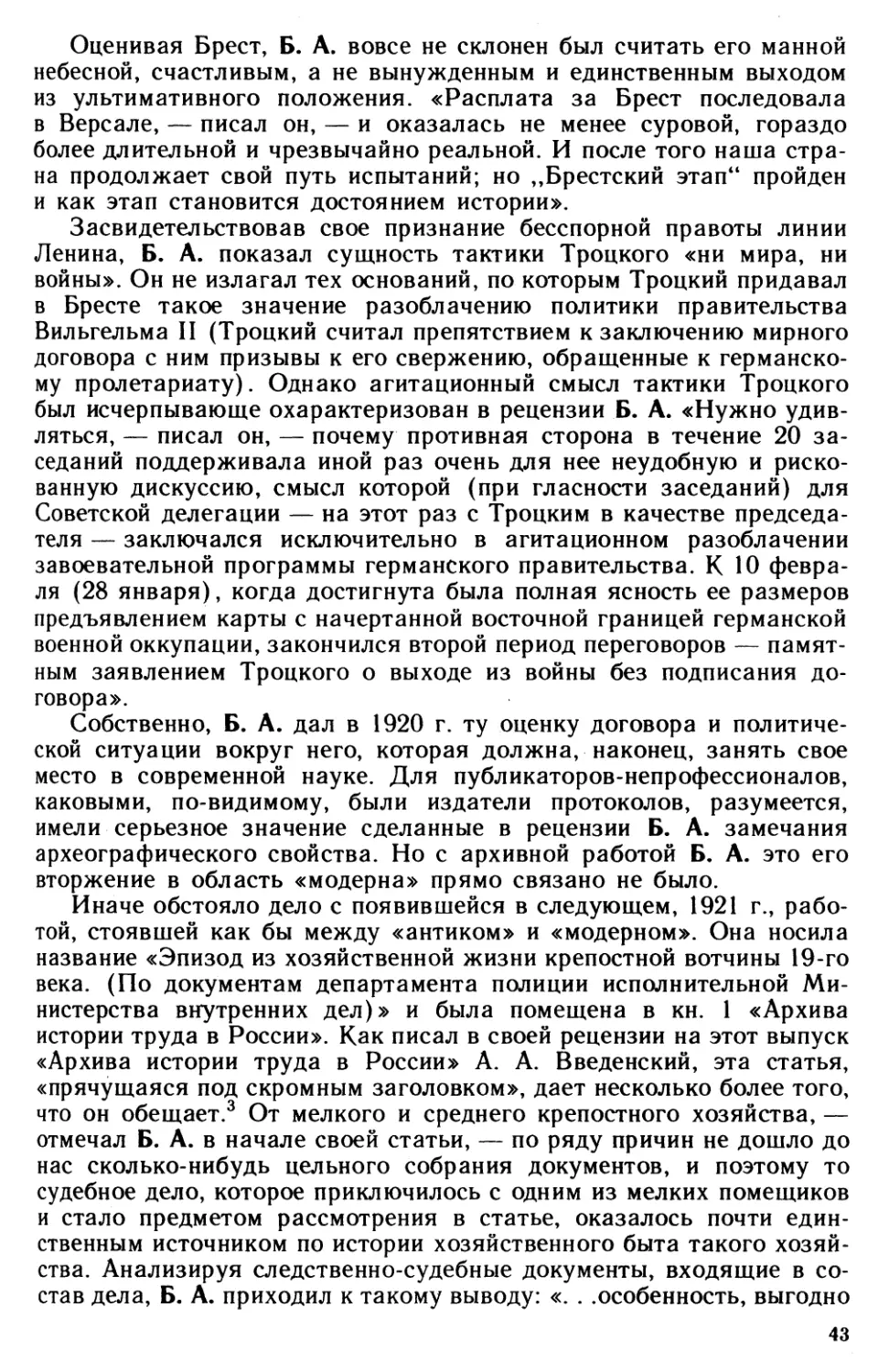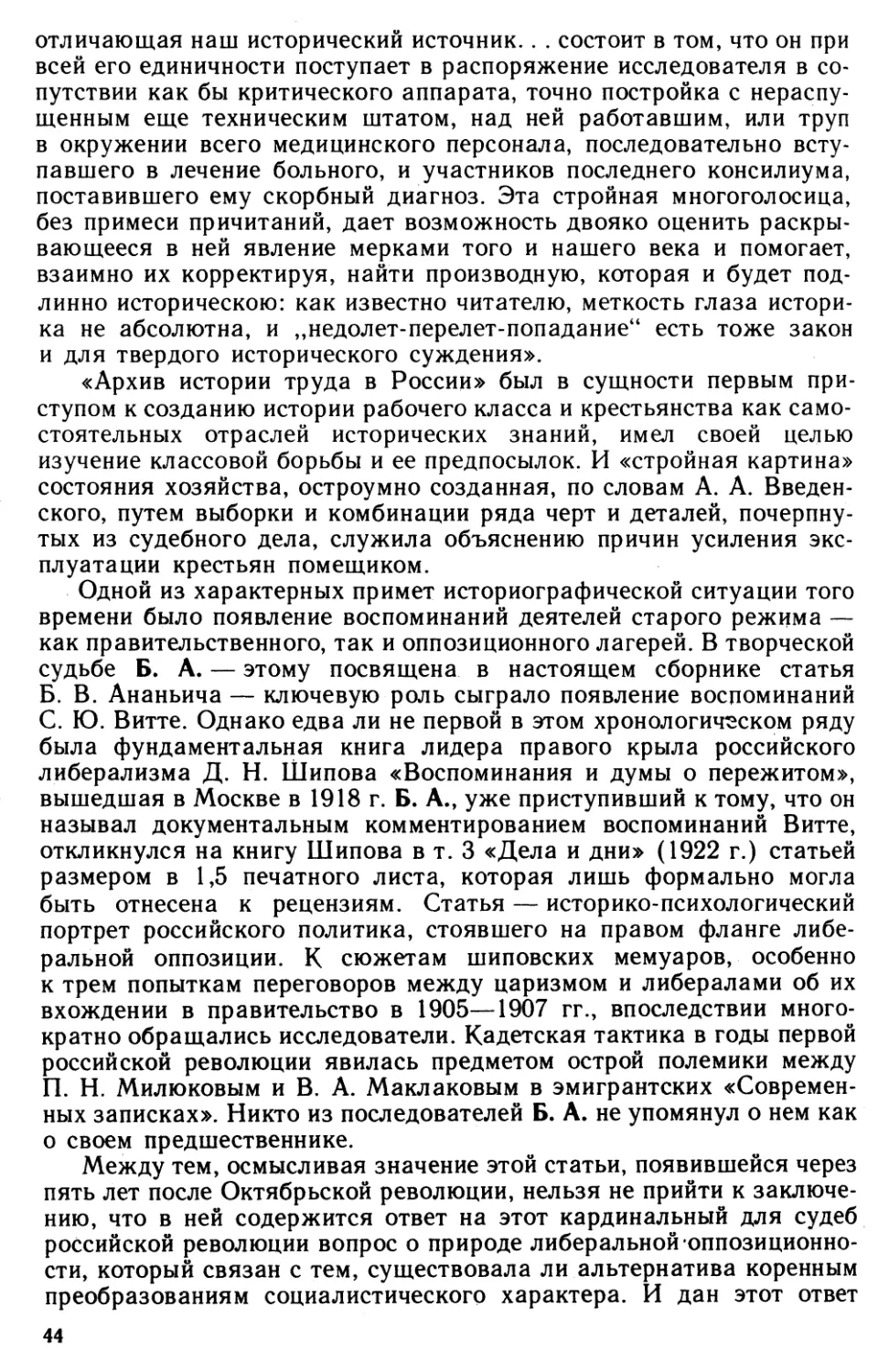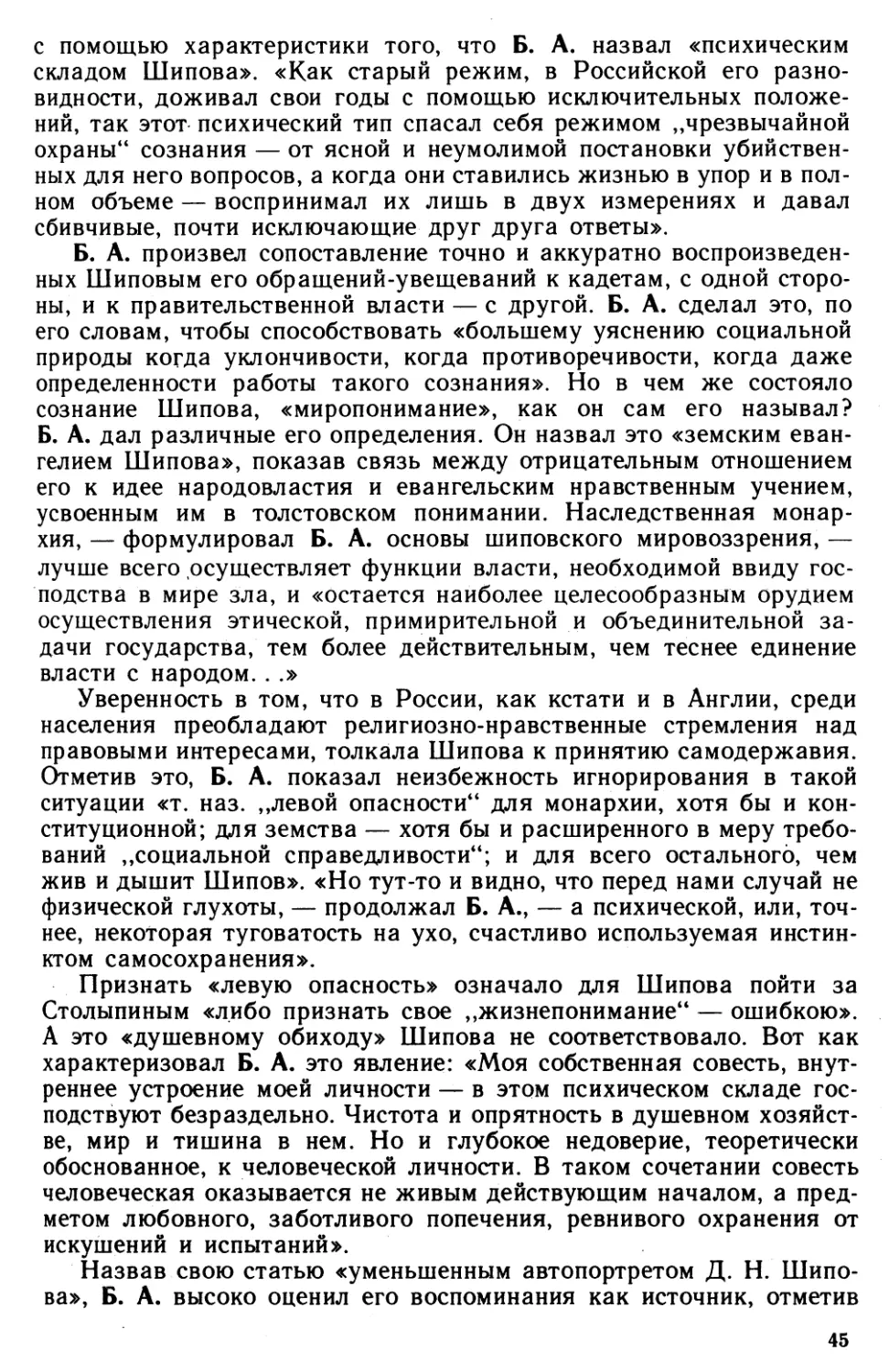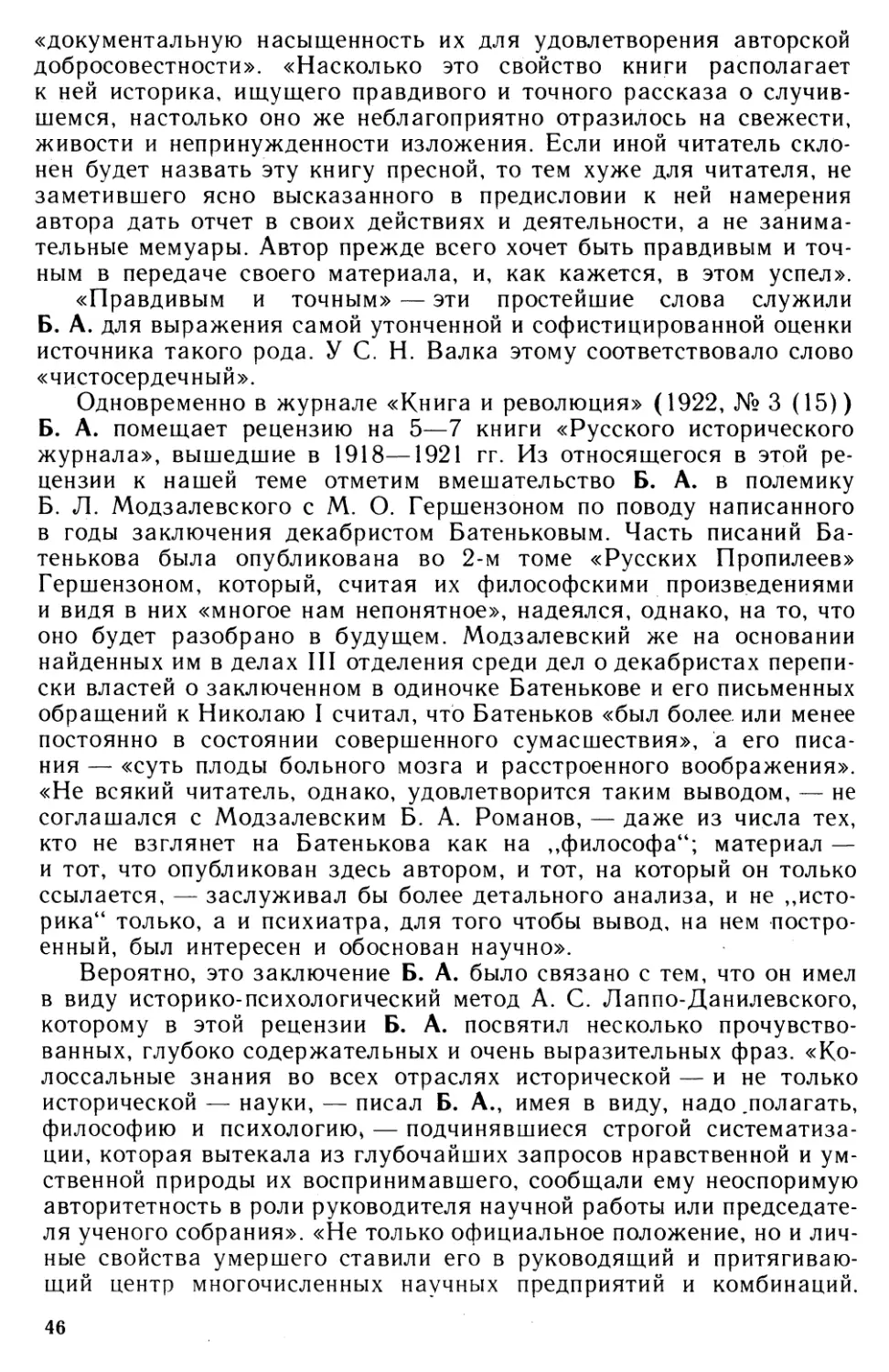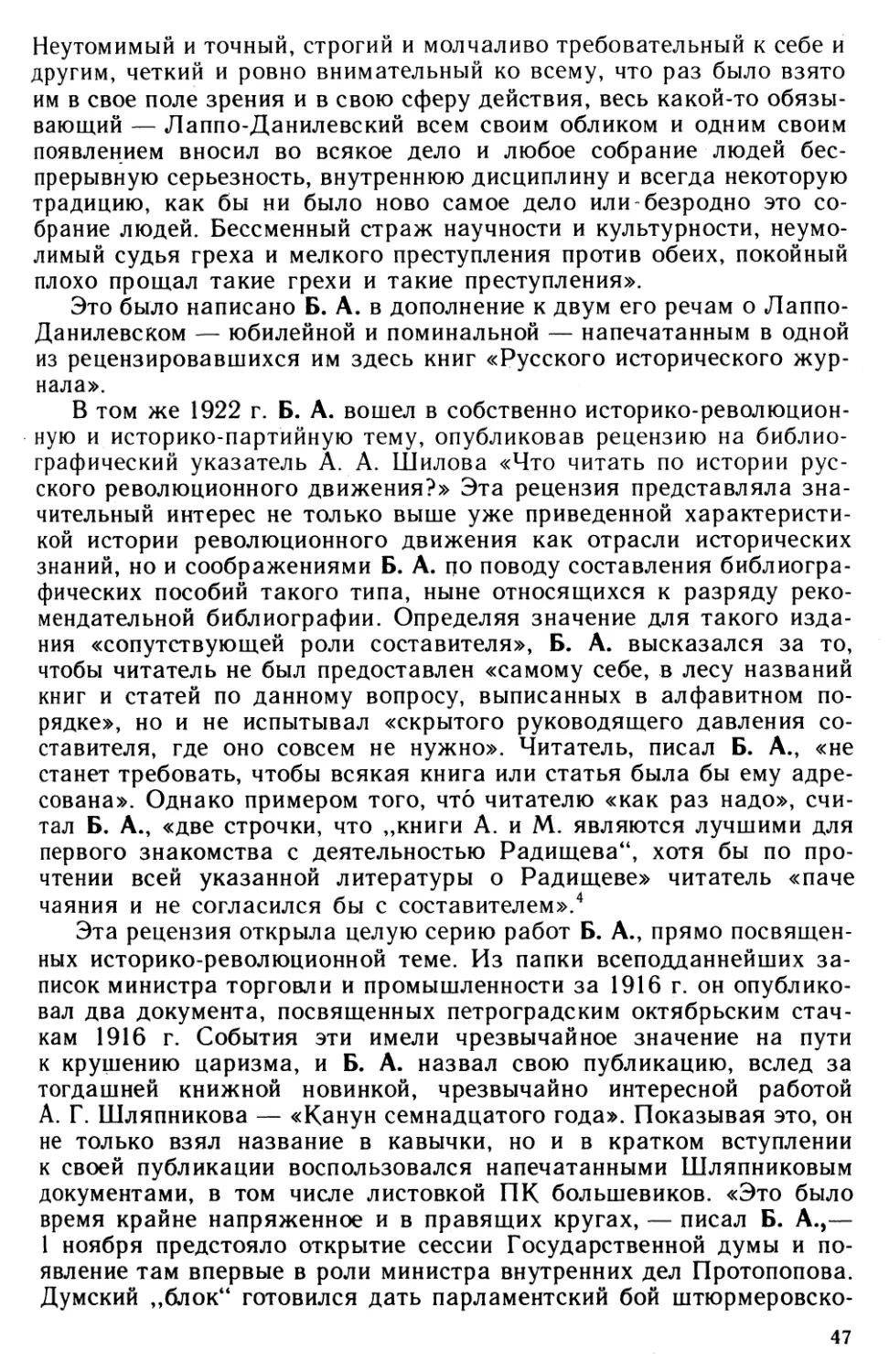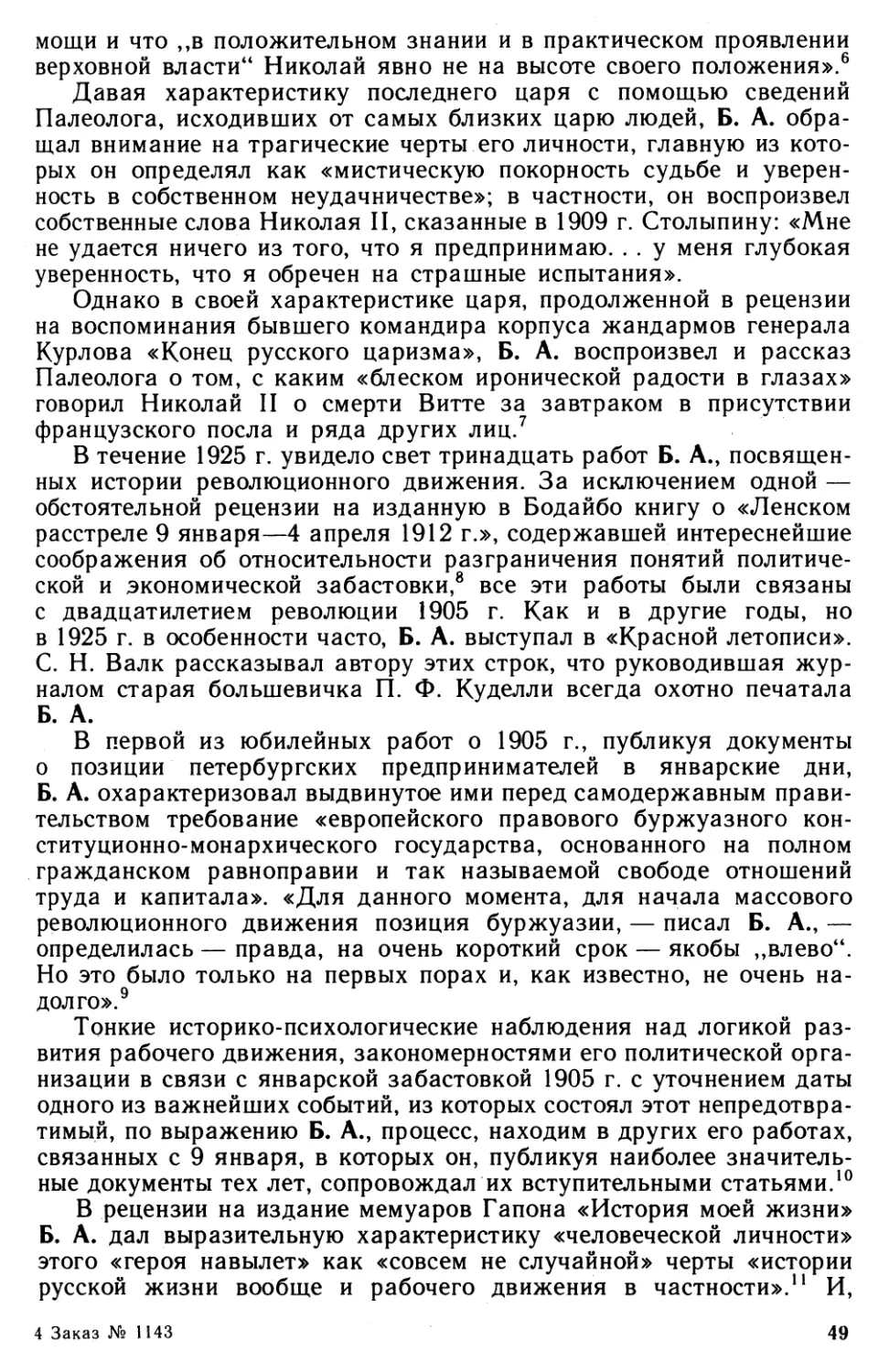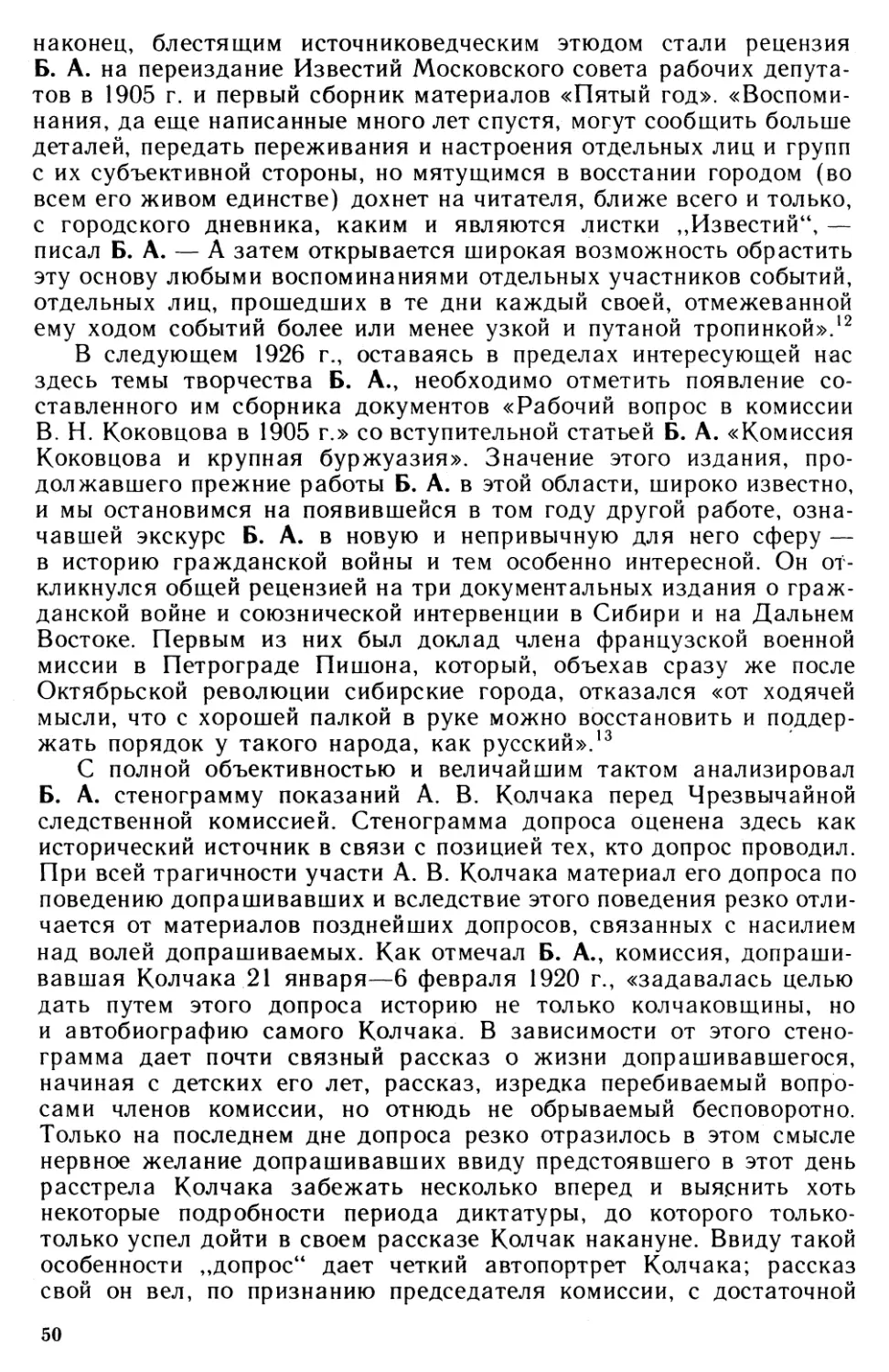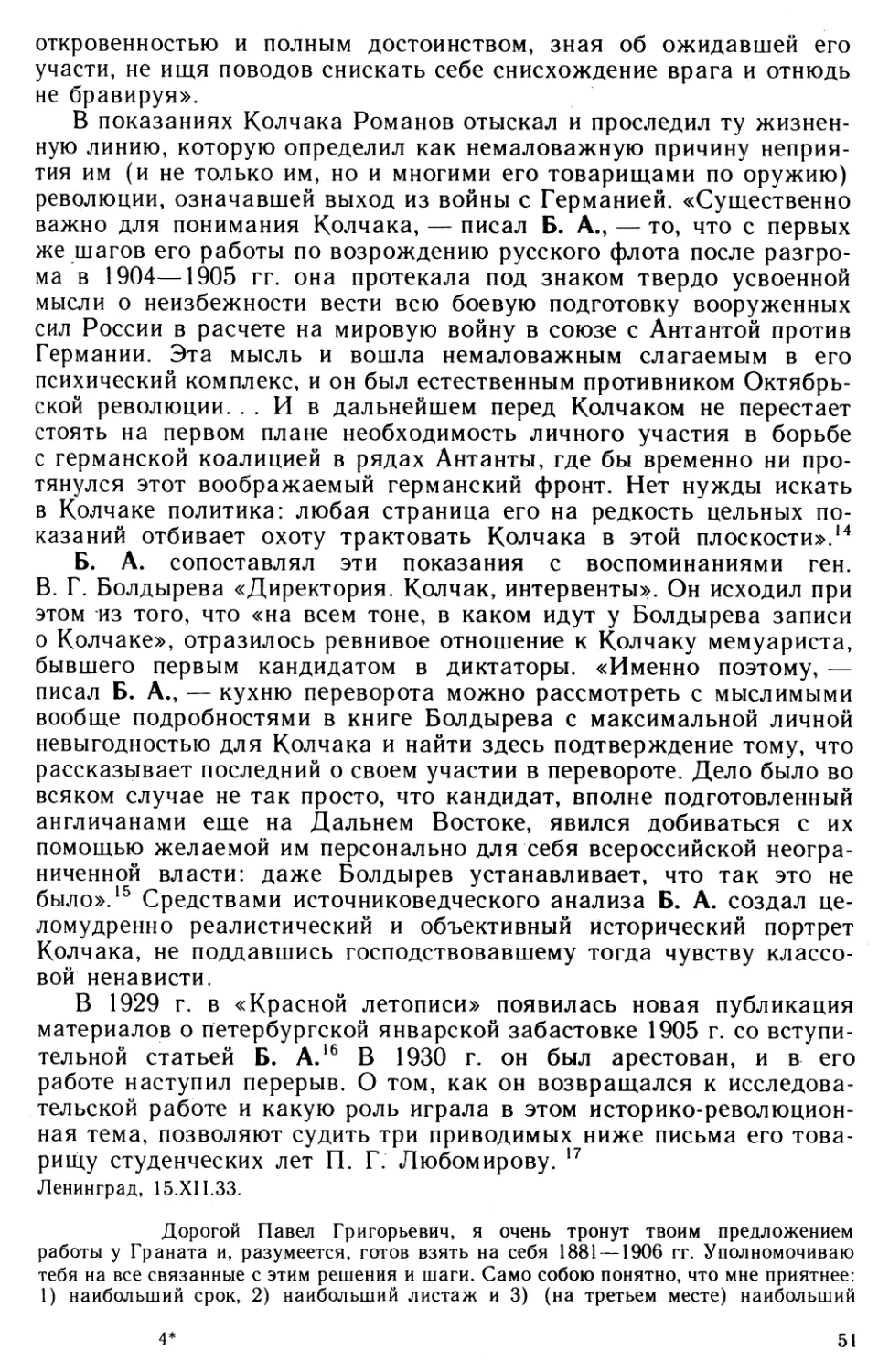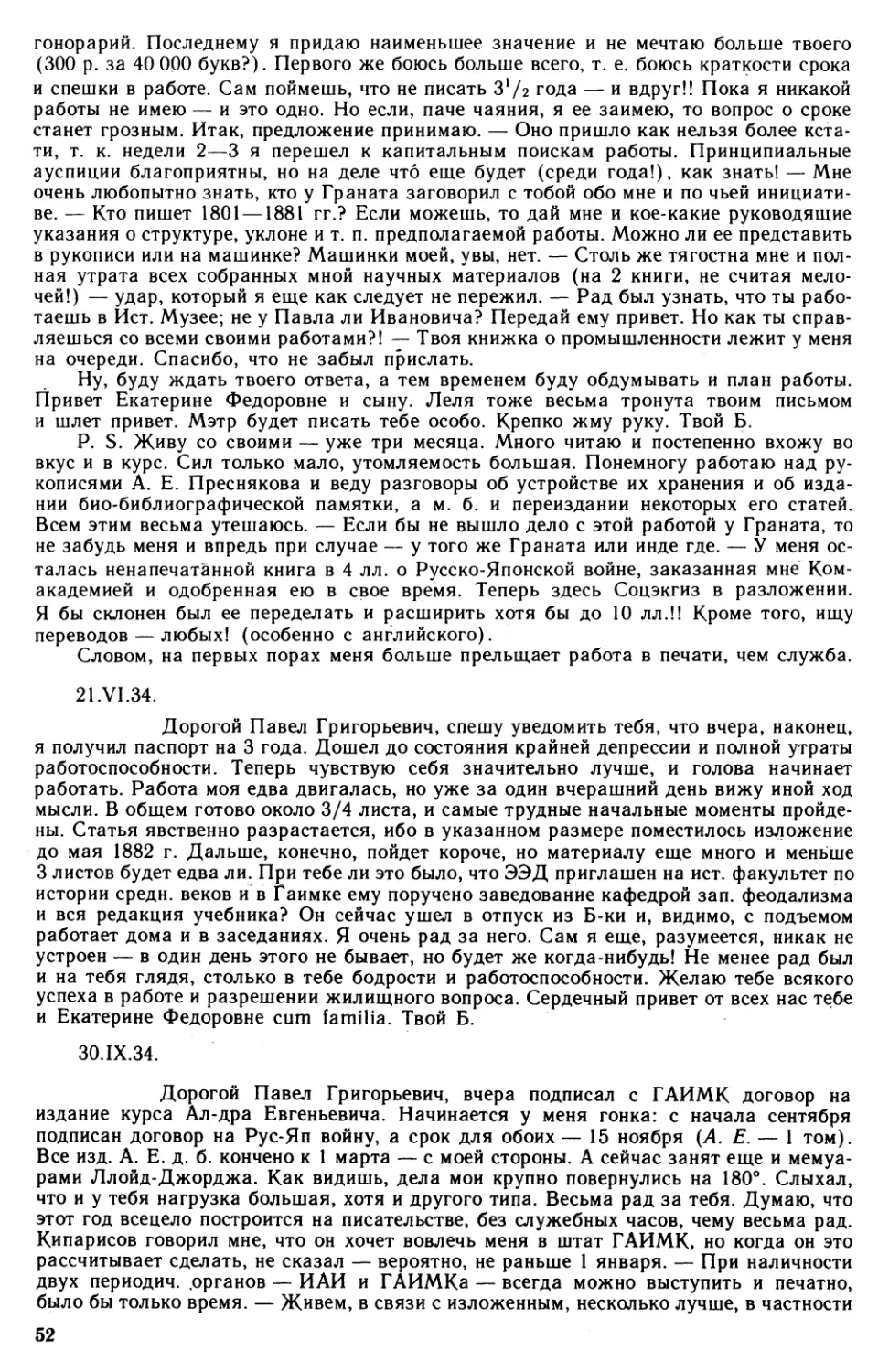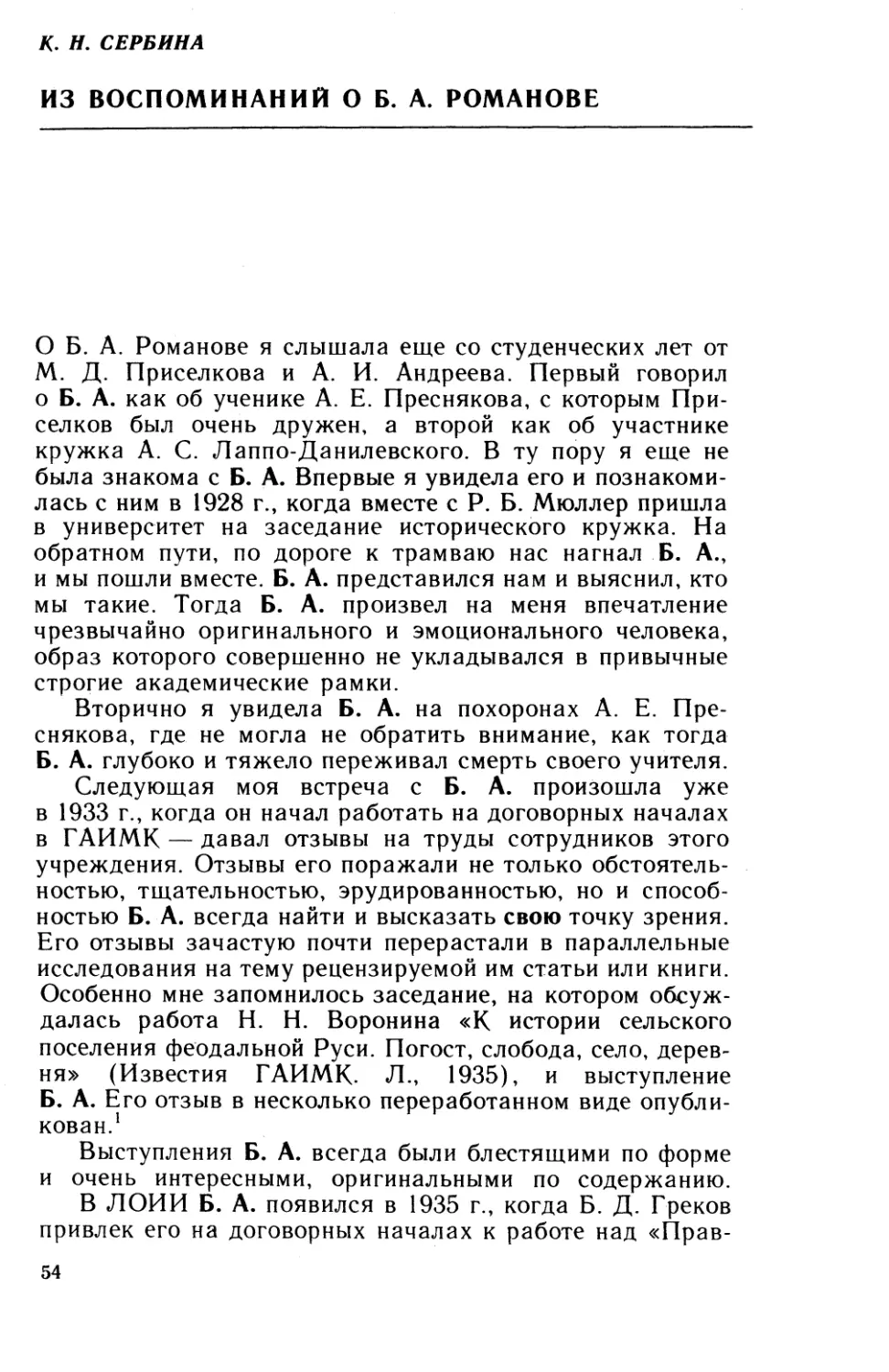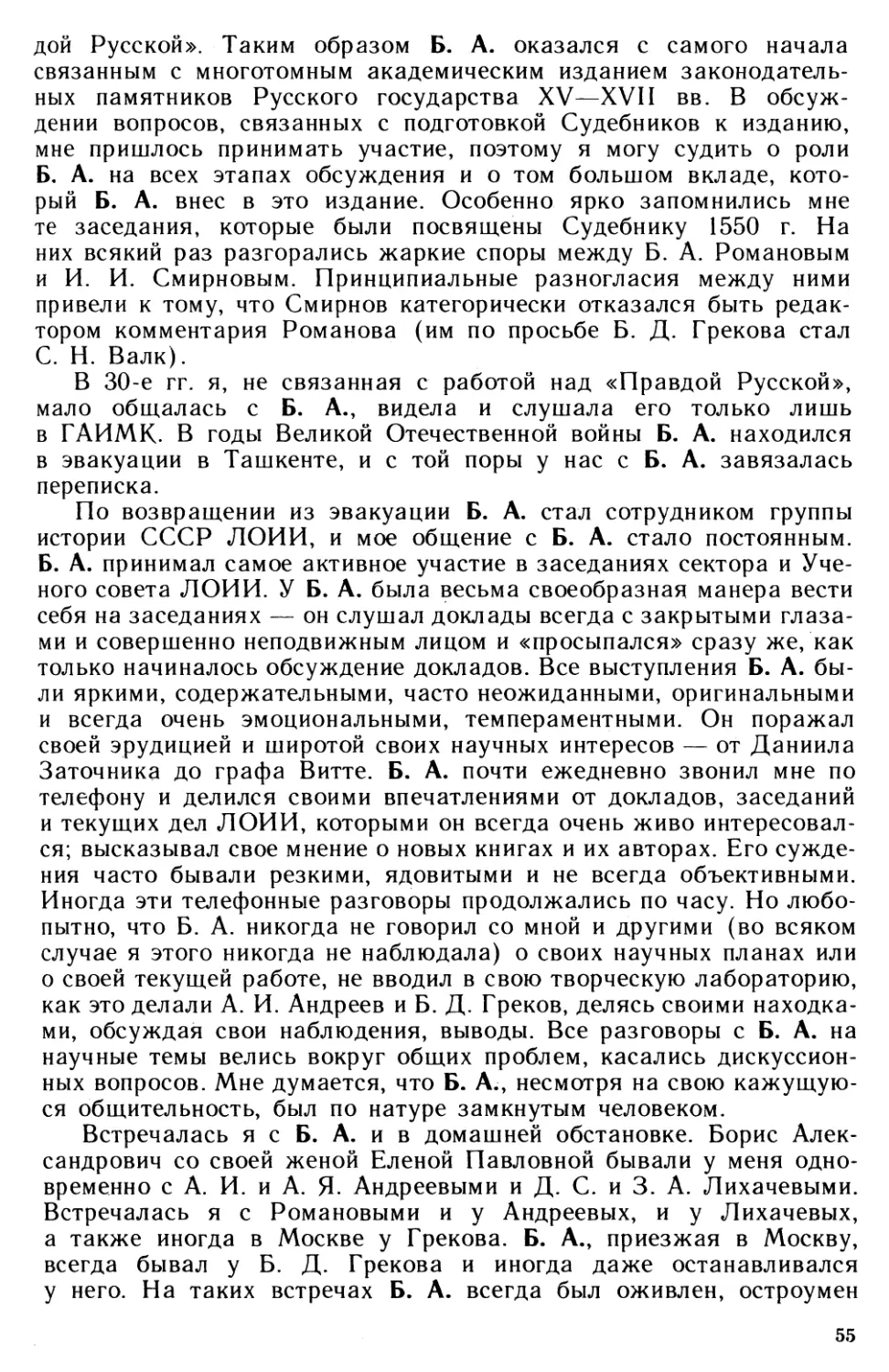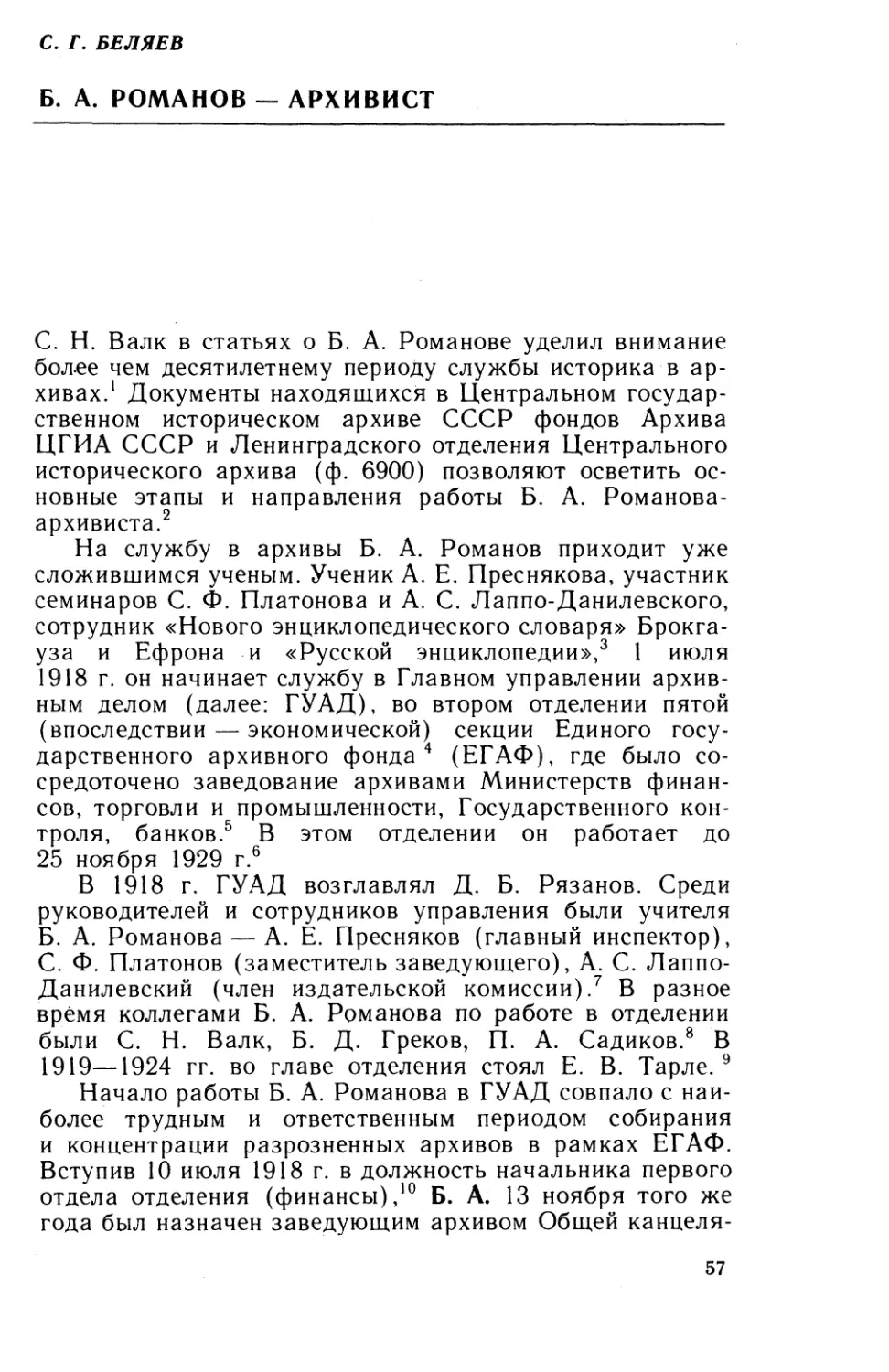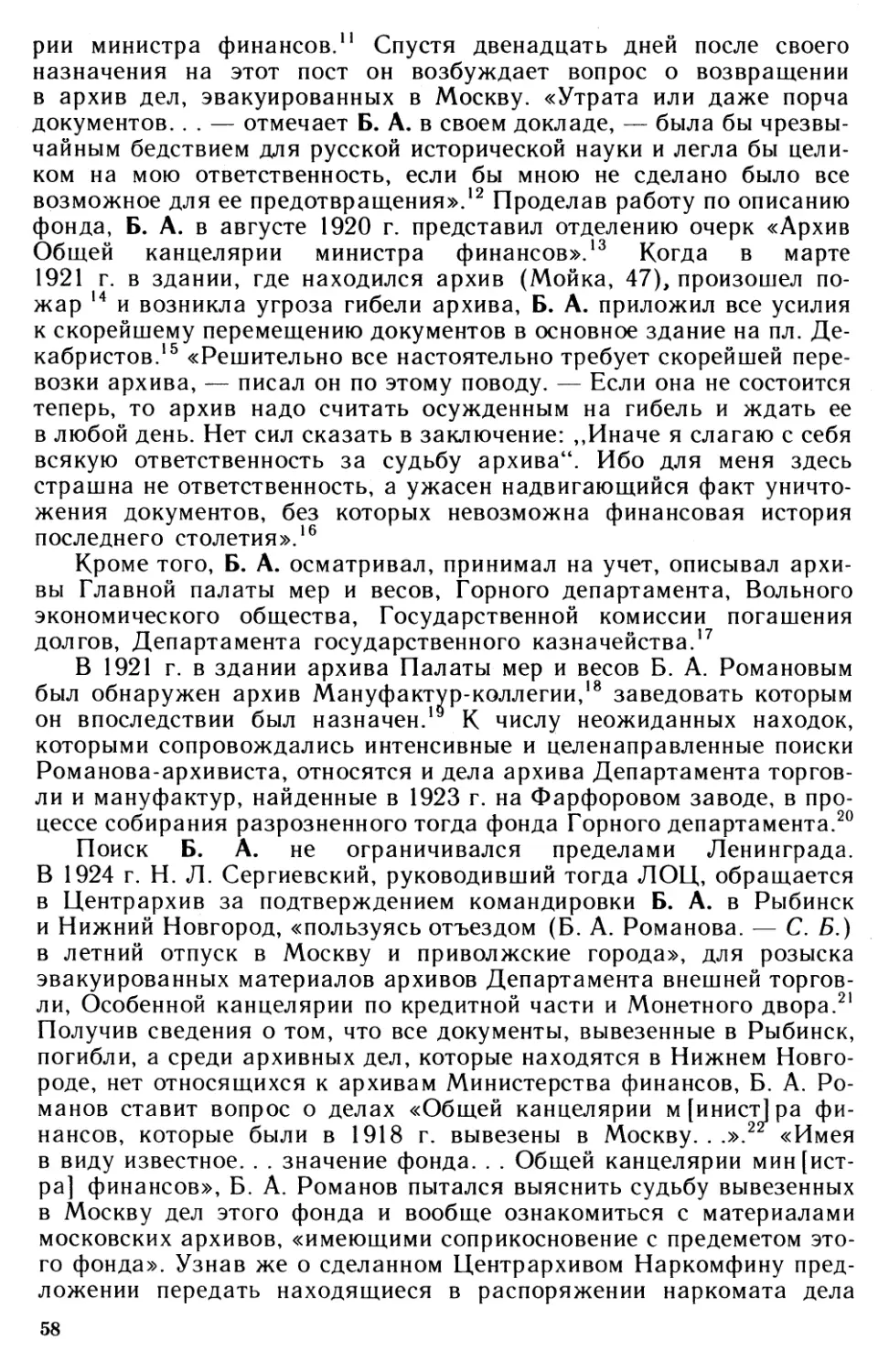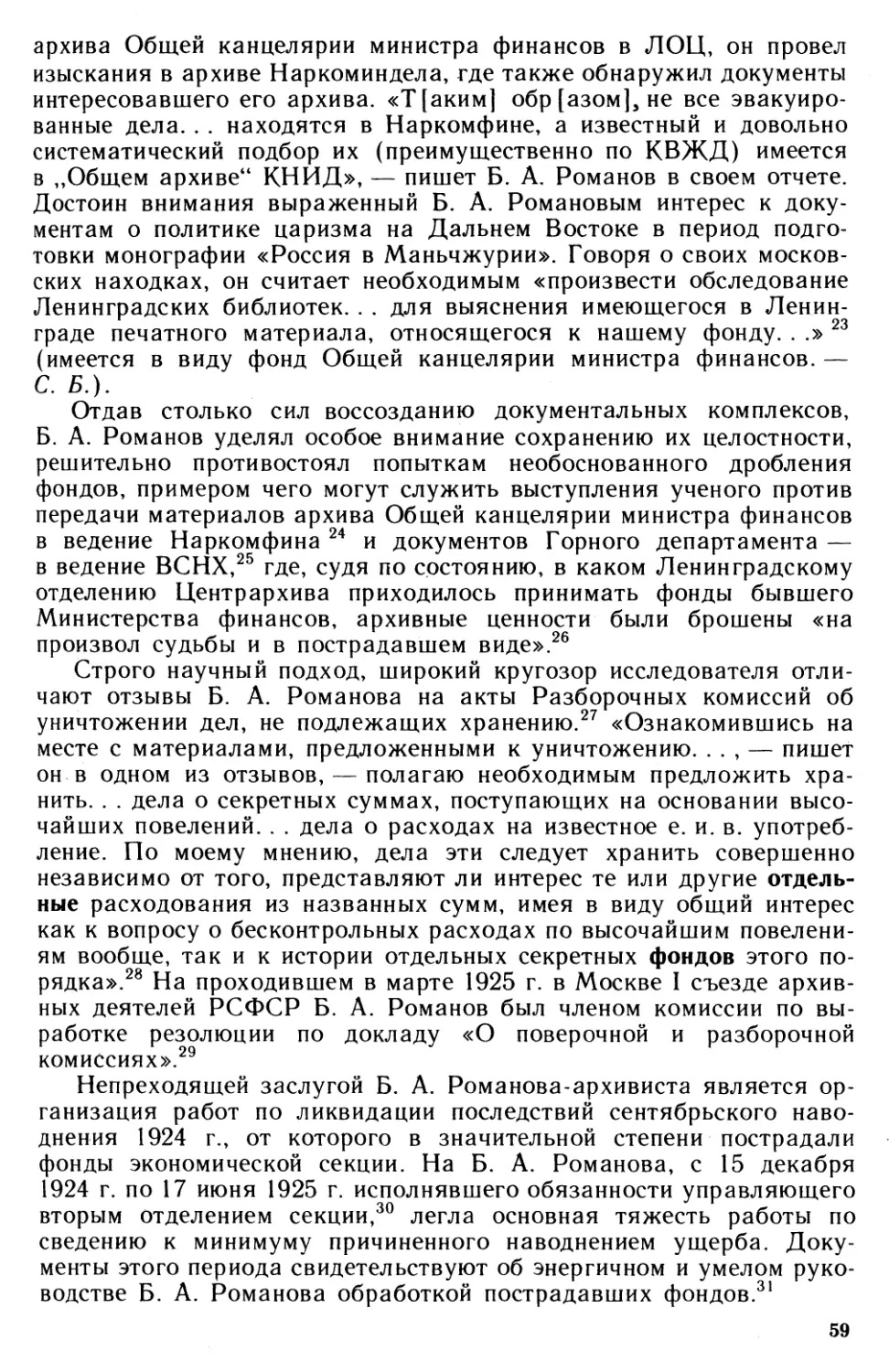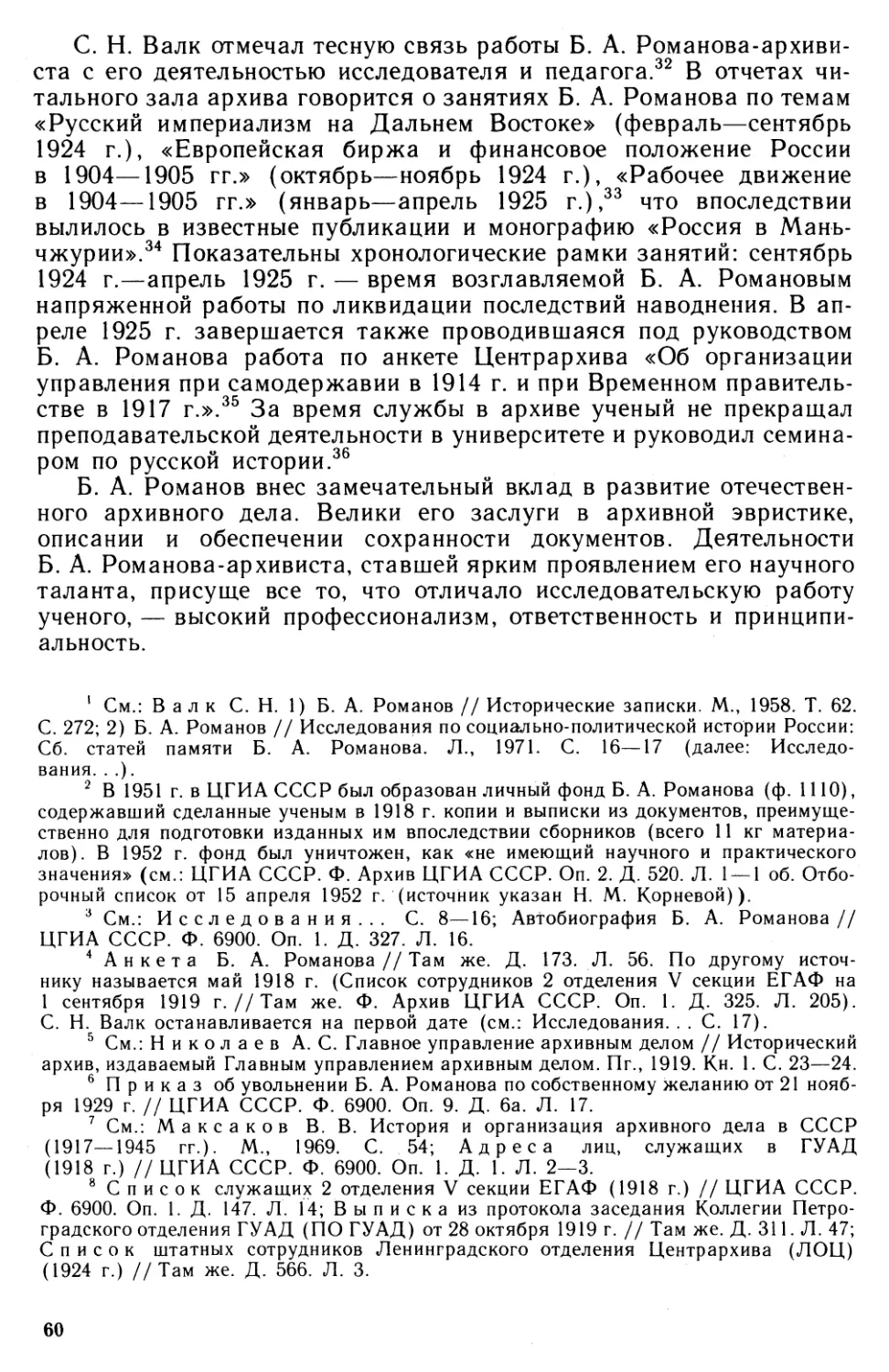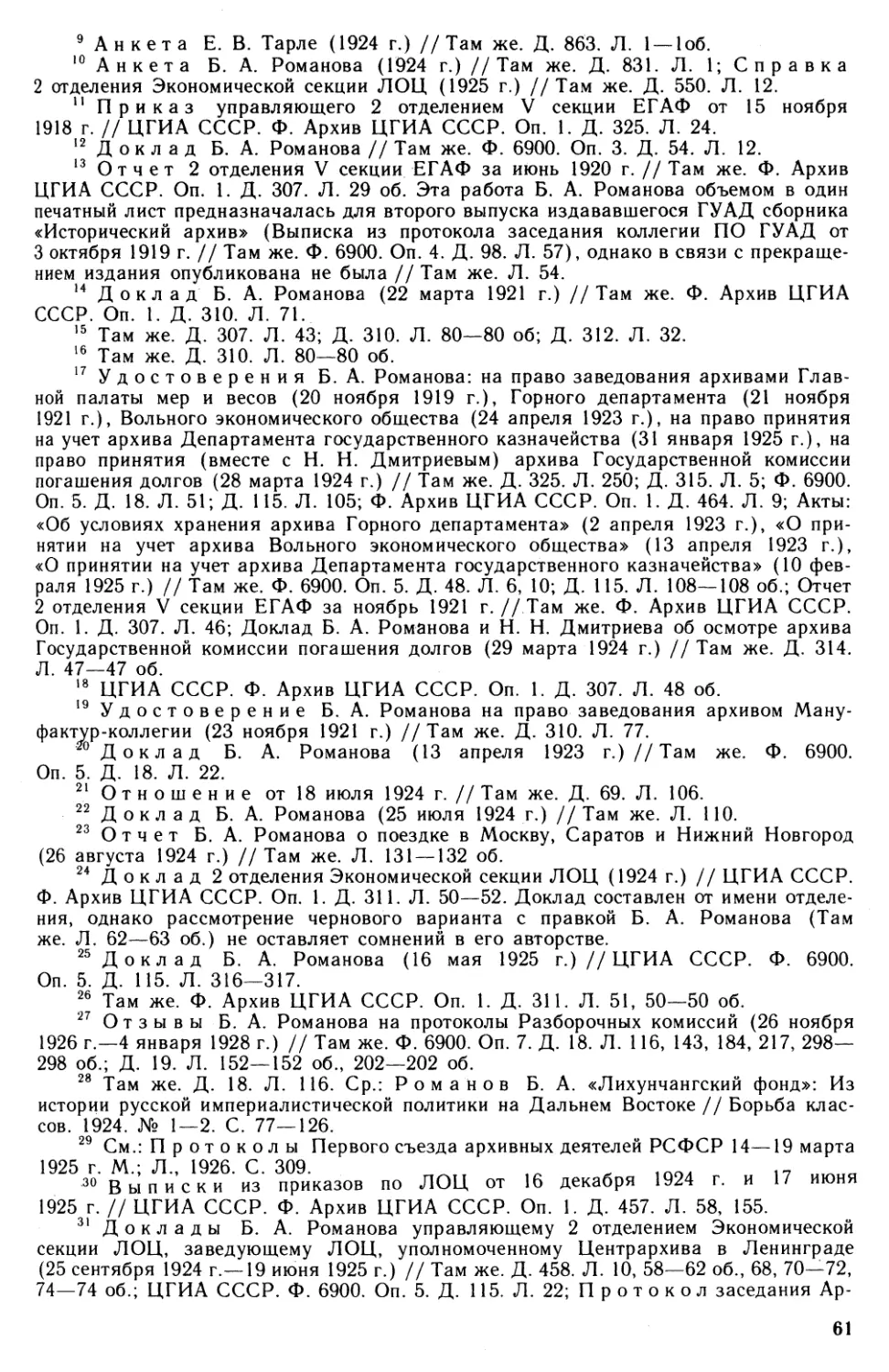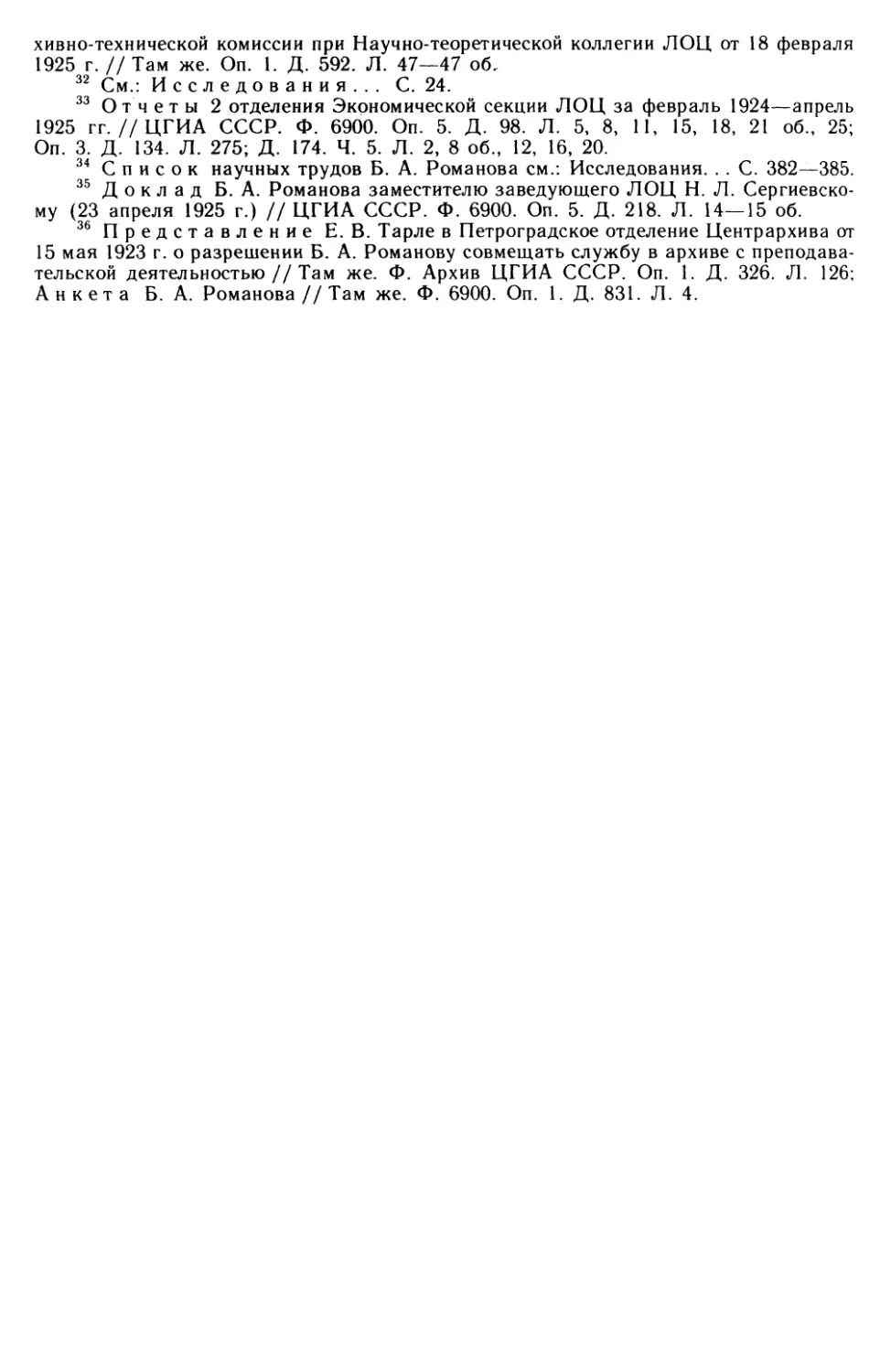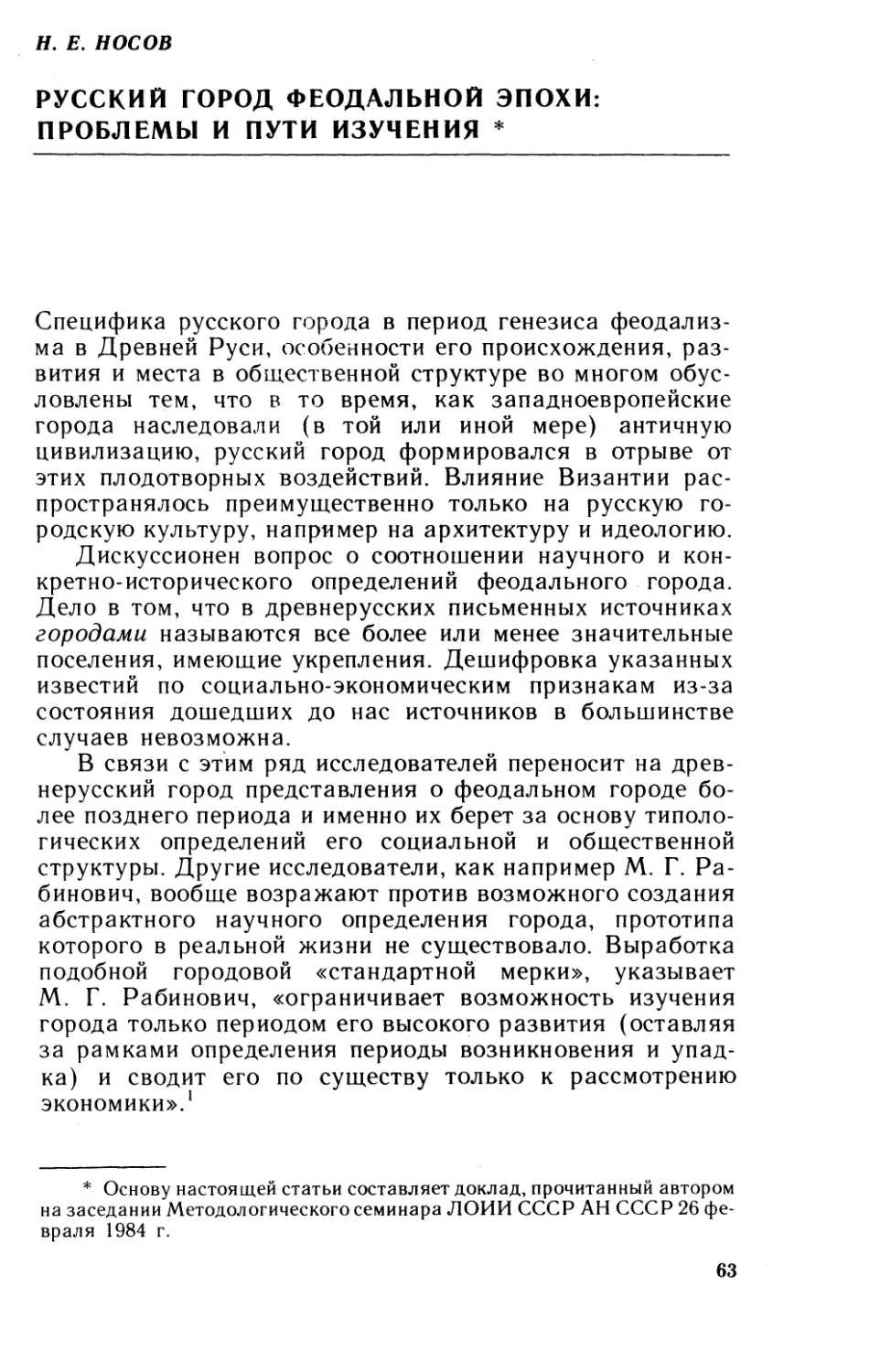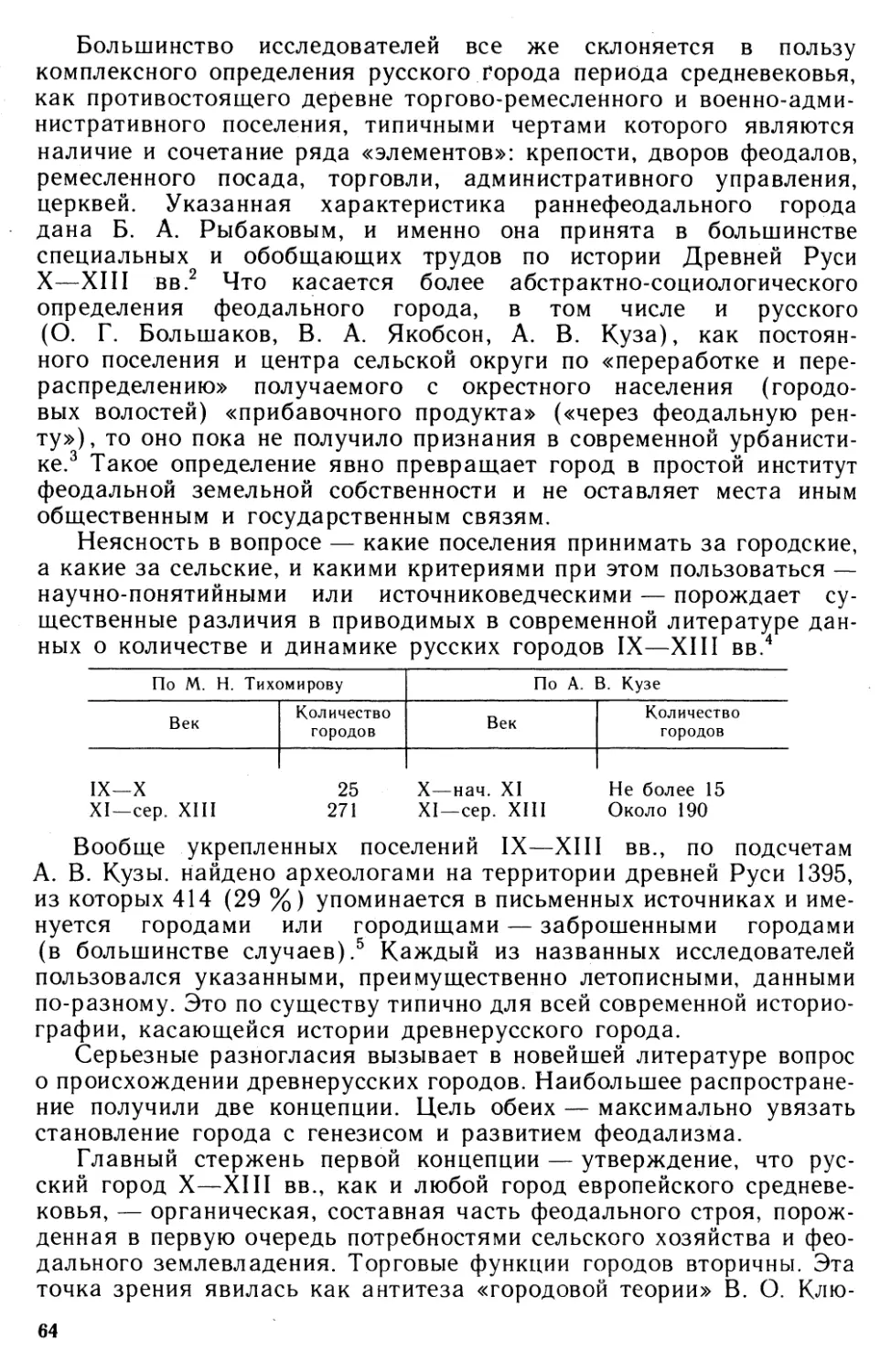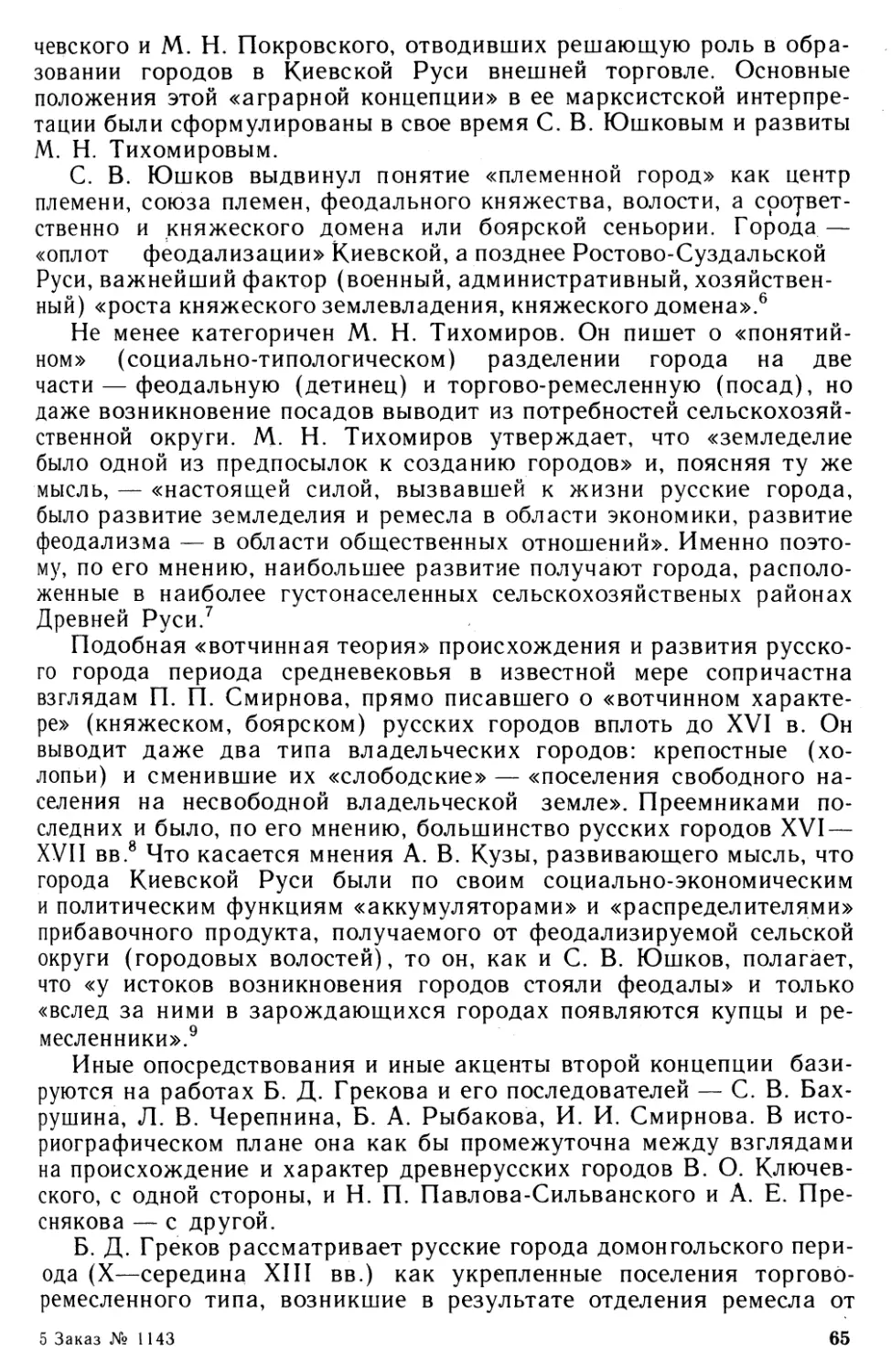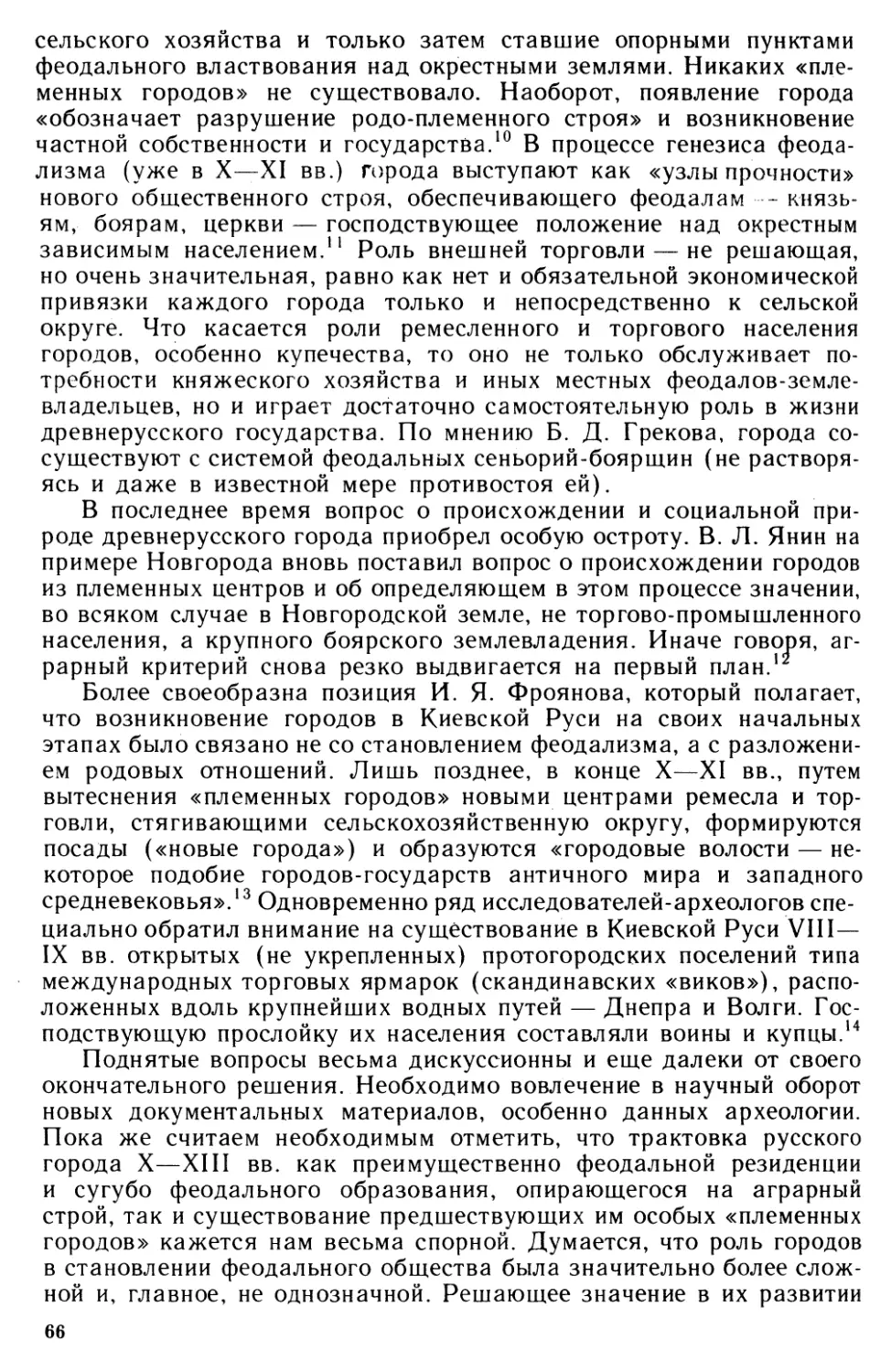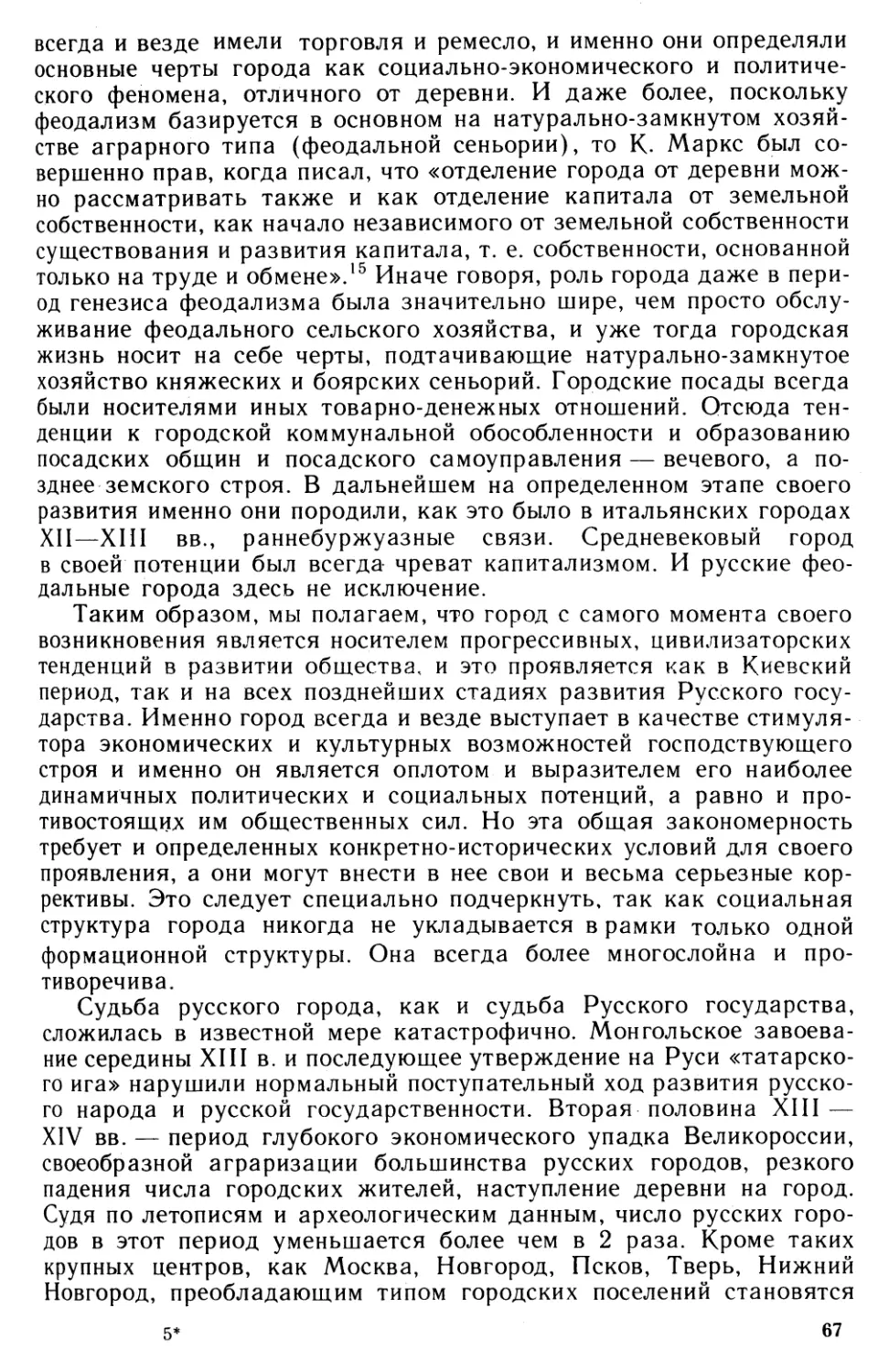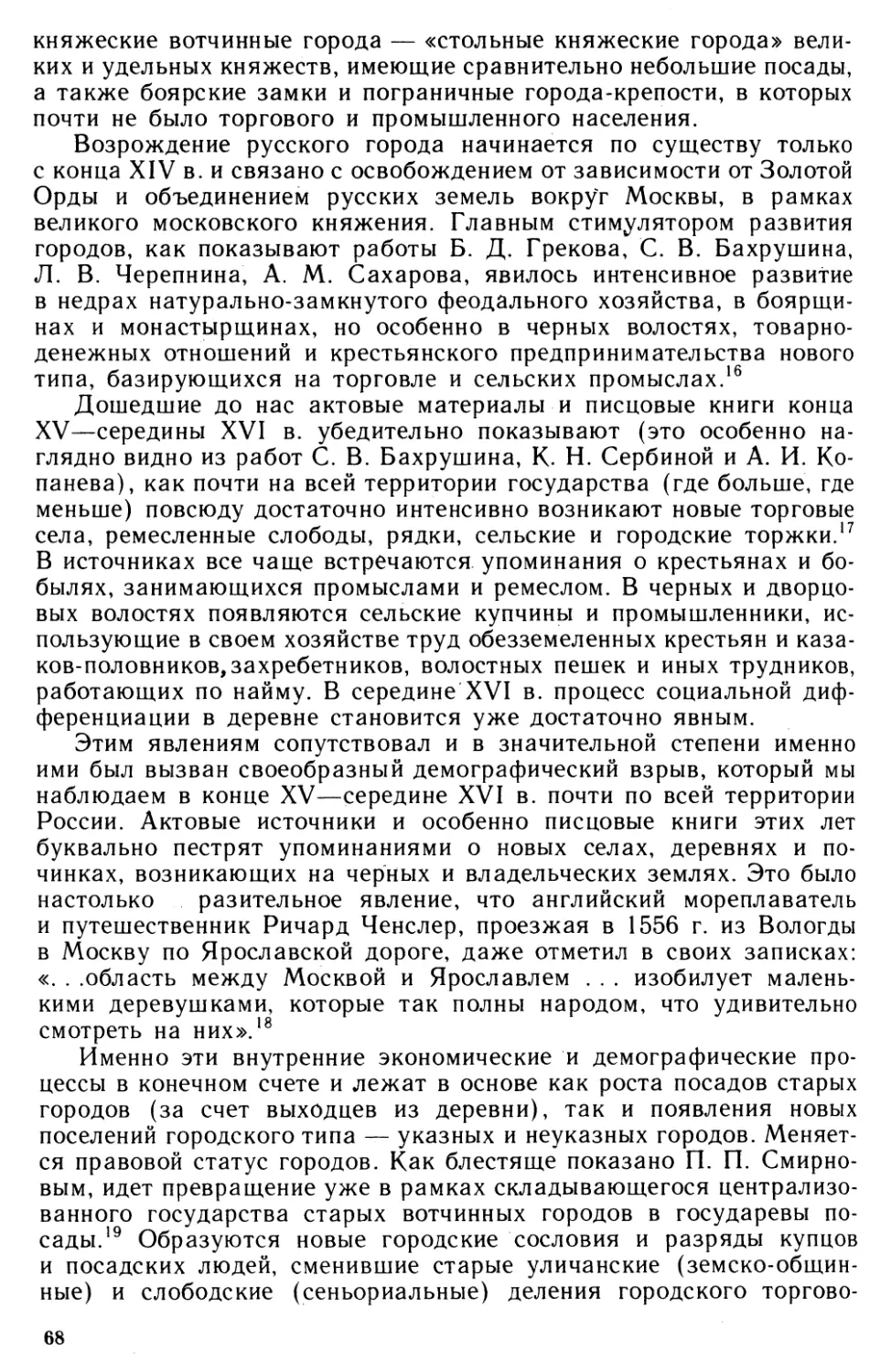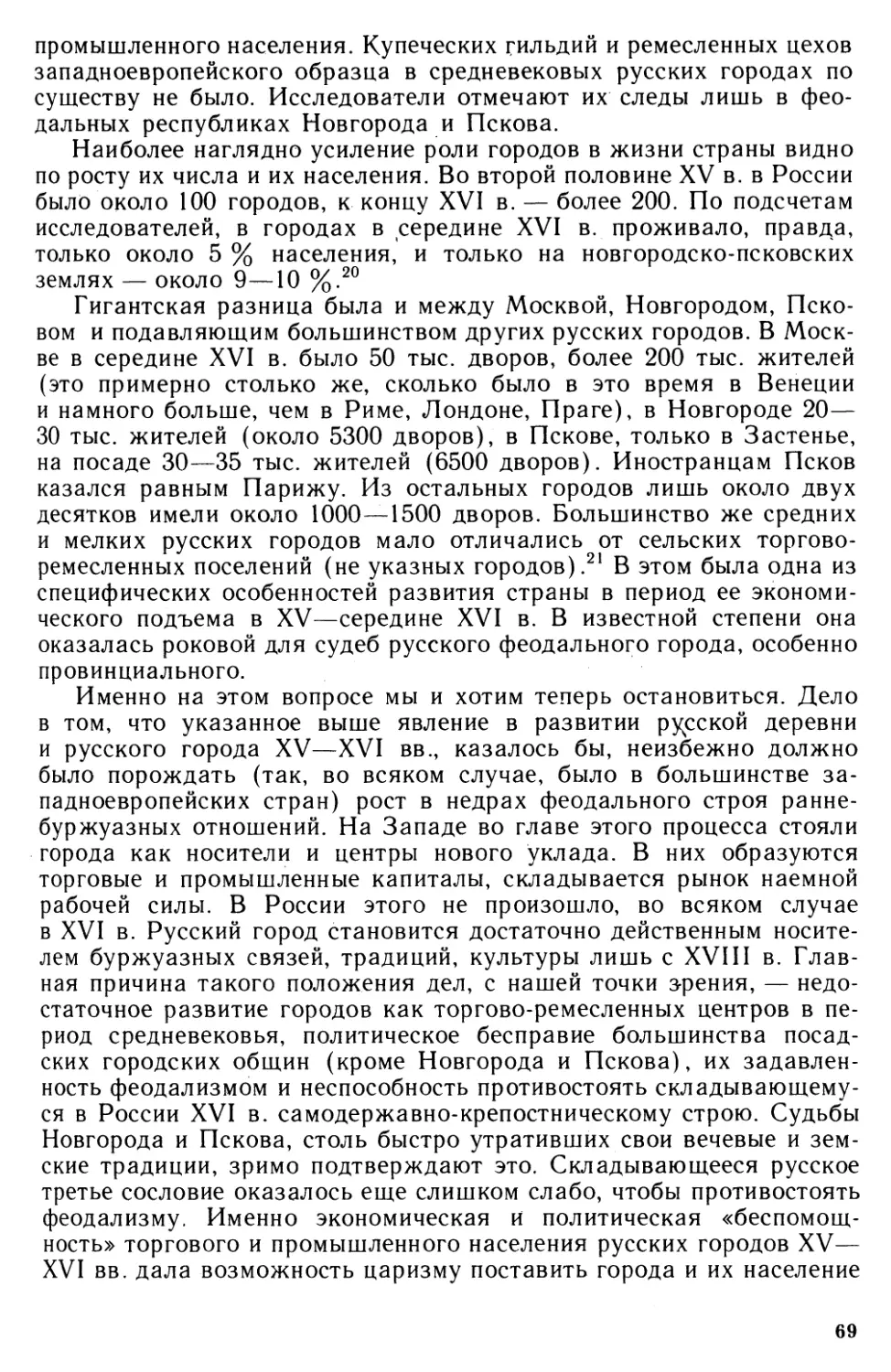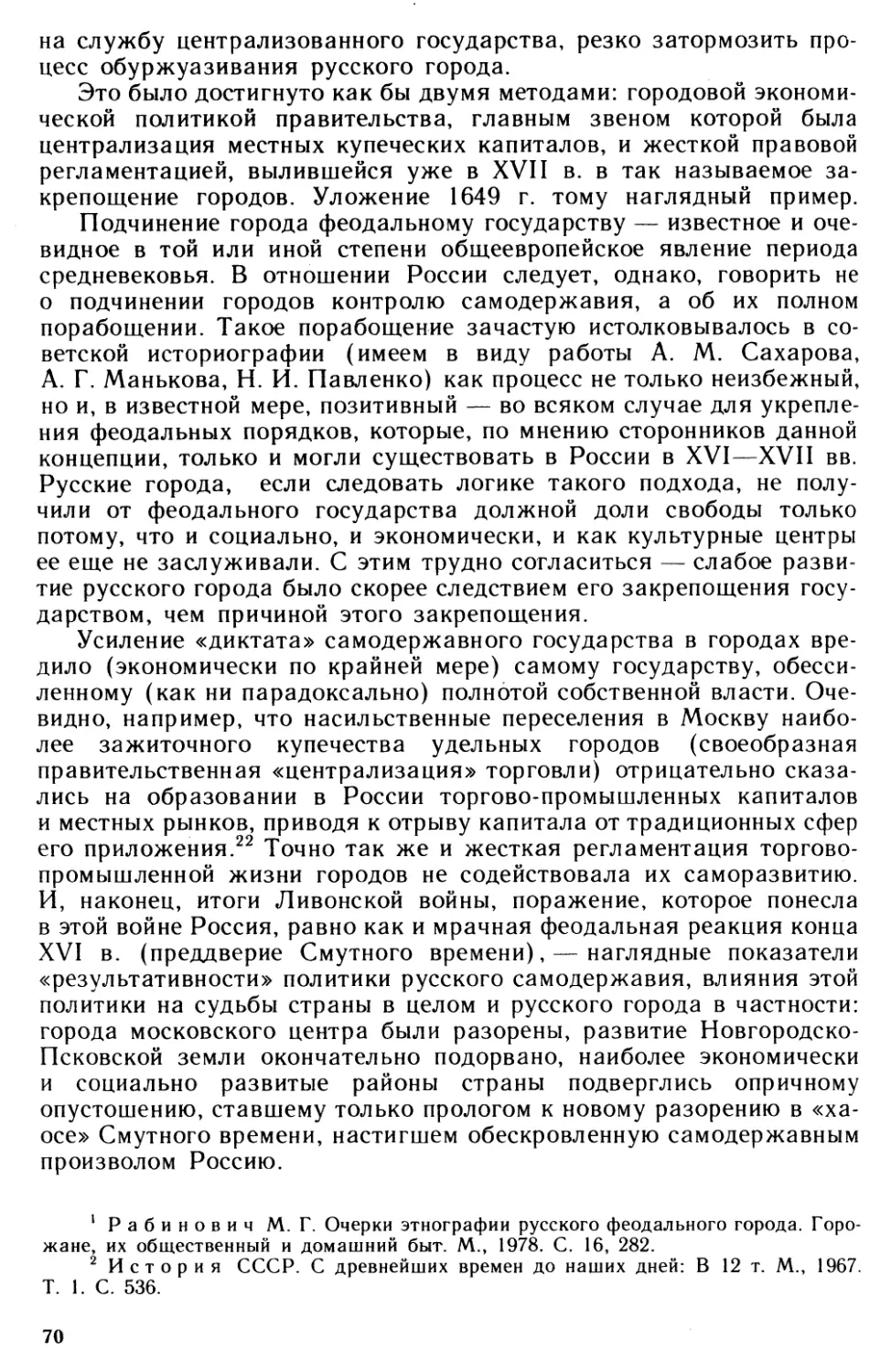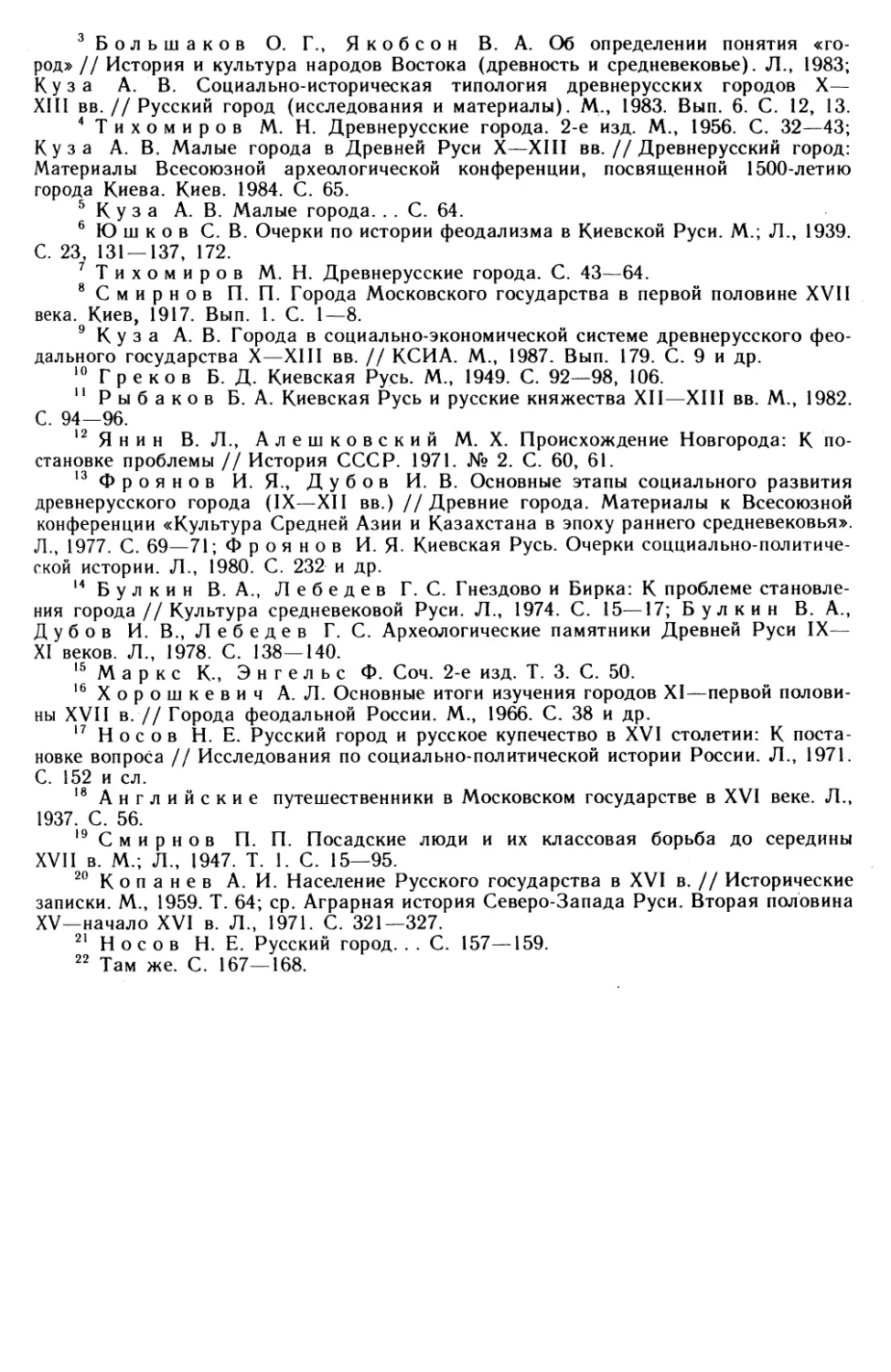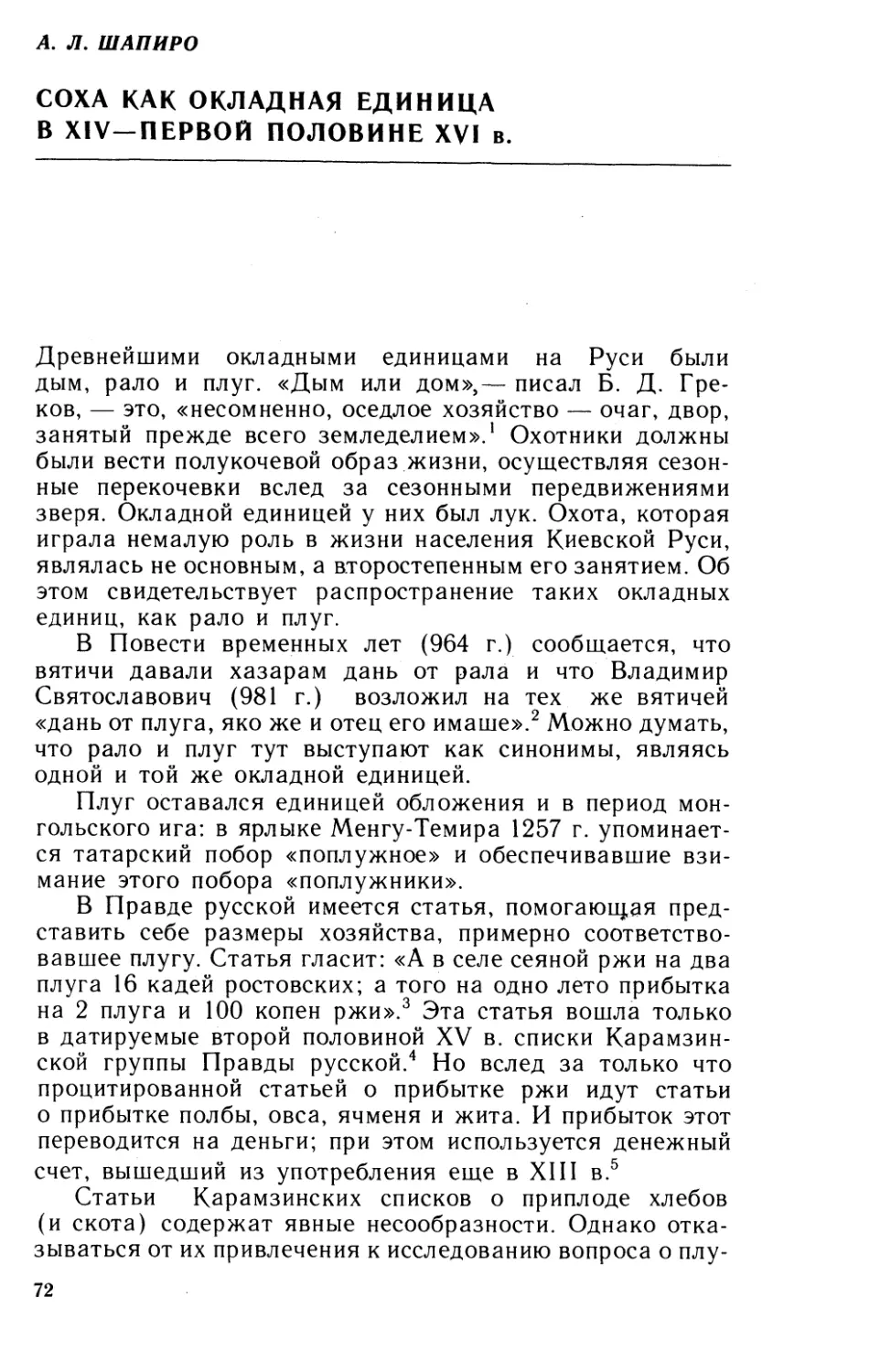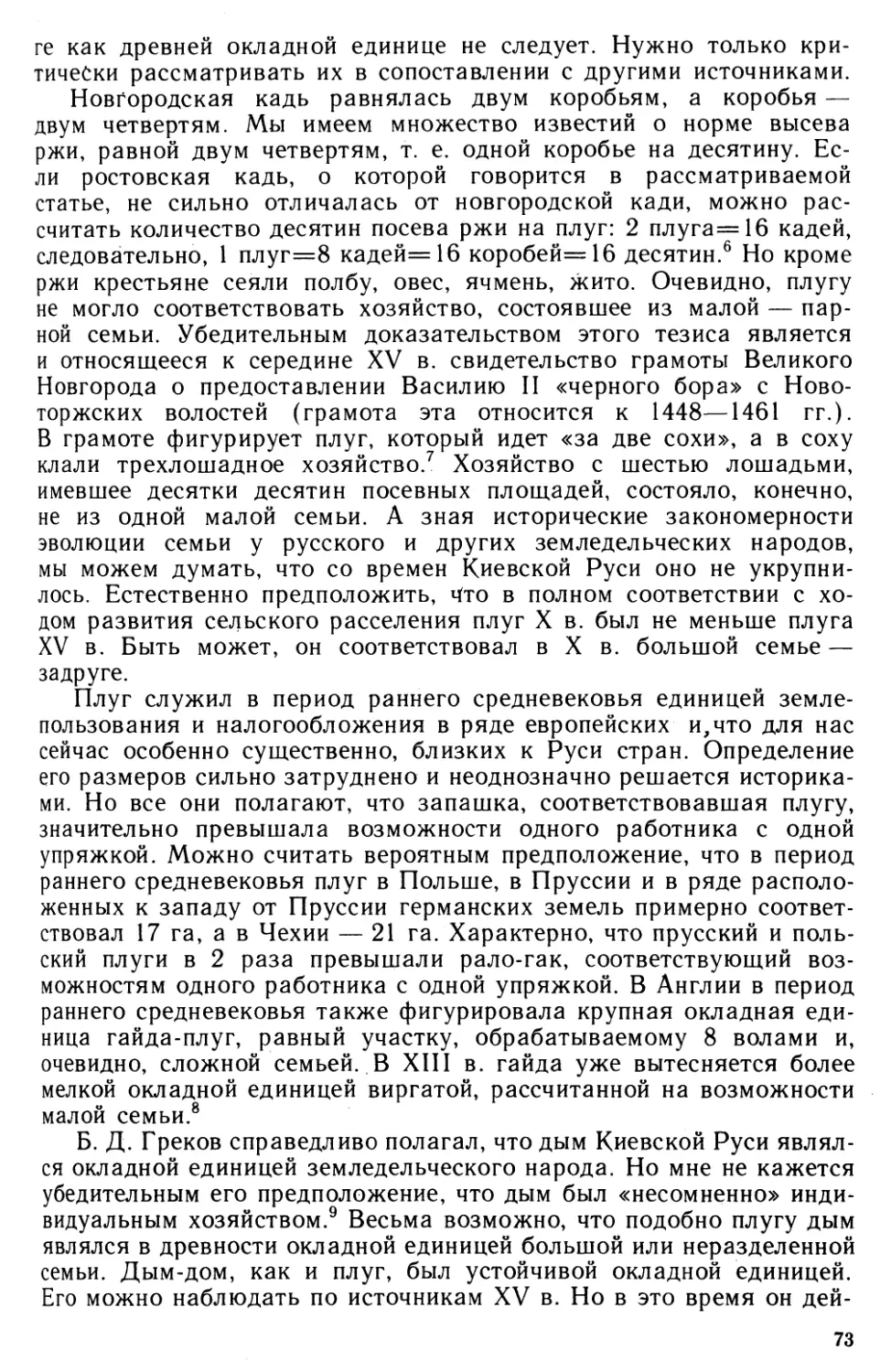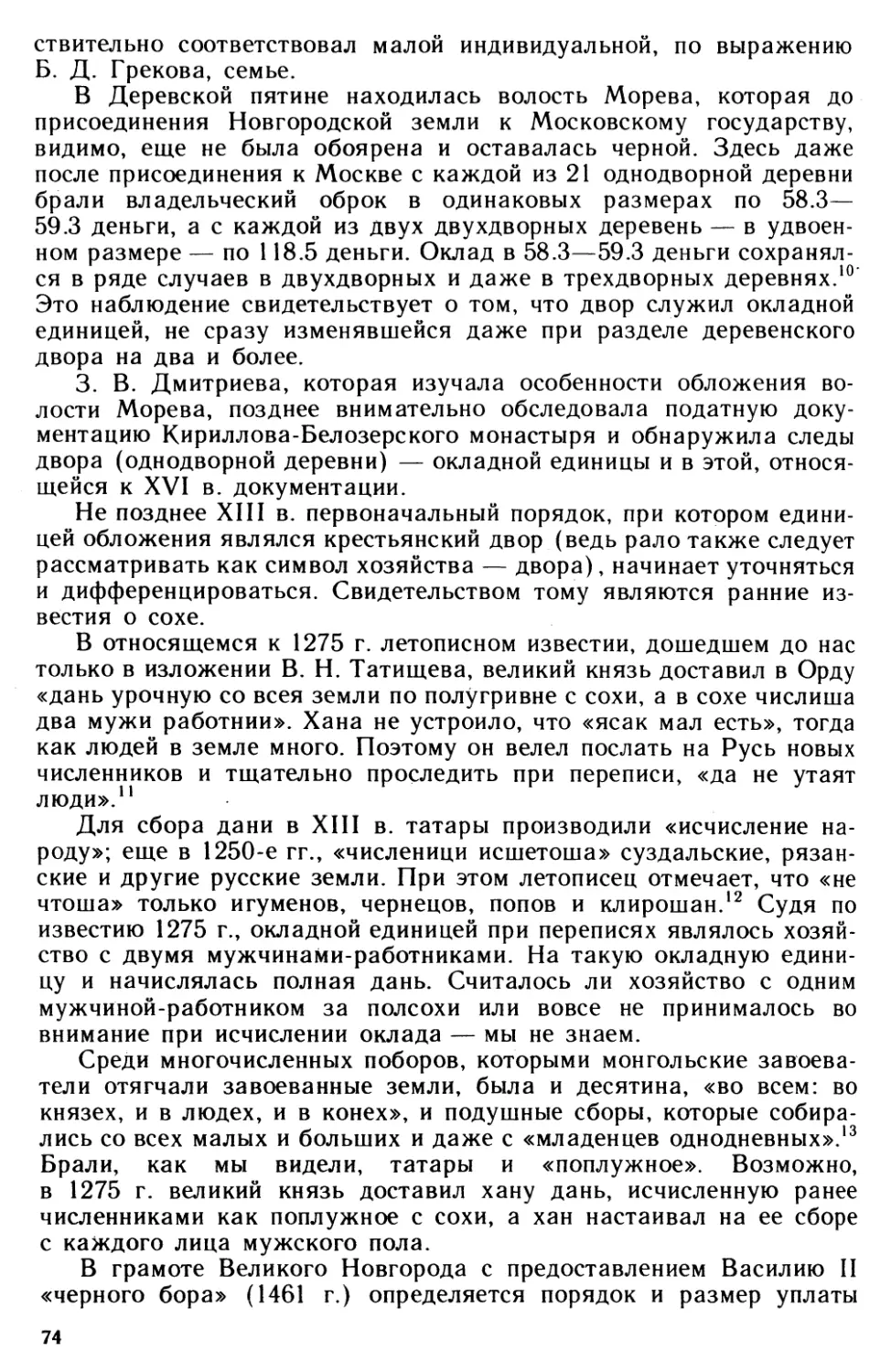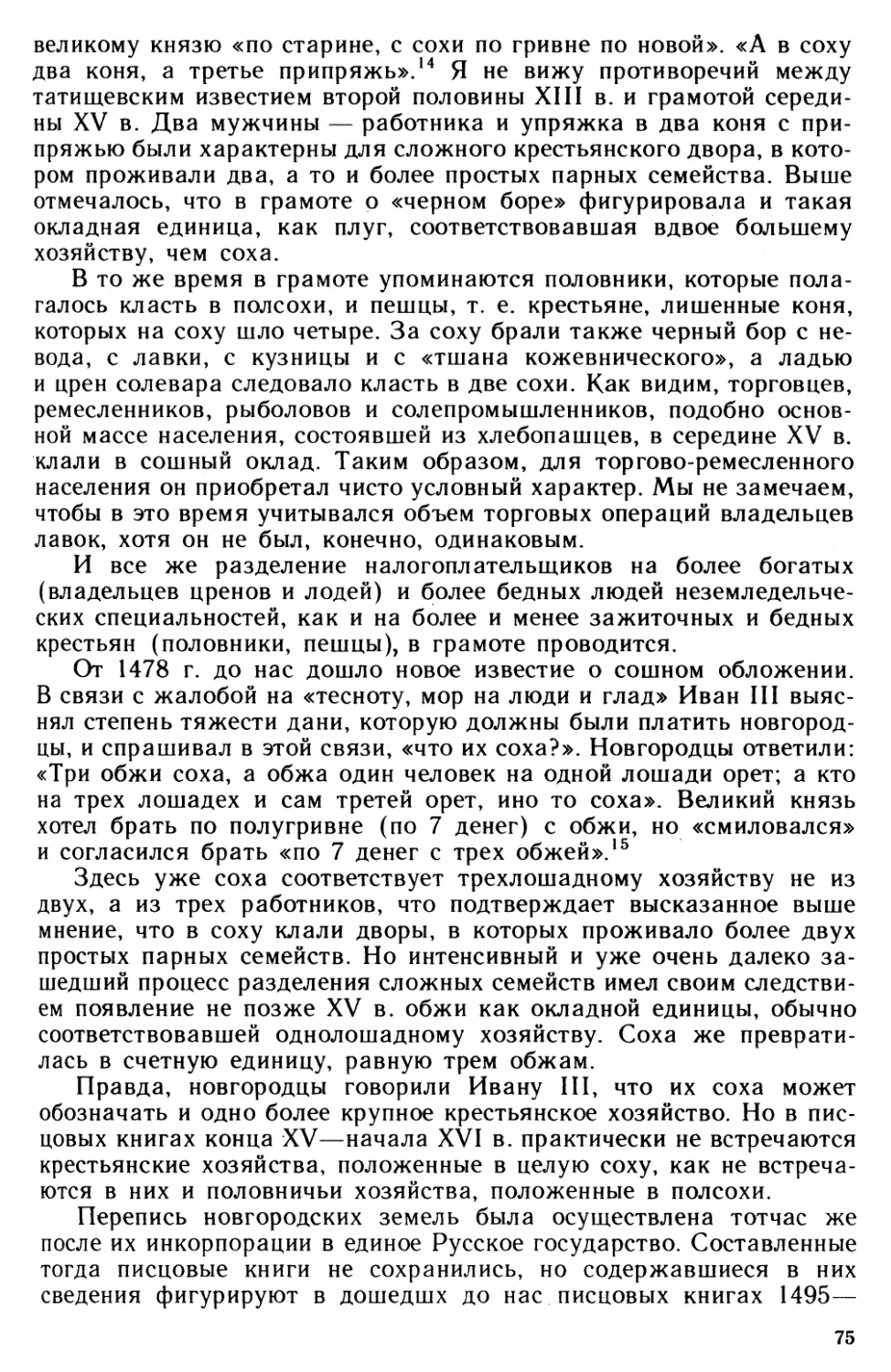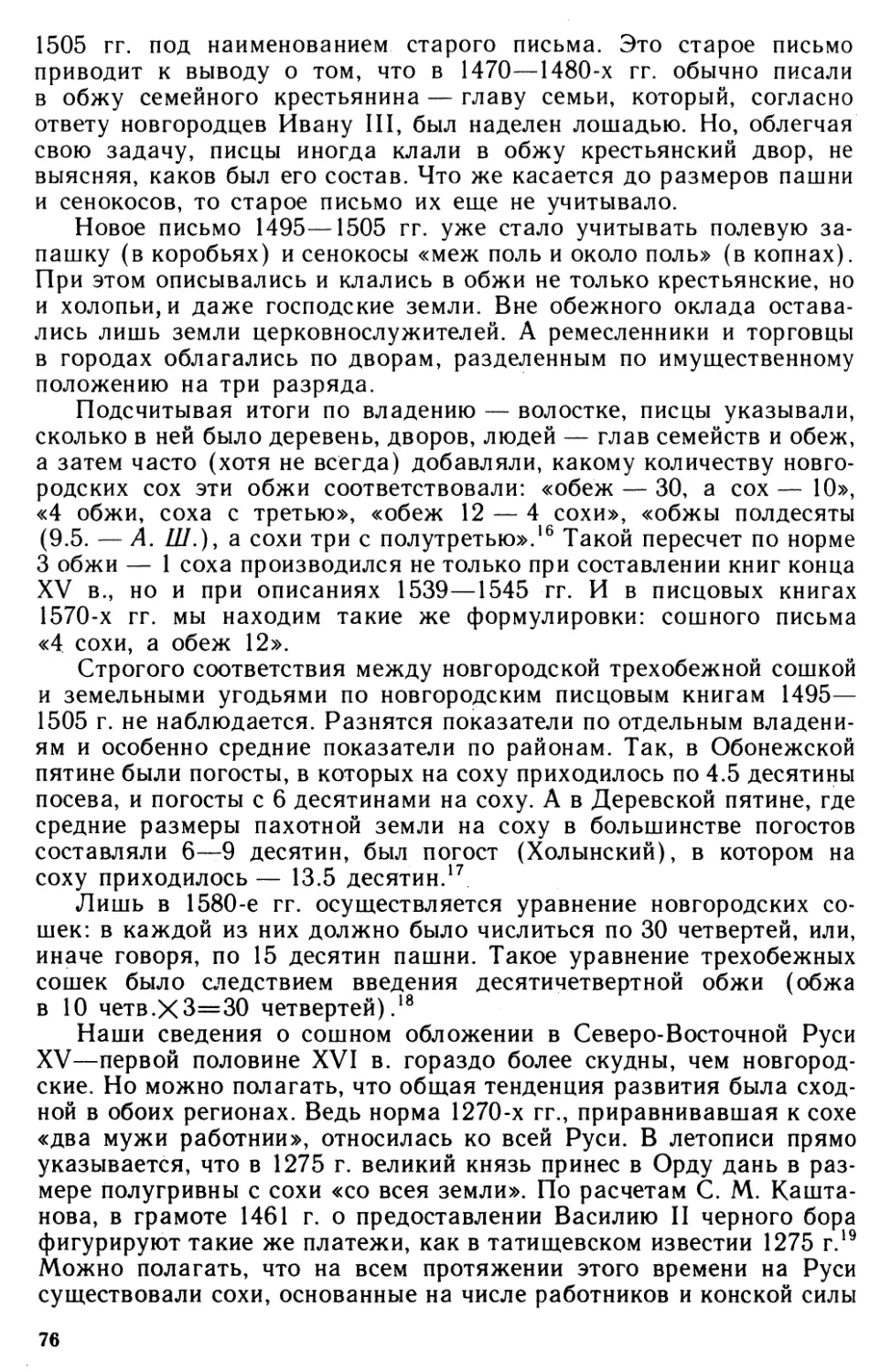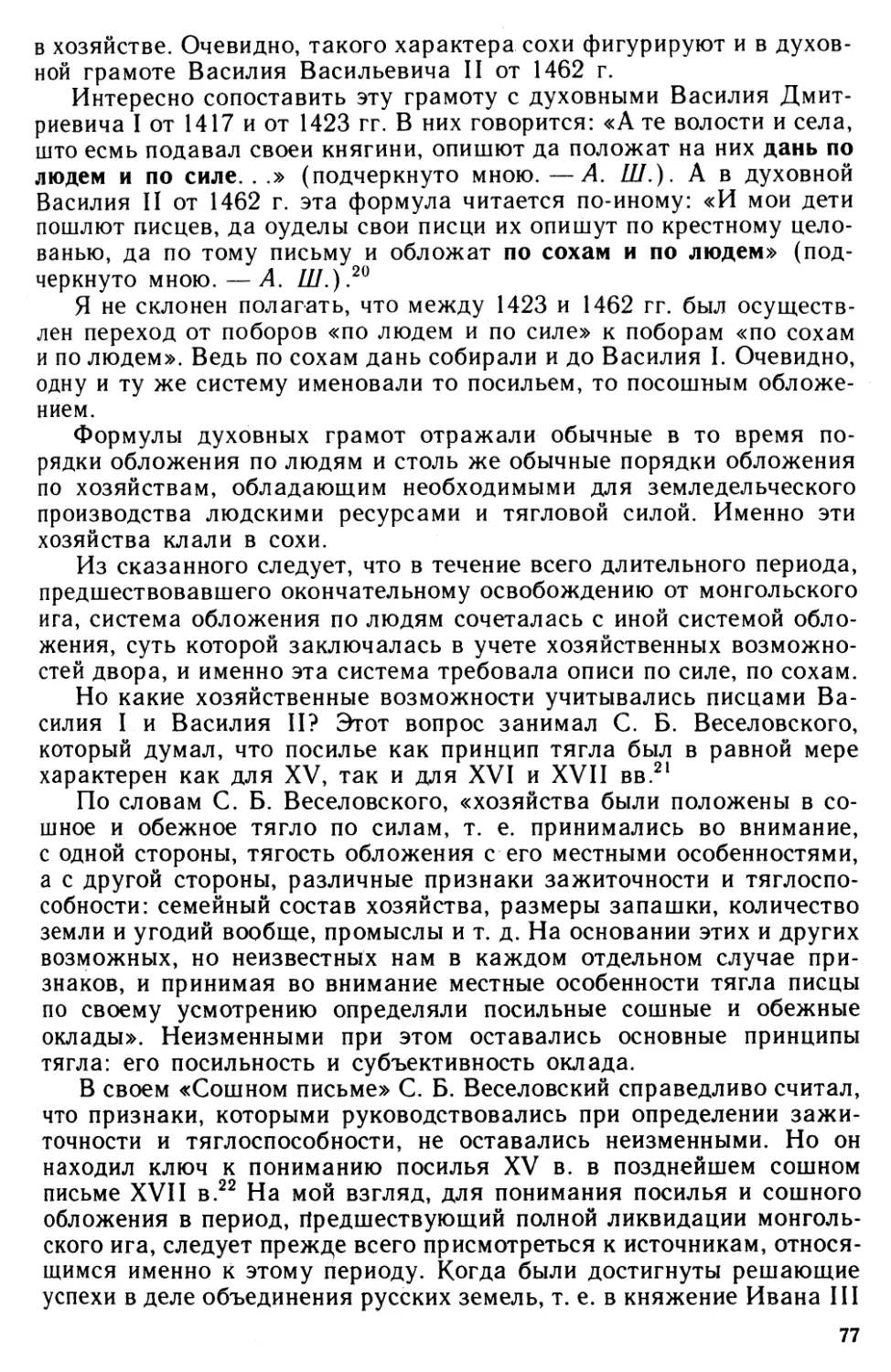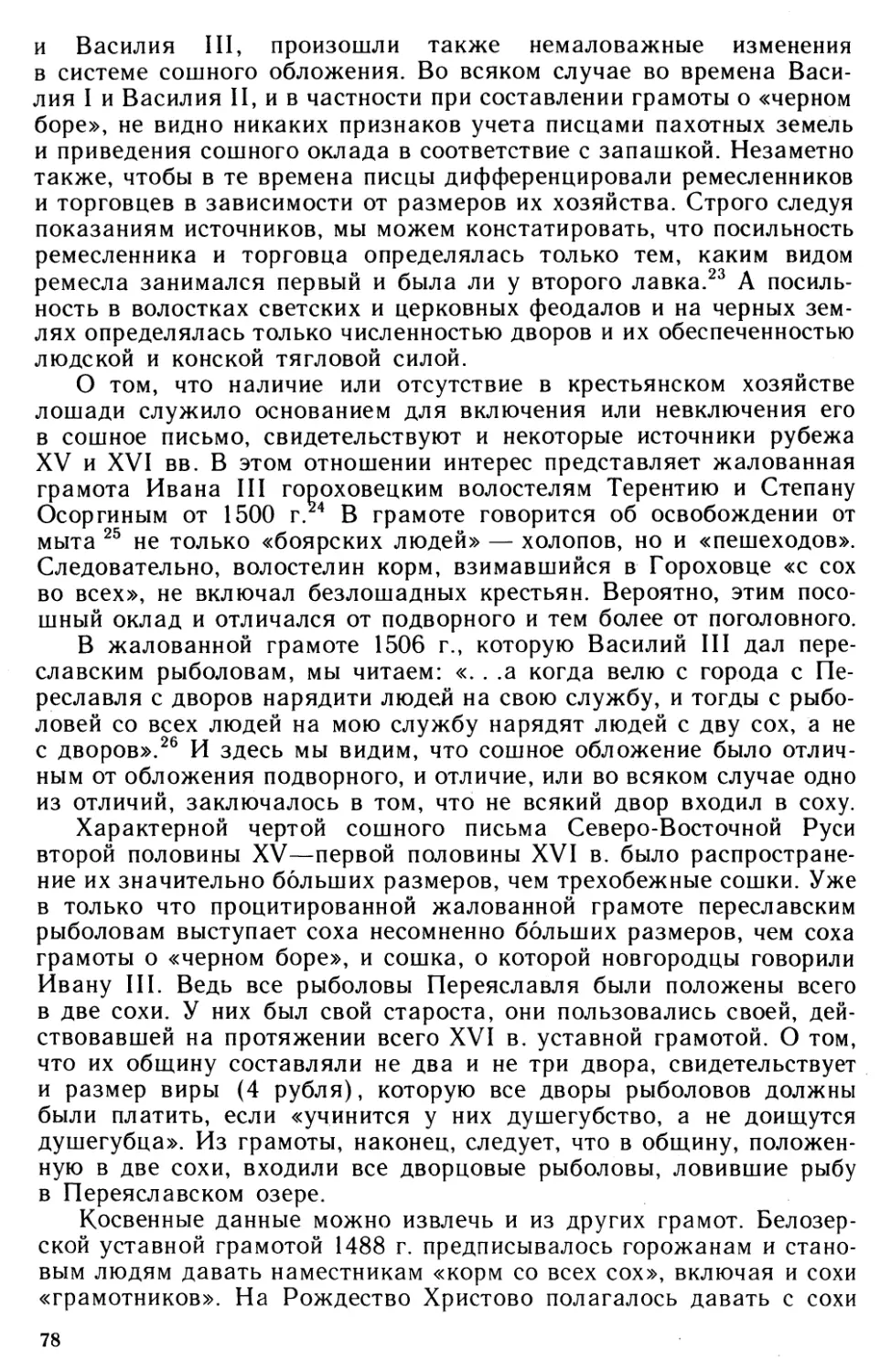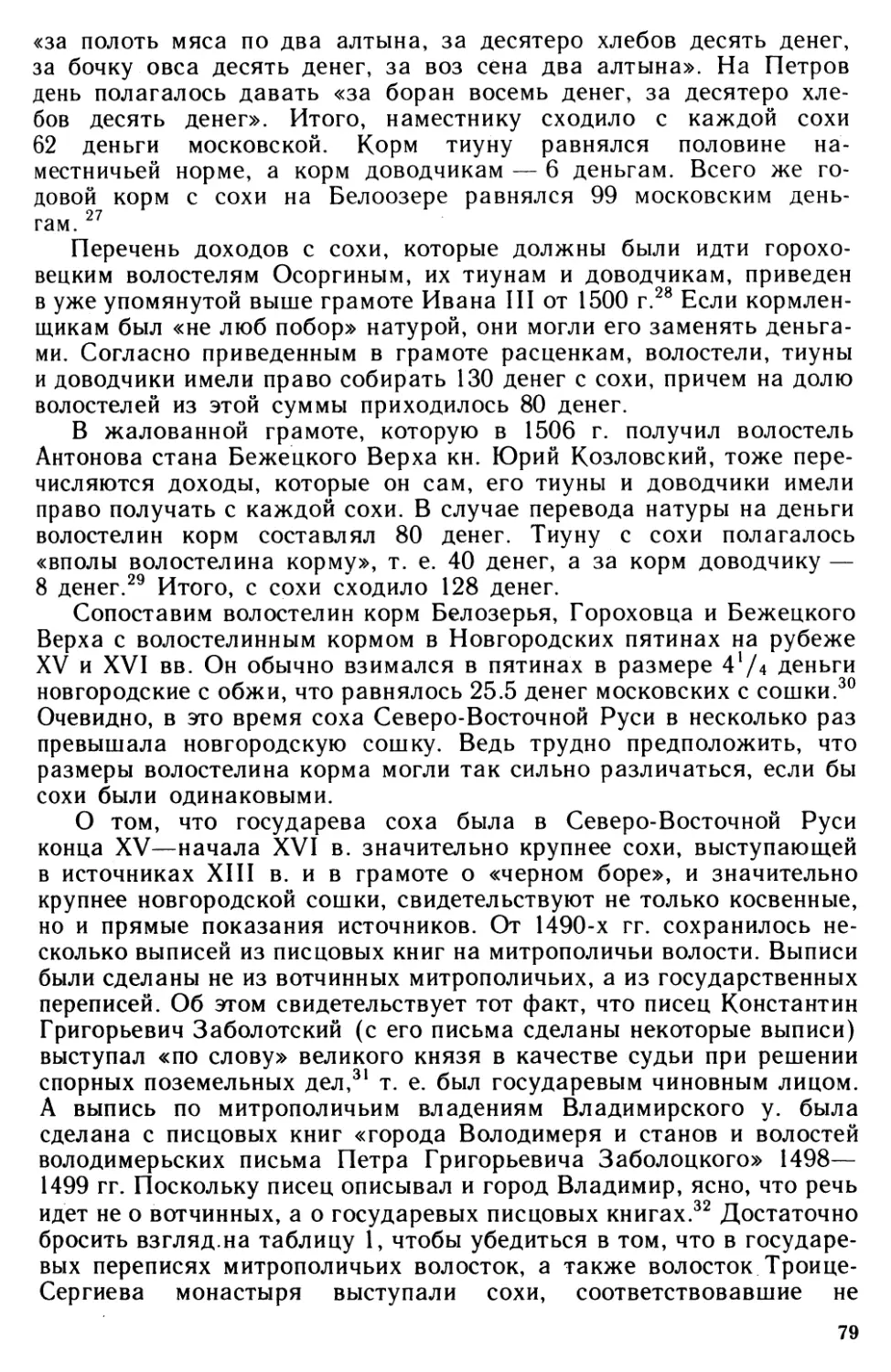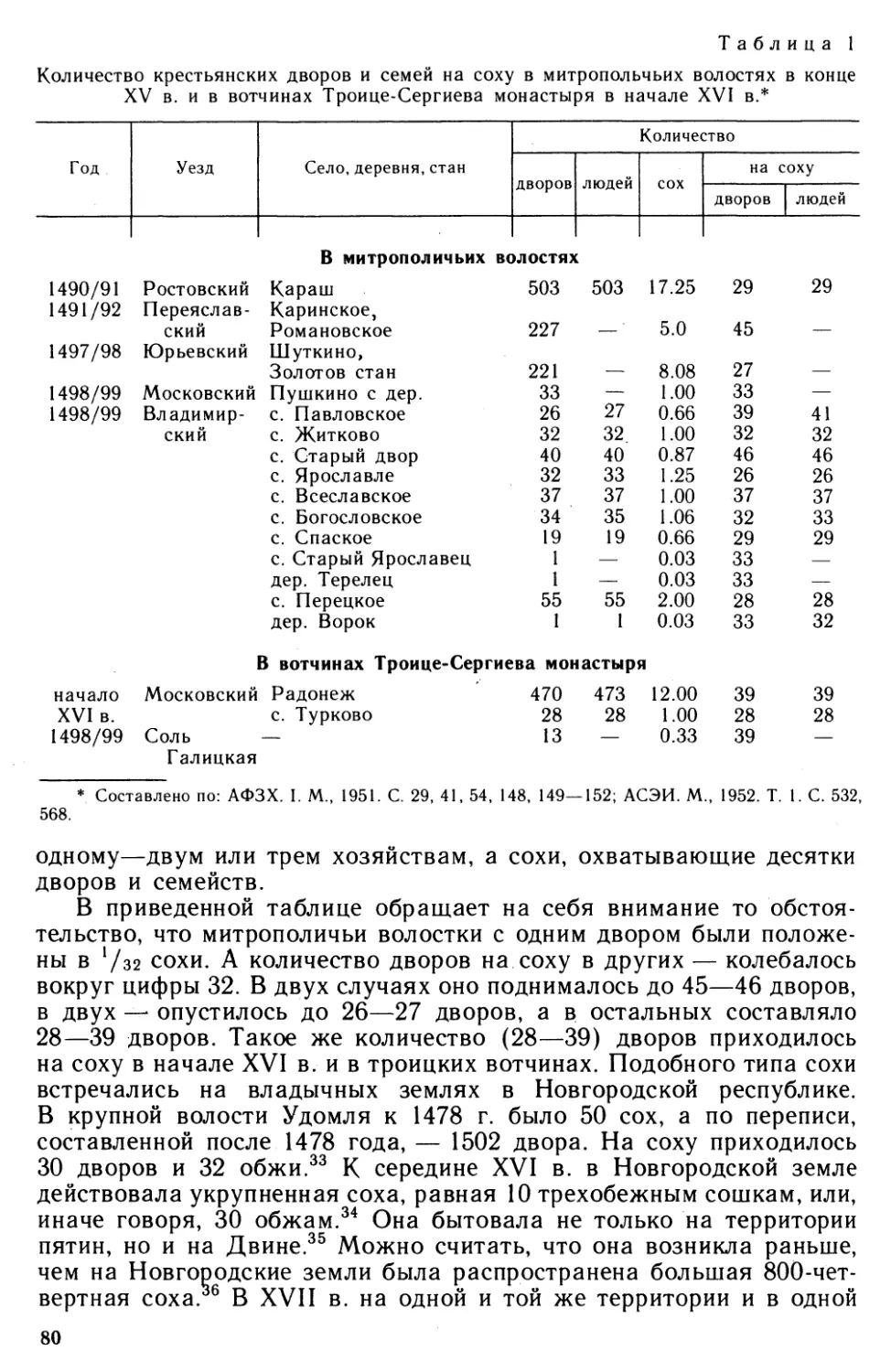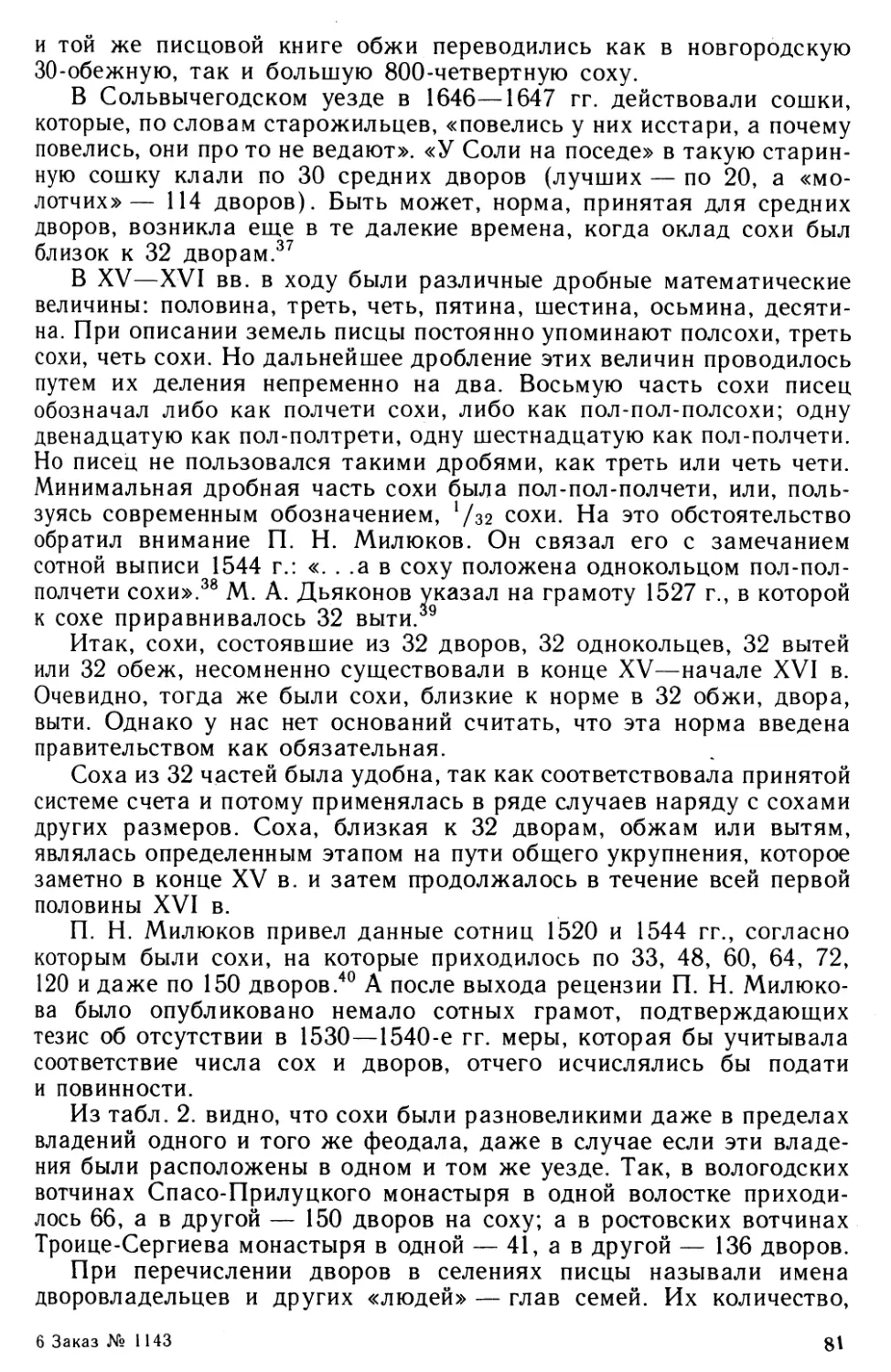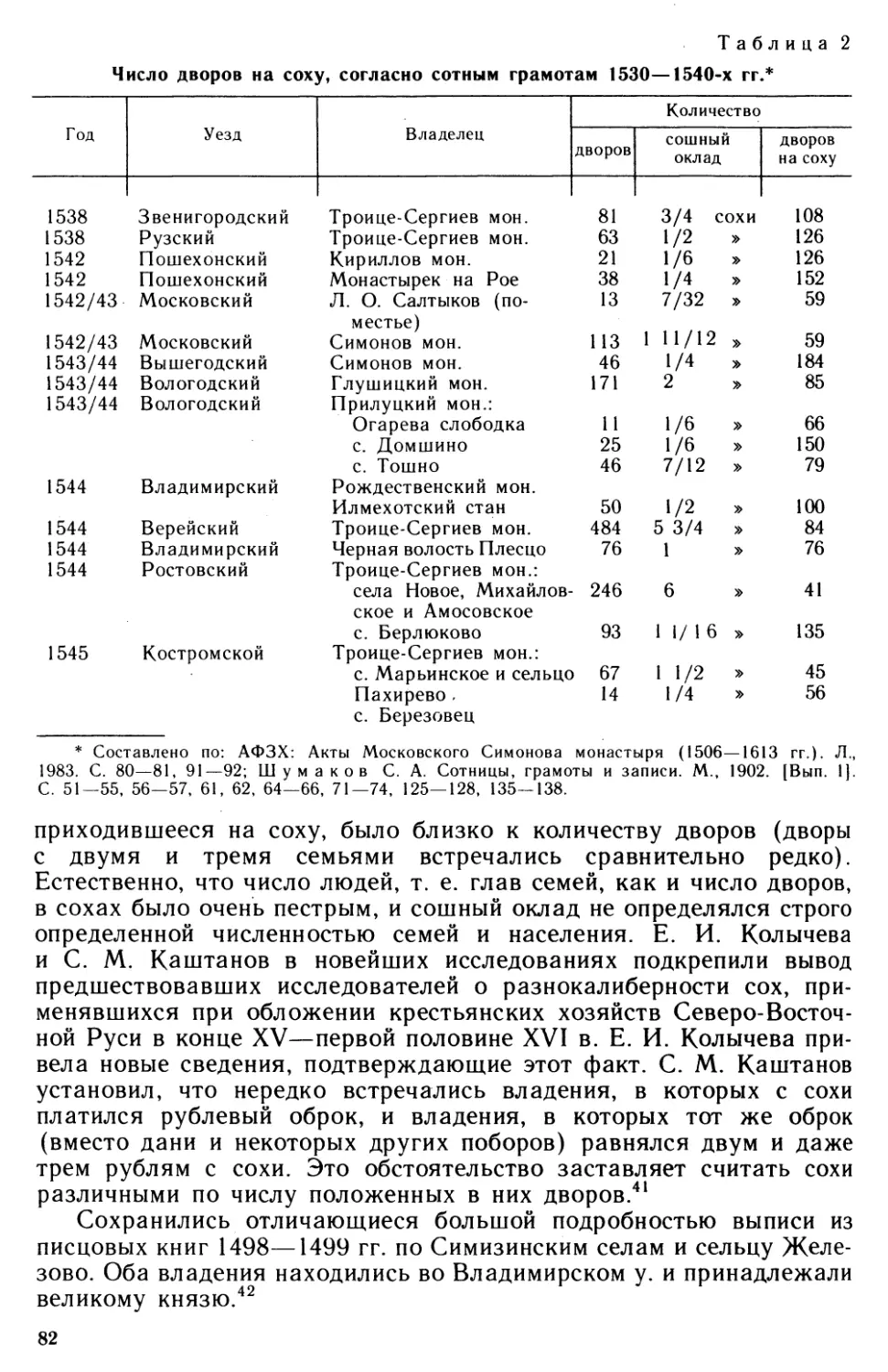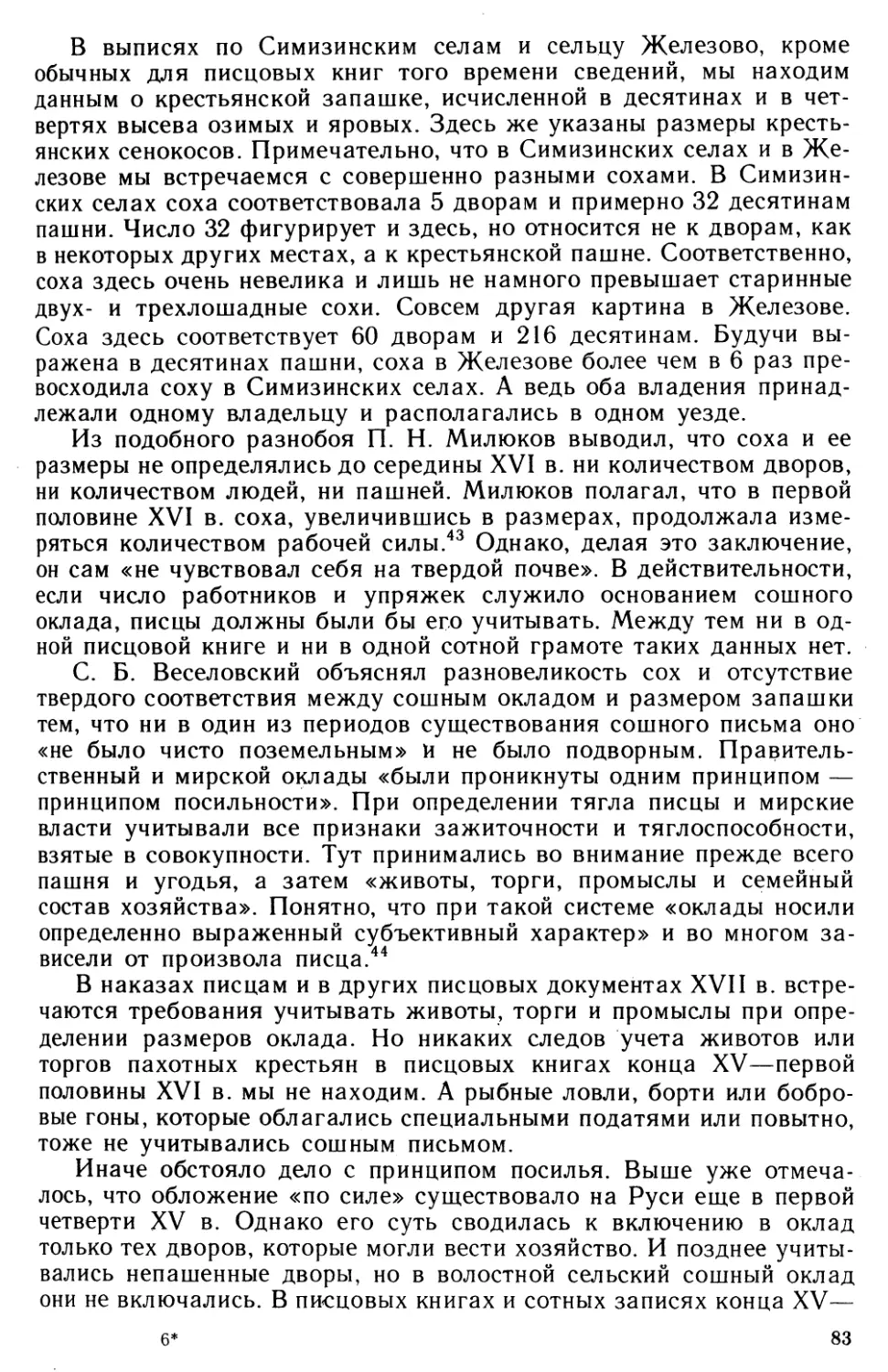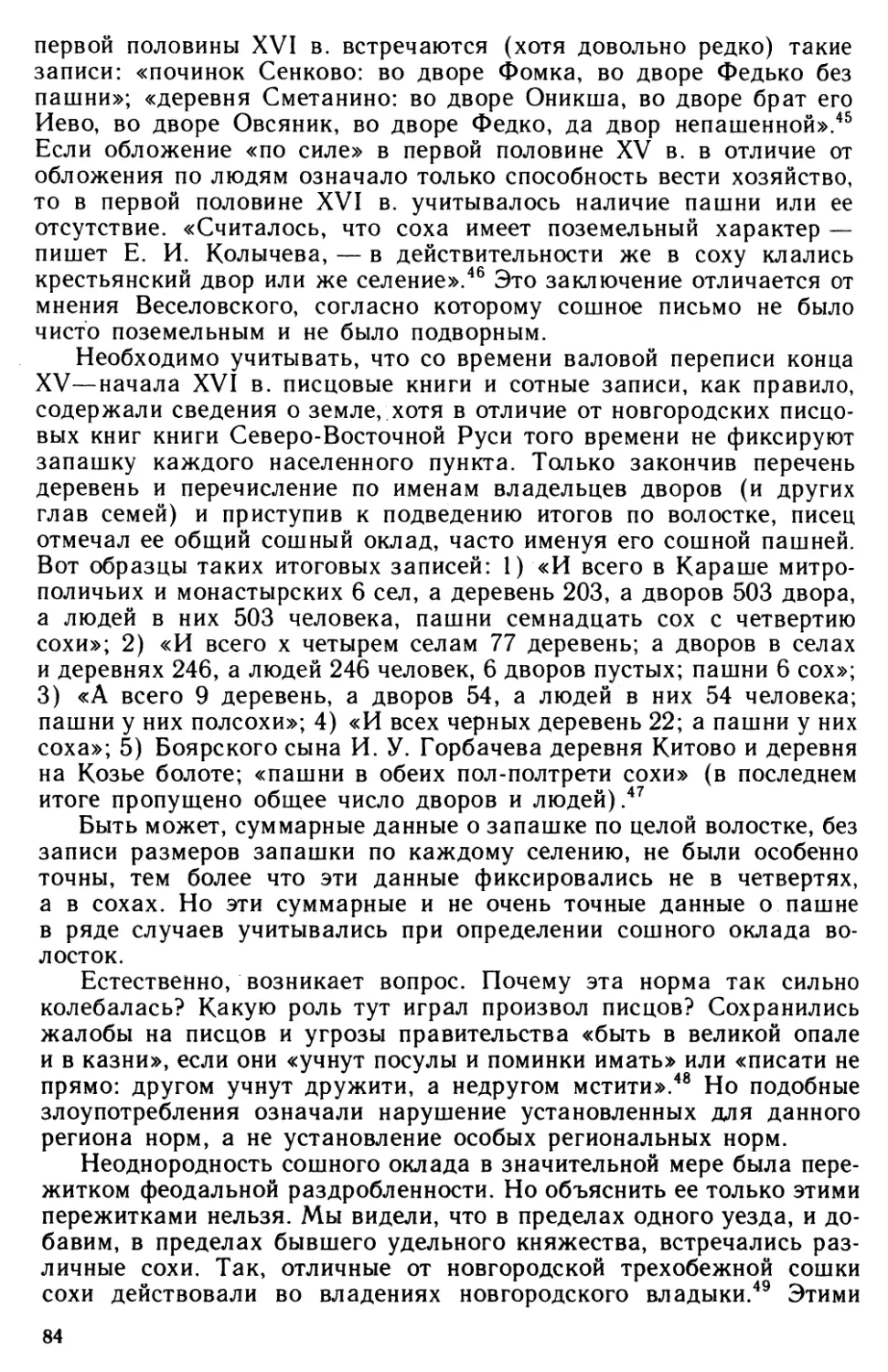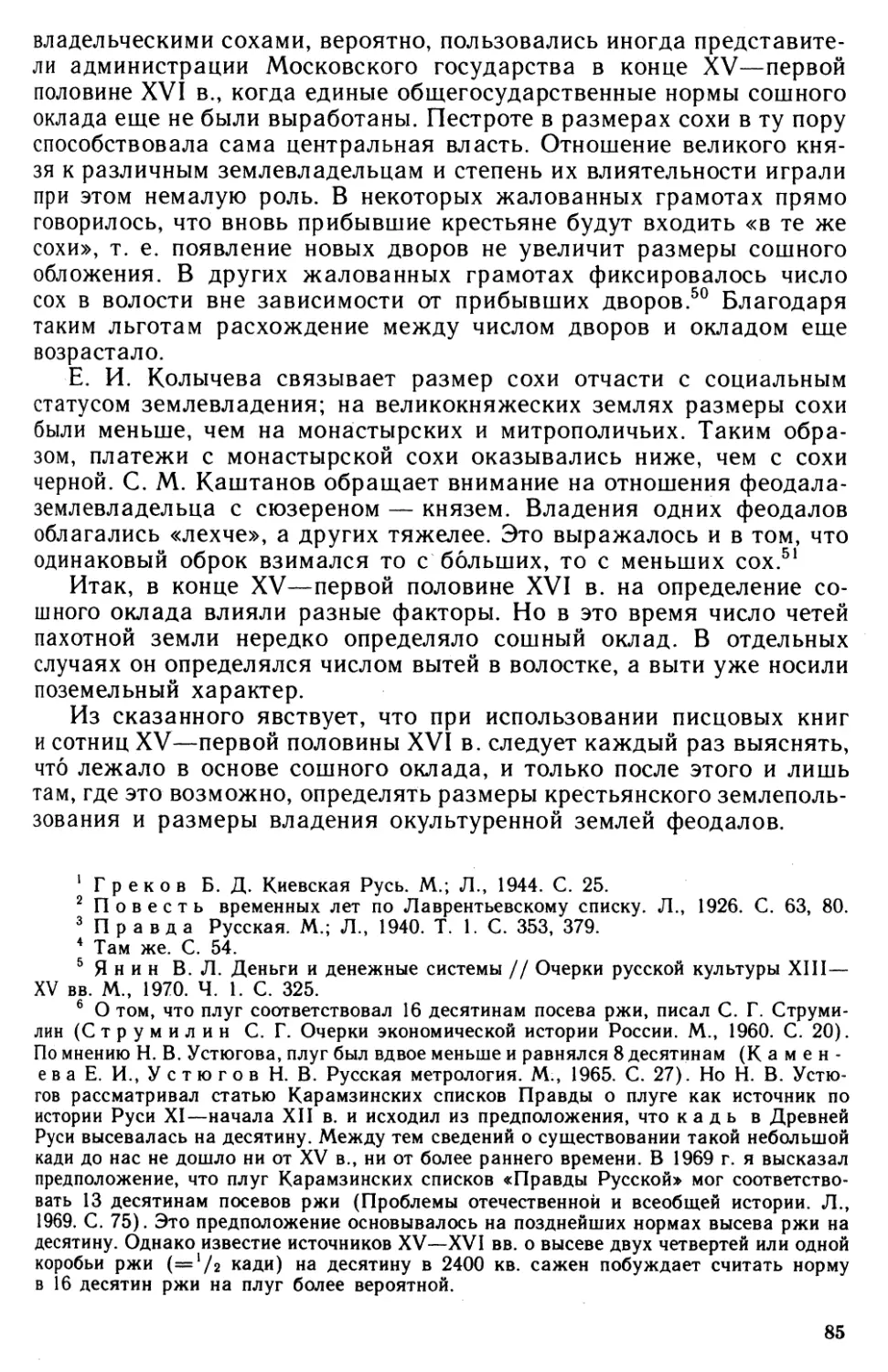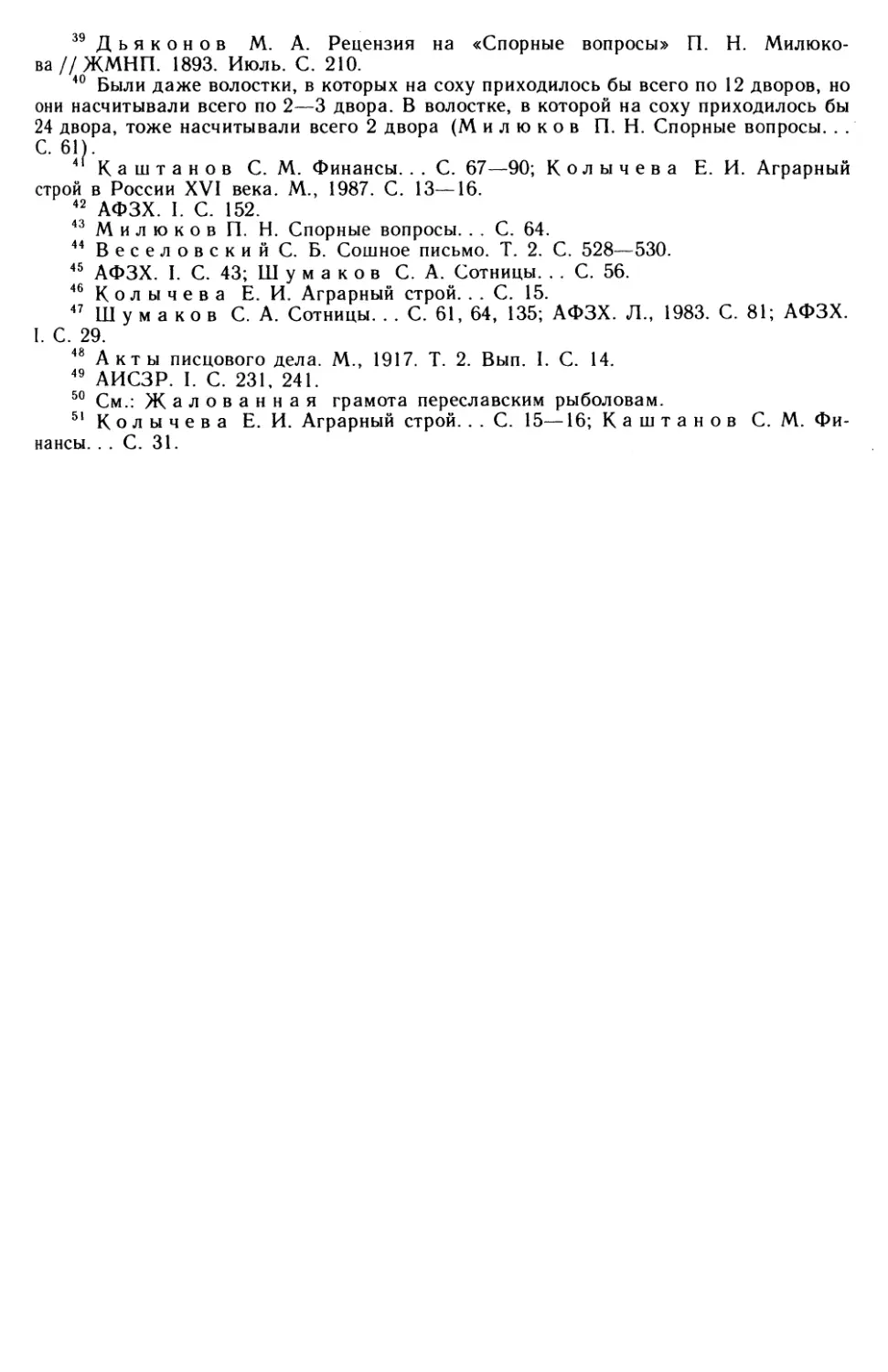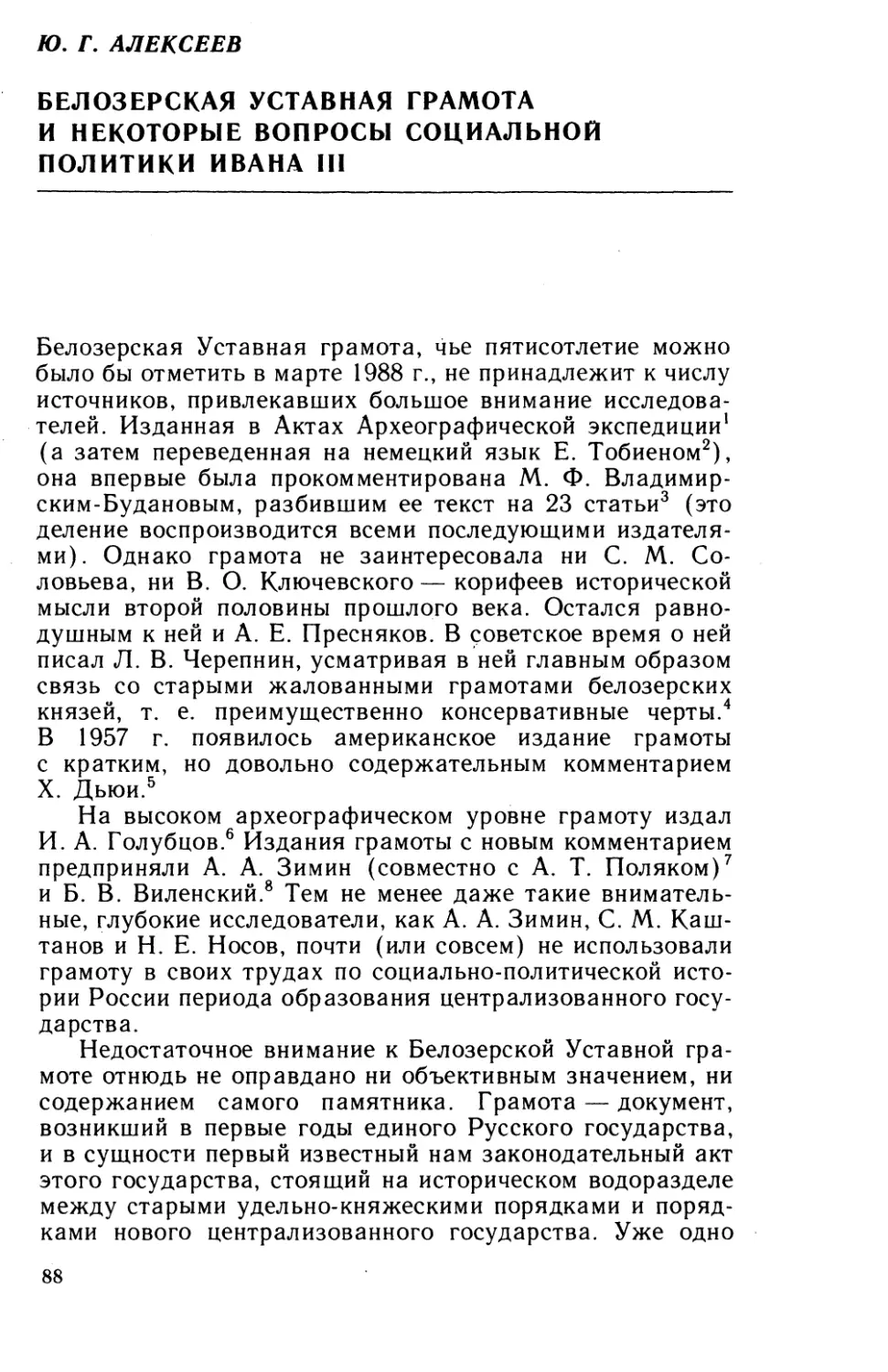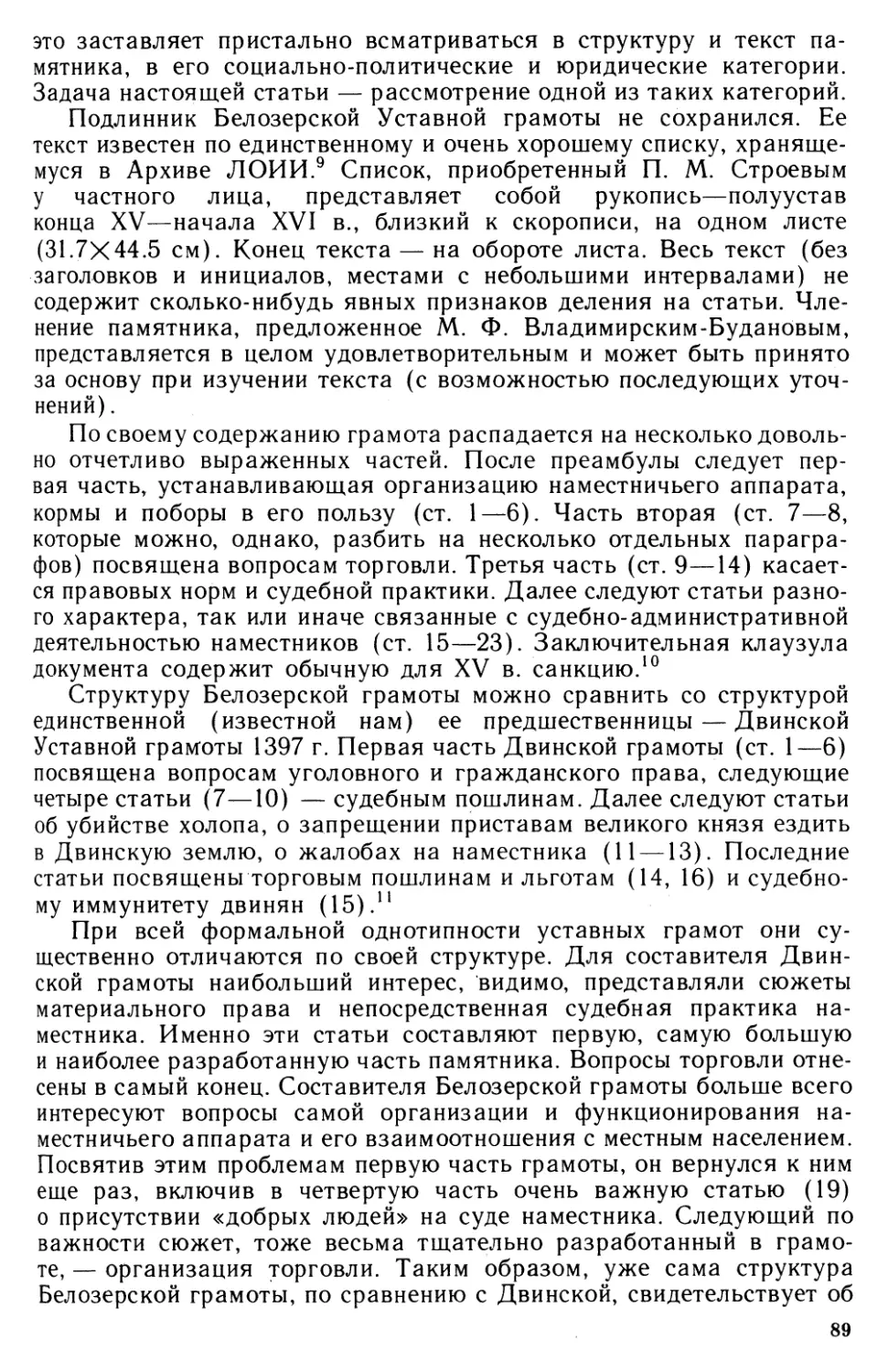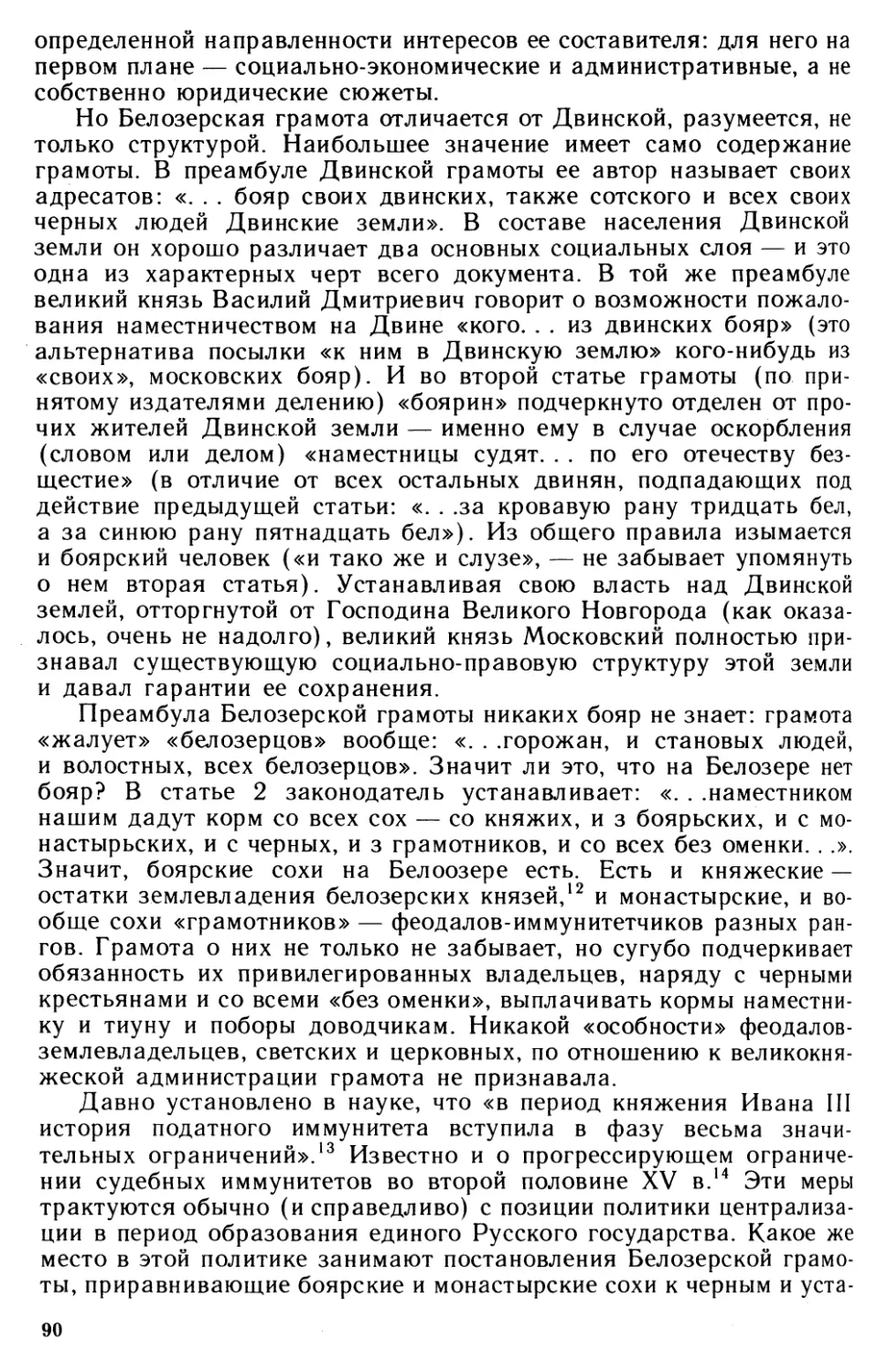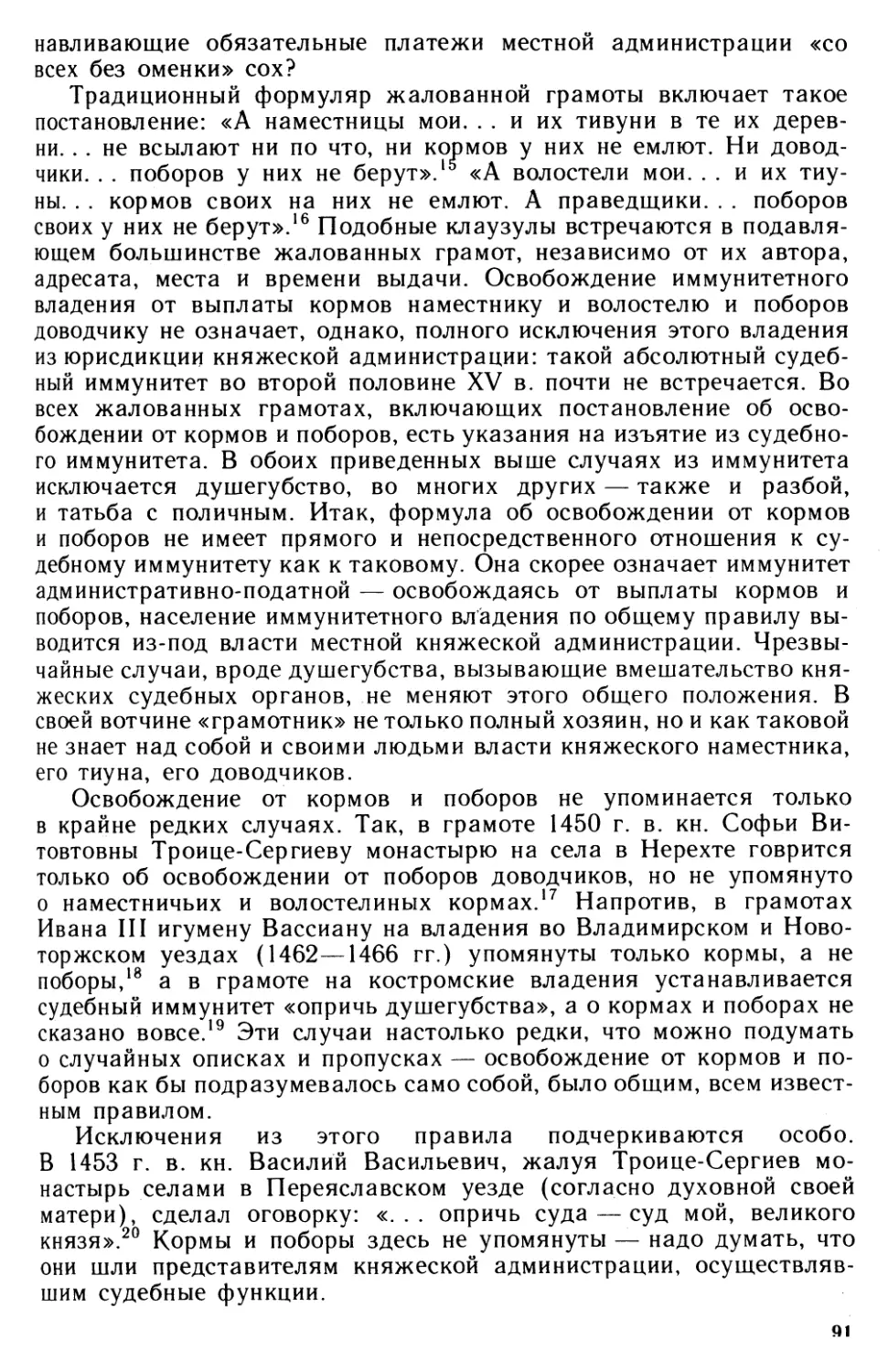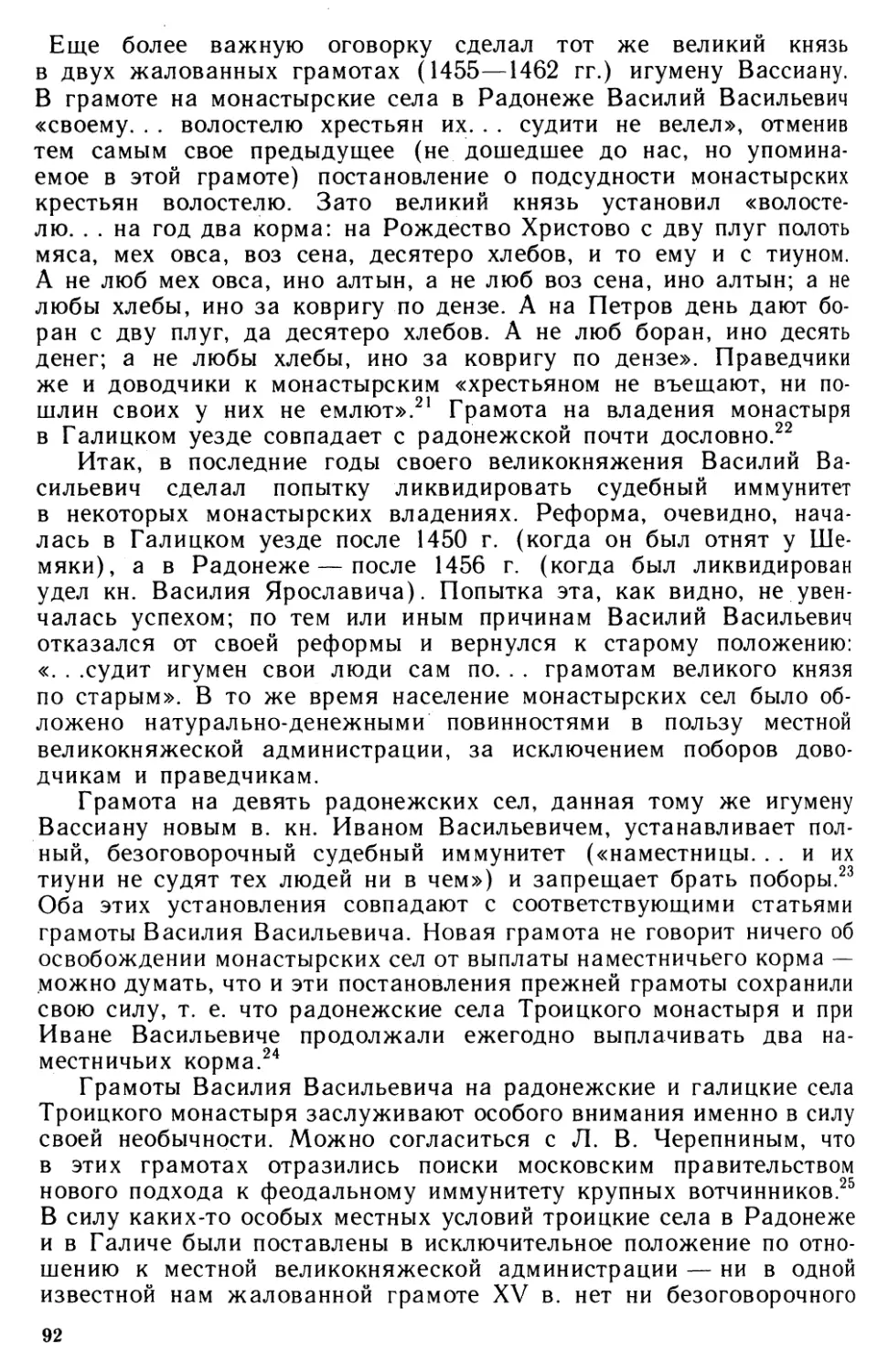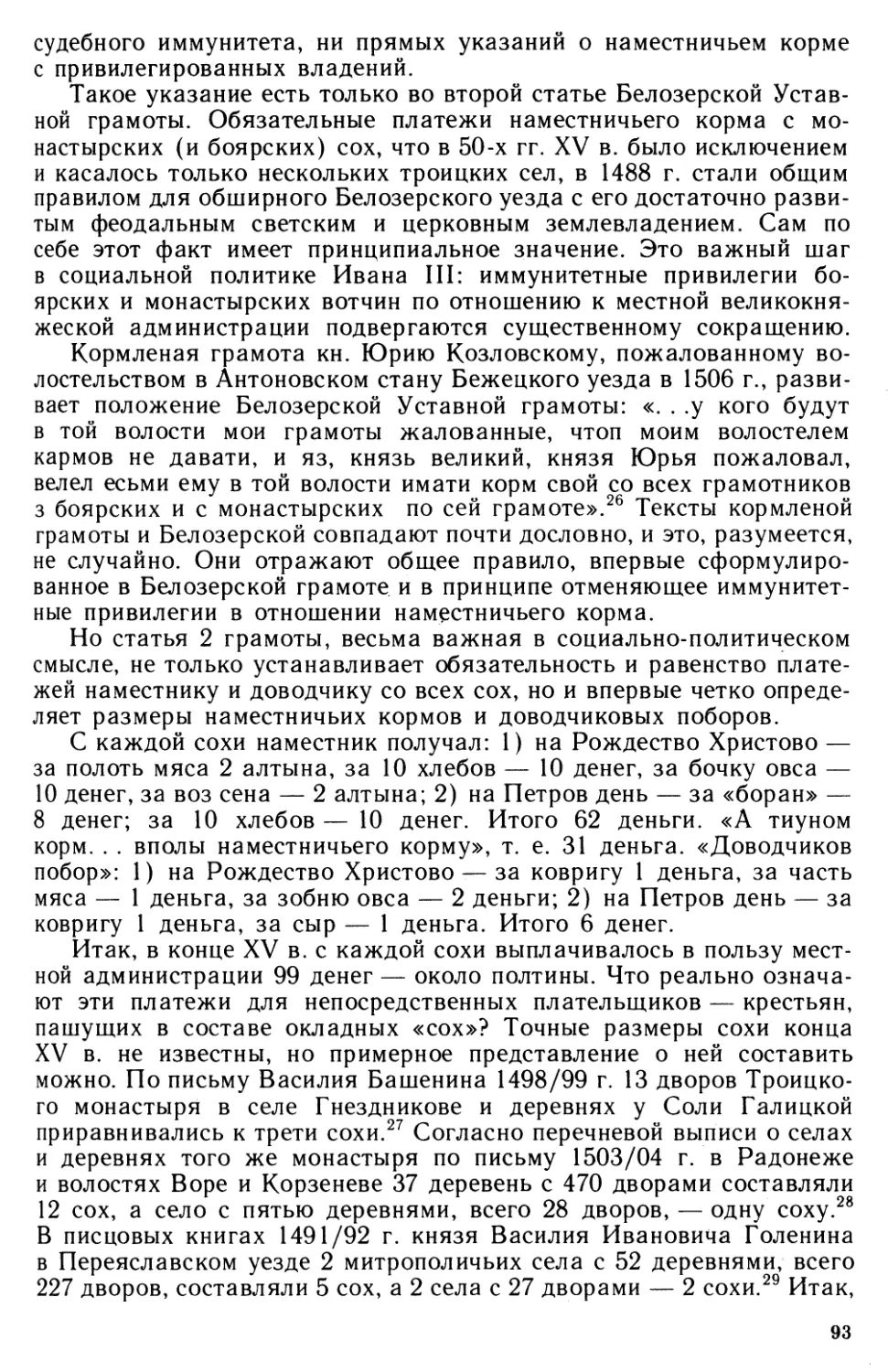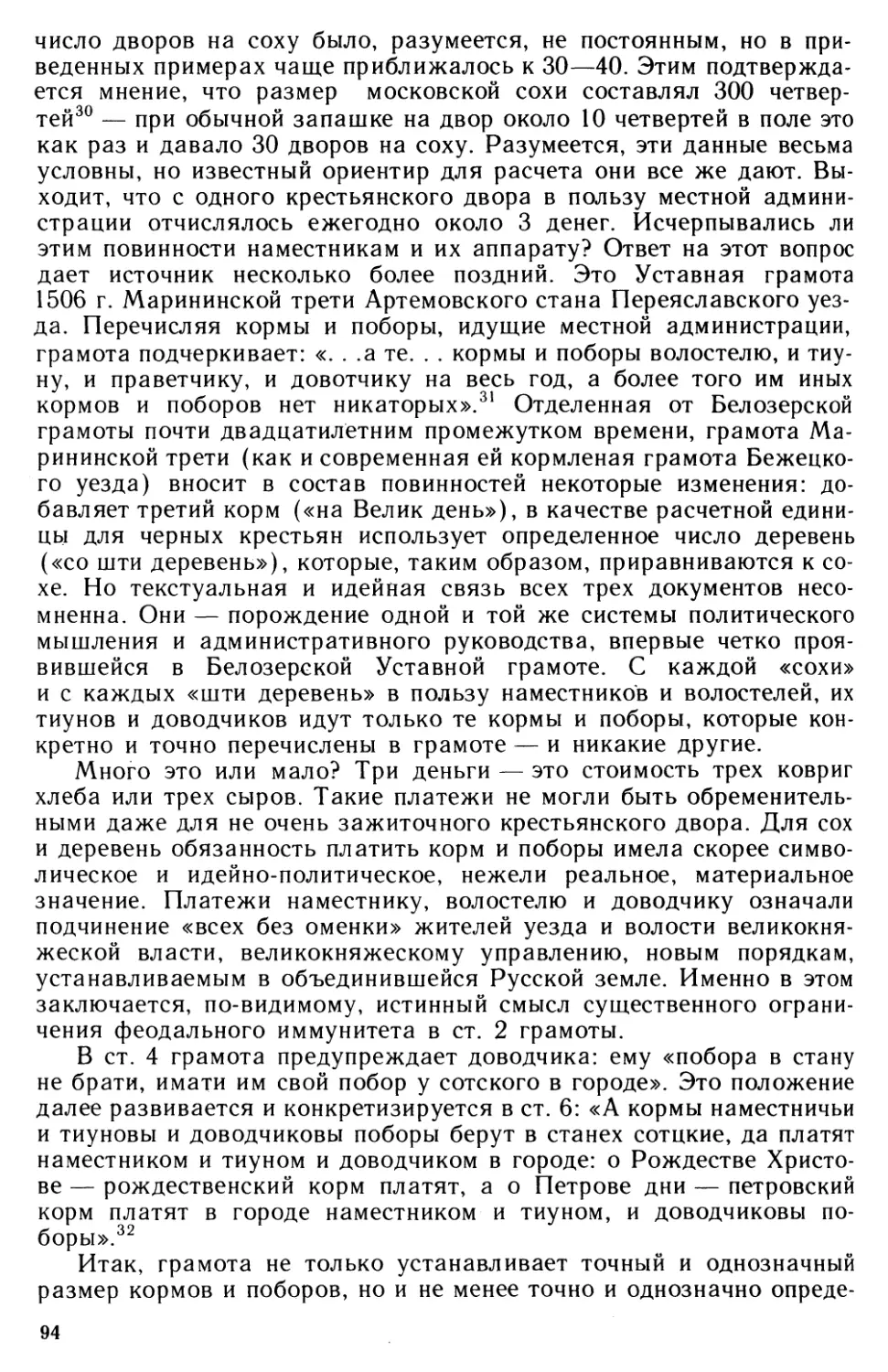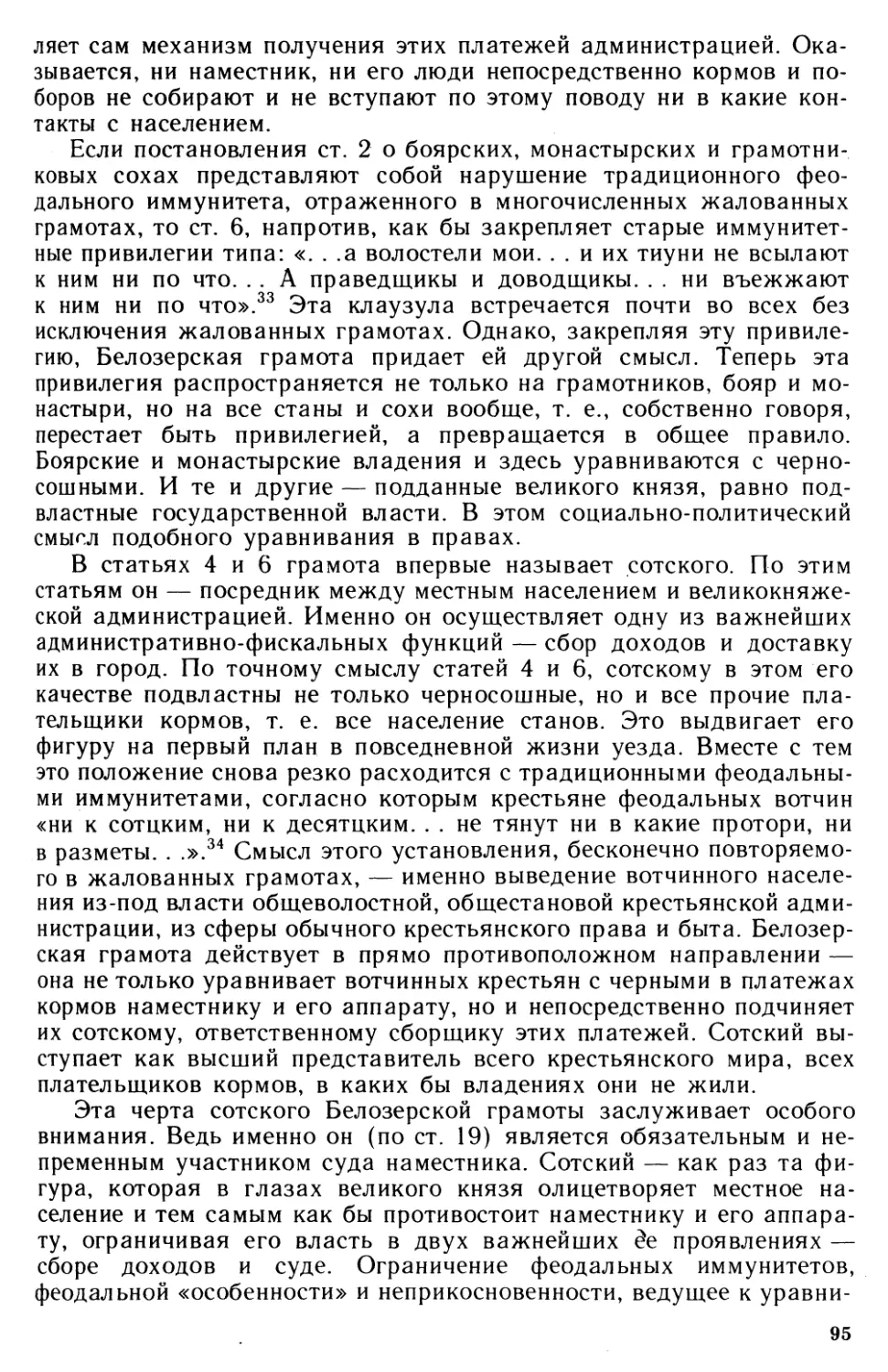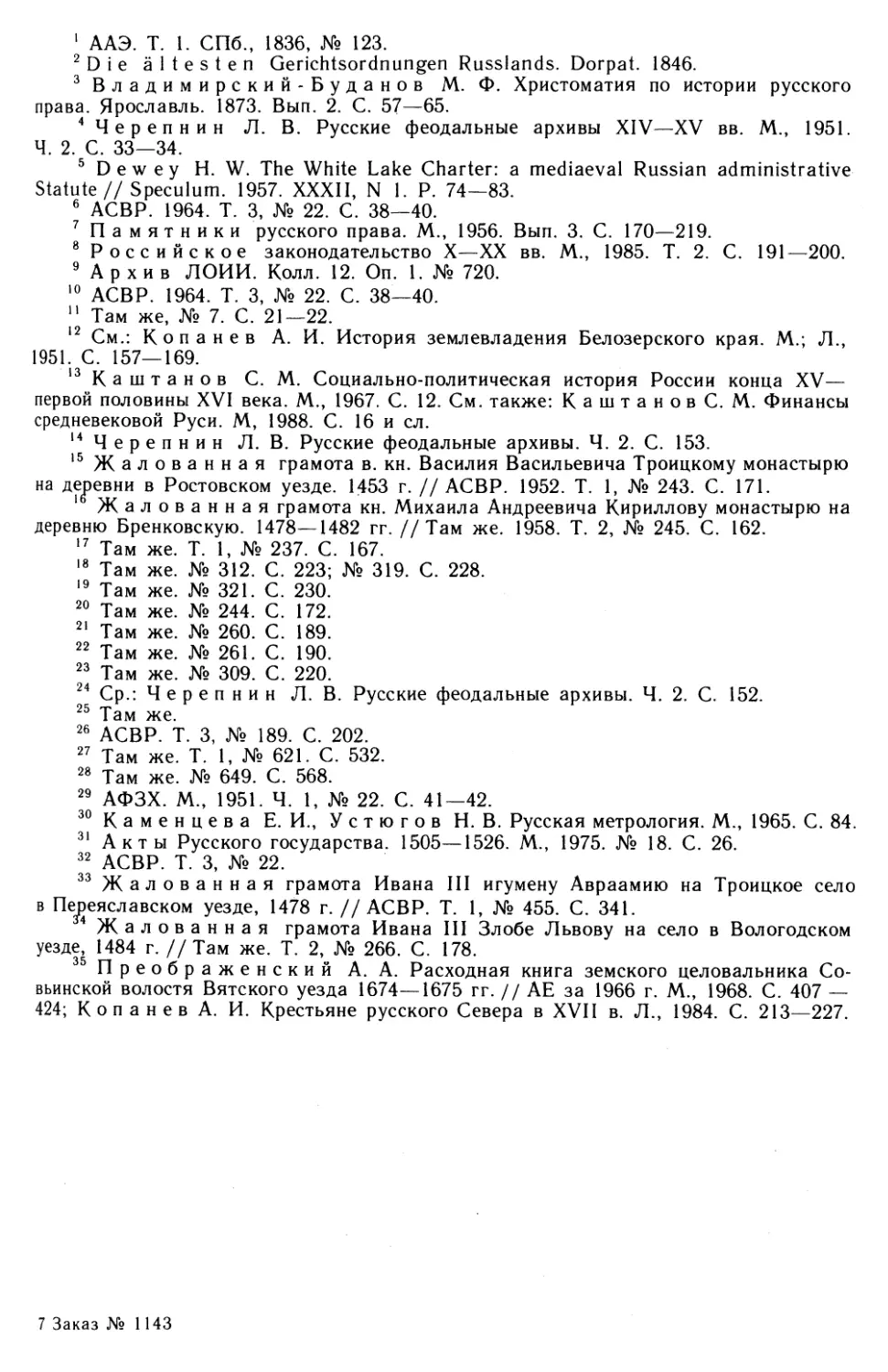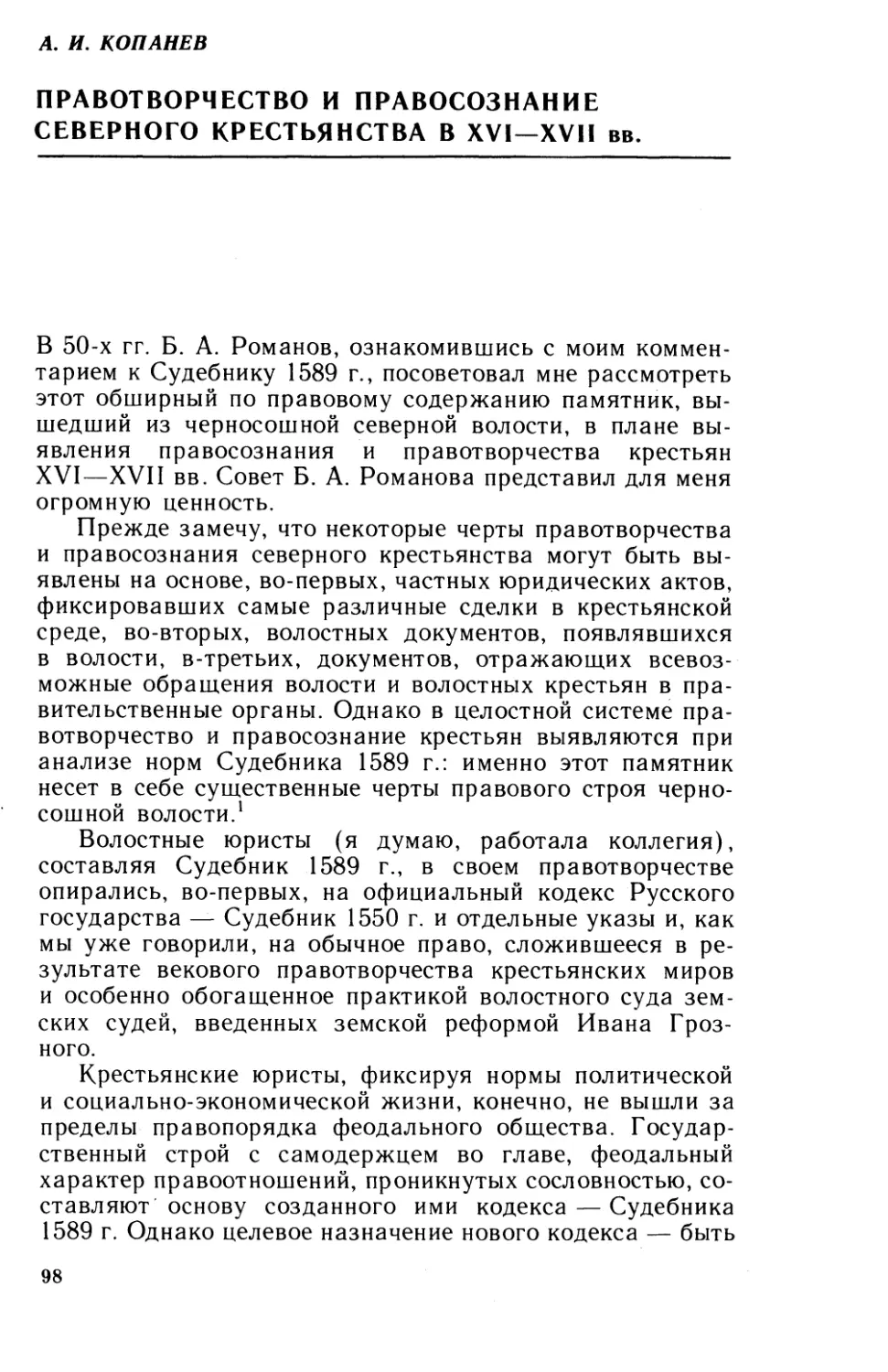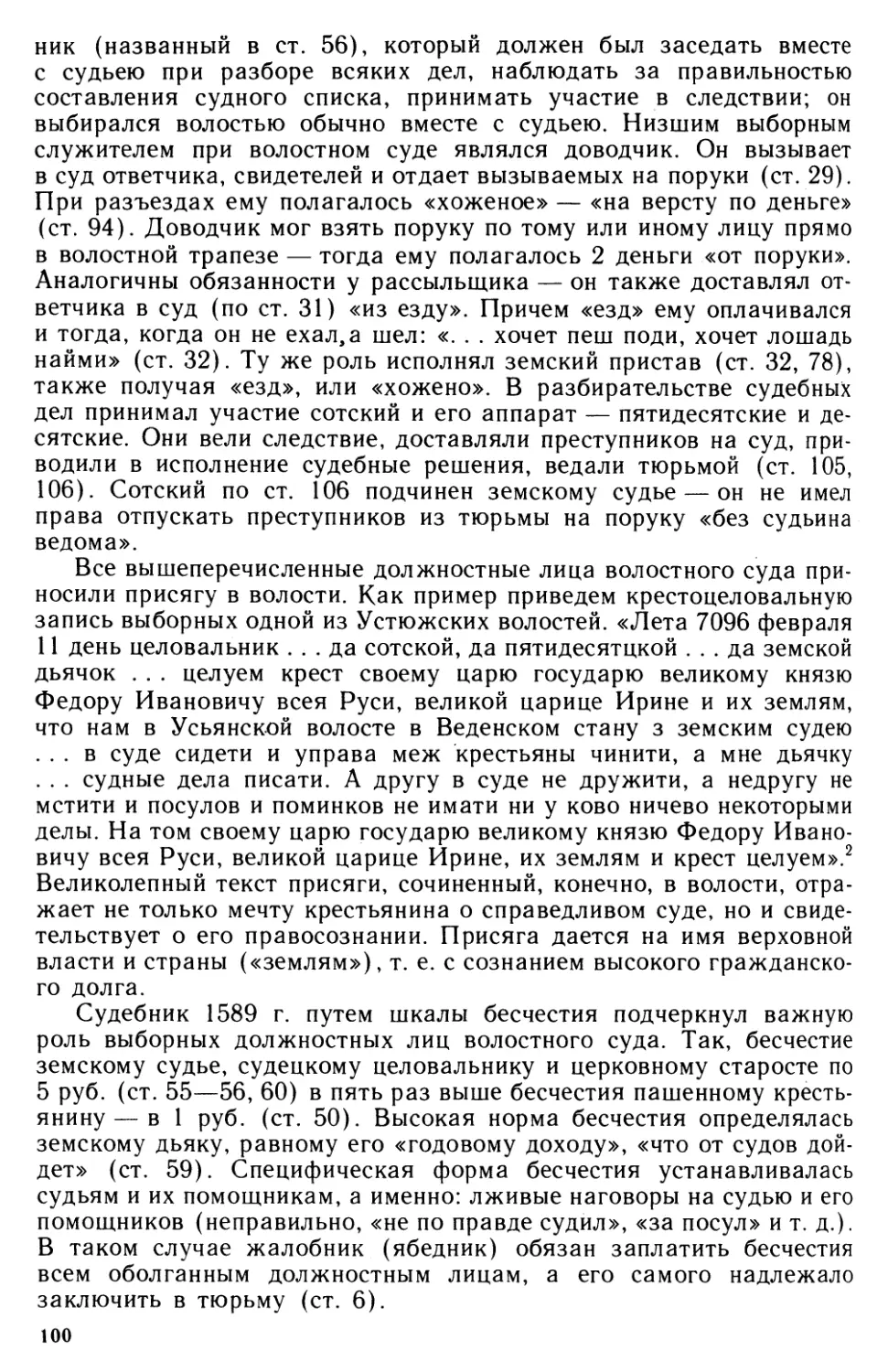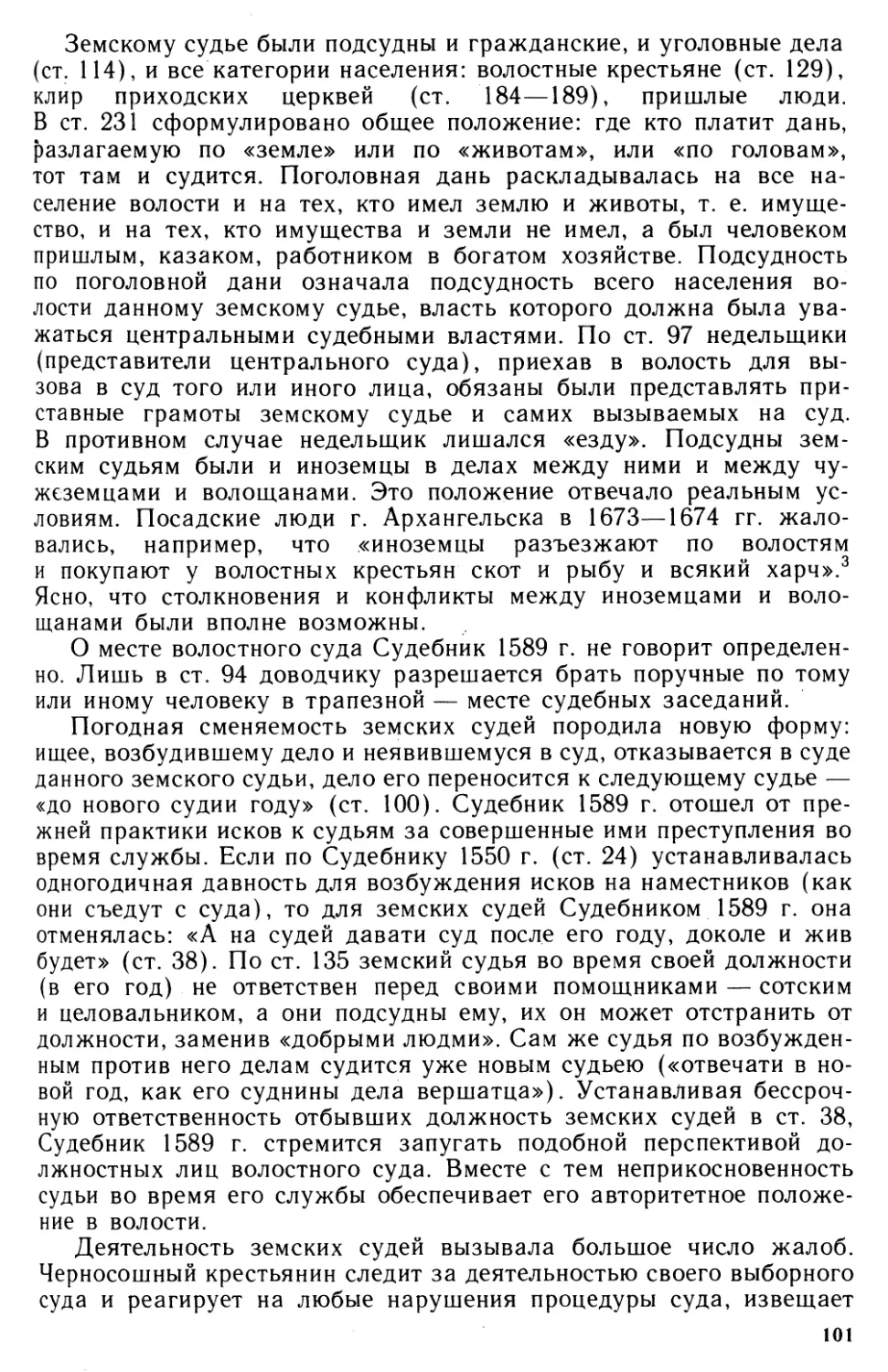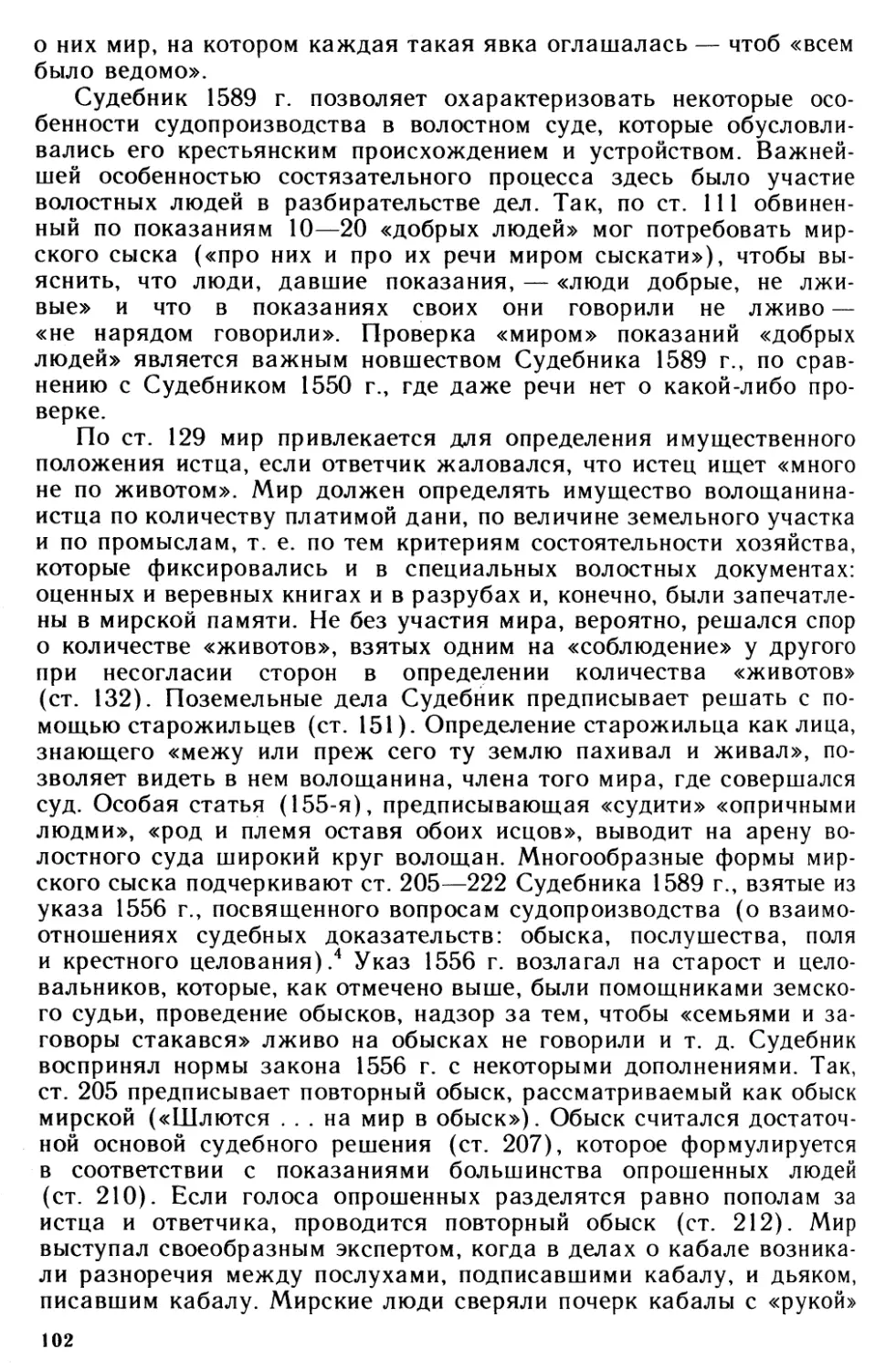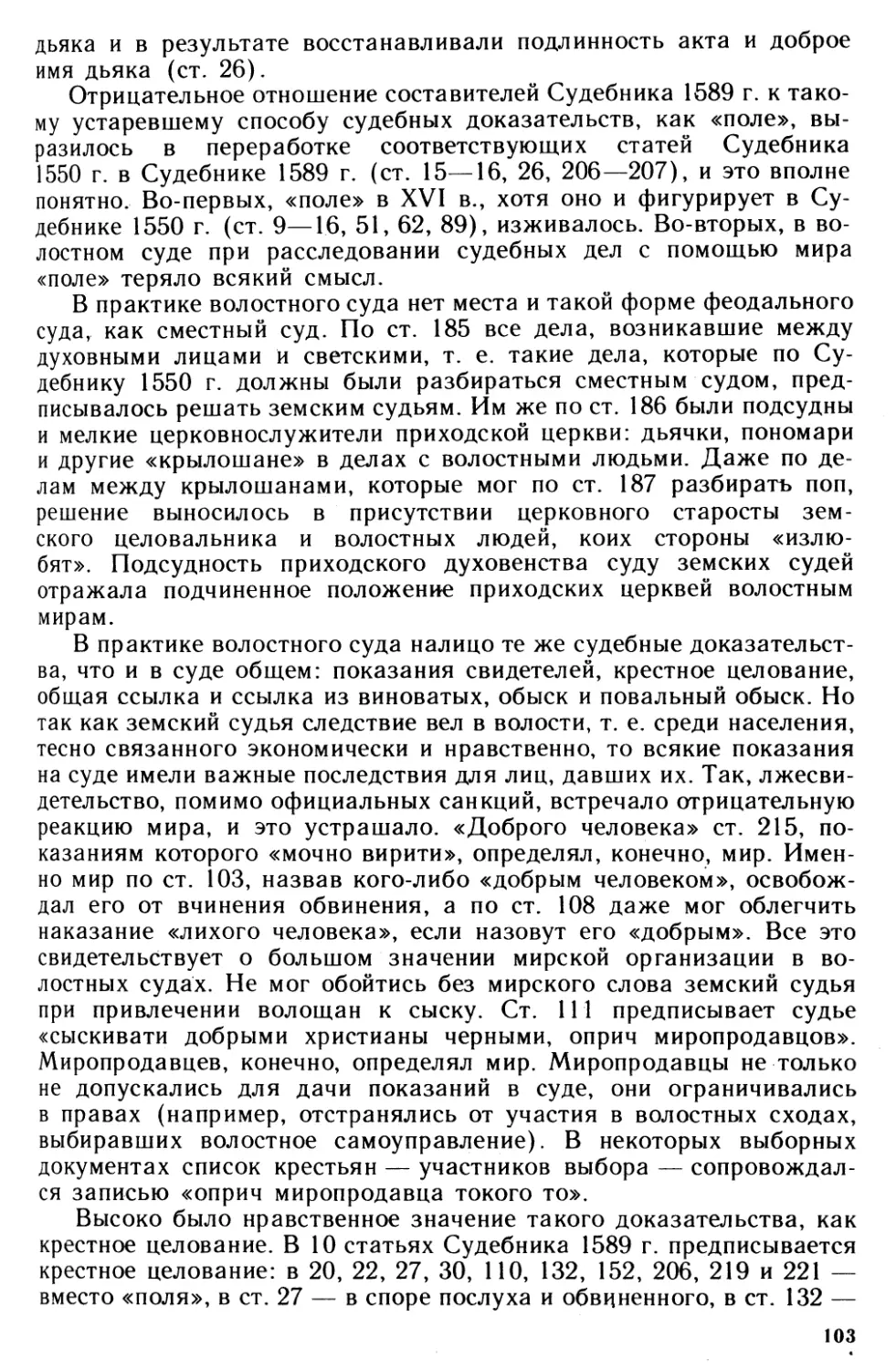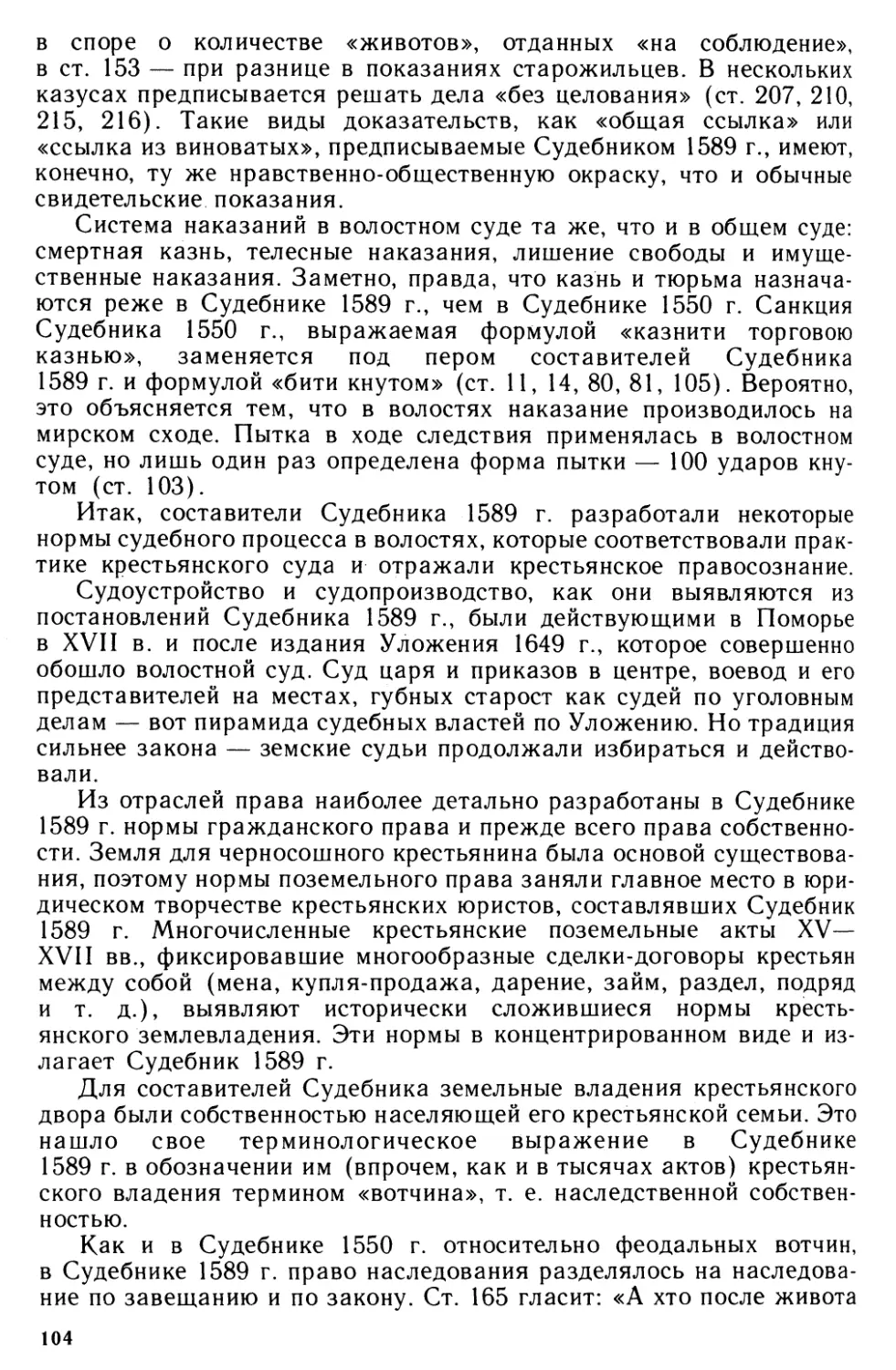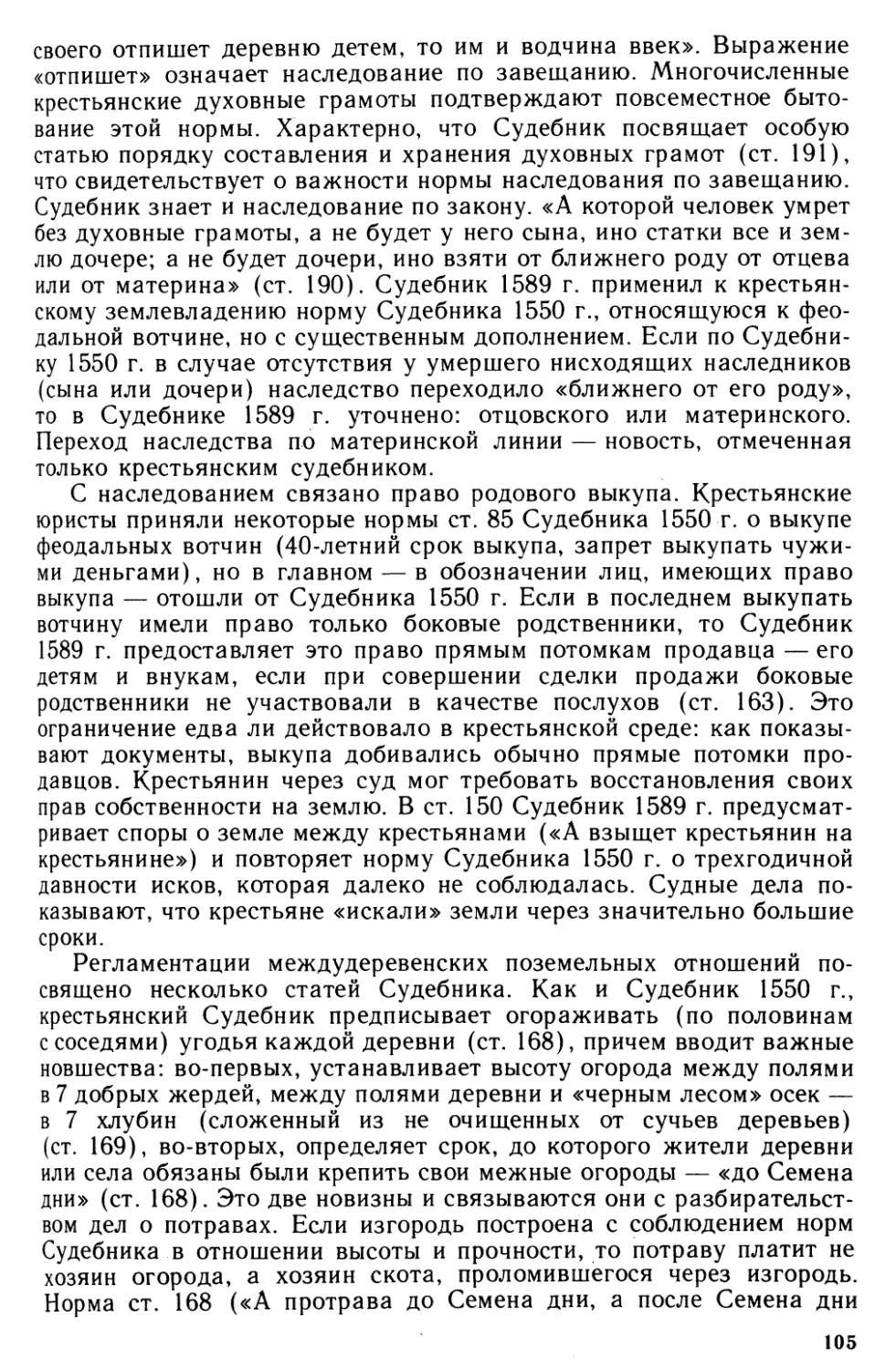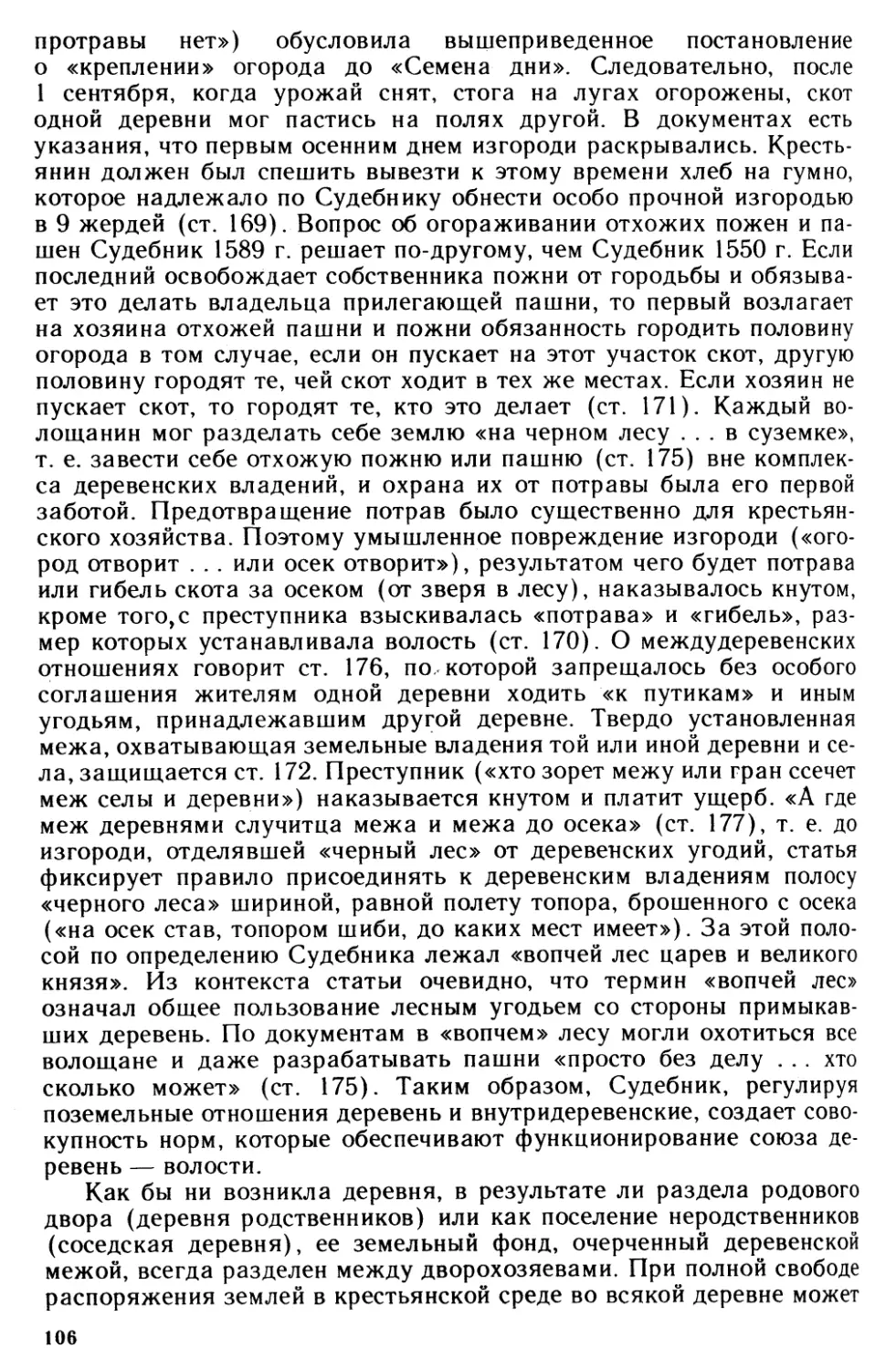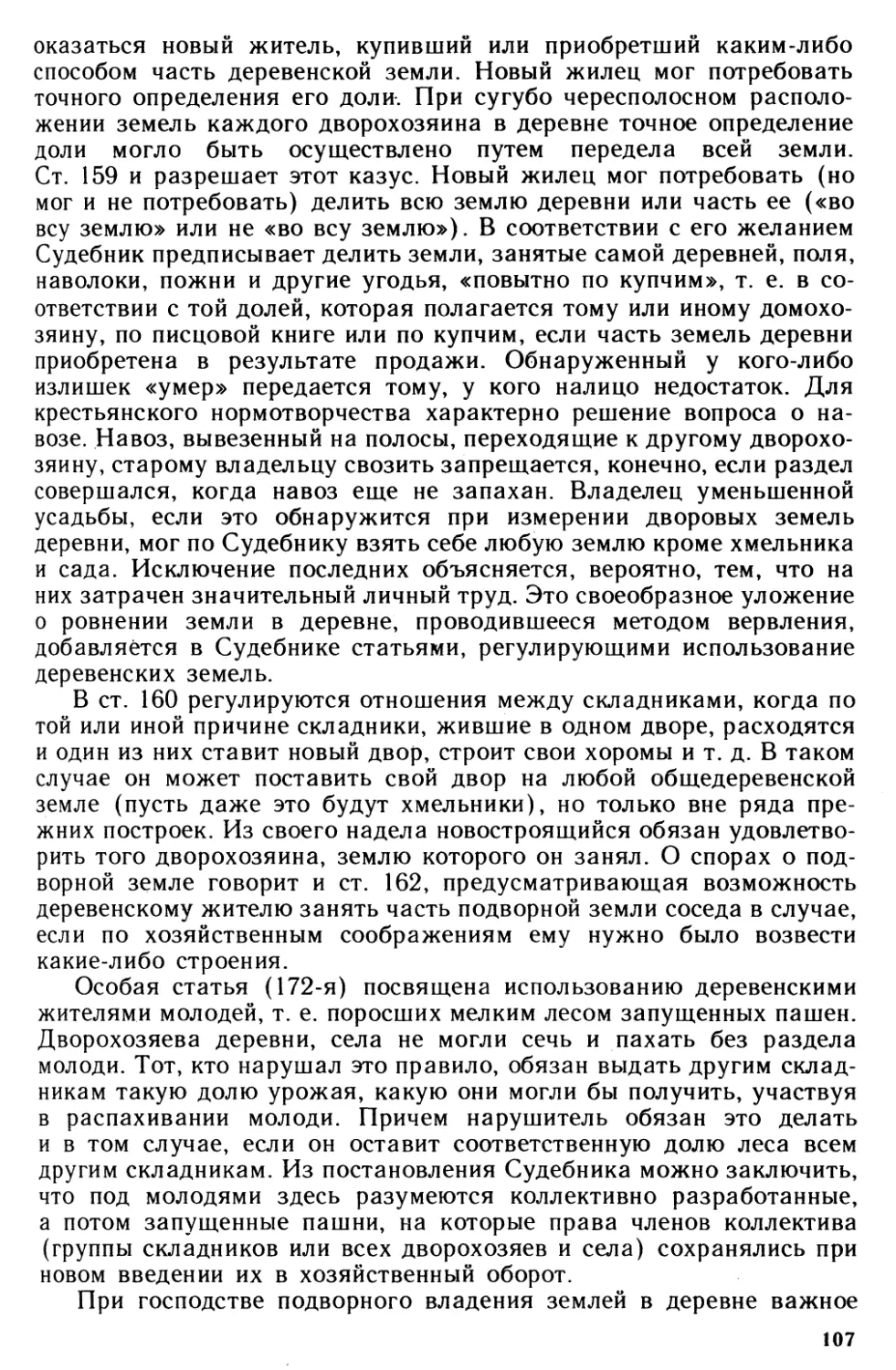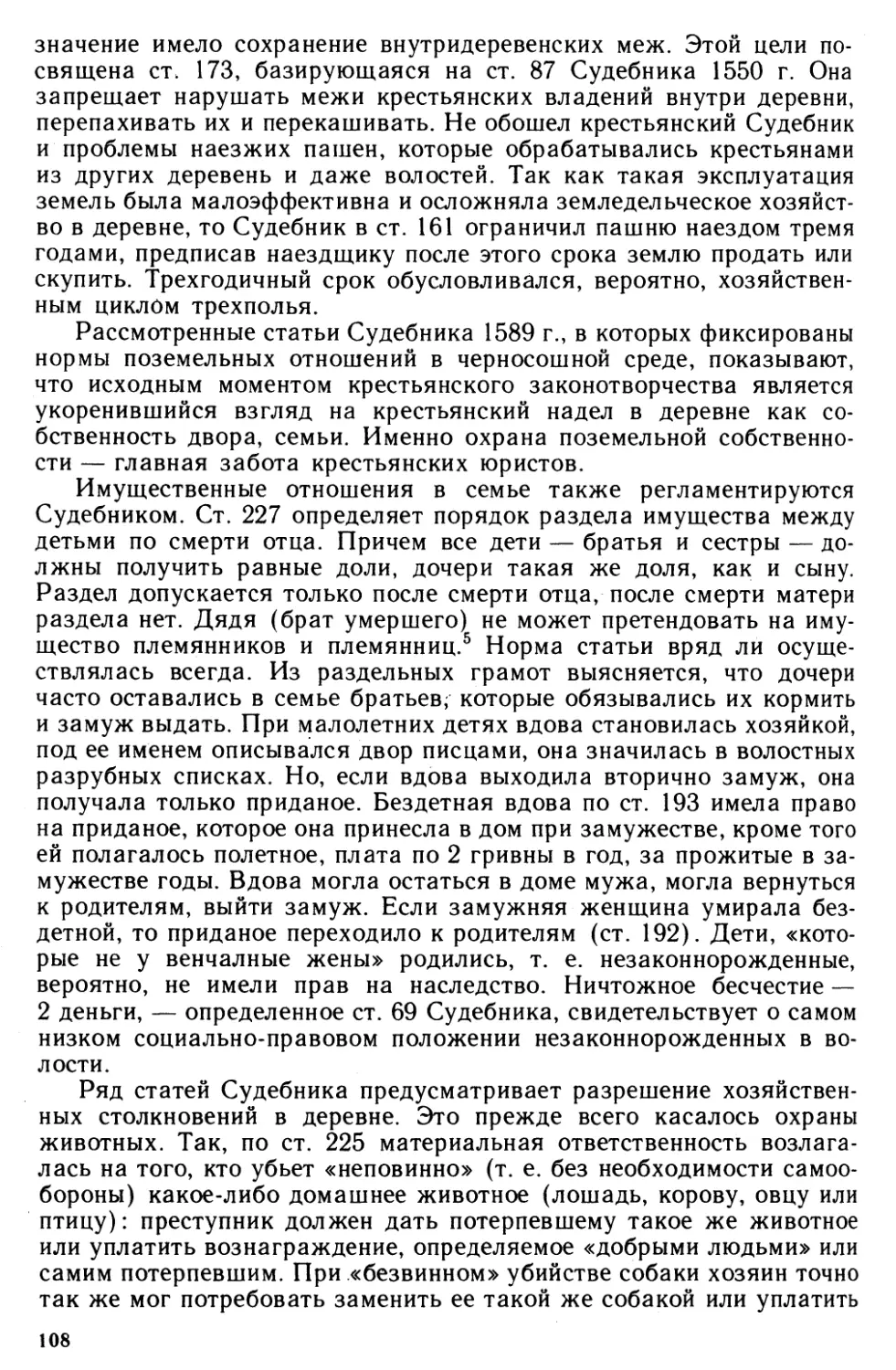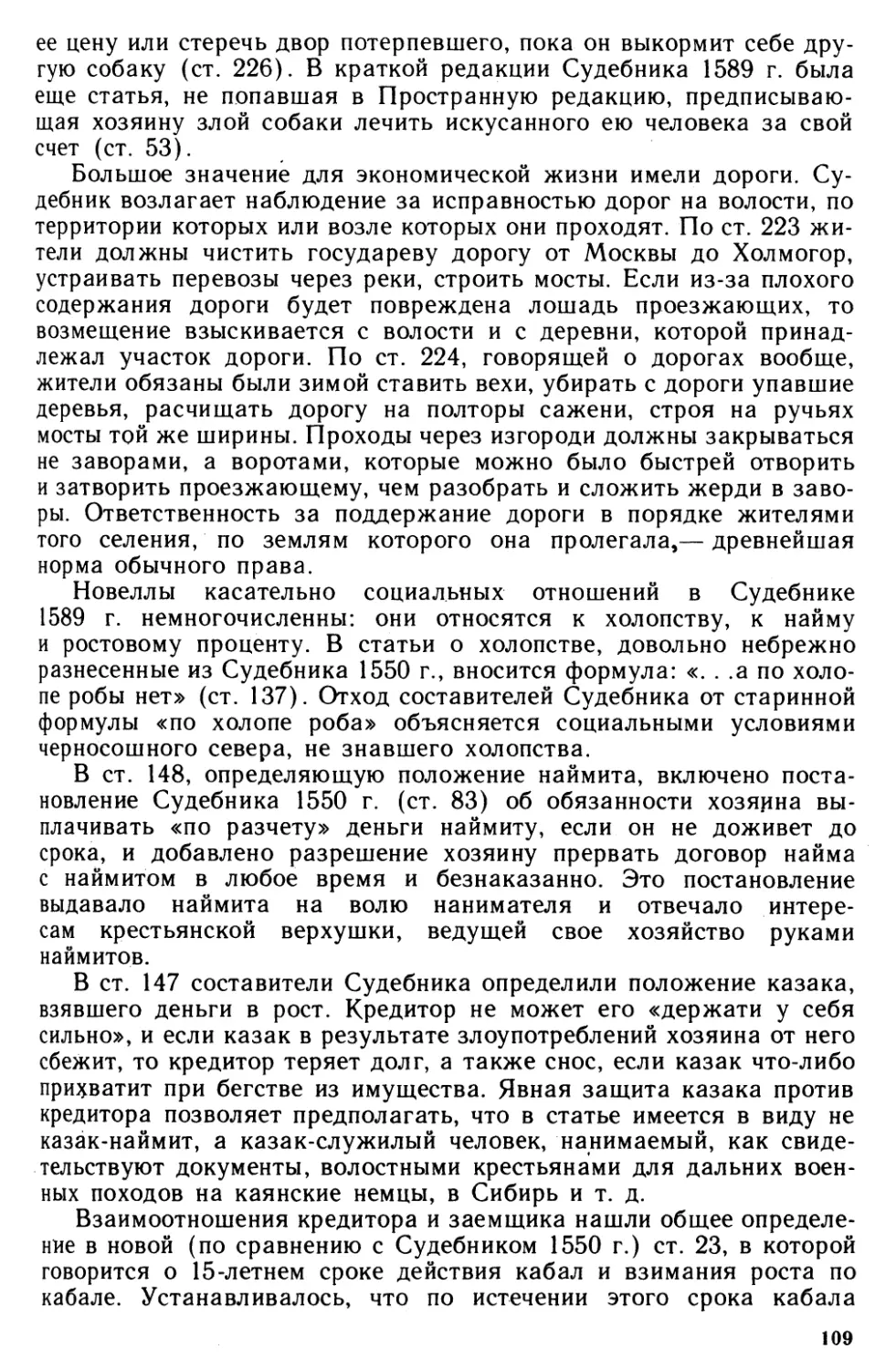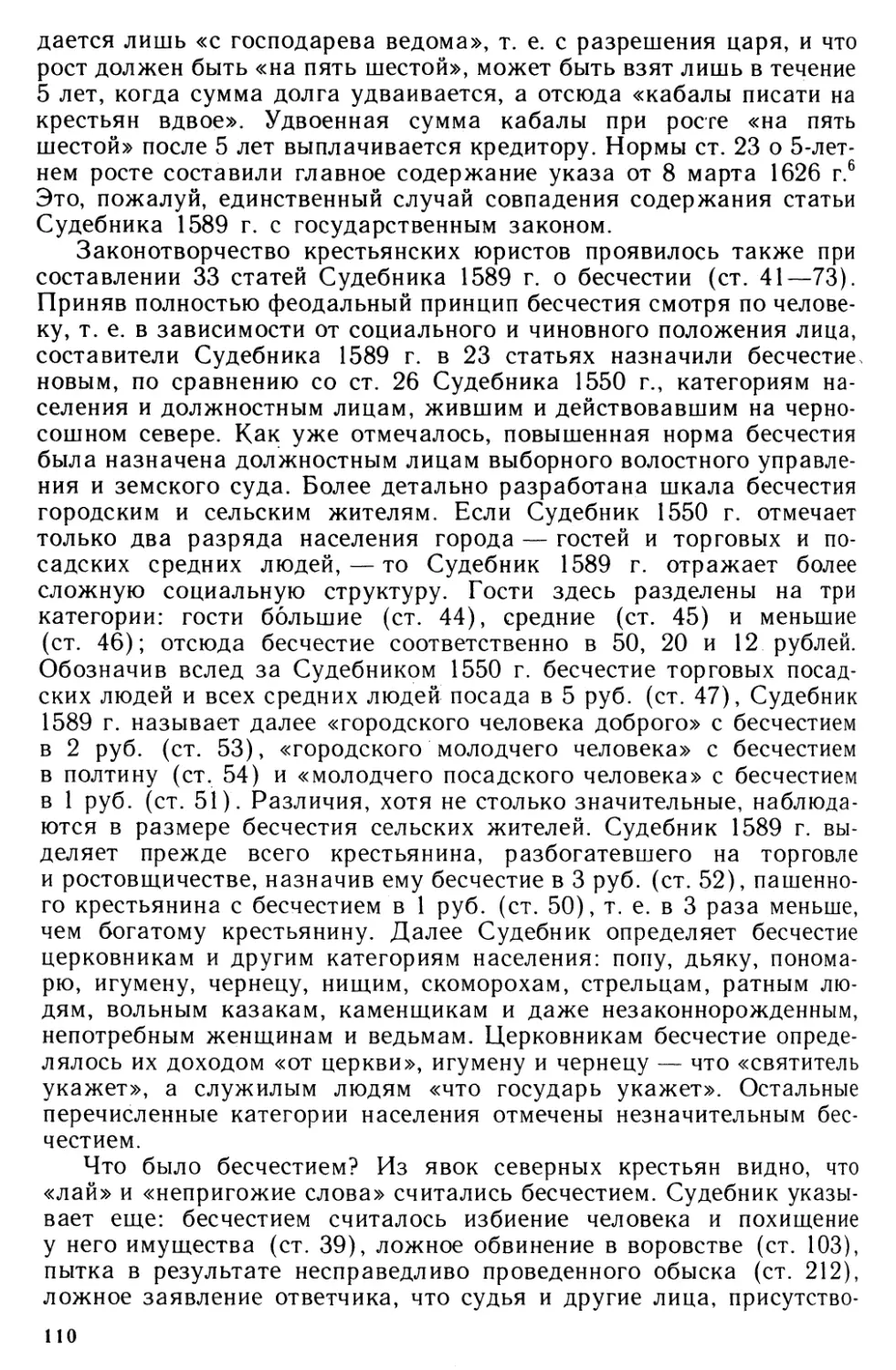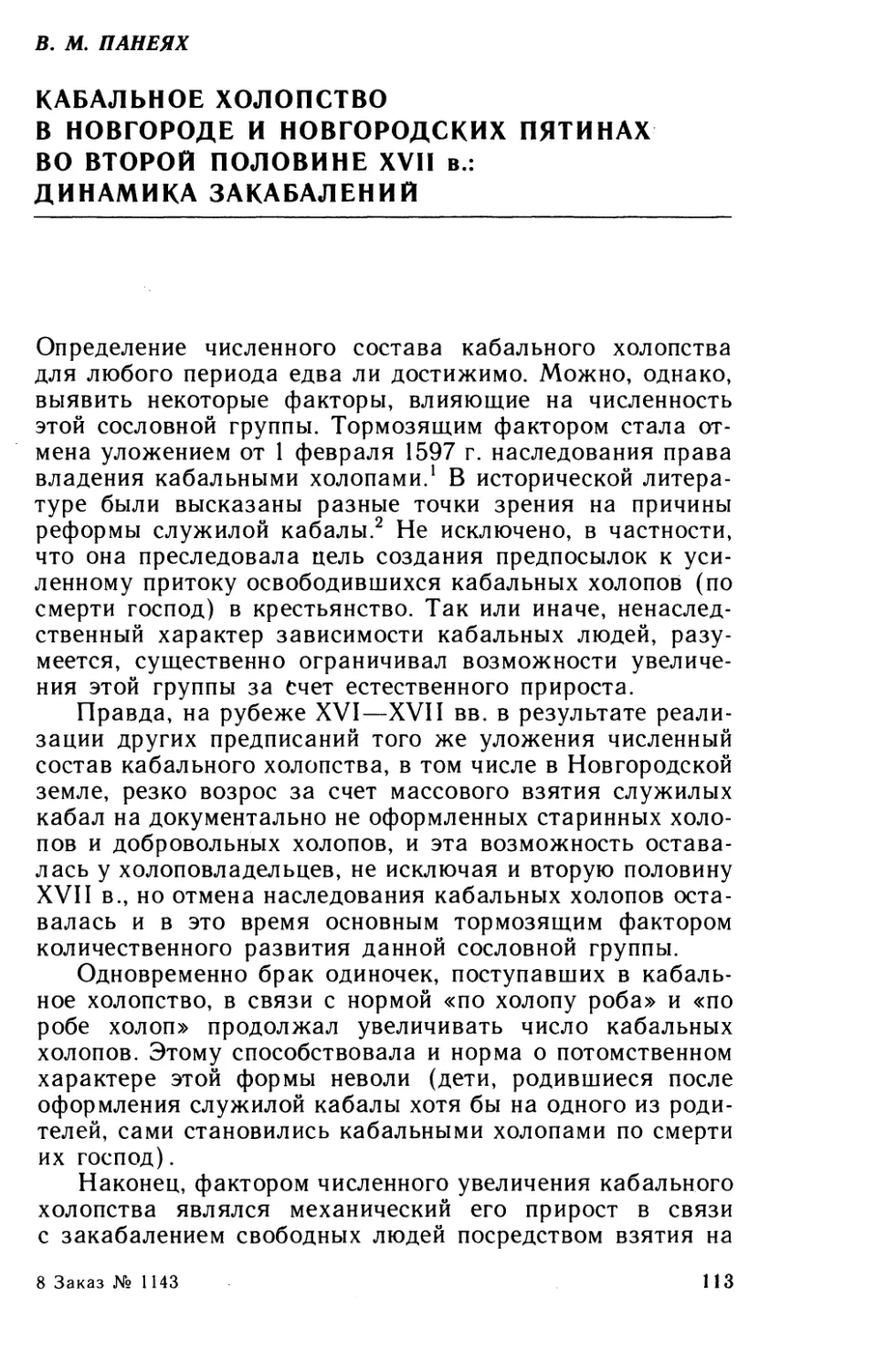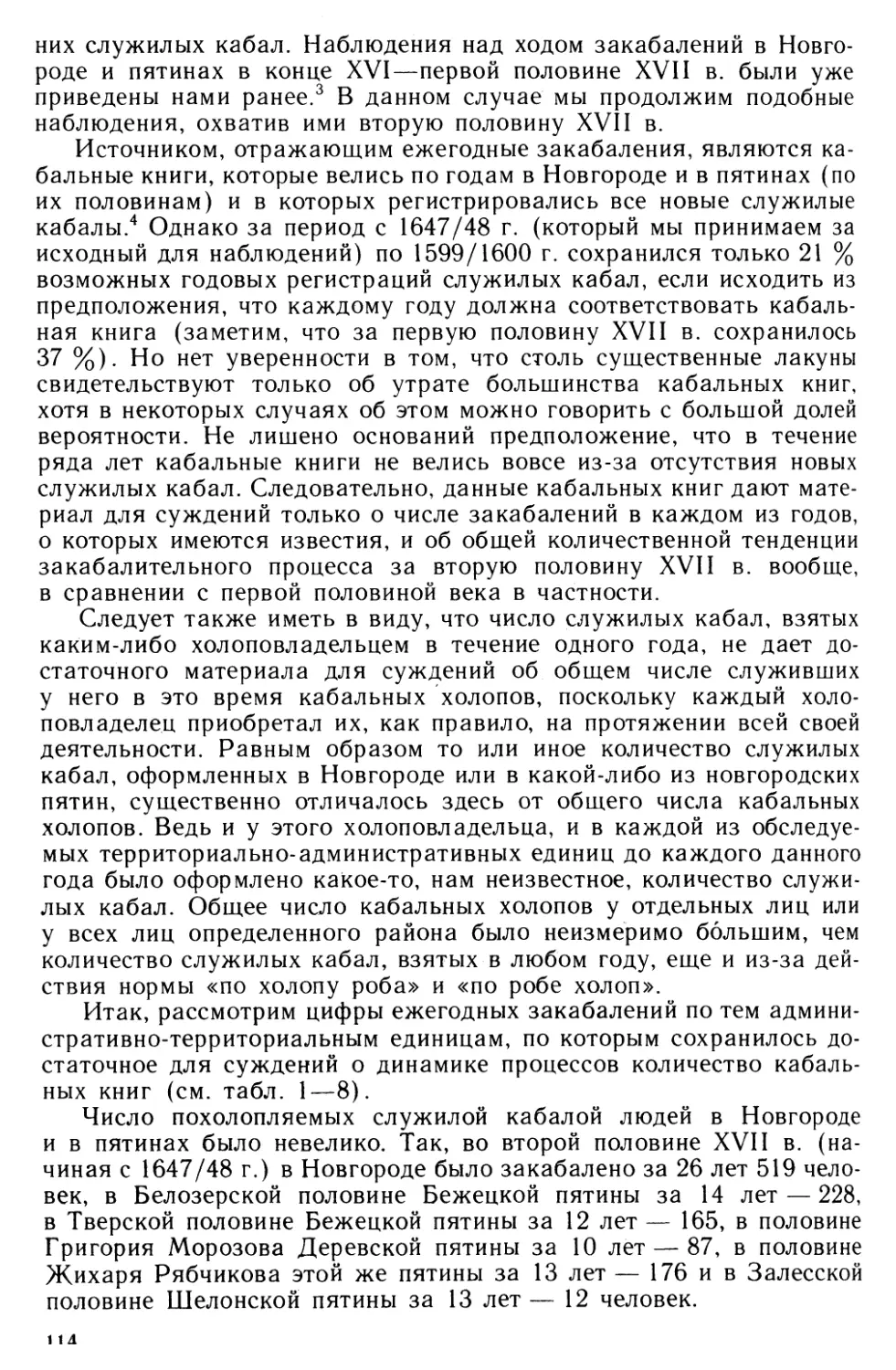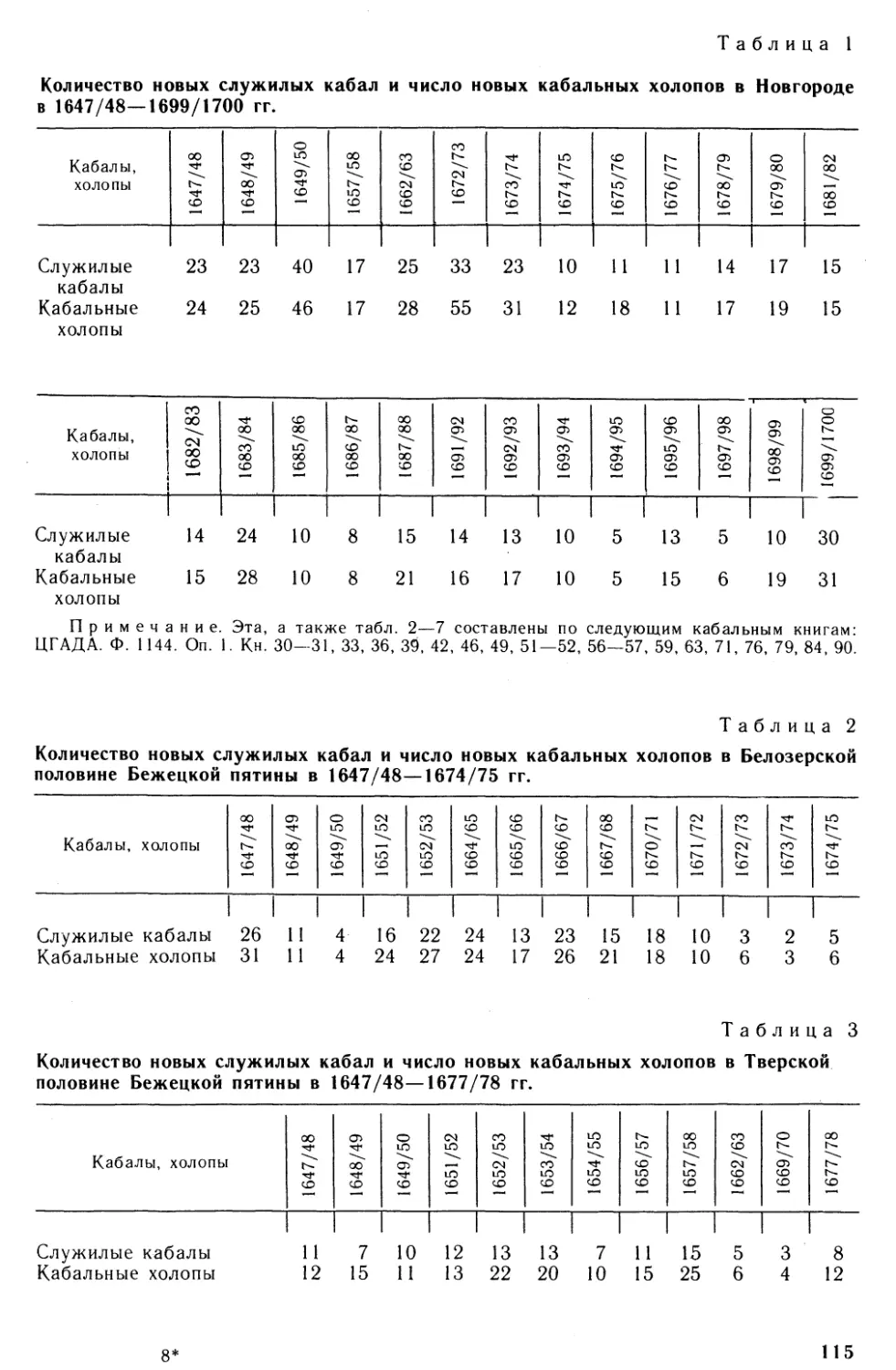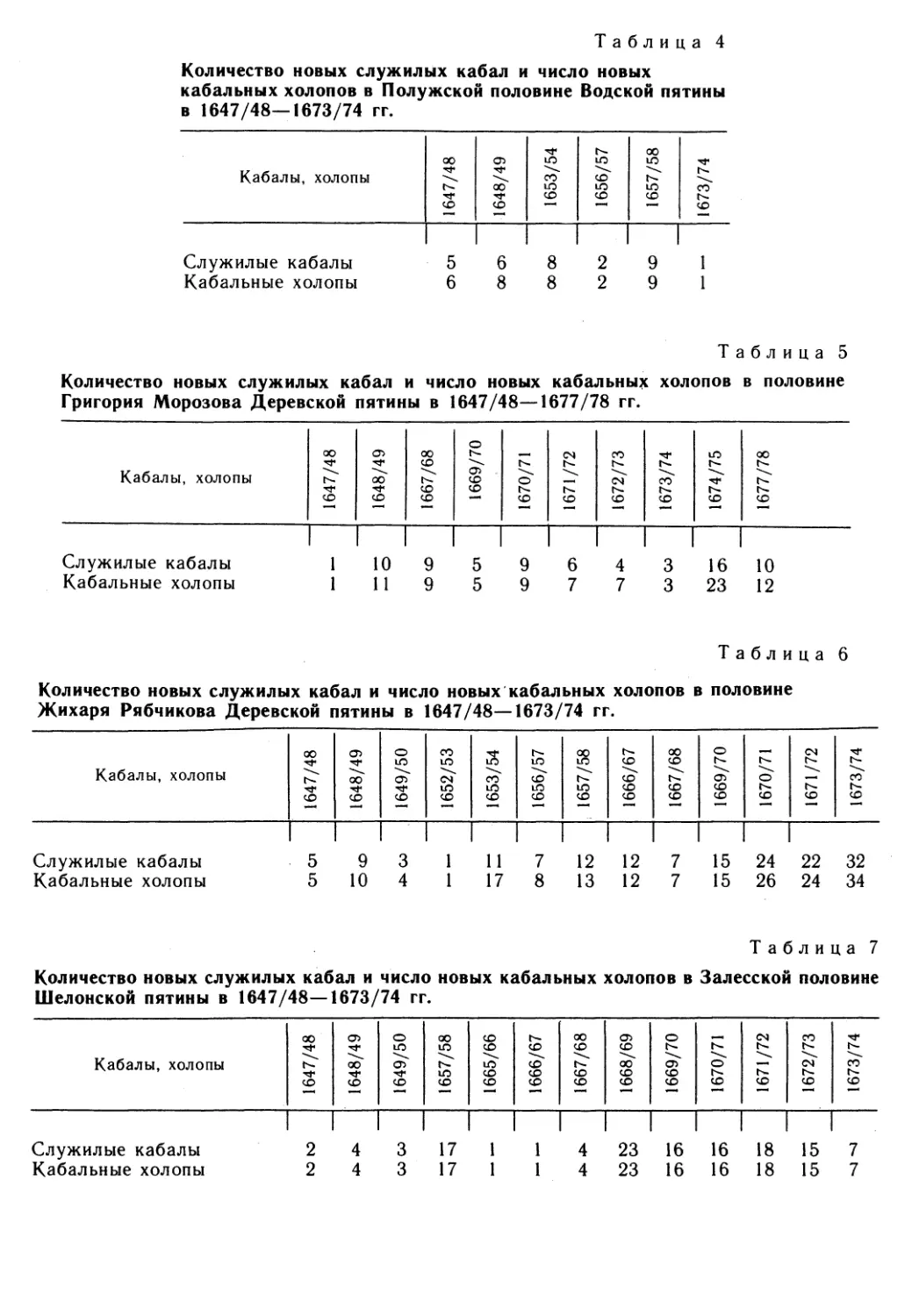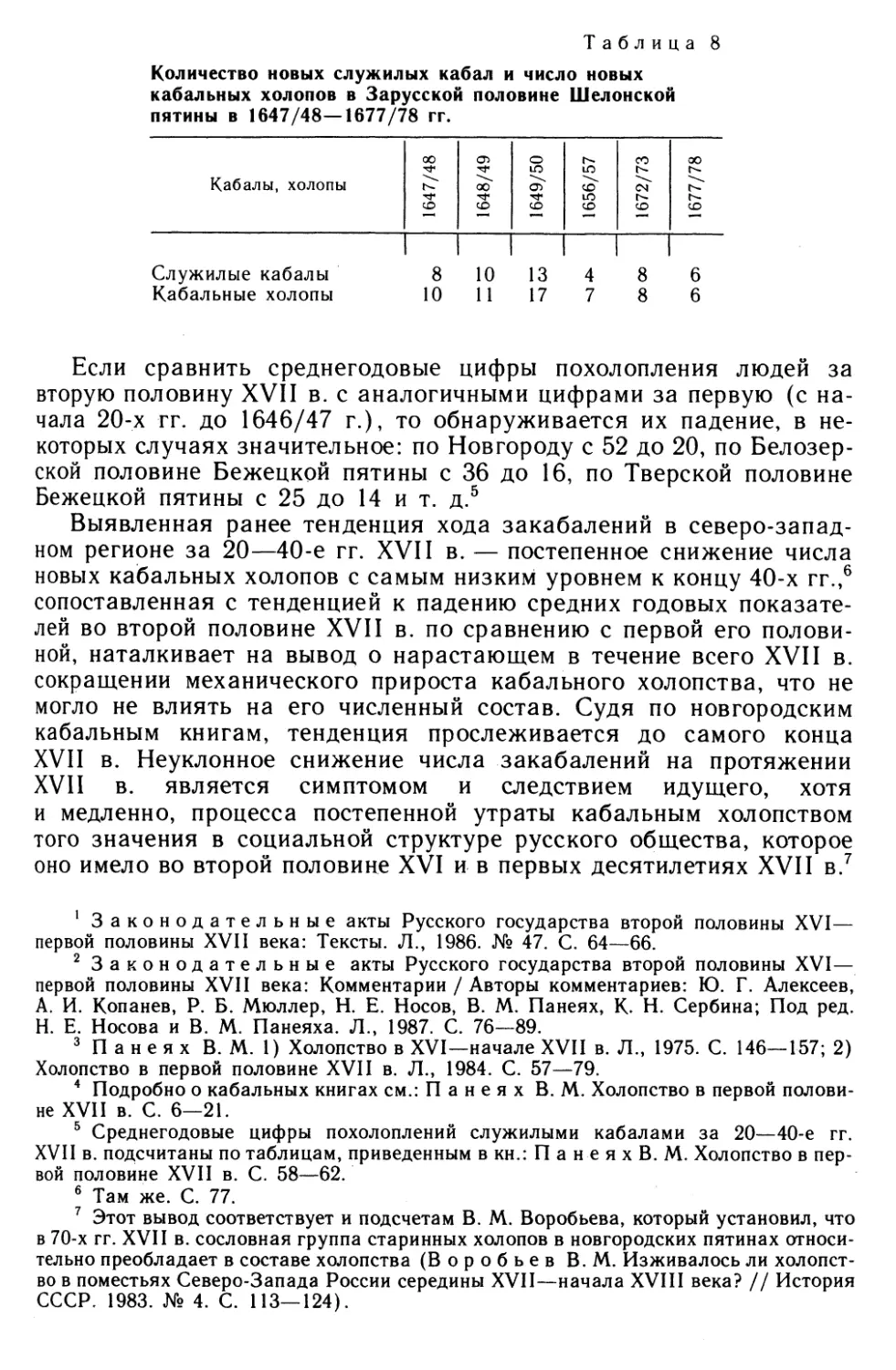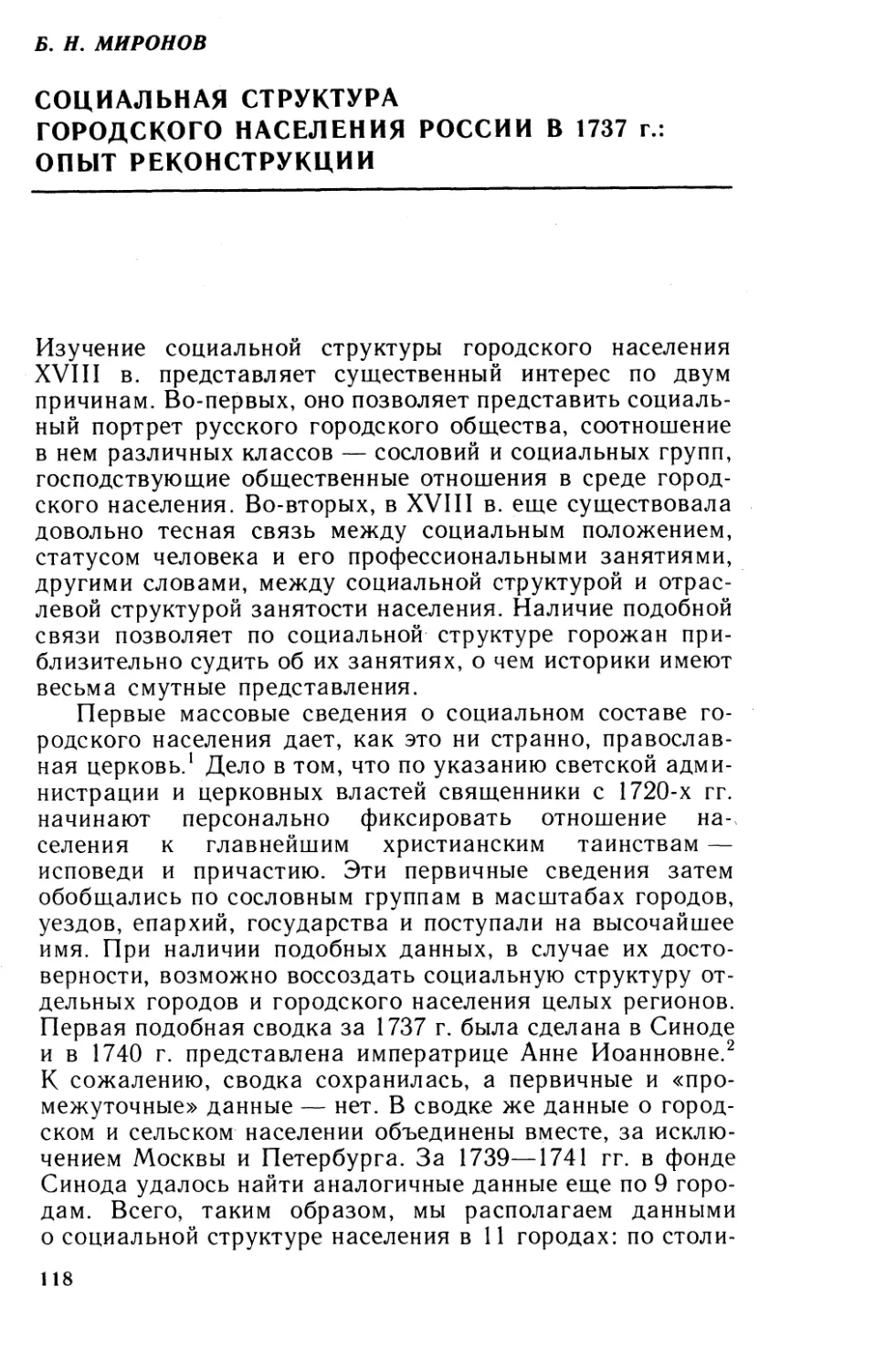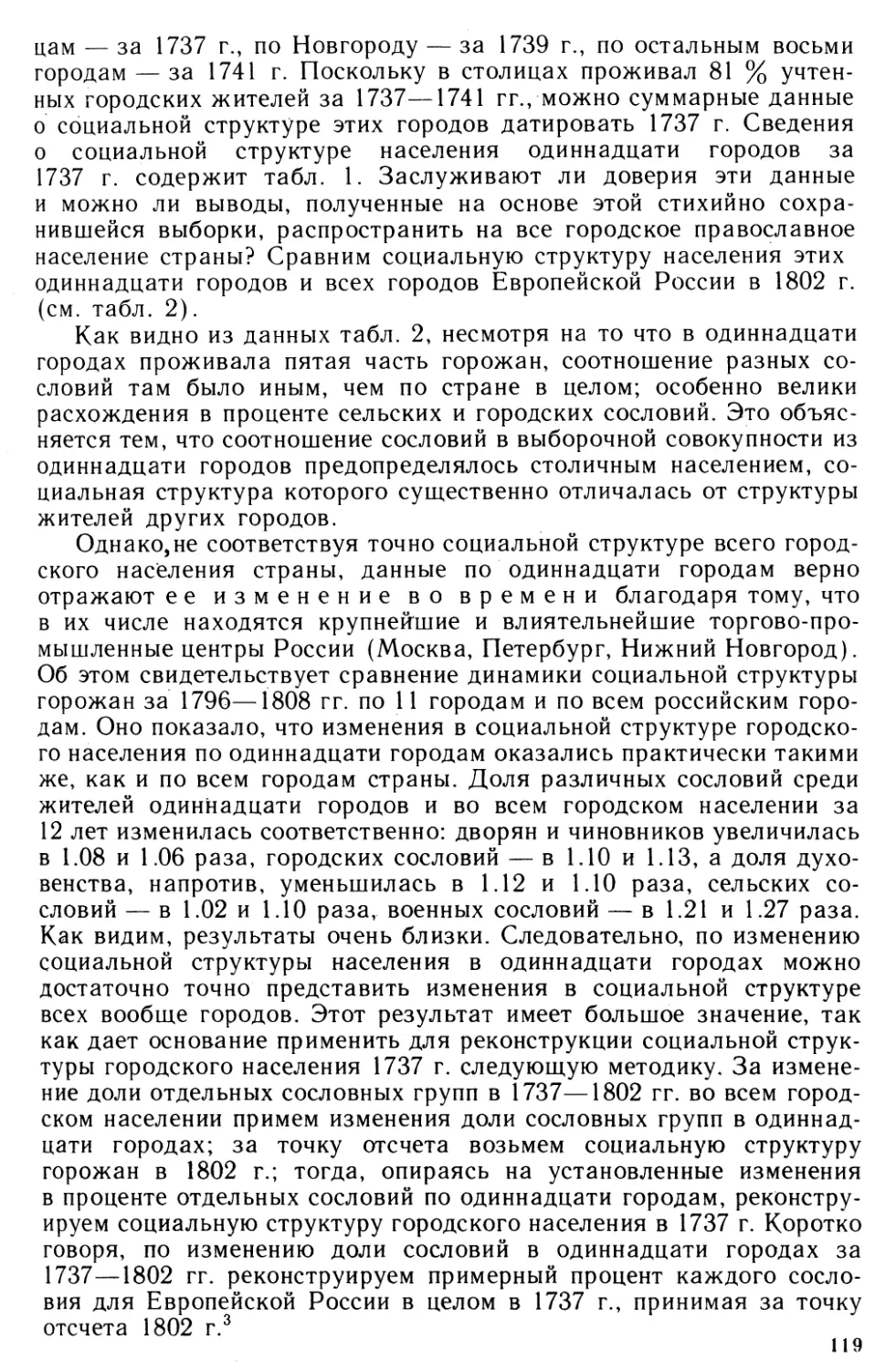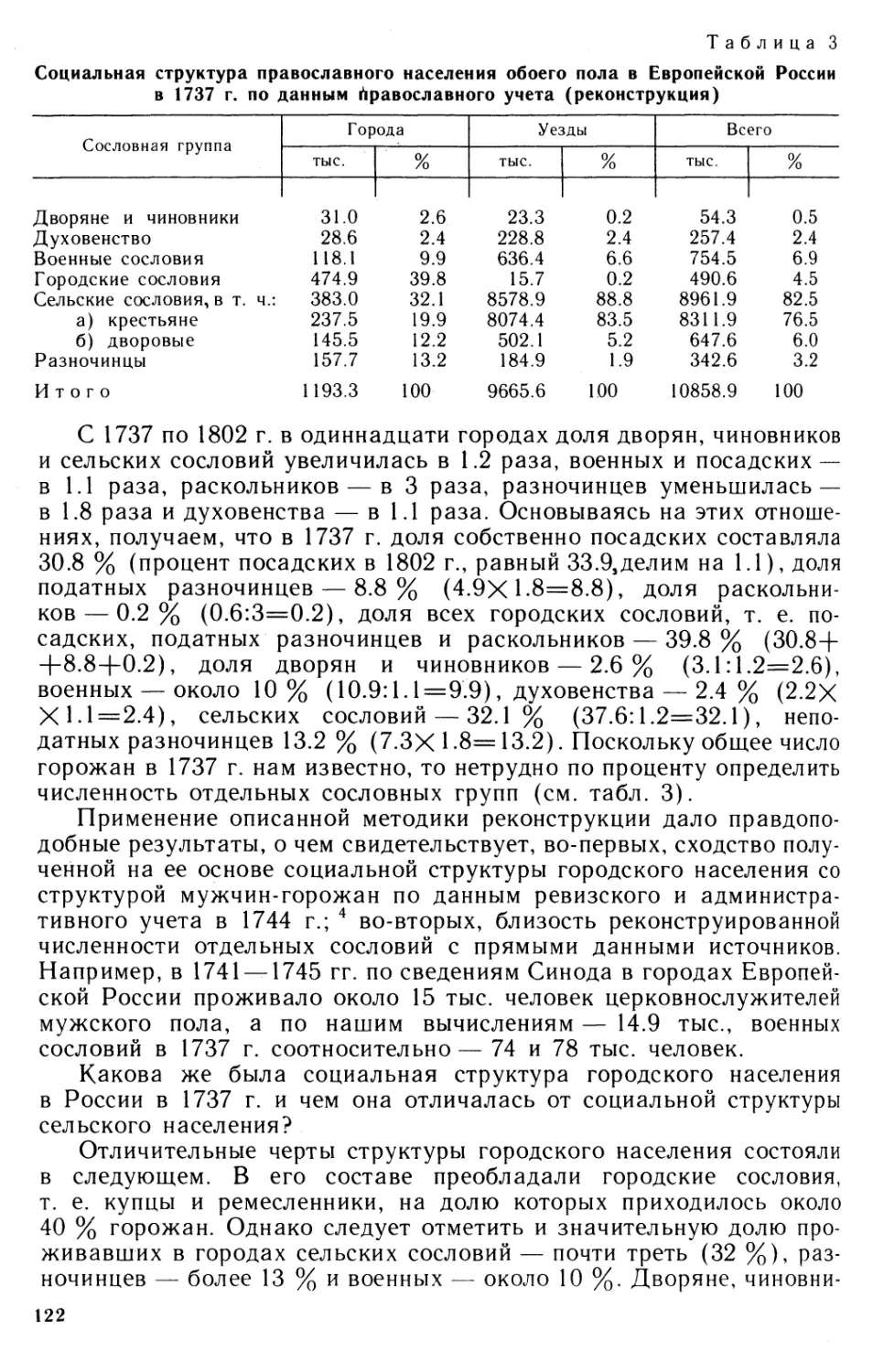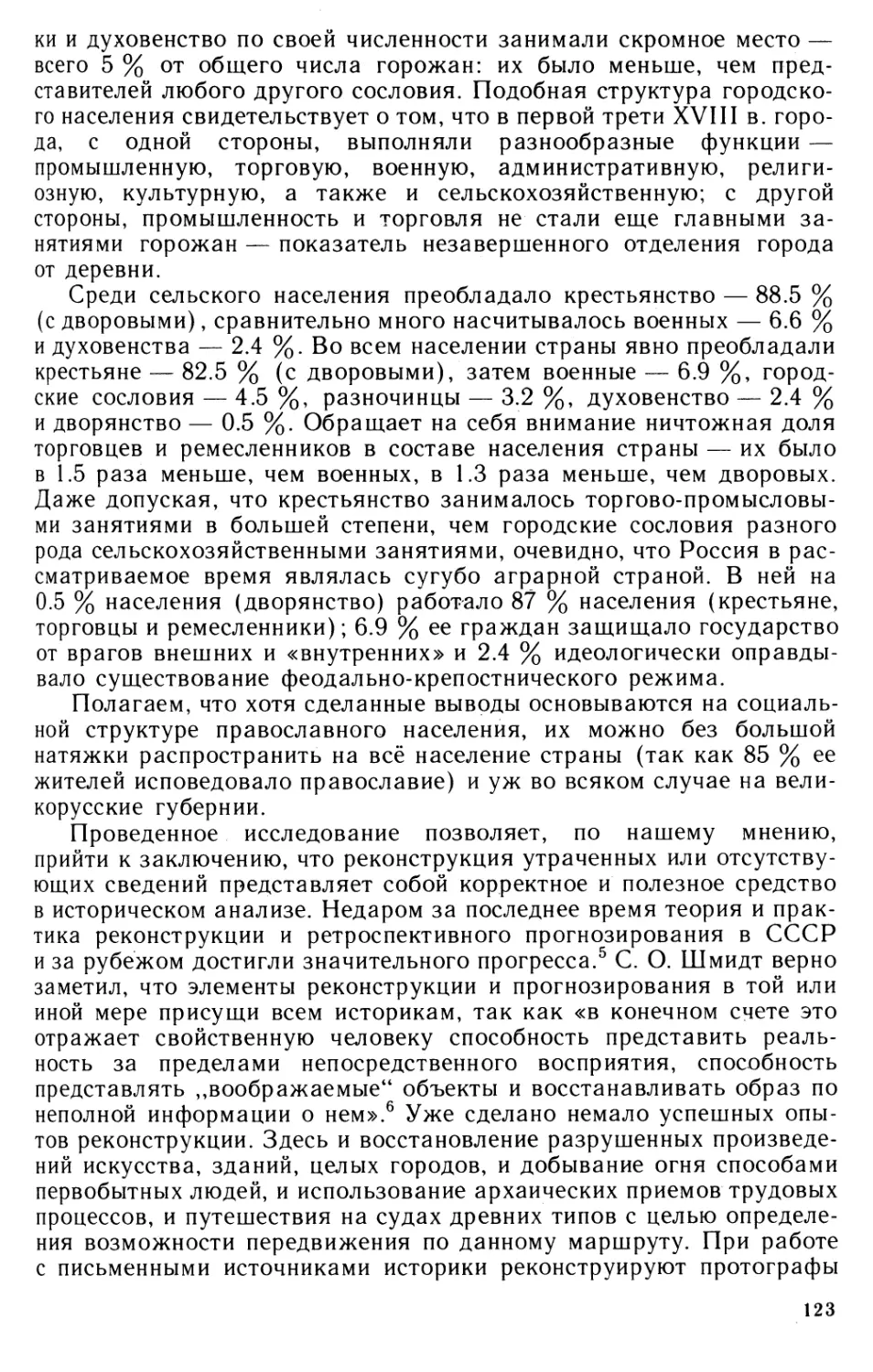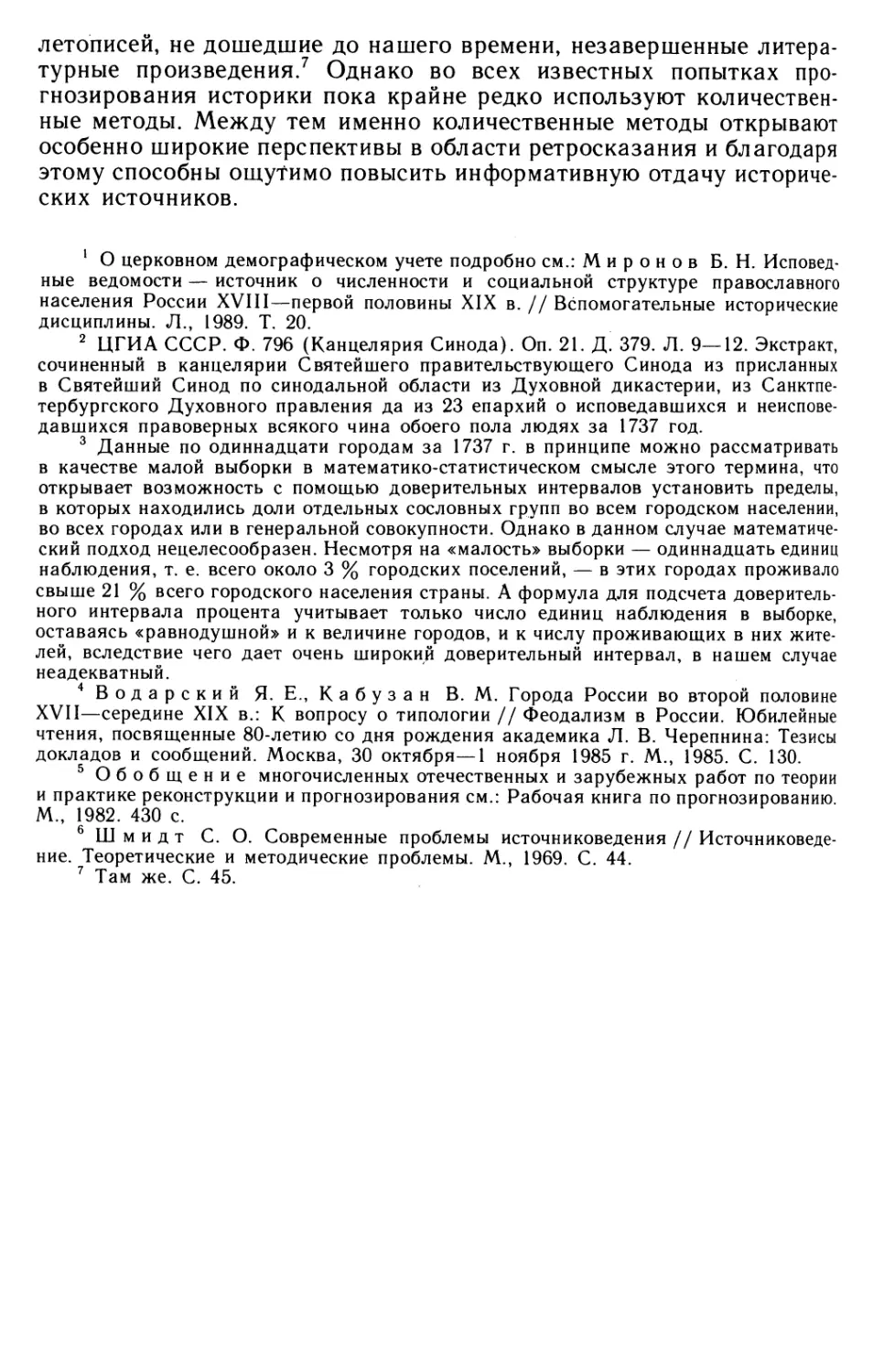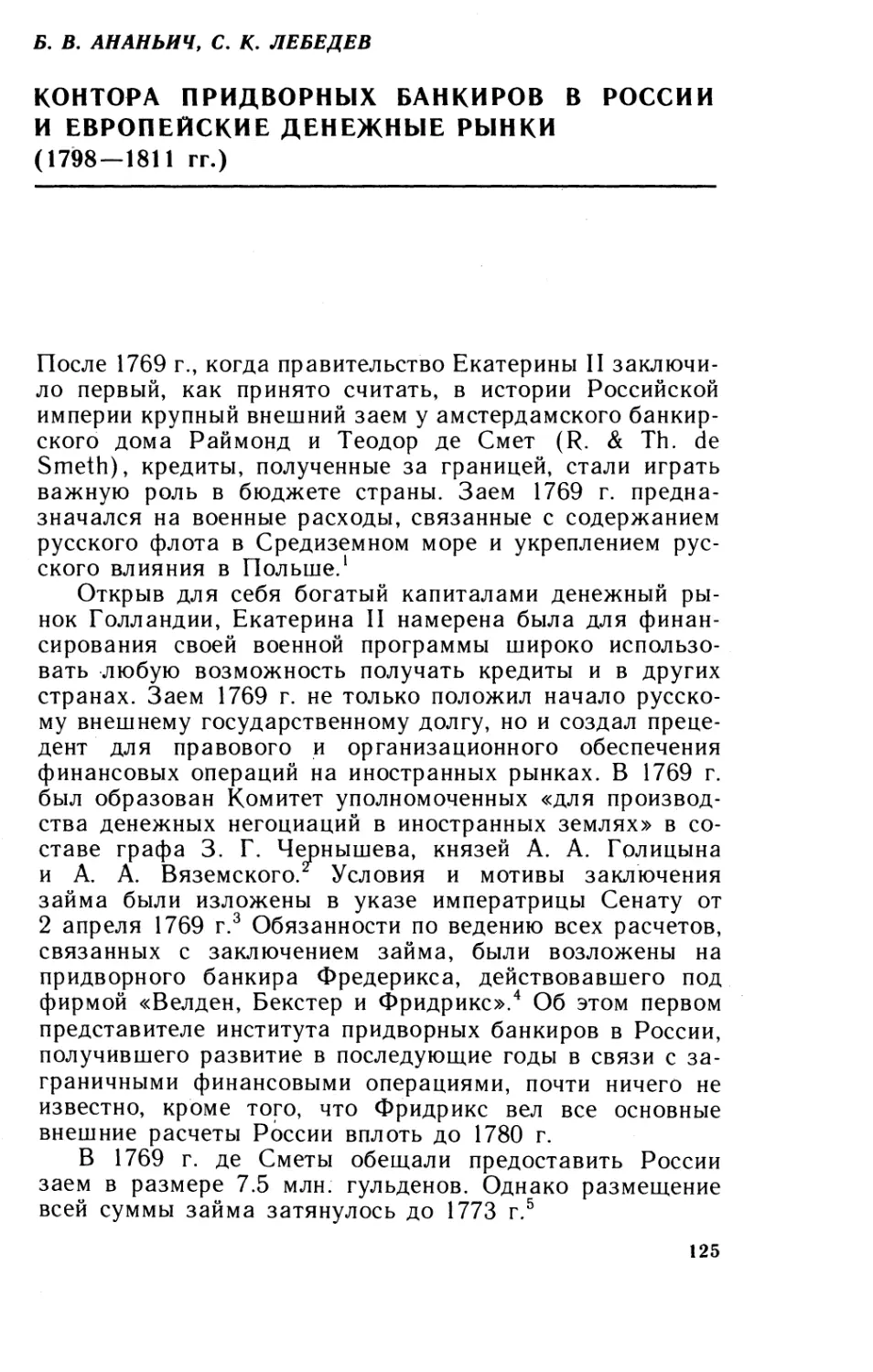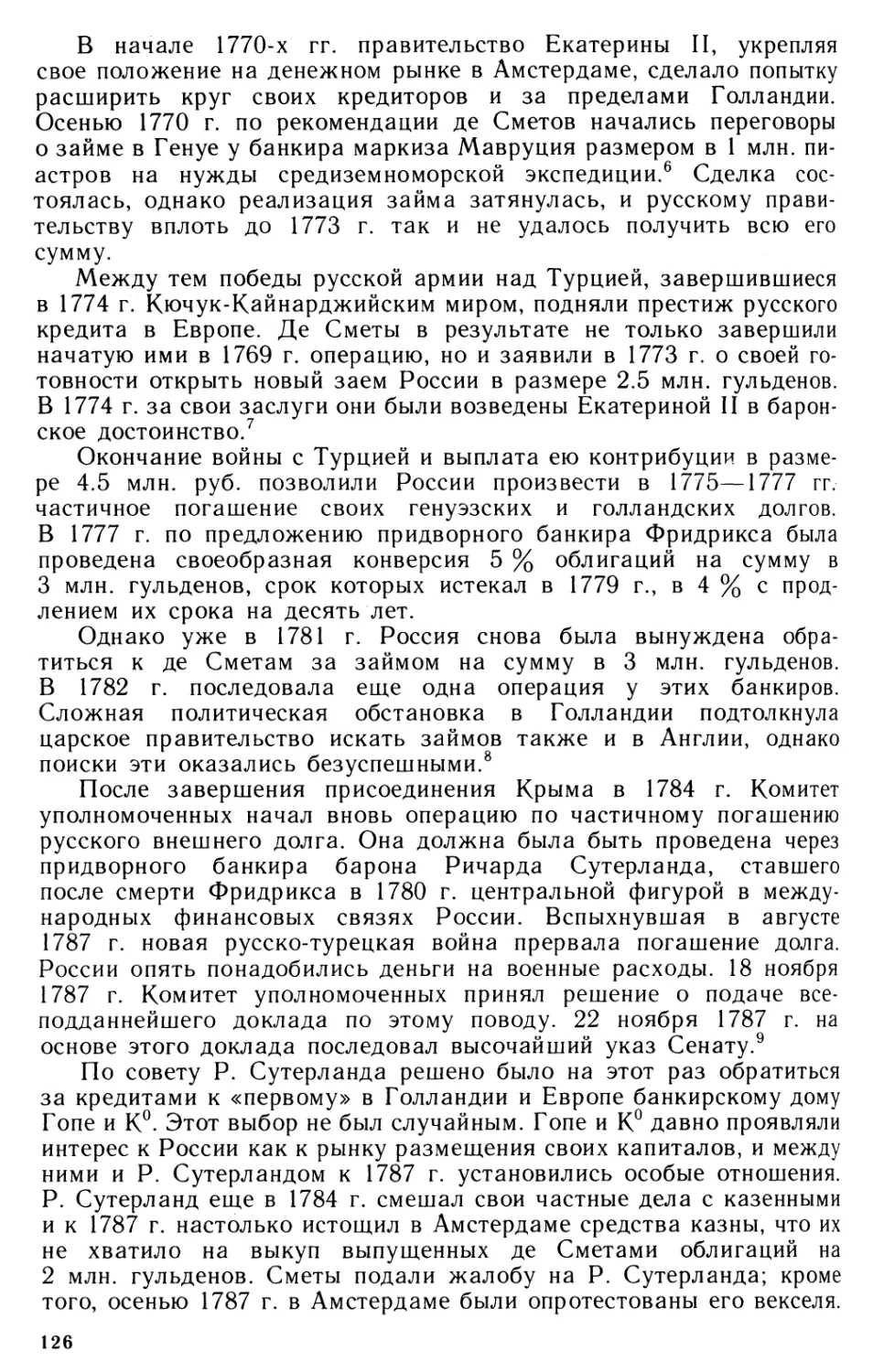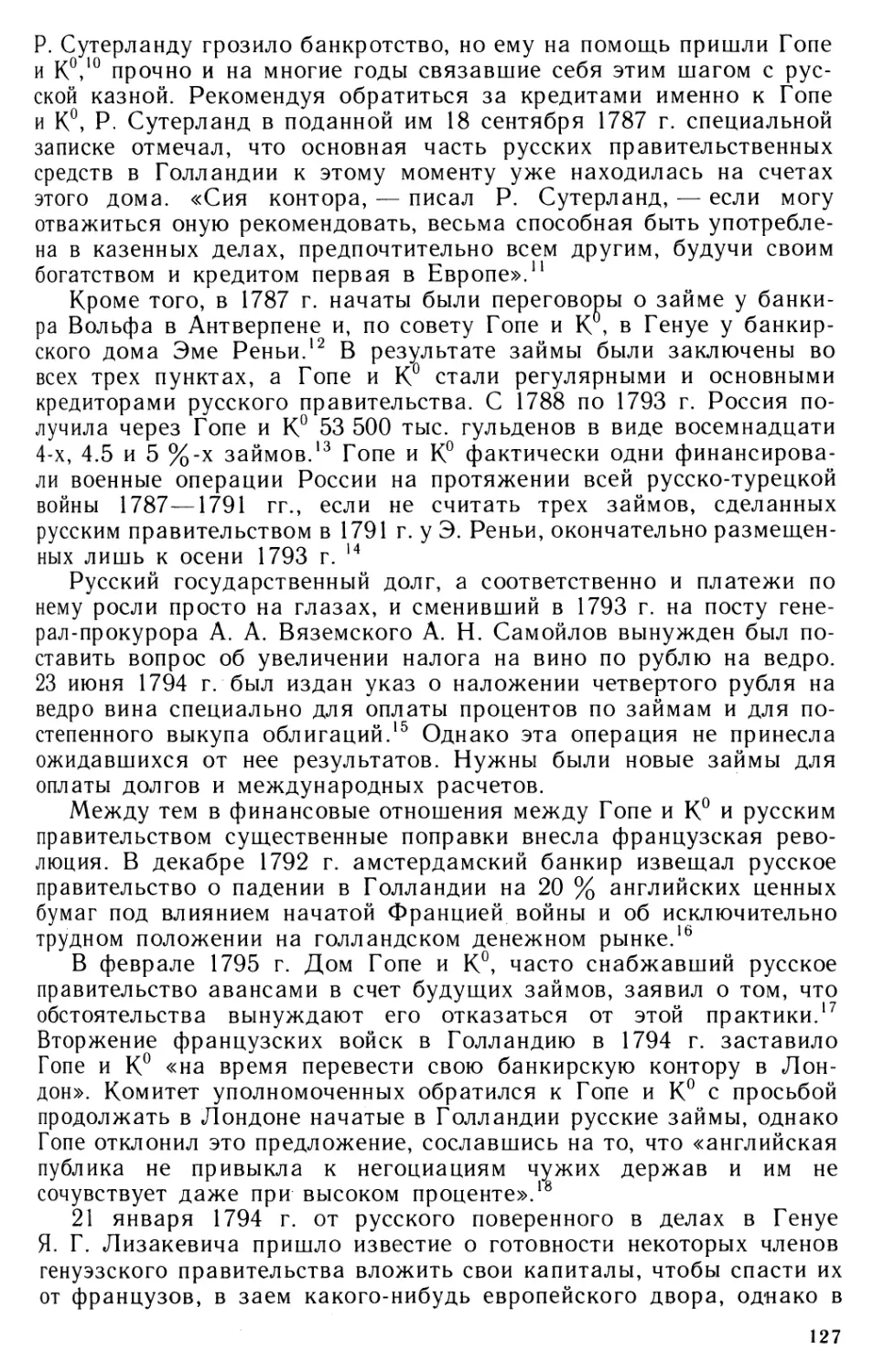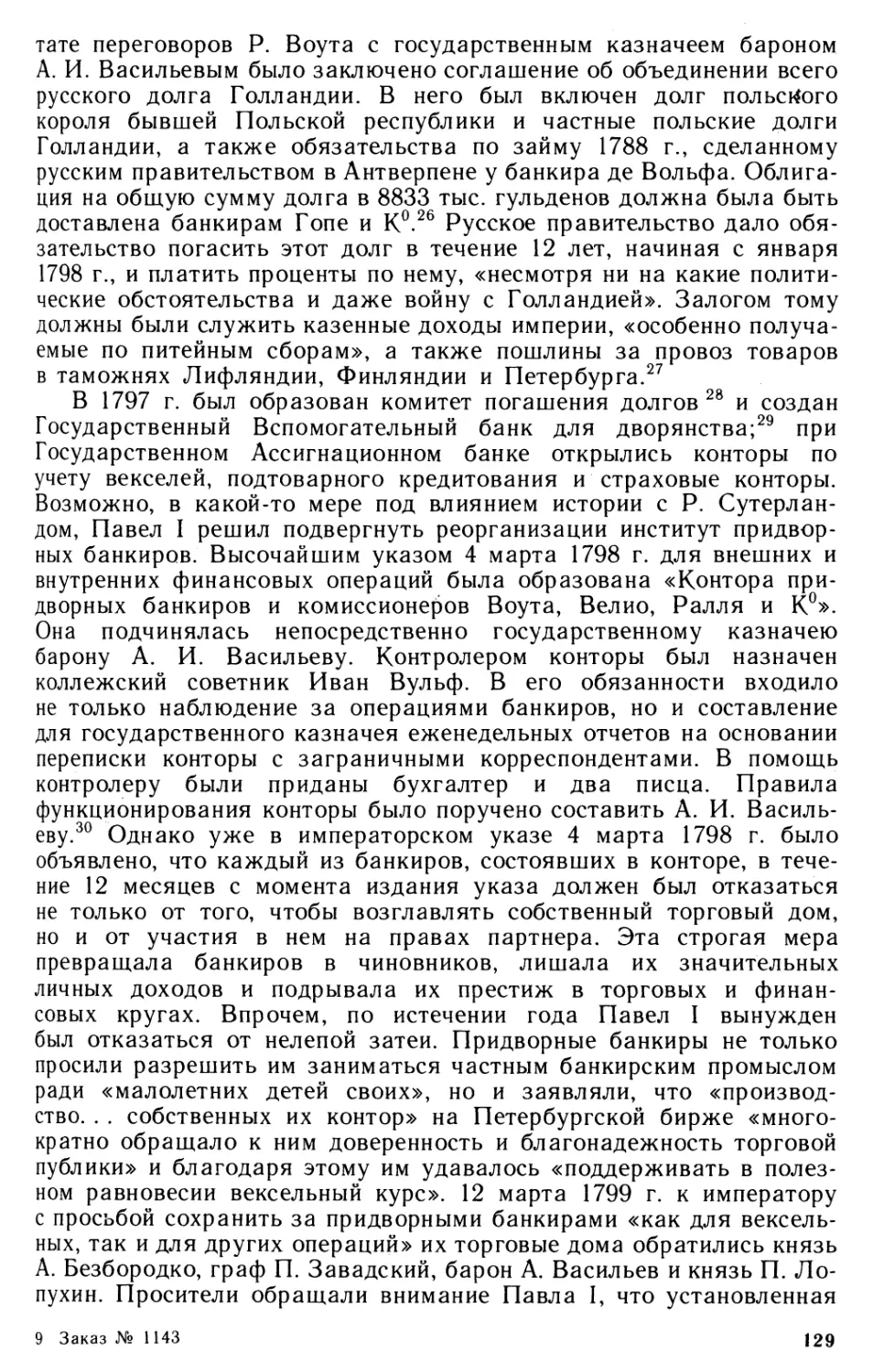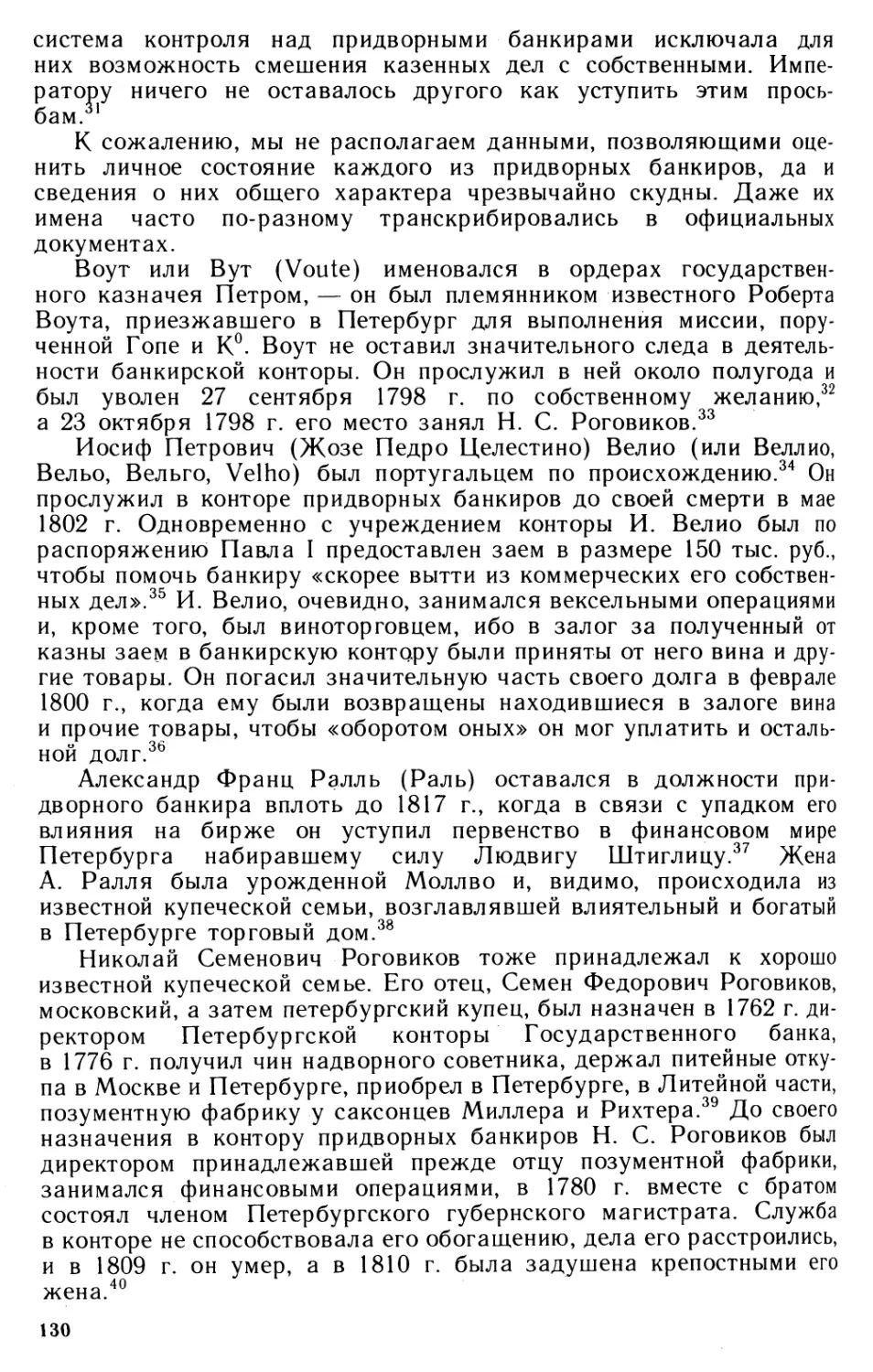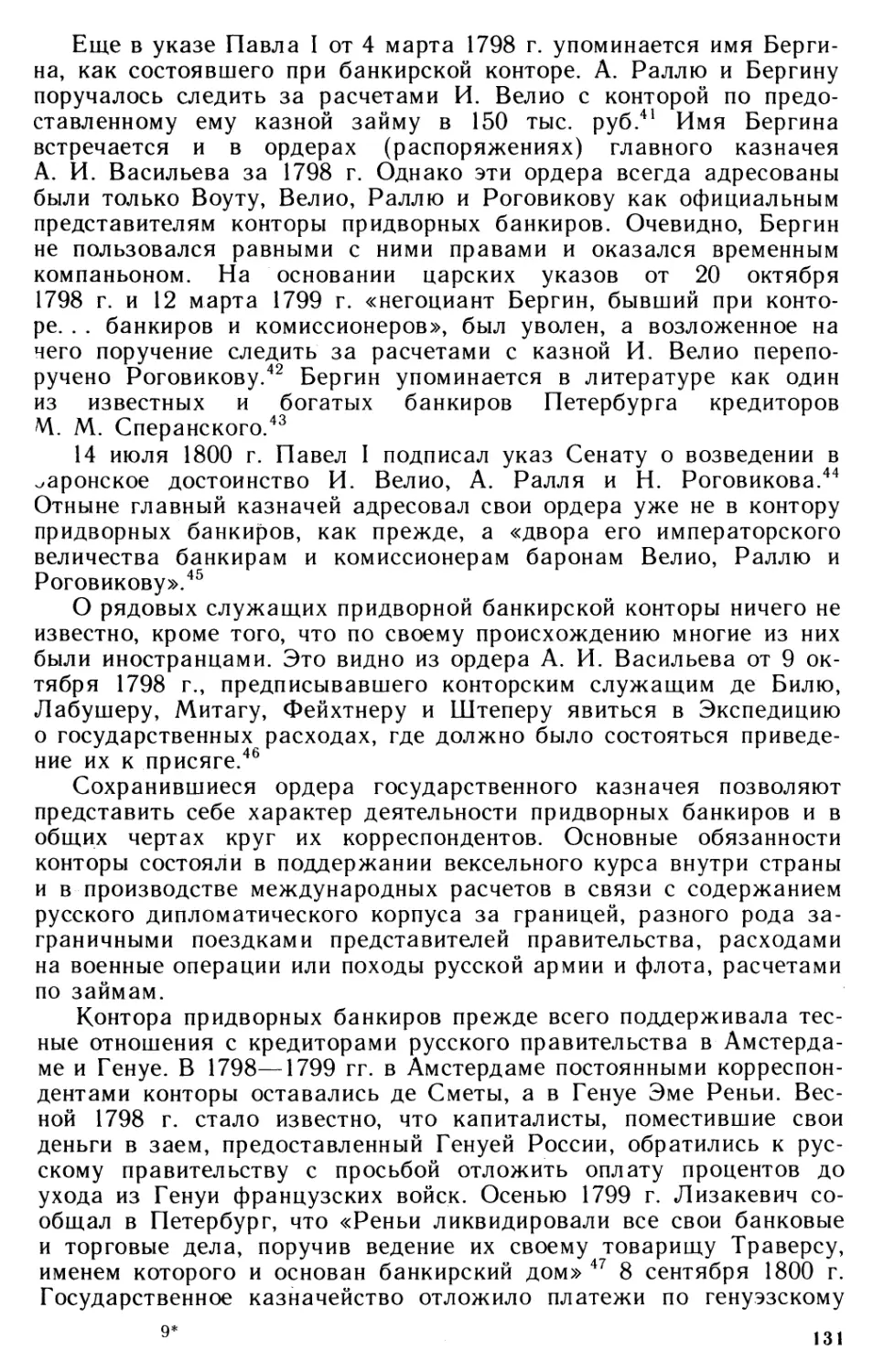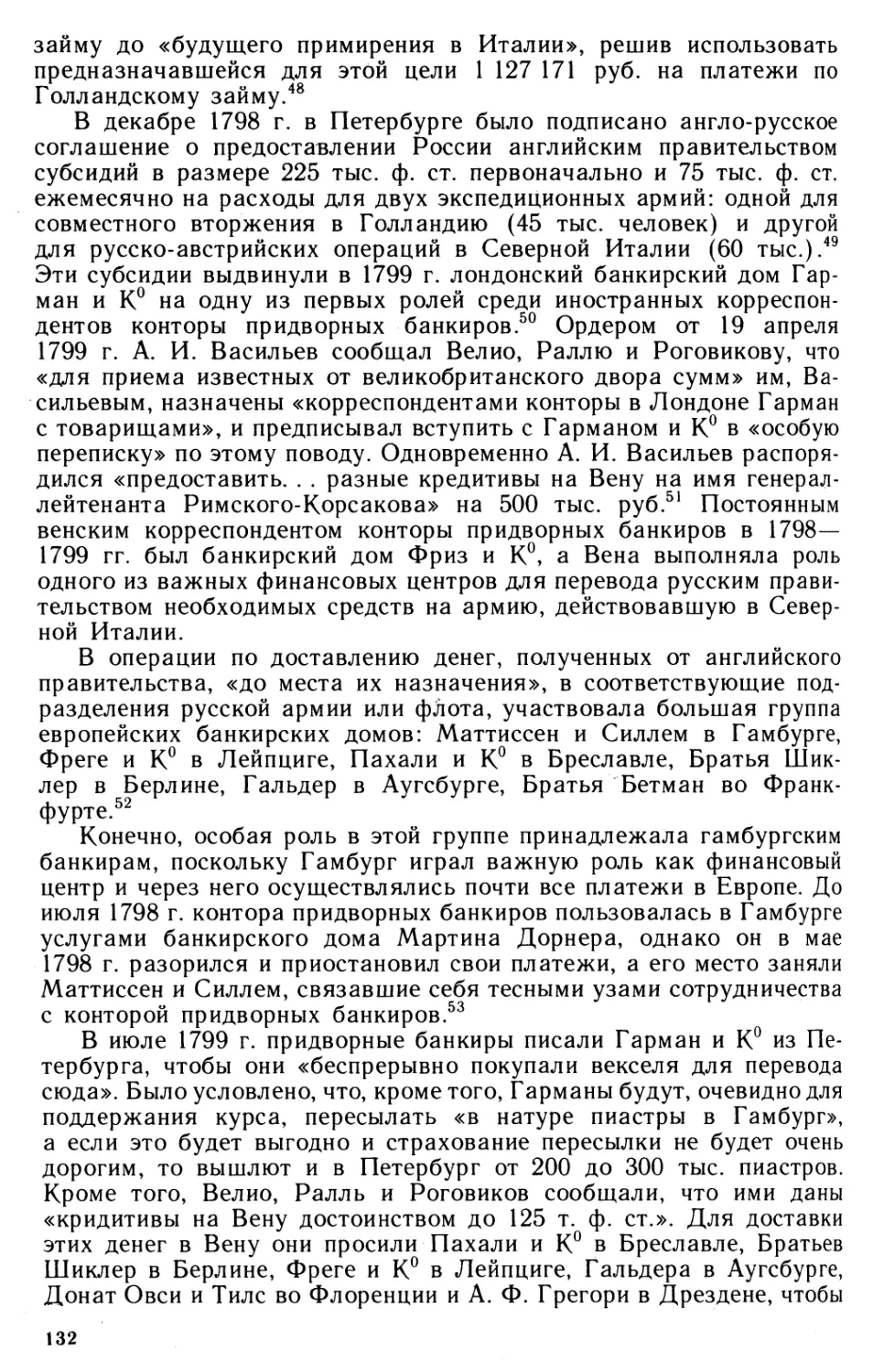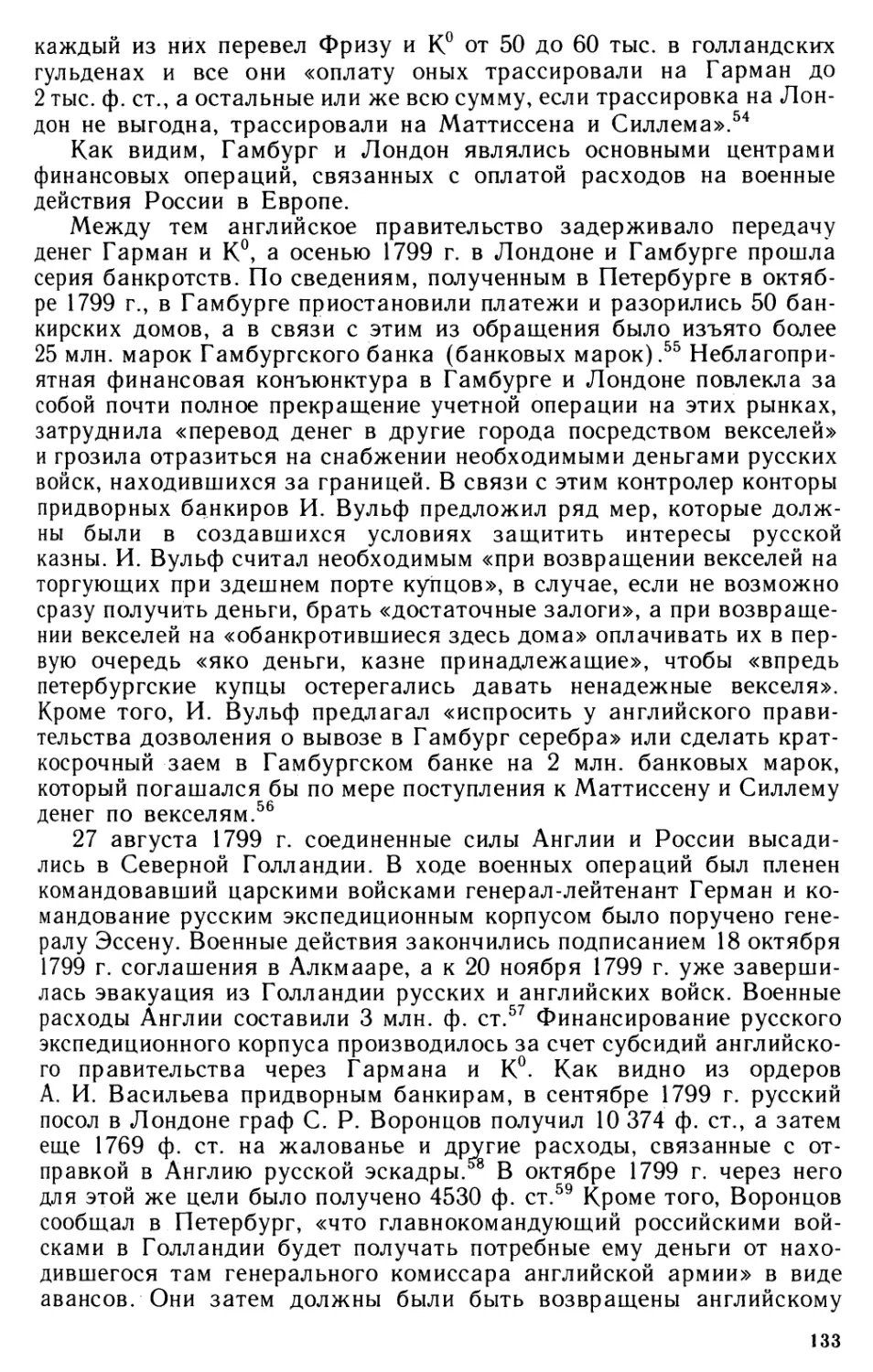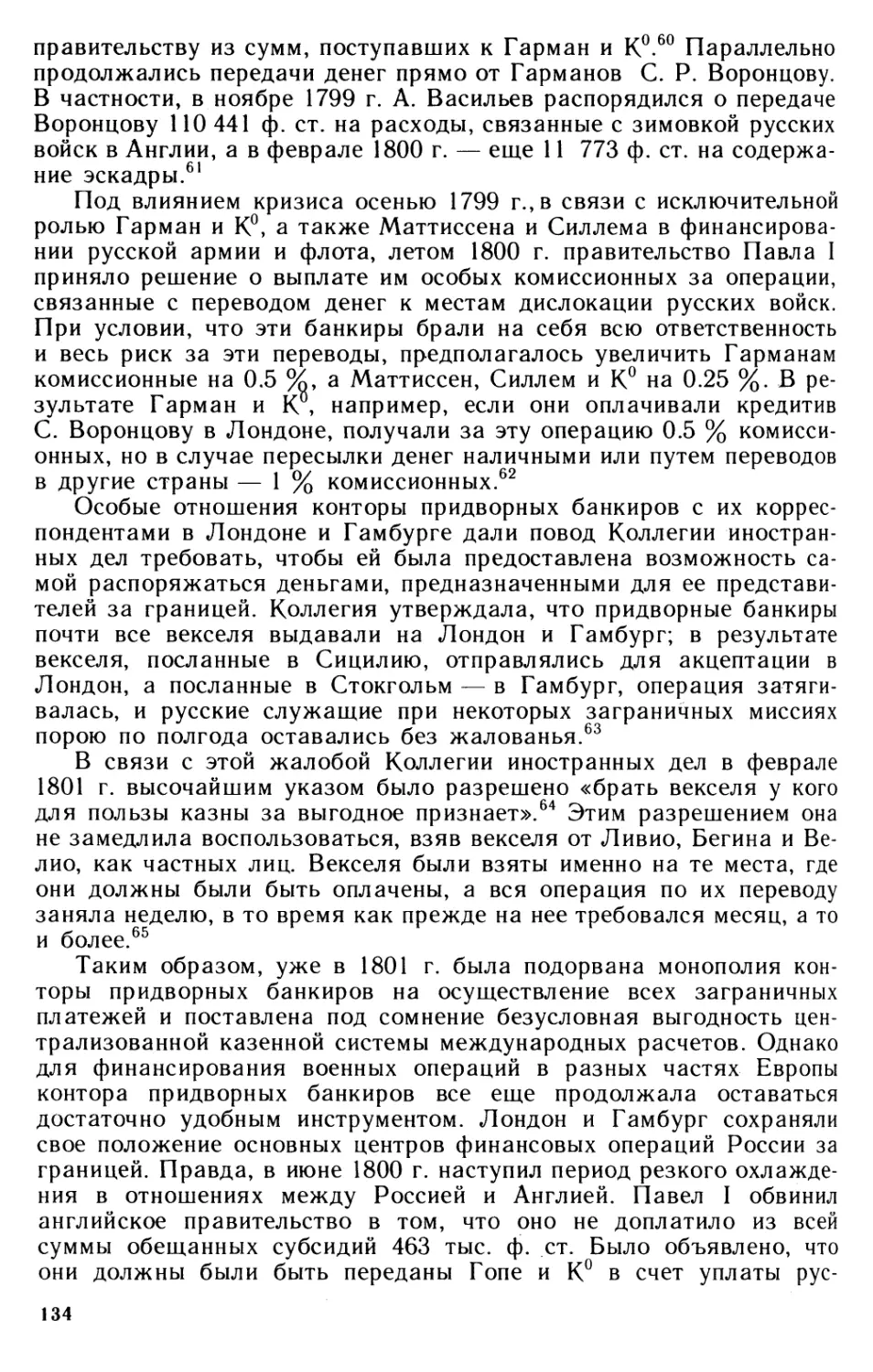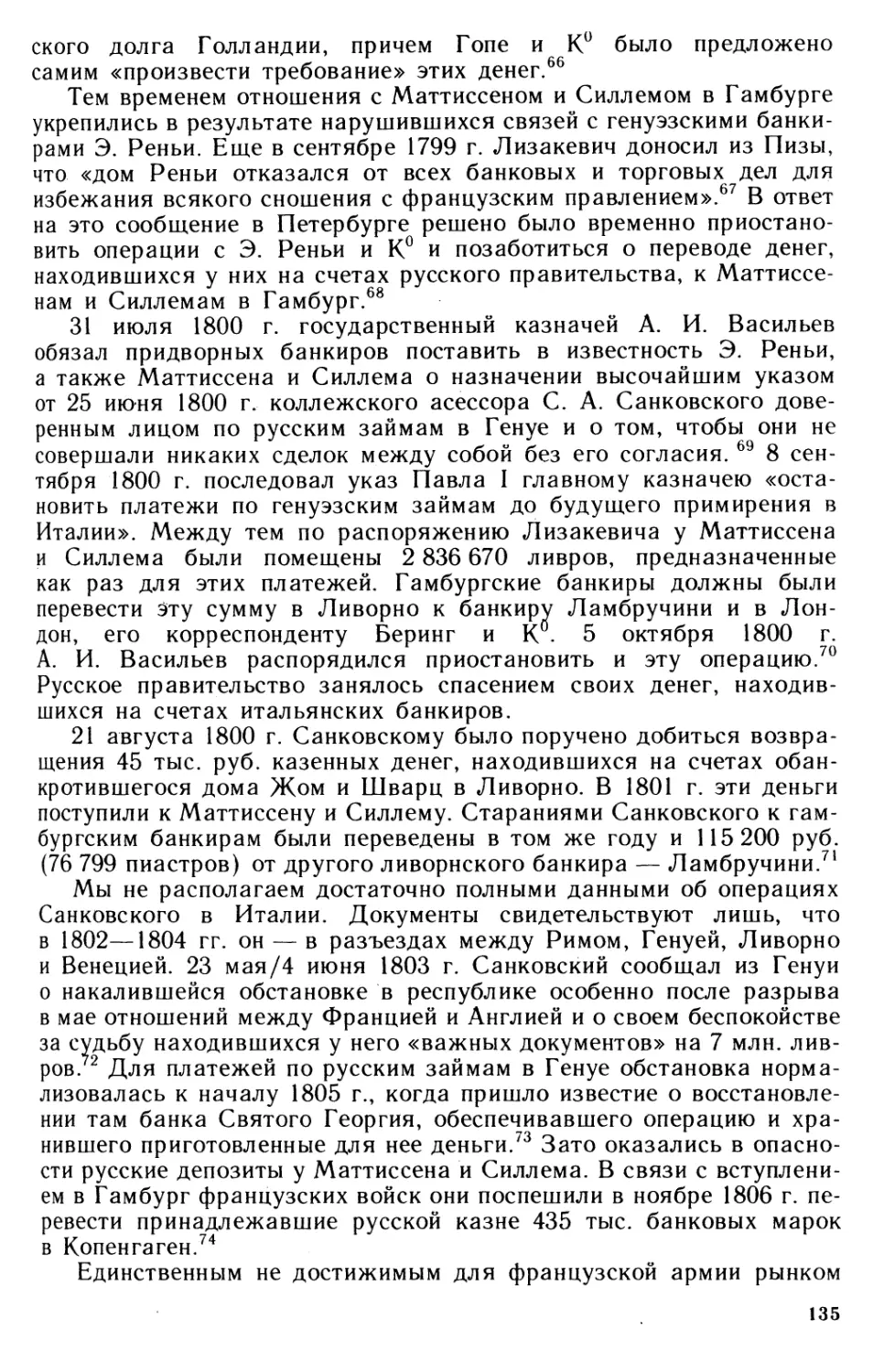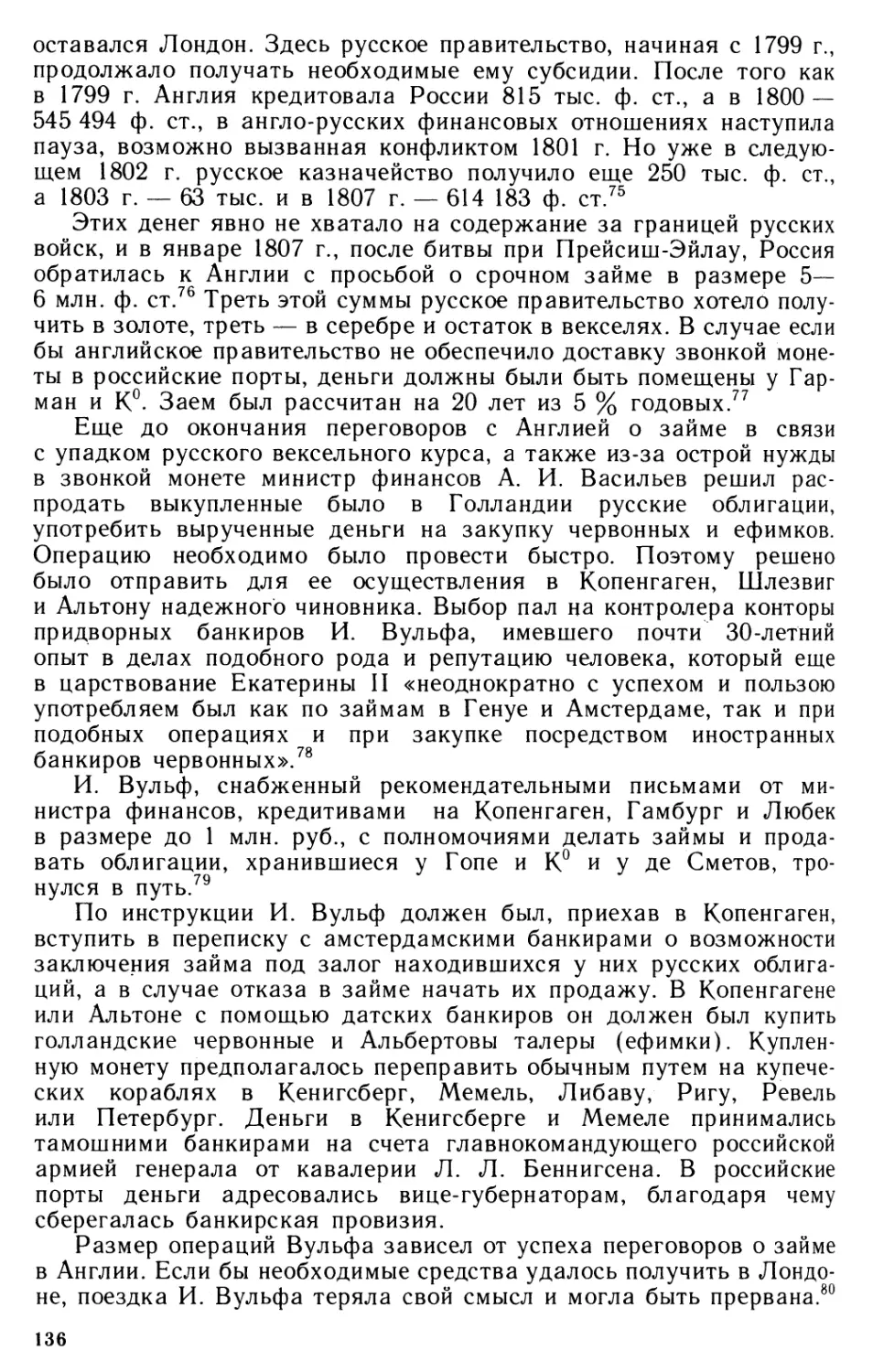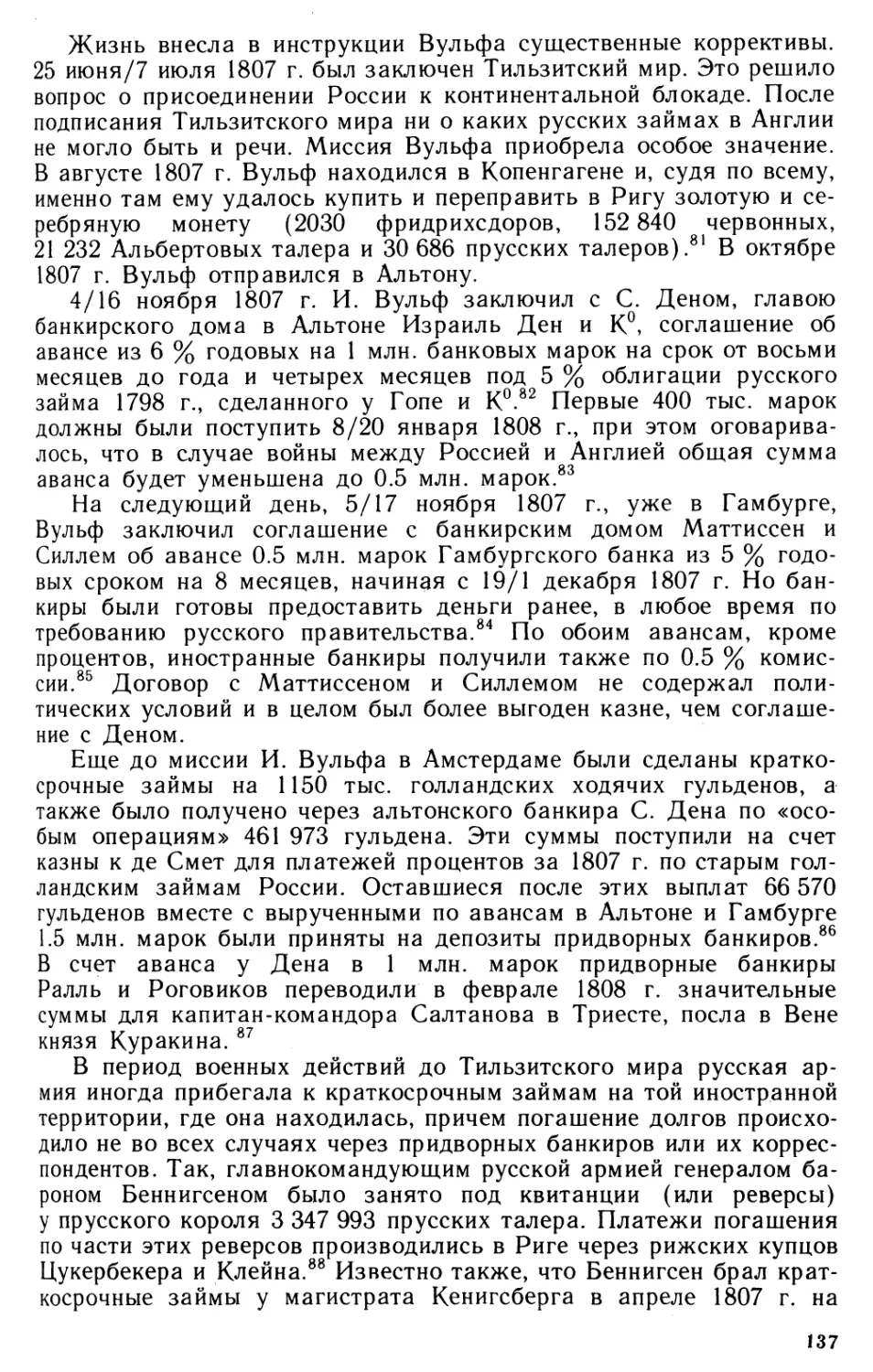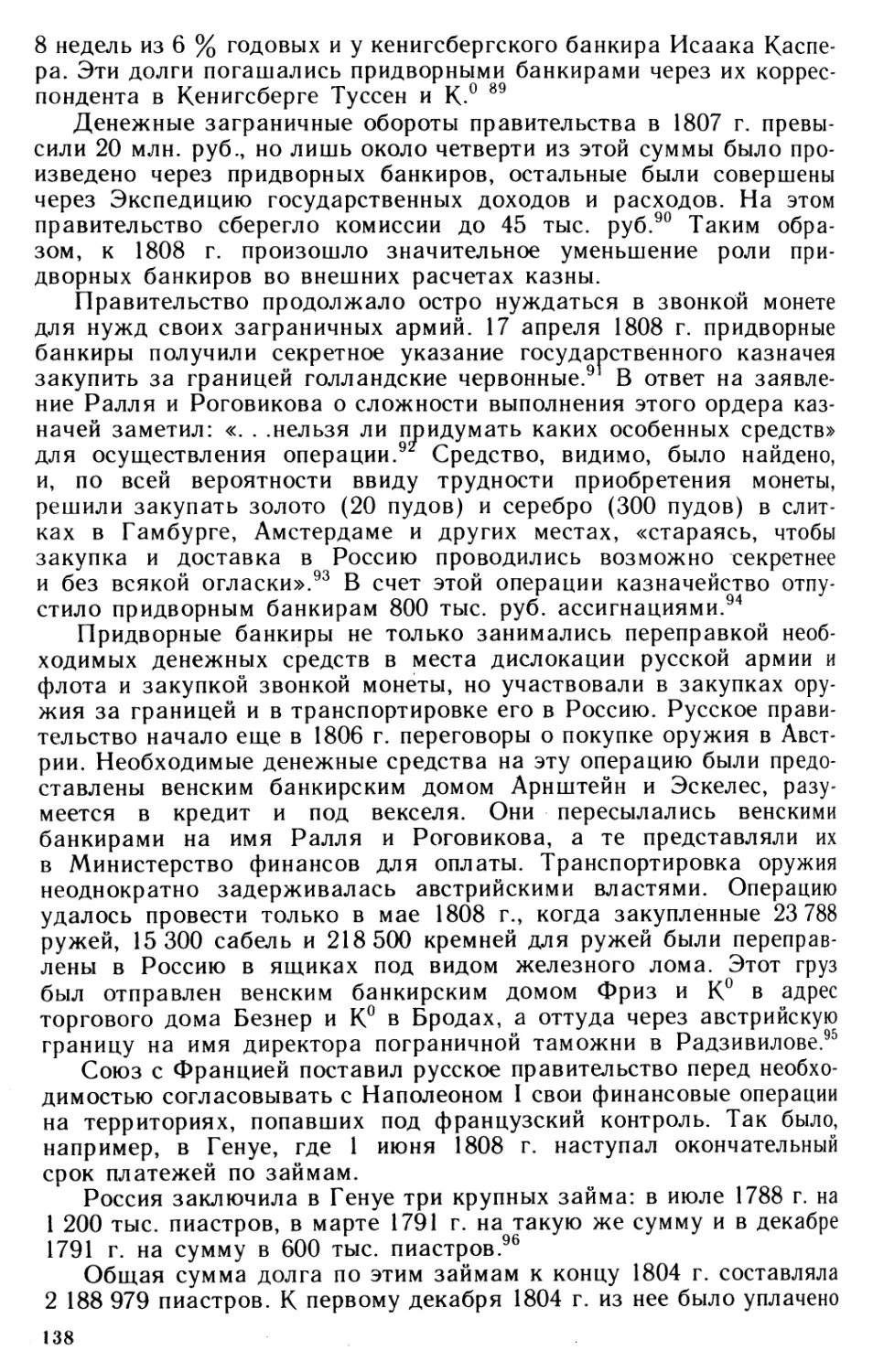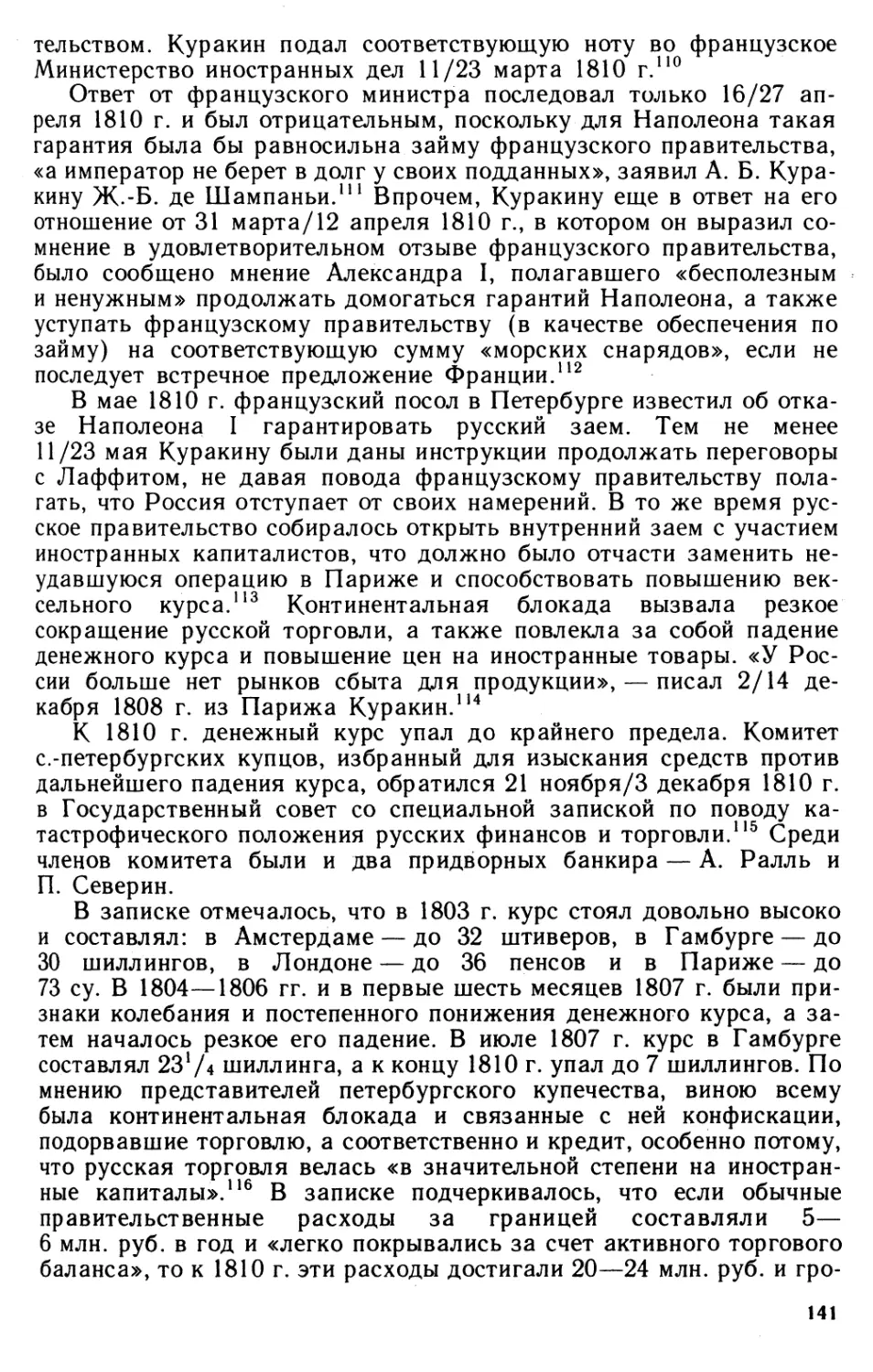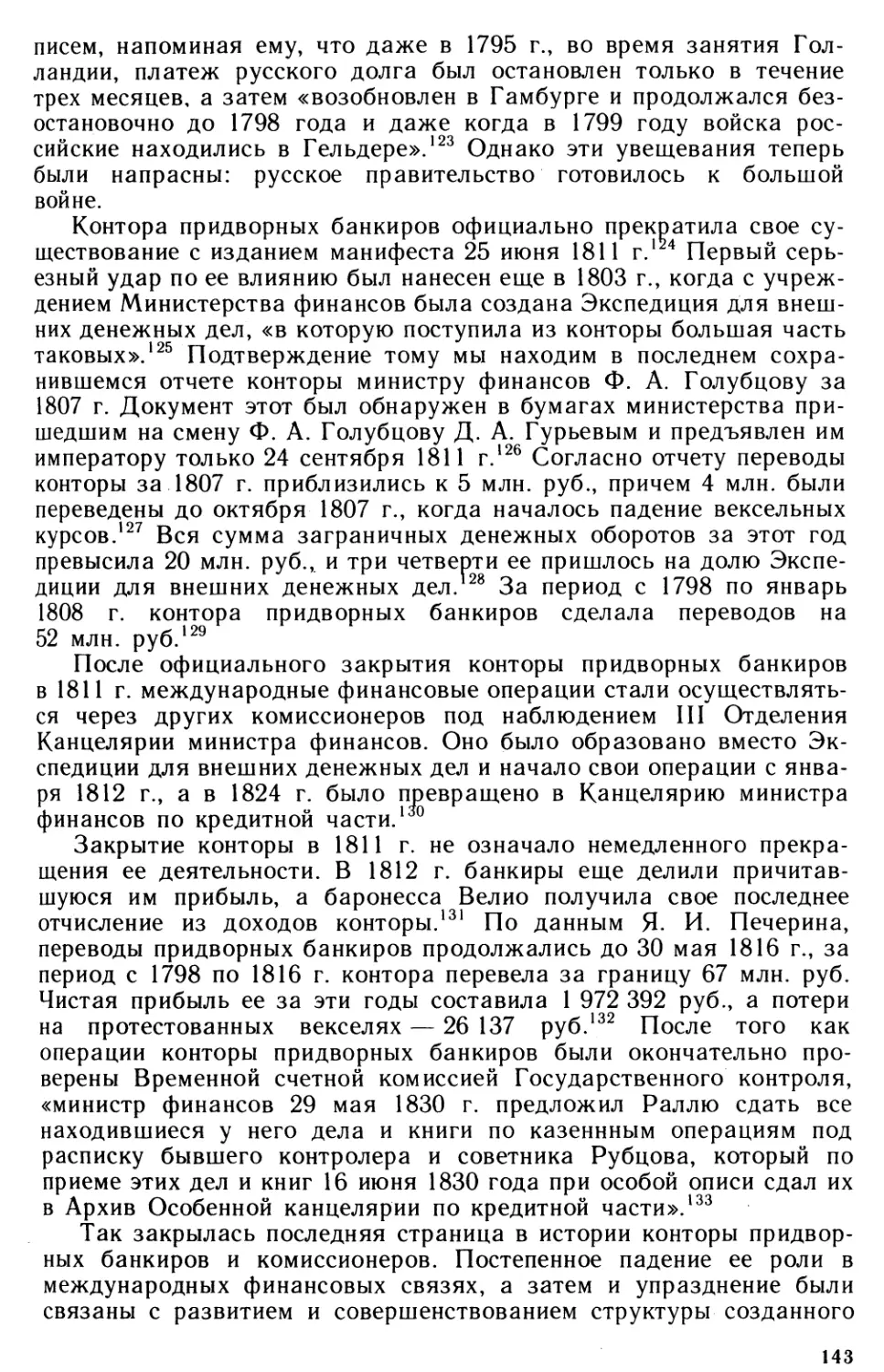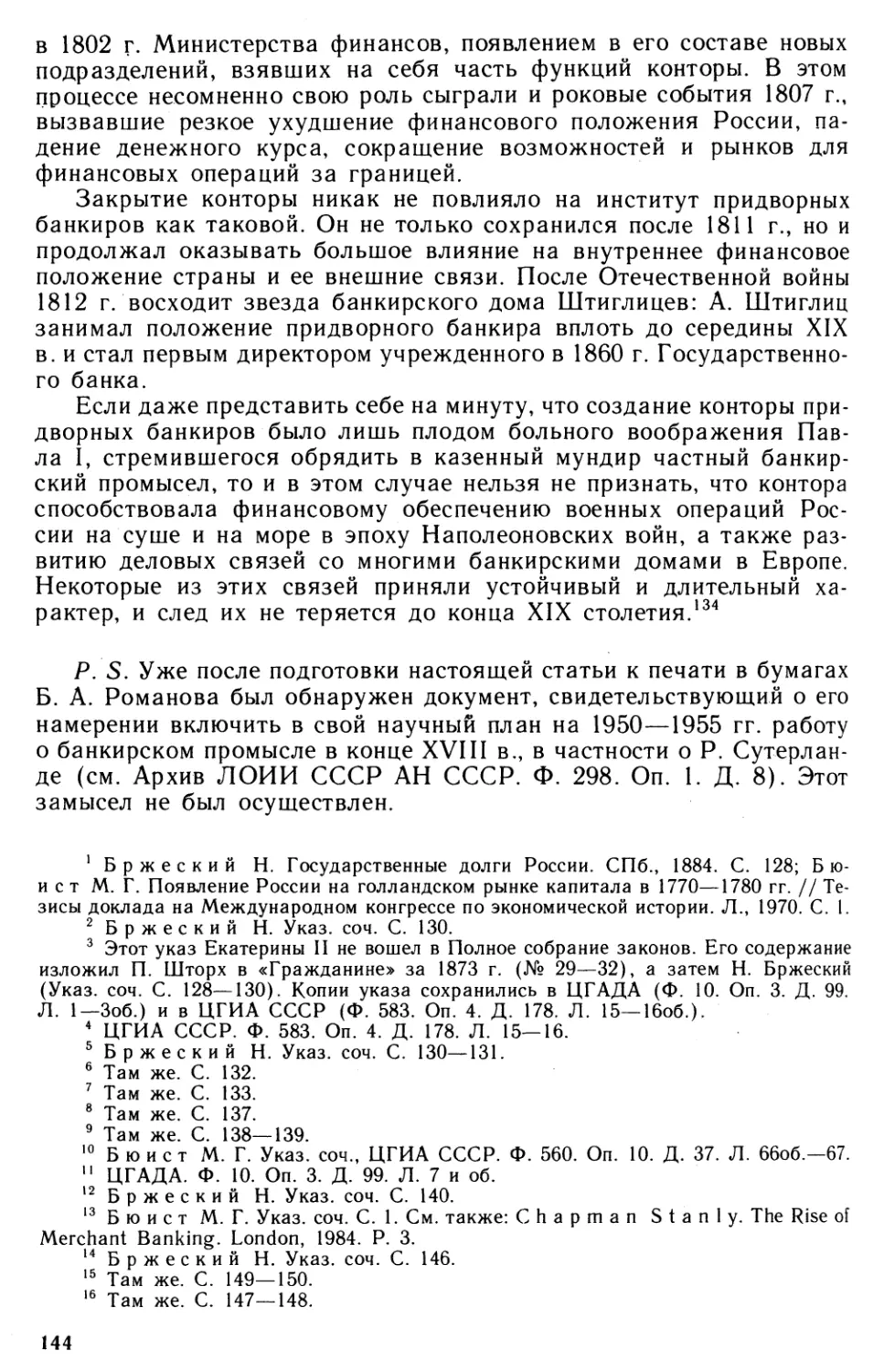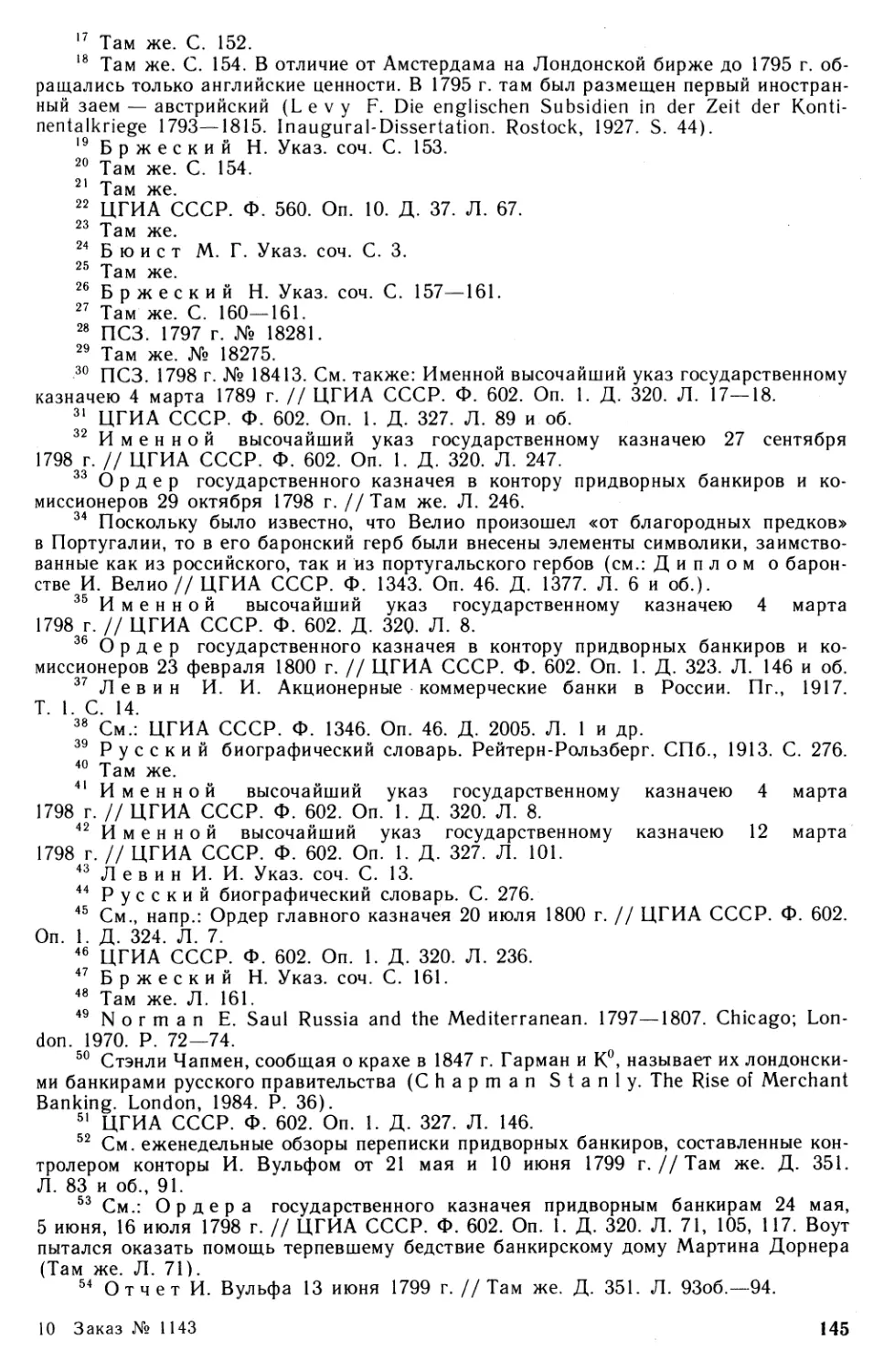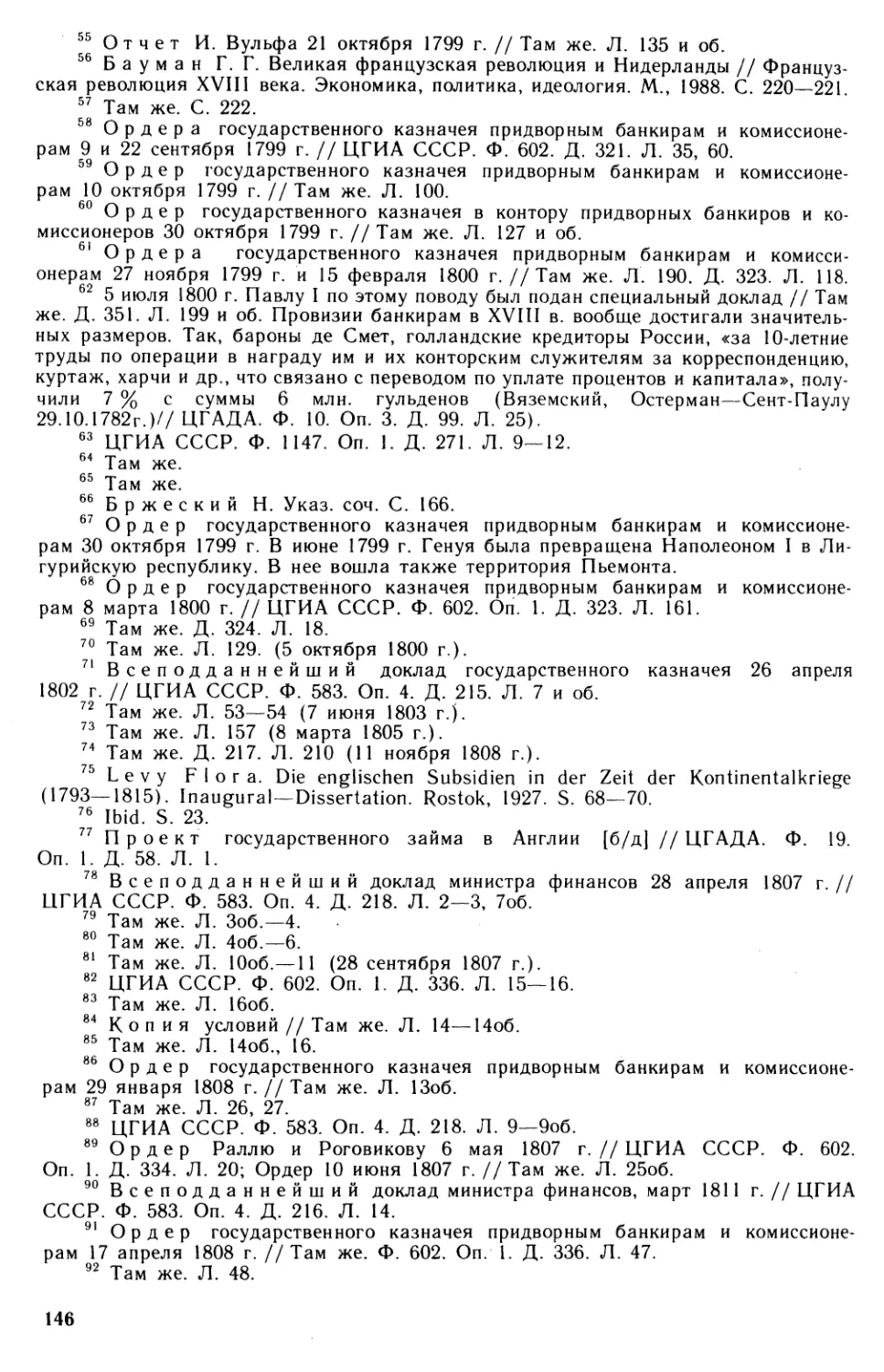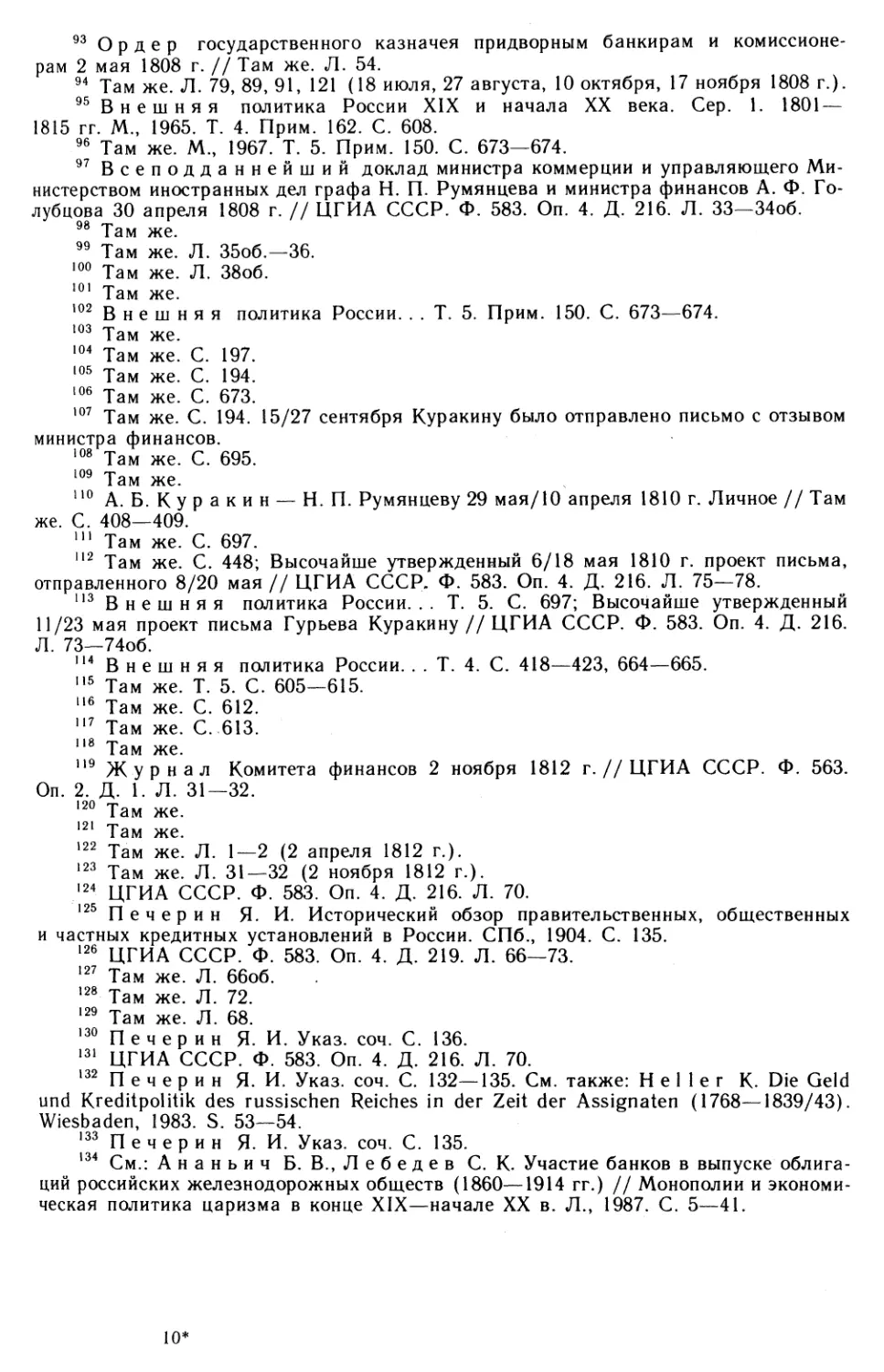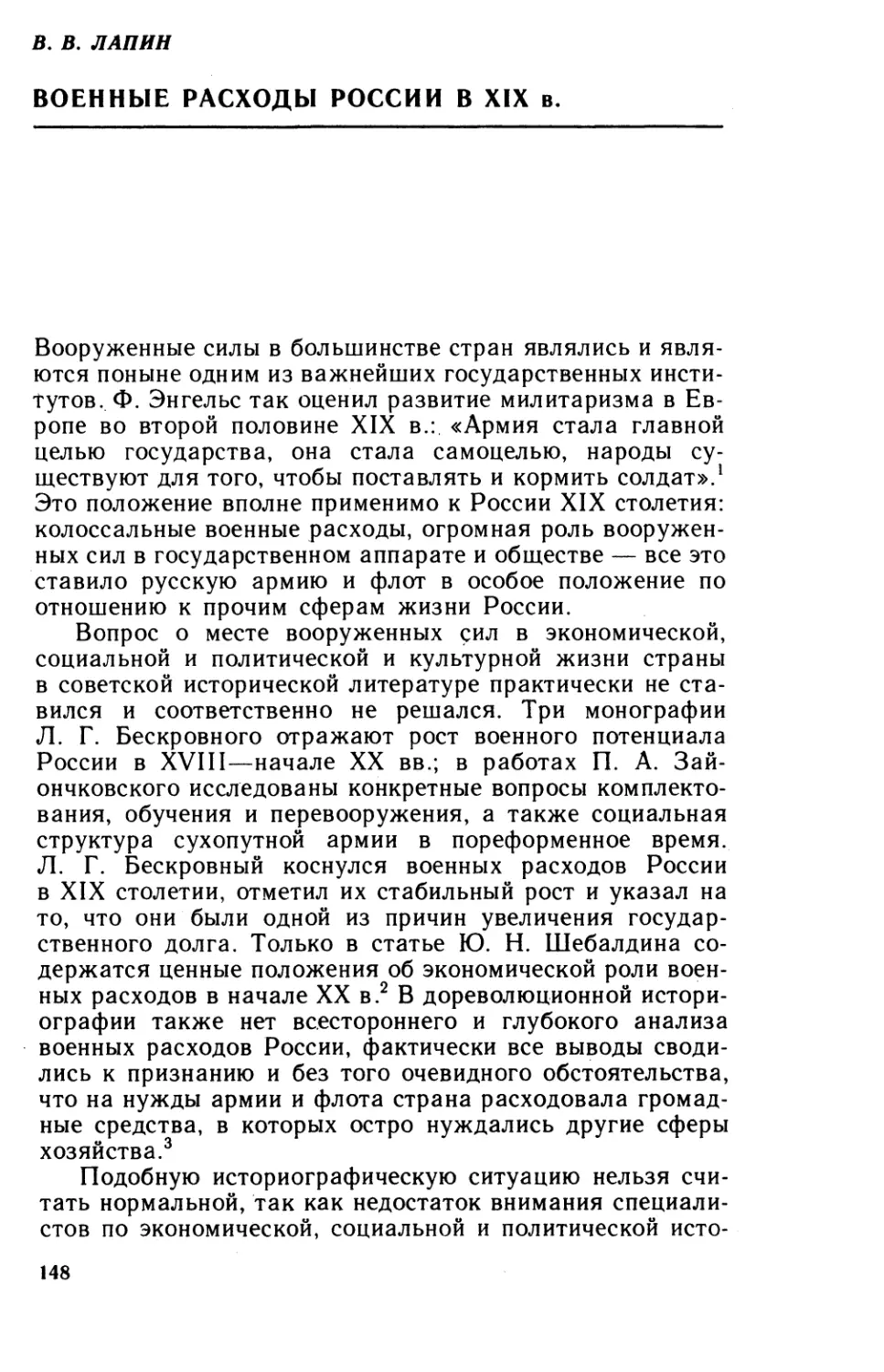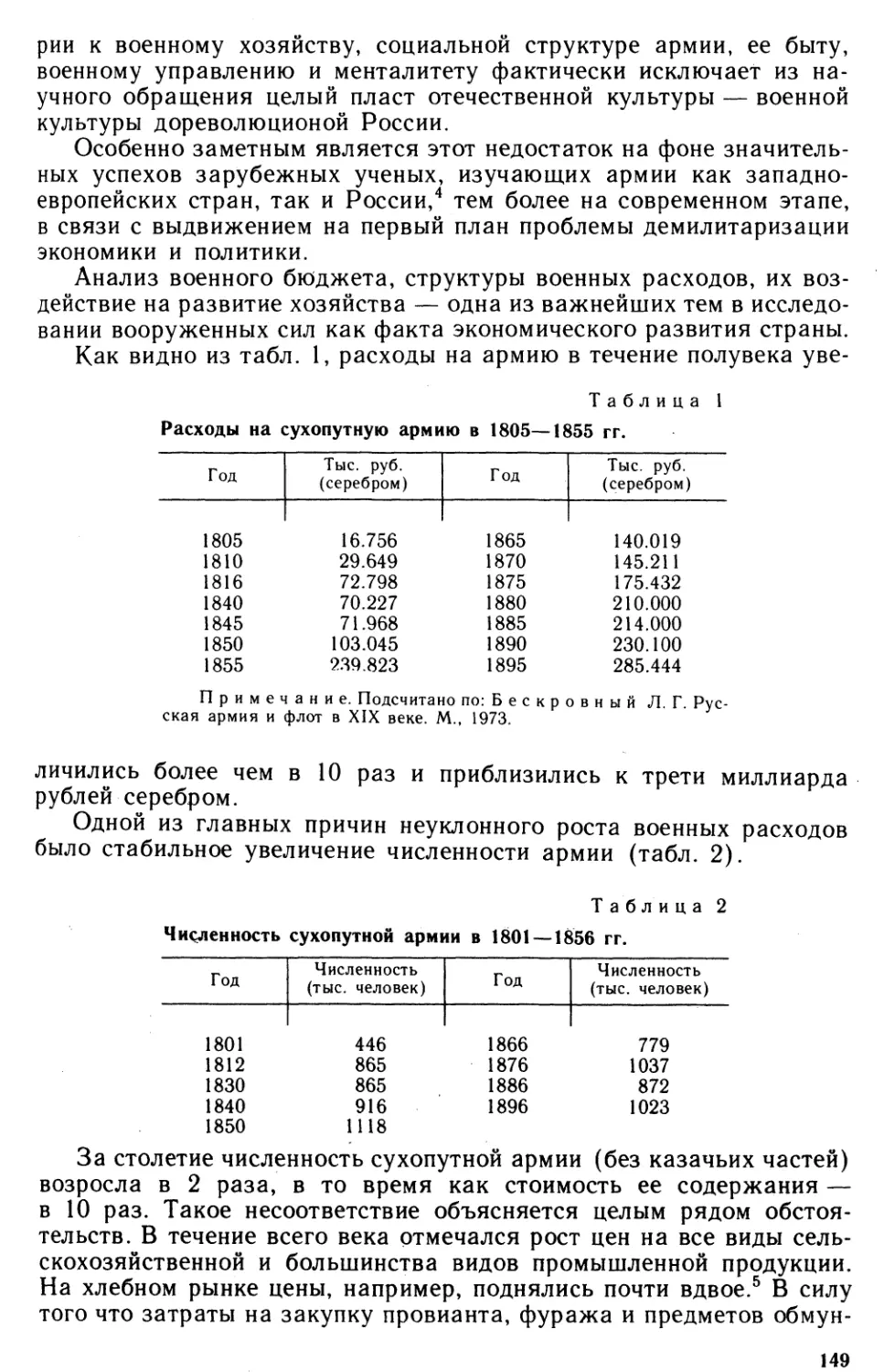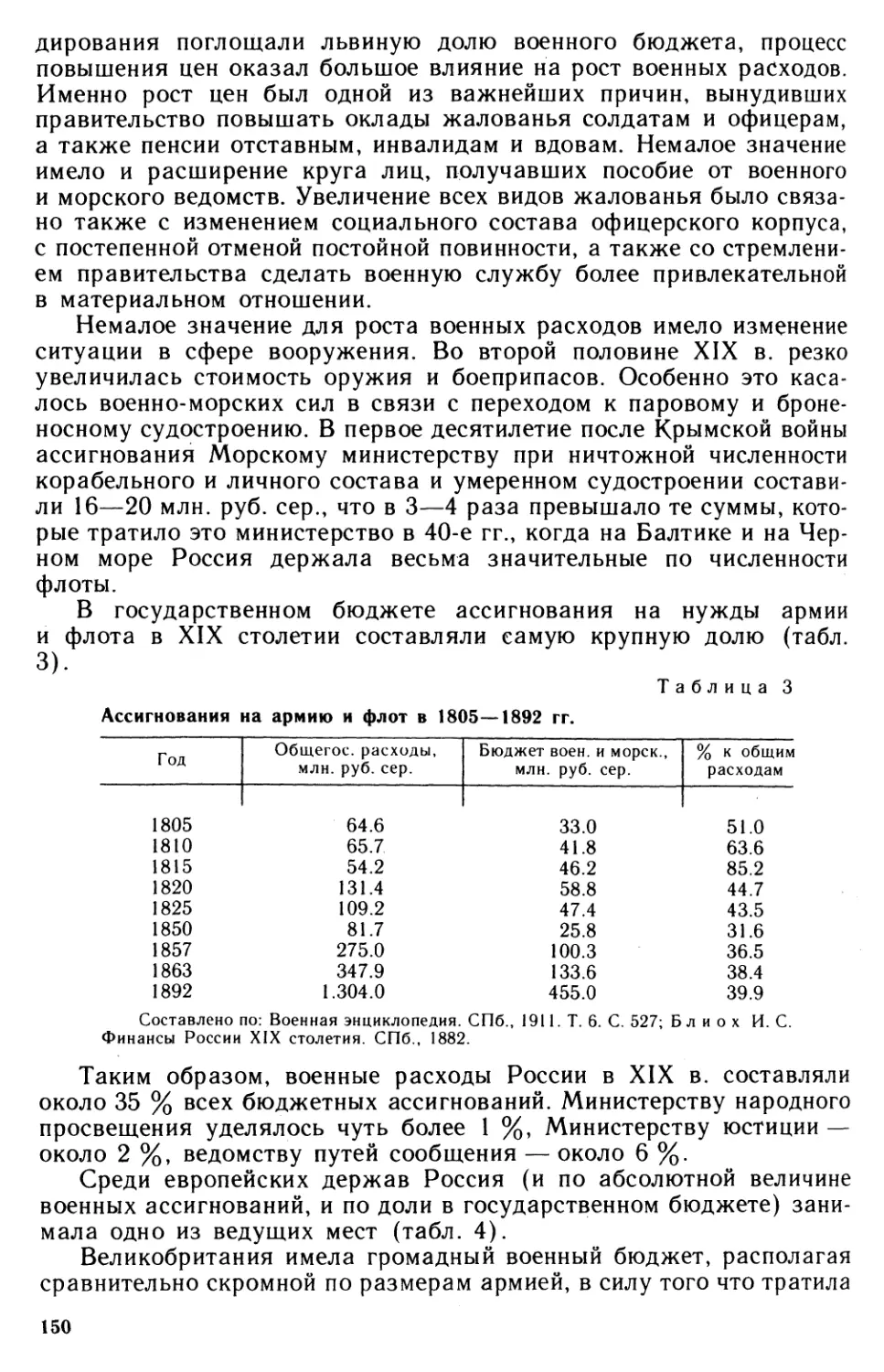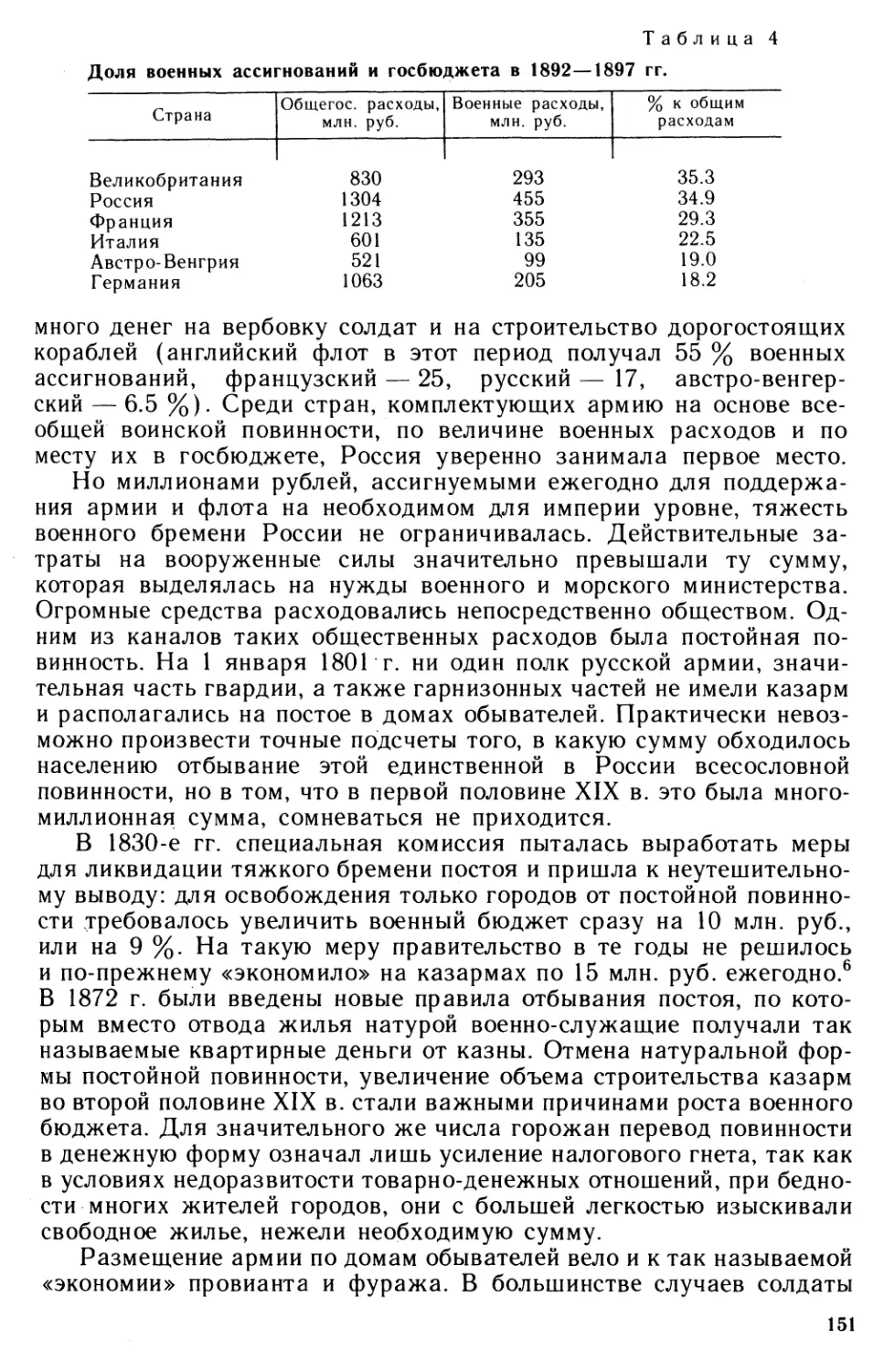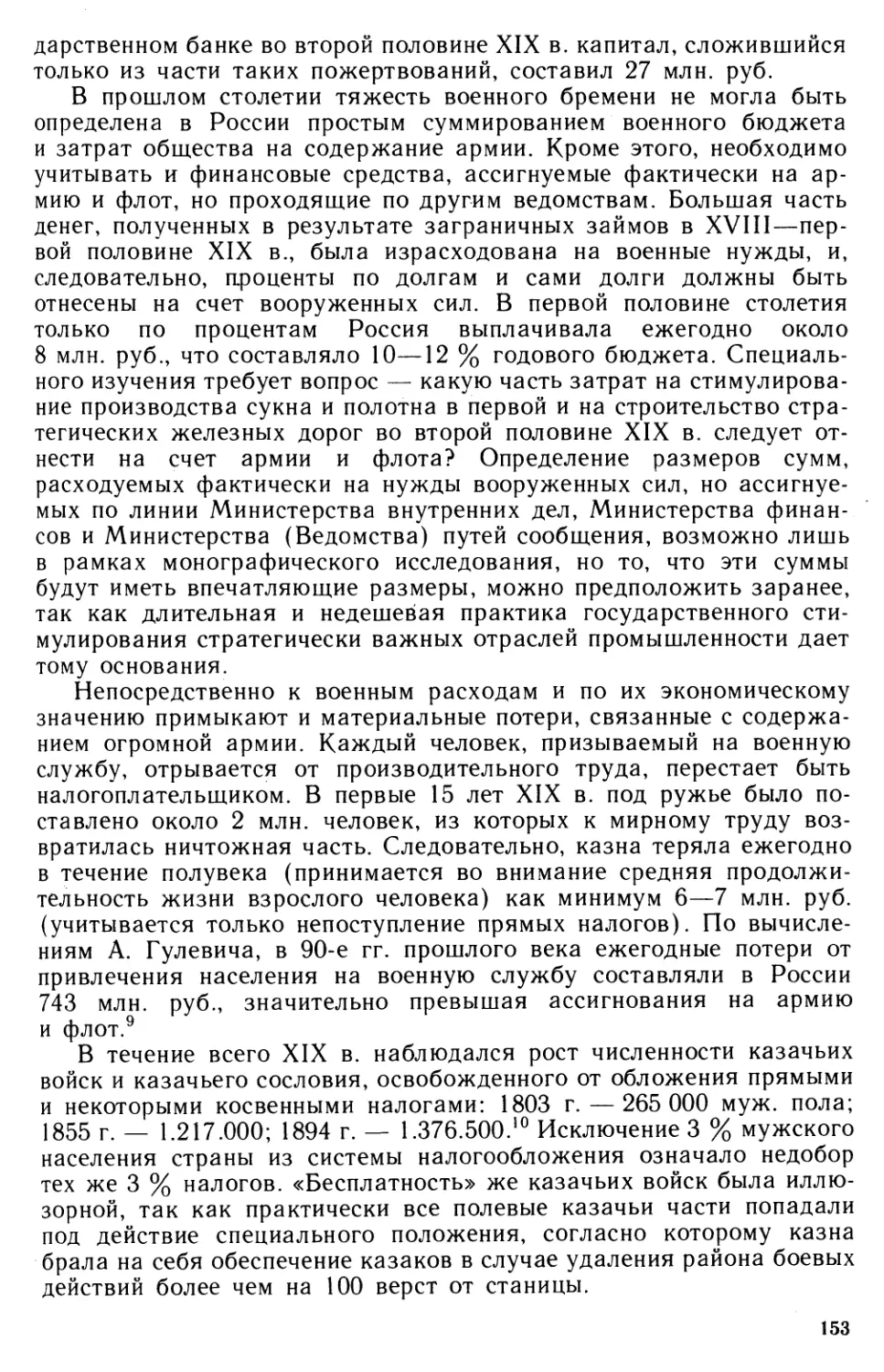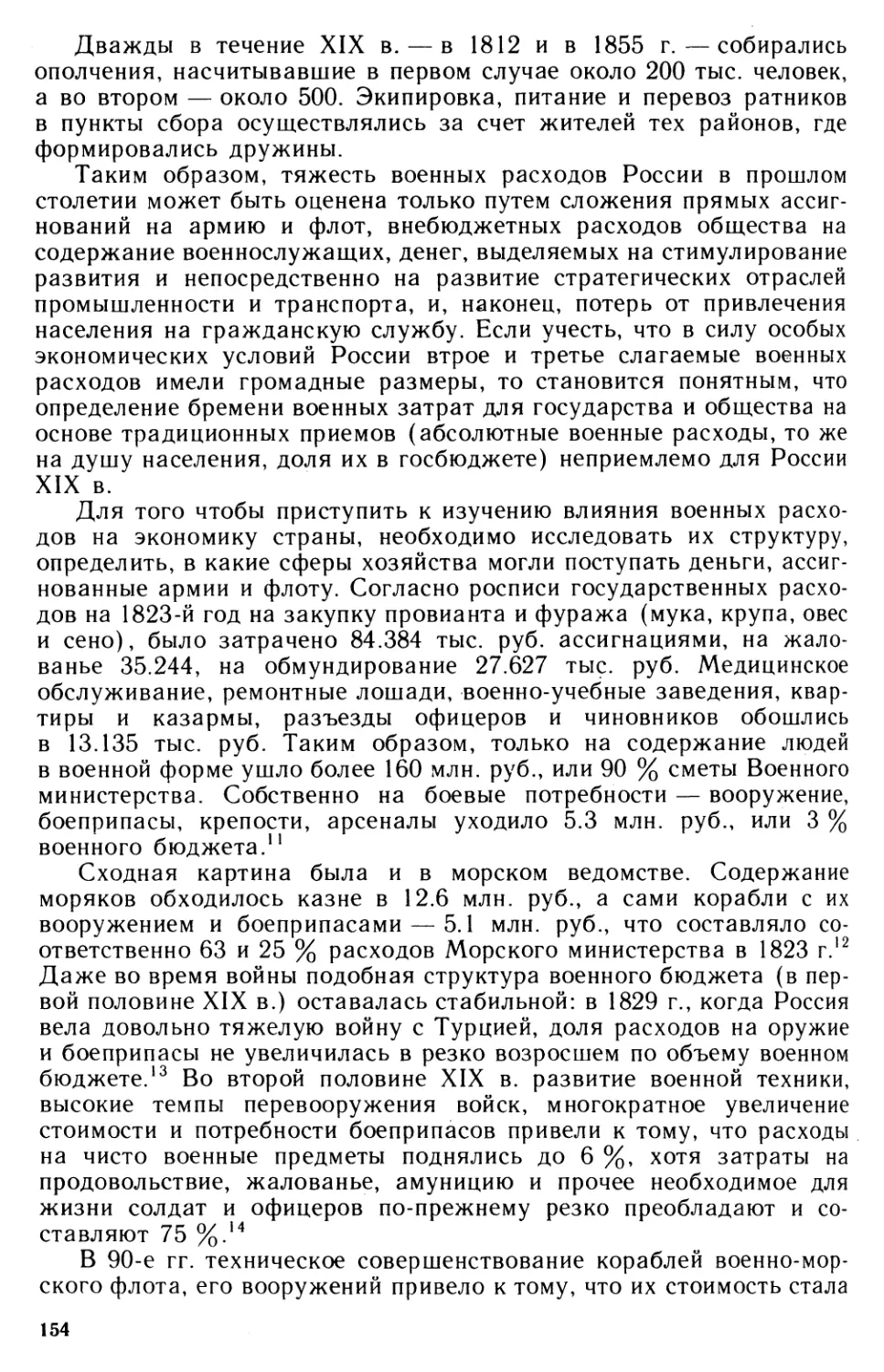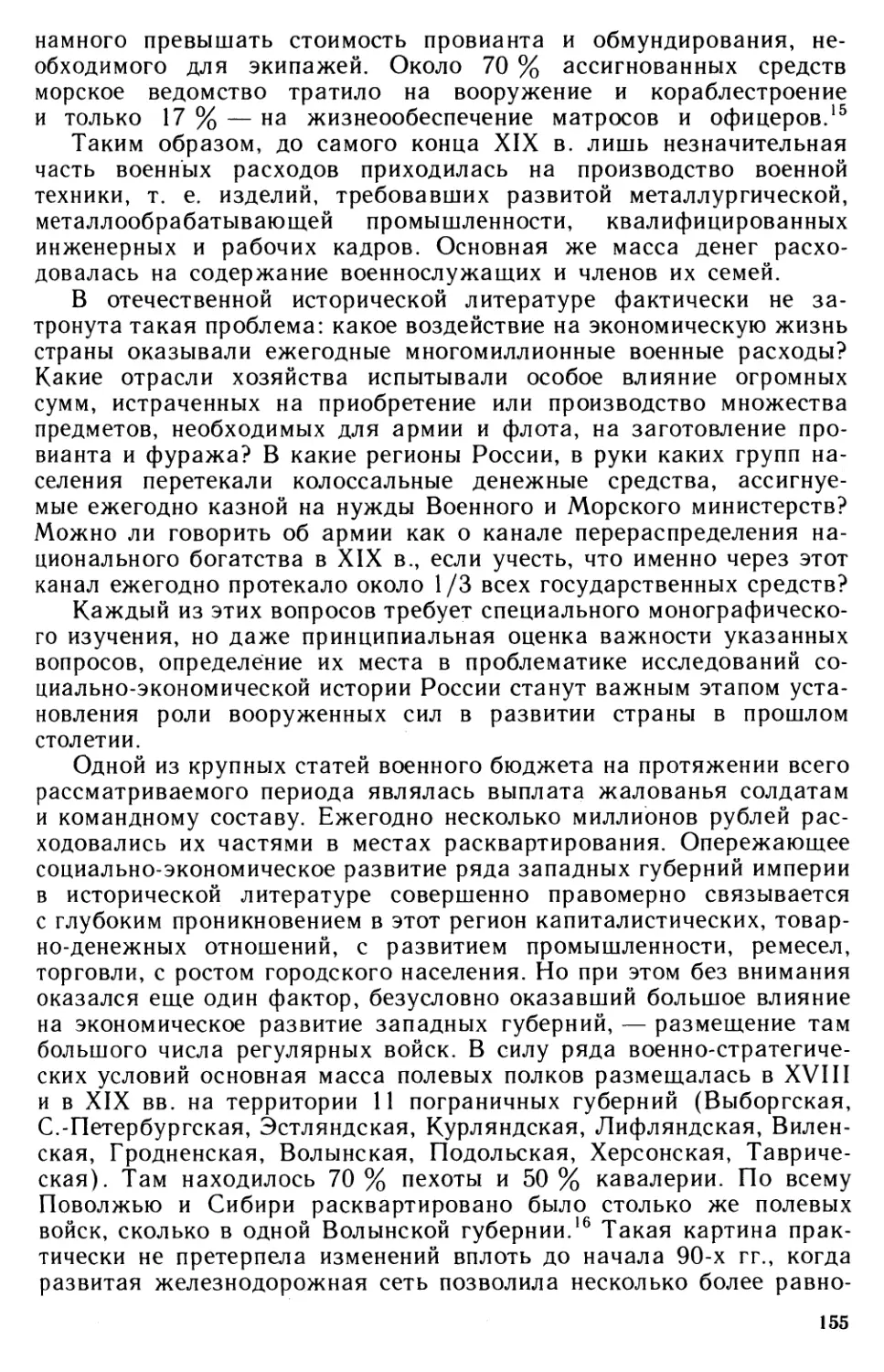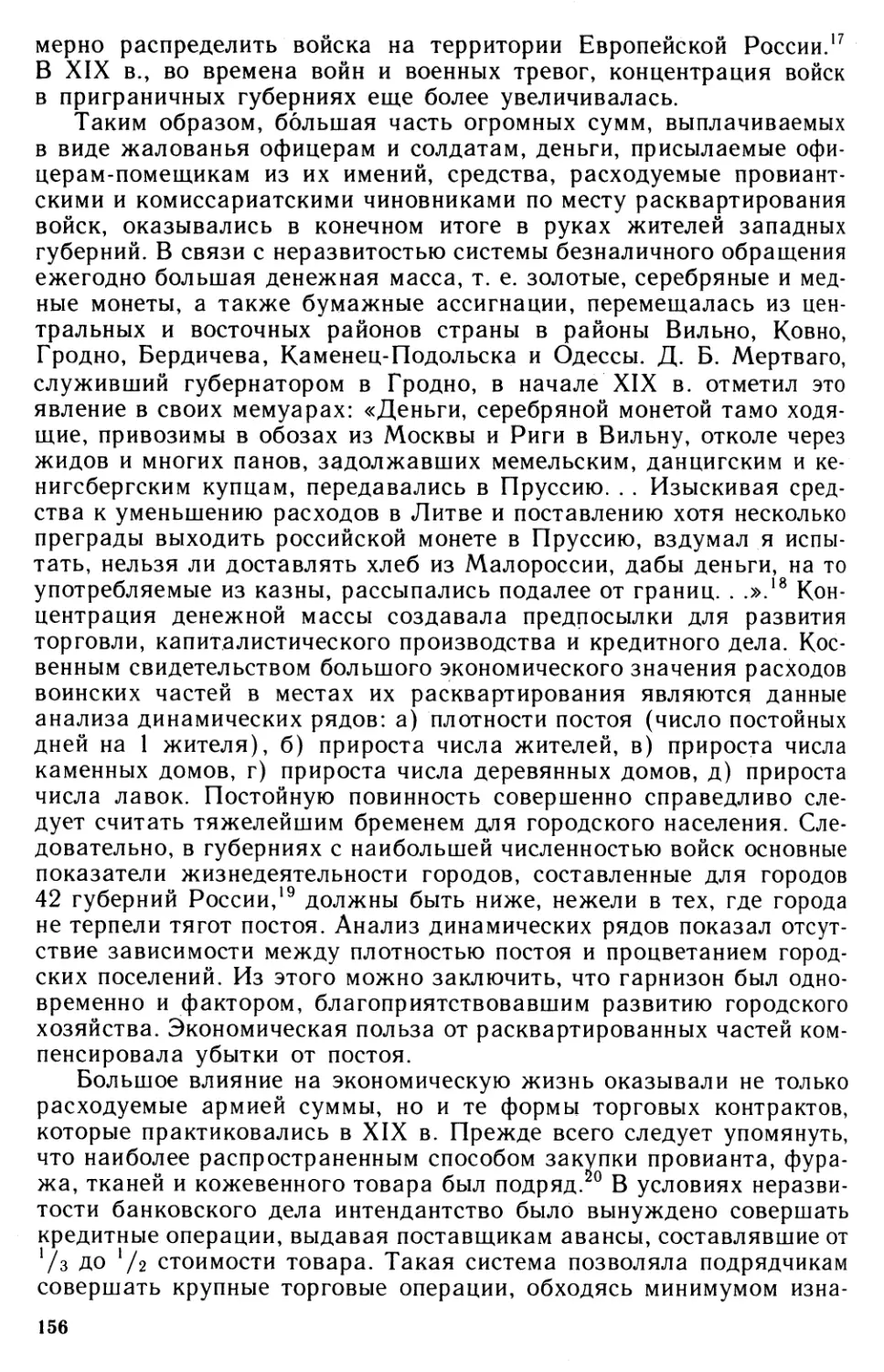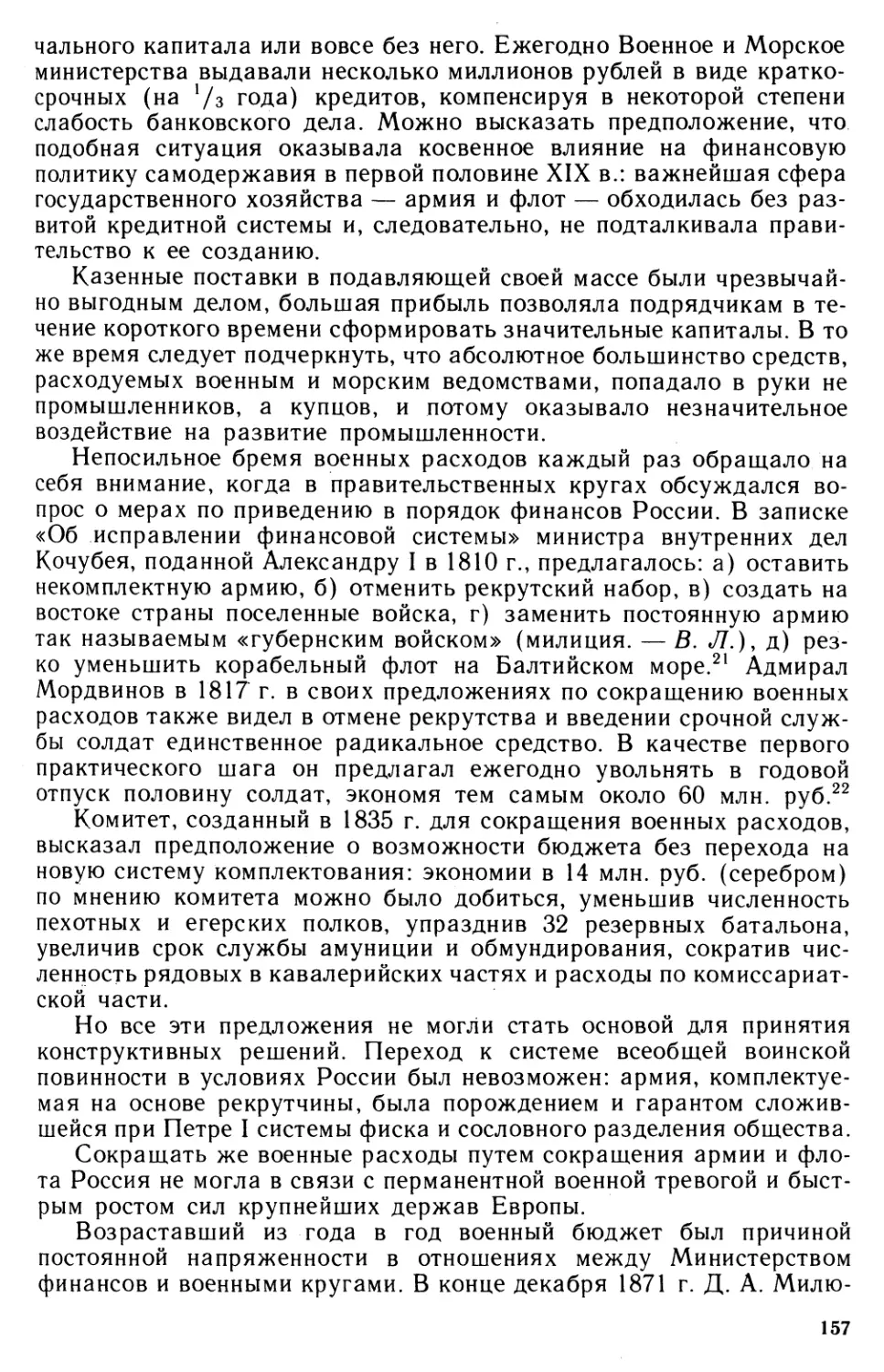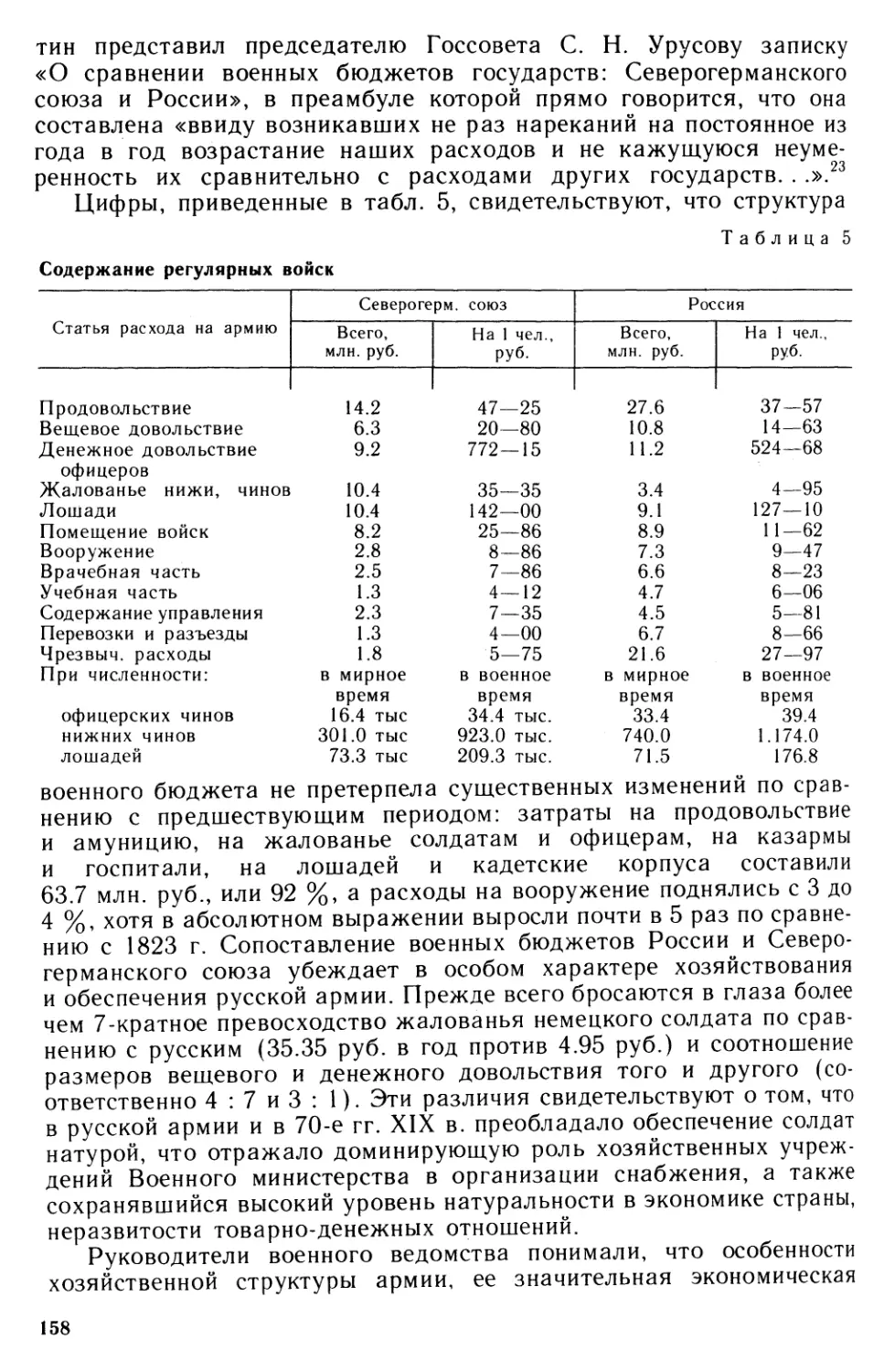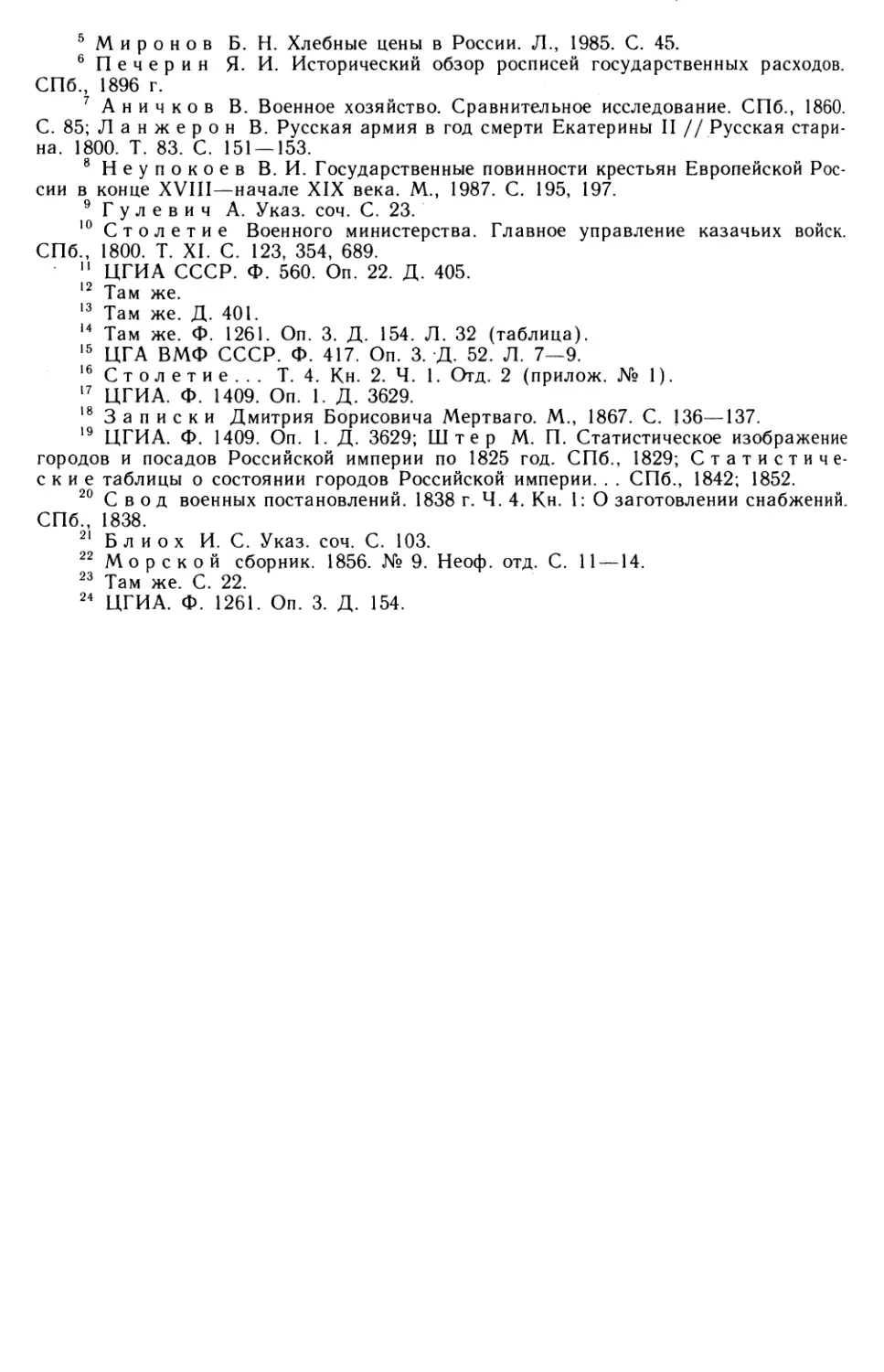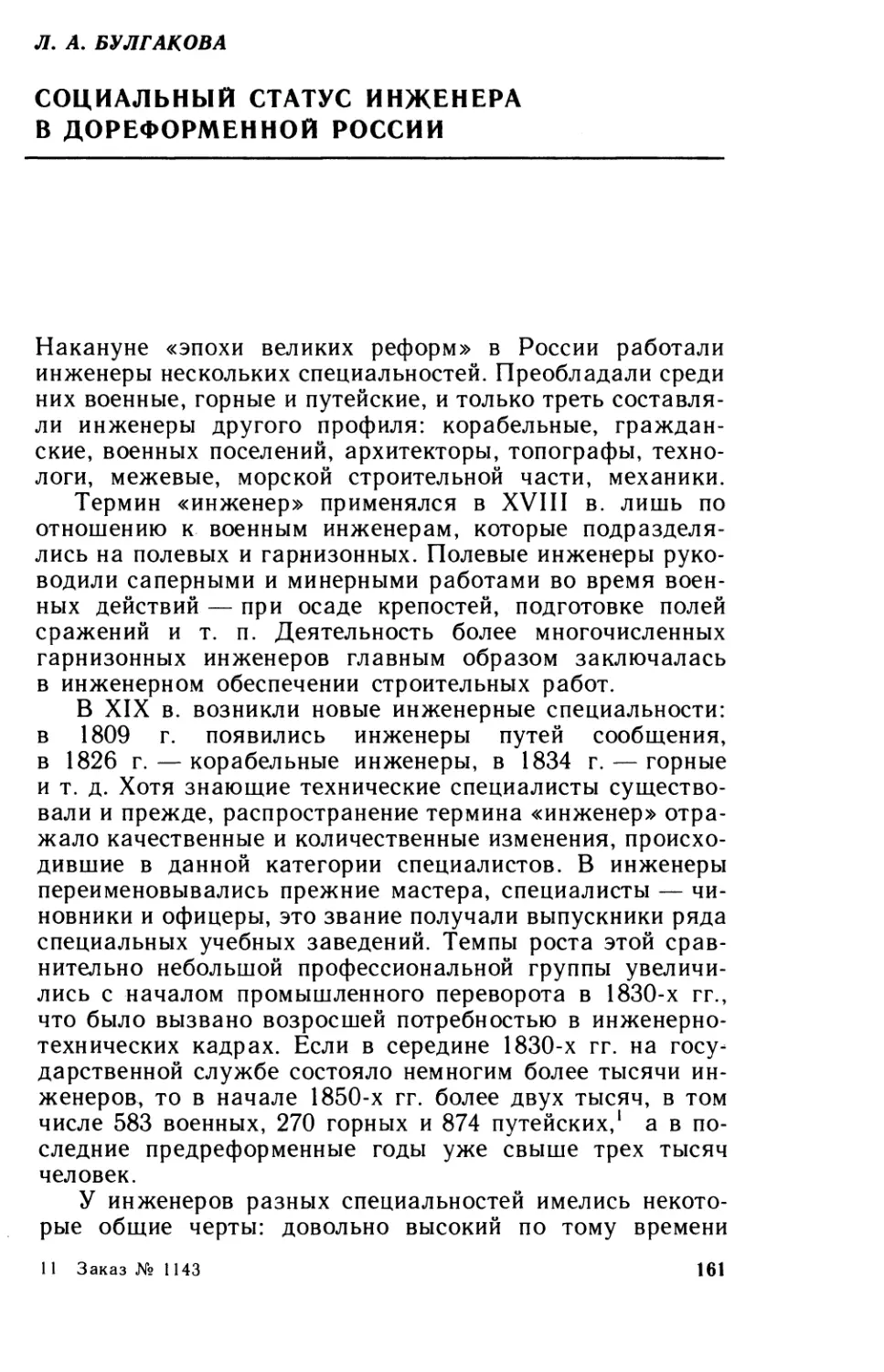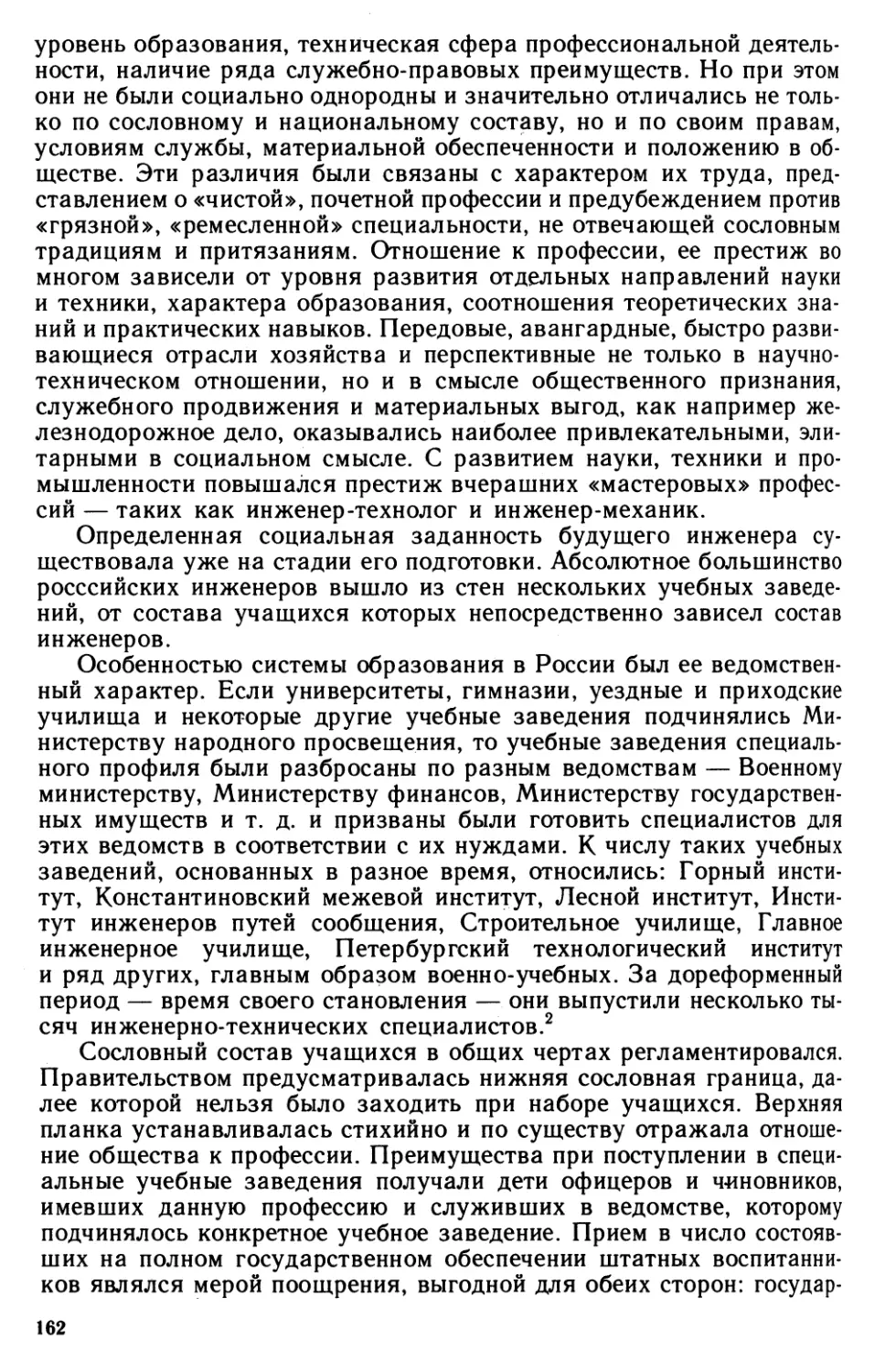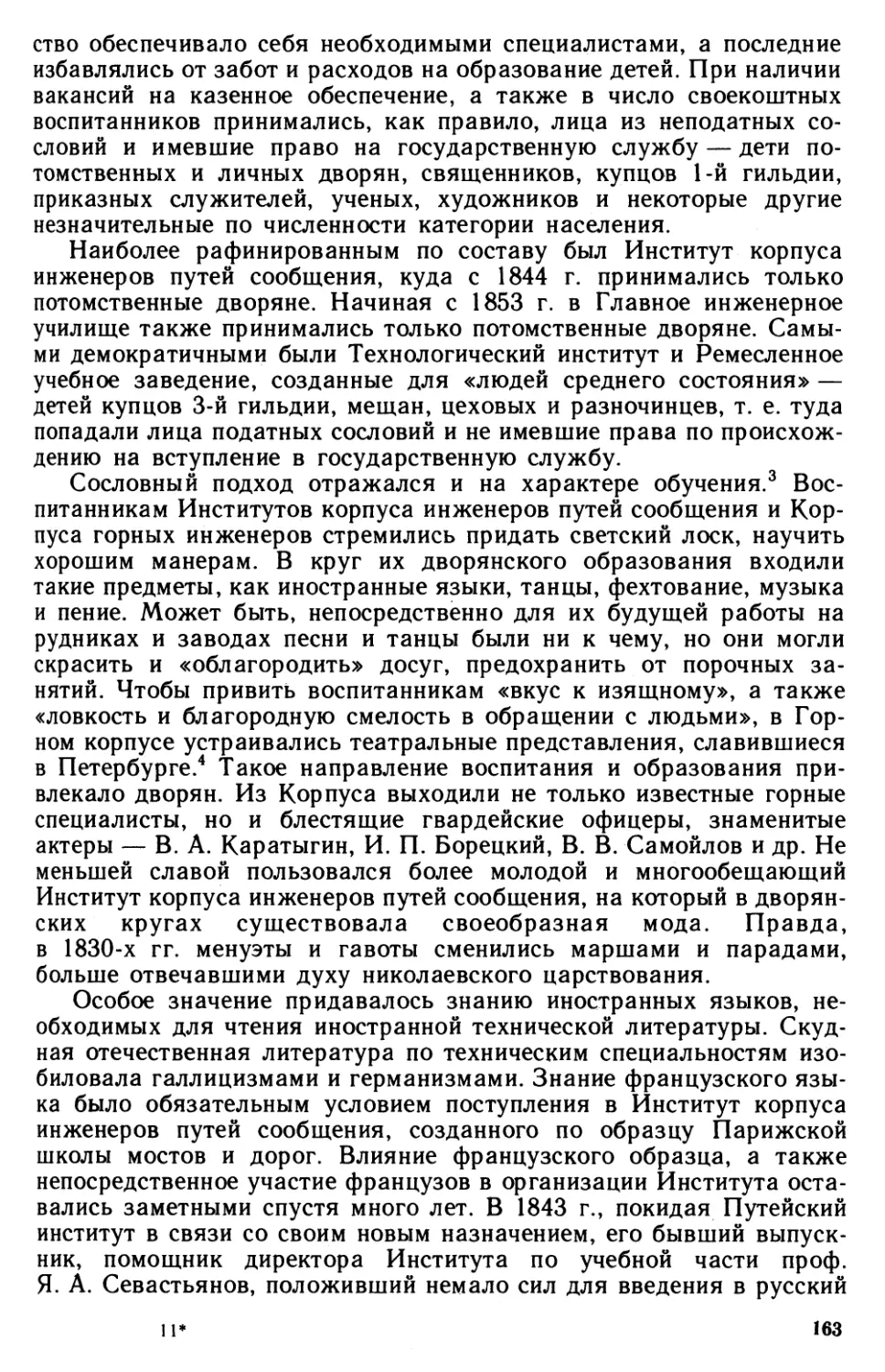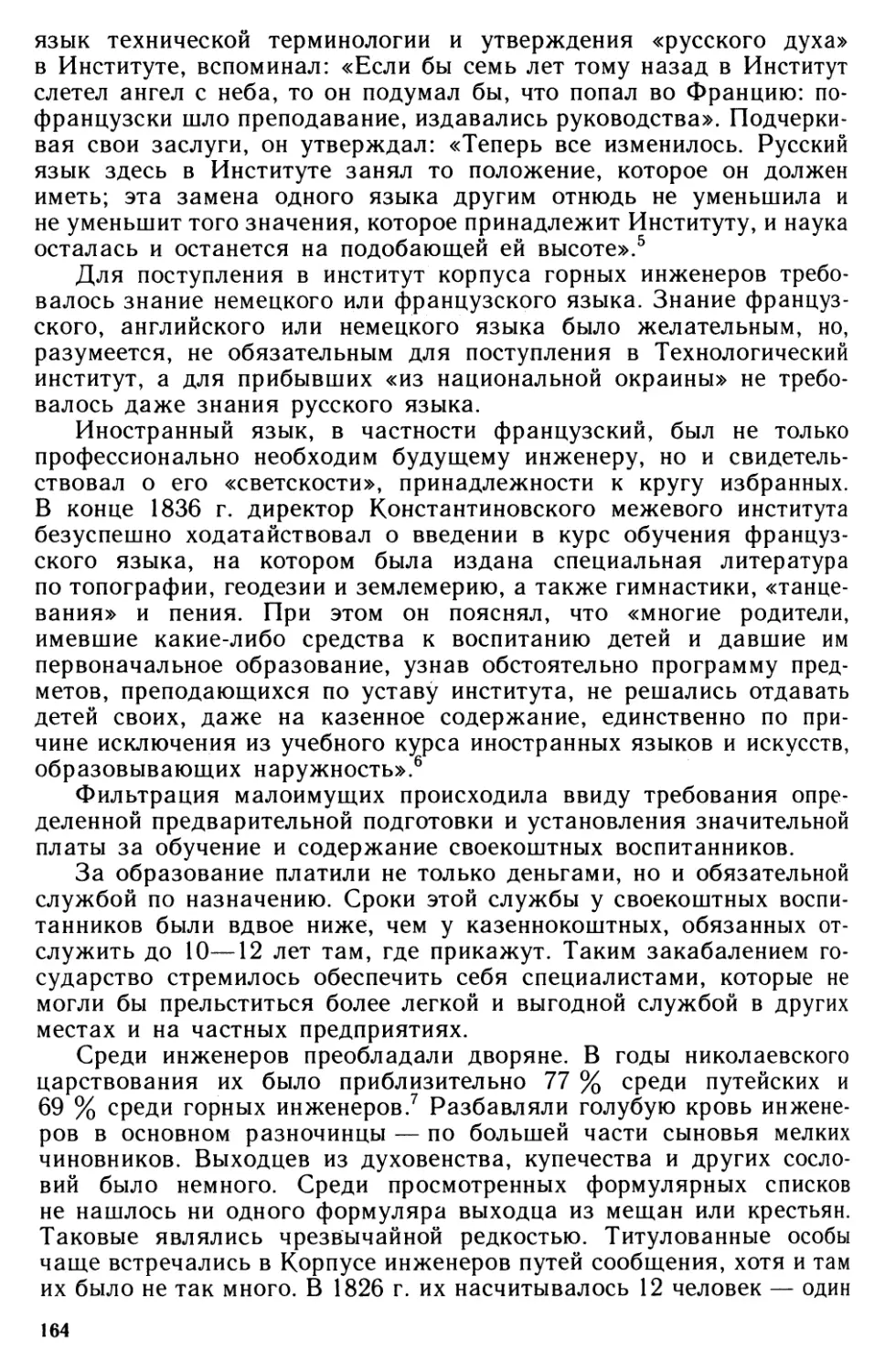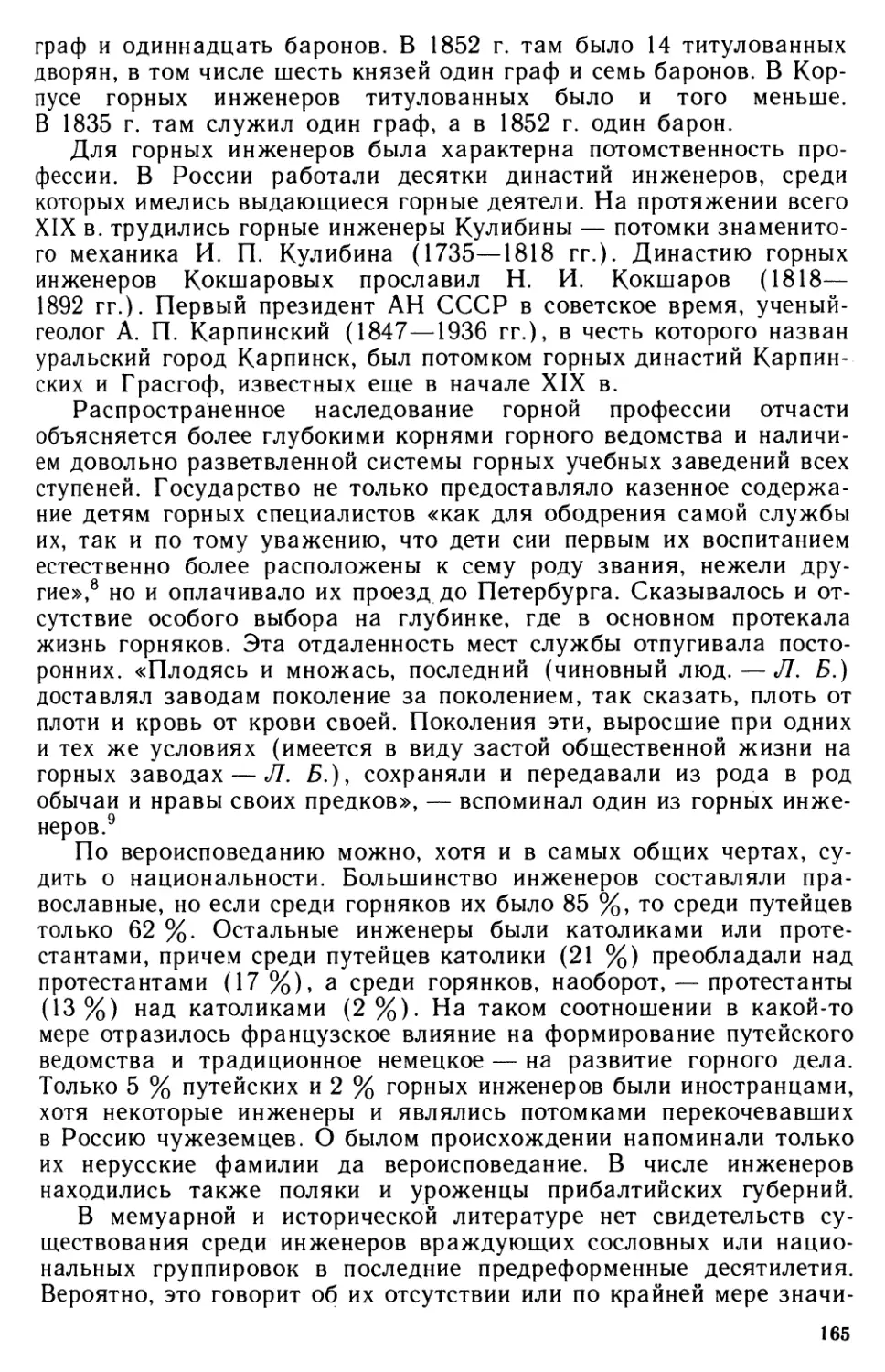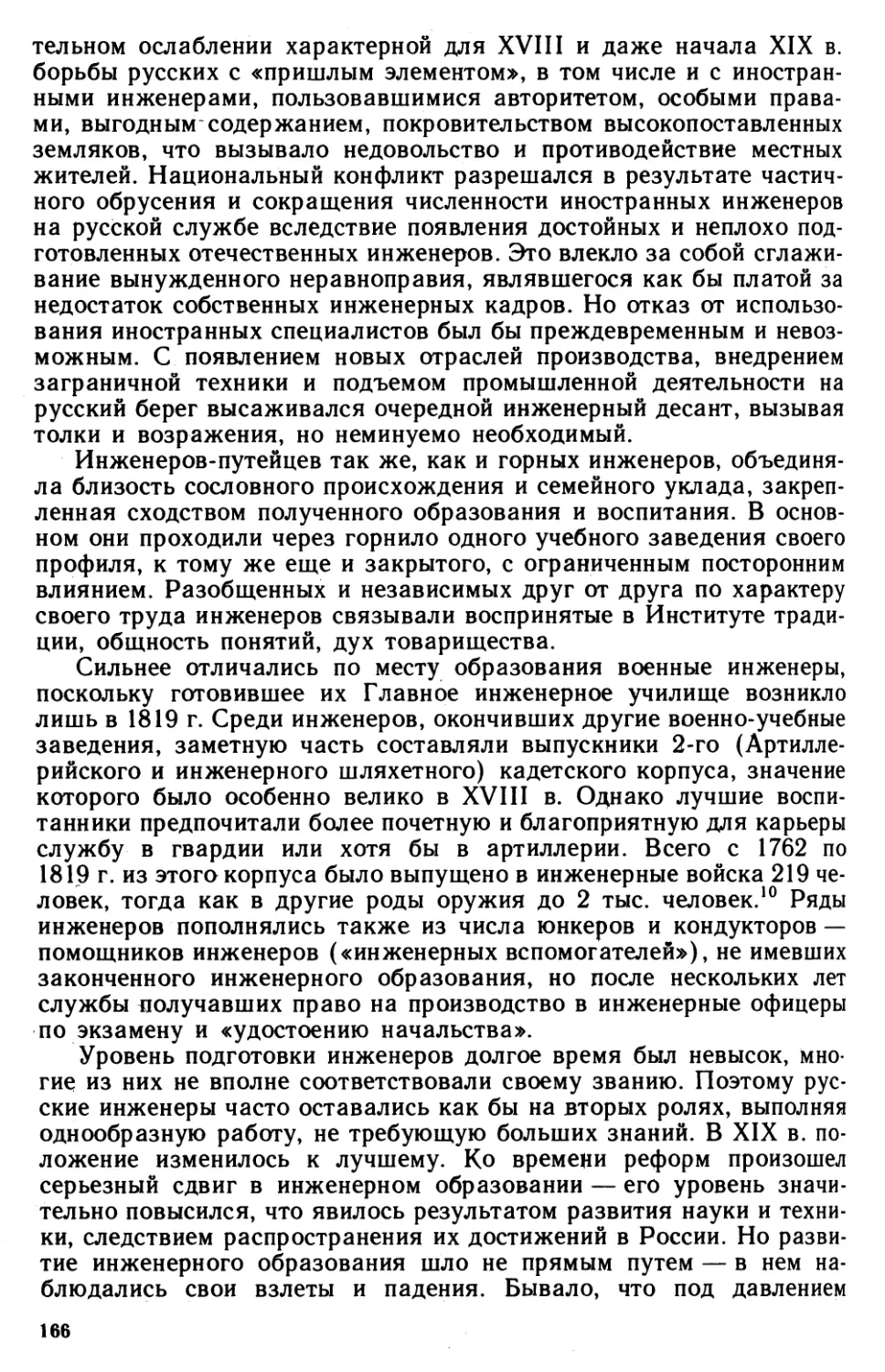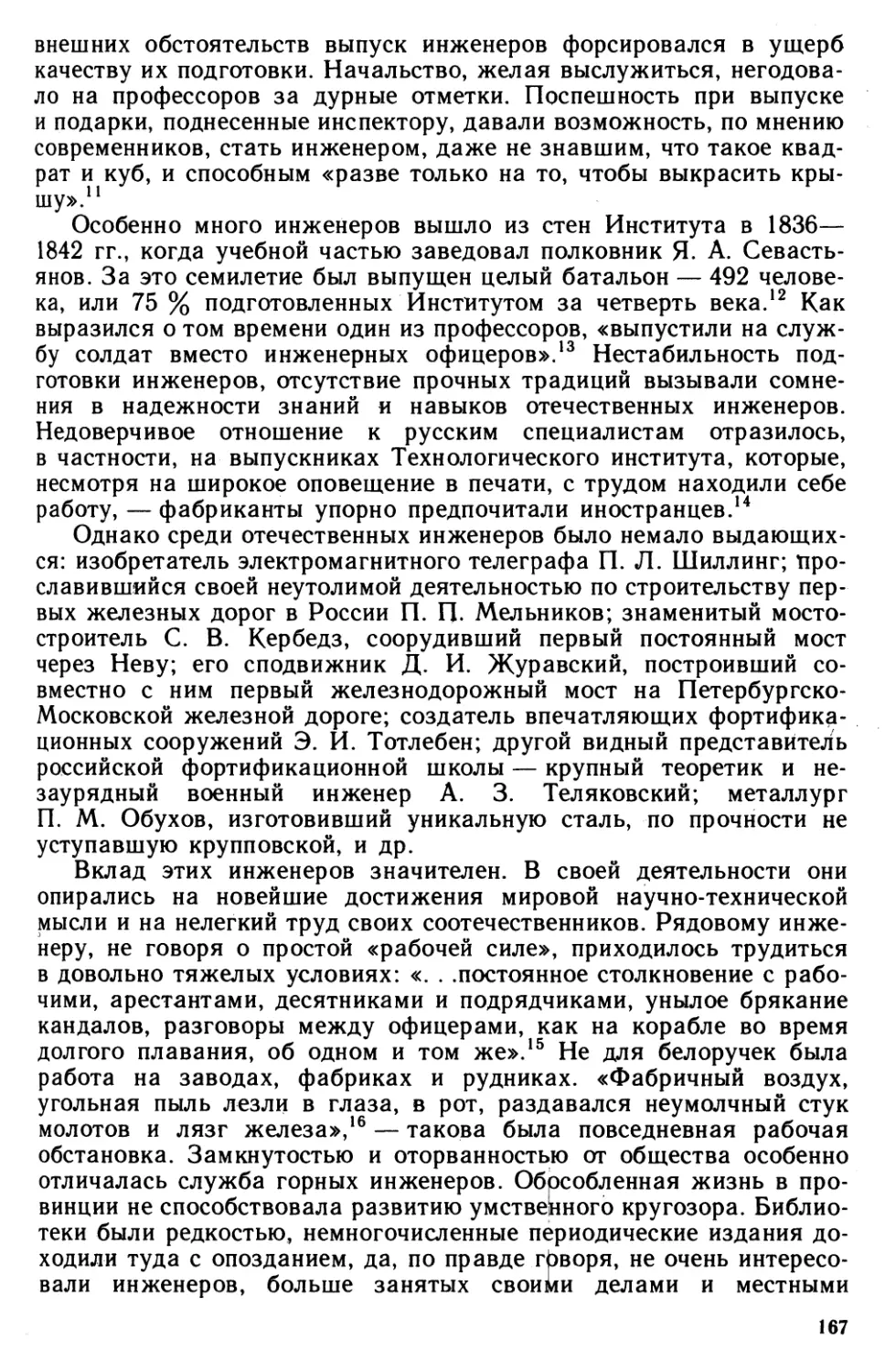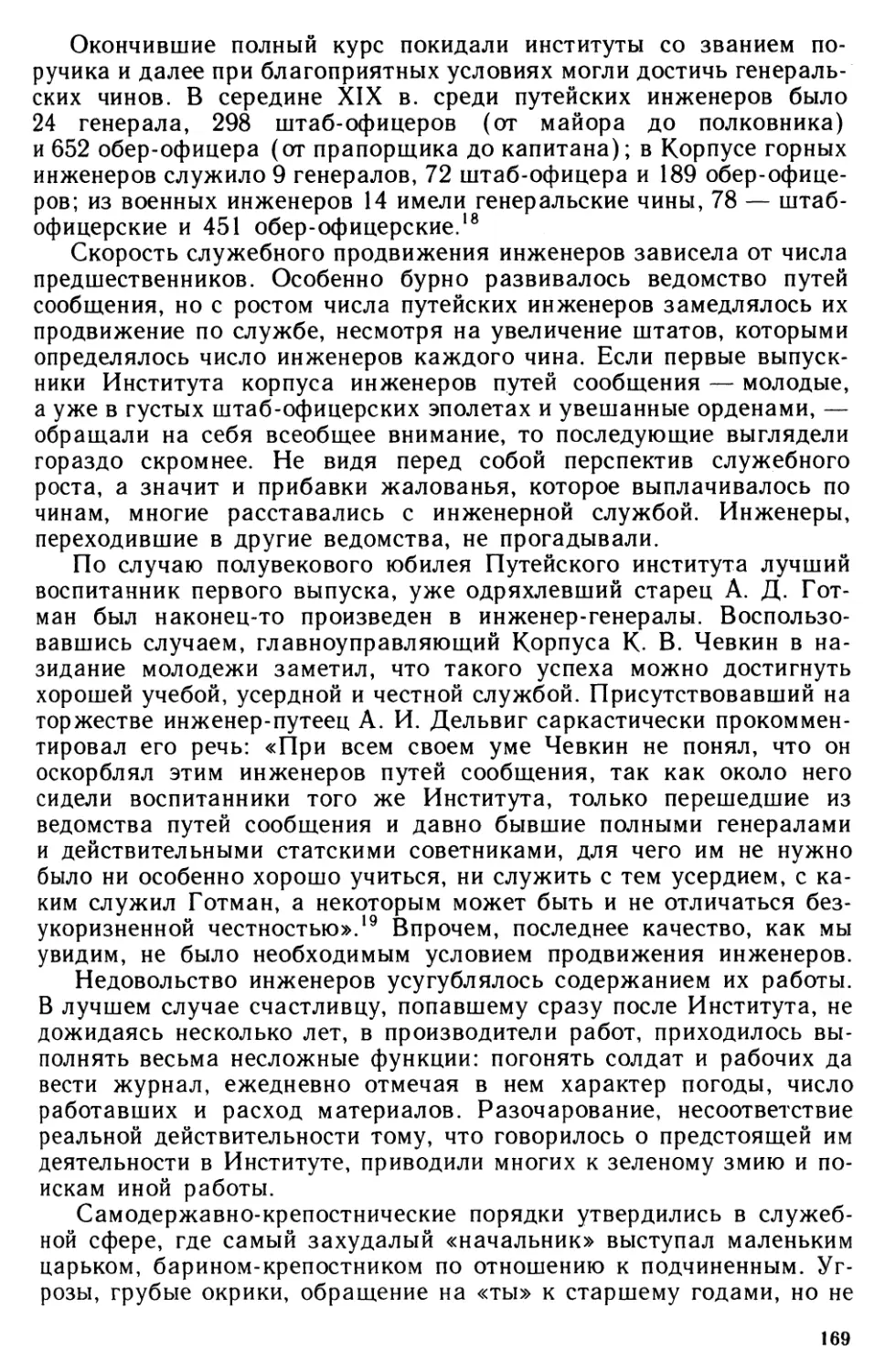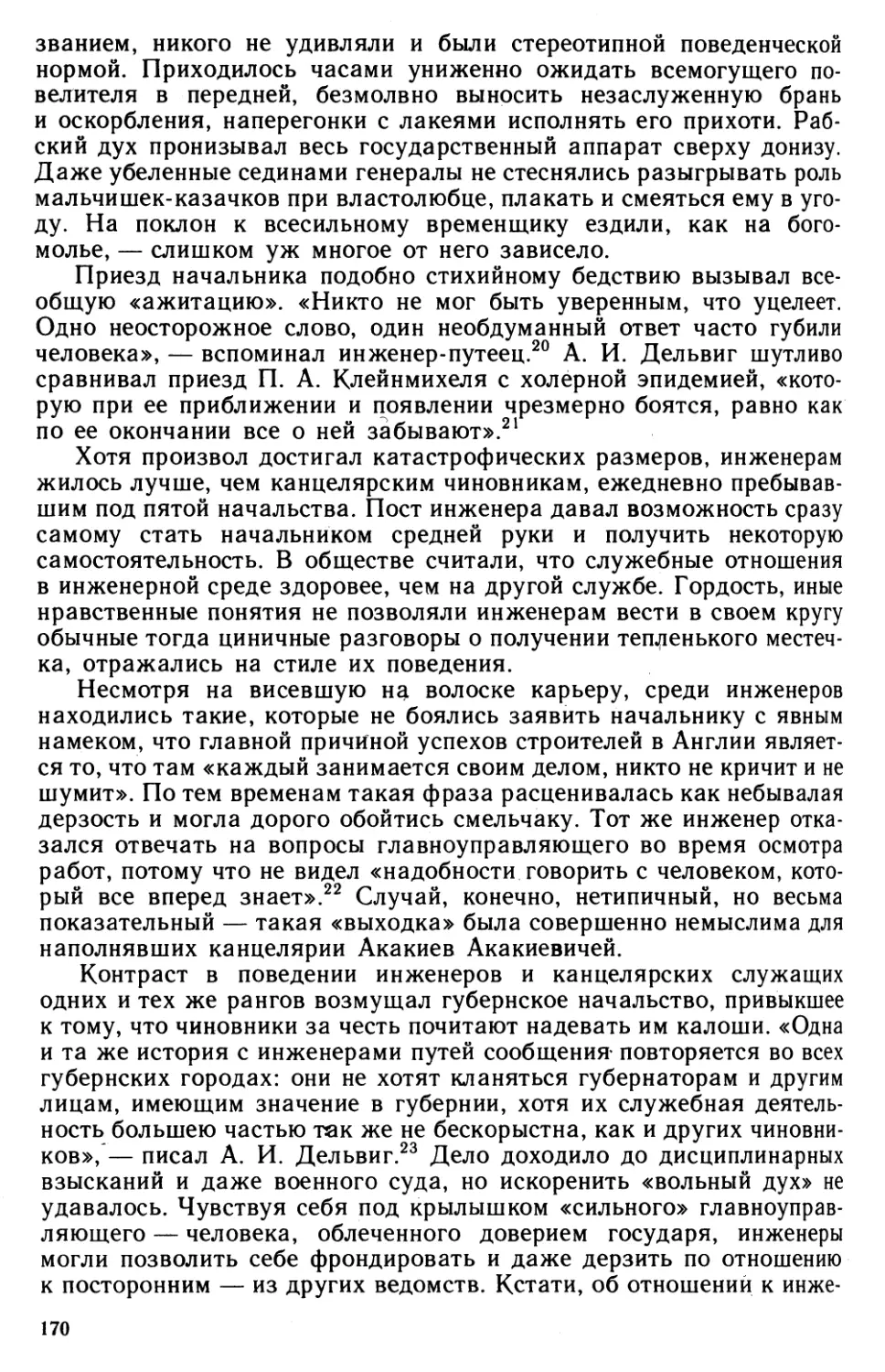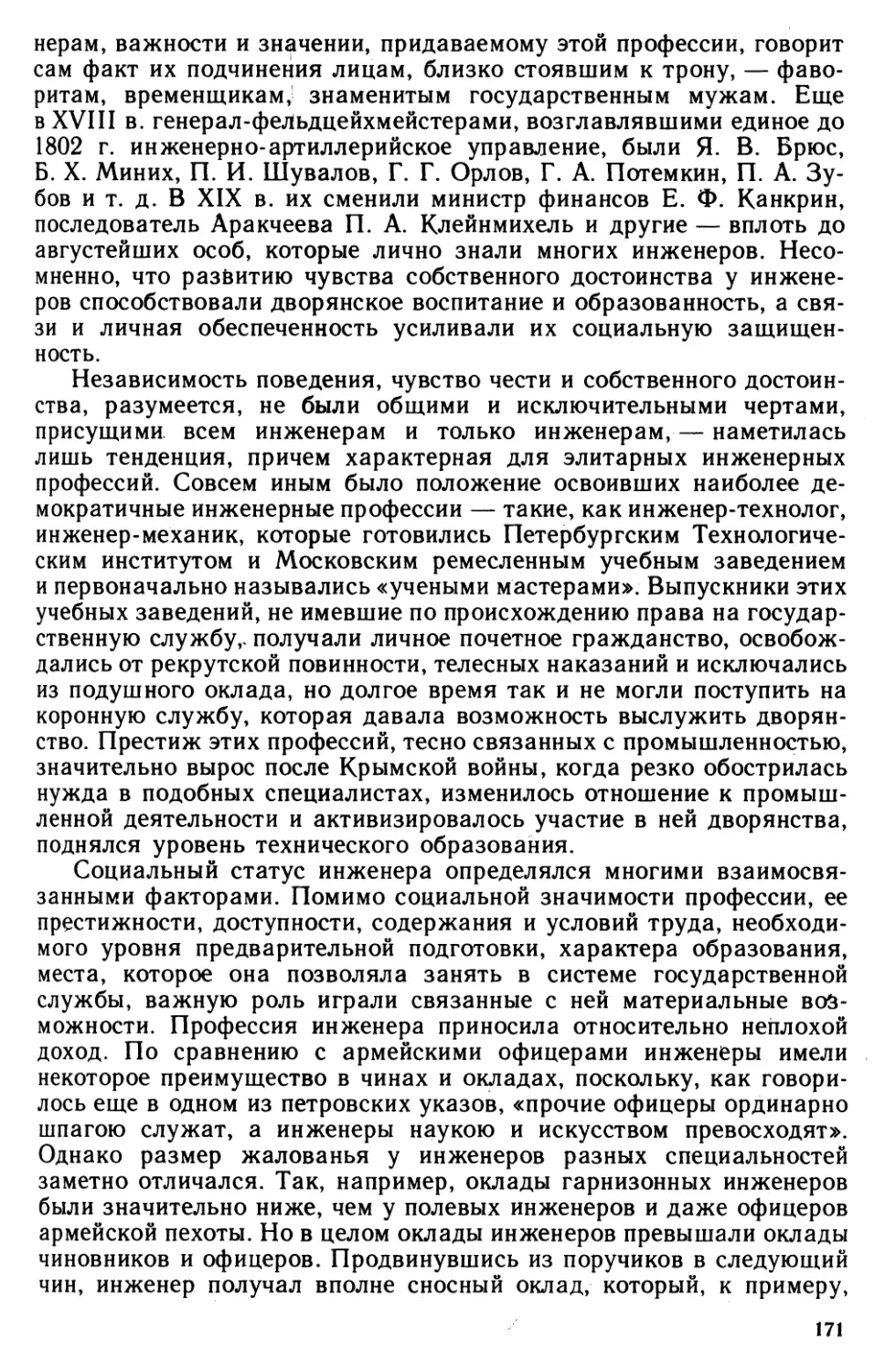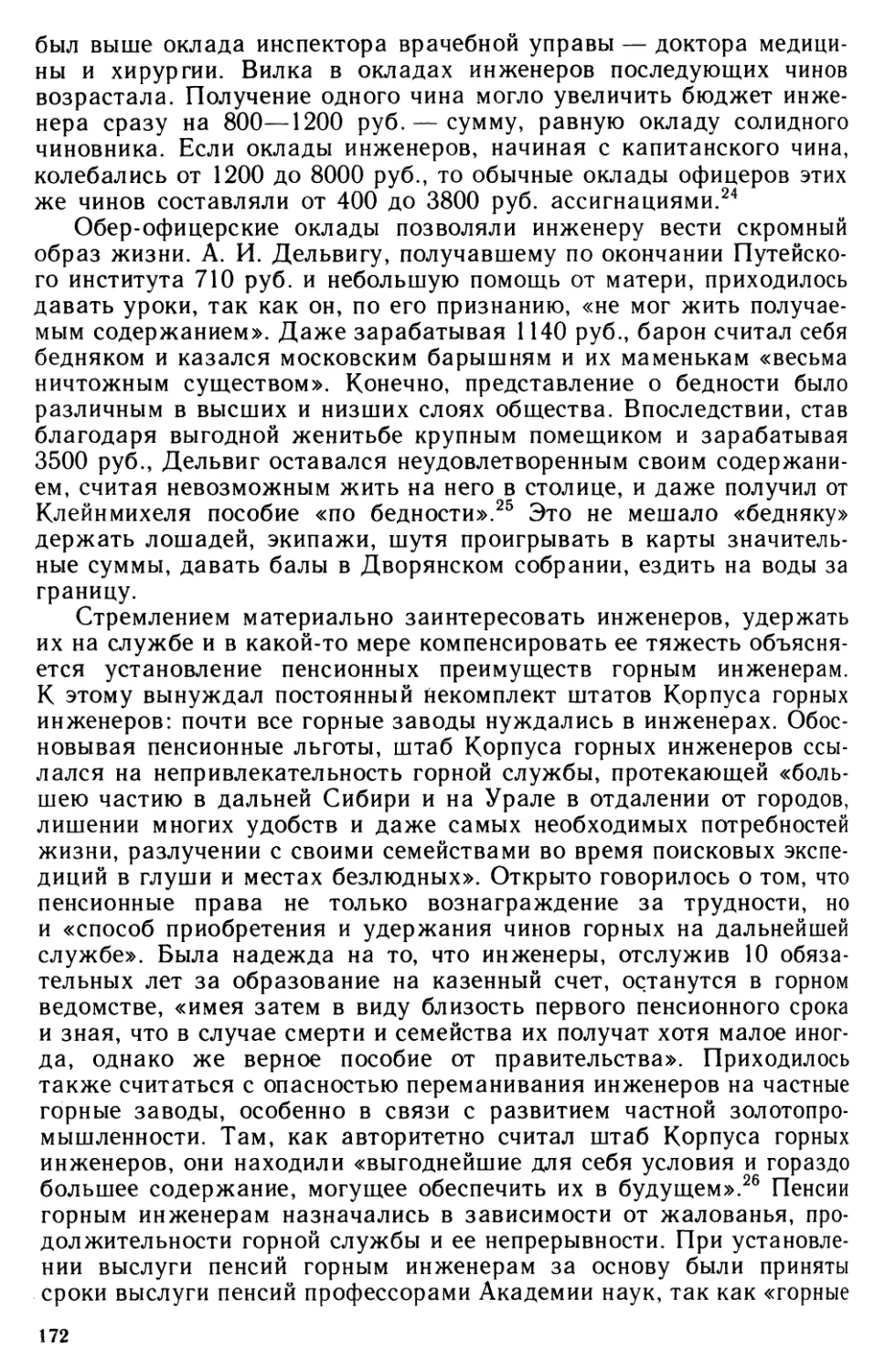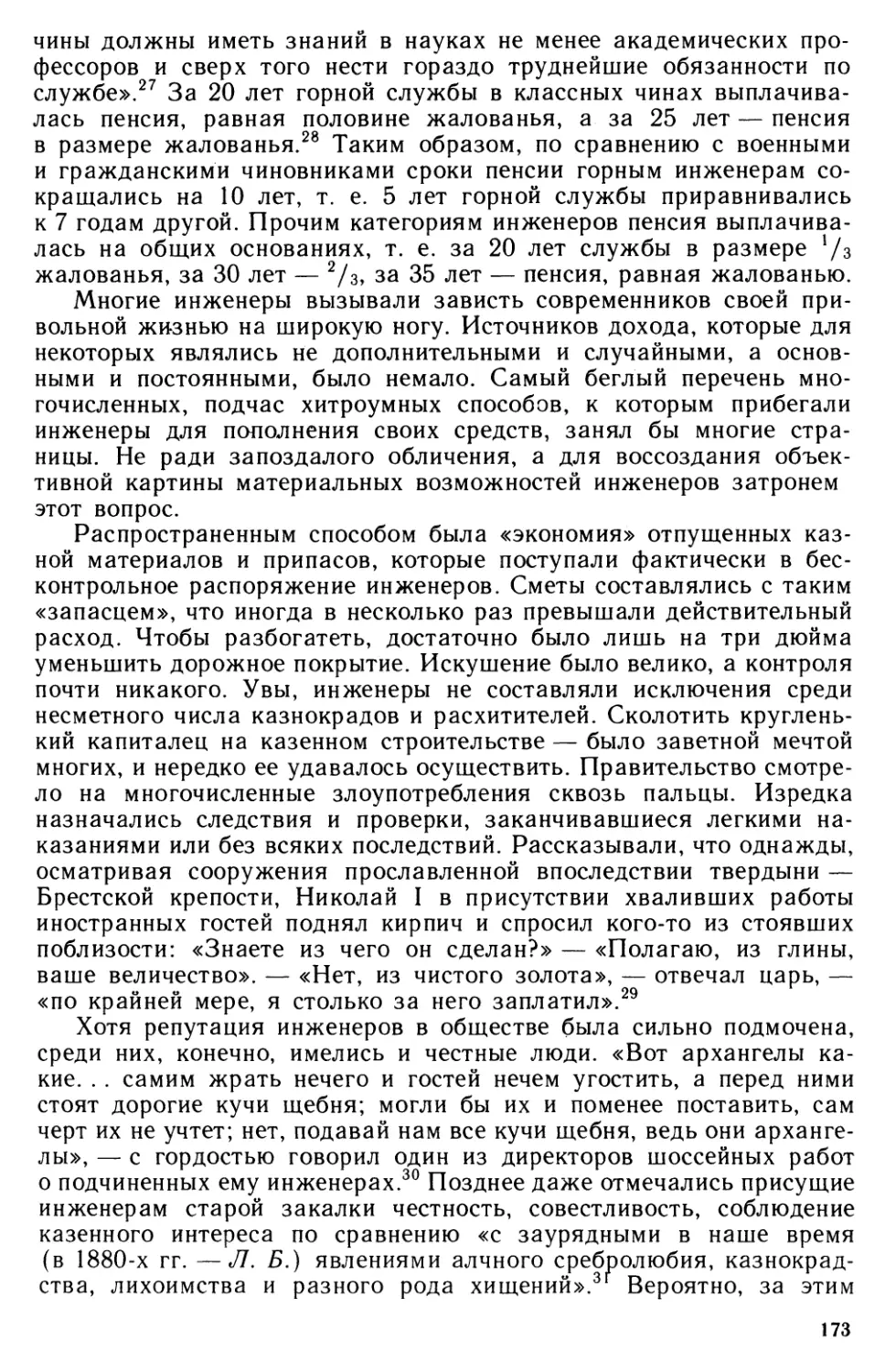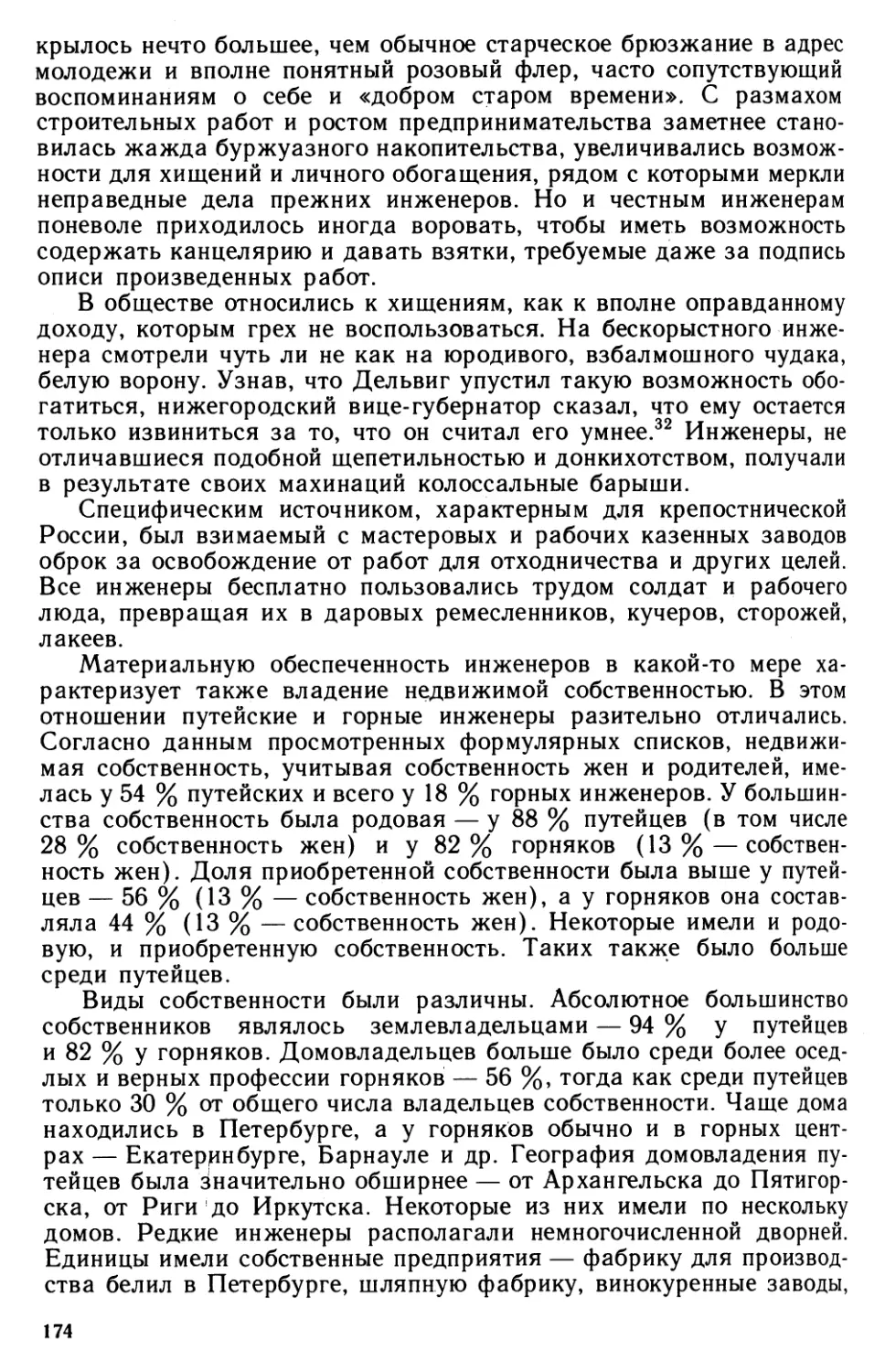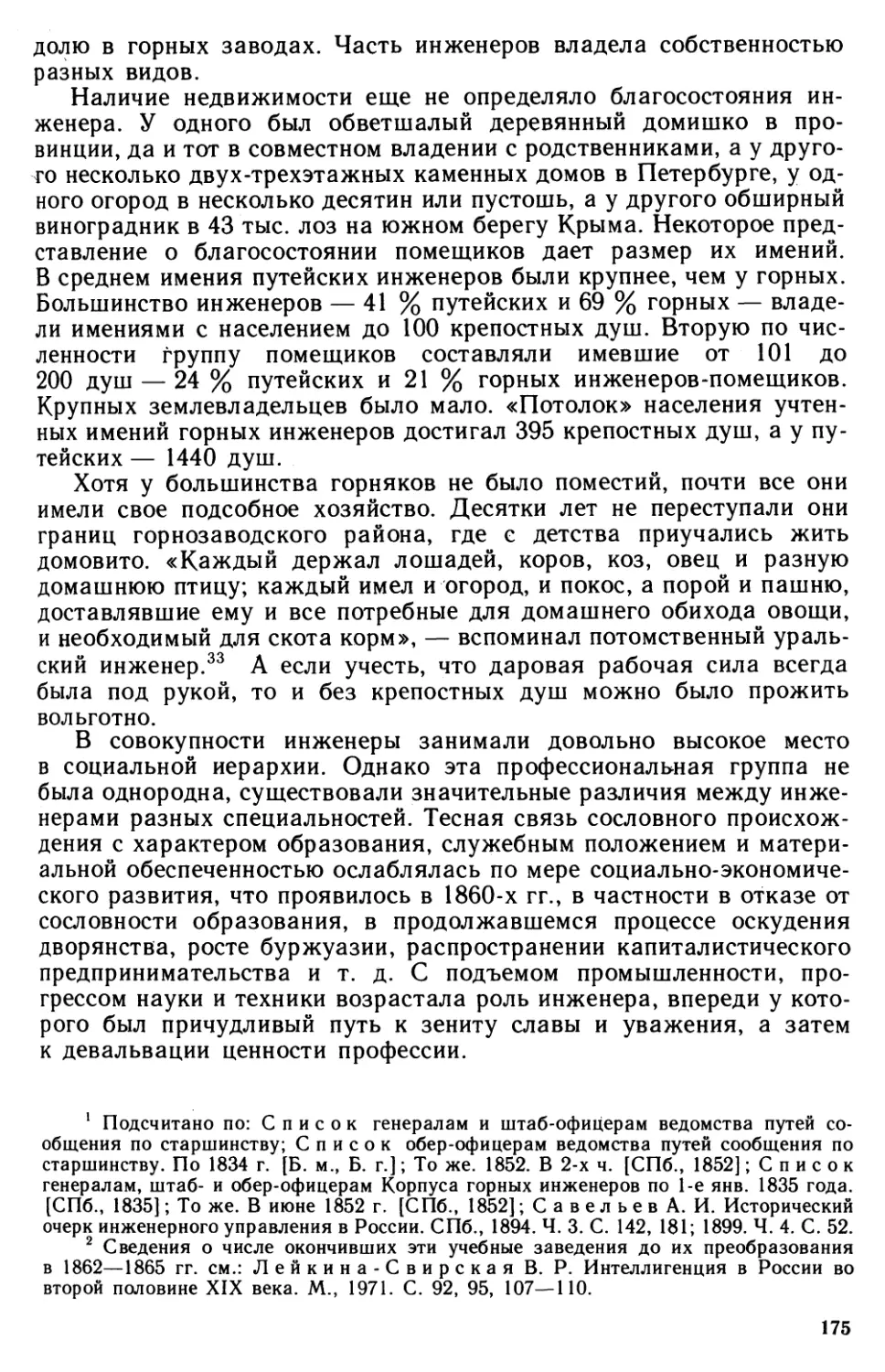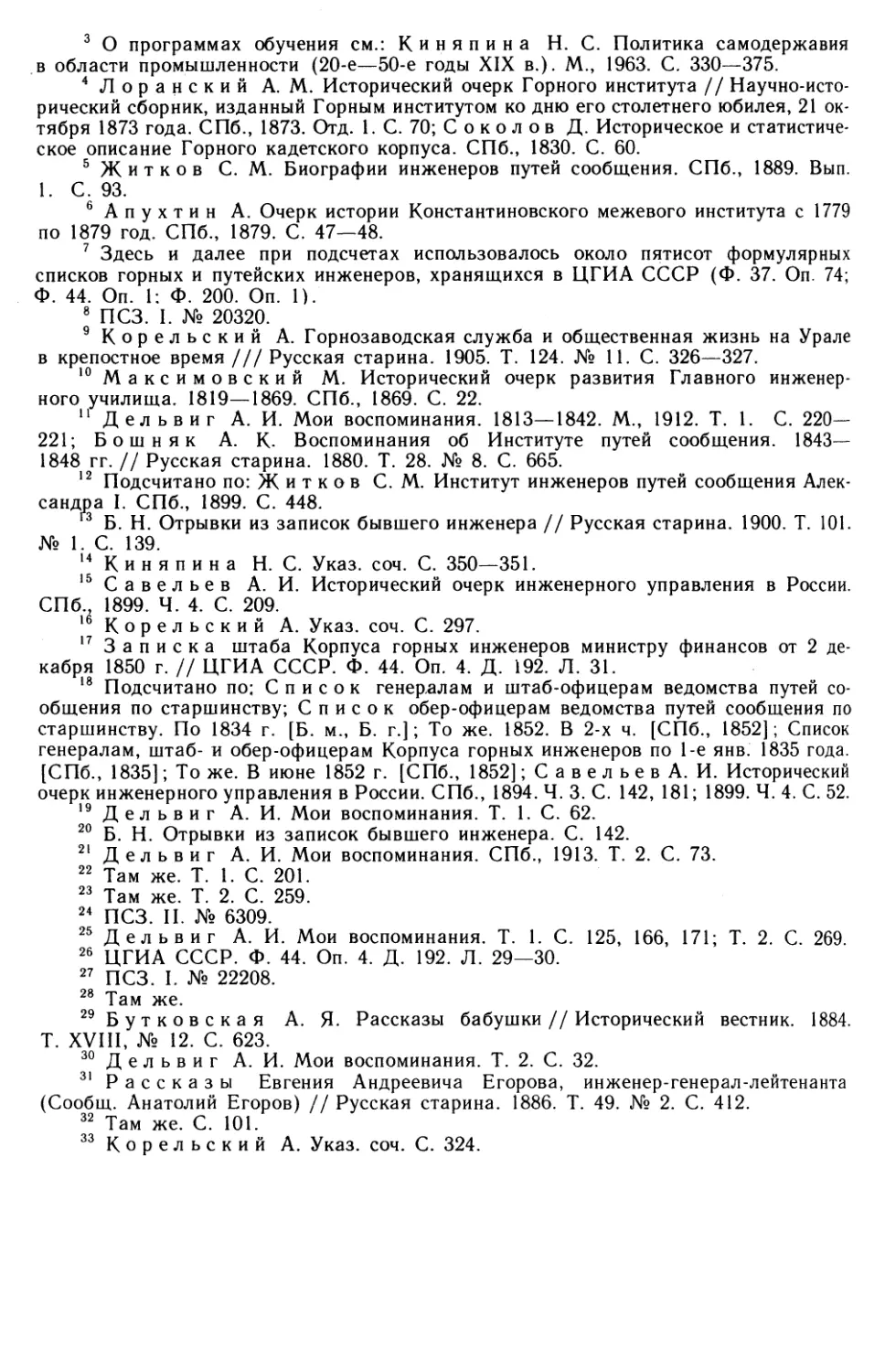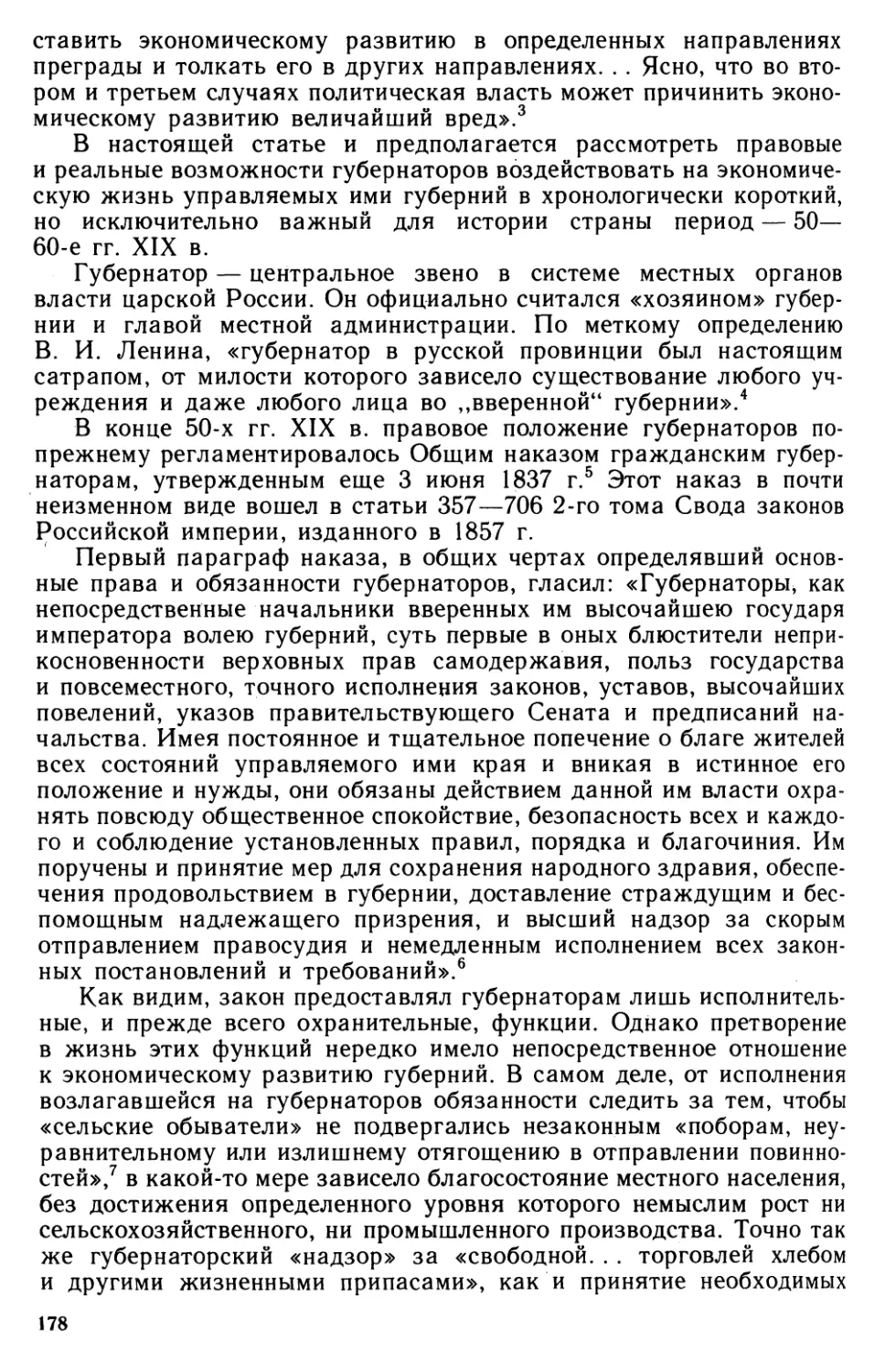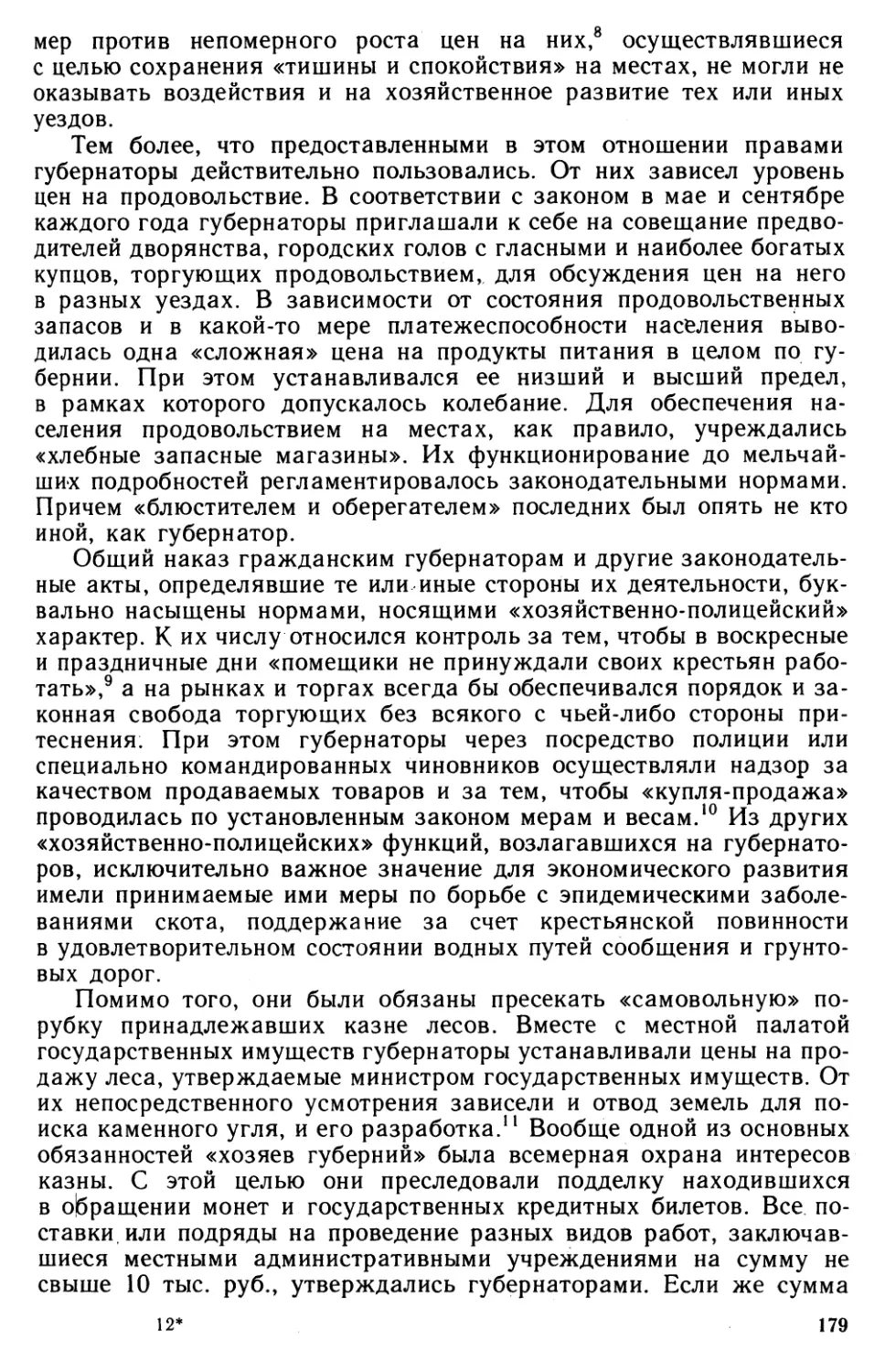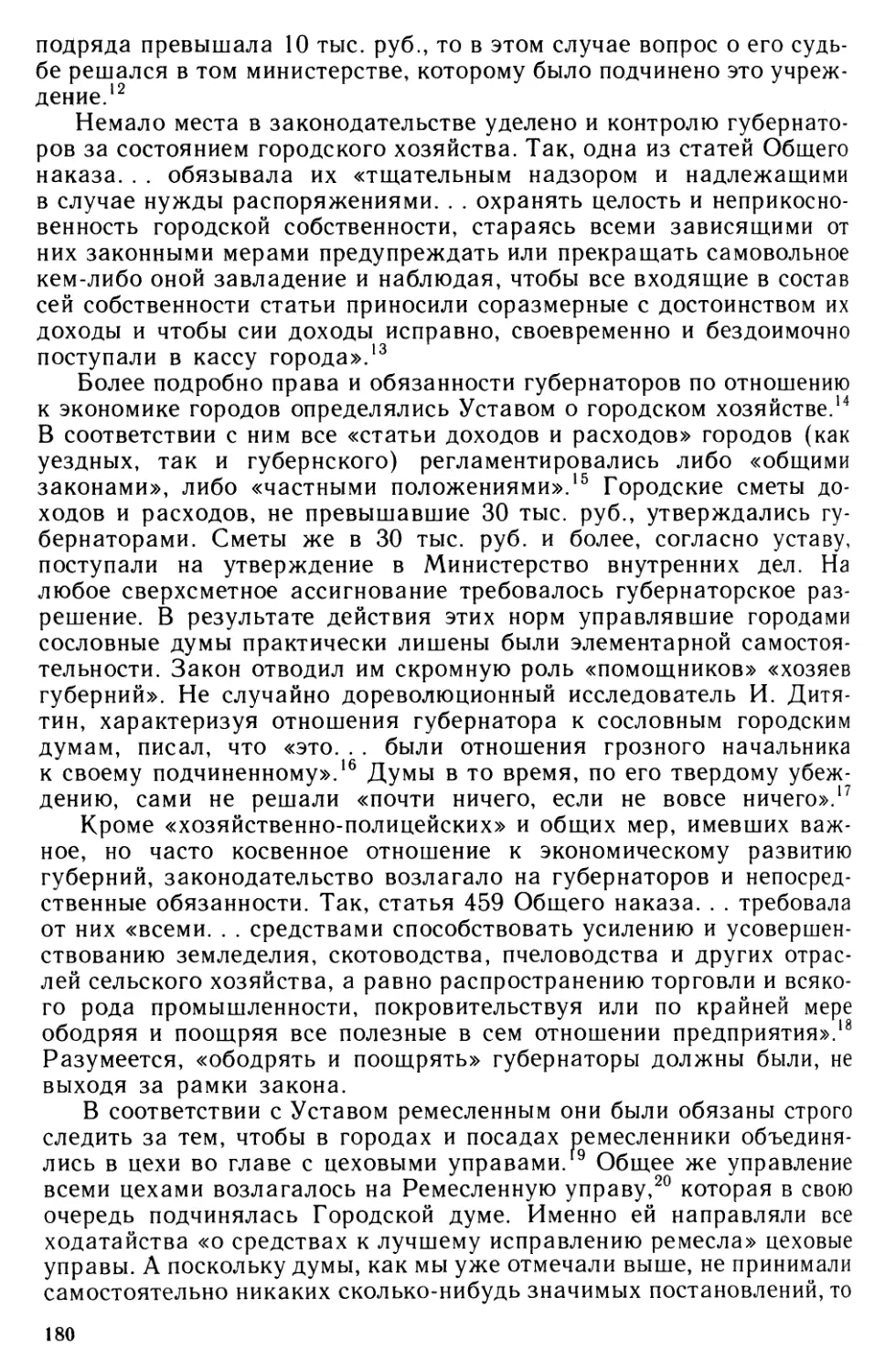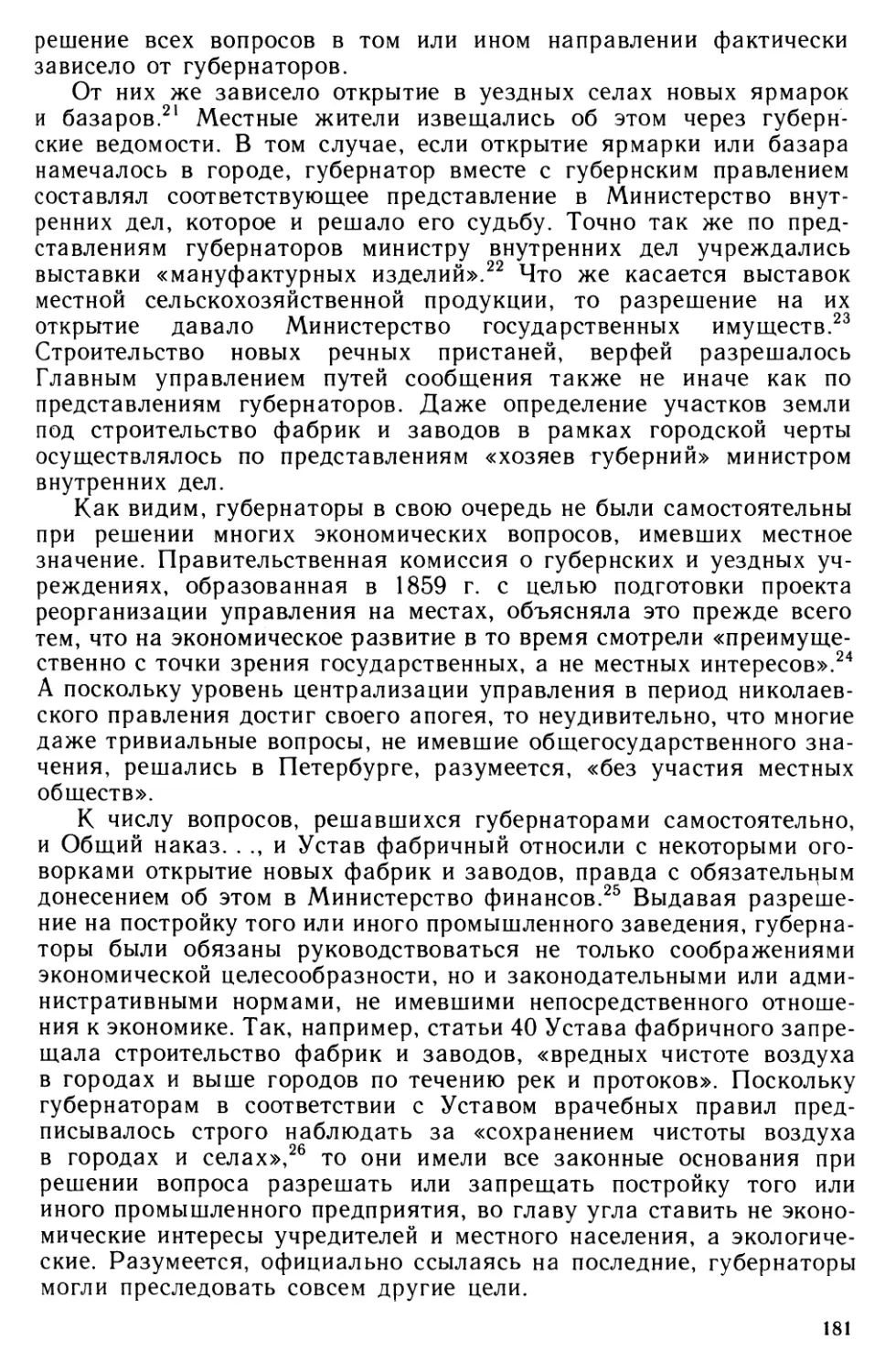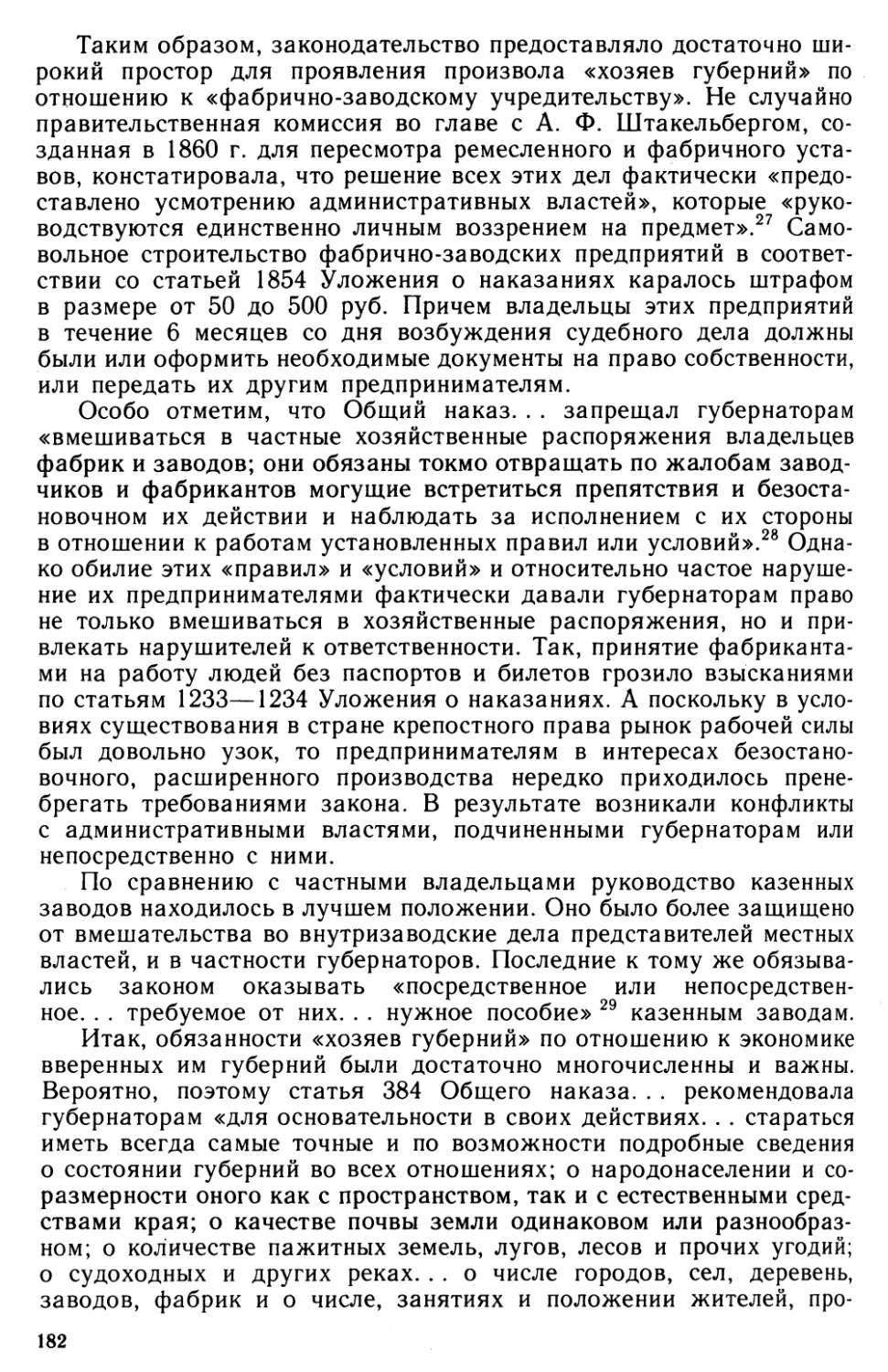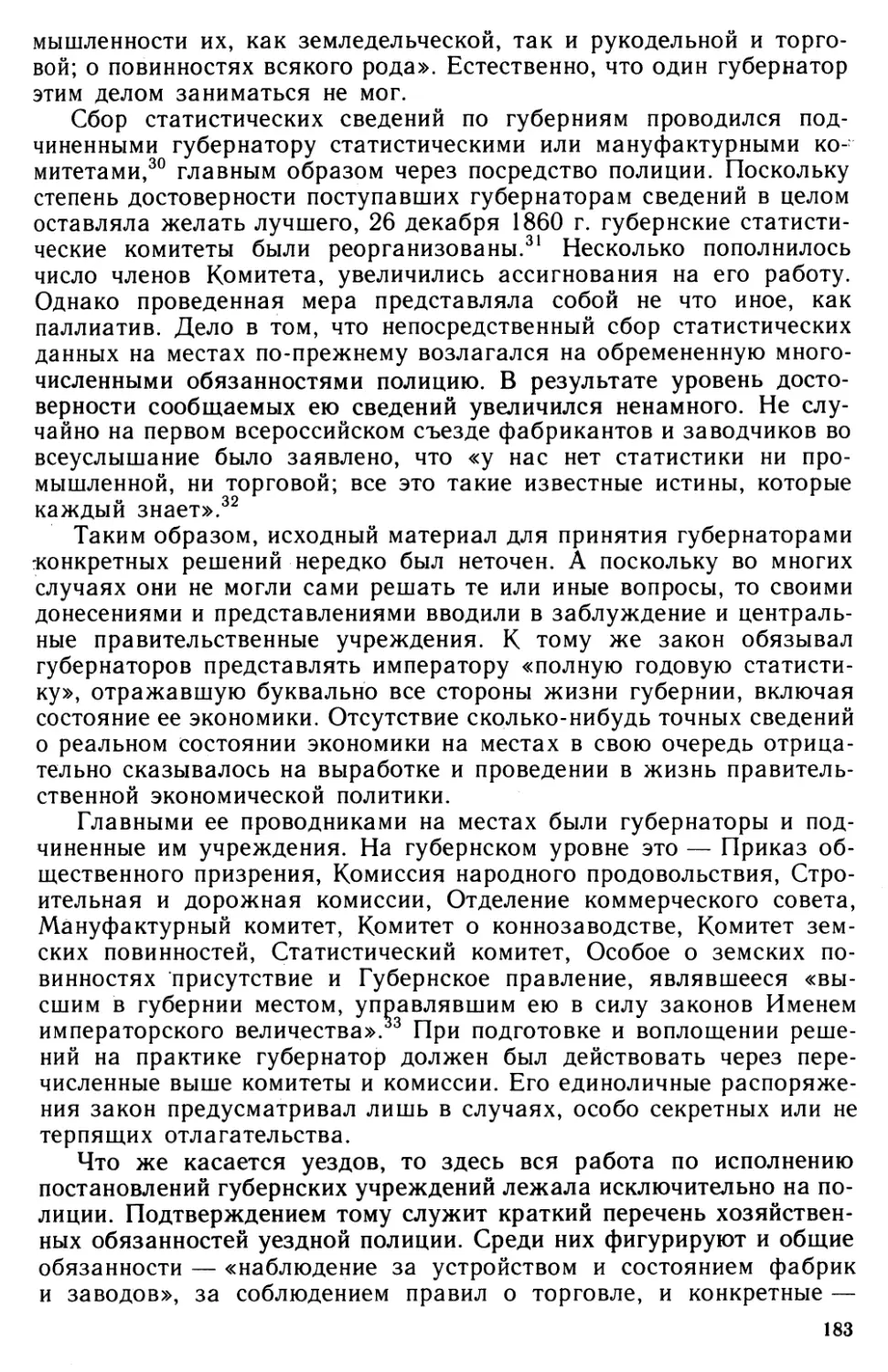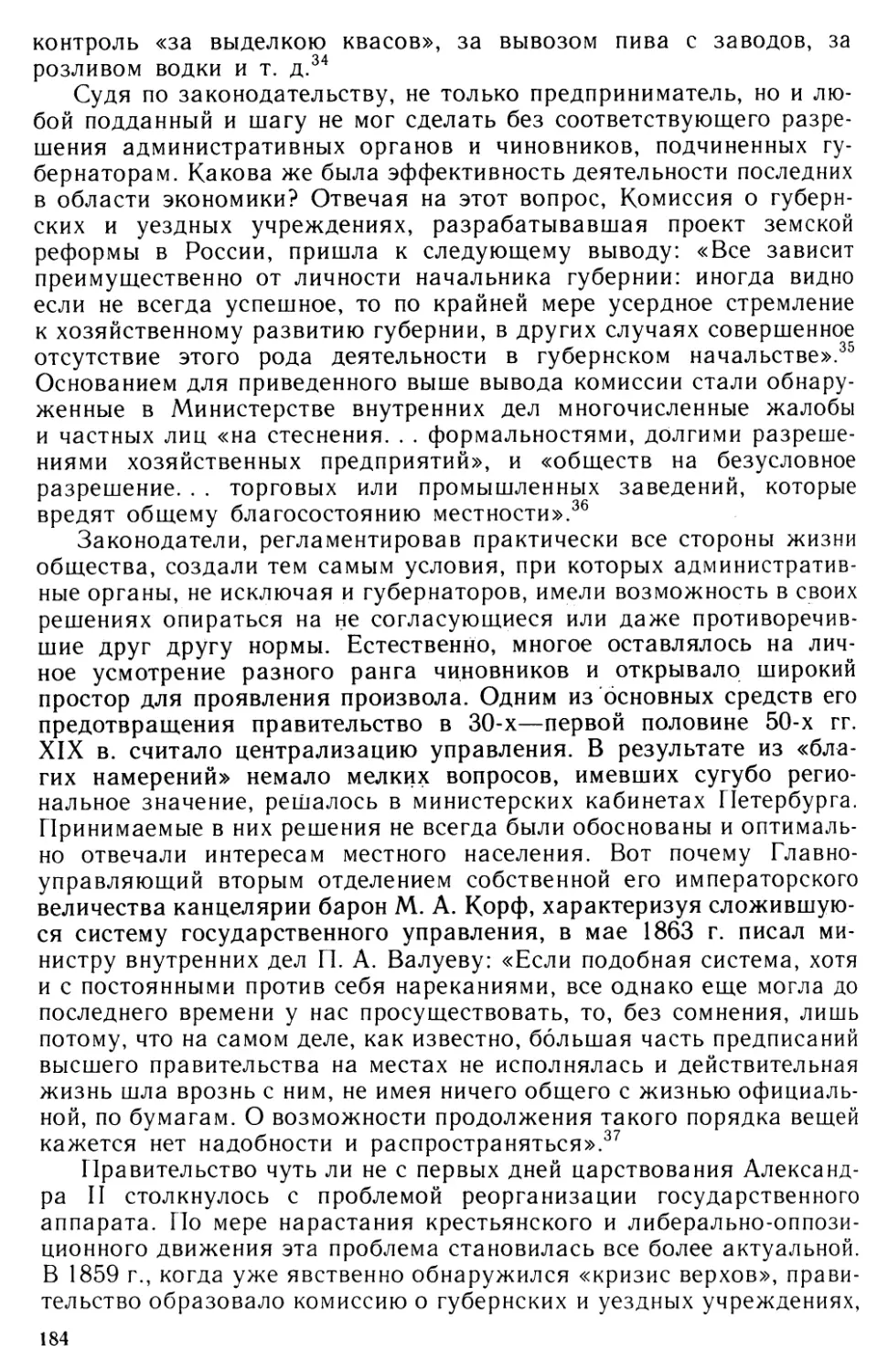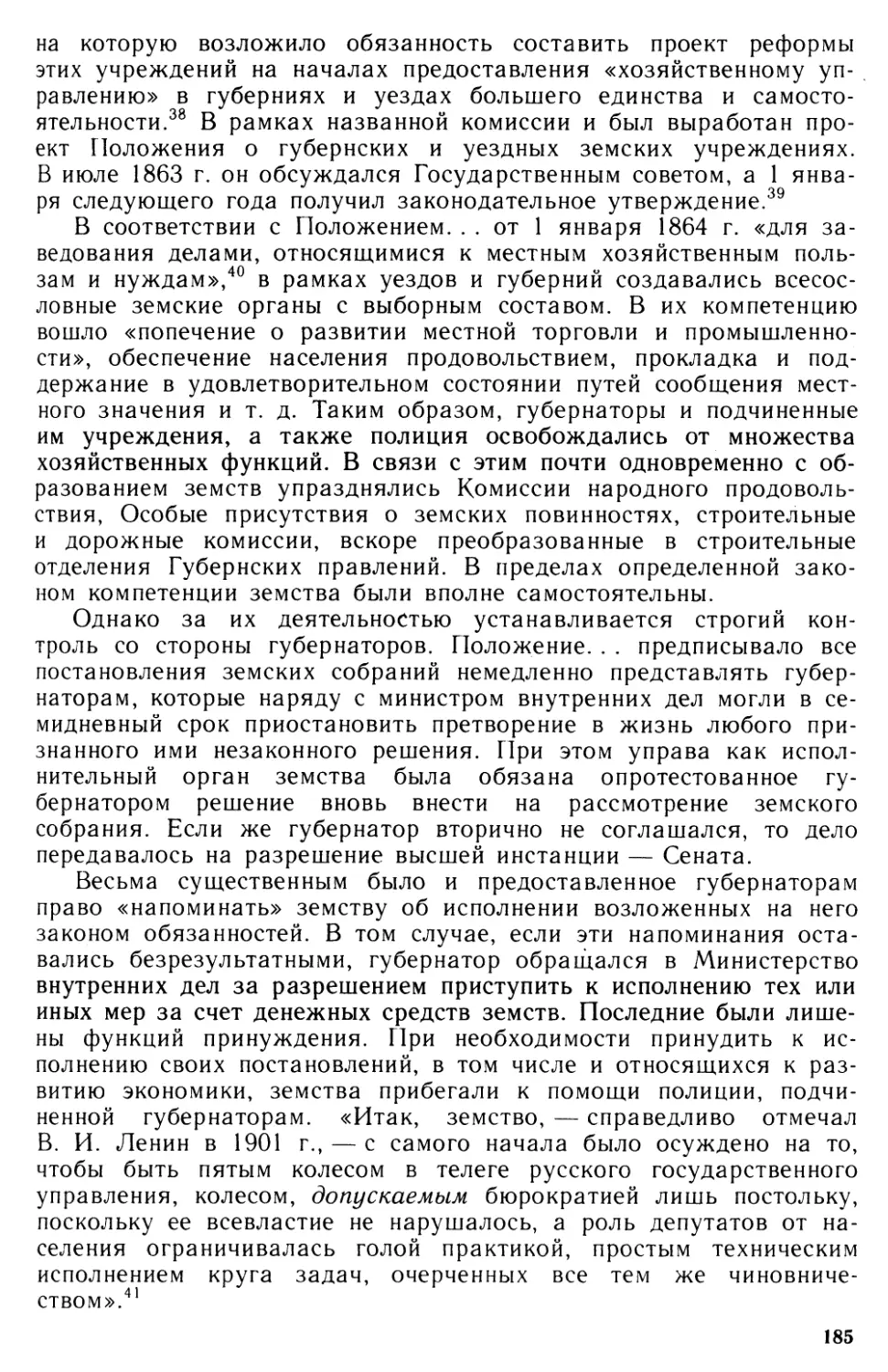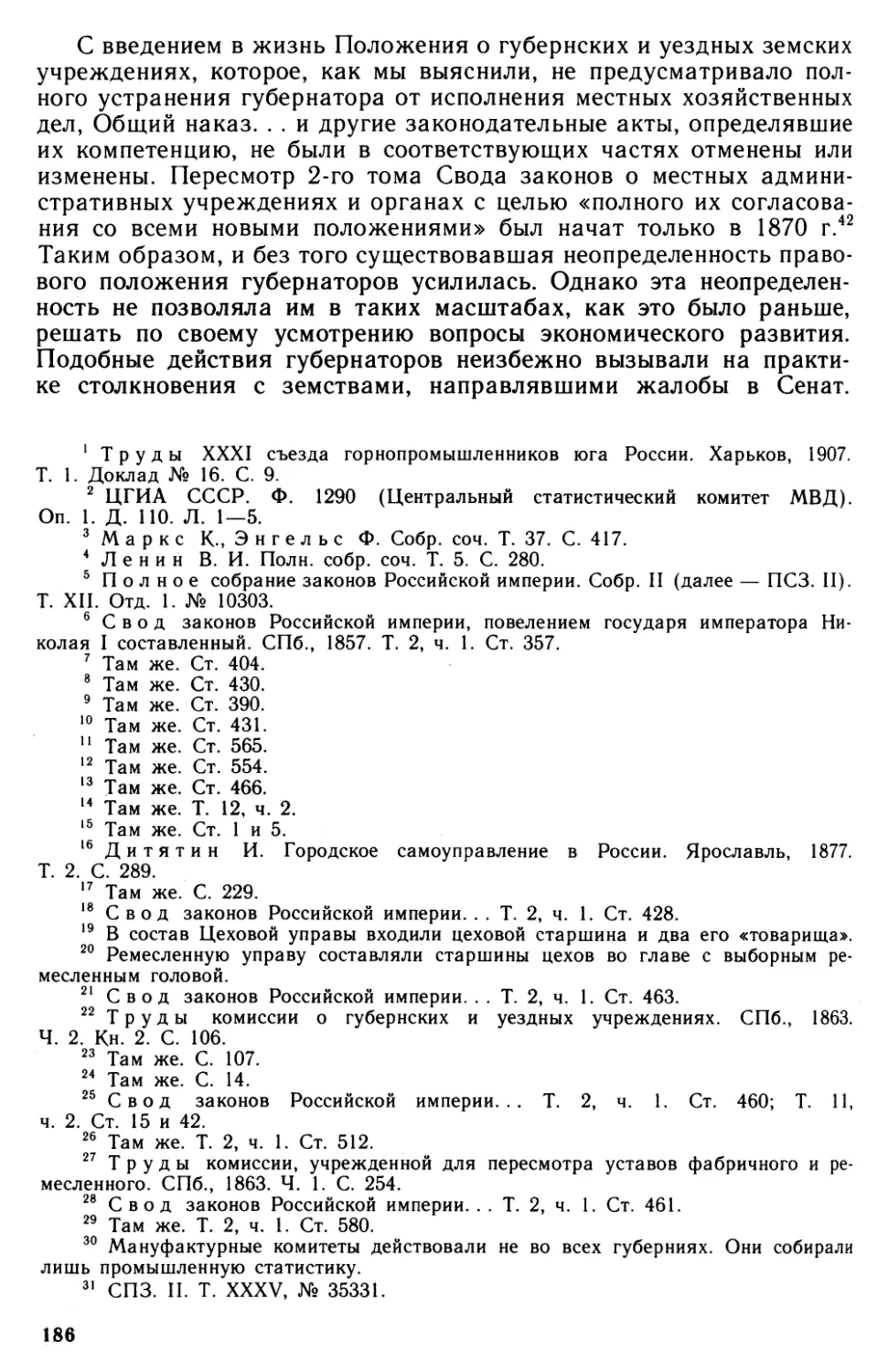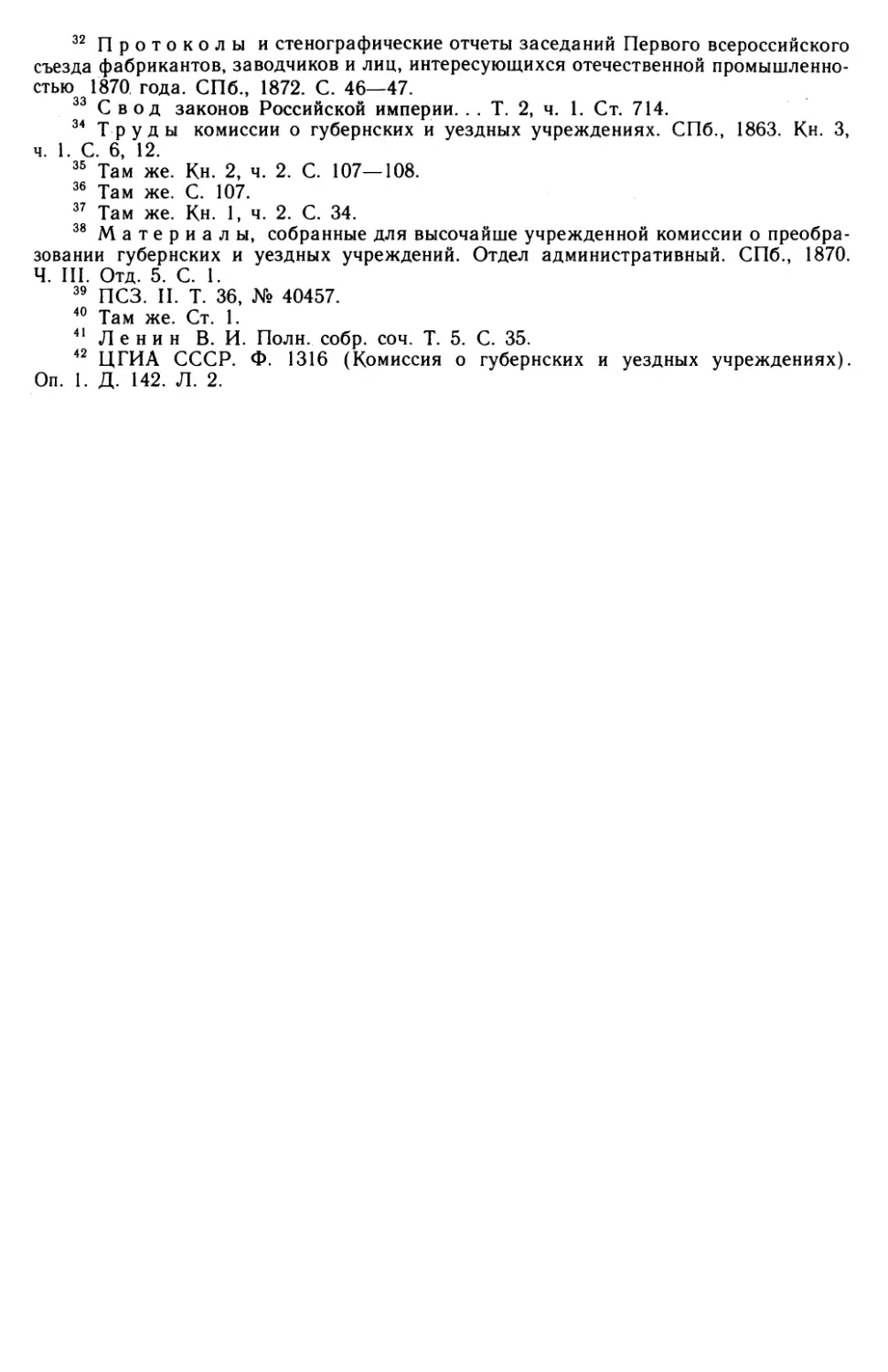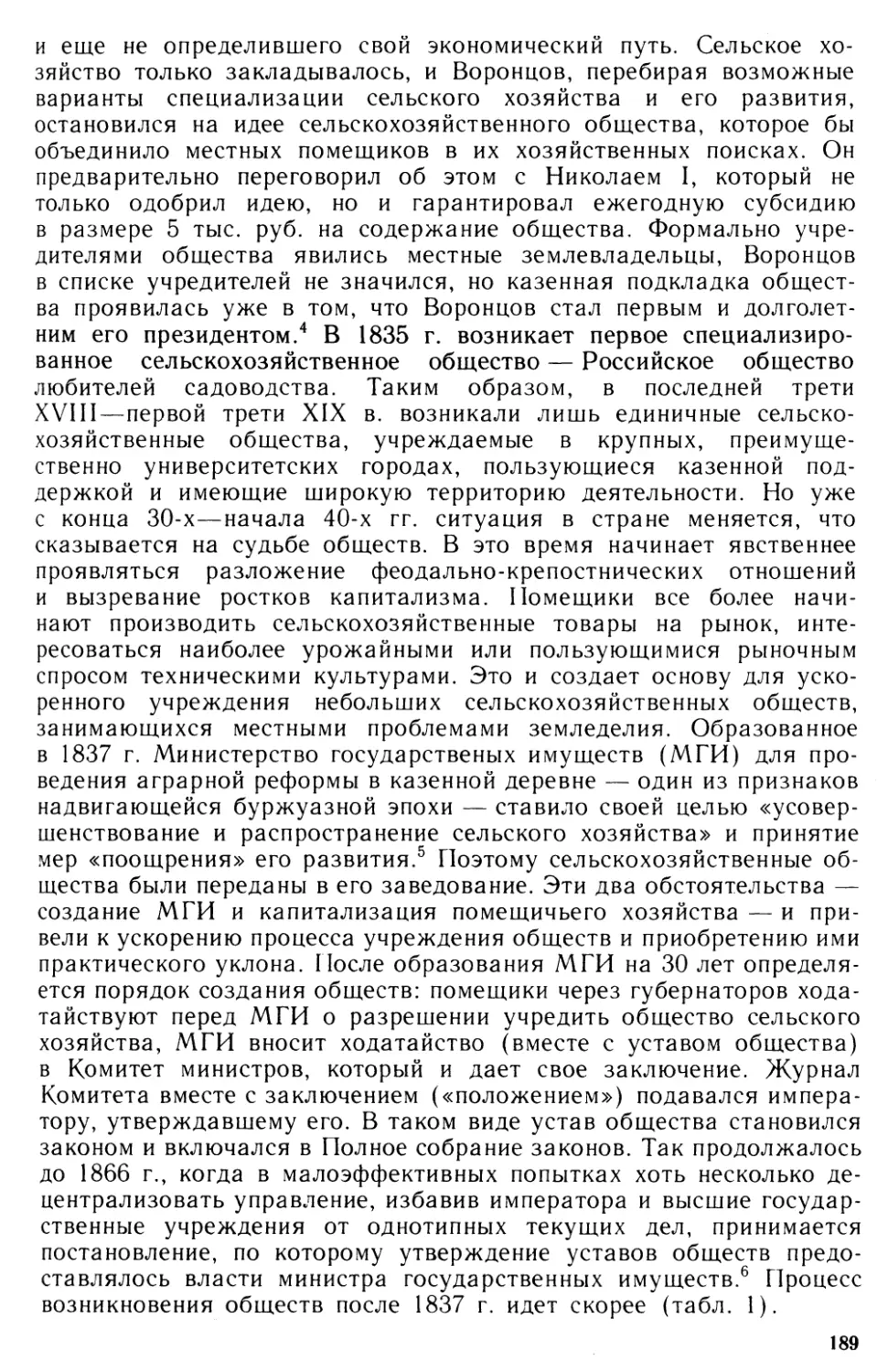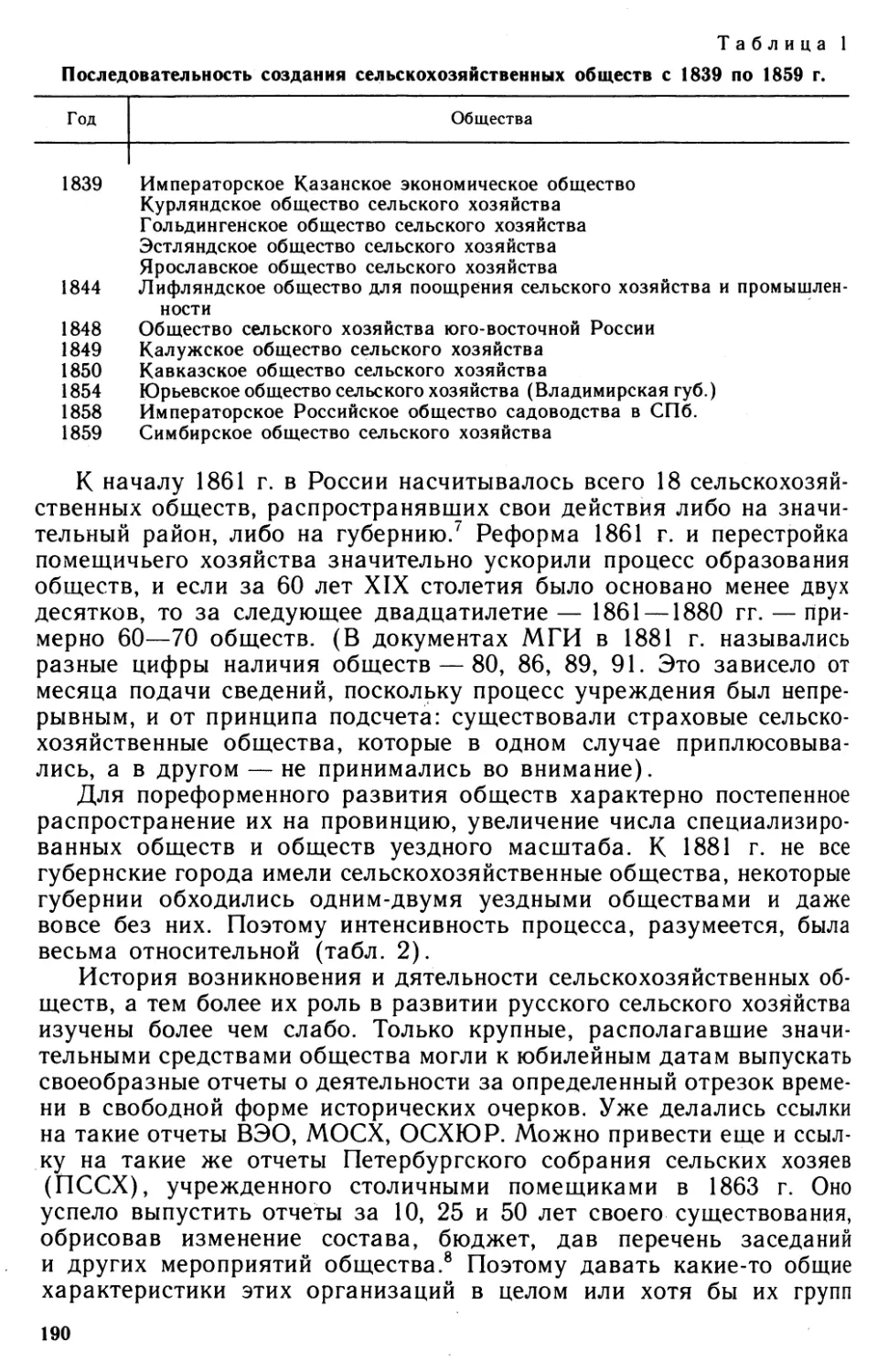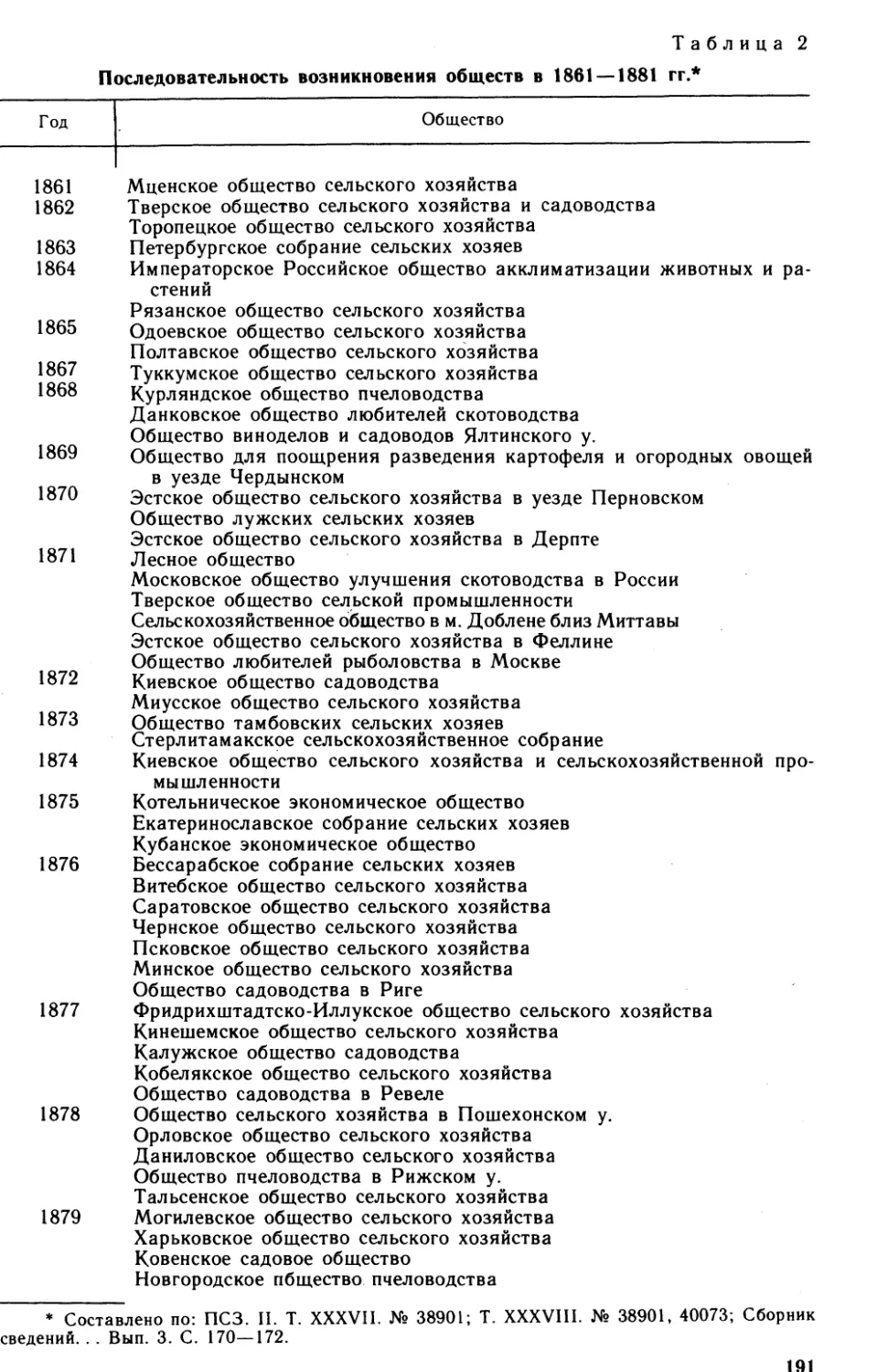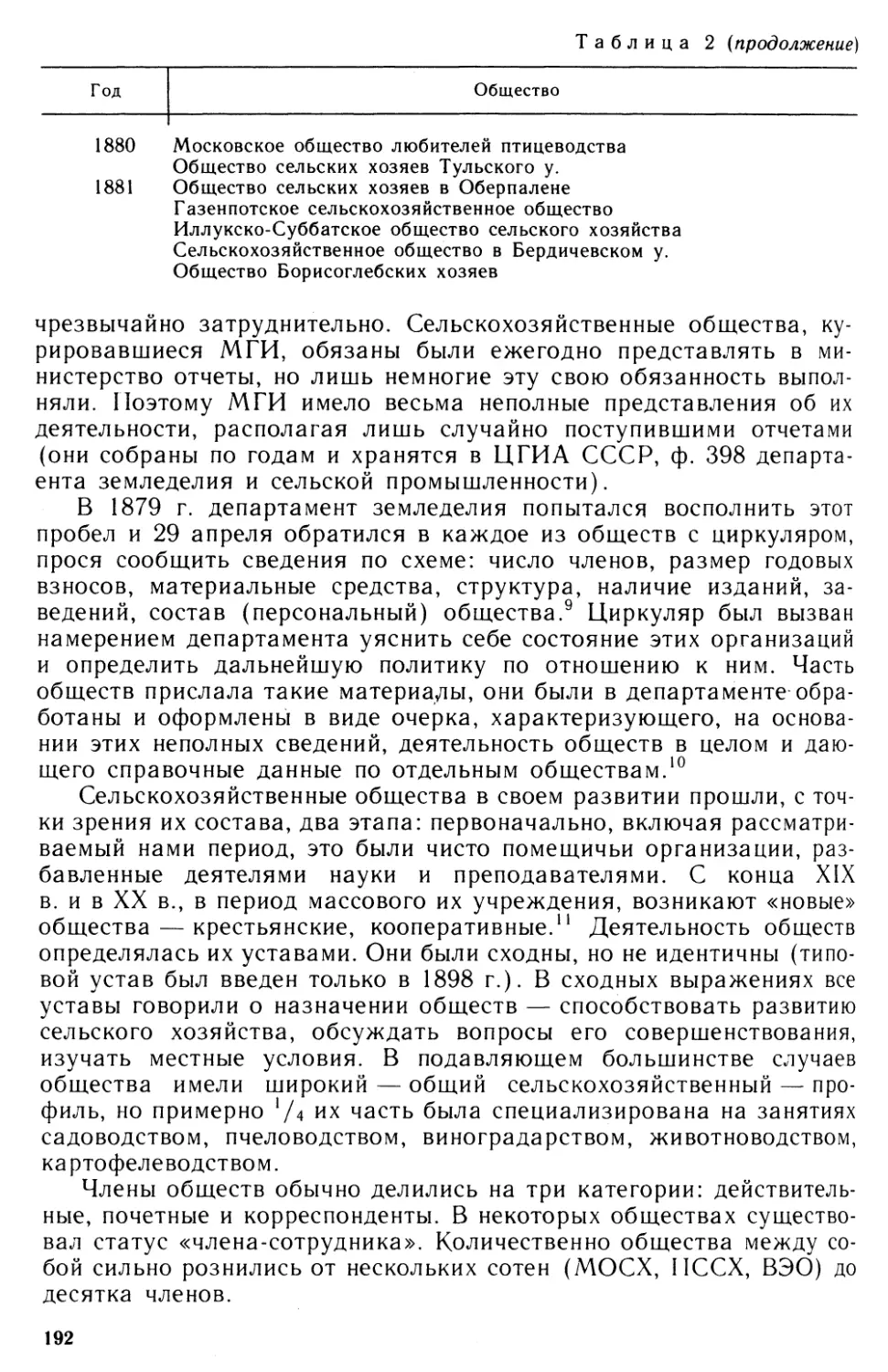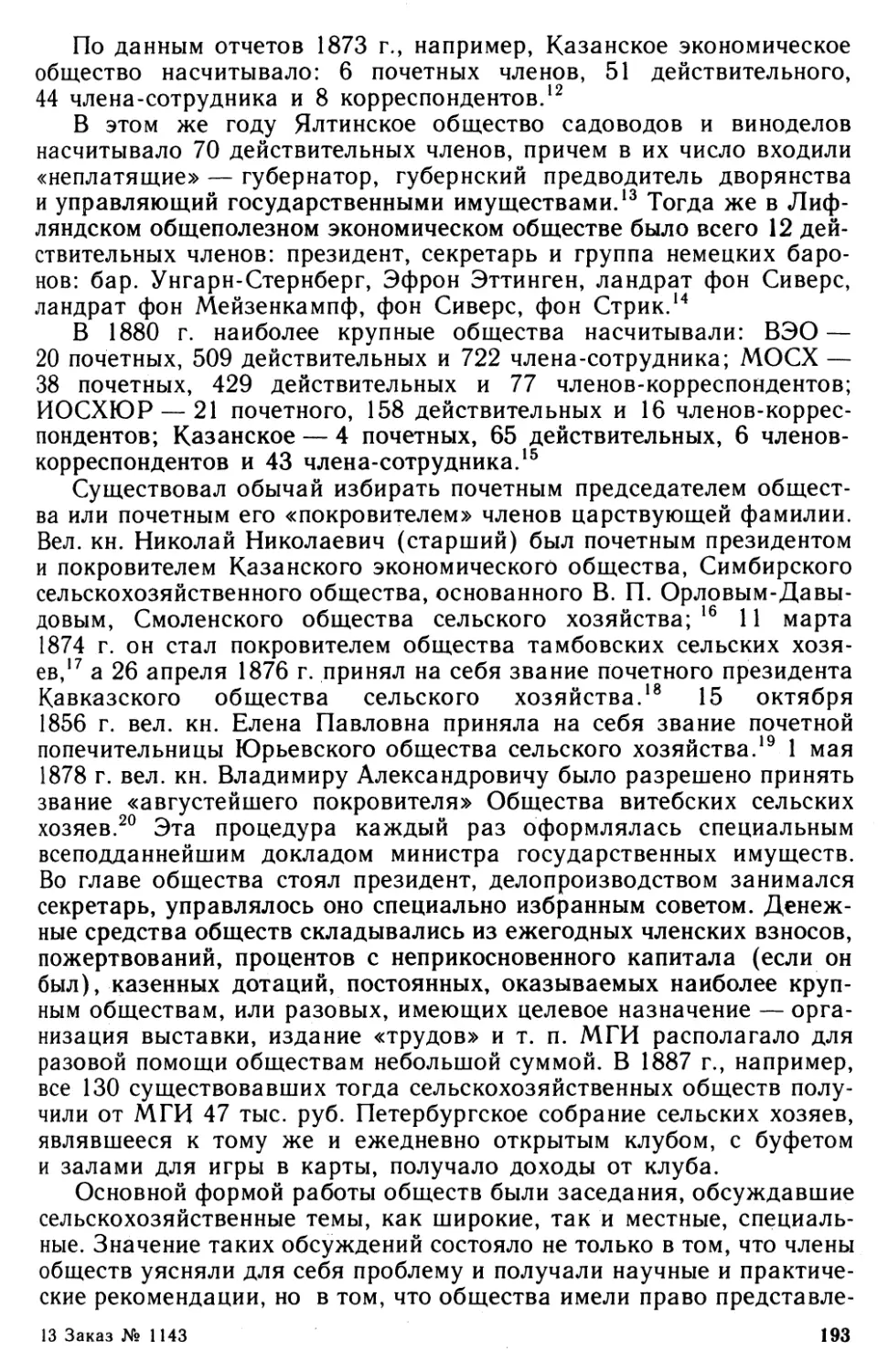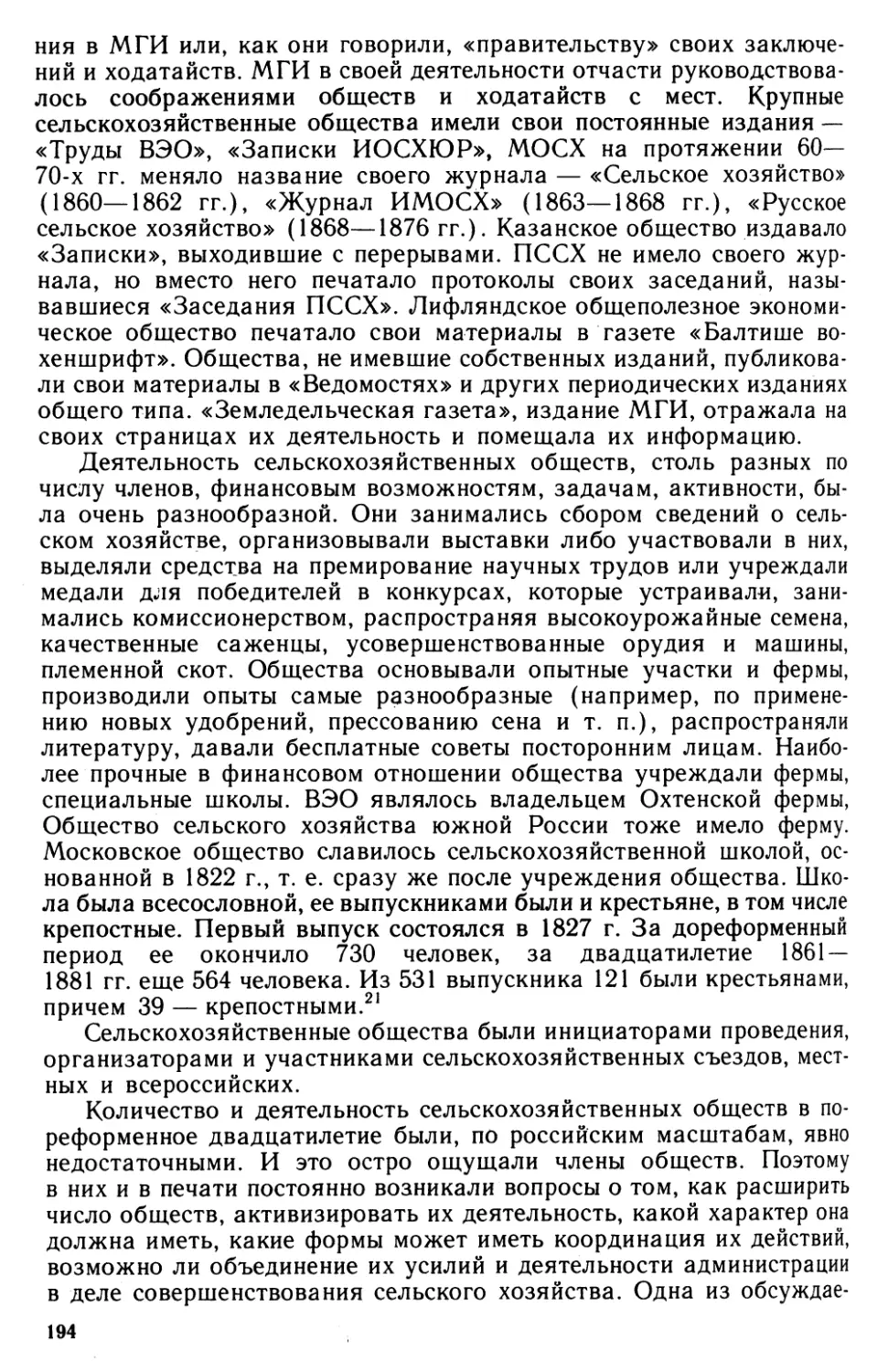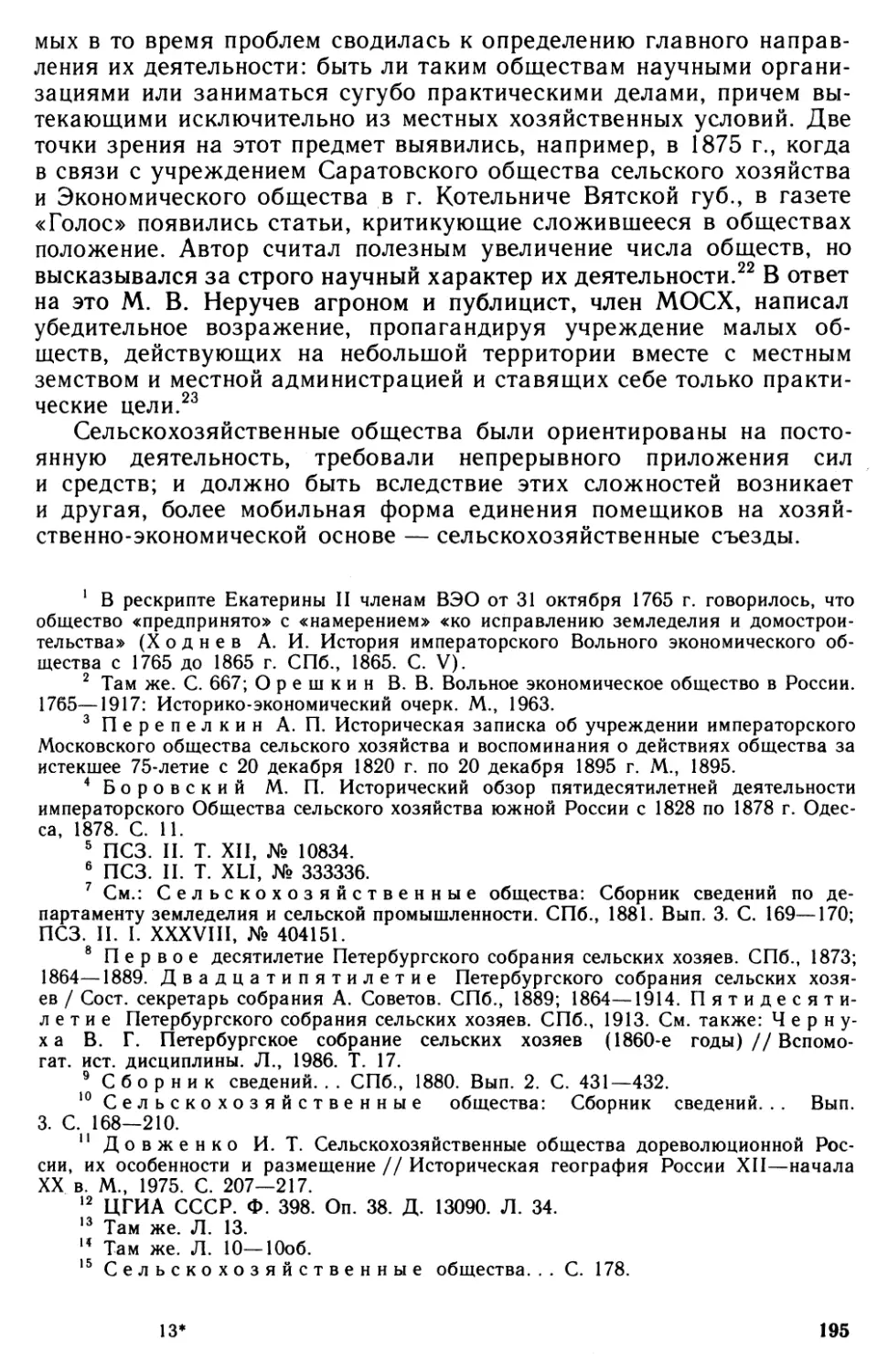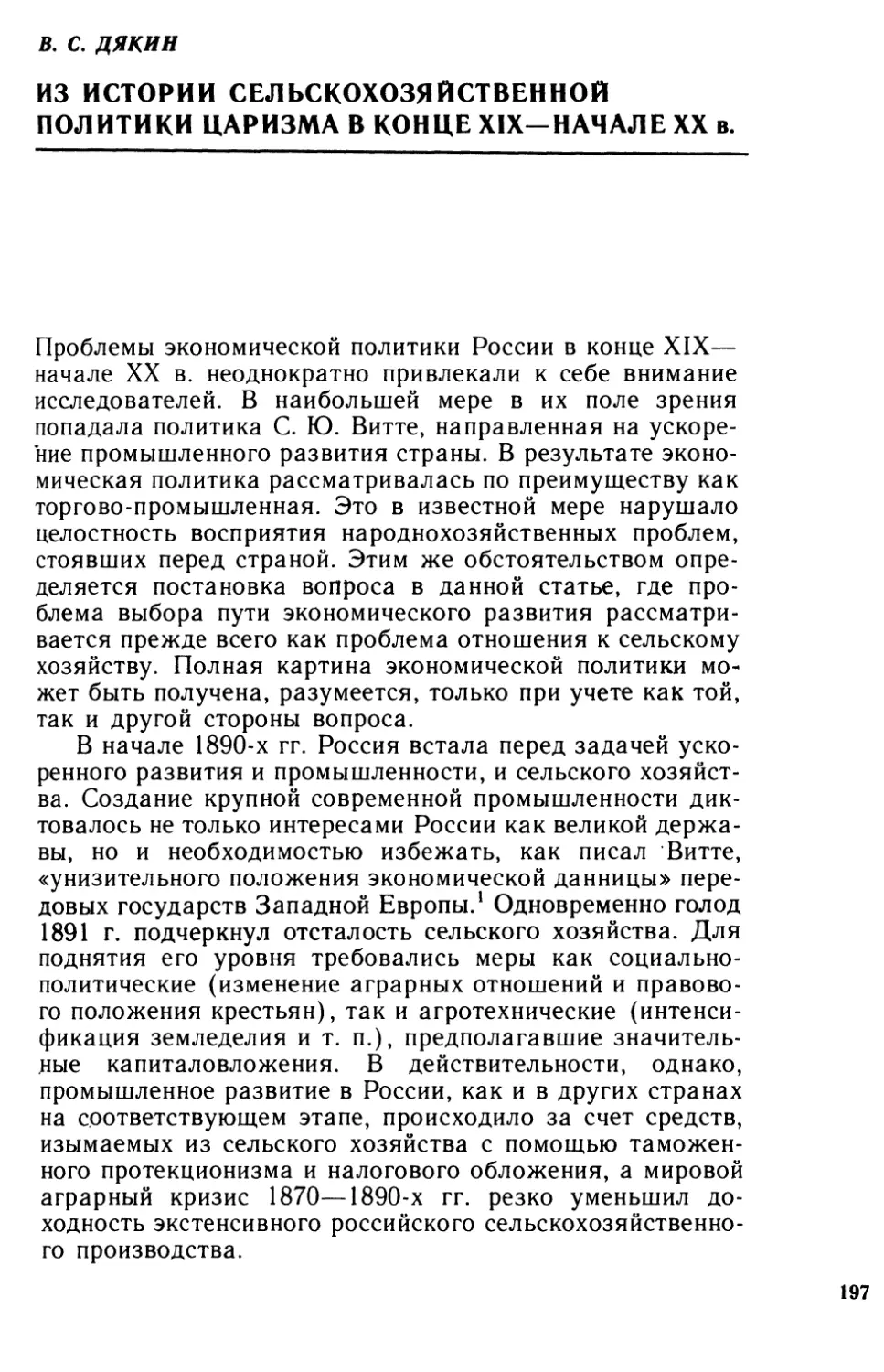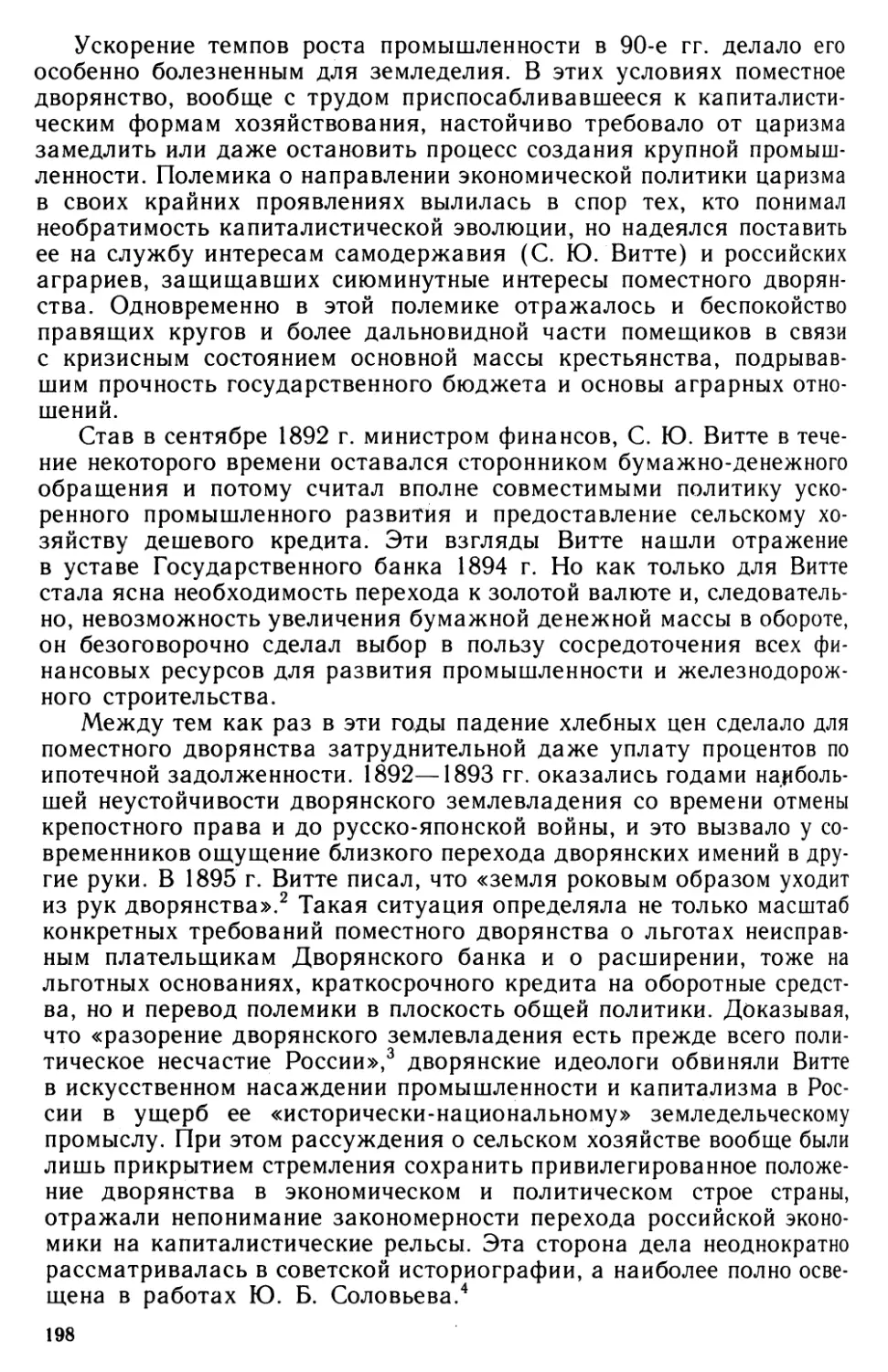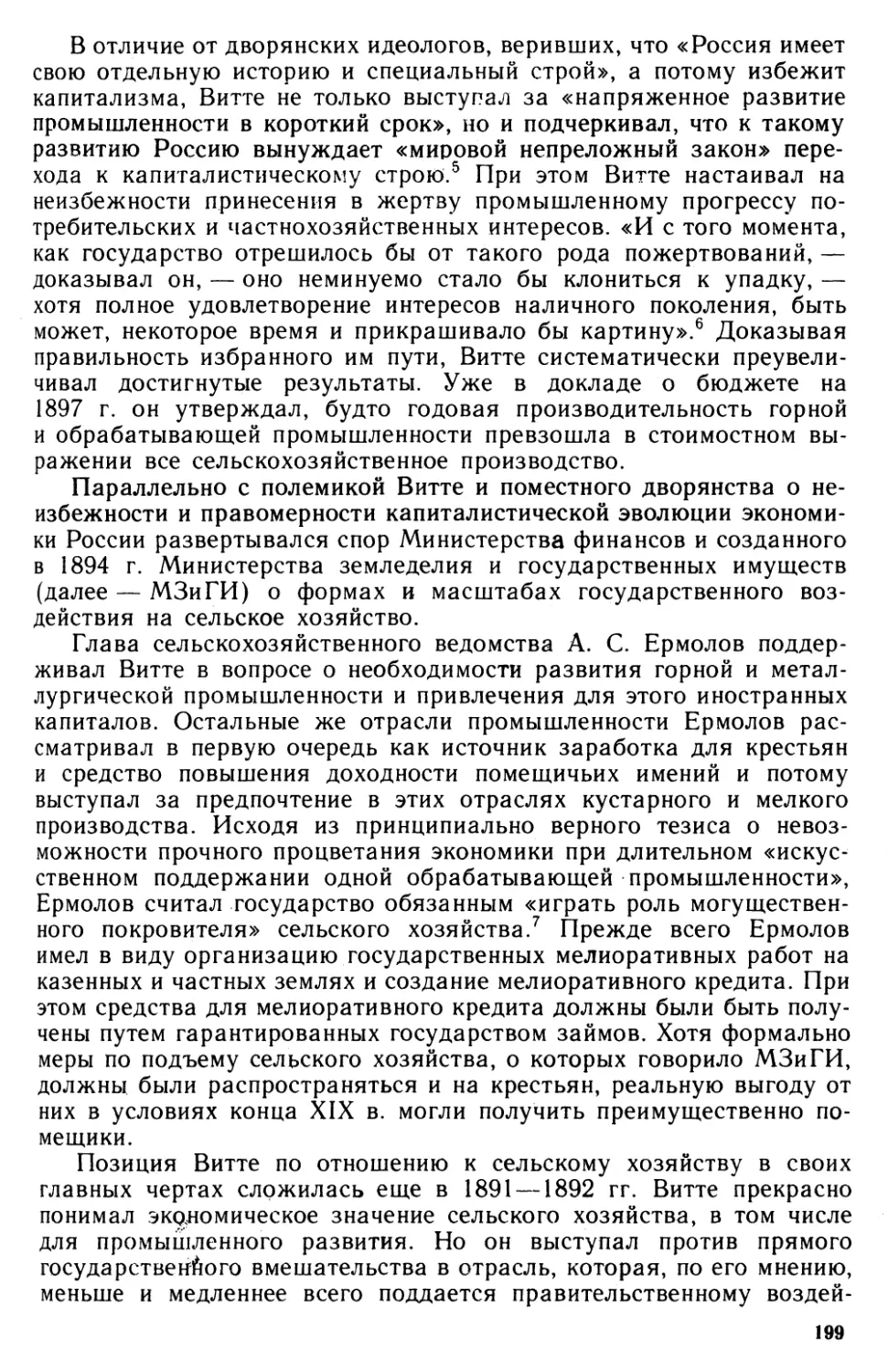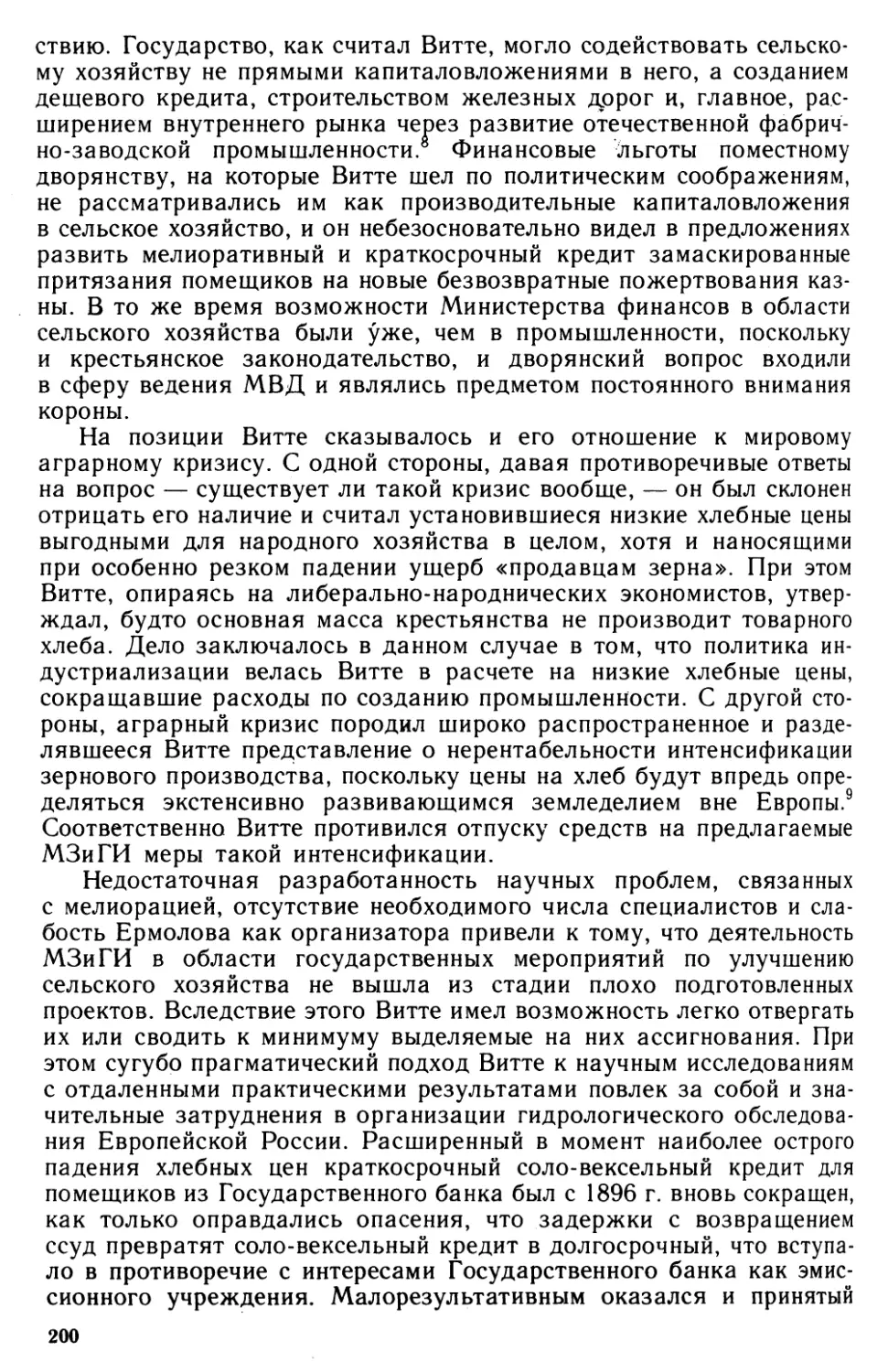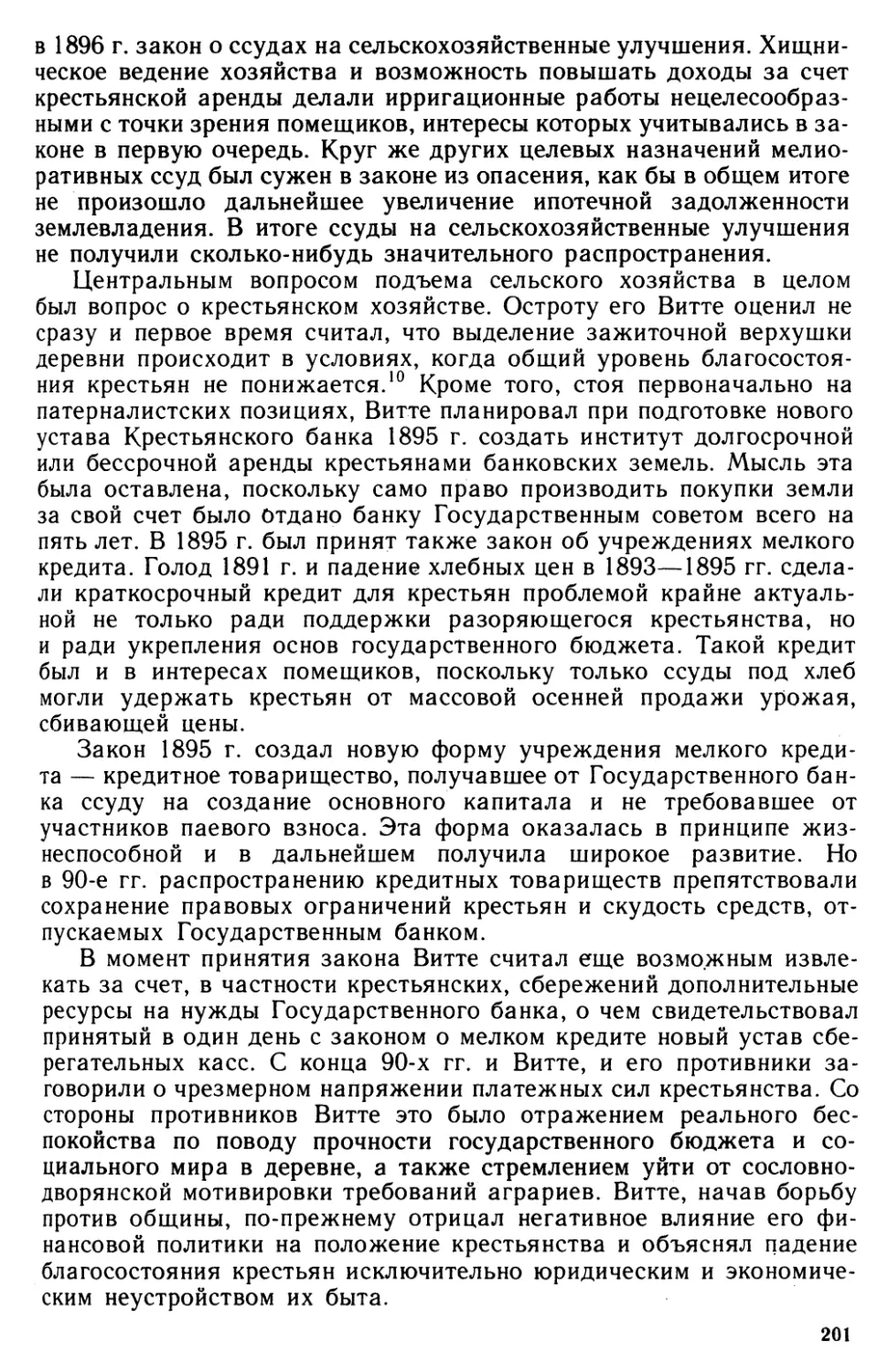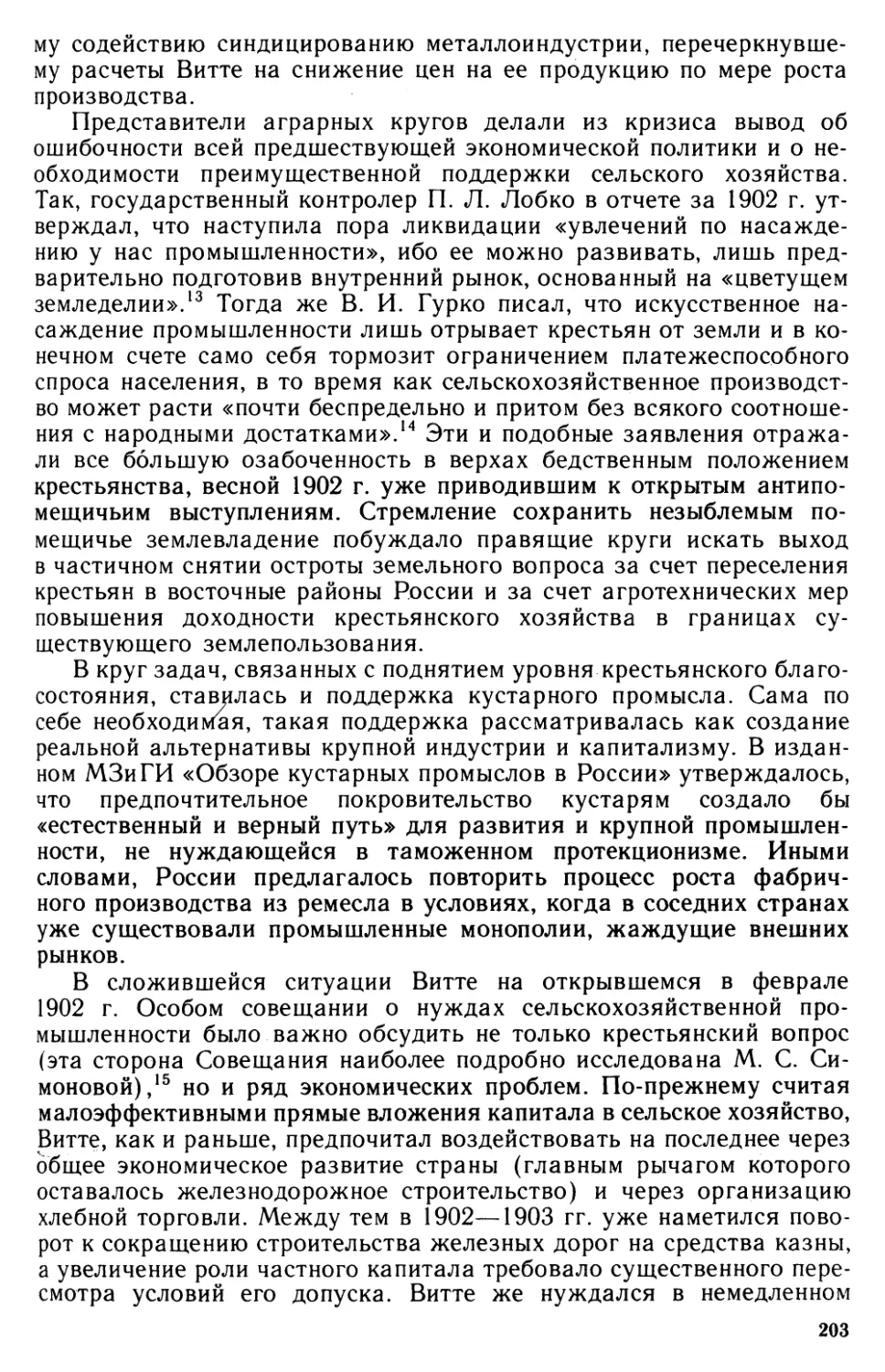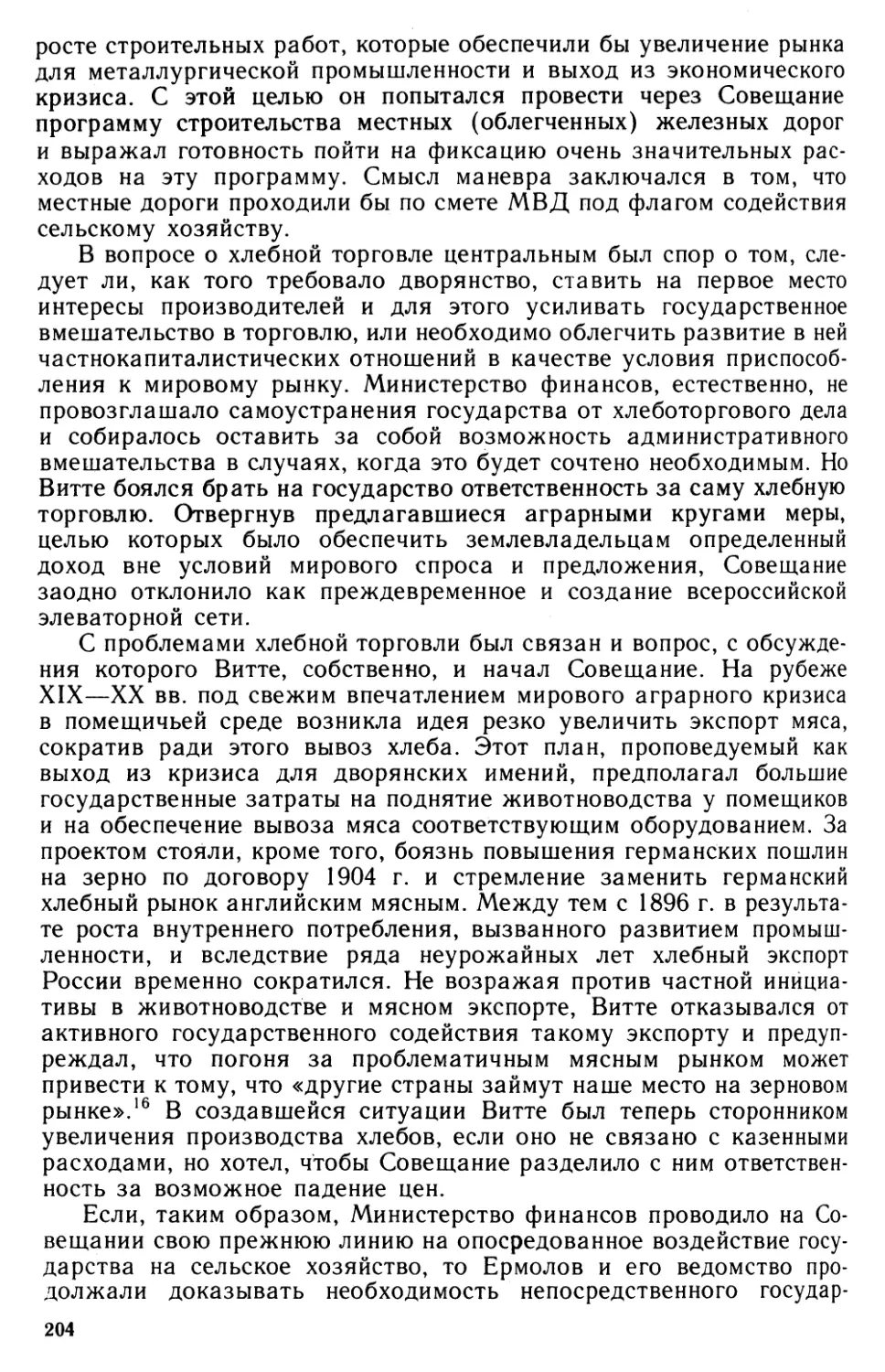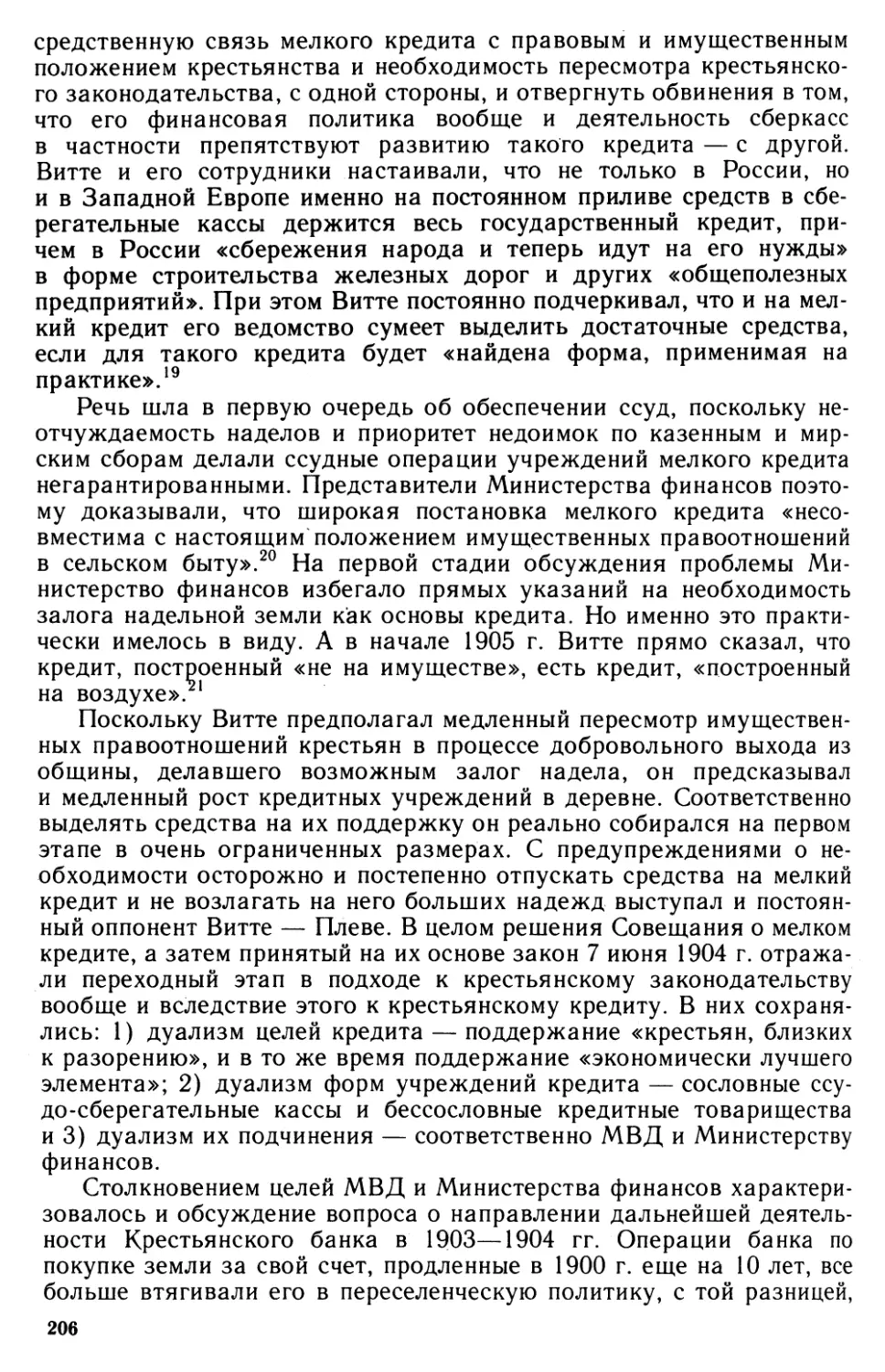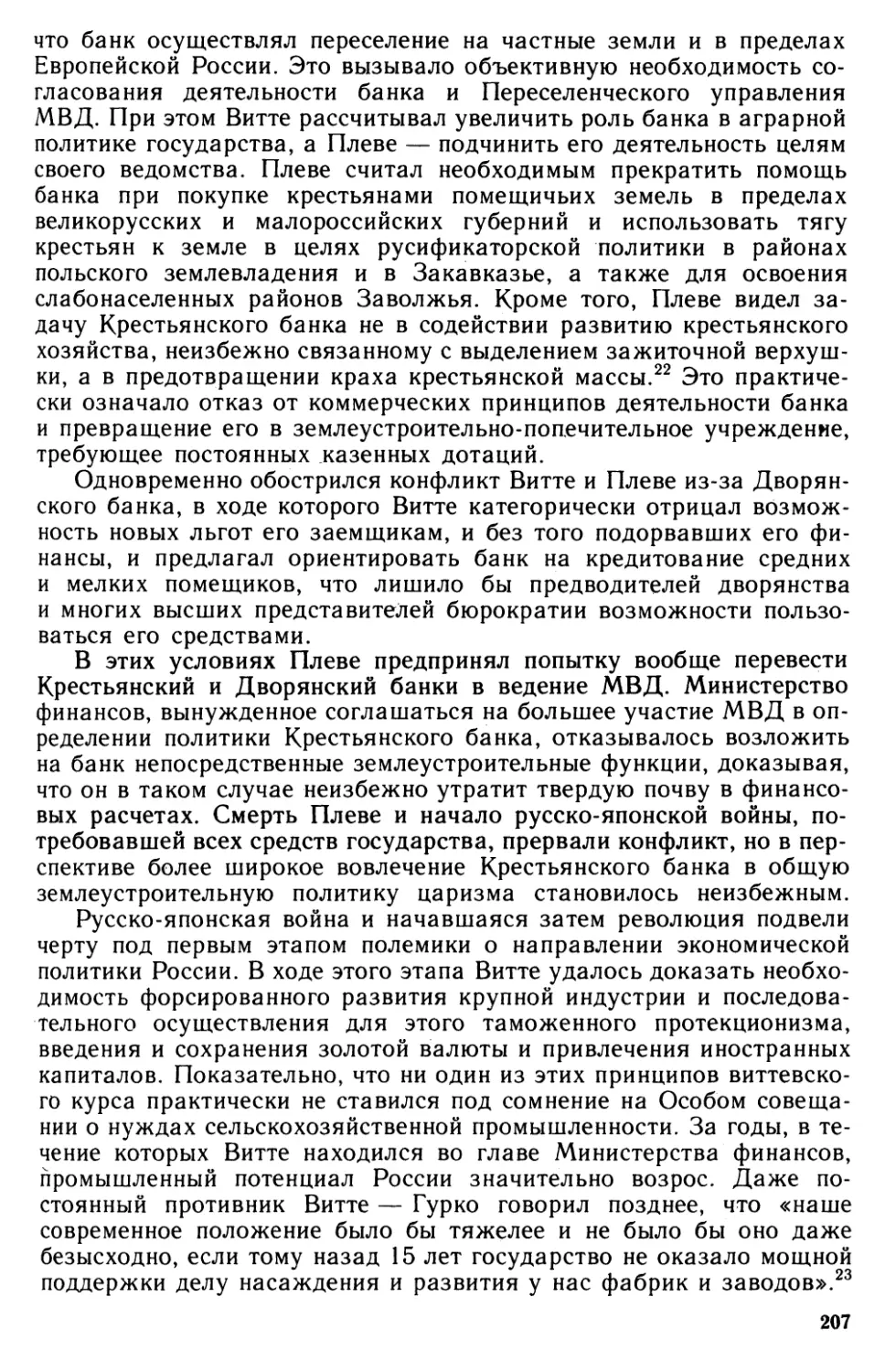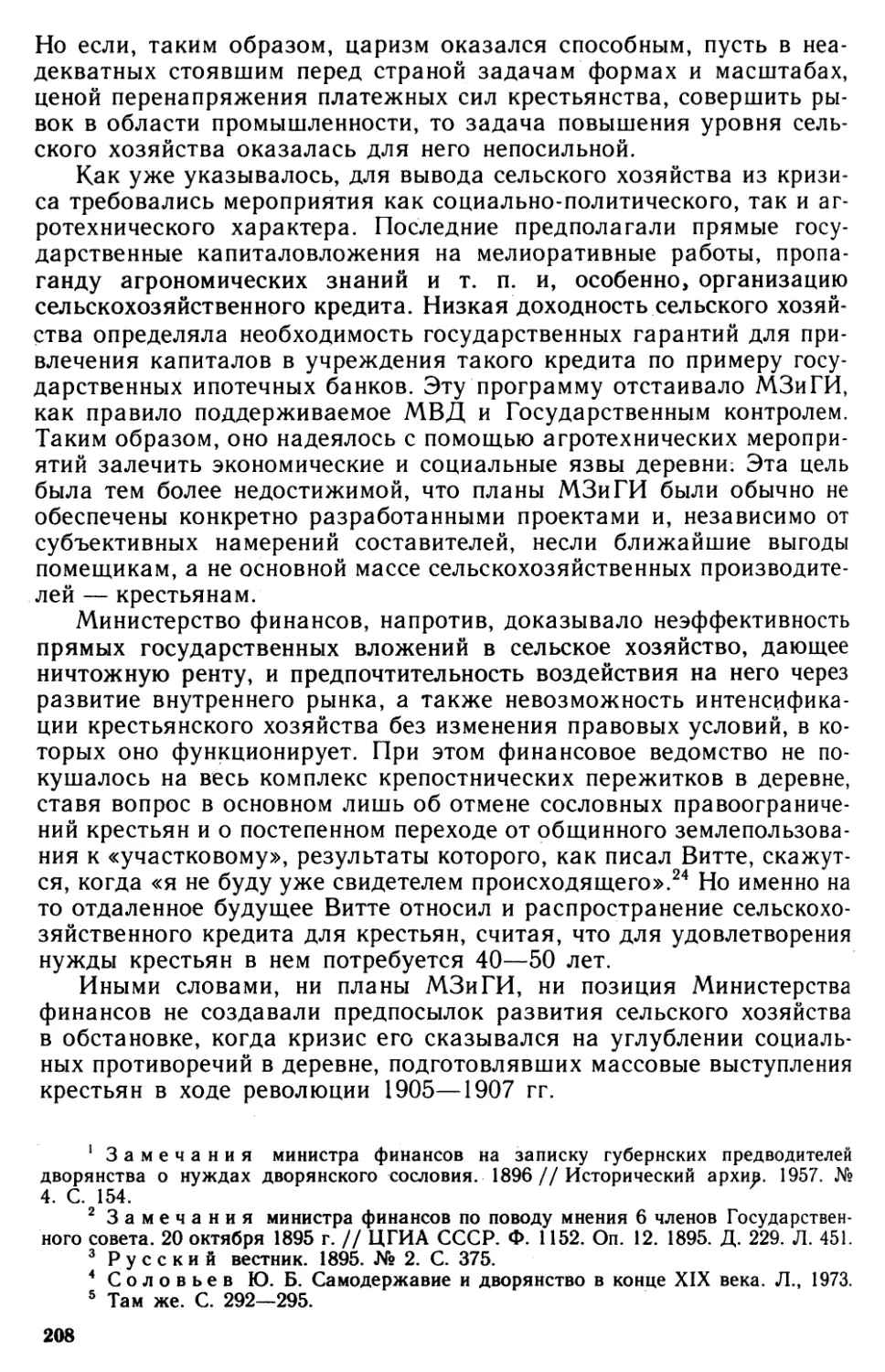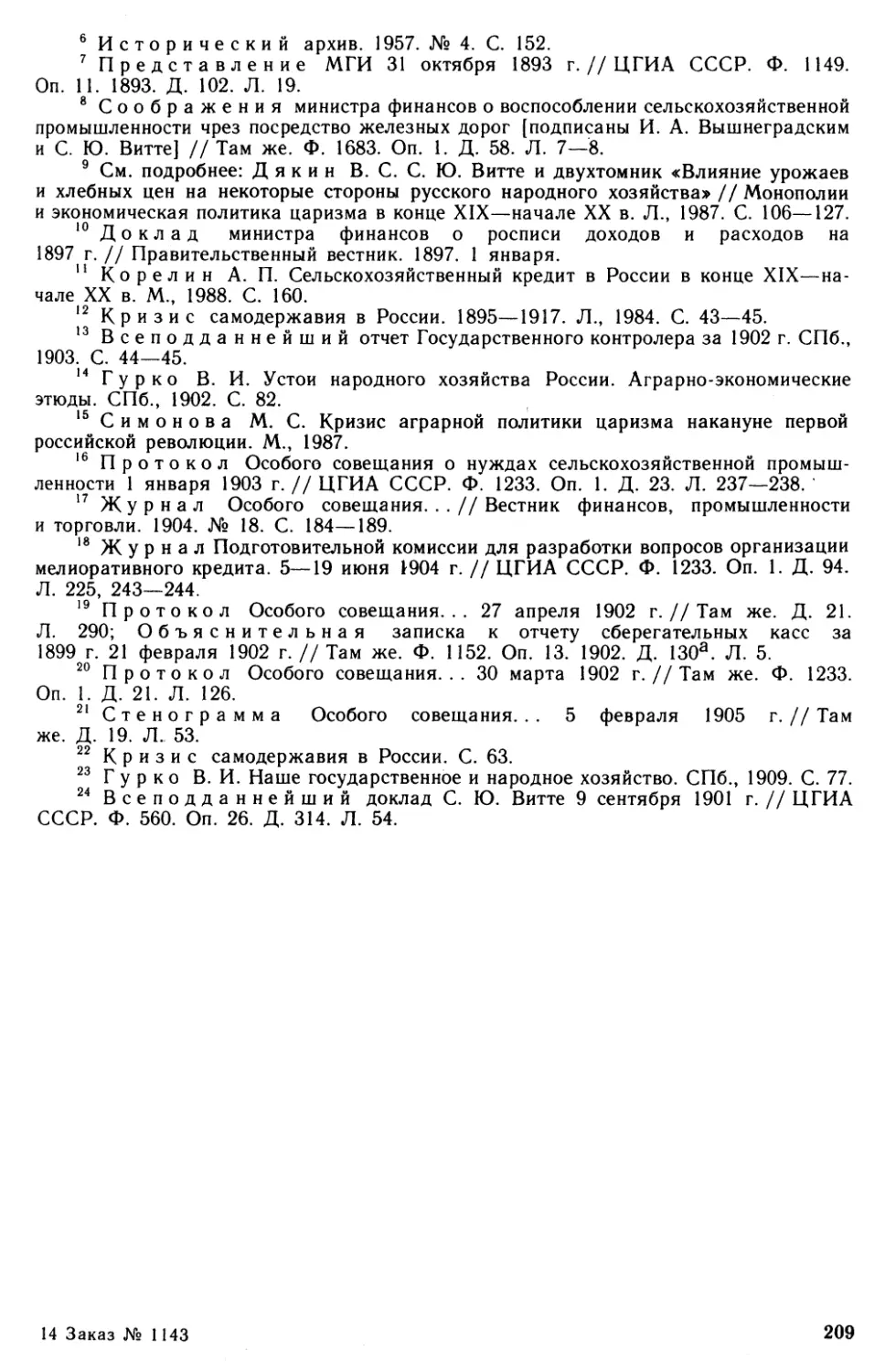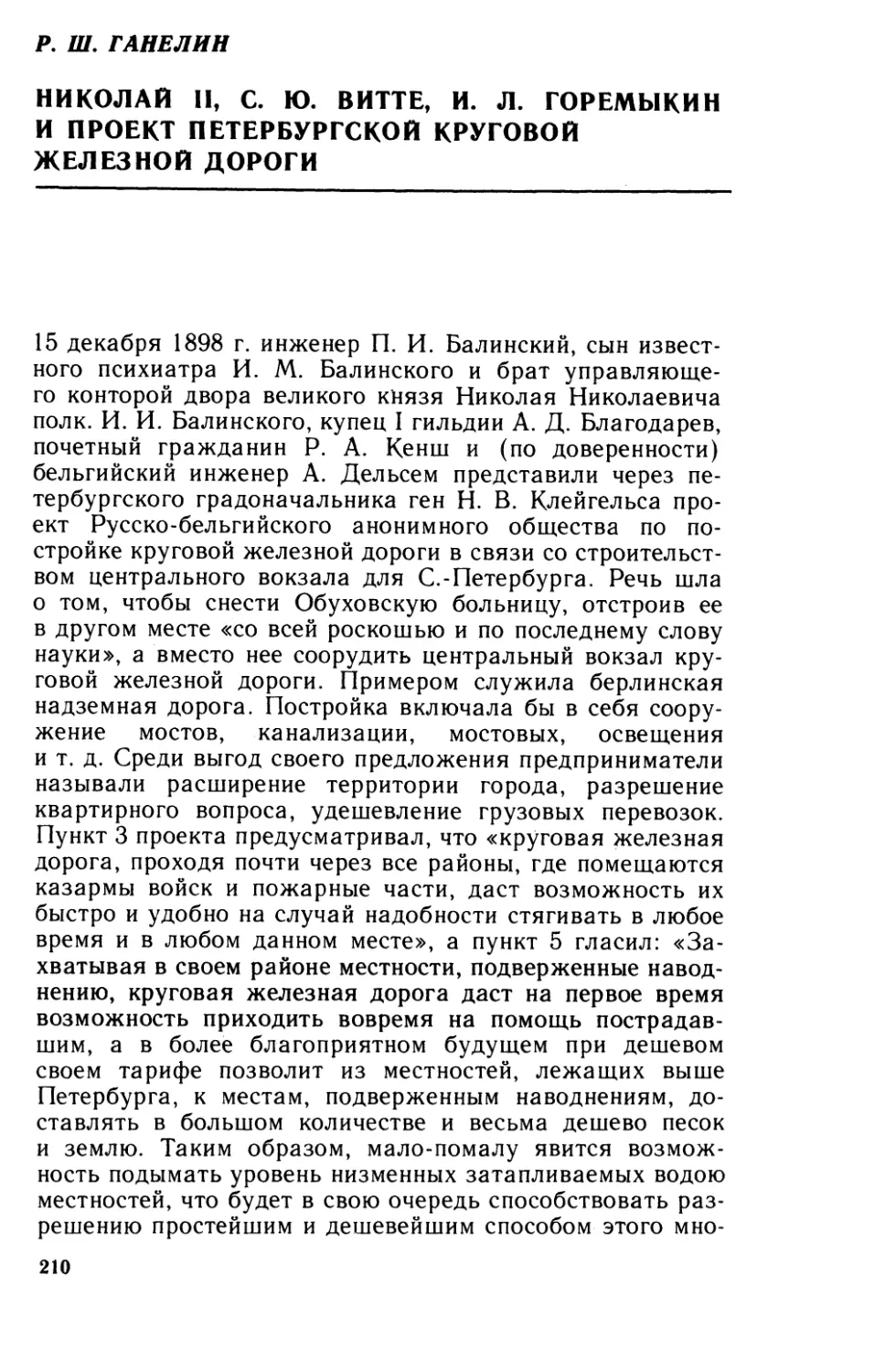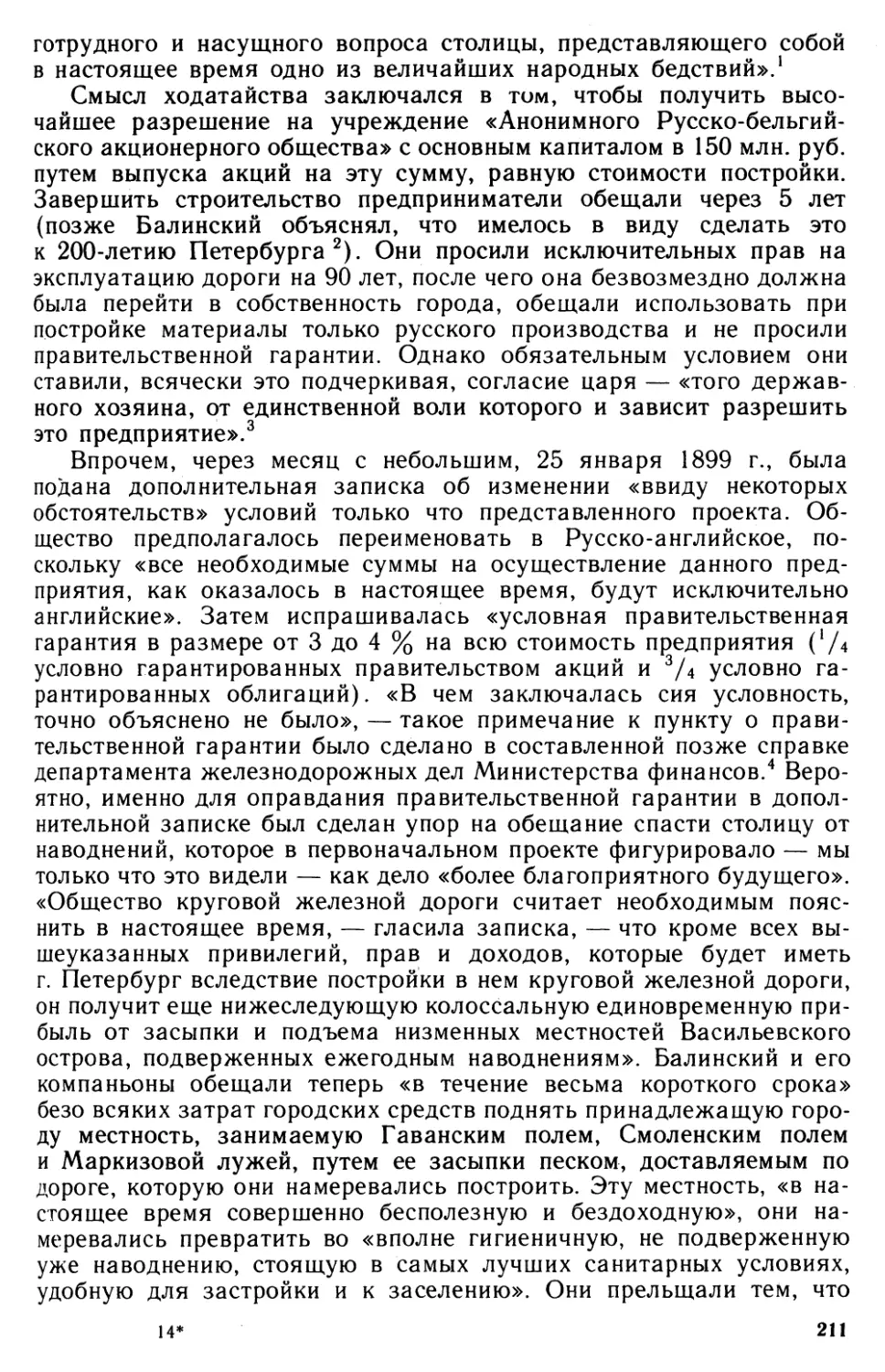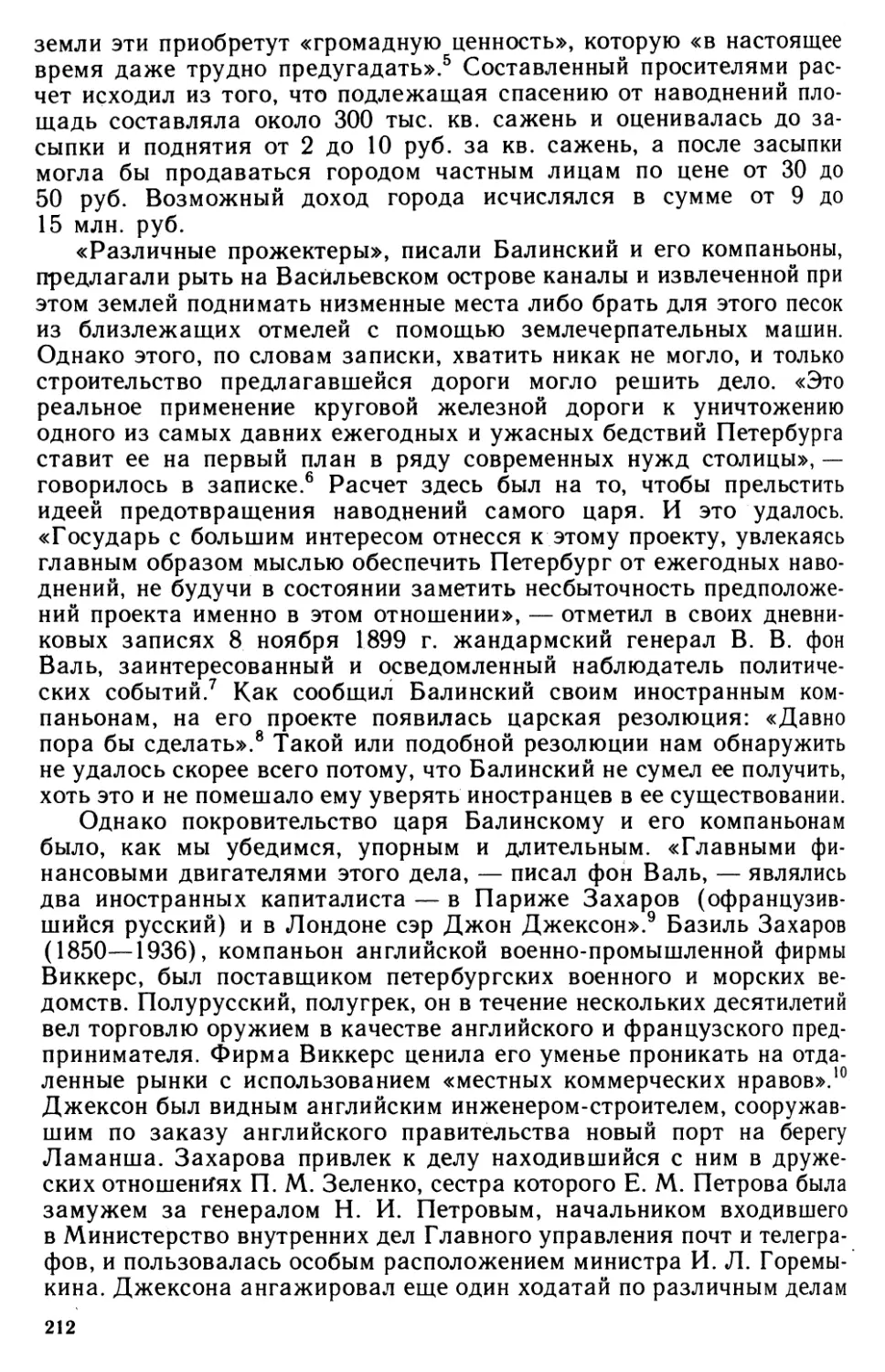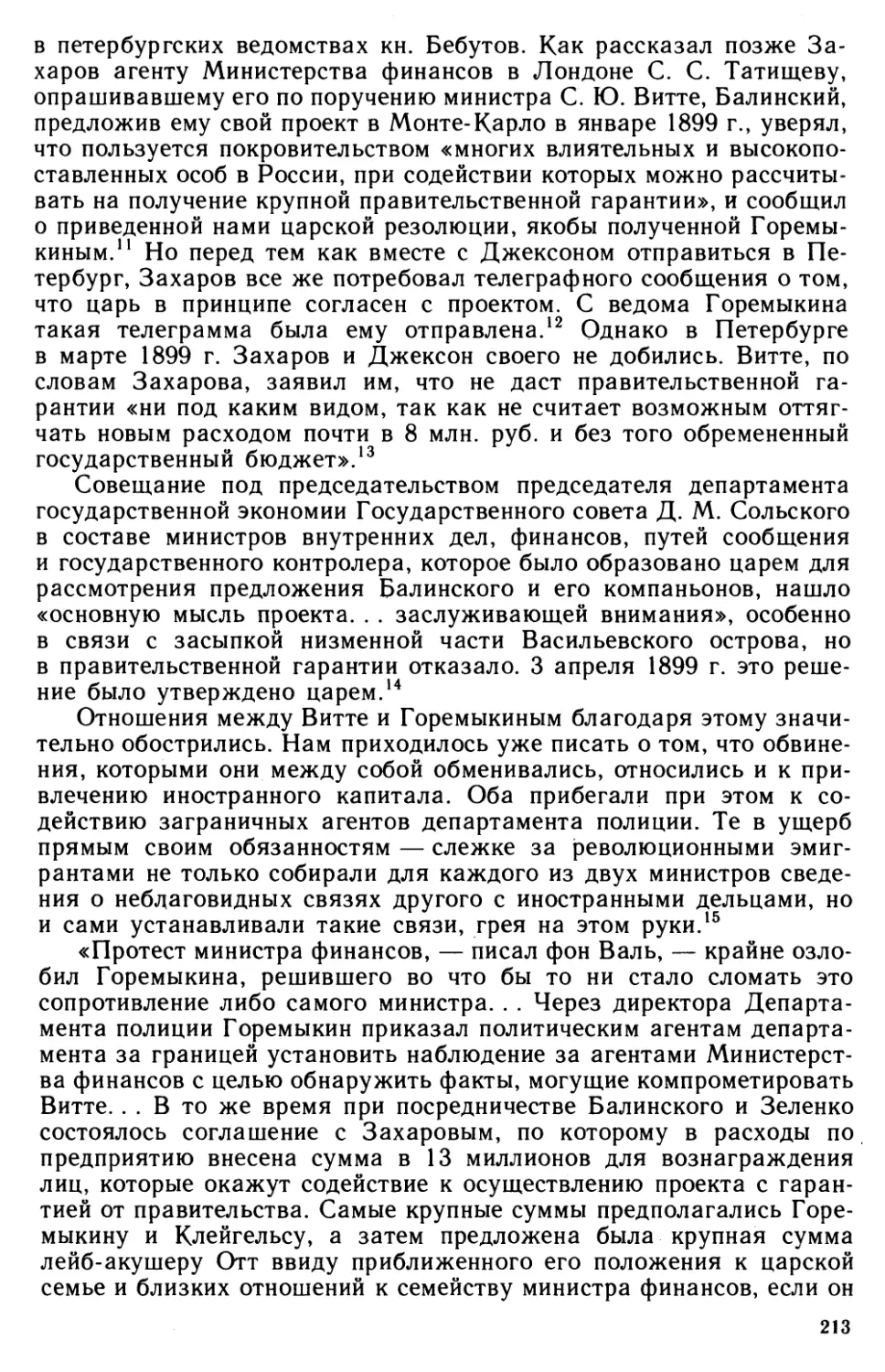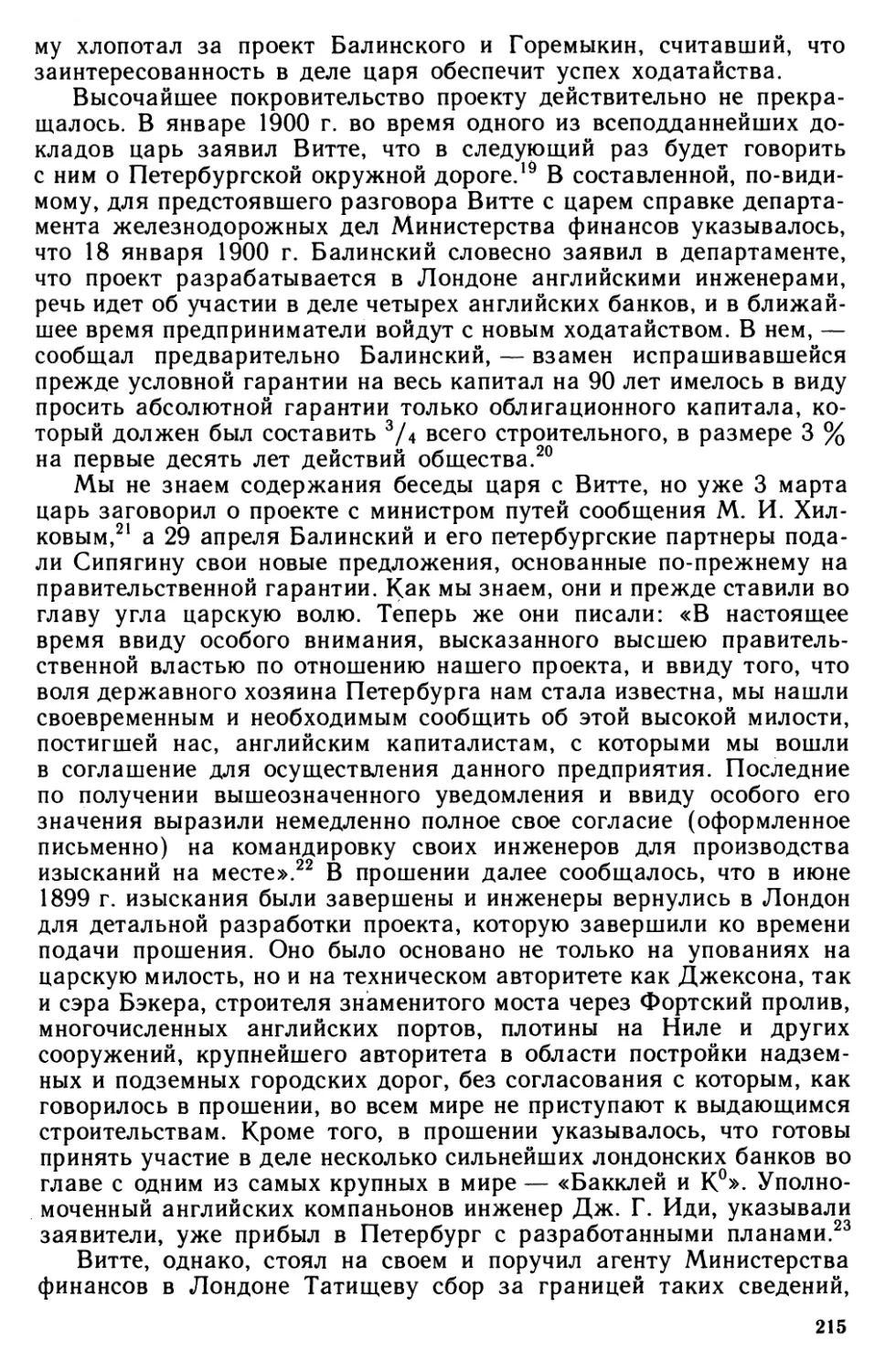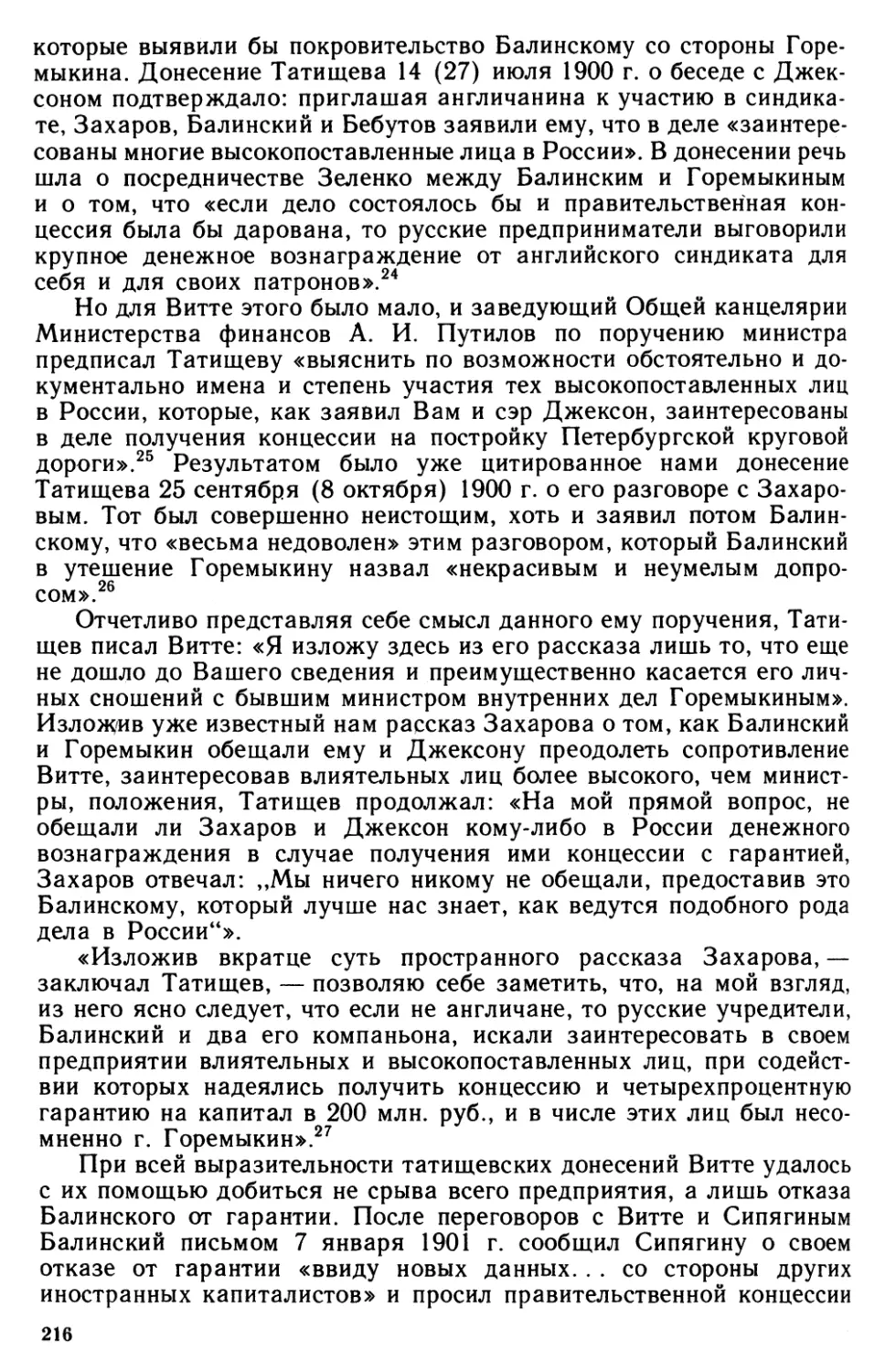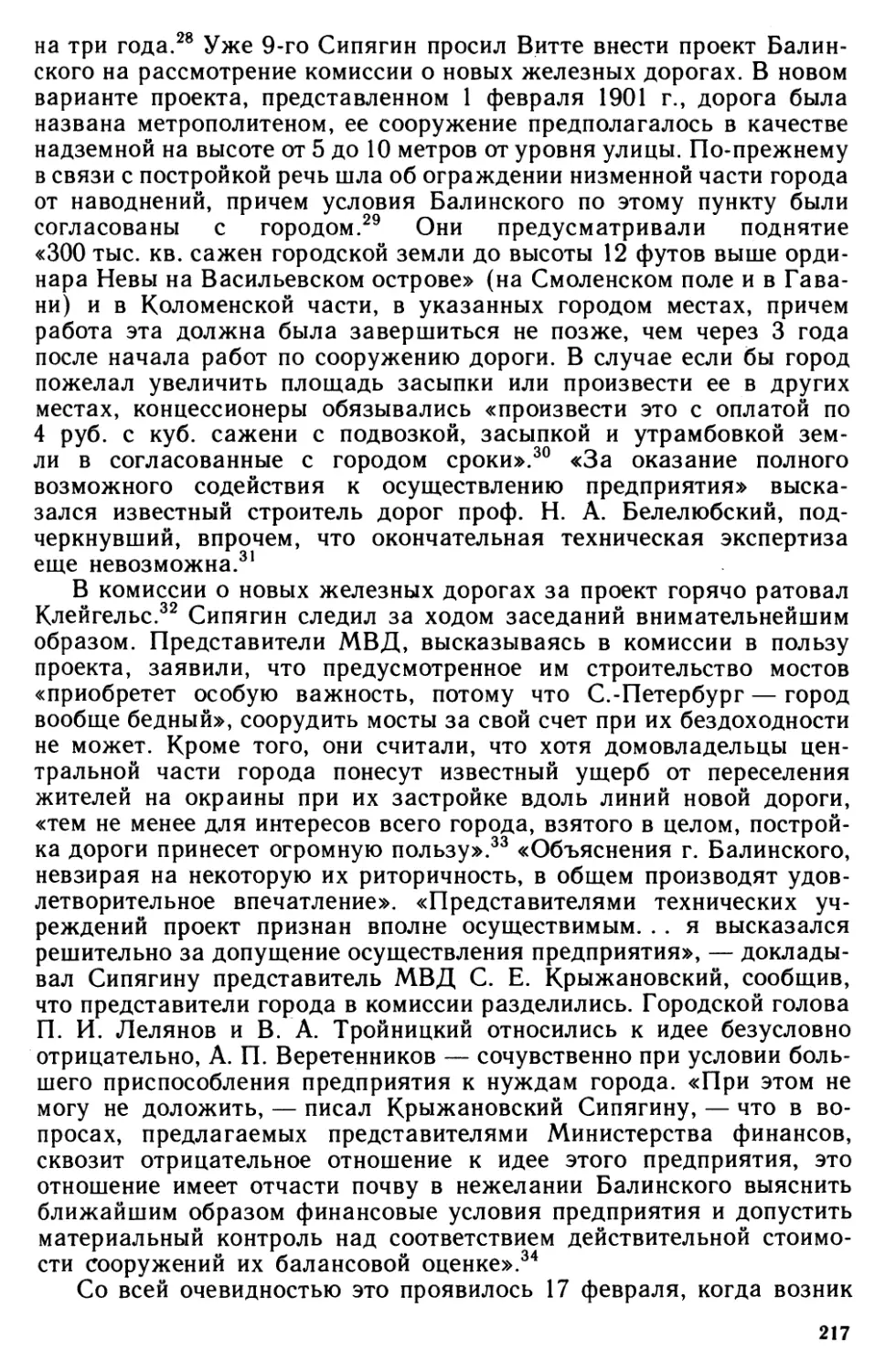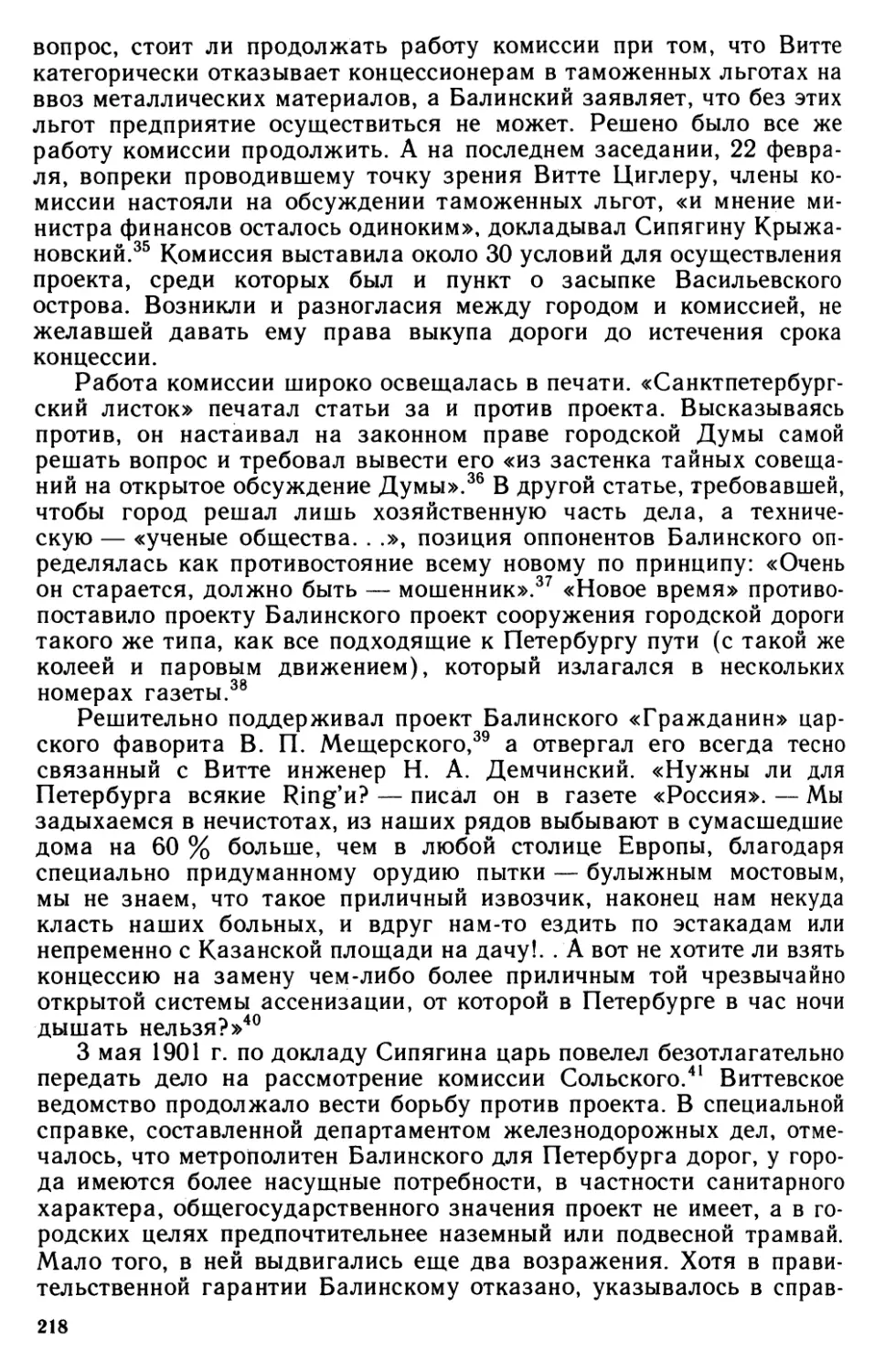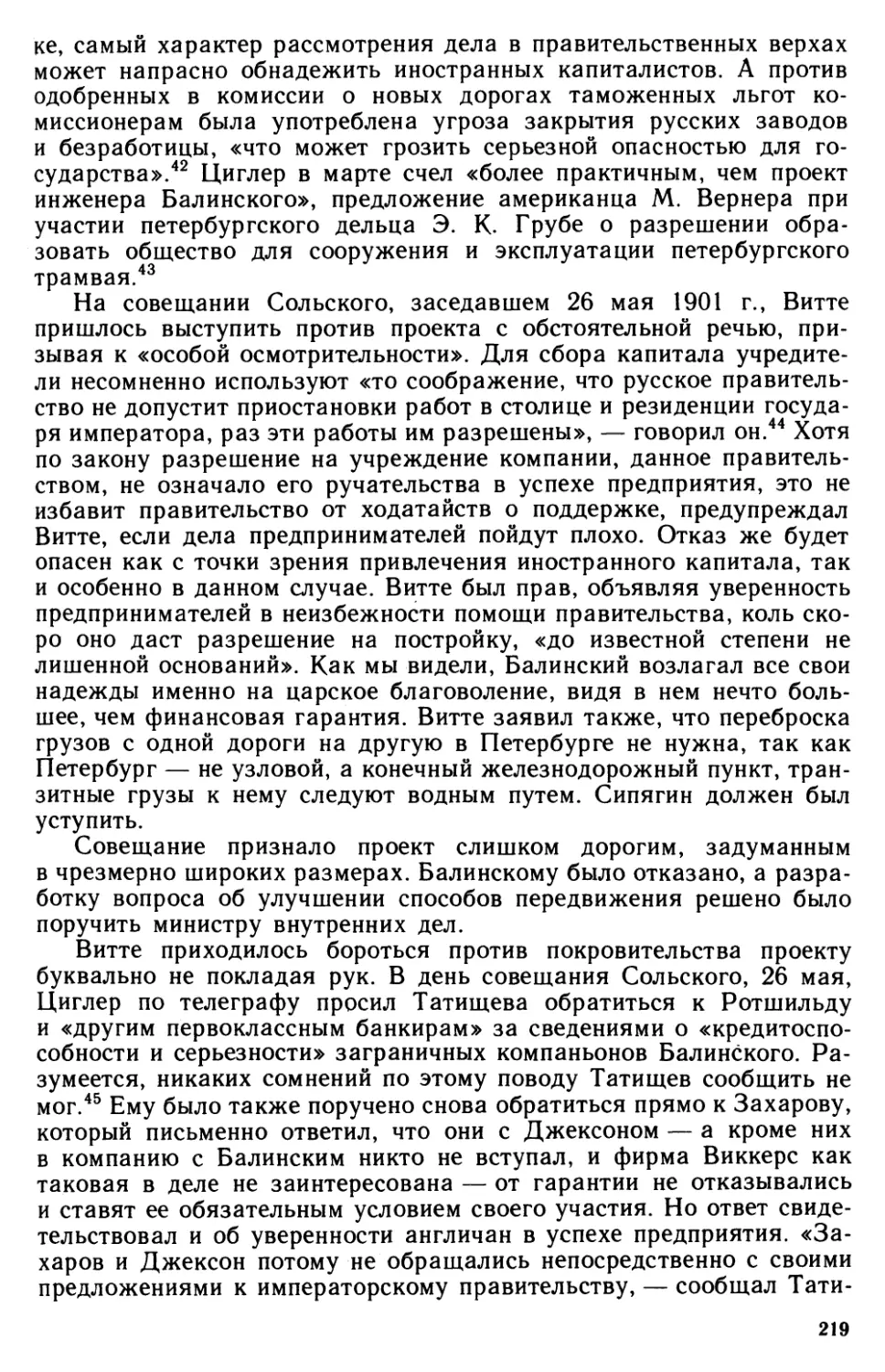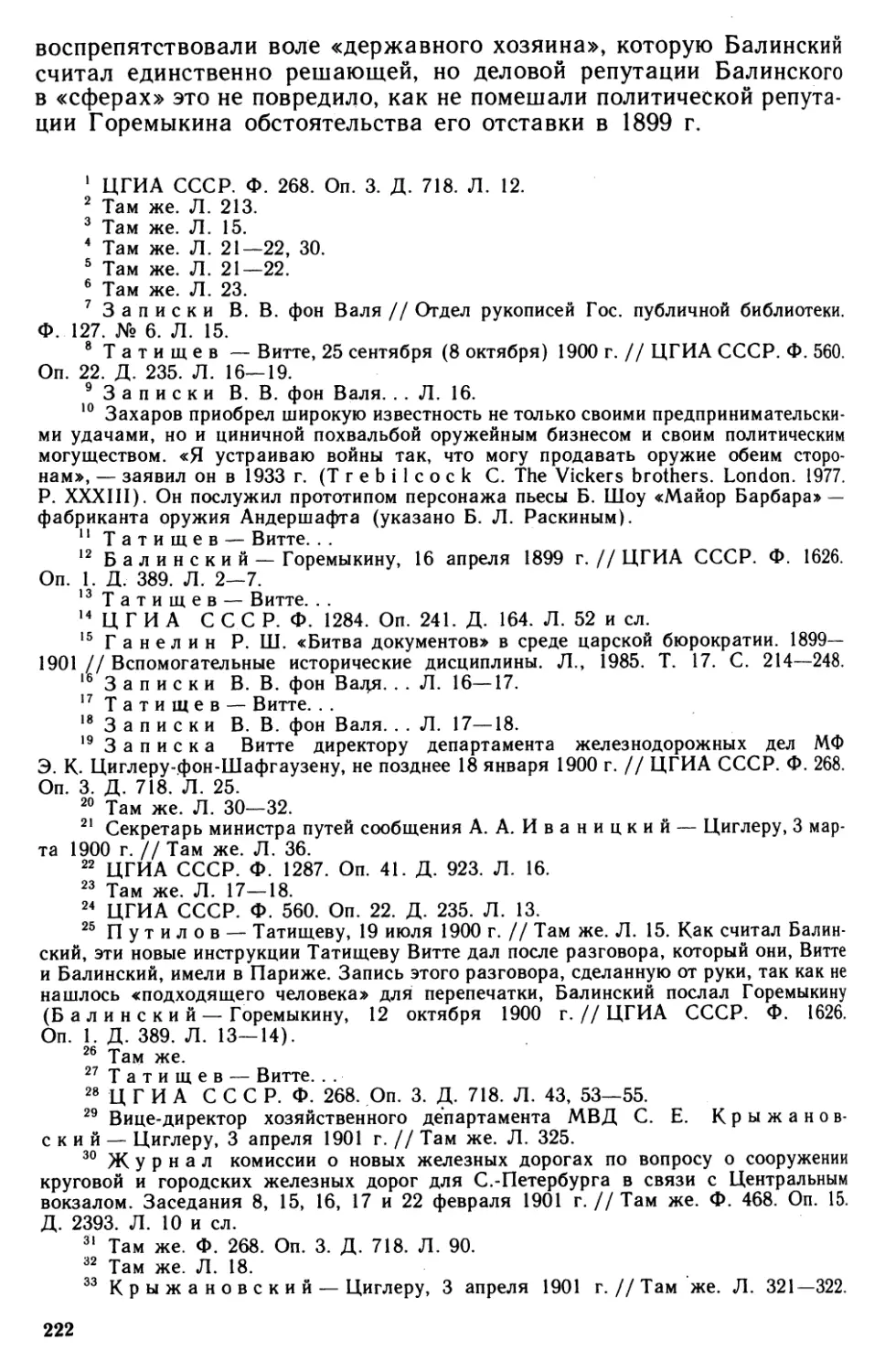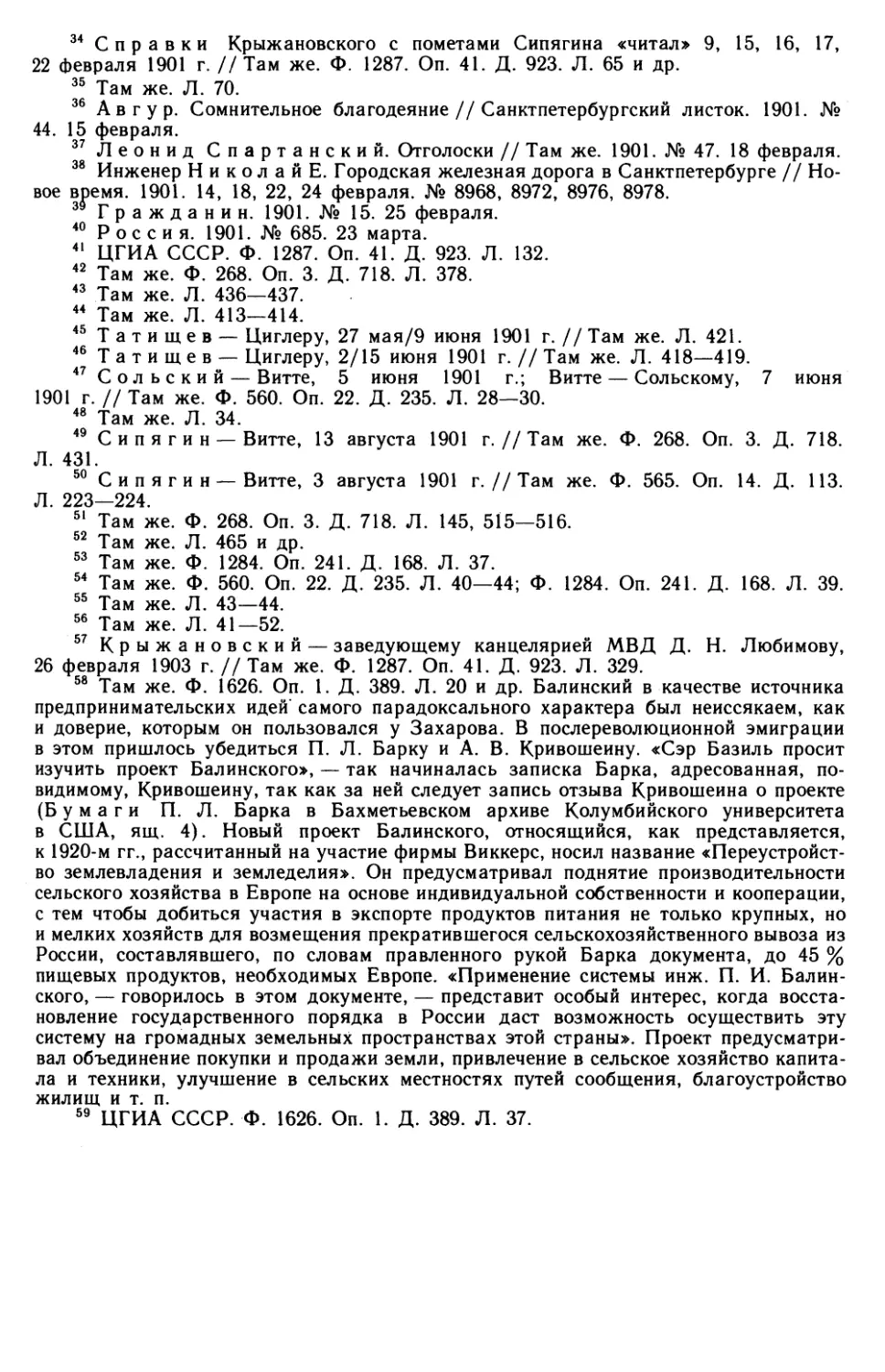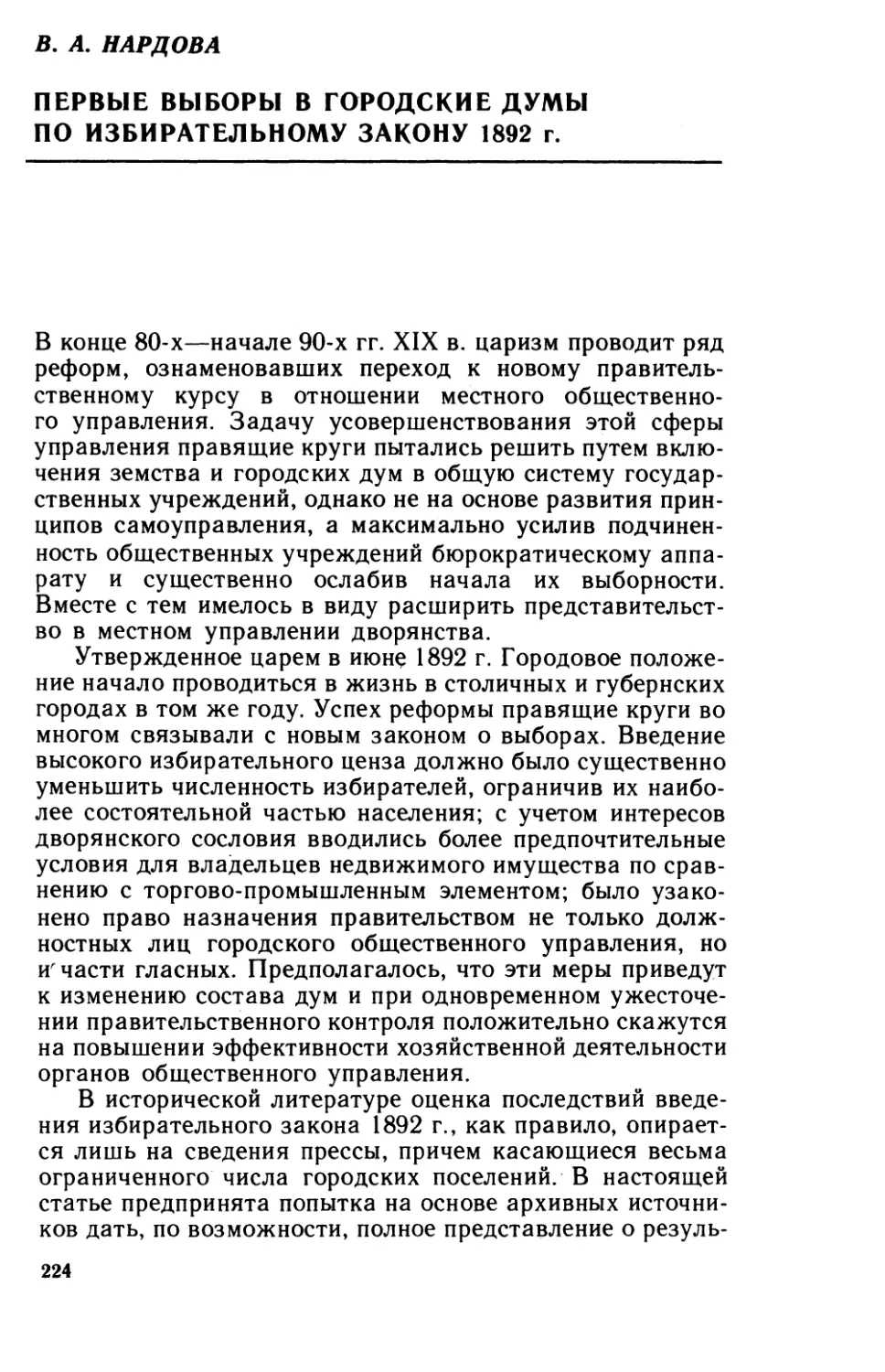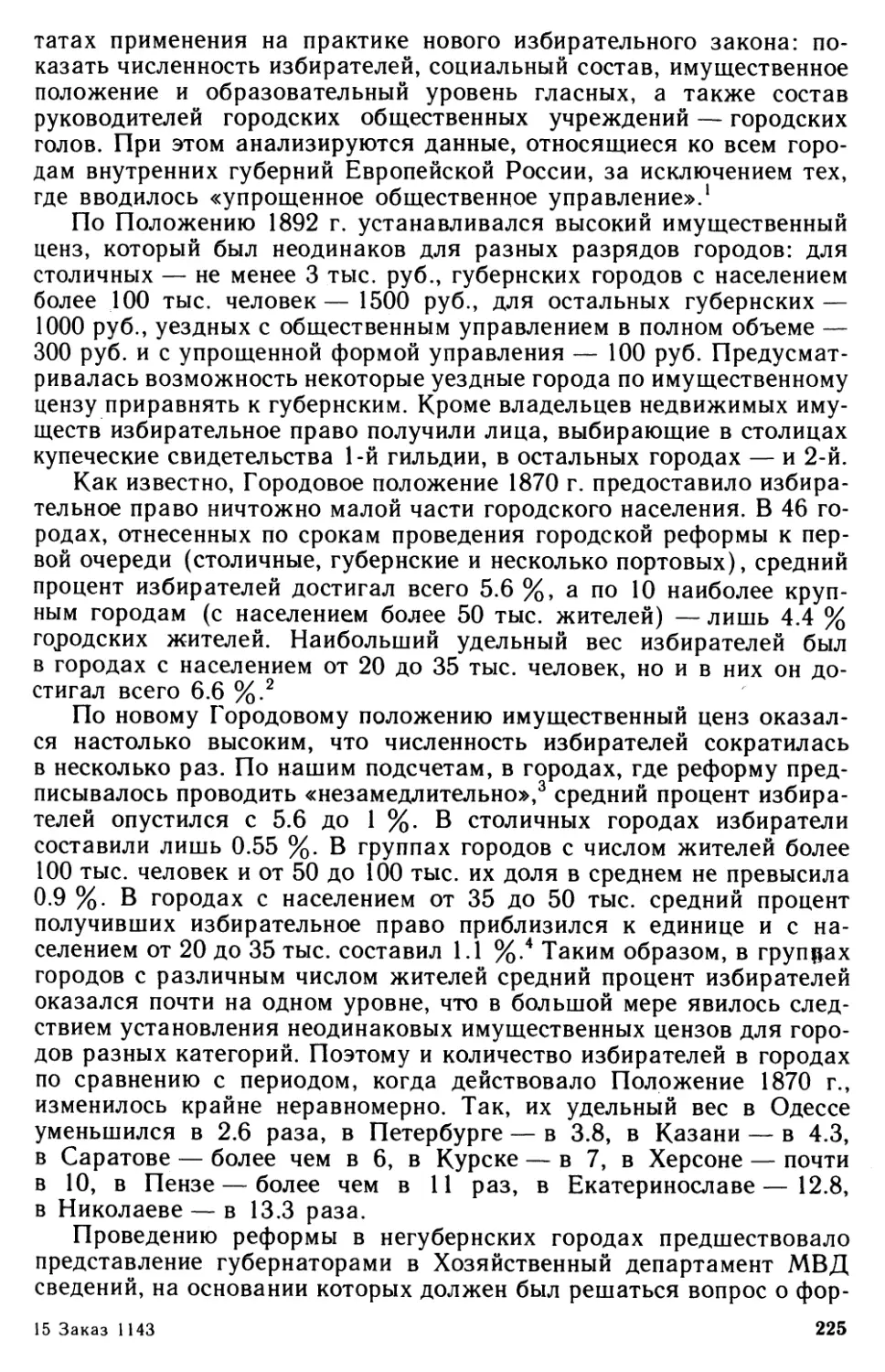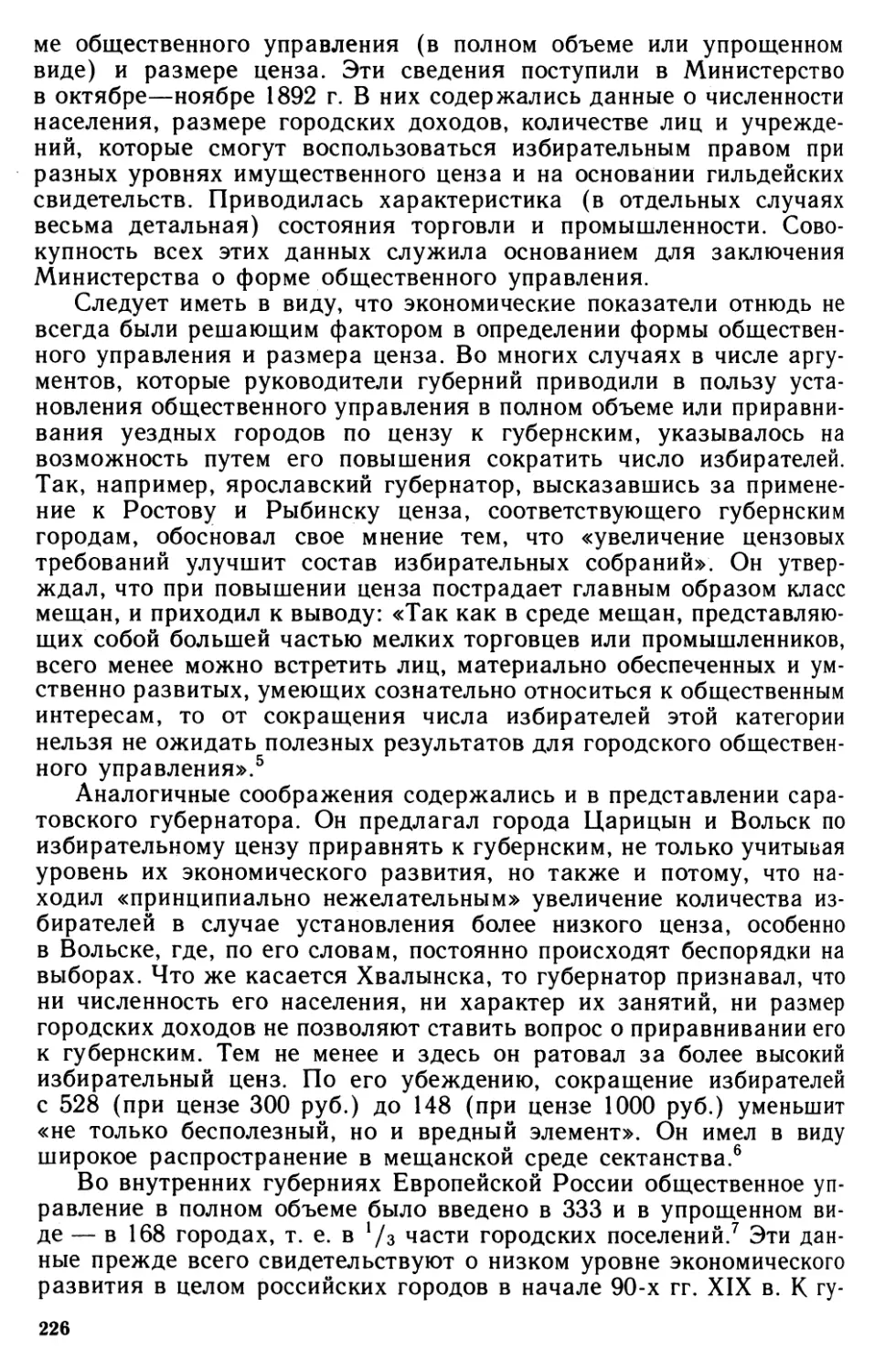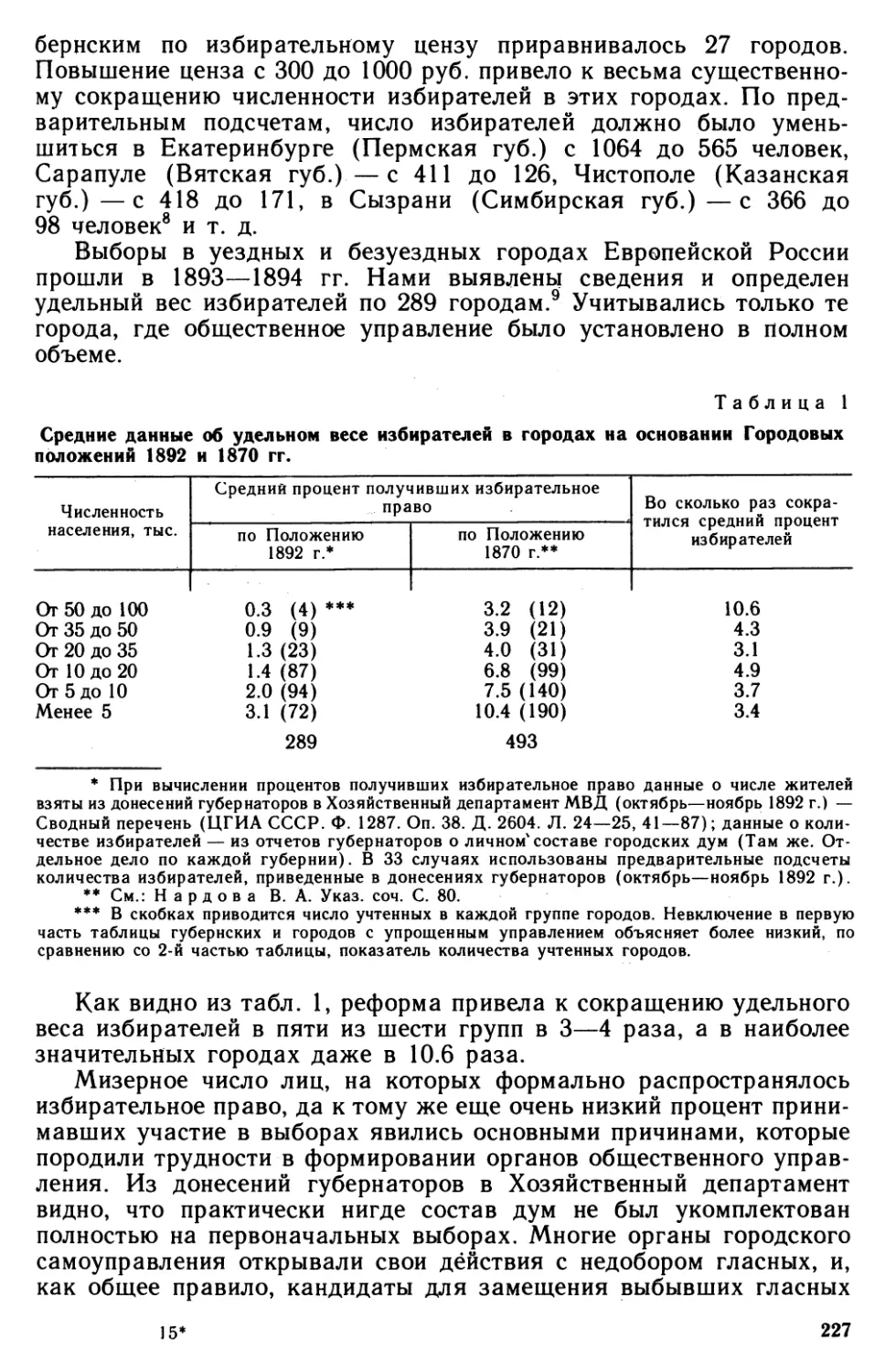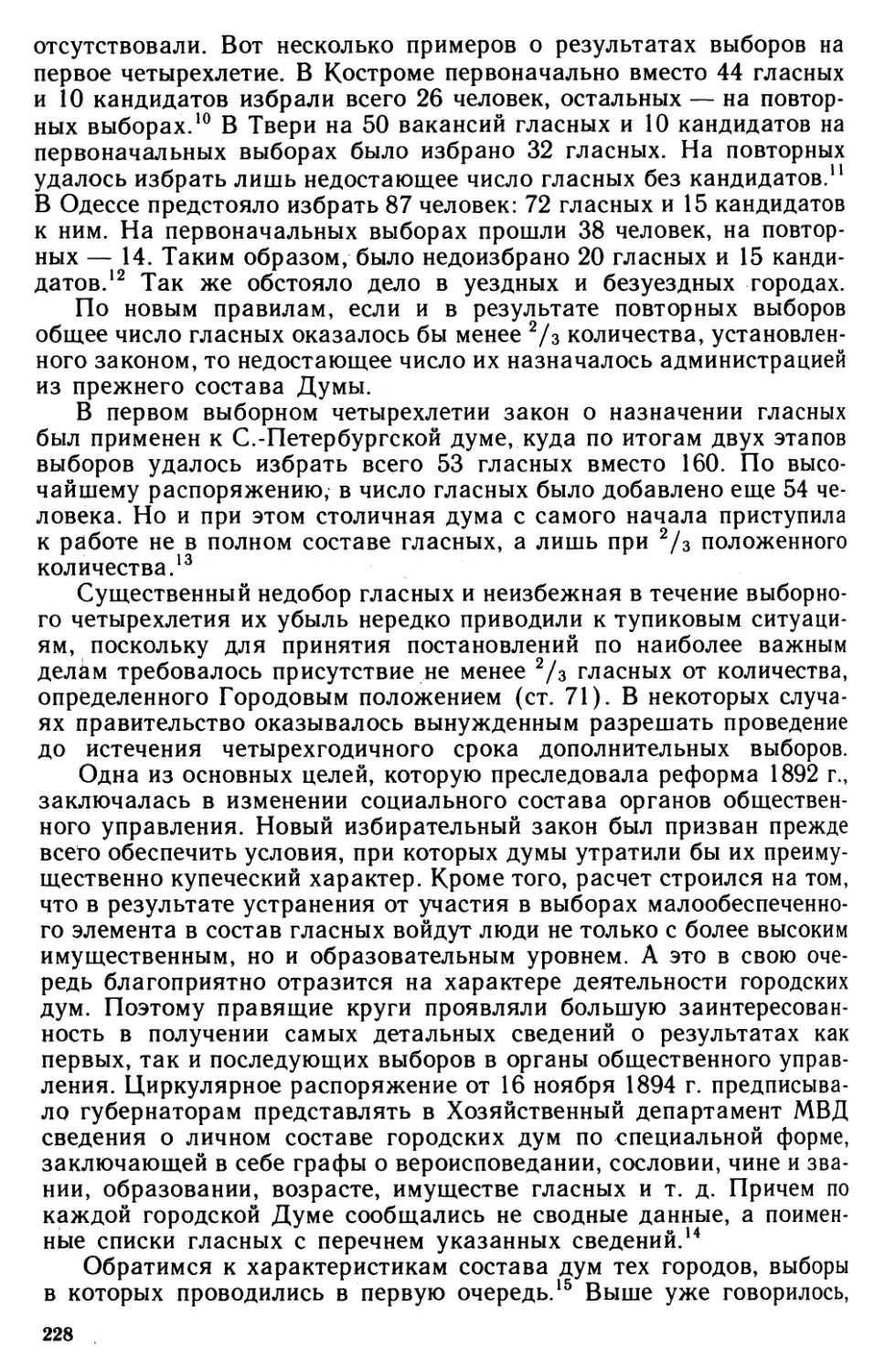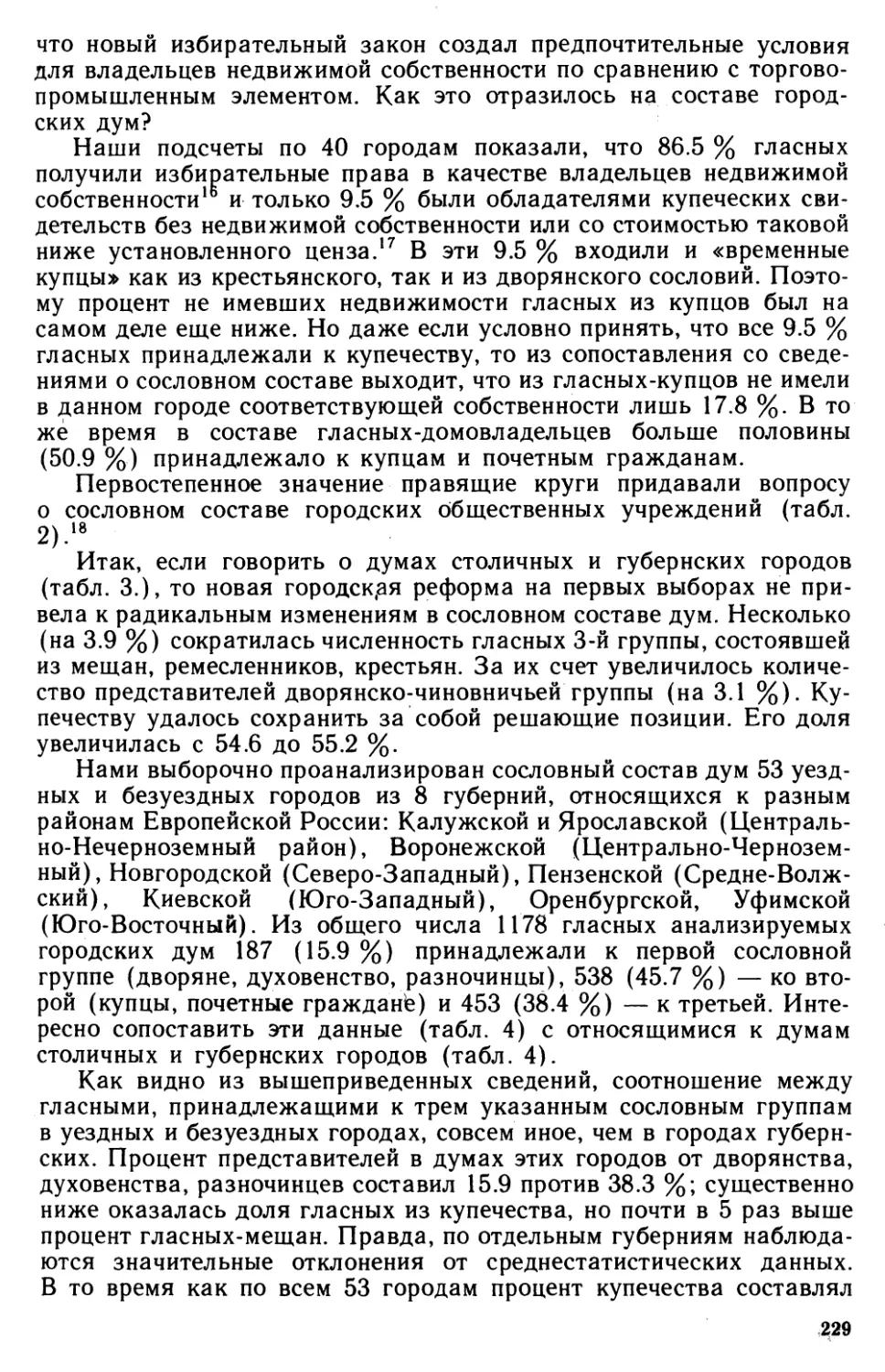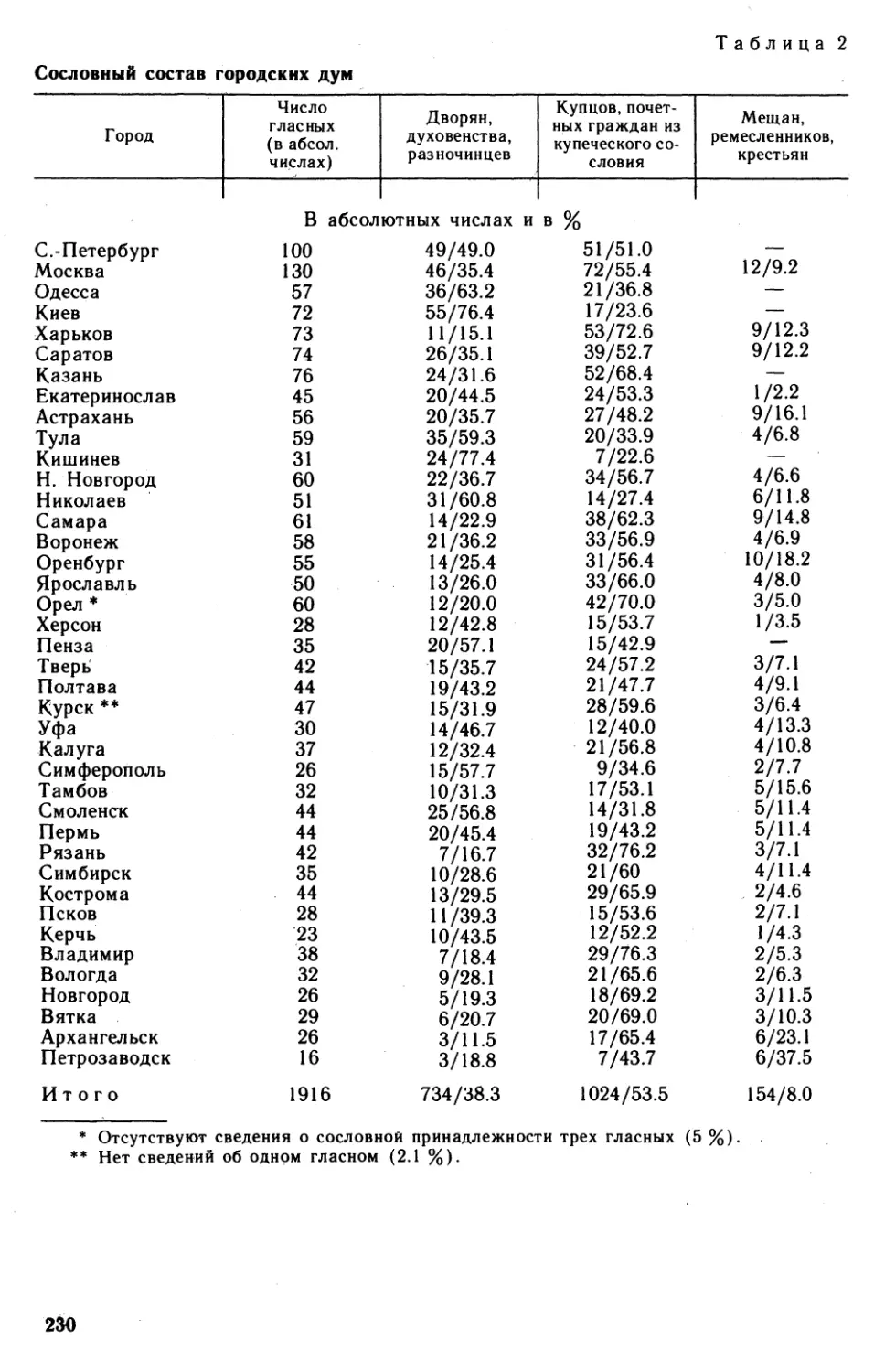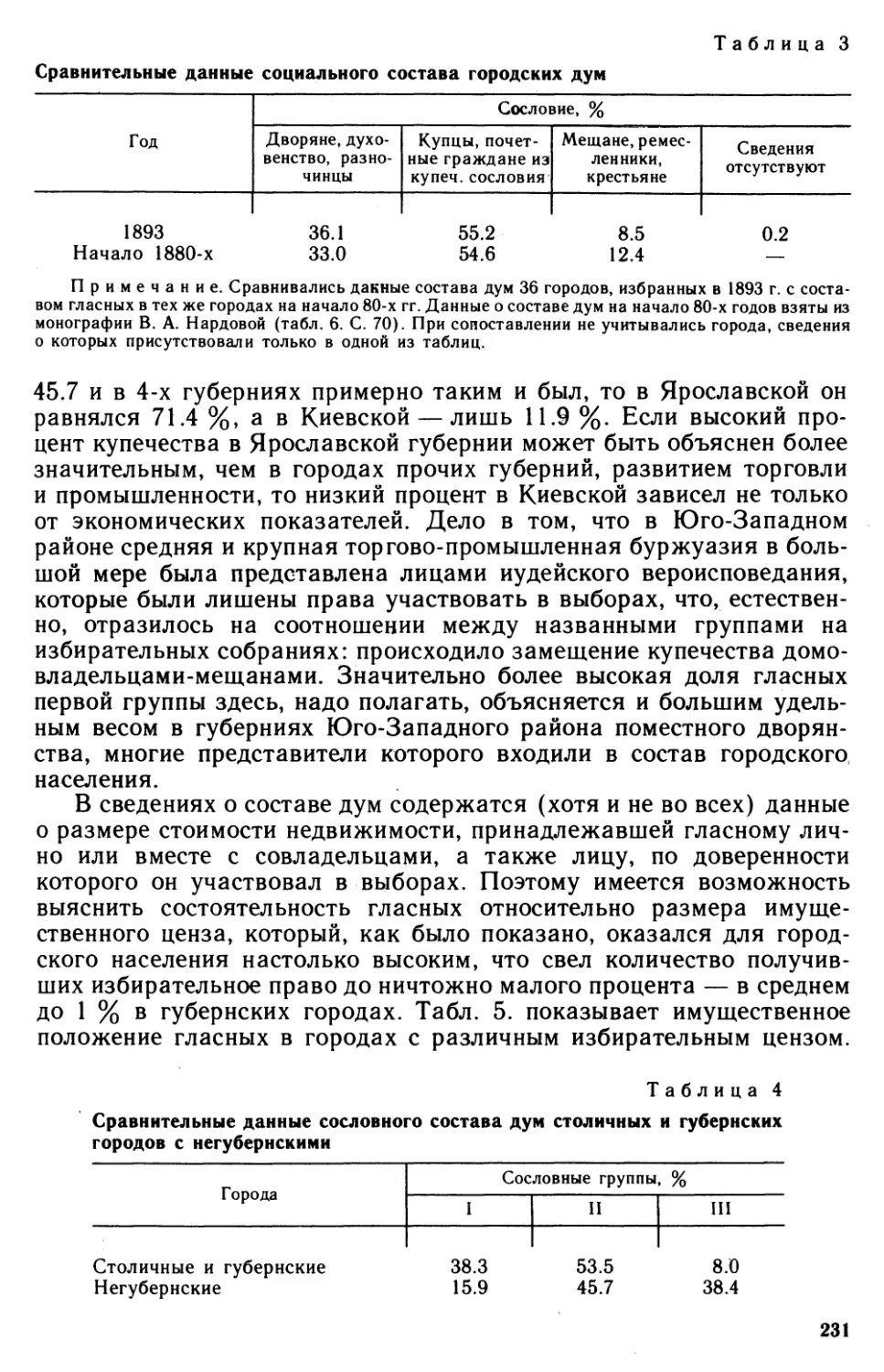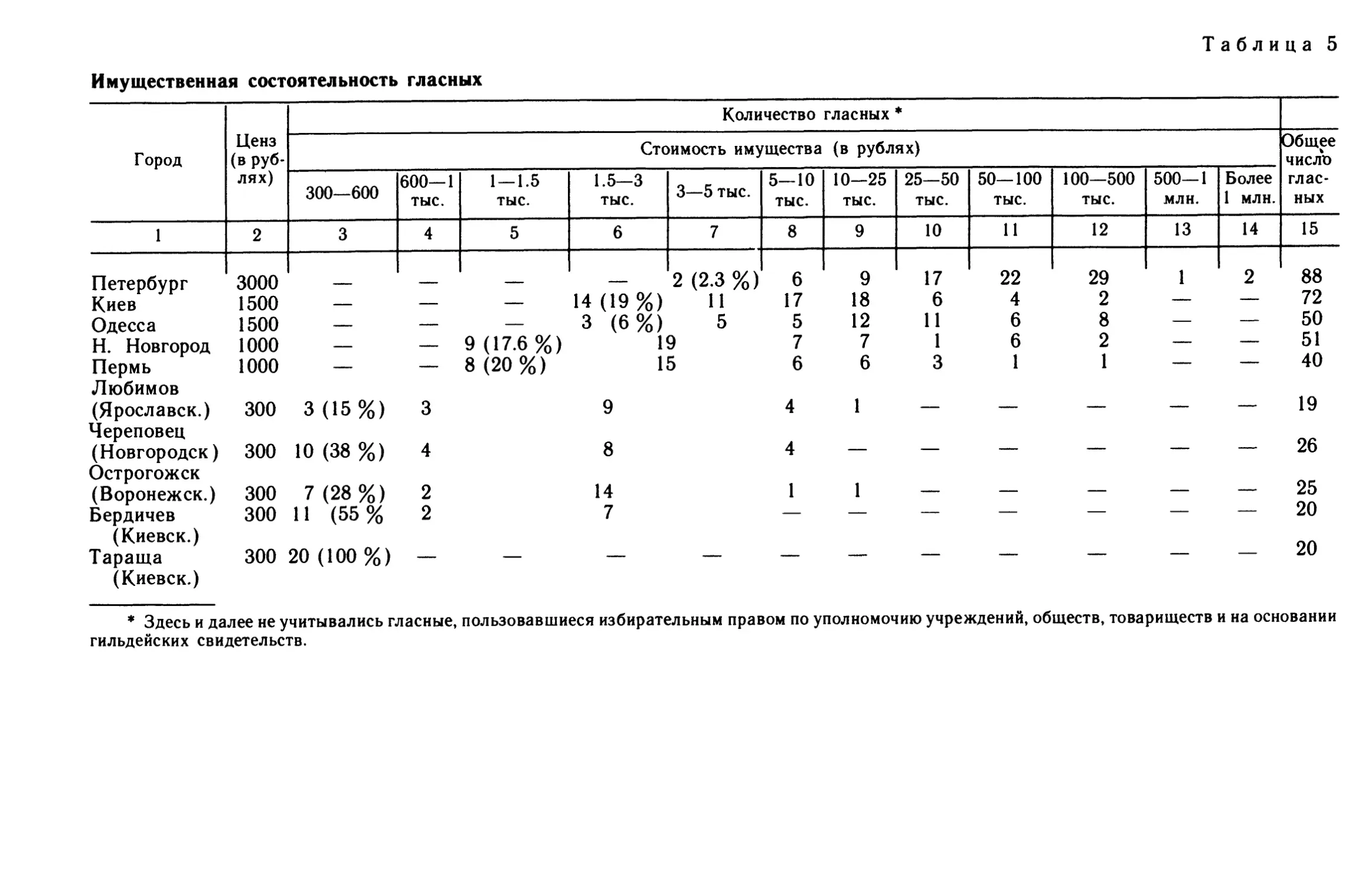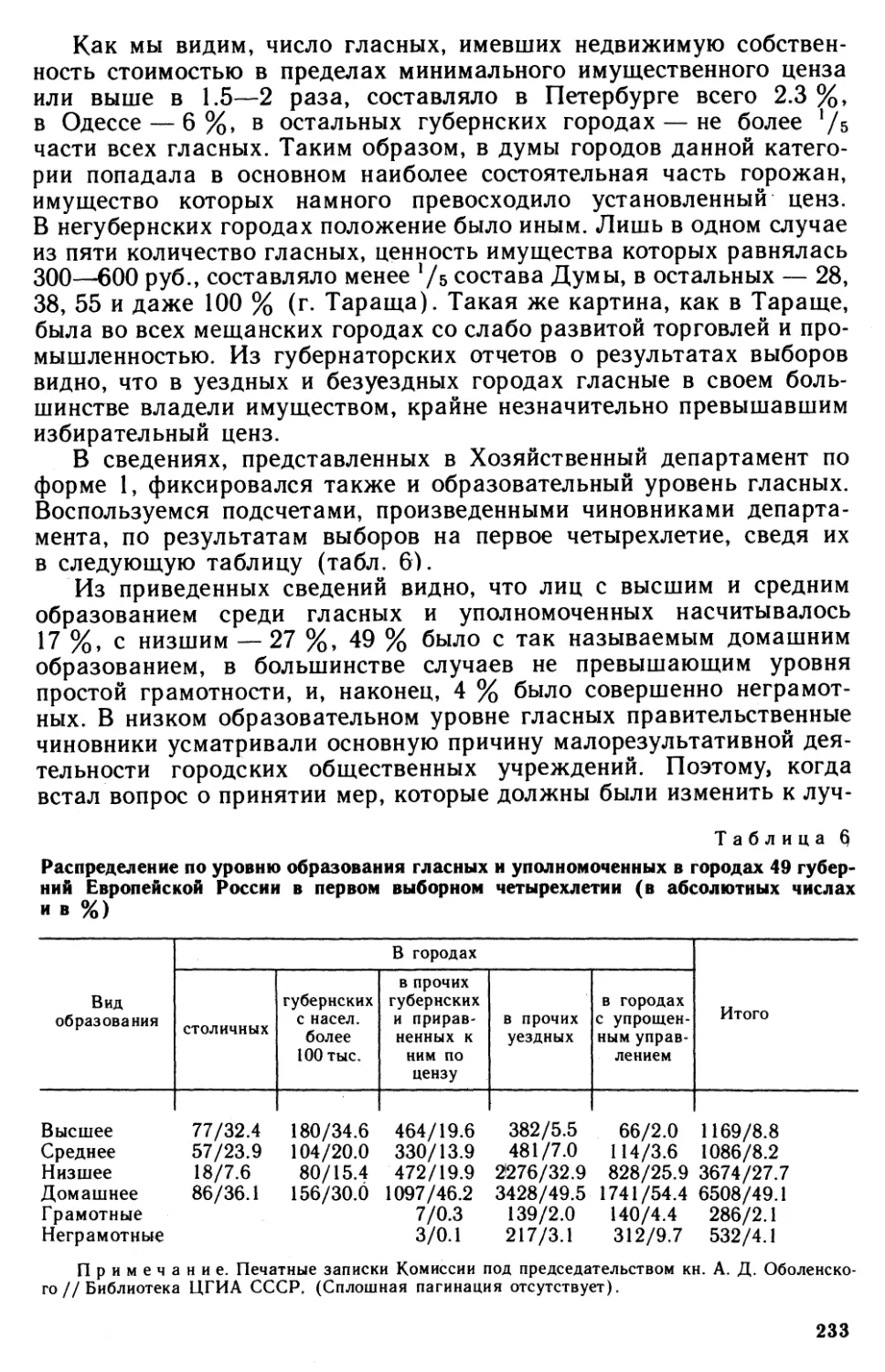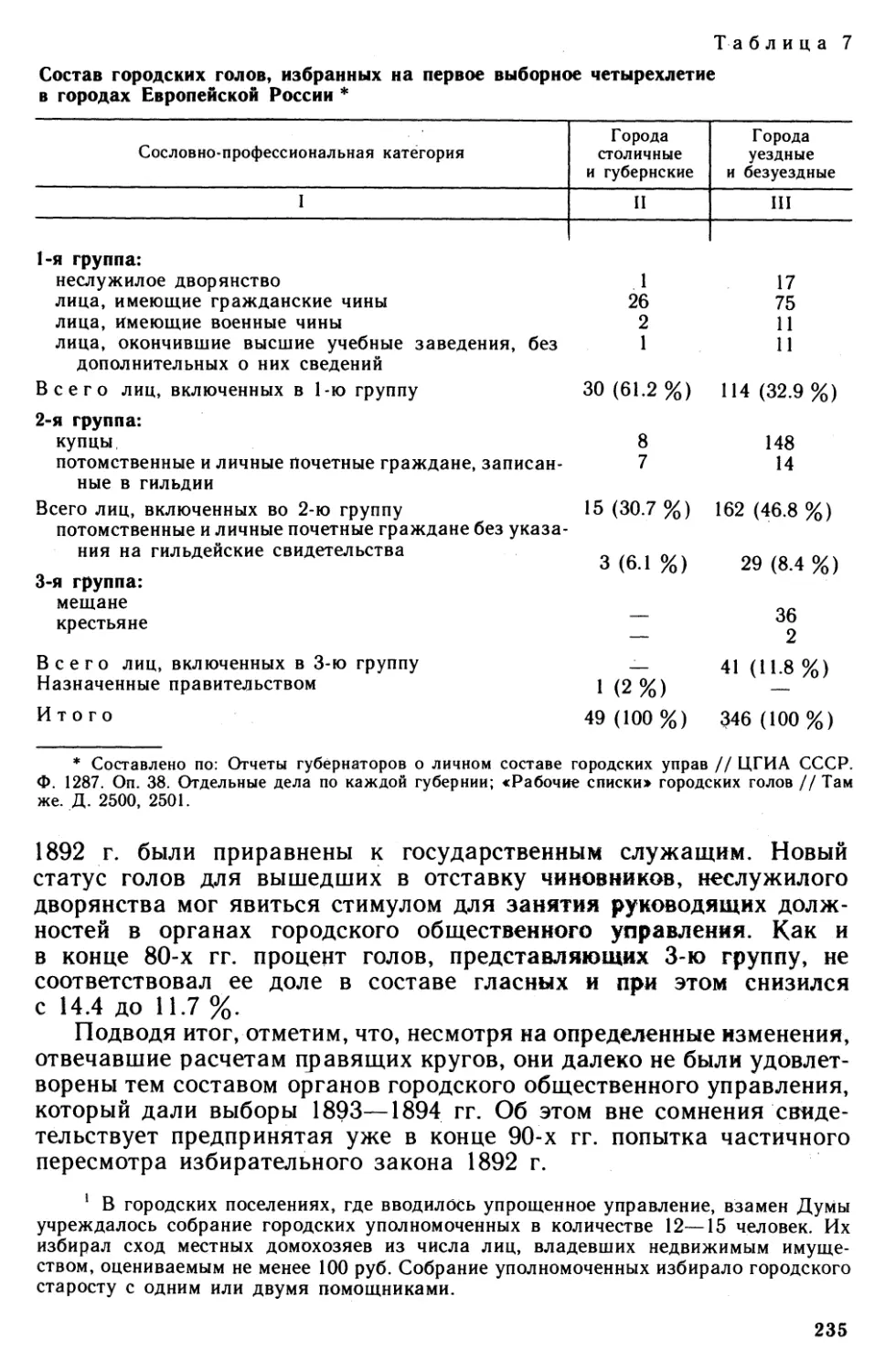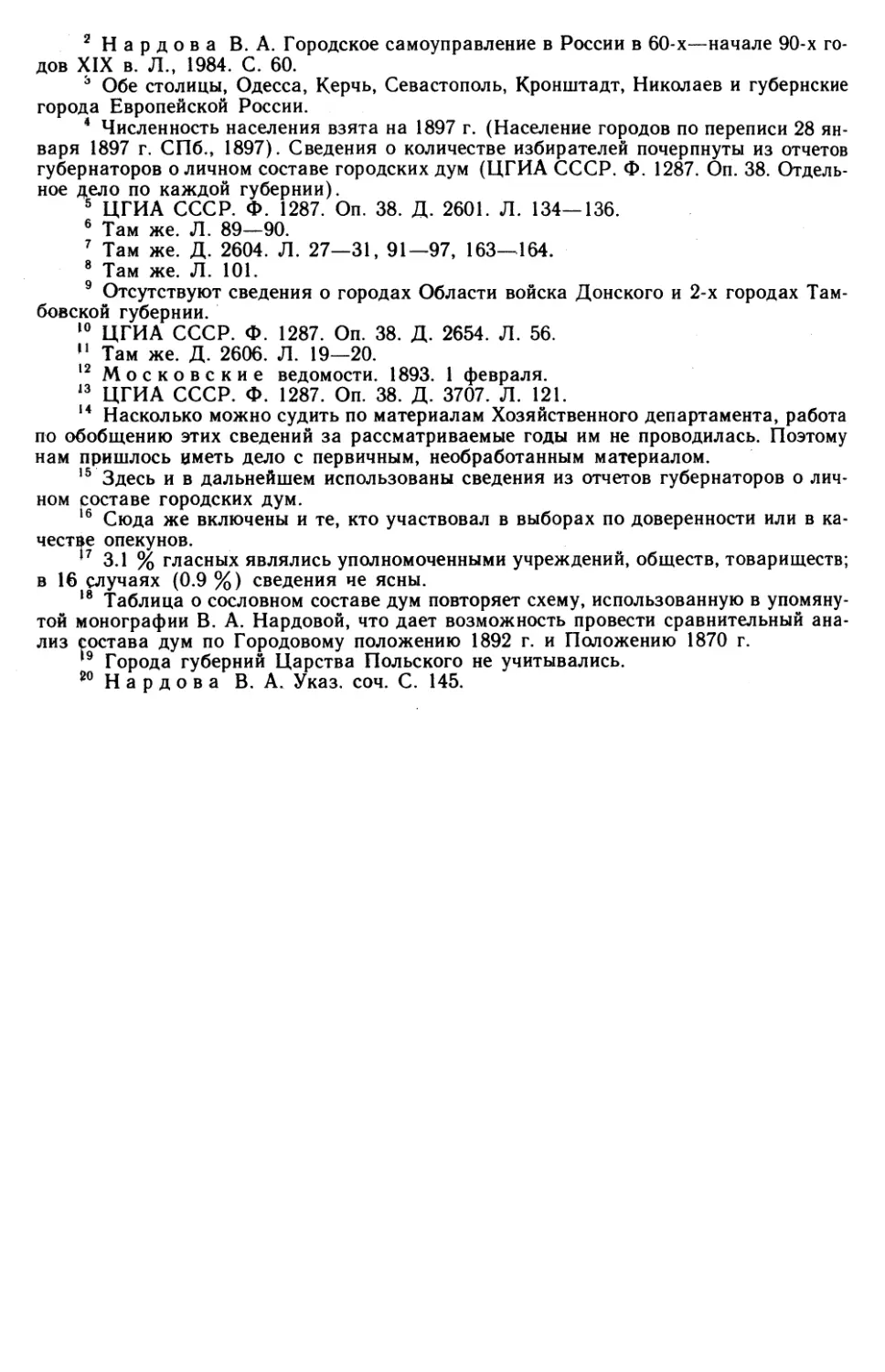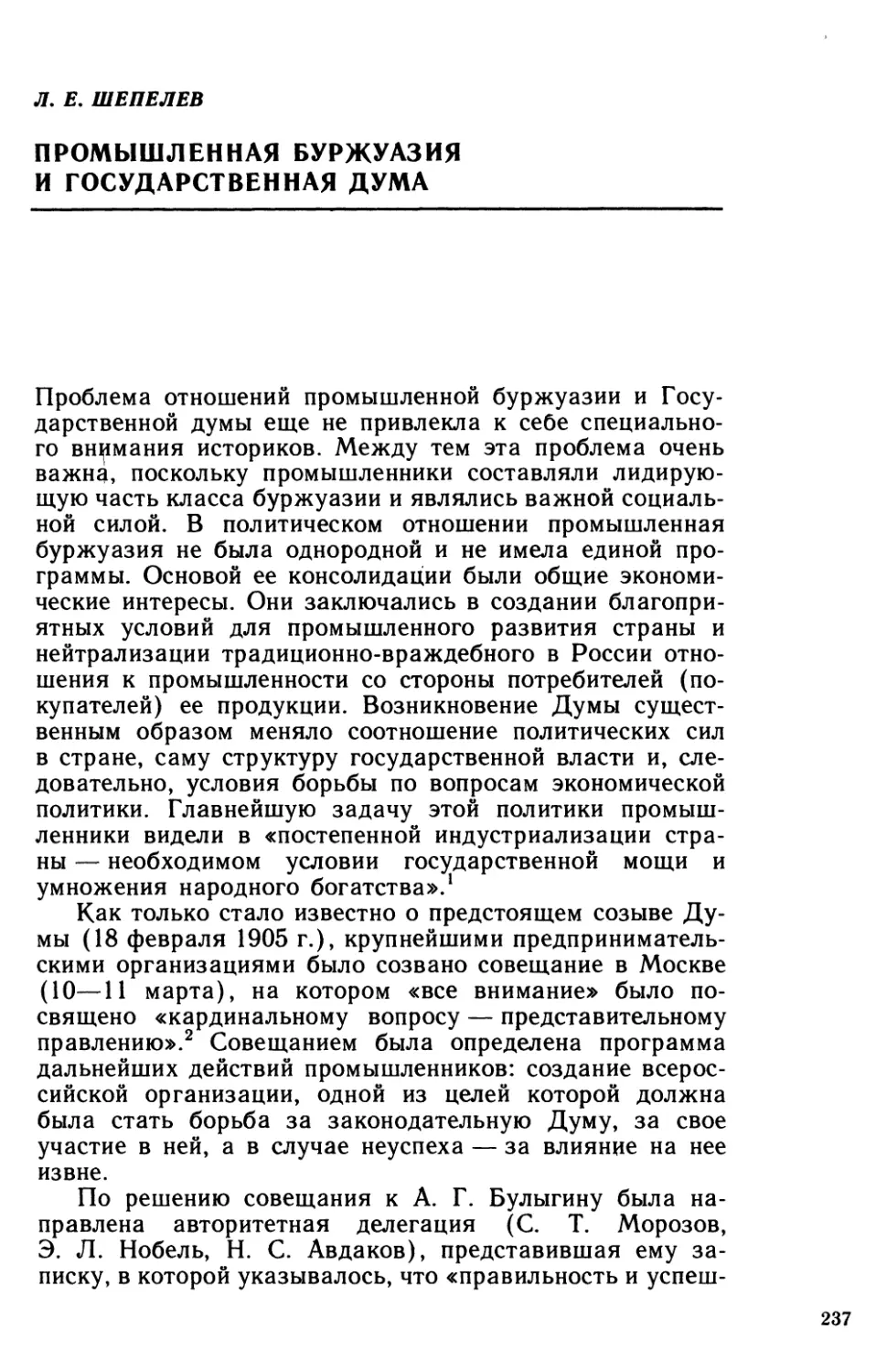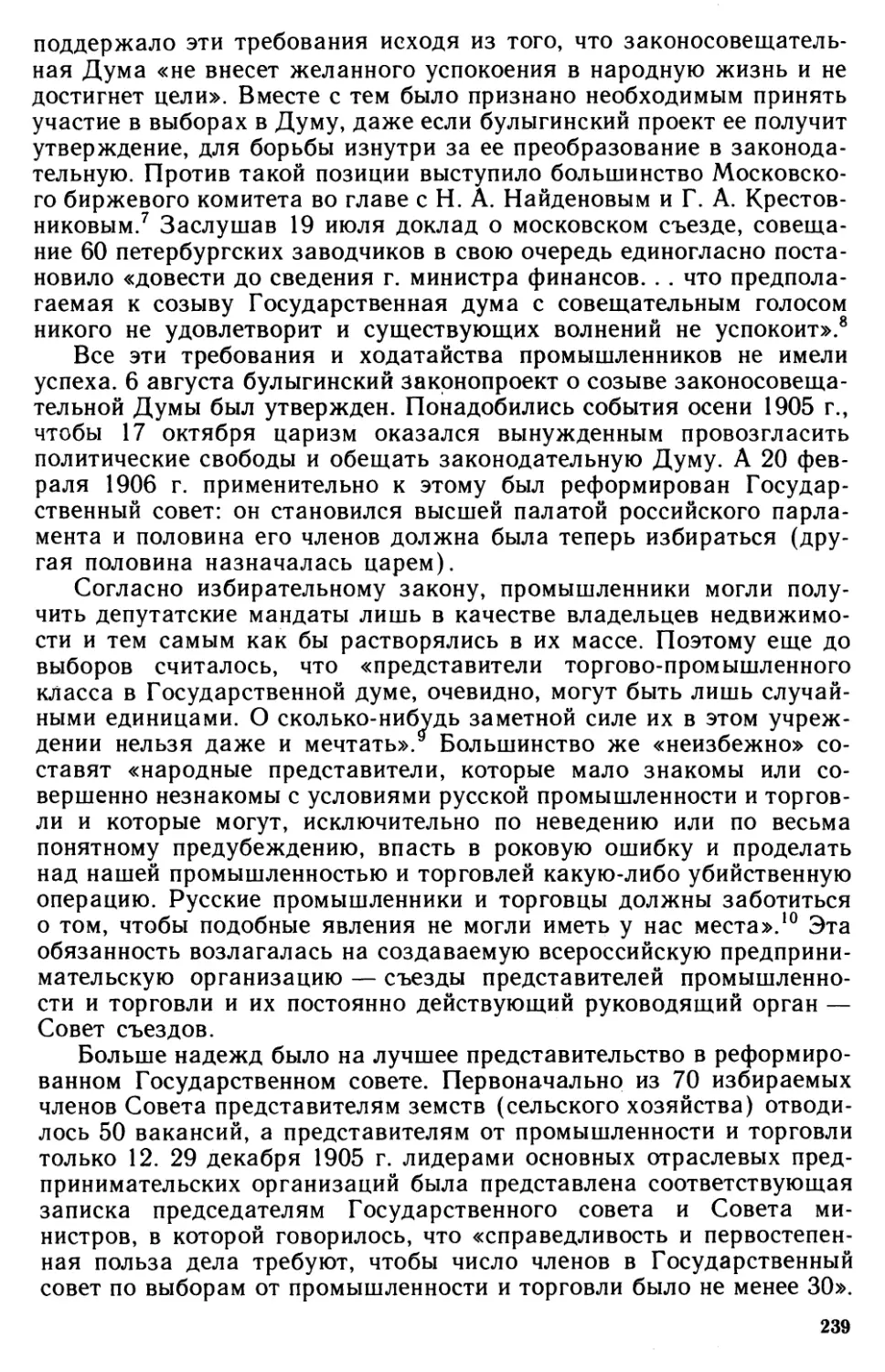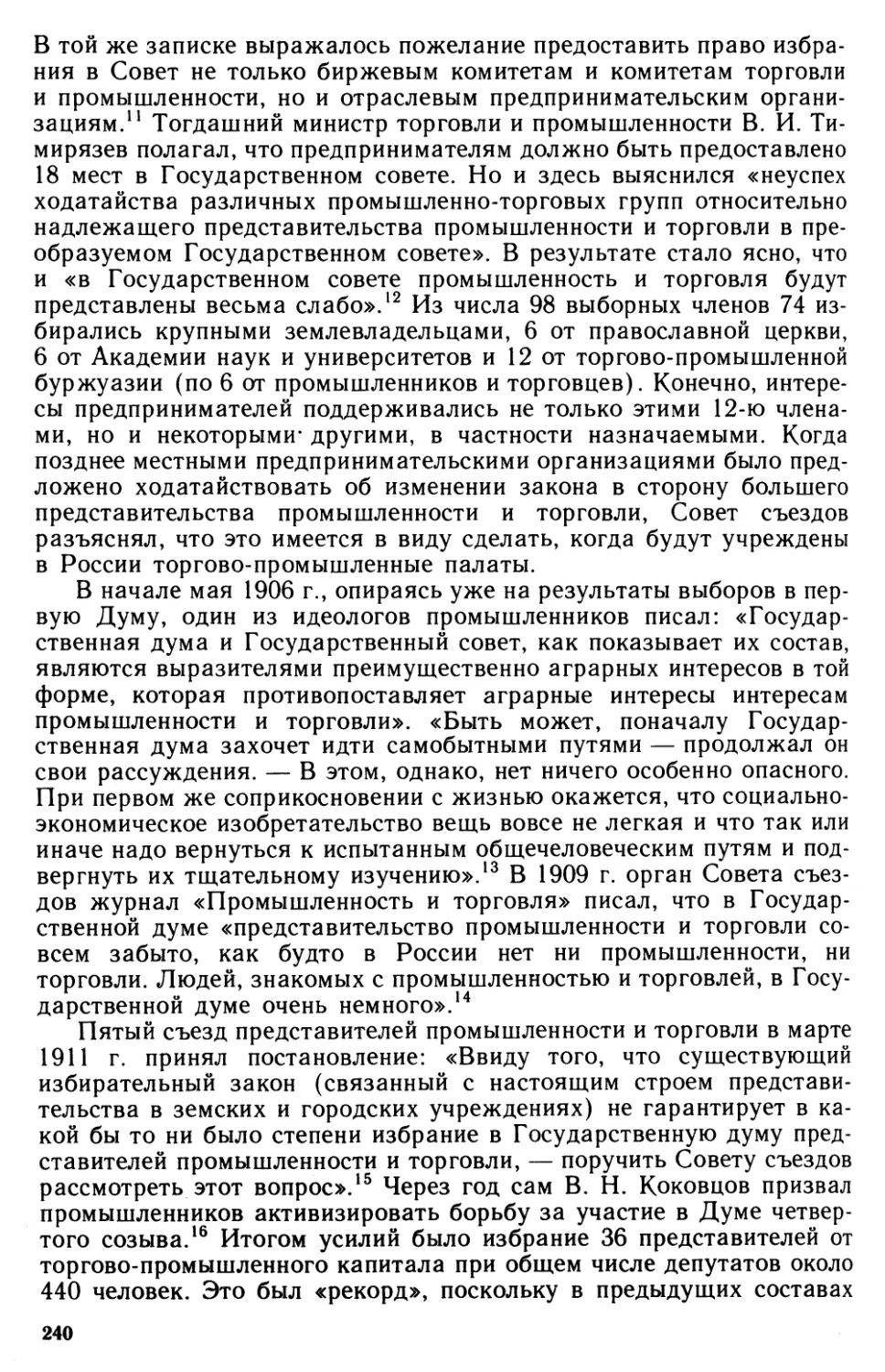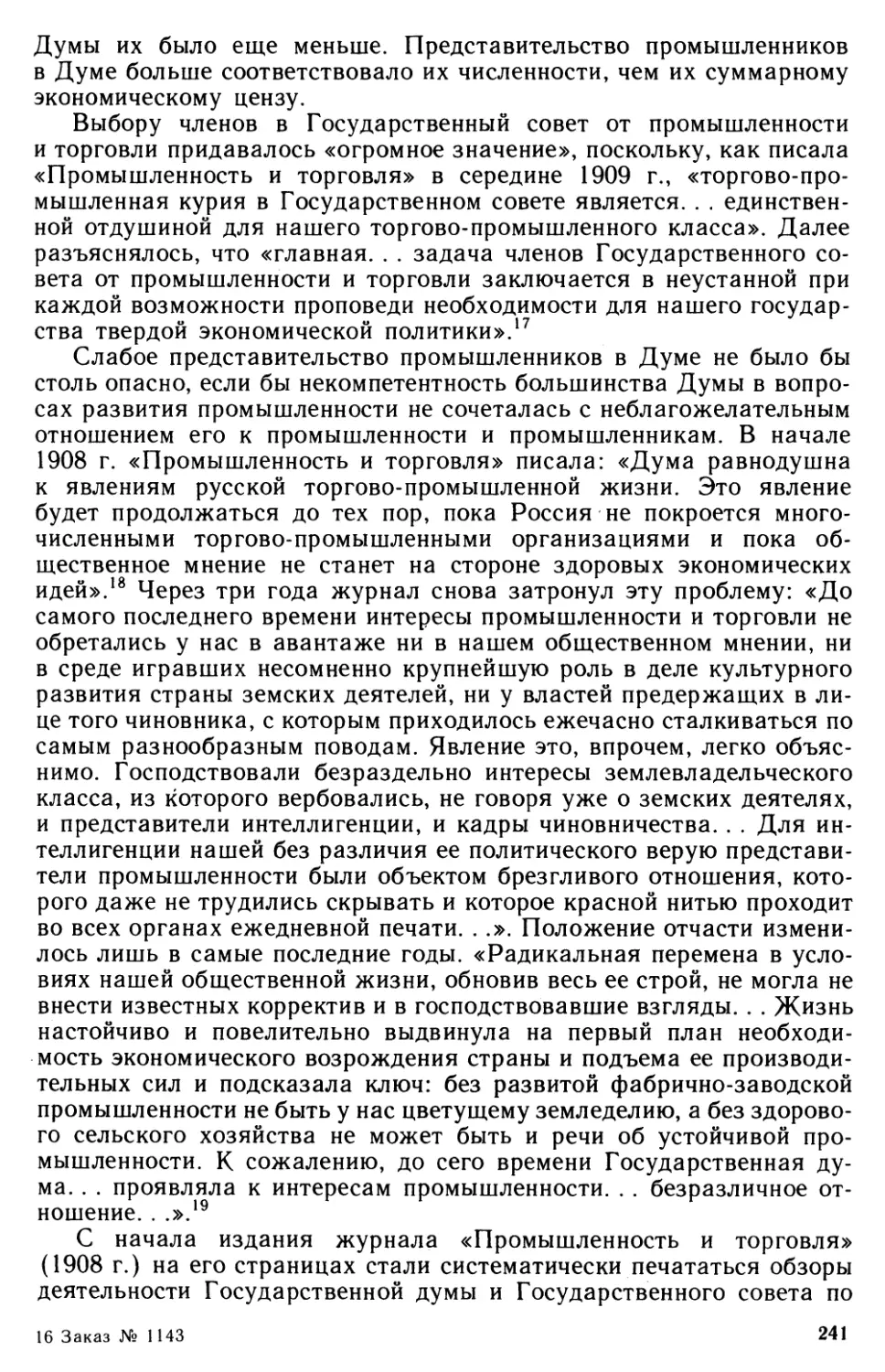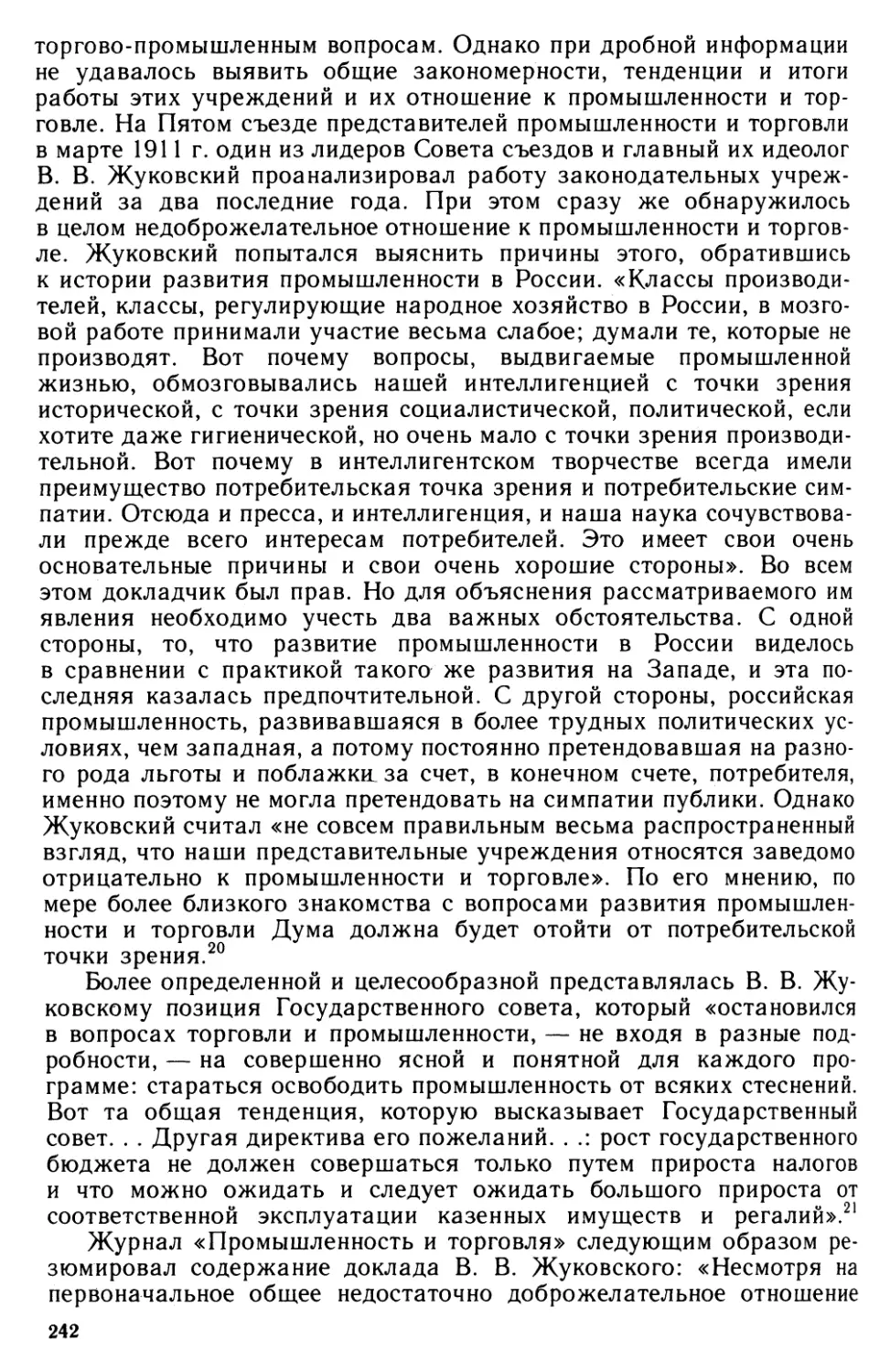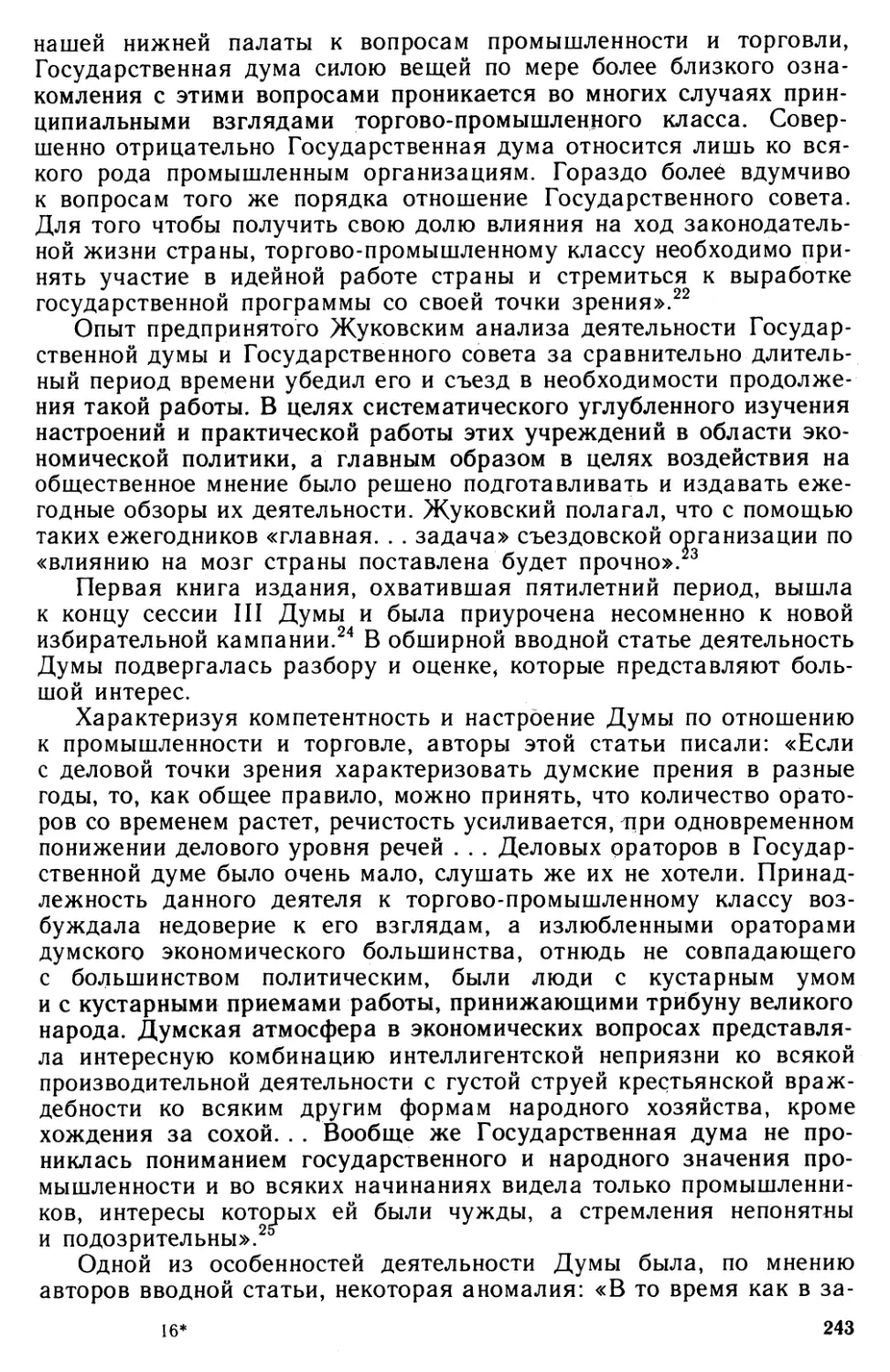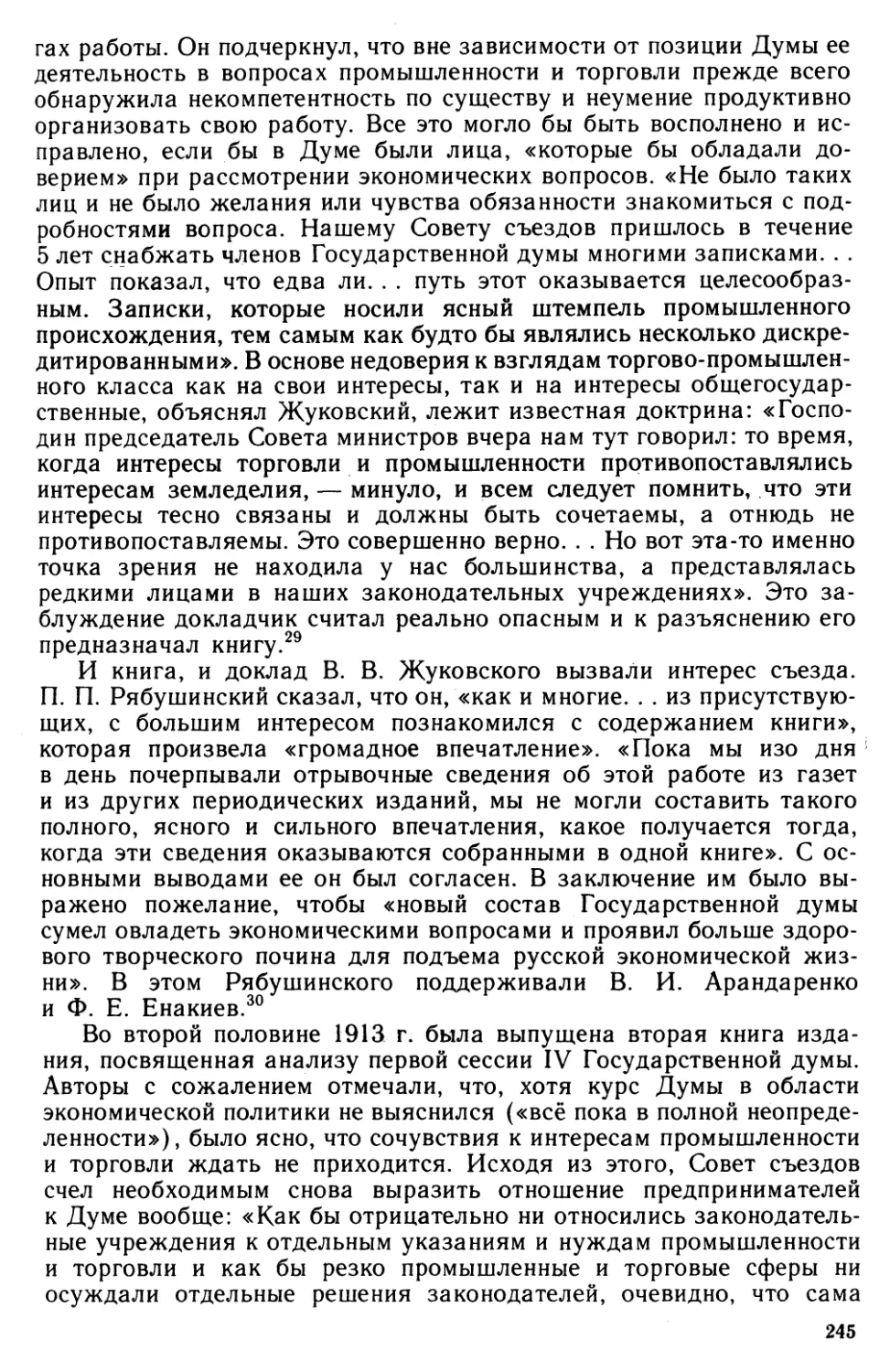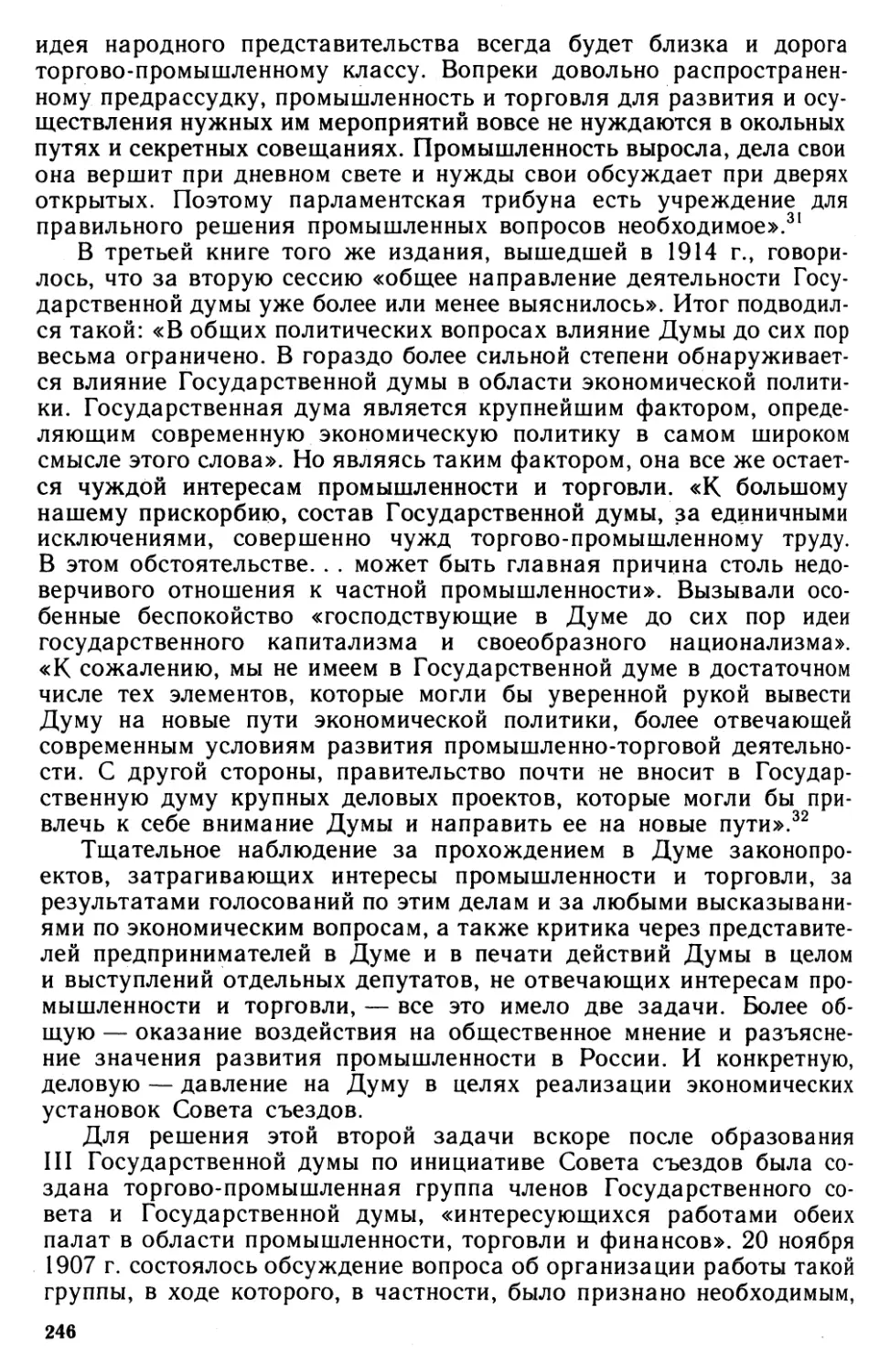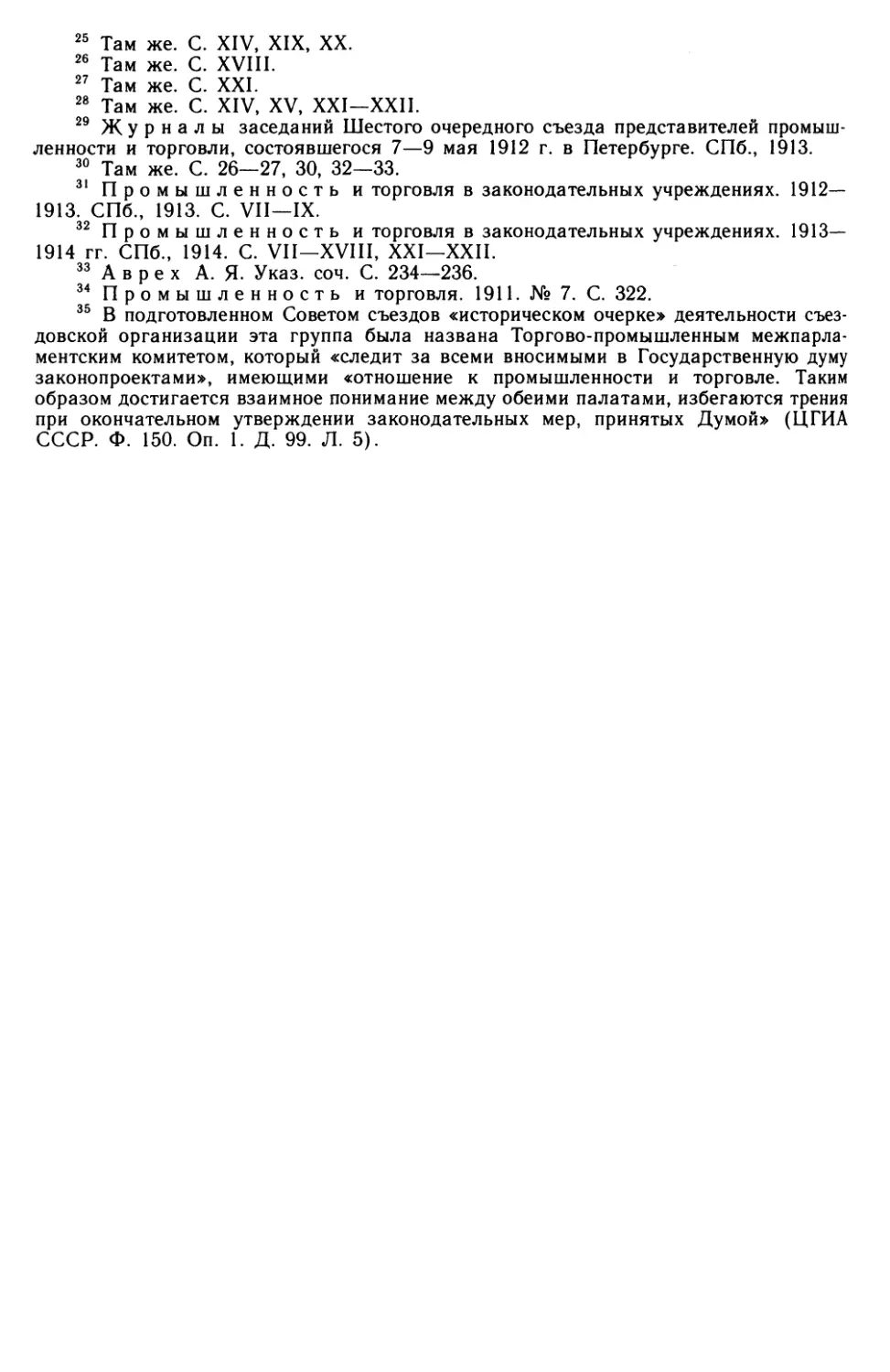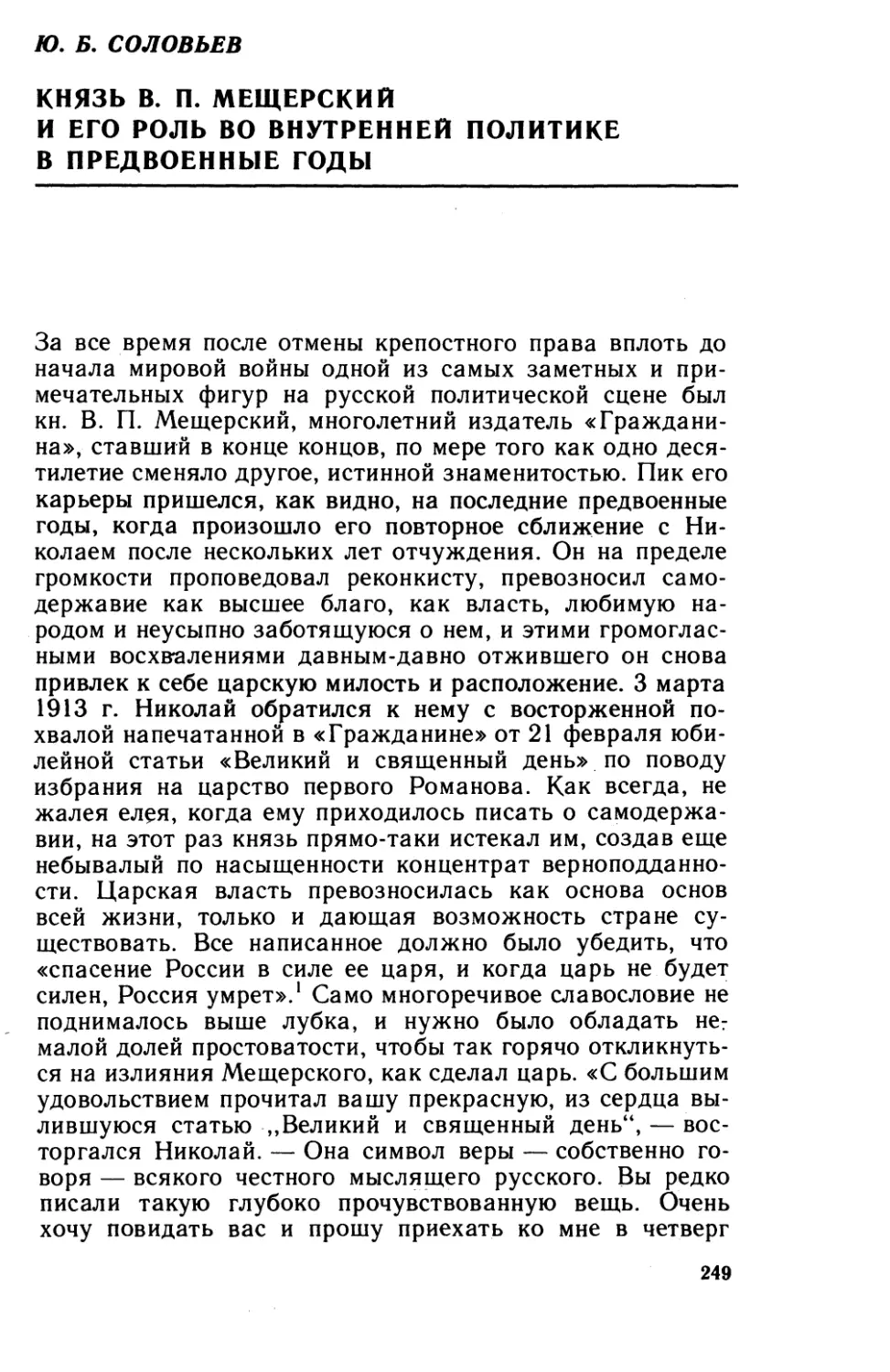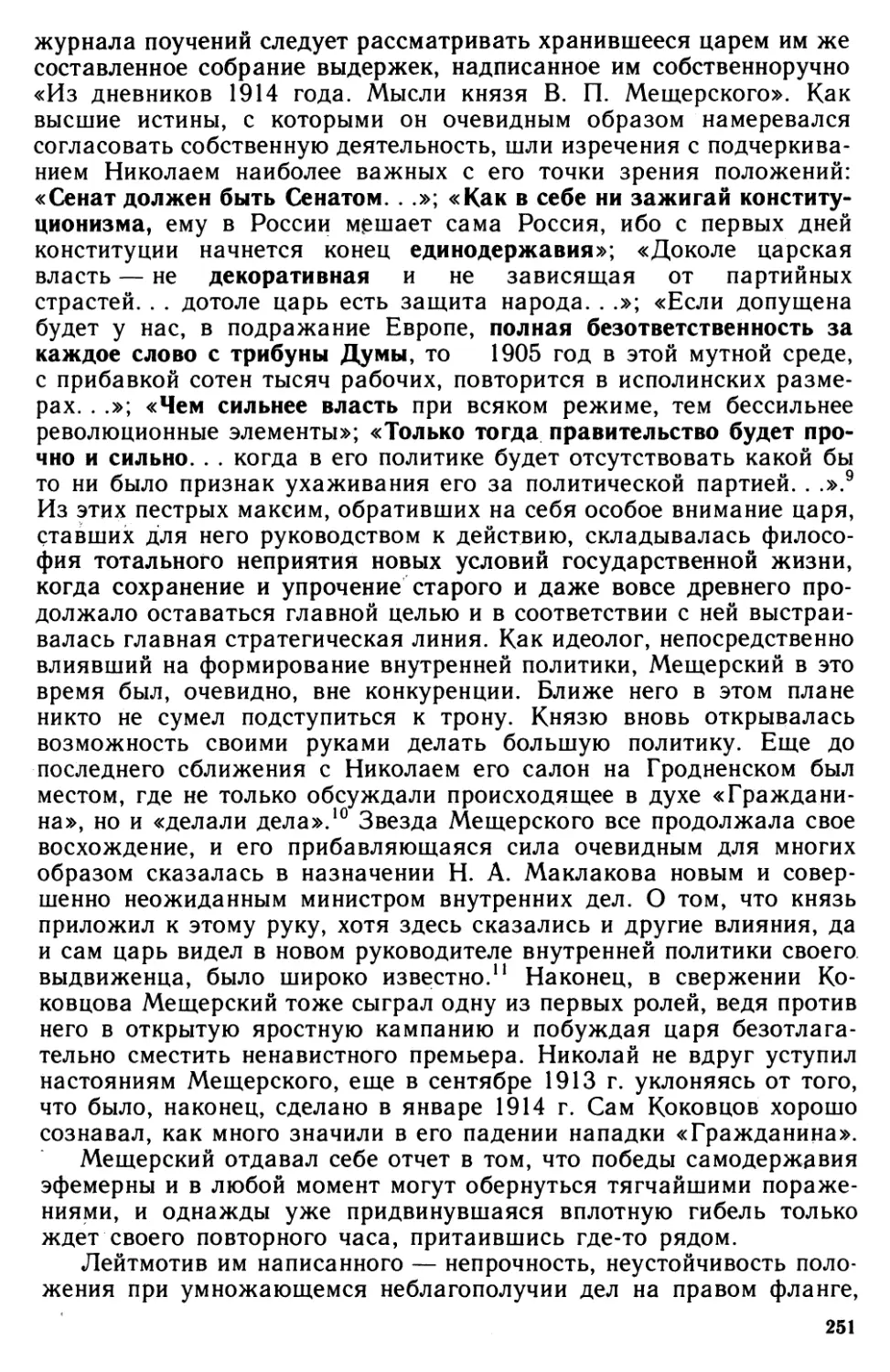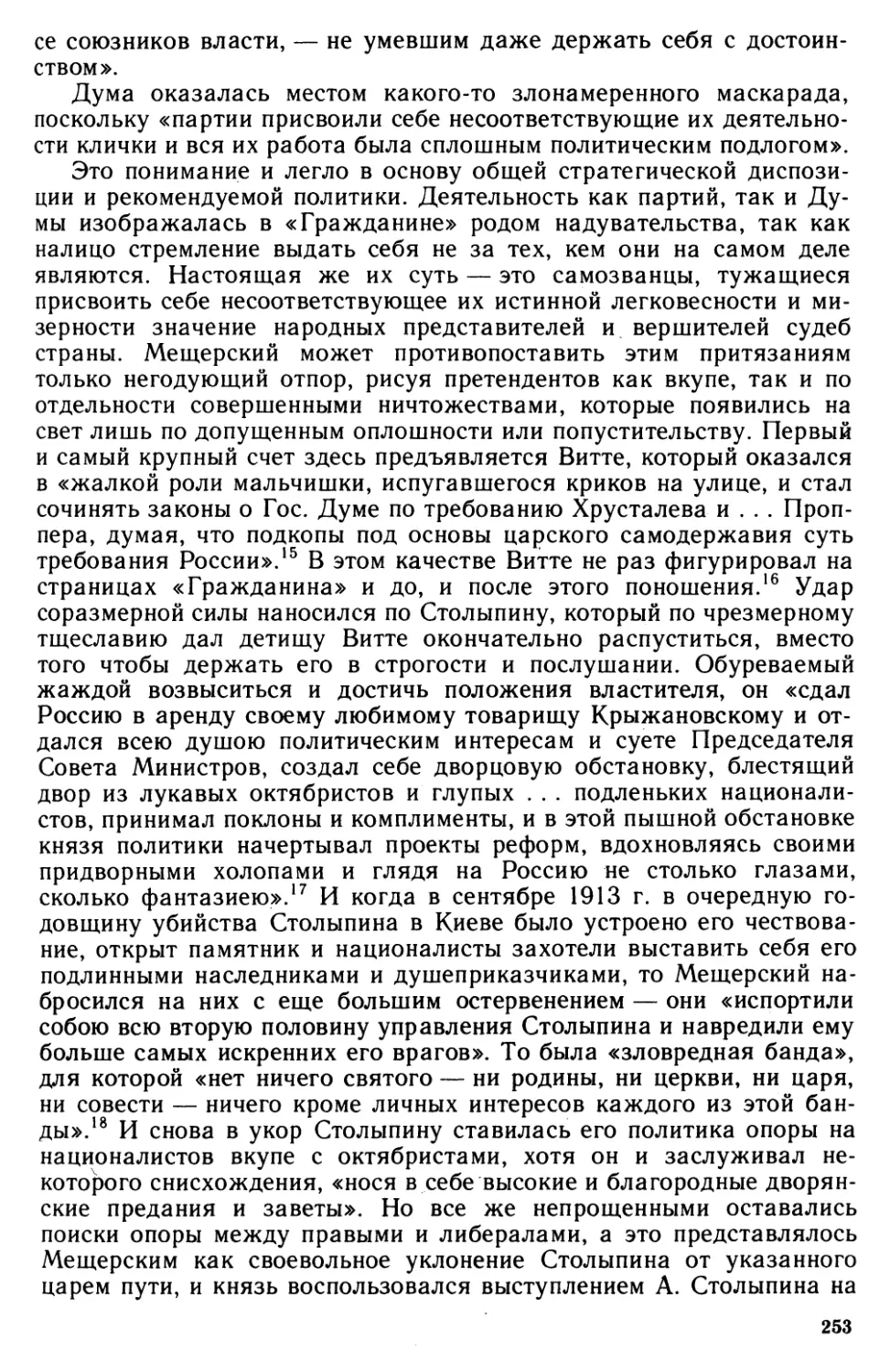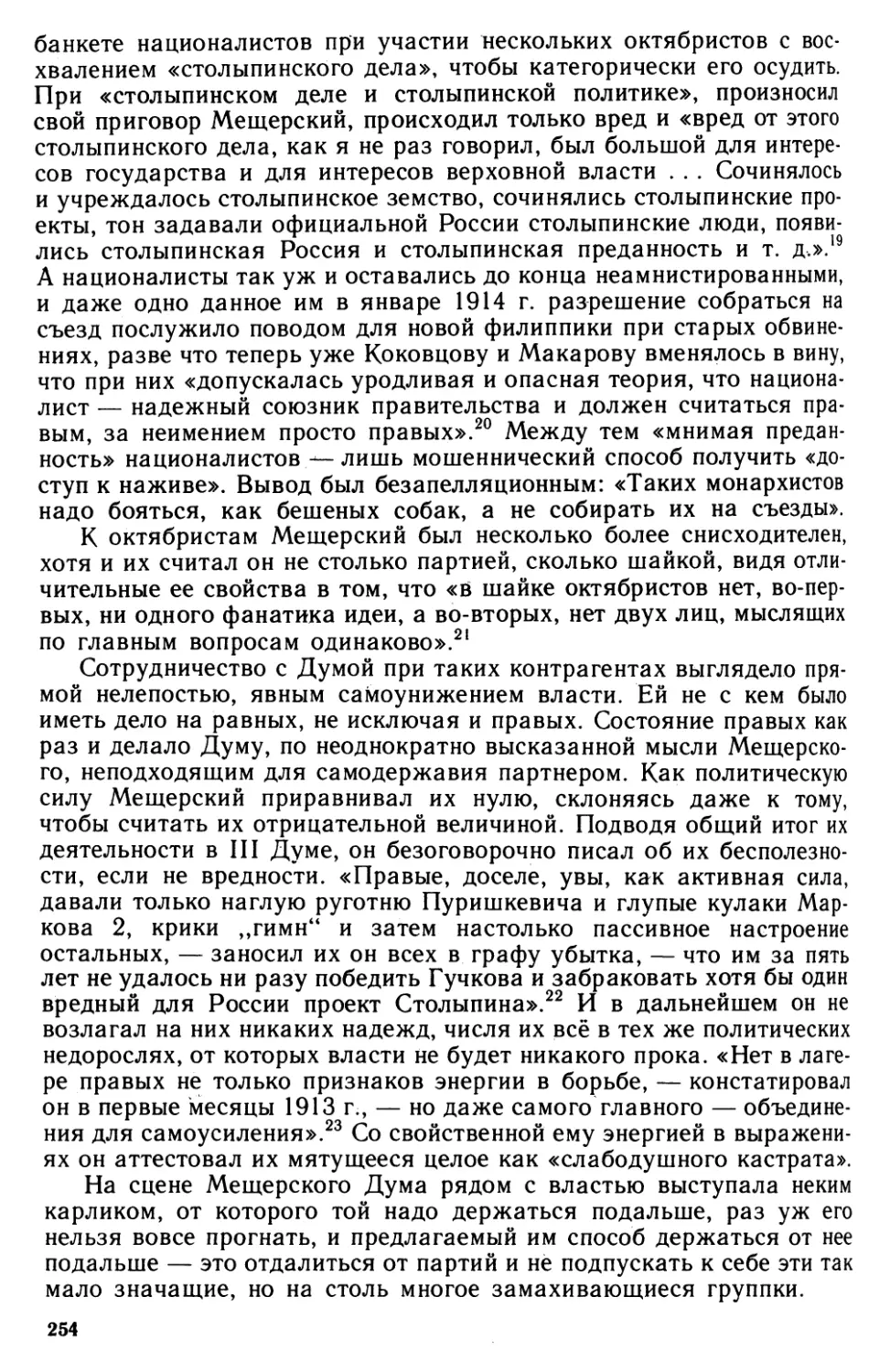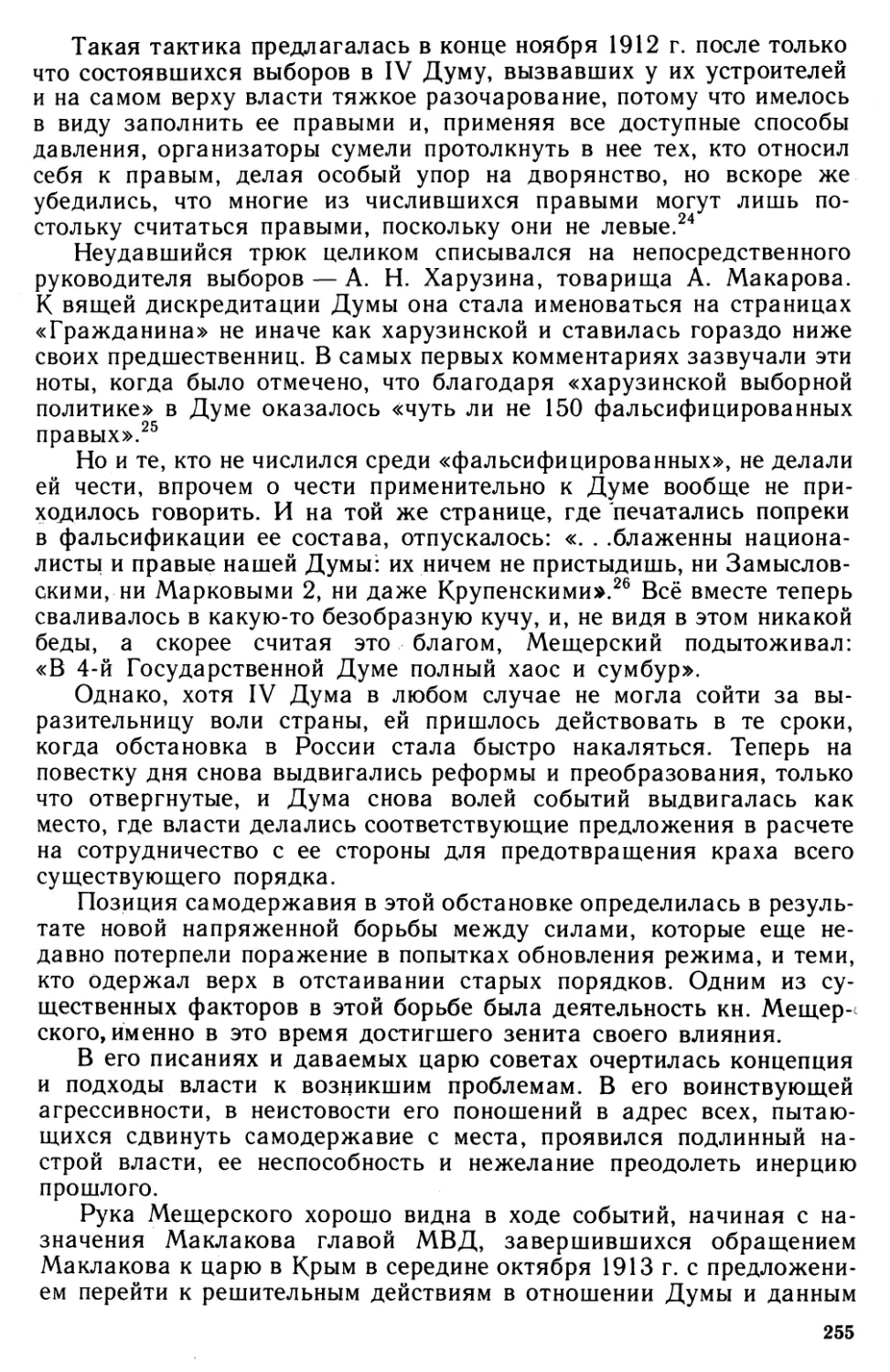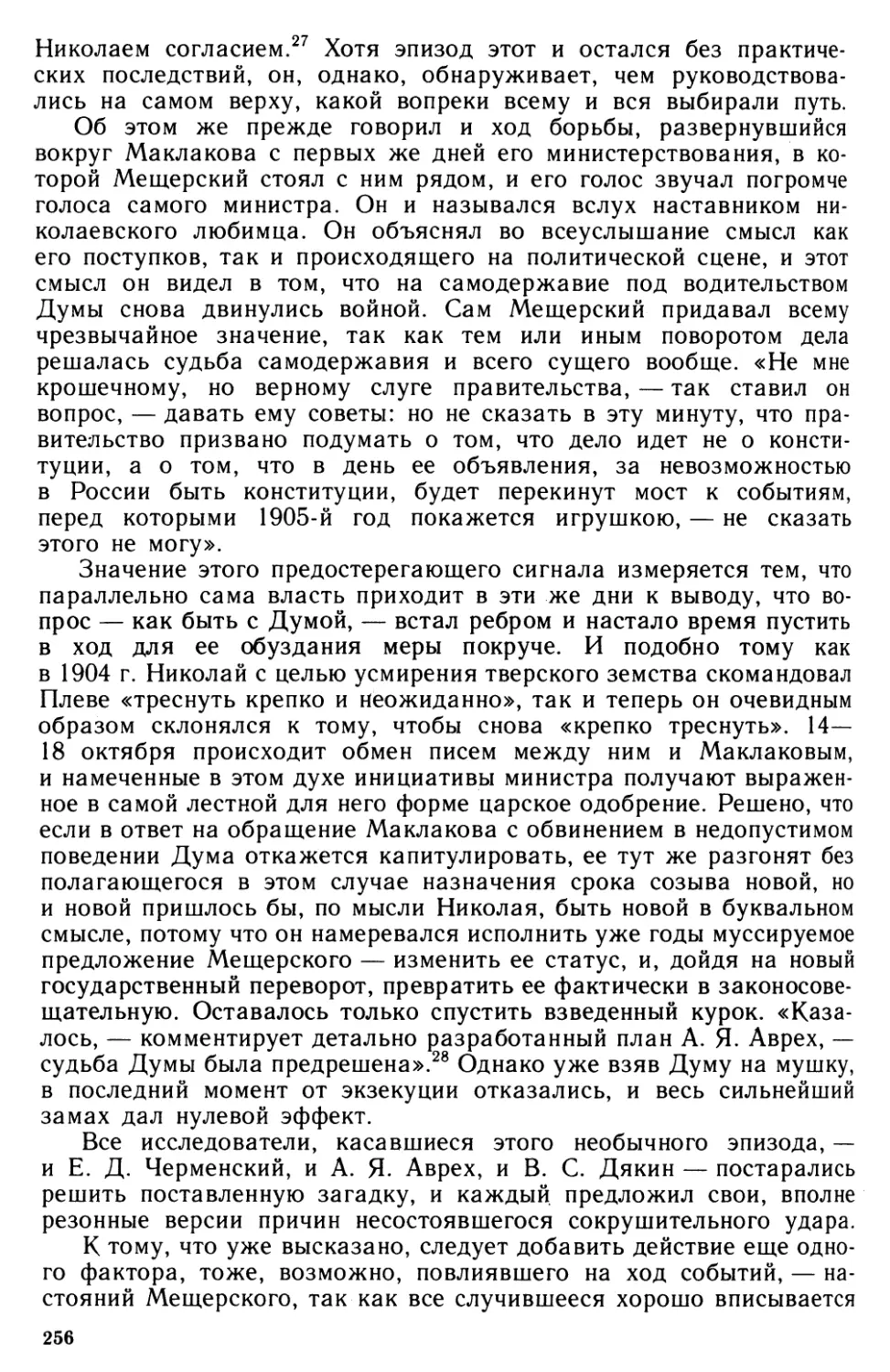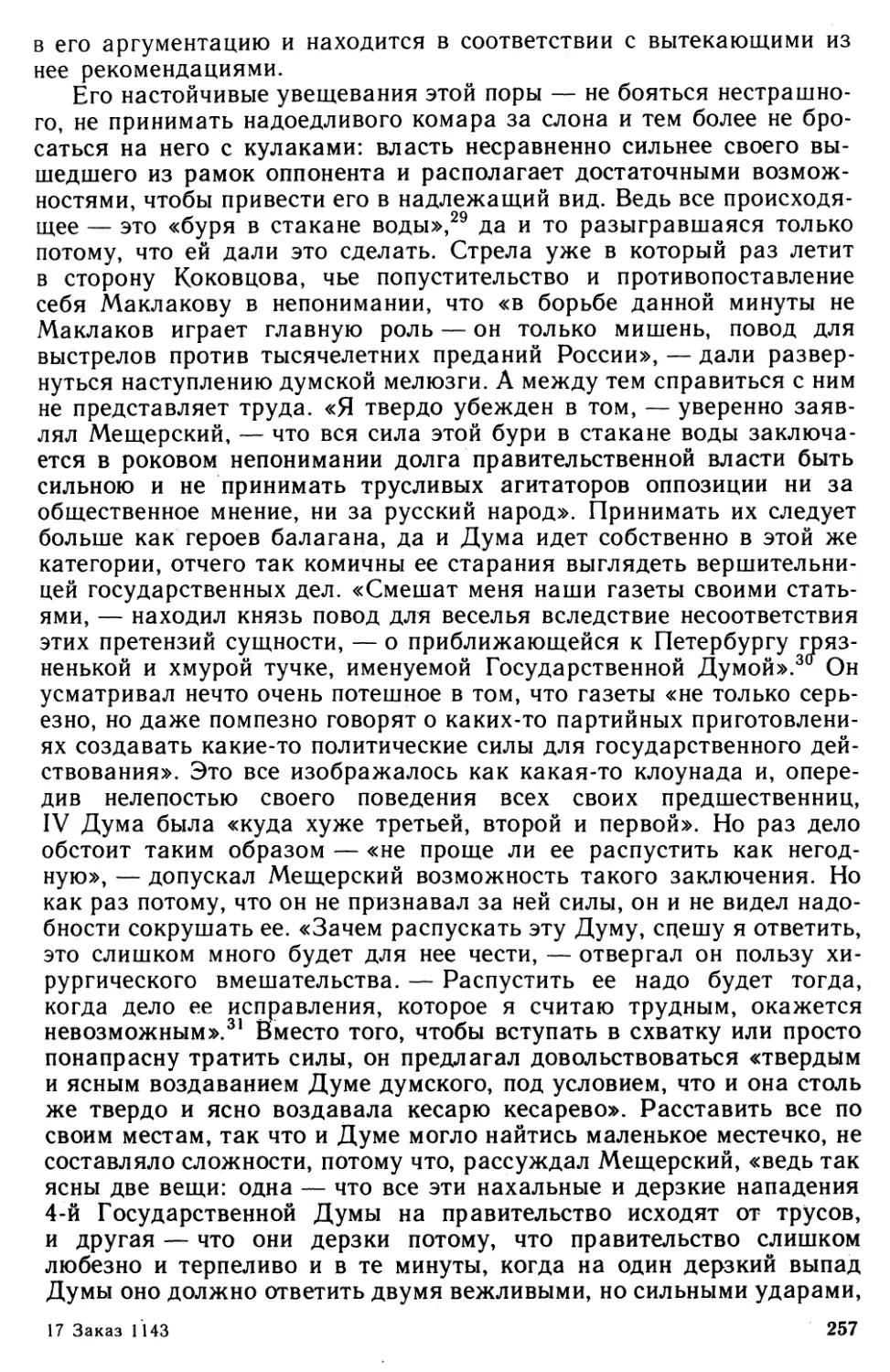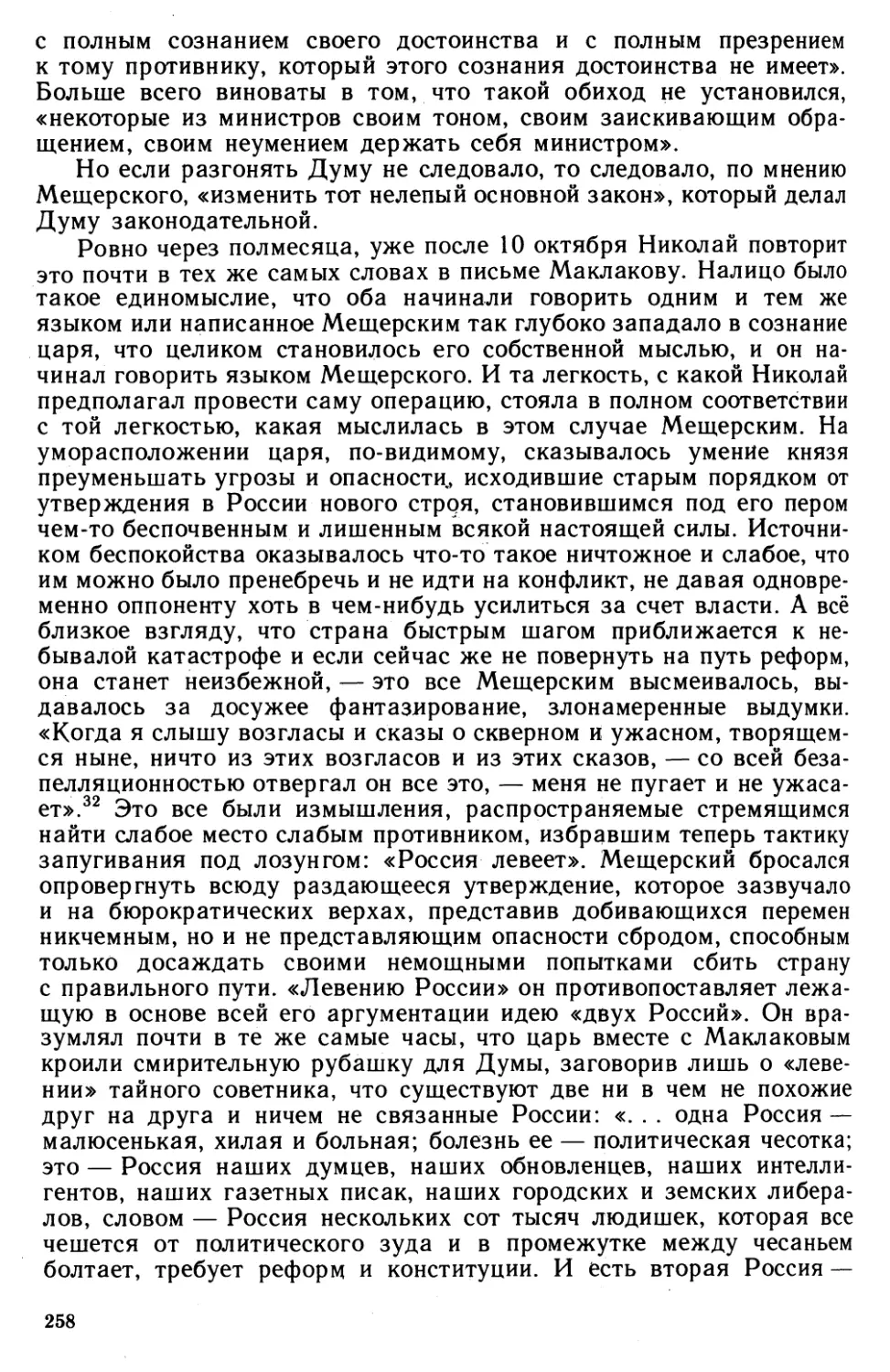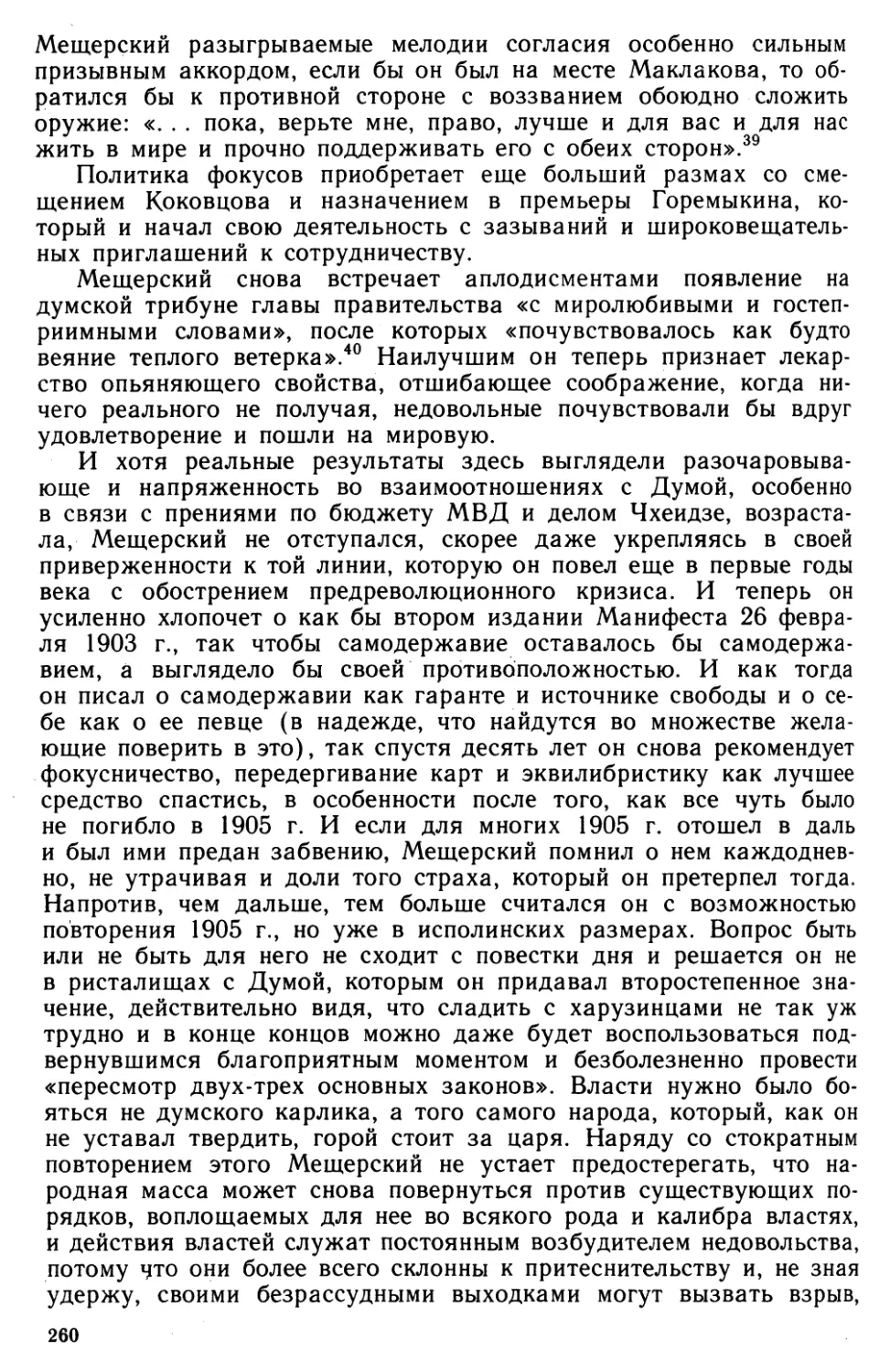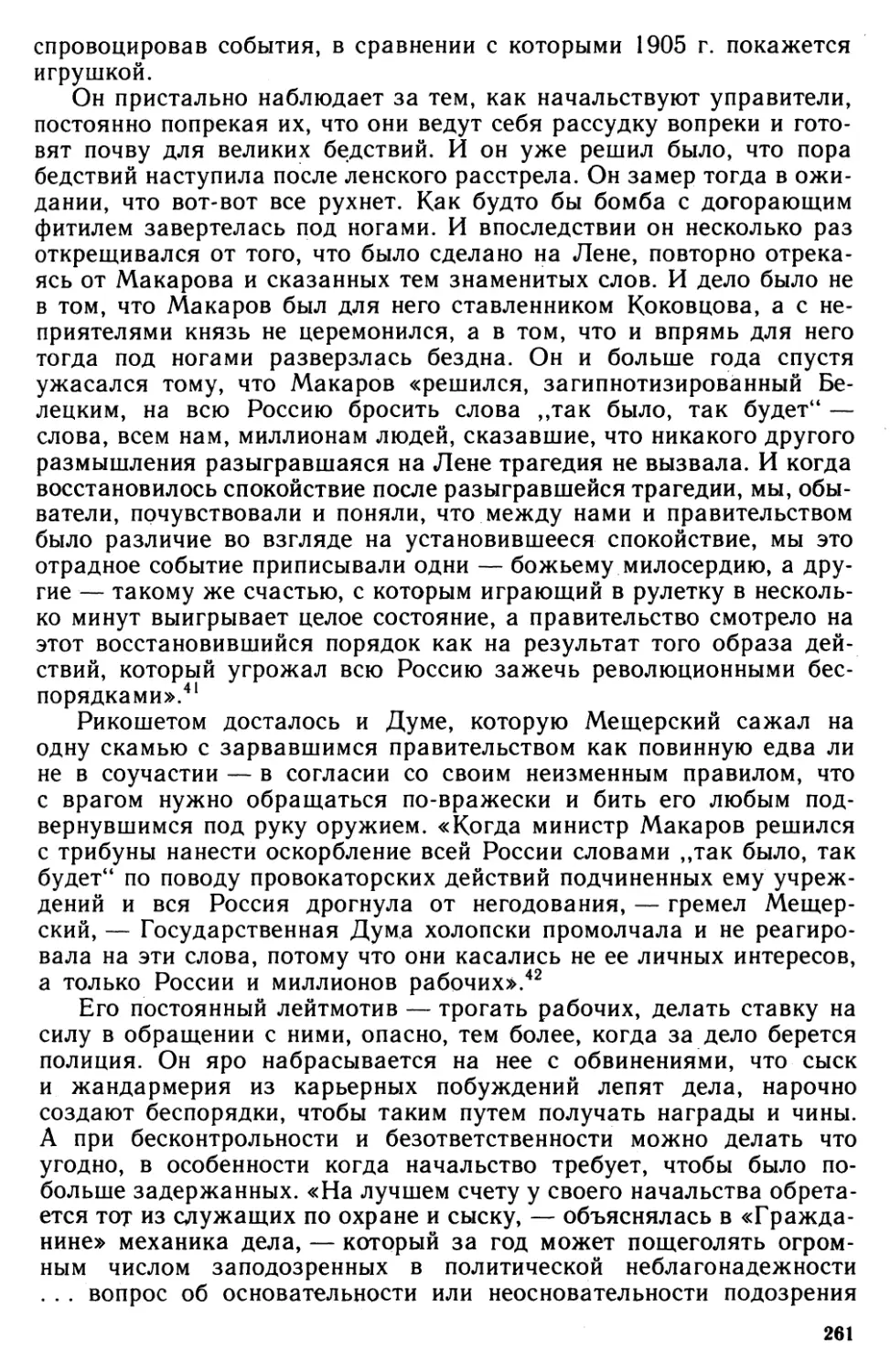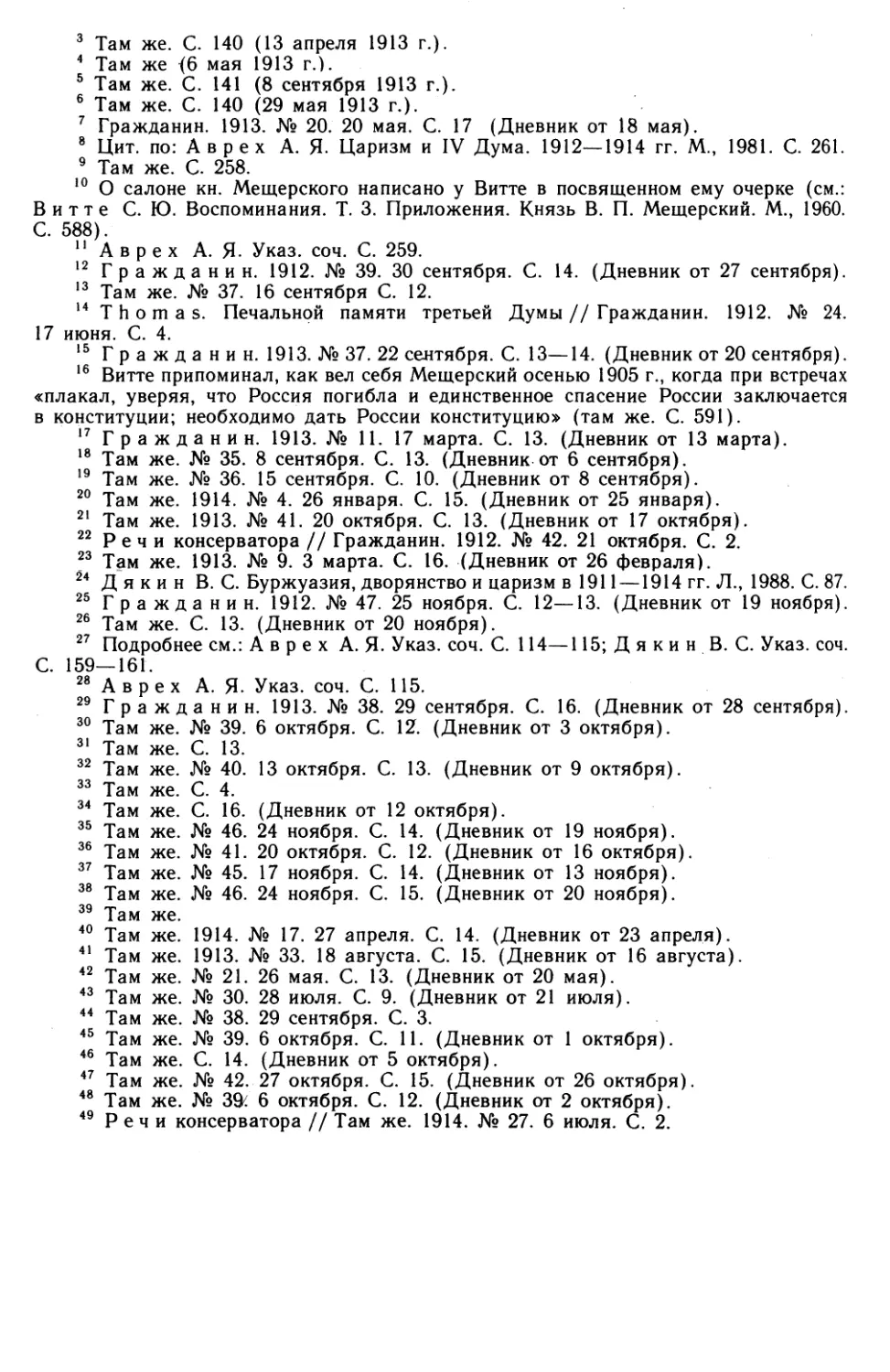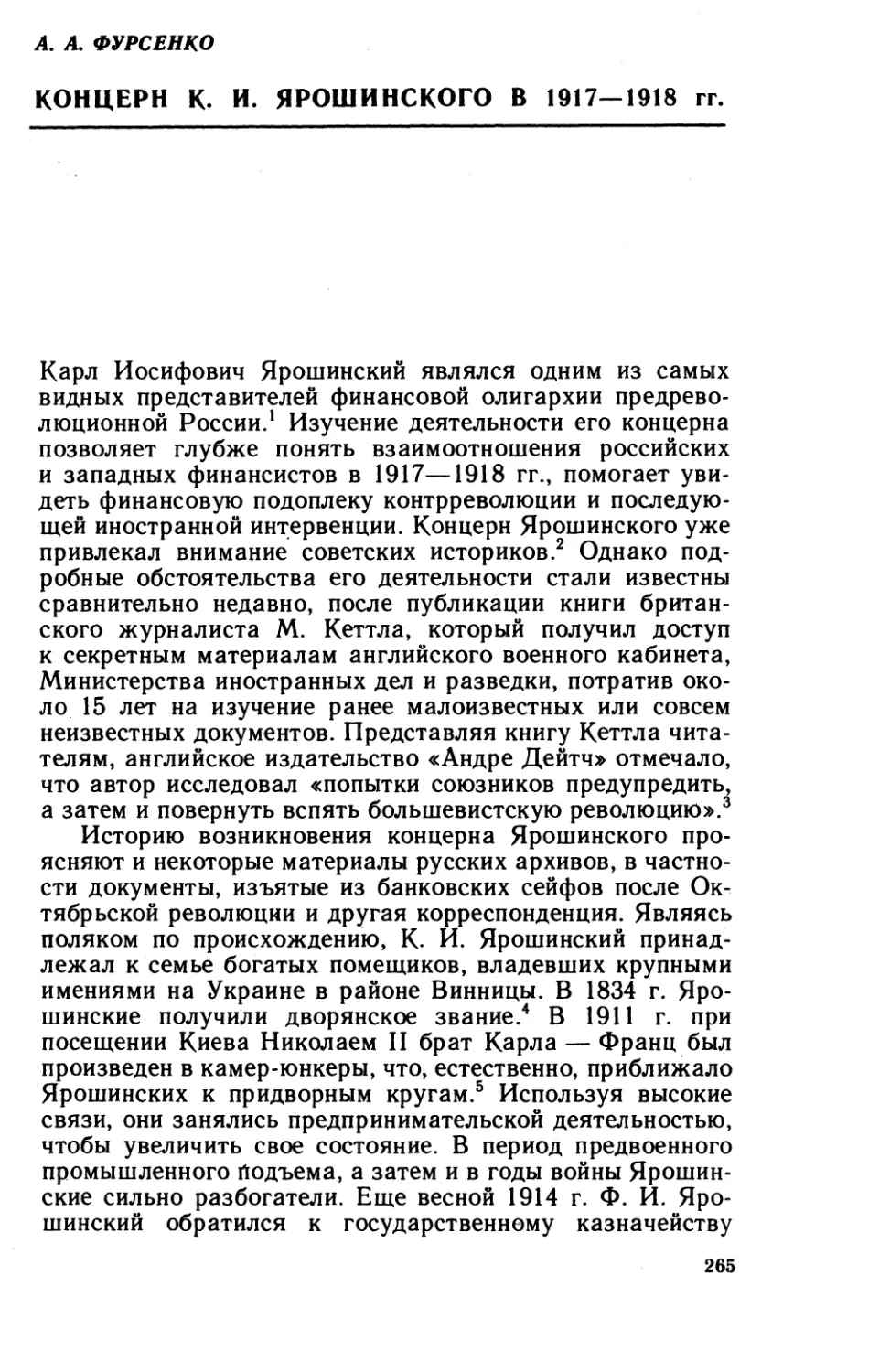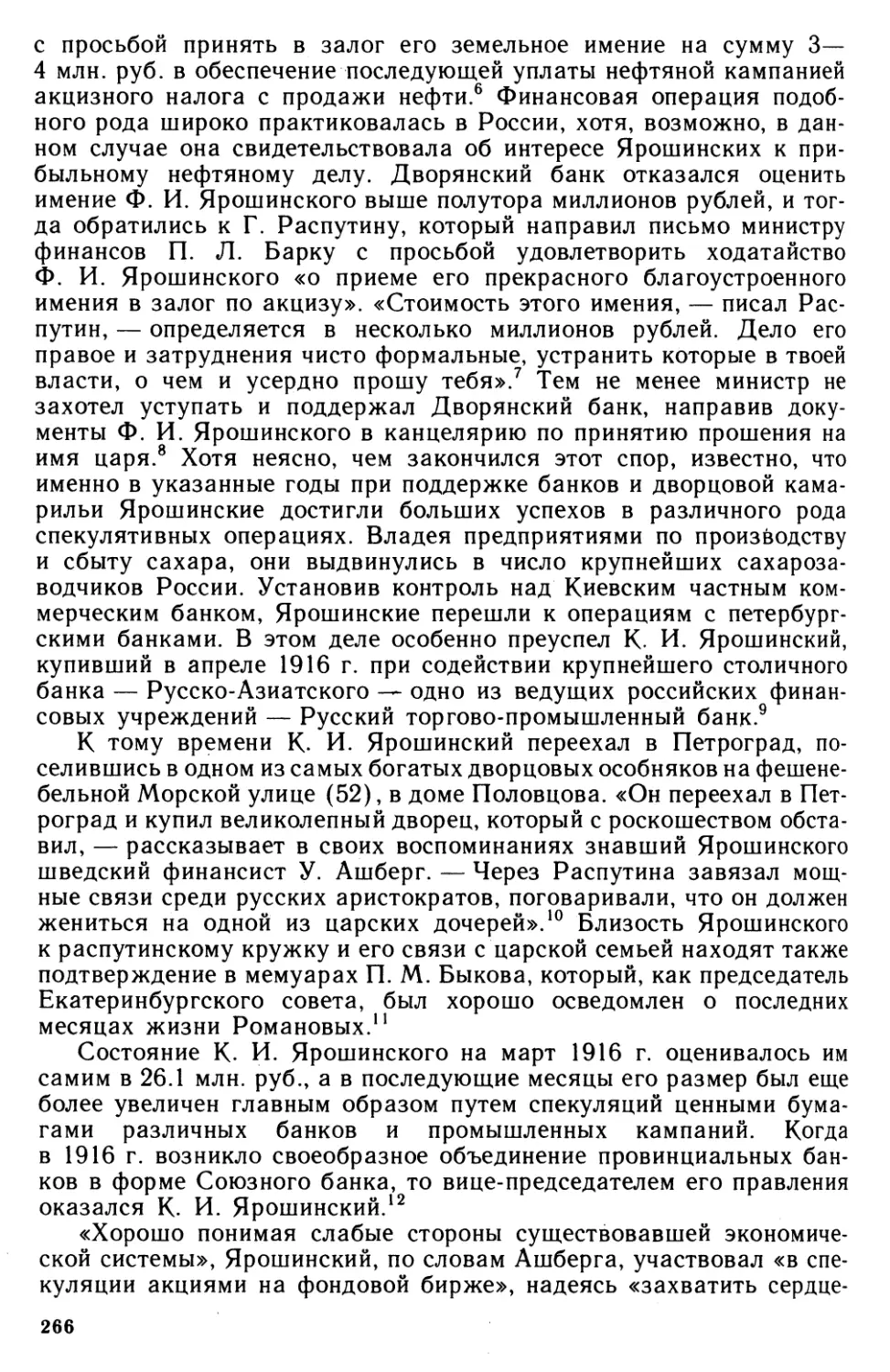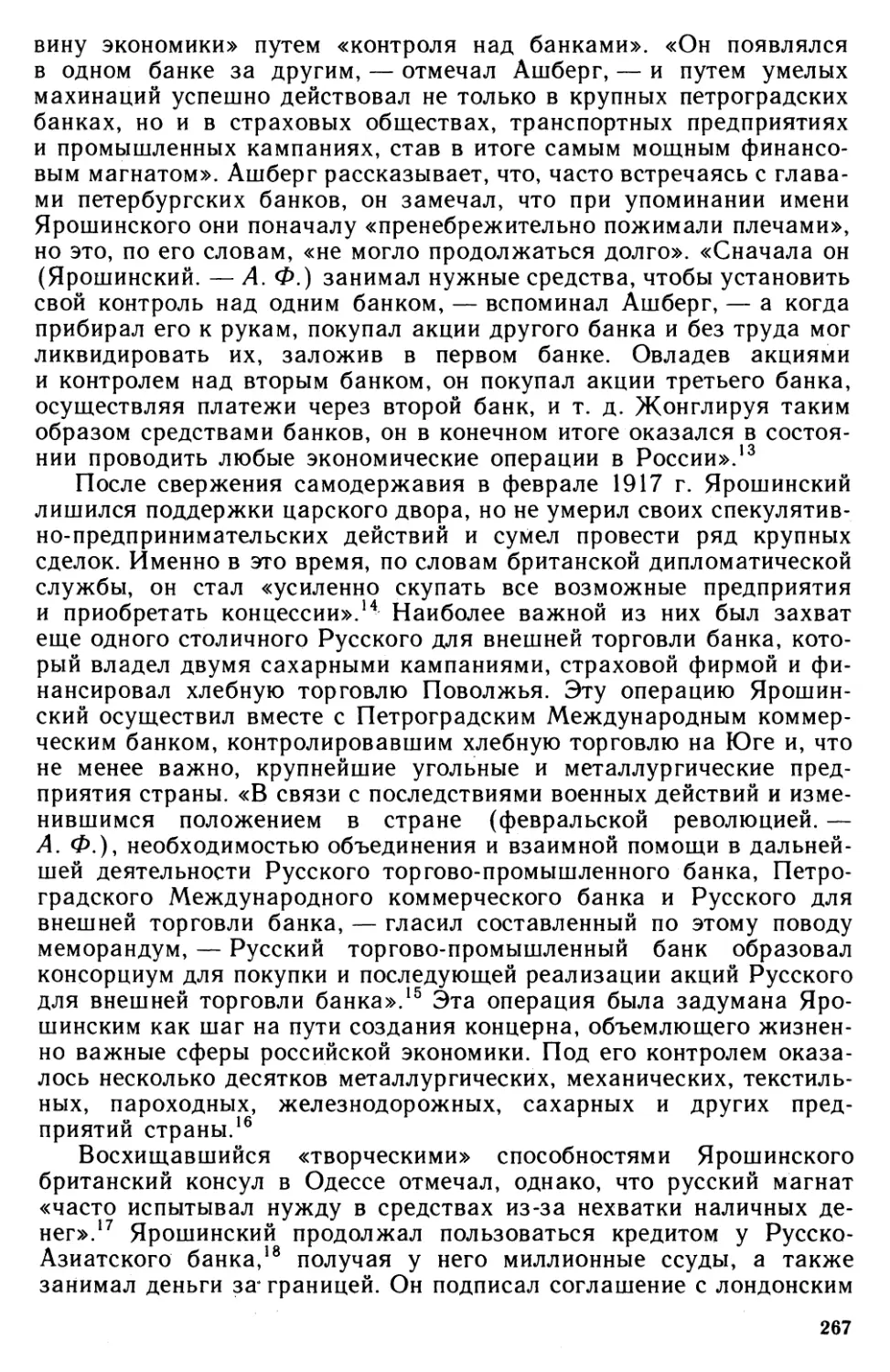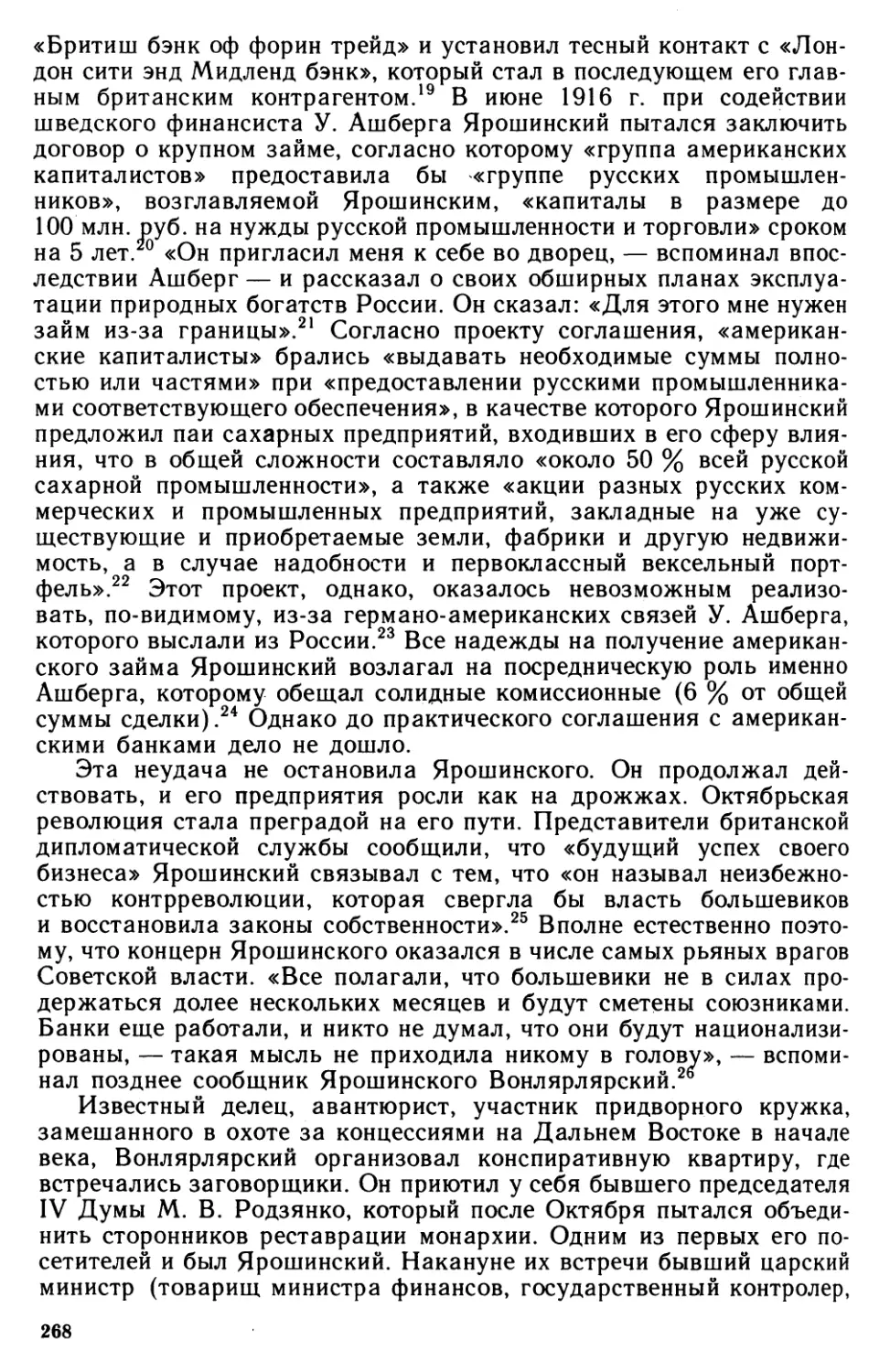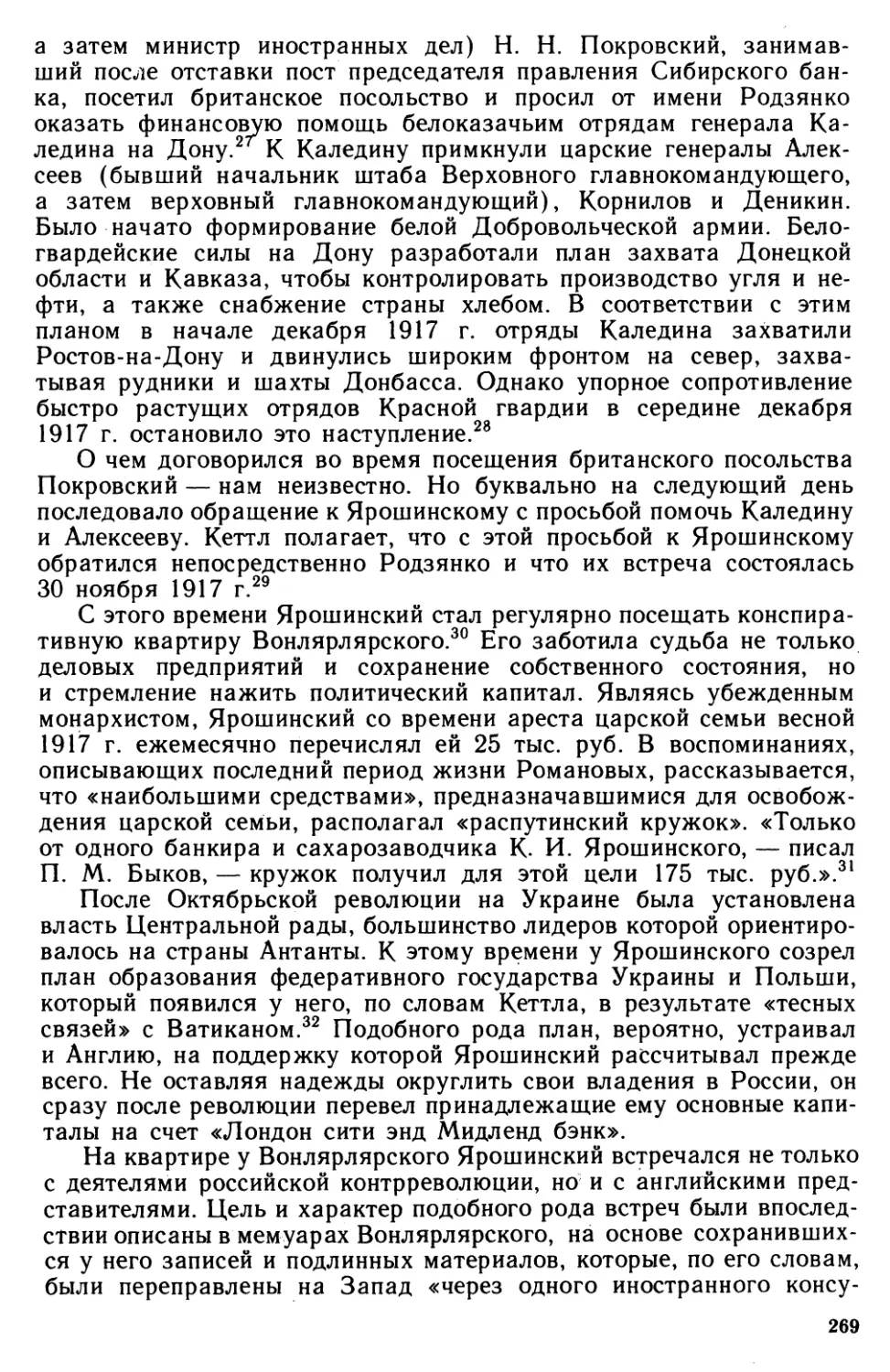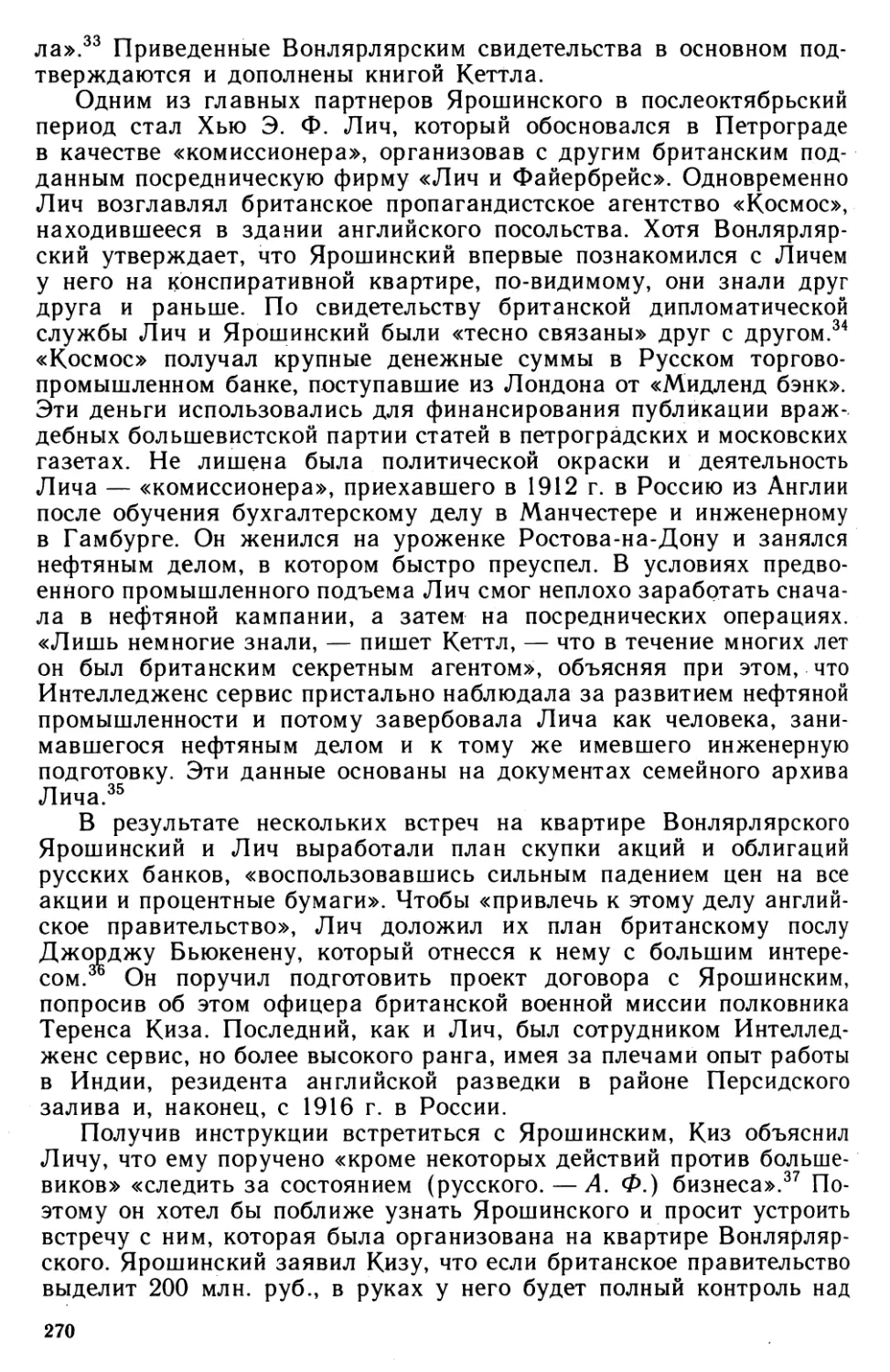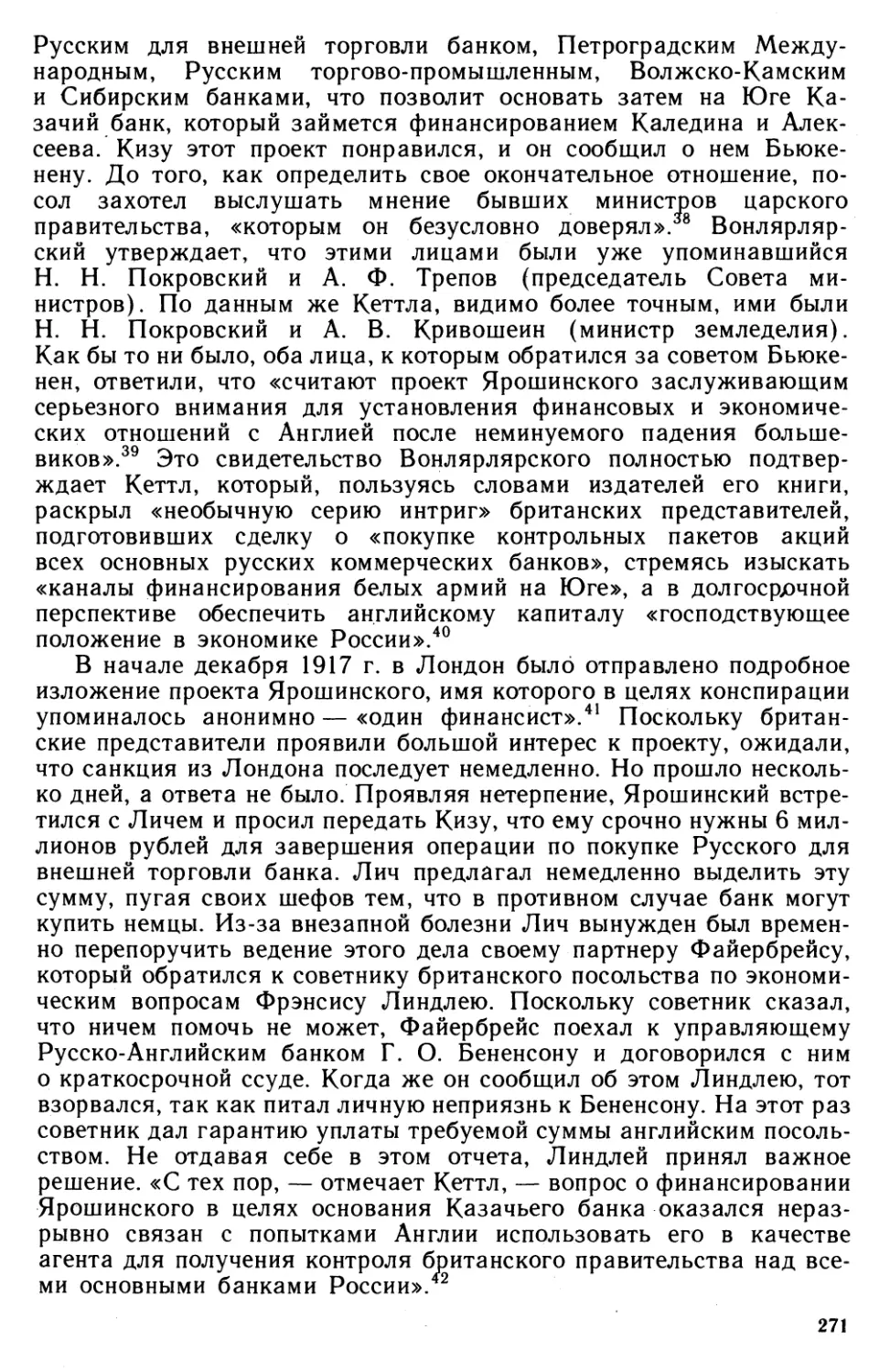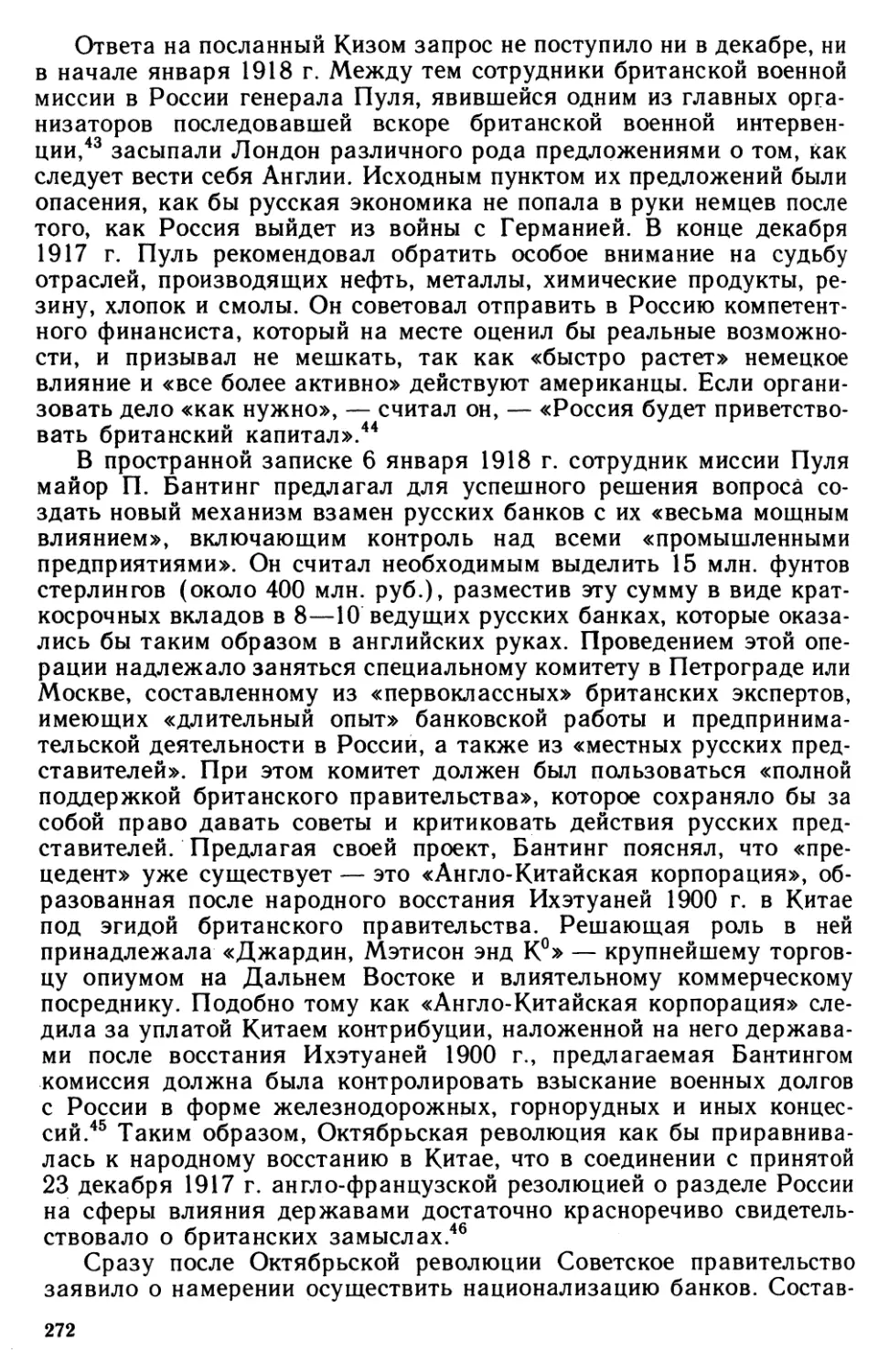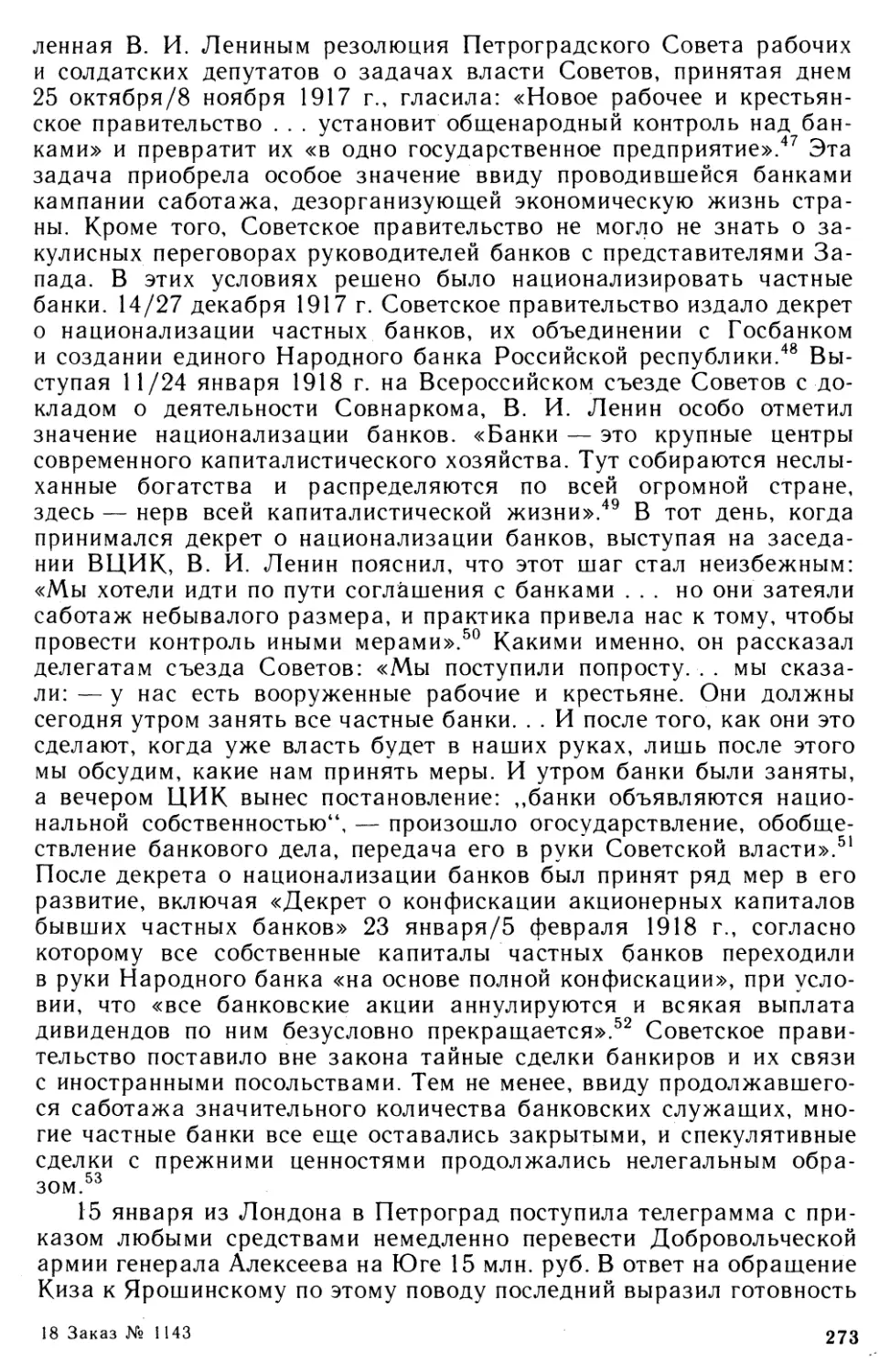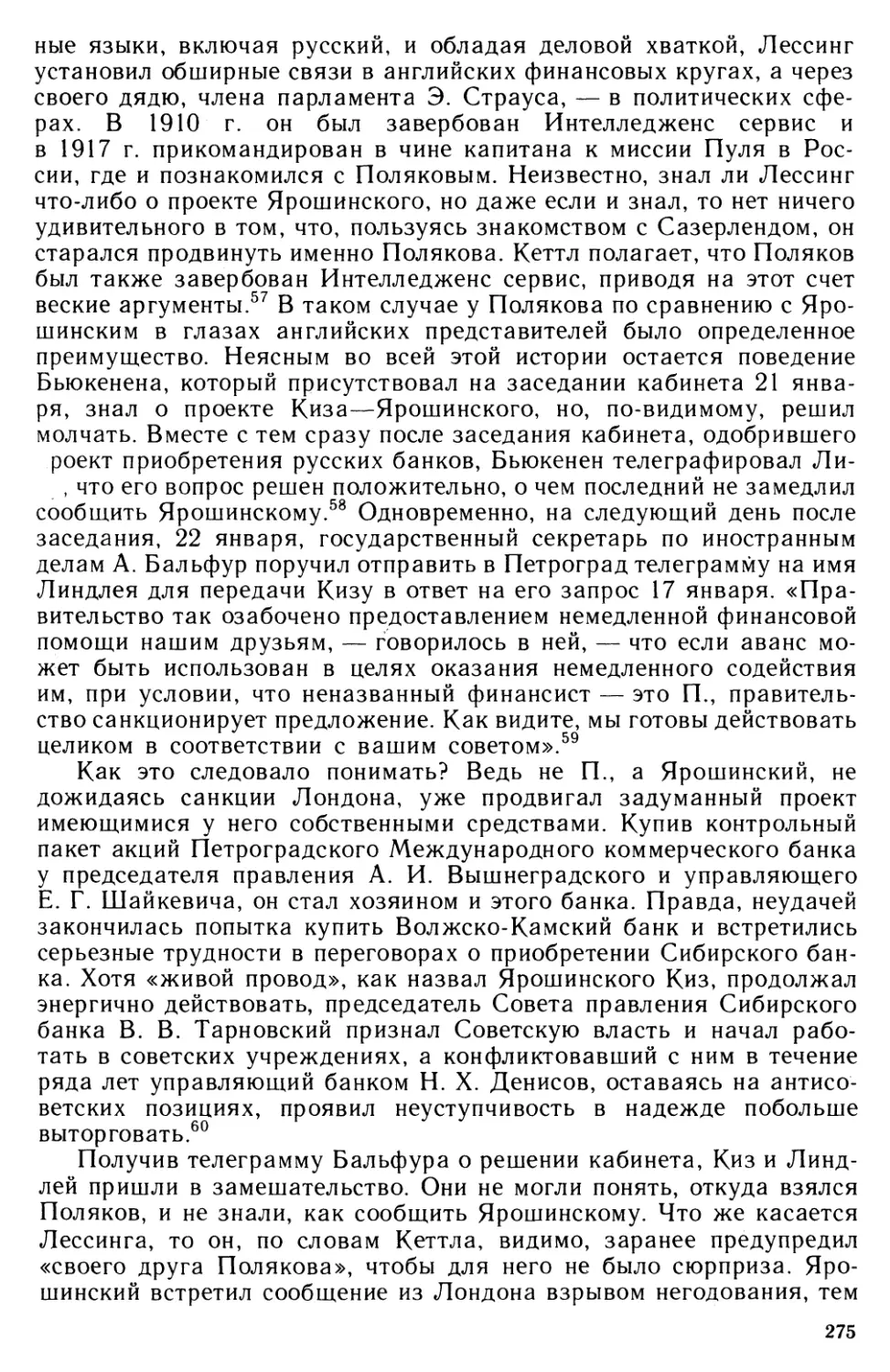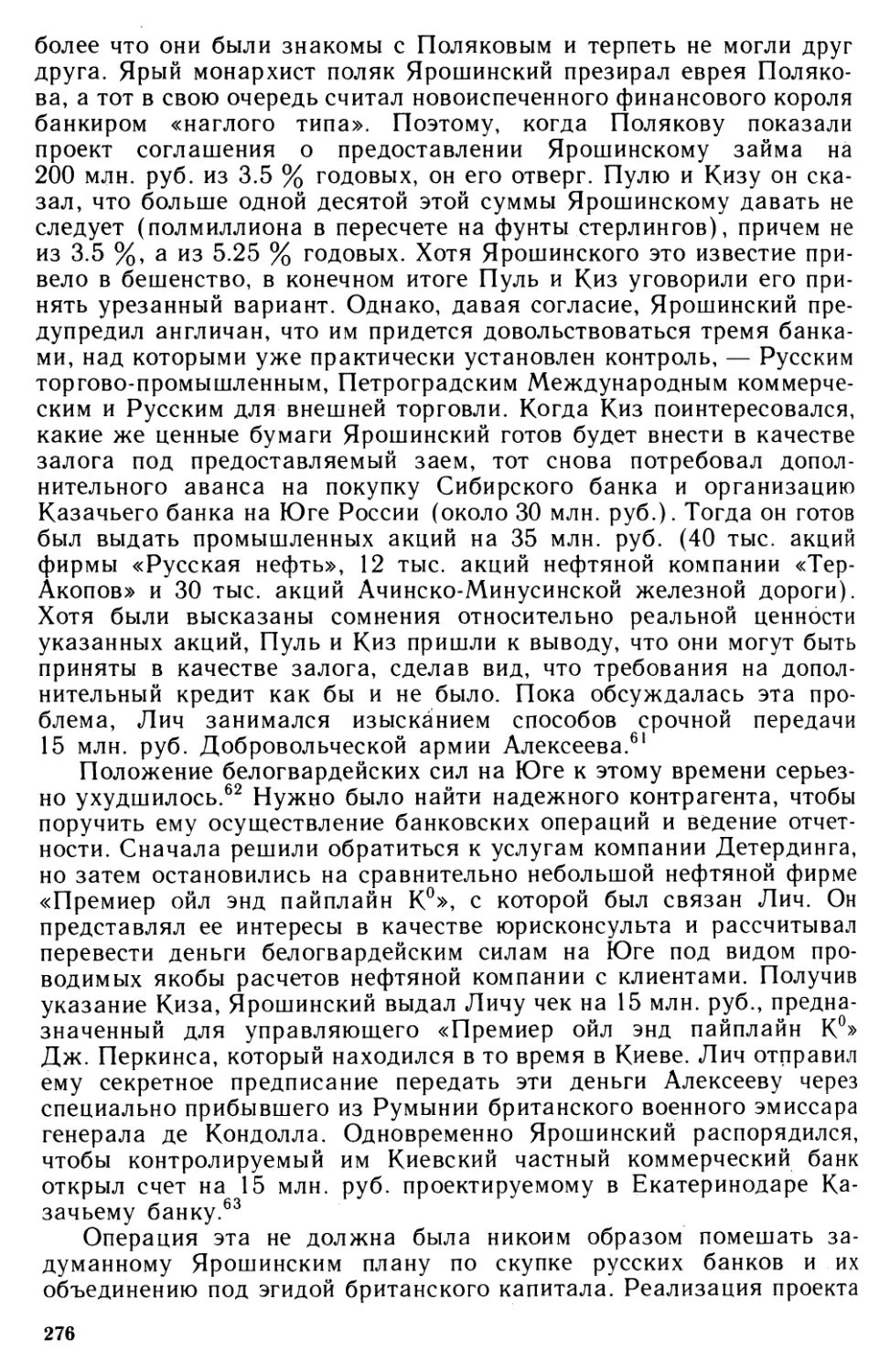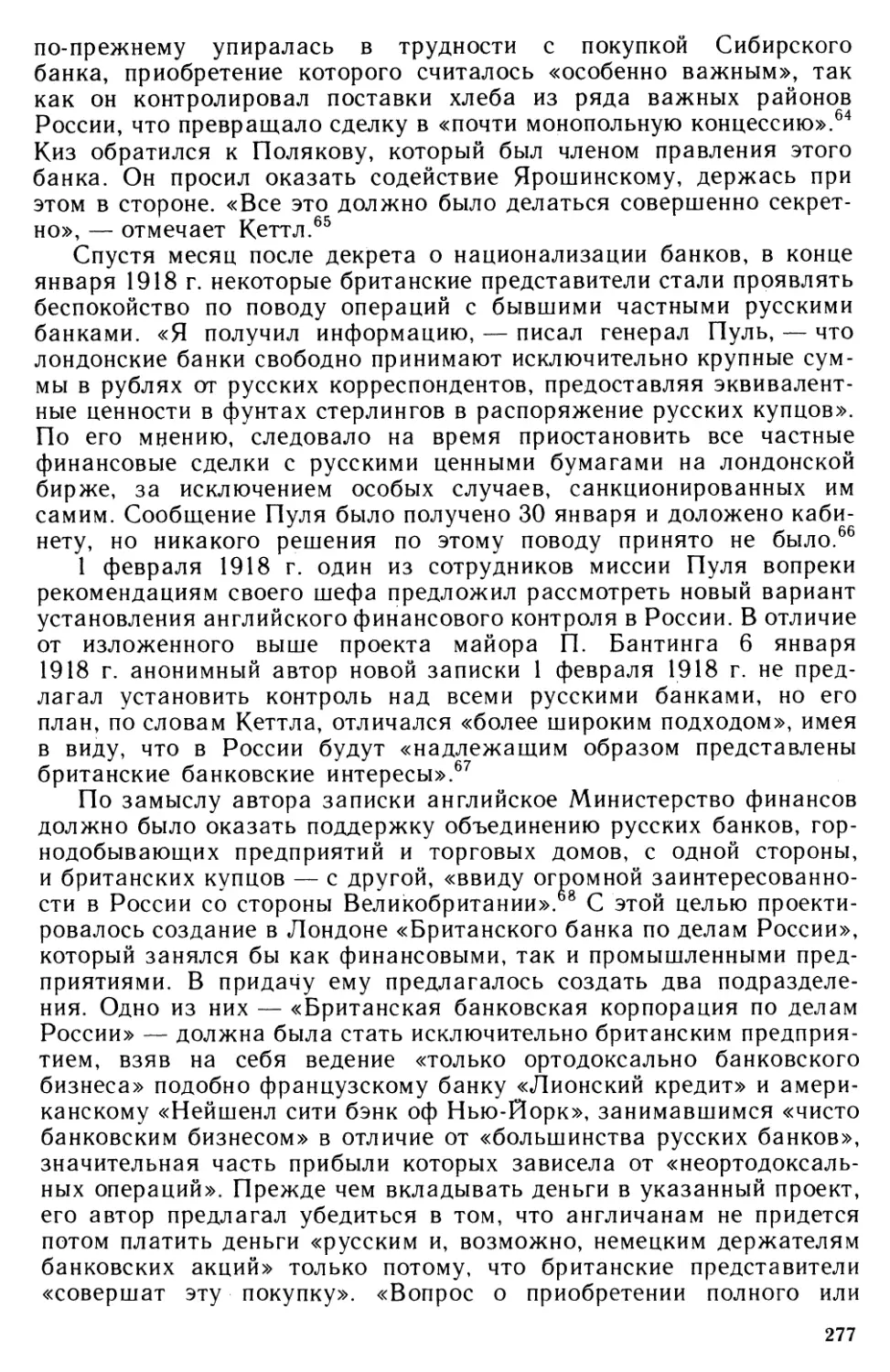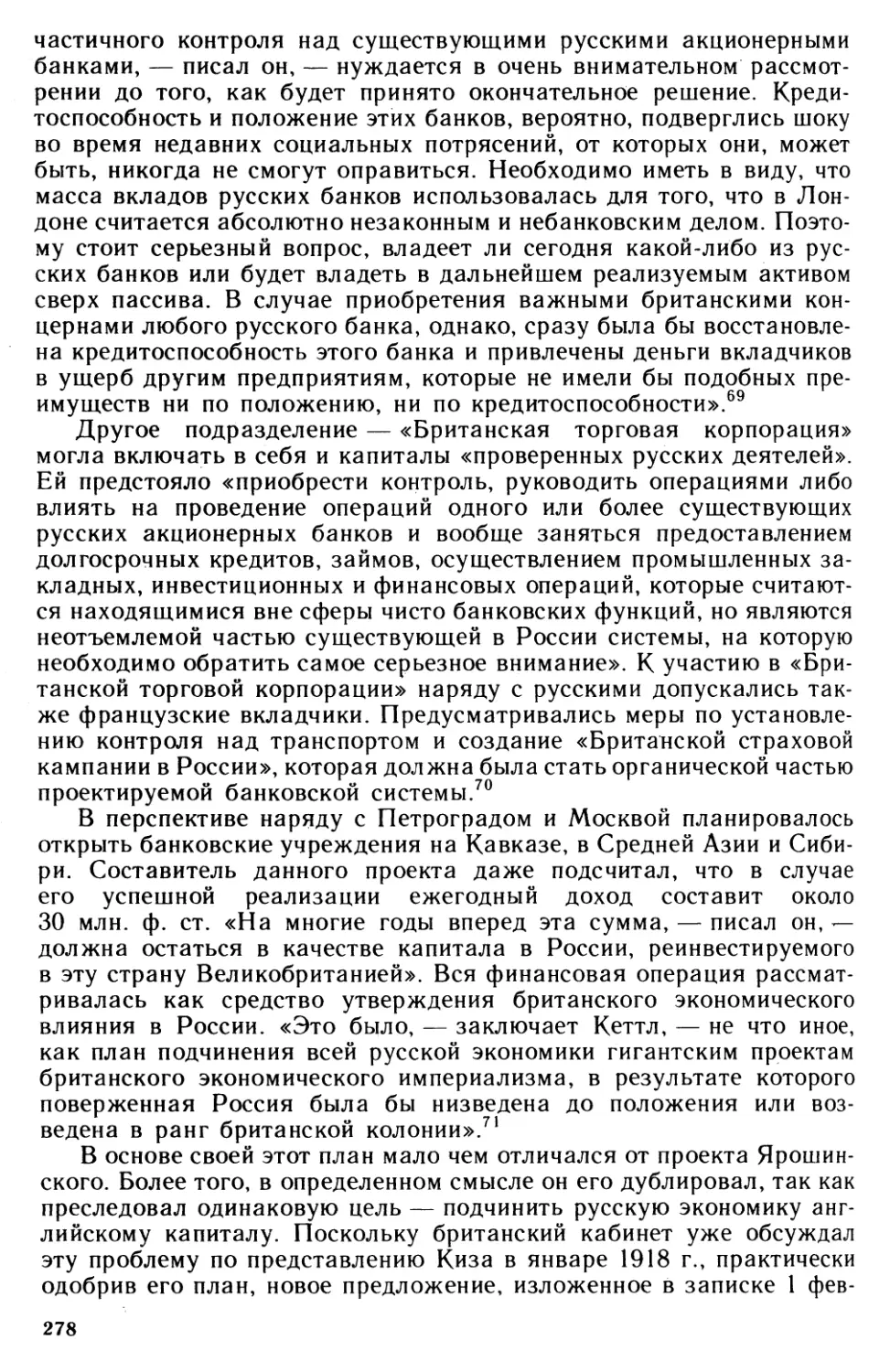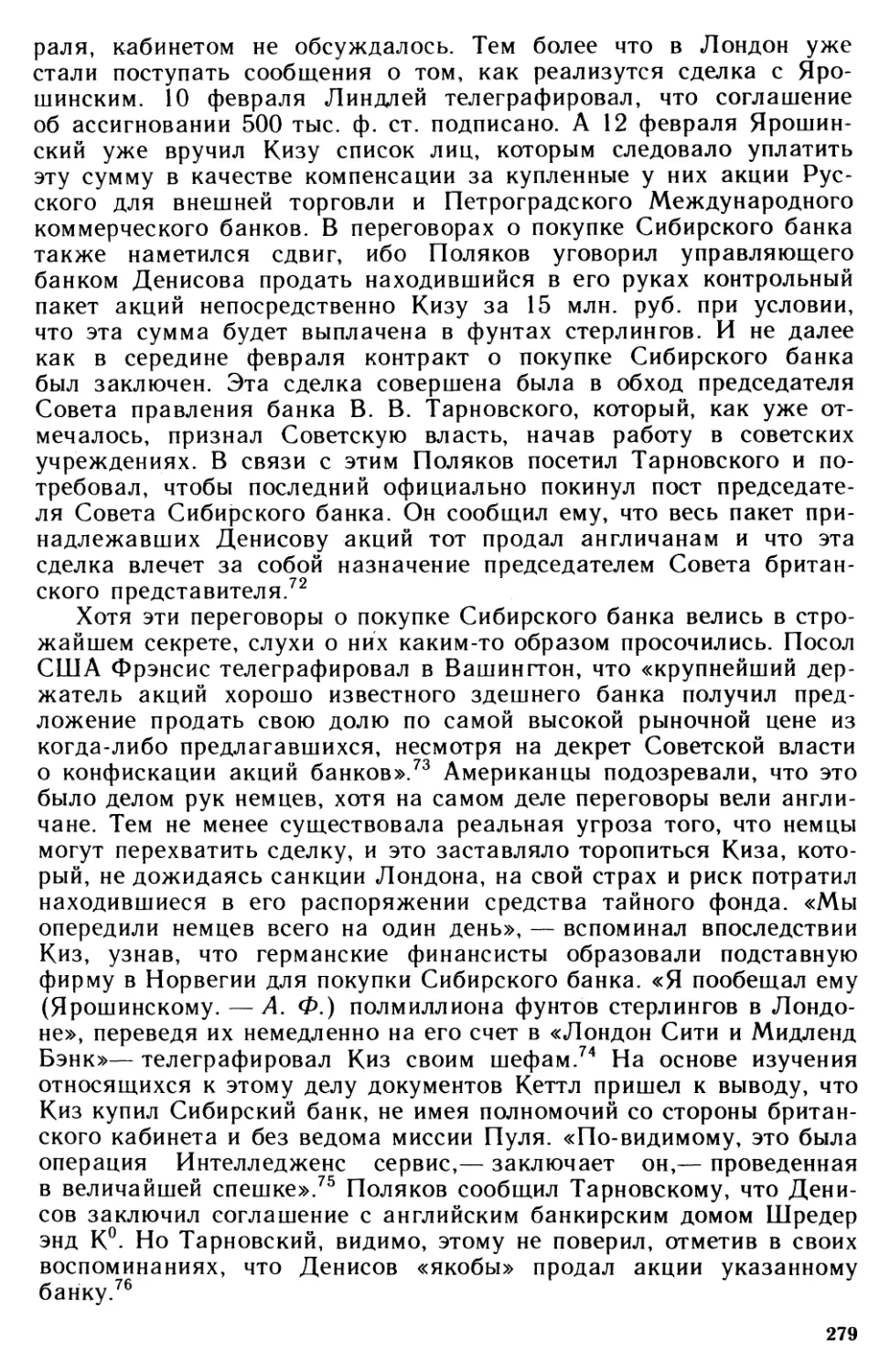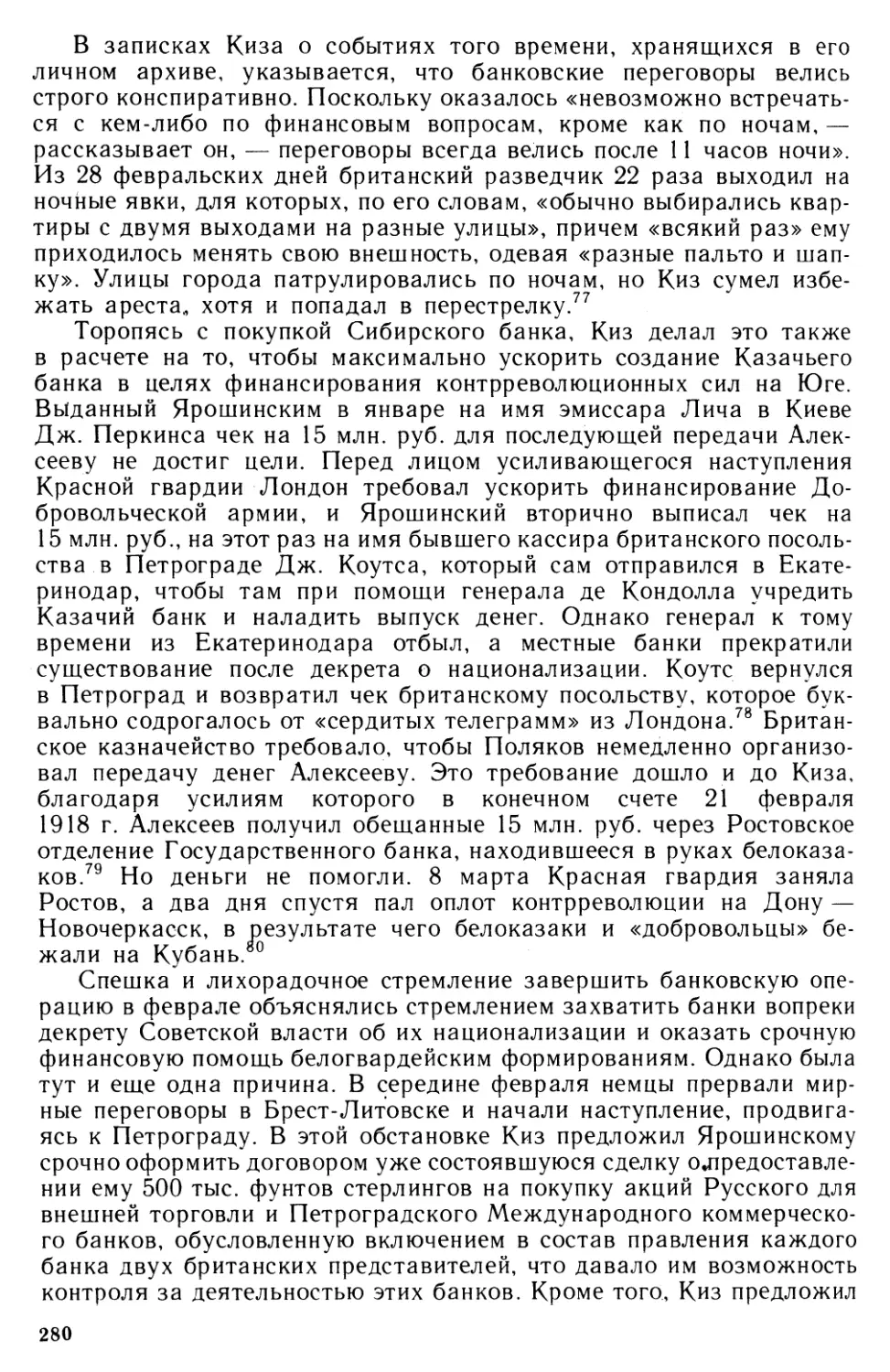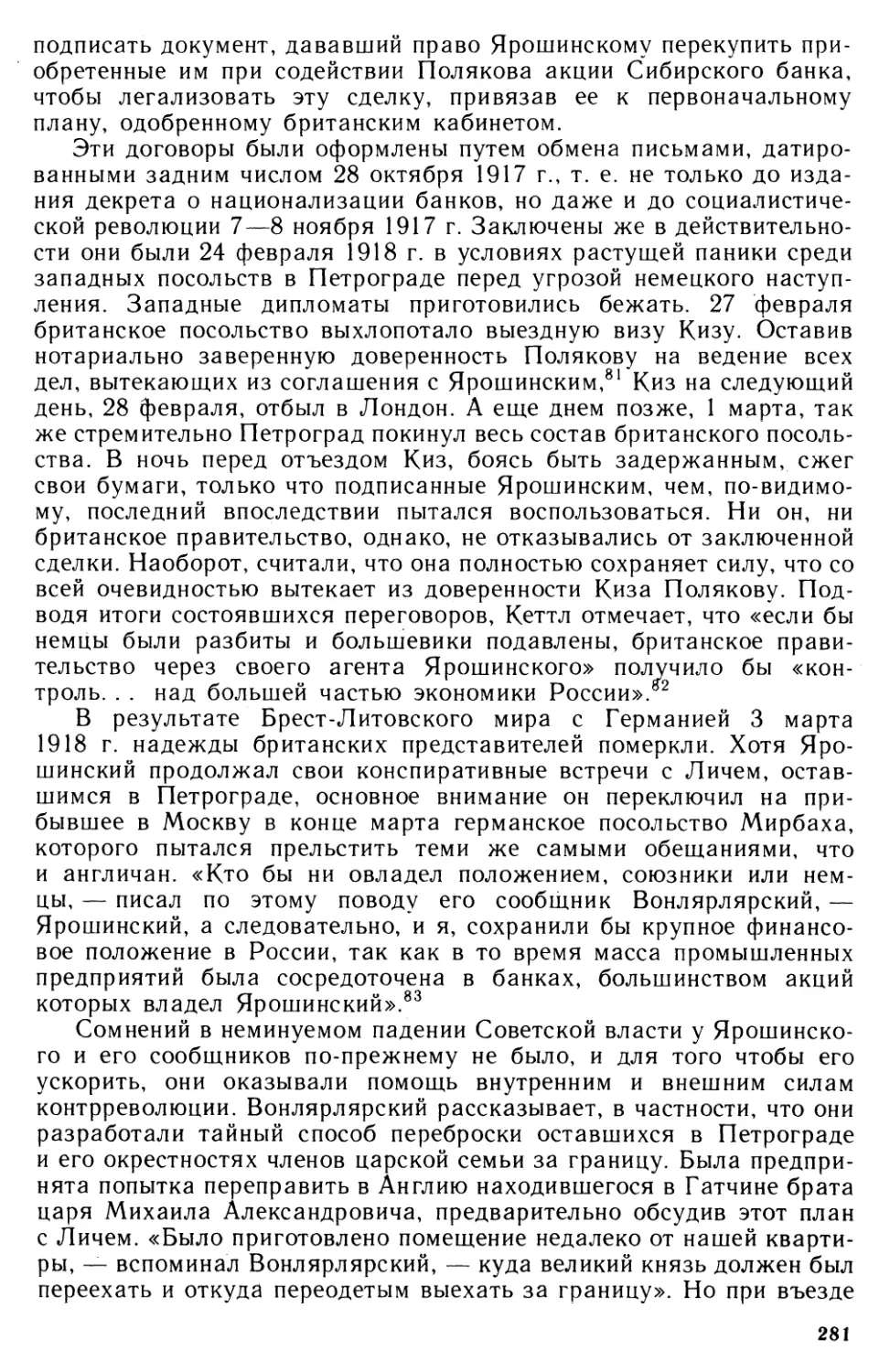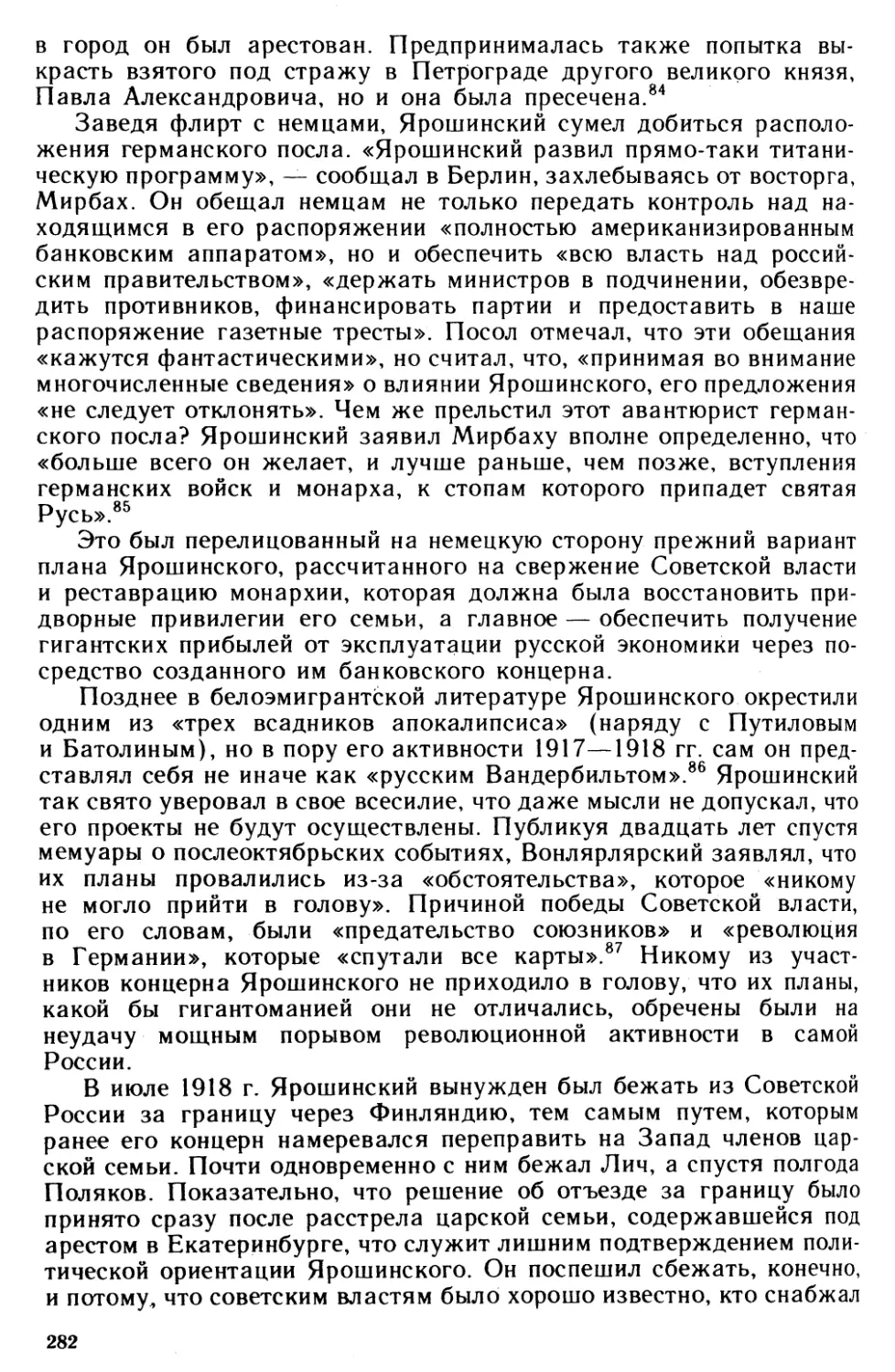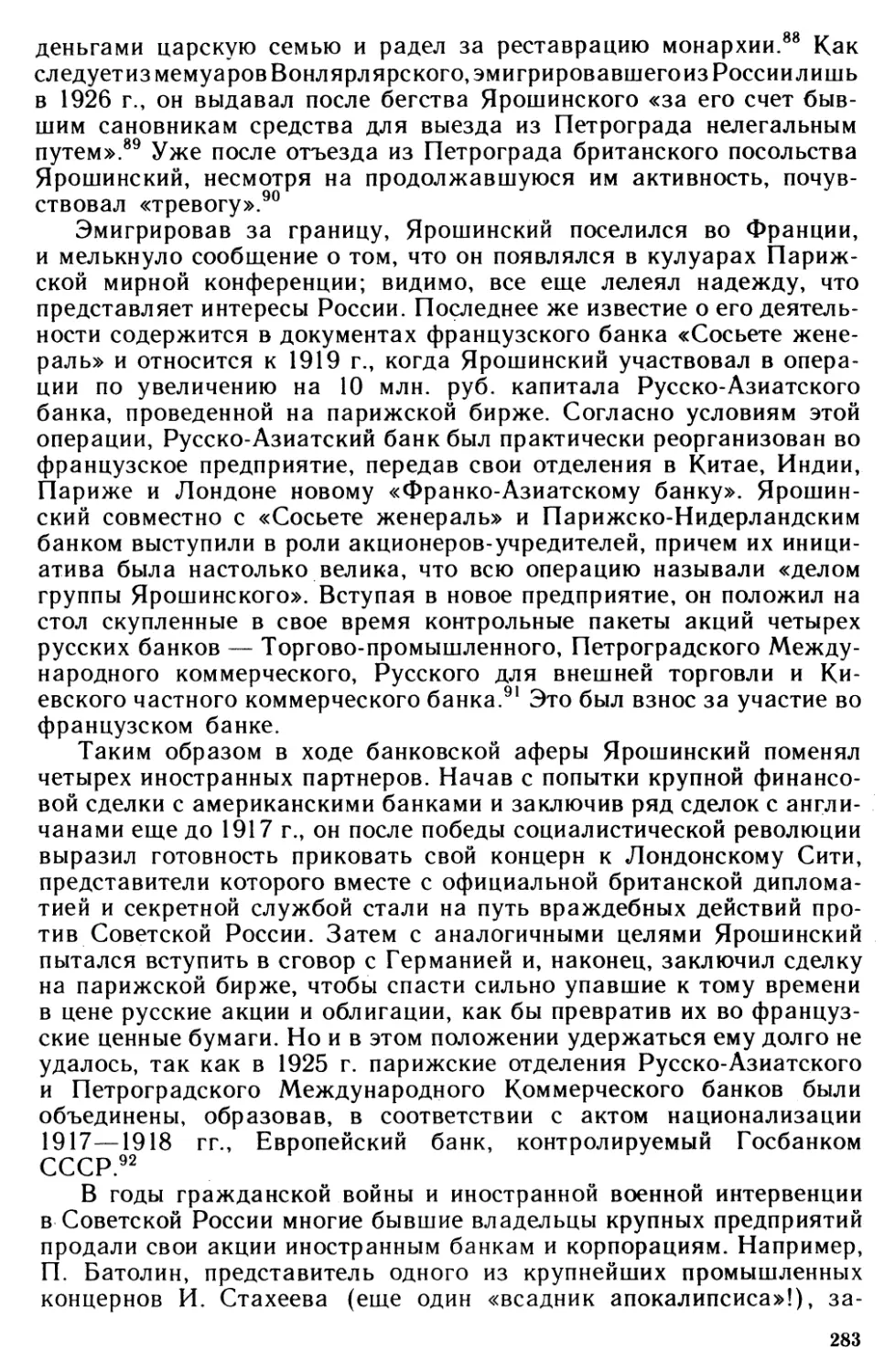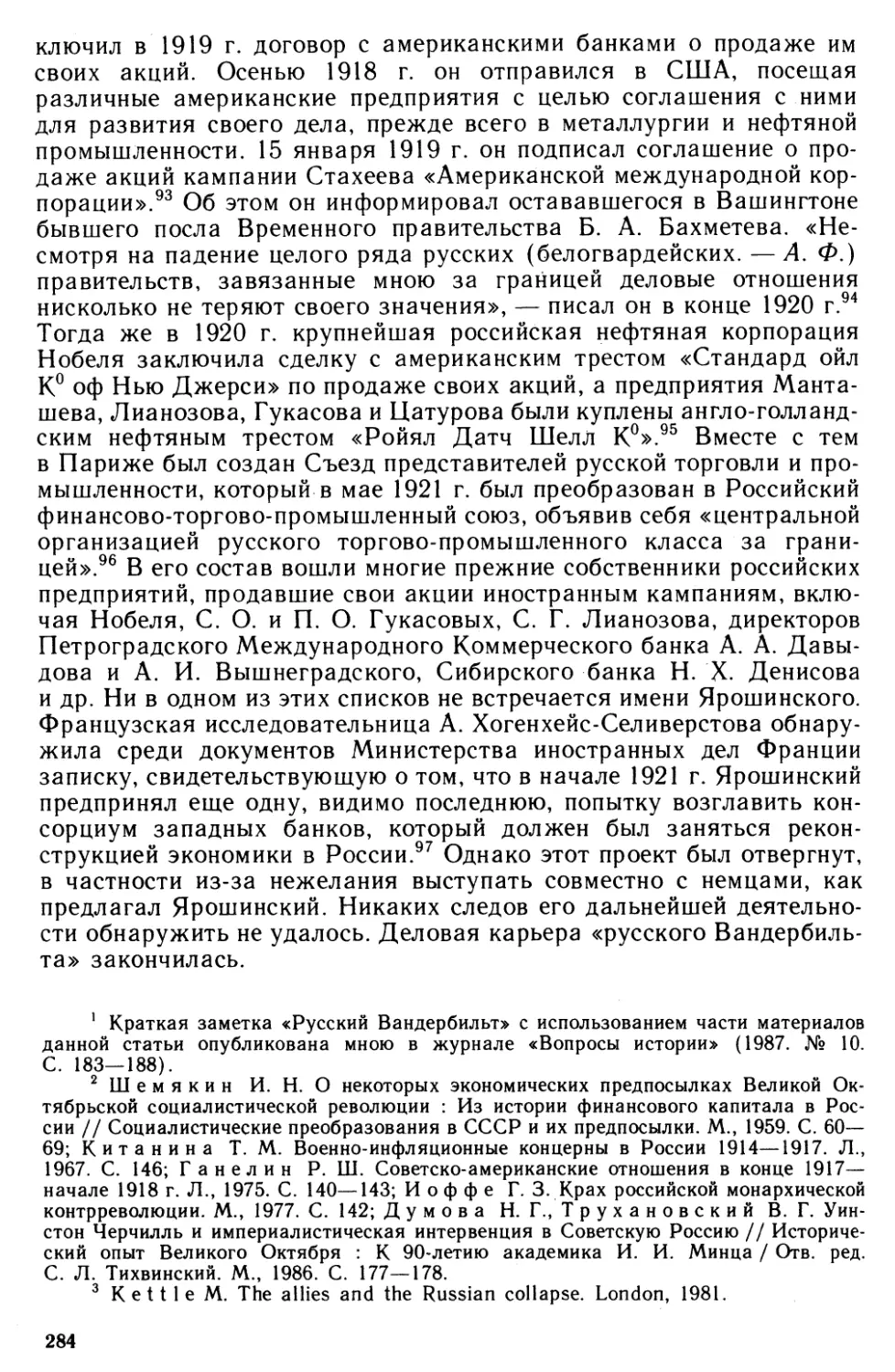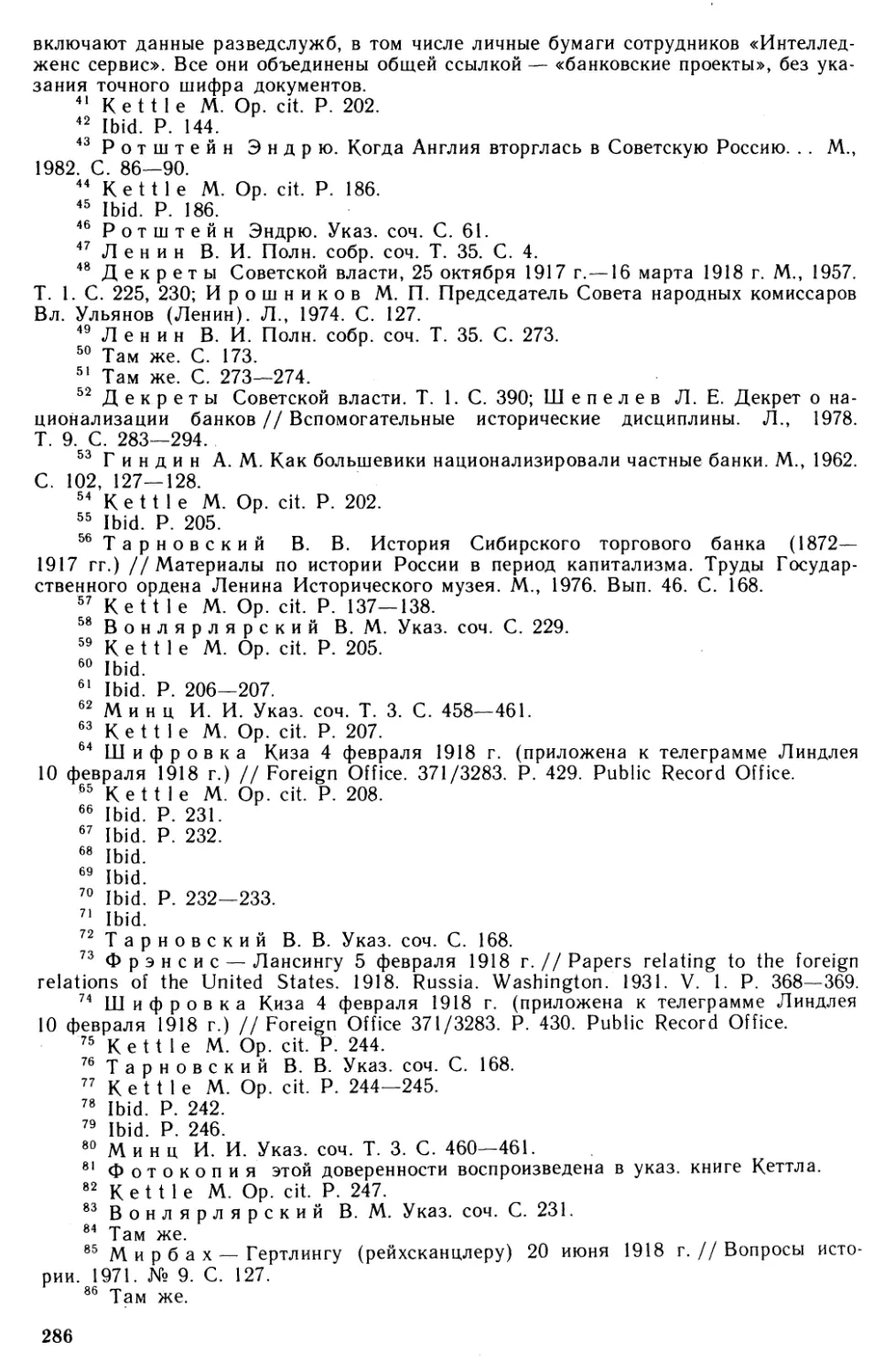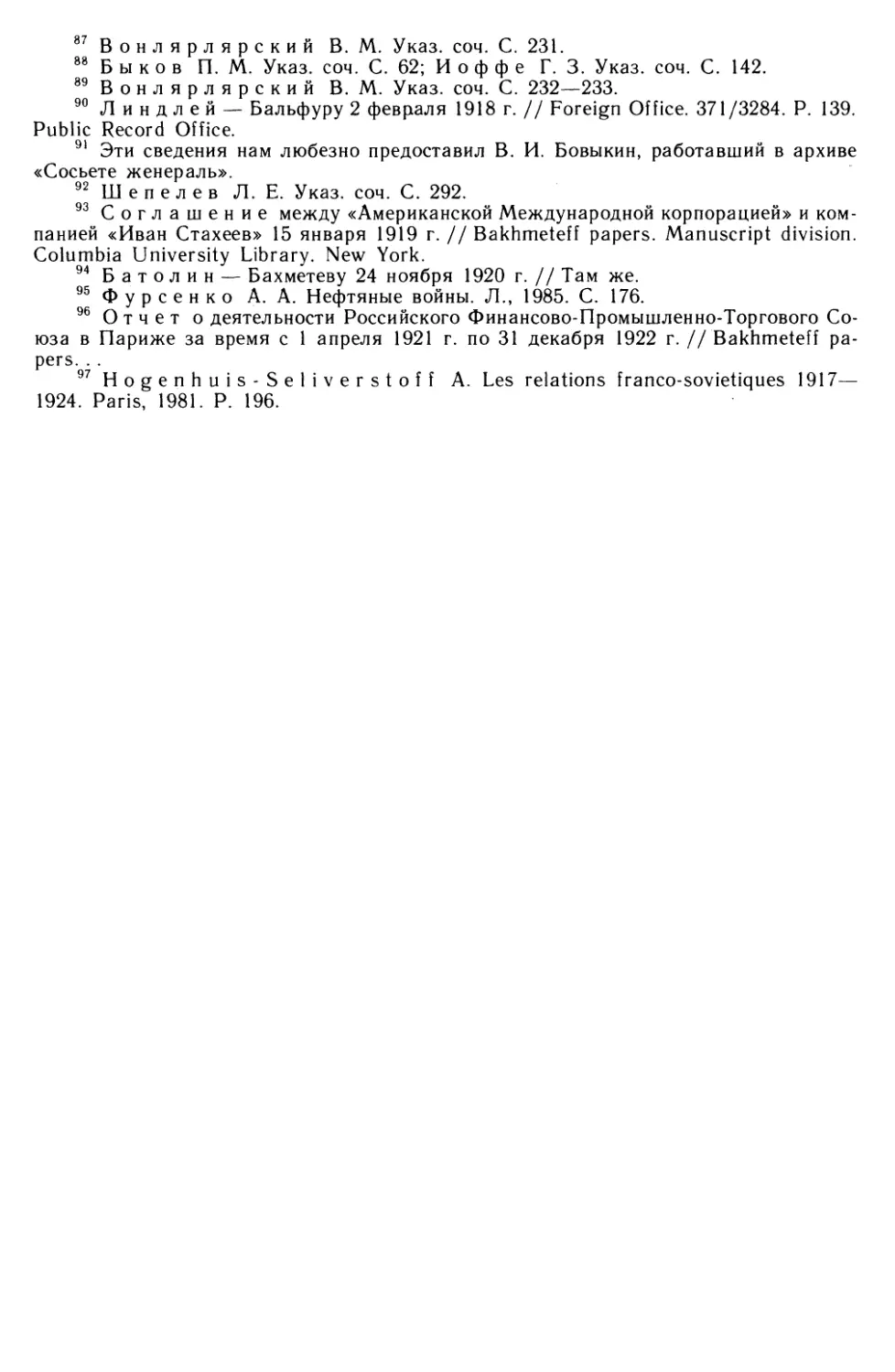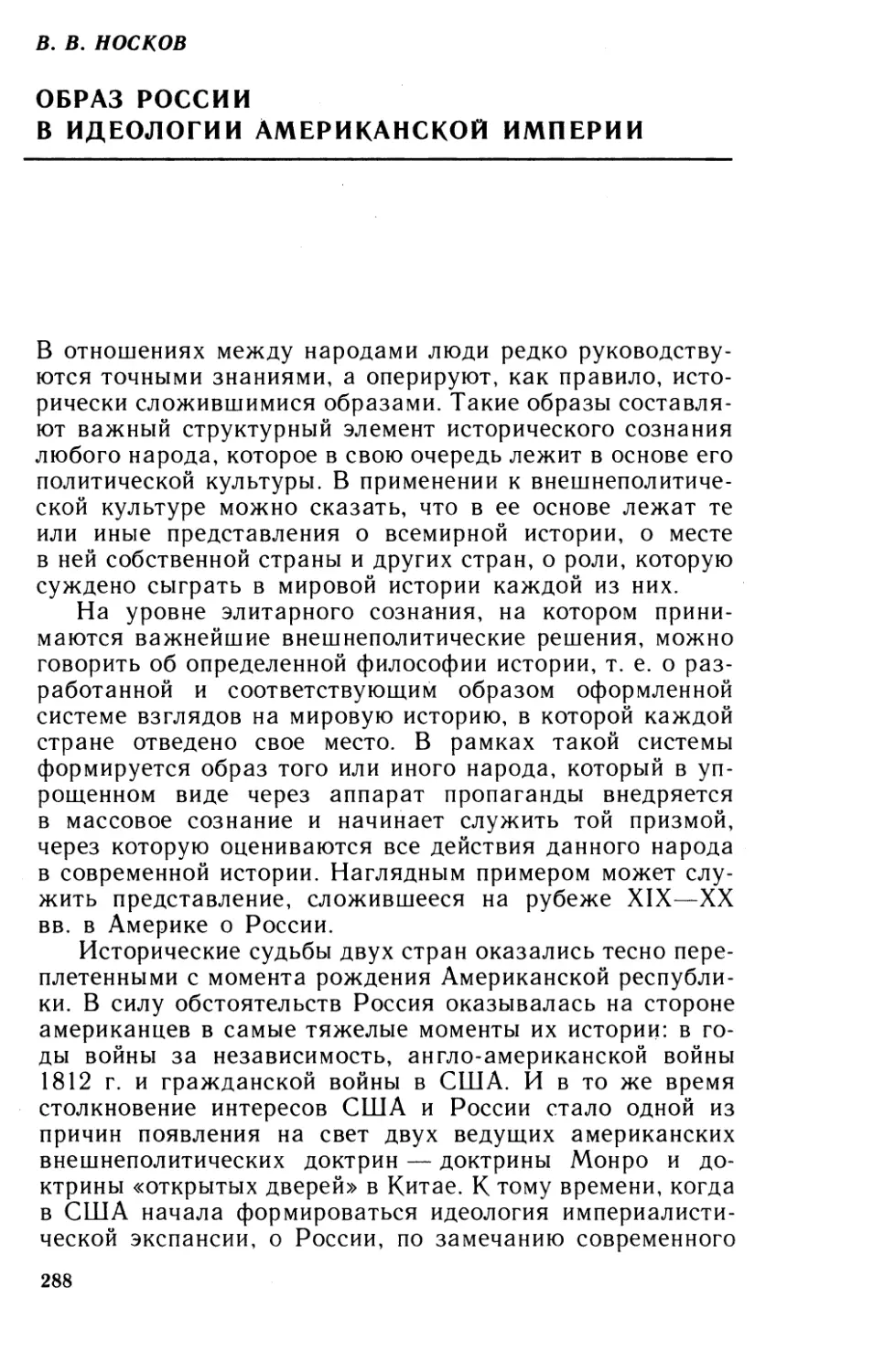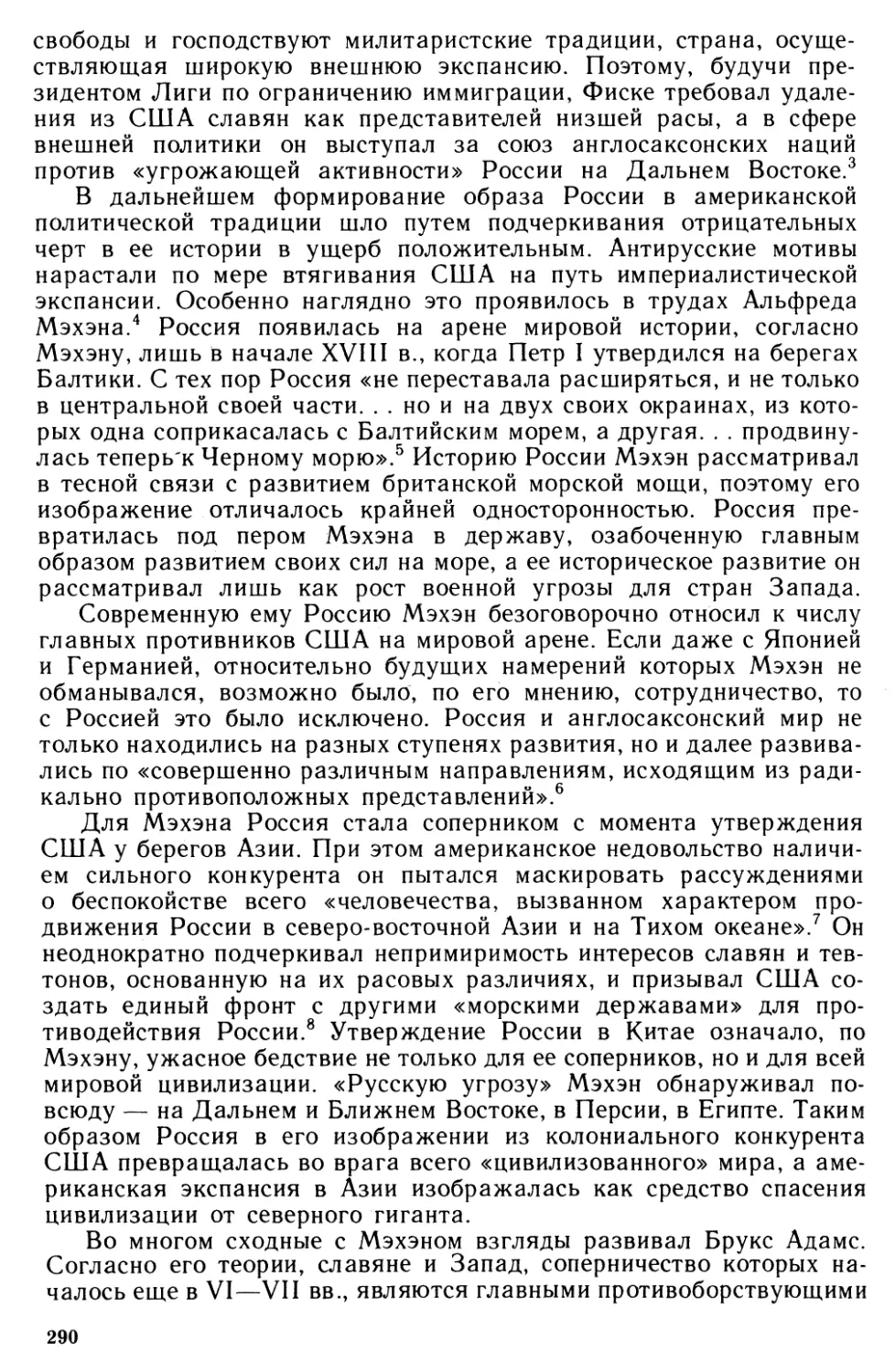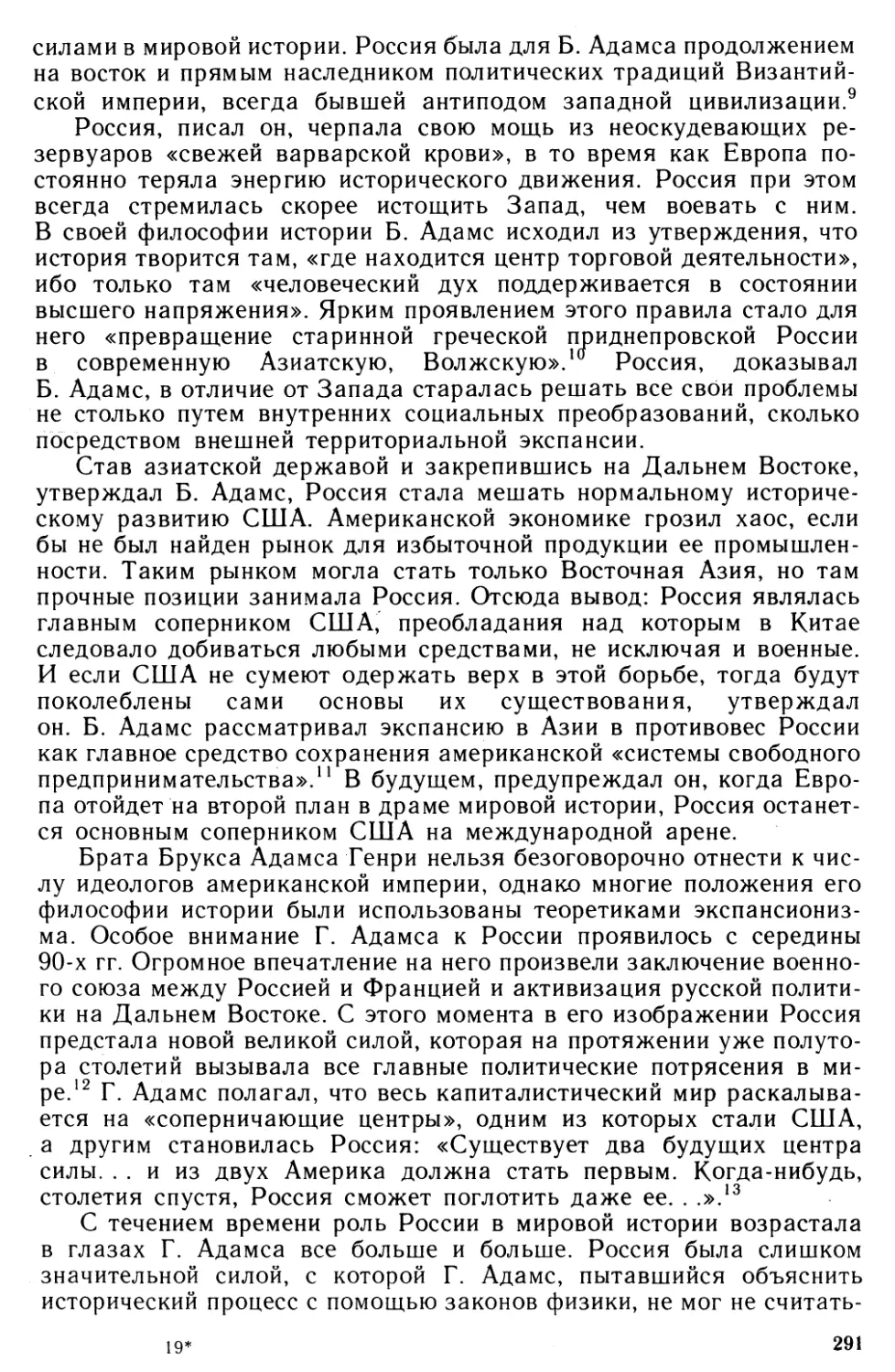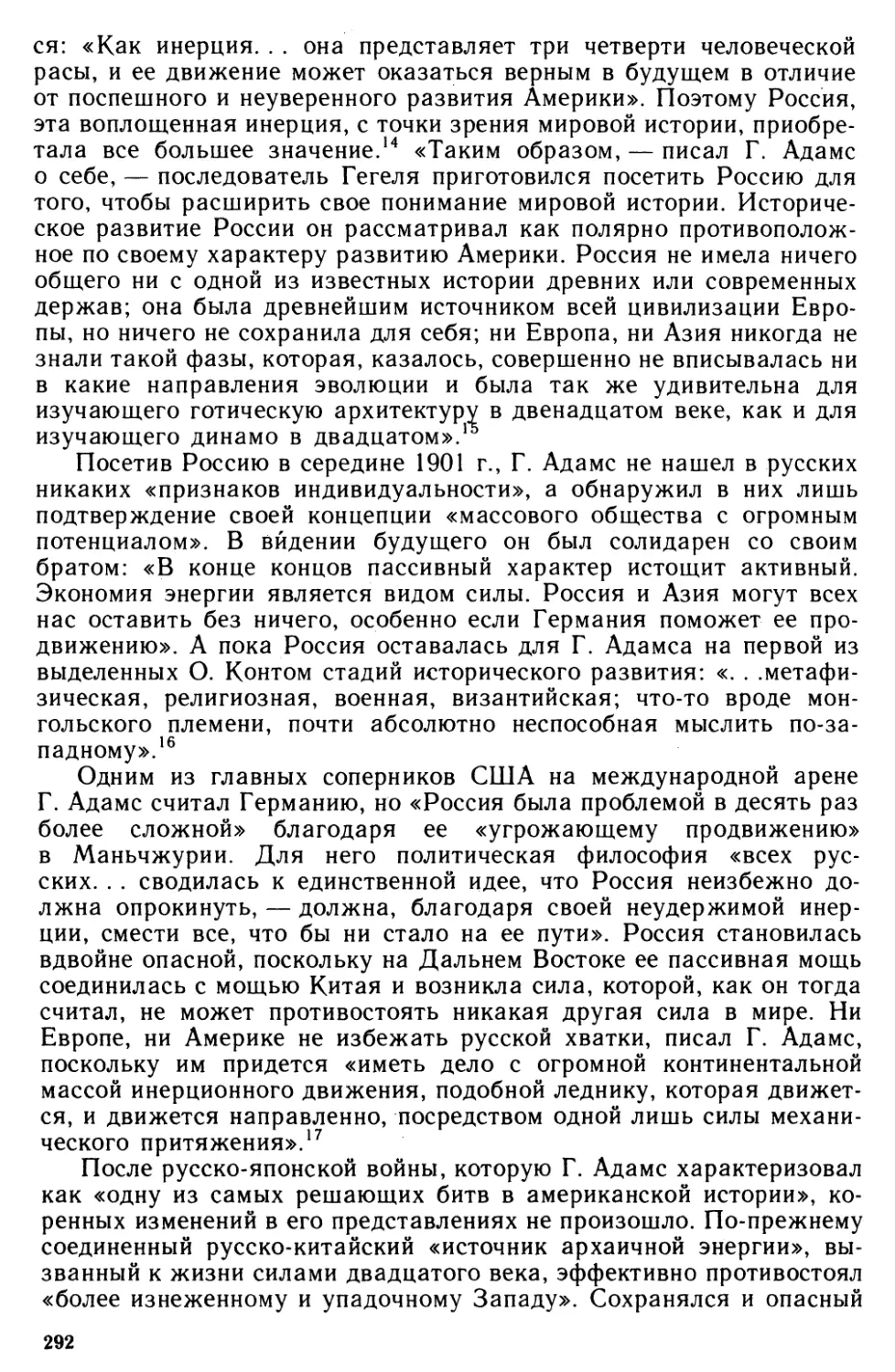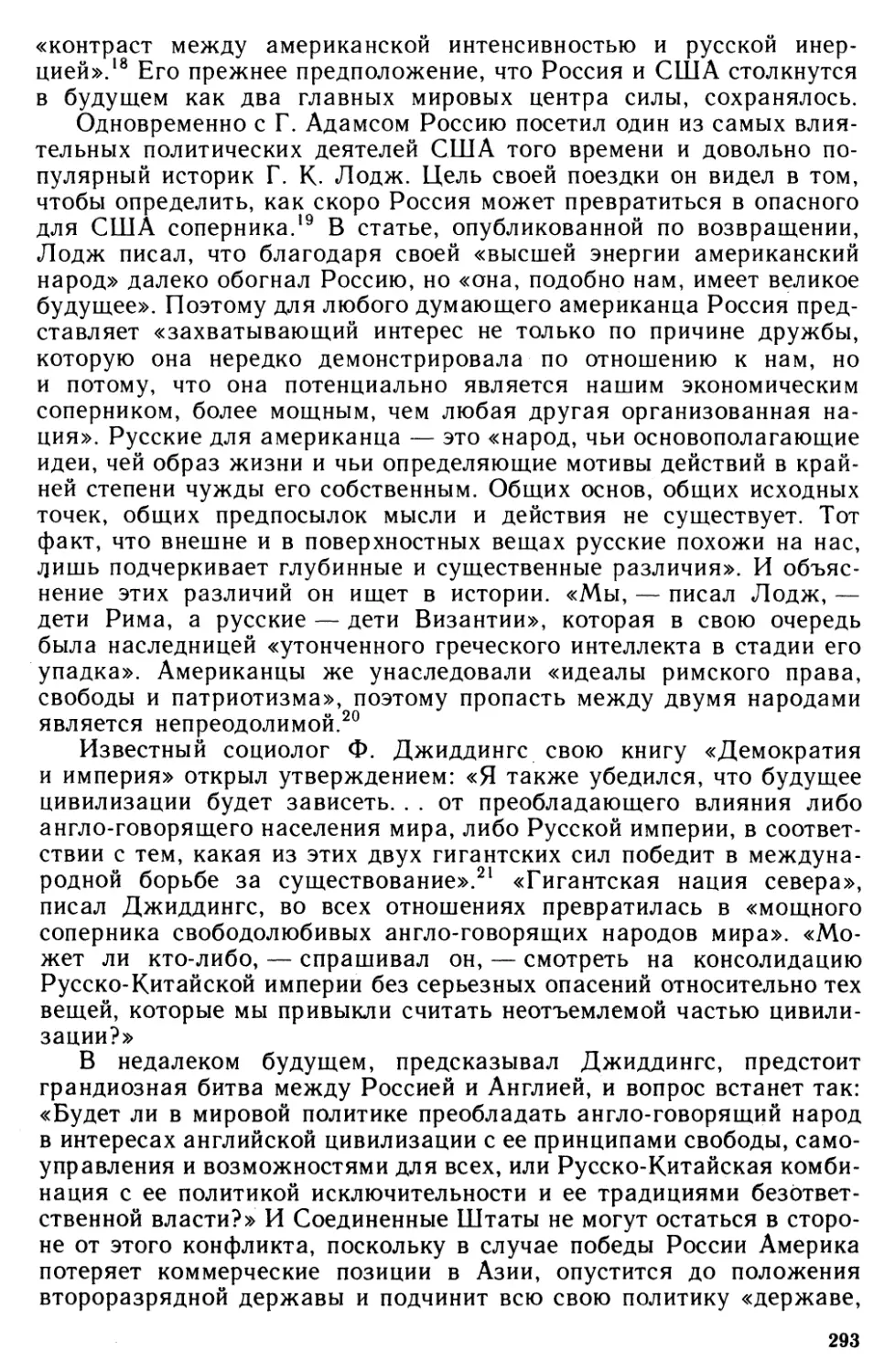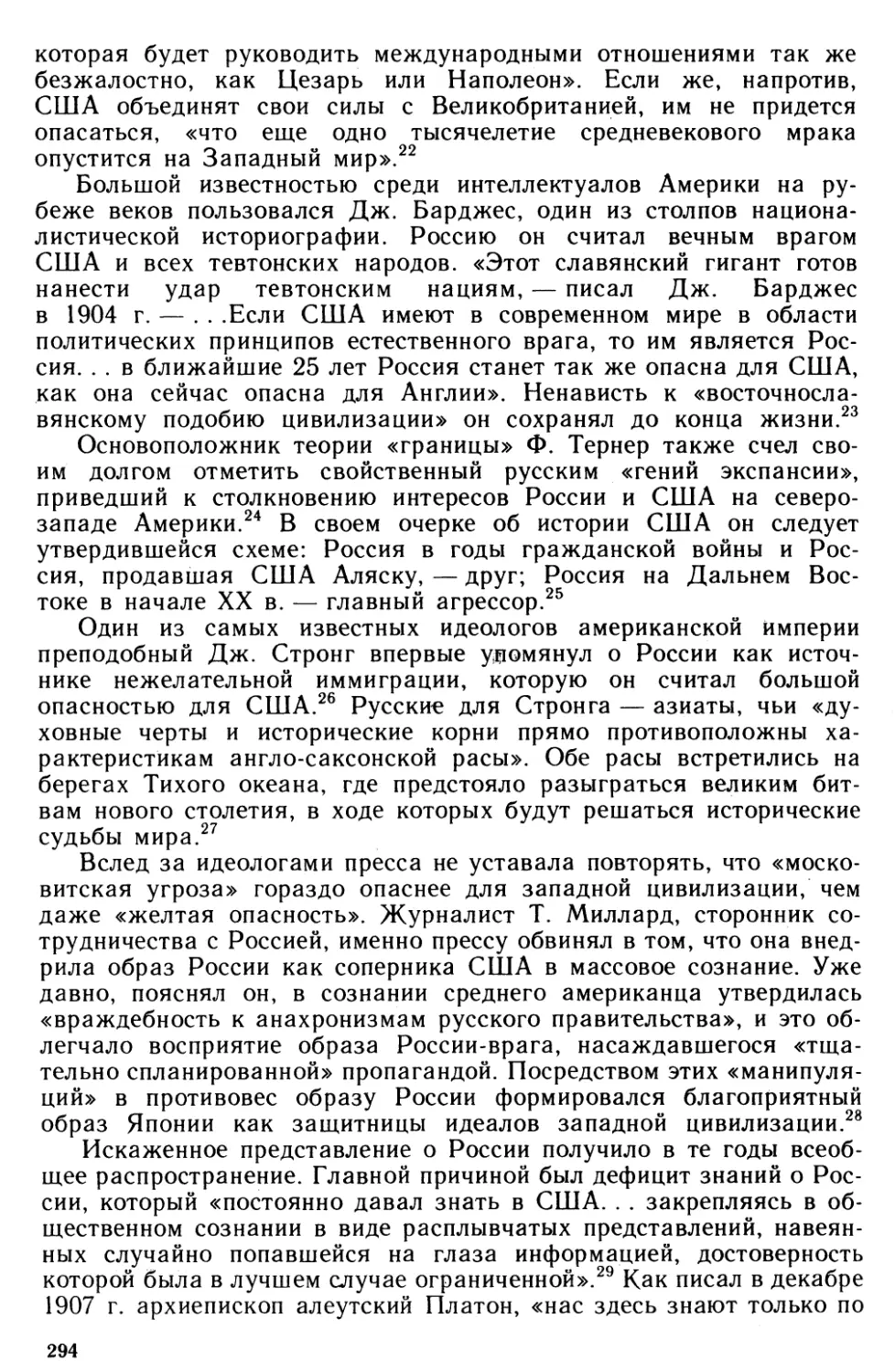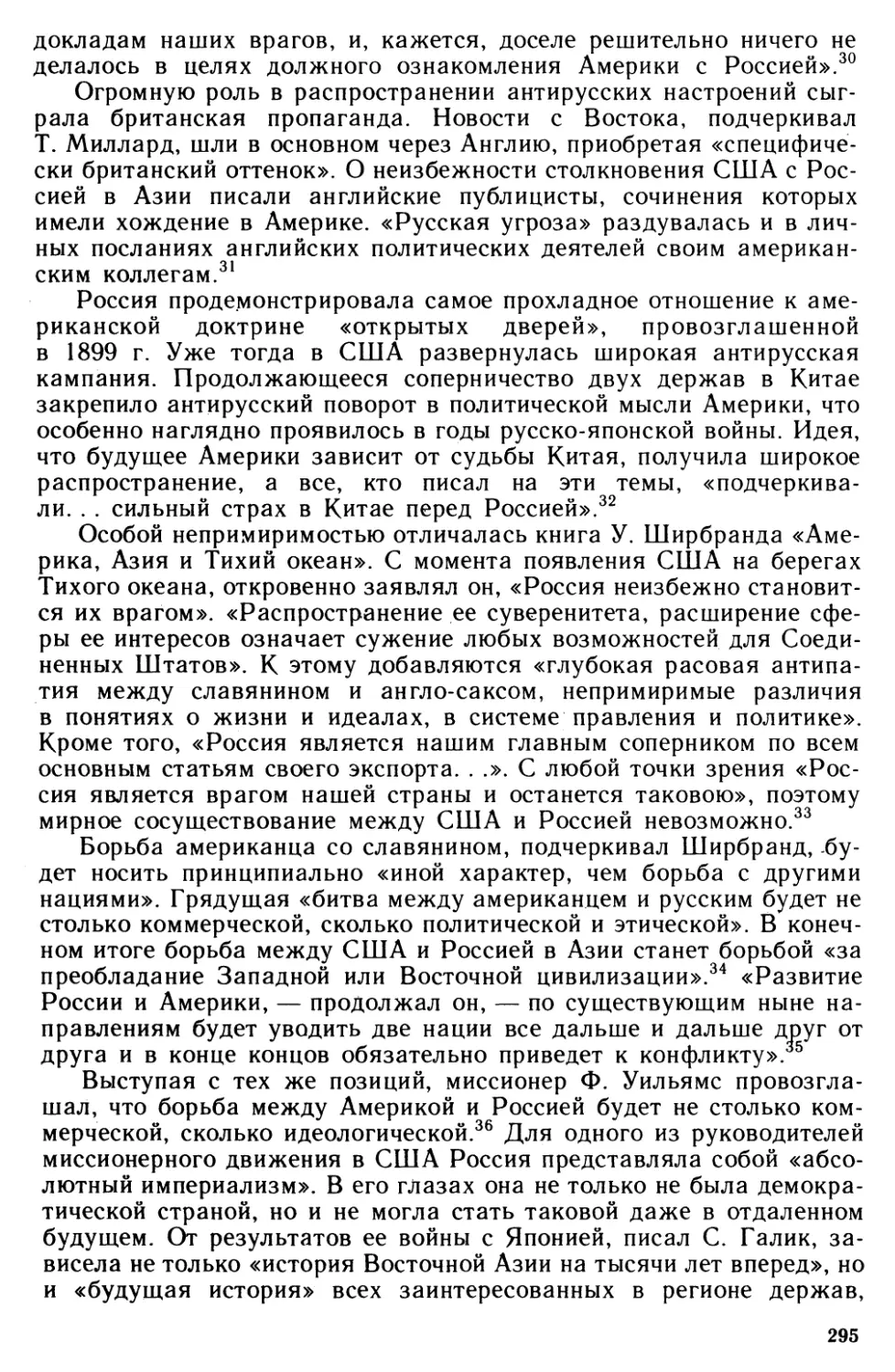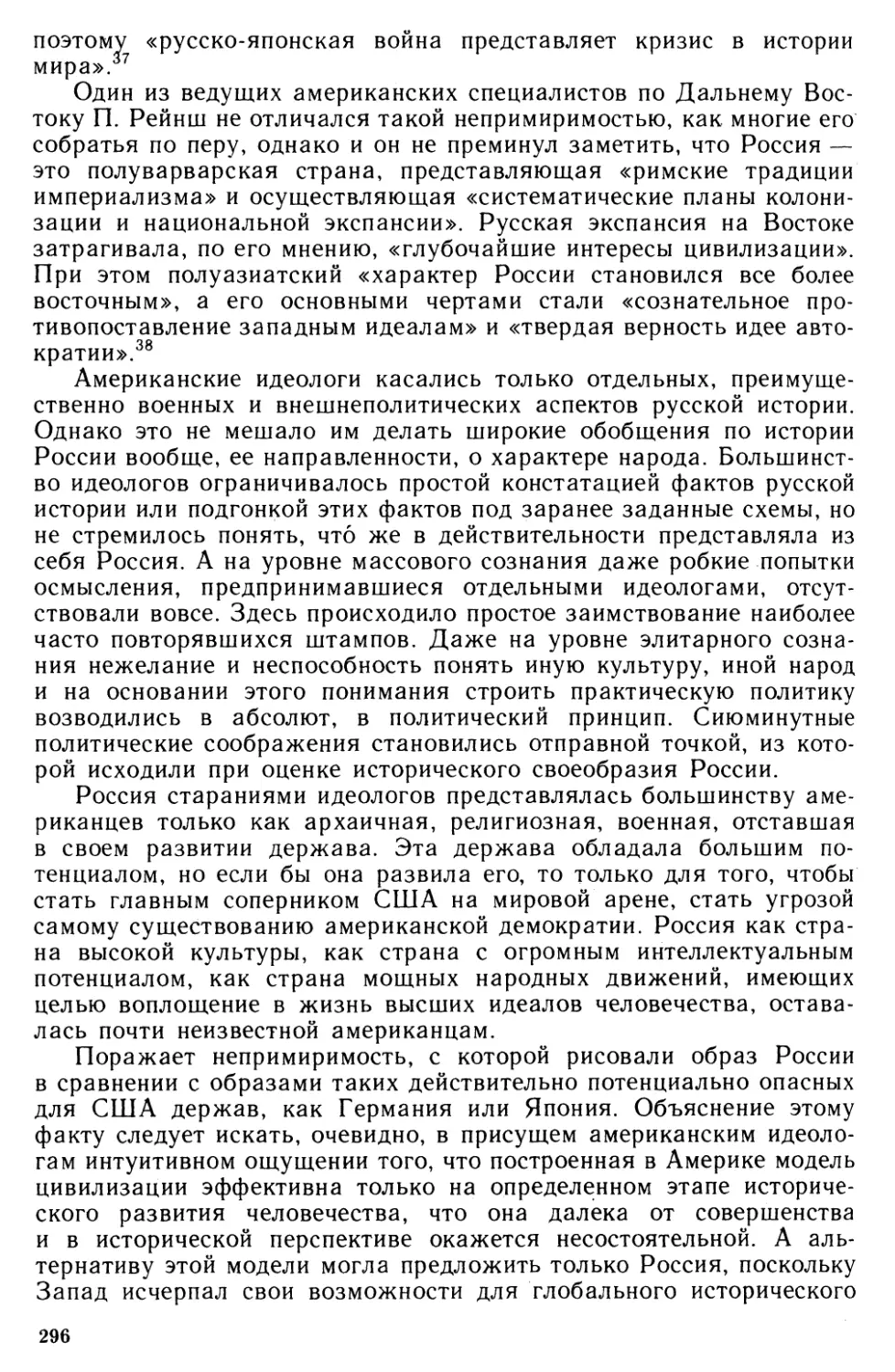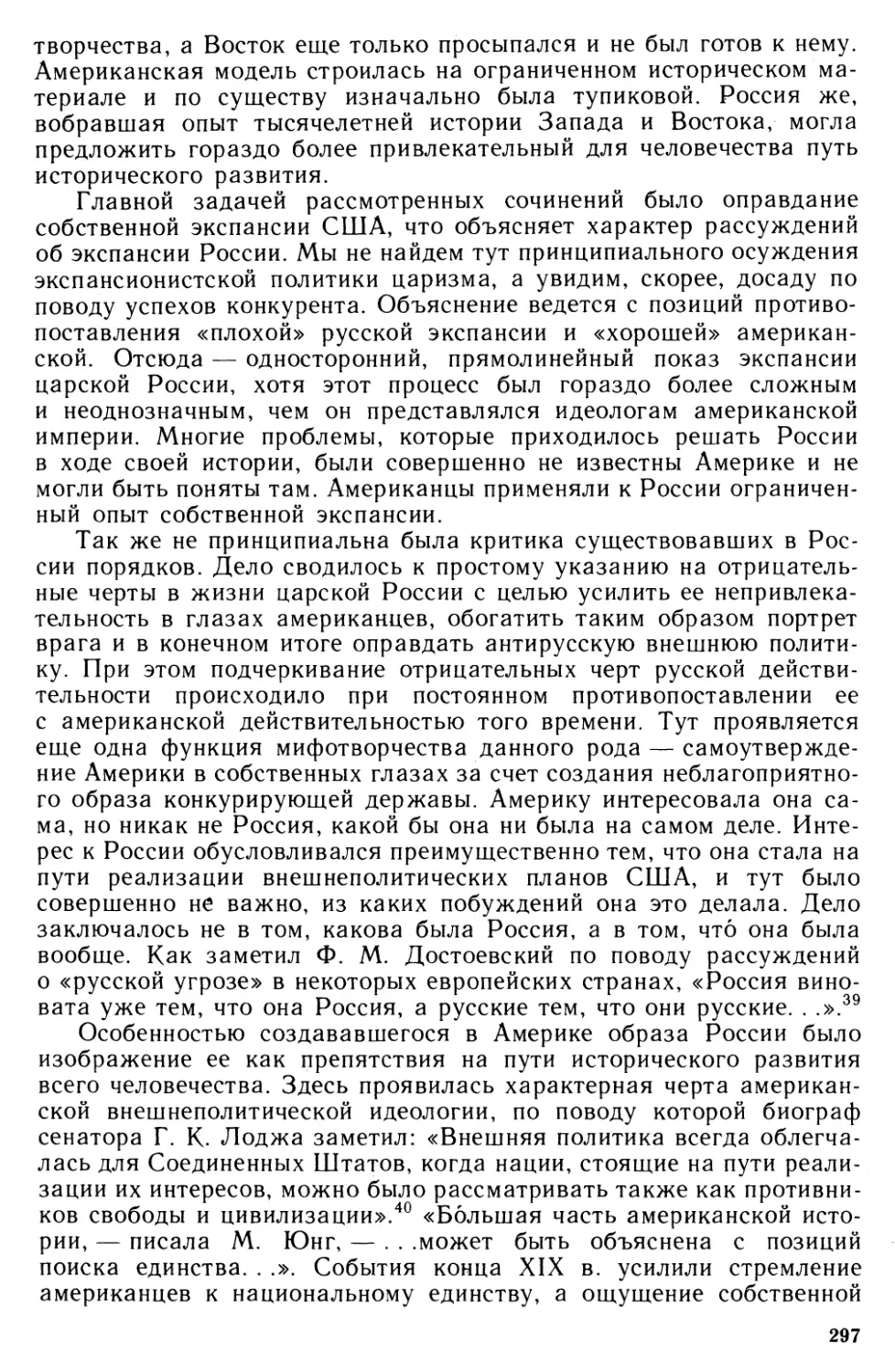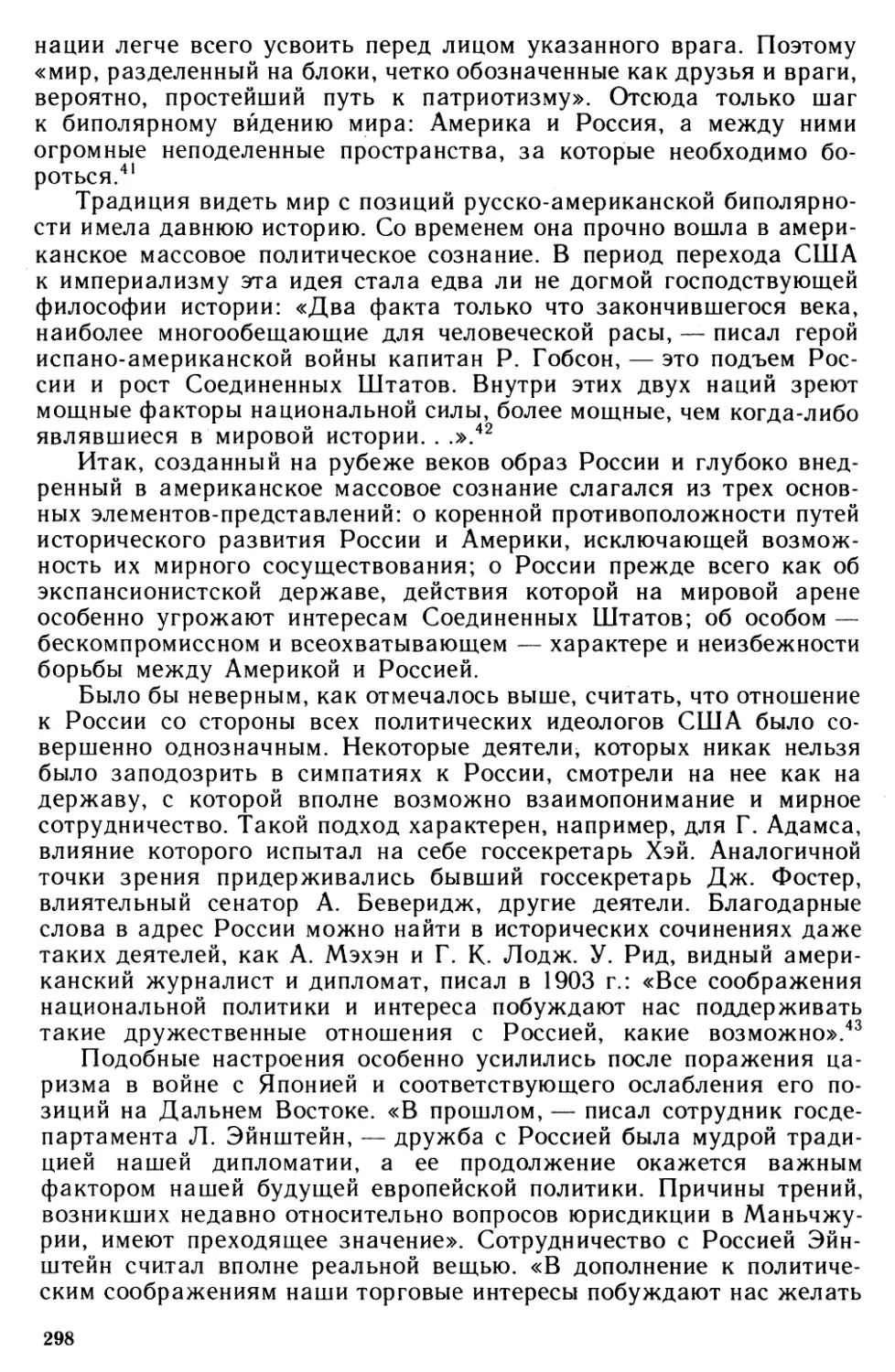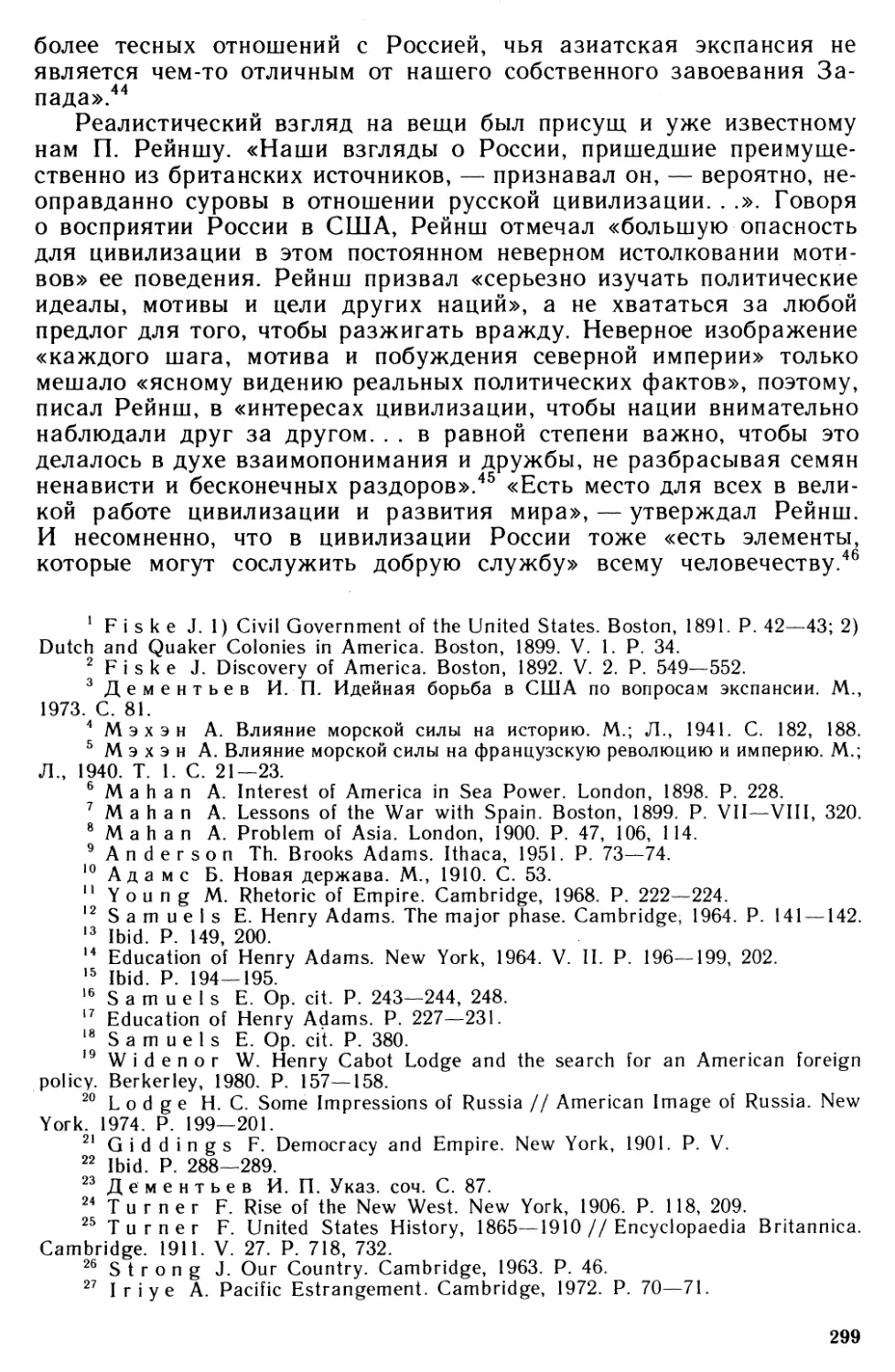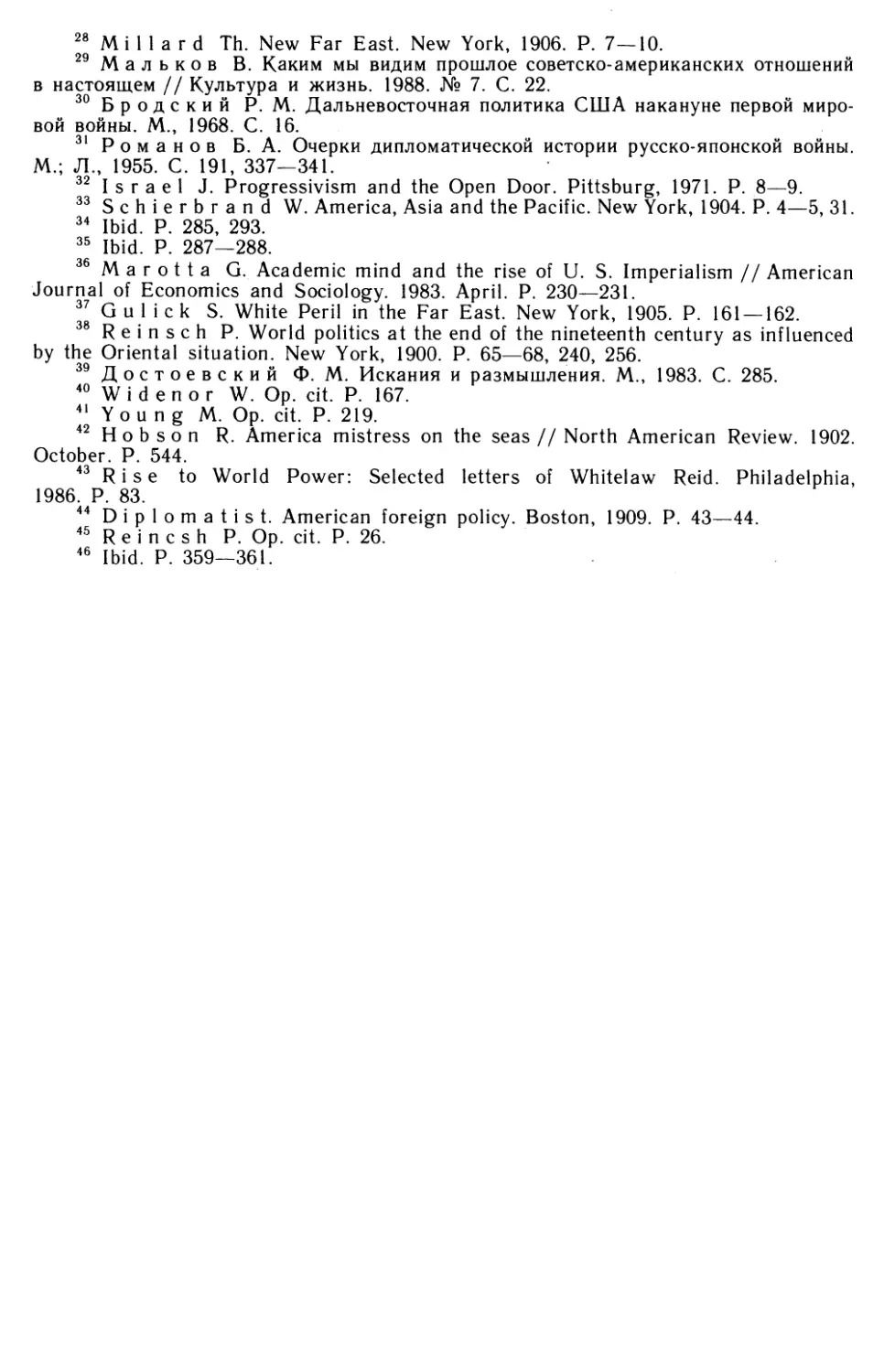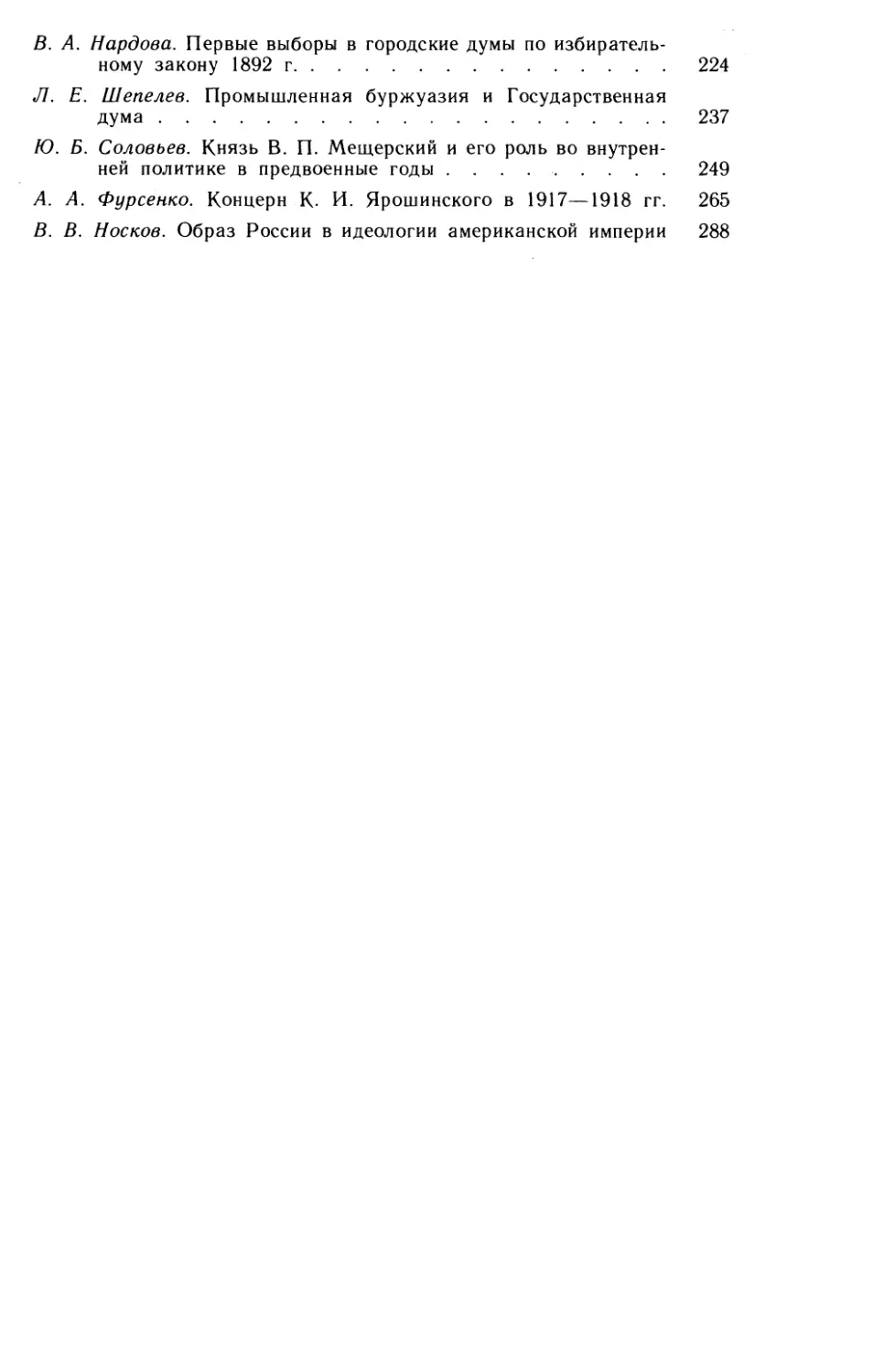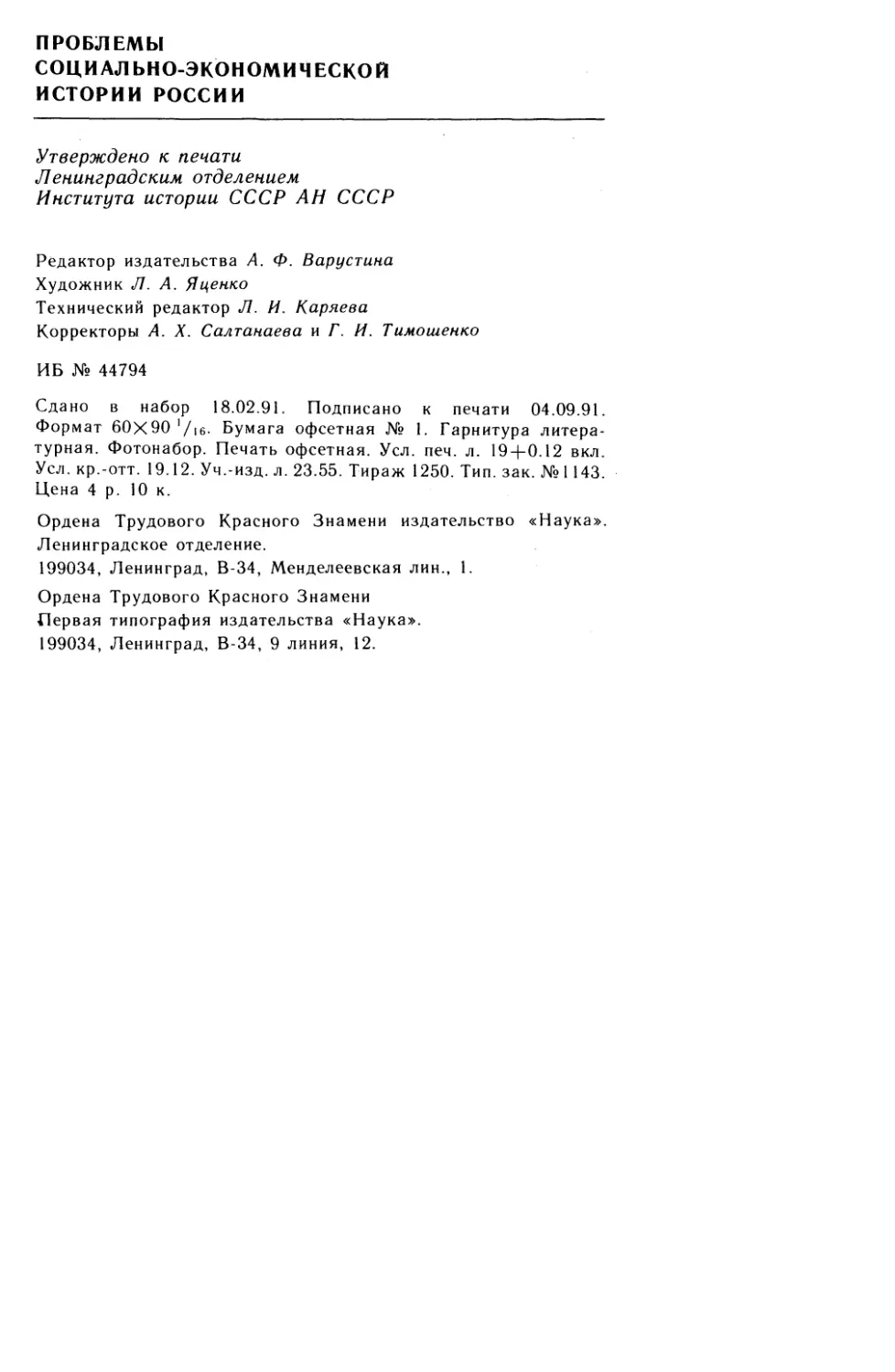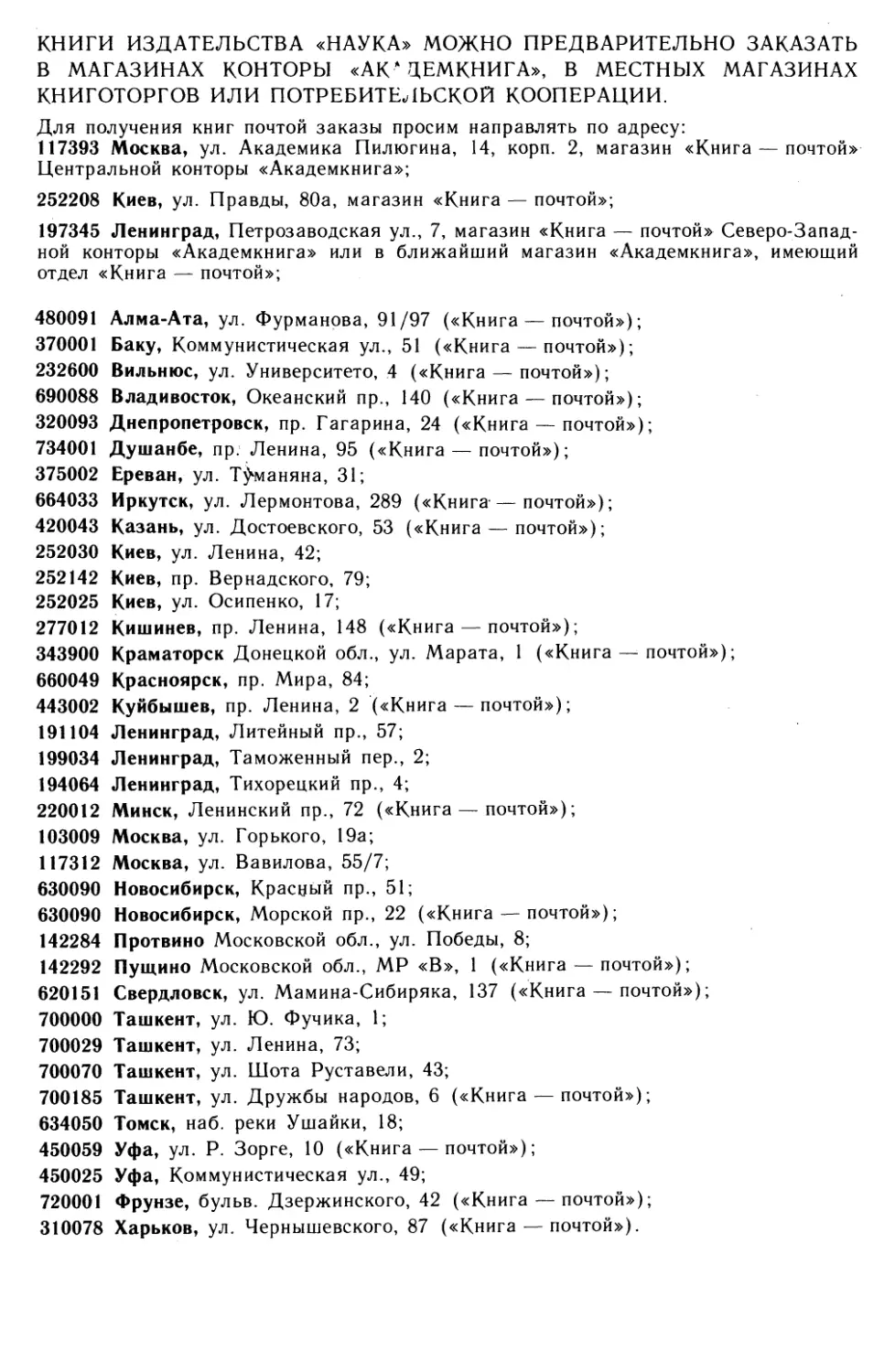Автор: Ананьич Б.В. Ганелин Р.Ш. Фурсенко А.А. Панеях В.М.
Теги: экономика история россии
ISBN: 5-02-027317-1
Год: 1991
Текст
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
РОССИИ _
Б. А. Романов (1889—1957) Фото А. А. Фурсенко
1 /в зак. 1143
АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ ИСТОРИИ СССР ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ РОССИИ
К 100-летию со дня рождения Бориса Александровича РОМАНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «НАУКА»
С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 199 1
Крестьянское правотворчество второй половины XVI в. и первые выборы в городские думы по избирательному закону 1892 г., соха как окладная единица XIV—первой половины XVI в. и концерн К. И. Ярошинского в 1917—1918 гг. — в столь широком временном и тематическом разнообразии авторы сборника, посвященного памяти выдающегося историка Б. А. Романова, рассматривают многие традиционные и совершенно новые, еще не изученные проблемы социально-экономической истории России с XIV по XX в.
Предназначена историкам, экономистам, социологам и всем интересующимся отечественной историей и экономикой.
Редколлегия:
А. А. Фурсенко (отв. редактор), Б. В. Ананьин, Р. Ш. Ганелин, В. М. Панеях
Рецензенты:
А. И. Цамутали и М. Ф. Флоринский
Редактор издательства
А. Ф. Варустина
п
0503020000-639
042(02)-91
81-91, II полугодие
© Издательство «Наука», 1991 г.
ISBN 5-02-027317-1
ПРЕДИСЛОВИЕ
Важным аспектом изучения экономической истории в современных условиях стало исследование экономических вопросов в совокупности и неразрывной связи с социальными и политическими проблемами. Это относится не только к событиям далекого и сравнительно недавнего прошлого, но и к так называемой текущей истории. Подобный подход ныне находит широкое признание в нашей историографии, хотя — и это следует подчеркнуть особо — он был предпринят еще основоположниками советской историко-экономической школы, к каковым принадлежит и выдающийся исследователь профессор Борис Александрович Романов, столетний юбилей которого отмечался в 1989 г.
Публикуемый сборник тематически и хронологически охватывает широкий круг проблем социально-экономической истории России, которых в той или иной форме касался в своих трудах Б. А. Романов. Многие участники сборника учились у Б. А. Романова и вместе с ним работали в Ленинградском отделении Института истории АН СССР, а те, кому не довелось знать лично Б. А. Романова, также в большинстве своем продолжают изучение его наследия, являясь учениками его учеников. Следовательно, этот сборник, посвященный памяти Б. А. Романова, знакомит читателя не только с творчеством незаслуженно обойденного вниманием большого ученого, но и с новыми работами ленинградских историков, — статьями, основанными на ранее неизвестных материалах, и таким образом позволяет раздвинуть рамки наших прежних представлений по отдельным проблемам социально-экономической истории России.
Академик, А. А. Фурсенко
А. А. ФУРСЕНКО
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ
Борис Александрович Романов принадлежит к числу выдающихся отечественных исследователей истории нашей страны 1 и тех, кто в зените своего научного творчества был репрессирован в годы сталинщины и надолго лишен возможности заниматься научной работой.
Родился Б. А. Романов 29 января (12 февраля) 1889 г. в Петербурге, в семье интеллигентов. Отец его Александр Дементьевич, инженер по образованию, был профессором Института путей сообщения. Обладая феноменальными лингвистическими способностями, он изучил не только западноевропейские языки, а также восточные, включая китайский. Мать Б. А. Романова — Мария Васильевна, урожденная Шатова, служила школьным врачом. В характеристике, выданной Б. А. Романову Ленинградским отделением Института истории АН СССР в апреле 1956 г. в связи с его заявлением Генеральному прокурору СССР с просьбой о реабилитации, акцентировалось внимание на его «крестьянском происхождении», поскольку действительно его бабушка была крестьянкой. Об этом же писал 10 ноября 1954 г. сам Романов в письме И. У. Будовницу, ссылаясь на «дурную „наследственность"». «Моя бабка по отцу. . . была крепостная — дворовая из деревни Ожгибовки. . . Нижегородской губ., и ее драли и тогда, когда она подавала пухлые пончики, и тогда, когда она подавала после того непухлые. Барыня с капризным вкусом на „пухлое" и „непухлое" знакома моему бытовому воображению как историку нашей матушки-Рос-сии. Проклятие этого рабства я несу на себе всю мою сознательную жизнь. Так что в данном случае скрестилось общеконъюнктурное с чисто личным».
Так рассуждал Б. А. Романов на склоне лет, а в пору молодости он жил иными настроениями. Окончив в 1906 г. с золотой медалью классическую гимназию, он отправился в путешествие с отцом по европейским стра-
5
нам, посетив Германию, Бельгию, Голландию, Англию, Испанию и Францию. Это была единственная в жизни Б. А. Романова поездка за границу. В том же году он поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, переживавшего в те годы пору своего наивысшего подъема. По предмету своей специальности — русской истории — Б. А. Романов учился в семинарии таких выдающихся ученых, как А. Е. Пресняков, С. Ф. Платонов и А. С. Лаппо-Данилевский, по средневековой истории — у И. М. Гревса, по истории древнего Рима — у Э. Д. Гримма.
Научную работу Б. А. начал еще будучи студентом, опубликовав свой первый печатный труд «Смердий конь и смерд» в 1908 г., вышедший из семинария А. Е. Преснякова, которого Б. А. всю жизнь вспоминал как своего учителя. С ним он был связан дружескими узами вплоть до кончины А. Е. Преснякова в 1929 г.
В 1912 г. Б. А. сдал государственные экзамены и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. По свидетельству профессора С. В. Рождественского, Б. А. был «одним из самых трудолюбивых и способных молодых людей, оставленных на кафедре русской истории». Не получив, однако, стипендии, он вынужден был зарабатывать преподаванием в гимназиях и школе, а также написанием статей для нового словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона и «Русской энциклопедии».
В университете Б. А. прошел подготовку как специалист по древнерусской истории, но в дальнейшем его научная судьба привела также к занятиям по истории России периода империализма. Произошло это после 1918 г., когда в результате образования Главного архивного управления, во главе которого в Петрограде стали С. Ф. Платонов и А. Е. Пресняков, Б. А. перешел на работу сначала в качестве старшего архивиста, а затем заведующего экономической секцией. Под его началом были собраны фонды министерств финансов, торговли и промышленности, банков и акционерных обществ. Работа в тогдашнем Главархиве определила второе важное направление в исследованиях Б. А., толчком которому послужило издание мемуаров бывшего министра финансов С. Ю. Витте в 1922 г., комментирование которых вылилось в несколько статей о дальневосточной политике царизма. В 1927 г. Институт восточных языков предложил издать эти статьи в виде отдельной монографии. В общей сложности их объем составлял около 10 а. л., и Б. А. тут же взялся за подготовку книги. Но в ходе работы он значительно расширил первоначальный замысел, в результате чего в 1928 г. вышла в свет книга «Россия в Маньчжурии» объемом свыше 40 а. л. Написание этого труда, вошедшего в золотой фонд советской исторической науки, потребовало от Б. А. колоссального напряжения сил. Продолжая работу в Центрархиве, а также в университете, где он трудился по совместительству в 1919—1929 гг. сначала в должности ассистента, а затем преподавателя и члена Исторического института при университете, Б. А. писал «Россию в Маньчжурии» ночами. Это был самый бурный, самый плодотворный период его научной деятельности, который внезапно оборвался арестом в начале 1930 г.
6
В документах архива Б. А. это событие освещено довольно скупо— несколькими строками автобиографии от июля 1953 г. и заявлением о реабилитации 29 апреля 1956 г., которая последовала 26 апреля 1957 г. Попытка ознакомиться с материалами уголовного дела Б. А. успехом не увенчалась, так как на посланный в УКГБ по Ленинградской области запрос последовал ответ, что дело не сохранилось. Ученикам своим Б. А. рассказывал некоторые подробности этого периода своей жизни. В документах же об этом говорится очень коротко. «13 января 1930 г., — писал Борис Александрович в автобиографии, — моя научная работа была прервана арестом и предъявлением мне обвинения в принадлежности к тайной антисоветской организации, возглавлявшейся, как мне было сказано, Платоновым и Тарле» (так называемое «академическое дело»). Судебный процесс по этому «делу» не состоялся. Предварительное тюремное заключение продолжалось 13 месяцев, а затем постановлением «тройки» ПП ОГПУ ЛВО от 10 февраля 1931 г. Б. А. Романову был вынесен приговр по статье 58 п. 11 Уголовного кодекса РСФСР о заключении в концлагерь на 5 лет с зачетом предварительного заключения. В ходе следствия Б. А. было предъявлено два обвинения. Первое — что в ходе работы над книгой «Россия в Маньчжурии» он якобы получал какие-то деньги от С. Ф. Платонова, что затем отпало ввиду полной недоказуемости. К этому следует добавить, что, уже находясь в заключении, Б. А. получил неожиданную поддержку в виде премии за «Россию в Маньчжурии», присужденной ему Центральной комиссией по улучшению быта ученых, которая перевела ее в адрес его жены. Второе обвинение гласило, что Б. А. якобы составлял какие-то «сводки о положении русской деревни» для С. Ф. Платонова. «На что мне оставалось только ответить, — писал Б. А. в 1956 г., — что за 1917—1930 гг. я ни разу в русскую деревню и не заглянул, даже в порядке поездок туда за продовольствием . . . Оба эти обвинения были настолько вызывающе нелепы, что мне сразу же стало ясно, что я взят не для получения от меня каких-либо серьезных показаний по какому-то государственной важности „делу”, а что кем-то и где-то принято решение попросту с исторического фронта меня устранить, поскольку мне удалось появиться на нем с капитальным исследованием, получившим хорошие отзывы в прессе. . . Вместе с тем мне было не менее ясно, что в условиях заключения в ДПЗ у меня нет никаких легальных средств (в виде обращения к прокурору или защитнику) противостоять этому уже принятому решению».
Просидев более года в тюрьме на Шпалерной, Б. А. был отправлен в северные лагеря, где оказался в системе строительства Беломорско-Балтийского канала им. Сталина. «Там я проработал около двух с половиной лет, — писал Б. А., — в качестве преподавателя детей вольнонаемных служащих (был «продан» их месткому). По „зачету рабочих дней“ срок заключения моего был сокращен на полтора года, и я был освобожден в августе 1933 г. без права возвращения в Ленинград и проживания в нем (что было равносильно практически отлучению от возобновления научной работы и обречению на нищенское, никому не нужное существование в 101-кило-
7
метровой зоне)». При аресте у Б. А. были изъяты все собранные им за годы работы научные материалы. Они ему никогда не были возвращены, и потому, получая время от времени договорную работу от различных академических учреждений, Б. А. приходилось «начинать в трудных условиях».
В 1937 г. Б. А. обратился к АН СССР с просьбой присудить ему степень кандидата наук по совокупности работ без защиты диссертации. Это заявление было передано в Ленинградский университет, и в 1938 г. степень была присуждена. А в феврале 1941 г. Ученый совет Института истории в Москве принял к защите докторскую диссертацию Б. А. «Очерки дипломатической истории русско-японской войны», которая была утверждена ВАК 21 июня 1941 г. В июле 1941 г. Б. А., уже ставший доктором, был зачислен в штат Института истории материальной культуры АН СССР, а в 1944 г. перешел в Ленинградское отделение Института истории. Зачислением на работу в штат АН СССР Б. А., казалось бы, избавился от преследовавшей его «изнурительной угрозы высылания ... из Ленинграда неведомо куда».
После начала блокады он в числе других докторов наук был эвакуирован в Ташкент, где сосредоточились гуманитарные институты АН СССР. Этот период его жизни выразительно описан им в письмах к Александру Игнатьевичу Андрееву, которого Б. А. знал с университетских времен. * Эвакуированный из Ленинграда Б. А. обращался к Андрееву с просьбами разузнать о судьбе оставшихся в осажденном городе родных и коллег, писал о своем житье-бытье, сетовал на одиночество. «В институте истории я чужой», — жаловался Б. А. Он ведь числился в Ленинградском отделении Института истории материальной культуры. «В моем институте у меня работа ленинградская (История Русской культуры), но она, внешне неоспариваемая, только терпится. . .». К этим горьким словам Б. А. добавлял, что «только чурбан не почувствует, что ты здесь не ко двору». «Мне неприятна эта скрытая двусмысленность положения. Но ее приходится терпеть и быть все время настороже и с хлыстом в руках. Был по обязанности на двух заседаниях — довольно элементарный археологический лепет, неспособный заинтересовать даже в элементарно-методологическом отношении. Я откровенно не даю себе труда делать веселую мину при этой скучной игре». Каждый, кто знал Б. А., может легко представить, что означали эти слова. Брошенная им мимоходом ремарка либо вопрос могли поставить втупик незадачливого докладчика или диссертанта. Б. А. не считал возможным делать какие-либо скидки на тяготы военного времени и жаловался на то, что «люди живут здесь старым паром». Особое возмущение вызывала у него массовая погоня за научными степенями. «Идет эпидемическая защита диссертаций с очень узким кругом монополистов-оппонентов (по 200 р. за выход),— писал он, — некоторые за провод дрянных работ блатных
* Переписка Б. А. Романова с А. И. Андреевым хранится в Ленинградском отделении Архива АН СССР (Ф. 934. Оп. 5. Д. 296).
8
молодцов получают подачки в виде 40-часовых курсов в местном вузе. . . Может быть, что-либо любопытное и делается. Но оно для меня в латентном состоянии».
С неменьшей горестью размышлял Б. А. о своих собственных научных занятиях. Говоря о скоропалительном характере эвакуации из блокадного Ленинграда, он жаловался, что ничего не мог захватить с собой, ввиду особых обстоятельств его вылета 6 ноября 1941 г. Он рассказывал, что перенес полуторамесячное нервно-психическое заболевание. В последующие годы оно приобрело хронический характер, вылившись в тяжкую бессонницу и болезнь зрения. Тогда же Б. А. пробыл лишь две недели в нервной клинике, а накануне отъезда умудрился заболеть гриппом с температурой 39°. Благодаря помощи одного из друзей он сумел собраться в дорогу. «В результате я вылетел с 10—12 килограммами всяческого продовольствия, пледом, полотенцем, четырьмя кусками мыла, шестью носовыми платками, шестью воротничками, вилкой-ножиком, алюминиевой кружкой, 800 гр. табаку и легким свертком папиросной бумаги при трех мундштуках и шести коробках спичек; двойной комплект белья и одежды был весь на моем бренном теле». После перелета воздухом через кольцо блокады Б. А. продолжил свой путь в Ташкент по суше, прибыв туда лишь 16 января 1942 г. «Мой путь был долог, извилист и неверен, — писал он, — без всякой надежды на успешное и осмысленное его окончание, не говоря уже о том, что только чудо спасло меня от германских лап при проезде по Тихвинскому району. . .».
В Ташкенте Б. А. приютила семья его университетского товарища В. Н. Куна, в лоне которой он провел значительный период пребывания в эвакуации. Время это было тяжким для всех, но для Б. А. особенно. Через пол года после приезда в Ташкент им занялось местное отделение НКВД, и снова нависла угроза ссылки. «Я пребываю в состоянии безразличия и отупения, — писал Б. А. — И немудрено — здесь опять встал вопрос о праве моего жительства. Что же при таких условиях прикажете думать, делать и чувствовать?». 3 июля он был вызван представителем службы НКВД, а через неделю пришла повестка с требованием выехать на 101-й километр в 10-дневный срок. Благодаря хлопотам дирекции Института истории АН СССР, принявшей Б. А. на работу, он остался в Ташкенте. Как можно судить по его частной переписке, боязнь высылки и ареста не покидала Б. А. и позднее — в конце 40-х—начале 50-х гг. Тогда же, по миновании угрозы ссылки из Ташкента, он писал, что «сидение на эшафоте» длилось 40 дней — ровно столько потребовалось Академии наук, чтобы добиться отмены решения НКВД. Эпизод этот, разумеется, не прибавил оптимизма Б. А., сетовавшего на то, что «в конце концов жизнь уже кончена».
Вырвавшись из блокады со столь жалким скарбом, в отличие от московских историков, которым было позволено взять с собой до 120 килограммов, Б. А. не сумел провести с собой никаких записей и наметок новых работ. Поэтому он пишет, что оказался в «положении полной одиночки» и «положении до крайности „облегченного"
9
погорельца», «единственного» в своем роде. «И это, натурально, отчуждало меня от всего и всех, как элементарная социальная грань. В этом моем положении была и еще одна специфическая черта: с собой у меня не было ни строчки моих работ, ни листка моих записей — раскулаченный среди кулаков разных степеней». Б. А. тревожится за судьбу рукописей, оставленных в блокадном Ленинграде: «. . . наши работы — наши дети, и есть между нами и ими неистребимая физиологическая связь, разрыв которой сопровождается настоящей болью и трудноизлечим». «По мере того как у меня нарастает чувство одиночества, я испытываю почти физическую тоску, сосущую тоску по своим работам и потому, что они не со мною».
В письмах Б. А. этого времени А. И. Андрееву из Ташкента немало строк посвящено трудностям жизни и быта ученых в эвакуации. Здесь впервые ему пришлось в повседневной жизни столкнуться с большой группой коллег из Москвы. Со многими из них у него на долгие годы сложились дружеские отношения. А с некоторыми Б. А. не сумел найти общий язык, и в этой связи в свойственной ему язвительной манере он писал, что «московские историки не понимают исторического значения Ленинграда! Боюсь, что не только они, историки». Б. А. жалуется на «одиночество», «в частности, одиночество и в работе. К тому же, знаете. . . вечно писать для сорной корзинки — у кого хотите иссякнут силы. — Здесь живешь и видишь, что ленинградской традиции москвичи не понимают. . . На перспективу свою смотрю очень мрачно. Может быть, и вообще, но во всяком случае здесь. Все это создает неблагоприятную для прямого восприятия окружающего позицию».
Поразительно, что, несмотря на пессимистическое настроение и весьма сложные жизненные условия, сразу после возвращения из эвакуации в Ленинград Б. А. нашел в себе силы вернуться к прежней интенсивной творческой работе. Он много пишет. Вскоре после войны в 1947 г. выходят в свет сразу три его фундаментальных труда: две монографии — «Очерки дипломатической истории русско-японской войны» и «Люди и нравы древней Руси», а также том комментированного издания «Правды Русской», в котором Б. А. выступил как соредактор и автор значительной части комментария.
Возобновив с конца 30-х гг. свои исследования по феодализму, Б. А. до конца своей жизни продолжал изучать одновременно историю древней Руси и историю России периода империализма. Пройдя университетскую историческую школу анализа древних рукописей, он использовал затем эти навыки при анализе новейших дипломатических документов. Об этом сам Б. А. очень образно рассказал во вступительном слове на защите докторской диссертации, которое хранится в архиве ЛОНИ. Он отмечал, что «ни тематика» петербургской университетской школы, «ни хронологический диапазон ее интересов, ни ее техника, ни методология не заключали в себе ничего подталкивающего или располагающего к темам, подобным моей». «Если бы в 1906—1907 гг. мне кто-нибудь сказал, что я когда-нибудь свяжу себя с международно-политическими сюжетами, я категорически отверг бы это предсказание как фантастическое. А вышло волею
ю
Октябрьской революции как раз наоборот: без малого 20 лет и, пожалуй, лучших лет жизни, с некоторыми внешними перерывами, прошли у меня в моей личной работе преимущественно под знаком именно такой темы». Б. А. отмечал: «Е. В. Тарле был единственным, кто в 1921 г. в начале моих подготовительных работ в этом направлении решительно высказался за законность этой темы в академическом плане». Многие же смотрели на это иначе, ведь со времени описываемых событий прошло каких-то 15—20 лет и в их представлении то была «современность», «политика», но не «история». Б. А. Романов вспоминал, как один из представителей старой школы, начав читать «Россию в Маньчжурии», «с интересом», заскучал и бросил чтение, «когда я в своем изложении дошел до всяких банков и займов. . . А ведь здесь для меня лежал нерв темы!» В столь же «аутсайдерском положении» оказался Б. А. со своими работами и в отношении к Покровскому и его школе: «. . .для этого фланга не существовало ни моих работ, ни меня. . .»
В историографическом плане Б. А. «начинал свою работу, не имея предшественников». «Это не было положением человека, пишущего некролог у изголовья еще не остывшего тела, — говорил он. — Во-первых, такие исполинские трупы, как российская монархия, остывают не так быстро. Но главное, во-вторых, с темпом процесса их физического остывания ни в какое сравнение не идет стойкость испущенных ими и упорно задерживающихся в человеческом сознании идеологических испарений. Здесь-то и пригодились мне вся острота и изощренность документального зрения и изучения, в которых школили наше поколение наши учителя с самой университетской скамьи. Однако было бы грубейшей историографической ошибкой полагать, что мы, сравнительно молодые историки-немарксисты из этой школы, оставались в стороне от „Империализма, как высшей стадии капитализма", сборника „Против течения", „Государства и революции", „Развития капитализма в России", „Детской болезни «левизны» в коммунизме", „Национальной гордости великороссов" и т. д.».
Характеризуя отношение к источникам новейшей истории, Б. А. подчеркивал, что становившийся ему доступным архивный материал требовал «микроскопического текстуального изучения — не хуже, а то и почище древних летописных сводов». Достигалось это «упрямым, мелочным и неуклонным» «восстановлением прав источника и факта». «Это и было то, чему учил меня мой учитель А. Е. Пресняков», — свидетельствовал Б. А.
Из всего этого не следует, однако, что Б. А. Романов был просто собирателем фактов. Это был человек необыкновенного дарования, неудержимой фантазии, способности обобщать, мыслить теоретическими категориями в лучшем смысле этого слова.
В частном письме 4 января 1956 г. он писал: «Страсть к поискам „связей" между массой фактов — давняя моя страсть. . . Это прием в высшей степени изнурительный для „устройства головы". За ним стоит движущийся лабиринт лихорадочно мелькающих гипотез, нащупывающих эти связи».
11
Вскоре после опубликования «Очерков дипломатической истории русско-японской войны» в Ленинграде и Москве состоялось их обсуждение. В печати появилась благоприятная рецензия московского историка А. Л. Гальперина. Книга получила высокую оценку. Но автору рекомендовали расширить ее заключительную часть, посвященную мирным переговорам в Портсмуте, и подготовить новое издание.
По-иному сложилась судьба «Людей и нравов древней Руси». Эта книга попала под чей-то недобрый глаз и во время пребывания в Москве тогдашнего заведующего ЛОИИ С. И. Аввакумова ему в отделе науки ЦК партии передали некий нелестный о ней отзыв. В частном письме по этому поводу 17 октября 1948 г. Б. А. писал, что ему об этом «уже известно» и знает он, что книгу собираются «обсуждать». «Она только лежит в моем сознании на одной чаше весов с Дипломатическими очерками. Да и создавались они „на одном хлебе", „на единых дрожжах". Удар по одной будет ударом по другой».
Спустя некоторое время Б. А. узнает, что доклад о его книге будет делать И. И. Смирнов, и тут же помечает: «Я очень соболезную ему, но с интересом жду, что он скажет по существу и как выйдет из положения. Он человек умный, и его замечания должны быть метки, а это всегда интересно».
Очень скоро, однако, оптимистические надежды начали таять, и поводом к тому послужила развернувшаяся кампания против космополитизма, объектом которой стали С. Н. Валк и Е. В. Тарле. В частном письме 11 января 1949 г. Б. А; пишет: «Удар по С. Н. нео-жиданен (как и упоминание о Тарле). Возможно, что в связи с болезнью все это нагоняет мрак на душу. Но думаю, что историческое чутье мне не изменяет, когда я угадываю во всем происходящем такой новый этап, который подразумевает наш досрочный конец. Хоть и очень мало нас осталось, но мы явно мешаем, и нам приписывается смертный приговор. Вот уж не сумели вовремя помереть». Этой же темы он касается и в письме 30 января: «„Улица" висела надо мной всю мою жизнь, мне казалось последнее время, что не так уж висит; сейчас она повисла заново в освеженном теоретически и практически проветренном виде, виде „обоснованном" с точки зрения „общественного" блага — под титулом „собаке собачья смерть"».
С невеселыми мыслями вступал Б. А. в февраль 1949 г., когда ему должно было исполниться 60 лет и, как он узнал, появилось «намерение отметить мою старость». «Опасность эта исходит не из ЛОИИ, где к этому вкуса нет, — отмечал он, — а из университета». Если не удастся предотвратить, — размышлял Б. А., — проблема будет в том, что надо будет что-то говорить про себя (а что, кроме мрачного и дурного, могу я сказать?): сейчас это связано с особенной трудностью, может не хватить юмора».
В конце 1944 г., по возвращении из эвакуации, Б. А. благодаря хлопотам ректора Ленинградского университета А. А. Вознесенского получил бессрочный паспорт (по старости). Вознесенский пригласил
12
Романова преподавать в университете по совместительству, и он начал вести просеминарские занятия по «Русской Правде», снискав себе горячую любовь и преклонение студентов.
Поэтому, когда 26 февраля 1949 г. Б. А. вошел в одну из крупнейших аудиторий исторического факультета, переполненную жаждущими отметить его юбилей почитателями, он был встречен бурной овацией. В поздравлениях было столько искренности, сердечности и добрых пожеланий, что Б. А. терял контроль над собой. Он стучал рукой по столу и слезы лились из его глаз. Затем он произнес длинную речь, которая была по тем временам крамольной. Она была выслушана присутствовавшими в оцепенении. Б. А. рассуждал о своей нелегкой судьбе и заключил, что находит утешение в том, что как «винтик» принес какую-то пользу. Описывая это событие в частном письме, Б. А. сообщал, что в течение трех часов находился «под неумолимыми колесами какой-то психомашины; она была представлена преимущественно студентами». Аудитория была как вулкан, излучая такое огромное тепло, что сам Б. А. признавался, что он «далеко не все и, вероятно, не по-настоящему мог понять и уловить и запомнить; понимаю только, что я не вполне отдавал себе отчет, как глубоко я отравлен страстью к нашей молодежи. Но и с ее стороны я не ожидал такого взрыва».
Незадолго до юбилея Б. Д. Греков сообщил Б. А., что выдвинутая на соискание Сталинской премии его книга «Очерки дипломатической истории русско-японской войны» благополучно прошла экспертную комиссию, и поздравил его с этим признанием. Однако сразу после того как окончилось чествование Б. А., специально и экстренно созванное заседание партбюро исторического факультета вынесло решение обратиться к Комитету по Сталинским премиям с просьбой отменить решение экспертной комиссии. А с октября 1950 г. — это было после ареста А. А. Вознесенского по «ленинградскому делу» — Б. А. Романов был лишен и совместительства в университете. «После ареста А. А. Вознесенского, — писал Б. А., — меня внезапно и незаконно (уже после начала занятий) осенью 1950 г. уволили из университета, и, имея за собой 58-ю статью, я счел бесполезным подымать дело о нарушении здесь советской законности».
Сталинская премия Б. А. Романову присуждена не была. В апреле 1949 г. И. И. Смирнов выступил с докладом о книге «Люди и нравы древней Руси». Он критиковал Б. А. за его отношение к «закрепощению смердов» с позиций, зафиксированных в «Замечаниях по поводу конспекта учебника по истории СССР» Сталина, Жданова и Кирова. Обвинил его в неправильном понимании процесса феодализации, путей и методов развития крепостнической зависимости крестьянства, в мизантропическом характере книги. В заключение И. И. Смирнов сделал вывод, что Б. А. «объективно оказался на ложных позициях», стоящих «в прямом противоречии» с задачей воспитания «чувства национальной гордости нашей великой родиной, чувства советского патриотизма».
На заседание Б. А. приехать не смог, прислав краткое письмо, в котором авансом признал критику. Следует подчеркнуть, что
И. И. Смирнов не стал публиковать своего доклада, а уже после смерти Б. А. Романова отказался от крайне негативных оценок «Людей и нравов древней Руси», подчеркнув, что труды Б. А. Романова оказали на него «сильное воздействие» и что, полемизируя с ним, он «вместе с тем учился у него историческому исследованию». 2
К этому времени, однако, книга «Люди и нравы древней Руси» была не только полностью восстановлена в правах, но и названа в качестве одного из выдающихся исследований по феодальной истории нашей страны. На заседании, посвященном памяти Б. А. Романова и проходившем 16 ноября 1957 г. в актовом зале Пушкинского Дома, Д. С. Лихачев выступил с обширным докладом о книге Б. А. Романова «Люди и нравы древней Руси», дав ей исключительно высокую оценку как одному из самых выдающихся исследований по историй нашей Родины. Доклад Д. С. Лихачева был опубликован сначала в виде статьи в «Трудах Отдела древнерусской литературы» Института русской литературы АН СССР, а затем вошел в сборник статей Д. С. Лихачева «Прошлое будущему». На том же заседании выступил с докладом о «Людях и нравах древней Руси» известный советский историк Б. Н. Вернадский, также отметивший, огромное значение этого исследования для отечественной науки. Наложенное ранее «табу» на книгу было снято, и в 1966 г. появилось ее новое издание, вызвавшее живой общественный отклик.
Последним крупным трудом Б. А. Романова были «Очерки дипломатической истории русско-японской войны» (2-е изд.), опубликованные в 1955 г. Это была вдвое большая по объему и охвату описываемых событий книга с использованием самого широкого круга иностранных источников и литературы для воссоздания во всей возможной полноте картины международных отношений на завершающем этапе русско-японского конфликта. Этой работе он придавал большое значение и отдавал все свои силы, хотя здоровье его к этому времени было подорвано и работалось трудно.
В конце 40-х—начале 50-х гг. Б. А. был занят также комментированием Судебника 1550 г. — законодательного акта древней Руси — издания, которое было продолжением «Правды Русской». Это была сложная и чрезвычайно трудоемкая работа. Но она, как писал Б. А., — «игрушечный грузовичок по сравнению с этими микрокосмическими громадами», имея в виду свой доклад в ЛОИИ «Из истории мирного посредничества в русско-японской войне», основанный на двух главах будущей книги, где речь шла о «перекличке пяти столиц в течение марта 1904—июня 1905 гг.».
Тяжелое нарушение сна, сосудистые заболевания и ухудшение зрения мешали Б. А. трудиться с прежней силой. Давала себя знать и моральная угнетенность, усугубившаяся в марте 1953 г. решением о закрытии ЛОИИ. Эта акция была подготовлена еще в начале 1953 г. при жизни Сталина, хотя формальное решение Президиума АН СССР последовало 27 марта, когда Сталина уже не было в живых. Поскольку при ЛОИИ находились богатый архив и библиотека, было издано постановление о создании Отдела древних рукописей и актов, многие прежние сотрудники были уволены, над остальными
14
нависла угроза, что они также будут лишены работы. В списке запланированных к увольнению фигурировал и Борис Александрович, но благодаря поддержке коллег по Академии наук его не тронули, хотя судьба его вновь оказалась на волоске. «В Ленинграде с научным производством в области истории прикончено, — писал Б. А. в апреле одному из своих московских коллег. — Оно централизовано в Москве. . . не нашему брату судить о целесообразности „упразднения" (уж очень знакомый термин для обозначения того, что сделано с ЛОИИ: его очень любил покойный Мих. Евграфович [Салтыков-Щедрин]). Мне пока сказано: продолжайте работать, как работали над книгой, хоть вы и в архиве». Но время от времени появлялись слухи, что находившиеся в то время в здании Библиотеки АН СССР архив и библиотека ЛОИИ будут ассимилированы БАН, а сотрудники лишатся работы. Рассказывая об одном из таких эпизодов, Б. А. писал в частном письме в феврале 1954 г.: «Здесь только что утих переполох с внезапным переселением бывшего ЛОИИ вон из БАН. Переполох, в котором вскрылась полная наша беззащитность в качестве упраздненного учреждения. . . Переполох длился два—три дня и взял много нервов. Хотели распихать: архив в одно место, а библиотеку в другое, т. е. окончательно распылить остатки коллектива сотрудников». В другой раз Б. А. писал, что «учреждение и коллектив убиты наповал и непоправимо», что «решение о нашем учреждении носило открыто репрессивный характер и задумано было в этом плане давно. Оно рассчитано на физическое уничтожение здешних работников в порядке более или менее ускоренного выживания». Иногда в этих суждениях появлялись нотки надежды: «Шоферы, которые все знают, говорят, что оно (ЛОИИ) будет открыто вновь». Однако оптимистические проблески тут же сменялись мрачным пессимизмом. «Моя способность предвидеть так далеко не идет, — писал Б. А. одному из своих коллег. — Мне кажется, что тут мы имеем довольно глубокие корни растения, которое вышло наружу сейчас на историческом огороде, а завязалось несколько лет назад в виде Академии общественных наук. К тому она и предназначалась, чтобы сменить „старую" (советскую, однако же!) „школу". Как вы знаете, это не первый опыт применения большого плуга. Это дорогостоящее удовольствие. Но мы живем в эпоху „экскаваторов"».
К счастью, эти мрачные предчувствия не оправдались, и в ноябре 1955 г. Б. А. присутствовал на заседании Ученого совета при восстановлении ЛОИИ, на котором было объявлено, что решение 1953 г. признано ошибочным и отменено.
В Ленинграде Борис Александрович и его жена Елена Павловна жили после войны в двух маленьких комнатах коммунальной квартиры, переполненных книгами. Поскольку здоровье Б. А. Романова ухудшалось, он постоянно рвался за город и последние годы жизни, начиная с ранней весны и до самой поздней осени, жил и работал на даче в г. Пушкине, дважды в неделю приезжая в ЛОИИ. Здесь он завершил и последнее крупное свое исследование — 2-е издание «Очерков дипломатической истории русско-японской войны». Эта
работа потребовала от него неимоверных усилий, наложившихся на прогрессирующее ухудшение здоровья. Порой ему казалось, что не хватит сил, чтобы довести до конца издание книги, но в конце 1955 г. она вышла в свет. «И все же я не жалею, что довел до конца авторскую работу над моей книгой, — писал он по этому поводу 4 ноября 1955 г. А. Л. Сидорову, — и не жалею, что в порядке дискриминации был лишен возможности работать в архиве, а вынужден был перебазировать всю работу на иностранные источники и придать книге максимально международный характер: для меня это был адов труд парадировать поочередно в шести национальных шкурах. Меня поддерживал тут пример моего учителя (А. Е. Преснякова), никогда не замыкавшегося в рамках национального по-шехонья, а увлекал меня нараставший интерес к новому и неведомому ,,чувству нового" в самой задаче — создать международно-политическую книгу такого международного горизонта, которого не достигало пока ни одно единоличное советское исследование. . .»
За годы работы в университете и в ЛОИИ Б. А. подготовил несколько учеников, продолжавших изучение начатых им проблем. Как справедливо отмечал Д. С. Лихачев, «блестящая преподавательская работа» «заслуженно принесла» Б. А. Романову «славу одного из лучших преподавателей исторического факультета и позволила ему воспитать целый ряд талантливых исследователей как древней, так и новейшей русской истории». Сам Б. А. придавал огромное значение работе своих учеников. Работы учеников и его отношения с ними занимали совершенно особое место. Детей у него не было и отношение к ученикам носило характер близкой отеческой привязанности. Первыми из них были: Н. Е. Носов, занимавшийся изучением российского феодализма; Р. Ш. Ганелин и автор этих строк, посвятившие дипломные работы и кандидатские диссертации проблемам международных отношений на Дальнем Востоке; затем — Б. В. Ананьич, взявший тему по истории русско-английских отношений в Персии, и, наконец, последний аспирант Б. А. Романова в ЛОИИ, учившийся еще в его университетском семинаре, — В. М. Панеях — специалист по феодальной истории России. «В основном живу радостями и интересами моих сынов, у которых у всех происходит движение вперед», — отмечал он в частном письме 2 января 1954 г. Б. А. считал «счастливейшим» для него днем в году, когда его «потомство», отмечая день его рождения, собиралось у него дома и он мог «на смотру отмечать себе поступательные признаки роста моих молодцов». «Это ли, — писал он, — не высший вид радости для старика, когда он периодически может обсматривать свою смену?!» В другом письме от 7 октября 1952 г. он подчеркивал: «Ученичество оказывается нечто большее, чем кровная связь (для учителя, вероятно, больше даже, чем для ученика, хотя бы из возрастной разницы). Для меня это не личная привязанность, а смысл и цель жизни в широком смысле».
Характеризуя вклад Б. А. Романова в отечественную науку, С. Н. Валк справедливо отметил, что его труды занимают «выдающееся место в советской историографии», что благодаря «редкой разносторонности интересов» Бориса Александровича (а они касались 16
«самых различных эпох истории СССР» — древности, средних веков и новейшего времени) они всегда «были новым словом и носили печать тонкой и глубокой мысли и убедительного художественного проникновения в изучаемый предмет, что так редко сочетается в полной мере в одном лице». Действительно, Б. А. обладал уникальным дарованием, и все, кому посчастливилось работать с ним, испытывали на себе его влияние.
Б. А. Романов скончался 18 июля 1957 г. Он оставил огромный след в науке, в трудах, учениках, в направлениях исследований, которые приобрели, как мы сказали бы теперь, приоритетное значение. Это касается как социально-экономического развития древней Руси, так и истории России периода империализма. Б. А. Романов был блестящим ученым, а его труды — достояние отечественной науки, которой он служил верой и правдой, несмотря на то что судьба была к нему далеко не всегда справедливой и ласковой.
Часто спрашивают, в чем заключалась особенность школы Романова. Ответить односложно на этот вопрос трудно. Учил Б. А. прежде всего своим собственным примером служения науке, отношением к историческому факту и документу, навыком работы в архиве по разысканию новых материалов, ставя во главу угла первоисточник. Б. А. обладал талантом нетривиального прочтения документа и его интерпретации, в которой тонкий анализ самого документа сочетался с его сопоставлением и проверкой другими данными. Это превращало его комментарий в глубокое исследование. Б. А. привлекал к себе учеников цельностью натуры и мировоззрения, увлекательной манерой преподавания, организации научных диспутов в семинаре, студенческом кружке или собрании ученых, смелостью и парадоксальностью суждений. Он был преисполнен внимания и уважения к суждению любого участника дискуссии, будь то именитый исследователь или студент. Его аристократическая внешность и свойственный ему артистизм поведения, скепсис, острое и язвительное слово сочетались с огромной человеческой теплотой и доброжелательностью по отношению к людям. Ученики Б. А. ощутили это в полной мере в ходе повседневного общения с ним не только на лекциях, семинарах и заседаниях в стенах университета или Института истории, но и, как правило, у него дома — еженедельно и подолгу. Его отношение к ученикам было взыскательно строгим и по-отечески заботливым. Все это вместе взятое создавало атмосферу взаимной привязанности и интеллектуальной увлеченности, глубокой преданности своему учителю, который стал непререкаемым авторитетом в науке, образцом высочайшей нравственности и примером для подражания.
1 Жизненному пути и творчеству Б. А. Романова (далее сокр. Б. А.) был посвящен ряд статей. После его кончины в 1957 г. была проведена научная сессия, посвященная его памяти (материалы сессии опубликованы в т. 62 «Исторических записок», за 1958; отчет о заседании был составлен Б. В. Ананьичем и В. М. Панеяхом; там же см. доклад С. Н. Валка «Борис Александрович Романов»). Прочитанный на этом заседании доклад Д. С. Лихачева «Борис Александрович Романов и его книга „Люди и нравы древней Руси“» был напечатан в Трудах Отдела древнерусской литературы
2 Заказ № 1143
17
Института русской литературы АН СССР (1958, т. 15). В связи с 80-летием Б. А. Романова Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР (ЛОИИ) выпустило в свет сборник статей «Исследования по социально-политической истории России» (1971) со статьей С. Н. Валка «Борис Александрович Романов». Московский историк В. Н. Никифоров опубликовал к этой дате статью «Борис Александрович Романов» в журнале «Народы Азии и Африки» (1969, № 3). Наконец, в 1989 г. журнал «История СССР» в № 1 поместил статью В. М. Панеяха «Проблемы истории России эпохи феодализма в научном наследии Б. А. Романова». В настоящей статье учтены все перечисленные выше публикации и дополнительно использованы материалы личного архива Б. А. Романова, переданные в Архив ЛОИИ (ф. 298).
2 С м ир нов И. И. Очерки социально-экономических отношений Руси XII— XIII веков. М.; Л., 1963. С. 4.
В, М. ПАНЕЯХ
Б. А. РОМАНОВ ОБ ИЗДАНИИ СУДЕБНИКОВ XV—XVI вв.
«Антик или модерн?» — так поставил перед собой вопрос Б. А. Романов, имея в виду дальнейшую научную работу в Ленинградском отделении Института истории АН СССР (ЛОИИ), после того как в 1947 г. вышли в свет три его фундаментальных труда, завершенных им накануне войны, но потребовавших еще и доработки, и рутинной технической работы (чтения корректур и т. д.), затрат нервной энергии.1 Особенно много усилий Б. А. вложил в подготовку к печати и редактирование второго тома «Правды Русской», содержавшего постатейные историографические комментарии, подавляющее большинство которых также принадлежало его перу.
Жизнь, однако, поставила Б. А. Романова перед необходимостью одновременно заняться и русским феодализмом, и эпохой империализма. С одной стороны, в ЛОИИ было принято решение продолжить комментированное издание древних законодательных памятников, и прежде всего трех Судебников — 1497 г., 1550 г. и 1589 г. Комментирование Судебника Ивана IV и было поручено Б. А. Романову осенью 1947 г. С другой же стороны, при обсуждении «Очерков дипломатической истории. . .» по их выходе — ив Москве (в Институте истории), и в Ленинграде (в ЛОИИ) —встал вопрос о целесообразности переиздать эту монографию, дополнив ее рядом сюжетов, прежде всего анализом Портсмутской мирной конференции.
Этими, столь далеко отстоящими друг от друга проблемами и занялся Б. А. Романов уже в 1947 г., работая над ними вплоть до издания соответствующих трудов 2 общим объемом в 76 авторских листов (16 листов — комментарий, 60 листов — «Очерки. . .»).
Сложность положения, в которое попал Б. А. Романов, определялась не только этим обстоятельством. Идеологическое наступление сталинского режима, начавшееся после войны и сделавшее своим объектом первоначально
2!
19
творческую интеллигенцию (писателей, композиторов, кинематографистов, театральных критиков), к концу 1948—началу 1949 г. получило новое направление — наука вообще, сфера общественных наук в частности. Против ученых старшего поколения выдвигались фантастические обвинения в буржуазном объективизме, антипатриотизме, преклонении перед буржуазной наукой, космополитизме. Возобновились и репрессии. У самого Б. А. Романова обострились заболевания сосудистой системы и глаз, что, безусловно, стимулировалось тяжелой общественной атмосферой тех лет. Таковы драматические, порой трагические условия, в которых приходилось работать советским историкам, в том числе Б. А. Романову. Он жил в это время в ожидании возможного повторного ареста и осуждения, возможной повторной высылки из Ленинграда или увольнения с работы.
И все же первоначальный вариант комментария к Судебнику 1550 г. Б. А. подготовил очень быстро — к середине 1948 г. Сразу же обнаружились принципиальные расхождения с И. И. Смирновым, незадолго до того опубликовавшим большое исследование, посвященное Судебнику 1550 г.3 Они касались главным образом социальной направленности реформ 50-х гг. XVI в. и Судебника в частности. Если И. И. Смирнов пришел к выводу, что Судебник явился отражением антибоярской политики Ивана Грозного, опиравшегося на дворянство и посад, то, согласно Б. А. Романову, внутриклассовые антагонизмы к 50-м гг. еще не были разрешены, а потому Судебник носил следы компромисса между основными прослойками господствующего класса; И. И. Смирнов же, по мнению Б. А., несколько упреждает ход событий и видит уже в Судебнике следы микроопричнины. Эти расхождения во взглядах на характер реформ 50-х гг. проявились не только в изданных комментариях Б. А. Романова к Судебнику 1550 г., но и в ряде его статей,4 а также в монографии И. И. Смирнова,5 вышедшей в свет вскоре после кончины Б. А. Романова, в которой И. И. Смирнов продолжил (и завершил) начавшуюся между ними еще в 1949 г. полемику. За этими, нашедшими отражение в литературе, учеными спорами скрывался второй пласт — изменение отношения Б. А. Романова к теме исследования от вынужденного выполнения служебного задания к увлеченности захватившими его проблемами; полемика на заседаниях в ЛОИИ по поводу типа комментариев; сложные коллизии, связанные с отказом И. И. Смирнова от обязанностей ответственного редактора всего издания Судебников XV—XVI вв., когда вскрылись непримиримые противоречия между ним и Б. А. Романовым; рабочие заседания, посвященные обсуждению отдельных фрагментов комментария и оживленная, горячая, порой острая дискуссия на них; проблема внутренних рецензентов и т. д. и т. п. Все это нашло отражение в письмах Б. А. Романова.6 Само собой разумеется, что в них высказывалась личная точка зрения Б. А. Романова на те или иные события, связанные с подготовкой и изданием этого фундаментального труда.
Уже 21 мая 1946 г., размышляя о своей будущей работе, Б. А. писал: «Судебник — не герой моего романа и несколько тяготит меня, как что-то чуждое; это — повинность». Но вскоре Б. А. интенсивно 20
втянулся в эту работу. И как всегда в таких случаях его отношение к служебному заданию, принятому под давлением обстоятельств, резко изменилось: «мертвый прежде» для Б. А. документ «как будто ожил». Б. А. далее объясняет перемену своего отношения так: «. . .это давнее мое свойство: какую дрянь ни дай мне, в конце концов всюду найду интерес».
Уже 14 октября 1948 г. Б. А. отмечает, что издание Судебников — «крупное научное дело», которое «вчерне в основном готово».
Выступая 2 июня 1948 г. на заседании группы истории СССР ЛОИИ по поводу издания Судебников, Б. А. подробно охарактеризовал задачи, которые он ставил перед собой при комментировании, противопоставив «формальную» цель — «дать „советского Владимирского-Буданова" Судебника II» — существу дела: «Я стремлюсь помочь читателю этого памятника понять содержание его текста, читая его не юридическим, а историческим глазом». Если перед «взором Владимирского-Буданова», составителя и автора комментариев -многократно переиздававшихся выпусков «Хрестоматии по истории русского права», Судебник 1550 г. «лежал довольно безмятежным судоустройственно-судопроизводственно-граждански-уголовно-правовым бегемотом», то Б. А. «должен был помочь читателю уловить мельчайшие следы» «острой социально-политической борьбы на критическом этапе истории Русского государства, из „пекла" которой он вышел». Для этого нужно было «не упустить и при малейшей возможности осмыслить прежде всего отличия текста Судебника II от его старой основы — Судебника I». «В остальном, — говорил Б. А., — это реальный исторический комментарий к новизмам Судебника II. . . с помощью привлечения иных документов». Б. А. особо подчеркивает, что он не занимается «аподактиче-ским вещанием собственных мнений: анализ и изредка догадка — основной прием комментария, никогда, однако, не переходящий в прямой перевод статьи». В конечном счете, по замыслу Б. А., «у читателя комментария. . . должны отложиться представления не о том, что сделала наука для понимания Судебника II или каково было значение Судебника II в науке, а о том, что дает Судебник для понимания русской жизни, в условиях его времени и для реконструкции существенных черт русского исторического процесса на данном этапе».7 В течение последующих двух лет подготовка комментариев к Судебникам продолжалась, но дело было осложнено несогласованностью сроков окончания работы московскими и ленинград-кими ее участниками.
Эти годы ознаменовались и выступлениями Б. А. на заседаниях группы истории СССР ЛОИИ с тремя докладами по отдельным статьям Судебника 1550 г., которые прошли под знаком острой, но вполне корректной полемики между ним и И. И. Смирновым. В конце декабря 1949 г. И. И. Смирнов, сменивший во втором квартале этого года А. И. Андреева на посту ответственного редактора всего издания, передал Б. А. свои «Замечания о комментарии Б. А. Романова к Судебнику 1550 г.» (на 25 машинописных страницах), где полностью отверг критику в свой адрес, а следовательно,
21
и общую концепцию Б. А. Романова, касающуюся Судебника.8 Б. А. после этого (в феврале—марте 1949 г.) вернулся к работе над комментарием, ввел в него новый материал, углубил свою аргументацию, учел конкретные замечания и в результате в еще большей степени утвердился в своих воззрениях.
Отчитываясь о проделанной работе на заседании группы истории СССР ЛОИИ 7 июля 1950 г., Б. А., в частности, говорил: «Замечания И. И. Смирнова коснулись 35-ти из 100 статей Судебника и заголовка. . . Остальные 65 статей не встретили возражений со стороны И. И. Смирнова. В 21 случае.. . я согласился с меткостью замечаний И. И-ча и, приняв их во внимание, думаю, улучшил свой текст (за что благодарен И. И-чу). В 4-х случаях И. И. Смирнов ограничился репликой, что он тут „сохраняет свои позиции", не сформулировав возражений. В этих случаях я тоже сохранил свои позиции, но в двух из них я не ограничился этим, а постарался еще раз обревизовать позиции и дополнительными исследованиями переукрепить их. В 10-ти случаях. . . возражения И. И. Смирнова не переубедили меня и в ряде случаев помогли мне переработать свои тексты в смысле уточнения и укрепления своей аргументации при толковании текста статьи».
На этом же заседании Б. А. вернулся к вопросу о типе комментария. Спор шел о том, насколько исследовательским должен он быть. Б. А. считал неправильным составление хрестоматии из высказываний советских историков «даже. . . с формальными реверансами в адрес одних и с критическими бросками в адрес других» («это бы значило сводить роль автора комментария к такому политически животрепещущему документу, как Судебник, — к роли подносчика торфа к печи или фасовщика развесного товара порционами, легкими для переноски»). Отвергая такой путь, Б. А. говорил, что «отсюда. . . создавалась неизбежная ситуация, толкавшая» его «к исследованию». «Я скорее готов принять упрек, — заметил он далее, — в том, что не всюду мне удалось осуществить эту позицию». И далее: «Мне пришлось на днях слышать мнение, что комментарий Л. В. Черепнина (к Судебнику 1497 г. — В. П.) потому и комментарий, что его можно не читать (посмотрел, что такое «противень», и можно на этом кончать, а что такое «пошлина» можешь и не смотреть), а что комментарий мой потому и не комментарий, а „научное исследование", что его, если начал читать, изволь читать все относящееся к этой статье, так все с другим связано. Можно, конечно, раздавать ладанки на паперти и считать, что ты исполняешь долг перед человечеством. Но можно и объяснить человеку, чем он болен и как вылечиться, и считать, что это минимум, что от тебя требуется (если не можешь предложить и лекарства). Второе я предпочел. . . с работой (не по формальному разъяснению — переводу Судебника 1550 г.) по внедрению его через каналы науки в научный оборот. . . и по промывке текста этого бывшего политического мертвеца наподобие промывки зеркала, с помощью которого на основе всех последних научных достижений можно видеть действительность в гораздо более широком масштабе и на большей глубине, чем то выражено
22
в словах и в строках формально переведенного на современный русский язык памятника. Именно так, а не иначе, я понимаю задачу научного комментария к древнему памятнику. Только такой подход даст представление читателю о значении данного памятника и в науке. Только такой подход введет читателя и в жизнь, в данном случае весьма не сонную, самой науки».9
Характеризуя сложившуюся ситуацию, Б. А. в письме от 8 июня 1950 г. сообщал, что редактор издания Судебников И. И. Смирнов настаивает на переделке комментария «Романова (чересчур исследовательского) — ради равнения по Черепнину». В то же время, пишет Б. А., «И. И. решительно отказался от редактирования моего комментария (это для него «психологически» невозможно, подписать то, где с ним полемизируют)», хотя «мотивов политического или методологического порядка у него нет». Сообщает Б. А. и о решении «подыскать мне редактора из среды сотрудников ЛОИИ. . . Предположено просить Б. Д. (Грекова. — В. 77.) возглавить все издание, наподобие Правды [Русской]». Излагает Б. А. и ход заседания, в частности позиции его участников: «Выступали все поголовно и не раз» — «М. С. Иванов (зав. ЛОИИ. — В. П.), Вяткин, Валк, Мюллер, Гейман, Кочин, Маньков, Копанев, Ив. Ив. и я. . . Среди выступавших выдавался С. Натаныч (Валк. — В. П.), который очень помог сдвигу дела с мертвой точки — выяснением „психологической" невозможности редактуры И. И-ча и защитой возможности выпуска и „разнотипных" комментариев (вернее, невозможности комментариев однотипных). За ним и шло большинство. А Вяткин кроме того высказался за исследовательский тип комментария (т. е. мой). Я старался вдолбить органическую разницу между самими Судебниками и между их историографическим положением — откуда неизбежное различие комментариев Ч [ерепнина] и Р [оманова]. Но все обсуждение шло под невидимым знаком „личного вопроса", а не принципиальных точек зрения. Я должен был отметить, что я не раз просил группу обсудить мой комментарий в целом в 1948 и 1949 гг. (и не добился ничего), что я три раза докладывал на группе образцы моего комментария, и никто ни словом не обмолвился о неподходящем типе его (с признанием его «интересным»), причем и И. И. в своих „замечаниях" тоже не обмолвился о неподходящем его типе. Что сейчас это — неожиданно возникший вопрос. Но что иного типа — для Судебника Грозного — я и не представляю и считаю, что мой комментарий малоисследовательский. Ибо этот Судебник, как и эта эпоха, как и советская литература по этой эпохе настолько выдвигают его вперед (против Судебника 1497 г.), что без исследования ряда капитальных вопросов, выдвигаемых Судебником и его литературой, в комментарии обойтись просто преступно. Эту историографическую советскую ситуацию отразить в комментарии обязательно (тогда как Черепнину приходится гарцевать на Сыромятникове да на Дювернуа, а крупных социальных и политических вопросов выстукать из Судебника 1497 г. не удается). Мне же эти вопросы подбрасывает советская историография, и первый И. И. Смирнов! Как видим, пока все разрешилось. . . Как оно пойдет
23
дальше, с авторской точки зрения меня не интересует. Склонен думать, что оно свихнется на личные полозья, от чего делу бывает только вред. Но аргументы свои я изложил ясно и письменно, а драться мне не по силам, не по возрасту и не по времени. Я нисколько не жалею, что много вложил труда и старания в эту работу, даже увлечения, как всегда, и многому научился на старости лет. Мне только неприятно, что вокруг чисто научного вопроса навернулись личные мотивы».
Вскоре после этого заседания состоялись важные решения, касающиеся дальнейшей работы над Судебниками XV—XVI вв. Б. Д. Греков согласился взять на себя обязанности ответственного редактора всего издания, а С. Н. Валк был назначен редактором раздела, касающегося Судебника 1550 г., при сохранении за И. И. Смирновым редакторских функций по двум другим Судебникам. Вспоминая об июньском заседании в ЛОИИ и состоявшихся решениях, Б. А. писал 28 июля 1950 г. из Сигулды, где он отдыхал, в Москву: «Единственно кому написал отсюда без дела, это Сигизмунду Натановичу Валку], поблагодарить за его благородное выступление при решении вопроса о судьбе моего комментария. Оно было единственным и глубоко тронуло меня в принципе. А от всего остального осталась такая глубокая травма (не столько личная, сколько политическая), что нужно большое время, чтобы она заросла. Так все оголилось и так все прыснули кто куда в кусты, что и не придумал бы, хоть и видывал виды. Самое назначение С. Н-ча редактором после всего мне почти безразлично (если не считать, что его с этим поздравить не могу), как и дальнейшая судьба моей работы, лишь бы меня ею больше не тревожили. Из-за нее, проклятой, я проболел и потерял столько времени, что мне едва ли будет управиться с моей работой над книгой».
По возвращении Б. А. из Сигулды в Ленинград обнаруживается, что принятые организационные решения по подготовке Судебников к изданию не сняли напряжения. Б. А. пишет в этой связи: «Соприкосновение с Институтом раскрыло зажившую рану: говорят, И. И. (Смирнов. — В. П.) все еще не утратил надежды, что Б. Д. (Греков. — В. П.) откажется от идеи комментариев при Судебниках!!! Вероятно, назначение Валка его не удовлетворило, что ли! Мне это огорчительно только потому, что это означает, насколько интоксицирован И. И. идеей избавиться от вторжения в сферу Ивана Грозного посторонних элементов. Какой все-таки это яд — дух монополии и трепатня о критике и самокритике, пока дело не коснется тебя самого!».
Между тем С. Н. Валк начал читать комментарии Б. А. Романова. «Из первого проходного разговора с ним», — пишет Б. А. 30 августа 1950 г., — выяснилось, что, по его мнению, «25 страниц о происхождении Судебника „очень трудны"», «отчего бы не опубликовать это в виде статьи, очень „интересной" как исследование и т. п. Я предложил говорить по прочтении всего комментария. Вообще же принял решение — вся власть редакторскому карандашу, но никакой власти над моим писательским временем, которое мне не
24
обходимо для выполнения плановой работы. Больше „шутить" с этой последней (как в прошлом году, когда валял дурака, затратив полтора лучших месяца на расширение и исправление комментария по указаниям И? И-ча, ради того чтобы в июне получить замечание, что весь комментарий, оказывается, никуда не годится как комментарий) я уже не дам: из длинного короткое делайте сами! На то и существует редакторский карандаш: отродясь все редакторы так поступали, и я сам так действовал, редактируя большую Правду».
21 сентября 1950 г. Б. А. сообщает, что его комментарий отдан «Манькову на теоретическую ревизию, от которой он тщетно отбрыкивается под справедливым предлогом, что И. И. не находит там теоретических грехов. Но С. Н. (Валк. — В. П.) настоял». Уже 4 октября А. Г. Маньков закончил чтение комментария «и не нашел ничего теоретически порочного». В этом же письме Б. А. сообщает, что ему по телефону сказал И. И. Смирнов «о существовании документа, свидетельствующего о продаже вотчины, к которому должен быть в Ист. музее соотносительный документ о выкупе той же вотчины». «После наших полемик, — пишет Б. А., — И. И. заказал. . . копию и, получив ее на днях, убедился, что выкуп совершался не по рыночной цене (как утверждал он в полемике), а по продажной (как настаивал я). А на этом острие стоял весь спор. Мне эта документация ничего не прибавляет, потому что текст ст. 85 и так ясен. Все же это сдвиг в распутывании завязавшегося узла».
Началась работа и с С. Н. Валком (письмо от 13 декабря 1950 г.): «. . .отсиживаю с С. Н. за текстом комментария, накапливая материал для переделок текста». Конечно, и здесь возникли разногласия: «Мои редакционные свидания с Валком крайне растянулись. Ему было все некогда. . . Результатом такого редактирования были споры о трудности чтения из-за множества „текстов" и их размеров: они то и дело „летели" как лишние. . . Человек все время исходил из своего столичного положения и из наличия собственной прекрасной библиотеки — я противопоставлял этому провинциального потребителя, для которого все должно быть тут же под руками и которого глухие ссылки на АЮ и АЭ только бесят. Так что в этом отношении я остался недоволен. Затем шло гонение на иностранные слова: аспект, перерегистрация, объективность, куртаж, казус и т. п. Здесь тоже получилась пестрота — в зависимости от настроения данной минуты. Но в основном текст сохранен. А кое-что, благодаря спорам и задержкам, удалось найти и вставить новое» (12 января 1951 г.).
Следует отметить, что интересы Б. А. Романова отнюдь не ограничивались судьбой собственного комментария к Судебнику 1550 г. Напротив, он внимательно следит за работой своих коллег по изданию — Л. В. Черепнина, А. И. Андреева, А. И. Копанева, Р. Б. Мюллер, высказывая свои суждения по отдельным ее аспектам. Сложность с подготовкой текста и комментированием Судебника 1497 г. состояла в том, что Л. В. Черепнин, которому поручена была эта работа, жил в Москве, тогда как все другие участники издания — в Ленинграде. Напряженная ситуация возникла с комментариями к Судебнику 1589 г. Первоначально они были подготовлены
25
А. И. Андреевым, но оказались слишком лаконичными и не удовлетворили И. И. Смирнова, который дал поручение А. И. Копаневу подготовить свой вариант комментариев, не определив окончательно судьбу проделанной А. И. Андреевым работы.
Б. А. Романов, сообщая в письме от 30 августа 1950 г. о том, что А. И. Андреев живет на даче по соседству с И. И. Смирновым, отмечает: «. . .при встрече пока у них ни слова не было о Судебнике 89. Копанев пыхтит над комментарием к последнему, не зная, какие же статьи ему подлежат, а какие останутся за А. И. (Андреевым. — В. П.). Впечатление какой-то игры с порохом, в тайной надежде, что дождем смочит».
10 октября Б. А. констатирует: «Копанев на скоростях творит комментарий. . . а завтра читает вводную часть о соотношении редакций (опрокидывает Андреева!). Его комментарий, конечно, будет готов в срок». А 13 октября описывает Е. Н. Кушевой это заседание: «. . .был прекрасный доклад Копанева о приоритете краткой редакции Судебника 89 г. Андреев отказался от своей обратной теории. Было очень оживленное обсуждение, проведенное преимущественно стариками (Андреев, Валк, я, не считая Смирнова по обязанности). На днях Копанев выезжает к вам на 10 дней. Я буду советовать ему явиться пред Ваши очи, Вы увидите, какой это славный человек. . . Успехи Копанева и благополучное разрешение вопроса с Андреевым несколько открыли И. И-ча в редакторском направлении».
Впрочем, 30 октября Б. А. Романов отмечает, что работа А. И. Копанева «только в начале» и далее: «Сами по себе мысли о происхождении краткой редакции вероподобны и отдают реализмом мышления А. И. — без чего не может быть историка. Остается самое трудное и кропотливое: на основании разысканий для реального комментария (ко всем статьям пространной редакции) воссоздать работу кого-то над „пространной редакцией44. И тогда, если колеи сойдутся в этой подземной трубе, — выйти на свежий воздух и отпраздновать победу. В одном я уверен, что комментарии его будут интересны, и Судебник этот у него заживет. Откровенно скажу — в таком случае второстепенно, в какой именно ипостаси («краткой» или «пространной»). А лучше бы, если бы в обеих, каждой в отдельности. Что, впрочем, отдает жадностью».
Что касается Судебника 1497 г., то обнаружились противоречия между Л. В. Черепниным и И. И. Смирновым по вопросу о передаче его текста, а также о целесообразности публикации перевода. «Черепнин, — пишет Б. А. 21 сентября 1950 г., — . . .отказался от каких-либо уступок И. И-чу!». Вскоре (10 октября) Б. А. сообщает: «. . .остается загадка с Черепниным: он написал И. И-чу, что ни с чем не согласен и хочет издавать все, как у него есть, т. е. и новую нумерацию статей, и перевод, и фотографию (а не фотовоспроизведение) и т. п., т. е. „учинился сильным44 по всему фронту». Б. А. Романов по поводу упорства спорящих недоумевал: «Поскольку рукопись Судебника I уникальна, то я не понимаю, почему не сделать уступки Черепнину и почему не пустить фототипию (но уж, конечно, не набор, для которого м [ожет] б [ыть] и шрифта не найдется, а мо
26
дерном набирать с титлами и прочей мурой просто безвкусно). Но не вижу резонов и другой стороне упорствовать, чтобы дать перевод к Ивану III: эта привилегия не имеет никакого оправдания в языке (он всюду одинаков)». Напряженность возросла в еще большей степени после того, как Л. В. Черепнин, дав согласие упростить принципы передачи текста Судебника 1497 г., с тем чтобы они совпали с принципами, которыми руководствовалась Р. Б. Мюллер при подготовке текстов Судебников 1550 и 1586 гг., на деле, как выразился Б. А. Романов, «перехватил и упростил текст до современного вида». Совещание, собравшееся по этому поводу в Ленинграде (в отсутствии Л. В. Черепнина) началось, по словам Б. А. Романова, «с того, что де надо Черепнина вновь подтянуть назад до Мюллер». Но затем, как пишет Б. А., им и Копаневым «поднят был вопрос, не оставить ли совершившееся в неприкосновенности, поскольку у Черепнина будет фототипия. Против последнего выступил С. Н. (Валк. — В. И.), что де типографский текст должен совпадать с фототипией! Заикнувшись, что тогда можно и отменить фототипию, как просто натуралистический снобизм, я затем бросил участие в разговоре^ тем более, что в него вступил Андреев с неясной тенденцией, под смешки, поддержать Черепнина. А затем его поддержал и И. И. (Смирнов.— В. П.) (как выяснилось потом,| он-то и попутал Черепнина на нарушение протокола). Затем вынул ,,святцы41 (т. е. переплетенные оттиски всяческих «правил») С. Н. и, во отвержение орфографии Мюллер цитировал Шахматова и др. в пользу того, чтобы раскрыть титла и спускать выносные „по современному11 — и Мюллер была опрокинута. . . Все это обсуждение по тону, на мой взгляд, носило безответственный характер. Мюллер мне потом с изумлением говорила, что она приняла свой способ передачи по указанию Андреева, полтора года корпела над вылавливанием вариантов, и вдруг такой поворот! . . .Зрительно меня это не устраивает» (15 марта 1951 г.). Б. А. сообщает, что «по инициативе С. Н. Валка предпринимается исправление в обработке текстов Судебников II и III, с упрощением правописания до принятого сейчас в СССР».
Верный своим взглядам, согласно которым «преимущественная задача советской археографии состоит в том, чтобы не жалеть усилий на создание максимально развитого и удобного обслуживающего памятник аппарата в виде всяческих указателей», которые Б. А. считал «в сущности душою издания», Б. А. был озабочен тем, чтобы и эта фундаментальная публикация была снабжена развернутыми указателями. Он сам разработал программу этой части книги, которую называл условно четвертым выпуском: «. . .хочу . . .организовать группку по созданию 4-го выпуска, с аппаратом, человека в три или в четыре рьяных людей, способных отнестись к этому делу без цинизма. Состав аппаратного выпуска — таблица соотношения статей и указатели: 1) Библиографический (с усл. сокр.). 2) Именной. 3) Географический. 4) Терминологический (судебниковый). 5) Предметно-терминологический (научн. понятия, термины, термины других источников и названия других источников)» (7 марта 1951 г.).
Это предложение Б. А. было принято, и образовалась «особая группка (с непременным участием Копанева)» (18 марта 1951 г.). 20 сентября 1951 г. Б. А. писал, что «Копанев с Савельевой трудятся над словником указателей вовсю».
Б. А. Романов внимательно следил за всеми процедурными моментами прохождения Судебников через официальные обсуждения, в частности в Археографическом совете Института истории в Москве. Он считал принципиально неприемлемым поручение А. А. Зимину подготовить официальный отзыв на Судебники для издательства, поскольку тот готовил свой комментарий к Судебнику 1550 г. по заказу Института государства и права АН СССР для «Памятников русского права». В этой связи Б. А. писал Б. Д. Грекову: «Ксения Николаевна (Сербина. — В. П.) привезла (из Москвы. — В. П.) всякие новости. Не разделите ли Вы следующие положения относительно одной из них.
1. Один и тот же предмет может быть предметом различных наук.. .
2. Судебник может быть предметом изучения языковеда (и это одно), историка права (и это другое) и историка общественно-политической жизни (и это третье).
3. Следовательно, и исследования о нем и комментарии к нему неизбежно должны быть различны в каждом из своих случаев.
4. Если историк будет мерить языковедческий или юридический комментарий своей меркой и вице-верса, то не будет ли он мерить яблоки метрами?
5. Если два лица (учреждения) издают один и тот же памятник, один, опаздывая против другого, что значит давать на решающий отзыв идущее впереди издание лицам, прикосновенным к опаздывающему? . .
6. В частности, принимая во внимание силу традиции, не грозит ли историкам-марксистам здесь опасность со стороны эпигонии „юридической" школы? Комментарии Черепнина показывают, что в сфере Судебника Ивана III самое позднее, что дала советская юридическая наука, это Сыромятников 1915-го года!».
В результате этого решительного демарша рецензирование издания Судебников было поручено другим лицам, и книга благополучно вышла в свет в 1952 г.
Следует отметить, что принципы комментирования правовых памятников, выработанные и осуществленные Б. А. при издании Судебника 1550 г., стремились реализовать и составители комментариев к «Законодательным актам Русского государства второй половины XVI—первой половины XVII в.» 10 — коллеги и ученики Б. А. Романова.
1 Романов Б. А. 1) Люди и нравы древней Руси (Историко-бытовые очерки XI—XII вв.). Л., 1947; 2) Очерки дипломатической истории русско-японской войны. 1895—1907. М.; Л., 1947; 3) Правда Русская: Комментарии / Сост. Б. В. Александров, В. Г. Гейман, Г. Е. Кочин, Н. Ф. Лавров и Б. А. Романов; под ред. Б. Д. Грекова. М.; Л., 1947. Т. 2.
28
2 Судебники XV—XVI веков / Подг. текстов Р. Б. Мюллер и Л. В. Черепнина; комментарии А. И. Копанева, Б. А. Романова и Л. В. Черепнина; под общей ред. акад. Б. Д. Грекова. М.; Л., 1952; Романов Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. 1895—1907 гг. 2-е изд., исп. и доп. М.; Л., 1955.
3 Смирнов И. И. Судебник 1550 г.//Исторические з.аписки. 1945. Т. 24. С. 267—352.
4 Романов Б. А. 1) Судебник Ивана Грозного (по поводу исследования И. И. Смирнова) // Исторические записки. 1949. Т. 29; 2) К вопросу о земельной политике Избранной рады (ст. 85 Судебника 1550 г.) // Там же. 1951. Т. 38; 3) О полном холопе и сельском попе в Судебнике 1550 г. //Академику Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия. М., 1952; 4) К вопросу о 15-рублевом максимуме в служилых кабалах XVI в. // Исторические записки. 1955. Т. 52.
5 Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30— 50-х годов XVI века. М.; Л., 1958.
6 Письма Б. А. Романова друзьям и коллегам (Е. Н. Кушевой, Б. Д. Грекову, В. И. Шункову, Н. Л. Рубинштейну, А. Л. Сидорову, М. И. Гефтеру и др. лицам) сохранились в виде машинописных отпусков в фонде Б. А. Романова архива ЛОИИ СССР (Ф. 298, on. 1). Далее ссылки на цитируемые письма Б. А. Романова не делаются.
7 Архив ЛОИИ СССР. Ф. 298. On. 1. № 105.
8 Там же. № 285.
9 Там же. № 113.
10 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI— первой половины XVII века: Комментарии / Авторы комментариев: Ю. Г. Алексеев, А. И. Копанев, Р. Б. Мюллер, Н. Е. Носов, В. М. Панеях, К. Н. Сербина; под ред. Н. Е. Носова и В. М. Панеяха. Л., 1987.
Б. В. АНАНЬИЧ
МЕМУАРЫ С. Ю. ВИТТЕ
В ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЕ Б. А. РОМАНОВА
Для Б. А. Романова С. Ю. Витте был не только современником, но и крупным государственным деятелем, за взлетами и падением карьеры которого в разгар русской революции Б. А., конечно, внимательно следил. В конце 1905—начале 1906 г., когда Витте, вернувшись из Портсмута, был возведен в графское достоинство и возглавил первое в русской истории объединенное правительство, а затем через шесть месяцев после этого был уволен царем в отставку, Б. А. был гимназистом старшего класса с уже определившимися профессиональными интересами и готовился к поступлению на историко-филологический факультет.
Оказавшись в отставке, Витте почти сразу же приступил к продолжавшейся вплоть до 1912 г. работе над своими мемуарами. Все это время Б. А. был полноправным студентом Петербургского университета и проходил наряду с общеисторической источниковедческую подготовку самого высокого класса у таких выдающихся представителей отечественной исторической школы, как А. Е. Пресняков, С. Ф. Платонов, С. В. Рождественский, А. С. Лаппо-Данилевский, Э. Д. Гримм и И. М. Греве.
Витте завершил работу над своими мемуарами в 1912 г. и написал краткое распоряжение о том, как и когда их печатать. Как раз к этому времени Б. А. закончил университетский курс и после сдачи экзаменов в 1912 г. был оставлен при университете для подготовки к профессорской деятельности. Конечно, когда Витте диктовал последние страницы своих воспоминаний в особняке на Каменноостровском, он и не подозревал, что судьба распорядилась таким образом, что в университете на Васильевском острове, можно сказать в двух шагах от него, уже подготовлен их самый проницательный и самый опасный для его репутации как мемуариста критик. Разумеется и Б. А., пока погруженный в изучение древних источников, и думать не мог, что через каких-нибудь
зо
десять лет в его руках окажется весь корпус документов, относящихся к политике Витте на Дальнем Востоке, включавший в себя даже то, что Витте умело скрыл от своих сотрудников по министерству и преемников на посту министра финансов. Не мог Б. А. и предполагать, что пройденная им источниковедческая школа сослужит ему верную службу при оценке и критическом разборе такого редкого по своей значимости источника XX в., как воспоминания Витте. Конечно, Б. А. не мог предвидеть, что в его профессиональной жизни этот источник займет со временем почти такое же место, как Правда русская или Судебник 1550 г.
Революционные события 1917 г. предрешили судьбу источника и его критика. Витте умер в последний день февраля 1915 г. Вся русская печать откликнулась на это событие. На какое-то время вспыхнул интерес к оставленным Витте мемуарам, но вскоре угас, заслоненный событиями войны и революции. Между тем рукопись их хранилась тайно в сейфе одного из французских банков, и неизвестно сколько бы ей там пришлось пролежать, если бы не падение монархии в феврале 1917 г. После февраля 1917 г. публикация рукописи уже не могла представлять опасности для ее владельцев.
В 1919 или 1920 г. рукопись мемуаров Витте оказалась в руках американских издателей. В 1921 г. появилось однотомное американское издание мемуаров на английском языке. В самом начале 1921 г. о приобретении права на издание мемуаров сообщило берлинское издательство «Слово». В конце 1921 г. в Берлине вышел в свет первый том «Воспоминаний» С. Ю. Витте на русском языке, а затем были изданы второй и третий тома. В 1923—1924 гг. появилось советское издание «Воспоминаний» под редакцией М. Н. Покровского.
С 1918 г. Б. А. —сотрудник Главархива; в 1921 г. он принимает решение заняться изучением дальневосточной политики царского правительства. Шаг несомненно поразительный по смелости для историка, получившего в столичном университете классическую историческую подготовку, взять и сразу окунуться в изучение современных ему событий. В своей вступительной речи на защите докторской диссертации Б. А. с благодарностью вспоминал Е. В. Тарле: «. . .он был единственным, кто в 1921 г. . . .в начале . . .подготовительных работ в этом направлении решительно высказался за законность этой темы в академическом плане».1
Имел ли выход в свет воспоминаний Витте решающее значение для Б. А. при окончательном определении им темы своего исследования? Ведь в 1921 г. в распоряжении Б. А. была огромная коллекция документов Министерства финансов, представлявшая широкие возможности для выбора темы. Нет свидетельств, позволяющих ответить на этот вопрос категорическим да. Несомненно одно, что на самой ранней стадии исследовательской работы над дальневосточной темой мемуары Витте стали, используя выражение Б. А., «в центре внимания в качестве наиболее трудно критически одолимого в глазах широкой публики источника»/
Выход в свет «Воспоминаний» Витте был воспринят как «откровение» и сразу привлек внимание историков, единодушно признав-
31
ших ценность этого издания. Однако именно Б. А. оказался одним из немногих, а быть может единственным исследователем, оценившим значение воспоминаний как источника. И. В. Гессен, подготовивший вместе со своим пасынком, историком С. Штейном, берлинское издание «Воспоминаний» Витте, отдавал себе отчет в «огромной исторической ценности» оказавшихся в его руках мемуаров, но готовил их к печати как книгу, имевшую несомненную политическую остроту, книгу о событиях, предшествовавших революции.
Безусловно, велика заслуга М. Н. Покровского в скором переиздании мемуаров в СССР, однако, как и И. В. Гессен, он увидел в них не ценный источник, а книгу, содержащую разоблачительный материал о царствовании последних Романовых. Покровский обнаружил в них сходство с обычными чиновничьими воспоминаниями, наполненными бюрократическими анекдотами, от обилия которых «читатель утомляется и готов закрыть книжку, но неожиданно блеснет яркая мысль или всплывет очень крупный, совсем не „анекдотический" факт, и снова прикует ваше внимание».3 Нужна была профессиональная проницательность Б. А., надо было находиться в Главархиве и опуститься в бездонную пучину делопроизводства Министерства финансов, для того чтобы оценить значение источника, понять, что главная тема мемуаров — происхождение русско-японской войны, тема, ради которой была начата над ними работа мемуаристом, и что без самой тщательной критики этого источника невозможно вести исследование дальневосточной политики царского правительства.
Итак, выбор темы нового исследования был уже определен Б. А. в 1921 г. А в 1922 г. вышло в свет его первое сочинение по истории дальневосточной политики: «Витте и концессия на р. Ялу», напечатанное в сборнике статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову.4 Обращала на себя внимание одна особенность этой статьи — ее подзаголовок: «Документальный комментарий к „Воспоминаниям" С. Ю. Витте». Год спустя Б. А. напечатал еще две статьи на эту тему. Первую их них «Концессия на Ялу. К характеристике личной политики Николая II» Б. А. Романов рассматривал как отчасти переработанное и дополненное «извлечение» из статьи «Витте и концессия на р. Ялу». Вторая статья — «Витте накануне русско-японской войны» также имела подзаголовок: «Документальный комментарий к „Воспоминаниям" С. Ю. Витте».5 Наконец, в 1924 г. появилась статья Б. А. «Лихунчангский фонд», очень важная для критического рассмотрения версии Витте происхождения русско-японской войны. В подстрочном примечании к этой статье Б. А. указывал, что она, подобно другим, уже появившимся в печати его статьям на эту тему, «носит характер» документального комментария к «Воспоминаниям» С. Ю. Витте.6
Итак, документальный Комментарий к «Воспоминаниям» С. Ю. Витте к 1925 г. уже разросся до весьма значительных размеров.
Б. А. показал несостоятельность попыток Витте внушить чтате-лю представление о «двух переплетшихся перед японской войной политиках — мирной, его, и Николая — захватнической. Николай— 32
Порт-Артур—Ялу—захват Маньчжурии—война: это одно. Витте—союз с Китаем—дорога—эвакуация Маньчжурии—соглашение с Японией: это другое».7 Б. А. писал, что политика Витте объективно вела к назреванию Дальневосточного конфликта и по существу своему мало чем отличалась от более грубой по методам политики Безобразова и К0. В статье «Лихунчангский фонд» Б. А. уличил мемуариста не только в попытках навязать читателю документально обставленною фальшивую версию происхождения русско-японской войны, но и в прямом обмане читателя. В своих «Воспоминаниях» Витте утверждал, что в переговорах с китайскими уполномоченными он только раз «прибег к заинтересованию их посредством взяток», чтобы избежать кровопролития в связи с захватом Россией Порт-Артура. Б. А. обнаружил документы так называемого «Лихунчангского фонда» (специального фонда на покрытие расходов на подкуп китайских дипломатов и официальных лиц) и установил, что за 1897—1902 гг. из этого фонда было сделано пять выдач на 1 млн 700 тыс. 947 руб. Порт-Артур-ская выдача — на втором по времени месте.8
«Как видим, — писал Б. А., — дело об „особом фонде" исчерпывающим образом опровергает. . . показание Витте о том, что к подкупу в Китае он прибег всего лишь. . . единственный раз. Не может быть сомнения, что забывчивость Витте тут не причем. Скромностью мемуариста можно было бы объяснить только простое умолчание — и непременно о всяком вообще политическом подкупе, как должностном секрете бывшего министра финансов. В данном же случае сообщение Витте носит грубо тенденциозный характер, изображая подкуп только как вынужденное средство для ликвидации последствий чужого „ребячества" и умышленно скрывая его, как неизбежное в данных условиях средство тактического развертывания собственного грандиозного политического плана Витте, — средство при этом отнюдь не диковинное и принимавшее на протяжении всей дипломатической истории международных отношений как европейских, так и внеевропейских стран самые разнообразные формы. Понятно, что Витте, — при его оценке русско-японской войны 1904—1905 гг., как кардинального расшатывающего фактора в судьбах Российской империи, — не было никакой охоты и никакого основания попадать в сообщество, как он выражался, „виновников злосчастной войны", какими он считал Николая II, Безобразова, Абазу, Алексеева и т. п.».9
В статье «Лихунчангский фонд» Б. А. показал размах империалистических замыслов Витте, процитировав весьма примечательную его помету на докладе военного министра А. Н. Куропаткина 1900 г. о задачах русской армии в XX столетии. На замечание Куропаткина, что России следует ограничиться сферою Северного Китая и не строить железных дорог южнее великой стены, Витте возразил: «Мы историческим путем будем итти на юг. Из-за Маньчжурии не стоило и огород городить. Весь Китай — все его богатства находятся преимущественно на юге. Но, конечно, это дело будущего».10
3 Заказ № 1143
33
Отвечая В. И. Невскому (незадолго до того в журнале «Печать и Революция»), упрекавшему Б. А. во все-таки снисходительной оценке роли Витте и писавшему, «что и Витте не прочь был повоевать, но только тогда, когда обстоятельства сулили России удачу», Б. А. возразил, что замечание это отнюдь «не расходится с. . . суждениями» и его самого.11
Историографически, как мне кажется, важна и затронутая Б. А. в этой статье тема о двух политиках на Дальнем Востоке. Еще в 1923 г. в очерке «Концессия на Ялу» Б. А. сделал попытку поставить вопрос о личной политике Николая II, опираясь на замечание И. И. Воронцова-Дашкова в письме Витте в 1903 г. о том, что его, Воронцова, поражает «двойственность в ведении. . . политики на Дальнем Востоке: царская официальная и царская же неофициальная, причем каждая имеет своих агентов, несомненно ссорющихся».12 Опираясь на это замечание, Б. А. пытался выявить именно личную политику Николая II, его личную роль в выработке внешнеполитического курса. Это раздвоение в политике в интерпретации М. Н. Покровского получило «особенно четкое» противопоставление, еще и с методологической окраской. В «Русской истории в самом сжатом очерке» М. Н. Покровский писал о двух политиках Витте и Николая на Дальнем Востоке, о первой, представлявшей собой «нормальный капиталистический империализм Витте», и второй — «первобытно-торгашеский» «феодальный» империализм Николая II.15 От этой формулы М. Н. Покровского тянется ниточка к существующей и ныне в литературе трактовке теории двух империализмов — «военно-феодального» и «капиталистического». Однако Б. А. в 1924 г. не принял этого прямого противопоставления, хотя и не опроверг его, отметив, что он сам имел в виду «столкновение двух тактических планов, в исполнении одной, по существу империалистической программы».14 Отношение Б. А. к М.( Н. Покровскому и его школе — предмет, требующий специального изучения, ибо замечания Б. А. в адрес М. Н. Покровского всегда были обусловлены: до 1929 г. фактом монопольного положения школы М. Н. Покровского, а позднее известным постановлением о ней.
Итак, можно сказать, что уже к 1925 г. в серии статей Б. А., написанных в качестве документального комментария к «Воспоминаниям» Витте, источник этот был подвергнут тщательному критическому разбору, а виттевская версия происхождения войны документально опровергнута Б. А. Романовым. Появившиеся в 1925— 1927 гг. публикации и статьи Б. А. по этой проблеме представляли собой лишь дальнейшее развитие темы.
Непонятным контрастом на фоне проведенного Б. А. критического исследования мемуаров Витте выглядела опубликованная Е. В. Тарле в 1927 г. небольшая книжечка: «Граф Витте. Опыт характеристики внешней политики». Дав в ней выпуклый и яркий портрет Витте, сравнив Витте с Бисмарком и Гладстоном, Тарле в свойственной ему свободной литературной манере пересказал и прокомментировал внешнеполитические события, описанные в ме-
34
муарах, целиком следуя концепции Витте, так, словно работ Романова вовсе и не существовало.
Между тем в конце 1927 г. Б. А. получил неожиданное для него предложение Ленинградского Восточного института издать уже опубликованные им этюды по истории Дальневосточной политики в виде отдельного сборника объемом в 7 печатных листов. Через год в результате этого заказа Б. А. Романов подготовил большую книгу— «Россия в Маньчжурии».15 Б. А. был страстным исследователем, обычно работавшим запойно, но на этот раз он оказался еще и в плену типографской машины. В типографии уже набрали 129 страниц запланированного сборника, когда было объявлено решение об увеличении объема книги, причем весь последующий текст должен был набираться тем же шрифтом. Остальные 400 страниц были написаны Б. А. в рекордно короткий срок, как он выражался, за счет «полного ночного времени». На сон отводилось всего несколько вечерних часов. Б. А. безжалостно подстегивал организм, утомленный дневной работой в архиве, курением, а иногда и рюмкой мадеры. Естественно, что когда «Россия в Маньчжурии» увидела свет, автор ее находился в состоянии крайнего нервного истощения, на грани болезни.16
«Россия в Маньчжурии» была во всех отношениях новаторской книгой, одной из первых советских работ по экономической истории, увидевшей свет задолго до того, как это направление получило у нас признание. Московский востоковед и историограф профессор В. Н. Никифоров, напечатавший к 80-летию Б. А. Романова в 1969 г. специальный очерк о нем в журнале «Народы Азии и Африки»,17 писал, что «Россия в Маньчжурии» во многих отношениях «значительно опережала. . . свое время и потому не была достаточно оценена современниками».18 Проведя анализ рецензий, появившихся на эту книгу, В. Н. Никифоров отмечал, что ее достоинства были обращены некоторыми критиками в недостатки. Факт, что история у Романова «не была безликой, выдавался за преувеличение роли личности», а то, что выводы автора выглядели не навязчивыми, истолковано как «недостаток анализа»; Б. А. обвинялся в «стилистическом карамзинизме», в пристрастии к «драматико-психологическим» эффектам.19 Самого Б. А. поразило болезненное отношение некоторых из его оппонентов к результатам проведенного им критического анализа мемуаров Витте, его версии происхождения русско-японской войны. «Один из моих уважаемых рецензентов, — писал позднее Б. А., — упрекал меня в том, что я буквально не даю повернуться Витте, чтобы тут же не ухватить его за икры. Сознаюсь, я принял этот упрек потом с большим удовольствием: с этим делом в этой книге мне хотелось покончить раз и навсегда, исчерпывающим образом, с корнем вырвать все бутафорские легенды вокруг Маньчжурской политики России, чтобы ни одной из них не дать возродиться вновь».20 В глазах этого рецензента критика в адрес Витте давала основание подозревать Б. А. в том, что тот и книгу свою написал «затем, чтобы обелить и оправдать царя Николая». Это было замечание со стороны представителя новой школы. Б. А. по-
з:
35
чувствовал себя в положении «аутсайдера», ибо и «один из видных представителей старой школы» (видимо, С. Ф. Платонов), похвалив «свежесть фактической ткани» книги, «не постеснялся» «при третьих лицах сказать», что когда изложение в книге «дошло до всех этих банков и займов» (а здесь для Б. А. «лежал нерв темы»), то «он заскучал и бросил чтение». «Он же тоном упрека, — поставил Б. А. риторический вопрос (по поводу Бьерке), —так Вы оправдываете здесь Николая? И, сделав паузу, парировал: а ведь это был злой и неумный человек, у него были зеленоватые злые глаза».21
Впрочем, эти критические замечания некоторых представителей старой и новой школы только показывают, насколько Б. А. был впереди по сравнению с традиционными представлениями о задачах и характере исторического исследования, существовавшими в 1920-е годы.
Витте создавал свой мемуарный арсенал в течение примерно пяти лет, а затем в течение по крайней мере трех лет распространял (в виде публикаций книг и статей, под чужими именами, псевдонимами и от собственного имени) концепцию о своей роли в событиях русской истории второй половины XIX—начале XX в. Витте опирался в этой работе на целый штат разного рода литературных помощников.
Б. А. Романову понадобилось в общей сложности по меньшей мере семь или восемь лет напряженного труда и поиска для того, чтобы документально опровергнуть виттевскую версию происхождения русско-японской войны. «Россия в Маньчжурии» поставила крест на этой версии в научном отношении, но не в историографическом.
Было бы неточно утверждать, что «Россия в Маньчжурии» не получила никакого признания. В 1930 г. она была награждена премией ЦКУБУ (250 руб.), и премия эта была весьма кстати, ибо Б. А. уже находился в это время в следственной тюрьме на Шпалерной и семья бедствовала. Дело С. Ф. Платонова—Е. В. Тарле только разворачивалось; впереди Б. А., как одного из привлеченных по этому делу, ждали годы унижений, страданий и отчаянных попыток вернуться к занятиям любимой профессией. Одна из таких попыток относится к событиям 1934—1937 гг.
В 1934—1935 гг. Б. А. написал популярную книгу «Русско-японская война. 1895—1905 (политико-исторический очерк)» объемом в 10 а. л. Летом 1936 г. ее рецензировал А. Л. Попов, предложивший либо еще упростить текст в расчете на массового читателя, либо усложнить его и приспособить для научного издания. Осенью 1936 г. Б. Д. Греков сообщил Б. А. Романову «о готовности дирекции Института истории печатать книгу как она есть, если ее одобрит НКИД».22 К этому времени Б. А. начал переделку текста, но не закончил ее и переслал рукопись в Москву. Народный комиссариат иностранных дел одобрил книгу. Однако издание ее не состоялось. А. Л. Сидоров, выступивший институтским рецензентом рукописи, потребовал ее «коренной переделки», а в случае несогласия на это автора переиздания «России в Маньчжурии», как «имеющей меньше ошибок». Рецензия была написана по свидетельству Б. А. в «снисхо-36
дительно-пренебрежительном тоне» и содержала несколько предложений автору, предусматривавших^ частности,«последовательное проведение ленинской теории по существу», «раскрытие ленинского содержания военно-феодального империализма», «серьезный пересмотр вредной политической тенденции», «расширение раздела о войне», введение главы о революции, «сокращение материала других глав». Сохранился черновик ответа Б. А. на эту рецензию, резкого и достаточно пространного, написанного в августе 1937 г.23 Ответ этот заслуживает специального анализа, который должен быть произведен с учетом, разумеется, того, что полемика эта велась именно в 1937 г., что А. Л. Сидоров писал отзыв о книге вчерашнего заключенного, после отбытия срока так и не восстановленного полностью в правах,и, наконец, что сам А. Л. Сидоров незадолго до того чудом избежал ареста. Позднее между Сидоровым и Романовым установились доверительные отношения, и Б. А. неизменно пользовался административным покровительством Сидорова, в котором постоянно нуждался, и его дружеским расположением.
Думаю, что в какой-то мере замечания Сидорова были приняты Романовым во внимание при работе над «Очерками дипломатической истории русско-японской войны», выросшими в конечном счете из рукописи, о которой идет речь.
Однако вернемся к полемике между Сидоровым и Романовым 1937 г., точнее к интересующей нас теме Витте в этой полемике. Сидоров в своей рецензии обвинял Романова в том, что он делает главным виновником войны Витте, «смазывая разницу» между Безобразовым и группой Витте—Ламздорфа, «снимает» ответственность» за войну с Николая.24 Отвечая на этот упрек, Б. А. сформулировал два очень важных замечания. Во-первых, что «политически всякий вариант прежней концепции, т. е. концепции, придуманной Витте, ,,виновников войны" — вреден, потому что теоретически несостоятелен и затушевывает агрессора в лице Японии», и, во-вторых, Б. А. дал оценку книги Б. Б. Глинского «Пролог русско-японской войны. Материалы из архива гр. Витте» (Пг., 1916).
Б. А. уже в первых своих работах высказал предположение, что книга эта представляла собой не что иное, как своеобразную часть мемуаров Витте, написанную им совместно с группой своих литературных помощников и опубликованную под именем Б. Б. Глинского. Это наблюдение Б. А. полностью подтвердилось, когда уже в 60-е гг. была обнаружена рукопись этой книги и стала ясна история ее издания. «Эта книга, — писал в 1937 г. Б. А., — ... явилась историко-политическим апофеозом ,,особливого", почти славянофильского, ,,культурного" и „мирного" русского империализма — представители которого. . . вовсе не рассчитывали лететь в пропасть вместе с царизмом».25 Таким образом Б. А. дал чрезвычайно интересную характеристику теории Витте о «мирном» экономическом проникновении в Маньчжурию, показав ее отчасти даже славянофильские корни.
Полемика с А. Л. Сидоровым в предельно корректной уже форме продолжалась в появившихся в 1947 г. «Очерках дипломатической
37
истории русско-японской войны» Б.А. Романова.26 Б. А. ввел в эту книгу специальный раздел о виновниках войны, разумеется поставив это понятие в кавычки. Здесь Б. А. весьма пространно аргументировал свое отношение к проблеме в духе предшествовавших «Очеркам» исследований. Редактором «Очерков» был А. Л.Сидоров, заявивший в примечании к этому разделу о своем несогласии с концепцией Б. А. Романова. В 1955 г. вышло второе издание очерков, на этот раз редактором книги был академик Е. М. Жуков, не высказавший никакого несогласия с романовской концепцией.27
Казалось, замысел Б. А. покончить с бутафорскими легендами вокруг Маньчжурской политики России наконец-то одержал победу не только в научном, но и в историографическом плане. Однако в 1973 г. в издательстве «Мысль» появилось двухтомное сочинение «Международные отношения на Дальнем Востоке» под редакцией и с послесловием Е. М. Жукова. Раздел, посвященный концу XIX— началу XX в., написан в этой книге академиком А. А. Губером. Витте в этой книге — политик, защищавший умеренный курс и настаивавший «лишь на экономической экспансии», а Безобразов и К0 — «представители авантюристического курса, боровшиеся против „триумвирата44 министров иностранных дел, военного и финансов во главе с Витте, которые были склонны тормозить опасное развитие экспансии на Дальнем Востоке».28
А. А. Губер не полемизировал с Б. А. Романовым, аккуратно ссылался на его работы, как, впрочем, и на «Воспоминания» Витте и сочинение Глинского, а также на материалы Архива внешней политики России, в который Б. А. на протяжении всей своей жизни так и не был допущен. Однако А. А. Губер не привел никаких новых данных, которые позволяли бы пересмотреть концепцию Б. А. Между тем позиция Губера не согласуется с оценкой дальневосточной политики России не только в трудах Б. А., но и в опубликованном в 1963 г. втором томе «Истории дипломатии», написанном академиком В. М. Хвостовым, где Витте представлен «зачинателем экспансивной политики царизма на Дальнем Востоке».29
Впрочем, мы сталкиваемся с различной оценкой роли Витте в Дальневосточной политике России и в зарубежной историографии. В своей вступительной речи на защите докторской диссертации Б. А. говорил об американских сочинениях по Маньчжурской проблеме, в которых «Воспоминания» Витте «цитируются как свод законов».30 К числу подобных сочинений можно отнести изданную в 1958 г. книгу американского историка Андрея Малоземова «Дальневосточная политика России. 1881 —1904 гг.». А. Малоземов произвел сопоставление книги Б. Б. Глинского «Пролог русско-японской войны» (т. е. мемуаров Витте, изданных под именем Б. Б. Глинского) с «Россией в Маньчжурии» Б. А. Романова и пришел к выводу, что книга Глинского «написана честно», а Романов использует неблагоразумно составленные документы для дискредитации их авторов, и в первую очередь Витте.31
Вместе с тем в общем курсе по истории России с 1801 по 1917 г. известный английский историк Ситон Уотсон со ссылкой на 38
работы Б. А. Романова, как, впрочем, и на А. Малоземова, приходит к следующему заключению: «. . .наивно было бы всю ответственность за Дальневосточную авантюру возложить на Безобразова и К0, а причину конфликта видеть в том, что Николай II не внимал мудрым советам Витте».32
Упреки в адрес Б. А. за предубежденное отношение к Витте лишены оснований. Именно Б. А. Романов первым по достоинству оценил мемуары Витте как источник, именно он подверг критике центральную тему мемуаров, придав источнику тем самым еще большую ценность. Именно в работах Б. А. Романова дан наиболее яркий и исторически точный портрет Витте; достаточно вспомнить замечательный очерк Б. А. «Витте как дипломат».33
Мемуары Витте стали для Б. А.-исследователя источником, к которому он возвращался на протяжении всей жизни, хотя на трагических поворотах его творческой судьбы Б. А. порою зарекался продолжать занятия историей внешней политики России XX столетия. Так было, в частности, в трудном для Б. А. 1948 г., когда после обсуждения 16 января 1948 г. в секторе ЛОИИ «Очерков дипломатической истории» у него осталось ощущение, что институт отрекся от книги, которая «шла по Москве» и занял позицию «по меньшей мере просто нейтралитета с оттенком ,,умывания рук“». 25 с лишним лет посвящено было работе в этой сфере, вспоминал Б. А., «много было терниев, рисков и сомнений» на его пути «беспартийного кустаря-одиночки». Он нуждался в поддержке, и его не мог удовлетворить даже «дружественный нейтралитет».34
«Вся жизнь моя прошла на положении „аутсайдера" нашей науки (чтобы избежать польского термина «попыхадло»), — писал Б. А. в феврале 1948 г. Б. Д. Грекову. — И мне горько было бы и дальше оставаться в этом положении».
Б. А. отказался от работы над новой монографией «Россия в Персии» и сделал заявку на книгу «Русское общество XIV— XVI вв.», имея в виду «заполнение лакуны», оставшейся после «Великорусского государства» А. Е. Преснякова.35 Однако обстоятельства сложились так, что последней крупной опубликованной работой Б. А. стало второе издание «Очерков дипломатической истории русско-японской войны», последней незавершенной работой — сборник документов агентов Министерства финансов, представителей Витте за границей, и, наконец, последней работой, которую Б. А. обдумывал, но к которой так и не успел приступить, — было комментированное академическое издание мемуаров Витте.
1 Архив ЛОИИ СССР АН СССР. Ф. 298. On. 1. Д. 75.
2 Там же.
3 Витте С. Ю. Воспоминания. Царствование Николая II. Л., 1924. T. 1. С. XIII.
4 Романов Б. А. Витте и концессия на р. Ялу: Документальный комментарий к «Воспоминаниям» гр. С. Ю. Витте // Сб. статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову. Пг., 1922. С. 425—429.
5 Романов Б. А. 1) Концессия на Ялу. К характеристике личной политики Николая II // Русское прошлое. Пг., 1923. Т. 1. С. 87—108; 2) Витте накануне русско-
39
японской войны: Документальный комментарий к «Воспоминаниям» гр. С. Ю. Витте//Россия и Запад. Пг., 1923. Т. 1. С. 140—167.
6 Романов Б. А. «Лихунчангский фонд»: Из истории русской империалистической политики на Дальнем Востоке//Борьба классов, 1924. № 1—2. С. 77—126.
7 Романов Б. А. «Лихунчангский фонд». . . С. 82.
8 Там же. С. 83, 124—126.
9 Там же. С. 85.
10 Там же. С. 90.
11 Там же. С. 81.
12 Р о м а н о в Б. А. Концессия на Ялу. . . С. 84.
13 Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке. М., 1923. Т. III. Вып. 1. С. 82.
14 Р о м а н о в Б. А. «Лихунчангский фонд». . . С. 81.
15 Россия в Маньчжурии (1892—1906): Очерки по истории внешней политики самодержавия в эпоху империализма. Л., 1928. 607 с.
16 Архив ЛОИИ СССР АН СССР. Ф. 298. On. 1. Д. 75.
17 Никифоров В. Н. Борис Александрович Романов: К восьмидесятилетию со дня рождения // Народы Азии и Африки. 1969. № 3. С. 206—210.
8 Там же. С. 209.
19 Там же.
20 Архив ЛОИИ СССР АН СССР. Ф. 298. On. 1. Д. 75.
21 Там же.
22 Там же. Д. 158.
23 Там же. Д. 66.
24 Там же.
25 Там же.
26 Романов Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. 1895—1907. М.; Л., 1947. 343 с.
27 Р о м а н о в Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. 1895—1907. 2-е изд., исп. и доп. М.; Л., 1955. 695 с.
28 Международные отношения на Дальнем Востоке / Под ред. Е. М. Жукова. М., 1973. Т. 2. С. 209, 223.
29 X в о с т о в В. М. История дипломатии. М., 1963. Т. 2. С. 545.
30 Архив ЛОИИ СССР АН СССР. Ф. 258. On. 1. Д. 75.
31 Malozemof f A. Russian Far Eastern Policy. 1881—1904. Berkeley and Los Angeles. 1958. P. 319. См. также: Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Опыт критики мемуаров С. Ю. Витте (в связи с его публицистической деятельностью в 1907— 1915 гг.) // Вопросы историографии и источниковедения истории СССР. М.; Л., 1963. С. 325.
32 Seton Watson. Huge. The Russian Empire. 1801 —1917. London, 1967. P. 588.
33 P о м а н о в Б. А. Витте как дипломат (1895—1903 гг.) //Вести. Ле-нингр. ун-та. 1946. № 4—5. С. 150—172.
34 Архив ЛОИИ СССР АН СССР. Ф. 298. On. 1. Д. 158.
35 Там же.
Р. III. ГАНЕЛИН
Б. А. РОМАНОВ — ИСТОРИК
РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
Историографическая судьба Б. А. Романова и его научного наследия сложилась таким образом, что именно как историк революционного движения он пользовался и пользуется наименьшей известностью. Однако при ближайшем рассмотрении это трудно признать оправданным. Историко-революционным сюжетам посвящено более 20 его работ, значения которых — здесь будет предпринята попытка показать это — нельзя недооценивать. Дело здесь, вероятно, в том, что Б. А., как и многие другие выдающиеся историки, известен прежде всего благодаря своим книгам. Однако (хотя он говорил о себе: «Я не журналист») статьи его по глубине анализа источников и яркости изложения ничуть не уступают книгам. Они прочно заняли свое место в исторической журналистике 1920-х гг., в целом сыгравшей исключительную роль для сохранения основ исторической науки в труднейший для нее период.
Разумеется, послереволюционный триумф скептического отношения к различным отраслям гражданской истории, не распространявшегося на активно развивавшиеся историко-революционные исследования, создал в среде историков-профессионалов против историко-революционной тематики известное предубеждение. Это предубеждение распространялось и на занятия Б. А. дальневосточным вопросом; С. А. Жебелев говорил ему: «. . .паровозы, вагоны, это — не история». Интимные для свергнутого режима темы многим казались неприкосновенными. Но молодые люди старого профессионального закала, как А. А. Шилов, С. Н. Валк, Б. А. Романов, С. Н. Чернов в Ленинграде, Б. П. Козьмин в Москве, так не считали и своей деятельностью способствовали научному становлению, как выразился Б. А., «вопроса, не бывшего никогда предметом систематического изучения и, главное, свободного преподавания, не имевшего „кафедры" и не образовавшего „школы"»,1 влияли на профессионализа-
41
цию историко-революционной литературы, создававшейся участниками событий и новым поколением историков партии и освободительного движения, а также публицистами.2
Известно, что Б. А. Романов (как и С. Н. Валк, Е. В. Тарле и некоторые другие петроградские историки) оказался после Октябрьской революции сотрудником новых архивных учреждений, возглавлявшихся здесь С. Ф. Платоновым и А. Е. Пресняковым. Разумеется, колоссальный массив первоклассных документальных источников, оказавшийся в руках этих историков, сыграл решающую роль в их переориентации. Нельзя, однако, не отметить, что первым печатным выступлением Б. А. в области «модерна» — а он сам, как известно, делил свою деятельность на «антик» и «модерн» — была никак не связанная с его архивной работой рецензия на первый том протоколов Брест-Литовских мирных переговоров, напечатанная в 1920 г. в книге 1 журнала «Дела и дни». Столько историографических злоключений пришлось впоследствии претерпеть этой теме, что диву даешься, как просто и ясно выразил историк старой школы суть дела, показал и внутрипартийные, и межпартийные разногласия по поводу Бреста.
Б. А. начинал свою рецензию едва ли не с самого острого, связанного с Брестом, сюжета — с упоминания о том, что в борьбе вокруг заключения мира с Германией «не исключалась и наличность предварительного соглашения между Советской властью и Вильгельмом И». Он опирался при этом на вводную статью к «Мирным протоколам в Брест-Литовске», написанную Л. Д. Троцким, озаглавленную «Брестский этап» и содержавшую, по словам Б. А., «объяснение и обоснование брестской политики Советского правительства и в двух-трех штрихах выразительные наброски главных действующих лиц». «Казалось, Брестский мир открывал длительную эпоху экономического порабощения и унижения России; аппарат советской диктатуры становился как бы аппаратом юнкерской Германии на предмет расхищения и эксплуатации богатств и живой силы страны, а в случае его непригодности заменен был бы, м. б., и иным, но все в тех же целях», — излагал Б. А. распространенный тогда взгляд. «Можно сказать, что в тот момент только незначительная кучка людей, — продолжал он, отметив как характерный факт, что «ни А. А. Иоффе, ни Троцкий, оборвавшие переговоры отказом подписать договор, по принципиальным основаниям не поехали в Брест для подписания окончательного текста», — и во главе ее Ленин уверенно держали курс на пресловутую „передышку" и поставили ставку на эфемерность Брестской „петли" — и оказались правы. 16—22 марта 1918 г. состоялась ратификация мирного договора, а затем развернулся ряд военных неудач Срединного союза, и к ноябрю того же года крах Гогенцоллернской империи стал совершившимся фактом. Аннулирование Брестского договора мелькнуло тогда поистине само собою разумеющейся и никому не нужной формальностью». Это была поверка практических действий людей революционно-интернационалистского лагеря исследовательским мышлением историка-профессионала строгой академической выучки. 42
Оценивая Брест, Б. А. вовсе не склонен был считать его манной небесной, счастливым, а не вынужденным и единственным выходом из ультимативного положения. «Расплата за Брест последовала в Версале, — писал он, — и оказалась не менее суровой, гораздо более длительной и чрезвычайно реальной. И после того наша страна продолжает свой путь испытаний; но „Брестский этап“ пройден и как этап становится достоянием истории».
Засвидетельствовав свое признание бесспорной правоты линии Ленина, Б. А. показал сущность тактики Троцкого «ни мира, ни войны». Он не излагал тех оснований, по которым Троцкий придавал в Бресте такое значение разоблачению политики правительства Вильгельма II (Троцкий считал препятствием к заключению мирного договора с ним призывы к его свержению, обращенные к германскому пролетариату). Однако агитационный смысл тактики Троцкого был исчерпывающе охарактеризован в рецензии Б. А. «Нужно удивляться, — писал он, — почему противная сторона в течение 20 заседаний поддерживала иной раз очень для нее неудобную и рискованную дискуссию, смысл которой (при гласности заседаний) для Советской делегации — на этот раз с Троцким в качестве председателя — заключался исключительно в агитационном разоблачении завоевательной программы германского правительства. К 10 февраля (28 января), когда достигнута была полная ясность ее размеров предъявлением карты с начертанной восточной границей германской военной оккупации, закончился второй период переговоров — памятным заявлением Троцкого о выходе из войны без подписания договора».
Собственно, Б. А. дал в 1920 г. ту оценку договора и политической ситуации вокруг него, которая должна, наконец, занять свое место в современной науке. Для публикаторов-непрофессионалов, каковыми, по-видимому, были издатели протоколов, разумеется, имели серьезное значение сделанные в рецензии Б. А. замечания археографического свойства. Но с архивной работой Б. А. это его вторжение в область «модерна» прямо связано не было.
Иначе обстояло дело с появившейся в следующем, 1921 г., работой, стоявшей как бы между «антиком» и «модерном». Она носила название «Эпизод из хозяйственной жизни крепостной вотчины 19-го века. (По документам департамента полиции исполнительной Министерства внутренних дел)» и была помещена в кн. 1 «Архива истории труда в России». Как писал в своей рецензии на этот выпуск «Архива истории труда в России» А. А. Введенский, эта статья, «прячущаяся под скромным заголовком», дает несколько более того, что он обещает.3 От мелкого и среднего крепостного хозяйства, — отмечал Б. А. в начале своей статьи, — по ряду причин не дошло до нас сколько-нибудь цельного собрания документов, и поэтому то судебное дело, которое приключилось с одним из мелких помещиков и стало предметом рассмотрения в статье, оказалось почти единственным источником по истории хозяйственного быта такого хозяйства. Анализируя следственно-судебные документы, входящие в состав дела, Б. А. приходил к такому выводу: «. . .особенность, выгодно
43
отличающая наш исторический источник.. . состоит в том, что он при всей его единичности поступает в распоряжение исследователя в сопутствии как бы критического аппарата, точно постройка с нераспущенным еще техническим штатом, над ней работавшим, или труп в окружении всего медицинского персонала, последовательно вступавшего в лечение больного, и участников последнего консилиума, поставившего ему скорбный диагноз. Эта стройная многоголосица, без примеси причитаний, дает возможность двояко оценить раскрывающееся в ней явление мерками того и нашего века и помогает, взаимно их корректируя, найти производную, которая и будет подлинно историческою: как известно читателю, меткость глаза историка не абсолютна, и „недолет-перелет-попадание“ есть тоже закон и для твердого исторического суждения».
«Архив истории труда в России» был в сущности первым приступом к созданию истории рабочего класса и крестьянства как самостоятельных отраслей исторических знаний, имел своей целью изучение классовой борьбы и ее предпосылок. И «стройная картина» состояния хозяйства, остроумно созданная, по словам А. А. Введенского, путем выборки и комбинации ряда черт и деталей, почерпнутых из судебного дела, служила объяснению причин усиления эксплуатации крестьян помещиком.
Одной из характерных примет историографической ситуации того времени было появление воспоминаний деятелей старого режима — как правительственного, так и оппозиционного лагерей. В творческой судьбе Б. А. — этому посвящена в настоящем сборнике статья Б. В. Ананьича — ключевую роль сыграло появление воспоминаний С. Ю. Витте. Однако едва ли не первой в этом хронологическом ряду была фундаментальная книга лидера правого крыла российского либерализма Д. Н. Шипова «Воспоминания и думы о пережитом», вышедшая в Москве в 1918 г. Б. А., уже приступивший к тому, что он называл документальным комментированием воспоминаний Витте, откликнулся на книгу Шипова в т. 3 «Дела и дни» (1922 г.) статьей размером в 1,5 печатного листа, которая лишь формально могла быть отнесена к рецензиям. Статья — историко-психологический портрет российского политика, стоявшего на правом фланге либеральной оппозиции. К сюжетам шиповских мемуаров, особенно к трем попыткам переговоров между царизмом и либералами об их вхождении в правительство в 1905—1907 гг., впоследствии многократно обращались исследователи. Кадетская тактика в годы первой российской революции явилась предметом острой полемики между П. Н. Милюковым и В. А. Маклаковым в эмигрантских «Современных записках». Никто из последователей Б. А. не упомянул о нем как о своем предшественнике.
Между тем, осмысливая значение этой статьи, появившейся через пять лет после Октябрьской революции, нельзя не прийти к заключению, что в ней содержится ответ на этот кардинальный для судеб российской революции вопрос о природе либеральной оппозиционности, который связан с тем, существовала ли альтернатива коренным преобразованиям социалистического характера. И дан этот ответ 44
с помощью характеристики того, что Б. А. назвал «психическим складом Шипова». «Как старый режим, в Российской его разновидности, доживал свои годы с помощью исключительных положений, так этот психический тип спасал себя режимом „чрезвычайной охраны" сознания — от ясной и неумолимой постановки убийственных для него вопросов, а когда они ставились жизнью в упор и в полном объеме — воспринимал их лишь в двух измерениях и давал сбивчивые, почти исключающие друг друга ответы».
Б. А. произвел сопоставление точно и аккуратно воспроизведенных Шиповым его обращений-увещеваний к кадетам, с одной стороны, и к правительственной власти — с другой. Б. А. сделал это, по его словам, чтобы способствовать «большему уяснению социальной природы когда уклончивости, когда противоречивости, когда даже определенности работы такого сознания». Но в чем же состояло сознание Шипова, «миропонимание», как он сам его называл? Б. А. дал различные его определения. Он назвал это «земским евангелием Шипова», показав связь между отрицательным отношением его к идее народовластия и евангельским нравственным учением, усвоенным им в толстовском понимании. Наследственная монархия, — формулировал Б. А. основы шиповского мировоззрения, — лучше всего осуществляет функции власти, необходимой ввиду господства в мире зла, и «остается наиболее целесообразным орудием осуществления этической, примирительной и объединительной задачи государства, тем более действительным, чем теснее единение власти с народом. ..»
Уверенность в том, что в России, как кстати и в Англии, среди населения преобладают религиозно-нравственные стремления над правовыми интересами, толкала Шипова к принятию самодержавия. Отметив это, Б. А. показал неизбежность игнорирования в такой ситуации «т. наз. „левой опасности" для монархии, хотя бы и конституционной; для земства — хотя бы и расширенного в меру требований „социальной справедливости"; и для всего остального, чем жив и дышит Шипов». «Но тут-то и видно, что перед нами случай не физической глухоты, — продолжал Б. А., — а психической, или, точнее, некоторая туговатость на ухо, счастливо используемая инстинктом самосохранения».
Признать «левую опасность» означало для Шипова пойти за Столыпиным «либо признать свое „жизнепонимание" — ошибкою». А это «душевному обиходу» Шипова не соответствовало. Вот как характеризовал Б. А. это явление: «Моя собственная совесть, внутреннее устроение моей личности — в этом психическом складе господствуют безраздельно. Чистота и опрятность в душевном хозяйстве, мир и тишина в нем. Но и глубокое недоверие, теоретически обоснованное, к человеческой личности. В таком сочетании совесть человеческая оказывается не живым действующим началом, а предметом любовного, заботливого попечения, ревнивого охранения от искушений и испытаний».
Назвав свою статью «уменьшенным автопортретом Д. Н. Шипова», Б. А. высоко оценил его воспоминания как источник, отметив
45
«документальную насыщенность их для удовлетворения авторской добросовестности». «Насколько это свойство книги располагает к ней историка, ищущего правдивого и точного рассказа о случившемся, настолько оно же неблагоприятно отразилось на свежести, живости и непринужденности изложения. Если иной читатель склонен будет назвать эту книгу пресной, то тем хуже для читателя, не заметившего ясно высказанного в предисловии к ней намерения автора дать отчет в своих действиях и деятельности, а не занимательные мемуары. Автор прежде всего хочет быть правдивым и точным в передаче своего материала, и, как кажется, в этом успел».
«Правдивым и точным» — эти простейшие слова служили Б. А. для выражения самой утонченной и софистицированной оценки источника такого рода. У С. Н. Валка этому соответствовало слово «чистосердечный».
Одновременно в журнале «Книга и революция» (1922, № 3 (15)) Б. А. помещает рецензию на 5—7 книги «Русского исторического журнала», вышедшие в 1918—1921 гг. Из относящегося в этой рецензии к нашей теме отметим вмешательство Б. А. в полемику Б. Л. Модзалевского с М. О. Гершензоном по поводу написанного в годы заключения декабристом Батеньковым. Часть писаний Ба-тенькова была опубликована во 2-м томе «Русских Пропилеев» Гершензоном, который, считая их философскими произведениями и видя в них «многое нам непонятное», надеялся, однако, на то, что оно будет разобрано в будущем. Модзалевский же на основании найденных им в делах III отделения среди дел о декабристах переписки властей о заключенном в одиночке Батенькове и его письменных обращений к Николаю I считал, что Батеньков «был более или менее постоянно в состоянии совершенного сумасшествия», а его писания — «суть плоды больного мозга и расстроенного воображения». «Не всякий читатель, однако, удовлетворится таким выводом, — не соглашался с Модзалевским Б. А. Романов, — даже из числа тех, кто не взглянет на Батенькова как на „философа"; материал — и тот, что опубликован здесь автором, и тот, на который он только ссылается, — заслуживал бы более детального анализа, и не „историка" только, а и психиатра, для того чтобы вывод, на нем построенный, был интересен и обоснован научно».
Вероятно, это заключение Б. А. было связано с тем, что он имел в виду историко-психологический метод А. С. Лаппо-Данилевского, которому в этой рецензии Б. А. посвятил несколько прочувствованных, глубоко содержательных и очень выразительных фраз. «Колоссальные знания во всех отраслях исторической — и не только исторической — науки, — писал Б. А., имея в виду, надо .полагать, философию и психологию^ — подчинявшиеся строгой систематизации, которая вытекала из глубочайших запросов нравственной и умственной природы их воспринимавшего, сообщали ему неоспоримую авторитетность в роли руководителя научной работы или председателя ученого собрания». «Не только официальное положение, но и личные свойства умершего ставили его в руководящий и притягивающий центр многочисленных научных предприятий и комбинаций.
46
Неутомимый и точный, строгий и молчаливо требовательный к себе и другим, четкий и ровно внимательный ко всему, что раз было взято им в свое поле зрения и в свою сферу действия, весь какой-то обязывающий — Лаппо-Данилевский всем своим обликом и одним своим появлением вносил во всякое дело и любое собрание людей беспрерывную серьезность, внутреннюю дисциплину и всегда некоторую традицию, как бы ни было ново самое дело или безродно это собрание людей. Бессменный страж научности и культурности, неумолимый судья греха и мелкого преступления против обеих, покойный плохо прощал такие грехи и такие преступления».
Это было написано Б. А. в дополнение к двум его речам о Лаппо-Данилевском — юбилейной и поминальной — напечатанным в одной из рецензировавшихся им здесь книг «Русского исторического журнала».
В том же 1922 г. Б. А. вошел в собственно историко-революционную и историко-партийную тему, опубликовав рецензию на библиографический указатель А. А. Шилова «Что читать по истории русского революционного движения?» Эта рецензия представляла значительный интерес не только выше уже приведенной характеристикой истории революционного движения как отрасли исторических знаний, но и соображениями Б. А. по поводу составления библиографических пособий такого типа, ныне относящихся к разряду рекомендательной библиографии. Определяя значение для такого издания «сопутствующей роли составителя», Б. А. высказался за то, чтобы читатель не был предоставлен «самому себе, в лесу названий книг и статей по данному вопросу, выписанных в алфавитном порядке», но и не испытывал «скрытого руководящего давления составителя, где оно совсем не нужно». Читатель, писал Б. А., «не станет требовать, чтобы всякая книга или статья была бы ему адресована». Однако примером того, что читателю «как раз надо», считал Б. А., «две строчки, что „книги А. и М. являются лучшими для первого знакомства с деятельностью Радищева", хотя бы по прочтении всей указанной литературы о Радищеве» читатель «паче чаяния и не согласился бы с составителем».4
Эта рецензия открыла целую серию работ Б. А., прямо посвященных историко-революционной теме. Из папки всеподданнейших записок министра торговли и промышленности за 1916 г. он опубликовал два документа, посвященных петроградским октябрьским стачкам 1916 г. События эти имели чрезвычайное значение на пути к крушению царизма, и Б. А. назвал свою публикацию, вслед за тогдашней книжной новинкой, чрезвычайно интересной работой А. Г. Шляпникова — «Канун семнадцатого года». Показывая это, он не только взял название в кавычки, но и в кратком вступлении к своей публикации воспользовался напечатанными Шляпниковым документами, в том числе листовкой ПК большевиков. «Это было время крайне напряженное и в правящих кругах, — писал Б. А.,— 1 ноября предстояло открытие сессии Государственной думы и появление там впервые в роли министра внутренних дел Протопопова. Думский „блок" готовился дать парламентский бой штюрмеровско-
47
му кабинету. О провокации применительно к событиям 17—20 октября говорил не только вышецитированный листок ПК. Как обвинение версия о провокации со стороны Министерства внутренних дел была предъявлена Протопопову именно в дни этой стачки Шингаревым на известном „свидании" представителей думского блока с этим бывшим его членом на квартире Родзянки 19 октября». В своем вступлении он опирался также на дневник французского посла М. Палеолога, имевшего собственные сведения и о событиях 17— 20 октября у завода «Рено», и о политических оценках положения в высших сферах. Директора-французы этого завода рассказали своему послу, что окружавшая завод толпа стачечников кричала: «Долой французов! Довольно воевать!», а вызванная пехота «стала стрелять по полицейским», пришлось вызвать «четыре полка казаков», но казаки «налетели на пехотинцев и ударами пик загнали их в казармы». Штюрмер тем не менее удивил Палеолога, расценив случившееся как «эпизод, не имеющий значения». Но через несколько дней в разговоре с «генералом В. . .» посол убедился, что «наверху прекрасно отдают себе отчет в состоянии армии, и в частности петроградского гарнизона». В Петрограде и окрестностях расквартировано не меньше 240 000 человек, «скучающих» «рекрутов анархии», — рассказывал русский генерал французскому послу. «Следовало бы оставить в столице лишь 40 000 из лучших элементов гвардии и 200 000 казаков», «с этим отборным гарнизоном можно было бы парировать события». И генерал сказал: «Если бог не избавит нас от революции, ее произведет не народ, а армия».5 Октябрьские стачки 1916 г. в Петрограде Б. А. сумел увязать в своем кратком вступлении с предощущением роковых для империи событий в самых верхних эшелонах ее власти.
Обращение Б. А. к дневникам Палеолога не было случайным. Он выступил со специальной рецензией на них такого же типа, как уже разобранная нами, посвященная мемуарам Д. Н. Шипова.
Б. А. прежде всего дал источниковедческую характеристику дневника Палеолога, который, как он писал, мог быть назван «дневником лишь в том смысле, что литературный материал здесь разбит по дням; а в остальном это — цельное произведение со всеми признаками тщательной литературной отделки, составленное на основании первоначального дневника по возвращении автора во Францию, строго рассчитанное на вкусы среднего французского читателя и притом читателя уже одержавшей победу страны». С помощью принадлежавших Палеологу «словечек», как выражался Б. А., он воспроизвел те представления о революционной угрозе и будущности российской государственности, которыми с начала мировой войны делились с французским послом высшие сановники империи. Б. А. показал, что И. Г. Щегловитов, А. Н. Куломзин и А. В. Кривошеин порознь, но словно в один голос уверяли Палеолога, что неприкосновенность царизма и нерушимость монархических убеждений населения — единственная гарантия против революции. Но самого Палеолога, отметил Б. А., «смущало лишь, что самодержавие несовместимо с протяжением России, с развитием ее экономической
48
мощи и что ,,в положительном знании и в практическом проявлении верховной власти" Николай явно не на высоте своего положения».6
Давая характеристику последнего царя с помощью сведений Палеолога, исходивших от самых близких царю людей, Б. А. обращал внимание на трагические черты его личности, главную из которых он определял как «мистическую покорность судьбе и уверенность в собственном неудачничестве»; в частности, он воспроизвел собственные слова Николая II, сказанные в 1909 г. Столыпину: «Мне не удается ничего из того, что я предпринимаю. . . у меня глубокая уверенность, что я обречен на страшные испытания».
Однако в своей характеристике царя, продолженной в рецензии на воспоминания бывшего командира корпуса жандармов генерала Курлова «Конец русского царизма», Б. А. воспроизвел и рассказ Палеолога о том, с каким «блеском иронической радости в глазах» говорил Николай II о смерти Витте за завтраком в присутствии французского посла и ряда других лиц.7
В течение 1925 г. увидело свет тринадцать работ Б. А., посвященных истории революционного движения. За исключением одной — обстоятельной рецензии на изданную в Бодайбо книгу о «Ленском расстреле 9 января—4 апреля 1912 г.», содержавшей интереснейшие соображения об относительности разграничения понятий политической и экономической забастовки,8 все эти работы были связаны с двадцатилетием революции 1905 г. Как и в другие годы, но в 1925 г. в особенности часто, Б. А. выступал в «Красной летописи». С. Н. Валк рассказывал автору этих строк, что руководившая журналом старая большевичка П. Ф. Куделли всегда охотно печатала Б. А.
В первой из юбилейных работ о 1905 г., публикуя документы о позиции петербургских предпринимателей в январские дни, Б. А. охарактеризовал выдвинутое ими перед самодержавным правительством требование «европейского правового буржуазного конституционно-монархического государства, основанного на полном гражданском равноправии и так называемой свободе отношений труда и капитала». «Для данного момента, для начала массового революционного движения позиция буржуазии, — писал Б. А., — определилась — правда, на очень короткий срок — якобы „влево". Но это было только на первых порах и, как известно, не очень надолго».9
Тонкие историко-психологические наблюдения над логикой развития рабочего движения, закономерностями его политической организации в связи с январской забастовкой 1905 г. с уточнением даты одного из важнейших событий, из которых состоял этот непредотвратимый, по выражению Б. А., процесс, находим в других его работах, связанных с 9 января, в которых он, публикуя наиболее значительные документы тех лет, сопровождал их вступительными статьями.10
В рецензии на издание мемуаров Гапона «История моей жизни» Б. А. дал выразительную характеристику «человеческой личности» этого «героя навылет» как «совсем не случайной» черты «истории русской жизни вообще и рабочего движения в частности».11 И,
4 Заказ № 1143
49
наконец, блестящим источниковедческим этюдом стали рецензия Б. А. на переиздание Известий Московского совета рабочих депутатов в 1905 г. и первый сборник материалов «Пятый год». «Воспоминания, да еще написанные много лет спустя, могут сообщить больше деталей, передать переживания и настроения отдельных лиц и групп с их субъективной стороны, но мятущимся в восстании городом (во всем его живом единстве) дохнет на читателя, ближе всего и только, с городского дневника, каким и являются листки ,,Известий“, — писал Б. А. — А затем открывается широкая возможность обрастить эту основу любыми воспоминаниями отдельных участников событий, отдельных лиц, прошедших в те дни каждый своей, отмежеванной ему ходом событий более или менее узкой и путаной тропинкой».12
В следующем 1926 г., оставаясь в пределах интересующей нас здесь темы творчества Б. А., необходимо отметить появление составленного им сборника документов «Рабочий вопрос в комиссии В. Н. Коковцова в 1905 г.» со вступительной статьей Б. А. «Комиссия Коковцова и крупная буржуазия». Значение этого издания, продолжавшего прежние работы Б. А. в этой области, широко известно, и мы остановимся на появившейся в том году другой работе, означавшей экскурс Б. А. в новую и непривычную для него сферу — в историю гражданской войны и тем особенно интересной. Он откликнулся общей рецензией на три документальных издания о гражданской войне и союзнической интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке. Первым из них был доклад члена французской военной миссии в Петрограде Пишона, который, объехав сразу же после Октябрьской революции сибирские города, отказался «от ходячей мысли, что с хорошей палкой в руке можно восстановить и поддержать порядок у такого народа, как русский».13
С полной объективностью и величайшим тактом анализировал Б. А. стенограмму показаний А. В. Колчака перед Чрезвычайной следственной комиссией. Стенограмма допроса оценена здесь как исторический источник в связи с позицией тех, кто допрос проводил. При всей трагичности участи А. В. Колчака материал его допроса по поведению допрашивавших и вследствие этого поведения резко отличается от материалов позднейших допросов, связанных с насилием над волей допрашиваемых. Как отмечал Б. А., комиссия, допрашивавшая Колчака 21 января—6 февраля 1920 г., «задавалась целью дать путем этого допроса историю не только колчаковщины, но и автобиографию самого Колчака. В зависимости от этого стенограмма дает почти связный рассказ о жизни допрашивавшегося, начиная с детских его лет, рассказ, изредка перебиваемый вопросами членов комиссии, но отнюдь не обрываемый бесповоротно. Только на последнем дне допроса резко отразилось в этом смысле нервное желание допрашивавших ввиду предстоявшего в этот день расстрела Колчака забежать несколько вперед и выяснить хоть некоторые подробности периода диктатуры, до которого только-только успел дойти в своем рассказе Колчак накануне. Ввиду такой особенности „допрос" дает четкий автопортрет Колчака; рассказ свой он вел, по признанию председателя комиссии, с достаточной 50
откровенностью и полным достоинством, зная об ожидавшей его участи, не ищя поводов снискать себе снисхождение врага и отнюдь не бравируя».
В показаниях Колчака Романов отыскал и проследил ту жизненную линию, которую определил как немаловажную причину неприятия им (и не только им, но и многими его товарищами по оружию) революции, означавшей выход из войны с Германией. «Существенно важно для понимания Колчака, — писал Б. А., — то, что с первых же шагов его работы по возрождению русского флота после разгрома в 1904—1905 гг. она протекала под знаком твердо усвоенной мысли о неизбежности вести всю боевую подготовку вооруженных сил России в расчете на мировую войну в союзе с Антантой против Германии. Эта мысль и вошла немаловажным слагаемым в его психический комплекс, и он был естественным противником Октябрьской революции. ..Ив дальнейшем перед Колчаком не перестает стоять на первом плане необходимость личного участия в борьбе с германской коалицией в рядах Антанты, где бы временно ни протянулся этот воображаемый германский фронт. Нет нужды искать в Колчаке политика: любая страница его на редкость цельных показаний отбивает охоту трактовать Колчака в этой плоскости».14
Б. А. сопоставлял эти показания с воспоминаниями ген. В. Г. Болдырева «Директория. Колчак, интервенты». Он исходил при этом из того, что «на всем тоне, в каком идут у Болдырева записи о Колчаке», отразилось ревнивое отношение к Колчаку мемуариста, бывшего первым кандидатом в диктаторы. «Именно поэтому, — писал Б. А., — кухню переворота можно рассмотреть с мыслимыми вообще подробностями в книге Болдырева с максимальной личной невыгодностью для Колчака и найти здесь подтверждение тому, что рассказывает последний о своем участии в перевороте. Дело было во всяком случае не так просто, что кандидат, вполне подготовленный англичанами еще на Дальнем Востоке, явился добиваться с их помощью желаемой им персонально для себя всероссийской неограниченной власти: даже Болдырев устанавливает, что так это не было».15 Средствами источниковедческого анализа Б. А. создал целомудренно реалистический и объективный исторический портрет Колчака, не поддавшись господствовавшему тогда чувству классовой ненависти.
В 1929 г. в «Красной летописи» появилась новая публикация материалов о петербургской январской забастовке 1905 г. со вступительной статьей Б. А.16 В 1930 г. он был арестован, и в его работе наступил перерыв. О том, как он возвращался к исследовательской работе и какую роль играла в этом историко-революционная тема, позволяют судить три приводимых ниже письма его товарищу студенческих лет П. Г. Любомирову. 17 Ленинград, 15.XII.33.
Дорогой Павел Григорьевич, я очень тронут твоим предложением работы у Граната и, разумеется, готов взять на себя 1881 —1906 гг. Уполномочиваю тебя на все связанные с этим решения и шаги. Само собою понятно, что мне приятнее: 1) наибольший срок, 2) наибольший листаж и 3) (на третьем месте) наибольший
4
51
гонорарий. Последнему я придаю наименьшее значение и не мечтаю больше твоего (300 р. за 40 000 букв?). Первого же боюсь больше всего, т. е. боюсь краткости срока и спешки в работе. Сам поймешь, что не писать З1 /2 года — и вдруг!! Пока я никакой работы не имею — и это одно. Но если, паче чаяния, я ее заимею, то вопрос о сроке станет грозным. Итак, предложение принимаю. — Оно пришло как нельзя более кстати, т. к. недели 2—3 я перешел к капитальным поискам работы. Принципиальные ауспиции благоприятны, но на деле что еще будет (среди года!), как знать! — Мне очень любопытно знать, кто у Граната заговорил с тобой обо мне и по чьей инициативе. — Кто пишет 1801 —1881 гг.? Если можешь, то дай мне и кое-какие руководящие указания о структуре, уклоне и т. п. предполагаемой работы. Можно ли ее представить в рукописи или на машинке? Машинки моей, увы, нет. — Столь же тягостна мне и полная утрата всех собранных мной научных материалов (на 2 книги, не считая мелочей!) — удар, который я еще как следует не пережил. — Рад был узнать, что ты работаешь в Ист. Музее; не у Павла ли Ивановича? Передай ему привет. Но как ты справляешься со всеми своими работами?! — Твоя книжка о промышленности лежит у меня на очереди. Спасибо, что не забыл прислать.
Ну, буду ждать твоего ответа, а тем временем буду обдумывать и план работы. Привет Екатерине Федоровне и сыну. Леля тоже весьма тронута твоим письмом и шлет привет. Мэтр будет писать тебе особо. Крепко жму руку. Твой Б.
Р. S. Живу со своими — уже три месяца. Много читаю и постепенно вхожу во вкус и в курс. Сил только мало, утомляемость большая. Понемногу работаю над рукописями А. Е. Преснякова и веду разговоры об устройстве их хранения и об издании био-библиографической памятки, а м. б. и переиздании некоторых его статей. Всем этим весьма утешаюсь. — Если бы не вышло дело с этой работой у Граната, то не забудь меня и впредь при случае — у того же Граната или инде где. — У меня осталась ненапечатанной книга в 4 лл. о Русско-Японской войне, заказанная мне Ком-академией и одобренная ею в свое время. Теперь здесь Соцэкгиз в разложении. Я бы склонен был ее переделать и расширить хотя бы до 10 лл.!! Кроме того, ищу переводов — любых! (особенно с английского).
Словом, на первых порах меня больше прельщает работа в печати, чем служба.
21. VI.34.
Дорогой Павел Григорьевич, спешу уведомить тебя, что вчера, наконец, я получил паспорт на 3 года. Дошел до состояния крайней депрессии и полной утраты работоспособности. Теперь чувствую себя значительно лучше, и голова начинает работать. Работа моя едва двигалась, но уже за один вчерашний день вижу иной ход мысли. В общем готово около 3/4 листа, и самые трудные начальные моменты пройдены. Статья явственно разрастается, ибо в указанном размере поместилось изложение до мая 1882 г. Дальше, конечно, пойдет короче, но материалу еще много и меньше 3 листов будет едва ли. При тебе ли это было, что ЭЭД приглашен на ист. факультет по истории средн, веков и в Гаимке ему поручено заведование кафедрой зап. феодализма и вся редакция учебника? Он сейчас ушел в отпуск из Б-ки и, видимо, с подъемом работает дома и в заседаниях. Я очень рад за него. Сам я еще, разумеется, никак не устроен — в один день этого не бывает, но будет же когда-нибудь! Не менее рад был и на тебя глядя, столько в тебе бодрости и работоспособности. Желаю тебе всякого успеха в работе и разрешении жилищного вопроса. Сердечный привет от всех нас тебе и Екатерине Федоровне cum familia. Твой Б.
30.IX.34.
Дорогой Павел Григорьевич, вчера подписал с ГАИМК договор на издание курса Ал-дра Евгеньевича. Начинается у меня гонка: с начала сентября подписан договор на Рус-Яп войну, а срок для обоих — 15 ноября (А. Е. — 1 том). Все изд. А. Е. д. б. кончено к 1 марта — с моей стороны. А сейчас занят еще и мемуарами Ллойд-Джорджа. Как видишь, дела мои крупно повернулись на 180°. Слыхал, что и у тебя нагрузка большая, хотя и другого типа. Весьма рад за тебя. Думаю, что этот год всецело построится на писательстве, без служебных часов, чему весьма рад. Кипарисов говорил мне, что он хочет вовлечь меня в штат ГАИМК, но когда он это рассчитывает сделать, не сказал — вероятно, не раньше 1 января. — При наличности двух периодич. .органов — ИАИ и ГАИМКа — всегда можно выступить и печатно, было бы только время. — Живем, в связи с изложенным, несколько лучше, в частности 52
морально. Не жду ответа, учитывая твою занятость. Привет Екатерине Федоровне и тебе от нас всех. Твой Б.
Р. S. Намечается еще одно длительное литературное предложение, но пока это совсем вчерне. Если да, то устроит меня окончательно.
Отметим, что работа для энциклопедического словаря Граната была Б. А. начата, но не завершена. Ее результат — оставшийся ненапечатанным, сохранившийся в бумагах Б. А. небольшой ярко написанный этюд «Врастание царизма в империализм». Что касается литературного предложения, упоминаемого в постскриптуме к последнему письму, то речь идет, по всей вероятности, о хрестоматии (ок. 40 п. л.) и историческом очерке (ок. 6 п. л.) на тему «Революция 1905 г. и западноевропейская пресса». Завершенные в 1936 г., эти работы были заказаны Ленсоветом, но не увидели света.
Вскоре после этого характер и направление историко-революционных исследований изменились таким образом, что участие в них ученого типа Б. А. стало невозможным.
1 Романов Б. А. Рец.: А. А. Шилов. Что читать по истории русского революционного движения? // Былое. 1922. № 20. С. 295.
2 См.: Г и н е в В. Н. С. Н. Валк и народовольцы // Историографический сб. Саратов. 1980. Вып. 8. С. 183—201.
3 Кн и г а и революция. 1922. № 3 (15). С. 62.
4 Былое. 1922. № 20. С. 295—297.
5 Красная летопись. 1924. № 2. С. 202—204.
6 Романов Б. А. Рец.: Морис Палеолог. Царская Россия во время мировой войны; Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции. 1923 // Красная летопись. 1924. № 1(10). С. 264—273.
7 Борьба классов. 1924. № 1—2. С. 345.
8 Красная летопись. 1925. № 1 (12). С. 272—275.
9 Там же. С. 48—49.
10 К характеристике Талона: Некоторые данные о забастовке на Пути-ловском заводе в 1905 году // Красная летопись. 1925. № 2 (13). С. 37—48; Путилов-ский завод в январе—августе 1905 г. в освещении заводской администрации //Там же. 1925. № 3 (14). С. 175—178.
11 Там же. 1925. № 3 (14). С. 269.
12 Там же. С. 271.
13 Там же. 1926. № 3 (18). С. 179.
14 Там же. С. 179—180.
15 Там же. С. 182.
16 Там же. 1929. № 6 (33). С. 25—44.
17 Отдел письменных источников Государственного исторического музея. Ф. 470. Е. хр. 234. Л. 1—4.
к. Н. СЕРБИНА
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Б. А. РОМАНОВЕ
О Б. А. Романове я слышала еще со студенческих лет от М. Д. Приселкова и А. И. Андреева. Первый говорил о Б. А. как об ученике А. Е. Преснякова, с которым Приселков был очень дружен, а второй как об участнике кружка А. С. Лаппо-Данилевского. В ту пору я еще не была знакома с Б. А. Впервые я увидела его и познакомилась с ним в 1928 г., когда вместе с Р. Б. Мюллер пришла в университет на заседание исторического кружка. На обратном пути, по дороге к трамваю нас нагнал Б. А., и мы пошли вместе. Б. А. представился нам и выяснил, кто мы такие. Тогда Б. А. произвел на меня впечатление чрезвычайно оригинального и эмоционального человека, образ которого совершенно не укладывался в привычные строгие академические рамки.
Вторично я увидела Б. А. на похоронах А. Е. Преснякова, где не могла не обратить внимание, как тогда Б. А. глубоко и тяжело переживал смерть своего учителя.
Следующая моя встреча с Б. А. произошла уже в 1933 г., когда он начал работать на договорных началах в ГАИМК — давал отзывы на труды сотрудников этого учреждения. Отзывы его поражали не только обстоятельностью, тщательностью, эрудированностью, но и способностью Б. А. всегда найти и высказать свою точку зрения. Его отзывы зачастую почти перерастали в параллельные исследования на тему рецензируемой им статьи или книги. Особенно мне запомнилось заседание, на котором обсуждалась работа Н. Н. Воронина «К истории сельского поселения феодальной Руси. Погост, слобода, село, деревня» (Известия ГАИМК. Л., 1935), и выступление Б. А. Его отзыв в несколько переработанном виде опубликован.1
Выступления Б. А. всегда были блестящими по форме и очень интересными, оригинальными по содержанию.
В ЛОИИ Б. А. появился в 1935 г., когда Б. Д. Греков привлек его на договорных началах к работе над «Прав-54
дой Русской». Таким образом Б. А. оказался с самого начала связанным с многотомным академическим изданием законодательных памятников Русского государства XV—XVII вв. В обсуждении вопросов, связанных с подготовкой Судебников к изданию, мне пришлось принимать участие, поэтому я могу судить о роли Б. А. на всех этапах обсуждения и о том большом вкладе, который Б. А. внес в это издание. Особенно ярко запомнились мне те заседания, которые были посвящены Судебнику 1550 г. На них всякий раз разгорались жаркие споры между Б. А. Романовым и И. И. Смирновым. Принципиальные разногласия между ними привели к тому, что Смирнов категорически отказался быть редактором комментария Романова (им по просьбе Б. Д. Грекова стал С. Н. Валк).
В 30-е гг. я, не связанная с работой над «Правдой Русской», мало общалась с Б. А., видела и слушала его только лишь в ГАИМК. В годы Великой Отечественной войны Б. А. находился в эвакуации в Ташкенте, и с той поры у нас с Б. А. завязалась переписка.
По возвращении из эвакуации Б. А. стал сотрудником группы истории СССР ЛОИИ, и мое общение с Б. А. стало постоянным. Б. А. принимал самое активное участие в заседаниях сектора и Ученого совета ЛОИИ. У Б. А. была весьма своеобразная манера вести себя на заседаниях — он слушал доклады всегда с закрытыми глазами и совершенно неподвижным лицом и «просыпался» сразу же, как только начиналось обсуждение докладов. Все выступления Б. А. были яркими, содержательными, часто неожиданными, оригинальными и всегда очень эмоциональными, темпераментными. Он поражал своей эрудицией и широтой своих научных интересов — от Даниила Заточника до графа Витте. Б. А. почти ежедневно звонил мне по телефону и делился своими впечатлениями от докладов, заседаний и текущих дел ЛОИИ, которыми он всегда очень живо интересовался; высказывал свое мнение о новых книгах и их авторах. Его суждения часто бывали резкими, ядовитыми и не всегда объективными. Иногда эти телефонные разговоры продолжались по часу. Но любопытно, что Б. А. никогда не говорил со мной и другими (во всяком случае я этого никогда не наблюдала) о своих научных планах или о своей текущей работе, не вводил в свою творческую лабораторию, как это делали А. И. Андреев и Б. Д. Греков, делясь своими находками, обсуждая свои наблюдения, выводы. Все разговоры с Б. А. на научные темы велись вокруг общих проблем, касались дискуссионных вопросов. Мне думается, что Б. А., несмотря на свою кажущуюся общительность, был по натуре замкнутым человеком.
Встречалась я с Б. А. и в домашней обстановке. Борис Александрович со своей женой Еленой Павловной бывали у меня одновременно с А. И. и А. Я. Андреевыми и Д. С. и 3. А. Лихачевыми. Встречалась я с Романовыми и у Андреевых, и у Лихачевых, а также иногда в Москве у Грекова. Б. А., приезжая в Москву, всегда бывал у Б. Д. Грекова и иногда даже останавливался у него. На таких встречах Б. А. всегда был оживлен, остроумен
55
и вообще был в центре внимания. Я же была в доме Б. А. не более трех раз и то всегда по делам ЛОИИ.
В 1948 г. я провела вместе с Романовыми и Лихачевыми лето на даче в Сигулде, где Б. А. не только отдыхал, но и много работал, сидя на террасе до обеда; по вечерам он принимал участие в наших общих с Лихачевыми прогулках, причем мы ежедневно ходили на железнодорожную станцию за мороженым. Б. А. не был любителем дальних прогулок в лес, поле, на реку и развалины замков, вообще он был сугубо «городским», и я даже сказала бы, «комнатным» человеком. Во время прогулок он был значительно менее разговорчив, чем в домашней обстановке.
Была я и на роковом чествовании Б. А. по случаю его 60-летия, совпавшем с выдвижением его в члены-корреспонденты АН СССР. Выступления Б. А. часто бывали какими-то непредсказуемыми, когда нельзя было знать заранее, чем он закончит свою речь. Таким оно было, к сожалению, и на этот раз.
С заседания я ушла (да, наверно, и все другие) в очень подавленном и тревожном состоянии, так как по тем временам выступление Б. А. могло дорого обойтись ему, не говоря уже о том, что с избранием в АН СССР было покончено навсегда, а это было очень обидно, поскольку Б. А. давно уже заслуживал признания.
1 См.: Романов Б. А. Изыскания о русском сельском поселении эпохи феодализма: По поводу работ Н. Н. Воронина и С. Б. Веселовского // Вопросы экономики и классовых отношений в Русском государстве XII—XVII веков. М.; Л., 1960. С. 327—476.
С. Г. БЕЛЯЕВ
Б. А. РОМАНОВ — АРХИВИСТ
С. Н. Валк в статьях о Б. А. Романове уделил внимание более чем десятилетнему периоду службы историка в архивах.1 Документы находящихся в Центральном государственном историческом архиве СССР фондов Архива ЦГИА СССР и Ленинградского отделения Центрального исторического архива (ф. 6900) позволяют осветить основные этапы и направления работы Б. А. Романова-архивиста.2
На службу в архивы Б. А. Романов приходит уже сложившимся ученым. Ученик А. Е. Преснякова, участник семинаров С. Ф. Платонова и А. С. Лаппо-Данилевского, сотрудник «Нового энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона и «Русской энциклопедии»,3 1 июля 1918 г. он начинает службу в Главном управлении архивным делом (далее: ГУАД), во втором отделении пятой (впоследствии — экономической) секции Единого государственного архивного фонда 4 (ЕГАФ), где было сосредоточено заведование архивами Министерств финансов, торговли и промышленности, Государственного контроля, банков.5 В этом отделении он работает до 25 ноября 1929 г.6
В 1918 г. ГУАД возглавлял Д. Б. Рязанов. Среди руководителей и сотрудников управления были учителя Б. А. Романова — А. Е. Пресняков (главный инспектор), С. Ф. Платонов (заместитель заведующего), А. С. Лаппо-Данилевский (член издательской комиссии).7 В разное время коллегами Б. А. Романова по работе в отделении были С. Н. Валк, Б. Д. Греков, П. А. Садиков.8 В 1919—1924 гг. во главе отделения стоял Е. В. Тарле. 9
Начало работы Б. А. Романова в ГУАД совпало с наиболее трудным и ответственным периодом собирания и концентрации разрозненных архивов в рамках ЕГАФ. Вступив 10 июля 1918 г. в должность начальника первого отдела отделения (финансы),10 Б. А. 13 ноября того же года был назначен заведующим архивом Общей канцеля-
57
рии министра финансов.11 Спустя двенадцать дней после своего назначения на этот пост он возбуждает вопрос о возвращении в архив дел, эвакуированных в Москву. «Утрата или даже порча документов. . . — отмечает Б. А. в своем докладе, — была бы чрезвычайным бедствием для русской исторической науки и легла бы целиком на мою ответственность, если бы мною не сделано было все возможное для ее предотвращения».12 Проделав работу по описанию фонда, Б. А. в августе 1920 г. представил отделению очерк «Архив Общей канцелярии министра финансов».13 Когда в марте 1921 г. в здании, где находился архив (Мойка, 47), произошел пожар 14 и возникла угроза гибели архива, Б. А. приложил все усилия к скорейшему перемещению документов в основное здание на пл. Декабристов.15 «Решительно все настоятельно требует скорейшей перевозки архива, — писал он по этому поводу. — Если она не состоится теперь, то архив надо считать осужденным на гибель и ждать ее в любой день. Нет сил сказать в заключение: ,,Иначе я слагаю с себя всякую ответственность за судьбу архива44. Ибо для меня здесь страшна не ответственность, а ужасен надвигающийся факт уничтожения документов, без которых невозможна финансовая история последнего столетия».16
Кроме того, Б. А. осматривал, принимал на учет, описывал архивы Главной палаты мер и весов, Горного департамента, Вольного экономического общества, Государственной комиссии погашения долгов, Департамента государственного казначейства.17
В 1921 г. в здании архива Палаты мер и весов Б. А. Романовым был обнаружен архив Мануфактур-коллегии,18 заведовать которым он впоследствии был назначен.19 К числу неожиданных находок, которыми сопровождались интенсивные и целенаправленные поиски Романова-архивиста, относятся и дела архива Департамента торговли и мануфактур, найденные в 1923 г. на Фарфоровом заводе, в процессе собирания разрозненного тогда фонда Горного департамента.20
Поиск Б. А. не ограничивался пределами Ленинграда. В 1924 г. Н. Л. Сергиевский, руководивший тогда ЛОЦ, обращается в Центрархив за подтверждением командировки Б. А. в Рыбинск и Нижний Новгород, «пользуясь отъездом (Б. А. Романова. — С. Б.) в летний отпуск в Москву и приволжские города», для розыска эвакуированных материалов архивов Департамента внешней торговли, Особенной канцелярии по кредитной части и Монетного двора.21 Получив сведения о том, что все документы, вывезенные в Рыбинск, погибли, а среди архивных дел, которые находятся в Нижнем Новгороде, нет относящихся к архивам Министерства финансов, Б. А. Романов ставит вопрос о делах «Общей канцелярии м [инист! ра финансов, которые были в 1918 г. вывезены в Москву. . .». «Имея в виду известное. . . значение фонда. . . Общей канцелярии министра] финансов», Б. А. Романов пытался выяснить судьбу вывезенных в Москву дел этого фонда и вообще ознакомиться с материалами московских архивов, «имеющими соприкосновение с предеметом этого фонда». Узнав же о сделанном Центрархивом Наркомфину предложении передать находящиеся в распоряжении наркомата дела 58
архива Общей канцелярии министра финансов в ЛОЦ, он провел изыскания в архиве Наркоминдела, где также обнаружил документы интересовавшего его архива. «Т[аким] обр[азом],не все эвакуированные дела. . . находятся в Наркомфине, а известный и довольно систематический подбор их (преимущественно по КВЖД) имеется в „Общем архиве44 КНИД», — пишет Б. А. Романов в своем отчете. Достоин внимания выраженный Б. А. Романовым интерес к документам о политике царизма на Дальнем Востоке в период подготовки монографии «Россия в Маньчжурии». Говоря о своих московских находках, он считает необходимым «произвести обследование Ленинградских библиотек. . . для выяснения имеющегося в Ленинграде печатного материала, относящегося к нашему фонду. . .» 23 (имеется в виду фонд Общей канцелярии министра финансов. — С. Б.).
Отдав столько сил воссозданию документальных комплексов, Б. А. Романов уделял особое внимание сохранению их целостности, решительно противостоял попыткам необоснованного дробления фондов, примером чего могут служить выступления ученого против передачи материалов архива Общей канцелярии министра финансов в ведение Наркомфина 24 и документов Горного департамента — в ведение ВСНХ,25 где, судя по состоянию, в каком Ленинградскому отделению Центрархива приходилось принимать фонды бывшего Министерства финансов, архивные ценности были брошены «на произвол судьбы и в пострадавшем виде».26
Строго научный подход, широкий кругозор исследователя отличают отзывы Б. А. Романова на акты Разборочных комиссий об уничтожении дел, не подлежащих хранению.27 «Ознакомившись на месте с материалами, предложенными к уничтожению. . . , — пишет он в одном из отзывов, — полагаю необходимым предложить хранить. . . дела о секретных суммах, поступающих на основании высочайших повелений. . . дела о расходах на известное е. и. в. употребление. По моему мнению, дела эти следует хранить совершенно независимо от того, представляют ли интерес те или другие отдельные расходования из названных сумм, имея в виду общий интерес как к вопросу о бесконтрольных расходах по высочайшим повелениям вообще, так и к истории отдельных секретных фондов этого порядка».28 На проходившем в марте 1925 г. в Москве I съезде архивных деятелей РСФСР Б. А. Романов был членом комиссии по выработке резолюции по докладу «О поверочной и разборочной комиссиях».29
Непреходящей заслугой Б. А. Романова-архивиста является организация работ по ликвидации последствий сентябрьского наводнения 1924 г., от которого в значительной степени пострадали фонды экономической секции. На Б. А. Романова, с 15 декабря 1924 г. по 17 июня 1925 г. исполнявшего обязанности управляющего вторым отделением секции,30 легла основная тяжесть работы по сведению к минимуму причиненного наводнением ущерба. Документы этого периода свидетельствуют об энергичном и умелом руководстве Б. А. Романова обработкой пострадавших фондов.31
59
С. Н. Валк отмечал тесную связь работы Б. А. Романова-архивиста с его деятельностью исследователя и педагога.32 В отчетах читального зала архива говорится о занятиях Б. А. Романова по темам «Русский империализм на Дальнем Востоке» (февраль—сентябрь 1924 г.), «Европейская биржа и финансовое положение России в 1904—1905 гг.» (октябрь—ноябрь 1924 г.), «Рабочее движение в 1904—1905 гг.» (январь—апрель 1925 г.),33 что впоследствии вылилось в известные публикации и монографию «Россия в Маньчжурии».34 Показательны хронологические рамки занятий: сентябрь 1924 г.—апрель 1925 г. — время возглавляемой Б. А. Романовым напряженной работы по ликвидации последствий наводнения. В апреле 1925 г. завершается также проводившаяся под руководством Б. А. Романова работа по анкете Центрархива «Об организации управления при самодержавии в 1914 г. и при Временном правительстве в 1917 г.».35 За время службы в архиве ученый не прекращал преподавательской деятельности в университете и руководил семинаром по русской истории.36
Б. А. Романов внес замечательный вклад в развитие отечественного архивного дела. Велики его заслуги в архивной эвристике, описании и обеспечении сохранности документов. Деятельности Б. А. Романова-архивиста, ставшей ярким проявлением его научного таланта, присуще все то, что отличало исследовательскую работу ученого, — высокий профессионализм, ответственность и принципиальность.
1 См.: Валк С. Н. 1) Б. А. Романов // Исторические записки. М., 1958. Т. 62. С. 272; 2) Б. А. Романов // Исследования по социально-политической истории России: Сб. статей памяти Б. А. Романова. Л., 1971. С. 16—17 (далее: Исследования. . .).
2 В 1951 г. в ЦГИА СССР был образован личный фонд Б. А. Романова (ф. 1110), содержавший сделанные ученым в 1918 г. копии и выписки из документов, преимущественно для подготовки изданных им впоследствии сборников (всего 11 кг материалов). В 1952 г. фонд был уничтожен, как «не имеющий научного и практического значения» (см.: ЦГИА СССР. Ф. Архив ЦГИА СССР. Оп. 2. Д. 520. Л. 1 — 1 об. Отборочный список от 15 апреля 1952 г. (источник указан Н. М. Корневой)).
3 См.: Исследования... С. 8—16; Автобиография Б. А. Романова// ЦГИА СССР. Ф. 6900. On. 1. Д. 327. Л. 16.
4 Анкета Б. А. Романова//Там же. Д. 173. Л. 56. По другому источнику называется май 1918 г. (Список сотрудников 2 отделения V секции ЕГАФ на 1 сентября 1919 г.//Там же. Ф. Архив ЦГИА СССР. On. 1. Д. 325. Л. 205). С. Н. Валк останавливается на первой дате (см.: Исследования. . . С. 17).
5 См.: Николаев А. С. Главное управление архивным делом // Исторический архив, издаваемый Главным управлением архивным делом. Пг., 1919. Кн. 1. С. 23—24.
6 Приказ об увольнении Б. А. Романова по собственному желанию от 21 ноября 1929 г. // ЦГИА СССР. Ф. 6900. Оп. 9. Д. 6а. Л. 17.
7 См.: Максаков В. В. История и организация архивного дела в СССР (1917—1945 гг.). М., 1969. С. 54; Адреса лиц, служащих в ГУАД (1918 г.) //ЦГИА СССР. Ф. 6900. On. 1. Д. 1. Л. 2—3.
8 Список служащих 2 отделения V секции ЕГАФ (1918 г.) // ЦГИА СССР. Ф. 6900. On. 1. Д. 147. Л. 14; Выписка из протокола заседания Коллегии Петроградского отделения ГУАД (ПО ГУАД) от 28 октября 1919 г. // Там же. Д. 311. Л. 47; Список штатных сотрудников Ленинградского отделения Центрархива (ЛОЦ) (1924 г.) //Там же. Д. 566. Л. 3.
60
9 Анкета Е. В. Тарле (1924 г.) //Там же. Д. 863. Л. 1 — 1об.
10 Анкета Б. А. Романова (1924 г.) //Там же. Д. 831. Л. 1; Справка 2 отделения Экономической секции ЛОЦ (1925 г.) //Там же. Д. 550. Л. 12.
11 Приказ управляющего 2 отделением V секции ЕГАФ от 15 ноября 1918 г. // ЦГИА СССР. Ф. Архив ЦГИА СССР. On. 1. Д. 325. Л. 24.
12 Д ок л ад Б. А. Романова / / Там же. Ф. 6900. Оп. 3. Д. 54. Л. 12.
13 Отчет 2 отделения V секции ЕГАФ за июнь 1920 г. //Там же. Ф. Архив ЦГИА СССР. On. 1. Д. 307. Л. 29 об. Эта работа Б. А. Романова объемом в один печатный лист предназначалась для второго выпуска издававшегося ГУАД сборника «Исторический архив» (Выписка из протокола заседания коллегии ПО ГУАД от 3 октября 1919 г. // Там же. Ф. 6900. Оп. 4. Д. 98. Л. 57), однако в связи с прекращением издания опубликована не была //Там же. Л. 54.
14 Доклад Б. А. Романова (22 марта 1921 г.) //Там же. Ф. Архив ЦГИА СССР. On. 1. Д. 310. Л. 71.
15 Там же. Д. 307. Л. 43; Д. 310. Л. 80—80 об; Д. 312. Л. 32.
16 Там же. Д. 310. Л. 80—80 об.
17 Удостоверения Б. А. Романова: на право заведования архивами Главной палаты мер и весов (20 ноября 1919 г.), Горного департамента (21 ноября 1921 г.), Вольного экономического общества (24 апреля 1923 г.), на право принятия на учет архива Департамента государственного казначейства (31 января 1925 г.), на право принятия (вместе с Н. Н. Дмитриевым) архива Государственной комиссии погашения долгов (28 марта 1924 г.) // Там же. Д. 325. Л. 250; Д. 315. Л. 5; Ф. 6900. Оп. 5. Д. 18. Л. 51; Д. 115. Л. 105; Ф. Архив ЦГИА СССР. On. 1. Д. 464. Л. 9; Акты: «Об условиях хранения архива Горного департамента» (2 апреля 1923 г.), «О принятии на учет архива Вольного экономического общества» (13 апреля 1923 г.), «О принятии на учет архива Департамента государственного казначейства» (10 февраля 1925 г.) // Там же. Ф. 6900. Оп. 5. Д. 48. Л. 6, 10; Д. 115. Л. 108—108 об.; Отчет 2 отделения V секции ЕГАФ за ноябрь 1921 г. // Там же. Ф. Архив ЦГИА СССР. On. 1. Д. 307. Л. 46; Доклад Б. А. Романова и Н. Н. Дмитриева об осмотре архива Государственной комиссии погашения долгов (29 марта 1924 г.) //Там же. Д. 314. Л. 47—47 об.
18 ЦГИА СССР. Ф. Архив ЦГИА СССР. On. 1. Д. 307. Л. 48 об.
^Удостоверение Б. А. Романова на право заведования архивом Мануфактур-коллегии (23 ноября 1921 г.) //Там же. Д. 310. Л. 77.
^Доклад Б. А. Романова (13 апреля 1923 г.) //Там же. Ф. 6900. Оп. 5. Д. 18. Л. 22.
21 Отношение от 18 июля 1924 г. // Там же. Д. 69. Л. 106.
22 Д о к л а д Б. А. Романова (25 июля 1924 г.) //Там же. Л. НО.
23 О т ч е т Б. А. Романова о поездке в Москву, Саратов и Нижний Новгород (26 августа 1924 г.) // Там же. Л. 131 —132 об.
24 Доклад 2 отделения Экономической секции ЛОЦ (1924 г.) // ЦГИА СССР. Ф. Архив ЦГИА СССР. On. 1. Д. 311. Л. 50—52. Доклад составлен от имени отделения, однако рассмотрение чернового варианта с правкой Б. А. Романова (Там же. Л. 62—63 об.) не оставляет сомнений в его авторстве.
25 Доклад Б. А. Романова (16 мая 1925 г.) //ЦГИА СССР. Ф. 6900. Оп. 5. Д. 115. Л. 316—317.
26 Там же. Ф. Архив ЦГИА СССР. On. 1. Д. 311. Л. 51, 50—50 об.
27 Отзывы Б. А. Романова на протоколы Разборочных комиссий (26 ноября 1926 г.—4 января 1928 г.) // Там же. Ф. 6900. Оп. 7. Д. 18. Л. 116, 143, 184, 217, 298— 298 об.; Д. 19. Л. 152—152 об., 202—202 об.
28 Там же. Д. 18. Л. 116. Ср.: Романов Б. А. «Лихунчангский фонд»: Из истории русской империалистической политики на Дальнем Востоке//Борьба классов. 1924. № 1—2. С. 77—126.
29 См.: Протоколы Первого съезда архивных деятелей РСФСР 14—19 марта 1925 г. М.; Л., 1926. С. 309. л 1ПО. 17 М1Лиа
30 В ы п и с к и из приказов по ЛОЦ от 16 декабря 1924 г. и 17 июня 1925 г. // ЦГИА СССР. Ф. Архив ЦГИА СССР. On. 1. Д. 457. Л. 58, 155.
31 Д о к л а д ы Б. А. Романова управляющему 2 отделением Экономической секции ЛОЦ, заведующему ЛОЦ, уполномоченному Центрархива в Ленинграде (25 сентября 1924 г.—19 июня 1925 г.) // Там же. Д. 458. Л. 10, 58—62 об., 68, 70—72, 74—74 об.; ЦГИА СССР. Ф. 6900. Оп. 5. Д. 115. Л. 22; П р о т о к о л заседания Ар
61
хивно-технической комиссии при Научно-теоретической коллегии ЛОЦ от 18 февраля 1925 г. // Там же. On. 1. Д. 592. Л. 47—47 об.
32 См.: Исследования... С. 24.
33 Отчеты 2 отделения Экономической секции ЛОЦ за февраль 1924—апрель 1925 гг.//ЦГИА СССР. Ф. 6900. Оп. 5. Д. 98. Л. 5, 8, 11, 15, 18, 21 об., 25; Оп. 3. Д. 134. Л. 275; Д. 174. Ч. 5. Л. 2, 8 об., 12, 16, 20.
34 Список научных трудов Б. А. Романова см.: Исследования. . . С. 382—385.
35 Доклад Б. А. Романова заместителю заведующего ЛОЦ Н. Л. Сергиевскому (23 апреля 1925 г.) // ЦГИА СССР. Ф. 6900. Оп. 5. Д. 218. Л. 14—15 об.
36 Представление Е. В. Тарле в Петроградское отделение Центрархива от 15 мая 1923 г. о разрешении Б. А. Романову совмещать службу в архиве с преподавательской деятельностью//Там же. Ф. Архив ЦГИА СССР. On. 1. Д. 326. Л. 126; Анкета Б. А. Романова//Там же. Ф. 6900. On. 1. Д. 831. Л. 4.
Н. Е. НОСОВ
РУССКИЙ ГОРОД ФЕОДАЛЬНОЙ ЭПОХИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ *
Специфика русского города в период генезиса феодализма в Древней Руси, особенности его происхождения, развития и места в общественной структуре во многом обусловлены тем, что в то время, как западноевропейские города наследовали (в той или иной мере) античную цивилизацию, русский город формировался в отрыве от этих плодотворных воздействий. Влияние Византии распространялось преимущественно только на русскую городскую культуру, например на архитектуру и идеологию.
Дискуссионен вопрос о соотношении научного и конкретно-исторического определений феодального города. Дело в том, что в древнерусских письменных источниках городами называются все более или менее значительные поселения, имеющие укрепления. Дешифровка указанных известий по социально-экономическим признакам из-за состояния дошедших до нас источников в большинстве случаев невозможна.
В связи с этим ряд исследователей переносит на древнерусский город представления о феодальном городе более позднего периода и именно их берет за основу типологических определений его социальной и общественной структуры. Другие исследователи, как например М. Г. Рабинович, вообще возражают против возможного создания абстрактного научного определения города, прототипа которого в реальной жизни не существовало. Выработка подобной городовой «стандартной мерки», указывает М. Г. Рабинович, «ограничивает возможность изучения города только периодом его высокого развития (оставляя за рамками определения периоды возникновения и упадка) и сводит его по существу только к рассмотрению экономики».1
* Основу настоящей статьи составляет доклад, прочитанный автором на заседании Методологического семинара ЛОИИ СССР АН СССР 26 февраля 1984 г.
63
Большинство исследователей все же склоняется в пользу комплексного определения русского Города периода средневековья, как противостоящего деревне торгово-ремесленного и военно-административного поселения, типичными чертами которого являются наличие и сочетание ряда «элементов»: крепости, дворов феодалов, ремесленного посада, торговли, административного управления, церквей. Указанная характеристика раннефеодального города дана Б. А. Рыбаковым, и именно она принята в большинстве специальных и обобщающих трудов по истории Древней Руси X—XIII вв.2 Что касается более абстрактно-социологического определения феодального города, в том числе и русского (О. Г. Большаков, В. А. Якобсон, А. В. Куза), как постоянного поселения и центра сельской округи по «переработке и перераспределению» получаемого с окрестного населения (городовых волостей) «прибавочного продукта» («через феодальную ренту»), то оно пока не получило признания в современной урбанистике.3 Такое определение явно превращает город в простой институт феодальной земельной собственности и не оставляет места иным общественным и государственным связям.
Неясность в вопросе — какие поселения принимать за городские, а какие за сельские, и какими критериями при этом пользоваться — научно-понятийными или источниковедческими — порождает существенные различия в приводимых в современной литературе данных о количестве и динамике русских городов IX—XIII вв.4
По М. Н. Тихомирову По А. В. Кузе
Век Количество городов Век Количество городов
IX—X 25 X—нач. XI Не более 15
XI—сер. XIII 271 XI—сер. XIII Около 190
Вообще укрепленных поселений IX—XIII вв., по подсчетам А. В. Кузы, найдено археологами на территории древней Руси 1395, из которых 414 (29 %) упоминается в письменных источниках и именуется городами или городищами — заброшенными городами (в большинстве случаев).5 Каждый из названных исследователей пользовался указанными, преимущественно летописными, данными по-разному. Это по существу типично для всей современной историографии, касающейся истории древнерусского города.
Серьезные разногласия вызывает в новейшей литературе вопрос о происхождении древнерусских городов. Наибольшее распространение получили две концепции. Цель обеих — максимально увязать становление города с генезисом и развитием феодализма.
Главный стержень первой концепции — утверждение, что русский город X—XIII вв., как и любой город европейского средневековья, — органическая, составная часть феодального строя, порожденная в первую очередь потребностями сельского хозяйства и феодального землевладения. Торговые функции городов вторичны. Эта точка зрения явилась как антитеза «городовой теории» В. О. Клю-
64
чевского и М. Н. Покровского, отводивших решающую роль в образовании городов в Киевской Руси внешней торговле. Основные положения этой «аграрной концепции» в ее марксистской интерпретации были сформулированы в свое время С. В. Юшковым и развиты М. Н. Тихомировым.
С. В. Юшков выдвинул понятие «племенной город» как центр племени, союза племен, феодального княжества, волости, а соответственно и княжеского домена или боярской сеньории. Города — «оплот феодализации» Киевской, а позднее Ростово-Суздальской Руси, важнейший фактор (военный, административный, хозяйственный) «роста княжеского землевладения, княжеского домена».6
Не менее категоричен М. Н. Тихомиров. Он пишет о «понятийном» (социально-типологическом) разделении города на две части — феодальную (детинец) и торгово-ремесленную (посад), но даже возникновение посадов выводит из потребностей сельскохозяйственной округи. М. Н. Тихомиров утверждает, что «земледелие было одной из предпосылок к созданию городов» и, поясняя ту же мысль, — «настоящей силой, вызвавшей к жизни русские города, было развитие земледелия и ремесла в области экономики, развитие феодализма — в области общественных отношений». Именно поэтому, по его мнению, наибольшее развитие получают города, расположенные в наиболее густонаселенных сельскохозяйственых районах Древней Руси.7
Подобная «вотчинная теория» происхождения и развития русского города периода средневековья в известной мере сопричастна взглядам П. П. Смирнова, прямо писавшего о «вотчинном характере» (княжеском, боярском) русских городов вплоть до XVI в. Он выводит даже два типа владельческих городов: крепостные (холопьи) и сменившие их «слободские» — «поселения свободного населения на несвободной владельческой земле». Преемниками последних и было, по его мнению, большинство русских городов XVI — XVII вв.8 Что касается мнения А. В. Кузы, развивающего мысль, что города Киевской Руси были по своим социально-экономическим и политическим функциям «аккумуляторами» и «распределителями» прибавочного продукта, получаемого от феодализируемой сельской округи (городовых волостей), то он, как и С. В. Юшков, полагает, что «у истоков возникновения городов стояли феодалы» и только «вслед за ними в зарождающихся городах появляются купцы и ре-9 месленники».
Иные опосредствования и иные акценты второй концепции базируются на работах Б. Д. Грекова и его последователей — С. В. Бахрушина, Л. В. Черепнина, Б. А. Рыбакова, И. И. Смирнова. В историографическом плане она как бы промежуточна между взглядами на происхождение и характер древнерусских городов В. О. Ключевского, с одной стороны, и Н. П. Павлова-Сильванского и А. Е. Преснякова — с другой.
Б. Д. Греков рассматривает русские города домонгольского периода (X—середина XIII вв.) как укрепленные поселения торгово-ремесленного типа, возникшие в результате отделения ремесла от
5 Заказ № 1143
65
сельского хозяйства и только затем ставшие опорными пунктами феодального властвования над окрестными землями. Никаких «племенных городов» не существовало. Наоборот, появление города «обозначает разрушение родо-племенного строя» и возникновение частной собственности и государства.10 В процессе генезиса феодализма (уже в X—XI вв.) города выступают как «узлы прочности» нового общественного строя, обеспечивающего феодалам - князьям, боярам, церкви — господствующее положение над окрестным зависимым населением,11 Роль внешней торговли — не решающая, но очень значительная, равно как нет и обязательной экономической привязки каждого города только и непосредственно к сельской округе. Что касается роли ремесленного и торгового населения городов, особенно купечества, то оно не только обслуживает потребности княжеского хозяйства и иных местных феодалов-землевладельцев, но и играет достаточно самостоятельную роль в жизни древнерусского государства. По мнению Б. Д. Грекова, города сосуществуют с системой феодальных сеньорий-боярщин (не растворяясь и даже в известной мере противостоя ей).
В последнее время вопрос о происхождении и социальной природе древнерусского города приобрел особую остроту. В. Л. Янин на примере Новгорода вновь поставил вопрос о происхождении городов из племенных центров и об определяющем в этом процессе значении, во всяком случае в Новгородской земле, не торгово-промышленного населения, а крупного боярского землевладения. Иначе говоря, аграрный критерий снова резко выдвигается на первый план.
Более своеобразна позиция И. Я. Фроянова, который полагает, что возникновение городов в Киевской Руси на своих начальных этапах было связано не со становлением феодализма, а с разложением родовых отношений. Лишь позднее, в конце X—XI вв., путем вытеснения «племенных городов» новыми центрами ремесла и торговли, стягивающими сельскохозяйственную округу, формируются посады («новые города») и образуются «городовые волости — некоторое подобие городов-государств античного мира и западного средневековья».13 Одновременно ряд исследователей-археологов специально обратил внимание на существование в Киевской Руси VIII— IX вв. открытых (не укрепленных) протогородских поселений типа международных торговых ярмарок (скандинавских «виков»), расположенных вдоль крупнейших водных путей — Днепра и Волги. Господствующую прослойку их населения составляли воины и купцы.14
Поднятые вопросы весьма дискуссионны и еще далеки от своего окончательного решения. Необходимо вовлечение в научный оборот новых документальных материалов, особенно данных археологии. Пока же считаем необходимым отметить, что трактовка русского города X—XIII вв. как преимущественно феодальной резиденции и сугубо феодального образования, опирающегося на аграрный строй, так и существование предшествующих им особых «племенных городов» кажется нам весьма спорной. Думается, что роль городов в становлении феодального общества была значительно более сложной и, главное, не однозначной. Решающее значение в их развитии
66
всегда и везде имели торговля и ремесло, и именно они определяли основные черты города как социально-экономического и политического феномена, отличного от деревни. И даже более, поскольку феодализм базируется в основном на натурально-замкнутом хозяйстве аграрного типа (феодальной сеньории), то К. Маркс был совершенно прав, когда писал, что «отделение города от деревни можно рассматривать также и как отделение капитала от земельной собственности, как начало независимого от земельной собственности существования и развития капитала, т. е. собственности, основанной только на труде и обмене».15 Иначе говоря, роль города даже в период генезиса феодализма была значительно шире, чем просто обслуживание феодального сельского хозяйства, и уже тогда городская жизнь носит на себе черты, подтачивающие натурально-замкнутое хозяйство княжеских и боярских сеньорий. Городские посады всегда были носителями иных товарно-денежных отношений. Отсюда тенденции к городской коммунальной обособленности и образованию посадских общин и посадского самоуправления — вечевого, а позднее земского строя. В дальнейшем на определенном этапе своего развития именно они породили, как это было в итальянских городах XII—XIII вв., раннебуржуазные связи. Средневековый город в своей потенции был всегда чреват капитализмом. И русские феодальные города здесь не исключение.
Таким образом, мы полагаем, что город с самого момента своего возникновения является носителем прогрессивных, цивилизаторских тенденций в развитии общества, и это проявляется как в Киевский период, так и на всех позднейших стадиях развития Русского государства. Именно город всегда и везде выступает в качестве стимулятора экономических и культурных возможностей господствующего строя и именно он является оплотом и выразителем его наиболее динамичных политических и социальных потенций, а равно и противостоящих им общественных сил. Но эта общая закономерность требует и определенных конкретно-исторических условий для своего проявления, а они могут внести в нее свои и весьма серьезные коррективы. Это следует специально подчеркнуть, так как социальная структура города никогда не укладывается в рамки только одной формационной структуры. Она всегда более многослойна и противоречива.
Судьба русского города, как и судьба Русского государства, сложилась в известной мере катастрофично. Монгольское завоевание середины XIII в. и последующее утверждение на Руси «татарского ига» нарушили нормальный поступательный ход развития русского народа и русской государственности. Вторая половина XIII — XIV вв. — период глубокого экономического упадка Великороссии, своеобразной аграризации большинства русских городов, резкого падения числа городских жителей, наступление деревни на город. Судя по летописям и археологическим данным, число русских городов в этот период уменьшается более чем в 2 раза. Кроме таких крупных центров, как Москва, Новгород, Псков, Тверь, Нижний Новгород, преобладающим типом городских поселений становятся
5*
67
княжеские вотчинные города — «стольные княжеские города» великих и удельных княжеств, имеющие сравнительно небольшие посады, а также боярские замки и пограничные города-крепости, в которых почти не было торгового и промышленного населения.
Возрождение русского города начинается по существу только с конца XIV в. и связано с освобождением от зависимости от Золотой Орды и объединением русских земель вокруг Москвы, в рамках великого московского княжения. Главным стимулятором развития городов, как показывают работы Б. Д. Грекова, С. В. Бахрушина, Л. В. Черепнина, А. М. Сахарова, явилось интенсивное развитие в недрах натурально-замкнутого феодального хозяйства, в боярщинах и монастырщинах, но особенно в черных волостях, товарно-денежных отношений и крестьянского предпринимательства нового типа, базирующихся на торговле и сельских промыслах.16
Дошедшие до нас актовые материалы и писцовые книги конца XV—середины XVI в. убедительно показывают (это особенно наглядно видно из работ С. В. Бахрушина, К. Н. Сербиной и А. И. Копанева), как почти на всей территории государства (где больше, где меньше) повсюду достаточно интенсивно возникают новые торговые села, ремесленные слободы, рядки, сельские и городские торжки.17 В источниках все чаще встречаются упоминания о крестьянах и бобылях, занимающихся промыслами и ремеслом. В черных и дворцовых волостях появляются сельские купчины и промышленники, использующие в своем хозяйстве труд обезземеленных крестьян и казаков-половников, захребетников, волостных пешек и иных трудников, работающих по найму. В середине XVI в. процесс социальной дифференциации в деревне становится уже достаточно явным.
Этим явлениям сопутствовал и в значительной степени именно ими был вызван своеобразный демографический взрыв, который мы наблюдаем в конце XV—середине XVI в. почти по всей территории России. Актовые источники и особенно писцовые книги этих лет буквально пестрят упоминаниями о новых селах, деревнях и починках, возникающих на черных и владельческих землях. Это было настолько разительное явление, что английский мореплаватель и путешественник Ричард Ченслер, проезжая в 1556 г. из Вологды в Москву по Ярославской дороге, даже отметил в своих записках: «. . .область между Москвой и Ярославлем . . . изобилует маленькими деревушками, которые так полны народом, что удивительно смотреть на них».18
Именно эти внутренние экономические и демографические процессы в конечном счете и лежат в основе как роста посадов старых городов (за счет выходцев из деревни), так и появления новых поселений городского типа — указных и неуказных городов. Меняется правовой статус городов. Как блестяще показано П. П. Смирновым, идет превращение уже в рамках складывающегося централизованного государства старых вотчинных городов в государевы посады.19 Образуются новые городские сословия и разряды купцов и посадских людей, сменившие старые уличанские (земско-общинные) и слободские (сеньориальные) деления городского торгово
68
промышленного населения. Купеческих гильдий и ремесленных цехов западноевропейского образца в средневековых русских городах по существу не было. Исследователи отмечают их следы лишь в феодальных республиках Новгорода и Пскова.
Наиболее наглядно усиление роли городов в жизни страны видно по росту их числа и их населения. Во второй половине XV в. в России было около 100 городов, к концу XVI в. — более 200. По подсчетам исследователей, в городах в середине XVI в. проживало, правда, только около 5 % населения, и только на новгородско-псковских землях — около 9—10 %.20
Гигантская разница была и между Москвой, Новгородом, Псковом и подавляющим большинством других русских городов. В Москве в середине XVI в. было 50 тыс. дворов, более 200 тыс. жителей (это примерно столько же, сколько было в это время в Венеции и намного больше, чем в Риме, Лондоне, Праге), в Новгороде 20— 30 тыс. жителей (около 5300 дворов), в Пскове, только в Застенье, на посаде 30—35 тыс. жителей (6500 дворов). Иностранцам Псков казался равным Парижу. Из остальных городов лишь около двух десятков имели около 1000—1500 дворов. Большинство же средних и мелких русских городов мало отличались от сельских торговоремесленных поселений (не указных городов).21 В этом была одна из специфических особенностей развития страны в период ее экономического подъема в XV—середине XVI в. В известной степени она оказалась роковой для судеб русского феодального города, особенно провинциального.
Именно на этом вопросе мы и хотим теперь остановиться. Дело в том, что указанное выше явление в развитии русской деревни и русского города XV—XVI вв., казалось бы, неизбежно должно было порождать (так, во всяком случае, было в большинстве западноевропейских стран) рост в недрах феодального строя раннебуржуазных отношений. На Западе во главе этого процесса стояли города как носители и центры нового уклада. В них образуются торговые и промышленные капиталы, складывается рынок наемной рабочей силы. В России этого не произошло, во всяком случае в XVI в. Русский город становится достаточно действенным носителем буржуазных связей, традиций, культуры лишь с XVIII в. Главная причина такого положения дел, с нашей точки зрения, — недостаточное развитие городов как торгово-ремесленных центров в период средневековья, политическое бесправие большинства посадских городских общин (кроме Новгорода и Пскова), их задавленность феодализмом и неспособность противостоять складывающемуся в России XVI в. самодержавно-крепостническому строю. Судьбы Новгорода и Пскова, столь быстро утративших свои вечевые и земские традиции, зримо подтверждают это. Складывающееся русское третье сословие оказалось еще слишком слабо, чтобы противостоять феодализму. Именно экономическая и политическая «беспомощность» торгового и промышленного населения русских городов XV— XVI вв. дала возможность царизму поставить города и их население
69
на службу централизованного государства, резко затормозить процесс обуржуазивания русского города.
Это было достигнуто как бы двумя методами: городовой экономической политикой правительства, главным звеном которой была централизация местных купеческих капиталов, и жесткой правовой регламентацией, вылившейся уже в XVII в. в так называемое закрепощение городов. Уложение 1649 г. тому наглядный пример.
Подчинение города феодальному государству — известное и очевидное в той или иной степени общеевропейское явление периода средневековья. В отношении России следует, однако, говорить не о подчинении городов контролю самодержавия, а об их полном порабощении. Такое порабощение зачастую истолковывалось в советской историографии (имеем в виду работы А. М. Сахарова, А. Г. Манькова, Н. И. Павленко) как процесс не только неизбежный, но и, в известной мере, позитивный — во всяком случае для укрепления феодальных порядков, которые, по мнению сторонников данной концепции, только и могли существовать в России в XVI—XVII вв. Русские города, если следовать логике такого подхода, не получили от феодального государства должной доли свободы только потому, что и социально, и экономически, и как культурные центры ее еще не заслуживали. С этим трудно согласиться — слабое развитие русского города было скорее следствием его закрепощения государством, чем причиной этого закрепощения.
Усиление «диктата» самодержавного государства в городах вредило (экономически по крайней мере) самому государству, обессиленному (как ни парадоксально) полнотой собственной власти. Очевидно, например, что насильственные переселения в Москву наиболее зажиточного купечества удельных городов (своеобразная правительственная «централизация» торговли) отрицательно сказались на образовании в России торгово-промышленных капиталов и местных рынков, приводя к отрыву капитала от традиционных сфер его приложения.22 Точно так же и жесткая регламентация торгово-промышленной жизни городов не содействовала их саморазвитию. И, наконец, итоги Ливонской войны, поражение, которое понесла в этой войне Россия, равно как и мрачная феодальная реакция конца XVI в. (преддверие Смутного времени), — наглядные показатели «результативности» политики русского самодержавия, влияния этой политики на судьбы страны в целом и русского города в частности: города московского центра были разорены, развитие Новгородско-Псковской земли окончательно подорвано, наиболее экономически и социально развитые районы страны подверглись опричному опустошению, ставшему только прологом к новому разорению в «хаосе» Смутного времени, настигшем обескровленную самодержавным произволом Россию.
1 Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского феодального города. Горожане, их общественный и домашний быт. М., 1978. С. 16, 282.
2 История СССР. С древнейших времен до наших дней: В 12 т. М., 1967. T. 1. С. 536.
70
Большаков О. Г., Якобсон В. А. Об определении понятия «город» // История и культура народов Востока (древность и средневековье). Л., 1983; Куза А. В. Социально-историческая типология древнерусских городов X— XIII вв.//Русский город (исследования и материалы). М., 1983. Вып. 6. С. 12, 13.
4 Ти хом и ров М. Н. Древнерусские города. 2-е изд. М., 1956. С. 32—43; Куза А. В. Малые города в Древней Руси X—XIII вв.//Древнерусский город: Материалы Всесоюзной археологической конференции, посвященной 1500-летию города Киева. Киев. 1984. С. 65.
5 К у з а А. В. Малые города. . . С. 64.
6 Юшков С. В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М.; Л., 1939. С. 23, 131 — 137, 172.
7 Тихомиров М. Н. Древнерусские города. С. 43—64.
8 Сми рн ов П. П. Города Московского государства в первой половине XVII века. Киев, 1917. Вып. 1. С. 1—8.
9 Ку з а А. В. Города в социально-экономической системе древнерусского феодального государства X—XIII вв. // КСИА. М., 1987. Вып. 179. С. 9 и др.
10 Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1949. С. 92—98, 106.
11 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. М., 1982. С. 94—96.
12 Я н и н В. Л., Алешковский М. X. Происхождение Новгорода: К постановке проблемы // История СССР. 1971. № 2. С. 60, 61.
13 Ф р о я н о в И. Я., Дубов И. В. Основные этапы социального развития древнерусского города (IX—XII вв.) //Древние города. Материалы к Всесоюзной конференции «Культура Средней Азии и Казахстана в эпоху раннего средневековья». Л., 1977. С. 69—71; Фроянов И. Я- Киевская Русь. Очерки соцциально-политиче-ской истории. Л., 1980. С. 232 и др.
14 Б у л к и н В. А., Лебедев Г. С. Гнездово и Бирка: К проблеме становления города //Культура средневековой Руси. Л., 1974. С. 15—17; Булкин В. А., Дубов И. В., Лебедев Г. С. Археологические памятники Древней Руси IX— XI веков. Л., 1978. С. 138—140.
15 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 50.
16 Хорошкевич А. Л. Основные итоги изучения городов XI—первой половины XVII в. // Города феодальной России. М., 1966. С. 38 и др.
17 Н о с о в Н. Е. Русский город и русское купечество в XVI столетии: К постановке вопроса // Исследования по социально-политической истории России. Л., 1971. С. 152 и сл.
18 Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. Л., 1937. С. 56.
19 Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в. М.; Л., 1947. Т. 1. С. 15—95.
20 Копанев А. И. Население Русского государства в XVI в. // Исторические записки. М., 1959. Т. 64; ср. Аграрная история Северо-Запада Руси. Вторая половина XV—начало XVI в. Л., 1971. С. 321—327.
21 Н о с о в Н. Е. Русский город... С. 157—159.
22 Там же. С. 167—168.
Л. Л. ШАПИРО
СОХА КАК ОКЛАДНАЯ ЕДИНИЦА В XIV—ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVI в.
Древнейшими окладными единицами на Руси были дым, рало и плуг. «Дым или дом»,— писал Б. Д. Греков, — это, «несомненно, оседлое хозяйство — очаг, двор, занятый прежде всего земледелием».1 Охотники должны были вести полукочевой образ жизни, осуществляя сезонные перекочевки вслед за сезонными передвижениями зверя. Окладной единицей у них был лук. Охота, которая играла немалую роль в жизни населения Киевской Руси, являлась не основным, а второстепенным его занятием. Об этом свидетельствует распространение таких окладных единиц, как рало и плуг.
В Повести временных лет (964 г.) сообщается, что вятичи давали хазарам дань от рала и что Владимир Святославович (981 г.) возложил на тех же вятичей «дань от плуга, яко же и отец его имаше».2 Можно думать, что рало и плуг тут выступают как синонимы, являясь одной и той же окладной единицей.
Плуг оставался единицей обложения и в период монгольского ига: в ярлыке Менгу-Темира 1257 г. упоминается татарский побор «поплужное» и обеспечивавшие взимание этого побора «поплужники».
В Правде русской имеется статья, помогающая представить себе размеры хозяйства, примерно соответствовавшее плугу. Статья гласит: «А в селе сеяной ржи на два плуга 16 кадей ростовских; а того на одно лето прибытка на 2 плуга и 100 копен ржи».3 Эта статья вошла только в датируемые второй половиной XV в. списки Карамзинской группы Правды русской.4 Но вслед за только что процитированной статьей о прибытке ржи идут статьи о прибытке полбы, овса, ячменя и жита. И прибыток этот переводится на деньги; при этом используется денежный счет, вышедший из употребления еще в XIII в.5
Статьи Карамзинских списков о приплоде хлебов (и скота) содержат явные несообразности. Однако отказываться от их привлечения к исследованию вопроса о плу-
72
ге как древней окладной единице не следует. Нужно только критически рассматривать их в сопоставлении с другими источниками.
Новгородская кадь равнялась двум коробьям, а коробья — двум четвертям. Мы имеем множество известий о норме высева ржи, равной двум четвертям, т. е. одной коробье на десятину. Если ростовская кадь, о которой говорится в рассматриваемой статье, не сильно отличалась от новгородской кади, можно рассчитать количество десятин посева ржи на плуг: 2 плуга=16 кадей, следовательно, 1 плуг=8 кадей=16 коробей=16 десятин.6 Но кроме ржи крестьяне сеяли полбу, овес, ячмень, жито. Очевидно, плугу не могло соответствовать хозяйство, состоявшее из малой — парной семьи. Убедительным доказательством этого тезиса является и относящееся к середине XV в. свидетельство грамоты Великого Новгорода о предоставлении Василию II «черного бора» с Ново-торжских волостей (грамота эта относится к 1448—1461 гг.). В грамоте фигурирует плуг, который идет «за две сохи», а в соху клали трехлошадное хозяйство.7 Хозяйство с шестью лошадьми, имевшее десятки десятин посевных площадей, состояло, конечно, не из одной малой семьи. А зная исторические закономерности эволюции семьи у русского и других земледельческих народов, мы можем думать, что со времен Киевской Руси оно не укрупнилось. Естественно предположить, Цто в полном соответствии с ходом развития сельского расселения плуг X в. был не меньше плуга XV в. Быть может, он соответствовал в X в. большой семье — задруге.
Плуг служил в период раннего средневековья единицей землепользования и налогообложения в ряде европейских и,что для нас сейчас особенно существенно, близких к Руси стран. Определение его размеров сильно затруднено и неоднозначно решается историками. Но все они полагают, что запашка, соответствовавшая плугу, значительно превышала возможности одного работника с одной упряжкой. Можно считать вероятным предположение, что в период раннего средневековья плуг в Польше, в Пруссии и в ряде расположенных к западу от Пруссии германских земель примерно соответствовал 17 га, а в Чехии — 21 га. Характерно, что прусский и польский плуги в 2 раза превышали рало-гак, соответствующий возможностям одного работника с одной упряжкой. В Англии в период раннего средневековья также фигурировала крупная окладная единица гайда-плуг, равный участку, обрабатываемому 8 волами и, очевидно, сложной семьей. В XIII в. гайда уже вытесняется более мелкой окладной единицей виргатой, рассчитанной на возможности малой семьи.8
Б. Д. Греков справедливо полагал, что дым Киевской Руси являлся окладной единицей земледельческого народа. Но мне не кажется убедительным его предположение, что дым был «несомненно» индивидуальным хозяйством.9 Весьма возможно, что подобно плугу дым являлся в древности окладной единицей большой или неразделенной семьи. Дым-дом, как и плуг, был устойчивой окладной единицей. Его можно наблюдать по источникам XV в. Но в это время он дей
73
ствительно соответствовал малой индивидуальной, по выражению Б. Д. Грекова, семье.
В Деревской пятине находилась волость Морева, которая до присоединения Новгородской земли к Московскому государству, видимо, еще не была обоярена и оставалась черной. Здесь даже после присоединения к Москве с каждой из 21 однодворной деревни брали владельческий оброк в одинаковых размерах по 58.3— 59.3 деньги, а с каждой из двух двухдворных деревень — в удвоенном размере — по 118.5 деньги. Оклад в 58.3—59.3 деньги сохранялся в ряде случаев в двухдворных и даже в трехдворных деревнях.10 Это наблюдение свидетельствует о том, что двор служил окладной единицей, не сразу изменявшейся даже при разделе деревенского двора на два и более.
3. В. Дмитриева, которая изучала особенности обложения волости Морева, позднее внимательно обследовала податную документацию Кириллова-Белозерского монастыря и обнаружила следы двора (однодворной деревни) — окладной единицы и в этой, относящейся к XVI в. документации.
Не позднее XIII в. первоначальный порядок, при котором единицей обложения являлся крестьянский двор (ведь рало также следует рассматривать как символ хозяйства — двора), начинает уточняться и дифференцироваться. Свидетельством тому являются ранние известия о сохе.
В относящемся к 1275 г. летописном известии, дошедшем до нас только в изложении В. Н. Татищева, великий князь доставил в Орду «дань урочную со всея земли по полугривне с сохи, а в сохе числиша два мужи работнии». Хана не устроило, что «ясак мал есть», тогда как людей в земле много. Поэтому он велел послать на Русь новых численников и тщательно проследить при переписи, «да не утаят люди».11
Для сбора дани в XIII в. татары производили «исчисление народу»; еще в 1250-е гг., «численици исшетоша» суздальские, рязанские и другие русские земли. При этом летописец отмечает, что «не чтоша» только игуменов, чернецов, попов и клирошан.12 Судя по известию 1275 г., окладной единицей при переписях являлось хозяйство с двумя мужчинами-работниками. На такую окладную единицу и начислялась полная дань. Считалось ли хозяйство с одним мужчиной-работником за полсохи или вовсе не принималось во внимание при исчислении оклада — мы не знаем.
Среди многочисленных поборов, которыми монгольские завоеватели отягчали завоеванные земли, была и десятина, «во всем: во князех, и в людех, и в конех», и подушные сборы, которые собирались со всех малых и больших и даже с «младенцев однодневных».13 Брали, как мы видели, татары и «поплужное». Возможно, в 1275 г. великий князь доставил хану дань, исчисленную ранее численниками как поплужное с сохи, а хан настаивал на ее сборе с каждого лица мужского пола.
В грамоте Великого Новгорода с предоставлением Василию II «черного бора» (1461 г.) определяется порядок и размер уплаты
74
великому князю «по старине, с сохи по гривне по новой». «А в соху два коня, а третье припряжь».14 Я не вижу противоречий между татищевским известием второй половины XIII в. и грамотой середины XV в. Два мужчины — работника и упряжка в два коня с припряжью были характерны для сложного крестьянского двора, в котором проживали два, а то и более простых парных семейства. Выше отмечалось, что в грамоте о «черном боре» фигурировала и такая окладная единица, как плуг, соответствовавшая вдвое большему хозяйству, чем соха.
В то же время в грамоте упоминаются половники, которые полагалось класть в полсохи, и пешцы, т. е. крестьяне, лишенные коня, которых на соху шло четыре. За соху брали также черный бор с невода, с лавки, с кузницы и с «тшана Кожевнического», а ладью и црен солевара следовало класть в две сохи. Как видим, торговцев, ремесленников, рыболовов и солепромышленников, подобно основной массе населения, состоявшей из хлебопашцев, в середине XV в. клали в сошный оклад. Таким образом, для торгово-ремесленного населения он приобретал чисто условный характер. Мы не замечаем, чтобы в это время учитывался объем торговых операций владельцев лавок, хотя он не был, конечно, одинаковым.
И все же разделение налогоплательщиков на более богатых (владельцев цренов и лодей) и более бедных людей неземледельческих специальностей, как и на более и менее зажиточных и бедных крестьян (половники, пешцы), в грамоте проводится.
От 1478 г. до нас дошло новое известие о сошном обложении. В связи с жалобой на «тесноту, мор на люди и глад» Иван III выяснял степень тяжести дани, которую должны были платить новгородцы, и спрашивал в этой связи, «что их соха?». Новгородцы ответили: «Три обжи соха, а обжа один человек на одной лошади орет; а кто на трех лошадех и сам третей орет, ино то соха». Великий князь хотел брать по полугривне (по 7 денег) с обжи, но «смиловался» и согласился брать «по 7 денег с трех обжей».15
Здесь уже соха соответствует трехлошадному хозяйству не из двух, а из трех работников, что подтверждает высказанное выше мнение, что в соху клали дворы, в которых проживало более двух простых парных семейств. Но интенсивный и уже очень далеко зашедший процесс разделения сложных семейств имел своим следствием появление не позже XV в. обжи как окладной единицы, обычно соответствовавшей однолошадному хозяйству. Соха же превратилась в счетную единицу, равную трем обжам.
Правда, новгородцы говорили Ивану III, что их соха может обозначать и одно более крупное крестьянское хозяйство. Но в писцовых книгах конца XV—начала XVI в. практически не встречаются крестьянские хозяйства, положенные в целую соху, как не встречаются в них и половничьи хозяйства, положенные в полсохи.
Перепись новгородских земель была осуществлена тотчас же после их инкорпорации в единое Русское государство. Составленные тогда писцовые книги не сохранились, но содержавшиеся в них сведения фигурируют в дошедшх до нас писцовых книгах 1495—
75
1505 гг. под наименованием старого письма. Это старое письмо приводит к выводу о том, что в 1470—1480-х гг. обычно писали в обжу семейного крестьянина — главу семьи, который, согласно ответу новгородцев Ивану III, был наделен лошадью. Но, облегчая свою задачу, писцы иногда клали в обжу крестьянский двор, не выясняя, каков был его состав. Что же касается до размеров пашни и сенокосов, то старое письмо их еще не учитывало.
Новое письмо 1495—1505 гг. уже стало учитывать полевую запашку (в коробьях) и сенокосы «меж поль и около поль» (в копнах). При этом описывались и клались в обжи не только крестьянские, но и холопьи, и даже господские земли. Вне обежного оклада оставались лишь земли церковнослужителей. А ремесленники и торговцы в городах облагались по дворам, разделенным по имущественному положению на три разряда.
Подсчитывая итоги по владению — волостке, писцы указывали, сколько в ней было деревень, дворов, людей — глав семейств и обеж, а затем часто (хотя не всегда) добавляли, какому количеству новгородских сох эти обжи соответствовали: «обеж — 30, а сох — 10», «4 обжи, соха с третью», «обеж 12 — 4 сохи», «обжы полдесяты (9.5. — А. Ш.), а сохи три с полутретью».16 Такой пересчет по норме 3 обжи — 1 соха производился не только при составлении книг конца XV в., но и при описаниях 1539—1545 гг. И в писцовых книгах 1570-х гг. мы находим такие же формулировки: сошного письма «4 сохи, а обеж 12».
Строгого соответствия между новгородской трехобежной сошкой и земельными угодьями по новгородским писцовым книгам 1495— 1505 г. не наблюдается. Разнятся показатели по отдельным владениям и особенно средние показатели по районам. Так, в Обонежской пятине были погосты, в которых на соху приходилось по 4.5 десятины посева, и погосты с 6 десятинами на соху. А в Деревской пятине, где средние размеры пахотной земли на соху в большинстве погостов составляли 6—9 десятин, был погост (Холынский), в котором на соху приходилось — 13.5 десятин.17
Лишь в 1580-е гг. осуществляется уравнение новгородских сошек: в каждой из них должно было числиться по 30 четвертей, или, иначе говоря, по 15 десятин пашни. Такое уравнение трехобежных сошек было следствием введения десятичетвертной обжи (обжа в 10 четв.ХЗ=30 четвертей).18
Наши сведения о сошном обложении в Северо-Восточной Руси XV—первой половине XVI в. гораздо более скудны, чем новгородские. Но можно полагать, что общая тенденция развития была сходной в обоих регионах. Ведь норма 1270-х гг., приравнивавшая к сохе «два мужи работнии», относилась ко всей Руси. В летописи прямо указывается, что в 1275 г. великий князь принес в Орду дань в размере полугривны с сохи «со всея земли». По расчетам С. М. Каштанова, в грамоте 1461 г. о предоставлении Василию II черного бора фигурируют такие же платежи, как в татищевском известии 1275 г.19 Можно полагать, что на всем протяжении этого времени на Руси существовали сохи, основанные на числе работников и конской силы
76
в хозяйстве. Очевидно, такого характера сохи фигурируют и в духовной грамоте Василия Васильевича II от 1462 г.
Интересно сопоставить эту грамоту с духовными Василия Дмитриевича I от 1417 и от 1423 гг. В них говорится: «А те волости и села, што есмь подавал своей княгини, опишют да положат на них дань по людем и по силе. . .» (подчеркнуто мною. —А. Ш.). А в духовной Василия II от 1462 г. эта формула читается по-иному: «И мои дети пошлют писцев, да оуделы свои писци их опишут по крестному целованью, да по тому письму и обложат по сохам и по людем» (подчеркнуто мною. — A. ZZ/.).20
Я не склонен полагать, что между 1423 и 1462 гг. был осуществлен переход от поборов «по людем и по силе» к поборам «по сохам и по людем». Ведь по сохам дань собирали и до Василия I. Очевидно, одну и ту же систему именовали то посильем, то посошным обложением.
Формулы духовных грамот отражали обычные в то время порядки обложения по людям и столь же обычные порядки обложения по хозяйствам, обладающим необходимыми для земледельческого производства людскими ресурсами и тягловой силой. Именно эти хозяйства клали в сохи.
Из сказанного следует, что в течение всего длительного периода, предшествовавшего окончательному освобождению от монгольского ига, система обложения по людям сочеталась с иной системой обложения, суть которой заключалась в учете хозяйственных возможностей двора, и именно эта система требовала описи по силе, по сохам.
Но какие хозяйственные возможности учитывались писцами Василия I и Василия II? Этот вопрос занимал С. Б. Веселовского, который думал, что посилье как принцип тягла был в равной мере характерен как для XV, так и для XVI и XVII вв.21
По словам С. Б. Веселовского, «хозяйства были положены в сошное и обежное тягло по силам, т. е. принимались во внимание, с одной стороны, тягость обложения с его местными особенностями, а с другой стороны, различные признаки зажиточности и тяглоспо-собности: семейный состав хозяйства, размеры запашки, количество земли и угодий вообще, промыслы и т. д. На основании этих и других возможных, но неизвестных нам в каждом отдельном случае признаков, и принимая во внимание местные особенности тягла писцы по своему усмотрению определяли посильные сошные и обежные оклады». Неизменными при этом оставались основные принципы тягла: его посильность и субъективность оклада.
В своем «Сошном письме» С. Б. Веселовский справедливо считал, что признаки, которыми руководствовались при определении зажиточности и тяглоспособности, не оставались неизменными. Но он находил ключ к пониманию посилья XV в. в позднейшем сошном письме XVII в.22 На мой взгляд, для понимания посилья и сошного обложения в период, Предшествующий полной ликвидации монгольского ига, следует прежде всего присмотреться к источникам, относящимся именно к этому периоду. Когда были достигнуты решающие успехи в деле объединения русских земель, т. е. в княжение Ивана III
77
и Василия III, произошли также немаловажные изменения в системе сошного обложения. Во всяком случае во времена Василия I и Василия II, и в частности при составлении грамоты о «черном боре», не видно никаких признаков учета писцами пахотных земель и приведения сошного оклада в соответствие с запашкой. Незаметно также, чтобы в те времена писцы дифференцировали ремесленников и торговцев в зависимости от размеров их хозяйства. Строго следуя показаниям источников, мы можем констатировать, что посильность ремесленника и торговца определялась только тем, каким видом ремесла занимался первый и была ли у второго лавка.23 А посильность в волостках светских и церковных феодалов и на черных землях определялась только численностью дворов и их обеспеченностью людской и конской тягловой силой.
О том, что наличие или отсутствие в крестьянском хозяйстве лошади служило основанием для включения или невключения его в сошное письмо, свидетельствуют и некоторые источники рубежа XV и XVI вв. В этом отношении интерес представляет жалованная грамота Ивана III гороховецким волостелям Терентию и Степану Осоргиным от 1500 г. В грамоте говорится об освобождении от мыта 25 не только «боярских людей» — холопов, но и «пешеходов». Следовательно, волостелин корм, взимавшийся в Гороховце «с сох во всех», не включал безлошадных крестьян. Вероятно, этим посо-шный оклад и отличался от подворного и тем более от поголовного.
В жалованной грамоте 1506 г., которую Василий III дал переславским рыболовам, мы читаем: «. . .а когда велю с города с Переславля с дворов нарядити людей на свою службу, и тогды с рыбо-ловей со всех людей на мою службу нарядят людей с дву сох, а не с дворов».26 И здесь мы видим, что сошное обложение было отличным от обложения подворного, и отличие, или во всяком случае одно из отличий, заключалось в том, что не всякий двор входил в соху.
Характерной чертой сошного письма Северо-Восточной Руси второй половины XV—первой половины XVI в. было распространение их значительно больших размеров, чем трехобежные сошки. Уже в только что процитированной жалованной грамоте переславским рыболовам выступает соха несомненно больших размеров, чем соха грамоты о «черном боре», и сошка, о которой новгородцы говорили Ивану III. Ведь все рыболовы Переяславля были положены всего в две сохи. У них был свой староста, они пользовались своей, действовавшей на протяжении всего XVI в. уставной грамотой. О том, что их общину составляли не два и не три двора, свидетельствует и размер виры (4 рубля), которую все дворы рыболовов должны были платить, если «учинится у них душегубство, а не доищутся душегубца». Из грамоты, наконец, следует, что в общину, положенную в две сохи, входили все дворцовые рыболовы, ловившие рыбу в Переяславском озере.
Косвенные данные можно извлечь и из других грамот. Белозерской уставной грамотой 1488 г. предписывалось горожанам и становым людям давать наместникам «корм со всех сох», включая и сохи «грамотников». На Рождество Христово полагалось давать с сохи
78
«за полоть мяса по два алтына, за десятеро хлебов десять денег, за бочку овса десять денег, за воз сена два алтына». На Петров день полагалось давать «за боран восемь денег, за десятеро хлебов десять денег». Итого, наместнику сходило с каждой сохи 62 деньги московской. Корм тиуну равнялся половине наместничьей норме, а корм доводчикам — 6 деньгам. Всего же годовой корм с сохи на Белоозере равнялся 99 московским день-27 гам.
Перечень доходов с сохи, которые должны были идти гороховецким волостелям Осоргиным, их тиунам и доводчикам, приведен в уже упомянутой выше грамоте Ивана III от 1500 г.28 Если кормленщикам был «не люб побор» натурой, они могли его заменять деньгами. Согласно приведенным в грамоте расценкам, волостели, тиуны и доводчики имели право собирать 130 денег с сохи, причем на долю волостелей из этой суммы приходилось 80 денег.
В жалованной грамоте, которую в 1506 г. получил волостель Антонова стана Бежецкого Верха кн. Юрий Козловский, тоже перечисляются доходы, которые он сам, его тиуны и доводчики имели право получать с каждой сохи. В случае перевода натуры на деньги волостелин корм составлял 80 денег. Тиуну с сохи полагалось «вполы волостелина корму», т. е. 40 денег, а за корм доводчику — 8 денег.29 Итого, с сохи сходило 128 денег.
Сопоставим волостелин корм Белозерья, Гороховца и Бежецкого Верха с волостелинным кормом в Новгородских пятинах на рубеже XV и XVI вв. Он обычно взимался в пятинах в размере 41Д деньги новгородские с обжи, что равнялось 25.5 денег московских с сошки.30 Очевидно, в это время соха Северо-Восточной Руси в несколько раз превышала новгородскую сошку. Ведь трудно предположить, что размеры волостелина корма могли так сильно различаться, если бы сохи были одинаковыми.
О том, что государева соха была в Северо-Восточной Руси конца XV—начала XVI в. значительно крупнее сохи, выступающей в источниках XIII в. и в грамоте о «черном боре», и значительно крупнее новгородской сошки, свидетельствуют не только косвенные, но и прямые показания источников. От 1490-х гг. сохранилось несколько выписей из писцовых книг на митрополичьи волости. Выписи были сделаны не из вотчинных митрополичьих, а из государственных переписей. Об этом свидетельствует тот факт, что писец Константин Григорьевич Заболотский (с его письма сделаны некоторые выписи) выступал «по слову» великого князя в качестве судьи при решении спорных поземельных дел,31 т. е. был государевым чиновным лицом. А выпись по митрополичьим владениям Владимирского у. была сделана с писцовых книг «города Володимеря и станов и волостей володимерьских письма Петра Григорьевича Заболоцкого» 1498— 1499 гг. Поскольку писец описывал и город Владимир, ясно, что речь идет не о вотчинных, а о государевых писцовых книгах.32 Достаточно бросить взгляд.на таблицу 1, чтобы убедиться в том, что в государевых переписях митрополичьих волосток, а также волосток Троице-Сергиева монастыря выступали сохи, соответствовавшие не
79
Таблица 1
Количество крестьянских дворов и семей на соху в митропольчьих волостях в конце XV в. и в вотчинах Троице-Сергиева монастыря в начале XVI в.* * 30
Год Уезд Село,деревня,стан Количество
дворов людей сох на соху
дворов | людей
В митрополичьих ВС >л остях
1490/91 Ростовский Караш 503 503 17.25 29 29
1491/92 Переяслав- Каринское, Романовское
ский 227 — 5.0 45 —
1497/98 Юрьевский Шуткино, Золотов стан 221 — 8.08 27 —
1498/99 Московский Пушкино с дер. 33 — 1.00 33 —
1498/99 Владимир- с. Павловское 26 27 0.66 39 41
ский с. Житково 32 32 1.00 32 32
с. Старый двор 40 40 0.87 46 46
с. Ярославле 32 33 1.25 26 26
с. Всеславское 37 37 1.00 37 37
с. Богословское 34 35 1.06 32 33
с. Спаское 19 19 0.66 29 29
с. Старый Ярославец 1 — 0.03 33 —
дер. Терелец 1 — 0.03 33 —
с. Перецкое 55 55 2.00 28 28
дер. Ворок 1 I 0.03 33 32
В вотчинах Троице-Сергиева монастыря
начало Московский Радонеж 470 473 12.00 39 39
XVI в. с. Турково 28 28 1.00 28 28
1498/99 Соль — 13 — 0.33 39 —
Галицкая
* Составлено по: АФЗХ. I. М„ 1951. С. 29, 41, 54, 148, 149—152; АСЭИ. М., 1952. Т. 1. С. 532, 568.
одному—двум или трем хозяйствам, а сохи, охватывающие десятки дворов и семейств.
В приведенной таблице обращает на себя внимание то обстоятельство, что митрополичьи волостки с одним двором были положены в 1/з2 сохи. А количество дворов на соху в других — колебалось вокруг цифры 32. В двух случаях оно поднималось до 45—46 дворов, в двух —* опустилось до 26—27 дворов, а в остальных составляло 28—39 дворов. Такое же количество (28—39) дворов приходилось на соху в начале XVI в. и в троицких вотчинах. Подобного типа сохи встречались на владычных землях в Новгородской республике. В крупной волости Удомля к 1478 г. было 50 сох, а по переписи, составленной после 1478 года, — 1502 двора. На соху приходилось
30 дворов и 32 обжи.33 К середине XVI в. в Новгородской земле действовала укрупненная соха, равная 10 трехобежным сошкам, или, иначе говоря, 30 обжам.34 Она бытовала не только на территории пятин, но и на Двине.35 Можно считать, что она возникла раньше, чем на Новгородские земли была распространена большая 800-четвертная соха.36 В XVII в. на одной и той же территории и в одной 80
и той же писцовой книге обжи переводились как в новгородскую 30-обежную, так и большую 800-четвертную соху.
В Сольвычегодском уезде в 1646—1647 гг. действовали сошки, которые, по словам старожильцев, «повелись у них исстари, а почему повелись, они про то не ведают». «У Соли на поседе» в такую старинную сошку клали по 30 средних дворов (лучших — по 20, а «мо-лотчих»— 114 дворов). Быть может, норма, принятая для средних дворов, возникла еще в те далекие времена, когда оклад сохи был близок к 32 дворам.37
В XV—XVI вв. в ходу были различные дробные математические величины: половина, треть, четь, пятина, шестина, осьмина, десятина. При описании земель писцы постоянно упоминают полсохи, треть сохи, четь сохи. Но дальнейшее дробление этих величин проводилось путем их деления непременно на два. Восьмую часть сохи писец обозначал либо как полчети сохи, либо как пол-пол-полсохи; одну двенадцатую как пол-полтрети, одну шестнадцатую как пол-полчети. Но писец не пользовался такими дробями, как треть или четь чети. Минимальная дробная часть сохи была пол-пол-полчети, или, пользуясь современным обозначением, 1/з2 сохи. На это обстоятельство обратил внимание П. Н. Милюков. Он связал его с замечанием сотной выписи 1544 г.: «. . .а в соху положена однокольцом пол-пол-полчети сохи».38 М. А. Дьяконов указал на грамоту 1527 г., в которой к сохе приравнивалось 32 выти.39
Итак, сохи, состоявшие из 32 дворов, 32 однокольцев, 32 вытей или 32 обеж, несомненно существовали в конце XV—начале XVI в. Очевидно, тогда же были сохи, близкие к норме в 32 обжи, двора, выти. Однако у нас нет оснований считать, что эта норма введена правительством как обязательная.
Соха из 32 частей была удобна, так как соответствовала принятой системе счета и потому применялась в ряде случаев наряду с сохами других размеров. Соха, близкая к 32 дворам, обжам или вытям, являлась определенным этапом на пути общего укрупнения, которое заметно в конце XV в. и затем продолжалось в течение всей первой половины XVI в.
П. Н. Милюков привел данные сотниц 1520 и 1544 гг., согласно которым были сохи, на которые приходилось по 33, 48, 60, 64, 72, 120 и даже по 150 дворов.40 А после выхода рецензии П. Н. Милюкова было опубликовано немало сотных грамот, подтверждающих тезис об отсутствии в 1530—1540-е гг. меры, которая бы учитывала соответствие числа сох и дворов, отчего исчислялись бы подати и повинности.
Из табл. 2. видно, что сохи были разновеликими даже в пределах владений одного и того же феодала, даже в случае если эти владения были расположены в одном и том же уезде. Так, в вологодских вотчинах Спасо-Прилуцкого монастыря в одной волостке приходилось 66, а в другой — 150 дворов на соху; а в ростовских вотчинах Троице-Сергиева монастыря в одной — 41, а в другой — 136 дворов.
При перечислении дворов в селениях писцы называли имена дворовладельцев и других «людей» — глав семей. Их количество,
6 Заказ № 1143
81
Таблица 2
Число дворов на соху, согласно сотным грамотам 1530—1540-х гг.*
Год Уезд Владелец Количество
дворов сошный оклад дворов на соху
1538 Звенигородский Троице-Сергиев мон. 81 3/4 сохи 108
1538 Рузский Троице-Сергиев мон. 63 1/2 » 126
1542 Пошехонский Кириллов мон. 21 1/6 » 126
1542 Пошехонский Монастырей на Рое 38 1/4 » 152
1542/43 Московский Л. О. Салтыков (по- 13 7/32 » 59
местье) 1 11/12
1542/43 Московский Симонов мон. 113 » 59
1543/44 Вышегодский Симонов мон. 46 1/4 184
1543/44 Вологодский Глушицкий мон. 171 2 85
1543/44 Вологодский Прилуцкий мон.:
Огарева слободка И 1/6 » 66
с. Домшино 25 1/6 » 150
с. Тошно 46 7/12 » 79
1544 Владимирский Рождественский мон. Илмехотский стан 50 1/2 » 100
1544 Верейский Троице-Сергиев мон. 484 5 3/4 » 84
1544 Владимирский Черная волость Плесцо 76 1 » 76
1544 Ростовский Троице-Сергиев мон.:
села Новое, Михайлов- 246 6 » 41
ское и Амосовское с. Берлюково 93 11/16 » 135
1545 Костромской Троице-Сергиев мон.:
с. Марьинское и сельцо 67 I 1/2 » 45
Пахирево , 14 1/4 » 56
с. Березовец
* Составлено по: АФЗХ: Акты Московского Симонова монастыря (1506—1613 гг.). Л., 1983. С. 80—81, 91—92; Шумаков С. А. Сотницы, грамоты и записи. М., 1902. [Вып. 1]. С. 51—55, 56—57, 61, 62, 64—66, 71—74, 125—128, 135—138.
приходившееся на соху, было близко к количеству дворов (дворы с двумя и тремя семьями встречались сравнительно редко). Естественно, что число людей, т. е. глав семей, как и число дворов, в сохах было очень пестрым, и сошный оклад не определялся строго определенной численностью семей и населения. Е. И. Колычева и С. М. Каштанов в новейших исследованиях подкрепили вывод предшествовавших исследователей о разнокалиберности сох, применявшихся при обложении крестьянских хозяйств Северо-Восточной Руси в конце XV—первой половине XVI в. Е. И. Колычева привела новые сведения, подтверждающие этот факт. С. М. Каштанов установил, что нередко встречались владения, в которых с сохи платился рублевый оброк, и владения, в которых тот же оброк (вместо дани и некоторых других поборов) равнялся двум и даже трем рублям с сохи. Это обстоятельство заставляет считать сохи различными по числу положенных в них дворов.41
Сохранились отличающиеся большой подробностью выписи из писцовых книг 1498—1499 гг. по Симизинским селам и сельцу Желе-зово. Оба владения находились во Владимирском у. и принадлежали великому князю.42
82
В выписях по Симизинским селам и сельцу Железово, кроме обычных для писцовых книг того времени сведений, мы находим данным о крестьянской запашке, исчисленной в десятинах и в четвертях высева озимых и яровых. Здесь же указаны размеры крестьянских сенокосов. Примечательно, что в Симизинских селах и в Же-лезове мы встречаемся с совершенно разными сохами. В Симизинских селах соха соответствовала 5 дворам и примерно 32 десятинам пашни. Число 32 фигурирует и здесь, но относится не к дворам, как в некоторых других местах, а к крестьянской пашне. Соответственно, соха здесь очень невелика и лишь не намного превышает старинные двух- и трехлошадные сохи. Совсем другая картина в Железове. Соха здесь соответствует 60 дворам и 216 десятинам. Будучи выражена в десятинах пашни, соха в Железове более чем в 6 раз превосходила соху в Симизинских селах. А ведь оба владения принадлежали одному владельцу и располагались в одном уезде.
Из подобного разнобоя П. Н. Милюков выводил, что соха и ее размеры не определялись до середины XVI в. ни количеством дворов, ни количеством людей, ни пашней. Милюков полагал, что в первой половине XVI в. соха, увеличившись в размерах, продолжала измеряться количеством рабочей силы.43 Однако, делая это заключение, он сам «не чувствовал себя на твердой почве». В действительности, если число работников и упряжек служило основанием сошного оклада, писцы должны были бы его учитывать. Между тем ни в одной писцовой книге и ни в одной сотной грамоте таких данных нет.
С. Б. Веселовский объяснял разновеликость сох и отсутствие твердого соответствия между сошным окладом и размером запашки тем, что ни в один из периодов существования сошного письма оно «не было чисто поземельным» и не было подворным. Правительственный и мирской оклады «были проникнуты одним принципом — принципом посильности». При определении тягла писцы и мирские власти учитывали все признаки зажиточности и тяглоспособности, взятые в совокупности. Тут принимались во внимание прежде всего пашня и угодья, а затем «животы, торги, промыслы и семейный состав хозяйства». Понятно, что при такой системе «оклады носили определенно выраженный субъективный характер» и во многом зависели от произвола писца.44
В наказах писцам и в других писцовых документах XVII в. встречаются требования учитывать животы, торги и промыслы при определении размеров оклада. Но никаких следов учета животов или торгов пахотных крестьян в писцовых книгах конца XV—первой половины XVI в. мы не находим. А рыбные ловли, борти или бобровые гоны, которые облагались специальными податями или повытно, тоже не учитывались сошным письмом.
Иначе обстояло дело с принципом посилья. Выше уже отмечалось, что обложение «по силе» существовало на Руси еще в первой четверти XV в. Однако его суть сводилась к включению в оклад только тех дворов, которые могли вести хозяйство. И позднее учитывались непашенные дворы, но в волостной сельский сошный оклад они не включались. В писцовых книгах и сотных записях конца XV—
6=
83
первой половины XVI в. встречаются (хотя довольно редко) такие записи: «починок Сенково: во дворе Фомка, во дворе Федько без пашни»; «деревня Сметанино: во дворе Оникша, во дворе брат его Иево, во дворе Овсяник, во дворе Федко, да двор непашенной».45 Если обложение «по силе» в первой половине XV в. в отличие от обложения по людям означало только способность вести хозяйство, то в первой половине XVI в. учитывалось наличие пашни или ее отсутствие. «Считалось, что соха имеет поземельный характер — пишет Е. И. Колычева, — в действительности же в соху клались крестьянский двор или же селение».46 Это заключение отличается от мнения Веселовского, согласно которому сошное письмо не было чисто поземельным и не было подворным.
Необходимо учитывать, что со времени валовой переписи конца XV—начала XVI в. писцовые книги и сотные записи, как правило, содержали сведения о земле, хотя в отличие от новгородских писцовых книг книги Северо-Восточной Руси того времени не фиксируют запашку каждого населенного пункта. Только закончив перечень деревень и перечисление по именам владельцев дворов (и других глав семей) и приступив к подведению итогов по волостке, писец отмечал ее общий сошный оклад, часто именуя его сошной пашней. Вот образцы таких итоговых записей: 1) «И всего в Караше митрополичьих и монастырских 6 сел, а деревень 203, а дворов 503 двора, а людей в них 503 человека, пашни семнадцать сох с четвертию сохи»; 2) «И всего х четырем селам 77 деревень; а дворов в селах и деревнях 246, а людей 246 человек, 6 дворов пустых; пашни 6 сох»; 3) «А всего 9 деревень, а дворов 54, а людей в них 54 человека; пашни у них полсохи»; 4) «И всех черных деревень 22; а пашни у них соха»; 5) Боярского сына И. У. Горбачева деревня Китово и деревня на Козье болоте; «пашни в обеих пол-полтрети сохи» (в последнем итоге пропущено общее число дворов и людей).47
Быть может, суммарные данные о запашке по целой волостке, без записи размеров запашки по каждому селению, не были особенно точны, тем более что эти данные фиксировались не в четвертях, а в сохах. Но эти суммарные и не очень точные данные о пашне в ряде случаев учитывались при определении сошного оклада во-лосток.
Естественно, возникает вопрос. Почему эта норма так сильно колебалась? Какую роль тут играл произвол писцов? Сохранились жалобы на писцов и угрозы правительства «быть в великой опале и в казни», если они «учнут посулы и поминки имать» или «писати не прямо: другом учнут дружити, а недругом мстити».48 Но подобные злоупотребления означали нарушение установленных для данного региона норм, а не установление особых региональных норм.
Неоднородность сошного оклада в значительной мере была пережитком феодальной раздробленности. Но объяснить ее только этими пережитками нельзя. Мы видели, что в пределах одного уезда, и добавим, в пределах бывшего удельного княжества, встречались различные сохи. Так, отличные от новгородской трехобежной сошки сохи действовали во владениях новгородского владыки.49 Этими 84
владельческими сохами, вероятно, пользовались иногда представители администрации Московского государства в конце XV—первой половине XVI в., когда единые общегосударственные нормы сошного оклада еще не были выработаны. Пестроте в размерах сохи в ту пору способствовала сама центральная власть. Отношение великого князя к различным землевладельцам и степень их влиятельности играли при этом немалую роль. В некоторых жалованных грамотах прямо говорилось, что вновь прибывшие крестьяне будут входить «в те же сохи», т. е. появление новых дворов не увеличит размеры сошного обложения. В других жалованных грамотах фиксировалось число сох в волости вне зависимости от прибывших дворов.50 Благодаря таким льготам расхождение между числом дворов и окладом еще возрастало.
Е. И. Колычева связывает размер сохи отчасти с социальным статусом землевладения; на великокняжеских землях размеры сохи были меньше, чем на монастырских и митрополичьих. Таким образом, платежи с монастырской сохи оказывались ниже, чем с сохи черной. С. М. Каштанов обращает внимание на отношения феодала-землевладельца с сюзереном — князем. Владения одних феодалов облагались «лехче», а других тяжелее. Это выражалось и в том, что одинаковый оброк взимался то с больших, то с меньших сох.51
Итак, в конце XV—первой половине XVI в. на определение сошного оклада влияли разные факторы. Но в это время число четей пахотной земли нередко определяло сошный оклад. В отдельных случаях он определялся числом вытей в волостке, а выти уже носили поземельный характер.
Из сказанного явствует, что при использовании писцовых книг и сотниц XV—первой половины XVI в. следует каждый раз выяснять, что лежало в основе сошного оклада, и только после этого и лишь там, где это возможно, определять размеры крестьянского землепользования и размеры владения окультуренной землей феодалов.
1 Греков Б. Д. Киевская Русь. М.; Л., 1944. С. 25.
2 Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. Л., 1926. С. 63, 80.
3 Правда Русская. М.; Л., 1940. Т. 1. С. 353, 379.
4 Там же. С. 54.
5 Я н и н В. Л. Деньги и денежные системы // Очерки русской культуры XIII— XV вв. М., 1970. Ч. 1. С. 325.
6 О том, что плуг соответствовал 16 десятинам посева ржи, писал С. Г. Струми-лин (С т р у м и л и н С. Г. Очерки экономической истории России. М., 1960. С. 20). По мнению Н. В. Устюгова, плуг был вдвое меньше и равнялся 8 десятинам (Каменева Е. И., У стюгов Н. В. Русская метрология. М., 1965. С. 27). Но Н. В. Устюгов рассматривал статью Карамзинских списков Правды о плуге как источник по истории Руси XI—начала XII в. и исходил из предположения, что кадь в Древней Руси высевалась на десятину. Между тем сведений о существовании такой небольшой кади до нас не дошло ни от XV в., ни от более раннего времени. В 1969 г. я высказал предположение, что плуг Карамзинских списков «Правды Русской» мог соответствовать 13 десятинам посевов ржи (Проблемы отечественной и всеобщей истории. Л., 1969. С. 75). Это предположение основывалось на позднейших нормах высева ржи на десятину. Однако известие источников XV—XVI вв. о высеве двух четвертей или одной коробьи ржи (=‘/2 кади) на десятину в 2400 кв. сажен побуждает считать норму в 16 десятин ржи на плуг более вероятной.
85
7 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. С. 39 (далее — ГВНП).
8 Подробнее см.: Шапиро А. Л. Средневековые меры земельной площади и размеры крестьянского хозяйства в России // Проблемы отечественной и всеобщей истории: Сб. статей к 150-летию Ленинградского университета. Л., 1969. С. 67—72; Т а г v е 1 Е. Der Haken. Tallinn, 1983. S. 50.
9 Греков Б. Д. Киевская Русь. С. 25.
10 Аграрная история Северо-Запада России: вторая половина XV—начало XVI в. Л., 1971. С. 23 (далее — АИСЗР. I).
u Татищев В. Н. История Российская. М.; Л., 1965. Т. V. С. 51.
12 Греков Б. Д. и Якубовский А. Ю. Золотая орда. 1937. С. 167.
13 Б е р е з и н И. Н. Ханские ярлыки // Азия. СПб., 1837. Вып. 3. С. 669—675; Насонов А. Н. Монголы и Русь. М., 1940. С. 12.
14 ГВНП. С. 39.
15 ПСРЛ. Софийская летопись. СПб., 1853. Т. 4. С. 217.
16 Новгородские писцовые книги. СПб., 1859. Т. 1. Стб. 297, 482, 629; 1868. Т. 3. Стб. 130, 246; 1886. Т. 12. Стб. 146 и др.
17 АИСЗР. I. С. 27.
18 Аграрная история Северо-Запада России XVI века: Новгородские пятины. Л., 1974. С. 13.
19 К а ш т а н о в С. М. Финансы средневековой Руси. М., 1988. С. 44.
20 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XV вв. М.; Л., 1950. С. 59, 61, 197.
21 Веселовский С. Б. Сошное письмо. М., 1916. Т. 2. С. 340, 345—346.
22 Там же. С. 345.
23 Развивая соображения И. Н. Миклашевского, С. В. Веселовский считал совершенно неправдоподобным, чтобы при наличности принципа посильности тягла всякий невод или всякая лавка шли всегда «за соху» (там же, с. 345). Однако грамота о «черном боре» требует класть лавки или неводы в сохи, совершенно не учитывая размеров хозяйства.
24 Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV— начала XVI в. М., 1964. Т. 3. С. 150 (далее АСЭИ. III.).
25 Термин «мыто» имел несколько значений / Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1982. Вып. 9. С. 337. В данном случае под мытом нельзя понимать пошлину за проезд и провоз товаров. Речь явно идет о мыте как синониме подати вообще. Грамота сначала определяет размер волостелина корма и определяет, с кого он взимается, причем велено было давать мыто и тем землевладельцам, у которых были более ранние грамоты, «что им, моим волостелем, в Гороховце мыта не давати».
26 АСЭИ. III. С. 45.
27 Там же. С. 38.
28 Там же. С. 150.
29 Там же. С. 202.
30 4 1 /4 новгородские деньги равнялись 8 1 /г московским деньгам. А сошка равня-ась трем обжам (АИСЗР. I. 6. С. 22).
31 Акты феодального землевладения и хозяйства. М., 1951. С. 106 (далее — АФЗХ. I).
32 Там же. С. 149.
33 АИСЗР. Т. I. С. 23 и 24.
34 Там же. Т. II. С. 15.
35 Вероятно, именно с этой сохи в 1547 г. великий князь велел «дань имати» по 12 рублей (там же).
36 Писцовая книга Бежецкой пятины 1626—1627 гг.//ЦГАДА. Ф. 1209. Кн. 306. Л. 124—125.
37 Количество крестьянских дворов, приходившееся на сошку в Сольвычегодском у., очень сильно колебалось, и уездные люди жаловались, что некоторые волости «были лехки, а иные отяжелены». Поэтому они просили положить землю в выти, а из вытей в большие сохи, чтобы платить всем поровну. Возможно, в числе уездных сошек тоже были такие, которые по размерам приближались к 30 дворам (Акты писцового дела (1644—1661 г.). М., 1977. С. 36).
38 Милюков П. Н. Спорные вопросы финансовой истории Московского государства. СПб., 1892. С. 62.
86
39 Д ь я к о н о в М. А. Рецензия на «Спорные вопросы» П. Н. Милюкова //ЖМНП. 1893. Июль. С. 210.
40 Были даже волостки, в которых на соху приходилось бы всего по 12 дворов, но они насчитывали всего по 2—3 двора. В волостке, в которой на соху приходилось бы 24 двора, тоже насчитывали всего 2 двора (Милюков П. Н. Спорные вопросы. . . С. 61).
4 К а ш т а н о в С. М. Финансы. . . С. 67—90; Колычева Е. И. Аграрный строй в России XVI века. М., 1987. С. 13—16.
42 АФЗХ. I. С. 152.
43 Милюков П. Н. Спорные вопросы. . . С. 64.
44 Веселовский С. Б. Сошное письмо. Т. 2. С. 528—530.
45 АФЗХ. I. С. 43; Ш у м а к о в С. А. Сотницы. . . С. 56.
46 К о л ы ч е в а Е. И. Аграрный строй. . . С. 15.
47 Шумаков С. А. Сотницы. . . С. 61, 64, 135; АФЗХ. Л., 1983. С. 81; АФЗХ. I. С. 29.
48 Акты писцового дела. М., 1917. Т. 2. Вып. I. С. 14.
49 АИСЗР. I. С. 231, 241.
50 См.: Жалованная грамота переславским рыболовам.
51 К о л ы ч е в а Е. И. Аграрный строй. . . С. 15—16; Каштанов С. М. Финансы. . . С. 31.
Ю. Г. АЛЕКСЕЕВ
БЕЛОЗЕРСКАЯ УСТАВНАЯ ГРАМОТА И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИВАНА III
Белозерская Уставная грамота, чье пятисотлетие можно было бы отметить в марте 1988 г., не принадлежит к числу источников, привлекавших большое внимание исследователей. Изданная в Актах Археографической экспедиции1 (а затем переведенная на немецкий язык Е. Тобиеном2), она впервые была прокомментирована М. Ф. Владимирским-Будановым, разбившим ее текст на 23 статьи3 (это деление воспроизводится всеми последующими издателями). Однако грамота не заинтересовала ни С. М. Соловьева, ни В. О. Ключевского — корифеев исторической мысли второй половины прошлого века. Остался равнодушным к ней и А. Е. Пресняков. В советское время о ней писал Л. В. Черепнин, усматривая в ней главным образом связь со старыми жалованными грамотами белозерских князей, т. е. преимущественно консервативные черты.4 В 1957 г. появилось американское издание грамоты с кратким, но довольно содержательным комментарием X. Дьюи.5
На высоком археографическом уровне грамоту издал И. А. Голубцов.6 Издания грамоты с новым комментарием предприняли А. А. Зимин (совместно с А. Т. Поляком)7 и Б. В. Виленский.8 Тем не менее даже такие внимательные, глубокие исследователи, как А. А. Зимин, С. М. Каштанов и Н. Е. Носов, почти (или совсем) не использовали грамоту в своих трудах по социально-политической истории России периода образования централизованного государства.
Недостаточное внимание к Белозерской Уставной грамоте отнюдь не оправдано ни объективным значением, ни содержанием самого памятника. Грамота — документ, возникший в первые годы единого Русского государства, и в сущности первый известный нам законодательный акт этого государства, стоящий на историческом водоразделе между старыми удельно-княжескими порядками и порядками нового централизованного государства. Уже одно
88
это заставляет пристально всматриваться в структуру и текст памятника, в его социально-политические и юридические категории. Задача настоящей статьи — рассмотрение одной из таких категорий.
Подлинник Белозерской Уставной грамоты не сохранился. Ее текст известен по единственному и очень хорошему списку, хранящемуся в Архиве ЛОИИ.9 Список, приобретенный П. М. Строевым у частного лица, представляет собой рукопись—полуустав конца XV—начала XVI в., близкий к скорописи, на одном листе (31.7X44.5 см). Конец текста — на обороте листа. Весь текст (без заголовков и инициалов, местами с небольшими интервалами) не содержит сколько-нибудь явных признаков деления на статьи. Членение памятника, предложенное М. Ф. Владимирским-Будановым, представляется в целом удовлетворительным и может быть принято за основу при изучении текста (с возможностью последующих уточнений) .
По своему содержанию грамота распадается на несколько довольно отчетливо выраженных частей. После преамбулы следует первая часть, устанавливающая организацию наместничьего аппарата, кормы и поборы в его пользу (ст. 1—6). Часть вторая (ст. 7—8, которые можно, однако, разбить на несколько отдельных параграфов) посвящена вопросам торговли. Третья часть (ст. 9—14) касается правовых норм и судебной практики. Далее следуют статьи разного характера, так или иначе связанные с судебно-административной деятельностью наместников (ст. 15—23). Заключительная клаузула документа содержит обычную для XV в. санкцию.10
Структуру Белозерской грамоты можно сравнить со структурой единственной (известной нам) ее предшественницы — Двинской Уставной грамоты 1397 г. Первая часть Двинской грамоты (ст. 1—6) посвящена вопросам уголовного и гражданского права, следующие четыре статьи (7—10) — судебным пошлинам. Далее следуют статьи об убийстве холопа, о запрещении приставам великого князя ездить в Двинскую землю, о жалобах на наместника (11 —13). Последние статьи посвящены торговым пошлинам и льготам (14, 16) и судебному иммунитету двинян (15).11
При всей формальной однотипности уставных грамот они существенно отличаются по своей структуре. Для составителя Двинской грамоты наибольший интерес, видимо, представляли сюжеты материального права и непосредственная судебная практика наместника. Именно эти статьи составляют первую, самую большую и наиболее разработанную часть памятника. Вопросы торговли отнесены в самый конец. Составителя Белозерской грамоты больше всего интересуют вопросы самой организации и функционирования наместничьего аппарата и его взаимоотношения с местным населением. Посвятив этим проблемам первую часть грамоты, он вернулся к ним еще раз, включив в четвертую часть очень важную статью (19) о присутствии «добрых людей» на суде наместника. Следующий по важности сюжет, тоже весьма тщательно разработанный в грамоте,— организация торговли. Таким образом, уже сама структура Белозерской грамоты, по сравнению с Двинской, свидетельствует об
89
определенной направленности интересов ее составителя: для него на первом плане — социально-экономические и административные, а не собственно юридические сюжеты.
Но Белозерская грамота отличается от Двинской, разумеется, не только структурой. Наибольшее значение имеет само содержание грамоты. В преамбуле Двинской грамоты ее автор называет своих адресатов: «. . . бояр своих двинских, также сотского и всех своих черных людей Двинские земли». В составе населения Двинской земли он хорошо различает два основных социальных слоя — и это одна из характерных черт всего документа. В той же преамбуле великий князь Василий Дмитриевич говорит о возможности пожалования наместничеством на Двине «кого. . . из двинских бояр» (это альтернатива посылки «к ним в Двинскую землю» кого-нибудь из «своих», московских бояр). И во второй статье грамоты (по принятому издателями делению) «боярин» подчеркнуто отделен от прочих жителей Двинской земли — именно ему в случае оскорбления (словом или делом) «наместницы судят. . . по его отечеству без-щестие» (в отличие от всех остальных двинян, подпадающих под действие предыдущей статьи: «. . .за кровавую рану тридцать бел, а за синюю рану пятнадцать бел»). Из общего правила изымается и боярский человек («и тако же и слузе», — не забывает упомянуть о нем вторая статья). Устанавливая свою власть над Двинской землей, отторгнутой от Господина Великого Новгорода (как оказалось, очень не надолго), великий князь Московский полностью признавал существующую социально-правовую структуру этой земли и давал гарантии ее сохранения.
Преамбула Белозерской грамоты никаких бояр не знает: грамота «жалует» «белозерцов» вообще: «. . .горожан, и становых людей, и волостных, всех белозерцов». Значит ли это, что на Белозере нет бояр? В статье 2 законодатель устанавливает: «. . .наместником нашим дадут корм со всех сох — со княжих, и з боярьских, и с мо-настырьских, и с черных, и з грамотников, и со всех без оменки. . .». Значит, боярские сохи на Белоозере есть. Есть и княжеские — остатки землевладения белозерских князей,12 и монастырские, и вообще сохи «грамотников» — феодалов-иммунитетчиков разных рангов. Грамота о них не только не забывает, но сугубо подчеркивает обязанность их привилегированных владельцев, наряду с черными крестьянами и со всеми «без оменки», выплачивать кормы наместнику и тиуну и поборы доводчикам. Никакой «особности» феодалов-землевладельцев, светских и церковных, по отношению к великокняжеской администрации грамота не признавала.
Давно установлено в науке, что «в период княжения Ивана III история податного иммунитета вступила в фазу весьма значительных ограничений».13 Известно и о прогрессирующем ограничении судебных иммунитетов во второй половине XV в.14 Эти меры трактуются обычно (и справедливо) с позиции политики централизации в период образования единого Русского государства. Какое же место в этой политике занимают постановления Белозерской грамоты, приравнивающие боярские и монастырские сохи к черным и уста
90
навливающие обязательные платежи местной администрации «со всех без оменки» сох?
Традиционный формуляр жалованной грамоты включает такое постановление: «А наместницы мои. . . и их тивуни в те их деревни. . . не всылают ни по что, ни кормов у них не емлют. Ни доводчики. . . поборов у них не берут».15 «А волостели мои. . . и их тиуны. . . кормов своих на них не емлют. А праведщики. . . поборов своих у них не берут».16 Подобные клаузулы встречаются в подавляющем большинстве жалованных грамот, независимо от их автора, адресата, места и времени выдачи. Освобождение иммунитетного владения от выплаты кормов наместнику и волостелю и поборов доводчику не означает, однако, полного исключения этого владения из юрисдикции княжеской администрации: такой абсолютный судебный иммунитет во второй половине XV в. почти не встречается. Во всех жалованных грамотах, включающих постановление об освобождении от кормов и поборов, есть указания на изъятие из судебного иммунитета. В обоих приведенных выше случаях из иммунитета исключается душегубство, во многих других — также и разбой, и татьба с поличным. Итак, формула об освобождении от кормов и поборов не имеет прямого и непосредственного отношения к судебному иммунитету как к таковому. Она скорее означает иммунитет административно-податной — освобождаясь от выплаты кормов и поборов, население иммунитетного владения по общему правилу выводится из-под власти местной княжеской администрации. Чрезвычайные случаи, вроде душегубства, вызывающие вмешательство княжеских судебных органов, не меняют этого общего положения. В своей вотчине «грамотник» не только полный хозяин, но и как таковой не знает над собой и своими людьми власти княжеского наместника, его тиуна, его доводчиков.
Освобождение от кормов и поборов не упоминается только в крайне редких случаях. Так, в грамоте 1450 г. в. кн. Софьи Ви-товтовны Троице-Сергиеву монастырю на села в Нерехте говрится только об освобождении от поборов доводчиков, но не упомянуто о наместничьих и волостелиных кормах.17 Напротив, в грамотах Ивана III игумену Вассиану на владения во Владимирском и Ново-торжском уездах (1462—1466 гг.) упомянуты только кормы, а не поборы,18 а в грамоте на костромские владения устанавливается судебный иммунитет «опричь душегубства», а о кормах и поборах не сказано вовсе.19 Эти случаи настолько редки, что можно подумать о случайных описках и пропусках — освобождение от кормов и поборов как бы подразумевалось само собой, было общим, всем известным правилом.
Исключения из этого правила подчеркиваются особо. В 1453 г. в. кн. Василии Васильевич, жалуя Троице-Сергиев монастырь селами в Переяславском уезде (согласно духовной своей матери), сделал оговорку: «... опричь суда — суд мой, великого князя».20 Кормы и поборы здесь не упомянуты — надо думать, что они шли представителям княжеской администрации, осуществлявшим судебные функции.
Q1
Еще более важную оговорку сделал тот же великий князь в двух жалованных грамотах (1455—1462 гг.) игумену Вассиану. В грамоте на монастырские села в Радонеже Василий Васильевич «своему. . . волостелю крестьян их. . . судити не велел», отменив тем самым свое предыдущее (не дошедшее до нас, но упоминаемое в этой грамоте) постановление о подсудности монастырских крестьян волостелю. Зато великий князь установил «волостелю. . . на год два корма: на Рождество Христово с дву плуг полоть мяса, мех овса, воз сена, десятеро хлебов, и то ему и с тиуном. А не люб мех овса, ино алтын, а не люб воз сена, ино алтын; а не любы хлебы, ино за ковригу по дензе. А на Петров день дают боран с дву плуг, да десятеро хлебов. А не люб боран, ино десять денег; а не любы хлебы, ино за ковригу по дензе». Праведники же и доводчики к монастырским «хрестьяном не въещают, ни пошлин своих у них не емлют».21 Грамота на владения монастыря в Галицком уезде совпадает с радонежской почти дословно.22
Итак, в последние годы своего великокняжения Василий Васильевич сделал попытку ликвидировать судебный иммунитет в некоторых монастырских владениях. Реформа, очевидно, началась в Галицком уезде после 1450 г. (когда он был отнят у Ше-мяки), а в Радонеже — после 1456 г. (когда был ликвидирован удел кн. Василия Ярославина). Попытка эта, как видно, не увенчалась успехом; по тем или иным причинам Василий Васильевич отказался от своей реформы и вернулся к старому положению: «. . .судит игумен свои люди сам по. . . грамотам великого князя по старым». В то же время население монастырских сел было обложено натурально-денежными повинностями в пользу местной великокняжеской администрации, за исключением поборов доводчикам и праведникам.
Грамота на девять радонежских сел, данная тому же игумену Вассиану новым в. кн. Иваном Васильевичем, устанавливает полный, безоговорочный судебный иммунитет («наместницы. . . и их тиуни не судят тех людей ни в чем») и запрещает брать поборы.23 Оба этих установления совпадают с соответствующими статьями грамоты Василия Васильевича. Новая грамота не говорит ничего об освобождении монастырских сел от выплаты наместничьего корма — можно думать, что и эти постановления прежней грамоты сохранили свою силу, т. е. что радонежские села Троицкого монастыря и при Иване Васильевиче продолжали ежегодно выплачивать два наместничьих корма.24
Грамоты Василия Васильевича на радонежские и галицкие села Троицкого монастыря заслуживают особого внимания именно в силу своей необычности. Можно согласиться с Л. В. Черепниным, что в этих грамотах отразились поиски московским правительством нового подхода к феодальному иммунитету крупных вотчинников.25 В силу каких-то особых местных условий троицкие села в Радонеже и в Галиче были поставлены в исключительное положение по отношению к местной великокняжеской администрации — ни в одной известной нам жалованной грамоте XV в. нет ни безоговорочного
92
судебного иммунитета, ни прямых указаний о наместничьем корме с привилегированных владений.
Такое указание есть только во второй статье Белозерской Уставной грамоты. Обязательные платежи наместничьего корма с монастырских (и боярских) сох, что в 50-х гг. XV в. было исключением и касалось только нескольких троицких сел, в 1488 г. стали общим правилом для обширного Белозерского уезда с его достаточно развитым феодальным светским и церковным землевладением. Сам по себе этот факт имеет принципиальное значение. Это важный шаг в социальной политике Ивана III: иммунитетные привилегии боярских и монастырских вотчин по отношению к местной великокняжеской администрации подвергаются существенному сокращению.
Кормленая грамота кн. Юрию Козловскому, пожалованному во-лостельством в Антоновском стану Бежецкого уезда в 1506 г., развивает положение Белозерской Уставной грамоты: «. . .у кого будут в той волости мои грамоты жалованные, чтоп моим волостелем кармов не давати, и яз, князь великий, князя Юрья пожаловал, велел есьми ему в той волости имати корм свой со всех грамотников з боярских и с монастырских по сей грамоте».26 Тексты кормленой грамоты и Белозерской совпадают почти дословно, и это, разумеется, не случайно. Они отражают общее правило, впервые сформулированное в Белозерской грамоте и в принципе отменяющее иммунитетные привилегии в отношении наместничьего корма.
Но статья 2 грамоты, весьма важная в социально-политическом смысле, не только устанавливает обязательность и равенство платежей наместнику и доводчику со всех сох, но и впервые четко определяет размеры наместничьих кормов и доводчиковых поборов.
С каждой сохи наместник получал: 1) на Рождество Христово — за полоть мяса 2 алтына, за 10 хлебов — 10 денег, за бочку овса — 10 денег, за воз сена — 2 алтына; 2) на Петров день — за «боран» — 8 денег; за 10 хлебов — 10 денег. Итого 62 деньги. «А тиуном корм. . . вполы наместничьего корму», т. е. 31 деньга. «Доводчиков побор»: 1) на Рождество Христово — за ковригу 1 деньга, за часть мяса — 1 деньга, за зобню овса — 2 деньги; 2) на Петров день — за ковригу 1 деньга, за сыр — 1 деньга. Итого 6 денег.
Итак, в конце XV в. с каждой сохи выплачивалось в пользу местной администрации 99 денег — около полтины. Что реально означают эти платежи для непосредственных плательщиков — крестьян, пашущих в составе окладных «сох»? Точные размеры сохи конца XV в. не известны, но примерное представление о ней составить можно. По письму Василия Башенина 1498/99 г. 13 дворов Троицкого монастыря в селе Гнездникове и деревнях у Соли Галицкой приравнивались к трети сохи.27 Согласно перечневой выписи о селах и деревнях того же монастыря по письму 1503/04 г. в Радонеже и волостях Воре и Корзеневе 37 деревень с 470 дворами составляли 12 сох, а село с пятью деревнями, всего 28 дворов, — одну соху.28 В писцовых книгах 1491/92 г. князя Василия Ивановича Голенина в Переяславском уезде 2 митрополичьих села с 52 деревнями, всего 227 дворов, составляли 5 сох, а 2 села с 27 дворами — 2 сохи.29 Итак,
93
число дворов на соху было, разумеется, не постоянным, но в приведенных примерах чаще приближалось к 30—40. Этим подтверждается мнение, что размер московской сохи составлял 300 четвертей30 — при обычной запашке на двор около 10 четвертей в поле это как раз и давало 30 дворов на соху. Разумеется, эти данные весьма условны, но известный ориентир для расчета они все же дают. Выходит, что с одного крестьянского двора в пользу местной администрации отчислялось ежегодно около 3 денег. Исчерпывались ли этим повинности наместникам и их аппарату? Ответ на этот вопрос дает источник несколько более поздний. Это Уставная грамота 1506 г. Марининской трети Артемовского стана Переяславского уезда. Перечисляя кормы и поборы, идущие местной администрации, грамота подчеркивает: «. . .а те. . . кормы и поборы волостелю, и тиуну, и праветчику, и довотчику на весь год, а более того им иных кормов и поборов нет никаторых».31 Отделенная от Белозерской грамоты почти двадцатилетним промежутком времени, грамота Марининской трети (как и современная ей кормленая грамота Бежецкого уезда) вносит в состав повинностей некоторые изменения: добавляет третий корм («на Велик день»), в качестве расчетной единицы для черных крестьян использует определенное число деревень («со шти деревень»), которые, таким образом, приравниваются к сохе. Но текстуальная и идейная связь всех трех документов несомненна. Они — порождение одной и той же системы политического мышления и административного руководства, впервые четко проявившейся в Белозерской Уставной грамоте. С каждой «сохи» и с каждых «шти деревень» в пользу наместников и волостелей, их тиунов и доводчиков идут только те кормы и поборы, которые конкретно и точно перечислены в грамоте — и никакие другие.
Много это или мало? Три деньги — это стоимость трех ковриг хлеба или трех сыров. Такие платежи не могли быть обременительными даже для не очень зажиточного крестьянского двора. Для сох и деревень обязанность платить корм и поборы имела скорее символическое и идейно-политическое, нежели реальное, материальное значение. Платежи наместнику, волостелю и доводчику означали подчинение «всех без оменки» жителей уезда и волости великокняжеской власти, великокняжескому управлению, новым порядкам, устанавливаемым в объединившейся Русской земле. Именно в этом заключается, по-видимому, истинный смысл существенного ограничения феодального иммунитета в ст. 2 грамоты.
В ст. 4 грамота предупреждает доводчика: ему «побора в стану не брати, имати им свой побор у сотского в городе». Это положение далее развивается и конкретизируется в ст. 6: «А кормы наместничьи и тиуновы и доводчиковы поборы берут в станех сотцкие, да платят наместником и тиуном и доводчиком в городе: о Рождестве Христове — рождественский корм платят, а о Петрове дни — петровский корм платят в городе наместником и тиуном, и доводчиковы поборы».32
Итак, грамота не только устанавливает точный и однозначный размер кормов и поборов, но и не менее точно и однозначно опреде-
94
ляет сам механизм получения этих платежей администрацией. Оказывается, ни наместник, ни его люди непосредственно кормов и поборов не собирают и не вступают по этому поводу ни в какие контакты с населением.
Если постановления ст. 2 о боярских, монастырских и грамотни-ковых сохах представляют собой нарушение традиционного феодального иммунитета, отраженного в многочисленных жалованных грамотах, то ст. 6, напротив, как бы закрепляет старые иммунитетные привилегии типа: «. . .а волостели мои. . . и их тиуни не всылают к ним ни по что. . . А праведщикы и доводщикы. . . ни въежжают к ним ни по что».33 Эта клаузула встречается почти во всех без исключения жалованных грамотах. Однако, закрепляя эту привилегию, Белозерская грамота придает ей другой смысл. Теперь эта привилегия распространяется не только на грамотников, бояр и монастыри, но на все станы и сохи вообще, т. е., собственно говоря, перестает быть привилегией, а превращается в общее правило. Боярские и монастырские владения и здесь уравниваются с черносошными. И те и другие — подданные великого князя, равно подвластные государственной власти. В этом социально-политический смысл подобного уравнивания в правах.
В статьях 4 и 6 грамота впервые называет сотского. По этим статьям он — посредник между местным населением и великокняжеской администрацией. Именно он осуществляет одну из важнейших административно-фискальных функций — сбор доходов и доставку их в город. По точному смыслу статей 4 и 6, сотскому в этом его качестве подвластны не только черносошные, но и все прочие плательщики кормов, т. е. все население станов. Это выдвигает его фигуру на первый план в повседневной жизни уезда. Вместе с тем это положение снова резко расходится с традиционными феодальными иммунитетами, согласно которым крестьяне феодальных вотчин «ни к сотцким, ни к десятцким. . . не тянут ни в какие протори, ни в разметы. . .».34 Смысл этого установления, бесконечно повторяемого в жалованных грамотах, — именно выведение вотчинного населения из-под власти общеволостной, общестановой крестьянской администрации, из сферы обычного крестьянского права и быта. Белозерская грамота действует в прямо противоположном направлении — она не только уравнивает вотчинных крестьян с черными в платежах кормов наместнику и его аппарату, но и непосредственно подчиняет их сотскому, ответственному сборщику этих платежей. Сотский выступает как высший представитель всего крестьянского мира, всех плательщиков кормов, в каких бы владениях они не жили.
Эта черта сотского Белозерской грамоты заслуживает особого внимания. Ведь именно он (по ст. 19) является обязательным и непременным участником суда наместника. Сотский — как раз та фигура, которая в глазах великого князя олицетворяет местное население и тем самым как бы противостоит наместнику и его аппарату, ограничивая его власть в двух важнейших ёе проявлениях — сборе доходов и суде. Ограничение феодальных иммунитетов, феодальной «особенности» и неприкосновенности, ведущее к уравни
95
ванию всего населения в его подчиненности административной власти наместника, — именно эта тенденция Белозерской грамоты с необходимостью приводит к повышению роли сотского как представителя всего населения. Наместник и сотский, фактически контролируя и дополняя друг друга, составляют опору новой государственности в ее власти на местах. В этом — один из основных социальных аспектов Белозерской Уставной грамоты.
«А наместником нашим у них держати в городе и во станех два тиуна и десять доводчиков: во станех восмь доводчиков, а два в городе. А станы и деревни своим доводчиком поделять» (ст. 3).
Наместник — главный представитель интересов государства в управляемом им уезде. Ему подчинено вообще все население. Но сам наместник находится под строгим контролем этого государства. Его доходы-кормы четко определены. Порядок сбора их определен тоже. Между наместником и населением поставлен сотский — впервые в законодательстве так четко и недвусмысленно определена его роль. Сотский Белозерской грамоты, собирающий кормы и поборы «во станех» и везущий их наместнику и его людям в город, — дальний, но прямой предок того целовальника Совьин-ской волости XVII в., который так рельефно отразил свою деятельность в своей расходной книге.35
Но законодатель не довольствуется этим. Он определяет и состав наместничьего аппарата. Именно эта жесткая фиксация и ограничивает реально кормы и поборы местной администрации, естественно дополняя в этом смысле постановления ст. 2.
«А доводчику ездити во стану без паропка и без простые лошади, своего деля прибытка ... А доводчику из своего разделу в другой раздел не ездити. . . А где доводчик ночует, туто ему не обедати, а где обедает, туто ему не ночевати» (ст. 4).
Не только деятельность самого наместника, состав его аппарата и порядок сбора кормов подвергаются правительственной регламентации. Законодателя интересует и такой сравнительно второстепенный представитель администрации, как доводчик — низший судебно-полицейский агент наместника. Действия и передвижения этого доводчика — под бдительным оком центральной власти.
«А наместники тиунов и доводчиков до году не переменяют» (ст. 5). Снова и снова возвращается великий князь к идее строгой регламентации состава наместничьего аппарата, а тем самым — его поборов с населения.
Двинская Уставная грамота регламентирует только судебные штрафы и торговые пошлины и деятельностью наместников как таковых в сущности не интересуется. В отличие от нее Белозерская грамота стремится проникнуть во все детали деятельности наместника и его аппарата, всюду регламентируя и контролируя эту деятельность. Расширение власти наместника и в то же время регламентация этой власти и контроль над ней — важнейшая черта Белозерской Уставной грамоты как первого законодательного памятника Русского централизованного государства.
96
1 ААЭ. Т. 1. СПб., 1836, № 123.
2 Die altesten Gerichtsordnungen Russlands. Dorpat. 1846.
3 Владимирский-Буданов M. Ф. Христоматия по истории русского права. Ярославль. 1873. Вып. 2. С. 57—65.
4 Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV—XV вв. М., 1951. Ч. 2. С. 33—34.
5 Dewey Н. W. The White Lake Charter: a mediaeval Russian administrative Statute//Speculum. 1957. XXXII, N 1. P. 74—83.
6 ACBP. 1964. T. 3, № 22. C. 38—40.
7 Памятники русского права. M., 1956. Вып. 3. С. 170—219.
8 Российское законодательство X—XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 191—200.
9 Архив ЛОИИ. Колл. 12. On. 1. № 720.
10 АСВР. 1964. Т. 3, № 22. С. 38—40.
11 Там же, № 7. С. 21—22.
12 См.: Копанев А. И. История землевладения Белозерского края. М.; Л., 1951. С. 157—169.
13 К а ш т а н о в С. М. Социально-политическая история России конца XV— первой половины XVI века. М., 1967. С. 12. См. также: Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. М, 1988. С. 16 и сл.
14 Ч е р е п н и н Л. В. Русские феодальные архивы. Ч. 2. С. 153.
15 Жалованная грамота в. кн. Василия Васильевича Троицкому монастырю на деревни в Ростовском уезде. 1453 г. //АСВР. 1952. Т. 1, № 243. С. 171.
1 Жалованная грамота кн. Михаила Андреевича Кириллову монастырю на деревню Брейковскую. 1478—1482 гг. //Там же. 1958. Т. 2, № 245. С. 162.
17 Там же. Т. 1, № 237. С. 167.
18 Там же. № 312. С. 223; № 319. С. 228.
19 Там же. № 321. С. 230.
20 Там же. № 244. С. 172.
21 Там же. № 260. С. 189.
22 Там же. № 261. С. 190.
23 Там же. № 309. С. 220.
24 Ср.: Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы. Ч. 2. С. 152.
25 Там же.
26 АСВР. Т. 3, № 189. С. 202.
27 Там же. Т. 1, № 621. С. 532.
28 Там же. № 649. С. 568.
29 АФЗХ. М., 1951. Ч. 1, № 22. С. 41—42.
30 Ка м е н цев а Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология. М., 1965. С. 84.
31 Акты Русского государства. 1505—1526. М., 1975. № 18. С. 26.
32 АСВР. Т. 3, № 22.
33 Жалованная грамота Ивана III игумену Авраамию на Троицкое село в Переяславском уезде, 1478 г. //АСВР. Т. 1, № 455. С. 341.
Жалованная грамота Ивана III Злобе Львову на село в Вологодском уезде, 1484 г. //Там же. Т. 2, № 266. С. 178.
35 Преображенский А. А. Расходная книга земского целовальника Со-вьинской волостя Вятского уезда 1674—1675 гг. // АЕ за 1966 г. М., 1968. С. 407 — 424; Копанев А. И. Крестьяне русского Севера в XVII в. Л., 1984. С. 213—227.
7 Заказ № 1143
А. И. КОПАНЕВ
ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОСОЗНАНИЕ СЕВЕРНОГО КРЕСТЬЯНСТВА В XVI—XVII вв.
В 50-х гг. Б. А. Романов, ознакомившись с моим комментарием к Судебнику 1589 г., посоветовал мне рассмотреть этот обширный по правовому содержанию памятник, вышедший из черносошной северной волости, в плане выявления правосознания и правотворчества крестьян XVI—XVII вв. Совет Б. А. Романова представил для меня огромную ценность.
Прежде замечу, что некоторые черты правотворчества и правосознания северного крестьянства могут быть выявлены на основе, во-первых, частных юридических актов, фиксировавших самые различные сделки в крестьянской среде, во-вторых, волостных документов, появлявшихся в волости, в-третьих, документов, отражающих всевозможные обращения волости и волостных крестьян в правительственные органы. Однако в целостной системе правотворчество и правосознание крестьян выявляются при анализе норм Судебника 1589 г.: именно этот памятник несет в себе существенные черты правового строя черносошной волости.1
Волостные юристы (я думаю, работала коллегия), составляя Судебник 1589 г., в своем правотворчестве опирались, во-первых, на официальный кодекс Русского государства — Судебник 1550 г. и отдельные указы и, как мы уже говорили, на обычное право, сложившееся в результате векового правотворчества крестьянских миров и особенно обогащенное практикой волостного суда земских судей, введенных земской реформой Ивана Грозного.
Крестьянские юристы, фиксируя нормы политической и социально-экономической жизни, конечно, не вышли за пределы правопорядка феодального общества. Государственный строй с самодержцем во главе, феодальный характер правоотношений, проникнутых сословностью, составляют основу созданного ими кодекса — Судебника 1589 г. Однако целевое назначение нового кодекса — быть
98
руководством для волостных судей — определило его содержание. Статьи Судебника 1589 г. иллюстрируют нормы волостного суда, что достигалось путем или редакционной переработки статей Судебника 1550 г., или составлением новых статей. Следовательно, следя за редакционными изменениями и новыми статьями Судебника 1589 г., мы можем обнаружить и элементы правотворчества, и правосознание крестьянства Севера.
В области судоустройства Судебник 1589 г. отразил ту систему суда, которая была учреждена земскими грамотами Ивана Грозного, отменявшими суд наместников и волостелей и вводившими суд земских судей и старост, выбираемых населением. В Судебнике 1589 г. волостной суд показан как часть общегосударственной системы суда. Именно в этом смысле следует понимать те статьи Судебника 1589 г., в которых земский судья поставлен в ряд с представителями центрального суда. К приему подстановки земских судей (в форме «судья», противопоставленной чиновным наименованием центральных судей) составители прибегают при переработке текста Судебника 1550 г., в котором по тому или иному поводу дается перечень судей (ст. 8—10, 36, 106—107, 114). Статьи Судебника 1550 г. о местном суде наместников и волостелей или переносились в Судебник 1589 г. без изменения (так как наместничье управление и суд были отменены в середине XVI в.), или перерабатывались путем подстановки в них земских судей рядом с наместниками и почти постоянно с заменой волостелей волостными выборными судьями (ст. 129, 133). Итак, для крестьянского правосознания характерно признание своего волостного суда как части общегосударственной системы суда.
Но в Судебнике 1589 г. отражено и специфическое положение земского судьи. Как лицо выборное, земский судья должен был присягать. Присяга судей вводится ст. 1 («судьям крест целовати, что посулов не имати, а судити в правду») и может относиться только к земским судьям, ибо в отношении их она была установившимся фактом. В уставных грамотах предписывалось посылать выборных земских судей для присяги в Москву. Однако уже к концу века эта сложная и дорогостоящая для земских миров система была заменена присягой на месте. В «выборе» — протоколе схода, выбиравшего земского судью, включалась формула, обязывающая судью «судити в правду», безпосульно и т. д., что и было сутью (по ст. 1) присяги.
Судебник 1589 г. называет состав волостного суда. Прежде всего это — земский дьяк, ведающий канцелярией суда. Ст. 4 показывает особое положение дьяка в волости. Если он совершит подлог в протоколе суда («. . . Список нарядит или речи перепишет не так, как на суде говорили истец и ответчик. . .»), то его изгоняют с должности, наказывают кнутом, берут по нему поруку, «что впредь не воровать» и в суд его не принимать «доколе и жив будет». Простонародно звучит мотивировка ответственности судьи за поступки дьяка — он должен платить половину исцова иска, ибо «знаючи дьяка лжива почто с ним судит». В состав суда входил также судецкий целоваль
99
7*
ник (названный в ст. 56), который должен был заседать вместе с судьею при разборе всяких дел, наблюдать за правильностью составления судного списка, принимать участие в следствии; он выбирался волостью обычно вместе с судьею. Низшим выборным служителем при волостном суде являлся доводчик. Он вызывает в суд ответчика, свидетелей и отдает вызываемых на поруки (ст. 29). При разъездах ему полагалось «хоженое» — «на версту по деньге» (ст. 94). Доводчик мог взять поруку по тому или иному лицу прямо в волостной трапезе — тогда ему полагалось 2 деньги «от поруки». Аналогичны обязанности у рассыльщика — он также доставлял ответчика в суд (по ст. 31) «из езду». Причем «езд» ему оплачивался и тогда, когда он не ехал,а шел: «. . . хочет пеш поди, хочет лошадь найми» (ст. 32). Ту же роль исполнял земский пристав (ст. 32, 78), также получая «езд», или «хожено». В разбирательстве судебных дел принимал участие сотский и его аппарат — пятидесятские и десятские. Они вели следствие, доставляли преступников на суд, приводили в исполнение судебные решения, ведали тюрьмой (ст. 105, 106). Сотский по ст. 106 подчинен земскому судье — он не имел права отпускать преступников из тюрьмы на поруку «без судьина ведома».
Все вышеперечисленные должностные лица волостного суда приносили присягу в волости. Как пример приведем крестоцеловальную запись выборных одной из Устюжских волостей. «Лета 7096 февраля 11 день целовальник ... да сотской, да пятидесятцкой ... да земской дьячок . . . целуем крест своему царю государю великому князю Федору Ивановичу всея Руси, великой царице Ирине и их землям, что нам в Усьянской волосте в Веденском стану з земским судею ... в суде сидети и управа меж крестьяны чинити, а мне дьячку . . . судные дела писати. А другу в суде не дружити, а недругу не мстити и посулов и поминков не имати ни у ково ничево некоторыми делы. На том своему царю государю великому князю Федору Ивановичу всея Руси, великой царице Ирине, их землям и крест целуем».2 Великолепный текст присяги, сочиненный, конечно, в волости, отражает не только мечту крестьянина о справедливом суде, но и свидетельствует о его правосознании. Присяга дается на имя верховной власти и страны («землям»), т. е. с сознанием высокого гражданского долга.
Судебник 1589 г. путем шкалы бесчестия подчеркнул важную роль выборных должностных лиц волостного суда. Так, бесчестие земскому судье, судецкому целовальнику и церковному старосте по 5 руб. (ст. 55—56, 60) в пять раз выше бесчестия пашенному крестьянину— в 1 руб. (ст. 50). Высокая норма бесчестия определялась земскому дьяку, равному его «годовому доходу», «что от судов дойдет» (ст. 59). Специфическая форма бесчестия устанавливалась судьям и их помощникам, а именно: лживые наговоры на судью и его помощников (неправильно, «не по правде судил», «за посул» и т. д.). В таком случае жалобник (ябедник) обязан заплатить бесчестия всем оболганным должностным лицам, а его самого надлежало заключить в тюрьму (ст. 6).
100
Земскому судье были подсудны и гражданские, и уголовные дела (ст. 114), и все категории населения: волостные крестьяне (ст. 129), клир приходских церквей (ст. 184—189), пришлые люди. В ст. 231 сформулировано общее положение: где кто платит дань, разлагаемую по «земле» или по «животам», или «по головам», тот там и судится. Поголовная дань раскладывалась на все население волости и на тех, кто имел землю и животы, т. е. имущество, и на тех, кто имущества и земли не имел, а был человеком пришлым, казаком, работником в богатом хозяйстве. Подсудность по поголовной дани означала подсудность всего населения волости данному земскому судье, власть которого должна была уважаться центральными судебными властями. По ст. 97 недельщики (представители центрального суда), приехав в волость для вызова в суд того или иного лица, обязаны были представлять приставные грамоты земскому судье и самих вызываемых на суд. В противном случае недельщик лишался «езду». Подсудны земским судьям были и иноземцы в делах между ними и между чужеземцами и волощанами. Это положение отвечало реальным условиям. Посадские люди г. Архангельска в 1673—1674 гг. жаловались, например, что «иноземцы разъезжают по волостям и покупают у волостных крестьян скот и рыбу и всякий харч».3 Ясно, что столкновения и конфликты между иноземцами и волощанами были вполне возможны.
О месте волостного суда Судебник 1589 г. не говорит определенно. Лишь в ст. 94 доводчику разрешается брать поручные по тому или иному человеку в трапезной — месте судебных заседаний.
Погодная сменяемость земских судей породила новую форму: ищее, возбудившему дело и неявившемуся в суд, отказывается в суде данного земского судьи, дело его переносится к следующему судье — «до нового судии году» (ст. 100). Судебник 1589 г. отошел от прежней практики исков к судьям за совершенные ими преступления во время службы. Если по Судебнику 1550 г. (ст. 24) устанавливалась одногодичная давность для возбуждения исков на наместников (как они съедут с суда), то для земских судей Судебником 1589 г. она отменялась: «А на судей давати суд после его году, доколе и жив будет» (ст. 38). По ст. 135 земский судья во время своей должности (в его год) не ответствен перед своими помощниками — сотским и целовальником, а они подсудны ему, их он может отстранить от должности, заменив «добрыми людми». Сам же судья по возбужденным против него делам судится уже новым судьею («отвечати в новой год, как его суднины дела вершатца»). Устанавливая бессрочную ответственность отбывших должность земских судей в ст. 38, Судебник 1589 г. стремится запугать подобной перспективой должностных лиц волостного суда. Вместе с тем неприкосновенность судьи во время его службы обеспечивает его авторитетное положение в волости.
Деятельность земских судей вызывала большое число жалоб. Черносошный крестьянин следит за деятельностью своего выборного суда и реагирует на любые нарушения процедуры суда, извещает 101
о них мир, на котором каждая такая явка оглашалась — чтоб «всем было ведомо».
Судебник 1589 г. позволяет охарактеризовать некоторые особенности судопроизводства в волостном суде, которые обусловливались его крестьянским происхождением и устройством. Важнейшей особенностью состязательного процесса здесь было участие волостных людей в разбирательстве дел. Так, по ст. 111 обвиненный по показаниям 10—20 «добрых людей» мог потребовать мирского сыска («про них и про их речи миром сыскати»), чтобы выяснить, что люди, давшие показания, — «люди добрые, не лживые» и что в показаниях своих они говорили не лживо — «не нарядом говорили». Проверка «миром» показаний «добрых людей» является важным новшеством Судебника 1589 г., по сравнению с Судебником 1550 г., где даже речи нет о какой-либо проверке.
По ст. 129 мир привлекается для определения имущественного положения истца, если ответчик жаловался, что истец ищет «много не по животом». Мир должен определять имущество волощанина-истца по количеству платимой дани, по величине земельного участка и по промыслам, т. е. по тем критериям состоятельности хозяйства, которые фиксировались и в специальных волостных документах: оценных и веревных книгах и в разрубах и, конечно, были запечатлены в мирской памяти. Не без участия мира, вероятно, решался спор о количестве «животов», взятых одним на «соблюдение» у другого при несогласии сторон в определении количества «животов» (ст. 132). Поземельные дела Судебник предписывает решать с помощью старожильцев (ст. 151). Определение старожильца как лица, знающего «межу или преж сего ту землю пахивал и живал», позволяет видеть в нем волощанина, члена того мира, где совершался суд. Особая статья (155-я), предписывающая «судити» «опричными людми», «род и племя оставя обоих исцов», выводит на арену волостного суда широкий круг волощан. Многообразные формы мирского сыска подчеркивают ст. 205—222 Судебника 1589 г., взятые из указа 1556 г., посвященного вопросам судопроизводства (о взаимоотношениях судебных доказательств: обыска, послушества, поля и крестного целования).4 Указ 1556 г. возлагал на старост и целовальников, которые, как отмечено выше, были помощниками земского судьи, проведение обысков, надзор за тем, чтобы «семьями и заговоры стакався» лживо на обысках не говорили и т. д. Судебник воспринял нормы закона 1556 г. с некоторыми дополнениями. Так, ст. 205 предписывает повторный обыск, рассматриваемый как обыск мирской («Шлются ... на мир в обыск»). Обыск считался достаточной основой судебного решения (ст. 207), которое формулируется в соответствии с показаниями большинства опрошенных людей (ст. 210). Если голоса опрошенных разделятся равно пополам за истца и ответчика, проводится повторный обыск (ст. 212). Мир выступал своеобразным экспертом, когда в делах о кабале возникали разноречия между послухами, подписавшими кабалу, и дьяком, писавшим кабалу. Мирские люди сверяли почерк кабалы с «рукой»
102
дьяка и в результате восстанавливали подлинность акта и доброе имя дьяка (ст. 26).
Отрицательное отношение составителей Судебника 1589 г. к такому устаревшему способу судебных доказательств, как «поле», выразилось в переработке соответствующих статей Судебника 1550 г. в Судебнике 1589 г. (ст. 15—16, 26, 206—207), и это вполне понятно. Во-первых, «поле» в XVI в., хотя оно и фигурирует в Судебнике 1550 г. (ст. 9—16, 51, 62, 89), изживалось. Во-вторых, в волостном суде при расследовании судебных дел с помощью мира «поле» теряло всякий смысл.
В практике волостного суда нет места и такой форме феодального суда, как сместный суд. По ст. 185 все дела, возникавшие между духовными лицами и светскими, т. е. такие дела, которые по Судебнику 1550 г. должны были разбираться сместным судом, предписывалось решать земским судьям. Им же по ст. 186 были подсудны и мелкие церковнослужители приходской церкви: дьячки, пономари и другие «крылошане» в делах с волостными людьми. Даже по делам между крылошанами, которые мог по ст. 187 разбирать поп, решение выносилось в присутствии церковного старосты земского целовальника и волостных людей, коих стороны «излюбят». Подсудность приходского духовенства суду земских судей отражала подчиненное положение приходских церквей волостным мирам.
В практике волостного суда налицо те же судебные доказательства, что и в суде общем: показания свидетелей, крестное целование, общая ссылка и ссылка из виноватых, обыск и повальный обыск. Но так как земский судья следствие вел в волости, т. е. среди населения, тесно связанного экономически и нравственно, то всякие показания на суде имели важные последствия для лиц, давших их. Так, лжесвидетельство, помимо официальных санкций, встречало отрицательную реакцию мира, и это устрашало. «Доброго человека» ст. 215, показаниям которого «мочно вирити», определял, конечно, мир. Именно мир по ст. 103, назвав кого-либо «добрым человеком», освобождал его от вчинения обвинения, а по ст. 108 даже мог облегчить наказание «лихого человека», если назовут его «добрым». Все это свидетельствует о большом значении мирской организации в волостных судах. Не мог обойтись без мирского слова земский судья при привлечении волощан к сыску. Ст. 111 предписывает судье «сыскивати добрыми христианы черными, оприч миропродавцов». Миропродавцев, конечно, определял мир. Миропродавцы не только не допускались для дачи показаний в суде, они ограничивались в правах (например, отстранялись от участия в волостных сходах, выбиравших волостное самоуправление). В некоторых выборных документах список крестьян — участников выбора — сопровождался записью «оприч миропродавца токого то».
Высоко было нравственное значение такого доказательства, как крестное целование. В 10 статьях Судебника 1589 г. предписывается крестное целование: в 20, 22, 27, 30, ПО, 132, 152, 206, 219 и 221 — вместо «поля», в ст. 27 — в споре послуха и обвиненного, в ст. 132 —
юз
в споре о количестве «животов», отданных «на соблюдение», в ст. 153 — при разнице в показаниях старожильцев. В нескольких казусах предписывается решать дела «без целования» (ст. 207, 210, 215, 216). Такие виды доказательств, как «общая ссылка» или «ссылка из виноватых», предписываемые Судебником 1589 г., имеют, конечно, ту же нравственно-общественную окраску, что и обычные свидетельские показания.
Система наказаний в волостном суде та же, что и в общем суде: смертная казнь, телесные наказания, лишение свободы и имущественные наказания. Заметно, правда, что казнь и тюрьма назначаются реже в Судебнике 1589 г., чем в Судебнике 1550 г. Санкция Судебника 1550 г., выражаемая формулой «казнити торговою казнью», заменяется под пером составителей Судебника 1589 г. и формулой «бити кнутом» (ст. 11, 14, 80, 81, 105). Вероятно, это объясняется тем, что в волостях наказание производилось на мирском сходе. Пытка в ходе следствия применялась в волостном суде, но лишь один раз определена форма пытки — 100 ударов кнутом (ст. 103).
Итак, составители Судебника 1589 г. разработали некоторые нормы судебного процесса в волостях, которые соответствовали практике крестьянского суда и отражали крестьянское правосознание.
Судоустройство и судопроизводство, как они выявляются из постановлений Судебника 1589 г., были действующими в Поморье в XVII в. и после издания Уложения 1649 г., которое совершенно обошло волостной суд. Суд царя и приказов в центре, воевод и его представителей на местах, губных старост как судей по уголовным делам — вот пирамида судебных властей по Уложению. Но традиция сильнее закона — земские судьи продолжали избираться и действовали.
Из отраслей права наиболее детально разработаны в Судебнике 1589 г. нормы гражданского права и прежде всего права собственности. Земля для черносошного крестьянина была основой существования, поэтому нормы поземельного права заняли главное место в юридическом творчестве крестьянских юристов, составлявших Судебник 1589 г. Многочисленные крестьянские поземельные акты XV— XVII вв., фиксировавшие многообразные сделки-договоры крестьян между собой (мена, купля-продажа, дарение, займ, раздел, подряд и т. д.), выявляют исторически сложившиеся нормы крестьянского землевладения. Эти нормы в концентрированном виде и излагает Судебник 1589 г.
Для составителей Судебника земельные владения крестьянского двора были собственностью населяющей его крестьянской семьи. Это нашло свое терминологическое выражение в Судебнике 1589 г. в обозначении им (впрочем, как и в тысячах актов) крестьянского владения термином «вотчина», т. е. наследственной собственностью.
Как и в Судебнике 1550 г. относительно феодальных вотчин, в Судебнике 1589 г. право наследования разделялось на наследование по завещанию и по закону. Ст. 165 гласит: «А хто после живота
104
своего отпишет деревню детем, то им и водчина ввек». Выражение «отпишет» означает наследование по завещанию. Многочисленные крестьянские духовные грамоты подтверждают повсеместное бытование этой нормы. Характерно, что Судебник посвящает особую статью порядку составления и хранения духовных грамот (ст. 191), что свидетельствует о важности нормы наследования по завещанию. Судебник знает и наследование по закону. «А которой человек умрет без духовные грамоты, а не будет у него сына, ино статки все и землю дочере; а не будет дочери, ино взяти от ближнего роду от отцева или от материна» (ст. 190). Судебник 1589 г. применил к крестьянскому землевладению норму Судебника 1550 г., относящуюся к феодальной вотчине, но с существенным дополнением. Если по Судебнику 1550 г. в случае отсутствия у умершего нисходящих наследников (сына или дочери) наследство переходило «ближнего от его роду», то в Судебнике 1589 г. уточнено: отцовского или материнского. Переход наследства по материнской линии — новость, отмеченная только крестьянским судебником.
С наследованием связано право родового выкупа. Крестьянские юристы приняли некоторые нормы ст. 85 Судебника 1550 г. о выкупе феодальных вотчин (40-летний срок выкупа, запрет выкупать чужими деньгами), но в главном — в обозначении лиц, имеющих право выкупа — отошли от Судебника 1550 г. Если в последнем выкупать вотчину имели право только боковые родственники, то Судебник 1589 г. предоставляет это право прямым потомкам продавца — его детям и внукам, если при совершении сделки продажи боковые родственники не участвовали в качестве послухов (ст. 163). Это ограничение едва ли действовало в крестьянской среде: как показывают документы, выкупа добивались обычно прямые потомки продавцов. Крестьянин через суд мог требовать восстановления своих прав собственности на землю. В ст. 150 Судебник 1589 г. предусматривает споры о земле между крестьянами («А взыщет крестьянин на крестьянине») и повторяет норму Судебника 1550 г. о трехгодичной давности исков, которая далеко не соблюдалась. Судные дела показывают, что крестьяне «искали» земли через значительно большие сроки.
Регламентации междудеревенских поземельных отношений посвящено несколько статей Судебника. Как и Судебник 1550 г., крестьянский Судебник предписывает огораживать (по половинам с соседями) угодья каждой деревни (ст. 168), причем вводит важные новшества: во-первых, устанавливает высоту огорода между полями в 7 добрых жердей, между полями деревни и «черным лесом» осек — в 7 хлубин (сложенный из не очищенных от сучьев деревьев) (ст. 169), во-вторых, определяет срок, до которого жители деревни или села обязаны были крепить свои межные огороды — «до Семена дни» (ст. 168). Это две новизны и связываются они с разбирательством дел о потравах. Если изгородь построена с соблюдением норм Судебника в отношении высоты и прочности, то потраву платит не хозяин огорода, а хозяин скота, проломившегося через изгородь. Норма ст. 168 («А протрава до Семена дни, а после Семена дни
105
протравы нет») обусловила вышеприведенное постановление о «креплении» огорода до «Семена дни». Следовательно, после 1 сентября, когда урожай снят, стога на лугах огорожены, скот одной деревни мог пастись на полях другой. В документах есть указания, что первым осенним днем изгороди раскрывались. Крестьянин должен был спешить вывезти к этому времени хлеб на гумно, которое надлежало по Судебнику обнести особо прочной изгородью в 9 жердей (ст. 169). Вопрос об огораживании отхожих пожен и пашен Судебник 1589 г. решает по-другому, чем Судебник 1550 г. Если последний освобождает собственника пожни от городьбы и обязывает это делать владельца прилегающей пашни, то первый возлагает на хозяина отхожей пашни и пожни обязанность городить половину огорода в том случае, если он пускает на этот участок скот, другую половину городят те, чей скот ходит в тех же местах. Если хозяин не пускает скот, то городят те, кто это делает (ст. 171). Каждый во-лощанин мог разделать себе землю «на черном лесу ... в суземке», т. е. завести себе отхожую пожню или пашню (ст. 175) вне комплекса деревенских владений, и охрана их от потравы была его первой заботой. Предотвращение потрав было существенно для крестьянского хозяйства. Поэтому умышленное повреждение изгороди («огород отворит . . . или осек отворит»), результатом чего будет потрава или гибель скота за осеком (от зверя в лесу), наказывалось кнутом, кроме того,с преступника взыскивалась «потрава» и «гибель», размер которых устанавливала волость (ст. 170). О междудеревенских отношениях говорит ст. 176, по, которой запрещалось без особого соглашения жителям одной деревни ходить «к путикам» и иным угодьям, принадлежавшим другой деревне. Твердо установленная межа, охватывающая земельные владения той или иной деревни и села, защищается ст. 172. Преступник («хто зорет межу или гран ссечет меж селы и деревни») наказывается кнутом и платит ущерб. «А где меж деревнями случитца межа и межа до осека» (ст. 177), т. е. до изгороди, отделявшей «черный лес» от деревенских угодий, статья фиксирует правило присоединять к деревенским владениям полосу «черного леса» шириной, равной полету топора, брошенного с осека («на осек став, топором шиби, до каких мест имеет»). За этой полосой по определению Судебника лежал «вопчей лес царев и великого князя». Из контекста статьи очевидно, что термин «вопчей лес» означал общее пользование лесным угодьем со стороны примыкавших деревень. По документам в «вопчем» лесу могли охотиться все волощане и даже разрабатывать пашни «просто без делу . . . хто сколько может» (ст. 175). Таким образом, Судебник, регулируя поземельные отношения деревень и внутридеревенские, создает совокупность норм, которые обеспечивают функционирование союза деревень — волости.
Как бы ни возникла деревня, в результате ли раздела родового двора (деревня родственников) или как поселение неродственников (соседская деревня), ее земельный фонд, очерченный деревенской межой, всегда разделен между дворохозяевами. При полной свободе распоряжения землей в крестьянской среде во всякой деревне может 106
оказаться новый житель, купивший или приобретший каким-либо способом часть деревенской земли. Новый жилец мог потребовать точного определения его доли. При сугубо чересполосном расположении земель каждого дворохозяина в деревне точное определение доли могло быть осуществлено путем передела всей земли. Ст. 159 и разрешает этот казус. Новый жилец мог потребовать (но мог и не потребовать) делить всю землю деревни или часть ее («во всу землю» или не «во всу землю»). В соответствии с его желанием Судебник предписывает делить земли, занятые самой деревней, поля, наволоки, пожни и другие угодья, «повытно по купчим», т. е. в соответствии с той долей, которая полагается тому или иному домохозяину, по писцовой книге или по купчим, если часть земель деревни приобретена в результате продажи. Обнаруженный у кого-либо излишек «умер» передается тому, у кого налицо недостаток. Для крестьянского нормотворчества характерно решение вопроса о навозе. Навоз, вывезенный на полосы, переходящие к другому дворохо-зяину, старому владельцу свозить запрещается, конечно, если раздел совершался, когда навоз еще не запахан. Владелец уменьшенной усадьбы, если это обнаружится при измерении дворовых земель деревни, мог по Судебнику взять себе любую землю кроме хмельника и сада. Исключение последних объясняется, вероятно, тем, что на них затрачен значительный личный труд. Это своеобразное уложение о ровнении земли в деревне, проводившееся методом вервления, добавляется в Судебнике статьями, регулирующими использование деревенских земель.
В ст. 160 регулируются отношения между складниками, когда по той или иной причине складники, жившие в одном дворе, расходятся и один из них ставит новый двор, строит свои хоромы и т. д. В таком случае он может поставить свой двор на любой общедеревенской земле (пусть даже это будут хмельники), но только вне ряда прежних построек. Из своего надела новостроящийся обязан удовлетворить того дворохозяина, землю которого он занял. О спорах о подворной земле говорит и ст. 162, предусматривающая возможность деревенскому жителю занять часть подворной земли соседа в случае, если по хозяйственным соображениям ему нужно было возвести какие-либо строения.
Особая статья (172-я) посвящена использованию деревенскими жителями молодей, т. е. поросших мелким лесом запущенных пашен. Дворохозяева деревни, села не могли сечь и пахать без раздела молоди. Тот, кто нарушал это правило, обязан выдать другим складникам такую долю урожая, какую они могли бы получить, участвуя в распахивании молоди. Причем нарушитель обязан это делать и в том случае, если он оставит соответственную долю леса всем другим складникам. Из постановления Судебника можно заключить, что под молодями здесь разумеются коллективно разработанные, а потом запущенные пашни, на которые права членов коллектива (группы складников или всех дворохозяев и села) сохранялись при новом введении их в хозяйственный оборот.
При господстве подворного владения землей в деревне важное
107
значение имело сохранение внутридеревенских меж. Этой цели посвящена ст. 173, базирующаяся на ст. 87 Судебника 1550 г. Она запрещает нарушать межи крестьянских владений внутри деревни, перепахивать их и перекашивать. Не обошел крестьянский Судебник и проблемы наезжих пашен, которые обрабатывались крестьянами из других деревень и даже волостей. Так как такая эксплуатация земель была малоэффективна и осложняла земледельческое хозяйство в деревне, то Судебник в ст. 161 ограничил пашню наездом тремя годами, предписав наездщику после этого срока землю продать или скупить. Трехгодичный срок обусловливался, вероятно, хозяйственным циклом трехполья.
Рассмотренные статьи Судебника 1589 г., в которых фиксированы нормы поземельных отношений в черносошной среде, показывают, что исходным моментом крестьянского законотворчества является укоренившийся взгляд на крестьянский надел в деревне как собственность двора, семьи. Именно охрана поземельной собственности — главная забота крестьянских юристов.
Имущественные отношения в семье также регламентируются Судебником. Ст. 227 определяет порядок раздела имущества между детьми по смерти отца. Причем все дети — братья и сестры — должны получить равные доли, дочери такая же доля, как и сыну. Раздел допускается только после смерти отца, после смерти матери раздела нет. Дядя (брат умершего) не может претендовать на имущество племянников и племянниц.5 Норма статьи вряд ли осуществлялась всегда. Из раздельных грамот выясняется, что дочери часто оставались в семье братьев, которые обязывались их кормить и замуж выдать. При малолетних детях вдова становилась хозяйкой, под ее именем описывался двор писцами, она значилась в волостных разрубных списках. Но, если вдова выходила вторично замуж, она получала только приданое. Бездетная вдова по ст. 193 имела право на приданое, которое она принесла в дом при замужестве, кроме того ей полагалось полетное, плата по 2 гривны в год, за прожитые в замужестве годы. Вдова могла остаться в доме мужа, могла вернуться к родителям, выйти замуж. Если замужняя женщина умирала бездетной, то приданое переходило к родителям (ст. 192). Дети, «которые не у венчалные жены» родились, т. е. незаконнорожденные, вероятно, не имели прав на наследство. Ничтожное бесчестие — 2 деньги, — определенное ст. 69 Судебника, свидетельствует о самом низком социально-правовом положении незаконнорожденных в волости.
Ряд статей Судебника предусматривает разрешение хозяйственных столкновений в деревне. Это прежде всего касалось охраны животных. Так, по ст. 225 материальная ответственность возлагалась на того, кто убьет «неповинно» (т. е. без необходимости самообороны) какое-либо домашнее животное (лошадь, корову, овцу или птицу): преступник должен дать потерпевшему такое же животное или уплатить вознаграждение, определяемое «добрыми людьми» или самим потерпевшим. При «безвинном» убийстве собаки хозяин точно так же мог потребовать заменить ее такой же собакой или уплатить 108
ее цену или стеречь двор потерпевшего, пока он выкормит себе другую собаку (ст. 226). В краткой редакции Судебника 1589 г. была еще статья, не попавшая в Пространную редакцию, предписывающая хозяину злой собаки лечить искусанного ею человека за свой счет (ст. 53).
Большое значение для экономической жизни имели дороги. Судебник возлагает наблюдение за исправностью дорог на волости, по территории которых или возле которых они проходят. По ст. 223 жители должны чистить государеву дорогу от Москвы до Холмогор, устраивать перевозы через реки, строить мосты. Если из-за плохого содержания дороги будет повреждена лошадь проезжающих, то возмещение взыскивается с волости и с деревни, которой принадлежал участок дороги. По ст. 224, говорящей о дорогах вообще, жители обязаны были зимой ставить вехи, убирать с дороги упавшие деревья, расчищать дорогу на полторы сажени, строя на ручьях мосты той же ширины. Проходы через изгороди должны закрываться не заворами, а воротами, которые можно было быстрей отворить и затворить проезжающему, чем разобрать и сложить жерди в заво-ры. Ответственность за поддержание дороги в порядке жителями того селения, по землям которого она пролегала,— древнейшая норма обычного права.
Новеллы касательно социальных отношений в Судебнике 1589 г. немногочисленны: они относятся к холопству, к найму и ростовому проценту. В статьи о холопстве, довольно небрежно разнесенные из Судебника 1550 г., вносится формула: «. . .а по холопе робы нет» (ст. 137). Отход составителей Судебника от старинной формулы «по холопе роба» объясняется социальными условиями черносошного севера, не знавшего холопства.
В ст. 148, определяющую положение наймита, включено постановление Судебника 1550 г. (ст. 83) об обязанности хозяина выплачивать «по разчету» деньги наймиту, если он не доживет до срока, и добавлено разрешение хозяину прервать договор найма с наймитом в любое время и безнаказанно. Это постановление выдавало наймита на волю нанимателя и отвечало интересам крестьянской верхушки, ведущей свое хозяйство руками наймитов.
В ст. 147 составители Судебника определили положение казака, взявшего деньги в рост. Кредитор не может его «держати у себя сильно», и если казак в результате злоупотреблений хозяина от него сбежит, то кредитор теряет долг, а также снос, если казак что-либо прихватит при бегстве из имущества. Явная защита казака против кредитора позволяет предполагать, что в статье имеется в виду не казак-наймит, а казак-служилый человек, нанимаемый, как свидетельствуют документы, волостными крестьянами для дальних военных походов на каянские немцы, в Сибирь и т. д.
Взаимоотношения кредитора и заемщика нашли общее определение в новой (по сравнению с Судебником 1550 г.) ст. 23, в которой говорится о 15-летнем сроке действия кабал и взимания роста по кабале. Устанавливалось, что по истечении этого срока кабала
109
дается лишь «с господарева ведома», т. е. с разрешения царя, и что рост должен быть «на пять шестой», может быть взят лишь в течение 5 лет, когда сумма долга удваивается, а отсюда «кабалы писати на крестьян вдвое». Удвоенная сумма кабалы при росте «на пять шестой» после 5 лет выплачивается кредитору. Нормы ст. 23 о 5-летнем росте составили главное содержание указа от 8 марта 1626 г.6 Это, пожалуй, единственный случай совпадения содержания статьи Судебника 1589 г. с государственным законом.
Законотворчество крестьянских юристов проявилось также при составлении 33 статей Судебника 1589 г. о бесчестии (ст. 41—73). Приняв полностью феодальный принцип бесчестия смотря по человеку, т. е. в зависимости от социального и чиновного положения лица, составители Судебника 1589 г. в 23 статьях назначили бесчестие, новым, по сравнению со ст. 26 Судебника 1550 г., категориям населения и должностным лицам, жившим и действовавшим на черносошном севере. Как уже отмечалось, повышенная норма бесчестия была назначена должностным лицам выборного волостного управления и земского суда. Более детально разработана шкала бесчестия городским и сельским жителям. Если Судебник 1550 г. отмечает только два разряда населения города — гостей и торговых и посадских средних людей, — то Судебник 1589 г. отражает более сложную социальную структуру. Гости здесь разделены на три категории: гости большие (ст. 44), средние (ст. 45) и меньшие (ст. 46); отсюда бесчестие соответственно в 50, 20 и 12 рублей. Обозначив вслед за Судебником 1550 г. бесчестие торговых посадских людей и всех средних людей посада в 5 руб. (ст. 47), Судебник 1589 г. называет далее «городского человека доброго» с бесчестием в 2 руб. (ст. 53), «городского молодчего человека» с бесчестием в полтину (ст. 54) и «молодчего посадского человека» с бесчестием в 1 руб. (ст. 51). Различия, хотя не столько значительные, наблюдаются в размере бесчестия сельских жителей. Судебник 1589 г. выделяет прежде всего крестьянина, разбогатевшего на торговле и ростовщичестве, назначив ему бесчестие в 3 руб. (ст. 52), пашенного крестьянина с бесчестием в 1 руб. (ст. 50), т. е. в 3 раза меньше, чем богатому крестьянину. Далее Судебник определяет бесчестие церковникам и другим категориям населения: попу, дьяку, пономарю, игумену, чернецу, нищим, скоморохам, стрельцам, ратным людям, вольным казакам, каменщикам и даже незаконнорожденным, непотребным женщинам и ведьмам. Церковникам бесчестие определялось их доходом «от церкви», игумену и чернецу — что «святитель укажет», а служилым людям «что государь укажет». Остальные перечисленные категории населения отмечены незначительным бесчестием.
Что было бесчестием? Из явок северных крестьян видно, что «лай» и «непригожие слова» считались бесчестием. Судебник указывает еще: бесчестием считалось избиение человека и похищение у него имущества (ст. 39), ложное обвинение в воровстве (ст. 103), пытка в результате несправедливо проведенного обыска (ст. 212), ложное заявление ответчика, что судья и другие лица, присутство-110
вавшие на суде, судили несправедливо (ст. 6). Наконец, согласно ст. 73, за нанесение увечья кому-либо взыскивалось бесчестие «зря по человеку и по увечью». Выходит, бесчестие — действие, которое наносило кому-либо личную обиду или оскорбление. Вместе с другими нормами Судебника 1589 г. статьи о бесчестии имели целью укрепление правопорядка в волостях. Именно стремление к укреплению правопорядка — одна из черт и крестьянского правосознания. Эта же черта проявилась и в формуле ст. 228, которая гласит, что закон должен соблюдаться неукоснительно, что суд и управление должны функционировать постоянно и непрерывно — «земли без управы не держати ни часу».
Рассмотрение правового строя черносошной волости показывает, что этот правовой строй отразил социально-экономическое развитие крестьянства. В XVII в. нормы, зафиксированные в Судебнике 1589 г., не только регулировали поземельные, имущественные и социальные отношения в крестьянской среде, но в известной степени формировали также общественную жизнь крестьянина, неразрывно связанную с общиной-волостью. Способность крестьянских миров приспосабливать нормы общего законодательства к специфическим условиям мирского самоуправления и самостоятельно формулировать в виде закона нормы обычного права отразила высокий уровень правосознания черносошного крестьянина.
Крестьянский кодекс огромного юридического содержания, созданный в конце XVI в., не мог не отразить внутренних процессов развития северной волости. Выделившаяся крестьянская верхушка, захватившая значительные земли волости, получила в нормах крестьянского землевладения юридическое оформление ее собственности. Высокие нормы бесчестия богатому крестьянину и лицам выборного волостного управления, состоящего из тех же волостных богатеев, придавали крестьянской верхушке черты сословного превосходства. Статьи, касающиеся судоустройства и судопроизводства в волости, использовались волостной верхушкой как средство укрепления ее господства в волости. Крестьянское правотворчество отражало интересы в первую очередь выделившейся крестьянской верхушки. Социально-экономическое развитие крестьянства Севера в XVII в. было благоприятным обстоятельством для длительного бытования норм Судебника 1589 г.
1 Судебник 1589 г. издан по всем спискам в краткой и пространной редакциях в кн.: Судебники XV—XVI веков / Подготовка текстов Р. Б. Мюллер и Л. В. Черепнина; Комментарии А. И. Копанева, Б. А. Романова и Л. В. Черепнина; Под общ. ред. Б. Д. Грекова. М.; Л., 1952. С. 349—562.
2 Романов М. И. Теория одного северного захолустья. В. Устюг, 1925. Приложения. С. 5—6.
3 Крестинин К. Краткая история о городе Архангельске. СПб., 1792. С. 177—178.
4 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI— первой половины XVII века / Подготовка текста Р. Б. Мюллер; Под ред. Н. Е. Носова. Л., 1986. С. 39—42.
5 Укажем здесь норму, сложившуюся в крестьянской среде, но не отраженную Судебником 1589 г., а именно — об обычае уменьшать долю наследства детям, обучен
111
ным грамоте, по сравнению с детьми, грамоте не обученным. Так, в духовной 1595 г. Яков Емецкий уменьшает долю в имуществе двух старших сыновей на том основании, что они «изучены» промыслу и «изучены грамоте и пети и писати», а долю младших сыновей (от 6 до 12 лет) увеличивает, ибо они «не изучены ни промыслу, ни грамоте» (Копанев А. И. Крестьянство Русского Севера в XVI в. Л., 1978. С. 212). В 1671 г. братья делили «статка» отца. Один из них, Емельян, «грамоте учился и за то грамотное учение, и за однорядки, и за часовник, и за чернильницы взял Иван (второй брат) из опча мерина 4 рубля за амбар» (Архив ЛОИИ. Ф. 5, кар. 28, № 54).
6 Законодательные акты. . . С. 126.
В. М. ПАНЕЯХ
КАБАЛЬНОЕ ХОЛОПСТВО
В НОВГОРОДЕ И НОВГОРОДСКИХ ПЯТИНАХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII в.: ДИНАМИКА ЗАКАБАЛЕНИЙ
Определение численного состава кабального холопства для любого периода едва ли достижимо. Можно, однако, выявить некоторые факторы, влияющие на численность этой сословной группы. Тормозящим фактором стала отмена уложением от 1 февраля 1597 г. наследования права владения кабальными холопами.1 В исторической литературе были высказаны разные точки зрения на причины реформы служилой кабалы.2 Не исключено, в частности, что она преследовала цель создания предпосылок к усиленному притоку освободившихся кабальных холопов (по смерти господ) в крестьянство. Так или иначе, ненаследственный характер зависимости кабальных людей, разумеется, существенно ограничивал возможности увеличения этой группы за Счет естественного прироста.
Правда, на рубеже XVI—XVII вв. в результате реализации других предписаний того же уложения численный состав кабального холопства, в том числе в Новгородской земле, резко возрос за счет массового взятия служилых кабал на документально не оформленных старинных холопов и добровольных холопов, и эта возможность оставалась у холоповладельцев, не исключая и вторую половину XVII в., но отмена наследования кабальных холопов оставалась и в это время основным тормозящим фактором количественного развития данной сословной группы.
Одновременно брак одиночек, поступавших в кабальное холопство, в связи с нормой «по холопу роба» и «по робе холоп» продолжал увеличивать число кабальных холопов. Этому способствовала и норма о потомственном характере этой формы неволи (дети, родившиеся после оформления служилой кабалы хотя бы на одного из родителей, сами становились кабальными холопами по смерти их господ).
Наконец, фактором численного увеличения кабального холопства являлся механический его прирост в связи с закабалением свободных людей посредством взятия на
8 Заказ № 1143 113
них служилых кабал. Наблюдения над ходом закабалений в Новгороде и пятинах в конце XVI—первой половине XVII в. были уже приведены нами ранее.3 В данном случае мы продолжим подобные наблюдения, охватив ими вторую половину XVII в.
Источником, отражающим ежегодные закабаления, являются кабальные книги, которые велись по годам в Новгороде и в пятинах (по их половинам) и в которых регистрировались все новые служилые кабалы.4 Однако за период с 1647/48 г. (который мы принимаем за исходный для наблюдений) по 1599/1600 г. сохранился только 21 % возможных годовых регистраций служилых кабал, если исходить из предположения, что каждому году должна соответствовать кабальная книга (заметим, что за первую половину XVII в. сохранилось 37 %). Но нет уверенности в том, что столь существенные лакуны свидетельствуют только об утрате большинства кабальных книг, хотя в некоторых случаях об этом можно говорить с большой долей вероятности. Не лишено оснований предположение, что в течение ряда лет кабальные книги не велись вовсе из-за отсутствия новых служилых кабал. Следовательно, данные кабальных книг дают материал для суждений только о числе закабалений в каждом из годов, о которых имеются известия, и об общей количественной тенденции закабалительного процесса за вторую половину XVII в. вообще, в сравнении с первой половиной века в частности.
Следует также иметь в виду, что число служилых кабал, взятых каким-либо холоповладельцем в течение одного года, не дает достаточного материала для суждений об общем числе служивших у него в это время кабальных холопов, поскольку каждый холо-повладелец приобретал их, как правило, на протяжении всей своей деятельности. Равным образом то или иное количество служилых кабал, оформленных в Новгороде или в какой-либо из новгородских пятин, существенно отличалось здесь от общего числа кабальных холопов. Ведь и у этого холоповладельца, и в каждой из обследуемых территориально-административных единиц до каждого данного года было оформлено какое-то, нам неизвестное, количество служилых кабал. Общее число кабальных холопов у отдельных лиц или у всех лиц определенного района было неизмеримо большим, чем количество служилых кабал, взятых в любом году, еще и из-за действия нормы «по холопу роба» и «по робе холоп».
Итак, рассмотрим цифры ежегодных закабалений по тем административно-территориальным единицам, по которым сохранилось достаточное для суждений о динамике процессов количество кабальных книг (см. табл. 1—8).
Число похолопляемых служилой кабалой людей в Новгороде и в пятинах было невелико. Так, во второй половине XVII в. (начиная с 1647/48 г.) в Новгороде было закабалено за 26 лет 519 человек, в Белозерской половине Бежецкой пятины за 14 лет — 228, в Тверской половине Бежецкой пятины за 12 лет — 165, в половине Григория Морозова Деревской пятины за 10 лет — 87, в половине Жихаря Рябчикова этой же пятины за 13 лет — 176 и в Залесской половине Шелонской пятины за 13 лет— 12 человек.
1 1 л
Служилые 23 23 40 17 25 33 23 10 11 11 14 17 15
кабалы
Кабальные 24 25 46 17 28 55 31 12 18 11 17 19 15
холопы
Кабалы, холопы 1682/83 1683/84 1685/86 1686/87 00 00 00 1691/92 1692/93 1693/94 1694/95 1695/96 1697/98 1698/99 00Z1/6691
1
Служилые 14 24 10 8 15 14 13 10 5 13 5 10 30
кабалы
Кабальные 15 28 10 8 21 16 17 10 5 15 6 19 31
холопы
Примем а н и е. Эта, а также табл. 2— -7 составлены по следующим кабальным книгам
ЦГАДА. Ф. 1144. On. 1. Кн. 30—31, 33, 36, 39, 42, 46, 49, 51—52, 56—57, 59, 63, 71, 76, 79, 84, 90.
Таблица 2
Количество новых служилых кабал и число новых кабальных холопов в Белозерской половине Бежецкой пятины в 1647/48—1674/75 гг.
ОО СП см со ю со ОО см LQ
Ю LO ю СО со СО СО Г'-
Кабалы, холопы of ОО СО о оГ со чг
СО СО со со СО со СО СО СО со со СО со
Служилые кабалы 26 11 4 16 22 24 13 23 15 18 10 3 2 5
Кабальные холопы 31 11 4 24 27 24 17 26 21 18 10 6 3 6
Служилые кабалы 11 7 10 12 13 13 7 11 15 5 3 8
Кабальные холопы 12 15 11 13 22 20 10 15 25 6 4 12
8*
115
Таблица 4
Количество новых служилых кабал и число новых кабальных холопов в Полужской половине Водской пятины в 1647/48—1673/74 гг.
Кабалы, холопы 1647/48 1648/49 1653/54 1656/57 1657/58 1673/74
Служилые кабалы 5 6 8 2 9 1
Кабальные холопы 6 8 8 2 9 1
Таблица 5
Количество новых служилых кабал и число новых кабальных холопов в половине Григория Морозова Деревской пятины в 1647/48—1677/78 гг.
Кабалы, холопы 1647/48 1648/49 1667/68 1669/70 1670/71 [ 1671/72 1672/73 1673/74 1674/75 1677/78
Служилые кабалы 1 10 9 5 9 6 4 3 16 10
Кабальные холопы 1 И 9 5 9 7 7 3 23 12
Таблица 6
Количество новых служилых кабал и число новых кабальных холопов в половине Жихаря Рябчикова Деревской пятины в 1647/48—1673/74 гг.
Кабалы, холопы 1647/48 1648/49 1649/50 1652/53 1653/54 1656/57 1657/58 1666/67 1667/68 1669/70 1670/71 1671/72 1673/74
Служилые кабалы Кабальные холопы
5 9 3 1 11 7 12 12 7 15 24 22 32
5 10 4 1 17 8 13 12 7 15 26 24 34
Служилые кабалы 2 4 3 17 1 1 4 23 16 16 18 15 7
Кабальные холопы 2 4 3 17 1 1 4 23 16 16 18 15 7
Таблица 8
Количество новых служилых кабал и число новых кабальных холопов в Зарусской половине Шелонской пятины в 1647/48—1677/78 гг.
Кабалы, холопы 1647/48 1648/49 1649/50 1656/57 1672/73 1677/78
Служилые кабалы 8 10 13 4 8 6
Кабальные холопы 10 11 17 7 8 6
Если сравнить среднегодовые цифры похолопления людей за вторую половину XVII в. с аналогичными цифрами за первую (с начала 20-х гг. до 1646/47 г.), то обнаруживается их падение, в некоторых случаях значительное: по Новгороду с 52 до 20, по Белозерской половине Бежецкой пятины с 36 до 16, по Тверской половине Бежецкой пятины с 25 до 14 и т. д.5
Выявленная ранее тенденция хода закабалений в северо-западном регионе за 20—40-е гг. XVII в. — постепенное снижение числа новых кабальных холопов с самым низким уровнем к концу 40-х гг.,6 сопоставленная с тенденцией к падению средних годовых показателей во второй половине XVII в. по сравнению с первой его половиной, наталкивает на вывод о нарастающем в течение всего XVII в. сокращении механического прироста кабального холопства, что не могло не влиять на его численный состав. Судя по новгородским кабальным книгам, тенденция прослеживается до самого конца XVII в. Неуклонное снижение числа закабалений на протяжении XVII в. является симптомом и следствием идущего, хотя и медленно, процесса постепенной утраты кабальным холопством того значения в социальной структуре русского общества, которое оно имело во второй половине XVI и в первых десятилетиях XVII в.7
1 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI— первой половины XVII века: Тексты. Л., 1986. № 47. С. 64—66.
2 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI— первой половины XVII века: Комментарии / Авторы комментариев: Ю. Г. Алексеев, А. И. Копанев, Р. Б. Мюллер, Н. Е. Носов, В. М. Панеях, К. Н. Сербина; Под ред. Н. Е. Носова и В. М. Панеяха. Л., 1987. С. 76—89.
3 Панеях В. М. 1) Холопство в XVI—начале XVII в. Л., 1975. С. 146—157; 2) Холопство в первой половине XVII в. Л., 1984. С. 57—79.
4 Подробно о кабальных книгах см.: Панеях В. М. Холопство в первой половине XVII в. С. 6—21.
5 Среднегодовые цифры похолоплений служилыми кабалами за 20—40-е гг. XVII в. подсчитаны по таблицам, приведенным в кн.: Па неяхВ. М. Холопство в первой половине XVII в. С. 58—62.
6 Там же. С. 77.
7 Этот вывод соответствует и подсчетам В. М. Воробьева, который установил, что в 70-х гг. XVII в. сословная группа старинных холопов в новгородских пятинах относительно преобладает в составе холопства (Воробьев В.М. Изживалось ли холопство в поместьях Северо-Запада России середины XVII—начала XVIII века? // История СССР. 1983. № 4. С. 113—124).
Б. Н. МИРОНОВ
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 1737 г.: ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ
Изучение социальной структуры городского населения XVIII в. представляет существенный интерес по двум причинам. Во-первых, оно позволяет представить социальный портрет русского городского общества, соотношение в нем различных классов — сословий и социальных групп, господствующие общественные отношения в среде городского населения. Во-вторых, в XVIII в. еще существовала довольно тесная связь между социальным положением, статусом человека и его профессиональными занятиями, другими словами, между социальной структурой и отраслевой структурой занятости населения. Наличие подобной связи позволяет по социальной структуре горожан приблизительно судить об их занятиях, о чем историки имеют весьма смутные представления.
Первые массовые сведения о социальном составе городского населения дает, как это ни странно, православная церковь.1 Дело в том, что по указанию светской администрации и церковных властей священники с 1720-х гг. начинают персонально фиксировать отношение населения к главнейшим христианским таинствам — исповеди и причастию. Эти первичные сведения затем обобщались по сословным группам в масштабах городов, уездов, епархий, государства и поступали на высочайшее имя. При наличии подобных данных, в случае их достоверности, возможно воссоздать социальную структуру отдельных городов и городского населения целых регионов. Первая подобная сводка за 1737 г. была сделана в Синоде и в 1740 г. представлена императрице Анне Иоанновне.2 К сожалению, сводка сохранилась, а первичные и «промежуточные» данные — нет. В сводке же данные о городском и сельском населении объединены вместе, за исключением Москвы и Петербурга. За 1739—1741 гг. в фонде Синода удалось найти аналогичные данные еще по 9 городам. Всего, таким образом, мы располагаем данными о социальной структуре населения в 11 городах: по столице
цам — за 1737 г., по Новгороду — за 1739 г., по остальным восьми городам — за 1741 г. Поскольку в столицах проживал 81 % учтенных городских жителей за 1737—1741 гг., можно суммарные данные о социальной структуре этих городов датировать 1737 г. Сведения о социальной структуре населения одиннадцати городов за 1737 г. содержит табл. 1. Заслуживают ли доверия эти данные и можно ли выводы, полученные на основе этой стихийно сохранившейся выборки, распространить на все городское православное население страны? Сравним социальную структуру населения этих одиннадцати городов и всех городов Европейской России в 1802 г. (см. табл. 2).
Как видно из данных табл. 2, несмотря на то что в одиннадцати городах проживала пятая часть горожан, соотношение разных сословий там было иным, чем по стране в целом; особенно велики расхождения в проценте сельских и городских сословий. Это объясняется тем, что соотношение сословий в выборочной совокупности из одиннадцати городов предопределялось столичным населением, социальная структура которого существенно отличалась от структуры жителей других городов.
Однако,не соответствуя точно социальной структуре всего городского населения страны, данные по одиннадцати городам верно отражают ее изменение во времени благодаря тому, что в их числе находятся крупнейшие и влиятельнейшие торгово-промышленные центры России (Москва, Петербург, Нижний Новгород). Об этом свидетельствует сравнение динамики социальной структуры горожан за 1796—1808 гг. по 11 городам и по всем российским городам. Оно показало, что изменения в социальной структуре городского населения по одиннадцати городам оказались практически такими же, как и по всем городам страны. Доля различных сословий среди жителей одиннадцати городов и во всем городском населении за 12 лет изменилась соответственно: дворян и чиновников увеличилась в 1.08 и 1.06 раза, городских сословий — в 1.10 и 1.13, а доля духовенства, напротив, уменьшилась в 1.12 и 1.10 раза, сельских сословий — в 1.02 и 1.10 раза, военных сословий — в 1.21 и 1.27 раза. Как видим, результаты очень близки. Следовательно, по изменению социальной структуры населения в одиннадцати городах можно достаточно точно представить изменения в социальной структуре всех вообще городов. Этот результат имеет большое значение, так как дает основание применить для реконструкции социальной структуры городского населения 1737 г. следующую методику. За изменение доли отдельных сословных групп в 1737—1802 гг. во всем городском населении примем изменения доли сословных групп в одиннадцати городах; за точку отсчета возьмем социальную структуру горожан в 1802 г.; тогда, опираясь на установленные изменения в проценте отдельных сословий по одиннадцати городам, реконструируем социальную структуру городского населения в 1737 г. Коротко говоря, по изменению доли сословий в одиннадцати городах за 1737—1802 гг. реконструируем примерный процент каждого сословия для Европейской России в целом в 1737 г., принимая за точку отсчета 1802 г.3
119
Таблица 1
Социальная структура населения одиннадцати городов в 1737—1741 гг.*
Город Год Дворяне и чиновники Духовенство Городские сословия
м. ж. об. п. м. ж. об. п. м. ж. об. п.
Петербург 1737 1697 1409 3106 270 236 506 2686 2083 4769
Москва 1737 3375 3858 7233 2588 2868 5456 11713 12298 24011
Алатырь 1741 78 106 184 63 69 132 263 302 565
Арзамас 1741 109 121 230 66 67 133 1838 2176 4014
Балахна 1741 28 21 49 54 63 117 1343 1588 2931
Гороховец 1741 14 17 31 31 19 50 380 464 844
Курмыш 1741 31 39 70 37 43 80 84 102 186
Н. Новгород 1741 281 336 617 230 201 431 1241 1523 2764
Новгород 1739 278 296 574 525 563 1088 1750 2036 3786
Юрьевец 1741 23 22 45 62 55 117 821 945 1766
Ядрин 1741 12 19 31 25 24 49 214 202 416
Итого 5926 6244 12170 3951 4208 8159 22333 23719 46052
о/ /О 4.5 5.0 4.8 3.0 3.4 3.2 17.1 18.9 18.0
* Составлено по: ЦГИА СССР. Ф. 796. Оп. 21. Д. 379. Л. 9—12 (Петербург, Москва); Оп. 20. Д. 594 (Новгород); Макарий. Материалы для географии и статистики Нижегородской губернии // Сб. статистических сведений о России. СПб., 1858. Кн. 3. С. 635—657 (остальные города). Раскольники объединены с городскими сословиями.
Таблица 2
Социальный состав населения одиннадцати городов в 1802 г.*
Город и Дворяне чиновники Духовенство Городские сословия
м 1 ж' 1 об. п. м. | ж. | об. п. м. 1. ж-.. - об. п.
Петербург 3616 3132 6748 462 536 998 2707 2820 5527
Москва 2400 2687 5087 2005 2198 4203 11590 11208 22798
Алатырь 70 71 141 41 53 94 542 629 1171
Арзамас 71 98 169 83 131 214 2372 2816 5188
Балахна 43 41 84 63 61 124 1285 1539 2824
Гороховец 17 27 44 19 19 38 460 522 982
Курмыш 52 53 105 13 16 29 100 104 204
Н. Новгород 396 478 874 139 144 283 1845 2136 3981
Новгород 250 284 534 347 399 746 1267 1229 2496
Юрьевец 29 42 71 83 88 171 689 844 1533
Ядрин 7 13 20 24 24 48 445 514 959
Итого 6951 6926 13877 3279 3669 6948 23302 24361 47663
% 5.8 6.3 6.0 2.7 3.4 3.0 19.4 22.3 20.8
Европейская — — 3.1 — — 2.0 — — 33.9
Россия, % **
* Составлено по: ЦГИА СССР. Ф. 796. Оп. 84. Д. 901.
** Без Украины и Прибалтики.
120
Военные сословия Крестьяне Разночинцы Всего
и дворовые
м. ж. об. п. м. ж. об. п. м. ж. об. п. м. ж. об. п.
18141 7427 25568 10821 5253 16074 9354 8764 18118 42969 25172 68141
5731 9617 15348 27663 26606 54269 14109 18366 34275 65179 73613 138792
97 116 213 471 592 1063 460 598 1058 1432 1783 3215
177 250 427 401 586 987 НО 177 287 2701 3377 6078
62 81 143 417 504 921 59 144 203 1963 2401 4364
3 3 6 106 154 260 — — — 534 657 1191
66 85 151 242 278 520 190 216 406 650 763 1413
573 880 1453 2478 3284 5762 1104 1409 2513 5907 7633 13540
107 344 451 2313 2620 4933 1721 1911 3632 6694 7770 14464
67 66 133 718 672 1390 40 37 77 1731 1797 3528
103 112 215 138 146 284 1 0 1 493 503 996
25127 18981 44108 45768 40695 86463 27148 31622 58770 130253 125469 255722
19.3 15.1 17.2 35.2 32.5 33.8 20.9 25.2 23.0 100 100 100
Военные сословия Крестьяне и дворовые Разночинцы Всего
м. ж. об. п. м. ж. об. п. м. ж. об. п. м. ж. об. п.
17644 5673 187 226 126 4977 7489 286 401 133 22621 13162 483 627 259 6292 33344 335 581 84 5556 30732 377 865 103 11848 64076 712 1446 187 7805 3141 398 23 6 8027 4007 473 33 3 15832 7148 871 56 9 38526 58153 1583 3356 1607 883 585 25048 58321 1889 4344 1880 989 63574 116474 3472 7700 3487 1872
65 115 56 135 121 250 322 304 365 333 687 637 1 2 3 643 1228 13744 11188
1819 1366 3185 1847 2162 4009 724 688 1412 6770 6974
1272 999 2271 1723 1810 3533 751 857 1608 5610 5578
79 103 182 986 132 2018 72 97 169 1938 2206 4144
122 154 276 481 505 986 — — — 1079 1210 2289
27338 16099 43437 46299 43840 90139 12921 14187 27108 120090 109082 229172
22.8 14.8 19.0 38.6 40.2 39.4 10.8 13.0 11.9 100 100 100
— 10.9 — — 37.6 — — 12.2 — — 100
121
Таблица 3
Социальная структура православного населения обоего пола в Европейской России в 1737 г. по данным православного учета (реконструкция)
Сословная группа Города Уезды Всего
тыс. % тыс. % тыс. °/ /о
Дворяне и чиновники 31.0 2.6 23.3 0.2 54.3 0.5
Духовенство 28.6 2.4 228.8 2.4 257.4 2.4
Военные сословия 118.1 9.9 636.4 6.6 754.5 6.9
Городские сословия 474.9 39.8 15.7 0.2 490.6 4.5
Сельские сословия, в т. ч.: 383.0 32.1 8578.9 88.8 8961.9 82.5
а) крестьяне 237.5 19.9 8074.4 83.5 8311.9 76.5
б) дворовые 145.5 12.2 502.1 5.2 647.6 6.0
Разночинцы 157.7 13.2 184.9 1.9 342.6 3.2
Итого 1193.3 100 9665.6 100 10858.9 100
С 1737 по 1802 г. в одиннадцати городах доля дворян, чиновников и сельских сословий увеличилась в 1.2 раза, военных и посадских — в 1.1 раза, раскольников — в 3 раза, разночинцев уменьшилась — в 1.8 раза и духовенства — в 1.1 раза. Основываясь на этих отношениях, получаем, что в 1737 г. доля собственно посадских составляла 30.8 % (процент посадских в 1802 г., равный 33.9,делим на 1.1), доля податных разночинцев — 8.8 % (4.9Х 1.8=8.8), доля раскольников— 0.2 % (0.6:3=0.2), доля всех городских сословий, т. е. посадских, податных разночинцев и раскольников — 39.8 % (30.8+ +8.8+0.2), доля дворян и чиновников — 2.6 % (3.1:1.2=2.6), военных — около 10 % (10.9:1.1=9.9), духовенства — 2.4 % (2.2Х XI. 1=2.4), сельских сословий — 32.1 % (37.6:1.2=32.1), неподатных разночинцев 13.2 % (7.3X1.8=13.2). Поскольку общее число горожан в 1737 г. нам известно, то нетрудно по проценту определить численность отдельных сословных групп (см. табл. 3).
Применение описанной методики реконструкции дало правдоподобные результаты, о чем свидетельствует, во-первых, сходство полученной на ее основе социальной структуры городского населения со структурой мужчин-горожан по данным ревизского и административного учета в 1744 г.; 4 во-вторых, близость реконструированной численности отдельных сословий с прямыми данными источников. Например, в 1741 —1745 гг. по сведениям Синода в городах Европейской России проживало около 15 тыс. человек церковнослужителей мужского пола, а по нашим вычислениям — 14.9 тыс., военных сословий в 1737 г. соотносительно—74 и 78 тыс. человек.
Какова же была социальная структура городского населения в России в 1737 г. и чем она отличалась от социальной структуры сельского населения?
Отличительные черты структуры городского населения состояли в следующем. В его составе преобладали городские сословия, т. е. купцы и ремесленники, на долю которых приходилось около 40 % горожан. Однако следует отметить и значительную долю проживавших в городах сельских сословий — почти треть (32 %), разночинцев — более 13 % и военных — около 10 %. Дворяне, чиновни
122
ки и духовенство по своей численности занимали скромное место — всего 5 % от общего числа горожан: их было меньше, чем представителей любого другого сословия. Подобная структура городского населения свидетельствует о том, что в первой трети XVIII в. города, с одной стороны, выполняли разнообразные функции — промышленную, торговую, военную, административную, религиозную, культурную, а также и сельскохозяйственную; с другой стороны, промышленность и торговля не стали еще главными занятиями горожан — показатель незавершенного отделения города от деревни.
Среди сельского населения преобладало крестьянство — 88.5 % (с дворовыми), сравнительно много насчитывалось военных — 6.6 % и духовенства — 2.4 %. Во всем населении страны явно преобладали крестьяне — 82.5 % (с дворовыми), затем военные — 6.9 %, городские сословия — 4.5 %, разночинцы — 3.2 %, духовенство — 2.4 % и дворянство — 0.5 %. Обращает на себя внимание ничтожная доля торговцев и ремесленников в составе населения страны — их было в 1.5 раза меньше, чем военных, в 1.3 раза меньше, чем дворовых. Даже допуская, что крестьянство занималось торгово-промысловыми занятиями в большей степени, чем городские сословия разного рода сельскохозяйственными занятиями, очевидно, что Россия в рассматриваемое время являлась сугубо аграрной страной. В ней на 0.5 % населения (дворянство) работало 87 % населения (крестьяне, торговцы и ремесленники); 6.9 % ее граждан защищало государство от врагов внешних и «внутренних» и 2.4 % идеологически оправдывало существование феодально-крепостнического режима.
Полагаем, что хотя сделанные выводы основываются на социальной структуре православного населения, их можно без большой натяжки распространить на всё население страны (так как 85 % ее жителей исповедовало православие) и уж во всяком случае на великорусские губернии.
Проведенное исследование позволяет, по нашему мнению, прийти к заключению, что реконструкция утраченных или отсутствующих сведений представляет собой корректное и полезное средство в историческом анализе. Недаром за последнее время теория и практика реконструкции и ретроспективного прогнозирования в СССР и за рубежом достигли значительного прогресса.5 С. О. Шмидт верно заметил, что элементы реконструкции и прогнозирования в той или иной мере присущи всем историкам, так как «в конечном счете это отражает свойственную человеку способность представить реальность за пределами непосредственного восприятия, способность представлять „воображаемые" объекты и восстанавливать образ по неполной информации о нем».6 Уже сделано немало успешных опытов реконструкции. Здесь и восстановление разрушенных произведений искусства, зданий, целых городов, и добывание огня способами первобытных людей, и использование архаических приемов трудовых процессов, и путешествия на судах древних типов с целью определения возможности передвижения по данному маршруту. При работе с письменными источниками историки реконструируют протографы
123
летописей, не дошедшие до нашего времени, незавершенные литературные произведения.7 Однако во всех известных попытках прогнозирования историки пока крайне редко используют количественные методы. Между тем именно количественные методы открывают особенно широкие перспективы в области ретросказания и благодаря этому способны ощутимо повысить информативную отдачу исторических источников.
1 О церковном демографическом учете подробно см.: Миронов Б. Н. Исповедные ведомости — источник о численности и социальной структуре православного населения России XVIII—первой половины XIX в.// Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1989. Т. 20.
2 ЦГИА СССР. Ф. 796 (Канцелярия Синода). Оп. 21. Д. 379. Л. 9—12. Экстракт, сочиненный в канцелярии Святейшего правительствующего Синода из присланных в Святейший Синод по синодальной области из Духовной дикастерии, из Санктпе-тербургского Духовного правления да из 23 епархий о исповедавшихся и неиспове-давшихся правоверных всякого чина обоего пола людях за 1737 год.
3 Данные по одиннадцати городам за 1737 г. в принципе можно рассматривать в качестве малой выборки в математико-статистическом смысле этого термина, что открывает возможность с помощью доверительных интервалов установить пределы, в которых находились доли отдельных сословных групп во всем городском населении, во всех городах или в генеральной совокупности. Однако в данном случае математический подход нецелесообразен. Несмотря на «малость» выборки — одиннадцать единиц наблюдения, т. е. всего около 3 % городских поселений, — в этих городах проживало свыше 21 % всего городского населения страны. А формула для подсчета доверительного интервала процента учитывает только число единиц наблюдения в выборке, оставаясь «равнодушной» и к величине городов, и к числу проживающих в них жителей, вследствие чего дает очень широкий доверительный интервал, в нашем случае неадекватный.
4 Водарский Я. Е., Кабузан В. М. Города России во второй половине XVII—середине XIX в.: К вопросу о типологии // Феодализм в России. Юбилейные чтения, посвященные 80-летию со дня рождения академика Л. В. Черепнина: Тезисы докладов и сообщений. Москва, 30 октября—1 ноября 1985 г. М., 1985. С. 130.
5 Обобщение многочисленных отечественных и зарубежных работ по теории и практике реконструкции и прогнозирования см.: Рабочая книга по прогнозированию. М., 1982. 430 с.
6 Шмидт С. О. Современные проблемы источниковедения//Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. М., 1969. С. 44.
7 Там же. С. 45.
Б. В. АНАНЬИЧ, С. К. ЛЕБЕДЕВ
КОНТОРА ПРИДВОРНЫХ БАНКИРОВ В РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ РЫНКИ
(1798—1811 гг.)
После 1769 г., когда правительство Екатерины II заключило первый, как принято считать, в истории Российской империи крупный внешний заем у амстердамского банкирского дома Раймонд и Теодор де Смет (R. & Th. de Smeth), кредиты, полученные за границей, стали играть важную роль в бюджете страны. Заем 1769 г. предназначался на военные расходы, связанные с содержанием русского флота в Средиземном море и укреплением русского влияния в Польше.1
Открыв для себя богатый капиталами денежный рынок Голландии, Екатерина II намерена была для финансирования своей военной программы широко использовать любую возможность получать кредиты и в других странах. Заем 1769 г. не только положил начало русскому внешнему государственному долгу, но и создал прецедент для правового и организационного обеспечения финансовых операций на иностранных рынках. В 1769 г. был образован Комитет уполномоченных «для производства денежных негоциаций в иностранных землях» в составе графа 3. Г. Чернышева, князей А. А. Голицына и А. А. Вяземского/ Условия и мотивы заключения займа были изложены в указе императрицы Сенату от 2 апреля 1769 г.3 Обязанности по ведению всех расчетов, связанных с заключением займа, были возложены на придворного банкира Фредерикса, действовавшего под фирмой «Велден, Бекстер и Фридрикс».4 Об этом первом представителе института придворных банкиров в России, получившего развитие в последующие годы в связи с заграничными финансовыми операциями, почти ничего не известно, кроме того, что Фридрикс вел все основные внешние расчеты России вплоть до 1780 г.
В 1769 г. де Сметы обещали предоставить России заем в размере 7.5 млн. гульденов. Однако размещение всей суммы займа затянулось до 1773 г.5
125
В начале 1770-х гг. правительство Екатерины II, укрепляя свое положение на денежном рынке в Амстердаме, сделало попытку расширить круг своих кредиторов и за пределами Голландии. Осенью 1770 г. по рекомендации де Сметов начались переговоры о займе в Генуе у банкира маркиза Мавруция размером в 1 млн. пиастров на нужды средиземноморской экспедиции.6 Сделка состоялась, однако реализация займа затянулась, и русскому правительству вплоть до 1773 г. так и не удалось получить всю его сумму.
Между тем победы русской армии над Турцией, завершившиеся в 1774 г. Кючук-Кайнарджийским миром, подняли престиж русского кредита в Европе. Де Сметы в результате не только завершили начатую ими в 1769 г. операцию, но и заявили в 1773 г. о своей готовности открыть новый заем России в размере 2.5 млн. гульденов. В 1774 г. за свои заслуги они были возведены Екатериной II в баронское достоинство.7
Окончание войны с Турцией и выплата ею контрибуции в размере 4.5 млн. руб. позволили России произвести в 1775—1777 гг. частичное погашение своих генуэзских и голландских долгов. В 1777 г. по предложению придворного банкира Фридрикса была проведена своеобразная конверсия 5 % облигаций на сумму в 3 млн. гульденов, срок которых истекал в 1779 г., в 4 % с продлением их срока на десять лет.
Однако уже в 1781 г. Россия снова была вынуждена обратиться к де Сметам за займом на сумму в 3 млн. гульденов. В 1782 г. последовала еще одна операция у этих банкиров. Сложная политическая обстановка в Голландии подтолкнула царское правительство искать займов также и в Англии, однако поиски эти оказались безуспешными.8
После завершения присоединения Крыма в 1784 г. Комитет уполномоченных начал вновь операцию по частичному погашению русского внешнего долга. Она должна была быть проведена через придворного банкира барона Ричарда Сутерланда, ставшего после смерти Фридрикса в 1780 г. центральной фигурой в международных финансовых связях России. Вспыхнувшая в августе 1787 г. новая русско-турецкая война прервала погашение долга. России опять понадобились деньги на военные расходы. 18 ноября 1787 г. Комитет уполномоченных принял решение о подаче всеподданнейшего доклада по этому поводу. 22 ноября 1787 г. на основе этого доклада последовал высочайший указ Сенату.9
По совету Р. Сутерланда решено было на этот раз обратиться за кредитами к «первому» в Голландии и Европе банкирскому дому Гопе и К°. Этот выбор не был случайным. Гопе и К° давно проявляли интерес к России как к рынку размещения своих капиталов, и между ними и Р. Сутерландом к 1787 г. установились особые отношения. Р. Сутерланд еще в 1784 г. смешал свои частные дела с казенными и к 1787 г. настолько истощил в Амстердаме средства казны, что их не хватило на выкуп выпущенных де Сметами облигаций на 2 млн. гульденов. Сметы подали жалобу на Р. Сутерланда; кроме того, осенью 1787 г. в Амстердаме были опротестованы его векселя.
126
Р. Сутерланду грозило банкротство, но ему на помощь пришли Гопе и К0,10 прочно и на многие годы связавшие себя этим шагом с русской казной. Рекомендуя обратиться за кредитами именно к Гопе и К0, Р. Сутерланд в поданной им 18 сентября 1787 г. специальной записке отмечал, что основная часть русских правительственных средств в Голландии к этому моменту уже находилась на счетах этого дома. «Сия контора, — писал Р. Сутерланд, — если могу отважиться оную рекомендовать, весьма способная быть употреблена в казенных делах, предпочтительно всем другим, будучи своим богатством и кредитом первая в Европе».11
Кроме того, в 1787 г. начаты были переговоры о займе у банкира Вольфа в Антверпене и, по совету Гопе и К°, в Генуе у банкирского дома Эме Реньи.12 В результате займы были заключены во всех трех пунктах, а Гопе и К0 стали регулярными и основными кредиторами русского правительства. С 1788 по 1793 г. Россия получила через Гопе и К0 53 500 тыс. гульденов в виде восемнадцати 4-х, 4.5 и 5 %-х займов.13 Гопе и К0 фактически одни финансировали военные операции России на протяжении всей русско-турецкой войны 1787—1791 гг., если не считать трех займов, сделанных русским правительством в 1791 г. у Э. Реньи, окончательно размещенных лишь к осени 1793 г. 14
Русский государственный долг, а соответственно и платежи по нему росли просто на глазах, и сменивший в 1793 г. на посту генерал-прокурора А. А. Вяземского А. Н. Самойлов вынужден был поставить вопрос об увеличении налога на вино по рублю на ведро. 23 июня 1794 г. был издан указ о наложении четвертого рубля на ведро вина специально для оплаты процентов по займам и для постепенного выкупа облигаций.15 Однако эта операция не принесла ожидавшихся от нее результатов. Нужны были новые займы для оплаты долгов и международных расчетов.
Между тем в финансовые отношения между Гопе и К0 и русским правительством существенные поправки внесла французская революция. В декабре 1792 г. амстердамский банкир извещал русское правительство о падении в Голландии на 20 % английских ценных бумаг под влиянием начатой Францией войны и об исключительно трудном положении на голландском денежном рынке.1Ь
В феврале 1795 г. Дом Гопе и К0, часто снабжавший русское правительство авансами в счет будущих займов, заявил о том, что обстоятельства вынуждают его отказаться от этой практики.17 Вторжение французских войск в Голландию в 1794 г. заставило Гопе и К0 «на время перевести свою банкирскую контору в Лондон». Комитет уполномоченных обратился к Гопе и К0 с просьбой продолжать в Лондоне начатые в Голландии русские займы, однако Гопе отклонил это предложение, сославшись на то, что «английская публика не привыкла к негоциациям чужих держав и им не сочувствует даже при высоком проценте».18
21 января 1794 г. от русского поверенного в делах в Генуе Я. Г. Лизакевича пришло известие о готовности некоторых членов генуэзского правительства вложить свои капиталы, чтобы спасти их от французов, в заем какого-нибудь европейского двора, однако в
127
марте 1794 г. тот же Лизакевич сообщал, что генуэзское дворянство уже вложило большую часть своих капиталов в Венский и Лондонский банки и «осталось совершенно без денег».19 В мае 1794 г. Лизакевич сообщал о переговорах в Генуе с маркизом Дураццо и банкирами де Реньи относительно пересрочки займов, сделанных у де Реньи. Эта операция затянулась до 1796 г. и шла чрезвычайно вяло. «Медленность отсрочки нашего займа, — писал в 1796 г. Лизакевич,— происходит не от недоверия к нашему двору, но от совершенного недостатка в деньгах, ибо капиталисты разорены Францией и не получают возвращения просроченных капиталов от венского, копенгагенского и стокгольмского дворов».20
Поиски Комитетом уполномоченных рынка для новых русских займов в 1796 г. оказались тщетными. К 1796 г. Россия лишилась, таким образом, генуэзского и амстердамского рынков капиталов; попытки сделать заем в Гамбурге потерпели неудачу, ибо там не нашлось торговых домов, занимавшихся операциями государственного кредита и желавших помещать свои капиталы в русские займы. 21
В дополнение ко всему в последние годы царствования Екатерины II оказалась в критическом положении контора Р. Сутерланда. Уже в 1787 г., пытаясь выйти из «затруднения», он начал закупку и отправку за границу товаров не только от себя, но и от имени своего брата Егора Сутерланда на сумму в 4 086 202 р., но не смог этой операцией покрыть свои убытки.22 После смерти Р. Сутерланда в 1791 г. контора его продолжала действовать под управлением генерал-прокурора князя А. А. Вяземского. В 1794 г. обнаружилось, что на счетах Р. Сутерланда в Голландии значилось 6 млн. гульденов государственных денег, однако в наличии их не оказалось. Комиссия, проверявшая состояние счетов Р. Сутерланда, пришла к выводу, что исчезновение столь значительной суммы было связано с тем, что Р. Сутерланд использовал государственные деньги для личных операций.
Дело Р. Сутерланда бросало тень на репутацию банкирского дома Гопе и К0. В 1793 г. владельцы дома направили в Россию и Польшу своего агента Роберта Воута. Ему было поручено добиваться возобновления платежей по польским займам, приостановленным после второго раздела Польши в 1792 г., и просить русское правительство оказать помощь конторе Р. Сутерланда. Миссия Р. Воута оказалась неудачной. Екатерина II дала согласие на перевод польского долга в русские облигации, однако восстание Тадеуша Костюшки сорвало эту операцию. Попытка Гопе и К0 поддержать контору своего, теперь уже покойного, партнера не нашла отклика в Петербурге. М. Г. Бюист объясняет это интригами определенной группы в придворных кругах, заинтересованной в том, чтобы потопить дело Р. Сутерланда и тем самым нанести удар по Гопе и К0.24
В 1796 г. Р. Воут вторично отправился в Россию по делам польского долга. На этот раз ему удалось достичь намеченной цели, но не сразу, а только после вступления на престол в ноябре 1796 г. Павла I и с помощью императрицы Марии Федоровны.25 В резуль
128
тате переговоров Р. Воута с государственным казначеем бароном А. И. Васильевым было заключено соглашение об объединении всего русского долга Голландии. В него был включен долг польского короля бывшей Польской республики и частные польские долги Голландии, а также обязательства по займу 1788 г., сделанному русским правительством в Антверпене у банкира де Вольфа. Облигация на общую сумму долга в 8833 тыс. гульденов должна была быть доставлена банкирам Гопе и К0.26 Русское правительство дало обязательство погасить этот долг в течение 12 лет, начиная с января 1798 г., и платить проценты по нему, «несмотря ни на какие политические обстоятельства и даже войну с Голландией». Залогом тому должны были служить казенные доходы империи, «особенно получаемые по питейным сборам», а также пошлины за провоз товаров в таможнях Лифляндии, Финляндии и Петербурга.27
В 1797 г. был образован комитет погашения долгов 28 и создан Государственный Вспомогательный банк для дворянства;29 при Государственном Ассигнационном банке открылись конторы по учету векселей, подтоварного кредитования и страховые конторы. Возможно, в какой-то мере под влиянием истории с Р. Сутерлан-дом, Павел I решил подвергнуть реорганизации институт придворных банкиров. Высочайшим указом 4 марта 1798 г. для внешних и внутренних финансовых операций была образована «Контора придворных банкиров и комиссионеров Воута, Велио, Ралля и К0». Она подчинялась непосредственно государственному казначею барону А. И. Васильеву. Контролером конторы был назначен коллежский советник Иван Вульф. В его обязанности входило не только наблюдение за операциями банкиров, но и составление для государственного казначея еженедельных отчетов на основании переписки конторы с заграничными корреспондентами. В помощь контролеру были приданы бухгалтер и два писца. Правила функционирования конторы было поручено составить А. И. Васильеву.30 Однако уже в императорском указе 4 марта 1798 г. было объявлено, что каждый из банкиров, состоявших в конторе, в течение 12 месяцев с момента издания указа должен был отказаться не только от того, чтобы возглавлять собственный торговый дом, но и от участия в нем на правах партнера. Эта строгая мера превращала банкиров в чиновников, лишала их значительных личных доходов и подрывала их престиж в торговых и финансовых кругах. Впрочем, по истечении года Павел I вынужден был отказаться от нелепой затеи. Придворные банкиры не только просили разрешить им заниматься частным банкирским промыслом ради «малолетних детей своих», но и заявляли, что «производство. . . собственных их контор» на Петербургской бирже «многократно обращало к ним доверенность и благонадежность торговой публики» и благодаря этому им удавалось «поддерживать в полезном равновесии вексельный курс». 12 марта 1799 г. к императору с просьбой сохранить за придворными банкирами «как для вексельных, так и для других операций» их торговые дома обратились князь А. Безбородко, граф П. Завадский, барон А. Васильев и князь П. Лопухин. Просители обращали внимание Павла 1, что установленная
9 Заказ № 1143
129
система контроля над придворными банкирами исключала для них возможность смешения казенных дел с собственными. Императору ничего не оставалось другого как уступить этим прось-бам.
К сожалению, мы не располагаем данными, позволяющими оце-нить личное состояние каждого из придворных банкиров, да и сведения о них общего характера чрезвычайно скудны. Даже их имена часто по-разному транскрибировались в официальных документах.
Воут или Вут (Voute) именовался в ордерах государственного казначея Петром, — он был племянником известного Роберта Воута, приезжавшего в Петербург для выполнения миссии, порученной Гопе и К0. Воут не оставил значительного следа в деятельности банкирской конторы. Он прослужил в ней около полугода и был уволен 27 сентября 1798 г. по собственному желанию,32 а 23 октября 1798 г. его место занял Н. С. Роговиков.33
Иосиф Петрович (Жозе Педро Целестино) Велио (или Веллио, Вельо, Вельго, Velho) был португальцем по происхождению.34 Он прослужил в конторе придворных банкиров до своей смерти в мае 1802 г. Одновременно с учреждением конторы И. Велио был по распоряжению Павла I предоставлен заем в размере 150 тыс. руб., чтобы помочь банкиру «скорее вытти из коммерческих его собственных дел».35 И. Велио, очевидно, занимался вексельными операциями и, кроме того, был виноторговцем, ибо в залог за полученный от казны заем в банкирскую контору были приняты от него вина и другие товары. Он погасил значительную часть своего долга в феврале 1800 г., когда ему были возвращены находившиеся в залоге вина и прочие товары, чтобы «оборотом оных» он мог уплатить и остальной долг.36
Александр Франц Ралль (Раль) оставался в должности придворного банкира вплоть до 1817 г., когда в связи с упадком его влияния на бирже он уступил первенство в финансовом мире Петербурга набиравшему силу Людвигу Штиглицу.37 Жена А. Ралля была урожденной Моллво и, видимо, происходила из известной купеческой семьи, возглавлявшей влиятельный и богатый в Петербурге торговый дом.38
Николай Семенович Роговиков тоже принадлежал к хорошо известной купеческой семье. Его отец, Семен Федорович Роговиков, московский, а затем петербургский купец, был назначен в 1762 г. директором Петербургской конторы Государственного банка, в 1776 г. получил чин надворного советника, держал питейные откупа в Москве и Петербурге, приобрел в Петербурге, в Литейной части, позументную фабрику у саксонцев Миллера и Рихтера.39 До своего назначения в контору придворных банкиров Н. С. Роговиков был директором принадлежавшей прежде отцу позументной фабрики, занимался финансовыми операциями, в 1780 г. вместе с братом состоял членом Петербургского губернского магистрата. Служба в конторе не способствовала его обогащению, дела его расстроились, и в 1809 г. он умер, а в 1810 г. была задушена крепостными его жена.40
130
Еще в указе Павла I от 4 марта 1798 г. упоминается имя Бергина, как состоявшего при банкирской конторе. А. Раллю и Бергину поручалось следить за расчетами И. Велио с конторой по предоставленному ему казной займу в 150 тыс. руб.41 Имя Бергина встречается и в ордерах (распоряжениях) главного казначея А. И. Васильева за 1798 г. Однако эти ордера всегда адресованы были только Воуту, Велио, Раллю и Роговикову как официальным представителям конторы придворных банкиров. Очевидно, Бергин не пользовался равными с ними правами и оказался временным компаньоном. На основании царских указов от 20 октября 1798 г. и 12 марта 1799 г. «негоциант Бергин, бывший при конторе. . . банкиров и комиссионеров», был уволен, а возложенное на чего поручение следить за расчетами с казной И. Велио перепоручено Роговикову.42 Бергин упоминается в литературе как один из известных и богатых банкиров Петербурга кредиторов Ч. М. Сперанского.43
14 июля 1800 г. Павел I подписал указ Сенату о возведении в ^аронское достоинство И. Велио, А. Ралля и Н. Роговикова.44 Отныне главный казначей адресовал свои ордера уже не в контору придворных банкиров, как прежде, а «двора его императорского величества банкирам и комиссионерам баронам Велио, Раллю и Роговикову».45
О рядовых служащих придворной банкирской конторы ничего не известно, кроме того, что по своему происхождению многие из них были иностранцами. Это видно из ордера А. И. Васильева от 9 октября 1798 г., предписывавшего конторским служащим де Билю, Лабушеру, Митагу, Фейхтнеру и Штеперу явиться в Экспедицию о государственных расходах, где должно было состояться приведение их к присяге.46
Сохранившиеся ордера государственного казначея позволяют представить себе характер деятельности придворных банкиров и в общих чертах круг их корреспондентов. Основные обязанности конторы состояли в поддержании вексельного курса внутри страны и в производстве международных расчетов в связи с содержанием русского дипломатического корпуса за границей, разного рода заграничными поездками представителей правительства, расходами на военные операции или походы русской армии и флота, расчетами по займам.
Контора придворных банкиров прежде всего поддерживала тесные отношения с кредиторами русского правительства в Амстердаме и Генуе. В 1798—1799 гг. в Амстердаме постоянными корреспондентами конторы оставались де Сметы, а в Генуе Эме Реньи. Весной 1798 г. стало известно, что капиталисты, поместившие свои деньги в заем, предоставленный Генуей России, обратились к русскому правительству с просьбой отложить оплату процентов до ухода из Генуи французских войск. Осенью 1799 г. Лизакевич сообщал в Петербург, что «Реньи ликвидировали все свои банковые и торговые дела, поручив ведение их своему товарищу Траверсу, именем которого и основан банкирский дом» 47 8 сентября 1800 г. Государственное казначейство отложило платежи по генуэзскому
9*
131
займу до «будущего примирения в Италии», решив использовать предназначавшейся для этой цели 1 127 171 руб. на платежи по Голландскому займу.48
В декабре 1798 г. в Петербурге было подписано англо-русское соглашение о предоставлении России английским правительством субсидий в размере 225 тыс. ф. ст. первоначально и 75 тыс. ф. ст. ежемесячно на расходы для двух экспедиционных армий: одной для совместного вторжения в Голландию (45 тыс. человек) и другой для русско-австрийских операций в Северной Италии (60 тыс.).49 Эти субсидии выдвинули в 1799 г. лондонский банкирский дом Гарман и К0 на одну из первых ролей среди иностранных корреспондентов конторы придворных банкиров.50 Ордером от 19 апреля 1799 г. А. И. Васильев сообщал Велио, Раллю и Роговикову, что «для приема известных от великобританского двора сумм» им, Васильевым, назначены «корреспондентами конторы в Лондоне Гарман с товарищами», и предписывал вступить с Гарманом и К0 в «особую переписку» по этому поводу. Одновременно А. И. Васильев распорядился «предоставить. . . разные кредитивы на Вену на имя генерал-лейтенанта Римского-Корсакова» на 500 тыс. руб.51 Постоянным венским корреспондентом конторы придворных банкиров в 1798— 1799 гг. был банкирский дом Фриз и К0, а Вена выполняла роль одного из важных финансовых центров для перевода русским правительством необходимых средств на армию, действовавшую в Северной Италии.
В операции по доставлению денег, полученных от английского правительства, «до места их назначения», в соответствующие подразделения русской армии или флота, участвовала большая группа европейских банкирских домов: Маттиссен и Силл ем в Гамбурге, Фреге и К0 в Лейпциге, Пахали и К0 в Бреславле, Братья Шик-лер в Берлине, Гальдер в Аугсбурге, Братья Бетман во Франкфурте.52
Конечно, особая роль в этой группе принадлежала гамбургским банкирам, поскольку Гамбург играл важную роль как финансовый центр и через него осуществлялись почти все платежи в Европе. До июля 1798 г. контора придворных банкиров пользовалась в Гамбурге услугами банкирского дома Мартина Дорнера, однако он в мае 1798 г. разорился и приостановил свои платежи, а его место заняли Маттиссен и Силлем, связавшие себя тесными узами сотрудничества с конторой придворных банкиров.53
В июле 1799 г. придворные банкиры писали Гарман и К0 из Петербурга, чтобы они «беспрерывно покупали векселя для перевода сюда». Было условлено, что, кроме того, Гарманы будут, очевидно для поддержания курса, пересылать «в натуре пиастры в Гамбург», а если это будет выгодно и страхование пересылки не будет очень дорогим, то вышлют и в Петербург от 200 до 300 тыс. пиастров. Кроме того, Велио, Ралль и Роговиков сообщали, что ими даны «кридитивы на Вену достоинством до 125 т. ф. ст.». Для доставки этих денег в Вену они просили Пахали и К0 в Бреславле, Братьев Шиклер в Берлине, Фреге и К0 в Лейпциге, Гальдера в Аугсбурге, Донат Овей и Тиле во Флоренции и А. Ф. Грегори в Дрездене, чтобы 132
каждый из них перевел Фризу и К0 от 50 до 60 тыс. в голландских гульденах и все они «оплату оных трассировали на Гарман до 2 тыс. ф. ст., а остальные или же всю сумму, если трассировка на Лондон не выгодна, трассировали на Маттиссена и Силлема».54
Как видим, Гамбург и Лондон являлись основными центрами финансовых операций, связанных с оплатой расходов на военные действия России в Европе.
Между тем английское правительство задерживало передачу денег Гарман и К0, а осенью 1799 г. в Лондоне и Гамбурге прошла серия банкротств. По сведениям, полученным в Петербурге в октябре 1799 г., в Гамбурге приостановили платежи и разорились 50 банкирских домов, а в связи с этим из обращения было изъято более 25 млн. марок Гамбургского банка (банковых марок).55 Неблагоприятная финансовая конъюнктура в Гамбурге и Лондоне повлекла за собой почти полное прекращение учетной операции на этих рынках, затруднила «перевод денег в другие города посредством векселей» и грозила отразиться на снабжении необходимыми деньгами русских войск, находившихся за границей. В связи с этим контролер конторы придворных банкиров И. Вульф предложил ряд мер, которые должны были в создавшихся условиях защитить интересы русской казны. И. Вульф считал необходимым «при возвращении векселей на торгующих при здешнем порте купцов», в случае, если не возможно сразу получить деньги, брать «достаточные залоги», а при возвращении векселей на «обанкротившиеся здесь дома» оплачивать их в первую очередь «яко деньги, казне принадлежащие», чтобы «впредь петербургские купцы остерегались давать ненадежные векселя». Кроме того, И. Вульф предлагал «испросить у английского правительства дозволения о вывозе в Гамбург серебра» или сделать краткосрочный заем в Гамбургском банке на 2 млн. банковых марок, который погашался бы по мере поступления к Маттиссену и Силлему денег по векселям.56
27 августа 1799 г. соединенные силы Англии и России высадились в Северной Голландии. В ходе военных операций был пленен командовавший царскими войсками генерал-лейтенант Герман и командование русским экспедиционным корпусом было поручено генералу Эссену. Военные действия закончились подписанием 18 октября 1799 г. соглашения в Алкмааре, а к 20 ноября 1799 г. уже завершилась эвакуация из Голландии русских и английских войск. Военные расходы Англии составили 3 млн. ф. ст.57 Финансирование русского экспедиционного корпуса производилось за счет субсидий английского правительства через Гармана и К°. Как видно из ордеров А. И. Васильева придворным банкирам, в сентябре 1799 г. русский посол в Лондоне граф С. Р. Воронцов получил 10 374 ф. ст., а затем еще 1769 ф. ст. на жалованье и другие расходы, связанные с отправкой в Англию русской эскадры.58 В октябре 1799 г. через него для этой же цели было получено 4530 ф. ст.59 Кроме того, Воронцов сообщал в Петербург, «что главнокомандующий российскими войсками в Голландии будет получать потребные ему деньги от находившегося там генерального комиссара английской армии» в виде авансов. Они затем должны были быть возвращены английскому
133
правительству из сумм, поступавших к Гарман и К0.60 Параллельно продолжались передачи денег прямо от Гарманов С. Р. Воронцову. В частности, в ноябре 1799 г. А. Васильев распорядился о передаче Воронцову ПО 441 ф. ст. на расходы, связанные с зимовкой русских войск в Англии, а в феврале 1800 г. — еще 11 773 ф. ст. на содержание эскадры.61
Под влиянием кризиса осенью 1799 г., в связи с исключительной ролью Гарман и К°, а также Маттиссена и Силлема в финансировании русской армии и флота, летом 1800 г. правительство Павла I приняло решение о выплате им особых комиссионных за операции, связанные с переводом денег к местам дислокации русских войск. При условии, что эти банкиры брали на себя всю ответственность и весь риск за эти переводы, предполагалось увеличить Гарманам комиссионные на 0.5 %, а Маттиссен, Силлем и К° на 0.25 %. В результате Гарман и К , например, если они оплачивали кредитив С. Воронцову в Лондоне, получали за эту операцию 0.5 % комиссионных, но в случае пересылки денег наличными или путем переводов в другие страны — 1 % комиссионных.62
Особые отношения конторы придворных банкиров с их корреспондентами в Лондоне и Гамбурге дали повод Коллегии иностранных дел требовать, чтобы ей была предоставлена возможность самой распоряжаться деньгами, предназначенными для ее представителей за границей. Коллегия утверждала, что придворные банкиры почти все векселя выдавали на Лондон и Гамбург; в результате векселя, посланные в Сицилию, отправлялись для акцептации в Лондон, а посланные в Стокгольм — в Гамбург, операция затягивалась, и русские служащие при некоторых заграничных миссиях порою по полгода оставались без жалованья.63
В связи с этой жалобой Коллегии иностранных дел в феврале 1801 г. высочайшим указом было разрешено «брать векселя у кого для пользы казны за выгодное признает».64 Этим разрешением она не замедлила воспользоваться, взяв векселя от Ливио, Бегина и Велио, как частных лиц. Векселя были взяты именно на те места, где они должны были быть оплачены, а вся операция по их переводу заняла неделю, в то время как прежде на нее требовался месяц, а то и более.65
Таким образом, уже в 1801 г. была подорвана монополия конторы придворных банкиров на осуществление всех заграничных платежей и поставлена под сомнение безусловная выгодность централизованной казенной системы международных расчетов. Однако для финансирования военных операций в разных частях Европы контора придворных банкиров все еще продолжала оставаться достаточно удобным инструментом. Лондон и Гамбург сохраняли свое положение основных центров финансовых операций России за границей. Правда, в июне 1800 г. наступил период резкого охлаждения в отношениях между Россией и Англией. Павел I обвинил английское правительство в том, что оно не доплатило из всей суммы обещанных субсидий 463 тыс. ф. ст. Было объявлено, что они должны были быть переданы Гопе и К° в счет уплаты рус
134
ского долга Голландии, причем Гопе и К0 было предложено самим «произвести требование» этих денег.66
Тем временем отношения с Маттиссеном и Силлемом в Гамбурге укрепились в результате нарушившихся связей с генуэзскими банкирами Э. Реньи. Еще в сентябре 1799 г. Лизакевич доносил из Пизы, что «дом Реньи отказался от всех банковых и торговых дел для избежания всякого сношения с французским правлением».67 В ответ на это сообщение в Петербурге решено было временно приостановить операции с Э. Реньи и К0 и позаботиться о переводе денег, находившихся у них на счетах русского правительства, к Маттиссе-нам и Силлемам в Гамбург.68
31 июля 1800 г. государственный казначей А. И. Васильев обязал придворных банкиров поставить в известность Э. Реньи, а также Маттиссена и Силлема о назначении высочайшим указом от 25 июня 1800 г. коллежского асессора С. А. банковского доверенным лицом по русским займам в Генуе и о том, чтобы они не совершали никаких сделок между собой без его согласия.69 8 сентября 1800 г. последовал указ Павла I главному казначею «остановить платежи по генуэзским займам до будущего примирения в Италии». Между тем по распоряжению Лизакевича у Маттиссена и Силлема были помещены 2 836 670 ливров, предназначенные как раз для этих платежей. Гамбургские банкиры должны были перевести эту сумму в Ливорно к банкиру Ламбручини и в Лондон, его корреспонденту Беринг и К0. 5 октября 1800 г. А. И. Васильев распорядился приостановить и эту операцию.70 Русское правительство занялось спасением своих денег, находившихся на счетах итальянских банкиров.
21 августа 1800 г. банковскому было поручено добиться возвращения 45 тыс. руб. казенных денег, находившихся на счетах обанкротившегося дома Жом и Шварц в Ливорно. В 1801 г. эти деньги поступили к Маттиссену и биллему. бтараниями банковского к гамбургским банкирам были переведены в том же году и 115 200 руб. (76 799 пиастров) от другого ливорнского банкира — Ламбручини.71
Мы не располагаем достаточно полными данными об операциях Санковского в Италии. Документы свидетельствуют лишь, что в 1802—1804 гг. он — в разъездах между Римом, Генуей, Ливорно и Венецией. 23 мая/4 июня 1803 г. банковский сообщал из Генуи о накалившейся обстановке в республике особенно после разрыва в мае отношений между Францией и Англией и о своем беспокойстве за судьбу находившихся у него «важных документов» на 7 млн. ливров.72 Для платежей по русским займам в Генуе обстановка нормализовалась к началу 1805 г., когда пришло известие о восстановлении там банка бвятого Георгия, обеспечивавшего операцию и хранившего приготовленные для нее деньги.73 Зато оказались в опасности русские депозиты у Маттиссена и биллема. В связи с вступлением в Гамбург французских войск они поспешили в ноябре 1806 г. перевести принадлежавшие русской казне 435 тыс. банковых марок в Копенгаген.74
Единственным не достижимым для французской армии рынком
135
оставался Лондон. Здесь русское правительство, начиная с 1799 г., продолжало получать необходимые ему субсидии. После того как в 1799 г. Англия кредитовала России 815 тыс. ф. ст., а в 1800 — 545 494 ф. ст., в англо-русских финансовых отношениях наступила пауза, возможно вызванная конфликтом 1801 г. Но уже в следующем 1802 г. русское казначейство получило еще 250 тыс. ф. ст., а 1803 г. — 63 тыс. и в 1807 г. — 614 183 ф. ст.75
Этих денег явно не хватало на содержание за границей русских войск, и в январе 1807 г., после битвы при Прейсиш-Эйлау, Россия обратилась к Англии с просьбой о срочном займе в размере 5— 6 млн. ф. ст.76 Треть этой суммы русское правительство хотело получить в золоте, треть — в серебре и остаток в векселях. В случае если бы английское правительство не обеспечило доставку звонкой монеты в российские порты, деньги должны были быть помещены у Гарман и К0. Заем был рассчитан на 20 лет из 5 % годовых.77
Еще до окончания переговоров с Англией о займе в связи с упадком русского вексельного курса, а также из-за острой нужды в звонкой монете министр финансов А. И. Васильев решил распродать выкупленные было в Голландии русские облигации, употребить вырученные деньги на закупку червонных и ефимков. Операцию необходимо было провести быстро. Поэтому решено было отправить для ее осуществления в Копенгаген, Шлезвиг и Альтону надежного чиновника. Выбор пал на контролера конторы придворных банкиров И. Вульфа, имевшего почти 30-летний опыт в делах подобного рода и репутацию человека, который еще в царствование Екатерины II «неоднократно с успехом и пользою употребляем был как по займам в Генуе и Амстердаме, так и при подобных операциях и при закупке посредством иностранных банкиров червонных».78
И. Вульф, снабженный рекомендательными письмами от министра финансов, кредитивами на Копенгаген, Гамбург и Любек в размере до 1 млн. руб., с полномочиями делать займы и продавать облигации, хранившиеся у Гопе и К0 и у де Сметов, тронулся в путь.79
По инструкции И. Вульф должен был, приехав в Копенгаген, вступить в переписку с амстердамскими банкирами о возможности заключения займа под залог находившихся у них русских облигаций, а в случае отказа в займе начать их продажу. В Копенгагене или Альтоне с помощью датских банкиров он должен был купить голландские червонные и Альбертовы талеры (ефимки). Купленную монету предполагалось переправить обычным путем на купеческих кораблях в Кенигсберг, Мемель, Либаву, Ригу, Ревель или Петербург. Деньги в Кенигсберге и Мемеле принимались тамошними банкирами на счета главнокомандующего российской армией генерала от кавалерии Л. Л. Беннигсена. В российские порты деньги адресовались вице-губернаторам, благодаря чему сберегалась банкирская провизия.
Размер операций Вульфа зависел от успеха переговоров о займе в Англии. Если бы необходимые средства удалось получить в Лондоне, поездка И. Вульфа теряла свой смысл и могла быть прервана.80
136
Жизнь внесла в инструкции Вульфа существенные коррективы. 25 июня/7 июля 1807 г. был заключен Тильзитский мир. Это решило вопрос о присоединении России к континентальной блокаде. После подписания Тильзитского мира ни о каких русских займах в Англии не могло быть и речи. Миссия Вульфа приобрела особое значение. В августе 1807 г. Вульф находился в Копенгагене и, судя по всему, именно там ему удалось купить и переправить в Ригу золотую и серебряную монету (2030 фридрихсдоров, 152 840 червонных, 21 232 Альбертовых талера и 30 686 прусских талеров).81 В октябре 1807 г. Вульф отправился в Альтону.
4/16 ноября 1807 г. И. Вульф заключил с С. Деном, главою банкирского дома в Альтоне Израиль Ден и К0, соглашение об авансе из 6 % годовых на 1 млн. банковых марок на срок от восьми месяцев до года и четырех месяцев под 5 % облигации русского займа 1798 г., сделанного у Гопе и К0.82 Первые 400 тыс. марок должны были поступить 8/20 января 1808 г., при этом оговаривалось, что в случае войны между Россией и Англией общая сумма аванса будет уменьшена до 0.5 млн. марок.83
На следующий день, 5/17 ноября 1807 г., уже в Гамбурге, Вульф заключил соглашение с банкирским домом Маттиссен и Силлем об авансе 0.5 млн. марок Гамбургского банка из 5 % годовых сроком на 8 месяцев, начиная с 19/1 декабря 1807 г. Но банкиры были готовы предоставить деньги ранее, в любое время по требованию русского правительства.84 По обоим авансам, кроме процентов, иностранные банкиры получили также по 0.5 % комиссии.85 Договор с Маттиссеном и Силлемом не содержал политических условий и в целом был более выгоден казне, чем соглашение с Деном.
Еще до миссии И. Вульфа в Амстердаме были сделаны краткосрочные займы на 1150 тыс. голландских ходячих гульденов, а также было получено через альтонского банкира С. Дена по «особым операциям» 461 973 гульдена. Эти суммы поступили на счет казны к де Смет для платежей процентов за 1807 г. по старым голландским займам России. Оставшиеся после этих выплат 66 570 гульденов вместе с вырученными по авансам в Альтоне и Гамбурге 1.5 млн. марок были приняты на депозиты придворных банкиров.86 В счет аванса у Дена в 1 млн. марок придворные банкиры Ралль и Роговиков переводили в феврале 1808 г. значительные суммы для капитан-командора Салтанова в Триесте, посла в Вене князя Куракина. 87
В период военных действий до Тильзитского мира русская армия иногда прибегала к краткосрочным займам на той иностранной территории, где она находилась, причем погашение долгов происходило не во всех случаях через придворных банкиров или их корреспондентов. Так, главнокомандующим русской армией генералом бароном Беннигсеном было занято под квитанции (или реверсы) у прусского короля 3 347 993 прусских талера. Платежи погашения по части этих реверсов производились в Риге через рижских купцов Цукербекера и Клейна.88 Известно также, что Беннигсен брал краткосрочные займы у магистрата Кенигсберга в апреле 1807 г. на
137
8 недель из 6 % годовых и у кенигсбергского банкира Исаака Каспера. Эти долги погашались придворными банкирами через их корреспондента в Кенигсберге Туссен и К.0 89
Денежные заграничные обороты правительства в 1807 г. превысили 20 млн. руб., но лишь около четверти из этой суммы было произведено через придворных банкиров, остальные были совершены через Экспедицию государственных доходов и расходов. На этом правительство сберегло комиссии до 45 тыс. руб.90 Таким образом, к 1808 г. произошло значительное уменьшение роли придворных банкиров во внешних расчетах казны.
Правительство продолжало остро нуждаться в звонкой монете для нужд своих заграничных армий. 17 апреля 1808 г. придворные банкиры получили секретное указание государственного казначея закупить за границей голландские червонные.9 В ответ на заявление Ралля и Роговикова о сложности выполнения этого ордера казначей заметил: «. . .нельзя ли придумать каких особенных средств» для осуществления операции. Средство, видимо, было найдено, и, по всей вероятности ввиду трудности приобретения монеты, решили закупать золото (20 пудов) и серебро (300 пудов) в слитках в Гамбурге, Амстердаме и других местах, «стараясь, чтобы закупка и доставка в Россию проводились возможно секретнее и без всякой огласки».93 В счет этой операции казначейство отпустило придворным банкирам 800 тыс. руб. ассигнациями.94
Придворные банкиры не только занимались переправкой необходимых денежных средств в места дислокации русской армии и флота и закупкой звонкой монеты, но участвовали в закупках оружия за границей и в транспортировке его в Россию. Русское правительство начало еще в 1806 г. переговоры о покупке оружия в Австрии. Необходимые денежные средства на эту операцию были предоставлены венским банкирским домом Арнштейн и Эскелес, разумеется в кредит и под векселя. Они пересылались венскими банкирами на имя Ралля и Роговикова, а те представляли их в Министерство финансов для оплаты. Транспортировка оружия неоднократно задерживалась австрийскими властями. Операцию удалось провести только в мае 1808 г., когда закупленные 23 788 ружей, 15 300 сабель и 218 500 кремней для ружей были переправлены в Россию в ящиках под видом железного лома. Этот груз был отправлен венским банкирским домом Фриз и К0 в адрес торгового дома Безнер и К0 в Бродах, а оттуда через австрийскую границу на имя директора пограничной таможни в Радзивилове.95
Союз с Францией поставил русское правительство перед необходимостью согласовывать с Наполеоном I свои финансовые операции на территориях, попавших под французский контроль. Так было, например, в Генуе, где 1 июня 1808 г. наступал окончательный срок платежей по займам.
Россия заключила в Генуе три крупных займа: в июле 1788 г. на 1 200 тыс. пиастров, в марте 1791 г. на такую же сумму и в декабре 1791 г. на сумму в 600 тыс. пиастров.96
Общая сумма долга по этим займам к концу 1804 г. составляла 2 188 979 пиастров. К первому декабря 1804 г. из нее было уплачено 138
1 425 927. 763 052 пиастра остались непогашенными и на основании высочайше утвержденной 24 января 1806 г. записки уполномоченных по внешним займам были внесены в Государственный заемный банк.97 Русское правительство вновь решило приостановить свои платежи по генуэзским займам, вероятно в связи с тем, что 22 мая/4 июня 1805 г. Лигурийская республика присоединилась к Франции, враждебной России. Однако после Тильзитского мира русское правительство готово было оплатить выросшую к этому времени вместе с процентами задолженность по генуэзскому займу до 825 049 пиастров=4 125 247 ливров=1 237 573 руб.98
С. А. банковский подал мысль о целесообразности сделать в Генуе новый заем для оплаты этого долга, поскольку многие из богатых капиталистов в Генуе в связи с прекращением торговли «не знали, как употребить свои капиталы».99 Для того чтобы быстро провести операцию, банковский предлагал первоначально занять 6 млн. ливров, а всего сделать четыре займа на общую сумму в 24 млн. ливров=4.8 млн. пиастров=8 млн. руб. ассигнациями. Он рекомендовал сделать 5 %-ные займы, выбрать в качестве поручителя по этим займам одного из знатных генуэзских капиталистов, определив ему единовременное вознаграждение в размере 5 % со всей суммы, и производить погашение через банк Св. Георгия.100 План б. А. банковского был принят в Петербурге, а он сам отправлен в Геную для реализации задуманной операции, в то время как внесенные в Государственный заемный банк суммы, предназначавшиеся на погашение генуэзских займов, решено было использовать на внутренние расходы. Однако русскому правительству предстояло еще на эту сделку заручиться разрешением Парижа.101
23 мая 1809 г. по дипломатическим каналам было получено сообщение о согласии Наполеона I на заключение Россией нового займа в Генуе.102 Между тем б. А. банковский в результате переговоров с генуэзскими банкирами довел дело до подписания контракта на 6 млн. ливров сроком на 10 лет и последующим затем погашением в течение четырех лет, с 1817 по 1820 г. Гарантией займа должны были служить доходы от акцизного сбора. Русское правительство гарантировало платежи по займу и на случай войны. 25 января / 6 февраля 1810 г. банковский выехал в Петербург для окончательного обсуждения контракта и его ратификации Александром I. Однако за это время позиция французского правительства изменилась. Отношения России с Францией ухудшались, и Наполеон запретил генуэзским банкирам вкладывать деньги в русский заем. 9/21 декабря 1810 г. русское правительство вынуждено было аннулировать уже подготовленный контракт.103 Подобным же образом развивались события и в связи с попыткой русского правительства сделать заем в Париже в 1809—1810 гг.
После заключения Тильзитского мира осенью 1807 г. последовал разрыв с Англией. В марте 1808 г. началась война со Швецией, с новым ожесточением продолжалась война с Турцией, а после присоединения России к континентальной блокаде резко сократились доходы от внешней торговли. Кроме того, не возвратившиеся
139
в 1808 г. в свои порты флоты требовали значительных издержек в звонкой монете. Для покрытия чрезвычайных расходов Государственного казначейства в 1808 г. в 146 763 567 руб. кроме внутренних источников было использовано 15 581 817 руб. из запасных заграничных фондов.104 Но этого было недостаточно. Ввиду «крайней стесненности в заграничных денежных оборотах» русской казне был необходим новый заем, поскольку, кроме обычных денежных переводов, России предстоял в 1810 г. платеж капитала и процентов по голландским займам до 8 630 000 гульденов (более 15 млн. руб.). В условиях стремительно понижавшегося вексельного курса дополнительные переводы за границу были нежелательны.105
Летом 1809 г. русский генеральный консул в Париже К. И. Ла-бенский сообщил в Петербург о готовности французских капйтали-стов ссудить деньги русскому правительству. Послу в Париже кн. А. Б. Куракину в июне 1809 г. было рекомендовано связаться с парижскими банкирами. Донесением 25 июля/6 августа 1809 г. Куракин сообщил, что в результате беседы с Жаком Лаффитом он пришел к выводу о возможности получения займа в Париже. 2/14 августа ему уже были известны условия, выдвинутые французской стороной.106 Русский министр финансов в целом считал проект Лаффита приемлемым.107 В дальнейшем, однако, Лаффит потребовал увеличения процентной ставки по займу до 8 % годовых (в нее входила и комиссия), а также изменения способа и сроков платежей, на что русский посол не имел полномочий. Выпуск займа был отложен до получения ответа из Петербурга, но там произошла задержка. 9/21 марта 1810 г. К. В. Нессельроде привез для А. Б. Куракина новые инструкции. Русское правительство соглашалось повысить процент до 8.5 % годовых (вместе с комиссией), что даже превышало предложения Лаффита. Зато выдвигалось условие, чтобы сумма займа (не ниже 30 млн. франков) была поставлена в распоряжение русского правительства полностью сразу же после подписания контракта. Куракин получил также новые полномочия для заключения займа, подписанные Александром I 12/24 февраля 1810 г.108 Лаффит принял русские условия.
Тем временем в общественном мнении Франции и в отношении Наполеона к России произошли существенные изменения. Брак Наполеона I с австрийской принцессой Марией-Луизой в марте 1810 г. оттеснил Россию с первого места в ряду союзников Франции. По замечанию Лаффита, с тех пор ему не было сделано в деловых кругах Парижа ни одного предложения о подписке на русский заем, в то время как раньше не было отбоя от желающих. Голландские капиталисты, стремившиеся прежде к надежному и скорому помещению капиталов по причине политической нестабильности, начали возвращать переведенные было в Англию деньги. Австрия также была намерена открыть во Франции заем, да и сама Франция из-за войны в Испании прибегла к внутреннему займу в форме аннуитета в 30 млн. франков. В таких условиях требовался специальный декрет Наполеона о гарантии русского займа французским прави
тельством. Куракин подал соответствующую ноту во французское Министерство иностранных дел 11/23 марта 1810 г.110
Ответ от французского министра последовал только 16/27 апреля 1810 г. и был отрицательным, поскольку для Наполеона такая гарантия была бы равносильна займу французского правительства, «а император не берет в долг у своих подданных», заявил А. Б. Куракину Ж.-Б. де Шампаньи.111 Впрочем, Куракину еще в ответ на его отношение от 31 марта/12 апреля 1810 г., в котором он выразил сомнение в удовлетворительном отзыве французского правительства, было сообщено мнение Александра I, полагавшего «бесполезным и ненужным» продолжать домогаться гарантий Наполеона, а также уступать французскому правительству (в качестве обеспечения по займу) на соответствующую сумму «морских снарядов», если не последует встречное предложение Франции.112
В мае 1810 г. французский посол в Петербурге известил об отказе Наполеона I гарантировать русский заем. Тем не менее 11/23 мая Куракину были даны инструкции продолжать переговоры с Лаффитом, не давая повода французскому правительству полагать, что Россия отступает от своих намерений. В то же время русское правительство собиралось открыть внутренний заем с участием иностранных капиталистов, что должно было отчасти заменить неудавшуюся операцию в Париже и способствовать повышению вексельного курса.113 Континентальная блокада вызвала резкое сокращение русской торговли, а также повлекла за собой падение денежного курса и повышение цен на иностранные товары. «У России больше нет рынков сбыта для продукции», — писал 2/14 декабря 1808 г. из Парижа Куракин.114
К 1810 г. денежный курс упал до крайнего предела. Комитет с.-петербургских купцов, избранный для изыскания средств против дальнейшего падения курса, обратился 21 ноября/3 декабря 1810 г. в Государственный совет со специальной запиской по поводу катастрофического положения русских финансов и торговли.115 Среди членов комитета были и два придворных банкира — А. Ралль и П. Северин.
В записке отмечалось, что в 1803 г. курс стоял довольно высоко и составлял: в Амстердаме — до 32 штиверов, в Гамбурге — до 30 шиллингов, в Лондоне — до 36 пенсов и в Париже — до 73 су. В 1804—1806 гг. и в первые шесть месяцев 1807 г. были признаки колебания и постепенного понижения денежного курса, а затем началось резкое его падение. В июле 1807 г. курс в Гамбурге составлял 231 /4 шиллинга, а к концу 1810 г. упал до 7 шиллингов. По мнению представителей петербургского купечества, виною всему была континентальная блокада и связанные с ней конфискации, подорвавшие торговлю, а соответственно и кредит, особенно потому, что русская торговля велась «в значительной степени на иностранные капиталы».116 В записке подчеркивалось, что если обычные правительственные расходы за границей составляли 5— 6 млн. руб. в год и «легко покрывались за счет активного торгового баланса», то к 1810 г. эти расходы достигали 20—24 млн. руб. и гро
141
зили увеличиться. «Опыт слишком ясно показывает, — говорилось в записке, — что начиная с 1807 г. исчезновение золотой, серебряной и даже медной монеты становится особенно ощутимым: монета уплывает к нашим соседям. . . азиатская торговля ежегодно выкачивает из России известную сумму золота и серебра, причем эта сумма постепенно возрастает с тех пор, как вкус к азиатским товарам привел, видимо, к распространению соответствующих нравов и привычек».117
Записка явно носила проанглийскую направленность. «Единственная нация, — писали купцы, — являющаяся естественным потребителем наших продуктов, — эта нация, которая одна ежегодно вывозила из России больше, чем все европейские страны, вместе взятые, стала нашим врагом, и исключение ее флага обрекло нашу торговлю на прозябание и все большее ослабление. Россия стала должником других наций, которые вывозят от нас мало или совсем ничего не вывозят».118
В августе 1811 г. в Петербург приехал управляющий домом Гопе и Iv Лабушер для переговоров о затянувшихся расчетах русского правительства по голландскому долгу. В результате встреч Лабушера с министром финансов и обсуждения вопроса в Комитете финансов с участием тайных советников Кочубея и Сперанского был выработан проект проведения платежей.11^
Предполагалось передать Гопе и К0 новых облигаций на 3 200 тыс. гульденов в счет аванса в размере 2 млн. 400 гульденов, необходимых для уплаты процентов за 1811 г. В случае если бы Гопе и К0 просто согласились предоставить из своего капитала 2 млн. 400 гульденов, русское правительство готово было выплатить им 5 % с этой суммы и погасить аванс в течение 1813 г.120
Однако в конечном счете Гопе и К0 выдали русскому правительству аванс в размере 2 млн. 400 гульденов из 5 %, одновременно взяли и облигации и передали их голландскому купцу Борскому с условием, что тот будет платить им ежемесячно по 200 тыс. гульденов и в течение года погасит всю сумму аванса. Борскому была дана возможность производить «платежи старыми российскими облигациями, считая оные по 60 процентов». Русское правительство согласилось на эту сделку, но потребовало, чтобы Борский платил деньгами, ибо видело опасность в демонстративном понижении стоимости русских облигаций до 60 %.121 До сентября 1812 г. Борский платил свой долг Гопе и К0 деньгами, однако положение изменилось после того, как 2 апреля 1812 г. Голландия стала провинцией Франции. Комитет финансов разделил голландский долг на две части: 84 400 тыс. гульденов по прежним займам, сделанным Россией, и 3 200 000 гульденов, занятых по контракту у Борского. Только вторую часть долга Комитет финансов считал возможным рассматривать как принадлежащую частному лицу и готов был продолжать расчеты с ним.122 Между тем Борский в связи с кризисной ситуацией начал платить Гопе и К0 русскими облигациями.
Решение русского правительства вызвало серьезное беспокойство у Гопе и К0. Они направили министру финансов несколько
писем, напоминая ему, что даже в 1795 г., во время занятия Голландии, платеж русского долга был остановлен только в течение трех месяцев, а затем «возобновлен в Гамбурге и продолжался безостановочно до 1798 года и даже когда в 1799 году войска российские находились в Гельдере».123 Однако эти увещевания теперь были напрасны: русское правительство готовилось к большой войне.
Контора придворных банкиров официально прекратила свое существование с изданием манифеста 25 июня 1811 г. 4 Первый серьезный удар по ее влиянию был нанесен еще в 1803 г., когда с учреждением Министерства финансов была создана Экспедиция для внешних денежных дел, «в которую поступила из конторы большая часть таковых».125 Подтверждение тому мы находим в последнем сохранившемся отчете конторы министру финансов Ф. А. Голубцову за 1807 г. Документ этот был обнаружен в бумагах министерства пришедшим на смену Ф. А. Голубцову Д. А. Гурьевым и предъявлен им императору только 24 сентября 1811 г.126 Согласно отчету переводы конторы за 1807 г. приблизились к 5 млн. руб., причем 4 млн. были переведены до октября 1807 г., когда началось падение вексельных курсов.127 Вся сумма заграничных денежных оборотов за этот год превысила 20 млн. руб., и три четверти ее пришлось на долю Экспедиции для внешних денежных дел. 28 За период с 1798 по январь 1808 г. контора придворных банкиров сделала переводов на 52 млн. руб.129
После официального закрытия конторы придворных банкиров в 1811 г. международные финансовые операции стали осуществляться через других комиссионеров под наблюдением III Отделения Канцелярии министра финансов. Оно было образовано вместо Экспедиции для внешних денежных дел и начало свои операции с января 1812 г., а в 1824 г. было превращено в Канцелярию министра финансов по кредитной части. °
Закрытие конторы в 1811 г. не означало немедленного прекращения ее деятельности. В 1812 г. банкиры еще делили причитавшуюся им прибыль, а баронесса Велио получила свое последнее отчисление из доходов конторы.131 По данным Я. И. Печерина, переводы придворных банкиров продолжались до 30 мая 1816 г., за период с 1798 по 1816 г. контора перевела за границу 67 млн. руб. Чистая прибыль ее за эти годы составила 1 972 392 руб., а потери на протестованных векселях — 26 137 руб.132 После того как операции конторы придворных банкиров были окончательно проверены Временной счетной комиссией Государственного контроля, «министр финансов 29 мая 1830 г. предложил Раллю сдать все находившиеся у него дела и книги по казеннным операциям под расписку бывшего контролера и советника Рубцова, который по приеме этих дел и книг 16 июня 1830 года при особой описи сдал их в Архив Особенной канцелярии по кредитной части».133
Так закрылась последняя страница в истории конторы придворных банкиров и комиссионеров. Постепенное падение ее роли в международных финансовых связях, а затем и упразднение были связаны с развитием и совершенствованием структуры созданного
143
в 1802 г. Министерства финансов, появлением в его составе новых подразделений, взявших на себя часть функций конторы. В этом процессе несомненно свою роль сыграли и роковые события 1807 г., вызвавшие резкое ухудшение финансового положения России, падение денежного курса, сокращение возможностей и рынков для финансовых операций за границей.
Закрытие конторы никак не повлияло на институт придворных банкиров как таковой. Он не только сохранился после 1811 г., но и продолжал оказывать большое влияние на внутреннее финансовое положение страны и ее внешние связи. После Отечественной войны 1812 г. восходит звезда банкирского дома Штиглицев: А. Штиглиц занимал положение придворного банкира вплоть до середины XIX в. и стал первым директором учрежденного в 1860 г. Государственного банка.
Если даже представить себе на минуту, что создание конторы придворных банкиров было лишь плодом больного воображения Павла I, стремившегося обрядить в казенный мундир частный банкирский промысел, то и в этом случае нельзя не признать, что контора способствовала финансовому обеспечению военных операций России на суше и на море в эпоху Наполеоновских войн, а также развитию деловых связей со многими банкирскими домами в Европе. Некоторые из этих связей приняли устойчивый и длительный характер, и след их не теряется до конца XIX столетия.134
Р. S. Уже после подготовки настоящей статьи к печати в бумагах Б. А. Романова был обнаружен документ, свидетельствующий о его намерении включить в свой научный план на 1950—1955 гг. работу о банкирском промысле в конце XVIII в., в частности о Р. Сутерлан-де (см. Архив ЛОИИ СССР АН СССР. Ф. 298. On. 1. Д. 8). Этот замысел не был осуществлен.
1 Бржеский Н. Государственные долги России. СПб., 1884. С. 128; Б ю-и с т М. Г. Появление России на голландском рынке капитала в 1770—1780 гг. // Тезисы доклада на Международном конгрессе по экономической истории. Л., 1970. С. 1.
2 Бржеский Н. Указ. соч. С. 130.
3 Этот указ Екатерины II не вошел в Полное собрание законов. Его содержание изложил П. Шторх в «Гражданине» за 1873 г. (№ 29—32), а затем Н. Бржеский (Указ. соч. С. 128—130). Копии указа сохранились в ЦГАДА (Ф. 10. Оп. 3. Д. 99. Л. 1—Зоб.) и в ЦГИА СССР (Ф. 583. Оп. 4. Д. 178. Л. 15—16об.).
4 ЦГИА СССР. Ф. 583. Оп. 4. Д. 178. Л. 15—16.
5 Бржеский Н. Указ. соч. С. 130—131.
6 Там же. С. 132.
7 Там же. С. 133.
8 Там же. С. 137.
9 Там же. С. 138—139.
10 Бюист М. Г. Указ, соч., ЦГИА СССР. Ф. 560. Оп. 10. Д. 37. Л. 66об.—67.
11 ЦГАДА. Ф. 10. Оп. 3. Д. 99. Л. 7 и об.
12 Бржеский Н. Указ. соч. С. 140.
13 Бюист М. Г. Указ. соч. С. 1. См. также: Chapman Stanly. The Rise of Merchant Banking. London, 1984. P. 3.
14 Бржеский H. Указ. соч. С. 146.
15 Там же. С. 149—150.
16 Там же. С. 147—148.
144
17 Там же. С. 152.
18 Там же. С. 154. В отличие от Амстердама на Лондонской бирже до 1795 г. обращались только английские ценности. В 1795 г. там был размещен первый иностранный заем — австрийский (Levy F. Die englischen Subsidien in der Zeit der Konti-nentalkriege 1793—1815. Inaugural-Dissertation. Rostock, 1927. S. 44).
19 Б p жески й H. Указ. соч. С. 153.
20 Там же. С. 154.
21 Там же.
22 ЦГИА СССР. Ф. 560. Оп. 10. Д. 37. Л. 67.
23 Там же.
24 Б ю и с т М. Г. Указ. соч. С. 3.
25 Там же.
26 Бржеский Н. Указ. соч. С. 157—161.
27 Там же. С. 160—161.
28 ПСЗ. 1797 г. № 18281.
29 Там же. № 18275.
30 ПСЗ. 1798 г. № 18413. См. также: Именной высочайший указ государственному казначею 4 марта 1789 г. // ЦГИА СССР. Ф. 602. On. 1. Д. 320. Л. 17—18.
31 ЦГИА СССР. Ф. 602. On. 1. Д. 327. Л. 89 и об.
32 Именной высочайший указ государственному казначею 27 сентября 1798 г. // ЦГИА СССР. Ф. 602. On. 1. Д. 320. Л. 247.
33 Ордер государственного казначея в контору придворных банкиров и комиссионеров 29 октября 1798 г. //Там же. Л. 246.
34 Поскольку было известно, что Велио произошел «от благородных предков» в Португалии, то в его баронский герб были внесены элементы символики, заимствованные как из российского, так и из португальского гербов (см.: Диплом о баронстве И. Велио// ЦГИА СССР. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 1377. Л. 6 и об.).
35 Именной высочайший указ государственному казначею 4 марта 1798 г. // ЦГИА СССР. Ф. 602. Д. 32Q. Л. 8.
36 Ордер государственного казначея в контору придворных банкиров и комиссионеров 23 февраля 1800 г. // ЦГИА СССР. Ф. 602. On. 1. Д. 323. Л. 146 и об.
37 Л е в и н И. И. Акционерные коммерческие банки в России. Пг., 1917. Т. 1. С. 14.
38 См.: ЦГИА СССР. Ф. 1346. Оп. 46. Д. 2005. Л. 1 и др.
39 Русский биографический словарь. Рейтерн-Рользберг. СПб., 1913. С. 276.
40 Там же.
41 Именной высочайший указ государственному казначею 4 марта 1798 г. // ЦГИА СССР. Ф. 602. On. 1. Д. 320. Л. 8.
42 Именной высочайший указ государственному казначею 12 марта 1798 г. // ЦГИА СССР. Ф. 602. On. 1. Д. 327. Л. 101.
43 Левин И. И. Указ. соч. С. 13.
44 Русский биографический словарь. С. 276.
45 См., напр.: Ордер главного казначея 20 июля 1800 г. // ЦГИА СССР. Ф. 602. On. 1. Д. 324. Л. 7.
46 ЦГИА СССР. Ф. 602. On. 1. Д. 320. Л. 236.
47 Бржеский Н. Указ. соч. С. 161.
48 Там же. Л. 161.
49 N о г m a n Е. Saul Russia and the Mediterranean. 1797—1807. Chicago; London. 1970. P. 72—74.
50 Стэнли Чапмен, сообщая о крахе в 1847 г. Гарман и К°, называет их лондонскими банкирами русского правительства (Chapman Stanly. The Rise of Merchant Banking. London, 1984. P. 36).
51 ЦГИА СССР. Ф. 602. On. 1. Д. 327. Л. 146.
52 См. еженедельные обзоры переписки придворных банкиров, составленные контролером конторы И. Вульфом от 21 мая и 10 июня 1799 г.//Там же. Д. 351. Л. 83 и об., 91.
53 См.: Ордера государственного казначея придворным банкирам 24 мая, 5 июня, 16 июля 1798 г. // ЦГИА СССР. Ф. 602. On. 1. Д. 320. Л. 71, 105, 117. Воут пытался оказать помощь терпевшему бедствие банкирскому дому Мартина Дорнера (Там же. Л. 71).
54 Отчет И. Вульфа 13 июня 1799 г.//Там же. Д. 351. Л. 93об.—94.
10 Заказ № 1143
145
55 Отчет И. Вульфа 21 октября 1799 г.//Там же. Л. 135 и об.
56 Б а у м а н Г. Г. Великая французская революция и Нидерланды // Французская революция XVIII века. Экономика, политика, идеология. М., 1988. С. 220—221.
57 Там же. С. 222.
58 Ордера государственного казначея придворным банкирам и комиссионерам 9 и 22 сентября 1799 г. // ЦГИА СССР. Ф. 602. Д. 321. Л. 35, 60.
59 Ордер государственного казначея придворным банкирам и комиссионерам 10 октября 1799 г.//Там же. Л. 100.
60 Ордер государственного казначея в контору придворных банкиров и комиссионеров 30 октября 1799 г. //Там же. Л. 127 и об.
61 Ордера государственного казначея придворным банкирам и комиссионерам 27 ноября 1799 г. и 15 февраля 1800 г.//Там же. Л. 190. Д. 323. Л. 118.
62 5 июля 1800 г. Павлу I по этому поводу был подан специальный доклад // Там же. Д. 351. Л. 199 и об. Провизии банкирам в XVIII в. вообще достигали значительных размеров. Так, бароны де Смет, голландские кредиторы России, «за 10-летние труды по операции в награду им и их конторским служителям за корреспонденцию, куртаж, харчи и др., что связано с переводом по уплате процентов и капитала», получили 7 % с суммы 6 млн. гульденов (Вяземский, Остерман—Сент-Паулу 29.10.1782г.)// ЦГАДА. Ф. 10. Оп. 3. Д. 99. Л. 25).
63 ЦГИА СССР. Ф. 1147. On. 1. Д. 271. Л. 9—12.
64 Там же.
65 Там же.
66 Бржески й Н. Указ. соч. С. 166.
67 Ордер государственного казначея придворным банкирам и комиссионерам 30 октября 1799 г. В июне 1799 г. Генуя была превращена Наполеоном I в Лигурийскую республику. В нее вошла также территория Пьемонта.
68 Ордер государственного казначея придворным банкирам и комиссионерам 8 марта 1800 г. // ЦГИА СССР. Ф. 602. On. 1. Д. 323. Л. 161.
69 Там же. Д. 324. Л. 18.
70 Там же. Л. 129. (5 октября 1800 г.).
71 Всеподданнейший доклад государственного казначея 26 апреля 1802 г. // ЦГИА СССР. Ф. 583. Оп. 4. Д. 215. Л. 7 и об.
72 Там же. Л. 53—54 (7 июня 1803 г.).
73 Там же. Л. 157 (8 марта 1805 г.).
74 Там же. Д. 217. Л. 210 (И ноября 1808 г.).
75 Levy Flora. Die englischen Subsidien in der Zeit der Kontinentalkriege (1793—1815). Inaugural—Dissertation. Rostok, 1927. S. 68—70.
76 Ibid. S. 23.
77 Проект государственного займа в Англии [б/д] //ЦГАДА. Ф. 19. On. 1. Д. 58. Л. 1.
78 Всеподданнейший доклад министра финансов 28 апреля 1807 г. // ЦГИА СССР. Ф. 583. Оп. 4. Д. 218. Л. 2—3, 7об.
79 Там же. Л. Зоб.—4.
80 Там же. Л. 4об.—6.
81 Там же. Л. Юоб.—11 (28 сентября 1807 г.).
82 ЦГИА СССР. Ф. 602. On. 1. Д. 336. Л. 15—16.
83 Там же. Л. 16об.
84 Копия условий // Там же. Л. 14—Моб.
85 Там же. Л. 14об., 16.
86 Ордер государственного казначея придворным банкирам и комиссионерам 29 января 1808 г. // Там же. Л. 13об.
87 Там же. Л. 26, 27.
88 ЦГИА СССР. Ф. 583. Оп. 4. Д. 218. Л. 9—9об.
89 Ордер Раллю и Роговикову 6 мая 1807 г.//ЦГИА СССР. Ф. 602. On. 1. Д. 334. Л. 20; Ордер 10 июня 1807 г. //Там же. Л. 25об.
90 Всеподданнейший доклад министра финансов, март 1811 г. // ЦГИА СССР. Ф. 583. Оп. 4. Д. 216. Л. 14.
91 Ордер государственного казначея придворным банкирам и комиссионерам 17 апреля 1808 г. //Там же. Ф. 602. On. 1. Д. 336. Л. 47.
92 Там же. Л. 48.
146
93 Ордер государственного казначея придворным банкирам и комиссионерам 2 мая 1808 г. // Там же. Л. 54.
94 Там же. Л. 79, 89, 91, 121 (18 июля, 27 августа, 10 октября, 17 ноября 1808 г.).
95 Внешняя политика России XIX и начала XX века. Сер. 1. 1801 — 1815 гг. М., 1965. Т. 4. Прим. 162. С. 608.
96 Там же. М., 1967. Т. 5. Прим. 150. С. 673—674.
97 Всеподданнейший доклад министра коммерции и управляющего Министерством иностранных дел графа Н. П. Румянцева и министра финансов А. Ф. Голубцова 30 апреля 1808 г. // ЦГИА СССР. Ф. 583. Оп. 4. Д. 216. Л. 33—34об.
98 Там же.
99 Там же. Л. 35об.—36.
100 Там же. Л. 38об.
101 Там же.
102 Внешняя политика России. . . Т. 5. Прим. 150. С. 673—674.
103 Там же.
104 Там же. С. 197.
105 Там же. С. 194.
106 Там же. С. 673.
107 Там же. С. 194. 15/27 сентября Куракину было отправлено письмо с отзывом министра финансов.
108 Там же. С. 695.
109 Там же.
1 ,0 А. Б. К у р а к и н — Н. П. Румянцеву 29 мая/10 апреля 1810 г. Личное // Там же. С. 408—409.
1 ,1 Там же. С. 697.
112 Там же. С. 448; Высочайше утвержденный 6/18 мая 1810 г. проект письма, отправленного 8/20 мая // ЦГИА СССР. Ф. 583. Оп. 4. Д. 216. Л. 75—78.
113 Внешняя политика России... Т. 5. С. 697; Высочайше утвержденный 11/23 мая проект письма Гурьева Куракину//ЦГИА СССР. Ф. 583. Оп. 4. Д. 216. Л. 73—74об.
114 Внешняя политика России. . . Т. 4. С. 418—423, 664—665.
1,5 Там же. Т. 5. С. 605—615.
116 Там же. С. 612.
117 Там же. С. 613.
118 Там же.
119 Журнал Комитета финансов 2 ноября 1812 г.//ЦГИА СССР. Ф. 563. Оп. 2. Д. 1. Л. 31—32.
120 Там же.
121 Там же.
122 Там же. Л. 1—2 (2 апреля 1812 г.).
123 Там же. Л. 31—32 (2 ноября 1812 г.).
124 ЦГИА СССР. Ф. 583. Оп. 4. Д. 216. Л. 70.
125 П е ч е р и н Я. И. Исторический обзор правительственных, общественных и частных кредитных установлений в России. СПб., 1904. С. 135.
126 ЦГИА СССР. Ф. 583. Оп. 4. Д. 219. Л. 66—73.
127 Там же. Л. 66об.
128 Там же. Л. 72.
129 Там же. Л. 68.
130 П е ч е р и н Я. И. Указ. соч. С. 136.
131 ЦГИА СССР. Ф. 583. Оп. 4. Д. 216. Л. 70.
132 Печерин Я. И. Указ. соч. С. 132—135. См. также: Heller К. Die Geld und Kreditpolitik des russischen Reiches in der Zeit der Assignaten (1768—1839/43). Wiesbaden, 1983. S. 53—54.
133 П e ч e p и н Я. И. Указ. соч. С. 135.
134 См.: Ананьич Б. В., Лебедев С. К. Участие банков в выпуске облигаций российских железнодорожных обществ (1860—1914 гг.) // Монополии и экономическая политика царизма в конце XIX—начале XX в. Л., 1987. С. 5—41.
10*
В. В. ЛАПИН
ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ РОССИИ В XIX в.
Вооруженные силы в большинстве стран являлись и являются поныне одним из важнейших государственных институтов. Ф. Энгельс так оценил развитие милитаризма в Европе во второй половине XIX в.: «Армия стала главной целью государства, она стала самоцелью, народы существуют для того, чтобы поставлять и кормить солдат».1 Это положение вполне применимо к России XIX столетия: колоссальные военные расходы, огромная роль вооруженных сил в государственном аппарате и обществе — все это ставило русскую армию и флот в особое положение по отношению к прочим сферам жизни России.
Вопрос о месте вооруженных сил в экономической, социальной и политической и культурной жизни страны в советской исторической литературе практически не ставился и соответственно не решался. Три монографии Л. Г. Бескровного отражают рост военного потенциала России в XVIII—начале XX вв.; в работах П. А. Зай-ончковского исследованы конкретные вопросы комплектования, обучения и перевооружения, а также социальная структура сухопутной армии в пореформенное время. Л. Г. Бескровный коснулся военных расходов России в XIX столетии, отметил их стабильный рост и указал на то, что они были одной из причин увеличения государственного долга. Только в статье Ю. Н. Шебалдина содержатся ценные положения об экономической роли военных расходов в начале XX в.2 В дореволюционной историографии также нет всестороннего и глубокого анализа военных расходов России, фактически все выводы сводились к признанию и без того очевидного обстоятельства, что на нужды армии и флота страна расходовала громадные средства, в которых остро нуждались другие сферы хозяйства.3
Подобную историографическую ситуацию нельзя считать нормальной, так как недостаток внимания специалистов по экономической, социальной и политической исто-
148
рии к военному хозяйству, социальной структуре армии, ее быту, военному управлению и менталитету фактически исключает из научного обращения целый пласт отечественной культуры — военной культуры дореволюционен России.
Особенно заметным является этот недостаток на фоне значительных успехов зарубежных ученых, изучающих армии как западноевропейских стран, так и России,4 тем более на современном этапе, в связи с выдвижением на первый план проблемы демилитаризации экономики и политики.
Анализ военного бюджета, структуры военных расходов, их воздействие на развитие хозяйства — одна из важнейших тем в исследовании вооруженных сил как факта экономического развития страны.
Как видно из табл. 1, расходы на армию в течение полувека уве-
Таблица 1
Расходы на сухопутную армию в 1805—1855 гг.
Год Тыс. руб. (серебром) Год Тыс. руб. (серебром)
1805 16.756 1865 140.019
1810 29.649 1870 145.211
1816 72.798 1875 175.432
1840 70.227 1880 210.000
1845 71.968 1885 214.000
1850 103.045 1890 230.100
1855 239.823 1895 285.444
Примечание. Подсчитано по: Б ес кр о в н ы й Л. Г. Русская армия и флот в XIX веке. М., 1973.
личились более чем в 10 раз и приблизились к трети миллиарда рублей серебром.
Одной из главных причин неуклонного роста военных расходов было стабильное увеличение численности армии (табл. 2).
Таблица 2
Численность сухопутной армии в 1801 — 1856 гг.
Год Численность (тыс. человек) Год Численность (тыс. человек)
1801 446 1866 779
1812 865 1876 1037
1830 865 1886 872
1840 916 1896 1023
1850 1118
За столетие численность сухопутной армии (без казачьих частей) возросла в 2 раза, в то время как стоимость ее содержания — в 10 раз. Такое несоответствие объясняется целым рядом обстоятельств. В течение всего века отмечался рост цен на все виды сельскохозяйственной и большинства видов промышленной продукции. На хлебном рынке цены, например, поднялись почти вдвое.5 В силу того что затраты на закупку провианта, фуража и предметов обмун
149
дирования поглощали львиную долю военного бюджета, процесс повышения цен оказал большое влияние на рост военных расходов. Именно рост цен был одной из важнейших причин, вынудивших правительство повышать оклады жалованья солдатам и офицерам, а также пенсии отставным, инвалидам и вдовам. Немалое значение имело и расширение круга лиц, получавших пособие от военного и морского ведомств. Увеличение всех видов жалованья было связано также с изменением социального состава офицерского корпуса, с постепенной отменой постойной повинности, а также со стремлением правительства сделать военную службу более привлекательной в материальном отношении.
Немалое значение для роста военных расходов имело изменение ситуации в сфере вооружения. Во второй половине XIX в. резко увеличилась стоимость оружия и боеприпасов. Особенно это касалось военно-морских сил в связи с переходом к паровому и броненосному судостроению. В первое десятилетие после Крымской войны ассигнования Морскому министерству при ничтожной численности корабельного и личного состава и умеренном судостроении составили 16—20 млн. руб. сер., что в 3—4 раза превышало те суммы, которые тратило это министерство в 40-е гг., когда на Балтике и на Черном море Россия держала весьма значительные по численности флоты.
В государственном бюджете ассигнования на нужды армии и флота в XIX столетии составляли самую крупную долю (табл. 3).
Таблица 3
Ассигнования на армию и флот в 1805—1892 гг.
Год Общегос. расходы, млн. руб. сер. Бюджет воен, и морск., млн. руб. сер. % к общим расходам
1805 64.6 33.0 51.0
1810 65.7 41.8 63.6
1815 54.2 46.2 85.2
1820 131.4 58.8 44.7
1825 109.2 47.4 43.5
1850 81.7 25.8 31.6
1857 275.0 100.3 36.5
1863 347.9 133.6 38.4
1892 1.304.0 455.0 39.9
Составлено по: Военная энциклопедия. СПб., 1911. T. 6. С. 527; Бл и о х И. С.
Финансы России XIX столетия. СПб., 1882.
Таким образом, военные расходы России в XIX в. составляли около 35 % всех бюджетных ассигнований. Министерству народного просвещения уделялось чуть более 1 %, Министерству юстиции — около 2 %, ведомству путей сообщения — около 6 %.
Среди европейских держав Россия (и по абсолютной величине военных ассигнований, и по доли в государственном бюджете) занимала одно из ведущих мест (табл. 4).
Великобритания имела громадный военный бюджет, располагая сравнительно скромной по размерам армией, в силу того что тратила
150
Таблица 4
Доля военных ассигнований и госбюджета в 1892—1897 гг.
Страна Общегос. расходы, млн. руб. Военные расходы, млн. руб. % к общим расходам
Великобритания 830 293 35.3
Россия 1304 455 34.9
Франция 1213 355 29.3
Италия 601 135 22.5
Австро-Венгрия 521 99 19.0
Германия 1063 205 18.2
много денег на вербовку солдат и на строительство дорогостоящих кораблей (английский флот в этот период получал 55 % военных ассигнований, французский — 25, русский — 17, австро-венгерский — 6.5 %). Среди стран, комплектующих армию на основе всеобщей воинской повинности, по величине военных расходов и по месту их в госбюджете, Россия уверенно занимала первое место.
Но миллионами рублей, ассигнуемыми ежегодно для поддержания армии и флота на необходимом для империи уровне, тяжесть военного бремени России не ограничивалась. Действительные затраты на вооруженные силы значительно превышали ту сумму, которая выделялась на нужды военного и морского министерства. Огромные средства расходовались непосредственно обществом. Одним из каналов таких общественных расходов была постойная повинность. На 1 января 1801 г. ни один полк русской армии, значительная часть гвардии, а также гарнизонных частей не имели казарм и располагались на постое в домах обывателей. Практически невозможно произвести точные подсчеты того, в какую сумму обходилось населению отбывание этой единственной в России всесословной повинности, но в том, что в первой половине XIX в. это была многомиллионная сумма, сомневаться не приходится.
В 1830-е гг. специальная комиссия пыталась выработать меры для ликвидации тяжкого бремени постоя и пришла к неутешительному выводу: для освобождения только городов от постойной повинности требовалось увеличить военный бюджет сразу на 10 млн. руб., или на 9 %. На такую меру правительство в те годы не решилось и по-прежнему «экономило» на казармах по 15 млн. руб. ежегодно.6 В 1872 г. были введены новые правила отбывания постоя, по которым вместо отвода жилья натурой военно-служащие получали так называемые квартирные деньги от казны. Отмена натуральной формы постойной повинности, увеличение объема строительства казарм во второй половине XIX в. стали важными причинами роста военного бюджета. Для значительного же числа горожан перевод повинности в денежную форму означал лишь усиление налогового гнета, так как в условиях недоразвитости товарно-денежных отношений, при бедности многих жителей городов, они с большей легкостью изыскивали свободное жилье, нежели необходимую сумму.
Размещение армии по домам обывателей вело и к так называемой «экономии» провианта и фуража. В большинстве случаев солдаты
151
кормились с хозяйского стола, а полагавшуюся по закону компенсацию также в большинстве случаев не выплачивали. В 20-е гг. XIX в. армия тратила на провиант около 5 млн. руб. ассигнациями ежемесячно. Около 8 месяцев в году солдаты жили на зимних квартирах, а остальное время — в летних лагерях, где уже кормились из казенного котла. Несложные подсчеты показывают, что на зимних квартирах армия съедала крестьянского хлеба, а армейские лошади крестьянского сена и овса на 40 млн. руб. ежегодно, что, естественно, не отмечалось ни в каких ведомостях и не учитывалось никакими статистиками.7 Вплоть до 60-х гг. прошлого века население кормило армию большую часть года за свой счет.
Другой обременительной и разорительной повинностью для населения была обязанность давать подводы и лошадей для перевозки казенных грузов, среди которых преобладали предметы военного ведомства. В первой половине XIX в. расходы только государственных крестьян по линии подводной повинности оцениваются специалистами в 1 млн. руб.8 В связи с тем что основная масса войск располагалась в районах с преобладанием помещичьего землевладения, для получения представления о тяжести подводной повинности вышеуказанную цифру следует по меньшей мере удвоить. Таким образом, и на перевозке грузов государство экономило около 2 млн. руб. сер. В первой половине XIX в. из сумм государственных и губернских земских сборов на освещение и отопление воинских помещений, на выгоны для армейских лошадей, на земли, отводимые под лагеря, стрельбища и прочее, выплачивалось ежегодно около 2 млн. руб., также не входивших в военный бюджет.
Значительная часть офицеров, генералов и адмиралов была владельцами населенных имений, приносивших доход. До 70-х гг. XIX в. жалование офицеров, особенно в небольших чинах, не соответствовало прожиточному минимуму. Даже в середине столетия поступающие в армейские кавалерийские полки должны были представить так называемый реверс, т. е. сумму, достаточную для покупки лошади и обмундирования. Даже для службы в армейских частях требовались дополнительные доходы, в 2—3 раза превышающие годовой оклад жалованья. Для службы в гвардии требовались еще большие средства. Произвести какие-либо реалистические подсчеты расходов офицеров-помещиков не представляется возможным, но в том, что в данном случае речь идет о десятках миллионов рублей, сомневаться не приходится, если учесть, что в первой половине XIX в. на выплату жалованья командному составу расходовалось около 30 млн. руб., а фактически требовалось в 2—3 раза больше. Следовательно, до конца XIX столетия поместная система продолжала играть важную, хотя со временем менее значимую роль в деле содержания армии России.
Также не поддаются подсчету затраты общества на содержание вдов, сирот и инвалидов, пенсионное обеспечение которых не соответствовало реалиям. Общество много жертвовало на раненых, на пенсионы для воспитанников военных учебных заведений. В Госу
152
дарственном банке во второй половине XIX в. капитал, сложившийся только из части таких пожертвований, составил 27 млн. руб.
В прошлом столетии тяжесть военного бремени не могла быть определена в России простым суммированием военного бюджета и затрат общества на содержание армии. Кроме этого, необходимо учитывать и финансовые средства, ассигнуемые фактически на армию и флот, но проходящие по другим ведомствам. Большая часть денег, полученных в результате заграничных займов в XVIII—первой половине XIX в., была израсходована на военные нужды, и, следовательно, проценты по долгам и сами долги должны быть отнесены на счет вооруженных сил. В первой половине столетия только по процентам Россия выплачивала ежегодно около 8 млн. руб., что составляло 10—12 % годового бюджета. Специального изучения требует вопрос — какую часть затрат на стимулирование производства сукна и полотна в первой и на строительство стратегических железных дорог во второй половине XIX в. следует отнести на счет армии и флота? Определение размеров сумм, расходуемых фактически на нужды вооруженных сил, но ассигнуемых по линии Министерства внутренних дел, Министерства финансов и Министерства (Ведомства) путей сообщения, возможно лишь в рамках монографического исследования, но то, что эти суммы будут иметь впечатляющие размеры, можно предположить заранее, так как длительная и недешевая практика государственного стимулирования стратегически важных отраслей промышленности дает тому основания.
Непосредственно к военным расходам и по их экономическому значению примыкают и материальные потери, связанные с содержанием огромной армии. Каждый человек, призываемый на военную службу, отрывается от производительного труда, перестает быть налогоплательщиком. В первые 15 лет XIX в. под ружье было поставлено около 2 млн. человек, из которых к мирному труду возвратилась ничтожная часть. Следовательно, казна теряла ежегодно в течение полувека (принимается во внимание средняя продолжительность жизни взрослого человека) как минимум 6—7 млн. руб. (учитывается только непоступление прямых налогов). По вычислениям А. Гулевича, в 90-е гг. прошлого века ежегодные потери от привлечения населения на военную службу составляли в России 743 млн. руб., значительно превышая ассигнования на армию и флот.9
В течение всего XIX в. наблюдался рост численности казачьих войск и казачьего сословия, освобожденного от обложения прямыми и некоторыми косвенными налогами: 1803 г. — 265 000 муж. пола; 1855 г. — 1.217.000; 1894 г. — 1.376.500.10 Исключение 3 % мужского населения страны из системы налогообложения означало недобор тех же 3 % налогов. «Бесплатность» же казачьих войск была иллюзорной, так как практически все полевые казачьи части попадали под действие специального положения, согласно которому казна брала на себя обеспечение казаков в случае удаления района боевых действий более чем на 100 верст от станицы.
153
Дважды в течение XIX в. — в 1812 и в 1855 г. — собирались ополчения, насчитывавшие в первом случае около 200 тыс. человек, а во втором — около 500. Экипировка, питание и перевоз ратников в пункты сбора осуществлялись за счет жителей тех районов, где формировались дружины.
Таким образом, тяжесть военных расходов России в прошлом столетии может быть оценена только путем сложения прямых ассигнований на армию и флот, внебюджетных расходов общества на содержание военнослужащих, денег, выделяемых на стимулирование развития и непосредственно на развитие стратегических отраслей промышленности и транспорта, и, наконец, потерь от привлечения населения на гражданскую службу. Если учесть, что в силу особых экономических условий России втрое и третье слагаемые военных расходов имели громадные размеры, то становится понятным, что определение бремени военных затрат для государства и общества на основе традиционных приемов (абсолютные военные расходы, то же на душу населения, доля их в госбюджете) неприемлемо для России XIX в.
Для того чтобы приступить к изучению влияния военных расходов на экономику страны, необходимо исследовать их структуру, определить, в какие сферы хозяйства могли поступать деньги, ассигнованные армии и флоту. Согласно росписи государственных расходов на 1823-й год на закупку провианта и фуража (мука, крупа, овес и сено), было затрачено 84.384 тыс. руб. ассигнациями, на жалованье 35.244, на обмундирование 27.627 тыс. руб. Медицинское обслуживание, ремонтные лошади, военно-учебные заведения, квартиры и казармы, разъезды офицеров и чиновников обошлись в 13.135 тыс. руб. Таким образом, только на содержание людей в военной форме ушло более 160 млн. руб., или 90 % сметы Военного министерства. Собственно на боевые потребности — вооружение, боеприпасы, крепости, арсеналы уходило 5.3 млн. руб., или 3 % военного бюджета.11
Сходная картина была и в морском ведомстве. Содержание моряков обходилось казне в 12.6 млн. руб., а сами корабли с их вооружением и боеприпасами — 5.1 млн. руб., что составляло соответственно 63 и 25 % расходов Морского министерства в 1823 г.12 Даже во время войны подобная структура военного бюджета (в первой половине XIX в.) оставалась стабильной: в 1829 г., когда Россия вела довольно тяжелую войну с Турцией, доля расходов на оружие и боеприпасы не увеличилась в резко возросшем по объему военном бюджете.13 Во второй половине XIX в. развитие военной техники, высокие темпы перевооружения войск, многократное увеличение стоимости и потребности боеприпасов привели к тому, что расходы на чисто военные предметы поднялись до 6 %, хотя затраты на продовольствие, жалованье, амуницию и прочее необходимое для жизни солдат и офицеров по-прежнему резко преобладают и составляют 75 %.14
В 90-е гг. техническое совершенствование кораблей военно-морского флота, его вооружений привело к тому, что их стоимость стала
154
намного превышать стоимость провианта и обмундирования, необходимого для экипажей. Около 70 % ассигнованных средств морское ведомство тратило на вооружение и кораблестроение и только 17 % — на жизнеообеспечение матросов и офицеров.15
Таким образом, до самого конца XIX в. лишь незначительная часть военных расходов приходилась на производство военной техники, т. е. изделий, требовавших развитой металлургической, металлообрабатывающей промышленности, квалифицированных инженерных и рабочих кадров. Основная же масса денег расходовалась на содержание военнослужащих и членов их семей.
В отечественной исторической литературе фактически не затронута такая проблема: какое воздействие на экономическую жизнь страны оказывали ежегодные многомиллионные военные расходы? Какие отрасли хозяйства испытывали особое влияние огромных сумм, истраченных на приобретение или производство множества предметов, необходимых для армии и флота, на заготовление провианта и фуража? В какие регионы России, в руки каких групп населения перетекали колоссальные денежные средства, ассигнуемые ежегодно казной на нужды Военного и Морского министерств? Можно ли говорить об армии как о канале перераспределения национального богатства в XIX в., если учесть, что именно через этот канал ежегодно протекало около 1/3 всех государственных средств?
Каждый из этих вопросов требует специального монографического изучения, но даже принципиальная оценка важности указанных вопросов, определение их места в проблематике исследований социально-экономической истории России станут важным этапом установления роли вооруженных сил в развитии страны в прошлом столетии.
Одной из крупных статей военного бюджета на протяжении всего рассматриваемого периода являлась выплата жалованья солдатам и командному составу. Ежегодно несколько миллионов рублей расходовались их частями в местах расквартирования. Опережающее социально-экономическое развитие ряда западных губерний империи в исторической литературе совершенно правомерно связывается с глубоким проникновением в этот регион капиталистических, товарно-денежных отношений, с развитием промышленности, ремесел, торговли, с ростом городского населения. Но при этом без внимания оказался еще один фактор, безусловно оказавший большое влияние на экономическое развитие западных губерний, — размещение там большого числа регулярных войск. В силу ряда военно-стратегических условий основная масса полевых полков размещалась в XVIII и в XIX вв. на территории 11 пограничных губерний (Выборгская, С.-Петербургская, Эстляндская, Курляндская, Лифляндская, Виленская, Гродненская, Волынская, Подольская, Херсонская, Таврическая). Там находилось 70 % пехоты и 50 % кавалерии. По всему Поволжью и Сибири расквартировано было столько же полевых войск, сколько в одной Волынской губернии.16 Такая картина практически не претерпела изменений вплоть до начала 90-х гг., когда развитая железнодорожная сеть позволила несколько более равно-
155
мерно распределить войска на территории Европейской России.17 В XIX в., во времена войн и военных тревог, концентрация войск в приграничных губерниях еще более увеличивалась.
Таким образом, большая часть огромных сумм, выплачиваемых в виде жалованья офицерам и солдатам, деньги, присылаемые офицерам-помещикам из их имений, средства, расходуемые провиантскими и комиссариатскими чиновниками по месту расквартирования войск, оказывались в конечном итоге в руках жителей западных губерний. В связи с неразвитостью системы безналичного обращения ежегодно большая денежная масса, т. е. золотые, серебряные и медные монеты, а также бумажные ассигнации, перемещалась из центральных и восточных районов страны в районы Вильно, Ковно, Гродно, Бердичева, Каменец-Подольска и Одессы. Д. Б. Мертваго, служивший губернатором в Гродно, в начале XIX в. отметил это явление в своих мемуарах: «Деньги, серебряной монетой тамо ходящие, привозимы в обозах из Москвы и Риги в Вильну, отколе через жидов и многих панов, задолжавших мемельским, данцигским и кенигсбергским купцам, передавались в Пруссию. . . Изыскивая средства к уменьшению расходов в Литве и поставлению хотя несколько преграды выходить российской монете в Пруссию, вздумал я испытать, нельзя ли доставлять хлеб из Малороссии, дабы деньги, на то употребляемые из казны, рассыпались подалее от границ. . .».18 Концентрация денежной массы создавала предпосылки для развития торговли, капиталистического производства и кредитного дела. Косвенным свидетельством большого экономического значения расходов воинских частей в местах их расквартирования являются данные анализа динамических рядов: а) плотности постоя (число постойных дней на 1 жителя), б) прироста числа жителей, в) прироста числа каменных домов, г) прироста числа деревянных домов, д) прироста числа лавок. Постойную повинность совершенно справедливо следует считать тяжелейшим бременем для городского населения. Следовательно, в губерниях с наибольшей численностью войск основные показатели жизнедеятельности городов, составленные для городов 42 губерний России,19 должны быть ниже, нежели в тех, где города не терпели тягот постоя. Анализ динамических рядов показал отсутствие зависимости между плотностью постоя и процветанием городских поселений. Из этого можно заключить, что гарнизон был одновременно и фактором, благоприятствовавшим развитию городского хозяйства. Экономическая польза от расквартированных частей компенсировала убытки от постоя.
Большое влияние на экономическую жизнь оказывали не только расходуемые армией суммы, но и те формы торговых контрактов, которые практиковались в XIX в. Прежде всего следует упомянуть, что наиболее распространенным способом закупки провианта, фуража, тканей и кожевенного товара был подряд?0 В условиях неразвитости банковского дела интендантство было вынуждено совершать кредитные операции, выдавая поставщикам авансы, составлявшие от 1 /з до ‘/2 стоимости товара. Такая система позволяла подрядчикам совершать крупные торговые операции, обходясь минимумом изна-156
чального капитала или вовсе без него. Ежегодно Военное и Морское министерства выдавали несколько миллионов рублей в виде краткосрочных (на 1 /з года) кредитов, компенсируя в некоторой степени слабость банковского дела. Можно высказать предположение, что подобная ситуация оказывала косвенное влияние на финансовую политику самодержавия в первой половине XIX в.: важнейшая сфера государственного хозяйства — армия и флот — обходилась без развитой кредитной системы и, следовательно, не подталкивала правительство к ее созданию.
Казенные поставки в подавляющей своей массе были чрезвычайно выгодным делом, большая прибыль позволяла подрядчикам в течение короткого времени сформировать значительные капиталы. В то же время следует подчеркнуть, что абсолютное большинство средств, расходуемых военным и морским ведомствами, попадало в руки не промышленников, а купцов, и потому оказывало незначительное воздействие на развитие промышленности.
Непосильное бремя военных расходов каждый раз обращало на себя внимание, когда в правительственных кругах обсуждался вопрос о мерах по приведению в порядок финансов России. В записке «Об исправлении финансовой системы» министра внутренних дел Кочубея, поданной Александру I в 1810 г., предлагалось: а) оставить некомплектную армию, б) отменить рекрутский набор, в) создать на востоке страны поселенные войска, г) заменить постоянную армию так называемым «губернским войском» (милиция. — В. Л.), д) резко уменьшить корабельный флот на Балтийском море.21 Адмирал Мордвинов в 1817 г. в своих предложениях по сокращению военных расходов также видел в отмене рекрутства и введении срочной службы солдат единственное радикальное средство. В качестве первого практического шага он предлагал ежегодно увольнять в годовой отпуск половину солдат, экономя тем самым около 60 млн. руб.22
Комитет, созданный в 1835 г. для сокращения военных расходов, высказал предположение о возможности бюджета без перехода на новую систему комплектования: экономии в 14 млн. руб. (серебром) по мнению комитета можно было добиться, уменьшив численность пехотных и егерских полков, упразднив 32 резервных батальона, увеличив срок службы амуниции и обмундирования, сократив численность рядовых в кавалерийских частях и расходы по комиссариатской части.
Но все эти предложения не могли стать основой для принятия конструктивных решений. Переход к системе всеобщей воинской повинности в условиях России был невозможен: армия, комплектуемая на основе рекрутчины, была порождением и гарантом сложившейся при Петре I системы фиска и сословного разделения общества.
Сокращать же военные расходы путем сокращения армии и флота Россия не могла в связи с перманентной военной тревогой и быстрым ростом сил крупнейших держав Европы.
Возраставший из года в год военный бюджет был причиной постоянной напряженности в отношениях между Министерством финансов и военными кругами. В конце декабря 1871 г. Д. А. Милю
157
тин представил председателю Госсовета С. Н. Урусову записку «О сравнении военных бюджетов государств: Северогерманского союза и России», в преамбуле которой прямо говорится, что она составлена «ввиду возникавших не раз нареканий на постоянное из года в год возрастание наших расходов и не кажущуюся неумеренность их сравнительно с расходами других государств. . .».23
Цифры, приведенные в табл. 5, свидетельствуют, что структура
Таблица 5
Содержание регулярных войск
Статья расхода на армию Северогерм. союз Россия
Всего, млн. руб. На 1 чел., руб. Всего, млн. руб. На 1 чел., руб.
Продовольствие 14.2 47—25 27.6 37—57
Вещевое довольствие 6.3 20—80 10.8 14—63
Денежное довольствие 9.2 772—15 11.2 524—68
офицеров Жалованье нижи, чинов 10.4 35—35 3.4 4—95
Лошади 10.4 142—00 9.1 127—10
Помещение войск 8.2 25—86 8.9 11—62
Вооружение 2.8 8—86 7.3 9—47
Врачебная часть 2.5 7—86 6.6 8—23
Учебная часть 1.3 4—12 4.7 6—06
Содержание управления 2.3 7—35 4.5 5—81
Перевозки и разъезды 1.3 4—00 6.7 8—66
Чрезвыч. расходы 1.8 5—75 21.6 27—97
При численности: в мирное в военное в мирное в военное
офицерских чинов время 16.4 тыс время 34.4 тыс. время 33.4 время 39.4
нижних чинов 301.0 тыс 923.0 тыс. 740.0 1.174.0
лошадей 73.3 тыс 209.3 тыс. 71.5 176.8
военного бюджета не претерпела существенных изменений по срав-
нению с предшествующим периодом: затраты на продовольствие и амуницию, на жалованье солдатам и офицерам, на казармы и госпитали, на лошадей и кадетские корпуса составили 63.7 млн. руб., или 92 %, а расходы на вооружение поднялись с 3 до 4 %, хотя в абсолютном выражении выросли почти в 5 раз по сравнению с 1823 г. Сопоставление военных бюджетов России и Северогерманского союза убеждает в особом характере хозяйствования и обеспечения русской армии. Прежде всего бросаются в глаза более чем 7-кратное превосходство жалованья немецкого солдата по сравнению с русским (35.35 руб. в год против 4.95 руб.) и соотношение размеров вещевого и денежного довольствия того и другого (соответственно 4 : 7 и 3 : 1). Эти различия свидетельствуют о том, что в русской армии и в 70-е гг. XIX в. преобладало обеспечение солдат натурой, что отражало доминирующую роль хозяйственных учреждений Военного министерства в организации снабжения, а также сохранявшийся высокий уровень натуральности в экономике страны, неразвитости товарно-денежных отношений.
Руководители военного ведомства понимали, что особенности хозяйственной структуры армии, ее значительная экономическая
158
автономность ведут к увеличению расходов. В вышеупомянутой записке подчеркивалось это обстоятельство: «Мы далеко еще не вышли из того исторического периода, начатого Петром Великим, когда созданная им армия завоевала нам место в Европе и сделалась краеугольным камнем всего нашего государственного строя. И поныне русская армия, ограждая внешнее могущество государства, служит вместе с тем весьма многим общегосударственным, гражданским целям, а военное управление, помимо войск, совмещает в себе и многие задачи управления гражданского. Наши окраины, как и некоторые области внутри империи, держатся военной администрацией. . . Для удовлетворения материальных потребностей войск оно (военное начальство. — В. Л.) находит под рукой только сырые или полуобработанные продукты; по предметам же, требующим технического совершенства, должно само создавать техников, само водворять производства и затем из немногих центральных пунктов развозить эти предметы на целые тысячи верст, прибегая иногда даже к кругосветным поставкам. В обеспечении нравственных потребностей армии его роль еще труднее: оно вынуждено содержать целую систему учебных заведений воспитательных, общеобразовательных и специальных, но едва получает нужных ему людей, как тотчас же их теряет, так как не имеет средств удержать их от той приманки, которая представляется ныне образованным людям в гражданской и общественной деятельности, несравненно щедрее вознаграждающей всякий интеллектуальный труд».24
Потребность вооруженных сил иметь огромный и дорогостоящий аппарат снабжения, производить дорогостоящие операции по закупке провианта, фуража, тканей, кожевенного товара, перевозить военные грузы на большие расстояния, производить на заводах, принадлежащих военному и морскому ведомству, продукцию — все это значительно удорожало стоимость содержания армии и флота. Экономическая автономность армии от хозяйства страны оборачивалась миллионными непроизводительными расходами.
До середины XIX в. военные расходы России мало способствовали развитию промышленности, так как основные суммы тратились на продукты питания и на жалованье офицерам и солдатам. Роль милитаризации в развитии частного предпринимательства была ничтожной. Отрицательное же значение непомерных военных расходов, разорявших казну, подрывавших финансовое благополучие населения, было чрезвычайно велико. В течение всего прошлого столетия империя платила непосильный оброк за право быть великой державой.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. T. 20. С. 175.
2 Государственный бюджет царской России в начале XX в. до первой мировой войны //Исторические записки. Т. 66. С. 181 —184.
3 Б л и о х И. С. Финансы России XIX столетия. СПб., 1882. Т. 1—2; Б о г о л е-п о в М. Война и финансы. СПб., 1901; Газенкампф М. Военное хозяйство. М., 1889; Гулевич А. Война и народное хозяйство. СПб., 1899.
4 Beyr.au D. Militar und Gesellschaft im Vorrevolutionaren Russland. Koln, 1984; Keep D. Soldiers of the tzar. Oxford, 1985.
159
5 Миронов Б. Н. Хлебные цены в России. Л., 1985. С. 45.
6 Печерин Я. И. Исторический обзор росписей государственных расходов. СПб., 1896 г.
7 Аничков В. Военное хозяйство. Сравнительное исследование. СПб., 1860. С. 85; Л а н ж е р о н В. Русская армия в год смерти Екатерины II // Русская старина. 1800. Т. 83. С. 151 — 153.
8 Неупокоев В. И. Государственные повинности крестьян Европейской России в конце XVIII—начале XIX века. М., 1987. С. 195, 197.
9 Гулевич А. Указ. соч. С. 23.
10 Столетие Военного министерства. Главное управление казачьих войск. СПб., 1800. Т. XI. С. 123, 354, 689.
11 ЦГИА СССР. Ф. 560. Оп. 22. Д. 405.
12 Там же.
13 Там же. Д. 401.
14 Там же. Ф. 1261. Оп. 3. Д. 154. Л. 32 (таблица).
15 ЦГА ВМФ СССР. Ф. 417. Оп. 3. Д. 52. Л. 7—9.
16 С т о л е т и е . . . Т. 4. Кн. 2. Ч. 1. Отд. 2 (прилож. № 1).
17 ЦГИА. Ф. 1409. On. 1. Д. 3629.
18 Записки Дмитрия Борисовича Мертваго. М., 1867. С. 136—137.
19 ЦГИА. Ф. 1409. On. 1. Д. 3629; Штер М. П. Статистическое изображение городов и посадов Российской империи по 1825 год. СПб., 1829; Статистические таблицы о состоянии городов Российской империи. . . СПб., 1842; 1852.
20 Свод военных постановлений. 1838 г. Ч. 4. Кн. 1: О заготовлении снабжений. СПб., 1838.
21 Блиох И. С. Указ. соч. С. 103.
22 Морской сборник. 1856. № 9. Неоф. отд. С. 11 —14.
23 Там же. С. 22.
24 ЦГИА. Ф. 1261. Оп. 3. Д. 154.
Л. Л. БУЛГАКОВА
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ИНЖЕНЕРА В ДОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ
Накануне «эпохи великих реформ» в России работали инженеры нескольких специальностей. Преобладали среди них военные, горные и путейские, и только треть составляли инженеры другого профиля: корабельные, гражданские, военных поселений, архитекторы, топографы, технологи, межевые, морской строительной части, механики.
Термин «инженер» применялся в XVIII в. лишь по отношению к военным инженерам, которые подразделялись на полевых и гарнизонных. Полевые инженеры руководили саперными и минерными работами во время военных действий — при осаде крепостей, подготовке полей сражений и т. п. Деятельность более многочисленных гарнизонных инженеров главным образом заключалась в инженерном обеспечении строительных работ.
В XIX в. возникли новые инженерные специальности: в 1809 г. появились инженеры путей сообщения, в 1826 г. — корабельные инженеры, в 1834 г. — горные и т. д. Хотя знающие технические специалисты существовали и прежде, распространение термина «инженер» отражало качественные и количественные изменения, происходившие в данной категории специалистов. В инженеры переименовывались прежние мастера, специалисты — чиновники и офицеры, это звание получали выпускники ряда специальных учебных заведений. Темпы роста этой сравнительно небольшой профессиональной группы увеличились с началом промышленного переворота в 1830-х гг., что было вызвано возросшей потребностью в инженерно-технических кадрах. Если в середине 1830-х гг. на государственной службе состояло немногим более тысячи инженеров, то в начале 1850-х гг. более двух тысяч, в том числе 583 военных, 270 горных и 874 путейских,1 а в последние предреформенные годы уже свыше трех тысяч человек.
У инженеров разных специальностей имелись некоторые общие черты: довольно высокий по тому времени
11 Заказ № 1143
161
уровень образования, техническая сфера профессиональной деятельности, наличие ряда служебно-правовых преимуществ. Но при этом они не были социально однородны и значительно отличались не только по сословному и национальному составу, но и по своим правам, условиям службы, материальной обеспеченности и положению в обществе. Эти различия были связаны с характером их труда, представлением о «чистой», почетной профессии и предубеждением против «грязной», «ремесленной» специальности, не отвечающей сословным традициям и притязаниям. Отношение к профессии, ее престиж во многом зависели от уровня развития отдельных направлений науки и техники, характера образования, соотношения теоретических знаний и практических навыков. Передовые, авангардные, быстро развивающиеся отрасли хозяйства и перспективные не только в научно-техническом отношении, но и в смысле общественного признания, служебного продвижения и материальных выгод, как например железнодорожное дело, оказывались наиболее привлекательными, элитарными в социальном смысле. С развитием науки, техники и промышленности повышался престиж вчерашних «мастеровых» профессий — таких как инженер-технолог и инженер-механик.
Определенная социальная заданность будущего инженера существовала уже на стадии его подготовки. Абсолютное большинство росссийских инженеров вышло из стен нескольких учебных заведений, от состава учащихся которых непосредственно зависел состав инженеров.
Особенностью системы образования в России был ее ведомственный характер. Если университеты, гимназии, уездные и приходские училища и некоторые другие учебные заведения подчинялись Министерству народного просвещения, то учебные заведения специального профиля были разбросаны по разным ведомствам — Военному министерству, Министерству финансов, Министерству государственных имуществ и т. д. и призваны были готовить специалистов для этих ведомств в соответствии с их нуждами. К числу таких учебных заведений, основанных в разное время, относились: Горный институт, Константиновский межевой институт, Лесной институт, Институт инженеров путей сообщения, Строительное училище, Главное инженерное училище, Петербургский технологический институт и ряд других, главным образом военно-учебных. За дореформенный период — время своего становления — они выпустили несколько тысяч инженерно-технических специалистов.2
Сословный состав учащихся в общих чертах регламентировался. Правительством предусматривалась нижняя сословная граница, далее которой нельзя было заходить при наборе учащихся. Верхняя планка устанавливалась стихийно и по существу отражала отношение общества к профессии. Преимущества при поступлении в специальные учебные заведения получали дети офицеров и чиновников, имевших данную профессию и служивших в ведомстве, которому подчинялось конкретное учебное заведение. Прием в число состоявших на полном государственном обеспечении штатных воспитанников являлся мерой поощрения, выгодной для обеих сторон: государ
162
ство обеспечивало себя необходимыми специалистами, а последние избавлялись от забот и расходов на образование детей. При наличии вакансий на казенное обеспечение, а также в число своекоштных воспитанников принимались, как правило, лица из неподатных сословий и имевшие право на государственную службу — дети потомственных и личных дворян, священников, купцов 1-й гильдии, приказных служителей, ученых, художников и некоторые другие незначительные по численности категории населения.
Наиболее рафинированным по составу был Институт корпуса инженеров путей сообщения, куда с 1844 г. принимались только потомственные дворяне. Начиная с 1853 г. в Главное инженерное училище также принимались только потомственные дворяне. Самыми демократичными были Технологический институт и Ремесленное учебное заведение, созданные для «людей среднего состояния» — детей купцов 3-й гильдии, мещан, цеховых и разночинцев, т. е. туда попадали лица податных сословий и не имевшие права по происхождению на вступление в государственную службу.
Сословный подход отражался и на характере обучения.3 Воспитанникам Институтов корпуса инженеров путей сообщения и Корпуса горных инженеров стремились придать светский лоск, научить хорошим манерам. В круг их дворянского образования входили такие предметы, как иностранные языки, танцы, фехтование, музыка и пение. Может быть, непосредственно для их будущей работы на рудниках и заводах песни и танцы были ни к чему, но они могли скрасить и «облагородить» досуг, предохранить от порочных занятий. Чтобы привить воспитанникам «вкус к изящному», а также «ловкость и благородную смелость в обращении с людьми», в Горном корпусе устраивались театральные представления, славившиеся в Петербурге.4 Такое направление воспитания и образования привлекало дворян. Из Корпуса выходили не только известные горные специалисты, но и блестящие гвардейские офицеры, знаменитые актеры — В. А. Каратыгин, И. П. Борецкий, В. В. Самойлов и др. Не меньшей славой пользовался более молодой и многообещающий Институт корпуса инженеров путей сообщения, на который в дворянских кругах существовала своеобразная мода. Правда, в 1830-х гг. менуэты и гавоты сменились маршами и парадами, больше отвечавшими духу николаевского царствования.
Особое значение придавалось знанию иностранных языков, необходимых для чтения иностранной технической литературы. Скудная отечественная литература по техническим специальностям изобиловала галлицизмами и германизмами. Знание французского языка было обязательным условием поступления в Институт корпуса инженеров путей сообщения, созданного по образцу Парижской школы мостов и дорог. Влияние французского образца, а также непосредственное участие французов в организации Института оставались заметными спустя много лет. В 1843 г., покидая Путейский институт в связи со своим новым назначением, его бывший выпускник, помощник директора Института по учебной части проф. Я. А. Севастьянов, положивший немало сил для введения в русский
н*
163
язык технической терминологии и утверждения «русского духа» в Институте, вспоминал: «Если бы семь лет тому назад в Институт слетел ангел с неба, то он подумал бы, что попал во Францию: по-французски шло преподавание, издавались руководства». Подчеркивая свои заслуги, он утверждал: «Теперь все изменилось. Русский язык здесь в Институте занял то положение, которое он должен иметь; эта замена одного языка другим отнюдь не уменьшила и не уменьшит того значения, которое принадлежит Институту, и наука осталась и останется на подобающей ей высоте».5
Для поступления в институт корпуса горных инженеров требовалось знание немецкого или французского языка. Знание французского, английского или немецкого языка было желательным, но, разумеется, не обязательным для поступления в Технологический институт, а для прибывших «из национальной окраины» не требовалось даже знания русского языка.
Иностранный язык, в частности французский, был не только профессионально необходим будущему инженеру, но и свидетельствовал о его «светскости», принадлежности к кругу избранных. В конце 1836 г. директор Константиновского межевого института безуспешно ходатайствовал о введении в курс обучения французского языка, на котором была издана специальная литература по топографии, геодезии и землемерию, а также гимнастики, «танцевания» и пения. При этом он пояснял, что «многие родители, имевшие какие-либо средства к воспитанию детей и давшие им первоначальное образование, узнав обстоятельно программу предметов, преподающихся по уставу института, не решались отдавать детей своих, даже на казенное содержание, единственно по причине исключения из учебного курса иностранных языков и искусств, образовывающих наружность».6
Фильтрация малоимущих происходила ввиду требования определенной предварительной подготовки и установления значительной платы за обучение и содержание своекоштных воспитанников.
За образование платили не только деньгами, но и обязательной службой по назначению. Сроки этой службы у своекоштных воспитанников были вдвое ниже, чем у казеннокоштных, обязанных отслужить до 10—12 лет там, где прикажут. Таким закабалением государство стремилось обеспечить себя специалистами, которые не могли бы прельститься более легкой и выгодной службой в других местах и на частных предприятиях.
Среди инженеров преобладали дворяне. В годы николаевского царствования их было приблизительно 77 % среди путейских и 69 % среди горных инженеров.7 Разбавляли голубую кровь инженеров в основном разночинцы — по большей части сыновья мелких чиновников. Выходцев из духовенства, купечества и других сословий было немного. Среди просмотренных формулярных списков не нашлось ни одного формуляра выходца из мещан или крестьян. Таковые являлись чрезвычайной редкостью. Титулованные особы чаще встречались в Корпусе инженеров путей сообщения, хотя и там их было не так много. В 1826 г. их насчитывалось 12 человек — один
164
граф и одиннадцать баронов. В 1852 г. там было 14 титулованных дворян, в том числе шесть князей один граф и семь баронов. В Корпусе горных инженеров титулованных было и того меньше. В 1835 г. там служил один граф, а в 1852 г. один барон.
Для горных инженеров была характерна потомственность профессии. В России работали десятки династий инженеров, среди которых имелись выдающиеся горные деятели. На протяжении всего XIX в. трудились горные инженеры Кулибины — потомки знаменитого механика И. П. Кулибина (1735—1818 гг.). Династию горных инженеров Кокшаровых прославил Н. И. Кокшаров (1818— 1892 гг.). Первый президент АН СССР в советское время, ученый-геолог А. П. Карпинский (1847—1936 гг.), в честь которого назван уральский город Карпинск, был потомком горных династий Карпинских и Грасгоф, известных еще в начале XIX в.
Распространенное наследование горной профессии отчасти объясняется более глубокими корнями горного ведомства и наличием довольно разветвленной системы горных учебных заведений всех ступеней. Государство не только предоставляло казенное содержание детям горных специалистов «как для ободрения самой службы их, так и по тому уважению, что дети сии первым их воспитанием естественно более расположены к сему роду звания, нежели другие»,8 но и оплачивало их проезд до Петербурга. Сказывалось и отсутствие особого выбора на глубинке, где в основном протекала жизнь горняков. Эта отдаленность мест службы отпугивала посторонних. «Плодясь и множась, последний (чиновный люд. — Л. Б.) доставлял заводам поколение за поколением, так сказать, плоть от плоти и кровь от крови своей. Поколения эти, выросшие при одних и тех же условиях (имеется в виду застой общественной жизни на горных заводах — Л. 5.), сохраняли и передавали из рода в род обычаи и нравы своих предков», — вспоминал один из горных инженеров.9
По вероисповеданию можно, хотя и в самых общих чертах, судить о национальности. Большинство инженеров составляли православные, но если среди горняков их было 85 %, то среди путейцев только 62 %. Остальные инженеры были католиками или протестантами, причем среди путейцев католики (21 %) преобладали над протестантами (17 %), а среди горянков, наоборот, — протестанты (13%) над католиками (2%). На таком соотношении в какой-то мере отразилось французское влияние на формирование путейского ведомства и традиционное немецкое — на развитие горного дела. Только 5 % путейских и 2 % горных инженеров были иностранцами, хотя некоторые инженеры и являлись потомками перекочевавших в Россию чужеземцев. О былом происхождении напоминали только их нерусские фамилии да вероисповедание. В числе инженеров находились также поляки и уроженцы прибалтийских губерний.
В мемуарной и исторической литературе нет свидетельств существования среди инженеров враждующих сословных или национальных группировок в последние предреформенные десятилетия. Вероятно, это говорит об их отсутствии или по крайней мере значи
165
тельном ослаблении характерной для XVIII и даже начала XIX в. борьбы русских с «пришлым элементом», в том числе и с иностранными инженерами, пользовавшимися авторитетом, особыми правами, выгодным содержанием, покровительством высокопоставленных земляков, что вызывало недовольство и противодействие местных жителей. Национальный конфликт разрешался в результате частичного обрусения и сокращения численности иностранных инженеров на русской службе вследствие появления достойных и неплохо подготовленных отечественных инженеров. Это влекло за собой сглаживание вынужденного неравноправия, являвшегося как бы платой за недостаток собственных инженерных кадров. Но отказ от использования иностранных специалистов был бы преждевременным и невозможным. С появлением новых отраслей производства, внедрением заграничной техники и подъемом промышленной деятельности на русский берег высаживался очередной инженерный десант, вызывая толки и возражения, но неминуемо необходимый.
Инженеров-путейцев так же, как и горных инженеров, объединяла близость сословного происхождения и семейного уклада, закрепленная сходством полученного образования и воспитания. В основном они проходили через горнило одного учебного заведения своего профиля, к тому же еще и закрытого, с ограниченным посторонним влиянием. Разобщенных и независимых друг от друга по характеру своего труда инженеров связывали воспринятые в Институте традиции, общность понятий, дух товарищества.
Сильнее отличались по месту образования военные инженеры, поскольку готовившее их Главное инженерное училище возникло лишь в 1819 г. Среди инженеров, окончивших другие военно-учебные заведения, заметную часть составляли выпускники 2-го (Артиллерийского и инженерного шляхетного) кадетского корпуса, значение которого было особенно велико в XVIII в. Однако лучшие воспитанники предпочитали более почетную и благоприятную для карьеры службу в гвардии или хотя бы в артиллерии. Всего с 1762 по 1819 г. из этого корпуса было выпущено в инженерные войска 219 человек, тогда как в другие роды оружия до 2 тыс. человек.10 Ряды инженеров пополнялись также из числа юнкеров и кондукторов — помощников инженеров («инженерных вспомогателей»), не имевших законченного инженерного образования, но после нескольких лет службы получавших право на производство в инженерные офицеры по экзамену и «удостоению начальства».
Уровень подготовки инженеров долгое время был невысок, многие из них не вполне соответствовали своему званию. Поэтому русские инженеры часто оставались как бы на вторых ролях, выполняя однообразную работу, не требующую больших знаний. В XIX в. положение изменилось к лучшему. Ко времени реформ произошел серьезный сдвиг в инженерном образовании — его уровень значительно повысился, что явилось результатом развития науки и техники, следствием распространения их достижений в России. Но развитие инженерного образования шло не прямым путем — в нем наблюдались свои взлеты и падения. Бывало, что под давлением
166
внешних обстоятельств выпуск инженеров форсировался в ущерб качеству их подготовки. Начальство, желая выслужиться, негодовало на профессоров за дурные отметки. Поспешность при выпуске и подарки, поднесенные инспектору, давали возможность, по мнению современников, стать инженером, даже не знавшим, что такое квадрат и куб, и способным «разве только на то, чтобы выкрасить крышу».11
Особенно много инженеров вышло из стен Института в 1836— 1842 гг., когда учебной частью заведовал полковник Я. А. Севастьянов. За это семилетие был выпущен целый батальон — 492 человека, или 75 % подготовленных Институтом за четверть века.12 Как выразился о том времени один из профессоров, «выпустили на службу солдат вместо инженерных офицеров».13 Нестабильность подготовки инженеров, отсутствие прочных традиций вызывали сомнения в надежности знаний и навыков отечественных инженеров. Недоверчивое отношение к русским специалистам отразилось, в частности, на выпускниках Технологического института, которые, несмотря на широкое оповещение в печати, с трудом находили себе работу, — фабриканты упорно предпочитали иностранцев.14
Однако среди отечественных инженеров было немало выдающихся: изобретатель электромагнитного телеграфа П. Л. Шиллинг; прославившийся своей неутолимой деятельностью по строительству первых железных дорог в России П. П. Мельников; знаменитый мостостроитель С. В. Кербедз, соорудивший первый постоянный мост через Неву; его сподвижник Д. И. Журавский, построивший совместно с ним первый железнодорожный мост на Петербургско-Московской железной дороге; создатель впечатляющих фортификационных сооружений Э. И. Тотлебен; другой видный представитель российской фортификационной школы — крупный теоретик и незаурядный военный инженер А. 3. Теляковский; металлург П. М. Обухов, изготовивший уникальную сталь, по прочности не уступавшую крупповской, и др.
Вклад этих инженеров значителен. В своей деятельности они опирались на новейшие достижения мировой научно-технической мысли и на нелегкий труд своих соотечественников. Рядовому инженеру, не говоря о простой «рабочей силе», приходилось трудиться в довольно тяжелых условиях: «. . .постоянное столкновение с рабочими, арестантами, десятниками и подрядчиками, унылое брякание кандалов, разговоры между офицерами, как на корабле во время долгого плавания, об одном и том же».15 Не для белоручек была работа на заводах, фабриках и рудниках. «Фабричный воздух, угольная пыль лезли в глаза, в рот, раздавался неумолчный стук молотов и лязг железа»,16 — такова была повседневная рабочая обстановка. Замкнутостью и оторванностью от общества особенно отличалась служба горных инженеров. Обособленная жизнь в провинции не способствовала развитию умственного кругозора. Библиотеки были редкостью, немногочисленные периодические издания доходили туда с опозданием, да, по правде гЬворя, не очень интересовали инженеров, больше занятых своими делами и местными
167
новостями. Скудный набор развлечений ограничивался охотой, картами и кутежами. В несколько лучших условиях протекала жизнь инженеров-путейцев. «Сходные отчасти в образовании, они различествуют по роду и месту их службы. Инженеры путей сообщения предпочтительно заняты работами лишь в летнее время, с добавочным за то содержанием, в наиболее населенных и образованных местах, и потому имеют более удобств жизни для себя и своих семейств».17 Но доставалось и путейцам, хотя их деятельность, разумеется, несопоставима с изнурительной работой трудового люда на строительстве.
До середины 1860-х гг. почти все инженеры объединялись в корпуса, даже если их профессия носила сугубо мирный характер. Существовал не только Инженерный корпус (с 1858 г. Корпус военных инженеров), но и Корпуса корабельных инженеров и штурманов, инженеров путей сообщения, горных инженеров, лесничих, межевщиков и пр. Кажется, всех, кого только возможно, одели в военные мундиры. Почему это происходило? Прежде всего учтем традицию — ведь первые инженеры в России были военные. В 1802 г. военное управление отделилось от артиллерийского, и военные инженеры образовали свой корпус. Привычный образец сказывался при выделении других инженерных профессий. Сам факт их выделения говорил о возрастании роли и численности инженеров. Быстро размножились корпуса при Николае I. Военная дисциплина и строгая регламентация были особенно милы сердцу царя, испытывавшего недоверие к людям ученым, которых он считал вольнодумцами. Характерная для николаевского царствования максимальная военизация государственной машины отразилась и на инженерах. При общем недостатке инженеров гражданские специалисты часто использовались во время военных действий, и, наоборот, — в мирные дни военные инженеры привлекались к выполнению гражданских работ. К тому же, под началом инженеров трудились воинские команды, руководство которыми требовало знания военной службы. Военизация инженеров свидетельствует о том, какое большое значение им придавали. Они были обласканы вниманием Николая I, который в бытность свою еще великим князем занимал пост генерал-ин-спектора по инженерной части, т. е. возглавлял военно-инженерное ведомство и являлся в войсках вторым лицом после главнокомандующего. При этом он проявил себя технически грамотным и дельным специалистом, следил за новинками технической литературы, любил вникать в инженерные тонкости и расчеты и знал в них толк, стремился поднять состояние инженерного дела в России. Для инженеров причисление к «благородной» военной службе являлось мерой поощрения, царской милостью, вознаграждением за их труды и знания. Блеск военного мундира должен был возвысить инженеров в глазах общества, привлечь к этой профессии дворян, питавших презрение к фраку. Вид инженера в расшитом мундире с эполетами, в треугольной шляпе с султаном и шпагой на левом боку внушал уважение.
168
Окончившие полный курс покидали институты со званием поручика и далее при благоприятных условиях могли достичь генеральских чинов. В середине XIX в. среди путейских инженеров было 24 генерала, 298 штаб-офицеров (от майора до полковника) и 652 обер-офицера (от прапорщика до капитана); в Корпусе горных инженеров служило 9 генералов, 72 штаб-офицера и 189 обер-офицеров; из военных инженеров 14 имели генеральские чины, 78 — штаб-офицерские и 451 обер-офицерские.18
Скорость служебного продвижения инженеров зависела от числа предшественников. Особенно бурно развивалось ведомство путей сообщения, но с ростом числа путейских инженеров замедлялось их продвижение по службе, несмотря на увеличение штатов, которыми определялось число инженеров каждого чина. Если первые выпускники Института корпуса инженеров путей сообщения — молодые, а уже в густых штаб-офицерских эполетах и увешанные орденами, — обращали на себя всеобщее внимание, то последующие выглядели гораздо скромнее. Не видя перед собой перспектив служебного роста, а значит и прибавки жалованья, которое выплачивалось по чинам, многие расставались с инженерной службой. Инженеры, переходившие в другие ведомства, не прогадывали.
По случаю полувекового юбилея Путейского института лучший воспитанник первого выпуска, уже одряхлевший старец А. Д. Гетман был наконец-то произведен в инженер-генералы. Воспользовавшись случаем, главноуправляющий Корпуса К. В. Чевкин в назидание молодежи заметил, что такого успеха можно достигнуть хорошей учебой, усердной и честной службой. Присутствовавший на торжестве инженер-путеец А. И. Дельвиг саркастически прокомментировал его речь: «При всем своем уме Чевкин не понял, что он оскорблял этим инженеров путей сообщения, так как около него сидели воспитанники того же Института, только перешедшие из ведомства путей сообщения и давно бывшие полными генералами и действительными статскими советниками, для чего им не нужно было ни особенно хорошо учиться, ни служить с тем усердием, с каким служил Готман, а некоторым может быть и не отличаться безукоризненной честностью».19 Впрочем, последнее качество, как мы увидим, не было необходимым условием продвижения инженеров.
Недовольство инженеров усугублялось содержанием их работы. В лучшем случае счастливцу, попавшему сразу после Института, не дожидаясь несколько лет, в производители работ, приходилось выполнять весьма несложные функции: погонять солдат и рабочих да вести журнал, ежедневно отмечая в нем характер погоды, число работавших и расход материалов. Разочарование, несоответствие реальной действительности тому, что говорилось о предстоящей им деятельности в Институте, приводили многих к зеленому змию и поискам иной работы.
Самодержавно-крепостнические порядки утвердились в служебной сфере, где самый захудалый «начальник» выступал маленьким царьком, барином-крепостником по отношению к подчиненным. Угрозы, грубые окрики, обращение на «ты» к старшему годами, но не
169
званием, никого не удивляли и были стереотипной поведенческой нормой. Приходилось часами униженно ожидать всемогущего повелителя в передней, безмолвно выносить незаслуженную брань и оскорбления, наперегонки с лакеями исполнять его прихоти. Рабский дух пронизывал весь государственный аппарат сверху донизу. Даже убеленные сединами генералы не стеснялись разыгрывать роль мальчишек-казачков при властолюбце, плакать и смеяться ему в угоду. На поклон к всесильному временщику ездили, как на богомолье, — слишком уж многое от него зависело.
Приезд начальника подобно стихийному бедствию вызывал всеобщую «ажитацию». «Никто не мог быть уверенным, что уцелеет. Одно неосторожное слово, один необдуманный ответ часто губили человека», — вспоминал инженер-путеец.20 А. И. Дельвиг шутливо сравнивал приезд П. А. Клейнмихеля с холерной эпидемией, «которую при ее приближении и появлении чрезмерно боятся, равно как по ее окончании все о ней забывают».21
Хотя произвол достигал катастрофических размеров, инженерам жилось лучше, чем канцелярским чиновникам, ежедневно пребывавшим под пятой начальства. Пост инженера давал возможность сразу самому стать начальником средней руки и получить некоторую самостоятельность. В обществе считали, что служебные отношения в инженерной среде здоровее, чем на другой службе. Гордость, иные нравственные понятия не позволяли инженерам вести в своем кругу обычные тогда циничные разговоры о получении тепденького местечка, отражались на стиле их поведения.
Несмотря на висевшую на волоске карьеру, среди инженеров находились такие, которые не боялись заявить начальнику с явным намеком, что главной причиной успехов строителей в Англии является то, что там «каждый занимается своим делом, никто не кричит и не шумит». По тем временам такая фраза расценивалась как небывалая дерзость и могла дорого обойтись смельчаку. Тот же инженер отказался отвечать на вопросы главноуправляющего во время осмотра работ, потому что не видел «надобности говорить с человеком, который все вперед знает».22 Случай, конечно, нетипичный, но весьма показательный — такая «выходка» была совершенно немыслима для наполнявших канцелярии Акакиев Акакиевичей.
Контраст в поведении инженеров и канцелярских служащих одних и тех же рангов возмущал губернское начальство, привыкшее к тому, что чиновники за честь почитают надевать им калоши. «Одна и та же история с инженерами путей сообщения повторяется во всех губернских городах: они не хотят кланяться губернаторам и другим лицам, имеющим значение в губернии, хотя их служебная деятельность большею частью так же не бескорыстна, как и других чиновников»,— писал А. И. Дельвиг.23 Дело доходило до дисциплинарных взысканий и даже военного суда, но искоренить «вольный дух» не удавалось. Чувствуя себя под крылышком «сильного» главноуправляющего — человека, облеченного доверием государя, инженеры могли позволить себе фрондировать и даже дерзить по отношению к посторонним — из других ведомств. Кстати, об отношении к инже
170
нерам, важности и значении, придаваемому этой профессии, говорит сам факт их подчинения лицам, близко стоявшим к трону, — фаворитам, временщикам, знаменитым государственным мужам. Еще в XVIII в. генерал-феЛьдцейхмейстерами, возглавлявшими единое до 1802 г. инженерно-артиллерийское управление, были Я. В. Брюс, Б. X. Миних, П. И. Шувалов, Г. Г. Орлов, Г. А. Потемкин, П. А. Зубов и т. д. В XIX в. их сменили министр финансов Е. Ф. Канкрин, последователь Аракчеева П. А. Клейнмихель и другие — вплоть до августейших особ, которые лично знали многих инженеров. Несомненно, что развитию чувства собственного достоинства у инженеров способствовали дворянское воспитание и образованность, а связи и личная обеспеченность усиливали их социальную защищенность.
Независимость поведения, чувство чести и собственного достоинства, разумеется, не были общими и исключительными чертами, присущими всем инженерам и только инженерам, — наметилась лишь тенденция, причем характерная для элитарных инженерных профессий. Совсем иным было положение освоивших наиболее демократичные инженерные профессии — такие, как инженер-технолог, инженер-механик, которые готовились Петербургским Технологическим институтом и Московским ремесленным учебным заведением и первоначально назывались «учеными мастерами». Выпускники этих учебных заведений, не имевшие по происхождению права на государственную службуг получали личное почетное гражданство, освобождались от рекрутской повинности, телесных наказаний и исключались из подушного оклада, но долгое время так и не могли поступить на коронную службу, которая давала возможность выслужить дворянство. Престиж этих профессий, тесно связанных с промышленностью, значительно вырос после Крымской войны, когда резко обострилась нужда в подобных специалистах, изменилось отношение к промышленной деятельности и активизировалось участие в ней дворянства, поднялся уровень технического образования.
Социальный статус инженера определялся многими взаимосвязанными факторами. Помимо социальной значимости профессии, ее престижности, доступности, содержания и условий труда, необходимого уровня предварительной подготовки, характера образования, места, которое она позволяла занять в системе государственной службы, важную роль играли связанные с ней материальные возможности. Профессия инженера приносила относительно неплохой доход. По сравнению с армейскими офицерами инженеры имели некоторое преимущество в чинах и окладах, поскольку, как говорилось еще в одном из петровских указов, «прочие офицеры ординарно шпагою служат, а инженеры наукою и искусством превосходят». Однако размер жалованья у инженеров разных специальностей заметно отличался. Так, например, оклады гарнизонных инженеров были значительно ниже, чем у полевых инженеров и даже офицеров армейской пехоты. Но в целом оклады инженеров превышали оклады чиновников и офицеров. Продвинувшись из поручиков в следующий чин, инженер получал вполне сносный оклад, который, к примеру,
171
был выше оклада инспектора врачебной управы — доктора медицины и хирургии. Вилка в окладах инженеров последующих чинов возрастала. Получение одного чина могло увеличить бюджет инженера сразу на 800—1200 руб. — сумму, равную окладу солидного чиновника. Если оклады инженеров, начиная с капитанского чина, колебались от 1200 до 8000 руб., то обычные оклады офицеров этих же чинов составляли от 400 до 3800 руб. ассигнациями.24
Обер-офицерские оклады позволяли инженеру вести скромный образ жизни. А. И. Дельвигу, получавшему по окончании Путейского института 710 руб. и небольшую помощь от матери, приходилось давать уроки, так как он, по его признанию, «не мог жить получаемым содержанием». Даже зарабатывая 1140 руб., барон считал себя бедняком и казался московским барышням и их маменькам «весьма ничтожным существом». Конечно, представление о бедности было различным в высших и низших слоях общества. Впоследствии, став благодаря выгодной женитьбе крупным помещиком и зарабатывая 3500 руб., Дельвиг оставался неудовлетворенным своим содержанием, считая невозможным жить на него в столице, и даже получил от Клейнмихеля пособие «по бедности».25 Это не мешало «бедняку» держать лошадей, экипажи, шутя проигрывать в карты значительные суммы, давать балы в Дворянском собрании, ездить на воды за границу.
Стремлением материально заинтересовать инженеров, удержать их на службе и в какой-то мере компенсировать ее тяжесть объясняется установление пенсионных преимуществ горным инженерам. К этому вынуждал постоянный йекомплект штатов Корпуса горных инженеров: почти все горные заводы нуждались в инженерах. Обосновывая пенсионные льготы, штаб Корпуса горных инженеров ссылался на непривлекательность горной службы, протекающей «большею частию в дальней Сибири и на Урале в отдалении от городов, лишении многих удобств и даже самых необходимых потребностей жизни, разлучении с своими семействами во время поисковых экспедиций в глуши и местах безлюдных». Открыто говорилось о том, что пенсионные права не только вознаграждение за трудности, но и «способ приобретения и удержания чинов горных на дальнейшей службе». Была надежда на то, что инженеры, отслужив 10 обязательных лет за образование на казенный счет, останутся в горном ведомстве, «имея затем в виду близость первого пенсионного срока и зная, что в случае смерти и семейства их получат хотя малое иногда, однако же верное пособие от правительства». Приходилось также считаться с опасностью переманивания инженеров на частные горные заводы, особенно в связи с развитием частной золотопромышленности. Там, как авторитетно считал штаб Корпуса горных инженеров, они находили «выгоднейшие для себя условия и гораздо большее содержание, могущее обеспечить их в будущем».26 Пенсии горным инженерам назначались в зависимости от жалованья, продолжительности горной службы и ее непрерывности. При установлении выслуги пенсий горным инженерам за основу были приняты сроки выслуги пенсий профессорами Академии наук, так как «горные 172
чины должны иметь знании в науках не менее академических профессоров и сверх того нести гораздо труднейшие обязанности по службе».27 За 20 лет горной службы в классных чинах выплачивалась пенсия, равная половине жалованья, а за 25 лет — пенсия в размере жалованья.28 Таким образом, по сравнению с военными и гражданскими чиновниками сроки пенсии горным инженерам сокращались на 10 лет, т. е. 5 лет горной службы приравнивались к 7 годам другой. Прочим категориям инженеров пенсия выплачивалась на общих основаниях, т. е. за 20 лет службы в размере 1 /3 жалованья, за 30 лет — 2/3, за 35 лет — пенсия, равная жалованью.
Многие инженеры вызывали зависть современников своей привольной жизнью на широкую ногу. Источников дохода, которые для некоторых являлись не дополнительными и случайными, а основными и постоянными, было немало. Самый беглый перечень многочисленных, подчас хитроумных способов, к которым прибегали инженеры для пополнения своих средств, занял бы многие страницы. Не ради запоздалого обличения, а для воссоздания объективной картины материальных возможностей инженеров затронем этот вопрос.
Распространенным способом была «экономия» отпущенных казной материалов и припасов, которые поступали фактически в бесконтрольное распоряжение инженеров. Сметы составлялись с таким «запасцем», что иногда в несколько раз превышали действительный расход. Чтобы разбогатеть, достаточно было лишь на три дюйма уменьшить дорожное покрытие. Искушение было велико, а контроля почти никакого. Увы, инженеры не составляли исключения среди несметного числа казнокрадов и расхитителей. Сколотить кругленький капиталец на казенном строительстве — было заветной мечтой многих, и нередко ее удавалось осуществить. Правительство смотрело на многочисленные злоупотребления сквозь пальцы. Изредка назначались следствия и проверки, заканчивавшиеся легкими наказаниями или без всяких последствий. Рассказывали, что однажды, осматривая сооружения прославленной впоследствии твердыни — Брестской крепости, Николай I в присутствии хваливших работы иностранных гостей поднял кирпич и спросил кого-то из стоявших поблизости: «Знаете из чего он сделан?» — «Полагаю, из глины, ваше величество». — «Нет, из чистого золота», — отвечал царь, —
о о 9Q
«по крайней мере, я столько за него заплатил».
Хотя репутация инженеров в обществе была сильно подмочена, среди них, конечно, имелись и честные люди. «Вот архангелы какие. . . самим жрать нечего и гостей нечем угостить, а перед ними стоят дорогие кучи щебня; могли бы их и поменее поставить, сам черт их не учтет; нет, подавай нам все кучи щебня, ведь они архангелы», — с гордостью говорил один из директоров шоссейных работ о подчиненных ему инженерах.30 Позднее даже отмечались присущие инженерам старой закалки честность, совестливость, соблюдение казенного интереса по сравнению «с заурядными в наше время (в 1880-х гг. —Л. Б.) явлениями алчного сребролюбия, казнокрадства, лихоимства и разного рода хищений». Вероятно, за этим
173
крылось нечто большее, чем обычное старческое брюзжание в адрес молодежи и вполне понятный розовый флер, часто сопутствующий воспоминаниям о себе и «добром старом времени». С размахом строительных работ и ростом предпринимательства заметнее становилась жажда буржуазного накопительства, увеличивались возможности для хищений и личного обогащения, рядом с которыми меркли неправедные дела прежних инженеров. Но и честным инженерам поневоле приходилось иногда воровать, чтобы иметь возможность содержать канцелярию и давать взятки, требуемые даже за подпись описи произведенных работ.
В обществе относились к хищениям, как к вполне оправданному доходу, которым грех не воспользоваться. На бескорыстного инженера смотрели чуть ли не как на юродивого, взбалмошного чудака, белую ворону. Узнав, что Дельвиг упустил такую возможность обогатиться, нижегородский вице-губернатор сказал, что ему остается только извиниться за то, что он считал его умнее.32 Инженеры, не отличавшиеся подобной щепетильностью и донкихотством, получали в результате своих махинаций колоссальные барыши.
Специфическим источником, характерным для крепостнической России, был взимаемый с мастеровых и рабочих казенных заводов оброк за освобождение от работ для отходничества и других целей. Все инженеры бесплатно пользовались трудом солдат и рабочего люда, превращая их в даровых ремесленников, кучеров, сторожей, лакеев.
Материальную обеспеченность инженеров в какой-то мере характеризует также владение недвижимой собственностью. В этом отношении путейские и горные инженеры разительно отличались. Согласно данным просмотренных формулярных списков, недвижимая собственность, учитывая собственность жен и родителей, имелась у 54 % путейских и всего у 18 % горных инженеров. У большинства собственность была родовая — у 88 % путейцев (в том числе 28 % собственность жен) и у 82 % горняков (13 % — собственность жен). Доля приобретенной собственности была выше у путейцев — 56 % (13 % — собственность жен), а у горняков она составляла 44 % (13 % —собственность жен). Некоторые имели и родовую, и приобретенную собственность. Таких также было больше среди путейцев.
Виды собственности были различны. Абсолютное большинство собственников являлось землевладельцами — 94 % у путейцев и 82 % у горняков. Домовладельцев больше было среди более оседлых и верных профессии горняков — 56 %, тогда как среди путейцев только 30 % от общего числа владельцев собственности. Чаще дома находились в Петербурге, а у горняков обычно и в горных центрах — Екатеринбурге, Барнауле и др. География домовладения путейцев была Значительно обширнее — от Архангельска до Пятигорска, от Риги до Иркутска. Некоторые из них имели по нескольку домов. Редкие инженеры располагали немногочисленной дворней. Единицы имели собственные предприятия — фабрику для производства белил в Петербурге, шляпную фабрику, винокуренные заводы,
174
долю в горных заводах. Часть инженеров владела собственностью разных видов.
Наличие недвижимости еще не определяло благосостояния инженера. У одного был обветшалый деревянный домишко в провинции, да и тот в совместном владении с родственниками, а у другого несколько двух-трехэтажных каменных домов в Петербурге, у одного огород в несколько десятин или пустошь, а у другого обширный виноградник в 43 тыс. лоз на южном берегу Крыма. Некоторое представление о благосостоянии помещиков дает размер их имений. В среднем имения путейских инженеров были крупнее, чем у горных. Большинство инженеров — 41 % путейских и 69 % горных — владели имениями с населением до 100 крепостных душ. Вторую по численности группу помещиков составляли имевшие от 101 до 200 душ — 24 % путейских и 21 % горных инженеров-помещиков. Крупных землевладельцев было мало. «Потолок» населения учтенных имений горных инженеров достигал 395 крепостных душ, а у путейских — 1440 душ.
Хотя у большинства горняков не было поместий, почти все они имели свое подсобное хозяйство. Десятки лет не переступали они границ горнозаводского района, где с детства приучались жить домовито. «Каждый держал лошадей, коров, коз, овец и разную домашнюю птицу; каждый имел и огород, и покос, а порой и пашню, доставлявшие ему и все потребные для домашнего обихода овощи, и необходимый для скота корм», — вспоминал потомственный уральский инженер.33 А если учесть, что даровая рабочая сила всегда была под рукой, то и без крепостных душ можно было прожить вольготно.
В совокупности инженеры занимали довольно высокое место в социальной иерархии. Однако эта профессиональная группа не была однородна, существовали значительные различия между инженерами разных специальностей. Тесная связь сословного происхождения с характером образования, служебным положением и материальной обеспеченностью ослаблялась по мере социально-экономического развития, что проявилось в 1860-х гг., в частности в отказе от сословности образования, в продолжавшемся процессе оскудения дворянства, росте буржуазии, распространении капиталистического предпринимательства и т. д. С подъемом промышленности, прогрессом науки и техники возрастала роль инженера, впереди у которого был причудливый путь к зениту славы и уважения, а затем к девальвации ценности профессии.
1 Подсчитано по: Список генералам и штаб-офицерам ведомства путей сообщения по старшинству; Список обер-офицерам ведомства путей сообщения по старшинству. По 1834 г. [Б. м., Б. г.]; То же. 1852. В 2-х ч. [СПб., 1852]; Список генералам, штаб- и обер-офицерам Корпуса горных инженеров по 1-е янв. 1835 года. [СПб., 1835]; То же. В июне 1852 г. [СПб., 1852]; С а вел ьев А. И. Исторический очерк инженерного управления в России. СПб., 1894. Ч. 3. С. 142, 181; 1899. Ч. 4. С. 52.
2 Сведения о числе окончивших эти учебные заведения до их преобразования в 1862—1865 гг. см.: Лейкина-Свирская В. Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М., 1971. С. 92, 95, 107—НО.
175
3 О программах обучения см.: Киняпина Н. С. Политика самодержавия в области промышленности (20-е—50-е годы XIX в.). М., 1963. С. 330—375.
4 Лоранский А. М. Исторический очерк Горного института // Научно-исторический сборник, изданный Горным институтом ко дню его столетнего юбилея, 21 октября 1873 года. СПб., 1873. Отд. 1. С. 70; С о к о л о в Д. Историческое и статистическое описание Горного кадетского корпуса. СПб., 1830. С. 60.
5 Житков С. М. Биографии инженеров путей сообщения. СПб., 1889. Вып. 1. С. 93.
6 Апухтин А. Очерк истории Константиновского межевого института с 1779 по 1879 год. СПб., 1879. С. 47—48.
7 Здесь и далее при подсчетах использовалось около пятисот формулярных списков горных и путейских инженеров, хранящихся в ЦГИА СССР (Ф. 37. Оп. 74; Ф. 44. On. 1: Ф. 200. On. 1).
8 ПСЗ. I. № 20320.
9 Корельский А. Горнозаводская служба и общественная жизнь на Урале в крепостное время /// Русская старина. 1905. Т. 124. № 11. С. 326—327.
10 Максимовский М. Исторический очерк развития Главного инженерного училища. 1819—1869. СПб., 1869. С. 22.
11 Дельвиг А. И. Мои воспоминания. 1813—1842. М., 1912. Т. 1. С. 220— 221; Бош н як А. К. Воспоминания об Институте путей сообщения. 1843— 1848 гг. // Русская старина. 1880. Т. 28. № 8. С. 665.
12 Подсчитано по: Житков С. М. Институт инженеров путей сообщения Александра I. СПб., 1899. С. 448.
13 Б. Н. Отрывки из записок бывшего инженера // Русская старина. 1900. Т. 101. № 1. С. 139.
14 К и н я п и н а Н. С. Указ. соч. С. 350—351.
15 С а в е л ь е в А. И. Исторический очерк инженерного управления в России. СПб., 1899. Ч. 4. С. 209.
16 Корельский А. Указ. соч. С. 297.
17 Записка штаба Корпуса горных инженеров министру финансов от 2 декабря 1850 г. // ЦГИА СССР. Ф. 44. Оп. 4. Д. 192. Л. 31.
18 Подсчитано по; Список генералам и штаб-офицерам ведомства путей сообщения по старшинству; Список обер-офицерам ведомства путей сообщения по старшинству. По 1834 г. [Б. м., Б. г.]; То же. 1852. В 2-х ч. [СПб., 1852]; Список генералам, штаб- и обер-офицерам Корпуса горных инженеров по 1-е янв. 1835 года. [СПб., 1835]; То же. В июне 1852 г. [СПб., 1852]; Савельев А. И. Исторический очерк инженерного управления в России. СПб., 1894. Ч. 3. С. 142, 181; 1899. Ч. 4. С. 52.
19 Д ел ь в и г А. И. Мои воспоминания. Т. 1. С. 62.
20 Б. Н. Отрывки из записок бывшего инженера. С. 142.
21 Дельвиг А. И. Мои воспоминания. СПб., 1913. Т. 2. С. 73.
22 Там же. Т. 1. С. 201.
23 Там же. Т. 2. С. 259.
24 ПСЗ. II. № 6309.
25 Дельвиг А. И. Мои воспоминания. Т. 1. С. 125, 166, 171; Т. 2. С. 269.
26 ЦГИА СССР. Ф. 44. Оп. 4. Д. 192. Л. 29—30.
27 ПСЗ. I. № 22208.
28 Там же.
29 Бутковская А. Я. Рассказы бабушки // Исторический вестник. 1884. Т. XVIII, № 12. С. 623.
30 Д е л ь в и г А. И. Мои воспоминания. Т. 2. С. 32.
31 Рассказы Евгения Андреевича Егорова, инженер-генерал-лейтенанта (Сообщ. Анатолий Егоров) // Русская старина. 1886. Т. 49. № 2. С. 412.
32 Там же. С. 101.
33 Корельский А. Указ. соч. С. 324.
М. М. ШУМИЛОВ
ГУБЕРНАТОР И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ГУБЕРНИЙ РОССИИ НА РУБЕЖЕ 50-60-х гг. XIX в.
Главенство государственных органов в управлении экономикой страны было традиционным для русского царизма, имевшего разветвленное казенное хозяйство. Во многом это определялось самой природой самодержавной власти, стремившейся регламентировать чуть ли не все стороны жизни своих подданных и допускавшей проявление частной, в том числе и предпринимательской, инициативы лишь с разрешения начальства. Разумеется, степень влияния государственных органов на экономическое развитие империи (и формально-юридически, и фактически) на протяжении XIX—начала XX в. была неодинаковой. Несмотря на то что горнопромышленники юга России в 1907 г. заявляли о невозможности решить без участия правительственных учреждений «ни одного общего вопроса»,1 они бесспорно обладали большей экономической свободой, чем предшествовавшие поколения предпринимателей.
После восстания декабристов в 1825 г. Николай I и его правительство посредством небывалой законотворческой деятельности и расширения полномочий административно-полицейского аппарата установили в стране «казарменный режим», в рамках которого всё, вплоть до разрешения или запрета носить бороду,2 было расписано или в соответствующих томах Свода законов, или в многочисленных циркулярах и инструкциях, составлявшихся на основе этих законов. В подобного рода «правовом государстве», естественно, не оставалось простора для проявления частной инициативы, законно или незаконно не санкционированной чиновничеством.
Ф. Энгельс, характеризуя возможные действия государственной власти по отношению к экономическому развитию, отмечал, что «она может ему способствовать — тогда развитие идет быстрее; она может действовать против экономического развития — тогда она терпит крах через известный промежуток времени, или она может
12 Заказ 1143 177
ставить экономическому развитию в определенных направлениях преграды и толкать его в других направлениях. . . Ясно, что во втором и третьем случаях политическая власть может причинить экономическому развитию величайший вред».3
В настоящей статье и предполагается рассмотреть правовые и реальные возможности губернаторов воздействовать на экономическую жизнь управляемых ими губерний в хронологически короткий, но исключительно важный для истории страны период — 50— 60-е гг. XIX в.
Губернатор — центральное звено в системе местных органов власти царской России. Он официально считался «хозяином» губернии и главой местной администрации. По меткому определению В. И. Ленина, «губернатор в русской провинции был настоящим сатрапом, от милости которого зависело существование любого учреждения и даже любого лица во „вверенной" губернии».4
В конце 50-х гг. XIX в. правовое положение губернаторов по-прежнему регламентировалось Общим наказом гражданским губернаторам, утвержденным еще 3 июня 1837 г.5 Этот наказ в почти неизменном виде вошел в статьи 357—706 2-го тома Свода законов Российской империи, изданного в 1857 г.
Первый параграф наказа, в общих чертах определявший основные права и обязанности губернаторов, гласил: «Губернаторы, как непосредственные начальники вверенных им высочайшею государя императора волею губерний, суть первые в оных блюстители неприкосновенности верховных прав самодержавия, польз государства и повсеместного, точного исполнения законов, уставов, высочайших повелений, указов правительствующего Сената и предписаний начальства. Имея постоянное и тщательное попечение о благе жителей всех состояний управляемого ими края и вникая в истинное его положение и нужды, они обязаны действием данной им власти охранять повсюду общественное спокойствие, безопасность всех и каждого и соблюдение установленных правил, порядка и благочиния. Им поручены и принятие мер для сохранения народного здравия, обеспечения продовольствием в губернии, доставление страждущим и беспомощным надлежащего призрения, и высший надзор за скорым отправлением правосудия и немедленным исполнением всех законных постановлений и требований».6
Как видим, закон предоставлял губернаторам лишь исполнительные, и прежде всего охранительные, функции. Однако претворение в жизнь этих функций нередко имело непосредственное отношение к экономическому развитию губерний. В самом деле, от исполнения возлагавшейся на губернаторов обязанности следить за тем, чтобы «сельские обыватели» не подвергались незаконным «поборам, неуравнительному или излишнему отягощению в отправлении повинностей»,7 в какой-то мере зависело благосостояние местного населения, без достижения определенного уровня которого немыслим рост ни сельскохозяйственного, ни промышленного производства. Точно так же губернаторский «надзор» за «свободной... торговлей хлебом и другими жизненными припасами», как и принятие необходимых
178
мер против непомерного роста цен на них,8 осуществлявшиеся с целью сохранения «тишины и спокойствия» на местах, не могли не оказывать воздействия и на хозяйственное развитие тех или иных уездов.
Тем более, что предоставленными в этом отношении правами губернаторы действительно пользовались. От них зависел уровень цен на продовольствие. В соответствии с законом в мае и сентябре каждого года губернаторы приглашали к себе на совещание предводителей дворянства, городских голов с гласными и наиболее богатых купцов, торгующих продовольствием, для обсуждения цен на него в разных уездах. В зависимости от состояния продовольственных запасов и в какой-то мере платежеспособности населения выводилась одна «сложная» цена на продукты питания в целом по губернии. При этом устанавливался ее низший и высший предел, в рамках которого допускалось колебание. Для обеспечения населения продовольствием на местах, как правило, учреждались «хлебные запасные магазины». Их функционирование до мельчайших подробностей регламентировалось законодательными нормами. Причем «блюстителем и сберегателем» последних был опять не кто иной, как губернатор.
Общий наказ гражданским губернаторам и другие законодательные акты, определявшие те или иные стороны их деятельности, буквально насыщены нормами, носящими «хозяйственно-полицейский» характер. К их числу относился контроль за тем, чтобы в воскресные и праздничные дни «помещики не принуждали своих крестьян работать»,9 а на рынках и торгах всегда бы обеспечивался порядок и законная свобода торгующих без всякого с чьей-либо стороны притеснения. При этом губернаторы через посредство полиции или специально командированных чиновников осуществляли надзор за качеством продаваемых товаров и за тем, чтобы «купля-продажа» проводилась по установленным законом мерам и весам.10 Из других «хозяйственно-полицейских» функций, возлагавшихся на губернаторов, исключительно важное значение для экономического развития имели принимаемые ими меры по борьбе с эпидемическими заболеваниями скота, поддержание за счет крестьянской повинности в удовлетворительном состоянии водных путей сообщения и грунтовых дорог.
Помимо того, они были обязаны пресекать «самовольную» порубку принадлежавших казне лесов. Вместе с местной палатой государственных имуществ губернаторы устанавливали цены на продажу леса, утверждаемые министром государственных имуществ. От их непосредственного усмотрения зависели и отвод земель для поиска каменного угля, и его разработка.11 Вообще одной из основных обязанностей «хозяев губерний» была всемерная охрана интересов казны. С этой целью они преследовали подделку находившихся в обращении монет и государственных кредитных билетов. Все поставки, или подряды на проведение разных видов работ, заключавшиеся местными административными учреждениями на сумму не свыше 10 тыс. руб., утверждались губернаторами. Если же сумма
12*
179
подряда превышала 10 тыс. руб., то в этом случае вопрос о его судьбе решался в том министерстве, которому было подчинено это учреждение.12
Немало места в законодательстве уделено и контролю губернаторов за состоянием городского хозяйства. Так, одна из статей Общего наказа. . . обязывала их «тщательным надзором и надлежащими в случае нужды распоряжениями. . . охранять целость и неприкосновенность городской собственности, стараясь всеми зависящими от них законными мерами предупреждать или прекращать самовольное кем-либо оной завладение и наблюдая, чтобы все входящие в состав сей собственности статьи приносили соразмерные с достоинством их доходы и чтобы сии доходы исправно, своевременно и бездоимочно поступали в кассу города».13
Более подробно права и обязанности губернаторов по отношению к экономике городов определялись Уставом о городском хозяйстве.14 В соответствии с ним все «статьи доходов и расходов» городов (как уездных, так и губернского) регламентировались либо «общими законами», либо «частными положениями».15 Городские сметы доходов и расходов, не превышавшие 30 тыс. руб., утверждались губернаторами. Сметы же в 30 тыс. руб. и более, согласно уставу, поступали на утверждение в Министерство внутренних дел. На любое сверхсметное ассигнование требовалось губернаторское разрешение. В результате действия этих норм управлявшие городами сословные думы практически лишены были элементарной самостоятельности. Закон отводил им скромную роль «помощников» «хозяев губерний». Не случайно дореволюционный исследователь И. Дитя-тин, характеризуя отношения губернатора к сословным городским думам, писал, что «это. . . были отношения грозного начальника к своему подчиненному».16 Думы в то время, по его твердому убеждению, сами не решали «почти ничего, если не вовсе ничего».17
Кроме «хозяйственно-полицейских» и общих мер, имевших важное, но часто косвенное отношение к экономическому развитию губерний, законодательство возлагало на губернаторов и непосредственные обязанности. Так, статья 459 Общего наказа. . . требовала от них «всеми. . . средствами способствовать усилению и усовершенствованию земледелия, скотоводства, пчеловодства и других отраслей сельского хозяйства, а равно распространению торговли и всякого рода промышленности, покровительствуя или по крайней мере ободряя и поощряя все полезные в сем отношении предприятия».18 Разумеется, «ободрять и поощрять» губернаторы должны были, не выходя за рамки закона.
В соответствии с Уставом ремесленным они были обязаны строго следить за тем, чтобы в городах и посадах ремесленники объединялись в цехи во главе с цеховыми управами.’9 Общее же управление всеми цехами возлагалось на Ремесленную управу,20 которая в свою очередь подчинялась Городской думе. Именно ей направляли все ходатайства «о средствах к лучшему исправлению ремесла» цеховые управы. А поскольку думы, как мы уже отмечали выше, не принимали самостоятельно никаких сколько-нибудь значимых постановлений, то
180
решение всех вопросов в том или ином направлении фактически зависело от губернаторов.
От них же зависело открытие в уездных селах новых ярмарок и базаров.21 Местные жители извещались об этом через губернские ведомости. В том случае, если открытие ярмарки или базара намечалось в городе, губернатор вместе с губернским правлением составлял соответствующее представление в Министерство внутренних дел, которое и решало его судьбу. Точно так же по представлениям губернаторов министру внутренних дел учреждались выставки «мануфактурных изделий».22 Что же касается выставок местной сельскохозяйственной продукции, то разрешение на их открытие давало Министерство государственных имуществ.23 Строительство новых речных пристаней, верфей разрешалось Главным управлением путей сообщения также не иначе как по представлениям губернаторов. Даже определение участков земли под строительство фабрик и заводов в рамках городской черты осуществлялось по представлениям «хозяев губерний» министром внутренних дел.
Как видим, губернаторы в свою очередь не были самостоятельны при решении многих экономических вопросов, имевших местное значение. Правительственная комиссия о губернских и уездных учреждениях, образованная в 1859 г. с целью подготовки проекта реорганизации управления на местах, объясняла это прежде всего тем, что на экономическое развитие в то время смотрели «преимущественно с точки зрения государственных, а не местных интересов».24 А поскольку уровень централизации управления в период николаевского правления достиг своего апогея, то неудивительно, что многие даже тривиальные вопросы, не имевшие общегосударственного значения, решались в Петербурге, разумеется, «без участия местных обществ».
К числу вопросов, решавшихся губернаторами самостоятельно, и Общий наказ. . ., и Устав фабричный относили с некоторыми оговорками открытие новых фабрик и заводов, правда с обязательным донесением об этом в Министерство финансов.25 Выдавая разрешение на постройку того или иного промышленного заведения, губернаторы были обязаны руководствоваться не только соображениями экономической целесообразности, но и законодательными или административными нормами, не имевшими непосредственного отношения к экономике. Так, например, статьи 40 Устава фабричного запрещала строительство фабрик и заводов, «вредных чистоте воздуха в городах и выше городов по течению рек и протоков». Поскольку губернаторам в соответствии с Уставом врачебных правил предписывалось строго наблюдать за «сохранением чистоты воздуха в городах и селах»,26 то они имели все законные основания при решении вопроса разрешать или запрещать постройку того или иного промышленного предприятия, во главу угла ставить не экономические интересы учредителей и местного населения, а экологические. Разумеется, официально ссылаясь на последние, губернаторы могли преследовать совсем другие цели.
181
Таким образом, законодательство предоставляло достаточно широкий простор для проявления произвола «хозяев губерний» по отношению к «фабрично-заводскому учредительству». Не случайно правительственная комиссия во главе с А. Ф. Штакельбергом, созданная в 1860 г. для пересмотра ремесленного и фабричного уставов, констатировала, что решение всех этих дел фактически «предоставлено усмотрению административных властей», которые «руководствуются единственно личным воззрением на предмет».27 Самовольное строительство фабрично-заводских предприятий в соответствии со статьей 1854 Уложения о наказаниях каралось штрафом в размере от 50 до 500 руб. Причем владельцы этих предприятий в течение 6 месяцев со дня возбуждения судебного дела должны были или оформить необходимые документы на право собственности, или передать их другим предпринимателям.
Особо отметим, что Общий наказ. . . запрещал губернаторам «вмешиваться в частные хозяйственные распоряжения владельцев фабрик и заводов; они обязаны токмо отвращать по жалобам заводчиков и фабрикантов могущие встретиться препятствия и безостановочном их действии и наблюдать за исполнением с их стороны в отношении к работам установленных правил или условий».28 Однако обилие этих «правил» и «условий» и относительно частое нарушение их предпринимателями фактически давали губернаторам право не только вмешиваться в хозяйственные распоряжения, но и привлекать нарушителей к ответственности. Так, принятие фабрикантами на работу людей без паспортов и билетов грозило взысканиями по статьям 1233—1234 Уложения о наказаниях. А поскольку в условиях существования в стране крепостного права рынок рабочей силы был довольно узок, то предпринимателям в интересах безостановочного, расширенного производства нередко приходилось пренебрегать требованиями закона. В результате возникали конфликты с административными властями, подчиненными губернаторам или непосредственно с ними.
По сравнению с частными владельцами руководство казенных заводов находилось в лучшем положении. Оно было более защищено от вмешательства во внутризаводские дела представителей местных властей, и в частности губернаторов. Последние к тому же обязывались законом оказывать «посредственное или непосредственное. . . требуемое от них. . . нужное пособие» 29 казенным заводам.
Итак, обязанности «хозяев губерний» по отношению к экономике вверенных им губерний были достаточно многочисленны и важны. Вероятно, поэтому статья 384 Общего наказа. . . рекомендовала губернаторам «для основательности в своих действиях. . . стараться иметь всегда самые точные и по возможности подробные сведения о состоянии губерний во всех отношениях; о народонаселении и соразмерности оного как с пространством, так и с естественными средствами края; о качестве почвы земли одинаковом или разнообразном; о количестве пажитных земель, лугов, лесов и прочих угодий; о судоходных и других реках. . . о числе городов, сел, деревень, заводов, фабрик и о числе, занятиях и положении жителей, про
182
мышленности их, как земледельческой, так и рукодельной и торговой; о повинностях всякого рода». Естественно, что один губернатор этим делом заниматься не мог.
Сбор статистических сведений по губерниям проводился подчиненными губернатору статистическими или мануфактурными комитетами,30 главным образом через посредство полиции. Поскольку степень достоверности поступавших губернаторам сведений в целом оставляла желать лучшего, 26 декабря 1860 г. губернские статистические комитеты были реорганизованы.31 Несколько пополнилось число членов Комитета, увеличились ассигнования на его работу. Однако проведенная мера представляла собой не что иное, как паллиатив. Дело в том, что непосредственный сбор статистических данных на местах по-прежнему возлагался на обремененную многочисленными обязанностями полицию. В результате уровень достоверности сообщаемых ею сведений увеличился ненамного. Не случайно на первом всероссийском съезде фабрикантов и заводчиков во всеуслышание было заявлено, что «у нас нет статистики ни промышленной, ни торговой; все это такие известные истины, которые каждый знает».32
Таким образом, исходный материал для принятия губернаторами гконкретных решений нередко был неточен. А поскольку во многих случаях они не могли сами решать те или иные вопросы, то своими донесениями и представлениями вводили в заблуждение и центральные правительственные учреждения. К тому же закон обязывал губернаторов представлять императору «полную годовую статистику», отражавшую буквально все стороны жизни губернии, включая состояние ее экономики. Отсутствие сколько-нибудь точных сведений о реальном состоянии экономики на местах в свою очередь отрицательно сказывалось на выработке и проведении в жизнь правительственной экономической политики.
Главными ее проводниками на местах были губернаторы и подчиненные им учреждения. На губернском уровне это — Приказ общественного призрения, Комиссия народного продовольствия, Строительная и дорожная комиссии, Отделение коммерческого совета, Мануфактурный комитет, Комитет о коннозаводстве, Комитет земских повинностей, Статистический комитет, Особое о земских повинностях присутствие и Губернское правление, являвшееся «высшим в губернии местом, управлявшим ею в силу законов Именем императорского величества».33 При подготовке и воплощении решений на практике губернатор должен был действовать через перечисленные выше комитеты и комиссии. Его единоличные распоряжения закон предусматривал лишь в случаях, особо секретных или не терпящих отлагательства.
Что же касается уездов, то здесь вся работа по исполнению постановлений губернских учреждений лежала исключительно на полиции. Подтверждением тому служит краткий перечень хозяйственных обязанностей уездной полиции. Среди них фигурируют и общие обязанности — «наблюдение за устройством и состоянием фабрик и заводов», за соблюдением правил о торговле, и конкретные —
183
контроль «за выделкою квасов», за вывозом пива с заводов, за розливом водки и т. д.34
Судя по законодательству, не только предприниматель, но и любой подданный и шагу не мог сделать без соответствующего разрешения административных органов и чиновников, подчиненных губернаторам. Какова же была эффективность деятельности последних в области экономики? Отвечая на этот вопрос, Комиссия о губернских и уездных учреждениях, разрабатывавшая проект земской реформы в России, пришла к следующему выводу: «Все зависит преимущественно от личности начальника губернии: иногда видно если не всегда успешное, то по крайней мере усердное стремление к хозяйственному развитию губернии, в других случаях совершенное отсутствие этого рода деятельности в губернском начальстве».35 Основанием для приведенного выше вывода комиссии стали обнаруженные в Министерстве внутренних дел многочисленные жалобы и частных лиц «на стеснения. . . формальностями, долгими разрешениями хозяйственных предприятий», и «обществ на безусловное разрешение. . . торговых или промышленных заведений, которые вредят общему благосостоянию местности».36
Законодатели, регламентировав практически все стороны жизни общества, создали тем самым условия, при которых административные органы, не исключая и губернаторов, имели возможность в своих решениях опираться на не согласующиеся или даже противоречившие друг другу нормы. Естественно, многое оставлялось на личное усмотрение разного ранга чиновников и открывало широкий простор для проявления произвола. Одним из основных средств его предотвращения правительство в 30-х—первой половине 50-х гг. XIX в. считало централизацию управления. В результате из «благих намерений» немало мелких вопросов, имевших сугубо региональное значение, решалось в министерских кабинетах Петербурга. Принимаемые в них решения не всегда были обоснованы и оптимально отвечали интересам местного населения. Вот почему Главноуправляющий вторым отделением собственной его императорского величества канцелярии барон М. А. Корф, характеризуя сложившуюся систему государственного управления, в мае 1863 г. писал министру внутренних дел П. А. Валуеву: «Если подобная система, хотя и с постоянными против себя нареканиями, все однако еще могла до последнего времени у нас просуществовать, то, без сомнения, лишь потому, что на самом деле, как известно, большая часть предписаний высшего правительства на местах не исполнялась и действительная жизнь шла врознь с ним, не имея ничего общего с жизнью официальной, по бумагам. О возможности продолжения такого порядка вещей кажется нет надобности и распространяться».37
Правительство чуть ли не с первых дней царствования Александра II столкнулось с проблемой реорганизации государственного аппарата. По мере нарастания крестьянского и либерально-оппозиционного движения эта проблема становилась все более актуальной. В 1859 г., когда уже явственно обнаружился «кризис верхов», правительство образовало комиссию о губернских и уездных учреждениях,
184
на которую возложило обязанность составить проект реформы этих учреждений на началах предоставления «хозяйственному управлению» в губерниях и уездах большего единства и самостоятельности.38 В рамках названной комиссии и был выработан проект Положения о губернских и уездных земских учреждениях. В июле 1863 г. он обсуждался Государственным советом, а 1 января следующего года получил законодательное утверждение.39
В соответствии с Положением. . . от 1 января 1864 г. «для заведования делами, относящимися к местным хозяйственным пользам и нуждам»,40 в рамках уездов и губерний создавались всесословные земские органы с выборным составом. В их компетенцию вошло «попечение о развитии местной торговли и промышленности», обеспечение населения продовольствием, прокладка и поддержание в удовлетворительном состоянии путей сообщения местного значения и т. д. Таким образом, губернаторы и подчиненные им учреждения, а также полиция освобождались от множества хозяйственных функций. В связи с этим почти одновременно с образованием земств упразднялись Комиссии народного продовольствия, Особые присутствия о земских повинностях, строительные и дорожные комиссии, вскоре преобразованные в строительные отделения Губернских правлений. В пределах определенной законом компетенции земства были вполне самостоятельны.
Однако за их деятельностью устанавливается строгий контроль со стороны губернаторов. Положение. . . предписывало все постановления земских собраний немедленно представлять губернаторам, которые наряду с министром внутренних дел могли в семидневный срок приостановить претворение в жизнь любого признанного ими незаконного решения. При этом управа как исполнительный орган земства была обязана опротестованное губернатором решение вновь внести на рассмотрение земского собрания. Если же губернатор вторично не соглашался, то дело передавалось на разрешение высшей инстанции — Сената.
Весьма существенным было и предоставленное губернаторам право «напоминать» земству об исполнении возложенных на него законом обязанностей. В том случае, если эти напоминания оставались безрезультатными, губернатор обращался в Министерство внутренних дел за разрешением приступить к исполнению тех или иных мер за счет денежных средств земств. Последние были лишены функций принуждения. При необходимости принудить к исполнению своих постановлений, в том числе и относящихся к развитию экономики, земства прибегали к помощи полиции, подчиненной губернаторам. «Итак, земство, — справедливо отмечал В. И. Ленин в 1901 г., — с самого начала было осуждено на то, чтобы быть пятым колесом в телеге русского государственного управления, колесом, допускаемым бюрократией лишь постольку, поскольку ее всевластие не нарушалось, а роль депутатов от населения ограничивалась голой практикой, простым техническим исполнением круга задач, очерченных все тем же чиновничеством».41
185
С введением в жизнь Положения о губернских и уездных земских учреждениях, которое, как мы выяснили, не предусматривало полного устранения губернатора от исполнения местных хозяйственных дел, Общий наказ. . . и другие законодательные акты, определявшие их компетенцию, не были в соответствующих частях отменены или изменены. Пересмотр 2-го тома Свода законов о местных административных учреждениях и органах с целью «полного их согласования со всеми новыми положениями» был начат только в 1870 г.42 Таким образом, и без того существовавшая неопределенность правового положения губернаторов усилилась. Однако эта неопределенность не позволяла им в таких масштабах, как это было раньше, решать по своему усмотрению вопросы экономического развития. Подобные действия губернаторов неизбежно вызывали на практике столкновения с земствами, направлявшими жалобы в Сенат.
1 Труды XXXI съезда горнопромышленников юга России. Харьков, 1907. Т. 1. Доклад № 16. С. 9.
2 ЦГИА СССР. Ф. 1290 (Центральный статистический комитет МВД). On. 1. Д. ПО. Л. 1—5.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 37. С. 417.
4 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 5. С. 280.
5 Полное собрание законов Российской империи. Собр. II (далее — ПСЗ. II). Т. XII. Отд. 1. № 10303.
6 С в о д законов Российской империи, повелением государя императора Николая I составленный. СПб., 1857. Т. 2, ч. 1. Ст. 357.
7 Там же. Ст. 404.
8 Там же. Ст. 430.
9 Там же. Ст. 390.
10 Там же. Ст. 431.
11 Там же. Ст. 565.
12 Там же. Ст. 554.
13 Там же. Ст. 466.
14 Там же. Т. 12, ч. 2.
15 Там же. Ст. 1 и 5.
|6 Дитятин И. Городское самоуправление в России. Ярославль, 1877. Т. 2. С. 289.
17 Там же. С. 229.
18 Свод законов Российской империи. . . Т. 2, ч. 1. Ст. 428.
19 В состав Цеховой управы входили цеховой старшина и два его «товарища».
20 Ремесленную управу составляли старшины цехов во главе с выборным ремесленным головой.
21 Свод законов Российской империи. . . Т. 2, ч. 1. Ст. 463.
22 Труды комиссии о губернских и уездных учреждениях. СПб., 1863. Ч. 2. Кн. 2. С. 106.
23 Там же. С. 107.
24 Там же. С. 14.
25 Свод законов Российской империи... Т. 2, ч. 1. Ст. 460; Т. 11, ч. 2. Ст. 15 и 42.
26 Там же. Т. 2, ч. 1. Ст. 512.
27 Труды комиссии, учрежденной для пересмотра уставов фабричного и ремесленного. СПб., 1863. Ч. 1. С. 254.
28 Свод законов Российской империи. . . Т. 2, ч. 1. Ст. 461.
29 Там же. Т. 2, ч. 1. Ст. 580.
30 Мануфактурные комитеты действовали не во всех губерниях. Они собирали лишь промышленную статистику.
31 СПЗ. II. Т. XXXV, № 35331.
186
32 Протоколы и стенографические отчеты заседаний Первого всероссийского съезда фабрикантов, заводчиков и лиц, интересующихся отечественной промышленностью 1870 года. СПб., 1872. С. 46—47.
33 Свод законов Российской империи. . . Т. 2, ч. 1. Ст. 714.
34 Труды комиссии о губернских и уездных учреждениях. СПб., 1863. Кн. 3, ч. 1. С. 6, 12.
35 Там же. Кн. 2, ч. 2. С. 107—108.
36 Там же. С. 107.
37 Там же. Кн. 1, ч. 2. С. 34.
38 Материалы, собранные для высочайше учрежденной комиссии о преобразовании губернских и уездных учреждений. Отдел административный. СПб., 1870. Ч. III. Отд. 5. С. 1.
39 ПСЗ. И. Т. 36, № 40457.
40 Там же. Ст. 1.
41 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 5. С. 35.
42 ЦГИА СССР. Ф. 1316 (Комиссия о губернских и уездных учреждениях). On. 1. Д. 142. Л. 2.
В. Г. ЧЕРНУХА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА РОССИИ В 60—70-е гг. XIX в.
Сельскохозяйственные общества как явление единичное стали возникать в России еще в XVIIII—первой четверти XIX в. и в значительной мере были вызваны к жизни не потребностью в них помещиков, но правительственной инициативой. Первым в списке этих обществ значится Вольное экономическое общество (ВЭО), учрежденное в 1765 г. и явившееся одним из детищ «просвещенного абсолютизма». Оно имело статус «императорского», питалось казенными ассигнованиями, было призвано (в числе других назначений) содействовать развитию сельскохозяйственных наук и самого сельского хозяйства.1 Его деятельность всегда, а в первое время в особенности, носила научный характер.2 Вслед за ним после довольно большого перерыва в Дерпте возникает императорское Лифляндское общеполезное общество. Оно было основано в 1796 г., но официально утверждается только
в 1805 г. и конструируется по образцу немецких. Было оно немногочисленным, но стабильно действующим. В первой половине XIX в. среди русских помещиков появляется некоторый интерес к сельскохозяйственным новшествам, созданию образцовых хозяйств, и с этим связано учреждение в 1820 г. в Москве по инициативе нескольких богатых помещиков во главе с кн. Д. В. Голициным императорского Московского общества сельского хозяйства. На протяжении всего XIX в. оно оказывало большое влияние на создание и деятельность других таких обществ. Этим оно было обязано не только активности московских помещиков, но и наличию в Москве университета, а позже Петровской земледельческой академии, поставлявших свои научные силы в ряды членов общества (МОСХ).3
Основанное в 1828 г. в Одессе императорское Общество сельского хозяйства южной России (ОСХЮР) продолжило череду этих организаций. Назначенный новороссийским генерал-губернатором М. С. Воронцов оказался во главе края, недавно вошедшего в состав России 188
и еще не определившего свой экономический путь. Сельское хозяйство только закладывалось, и Воронцов, перебирая возможные варианты специализации сельского хозяйства и его развития, остановился на идее сельскохозяйственного общества, которое бы объединило местных помещиков в их хозяйственных поисках. Он предварительно переговорил об этом с Николаем I, который не только одобрил идею, но и гарантировал ежегодную субсидию в размере 5 тыс. руб. на содержание общества. Формально учредителями общества явились местные землевладельцы, Воронцов в списке учредителей не значился, но казенная подкладка общества проявилась уже в том, что Воронцов стал первым и долголетним его президентом.4 В 1835 г. возникает первое специализированное сельскохозяйственное общество — Российское общество любителей садоводства. Таким образом, в последней трети XVIII—первой трети XIX в. возникали лишь единичные сельскохозяйственные общества, учреждаемые в крупных, преимущественно университетских городах, пользующиеся казенной поддержкой и имеющие широкую территорию деятельности. Но уже с конца 30-х—начала 40-х гг. ситуация в стране меняется, что сказывается на судьбе обществ. В это время начинает явственнее проявляться разложение феодально-крепостнических отношений и вызревание ростков капитализма. Помещики все более начинают производить сельскохозяйственные товары на рынок, интересоваться наиболее урожайными или пользующимися рыночным спросом техническими культурами. Это и создает основу для ускоренного учреждения небольших сельскохозяйственных обществ, занимающихся местными проблемами земледелия. Образованное в 1837 г. Министерство государственых имуществ (МГИ) для проведения аграрной реформы в казенной деревне — один из признаков надвигающейся буржуазной эпохи — ставило своей целью «усовершенствование и распространение сельского хозяйства» и принятие мер «поощрения» его развития.5 Поэтому сельскохозяйственные общества были переданы в его заведование. Эти два обстоятельства — создание МГИ и капитализация помещичьего хозяйства — и привели к ускорению процесса учреждения обществ и приобретению ими практического уклона. После образования МГИ на 30 лет определяется порядок создания обществ: помещики через губернаторов ходатайствуют перед МГИ о разрешении учредить общество сельского хозяйства, МГИ вносит ходатайство (вместе с уставом общества) в Комитет министров, который и дает свое заключение. Журнал Комитета вместе с заключением («положением») подавался императору, утверждавшему его. В таком виде устав общества становился законом и включался в Полное собрание законов. Так продолжалось до 1866 г., когда в малоэффективных попытках хоть несколько децентрализовать управление, избавив императора и высшие государственные учреждения от однотипных текущих дел, принимается постановление, по которому утверждение уставов обществ предоставлялось власти министра государственных имуществ.6 Процесс возникновения обществ после 1837 г. идет скорее (табл. 1).
189
Таблица 1
Последовательность создания сельскохозяйственных обществ с 1839 по 1859 г.
Год Общества
1839 Императорское Казанское экономическое общество Курляндское общество сельского хозяйства Гольдин ген ское общество сельского хозяйства Эстляндское общество сельского хозяйства Ярославское общество сельского хозяйства
1844 Лифляндское общество для поощрения сельского хозяйства и промышленности
1848 Общество сельского хозяйства юго-восточной России
1849 Калужское общество сельского хозяйства
1850 Кавказское общество сельского хозяйства
1854 Юрьевское общество сельского хозяйства (Владимирская губ.)
1858 Императорское Российское общество садоводства в СПб.
1859 Симбирское общество сельского хозяйства
К началу 1861 г. в России насчитывалось всего 18 сельскохозяйственных обществ, распространявших свои действия либо на значительный район, либо на губернию.7 Реформа 1861 г. и перестройка помещичьего хозяйства значительно ускорили процесс образования обществ, и если за 60 лет XIX столетия было основано менее двух десятков, то за следующее двадцатилетие — 1861 —1880 гг. — примерно 60—70 обществ. (В документах МГИ в 1881 г. назывались разные цифры наличия обществ — 80, 86, 89, 91. Это зависело от месяца подачи сведений, поскольку процесс учреждения был непрерывным, и от принципа подсчета: существовали страховые сельскохозяйственные общества, которые в одном случае приплюсовывались, а в другом — не принимались во внимание).
Для пореформенного развития обществ характерно постепенное распространение их на провинцию, увеличение числа специализированных обществ и обществ уездного масштаба. К 1881 г. не все губернские города имели сельскохозяйственные общества, некоторые губернии обходились одним-двумя уездными обществами и даже вовсе без них. Поэтому интенсивность процесса, разумеется, была весьма относительной (табл. 2).
История возникновения и дятельности сельскохозяйственных обществ, а тем более их роль в развитии русского сельского хозяйства изучены более чем слабо. Только крупные, располагавшие значительными средствами общества могли к юбилейным датам выпускать своеобразные отчеты о деятельности за определенный отрезок времени в свободной форме исторических очерков. Уже делались ссылки на такие отчеты ВЭО, МОСХ, ОСХЮР. Можно привести еще и ссылку на такие же отчеты Петербургского собрания сельских хозяев (ПССХ), учрежденного столичными помещиками в 1863 г. Оно успело выпустить отчеты за 10, 25 и 50 лет своего существования, обрисовав изменение состава, бюджет, дав перечень заседаний и других мероприятий общества.8 Поэтому давать какие-то общие характеристики этих организаций в целом или хотя бы их групп
190
Таблица 2
Последовательность возникновения обществ в 1861 —1881 гг.*
Год Общество
1861 Мценское общество сельского хозяйства
1862 Тверское общество сельского хозяйства и садоводства Торопецкое общество сельского хозяйства
1863 Петербургское собрание сельских хозяев
1864 Императорское Российское общество акклиматизации животных и растений
Рязанское общество сельского хозяйства
1865 Одоевское общество сельского хозяйства
Полтавское общество сельского хозяйства
1867 Туккумское общество сельского хозяйства
1868 Курляндское общество пчеловодства
Данковское общество любителей скотоводства Общество виноделов и садоводов Ялтинского у.
1869 Общество для поощрения разведения картофеля и огородных овощей в уезде Чердынском
1870 Эстское общество сельского хозяйства в уезде Перновском Общество лужских сельских хозяев Эстское общество сельского хозяйства в Дерпте
1871 Лесное общество
Московское общество улучшения скотоводства в России Тверское общество сельской промышленности
Сельскохозяйственное общество в м. Доблене близ Миттавы Эстское общество сельского хозяйства в Феллине Общество любителей рыболовства в Москве
1872 Киевское общество садоводства
Миусское общество сельского хозяйства
1873 Общество тамбовских сельских хозяев
Стерлитамакское сельскохозяйственное собрание
1874 Киевское общество сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности
1875 Котельническое экономическое общество Екатеринославское собрание сельских хозяев Кубанское экономическое общество
1876 Бессарабское собрание сельских хозяев Витебское общество сельского хозяйства Саратовское общество сельского хозяйства Чернское общество сельского хозяйства Псковское общество сельского хозяйства Минское общество сельского хозяйства Общество садоводства в Риге
1877 Фридрихштадтско-Иллукское общество сельского хозяйства Кинешемское общество сельского хозяйства Калужское общество садоводства Кобелякское общество сельского хозяйства Общество садоводства в Ревеле
1878 Общество сельского хозяйства в Пошехонском у. Орловское общество сельского хозяйства Даниловское общество сельского хозяйства Общество пчеловодства в Рижском у.
Тальсенское общество сельского хозяйства
1879 Могилевское общество сельского хозяйства Харьковское общество сельского хозяйства Ковенское садовое общество Новгородское пбщество пчеловодства
* Составлено по: ПСЗ. II. Т. XXXVII. № 38901; Т. XXXVIII. № 38901, 40073; Сборник сведений. . . Вып. 3. С. 170—172.
191
Таблица 2 (продолжение)
Год Общество
1880 Московское общество любителей птицеводства Общество сельских хозяев Тульского у.
1881 Общество сельских хозяев в Оберпалене
Газенпотское сельскохозяйственное общество Иллукско-Суббатское общество сельского хозяйства Сельскохозяйственное общество в Бердичевском у. Общество Борисоглебских хозяев
чрезвычайно затруднительно. Сельскохозяйственные общества, курировавшиеся МГИ, обязаны были ежегодно представлять в министерство отчеты, но лишь немногие эту свою обязанность выполняли. Поэтому МГИ имело весьма неполные представления об их деятельности, располагая лишь случайно поступившими отчетами (они собраны по годам и хранятся в ЦГИА СССР, ф. 398 департа-ента земледелия и сельской промышленности).
В 1879 г. департамент земледелия попытался восполнить этот пробел и 29 апреля обратился в каждое из обществ с циркуляром, прося сообщить сведения по схеме: число членов, размер годовых взносов, материальные средства, структура, наличие изданий, заведений, состав (персональный) общества.9 Циркуляр был вызван намерением департамента уяснить себе состояние этих организаций и определить дальнейшую политику по отношению к ним. Часть обществ прислала такие материалы, они были в департаменте обработаны и оформлены в виде очерка, характеризующего, на основании этих неполных сведений, деятельность обществ в целом и дающего справочные данные по отдельным обществам.10
Сельскохозяйственные общества в своем развитии прошли, с точки зрения их состава, два этапа: первоначально, включая рассматриваемый нами период, это были чисто помещичьи организации, разбавленные деятелями науки и преподавателями. С конца XIX в. и в XX в., в период массового их учреждения, возникают «новые» общества — крестьянские, кооперативные.11 Деятельность обществ определялась их уставами. Они были сходны, но не идентичны (типовой устав был введен только в 1898 г.). В сходных выражениях все уставы говорили о назначении обществ — способствовать развитию сельского хозяйства, обсуждать вопросы его совершенствования, изучать местные условия. В подавляющем большинстве случаев общества имели широкий — общий сельскохозяйственный — профиль, но примерно 1 /4 их часть была специализирована на занятиях садоводством, пчеловодством, виноградарством, животноводством, ка ртофелеводством.
Члены обществ обычно делились на три категории: действительные, почетные и корреспонденты. В некоторых обществах существовал статус «члена-сотрудника». Количественно общества между собой сильно рознились от нескольких сотен (МОСХ, ПССХ, ВЭО) до десятка членов.
192
По данным отчетов 1873 г., например, Казанское экономическое общество насчитывало: 6 почетных членов, 51 действительного, 44 члена-сотрудника и 8 корреспондентов.12
В этом же году Ялтинское общество садоводов и виноделов насчитывало 70 действительных членов, причем в их число входили «неплатящие» — губернатор, губернский предводитель дворянства и управляющий государственными имуществами.13 Тогда же в Лиф-ляндском общеполезном экономическом обществе было всего 12 действительных членов: президент, секретарь и группа немецких баронов: бар. Унгарн-Стернберг, Эфрон Эттинген, ландрат фон Сиверс, ландрат фон Мейзенкампф, фон Сиверс, фон Стрик.14
В 1880 г. наиболее крупные общества насчитывали: ВЭО — 20 почетных, 509 действительных и 722 члена-сотрудника; МОСХ — 38 почетных, 429 действительных и 77 членов-корреспондентов; ИОСХЮР — 21 почетного, 158 действительных и 16 членов-корреспондентов; Казанское — 4 почетных, 65 действительных, 6 членов-корреспондентов и 43 члена-сотрудника.15
Существовал обычай избирать почетным председателем общества или почетным его «покровителем» членов царствующей фамилии. Вел. кн. Николай Николаевич (старший) был почетным президентом и покровителем Казанского экономического общества, Симбирского сельскохозяйственного общества, основанного В. П. Орловым-Давыдовым, Смоленского общества сельского хозяйства; 16 11 марта 1874 г. он стал покровителем общества тамбовских сельских хозяев,17 а 26 апреля 1876 г. принял на себя звание почетного президента Кавказского общества сельского хозяйства.18 15 октября 1856 г. вел. кн. Елена Павловна приняла на себя звание почетной попечительницы Юрьевского общества сельского хозяйства.19 1 мая 1878 г. вел. кн. Владимиру Александровичу было разрешено принять звание «августейшего покровителя» Общества витебских сельских хозяев.20 Эта процедура каждый раз оформлялась специальным всеподданнейшим докладом министра государственных имуществ. Во главе общества стоял президент, делопроизводством занимался секретарь, управлялось оно специально избранным советом. Денежные средства обществ складывались из ежегодных членских взносов, пожертвований, процентов с неприкосновенного капитала (если он был), казенных дотаций, постоянных, оказываемых наиболее крупным обществам, или разовых, имеющих целевое назначение — организация выставки, издание «трудов» и т. п. МГИ располагало для разовой помощи обществам небольшой суммой. В 1887 г., например, все 130 существовавших тогда сельскохозяйственных обществ получили от МГИ 47 тыс. руб. Петербургское собрание сельских хозяев, являвшееся к тому же и ежедневно открытым клубом, с буфетом и залами для игры в карты, получало доходы от клуба.
Основной формой работы обществ были заседания, обсуждавшие сельскохозяйственные темы, как широкие, так и местные, специальные. Значение таких обсуждений состояло не только в том, что члены обществ уясняли для себя проблему и получали научные и практические рекомендации, но в том, что общества имели право представле
13 Заказ № 1143
193
ния в МГИ или, как они говорили, «правительству» своих заключений и ходатайств. МГИ в своей деятельности отчасти руководствовалось соображениями обществ и ходатайств с мест. Крупные сельскохозяйственные общества имели свои постоянные издания — «Труды ВЭО», «Записки ИОСХЮР», МОСХ на протяжении 60— 70-х гг. меняло название своего журнала — «Сельское хозяйство» (1860—1862 гг.), «Журнал ИМОСХ» (1863—1868 гг.), «Русское сельское хозяйство» (1868—1876 гг.). Казанское общество издавало «Записки», выходившие с перерывами. ПССХ не имело своего журнала, но вместо него печатало протоколы своих заседаний, называвшиеся «Заседания ПССХ». Лифляндское общеполезное экономическое общество печатало свои материалы в газете «Балтише во-хеншрифт». Общества, не имевшие собственных изданий, публиковали свои материалы в «Ведомостях» и других периодических изданиях общего типа. «Земледельческая газета», издание МГИ, отражала на своих страницах их деятельность и помещала их информацию.
Деятельность сельскохозяйственных обществ, столь разных по числу членов, финансовым возможностям, задачам, активности, была очень разнообразной. Они занимались сбором сведений о сельском хозяйстве, организовывали выставки либо участвовали в них, выделяли средства на премирование научных трудов или учреждали медали для победителей в конкурсах, которые устраивали, занимались комиссионерством, распространяя высокоурожайные семена, качественные саженцы, усовершенствованные орудия и машины, племенной скот. Общества основывали опытные участки и фермы, производили опыты самые разнообразные (например, по применению новых удобрений, прессованию сена и т. п.), распространяли литературу, давали бесплатные советы посторонним лицам. Наиболее прочные в финансовом отношении общества учреждали фермы, специальные школы. ВЭО являлось владельцем Охтенской фермы, Общество сельского хозяйства южной России тоже имело ферму. Московское общество славилось сельскохозяйственной школой, основанной в 1822 г., т. е. сразу же после учреждения общества. Школа была всесословной, ее выпускниками были и крестьяне, в том числе крепостные. Первый выпуск состоялся в 1827 г. За дореформенный период ее окончило 730 человек, за двадцатилетие 1861 — 1881 гг. еще 564 человека. Из 531 выпускника 121 были крестьянами, причем 39 — крепостными.21
Сельскохозяйственные общества были инициаторами проведения, организаторами и участниками сельскохозяйственных съездов, местных и всероссийских.
Количество и деятельность сельскохозяйственных обществ в пореформенное двадцатилетие были, по российским масштабам, явно недостаточными. И это остро ощущали члены обществ. Поэтому в них и в печати постоянно возникали вопросы о том, как расширить число обществ, активизировать их деятельность, какой характер она должна иметь, какие формы может иметь координация их действий, возможно ли объединение их усилий и деятельности администрации в деле совершенствования сельского хозяйства. Одна из обсуждае
194
мых в то время проблем сводилась к определению главного направления их деятельности: быть ли таким обществам научными организациями или заниматься сугубо практическими делами, причем вытекающими исключительно из местных хозяйственных условий. Две точки зрения на этот предмет выявились, например, в 1875 г., когда в связи с учреждением Саратовского общества сельского хозяйства и Экономического общества в г. Котельниче Вятской губ., в газете «Голос» появились статьи, критикующие сложившееся в обществах положение. Автор считал полезным увеличение числа обществ, но высказывался за строго научный характер их деятельности.22 В ответ на это М. В. Неручев агроном и публицист, член МОСХ, написал убедительное возражение, пропагандируя учреждение малых обществ, действующих на небольшой территории вместе с местным земством и местной администрацией и ставящих себе только практические цели.23
Сельскохозяйственные общества были ориентированы на постоянную деятельность, требовали непрерывного приложения сил и средств; и должно быть вследствие этих сложностей возникает и другая, более мобильная форма единения помещиков на хозяйственно-экономической основе — сельскохозяйственные съезды.
1 В рескрипте Екатерины II членам ВЭО от 31 октября 1765 г. говорилось, что общество «предпринято» с «намерением» «ко исправлению земледелия и домостроительства» (X о д н е в А. И. История императорского Вольного экономического общества с 1765 до 1865 г. СПб., 1865. С. V).
2 Там же. С. 667; Орешкин В. В. Вольное экономическое общество в России. 1765—1917: Историко-экономический очерк. М., 1963.
3 Перепелкин А. П. Историческая записка об учреждении императорского Московского общества сельского хозяйства и воспоминания о действиях общества за истекшее 75-летие с 20 декабря 1820 г. по 20 декабря 1895 г. М., 1895.
4 Боровский М. П. Исторический обзор пятидесятилетней деятельности императорского Общества сельского хозяйства южной России с 1828 по 1878 г. Одесса, 1878. С. 11.
5 ПСЗ. II. Т. XII, № 10834.
6 ПСЗ. II. Т. XLI, № 333336.
7 См.: Сельскохозяйственные общества: Сборник сведений по департаменту земледелия и сельской промышленности. СПб., 1881. Вып. 3. С. 169—170; ПСЗ. II. I. XXXVIII, № 404151.
8 Первое десятилетие Петербургского собрания сельских хозяев. СПб., 1873; 1864—1889. Двадцатипятилетие Петербургского собрания сельских хозяев / Сост. секретарь собрания А. Советов. СПб., 1889; 1864—1914. Пятидесятилетие Петербургского собрания сельских хозяев. СПб., 1913. См. также: Чернуха В. Г. Петербургское собрание сельских хозяев (1860-е годы)//Вспомо-гат. ист. дисциплины. Л., 1986. Т. 17.
9 Сборник сведений. . . СПб., 1880. Вып. 2. С. 431—432.
10 Сельскохозяйственные общества: Сборник сведений... Вып. 3. С. 168—210.
11 Довженко И. Т. Сельскохозяйственные общества дореволюционной России, их особенности и размещение // Историческая география России XII—начала XX в. М., 1975. С. 207—217.
12 ЦГИА СССР. Ф. 398. Оп. 38. Д. 13090. Л. 34.
13 Там же. Л. 13.
14 Там же. Л. 10—Юоб.
15 Сельскохозяйственные общества. . . С. 178.
13*
195
16 ЦГИА СССР. Ф. 398. Оп. 38. Д. 13090. Л. 2.
17 ЦГИА СССР. Ф. 381. Оп. 46. Д. 96. Л. 7—7об.
18 Там же. Д. 100. Л. 7—7об.
19 ПСЗ. II. Т. XXXI, № 31013.
20 ЦГИА СССР. Ф. 381. Оп. 46. Д. 108. Л. 46—46об.
21 Я с м а н 3. Д. Русские агрономы из крестьян // Вопросы истории. 1985. № 12. С. 168—173.
22 Голос. 1875. № 206, 216.
23 Н е р у ч е в М. В. Несколько слов к статье газеты «Голос» (№ 216) по поводу наших «сельскохозяйственных обществ» // Русское сельское хозяйство. 1875. № 9. С. 46—60.
В. С. ДЯКИН
ИЗ ИСТОРИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЦАРИЗМА В КОНЦЕ XIX—НАЧАЛЕ XX в.
Проблемы экономической политики России в конце XIX— начале XX в. неоднократно привлекали к себе внимание исследователей. В наибольшей мере в их поле зрения попадала политика С. Ю. Витте, направленная на ускорение промышленного развития страны. В результате экономическая политика рассматривалась по преимуществу как торгово-промышленная. Это в известной мере нарушало целостность восприятия народнохозяйственных проблем, стоявших перед страной. Этим же обстоятельством определяется постановка вопроса в данной статье, где проблема выбора пути экономического развития рассматривается прежде всего как проблема отношения к сельскому хозяйству. Полная картина экономической политики может быть получена, разумеется, только при учете как той, так и другой стороны вопроса.
В начале 1890-х гг. Россия встала перед задачей ускоренного развития и промышленности, и сельского хозяйства. Создание крупной современной промышленности диктовалось не только интересами России как великой державы, но и необходимостью избежать, как писал Витте, «унизительного положения экономической данницы» передовых государств Западной Европы.1 Одновременно голод 1891 г. подчеркнул отсталость сельского хозяйства. Для поднятия его уровня требовались меры как социально-политические (изменение аграрных отношений и правового положения крестьян), так и агротехнические (интенсификация земледелия и т. п.), предполагавшие значительные капиталовложения. В действительности, однако, промышленное развитие в России, как и в других странах на соответствующем этапе, происходило за счет средств, изымаемых из сельского хозяйства с помощью таможенного протекционизма и налогового обложения, а мировой аграрный кризис 1870—1890-х гг. резко уменьшил доходность экстенсивного российского сельскохозяйственного производства.
197
Ускорение темпов роста промышленности в 90-е гг. делало его особенно болезненным для земледелия. В этих условиях поместное дворянство, вообще с трудом приспосабливавшееся к капиталистическим формам хозяйствования, настойчиво требовало от царизма замедлить или даже остановить процесс создания крупной промышленности. Полемика о направлении экономической политики царизма в своих крайних проявлениях вылилась в спор тех, кто понимал необратимость капиталистической эволюции, но надеялся поставить ее на службу интересам самодержавия (С. Ю. Витте) и российских аграриев, защищавших сиюминутные интересы поместного дворянства. Одновременно в этой полемике отражалось и беспокойство правящих кругов и более дальновидной части помещиков в связи с кризисным состоянием основной массы крестьянства, подрывавшим прочность государственного бюджета и основы аграрных отношений.
Став в сентябре 1892 г. министром финансов, С. Ю. Витте в течение некоторого времени оставался сторонником бумажно-денежного обращения и потому считал вполне совместимыми политику ускоренного промышленного развития и предоставление сельскому хозяйству дешевого кредита. Эти взгляды Витте нашли отражение в уставе Государственного банка 1894 г. Но как только для Витте стала ясна необходимость перехода к золотой валюте и, следовательно, невозможность увеличения бумажной денежной массы в обороте, он безоговорочно сделал выбор в пользу сосредоточения всех финансовых ресурсов для развития промышленности и железнодорожного строительства.
Между тем как раз в эти годы падение хлебных цен сделало для поместного дворянства затруднительной даже уплату процентов по ипотечной задолженности. 1892—1893 гг. оказались годами наибольшей неустойчивости дворянского землевладения со времени отмены крепостного права и до русско-японской войны, и это вызвало у современников ощущение близкого перехода дворянских имений в другие руки. В 1895 г. Витте писал, что «земля роковым образом уходит из рук дворянства».2 Такая ситуация определяла не только масштаб конкретных требований поместного дворянства о льготах неисправным плательщикам Дворянского банка и о расширении, тоже на льготных основаниях, краткосрочного кредита на оборотные средства, но и перевод полемики в плоскость общей политики. Доказывая, что «разорение дворянского землевладения есть прежде всего политическое несчастие России»,3 дворянские идеологи обвиняли Витте в искусственном насаждении промышленности и капитализма в России в ущерб ее «исторически-национальному» земледельческому промыслу. При этом рассуждения о сельском хозяйстве вообще были лишь прикрытием стремления сохранить привилегированное положение дворянства в экономическом и политическом строе страны, отражали непонимание закономерности перехода российской экономики на капиталистические рельсы. Эта сторона дела неоднократно рассматривалась в советской историографии, а наиболее полно освещена в работах Ю. Б. Соловьева.4
198
В отличие от дворянских идеологов, веривших, что «Россия имеет свою отдельную историю и специальный строй», а потому избежит капитализма, Витте не только выступал за «напряженное развитие промышленности в короткий срок», но и подчеркивал, что к такому развитию Россию вынуждает «мировой непреложный закон» перехода к капиталистическому строю.5 При этом Витте настаивал на неизбежности принесения в жертву промышленному прогрессу потребительских и частнохозяйственных интересов. «И с того момента, как государство отрешилось бы от такого рода пожертвований, — доказывал он, — оно неминуемо стало бы клониться к упадку, — хотя полное удовлетворение интересов наличного поколения, быть может, некоторое время и прикрашивало бы картину».6 Доказывая правильность избранного им пути, Витте систематически преувеличивал достигнутые результаты. Уже в докладе о бюджете на 1897 г. он утверждал, будто годовая производительность горной и обрабатывающей промышленности превзошла в стоимостном выражении все сельскохозяйственное производство.
Параллельно с полемикой Витте и поместного дворянства о неизбежности и правомерности капиталистической эволюции экономики России развертывался спор Министерства финансов и созданного в 1894 г. Министерства земледелия и государственных имуществ (далее — МЗиГИ) о формах и масштабах государственного воздействия на сельское хозяйство.
Глава сельскохозяйственного ведомства А. С. Ермолов поддерживал Витте в вопросе о необходимости развития горной и металлургической промышленности и привлечения для этого иностранных капиталов. Остальные же отрасли промышленности Ермолов рассматривал в первую очередь как источник заработка для крестьян и средство повышения доходности помещичьих имений и потому выступал за предпочтение в этих отраслях кустарного и мелкого производства. Исходя из принципиально верного тезиса о невозможности прочного процветания экономики при длительном «искусственном поддержании одной обрабатывающей промышленности», Ермолов считал государство обязанным «играть роль могущественного покровителя» сельского хозяйства.7 Прежде всего Ермолов имел в виду организацию государственных мелиоративных работ на казенных и частных землях и создание мелиоративного кредита. При этом средства для мелиоративного кредита должны были быть получены путем гарантированных государством займов. Хотя формально меры по подъему сельского хозяйства, о которых говорило МЗиГИ, должны были распространяться и на крестьян, реальную выгоду от них в условиях конца XIX в. могли получить преимущественно помещики.
Позиция Витте по отношению к сельскому хозяйству в своих главных чертах сложилась еще в 1891 —1892 гг. Витте прекрасно понимал экономическое значение сельского хозяйства, в том числе для промышленного развития. Но он выступал против прямого государственйого вмешательства в отрасль, которая, по его мнению, меньше и медленнее всего поддается правительственному воздей
199
ствию. Государство, как считал Витте, могло содействовать сельскому хозяйству не прямыми капиталовложениями в него, а созданием дешевого кредита, строительством железных дорог и, главное, расширением внутреннего рынка через развитие отечественной фабрично-заводской промышленности? Финансовые льготы поместному дворянству, на которые Витте шел по политическим соображениям, не рассматривались им как производительные капиталовложения в сельское хозяйство, и он небезосновательно видел в предложениях развить мелиоративный и краткосрочный кредит замаскированные притязания помещиков на новые безвозвратные пожертвования казны. В то же время возможности Министерства финансов в области сельского хозяйства были уже, чем в промышленности, поскольку и крестьянское законодательство, и дворянский вопрос входили в сферу ведения МВД и являлись предметом постоянного внимания короны.
На позиции Витте сказывалось и его отношение к мировому аграрному кризису. С одной стороны, давая противоречивые ответы на вопрос — существует ли такой кризис вообще, — он был склонен отрицать его наличие и считал установившиеся низкие хлебные цены выгодными для народного хозяйства в целом, хотя и наносящими при особенно резком падении ущерб «продавцам зерна». При этом Витте, опираясь на либерально-народнических экономистов, утверждал, будто основная масса крестьянства не производит товарного хлеба. Дело заключалось в данном случае в том, что политика индустриализации велась Витте в расчете на низкие хлебные цены, сокращавшие расходы по созданию промышленности. С другой стороны, аграрный кризис породил широко распространенное и разделявшееся Витте представление о нерентабельности интенсификации зернового производства, поскольку цены на хлеб будут впредь определяться экстенсивно развивающимся земледелием вне Европы.9 Соответственно Витте противился отпуску средств на предлагаемые МЗиГИ меры такой интенсификации.
Недостаточная разработанность научных проблем, связанных с мелиорацией, отсутствие необходимого числа специалистов и слабость Ермолова как организатора привели к тому, что деятельность МЗиГИ в области государственных мероприятий по улучшению сельского хозяйства не вышла из стадии плохо подготовленных проектов. Вследствие этого Витте имел возможность легко отвергать их или сводить к минимуму выделяемые на них ассигнования. При этом сугубо прагматический подход Витте к научным исследованиям с отдаленными практическими результатами повлек за собой и значительные затруднения в организации гидрологического обследования Европейской России. Расширенный в момент наиболее острого падения хлебных цен краткосрочный соло-вексельный кредит для помещиков из Государственного банка был с 1896 г. вновь сокращен, как только оправдались опасения, что задержки с возвращением ссуд превратят соло-вексельный кредит в долгосрочный, что вступало в противоречие с интересами Государственного банка как эмиссионного учреждения. Малорезультативным оказался и принятый
200
в 1896 г. закон о ссудах на сельскохозяйственные улучшения. Хищническое ведение хозяйства и возможность повышать доходы за счет крестьянской аренды делали ирригационные работы нецелесообразными с точки зрения помещиков, интересы которых учитывались в законе в первую очередь. Круг же других целевых назначений мелиоративных ссуд был сужен в законе из опасения, как бы в общем итоге не произошло дальнейшее увеличение ипотечной задолженности землевладения. В итоге ссуды на сельскохозяйственные улучшения не получили сколько-нибудь значительного распространения.
Центральным вопросом подъема сельского хозяйства в целом был вопрос о крестьянском хозяйстве. Остроту его Витте оценил не сразу и первое время считал, что выделение зажиточной верхушки деревни происходит в условиях, когда общий уровень благосостояния крестьян не понижается.10 Кроме того, стоя первоначально на патерналистских позициях, Витте планировал при подготовке нового устава Крестьянского банка 1895 г. создать институт долгосрочной или бессрочной аренды крестьянами банковских земель. Мысль эта была оставлена, поскольку само право производить покупки земли за свой счет было Отдано банку Государственным советом всего на пять лет. В 1895 г. был принят также закон об учреждениях мелкого кредита. Голод 1891 г. и падение хлебных цен в 1893—1895 гг. сделали краткосрочный кредит для крестьян проблемой крайне актуальной не только ради поддержки разоряющегося крестьянства, но и ради укрепления основ государственного бюджета. Такой кредит был и в интересах помещиков, поскольку только ссуды под хлеб могли удержать крестьян от массовой осенней продажи урожая, сбивающей цены.
Закон 1895 г. создал новую форму учреждения мелкого кредита — кредитное товарищество, получавшее от Государственного банка ссуду на создание основного капитала и не требовавшее от участников паевого взноса. Эта форма оказалась в принципе жизнеспособной и в дальнейшем получила широкое развитие. Но в 90-е гг. распространению кредитных товариществ препятствовали сохранение правовых ограничений крестьян и скудость средств, отпускаемых Государственным банком.
В момент принятия закона Витте считал еще возможным извлекать за счет, в частности крестьянских, сбережений дополнительные ресурсы на нужды Государственного банка, о чем свидетельствовал принятый в один день с законом о мелком кредите новый устав сберегательных касс. С конца 90-х гг. и Витте, и его противники заговорили о чрезмерном напряжении платежных сил крестьянства. Со стороны противников Витте это было отражением реального беспокойства по поводу прочности государственного бюджета и социального мира в деревне, а также стремлением уйти от сословнодворянской мотивировки требований аграриев. Витте, начав борьбу против общины, по-прежнему отрицал негативное влияние его финансовой политики на положение крестьянства и объяснял падение благосостояния крестьян исключительно юридическим и экономическим неустройством их быта.
201
В итоге к концу XIX в. в России по-прежнему существовала лишь система учреждений государственного и частного ипотечного кредита. Средства, получаемые из этих учреждений под залог земли, в большей мере отвлекались от сельского хозяйства, чем вкладывались в него. Сельскохозяйственный (краткосрочный и мелиоративный) кредит находился в зародышевом состоянии и не оказывал существенного влияния на земледелие. Приток частных средств происходил, но не может быть учтен. В то же время, по данным различных, в том числе и официальных, обследований, на рубеже XIX— XX вв. в среднем крестьянские доходы не покрывали текущих расходов. Имевшиеся же в деревне свободные средства, сосредоточенные в руках деревенских верхов, как показывает исследование А. П. Корелина, вплоть до начала XX в. в значительной мере изымались государством из производства через систему сберкасс.11 Начавшийся со второй половины 90-х гг. пересмотр взглядов Витте в крестьянском вопросе не привел еще к реальным шагам в области мелкого кредита, тем более что Витте считал необходимой предпосылкой таких шагов изменение правового положения крестьян.
Однако обвинения против Витте, согласно которым именно его финансовая политика явилась основной причиной упадка крестьянского хозяйства, были предвзятыми. Форсированное развитие промышленности лишь ускорило процесс постепенного падения крестьянских хозяйств, в основе которого лежало сохранение после 1861 г. полукрепостнических пережитков в аграрном строе во всех их проявлениях. Налоговые тяготы, испытываемые крестьянством в связи с покровительством промышленности, накладывались на обременительные выкупные платежи, непосильность которых признавалась задолго до прихода Витте к руководству российскими финансами. Большие основания имел под собой упрек в отвлечении от производительного использования средств, израсходованных на дальневосточную авантюру царизма. Но эта авантюра закономерно вытекала из классовой природы самодержавия.
Промышленный кризис начала XX в. привел к усилению полемики вокруг общего направления экономического курса страны.
Как справедливо отмечал Б. В. Ананьич, кризис выявил реальные противоречия политики Витте, использовавшего для капиталистического развития России феодальную по своей природе систему государственного управления и своими мерами по государственной поддержке промышленности препятствовавшего в конечном счете естественному развитию капиталистических отношений.12 Тяжелое положение металлургической и металлообрабатывающей промышленности, вызванное мировым кризисом, усугублялось тем, что эта промышленность с самого начала была ориентирована на казенные заказы, связанные с железнодорожным строительством. Когда же бюджетное перенапряжение привело к сокращению таких заказов, тяжелая индустрия не смогла (и не захотела) приспособиться к спросу внутреннего частного рынка, каким бы недостаточным он ни был. Спасая плоды своих усилий, правительство вынуждено было прибегнуть к внеуставным ссудам металлозаводчикам и к негласно
202
му содействию синдицированию металлоиндустрии, перечеркнувшему расчеты Витте на снижение цен на ее продукцию по мере роста производства.
Представители аграрных кругов делали из кризиса вывод об ошибочности всей предшествующей экономической политики и о необходимости преимущественной поддержки сельского хозяйства. Так, государственный контролер П. Л. Лобко в отчете за 1902 г. утверждал, что наступила пора ликвидации «увлечений по насаждению у нас промышленности», ибо ее можно развивать, лишь предварительно подготовив внутренний рынок, основанный на «цветущем земледелии».13 Тогда же В. И. Гурко писал, что искусственное насаждение промышленности лишь отрывает крестьян от земли и в конечном счете само себя тормозит ограничением платежеспособного спроса населения, в то время как сельскохозяйственное производство может расти «почти беспредельно и притом без всякого соотношения с народными достатками».14 Эти и подобные заявления отражали все большую озабоченность в верхах бедственным положением крестьянства, весной 1902 г. уже приводившим к открытым антипо-мещичьим выступлениям. Стремление сохранить незыблемым помещичье землевладение побуждало правящие круги искать выход в частичном снятии остроты земельного вопроса за счет переселения крестьян в восточные районы России и за счет агротехнических мер повышения доходности крестьянского хозяйства в границах существующего землепользования.
В круг задач, связанных с поднятием уровня крестьянского благосостояния, ставилась и поддержка кустарного промысла. Сама по себе необходимая, такая поддержка рассматривалась как создание реальной альтернативы крупной индустрии и капитализму. В изданном МЗиГИ «Обзоре кустарных промыслов в России» утверждалось, что предпочтительное покровительство кустарям создало бы «естественный и верный путь» для развития и крупной промышленности, не нуждающейся в таможенном протекционизме. Иными словами, России предлагалось повторить процесс роста фабричного производства из ремесла в условиях, когда в соседних странах уже существовали промышленные монополии, жаждущие внешних рынков.
В сложившейся ситуации Витте на открывшемся в феврале 1902 г. Особом совещании о нуждах сельскохозяйственной промышленности было важно обсудить не только крестьянский вопрос (эта сторона Совещания наиболее подробно исследована М. С. Симоновой),15 но и ряд экономических проблем. По-прежнему считая малоэффективными прямые вложения капитала в сельское хозяйство, Витте, как и раньше, предпочитал воздействовать на последнее через общее экономическое развитие страны (главным рычагом которого оставалось железнодорожное строительство) и через организацию хлебной торговли. Между тем в 1902—1903 гг. уже наметился поворот к сокращению строительства железных дорог на средства казны, а увеличение роли частного капитала требовало существенного пересмотра условий его допуска. Витте же нуждался в немедленном
203
росте строительных работ, которые обеспечили бы увеличение рынка для металлургической промышленности и выход из экономического кризиса. С этой целью он попытался провести через Совещание программу строительства местных (облегченных) железных дорог и выражал готовность пойти на фиксацию очень значительных расходов на эту программу. Смысл маневра заключался в том, что местные дороги проходили бы по смете МВД под флагом содействия сельскому хозяйству.
В вопросе о хлебной торговле центральным был спор о том, следует ли, как того требовало дворянство, ставить на первое место интересы производителей и для этого усиливать государственное вмешательство в торговлю, или необходимо облегчить развитие в ней частнокапиталистических отношений в качестве условия приспособления к мировому рынку. Министерство финансов, естественно, не провозглашало самоустранения государства от хлеботоргового дела и собиралось оставить за собой возможность административного вмешательства в случаях, когда это будет сочтено необходимым. Но Витте боялся брать на государство ответственность за саму хлебную торговлю. Отвергнув предлагавшиеся аграрными кругами меры, целью которых было обеспечить землевладельцам определенный доход вне условий мирового спроса и предложения, Совещание заодно отклонило как преждевременное и создание всероссийской элеваторной сети.
С проблемами хлебной торговли был связан и вопрос, с обсуждения которого Витте, собственно, и начал Совещание. На рубеже XIX—XX вв. под свежим впечатлением мирового аграрного кризиса в помещичьей среде возникла идея резко увеличить экспорт мяса, сократив ради этого вывоз хлеба. Этот план, проповедуемый как выход из кризиса для дворянских имений, предполагал большие государственные затраты на поднятие животноводства у помещиков и на обеспечение вывоза мяса соответствующим оборудованием. За проектом стояли, кроме того, боязнь повышения германских пошлин на зерно по договору 1904 г. и стремление заменить германский хлебный рынок английским мясным. Между тем с 1896 г. в результате роста внутреннего потребления, вызванного развитием промышленности, и вследствие ряда неурожайных лет хлебный экспорт России временно сократился. Не возражая против частной инициативы в животноводстве и мясном экспорте, Витте отказывался от активного государственного содействия такому экспорту и предупреждал, что погоня за проблематичным мясным рынком может привести к тому, что «другие страны займут наше место на зерновом рынке».16 В создавшейся ситуации Витте был теперь сторонником увеличения производства хлебов, если оно не связано с казенными расходами, но хотел, чтобы Совещание разделило с ним ответственность за возможное падение цен.
Если, таким образом, Министерство финансов проводило на Совещании свою прежнюю линию на опосредованное воздействие государства на сельское хозяйство, то Ермолов и его ведомство продолжали доказывать необходимость непосредственного государ-204
ственного финансирования и кредитования сельского хозяйства. Частые засухи и усиливавшееся внимание правящих кругов к крестьянскому землеустройству ставили на повестку дня государственные мелиоративные работы. Требование таких работ получило широкое распространение в земской среде. В таких условиях полный отказ от бюджетных ассигнований, на чем раньше настаивал Витте, становился для финансового ведомства неудобным. В то же время проводившаяся с 1900 г. политика сокращения расходов, вызванная втягиванием России в дальневосточную авантюру, заранее делала притязания МЗиГИ на значительные ассигнования обреченными. Кроме того, декларации Ермолова о необходимости улучшения естественных условий сельского хозяйства не были подкреплены конкретно разработанными проектами. Поэтому Ермолов просил лишь признать принципиальную важность государственных мелиоративных работ и приступить к созданию соответствующего аппарата на местах. Совещание, однако, заявило, что борьба с естественными неблагоприятными для земледелия условиями не является самой настоятельной нуждой государства и населения, и отказалось от фиксации каких-либо ассигнований на эти цели.17
Значительно большие разногласия вызвал вопрос о мелиоративном кредите. МЗиГИ добивалось расширения круга кредитуемых сельскохозяйственных улучшений, увеличения посреднических функций земств (здесь имелись в виду и ссуды крестьянам, которые не могли представить требуемого законом ипотечного обеспечения), содействия земствам в борьбе против крупных фирм по производству сельскохозяйственного инвентаря, а главное — общего увеличения средств для мелиоративного кредита. Министерство финансов возражало против предоставления больших средств, подчеркивая, что нужда в мелиоративном кредите серьезно возникает лишь при массовом переходе к интенсивным формам хозяйства, включающем в этот процесс и крестьянские земли, а это невозможно без изменения системы землепользования. Для интенсификации же помещичьих хозяйств Витте предлагал поощрять частную инициативу в форме мелоративных товариществ. Рассчитывая на ослабление позиций Витте после его ухода из Министерства финансов, представители МЗиГИ, МВД и Государственного контроля выразили убеждение, что изыскание средств для мелиоративного кредита должно составить «задачу всей высшей финансовой политики государства», поскольку меры по поддержанию сельского хозяйства «настоятельно требуют осуществления».18 Реально при этом имелось в виду переключение на сельскохозяйственные цели части фонда сберегательных касс, использовавшегося Министерством финансов для нужд общегосударственного кредита. Начавшаяся русско-японская война привела к сокращению и без того незначительных ассигнований на мелиоративный кредит, а затем события 1905 г. на ряд лет сделали проблему мелиорации помещичьих хозяйств неактуальной.
Одним из центральных вопросов экономики сельского хозяйства был вопрос о мелком кредите. Вырабатывая свои предложения в этой области, Витте учитывал две цели: продемонстрировать непо-
205
средственную связь мелкого кредита с правовым и имущественным положением крестьянства и необходимость пересмотра крестьянского законодательства, с одной стороны, и отвергнуть обвинения в том, что его финансовая политика вообще и деятельность сберкасс в частности препятствуют развитию такого кредита — с другой. Витте и его сотрудники настаивали, что не только в России, но и в Западной Европе именно на постоянном приливе средств в сберегательные кассы держится весь государственный кредит, причем в России «сбережения народа и теперь идут на его нужды» в форме строительства железных дорог и других «общеполезных предприятий». При этом Витте постоянно подчеркивал, что и на мелкий кредит его ведомство сумеет выделить достаточные средства, если для такого кредита будет «найдена форма, применимая на практике».19
Речь шла в первую очередь об обеспечении ссуд, поскольку неотчуждаемость наделов и приоритет недоимок по казенным и мирским сборам делали ссудные операции учреждений мелкого кредита негарантированными. Представители Министерства финансов поэтому доказывали, что широкая постановка мелкого кредита «несовместима с настоящим положением имущественных правоотношений в сельском быту».20 На первой стадии обсуждения проблемы Министерство финансов избегало прямых указаний на необходимость залога надельной земли как основы кредита. Но именно это практически имелось в виду. А в начале 1905 г. Витте прямо сказал, что кредит, построенный «не на имуществе», есть кредит, «построенный на воздухе»?1
Поскольку Витте предполагал медленный пересмотр имущественных правоотношений крестьян в процессе добровольного выхода из общины, делавшего возможным залог надела, он предсказывал и медленный рост кредитных учреждений в деревне. Соответственно выделять средства на их поддержку он реально собирался на первом этапе в очень ограниченных размерах. С предупреждениями о необходимости осторожно и постепенно отпускать средства на мелкий кредит и не возлагать на него больших надежд выступал и постоянный оппонент Витте — Плеве. В целом решения Совещания о мелком кредите, а затем принятый на их основе закон 7 июня 1904 г. отражали переходный этап в подходе к крестьянскому законодательству вообще и вследствие этого к крестьянскому кредиту. В них сохранялись: 1) дуализм целей кредита — поддержание «крестьян, близких к разорению», и в то же время поддержание «экономически лучшего элемента»; 2) дуализм форм учреждений кредита — сословные ссудо-сберегательные кассы и бессословные кредитные товарищества и 3) дуализм их подчинения — соответственно МВД и Министерству финансов.
Столкновением целей МВД и Министерства финансов характеризовалось и обсуждение вопроса о направлении дальнейшей деятельности Крестьянского банка в 1903—1904 гг. Операции банка по покупке земли за свой счет, продленные в 1900 г. еще на 10 лет, все больше втягивали его в переселенческую политику, с той разницей, 206
что банк осуществлял переселение на частные земли и в пределах Европейской России. Это вызывало объективную необходимость согласования деятельности банка и Переселенческого управления МВД. При этом Витте рассчитывал увеличить роль банка в аграрной политике государства, а Плеве — подчинить его деятельность целям своего ведомства. Плеве считал необходимым прекратить помощь банка при покупке крестьянами помещичьих земель в пределах великорусских и малороссийских губерний и использовать тягу крестьян к земле в целях русификаторской политики в районах польского землевладения и в Закавказье, а также для освоения слабонаселенных районов Заволжья. Кроме того, Плеве видел задачу Крестьянского банка не в содействии развитию крестьянского хозяйства, неизбежно связанному с выделением зажиточной верхушки, а в предотвращении краха крестьянской массы.22 Это практически означало отказ от коммерческих принципов деятельности банка и превращение его в землеустроительно-попечительное учреждение, требующее постоянных казенных дотаций.
Одновременно обострился конфликт Витте и Плеве из-за Дворянского банка, в ходе которого Витте категорически отрицал возможность новых льгот его заемщикам, и без того подорвавших его финансы, и предлагал ориентировать банк на кредитование средних и мелких помещиков, что лишило бы предводителей дворянства и многих высших представителей бюрократии возможности пользоваться его средствами.
В этих условиях Плеве предпринял попытку вообще перевести Крестьянский и Дворянский банки в ведение МВД. Министерство финансов, вынужденное соглашаться на большее участие МВД в определении политики Крестьянского банка, отказывалось возложить на банк непосредственные землеустроительные функции, доказывая, что он в таком случае неизбежно утратит твердую почву в финансовых расчетах. Смерть Плеве и начало русско-японской войны, потребовавшей всех средств государства, прервали конфликт, но в перспективе более широкое вовлечение Крестьянского банка в общую землеустроительную политику царизма становилось неизбежным.
Русско-японская война и начавшаяся затем революция подвели черту под первым этапом полемики о направлении экономической политики России. В ходе этого этапа Витте удалось доказать необходимость форсированного развития крупной индустрии и последовательного осуществления для этого таможенного протекционизма, введения и сохранения золотой валюты и привлечения иностранных капиталов. Показательно, что ни один из этих принципов виттевско-го курса практически не ставился под сомнение на Особом совещании о нуждах сельскохозяйственной промышленности. За годы, в течение которых Витте находился во главе Министерства финансов, промышленный потенциал России значительно возрос. Даже постоянный противник Витте — Гурко говорил позднее, что «наше современное положение было бы тяжелее и не было бы оно даже безысходно, если тому назад 15 лет государство не оказало мощной поддержки делу насаждения и развития у нас фабрик и заводов».23
207
Но если, таким образом, царизм оказался способным, пусть в неадекватных стоявшим перед страной задачам формах и масштабах, ценой перенапряжения платежных сил крестьянства, совершить рывок в области промышленности, то задача повышения уровня сельского хозяйства оказалась для него непосильной.
Как уже указывалось, для вывода сельского хозяйства из кризиса требовались мероприятия как социально-политического, так и агротехнического характера. Последние предполагали прямые государственные капиталовложения на мелиоративные работы, пропаганду агрономических знаний и т. п. и, особенно, организацию сельскохозяйственного кредита. Низкая доходность сельского хозяйства определяла необходимость государственных гарантий для привлечения капиталов в учреждения такого кредита по примеру государственных ипотечных банков. Эту программу отстаивало МЗиГИ, как правило поддерживаемое МВД и Государственным контролем. Таким образом, оно надеялось с помощью агротехнических мероприятий залечить экономические и социальные язвы деревни. Эта цель была тем более недостижимой, что планы МЗиГИ были обычно не обеспечены конкретно разработанными проектами и, независимо от субъективных намерений составителей, несли ближайшие выгоды помещикам, а не основной массе сельскохозяйственных производителей — крестьянам.
Министерство финансов, напротив, доказывало неэффективность прямых государственных вложений в сельское хозяйство, дающее ничтожную ренту, и предпочтительность воздействия на него через развитие внутреннего рынка, а также невозможность интенсификации крестьянского хозяйства без изменения правовых условий, в которых оно функционирует. При этом финансовое ведомство не покушалось на весь комплекс крепостнических пережитков в деревне, ставя вопрос в основном лишь об отмене сословных правоограниче-ний крестьян и о постепенном переходе от общинного землепользования к «участковому», результаты которого, как писал Витте, скажутся, когда «я не буду уже свидетелем происходящего».24 Но именно на то отдаленное будущее Витте относил и распространение сельскохозяйственного кредита для крестьян, считая, что для удовлетворения нужды крестьян в нем потребуется 40—50 лет.
Иными словами, ни планы МЗиГИ, ни позиция Министерства финансов не создавали предпосылок развития сельского хозяйства в обстановке, когда кризис его сказывался на углублении социальных противоречий в деревне, подготовлявших массовые выступления крестьян в ходе революции 1905—1907 гг.
1 Замечания министра финансов на записку губернских предводителей дворянства о нуждах дворянского сословия. 1896//Исторический архив. 1957. № 4. С. 154.
2 Замечания министра финансов по поводу мнения 6 членов Государственного совета. 20 октября 1895 г. // ЦГИА СССР. Ф. 1152. Оп. 12. 1895. Д. 229. Л. 451.
3 Русский вестник. 1895. № 2. С. 375.
4 Соловьев Ю. Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX века. Л., 1973. 5 Там же. С. 292—295.
208
6 Исторический архив. 1957. № 4. С. 152.
7 Представление МГИ 31 октября 1893 г.//ЦГИА СССР. Ф. 1149. Оп. 11. 1893. Д. 102. Л. 19.
8 Соображения министра финансов о воспособлении сельскохозяйственной промышленности чрез посредство железных дорог [подписаны И. А. Вышнеградским и С. ГО. Витте] // Там же. Ф. 1683. On. 1. Д. 58. Л. 7—8.
9 См. подробнее: Дякин В. С. С. Ю. Витте и двухтомник «Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства»//Монополии и экономическая политика царизма в конце XIX—начале XX в. Л., 1987. С. 106—127.
10 Доклад министра финансов о росписи доходов и расходов на 1897 г.//Правительственный вестник. 1897. 1 января.
11 Корелин А. П. Сельскохозяйственный кредит в России в конце XIX—начале XX в. М., 1988. С. 160.
12 Кризис самодержавия в России. 1895—1917. Л., 1984. С. 43—45.
13 Всеподданнейший отчет Государственного контролера за 1902 г. СПб., 1903. С. 44—45.
14 Гурко В. И. Устои народного хозяйства России. Аграрно-экономические этюды. СПб., 1902. С. 82.
15 С и м о н о в а М. С. Кризис аграрной политики царизма накануне первой российской революции. М., 1987.
16 Протокол Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности 1 января 1903 г. // ЦГИА СССР. Ф. 1233. On. 1. Д. 23. Л. 237—238.
17 Журнал Особого совещания. . . // Вестник финансов, промышленности и торговли. 1904. № 18. С. 184—189.
18 Журнал Подготовительной комиссии для разработки вопросов организации мелиоративного кредита. 5—19 июня 1904 г. // ЦГИА СССР. Ф. 1233. On. 1. Д. 94. Л. 225, 243—244.
19 Протокол Особого совещания... 27 апреля 1902 г.//Там же. Д. 21. Л. 290; Объяснительная записка к отчету сберегательных касс за 1899 г. 21 февраля 1902 г.//Там же. Ф. 1152. Оп. 13. 1902. Д. 130а. Л. 5.
20 Протокол Особого совещания... 30 марта 1902 г.//Там же. Ф. 1233. On. 1. Д. 21. Л. 126.
21 Стенограмма Особого совещания... 5 февраля 1905 г.//Там же. Д. 19. Л. 53.
22 Кризис самодержавия в России. С. 63.
23 Гурко В. И. Наше государственное и народное хозяйство. СПб., 1909. С. 77.
24 Всеподданнейший доклад С. Ю. Витте 9 сентября 1901 г.//ЦГИА СССР. Ф. 560. Оп. 26. Д. 314. Л. 54.
14 Заказ № 1143
209
Р. Ш. ГАНЕЛИН
НИКОЛАЙ II, С. Ю. ВИТТЕ, И. Л. ГОРЕМЫКИН И ПРОЕКТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ КРУГОВОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
15 декабря 1898 г. инженер П. И. Балинский, сын известного психиатра И. М. Балинского и брат управляющего конторой двора великого князя Николая Николаевича полк. И. И. Балинского, купец I гильдии А. Д. Благодарев, почетный гражданин Р. А. Кенш и (по доверенности) бельгийский инженер А. Дельсем представили через петербургского градоначальника ген Н. В. Клейгельса проект Русско-бельгийского анонимного общества по постройке круговой железной дороги в связи со строительством центрального вокзала для С.-Петербурга. Речь шла о том, чтобы снести Обуховскую больницу, отстроив ее в другом месте «со всей роскошью и по последнему слову науки», а вместо нее соорудить центральный вокзал круговой железной дороги. Примером служила берлинская надземная дорога. Постройка включала бы в себя сооружение мостов, канализации, мостовых, освещения и т. д. Среди выгод своего предложения предприниматели называли расширение территории города, разрешение квартирного вопроса, удешевление грузовых перевозок. Пункт 3 проекта предусматривал, что «круговая железная дорога, проходя почти через все районы, где помещаются казармы войск и пожарные части, даст возможность их быстро и удобно на случай надобности стягивать в любое время и в любом данном месте», а пункт 5 гласил: «Захватывая в своем районе местности, подверженные наводнению, круговая железная дорога даст на первое время возможность приходить вовремя на помощь пострадавшим, а в более благоприятном будущем при дешевом своем тарифе позволит из местностей, лежащих выше Петербурга, к местам, подверженным наводнениям, доставлять в большом количестве и весьма дешево песок и землю. Таким образом, мало-помалу явится возможность подымать уровень низменных затапливаемых водою местностей, что будет в свою очередь способствовать разрешению простейшим и дешевейшим способом этого мно-
210
готрудного и насущного вопроса столицы, представляющего собой в настоящее время одно из величайших народных бедствий».1
Смысл ходатайства заключался в том, чтобы получить высочайшее разрешение на учреждение «Анонимного Русско-бельгийского акционерного общества» с основным капиталом в 150 млн. руб. путем выпуска акций на эту сумму, равную стоимости постройки. Завершить строительство предприниматели обещали через 5 лет (позже Балинский объяснял, что имелось в виду сделать это к 200-летию Петербурга2). Они просили исключительных прав на эксплуатацию дороги на 90 лет, после чего она безвозмездно должна была перейти в собственность города, обещали использовать при постройке материалы только русского производства и не просили правительственной гарантии. Однако обязательным условием они ставили, всячески это подчеркивая, согласие царя — «того державного хозяина, от единственной воли которого и зависит разрешить это предприятие».3
Впрочем, через месяц с небольшим, 25 января 1899 г., была подана дополнительная записка об изменении «ввиду некоторых обстоятельств» условий только что представленного проекта. Общество предполагалось переименовать в Русско-английское, поскольку «все необходимые суммы на осуществление данного предприятия, как оказалось в настоящее время, будут исключительно английские». Затем испрашивалась «условная правительственная гарантия в размере от 3 до 4 % на всю стоимость предприятия (*/4 условно гарантированных правительством акций и 3/4 условно гарантированных облигаций). «В чем заключалась сия условность, точно объяснено не было», — такое примечание к пункту о правительственной гарантии было сделано в составленной позже справке департамента железнодорожных дел Министерства финансов.4 Вероятно, именно для оправдания правительственной гарантии в дополнительной записке был сделан упор на обещание спасти столицу от наводнений, которое в первоначальном проекте фигурировало — мы только что это видели — как дело «более благоприятного будущего». «Общество круговой железной дороги считает необходимым пояснить в настоящее время, — гласила записка, — что кроме всех вышеуказанных привилегий, прав и доходов, которые будет иметь г. Петербург вследствие постройки в нем круговой железной дороги, он получит еще нижеследующую колоссальную единовременную прибыль от засыпки и подъема низменных местностей Васильевского острова, подверженных ежегодным наводнениям». Балинский и его компаньоны обещали теперь «в течение весьма короткого срока» безо всяких затрат городских средств поднять принадлежащую городу местность, занимаемую Гаванским полем, Смоленским полем и Маркизовой лужей, путем ее засыпки песком, доставляемым по дороге, которую они намеревались построить. Эту местность, «в настоящее время совершенно бесполезную и бездоходную», они намеревались превратить во «вполне гигиеничную, не подверженную уже наводнению, стоящую в самых лучших санитарных условиях, удобную для застройки и к заселению». Они прельщали тем, что
14*
211
земли эти приобретут «громадную ценность», которую «в настоящее время даже трудно предугадать».5 Составленный просителями расчет исходил из того, что подлежащая спасению от наводнений площадь составляла около 300 тыс. кв. сажень и оценивалась до засыпки и поднятия от 2 до 10 руб. за кв. сажень, а после засыпки могла бы продаваться городом частным лицам по цене от 30 до 50 руб. Возможный доход города исчислялся в сумме от 9 до 15 млн. руб.
«Различные прожектеры», писали Балинский и его компаньоны, предлагали рыть на Васильевском острове каналы и извлеченной при этом землей поднимать низменные места либо брать для этого песок из близлежащих отмелей с помощью землечерпательных машин. Однако этого, по словам записки, хватить никак не могло, и только строительство предлагавшейся дороги могло решить дело. «Это реальное применение круговой железной дороги к уничтожению одного из самых давних ежегодных и ужасных бедствий Петербурга ставит ее на первый план в ряду современных нужд столицы», — говорилось в записке.6 Расчет здесь был на то, чтобы прельстить идеей предотвращения наводнений самого царя. И это удалось. «Государь с большим интересом отнесся к этому проекту, увлекаясь главным образом мыслью обеспечить Петербург от ежегодных наводнений, не будучи в состоянии заметить несбыточность предположений проекта именно в этом отношении», — отметил в своих дневниковых записях 8 ноября 1899 г. жандармский генерал В. В. фон Валь, заинтересованный и осведомленный наблюдатель политических событий.7 Как сообщил Балинский своим иностранным компаньонам, на его проекте появилась царская резолюция: «Давно пора бы сделать».8 Такой или подобной резолюции нам обнаружить не удалось скорее всего потому, что Балинский не сумел ее получить, хоть это и не помешало ему уверять иностранцев в ее существовании.
Однако покровительство царя Балинскому и его компаньонам было, как мы убедимся, упорным и длительным. «Главными финансовыми двигателями этого дела, — писал фон Валь, — являлись два иностранных капиталиста — в Париже Захаров (офранцузившийся русский) и в Лондоне сэр Джон Джексон».9 Базиль Захаров (1850—1936), компаньон английской военно-промышленной фирмы Виккерс, был поставщиком петербургских военного и морских ведомств. Полурусский, полугрек, он в течение нескольких десятилетий вел торговлю оружием в качестве английского и французского предпринимателя. Фирма Виккерс ценила его уменье проникать на отдаленные рынки с использованием «местных коммерческих нравов».10 Джексон был видным английским инженером-строителем, сооружавшим по заказу английского правительства новый порт на берегу Ламанша. Захарова привлек к делу находившийся с ним в дружеских отношениях П. М. Зеленко, сестра которого Е. М. Петрова была замужем за генералом Н. И. Петровым, начальником входившего в Министерство внутренних дел Главного управления почт и телеграфов, и пользовалась особым расположением министра И. Л. Горемыкина. Джексона ангажировал еще один ходатай по различным делам
212
в петербургских ведомствах кн. Бебутов. Как рассказал позже Захаров агенту Министерства финансов в Лондоне С. С. Татищеву, опрашивавшему его по поручению министра С. Ю. Витте, Балинский, предложив ему свой проект в Монте-Карло в январе 1899 г., уверял, что пользуется покровительством «многих влиятельных и высокопоставленных особ в России, при содействии которых можно рассчитывать на получение крупной правительственной гарантии», и сообщил о приведенной нами царской резолюции, якобы полученной Горемыкиным.11 Но перед тем как вместе с Джексоном отправиться в Петербург, Захаров все же потребовал телеграфного сообщения о том, что царь в принципе согласен с проектом. С ведома Горемыкина такая телеграмма была ему отправлена.12 Однако в Петербурге в марте 1899 г. Захаров и Джексон своего не добились. Витте, по словам Захарова, заявил им, что не даст правительственной гарантии «ни под каким видом, так как не считает возможным оттяг-чать новым расходом почти в 8 млн. руб. и без того обремененный государственный бюджет».13
Совещание под председательством председателя департамента государственной экономии Государственного совета Д. М. Сольского в составе министров внутренних дел, финансов, путей сообщения и государственного контролера, которое было образовано царем для рассмотрения предложения Балинского и его компаньонов, нашло «основную мысль проекта. . . заслуживающей внимания», особенно в связи с засыпкой низменной части Васильевского острова, но в правительственной гарантии отказало. 3 апреля 1899 г. это решение было утверждено царем.14
Отношения между Витте и Горемыкиным благодаря этому значительно обострились. Нам приходилось уже писать о том, что обвинения, которыми они между собой обменивались, относились и к привлечению иностранного капитала. Оба прибегали при этом к содействию заграничных агентов департамента полиции. Те в ущерб прямым своим обязанностям — слежке за революционными эмигрантами не только собирали для каждого из двух министров сведения о неблаговидных связях другого с иностранными дельцами, но и сами устанавливали такие связи, грея на этом руки.15
«Протест министра финансов, — писал фон Валь, — крайне озлобил Горемыкина, решившего во что бы то ни стало сломать это сопротивление либо самого министра. . . Через директора Департамента полиции Горемыкин приказал политическим агентам департамента за границей установить наблюдение за агентами Министерства финансов с целью обнаружить факты, могущие компрометировать Витте. . . В то же время при посредничестве Балинского и Зеленко состоялось соглашение с Захаровым, по которому в расходы по предприятию внесена сумма в 13 миллионов для вознаграждения лиц, которые окажут содействие к осуществлению проекта с гарантией от правительства. Самые крупные суммы предполагались Горемыкину и Клейгельсу, а затем предложена была крупная сумма лейб-акушеру Отт ввиду приближенного его положения к царской семье и близких отношений к семейству министра финансов, если он
213
сломит сопротивление последнего. После некоторого торга Отт согласился принять на себя эту роль за 3 миллиона, которые Захаров обязывался положить в иностранные кредитные учреждения, где Отт должен был получить их после разрешения гарантии. Об этом состоялся обмен писем [между] Захаровым и д-ром Отт. Условием притом было поставлено еще и то, чтобы дорога непременно образовала полный круг, что давало возможность несоразмерно увеличить стоимость проекта, т. е. и суммы, гарантированной правительством».16
Дело казалось Захарову и Джексону таким верным, что они не остановились перед тем, чтобы потратить собственные деньги на экспертизу проекта. Когда впоследствии Татищев спросил Захарова, как могли они пойти на это «ввиду полной безнадежности гарантии», тот «возразил, что надежда получить ее не была ими утрачена, так как им говорили, что проект нравится самому государю и что стоит заинтересовать в деле лиц, пользующихся значением и влиянием в правительственной среде, чтобы заставить министра финансов изменить свое решение». «„Кого же? Министров?" — спросил я. — „И выше", — был ответ Захарова», — докладывал Татищев Витте.17
В октябре того же 1899 г. Горемыкин вместе с Е. М. Петровой отправился в Париж и Лондон для переговоров с Захаровым, Джексоном и другими английскими капиталистами, обнадеживая их в самых недвусмысленных выражениях относительно своего покровительства их будущим предприятиям в России и их доходности. Три дня гостил он на строительстве порта у Дж. Джексона. Но вдруг во время этого путешествия он был смещен со своего поста.
«Поведение Горемыкина в Париже, где он ради большего воздействия на финансовые круги слишком выставлял свое официальное положение министра и даже вдавался в неосторожные политические суждения, вызвало затруднения в нашем министерстве иностранных дел, вследствие чего граф Муравьев (министр иностранных дел. — Р. Г.) принес жалобу государю и просил вызвать Горемыкина из Парижа. К этому, как рассказывают, присоединились сведения, полученные государем от императрицы Марии Федоровны из Копенгагена и великого князя Сергея Александровича из Москвы о финансовых предприятиях Горемыкина в Лондоне и настоящем значении пресловутого проекта круговой дороги, и это, наконец, убедило государя уволить эту грязную личность. К сожалению, увольнение его не прекратило действие шайки Петров— Зеленко, только несколько изменило ее центр тяжести», — писал фон Валь.18 «Шайке» удалось воздействовать и на нового министра внутренних дел Д. С. Сипягина с помощью знакомой ему супружеской четы А. М. и А. И. Петровых. Как и Е. М. Петрова, А. М. Петрова была урожденной Зеленко, а сенатор А. И. Петров — братом ген. Н. И. Петрова и так же, как и тот, в прошлом — крупным чиновником ведомства внутренних дел. Благодаря сенатору, утверждал фон Валь, удержались и его брат в министерстве, и Клейгельс на посту петербургского градоначальника. Вместе с Клейгельсом по-прежне
214
му хлопотал за проект Балинского и Горемыкин, считавший, что заинтересованность в деле царя обеспечит успех ходатайства.
Высочайшее покровительство проекту действительно не прекращалось. В январе 1900 г. во время одного из всеподданнейших докладов царь заявил Витте, что в следующий раз будет говорить с ним о Петербургской окружной дороге.10 В составленной, по-видимому, для предстоявшего разговора Витте с царем справке департамента железнодорожных дел Министерства финансов указывалось, что 18 января 1900 г. Балинский словесно заявил в департаменте, что проект разрабатывается в Лондоне английскими инженерами, речь идет об участии в деле четырех английских банков, и в ближайшее время предприниматели войдут с новым ходатайством. В нем, — сообщал предварительно Балинский, — взамен испрашивавшейся прежде условной гарантии на весь капитал на 90 лет имелось в виду просить абсолютной гарантии только облигационного капитала, который должен был составить 3/4 всего строительного, в размере 3 % на первые десять лет действий общества.20
Мы не знаем содержания беседы царя с Витте, но уже 3 марта царь заговорил о проекте с министром путей сообщения М. И. Хил-ковым,21 а 29 апреля Балинский и его петербургские партнеры подали Сипягину свои новые предложения, основанные по-прежнему на правительственной гарантии. Как мы знаем, они и прежде ставили во главу угла царскую волю. Теперь же они писали: «В настоящее время ввиду особого внимания, высказанного высшею правительственной властью по отношению нашего проекта, и ввиду того, что воля державного хозяина Петербурга нам стала известна, мы нашли своевременным и необходимым сообщить об этой высокой милости, постигшей нас, английским капиталистам, с которыми мы вошли в соглашение для осуществления данного предприятия. Последние по получении вышеозначенного уведомления и ввиду особого его значения выразили немедленно полное свое согласие (оформленное письменно) на командировку своих инженеров для производства изысканий на месте».22 В прошении далее сообщалось, что в июне 1899 г. изыскания были завершены и инженеры вернулись в Лондон для детальной разработки проекта, которую завершили ко времени подачи прошения. Оно было основано не только на упованиях на царскую милость, но и на техническом авторитете как Джексона, так и сэра Бэкера, строителя знаменитого моста через Фортский пролив, многочисленных английских портов, плотины на Ниле и других сооружений, крупнейшего авторитета в области постройки надземных и подземных городских дорог, без согласования с которым, как говорилось в прошении, во всем мире не приступают к выдающимся строительствам. Кроме того, в прошении указывалось, что готовы принять участие в деле несколько сильнейших лондонских банков во главе с одним из самых крупных в мире — «Бакклей и К0». Уполномоченный английских компаньонов инженер Дж. Г. Иди, указывали заявители, уже прибыл в Петербург с разработанными планами.23
Витте, однако, стоял на своем и поручил агенту Министерства финансов в Лондоне Татищеву сбор за границей таких сведений,
215
которые выявили бы покровительство Балинскому со стороны Горемыкина. Донесение Татищева 14 (27) июля 1900 г. о беседе с Джексоном подтверждало: приглашая англичанина к участию в синдикате, Захаров, Балинский и Бебутов заявили ему, что в деле «заинтересованы многие высокопоставленные лица в России». В донесении речь шла о посредничестве Зеленко между Балинским и Горемыкиным и о том, что «если дело состоялось бы и правительственная концессия была бы дарована, то русские предприниматели выговорили крупное денежное вознаграждение от английского синдиката для себя и для своих патронов».24
Но для Витте этого было мало, и заведующий Общей канцелярии Министерства финансов А. И. Путилов по поручению министра предписал Татищеву «выяснить по возможности обстоятельно и документально имена и степень участия тех высокопоставленных лиц в России, которые, как заявил Вам и сэр Джексон, заинтересованы в деле получения концессии на постройку Петербургской круговой дороги».25 Результатом было уже цитированное нами донесение Татищева 25 сентября (8 октября) 1900 г. о его разговоре с Захаровым. Тот был совершенно неистощим, хоть и заявил потом Балинскому, что «весьма недоволен» этим разговором, который Балинский в утешение Горемыкину назвал «некрасивым и неумелым допросом».26
Отчетливо представляя себе смысл данного ему поручения, Татищев писал Витте: «Я изложу здесь из его рассказа лишь то, что еще не дошло до Вашего сведения и преимущественно касается его личных сношений с бывшим министром внутренних дел Горемыкиным». Изложив уже известный нам рассказ Захарова о том, как Балинский и Горемыкин обещали ему и Джексону преодолеть сопротивление Витте, заинтересовав влиятельных лиц более высокого, чем министры, положения, Татищев продолжал: «На мой прямой вопрос, не обещали ли Захаров и Джексон кому-либо в России денежного вознаграждения в случае получения ими концессии с гарантией, Захаров отвечал: ,,Мы ничего никому не обещали, предоставив это Балинскому, который лучше нас знает, как ведутся подобного рода дела в России"».
«Изложив вкратце суть пространного рассказа Захарова, — заключал Татищев, — позволяю себе заметить, что, на мой взгляд, из него ясно следует, что если не англичане, то русские учредители, Балинский и два его компаньона, искали заинтересовать в своем предприятии влиятельных и высокопоставленных лиц, при содействии которых надеялись получить концессию и четырехпроцентную гарантию на капитал в 200 млн. руб., и в числе этих лиц был несомненно г. Горемыкин».27
При всей выразительности татищевских донесений Витте удалось с их помощью добиться не срыва всего предприятия, а лишь отказа Балинского от гарантии. После переговоров с Витте и Сипягиным Балинский письмом 7 января 1901 г. сообщил Сипягину о своем отказе от гарантии «ввиду новых данных. . . со стороны других иностранных капиталистов» и просил правительственной концессии 216
на три года.28 Уже 9-го Сипягин просил Витте внести проект Балийского на рассмотрение комиссии о новых железных дорогах. В новом варианте проекта, представленном 1 февраля 1901 г., дорога была названа метрополитеном, ее сооружение предполагалось в качестве надземной на высоте от 5 до 10 метров от уровня улицы. По-прежнему в связи с постройкой речь шла об ограждении низменной части города от наводнений, причем условия Балинского по этому пункту были согласованы с городом.29 Они предусматривали поднятие «300 тыс. кв. сажен городской земли до высоты 12 футов выше ординара Невы на Васильевском острове» (на Смоленском поле и в Гавани) и в Коломенской части, в указанных городом местах, причем работа эта должна была завершиться не позже, чем через 3 года после начала работ по сооружению дороги. В случае если бы город пожелал увеличить площадь засыпки или произвести ее в других местах, концессионеры обязывались «произвести это с оплатой по 4 руб. с куб. сажени с подвозкой, засыпкой и утрамбовкой земли в согласованные с городом сроки».30 «За оказание полного возможного содействия к осуществлению предприятия» высказался известный строитель дорог проф. Н. А. Белелюбский, подчеркнувший, впрочем, что окончательная техническая экспертиза еще невозможна.31
В комиссии о новых железных дорогах за проект горячо ратовал Клейгельс.32 Сипягин следил за ходом заседаний внимательнейшим образом. Представители МВД, высказываясь в комиссии в пользу проекта, заявили, что предусмотренное им строительство мостов «приобретет особую важность, потому что С.-Петербург — город вообще бедный», соорудить мосты за свой счет при их бездоходности не может. Кроме того, они считали, что хотя домовладельцы центральной части города понесут известный ущерб от переселения жителей на окраины при их застройке вдоль линий новой дороги, «тем не менее для интересов всего города, взятого в целом, постройка дороги принесет огромную пользу».33 «Объяснения г. Балинского, невзирая на некоторую их риторичность, в общем производят удовлетворительное впечатление». «Представителями технических учреждений проект признан вполне осуществимым. . . я высказался решительно за допущение осуществления предприятия», — докладывал Сипягину представитель МВД С. Е. Крыжановский, сообщив, что представители города в комиссии разделились. Городской голова П. И. Лелянов и В. А. Тройницкий относились к идее безусловно отрицательно, А. П. Веретенников — сочувственно при условии большего приспособления предприятия к нуждам города. «При этом не могу не доложить, — писал Крыжановский Сипягину, — что в вопросах, предлагаемых представителями Министерства финансов, сквозит отрицательное отношение к идее этого предприятия, это отношение имеет отчасти почву в нежелании Балинского выяснить ближайшим образом финансовые условия предприятия и допустить материальный контроль над соответствием действительной стоимости сооружений их балансовой оценке».34
Со всей очевидностью это проявилось 17 февраля, когда возник
217
вопрос, стоит ли продолжать работу комиссии при том, что Витте категорически отказывает концессионерам в таможенных льготах на ввоз металлических материалов, а Балинский заявляет, что без этих льгот предприятие осуществиться не может. Решено было все же работу комиссии продолжить. А на последнем заседании, 22 февраля, вопреки проводившему точку зрения Витте Циглеру, члены комиссии настояли на обсуждении таможенных льгот, «и мнение министра финансов осталось одиноким», докладывал Сипягину Крыжа-новский.35 Комиссия выставила около 30 условий для осуществления проекта, среди которых был и пункт о засыпке Васильевского острова. Возникли и разногласия между городом и комиссией, не желавшей давать ему права выкупа дороги до истечения срока концессии.
Работа комиссии широко освещалась в печати. «Санктпетербург-ский листок» печатал статьи за и против проекта. Высказываясь против, он настаивал на законном праве городской Думы самой решать вопрос и требовал вывести его «из застенка тайных совещаний на открытое обсуждение Думы».36 В другой статье, требовавшей, чтобы город решал лишь хозяйственную часть дела, а техническую — «ученые общества. . .», позиция оппонентов Балинского определялась как противостояние всему новому по принципу: «Очень он старается, должно быть — мошенник».37 «Новое время» противопоставило проекту Балинского проект сооружения городской дороги такого же типа, как все подходящие к Петербургу пути (с такой же колеей и паровым движением), который излагался в нескольких номерах газеты.38
Решительно поддерживал проект Балинского «Гражданин» царского фаворита В. П. Мещерского,39 а отвергал его всегда тесно связанный с Витте инженер Н. А. Демчинский. «Нужны ли для Петербурга всякие Ring’n? — писал он в газете «Россия». — Мы задыхаемся в нечистотах, из наших рядов выбывают в сумасшедшие дома на 60 % больше, чем в любой столице Европы, благодаря специально придуманному орудию пытки — булыжным мостовым, мы не знаем, что такое приличный извозчик, наконец нам некуда класть наших больных, и вдруг нам-то ездить по эстакадам или непременно с Казанской площади на дачу!. . А вот не хотите ли взять концессию на замену чем-либо более приличным той чрезвычайно открытой системы ассенизации, от которой в Петербурге в час ночи дышать нельзя?»40
3 мая 1901 г. по докладу Сипягина царь повелел безотлагательно передать дело на рассмотрение комиссии Сольского.41 Виттевское ведомство продолжало вести борьбу против проекта. В специальной справке, составленной департаментом железнодорожных дел, отмечалось, что метрополитен Балинского для Петербурга дорог, у города имеются более насущные потребности, в частности санитарного характера, общегосударственного значения проект не имеет, а в городских целях предпочтительнее наземный или подвесной трамвай. Мало того, в ней выдвигались еще два возражения. Хотя в правительственной гарантии Балинскому отказано, указывалось в справ
218
ке, самый характер рассмотрения дела в правительственных верхах может напрасно обнадежить иностранных капиталистов. А против одобренных в комиссии о новых дорогах таможенных льгот комиссионерам была употреблена угроза закрытия русских заводов и безработицы, «что может грозить серьезной опасностью для государства».42 Циглер в марте счел «более практичным, чем проект инженера Балинского», предложение американца М. Вернера при участии петербургского дельца Э. К. Грубе о разрешении образовать общество для сооружения и эксплуатации петербургского трамвая.43
На совещании Сольского, заседавшем 26 мая 1901 г., Витте пришлось выступить против проекта с обстоятельной речью, призывая к «особой осмотрительности». Для сбора капитала учредители несомненно используют «то соображение, что русское правительство не допустит приостановки работ в столице и резиденции государя императора, раз эти работы им разрешены», — говорил он.44 Хотя по закону разрешение на учреждение компании, данное правительством, не означало его ручательства в успехе предприятия, это не избавит правительство от ходатайств о поддержке, предупреждал Витте, если дела предпринимателей пойдут плохо. Отказ же будет опасен как с точки зрения привлечения иностранного капитала, так и особенно в данном случае. Витте был прав, объявляя уверенность предпринимателей в неизбежности помощи правительства, коль скоро оно даст разрешение на постройку, «до известной степени не лишенной оснований». Как мы видели, Балинский возлагал все свои надежды именно на царское благоволение, видя в нем нечто большее, чем финансовая гарантия. Витте заявил также, что переброска грузов с одной дороги на другую в Петербурге не нужна, так как Петербург — не узловой, а конечный железнодорожный пункт, транзитные грузы к нему следуют водным путем. Сипягин должен был уступить.
Совещание признало проект слишком дорогим, задуманным в чрезмерно широких размерах. Балинскому было отказано, а разработку вопроса об улучшении способов передвижения решено было поручить министру внутренних дел.
Витте приходилось бороться против покровительства проекту буквально не покладая рук. В день совещания Сольского, 26 мая, Циглер по телеграфу просил Татищева обратиться к Ротшильду и «другим первоклассным банкирам» за сведениями о «кредитоспособности и серьезности» заграничных компаньонов Балинского. Разумеется, никаких сомнений по этому поводу Татищев сообщить не мог.45 Ему было также поручено снова обратиться прямо к Захарову, который письменно ответил, что они с Джексоном — а кроме них в компанию с Балинским никто не вступал, и фирма Виккерс как таковая в деле не заинтересована — от гарантии не отказывались и ставят ее обязательным условием своего участия. Но ответ свидетельствовал и об уверенности англичан в успехе предприятия. «Захаров и Джексон потому не обращались непосредственно с своими предложениями к императорскому правительству, — сообщал Тати
219
щев, — что, по мнению их, не настало еще время для них деятельно участвовать в переговорах».46
Эти письма Татищева были немедленно затребованы у Витте Сольским для представления совещанию и докладу царю. Витте добавил к ним и известные нам донесения Татищева от 14 июля и 25 сентября 1900 г. с результатами опросов Захарова.47 7 июня Сольский, государственный секретарь Лобко, министр путей сообщения Хилков, обер-прокурор Синода Победоносцев и Сипягин получили эти документы, 8-го Лобко сообщил Витте о своей поддержке отрицательного отношения к проекту,48 а 12-го царь утвердил журнал совещания Сольского, предписав, однако, Сипягину обсудить с другими ведомствами вопрос об улучшении способов передвижения населения столицы.49 3 августа он удовлетворил ходатайство Балинского о возмещении расходов на разработку проекта. По письму поддерживавшего это ходатайство Сипягина царь распорядился выдать Балинскому вместо запрошенных 155 тыс. руб. 100 тыс. «во внимание к исключительным обстоятельствам, при которых последовала разработка просителем указанного проекта».50
Обстоятельства эти, как всем причастным к делу было ясно, заключались в царском покровительстве. Надеясь на его продолжение, Балинский не стал брать щедрого отступного, а возобновил свои хлопоты. В соответствии с распоряжением царя с начала ноября 1901 г. до конца февраля 1902 г. комиссия при хозяйственном департаменте МВД рассмотрела двадцать предложений, в том числе дворянина И. Р. Романова и инженера К. Н. Кашкина, которые, проектируя подвесную элекрическую дорогу в Петербурге, построили с разрешения вдовствующей императрицы Марии Федоровны на территории Гатчинского дворца образец своей дороги и катали царскую семью, и известной американской фирмы Вестингауз, обещавшей к 200-летию столицы электрифицировать существовавшие наземные пассажирские пути.51 Комиссия при хозяйственном департаменте МВД к определенным решениям не пришла.52
Но Балинский опять получил поддержку царя. На сей раз он ходатайствовал о предоставлении ему права образовать два акционерных общества: одно — вместе с уже упоминавшимся американцем М. Вернером, с которым они теперь объединились для устройства в Петербурге электрических трамваев и электрической соединительной ветви внеуличного типа между внутренними и финляндскими железными дорогами, другое — совместно с инженером Е. К. Кнорре для устройства и эксплуатации в Москве электрических трамваев и сети городских электрических дорог внеуличного типа.53 7 июня 1902 г. Витте должен был просить у царя аудиенции для Балинского и Кнорре, намеревавшихся представить проект московских городских железных дорог большой скорости (метрополитена). Аудиенция была назначена одному Балинскому на 14 июня. А 29 июля Балинский сообщил Витте, что готов к представлению царю и проект его петербургского предприятия, одобренный накануне министром внутренних дел В. К. Плеве. 12 июля царь предписал рассмотреть новые
220
предложения Балинского в Особом совещании под председательством Плеве.54 Затем он образовал еще предварительную комиссию.
Если раньше Балинский использовал для привлечения к своему проекту царского внимания обещание избавить столицу от наводнений, то теперь он избрал для этого вопрос о соединении внутри-российских железных дорог с финляндскими. Инициатива в этом принадлежала финляндскому генерал-губернатору Н. И. Бобрикову, который видел в такой мере одно из средств обрусительной политики и 16 марта 1901 г. добился царского повеления о создании комиссии для обсуждения постройки соединительного пути.
Поначалу совещание Плеве, заседавшее 12 февраля 1903 г., одобрительно отнеслось к этой стороне проекта Балинского. «Предложение Балинского и Вернера, — указывалось в журнале, — могло бы. . . приобрести особое значение, освобождая государственное казначейство от крупного расхода на сооружения по соединению финляндской железнодорожной сети с внутреннею, который при невозможности возложить его на финляндскую казну должен вместе с издержками по эксплуатации ввиду вероятной бездоходности предприятия падать на общегосударственные средства». Но тут же выяснилось, что с интересами города совместить это невозможно, так как комиссия по соединительному пути решила место соединения дорог от него удалить.55
В конце концов финляндская часть проекта повредила петербургской. Совещание сочло, что предприниматели рассчитывают на очень уж большой доход от столичного трамвая, если готовы строить убыточную соединительную ветвь. Это стало одной из причин отклонения проекта в его петербургской части. Хотя по отношению к Петербургу расчеты были признаны правильными (Балинский исчислял строительный капитал для Петербурга в 120, а для Москвы в 155 млн. руб.), Лелянов заявил, что город может и сам осуществить это. Московскую же часть, признанную недостаточно разработанной, решено было передать на рассмотрение московского генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича.56 Теперь Балин-скому оставалось попросить о выдаче 100 тыс. руб. отступного, назначенного ему царем в 1901 г.57
Впрочем, он вовсе не исчез с горизонта, а, наоборот, стал видным предпринимателем в военной промышленности. Как видно из его переписки с Горемыкиным в 1908 г., его связи с Захаровым и Джексоном сохранились и развились, оба англичанина снова бывали в Петербурге, участвовала в делах и сама фирма Виккерс, через Горемыкина добивались поддержки у министра финансов В. Н. Коковцова, речь шла о заказах на постройку крейсеров.58 Судя по всему, не лишился Балинский и царского благоволения. Честолюбивое желание стать спасителем Петербурга от наводнений толкнуло Николая II на путь покровительства проекту, поддержанному Клей-гельсом и Горемыкиным отнюдь не из «чисто патриотического сочувствия», как изображал дело Балинский в письме Горемыкину по поводу его увольнения с поста министра.5^ Позиция органов правительственного и городского общественного управления, усилия Витте
221
воспрепятствовали воле «державного хозяина», которую Балинский считал единственно решающей, но деловой репутации Балинского в «сферах» это не повредило, как не помешали политической репутации Горемыкина обстоятельства его отставки в 1899 г.
1 ЦГИА СССР. Ф. 268. Оп. 3. Д. 718. Л. 12.
2 Там же. Л. 213.
3 Там же. Л. 15.
4 Там же. Л. 21—22, 30.
5 Там же. Л. 21—22.
6 Там же. Л. 23.
7 Записки В. В. фон Валя // Отдел рукописей Гос. публичной библиотеки. Ф. 127. № 6. Л. 15.
8 Татищев — Витте, 25 сентября (8 октября) 1900 г. // ЦГИА СССР. Ф. 560. Оп. 22. Д. 235. Л. 16—19.
9 Записки В. В. фон Валя. . . Л. 16.
10 Захаров приобрел широкую известность не только своими предпринимательскими удачами, но и циничной похвальбой оружейным бизнесом и своим политическим могуществом. «Я устраиваю войны так, что могу продавать оружие обеим сторонам», — заявил он в 1933 г. (Trebilcock С. The Vickers brothers. London. 1977. P. XXXIII). Он послужил прототипом персонажа пьесы Б. Шоу «Майор Барбара» — фабриканта оружия Андершафта (указано Б. Л. Раскиным).
11 Татищев — Витте. . .
12 Балинский — Горемыкину, 16 апреля 1899 г.//ЦГИА СССР. Ф. 1626. On. 1. Д. 389. Л. 2—7.
13 Татищев — Витте. . .
14 Ц Г И А С С С Р. Ф. 1284. Оп. 241. Д. 164. Л. 52 и сл.
15 Г а н ел и н Р. Ш. «Битва документов» в среде царской бюрократии. 1899— 1901 // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1985. Т. 17. С. 214—248.
16 3 а п и с к и В. В. фон Вадя. . . Л. 16—17.
17 Татищев — Витте. . .
18 3 а п и с к и В. В. фон Валя. . . Л. 17—18.
19 Записка Витте директору департамента железнодорожных дел МФ Э. К. Циглеру-фон-Шафгаузену, не позднее 18 января 1900 г. // ЦГИА СССР. Ф. 268. Оп. 3. Д. 718. Л. 25.
20 Там же. Л. 30—32.
21 Секретарь министра путей сообщения А. А. Иваницкий — Циглеру, 3 марта 1900 г. // Там же. Л. 36.
22 ЦГИА СССР. Ф. 1287. Оп. 41. Д. 923. Л. 16.
23 Там же. Л. 17—18.
24 ЦГИА СССР. Ф. 560. Оп. 22. Д. 235. Л. 13.
25 Путилов — Татищеву, 19 июля 1900 г. // Там же. Л. 15. Как считал Балинский, эти новые инструкции Татищеву Витте дал после разговора, который они, Витте и Балинский, имели в Париже. Запись этого разговора, сделанную от руки, так как не нашлось «подходящего человека» для перепечатки, Балинский послал Горемыкину (Балинский — Горемыкину, 12 октября 1900 г.//ЦГИА СССР. Ф. 1626. On. 1. Д. 389. Л. 13—14).
26 Там же.
27 Татищев — Витте. . .
28 Ц Г И А С С С Р. Ф. 268. Оп. 3. Д. 718. Л. 43, 53—55.
29 Вице-директор хозяйственного департамента МВД С. Е. Крыжанов-с к и й — Циглеру, 3 апреля 1901 г. // Там же. Л. 325.
30 Журнал комиссии о новых железных дорогах по вопросу о сооружении круговой и городских железных дорог для С.-Петербурга в связи с Центральным вокзалом. Заседания 8, 15, 16, 17 и 22 февраля 1901 г.//Там же. Ф. 468. Оп. 15. Д. 2393. Л. 10 и сл.
31 Там же. Ф. 268. Оп. 3. Д. 718. Л. 90.
32 Там же. Л. 18.
33 Крыжа новский — Циглеру, 3 апреля 1901 г.//Там же. Л. 321—322.
222
34 Справки Крыжановского с пометами Сипягина «читал» 9, 15, 16, 17, 22 февраля 1901 г. //Там же. Ф. 1287. Оп. 41. Д. 923. Л. 65 и др.
35 Там же. Л. 70.
36 Авгур. Сомнительное благодеяние//Санктпетербургский листок. 1901. № 44. 15 февраля.
37 Леонид Спартанский. Отголоски // Там же. 1901. № 47. 18 февраля.
38 Инженер Николай Е. Городская железная дорога в Санктпетербурге // Новое время. 1901. 14, 18, 22, 24 февраля. № 8968, 8972, 8976, 8978.
зд Гражданин. 1901. № 15. 25 февраля.
40 Россия. 1901. № 685. 23 марта.
41 ЦГИА СССР. Ф. 1287. Оп. 41. Д. 923. Л. 132.
42 Там же. Ф. 268. Оп. 3. Д. 718. Л. 378.
43 Там же. Л. 436—437.
44 Там же. Л. 413—414.
45 Татищев — Циглеру, 27 мая/9 июня 1901 г. // Там же. Л. 421.
46 Татищев — Циглеру, 2/15 июня 1901 г. // Там же. Л. 418—419.
47 Соль с кий — Витте, 5 июня 1901 г.; Витте — Сольскому, 7 июня 1901 г. // Там же. Ф. 560. Оп. 22. Д. 235. Л. 28—30.
48 Там же. Л. 34.
49 Сипягин — Витте, 13 августа 1901 г.//Там же. Ф. 268. Оп. 3. Д. 718. Л. 431.
50 Сипягин—Витте, 3 августа 1901 г.//Там же. Ф. 565. Оп. 14. Д. 113. д 223 224
51 Там же. Ф. 268. Оп. 3. Д. 718. Л. 145, 515—516.
52 Там же. Л. 465 и др.
53 Там же. Ф. 1284. Оп. 241. Д. 168. Л. 37.
54 Там же. Ф. 560. Оп. 22. Д. 235. Л. 40—44; Ф. 1284. Оп. 241. Д. 168. Л. 39.
55 Там же. Л. 43—44.
56 Там же. Л. 41—52.
57 Крыжановский — заведующему канцелярией МВД Д. Н. Любимову, 26 февраля 1903 г. //Там же. Ф. 1287. Оп. 41. Д. 923. Л. 329.
58 Там же. Ф. 1626. On. 1. Д. 389. Л. 20 и др. Балинский в качестве источника предпринимательских идей' самого парадоксального характера был неиссякаем, как и доверие, которым он пользовался у Захарова. В послереволюционной эмиграции в этом пришлось убедиться П. Л. Барку и А. В. Кривошеину. «Сэр Базиль просит изучить проект Балинского», — так начиналась записка Барка, адресованная, по-видимому, Кривошеину, так как за ней следует запись отзыва Кривошеина о проекте (Бумаги П. Л. Барка в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в США, ящ. 4). Новый проект Балинского, относящийся, как представляется, к 1920-м гг., рассчитанный на участие фирмы Виккерс, носил название «Переустройство землевладения и земледелия». Он предусматривал поднятие производительности сельского хозяйства в Европе на основе индивидуальной собственности и кооперации, с тем чтобы добиться участия в экспорте продуктов питания не только крупных, но и мелких хозяйств для возмещения прекратившегося сельскохозяйственного вывоза из России, составлявшего, по словам правленного рукой Барка документа, до 45 % пищевых продуктов, необходимых Европе. «Применение системы инж. П. И. Балинского, — говорилось в этом документе, — представит особый интерес, когда восстановление государственного порядка в России даст возможность осуществить эту систему на громадных земельных пространствах этой страны». Проект предусматривал объединение покупки и продажи земли, привлечение в сельское хозяйство капитала и техники, улучшение в сельских местностях путей сообщения, благоустройство жилищ и т. п.
59 ЦГИА СССР. Ф. 1626. On. 1. Д. 389. Л. 37.
В. А. ВАРДОВА
ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ В ГОРОДСКИЕ ДУМЫ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ЗАКОНУ 1892 г.
В конце 80-х—начале 90-х гг. XIX в. царизм проводит ряд реформ, ознаменовавших переход к новому правительственному курсу в отношении местного общественного управления. Задачу усовершенствования этой сферы управления правящие круги пытались решить путем включения земства и городских дум в общую систему государственных учреждений, однако не на основе развития принципов самоуправления, а максимально усилив подчиненность общественных учреждений бюрократическому аппарату и существенно ослабив начала их выборности. Вместе с тем имелось в виду расширить представительство в местном управлении дворянства.
Утвержденное царем в июне 1892 г. Городовое положение начало проводиться в жизнь в столичных и губернских городах в том же году. Успех реформы правящие круги во многом связывали с новым законом о выборах. Введение высокого избирательного ценза должно было существенно уменьшить численность избирателей, ограничив их наиболее состоятельной частью населения; с учетом интересов дворянского сословия вводились более предпочтительные условия для владельцев недвижимого имущества по сравнению с торгово-промышленным элементом; было узаконено право назначения правительством не только должностных лиц городского общественного управления, но иг части гласных. Предполагалось, что эти меры приведут к изменению состава дум и при одновременном ужесточении правительственного контроля положительно скажутся на повышении эффективности хозяйственной деятельности органов общественного управления.
В исторической литературе оценка последствий введения избирательного закона 1892 г., как правило, опирается лишь на сведения прессы, причем касающиеся весьма ограниченного числа городских поселений. В настоящей статье предпринята попытка на основе архивных источников дать, по возможности, полное представление о резуль-
224
тэтах применения на практике нового избирательного закона: показать численность избирателей, социальный состав, имущественное положение и образовательный уровень гласных, а также состав руководителей городских общественных учреждений — городских голов. При этом анализируются данные, относящиеся ко всем городам внутренних губерний Европейской России, за исключением тех, где вводилось «упрощенное общественное управление».1
По Положению 1892 г. устанавливался высокий имущественный ценз, который был неодинаков для разных разрядов городов: для столичных — не менее 3 тыс. руб., губернских городов с населением более 100 тыс. человек— 1500 руб., для остальных губернских — 1000 руб., уездных с общественным управлением в полном объеме — 300 руб. и с упрощенной формой управления — 100 руб. Предусматривалась возможность некоторые уездные города по имущественному цензу приравнять к губернским. Кроме владельцев недвижимых имуществ избирательное право получили лица, выбирающие в столицах купеческие свидетельства 1-й гильдии, в остальных городах — и 2-й.
Как известно, Городовое положение 1870 г. предоставило избирательное право ничтожно малой части городского населения. В 46 городах, отнесенных по срокам проведения городской реформы к первой очереди (столичные, губернские и несколько портовых), средний процент избирателей достигал всего 5.6 %, а по 10 наиболее крупным городам (с населением более 50 тыс. жителей) — лишь 4.4 % городских жителей. Наибольший удельный вес избирателей был в городах с населением от 20 до 35 тыс. человек, но и в них он достигал всего 6.6 %.2
По новому Городовому положению имущественный ценз оказался настолько высоким, что численность избирателей сократилась в несколько раз. По нашим подсчетам, в городах, где реформу предписывалось проводить «незамедлительно»,3 средний процент избирателей опустился с 5.6 до 1 %. В столичных городах избиратели составили лишь 0.55 %. В группах городов с числом жителей более 100 тыс. человек и от 50 до 100 тыс. их доля в среднем не превысила 0.9 %. В городах с населением от 35 до 50 тыс. средний процент получивших избирательное право приблизился к единице и с населением от 20 до 35 тыс. составил 1.1 %.4 Таким образом, в группах городов с различным числом жителей средний процент избирателей оказался почти на одном уровне, что в большой мере явилось следствием установления неодинаковых имущественных цензов для городов разных категорий. Поэтому и количество избирателей в городах по сравнению с периодом, когда действовало Положение 1870 г., изменилось крайне неравномерно. Так, их удельный вес в Одессе уменьшился в 2.6 раза, в Петербурге — в 3.8, в Казани — в 4.3, в Саратове — более чем в 6, в Курске — в 7, в Херсоне — почти в 10, в Пензе — более чем в 11 раз, в Екатеринославе—12.8, в Николаеве — в 13.3 раза.
Проведению реформы в негубернских городах предшествовало представление губернаторами в Хозяйственный департамент МВД сведений, на основании которых должен был решаться вопрос о фор
15 Заказ 1143
225
ме общественного управления (в полном объеме или упрощенном виде) и размере ценза. Эти сведения поступили в Министерство в октябре—ноябре 1892 г. В них содержались данные о численности населения, размере городских доходов, количестве лиц и учреждений, которые смогут воспользоваться избирательным правом при разных уровнях имущественного ценза и на основании гильдейских свидетельств. Приводилась характеристика (в отдельных случаях весьма детальная) состояния торговли и промышленности. Совокупность всех этих данных служила основанием для заключения Министерства о форме общественного управления.
Следует иметь в виду, что экономические показатели отнюдь не всегда были решающим фактором в определении формы общественного управления и размера ценза. Во многих случаях в числе аргументов, которые руководители губерний приводили в пользу установления общественного управления в полном объеме или приравнивания уездных городов по цензу к губернским, указывалось на возможность путем его повышения сократить число избирателей. Так, например, ярославский губернатор, высказавшись за применение к Ростову и Рыбинску ценза, соответствующего губернским городам, обосновал свое мнение тем, что «увеличение цензовых требований улучшит состав избирательных собраний». Он утверждал, что при повышении ценза пострадает главным образом класс мещан, и приходил к выводу: «Так как в среде мещан, представляющих собой большей частью мелких торговцев или промышленников, всего менее можно встретить лиц, материально обеспеченных и умственно развитых, умеющих сознательно относиться к общественным интересам, то от сокращения числа избирателей этой категории нельзя не ожидать полезных результатов для городского общественного управления».5
Аналогичные соображения содержались и в представлении саратовского губернатора. Он предлагал города Царицын и Вольск по избирательному цензу приравнять к губернским, не только учитывая уровень их экономического развития, но также и потому, что находил «принципиально нежелательным» увеличение количества избирателей в случае установления более низкого ценза, особенно в Вольске, где, по его словам, постоянно происходят беспорядки на выборах. Что же касается Хвалынска, то губернатор признавал, что ни численность его населения, ни характер их занятий, ни размер городских доходов не позволяют ставить вопрос о приравнивании его к губернским. Тем не менее и здесь он ратовал за более высокий избирательный ценз. По его убеждению, сокращение избирателей с 528 (при цензе 300 руб.) до 148 (при цензе 1000 руб.) уменьшит «не только бесполезный, но и вредный элемент». Он имел в виду широкое распространение в мещанской среде сектанства.6
Во внутренних губерниях Европейской России общественное управление в полном объеме было введено в 333 и в упрощенном виде — в 168 городах, т. е. в */з части городских поселений.7 Эти данные прежде всего свидетельствуют о низком уровне экономического развития в целом российских городов в начале 90-х гг. XIX в. К гу
226
бернским по избирательному цензу приравнивалось 27 городов. Повышение ценза с 300 до 1000 руб. привело к весьма существенному сокращению численности избирателей в этих городах. По предварительным подсчетам, число избирателей должно было уменьшиться в Екатеринбурге (Пермская губ.) с 1064 до 565 человек, Сарапуле (Вятская губ.) —с 411 до 126, Чистополе (Казанская губ.)—с 418 до 171, в Сызрани (Симбирская губ.)—с 366 до 98 человек8 и т. д.
Выборы в уездных и безуездных городах Европейской России прощли в 1893—1894 гг. Нами выявлены сведения и определен удельный вес избирателей по 289 городам.9 Учитывались только те города, где общественное управление было установлено в полном объеме.
Таблица 1
Средние данные об удельном весе избирателей в городах на основании Городовых положений 1892 и 1870 гг.
Численность населения, тыс. Средний процент получивших избирательное право Во сколько раз сокра-тился средний процент избирателей
по Положению 1892 г.* по Положению 1870 г.**
От 50 до 100 0.3 (4) *** 3.2 (12) 10.6
От 35 до 50 0.9 (9) 3.9 (21) 4.3
От 20 до 35 1.3 (23) 4.0 (31) 3.1
От 10 до 20 1.4 (87) 6.8 (99) 4.9
От 5 до 10 2.0 (94) 7.5 (140) 3.7
Менее 5 3.1 (72) 10.4 (190) 3.4
289 493
* При вычислении процентов получивших избирательное право данные о числе жителей взяты из донесений губернаторов в Хозяйственный департамент МВД (октябрь—ноябрь 1892 г.) — Сводный перечень (ЦГИА СССР. Ф. 1287. Оп. 38. Д. 2604. Л. 24—25, 41—87); данные о количестве избирателей — из отчетов губернаторов о личном4 составе городских дум (Там же. Отдельное дело по каждой губернии). В 33 случаях использованы предварительные подсчеты количества избирателей, приведенные в донесениях губернаторов (октябрь—ноябрь 1892 г.).
** См.: Нардова В. А. Указ. соч. С. 80.
*** В скобках приводится число учтенных в каждой группе городов. Невключение в первую часть таблицы губернских и городов с упрощенным управлением объясняет более низкий, по сравнению со 2-й частью таблицы, показатель количества учтенных городов.
Как видно из табл. 1, реформа привела к сокращению удельного веса избирателей в пяти из шести групп в 3—4 раза, а в наиболее значительных городах даже в 10.6 раза.
Мизерное число лиц, на которых формально распространялось избирательное право, да к тому же еще очень низкий процент принимавших участие в выборах явились основными причинами, которые породили трудности в формировании органов общественного управления. Из донесений губернаторов в Хозяйственный департамент видно, что практически нигде состав дум не был укомплектован полностью на первоначальных выборах. Многие органы городского самоуправления открывали свои действия с недобором гласных, и, как общее правило, кандидаты для замещения выбывших гласных
15* 227
отсутствовали. Вот несколько примеров о результатах выборов на первое четырехлетие. В Костроме первоначально вместо 44 гласных и 10 кандидатов избрали всего 26 человек, остальных — на повторных выборах.10 В Твери на 50 вакансий гласных и 10 кандидатов на первоначальных выборах было избрано 32 гласных. На повторных удалось избрать лишь недостающее число гласных без кандидатов.11 В Одессе предстояло избрать 87 человек: 72 гласных и 15 кандидатов к ним. На первоначальных выборах прошли 38 человек, на повторных — 14. Таким образом, было недоизбрано 20 гласных и 15 кандидатов.12 Так же обстояло дело в уездных и безуездных городах.
По новым правилам, если и в результате повторных выборов общее число гласных оказалось бы менее 2/3 количества, установленного законом, то недостающее число их назначалось администрацией из прежнего состава Думы.
В первом выборном четырехлетии закон о назначении гласных был применен к С.-Петербургской думе, куда по итогам двух этапов выборов удалось избрать всего 53 гласных вместо 160. По высочайшему распоряжению, в число гласных было добавлено еще 54 человека. Но и при этом столичная дума с самого начала приступила к работе не в полном составе гласных, а лишь при 2/3 положенного количества.13
Существенный недобор гласных и неизбежная в течение выборного четырехлетия их убыль нередко приводили к тупиковым ситуациям, поскольку для принятия постановлений по наиболее важным делам требовалось присутствие не менее 2/3 гласных от количества, определенного Городовым положением (ст. 71). В некоторых случаях правительство оказывалось вынужденным разрешать проведение до истечения четырехгодичного срока дополнительных выборов.
Одна из основных целей, которую преследовала реформа 1892 г., заключалась в изменении социального состава органов общественного управления. Новый избирательный закон был призван прежде всего обеспечить условия, при которых думы утратили бы их преимущественно купеческий характер. Кроме того, расчет строился на том, что в результате устранения от участия в выборах малообеспеченного элемента в состав гласных войдут люди не только с более высоким имущественным, но и образовательным уровнем. А это в свою очередь благоприятно отразится на характере деятельности городских дум. Поэтому правящие круги проявляли большую заинтересованность в получении самых детальных сведений о результатах как первых, так и последующих выборов в органы общественного управления. Циркулярное распоряжение от 16 ноября 1894 г. предписывало губернаторам представлять в Хозяйственный департамент МВД сведения о личном составе городских дум по специальной форме, заключающей в себе графы о вероисповедании, сословии, чине и звании, образовании, возрасте, имуществе гласных и т. д. Причем по каждой городской Думе сообщались не сводные данные, а поименные списки гласных с перечнем указанных сведений.14
Обратимся к характеристикам состава дум тех городов, выборы в которых проводились в первую очередь.15 Выше уже говорилось,
228
что новый избирательный закон создал предпочтительные условия для владельцев недвижимой собственности по сравнению с торгово-промышленным элементом. Как это отразилось на составе городских дум?
Наши подсчеты по 40 городам показали, что 86.5 % гласных получили избирательные права в качестве владельцев недвижимой собственностии только 9.5 % были обладателями купеческих свидетельств без недвижимой собственности или со стоимостью таковой ниже установленного ценза.17 В эти 9.5 % входили и «временные купцы» как из крестьянского, так и из дворянского сословий. Поэтому процент не имевших недвижимости гласных из купцов был на самом деле еще ниже. Но даже если условно принять, что все 9.5 % гласных принадлежали к купечеству, то из сопоставления со сведениями о сословном составе выходит, что из гласных-купцов не имели в данном городе соответствующей собственности лишь 17.8 %. В то же время в составе гласных-домовладельцев больше половины (50.9 %) принадлежало к купцам и почетным гражданам.
Первостепенное значение правящие круги придавали вопросу о сословном составе городских общественных учреждений (табл. 2).18
Итак, если говорить о думах столичных и губернских городов (табл. 3.), то новая городская реформа на первых выборах не привела к радикальным изменениям в сословном составе дум. Несколько (на 3.9 %) сократилась численность гласных 3-й группы, состоявшей из мещан, ремесленников, крестьян. За их счет увеличилось количество представителей дворянско-чиновничьей группы (на 3.1 %). Купечеству удалось сохранить за собой решающие позиции. Его доля увеличилась с 54.6 до 55.2 %.
Нами выборочно проанализирован сословный состав дум 53 уездных и безуездных городов из 8 губерний, относящихся к разным районам Европейской России: Калужской и Ярославской (Центрально-Нечерноземный район), Воронежской (Центрально-Черноземный), Новгородской (Северо-Западный), Пензенской (Средне-Волжский), Киевской (Юго-Западный), Оренбургской, Уфимской (Юго-Восточный). Из общего числа 1178 гласных анализируемых городских дум 187 (15.9 %) принадлежали к первой сословной группе (дворяне, духовенство, разночинцы), 538 (45.7 %) — ко второй (купцы, почетные граждан^) и 453 (38.4 %) — к третьей. Интересно сопоставить эти данные (табл. 4) с относящимися к думам столичных и губернских городов (табл. 4).
Как видно из вышеприведенных сведений, соотношение между гласными, принадлежащими к трем указанным сословным группам в уездных и безуездных городах, совсем иное, чем в городах губернских. Процент представителей в думах этих городов от дворянства, духовенства, разночинцев составил 15.9 против 38.3 %; существенно ниже оказалась доля гласных из купечества, но почти в 5 раз выше процент гласных-мещан. Правда, по отдельным губерниям наблюдаются значительные отклонения от среднестатистических данных. В то время как по всем 53 городам процент купечества составлял
229
Таблица 2
Сословный состав городских дум
Город Число гласных (в абсол. числах) Дворян, духовенства, разночинцев Купцов, почетных граждан из купеческого сословия Мещан, ремесленников, крестьян
В абсол ютных числах и В %
С.-Петербург 100 49/49.0 51/51.0 —
Москва 130 46/35.4 72/55.4 12/9.2
Одесса 57 36/63.2 21/36.8 —
Киев 72 55/76.4 17/23.6 —
Харьков 73 11/15.1 53/72.6 9/12.3
Саратов 74 26/35.1 39/52.7 9/12.2
Казань 76 24/31.6 52/68.4 —
Екатеринослав 45 20/44.5 24/53.3 1/2.2
Астрахань 56 20/35.7 27/48.2 9/16.1
Тула 59 35/59.3 20/33.9 4/6.8
Кишинев 31 24/77.4 7/22.6 —
Н. Новгород 60 22/36.7 34/56.7 4/6.6
Николаев 51 31/60.8 14/27.4 6/11.8
Самара 61 14/22.9 38/62.3 9/14.8
Воронеж 58 21/36.2 33/56.9 4/6.9
Оренбург 55 14/25.4 31/56.4 10/18.2
Ярославль 50 13/26.0 33/66.0 4/8.0
Орел * 60 12/20.0 42/70.0 3/5.0
Херсон 28 12/42.8 15/53.7 1/3.5
Пенза 35 20/57.1 15/42.9 —-
Тверь 42 15/35.7 24/57.2 3/7.1
Полтава 44 19/43.2 21/47.7 4/9.1
Курск ** 47 15/31.9 28/59.6 3/6.4
Уфа 30 14/46.7 12/40.0 4/13.3
Калуга 37 12/32.4 21/56.8 4/10.8
Симферополь 26 15/57.7 9/34.6 2/7.7
Тамбов 32 10/31.3 17/53.1 5/15.6
Смоленск 44 25/56.8 14/31.8 5/11.4
Пермь 44 20/45.4 19/43.2 5/11.4
Рязань 42 7/16.7 32/76.2 3/7.1
Симбирск 35 10/28.6 21/60 4/11.4
Кострома 44 13/29.5 29/65.9 2/4.6
Псков 28 11/39.3 15/53.6 2/7.1
Керчь 23 10/43.5 12/52.2 1/4.3
Владимир 38 7/18.4 29/76.3 2/5.3
Вологда 32 9/28.1 21/65.6 2/6.3
Новгород 26 5/19.3 18/69.2 3/11.5
Вятка 29 6/20.7 20/69.0 3/10.3
Архангельск 26 3/11.5 17/65.4 6/23.1
Петрозаводск 16 3/18.8 7/43.7 6/37.5
Итого 1916 734/38.3 1024/53.5 154/8.0
* Отсутствуют сведения о сословной принадлежности трех гласных (5 %).
** Нет сведений об одном гласном (2.1 %).
230
Таблица 3
Сравнительные данные социального состава городских дум
Год Сословие, %
Дворяне, духовенство, разночинцы Купцы, почетные граждане из купеч. сословия Мещане, ремесленники, крестьяне Сведения отсутствуют
1893 36.1 55.2 8.5 0.2
Начало 1880-х 33.0 54.6 12.4 —
Примечание. Сравнивались данные состава дум 36 городов, избранных в 1893 г. с составом гласных в тех же городах на начало 80-х гг. Данные о составе дум на начало 80-х годов взяты из монографии В. А. Нардовой (табл. 6. С. 70). При соиоставлении не учитывались города, сведения о которых присутствовали только в одной из таблиц.
45.7 и в 4-х губерниях примерно таким и был, то в Ярославской он равнялся 71.4 %, а в Киевской — лишь 11.9 %. Если высокий процент купечества в Ярославской губернии может быть объяснен более значительным, чем в городах прочих губерний, развитием торговли и промышленности, то низкий процент в Киевской зависел не только от экономических показателей. Дело в том, что в Юго-Западном районе средняя и крупная торгово-промышленная буржуазия в большой мере была представлена лицами иудейского вероисповедания, которые были лишены права участвовать в выборах, что, естественно, отразилось на соотношении между названными группами на избирательных собраниях: происходило замещение купечества домовладельцами-мещанами. Значительно более высокая доля гласных первой группы здесь, надо полагать, объясняется и большим удельным весом в губерниях Юго-Западного района поместного дворянства, многие представители которого входили в состав городского населения.
В сведениях о составе дум содержатся (хотя и не во всех) данные о размере стоимости недвижимости, принадлежавшей гласному лично или вместе с совладельцами, а также лицу, по доверенности которого он участвовал в выборах. Поэтому имеется возможность выяснить состоятельность гласных относительно размера имущественного ценза, который, как было показано, оказался для городского населения настолько высоким, что свел количество получивших избирательное право до ничтожно малого процента — в среднем до 1 % в губернских городах. Табл. 5. показывает имущественное положение гласных в городах с различным избирательным цензом.
Таблица 4
Сравнительные данные сословного состава дум столичных и губернских городов с негубернскими
Города Сословные группы, %
I II III
Столичные и губернские Негубернские
38.3 53.5 8.0
15.9 45.7 38.4
231
Таблица 5
Имущественная состоятельность гласных
Город Ценз (в руб-лях) Количество гласных *
Стоимость имущества (в рублях) Общее число гласных
300—600 600—1 тыс. 1 — 1.5 тыс. 1.5—3 тыс. 3—5 тыс. 5—10 тыс. 10—25 тыс. 25—50 тыс. 50—100 тыс. 100—500 тыс. 500—1 млн. Более 1 млн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Петербург 3000 — — — - 2 (2.3 %) 6 9 17 22 29 1 2 88
Киев 1500 — — — 14 (19%) 11 17 18 6 4 2 — — 72
Одесса 1500 — — — 3 (6%) 5 5 12 11 6 8 — — 50
Н. Новгород 1000 — — 9 (17.6%) 19 7 7 1 6 2 — — 51
Пермь Любимов 1000 — — 8 (20%) 15 6 6 3 1 1 — — 40
(Ярославск.) Череповец 300 3(15%) 3 9 4 1 — — — — — 19
(Новгородск) Острогожск 300 Ю (38 %) 4 8 4 — — — — — — 26
(Воронежск.) 300 7 (28%) 2 14 1 1 — — — — — 25
Бердичев 300 11 (55% 2 7 — — — — — — — 20
(Киевск.) Тараща 300 20 (100%) — — — — — — — — — — — 20
(Киевск.)
* Здесь и далее не учитывались гласные, пользовавшиеся избирательным правом по уполномочию учреждений, обществ, товариществ и на основании гильдейских свидетельств.
Как мы видим, число гласных, имевших недвижимую собственность стоимостью в пределах минимального имущественного ценза или выше в 1.5—2 раза, составляло в Петербурге всего 2.3 %, в Одессе — 6 %, в остальных губернских городах — не более !/5 части всех гласных. Таким образом, в думы городов данной категории попадала в основном наиболее состоятельная часть горожан, имущество которых намного превосходило установленный ценз. В негубернских городах положение было иным. Лишь в одном случае из пяти количество гласных, ценность имущества которых равнялась 300—600 руб., составляло менее 1 /5 состава Думы, в остальных — 28, 38, 55 и даже 100 % (г. Тараща). Такая же картина, как в Тараще, была во всех мещанских городах со слабо развитой торговлей и промышленностью. Из губернаторских отчетов о результатах выборов видно, что в уездных и безуездных городах гласные в своем большинстве владели имуществом, крайне незначительно превышавшим избирательный ценз.
В сведениях, представленных в Хозяйственный департамент по форме 1, фиксировался также и образовательный уровень гласных. Воспользуемся подсчетами, произведенными чиновниками департамента, по результатам выборов на первое четырехлетие, сведя их в следующую таблицу (табл. 6).
Из приведенных сведений видно, что лиц с высшим и средним образованием среди гласных и уполномоченных насчитывалось 17 %, с низшим — 27 %, 49 % было с так называемым домашним образованием, в большинстве случаев не превышающим уровня простой грамотности, и, наконец, 4 % было совершенно неграмотных. В низком образовательном уровне гласных правительственные чиновники усматривали основную причину малорезультативной деятельности городских общественных учреждений. Поэтому, когда встал вопрос о принятии мер, которые должны были изменить к луч-
Таблица §
Распределение по уровню образования гласных и уполномоченных в городах 49 губерний Европейской России в первом выборном четырехлетии (в абсолютных числах И В %)
Вид образования В городах Итого
столичных губернских с насел, более 100 тыс. в прочих губернских и приравненных к ним по цензу в прочих уездных в городах с упрощенным управлением
Высшее Среднее Низшее Домашнее Грамотные Неграмотные 77/32.4 57/23.9 18/7.6 86/36.1 180/34.6 104/20.0 80/15.4 156/30.0 464/19.6 330/13.9 472/19.9 1097/46.2 7/0.3 3/0.1 382/5.5 481/7.0 2'276/32.9 3428/49.5 139/2.0 217/3.1 66/2.0 114/3.6 828/25.9 1741/54.4 140/4.4 312/9.7 1169/8.8 1086/8.2 3674/27.7 6508/49.1 286/2.1 532/4.1
Примечание. Печатные записки Комиссии под председательством кн. А. Д. Оболенского//Библиотека ЦГИА СССР. (Сплошная пагинация отсутствует).
233
шему положение дел в городских думах, в качестве первоочередной обсуждалась проблема пополнения состава избирателей представителями более образованных слоев городского населения.
Как в период действия Городового положения 1870 г., так и после его замены новым положением, правящие круги придавали исключительно важное значение фигуре руководителя городского общественного управления — городскому голове. Наряду со сведениями о личном составе городских дум губернское начальство сообщало в Хозяйственный департамент подробнейшие сведения и о составе исполнительных органов-управ по форме 2. Ею предусматривалось представление следующих данных: о вероисповедании, сословии, чине или звании, образовании, возрасте, дате утверждения или назначения на должность, стоимости недвижимого имущества, времени проживания в данном городе, жалованье по должности члена управы. Запрашивались сведения о занимаемых одновременно выборных должностях по городскому общественному управлению и послужной список, включающий участие в городских и земских учреждениях.
Отсутствие в фонде Хозяйственного департамента формы 2 по некоторым губерниям частично может быть возмещено сохранившимся «рабочим списком» городских голов, который вели чиновники Хозяйственного департамента МВД. В него заносились сведения о времени утверждения (назначения) на должность головы, о сословно-профессиональной принадлежности, дате присвоения или повышения чина. К сожалению, «рабочие списки» голов заполнялись недостаточно четко, во многих случаях сведения отсутствуют.
Воспользовавшись обоими источниками, проанализируем состав городских голов в городах Европейской России за первое выборное четырехлетие. В табл. 7 рассматриваются данные отдельно по столичным, губернским и другим городам, в которых реформа проводилась в первую очередь, и по уездным и безуездным городам.19 Представляется небезынтересным сравнить указанные сведения о составе городских голов с данными о сословном составе дум 53 уездных городов (в %).
Гласные Городские головы
Купцы 45.7 46.3
Дворяне 15.9 32.6
Мещане 38.4 11.7
И хотя эти данные охватывают не одинаковое количество городов, тем не менее они в известной мере отражают положение вещей. Близки показатели, касающиеся только купечества: 46.3 и 45.7 %. Дворянско-чиновничий элемент, занимая в составе гласных лишь 16 %, дал почти 33 % городских голов. В конце 80-х гг. доля этой сословно-профессиональной категории составляла всего 16.6 %. В то же время доля городских голов из купечества опустилась с 64.8 до
По-видимому, не последнюю роль в отмеченных изменениях играло то обстоятельство, что городские головы по Положению
234
Та блица 7
Состав городских голов, избранных на первое выборное четырехлетие в городах Европейской России *
Сословно-профессиональная категория Города столичные и губернские Г орода уездные и безуездные
I II III
1-я группа: неслужилое дворянство 1 17
лица, имеющие гражданские чины 26 75
лица, имеющие военные чины 2 11
лица, окончившие высшие учебные заведения, без 1 11
дополнительных о них сведений Всего лиц, включенных в 1-ю группу 30 (61.2%) И4 (32.9%)
2-я группа: купцы 8 148
потомственные и личные почетные граждане, записан- 7 14
ные в гильдии Всего лиц, включенных во 2-ю группу 15 (30.7%) 162 (46.8 %)
потомственные и личные почетные граждане без указания на гильдейские свидетельства 3 (6.1 %) 29 (8.4%)
3-я группа: мещане крестьяне 36 2
Всего лиц, включенных в 3-ю группу _— 41 (11-8 %)
Назначенные правительством 1 (2%)
Итого 49 (100 %) 346 (100 %)
* Составлено по: Отчеты губернаторов о личном составе городских управ // ЦГИА СССР. Ф. 1287. Оп. 38. Отдельные дела по каждой губернии; «Рабочие списки» городских голов //Там же. Д. 2500, 2501.
1892 г. были приравнены к государственным служащим. Новый статус голов для вышедших в отставку чиновников, неслужилого дворянства мог явиться стимулом для занятия руководящих должностей в органах городского общественного управления. Как и в конце 80-х гг. процент голов, представляющих 3-ю группу, не соответствовал ее доле в составе гласных и при этом снизился с 14.4 до 11.7 %.
Подводя итог, отметим, что, несмотря на определенные изменения, отвечавшие расчетам правящих кругов, они далеко не были удовлетворены тем составом органов городского общественного управления, который дали выборы 1893—1894 гг. Об этом вне сомнения свидетельствует предпринятая уже в конце 90-х гг. попытка частичного пересмотра избирательного закона 1892 г.
1 В городских поселениях, где вводилось упрощенное управление, взамен Думы учреждалось собрание городских уполномоченных в количестве 12—15 человек. Их избирал сход местных домохозяев из числа лиц, владевших недвижимым имуществом, оцениваемым не менее 100 руб. Собрание уполномоченных избирало городского старосту с одним или двумя помощниками.
235
2 Н ар дова В. А. Городское самоуправление в России в 60-х—начале 90-х годов XIX в. Л., 1984. С. 60.
3 Обе столицы, Одесса, Керчь, Севастополь, Кронштадт, Николаев и губернские города Европейской России.
4 Численность населения взята на 1897 г. (Население городов по переписи 28 января 1897 г. СПб., 1897). Сведения о количестве избирателей почерпнуты из отчетов губернаторов о личном составе городских дум (ЦГИА СССР. Ф. 1287. Оп. 38. Отдельное дело по каждой губернии).
5 ЦГИА СССР. Ф. 1287. Оп. 38. Д. 2601. Л. 134—136.
6 Там же. Л. 89—90.
7 Там же. Д. 2604. Л. 27—31, 91—97, 163—164.
8 Там же. Л. 101.
9 Отсутствуют сведения о городах Области войска Донского и 2-х городах Тамбовской губернии.
10 ЦГИА СССР. Ф. 1287. Оп. 38. Д. 2654. Л. 56.
11 Там же. Д. 2606. Л. 19—20.
12 Московские ведомости. 1893. 1 февраля.
13 ЦГИА СССР. Ф. 1287. Оп. 38. Д. 3707. Л. 121.
14 Насколько можно судить по материалам Хозяйственного департамента, работа по обобщению этих сведений за рассматриваемые годы им не проводилась. Поэтому нам пришлось иметь дело с первичным, необработанным материалом.
15 Здесь и в дальнейшем использованы сведения из отчетов губернаторов о личном составе городских дум.
16 Сюда же включены и те, кто участвовал в выборах по доверенности или в качестве опекунов.
,7 3.1 % гласных являлись уполномоченными учреждений, обществ, товариществ; в 16 случаях (0.9 %) сведения не ясны.
18 Таблица о сословном составе дум повторяет схему, использованную в упомянутой монографии В. А. Нардовой, что дает возможность провести сравнительный анализ состава дум по Городовому положению 1892 г. и Положению 1870 г.
*9 Города губерний Царства Польского не учитывались.
г°Нардова В. А. Указ. соч. С. 145.
Л. Е. ШЕПЕЛЕВ
ПРОМЫШЛЕННАЯ БУРЖУАЗИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Проблема отношений промышленной буржуазии и Государственной думы еще не привлекла к себе специального внимания историков. Между тем эта проблема очень важна, поскольку промышленники составляли лидирующую часть класса буржуазии и являлись важной социальной силой. В политическом отношении промышленная буржуазия не была однородной и не имела единой программы. Основой ее консолидации были общие экономические интересы. Они заключались в создании благоприятных условий для промышленного развития страны и нейтрализации традиционно-враждебного в России отношения к промышленности со стороны потребителей (покупателей) ее продукции. Возникновение Думы существенным образом меняло соотношение политических сил в стране, саму структуру государственной власти и, следовательно, условия борьбы по вопросам экономической политики. Главнейшую задачу этой политики промышленники видели в «постепенной индустриализации страны — необходимом условии государственной мощи и умножения народного богатства».1
Как только стало известно о предстоящем созыве Думы (18 февраля 1905 г.), крупнейшими предпринимательскими организациями было созвано совещание в Москве (10—11 марта), на котором «все внимание» было посвящено «кардинальному вопросу — представительному правлению».2 Совещанием была определена программа дальнейших действий промышленников: создание всероссийской организации, одной из целей которой должна была стать борьба за законодательную Думу, за свое участие в ней, а в случае неуспеха — за влияние на нее извне.
По решению совещания к А. Г. Булыгину была направлена авторитетная делегация (С. Т. Морозов, Э. Л. Нобель, Н. С. Авдаков), представившая ему записку, в которой указывалось, что «правильность и успеш
237
ность» работ руководимого им совещания по подготовке Думы возможны лишь при участии представителей от «главнейших групп населения», в том числе и связанных с промышленностью, которая «при современном ее развитии занимает весьма важное место в народнохозяйственной жизни нашего отечества и оказывает большое влияние не только на финансовые силы и кредитоспособность государства, но и на склад общественных отношений в стране». Промышленники ходатайствовали о привлечении «к участию в совещании представителей промышленности в таком числе, которое соответствовало бы ее важному значению в жизни России». Булыгин заверил предпринимателей, что их пожелания будут учтены, но это обещание не было выполнено.3
30 мая 1905 г., когда Совет министров уже приступил к рассмотрению предложений Булыгинского совещания, лидеры промышленников обратились к министру финансов В. Н. Коковцову с запиской, в которой отмечалось, что «представители промышленности волнуются слухами о предстоящем в скором времени опубликовании избирательного закона, в котором интересам промышленников не отведено должного внимания». Предлагалось предоставить избирательные права всем «существующим совещательным по промышленности учреждениям» — комитетам торговли и мануфактур и биржевым комитетам.4 14 июня за подписью председателя Московского биржевого комитета Н. А. Найденова была послана еще одна телеграмма Коковцову для доклада ее императору. «В будущем народном представительстве, — говорилось в ней, — интересы земледелия при всякой системе выборов найдут достаточно сильное выражение. . . Нужды торговли могут найти свое представительство и защиту в лице избранников от городов. Государственная мудрость и справедливость требуют, чтобы и промышленность. . . получила право на свое представительство соответственно. . . значению ее в экономической жизни народа и государства». По оценкам же того времени производительность промышленности и транспорта была примерно равна производительности сельского и лесного хозяйства.5 При намечаемой системе выборов «почти нет никакой надежды, чтобы промышленники вошли в состав Государственной думы». Приемлемый выход из этой ситуации виделся в том, чтобы промышленности было дано право «непосредственного избрания» в Думу через «существующие совещательные по промышленности учреждения» представителей от «важнейших районов и отраслей промышленности».6
4—6 июля на торгово-промышленном съезде в Москве рассматривался подготовленный незадолго перед тем проект «Политической и экономической программы русских торговцев и промышленников». Программа содержала требования «равенства всех перед законом, свободы слова, совести, печати, собраний, союзов в нормах закона, неприкосновенности личности и жилища, ограждения собственности и правильной организации народного представительства». Под последним имелась в виду двухпалатная законодательная Дума («с предоставлением монарху права veto»). Большинство съезда
238
поддержало эти требования исходя из того, что законосовещательная Дума «не внесет желанного успокоения в народную жизнь и не достигнет цели». Вместе с тем было признано необходимым принять участие в выборах в Думу, даже если булыгинский проект ее получит утверждение, для борьбы изнутри за ее преобразование в законодательную. Против такой позиции выступило большинство Московского биржевого комитета во главе с Н. А. Найденовым и Г. А. Крестов-никовым.7 Заслушав 19 июля доклад о московском съезде, совещание 60 петербургских заводчиков в свою очередь единогласно постановило «довести до сведения г. министра финансов. . . что предполагаемая к созыву Государственная дума с совещательным голосом никого не удовлетворит и существующих волнений не успокоит».8
Все эти требования и ходатайства промышленников не имели успеха. 6 августа булыгинский законопроект о созыве законосовещательной Думы был утвержден. Понадобились события осени 1905 г., чтобы 17 октября царизм оказался вынужденным провозгласить политические свободы и обещать законодательную Думу. А 20 февраля 1906 г. применительно к этому был реформирован Государственный совет: он становился высшей палатой российского парламента и половина его членов должна была теперь избираться (другая половина назначалась царем).
Согласно избирательному закону, промышленники могли получить депутатские мандаты лишь в качестве владельцев недвижимости и тем самым как бы растворялись в их массе. Поэтому еще до выборов считалось, что «представители торгово-промышленного класса в Государственной думе, очевидно, могут быть лишь случайными единицами. О сколько-нибудь заметной силе их в этом учреждении нельзя даже и мечтать»/ Большинство же «неизбежно» составят «народные представители, которые мало знакомы или совершенно незнакомы с условиями русской промышленности и торговли и которые могут, исключительно по неведению или по весьма понятному предубеждению, впасть в роковую ошибку и проделать над нашей промышленностью и торговлей какую-либо убийственную операцию. Русские промышленники и торговцы должны заботиться о том, чтобы подобные явления не могли иметь у нас места».10 Эта обязанность возлагалась на создаваемую всероссийскую предпринимательскую организацию — съезды представителей промышленности и торговли и их постоянно действующий руководящий орган — Совет съездов.
Больше надежд было на лучшее представительство в реформированном Государственном совете. Первоначально из 70 избираемых членов Совета представителям земств (сельского хозяйства) отводилось 50 вакансий, а представителям от промышленности и торговли только 12. 29 декабря 1905 г. лидерами основных отраслевых предпринимательских организаций была представлена соответствующая записка председателям Государственного совета и Совета министров, в которой говорилось, что «справедливость и первостепенная польза дела требуют, чтобы число членов в Государственный совет по выборам от промышленности и торговли было не менее 30».
239
В той же записке выражалось пожелание предоставить право избрания в Совет не только биржевым комитетам и комитетам торговли и промышленности, но и отраслевым предпринимательским организациям.11 Тогдашний министр торговли и промышленности В. И. Тимирязев полагал, что предпринимателям должно быть предоставлено 18 мест в Государственном совете. Но и здесь выяснился «неуспех ходатайства различных промышленно-торговых групп относительно надлежащего представительства промышленности и торговли в преобразуемом Государственном совете». В результате стало ясно, что и «в Государственном совете промышленность и торговля будут представлены весьма слабо».12 Из числа 98 выборных членов 74 избирались крупными землевладельцами, 6 от православной церкви, 6 от Академии наук и университетов и 12 от торгово-промышленной буржуазии (по 6 от промышленников и торговцев). Конечно, интересы предпринимателей поддерживались не только этими 12-ю членами, но и некоторыми* другими, в частности назначаемыми. Когда позднее местными предпринимательскими организациями было предложено ходатайствовать об изменении закона в сторону большего представительства промышленности и торговли, Совет съездов разъяснял, что это имеется в виду сделать, когда будут учреждены в России торгово-промышленные палаты.
В начале мая 1906 г., опираясь уже на результаты выборов в первую Думу, один из идеологов промышленников писал: «Государственная дума и Государственный совет, как показывает их состав, являются выразителями преимущественно аграрных интересов в той форме, которая противопоставляет аграрные интересы интересам промышленности и торговли». «Быть может, поначалу Государственная дума захочет идти самобытными путями — продолжал он свои рассуждения. — В этом, однако, нет ничего особенно опасного. При первом же соприкосновении с жизнью окажется, что социально-экономическое изобретательство вещь вовсе не легкая и что так или иначе надо вернуться к испытанным общечеловеческим путям и подвергнуть их тщательному изучению».13 В 1909 г. орган Совета съездов журнал «Промышленность и торговля» писал, что в Государственной думе «представительство промышленности и торговли совсем забыто, как будто в России нет ни промышленности, ни торговли. Людей, знакомых с промышленностью и торговлей, в Государственной думе очень немного».14
Пятый съезд представителей промышленности и торговли в марте 1911 г. принял постановление: «Ввиду того, что существующий избирательный закон (связанный с настоящим строем представительства в земских и городских учреждениях) не гарантирует в какой бы то ни было степени избрание в Государственную думу представителей промышленности и торговли, — поручить Совету съездов рассмотреть этот вопрос».15 Через год сам В. Н. Коковцов призвал промышленников активизировать борьбу за участие в Думе четвертого созыва.16 Итогом усилий было избрание 36 представителей от торгово-промышленного капитала при общем числе депутатов около 440 человек. Это был «рекорд», поскольку в предыдущих составах 240
Думы их было еще меньше. Представительство промышленников в Думе больше соответствовало их численности, чем их суммарному экономическому цензу.
Выбору членов в Государственный совет от промышленности и торговли придавалось «огромное значение», поскольку, как писала «Промышленность и торговля» в середине 1909 г., «торгово-промышленная курия в Государственном совете является. . . единственной отдушиной для нашего торгово-промышленного класса». Далее разъяснялось, что «главная... задача членов Государственного совета от промышленности и торговли заключается в неустанной при каждой возможности проповеди необходимости для нашего государства твердой экономической политики».17
Слабое представительство промышленников в Думе не было бы столь опасно, если бы некомпетентность большинства Думы в вопросах развития промышленности не сочеталась с неблагожелательным отношением его к промышленности и промышленникам. В начале 1908 г. «Промышленность и торговля» писала: «Дума равнодушна к явлениям русской торгово-промышленной жизни. Это явление будет продолжаться до тех пор, пока Россия не покроется многочисленными торгово-промышленными организациями и пока общественное мнение не станет на стороне здоровых экономических идей».18 Через три года журнал снова затронул эту проблему: «До самого последнего времени интересы промышленности и торговли не обретались у нас в авантаже ни в нашем общественном мнении, ни в среде игравших несомненно крупнейшую роль в деле культурного развития страны земских деятелей, ни у властей предержащих в лице того чиновника, с которым приходилось ежечасно сталкиваться по самым разнообразным поводам. Явление это, впрочем, легко объяснимо. Господствовали безраздельно интересы землевладельческого класса, из которого вербовались, не говоря уже о земских деятелях, и представители интеллигенции, и кадры чиновничества. . . Для интеллигенции нашей без различия ее политического верую представители промышленности были объектом брезгливого отношения, которого даже не трудились скрывать и которое красной нитью проходит во всех органах ежедневной печати. . .». Положение отчасти изменилось лишь в самые последние годы. «Радикальная перемена в условиях нашей общественной жизни, обновив весь ее строй, не могла не внести известных корректив и в господствовавшие взгляды. . . Жизнь настойчиво и повелительно выдвинула на первый план необходимость экономического возрождения страны и подъема ее производительных сил и подсказала ключ: без развитой фабрично-заводской промышленности не быть у нас цветущему земледелию, а без здорового сельского хозяйства не может быть и речи об устойчивой промышленности. К сожалению, до сего времени Государственная дума. . . проявляла к интересам промышленности. . . безразличное отношение. . .».19
С начала издания журнала «Промышленность и торговля» (1908 г.) на его страницах стали систематически печататься обзоры деятельности Государственной думы и Государственного совета по
16 Заказ № 1143
241
торгово-промышленным вопросам. Однако при дробной информации не удавалось выявить общие закономерности, тенденции и итоги работы этих учреждений и их отношение к промышленности и торговле. На Пятом съезде представителей промышленности и торговли в марте 1911 г. один из лидеров Совета съездов и главный их идеолог В. В. Жуковский проанализировал работу законодательных учреждений за два последние года. При этом сразу же обнаружилось в целом недоброжелательное отношение к промышленности и торговле. Жуковский попытался выяснить причины этого, обратившись к истории развития промышленности в России. «Классы производителей, классы, регулирующие народное хозяйство в России, в мозговой работе принимали участие весьма слабое; думали те, которые не производят. Вот почему вопросы, выдвигаемые промышленной жизнью, обмозговывались нашей интеллигенцией с точки зрения исторической, с точки зрения социалистической, политической, если хотите даже гигиенической, но очень мало с точки зрения производительной. Вот почему в интеллигентском творчестве всегда имели преимущество потребительская точка зрения и потребительские симпатии. Отсюда и пресса, и интеллигенция, и наша наука сочувствовали прежде всего интересам потребителей. Это имеет свои очень основательные причины и свои очень хорошие стороны». Во всем этом докладчик был прав. Но для объяснения рассматриваемого им явления необходимо учесть два важных обстоятельства. С одной стороны, то, что развитие промышленности в России виделось в сравнении с практикой такого же развития на Западе, и эта последняя казалась предпочтительной. С другой стороны, российская промышленность, развивавшаяся в более трудных политических условиях, чем западная, а потому постоянно претендовавшая на разного рода льготы и поблажки за счет, в конечном счете, потребителя, именно поэтому не могла претендовать на симпатии публики. Однако Жуковский считал «не совсем правильным весьма распространенный взгляд, что наши представительные учреждения относятся заведомо отрицательно к промышленности и торговле». По его мнению, по мере более близкого знакомства с вопросами развития промышленности и торговли Дума должна будет отойти от потребительской точки зрения.20
Более определенной и целесообразной представлялась В. В. Жуковскому позиция Государственного совета, который «остановился в вопросах торговли и промышленности, — не входя в разные подробности, — на совершенно ясной и понятной для каждого программе: стараться освободить промышленность от всяких стеснений. Вот та общая тенденция, которую высказывает Государственный совет. . . Другая директива его пожеланий. . .: рост государственного бюджета не должен совершаться только путем прироста налогов и что можно ожидать и следует ожидать большого прироста от соответственной эксплуатации казенных имуществ и регалий».21
Журнал «Промышленность и торговля» следующим образом резюмировал содержание доклада В. В. Жуковского: «Несмотря на первоначальное общее недостаточно доброжелательное отношение 242
нашей нижней палаты к вопросам промышленности и торговли, Государственная дума силою вещей по мере более близкого ознакомления с этими вопросами проникается во многих случаях принципиальными взглядами торгово-промышленного класса. Совершенно отрицательно Государственная дума относится лишь ко всякого рода промышленным организациям. Гораздо более вдумчиво к вопросам того же порядка отношение Государственного совета. Для того чтобы получить свою долю влияния на ход законодательной жизни страны, торгово-промышленному классу необходимо принять участие в идейной работе страны и стремиться к выработке государственной программы со своей точки зрения».22
Опыт предпринятого Жуковским анализа деятельности Государственной думы и Государственного совета за сравнительно длительный период времени убедил его и съезд в необходимости продолжения такой работы. В целях систематического углубленного изучения настроений и практической работы этих учреждений в области экономической политики, а главным образом в целях воздействия на общественное мнение было решено подготавливать и издавать ежегодные обзоры их деятельности. Жуковский полагал, что с помощью таких ежегодников «главная. . . задача» съездовской организации по «влиянию на мозг страны поставлена будет прочно»?3
Первая книга издания, охватившая пятилетний период, вышла к концу сессии III Думы и была приурочена несомненно к новой избирательной кампании.24 В обширной вводной статье деятельность Думы подвергалась разбору и оценке, которые представляют большой интерес.
Характеризуя компетентность и настроение Думы по отношению к промышленности и торговле, авторы этой статьи писали: «Если с деловой точки зрения характеризовать думские прения в разные годы, то, как общее правило, можно принять, что количество ораторов со временем растет, речистость усиливается, при одновременном понижении делового уровня речей . . . Деловых ораторов в Государственной думе было очень мало, слушать же их не хотели. Принадлежность данного деятеля к торгово-промышленному классу возбуждала недоверие к его взглядам, а излюбленными ораторами думского экономического большинства, отнюдь не совпадающего с большинством политическим, были люди с кустарным умом и с кустарными приемами работы, принижающими трибуну великого народа. Думская атмосфера в экономических вопросах представляла интересную комбинацию интеллигентской неприязни ко всякой производительной деятельности с густой струей крестьянской враждебности ко всяким другим формам народного хозяйства, кроме хождения за сохой. . . Вообще же Государственная дума не прониклась пониманием государственного и народного значения промышленности и во всяких начинаниях видела только промышленников, интересы которых ей были чужды, а стремления непонятны и подозрительны».
Одной из особенностей деятельности Думы была, по мнению авторов вводной статьи, некоторая аномалия: «В то время как в за-
16*
243
падных государствах экономические мотивы служат стимулами для политических выступлений, у нас политические мотивы толкают на экономические выступления».26
Что же касается реальных результатов деятельность Думы в области торгово-промышленной политики, то эта деятельность издевательски оценивалась как безвредная. «Непосредственного вреда в сколько-нибудь значительной степени, если не считать кое-каких неудачных налогов, III Государственная дума торговле и промышленности не нанесла и не разрушила основ, на которых зиждется весь наш торгово-промышленный строй. Она сделала даже кое-что хорошее и положительное в области мелких законов и второстепенных отраслей, а упорядочением государственного хозяйства, заботою о просвещении и землеустройстве косвенно создала более благоприятную почву для промышленного развития страны». В «заслугу» Думе ставилось и еще одно: «Наряду с предположениями относительно аграрных увлечений существовало опасение, что Государственная дума станет на точку зрения опеки и защиты исключительно потребительских интересов и во имя таковых будет перекраивать всё существующее законодательство. Таким опасениям давало основание все предшествующее развитие русской общественной мысли и русской интеллигенции. . . .В действительности, ничего ни крупного, ни решительного в этой области не произошло». Хотя «защита интересов потребителя и выпады против аппетитов промышленников и торговцев были излюбленным ораторским приемом законодательных упражнений с трибуны».27
Вместе с тем отмечалось, что «этого, ведь, мало. Развивающаяся русская промышленность и торговля требуют весьма широкого деятельного творчества. III Государственная дума — этого нельзя замалчивать — своей неподготовленностью в этой области нанесла торговле и промышленности чувствительный вред, сделавшись не центром инициативы, а новой задерживающей инстанцией и новым препятствием в столь изобилующей всякими препонами жизни русского промышленника». «Основная идейная задача русского народного представительства содействовать выработке более правильных взглядов на вопросы народного хозяйства, содействовать воспитанию общественной мысли в деятельности III Государственной думы не получила надлежащего разрешения, вернее — кончилась полною неудачей». Дума обвинялась в том, что «вопросов непосредственно экономического характера, промышленности и торговли» она «касалась мало. В тех немногих случаях, когда ей приходилось с ними иметь дело, не выяснилось с достаточной определенностью. . . основное направление, какого держатся по отношению к ним наши законодательные учреждения. Страна остается в полной неизвестности относительно этого направления», что являлось серьезным препятствием широкого проявления предпринимательской деятельности в стране.28
Подготовленная работа поспела к Шестому съезду представителей промышленности и торговли в мае 1912 г. и была распространена среди его делегатов. В. В. Жуковский сделал доклад съезду об ито-244
гах работы. Он подчеркнул, что вне зависимости от позиции Думы ее деятельность в вопросах промышленности и торговли прежде всего обнаружила некомпетентность по существу и неумение продуктивно организовать свою работу. Все это могло бы быть восполнено и исправлено, если бы в Думе были лица, «которые бы обладали доверием» при рассмотрении экономических вопросов. «Не было таких лиц и не было желания или чувства обязанности знакомиться с подробностями вопроса. Нашему Совету съездов пришлось в течение 5 лет снабжать членов Государственной думы многими записками. . . Опыт показал, что едва ли. . . путь этот оказывается целесообразным. Записки, которые носили ясный штемпель промышленного происхождения, тем самым как будто бы являлись несколько дискредитированными». В основе недоверия к взглядам торгово-промышленного класса как на свои интересы, так и на интересы общегосударственные, объяснял Жуковский, лежит известная доктрина: «Господин председатель Совета министров вчера нам тут говорил: то время, когда интересы торговли и промышленности противопоставлялись интересам земледелия, — минуло, и всем следует помнить, что эти интересы тесно связаны и должны быть сочетаемы, а отнюдь не противопоставляемы. Это совершенно верно. . . Но вот эта-то именно точка зрения не находила у нас большинства, а представлялась редкими лицами в наших законодательных учреждениях». Это заблуждение докладчик считал реально опасным и к разъяснению его предназначал книгу.29
И книга, и доклад В. В. Жуковского вызвали интерес съезда. П. П. Рябушинский сказал, что он, «как и многие. . . из присутствующих, с большим интересом познакомился с содержанием книги», которая произвела «громадное впечатление». «Пока мы изо дня в день почерпывали отрывочные сведения об этой работе из газет и из других периодических изданий, мы не могли составить такого полного, ясного и сильного впечатления, какое получается тогда, когда эти сведения оказываются собранными в одной книге». С основными выводами ее он был согласен. В заключение им было выражено пожелание, чтобы «новый состав Государственной думы сумел овладеть экономическими вопросами и проявил больше здорового творческого почина для подъема русской экономической жизни». В этом Рябушинского поддерживали В. И. Арандаренко и Ф. Е. Енакиев.30
Во второй половине 1913 г. была выпущена вторая книга издания, посвященная анализу первой сессии IV Государственной думы. Авторы с сожалением отмечали, что, хотя курс Думы в области экономической политики не выяснился («всё пока в полной неопределенности»), было ясно, что сочувствия к интересам промышленности и торговли ждать не приходится. Исходя из этого, Совет съездов счел необходимым снова выразить отношение предпринимателей к Думе вообще: «Как бы отрицательно ни относились законодательные учреждения к отдельным указаниям и нуждам промышленности и торговли и как бы резко промышленные и торговые сферы ни осуждали отдельные решения законодателей, очевидно, что сама
245
идея народного представительства всегда будет близка и дорога торгово-промышленному классу. Вопреки довольно распространенному предрассудку, промышленность и торговля для развития и осуществления нужных им мероприятий вовсе не нуждаются в окольных путях и секретных совещаниях. Промышленность выросла, дела свои она вершит при дневном свете и нужды свои обсуждает при дверях открытых. Поэтому парламентская трибуна есть учреждение для правильного решения промышленных вопросов необходимое».31
В третьей книге того же издания, вышедшей в 1914 г., говорилось, что за вторую сессию «общее направление деятельности Государственной думы уже более или менее выяснилось». Итог подводился такой: «В общих политических вопросах влияние Думы до сих пор весьма ограничено. В гораздо более сильной степени обнаруживается влияние Государственной думы в области экономической политики. Государственная дума является крупнейшим фактором, определяющим современную экономическую политику в самом широком смысле этого слова». Но являясь таким фактором, она все же остается чуждой интересам промышленности и торговли. «К большому нашему прискорбию, состав Государственной думы, за единичными исключениями, совершенно чужд торгово-промышленному труду. В этом обстоятельстве. . . может быть главная причина столь недоверчивого отношения к частной промышленности». Вызывали особенные беспокойство «господствующие в Думе до сих пор идеи государственного капитализма и своеобразного национализма». «К сожалению, мы не имеем в Государственной думе в достаточном числе тех элементов, которые могли бы уверенной рукой вывести Думу на новые пути экономической политики, более отвечающей современным условиям развития промышленно-торговой деятельности. С другой стороны, правительство почти не вносит в Государственную думу крупных деловых проектов, которые могли бы привлечь к себе внимание Думы и направить ее на новые пути».32
Тщательное наблюдение за прохождением в Думе законопроектов, затрагивающих интересы промышленности и торговли, за результатами голосований по этим делам и за любыми высказываниями по экономическим вопросам, а также критика через представителей предпринимателей в Думе и в печати действий Думы в целом и выступлений отдельных депутатов, не отвечающих интересам промышленности и торговли, — все это имело две задачи. Более общую — оказание воздействия на общественное мнение и разъяснение значения развития промышленности в России. И конкретную, деловую — давление на Думу в целях реализации экономических установок Совета съездов.
Для решения этой второй задачи вскоре после образования III Государственной думы по инициативе Совета съездов была создана торгово-промышленная группа членов Государственного совета и Государственной думы, «интересующихся работами обеих палат в области промышленности, торговли и финансов». 20 ноября 1907 г. состоялось обсуждение вопроса об организации работы такой группы, в ходе которого, в частности, было признано необходимым, 246
чтобы ее собрания имели «внепартийный характер». Задача группы заключалась в «защите интересов торговли и промышленности и финансов» посредством предварительного обсуждения торгово-промышленных вопросов, рассматриваемых законодательными учреждениями, и согласования тактики поведения членов группы. Был назначен постоянный день заседаний (вторник) и их место — Невский, 100, т. е. Совет съездов представителей промышленности и торговли. По сообщениям газет в состав группы вошел 41 человек. По подсчетам А. Я. Авреха, состав этот был большим — 54 человека, в основном октябристы и правые.33 Однако более или менее постоянно в работе группы принимало участие всего несколько человек, в том числе Н. С. Авдаков, Г. А. Крестовников, П. О. Гукасов, М. Н. Триполитов, Н. М. Чихачев, Н. А. Ясюнский, Г. Г. Лерхе, В. В. Жуковский, Л. К. Шешминцев.34 Остальные, значившиеся в списках, по-видимому, лишь приглашались на заседания группы и, строго говоря, едва ли могут числиться в ее составе. С началом работы IV Думы деятельность торгово-промышленной группы была продолжена. Во главе ее стоял председатель Совета съездов И. С. Авдаков.35
Мнения группы принимались во внимание Советом съездов при разработке замечаний на правительственные законопроекты и выработке собственных контр-проектов законов, направляемых соответствующим ведомствам и прежде всего, естественно, Министерству торговли и промышленности. Во внимательном отношении и к замечаниям, и к контр-проектам можно было не сомневаться.
1 ЦГИА СССР. Ф. 150. On. 1. Д. 373. Л. 21.
2 Там же. Л. 2.
3 Рейхардт В. В. Партийные группировки и представительство интересов крупного капитала в 1905—1906 годах// Красная летопись. 1930. № 6 (39). С. 11.
4 С е ф С. Е. Буржуазия в 1905 г. По неизданным архивным материалам. М.; Л., 1926. С. 118—120.
5 ЦГИА СССР. Ф. 150. On. 1. Д. 373. Л. 78.
6 Там же. Л. 27, 29.
7 Там же. Л. 45, 51—52, 54.
8 Рейхардт В. В. Указ. соч. С. 22.
9 ЦГИА СССР. Ф. 150. On. 1. Д. 373. Л. 138.
10 Там же. Л. 78.
11 Аврех А. Я. Столыпин и Третья дума. М., 1968. С. 231—232.
12 ЦГИА СССР. Ф. 150. On. 1. Д. 373. Л. 138.
13 Там же. Л. 338—339.
14 Промышленность и торговля. 1909. № 13. С. 2.
15 Там же. 1911. № 7. С. 312.
16 Там же. 1912. № 8. С. 398.
17 Там же. 1909. № 13. С. 1, 3.
18 Там же. 1908. № 4. С. 201.
19 Там же. 1911. № 3. С. 102—108.
20 Там же. № 6. С. 294.
21 Журналы заседаний Пятого очередного съезда представителей промышленности и торговли, состоявшегося 15—18 марта 1911 г. в Петрограде. СПб., 1912. С. 26.
22 Промышленность и торговля. 1911. № 7. С. 294.
23 Там же. С. 304, 311.
24 Промышленность и торговля в законодательных учреждениях. 1907— 1912 гг. СПб., 1912.
247
25 Там же. С. XIV, XIX, XX.
26 Там же. С. XVIII.
27 Там же. С. XXI.
28 Там же. С. XIV, XV, XXI—XXII.
29 Журналы заседаний Шестого очередного съезда представителей промышленности и торговли, состоявшегося 7—9 мая 1912 г. в Петербурге. СПб., 1913.
30 Там же. С. 26—27, 30, 32—33.
31 Промышленность и торговля в законодательных учреждениях. 1912— 1913. СПб., 1913. С. VII—IX.
32 Промышленность и торговля в законодательных учреждениях. 1913— 1914 гг. СПб., 1914. С. VII—XVIII, XXI—XXII.
33 А в р е х А. Я. Указ. соч. С. 234—236.
34 Промышленность и торговля. 1911. № 7. С. 322.
35 В подготовленном Советом съездов «историческом очерке» деятельности съездовской организации эта группа была названа Торгово-промышленным межпарламентским комитетом, который «следит за всеми вносимыми в Государственную думу законопроектами», имеющими «отношение к промышленности и торговле. Таким образом достигается взаимное понимание между обеими палатами, избегаются трения при окончательном утверждении законодательных мер, принятых Думой» (ЦГИА СССР. Ф. 150. On. 1. Д. 99. Л. 5).
Ю. Б. СОЛОВЬЕВ
КНЯЗЬ В. П. МЕЩЕРСКИЙ
И ЕГО РОЛЬ ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ
За все время после отмены крепостного права вплоть до начала мировой войны одной из самых заметных и примечательных фигур на русской политической сцене был кн. В. П. Мещерский, многолетний издатель «Гражданина», ставший в конце концов, по мере того как одно десятилетие сменяло другое, истинной знаменитостью. Пик его карьеры пришелся, как видно, на последние предвоенные годы, когда произошло его повторное сближение с Николаем после нескольких лет отчуждения. Он на пределе громкости проповедовал реконкисту, превозносил самодержавие как высшее благо, как власть, любимую народом и неусыпно заботящуюся о нем, и этими громогласными восхвалениями давным-давно отжившего он снова привлек к себе царскую милость и расположение. 3 марта 1913 г. Николай обратился к нему с восторженной похвалой напечатанной в «Гражданине» от 21 февраля юбилейной статьи «Великий и священный день» по поводу избрания на царство первого Романова. Как всегда, не жалея елея, когда ему приходилось писать о самодержавии, на этот раз князь прямо-таки истекал им, создав еще небывалый по насыщенности концентрат верноподданности. Царская власть превозносилась как основа основ всей жизни, только и дающая возможность стране существовать. Все написанное должно было убедить, что «спасение России в силе ее царя, и когда царь не будет силен, Россия умрет».1 Само многоречивое славословие не поднималось выше лубка, и нужно было обладать не7 малой долей простоватости, чтобы так горячо откликнуться на излияния Мещерского, как сделал царь. «С большим удовольствием прочитал вашу прекрасную, из сердца вылившуюся статью ,,Великий и священный день“, — восторгался Николай. — Она символ веры — собственно говоря — всякого честного мыслящего русского. Вы редко писали такую глубоко прочувствованную вещь. Очень хочу повидать вас и прошу приехать ко мне в четверг
249
(7 марта. — Ю. С.) в 6 часов».2 Получив такой аванс, князь не упустил предоставленного шанса и вскоре в прежней силе утвердился на прежнем месте. 13 апреля царь удостоверил, что «старая дружба вернулась окончательно».3 Снова наладились регулярные встречи, и если они срывались, царь воспринимал это как потерю. «Был огорчен, что не виделись в пятницу», — пишет он Мещерскому 6 мая.4 И находясь в отъезде, он не забывает о своем «старом друге», заботится о нем, «чтобы утешить» его. «С Ниловым (любимец Николая флаг-капитан «Штандарта» адм. К. Д. Нилов. — Ю. С.) часто вспоминаем о тебе», — в ободрение Мещерского пишет ему Николай из Крыма 8 сентября.5 Царь внимательно прислушивается к тому, что с глазу на глаз говорит ему князь, что он пишет ему между встречами, как это было заведено прежде, и, наконец, что вычитывает на страницах «Гражданина», как казалось Николаю, с большой пользой для себя. «Очень доволен дневником от 18 мая», — сообщает он ему после одного такого чтения.6 Дневник был посвящен начавшейся 16 мая поездке царя в Ипатьевский монастырь, где находились до избрания на царство Михаил Федорович и его мать, содержа все то же пропитанное елеем восхваление царской власти, близкой народу и безмерно обожаемой им. На всем пути следования самодержца, разыгрывал Мещерский все ту же незатейливую мелодию, «окружает море русского народа, как 300 лет назад, чистого сердцем», в своей неизбывной простоте только в него и верящего и только от него ждущего улучшения своей доли. Его неколебимой преданности противопоставлялось зловредное политиканство в Петербурге, поглощенном своими нескончаемыми интригами, от которых теперь можно ради собственного блага отдалиться и, наоборот, приблизиться к истинным источникам крепости страны. «Народные волны» в неудержимом стремлении к царю несли те же чувства, что 300 лет назад, и, брался перевести их послание Мещерский, они возглашают то же самое: «. . .не верь лгущим и льстящим тебе, не верь клевещущим и унижающим твой народ, чтобы себя возвысить, не верь жаждущим предвосхищать твою власть и предрешать твою волю, не верь силе смуты и не бойся ее, как не убоялся ее твой родоначальник».7
В этих смело от имени народа высказываемых словах содержались вся программа и суть реконкисты, отказ принять все произошедшие перемены, ценимые только гнилым, погрязшим в своих кознях Петербургом. Эти призывы и уверения питали и поддерживали собственные иллюзии Николая. «Царь был убежден, — подтверждал близко его знавший начальник канцелярии Министерства императорского двора А. Мосолов, — что народ его искренне любит, а что вся крамола — наносное явление, явившееся следствием пропаганды властолюбивой интеллигенции».8 Полная идентичность взглядов делала Николая усердным читателем «Гражданина», охотно набиравшимся мудрости из писаний князя, а наиболее понравившиеся места брались на специальную заметку и должны были в дальнейшем служить надежным компасом. Как знак признания высокой ценности и, понятно, действенности помещавшихся на страницах
250
журнала поучений следует рассматривать хранившееся царем им же составленное собрание выдержек, надписанное им собственноручно «Из дневников 1914 года. Мысли князя В. П. Мещерского». Как высшие истины, с которыми он очевидным образом намеревался согласовать собственную деятельность, шли изречения с подчеркиванием Николаем наиболее важных с его точки зрения положений: «Сенат должен быть Сенатом. . .»; «Как в себе ни зажигай конститу-ционизма, ему в России мешает сама Россия, ибо с первых дней конституции начнется конец единодержавия»; «Доколе царская власть — не декоративная и не зависящая от партийных страстей. . . дотоле царь есть защита народа. . .»; «Если допущена будет у нас, в подражание Европе, полная безответственность за каждое слово с трибуны Думы, то 1905 год в этой мутной среде, с прибавкой сотен тысяч рабочих, повторится в исполинских размерах. . .»; «Чем сильнее власть при всяком режиме, тем бессильнее революционные элементы»; «Только тогда правительство будет прочно и сильно. . . когда в его политике будет отсутствовать какой бы то ни было признак ухаживания его за политической партией. . .».9 Из этих пестрых максим, обративших на себя особое внимание царя, ставших для него руководством к действию, складывалась философия тотального неприятия новых условий государственной жизни, когда сохранение и упрочение старого и даже вовсе древнего продолжало оставаться главной целью и в соответствии с ней выстраивалась главная стратегическая линия. Как идеолог, непосредственно влиявший на формирование внутренней политики, Мещерский в это время был, очевидно, вне конкуренции. Ближе него в этом плане никто не сумел подступиться к трону. Князю вновь открывалась возможность своими руками делать большую политику. Еще до последнего сближения с Николаем его салон на Гродненском был местом, где не только обсуждали происходящее в духе «Гражданина», но и «делали дела».10 Звезда Мещерского все продолжала свое восхождение, и его прибавляющаяся сила очевидным для многих образом сказалась в назначении Н. А. Маклакова новым и совершенно неожиданным министром внутренних дел. О том, что князь приложил к этому руку, хотя здесь сказались и другие влияния, да и сам царь видел в новом руководителе внутренней политики своего выдвиженца, было широко известно.11 Наконец, в свержении Коковцова Мещерский тоже сыграл одну из первых ролей, ведя против него в открытую яростную кампанию и побуждая царя безотлагательно сместить ненавистного премьера. Николай не вдруг уступил настояниям Мещерского, еще в сентябре 1913 г. уклоняясь от того, что было, наконец, сделано в январе 1914 г. Сам Коковцов хорошо сознавал, как много значили в его падении нападки «Гражданина».
Мещерский отдавал себе отчет в том, что победы самодержавия эфемерны и в любой момент могут обернуться тягчайшими поражениями, и однажды уже придвинувшаяся вплотную гибель только ждет своего повторного часа, притаившись где-то рядом.
Лейтмотив им написанного — непрочность, неустойчивость положения при умножающемся неблагополучии дел на правом фланге,
251
где разъединенность со временем лишь возрастала, а общность являла очевидное исключение из правил и налицо было отсутствие авторитетного руководства. «Я прав, — подытоживал Мещерский свои наблюдения и выводы в конце сентября 1912 г., — когда нынешнее время называю шатаньем по бездорожью».12 Достаточна была причина для не покидавшей его тревоги, раз «нынче время мутное и смутное», а значит чреватое всяческими неожиданностями и потрясениями при отсутствии в распоряжении власти сколько-нибудь надежной опоры. И когда он незадолго до того прочитал в «Новом Времени» в связи с годовщиной смерти Столыпина панегирики в его адрес, с изображением его кормчим, сумевшим дать государственному кораблю верное направление, то он, сводя нововременского кумира с возводимого пьедестала и безоговорочно приравнивая восхваляемое прошлое скверному настоящему, заявлял в опровержение высказанных похвал, что «как при Столыпине, так и теперь мы не знали и не знаем, идем ли мы вперед или назад, идем ли мы к будущему или к пропасти, идем ли мы направо или налево».13
Его заботы и его тревога — это тревога и заботы и общий настрой принимающего участие в военных действиях и все происходящее для него продолжение войны, развернувшейся в годы революции. Борьба не на жизнь а на смерть продолжается, пишет Мещерский, скрывающийся под псевдонимом Томас (Thomas, т. е. Фома, подразумевая Фому неверующего. — Ю. С.), и самодержавию грозят те же противники, не смирившиеся с тем, что первый их натиск завершился неудачей. Но власть и теперь, за кого бы они себя ни выдавали, должна видеть в них противников, умея вовремя распознавать и пресекать их враждебные замыслы, нигде не давая им продвинуться. Таким противником, центром всей занимаемой им позиции выставляется Дума, которая, по мнению Фомы-Мещерского, возглавив все враждебное, стремится все к тому же — подчинить себе власть и свернуть страну с единственно возможного для нее пути. Претендент рассматривался лишь как дезорганизующая, плодящая всяческий беспорядок вредоносная сила. Такой рисовалась картина при истекающем сроке полномочий III Думы, от которой по самому ее составу мог произойти и произошел, прокурорствовал автор, один только ущерб: «. . .столыпинский избирательный закон обеспечил земскому элементу преобладание в „нижней палате", и земцы толпою ворвались в Таврический дворец. . . Целых пять лет Россия принуждена была испытывать на себе все прелести земской анархии».14 «На высокую трибуну, — громоздились новые и новые обличения, — всходили политически безграмотные люди, поражавшие крайнею убогостью мыслей». В ней все было плохо и никудышно, не исключая и тех, кто сидел справа. Они-то как раз и делали Думу окончательно негодной, будучи совсем не тем, за кого они себя выдавали. «Ни одного консерватора!» — сбрасывались они все скопом со счетов, являясь каким-то сбродом, отличавшимся лишь буйством поведения. «В самом деле, разве можно применить это слово к сидевшим на правых скамьях, — наотрез отказывалось им в стату
252
се союзников власти, — не умевшим даже держать себя с достоинством».
Дума оказалась местом какого-то злонамеренного маскарада, поскольку «партии присвоили себе несоответствующие их деятельности клички и вся их работа была сплошным политическим подлогом».
Это понимание и легло в основу общей стратегической диспозиции и рекомендуемой политики. Деятельность как партий, так и Думы изображалась в «Гражданине» родом надувательства, так как налицо стремление выдать себя не за тех, кем они на самом деле являются. Настоящая же их суть — это самозванцы, тужащиеся присвоить себе несоответствующее их истинной легковесности и мизерности значение народных представителей и вершителей судеб страны. Мещерский может противопоставить этим притязаниям только негодующий отпор, рисуя претендентов как вкупе, так и по отдельности совершенными ничтожествами, которые появились на свет лишь по допущенным оплошности или попустительству. Первый и самый крупный счет здесь предъявляется Витте, который оказался в «жалкой роли мальчишки, испугавшегося криков на улице, и стал сочинять законы о Гос. Думе по требованию Хрусталева и . . . Проп-пера, думая, что подкопы под основы царского самодержавия суть требования России».15 В этом качестве Витте не раз фигурировал на страницах «Гражданина» и до, и после этого поношения.16 Удар соразмерной силы наносился по Столыпину, который по чрезмерному тщеславию дал детищу Витте окончательно распуститься, вместо того чтобы держать его в строгости и послушании. Обуреваемый жаждой возвыситься и достичь положения властителя, он «сдал Россию в аренду своему любимому товарищу Крыжановскому и отдался всею душою политическим интересам и суете Председателя Совета Министров, создал себе дворцовую обстановку, блестящий двор из лукавых октябристов и глупых . . . подленьких националистов, принимал поклоны и комплименты, и в этой пышной обстановке князя политики начертывал проекты реформ, вдохновляясь своими придворными холопами и глядя на Россию не столько глазами, сколько фантазиею».17 И когда в сентябре 1913 г. в очередную годовщину убийства Столыпина в Киеве было устроено его чествование, открыт памятник и националисты захотели выставить себя его подлинными наследниками и душеприказчиками, то Мещерский набросился на них с еще большим остервенением — они «испортили собою всю вторую половину управления Столыпина и навредили ему больше самых искренних его врагов». То была «зловредная банда», для которой «нет ничего святого — ни родины, ни церкви, ни царя, ни совести — ничего кроме личных интересов каждого из этой банды».18 И снова в укор Столыпину ставилась его политика опоры на националистов вкупе с октябристами, хотя он и заслуживал некоторого снисхождения, «нося в себе высокие и благородные дворянские предания и заветы». Но все же непрощенными оставались поиски опоры между правыми и либералами, а это представлялось Мещерским как своевольное уклонение Столыпина от указанного царем пути, и князь воспользовался выступлением А. Столыпина на
253
банкете националистов при участии нескольких октябристов с восхвалением «столыпинского дела», чтобы категорически его осудить. При «столыпинском деле и столыпинской политике», произносил свой приговор Мещерский, происходил только вред и «вред от этого столыпинского дела, как я не раз говорил, был большой для интересов государства и для интересов верховной власти . . . Сочинялось и учреждалось столыпинское земство, сочинялись столыпинские проекты, тон задавали официальной России столыпинские люди, появились столыпинская Россия и столыпинская преданность и т. д.».19 А националисты так уж и оставались до конца неамнистированными, и даже одно данное им в январе 1914 г. разрешение собраться на съезд послужило поводом для новой филиппики при старых обвинениях, разве что теперь уже Коковцову и Макарову вменялось в вину, что при них «допускалась уродливая и опасная теория, что националист — надежный союзник правительства и должен считаться правым, за неимением просто правых».20 Между тем «мнимая преданность» националистов — лишь мошеннический способ получить «доступ к наживе». Вывод был безапелляционным: «Таких монархистов надо бояться, как бешеных собак, а не собирать их на съезды».
К октябристам Мещерский был несколько более снисходителен, хотя и их считал он не столько партией, сколько шайкой, видя отличительные ее свойства в том, что «в шайке октябристов нет, во-первых, ни одного фанатика идеи, а во-вторых, нет двух лиц, мыслящих по главным вопросам одинаково».21
Сотрудничество с Думой при таких контрагентах выглядело прямой нелепостью, явным самоунижением власти. Ей не с кем было иметь дело на равных, не исключая и правых. Состояние правых как раз и делало Думу, по неоднократно высказанной мысли Мещерского, неподходящим для самодержавия партнером. Как политическую силу Мещерский приравнивал их нулю, склоняясь даже к тому, чтобы считать их отрицательной величиной. Подводя общий итог их деятельности в III Думе, он безоговорочно писал об их бесполезности, если не вредности. «Правые, доселе, увы, как активная сила, давали только наглую руготню Пуришкевича и глупые кулаки Маркова 2, крики ,,гимн“ и затем настолько пассивное настроение остальных, — заносил их он всех в графу убытка, — что им за пять лет не удалось ни разу победить Гучкова и забраковать хотя бы один вредный для России проект Столыпина».22 И в дальнейшем он не возлагал на них никаких надежд, числя их всё в тех же политических недорослях, от которых власти не будет никакого прока. «Нет в лагере правых не только признаков энергии в борьбе, — констатировал он в первые месяцы 1913 г., — но даже самого главного — объединения для самоусиления».23 Со свойственной ему энергией в выражениях он аттестовал их мятущееся целое как «слабодушного кастрата».
На сцене Мещерского Дума рядом с властью выступала неким карликом, от которого той надо держаться подальше, раз уж его нельзя вовсе прогнать, и предлагаемый им способ держаться от нее подальше — это отдалиться от партий и не подпускать к себе эти так мало значащие, но на столь многое замахивающиеся группки.
254
Такая тактика предлагалась в конце ноября 1912 г. после только что состоявшихся выборов в IV Думу, вызвавших у их устроителей и на самом верху власти тяжкое разочарование, потому что имелось в виду заполнить ее правыми и, применяя все доступные способы давления, организаторы сумели протолкнуть в нее тех, кто относил себя к правым, делая особый упор на дворянство, но вскоре же убедились, что многие из числившихся правыми могут лишь постольку считаться правыми, поскольку они не левые.24
Неудавшийся трюк целиком списывался на непосредственного руководителя выборов — А. Н. Харузина, товарища А. Макарова. К вящей дискредитации Думы она стала именоваться на страницах «Гражданина» не иначе как харузинской и ставилась гораздо ниже своих предшественниц. В самых первых комментариях зазвучали эти ноты, когда было отмечено, что благодаря «харузинской выборной политике» в Думе оказалось «чуть ли не 150 фальсифицированных правых».25
Но и те, кто не числился среди «фальсифицированных», не делали ей чести, впрочем о чести применительно к Думе вообще не приходилось говорить. И на той же странице, где печатались попреки в фальсификации ее состава, отпускалось: «. . .блаженны националисты и правые нашей Думы: их ничем не пристыдишь, ни Замыслов-скими, ни Марковыми 2, ни даже Крупенскими».26 Всё вместе теперь сваливалось в какую-то безобразную кучу, и, не видя в этом никакой беды, а скорее считая это благом, Мещерский подытоживал: «В 4-й Государственной Думе полный хаос и сумбур».
Однако, хотя IV Дума в любом случае не могла сойти за выразительницу воли страны, ей пришлось действовать в те сроки, когда обстановка в России стала быстро накаляться. Теперь на повестку дня снова выдвигались реформы и преобразования, только что отвергнутые, и Дума снова волей событий выдвигалась как место, где власти делались соответствующие предложения в расчете на сотрудничество с ее стороны для предотвращения краха всего существующего порядка.
Позиция самодержавия в этой обстановке определилась в результате новой напряженной борьбы между силами, которые еще недавно потерпели поражение в попытках обновления режима, и теми, кто одержал верх в отстаивании старых порядков. Одним из существенных факторов в этой борьбе была деятельность кн. Мещерского, именно в это время достигшего зенита своего влияния.
В его писаниях и даваемых царю советах очертилась концепция и подходы власти к возникшим проблемам. В его воинствующей агрессивности, в неистовости его поношений в адрес всех, пытающихся сдвинуть самодержавие с места, проявился подлинный настрой власти, ее неспособность и нежелание преодолеть инерцию прошлого.
Рука Мещерского хорошо видна в ходе событий, начиная с назначения Маклакова главой МВД, завершившихся обращением Маклакова к царю в Крым в середине октября 1913 г. с предложением перейти к решительным действиям в отношении Думы и данным
255
Николаем согласием.27 Хотя эпизод этот и остался без практических последствий, он, однако, обнаруживает, чем руководствовались на самом верху, какой вопреки всему и вся выбирали путь.
Об этом же прежде говорил и ход борьбы, развернувшийся вокруг Маклакова с первых же дней его министерствования, в которой Мещерский стоял с ним рядом, и его голос звучал погромче голоса самого министра. Он и назывался вслух наставником николаевского любимца. Он объяснял во всеуслышание смысл как его поступков, так и происходящего на политической сцене, и этот смысл он видел в том, что на самодержавие под водительством Думы снова двинулись войной. Сам Мещерский придавал всему чрезвычайное значение, так как тем или иным поворотом дела решалась судьба самодержавия и всего сущего вообще. «Не мне крошечному, но верному слуге правительства, — так ставил он вопрос, — давать ему советы: но не сказать в эту минуту, что правительство призвано подумать о том, что дело идет не о конституции, а о том, что в день ее объявления, за невозможностью в России быть конституции, будет перекинут мост к событиям, перед которыми 1905-й год покажется игрушкою, — не сказать этого не могу».
Значение этого предостерегающего сигнала измеряется тем, что параллельно сама власть приходит в эти же дни к выводу, что вопрос — как быть с Думой, — встал ребром и настало время пустить в ход для ее обуздания меры покруче. И подобно тому как в 1904 г. Николай с целью усмирения тверского земства скомандовал Плеве «треснуть крепко и неожиданно», так и теперь он очевидным образом склонялся к тому, чтобы снова «крепко треснуть». 14— 18 октября происходит обмен писем между ним и Маклаковым, и намеченные в этом духе инициативы министра получают выраженное в самой лестной для него форме царское одобрение. Решено, что если в ответ на обращение Маклакова с обвинением в недопустимом поведении Дума откажется капитулировать, ее тут же разгонят без полагающегося в этом случае назначения срока созыва новой, но и новой пришлось бы, по мысли Николая, быть новой в буквальном смысле, потому что он намеревался исполнить уже годы муссируемое предложение Мещерского — изменить ее статус, и, дойдя на новый государственный переворот, превратить ее фактически в законосовещательную. Оставалось только спустить взведенный курок. «Казалось, — комментирует детально разработанный план А. Я. Аврех, — судьба Думы была предрешена».28 Однако уже взяв Думу на мушку, в последний момент от экзекуции отказались, и весь сильнейший замах дал нулевой эффект.
Все исследователи, касавшиеся этого необычного эпизода, — и Е. Д. Черменский, и А. Я. Аврех, и В. С. Дякин — постарались решить поставленную загадку, и каждый предложил свои, вполне резонные версии причин несостоявшегося сокрушительного удара.
К тому, что уже высказано, следует добавить действие еще одного фактора, тоже, возможно, повлиявшего на ход событий, — настояний Мещерского, так как все случившееся хорошо вписывается
256
в его аргументацию и находится в соответствии с вытекающими из нее рекомендациями.
Его настойчивые увещевания этой поры — не бояться нестрашного, не принимать надоедливого комара за слона и тем более не бросаться на него с кулаками: власть несравненно сильнее своего вышедшего из рамок оппонента и располагает достаточными возможностями, чтобы привести его в надлежащий вид. Ведь все происходящее — это «буря в стакане воды»,29 да и то разыгравшаяся только потому, что ей дали это сделать. Стрела уже в который раз летит в сторону Коковцова, чье попустительство и противопоставление себя Маклакову в непонимании, что «в борьбе данной минуты не Маклаков играет главную роль — он только мишень, повод для выстрелов против тысячелетних преданий России», — дали развернуться наступлению думской мелюзги. А между тем справиться с ним не представляет труда. «Я твердо убежден в том, — уверенно заявлял Мещерский, — что вся сила этой бури в стакане воды заключается в роковом непонимании долга правительственной власти быть сильною и не принимать трусливых агитаторов оппозиции ни за общественное мнение, ни за русский народ». Принимать их следует больше как героев балагана, да и Дума идет собственно в этой же категории, отчего так комичны ее старания выглядеть вершительни-цей государственных дел. «Смешат меня наши газеты своими статьями, — находил князь повод для веселья вследствие несоответствия этих претензий сущности, — о приближающейся к Петербургу грязненькой и хмурой тучке, именуемой Государственной Думой».39 Он усматривал нечто очень потешное в том, что газеты «не только серьезно, но даже помпезно говорят о каких-то партийных приготовлениях создавать какие-то политические силы для государственного дей-ствования». Это все изображалось как какая-то клоунада и, опередив нелепостью своего поведения всех своих предшественниц, IV Дума была «куда хуже третьей, второй и первой». Но раз дело обстоит таким образом — «не проще ли ее распустить как негодную», — допускал Мещерский возможность такого заключения. Но как раз потому, что он не признавал за ней силы, он и не видел надобности сокрушать ее. «Зачем распускать эту Думу, сцешу я ответить, это слишком много будет для нее чести, — отвергал он пользу хирургического вмешательства. — Распустить ее надо будет тогда, когда дело ее исправления, которое я считаю трудным, окажется невозможным».31 Вместо того, чтобы вступать в схватку или просто понапрасну тратить силы, он предлагал довольствоваться «твердым и ясным воздаванием Думе думского, под условием, что и она столь же твердо и ясно воздавала кесарю кесарево». Расставить все по своим местам, так что и Думе могло найтись маленькое местечко, не составляло сложности, потому что, рассуждал Мещерский, «ведь так ясны две вещи: одна — что все эти нахальные и дерзкие нападения 4-й Государственной Думы на правительство исходят от трусов, и другая — что они дерзки потому, что правительство слишком любезно и терпеливо и в те минуты, когда на один дерзкий выпад Думы оно должно ответить двумя вежливыми, но сильными ударами,
17 Заказ 1143 257
с полным сознанием своего достоинства и с полным презрением к тому противнику, который этого сознания достоинства не имеет». Больше всего виноваты в том, что такой обиход не установился, «некоторые из министров своим тоном, своим заискивающим обращением, своим неумением держать себя министром».
Но если разгонять Думу не следовало, то следовало, по мнению Мещерского, «изменить тот нелепый основной закон», который делал Думу законодательной.
Ровно через полмесяца, уже после 10 октября Николай повторит это почти в тех же самых словах в письме Маклакову. Налицо было такое единомыслие, что оба начинали говорить одним и тем же языком или написанное Мещерским так глубоко западало в сознание царя, что целиком становилось его собственной мыслью, и он начинал говорить языком Мещерского. И та легкость, с какой Николай предполагал провести саму операцию, стояла в полном соответствии с той легкостью, какая мыслилась в этом случае Мещерским. На уморасположении царя, по-видимому, сказывалось умение князя преуменьшать угрозы и опасности, исходившие старым порядком от утверждения в России нового строя, становившимся под его пером чем-то беспочвенным и лишенным всякой настоящей силы. Источником беспокойства оказывалось что-то такое ничтожное и слабое, что им можно было пренебречь и не идти на конфликт, не давая одновременно оппоненту хоть в чем-нибудь усилиться за счет власти. А всё близкое взгляду, что страна быстрым шагом приближается к небывалой катастрофе и если сейчас же не повернуть на путь реформ, она станет неизбежной, — это все Мещерским высмеивалось, выдавалось за досужее фантазирование, злонамеренные выдумки. «Когда я слышу возгласы и сказы о скверном и ужасном, творящемся ныне, ничто из этих возгласов и из этих сказов, — со всей безапелляционностью отвергал он все это, — меня не пугает и не ужасает».32 Это все были измышления, распространяемые стремящимся найти слабое место слабым противником, избравшим теперь тактику запугивания под лозунгом: «Россия левеет». Мещерский бросался опровергнуть всюду раздающееся утверждение, которое зазвучало и на бюрократических верхах, представив добивающихся перемен никчемным, но и не представляющим опасности сбродом, способным только досаждать своими немощными попытками сбить страну с правильного пути. «Левению России» он противопоставляет лежащую в основе всей его аргументации идею «двух Россий». Он вразумлял почти в те же самые часы, что царь вместе с Маклаковым кроили смирительную рубашку для Думы, заговорив лишь о «леве-нии» тайного советника, что существуют две ни в чем не похожие друг на друга и ничем не связанные России: «. . . одна Россия — малюсенькая, хилая и больная; болезнь ее — политическая чесотка; это — Россия наших думцев, наших обновленцев, наших интеллигентов, наших газетных писак, наших городских и земских либералов, словом — Россия нескольких сот тысяч людишек, которая все чешется от политического зуда и в промежутке между чесаньем болтает, требует реформ и конституции. И есть вторая Россия —
258
150 миллионный гигант, с умом, с сердцем, требующий одного — спокойствия и сильной царской власти, чтобы ему легче было жить. . .
Но и малюсенькая Россия — Россия людишек конституционалистов — не левеет. Она глупеет!»33
Только дело ее в любом случае проигрышное, потому что вторая Россия ее отвергает, и это видно уже в том, что «как ни верти, все выходит для Государственной Думы хуже, для правительства лучше», ведь «Россию уже Дума успела от себя оттолкнуть».34 А спустя непродолжительное время это возводилось уже в общую закономерность с указанием на «постепенное и все более сознательное отчуждение народа от собрания им же избранных членов Государственной Думы. Тут именно важно то, что постепенно народ оборачивался спиною к Государственной Думе все сознательнее». Да и сама она, внушает Мещерский, бросается в бой не столько по злонамеренности, сколько по вздорности вследствие отличающей ее состав бессмысленности, будучи харузинским детищем, т. е. «состоящею из толпы согнанных становыми и приставами faux bons hommes (фальшивых благомыслящих. — Ю. С.), не знаюших как думать, что думать, куда идти и куда девать свои мысленки».36 А потому при известном терпении, особенно если не создавать ненужных поводов для осложнений, все само собой должно утихнуть и прийти постепенно в порядок. «С этой Думою можно, — в духе этого заключает Мещерский в середине ноября, — при известных условиях и отношениях, дойти до водворения в ней хорошей погоды и охоты к работе».37
В подтверждение верности своего прогноза он спустя неделю отмечает, что «к концу года обнаружилось, за самое последнее время, какое-то сознательное успокоение в Государственной Думе».38 А Родзянко так уж вовсе удостаивается комплимента в связи с только что произнесенной речью, которая «обращает на себя внимание своим спокойствием, отсутствием малейшего задора . . . малейшего вызова ... в ней не было ничего пикантного и тенденциозного».
Живописуя эти благие перемены, Мещерский делал это, по-видимому, с целью убедить власть имущих, что своего можно добиться не обязательно путем лобовых столкновений. Гораздо большего можно достичь с помощью ловкости, чем голой силой. По наступившим временам фокусник куда предпочтительнее кулачного бойца. Он советует, настаивает — побольше фокусов, а если еще научиться гипнотизировать да провести несколько сеансов — еще лучше. И судя по тому, что стало делаться верхом, его настояния не остались втуне. Ни от чего своего не отказываясь и даже забирая еще круче вправо, надевают на себя личину доброжелательства, расточают улыбки, делают реверансы, не скупясь на всякого рода приглашающие жесты. 1 ноября прекращается «министерская забастовка», для чего Маркова заставляют принести извинения за майскую выходку. Импульс еще большей силы политике любезностей должен дать последовавший затем визит самого Маклакова в думскую комиссию, рассматривавшую закон о печати. И, довершал
17*
259
Мещерский разыгрываемые мелодии согласия особенно сильным призывным аккордом, если бы он был на месте Маклакова, то обратился бы к противной стороне с воззванием обоюдно сложить оружие: «. . . пока, верьте мне, право, лучше и для вас и для нас жить в мире и прочно поддерживать его с обеих сторон».39
Политика фокусов приобретает еще больший размах со смещением Коковцова и назначением в премьеры Горемыкина, который и начал свою деятельность с зазываний и широковещательных приглашений к сотрудничеству.
Мещерский снова встречает аплодисментами появление на думской трибуне главы правительства «с миролюбивыми и гостеприимными словами», после которых «почувствовалось как будто веяние теплого ветерка».40 Наилучшим он теперь признает лекарство опьяняющего свойства, отшибающее соображение, когда ничего реального не получая, недовольные почувствовали бы вдруг удовлетворение и пошли на мировую.
И хотя реальные результаты здесь выглядели разочаровывающе и напряженность во взаимоотношениях с Думой, особенно в связи с прениями по бюджету МВД и делом Чхеидзе, возрастала, Мещерский не отступался, скорее даже укрепляясь в своей приверженности к той линии, которую он повел еще в первые годы века с обострением предреволюционного кризиса. И теперь он усиленно хлопочет о как бы втором издании Манифеста 26 февраля 1903 г., так чтобы самодержавие оставалось бы самодержавием, а выглядело бы своей противоположностью. И как тогда он писал о самодержавии как гаранте и источнике свободы и о себе как о ее певце (в надежде, что найдутся во множестве желающие поверить в это), так спустя десять лет он снова рекомендует фокусничество, передергивание карт и эквилибристику как лучшее средство спастись, в особенности после того, как все чуть было не погибло в 1905 г. И если для многих 1905 г. отошел в даль и был ими предан забвению, Мещерский помнил о нем каждодневно, не утрачивая и доли того страха, который он претерпел тогда. Напротив, чем дальше, тем больше считался он с возможностью повторения 1905 г., но уже в исполинских размерах. Вопрос быть или не быть для него не сходит с повестки дня и решается он не в ристалищах с Думой, которым он придавал второстепенное значение, действительно видя, что сладить с харузинцами не так уж трудно и в конце концов можно даже будет воспользоваться подвернувшимся благоприятным моментом и безболезненно провести «пересмотр двух-трех основных законов». Власти нужно было бояться не думского карлика, а того самого народа, который, как он не уставал твердить, горой стоит за царя. Наряду со стократным повторением этого Мещерский не устает предостерегать, что народная масса может снова повернуться против существующих порядков, воплощаемых для нее во всякого рода и калибра властях, и действия властей служат постоянным возбудителем недовольства, потому цто они более всего склонны к притеснительству и, не зная удержу, своими безрассудными выходками могут вызвать взрыв,
260
спровоцировав события, в сравнении с которыми 1905 г. покажется игрушкой.
Он пристально наблюдает за тем, как начальствуют управители, постоянно попрекая их, что они ведут себя рассудку вопреки и готовят почву для великих бедствий. И он уже решил было, что пора бедствий наступила после ленского расстрела. Он замер тогда в ожидании, что вот-вот все рухнет. Как будто бы бомба с догорающим фитилем завертелась под ногами. И впоследствии он несколько раз открещивался от того, что было сделано на Лене, повторно отрекаясь от Макарова и сказанных тем знаменитых слов. И дело было не в том, что Макаров был для него ставленником Коковцова, а с неприятелями князь не церемонился, а в том, что и впрямь для него тогда под ногами разверзлась бездна. Он и больше года спустя ужасался тому, что Макаров «решился, загипнотизированный Белецким, на всю Россию бросить слова „так было, так будет" — слова, всем нам, миллионам людей, сказавшие, что никакого другого размышления разыгравшаяся на Лене трагедия не вызвала. И когда восстановилось спокойствие после разыгравшейся трагедии, мы, обыватели, почувствовали и поняли, что между нами и правительством было различие во взгляде на установившееся спокойствие, мы это отрадное событие приписывали одни — божьему милосердию, а другие — такому же счастью, с которым играющий в рулетку в несколько минут выигрывает целое состояние, а правительство смотрело на этот восстановившийся порядок как на результат того образа действий, который угрожал всю Россию зажечь революционными беспорядками».41
Рикошетом досталось и Думе, которую Мещерский сажал на одну скамью с зарвавшимся правительством как повинную едва ли не в соучастии — в согласии со своим неизменным правилом, что с врагом нужно обращаться по-вражески и бить его любым подвернувшимся под руку оружием. «Когда министр Макаров решился с трибуны нанести оскорбление всей России словами „так было, так будет" по поводу провокаторских действий подчиненных ему учреждений и вся Россия дрогнула от негодования, — гремел Мещерский, — Государственная Дума холопски промолчала и не реагировала на эти слова, потому что они касались не ее личных интересов, а только России и миллионов рабочих».42
Его постоянный лейтмотив — трогать рабочих, делать ставку на силу в обращении с ними, опасно, тем более, когда за дело берется полиция. Он яро набрасывается на нее с обвинениями, что сыск и жандармерия из карьерных побуждений лепят дела, нарочно создают беспорядки, чтобы таким путем получать награды и чины. А при бесконтрольности и безответственности можно делать что угодно, в особенности когда начальство требует, чтобы было побольше задержанных. «На лучшем счету у своего начальства обретается тот из служащих по охране и сыску, — объяснялась в «Гражданине» механика дела, — который за год может пощеголять огромным числом заподозренных в политической неблагонадежности ... вопрос об основательности или неосновательности подозрения
261
и обвинения отходит на второй план, и об ответственности даже за явную неосновательность обвинения в силу той же традиции нет речи».43
Непрерывные рабочие волнения этих лет, достигшие накала 1905 г., заставляют Мещерского метаться в поисках выхода, когда не было уже никакой надежды на то, что положение можно поправить силой. Грозную опасность он усматривал и со стороны крестьянства, которое тоже вот-вот может взяться за топоры, если его будут допекать по-прежнему. В этой сгущающейся грозовой атмосфере безумными представляются ему те поступки властей, которые могли только еще больше накалить ее. И первым в этой чреде он ставит дело Бейлиса, многократно обращаясь к нему как к безумной затее, которая может иметь гибельные последствия для всего существующего строя. Это одна «из страничек летописи сумасшедшего дома».44 Неделю спустя он пишет об «огромном вреде» от процесса.45 Он навлекает на себя ожесточенные нападки со стороны правых. На него сыпятся обвинения, что он продался тем, кого защищает. Но Мещерский отвергает свою роль защитника. «Еще два-три таких судебных представления на всероссийской сцене, — вразумляет он бросившихся на него в штыки, — и мы будем иметь в жизни такие кровавые эпилоги, что страшно подумать, и не по еврейскому вопросу исключительно, но по всем вопросам, где играют главную роль политические страсти».46 Он не скрывает, а, наоборот, подчеркивает, что его страшат последствия от возбуждения «миллионов людей против миллионов людей». И это «в такое время, когда так нужен бедной России покой, покой и покой для просветления и для облегчения себе бремени жизни».47
Но все снова и снова возвращается он к этой теме — какой может быть покой при том начальстве, которое есть. Оно все полно боевого задора, не знает для себя никаких границ и поджигает и раздувает все конфликты, где только можно, тогда как единственный шанс спасения заключается в том, чтобы где только можно стараться их гасить, к чему он призывал еще в начале века. Пыла в его обличениях прибавилось, в особенности после того, как власти и его сделали потерпевшей стороной в деле Бейлиса. Уже и до этого приходилось касательно манеры действий губернаторов «говорить о все усиливающейся дурной замашке или об усердии не по разуму — позволять себе толковать права усиленной охраны по своей фантазии».48 Теперь же, негодовал непосредственно задетый Мещерский, «в Киеве губернатор, в каком-то совсем уже непонятном порыве усердия не по разуму, расходился во всю в своем произволе», предав «Киевлянина» суду за передовую по процессу, а на другой день оштрафовал «Киевскую Мысль» за перепечатку из «Гражданина» о деле Бейлиса. Как переводил Мещерский смысл, вкладываемый губернатором в эти мероприятия, — «плевать мне на Петербург и на главное управление по делам печати, хочу и поступаю, как мне фантазия придет в голову». Этот и другие случаи Мещерский выстраивал в определенную тенденцию и с унынием отмечал: «. . .вообще достоин внимания тот печальный факт, что никогда так часто не
262
приходилось слышать жалоб на губернаторов, как за последние годы». Констатируя бедственное состояние дел, он писал: «. . .получается впечатление разнузданной, вялой, дряблой и ко всему равнодушной (кроме своих личных интересов) власти, которая по всей России ощущается уже не мало лет». Распоряжается «тип помпадура и городничего во образе губернатора». Все эти потом не раз произнесенные инвективы только подчеркивали бессилие Мещерского что-либо изменить, и последние его слова, с которыми он сошел в могилу (а это случилось за несколько дней до начала войны — в ночь предъявления Австрией ультиматума Сербии), были слова о возмутительных безобразиях, творимых властью по наущению и при поддержке «недоучившихся черносотенцев» в Нижнем Новгороде и Киеве. «Значит, если все сие из области сумасшествия оказалось допустимым и даже совершившимся, то что же в данный момент недопустимо?»49 В этом тягостном недоумении князь завершил свой жизненный путь.
Конечно, в том, что под конец так стало его будоражить, не было ничего нового. Так власть действовала всегда, попирая самой же ею установленные законы, пренебрегая элементарными нормами приличия и благопристойности. В произволе и беззаконии выражалась сущность самодержавия. Это были неотъемлемые свойства режима, и пока этот режим сохранялся, он не мог от них избавиться, а все попытки упорядочить власть, поставить ее в рамки закона, предпринимаемые еще в первые годы XIX в., оставались без всяких последствий. Мещерскому ли было не знать, что грубость и насилие вместе с уверенностью, что применение их благополучно сойдет с рук, от века составляли основу методов управления. Стараться отговорить власть и ее присных от того, чтобы быть самими собой, толковать о необходимости не переступать известных пределов и вместе с тем и больше всего заботясь о возвращении самодержавию прежнего всевластия, было затеей утопической, и здесь Мещерский потерпел фиаско, и в действиях тех, к кому он обращался с увещеванием держаться в границах хотя бы здравого смысла, не быть чуждыми сознанию опасности, трудно будет отыскать следы его наставлений. Но в области упорствования самодержавия в сохранении своего всевластия, вступления его на путь реконкисты Мещерский сыграл выдающуюся роль. Николай хорошо усвоил уроки своего «старого друга». Он жил в мире Мещерского с его гротеском, карикатурностью, искажением реальных пропорций и соотношений, граничившим с театром абсурда, на сцене которого мельтешили «малюсенькая Дума», эта «грязненькая тучка», «малюсенькая Россия» «нескольких сот тысяч людишек», страдающих политической чесоткой, и рядом с ними, убогими, высилась громадина в 150 миллионов, неколебимая опора власти. В этом царстве кривых зеркал Николай оставался до конца.
1 Великий и священный день // Гражданин. 1913. № 8. 21 февраля. С. 12.
2 Николай II — кн. В. П. Мещерскому 3 марта 1913 г. С. 139//Oxford Slavonic Papers. 1962. Vol. X.
263
3 Там же. С. 140 (13 апреля 1913 г.).
4 Там же (6 мая 1913 г.).
5 Там же. С. 141 (8 сентября 1913 г.).
6 Там же. С. 140 (29 мая 1913 г.).
7 Гражданин. 1913. № 20. 20 мая. С. 17 (Дневник от 18 мая).
8 Цит. по: А в р е х А. Я. Царизм и IV Дума. 1912—1914 гг. М., 1981. С. 261.
9 Там же. С. 258.
10 О салоне кн. Мещерского написано у Витте в посвященном ему очерке (см.: Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. Приложения. Князь В. П. Мещерский. М., 1960. С. 588).
11 Аврех А. Я- Указ. соч. С. 259.
12 Гражданин. 1912. № 39. 30 сентября. С. 14. (Дневник от 27 сентября).
13 Там же. № 37. 16 сентября С. 12.
14 Thomas. Печальной памяти третьей Думы//Гражданин. 1912. № 24. 17 июня. С. 4.
15 Г р а ж д а н и н. 1913. № 37. 22 сентября. С. 13—14. (Дневник от 20 сентября).
16 Витте припоминал, как вел себя Мещерский осенью 1905 г., когда при встречах «плакал, уверяя, что Россия погибла и единственное спасение России заключается в конституции; необходимо дать России конституцию» (там же. С. 591).
17 Гражданин. 1913. № 11. 17 марта. С. 13. (Дневник от 13 марта).
18 Там же. № 35. 8 сентября. С. 13. (Дневник от 6 сентября).
19 Там же. № 36. 15 сентября. С. 10. (Дневник от 8 сентября).
20 Там же. 1914. № 4. 26 января. С. 15. (Дневник от 25 января).
21 Там же. 1913. № 41. 20 октября. С. 13. (Дневник от 17 октября).
22 Речи консерватора // Гражданин. 1912. № 42. 21 октября. С. 2.
23 Там же. 1913. № 9. 3 марта. С. 16. (Дневник от 26 февраля).
24 Дякин В. С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911 —1914 гг. Л., 1988. С. 87.
25 Гражданин. 1912. № 47. 25 ноября. С. 12—13. (Дневник от 19 ноября).
26 Там же. С. 13. (Дневник от 20 ноября).
27 Подробнее см.: Аврех А. Я. Указ. соч. С. 114—115; Дякин В. С. Указ. соч. С. 159—161.
28 А в р е х А. Я. Указ. соч. С. 115.
29 Гражданин. 1913. № 38. 29 сентября. С. 16. (Дневник от 28 сентября).
30 Там же. № 39. 6 октября. С. 12. (Дневник от 3 октября).
31 Там же. С. 13.
32 Там же. № 40. 13 октября. С. 13. (Дневник от 9 октября).
33 Там же. С. 4.
34 Там же. С. 16. (Дневник от 12 октября).
35 Там же. № 46. 24 ноября. С. 14. (Дневник от 19 ноября).
36 Там же. № 41. 20 октября. С. 12. (Дневник от 16 октября).
37 Там же. № 45. 17 ноября. С. 14. (Дневник от 13 ноября).
38 Там же. № 46. 24 ноября. С. 15. (Дневник от 20 ноября).
39 Там же.
40 Там же. 1914. № 17. 27 апреля. С. 14. (Дневник от 23 апреля).
41 Там же. 1913. № 33. 18 августа. С. 15. (Дневник от 16 августа).
42 Там же. № 21. 26 мая. С. 13. (Дневник от 20 мая).
43 Там же. № 30. 28 июля. С. 9. (Дневник от 21 июля).
44 Там же. № 38. 29 сентября. С. 3.
45 Там же. № 39. 6 октября. С. 11. (Дневник от 1 октября).
46 Там же. С. 14. (Дневник от 5 октября).
47 Там же. № 42. 27 октября. С. 15. (Дневник от 26 октября).
48 Там же. № 39. 6 октября. С. 12. (Дневник от 2 октября).
49 Речи консерватора // Там же. 1914. № 27. 6 июля. С. 2.
А. А. ФУРСЕНКО
КОНЦЕРН К. и. ЯРОШИНСКОГО В 1917—1918 гг.
Карл Иосифович Ярошинский являлся одним из самых видных представителей финансовой олигархии предреволюционной России.1 Изучение деятельности его концерна позволяет глубже понять взаимоотношения российских и западных финансистов в 1917—1918 гг., помогает увидеть финансовую подоплеку контрреволюции и последующей иностранной интервенции. Концерн Ярошинского уже привлекал внимание советских историков.2 Однако подробные обстоятельства его деятельности стали известны сравнительно недавно, после публикации книги британского журналиста М. Кеттла, который получил доступ к секретным материалам английского военного кабинета, Министерства иностранных дел и разведки, потратив около 15 лет на изучение ранее малоизвестных или совсем неизвестных документов. Представляя книгу Кеттла читателям, английское издательство «Андре Дейтч» отмечало, что автор исследовал «попытки союзников предупредить, а затем и повернуть вспять большевистскую революцию».3
Историю возникновения концерна Ярошинского проясняют и некоторые материалы русских архивов, в частности документы, изъятые из банковских сейфов после Октябрьской революции и другая корреспонденция. Являясь поляком по происхождению, К. И. Ярошинский принадлежал к семье богатых помещиков, владевших крупными имениями на Украине в районе Винницы. В 1834 г. Яро-шинские получили дворянское звание.4 В 1911 г. при посещении Киева Николаем II брат Карла — Франц был произведен в камер-юнкеры, что, естественно, приближало Ярошинских к придворным кругам.5 Используя высокие связи, они занялись предпринимательской деятельностью, чтобы увеличить свое состояние. В период предвоенного промышленного Подъема, а затем и в годы войны Ярошин-ские сильно разбогатели. Еще весной 1914 г. Ф. И. Ярошинский обратился к государственному казначейству
265
с просьбой принять в залог его земельное имение на сумму 3— 4 млн. руб. в обеспечение последующей уплаты нефтяной кампанией акцизного налога с продажи нефти.6 Финансовая операция подобного рода широко практиковалась в России, хотя, возможно, в данном случае она свидетельствовала об интересе Ярошинских к прибыльному нефтяному делу. Дворянский банк отказался оценить имение Ф. И. Ярошинского выше полутора миллионов рублей, и тогда обратились к Г. Распутину, который направил письмо министру финансов П. Л. Барку с просьбой удовлетворить ходатайство Ф. И. Ярошинского «о приеме его прекрасного благоустроенного имения в залог по акцизу». «Стоимость этого имения, — писал Распутин, — определяется в несколько миллионов рублей. Дело его правое и затруднения чисто формальные, устранить которые в твоей власти, о чем и усердно прошу тебя».7 Тем не менее министр не захотел уступать и поддержал Дворянский банк, направив документы Ф. И. Ярошинского в канцелярию по принятию прошения на имя царя.8 Хотя неясно, чем закончился этот спор, известно, что именно в указанные годы при поддержке банков и дворцовой камарильи Ярошинские достигли больших успехов в различного рода спекулятивных операциях. Владея предприятиями по производству и сбыту сахара, они выдвинулись в число крупнейших сахарозаводчиков России. Установив контроль над Киевским частным коммерческим банком, Ярошинские перешли к операциям с петербургскими банками. В этом деле особенно преуспел К. И. Ярошинский, купивший в апреле 1916 г. при содействии крупнейшего столичного банка — Русско-Азиатского — одно из ведущих российских финансовых учреждений — Русский торгово-промышленный банк.9
К тому времени К. И. Ярошинский переехал в Петроград, поселившись в одном из самых богатых дворцовых особняков на фешенебельной Морской улице (52), в доме Половцова. «Он переехал в Петроград и купил великолепный дворец, который с роскошеством обставил, — рассказывает в своих воспоминаниях знавший Ярошинского шведский финансист У. Ашберг. — Через Распутина завязал мощные связи среди русских аристократов, поговаривали, что он должен жениться на одной из царских дочерей».10 Близость Ярошинского к распутинскому кружку и его связи с царской семьей находят также подтверждение в мемуарах П. М. Быкова, который, как председатель Екатеринбургского совета, был хорошо осведомлен о последних месяцах жизни Романовых.11
Состояние К. И. Ярошинского на март 1916 г. оценивалось им самим в 26.1 млн. руб., а в последующие месяцы его размер был еще более увеличен главным образом путем спекуляций ценными бумагами различных банков и промышленных кампаний. Когда в 1916 г. возникло своеобразное объединение провинциальных банков в форме Союзного банка, то вице-председателем его правления оказался К. И. Ярошинский.12
«Хорошо понимая слабые стороны существовавшей экономической системы», Ярошинский, по словам Ашберга, участвовал «в спекуляции акциями на фондовой бирже», надеясь «захватить сердце-266
вину экономики» путем «контроля над банками». «Он появлялся в одном банке за другим, — отмечал Ашберг, — и путем умелых махинаций успешно действовал не только в крупных петроградских банках, но и в страховых обществах, транспортных предприятиях и промышленных кампаниях, став в итоге самым мощным финансовым магнатом». Ашберг рассказывает, что, часто встречаясь с главами петербургских банков, он замечал, что при упоминании имени Ярошинского они поначалу «пренебрежительно пожимали плечами», но это, по его словам, «не могло продолжаться долго». «Сначала он (Ярошинский. — А. Ф.) занимал нужные средства, чтобы установить свой контроль над одним банком, — вспоминал Ашберг, — а когда прибирал его к рукам, покупал акции другого банка и без труда мог ликвидировать их, заложив в первом банке. Овладев акциями и контролем над вторым банком, он покупал акции третьего банка, осуществляя платежи через второй банк, и т. д. Жонглируя таким образом средствами банков, он в конечном итоге оказался в состоянии проводить любые экономические операции в России».13
После свержения самодержавия в феврале 1917 г. Ярошинский лишился поддержки царского двора, но не умерил своих спекулятивно-предпринимательских действий и сумел провести ряд крупных сделок. Именно в это время, по словам британской дипломатической службы, он стал «усиленно скупать все возможные предприятия и приобретать концессии».14 Наиболее важной из них был захват еще одного столичного Русского для внешней торговли банка, который владел двумя сахарными кампаниями, страховой фирмой и финансировал хлебную торговлю Поволжья. Эту операцию Ярошинский осуществил вместе с Петроградским Международным коммерческим банком, контролировавшим хлебную торговлю на Юге и, что не менее важно, крупнейшие угольные и металлургические предприятия страны. «В связи с последствиями военных действий и изменившимся положением в стране (февральской революцией. — А. Ф.), необходимостью объединения и взаимной помощи в дальнейшей деятельности Русского торгово-промышленного банка, Петроградского Международного коммерческого банка и Русского для внешней торговли банка, — гласил составленный по этому поводу меморандум, — Русский торгово-промышленный банк образовал консорциум для покупки и последующей реализации акций Русского для внешней торговли банка».15 Эта операция была задумана Яро-шинским как шаг на пути создания концерна, объемлющего жизненно важные сферы российской экономики. Под его контролем оказалось несколько десятков металлургических, механических, текстильных, пароходных, железнодорожных, сахарных и других предприятий страны.16
Восхищавшийся «творческими» способностями Ярошинского британский консул в Одессе отмечал, однако, что русский магнат «часто испытывал нужду в средствах из-за нехватки наличных денег».17 Ярошинский продолжал пользоваться кредитом у Русско-Азиатского банка,18 получая у него миллионные ссуды, а также занимал деньги зав границей. Он подписал соглашение с лондонским
267
«Бритиш бэнк оф форин трейд» и установил тесный контакт с «Лондон сити энд Мидленд бэнк», который стал в последующем его главным британским контрагентом.19 В июне 1916 г. при содействии шведского финансиста У. Ашберга Ярошинский пытался заключить договор о крупном займе, согласно которому «группа американских капиталистов» предоставила бы «группе русских промышленников», возглавляемой Ярошинским, «капиталы в размере до 100 млн. руб. на нужды русской промышленности и торговли» сроком на 5 лет?0 «Он пригласил меня к себе во дворец, — вспоминал впоследствии Ашберг — и рассказал о своих обширных планах эксплуатации природных богатств России. Он сказал: «Для этого мне нужен займ из-за границы».21 Согласно проекту соглашения, «американские капиталисты» брались «выдавать необходимые суммы полностью или частями» при «предоставлении русскими промышленниками соответствующего обеспечения», в качестве которого Ярошинский предложил паи сахарных предприятий, входивших в его сферу влияния, что в общей сложности составляло «около 50 % всей русской сахарной промышленности», а также «акции разных русских коммерческих и промышленных предприятий, закладные на уже существующие и приобретаемые земли, фабрики и другую недвижимость, а в случае надобности и первоклассный вексельный портфель».22 Этот проект, однако, оказалось невозможным реализовать, по-видимому, из-за германо-американских связей У. Ашберга, которого выслали из России.23 Все надежды на получение американского займа Ярошинский возлагал на посредническую роль именно Ашберга, которому обещал солидные комиссионные (6 % от общей суммы сделки).24 Однако до практического соглашения с американскими банками дело не дошло.
Эта неудача не остановила Ярошинского. Он продолжал действовать, и его предприятия росли как на дрожжах. Октябрьская революция стала преградой на его пути. Представители британской дипломатической службы сообщили, что «будущий успех своего бизнеса» Ярошинский связывал с тем, что «он называл неизбежностью контрреволюции, которая свергла бы власть большевиков и восстановила законы собственности».25 Вполне естественно поэтому, что концерн Ярошинского оказался в числе самых рьяных врагов Советской власти. «Все полагали, что большевики не в силах продержаться долее нескольких месяцев и будут сметены союзниками. Банки еще работали, и никто не думал, что они будут национализированы, — такая мысль не приходила никому в голову», — вспоминал позднее сообщник Ярошинского Вонлярлярский.
Известный делец, авантюрист, участник придворного кружка, замешанного в охоте за концессиями на Дальнем Востоке в начале века, Вонлярлярский организовал конспиративную квартиру, где встречались заговорщики. Он приютил у себя бывшего председателя IV Думы М. В. Родзянко, который после Октября пытался объединить сторонников реставрации монархии. Одним из первых его посетителей и был Ярошинский. Накануне их встречи бывший царский министр (товарищ министра финансов, государственный контролер, 268
а затем министр иностранных дел) Н. Н. Покровский, занимавший после отставки пост председателя правления Сибирского банка, посетил британское посольство и просил от имени Родзянко оказать финансовую помощь белоказачьим отрядам генерала Каледина на Дону. К Каледину примкнули царские генералы Алексеев (бывший начальник штаба Верховного главнокомандующего, а затем верховный главнокомандующий), Корнилов и Деникин. Было начато формирование белой Добровольческой армии. Белогвардейские силы на Дону разработали план захвата Донецкой области и Кавказа, чтобы контролировать производство угля и нефти, а также снабжение страны хлебом. В соответствии с этим планом в начале декабря 1917 г. отряды Каледина захватили Ростов-на-Дону и двинулись широким фронтом на север, захватывая рудники и шахты Донбасса. Однако упорное сопротивление быстро растущих отрядов Красной гвардии в середине декабря 1917 г. остановило это наступление.28
О чем договорился во время посещения британского посольства Покровский — нам неизвестно. Но буквально на следующий день последовало обращение к Ярошинскому с просьбой помочь Каледину и Алексееву. Кеттл полагает, что с этой просьбой к Ярошинскому обратился непосредственно Родзянко и что их встреча состоялась 30 ноября 1917 г.29
С этого времени Ярошинский стал регулярно посещать конспиративную квартиру Вонлярлярского.30 Его заботила судьба не только деловых предприятий и сохранение собственного состояния, но и стремление нажить политический капитал. Являясь убежденным монархистом, Ярошинский со времени ареста царской семьи весной 1917 г. ежемесячно перечислял ей 25 тыс. руб. В воспоминаниях, описывающих последний период жизни Романовых, рассказывается, что «наибольшими средствами», предназначавшимися для освобождения царской семьи, располагал «распутинский кружок». «Только от одного банкира и сахарозаводчика К. И. Ярошинского, — писал П. М. Быков, — кружок получил для этой цели 175 тыс. руб.».31
После Октябрьской революции на Украине была установлена власть Центральной рады, большинство лидеров которой ориентировалось на страны Антанты. К этому времени у Ярошинского созрел план образования федеративного государства Украины и Польши, который появился у него, по словам Кеттла, в результате «тесных связей» с Ватиканом.32 Подобного рода план, вероятно, устраивал и Англию, на поддержку которой Ярошинский рассчитывал прежде всего. Не оставляя надежды округлить свои владения в России, он сразу после революции перевел принадлежащие ему основные капиталы на счет «Лондон сити энд Мидленд бэнк».
На квартире у Вонлярлярского Ярошинский встречался не только с деятелями российской контрреволюции, но и с английскими представителями. Цель и характер подобного рода встреч были впоследствии описаны в мемуарах Вонлярлярского, на основе сохранившихся у него записей и подлинных материалов, которые, по его словам, были переправлены на Запад «через одного иностранного консу
269
ла».33 Приведенные Вонлярлярским свидетельства в основном подтверждаются и дополнены книгой Кеттла.
Одним из главных партнеров Ярошинского в послеоктябрьский период стал Хью Э. Ф. Лич, который обосновался в Петрограде в качестве «комиссионера», организовав с другим британским подданным посредническую фирму «Лич и Файербрейс». Одновременно Лич возглавлял британское пропагандистское агентство «Космос», находившееся в здании английского посольства. Хотя Вонлярляр-ский утверждает, что Ярошинский впервые познакомился с Личем у него на конспиративной квартире, по-видимому, они знали друг друга и раньше. По свидетельству британской дипломатической службы Лич и Ярошинский были «тесно связаны» друг с другом.34 «Космос» получал крупные денежные суммы в Русском торгово-промышленном банке, поступавшие из Лондона от «Мидленд бэнк». Эти деньги использовались для финансирования публикации враждебных большевистской партии статей в петроградских и московских газетах. Не лишена была политической окраски и деятельность Лича — «комиссионера», приехавшего в 1912 г. в Россию из Англии после обучения бухгалтерскому делу в Манчестере и инженерному в Гамбурге. Он женился на уроженке Ростова-на-Дону и занялся нефтяным делом, в котором быстро преуспел. В условиях предвоенного промышленного подъема Лич смог неплохо заработать сначала в нефтяной кампании, а затем на посреднических операциях. «Лишь немногие знали, — пишет Кеттл, — что в течение многих лет он был британским секретным агентом», объясняя при этом, что Интелледженс сервис пристально наблюдала за развитием нефтяной промышленности и потому завербовала Лича как человека, занимавшегося нефтяным делом и к тому же имевшего инженерную подготовку. Эти данные основаны на документах семейного архива Лича.35
В результате нескольких встреч на квартире Вонлярлярского Ярошинский и Лич выработали план скупки акций и облигаций русских банков, «воспользовавшись сильным падением цен на все акции и процентные бумаги». Чтобы «привлечь к этому делу английское правительство», Лич доложил их план британскому послу Джорджу Бьюкенену, который отнесся к нему с большим интересом. Он поручил подготовить проект договора с Ярошинским, попросив об этом офицера британской военной миссии полковника Теренса Киза. Последний, как и Лич, был сотрудником Интелледженс сервис, но более высокого ранга, имея за плечами опыт работы в Индии, резидента английской разведки в районе Персидского залива и, наконец, с 1916 г. в России.
Получив инструкции встретиться с Ярошинским, Киз объяснил Личу, что ему поручено «кроме некоторых действий против большевиков» «следить за состоянием (русского. — А. Ф.) бизнеса».37 Поэтому он хотел бы поближе узнать Ярошинского и просит устроить встречу с ним, которая была организована на квартире Вонлярлярского. Ярошинский заявил Кизу, что если британское правительство выделит 200 млн. руб., в руках у него будет полный контроль над 270
Русским для внешней торговли банком, Петроградским Международным, Русским торгово-промышленным, Волжско-Камским и Сибирским банками, что позволит основать затем на Юге Казачий банк, который займется финансированием Каледина и Алексеева. Кизу этот проект понравился, и он сообщил о нем Бьюкенену. До того, как определить свое окончательное отношение, посол захотел выслушать мнение бывших министров царского правительства, «которым он безусловно доверял»/8 Вонлярлярский утверждает, что этими лицами были уже упоминавшийся Н. Н. Покровский и А. Ф. Трепов (председатель Совета министров). По данным же Кеттла, видимо более точным, ими были Н. Н. Покровский и А. В. Кривошеин (министр земледелия). Как бы то ни было, оба лица, к которым обратился за советом Бьюкенен, ответили, что «считают проект Ярошинского заслуживающим серьезного внимания для установления финансовых и экономических отношений с Англией после неминуемого падения большевиков».39 Это свидетельство Вонлярлярского полностью подтверждает Кеттл, который, пользуясь словами издателей его книги, раскрыл «необычную серию интриг» британских представителей, подготовивших сделку о «покупке контрольных пакетов акций всех основных русских коммерческих банков», стремясь изыскать «каналы финансирования белых армий на Юге», а в долгосрочной перспективе обеспечить английскому капиталу «господствующее положение в экономике России».40
В начале декабря 1917 г. в Лондон было отправлено подробное изложение проекта Ярошинского, имя которого в целях конспирации упоминалось анонимно — «один финансист».41 Поскольку британские представители проявили большой интерес к проекту, ожидали, что санкция из Лондона последует немедленно. Но прошло несколько дней, а ответа не было. Проявляя нетерпение, Ярошинский встретился с Личем и просил передать Кизу, что ему срочно нужны 6 миллионов рублей для завершения операции по покупке Русского для внешней торговли банка. Лич предлагал немедленно выделить эту сумму, пугая своих шефов тем, что в противном случае банк могут купить немцы. Из-за внезапной болезни Лич вынужден был временно перепоручить ведение этого дела своему партнеру Файербрейсу, который обратился к советнику британского посольства по экономическим вопросам Фрэнсису Линдлею. Поскольку советник сказал, что ничем помочь не может, Файербрейс поехал к управляющему Русско-Английским банком Г. О. Бененсону и договорился с ним о краткосрочной ссуде. Когда же он сообщил об этом Линдлею, тот взорвался, так как питал личную неприязнь к Бененсону. На этот раз советник дал гарантию уплаты требуемой суммы английским посольством. Не отдавая себе в этом отчета, Линдлей принял важное решение. «С тех пор, — отмечает Кеттл, — вопрос о финансировании Ярошинского в целях основания Казачьего банка оказался неразрывно связан с попытками Англии использовать его в качестве агента для получения контроля британского правительства над всеми основными банками России».42
271
Ответа на посланный Кизом запрос не поступило ни в декабре, ни в начале января 1918 г. Между тем сотрудники британской военной миссии в России генерала Пуля, явившейся одним из главных организаторов последовавшей вскоре британской военной интервенции,43 засыпали Лондон различного рода предложениями о том, как следует вести себя Англии. Исходным пунктом их предложений были опасения, как бы русская экономика не попала в руки немцев после того, как Россия выйдет из войны с Германией. В конце декабря 1917 г. Пуль рекомендовал обратить особое внимание на судьбу отраслей, производящих нефть, металлы, химические продукты, резину, хлопок и смолы. Он советовал отправить в Россию компетентного финансиста, который на месте оценил бы реальные возможности, и призывал не мешкать, так как «быстро растет» немецкое влияние и «все более активно» действуют американцы. Если организовать дело «как нужно», — считал он, — «Россия будет приветствовать британский капитал».44
В пространной записке 6 января 1918 г. сотрудник миссии Пуля майор П. Бантинг предлагал для успешного решения вопроса создать новый механизм взамен русских банков с их «весьма мощным влиянием», включающим контроль над всеми «промышленными предприятиями». Он считал необходимым выделить 15 млн. фунтов стерлингов (около 400 млн. руб.), разместив эту сумму в виде краткосрочных вкладов в 8—10 ведущих русских банках, которые оказались бы таким образом в английских руках. Проведением этой операции надлежало заняться специальному комитету в Петрограде или Москве, составленному из «первоклассных» британских экспертов, имеющих «длительный опыт» банковской работы и предпринимательской деятельности в России, а также из «местных русских представителей». При этом комитет должен был пользоваться «полной поддержкой британского правительства», которое сохраняло бы за собой право давать советы и критиковать действия русских представителей. Предлагая своей проект, Бантинг пояснял, что «прецедент» уже существует — это «Англо-Китайская корпорация», образованная после народного восстания Ихэтуаней 1900 г. в Китае под эгидой британского правительства. Решающая роль в ней принадлежала «Джардин, Мэтисон энд К0» — крупнейшему торговцу опиумом на Дальнем Востоке и влиятельному коммерческому посреднику. Подобно тому как «Англо-Китайская корпорация» следила за уплатой Китаем контрибуции, наложенной на него державами после восстания Ихэтуаней 1900 г., предлагаемая Бантингом комиссия должна была контролировать взыскание военных долгов с России в форме железнодорожных, горнорудных и иных концессий.45 Таким образом, Октябрьская революция как бы приравнивалась к народному восстанию в Китае, что в соединении с принятой 23 декабря 1917 г. англо-французской резолюцией о разделе России на сферы влияния державами достаточно красноречиво свидетельствовало о британских замыслах.46
Сразу после Октябрьской революции Советское правительство заявило о намерении осуществить национализацию банков. Состав-272
ленная В. И. Лениным резолюция Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов о задачах власти Советов, принятая днем 25 октября/8 ноября 1917 г., гласила: «Новое рабочее и крестьянское правительство . . . установит общенародный контроль над банками» и превратит их «в одно государственное предприятие».47 Эта задача приобрела особое значение ввиду проводившейся банками кампании саботажа, дезорганизующей экономическую жизнь страны. Кроме того, Советское правительство не могло не знать о закулисных переговорах руководителей банков с представителями Запада. В этих условиях решено было национализировать частные банки. 14/27 декабря 1917 г. Советское правительство издало декрет о национализации частных банков, их объединении с Госбанком и создании единого Народного банка Российской республики.48 Выступая 11/24 января 1918 г. на Всероссийском съезде Советов с докладом о деятельности Совнаркома, В. И. Ленин особо отметил значение национализации банков. «Банки — это крупные центры современного капиталистического хозяйства. Тут собираются неслыханные богатства и распределяются по всей огромной стране, здесь — нерв всей капиталистической жизни».49 В тот день, когда принимался декрет о национализации банков, выступая на заседании ВЦИК, В. И. Ленин пояснил, что этот шаг стал неизбежным: «Мы хотели идти по пути соглашения с банками ... но они затеяли саботаж небывалого размера, и практика привела нас к тому, чтобы провести контроль иными мерами».50 Какими именно, он рассказал делегатам съезда Советов: «Мы поступили попросту. . . мы сказали: — у нас есть вооруженные рабочие и крестьяне. Они должны сегодня утром занять все частные банки. . . И после того, как они это сделают, когда уже власть будет в наших руках, лишь после этого мы обсудим, какие нам принять меры. И утром банки были заняты, а вечером ЦИК вынес постановление: ,,банки объявляются национальной собственностью44, — произошло огосударствление, обобществление банкового дела, передача его в руки Советской власти».51 После декрета о национализации банков был принят ряд мер в его развитие, включая «Декрет о конфискации акционерных капиталов бывших частных банков» 23 января/5 февраля 1918 г., согласно которому все собственные капиталы частных банков переходили в руки Народного банка «на основе полной конфискации», при условии, что «все банковские акции аннулируются и всякая выплата дивидендов по ним безусловно прекращается».52 Советское правительство поставило вне закона тайные сделки банкиров и их связи с иностранными посольствами. Тем не менее, ввиду продолжавшегося саботажа значительного количества банковских служащих, многие частные банки все еще оставались закрытыми, и спекулятивные сделки с прежними ценностями продолжались нелегальным образом.53
15 января из Лондона в Петроград поступила телеграмма с приказом любыми средствами немедленно перевести Добровольческой армии генерала Алексеева на Юге 15 млн. руб. В ответ на обращение Киза к Ярошинскому по этому поводу последний выразил готовность
18 Заказ № 1143 273
помочь, но напомнил, что выработанный ими совместно проект до сих пор не санкционирован британским правительством. Правда, обещанные Линдлеем в начале декабря 6 млн. руб. на приобретение Русского для внешней торговли банка были получены чеками на 181 800 ф. ст. (по курсу 1 : 33), выписанными на имя оправившегося после болезни Лича на его счет в «Мидлэнд бэнк». Причем Линдлей получил официальное согласие Форин оффис на проведение этой акции при условии назначения двух английских представителей в состав правления банка (коими стали Лич и Ярошинский). Что же касается банковского плана в целом, то никаких известий не поступало. 17 января Киз снова телеграфировал в Лондон, настаивая на положительном решении вопроса о предоставлении Ярошинскому эквивалентного 200 млн. руб. займа в фунтах стерлингов для покупки 5 главных русских банков и последующего открытия Казачьего банка, который ассигновал бы 15 млн. руб. Добровольческой армии?4
Этот вопрос был поставлен на обсуждение британского кабинета 21 января в присутствии прибывших из Петрограда посла Дж. Бьюкенена и военного атташе генерала А. Нокса. В ходе заседания отмечалось, что, ассигновав 5 млн. ф. ст. (эквивалент 200 млн. руб.) «одному финансисту» (т. е. Ярошинскому), Англия сумеет получить контроль над 5 банками и их отделениями, что позволит не только оказать денежную помощь Добровольческой армии, но и «получить контроль над важными промышленными ресурсами Юга России». Министр финансов Бонар Лоу заявил, что «испытывает некоторое затруднение» в выдаче аванса «незнакомому» лицу. На это Нокс заметил: «Возможно, под незнакомым капиталистом имеется в виду Поляков». Из протокола заседания кабинета следует, что это предложение Нокса было «поддержано» последовавшим разъяснением, что Поляков — это «банкир-еврей из Ростова-на-Дону, который был хорошо известен генералу Пулю». По словам Кеттла, «путаница», вызванная «случайным замечанием Нокса», привела к непредвиденным последствиям. Однако сам Кеттл высказывает предположение, не была ли догадка Нокса умышленно использована присутствовавшим на заседании кабинета Уильямом Сазерлендом, пресс-секретарем премьер-министра.55
Имя российского банкира Лазаря Полякова было хорошо известно в Англии, но в данном случае речь шла о его внуке Владимире Полякове, уже не занимавшем столь высокого положения в деловом мире. Во время войны он работал инженером-путейцем, а затем перешел в правление Сибирского банка.56 С октября 1917 г. Поляков стал финансовым советником британского посольства в Петрограде, участвуя в проведении тайных банковских операций между Лондоном и Петроградом. Поляков близко сошелся с сотрудником миссии Пуля А. Е. Лессингом, происходившим из богатой семьи немецких евреев. Он был прямым потомком немецкого философа Лессинга и двоюродным братом английского новеллиста Д. Лессинга. Переехав в Англию, семья Лессингов занялась хлебной торговлей, пивоваренным делом и организовала предприятия в России. Зная иностран
274
ные языки, включая русский, и обладая деловой хваткой, Лессинг установил обширные связи в английских финансовых кругах, а через своего дядю, члена парламента Э. Страуса, — в политических сферах. В 1910 г. он был завербован Интелледженс сервис и в 1917 г. прикомандирован в чине капитана к миссии Пуля в России, где и познакомился с Поляковым. Неизвестно, знал ли Лессинг что-либо о проекте Ярошинского, но даже если и знал, то нет ничего удивительного в том, что, пользуясь знакомством с Сазерлендом, он старался продвинуть именно Полякова. Кеттл полагает, что Поляков был также завербован Интелледженс сервис, приводя на этот счет веские аргументы.57 В таком случае у Полякова по сравнению с Яро-шинским в глазах английских представителей было определенное преимущество. Неясным во всей этой истории остается поведение Бьюкенена, который присутствовал на заседании кабинета 21 января, знал о проекте Киза—Ярошинского, но, по-видимому, решил молчать. Вместе с тем сразу после заседания кабинета, одобрившего
роект приобретения русских банков, Бьюкенен телеграфировал Ли-, что его вопрос решен положительно, о чем последний не замедлил сообщить Ярошинскому.58 Одновременно, на следующий день после заседания, 22 января, государственный секретарь по иностранным делам А. Бальфур поручил отправить в Петроград телеграмму на имя Линдлея для передачи Кизу в ответ на его запрос 17 января. «Правительство так озабочено предоставлением немедленной финансовой помощи нашим друзьям, — говорилось в ней, — что если аванс может быть использован в целях оказания немедленного содействия им, при условии, что неназванный финансист — это П., правительство санкционирует предложение. Как видите, мы готовы действовать целиком в соответствии с вашим советом».59
Как это следовало понимать? Ведь не П., а Ярошинский, не дожидаясь санкции Лондона, уже продвигал задуманный проект имеющимися у него собственными средствами. Купив контрольный пакет акций Петроградского Международного коммерческого банка у председателя правления А. И. Вышнеградского и управляющего Е. Г. Шайкевича, он стал хозяином и этого банка. Правда, неудачей закончилась попытка купить Волжско-Камский банк и встретились серьезные трудности в переговорах о приобретении Сибирского банка. Хотя «живой провод», как назвал Ярошинского Киз, продолжал энергично действовать, председатель Совета правления Сибирского банка В. В. Тарновский признал Советскую власть и начал работать в советских учреждениях, а конфликтовавший с ним в течение ряда лет управляющий банком Н. X. Денисов, оставаясь на антисоветских позициях, проявил неуступчивость в надежде побольше выторговать.60
Получив телеграмму Бальфура о решении кабинета, Киз и Линд-лей пришли в замешательство. Они не могли понять, откуда взялся Поляков, и не знали, как сообщить Ярошинскому. Что же касается Лессинга, то он, по словам Кеттла, видимо, заранее предупредил «своего друга Полякова», чтобы для него не было сюрприза. Ярошинский встретил сообщение из Лондона взрывом негодования, тем
275
более что они были знакомы с Поляковым и терпеть не могли друг друга. Ярый монархист поляк Ярошинский презирал еврея Полякова, а тот в свою очередь считал новоиспеченного финансового короля банкиром «наглого типа». Поэтому, когда Полякову показали проект соглашения о предоставлении Ярошинскому займа на 200 млн. руб. из 3.5 % годовых, он его отверг. Пулю и Кизу он сказал, что больше одной десятой этой суммы Ярошинскому давать не следует (полмиллиона в пересчете на фунты стерлингов), причем не из 3.5 %, а из 5.25 % годовых. Хотя Ярошинского это известие привело в бешенство, в конечном итоге Пуль и Киз уговорили его принять урезанный вариант. Однако, давая согласие, Ярошинский предупредил англичан, что им придется довольствоваться тремя банками, над которыми уже практически установлен контроль, — Русским торгово-промышленным, Петроградским Международным коммерческим и Русским для внешней торговли. Когда Киз поинтересовался, какие же ценные бумаги Ярошинский готов будет внести в качестве залога под предоставляемый заем, тот снова потребовал дополнительного аванса на покупку Сибирского банка и организацию Казачьего банка на Юге России (около 30 млн. руб.). Тогда он готов был выдать промышленных акций на 35 млн. руб. (40 тыс. акций фирмы «Русская нефть», 12 тыс. акций нефтяной компании «ТерАкопов» и 30 тыс. акций Ачинско-Минусинской железной дороги). Хотя были высказаны сомнения относительно реальной ценности указанных акций, Пуль и Киз пришли к выводу, что они могут быть приняты в качестве залога, сделав вид, что требования на дополнительный кредит как бы и не было. Пока обсуждалась эта проблема, Лич занимался изысканием способов срочной передачи 15 млн. руб. Добровольческой армии Алексеева.61
Положение белогвардейских сил на Юге к этому времени серьезно ухудшилось.62 Нужно было найти надежного контрагента, чтобы поручить ему осуществление банковских операций и ведение отчетности. Сначала решили обратиться к услугам компании Детердинга, но затем остановились на сравнительно небольшой нефтяной фирме «Премиер ойл энд пайплайн К0», с которой был связан Лич. Он представлял ее интересы в качестве юрисконсульта и рассчитывал перевести деньги белогвардейским силам на Юге под видом проводимых якобы расчетов нефтяной компании с клиентами. Получив указание Киза, Ярошинский выдал Личу чек на 15 млн. руб., предназначенный для управляющего «Премиер ойл энд пайплайн К0» Дж. Перкинса, который находился в то время в Киеве. Лич отправил ему секретное предписание передать эти деньги Алексееву через специально прибывшего из Румынии британского военного эмиссара генерала де Кондолла. Одновременно Ярошинский распорядился, чтобы контролируемый им Киевский частный коммерческий банк открыл счет на 15 млн. руб. проектируемому в Екатеринодаре Казачьему банку.63
Операция эта не должна была никоим образом помешать задуманному Ярошинским плану по скупке русских банков и их объединению под эгидой британского капитала. Реализация проекта 276
по-прежнему упиралась в трудности с покупкой Сибирского банка, приобретение которого считалось «особенно важным», так как он контролировал поставки хлеба из ряда важных районов России, что превращало сделку в «почти монопольную концессию».64 Киз обратился к Полякову, который был членом правления этого банка. Он просил оказать содействие Ярошинскому, держась при этом в стороне. «Все это должно было делаться совершенно секретно», — отмечает Кеттл.65
Спустя месяц после декрета о национализации банков, в конце января 1918 г. некоторые британские представители стали проявлять беспокойство по поводу операций с бывшими частными русскими банками. «Я получил информацию, — писал генерал Пуль, — что лондонские банки свободно принимают исключительно крупные суммы в рублях от русских корреспондентов, предоставляя эквивалентные ценности в фунтах стерлингов в распоряжение русских купцов». По его мнению, следовало на время приостановить все частные финансовые сделки с русскими ценными бумагами на лондонской бирже, за исключением особых случаев, санкционированных им самим. Сообщение Пуля было получено 30 января и доложено кабинету, но никакого решения по этому поводу принято не было.66
1 февраля 1918 г. один из сотрудников миссии Пуля вопреки рекомендациям своего шефа предложил рассмотреть новый вариант установления английского финансового контроля в России. В отличие от изложенного выше проекта майора П. Бантинга 6 января 1918 г. анонимный автор новой записки 1 февраля 1918 г. не предлагал установить контроль над всеми русскими банками, но его план, по словам Кеттла, отличался «более широким подходом», имея в виду, что в России будут «надлежащим образом представлены британские банковские интересы».67
По замыслу автора записки английское Министерство финансов должно было оказать поддержку объединению русских банков, горнодобывающих предприятий и торговых домов, с одной стороны, и британских купцов — с другой, «ввиду огромной заинтересованности в России со стороны Великобритании»?8 С этой целью проектировалось создание в Лондоне «Британского банка по делам России», который занялся бы как финансовыми, так и промышленными предприятиями. В придачу ему предлагалось создать два подразделения. Одно из них — «Британская банковская корпорация по делам России» — должна была стать исключительно британским предприятием, взяв на себя ведение «только ортодоксально банковского бизнеса» подобно французскому банку «Лионский кредит» и американскому «Нейшенл сити бэнк оф Нью-Йорк», занимавшимся «чисто банковским бизнесом» в отличие от «большинства русских банков», значительная часть прибыли которых зависела от «неортодоксальных операций». Прежде чем вкладывать деньги в указанный проект, его автор предлагал убедиться в том, что англичанам не придется потом платить деньги «русским и, возможно, немецким держателям банковских акций» только потому, что британские представители «совершат эту покупку». «Вопрос о приобретении полного или
277
частичного контроля над существующими русскими акционерными банками, — писал он, — нуждается в очень внимательном рассмотрении до того, как будет принято окончательное решение. Кредитоспособность и положение этих банков, вероятно, подверглись шоку во время недавних социальных потрясений, от которых они, может быть, никогда не смогут оправиться. Необходимо иметь в виду, что масса вкладов русских банков использовалась для того, что в Лондоне считается абсолютно незаконным и небанковским делом. Поэтому стоит серьезный вопрос, владеет ли сегодня какой-либо из русских банков или будет владеть в дальнейшем реализуемым активом сверх пассива. В случае приобретения важными британскими концернами любого русского банка, однако, сразу была бы восстановлена кредитоспособность этого банка и привлечены деньги вкладчиков в ущерб другим предприятиям, которые не имели бы подобных преимуществ ни по положению, ни по кредитоспособности».69
Другое подразделение — «Британская торговая корпорация» могла включать в себя и капиталы «проверенных русских деятелей». Ей предстояло «приобрести контроль, руководить операциями либо влиять на проведение операций одного или более существующих русских акционерных банков и вообще заняться предоставлением долгосрочных кредитов, займов, осуществлением промышленных закладных, инвестиционных и финансовых операций, которые считаются находящимися вне сферы чисто банковских функций, но являются неотъемлемой частью существующей в России системы, на которую необходимо обратить самое серьезное внимание». К участию в «Британской торговой корпорации» наряду с русскими допускались также французские вкладчики. Предусматривались меры по установлению контроля над транспортом и создание «Британской страховой кампании в России», которая должна была стать органической частью проектируемой банковской системы.70
В перспективе наряду с Петроградом и Москвой планировалось открыть банковские учреждения на Кавказе, в Средней Азии и Сибири. Составитель данного проекта даже подсчитал, что в случае его успешной реализации ежегодный доход составит около 30 млн. ф. ст. «На многие годы вперед эта сумма, — писал он, — должна остаться в качестве капитала в России, реинвестируемого в эту страну Великобританией». Вся финансовая операция рассматривалась как средство утверждения британского экономического влияния в России. «Это было, — заключает Кеттл, — не что иное, как план подчинения всей русской экономики гигантским проектам британского экономического империализма, в результате которого поверженная Россия была бы низведена до положения или возведена в ранг британской колонии».71
В основе своей этот план мало чем отличался от проекта Ярошинского. Более того, в определенном смысле он его дублировал, так как преследовал одинаковую цель — подчинить русскую экономику английскому капиталу. Поскольку британский кабинет уже обсуждал эту проблему по представлению Киза в январе 1918 г., практически одобрив его план, новое предложение, изложенное в записке 1 фев
278
раля, кабинетом не обсуждалось. Тем более что в Лондон уже стали поступать сообщения о том, как реализутся сделка с Яро-шинским. 10 февраля Линдлей телеграфировал, что соглашение об ассигновании 500 тыс. ф. ст. подписано. А 12 февраля Ярошинский уже вручил Кизу список лиц, которым следовало уплатить эту сумму в качестве компенсации за купленные у них акции Русского для внешней торговли и Петроградского Международного коммерческого банков. В переговорах о покупке Сибирского банка также наметился сдвиг, ибо Поляков уговорил управляющего банком Денисова продать находившийся в его руках контрольный пакет акций непосредственно Кизу за 15 млн. руб. при условии, что эта сумма будет выплачена в фунтах стерлингов. И не далее как в середине февраля контракт о покупке Сибирского банка был заключен. Эта сделка совершена была в обход председателя Совета правления банка В. В. Тарновского, который, как уже отмечалось, признал Советскую власть, начав работу в советских учреждениях. В связи с этим Поляков посетил Тарновского и потребовал, чтобы последний официально покинул пост председателя Совета Сибирского банка. Он сообщил ему, что весь пакет принадлежавших Денисову акций тот продал англичанам и что эта сделка влечет за собой назначение председателем Совета британского представителя.72
Хотя эти переговоры о покупке Сибирского банка велись в строжайшем секрете, слухи о них каким-то образом просочились. Посол США Фрэнсис телеграфировал в Вашингтон, что «крупнейший держатель акций хорошо известного здешнего банка получил предложение продать свою долю по самой высокой рыночной цене из когда-либо предлагавшихся, несмотря на декрет Советской власти о конфискации акций банков».73 Американцы подозревали, что это было делом рук немцев, хотя на самом деле переговоры вели англичане. Тем не менее существовала реальная угроза того, что немцы могут перехватить сделку, и это заставляло торопиться Киза, который, не дожидаясь санкции Лондона, на свой страх и риск потратил находившиеся в его распоряжении средства тайного фонда. «Мы опередили немцев всего на один день», — вспоминал впоследствии Киз, узнав, что германские финансисты образовали подставную фирму в Норвегии для покупки Сибирского банка. «Я пообещал ему (Ярошинскому. — А. Ф.) полмиллиона фунтов стерлингов в Лондоне», переведя их немедленно на его счет в «Лондон Сити и Мидленд Бэнк»— телеграфировал Киз своим шефам.74 На основе изучения относящихся к этому делу документов Кеттл пришел к выводу, что Киз купил Сибирский банк, не имея полномочий со стороны британского кабинета и без ведома миссии Пуля. «По-видимому, это была операция Интелледженс сервис,— заключает он,— проведенная в величайшей спешке».75 Поляков сообщил Тарновскому, что Денисов заключил соглашение с английским банкирским домом Шредер энд К0. Но Тарновский, видимо, этому не поверил, отметив в своих воспоминаниях, что Денисов «якобы» продал акции указанному банку.76
279
В записках Киза о событиях того времени, хранящихся в его личном архиве, указывается, что банковские переговоры велись строго конспиративно. Поскольку оказалось «невозможно встречаться с кем-либо по финансовым вопросам, кроме как по ночам, — рассказывает он, — переговоры всегда велись после 11 часов ночи». Из 28 февральских дней британский разведчик 22 раза выходил на ночные явки, для которых, по его словам, «обычно выбирались квартиры с двумя выходами на разные улицы», причем «всякий раз» ему приходилось менять свою внешность, одевая «разные пальто и шапку». Улицы города патрулировались по ночам, но Киз сумел избежать ареста., хотя и попадал в перестрелку.77
Торопясь с покупкой Сибирского банка, Киз делал это также в расчете на то, чтобы максимально ускорить создание Казачьего банка в целях финансирования контрреволюционных сил на Юге. Выданный Ярошинским в январе на имя эмиссара Лича в Киеве Дж. Перкинса чек на 15 млн. руб. для последующей передачи Алексееву не достиг цели. Перед лицом усиливающегося наступления Красной гвардии Лондон требовал ускорить финансирование Добровольческой армии, и Ярошинский вторично выписал чек на 15 млн. руб., на этот раз на имя бывшего кассира британского посольства в Петрограде Дж. Коутса, который сам отправился в Екате-ринодар, чтобы там при помощи генерала де Кондолла учредить Казачий банк и наладить выпуск денег. Однако генерал к тому времени из Екатеринодара отбыл, а местные банки прекратили существование после декрета о национализации. Коутс вернулся в Петроград и возвратил чек британскому посольству, которое буквально содрогалось от «сердитых телеграмм» из Лондона.78 Британское казначейство требовало, чтобы Поляков немедленно организовал передачу денег Алексееву. Это требование дошло и до Киза, благодаря усилиям которого в конечном счете 21 февраля 1918 г. Алексеев получил обещанные 15 млн. руб. через Ростовское отделение Государственного банка, находившееся в руках белоказаков.79 Но деньги не помогли. 8 марта Красная гвардия заняла Ростов, а два дня спустя пал оплот контрреволюции на Дону — Новочеркасск, в результате чего белоказаки и «добровольцы» бежали на Кубань. °
Спешка и лихорадочное стремление завершить банковскую операцию в феврале объяснялись стремлением захватить банки вопреки декрету Советской власти об их национализации и оказать срочную финансовую помощь белогвардейским формированиям. Однако была тут и еще одна причина. В середине февраля немцы прервали мирные переговоры в Брест-Литовске и начали наступление, продвигаясь к Петрограду. В этой обстановке Киз предложил Ярошинскому срочно оформить договором уже состоявшуюся сделку ошредоставле-нии ему 500 тыс. фунтов стерлингов на покупку акций Русского для внешней торговли и Петроградского Международного коммерческого банков, обусловленную включением в состав правления каждого банка двух британских представителей, что давало им возможность контроля за деятельностью этих банков. Кроме того, Киз предложил
280
подписать документ, дававший право Ярошинскому перекупить приобретенные им при содействии Полякова акции Сибирского банка, чтобы легализовать эту сделку, привязав ее к первоначальному плану, одобренному британским кабинетом.
Эти договоры были оформлены путем обмена письмами, датированными задним числом 28 октября 1917 г., т. е. не только до издания декрета о национализации банков, но даже и до социалистической революции 7—8 ноября 1917 г. Заключены же в действительности они были 24 февраля 1918 г. в условиях растущей паники среди западных посольств в Петрограде перед угрозой немецкого наступления. Западные дипломаты приготовились бежать. 27 февраля британское посольство выхлопотало выездную визу Кизу. Оставив нотариально заверенную доверенность Полякову на ведение всех дел, вытекающих из соглашения с Ярошинским,81 Киз на следующий день, 28 февраля, отбыл в Лондон. А еще днем позже, 1 марта, так же стремительно Петроград покинул весь состав британского посольства. В ночь перед отъездом Киз, боясь быть задержанным, сжег свои бумаги, только что подписанные Ярошинским, чем, по-видимому, последний впоследствии пытался воспользоваться. Ни он, ни британское правительство, однако, не отказывались от заключенной сделки. Наоборот, считали, что она полностью сохраняет силу, что со всей очевидностью вытекает из доверенности Киза Полякову. Подводя итоги состоявшихся переговоров, Кеттл отмечает, что «если бы немцы были разбиты и большевики подавлены, британское правительство через своего агента Ярошинского» получило бы «контроль. . . над большей частью экономики России».82
В результате Брест-Литовского мира с Германией 3 марта 1918 г. надежды британских представителей померкли. Хотя Ярошинский продолжал свои конспиративные встречи с Личем, оставшимся в Петрограде, основное внимание он переключил на прибывшее в Москву в конце марта германское посольство Мирбаха, которого пытался прельстить теми же самыми обещаниями, что и англичан. «Кто бы ни овладел положением, союзники или немцы, — писал по этому поводу его сообщник Вонлярлярский, — Ярошинский, а следовательно, и я, сохранили бы крупное финансовое положение в России, так как в то время масса промышленных предприятий была сосредоточена в банках, большинством акций которых владел Ярошинский».83
Сомнений в неминуемом падении Советской власти у Ярошинского и его сообщников по-прежнему не было, и для того чтобы его ускорить, они оказывали помощь внутренним и внешним силам контрреволюции. Вонлярлярский рассказывает, в частности, что они разработали тайный способ переброски оставшихся в Петрограде и его окрестностях членов царской семьи за границу. Была предпринята попытка переправить в Англию находившегося в Гатчине брата царя Михаила Александровича, предварительно обсудив этот план с Личем. «Было приготовлено помещение недалеко от нашей квартиры, — вспоминал Вонлярлярский, — куда великий князь должен был переехать и откуда переодетым выехать за границу». Но при въезде
281
в город он был арестован. Предпринималась также попытка выкрасть взятого под стражу в Петрограде другого великого князя, Павла Александровича, но и она была пресечена.84
Заведя флирт с немцами, Ярошинский сумел добиться расположения германского посла. «Ярошинский развил прямо-таки титаническую программу», — сообщал в Берлин, захлебываясь от восторга, Мирбах. Он обещал немцам не только передать контроль над находящимся в его распоряжении «полностью американизированным банковским аппаратом», но и обеспечить «всю власть над российским правительством», «держать министров в подчинении, обезвредить противников, финансировать партии и предоставить в наше распоряжение газетные тресты». Посол отмечал, что эти обещания «кажутся фантастическими», но считал, что, «принимая во внимание многочисленные сведения» о влиянии Ярошинского, его предложения «не следует отклонять». Чем же прельстил этот авантюрист германского посла? Ярошинский заявил Мирбаху вполне определенно, что «больше всего он желает, и лучше раньше, чем позже, вступления германских войск и монарха, к стопам которого припадет святая Русь».85
Это был перелицованный на немецкую сторону прежний вариант плана Ярошинского, рассчитанного на свержение Советской власти и реставрацию монархии, которая должна была восстановить придворные привилегии его семьи, а главное — обеспечить получение гигантских прибылей от эксплуатации русской экономики через посредство созданного им банковского концерна.
Позднее в белоэмигрантской литературе Ярошинского окрестили одним из «трех всадников апокалипсиса» (наряду с Путиловым и Ватолиным), но в пору его активности 1917—1918 гг. сам он представлял себя не иначе как «русским Вандербильтом».86 Ярошинский так свято уверовал в свое всесилие, что даже мысли не допускал, что его проекты не будут осуществлены. Публикуя двадцать лет спустя мемуары о послеоктябрьских событиях, Вонлярлярский заявлял, что их планы провалились из-за «обстоятельства», которое «никому не могло прийти в голову». Причиной победы Советской власти, по его словам, были «предательство союзников» и «революция в Германии», которые «спутали все карты».87 Никому из участников концерна Ярошинского не приходило в голову, что их планы, какой бы гигантоманией они не отличались, обречены были на неудачу мощным порывом революционной активности в самой России.
В июле 1918 г. Ярошинский вынужден был бежать из Советской России за границу через Финляндию, тем самым путем, которым ранее его концерн намеревался переправить на Запад членов царской семьи. Почти одновременно с ним бежал Лич, а спустя полгода Поляков. Показательно, что решение об отъезде за границу было принято сразу после расстрела царской семьи, содержавшейся под арестом в Екатеринбурге, что служит лишним подтверждением политической ориентации Ярошинского. Он поспешил сбежать, конечно, и потому^ что советским властям было хорошо известно, кто снабжал
282
деньгами царскую семью и радел за реставрацию монархии.88 Как следуетиз мемуаров Вонлярлярского,эмигрировавшегоиз России л ишь в 1926 г., он выдавал после бегства Ярошинского «за его счет бывшим сановникам средства для выезда из Петрограда нелегальным путем».89 Уже после отъезда из Петрограда британского посольства Ярошинский, несмотря на продолжавшуюся им активность, почувствовал «тревогу».90
Эмигрировав за границу, Ярошинский поселился во Франции, и мелькнуло сообщение о том, что он появлялся в кулуарах Парижской мирной конференции; видимо, все еще лелеял надежду, что представляет интересы России. Последнее же известие о его деятельности содержится в документах французского банка «Сосьете жене-раль» и относится к 1919 г., когда Ярошинский участвовал в операции по увеличению на 10 млн. руб. капитала Русско-Азиатского банка, проведенной на парижской бирже. Согласно условиям этой операции, Русско-Азиатский банк был практически реорганизован во французское предприятие, передав свои отделения в Китае, Индии, Париже и Лондоне новому «Франко-Азиатскому банку». Ярошинский совместно с «Сосьете женераль» и Парижско-Нидерландским банком выступили в роли акционеров-учредителей, причем их инициатива была настолько велика, что всю операцию называли «делом группы Ярошинского». Вступая в новое предприятие, он положил на стол скупленные в свое время контрольные пакеты акций четырех русских банков — Торгово-промышленного, Петроградского Международного коммерческого, Русского для внешней торговли и Киевского частного коммерческого банка.91 Это был взнос за участие во французском банке.
Таким образом в ходе банковской аферы Ярошинский поменял четырех иностранных партнеров. Начав с попытки крупной финансовой сделки с американскими банками и заключив ряд сделок с англичанами еще до 1917 г., он после победы социалистической революции выразил готовность приковать свой концерн к Лондонскому Сити, представители которого вместе с официальной британской дипломатией и секретной службой стали на путь враждебных действий против Советской России. Затем с аналогичными целями Ярошинский пытался вступить в сговор с Германией и, наконец, заключил сделку на парижской бирже, чтобы спасти сильно упавшие к тому времени в цене русские акции и облигации, как бы превратив их во французские ценные бумаги. Но и в этом положении удержаться ему долго не удалось, так как в 1925 г. парижские отделения Русско-Азиатского и Петроградского Международного Коммерческого банков были объединены, образовав, в соответствии с актом национализации 1917—1918 гг., Европейский банк, контролируемый Госбанком СССР.92
В годы гражданской войны и иностранной военной интервенции в Советской России многие бывшие владельцы крупных предприятий продали свои акции иностранным банкам и корпорациям. Например, П. Ватолин, представитель одного из крупнейших промышленных концернов И. Стахеева (еще один «всадник апокалипсиса»!), за
283
ключил в 1919 г. договор с американскими банками о продаже им своих акций. Осенью 1918 г. он отправился в США, посещая различные американские предприятия с целью соглашения с ними для развития своего дела, прежде всего в металлургии и нефтяной промышленности. 15 января 1919 г. он подписал соглашение о продаже акций кампании Стахеева «Американской международной корпорации».93 Об этом он информировал остававшегося в Вашингтоне бывшего посла Временного правительства Б. А. Бахметева. «Несмотря на падение целого ряда русских (белогвардейских. — А. Ф.) правительств, завязанные мною за границей деловые отношения нисколько не теряют своего значения», — писал он в конце 1920 г.94 Тогда же в 1920 г. крупнейшая российская нефтяная корпорация Нобеля заключила сделку с американским трестом «Стандард ойл К0 оф Нью Джерси» по продаже своих акций, а предприятия Манта-шева, Лианозова, Гукасова и Цатурова были куплены англо-голландским нефтяным трестом «Ройял Датч Шелл К0».95 Вместе с тем в Париже был создан Съезд представителей русской торговли и промышленности, который в мае 1921 г. был преобразован в Российский финансово-торгово-промышленный союз, объявив себя «центральной организацией русского торгово-промышленного класса за границей».96 В его состав вошли многие прежние собственники российских предприятий, продавшие свои акции иностранным кампаниям, включая Нобеля, С. О. и П. О. Гукасовых, С. Г. Лианозова, директоров Петроградского Международного Коммерческого банка А. А. Давыдова и А. И. Вышнеградского, Сибирского банка Н. X. Денисова и др. Ни в одном из этих списков не встречается имени Ярошинского. Французская исследовательница А. Хогенхейс-Селиверстова обнаружила среди документов Министерства иностранных дел Франции записку, свидетельствующую о том, что в начале 1921 г. Ярошинский предпринял еще одну, видимо последнюю, попытку возглавить консорциум западных банков, который должен был заняться реконструкцией экономики в России.97 Однако этот проект был отвергнут, в частности из-за нежелания выступать совместно с немцами, как предлагал Ярошинский. Никаких следов его дальнейшей деятельности обнаружить не удалось. Деловая карьера «русского Вандербильта» закончилась.
1 Краткая заметка «Русский Вандербильт» с использованием части материалов данной статьи опубликована мною в журнале «Вопросы истории» (1987. № 10. С. 183—188).
2 Шемякин И. Н. О некоторых экономических предпосылках Великой Октябрьской социалистической революции : Из истории финансового капитала в России // Социалистические преобразования в СССР и их предпосылки. М., 1959. С. 60— 69; К и т а н и н а Т. М. Военно-инфляционные концерны в России 1914—1917. Л., 1967. С. 146; Ганелин Р. Ш. Советско-американские отношения в конце 1917-начале 1918 г. Л., 1975. С. 140—143; Иоффе Г. 3. Крах российской монархической контрреволюции. М., 1977. С. 142; Ду м о в а Н. Г., Трухановский В. Г. Уинстон Черчилль и империалистическая интервенция в Советскую Россию // Исторический опыт Великого Октября : К 90-летию академика И. И. Минца / Отв. ред. С. Л. Тихвинский. М., 1986. С. 177—178.
3 К е 111 е М. The allies and the Russian collapse. London, 1981.
284
4 Справка о дворянском достоинстве Ярошинских 8/21 мая 1914 г. // ЦГИА СССР. Ф. 1343. Оп. 37. Д. 29277. Л. 3.
5 Фредерикс — Трепову 30 августа/12 сентября 1911 г.//ЦГИА СССР Ф. 472. Оп. 45. Д. 10. [б/л.].
6 Оценочная опись имений Ф. И. Ярошинского, сделанная Киевским отделением Государственного дворянского земельного банка 22 мая/3 июня 1914 г. // ЦГИА СССР. Ф. 1102. Оп. 3. Д. 1351. Л. 5—6.
7 Распутин — Барку 4/17 1915 г. // Там же. On. 1. Д. 207. Л. 2.
8 Барк — главноуправляющему канцелярии е. и. в. по принятию прошений 1/14 февраля 1916 г.//Там же. Оп. 3. Д. 1351. Л. 13—14.
9 Шемякин И. Н. Указ. соч. С. 61—64.
10 A s h b е г g О. Еп vandrande jude fran Glasbruksgaten. Stockholm, 1946. S. 352—353.
11 Быков П. M. Последние дни Романовых. M.; Л., 1930. С. 62.
12 Ш е м я к и н И. Н. Указ. соч. С. 66—69.
13 Ashberg О. Op. cit. S. 353—354.
14 Линдлей — Бальфуру 2 июля 1918 г.//Foreign Office. 371/3284. Р. 139. Public Record Office. London.
15 Малаховский — Правлению Российского торгово-промышленного банка 21 апреля/4 мая 1917 г. //ЦГИА СССР. Ф. 634. On. 1. Д. 257. Л. 1.
Китанин а Т. М. Указ. соч. С. 146.
17 Kettle М. Op. cit. Р. 135.
18 Ярошинский — Правлению Русско-Азиатского банка 22 декабря 1915/4 января 1916 г.; 11/24 января, 10/23 мая, 15/28 мая 1916 г.; Правление Русско-Азиатского банка — Ярошинскому 16/29 мая 1916 г. Протоколы заседания Правления Русско-Азиатского банка 23 декабря 1915/5 января 1916 г., 16/29 мая 1916 г. // ЦГИА СССР. Ф. 630. Оп. 2. Д. 782. Л. 3—5, 26; Д. 776. Л. 26, 54, 61—62.
19 Соглашение К. И. Ярошинского с «Бритиш бэнк оф форин трейд» 2/15 апреля 1916 г.//ЦГИА СССР. Ф. 1102. Оп. 3. Д. 1350. Л. 1—2; К е 1t-1 е М. Op. cit. Р. 135.
20 Ярошинский — Ашбергу 26 мая/8 июня 1916 г. // ЦГИА СССР. Ф. 630. Оп. 2. Д. 783. Л. 1.
21 Aschberg О. Op. cit. S. 354.
22 Ярошинский — Ашбергу 26 мая. . . Л. 1—2.
23 Ганелин Р. Ш. Россия и США. М.; Л., 1969. С. 69, 111 — 112.
24 Там же; Ярошинский — Ашбергу 26 мая. . . Л. 6—7.
25 Линдлей — Бальфуру 2 июля 1918 г.//Foreign Office. 371/3284. Р. 140. Public Record Office.
26 Вонлярлярский В. M. Мои воспоминания 1852—1939 гг. Берлин, 1939. С. 226.
27 Kett le М. Op. cit. Р. 134.
28 М и н ц И. И. История Великого Октября. М., 1979. Т. 3. С. 451—454.
29 Kett I е М. Op. cit. Р. 134.
30 Вонлярлярский В. М. Указ. соч. С. 226—227.
31 Быков П. М. Указ. соч. С. 62.
32 Kettle М. Op. cit. Р. 135.
33 Вонлярлярский В. М. Указ. соч. С. 242.
34 Линдлей — Бальфуру 2 июля 1918 г.//Foreign Office. 371/3284. Р. 138. Public Record Office.
35 Kettle M. Op. cit. P. 136.
36 Вонлярлярский В. M. Указ. соч. С. 227—228.
37 Kettle М. Op. cit. P. 137, 139—140.
38 Вонлярлярский В. M. Указ. соч. С. 228.
39 Там же. С. 228—229.
40 Описание перипетий «банковского проекта» автор (Kettle М. Op. cit. Р. 273) предваряет ссылкой на источники: «Описание истории с русскими банками и ее последующее развитие базируются на документах Военного кабинета — досье 0149/7335; телеграммах, депешах и протоколах Форин оффиса — досье 371/3964, 3977, 3979, 3988, 3994—3996, 4021—4024, 4029, 4038, и на некоторых материалах общего характера (в дальнейшем — «банковские проекты»)». Указанные досье хранятся в архиве Public record office в Лондоне, а «материалы общего характера»
285
включают данные разведслужб, в том числе личные бумаги сотрудников «Интеллед-женс сервис». Все они объединены общей ссылкой — «банковские проекты», без указания точного шифра документов.
41 Kettle М. Op. cit. Р. 202.
42 Ibid. Р. 144.
43 Ротштейн Эндрю. Когда Англия вторглась в Советскую Россию. . . М., 1982. С. 86—90.
44 Kettle М. Op. cit. Р. 186.
45 Ibid. Р. 186.
46 Ротштейн Эндрю. Указ. соч. С. 61.
47 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 35. С. 4.
48 Декреты Советской власти, 25 октября 1917 г.—16 марта 1918 г. М., 1957.
Т. 1. С. 225, 230; Ирошников М. П. Председатель Совета народных комиссаров Вл. Ульянов (Ленин). Л., 1974. С. 127.
49 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 35. С. 273.
50 Там же. С. 173.
51 Там же. С. 273—274.
52 Декреты Советской власти. Т. 1. С. 390; Шепелев Л. Е. Декрет о национализации банков // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1978. Т. 9. С. 283—294.
53 Гиндин А. М. Как большевики национализировали частные банки. М., 1962. С. 102, 127—128.
54 К е 111 е М. Op. cit. Р. 202.
55 Ibid. Р. 205.
56 Тарновский В. В. История Сибирского торгового банка (1872— 1917 гг.) //Материалы по истории России в период капитализма. Труды Государственного ордена Ленина Исторического музея. М., 1976. Вып. 46. С. 168.
57 Kettle М. Op. cit. Р. 137—138.
58 Вонлярлярский В. М. Указ. соч. С. 229.
59 К е 111 е М. Op. cit. Р. 205.
60 Ibid.
61 Ibid. Р. 206—207.
62 М и н ц И. И. Указ. соч. Т. 3. С. 458—461.
63 К е 11 1 е М. Op. cit. Р. 207.
64 Шифровка Киза 4 февраля 1918 г. (приложена к телеграмме Линдлея
10 февраля 1918 г.) // Foreign Office. 371/3283. Р. 429. Public Record Office.
85 Kett le M. Op. cit. P. 208.
66 Ibid. P. 231.
67 Ibid. P. 232.
68 Ibid.
69 Ibid.
70 Ibid. P. 232—233.
71 Ibid.
72 Тарновский В. В. Указ. соч. С. 168.
73 Фрэнсис — Лансингу 5 февраля 1918 г.//Papers relating to the foreign relations of the United States. 1918. Russia. Washington. 1931. V. 1. P. 368—369.
74 Шифровка Киза 4 февраля 1918 г. (приложена к телеграмме Линдлея
10 февраля 1918 г.) // Foreign Office 371/3283. Р. 430. Public Record Office.
75 Kettle M. Op. cit. P. 244.
76 Тарновский В. В. Указ. соч. С. 168.
77 Kettle М. Op. cit. Р. 244—245.
78 Ibid. Р. 242.
79 Ibid. Р. 246.
80 М и н ц И. И. Указ. соч. Т. 3. С. 460—461.
81 Фотокопия этой доверенности воспроизведена в указ, книге Кеттла.
82 К е 11 1 е М. Op. cit. Р. 247.
83 Вонлярлярский В. М. Указ. соч. С. 231.
84 Там же.
85 Мирбах — Гертлингу (рейхсканцлеру) 20 июня 1918 г. // Вопросы истории. 1971. № 9. С. 127.
86 Там же.
286
87 Вонлярлярский В. М. Указ. соч. С. 231.
88 Б ы к о в П. М. Указ. соч. С. 62; И о ф ф е Г. 3. Указ. соч. С. 142.
89 Вонлярлярский В. М. Указ. соч. С. 232—233.
90 Л ин дл ей — Бальфуру 2 февраля 1918 г. // Foreign Office. 371/3284. Р. 139. Public Record Office.
91 Эти сведения нам любезно предоставил В. И. Бовыкин, работавший в архиве «Сосьете женераль».
92 Шепелев Л. Е. Указ. соч. С. 292.
93 Соглашение между «Американской Международной корпорацией» и компанией «Иван Стахеев» 15 января 1919 г. // Bakhmeteff papers. Manuscript division. Columbia University Library. New York.
94 Батолин — Бахметеву 24 ноября 1920 г. // Там же.
95 Ф у р с е н к о А. А. Нефтяные войны. Л., 1985. С. 176.
96 Отчет о деятельности Российского Финансово-Промышленно-Торгового Союза в Париже за время с 1 апреля 1921 г. по 31 декабря 1922 г. // Bakhmeteff papers. . .
97 Hogenhuis-Seliverstoff A. Les relations franco-sovietiques 1917— 1924. Paris, 1981. P. 196.
в. в. носков
ОБРАЗ РОССИИ
В ИДЕОЛОГИИ АМЕРИКАНСКОЙ ИМПЕРИИ
В отношениях между народами люди редко руководствуются точными знаниями, а оперируют, как правило, исторически сложившимися образами. Такие образы составляют важный структурный элемент исторического сознания любого народа, которое в свою очередь лежит в основе его политической культуры. В применении к внешнеполитической культуре можно сказать, что в ее основе лежат те или иные представления о всемирной истории, о месте в ней собственной страны и других стран, о роли, которую суждено сыграть в мировой истории каждой из них.
На уровне элитарного сознания, на котором принимаются важнейшие внешнеполитические решения, можно говорить об определенной философии истории, т. е. о разработанной и соответствующим образом оформленной системе взглядов на мировую историю, в которой каждой стране отведено свое место. В рамках такой системы формируется образ того или иного народа, который в упрощенном виде через аппарат пропаганды внедряется в массовое сознание и начинает служить той призмой, через которую оцениваются все действия данного народа в современной истории. Наглядным примером может служить представление, сложившееся на рубеже XIX—XX вв. в Америке о России.
Исторические судьбы двух стран оказались тесно переплетенными с момента рождения Американской республики. В силу обстоятельств Россия оказывалась на стороне американцев в самые тяжелые моменты их истории: в годы войны за независимость, англо-американской войны 1812 г. и гражданской войны в США. И в то же время столкновение интересов США и России стало одной из причин появления на свет двух ведущих американских внешнеполитических доктрин — доктрины Монро и доктрины «открытых дверей» в Китае. К тому времени, когда в США начала формироваться идеология империалистической экспансии, о России, по замечанию современного
288
автора, «американский народ знал мало, а интересовался ею еще меньше». Положение стало меняться по мере вовлечения США в мировую политику. К началу XX в. в общественном сознании Америки утвердился вполне определенный образ России.
Его формированию способствовало несколько факторов, главным из которых нужно признать пропагандистскую деятельность людей, создавших идеологию американской империи. Следует иметь в виду, что речь идет только об одной, но отнюдь не единственной точке зрения. В ходе обсуждения «российского вопроса» на рубеже XIX— XX вв. в американской публицистике высказывались самые разные, в том числе очень доброжелательные, мнения о России. Давняя традиция видеть в русских дружественный по отношению к Америке народ продолжала жить. Однако на определенном этапе возобладала точка зрения, последовательно проводимая творцами идеологии империалистической экспансии.
Первым из них выступил философ и историк Джон Фиске. Обращаясь к вопросу о характере русской деревенской общины, Фиске показал, как, имея сходное историческое происхождение, русская и английская общины развивались в дальнейшем по расходящимся направлениям. Русская община, сохранив известную самостоятельность во внутренних делах, оказалась отстраненной от решения вопросов в национальном масштабе. Таким образом, заключал Фиске, «русский народ не обладает политической свободой». Он так объясняет этот факт: на протяжении веков территория России была полем битвы между европейским и азиатским мирами, поэтому политические институты формировались здесь под постоянным воздействием войн и завоеваний, и русский народ приобрел «устойчивый вкус» к военному правлению. Англичане же развивались в совершенно иных условиях, и, начав с одного примерно исходного уровня, «Англия преуспела там, где Россия потерпела неудачу».1 Так была сформулирована мысль о коренной противоположности путей исторического развития автократической России и англосаксонских демократий.
В следующий раз Россия появляется в трудах Фиске как покоритель Сибири. По его представлению Россия начала экспансию на восток с целью достижения Китая уже в XVI в. Выйдя к Тихому океану, она продолжила движение до берегов Америки и обосновалась на Аляске. Плавания В. Беринга Фиске рассматривал как логическое завершение эпохи открытия Северной Америки. Они закончили формирование представления о Северной Америке как отдельном материке с неисчислимыми возможностями.2 В то же время эти события доказывали, как считал Фиске, постоянное стремление России к экспансии. Он не пришел к крайним выводам, характерным для других идеологов экспансии, однако мы найдем у него основные элементы того образа России, который окончательно сложился позднее. Фиске уже противопоставлял «западный» и «русский» пути исторического развития. Россия представала у него как страна, не способная к самостоятельному развитию передовых форм государственной организации, страна, где отсутствуют политические
19 Заказ № 1143
289
свободы и господствуют милитаристские традиции, страна, осуществляющая широкую внешнюю экспансию. Поэтому, будучи президентом Лиги по ограничению иммиграции, Фиске требовал удаления из США славян как представителей низшей расы, а в сфере внешней политики он выступал за союз англосаксонских наций против «угрожающей активности» России на Дальнем Востоке.3
В дальнейшем формирование образа России в американской политической традиции шло путем подчеркивания отрицательных черт в ее истории в ущерб положительным. Антирусские мотивы нарастали по мере втягивания США на путь империалистической экспансии. Особенно наглядно это проявилось в трудах Альфреда Мэхэна.4 Россия появилась на арене мировой истории, согласно Мэхэну, лишь в начале XVIII в., когда Петр I утвердился на берегах Балтики. С тех пор Россия «не переставала расширяться, и не только в центральной своей части. . . но и на двух своих окраинах, из которых одна соприкасалась с Балтийским морем, а другая. . . продвинулась теперьж Черному морю».5 Историю России Мэхэн рассматривал в тесной связи с развитием британской морской мощи, поэтому его изображение отличалось крайней односторонностью. Россия превратилась под пером Мэхэна в державу, озабоченную главным образом развитием своих сил на море, а ее историческое развитие он рассматривал лишь как рост военной угрозы для стран Запада.
Современную ему Россию Мэхэн безоговорочно относил к числу главных противников США на мировой арене. Если даже с Японией и Германией, относительно будущих намерений которых Мэхэн не обманывался, возможно было, по его мнению, сотрудничество, то с Россией это было исключено. Россия и англосаксонский мир не только находились на разных ступенях развития, но и далее развивались по «совершенно различным направлениям, исходящим из радикально противоположных представлений».6
Для Мэхэна Россия стала соперником с момента утверждения США у берегов Азии. При этом американское недовольство наличием сильного конкурента он пытался маскировать рассуждениями о беспокойстве всего «человечества, вызванном характером продвижения России в северо-восточной Азии и на Тихом океане».7 Он неоднократно подчеркивал непримиримость интересов славян и тевтонов, основанную на их расовых различиях, и призывал США создать единый фронт с другими «морскими державами» для противодействия России.8 Утверждение России в Китае означало, по Мэхэну, ужасное бедствие не только для ее соперников, но и для всей мировой цивилизации. «Русскую угрозу» Мэхэн обнаруживал повсюду — на Дальнем и Ближнем Востоке, в Персии, в Египте. Таким образом Россия в его изображении из колониального конкурента США превращалась во врага всего «цивилизованного» мира, а американская экспансия в Азии изображалась как средство спасения цивилизации от северного гиганта.
Во многом сходные с Мэхэном взгляды развивал Брукс Адамс. Согласно его теории, славяне и Запад, соперничество которых началось еще в VI—VII вв., являются главными противоборствующими
290
силами в мировой истории. Россия была для Б. Адамса продолжением на восток и прямым наследником политических традиций Византийской империи, всегда бывшей антиподом западной цивилизации.9
Россия, писал он, черпала свою мощь из неоскудевающих резервуаров «свежей варварской крови», в то время как Европа постоянно теряла энергию исторического движения. Россия при этом всегда стремилась скорее истощить Запад, чем воевать с ним. В своей философии истории Б. Адамс исходил из утверждения, что история творится там, «где находится центр торговой деятельности», ибо только там «человеческий дух поддерживается в состоянии высшего напряжения». Ярким проявлением этого правила стало для него «превращение старинной греческой приднепровской России в современную Азиатскую, Волжскую».19 Россия, доказывал Б. Адамс, в отличие от Запада старалась решать все свои проблемы не столько путем внутренних социальных преобразований, сколько посредством внешней территориальной экспансии.
Став азиатской державой и закрепившись на Дальнем Востоке, утверждал Б. Адамс, Россия стала мешать нормальному историческому развитию США. Американской экономике грозил хаос, если бы не был найден рынок для избыточной продукции ее промышленности. Таким рынком могла стать только Восточная Азия, но там прочные позиции занимала Россия. Отсюда вывод: Россия являлась главным соперником США, преобладания над которым в Китае следовало добиваться любыми средствами, не исключая и военные. И если США не сумеют одержать верх в этой борьбе, тогда будут поколеблены сами основы их существования, утверждал он. Б. Адамс рассматривал экспансию в Азии в противовес России как главное средство сохранения американской «системы свободного предпринимательства».11 В будущем, предупреждал он, когда Европа отойдет на второй план в драме мировой истории, Россия останется основным соперником США на международной арене.
Брата Брукса Адамса Генри нельзя безоговорочно отнести к числу идеологов американской империи, однако многие положения его философии истории были использованы теоретиками экспансионизма. Особое внимание Г. Адамса к России проявилось с середины 90-х гг. Огромное впечатление на него произвели заключение военного союза между Россией и Францией и активизация русской политики на Дальнем Востоке. С этого момента в его изображении Россия предстала новой великой силой, которая на протяжении уже полутора столетий вызывала все главные политические потрясения в мире.12 Г. Адамс полагал, что весь капиталистический мир раскалывается на «соперничающие центры», одним из которых стали США, а другим становилась Россия: «Существует два будущих центра силы. . . и из двух Америка должна стать первым. Когда-нибудь, столетия спустя, Россия сможет поглотить даже ее. . .».13
С течением времени роль России в мировой истории возрастала в глазах Г. Адамса все больше и больше. Россия была слишком значительной силой, с которой Г. Адамс, пытавшийся объяснить исторический процесс с помощью законов физики, не мог не считать
19:
291
ся: «Как инерция. . . она представляет три четверти человеческой расы, и ее движение может оказаться верным в будущем в отличие от поспешного и неуверенного развития Америки». Поэтому Россия, эта воплощенная инерция, с точки зрения мировой истории, приобретала все большее значение.14 «Таким образом, — писал Г. Адамс о себе, — последователь Гегеля приготовился посетить Россию для того, чтобы расширить свое понимание мировой истории. Историческое развитие России он рассматривал как полярно противоположное по своему характеру развитию Америки. Россия не имела ничего общего ни с одной из известных истории древних или современных держав; она была древнейшим источником всей цивилизации Европы, но ничего не сохранила для себя; ни Европа, ни Азия никогда не знали такой фазы, которая, казалось, совершенно не вписывалась ни в какие направления эволюции и была так же удивительна для изучающего готическую архитектуру в двенадцатом веке, как и для изучающего динамо в двадцатом».
Посетив Россию в середине 1901 г., Г. Адамс не нашел в русских никаких «признаков индивидуальности», а обнаружил в них лишь подтверждение своей концепции «массового общества с огромным потенциалом». В вйдении будущего он был солидарен со своим братом: «В конце концов пассивный характер истощит активный. Экономия энергии является видом силы. Россия и Азия могут всех нас оставить без ничего, особенно если Германия поможет ее продвижению». А пока Россия оставалась для Г. Адамса на первой из выделенных О. Контом стадий исторического развития: «. . .метафизическая, религиозная, военная, византийская; что-то вроде монгольского племени, почти абсолютно неспособная мыслить по-западному».16
Одним из главных соперников США на международной арене Г. Адамс считал Германию, но «Россия была проблемой в десять раз более сложной» благодаря ее «угрожающему продвижению» в Маньчжурии. Для него политическая философия «всех русских. . . сводилась к единственной идее, что Россия неизбежно должна опрокинуть, — должна, благодаря своей неудержимой инерции, смести все, что бы ни стало на ее пути». Россия становилась вдвойне опасной, поскольку на Дальнем Востоке ее пассивная мощь соединилась с мощью Китая и возникла сила, которой, как он тогда считал, не может противостоять никакая другая сила в мире. Ни Европе, ни Америке не избежать русской хватки, писал Г. Адамс, поскольку им придется «иметь дело с огромной континентальной массой инерционного движения, подобной леднику, которая движется, и движется направленно, посредством одной лишь силы механического притяжения».17
После русско-японской войны, которую Г. Адамс характеризовал как «одну из самых решающих битв в американской истории», коренных изменений в его представлениях не произошло. По-прежнему соединенный русско-китайский «источник архаичной энергии», вызванный к жизни силами двадцатого века, эффективно противостоял «более изнеженному и упадочному Западу». Сохранялся и опасный
292
«контраст между американской интенсивностью и русской инерцией».18 Его прежнее предположение, что Россия и США столкнутся в будущем как два главных мировых центра силы, сохранялось.
Одновременно с Г. Адамсом Россию посетил один из самых влиятельных политических деятелей США того времени и довольно популярный историк Г. К. Лодж. Цель своей поездки он видел в том, чтобы определить, как скоро Россия может превратиться в опасного для США соперника.19 В статье, опубликованной по возвращении, Лодж писал, что благодаря своей «высшей энергии американский народ» далеко обогнал Россию, но «она, подобно нам, имеет великое будущее». Поэтому для любого думающего американца Россия представляет «захватывающий интерес не только по причине дружбы, которую она нередко демонстрировала по отношению к нам, но и потому, что она потенциально является нашим экономическим соперником, более мощным, чем любая другая организованная нация». Русские для американца — это «народ, чьи основополагающие идеи, чей образ жизни и чьи определяющие мотивы действий в крайней степени чужды его собственным. Общих основ, общих исходных точек, общих предпосылок мысли и действия не существует. Тот факт, что внешне и в поверхностных вещах русские похожи на нас, дишь подчеркивает глубинные и существенные различия». И объяснение этих различий он ищет в истории. «Мы, — писал Лодж, — дети Рима, а русские — дети Византии», которая в свою очередь была наследницей «утонченного греческого интеллекта в стадии его упадка». Американцы же унаследовали «идеалы римского права, свободы и патриотизма», поэтому пропасть между двумя народами является непреодолимой.20
Известный социолог Ф. Джиддингс свою книгу «Демократия и империя» открыл утверждением: «Я также убедился, что будущее цивилизации будет зависеть. . . от преобладающего влияния либо англо-говорящего населения мира, либо Русской империи, в соответствии с тем, какая из этих двух гигантских сил победит в международной борьбе за существование».21 «Гигантская нация севера», писал Джиддингс, во всех отношениях превратилась в «мощного соперника свободолюбивых англо-говорящих народов мира». «Может ли кто-либо, — спрашивал он, — смотреть на консолидацию Русско-Китайской империи без серьезных опасений относительно тех вещей, которые мы привыкли считать неотъемлемой частью цивилизации?»
В недалеком будущем, предсказывал Джиддингс, предстоит грандиозная битва между Россией и Англией, и вопрос встанет так: «Будет ли в мировой политике преобладать англо-говорящий народ в интересах английской цивилизации с ее принципами свободы, самоуправления и возможностями для всех, или Русско-Китайская комбинация с ее политикой исключительности и ее традициями безответственной власти?» И Соединенные Штаты не могут остаться в стороне от этого конфликта, поскольку в случае победы России Америка потеряет коммерческие позиции в Азии, опустится до положения второразрядной державы и подчинит всю свою политику «державе,
293
которая будет руководить международными отношениями так же безжалостно, как Цезарь или Наполеон». Если же, напротив, США объединят свои силы с Великобританией, им не придется опасаться, «что еще одно тысячелетие средневекового мрака опустится на Западный мир».22
Большой известностью среди интеллектуалов Америки на рубеже веков пользовался Дж. Барджес, один из столпов националистической историографии. Россию он считал вечным врагом США и всех тевтонских народов. «Этот славянский гигант готов нанести удар тевтонским нациям, — писал Дж. Барджес в 1904 г. — . . .Если США имеют в современном мире в области политических принципов естественного врага, то им является Россия. . . в ближайшие 25 лет Россия станет так же опасна для США, как она сейчас опасна для Англии». Ненависть к «восточнославянскому подобию цивилизации» он сохранял до конца жизни.23
Основоположник теории «границы» Ф. Тернер также счел своим долгом отметить свойственный русским «гений экспансии», приведший к столкновению интересов России и США на северо-западе Америки.24 В своем очерке об истории США он следует утвердившейся схеме: Россия в годы гражданской войны и Россия, продавшая США Аляску, — друг; Россия на Дальнем Востоке в начале XX в. — главный агрессор.25
Один из самых известных идеологов американской империи преподобный Дж. Стронг впервые упомянул о России как источнике нежелательной иммиграции, которую он считал большой опасностью для США.26 Русские для Стронга — азиаты, чьи «духовные черты и исторические корни прямо противоположны характеристикам англо-саксонской расы». Обе расы встретились на берегах Тихого океана, где предстояло разыграться великим битвам нового столетия, в ходе которых будут решаться исторические судьбы мира.27
Вслед за идеологами пресса не уставала повторять, что «моско-витская угроза» гораздо опаснее для западной цивилизации, чем даже «желтая опасность». Журналист Т. Миллард, сторонник сотрудничества с Россией, именно прессу обвинял в том, что она внедрила образ России как соперника США в массовое сознание. Уже давно, пояснял он, в сознании среднего американца утвердилась «враждебность к анахронизмам русского правительства», и это облегчало восприятие образа России-врага, насаждавшегося «тщательно спланированной» пропагандой. Посредством этих «манипуляций» в противовес образу России формировался благоприятный образ Японии как защитницы идеалов западной цивилизации.28
Искаженное представление о России получило в те годы всеобщее распространение. Главной причиной был дефицит знаний о России, который «постоянно давал знать в США. . . закрепляясь в общественном сознании в виде расплывчатых представлений, навеянных случайно попавшейся на глаза информацией, достоверность которой была в лучшем случае ограниченной».29 Как писал в декабре 1907 г. архиепископ алеутский Платон, «нас здесь знают только по
294
докладам наших врагов, и, кажется, доселе решительно ничего не делалось в целях должного ознакомления Америки с Россией».30
Огромную роль в распространении антирусских настроений сыграла британская пропаганда. Новости с Востока, подчеркивал Т. Миллард, шли в основном через Англию, приобретая «специфически британский оттенок». О неизбежности столкновения США с Россией в Азии писали английские публицисты, сочинения которых имели хождение в Америке. «Русская угроза» раздувалась и в личных посланиях английских политических деятелей своим американским коллегам.31
Россия продемонстрировала самое прохладное отношение к американской доктрине «открытых дверей», провозглашенной в 1899 г. Уже тогда в США развернулась широкая антирусская кампания. Продолжающееся соперничество двух держав в Китае закрепило антирусский поворот в политической мысли Америки, что особенно наглядно проявилось в годы русско-японской войны. Идея, что будущее Америки зависит от судьбы Китая, получила широкое распространение, а все, кто писал на эти темы, «подчеркивали. . . сильный страх в Китае перед Россией».32
Особой непримиримостью отличалась книга У. Ширбранда «Америка, Азия и Тихий океан». С момента появления США на берегах Тихого океана, откровенно заявлял он, «Россия неизбежно становится их врагом». «Распространение ее суверенитета, расширение сферы ее интересов означает сужение любых возможностей для Соединенных Штатов». К этому добавляются «глубокая расовая антипатия между славянином и англо-саксом, непримиримые различия в понятиях о жизни и идеалах, в системе правления и политике». Кроме того, «Россия является нашим главным соперником по всем основным статьям своего экспорта. . .». С любой точки зрения «Россия является врагом нашей страны и останется таковою», поэтому мирное сосуществование между США и Россией невозможно.33
Борьба американца со славянином, подчеркивал Ширбранд, будет носить принципиально «иной характер, чем борьба с другими нациями». Грядущая «битва между американцем и русским будет не столько коммерческой, сколько политической и этической». В конечном итоге борьба между США и Россией в Азии станет борьбой «за преобладание Западной или Восточной цивилизации».34 «Развитие России и Америки, — продолжал он, — по существующим ныне направлениям будет уводить две нации все дальше и дальше друг от друга и в конце концов обязательно приведет к конфликту».35
Выступая с тех же позиций, миссионер Ф. Уильямс провозглашал, что борьба между Америкой и Россией будет не столько коммерческой, сколько идеологической.36 Для одного из руководителей миссионерного движения в США Россия представляла собой «абсолютный империализм». В его глазах она не только не была демократической страной, но и не могла стать таковой даже в отдаленном будущем. От результатов ее войны с Японией, писал С. Галик, зависела не только «история Восточной Азии на тысячи лет вперед», но и «будущая история» всех заинтересованных в регионе держав,
295
поэтому «русско-японская война представляет кризис в истории мира».37
Один из ведущих американских специалистов по Дальнему Востоку П. Рейнш не отличался такой непримиримостью, как многие его собратья по перу, однако и он не преминул заметить, что Россия — это полуварварская страна, представляющая «римские традиции империализма» и осуществляющая «систематические планы колонизации и национальной экспансии». Русская экспансия на Востоке затрагивала, по его мнению, «глубочайшие интересы цивилизации». При этом полуазиатский «характер России становился все более восточным», а его основными чертами стали «сознательное противопоставление западным идеалам» и «твердая верность идее автократии».38
Американские идеологи касались только отдельных, преимущественно военных и внешнеполитических аспектов русской истории. Однако это не мешало им делать широкие обобщения по истории России вообще, ее направленности, о характере народа. Большинство идеологов ограничивалось простой констатацией фактов русской истории или подгонкой этих фактов под заранее заданные схемы, но не стремилось понять, что же в действительности представляла из себя Россия. А на уровне массового сознания даже робкие попытки осмысления, предпринимавшиеся отдельными идеологами, отсутствовали вовсе. Здесь происходило простое заимствование наиболее часто повторявшихся штампов. Даже на уровне элитарного сознания нежелание и неспособность понять иную культуру, иной народ и на основании этого понимания строить практическую политику возводились в абсолют, в политический принцип. Сиюминутные политические соображения становились отправной точкой, из которой исходили при оценке исторического своеобразия России.
Россия стараниями идеологов представлялась большинству американцев только как архаичная, религиозная, военная, отставшая в своем развитии держава. Эта держава обладала большим потенциалом, но если бы она развила его, то только для того, чтобы стать главным соперником США на мировой арене, стать угрозой самому существованию американской демократии. Россия как страна высокой культуры, как страна с огромным интеллектуальным потенциалом, как страна мощных народных движений, имеющих целью воплощение в жизнь высших идеалов человечества, оставалась почти неизвестной американцам.
Поражает непримиримость, с которой рисовали образ России в сравнении с образами таких действительно потенциально опасных для США держав, как Германия или Япония. Объяснение этому факту следует искать, очевидно, в присущем американским идеологам интуитивном ощущении того, что построенная в Америке модель цивилизации эффективна только на определенном этапе исторического развития человечества, что она далека от совершенства и в исторической перспективе окажется несостоятельной. А альтернативу этой модели могла предложить только Россия, поскольку Запад исчерпал свои возможности для глобального исторического
296
творчества, а Восток еще только просыпался и не был готов к нему. Американская модель строилась на ограниченном историческом материале и по существу изначально была тупиковой. Россия же, вобравшая опыт тысячелетней истории Запада и Востока, могла предложить гораздо более привлекательный для человечества путь исторического развития.
Главной задачей рассмотренных сочинений было оправдание собственной экспансии США, что объясняет характер рассуждений об экспансии России. Мы не найдем тут принципиального осуждения экспансионистской политики царизма, а увидим, скорее, досаду по поводу успехов конкурента. Объяснение ведется с позиций противопоставления «плохой» русской экспансии и «хорошей» американской. Отсюда — односторонний, прямолинейный показ экспансии царской России, хотя этот процесс был гораздо более сложным и неоднозначным, чем он представлялся идеологам американской империи. Многие проблемы, которые приходилось решать России в ходе своей истории, были совершенно не известны Америке и не могли быть поняты там. Американцы применяли к России ограниченный опыт собственной экспансии.
Так же не принципиальна была критика существовавших в России порядков. Дело сводилось к простому указанию на отрицательные черты в жизни царской России с целью усилить ее непривлекательность в глазах американцев, обогатить таким образом портрет врага и в конечном итоге оправдать антирусскую внешнюю политику. При этом подчеркивание отрицательных черт русской действительности происходило при постоянном противопоставлении ее с американской действительностью того времени. Тут проявляется еще одна функция мифотворчества данного рода — самоутверждение Америки в собственных глазах за счет создания неблагоприятного образа конкурирующей державы. Америку интересовала она сама, но никак не Россия, какой бы она ни была на самом деле. Интерес к России обусловливался преимущественно тем, что она стала на пути реализации внешнеполитических планов США, и тут было совершенно не важно, из каких побуждений она это делала. Дело заключалось не в том, какова была Россия, а в том, что она была вообще. Как заметил Ф. М. Достоевский по поводу рассуждений о «русской угрозе» в некоторых европейских странах, «Россия виновата уже тем, что она Россия, а русские тем, что они русские. . .».39
Особенностью создававшегося в Америке образа России было изображение ее как препятствия на пути исторического развития всего человечества. Здесь проявилась характерная черта американской внешнеполитической идеологии, по поводу которой биограф сенатора Г. К. Лоджа заметил: «Внешняя политика всегда облегчалась для Соединенных Штатов, когда нации, стоящие на пути реализации их интересов, можно было рассматривать также как противников свободы и цивилизации».40 «Большая часть американской истории, — писала М. Юнг, — . . .может быть объяснена с позиций поиска единства. . .». События конца XIX в. усилили стремление американцев к национальному единству, а ощущение собственной
297
нации легче всего усвоить перед лицом указанного врага. Поэтому «мир, разделенный на блоки, четко обозначенные как друзья и враги, вероятно, простейший путь к патриотизму». Отсюда только шаг к биполярному вйдению мира: Америка и Россия, а между ними огромные неподеленные пространства, за которые необходимо бороться.41
Традиция видеть мир с позиций русско-американской биполярности имела давнюю историю. Со временем она прочно вошла в американское массовое политическое сознание. В период перехода США к империализму эта идея стала едва ли не догмой господствующей философии истории: «Два факта только что закончившегося века, наиболее многообещающие для человеческой расы, — писал герой испано-американской войны капитан Р. Гобсон, — это подъем России и рост Соединенных Штатов. Внутри этих двух наций зреют мощные факторы национальной силы, более мощные, чем когда-либо являвшиеся в мировой истории. . .».42
Итак, созданный на рубеже веков образ России и глубоко внедренный в американское массовое сознание слагался из трех основных элементов-представлений: о коренной противоположности путей исторического развития России и Америки, исключающей возможность их мирного сосуществования; о России прежде всего как об экспансионистской державе, действия которой на мировой арене особенно угрожают интересам Соединенных Штатов; об особом — бескомпромиссном и всеохватывающем — характере и неизбежности борьбы между Америкой и Россией.
Было бы неверным, как отмечалось выше, считать, что отношение к России со стороны всех политических идеологов США было совершенно однозначным. Некоторые деятели, которых никак нельзя было заподозрить в симпатиях к России, смотрели на нее как на державу, с которой вполне возможно взаимопонимание и мирное сотрудничество. Такой подход характерен, например, для Г. Адамса, влияние которого испытал на себе госсекретарь Хэй. Аналогичной точки зрения придерживались бывший госсекретарь Дж. Фостер, влиятельный сенатор А. Беверидж, другие деятели. Благодарные слова в адрес России можно найти в исторических сочинениях даже таких деятелей, как А. Мэхэн и Г. К. Лодж. У. Рид, видный американский журналист и дипломат, писал в 1903 г.: «Все соображения национальной политики и интереса побуждают нас поддерживать такие дружественные отношения с Россией, какие возможно».43
Подобные настроения особенно усилились после поражения царизма в войне с Японией и соответствующего ослабления его позиций на Дальнем Востоке. «В прошлом, — писал сотрудник госдепартамента Л. Эйнштейн, — дружба с Россией была мудрой традицией нашей дипломатии, а ее продолжение окажется важным фактором нашей будущей европейской политики. Причины трений, возникших недавно относительно вопросов юрисдикции в Маньчжурии, имеют преходящее значение». Сотрудничество с Россией Эйнштейн считал вполне реальной вещью. «В дополнение к политическим соображениям наши торговые интересы побуждают нас желать
298
более тесных отношений с Россией, чья азиатская экспансия не является чем-то отличным от нашего собственного завоевания За-44
пада».
Реалистический взгляд на вещи был присущ и уже известному нам П. Рейншу. «Наши взгляды о России, пришедшие преимущественно из британских источников, — признавал он, — вероятно, неоправданно суровы в отношении русской цивилизации. . .». Говоря о восприятии России в США, Рейнш отмечал «большую опасность для цивилизации в этом постоянном неверном истолковании мотивов» ее поведения. Рейнш призвал «серьезно изучать политические идеалы, мотивы и цели других наций», а не хвататься за любой предлог для того, чтобы разжигать вражду. Неверное изображение «каждого шага, мотива и побуждения северной империи» только мешало «ясному видению реальных политических фактов», поэтому, писал Рейнш, в «интересах цивилизации, чтобы нации внимательно наблюдали друг за другом. . . в равной степени важно, чтобы это делалось в духе взаимопонимания и дружбы, не разбрасывая семян ненависти и бесконечных раздоров».45 «Есть место для всех в великой работе цивилизации и развития мира», — утверждал Рейнш. И несомненно, что в цивилизации России тоже «есть элементы, которые могут сослужить добрую службу» всему человечеству.46
1 Fiske J. 1) Civil Government of the United States. Boston, 1891. P. 42—43; 2) Dutch and Quaker Colonies in America. Boston, 1899. V. 1. P. 34.
2 F i s k e J. Discovery of America. Boston, 1892. V. 2. P. 549—552.
3 Дементьев И. П. Идейная борьба в США по вопросам экспансии. М., 1973. С. 81.
4 Мэхэн А. Влияние морской силы на историю. М.; Л., 1941. С. 182, 188.
5 Мэхэн А. Влияние морской силы на французскую революцию и империю. М.; Л., 1940. Т. 1. С. 21—23.
6 Mahan A. Interest of America in Sea Power. London, 1898. P. 228.
7 M a h a n A. Lessons of the War with Spain. Boston, 1899. P. VII—VIII, 320.
8 Mahan A. Problem of Asia. London, 1900. P. 47, 106, 114.
9 Anderson Th. Brooks Adams. Ithaca, 1951. P. 73—74.
10 Адамс Б. Новая держава. M., 1910. С. 53.
11 Young М. Rhetoric of Empire. Cambridge, 1968. P. 222—224.
12 Samuels E. Henry Adams. The major phase. Cambridge, 1964. P. 141 —142. 13 Ibid. P. 149, 200.
14 Education of Henry Adams. New York, 1964. V. II. P. 196—199, 202.
15 Ibid. P. 194—195.
16 S a m u e 1 s E. Op. cit. P. 243—244, 248.
17 Education of Henry Adams. P. 227—231.
18 Samuels E. Op. cit. P. 380.
19 W i d e n о r W. Henry Cabot Lodge and the search for an American foreign policy. Berkerley, 1980. P. 157—158.
20 Lodge H. C. Some Impressions of Russia // American Image of Russia. New York. 1974. P. 199—201.
21 G i d d i n g s F. Democracy and Empire. New York, 1901. P. V.
22 Ibid. P. 288—289.
23 Дементьев И.П. Указ. соч. С. 87.
24 Т u г n е г F. Rise of the New West. New York, 1906. P. 118, 209.
25 T u г n e г F. United States History, 1865—1910 //Encyclopaedia Britannica. Cambridge. 1911. V. 27. P. 718, 732.
26 Strong J. Our Country. Cambridge, 1963. P. 46.
27 Iriye A. Pacific Estrangement. Cambridge, 1972. P. 70—71.
299
28 Mi 1 1 a r d Th. New Far East. New York, 1906. P. 7—10.
29 Мальков В. Каким мы видим прошлое советско-американских отношений в настоящем // Культура и жизнь. 1988. № 7. С. 22.
30 Б р о д с к и й Р. М. Дальневосточная политика США накануне первой мировой войны. М., 1968. С. 16.
31 Р о м а н о в Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. М.; Л., 1955. С. 191, 337—341.
32 I s г а е 1 J. Progressivism and the Open Door. Pittsburg, 1971. P. 8—9.
33 Schierbr an d W. America, Asia and the Pacific. New York, 1904. P. 4—5, 31.
34 Ibid. P. 285, 293.
35 Ibid. P. 287—288.
36 Marotta G. Academic mind and the rise of U. S. Imperialism // American Journal of Economics and Sociology. 1983. April. P. 230—231.
37 G u 1 i c k S. White Peril in the Far East. New York, 1905. P. 161 —162.
38 R e i n s c h P. World politics at the end of the nineteenth century as influenced by the Oriental situation. New York, 1900. P. 65—68, 240, 256.
39 Достоевский Ф. M. Искания и размышления. M., 1983. С. 285.
40 W i d е п о г W. Op. cit. Р. 167.
41 Young М. Op. cit. P. 219.
42 H о b s о n R. America mistress on the seas//North American Review. 1902. October. P. 544.
43 R i s e to World Power: Selected letters of Whitelaw Reid. Philadelphia, 1986. P. 83.
44 Diplomatist. American foreign policy. Boston, 1909. P. 43—44.
45 R e i n c s h P. Op. cit. P. 26.
46 Ibid. P. 359—361.
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
Предисловие................................................. 3
А. А. Фурсенко. Борис Александрович Романов................. 5
В. М. Панеях. Б. А. Романов об издании Судебников XV—XVI вв. 19 Б. В. Ананьин. Мемуары С. Ю. Витте в творческой судьбе
Б. А. Романова...................................... 30
Р. Ш. Ганелин. Б. А. Романов — историк революционного движения в России............................................... 41
К. Н. Сербина. Из воспоминаний о Б. А. Романове ...... 54
С. Г. Беляев. Б. А. Романов — архивист..................... 57
Н. Е. Носов. Русский город феодальной эпохи: проблемы и пути изучения................................................... 63
А. Л. Шапиро. Соха как окладная единица в XIV—первой половине XVI в................................................. 72
Ю. Г. Алексеев. Белозерская Уставная грамота и некоторые вопросы социальной политики Ивана III......................... 88
А. И. Копанев. Правотворчество и правосознание северного крестьянства в XVI—XVII вв.................................... 98
В. М. Панеях. Кабальное холопство в Новгороде и новгородских пятинах во второй половине XVII в.: динамика закабалений 113
Б. Н. Миронов. Социальная структура городского населения России в 1737 г.: опыт реконструкции.......................118
Б. В. Ананьин, С. К. Лебедев. Контора придворных банкиров в России и европейские денежные рынки (1798—1811 гг.) 125
В. В. Лапин. Военные расходы России в XIX в............... 148
Л. А. Булгакова. Социальный статус инженера в дореформенной России................................................... 161
М. М. Шумилов. Губернатор и экономическая жизнь губерний России на рубеже 50—60-х гг. XIX в........................ 177
В. Г. Чернуха. Сельскохозяйственные общества России в 60— 70-е гг. XIX в............................................ 188
В. С. Дякин. Из истории сельскохозяйственной политики царизма в конце XIX—начале XX в................................... 197
Р. Ш. Ганелин. Николай II, С. Ю. Витте, И. Л. Горемыкин и проект Петербургской круговой железной дороги ................... 210
В. А. Нардова. Первые выборы в городские думы по избирательному закону 1892 г...........................................224
Л. Е. Шепелев. Промышленная буржуазия и Государственная дума.........................................................237
Ю. Б. Соловьев. Князь В. П. Мещерский и его роль во внутренней политике в предвоенные годы .............................249
А. А. Фурсенко. Концерн К- И. Ярошинского в 1917—1918 гг. 265
В. В. Носков. Образ России в идеологии американской империи 288
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
Утверждено к печати
Ленинградским отделением
Института истории СССР АН СССР
Редактор издательства А. Ф. Варустина
Художник Л. А. Яценко
Технический редактор Л. И. Каряева
Корректоры А. X. Салтанаева и Г. И. Тимошенко
ИБ № 44794
Сдано в набор 18.02.91. Подписано к печати 04.09.91. Формат 60X90 '/|б- Бумага офсетная № 1. Гарнитура литературная. Фотонабор. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19+0.12 вкл. Усл. кр.-отт. 19.12. Уч.-изд. л. 23.55. Тираж 1250. Тип. зак. № 1143. Цена 4 р. 10 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука». Ленинградское отделение.
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская лин., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука».
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12.
КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА» МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА», В МЕСТНЫХ МАГАЗИНАХ КНИГОТОРГОВ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ.
Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:
117393 Москва, ул. Академика Пилюгина, 14, корп. 2, магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»;
252208 Киев, ул. Правды, 80а, магазин «Книга — почтой»;
197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига» или в ближайший магазин «Академкнига», имеющий отдел «Книга — почтой»;
480091 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 («Книга — почтой»);
370001 Баку, Коммунистическая ул., 51 («Книга — почтой»);
232600 Вильнюс, ул. Университете, 4 («Книга — почтой»);
690088 Владивосток, Океанский пр., 140 («Книга — почтой»);
320093 Днепропетровск, пр. Гагарина, 24 («Книга — почтой»);
734001 Душанбе, пр. Ленина, 95 («Книга — почтой»);
375002 Ереван, ул. Туманяна, 31;
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289 («Книга — почтой»);
420043 Казань, ул. Достоевского, 53 («Книга — почтой»);
252030 Киев, ул. Ленина, 42;
252142 Киев, пр. Вернадского, 79;
252025 Киев, ул. Осипенко, 17;
277012 Кишинев, пр. Ленина, 148 («Книга — почтой»);
343900 Краматорск Донецкой обл., ул. Марата, 1 («Книга — почтой»);
660049 Красноярск, пр. Мира, 84;
443002 Куйбышев, пр. Ленина, 2 («Книга — почтой»);
191104 Ленинград, Литейный пр., 57;
199034 Ленинград, Таможенный пер., 2;
194064 Ленинград, Тихорецкий пр., 4;
220012 Минск, Ленинский пр., 72 («Книга — почтой»);
103009 Москва, ул. Горького, 19а;
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7;
630090 Новосибирск, Красный пр., 51;
630090 Новосибирск, Морской пр., 22 («Книга — почтой»);
142284 Протвино Московской обл., ул. Победы, 8;
142292 Пущино Московской обл., МР «В», 1 («Книга — почтой»);
620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
700000 Ташкент, ул. Ю. Фучика, 1;
700029 Ташкент, ул. Ленина, 73;
700070 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43;
700185 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6 («Книга — почтой»);
634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18;
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»);
450025 Уфа, Коммунистическая ул., 49;
720001 Фрунзе, бульв. Дзержинского, 42 («Книга — почтой»);
310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87 («Книга — почтой»).